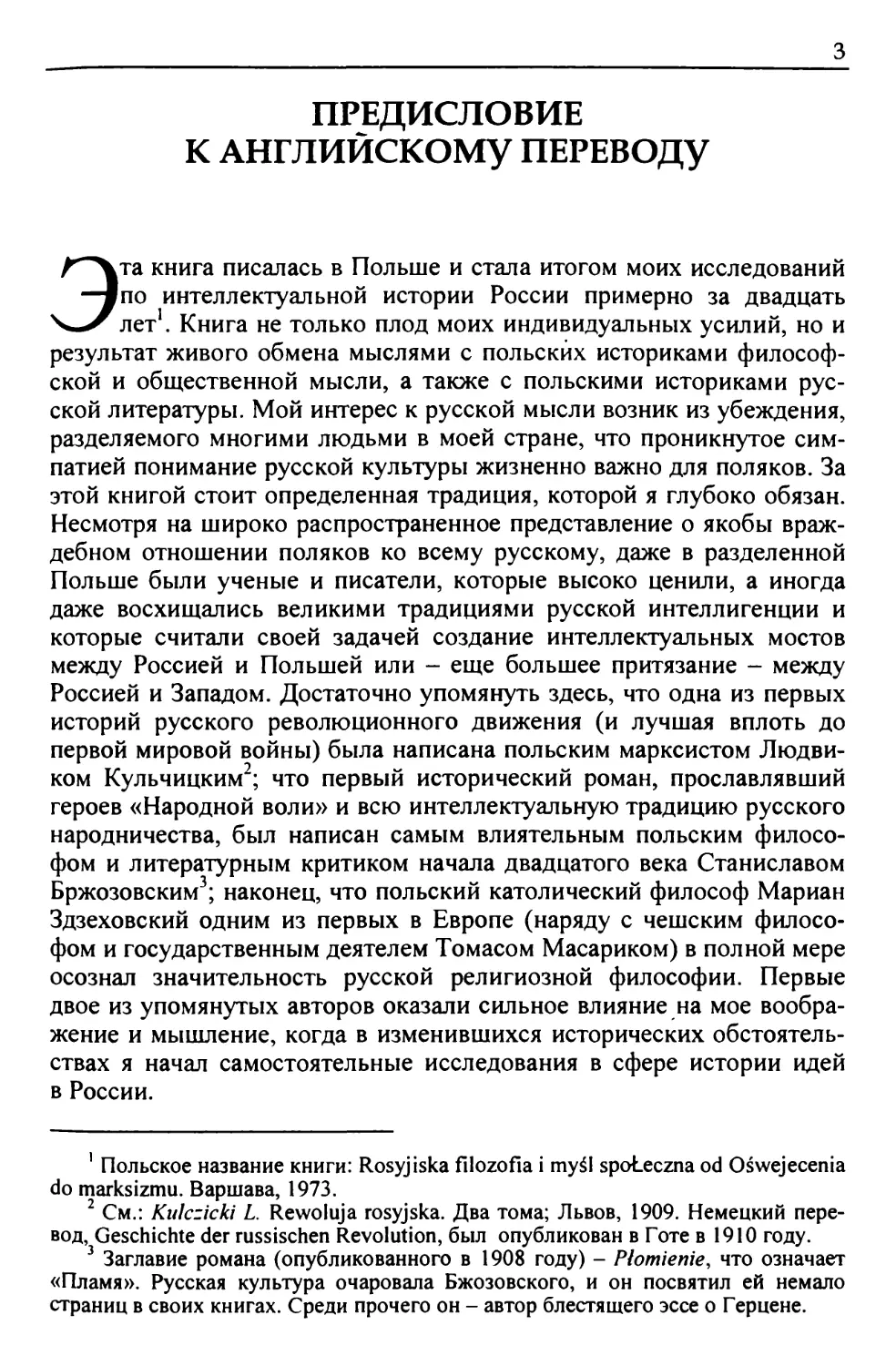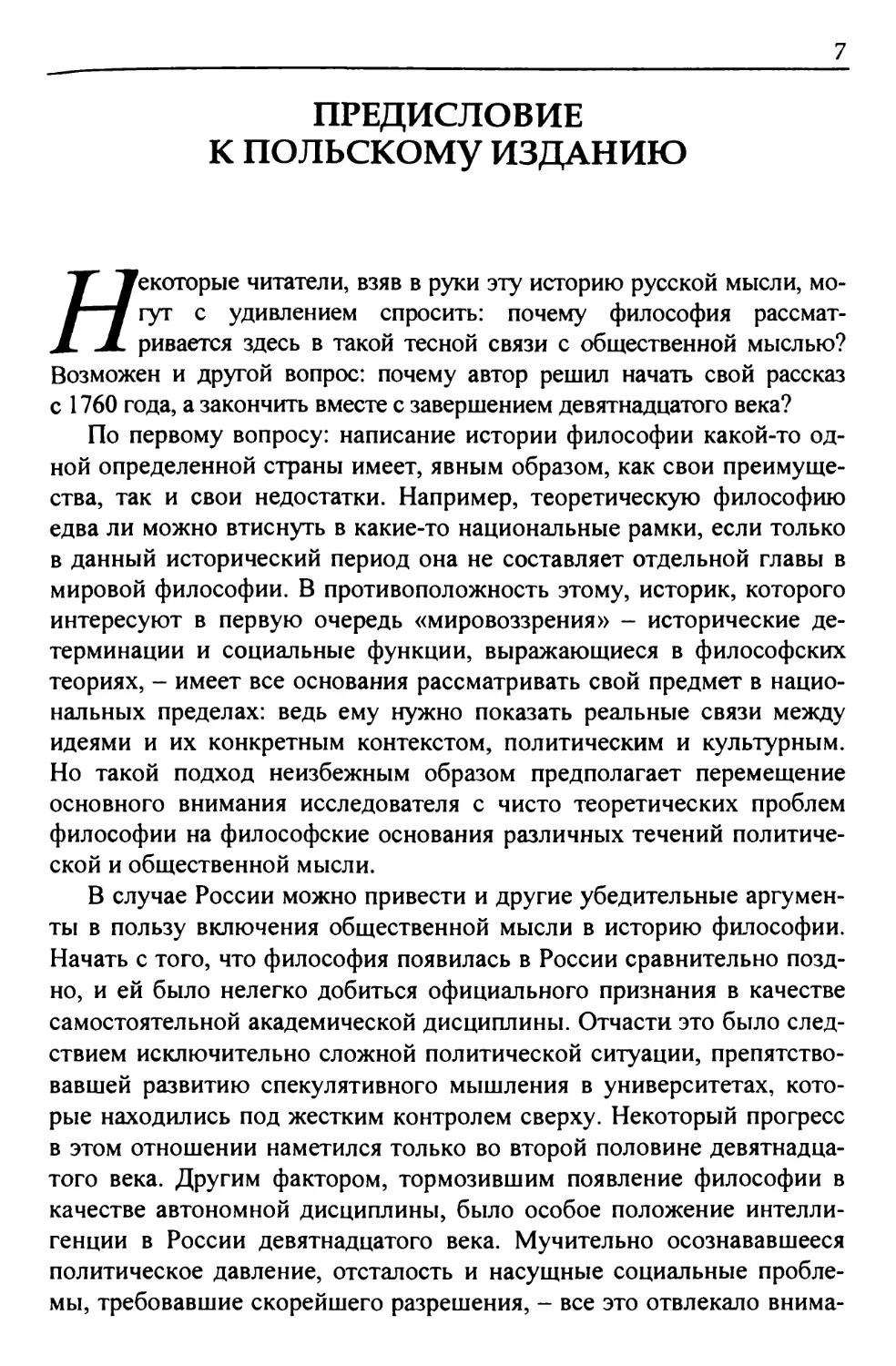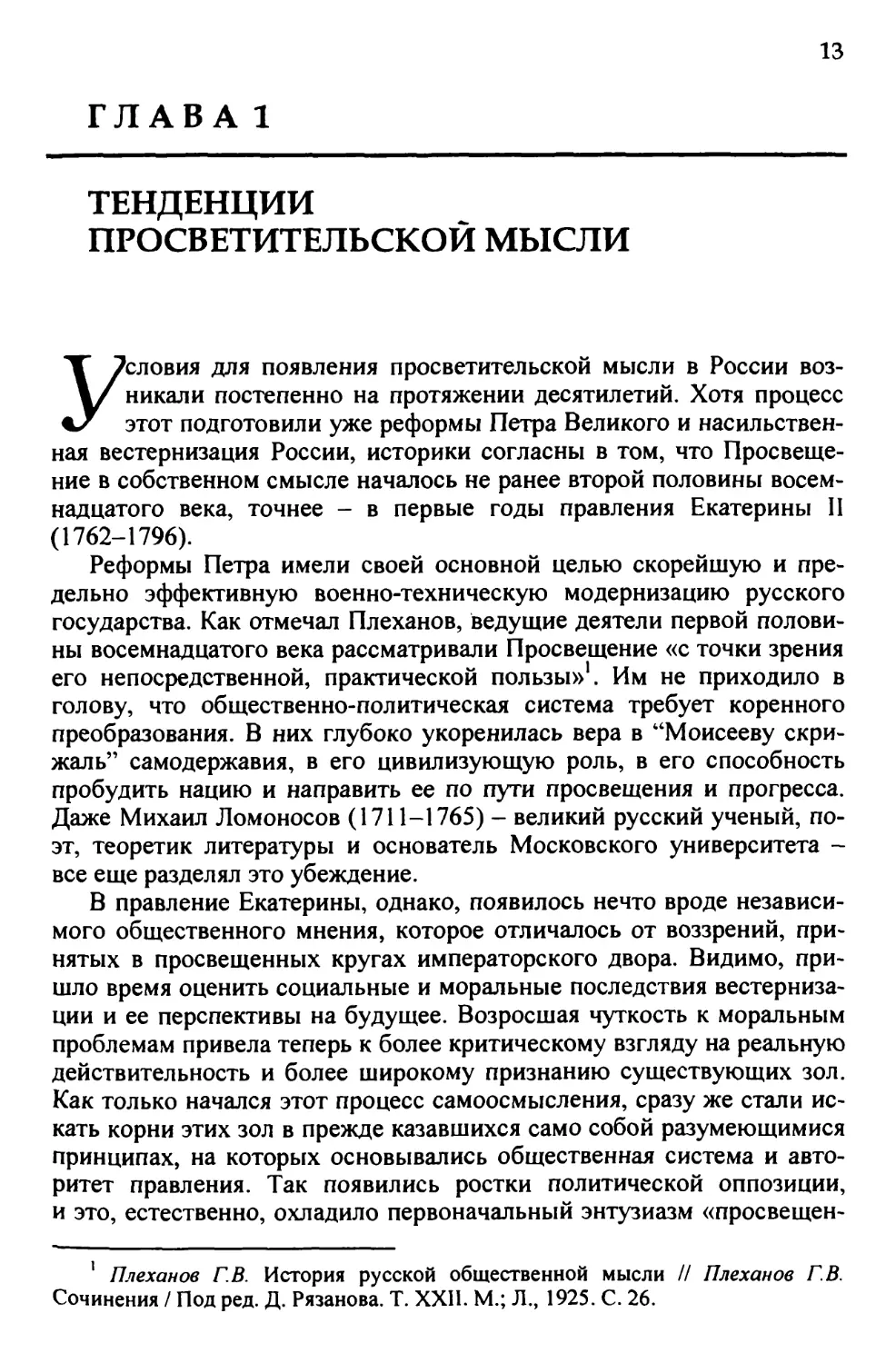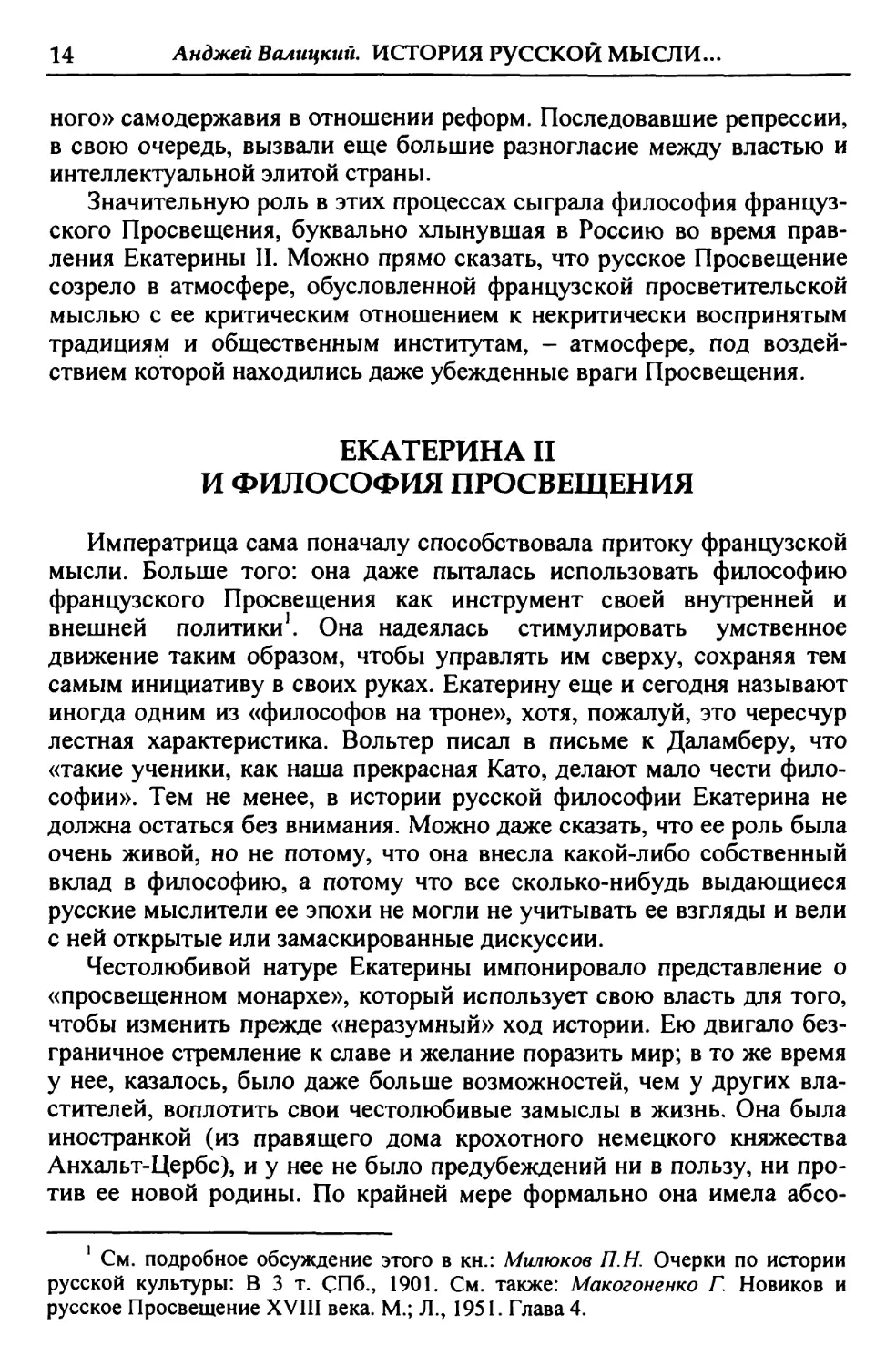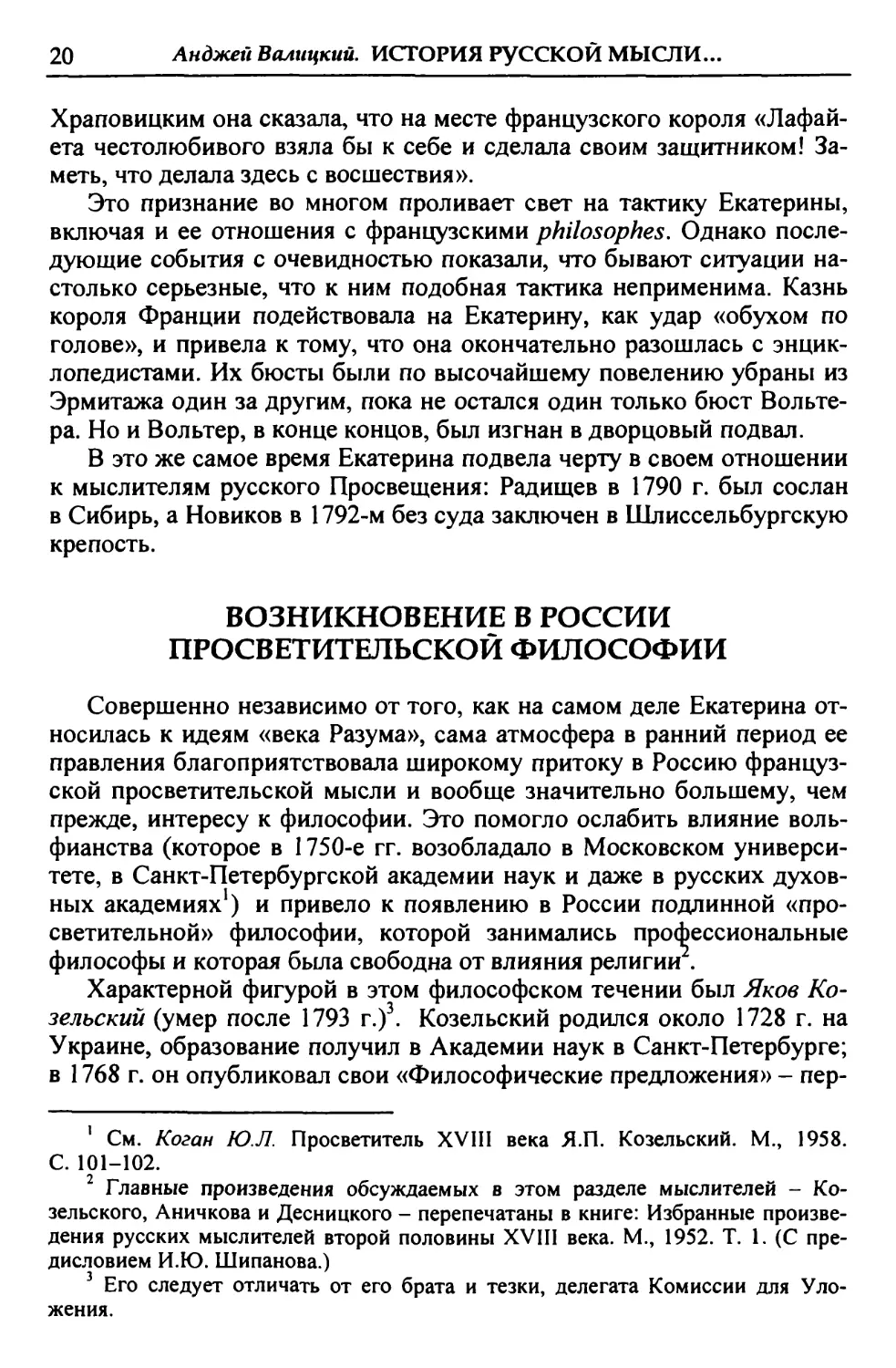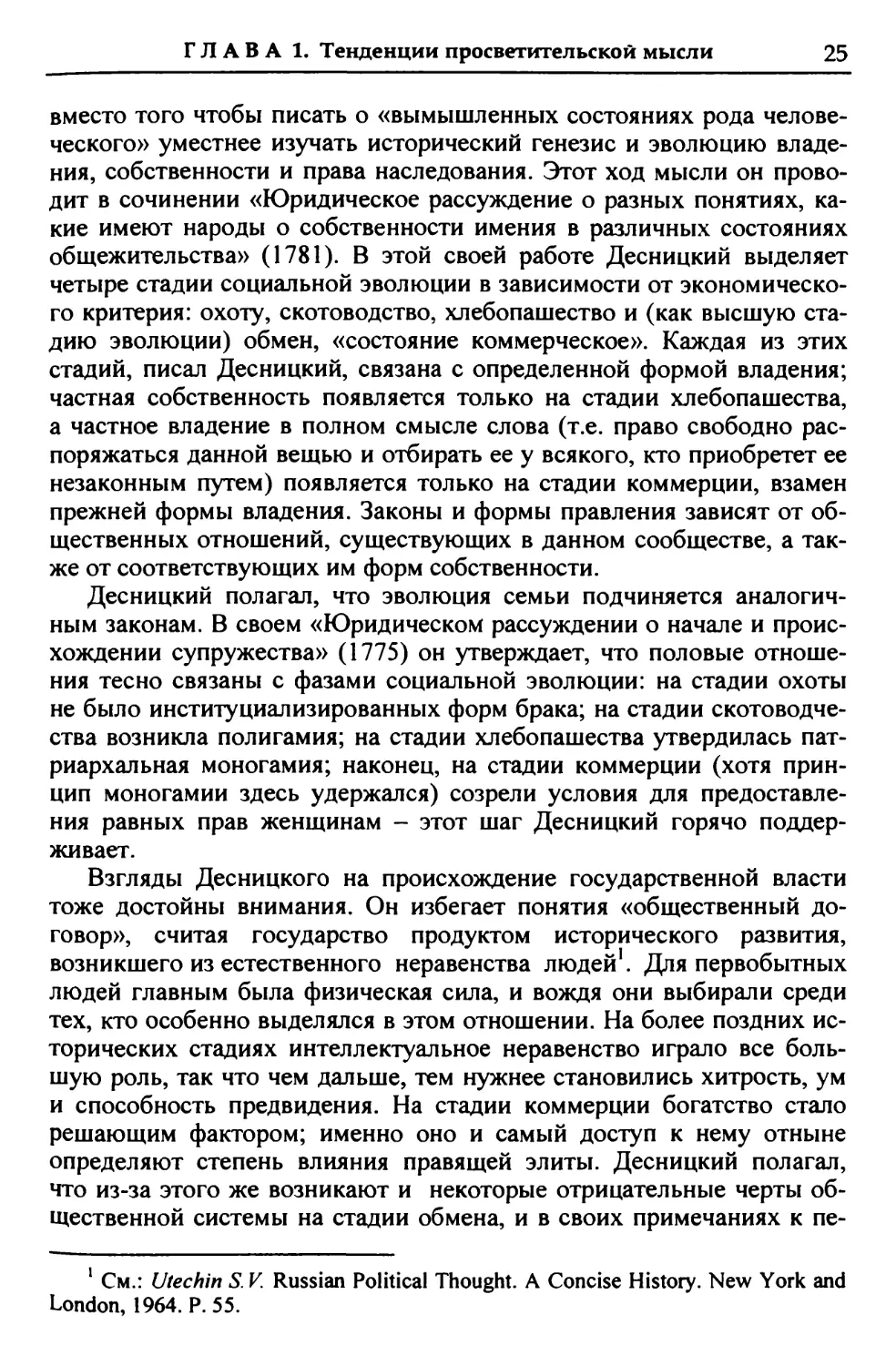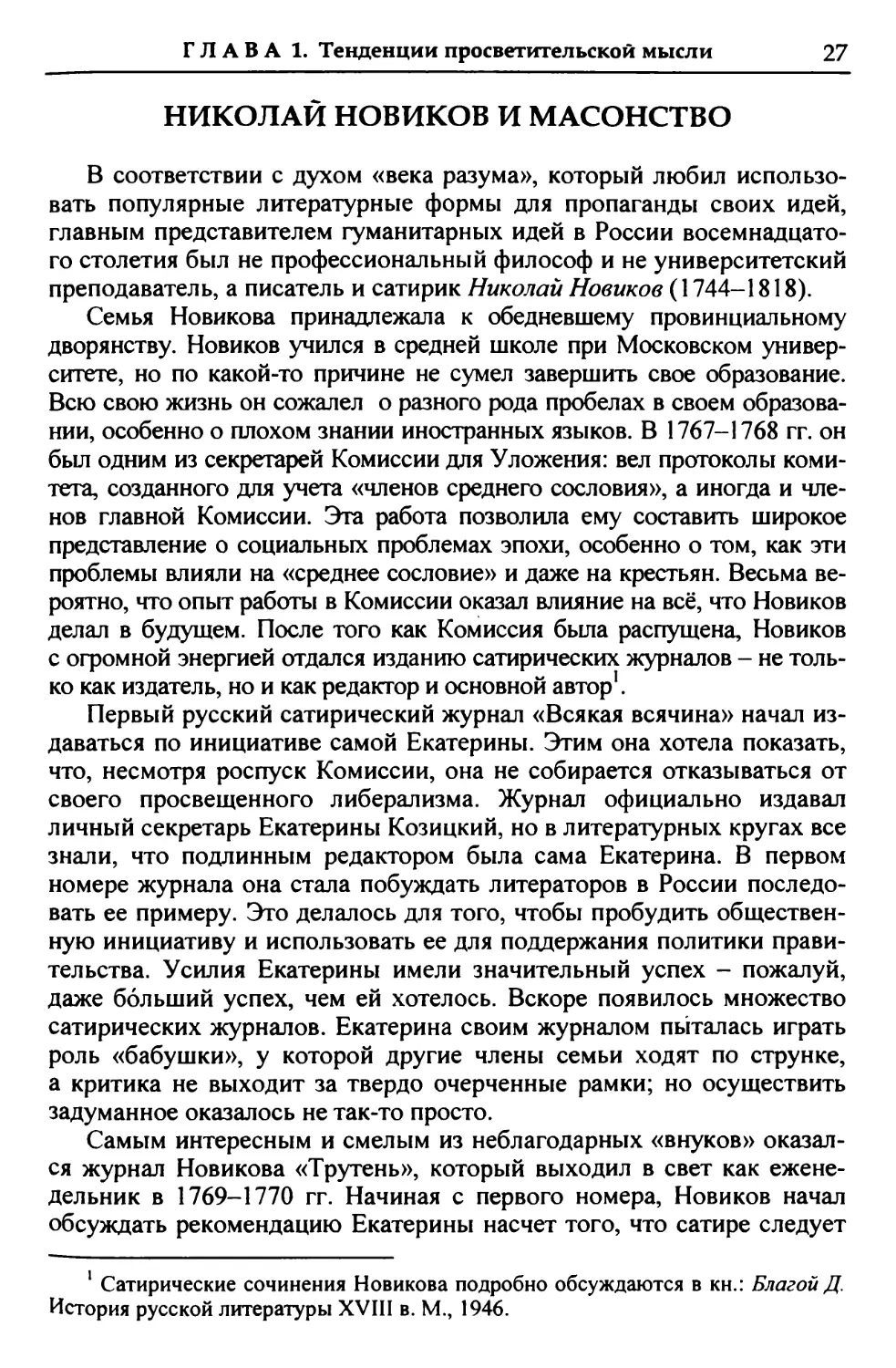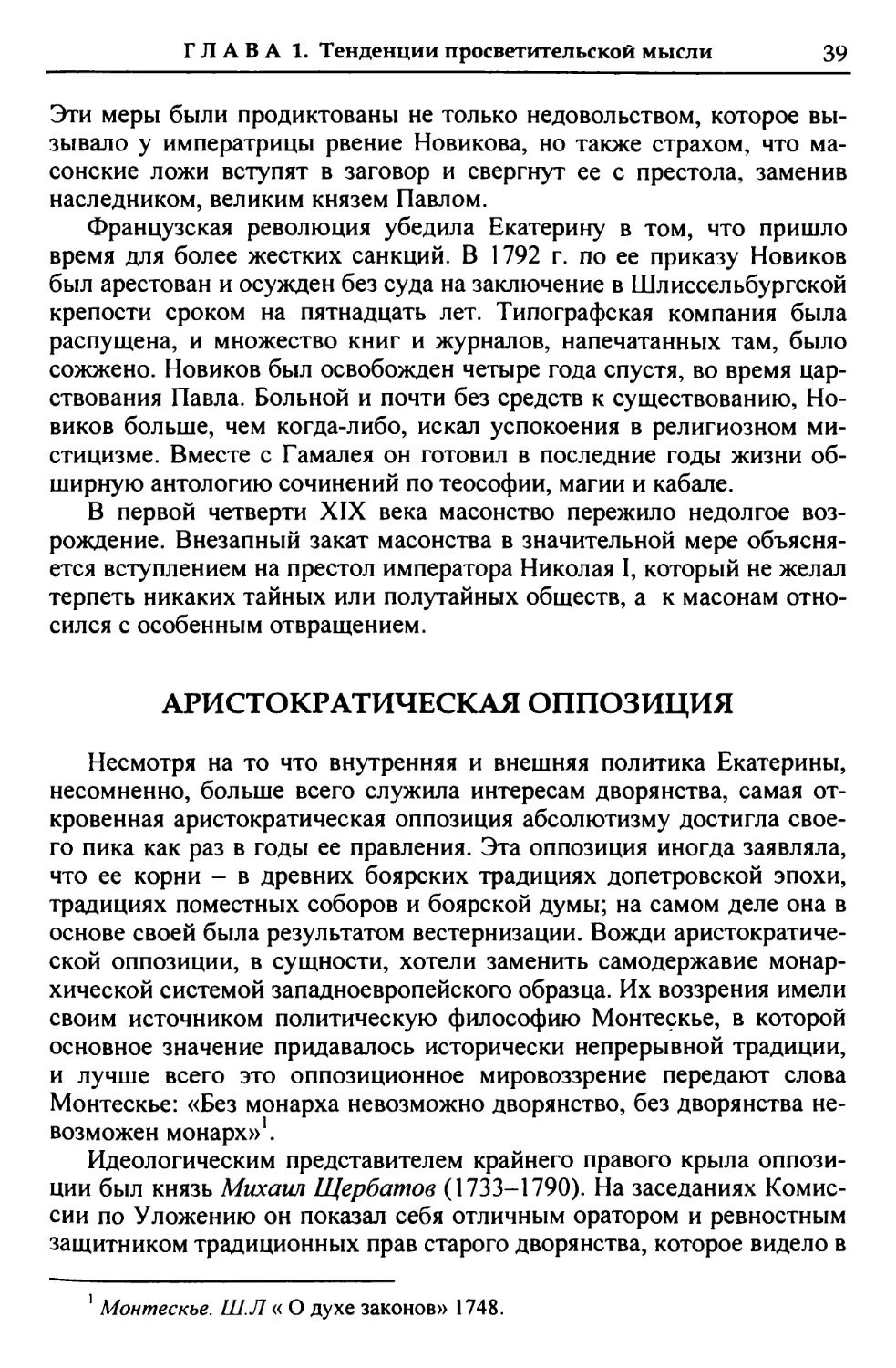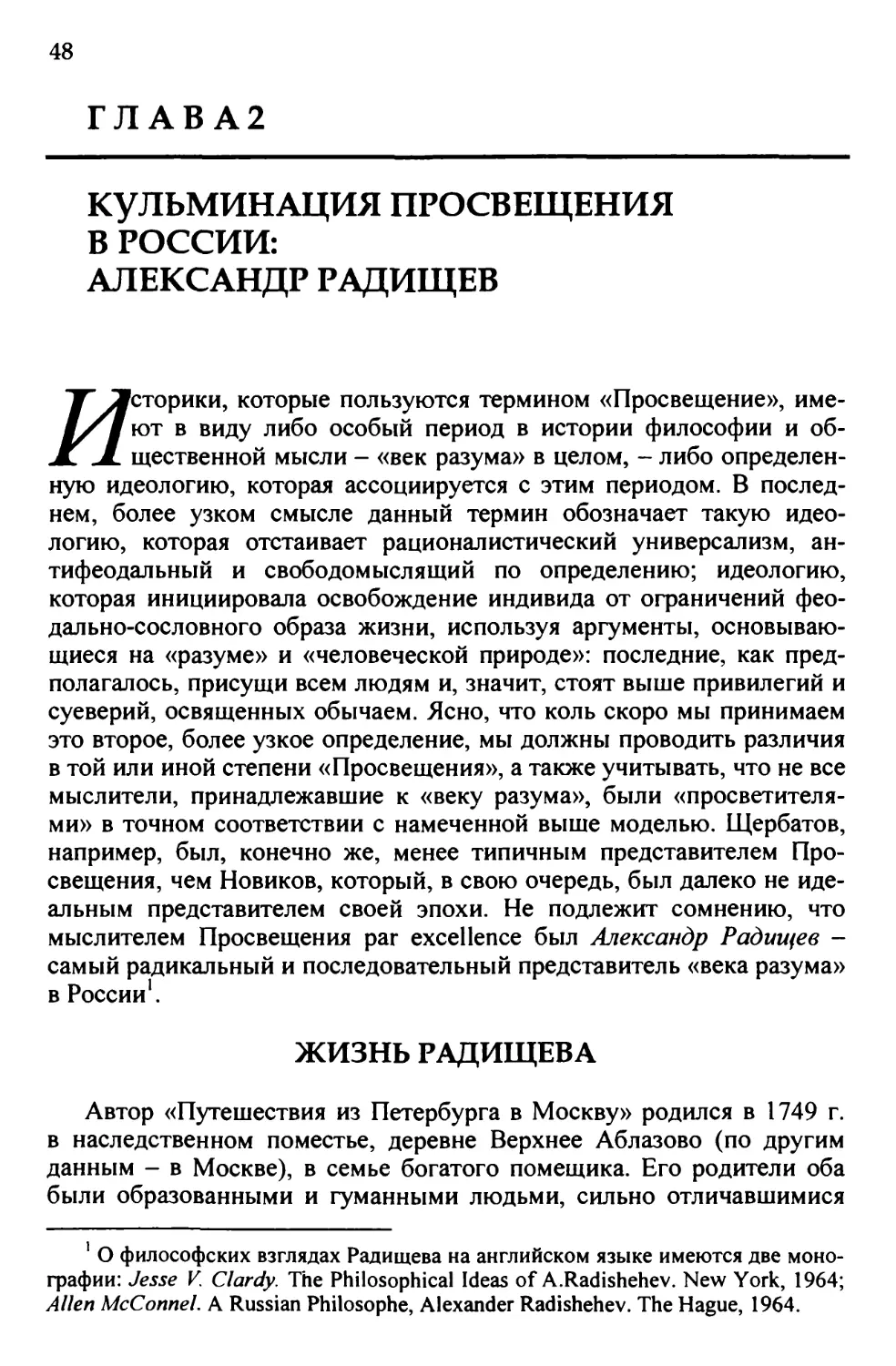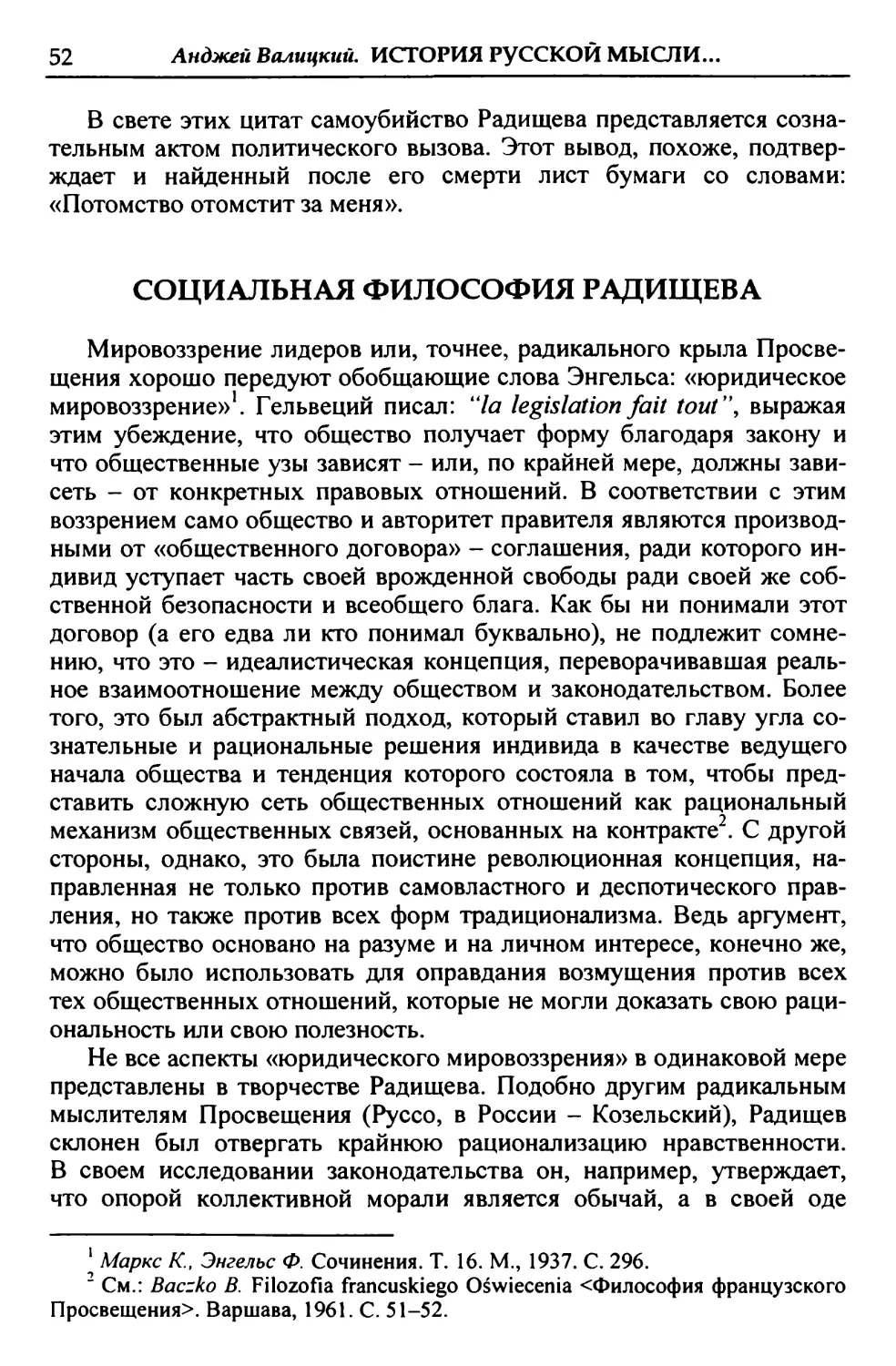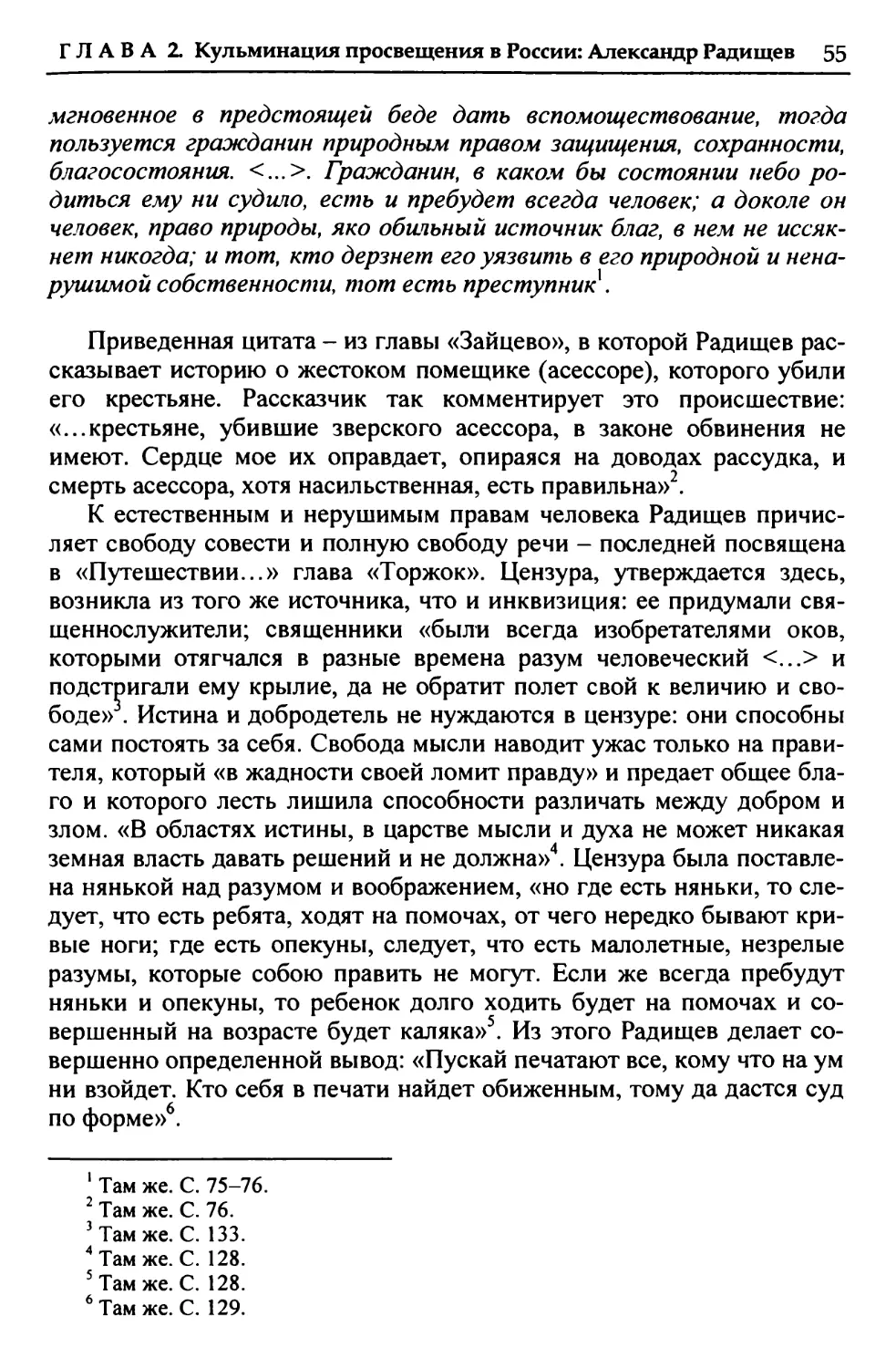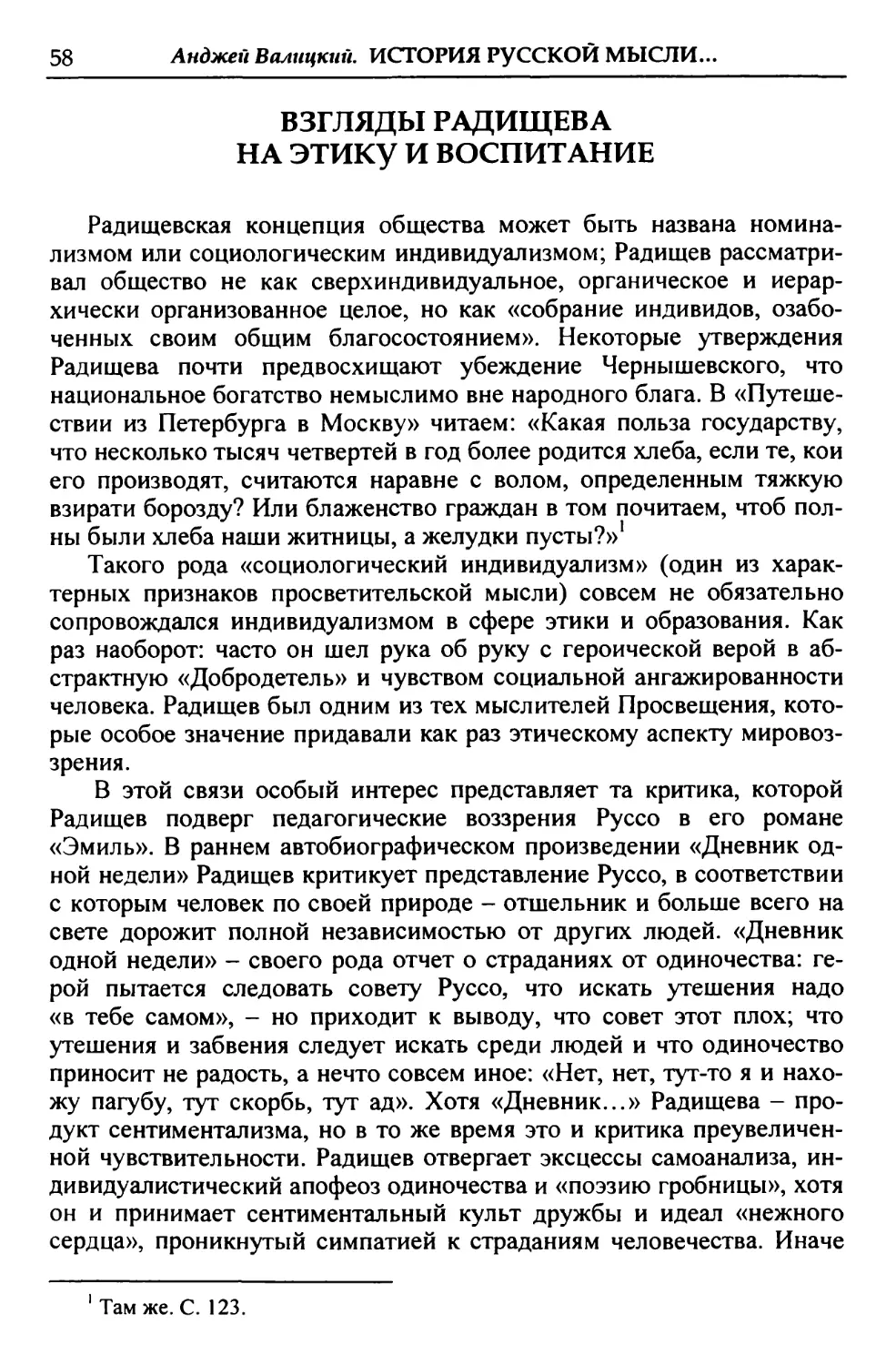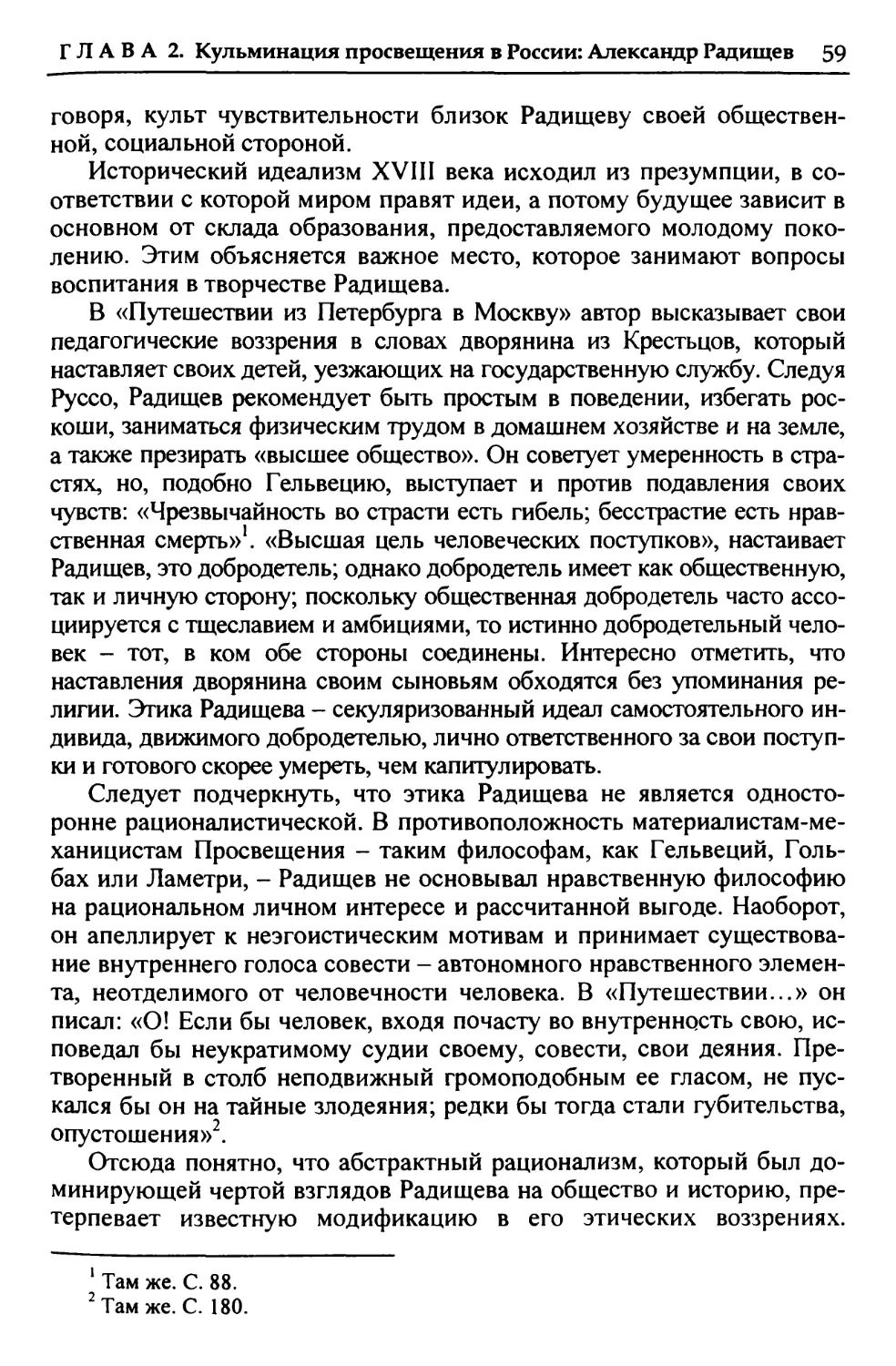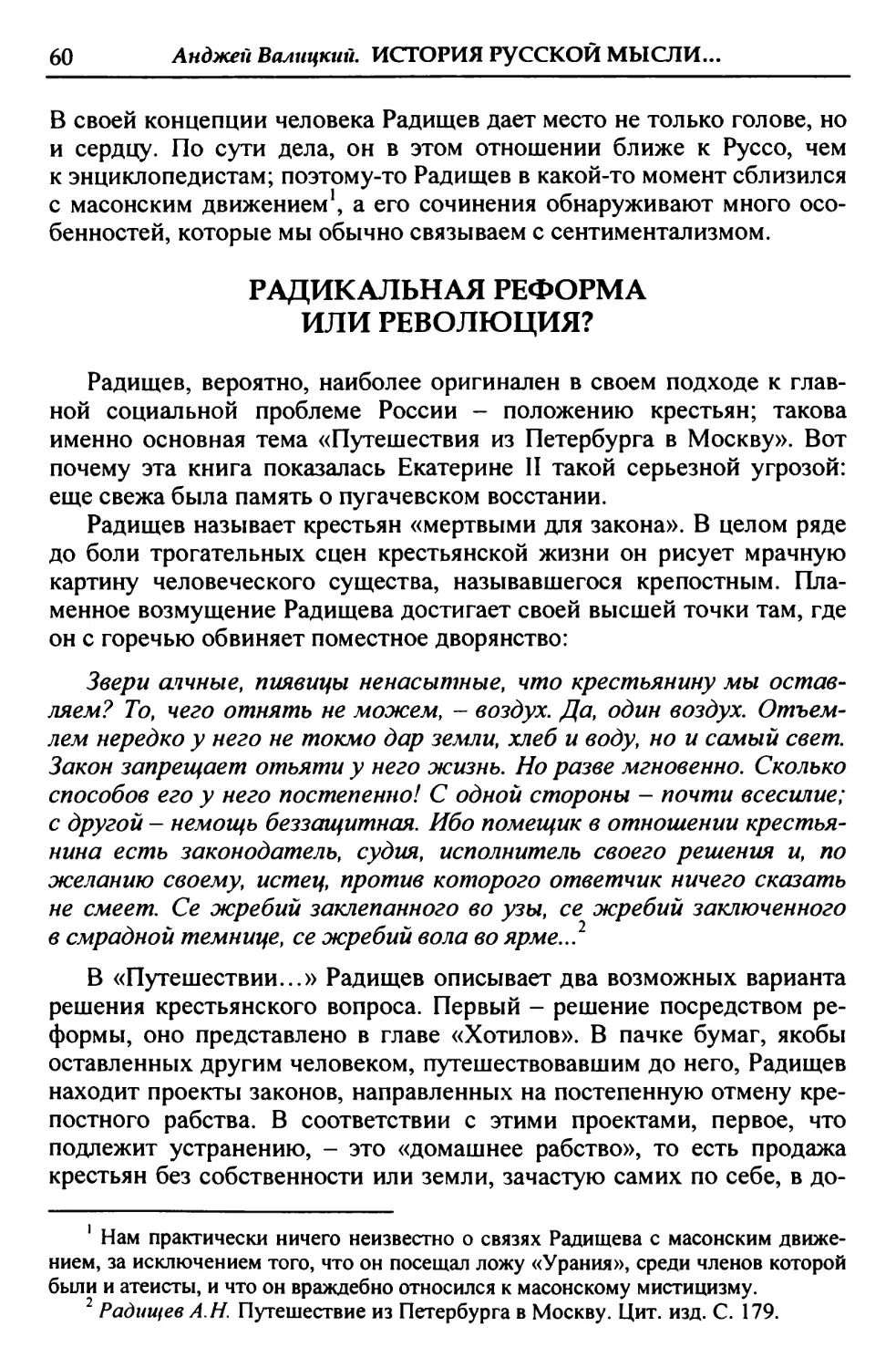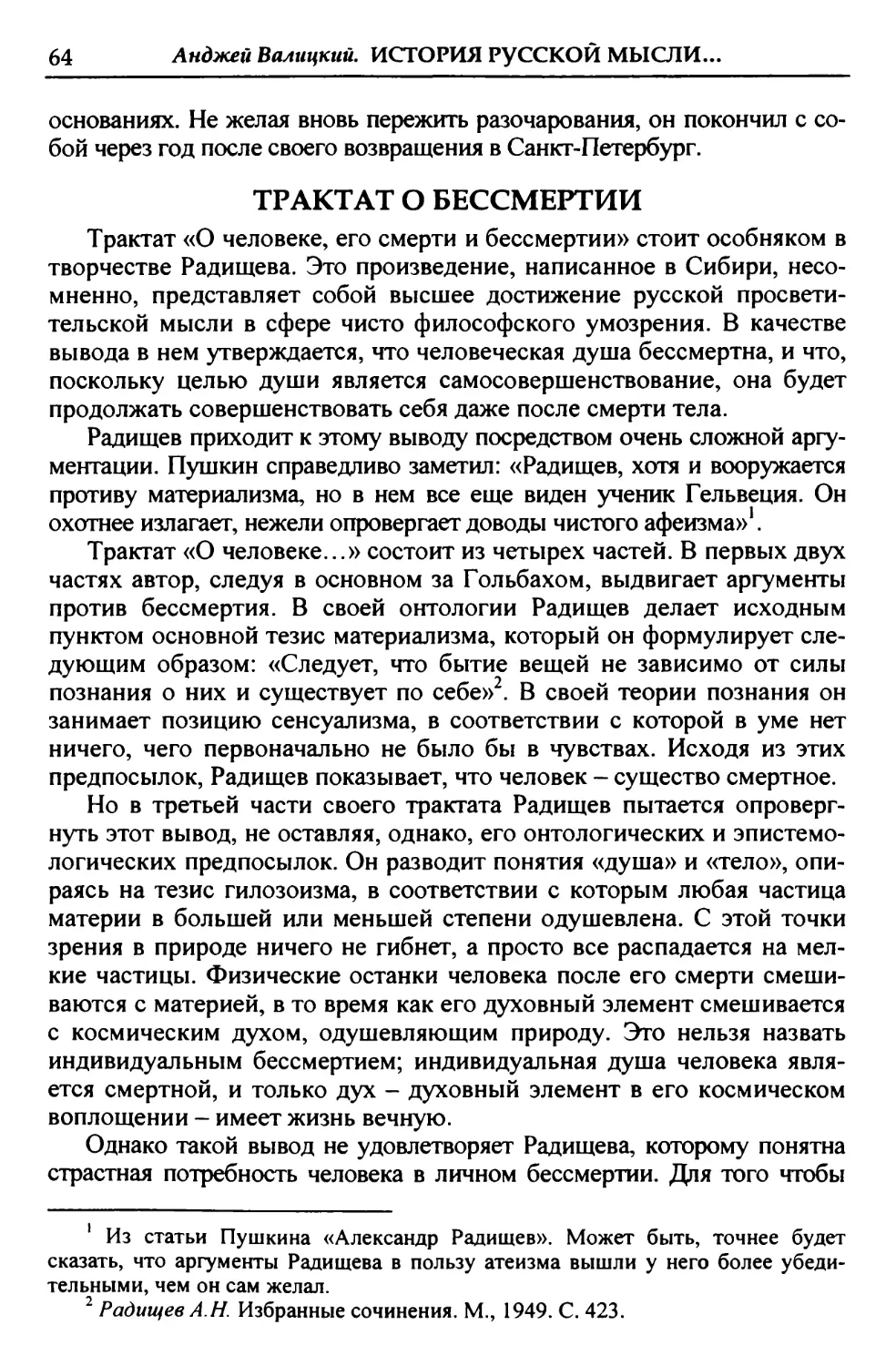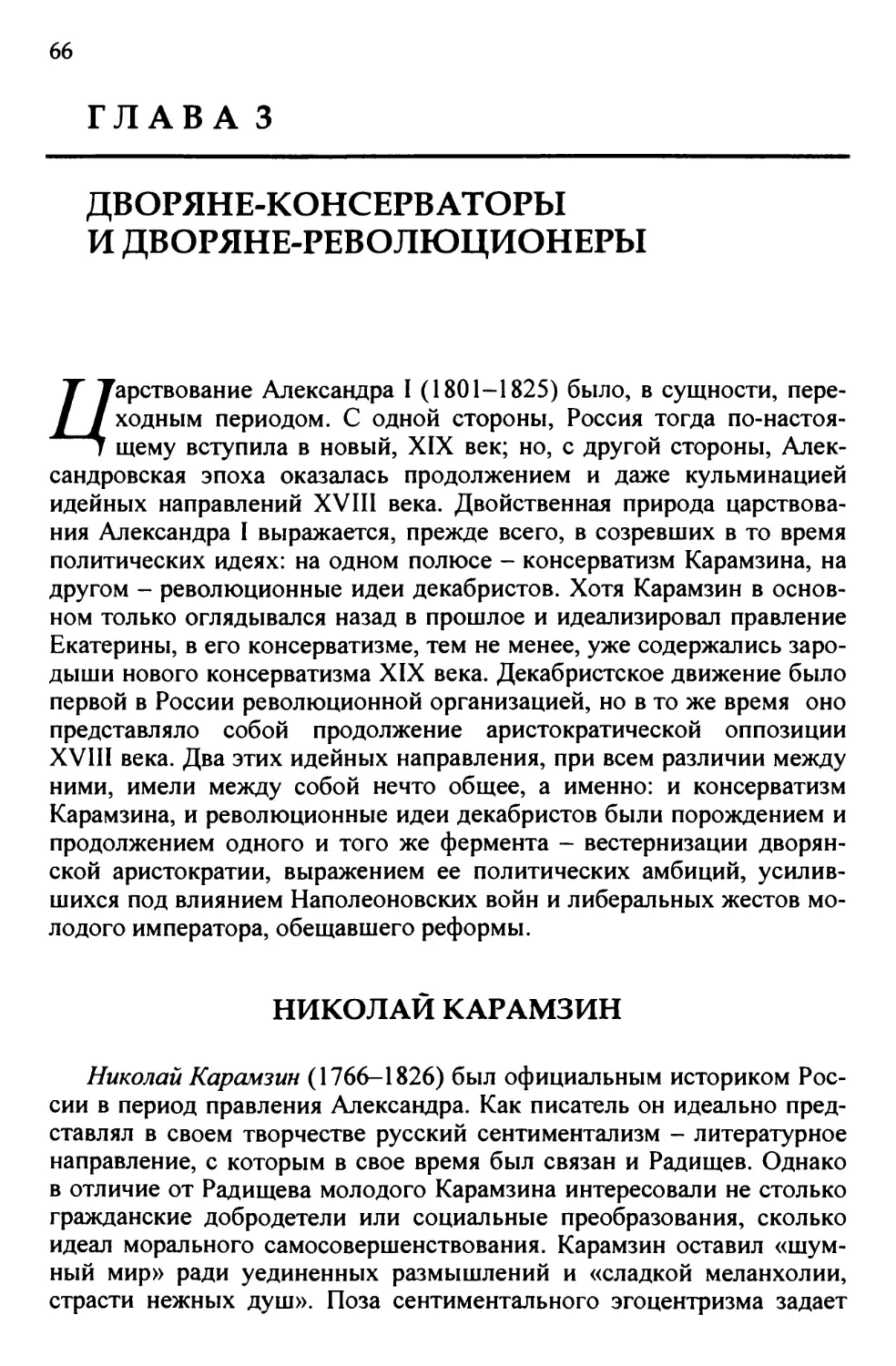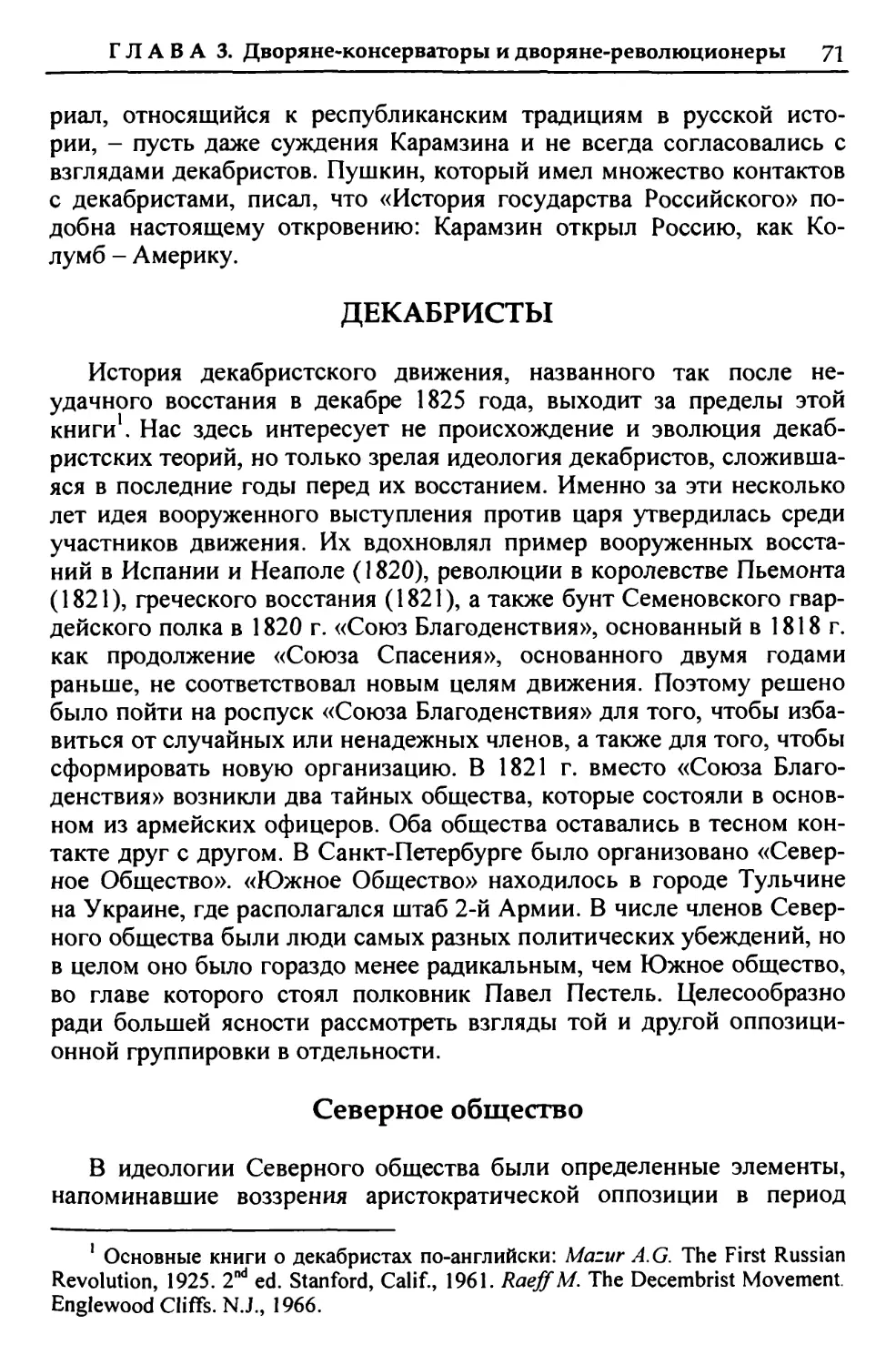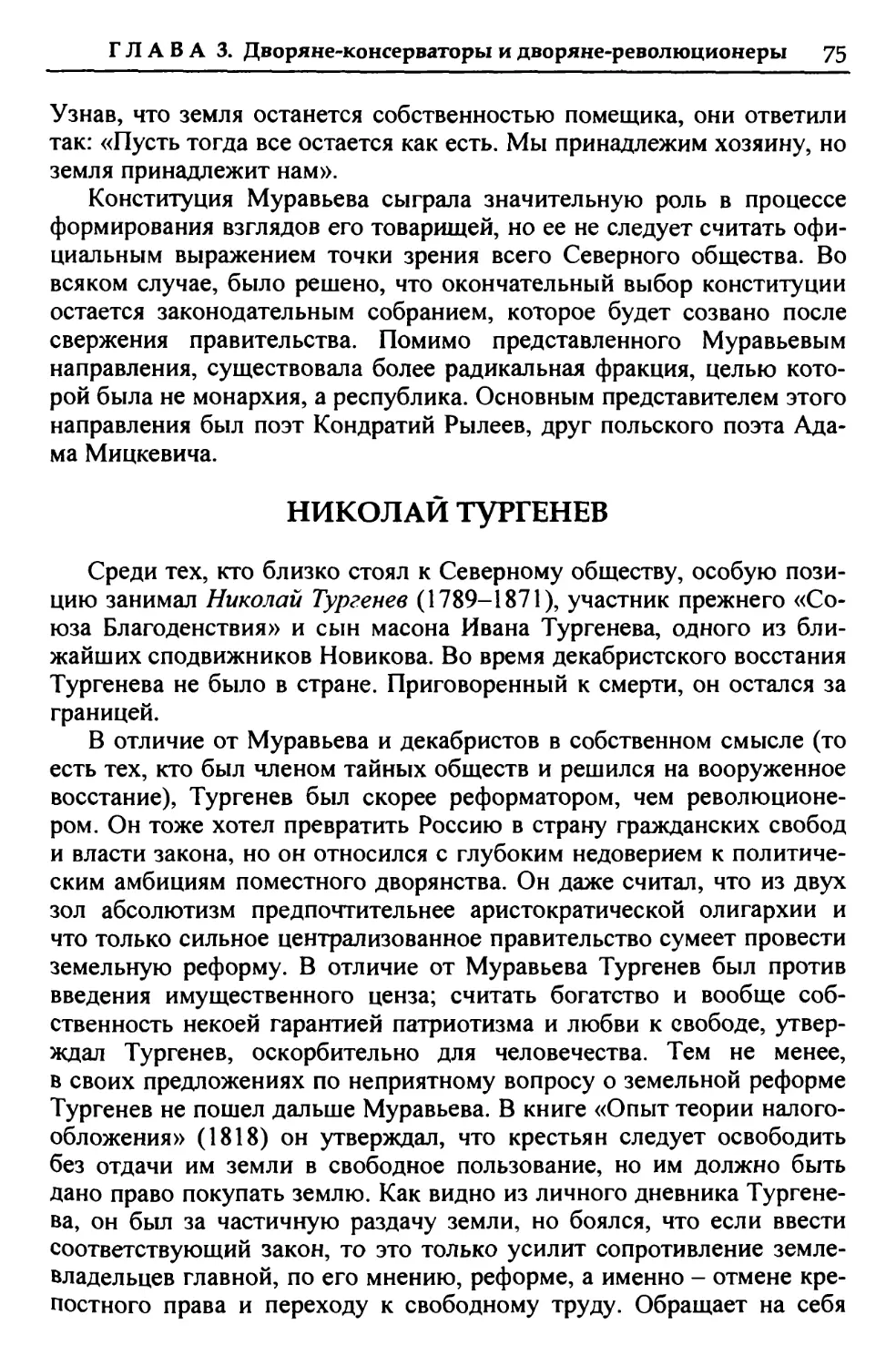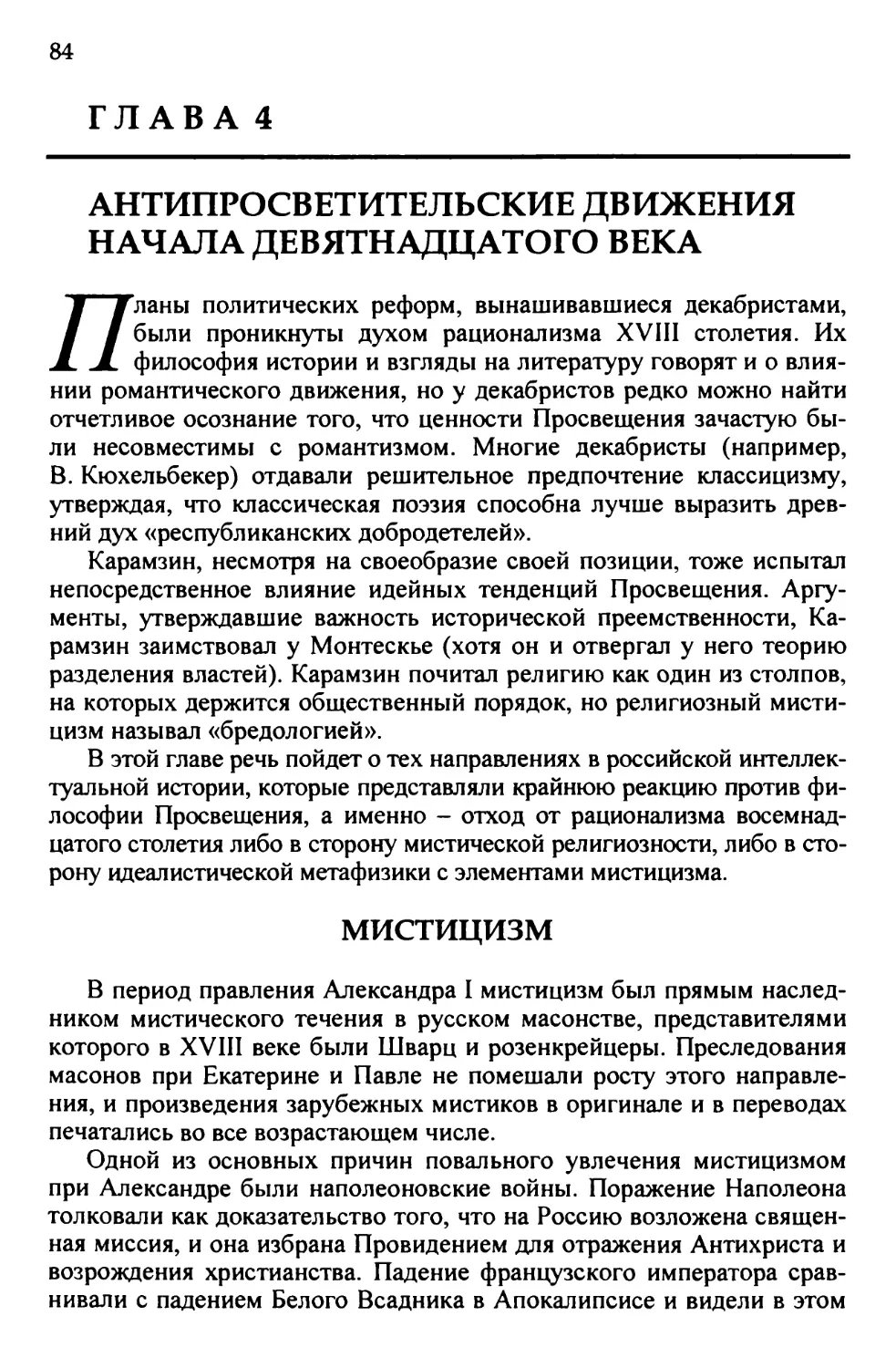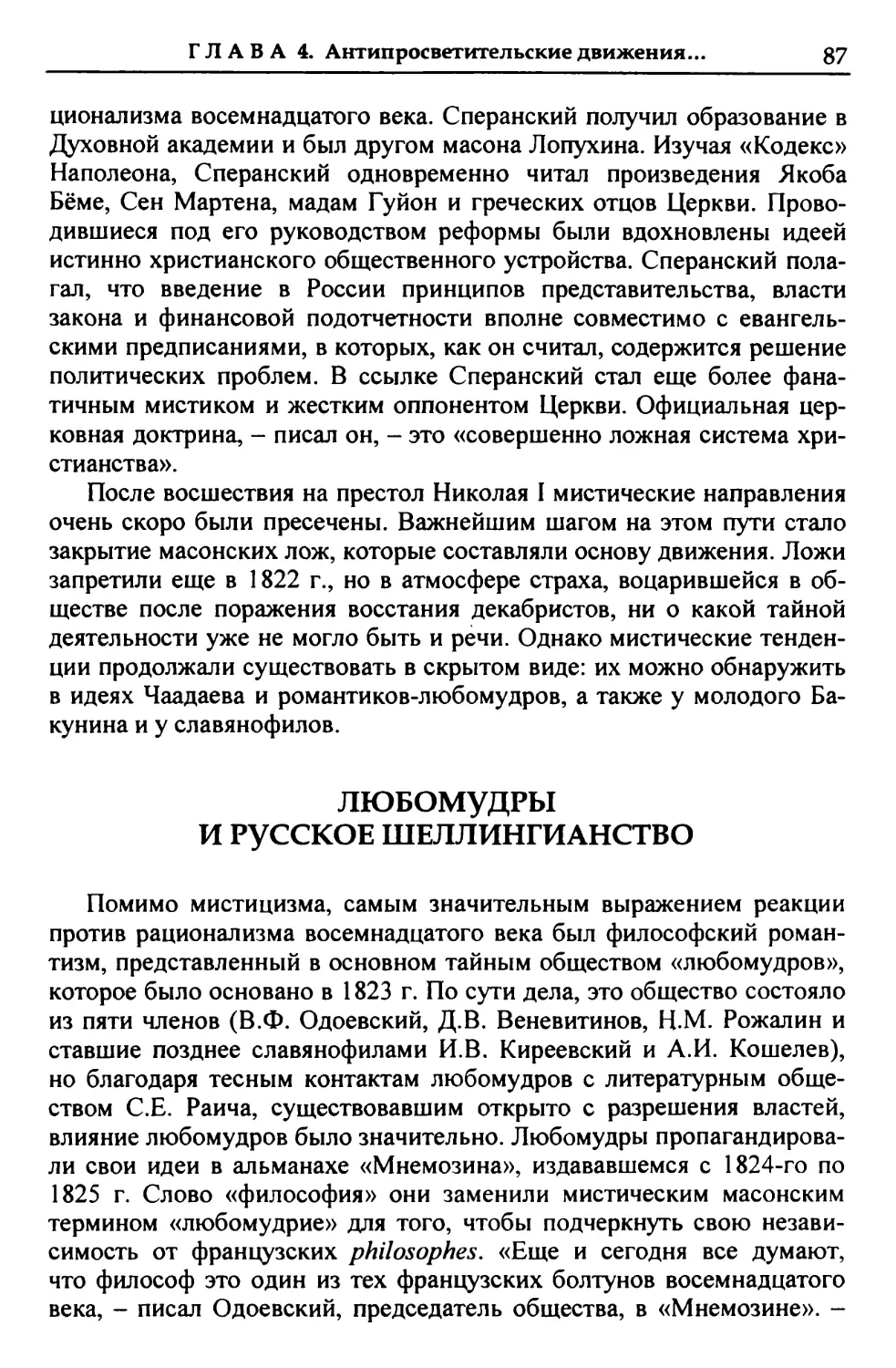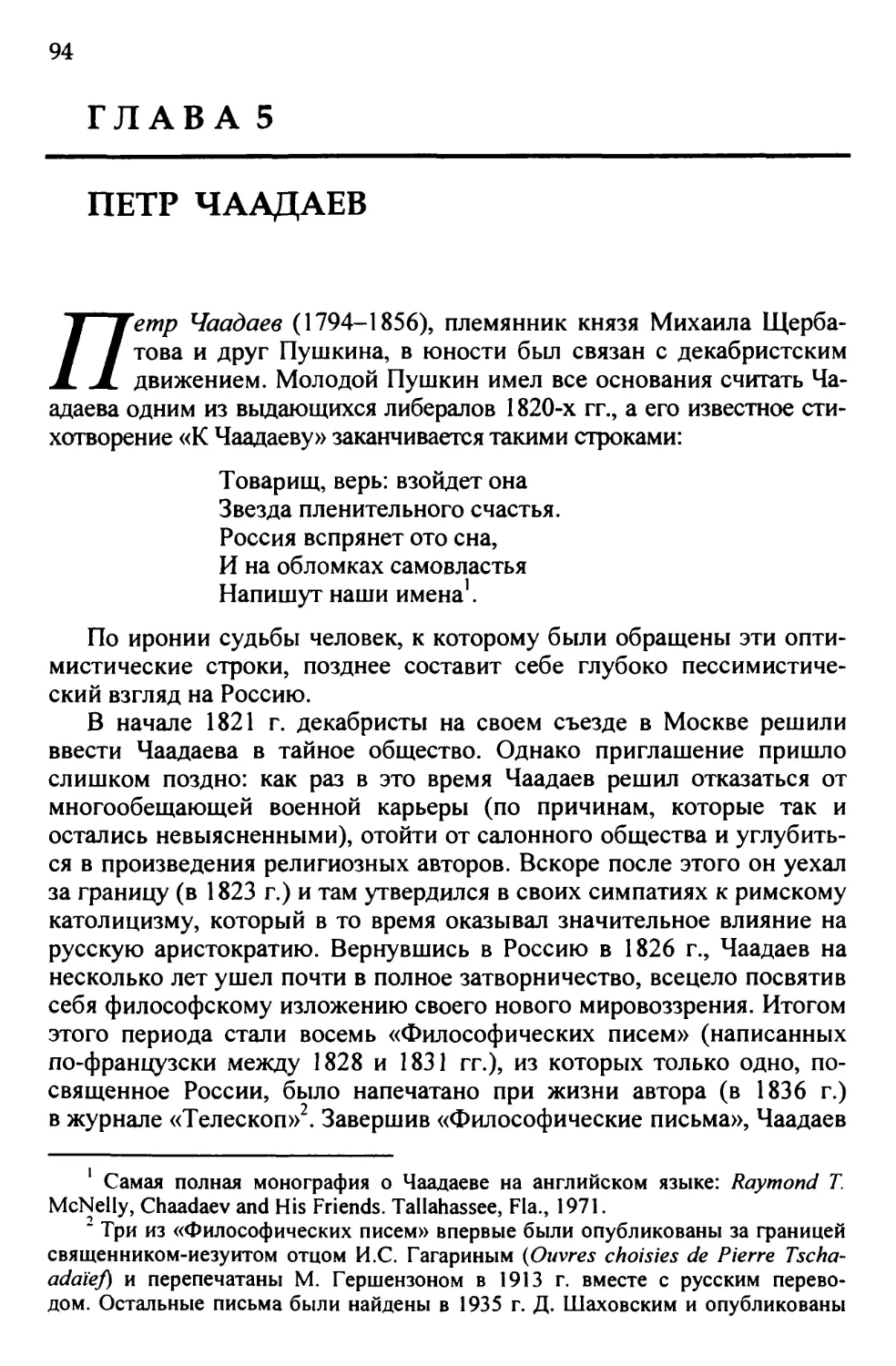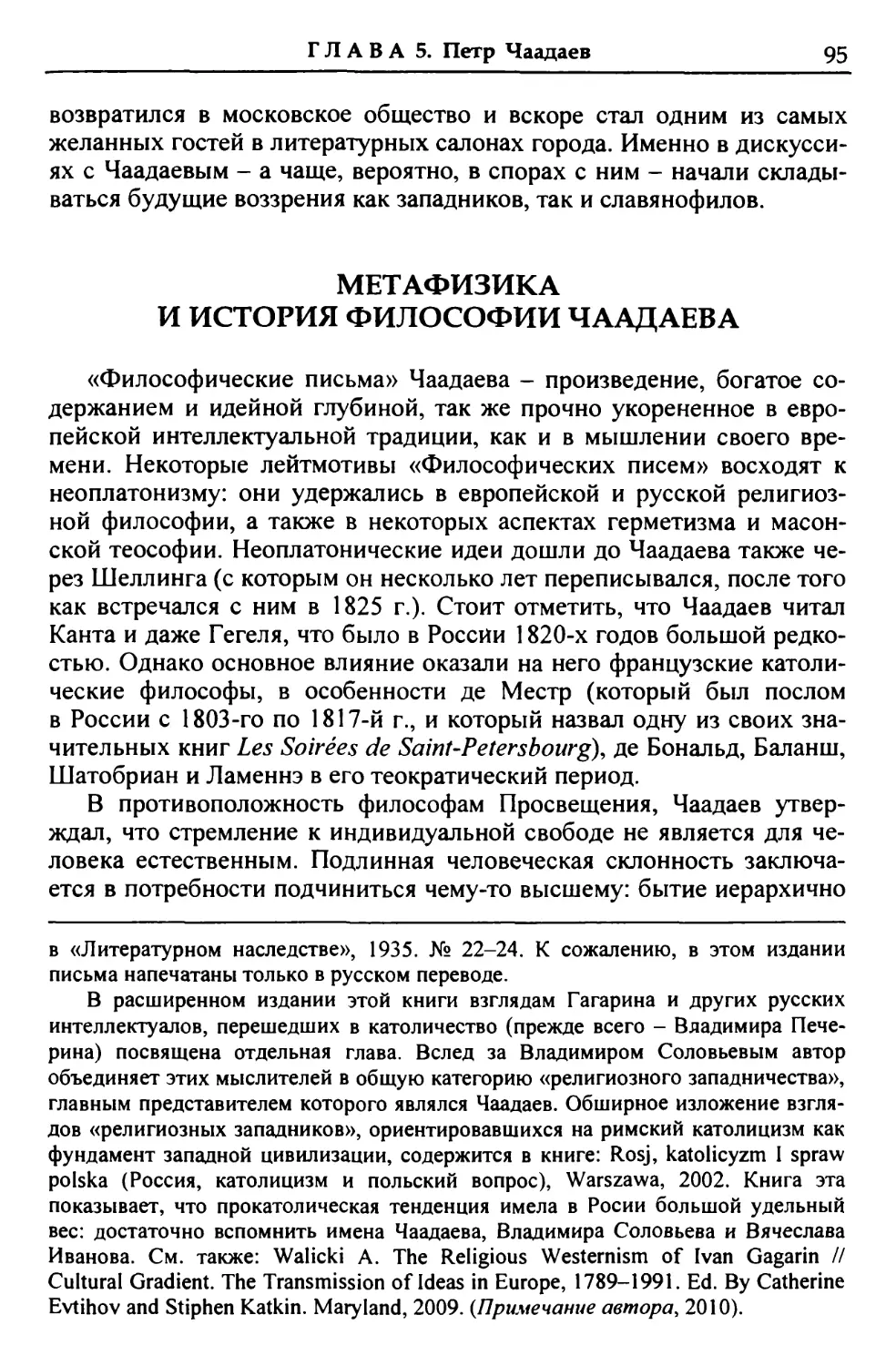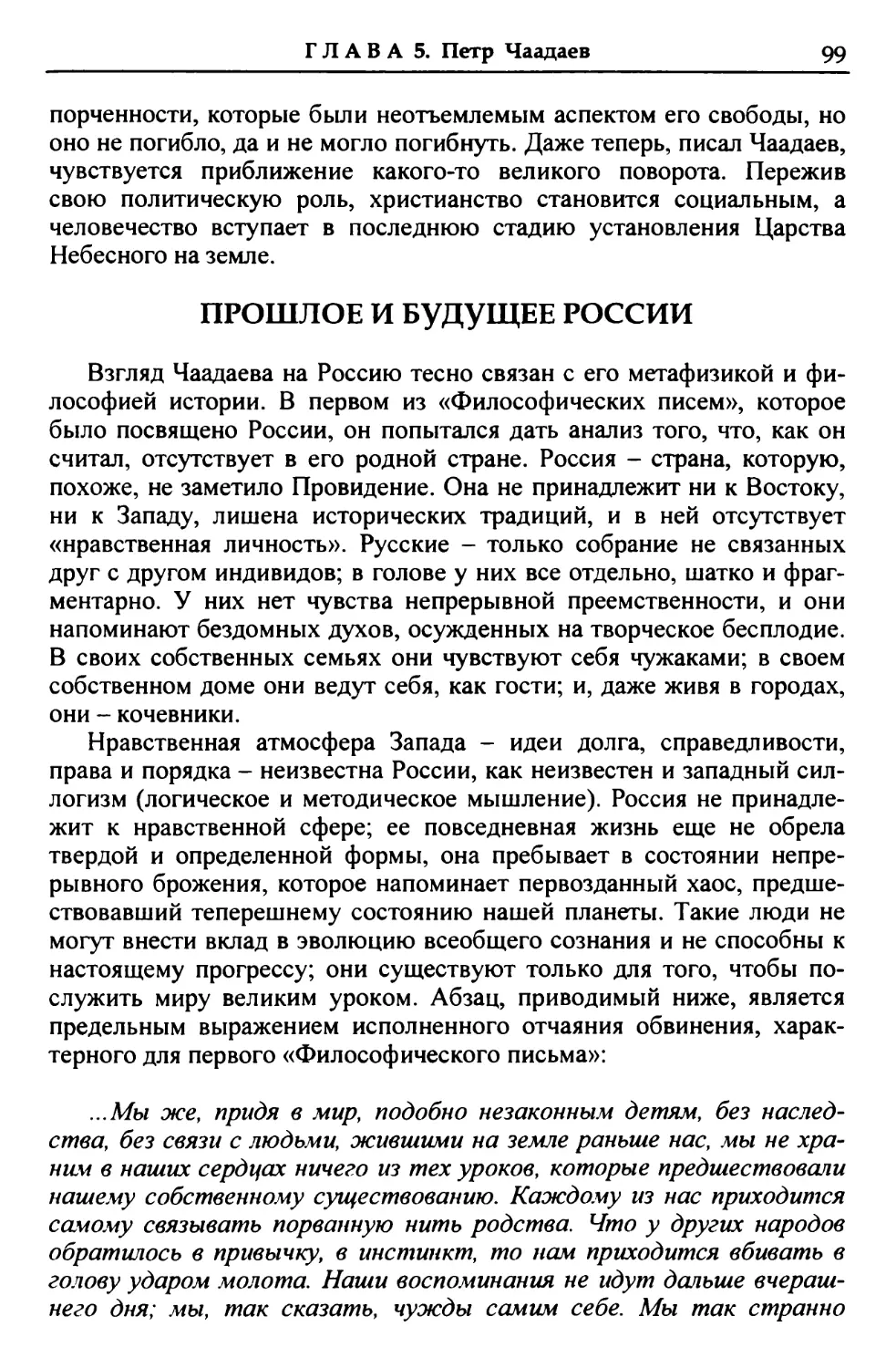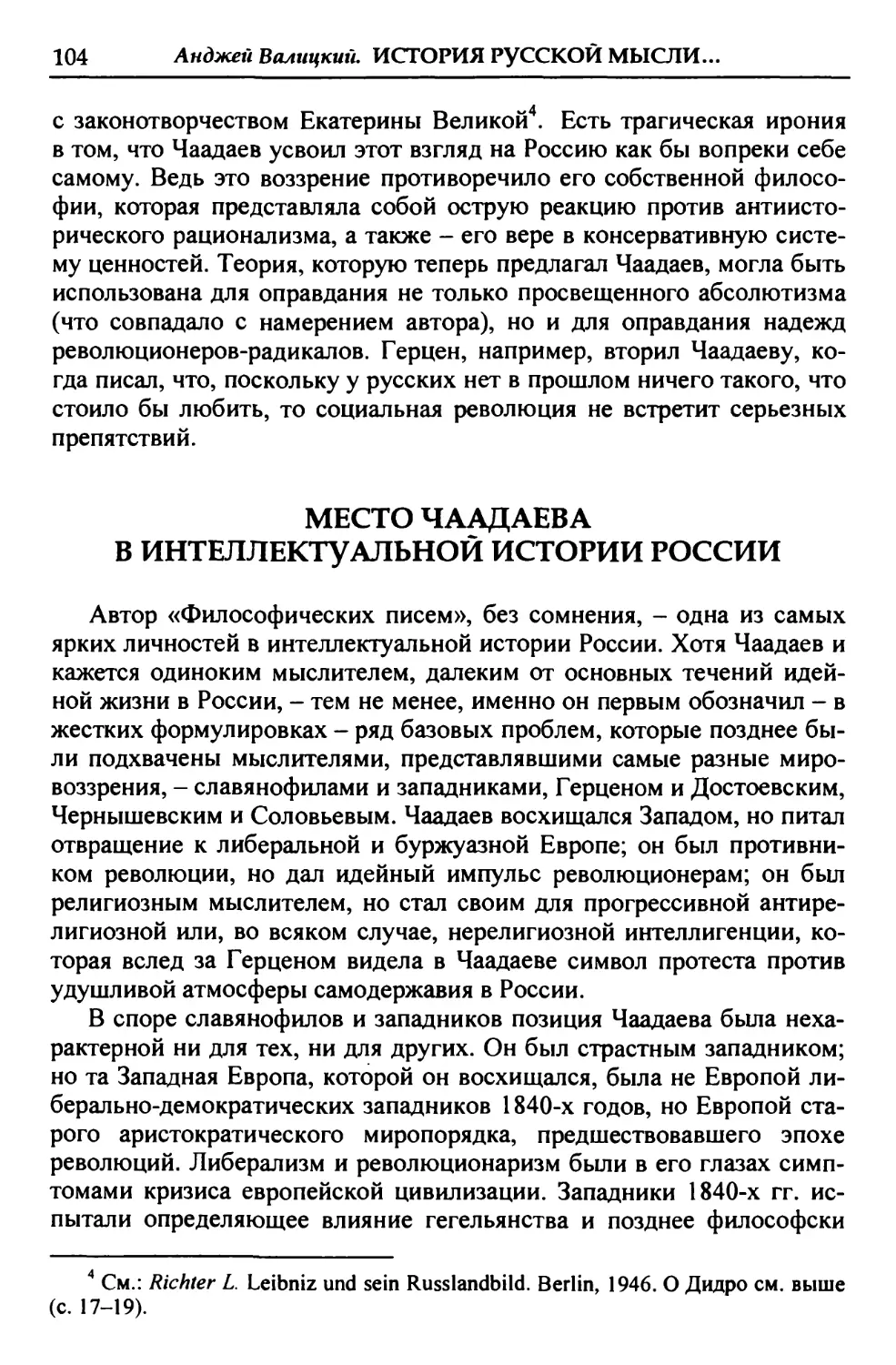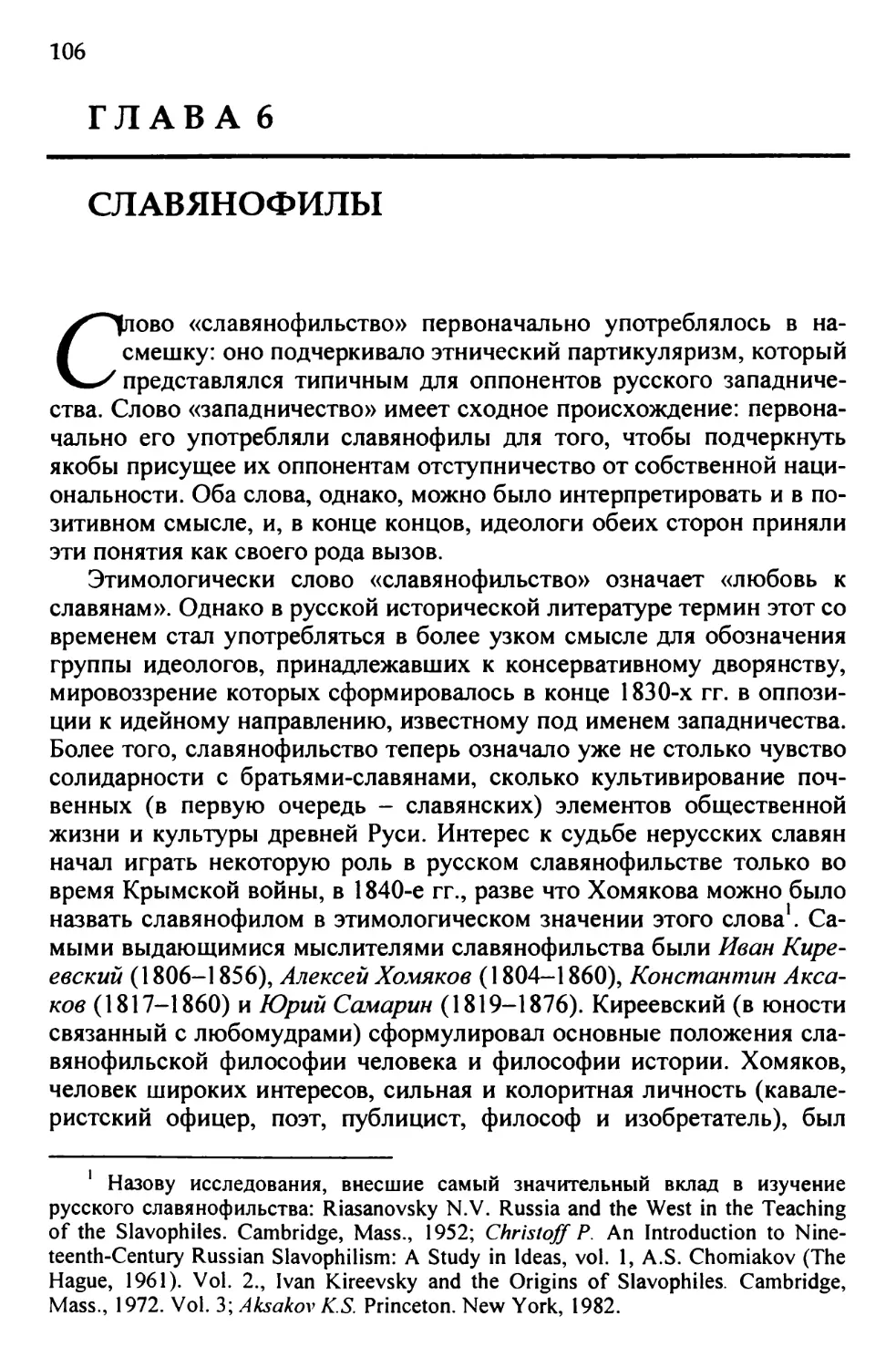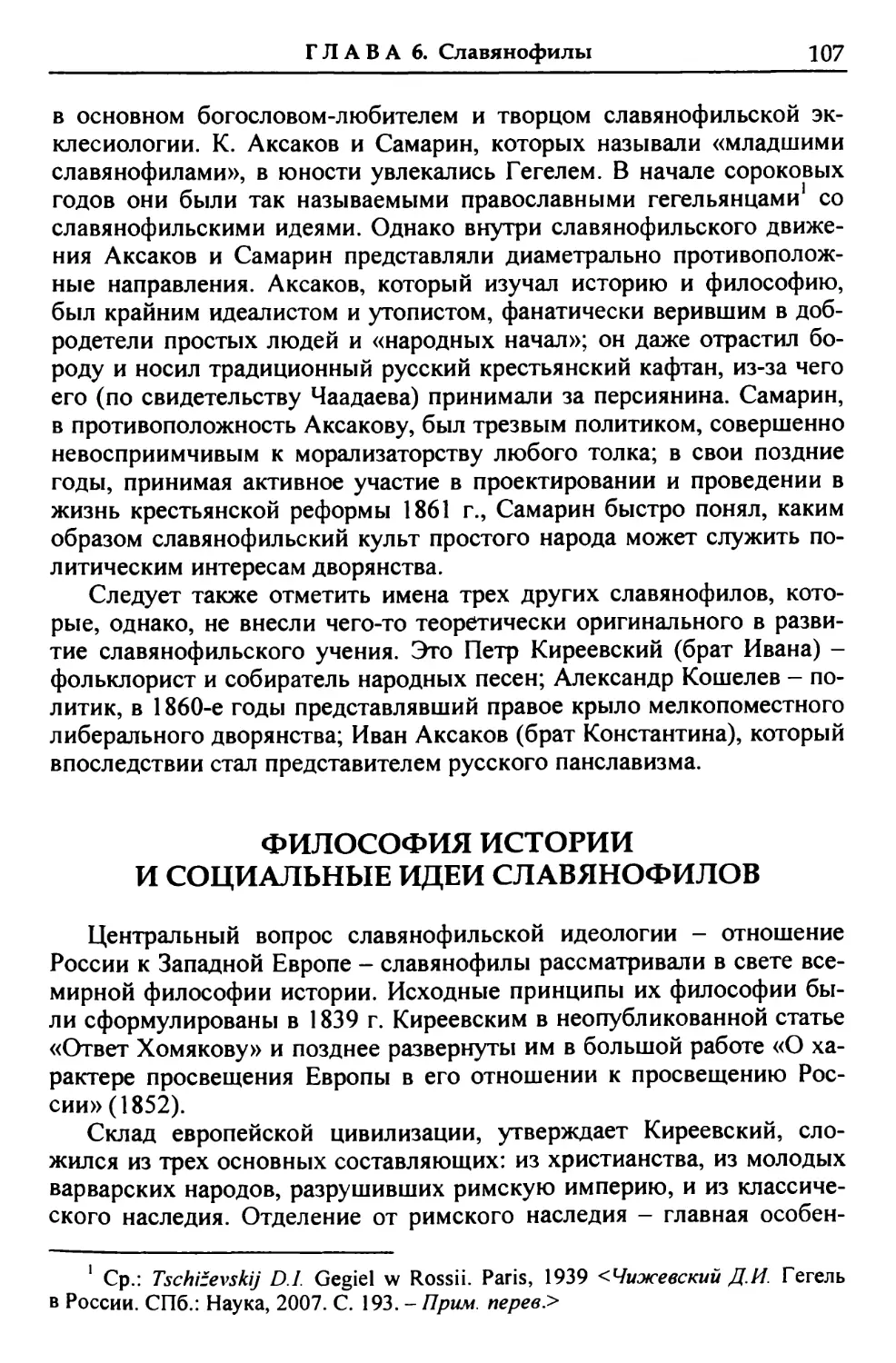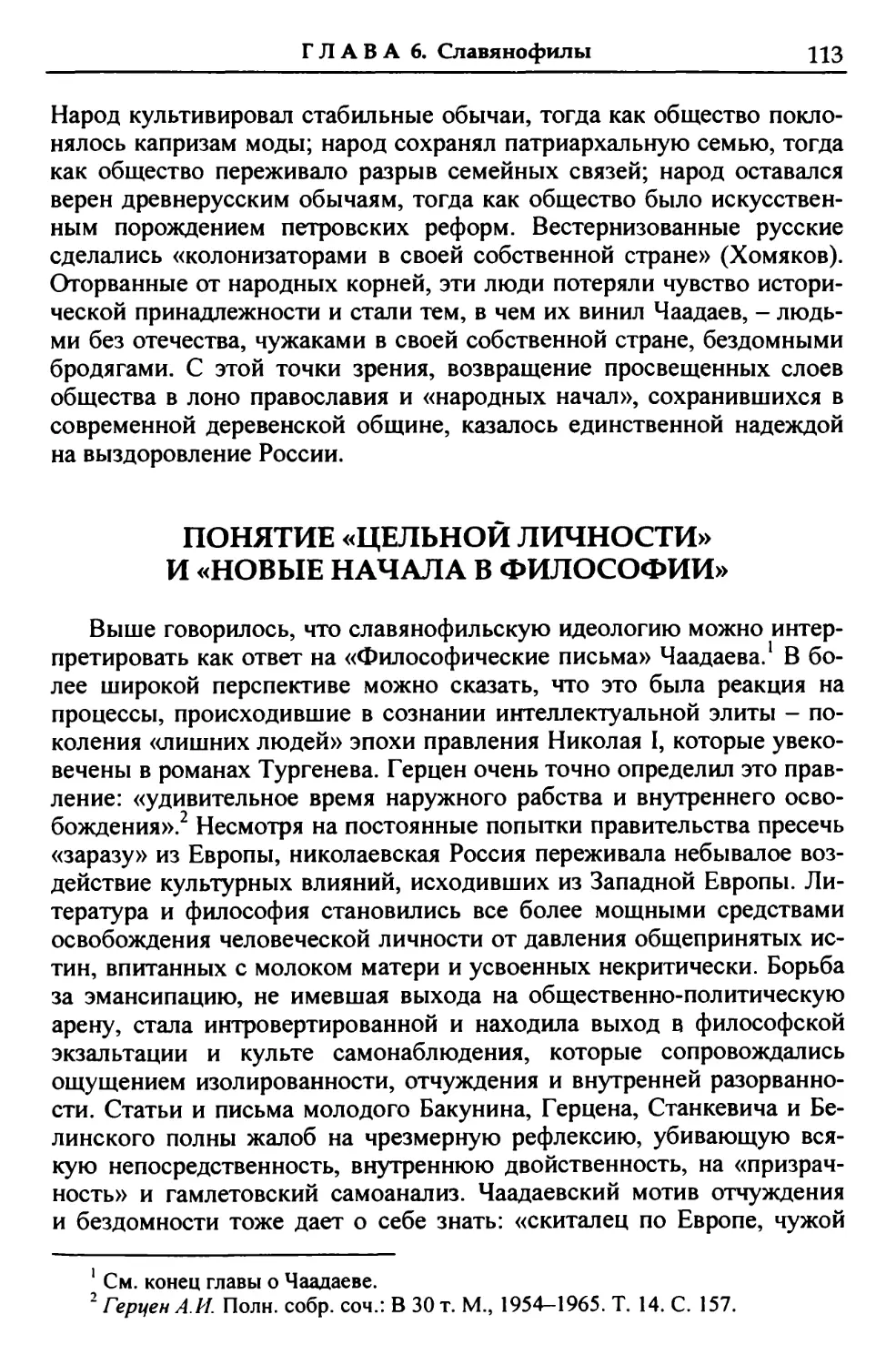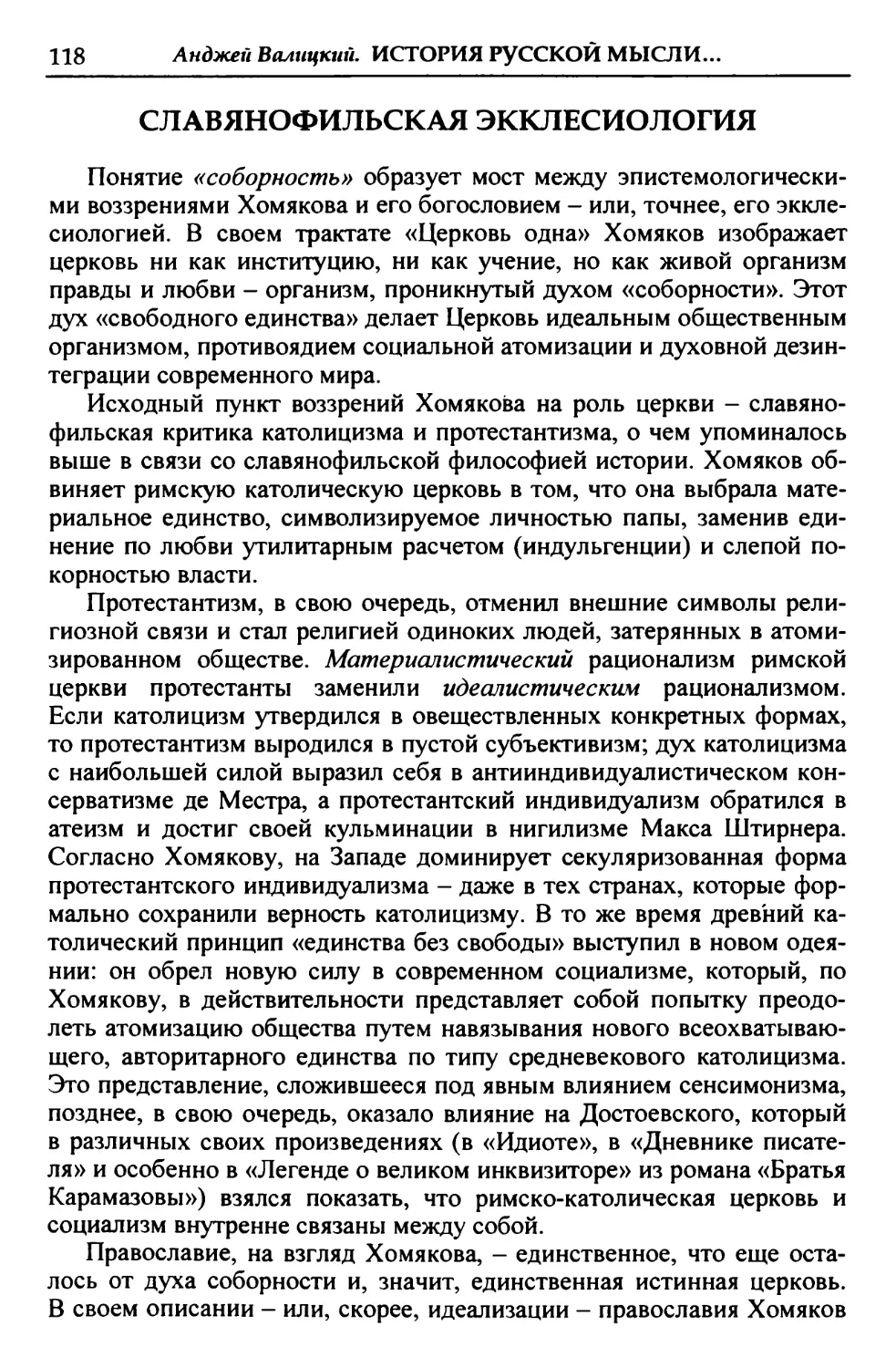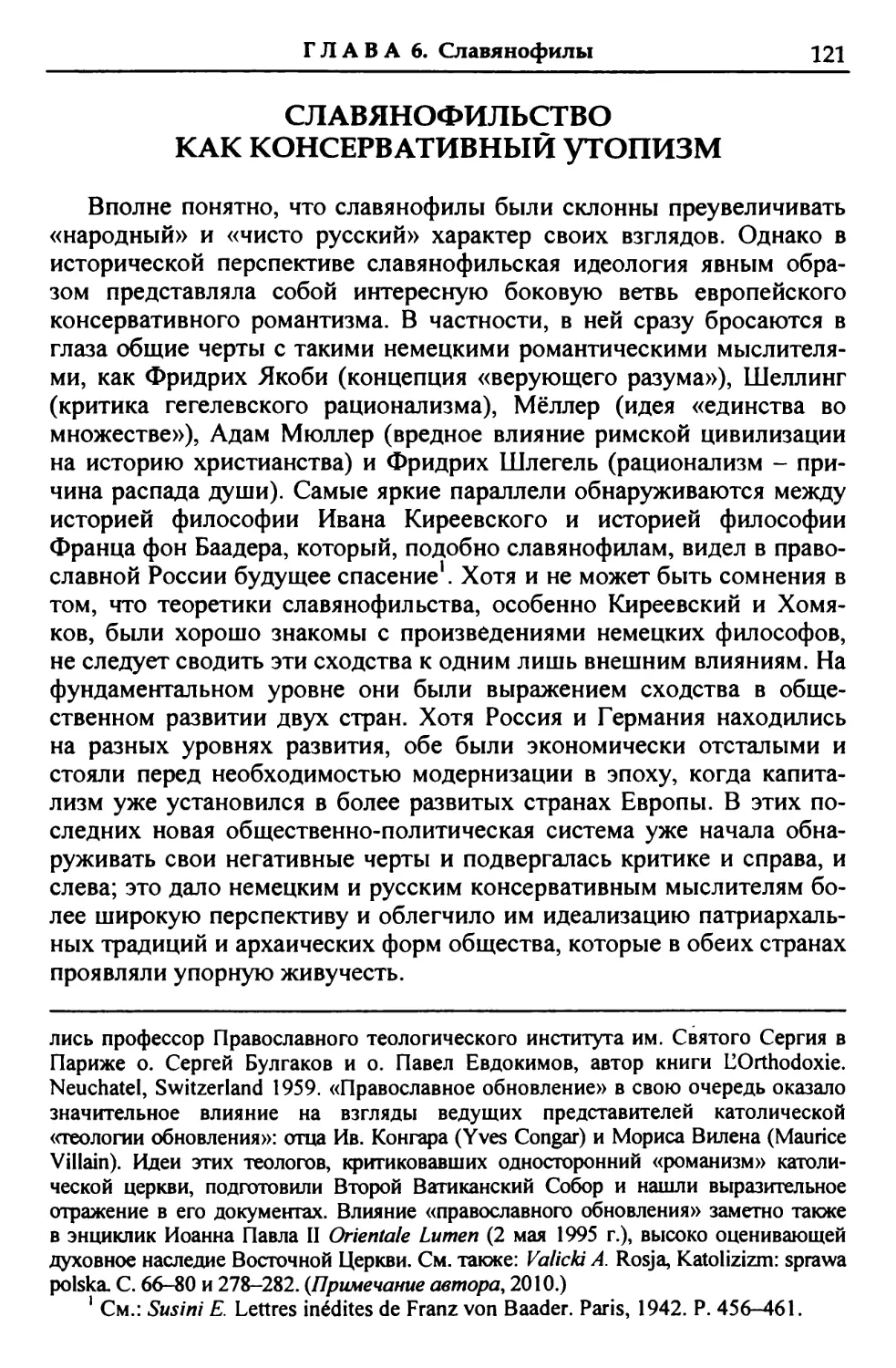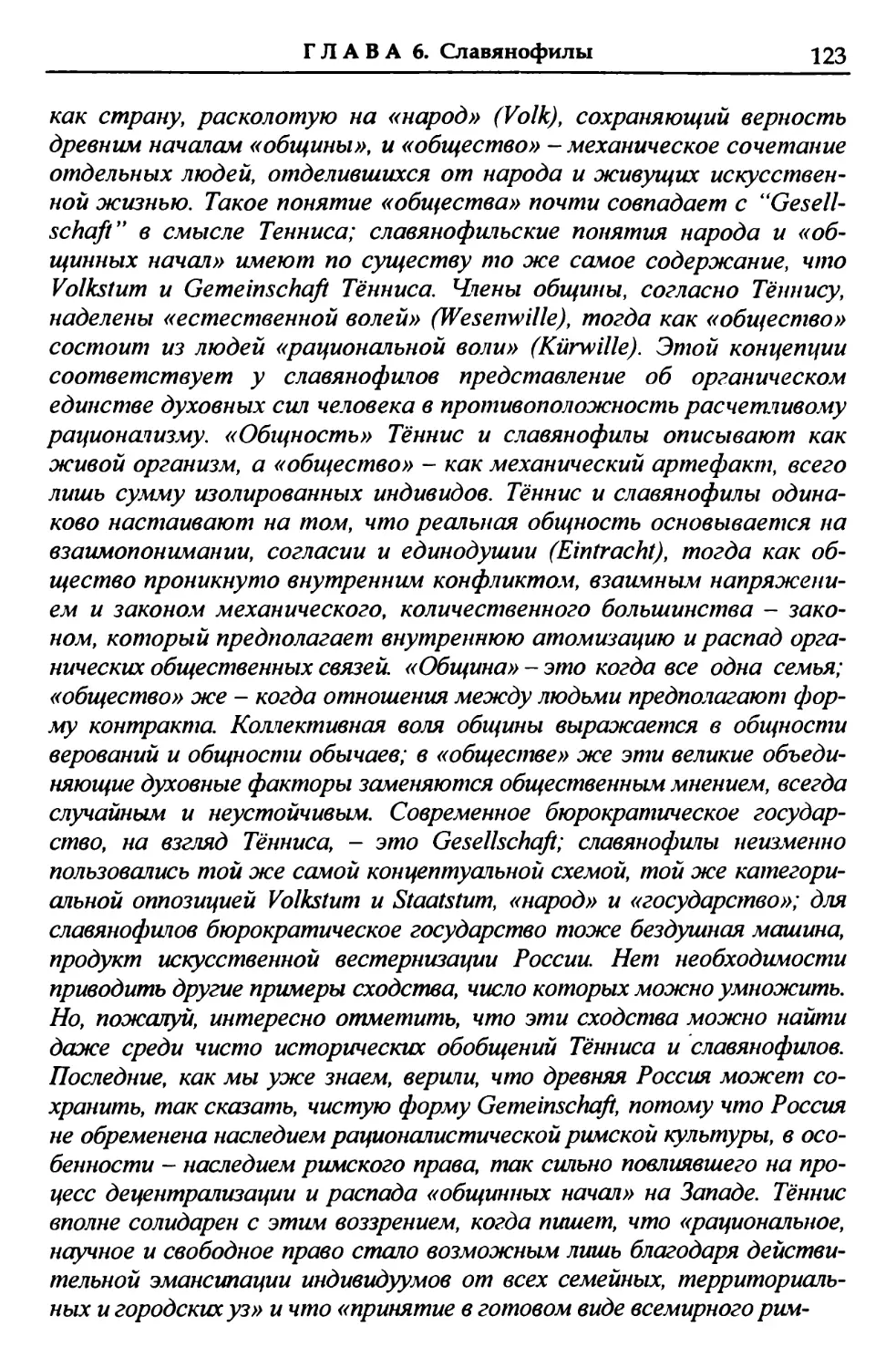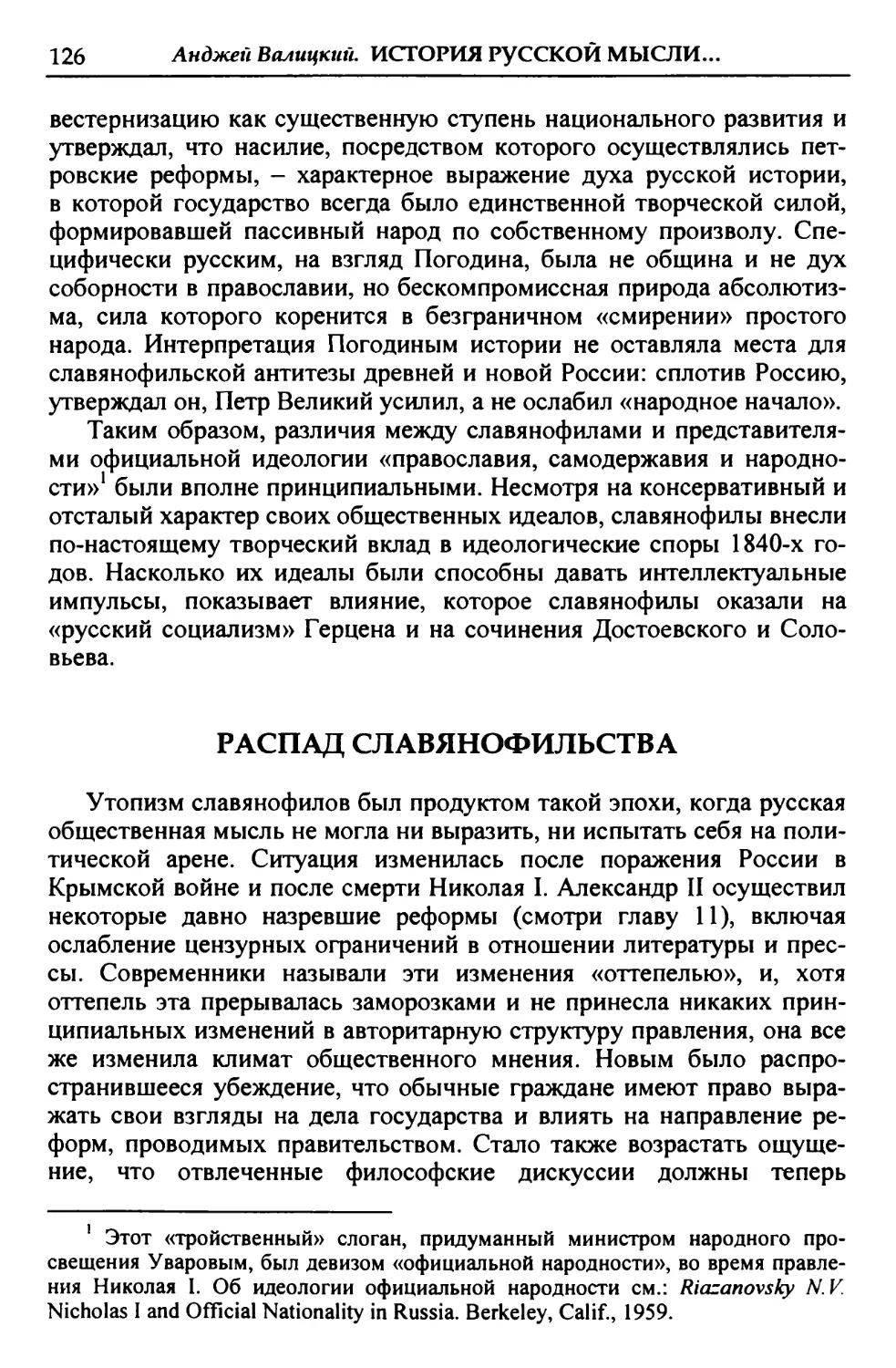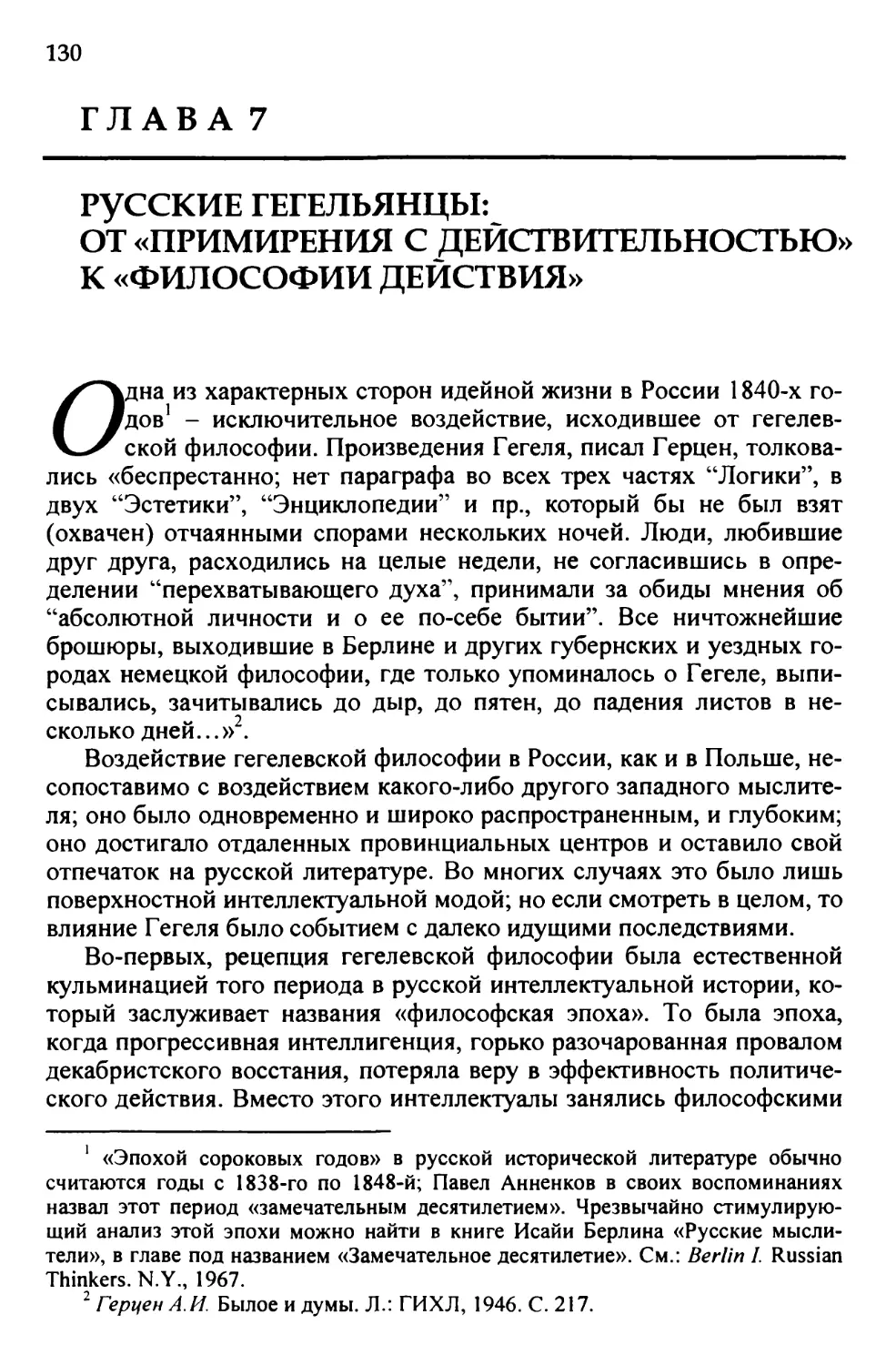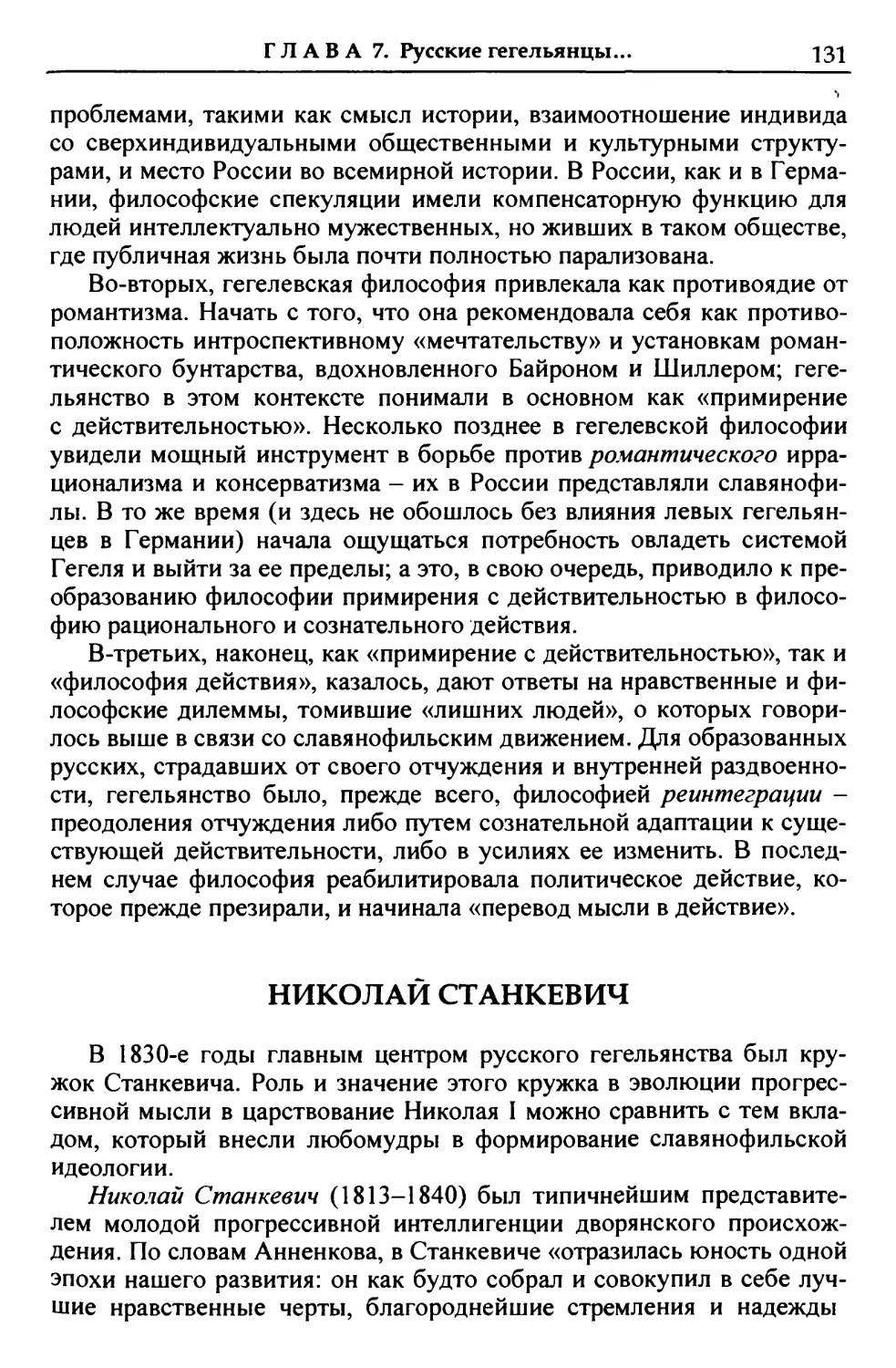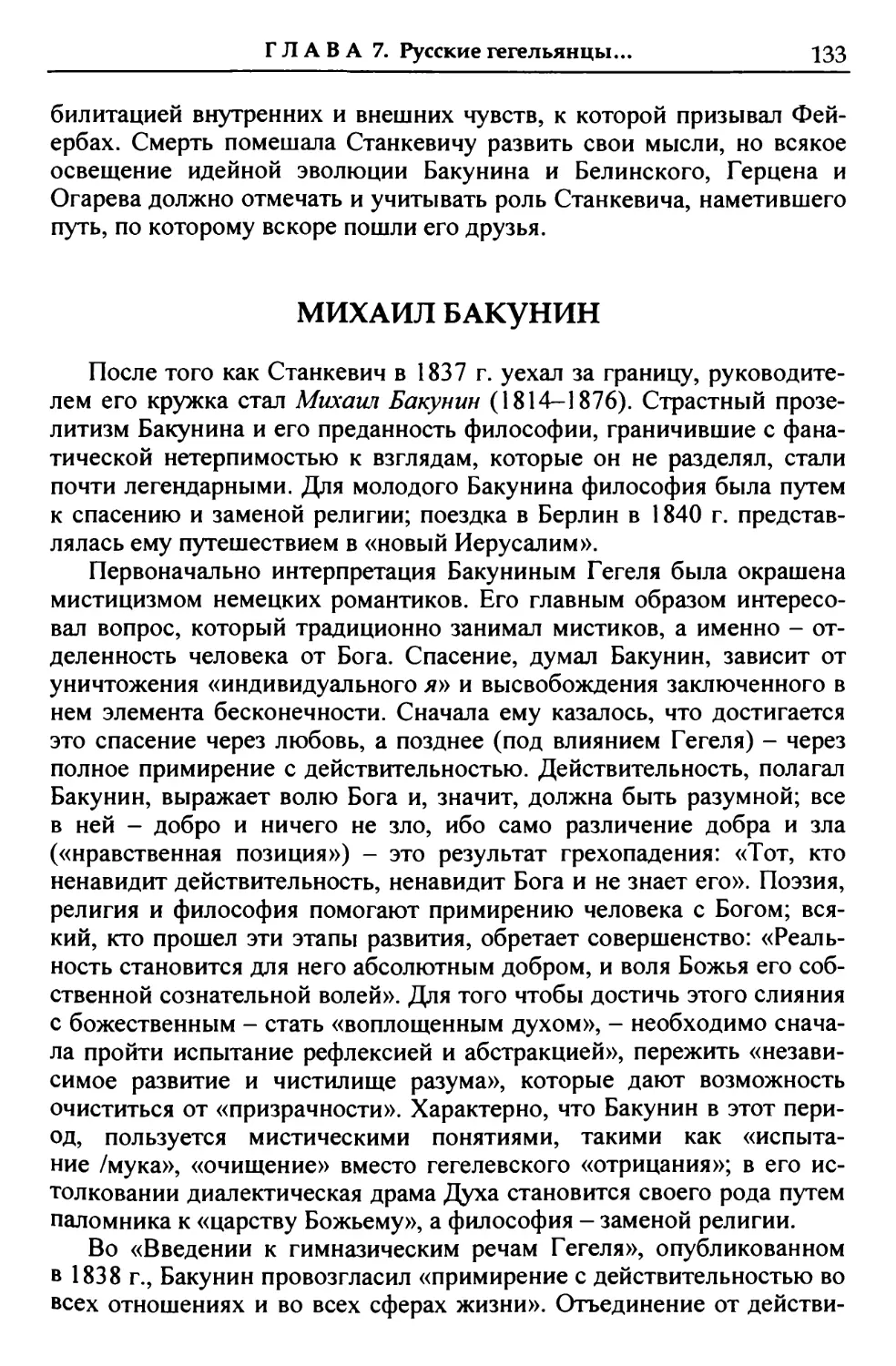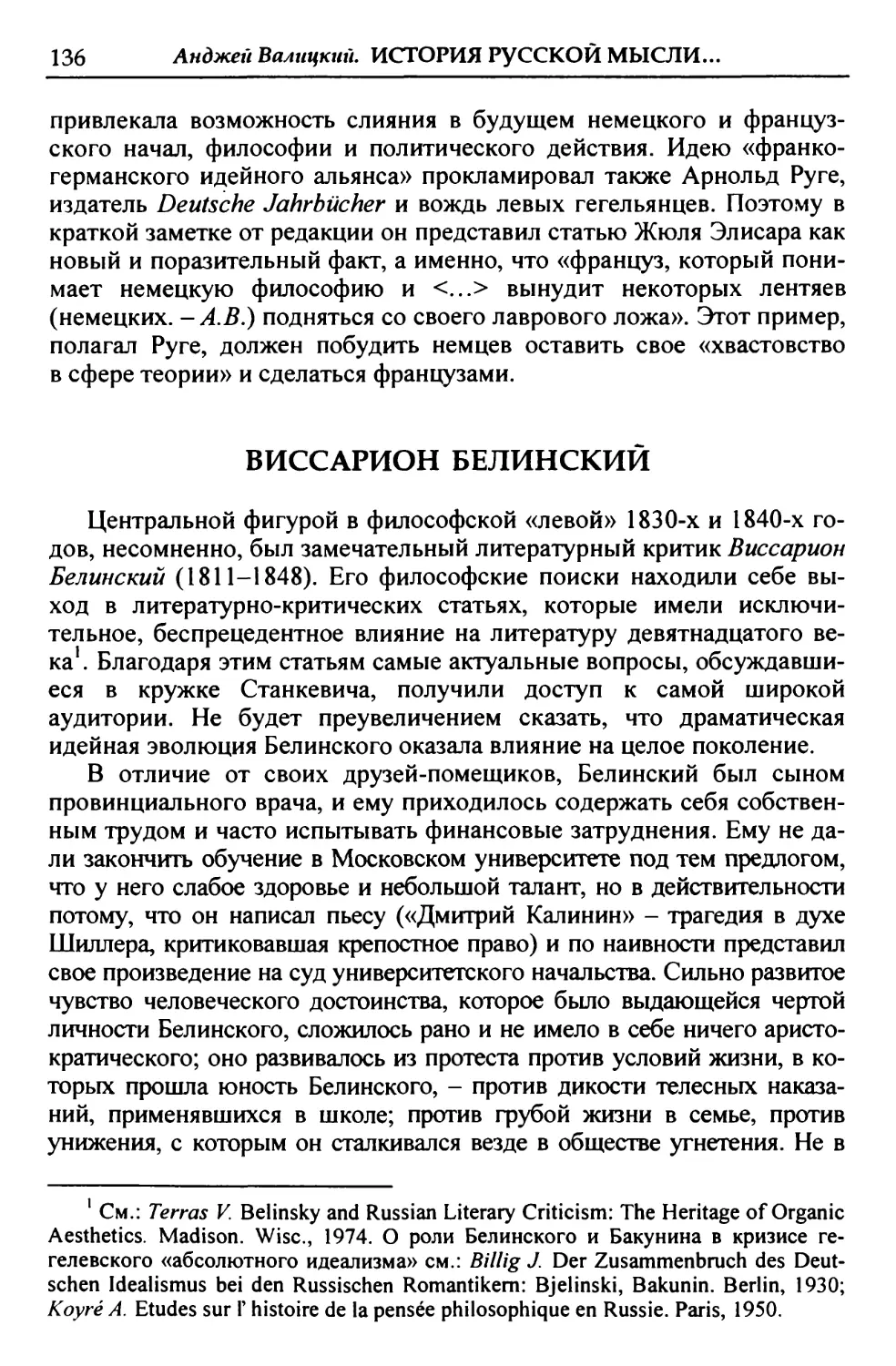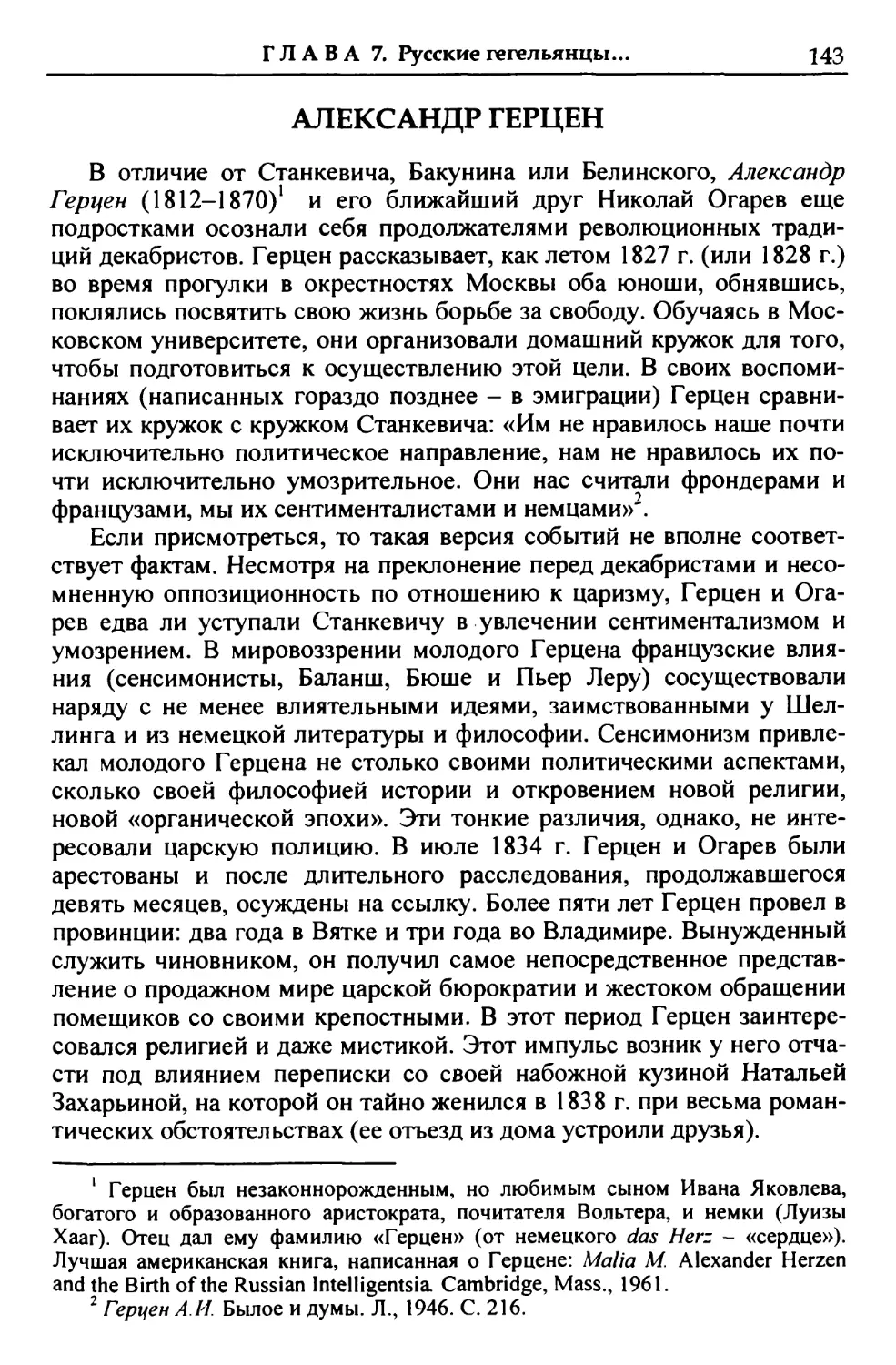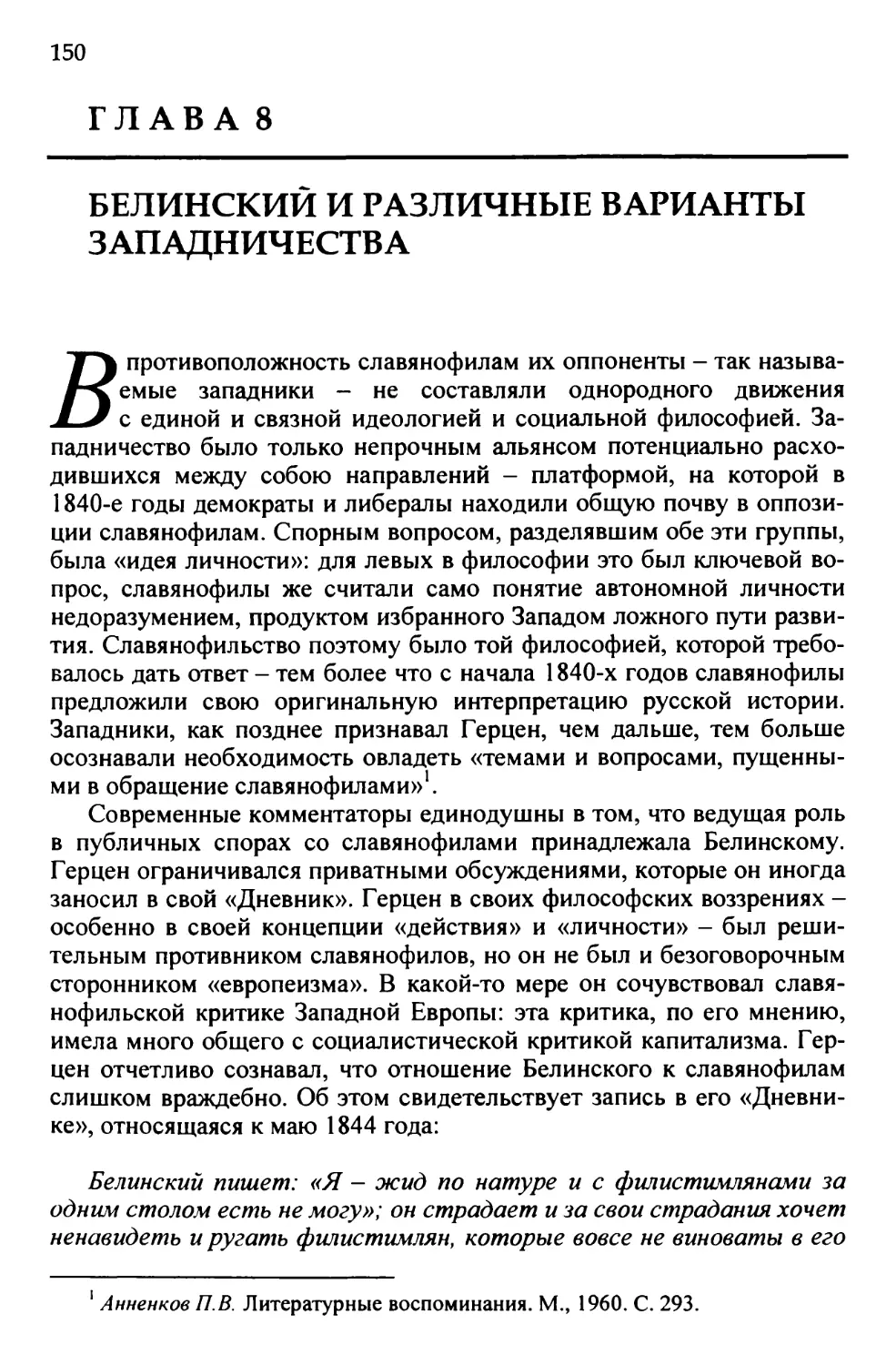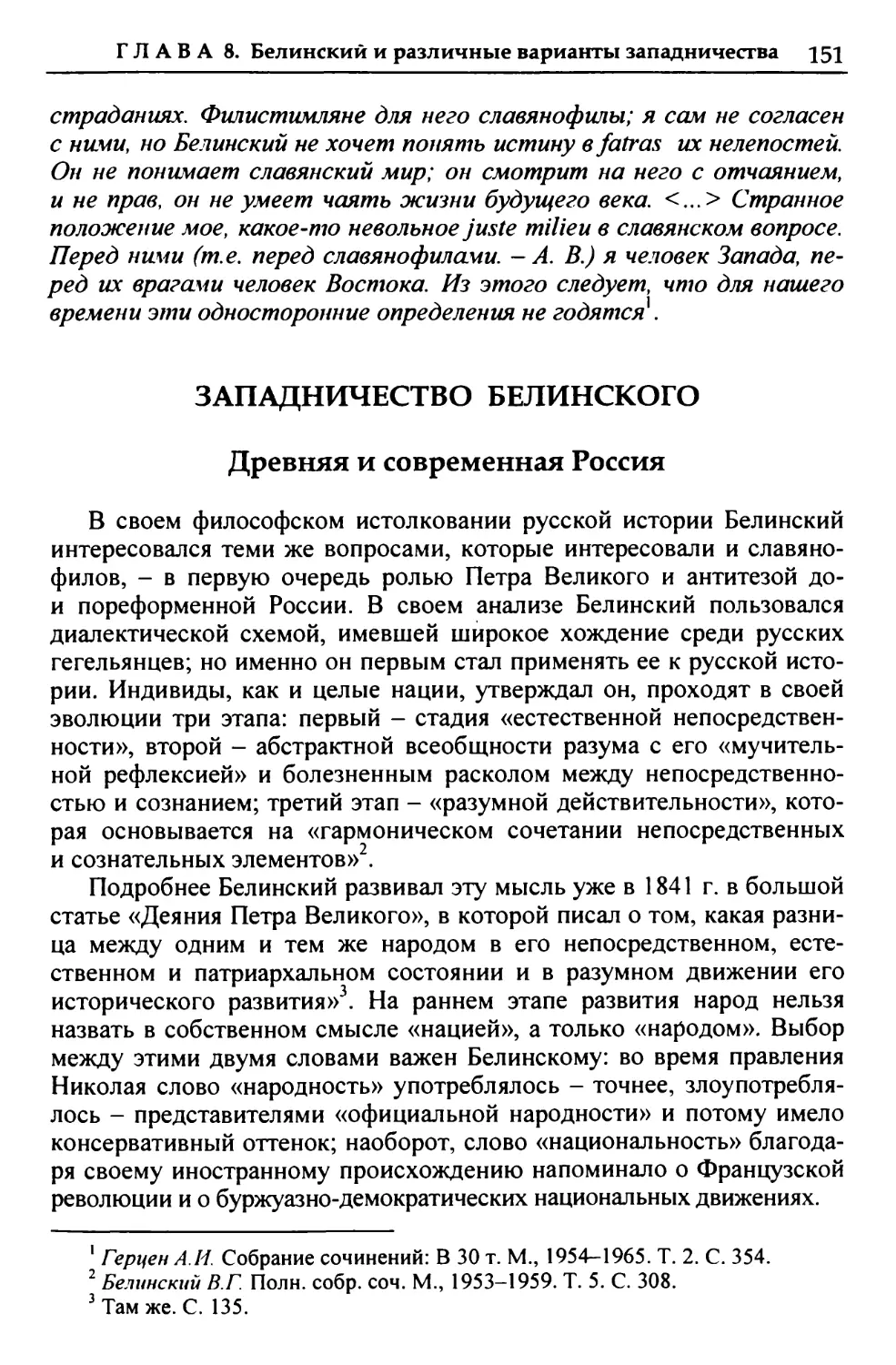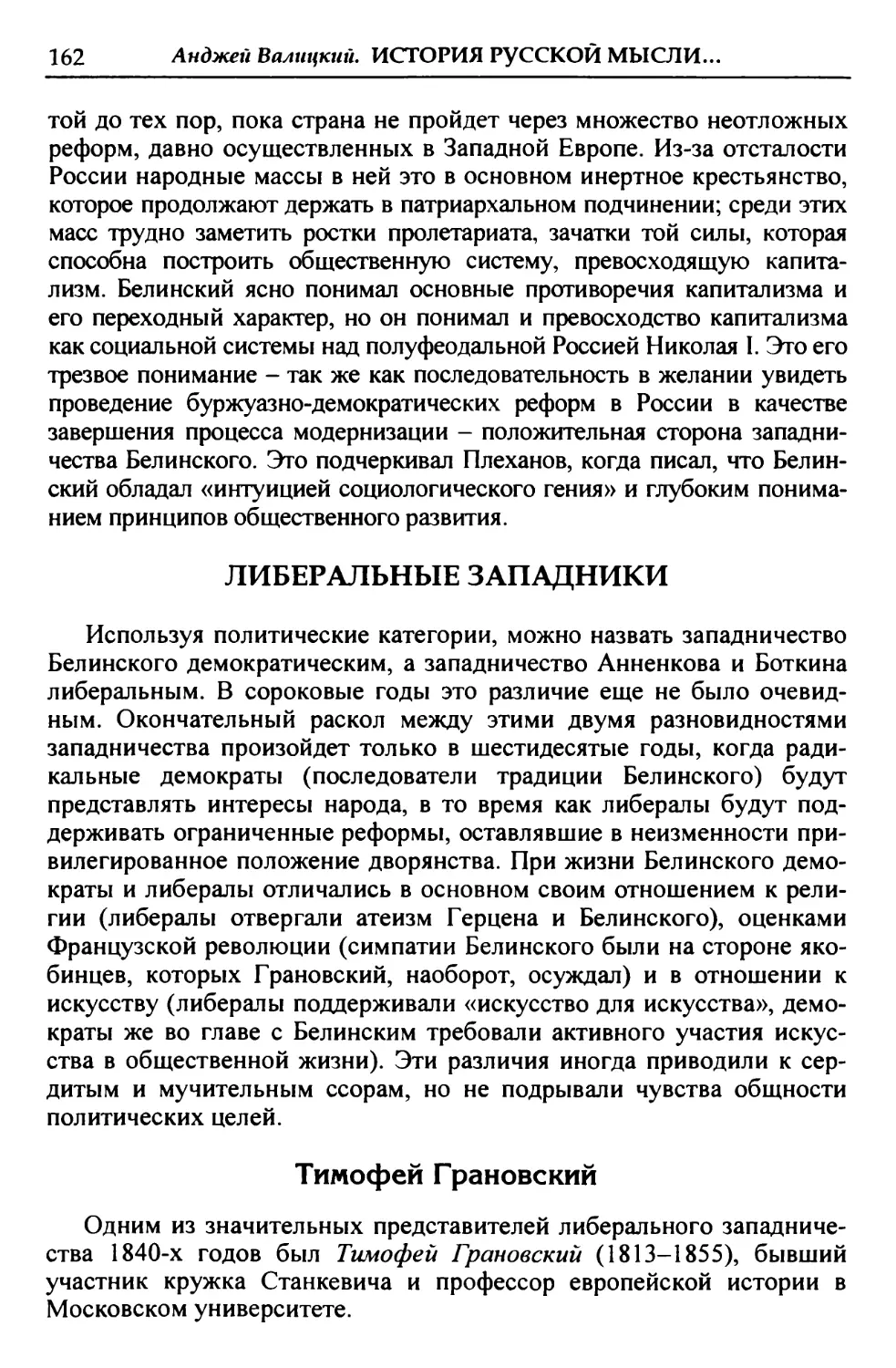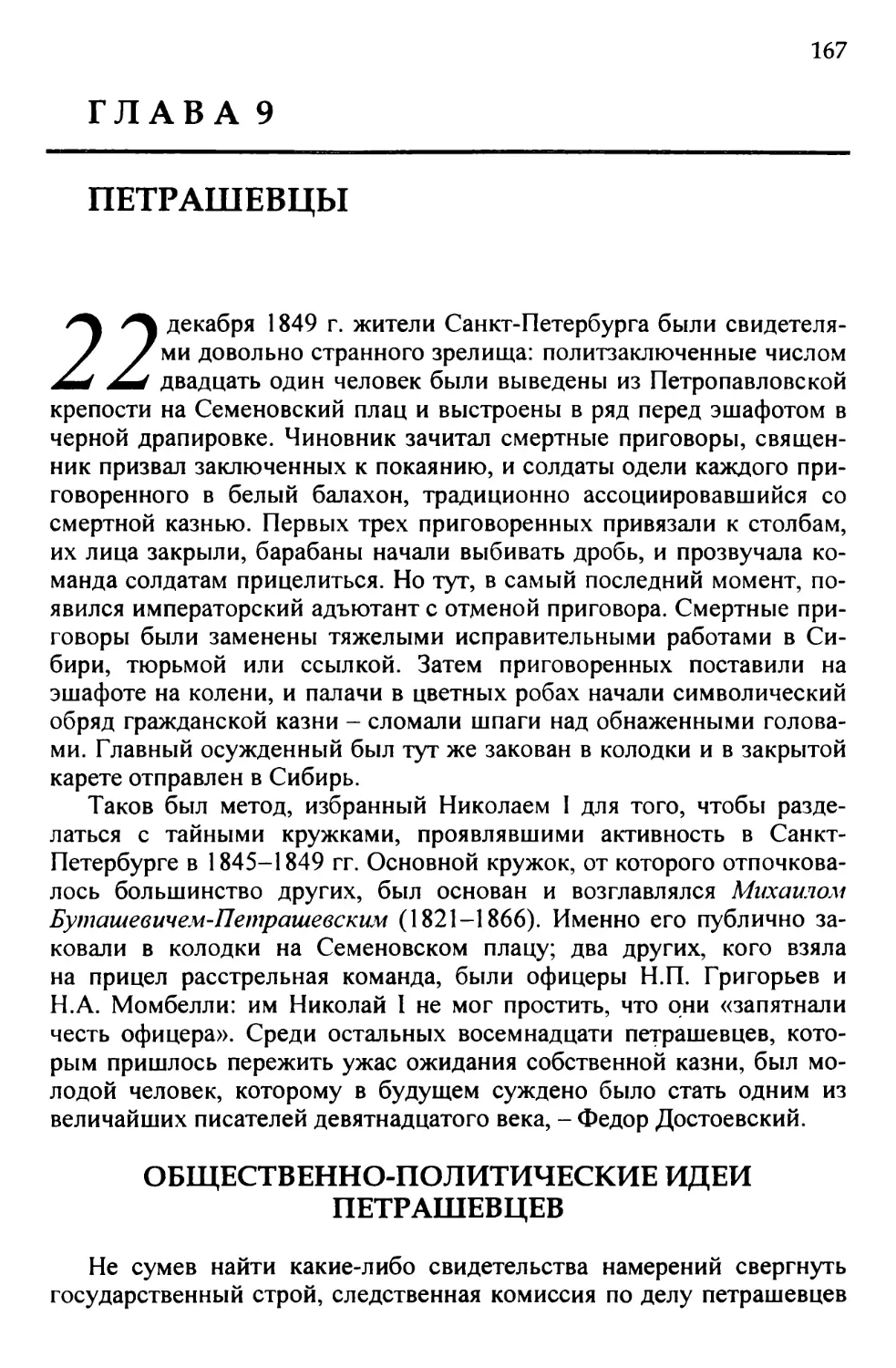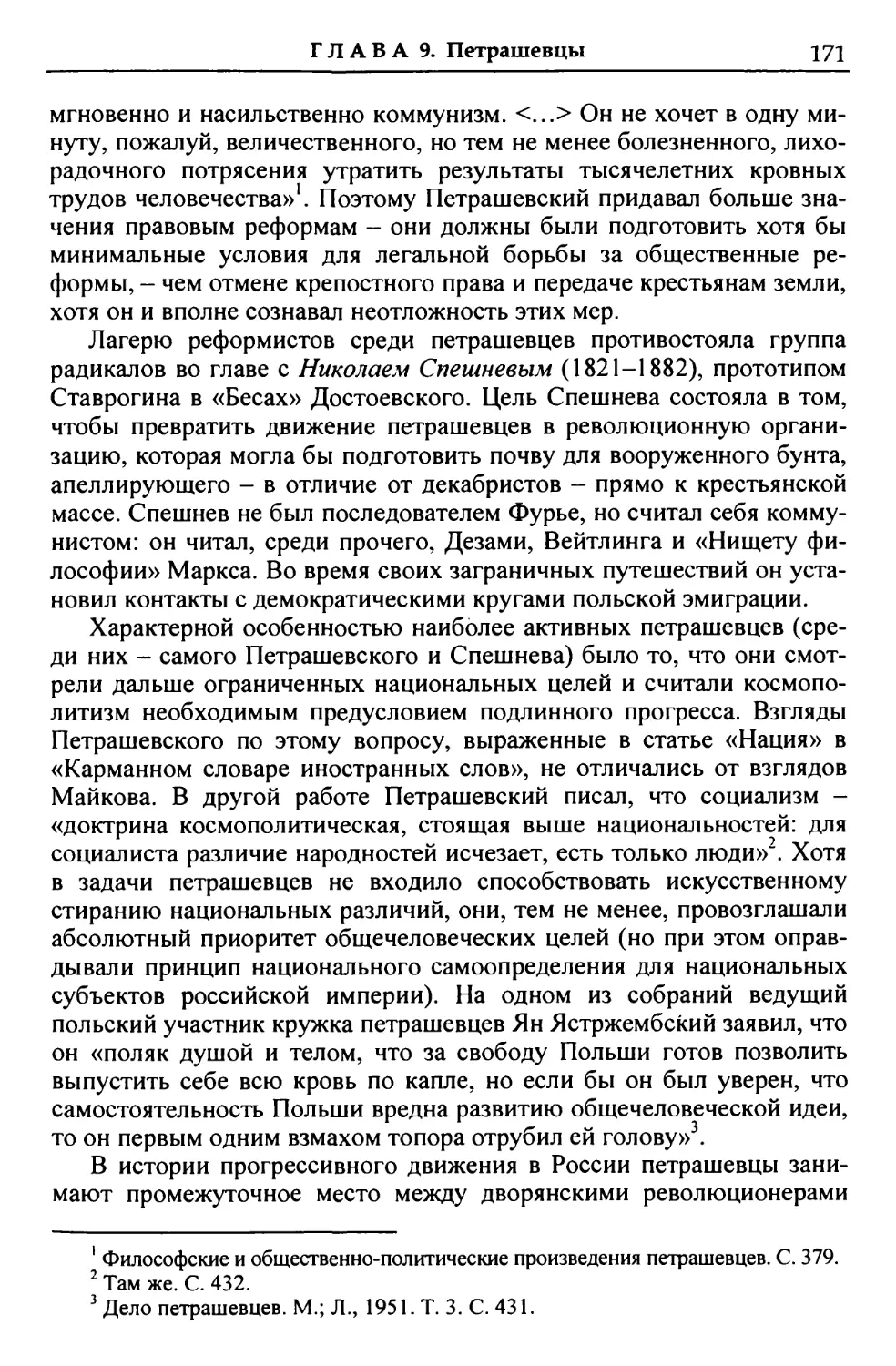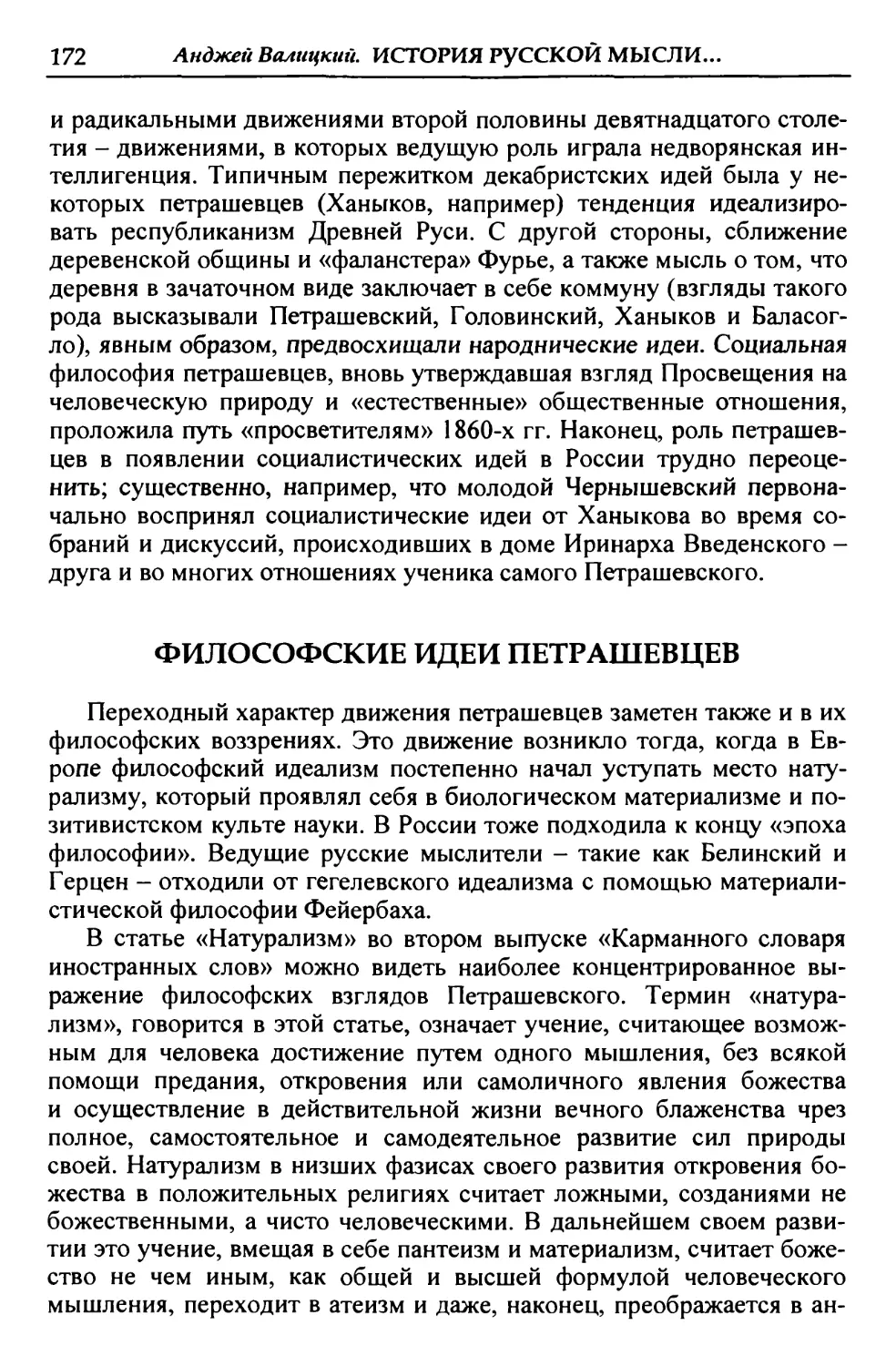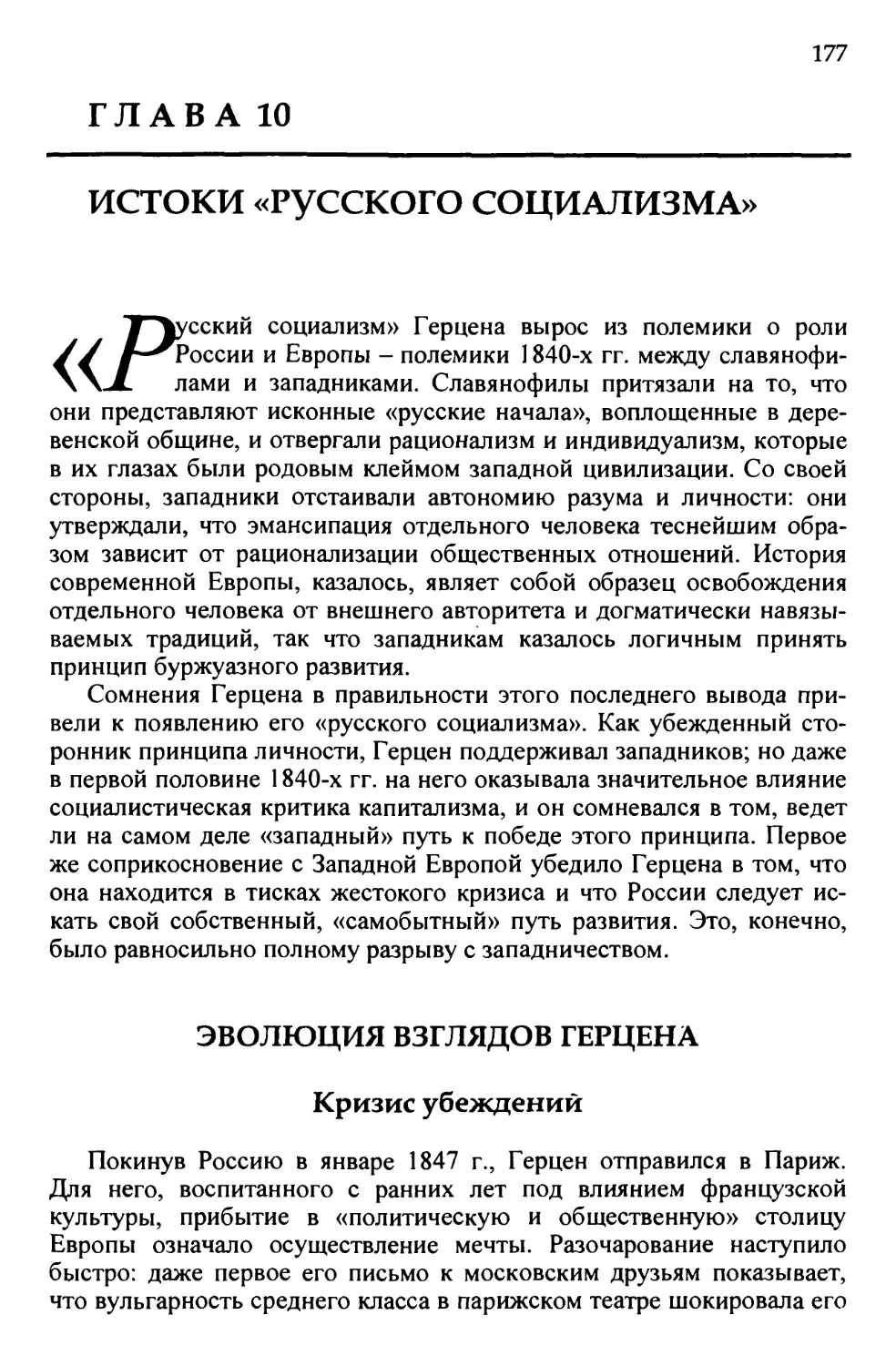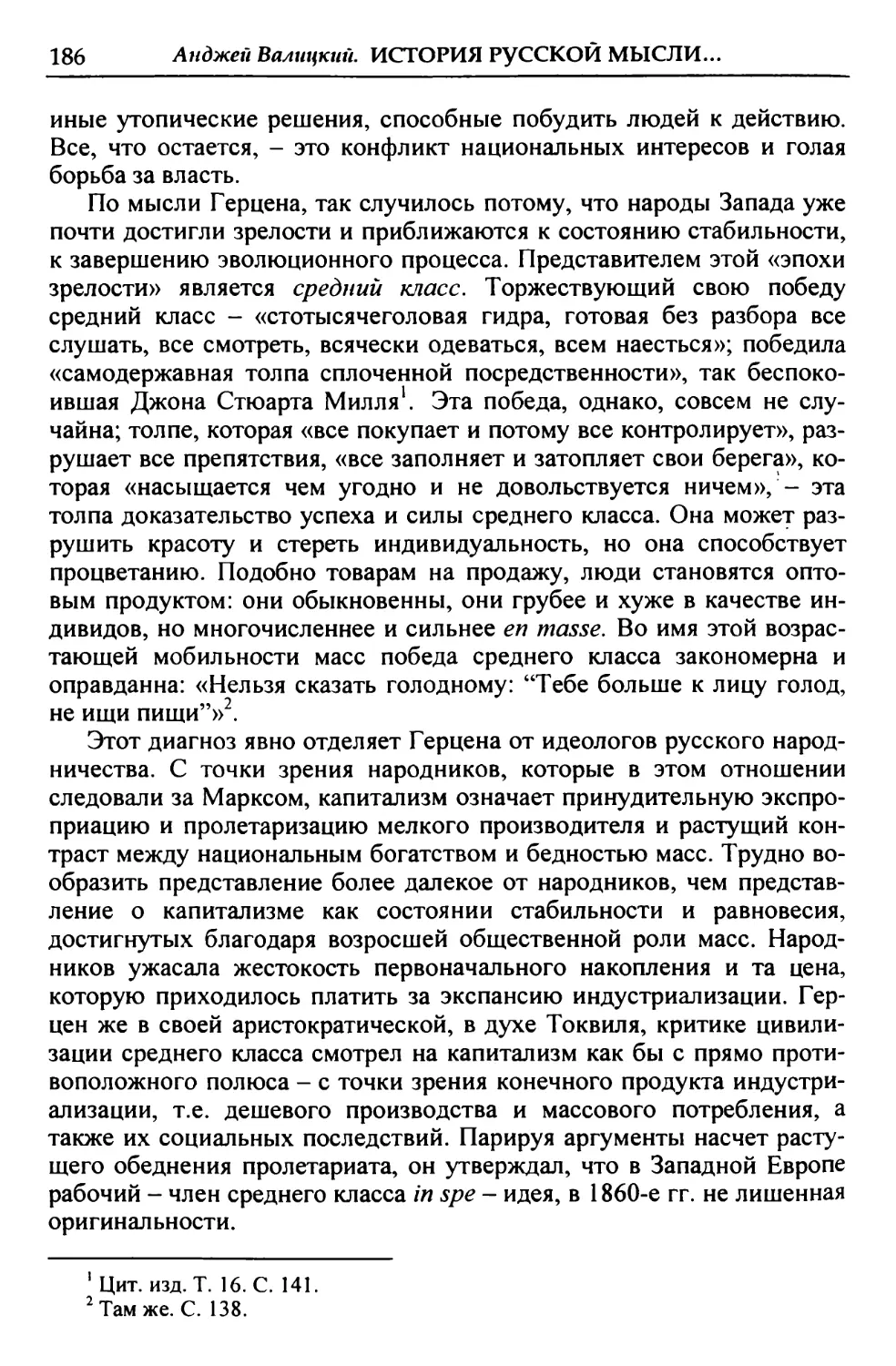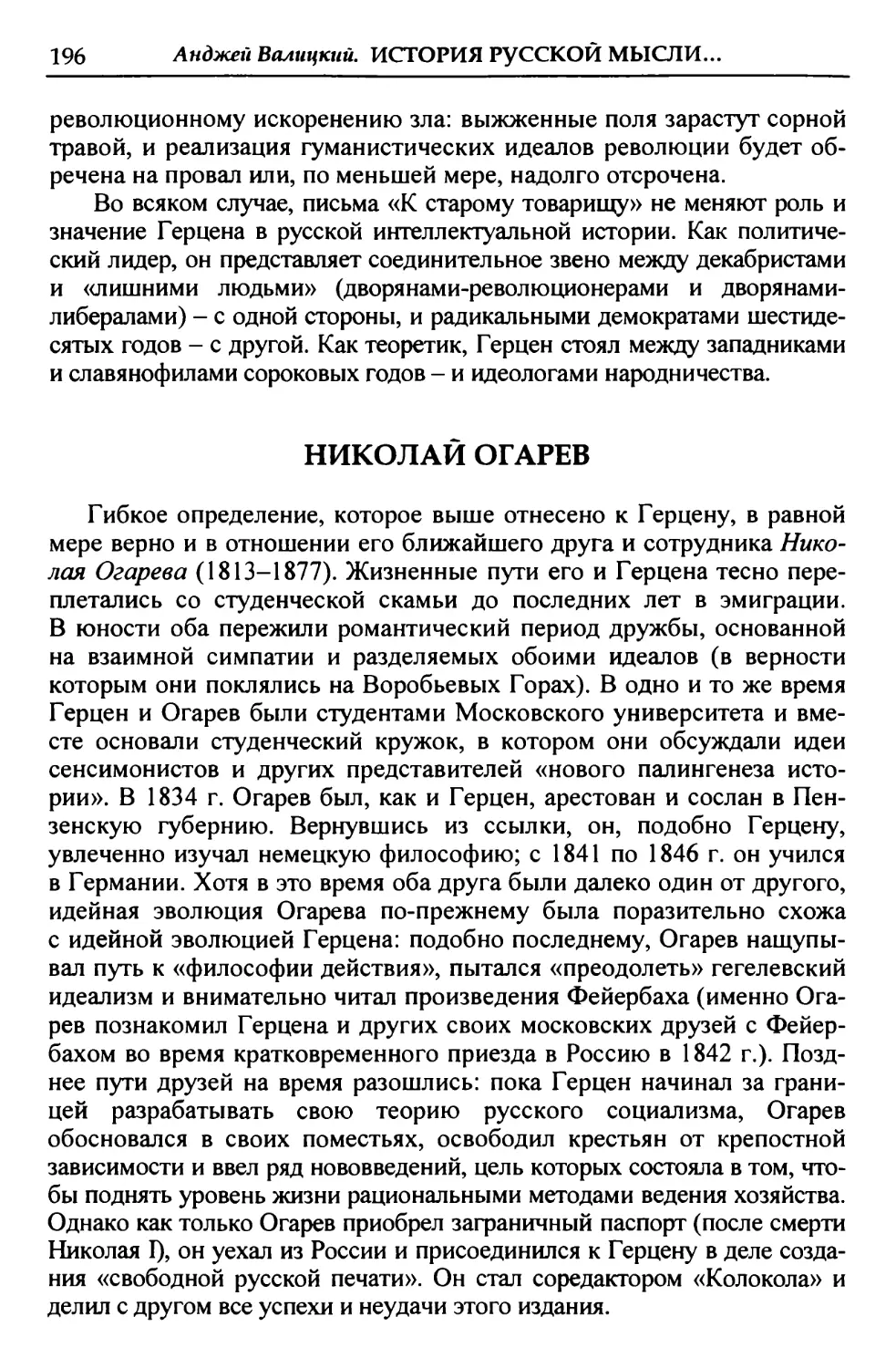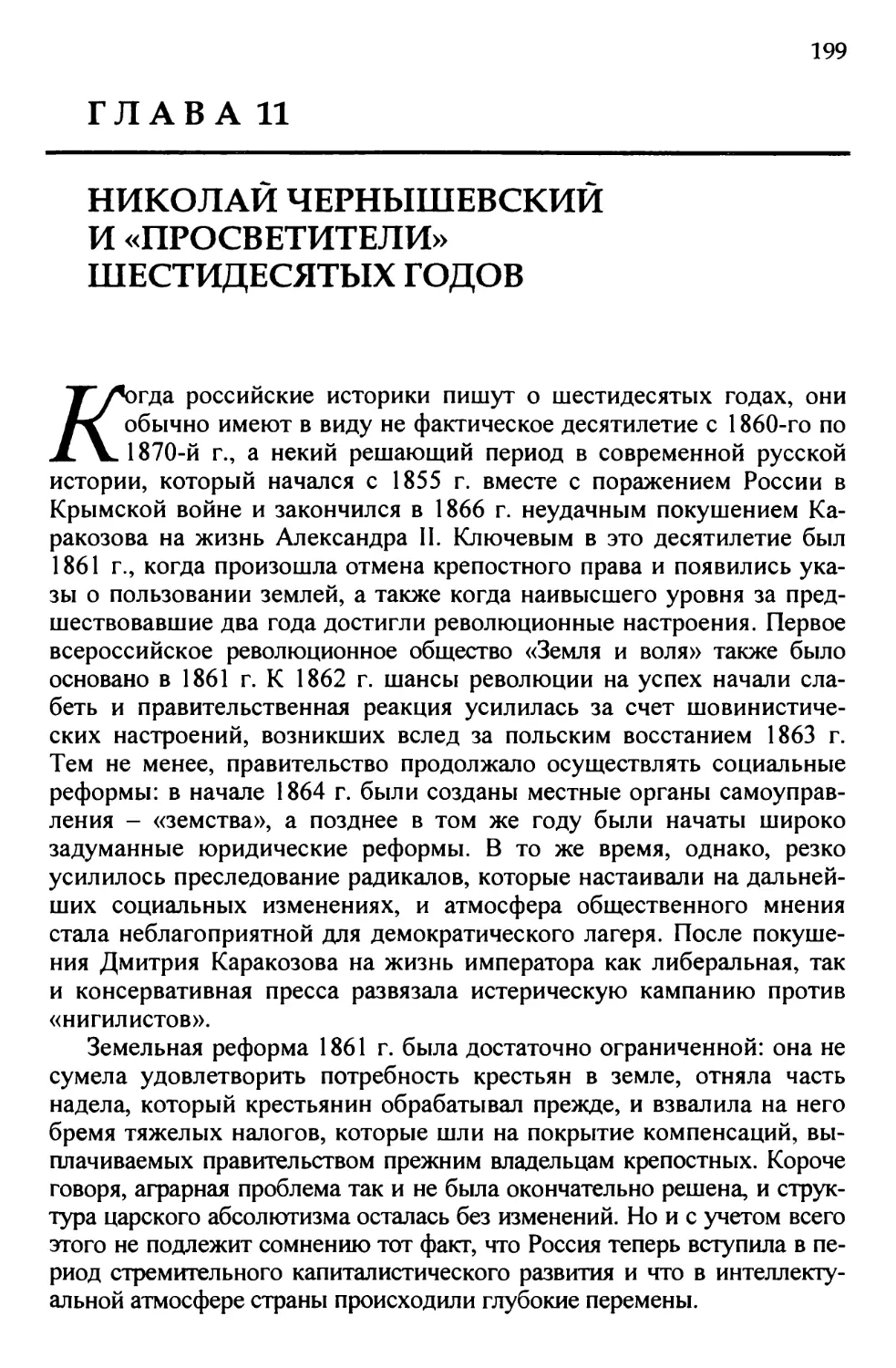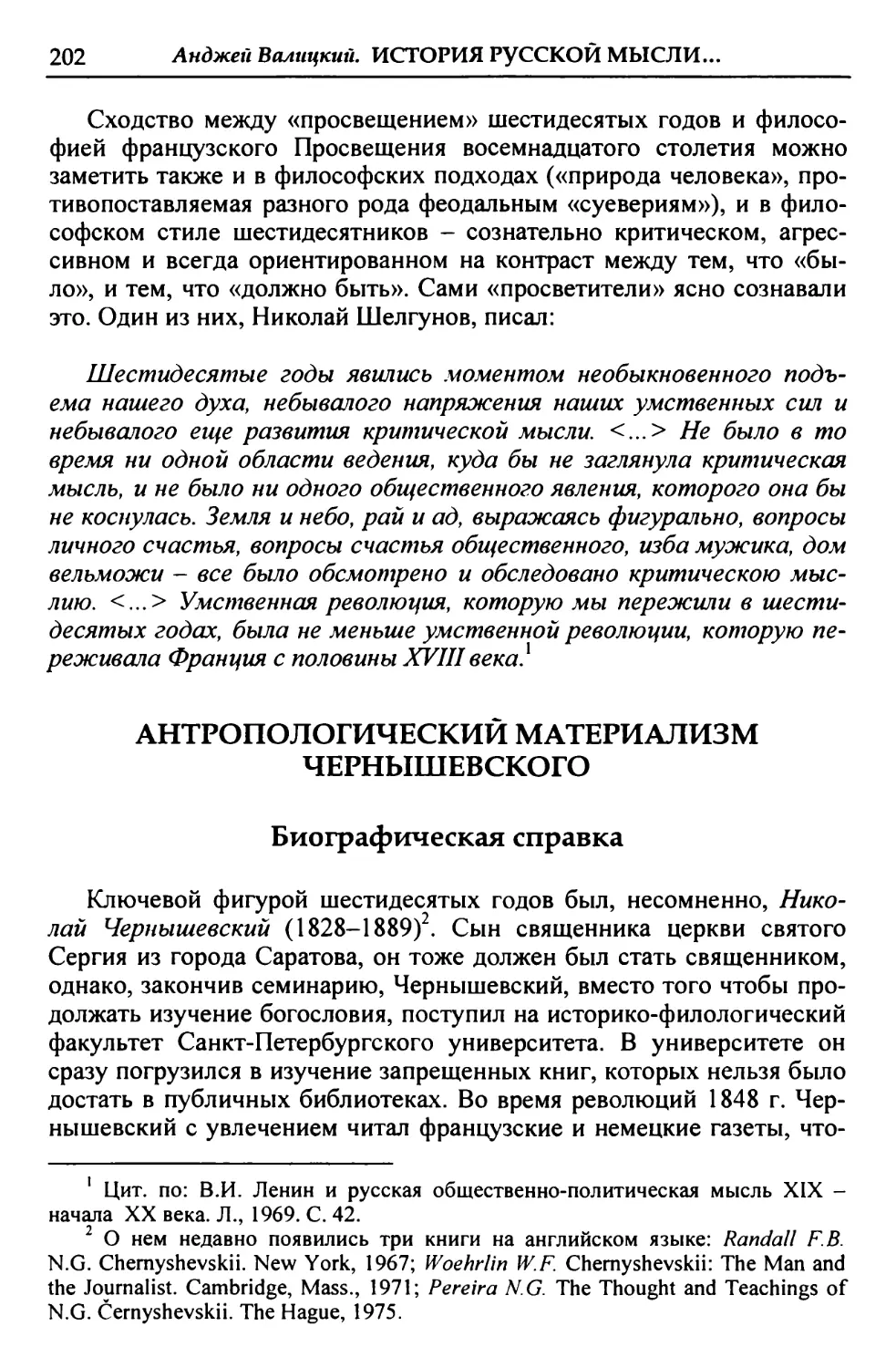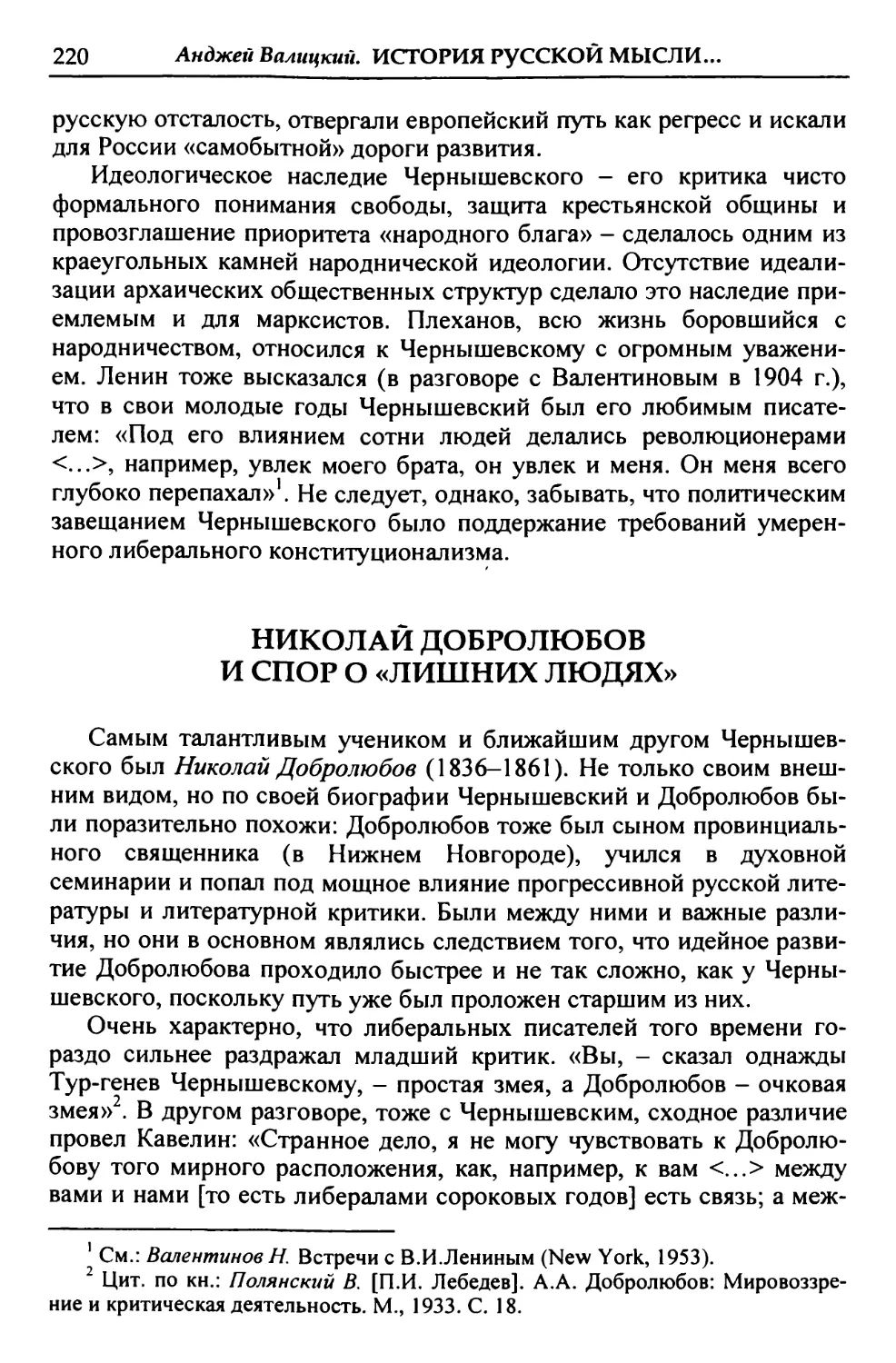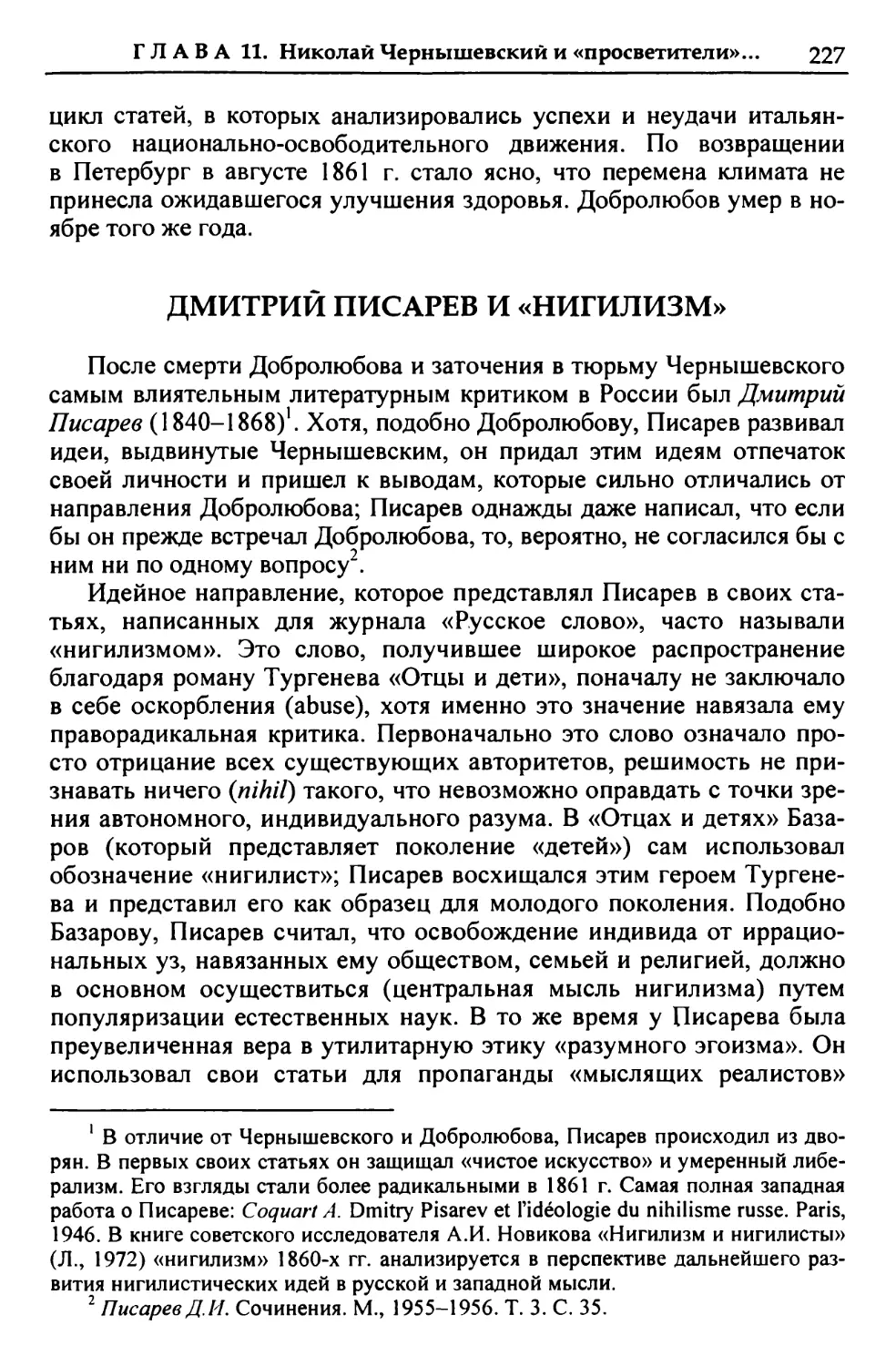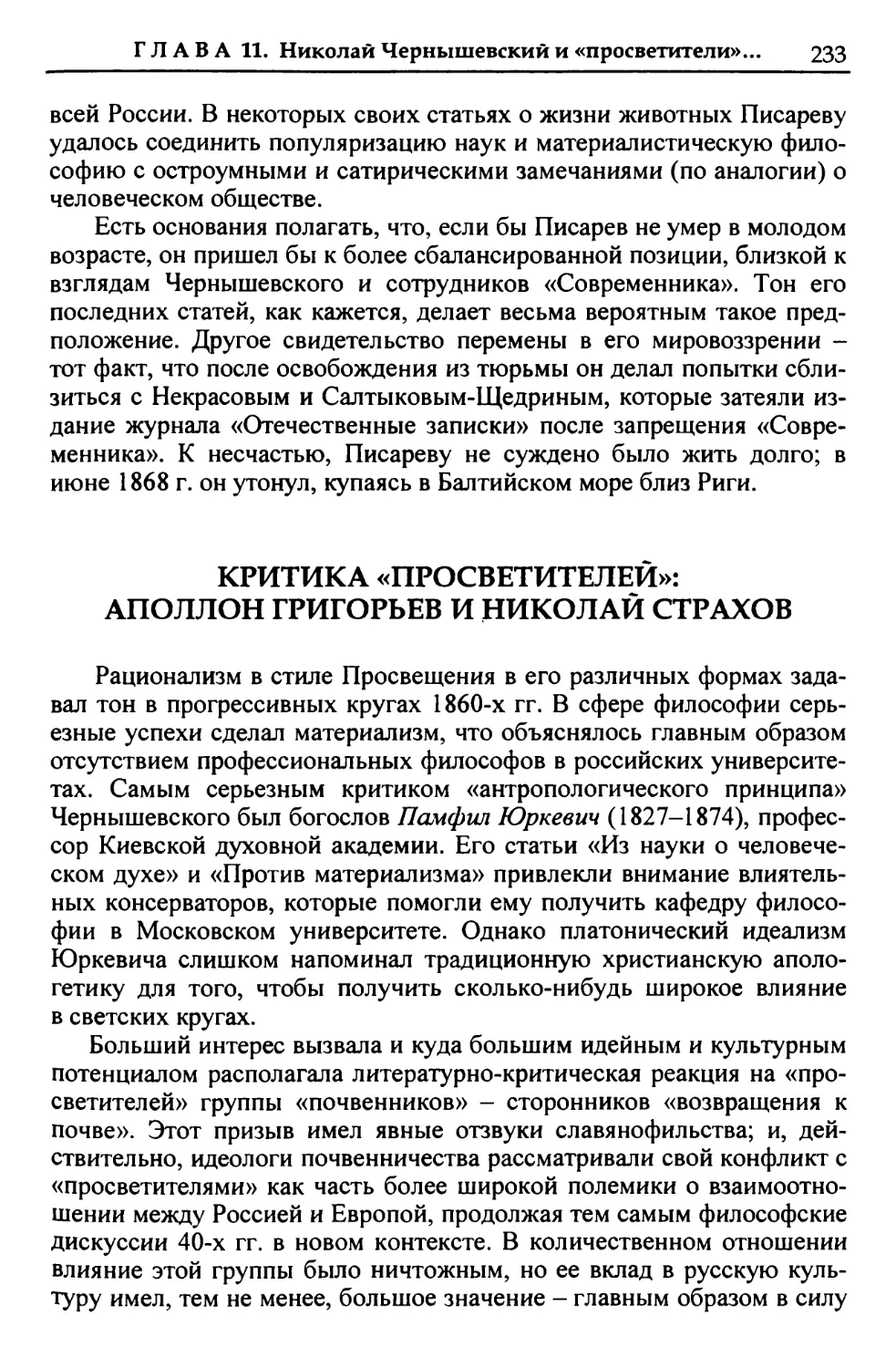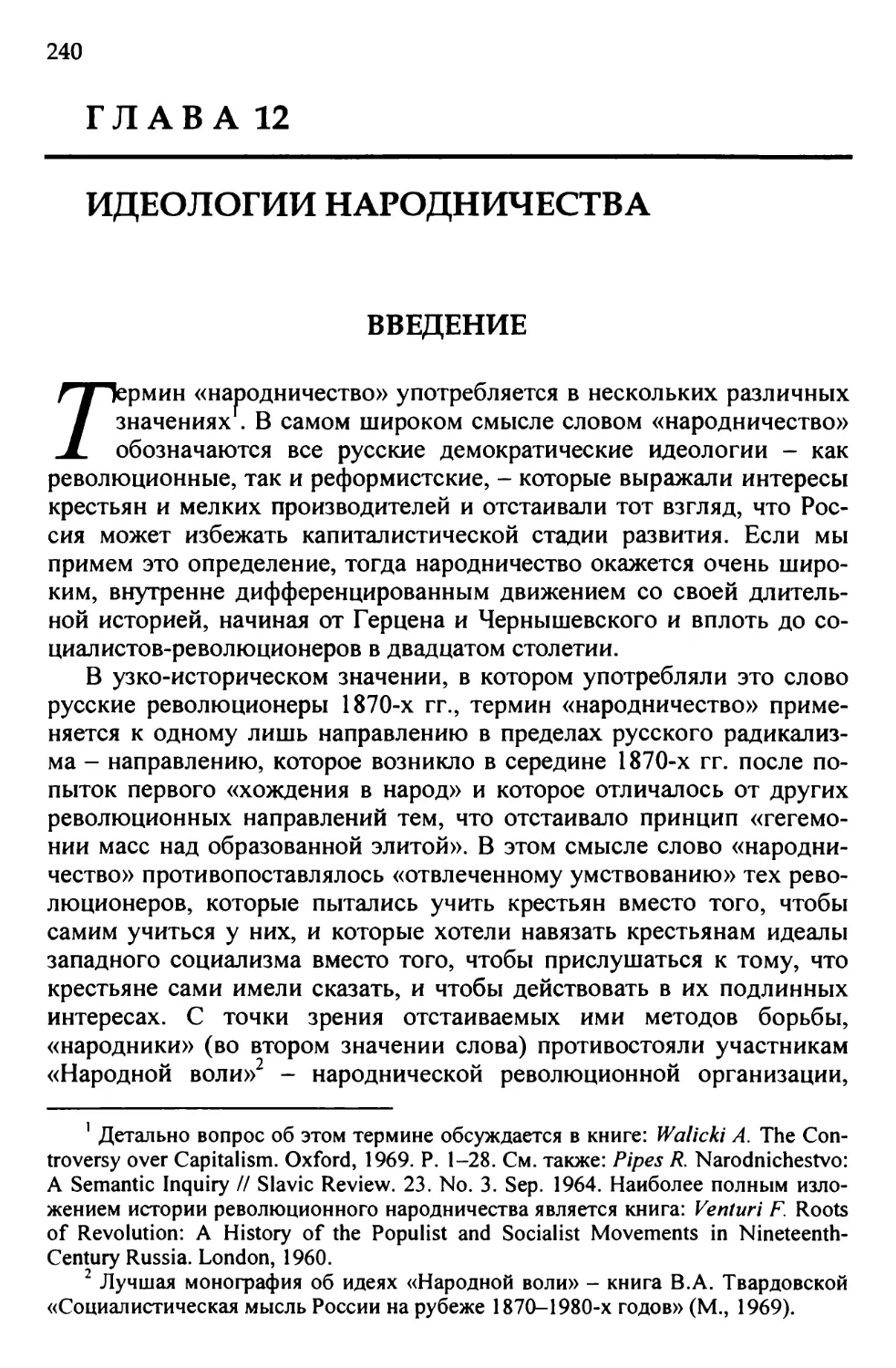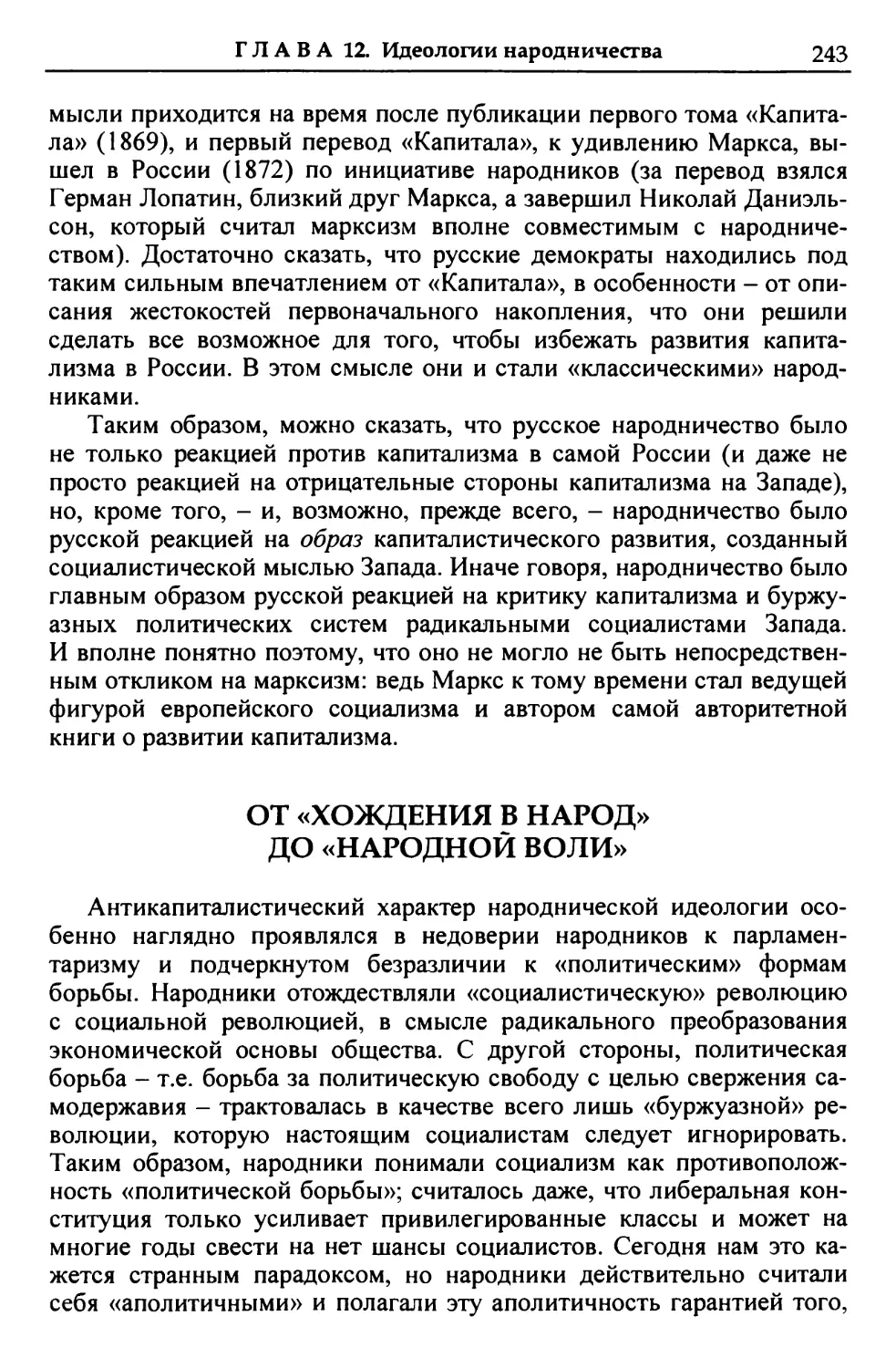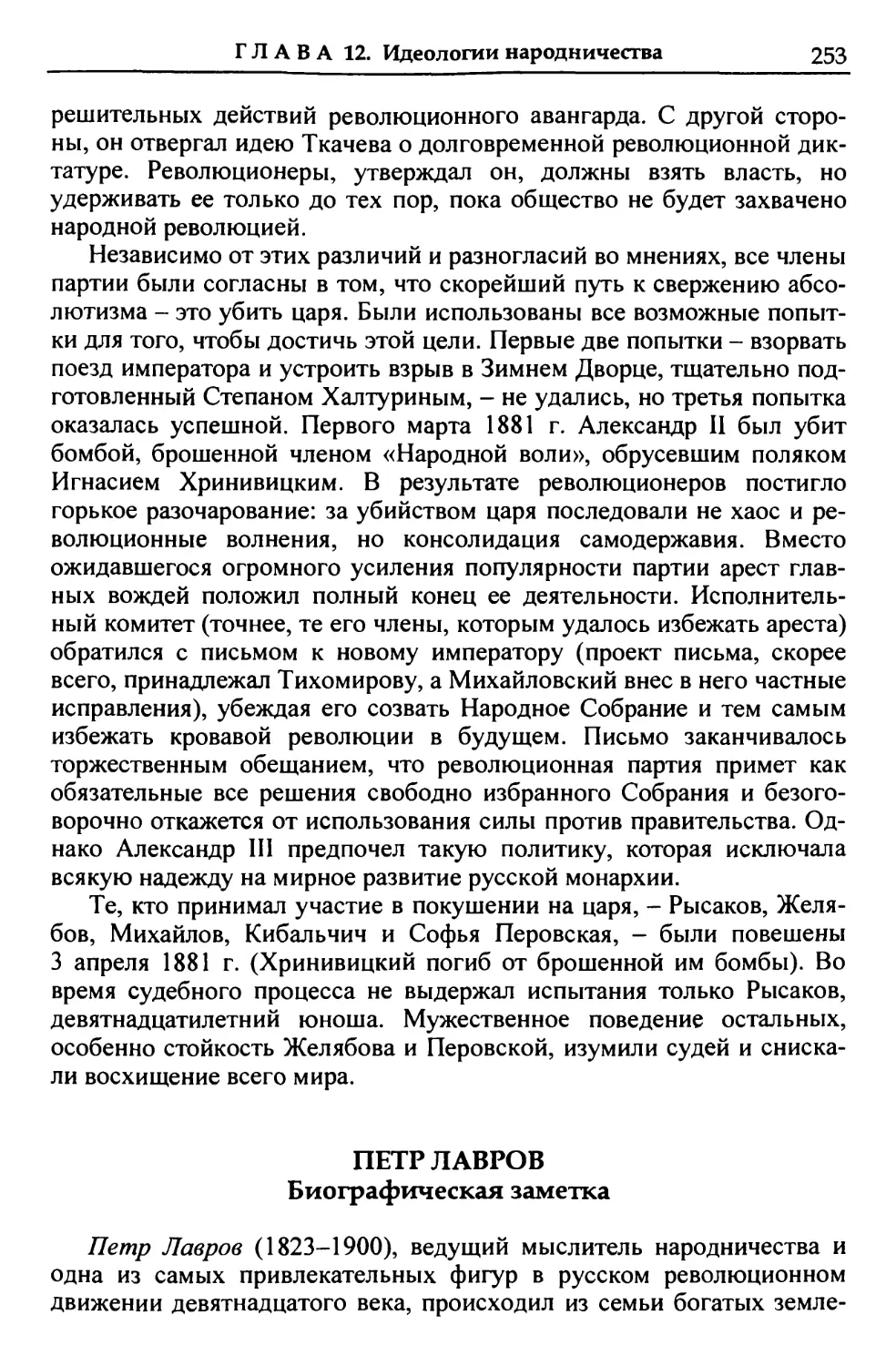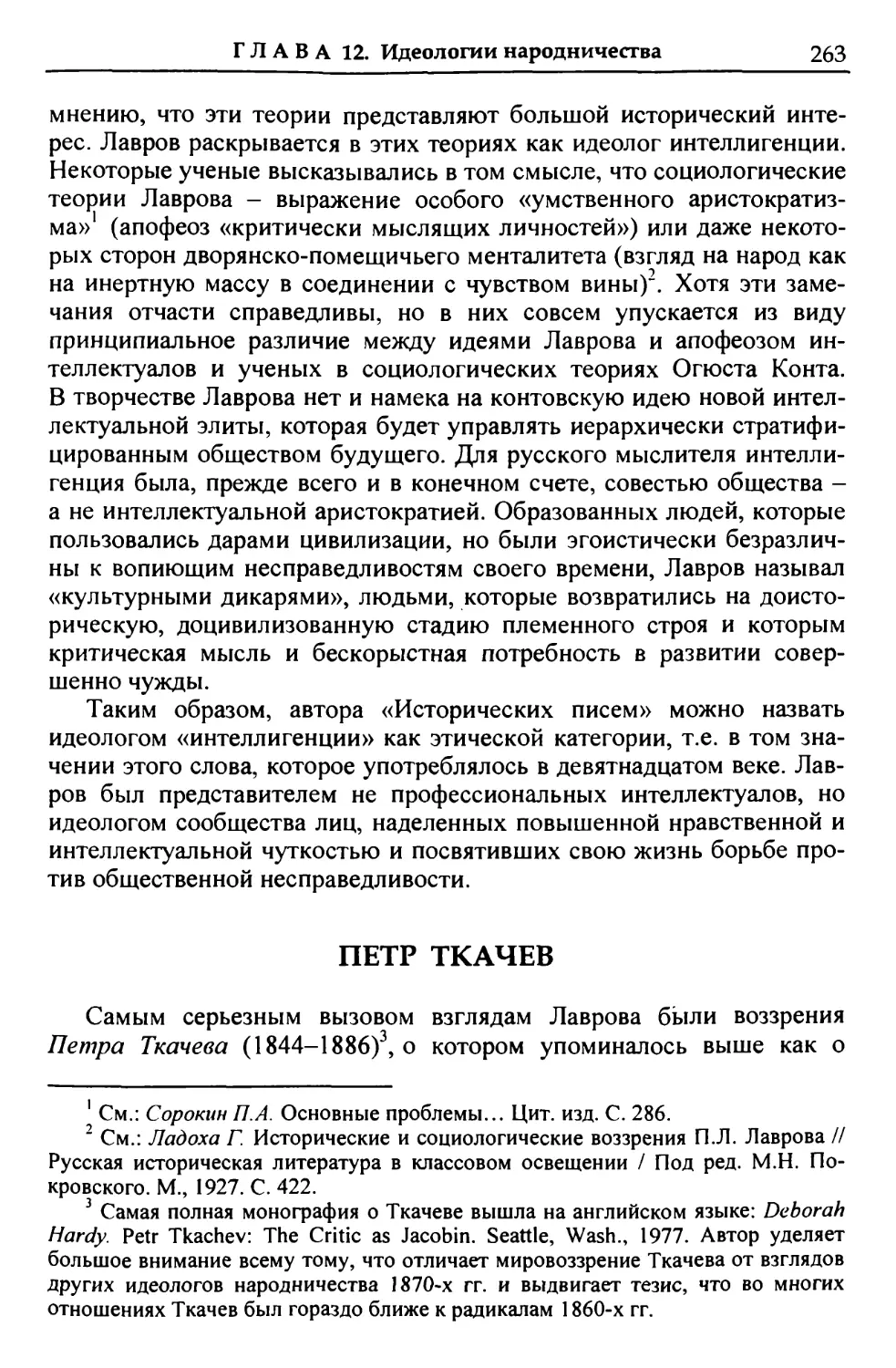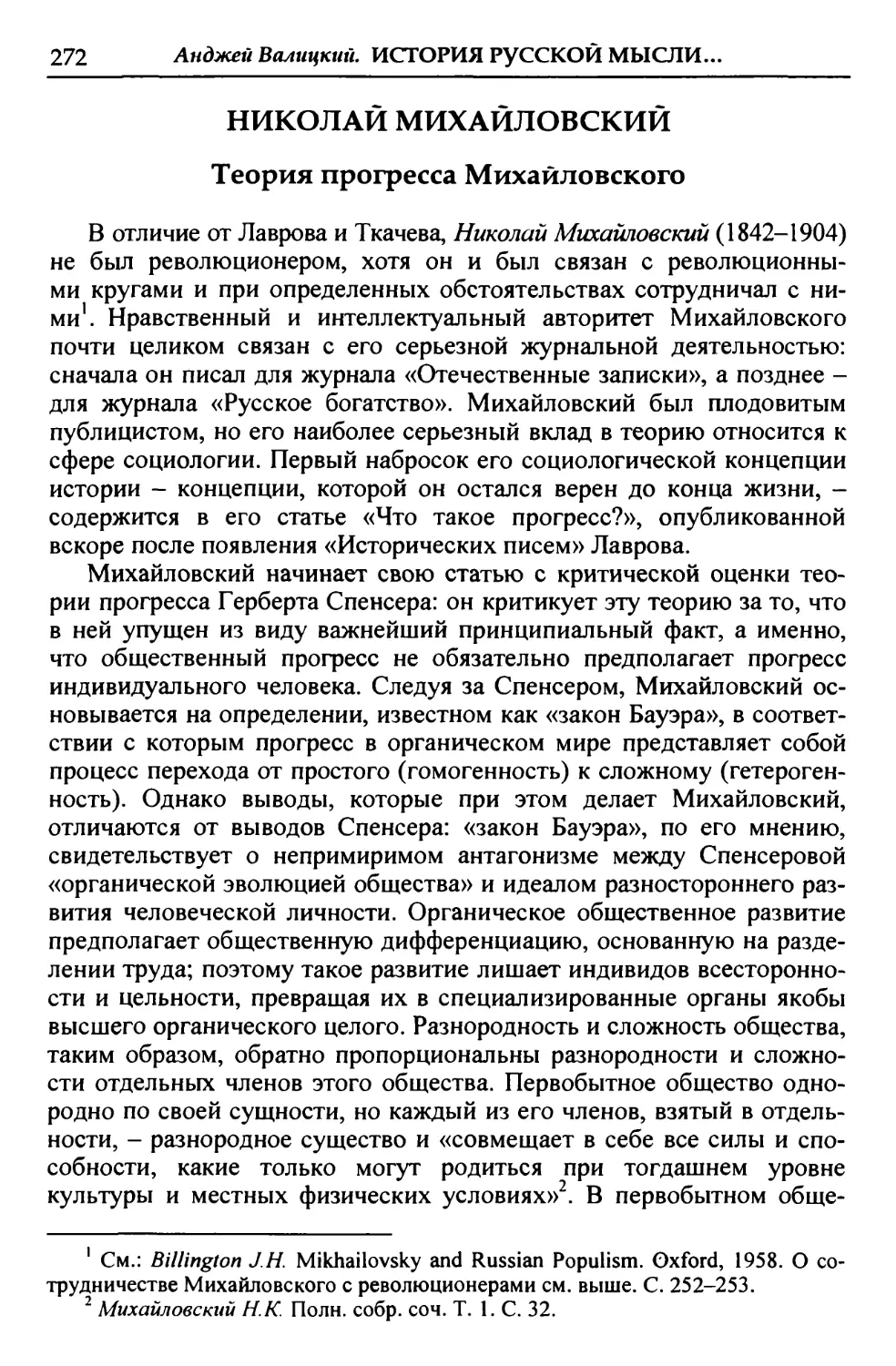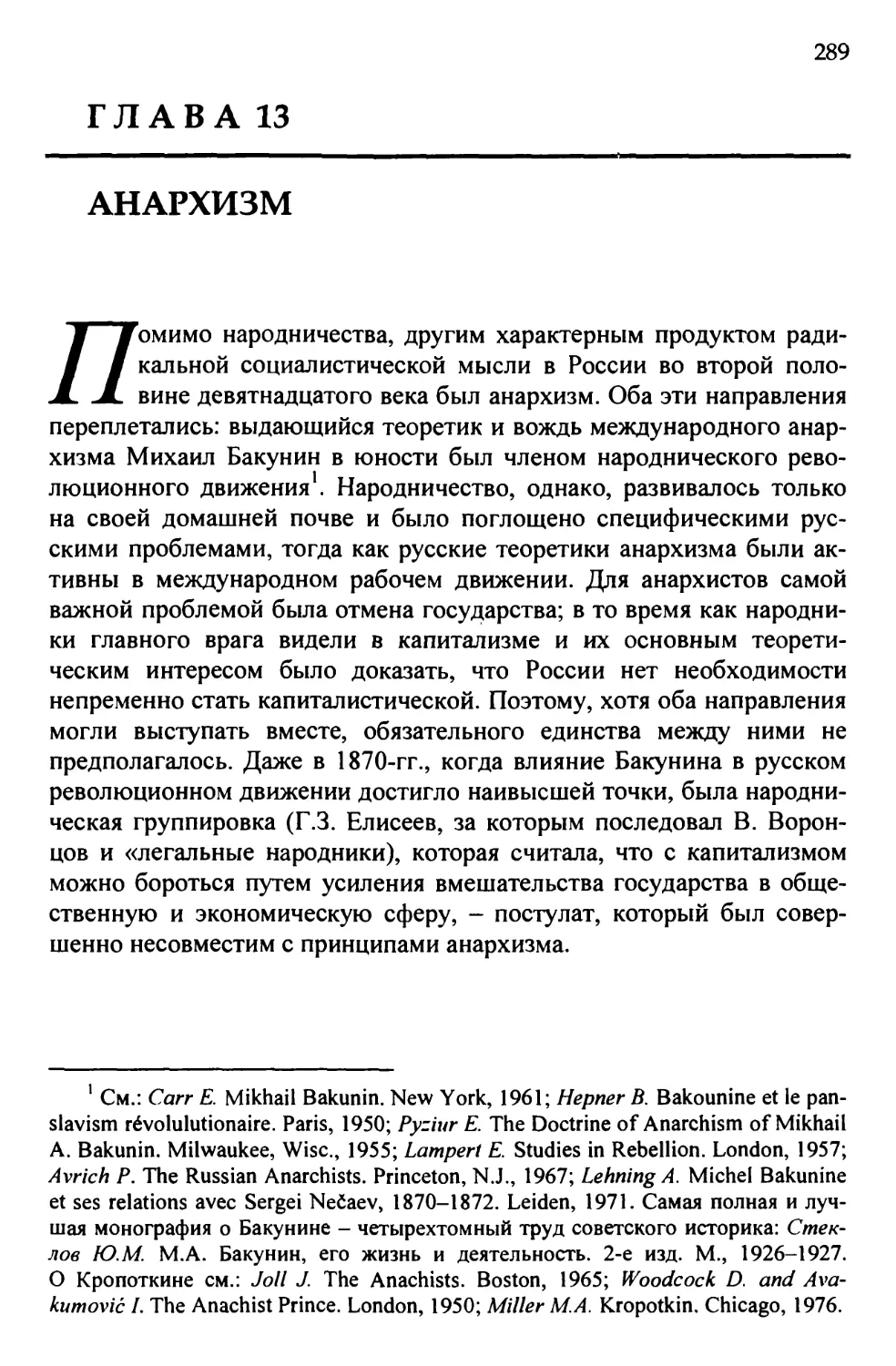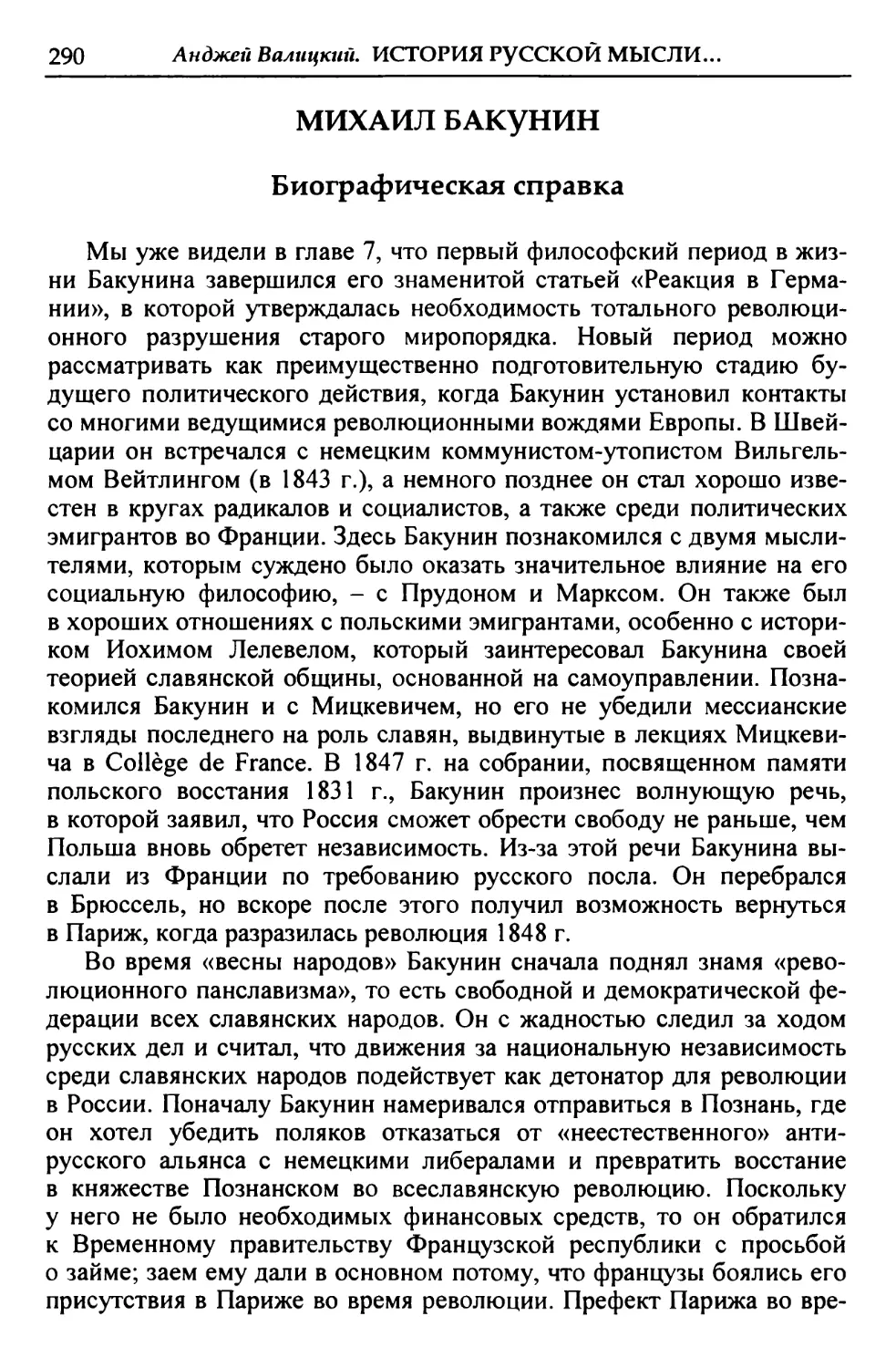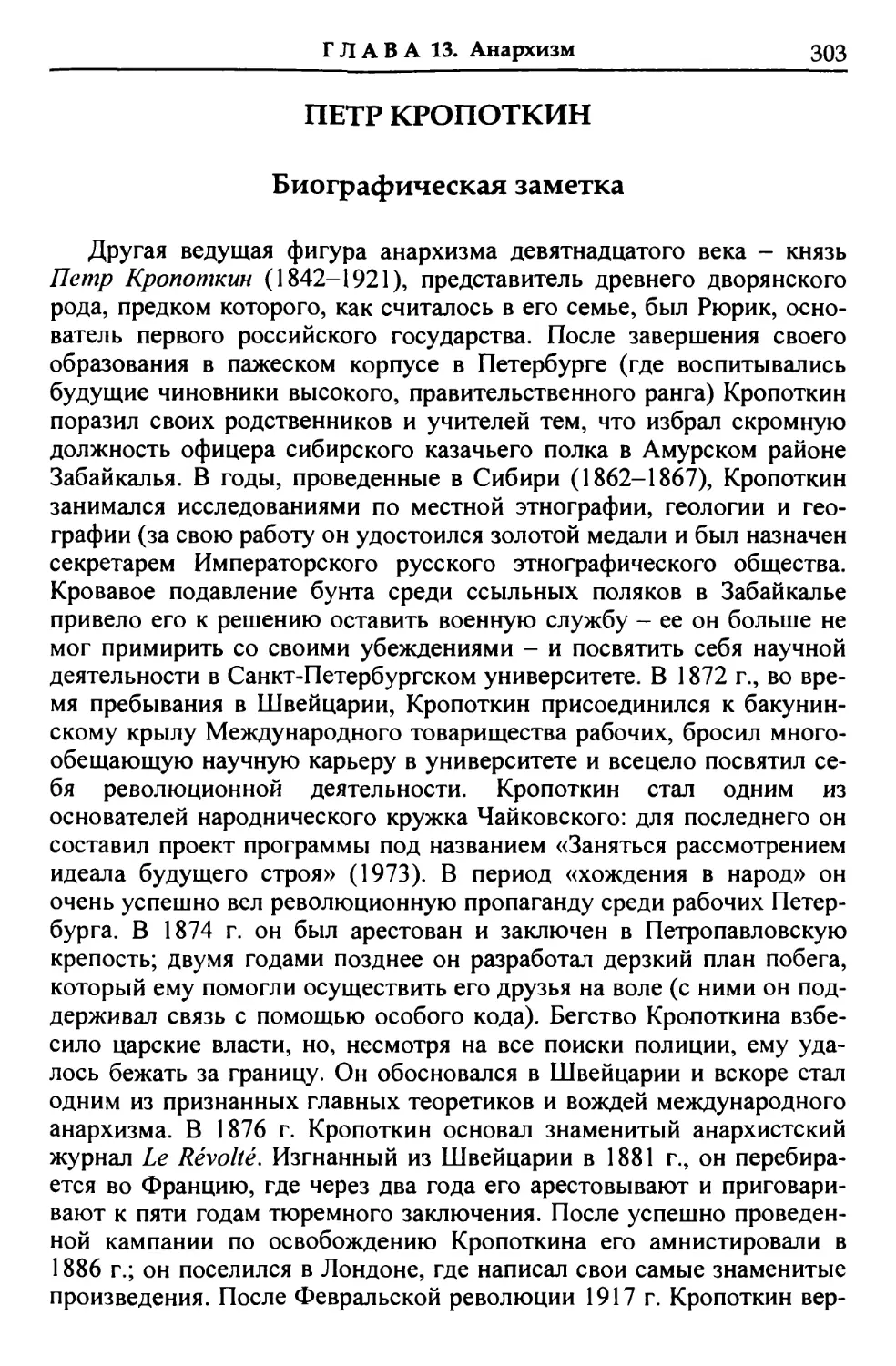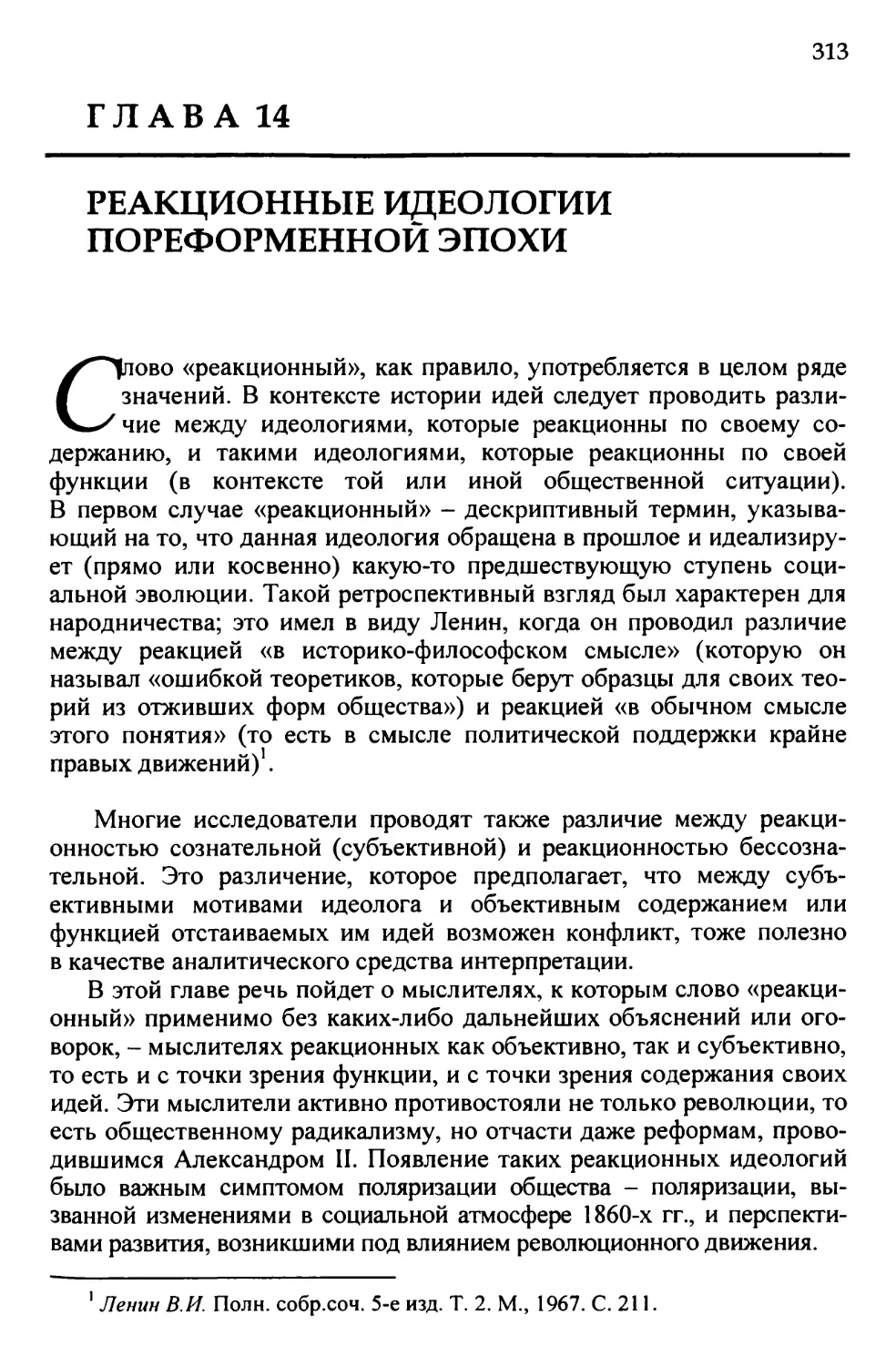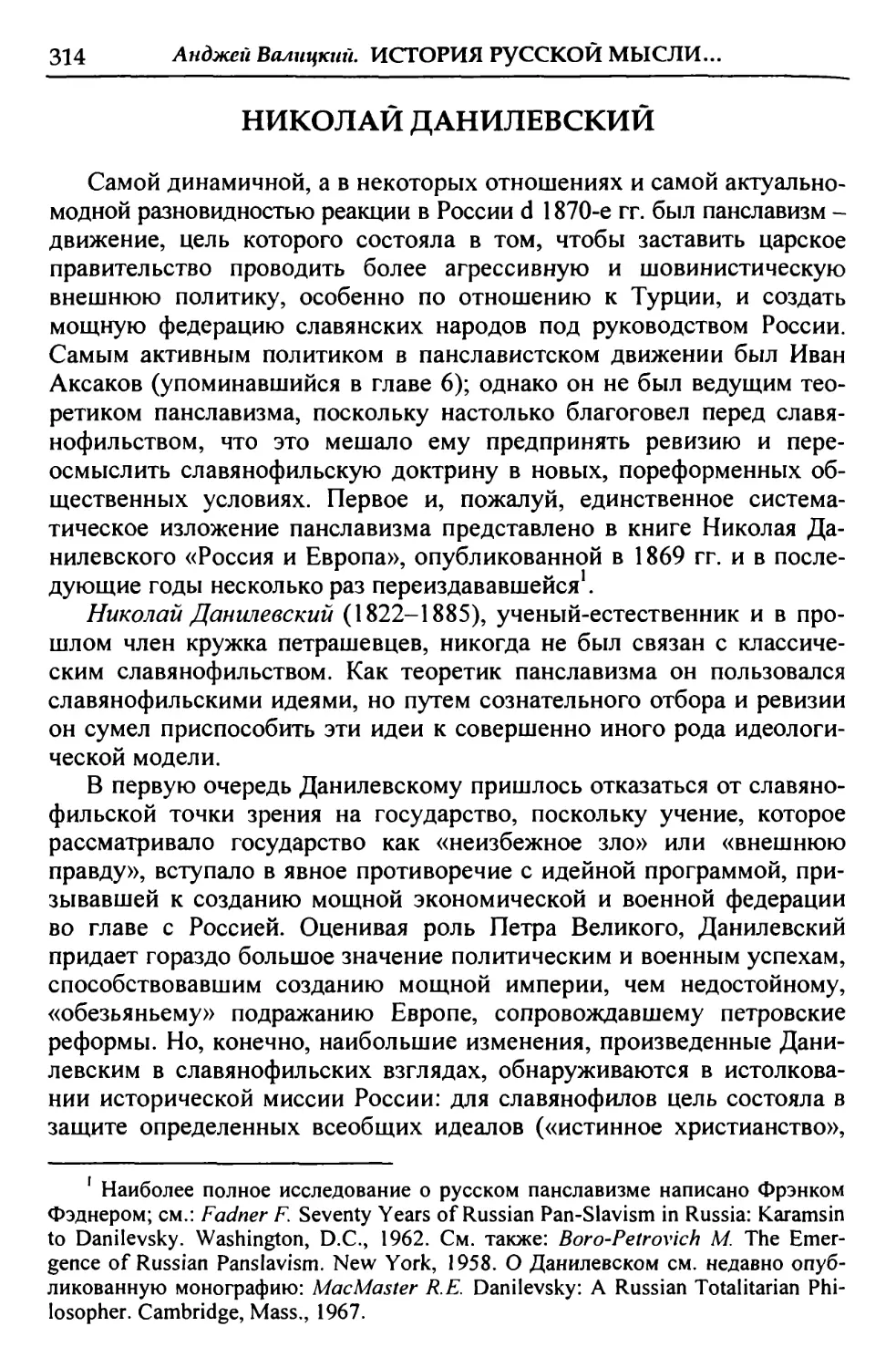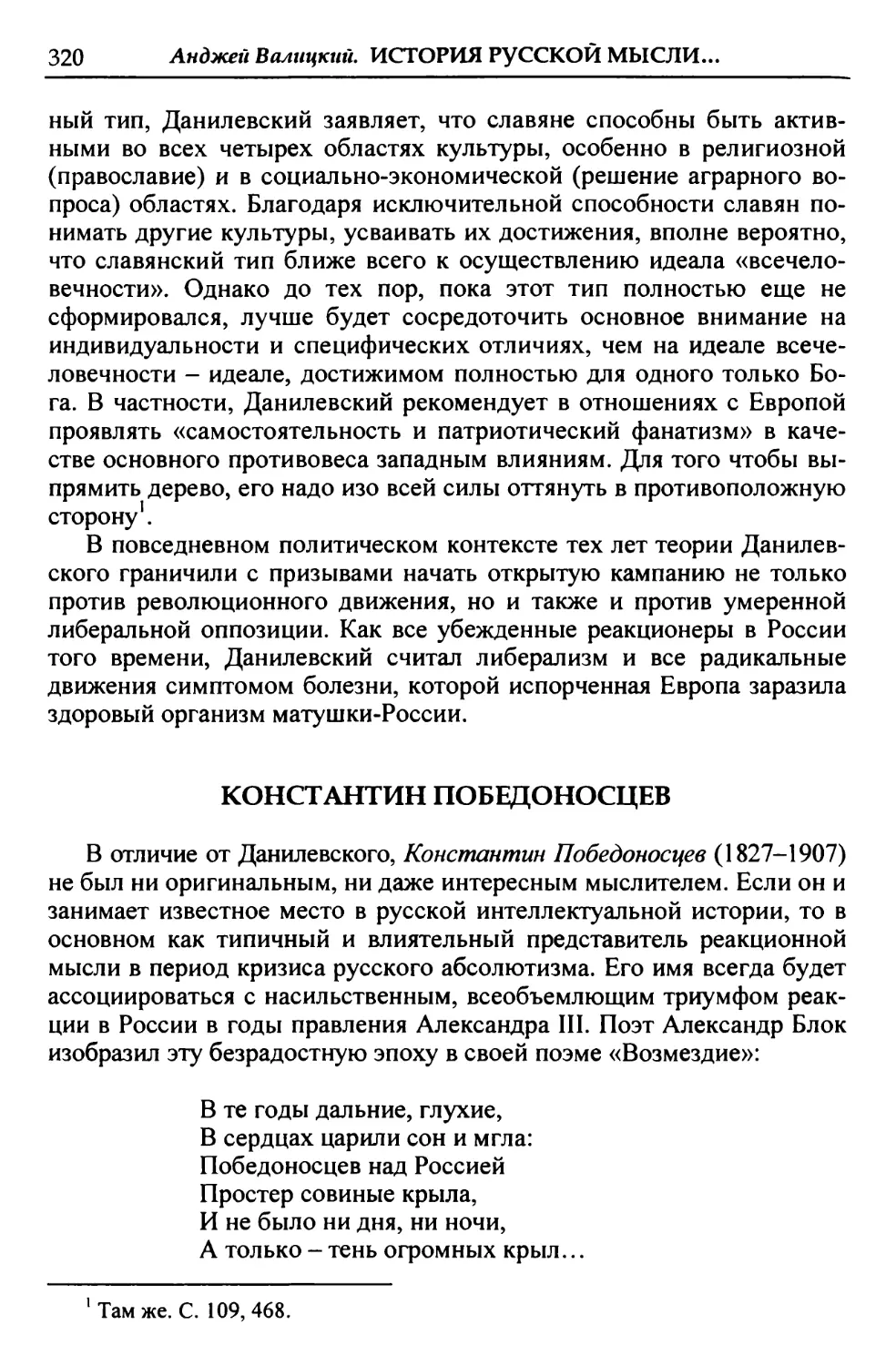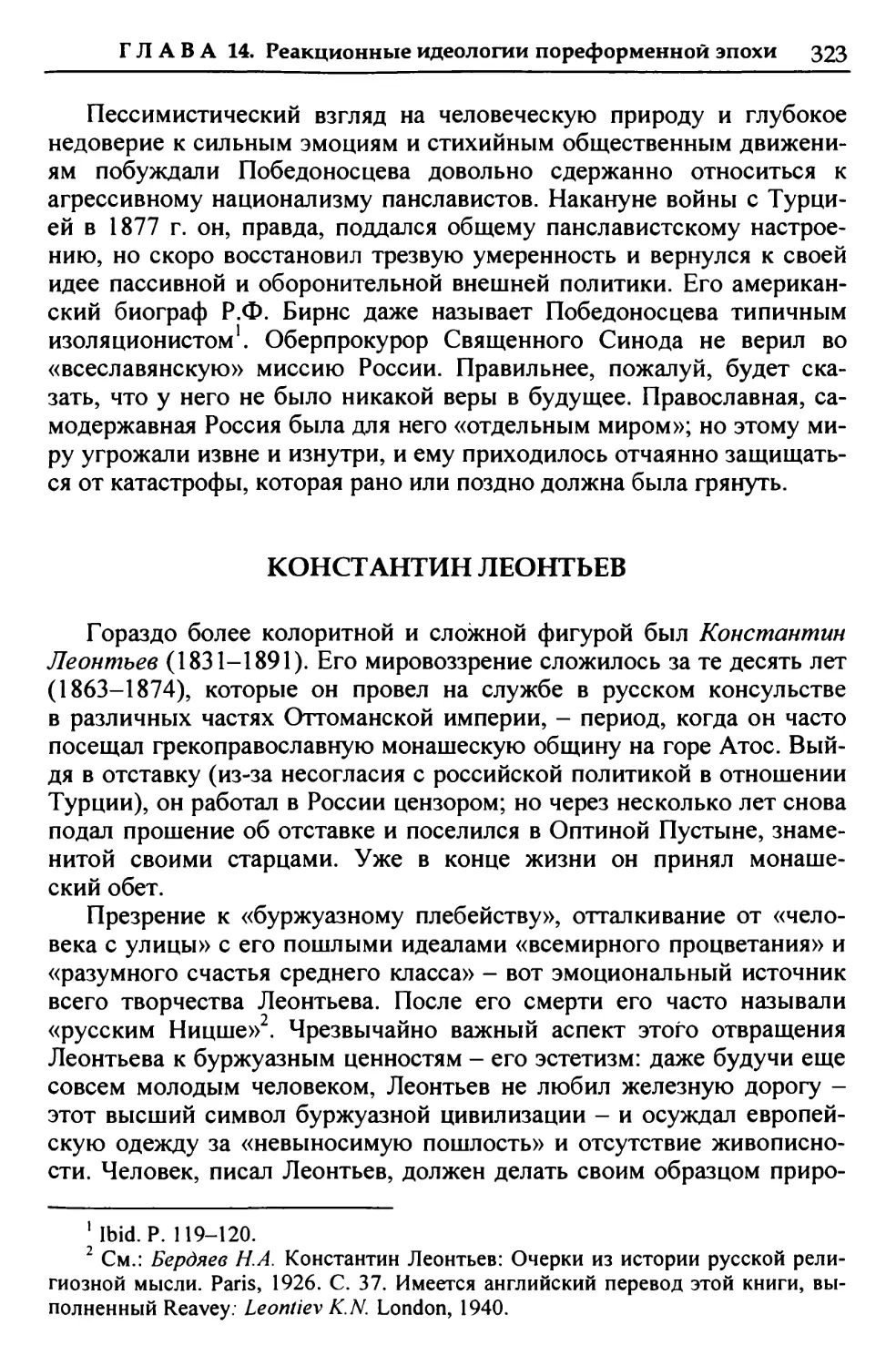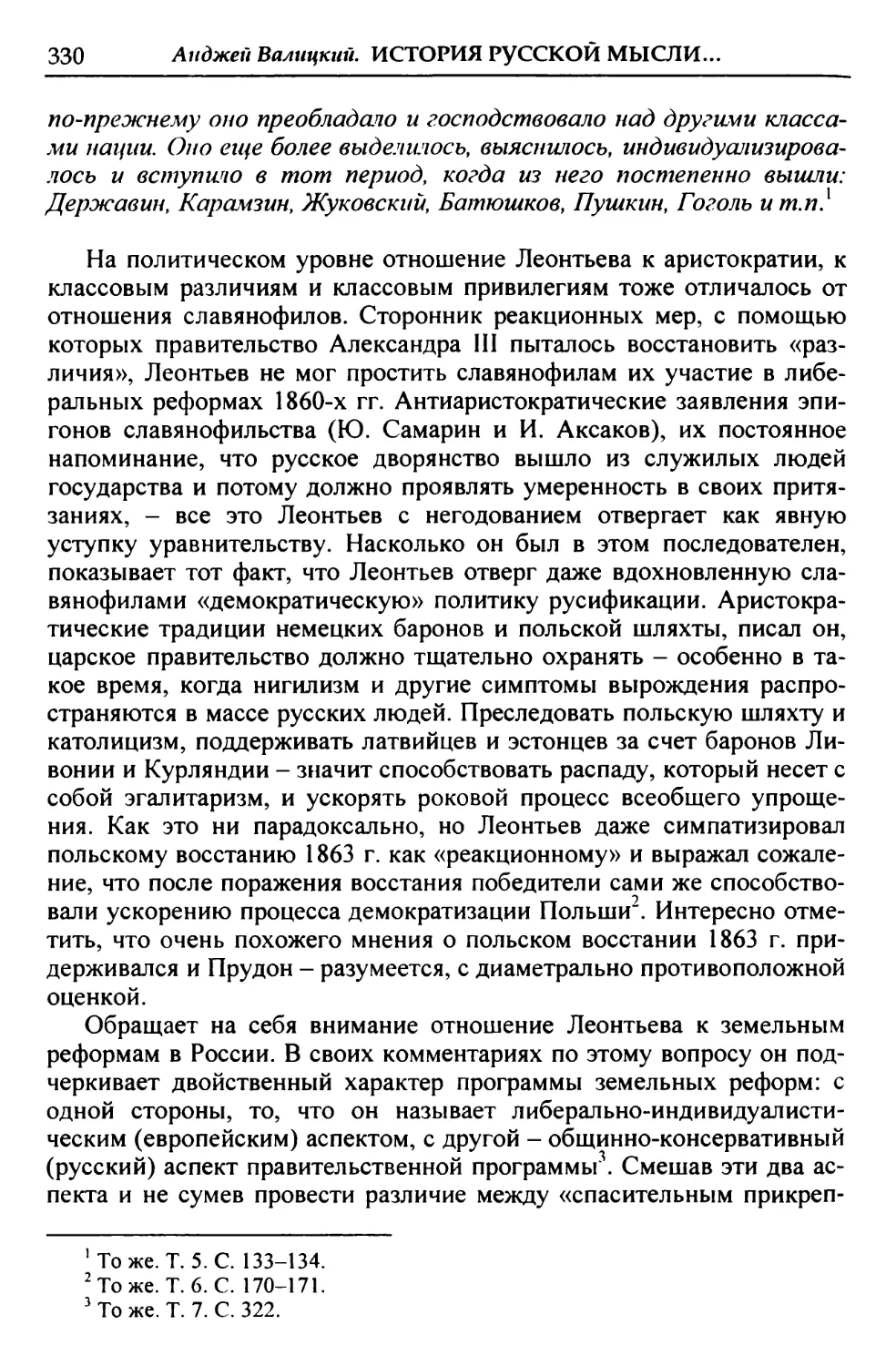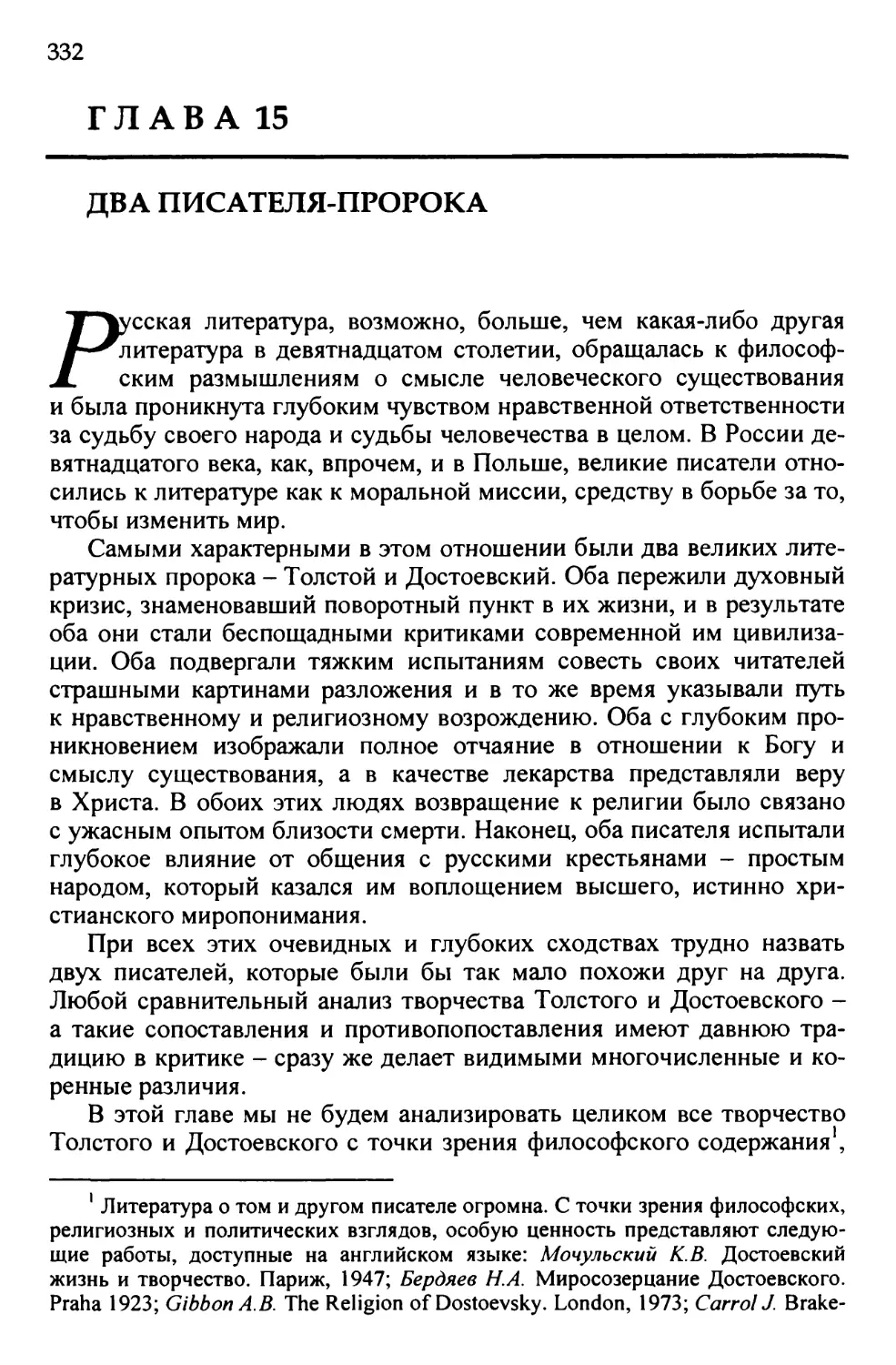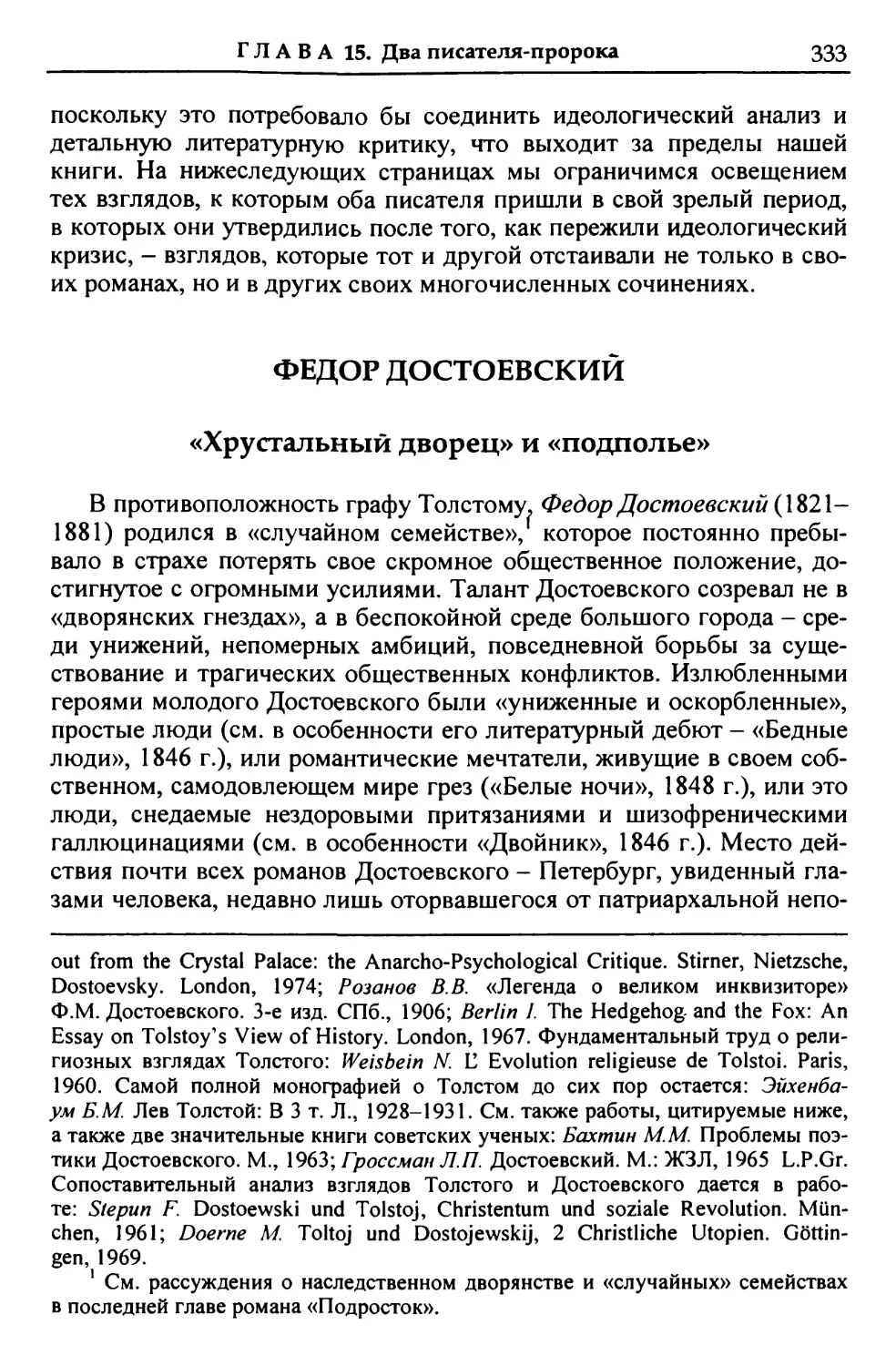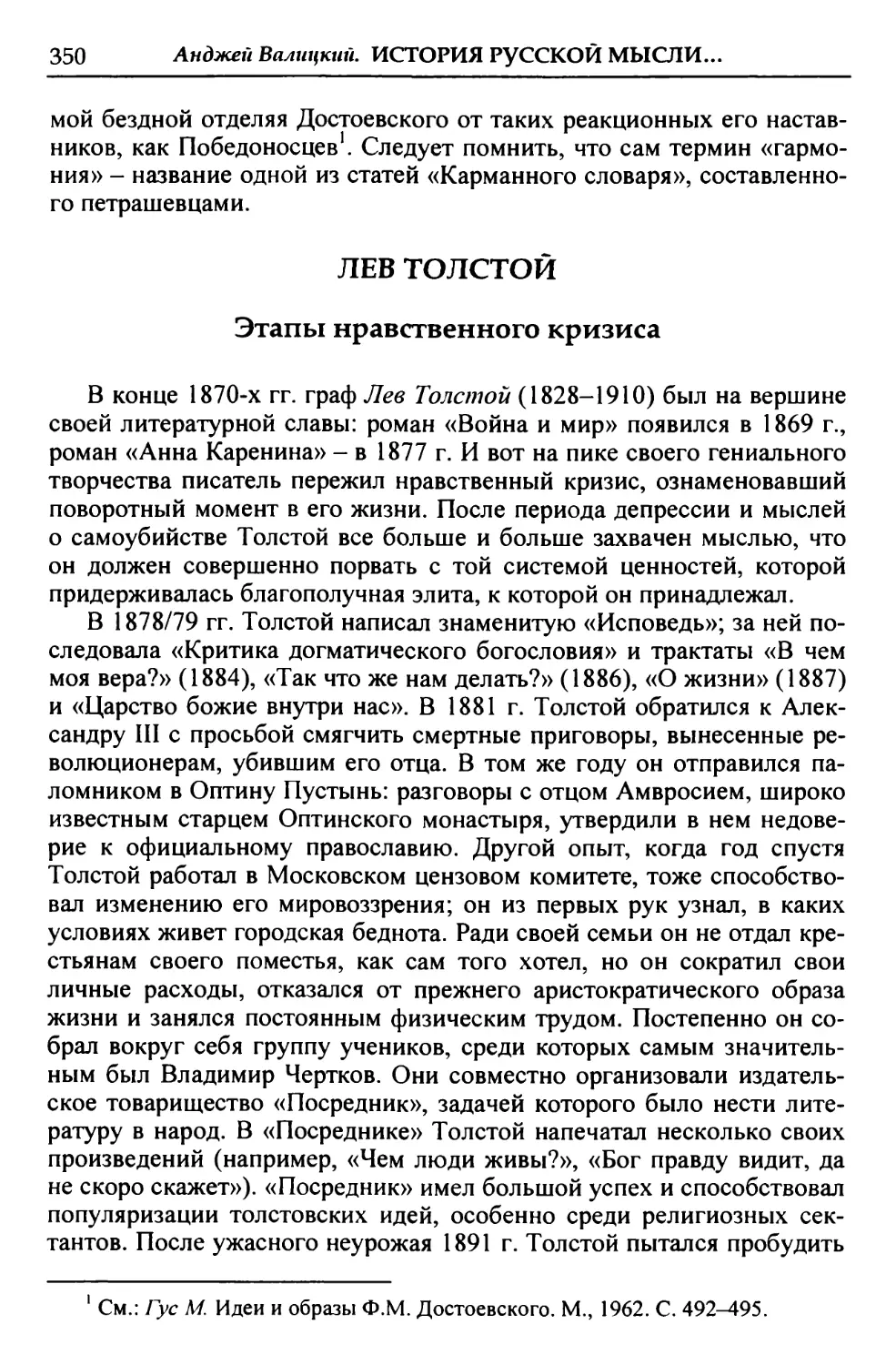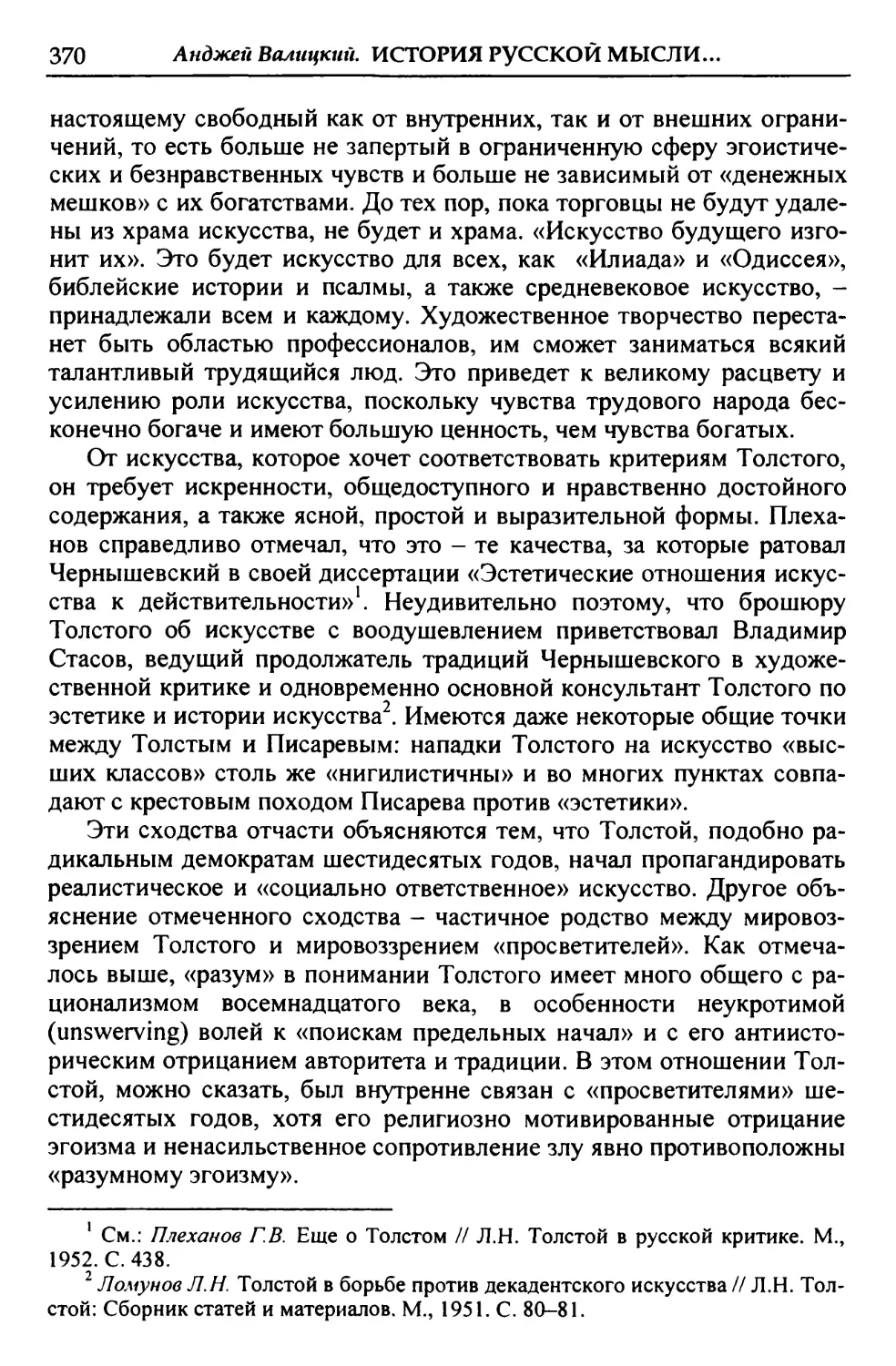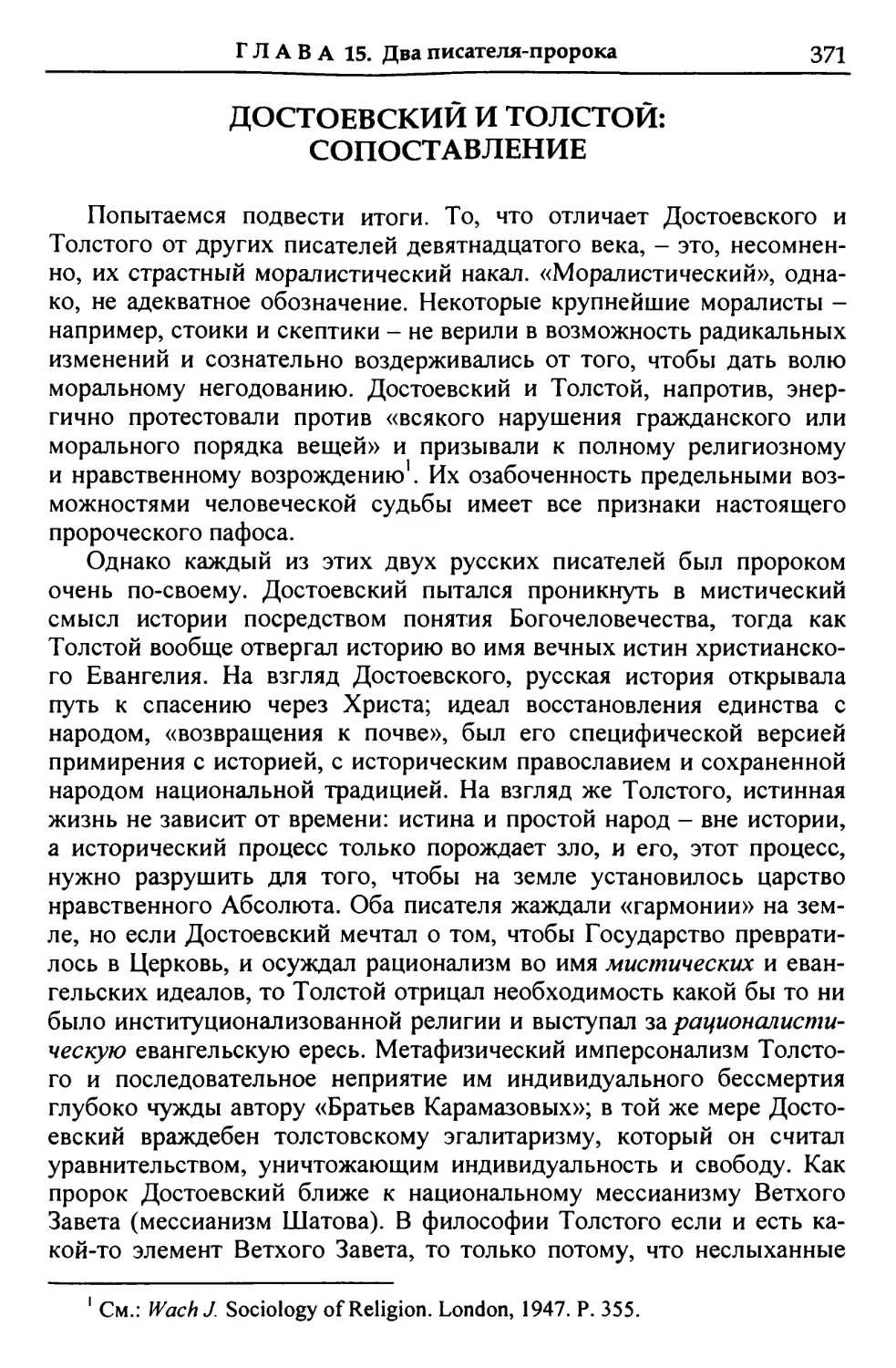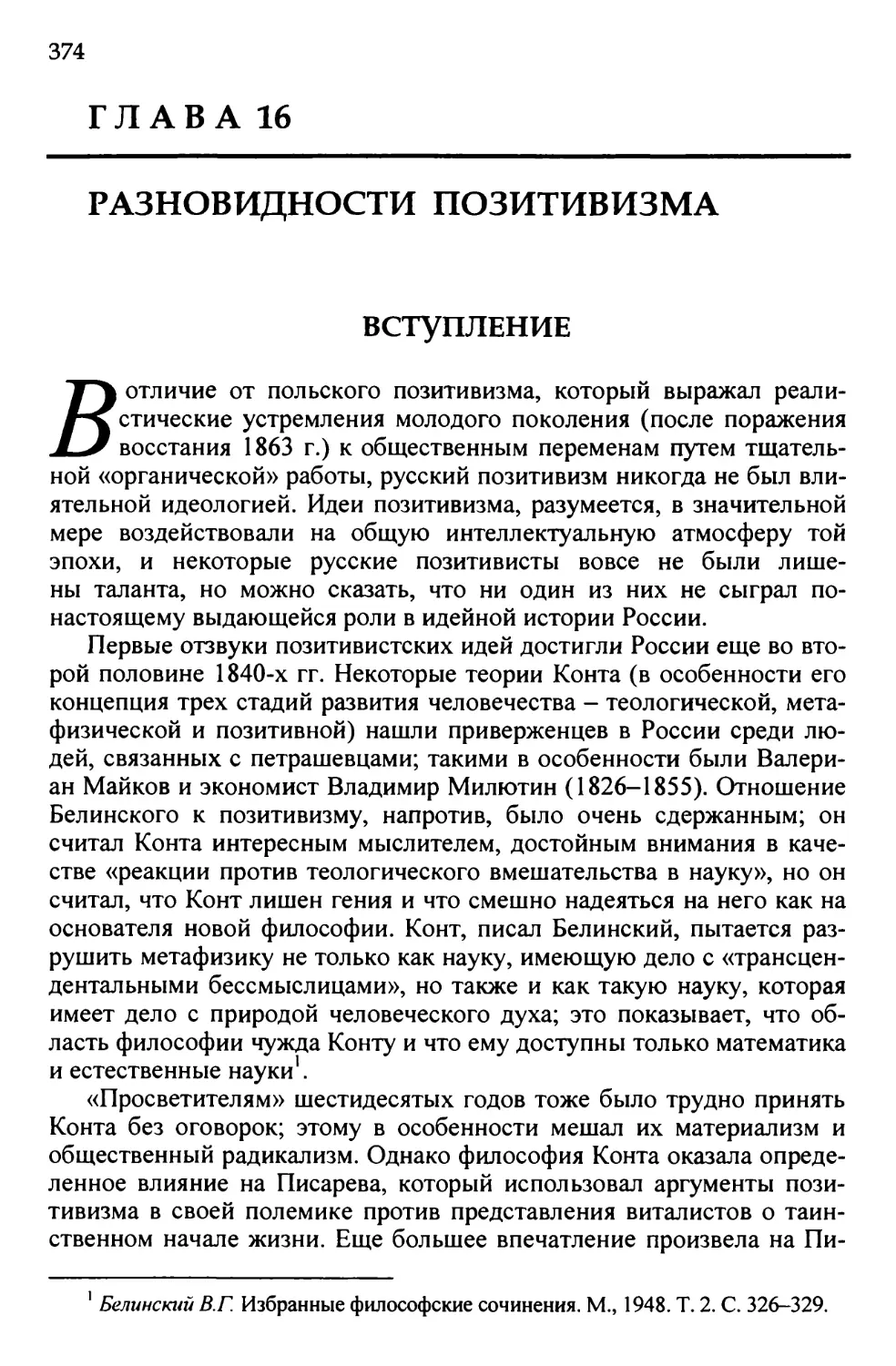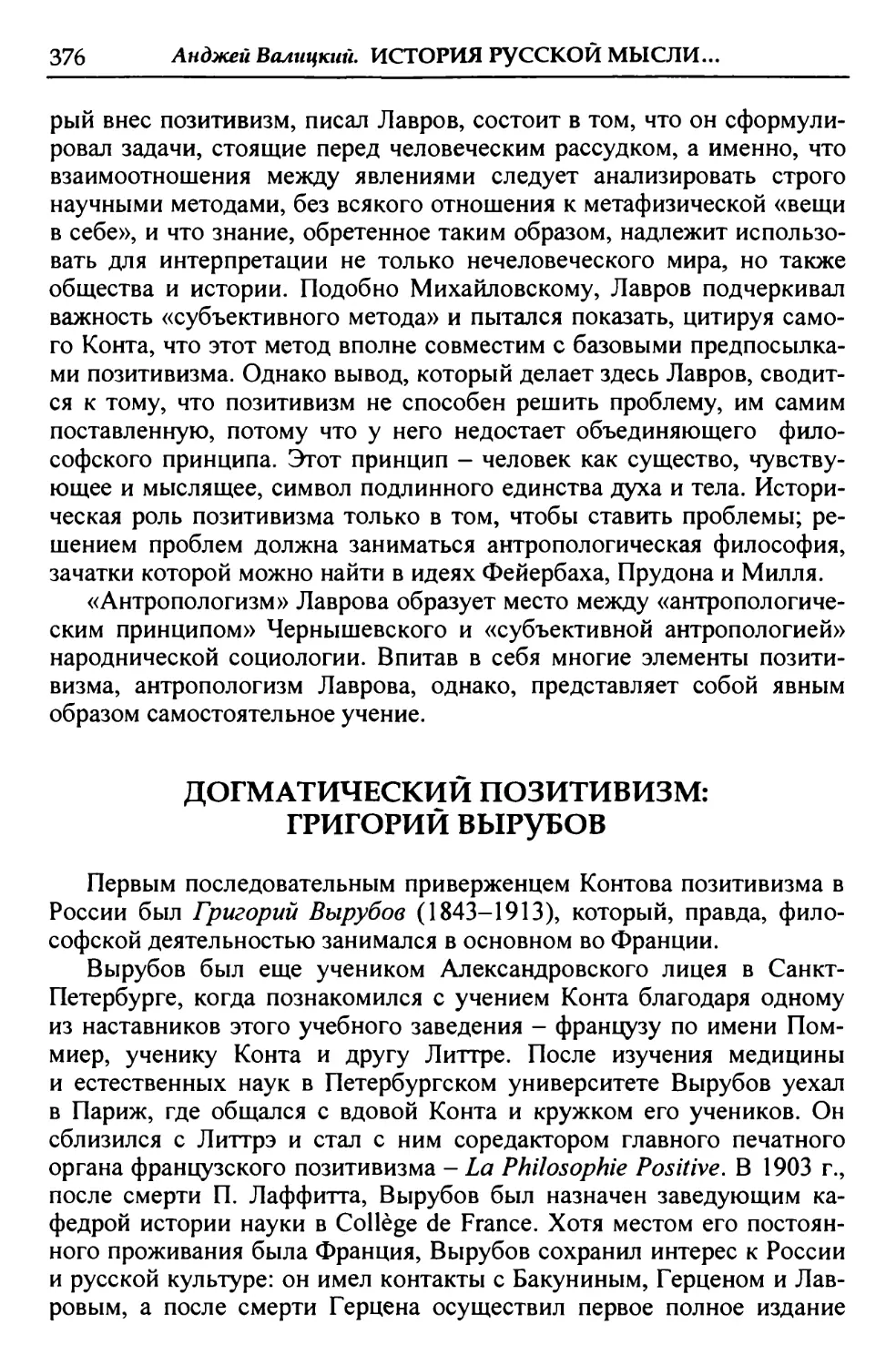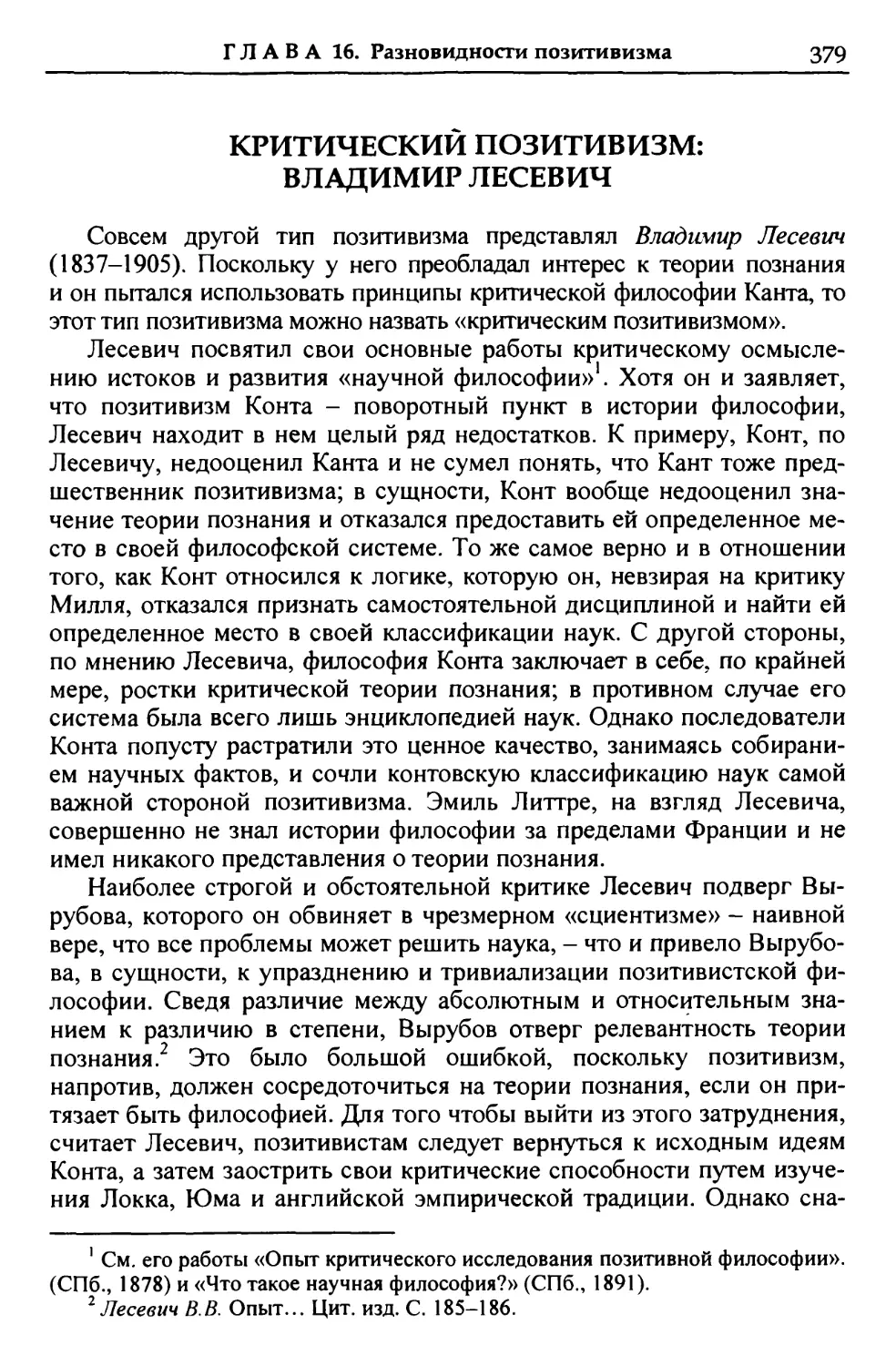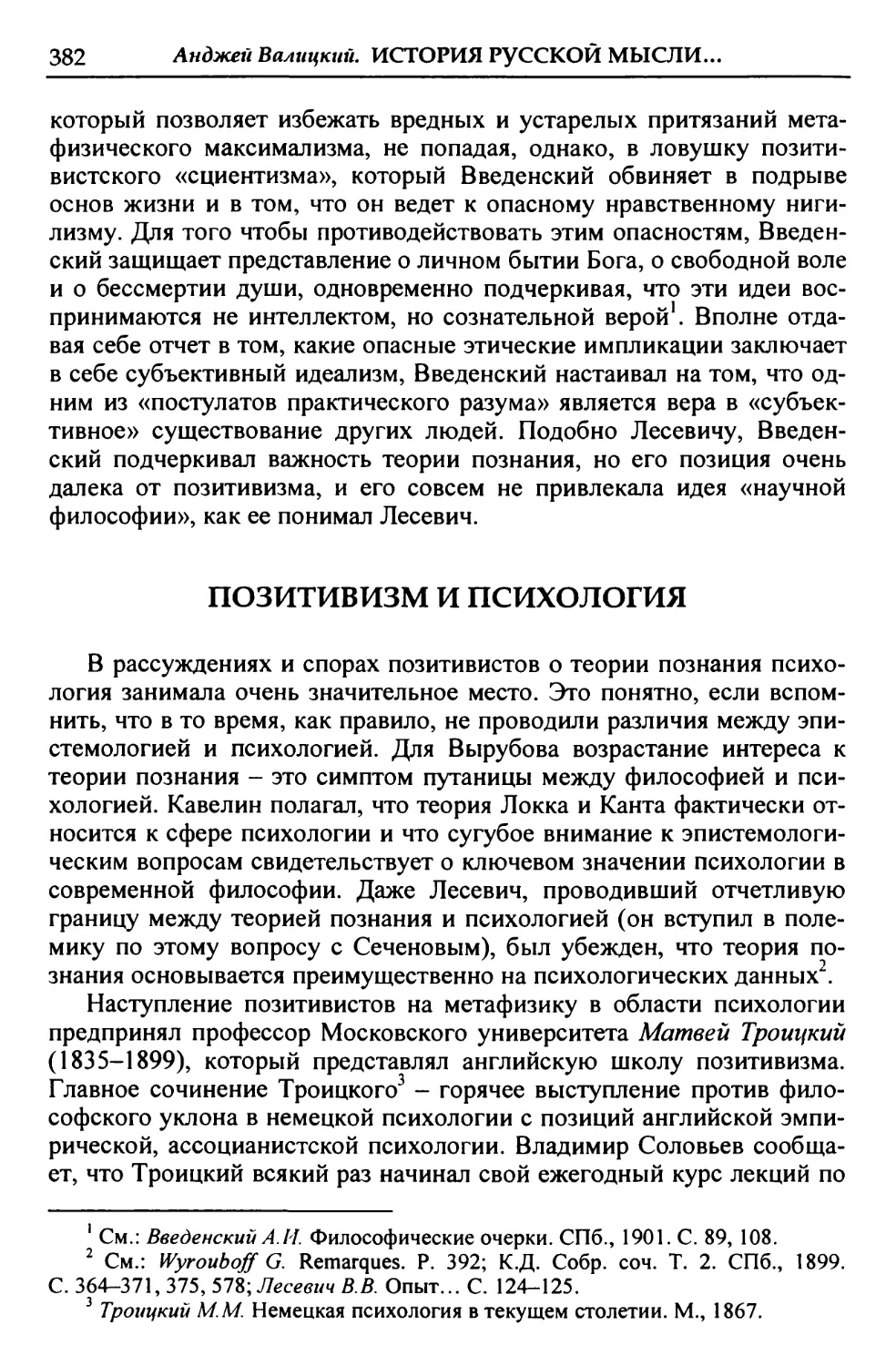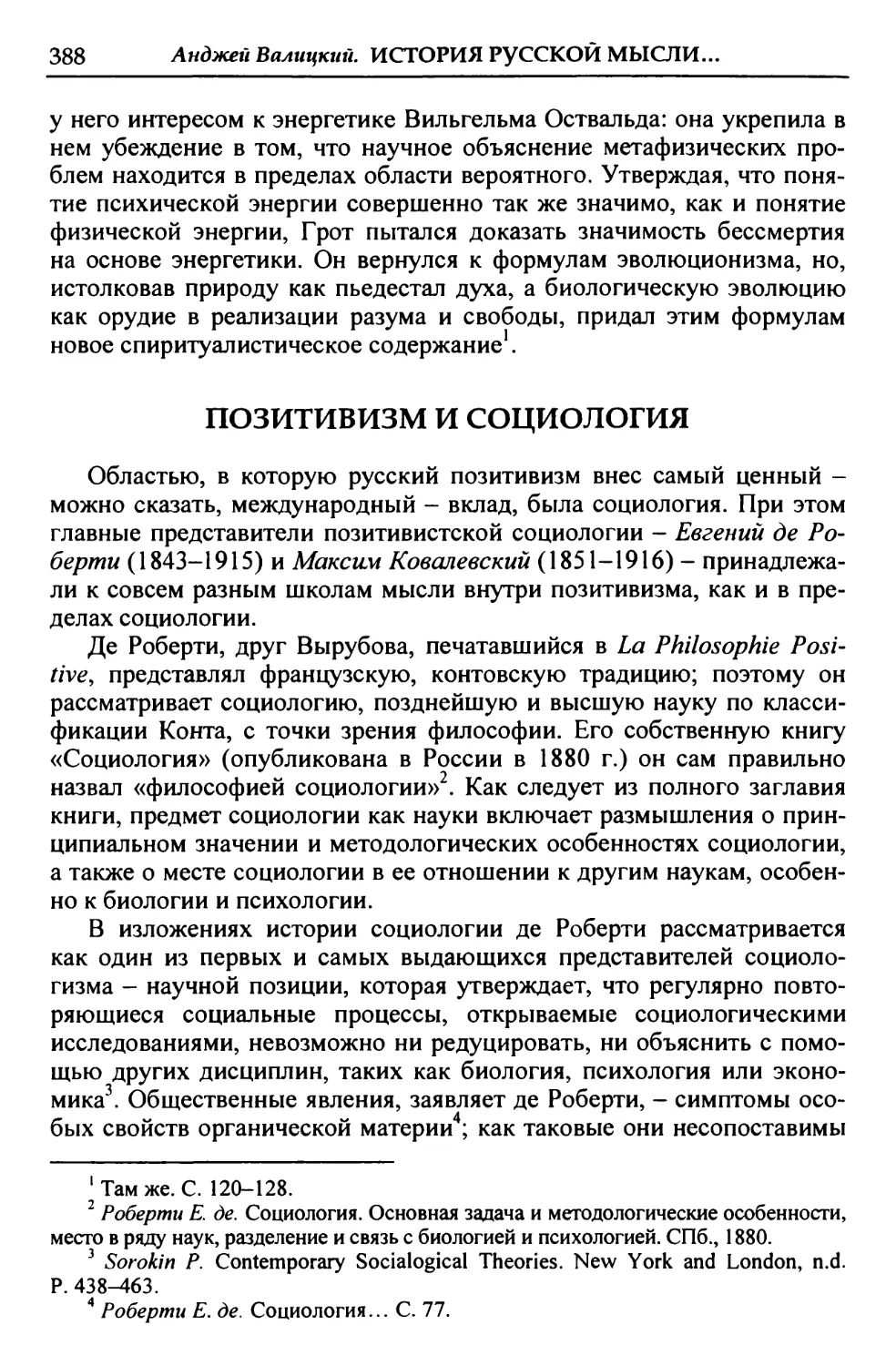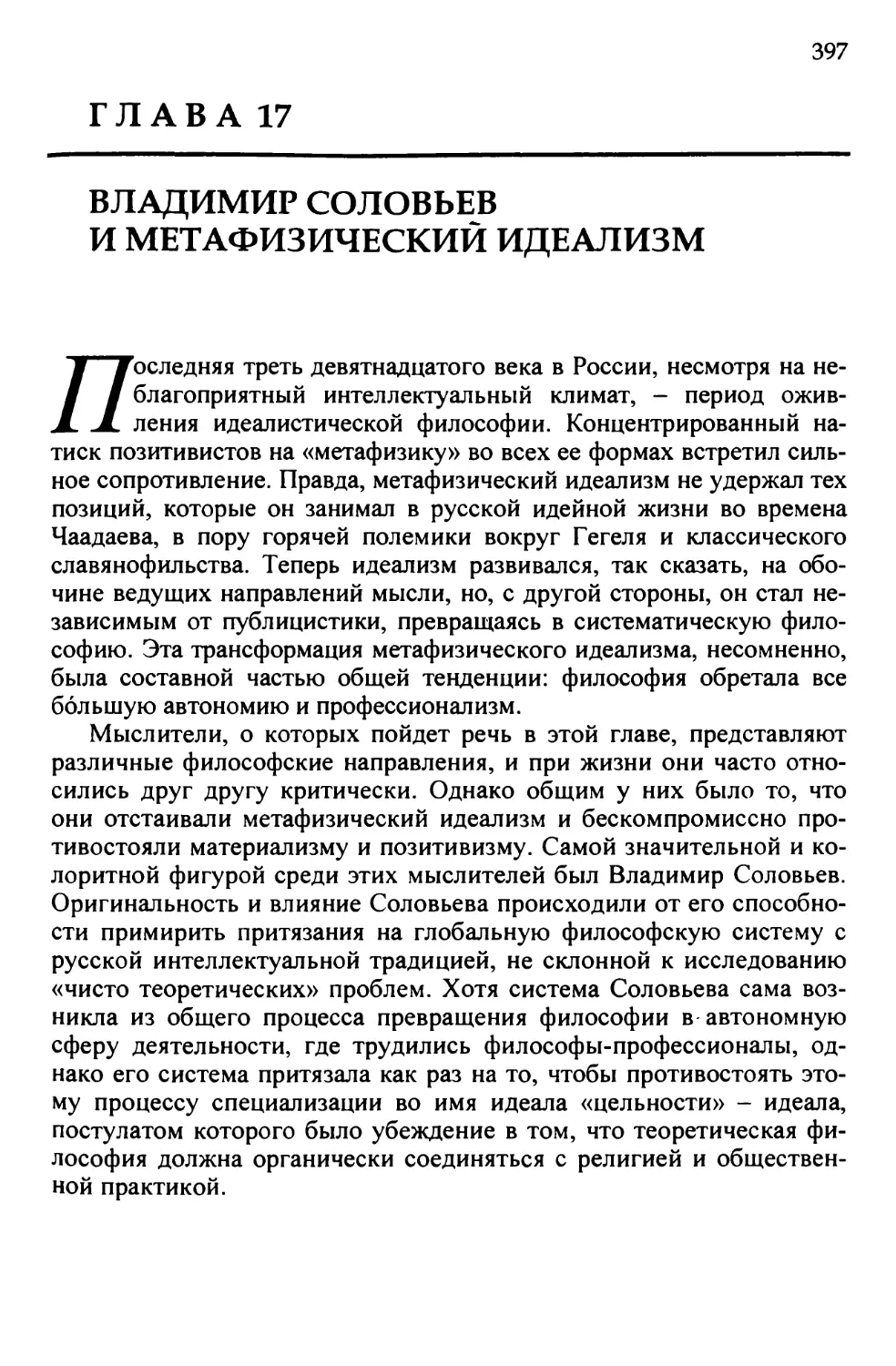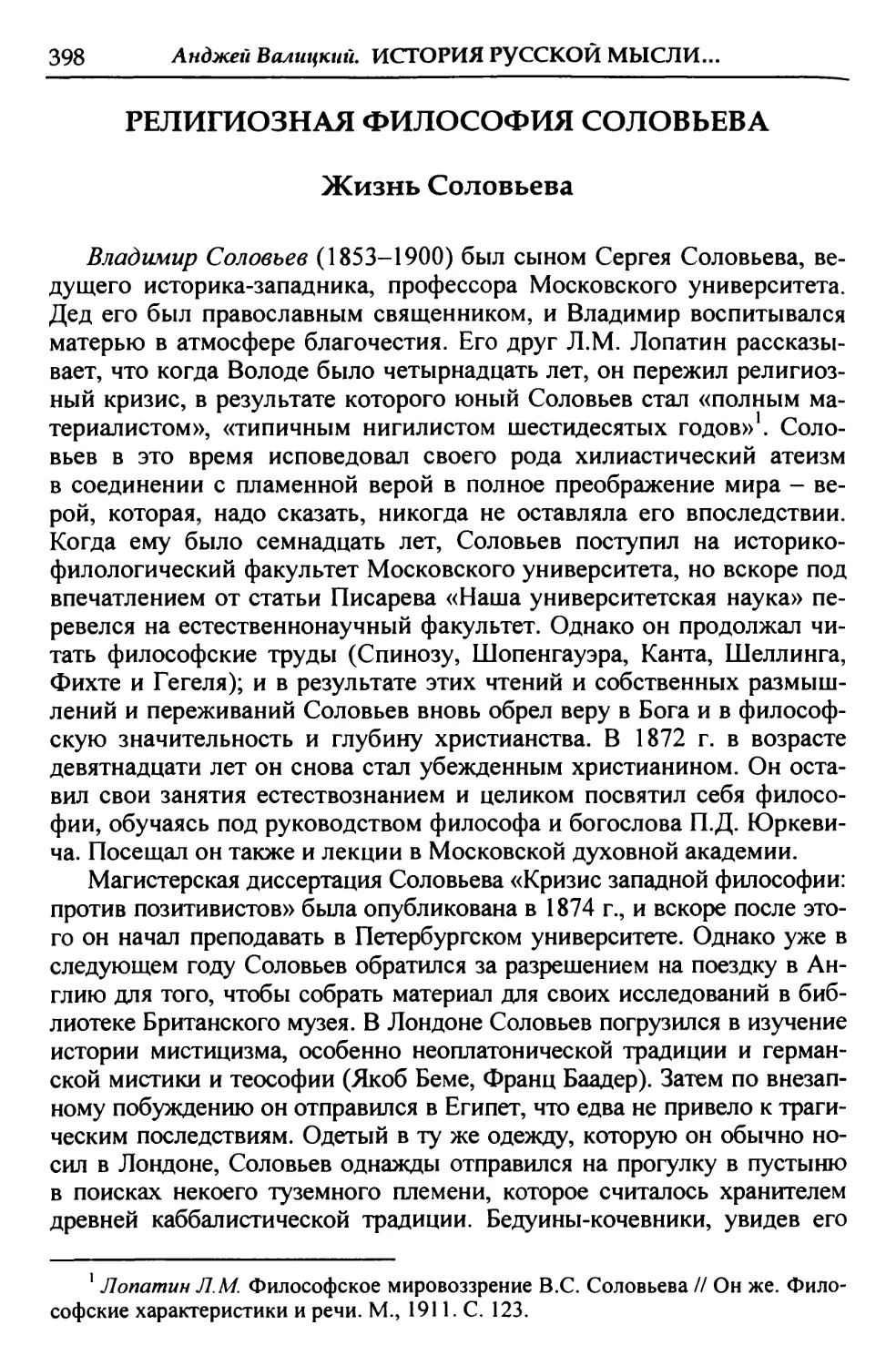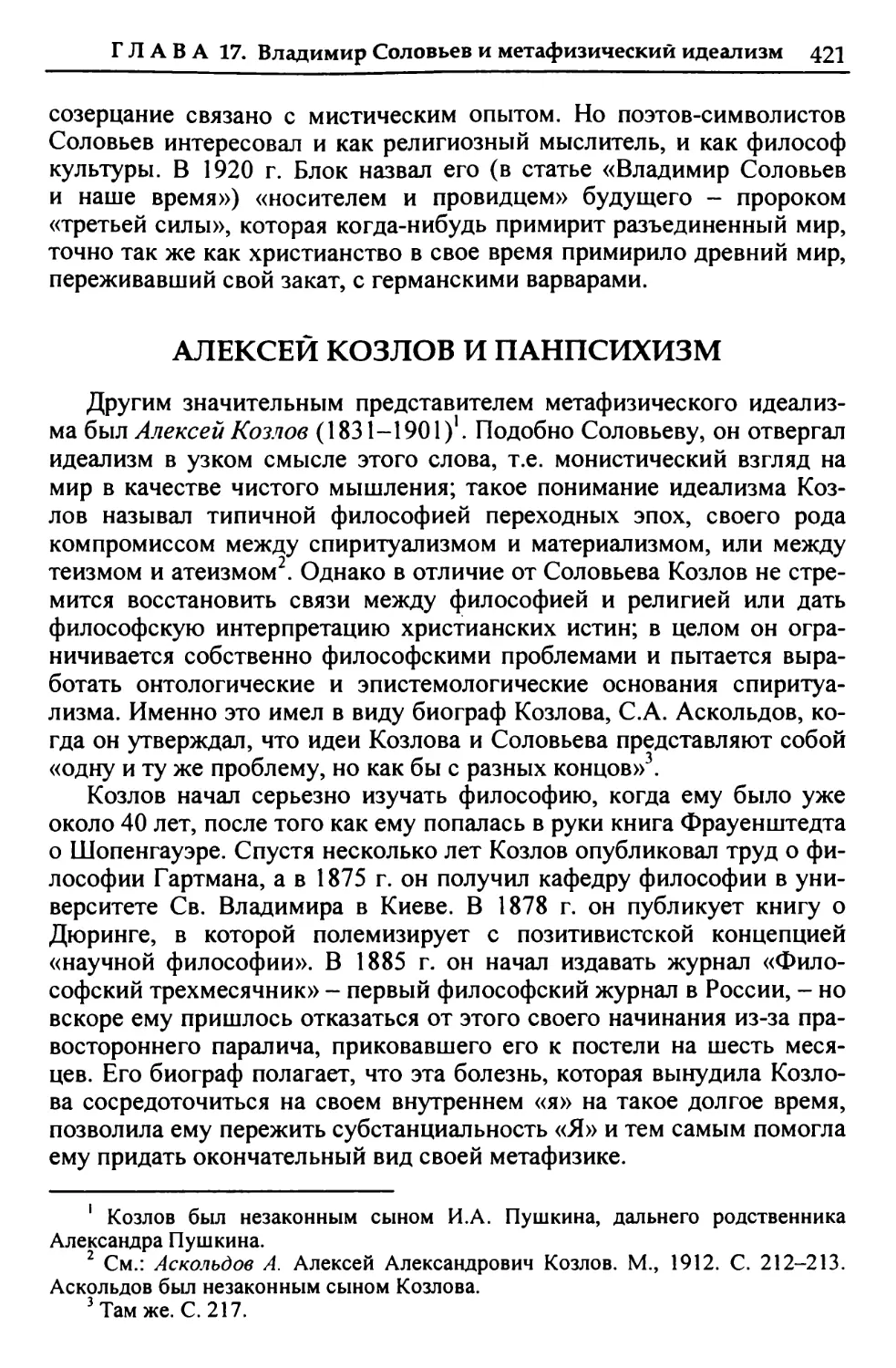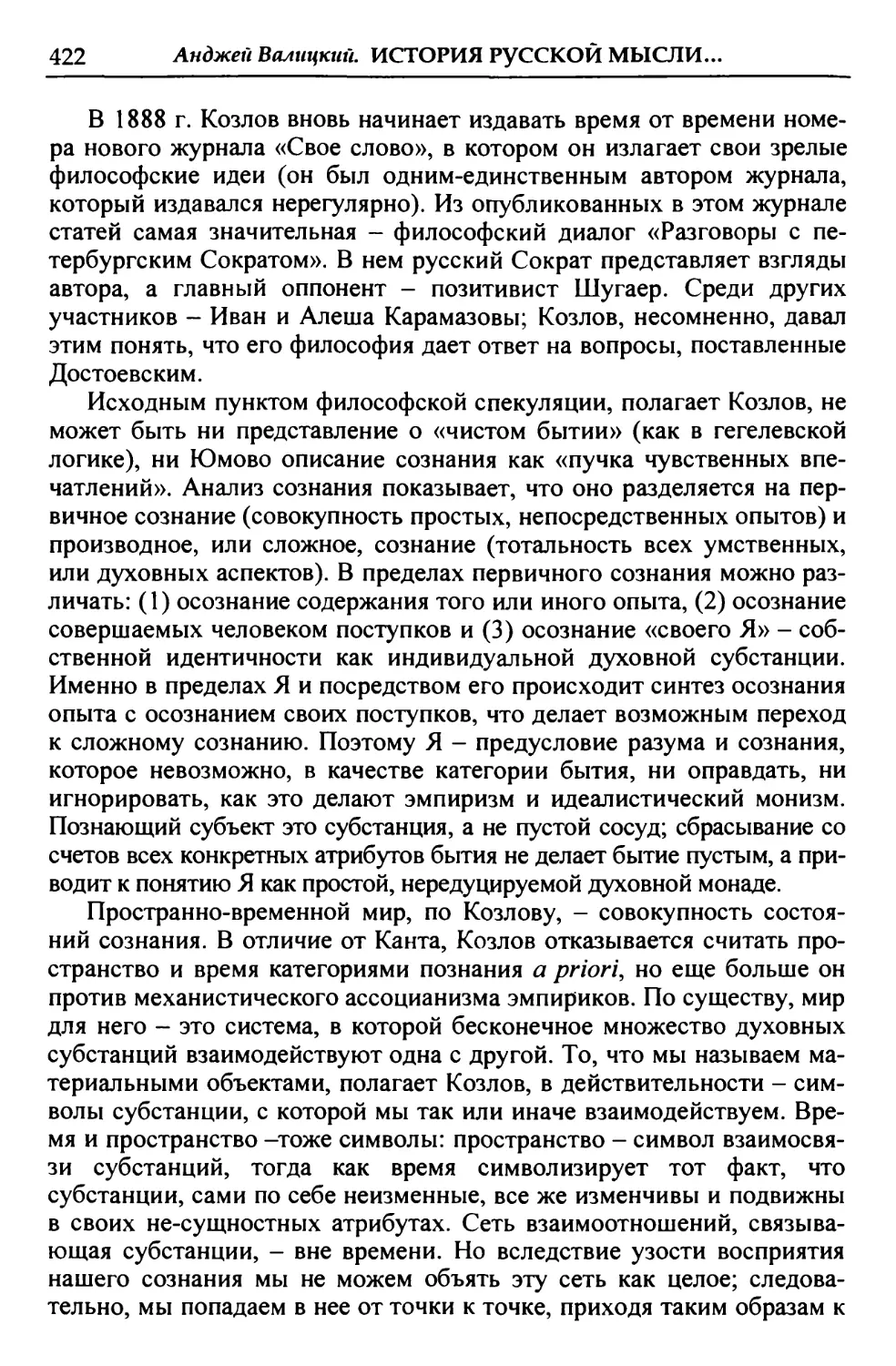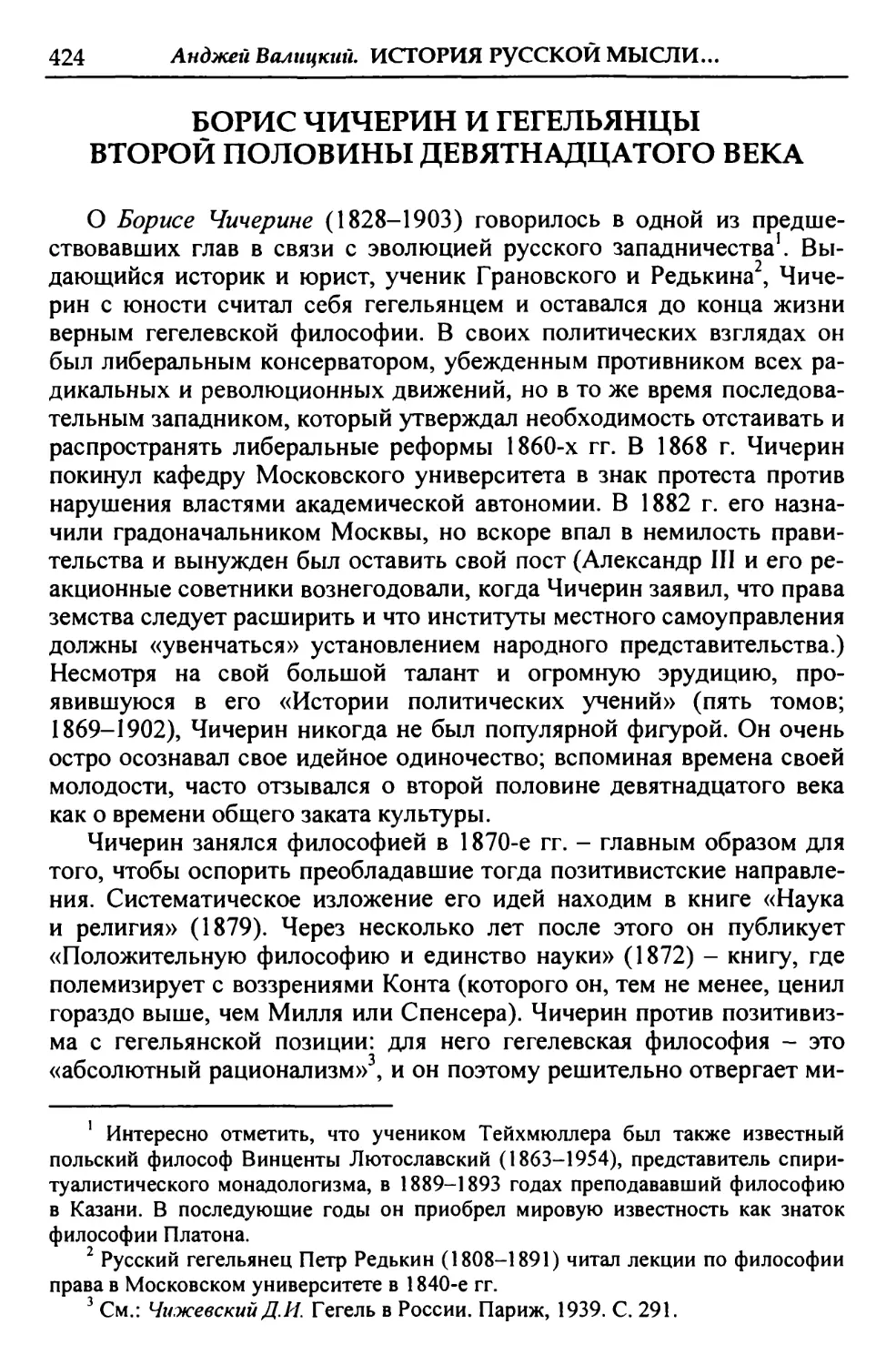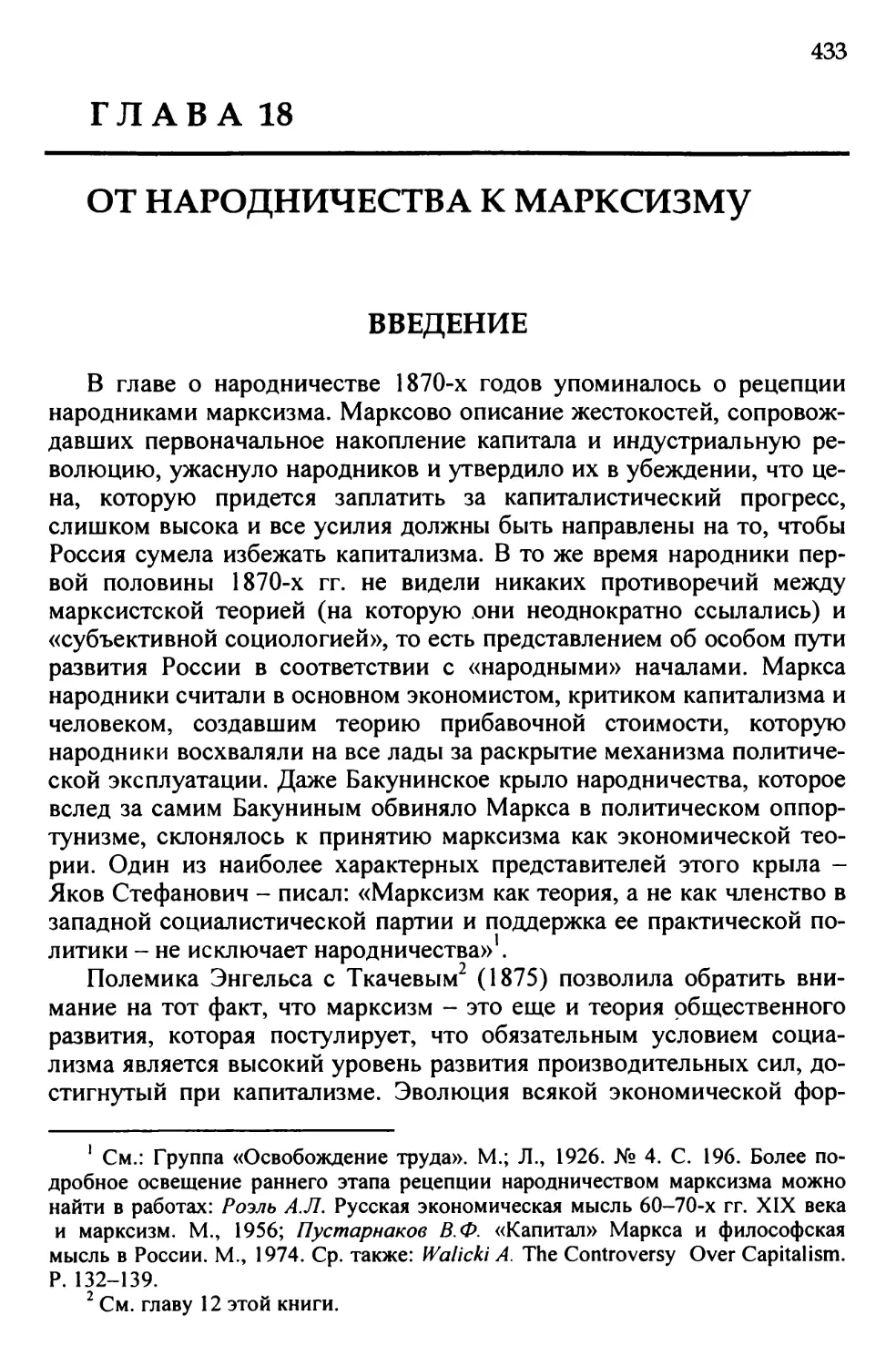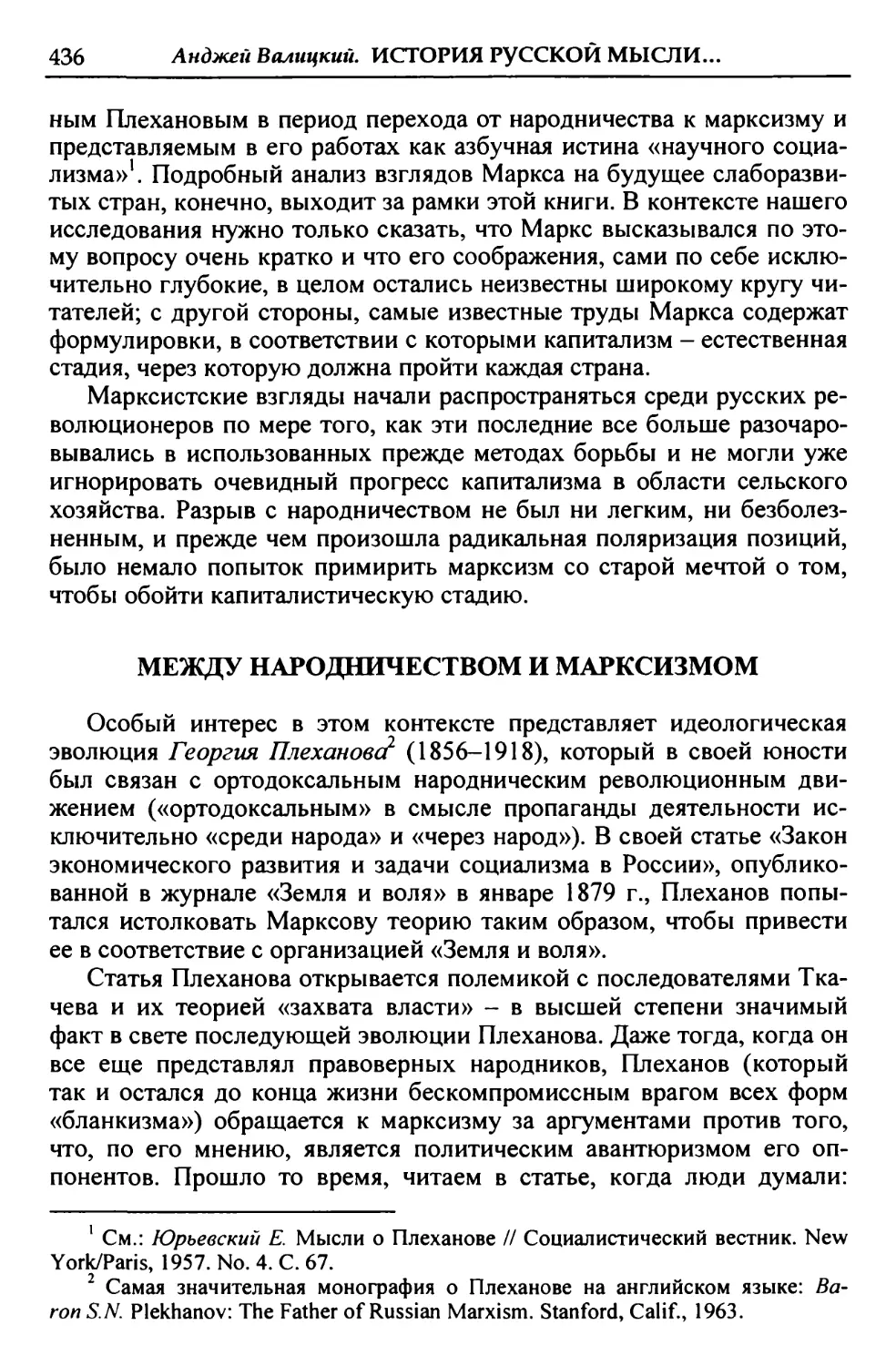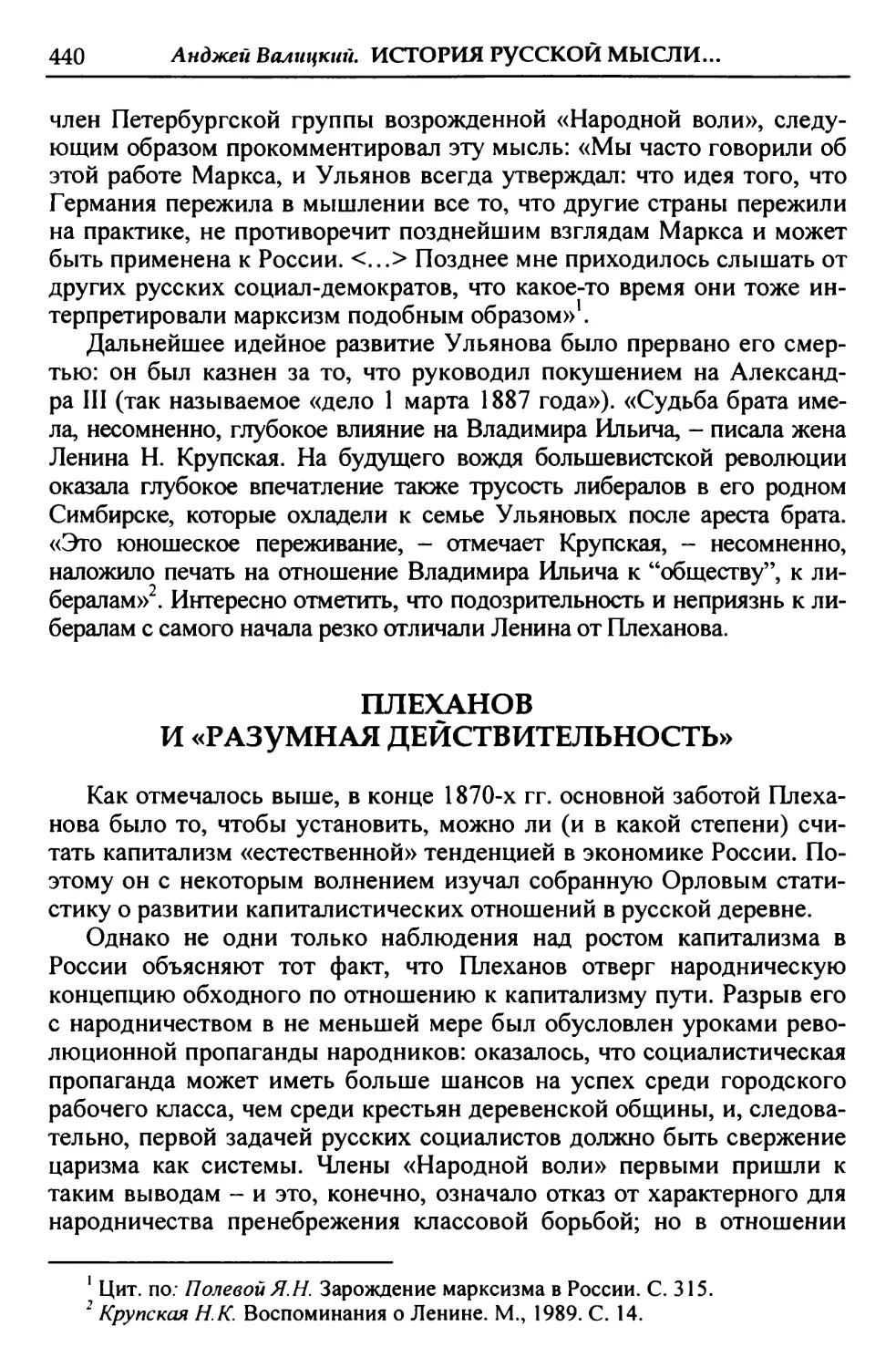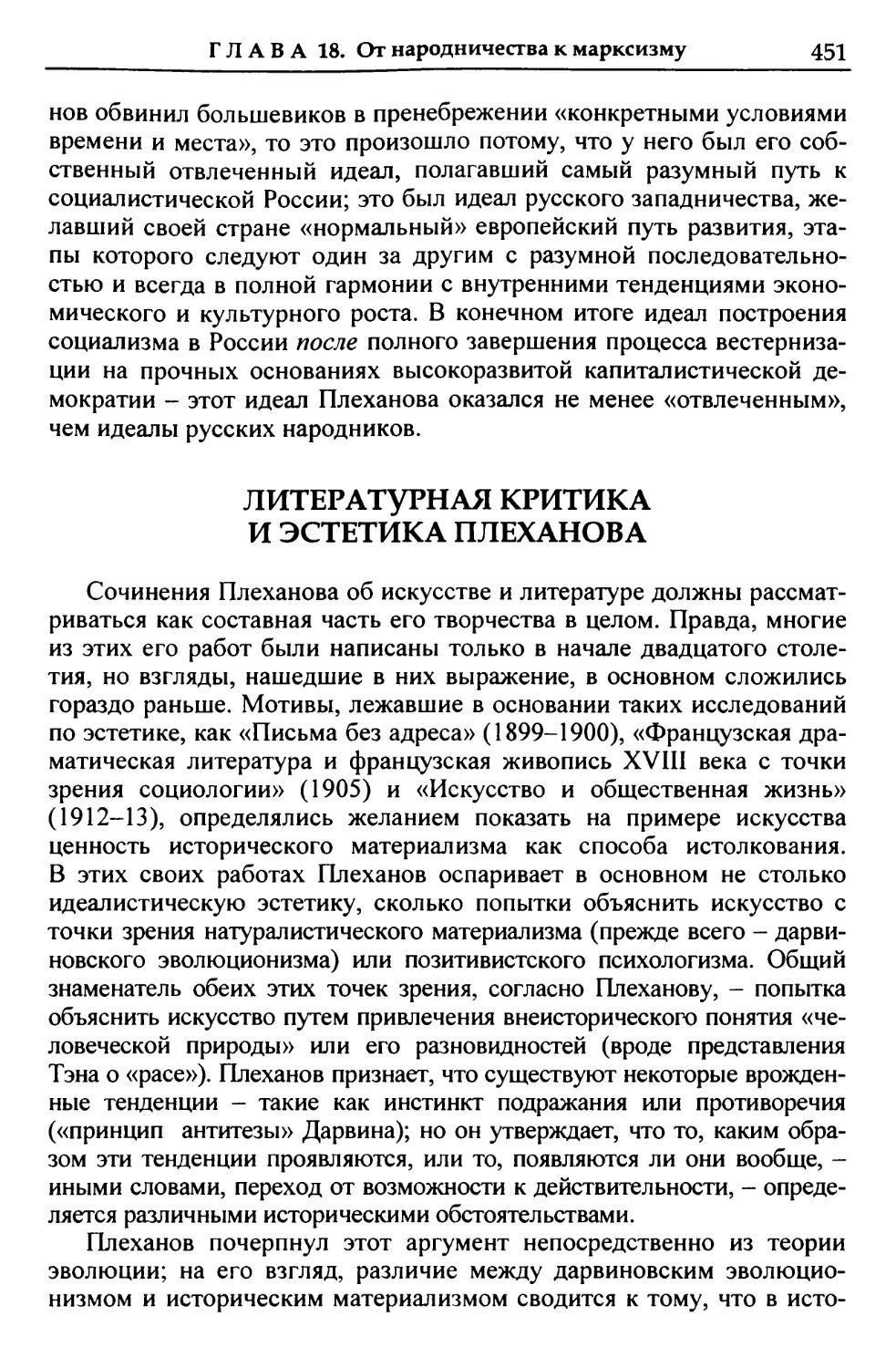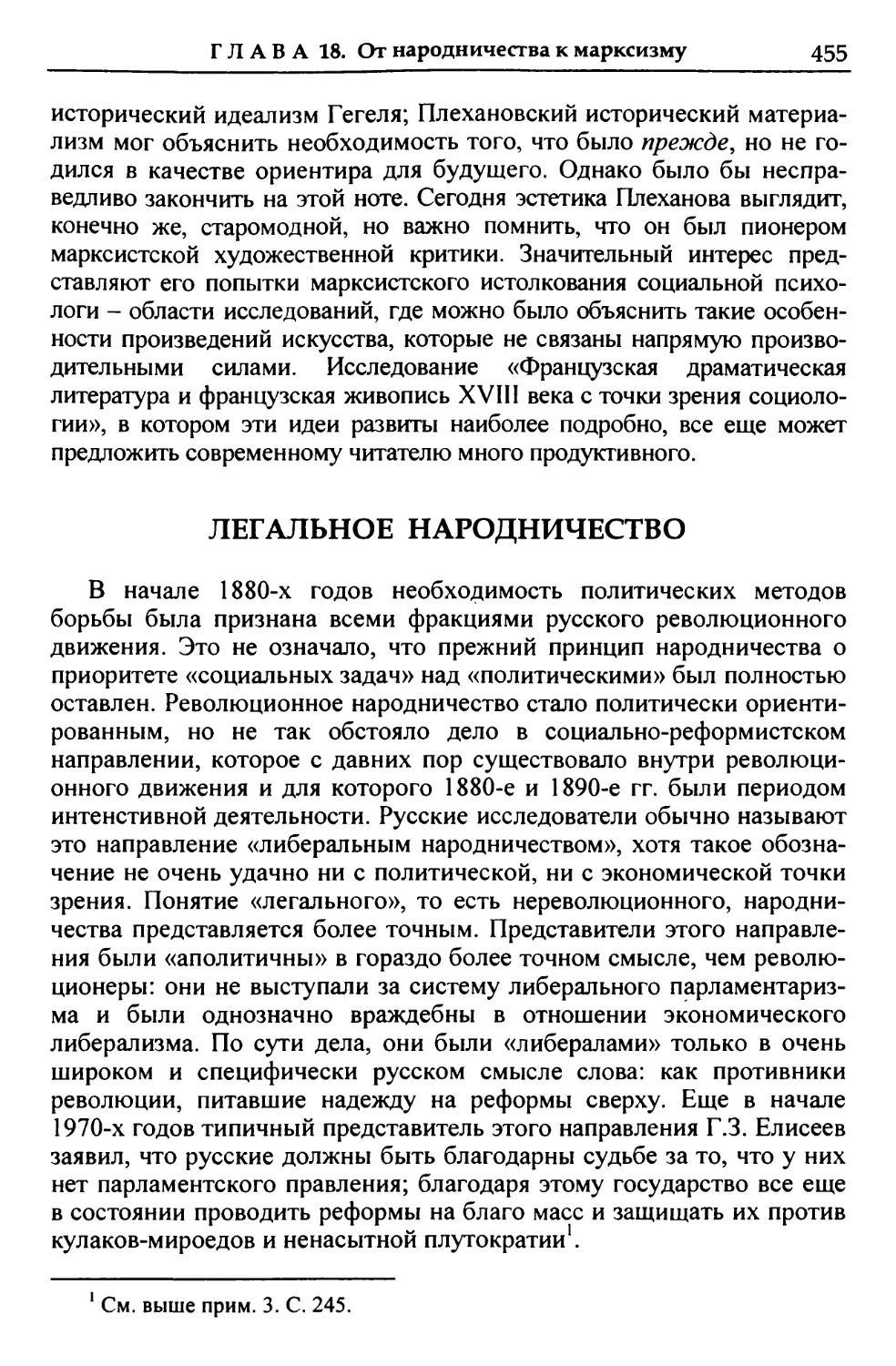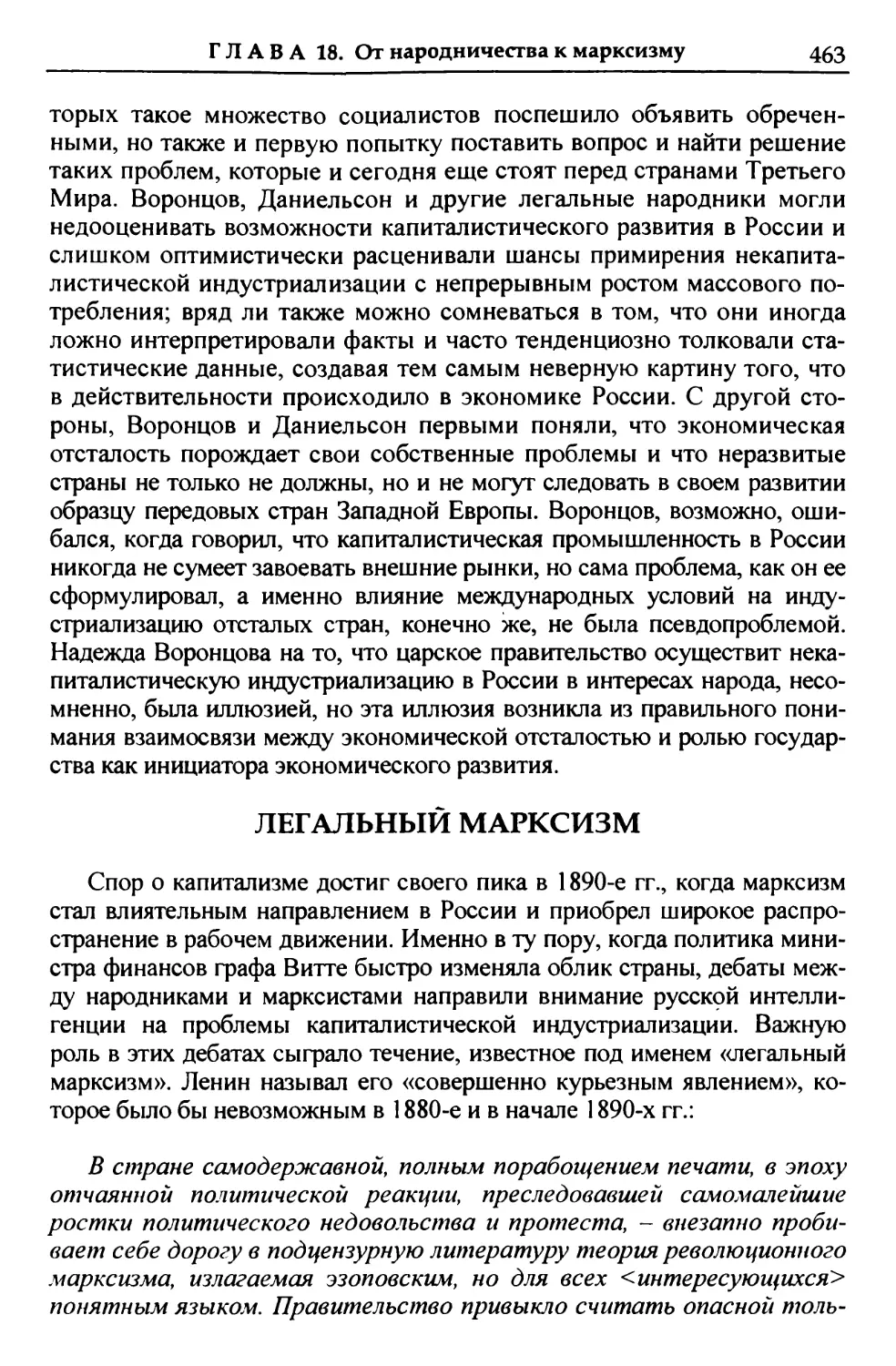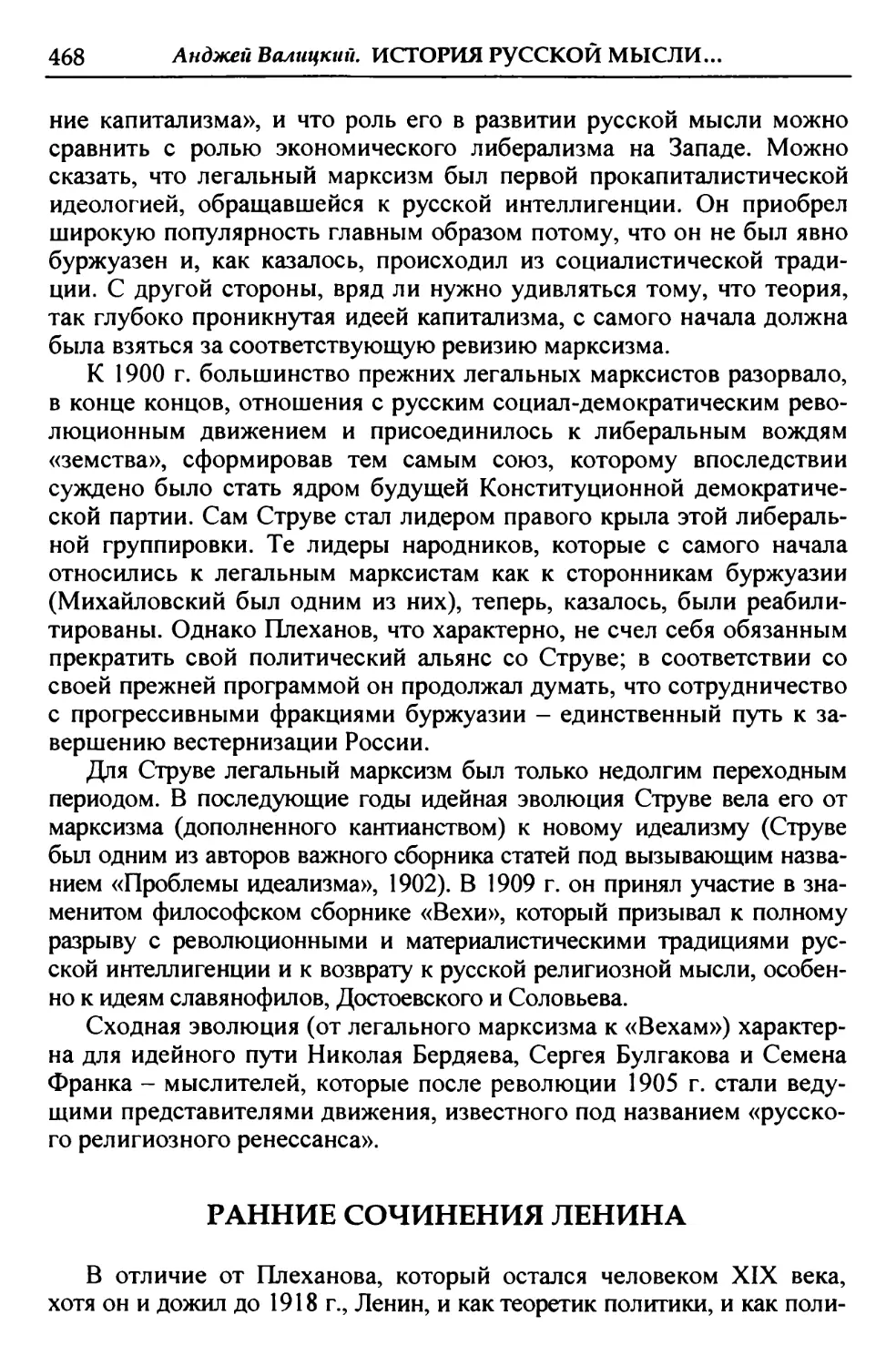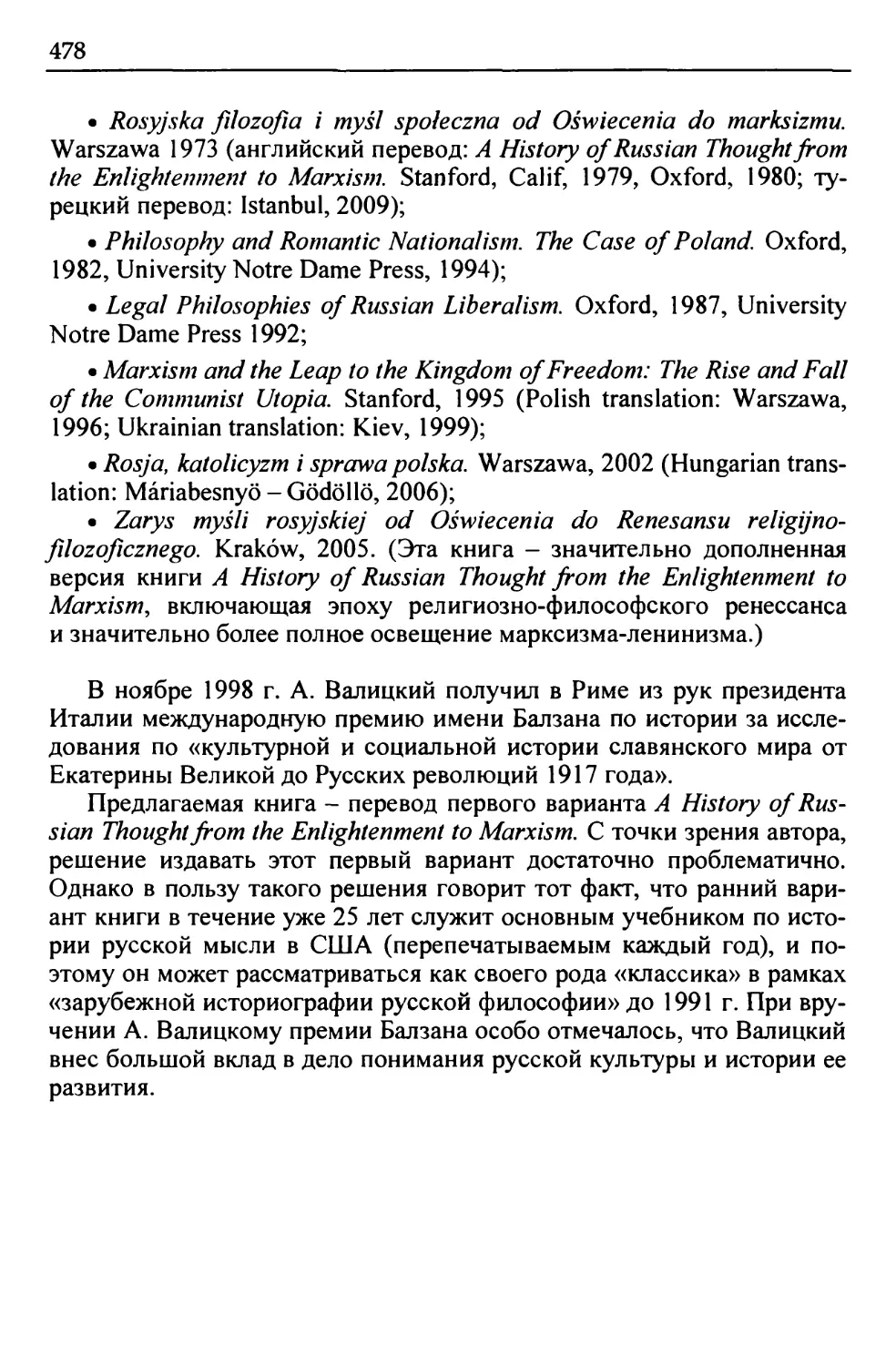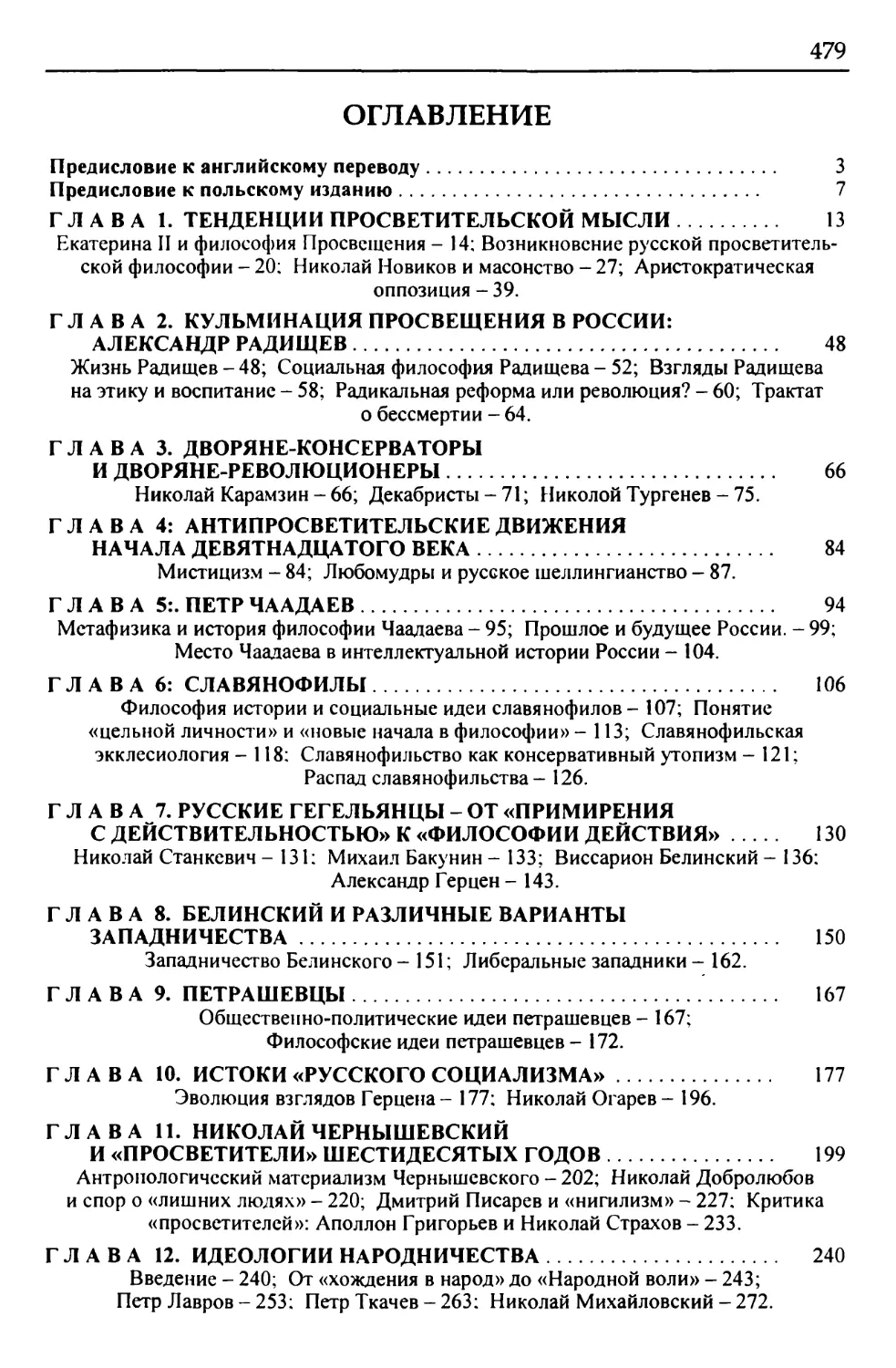Автор: Валицкий А.
Теги: философия психология история философии история марксизм история русской мысли
ISBN: 978-5-88373-329-0
Год: 2013
Текст
Анджеи
ВАЛИЦКИЙ
Валицкий Анджей
История
русской мысли
ОТ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ДО МАРКСИЗМА
МОСКВА
KAHÉfëH+
2013
Валицкий Анджей
История русской мысли от просвещения до марксизма / Анджей
Валицкий. — М: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013. — 480 с.
ISBN 978-5-88373-329-0
Книга известного польского историка русской интеллектуальной
культуры, ученика С. Гессен Анджея Валицкого (род. 1930) написана в жанре
«истории идей» и отличается той взвешенностью и симпатизирующей
объективностью, дефицит которых слишком часто дает о себе знать в
российских «Историях русской философии». Перед нами впечатляющая картина
общественно-политических и мировоззренческих исканий, воззрений и
дискуссий, от правления Екатерины II до революции 1905 г., - «история»,
которая сегодня, в XXI веке, читается, переживается и понимается по-новому
актуально.
Написанная ясно и увлекательно, книга А. Валицкого предназначена как
для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся
перипетиями и судьбами русской мысли и духовно-идеологической
культуры.
© Валицкий Анджей, 2012
© Издательство «Канон4"»
РООИ «Реабилитация», 2012
ISBN 978-5-88373-329-0
3
ПРЕДИСЛОВИЕ
К АНГЛИЙСКОМУ ПЕРЕВОДУ
Эта книга писалась в Польше и стала итогом моих исследований
по интеллектуальной истории России примерно за двадцать
лет1. Книга не только плод моих индивидуальных усилий, но и
результат живого обмена мыслями с польских историками
философской и общественной мысли, а также с польскими историками
русской литературы. Мой интерес к русской мысли возник из убеждения,
разделяемого многими людьми в моей стране, что проникнутое
симпатией понимание русской культуры жизненно важно для поляков. За
этой книгой стоит определенная традиция, которой я глубоко обязан.
Несмотря на широко распространенное представление о якобы
враждебном отношении поляков ко всему русскому, даже в разделенной
Польше были ученые и писатели, которые высоко ценили, а иногда
даже восхищались великими традициями русской интеллигенции и
которые считали своей задачей создание интеллектуальных мостов
между Россией и Польшей или - еще большее притязание - между
Россией и Западом. Достаточно упомянуть здесь, что одна из первых
историй русского революционного движения (и лучшая вплоть до
первой мировой войны) была написана польским марксистом Людви-
ком Кульчицким2; что первый исторический роман, прославлявший
героев «Народной воли» и всю интеллектуальную традицию русского
народничества, был написан самым влиятельным польским
философом и литературным критиком начала двадцатого века Станиславом
Бржозовским3; наконец, что польский католический философ Мариан
Здзеховский одним из первых в Европе (наряду с чешским
философом и государственным деятелем Томасом Масариком) в полной мере
осознал значительность русской религиозной философии. Первые
двое из упомянутых авторов оказали сильное влияние на мое
воображение и мышление, когда в изменившихся исторических
обстоятельствах я начал самостоятельные исследования в сфере истории идей
в России.
1 Польское название книги: Rosyjiska fïlozofia i myél spoteczna od Oswejecenia
do marksizmu. Варшава, 1973.
2 См.: Kuïczicki L. Rewoluja rosyjska. Два тома; Львов, 1909. Немецкий
перевод, Geschichte der russischen Revolution, был опубликован в Готе в 1910 году.
3 Заглавие романа (опубликованного в 1908 году) - Piomienie, что означает
«Пламя». Русская культура очаровала Бжозовского, и он посвятил ей немало
страниц в своих книгах. Среди прочего он - автор блестящего эссе о Герцене.
4 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
К сказанному мне приятно добавить, что книга эта возникла также
в результате моих частых поездок в Великобританию и Соединенные
Штаты. Я затрудняюсь сказать, что именно дали мне контакты с
английскими и американскими учеными, но без этих контактов книга,
несомненно, отличалась бы от той, какова она есть. В Предисловии к
английскому переводу, как мне кажется, уместно будет воздать
должное этому обстоятельству.
Вскоре после опубликования моей первой книги1 я получил
стипендию Форда на один год исследований в Соединенном Королевстве
и в Соединенных Штатах. Сначала я остановился в Оксфорде, где
встретил сэра Исайю Берлина, который проявил неподдельный
интерес к моим идеям и очень побуждал меня взяться за амбициозный
план - написать обобщающую монографию о споре славянофилов и
западников в России девятнадцатого века. Вскоре после этого я
приехал в Соединенные Штаты, где оказался среди молодых, но уже
заявивших о себе американских специалистов по русской
интеллектуальной истории (Р. Пайпс, Дж.Х. Биллингтон, М. Малиа, Н.В. Ряза-
новский, Г.Л. Клайн и другие); они неоднократно и подолгу
разговаривали со мной, разделяя мое ощущение важности нашей
общей области исследований. Интеллектуальная история России
становились к тому времени (в 1960 году) модной темой в Соединенных
Штатах в силу вполне очевидных причин: как и в Польше, этот
возросший интерес был, прежде всего, выражением усилившегося среди
американских интеллектуалов убеждения в том, что более глубокое
знание и понимание Советской России является жизненно важным
делом для самой Америки и что один из ключей к такому пониманию
следует искать в изучении интеллектуальной биографии русской
нации. Как и мои американские коллеги, я имел особое удовольствие
обсуждать свои мысли с выдающимися представителями старшего
поколения ученых, приехавших в Соединенные Штаты из России, -
Романом Якобсоном, Александром Гершенкроном, Питеримом
Сорокиным, отцом Георгием Флоровским и Борисом Николаевским.
В Калифорнийском университете (Беркли) мне была предоставлена
возможность прочитать мою первую лекцию по-английски2. Та
лекция и стала первым наброском моей концепции русского славяно-
Walicki A. Osobowoéc a historia. Studia z dziejôww literaturyi myéli rosyjskiej
<Личность и история: Исследования по истории русской литературы и мысли>.
Варшава, 1959.
2 Она была напечатана в California Slavic Studies, 1963. No. 2 / под названием
«Личность и общество в идеологии русских славянофилов. Исследование по
социологии знания».
Предисловие к английскому переводу
5
фильства, позднее развитой в моей книге «В кругу консервативной
утопии»1.
В последующие годы особенно плодотворными для меня
оказались две заграничные поездки на гранты: одна - в AH Souls College,
Оксфорд (в 1966-1967 гг. и осенью 1973 г.), где я получил
возможность расширить свои контакты с британскими учеными, другая -
приглашение преподавать в Стэнфорде в зимний и весенний семестры
1976 г. В 1966-1967 учебном году я участвовал в семинаре Исайи
Берлина по русской интеллектуальной истории и написал книгу о
русском народничестве2. Мое пребывание в Стэнфорде в качестве
"visiting Kratter professor of history" увеличило число моих
американских друзей (хочу упомянуть в этой связи в особенности профессора
Теренса Эммонса) и дало мне неоценимую возможность приобрести
опыт преподавания американским студентам. На основе этого своего
опыта я пришел к убеждению, что предлагаемую книгу можно
использовать в Соединенных Штатах и других англоязычных странах
в качестве учебника по русской интеллектуальной истории.
Здесь, пожалуй, следует сделать одно уточнение. Хотя я - историк
философии (мой подход к философии больше исторический, чем
чисто философский), философским проблемам в моей книге все же
уделено больше внимания, чем это имеет место в большинстве
американских книг по русской интеллектуальной истории. Однако философия
в ней рассматривается - наряду с богословскими, политическими,
экономическими и другими идеями - не в качестве автономной
академической дисциплины, а как часть общей истории тех
интеллектуальных течений, которые сформировали сознание мыслящих русских
людей, начиная от эпохи Просвещения и до рубежа XX века. Как мне
кажется, американские историки русской культуры (возможно, из-за
отсутствия у них специальной философской подготовки) больше,
чем их коллеги в какой-либо другой стране, пренебрегают анализом
1 Эта книга была опубликована на польском языке под названием: W krçgu
konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyijskirgo slowianofilstwa. Варшава,
1964. Специфику польского заглавия удалось сохранить в итальянском переводе
книги: Una Utopia Concervatrice. Турин, 1973. По-английски книга вышла под
названием: The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in
Nineteenth Century Russian Thought. Оксфорд, 1975. Английский перевод той, как
и этой, книги сделан Хильдой Эндрюс-Русецкой.
2 The Controversy over Capitalism. Studies in the Social Philosophy of the Russian
Populists. Oxford, 1969. Первый вариант этой книги был написан и опубликован
по-польски в качестве предисловия к изданной под моей редакцией двухтомной
антологии сочинений русских народников: Filozofia spoteczna narodnictwa
rosyjskiego. Варшава, 1965.
6 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
философских аспектов истории русской мысли1. Зачастую
американские студенты вынуждены пользоваться старой классической книгой
Масарика (несомненно, очень ценной, но устаревшей и написанной с
точки зрения весьма своеобразной философии)2, или же им
приходится черпать знания по русской философии из очень односторонних
книг, написанных русскими православными
философами-эмигрантами, - что еще хуже3. В силу этих обстоятельств мне хочется
надеяться, что философские разделы моей книги будут полезны не только
небольшому числу американских и других ученых,
специализирующихся по русской философии как таковой, но и более
многочисленной группе читателей, интересующихся русской интеллектуальной
историей в широком ее понимании.
Настоящее издание по существу совпадает с польским
оригиналом. Изменения коснулись только примечаний: для того чтобы книга
была более современной и для того чтобы увеличить ее
дидактическую ценность для англоязычных читателей, я счел целесообразным
включить в нее библиографические ссылки на недавно
опубликованные по-английски важные работы. Это было трудным решением,
поскольку основная часть научной литературы по нашему предмету,
естественно, написана по-русски. Принимая это решение, я
руководствовался теми же соображениями, которые я высказал в кратком
резюме моей книги, опубликованном в The Russian Review, я писал там,
что значительная часть русской и советской исследовательской
литературы по истории русской мысли «известна специалистам, а
неспециалисты легко могут найти библиографические сведения в книгах,
опубликованных по-английски»4.
Анджей Валицкий.
Август 197S г.
1 Важными исключениями из этого правила являются исследования по
русской интеллектуальной истории, принадлежащие профессиональным философам -
Джорджу Клайну (George L. Klein) и Джеймсу Скэнлану (James P.Scanlan).
Интересно отметить, что самая ценная американская антология русских мыслителей,
которой широко пользуются изучающие историю Россию, имеет заголовок: «Русская
философия». См.: Russian Philosophy, ed. By J.M. Edie, J.P. Scanlan and M.B. Zeldin,
with the collaboration of George L. Klein. 3 vols. Chicago, 1956.
Masaryk T.G. The Spirit of Russia. 2 vols. London and New York, 1955.
Впервые книга Масарика была опубликована в Германии в 1913 году.
Два примера - книги Н. Лосского и В. Зеньковского: Lossky N.O. A History
of Russian Philosophy. London, 1952; Zenkovsky V.V. A History of Russian
Philosophy, trans. By G.L. Klein. Вторая из этих книг - ценное исследование
религиозных течений русской мысли, но обе они дают искаженную картину
нерелигиозных направлений в русской религиозной философии.
4 Walicki A. Russian Social Thought: An Introduction to the Intellectual History of
Nineteenth Century Russia, The Russian Review. 36, no. 1. Jan. 1977. P. 2n.
7
ПРЕДИСЛОВИЕ
к польскому изданию
Яекоторые читатели, взяв в руки эту историю русской мысли,
могут с удивлением спросить: почему философия
рассматривается здесь в такой тесной связи с общественной мыслью?
Возможен и другой вопрос: почему автор решил начать свой рассказ
с 1760 года, а закончить вместе с завершением девятнадцатого века?
По первому вопросу: написание истории философии какой-то
одной определенной страны имеет, явным образом, как свои
преимущества, так и свои недостатки. Например, теоретическую философию
едва ли можно втиснуть в какие-то национальные рамки, если только
в данный исторический период она не составляет отдельной главы в
мировой философии. В противоположность этому, историк, которого
интересуют в первую очередь «мировоззрения» - исторические
детерминации и социальные функции, выражающиеся в философских
теориях, - имеет все основания рассматривать свой предмет в
национальных пределах: ведь ему нужно показать реальные связи между
идеями и их конкретным контекстом, политическим и культурным.
Но такой подход неизбежным образом предполагает перемещение
основного внимания исследователя с чисто теоретических проблем
философии на философские основания различных течений
политической и общественной мысли.
В случае России можно привести и другие убедительные
аргументы в пользу включения общественной мысли в историю философии.
Начать с того, что философия появилась в России сравнительно
поздно, и ей было нелегко добиться официального признания в качестве
самостоятельной академической дисциплины. Отчасти это было
следствием исключительно сложной политической ситуации,
препятствовавшей развитию спекулятивного мышления в университетах,
которые находились под жестким контролем сверху. Некоторый прогресс
в этом отношении наметился только во второй половине
девятнадцатого века. Другим фактором, тормозившим появление философии в
качестве автономной дисциплины, было особое положение
интеллигенции в России девятнадцатого века. Мучительно осознававшееся
политическое давление, отсталость и насущные социальные
проблемы, требовавшие скорейшего разрешения, - все это отвлекало внима-
8 Анджей Всыицкии. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ние интеллигенции от таких вопросов, которые не были прямо
связаны с общественной практикой. Поэтому философская рефлексия была
захвачена, главным образом, этическими, политическими, а нередко
и религиозными проблемами, тогда как традиционные философские
проблемы онтологии и эпистемологии оставались отчасти в
пренебрежении. В кружках народников - самой влиятельной группы
интеллигенции во второй половине XIX века - занятие «чистой
философией» считалось безнравственным и квалифицировалось как
предательство священного дела освобождения народа.
Если подходить к делу с узкопрофессиональной точки зрения, то
может показаться, что писать историю русской философии - задача
особенно неблагодарная. Книги по истории русской философии таких
авторов, как Радлов, Шпет или Яковенко, опубликованные до и после
первой мировой войны, по сути дела, подтверждают такое
предположение1. Упомянутые авторы, сосредоточив основное внимание на
академических философах и применяя формалистические критерии в
своем определении философии, дают обедненную картину истории
идей в России, в конечном счете отказывая этим идеям в какой бы то
ни было оригинальности. Негативный вердикт в отношении русской
философии можно опровергнуть с помощью тех же самых
аргументов, которыми оперируют упомянутые авторы; несомненно, однако,
что, оставаясь при столь же ограниченном взгляде на русскую
философию, и вправду не так-то легко определить, в чем же, собственно,
ее оригинальность, при том, что зависимость философии в России от
западноевропейской философии совершенно очевидна. Подлинную
оригинальность русской философии мы почувствуем лишь в том
случае, если сумеем исследовать и осмыслить ее в контексте русской
интеллектуальной истории, т.е. с точки зрения тех актуальных проблем,
которые были всего ближе сердцам образованных русских людей и
переживались ими как непосредственно относящиеся к будущему их
страны. Это особенно верно в отношении девятнадцатого века: в этом
столетии происходят совершенно необычные скрещения идей и
влияний; стремительная модернизация огромной страны за короткий срок;
причудливое сочетание архаических и современных элементов в
структуре общества и формах мышления; приток влияний извне и со-
См.: Радлов Е.Л. Очерк истории русской философии. С.-Петербург, 1912;
Шпет Г. Очерк развития философии в России. Петроград, 1922; Jakovenko В.
Dëjini ruské filosofie. Прага, 1939.
Предисловие к польскому изданию
9
противление этим влияниям; наконец воздействие на
интеллектуальную элиту общественных событий и идей в Западной Европе - с
одной стороны, и непрерывное переоткрытие своих собственных
национальных традиций и общественной реальности - с другой. Все эти
факторы делают историю идей в России девятнадцатого века даже
более интересной и более драматичной, чем интеллектуальная
история многих более развитых стран с богатыми философскими
традициями. К этому нужно добавить бескомпромиссную идеологическую
ангажированность русской интеллигенции, ее страстные искания
этических идеалов и обостренное понимание стоящих перед нею
«проклятых вопросов».
Сказанное не надо понимать в том смысле, что философские
проблемы следует изучать лишь как частный случай общественно-
политической традиции. В предлагаемой книге речь пойдет только
о таких аспектах русской общественной мысли, которые имеют
существенные философские импликации. Конкретные политические
программы подлежат обсуждению только в том случае, если это
необходимо для понимания развития социальной философии.
Правда, философские теории рассматриваются нами с точки зрения их
общественного значения; но речь пойдет и о таких философах,
которые стояли вне основного русла русской мысли. В ходе работы над
этим исследованием автор стремился, среди прочего, и к тому, чтобы
написать полезный справочник; отбор материала был необходим,
но критерии, по которым отдельные мыслители привлекались или не
привлекались к рассмотрению, были в основном чисто
философскими1.
С другой стороны, хронология исследования определялась не
столько философскими, сколько историческими критериями.
Девятнадцатое столетие в России, характерной особенностью которого был
высочайший расцвет литературы и культуры, отличается рядом черт,
которые позволяют нам рассматривать его как некоторое структурное
целое. То был век, когда появилась «интеллигенция» в специфически
русском смысле этого слова - слой образованных людей, которые
чувствовали свою ответственность за будущее своей страны, и, не
будучи единодушными по своим взглядам, тем не менее представляли
Следует отметить, что в нашей книге мы не обсуждаем историю логики или
философию науки в России.
Ю Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
собой одну группу, объединенную общим этосом борьбы против
реакции. В этом смысле «интеллигенция» - понятие этическое (или
даже политическое, если позицию интеллигенции отождествлять с
оппозицией правительству)1. Все вопросы, которые ставили перед
собой русские люди на протяжении девятнадцатого столетия,
затрагивали проблему национальной идентичности: «Кто мы?», «Откуда
мы и куда идем?», «Чем можем мы послужить человечеству?», «Что
мы должны сделать для того, чтобы исполнить возложенную на нас
миссию?». Пытаясь найти ответы на эти вопросы, мыслящие русские
использовали преимущество так называемой «привилегии
отсталости», которая давала им возможность посмотреть на свою
историческую ситуацию с точки зрения более развитых стран и использовать
их теоретические достижения. Таким образом, изучение рецепции
западноевропейских идей в России имеет далеко не только
академический интерес: оно является важной составной частью предпринятой
в этом исследовании попытки установить интеллектуальный
контекст, в котором формировалась русская мысль и который ускорил ее
развитие.
1 В этом отношении очень характерный пример - неонародническая
«История русской общественной мысли» Иванова-Разумника. С.-Петербург, 1907.
Русская история интерпретируется в этой книге как борьба между двумя
абстрактными принципами - нонконформистским «этическим индивидуализмом»
(предельным выражением которого является личное самопожертвование ради общего
блага) и мещанским эгоизмом (принятием существующей действительности),
свойственным буржуазии. На взгляд Разумника, «интеллигенция» - этическое
понятие par excellence; только «индивидуалист», противостоящий буржуазии,
может, по его мнению, быть причислен к интеллигенции.
Сочинение Иванова-Разумника - панегирик русской интеллигенции, в
котором ее роль мифологизируется. В XIX веке такой тон был бы совершенно
невозможен, поскольку в то время русская интеллигенция как раз была склонна к
самокритике. Только в XX веке, когда лидирующая роль интеллигенции в борьбе
против реакции закончилась, стало возможным предаваться такому
безоглядному самовосхвалению.
Уместно, мне кажется, отметить здесь, что другой классический вариант
интеллигенции как социального слоя, определяемого своей системой ценностей,
представляла Польша. В противоположность популярному мнению, термин
«интеллигенция» (по-польски: "inteligencja") сложился не в России 1860-х, а в
Польше 1840-х годов. Полезный анализ сходств и различий между польской и
русской интеллигенцией можно найти в статье: Gella A. The Life and Death of the
Old Polish Intelligentsia // Slavic Review. 30. No.l. Mar. 1971.
Предисловие к польскому изданию
11
Мыслители второй половины XVIII века тоже нашли свое место в
этой книге, поскольку проблемы, о которых они писали,
предвосхитили дискуссии следующего столетия. Вопрос о будущем России -
проблема, которой суждено было занять столь важное место в
русской философии, - впервые начал будоражить умы во время
правления Екатерины II, когда уже обозначился постепенный разрыв между
властной элитой и интеллектуальной элитой. Образованная часть
общества утвердила свою независимость как от основной массы
дворянства, так и от царского самодержавия, тогда как самодержавие,
инициировав вестернизацию, оказалось в ответе за реальные последствия
этого процесса. Как отмечал Милюков, непрерывная традиция
критической общественной мысли в России своими корнями уходит в
эпоху Екатерины1.
У кого-то из читателей может возникнуть вопрос, почему
предлагаемое исследование завершается 1900-м, а не 1917-м годом.
Решение не выходить за пределы последних лет девятнадцатого
столетия объясняется рядом причин. В начале XX века, на последней
стадии кризиса абсолютизма, появились сильные политические
группировки. Русский марксизм больше не был в России только
движением одной лишь интеллигенции, но приобрел сторонников
в рабочем движении; это привело к созданию хорошо
организованной политической партии на съезде социал-демократов в 1903 году.
После революции 1905 года политические партии начали
действовать открыто. В то же самое время часть интеллигенции пережила
кризис, который привел к появлению в печати сборника «Вехи».
В этой книге несколько известных интеллектуалов подвергли
критике радикальные традиции XIX века, утверждая, что единственной
миссией интеллигенции должно быть творчество культурных
ценностей. На другом полюсе русского политического спектра стратегия и
тактика повседневной борьбы стали казаться важнее, чем
философские размышления о прошлом и будущем России. В то же время
академическая философия профессионализировалась, и в центре ее
внимания оказались прежде не вызывавшие особого интереса
проблемы онтологии и теории познания.
1 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С.-Петербург,
1901. С. 248-250. См. также: Marc Raeff. Origines of the Russian Intelligent: The
Eighteenth-Century Nobility. New Jork, 1966; Nicholas V. Riasanovsky. A Parting of
Ways: Government and the Educated Public in Russia, 1801-1855. Oxford, 1976.
12 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Это не значит, что в начале XX века в русской мысли произошел
какой-то радикальный разрыв с ее историческим прошлым. Напротив,
полемика девятнадцатого века - включая споры о взаимоотношении
России и Запада и о роли интеллигенции - продолжалась в двадцатом
веке как в философской, так и в политической сфере. Тем не менее,
если учесть возросший профессионализм философии и более тесную
связь между политической мыслью и действием, то едва ли
целесообразно рассматривать философию и общественную мысль начала
XX под одной обложкой.
Предлагаемый труд - итог восемнадцатилетней исследовательской
работы по русской философии и интеллектуальной истории. Поэтому
я не мог не опираться в ней на другие свои книги и статьи,
опубликованные в Польше и за рубежом1.
A.B.
См. в особенности три моих книги: Osobowsc a historia. Stadia z dziejow
literatury i mysli rosyjkiej <Личность и история: исследования по истории русской
литературы и мысли>. Варшава, 1959; The Slavophile Controversy over
Capital ism :History of a Conservative in Nineteen-Century Russian Though. Oxford,
1975 (впервые вышла в Польше в 1964 году); The Controversy over Capitalism.
Studies in the Social Philosophy of The Russian Populists. Oxford, 1969.
ГЛАВА 1
13
ТЕНДЕНЦИИ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ МЫСЛИ
Условия для появления просветительской мысли в России
возникали постепенно на протяжении десятилетий. Хотя процесс
этот подготовили уже реформы Петра Великого и
насильственная вестернизация России, историки согласны в том, что
Просвещение в собственном смысле началось не ранее второй половины
восемнадцатого века, точнее - в первые годы правления Екатерины II
(1762-1796).
Реформы Петра имели своей основной целью скорейшую и
предельно эффективную военно-техническую модернизацию русского
государства. Как отмечал Плеханов, ведущие деятели первой
половины восемнадцатого века рассматривали Просвещение «с точки зрения
его непосредственной, практической пользы»1. Им не приходило в
голову, что общественно-политическая система требует коренного
преобразования. В них глубоко укоренилась вера в "Моисееву
скрижаль" самодержавия, в его цивилизующую роль, в его способность
пробудить нацию и направить ее по пути просвещения и прогресса.
Даже Михаил Ломоносов (1711-1765) - великий русский ученый,
поэт, теоретик литературы и основатель Московского университета -
все еще разделял это убеждение.
В правление Екатерины, однако, появилось нечто вроде
независимого общественного мнения, которое отличалось от воззрений,
принятых в просвещенных кругах императорского двора. Видимо,
пришло время оценить социальные и моральные последствия вестерниза-
ции и ее перспективы на будущее. Возросшая чуткость к моральным
проблемам привела теперь к более критическому взгляду на реальную
действительность и более широкому признанию существующих зол.
Как только начался этот процесс самоосмысления, сразу же стали
искать корни этих зол в прежде казавшихся само собой разумеющимися
принципах, на которых основывались общественная система и
авторитет правления. Так появились ростки политической оппозиции,
и это, естественно, охладило первоначальный энтузиазм «просвещен-
1 Плеханов Г.В. История русской общественной мысли // Плеханов Г.В.
Сочинения / Под ред. Д. Рязанова. Т. XXII. М.; Л., 1925. С. 26.
14 АнджейВалицкии. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ного» самодержавия в отношении реформ. Последовавшие репрессии,
в свою очередь, вызвали еще большие разногласие между властью и
интеллектуальной элитой страны.
Значительную роль в этих процессах сыграла философия
французского Просвещения, буквально хлынувшая в Россию во время
правления Екатерины II. Можно прямо сказать, что русское Просвещение
созрело в атмосфере, обусловленной французской просветительской
мыслью с ее критическим отношением к некритически воспринятым
традициям и общественным институтам, - атмосфере, под
воздействием которой находились даже убежденные враги Просвещения.
ЕКАТЕРИНА II
И ФИЛОСОФИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Императрица сама поначалу способствовала притоку французской
мысли. Больше того: она даже пыталась использовать философию
французского Просвещения как инструмент своей внутренней и
внешней политики1. Она надеялась стимулировать умственное
движение таким образом, чтобы управлять им сверху, сохраняя тем
самым инициативу в своих руках. Екатерину еще и сегодня называют
иногда одним из «философов на троне», хотя, пожалуй, это чересчур
лестная характеристика. Вольтер писал в письме к Даламберу, что
«такие ученики, как наша прекрасная Като, делают мало чести
философии». Тем не менее, в истории русской философии Екатерина не
должна остаться без внимания. Можно даже сказать, что ее роль была
очень живой, но не потому, что она внесла какой-либо собственный
вклад в философию, а потому что все сколько-нибудь выдающиеся
русские мыслители ее эпохи не могли не учитывать ее взгляды и вели
с ней открытые или замаскированные дискуссии.
Честолюбивой натуре Екатерины импонировало представление о
«просвещенном монархе», который использует свою власть для того,
чтобы изменить прежде «неразумный» ход истории. Ею двигало
безграничное стремление к славе и желание поразить мир; в то же время
у нее, казалось, было даже больше возможностей, чем у других
властителей, воплотить свои честолюбивые замыслы в жизнь. Она была
иностранкой (из правящего дома крохотного немецкого княжества
Анхальт-Цербс), и у нее не было предубеждений ни в пользу, ни
против ее новой родины. По крайней мере формально она имела абсо-
См. подробное обсуждение этого в кн.: Милюков П.Н. Очерки по истории
русской культуры: В 3 т. СПб., 1901. См. также: Макогоненко Г. Новиков и
русское Просвещение XVIII века. М.; Л., 1951. Глава 4.
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 15
лютную власть; более того, она владела страной, где древние
традиции, которые могли бы оказаться препятствием разумной воле
просвещенного властителя, были ниспровергнуты либо подорваны
насильственными реформами Петра Великого. Дидро особенно
подчеркивал именно это последнее обстоятельство. В своей записке
Екатерине, озаглавленной Essai historique sur la Police, он заявил, что во
Франции реформировать существующее законодательство
невозможно, поскольку оно слишком ограничено традиционными
отношениями собственности, тогда как в России «к счастью, Ваше
Императорское Величество все может и, к еще большему счастью, оно ничего не
хочет, кроме хорошего». В России Петра Великого Дидро видел
страну, в которой возникает общество, свободное от окаменелостей
древних традиций; такая страна представляет собой особенно податливый
материал для творческой воли мудрого законодателя: «Как счастлив
народ, у которого ничего не сделано!»1
Придя к власти, Екатерина вступила в оживленную переписку с
французскими энциклопедистами (Вольтером, Дидро и Гриммом).
Она называла себя их ученицей и обещала осуществить их планы.
Ввиду трудностей, возникших при издании «Энциклопедии» во
Франции, она даже предложила печатать последующие тома в России.
В «Республике философов» к этому отнеслись с энтузиазмом. В
письме к Дидро Вольтер писал: «В какое удивительное время мы живем!
Франция философию преследует, а скифы предлагают ей свою
защиту». Екатерина старалась создать впечатление, что она по существу -
республиканка и имеет своей целью постепенную отмену деспотизма.
Она даже пыталась завязать отношения с таким радикальным
мыслителем, как Руссо, и пригласила его в Россию. Руссо не принял ни
приглашения, ни предложенных ему ста тысяч рублей: он назвал это
попыткой «русского тирана» очернить его имя в глазах потомства.
Однако на других философов-просветителей жесты Екатерины произвели
ожидаемое впечатление. Дидро писал Вольтеру, что Екатерина
соединяет в себе «душу Брута с чарами Клеопатры», а в письме к самой
Екатерине он заявил: «Великая царица, простираюсь у ваших ног, протягиваю
вам мои руки; хотел бы говорить с вами, но мое сердце сжимается,
кружится голова, путаются мысли, я тронут, как ребенок».
1 Цитирую по: Плеханов Г.В. История русской общественной мысли // Указ. соч.
Т. 1.С. 145. Плеханов также ссылается на письмо Фонвизина (см. о нем ниже) из
Монпелье: «Если здесь прежде нас жить начали, то по крайней мере мы, начиная
жить, можем дать себе такую форму, какую хотим, и избегнуть тех неудобств и зол,
которые здесь вкоренились. Nous commençons et ils finissent («Мы начинаем, а они
кончают». - Прим. перев.). Идея «привилегии отсталости» позднее была подхвачена
Чаадаевым, а также Герценом, Чернышевским и народниками.
16 Анджей Валицкии. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Следующим шагом, сделанным Екатериной с целью приобрести
репутацию «просвещенного монарха», были важные законодательные
изменения. В 1767 году она созвала «Комиссию об Уложении» для
составления новых законов и сама написала для Комиссии «Наказ»,
весьма вольно используя в нем формулировки, заимствованные из
сочинений Монтескье и Беккариа. Она утверждала, что верит в теорию
естественного права, и обещала превратить Россию в процветающее
государство, в котором будут уважать естественные права людей. «Боже
сохрани, - торжественно заявила она, - чтобы после окончания сего зако-
законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно,
больше процветающ на земле; намерение законов наших было бы не
исполнено: несчастье, до которого я дожить не желаю».
Одно примечательное обстоятельство заставляет усомниться в
искренности этой радикальной декларации: роскошное издание
«Наказа» было опубликовано на нескольких языках для иностранных
читателей, но Екатерина запретила широко распространять его в пределах
самой России.
Комиссия об Уложении состояла из 564 представителей
различных уездов, включая более 100 делегатов от государственных
крестьян. Однако крепостные, которые составляли более половины
русского крестьянства, не имели своего представительства. Их судьба была
решена еще до того, как Комиссия была сформирована. Дело в том,
что вскоре после своего вступления на престол Екатерина
совершила множество путешествий по всей России и получила за это
время более 500 различных прошений от крестьян. В результате уже
в 1765 году был издан закон, запрещавший крестьянам подавать
жалобы на своих хозяев. Одновременно с этим помещики получило
право наказывать своих крепостных высылкой в Сибирь.
По словам Пушкина, Комиссия Екатерины была только
«непристойно разыгранной фарсой». Заседания превратились в
торжественные славословия императрице. Однако некоторые делегаты
осмелились высказывать соображения, которые выходили за пределы того,
что предлагалось в «Наказе»: Ю. Козельский, например, жестко
критиковал привилегированное положение родового дворянства; купцы
потребовали расширения своих прав; Г.С. Коробьин и представитель
государственных крестьян И. Чупров решились даже просить
смягчения крепостного права «разумным и гуманным» законодательством.
Споры начали выходить из-под контроля, и не приходится особенно
удивляться тому, что Екатерина воспользовалась началом войны с
Турцией (1768) как предлогом для того, чтобы распустить Комиссию,
которая впоследствии больше не собиралась.
Эпизод с «Комиссией об Уложении» имел и другую сторону.
Неудачный эксперимент знаменовал собою провал не только лицемер-
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 17
ного деспота, но и «просвещенного монарха». Отношение общества к
выборам в Комиссию не могло не породить печальных размышлений:
большинство электората, явным образом, считали свои функции
представительства бременем, которого каждый стремился избежать.
Бывали случаи, когда выбирались самые непопулярные люди, и такие
делегаты комически жаловались, что их выбрали «по злобе». Прения
в Комиссии и подробные наказы, которыми снабдили делегатов, дали
Екатерине представление о неприкрашенной реальности русской
жизни. Она, несомненно, убедилась в том, что осчастливить
человечество вовсе не легко; что могущественные частные интересы зорко
охраняют status quo; и что попытки осуществить гуманные рецепты
философии Просвещения - крайне уязвимый способ обрести
популярность в таком обществе, в котором даже предложение отменить
пытки при допросах преступников вызывало упорное сопротивление.
Заигрывание Екатерины с французскими philosophes тоже ни к
чему не привело; по существу, только Гримм стал своего рода агентом
императрицы. Дидро, Даламбер и Вольтер (который во время работы
Комиссии сравнивал Екатерину с Солоном и Ликургом) скоро
разочаровались в своей самозваной ученице. Правда, они продолжали
восхвалять ее, но лишь затем, чтобы сохранить хоть какое-то на нее
влияние. То, что Екатерину не обманули эти уловки, показывает одно из
ее писем Гримму, в котором она пишет, что «эти люди часто говорят
одно, а думают совсем другое». Ее отношение к энциклопедистам
тоже становилось все более неопределенным. Несмотря на упорные
напоминания Дидро и торжественные заверения самой Екатерины,
новое отредактированное издание Encyclopédie так никогда и не было
опубликовано в России. В 1773 году Дидро сам посетил Россию. Его
записи долгих разговоров, которые он вел с Екатериной во время
пятимесячного пребывания в Санкт-Петербурге, - захватывающее
чтение1.
Петербург произвел на Дидро удручающее впечатление: в этом
городе огромных дворцов и правительственных зданий все говорило о
неограниченной власти самодержавия; не было видно обычных улиц,
никаких признаков активной и независимой общественной жизни.
«Долгая привычка к гнету, - записал Дидро, - создала общую
сдержанность и недоверие - какой-то осадок панического страха в умах -
полный контраст той благородной и честной прямоте, которая
характеризует свободный, возвышенный и уверенный в себе склад ума
француза или англичанина». На вопрос «Почему Россия управляется
хуже Франции?» - Дидро отвечал: «Потому что свобода личности
сведена здесь к нулю, верховная власть еще слишком сильна, а есте-
1 Опубликованы в кн.: TourneuxJ.M. Diderot et Catherine II. Paris, 1899.
18 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ственные права слишком еще урезаны...». Он пытался убедить
Екатерину в том, что «справедливый и просвещенный» деспотизм
представляет собой такую же большую опасность, как и всякий другой
деспотизм, поскольку он побуждает народ впасть в «сладкий, но
мертвый сон». «Три таких государя, как Елизавета, и англичане были
бы нечувствительно порабощены надолго», - сказал Дидро
Екатерине, которая ответила неопределенным согласием.
На вопрос Дидро, существуют ли законы или указы,
регулирующие отношения между помещиками и их крестьянами, Екатерина
могла ответить только, что гарантии закона не являются
необходимостью, поскольку «каждый деревенский труженик заботиться о своей
корове, которая дает ему молоко».
Дидро старался напомнить Екатерине о данном ею обещании
созвать Комиссию об Уложении и даже побуждал ее превратить
Комиссию в постоянный представительный орган. «Вы, значит, советуете
мне устроить парламент на английский образец?», - спросила она его.
Он ответил: «Если бы Ваше Величество могли создать его по
мановению волшебного жезла, то я думаю, завтра он уже существовал бы».
Дидро старался произвести на Екатерину впечатление, описывая
разнообразные блага, которые принесет учреждение в России
парламента: «Словом, если даже это учреждение будет одним только
призраком свободы, оно все-таки будет иметь влияние на национальный дух.
Нужно, чтобы народ или был свободен, - что, конечно, самое
лучшее, - или, по крайней мере, чтобы он считал себя свободным, так как
такая уверенность влечет за собой самые ценные результаты».
Возвращаясь из России на родину, Дидро перечитал «Наказ»
Екатерины и сделал свои комментарии. Среди прочего, он предположил,
что если бы Екатерина на самом деле желала отказаться быть
деспотом, она официально сложила бы с себя абсолютную власть. Затем он
еще раз отметил, что народ имеет право свергнуть монарха,
нарушившего закон, и даже приговорить его к смерти. Екатерина
получила возможность прочитать эти комментарии только после смерти
Дидро, и вполне понятно, что ее реакция была далеко не
восторженной. В письме к Гримму она пренебрежительно отозвалась о них так:
«Это - сущий вздор, в котором нет ни знания обстоятельств, ни
благоразумия, ни предусмотрительности».
Позднее Екатерина пыталась дискредитировать Дидро: она
представляла его как наивного, далекого от жизненной практики
мечтателя. Она любила повторять свой ответ на его проекты: «Вы, философ,
работаете на все терпящей бумаге, а я, бедная императрица, работаю
на щекотливой человеческой шкуре». В этих словах, говоря вообще,
была немалая доля истины, хотя в данном конкретном случае
совершенно очевидно, что наивны были не столько проекты Дидро (он был
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 19
готов внести необходимые коррективы в свои взгляды), сколько его
вера в добрые намерения Екатерины.
Следует добавить, что пребывание Дидро в России совпало с
началом восстания Пугачева и оказалось совсем не ко времени.
Пугачевский бунт (1773-1774) был крестьянским восстанием, которым
руководил донской казак, объявивший себя спасшимся царем
Петром III. Пугачев обещал крестьянам «землю, луга и леса», а также
«бороды», то есть возвращение к старым традициям допетровской
Руси. Восстание получило широкую поддержку: к Пугачеву
присоединились рабочие с уральских заводов и башкирские племена; это
была самая большая в российской истории крестьянская война,
ставшая серьезной угрозой для империи.
После подавления восстания Екатерина вступила в новый этап
своей, как она сама это называла, «законодательной мании». Она
отвергла теорию естественных прав и прежним наставникам Монтескье
и Беккария предпочла теперь консервативного английского правоведа
Вильяма Блэкстоуна. В ее новом законодательстве трезвый деловой
тон сменил прежнюю либеральную фразеологию; основная цель
новых законов состояла в том, чтобы усилить позиции помещиков
посредством учреждения органов самоуправления, подчиненных
царской бюрократии. Екатерина теперь называла свой «Наказ»
«болтовней» и подвела итог законотворческим усилиям на раннем этапе
своего правления следующим образом: «Мое честолюбие не было
дурно, но, может быть, я слишком много взяла на себя, поверив, что
люди могут сделаться разумными, справедливыми и счастливыми».
Не менее важным симптомом было то, что Екатерина отвернулась
от распространенных в аристократических салонах галломании и
плоского вольтерьянства и обратилась к примитивному
национализму, характерному для мелкого провинциального дворянства. Раздел
Польши и свою политику на Балканах императрица оправдывала
теориями, предвосхитившими панславизм; она заинтересовалась
традициями старины и погрузилась в русскую историю. Среди прочего
Екатерина лелеяла мысль показать, что названия гор. и рек во
Франции и Шотландии - славянского происхождения; что династия Меро-
вингов имеет славянские корни и что даже имя «Людовик»
(Люд+двиг) тоже славянское. В своей книге под характерным
заглавием «Антидот», написанной в полемике против злобных заметок
князя де Шаппа о России, Екатерина предприняла попытку доказать,
что Россия - процветающая страна, превзошедшая Западную Европу в
соблюдении законов и уровнем жизни своего народа.
Французская революция нанесла последний удар по либеральным
проектам императрицы. Сначала Екатерина приписала случившееся
только тактическим промахам Людовика XVI; в разговоре с князем
20 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Храповицким она сказала, что на месте французского короля «Лафай-
ета честолюбивого взяла бы к себе и сделала своим защитником!
Заметь, что делала здесь с восшествия».
Это признание во многом проливает свет на тактику Екатерины,
включая и ее отношения с французскими philosophes. Однако
последующие события с очевидностью показали, что бывают ситуации
настолько серьезные, что к ним подобная тактика неприменима. Казнь
короля Франции подействовала на Екатерину, как удар «обухом по
голове», и привела к тому, что она окончательно разошлась с
энциклопедистами. Их бюсты были по высочайшему повелению убраны из
Эрмитажа один за другим, пока не остался один только бюст
Вольтера. Но и Вольтер, в конце концов, был изгнан в дворцовый подвал.
В это же самое время Екатерина подвела черту в своем отношении
к мыслителям русского Просвещения: Радищев в 1790 г. был сослан
в Сибирь, а Новиков в 1792-м без суда заключен в Шлиссельбургскую
крепость.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ В РОССИИ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Совершенно независимо от того, как на самом деле Екатерина
относилась к идеям «века Разума», сама атмосфера в ранний период ее
правления благоприятствовала широкому притоку в Россию
французской просветительской мысли и вообще значительно большему, чем
прежде, интересу к философии. Это помогло ослабить влияние воль-
фианства (которое в 1750-е гг. возобладало в Московском
университете, в Санкт-Петербургской академии наук и даже в русских
духовных академиях1) и привело к появлению в России подлинной
«просветительной» философии, которой занимались профессиональные
философы и которая была свободна от влияния религии .
Характерной фигурой в этом философском течении был Яков
Козельский (умер после 1793 г.)3. Козельский родился около 1728 г. на
Украине, образование получил в Академии наук в Санкт-Петербурге;
в 1768 г. он опубликовал свои «Философические предложения» - пер-
1 См. Коган ЮЛ. Просветитель XVIII века Я.П. Козельский. М., 1958.
С. 101-102.
Главные произведения обсуждаемых в этом разделе мыслителей -
Козельского, Аничкова и Десницкого - перепечатаны в книге: Избранные
произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. М., 1952. Т. 1. (С
предисловием И.Ю. Шипанова.)
Его следует отличать от его брата и тезки, делегата Комиссии для
Уложения.
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 21
вое систематическое изложение философских идей, предпринятое
русским автором. В этой книге еще заметны следы влияния
философии Вольфа (оно сказывается в схематическом расположения
материала и в том, что главное внимание уделяется определениям, а не
анализу), но еще больше бросается в глаза - попытка освободиться от
этого влияния. Популярные учебники по логике, метафизике и
этической философии, написанные учеником Вольфа Баумейстером,
Козельский подвергает строгому критическому анализу, высмеивая
педантизм и поглощенность формалистическим конструированием
бессмысленных проблем. Сам Козельский разделял взгляды деизма и не
пытался строить систему «естественной теологии». Он отстаивал
самостоятельность философии против телеологических тенденций и
попыток использовать философию исключительно в целях
оправдания божественного Провидения и теологической догмы, как это
характерно для Вольфовой апологетики. Козельский также критикует
идеализм Вольфа и отвергает представление о душе как полностью
автономной духовной монаде. В своем понимании проблемы
взаимоотношения души и тела Козельский ближе к материализму (хотя
прямо он не утверждал этого), а по вопросу о бессмертии, что
примечательно, он вообще не стал высказываться. Авторитету школы Вольфа
Козельский противопоставляет авторитет Вольтера, Гельвеция,
Монтескье и Руссо; в моральной философии он ссылался на Шефтсбери,
которого читал во французском переводе. Насколько Козельский
интересовался французской философией и был широко начитан в ней,
свидетельствует тот факт, что через два года после появления
«Философических предложений» он напечатал свой собственный перевод
статей по философии и (отдельным изданием) по философской этике,
включенных в Encyclopédie Дидро.
Козельский определяет философию как науку, которая исследует
причины «природных», «логических» и «этических» истин. Она
подразделяется у него на теоретическую философию, которая включает
логику (или, иначе, общую теорию познания), метафизику
(онтологию и психологию) и практическую философию; последняя, в свою
очередь, включает юриспруденцию (этику и правоведение) и
политику. В теории познания Козельский придерживался умеренного
сенсуализма: он цитирует Гельвеция, но выступает против сведения
понятий к чувственным восприятиям. Онтологию он определяет как науку
о вещах, а «вещь» - как всё, что «возможно»; однако внутренняя
сущность вещей нам не известна (тезис, целью которого было
защитить философию от опасности впасть в схоластику). В
психологии - науке, которая имеет дело с сущностями, наделенными волей и
душой, - Козельский всецело опирается на трактат Гельвеция «Об
уме»; но для того чтобы избежать открытого конфликта с церковью,
22 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
он приглушил основные свои аргументы, несколько эклектически
объединив их с отдельными идеями Вольфа.
В практической философии, по Козельскому, важнейшая роль
принадлежит этической философии. Хотя книга его носила в
основном теоретический характер, Козельский преследовал сугубо
практическую цель, надеясь, что гуманные принципы, представленные в его
книге, как-то повлияют на работу Комиссии для Уложения.
Козельский принимал теорию естественного права, и это привело его к
осуждению деспотизма; и, хотя он поддерживал просвещенный
абсолютизм, он все же предполагал, что с теоретической точки зрения
самая совершенная система - республиканизм. Невежество простых
людей, писал Козельский, достойно сожаления, но для того чтобы они
смогли «избавиться» от него, необходимо улучшить условия их
жизни. Он восхищался Руссо как крупнейшим представителем
«практической философии» и разделял его идеализацию естественного
состояния; но в то же время он признавал (как и сам Руссо), что это
первоначальное состояние безвозвратно утрачено, и в существующих
условиях нужно прилагать все усилия для того, чтобы
воспользоваться как раз положительными сторонами общественного состояния. Он
осуждал роскошь и крайние формы неравенства, защищал
достоинство ручного труда и даже высказывался за идеал восьмичасового
рабочего дня. В этике Козельский следовал скорее за Шефтсбери, чем за
Гельвецием, и ставил добродетель выше разума, а нравственный
уровень человека - выше его интеллектуальной образованности. Он
считал, что поведение людей должно руководствоваться добродетелью, а
не просвещенной корыстью, поскольку добродетель порождает
солидарность и взаимопомощь. Он даже предлагал, чтобы нуждающимся
людям, которые попали в беду, общество обеспечивало помощь.
Политика тоже должна основываться на этических принципах;
Козельский определял политику как такую науку, которая занимается
осуществлением справедливых целей самыми эффективными и
справедливыми средствами. Признавая необходимость защиты государства
извне, он осуждает захватнические войны (включая колониальные
завоевания) и утверждает, что способность защитить свое государство
зависит не только от силы армии, но также - и даже больше всего - от
отношений внутри государства.
Через двадцать лет после «Философических предложений»
Козельский опубликовал философский диалог под названием
«Рассуждения двух индийцев Калана и Ибрагима о человеческом познании»
(1788). Этот диалог, который по замыслу автора был только первой
частью более обширного труда, содержал философские размышления
на темы естественной истории, во многих отношениях сближавшиеся
с материалистическим подходом.
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 23
Важный вклад в повышение уровня философской дискуссии в
России внес Дмитрий Аничков (1733-1788) - философ и математик,
профессор Московского университета. Он написал такие
произведения, как «Рассуждение из натуральной богословии о начале и
происшествии натурального богопоч итания»(1769), «Слово о свойствах
познания человеческого и о средствах, предохраняющих ум
смертного от разных заблуждений» (1770), опыт на латинском языке Annota-
tiones in Logicam et Metaphysicam (1782) и трактат «Слово о разных
способах, теснейший союз души с телом изъясняющих» (1783).
Самое раннее из этих произведений является, бесспорно, самым
оригинальным и в то же время наиболее характерным для
просветительской мысли. В нем Аничков объясняет происхождение религии
страхом первобытного человека перед явлениями природы,
«галлюцинациями» или игрой воображения, а также «восхищением» или
культом героев - обожествлением невежественной массой отдельных
людей, наделенных исключительной физической силой, ловкостью и
талантом. Рассматривая превращение религии в организованный
культ, Аничков подчеркивает, что материальные интересы
священников и теократических правителей заставляли их вести сознательно
двуличную политику. Аничков опирался здесь в основном на De re-
rum natura Лукреция и на описания путешественниками XVIII века
верований первобытных народов. Воззрения, высказанные в
«Рассуждении...», внешне относились только к языческим религиям, но, тем
не менее, они вызвали резкий отпор в клерикальных и консервативно-
академических кругах. По приказу Синода почти все издание было
публично сожжено, уцелело только несколько экземпляров. Позднее
Аничков получил разрешение на публикацию нового издания
«Рассуждения...», но лишь при условии, что он внесет ряд существенных
исправлений. Ему также пришлось изменить название своего
трактата, чтобы не оставалось сомнения в том, что сочинение его касается
только религий «непросвещенных народов».
В работе о познании, в которой разбиралась теория врожденных
идей, Аничков поддерживает воззрение, согласно которому в разуме
нет ничего, чего первоначально не было бы в чувствах. В то же время
он вслед за Козельским выступает против крайностей сенсуализма,
утверждая, что процесс познания включает три стадии: чувственное
восприятие; упорядочивание чувственных впечатлений в понятиях;
наконец, мышление с помощью этих понятий. Перечисляя источники
заблуждений, Аничков с одобрением описывает теорию Бэкона об
идолах и высказывается в поддержку картезианского принципа
методического сомнения. В отдельном сочинении, посвященном
препятствиям, стоящим на пути познания (опубликовано в 1774 г.), он
высказывает, среди прочего, типично просветительские взгляды на роль
24 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
воспитания и окружающей среды в интеллектуальном развитии,
отмечая при этом вредные последствия контактов с суеверными
массами.
В сочинении о взаимоотношении души и тела Аничков разбирает
материалистические, идеалистические и дуалистические теории;
среди сторонников дуализма он выделяет окказионалистов, которые
верили в Лейбницеву «предустановленную гармонию», и
перипатетиков. Предпочтение Аничков отдает перипатетикам, поскольку
представление о том, что душа воздействует на тело, им было ближе, чем
представление о двух совершенно независимых друг от друга порядков
явлений. Решающее значение в этом выборе имела этическая сторона
дела: Аничков отвергает дуализм тела и души, на котором основываются
системы Лейбница и Мальбранша; дуализм, по его мнению, подрывает
основания нравственности, допуская, что душа не несет ответственности
за грехи плоти, перед которыми она беспомощна.
Теорию происхождения религии, напоминающую теорию
Аничкова, выдвинул Семен Десницкий (умер в 1789 г.) в сжатом сочинении
«Юридическое рассуждение о вещах священных, святых и принятых
в благочестие» (1772). В нем Десницкий тоже выводит религию из
страха, невежества и антропоморфизма, хотя он и делает исключение,
естественно, для христианства. Десницкий - этот первый в России
философ-юрист, автор адаптированного перевода первых трех томов
Commentaries on the Laws of England Блэкстоуна, - был, вероятно,
самым выдающимся и, быть может, даже самым оригинальным
мыслителем Просвещения в своем поколении. Он происходил из семьи
украинских купцов, образование получил в Московском университете
и потом в Глазго, где учился под руководством Адама Смита.
Вернувшись в 1767 году в Россию, он занял кафедру правоведения в
Московском университете. Важнейшее формообразующее влияние на
его интеллектуальное развитие, несомненно, оказало его пребывание
в Шотландии, где он пришел к выводу, что не столько Франция,
сколько Великобритания является родиной философии. В своем
сочинении «Слово о прямом и ближайшем способе к научению
юриспруденции» ( 1768) он ссылается на Гоббса, Сиднея, Локка, Беркли, Ман-
девиля, Болинброка, Харингтона, Хатчесона и, прежде всего, на
великих шотландских ученых - Дэвида Юма и Адама Смита. Хочется
добавить к этому перечню имя Адама Фергюсона, поскольку весьма
вероятно, что именно его влияние объясняет самую характерную
и ценную сторону социальной философии Десницкого, а именно - его
способность воспринимать общественные явления как часть
исторического, эволюционного процесса.
Используя Пуфендорфа как образец, Десницкий критиковал
традиционную абстрактную теорию естественного права: он считал, что
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 25
вместо того чтобы писать о «вымышленных состояниях рода
человеческого» уместнее изучать исторический генезис и эволюцию
владения, собственности и права наследования. Этот ход мысли он
проводит в сочинении «Юридическое рассуждение о разных понятиях,
какие имеют народы о собственности имения в различных состояниях
общежительства» (1781). В этой своей работе Десницкий выделяет
четыре стадии социальной эволюции в зависимости от
экономического критерия: охоту, скотоводство, хлебопашество и (как высшую
стадию эволюции) обмен, «состояние коммерческое». Каждая из этих
стадий, писал Десницкий, связана с определенной формой владения;
частная собственность появляется только на стадии хлебопашества,
а частное владение в полном смысле слова (т.е. право свободно
распоряжаться данной вещью и отбирать ее у всякого, кто приобретет ее
незаконным путем) появляется только на стадии коммерции, взамен
прежней формы владения. Законы и формы правления зависят от
общественных отношений, существующих в данном сообществе, а
также от соответствующих им форм собственности.
Десницкий полагал, что эволюция семьи подчиняется
аналогичным законам. В своем «Юридическом рассуждении о начале и
происхождении супружества» (1775) он утверждает, что половые
отношения тесно связаны с фазами социальной эволюции: на стадии охоты
не было институциализированных форм брака; на стадии скотоводче-
ства возникла полигамия; на стадии хлебопашества утвердилась
патриархальная моногамия; наконец, на стадии коммерции (хотя
принцип моногамии здесь удержался) созрели условия для
предоставления равных прав женщинам - этот шаг Десницкий горячо
поддерживает.
Взгляды Десницкого на происхождение государственной власти
тоже достойны внимания. Он избегает понятия «общественный
договор», считая государство продуктом исторического развития,
возникшего из естественного неравенства людей1. Для первобытных
людей главным была физическая сила, и вождя они выбирали среди
тех, кто особенно выделялся в этом отношении. На более поздних
исторических стадиях интеллектуальное неравенство играло все
большую роль, так что чем дальше, тем нужнее становились хитрость, ум
и способность предвидения. На стадии коммерции богатство стало
решающим фактором; именно оно и самый доступ к нему отныне
определяют степень влияния правящей элиты. Десницкий полагал,
что из-за этого же возникают и некоторые отрицательные черты
общественной системы на стадии обмена, и в своих примечаниях к пе-
1 См.: Utechin S. V. Russian Political Thought. A Concise History. New York and
London, 1964. P. 55.
26 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
реводу Блэкстоуна он подчеркивал, что лоббирование посредством
«миллионщиков» оказывает вредное влияние на способ правления и
юридическую систему Англии . Тем не менее, Десницкий уверен, что
стадия обмена - высшая, поскольку никто, по его мнению, так не
способствует силе, богатству и единению государства, а равно и победе
централизующих общественных тенденций над децентрализующими,
как купеческое сословие.
Данный нами краткий обзор делает понятным то обстоятельство,
что социальная философия Десницкого по своему характеру глубоко
буржуазна. Это становится еще более очевидным там, где он
попытается дать ей практическое применение. В 1768 году, в связи с
учреждением Комиссии для Уложения, Десницкий представил Екатерине
предварительный проект под названием «Представление о
учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в
Российской империи». Согласно этому плану, представительный орган,
называемый «Сенатом», должен был собираться каждые пять лет;
формально этому органу принадлежала только совещательная
функция, но не подлежит сомнению, что Десницкий хотел закрепить за
ним какую-то форму контроля и ограничения абсолютизма. Сенат, по
замыслу автора проекта, состоял из 600-800 лиц, которых выбирали
не только дворяне (включая обедневшее, безземельное дворянство),
но также и купцы, духовенство и университетские преподаватели.
Если бы проект Десницкого был проведен в жизнь, то делегаты из
средних классов и «разночинцы»2 играли бы важную - если не ведущую -
роль в представительном органе страны.
Проект Десницкого призывает также к реорганизации сыскной
полиции, администрации и юридической системы (среди прочего -
путем введения открытых судов). Затрагивается в нем и крестьянский
вопрос, но здесь Десницкий ограничился несколькими скромными
предложениями, как, например: запретить продажу безземельных
крестьян и не разбивать крестьянскую семью против ее воли ради
того только, чтобы пополнить число слуг в доме помещика.
Имена Козельского, Аничкова и Десницкого были вскоре забыты;
их заново открыли только советские ученые. В целом это забвение
было несправедливым: хотя все трое, возможно, и не были
выдающимися мыслителями и не обладали большим литературным талантом,
но, тем не менее, они были первопроходцами русского
философствования, людьми, которые стояли у истоков новых философских и
общественных идей, обращенных в будущее.
1 См.: Избранные произведения... Цит. изд. Т. 1. С. 290-291.
2 Термин «разночинцы» применялся к образованным людям различного
социального происхождения, которым приходилось обеспечивать себя своим
собственным трудом. Стоит отметить, что этот термин использовал уже Десницкий.
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 27
НИКОЛАЙ НОВИКОВ И МАСОНСТВО
В соответствии с духом «века разума», который любил
использовать популярные литературные формы для пропаганды своих идей,
главным представителем гуманитарных идей в России
восемнадцатого столетия был не профессиональный философ и не университетский
преподаватель, а писатель и сатирик Николаи Новиков (1744-1818).
Семья Новикова принадлежала к обедневшему провинциальному
дворянству. Новиков учился в средней школе при Московском
университете, но по какой-то причине не сумел завершить свое образование.
Всю свою жизнь он сожалел о разного рода пробелах в своем
образовании, особенно о плохом знании иностранных языков. В 1767-1768 гг. он
был одним из секретарей Комиссии для Уложения: вел протоколы
комитета, созданного для учета «членов среднего сословия», а иногда и
членов главной Комиссии. Эта работа позволила ему составить широкое
представление о социальных проблемах эпохи, особенно о том, как эти
проблемы влияли на «среднее сословие» и даже на крестьян. Весьма
вероятно, что опыт работы в Комиссии оказал влияние на всё, что Новиков
делал в будущем. После того как Комиссия была распущена, Новиков
с огромной энергией отдался изданию сатирических журналов - не
только как издатель, но и как редактор и основной автор1.
Первый русский сатирический журнал «Всякая всячина» начал
издаваться по инициативе самой Екатерины. Этим она хотела показать,
что, несмотря роспуск Комиссии, она не собирается отказываться от
своего просвещенного либерализма. Журнал официально издавал
личный секретарь Екатерины Козицкий, но в литературных кругах все
знали, что подлинным редактором была сама Екатерина. В первом
номере журнала она стала побуждать литераторов в России
последовать ее примеру. Это делалось для того, чтобы пробудить
общественную инициативу и использовать ее для поддержания политики
правительства. Усилия Екатерины имели значительный успех - пожалуй,
даже больший успех, чем ей хотелось. Вскоре появилось множество
сатирических журналов. Екатерина своим журналом пыталась играть
роль «бабушки», у которой другие члены семьи ходят по струнке,
а критика не выходит за твердо очерченные рамки; но осуществить
задуманное оказалось не так-то просто.
Самым интересным и смелым из неблагодарных «внуков»
оказался журнал Новикова «Трутень», который выходил в свет как
еженедельник в 1769-1770 гг. Начиная с первого номера, Новиков начал
обсуждать рекомендацию Екатерины насчет того, что сатире следует
1 Сатирические сочинения Новикова подробно обсуждаются в кн.: Благой Д.
История русской литературы XVIII в. М., 1946.
28 Анджеи Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
быть «веселой и добродушной»: сатирик, считала императрица, не
должен забывать о своей обязанности любить своих
соотечественников, а также указывать на положительные примеры. В ответ на
угрозы, появлявшиеся на страницах «Всякой всячины», Новиков
остроумно напомнил Екатерине о правилах литературного жанра, которые
установила она сама, и позволил себе ядовитые намеки в адрес самой
императрицы. Острая (хотя и косвенная) критика
Екатерины-редактора чередовалась в «Трутне» с панегириками
Екатерине-императрице. На протяжении некоторого времени эта тактика позволяла
Новикову продолжать свою острую социальную сатиру и безжалостные
нападки на «Всякую всячину». Наконец Екатерина потеряла терпение
и решила прибегнуть к административным мерам. Сначала она ввела
строгую цензуру, а позднее решила вообще закрыть сатирические
журналы. Даже журнал «Всякая всячина» прекратил свое
существование, и вскоре после этого «Трутень» сообщил своим читателям, что
он должен расстаться с ними, хотя и «против своего желания».
Новый шанс появился у Новикова в 1772 г., когда в Петербурге
поставили на сцене комедию Екатерины «О время!», в которой
высмеивалась консервативная аристократическая оппозиция. Новиков
знал, как угодить тщеславию Екатерины: ссылаясь на
покровительство не только императрицы, но и автора новой комедии, он получил
разрешение на издание нового журнала - «Живописец».
Основными мишенями сатиры Новикова были плохие и глупые
помещики - люди, которые хвастались своим благородным
происхождением, но при этом были жестоки и не приносили никакой
пользы обществу. Самое замечательное из его сатирических произведений -
«Отрывок путешествия», напечатанный в одном из первых
номеров «Живописца». Он представляет собой впечатляющее описание
«опустевшей деревни», «обиталища плача», где стонут под ярмом
«жестокого тирана». До Радищева не было в России такого страстного
осуждения крепостного права. Не удивительно поэтому, что
впоследствии многие ученые приписывали авторство «Отрывка путешествия»
молодому Радищеву.
Основное отличие «Отрывка путешествия» от «Путешествия из
Петербурга в Москву» состоит в том, что Радищев изображает
крестьян, способных на протест и даже бунт, тогда как у Новикова
крестьяне - послушные и кроткие. В том, как обращался Новиков к
общественному сознанию, не было и тени нападок на дворянство как
класс, но, тем не менее, «Отрывок...» вызвал крайнее возмущение
во влиятельных кругах, и «Живописец» перестал выходить в июле
1773 г., просуществовав только один год.
Каким представлением об обществе руководствовался Новиков в
своей сознательной критике условий русской жизни? Совершенно
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 29
очевидно, что его идеалом была патриархальная монархия,
возвышающаяся над всеми частными интересами и объединяющая все
сословия в едином стремлении к общему благу. В этой системе
представлений дворянство не владело крестьянами и не имело власти над ними,
но, скорее, являлось ответственным посредником между
крестьянством и высшей властью. Выполняя эти надзирательные функции,
дворянство, как думал Новиков, должно действовать «по-отечески»,
опекая своих крестьян и оказывая помощь в случае наводнения,
пожара, плохого урожая или какого-либо другого стихийного бедствия.
Новиков сам понимал, насколько далека эта патриархальная идиллия
от русской действительности; но в то же время он сохранял веру в
идеал хорошего помещика, который должен быть отцом для своих
крестьян, и веру в хорошего царя, который должен быть отцом для
своего народа.
Эта патриархальная утопия имела мало общего с буржуазной
идеологией «века разума» - идеологией, которая требовала заменить
отношения личной зависимости отношениями, основанными на
безличном, рациональном законодательстве. Новиков полагал, что
народное благосостояние основывается на сельском хозяйстве, и не
симпатизировал буржуазным тенденциям. Он, правда, испытывал
уважение и даже симпатию к купеческому сословию, но не видел
необходимости в индустриальном капитале и презирал всяческие
финансовые махинации. Если присмотреться к его общественному
идеалу, то обнаруживается, что это - идеализация некоторых сторон
социальных отношений в допетровской России.
Читатели изданий Новикова в большинстве своем принадлежали к
мелкопоместному и среднепоместному дворянству, к средним и
купеческим слоям общества. Можно с полным основанием даже назвать
Новикова русским идеологом «третьего сословия». Не нужно только
забывать, что в России третье сословие не было революционной
силой, способной свергнуть феодальную систему.
Очень характерным элементом в идеологии «русского третьего
сословия» была франкофобия, направленная главным образом против
бездумно подражавших всему французскому аристократов и богатых
дворян. Не разделяя крайностей франкофобии, Новиков, однако, тоже
осуждал все более распространявшееся подражание французским
образцам. В своем «Трутне» он подверг критике преобладавшее в
высшем обществе презрение к народным обычаям, безоглядное
увлечение последними парижскими модами и другие недостатки «молодых
аристократических поросят», воспитанных на французский манер.
Выше говорилось о том, что Екатерина тоже стала проявлять
интерес к национальным традициям и заботиться об их поддержании
после того, как ее контакты с энциклопедистами потерпели фиаско.
30 Анджей Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Новиков, который пользовался огромной популярностью, на момент
этой политической переориентации казался возможным союзником.
По этой причине Екатерина субсидировала его «Древнюю
Российскую вифлиофику» - периодическое издание, в котором Новиков
печатал различные тексты, представлявшие исторический интерес.
Ссылаясь на поддержку Екатерины, Новиков в 1774 году сделал еще одну
(ставшую последней) попытку издавать сатирический журнал. Новое
периодическое издание символически называлось «Кошелек»: имелся
в виду серебряный мешочек, поддерживавший сзади волосы в парике
у тех, кто одевался по последней моде. Таким образом, само название
нового журнала указывало на то, что в нем будет вестись борьба с
культом иностранной моды.
Новиков дал волю своей франкофобии в сатире, посвященной
некоему шевалье де Менсонжу (mensonge = «ложь»), который во
Франции был искусным парикмахером, а в России сделался учителем
отпрысков аристократии, внушая своим воспитанникам ненависть к
родной стране. Его оппонент - симпатичный немец, который
защищает русских, противопоставляя подлинные жемчужины «великих
древних русских добродетелей» искусственному блеску французской
изысканности. Вот как этот немец заканчивает спор с французом:
О, когда бы силы человеческие возмогли, дабы ко просвещению
россиян возвратить и прежние их нравы, погубленные введением
кошельков во употребление; тогда бы молено было поставить их
образцом человеку. Кажется мне, что мудрые древние российские
государи якобы предчувствовали, что введением в России наук и
художеств наидрагоценное российское сокровище, нравы, погубятся
безвозвратно; и потому лучше хотели подданных своих видеть в
некоторых частях наук незнающими, но с добрыми нравами, людьми
добродетельными, верными богу, государю и отечеству1.
Казалось бы, спор закончен; но у самого Новикова, по всей
вероятности, оставались какие-то сомнения, и в следующем номере своего
журнала он напечатал письмо от якобы «неизвестного» защитника
французов. Вот какой аргумент нашел этот защитник против
любителя древнерусских достоинств:
Перестаньте понапрасну марать бумагу, ныне молодые ребята
все живы, остры, ветрены, насмешливы, они вас засмеют со всею
вашею древнею к отечеству любовию. Вам было должно родиться
давным-давно; то есть когда древние российские добродетели были
1 Новиков НИ. Избранные сочинения. М.; Л., 1951. С. 83
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 31
в употреблении, а именно: когда русские цари в первый день свадьбы
своей волосы клеили медом, а на другой день парились в бане вместе с
царицами и там же обедали; когда все науки заключалися в одних
святцах; когда разные меды и вино пивали ковшами; когда женилися,
не видав невесты своей в глаза; когда все добродетели замыкалися в
густоте бороды; когда за различное знаменование... сожигали в
срубах или из особливого благочестия живых закапывали в землю\
Новиков обещал своим читателям дать ответ на эту защиту
французских манер. Во второй части упомянутого письма он попытался
выставить своего «корреспондента» в смехотворном виде, вложив ему
в уста всевозможные преувеличения - вроде того, например, что
русских невозможно считать людьми, если они не умеют танцевать и
приветствовать друг друга на французский манер. Тем не менее,
Новиков, похоже, был не в состоянии найти новые аргументы в защиту
«древних русских добродетелей», и читатели «Кошелька» тщетно
ждали обещанного ответа".
На протяжении тех лет, когда Новиков занимался изданием своих
сатирических журналов, он, по его же словам, был «на распутье между
вольтерьянством и религией». К этому можно добавить, что Новиков
разрывался еще и между патриотическими чувствами, которые в
условиях его времени означали традиционализм, и прогрессивными, но
космополитическими представлениями Просвещения, во имя которых он
критиковал русскую действительность. В 1774 году, когда он издавал свой
«Кошелек», он пережил серьезный кризис, который еще усугубился под
влиянием шока от происходившего тогда восстания Пугачева. Выход из
кризиса предоставило Новикову масонское движение, к которому он
примкнул в 1775 году. Точнее будет сказать, что он не столько вступил в
масонскую ложу, сколько был туда принят: те, кто помогали привлечь
Новикова в орден, постарались даже обойтись без официальной
церемонии инициации для того, чтобы не оттолкнуть его от масонства3.
В XVIII веке масонское движение было самым сильным и
влиятельным среди целого ряда тайных или (в зависимости от
обстоятельств) полутайных обществ, которые выходили за национальные
границы. Идеология масонства так никогда и не была отчетливо
сформулирована; понятно, что всякое однозначное утверждение было бы
нарушением конспиративной природы этого движения и его
эзотерических учений. Разные системы и даже различные члены ложи могли
представлять совершенно разные общественно-политические убежде-
1 Там же. С. 86-87.
2 См.: Плеханов Г.В. Очерки... Ч. 3. Цит. изд. С. 307.
3 См.: Макогоненко Г. Цит. соч. С. 299-300.
32 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ния - от радикального либерализма до крайней реакции. Общей для
всех масонов была вера в братство всех людей на земле, в идеал
нравственного самосовершенствования и в пришествие золотого века.
Однако это убеждение не было связано с какой-либо программой
политических действий.
По сути дела, масонство было особой секуляризованной формой
религиозной жизни, продуктом распада феодального общества и
авторитета церкви, как и выражением полной или частичной потери
веры в традиционные религиозные убеждения. Для людей, которые,
подобно Новикову, находились на перепутье между традиционной
религиозной верой и рационализмом, масонство стало суррогатом
религии, в то время как масонские ложи с их иерархией и сложными
обрядами сделались своего рода суррогатом церкви.
В отношении к традиционной религии масонство имело двойную
функцию: с одной стороны, оно отвлекало людей от официальной
церкви и, путем рационализации религиозного опыта, способствовало
постепенной секуляризации их мировоззрения; с другой стороны, оно,
наоборот, вновь обращало людей к религии и уводило от мирской и
рационалистической философии Просвещения. Первую функцию
весьма эффективно исполняла рационалистически-деистическое
крыло масонского движения: масоны-деисты противопоставили
авторитету официальной церкви авторитет разума, отстаивая толерантность
и свободу личности. Масонство в его деистической разновидности
процветало в первую очередь в Англии, где оно имело связи с
либеральным движением, и во Франции, где оно часто выступало в союзе
с энциклопедистами. Вторую функцию масонства чаще всего
исполняло мистическое направление, хотя и оно тоже могло представлять
собой модернизацию религиозной веры, поскольку выдвигавшаяся им
форма веры была антицерковной и постулировала чреватое
серьезными последствиями углубление такой веры, которая основывалась на
прямом контакте с Богом.
Мистическая разновидность масонства преобладала в
экономически отсталых германских государствах, хотя как раз в Германии
появились иллюминаты - крайне рационалистическая ветвь масонства,
которая не отказывалась от политической активности. Масонский
мистицизм вдохновлялся главным образом сочинениями Якоба Беме и
Сент-Мартена, переведенными на русский язык. Особенно популярен
в России был Сент-Мартен, прежде всего среди «мартинистов», с
которыми был связан Новиков (название «мартинист», впрочем,
происходит не от имени Сент-Мартена, а от имени его учителя,
португальского мистика Мартинеса Паскуале).
Первые масонские ложи появились в России в середине XVIII века
во время правления императрицы Елизаветы. Однако воспоминания
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 33
известного масона И.П. Елагина дают ясное представление о том, что
первые масонские ложи больше походили на социальные клубы для
утонченного общества и мало что могли предложить в смысле
интеллектуального или духовного импульса. Движение стало заметным
только в период правления Екатерины II, которая не скрывала
враждебного отношения к масонству. Среди масонов были самые видные
представители древнего дворянства, включая братьев Паниных и
князя Щербатова (вождей аристократической оппозиции), и такие
известные писатели, как Сумароков, Херасков и Карамзин. Даже
Радищев принадлежал к масонской ложе «Урания». Большинство масонов
происходили из дворянства, но иногда среди них попадались и
недворяне - интеллигенты или даже слуги.
Число масонских лож быстро умножилось во второй половине
1770-х годов - после восстания Пугачева. В тот период более
образованные дворяне младшего поколения оказались перед тягостной
дилеммой: крестьянское восстание прозвучало для них как ужасное
предупреждение и вынуждало отказаться от
либерально-просветительских идей; но в то же время представлялось немыслимым
возвратиться к прежним, само собой разумеющимся представлениям,
принимавшим и оправдывавшим эксплуатацию крестьян
господствующим классом. В этих условиях, казалось, не было иного выхода,
кроме бегства в индивидуалистическое самосовершенствование, во
«внутреннюю жизнь души», иными словами, в масонскую ложу.
В этой общественной атмосфере зародился также русский
сентиментализм и другие предромантические течения.
В отличие от большой части западноевропейского масонства,
движение масонов в России играло ничтожную роль в процессе
секуляризации. Православная церковь со времени Петра Великого почти
полностью утратила свой контроль над образованной элитой, и
стоявшие во главе государства (за исключением, может быть,
императрицы Елизаветы) относились к церковной власти без особого
почтения. В этих обстоятельствах масонство стало, в первую очередь,
реакцией против «вольтерьянства» просвещенного общества. Вот почему
московский митрополит Платон относился к этому движению скорее
доброжелательно, несмотря на явную враждебность к масонам
Екатерины.
Один из наиболее выдающихся масонов екатерининской эпохи,
Иван Лопухин (1756-1816), в юности был горячим сторонником
энциклопедистов. «Система природы» Гольбаха оказала на него такое
сильное впечатление, что он перевел из нее последнюю главу «Кодекс
природы», в которой воспроизводится весь предшествующий ход
мысли. Лопухин был в восторге от своего перевода и подумывал уже
о том, чтобы распространить его в более широком кругу. Но (как он
34 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
рассказывает в своих мемуарах) когда первый экземпляр был готов,
его охватили беспокойство и муки совести; он был не в состоянии
заснуть до тех пор, пока не отправил нечестивую рукопись в огонь,
и умственное спокойствие вернулось к нему лишь после того, как он
написал особую статью о «злоупотреблениях разума». Поскольку,
однако, он не мог вернуться к традиционной вере, то утешение он
нашел в масонском мистицизме'.
Интерес к мистицизму обычно имел своим следствием
постепенную утрату интереса к общественно-политическим реформам.
Лопухин был человеком самых искренних гуманных побуждений, он
приобрел широкую известность своей филантропической деятельностью,
но в то же время он был решительным противником радикальных
общественных изменений. В своем сочинении, озаглавленном
«Излияние сердца, чтущего благость единоначалия и ужасающегося, взирая
на пагубные плоды мечтания равенства и буйной свободы» (1794),
Лопухин выдвинул теорию, оправдывающую социальное неравенство
как один из законов природы: сама природа, заявил он, воплощает
принцип различия и иерархии; если бы не было неравенства, мир
потерял бы свое разнообразие, гармонию и красоту.
Другим выдающимся масоном был «разночинец» Семен Гамалея
(1743-1822), близкий друг и сотрудник Новикова. У него была
репутация святого, презиравшего материальные блага; рассказывают, что,
когда однажды ему предложили в подарок 300 крестьянских «душ» в
обмен на государственную службу в Белоруссии, он отказался на том
основании, что ему трудно обходиться и с одной душой - своей
собственной. По другой легенде, на него напали бандиты, и он отдал им
свои часы и деньги без всякого сопротивления, а вернувшись домой,
помолился о том, чтобы украденное у него не использовали в дурных
целях. В другой раз его обокрал один из его слуг, и, когда слугу
поймали, Гамалея подарил ему украденные деньги, сказав: «Ступай
с Богом»2.
Эти истории показывают, что Гамалея следовал как в теории, так и
на практике толстовскому принципу ненасильственного
сопротивления злу. Этот акцент на индивидуальной нравственности - убеждение
в том, что зло можно преодолеть только путем
самосовершенствования, - был очень характерен для идеологии русского масонства;
Милюков даже говорит о «толстовстве» восемнадцатого столетия3. Хотя
это сравнение правильно указывает на один конкретный аспект ма-
' Милюков П.Н Очерки... Т. 3. Цит. изд. С. 345-346.
" См.: Плеханов Г.В. История русской общественной мысли. Ч. III. Цит. изд.
С.279.
3 См.: Милюков П.Н. Очерки... Т. 3. Цит. изд. С. 347.
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 35
сонских убеждений, оно все же вводит в заблуждение постольку,
поскольку игнорирует тот факт, что даже евангельская этика, которую
исповедовал Гамалея, была очень далека от социального радикализма,
характерного для Толстого.
С чисто философской точки зрения, самой интересной фигурой
среди русских масонов был обрусевший немец из Трансильвании
Иоганн Георг Шварц (1751-1784). Шварц приехал в Россию в
качестве воспитателя и в 1779 г. был назначен профессором Московского
университета. Вскоре после этого он познакомился с Новиковым и
вместе с ним основал «Общество друзей науки». В начале 1780-х
годов оба они издавали два периодических издания - «Московское
издание» и «Вечернюю зарю».
Помимо двух отличавших Шварца качеств - энтузиазма и
идеализма, у него был большой педагогический талант. Он употребил все
свое состояние, приобретенное тяжелым трудом, на создание
«педагогического семинара» при Московском университете, где он готовил
будущих учителей, занимаясь с ними критическим изучением
Спинозы, Руссо и французских материалистов. С помощью своих студентов
Шварц также организовал «переводческий семинар», в котором
переводились на русский язык работы европейских философов, мистиков
и моралистов. Вынужденный после ссоры с университетским
начальством уйти из университета, он продолжал читать лекции у себя на
дому. Шварц сыграл важную роль в истории русского масонства не
только как идеолог, но также и как организатор: он учредил русскую
ветвь Ордена розенкрейцеров, с которым установил контакты во
время своего путешествия в Германию в 1781 г. Московские
розенкрейцеры образовали тайную элиту в пределах основной корпорации
русского масонства.
Шварц был не только мистиком и теософом (и преданный ученик
Якоба Бёме), он еще и страстно верил в «оккультные науки». Он
занимался алхимией и считал, что можно магическим путем проникнуть
в тайны природы и узреть ее подлинный, неискаженный лик, каким
он был до грехопадения человека. Можно, пожалуй, сказать, что
Шварц подготовил рецепцию в России натурфилософии Шеллинга1.
Шварц излагал свои идеи в статьях, публикуемых в новиковской
«Утренней заре»2. Основной темой его философии была природа
человека. Шварц различал в человеке тело, дух и душу, считая душу
продуктом химического соединения телесных и духовных элементов.
1 См.: Zenkovsky V.V. A History of Russian Philosophy, trans, by George Kline
(2 vols). London, 1953. Vol. 1. P. 97-98. <Зеньковский В.В. История русской
философии. Т. 1.4. 1. Ленинград: Эго, 1991. С. \\0-\\\.-Прим. пер.>
2 Подробнее об этом см. в «Очерках...» Милюкова. Т. 3. Цит. изд. С. 356-366.
36 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Он полагал, что животные тоже имеют душу и что человек -
посредствующее звено в цепи живых существ, которое связывает мир
животных и мир чистых духов. Тело управляется чувствами, душа -
интеллектом, а дух - «разумом». Интеллект - другими словами, та
способность, которую философы Просвещения называли «разумом», -
может действовать только посредством чувств, тогда как истинный
разум обладает способностью трансцендентального познания и может
постигать божественные истины, которые находятся за пределами
повседневного опыта. Подлинное познание совпадает с
нравственностью. Обретя абсолютное знание, человек обретет также и
абсолютную нравственность; он возродится, «поднимется после
грехопадения», и тогда начнется золотой век.
Вернемся теперь к воззрениям и деятельности Новикова, который
после преждевременной смерти Шварца стал ведущей фигурой среди
масонов-розенкрейцеров. Вступление в масонскую ложу было для
Новикова компромиссом между рационализмом и религиозной верой,
и оно, поэтому, не привело к полному отказу от прежних убеждений.
В отличие от Шварца, Новиков не интересовался оккультизмом,
а мистицизм повлиял на него в ничтожной степени. Короче говоря,
Новиков в основном представлял рационалистическое течение в масонстве.
В 1777 г. Новиков выпустил первый в России
нравственно-философский журнал - «Утренний свет». В отличие от более поздней «Утренней
зари» - издания, которое издавал Новиков, но где редактором
фактически был Шварц, - «Утренний свет» целиком делал Новиков. Одна из
самых значительных статей, опубликованных в «Утреннем свете», -
«Опыт о достоинстве человека в его отношениях к Богу и миру»1.
В подтексте это было выступление против распространенного
мистического представления о человеке как падшем существе, который перед
Богом был всего лишь пылинкой «гнилой... первородного греха». Этому
воззрению Новиков противопоставил ренессансное представление о
человеке как о «творце вселенной». Человек, как и крохотная личинка,
писал Новиков, создан Богом из земли, но один только человек был
сотворен по образу Бога и наделен разумом; природа одного только человека
заключает в себе элемент божественного. Поэтому человек есть
связующее звено между материальным миром и миром духа. Природа
человечности противоречива: человек - это червь и в то же время несет в себе
божественное; он раб и в то же время - господин. Он должен быть
смиренным перед Творцом, но имеет право гордиться собой как подлинным
представителем Бога на земле2.
1 См.: Новиков НИ. Избранные сочинения. С. 387-393.
2 То же самое представление о человеке как посредничающем звене в цепи
живых существ - и червь, и бог - содержится в знаменитой «Оде к Богу»
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 37
Эта теория допускала ряд практических выводов. Новиков
восхвалял человеческий разум за его божественные свойства и, между
прочим, высказал предположение, что покорение мира разумом - это
самая подобающая дань, которую только можно заплатить Богу. Больше
того: поскольку человеческая природа божественна, отсюда следовал
вывод, что всякое человеческое существо заслуживает уважения
независимо от своего происхождения и социального статуса. Во имя
человеческого достоинства Новиков призывал также к активному участию
в общем деле повышения благосостояния народа. Человек сам по себе
одновременно и цель, и средство, писал Новиков в конце своей
статьи: цель, поскольку никому не дано право относиться к другому
человеку как к средству; средство, поскольку каждая личность должна
посвятить себя труду на общее благо. Тот, кто считает себя целью
самой по себе, заключал Новиков, ничем не лучше паразита,
бесполезного трутня.
Новиков не был оригинальным мыслителем, но тогда
значительное место, которое он занимает в истории русской мысли, не зависит
от оригинальности. По существу он был великим популяризатором.
Его можно считать центральной фигурой эпохи, потому что он
представлял ведущие (иногда противоречащие одна другой)
интеллектуальные течения своего времени: универсализм Просвещения - и
защиту народных ценностей, рационализм - и религиозную реакцию
против рационализма. Но, в первую очередь и в конечном счете,
Новиков был неутомимым реформатором, человеком, который своей
собственной жизнью доказал, что нет возврата к тому времени, когда
распространение образования было монополией самодержавия.
Масонское движение в России имело среди своих членов немало
состоятельных и влиятельных людей, и в то же время оно было
единственной мощной организацией, независимой от правительства. Не
удивительно поэтому, что Новиков считал вполне возможным, чтобы
масонство способствовало появлению общественных реформ. Уже в
1777 г. он употребил доходы от продажи своего издания «Утренний
свет» на открытие в Петербурге двух школ для детей средних слоев
общества. Однако в столице, под неусыпным оком самой императри-
Державина. Макогоненко в своей книге о Новикове (с. 334-335) делает из этого
вывод, что Новиков повлиял на Державина, и называет новиковскую философию
человека «обобщением исторического пути русского народа». Стоит отметить
в этой связи, что Новиков подхватил общепринятое в его время представление
о «великой цепи бытия». Он мог встретить эту идею, например, в «Ночных
мыслях» английского поэта Эдварда Янга - Новиков, конечно же, хорошо знал
это произведение. В одном стихотворении из этого цикла («Человек») человек
понят как существо, которое стоит на полпути между ничто и богом, соединяя в
себе природу червя и природу Бога.
38 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
цы, планы Новикова имели мало шансов на успех. Поэтому в 1779 г.
он переехал в Москву, где арендовал университетскую типографию и
развил активную деятельность в области образования. В 1784 г. он
воспользовался указом, разрешающим организацию частных
типографий и основал свою знаменитую «Типографскую компанию»
(пользуясь деньгами богатых масонов из «Общества друзей науки»).
Издательская деятельность, которую развил Новиков, была по своим
масштабам беспрецедентной для России. Он не только издавал книги,
но и занимался их распространением, стараясь, чтобы его книги
достигали самых отдаленных уголков империи, включая Сибирь.
Примерно 28 процентов всех книг, изданных в России в 1781-1790 гг.
(749 из 2585), были изданы его типографией1. Из них лишь
сравнительно небольшая часть была посвящена ортодоксальным масонским
воззрениям, оккультизму или мистицизму. Новиков на самом деле
неохотно печатал книги такого рода, и Шварц часто обвинял его в
отсутствии подлинного энтузиазма в деле распространения масонства.
Дело дошло до открытой ссоры с его богатыми
спонсорами-розенкрейцерами, которые пригрозили лишить вложенного в типографию
капитала. Книги, которые печатал Новиков, были по большей части
исторического или образовательного характера (включая первую
русскую хрестоматию для детей), и среди ведущих писателей и ученых
были Шекспир, Юнг, Лессинг, Клопшток, Филдинг, Стерн, Корнель,
Расин, Бэкон, Локк, Мендельсон, Руссо и даже Вольтер и Дидро.
Отдельным, тщательно подготовленным изданием печаталась серия
произведений русских писателей. В эти насыщенные издательскими
делами годы Новиков находил силы заниматься и другой еще
деятельностью. После неурожая 1787 г. он использовал свой талант
организатора, оказывая большую помощь голодающим крестьянам.
Деятельность Новикова не встретила одобрения со стороны
Екатерины. Ей были не по душе его образовательные и гражданские
инициативы, принявшие столь крупные масштабы без всякой ее опеки.
В борьбе со своим бывшим журнальным оппонентом Екатерина
искусно воспользовалась связями Новикова с розенкрейцерами для того,
чтобы дискредитировать его в глазах общественного мнения как
обскуранта и мистика, надев на себя при этом мантию защитника
рационалистических идеалов Просвещения. В 1780-е гг. она начала
открытую кампанию против масонства и сама написала комедии,
высмеивающие масонское движение («Шаман сибирский», «Обманщик» и
«Обольщенный»). Она также выпустила анонимную брошюру под
многозначительным названием «Тайна противонелепого общества» и
пыталась заставить митрополита Платона обвинить Новикова в ереси.
1 См.: Макогоненко. Г.П. Цит. соч. С. 507.
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 39
Эти меры были продиктованы не только недовольством, которое
вызывало у императрицы рвение Новикова, но также страхом, что
масонские ложи вступят в заговор и свергнут ее с престола, заменив
наследником, великим князем Павлом.
Французская революция убедила Екатерину в том, что пришло
время для более жестких санкций. В 1792 г. по ее приказу Новиков
был арестован и осужден без суда на заключение в Шлиссельбургской
крепости сроком на пятнадцать лет. Типографская компания была
распущена, и множество книг и журналов, напечатанных там, было
сожжено. Новиков был освобожден четыре года спустя, во время
царствования Павла. Больной и почти без средств к существованию,
Новиков больше, чем когда-либо, искал успокоения в религиозном
мистицизме. Вместе с Гамалея он готовил в последние годы жизни
обширную антологию сочинений по теософии, магии и кабале.
В первой четверти XIX века масонство пережило недолгое
возрождение. Внезапный закат масонства в значительной мере
объясняется вступлением на престол императора Николая I, который не желал
терпеть никаких тайных или полутайных обществ, а к масонам
относился с особенным отвращением.
АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Несмотря на то что внутренняя и внешняя политика Екатерины,
несомненно, больше всего служила интересам дворянства, самая
откровенная аристократическая оппозиция абсолютизму достигла
своего пика как раз в годы ее правления. Эта оппозиция иногда заявляла,
что ее корни - в древних боярских традициях допетровской эпохи,
традициях поместных соборов и боярской думы; на самом деле она в
основе своей была результатом вестернизации. Вожди
аристократической оппозиции, в сущности, хотели заменить самодержавие
монархической системой западноевропейского образца. Их воззрения имели
своим источником политическую философию Монтескье, в которой
основное значение придавалось исторически непрерывной традиции,
и лучше всего это оппозиционное мировоззрение передают слова
Монтескье: «Без монарха невозможно дворянство, без дворянства
невозможен монарх»1.
Идеологическим представителем крайнего правого крыла
оппозиции был князь Михаил Щербатов (1733-1790). На заседаниях
Комиссии по Уложению он показал себя отличным оратором и ревностным
защитником традиционных прав старого дворянства, которое видело в
1 Монтескье. Ш.Л « О духе законов» 1748.
40 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Табели о рангах, веденных Петром, угрозу самому своему
существованию1. Только монарх имеет право возводить в дворянское звание,
утверждал Щербатов; возведение во дворянство как некая
автоматическая привилегия, присваиваемая лицу военного или
бюрократического ранга, приводит к карьеризму и сервилизму, превращая
монархию в деспотическую бюрократию. Щербатов также выступал против
уступок крестьянству (например, против ограничений крепостного
права законом) и уступок купцам (против создания купеческих
мануфактур) - выступал, по сути дела, против всего, что как-то могло
способствовать подрыву традиционных привилегий аристократии и
родового дворянства, которые, по его убеждению, были оплотом чести и
свободы, единственной частью общества, способной сохранить
независимость, не прибегая к раболепству и лести. В своих
неопубликованных при жизни статьях Щербатов прямо заявлял, что
политическая система в России - это не монархия, а деспотизм, худшая форма
правления, или, скорее, отсутствие всякого правления, тирания, в
условиях которой действуют не законы, но лишь безумные причуды
деспота.
Как историк (он был автором «Истории России» в семи томах,
доведенной до 1610 года), Щербатов старался показать, что деспотизм -
это такая форма правления, которая не свойственна русским
условиям. Первые русские князья и цари делили свою власть с боярами, и
этот альянс царя с боярами, строго соблюдавшийся обеими
сторонами, был основным фактором роста силы России. Для того чтобы
примирить эту концепцию с деспотическим, но политически успешным
правлением Ивана Грозного, Щербатов был вынужден разделить
правление Ивана на два периода. Первый период был благотворным
для России, ибо царь еще ограничивал свои страсти и спрашивал
совета у боярской думы; во второй период он стал кровавым тираном,
умертвил своих советчиков и привел в упадок свою страну.
Правление Петра Великого ставило Щербатова перед еще
большими трудностями. Несмотря на жестокое обращение с боярами и
введение Табели о рангах, Петр собрал воедино и намного увеличил
мощь России. Щербатов не отрицал этого, но он пытался показать,
что успехи Петра были только внешними и за них заплатили слишком
большую цену. Щербатов развивал эти свои мысли в интересной
работе под названием «О повреждении нравов в России». Это
сочинение вряд ли пропустил бы цензор, и совершенно очевидно, что оно не
Табель о рангах, введенная в 1722 году, устанавливала иерархию из 14
рангов и их военных соответствий. Благородный ранг (пожизненный или
наследственный) автоматически соотносился с определенным разрядом гражданской или
военной службы.
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 41
было написано для печати. Оно стало доступно широкой публике
только после того, как Герцен напечатал его за границей в 1858 г.
Исходным пунктом своих рассуждений Щербатов берет
противоречие, которое заключено в понятии прогресса, достигнутого ценой
морального регресса. Для того чтобы доказать свой тезис, он рисует
идеализированную картину первобытной жизни племени и
противопоставляет ее простоту искушениям цивилизации. Щербатов даже
превозносит первобытный эгалитаризм этих племенных обществ
(включая общее владение собственностью), хотя он и признает, что
первобытное равенство не могло сохранить свою жизнеспособность,
поскольку развитие цивилизации предполагает социальную
дифференциацию.
Во многих отношениях идеи Щербатова сильно отличались от
популярного стереотипа Просвещения. Племенная жизнь, на взгляд
Щербатова, - не беззаботная жизнь «в естественном состоянии»;
напротив, самая примечательная черта ее - сильная социальная
взаимосвязь, и именно это - а не «естественную свободу» - он
противопоставляет внутренней аморфности, эгоизму и моральной анархии,
которые типичны для цивилизованного государства. Первобытные
племена, утверждает Щербатов, не имели представления о
«сластолюбии», т.е. о ничем не ограниченном стремлении к удовлетворению
всех чувственных желаний, ко все более изощренным и искусственно
вызываемым потребностям, которые идут рука об руку с
нездоровыми претензиями и жаждой производить впечатление на других.
Оригинальность этих взглядах заключается в том, что Щербатов поместил
общественное состояние до цивилизации не в отдаленные
доисторические времена, а в сравнительно недавнее прошлое, так что
антитезис первобытных племен и цивилизованных народов в его
изображении в основном совпадает с антитезой допетровской и
послепетровской России.
В давние времена, подчеркивает Щербатов, жизнь в России была
простой, ее не затронула еще избыточная роскошь. Воспитание детей
всецело подчинялось религии, что хотя и вызывало некоторые
иррациональные убеждения и суеверия, но в целом религия заключала в
себе здоровый страх перед «Божественным законом». Дворянский
статус не зависел от ранга государственной службы, а наоборот,
вопрос о ранге решался престижем и традициями дворянского
семейства. Этот принцип благоприятствовал расцвету гражданских
добродетелей, поскольку ограничивал личные амбиции людей, подчиняя их
интересам семьи и сословия.
Утверждение Щербатова, что реформы Петра принесли с собой в
русскую жизнь неизвестное прежде «сластолюбие», имеет некоторое
основание: Щербатов лично знал многих людей, кто еще помнил
42 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
правление Петра. Поэтому во многих отношениях его сочинение
имеет ценность исторического документа и дает нам убедительное
представление о том, как много сделали реформы Петра для эмансипации
индивида от господства традиции и религиозного ритуала.
Безжалостная и абсолютная власть, государственная централизация и
бюрократическая субординация гораздо меньше обременяли отдельного
человека, чем строгая дисциплина религиозных церемониалов,
продолжительных постов и традиционных условностей - дисциплина,
идеализированная Щербатовым. То, что в его сочинении называется
«сластолюбием», - не что иное, как индивидуализм, первые
проявления которого носят иногда настолько же отталкивающий, насколько и
наивный характер, - об этом свидетельствует приводимый
Щербатовым длинный перечень примеров деморализации, карьеризма и
распущенности (взятых из жизни двора и новой придворной
аристократии).
Особое внимание Щербатов уделяет индивидуализации
отношений между людьми и связанным с этим изменениям в отношении к
женщинам. В правление Петра стало обычаем, чтобы невеста и жених
встречались до помолвки; для этого организовывались «собрания»
для мужчин и женщин и больше внимания уделялось внешнему виду
участников. «Страсть любовная, до того почти в грубых нравах
незнаемая, начала чувствительными сердцами овладевать»1.
Единственную парикмахершу в Москве осаждали ее клиенты; накануне
праздников, некоторые приходили к ней за три дня до начала и на
протяжении этих трех дней должны были спать в сидячем положении для
того, чтобы не испортить прическу. Денди обеих столиц
соревновались между собой в экстравагантности и модной одежде. Петр, как
признает Щербатов, сам не очень любил роскошь, но других
побуждал к избыточной роскоши, для того чтобы стимулировать рост
промышленности, ремесел и торговли.
Другой причиной «повреждения нравов» была установленная
Петром бюрократическая иерархия, которая поощряла личные
амбиции и ставила государственных чиновников выше дворянства. «Могла
ли, - спрашивает Щербатов, - остаться добродетель и твердость в тех,
которые в юности своей от палки своих начальников дрожали?»2
Жестокая внезапность петровских реформ повредила нравственность
народа: Петр чересчур радикально вел войну против суеверий;
Щербатов сравнивает его с неопытным садоводом, который
слишком сильно подрезает свои деревья. «...Уменьшились суеверия, но
См.: Щербатов М. О повреждении нравов в России. Лондон, 1958. С. 17.
(с предисловием Искандера).
Там же. С. 28.
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 43
уменьшилась и вера; исчезла рабская боязнь ада, но исчезла и любовь
к Богу и к святому его закону»1.
Своей критикой петровских реформ и необычайно
проникновенным и масштабным рассмотрением проблемы «древней и новой
России» Щербатов в какой-то мере предвосхитил славянофилов, что
отметит позднее Герцен. Существенно, что Щербатов, подобно
славянофилам, сильно критиковал перенос столицы из Москвы, бастиона
старого боярства, в только что построенный Петербург, который
воплощал собою верховную власть бюрократического абсолютизма.
И все же аналогия между Щербатовым и славянофильством по
большей части поверхностна и ненадежна. В его «Рассуждении...»
Россия не противопоставляется Европе, а его взгляды по
юридическим вопросам, общественным системам и значении политических
прав явно заимствованы из западноевропейских (в особенности
просветительских) источников; они поэтому очень далеки от романтизма
славянофилов с их идеализацией простого народа. Вера Щербатова в
особую роль аристократии - тоже «западная»; как мы увидим ниже,
славянофилы усматривали в «аристократии» отрицательное явление,
к счастью, совершенно чуждое «подлинно христианским» началам
Древней Руси.
Политические идеалы Щербатова нашли интересное освещение в
его утопической повести «Путешествие в страну Офирскую» (1784).
Как справедливо писал современный исследователь, эта повесть
представляет собой идеализированную версию «хорошо
организованного полицейского государства».2 Это произведение Щербатова не
пришлось бы по вкусу ни славянофилам, ни Монтескье, из сочинений
которого Щербатов почерпнул аргументы в поддержку своей критике
деспотизма.
Население Офира подразделяется на две герметически
изолированные одна от другой группы: свободные сословия и крепостные,
которых автор называет просто «рабами». Повседневная жизнь
каждого жителя подвергается самому тщательному контролю, а
чрезмерная роскошь и свобода нравов строго наказываются. Ведется строгий
учет того, какую одежду носит гражданин такого-то класса; каких
размеров дом, в котором он живет; сколько у него слуг; какая у него
кухонная утварь и даже какими льготами он располагает. В
идеальном государстве Щербатова этот оппонент бюрократии и деспотизма
доводит до предела как раз деспотическую и бюрократическую
регламентацию жизни. На взгляд самого Щербатова, в этом не было
1 Там же. С. 29.
2 RaeffM. State and Nobility in the Ideology of M.M. Scherbatov // The American
Slavic and East European Review. Oct. 1960. P. 374.
44 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
противоречия, поскольку он не считал строгий контроль за нравами
несовместимым с политической свободой. Ведь существуют же в
государстве Офирском такие гарантии против деспотизма, как «основные
права», представительство сословий, отменено надзирание за домашней
жизнью и т.п. Гарантией свободы, по мысли Щербатова, должен быть
еще и закон, запрещающий крестьянам подавать государю жалобу на
своих хозяев. На взгляд Щербатова, петиция императору только и может,
что поддерживать веру грубого, необразованного крестьянства в
«хорошего царя», сами властители, уверившись в поддержке народа, могут
возомнить о себе слишком много и превратиться в деспотов.
Некоторые черты утопии Щербатова восходят к его масонству и
масонскому культу формализма, иерархии и внешних отличий.
Влияние масонства особенно бросается в глаза в тех разделах
«Путешествия...», которые посвящены образованию и религии. Образование в
Офире является для каждого гражданина одновременно и свободным,
и обязательным, хотя объем знаний предполагается различным для
каждого сословия. Религия сведена к рационалистическому культу
высшего существа, и нет больше института священников, для
которых религия является источником дохода. Причастие,
жертвоприношения, таинства разного рода - все это отбрасывается, молитвы
сокращены до минимума и по времени, и по числу молитв, а общие
богослужения напоминают масонский ритуал. Однако атеизм запрещен,
и хождение в церковь является обязательным под угрозой наказания.
Масонское происхождение некоторых элементов в утопии
Щербатова не объясняет ее в целом. Вероятно, лучший ключ для понимания
его повести - это взгляды Щербатова на «древнюю и новую Русь».
В научной литературе уже обращали внимание на то обстоятельство,
что разработанная до мелочей бюрократическая система «государства
Офирского» отражает определенные черты послепетровской России1.
Если, однако, сравнить Офир с картиной допетровской Руси,
нарисованной в сочинении о «повреждении нравов», то такое сравнение, как
кажется, даст нам еще более продуктивный подход к существу дела.
В том и в другом случае частная жизнь подчиняется строгим
предписаниям и нормам: в первом случае - декретированием законов, во
втором - освящены традициями и религией. И там, и тут разделение
на сословия - в особенности обособление дворянства - гарантирует
как раз взаимосвязь всех частей социального целого и процветание
гражданских добродетелей. Наконец, в обоих случаях строгие нравы
и умеренные потребности предохраняют от распространения коварно
подстерегающего на каждом шагу «сластолюбия». Важно отметить,
что осуществленный Щербатовым анализ различий между древней
1 Ibid. P. 375.
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 45
и новой Россией убедил его в том, что строгий контроль и
регламентацию нравов не следует смешивать с деспотизмом. Древняя Русь,
утверждал он, в целом не была деспотическим государством, и это,
главным образом, потому, что она сохраняла верность традиционному
образу жизни, который предоставлял соответствующие сферы
деятельности для каждого, включая царя, и тем самым предотвращал
произвол власти. Наоборот, в современной России деспотизм стал
рассадником «повреждения нравов», которое стало верным
союзником деспотизма.
Щербатов, несомненно, был самой интересной фигурой в
аристократической оппозиции, но был все же теоретик, а не активный
политик. Людьми, которых все признавали вождями оппозиции (и которые
имели поддержку в дипломатическом корпусе и в армии), были
братья Панины: князь Никита Панин (1718-1783), многие годы бывший
русским послом в Швеции, а при Екатерине - первый советник
Комиссии иностранных дел и воспитанник наследника престола Павла, и
генерал Петр Панин (1721-1789). Никита Панин в конце его жизни
имел своим личным секретарем Дениса Фонвизина (1744-1792),
выдающегося сатирика и драматурга второй половины XVIII века,
автора комедий «Бригадир» и «Недоросль».
Программа братьев Паниных была гораздо более либеральной, чем
программа Щербатова, и более явно имела своим образцом
современные теории государственного устройства. Хотя целью программы
Паниных было расширение политических привилегий помещичьего
дворянства, она вместе с тем предлагала ограничение крепостного
права и передачу законных прав крестьянству. Никита Панин
принимал участие в заговоре, который возвел Екатерину на трон. В начале
ее правления он представил императрице план ограничения ее
единоличной власти посредством особых законов и расширения роли
Сената (представительный орган нобилитета). Несмотря на свои обещания,
Екатерина не реализовала этот план и предпочла вместо этого
положиться на поддержку среднего и мелкого помещичьего дворянства,
которое боялось, что власть перейдет к аристократической олигархии.
Однако братья Панины не отказались от своих планов. Они
вступили в заговор с целью возвести на трон кронпринца Павла вместо
его матери. Но Екатерина быстро узнала об их намерениях и сумела
предотвратить этот замысел. Заговорщики были великодушно
помилованы, и фактически единственная примененная к ним санкция
состояла в том, что Никита Панин перестал быть воспитателем
наследника. На фоне начавшегося вскоре восстания Пугачева разногласия
между Екатериной и аристократической оппозицией показались
ничтожными. Генерал Петр Панин сыграл ведущую роль в подавлении
крестьянского восстания.
46 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
После смерти Никиты Панина в его бумагах был найден интересный
документ, известный под названием «Рассуждение об истребившейся в
России совсем всякой формы государственного правления и от того о
зыблемом состоянии как империи, так и самих государей». Это было
политическое завещание Панина, написанное для его прежнего
воспитанника - наследника Павла Петровича, который, как известно, не осуществил
практически ничего из тех надежд, которые на него возлагали.
Литературную обработку «Рассуждения...» произвел Фонвизин.
«Рассуждение...» Панина, без всякого сомнения, - один из самых
проникновенных документов русской политической мысли XVIII
века. Оно содержит смелое требование конституционных реформ и
предупреждение о том, что если эти реформы будут отвергнуты,
разразится бунт. Здесь дано наглядное изображение того, как исчезают все
формы общественных связей в деспотическом государстве; такое
государство есть «колосс, державшийся цепями». «Где же произвол
одного есть закон верховный, - предупреждает Панин, - тамо прочная и
существовать не может; тамо есть Государство, но не Отечества; есть
подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого
члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей».
Предупреждение, содержащееся в названии «Рассуждения...»
Никиты Панина, раскрывается в том, как автор описывает «Государство,
объемлющее пространство, какового ни одно на всем известном
земном шаре не объемлет», - государство, которое могут очень скоро
привести на край бездны его же крестьяне, «мужик, одним
человеческим видом от скота отличающийся» (намек на пугачевское
восстание); государство, в котором трон зависит от «зверской толпы буян»
(т.е. гвардейцев, осуществлявших дворцовые перевороты). В этом
государстве люди владеют другими людьми как своей
собственностью, и каждый одновременно тиран и жертва; «Государство, в
котором почтеннейшее из всех состояний <...> руководимое одною
честью, дворянство уже именем только существует, и продается
всякому подлецу, ограбившему Отечество; где знатность, сия единственная
благородная душа, сие достойное возмездие заслуг, от рода в род
оказываемое Отечеству, затмевается фавором, поглотившим всю пищу
истинного любочестия; <...> Государство не деспотическое: ибо
Нация никогда не отдавала себя государю в самовольное свое
управление; <...> не монархическое: ибо нет в нем фундаментальных
законов; не аристократия: ибо верховное в нем правление есть бездушная
машина, движимая произволом государя; на демократию же и
походить не может земля, где народ, пресмыкаяся во мраке глубочайшего
невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства»1.
1 См.: Фонвизин ДМ. Собрание сочинений. М.-Л., 1956. Т. 2. С. 255, 258, 266.
ГЛАВА 1. Тенденции просветительской мысли 47
Конституция, которую имеет в виду «Рассуждение...», должна
защитить нерушимость принципов свободы и собственности. Самым
надежным гарантом этих конституционных свобод является,
естественно, то сословие, материальный и социальный статус которого
обеспечивает его полную независимость от правящего суверена, -
богатое дворянство и аристократия.
«Рассуждение...» Панина стало возможным опубликовать в
России только после революции 1905 г. (хотя Герцен напечатал его в
Лондоне в 1861 г.). Однако и до этого времени оно было не вовсе
неизвестно в России. Рукописный экземпляр попал даже в руки
Екатерины, которая отреагировала иронически: «Ну и ну! Теперь даже мсье
Фонвизин желает учить меня, как надо править».
«Рассуждение...» имело значительное влияние на эволюцию
политических взглядов декабристов. Его знали в Северном обществе
благодаря генералу М.А. Фонвизину, родственнику Дениса Фонвизина и
участнику декабристского движения. Никита Муравьев переделал
«Рассуждение...» в политический памфлет, адаптировав его к
условиям правления Александра I.
Ради точности следует отметить, что взгляды Дениса Фонвизина в
какой-то мере отличались от взглядов Панина, и аристократический
уклон в конституционализме Панина фактически был чужд
Фонвизину. Взгляды самого Фонвизина приближались к воззрениям
провинциального помещичьего дворянства. Это видно, к примеру, по
националистическим нотам, характерным для его писем к генералу Петру
Панину, написанным из Франции и Германии в 1777-1778 гг.
Аристократия, к которой принадлежали братья Панины, по своему
мировоззрению больше тяготела к космополитизму. Фонвизин намного
критичнее, чем Панины, относился к Западной Европе, и он проводит
различие между юридической и «реальной» свободой. Французский
крестьянин, писал Фонвизин, несмотря на свою свободу в глазах
закона, не имеет «реальной свободы» и хуже обеспечен, чем крестьянин
в России. Наблюдения такого рода показывают, что Фонвизин был не
лишен известной проницательности; но он был склонен смешивать
(как отмечал Плеханов1) патриотизм с защитой национальной
отсталости - позиция, которая привела его к утешительной мысли, что
крепостное право, в сущности, не такое уж большое зло.
После смерти князя Никиты Панина Фонвизин пережил
идеологический кризис и не только бросил писать сатирические сочинения, но
и отверг прежние свои независимые взгляды на политику и религию.
В этом отношении его идейная биография напоминает идейную
биографию Гоголя.
См.: Плеханов Г.В. История русской общественной мысли. С. 73-85.
48
ГЛАВА2
КУЛЬМИНАЦИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ
В РОССИИ:
АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ
сторики, которые пользуются термином «Просвещение»,
имеют в виду либо особый период в истории философии и
общественной мысли - «век разума» в целом, - либо
определенную идеологию, которая ассоциируется с этим периодом. В
последнем, более узком смысле данный термин обозначает такую
идеологию, которая отстаивает рационалистический универсализм,
антифеодальный и свободомыслящий по определению; идеологию,
которая инициировала освобождение индивида от ограничений
феодально-сословного образа жизни, используя аргументы,
основывающиеся на «разуме» и «человеческой природе»: последние, как
предполагалось, присущи всем людям и, значит, стоят выше привилегий и
суеверий, освященных обычаем. Ясно, что коль скоро мы принимаем
это второе, более узкое определение, мы должны проводить различия
в той или иной степени «Просвещения», а также учитывать, что не все
мыслители, принадлежавшие к «веку разума», были
«просветителями» в точном соответствии с намеченной выше моделью. Щербатов,
например, был, конечно же, менее типичным представителем
Просвещения, чем Новиков, который, в свою очередь, был далеко не
идеальным представителем своей эпохи. Не подлежит сомнению, что
мыслителем Просвещения par excellence был Александр Радищев -
самый радикальный и последовательный представитель «века разума»
в России1.
ЖИЗНЬ РАДИЩЕВА
Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» родился в 1749 г.
в наследственном поместье, деревне Верхнее Аблазово (по другим
данным - в Москве), в семье богатого помещика. Его родители оба
были образованными и гуманными людьми, сильно отличавшимися
О философских взглядах Радищева на английском языке имеются две
монографии: Jesse V. Clardy. The Philosophical Ideas of A.Radishehev. New York, 1964;
Allen McConnel. A Russian Philosophe, Alexander Radishehev. The Hague, 1964.
И
ГЛАВА 2. Кульминация просвещения в России: Александр Радищев 49
от соседских помещиков. Среди этих последних некто Зубов,
например, был садистом, который держал своих крестьян прикованными
цепями в специально оборудованной тюрьме и заставлял их есть из
корыта, как скот. Крестьяне радищевского поместья оценили хорошее
обращение с ними их помещика: во время пугачевского бунта они
прятали в лесу членов его семьи. Младшие братья и сестры Радищева
нашли убежище в крестьянских домах своей деревни, предварительно
измазав себе лица сажей, чтобы походить на крестьянских детей.
Молодой Александр Радищев получил образование в пажеском
корпусе в Санкт-Петербурге. Закончив обучение с отличием, он вместе с
другими пажами был послан Екатериной изучать право в Лейпцигском
университете. В Лейпциге он изучал произведения Лейбница и Вольфа,
а также французскую просветительскую философию; особенно
заинтересовали его Гельвеций, Руссо и Мабли. В этот период он был душевно
привязан к двум своим товарищам: Федору Ушакову и Алексею
Кутузову. Через несколько лет, после безвременной кончины Ушакова,
Радищев написал проникнутый большой симпатией очерк жизни Ушакова,
а Кутузову он посвятил «Путешествие из Петербурга в Москву».
В своей «Жизни Федора Ушакова» (1789) Радищев рассказывает
драматический эпизод, относящийся к их студенческим годам.
Русских студентов послали в Лейпциг под надзором инспектора майора
Бокума, который присвоил себе средства, выделенные на содержание
студентов, но в то же время требовал, чтобы они вплоть до мелочей
подчинялись его указаниям, и обходился с ними крайне грубо, вплоть
до телесных наказаний. Жертвы Бокума обратились за помощью к
Ушакову, самому старшему из студентов, который пользовался среди
них большим авторитетом, и решили постоять за себя. В какой-то
момент вспыхнул открытый бунт: студент, которого Бокум ударил по
лицу, вызвал его на дуэль, а когда тот отказался, ответил на
оскорбление. Бокум убежал и обратился за помощью в местную полицию,
которая посадила бунтовщиков под домашний арест. Русский консул в
Дрездене сумел замять дело, постепенно решив его в пользу
студентов. Для молодого Радищева этот личный опыт коллективного
протеста против «тирана» стал событием огромного значения, сыгравшим
свою роль в формировании его мировоззрения.
Возвратившись в Россию, Радищев познакомился с Новиковым и в
1773 г. создал свое первое напечатанное произведение - перевод
книги Мабли Observations sur l'histoire de la Grèce. Радищев поступил на
государственную службу: сначала - в качестве служащего в Сенате,
позднее - как военный прокурор в Генеральном штабе в Санкт-
Петербурге. В 1775 г. он подал в отставку в знак протеста против
жестокого обращения с последними остававшимися в живых
участниками разгромленного восстания Пугачева. Через год он вернулся на гос-
50 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
^дарственную службу и поступил в коммерц-коллегию, которую
возглавлял тогда граф Александр Воронцов - образованный человек
либеральных взглядов, который распознал необыкновенные качества
Радищева и лично способствовал его продвижению по службе. Радищев, со
своей стороны, относился к своей новой должности с энтузиазмом и по
мере возможности стремился изучить экономическое развитие России.
После напечатания перевода Мабли Радищев написал целый ряд
оригинальных произведений, включая оду «Вольность» и «Письмо к
другу, жительствующему в Тобольске» (1782), но по различным
причинам он не стал их печатать. В 1789 г. он создал замечательную
«Беседу о том, что есть сын отечества»; это произведение было
напечатано анонимно в журнале «Беседующий гражданин». Через год
Радищев опубликовал «Путешествие из Петербурга в Москву» - одно из
выдающихся литературных плодов европейского Просвещения. Эта
книга была настолько смелой, что ни в одной типографии не брали на
себя ответственность за ее публикацию, хотя столичная цензура по
странному недосмотру дала разрешение на публикацию. Радищев
поэтому сам вынужден был печатать свое сочинение на купленном для
этого печатном станке.
Появление «Путешествия...» вызвало сенсацию, хотя Радищев
намеревался продать только несколько экземпляров из всего издания.
Даже за краткосрочную подписку на это произведение платили
фантастические суммы. Екатерина тоже получила возможность прочитать
его и назвала автора «бунтовщиком хуже Пугачева». Как только она
установила имя автора («Путешествие...» было напечатано
анонимно), Радищева немедленно арестовали и посадили в Петропавловскую
крепость. Следствие было поручено Шешковскому - тому самому,
который допрашивал Пугачева и которого позднее Пушкин назвал
«домашним палачом» Екатерины. От физических пыток Радищева
спасли только ювелирные драгоценности сестры его покойной
супруги Елизаветы Рубановской, которая вышла за него замуж и
последовала за ним в ссылку (впоследствии так поступят и жены
декабристов). Радищева приговорили к смерти через отсечение головы, но
императрица великодушно смягчила приговор, заменив его высылкой
на десять лет в город Илимск в Восточной Сибири. В тюрьме у
Радищева были моменты слабости, но после вынесения приговора к нему
вернулось душевное спокойствие, которое поддерживалось чувством
исполненного долга и готовностью нести ответственность за свои
действия. В стихотворении, написанном по дороге к месту ссылки, он
проникновенно подтверждает верность выбранному пути:
Ты хочешь знать: кто я? Что я? Куда я еду?
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
ГЛАВА 2. Кульминация просвещения в России: Александр Радищев 51
Благодаря влиянию бывшего шефа и преданного друга графа
Воронцова сибирская ссылка Радищева оказалась сносной. Радищеву
разрешили иметь книги и изучать геологию, географию и историю.
Уже через несколько дней после своего прибытия в Илимск он начал
писать свое следующее произведение - философский трактат «О
человеке, о его смертности и бессмертии» (опубликован в 1809 г.).
Другие его сочинения того времени: «Сокращенное повествование о
приобретении Сибири» и «Письмо о китайской торговле» - исследование
по экономике, подготовленное по предложению графа Воронцова.
После смерти Екатерины новый император Павел I позволил
Радищеву вернуться в европейскую Россию и жить в своем поместье
под присмотром полиции. Когда после убийства Павла на престол
взошел Александр I, то Воронцов, который был одним из
либеральных советников молодого царя, убедил его даровать Радищеву
полную амнистию. В сентябре 1801 г. Радищев вернулся в Санкт-
Петербург и вскоре после этого был назначен членом комиссии,
занимавшейся пересмотром существующих законов. Он посвятил себя
этой новой задаче с неукротимым энтузиазмом, но все его проекты
были отвергнуты как слишком радикальные. Пушкин передает
рассказ о том, как председатель комиссии граф Азадовский, пораженный
«молодостью его седин», сказал Радищеву: «Эх, Александр
Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было
Сибири?»
11 сентября 1802 г. Радищев покончил самоубийством. Есть
основания полагать, что поступок этот не был результатом временной
слабости. Самоубийство не было чуждо его мыслям. В «Путешествии
из Петербурга в Москву» он писал: «Если ненавистное счастие
истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на
земле не останется, если доведенну до крайности, не будет тебе
покрова для угнетения, - тогда вспомни, что ты человек, вспомяни
величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя
тщатся. Умри»1.
Сходную мысль можно найти в трактате «О человеке, о его смерти
и бессмертии», где он писал: «Терзанию, болезням, изгнанию,
заточению, всему есть предел непреоборимый, за которым земная власть
есть ничто. Едва дух жизненный излетит из уязвленного и
изможденного тела, как вся власть тиранов утщетится, все могущество их
исчезнет, раздробится сила; ярость тогда напрасна, зверство ничтоже-
ствовать принуждено, кичение смешно. Конец дней несчастного есть
предел злобе мучителей и варварству осмеяние».
1 Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Л.: Худ. литература,
1969. С. 92.
52 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
В свете этих цитат самоубийство Радищева представляется
сознательным актом политического вызова. Этот вывод, похоже,
подтверждает и найденный после его смерти лист бумаги со словами:
«Потомство отомстит за меня».
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ РАДИЩЕВА
Мировоззрение лидеров или, точнее, радикального крыла
Просвещения хорошо передуют обобщающие слова Энгельса: «юридическое
мировоззрение»1. Гельвеций писал: "la legislation fait tout", выражая
этим убеждение, что общество получает форму благодаря закону и
что общественные узы зависят - или, по крайней мере, должны
зависеть - от конкретных правовых отношений. В соответствии с этим
воззрением само общество и авторитет правителя являются
производными от «общественного договора» - соглашения, ради которого
индивид уступает часть своей врожденной свободы ради своей же
собственной безопасности и всеобщего блага. Как бы ни понимали этот
договор (а его едва ли кто понимал буквально), не подлежит
сомнению, что это - идеалистическая концепция, переворачивавшая
реальное взаимоотношение между обществом и законодательством. Более
того, это был абстрактный подход, который ставил во главу угла
сознательные и рациональные решения индивида в качестве ведущего
начала общества и тенденция которого состояла в том, чтобы
представить сложную сеть общественных отношений как рациональный
механизм общественных связей, основанных на контракте2. С другой
стороны, однако, это была поистине революционная концепция,
направленная не только против самовластного и деспотического
правления, но также против всех форм традиционализма. Ведь аргумент,
что общество основано на разуме и на личном интересе, конечно же,
можно было использовать для оправдания возмущения против всех
тех общественных отношений, которые не могли доказать свою
рациональность или свою полезность.
Не все аспекты «юридического мировоззрения» в одинаковой мере
представлены в творчестве Радищева. Подобно другим радикальным
мыслителям Просвещения (Руссо, в России - Козельский), Радищев
склонен был отвергать крайнюю рационализацию нравственности.
В своем исследовании законодательства он, например, утверждает,
что опорой коллективной морали является обычай, а в своей оде
' Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 16. М., 1937. С. 296.
2 См.: Baczko В. Filozofia francuskiego Oswiecenia <Философия французского
Просвещения>. Варшава, 1961. С. 51-52.
ГЛАВА 2. Кульминация просвещения в России: Александр Радищев 53
«Вольность» даже называет закон «без слуха божеством». Тем не
менее, в своей социальной философии Радищев пользовался базовыми
категориями юридического мировоззрения - такими как
«естественный закон» и «общественный договор» - и делал из них политические
выводы.
Радищев считал первичное, досоциальное состояние человека
такой формой изолированного существования, в котором люди не
подвергаются никакому иерархическому давлению. Однако
несовершенства людей сделали невозможным продолжение такого
существования; люди стали народами и вступили в общественное состояние.
У Радищева был совершенно рационалистический и номиналистский
взгляд на народ как на «собрание граждан»1, а не как на сверхличное
целое, наделенное «коллективной душой». Народ, писал он, «есть
общество людей, соединившихся для снискания своих выгод и своей
сохранности соединенными силами, подчиненное власти в нем
находящейся: но как все люди от природы суть свободны, и никто не
имеет права отнять у них сея свободы, следовательно учреждение
обществ предполагает всегда действительное или безмолвное
согласие».2 Как показывает эта цитата, «народ» для Радищева - это
юридически-политическое понятие, неотделимое от общества, а
общество, в свою очередь, нераздельно связано с государственной
организацией. Радищев даже пытался дать правовое определение
«отечества», которое, по его мнению, представляет собою совокупность
людей, связанных друг с другом узами закона и гражданских
обязанностей. Трактат «Беседа о том, что есть сын отечества» - лучшая
иллюстрация этого. Только тот, кто обладает гражданскими правами,
может быть сыном своего отечества, считает Радищев. Крестьяне не
могут претендовать на эту привилегию, поскольку они «не суть члены
государства» и даже не люди, но, «движимые мучителем машины,
мертвые трупы, тяглый скот». Для того чтобы быть сыном своего
отечества, недостаточно, однако, обладать гражданскими правами; не
менее важно показать гражданские добродетели, делая все возможное
для того, чтобы исполнять свои обязанности. Люди, не обладающие
благородством или честью, те, кто не способствует общему благу и не
уважает существующие законы, не могут поэтому считаться
сыновьями отечества.
В согласии с мышлением своего времени Радищев проводит
различие между естественным правом и гражданским правом: первое -
неписанное, врожденное право, неотъемлемый атрибут человечности;
1 Радищев А.Н. Опыт о законодательстве // Он же. Избранные сочинения.
М.;Л., 1949. С. 619.
2 Радищев АН. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1938-1952. Т. 1. С. 188.
54 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
второе - письменный кодекс, который возникает только после
установления общественного договора. Худшая политическая система -
деспотизм, поскольку при нем произвол властителя ставится выше
закона. Уже в своем первом произведении - примечаниям к переводу
сочинения Мабли Observations sur l'histoire de la Grèce - Радищев дает
следующее определение самовластья: «Самодержавство есть
наипротивнейшее человеческому естеству состояние. < ...>. Если мы
уделяем закону часть наших прав и нашея природныя власти, то дабы оная
употребляема была в нашу пользу; о сем мы делаем с обществом
безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашей
обязанности. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и
более над ним право, какое ему дает закон над преступниками.
Государь есть первый гражданин народного общества»1. Поэтическую
иллюстрацию этих слов можно найти в оде «Вольность», где
содержится возвышенная защита тираноубийства.
В «Путешествии из Петербурга в Москву» дворянин говорит
своим сыновьям, которые собираются поступить на административную
службу: «Закон, каков ни худ, есть связь общества»2. В соответствии с
этой мыслью Радищев считал право - т.е. уважение перед
гражданским законом со стороны всех, включая правителя, - основным
условием реально функционирующего общества. Но недостаточно
заменить самовластное право правом закона; гражданское право не может
быть противоположно естественному праву, оно должно
основываться на согласии всего народа. В тех случаях, когда естественное право
вступает в конфликт с гражданским правом, Радищев отдает
предпочтение первому. В «Путешествии...» он писал:
Человек родится в мир равен во всем другому. Все одинаковые
имеем члены, все имеем разум и волю. Следственно, человек без
отношения к обществу есть существо, ни от кого не зависящее в своих
деяниях. Но он кладет оным преграду, согласуется не во всем своей
единой повиноваться воле, становится послушен велениям себе
подобного, словом, становится гражданином. Какие же ради вины
обуздывает он свои хотения? Почто поставляет над собою власть?
Почто, беспределен в исполнении своея воли, послушания чертою
оную ограничивает? Для своея пользы, скажет рассудок; для своея
пользы? скажет внутреннее чувствование; для своея пользы, скажет
мудрое законоположение. Следственно, где нет его пользы быть
гражданином, там он и не гражданин. <... > Если закон или не в
силах его заступить, или того не хочет, или власть его не может
1 Цит. По: Благой Д. История русской литературы XVIII века. М., 1960. С. 451.
2 Радищев А.Н. Путешествие... Цит. изд. С. 90.
ГЛАВА 2. Кульминация просвещения в России: Александр Радищев 55
мгновенное в предстоящей беде дать вспомоществование, тогда
пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности,
благосостояния. <...>. Гражданин, в каком бы состоянии небо
родиться ему ни судило, есть и пребудет всегда человек; а доколе он
человек, право природы, яко обильный источник благ, в нем не
иссякнет никогда; и тот, кто дерзнет его уязвить в его природной и
ненарушимой собственности, тот есть преступник .
Приведенная цитата - из главы «Зайцево», в которой Радищев
рассказывает историю о жестоком помещике (асессоре), которого убили
его крестьяне. Рассказчик так комментирует это происшествие:
«...крестьяне, убившие зверского асессора, в законе обвинения не
имеют. Сердце мое их оправдает, опирался на доводах рассудка, и
смерть асессора, хотя насильственная, есть правильна»2.
К естественным и нерушимым правам человека Радищев
причисляет свободу совести и полную свободу речи - последней посвящена
в «Путешествии...» глава «Торжок». Цензура, утверждается здесь,
возникла из того же источника, что и инквизиция: ее придумали
священнослужители; священники «были всегда изобретателями оков,
которыми отягчался в разные времена разум человеческий <...> и
подстригали ему крылие, да не обратит полет свой к величию и
свободе» . Истина и добродетель не нуждаются в цензуре: они способны
сами постоять за себя. Свобода мысли наводит ужас только на
правителя, который «в жадности своей ломит правду» и предает общее
благо и которого лесть лишила способности различать между добром и
злом. «В областях истины, в царстве мысли и духа не может никакая
земная власть давать решений и не должна»4. Цензура была
поставлена нянькой над разумом и воображением, «но где есть няньки, то
следует, что есть ребята, ходят на помочах, от чего нередко бывают
кривые ноги; где есть опекуны, следует, что есть малолетные, незрелые
разумы, которые собою править не могут. Если же всегда пребудут
няньки и опекуны, то ребенок долго ходить будет на помочах и
совершенный на возрасте будет каляка»5. Из этого Радищев делает
совершенно определенной вывод: «Пускай печатают все, кому что на ум
ни взойдет. Кто себя в печати найдет обиженным, тому да дастся суд
по форме»6.
1 Там же. С. 75-76.
2 Там же. С. 76.
3 Там же. С. 133.
4 Там же. С. 128.
5 Там же. С. 128.
6 Там же. С. 129.
56 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Идеальной политической системой Радищеву представлялась
республика. Он был принципиально не согласен с воззрением Руссо,
в соответствии с которым республику можно допустить только в
небольших странах, а в крупных государствах неизбежно во главе стоит
монарх. Радищев склонен идеализировать Древний Рим и, подобно
декабристам, - «вольное государство» в Новгороде и в Пскове.
«Известно по летописям, - писал он в «Путешествии...», - что Новгород
имел народное правление. Хотя у их были князья, но мало имели
власти. Вся сила правления заключалася в посадниках и тысяцких
(гражданские и военные чиновники. -A.B.). Народ в собрании своем на
вече был истинный государь»1. Это доказывает, что русские обладают
врожденной любовью к свободе и что деспотизм пришел к власти
только с помощью грубой силы. Из-за своей нелюбви к деспотизму
Радищев критиковал даже Петра Великого (хотя он и понимал его
величие и всецело одобрял его реформы). В «Письме к другу,
жительствующему в Тобольске» Радищев говорит, что Петр заслужил бы
большей хвалы, если бы он установил гарантии личной свободы.
Впрочем, добавляет он, никогда еще не было монарха, который
добровольно ограничил бы свою власть.
Радищевская критика Петра, разумеется, не имеет ничего общего
с предшествовавшими ей нападками князя Щербатова. Радищев далек
от идеализации древней боярской свободы, он дает понять, что
полностью одобряет действия Петра против родового дворянства,
которое он считает устарелым и «впавшим в ничтожество»2. В начале
«Путешествия...» он высмеивает защитника родового дворянства,
который жалуется, что Петр своей табелью о рангах «открыл... путь
чрез службу военную и гражданскую всем к приобретению
дворянского титла и древнее дворянство, так сказать, затоптал в грязь».
Радищев дает этому господину совет продать свое генеалогическое
древо разносчикам на бумажные обертки и в заключение высказывается с
удовлетворением по поводу «истребленного в России зла -
хвастовства древния породы»3.
Две страны вызывают у Радищева наибольшее одобрение -
Англия и Соединенные Штаты: он превозносит их за то, что они
обеспечили своих граждан самыми разнообразными гражданскими правами
и политическими свободами. Это предпочтение даже привело
Радищева к довольно неожиданной мысли, что первый иностранный язык,
которому следует учить детей, - не французский, а английский, по-
1 Там же. С. 58.
2 Там же.
3 Там же. С. 24, 25.
ГЛАВА 2. Кульминация просвещения в России: Александр Радищев 57
скольку англичане показывают «упругость духа вольности»1. В его
защите свободы слова отражается влияние Мильтона, а в оде
«Вольность» находим восхваление Английской революции. Подобно Рей-
налю, Радищев сурово осуждает рабство, но это не охлаждает его
энтузиазм в отношении Американской революции и Американской
конституции. Одним из любимых героев Радищева был Джордж
Вашингтон.
Наоборот, отношение Радищева к Французской революции было
каким-то двойственным. Он оправдывает ее цели, но в
«Путешествии...» выражает сожаление, что «народное собрание, толико же
поступая самодержавно, как доселе их государь», нарушило принцип
свободы слова2.
Философия истории Радищева находит свое сжатое выражение в
словах: «Таков есть закон природы: из мучительства рождается
вольность, из вольности рабство...»3 Эта формулировка свидетельствует о
влиянии на Радищева циклической теории истории, в соответствии
с которой в Природе действуют по существу неизменные законы. На
всех этапах творчества Радищева можно найти свидетельства этого
типичного для восемнадцатого столетия верования в неизменные
законы природы, в абстрактную природу человека, в абстрактный Разум
и абстрактную Добродетель. Хотя и предпринимались попытки
открыть в мировоззрении Радищева элементы историзма, эти попытки
не выглядят особенно убедительными. Радищев смело
противопоставляет идеализированные Разум и Добродетель реальной истории;
но его нравственный абсолютизм не допускает ни исторического
оправдания глупости или преступления, ни понимания исторической
относительности. Это отсутствие исторической точки зрения было,
конечно, тесно связано с революционной смелостью его идей, что
вообще было характерной тенденцией в XVIII веке. Либеральные
консерваторы, вроде Монтескье, могли быть не лишены чувства
исторической относительности, но в идеологии якобинцев этого чувства не
было и следа. Радищев осуждал Робеспьера за практику террора, но
разделял с якобинцами то, что послереволюционные консервативные
критики Французской революции позднее назовут «умственным
терроризмом», - бескомпромиссную приверженность принципу и
последовательность в отрицании.
1 Там же. С. 86
2 Там же. С. 146.
3 Там же. С. 161.
58 Анджей Валнцкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ-
ВЗГЛЯДЫ РАДИЩЕВА
НА ЭТИКУ И ВОСПИТАНИЕ
Радищевская концепция общества может быть названа
номинализмом или социологическим индивидуализмом; Радищев
рассматривал общество не как сверхиндивидуальное, органическое и
иерархически организованное целое, но как «собрание индивидов,
озабоченных своим общим благосостоянием». Некоторые утверждения
Радищева почти предвосхищают убеждение Чернышевского, что
национальное богатство немыслимо вне народного блага. В
«Путешествии из Петербурга в Москву» читаем: «Какая польза государству,
что несколько тысяч четвертей в год более родится хлеба, если те, кои
его производят, считаются наравне с волом, определенным тяжкую
взирати борозду? Или блаженство граждан в том почитаем, чтоб
полны были хлеба наши житницы, а желудки пусты?»1
Такого рода «социологический индивидуализм» (один из
характерных признаков просветительской мысли) совсем не обязательно
сопровождался индивидуализмом в сфере этики и образования. Как
раз наоборот: часто он шел рука об руку с героической верой в
абстрактную «Добродетель» и чувством социальной ангажированности
человека. Радищев был одним из тех мыслителей Просвещения,
которые особое значение придавали как раз этическому аспекту
мировоззрения.
В этой связи особый интерес представляет та критика, которой
Радищев подверг педагогические воззрения Руссо в его романе
«Эмиль». В раннем автобиографическом произведении «Дневник
одной недели» Радищев критикует представление Руссо, в соответствии
с которым человек по своей природе - отшельник и больше всего на
свете дорожит полной независимостью от других людей. «Дневник
одной недели» - своего рода отчет о страданиях от одиночества:
герой пытается следовать совету Руссо, что искать утешения надо
«в тебе самом», - но приходит к выводу, что совет этот плох; что
утешения и забвения следует искать среди людей и что одиночество
приносит не радость, а нечто совсем иное: «Нет, нет, тут-то я и
нахожу пагубу, тут скорбь, тут ад». Хотя «Дневник...» Радищева -
продукт сентиментализма, но в то же время это и критика
преувеличенной чувствительности. Радищев отвергает эксцессы самоанализа,
индивидуалистический апофеоз одиночества и «поэзию гробницы», хотя
он и принимает сентиментальный культ дружбы и идеал «нежного
сердца», проникнутый симпатией к страданиям человечества. Иначе
'Там же. С. 123.
ГЛАВА 2. Кульминация просвещения в России: Александр Радищев 59
говоря, культ чувствительности близок Радищеву своей
общественной, социальной стороной.
Исторический идеализм XVIII века исходил из презумпции, в
соответствии с которой миром правят идеи, а потому будущее зависит в
основном от склада образования, предоставляемого молодому
поколению. Этим объясняется важное место, которое занимают вопросы
воспитания в творчестве Радищева.
В «Путешествии из Петербурга в Москву» автор высказывает свои
педагогические воззрения в словах дворянина из Крестьцов, который
наставляет своих детей, уезжающих на государственную службу. Следуя
Руссо, Радищев рекомендует быть простым в поведении, избегать
роскоши, заниматься физическим трудом в домашнем хозяйстве и на земле,
а также презирать «высшее общество». Он советует умеренность в
страстях, но, подобно Гельвецию, выступает и против подавления своих
чувств: «Чрезвычайность во страсти есть гибель; бесстрастие есть
нравственная смерть»1. «Высшая цель человеческих поступков», настаивает
Радищев, это добродетель; однако добродетель имеет как общественную,
так и личную сторону; поскольку общественная добродетель часто
ассоциируется с тщеславием и амбициями, то истинно добродетельный
человек - тот, в ком обе стороны соединены. Интересно отметить, что
наставления дворянина своим сыновьям обходятся без упоминания
религии. Этика Радищева - секуляризованный идеал самостоятельного
индивида, движимого добродетелью, лично ответственного за свои
поступки и готового скорее умереть, чем капитулировать.
Следует подчеркнуть, что этика Радищева не является
односторонне рационалистической. В противоположность
материалистам-механицистам Просвещения - таким философам, как Гельвеций,
Гольбах или Ламетри, - Радищев не основывал нравственную философию
на рациональном личном интересе и рассчитанной выгоде. Наоборот,
он апеллирует к неэгоистическим мотивам и принимает
существование внутреннего голоса совести - автономного нравственного
элемента, неотделимого от человечности человека. В «Путешествии...» он
писал: «О! Если бы человек, входя почасту во внутренность свою,
исповедал бы неукратимому судии своему, совести, свои деяния.
Претворенный в столб неподвижный громоподобным ее гласом, не
пускался бы он на тайные злодеяния; редки бы тогда стали губительства,
опустошения»2.
Отсюда понятно, что абстрактный рационализм, который был
доминирующей чертой взглядов Радищева на общество и историю,
претерпевает известную модификацию в его этических воззрениях.
1 Там же. С. 88.
2 Там же. С. 180.
60 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
В своей концепции человека Радищев дает место не только голове, но
и сердцу. По сути дела, он в этом отношении ближе к Руссо, чем
к энциклопедистам; поэтому-то Радищев в какой-то момент сблизился
с масонским движением1, а его сочинения обнаруживают много
особенностей, которые мы обычно связываем с сентиментализмом.
РАДИКАЛЬНАЯ РЕФОРМА
ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?
Радищев, вероятно, наиболее оригинален в своем подходе к
главной социальной проблеме России - положению крестьян; такова
именно основная тема «Путешествия из Петербурга в Москву». Вот
почему эта книга показалась Екатерине II такой серьезной угрозой:
еще свежа была память о пугачевском восстании.
Радищев называет крестьян «мертвыми для закона». В целом ряде
до боли трогательных сцен крестьянской жизни он рисует мрачную
картину человеческого существа, называвшегося крепостным.
Пламенное возмущение Радищева достигает своей высшей точки там, где
он с горечью обвиняет поместное дворянство:
Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы
оставляем? То, чего отнять не можем, - воздух. Да, один воздух. Отъем-
лем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет.
Закон запрещает отьяти у него жизнь. Но разве мгновенно. Сколько
способов его у него постепенно! С одной стороны - почти всесилие;
с другой - немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении
крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по
желанию своему, истец, против которого ответчик ничего сказать
не смеет. Се жребий заклепанного во узы, се жребий заключенного
в смрадной темнице, се жребий вола во ярме..?
В «Путешествии...» Радищев описывает два возможных варианта
решения крестьянского вопроса. Первый - решение посредством
реформы, оно представлено в главе «Хотилов». В пачке бумаг, якобы
оставленных другим человеком, путешествовавшим до него, Радищев
находит проекты законов, направленных на постепенную отмену
крепостного рабства. В соответствии с этими проектами, первое, что
подлежит устранению, - это «домашнее рабство», то есть продажа
крестьян без собственности или земли, зачастую самих по себе, в до-
Нам практически ничего неизвестно о связях Радищева с масонским
движением, за исключением того, что он посещал ложу «Урания», среди членов которой
были и атеисты, и что он враждебно относился к масонскому мистицизму.
2 Радищев АН. Путешествие из Петербурга в Москву. Цит. изд. С. 179.
ГЛАВА 2. Кульминация просвещения в России: Александр Радищев 61
машнюю прислугу. Вместо такого рабства крестьянин, взятый в
помещичий дом в качестве слуги или ремесленника, должен быть сразу
освобожден. Другой закон должен обеспечить правовую защиту
крестьян и их собственности, предоставляя крестьянам право на владение
участками, которые они обрабатывали ради хлеба насущного.
Помещики больше не будут иметь неограниченного права распоряжаться
своими крепостными: последние будут пользоваться правом выносить
спорные дела для решения равными им третьими лицами, то есть в
суде, который будет обслуживать также и крестьян, занятых в
помещичьем доме. За этими предварительными мерами должно
последовать «совершенное уничтожение рабства».
Как показывает это обобщенное изложение взглядов Радищева, он
планировал (в противоположность предложениям земельной реформы
в девятнадцатом столетии) передачу земли крестьянам даже еще до
отмены крепостного права. Он, разумеется, не в меньшей степени
против грабительских поборов с работающих крестьян и требует -
исходя из соображений гуманности, а равно и экономики, - чтобы
поборы заменили арендной платой.
Радищев не убежден в том, что предлагаемое им решение
крестьянского вопроса имеет надежду на успех. Свободу, писал он,
нужно ожидать не от собраний и советов крупных земельных
собственников, но «от самой тяжести порабощения»1. Уже набросав
предложения для реализации постепенных реформ, Радищев рассказывает
историю о некоем «знаменитом земледельце», который был обязан
своими успехами жестокой эксплуатации своих крестьян, и
заканчивает свой рассказ, призывая крестьян самих отомстить их помещику:
«Сокрушите орудия его земледелия; сожгите его риги, его овчины,
житницы и развейте пепл по нивам, на них же и совершалося его
мучительство...» . Он даже предрекает, что придет время, когда
победоносное крестьянское восстание приведет к появлению новой
интеллектуальной элиты, которую выдвинут сами массы и которая заменит старую
элиту, разрушенную революцией: «О! Если бы рабы, тяжкими узами
отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом,. вольности их
препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и
кровию нашею обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло государство?
Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления
избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права
угнетения лишены. Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от
очей наших будущее скрывающую: я зрю сквозь целое столетие»3.
1 Там же. С. 151.
2 Там же. С. 123.
3 Там же. С. 169.
62 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Некоторые исследователи склонны находить здесь у Радищева
противоречие: с одной стороны, он, вроде бы, предлагает решить
крестьянскую проблему путем реформ, а с другой - у него можно
почувствовать ожидание и даже нравственное оправдание революции.
Г. Макогоненко, например, полагает, что планы, намеченные в главе
«Хотилов», не пользуются поддержкой автора: это только одна из
иллюзий, от которой рассказчик освобождается в последующих главах1.
Несмотря на то что эта точка зрения у многих нашла весьма
решительную поддержку2, она не представляется в достаточной мере
убедительной. Более осторожно, но в сущности ту же точку зрения
высказывает и другой выдающийся исследователь русской литературы
XVIII века - Дмитрий Благой: признавая, что Радищев скептически
относился к возможностям реформы, он, тем не менее, не склонен
изображать автора «Путешествия...» совершенно последовательным
и несгибаемым революционером. Между тем, если тщательно
прочитать книгу Радищева, то можно заметить, что автор ожидал и
оправдывал революцию, но, конечно, хотел бы избежать кровопролития;
что он предвидел победу революции в будущем, но, зная, что всерьез
надеяться на успех восстания не приходится, хотел незамедлительно
ослабить страдания крестьян. Радищев, вероятно, имел большие
сомнения насчет того, способна ли правящая элита взяться за
осуществление необходимых реформ; но в то же время он ясно сознавал, что
больше эти реформы проводить некому. Поэтому «Путешествие из
Петербурга в Москву» было задумано как призыв к правителю и к
нобилитету - призыв, тревожная настойчивость которого внушалась
путем описания угрозы народного восстания. Появление книги
совпало с Французской революцией, и это делало угрозу еще более
реальной. Выбранная Радищевым литературная форма была очень удобна,
поскольку позволяла ему представлять конкретные проблемы с
различных точек зрения, не связывая себя необходимостью выражать
свою собственную позицию. Следует также подчеркнуть, что планы,
намеченные в главе «Хотилов», были предельно радикальными в те
годы - гораздо более радикальными, чем реформы, предлагавшиеся
впоследствии декабристами, и шли гораздо дальше, чем крестьянская
реформа 1861 г., которая не предоставляла крестьянам всей земли,
обрабатывавшейся ими в качестве крепостных.
В отношении социальных проблем Радищев тоже был
радикальнее, чем энциклопедисты. Это с особенной ясностью видно по его
отношению к простым людям, к которым энциклопедисты - идеологи-
Макогоненко Г. Радищев: Очерк жизни и творчества. М, 1949.
См.: Корякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Запретная мысль обретает свободу: 175 лет
борьбы вокруг идейного наследия Радищева. М., 1966.
ГЛАВА 2. Кульминация просвещения в России: Александр Радищев 63
ческие представители богатого и просвещенного среднего класса -
относились с отвращением, страхом и даже презрением (некоторые
высказывания Вольтера в этом отношении особенно выразительны).
С другой стороны, существует совершенно определенная
разграничительная линия между Радищевым и крайним радикальным крылом
французского Просвещения, представителями которого были
утопические коммунисты - Морелли и Мабли. То обстоятельство, что в
сочинениях Радищева отсутствуют утопические мотивы, объясняется
главным образом тем, что его всецело поглощала крестьянская тема.
Его мировоззрение выражало интересы и чаяния крестьян и других
мелких производителей, стремившихся не столько к отмене частной
собственности, сколько к справедливому и более широкому
распространению частной собственности.
Понятно само собой, что Радищев выражал надежды и чаяния
крестьян только косвенно. С точки зрения социального происхождения и
круга, Радищева можно назвать первым русским дворянским
революционером. Нужно, однако, иметь в виду, что его разрыв со своим
собственным классом был настолько глубоким (гораздо более глубоким,
чем в случае декабристов, классических представителей дворянского
революционаризма), что, говоря о Радищеве, следует вообще
отказаться от слова «помещик» и назвать его просто первым русским
революционным интеллигентом. Радищев - замечательный пример
описанного Герценым процесса, в результате которого «универсальное
образование» отрывало мыслящих русских людей от их
«безнравственной почвы» и превращало их в оппонентов официальной
России1. В некоторых отношениях идеи Радищева предвосхитили
взгляды радикальных демократов 1860-х годов.
Трагедия Радищева состояла в том, что он действовал в одиночку.
В его время феодальная система в России была еще очень прочной,
и обстоятельства не благоприятствовали возникновению
организованного радикального движения. Якобинский террор и имперские
амбиции Наполеона разочаровали его первоначальные надежды на
Французскую революцию. Отсюда понятно, что, вернувшись из
изгнания после того как Павла сменил на престоле Александр I,
воспитанный на идеях французского Просвещения, Радищев был готов
снова довериться просвещенной монархии. В прекрасном стихотворении
«Осмнадцатое столетие» он сравнивает минувший век с бурной рекой:
«Счастие и добродетель и вольность пожрал омут ярый». Два русских
правителя восемнадцатого столетия - Петр и Екатерина - подобны двум
несокрушимым скалам среди кровавых вод, и они уже прозревают
будущее солнце. Но этот оптимизм Радищева покоился на очень хрупких
1 См.: Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954-1965. Т. 12. С. 155.
64 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
основаниях. Не желая вновь пережить разочарования, он покончил с
собой через год после своего возвращения в Санкт-Петербург.
ТРАКТАТ О БЕССМЕРТИИ
Трактат «О человеке, его смерти и бессмертии» стоит особняком в
творчестве Радищева. Это произведение, написанное в Сибири,
несомненно, представляет собой высшее достижение русской
просветительской мысли в сфере чисто философского умозрения. В качестве
вывода в нем утверждается, что человеческая душа бессмертна, и что,
поскольку целью души является самосовершенствование, она будет
продолжать совершенствовать себя даже после смерти тела.
Радищев приходит к этому выводу посредством очень сложной
аргументации. Пушкин справедливо заметил: «Радищев, хотя и вооружается
противу материализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он
охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма»1.
Трактат «О человеке...» состоит из четырех частей. В первых двух
частях автор, следуя в основном за Гольбахом, выдвигает аргументы
против бессмертия. В своей онтологии Радищев делает исходным
пунктом основной тезис материализма, который он формулирует
следующим образом: «Следует, что бытие вещей не зависимо от силы
познания о них и существует по себе»2. В своей теории познания он
занимает позицию сенсуализма, в соответствии с которой в уме нет
ничего, чего первоначально не было бы в чувствах. Исходя из этих
предпосылок, Радищев показывает, что человек - существо смертное.
Но в третьей части своего трактата Радищев пытается
опровергнуть этот вывод, не оставляя, однако, его онтологических и
эпистемологических предпосылок. Он разводит понятия «душа» и «тело»,
опираясь на тезис гилозоизма, в соответствии с которым любая частица
материи в большей или меньшей степени одушевлена. С этой точки
зрения в природе ничего не гибнет, а просто все распадается на
мелкие частицы. Физические останки человека после его смерти
смешиваются с материей, в то время как его духовный элемент смешивается
с космическим духом, одушевляющим природу. Это нельзя назвать
индивидуальным бессмертием; индивидуальная душа человека
является смертной, и только дух - духовный элемент в его космическом
воплощении - имеет жизнь вечную.
Однако такой вывод не удовлетворяет Радищева, которому понятна
страстная потребность человека в личном бессмертии. Для того чтобы
Из статьи Пушкина «Александр Радищев». Может быть, точнее будет
сказать, что аргументы Радищева в пользу атеизма вышли у него более
убедительными, чем он сам желал.
2 Радищев АН. Избранные сочинения. М., 1949. С. 423.
ГЛАВА 2. Кульминация просвещения в России: Александр Радищев 65
доказать возможность бессмертия, он использует трактат Моисея
Мендельсона «Федон, или О бессмертии души», а также работы Лейбница и
Боннэ. Человеческая душа, такова аргументация Радищева, есть простая
субстанция, и она не может поэтому распадаться и быть лишенной
личного существования; цель души - все большее личное
самосовершенствование для того, чтобы ее существование после физической смерти
сделалось более совершенным, чем бытие во времени, подобно тому как
бабочка совершеннее гусеницы или своей куколки. Поскольку
инструментом совершенства души является тело, то в своей жизни после
смерти душа тоже будет наделена своего рода телесным существованием,
более высоким, чем человеческое существование. Эта идея, которая
в трактате Радищева только слегка затронута, восходит к концепции
бессмертия у Бонне, в соответствии с которой бессмертие заключено в
«прогрессивной реинкарнации», т.е. в совершенствовании души в
процессе ее перевоплощений. Бонне считал - в согласии с идеей «великой
цепи бытия, - что процесс этот ведет к появлению в будущем разумных
существ более совершенных, чем сам человек.
Радищев дает понять, что все это только допущения, не знание,
а скорее вопрос веры. Он провозглашает свое убеждение в
бессмертии души и непрерывный процесс совершенствования потому, что и
бессмертие, и совершенствование кажутся ему сущностными
предпосылками нравственности. Тем не менее, он признает, что эти
предпосылки все же только верования, которые не могут быть вполне
доказаны посредством теоретических аргументов.
Такого рода аргументация была чрезвычайно характерна для
моральной философии Просвещения. Николай Новиков оправдывал свое
убеждение в бессмертии души точно таким же образом. Можно также
заметить определенную аналогию между трактатом Радищева и философией
Канта. Кант признавал существование Бога и бессмертие души в
качестве «постулатов практического разума»; другими словами, он (как и
Радищев) признавал их потому, что считал гарантией нравственности.
В России XVIII столетия, где философия только еще начиналась,
трактат «О человеке...» был, можно сказать, уникальным явлением.
В нем Радищев проявил большой талант и эрудицию: он использовал
аргументы почти всех ведущих французских и немецких мыслителей
XVIII века и показал свое знание классической греческой философии.
Последовательное изложение аргументов за и против бессмертия
позволило ему показать противоречивую природу проблемы. Однако,
несмотря на это, произведение Радищева не оказало никакого влияния
на развитие русской мысли: наследники его демократических и
свободолюбивых идей не интересовались проблемой бессмертия, в то
время как религиозные философы уже не искали вдохновения у
философов-просветителей .
66
ГЛАВА 3
ДВОРЯНЕ-КОНСЕРВАТОРЫ
И ДВОРЯНЕ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
арствование Александра I (1801-1825) было, в сущности,
переходным периодом. С одной стороны, Россия тогда
по-настоящему вступила в новый, XIX век; но, с другой стороны,
Александровская эпоха оказалась продолжением и даже кульминацией
идейных направлений XVIII века. Двойственная природа
царствования Александра I выражается, прежде всего, в созревших в то время
политических идеях: на одном полюсе - консерватизм Карамзина, на
другом - революционные идеи декабристов. Хотя Карамзин в
основном только оглядывался назад в прошлое и идеализировал правление
Екатерины, в его консерватизме, тем не менее, уже содержались
зародыши нового консерватизма XIX века. Декабристское движение было
первой в России революционной организацией, но в то же время оно
представляло собой продолжение аристократической оппозиции
XVIII века. Два этих идейных направления, при всем различии между
ними, имели между собой нечто общее, а именно: и консерватизм
Карамзина, и революционные идеи декабристов были порождением и
продолжением одного и того же фермента - вестернизации
дворянской аристократии, выражением ее политических амбиций,
усилившихся под влиянием Наполеоновских войн и либеральных жестов
молодого императора, обещавшего реформы.
НИКОЛАЙ КАРАМЗИН
Николай Карамзин (1766-1826) был официальным историком
России в период правления Александра. Как писатель он идеально
представлял в своем творчестве русский сентиментализм - литературное
направление, с которым в свое время был связан и Радищев. Однако
в отличие от Радищева молодого Карамзина интересовали не столько
гражданские добродетели или социальные преобразования, сколько
идеал морального самосовершенствования. Карамзин оставил
«шумный мир» ради уединенных размышлений и «сладкой меланхолии,
страсти нежных душ». Поза сентиментального эгоцентризма задает
Ц
ГЛАВА 3. Дворяне-консерваторы и дворяне-революционеры 67
тон в «Письмах русского путешественника» - произведении, в
котором Карамзин описывает свое путешествие по Европе в 1789-1790 гг.
Поучительно сравнить «Письма русского путешественника» с
«Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева - тоже рассказом о
путешествиях. «Я взглянул окрест меня, - писал Радищев, - душа моя
страданиями человечества уязвленна стала»1. А Карамзин совершенно
не интересовался общественными проблемами (хотя Французская
революция разразилась как раз во время его пребывания в Европе).
«Письма русского путешественника», по словам автора, - только
«лирический памфлет», описание субъективных впечатлений: « <...> вот
зеркало души моей в течение осьмнадцати месяцев! Оно через 20 лет
(если столько проживу на свете) будет для меня еще приятно - пусть
для меня одного! Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал;
а что человеку (между нами будь сказано) занимательнее самого
себя?»2.
Однако внешние события заставили Карамзина начать мыслить
в общественно-политических категориях. Французская революция
как будто даже вызвала у него поначалу симпатии неопределенно-
идеального свойства, но вторая стадия революции -
гильотинирование короля и якобинский террор - ужаснули его. «Революция внесла
ясность в наши идеи», - вот как определил он сам то глубокое
изменение, которое произошло в его системе ценностей. Он оставил свою
сентиментальную и довольно абстрактную любовь к человечеству и
сделался страстным поборником аристократии, в которой увидел
единственную устойчивую опору старого режима. Если прежде
Карамзин верил в Европу, то теперь Европа стала объектом его критики
как рассадник революции, хаоса и распада, тогда как Россия
представилась ему как раз радикальной антитезой всему этому - страной
с прочным общественным устройством, просвещенным
самодержавием и твердой христианской верой.
Карамзин еще более укрепился в своем консервативном
национализме перед лицом тех изменений и потрясений, которые пережила
Россия во время Наполеоновских войн, а также в первый,
либеральный период царствования Александра, Михаил Сперанский с
благословения молодого императора подготавливал правовую и
административную реформы. Консервативная оппозиция в лице Карамзина и
многих его единомышленников возмущалась тем, что планы
преобразования государства были составлены по модели Кодекса Наполеона
1 Радищев АН. Путешествие из Петербурга в Москву. Л.: Худ. литература,
1976. С. 19.
2 Карамзин Н.М. Письма русского путешественника // Он же. Сочинения:
В 2 т. Т. 1. М: Худ. литература, 1984. С. 504.
68 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
- человека, который был не только врагом России, но, кроме того,
узурпатором и наследником Французской революции. В 1811 г., когда
влияние Сперанского достигло своего апогея, Карамзин выразил это
очень тогда распространенное недовольство в своей «Записке о
древней и новой России», где он подробно высказал свои соображения о
русской истории, а также дал смелую и проницательную критику
задававших в то время тон политических установок. Лейтмотивы
«Записки о старой и новой России» - вера в благотворную силу
самодержавия и безоговорочное убеждение в преемственности пути России -
убеждение настолько крайнее, что Карамзин отвергает всякое
законодательство, если оно не опирается на национальные традиции, а
основывается на иностранных теоретических предпосылках или моделях.
Несомненно, охваченный преувеличенным страхом, что Александр
собирается навязать самодержавию конституционные ограничения,
Карамзин обращается к царю следующим образом:
Если бы Александр, вдохновленный великодушною ненавистью к
злоупотреблениям самодержавия, взял перо для предписания себе
иных законов, кроме Божиих и совести, то истинный
добродетельный гражданин российский дерзнул бы остановить его руку и
сказать: «Государь, ты преступаешь границы своей власти: наученная
долговременными бедствиями, Россия пред святым алтарем вручила
самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею
верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не
имеешь; можешь все, но не можешь законно ограничить eel»}
Для того чтобы понять эту странную точку зрения, необходимо
иметь в виду, что Карамзин считал самодержавие не столько
неограниченной, сколько безраздельной властью. Власть царя была
абсолютной в государственных делах, но не распространялась на
приватную сферу, на личную жизнь, которая находилась за пределами
политики. Если мы примем во внимание это обстоятельство, то поймем,
почему с точки зрения Карамзина свобода личности (которая,
понятно, являлась привилегией только дворянского сословия) была
несравненно больше в условиях самодержавия, чем в условиях «власти
народа», к которой апеллировали якобинцы. Такая позиция
Карамзина вполне последовательно проистекала из его прежнего
сентиментализма: ведь он с самого начала ставил выше всего уединенную и
аполитичную свободу в сельской тиши, и теперь у него были все основа-
Pipes R. Karamzin's Memoir on Ancient and Modem Russia. Cambridge, Mass.
1959. P. 139. <Карамзин H.К. Записка о древней и новой России. М.: Наука, 1991.
С. 48. - Прим. ред>
ГЛАВА 3. Дворяне-консерваторы и дворяне-революционеры 69
ния страшиться «тирании народной власти», а монархию считать
«надежным якорем». Однако даже в политической сфере, на взгляд
Карамзина, монарх должен избегать произвола. Несмотря на то что
власть государя не ограничена никакими писаными законами или
конституцией, она все же ограничена неписаной исторической
традицией, заложенной в обычаях и нравственных убеждениях. Монарх,
который не считается с этой традицией (то есть, главным образом, с
тройственным альянсом самодержавия, дворянства и православной
церкви) подвергается опасности стать деспотом.
Отстаивая эти свои убеждения, Карамзин выступил, с одной
стороны, с критикой «гидры аристократии» - попыток дворянства
ограничить абсолютную власть законодательно, а с другой - также и
против политики тех царей, которые властвовали наперекор желаниям и
интересам дворянства. Карамзин называет Ивана Грозного тираном
еще худшим, чем Калигула или Нерон; вместе с тем он утверждает,
что этот факт не снимает с Курбского обвинения в измене . Петра
Великого Карамзин тоже считает великим правителем, хотя и деспотом:
он отдает должное осуществленной Петром модернизации России, но
считает его методы грубым нарушением национальных традиций и
незаконным вмешательством политической власти в личную жизнь
людей.
Следует добавить, что Карамзин защищал абсолютизм не как
идеальную политическую систему, но лишь как историческую
необходимость, которая возникает вследствие несовершенства человеческой
природы. Интересно посмотреть, как он относился к народному
собранию, или вече (роль которого в Киевской Руси он всячески
подчеркивает), а также к древнерусской «республике купцов» Новгорода
и Пскова. В своей повести «Марфа-посадница, или Покорение Нова-
города» (1803) Карамзин, похоже, принимает сторону победившего
принципа самодержавия, но он также восхваляет «республиканские
добродетели» граждан Новгорода. Падение их «бескрайней свободы»
изображается в духе элегической меланхолии. Совершенно в том же
духе борьба самодержавия с «республиканскими» учреждениями
Древней Руси изображается Карамзиным в «Записке о древней и
новой России» и в его двенадцатитомной «Истории государства
Российского». В письме, написанном в конце жизни, Карамзин даже
утверждал, что он «остался в сердце своем республиканцем».
4 Князь Курбский, командующий русской армией, которая сражалась на
западных границах Московского государства против ливонского ордена, узнав
о кровавых расправах Ивана Грозного над боярами, бежал в Литву. В
замечательной переписке с царем Курбский отстаивал боярские права и оправдывал
свое бегство в Литву древним правом дворянского сословия - правом отказаться
от служения несправедливому монарху.
70 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Идейные представления, на которых основывался консерватизм
Карамзина, - вера в историческую преемственность русской жизни,
а также независимость частной жизни от политики (то есть от
абсолютной и легитимной власти монарха) - имели соответственно
двойную функциональную направленность. С одной стороны, здесь
заявляла о себе попытка (пусть даже робкая и односторонняя) защитить
личность от произвола власти; с другой стороны, здесь решительно
отклонялась сама идея изменить существующее положение вещей
(благоприятное для земельной аристократии) каким бы то ни было
образом, даже путем самых незначительных реформ. В результате
акцент Карамзина на исторической преемственности оказывался
сильным аргументом против ограничения крепостного права. В лице
Карамзина русская поместная аристократия отказалась от борьбы за
свои политические права, но взамен потребовала гарантий того, что
его социальное положение останется неизменным и даже улучшится.
Чтобы отдать справедливость Карамзину, нужно добавить: он
был представителем просвещенного консерватизма, очень далекого от
реакционного антизападнического обскурантизма таких людей, как
Аракчеев, Магницкий и Рунич, влияние которых на образовательную
политику правительства становилось все более и более
разрушительным в последние годы жизни Карамзина. Его националистические
чувства не имеют также ничего общего с шовинистической
ксенофобией такого одиозного издания, как «Русский Вестник» С.Н. Глинки.
«Смиренная лояльность» Карамзина была чужда раболепию, а его
смелая и даже резкая критика царя в «Записке о древней и новой
России» помешала публикации этого документа на многие годы. Его
сентиментальный «республиканизм» не помешал ему восславить
самодержавие в качестве «палладиума России», но в то же время Карамзин
был настолько не ортодоксален, что один чересчур ревностно
исполнявший свои обязанности информатор доносил в соответствующие
инстанции, что Карамзин - человек, произведения которого
наполнены «якобинским ядом» и должны быть сожжены.
Если сопоставить Карамзина с декабристами, то становится
понятным, насколько различными были взгляды этих представителей
русской помещичьей аристократии. Карамзин противился реформам,
которые проектировал император, потому что считал их слишком
далеко идущими, тогда как декабристское движение возникло как раз
потому, что декабристы усомнились в искренности этих проектов и
скоро увидели, что были правы в своих сомнениях: политика
самодержавия становилась все более и более реакционной. И все же
декабристы с огромным интересом читали девятый том «Истории...»
Карамзина, восхищаясь его критикой Ивана Грозного.
Предшествовавшие тома тоже предоставили в их распоряжение интересный мате-
ГЛАВА 3. Дворяне-консерваторы и дворяне-революционеры 71
риал, относящийся к республиканским традициям в русской
истории, - пусть даже суждения Карамзина и не всегда согласовались с
взглядами декабристов. Пушкин, который имел множество контактов
с декабристами, писал, что «История государства Российского»
подобна настоящему откровению: Карамзин открыл Россию, как
Колумб - Америку.
ДЕКАБРИСТЫ
История декабристского движения, названного так после
неудачного восстания в декабре 1825 года, выходит за пределы этой
книги1. Нас здесь интересует не происхождение и эволюция
декабристских теорий, но только зрелая идеология декабристов,
сложившаяся в последние годы перед их восстанием. Именно за эти несколько
лет идея вооруженного выступления против царя утвердилась среди
участников движения. Их вдохновлял пример вооруженных
восстаний в Испании и Неаполе ( 1820), революции в королевстве Пьемонта
(1821), греческого восстания (1821), а также бунт Семеновского
гвардейского полка в 1820 г. «Союз Благоденствия», основанный в 1818 г.
как продолжение «Союза Спасения», основанного двумя годами
раньше, не соответствовал новым целям движения. Поэтому решено
было пойти на роспуск «Союза Благоденствия» для того, чтобы
избавиться от случайных или ненадежных членов, а также для того, чтобы
сформировать новую организацию. В 1821 г. вместо «Союза
Благоденствия» возникли два тайных общества, которые состояли в
основном из армейских офицеров. Оба общества оставались в тесном
контакте друг с другом. В Санкт-Петербурге было организовано
«Северное Общество». «Южное Общество» находилось в городе Тульчине
на Украине, где располагался штаб 2-й Армии. В числе членов
Северного общества были люди самых разных политических убеждений, но
в целом оно было гораздо менее радикальным, чем Южное общество,
во главе которого стоял полковник Павел Пестель. Целесообразно
ради большей ясности рассмотреть взгляды той и другой
оппозиционной группировки в отдельности.
Северное общество
В идеологии Северного общества были определенные элементы,
напоминавшие воззрения аристократической оппозиции в период
1 Основные книги о декабристах по-английски: Mazur A.G. The First Russian
Revolution, 1925. 2nd ed. Stanford, Calif., 1961. RaeffM. The Decembrist Movement.
Englewood Cliffs. N.J., 1966.
72 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
правления Екатерины И. Многие члены Северного общества были
выходцами из прежде могущественных, а теперь обедневших
боярских семей, а иные даже вели свое происхождение от легендарного
князя Рюрика (князь Сергей Трубецкой, князь Евгений Оболенский и
князь Александр Одоевский). Никита Муравьев считал, что своими
корнями декабристское движение восходит к традициям Новгорода
и Пскова, Боярской Думы XII в., к конституционным требованиям,
с которыми московский нобилитет обратился к императрице Анне
Иоанновне в 1730 г. К проектам конституции братьев Паниных и
аристократической оппозиции XVII в. Поэт Кондратий Рылеев создал
идеализированный образ князя Андрея Курбского (лидер боярской
оппозиции Ивану Грозному) и даже посвятил ему одну из своих
элегий (созданных по образцу «исторических песен» польского поэта
Юлиана Немцевича). В своих показаниях перед Комиссией
расследования после подавления восстания Петр Каховский утверждал, что
движение первоначально было реакцией на бюрократический
произвол, против неуважения к древним дворянским вольностям и против
фаворитов-иностранцев. Другой декабрист из Северного Общества,
писатель и литературный критик Александр Бестужев (позднее он
печатал свои произведения под псевдонимом «Марлинский»), писал,
что его целью была «монархия, исправленная аристократией». Эти и
подобные факты объясняют слова Пушкина, высказанные в 1830-е гг.,
что декабристское восстание было последним эпизодом в
многовековой борьбе между самодержавием и боярами.
Едва ли подлежит сомнению, что память о древних «вольностях»
и неприязнь к бюрократии, социальный статус которой был наградой
за сервилизм и карьеризм, еще больше подогревали ненависть к
царскому деспотизму. Это не надо понимать так, что декабристами
двигали только эгоистические классовые интересы (такова была позиция
М.Н. Покровского и так называемой вульгарно-социологической
школы в советской историографии). Даже те декабристы, которые
особенно были склонны к идеализации древних свобод, вовсе не
стремились вернуть к жизни прошлое; их планы свержения
деспотизма имели своей целью благо всего народа, а не только дворянства,
поэтому эти проекты занимают важное место в истории свержения
самодержавия. Если бы политическая программа декабристов была
реализована, она стала бы основанием быстрого развития
капитализма, который не только устранил бы дворянские привилегии, но также
подорвал бы его экономические позиции. При всей своей
ограниченности помещичьим происхождением идеология декабристов была для
своего времени, по сути дела, одним из видов либерализма. Больше
того: постольку, поскольку идеология декабристов постулировала
свержение самодержавия - главного столпа, на котором держался
ГЛАВА 3. Дворяне-консерваторы и дворяне-революционеры 73
старый порядок, - постольку эта идеология была революционной.
В целом мы имеем здесь дело с явлением, хорошо известным по
польской истории: это - революционная антифеодальная идеология,
основные представители которой были членами привилегированного
класса - «лучшими детьми своего класса», «дворянскими
революционерами», как называл их Ленин.
Соединение в этой идеологии разрозненных элементов
облегчалось тем обстоятельством, что декабристы использовали термин
«республика» очень свободно: похоже, они не вполне сознавали
существенные различия между, скажем, римской республикой, польско-
литовской дворянской республикой, древнерусскими городами-
государствами и современной буржуазной республикой. Теоретики
Северного общества не делали различий между критикой
абсолютизма с точки зрения земельной аристократии и той же самой критикой
с буржуазной точки зрения. Поэтому они без всякого труда соединяли
либеральные воззрения, заимствованные из произведений Бентама,
Бенжамена Констана и Адама Смита, с идеализацией прежних
феодальных вольностей и убеждением в том, что аристократия играет
роль «узды деспотизма». Теоретической предпосылкой здесь было
«юридическое мировоззрение» Просвещения, в соответствии с
которым правовые и политические формы обусловливали развитие
общества.
Самым важным документом, отражающим взгляды декабристов
Северного общества, был проект конституции, подготовленный
Никитой Муравьевым. Проект этот предусматривал отмену рабства во
всех его формах, но в нем ничего не говорилось о земельных наделах.
Наоборот, в нем ясно говорилось, что вся земля останется во
владении земельной аристократии; только перед лицом давления более
радикальных членов Северного общества была сделана поправка, на
основании которой крестьянам разрешалось владеть своим домашним
участком и двумя десятинами (около пяти акров) пахотной земли.
Ввиду отсталого состояния сельского хозяйства в России в то время,
такой ничтожный надел совершенно не давал возможности
прокормить семью. Отсюда понятно, почему Никита Муравьев настаивал на
том, чтобы зависимость крестьян от своих господ сохранялась даже
после отмены крепостного права. В одном из параграфов конституции
(снятом в последней редакции) даже утверждалось, что будущее
законодательство будет устанавливать сумму откупной, которую
крестьянину придется уплатить своему помещику, если он пожелает
уехать из своей деревни.
Другой чертой конституции Муравьева был высокий уровень
имущественного ценза для граждан. Только такие люди, которые
владели земельной собственностью стоимостью не менее 500 рублей се-
74 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ребром или же другой собственностью стоимостью вдвое больше,
получали разрешение называться «гражданами». Такие же правила,
определявшие набор на гражданскую службу, устанавливались по
возрастающей шкале: в высшие учреждения допускались только люди,
владевшие земельным участком стоимостью не меньше 60000 рублей
серебром! В более позднем варианте своего проекта Никита Муравьев
снизил этот уровень и распространил имя гражданина на всех
жителей российского государства. Но даже и этот вариант предоставлял
избирательные права только помещикам и капиталистам и лишал
значительную часть населения возможности принимать активное участие
в политике. Единственной должностью, открытой «для каждого без
исключения и без различия», была должность главы общины.
Муравьев создал свой план политической системы по образцу
Соединенных Штатов. По этому плану будущая Россия должна была
стать федерацией из четырнадцати штатов, в каждом из которых
будет своя столица. Например, Волховский штат, столицей которого
должен был быть «город Святого Петра», Харьковский штат со
столицей в Киеве и Украинский штат со столицей в Харькове (границы
штатов не совпадали с этническими границами). Царство Польское
(в пределах своих этнических границ) должно было остаться в
пределах федерации, но наделялось большей самостоятельностью, чем
другие штаты. В каждом штате предполагался двухпалатный парламент,
независимый в экономических, административных и культурных
вопросах, но не имеющий законодательной власти. Высшая власть в
федерации вручалась «Народному вече», состоявшему из Высшей думы
и Палаты Представителей. Царь должен был быть не более чем
ведущим должностным лицом федерации. Для того чтобы избежать
пагубного влияния дворцовых группировок, лица на императорской
службе временно лишались своих политических прав. Больше того:
в проекте конституции Муравьева даже был раздел, запрещавший
императору путешествовать за границу для того, чтобы он не
поддаваться вредным советам иностранцев.
Самая прогрессивная черта конституции Муравьева - позиция по
отношению к гражданским свободам. Предполагалась полная свобода
вероисповедания, собраний и слова; цензура отменялась; и
государство не должно было вмешиваться в дела науки, искусства и
образования. Однако по отношению к социальным проблемам и в
особенности по крестьянскому вопросу проект Муравьева обнаруживает
совершенно явную ограниченность менталитета поместного дворянства.
Многие декабристы разделяли убеждение в том, что крестьяне будут
осчастливлены уже одной только отменой крепостного права.
Декабрист Якушкин, например, не мог скрыть своего возмущения тем, что
его крестьяне потребовали земли, когда он предложил освободить их.
ГЛАВА 3. Дворяне-консерваторы и дворяне-революционеры 75
Узнав, что земля останется собственностью помещика, они ответили
так: «Пусть тогда все остается как есть. Мы принадлежим хозяину, но
земля принадлежит нам».
Конституция Муравьева сыграла значительную роль в процессе
формирования взглядов его товарищей, но ее не следует считать
официальным выражением точки зрения всего Северного общества. Во
всяком случае, было решено, что окончательный выбор конституции
остается законодательным собранием, которое будет созвано после
свержения правительства. Помимо представленного Муравьевым
направления, существовала более радикальная фракция, целью
которой была не монархия, а республика. Основным представителем этого
направления был поэт Кондратий Рылеев, друг польского поэта
Адама Мицкевича.
НИКОЛАЙ ТУРГЕНЕВ
Среди тех, кто близко стоял к Северному обществу, особую
позицию занимал Николай Тургенев (1789-1871), участник прежнего
«Союза Благоденствия» и сын масона Ивана Тургенева, одного из
ближайших сподвижников Новикова. Во время декабристского восстания
Тургенева не было в стране. Приговоренный к смерти, он остался за
границей.
В отличие от Муравьева и декабристов в собственном смысле (то
есть тех, кто был членом тайных обществ и решился на вооруженное
восстание), Тургенев был скорее реформатором, чем
революционером. Он тоже хотел превратить Россию в страну гражданских свобод
и власти закона, но он относился с глубоким недоверием к
политическим амбициям поместного дворянства. Он даже считал, что из двух
зол абсолютизм предпочтительнее аристократической олигархии и
что только сильное централизованное правительство сумеет провести
земельную реформу. В отличие от Муравьева Тургенев был против
введения имущественного ценза; считать богатство и вообще
собственность некоей гарантией патриотизма и любви к свободе,
утверждал Тургенев, оскорбительно для человечества. Тем не менее,
в своих предложениях по неприятному вопросу о земельной реформе
Тургенев не пошел дальше Муравьева. В книге «Опыт теории
налогообложения» (1818) он утверждал, что крестьян следует освободить
без отдачи им земли в свободное пользование, но им должно быть
дано право покупать землю. Как видно из личного дневника
Тургенева, он был за частичную раздачу земли, но боялся, что если ввести
соответствующий закон, то это только усилит сопротивление
землевладельцев главной, по его мнению, реформе, а именно - отмене
крепостного права и переходу к свободному труду. Обращает на себя
76 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
внимание тот факт, что Тургенев больше всего настаивал на
необходимости распустить деревенскую общину, которую он считал
основным препятствием на пути к модернизации сельского хозяйства.
Никита Муравьев тоже был противником общины, хотя свою к ней
антипатию никак не подкреплял экономическими аргументами.
Южное общество
В Южном обществе декабристов главной фигурой был полковник
Павел Пестель (1793-1826). Его воззрения изложены в проекте
конституции «Русская правда». Это подробное описание будущей
системы политического устройства, которая должна была быть введена
в России, - документ, которому Южное общество придавало большое
значение. В отличие от лидеров Северного общества Пестель
утверждал, что вопрос о конституции не следует откладывать на будущее
«вече», а следует решить заранее, и что после успеха вооруженного
заговора Временное правительство должно быть наделено
диктаторской властью.
Самая интересная часть «Русской правды» - те разделы, где речь
идет о земельной реформе. В своей аргументации Пестель опирается
на две теории землевладения: первая исходит из того, что земля - это
дар природы и потому должна быть общинной собственностью;
вторая теория полагает, что земля является собственностью тех, кто ее
обрабатывает. Пестель понимает, что обе эти теории содержат момент
истины, и пытается поэтому примирить их в своей программе,
которая основывалась на двух допущениях: что каждый человек имеет
естественное право на существование и тем самым - на свою часть
земли, достаточно большой, чтобы он мог жить безбедно; и что
только те, кто производят избыток богатства, имеют право наслаждаться
им. Поэтому Пестель предлагал после свержения царизма разделить
землю на два равных сектора: первый будет общественной
собственностью (или, точнее, собственностью общин), второй перейдет в
частные руки. Первый будет использоваться таким образом, чтобы
каждому обеспечить прожиточный минимум, тогда как второй пойдет
на создание избытка богатства. Каждый гражданин получал право
просить общину о земельном наделе, достаточном для того, чтобы
прокормить свою семью; если община имеет в своем распоряжении
больше земли, то он вправе потребовать несколько таких наделов.
Другой сектор остается в частных руках. Пестель понимал, что его
программа обеспечивает каждого отдельного человека какой-то
формой общественного благосостояния в виде общинного надела землей,
но также оставляет место для неограниченной инициативы и
возможности нажить состояние в частном секторе.
ГЛАВА 3. Дворяне-консерваторы и дворяне-революционеры 77
Пестель полагал, что его программа имеет все шансы на успех,
поскольку земельная собственность в России всегда была и общинной, и
частной. Он имел в виду русскую деревенскую общину; однако
следует подчеркнуть, что община в понимании Пестеля существенно
отличалась от феодальной общины в том, что не ограничивала своих
членов в перемене мест или в личной свободе, ни обременяла их
коллективной ответственностью за налоговые задолжности.
Идею того, что деревенская община содержит в себе зародыши
общественной системы России в будущем, ожидала поразительная
судьба в российской интеллектуальной истории. Пестель в какой-то
мере предтеча этой концепции, но стоит отметить, что он не связывал
общину ни с каким социалистическими тенденциями (хотя Герцен
думал иначе). Пестель был убежден в важности крупного
капиталистического предпринимательства, и его экономические взгляды
испытали сильное влияние Адама Смита.
Конституция Пестеля упраздняла феодальные сословия, включая
дворянство, но его отношение к этому последнему отличалось
определенной двойственностью: ему не хотелось нанести вред положению
дворянства, и он даже считал, что важно сохранить некоторые
привилегии для самых заслуженных граждан. В отличие от членов
Северного общества, Пестель не испытывал особых симпатий к древней
родовой знати; если ему и было свойственно какое-то корпоративное
чувство, то оно у него связывалось со служилым дворянством, которое
своим общественным статусом было обязано не столько своей
родовитостью, сколько правительственной службе. Это ясно видно из его
«Русской правды», где решения социальных вопросов в основном
возлагаются на правительственных чиновников. В новой России все
независимые союзы, общества или ассоциации будут запрещены
законом, и у частных лиц не будет разрешения открывать школы или
благотворительные учреждения.
Хотя предложения Пестеля о земельной реформе были
радикальнее, чем планы Северного общества, в них тоже можно заметить
тенденцию к компромиссу с крупными землевладельцами. Поместья
предполагалось разделить на три категории: землевладельцы,
владевшие более чем 10 000 десятин (около 25 000 акров) должны были
отдать половину своей земли без компенсации; владевшие от 5000 до
10000 десятин должны были получить частичную компенсацию за
половину своей земли; владельцы меньших поместий должны были
отдать половину своей земли, но с правом на полную компенсацию
или с правом получить то же количество земли в малонаселенной
местности. Такая реформа должна была обеспечить наделение
участком земли в каждой общине (в основном во благо крестьян),
составляющей половину всей используемой земли. Предполагалось, что по
78 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
завершении земельной реформы не будет верхнего предела размерам
частных поместий. Крепостное право подлежало отмене сразу, но
трудовые обязательства (corvée) должны были сохраняться на
переходный период от десяти до пятнадцати лет.
В отличие от Муравьева Пестель твердо противостоял введению
качественных отличий собственности. Он считал, что пусть лучше
будут богатые как преимущество для государства, но был против
всякого сближения политических привилегий с богатством; финансовая
аристократия вреднее, чем родовая аристократия. Россия будет
республикой, в которой избирательное право будет дано всем мужчинам
старше двадцати лет. Законодательной властью облекается
однопалатное народное собрание, а исполнительной властью -
Государственная Дума из пяти членов, которую Народное собрание избирает
на пять лет. Юридические и контрольные функции доверены
Высшему Совету из 120 пожизненно избираемых членов.
Конституция Пестеля отличалась от конституции Муравьева также и
во взглядах на гражданские свободы и структуру правительства. В
«Русской правде» предусматривались свобода вероисповедания и
общественных движений, неприкосновенность домашнего очага и свобода
прессы (авторы статей отвечают только перед судом), но запрещалось
создавать какие-либо общества и ассоциации, а бюрократии доверялось
следить за поведением правительства и гражданскими делами. Пестель
предпочитал сильное централизованное правление и считал, что
федерализм Муравьева слишком напоминает разделение средневековой Руси на
удельные княжества, что и открыло страну татарскому завоеванию.
Пестель заходил так далеко, что выступал против передачи автономии
народам, входившим в российскую империю, поскольку считал, что они
должны слиться в одну историческую нацию. Единственное исключение
Пестель делал для Польши - страны с традицией государственности,
способной сформировать сильное и самостоятельное правительство. В
секретных переговорах с «Обществом польских патриотов» Пестель
обещал полякам национальную независимость при условии, что они
вступят в тесный союз с Россией и введут сходную с российской
общественную систему. В возрожденное польское государство должны были
войти территории почти всей Белоруссии, Волыни и Западной Украины.
Стоит присмотреться к соображениям Пестеля по еврейскому
вопросу. Евреям, которые не желают ассимилироваться, должна быть
оказана помощь в приобретении территории на Ближнем Востоке для
образования своего собственного государства. «Ежели все русские и
польские евреи соберутся в одно место, - писал Пестель, - то их
будет свыше двух миллионов. Такому числу людей, ищущих отечество,
не трудно будет преодолеть все препоны...»'
1 Цит. по: Нечкина MB. Движение декабристов. М., 1955. Т. 2. С. 86.
ГЛАВА 3. Дворяне-консерваторы и дворяне-революционеры 79
Та легкость, с которой Пестель сам решал будущее более чем
десятка народов, включая народы с такими богатыми и древними
культурными традициями, как грузины, была следствием не шовинизма, но
абстрактного рационализма - тенденции смотреть на народы с
бюрократически-этатистской точки зрения. Для автора «Русской правды»
единственная разумная связь между людьми - это связь,
основывающаяся на юридических предпосылках. Используя двусмысленность
русского слова «общество» (ему соответствуют различные
значения английского слова society), Пестель утверждал, что общество -
это просто объединение граждан «ради достижения какой-либо
цели»1. Согласно определению Пестеля народ «есть совокупность всех тех
людей, которые, принадлежа к одному и тому же государству,
составляют гражданское общество, имеющее целью своего существования
возможное благоденствие всех и каждого»2. Это утилитарное
определение не проводит различия между «народом» и населением данного
государства, игнорируя тем самым языковые и культурные различия
внутри данной народной общности. Если основания общества покоятся на
акте объединения для достижения определенной цели, тогда общество
может распасться и новая ассоциация сложится на других, более
высоких принципах, придуманных революционерами. Воззрения Пестеля
находились под влиянием «якобинского» убеждения в том, что
общество можно планировать и что эти планы можно вести в действие
посредством декретов, издаваемых центральной властью.
Общество объединенных славян
Помимо Южного общества декабристов на Украине того времени
действовало Общество объединенных славян, основанное в 1823 г.
братьями Борисовыми и польским революционером Юлианом
Люблинским. Осенью 1825 г., накануне декабристского восстания, эта
организация вступила в Южное общество в качестве отдельной секции -
«славянского Совета». В противоположность «настоящим»
декабристам «славяне» были в основном офицерами из обедневшего мелкого
дворянства. Их главной целью было создание демократической,
республиканской федерации славянских народов (но включающей также
и Венгрию, Молдавию и Валахию), которая должна была простираться
от Черного до Белого моря и от Балтики и до Адриатики. В отличие от
декабристов «славяне» не боялись проводить агитацию своей программы
среди армейских служащих. Хотя их программа общественных реформ
1 Избранные социально-политические и философские произведения
декабристов. М, 1951. Т. 2. С. 75.
2 Там же. С. 80.
80 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
была довольно неопределенной, она являлась более демократичной, чем
программа и Северного и Южного декабристских обществ; больше того,
«славяне» выступали за народную революцию, опирающуюся не столько
на вооруженное восстание, сколько на поддержку масс.
Ведущие идеологи декабристского движения проявляли
некоторый интерес к «славянству», но этот интерес в основном касался
внешней политики будущей России. Представление о федерации
славянских народов, основанной на равных правах, было оригинальной
идеей Общества объединенных славян, но встретило довольно
прохладный прием. Михаил Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-
Апостол старались убедить «славян», что их предложения отвлекают
внимание от непосредственных задач движения и что «нужно думать
больше о своих соотечественниках, чем об иностранцах». Не было
случайностью то обстоятельство, что «славянская» программа
возникла на границах разных народов - там, где встречались Польша,
Россия и Украина, - и что одним из создателей этой программы был
поляк. Есть даже основания полагать, что «славянская идея» пришла в
Россию из Польши, где в то время интерес к «славянству» имел
широкое распространение1.
Декабристская философия
русской истории
Идеализация «древнерусских вольностей», столь характерная для
декабристов, проявлялась также в их пристрастии к архаизмам и
историческим реминисценциям. Тексты декабристов наполнены такими
старыми словами, как «дума», «собор», «управа», «вече» и «боярин».
В качестве столицы декабристы, разумеется, предпочитали Москву
или Нижний Новгород, а не традиции Петербурга. Это поветрие
коснулось даже Пестеля: проект своей конституции он назвал в
соответствие с самыми ранними сохранившимися юридическими документами.
В начале XIX столетия это было обычной практикой - находить не
только теоретические документы, но также и исторические параллели
для того, чтобы получать от них поддержку для своей идеологической
позиции. Для России, как и для Германии, война с Наполеоном
сыграла в этом процессе особую роль. В биографиях большинства
декабристов компания 1812 года представляет поворотный момент.
Якушкин называл ее событием, «разбудившим русский народ».
Отечественная война вызвала широкий интерес к русской истории, к
См. обсуждение этого вопроса в кн.: Luciani G. La Société des Slaves Unis.
Paris, 1963.
ГЛАВА 3. Дворяне-консерваторы и дворяне-революционеры 81
началам «народности» и «самобытности». Из этого интереса возникло
истолкование декабристами русской истории - истолкование,
разработанное членами Северного общества и понимавшееся как антитеза
теории Карамзина о благодетельной роли самодержавия.
Врожденная русская черта, утверждали декабристы,
притупившаяся со временем, но не уничтоженная, - это глубоко укоренившаяся
любовь к свободе. Самодержавие было неведомо в Киевской Руси:
власть князей была там строго ограничена. И решения по важным
государственным делам принимались на народных собраниях.
Особенно пылко декабристы восхищались республиканскими городами-
государствами Новгородом и Псковом. В какой-то мере этот
энтузиазм имел практический смысл, поскольку декабристы были убеждены
в том, что «дух вольности», которым когда-то были преисполнены их
предки, все еще жив; нужно только ударить в колокол, заявлял
Рылеев, и новгородцы, которых не изменили столетия, соберутся у
колокольной башни. Каховский описывает крестьянские общины с их
«миром» самоуправления как «маленькие республики», наследие
древнерусской свободы1. В соответствии с этим своим
представлением декабристы считали, что они восстанавливают утраченную
свободу и возвращаются к такой форме правления, которая имела
серьезные прецеденты в историческом прошлом
Эта аргументация напоминает нам о том, что слово «революция»
первоначально означало «восстановление». Это архаическое значение
слова «революция» было еще живым в мировоззрении дворянских
революционеров в Польше и в России. К этому, однако, стоит
добавить, что существовало несколько непосредственных звеньев между
идеями русских и польских революционеров. Одним из тех, кто
повлиял на представления декабристов о русском прошлом, был,
например, польский историк Иоахим Лелевел, чья рецензия на
«Историю...» Карамзина, опубликованная в журнале «Северный архив»,
вызвала значительный и вполне понятный интерес среди участников
декабристского движения". Победу самодержавия в XVI в.
декабристы представляли как победу татарских политических начал, чуждых
русскому духу. Наибольшее неприятие у декабристов вызывал Иван
Грозный; напротив, в Курбском они видели национального героя.
Декабристы склонны были также идеализировать первых Романовых
в основном потому, что избирались они Земским собранием и еще
прислушивались к советам бояр. Считалось, что и Боярская дума,
и Земское собрание содержат семена представительного правления.
1 См.: Волк С.С. Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958. С. 303.
2 Декабристов также очень интересовали исследования древнеславянских
традиций, проводившиеся И. Раковицким и Зорианом Долежа-Ходаковским. См.:
Волк С.С. Цит. соч. С. 314-318.
82 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Даже представленное здесь в сжатом виде изложение истолкования
декабристами истории очень ясно обнаруживает влияние идей родовитого
дворянства. Декабристы отождествляли себя с боярами и не упускали
случая всякий раз подчеркивать общность интересов бояр и народа в целом.
Они даже утверждали, что древняя боярская знать была частью народа и
что крепостное право ввели против воли бояр для того, чтобы
вознаградить новую военную и чиновничью касту за преданную службу царям.
Оценка роли Петра Великого представляла для декабристов немалую
трудность. С одной стороны, Петр казался им кровавым тираном, новым
Иваном Грозным; но с другой стороны, Петр был творцом современного
вестернизованного государства. Когда <А.>Тургенев назвал Петра
тираном, то Бестужев ответил: «Я страстно люблю этого тирана»1. Рылеев
прославлял Петра, но в своем стихотворении «Войнаровский» нарисовал
идеальный портрет гетмана Мазепы, боровшегося с Петром в защиту
независимой Украины и древней казацкой вольницы. Декабристы критиковали
Петра за неуважение к народным традициям, но все они были согласны в
том, что его реформы имели принципиальное значение. Ради
исторической необходимости Петру отчасти прощали его деспотизм, но
преемников его критиковали беспощадно. Например, требования конституции,
выдвигавшиеся в 1830 г., вызывали у декабристов полное сочувствие.
Это расхождение в оценках в том, что касалось Петра, совсем не
трудно объяснить социологически. Декабристы были потомками
родовитой аристократии, униженной Петром, но в то же время они представляли
вестернизованную элиту этой аристократии - элиту, которая самим своим
существованием была обязана реформам Петра. Декабристы были
противниками деспотизма, но как русские патриоты они понимали выгоды,
которые принесло русскому государству правление Петра. Он были
благодарны Петру за то, что стали ближе к Европе, но они питали
отвращение к деспотической системе, которую Петр укрепил, потому что они
чувствовали себя европейцами и считали самодержавие основным
препятствием к дальнейшей вестернизации.
Место декабристов
в истории русской мысли
Декабристское восстание оказалось неудачным почти во всех
отношениях. Те полки, которых офицеры-заговорщики вывели 14
декабря 1825 года на Сенатскую площадь в Петербурге, не знали, за что
они сражаются, и не удивительно, что они были рассеяны после
первых же пушечных залпов. Полковник Сергей Трубецкой, выбранный
военным диктатором, в решающий момент скрылся и больше не
появлялся на месте событий. Многие из бунтовщиков присоединились к
'Там же. С. 413.
ГЛАВА 3. Дворяне-консерваторы и дворяне-революционеры 83
восстанию с ощущением его обреченности только затем, чтобы
продемонстрировать отчаянный, безнадежный героизм, который
послужил бы примером для последующих поколений. Участники восстания
в Петербурге действовали без достаточной энергии и слишком
опасались массового восстания, чтобы воспользоваться тем
преимуществом, что население столицы сочувствовало им. На юге восстание
тоже не имело успеха, несмотря на несомненный героизм,
проявленный Бестужевым-Рюминым и Муравьевым-Апостолом. И все же
неудачное восстание декабристов со временем обрело ореол легенды,
отчасти заслуженный. До декабристского восстания в России бывали
только боярские заговоры или стихийные, дикие взрывы народного
возмущения. Здесь же впервые против русского самодержавия
выступила с оружием в руках образованная элита со своей продуманной
программой. Виселицы с пятью повешенными руководителями
восстания (Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский и
Рылеев) произвели ужасающее впечатление на Герцена, который
станет живым звеном, соединившим традиции дворян-революционеров
и радикалов 1860-х годов. «Лучшие сыны дворянства» инициировали
русское революционное движение, и труд их не был напрасным.
Несмотря на этот элемент преемственности, нужно сказать, что
декабристская идеология не имела продолжателей в последующей
русской революционной мысли. Никакое радикальное движение в
России больше не будет выдвигать либеральной или даже
либерально-аристократической концепции свободы в поддержку
экономического либерализма. Правда, два русских политических эмигранта,
Иван Головин (1816-1890) и Николай Сазонов (1815-1862),
возвратились к идеям декабристов как своему исходному пункту, но они не
принадлежали ни к какому организованному движению; их воззрения,
подчеркивавшие республиканские начала, не имели влияния на
русскую революционную мысль1. Герцен тоже считал себя наследником
декабристов, но его доктрина «русского социализма» вызвала
совершенно иную общественно-политическую традицию. В России
либерализм стал откровенно антиреволюционной силой, а в
революционном движении возобладали различные варианты социалистических
идей; последние обычно сопровождались неприязнью и
подозрительностью в отношении республиканских традиций, чаще всего
отвергавшихся в качестве «буржуазных»2. Понятно, что в таком умственном
климате республиканское наследие декабристов не считалось традицией
живой, заслуживающей внимания передовой интеллигенции.
1 Эти воззрения подробно разбираются (на основании малоизвестных
источников) в кн.: Sliwowcka W. W kregu poprzedniköw Hercena. Wroclaw, 1971.
2 Это было особенно характерно для народников и анархистов. См. ниже
главу 12.
84
ГЛАВА 4
АНТИПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
НАЧАЛА ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА
Яланы политических реформ, вынашивавшиеся декабристами,
были проникнуты духом рационализма XVIII столетия. Их
философия истории и взгляды на литературу говорят и о
влиянии романтического движения, но у декабристов редко можно найти
отчетливое осознание того, что ценности Просвещения зачастую
были несовместимы с романтизмом. Многие декабристы (например,
В. Кюхельбекер) отдавали решительное предпочтение классицизму,
утверждая, что классическая поэзия способна лучше выразить
древний дух «республиканских добродетелей».
Карамзин, несмотря на своеобразие своей позиции, тоже испытал
непосредственное влияние идейных тенденций Просвещения.
Аргументы, утверждавшие важность исторической преемственности,
Карамзин заимствовал у Монтескье (хотя он и отвергал у него теорию
разделения властей). Карамзин почитал религию как один из столпов,
на которых держится общественный порядок, но религиозный
мистицизм называл «бредологией».
В этой главе речь пойдет о тех направлениях в российской
интеллектуальной истории, которые представляли крайнюю реакцию против
философии Просвещения, а именно - отход от рационализма
восемнадцатого столетия либо в сторону мистической религиозности, либо в
сторону идеалистической метафизики с элементами мистицизма.
МИСТИЦИЗМ
В период правления Александра I мистицизм был прямым
наследником мистического течения в русском масонстве, представителями
которого в XVIII веке были Шварц и розенкрейцеры. Преследования
масонов при Екатерине и Павле не помешали росту этого
направления, и произведения зарубежных мистиков в оригинале и в переводах
печатались во все возрастающем числе.
Одной из основных причин повального увлечения мистицизмом
при Александре были наполеоновские войны. Поражение Наполеона
толковали как доказательство того, что на Россию возложена
священная миссия, и она избрана Провидением для отражения Антихриста и
возрождения христианства. Падение французского императора
сравнивали с падением Белого Всадника в Апокалипсисе и видели в этом
ГЛАВА 4. Антипросветительские движения... 85
пример непостоянства земной власти и ничтожества человеческих
возможностей в сравнении с волей Божьей. Падение Наполеона
служило также и аргументом против «самонадеянности человеческого
разума» и, значит, ipso facto против требований, выдвигавшихся
философами-просветителями, создать царство Божие на земле
независимо от участия Бога.
Тон этому умонастроению задавал сам Александр. Во второй
половине своего правления царь, воспитанный на идеях швейцарского
либерала-рационалиста Лагарпа, подпал под влияние баронессы фон
Крюденер и участвовал в написании ее книги с характерным
заглавием «Облако над святым местом, или Нечто такое, чего гордая
философия не смеет даже предчувствовать». Александр советовался с
баронессой, подготавливая свой проект создания Священного Союза,
подписанный в сентябре 1815 г. королем Пруссии и императором
Австрии. В этом документе участники Священного Союза
именовались подданными «одной христианской нации», а три монарха -
представителями Провидения. Следует отметить, что Александр
искренне верил в придуманное им содружество христианских народов и
готов был ради него даже рисковать национальными интересами
России. Два других монарха подписали соглашение о Священном Союзе
по чисто политическим мотивам. Австрийский император и
фактически руководивший его внешней политикой министр граф Меттерних
даже считали, что фразеология этого документа свидетельствует о
том, что сознание его автора расстроено.
Священный Союз справедливо называли альянсом международной
феодальной реакции. Однако русский мистицизм в эпоху
Александра I нельзя считать однозначно реакционным. Помимо реакционных
течений в нем заявляли о себе искренние попытки осмыслить
религиозный опыт в более широкой перспективе. Многие уверовавшие в
мистические учения относились резко критически не только к
рационализму XVIII столетия, но и к официальной православной Церкви,
а это приводило к попыткам обоснования внецерковной «внутренней
религиозности», которая обращалась непосредственно к чувствам
и интуитивному опыту. Большой симпатией пользовались в этот
период протестантские секты, особенно квакеры, которые учили, что
мистический «естественный свет», горящий в душе каждого
верующего христианина, указывает путь к спасению без посредников
церкви. Большой интерес вызывала деятельность британского
Библейского общества в Санкт-Петербурге.
Самой крупной фигурой среди русских мистиков той эпохи был
Александр Лабзин (1766-1825). В Московском университете он был
одним из любимых учеников розенкрейцера Шварца и под его
влиянием присоединился к масонскому движению. В 1806 г. Лабзин осно-
86 Аиджей Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
вал журнал «Сионский вестник», который почти сразу же был
запрещен по настоянию церковных властей. Однако в 1817 г., когда обер-
прокурор Священного Синода А. Голицын, который сам был
мистиком, возглавил министерство образования, издание «Сионского
вестника» вновь было разрешено. В течение 1917-1818 гг. «Сионский
вестник» был чрезвычайно влиятельным периодическим изданием -
настолько влиятельным, что даже православные священники были
подвержены его влиянию. Патриарх Фотий, непримиримый враг
мистической ереси, назвал Лабзина человеком-идолом, которому
поклоняются Синод и петербургская Духовная академия. Это, конечно,
было сильным преувеличением: большинство церковников, естественно,
относились к Лабзину враждебно, а Синод покровительствовал его
идеям не столько по убеждению, сколько из желания заслужить
одобрение императора и князя Голицына.
«Сионский вестник» проповедовал идею «внутреннего
христианства» и необходимость нравственного пробуждения. Журнал уверял
своих читателей в том, что стоит им только нравственно возродиться
и наполнить свою жизнь верой, как они обретут сверхрациональные
способности познания и смогут проникнуть в тайны природы и
обрести в них ключ к высшему откровению за пределами Церкви.
Таким образом, религия, которую проповедовал Лабзин, была
внеконфессиональным и антицерковным христианством. Сердца
людей, учил Лабзин, наполнились верой в Христа в первый день
творения; первобытные языческие народы были поэтому ближе к
подлинному христианству, чем те народы, которые хотя и стали
крещенными, но оказались ослеплены ложными ценностями цивилизации.
Официальная церковь - сообщество христиан низшего сорта, а
Библия - «немой наставник, указующий знаками на живого учителя,
обитающего в сердце». По мнению Лабзина, все догмы просто
придуманы людьми: Иисус вовсе не хотел, чтобы люди думали одинаково, он
хотел, чтобы они поступали справедливо. Слова Христа: «Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные» свидетельствуют о том, что
Христос не имел в виду создать какую-либо иерархию,
опосредующую взаимоотношения между людьми и Богом.
Когда царь Александр подпал под влияние патриарха Фотия,
судьба Лабзина была решена. Издание его журнала вновь было запрещено,
и как только представился первый же повод, Лабзин был приговорен
к ссылке, откуда уже не вернулся.
Одна из интересных фигур в русском мистицизме - Михаил
Сперанский (1772-1839), о котором упоминалось выше в связи с
Карамзиным. Сперанский был сослан в 1812 г. якобы за поддержку
Наполеона, но идеи этого реформатора законодательства обнаруживают
интересное и курьезное сочетание мистицизма и юридического ра-
ГЛАВА 4. Антипросветительские движения... 87
ционализма восемнадцатого века. Сперанский получил образование в
Духовной академии и был другом масона Лопухина. Изучая «Кодекс»
Наполеона, Сперанский одновременно читал произведения Якоба
Бёме, Сен Мартена, мадам Гуйон и греческих отцов Церкви.
Проводившиеся под его руководством реформы были вдохновлены идеей
истинно христианского общественного устройства. Сперанский
полагал, что введение в России принципов представительства, власти
закона и финансовой подотчетности вполне совместимо с
евангельскими предписаниями, в которых, как он считал, содержится решение
политических проблем. В ссылке Сперанский стал еще более
фанатичным мистиком и жестким оппонентом Церкви. Официальная
церковная доктрина, - писал он, - это «совершенно ложная система
христианства».
После восшествия на престол Николая I мистические направления
очень скоро были пресечены. Важнейшим шагом на этом пути стало
закрытие масонских лож, которые составляли основу движения. Ложи
запретили еще в 1822 г., но в атмосфере страха, воцарившейся в
обществе после поражения восстания декабристов, ни о какой тайной
деятельности уже не могло быть и речи. Однако мистические
тенденции продолжали существовать в скрытом виде: их можно обнаружить
в идеях Чаадаева и романтиков-любомудров, а также у молодого
Бакунина и у славянофилов.
ЛЮБОМУДРЫ
И РУССКОЕ ШЕЛЛИНГИАНСТВО
Помимо мистицизма, самым значительным выражением реакции
против рационализма восемнадцатого века был философский
романтизм, представленный в основном тайным обществом «любомудров»,
которое было основано в 1823 г. По сути дела, это общество состояло
из пяти членов (В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов, Н.М. Рожалин и
ставшие позднее славянофилами И.В. Киреевский и А.И. Кошелев),
но благодаря тесным контактам любомудров с литературным
обществом СЕ. Раича, существовавшим открыто с разрешения властей,
влияние любомудров было значительно. Любомудры
пропагандировали свои идеи в альманахе «Мнемозина», издававшемся с 1824-го по
1825 г. Слово «философия» они заменили мистическим масонским
термином «любомудрие» для того, чтобы подчеркнуть свою
независимость от французских philosophes. «Еще и сегодня все думают,
что философ это один из тех французских болтунов восемнадцатого
века, - писал Одоевский, председатель общества, в «Мнемозине». -
88 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Хотел бы я знать, много ли существует людей, способных понять
огромное различие между истинно божественной философией и
философией какого-нибудь Вольтера или Гельвеция?» Эту «истинно
божественную философию» молодые любомудры искали в Германии.
«Страна древних тевтонов, страна благородных идей! На тебя
обращаю я свой почитающий взгляд», - так выражал Одоевский чувства
любомудров1.
Интерес к философии германского идеализма выражал поворот от
политических интересов, столь типичных для декабристов и их
окружения. Декабристы не могли принять привычку любомудров смотреть
на мир с высот абсолюта, откуда они могли презирать земной
«эмпиризм» и закрывать глаза на жгучие социальные и политические
вопросы дня. Переписка между двумя двоюродными братьями
Одоевскими интересна тем, что она проливает свет на различия между
декабристами и любомудрами. Старший из двоюродных братьев,
Александр, который был декабристом, обвиняет младшего в
«идолопоклонстве», в том, что тот потерял себя в абстракциях; а младший,
Владимир, обвиняет старшего в отсутствии у него понимания высших
духовных интересов.
Как верно заметил А. Койре2, различия между любомудрами и
декабристами отражали разрыв не только между поколениями
(любомудры принадлежали к младшему поколению, на которое
Отечественная война 1812 года не оказала решающего, формообразующего
влияния), но также между двумя столицами России. «Вырвись, ради
Бога, - писал декабрист Кюхельбекер Владимиру Одоевскому, - из
этой гнилой, вонючей Москвы». Полупатриархальная Москва, с ее
древними дворянскими родами, была столицей древней Московии и
центром русской религиозной жизни; она также была главным
бастионом консерватизма, мистицизма и сопротивления
рационалистической, революционной и даже либеральной мысли. В восемнадцатом
веке Москва была главным центром розенкрейцерства - мистического
крыла масонства, а в девятнадцатом веке Москве суждено было
породить славянофильское движение. В противоположность этому, Санкт-
Петербург был городом без прошлого, но в то же время -
единственным в России современным городом; он был колыбелью
«разночинцев», беспочвенной интеллигенции, и основным центром
либеральной, демократической и социалистической мысли.
См.: Сакулин П.И. Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский.
Т. 1.М., 1913. С. 138, 139.
2 См.: Koyré A. La Philosophie et le problème national en Russie au début du XIX
siècle. Paris, 1929. P. 43. <Койре А. Философия и национальная проблема в России
начала XIX века. М.: Модест Колеров, 2003. С. 46. -Прим. перев..>
ГЛАВА 4. Антипросветительские движения... 89
На первых порах молодые любомудры интересовались
преимущественно философией природы и философией искусства Шеллинга.
Они смотрели на мир как на живое произведение искусства, а
искусство считали органическим единством бессознательного и
сознательного творчества. Исполненный истинного вдохновения художник, как
им представлялось, не подражает действительности, но создает ее
заново в соответствии с божественными принципами творения; поэтому
он поистине заслуживает того, чтобы именоваться божественным
существом. Больше того, искусство любомудры связывали
непосредственно с философией, считая одним из инструментов философии не
что иное, как художественную интуицию. Не удивительно, что при
таких убеждениях, молодые любомудры заведомо враждебно
относились ко всем проявлениям классицизма и ко всем «подражаниям
французским образцам».
Философия природы любомудров сложилась под влиянием двух
русских шеллингианцев - Д.М. Велланского (1774-1847), ученика
Шеллинга, профессора естественной истории в Петербургской
академии медицины и хирургии1, и М.Г. Павлова (1793-1840), профессора
Московского университета, который печатался в «Мнемозине». В
отличие от этих двух своих наставников, любомудры не имели
профессиональной подготовки, так что их мысли о природе легко уносились
в область фантазий. Следуя Шеллингу, они выступали против
атомистической и механистической физики и все воспринимали с точки
зрения принципа полярности: природа - это живое одухотворенное
целое, которое заключает в себе креативность, движение и борьбу
противоположностей, как влечения, так и отталкивания; в то же время
природа только внешнее одеяние духа, и оттого все проявления ее
имеют скрытое, символическое значение. Ключ к пониманию этих
символов и, следовательно, к интерпретации и овладению природой
обретается в спекулятивной философии. В полуавтобиографическом
романе «Русские ночи» Одоевский так описал период своей юности:
«Моя юность протекла в ту эпоху, когда метафизика была такою же
общею атмосферою, как ныне политические науки. Мы верили в
возможность такой абсолютной теории, посредством которой
возможно было бы строить (мы говорили - конструировать) все явления
природы точно так, как теперь верят в возможности такой
социальной формы, которая бы вполне удовлетворяла всем потребностям
человека»2.
1 В 1834 году Велланский перевел на русский язык и напечатал сочинение
польского последователя Шеллинга Йозефа Голуховского "Die Philosophie in
ihren Verhältnissen zum Leben ganzer Völker und einzelner Menschen" (1822).
2 Одоевский В.Ф. Русские ночи. M., 1913. С. 8.
90 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Другая важная составляющая мировоззрения любомудров -
романтический национализм. Многие статьи в «Мнемозине» призывали
к подлинно народной и «самобытной» культуре. Это, казалось,
совпадало, с литературной программой декабристов, почему Кюхельбекер
и печатал в «Мнемозине» свои статьи. Однако идеологическая основа
этого сотрудничества была очень непрочной. Согласно
рационалистическому воззрению Просвещения (имевшему значительное
влияние на декабристов), нация - это, прежде всего, «политическое тело»,
образованное законодательством и «совокупностью граждан». В
противоположность этому любомудры понимали нацию как такое целое,
которое выходит за пределы составляющих его индивидуальных
частей, как уникальную коллективную индивидуальность, исторически
развивающуюся по своим собственным, «самобытным» законам.
Такое истолкование, в принципе, могло привести к идеализации
иррациональных элементов национальной жизни и к осуждению всех
«механических изменений», то есть революций, способных нарушить
«органическую» непрерывность истории. Убеждение в том, что
история предопределила каждый народ к его собственной, особой миссии,
было чревато столкновением с рационалистическим универсализмом,
который составлял одну из основных (хотя и не всегда отчетливо
формулируемых) предпосылок декабристской мысли.
Поражение декабристского восстания и судьба, выпавшая на долю
заговорщиков, произвели глубокое впечатление на любомудров. В
интересах безопасности их общество сразу самораспустилось, но члены его
продолжали собираться неформально. Во второй половине 1820-х гг.
любомудры все еще составляли относительно однородную группу и
печатали свои произведения в «Московском вестнике» - периодическом
издании, которое редактировал историк Михаил Погодин. Главный
интерес любомудров от философии природы сместился к философии
истории, и в центре их внимания оказался теперь вопрос о положении России
перед лицом Западной Европы - в особенности проблемы, порожденные
контактами между ними и напряжением между чисто народным
элементом и западноевропейскими ценностями, пересаженными в Россию
Петром Великим. Этот вопрос обсуждается в короткой, но интересной
статье поэта и философа Дмитрия Веневитинова «О состоянии
Просвещения в России» (1826). Основной тезис его статьи состоял в том, что
русской культуре недостает отличительного «народного начала».
Единственный путь обретения Россией своей истинной природы, на взгляд
автора, - это изолировать ее от Европы и продемонстрировать Европе
возможность некоторого всеобъемлющего воззрения на эволюцию
человеческого духа - воззрения, основанного на твердых философских
началах; только тогда Россия сумеет открыть свое собственное место в мире
и свою особую историческую миссию.
ГЛАВА 4. Антипросветительские движения... 91
В 1830-е гг. председатель общества любомудров Владимир
Одоевский (1803-1869), возможно, самый талантливый представитель
консервативного направления в русском романтизме, стал широко
известным писателем. В 1844 г. он издал свои «Русские ночи» -
интересную книгу, в которой разговоры между друзьями чередуются с
новеллами. Книга эта имеет ценность исторического документа,
поскольку (говоря словами самого автора) она дает «довольно верную
картину той умственной деятельности, которой предавалась
московская молодежь 20-х и 30-х годов»1.
Подобно самому Шеллингу, Одоевский чем дальше, тем больше
склонялся к теософии и религиозной философии истории, посвящая все
больше времени чтению мистиков и теософов, таких как Бёме, Пордедж,
Сен-Мартен и Баадер. Жизненно важным философским вопросом,
захватившим теперь внимание Одоевского, стала проблема первородного
греха. На взгляд Одоевского, человек когда-то был свободным духом;
нынешняя зависимость его от природы - результат грехопадения, поэтому
плоть следует называть болезнью духа. Однако возрождение возможно
через любовь и искусство: эстетическая эволюция человечества
показала, что человечность способна восстанавливать свою утраченную
целостность и духовную гармонию. Однако искусство должно быть
проникнуто религией; отделенное от религии, оно замыкается в себе. И то
же самое относится к науке, которая, отделившись от религии и поэзии,
может привести нацию к духовной смерти.
Сила, способная объединить народ и превратить его в живое
целое, - это, согласно Одоевскому, нечто, называемое им
«инстинктом»". Под этим подразумевалось не биологическое понятие, но
могучая иррациональная сила, нечто вроде «божественной искры»,
которая, как говорили мистики, сохранилась в человеке после
грехопадения и делает возможным его возрождение в будущем.
Первобытные народы владели огромными ресурсами этих инстинктивных сил,
но, по мере развития цивилизации, в особенности рационализма
римской цивилизации, инстинктивные энергии ослабли. Хотя
христианство начало новую «мировую эпоху» инстинктов на более высокой
стадии, чем прежде, - первозданный источник инстинктивных
энергий снова высыхает. Это - следствие рационализма и чрезмерного
анализа, что, в свою очередь, привело к появлению материализма и
современной индустриализации. Следует отметить, что характерные
для консервативного романтизма начала XIX в. нападки на
капитализм (в тесной связи с критикой рационализма) впервые в русской
мысли появились в «Русских ночах» Одоевского.
'Там же. С. 21.
2 См.: СакулинПН. Из истории русского идеализма. С. 469-480.
92 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
В противоположность рационализму и эмпиризму Просвещения,
заявлял автор, истинная философия основывается непосредственно на
инстинкте. Познание, способное постигать свой объект синтетически,
невозможно без «врожденных идей», возникающих непосредственно
из инстинктов. К счастью, искусство отчасти сохраняет первобытные
силы, утраченные под влиянием рационализма, и может помочь
укрепить ослабевшие инстинкты. Поэтическая интуиция никогда не
заблуждается, и поэтический импульс - драгоценнейшая способность
души. Не только познание, но и самая ткань общественной жизни
человечества должны быть проникнуты духом поэзии; подобно религии,
поэзия является могучей инстинктивной силой, соединяющей
общество воедино; там, где прогресс науки приводил к исчезновению
религии и поэзии, общество вырождалось как целостный организм.
Инстинкт - это творческий принцип, органическая сила, без которой
всякая человеческая деятельность - искусство, наука или
законодательство - «механистична и безжизненна».
Важной стороной этой теории было убеждение Одоевского в том,
что богатство инстинктивных сил, утраченное западноевропейскими
людьми, сохранилось в России - молодой стране, все еще
пребывающей в «героическом веке». Благодаря реформам Петра русские
люди ассимилировали европейские достижения, обрели опыт
стариков, не перестав быть детьми. Вот почему на Россию теперь
возложена высокая миссия - одухотворить новой жизнью старую,
закосневшую культуру Европы. Надо сказать, что немецкие наставники
Одоевского разделяли некоторые его мысли. В 1842 г., когда Одоевский
был в Берлине, Шеллинг сказал ему, что русским «суждено нечто
великое»1; а немецкий философ Франц фон Баадер в конце жизни
послал меморандум министру просвещения графу Уварову под
многозначительным заглавием «Миссия Русской Церкви ввиду заката
Христианства на Западе»2.
Согласно концепции Одоевского Россия и Западная Европа не два
противоположных полюса одной антитезы; миссия России состоит не
столько в том, чтобы заменить европейскую культуру новой,
радикально иной культурой, сколько в том, чтобы спасти европейскую
цивилизацию. В некоторых пунктах Одоевский предвосхитил
славянофильскую критику Европы, но что касается его надежды на то, что
Россия впитает в себя и вдохнет новую жизнь во все, что было
лучшим в западноевропейской цивилизации, то ее разделяли Станкевич,
Белинский и молодой Герцен.
8 Там же. С. 386.
9 См.: Susini Е. Lettres inédites de Franz von Baader. Paris, 1942. P. 456-461.
ГЛАВА 4. Антипросветительские движения... 93
В своих общественных воззрениях Одоевский был (в 1830-е и
1840-е гг.) типичным представителем консервативного романтизма
с характерным для последнего критическим отношением к
прогрессу капиталистического индустриализма и либеральным идеям.
Одоевский отвергал буржуазное общество как механизм, лишенный
поэтического элемента, как агрегат изолированных индивидов,
которыми движут эгоистические интересы, - общество без каких-либо
моральных обязательств. Полуфеодальная система России казалась
Одоевскому несравнимо выше буржуазного государства, хотя он и
признавал, что эта система могла быть и лучше: помещики, например,
в качестве стражей народа, поспособствовали бы этому, сдав
экзамен, удостоверяющий уровень их морали и научных знаний. Тем не
менее, Одоевский считал этот проект настолько дерзким, что даже
и не надеялся на его осуществление до следующего, двадцатого
столетия.
Идеи любомудров, которые Одоевский позднее развивал в своем
творчестве, - важный переходный этап в русской интеллектуальной
истории. С одной стороны, популяризируя немецкую философию
(в особенности Шеллинга) в России, любомудры подготовили почву
для рецепции гегельянства. С другой стороны (и это, может быть,
главное), любомудры были непосредственными предшественниками
славянофилов (эту непосредственную связь реально воплощали Ко-
шелев и Киреевский). Будущие идеологи официального русского
консерватизма - историк Михаил Погодин и литературный критик
Степан Шевырев - тоже были связаны с любомудрами. Наконец, идеи,
первоначально обсуждавшиеся любомудрами, вызвали к жизни
«Философические письма» Чаадаева.
94
ГЛАВА 5
ПЕТР ЧААДАЕВ
Яетр Чаадаев (1794-1856), племянник князя Михаила
Щербатова и друг Пушкина, в юности был связан с декабристским
движением. Молодой Пушкин имел все основания считать
Чаадаева одним из выдающихся либералов 1820-х гг., а его известное
стихотворение «К Чаадаеву» заканчивается такими строками:
Товарищ, верь: взойдет она
Звезда пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена1.
По иронии судьбы человек, к которому были обращены эти
оптимистические строки, позднее составит себе глубоко
пессимистический взгляд на Россию.
В начале 1821 г. декабристы на своем съезде в Москве решили
ввести Чаадаева в тайное общество. Однако приглашение пришло
слишком поздно: как раз в это время Чаадаев решил отказаться от
многообещающей военной карьеры (по причинам, которые так и
остались невыясненными), отойти от салонного общества и
углубиться в произведения религиозных авторов. Вскоре после этого он уехал
за границу (в 1823 г.) и там утвердился в своих симпатиях к римскому
католицизму, который в то время оказывал значительное влияние на
русскую аристократию. Вернувшись в Россию в 1826 г., Чаадаев на
несколько лет ушел почти в полное затворничество, всецело посвятив
себя философскому изложению своего нового мировоззрения. Итогом
этого периода стали восемь «Философических писем» (написанных
по-французски между 1828 и 1831 гг.), из которых только одно,
посвященное России, было напечатано при жизни автора (в 1836 г.)
в журнале «Телескоп»2. Завершив «Философические письма», Чаадаев
Самая полная монография о Чаадаеве на английском языке: Raymond T.
McNelly, Chaadaev and His Friends. Tallahassee, Fla., 1971.
' Три из «Философических писем» впервые были опубликованы за границей
священником-иезуитом отцом И.С. Гагариным {Ouvres choisies de Pierre Tscha-
adaïef) и перепечатаны М. Гершензоном в 1913 г. вместе с русским
переводом. Остальные письма были найдены в 1935 г. Д. Шаховским и опубликованы
ГЛАВА 5. Петр Чаадаев
95
возвратился в московское общество и вскоре стал одним из самых
желанных гостей в литературных салонах города. Именно в
дискуссиях с Чаадаевым - а чаще, вероятно, в спорах с ним - начали
складываться будущие воззрения как западников, так и славянофилов.
МЕТАФИЗИКА
И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ЧААДАЕВА
«Философические письма» Чаадаева - произведение, богатое
содержанием и идейной глубиной, так же прочно укорененное в
европейской интеллектуальной традиции, как и в мышлении своего
времени. Некоторые лейтмотивы «Философических писем» восходят к
неоплатонизму: они удержались в европейской и русской
религиозной философии, а также в некоторых аспектах герметизма и
масонской теософии. Неоплатонические идеи дошли до Чаадаева также
через Шеллинга (с которым он несколько лет переписывался, после того
как встречался с ним в 1825 г.). Стоит отметить, что Чаадаев читал
Канта и даже Гегеля, что было в России 1820-х годов большой
редкостью. Однако основное влияние оказали на него французские
католические философы, в особенности де Местр (который был послом
в России с 1803-го по 1817-й г., и который назвал одну из своих
значительных книг Les Soirées de Saint-Pétersbourg), де Бональд, Баланш,
Шатобриан и Ламеннэ в его теократический период.
В противоположность философам Просвещения, Чаадаев
утверждал, что стремление к индивидуальной свободе не является для
человека естественным. Подлинная человеческая склонность
заключается в потребности подчиниться чему-то высшему: бытие иерархично
в «Литературном наследстве», 1935. № 22-24. К сожалению, в этом издании
письма напечатаны только в русском переводе.
В расширенном издании этой книги взглядам Гагарина и других русских
интеллектуалов, перешедших в католичество (прежде всего - Владимира Пече-
рина) посвящена отдельная глава. Вслед за Владимиром Соловьевым автор
объединяет этих мыслителей в общую категорию «религиозного западничества»,
главным представителем которого являлся Чаадаев. Обширное изложение
взглядов «религиозных западников», ориентировавшихся на римский католицизм как
фундамент западной цивилизации, содержится в книге: Rosj, katolicyzm I spraw
polska (Россия, католицизм и польский вопрос), Warszawa, 2002. Книга эта
показывает, что прокатолическая тенденция имела в Росии большой удельный
вес: достаточно вспомнить имена Чаадаева, Владимира Соловьева и Вячеслава
Иванова. См. также: Walicki A. The Religious Westernism of Ivan Gagarin //
Cultural Gradient. The Transmission of Ideas in Europe, 1789-1991. Ed. By Catherine
Evtihov and Stiphen Katkin. Maryland, 2009. {Примечание автора, 2010).
96 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
по своей структуре, и естественный порядок вещей основан на
зависимости. Человеческие действия направляются извне силой, которая
трансцендентна отдельному человеку, и возможности человеческого
разума прямо пропорциональны его покорности, смирению и
послушанию. Индивид не существует вне общества; сознание и познание
индивида проистекают из общественного, сверхиндивидуального
источника. Разум отдельного человека укоренен во всеобщем разуме
и от него получает питание. Тем не менее, элемент этого всеобщего
разума глубоко укоренен в человеческом сознании (наподобие
божественного откровения). Индивидуальный разум сам по себе, в
изоляции, является чем-то искусственным, это разум человека после
грехопадения; поэтому люди, провозглашающие автономию своего
ограниченного разума и желающие собственными силами сорвать плод с
древа познания, виновны в повторении первородного греха. Чаадаев
полагал, что критика чистого разума показала бессилие разума
отдельного индивида: то, что Кант называл «чистым разумом», - это на
самом деле индивидуальный разум, притязающий на собственную
автономию и по этой самой причине неспособный решить свои
антиномии или постигать высшие истины. Такого рода субъективный
разум отделяет человека от вселенной и делает истинное понимание
невозможным. Истинное понимание достижимо только посредством
коллективного познания, путем участия в коллективном сознании,
которое выходит за пределы сознаний индивидов; это высшее
сознание - от Бога, который является высшим принципом единства
вселенной.
Логический вывод, который следовал из этой презумпции, -
отрицание нравственной автономии индивида. Для Чаадаева
нравственный закон, как и сама истина, - это не что-то автономное, как то
полагал Кант, а некая сила вне нас. Только великие, боговдохновенные
герои истории способны поступать произвольно и в то же время
соответствовать предписаниями высшей морали; обычные люди, поступки
которых не руководствуются «мистическими импульсами», должны
подчиняться строгой дисциплине унаследованных традиций. Нужно
отметить, что, на взгляд Чаадаева, психология должна признать у
наследуемость идей, существование исторической памяти, которая
передается от поколения к поколению; он был жестким оппонентом
того, что он называл «эмпирической» психологией, которую обвинял в
сведении человеческой психики к механической игре произвольных
ассоциаций.
Для того чтобы обосновать эту свою позицию, Чаадаев развил
метафизическую концепцию об иерархии состояний бытия. Великое
«Всё», о котором он писал в своих «Письмах», имеет иерархическую
структуру, состоящую из четырех уровней. На вершине этой иерар-
ГЛАВА 5. Петр Чаадаев
97
хии - Бог. Ниже, в качестве его эманации, - универсальный разум,
который Чаадаев отождествляет с социальной сферой, т.е. с
коллективным сознанием, сохраняемым в традиции. Значительно ниже этого
уровня находится эмпирическое индивидуальное сознание - сознание
индивидов, утративших связь с целостностью бытия. Самый низший
(четвертый) уровень - природа, предшествующая человеку. Бог,
таким образом, не совпадает со вселенной, как в пантеизме, но и не
отделен от нее, как в традиционном теизме.
Понимание Чаадаевым «социальной сферы» и ее значения в
человеческой жизни представляет особый интерес. Познание, считал он, -
это форма коллективного сознания, которая возникает из
взаимодействия многих людей, столкновения многих разумных сознаний. Не
будь общества («сверхиндивидуальной сферы»), которое делает
возможным передачу традиций, люди никогда бы не выделились из
животного состояния. Социальная сфера имеет решающее значение
также и в религиозном опыте: только благодаря социальности индивид
приходит к познанию Бога и становится сосудом божественной
истины. Путь к Богу ведет не через индивидуалистическое
самосовершенствование или уединенный аскетизм, но через строгое соблюдение
традиционных норм и конвенций общественной жизни. Для Чаадаева
это требование включало даже заботу о собственной внешности и
бытовых привычках, а также тщательное соблюдение религиозного
ритуала - он называл это «дисциплиной души». Попытка «слиться» с
Богом истолковывается Чаадаевым как стремление к совершенной
социальности: «...у человека нет иного назначения, - писал он, -
кроме упразднения своего личного бытия и замещения его совершенно
социальным или безличным бытием»1.
Чаадаевский идеал абсолютной социальности можно правильно
понять, только ясно отличая его от потребности в «слиянии с
народом» - мотив, который часто встречается в произведениях русских
мыслителей, занимавшихся проблемой отчуждения. Акцент Чаадаева
на социальности не исключал защиты общественной иерархии или
утверждения аристократической, элитарной теории познания.
Обычные люди, писал он, не имеют ничего общего с Разумом, как не может
их голос приравниваться к голосу Бога. Хранитель истин
Откровения - Церковь, социальный организм, роль которого состоит в том,
чтобы быть посредником между верующими и Богом. Если бы Богу
было угодно учредить другое Откровение, то он воспользовался бы не
1 Чаадаев П. Статьи и письма. М.: Наш современник, 1989. С. 125. <В издании
М.О. Гершензона: «Назначение человека - уничтожение личного бытия и замена
его бытием вполне социальным или безличным» {Чаадаев П. Сочинения. М.,
1913. Т. 1.С. \2\).-Прим. перев>
98 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
обычными людьми, но избранными индивидами, наделенными
особыми духовными качествами. Чаадаев критиковал Реформацию в
основном за ее индивидуалистический эгалитаризм и за преуменьшение
роли Церкви. Его неприязнь к мистическим направлениям
основывалась на сходных соображениях. Если считать, что сущность
мистицизма - в стремлении к непосредственному индивидуальному
контакту с Богом в обход опосредующих, институциональных форм
религии, то Чаадаева нужно считать решительным противником
мистицизма.
В основании философии истории Чаадаева лежит вера во
«всеобщий разум» - коллективное сознание, раскрывающееся в
историческом процессе, - а также убеждение в значительности социальной и
организационной функций Церкви. Для него характерна сознательная
попытка вернуться к религиозной интерпретации истории, в
противоположность осуществленной Просвещением секуляризации истории.
В противоположность опять-таки историкам Просвещения, Чаадаев
считал, что основанные на собственной воле, сознательные поступки
людей играют ничтожную роль в истории. Действия человека
подчинены высшей, сверхиндивидуальной силе: массы подчиняются этой
силе слепо, подобно «бездушным атомам», тогда как избранные
индивиды являются сознательными орудиями этой силы. Человека
можно назвать поистине великим и свободным, когда он осознает замысел
Творца и отождествляет свою собственную волю с высшей волей,
одушевляющей историю. Таким образом, в отличие от традиционных
провиденциалистов, Чаадаев пытался примирить представление о
трансцендентном Провидении с имманентистской философией
истории. Сила, осуществляющая замысел Творца, имеет также
внутреннюю структуру, которая направляет исторический процесс и
трансформирует хаос случайностей в историю, в осмысленный процесс,
который направляется к некоторой цели. Орудия истории - индивиды
и народы, наделенные тем, что Чаадаев называет
сверхиндивидуальными «нравственными личностями». Их предназначение состоит в
том, чтобы восходить ко всеобщему, - тогда как изолированные
народы, отъединенные от всеобщего своими суевериями, не могут быть
такими историческими народами. Со времени Христа сущностью
истории стало христианство, самым чистым воплощением которого
является католицизм. Папство Чаадаев называет «видимым знаком
единства» и одновременно символом всемирного соединения в
будущем: в средние века папство сумело сплотить Европу в одну великую
христианскую нацию, но Ренессанс и Реформация разрушили это
единство и несут ответственность за то, что человечество впало в
социальную атомизацию язычества. К счастью, этот духовный кризис
подходит к концу: христианское человечество прошло все стадии ис-
ГЛАВА 5. Петр Чаадаев
99
порченности, которые были неотъемлемым аспектом его свободы, но
оно не погибло, да и не могло погибнуть. Даже теперь, писал Чаадаев,
чувствуется приближение какого-то великого поворота. Пережив
свою политическую роль, христианство становится социальным, а
человечество вступает в последнюю стадию установления Царства
Небесного на земле.
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ РОССИИ
Взгляд Чаадаева на Россию тесно связан с его метафизикой и
философией истории. В первом из «Философических писем», которое
было посвящено России, он попытался дать анализ того, что, как он
считал, отсутствует в его родной стране. Россия - страна, которую,
похоже, не заметило Провидение. Она не принадлежит ни к Востоку,
ни к Западу, лишена исторических традиций, и в ней отсутствует
«нравственная личность». Русские - только собрание не связанных
друг с другом индивидов; в голове у них все отдельно, шатко и
фрагментарно. У них нет чувства непрерывной преемственности, и они
напоминают бездомных духов, осужденных на творческое бесплодие.
В своих собственных семьях они чувствуют себя чужаками; в своем
собственном доме они ведут себя, как гости; и, даже живя в городах,
они - кочевники.
Нравственная атмосфера Запада - идеи долга, справедливости,
права и порядка - неизвестна России, как неизвестен и западный
силлогизм (логическое и методическое мышление). Россия не
принадлежит к нравственной сфере; ее повседневная жизнь еще не обрела
твердой и определенной формы, она пребывает в состоянии
непрерывного брожения, которое напоминает первозданный хаос,
предшествовавший теперешнему состоянию нашей планеты. Такие люди не
могут внести вклад в эволюцию всеобщего сознания и не способны к
настоящему прогрессу; они существуют только для того, чтобы
послужить миру великим уроком. Абзац, приводимый ниже, является
предельным выражением исполненного отчаяния обвинения,
характерного для первого «Философического письма»:
...Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без
наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не
храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали
нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится
самому связывать порванную нить родства. Что у других народов
обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в
голову ударом молота. Наши воспоминания не идут дальше
вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно
100 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший
миг исчезает для нас безвозвратно. Это - естественный результат
культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас
совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса;
каждая новая идея бесследно вытесняет старую, потому что она не
вытекает из них, а является к нам бог весть откуда. Так как мы
воспринимаем всегда лишь готовые идеи, в нашем мозгу не образуются те
неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит
в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем;
движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не
ведет к цели. <... > Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему
не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих,
ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам
досталось от этого прогресса, мы исказили^.
На последних страницах своего письма Чаадаев пытается
проанализировать причины такого отчаянного состояния вещей. Основная
причина, считает он, это изоляция России, как национальная, так и
религиозная. А изоляция, в свою очередь, имеет свои корни в
церковном расколе, отделении православия от всеобщей Церкви. В то время
как народы Европы век за веком шли рука об руку, чтили Всевышнего
на одном языке и вместе боролись за освобождение Иерусалима,
Россия с самого начала оказалась вне великого европейского сообщества.
Для того чтобы подняться от «эмпирической растительности» к
духовной жизни, ей пришлось бы повторить все предшествующее
развитие Европы с самого начала.
В соединении с аргументацией первого «Философического
письма» большой интерес представляет фрагмент о крепостном праве во
втором письме. Чаадаев считал, что крепостное право оказало
решающее влияние на русское общество и стало основным источником
царящих в нем нездоровой атмосферы и паралича. На Западе Церковь
отменила крепостное право, тогда как в России Церковь освещала
его введение без всякого протеста. «Не знаю, но мне кажется, одно
это могло бы заставить усомниться в православии, которым мы
кичимся»2.
В этом воззрении Чаадаева на Россию некоторые элементы
восходят к сочинениям французских традиционалистов. Де Бональд тоже
писал, что Россия, простираясь между Европой и Азией, все еще
представляет собой общество без формы; русский характер он
называл внутренне «кочевым», а дома в Москве уподоблял скифским ко-
1 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М: Современник, 1989. С. 43-44, 47.
2 Там же. С. 61.
ГЛАВА 5. Петр Чаадаев
101
десницам, с которых сняли колеса. Де Местр, проживший в России
много лет, называл ее страной, лишенной представления о некоторых
всеобщих истинах, плодах древней цивилизации; это неведение он
объяснял изоляцией России, последовавшей за религиозным
расколом. Единственным средством спасения для России он считал
возвращение ее в католическое сообщество1. Взгляды де Местра имели
хождение в среде русской аристократии, и, возможно, они сказались
на формировании идей, развитых Чаадаевым в первом из его
«Философических писем»2.
Сходства взглядов Чаадаева с воззрениями французских
традиционалистов (и, в меньшей степени, немецких консервативных
романтиков) не поверхностные сходства; они возникают из системы
ценностей, принятой всеми этими мыслителями. Лейтмотивы философии
Чаадаева: критика индивидуализма, рационализма и эмпиризма XVIII
века; концепция общества как целого, которое не сводится к сумме
своих отдельных частей; защита традиции и исторической
преемственности; чаяние духовного единства в духе средневекового
христианства, - все это имело свои более или менее точные соответствия
в идеологиях европейских консерваторов. Поэтому, имея в виду
европейский контекст, Чаадаева приходится назвать консерватором.
Парадоксально, но в русском контексте Чаадаева трудно назвать
консерватором, особенно если принять во внимание тот факт, что сам
он отмечал отсутствие в России таких основных предусловий
консерватизма, как чувство преемственности, традиция и исторические
корни3.
Для того чтобы понять Чаадаева, мы должны помнить, что его
идеи были проникнуты духом оппозиции «православной,
самодержавной и народной» России Николая I. Первое из «Философических
писем» было вызовом официальной идеологии, которая заявляла, что
Запад гниет, тогда как процветающая Россия - «единственная
надежда» рода человеческого. Шеф жандармов Бенкендорф хвастался:
«Прошлое России замечательно; ее настоящее положение более чем
великолепно; что же до ее будущего, то оно превосходит все самые
смелые ожидания». Не удивительно поэтому, что публикация
«Письма» вызвала бурную реакцию. Император лично вмешался в дело: он
повелел объявить Чаадаева ненормальным и установить над ним по-
1 См.: Quénet С. Tchaadaev et les lettres philosophiques. Paris, 1931. P. 155-162.
2 См.: Степанов M. Жозеф де Метр в России // Литературное наследство.
М, 1937. №29-30 С. 618.
3 Сходной была история с маркизом де Кюстином, который, будучи твердым
консерватором, посетил Россию в 1839 г. и нашел ее глубоко отталкивающей,
несмотря на репутацию России как оплота консерватизма в Европе. См.:
George F. Кеппап. The Marquis de Custine and His "Russia in 1839". Princeton, N.J., 1971.
102 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
литическое и медицинское наблюдение. Журнал «Телескоп» был
закрыт, а его издатель Н.И. Надеждин сослан в Усть-Сысольск.
Из яркого описания Герцена мы знаем, какое воздействие
«Письмо» Чаадаева оказало на самые радикальные группы молодой
интеллигенции. Это был «выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли
что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть
об утре или о том, что его не будет, - все равно надобно было
проснуться»1.
Между написанием первого из «Философических писем» (1829) и
его публикацией (1836) прошло несколько лет, и за это время взгляды
Чаадаева претерпели некоторые изменения. Июльская революция во
Франции стала для него шоком и подорвала его веру в Европу,
смягчив его пессимизм в отношении России. Под влиянием дискуссий
с будущими славянофилами, прежде всего - с Иваном Киреевским,
Чаадаев тоже начал видеть в России провиденциальную силу, которой
предначертана особая миссия, почему Россия и оказалась вне великой
исторической семьи европейских народов. В результате в 1837 г. была
написана «Апология сумасшедшего» (Apologie d'un fou), в которой
Чаадаев попытался пересмотреть свои представления о России и в какой-
то мере оправдаться ввиду бурной реакции на первое «Письмо».
Чаадаев признает теперь, что его интерпретация русской истории
была слишком суровой; не отказываясь от своих основных
утверждений, он делает из них иные выводы. Он повторяет свое прежнее
утверждение, что Россия - страна без истории и что ее прошлое
обнаруживает отсутствие органического внутреннего развития. Если бы
Россия была исторической нацией, рассуждает Чаадаев, то
Петровские реформы не были бы возможны, поскольку древние, глубоко
укоренившиеся традиции оказали бы сопротивление самовластию и
произволу императора. В действительности же законодательство
Петра не погрешило против исторического прошлого страны,
поскольку Россия была только «чистым листом бумаги»2. Вполне
возможно, что этот аргумент был скрытой попыткой убедить преемника
Петра в том, что только взгляд на Россию как страну без истории мо-
1 Герцен A.M. Былое и думы. Л.: ГИХЛ, 1946. С. 287.
2 Польский поэт Адам Мицкевич тоже сравнивал Россию с чистым листом
бумаги: «Чужая, глухая, нагая страна. /Бела, как пустая страница она. / И Божий
ли перст начертает на ней / Рассказ о деяниях добрых людей...».
Многочисленные параллели между первым «Письмом» Чаадаева и высказываниями
(мыслями) о России в «Кануне предков», часть 3 («Отступления») рассматриваются
в первой главе книги В. Ледницкого «Россия, Польша и Запад»; Lednicki W.
Russia, Poland and the West. New York, 1954. Ледницкий считает, что Мицкевич
мог встречаться с Чаадаевым во время своего пребывания в России и что
пассажи в «Отступлении» были отзвуком этих встреч.
ГЛАВА 5. Петр Чаадаев
103
жет оправдать насильственный характер петровских реформ и,
следовательно, - законность деспотического и бюрократического
произвола.
«Я люблю мое отечество, - писал Чаадаев, - как Петр Великий
научил меня любить его»1. Теперь он подчеркивает, что одиночество
России не ее вина, но результат ее географического положения. Если
у России нет истории, то, возможно, это что-то вроде привилегии.
Скованные своими собственными традициями, своей великолепной
историей, народы Европы с большим трудом строили свое будущее и
все время вели борьбу против сил своего прошлого. В России же,
напротив, могущественному правителю достаточно дать выход своей
воле, как «мнения стушевываются, все верования падают и
открываются новой мысли». Создавая свое будущее, русские люди могут
использовать опыт европейских народов, не повторяя их ошибок: их
может направлять уже один только «голос просвещенного разума и
сознательной воли». «Правда, история больше не в нашей власти, -
писал Чаадаев, - но наука нам принадлежит; мы не в состоянии
проделать сызнова всю работу человеческого духа, но мы можем принять
участие в его дальнейших трудах. Прошлое уже нам не подвластно,
но будущее зависит от нас»". Таковы аргументы, с помощью которых
Чаадаев обосновывал свое убеждение в том, что Россия призвана
«решить большую часть проблем социального порядка, завершить
большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на
важнейшие вопросы, какие занимают человечество»".
«Апология сумасшедшего» с большой ясностью и остротой
представляет трагический парадокс Чаадаева. Человек, который в своей
философской системе принимает унаследованность идей от
сверхиндивидуального всеобщего разума за «основополагающий факт
психологии» и который был убежденным оппонентом эмпиризма Локка,
в то же самое время не может не сказать, что разум и сознание его
соотечественников - это «чистый лист бумаги», а их страна - страна
без наследия. В «Философских письмах» Чаадаев счел этот парадокс
трагедией, но в «Апологии сумасшедшего» он приходит к выводу, что
отсутствие наследия можно рассматривать и как привилегию, которая
предоставляет России некую уникальную возможность.
Представление о России как стране, в которой ничего
по-настоящему не сделано, а все только еще предстоит сделать, не было новым:
его выдвинул Лейбниц после петровских реформ, а Дидро - в связи
1 Чаадаев П.Я.. Цит. изд. С. 157.
2 Там же. С. 158.
3 Там же. С. 157.
104 Анджей Валгщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
с законотворчеством Екатерины Великой4. Есть трагическая ирония
в том, что Чаадаев усвоил этот взгляд на Россию как бы вопреки себе
самому. Ведь это воззрение противоречило его собственной
философии, которая представляла собой острую реакцию против
антиисторического рационализма, а также - его вере в консервативную
систему ценностей. Теория, которую теперь предлагал Чаадаев, могла быть
использована для оправдания не только просвещенного абсолютизма
(что совпадало с намерением автора), но и для оправдания надежд
революционеров-радикалов. Герцен, например, вторил Чаадаеву,
когда писал, что, поскольку у русских нет в прошлом ничего такого, что
стоило бы любить, то социальная революция не встретит серьезных
препятствий.
МЕСТО ЧААДАЕВА
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
Автор «Философических писем», без сомнения, - одна из самых
ярких личностей в интеллектуальной истории России. Хотя Чаадаев и
кажется одиноким мыслителем, далеким от основных течений
идейной жизни в России, - тем не менее, именно он первым обозначил - в
жестких формулировках - ряд базовых проблем, которые позднее
были подхвачены мыслителями, представлявшими самые разные
мировоззрения, - славянофилами и западниками, Герценом и Достоевским,
Чернышевским и Соловьевым. Чаадаев восхищался Западом, но питал
отвращение к либеральной и буржуазной Европе; он был
противником революции, но дал идейный импульс революционерам; он был
религиозным мыслителем, но стал своим для прогрессивной
антирелигиозной или, во всяком случае, нерелигиозной интеллигенции,
которая вслед за Герценом видела в Чаадаеве символ протеста против
удушливой атмосферы самодержавия в России.
В споре славянофилов и западников позиция Чаадаева была
нехарактерной ни для тех, ни для других. Он был страстным западником;
но та Западная Европа, которой он восхищался, была не Европой
либерально-демократических западников 1840-х годов, но Европой
старого аристократического миропорядка, предшествовавшего эпохе
революций. Либерализм и революционаризм были в его глазах
симптомами кризиса европейской цивилизации. Западники 1840-х гг.
испытали определяющее влияние гегельянства и позднее философски
См.: Richter L. Leibniz und sein Russlandbild. Berlin, 1946. О Дидро см. выше
(с. 17-19).
ГЛАВА 5. Петр Чаадаев
105
эволюционировали в сторону материализма и атеизма. Чаадаев же
(подобно славянофилам) связывал свои надежды на будущее с
религиозным возрождением и горячо приветствовал антигегельянскую
«философию откровения», развивавшуюся Шеллингом в последние
годы его жизни.
Славянофильство в определенном смысле может быть понято
как «ответ Чаадаеву». Не Россия, но революционная и
индивидуалистическая Европа, утверждали славянофилы, - вот где живут
люди без унаследованного прошлого, не связанные никакими узами и
традициями, на которые можно было бы опереться. Если русские
«чуждые самим себе», то только потому, что их оторвал от своих
собственных оснований искусственный процесс вестернизации.
Верно, что русские не имеют истории и традиций, что у них нет
связи между поколениями и что они живут, как кочевники, вне
подлинной преемственности; но это верно лишь в отношении вестерни-
зованной элиты, утратившей корни и отчужденной от простого
народа. Поэтому средство оздоровления следует искать не в Европе,
а в воссоединении с простыми людьми, в возвращении к их
собственной истории и религии, в восстановлении самобытных форм
народной жизни, ослабленных западными влияниями.
Восстановление утраченного единства, говорили славянофилы, возможно,
потому что русский народ, не замеченный Чаадаевым, остался верен
своей традиции и своей православной вере.
106
ГЛАВА 6
СЛАВЯНОФИЛЫ
Слово «славянофильство» первоначально употреблялось в
насмешку: оно подчеркивало этнический партикуляризм, который
представлялся типичным для оппонентов русского
западничества. Слово «западничество» имеет сходное происхождение:
первоначально его употребляли славянофилы для того, чтобы подчеркнуть
якобы присущее их оппонентам отступничество от собственной
национальности. Оба слова, однако, можно было интерпретировать и в
позитивном смысле, и, в конце концов, идеологи обеих сторон приняли
эти понятия как своего рода вызов.
Этимологически слово «славянофильство» означает «любовь к
славянам». Однако в русской исторической литературе термин этот со
временем стал употребляться в более узком смысле для обозначения
группы идеологов, принадлежавших к консервативному дворянству,
мировоззрение которых сформировалось в конце 1830-х гг. в
оппозиции к идейному направлению, известному под именем западничества.
Более того, славянофильство теперь означало уже не столько чувство
солидарности с братьями-славянами, сколько культивирование
почвенных (в первую очередь - славянских) элементов общественной
жизни и культуры древней Руси. Интерес к судьбе нерусских славян
начал играть некоторую роль в русском славянофильстве только во
время Крымской войны, в 1840-е гг., разве что Хомякова можно было
назвать славянофилом в этимологическом значении этого слова1.
Самыми выдающимися мыслителями славянофильства были Иван
Киреевский (1806-1856), Алексей Хомяков (1804-1860), Константин
Аксаков (1817-1860) и Юрий Самарин (1819-1876). Киреевский (в юности
связанный с любомудрами) сформулировал основные положения
славянофильской философии человека и философии истории. Хомяков,
человек широких интересов, сильная и колоритная личность (кавале-
ристский офицер, поэт, публицист, философ и изобретатель), был
Назову исследования, внесшие самый значительный вклад в изучение
русского славянофильства: Riasanovsky N.V. Russia and the West in the Teaching
of the Slavophiles. Cambridge, Mass., 1952; Christof/ P. An Introduction to
Nineteenth-Century Russian Slavophilism: A Study in Ideas, vol. 1, A.S. Chomiakov (The
Hague, 1961). Vol. 2., Ivan Kireevsky and the Origins of Slavophiles. Cambridge,
Mass., 1972. Vol. 3; Aksakov K.S. Princeton. New York, 1982.
ГЛАВА 6. Славянофилы
107
в основном богословом-любителем и творцом славянофильской эк-
клесиологии. К. Аксаков и Самарин, которых называли «младшими
славянофилами», в юности увлекались Гегелем. В начале сороковых
годов они были так называемыми православными гегельянцами со
славянофильскими идеями. Однако внутри славянофильского
движения Аксаков и Самарин представляли диаметрально
противоположные направления. Аксаков, который изучал историю и философию,
был крайним идеалистом и утопистом, фанатически верившим в
добродетели простых людей и «народных начал»; он даже отрастил
бороду и носил традиционный русский крестьянский кафтан, из-за чего
его (по свидетельству Чаадаева) принимали за персиянина. Самарин,
в противоположность Аксакову, был трезвым политиком, совершенно
невосприимчивым к морализаторству любого толка; в свои поздние
годы, принимая активное участие в проектировании и проведении в
жизнь крестьянской реформы 1861 г., Самарин быстро понял, каким
образом славянофильский культ простого народа может служить
политическим интересам дворянства.
Следует также отметить имена трех других славянофилов,
которые, однако, не внесли чего-то теоретически оригинального в
развитие славянофильского учения. Это Петр Киреевский (брат Ивана) -
фольклорист и собиратель народных песен; Александр Кошелев -
политик, в 1860-е годы представлявший правое крыло мелкопоместного
либерального дворянства; Иван Аксаков (брат Константина), который
впоследствии стал представителем русского панславизма.
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕИ СЛАВЯНОФИЛОВ
Центральный вопрос славянофильской идеологии - отношение
России к Западной Европе - славянофилы рассматривали в свете
всемирной философии истории. Исходные принципы их философии
были сформулированы в 1839 г. Киреевским в неопубликованной статье
«Ответ Хомякову» и позднее развернуты им в большой работе «О
характере просвещения Европы в его отношении к просвещению
России» (1852).
Склад европейской цивилизации, утверждает Киреевский,
сложился из трех основных составляющих: из христианства, из молодых
варварских народов, разрушивших римскую империю, и из
классического наследия. Отделение от римского наследия - главная особен-
1 Ср.: Tschizevskij D.I. Gegiel w Rossii. Paris, 1939 <Чижевский Д.И. Гегель
в России. СПб.: Наука, 2007. С. 193. - Прим. перев>
108 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ность, отличающая Россию от Запада. На предславянофильской
стадии своего идейного развития1 Киреевский считал это обстоятельство
достойным сожаления, а сделавшись славянофилом, увидел в нем
благословение. Древний Рим, на взгляд Киреевского, был
рационалистической цивилизацией, представлявшей собой «торжество <...>
чистого, голого разума, на себе самом основанного, выше себя и вне
себя ничего не признающего»2. Римляне преуспели главным образом в
сфере юриспруденции, в пагубной рационализации и формализации
жизненных и общественных уз. Юридический рационализм римского
государства казался силой, скрепляющей общество, но в
действительности он разорвал органические, объединяющие людей связи.
Римское общество было искусственным соединением рационально
мыслящих индивидов, которыми двигали личные амбиции и которые
признавали только одну общественную связь - общие деловые интересы.
Государство - «всеобщая» сфера - отделилось от сферы частных,
антагонистических интересов и возвысилось над ней в качестве
отчужденной внешней силы, приковавшей людей друг к другу, но не
объединивших их. Унаследовав этот языческий рационализм, Западная
Европа встала на путь развития, обреченного на постоянную борьбу
антагонистических интересов между людьми. В отличие от Запада
Россию обошло это роковое наследие; поэтому в ней установились
чисто христианские начала - начала, которые находятся в полной
гармонии с духом славянской крестьянской общины.
«Весь частный и общественный быт Запада, - писал Киреевский, -
основывается на понятии отдельной независимости, предполагающей
индивидуальную изолированность. Отсюда святость внешних,
формальных отношений, святость собственности и условных
постановлений выше личности»3. В этом мире возможно только внешнее,
искусственное единство, исключающее свободу; вот почему европейская
история (по острому выражению Хомякова) была борьбой между
«единством без свободы» и «свободой без единства». Согласно
Хомякову, первый принцип воплотился в католической церкви: она
установила абсолютную власть папы, разменяла узы любви на
институциональные связи и уподобилась иерархическому и авторитарному
государству. Второй принцип нашел свое выражение в протестантизме:
1 То есть когда Киреевский был редактором журнала «Европеец» (1932). В то
время его мировоззрение, испытавшее влияние философского романтизма
любомудров, было явно прозападным (на что указывает название его журнала).
Статья Киреевского «Девятнадцатый век», опубликованная в «Европейце»,
вызвала подозрения у самого императора, и это привело к закрытию журнала.
2 Киреевский ИВ. Полное собрание сочинений / Под ред. М.О. Гершензона:
В 2-х т. М., 1911. Т. 1.С. 111.
3 Там же. С. 113.
ГЛАВА 6. Славянофилы
109
он имел относительное оправдание в качестве негативной реакции, но
не является положительным началом. Последующими стадиями
духовной эволюции Европы, перечисляемыми Хомяковым, были:
философия Просвещения, которая проложила дорогу Французской
революции, и германский идеализм, который в конечном итоге привел к
обожествлению человека у Фейербаха и апофеозу эгоизма у Штирне-
ра. Эта духовная эволюция сопровождалась соответствующими
общественными изменениями: таковы возрастающая атомизация и
рационализация общества. Атомизация, в свою очередь, логически привела
к идее «договора» как единственной форме связи между атомизиро-
ванными, изолированными индивидами. Отсюда ясно, что
«общественный договор» «не изобретение энциклопедистов, но
действительный идеал, к которому стремились сначала неосознанно,
а теперь стремятся осознанно все западные народы» (Киреевский).
На смену органическим общинам пришли ассоциации, основанные на
голом расчете, и человеческая энергия получила совершенно новое
направление - вовне, - обратившись в лихорадочную, не знающую
покоя деятельность. В этой бездушной «логико-технической»
цивилизации правит механизм индустриального производства.
«Одно осталось серьезное для человека: это промышленность; ибо
для него уцелела одна действительность бытия: его физическая
личность. Промышленность управляет миром без веры и поэзии. Она в
наше время соединяет и разделяет людей; она определяет отечество,
она обозначает сословия, она лежит в основании государственных
устройств, она движет народами, она объявляет войну, заключает
мир, изменяет нравы, дает направление наукам, характер -
образованности; ей поклоняются, ей строят храмы, она действительное
божество, в которое верят нелицемерно и которому повинуются.
Бескорыстная деятельность сделалась невероятною; она принимает такое
же значение в мире современном, какое во времена Сервантеса
получила деятельность рыцарская»1.
Славянофилы думали, что в древней, допетровской России они
нашли совершенно иную форму общественного развития.
Православие - форма христианства, не зараженная ни языческим
рационализмом, ни светскими амбициями католицизма, - принесло с собою
принцип, неизвестный Западу, - начало «соборности» (Хомяков)2. Эта
форма общественной связи, основанной на «свободном единстве»
верующих, исключает как самовольный индивидуализм, так и его
насильственное ограничение. Взаимоотношение между простым
1 Там же. С. 246.
2 Слово «соборность» происходит от существительного «собор» и глагола
«собирать» (приводить в связь, соединять).
110 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
народом и правителем, которого этот народ «призвал» к власти
(аллюзия на «вызов варягов»), основывается на взаимном доверии. Здесь
неведом ни разъединяюший людей эгоизм частной собственности как
некоей привилегии, лишенной всяких обязательств, ни жесткое
разделение собственности на землю и проистекающие из него
антагонизмы. В древней России базовой общественной единицей была
деревенская «община», основывавшаяся на общем пользовании землей,
взаимном согласии и общности обычаев и управлявшаяся «миром» -
советом старейших, которые решали все споры в соответствии с
освященными преданием традициями и руководствовались
принципом единодушия, а не механическим большинством избирательных
голосов. Общественное единение поддерживалось, прежде всего,
нравственной связью - связью убеждений: это она соединяла всю Русь в один
великий «мир», всенародную общину веры, земли и обычая.
На первый взгляд может показаться, что в этой картине нет
места абсолютному правителю или сильной централизованной власти.
На самом деле, однако, славянофильское истолкование русской
истории имело мало общего с идеализацией древнерусской свободы
декабристами или с представлением Лелевела о славянском коммуна-
лизме. В отличие от этих концепций, славянофильский идеал
«древнерусской вольности» не имел ничего общего с «республиканской
свободой». Этот факт с особой ясностью проявляется в исторических
сочинениях Константина Аксакова. Республиканская свобода,
утверждал он, - это политическая свобода; она предполагает активное
участие народа в политических делах и событиях жизни; в
противоположность этому, древнерусская свобода означала свободу от
политики - право жить по неписаным законам веры и традиции, а также
право на полную самореализацию в нравственной сфере, на которую
не смеет посягать государство.
Эта теория опиралась на проводившееся славянофилами
различение между двумя видами истины - «внутренней» и «внешней».
Внутренняя истина - это голос совести в индивидуальном человеке, а в
обществе это ценности, заключенные в религии, в традиции и обычае,
словом, все те ценности, которые в совокупности создают внутренне
объединяющую людей силу и помогают выковать общественные
связи, основанные на разделяемых всеми нравственных убеждениях.
Внешняя же истина представлена законом и государством, которые,
в сущности, конвенциональны и искусственны, «внешние»; все эти
отрицательные качества Киреевский и Хомяков относили к
институциональным и социальным связям, сложившимся в процессе
рационализации и формализации. Аксаков шел еще дальше других
славянофилов: он считал все формы юридических и политических
отношений изначальным злом; на противоположном полюсе было об-
ГЛАВА 6. Славянофилы
111
щинное начало, воплощением которого представала деревенская
община, основанная (по Аксакову) исключительно на доверии и
единодушии, а не на гарантиях закона или внешне обусловленных
соглашениях, которые характерны для рационального контракта. На взгляд
Аксакова, различие между Россией и Западом состоит в том, что в
России государство не доразвилось до такого «начала», на котором по
большей части основывается организация общества. Когда хрупкость
человеческой природы и требования безопасности делали
необходимым политическую организацию, русские «призывали» к себе
«заморских» правителей1, для того чтобы не нанести вреда «внутренней
правде» путем огосударствления самих себя; русские цари получили
абсолютные полномочия, так что народ мог устранить все контакты с
«внешней правдой» и всякое участие в делах государства.
Взаимоотношения между «землей» (то есть народом, руководимым
«внутренней правдой») и государством основывались на принципе взаимного
невмешательства. По своей собственной, свободной воле государство
советовалось с народом, который высказывал свою точку зрения на
земляческих съездах, но окончательное решение оставлял за
монархом. Люди могли быть уверены в своей полной свободе жить и
мыслить так, как им угодно, в то время как монарх имел полную свободу
действий в политической сфере. Это отношение всецело зависело от
нравственных убеждений, а не от юридических гарантий, и именно
это определяет превосходство России перед Западной Европой.
«Гарантия - зло, - писал Аксаков, - где она необходима, добро
отсутствует; а жизнь, в которой отсутствует добро, пусть лучше погибнет,
чем будет продолжаться с помощью зла» . Аксаков признавал, что
между идеалом и действительностью часто бывает большой разлад,
но он приписывал это всецело человеческому несовершенству. Он
резко осуждал правителей, которые пытались вмешиваться во
внутренние дела «земли», но даже в случае Ивана Грозного, жестокости
которого он осуждал, Аксаков не допускал, чтобы «земля» имела
право на сопротивление, и славил ее многострадальную лояльность.
Парадоксальный аспект аргументации Аксакова - в том, что он
подсознательно применяет к прошлому России одно из основных
положений западноевропейского либерализма - принцип полного
отделения политической и социальной сфер. В то же время он отвергает
как либеральный конституциализм, так и само содержание либераль-
Аксаков имеет в виду легенду о «призвании» варягов из «Начальной
летописи» Нестора. Согласно этой легенде, киевское государство было основано
«норманскими» (скандинавскими) князьями, которых пригласили находившиеся
в раздоре местные племена для того, чтобы править ими.
2 Аксаков КС. Поли. собр. соч.: В 3 т. Т. 1.М., 1861-1880. С. 9, 10.
112 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ного идеала свободы. Интерпретацию Аксаковым свободы «земли» не
следует смешивать со свободой индивида, поскольку в его понимании
свобода относится только к «земле» как целому; это не свобода
индивида в общине, а свобода общины в вопросах веры, традиции и
обычая от вмешательства извне. Это невмешательство не имело ничего
общего с доктриной либерализма о laissez faire, поскольку, согласно
Аксакову, нравственные принципы «земли» снимают проблему
экономического индивидуализма. Даже призыв Аксакова к свободе слова
не был у него по-настоящему либеральным требованием, поскольку
не предполагал плюрализма убеждений или оппозиции меньшинств
внутри общества. Требуя свободу в неполитической сфере, Аксаков в
то же время хочет, чтобы каждый индивид полностью подчинял себя
«миру», больше того - подчинял «по совести», а не «по закону». Его
идеал - «свободное единство», основывающееся на полном
единодушии: последнее должно свести к минимуму внешние ограничения, но
в то же время оно исключает индивидуальную автономию и любое
отступление от общинных традиций.
Самая большая трудность, с которой столкнулись славянофилы в
своем истолковании русской истории, заключалась в том, что им надо
было найти удовлетворительное объяснение петровских реформ.
Приходилось спросить себя: как было возможно, чтобы истинно
христианское община Древней Руси не устояла перед натиском низшей
цивилизации, основывающейся на «внешней правде»? Вина, полагали
славянофилы, была не в народе, а в государстве и той части элиты,
которая обольстилась чисто внешними достижениями народов
Европы. Цивилизация, основывающаяся на рационалистических
критериях, может развиваться быстрее и легче, чем цивилизация,
основывающаяся на христианских началах, поскольку ее развитие не зависит
от внутреннего совершенства ее человеческого потенциала; поэтому
Европа опередила Россию в материальной сфере и построила такую
цивилизации, технические достижения которой вызывали зависть у
Петра и его сторонников.
Петровские реформы, по мнению славянофилов, перерезали
связующие нити между высшими слоями России и простым народом1.
Лейтмотив славянофильской идеологии - возникший в результате
этого разрыв в русской жизни, противоречие между «народом» и
«обществом» - просвещенной элитой, усвоившей западные образцы.
Славянофилы утверждали, что до Петра помещичьи хозяйства были
органической частью «народа». Под «народом» они подразумевали только такие
спои общества, которые оставались верными древней традиции; например
старомосковские купеческие семьи были частью «народа», тогда как купечество,
вовлеченное уже в процесс вестернизации, относилось к «обществу».
ГЛАВА 6. Славянофилы
113
Народ культивировал стабильные обычаи, тогда как общество
поклонялось капризам моды; народ сохранял патриархальную семью, тогда
как общество переживало разрыв семейных связей; народ оставался
верен древнерусским обычаям, тогда как общество было
искусственным порождением петровских реформ. Вестернизованные русские
сделались «колонизаторами в своей собственной стране» (Хомяков).
Оторванные от народных корней, эти люди потеряли чувство
исторической принадлежности и стали тем, в чем их винил Чаадаев, -
людьми без отечества, чужаками в своей собственной стране, бездомными
бродягами. С этой точки зрения, возвращение просвещенных слоев
общества в лоно православия и «народных начал», сохранившихся в
современной деревенской общине, казалось единственной надеждой
на выздоровление России.
ПОНЯТИЕ «ЦЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ»
И «НОВЫЕ НАЧАЛА В ФИЛОСОФИИ»
Выше говорилось, что славянофильскую идеологию можно
интерпретировать как ответ на «Философические письма» Чаадаева.1 В
более широкой перспективе можно сказать, что это была реакция на
процессы, происходившие в сознании интеллектуальной элиты -
поколения «лишних людей» эпохи правления Николая I, которые
увековечены в романах Тургенева. Герцен очень точно определил это
правление: «удивительное время наружного рабства и внутреннего
освобождения».2 Несмотря на постоянные попытки правительства пресечь
«заразу» из Европы, николаевская Россия переживала небывалое
воздействие культурных влияний, исходивших из Западной Европы.
Литература и философия становились все более мощными средствами
освобождения человеческой личности от давления общепринятых
истин, впитанных с молоком матери и усвоенных некритически. Борьба
за эмансипацию, не имевшая выхода на общественно-политическую
арену, стала интровертированной и находила выход в философской
экзальтации и культе самонаблюдения, которые сопровождались
ощущением изолированности, отчуждения и внутренней
разорванности. Статьи и письма молодого Бакунина, Герцена, Станкевича и
Белинского полны жалоб на чрезмерную рефлексию, убивающую
всякую непосредственность, внутреннюю двойственность, на
«призрачность» и гамлетовский самоанализ. Чаадаевский мотив отчуждения
и бездомности тоже дает о себе знать: «скиталец по Европе, чужой
1 См. конец главы о Чаадаеве.
2 Герцен А.И. Поли. собр. соч.: В 30 т. М, 1954-1965. Т. 14. С. 157.
114 Анджей Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
дома, чужой и на чужбине», - так описал Герцен героя своего
романа1; ему вторил Огарев: "Ich bin ein Fremdling überair - бездомный
бродяга, кочующий из страны в страну2.
На взгляд славянофилов, эти настроения были симптомом
духовной болезни, возникшей вследствие разрыва между «утонченным
обществом» и простым народом. Однако они приветствовали этот
симптом как свидетельство того, что отчуждение не принимается за норму.
Их целью было помочь «русским Гамлетам» преодолеть свое
отчуждение и внутренний дуализм, продемонстрировав им идеал «цельной
личности».
В своей философии человека и теории познания славянофилы
(особенно Киреевский) больше всего внимания уделяли
разрушительному влиянию рационализма. Рационализм, полагали они, - главный
фактор разъединения общества, и, кроме того, он разрушает
внутреннюю цельность человеческой личности. Идеальная, незапятнанная
личность - это целостная структура со своим «внутренним центром».
Этот внутренний центр помогает привести изолированные силы души
в гармоническое целое и предохраняет внутреннее единство и
«цельность» духа. Принцип единства скрыт, но его можно постичь путем
внутренней концентрации; именно это «живое средоточие, скрытое в
повседневных условиях человеческой души», но доступное тем, кто
его ищет, делает душу чем-то большим, чем просто агрегат
разнородных функций. Естественный разум, или способность к абстрактному
мышлению, только одна из духовных способностей, и отнюдь не
самая высокая: одностороннее развитие разума обедняет человеческое
восприятие тем, что ослабляет его способность непосредственно-
интуитивного постижения истины. Культ разума несет
ответственность за то, что душа разорвана на целый ряд отдельных, не
связанных между собой способностей, каждая из которых притязает на
автономию. В результате возникает внутренний конфликт, которому
соответствует столкновение партикулярных, партийных интересов в
обществах, основанных на рационалистических началах. Внутренние
разделения остаются даже тогда, когда разуму удается подчинить себе
другие способности: самовластный закон разума усиливает распад
души - совершенно так же, как рационально постижимые
общественные связи «связывают людей цепями, но не соединяют их», усиливая
тем самым атомизацию общества. «Тирания рассудка в области
философии, веры и совести, - писал Самарин, - соответствует на практике,
в общественном быту тирании центральной власти»3.
Бельтов, герой романа «Кто виноват?».
2 В стихотворении «Юмор».
3 Самарин Ю. Сочинения. М, 1877. Т. 1. С. 401-402.
ГЛАВА 6. Славянофилы
115
Таким образом, принципу автономии славянофилы
противопоставили идеал «цельности», предусловие которого они нашли в
религиозной вере, не зараженной рационализмом. Только вера, уверяли они,
может обеспечить цельность души. Вера помогает соединить
«отдельные части души <...> в единое живое целое, восстановив тем
самым истинную сущность человека в ее первоначальной
нераздельности». Благодаря православию русские все еще в состоянии достичь
такой внутренней цельности. В своих поисках истины русские
руководствуются не естественным разумом, а «цельным разумом»,
который представляет гармоническое единство всех душевных
способностей. В противоположность этому жители Западной Европы давно
утратили внутреннюю цельность, способность к внутреннему
сосредоточению и постижению глубинного движения духовной жизни.
Различные сферы жизни - умственная, нравственная, экономическая,
религиозная - отделились друг от друга и находятся во взаимной
вражде. Отсюда - аморальность западной цивилизации, способной к
движению вперед даже тогда, когда внутренние силы души уже
ослабли, когда полная пустота воцарилась в сфере нравственных
ценностей. В то же время западная цивилизация переживает трагическую
дилемму: «раздвоение всей совокупности и всех отдельных видов
бытия человеческого, общественного и частного»1.
Славянофилы подчеркивали, что их концепция «цельной
личности» - только продолжение философии греческих отцов Церкви, с
сочинениями которых Киреевского познакомил старец Макарий,
образованный монах из знаменитой Оптиной пустыни. Признавая
источником своих идей Восточную патристику, славянофилы старались
показать, что их воззрения имеют глубокие корни. Нужно, однако,
отметить, что само их отношение к этой традиции сложилось под
влиянием чтения немецких консервативных романтиков, с которыми
у них было много общего. Идея «цельной личности» теснейшим
образом связана с типично романтической критикой рационализма, как
и теория познания, набросанная Киреевским в работе под заглавием
«О необходимости и возможности новых начал в философии» (1856).
«Отделенное от других познавательных сил, - заявляет
Киреевский, - логическое мышление составляет естественный характер ума,
отпавшего от своей цельности»2. Рационализм действует как
дезинтегрирующая сила, потому что он превращает действительность
в агрегат отдельных фрагментов, соединенных друг с другом только
сеткой абстрактных взаимосвязей. Разум - чисто когнитивная
способность, он схватывает только абстрактные представления и взаимосвя-
1 Киреевский И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 218.
2 Там же. С. 276.
116 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
зи; в противоположность этому субстанция постигается только такой
способностью, которая сама субстанциальна, другими словами - всею
душой. Такое разумение предполагает живую и непосредственную
связь между познающим и объектом познания. Изолируя познающего
от действительности и противопоставляя его ей, рационализм бросает
тень сомнения на действительность и объективную природу
вселенной. Поэтому истинное познание не может удовлетвориться
формальными определениями, а должно попытаться проникнуть в
субстанциальное начало вещей, оно должно быть своего рода откровением, или
непосредственным знанием. Только верующий разум, как называет его
Киреевский, может достичь прямого контакта с Богом - высшим
началом единства вселенной.
Не все люди обладают способностью истинного познания в
одинаковой степени. Основная слабость протестантизма (а позднее -
картезианской системы), полагает Киреевский, была в том, что протестантизм
игнорировал существование духовной иерархии и пытался найти
основание для познания истины в «той части разума, которая доступна всякой
отдельной личности»; поэтому философия, вдохновленная
протестантизмом, должна была «ограничиваться областью разума логического,
равно принадлежащего каждому человеку, каковы бы ни были его
внутренняя высота и устроение. Совокупление всех познавательных
способностей в одну силу, внутренняя цельность ума, необходимая для
сознания цельной истины, не могли быть достоянием всех»1.
На первый взгляд, эта по существу элитарная теория познания
вроде бы несовместима с элементами социологизма, которые так явно
отличают славянофильские теории. Тот же Киреевский, например,
утверждал, что «все, что есть существенного в душе человека,
вырастает в нем только общественно»2; что подлинная вера (а значит, и
познание) не может переживаться человеком в изоляции; и что истинная
православная вера сохранилась только среди простых людей, а не
среди безнравственной элиты. На самом деле здесь нет противоречия.
«Духовная иерархия» славянофилов не относится к иерархии
талантов или общественного статуса; на вершине ее - люди
необыкновенной силы веры, исключительно крепкими узами связанные с народной
общиной и принадлежностью к своей Церкви.
Применение этих идей находим в теории познания Хомякова.
Теория эта основывается на презумпции, что только органическое
объединение людей - «соборность» - делает возможным настоящее
познание. Органический корень познания, писал Хомяков, - это
свободная воля и вера, и степень их интенсивности отражает ту силу,
1 Там же. С. 230.
2 Там же. С. 254.
ГЛАВА 6. Славянофилы
117
которая связывает индивида с коллективом. «Отдельная личность есть
совершенное бессилие и внутренний непримиренный разлад»1.
Индивид может воспринять истину лишь постольку, поскольку он
соединяется с Церковью в любящей сопричастности ей; тем самым он
становится органом сознания, выходящего за пределы индивида
(«соборность сознания»). Такова же и истина: «достижение немногих, она
действительно творение и достояние всех»2.
Только православная церковь сохранила надындивидуальное
христианское сознание во всей его чистоте. Западноевропейское
мышление насквозь пропитано неизлечимой болезнью рационализма.
Киреевский и Хомяков одобряли критику Гегелем просветительского
«рассудка» (Verstand), но они чувствовали, что «диалектический
разум» самого Гегеля (Vernunft) не менее рационалистичен и даже более
опасен. Хомяков называл Гегеля самым полным рационалистом
Нового времени, мыслителем, который превратил «живую
действительность» в «диалектику бесплотных понятий» и исчерпал возможности
рационалистического познания, доведя его до последних логических
выводов. Мыслитель в Европе, который уже осознал односторонность
философского разума, - это Шеллинг, который в свои преклонные
годы создал религиозную философию откровения в
противоположность гегельянству3. Хотя славянофилы одобрительно относились к
Шеллингу, Киреевский критиковал философию откровения за то, что
она ограничивалась лишь негативной критикой рационализма.
Дилемма, как она представлялась Киреевскому, состоит в том, что
новой, позитивной философии требуется подлинно религиозная вера,
тогда как Западное христианство само заражено рационализмом.
Шеллинг понимал это и пытался очистить христианство от наслоений
рационализма, но «жалкая работа - сочинять себе веру!»
Из этой аргументации логически следовало, что только
православная Россия может породить из себя новую, истинно христианскую
философию, способную коренным образом изменить умственную
жизнь Европы. У славянофилов было чувство, что им самим -
особенно Киреевскому и Хомякову - удалось сформулировать
основополагающие принципы этой новой философии.
1 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. 4-е изд.; М., 1914. Т. 1. С. 161.
2 Там же. С. 283.
3 В 1841 году стареющий Шеллинг был приглашен в Берлин Фридрихом
Вильгельмом IV и начал читать там свои лекции «Философия откровения», от
которых ждали примирения религии и философии и противодействия растущему
влиянию левого гегельянства. Шеллинг называл свою философию «позитивной»,
противопоставляя ее гегелевскому рационализму, который он называл
«негативной» философией, ограниченной сферой чисто логического мышления.
4 Киреевский И. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 262.
118 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
СЛАВЯНОФИЛЬСКАЯ ЭККЛЕСИОЛОГИЯ
Понятие «соборность» образует мост между
эпистемологическими воззрениями Хомякова и его богословием - или, точнее, его эккле-
сиологией. В своем трактате «Церковь одна» Хомяков изображает
церковь ни как институцию, ни как учение, но как живой организм
правды и любви - организм, проникнутый духом «соборности». Этот
дух «свободного единства» делает Церковь идеальным общественным
организмом, противоядием социальной атомизации и духовной
дезинтеграции современного мира.
Исходный пункт воззрений Хомякова на роль церкви -
славянофильская критика католицизма и протестантизма, о чем упоминалось
выше в связи со славянофильской философией истории. Хомяков
обвиняет римскую католическую церковь в том, что она выбрала
материальное единство, символизируемое личностью папы, заменив
единение по любви утилитарным расчетом (индульгенции) и слепой
покорностью власти.
Протестантизм, в свою очередь, отменил внешние символы
религиозной связи и стал религией одиноких людей, затерянных в атоми-
зированном обществе. Материалистический рационализм римской
церкви протестанты заменили идеалистическим рационализмом.
Если католицизм утвердился в овеществленных конкретных формах,
то протестантизм выродился в пустой субъективизм; дух католицизма
с наибольшей силой выразил себя в антииндивидуалистическом
консерватизме де Местра, а протестантский индивидуализм обратился в
атеизм и достиг своей кульминации в нигилизме Макса Штирнера.
Согласно Хомякову, на Западе доминирует секуляризованная форма
протестантского индивидуализма - даже в тех странах, которые
формально сохранили верность католицизму. В то же время древний
католический принцип «единства без свободы» выступил в новом
одеянии: он обрел новую силу в современном социализме, который, по
Хомякову, в действительности представляет собой попытку
преодолеть атомизацию общества путем навязывания нового
всеохватывающего, авторитарного единства по типу средневекового католицизма.
Это представление, сложившееся под явным влиянием сенсимонизма,
позднее, в свою очередь, оказало влияние на Достоевского, который
в различных своих произведениях (в «Идиоте», в «Дневнике
писателя» и особенно в «Легенде о великом инквизиторе» из романа «Братья
Карамазовы») взялся показать, что римско-католическая церковь и
социализм внутренне связаны между собой.
Православие, на взгляд Хомякова, - единственное, что еще
осталось от духа соборности и, значит, единственная истинная церковь.
В своем описании - или, скорее, идеализации - православия Хомяков
ГЛАВА 6. Славянофилы
119
во многих отношениях испытал влияние Й.А. Мёллера, католического
теолога-романтика из Тюбингена, который утверждал, что высший
орган Церкви не папа, а экуменический собор1. Описание Мёллером
«собора» как «единства во множестве» близко определению
Хомяковым соборности как «единство в свободе». В православной церкви,
полагал Хомяков, это единство надежно обеспечивается внутренне
укорененной традицией, которая выражает сверхиндивидуальное и
сверхрациональное сознание общины. Это реальное единство, которое
основывается на органических привязанностях, присущих дорефлек-
сивной стадии развития, и не подвержено рационализации; и в то же
время это свободное единство, а не навязанное извне: оно
регулируется нормами, в которых члены церковной общины видят отражение
своей собственной природы. В такой церкви нет места авторитету,
ведь власть авторитета всегда что-то внешнее; как нет в ней места и
для индивидуализма или субъективизма, поскольку сознание
личностей не отделено от сверхиндивидуального сознания социального
коллектива. С другой стороны, это коллективное сознание интерна-
лизовано индивидами и не подверглось отчуждению в
институциональных, овеществленных формах; мерой истины в такой общности
является не авторитет папы или Писания, но степень достигнутой
гармонии с коллективным сознанием Церкви, которое исторически
развивалось в качестве сверхиндивидуального целого, охватывавшего
всех верующих, как мирян, так и клир. Причастность этому
трансцендентному целому - единственный путь к истинному знанию;
следовательно, православные русские имеют преимущество по сравнению
с жителями Западной Европы.
Хомяков понимал, что между его идеалом Русской Церкви и
реальной действительностью - огромный разрыв; он и сам однажды
заметил, что его экклесиология показывает только «идеальную
сущность», а не «эмпирическую действительность» православия . Судьба
1 См.: BolshakoffS. The Doctrine of the Unity of the Church in the Works of
Khomyakov and Moehler. London, 1946.
2 Это обстоятельство, конечно, создавало трудности, когда Хомяков пытался
обратить в свою веру других. Он часто излагал свои богословские взгляды
в переписке с именитыми зарубежными корреспондентами - такими как
янсенист епископ Лоос и протестантский теолог Бунзен. Самые значительные
письма Хомякова адресованы англиканскому теологу Вильяму Палмеру из
колледжа Св. Магдалины, участнику «оксфордского движения» и другу
кардинала Ньюмена. Под влиянием Хомякова Пальмер пришел к выводу, что
в споре с Римом правота была на стороне Восточной Церкви. Пальмер был
близок к обращению в православие, но то, как отнеслись к нему русские иерархи,
с которыми он познакомился во время трех своих поездок в Россию, заставило
его отказаться от этого намерения. В конце концов, Пал мер перешел в католи-
120 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
богословских сочинений самого Хомякова - выразительная
иллюстрация этого разрыва. Их приходилось печатать за границей (в
основном во Франции), в России публикация их была строго запрещена
до 1879 г., когда Священный Синод, наконец, дал разрешение на их
публикацию. Но даже тогда русское издание пришлось снабдить
предисловием, в котором объяснялось, что туманность и недостаток
точности в некоторых высказываниях автора - следствие того, что у него
не было профессионального богословского образования. С точки
зрения Синода, соборность в понимании Хомякова содержала в себе
принципиальную опасность, поскольку ставила под вопрос авторитет
церкви и пренебрегала внешними, институциональными формами
религиозного ритуала.
Самарин в своем предисловии к посмертно опубликованным
богословским сочинениям Хомякова назвал своего друга и учителя
Учителем Церкви, который внес эпохальный вклад в православное
христианство, и предположил, что для будущих поколений это станет
самоочевидным. Хотя этому пророчеству не суждено было
осуществиться, тем не менее, влияние Хомякова на русскую религиозную
мысль, действительно, было очень значительным. Многие «светские
богословы», выдвинувшиеся в начале XX в. (среди них С. Булгаков,
Н. Бердяев, Л. Карсавин и С. Франк), изучали православие в свете
идей Хомякова и развивали различные мотивы, заимствованные из
его сочинений. Нужно отметить, однако, что влияние Хомякова
больше сказалось на привлечении интеллигенции к церкви, чем на
мировоззрении русского духовенства. Православный официоз только
воздерживался от нападок на его идеи, потому что не хотел
оттолкнуть от себя верующих среди интеллигенции. Многие идеи Хомякова,
на взгляд православного духовенства, отдавали протестантским
либерализмом и католическим модернизмом, и это только усугубляло
недоверие к его идеям. Православный богослов отец Павел Флоренский
напечатал в Троице-Сергиевой лавре брошюру, в которой обвинил
Хомякова в отрицании церковного авторитета, обязательности
соблюдения канонов и «принципа страха» и даже поставил под вопрос
его политическую благонадежность1.
цизм, но сохранил за собой, как и Ньюмен, частное мнение по вопросу о
церковном расколе. Переписка Хомякова с Пальмером опубликована в кн.:
Birbeck W.J. Russia and the English Church. London, 1917.
Флоренский П.А. Около Хомякова (Сергиев Посад, 1916). - Следует
отметить, однако, большую популярность идей Хомякова среди представителей так
называемого «православного обновления», называемого также
«неоправославием» или «православным модернизмом». Это влиятельное течение
вдохновлялось также идеями Вл. Соловьева и русского религиозно-философского
ренессанса начала XX века. Наиболее представительными его представителями явля-
ГЛАВА 6. Славянофилы
121
СЛАВЯНОФИЛЬСТВО
КАК КОНСЕРВАТИВНЫЙ УТОПИЗМ
Вполне понятно, что славянофилы были склонны преувеличивать
«народный» и «чисто русский» характер своих взглядов. Однако в
исторической перспективе славянофильская идеология явным
образом представляла собой интересную боковую ветвь европейского
консервативного романтизма. В частности, в ней сразу бросаются в
глаза общие черты с такими немецкими романтическими
мыслителями, как Фридрих Якоби (концепция «верующего разума»), Шеллинг
(критика гегелевского рационализма), Мёллер (идея «единства во
множестве»), Адам Мюллер (вредное влияние римской цивилизации
на историю христианства) и Фридрих Шлегель (рационализм -
причина распада души). Самые яркие параллели обнаруживаются между
историей философии Ивана Киреевского и историей философии
Франца фон Баадера, который, подобно славянофилам, видел в
православной России будущее спасение1. Хотя и не может быть сомнения в
том, что теоретики славянофильства, особенно Киреевский и
Хомяков, были хорошо знакомы с произведениями немецких философов,
не следует сводить эти сходства к одним лишь внешним влияниям. На
фундаментальном уровне они были выражением сходства в
общественном развитии двух стран. Хотя Россия и Германия находились
на разных уровнях развития, обе были экономически отсталыми и
стояли перед необходимостью модернизации в эпоху, когда
капитализм уже установился в более развитых странах Европы. В этих
последних новая общественно-политическая система уже начала
обнаруживать свои негативные черты и подвергалась критике и справа, и
слева; это дало немецким и русским консервативным мыслителям
более широкую перспективу и облегчило им идеализацию
патриархальных традиций и архаических форм общества, которые в обеих странах
проявляли упорную живучесть.
лись профессор Православного теологического института им. Святого Сергия в
Париже о. Сергей Булгаков и о. Павел Евдокимов, автор книги COrthodoxie.
Neuchatel, Switzerland 1959. «Православное обновление» в свою очередь оказало
значительное влияние на взгляды ведущих представителей католической
«теологии обновления»: отца Ив. Конгара (Yves Congar) и Мориса Вилена (Maurice
Villain). Идеи этих теологов, критиковавших односторонний «романизм»
католической церкви, подготовили Второй Ватиканский Собор и нашли выразительное
отражение в его документах. Влияние «православного обновления» заметно также
в энциклик Иоанна Павла II Orientale Lumen (2 мая 1995 г.), высоко оценивающей
духовное наследие Восточной Церкви. См. также: Valicki A. Rosja, Katolizizm: sprawa
polska. С. 66-80 и 278-282. {Примечание автора, 2010.)
1 См.: Susini Е. Lettres inédites de Franz von Baader. Paris, 1942. P. 456-461.
122 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Поэтому славянофильская критика Западной Европы была
существенной, хотя и не единственной, критикой капиталистической
цивилизации с консервативно-романтических позиций. Однако в данном
случае консервативность нельзя отождествлять с принятием status quo
в России и с подозрительным отношением ко всяким переменам;
здесь лучше говорить не столько о защите настоящего, сколько о
романтической тоске по утраченному идеалу. В этом смысле
славянофильскую философию можно назвать консервативным утопизмом:
утопизмом - поскольку она была всеохватывающим и детально
разработанным представлением об общественном идеале, который являл
собой резкий контраст к реальной действительности; консервативным
(и даже реакционным) - поскольку это был идеал, локализованный в
прошлом. Этот утопизм также заключал в себе сильный элемент
компенсации: ведь мечты об утраченной в мире гармонии всегда таят в
себе в какой-то мере чувство отчуждения или ущербности.
Образованные отпрыски старинных аристократических фамилий,
славянофилы были слишком тесно связаны с древнерусскими
патриархальными традициями и в то же время находились под слишком сильным
влиянием западной культуры для того, чтобы чувствовать себя
счастливыми в условиях внешне вестернизованной авторитарной
бюрократии Николая I.
Славянофильская утопия не была, конечно, «утопией» в смысле
тщательно продуманной модели будущего общества. Она была
концепцией, основанной на конкретном опыте наследственного
дворянства: жизнь этих людей строго следовала традиционному
общественному образцу. Вот почему славянофильство содержит множество
элементов того, что можно назвать «социологизирующим»
мышлением. Прояснению этих элементов в особенности способствует
типология, разработанная немецким социологом девятнадцатого века
Фердинандом Теннисом в его классическом труде «Общность и
общество». Славянофильские антитезы: Россия и Европа, «народ» и
«общество», цивилизация христианская и цивилизация рационали-
стиче-ская - в точности соответствуют проведенному Теннисом
различению между Gemeinschaft и Gesellschaft, «общиной» и
«обществом»1. В моей первой опубликованной в Соединенных Штатах
статье я писал об этом следующее:
Знаменательно, что далее терминология Тенниса и славянофилов
очень похожа. Славянофилы рассматривали современную им Россию
См.: Walicki A. The Slavophile Controversy. Oxford, 1975. P. 168-178,
265-266. Здесь же приводится сравнение между славянофильскими идеями и
истолкованием рационализации общественных отношений в исторической
социологии Макса Вебера.
ГЛАВА 6. Славянофилы
123
как страну, расколотую на «народ» (Volk), сохраняющий верность
древним началам «общины», и «общество» - механическое сочетание
отдельных людей, отделившихся от народа и живущих
искусственной жизнью. Такое понятие «общества» почти совпадает с
"Gesellschaft" в смысле Тенниса; славянофильские понятия народа и
«общинных начал» имеют по существу то же самое содержание, что
Volkstum и Gemeinschaß Тенниса. Члены общины, согласно Теннису,
наделены «естественной волей» (Wesenwille), тогда как «общество»
состоит из людей «рациональной воли» (Kürwille). Этой концепции
соответствует у славянофшов представление об органическом
единстве духовных сил человека в противоположность расчетливому
рационализму. «Общность» Теннис и славянофилы описывают как
живой организм, а «общество» - как механический артефакт, всего
лишь сумму изолированных индивидов. Теннис и славянофилы
одинаково настаивают на том, что реальная общность основывается па
взаимопонимании, согласии и единодушии (Eintracht), тогда как
общество проникнуто внутренним конфликтом, взаимным
напряжением и законом механического, количественного большинства -
законом, который предполагает внутреннюю атомизацию и распад
органических общественных связей. «Община» - это когда все одна семья;
«общество» же - когда отношения между людьми предполагают
форму контракта. Коллективная воля общины выражается в общности
верований и общности обычаев; в «обществе» же эти великие
объединяющие духовные факторы заменяются общественным мнением, всегда
случайным и неустойчивым. Современное бюрократическое
государство, на взгляд Тенниса, - это Gesellschaß; славянофилы неизменно
пользовались той же самой концептуальной схемой, той же
категориальной оппозицией Volkstum и Staatstum, «народ» и «государство»; для
славянофилов бюрократическое государство тоже бездушная машина,
продукт искусственной вестернизации России. Нет необходимости
приводить другие примеры сходства, число которых можно умножить.
Но, пожалуй, интересно отметить, что эти сходства можно найти
даже среди чисто исторических обобщений Тенниса и славянофилов.
Последние, как мы уже знаем, верили, что древняя Россия может
сохранить, так сказать, чистую форму Gemeinschafl, потому что Россия
не обременена наследием рационалистической римской культуры, в
особенности - наследием римского права, так сильно повлиявшего на
процесс децентрализации и распада «общинных начал» на Западе. Теннис
вполне солидарен с этим воззрением, когда пишет, что «рациональное,
научное и свободное право стало возможным лишь благодаря
действительной эмансипации индивидуумов от всех семейных,
территориальных и городских уз» и что «принятие в готовом виде всемирного рим-
124 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ского права послужило и продолжает служить дальнейшему развитию
общества в обширной части этого христианско-германского мира .
Параллели между славянофильскими идеями и идеями Тенниса
заслуживают внимания не потому, что теория славянофилов может
претендовать на какую-либо научную значимость, которой она не
обладает, а потому что типология Тенниса предлагает концептуальный
инструментарий для более основательной интерпретации социального
содержания славянофильства. Романтический консерватизм первой
половины девятнадцатого века, писал Карл Мангейм в своем
исследовании, посвященном немецкому консерватизму , - это
идеологическая защита Gemeinschaft против Gesellschaft. Славянофилы являют
собой отличный пример, в точности подтверждающий это
наблюдение.
Стоит отметить, что взгляд Тенниса на роль юридического
рационализма в европейской истории блестяще дополнил Макс Вебер в
своем впечатляющем анализе прогрессирующей рационализации
экономического производства, человеческого поведения и общественных
институтов Запада. «Огромное воздействие римского права в той
форме, как оно сложилось в позднем бюрократическом государстве, -
писал Вебер, - ни в чем не проявляется с такой очевидностью, как в
том обстоятельстве, что эволюция политического управления в
процессе формирования национального государства повсюду
осуществлялась образованными юристами». Именно юристы породили
современное западное государство, а равно и западные церкви. Эта
эволюция, согласно Веберу, была «специфична для Запада» и не имеет
аналогов в каких-либо других регионах мира . Русские славянофилы
охотно подписались бы под этим воззрением.
Несмотря на свой явный консерватизм, славянофильская
идеология вызвала подозрения у правительства. Николай I считал себя
наследником Петра Великого и хотел быть европейским
императором, а не древнерусским царем. Несмотря на почитание православия и
чисто народных начал, Николай не собирался менять свои методы
правления в угоду религии и традиционным обычаям. Больше того,
у него были основания подозревать, что требование органической
1 Walicki A. Personality and Society in the Ideology of the Russian Slavophiles.
A Study in the Sociology of Knowledge. California Slavic Studies, 2. 1963. P. 7-8.
<см.: Теннис Ф. Общность и общество. СПб.: Владимир Даль, 2000. С. 319, 321. —
Прим. ред>
2 См.: Манхейм К. Консервативная мысль // Он же. Диагноз нашего времени.
М.: Юрист, 1994. С. 587.
3 См.: Ср.: Мах Weber. Essays on Sociology, ed. By H.H. Gerth and С. Wright
Mills. New York, 1958. P. 93-94, 299.
ГЛАВА 6. Славянофилы
125
взаимосвязи между законом и обычаем - это попытка навязать
самодержавию ограничения. Главное цензурное управление, в особой
докладной записке сообщая императору о статье Киреевского «О
характере европейской цивилизации», напечатанной в 1952 г. в
«Московском сборнике», правильно отмечало: «Неизвестно, что понимал
Киреевский под цельностью православной России; но не подлежит
сомнению, что в своей по видимости благонамеренной статье он не
воздает должного бессмертным заслугам Великого Преобразователя
России и его императорских наследников, кои не щадили трудов и
стараний для введения у нас европейской образованности и лишь
этим путем могли поднять могущество и славу Отечества нашего до
его нынешнего великолепия»1. Комментарии к статьям других
авторов в славянофильском «Московском сборнике» 1852 г. были в том
же духе. В результате издание было запрещено, а пятеро из основных
участников (включая Киреевского) были взяты под полицейское
наблюдение и обязались впредь получать от главного цензурного
управления особое разрешение на какие-либо публикации.
Николай правильно почувствовал, что между его собственным
консерватизмом и консерватизмом славянофилов есть различие.
Славянофильское видение древней Руси - идеализация земледельческих
съездов и представление о разделении «земли» и «государства» -
воплощало идеалы боярской оппозиции абсолютизму. Критика
Киреевским рационализма была направлена не только против буржуазного
рационализма купцов и предпринимателей, но также и против
бюрократического рационализма абсолютной монархии. В этом отношении
самым бескомпромиссным из славянофилов был Константин
Аксаков: проведенное им противопоставление «государства» и «общины»
упраздняло государственные органы как представляющие только
«внешнюю правду», «начало неволи, внешнего принуждения».
Лишившись своего журнала, славянофилы публиковали теперь
свои статьи в «Московитянине», издававшемся историком Николаем
Погодиным (1800-1875) в сотрудничестве с литературным критиком
Степаном Шевыревым (1806-1864). Поскольку Погодин и Шевырев
тоже критиковали «тлетворные влияния» Запада (Шевыреву
принадлежит выражение «гнилой Запад»), то современники были склонны
отождествлять славянофилов с «московской партией». Такое
отождествление было не вполне верным: в отличие от славянофилов
Погодин не интересовался крестьянской общиной, не критиковал
петровские реформы и не рисовал контрастных образов Москвы и Санкт-
Петербурга. Как раз наоборот: Погодин воздавал хвалы Петру
Великому как основателю современного русского государства, изображал
1 Центральный государственный архив СССР, фонд 772, ор. 1.
126 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
вестернизацию как существенную ступень национального развития и
утверждал, что насилие, посредством которого осуществлялись
петровские реформы, - характерное выражение духа русской истории,
в которой государство всегда было единственной творческой силой,
формировавшей пассивный народ по собственному произволу.
Специфически русским, на взгляд Погодина, была не община и не дух
соборности в православии, но бескомпромиссная природа
абсолютизма, сила которого коренится в безграничном «смирении» простого
народа. Интерпретация Погодиным истории не оставляла места для
славянофильской антитезы древней и новой России: сплотив Россию,
утверждал он, Петр Великий усилил, а не ослабил «народное начало».
Таким образом, различия между славянофилами и
представителями официальной идеологии «православия, самодержавия и
народности»1 были вполне принципиальными. Несмотря на консервативный и
отсталый характер своих общественных идеалов, славянофилы внесли
по-настоящему творческий вклад в идеологические споры 1840-х
годов. Насколько их идеалы были способны давать интеллектуальные
импульсы, показывает влияние, которое славянофилы оказали на
«русский социализм» Герцена и на сочинения Достоевского и
Соловьева.
РАСПАД СЛАВЯНОФИЛЬСТВА
Утопизм славянофилов был продуктом такой эпохи, когда русская
общественная мысль не могла ни выразить, ни испытать себя на
политической арене. Ситуация изменилась после поражения России в
Крымской войне и после смерти Николая I. Александр II осуществил
некоторые давно назревшие реформы (смотри главу 11 ), включая
ослабление цензурных ограничений в отношении литературы и
прессы. Современники называли эти изменения «оттепелью», и, хотя
оттепель эта прерывалась заморозками и не принесла никаких
принципиальных изменений в авторитарную структуру правления, она все
же изменила климат общественного мнения. Новым было
распространившееся убеждение, что обычные граждане имеют право
выражать свои взгляды на дела государства и влиять на направление
реформ, проводимых правительством. Стало также возрастать
ощущение, что отвлеченные философские дискуссии должны теперь
Этот «тройственный» слоган, придуманный министром народного
просвещения Уваровым, был девизом «официальной народности», во время
правления Николая I. Об идеологии официальной народности см.: Riazanovsky N.V.
Nicholas I and Official Nationality in Russia. Berkeley, Calif., 1959.
ГЛАВА 6. Славянофилы
127
уступить место реалистической программе действий. В этой
атмосфере утопизм славянофилов стал медленно распадаться и заменяться
практическими соображениями, в которых в конце концов
возобладали конкретные классовые интересы поместного дворянства. На
передний план вышли теперь люди, наделенные даром практического
лидерства, - такие как Иван Аксаков, Самарин и Кошелев.
Этот переход от философии к политике привел к расколу
славянофильства на два направления: консервативный реформизм - с одной
стороны, и панславизм - с другой. Даже внутри славянофильского
реформизма было два направления, их представляли Самарин и
Кошелев, жизненный путь которых был почти одинаковым. Оба
принимали участие в подготовке декрета об освобождении крестьян; после
поражения польского восстания 1863 года обоих послали с важными
правительственными поручениями в Польшу; и, наконец, оба активно
участвовали в создании «земств». Их вклад в идеологию
славянофильства отчетливо проявился в защите деревенской общины, хотя
аргументы, которыми они пользовались, мало напоминали
идеализированную Константином Аксаковым картину «общины» как истинно
христианского общественного организма. Самарин и Кошелев видели
в общине полезный инструмент для осуществления контроля над
крестьянами, организации сбора налогов и возмещений, а также для
обеспечения землевладельцев дешевой рабочей силой. Проект
земельной реформы, который они предложили (фактически его и
реализовало правительство), по сути дела был сознательным
приспособлением прусского образца к русским условиям; Самарин даже написал
обстоятельную монографию под названием «Упразднение
крепостного права и устройство отношений между помещиками и крестьянами
в Пруссии». Самарин и Кошелев оба признавали необходимость
развития капитализма в России (оставив тем самым утопизм,
свойственный романтическому антикапитализму), но они боялись, что
неконтролируемая экспансия капитализма приведет к общественным
беспорядкам; они чувствовали, что эту опасность можно уменьшить
институтом общины и активным вмешательством сильного
централизованного правительства. Различие во взглядах между этими двумя
людьми заключалось в том, что Самарин последовательно выступал
против всех типов представительных органов, тогда как Кошелев был
за всероссийскую земельную ассамблею с совещательными
полномочиями, которую, по его мнению, надлежало собрать в Москве, где она
будет служить противовесом петербургской бюрократии.
События, послужившие непосредственным толчком для
превращения славянофильства в панславизм, - это, конечно, Крымская
война и пробудившийся вследствие этого интерес к южным славянам.
Хомяков, который, в отличие от других теоретиков славянофильства,
128 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
всегда интересовался братскими славянскими народами (и писал о
них в своем трехтомном сочинении «Заметки о всемирной истории»),
был не единственным, кто восклицал: «Пусть шелестят знамена, пусть
трубы трубят!» Один из сохранившихся в московских архивах
документов - речь Константина Аксакова о Восточном вопросе -
показывает, что и он тоже - задолго до того как он сделался решительным
пацифистом, совершенно безразличным к судьбе славян под турецким
игом, - под влиянием настроений эпохи заявил, что «священная цель»
Крымской войны - в том, чтобы завоевать Константинополь и
объединить всех славян под властью русского царя. Поражение России
развеяло эти надежды, но славянский вопрос продолжал оживленно
дебатироваться в националистических кругах.
Славянофильскую идеологию невозможно было поставить на
службу панславизму, не внося в нее определенные изменения.
Внутреннее возрождение русского общества в духе христианства и
древнерусских начал казалось теперь менее важным, чем внешняя
экспансия российского государства. Эта идея хорошо сочеталась с
волной шовинизма, захлестнувшей Россию после польского восстания
1863 г.; когда восстание было разгромлено, славянофильская
доктрина предоставила целый набор аргументов, оправдывавших жестокое
обращение с поляками как борьбу «народного», славянского начала
с аристократическим «латинством» польской знати.
Ведущей фигурой в ходе трансформации славянофильства в
панславизм был Иван Аксаков (1823-1886), влиятельный, но
малооригинальный мыслитель1. В сороковые и пятидесятые годы он был
наименее ортодоксальным из славянофилов и наиболее чутким к
либеральным и демократическим идеям; однако позднее, под влиянием
восстания в Польше и усиления революционного движения в России,
Аксаков стал относиться с ожесточенной враждебностью даже к
малейшим проявлениям либерализма. Может быть, самой характерной
особенностью Аксакова была его упрямая приверженность букве
славянофильства при почти полном (правда, неосознанном)
пренебрежении его антикапиталистическим духом. Эта особенность обрела
символическое выражение, когда он стал президентом одного из ведущих
московских банков (в 1874 г.). Не то чтобы антикапиталистические
элементы просто исчезли без следа из его мировоззрения; они, что ха-
«Славянское филантропическое общество» - панславистская организация,
руководителем которой был Иван Аксаков, - достигла пика своего влияния во
время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. После того как Болгария обрела
независимость, некоторые местные выборные комитеты даже выдвигали
Аксакова в претенденты на болгарский трон. Об эволюции славянофильства
после Крымской войны см.: Frank Fadner. Seventy Years of Pan-Slavism in Russia:
Karmazin to Danilevsky. Washington, D.C., 1962.
ГЛАВА 6. Славянофилы
129
рактерно, превратились в антисемитизм («социализм дураков», как его
называл Август Бебель), который резко обозначился во взглядах
Аксакова после 1861 года и явно отделил его от основателей славянофильства.
Статьи Ивана Аксакова о славянском вопросе содержат все
типичные панславянские стереотипы: антитезу славянства и Западной
Европы; агрессивную враждебность к Австрии; обвинение поляков в
том, что они «ренегаты славянства»; требования захвата
Константинополя и учреждения мощной федерации славянских народов «под
крыльями русского орла». Несмотря на его огромную преданность
своему брату, сразу видно, что взгляд Ивана Аксакова на Россию как
на народ с сильным инстинктом государственности, с
экспансионистскими и гегемонистскими тенденциями сильно отличался от
идиллических представлений Константина Аксакова о русском народе как
аполитичном, хранящем верность тихой христианской жизни в
небольших сельских общинах. Великодержавный шовинизм Ивана
сближает его с Погодиным, который еще раньше тщетно пытался
заинтересовать Николая и министерство иностранных дел идеями
панславизма. Как и Погодин, Аксаков был противником «легитимистских
суеверий» и хотел ввести «народный» элемент в империю, подчинив
внутреннюю политику русскому национализму, а внешнюю
политику - панславизму. Новая политическая атмосфера позволила Аксакову
действовать более открыто, чем Погодину: он не боялся критиковать
правительство и прямо обращался к националистическому крылу
общественного мнения.
Резюмируем: классическое славянофильство 1840-х годов было
романтико-консервативным утопизмом, реакционным постольку,
поскольку оно основывалось на идеалах, обращенных в прошлое.
Но, выражая консервативную систему ценностей, славянофильство,
тем не менее, выходило за пределы непосредственных и
эгоистических классовых интересов дворянско-помещичьего сословия. Как
идейная доктрина классическое славянофильство способствовало
повышению уровня философской дискуссии в России и стимулировало
как нравственные искания, так и критическое отношение к
существующей социальной действительности. Переход славянофильства от
стадии философской утопии на стадию практической политики имел
своим следствием больший «реализм», но также идейное обеднение;
этот переход затемнил или даже устранил ретроспективный утопизм
ранних славянофилов, но одновременно усилил общность интересов
между теоретиками славянофильства и реакционными силами
русского общества. Поэтому, с точки зрения историка идей, славянофилы
интереснее в 1840-е годы, чем позднее, когда они получили в свое
распоряжение собственные журналы и смогли принять активное
участие в политических делах.
130
ГЛАВА 7
РУССКИЕ ГЕГЕЛЬЯНЦЫ:
ОТ «ПРИМИРЕНИЯ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ»
К «ФИЛОСОФИИ ДЕЙСТВИЯ»
Одна из характерных сторон идейной жизни в России 1840-х
годов1 - исключительное воздействие, исходившее от
гегелевской философии. Произведения Гегеля, писал Герцен,
толковались «беспрестанно; нет параграфа во всех трех частях "Логики", в
двух "Эстетики", "Энциклопедии" и пр., который бы не был взят
(охвачен) отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие
друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в
определении "перехватывающего духа", принимали за обиды мнения об
"абсолютной личности и о ее по-себе бытии". Все ничтожнейшие
брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных
городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле,
выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в
несколько дней...»2.
Воздействие гегелевской философии в России, как и в Польше,
несопоставимо с воздействием какого-либо другого западного
мыслителя; оно было одновременно и широко распространенным, и глубоким;
оно достигало отдаленных провинциальных центров и оставило свой
отпечаток на русской литературе. Во многих случаях это было лишь
поверхностной интеллектуальной модой; но если смотреть в целом, то
влияние Гегеля было событием с далеко идущими последствиями.
Во-первых, рецепция гегелевской философии была естественной
кульминацией того периода в русской интеллектуальной истории,
который заслуживает названия «философская эпоха». То была эпоха,
когда прогрессивная интеллигенция, горько разочарованная провалом
декабристского восстания, потеряла веру в эффективность
политического действия. Вместо этого интеллектуалы занялись философскими
1 «Эпохой сороковых годов» в русской исторической литературе обычно
считаются годы с 1838-го по 1848-й; Павел Анненков в своих воспоминаниях
назвал этот период «замечательным десятилетием». Чрезвычайно
стимулирующий анализ этой эпохи можно найти в книге Исайи Берлина «Русские
мыслители», в главе под названием «Замечательное десятилетие». См.: Berlin I. Russian
Thinkers. N. Y., 1967.
2 Герцен А.И. Былое и думы. Л.: ГИХЛ, 1946. С. 217.
ГЛАВА 7. Русские гегельянцы...
131
проблемами, такими как смысл истории, взаимоотношение индивида
со сверхиндивидуальными общественными и культурными
структурами, и место России во всемирной истории. В России, как и в
Германии, философские спекуляции имели компенсаторную функцию для
людей интеллектуально мужественных, но живших в таком обществе,
где публичная жизнь была почти полностью парализована.
Во-вторых, гегелевская философия привлекала как противоядие от
романтизма. Начать с того, что она рекомендовала себя как
противоположность интроспективному «мечтательству» и установкам
романтического бунтарства, вдохновленного Байроном и Шиллером;
гегельянство в этом контексте понимали в основном как «примирение
с действительностью». Несколько позднее в гегелевской философии
увидели мощный инструмент в борьбе против романтического
иррационализма и консерватизма - их в России представляли
славянофилы. В то же время (и здесь не обошлось без влияния левых
гегельянцев в Германии) начала ощущаться потребность овладеть системой
Гегеля и выйти за ее пределы; а это, в свою очередь, приводило к
преобразованию философии примирения с действительностью в
философию рационального и сознательного действия.
В-третьих, наконец, как «примирение с действительностью», так и
«философия действия», казалось, дают ответы на нравственные и
философские дилеммы, томившие «лишних людей», о которых
говорилось выше в связи со славянофильским движением. Для образованных
русских, страдавших от своего отчуждения и внутренней
раздвоенности, гегельянство было, прежде всего, философией реинтеграции -
преодоления отчуждения либо путем сознательной адаптации к
существующей действительности, либо в усилиях ее изменить. В
последнем случае философия реабилитировала политическое действие,
которое прежде презирали, и начинала «перевод мысли в действие».
НИКОЛАЙ СТАНКЕВИЧ
В 1830-е годы главным центром русского гегельянства был
кружок Станкевича. Роль и значение этого кружка в эволюции
прогрессивной мысли в царствование Николая I можно сравнить с тем
вкладом, который внесли любомудры в формирование славянофильской
идеологии.
Николай Станкевич (1813-1840) был типичнейшим
представителем молодой прогрессивной интеллигенции дворянского
происхождения. По словам Анненкова, в Станкевиче «отразилась юность одной
эпохи нашего развития: он как будто собрал и совокупил в себе
лучшие нравственные черты, благороднейшие стремления и надежды
132 Анджеи Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
своих товарищей» . Среди членов его кружка был радикальный
демократ Белинский, либералы Грановский и Боткин, анархист Бакунин
и даже славянофил Константин Аксаков. Герцен, основатель
«русского социализма», был одним из друзей Станкевича. В своих
воспоминаниях все эти очень разные люди вспоминали Станкевича одинаково
восторженно. Иван Тургенев, романы которого представляют собой
одновременно литературный памятник «лишним людям» и
обвинительный документ, раскрывающий их слабость, признавался, что
знакомство со Станкевичем стало началом его духовного развития.
Первоначально интересы Станкевича сосредоточились на
романтической философии природы (особенно Naturphilosophie Шеллинга),
которая очаровала московских любомудров. Природу бытия
Станкевич определял как творчество, а любовь - как одушевляющий ее дух.
Он хотел, прежде всего, преодолеть субъективный эстетизм (Schön-
seeligkeit) - освободиться от «гнета особенного» и найти опору в
сфере «всеобщего». Эту свою проблему Станкевич сначала понимал
как вопрос о религиозном отождествлении я с Богом и с
пантеистически понятой природой. Под влиянием Гегеля существо проблемы
почти неощутимо начало меняться, пока выражением проблемы не стал
конфликт между личностью и историей, между субъективными
стремлениями индивида и исторической необходимостью. Хотя
Станкевич развернуто не формулировал потребность примирения с
российской действительностью, несомненно, что гегелевская философия
предоставила в его распоряжение аргументы, отвергающие
романтические позы бунта и «иррациональные» попытки изменить
существующий миропорядок. В одном из своих писем, которые сами по себе
были философскими статьями в миниатюре, он писал: «В мире
господствует дух, разум; это успокаивает меня насчет всего»2.
Это соображение, однако, не было последним словом Станкевича.
Несмотря на прогрессирующий туберкулез, его сознание было
поразительно активным до самого конца жизни. В своем
интеллектуальном развитии Станкевич, по-видимому, часто предвосхищал многие
идеи русской философской «левой». В последний год жизни,
например, он читал ранние произведения Фейербаха и Prolegomena zur
Historiographie польского философа Августа Цешковского (Берлин,
1838). В результате Станкевич (вслед за Цешковским) постулирует
«переход от философии к действию» и соединяет этот постулат с реа-
Станкевич Н.В. Переписка его и биография, написанная П.В.Анненковым.
М, 1857. С. 236, 237. Самая полная современная монография о Станкевиче на
английском языке: Edward I Brown. Stankevich and His Moscow Circle. Stanford.
Calif; 1966.
2 Станкевич Н.В. Переписка. С. 342.
ГЛАВА 7. Русские гегельянцы...
133
билитацией внутренних и внешних чувств, к которой призывал
Фейербах. Смерть помешала Станкевичу развить свои мысли, но всякое
освещение идейной эволюции Бакунина и Белинского, Герцена и
Огарева должно отмечать и учитывать роль Станкевича, наметившего
путь, по которому вскоре пошли его друзья.
МИХАИЛ БАКУНИН
После того как Станкевич в 1837 г. уехал за границу,
руководителем его кружка стал Михаил Бакунин (1814-1876). Страстный
прозелитизм Бакунина и его преданность философии, граничившие с
фанатической нетерпимостью к взглядам, которые он не разделял, стали
почти легендарными. Для молодого Бакунина философия была путем
к спасению и заменой религии; поездка в Берлин в 1840 г.
представлялась ему путешествием в «новый Иерусалим».
Первоначально интерпретация Бакуниным Гегеля была окрашена
мистицизмом немецких романтиков. Его главным образом
интересовал вопрос, который традиционно занимал мистиков, а именно -
отдаленность человека от Бога. Спасение, думал Бакунин, зависит от
уничтожения «индивидуального я» и высвобождения заключенного в
нем элемента бесконечности. Сначала ему казалось, что достигается
это спасение через любовь, а позднее (под влиянием Гегеля) - через
полное примирение с действительностью. Действительность, полагал
Бакунин, выражает волю Бога и, значит, должна быть разумной; все
в ней - добро и ничего не зло, ибо само различение добра и зла
(«нравственная позиция») - это результат грехопадения: «Тот, кто
ненавидит действительность, ненавидит Бога и не знает его». Поэзия,
религия и философия помогают примирению человека с Богом;
всякий, кто прошел эти этапы развития, обретает совершенство:
«Реальность становится для него абсолютным добром, и воля Божья его
собственной сознательной волей». Для того чтобы достичь этого слияния
с божественным - стать «воплощенным духом», - необходимо
сначала пройти испытание рефлексией и абстракцией», пережить
«независимое развитие и чистилище разума», которые дают возможность
очиститься от «призрачности». Характерно, что Бакунин в этот
период, пользуется мистическими понятиями, такими как
«испытание /мука», «очищение» вместо гегелевского «отрицания»; в его
истолковании диалектическая драма Духа становится своего рода путем
паломника к «царству Божьему», а философия - заменой религии.
Во «Введении к гимназическим речам Гегеля», опубликованном
в 1838 г., Бакунин провозгласил «примирение с действительностью во
всех отношениях и во всех сферах жизни». Отъединение от действи-
134 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
тельности - болезнь, «неизбежное следствие абстракций и
призрачности ограниченного разума (Vernunft), который не признает ничего
конкретного и превращает каждое проявление жизни в смерть». Шил-
лерово Schônseelichkeit, субъективная философия Канта и Фихте,
мятежная поэзия Байрона - таковы последовательные этапы этой
болезни. Бунт разума привел к революции во Франции - стране смертельно
больной, символе голого отрицания, огромной духовной пустоты.
Примирение с действительностью во всех отношениях и во всех
сферах жизни, - так заканчивает Бакунин, - это первая задача нашей
эпохи, задача перехода от смерти к жизни, осуществленная Гегелем
и Гёте.
Несоответствия между этой статьей, которая обычно считается
манифестом русского гегельянства, и намерениями самого Гегеля -
совершенно очевидны. К примеру (ограничимся лишь одним): Гегель
возводил истоки своей философии к Реформации, а Бакунин (следуя
за консервативными романтиками, которые симпатизировали
католицизму) считал Реформацию первоисточником «болезни духа».
Тем не менее, взгляды Бакунина возникли не из подлинно
консервативного мировоззрения. Бакунин был типичным представителем
неприкаянной интеллигенции - отпрысков помещичьей аристократии,
которые стали чуждыми своему собственному классу и которые
поэтому были готовы к освоению новых мировоззрений, связанных с
другим социальным окружением. Последующая философская
эволюция Бакунина - яркое тому свидетельство. В Германии его воззрения
начали меняться с такой быстротой, что возникало впечатление как
бы внезапных прыжков из одной крайности в другую.
Внутренняя логика идей Бакунина привела его к постепенному
утверждению активного элемента в личности и отрицанию контем-
плативного, чисто созерцательного идеала. Парадоксальным образом,
даже временное признание личностной природы Бога и бессмертия
души было шагом в этом направлении: бессмертие души
представлялось метафизической гарантией сохранения индивидуальности,
утверждения автономии и активного характера души. Идея слияния
человека с Богом почти неощутимо уступила место идее
высвобождения божественного начала в человеке. Во всяком случае, новая
концепция Бога у Бакунина предоставила опору не столько примирению
с действительностью, сколько революционному отрицанию и
философии действия: «Сам Бог не что иное, как чудесное творение себя
самого <...> творение, которое, для того чтобы понять и постичь его,
должно все время пониматься по-новому, - и такова природа действия
как постоянного утверждения Бога-в-себе»1.
1 Бакунин М. Собр. сочинений и писем. М., 1934-1936. Т. 3. С. 111, 112.
ГЛАВА 7. Русские гегельянцы...
135
Понятие «действие» не было новым в мировоззрении Бакунина.
Однако в тридцатые годы, когда он находился под влиянием Фихте и
еще не читал Гегеля, он употреблял это слово только в связи с
«духовными актами». Он критиковал Белинского за его «робеспьеров-
скую» интерпретацию Фихте и за буквальное понимание постулата
действия. Но в 1842 г. Бакунин и сам стал понимать действие как
активное участие в революционном преобразовании действительности.
В знаменитой статье «Реакция в Германии» (опубликована в 1842 г.
Арнольдом Руге в его Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und
Kunst)* Бакунин продолжает разрабатывать теоретические основания
революционной философии действия. Публикация этой статьи
совпала с решением Бакунина не возвращаться в Россию, а остаться в
Германии и оставить философию ради политики. Статья направлена
против juste-milieu, против «эклектических примирителей», которые
стремились к примирению противоположностей. Это одна из первых
серьезных попыток леворадикальной интерпретации гегельянства,
демонстрации того, что Герцен называл «алгеброй революции»,
которой овладевают посредством гегелевской диалектики. Крупнейшим
достижением Гегеля Бакунин считает его понятие борьбы
противоположностей и признание им «абсолютной законности отрицания».
Бакунин, по сути дела, отходит от гегелевского истолкования
отрицания, отвергнув момент опосредования между противоположностями.
В противоположность Гегелю, Бакунин рассматривает трансцендиро-
вание (Aufhebung), т.е. окончательный результат диалектического
процесса, не как отрицание и удержание в одно и то же время, но как
полное уничтожение прошлого. Сущность противоречия, утверждает
Бакунин, не в равновесии двух противоположностей, а в
«преобладании негативного», которому принадлежит решающая роль. Одно
только отрицание - элемент, определяющий существование
позитивного, - включает в себя тотальность противоречия и одно только
имеет абсолютную законность. Отсюда следует, что создание будущего
требует уничтожения существующей действительности. Бакунин
заканчивает свою статью знаменитым утверждением: «Радость
разрушения - творческая радость» (Die Lust der Zerstörung ist auch eine
schaffende Lust).
Бакунин подписал свою статью французским псевдонимом «Жюль
Элисар». Псевдоним имел символическое значение и должен был
показать, что Бакунин теперь отвергает свою прежнюю франкофобию и
симпатизирует Франции как стране «действия» и революции. Многих
прогрессивных мыслителей того времени (включая молодого Маркса)
1 Англоязычный перевод в: Edie J. et al. Russian Philosophie. 3 vols. Chicago,
1965. Vol. 1. P. 385^06.
136 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
привлекала возможность слияния в будущем немецкого и
французского начал, философии и политического действия. Идею «франко-
германского идейного альянса» прокламировал также Арнольд Руге,
издатель Deutsche Jahrbücher и вождь левых гегельянцев. Поэтому в
краткой заметке от редакции он представил статью Жюля Элисара как
новый и поразительный факт, а именно, что «француз, который
понимает немецкую философию и <...> вынудит некоторых лентяев
(немецких. -A.B.) подняться со своего лаврового ложа». Этот пример,
полагал Руге, должен побудить немцев оставить свое «хвастовство
в сфере теории» и сделаться французами.
ВИССАРИОН БЕЛИНСКИЙ
Центральной фигурой в философской «левой» 1830-х и 1840-х
годов, несомненно, был замечательный литературный критик Виссарион
Белинский (1811-1848). Его философские поиски находили себе
выход в литературно-критических статьях, которые имели
исключительное, беспрецедентное влияние на литературу девятнадцатого
века1. Благодаря этим статьям самые актуальные вопросы,
обсуждавшиеся в кружке Станкевича, получили доступ к самой широкой
аудитории. Не будет преувеличением сказать, что драматическая
идейная эволюция Белинского оказала влияние на целое поколение.
В отличие от своих друзей-помещиков, Белинский был сыном
провинциального врача, и ему приходилось содержать себя
собственным трудом и часто испытывать финансовые затруднения. Ему не
дали закончить обучение в Московском университете под тем предлогом,
что у него слабое здоровье и небольшой талант, но в действительности
потому, что он написал пьесу («Дмитрий Калинин» - трагедия в духе
Шиллера, критиковавшая крепостное право) и по наивности представил
свое произведение на суд университетского начальства. Сильно развитое
чувство человеческого достоинства, которое было выдающейся чертой
личности Белинского, сложилось рано и не имело в себе ничего
аристократического; оно развивалось из протеста против условий жизни, в
которых прошла юность Белинского, - против дикости телесных
наказаний, применявшихся в школе; против грубой жизни в семье, против
унижения, с которым он сталкивался везде в обществе угнетения. Не в
1 См.: Terras V. Belinsky and Russian Literary Criticism: The Heritage of Organic
Aesthetics. Madison. Wise, 1974. О роли Белинского и Бакунина в кризисе
гегелевского «абсолютного идеализма» см.: Billig J. Der Zusammenbruch des
Deutschen Idealismus bei den Russischen Romantikern: Bjelinski, Bakunin. Berlin, 1930;
Koyré A. Etudes sur Г histoire de la pensée philosophique en Russie. Paris, 1950.
ГЛАВА 7. Русские гегельянцы...
137
последнюю очередь это чувство человеческого достоинства сложилось в
Белинском под воздействием разительного контраста между
литературой - самой большой его страстью с детства - и всей окружавшей его
повседневной действительностью.
Мировоззрение молодого Белинского представляло собой
характерное для его эпохи смешение философского романтизма
(заимствованного у Шеллинга) и рационалистической веры в силу образования.
Он находился под сильным впечатлением храбрых бунтарей - героев
шиллеровских трагедий, и в то же время им двигала ненависть к
общественной несправедливости - ненависть, которая побуждала
Белинского искать философию, оправдывающую этот протест и эту
борьбу. Его идеологическая драма началась в 1836 г., когда он решил,
что нашел такую философию в волюнтаристическом, активистском
идеализме Фихте.
В фихтеанской концепции всесильного «Я», которое ничто не
способно сокрушить, коль скоро оно осознало свое призвание, Белинский
увидел санкцию на бунт - пусть даже бунт одиночки; говоря его же
словами, в новой теории он «почувствовал запах крови». Глубоко
присущий ему, однако, реализм вынудил его заподозрить, что этот
героический волюнтаризм - только иллюзорное решение и что
«абстрактный идеал, взятый в изоляции от географических и
исторических условий развития»1, обречен на разрушение при
соприкосновении с суровыми законами действительности.
К концу 1837 г. Белинский наткнулся на формулировку мучившей
его проблемы; то был знаменитый тезис Гегеля: «все действительное
разумно, все разумное действительно». Согласно этому тезису,
«разум» социальной действительности - это закон, управляющий
движением Абсолюта, закон, не подверженный влиянию субъективных
притязаний индивидов. Бунт личности против Разума истории неизбежно
мотивирован частным - и потому лишь кажущимся - пониманием
вещей, субъективными и, в конечном счете, иррациональными
представлениями. В глазах Белинского это было равносильно отказу от
нравственной обязательности протеста - чем-то таким, что позволяло
отвергнуть тяжелую ношу ответственности. «Сила - это закон, закон
есть сила, - писал он в письме к Станкевичу. - Нет, не могу описать
тебе, с каким чувством услышал я эти слова, - это было
освобождение»2. Признав тем самым высшие права Разума Истории и приняв,
что «свобода не своеволие, но действие в соответствии с законами
необходимости», Белинский, подобно Бакунину, провозгласил свое
«примирение с действительностью».
1 Белинский ВТ. Полное собрание сочинений. М., 1953-1959. Т. U.C. 385.
2 Там же. С. 386.
138 Анджей Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
На самом деле это примирение было актом трагического
самоотрицания. Белинский с энтузиазмом прославлял русскую
действительность, но его статьи того времени не вполне адекватно отражают его
умонастроение. Об этом ясно говорят его письма: в них он
высказывается более откровенно и в них открываются мучившие его тяжелые
сомнения. Белинский признается, что «принудил» себя к примирению
вопреки своей собственной природе и отбросив свою собственную
«субъективность». Белинский думал, что, подчинившись неизменным
законам «разумной необходимости», он сумеет обрести твердую почву
в жизни и станет человеком «действительности», а не «привидением».
В случае Бакунина примирение с действительностью
основывалось на консервативном романтизме и мистическом истолковании
гегельянства. В сочинениях Белинского мы тоже находим элементы
романтического консерватизма (например, культ
«непосредственности» и иррациональных элементов народной традиции); но в целом
для него характернее антиромантические мотивы - такие как акцент
на прозаических ценностях и реабилитация обыкновенной, «низкой»
действительности. Для Бакунина истинное примирение с
действительностью было возможно только путем мистического
отождествления своей личности с божественной сущностью вселенной. Белинский
не был столь требовательным: он довольствовался ролью человека,
который не пускается в софистические отвлеченности, а твердо стоит
обеими ногами на земле. В защите Белинским «обыкновенного» -
простого и нормального - выразилось его желание вырваться из
спертой атмосферы кружка Станкевича, который он сравнивал с
необитаемым островом. «Действительная жизнь» как идеал должна быть
противоядием порочному кругу «рефлексии», беспрерывным
эпистолярным исповедям и бесконечным играм в самоанализ. Любое полезное
участие в жизни общества, каким бы ограниченным оно ни было,
утверждал Белинский, лучше, чем «гнилая рефлексия,
притворяющаяся идеализмом».
Белинский, как кажется, отказался от примирения как раз потому,
что оно не давало ему - да и не могло дать - того, чего он ожидал.
Примирение не только не давало основу для цельного мировоззрения,
но усиливало переживание своего отчуждения, чувство того, что он
не человек действительности, а привидение. Придя к выводу, что для
него лично «разумная действительность» - нечто недостижимое,
Белинский какое-то время утешал себя верой в разумность
исторического процесса в его целом - во всеобщую гармонию, в которой даже
диссонансы имеют свое место. Однако эти «философские утешения»
не могли перекрыть приток новых идей. В 1840-1841 гг. (когда
Станкевич и Бакунин впервые начали проигрывать в уме идею
«философии действия»), Белинский пережил состояние глубокого внутренне-
ГЛАВА 7. Русские гегельянцы...
139
го освобождения. Это освобождение было составной частью процесса
борьбы за права индивидуальности, за радикальный пересмотр анти-
персоналистских импликаций идеи исторической необходимости и за
утверждение активного участия в истории.
Сначала Белинский отверг «философию примирения» скорее по
нравственным, чем по теоретическим соображениям. В марте 1841 г.
он подвел итог своему новому отношению к Гегелю в письме к Боткину:
Благодарю покорно, Егор Федорыч, - кланяюсь Вашему
философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому
филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и
удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, -я и там
попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и
истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции,
Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не
хочу счастия и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих
братии по крови, - костей от костей моих и плоти от плоти моея.
Говорят, что дисгармония есть условие гармонии; может быть, это
очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для
тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии.
<... > Что мне в том, что я уверен, что разумность восторжествует,
что в будущем будет хорошо, если судьба велела мне быть свидетелем
торжества случайности, неразумия, животной силы?1
Однако одних только эмоций Белинскому было недостаточно: его
гегельянская выучка была не напрасной. Не довольствуясь
нравственным негодованием, он искал объективных, исторических
оправданий своего протеста. В этом стремлении его поддерживало чувство
солидарности с массами - чувство, которое помогало ему
преодолевать трагическое ощущение своего одиночества. Широкий
общественный отклик, вызванный его статьями, и возраставшее
сопротивление общества политике царизма давали Белинскому желанное
ощущение того, что он, наконец, близок к преодолению своей
«призрачности». Он вновь обрел веру в историю - теперь уже не в смысле
разумного исторического оправдания всего существующего, но как
убеждение в разумности общего исторического развития.
Один из существенных компонентов мировоззрения Белинского
зрелого периода его творчества - диалектический историзм, который
привел его к пониманию прогресса как закона истории,
осуществляющегося в непрестанной критике и отрицании застывших,
анахронических социальных форм. Диалектика Белинского была рационали-
1 Цит. изд. Т. 12. С. 22-23.
140 Анджеи Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
стической (подобно диалектике Гегеля и в отличие от диалектики
Шеллинга). Сущность истории для него - движение разума: «Разум
тогда только признаёт известную истину, учение или явление
действительными, когда находит в них себя...»1 Разум требовал теперь
полной эмансипации индивидуальности - точно так же, как «разумная
действительность» подразумевала отрицание существующей
действительности. Это смещение акцента позволило Белинскому
пересмотреть свое отношение к французскому Просвещению и признать в
качестве новых героев в основном «разрушителей старого» - таких как
«Вольтер, энциклопедисты и террористы». В то же время Белинский
уяснил свое неприятие антиисторического рационализма
Просвещения. «Не думай, - писал он одному из друзей, - чтобы я мыслил
рассудочно: нет, я не отвергаю прошедшего, не отвергаю истории - вижу
в них необходимое и разумное развитие идеи; хочу золотого века, но
не прежнего, бессознательного, животного золотого века, но
приготовленного обществом, законами, браком, словом, всем, что было в
свое время необходимо, но что теперь глупо и пошло»2.
Диалектический взгляд на историю указал Белинскому путь к
примирению трагического конфликта между борьбой
индивидуальности за изменение действительности и установленными социальными
нормами. Следует, полагал Белинский, допустить возможность
активного участия в преобразовании природы и истории путем
осмысления законов, управляющих силами той и другой. Сознавая
утопический характер многих прогрессивных идеалов, Белинский пытался
укоренить их» в действительности, показать, что они - неотъемлемая
часть исторического процесса. Он пытался сформулировать, в чем
состоит «философия действия», свободная от субъективизма Фихте,
снимающая дуализм этики и необходимости у Канта и Шиллера и
преодолевающая раскол между абстрактным идеалом и конкретным,
объективным миром. Трудность, с которой столкнулся Белинский, -
отсутствие объективных критериев исторического прогресса; это
создавало угрозу впасть в ненамеренный субъективизм,
приравнивающий Разум Истории к разуму самого его носителя, т.е. к идеям
идеологического авангарда русской интеллигенции.
Идейная эволюция Белинского протекала в русле преобладающего
в европейской мысли направления, в особенности - левого
гегельянства в Германии. Левые гегельянцы подчеркивали все то, что
связывало Гегеля с рационалистическим наследием Просвещения, и
пытались создать синтез немецкой философии и французской
революционной мысли, соединить немецкое «мышление» с французским
1 Цит. изд. Т. 6. С. 270.
2Цит. изд.Т. 12. С. 71.
ГЛАВА 7. Русские гегельянцы...
141
«действием». Белинский подчеркивал, что, отвергнув философию
примирения, он не собирается полностью порывать с гегельянством.
«Гегель, - писал он в одном месте, по-своему выражая мысли,
впервые высказанные Энгельсом, - сделал из философии науку, и
величайшая заслуга этого величайшего мыслителя нового мира состоит в
его методе спекулятивного мышления, до того верном и крепком, что
только на его же основании и можно опровергнуть те из результатов
его философии, которые теперь недостаточны или неверны»1.
Одним из характерных мотивов мировоззрения Белинского после
отказа от примирения с действительностью была защита всего
особенного (действительной, живой индивидуальности) против тирании
всеобщего (Абсолюта, Разума и Духа). По целому ряду актуальных
проблем эта защита тесно сближала Белинского с материализмом как
философской системой, в которой человечество рассматривается в
виде совокупности индивидуальных, чувственных существ - людей.
Акцент на том, что люди - это создания из плоти и крови, характерен
для антропологического материализма Людвига Фейербаха: его
«Сущность христианства» произвела глубокое впечатление на
Белинского (хотя он знал это сочинение только по слухам). В «Обозрении
русской литературы за 1846 год», например, Белинский заявил: «Ум
без плоти, без физиономии, ум, не действующий на кровь и не
принимающий на себя его действия, есть логическая мечта, мертвый
абстракт. Ум - это человек в теле или, лучше сказать, человек через
тело, словом, личность»2.
Стоит отметить, что Белинский, по крайней мере отчасти, был
знаком с ранними произведениями Маркса и Энгельса. Уже в 1843 г.
он читал резюме памфлета Энгельса «Шеллинг и откровение», а
двумя годами позже ему попались на глаза статьи Маркса («К
еврейскому вопросу» и «К критике гегелевской философии права») и статья
Энгельса («К критике политической экономии») в
Deutsch-Französische Jahrbücher für 1844.
Разрыв с философией примирения оказал влияние также и на
литературную критику Белинского. До этого разрыва он с
пренебрежением относился к «субъективной» литературе как иррациональному
бунту против действительности от имени идеала, замешанного на
узком «абстрактном разуме» индивида. В то время Шиллер был для Бе-
1 Там же. Т. 7. С. 49-50. Это высказывание отчетливо демонстрирует влияние
брошюры молодого Энгельса «Шеллинг и откровение». Белинский был знаком с
этой работой по статье Боткина о немецкой литературе, напечатанной в
«Отечественных записках» (1843). Статья Боткина почти слово в слово повторяет
целые абзацы из памфлета Энгельса.
2 Белинский ВТ. Цит. изд. Т. 10. С. 27.
142 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
линского воплощением пустого мечтательного эстетизма, абстракций,
лишенных опоры в действительности. Его «богами» тогда были
«олимпийцы» Гёте и Пушкин, великие «объективные» поэты,
которые воздерживались от того, чтобы судить действительность. О
позднем Пушкине Белинский писал, что поэт нашел выход из
эстетического тупика в «гармонии просвещенного духа, примиренного с
действительностью». Когда же сам Белинский отверг такое примирение,
он вновь признал ценность того, что называл «субъективной»
литературой, - произведений, выражавших протест против существующих
условий общественной жизни. Одновременно с этим он разработал
новое, более сложное определение субъективности как такой
мировоззренческой позиции, которая не просто отвергает
«объективность», но и выходит за ее пределы; такая «субъективность» не
искажает действительность, а честно воспроизводит и оценивает ее не по
прихоти художника, а в согласии с прогрессивным для данного
общества направлением. Тем самым Белинский популяризировал в своей
литературной критике роль идеологически ангажированной
реалистической литературы.
Белинский настаивал на том, что реалистическая литература (он
употреблял термин «натуральная школа» в литературе) должна давать
подлинную и правдивую картину действительности, но он также
предупреждал об опасности смешения правдивого портрета с простой
копией. Подлинное изображение действительности требует открытия
всеобщего в особенном, воспроизведения типических явлений,
которые заключают в себе сущность бесконечного разнообразия жизни, -
всеобщего, которое выделено из внешнего хаоса фактов. Поскольку
художественное обобщение такого рода подразумевает некоторое
оценочное суждение, то Белинский делал вывод, что не существует
никакого «чистого искусства», поскольку любое художественное
произведение «тенденциозно». Различие между «объективной» и
«субъективной» литературой состоит лишь в том, что первая
утверждает действительность, тогда как вторая занимает по отношению к
ней критическую, активную позицию.
Белинский подчеркивал, что всеобщность художественного
произведения не следует смешивать с «логическим силлогизмом» или
«схематической абстракцией»: это значило бы погрешить против природы
искусства, которое он определял как «мышление в образах». Художественное
обобщение должно воздействовать живыми и конкретными образами,
влияющими непосредственно на чувства и воображение читателя, -
в противном случае это только «пустая риторика».
Эта теория представляет собой непреходящее достижение русской
эстетики и в то же время обобщает богатый опыт «гоголевского
периода русской литературы» (выражение самого Белинского).
ГЛАВА 7. Русские гегельянцы...
143
АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН
В отличие от Станкевича, Бакунина или Белинского, Александр
Герцен (1812-1870)1 и его ближайший друг Николай Огарев еще
подростками осознали себя продолжателями революционных
традиций декабристов. Герцен рассказывает, как летом 1827 г. (или 1828 г.)
во время прогулки в окрестностях Москвы оба юноши, обнявшись,
поклялись посвятить свою жизнь борьбе за свободу. Обучаясь в
Московском университете, они организовали домашний кружок для того,
чтобы подготовиться к осуществлению этой цели. В своих
воспоминаниях (написанных гораздо позднее - в эмиграции) Герцен
сравнивает их кружок с кружком Станкевича: «Им не нравилось наше почти
исключительно политическое направление, нам не нравилось их
почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и
французами, мы их сентименталистами и немцами»".
Если присмотреться, то такая версия событий не вполне
соответствует фактам. Несмотря на преклонение перед декабристами и
несомненную оппозиционность по отношению к царизму, Герцен и
Огарев едва ли уступали Станкевичу в увлечении сентиментализмом и
умозрением. В мировоззрении молодого Герцена французские
влияния (сенсимонисты, Баланш, Бюше и Пьер Леру) сосуществовали
наряду с не менее влиятельными идеями, заимствованными у
Шеллинга и из немецкой литературы и философии. Сенсимонизм
привлекал молодого Герцена не столько своими политическими аспектами,
сколько своей философией истории и откровением новой религии,
новой «органической эпохи». Эти тонкие различия, однако, не
интересовали царскую полицию. В июле 1834 г. Герцен и Огарев были
арестованы и после длительного расследования, продолжавшегося
девять месяцев, осуждены на ссылку. Более пяти лет Герцен провел в
провинции: два года в Вятке и три года во Владимире. Вынужденный
служить чиновником, он получил самое непосредственное
представление о продажном мире царской бюрократии и жестоком обращении
помещиков со своими крепостными. В этот период Герцен
заинтересовался религией и даже мистикой. Этот импульс возник у него
отчасти под влиянием переписки со своей набожной кузиной Натальей
Захарьиной, на которой он тайно женился в 1838 г. при весьма
романтических обстоятельствах (ее отъезд из дома устроили друзья).
1 Герцен был незаконнорожденным, но любимым сыном Ивана Яковлева,
богатого и образованного аристократа, почитателя Вольтера, и немки (Луизы
Хааг). Отец дал ему фамилию «Герцен» (от немецкого das Herz ~ «сердце»).
Лучшая американская книга, написанная о Герцене: Malia M. Alexander Herzen
and the Birth of the Russian Intelligentsia. Cambridge, Mass., 1961.
2 Герцен А.И. Былое и думы. Л., 1946. С. 216.
144 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Герцен возвратился из ссылки в начале 1840 г., когда влияние
гегелевской философии достигло своего апогея. Встретившись с
участниками кружка Станкевича, он был неприятно поражен религией
примирения, которую проповедовали Бакунин и Белинский: Герцен
посчитал такое примирение формой нравственного самоубийства.
Тем не менее, поскольку философия примирения ссылалась на
авторитет Гегеля - последнее слово в «науке» - как на свое основание, то
Герцен с интересом погрузился в основательное изучение гегелевской
философии. В процессе этих занятий он пришел к выводу, что
истолкование Бакуниным и Белинским Гегеля - ошибочно и что лучшие
контраргументы предоставляет сам Гегель. С другой стороны, Герцен
разглядел в гегельянстве элементы, которые могут - если их
интерпретировать формалистически - привести к культу Разума Истории
как безличной и жестокой силы, чуждой человеку и независимой от
него. Герцен поэтому осуществил переосмысление (и критику)
гегельянства, стремясь отстоять самостоятельное значение человеческих
действий и автономии личности, - двух ценностей, которые он считал
взаимосвязанными: «Действование - сама личность»1, - писал он в
статье «Буддизм в науке».
Размышления о Гегеле открывают новую главу в идейной
эволюции Герцена: они помогли ему перерасти его юношеский романтизм
и религиозность. Новые личные трагедии - еще один год ссылки
(1841-1842; на этот раз - в Новгороде) из-за неосторожно оброненных
в частной переписке высказываний и смерть одного за другим трех
детей - не вызвали в нем нового приступа религиозности, а напротив,
только укрепили в нем новый, «реалистический» взгляд на мир.
В 1842 г. Герцен уже готов принять основные положения Фейербаха
в его критике религии и сделать из них атеистические выводы,
которые следовали из этих тезисов.
Плодом размышлений Герцена стал цикл статей «Дилетантизм
в науке» (1843), из которых самая значительная - это четвертая статья
под названием «Буддизм в науке»: в ней он выдвинул интересную
теорию, соединявшую действие и личность. Основное влияние на
автора «Дилетантизма в науке» (помимо Гегеля, разумеется) оказали
Август Цешковский и Людвиг Фейербах. Герцен познакомился с
Prolegomena zur Historiographie Цешковского еще во Владимире, даже
раньше, чем он взялся за изучение Гегеля2.
1 Герцен A.M. Поли. собр. соч.: В 30 т. М., 1954-1965. Т. III. С. 64.
2 В письме к А.Л. Витбергу (июль 1838 г.) Герцен писал о Prolegomena: «...во
всем главном я сошелся с автором до удивительной степени. Значит, мои
положения верны - и я еще больше примусь за обработку их». См.: Герцен A.M.
Собр. соч.: В 30 т. М., 1954-1965. Т. 22. С. 38. Первопроходческая роль Чеш-
ГЛАВА 7. Русские гегельянцы...
145
Следуя за Цешковским, Герцен разделяет историю на три большие
эпохи, которым соответствуют три диалектических момента в
эволюции духа: эпоха естественной непосредственности, эпоха мышления,
эпоха действия. В первую эпоху индивиды существуют в мире
частных интересов и не могут достичь всеобщего; они существуют
индивидуально, но у них отсутствует отчетливое сознание и они
находятся во власти слепых сил. Отрицание момента естественной
непосредственности начинается с приходом мышления и науки; ради
науки индивидуальность отказывается от себя для того, чтобы стать
сосудом безличной истины и тем самым возноситься в сферу
всеобщего: «Умереть в естественной непосредственности значит
воскреснуть в духе, а не погибнуть в бесконечном ничего, как погибают
буддисты»1. Абстрактная безличность науки, в свою очередь, отрицается
сознательным действием; преодолев свою непосредственность,
личность реализует себя в действии, внося в исторический процесс
разумность и свободу. Поэтому, по мысли Герцена, личность не
средство, но предельная цель всякого развития. Для «формалистов», или
«буддистов», в науке, как их называет Герцен, достаточно поднять
индивидуальность в сферу сверхиндивидуального или безличного;
они отрицают и разрушают личность и не интересуются ее
возрождением, ее самоосуществлением путем участия в истории. Герцен
признает, что дело здесь не просто в неправильной интерпретации, но что
и сам Гегель несет ответственность за такое «буддийское» прочтение
его философии. Герцен согласен с Цешковским, что гегельянство -
высшее достижение отвлеченной мысли и тем самым - пролог к
отрицанию отрицания: мышление выйдет за пределы самого себя в
действии. Дитя эпохи мышления, Гегель всецело еще погружен в сферу
всеобщего, универсального - сферу логики; он упустил из виду
требования личности; но теперь наступает новая эпоха: «Забытая в науке
личность потребовала своих прав, потребовала жизни,
трепещущей страстями и удовлетворяющейся одним творческим, свободным
деянием».
Полемика Герцена направлена не только против
«созерцательности» Гегеля, но также против его «панлогизма», то есть
отождествления законов истории с законами логики. Помимо способности к логи-
ковского в превращении гегельянства в «философию действия» (или
«философию праксиса») подробно анализируется в кн.: Lobkowicz N. Theory and
Practice: History of a Concept from Aristotle to Marx. Notre Dame, Ind., 1967. P. 193-206,
218-221. О влиянии Чешковского на Герцена см.: Walicki A. Cieszkowski und
Herzen // Hegel bei den Slaven. Прага, 1967.
1 Все цитаты из «Буддизма в науке» даются по изданию: Герцен А. И. Указ.
изд. Т. 3. С. 64-68.
146 Анджей Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ческому рассуждению, писал Герцен, человек обладает волей,
«которую можно назвать разумом положительным, разумом творящим».
Этот фихтеанский акцент на «воле» явным образом заимствован у
Цешковского, который противопоставил гегелевской логике «чисто
практическую область воли». На взгляд Герцена, будущая эпоха
действия, в противоположность эпохе мышления (с ее кульминацией -
философией Гегеля), будет эпохой подлинной истории. В
концепции Герцена природа - в которой «все частно, индивидуально, врозь
суще», - соответствует моменту естественной непосредственности,
тогда как логика (в гегелевском смысле) - это момент мышления,
отрицающий непосредственность; момент действия, который, в свою
очередь, отрицает предшествующее логическое отрицание, проявляет
себя в истории: «Природа и логика сняты и осуществлены ею».
Следует отметить, что в терминах гегелевской триады действие
представлено здесь как диалектическое возвращение к
непосредственности. Такой ход мысли имел для Герцена особое значение. Он
предлагает своего рода реабилитацию природы и естественной
непосредственности: как часть природы человек не только мыслящее
существо, но и такое создание, которое способно испытывать чувства,
страсти и желания. Герцен заимствует аргументы Фейербаха в
поддержку своей собственной аргументации. По существу, «Дилетантизм
в науке» - это попытка переосмыслить гегелевские мотивы в духе ан-
тропотеизма Фейербаха. Как Герцен, так и Фейербах формулировали
свой идеал в одних и тех же понятиях: примирение особенного и
всеобщего, существования и сущности, сердца и разума, индивида и
рода. Однако сходству языка не следует придавать чрезмерное значение.
Фейербаховская философия была только переходным этапом в
идейной эволюции Герцена, и роль, которую она сыграла, была
значительной, но подчиненной. Персоналистический идеал, выдвинутый
Герценом, предполагает синтез материализма и идеализма - синтез
природы, в которой «все частно», и логики, сферы всеобщего. Этот идеал
должен осуществиться путем страстно желаемого примирения фейер-
баховского «человека из плоти и крови» с рационалистическим
универсализмом Гегеля.
Главное философское произведение Герцена - «Письма об
изучении природы» (1845), - на первый взгляд, посвящено совершенно
другим вопросам. Оно открывается постановкой строго
эпистемологической проблемы - обсуждением «эмпиризма» (отождествляемого с
материализмом) и «идеализма» (иначе говоря, спекулятивной
философии) как двух различных путей истолкования действительности.
Герцен утверждает, что изучение природы требует знания философии
и что философия не может существовать независимо от изучения
природы. Экспериментальная и спекулятивная философия - две сто-
ГЛАВА 7. Русские гегельянцы...
147
роны одной и той же сферы познания: спекуляция сама по себе
(независимо от «эмпирии») и «эмпирия», не опирающаяся на спекуляцию,
обречены на неудачу.
При ближайшем рассмотрении становится ясно, что аргумент об
относительных достоинствах эмпиризма и идеализма соотносится с
этическими и общественно-историческими проблемами,
интересовавшими Герцена и остальных представителей русской философской
«левой». Эмпиризм (материализм), говорит Герцен, исходит из частного и
не способен к органическому синтезу; поэтому эмпиризм рассматривает
общество как абстрактную сумму индивидов, а личность - как сумму
механических процессов и материальных частиц. С другой стороны,
идеализм исходит из всеобщего, из «идеи» или безличного «Разума» и
имеет тенденцию упускать из виду конкретное, индивидуальное
человеческое существо. Вывод «Писем об изучении природы» - что
«эмпирию» и идеализм следует объединить и восполнить друг другом -
соответствует тому постулату гармонического «примирения единичного
и всеобщего», который подробно разбирался в «Буддизме в науке».
Герцен согласен с Гегелем, что логический процесс эволюции
самосознания по существу совпадает с историческим процессом;
различие между тем и другим только в том, что логика описывает развитие
самосознания в форме, полностью исключающей все случайные
элементы. Поэтому для того чтобы понять какую-либо значительную
философскую проблему, необходимо показать ее историю и понять
внутреннюю связь между логикой реального движения и когнитивной
логикой. «Письма об изучении природы» и были попыткой следовать
этому методу и представить очерк истории философии в отношении к
исторической эволюции Европы от античности до Нового времени.
В диалектическом взгляде Герцена на истории (как и в
аналогичной схеме Чешковского) античность соответствует моменту
природной непосредственности. Христианство инициировало эпоху
идеализма, отталкивания от природы, болезненного дуализма и
рефлексии. Герцен не считает, что Реформация внесла сколько-нибудь
существенные изменения; в отличие от Гегеля он видит в дослереформа-
ционной Европе не начало качественно новой эпохи, а только
последнюю стадию Средневековья. Немецкий идеализм (включая гегелевскую
философию) он отклоняет как «схоластику протестантского мира».
Гегель, по мысли Герцена, остановился на пороге новой исторической
эпохи - «эпохи действия», роль которой в будущем будет состоять в том,
чтобы осуществить синтез античного и христианского миров.
В схеме Герцена этот синтез соответствует синтезу материализма
и идеализма. Для Герцена (как и для Фейербаха) идеализм -
продолжение христианской теологии, тогда как материализм представляет
собой реабилитацию естественной непосредственности Древнего Ми-
148 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ра. Переоткрытие греко-римской цивилизации в эпоху Ренессанса
было предвосхищением этого будущего синтеза. Ренессанс привел к
возрождению материализма и победоносному прогрессу
эмпирических исследований, тогда как Реформация дала толчок развитию
идеализма, достигшего своей кульминации в философии Гегеля. Задача
новой эпохи состоит в том, чтобы дать синтез Бэкона (отца
современного эмпиризма) и Декарта (отца идеализма) - синтез просвещенного
материализма и гегелевского идеализма. От этого синтеза выиграет не
только наука, но также - даже главным образом - развитие
человеческой личности. Подобно сенсимонистам, которых он жадно читал в
юности, Герцен предполагает, что существует тесная взаимосвязь
между синтетическими и аналитическими формами мысли (идеализм
и эмпиризм), с одной стороны, и процессами общественной
интеграции и дезинтеграции - с другой. Возрождение материализма и
возраставшая роль аналитических и эмпирических исследований, начиная со
времени Ренессанса до эпохи Просвещения, имели свое соответствие
в защите прав личности против тирании традиции и авторитета. Этот
процесс был благотворным, но также породил определенные
проблемы. Нежелательный побочный эффект господства одностороннего
эмпиризма - социальная атомизация или даже распад личности.
Процессы дезинтеграции достигли своего крайнего выражения в
философии Юма, в которой личность лишилась своих субстанциальных
оснований и свелась к пучку ощущений и последовательности моментов
во времени.
«Consummatum est\ - писал Герцен. - Дело материализма как
логического момента совершилось; далее идти теоретически было
невозможно. Вселенная распалась на бездну частных явлений, наше я -
на бездну частных ощущений. <...> Действительность разума, мысли,
сущности, каузальности, сознание своего я - исчезли. <...> Пустота,
к которой Юм привел, должна была сильно потрясти людское
сознание...»1 Эта цитата объясняет нежелание Герцена превратить
материализм в краеугольный камень своей теории личности. Приравнивая
материализм к эмпиризму и натуралистическому материализму, он
хочет защитить человеческую личность от свойственного такому
материализму «анатомического» и атомистического способа мысли.
Идеализм должен был помочь этой защите.
В «Письмах об изучении природы» Герцен не довел свою
философию истории до завершения, но есть все основания полагать, что
последующие письма были бы посвящены философии Гегеля и
Фейербаха. Основные очертания его концепции понятны: в
постулированном синтезе материализма (эмпиризма) и объективного идеализма
1 Там же. С. 307.
ГЛАВА 7. Русские гегельянцы...
149
материализм должен был защитить личность от тирании «логики»,
т.е. от гипостазирования универсалий и требования абсолютного
подчинения я этому всеобщему. С другой стороны, идеализм должен
защитить личность от распада, превратить окружающую среду в
рациональную структуру и не допустить такого положения, когда «будут
атомы, явления, груды фактов, случайности, но не будет стройного,
всецелого космоса»1.
Интересно отметить, что в том, что касается методологии, Герцен
был убежден в превосходстве идеализма. Величайшее
методологическое достижение идеализма, по его мнению, - диалектика: она делает
возможным видеть действительность во всех ее измерениях - видеть
не статически, но как процесс с его внутренними противоречиями и
взаимосвязями. Когда Герцен пишет о синтезе эмпиризма
(материализма) и идеализма, то он, по сути дела, имеет в виду синтез
материализма и диалектики. В этом смысле можно согласиться со словами
Ленина, что в «Письмах об изучении природы» Герцен «вплотную
подошел к диалектическому материализму и остановился перед -
историческим материализмом»2.
Главной заботой Герцена не было однако решение чисто
теоретических вопросов. В центре его идейных поисков лежала проблема
нравственного характера: Как соединить свободу конкретных,
телесных индивидов (защищаемую в материализме Фейербаха) с
гегелевским убеждением о разумной закономерности сверхиндивидуальных
процессов истории? Как согласовать свободный выбор активности с
верой в необходимость и окончательную победу прогресса? С одной
стороны, автор «Писем...» страстно протестовал против гегелевского
«инструментализма», превращающего личность и целые нации в
простые орудия «мирового духа», реализующего в истории свои
собственные цели; с другой стороны, однако, Герцен не хотел
поддаваться безрадостному сциентизму, отказывающемуся от веры в гарантии
прогресса и окончательную победу Добра. В конце статьи «Буддизм
в науке» он выразил эту веру в таких словах:
Когда настанет время, молния событий раздерет тучи, сожжет
препятствия, и будущее, как Паллада, родится в полном вооружении.
Но вера в будущее - наше благороднейшее право, наше неотъемчемое
благо; веруя в него, мы полны любви к настоящему.
И эта вера в будущее спасет нас в тяжкие минуты от отчаяния;
и эта любовь к настоящему будет жива благими деяниями3.
1 Там же. С. 304.
2ЛенинВ.И. Памяти Герцена//Он же. ПСС. Изд. 5-е.Т.21.М, 1961.С.256.
3 Герцен. Указ. изд. Т. 3. С. 88.
150
ГЛАВА 8
БЕЛИНСКИЙ И РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ
ЗАПАДНИЧЕСТВА
противоположность славянофилам их оппоненты - так
называемые западники - не составляли однородного движения
с единой и связной идеологией и социальной философией.
Западничество было только непрочным альянсом потенциально
расходившихся между собою направлений - платформой, на которой в
1840-е годы демократы и либералы находили общую почву в
оппозиции славянофилам. Спорным вопросом, разделявшим обе эти группы,
была «идея личности»: для левых в философии это был ключевой
вопрос, славянофилы же считали само понятие автономной личности
недоразумением, продуктом избранного Западом ложного пути
развития. Славянофильство поэтому было той философией, которой
требовалось дать ответ - тем более что с начала 1840-х годов славянофилы
предложили свою оригинальную интерпретацию русской истории.
Западники, как позднее признавал Герцен, чем дальше, тем больше
осознавали необходимость овладеть «темами и вопросами,
пущенными в обращение славянофилами»1.
Современные комментаторы единодушны в том, что ведущая роль
в публичных спорах со славянофилами принадлежала Белинскому.
Герцен ограничивался приватными обсуждениями, которые он иногда
заносил в свой «Дневник». Герцен в своих философских воззрениях -
особенно в своей концепции «действия» и «личности» - был
решительным противником славянофилов, но он не был и безоговорочным
сторонником «европеизма». В какой-то мере он сочувствовал
славянофильской критике Западной Европы: эта критика, по его мнению,
имела много общего с социалистической критикой капитализма.
Герцен отчетливо сознавал, что отношение Белинского к славянофилам
слишком враждебно. Об этом свидетельствует запись в его
«Дневнике», относящаяся к маю 1844 года:
Белинский пишет: «Я - жид по натуре и с филистимлянами за
одним столом есть не могу»; он страдает и за свои страдания хочет
ненавидеть и ругать филистимлян, которые вовсе не виноваты в его
В
1 Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 293.
ГЛАВА 8. Белинский и различные варианты западничества 151
страданиях. Филистимляне для него славянофилы; я сам не согласен
с ними, но Белинский не хочет понять истину в fatras их нелепостей.
Он не понимает славянский мир; он смотрит на него с отчаянием,
и не прав, он не умеет чаять жизни будущего века. <...> Странное
положение мое, какое-то невольное juste milieu в славянском вопросе.
Перед ними (т.е. перед славянофилами. -А. В.) я человек Запада,
перед их врагами человек Востока. Из этого следует, что для нашего
времени эти односторонние определения не годятся^.
ЗАПАДНИЧЕСТВО БЕЛИНСКОГО
Древняя и современная Россия
В своем философском истолковании русской истории Белинский
интересовался теми же вопросами, которые интересовали и
славянофилов, - в первую очередь ролью Петра Великого и антитезой до-
и пореформенной России. В своем анализе Белинский пользовался
диалектической схемой, имевшей широкое хождение среди русских
гегельянцев; но именно он первым стал применять ее к русской
истории. Индивиды, как и целые нации, утверждал он, проходят в своей
эволюции три этапа: первый - стадия «естественной
непосредственности», второй - абстрактной всеобщности разума с его
«мучительной рефлексией» и болезненным расколом между
непосредственностью и сознанием; третий этап - «разумной действительности»,
которая основывается на «гармоническом сочетании непосредственных
и сознательных элементов»2.
Подробнее Белинский развивал эту мысль уже в 1841 г. в большой
статье «Деяния Петра Великого», в которой писал о том, какая
разница между одним и тем же народом в его непосредственном,
естественном и патриархальном состоянии и в разумном движении его
исторического развития»3. На раннем этапе развития народ нельзя
назвать в собственном смысле «нацией», а только «народом». Выбор
между этими двумя словами важен Белинскому: во время правления
Николая слово «народность» употреблялось - точнее, злоупотребля-
лось - представителями «официальной народности» и потому имело
консервативный оттенок; наоборот, слово «национальность»
благодаря своему иностранному происхождению напоминало о Французской
революции и о буржуазно-демократических национальных движениях.
1 Герцен A.M. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1954-1965. Т. 2. С. 354.
2 Белинский ВТ. Поли. собр. соч. М., 1953-1959. Т. 5. С. 308.
3 Там же. С. 135.
152 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Картина допетровской России в изображении Белинского
поразительно похожа на ту, которую рисовали славянофилы, хотя выводы,
которые он делал, совершенно отличались от выводов славянофилов.
До Петра русский народ (т.е. нация в эпоху естественной
непосредственности) был единой и прочной общиной, державшейся верой и
обычаем, иначе говоря - нерефлексивным отношением к традиции,
идеализированной славянофилами. Но именно эти качества не
оставляли места для появления разумной мысли или индивидуальности,
препятствуя тем самым динамическим общественным переменам.
Прежде чем превратить русских в нацию, необходимо было
порвать с этим состоянием застоя. С большим диалектическим
искусством Белинский проводит в указанной статье мысль о том, что
возникновение всякой современной нации сопровождается явно
противоречивым феноменом, а именно разрывом между высшими и
низшими слоями общества - разрывом, который так тревожил
славянофилов. Белинский видит в этом подтверждение некоторых общих
правил, применяемых к образованию современных национальных
государств. «В современном мире, - писал он, - все элементы в
обществе действуют отдельно, каждый в отдельности и независимо <...>
для того чтобы развить себя более полно и совершенно <...> и снова
слиться в новое однородное целое на более высоком уровне, чем
первоначальная недифференцированная однородность». В полемике со
славянофилами, которые рассматривали разрыв между образованной
элитой и простыми людьми как первичное зло послепетровской
России, Белинский утверждает, что «разрыв между обществом и народом
исчезнет с ходом времени, с процессом цивилизации». Это означает,
как он старается подчеркнуть, «поднять народ до уровня общества», а
не «притянуть общество к народу», в чем видели избавление от
болезни славянофилы. Поэтому петровские реформы, которые привели
к этому социальному разрыву, на взгляд Белинского, - первый и
решающий шаг к новой России. «Россия до Петра Великого была только
народом и стала нациею вследствие толчка, данного ей ее
преобразователем»1.
Петровские реформы, таким образом, - это радикальное
отрицание естественной непосредственности древней России; однако в
соответствии с диалектическим процессом за этим антитезисом должен
последовать синтез, т.е. диалектическое возвращение к
«непосредственности» на более высоком уровне. Петр Великий отрицал
древнерусскую непосредственность во имя универсальных человеческих
ценностей, представляемых европейской цивилизацией; эти всеобщие
ценности, в свою очередь, не могли не принять национальной формы,
'Там же. С. 124.
ГЛАВА 8. Белинский и различные варианты западничества 153
так что отрицание непосредственной, инстинктивной народности
способно привести к позитивному появлению нового национального
самосознания. Фактически, по мысли Белинского, это и произошло в
России: война с Наполеоном 1812 г. была катализатором: она
способствовала образованию нового национального сознания, что нашло
свое выражение в поэзии Пушкина - первого великого русского
поэта, в творчестве которого народное и универсальное начала слились
в органическое целое.
Этот ход мысли, по-видимому, ведет к выводу, что этап отрицания
непосредственно-народного ради универсального и национального -
этап, инициированный Петром, - можно считать завершенным. В
статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский, по
существу, выразительно обосновал эту точку зрения и даже признал, что
славянофилам нужно отдать должное за критику определенных
сторон вестернизации. На него, по-видимому, сильнейшее впечатление
произвели замечания славянофилов о расколе в русской жизни и об
отсутствии нравственного единства - другими словами, их критика
«лишних людей» и «общества, силою отторгнутого от своей
непосредственности»1. Белинский, имея в виду свой собственный
мучительный опыт, готов согласиться, что из-за утраты
непосредственности возникло отчуждение; но он не считает, что возможен возврат к
прежней эпохе общественного развития. Используя аргументацию
Гегеля для того, чтобы доказать, что реформы Петра были
исторически неизбежными, Белинский подчеркивает утопический характер
программы славянофилов и обвиняет их в неверном истолковании
понятия независимого развития: «Но миновать, перескочить,
перепрыгнуть, так сказать, эпоху реформ <...> это такая же
невозможность, как и переменить порядок годовых времен, заставив за весною
следовать зиму, а за осенью - лето»2.
Хотя Белинский и утверждает, что период реформ завершился, это
не значит, что он утратил восхищение типом исторического лидера,
подобного Петру. Напротив, он продолжал считать Петра
воплощением идеи разумной и сознательной деятельности, лишенной ошибок
как некритического традиционализма, так и «проклятой рефлексии».
В 1847 г. он пишет Кавелину: «Для меня Петр - моя философия, моя
религия, мое откровение во всем, что касается России. Это пример
для великих и малых, которые хотят что-нибудь сделать, быть чем-
нибудь полезными. Без непосредственного элемента - все гнило,
абстрактно и безжизненно, так же как при одной непосредственности
все дико и нелепо»3.
'Там же. Т. U.C. 526.
2 Там же. Т. 10. С. 19.
3 Там же. Т. 12. С. 433.
154 Анджей Валицкгш. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Народность и национальность
в литературе
Западничество Белинского, возможно, играло еще более
значительную роль в его литературной критике. В своем литературно-
критическом дебюте - статье 1834 г. «Литературные мечтания» - он
прямо утверждает, что в России все еще нет своей собственной
литературы. То, как он обосновывает здесь этот крайний взгляд,
перекликается с мыслями Чаадаева, который хотел показать, что Россия -
страна без истории: русская литература, какой мы ее знаем, писал
Белинский, - результат подражания, лишенный исторической
преемственности и внутреннего исторического развития. Через несколько
лет он изменил свой взгляд, но до конца жизни он признавал только
литературу, возникшую под европейским влиянием, - литературу,
родоначальником которой был Ломоносов - «Петр Великий русской
словесности». Белинский был убежден, что все ценное в русской
литературе обязано своим существованием вестернизации и что все, что
было до этого, вряд ли заслуживает называться литературой.
Для славянофилов, разумеется, эти воззрения подтверждали
невежество Белинского и его презрение к «народным» корням
русской культуры. Возмущало их также отношение Белинского к
фольклорной поэзии. Он готов был признать ее достоинства в качестве того,
что еще осталось от «детства человечества», «времени нашего
непосредственного все было ясно без тяжких дум и тревожных вопросов»;
но в то же время он безоговорочно отвергал все формы «фольклоро-
мании». Белинский полемически подчеркивал различие между
«простонародностью» и национальной индивидуальностью; в пылу
полемики он утверждал даже, что «одно небольшое стихотворение
истинного художника-поэта неизмеримо выше всех произведений народной
поэзии вместе взятых!» ]
Писателей, которые хотели выразить в своих произведениях
подлинный дух народа, Белинский предостерегал от того, чтобы искать
вдохновения в фольклоре. Народные баллады способны передать
только ограниченный партикуляризм этнической общности, тогда как
нации возникают в результате «индивидуализации», которая требует
отрицания племенной, этнической обособленности. Петровские
реформы, порвавшие с естественной непосредственностью, - пример
такого отрицания: их роль состояла в том, что они приблизили
Россию к европейским нациям, которые в то время были единственными
«историческими нациями» и подлинными представителями
человечества.
1 Там же. Т. 5. С. 309.
ГЛАВА 8. Белинский и различные варианты западничества 155
Важное место в литературной критике Белинского занимает
гегельянское представление об «исторической нации». Хотя он
неоднократно заявлял о своей вере в великий потенциал русской
«субстанции», он также подчеркивал, что этот потенциал невозможно
реализовать, не имея «исторической почвы», и что, поскольку русская нация
еще в самом начале своего развития, то она не может претендовать на
«всемирно-историческое значение» в умственной жизни человечества.
Вот почему Белинский считал, что такому древнерусскому эпосу, как
«Песнь о полку Игореве», недостает универсальных ценностей, и он не
выдерживает сравнения со средневековым рыцарским эпосом. Даже
творчество его любимого писателя Гоголя не имеет (Белинский
утверждал это в полемике с Константином Аксаковым) всемирного значения
и несопоставимо с творчеством таких «всемирно-исторических»
художников, как Джеймс Фенимор Купер и Жорж Санд, не говоря уж о
Гомере и Шекспире (с которыми Аксаков сравнивал Гоголя)1.
Тем не менее, неустанно стремясь к развитию национальной
литературы, Белинский был убежден в том, что в будущем она достигнет
мирового значения. Однако его понимание «народного характера»
находилось под влиянием западничества. Он считал, что Пушкин
поистине народный поэт в «Евгении Онегине», но не в своих
стихотворных сказках, которые представляют собой сознательную попытку
воссоздать стиль и содержание народной поэзии. О «Песне о купце
Калашникове» Лермонтова Белинский писал, что, хотя это и
произведение большого таланта, оно исчерпало все возможности такого рода
поэзии, так что другие поэты поступят правильно, если не будут
пытаться подражать ему.
Если народные песни и баллады Белинский принимал с
оговорками, то несомненно, что к «псевдоромантическим подражаниям
народному стилю, отождествлявшим народность с внешними атрибутами
народных традиций и предлагавшим литературе воспроизводить
жизнь и язык самых отсталых слоев общества, он относился с
особенной враждебностью2. Народность, писал Белинский, не там, «где есть
зипун, лапти, сивуха и кислая капуста»3. Что бы ни говорили
славянофилы, настоящий народный русский характер представляет
образованная элита, а не простой народ. Он писал, что «если
национальность составляет одно из высочайших достоинств поэтических
произведений, - то, без сомнения, истинно национальных произведений
должно искать только между такими поэтическими созданиями, кото-
1 Там же. Т. 5. С. 649.
2 К такому типу литературы подталкивало правительство: «народ» в русском
языке означает одновременно и «нацию», и «народ», так что «народность» в
триединой формуле «официальной народности» имела большое семантическое поле.
3 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 435.
156 Анджей Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
рых содержание взято из жизни сословия, создавшегося по реформе
Петра Великого и усвоившего себе формы образованного быта»1.
В своем бескомпромиссном неприятии «зипуна и лаптей»
Белинский представлял западничество в крайней форме, от которой иногда
было не по себе даже его ближайшим друзьям. Герцен, например,
считал некоторые утверждения Белинского опрометчивыми,
отдающими презрением к людям в зипуне и лаптях; он говорил Анненкову,
что временами ему трудно защищать Белинского от нападок
славянофилов. Такие впечатления (их разделял и Грановский) отражали
сложную психологию образованных прогрессивных дворян, которые
боялись, как бы их ни заподозрили в чувстве собственного
превосходства. Белинский благодаря своему плебейскому происхождению
не страдал такого рода комплексами. Он знал, что презирает не
простой народ, а невежество и отсталость, которые идеализировала
государственная пропаганда «официальной народности». Когда во второй
половине 1840-х годов начали появляться такие произведения, как
«Антон-Горемыка» Григоровича и «Записки охотника» Тургенева, -
книги, не идеализировавшие отсталость народа, а смотревшие на
общественные условия русской деревни критическим взглядом, -
Белинский горячо приветствовал их и защищал от псевдоаристократических
читателей, жаловавшихся на «вторжение крестьян в литературу»2.
Знаменитое «Письмо к Гоголю», написанное Белинским 15-го
июля 1847 г. в Нижней Силезии под Зальцбрунном, - когда он был
уже смертельно болен, - замечательно обобщает его концепцию
национальной и всемирной миссии литературы. Белинский написал
это письмо в ответ на «Избранные места из переписки с друзьями»
Гоголя. В этой книге автор «Ревизора» и «Мертвых душ» отошел от
прежних своих сочинений и взялся за оправдание православия и всей
системы царизма. С точки зрения Белинского, это было предательство
благородной миссии русского писателя - единственного в стране
заступника от «мрака самодержавия, православия и псевдонародного
стиля». Белинский реагировал бурно: «Проповедник кнута, апостол
1 Там же.
2 Там же. Т. 10. С. 214.
Следует, однако, отметить, что крайне неприязненное отношение критика к
литературным подражаниям «простонародности» привело его к отрицательному
отношению к литературе, создаваемой на украинском («малорусском») языке,
включая даже поэзию Тараса Шевченко. С точки зрения Белинского,
«малорусское наречие» было лишь сугубо провинциальным диалектом, задерживающим
жителей Украины в стадии «племенной непосредственности» и препятствующим
превращению их в полноценных россиян. См.: Andrea Ruthenford, Vissarion
Belinskii and the Ukrainian National Question // The Russian Review. Vol. 54, No. 4.
October 1995. {Примечание автора, 2010).
ГЛАВА 8. Белинский и различные варианты западничества 157
невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист
татарских нравов - что вы делаете! Взгляните себе под ноги - ведь вы
стоите над бездною... »!
Это был не взрыв неконтролируемого гнева, а «фанатизм
истины» - попытка вернуть душу автора на прежний путь. Белинский еще
надеялся, что Гоголь поймет свою ошибку и исправит дело созданием
новых шедевров. Он пытался убедить Гоголя, что «Россия видит свое
спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах
цивилизации, в просвещении, в гуманности. Ей нужны не проповеди
(довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!),
а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько
веков потерянного в грязи и соре». Русский народ, продолжал
Белинский, имеет много положительных свойств, и в этом, «может быть,
огромность исторических судеб его в будущем». Но этот огромный
потенциал не будет реализован, если не будут устранены условия,
подавляющие человеческое достоинство.
После смерти Белинского копии его письма к Гоголю нелегально
распространялись по всей России, помогая пробуждать и
поддерживать оппозиционные настроения. Полностью «Письмо к Гоголю»
было разрешено напечатать только после 1905 г.
Полемика с Майковым
Характерной особенностью западничества Белинского было то,
что он подчеркивал тесную взаимосвязь между эмансипацией
индивида и появлением современных наций, освободившихся от
ограничений «естественной непосредственности». Это с большой ясностью
проявилось в гневной реакции Белинского на статью Валериана
Майкова (1823-1847) - талантливого литературного критика, который
утверждал, что эмансипация отдельного человека означает
прогрессивное исчезновение национальных особенностей.
Майков был одним из первых русских пред-позитивистов, не
прошедшим через стадию энтузиазма в отношении к диалектической
философии, - этот энтузиазм был типичным опытом поколения «лишних
людей». Майков прежде был членом кружка Петрашевского , но он больше
верил в преимущества науки, чем в утопический социализм Фурье.
В споре между «социалистами» и «экономистами» (т.е. представителями
либеральной политэкономии) он склонялся на сторону последних.
Майков называл Белинского «полуромантиком», не подготовленным к
строгому логическому мышлению. В частности, он считал Белинского непо-
1 Там же. Т. 10. С. 214.
2 См. ниже главу 9.
158 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
следовательным и алогичным в том, что касалось проблемы народности;
сам же он был убежден в том, что идеал независимой личности,
впитавшей в себя универсальные ценности, несовместим с национальным
своеобразием. «Существует только одна настоящая цивилизация, - писал
Майков, - подобно тому как существует только одна истина и одно
добро; поэтому чем меньше характерных особенностей цивилизации
данного народа, тем более он цивилизован»1. «Народность» в этом смысле
подразумевает подчинение отдельного человека социальному целому,
характер которого определяют внешние факторы, тогда как расцвет
личности зависит от автономии индивида.
Внутренняя трудность, заключенная в такой точке зрения, состоит
в том, чтобы объяснить, каким образом идеи великих людей -
эмансипированных индивидов - распространяются в широких массах и
направляют их вперед к всеобщему идеалу прогресса. Майков
полагал, что это движение идей - дело образованного меньшинства,
которое представляет активную, прогрессивную часть народа. Участникам
великой идеологической дискуссии 1840-х гг., надо полагать, не
составляло большого труда отождествить активное меньшинство, о
котором писал Майков, с вестернизированным «обществом»,
возникшим после петровских реформ, тогда как пассивное большинство -
с основной массой «народа», идеализированной славянофилами.
Поэтому закономерность, указанная Майковым, была, по сути дела,
универсализацией западнического воззрения на роль этого «общества»
в русской истории (этот взгляд раздел и Белинский). Не владея,
однако, диалектическим пониманием этого процесса, какое имел
Белинский, Майков выдвигал это в качестве общезначимого закона и
отождествлял преодоление непосредственного народного партикуляризма
с элиминированием народности как таковой.
Взгляды Майкова нашли свое выражение в большой статье о
поэзии В.В. Кольцова - по сути, скрытой полемике с Белинским. Реакция
последнего была стремительной и резкой. В статье «Взгляд на
русскую литературу 1846 года» Белинский ясно давал понять, что
совершенно не согласен с «гуманическими космополитами»:
«...народности, - писал Белинский, - суть личности человечества. Без
национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом,
словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому
вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели
оставаться на стороне гуманистических космополитов, потому что
если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые
и истину-то говорят, как какое-то издание такой-то логики...» .
1 Майков В.Н. Критические опыты. СПб., 1891. С. 389.
2 Белинский ВТ. Поли. собр. соч. Т. 10. С. 29.
ГЛАВА 8. Белинский и различные варианты западничества 159
Декларация Белинского встревожила некоторых его друзей,
заподозривших его в том, что он подпал под славянофильские влияния. На
самом деле в споре с Майковым Белинский только отстаивал взгляды,
которые он сформулировал еще в начале сороковых годов (в статьях о
народной поэзии): уже тогда он ясно дал понять, что в равной мере
противостоит как националистам, которые выступают за форму без
содержания, так и «сторонникам недифференцированной всеобщности», которые
хотят оторвать всемирность содержания от его национальной формы:
Меньшинство всегда выражает собой большинство, в хорошем или
дурном смысле. <...> Что лее касается до великих людей, - они по
преимуществу дети своей страны. Великий человек всегда национален как
его народ, ибо он потому и велик, что представляет собою свой народ.
Борьба гения с народом не есть борьба человеческого с национальным,
а просто-напросто нового со старым, идеи с эмпиризмом, разума
с предрассудками. Масса всегда живет привычкою и разумным,
истинным и полезным считает только то, к чему привыкла. Она защищает
с остервенением то старое, против которого веком или менее <назад>
с остервенением же боролась она как против нового. Противодействие
массы гению необходимо: это с ее стороны экзамен гению".
Анализ этой аргументации позволяет утверждать, что Белинский и
Майков согласны друг с другом, по крайней мере, по одному
жизненно важному вопросу, который разделял западников и славянофилов:
оба они считают массы консервативной силой и верят, что прогресс
осуществляется благодаря ярким личностям. У Белинского, правда, по
этому вопросу иногда возникали сомнения, однако западническую
позицию он не оставлял никогда. В последний год жизни (после
смерти Майкова), когда конфликт со славянофилами достиг своего
предела (в связи со статьей Самарина «О мнениях Современника,
исторических и литературных»)2, он решительно отверг «мистическую веру в
народ» - ее придерживались славянофилы, так же как Герцен и
Бакунин, - и заново выразил свое убеждение, что двигателем прогресса
являются выдающиеся личности и образованная элита общества.
Дискуссия о капитализме
Западники подчеркивали положительную роль влияний Запада в
условиях модернизации России и желали, чтобы этот процесс
продолжался. Это не значит, однако, что они автоматически принимали
капиталам же. С. 31.
2 См. ниже. С. 169.
160 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
листическую систему, очевидные недостатки которой уже широко
обсуждались и критиковались в прогрессивных кругах Западной Европы.
Мировоззрение самого Белинского лучше всего охарактеризовать как
сочетание веры в буржуазную демократию и неприязнь к самой
буржуазии наряду со смутным, неопределенным доверием к «идее социализма».
В этом сочетании не было ничего странного: всякий искренний демократ
в какой-нибудь отсталой части Европы, который следил за развитием
событий в более продвинутых странах, нашел бы для себя
затруднительным быть апологетом буржуазии и не мог, так или иначе, не
симпатизировать настроениям и надеждам угнетенных масс.
Белинский выразил свои симпатии в интересной статье о романе
Э. Сю Mystères de Paris (1844)'. Его идеологическая позиция, однако,
осложнялась тем обстоятельством, что в России критика буржуазии и
вера в простой народ были прерогативой славянофилов и постольку
подрывали доверие к перестройке общества на европейских началах
и казались несовместимыми с западничеством.
Проблема капитализма приобрела для Белинского конкретное
значение, когда в начале 1847 г. он отправился на лечение за границу. Из
Зальцбрунна в Нижней Силезии он писал Боткину, что впервые
понимает теперь «ужасное значение слов павперизм и пролетариям».
Одновременно он все более критически относился к односторонней оценке
буржуазии со стороны французских социалистов-утопистов, особенно Луи
Блана, чью книгу «История Французской революции» он начал читать.
«Буржуазия у него еще до сотворения мира является врагом
человечества и конспирирует против его благосостояния, тогда как по его же
книге выходит, что без нее не было бы той революции, которою он так
восхищается, и что ее успехи - ее законное приобретение»2.
Когда Белинский в июле 1847 г. приехал в Париж, горячие споры
о роли буржуазии, бушевавшие среди его русских друзей, уже
достигли своей высшей точки. Герцен и Бакунин были всецело против
буржуазии и полагали, что будущее России зависит от крестьян и
интеллигенции, которых они считали бесклассовыми; им возражали
Сазонов и Анненков. Позиция Герцена, сформулированная им в
«Письмах из Aveneu Marygny» (опубликованных журналом
«Современник»), вызвала немалое удивление в среде западников Москвы и
Петербурга. Самым решительным оппонентом Герцена был Василий
В ней он писал: «Народ - дитя; но это дитя растет и обещает сделаться
мужем, полным сил и разума. Горе научило его уму-разуму и показало ему
конституционную мишуру в ее истинном виде. <...> Он еще слаб, но он один
хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждения,
погасший в слоях "образованного общества"». - Белинский ВТ. Поли. собр. соч.
Т. 8. С. 173.
2 Там же. Т. 12. С. 385.
ГЛАВА 8. Белинский и различные варианты западничества 161
Боткин (1811-1869), который сам был сыном купца. В 1840-е гг.
Боткин, который до этого был членом кружка Станкевича, разработал
собственную «практическую философию», заменив в ней гегелевский
Weltgeist «железным законом» буржуазной политической экономии.
«Дело не в том только, чтобы нападать на то, что есть, - писал он в
1846 г., - а отыскать, почему это есть, словом, отыскать законы,
действующие в мире промышленном»1. Применяя это основоположение
к России, Боткин пришел к однозначному выводу: «Дай нам Бог нашу
собственную буржуазию!»
Непосредственная реакция Белинского на общественные условия в
буржуазной Франции была не лишена сходства с позицией Герцена.
Однако, вернувшись в Россию, он еще успел пересмотреть свое
одностороннее осуждение. Теперь он подчеркивал историческое значение буржуазии
и проводил отчетливое различие между «огромными
капиталистами, управляющими так блистательно судьбами современной Франции»,
и остальной частью среднего класса. Промышленность, признал он, не
только источник всяческого зла, но также источник общественного
процветания. Еще позднее, перед самой смертью, он писал Анненкову:
Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс
зависит от нее одной, и народ тут может по временам играть
пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моем верующем друге
(Бакунин. - A.B.) сказал, что для России нужен новый Петр Великий, он
напал на мою мысль, как на ересь, говоря, что сам народ должен все
для себя сделать. Что за наивная, аркадская мысль! <...> Мой
верующий друг доказывал мне еще, что избави-де бог Россию от
буржуазии. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского
развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда
русское дворянство превратится в буржуазию. Польша лучше всего
доказала, как крепко государство, лишенное буржуазии с правами2.
Тем не менее, сходство между взглядами Белинского и взглядами
Боткина или Анненкова было только поверхностным. Белинский
примирился с буржуазией потому, что в его глазах она представляла
собой своеобразную историческую необходимость; он принимал
буржуазию не в силу непосредственной симпатии, но из желания
избежать обвинения в донкихотском субъективизме. Показательно, что
он поддерживал Герцена и Бакунина в Париже, но изменил свое
мнение по возвращении на родину, вновь оказавшись лицом к лицу с
мрачной действительностью царской России. Белинский пришел к
твердому убеждению, что социализм в России останется далекой меч-
1 П.В.Анненков и его друзья. СПб., 1892. С. 525.
2 Там же. С. 467-468.
162 Анджей Валицкии. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
той до тех пор, пока страна не пройдет через множество неотложных
реформ, давно осуществленных в Западной Европе. Из-за отсталости
России народные массы в ней это в основном инертное крестьянство,
которое продолжают держать в патриархальном подчинении; среди этих
масс трудно заметить ростки пролетариата, зачатки той силы, которая
способна построить общественную систему, превосходящую
капитализм. Белинский ясно понимал основные противоречия капитализма и
его переходный характер, но он понимал и превосходство капитализма
как социальной системы над полуфеодальной Россией Николая I. Это его
трезвое понимание - так же как последовательность в желании увидеть
проведение буржуазно-демократических реформ в России в качестве
завершения процесса модернизации - положительная сторона
западничества Белинского. Это подчеркивал Плеханов, когда писал, что
Белинский обладал «интуицией социологического гения» и глубоким
пониманием принципов общественного развития.
ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЗАПАДНИКИ
Используя политические категории, можно назвать западничество
Белинского демократическим, а западничество Анненкова и Боткина
либеральным. В сороковые годы это различие еще не было
очевидным. Окончательный раскол между этими двумя разновидностями
западничества произойдет только в шестидесятые годы, когда
радикальные демократы (последователи традиции Белинского) будут
представлять интересы народа, в то время как либералы будут
поддерживать ограниченные реформы, оставлявшие в неизменности
привилегированное положение дворянства. При жизни Белинского
демократы и либералы отличались в основном своим отношением к
религии (либералы отвергали атеизм Герцена и Белинского), оценками
Французской революции (симпатии Белинского были на стороне
якобинцев, которых Грановский, наоборот, осуждал) и в отношении к
искусству (либералы поддерживали «искусство для искусства»,
демократы же во главе с Белинским требовали активного участия
искусства в общественной жизни). Эти различия иногда приводили к
сердитым и мучительным ссорам, но не подрывали чувства общности
политических целей.
Тимофей Грановский
Одним из значительных представителей либерального
западничества 1840-х годов был Тимофей Грановский (1813-1855), бывший
участник кружка Станкевича и профессор европейской истории в
Московском университете.
ГЛАВА 8. Белинский и различные варианты западничества 163
Влияние Грановского происходило не столько от его сочинений,
сколько от непосредственного контакта с аудиторией; его самый
значительный вклад в дело западничества - курс публичных лекций о
средних веках, читавшийся им в 1842 г. в Московском университете и
пользовавшийся огромной популярностью. «Грановский, - писал
Герцен, - сделал из аудитории гостиную, место свидания, встречи
beau mond'a». Окончание первого курса лекций было встречено
стихийно возникшей овацией; дамы и «молодые люди с
раскрасневшимися щеками» плакали; «другие бросились к кафедре, жали ему руки,
требовали его портрета»1.
Лекции Грановского были подчеркнуто антиславянофильскими по
своему содержанию. Это не осталось незамеченным славянофилами и
апологетами «официальной народности», которые поспешили
противопоставить влиянию Грановского курс публичных лекций о
древнерусской литературе, читавшийся Шевыревым.
В своей полемике со славянофилами Грановский, подобно
Белинскому, главное внимание уделяет критике славянофильской
идеализации простого народа. «Большая партия, - писал он, - выставила на
своем знамени образец народных традиций в наше время,
провозглашая его выражение за безошибочный человеческий разум». По мысли
Грановского, это направление, вдохновленное немецкими
романтиками, враждебно всякому прогрессу в науке и общественных
отношениях. «Массы» он уподоблял «природе или скандинавскому богу Тору»,
а цель истории видел в индивиде с его постулатами .
Акцент на автономной личности и на освобождении от
«непосредственных ограничений», бесспорно, выражает квинтэссенцию
западнической философии истории, как ее развивали Белинский и Герцен.
Другой либеральный западник подхватил этот тезис и применил его к
русской истории. Им был друг и ученик Грановского, молодой
московский историк Константин Кавелин (1818-1885).
Константин Кавелин
Статья Кавелина под названием «Взгляд на юридический быт
древней России» была напечатана вместе с «Обозрением русской
литературы 1846 года» Белинского в первом выпуске «Современника»
за 1847 г. и вполне заслужила свою известность в качестве
настоящего манифеста «западной партии». Статья произвела большое
впечатление на самого Белинского, и он даже назвал ее первым
философским истолкованием русской истории, недооценивая свои
собственные заслуги в этом отношении.
1 Герцен. А.И. Былое и думы. Л.: ГИХЛ, 1946. С. 280.
2 Грановский Т.Н. Сочинения. М., 1900. С. 455.
164 Анджей Валицкгм. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
В своей статье Кавелин проводит ту мысль, что исторический
процесс в России состоит в постепенной замене общинных отношений,
основанных на родстве и обычае, системой, основанной на политическом
и юридическом праве, и соответственно - в постепенном освобождении
индивида от традиционных патриархальных зависимостей. Этот
процесс включает разложение физической народности, зависимой от
внешних и неизменных форм, и постепенное возникновение духовной
народности - народности как специфически нравственного атрибута
национального бытия, а не просто внешних физических особенностей.
Петровские реформы - высшая точка этого процесса. «Не ранее
восемнадцатого столетия, - заявляет Кавелин возмущенным славянофилам, -
Россия начала жить в духовном и нравственном отношении», и в лице
Петра Великого она получила «принцип личности в русской истории»1.
В ответ на статьи Кавелина и Белинского, опубликованные в одном и
том же номере «Современника», Юрий Самарин напечатал резко
полемическую рецензию в славянофильском «Москвитянине» под названием
«О мнениях Современника исторических и литературных». В этой своей
статье Самарин обвинил Кавелина в отождествлении личности с
западноевропейским индивидуализмом, в том, что он не проводит различие
между крестьянской общиной и родовым бытом, а также в
преувеличении положительной роли централизованного государства. Особенно
возмутила Самарина попытка Кавелина реабилитировать Ивана
Грозного, представив его жестокую борьбу с боярами в качестве
последовательно проводившихся мероприятий с целью заменить наследственные
привилегии личными достоинствами. Смысл русской истории,
утверждал Самарин, заключается не в развитии принципа личности, а в
сохранении начала христианской общины, которое начинает привлекать
внимание Запада. В доказательство этого Самарин обратил внимание своих
читателей на тот интерес к славянскому миру, который вызвали в то
время парижские лекции Адама Мицкевича, «на красноречивый голос»
которого «взоры многих, в том числе Жорж Занда, обратились к
Славянскому миру, который понят ими как мир общины, и обратились не с
одним любопытством, а с каким-то участием и ожиданием»2.
Анализ взглядов Кавелина и Белинского на русскую историю
показывает, что между ними нет существенного различия: оба считали,
что исторический процесс в России состоит, по сути дела, в
эмансипации индивида посредством рационализации общественных
отношений; оба утверждали, что развитие народов ведет от стадии
естественной непосредственности к стадии полностью современной
«духовной» национальности. Однако Кавелин особое значение придавал
1 Кавелин К.Д. Собр. соч. СПб., 1897. Т. 1. С. 58.
2 Самарин Ю. Сочинения. М., 1877. Т. 1. С. 39.
ГЛАВА 8. Белинский и различные варианты западничества 165
той роли, которую играют в этом процессе правовые и
государственные органы: возникновение централизованного Московского
государства, полагал он, - решающий момент в процессе рационализации
общественных отношений в России, а значит, и в деле освобождения
личности от традиционализма. Это воззрение, возникшее из
интерпретации московского самодержавия в категориях гегелевского
рационального государства, позднее станет базисным тезисом
«государственной» школы в русской историографии. Эта школа, одним из
представителей которой был выдающийся историк СМ. Соловьев,
утверждала, что в России государство всегда было главной
организующей силой общества и основным проводником прогресса, и
приходила к выводу, что в и будущем государство должно нести
ответственность за характер и проведение реформ.
Борис Чичерин
Ведущим теоретиком «государственной» школы был Борис
Чичерин (1828-1904) - философ, историк, юрист, идеолог дворянского
либерализма правого крыла во второй половине девятнадцатого
столетия. Чичерин - ученик Грановского и Кавелина, гегельянец, во
многих отношениях связанный с гегелевским периодом сороковых годов
(хотя зрелый период его деятельности приходится на последующие
десятилетия). Философское творчество Чичерина будет
рассматриваться в другой главе; здесь нас только интересует в общем виде его
позиция как западника1.
Западничество Чичерина заключалось в слиянии гегелевского
культа могучего государства и правового порядка с экономическим
либерализмом школы Сэя и Бастиата. Такая позиция позволяла
Чичерину отстаивать историческую роль русского самодержавия (которое
он, подобно Кавелину, понимал в духе гегелевской концепции
государства) и в то же время высказываться в пользу капитализма и
гражданских прав. Согласно Чичерину, слабость государственного
аппарата и необходимость защиты и объединения русских земель объясняют
тот факт, что в шестнадцатом и семнадцатом столетиях Московское
государство было вынуждено лишить своих людей всех гарантий
личной свободы. После консолидации политической власти этот
процесс перешел в свою противоположность, начиная с освобождения
дворянства («Манифест о вольности дворянской» 1762 года), и он
неизбежно должен привести к освобождению крестьян и передаче
1 Стимулирующий анализ западничества Чичерина содержится в кн.: Leonard
В. Shapiro. Rationalism and Nationalism in Russian Nineteenth-Century Political
Thought. New Haven, Conn., 1967.
166 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
гражданских прав более широким слоям населения. Тем самым
Чичерин устанавливает историческую закономерность и необходимость
либеральных реформ, но в то же время делает оговорку, что реформы
эти должны быть постепенными и проводить их должно законное
правительство страны, поскольку успех реформ - а по существу и
само их проведение - зависит от стабильности и силы государства.
Вослед Гегелю Чичерин проводит четкую границу между
государством и обществом, но при этом пытается истолковать все
общественные связи как договорные. Его теория о происхождении
деревенской общины получила широкое признание: современная русская
община, утверждал он, не имеет ничего общего с первобытной
общиной, основанной на патриархальном родстве; она возникла в
шестнадцатом веке не как «органическое» порождение простого народа, но
как искусственный продукт централизованного государства, которое
хотело упорядочить и увеличить поборы со своего населения,
заставив деревенских жителей взять на себя коллективную
ответственность за все виды налогов и трудовых обязанностей1.
В 1856 году эта аргументация, вызывавшая возмущение
славянофилов, породила длительную полемику между славянофильской
«Русской беседой» и либеральным «Русским вестником». Этот спор
имел актуальное значение, поскольку суть полемики сводилась к
вопросу, сохранится ли деревенская община или она будет отменена
вместе с институтом крепостного права и барщиной. Чичерин,
разумеется, был решительным противником общины: он был убежден -
и повторял это до конца своей жизни, - что в качестве общественной
формы, препятствующей нормальному функционированию
экономических законов и исключающей крестьянство из
общегосударственной юрисдикции, крестьянская община - самое большое препятствие
в деле последовательной вестернизации России.
Как политик Чичерин враждовал не столько со славянофилами -
с ними у него было много общего по практическим вопросам, -
сколько с демократической оппозицией, в особенности с
революционным движением. Его идейный путь - хороший пример эволюции
русского дворянско-помещичьего либерализма. Грановский и
молодой Кавелин по своим убеждениям были близки Белинскому, но, хотя
Чичерин и был их учеником, традиция Белинского была чужда ему,
и он активно противостоял ее продолжателям.
Это воззрение было неверным, но оно привлекло внимание к тому
обстоятельству, что общинное самоуправление было очень полезным учреждением: оно
позволяло центральной власти осуществлять контроль над деревнями. Поэтому
в 1860-е гг. Кавелин (в отличие от Чичерина) выступал за сохранение общины.
Община, утверждал он, замедляет развитие сельского хозяйства, но в то же время
она служит талисманом, охраняющим крестьян от общественных переворотов.
167
ГЛАВА 9
ПЕТРАШЕВЦЫ
декабря 1849 г. жители Санкт-Петербурга были
свидетелями довольно странного зрелища: политзаключенные числом
двадцать один человек были выведены из Петропавловской
крепости на Семеновский плац и выстроены в ряд перед эшафотом в
черной драпировке. Чиновник зачитал смертные приговоры,
священник призвал заключенных к покаянию, и солдаты одели каждого
приговоренного в белый балахон, традиционно ассоциировавшийся со
смертной казнью. Первых трех приговоренных привязали к столбам,
их лица закрыли, барабаны начали выбивать дробь, и прозвучала
команда солдатам прицелиться. Но тут, в самый последний момент,
появился императорский адъютант с отменой приговора. Смертные
приговоры были заменены тяжелыми исправительными работами в
Сибири, тюрьмой или ссылкой. Затем приговоренных поставили на
эшафоте на колени, и палачи в цветных робах начали символический
обряд гражданской казни - сломали шпаги над обнаженными
головами. Главный осужденный был тут же закован в колодки и в закрытой
карете отправлен в Сибирь.
Таков был метод, избранный Николаем I для того, чтобы
разделаться с тайными кружками, проявлявшими активность в Санкт-
Петербурге в 1845-1849 гг. Основной кружок, от которого
отпочковалось большинство других, был основан и возглавлялся Михаилом
Буташевичем-Петрашевским (1821-1866). Именно его публично
заковали в колодки на Семеновском плацу; два других, кого взяла
на прицел расстрельная команда, были офицеры Н.П. Григорьев и
H.A. Момбелли: им Николай I не мог простить, что они «запятнали
честь офицера». Среди остальных восемнадцати петрашевцев,
которым пришлось пережить ужас ожидания собственной казни, был
молодой человек, которому в будущем суждено было стать одним из
величайших писателей девятнадцатого века, - Федор Достоевский.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ
ПЕТРАШЕВЦЕВ
Не сумев найти какие-либо свидетельства намерений свергнуть
государственный строй, следственная комиссия по делу петрашевцев
22
168 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
охарактеризовала это движение как «идейный заговор». Для
Николая I, которого привели в ужас только что прогремевшие в Западной
Европе революции, такое обвинение было достаточно серьезным для
того, чтобы назначить самое суровое наказание. До чего доходила в
то время реакция в правительственных кругах России от одного лишь
подозрения в свободомыслии показывает тот факт, что главное
преступление, в котором обвинялся Достоевский, было чтение вслух
знаменитого письма Белинского к Гоголю на собрании петрашевцев.
Петрашевцы самым серьезным образом занимались изучением
идей. Они начали собирать книги и скоро имели в своем
распоряжении самую большую в России библиотеку произведений на многих
языках по философии, экономике и общественно-политической
мысли. Больше всего их интересовали французские социалисты, включая
Фурье и его последователей (особенно В. Консидерата), Блана, Пру-
дона и Леру. Прочитанные книги, так же как свои собственные идеи и
планы, петрашевцы постоянно обсуждали на своих собраниях. Эти
регулярные встречи по пятницам посещали не только члены кружка,
но и большой круг приглашенных гостей. В отличие от собраний
кружка Станкевича, собрания петрашевцев имели характер не
спонтанных дискуссий среди близких друзей, но были периодически
устраивавшимися собраниями: пришедшие часто даже не знали друг
друга, они оказывались в одном месте с силу общности интересов
и желания провести необходимые реформы. Известно, что в этих
дискуссиях принимали участие несколько сот человек, так что влияние
кружка было значительным. Петрашевцы представляли гораздо более
широкий социальный спектр, чем однородное декабристское
движение, основную опору которого составляло офицерское сословие.
В кружок петрашевцев входили богатые землевладельцы и ряд
известных писателей и профессоров17 но, согласно донесению И. Лип-
ранди, чиновника министерства внутренних дел, бывали там и
недоучившиеся студенты, купцы и даже мелкие торговцы.
Самым важным начинанием, предпринятым петрашевцами для
распространения их идей в печати, был «Карманный словарь
иностранных слов, вошедших в состав русского языка»2, два выпуска
которого были опубликованы в 1845 и 1846 гг. Первый номер
редактировал литературный критик Валериан Майков (с помощью Петра-
шевского), а второй, гораздо более явно идеологический, редактиро-
1 В кружок петрашевцев входили среди прочих поэт А. Плещеев, поэт Аппо-
лон Майков, его брат Валериан, известный экономист В.А. Милютин и молодой
М.Е. Салтыков-Щедрин (будущий сатирик).
2 Из-за вмешательства Цензурного комитета «Словарь» прекратил свое
существование на букве «О».
ГЛАВА 9. Петрашевцы
169
вал один Петрашевский. Многие названия статей в «Словаре»
фактически были короткими статьями, искусно высказывавшими запретные
идеи. Статьи «Натура», «Натурализм» и «Натуральная философия»
были использованы Петрашевским для того, чтобы изложить его
философские взгляды; статьи «Оунизм», «Организация производства»,
«Неохристианизм» и «Нормальное государство» были использованы
для того, чтобы представить социалистические идеи; статьи «Неоло-
гия» и «Инновация» содержали размышления о роли революционных
изменений в истории; а ряд других статьей - такие как «Нация» и
«Оппозиция» - выражали политические убеждения автора. Власти
слишком поздно осознали происходящее: министр народного
просвещения Уваров издал суровое порицание цензору и приказал
конфисковать «Словарь», но это уже не могло помешать тому, что все
издание было распродано.
На собраниях и в дискуссиях петрашевцев преобладало
умонастроение социалистическое, а некоторые члены кружка даже считали
себя «коммунистами». Особой популярностью пользовалось учение
французского социалиста-утописта Фурье. Сам Петрашевский был
убежденным учеником Фурье и в 1847 г. даже пытался превратить
одну из своих деревень в «фаланстер» - живущую собственным
трудом коммуну по рецепту Фурье. Правда, недоверчивые крестьяне
положили конец этому проекту: они подожгли дома, где должно было
разместиться утопическое сообщество. На банкете в честь дня
рождения Фурье, организованном самыми активными петрашевцами в
апреле 1849 г., речи произносили сам Петрашевский, Александр Ханы-
ков, Дмитрий Ахшарумов и Ипполит Дебу. Ханыков, по-видимому,
выразил общее для всех собравшихся настроение энтузиазма и веры
в грядущее возрождение мира, предсказанного Фурье, когда
охарактеризовал праздничный обед как «событие, влекущее за собой
преобразование всей планеты и человечества». «Изменения близки, -
говорят, выкрикнул он, а Ахшарумов ему ответил в своем выступлении:
«Мы здесь, в нашей стране начнем преобразованье, а кончит его вся
земля»1.
Социальная философия Фурье привлекала петрашевцев в
особенности защитой им законов природы, свободной и гармонической игры
человеческой страстей - его видением такой общественной системы,
которая освободит человеческую природу от всех искусственных
ограничений и даст возможность людям вести «нормальную» жизнь
впервые в истории. В этом отношении фурьеризм петрашевцев был
только еще одним воплощением идеи полной эмансипации и гармо-
1 Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М.,
1953. С. 507, 691.
170 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
нического развития личности - центральной идеи в воззрениях
русских западников. Однако, принимая во внимание характерную для
петрашевцев острую критику западноевропейского капитализма,
было бы ошибкой рассматривать их в качестве западников. Сам Пет-
рашевский говорил, что капитализм противоречит человеческой
природе, потому что он стимулирует антиобщественные инстинкты и
потворствует только богатым, превращая бедных людей в
обездоленных. С другой стороны, социализм для Петрашевского «не есть
изобретение новейшего времени, хитрая выдумка XIX века»; напротив,
«он всегда был в природе человека и в ней пребудет до тех пор, пока
человечество не лишится способности развиваться и
усовершенствоваться». Либерализм Петрашевский отвергал как учение, защищавшее
капитализм и «прямо противуположное» социализму .
Эти убеждения можно было примирить с самыми разными
политическими программами. А.П. Беклемишев и Н.Я. Данилевский
(будущий панславист) считали, что фурьеризм - это аполитическая
доктрина, которую русское правительство должно принять в своих же
собственных интересах; Беклемишев, например, полагал, что фурье-
ристские ассоциации могли бы помочь найти мирное решение в
конфликте между крестьянами и помещиками. Однако такие взгляды не
были типичными: подавляющее большинство петрашевцев
ненавидело самодержавие и соединяло веру в социалистические идеи с
мечтами о демократической республике или, по крайней мере, о
конституционной монархии, которая гарантировала бы свободу слова, свободу
печати и законодательные реформы и которая уменьшила бы
вмешательство государства в частную жизнь людей. По-настоящему
оригинальным в движении петрашевцев была принятая ими программа,
сочетавшая социалистические идеи с борьбой за демократические
права.
Когда вставал вопрос о реализации этой программы, петрашевцы -
в отличие от Фурье и его последователей во Франции - не осуждали и
не исключали возможности силой свергнуть правительство. Однако
на практике петрашевцы считали, что надежд на победоносную
революцию в России очень мало, и они опасались, что революционное
движение может привести к еще одной дикой жакерии вроде
пугачевского бунта. Поэтому они одобряли политику легальной борьбы за
частичные реформы. Петрашевский, который был более предан духу
фурьеризма, принципиально поддерживал реформизм: «Фурьеризм
доводит до того постепенно и естественно, чего желает установить
1 Там же. С. 423, 429. Под либерализмом Петрашевский понимал в основном
такое учение, которое защищало неограниченную конкуренцию и выступало
против вмешательства правительства в экономическую сферу.
ГЛАВА 9. Петрашевцы
171
мгновенно и насильственно коммунизм. <...> Он не хочет в одну
минуту, пожалуй, величественного, но тем не менее болезненного,
лихорадочного потрясения утратить результаты тысячелетних кровных
трудов человечества»1. Поэтому Петрашевский придавал больше
значения правовым реформам - они должны были подготовить хотя бы
минимальные условия для легальной борьбы за общественные
реформы, - чем отмене крепостного права и передаче крестьянам земли,
хотя он и вполне сознавал неотложность этих мер.
Лагерю реформистов среди петрашевцев противостояла группа
радикалов во главе с Николаем Спешневым (1821-1882), прототипом
Ставрогина в «Бесах» Достоевского. Цель Спешнева состояла в том,
чтобы превратить движение петрашевцев в революционную
организацию, которая могла бы подготовить почву для вооруженного бунта,
апеллирующего - в отличие от декабристов - прямо к крестьянской
массе. Спешнев не был последователем Фурье, но считал себя
коммунистом: он читал, среди прочего, Дезами, Вейтлинга и «Нищету
философии» Маркса. Во время своих заграничных путешествий он
установил контакты с демократическими кругами польской эмиграции.
Характерной особенностью наиболее активных петрашевцев
(среди них - самого Петрашевского и Спешнева) было то, что они
смотрели дальше ограниченных национальных целей и считали
космополитизм необходимым предусловием подлинного прогресса. Взгляды
Петрашевского по этому вопросу, выраженные в статье «Нация» в
«Карманном словаре иностранных слов», не отличались от взглядов
Майкова. В другой работе Петрашевский писал, что социализм -
«доктрина космополитическая, стоящая выше национальностей: для
социалиста различие народностей исчезает, есть только люди»2. Хотя
в задачи петрашевцев не входило способствовать искусственному
стиранию национальных различий, они, тем не менее, провозглашали
абсолютный приоритет общечеловеческих целей (но при этом
оправдывали принцип национального самоопределения для национальных
субъектов российской империи). На одном из собраний ведущий
польский участник кружка петрашевцев Ян Ястржембский заявил, что
он «поляк душой и телом, что за свободу Польши готов позволить
выпустить себе всю кровь по капле, но если бы он был уверен, что
самостоятельность Польши вредна развитию общечеловеческой идеи,
то он первым одним взмахом топора отрубил ей голову»3.
В истории прогрессивного движения в России петрашевцы
занимают промежуточное место между дворянскими революционерами
1 Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. С. 379.
2 Там же. С. 432.
3 Дело петрашевцев. М.; Л., 1951. Т. 3. С. 431.
172 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
и радикальными движениями второй половины девятнадцатого
столетия - движениями, в которых ведущую роль играла недворянская
интеллигенция. Типичным пережитком декабристских идей была у
некоторых петрашевцев (Ханыков, например) тенденция
идеализировать республиканизм Древней Руси. С другой стороны, сближение
деревенской общины и «фаланстера» Фурье, а также мысль о том, что
деревня в зачаточном виде заключает в себе коммуну (взгляды такого
рода высказывали Петрашевский, Головинский, Ханыков и Баласог-
ло), явным образом, предвосхищали народнические идеи. Социальная
философия петрашевцев, вновь утверждавшая взгляд Просвещения на
человеческую природу и «естественные» общественные отношения,
проложила путь «просветителям» 1860-х гг. Наконец, роль
петрашевцев в появлении социалистических идей в России трудно
переоценить; существенно, например, что молодой Чернышевский
первоначально воспринял социалистические идеи от Ханыкова во время
собраний и дискуссий, происходивших в доме Иринарха Введенского -
друга и во многих отношениях ученика самого Петрашевского.
ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ПЕТРАШЕВЦЕВ
Переходный характер движения петрашевцев заметен также и в их
философских воззрениях. Это движение возникло тогда, когда в
Европе философский идеализм постепенно начал уступать место
натурализму, который проявлял себя в биологическом материализме и
позитивистском культе науки. В России тоже подходила к концу «эпоха
философии». Ведущие русские мыслители - такие как Белинский и
Герцен - отходили от гегелевского идеализма с помощью
материалистической философии Фейербаха.
В статье «Натурализм» во втором выпуске «Карманного словаря
иностранных слов» можно видеть наиболее концентрированное
выражение философских взглядов Петрашевского. Термин
«натурализм», говорится в этой статье, означает учение, считающее
возможным для человека достижение путем одного мышления, без всякой
помощи предания, откровения или самоличного явления божества
и осуществление в действительной жизни вечного блаженства чрез
полное, самостоятельное и самодеятельное развитие сил природы
своей. Натурализм в низших фазисах своего развития откровения
божества в положительных религиях считает ложными, созданиями не
божественными, а чисто человеческими. В дальнейшем своем
развитии это учение, вмещая в себе пантеизм и материализм, считает
божество не чем иным, как общей и высшей формулой человеческого
мышления, переходит в атеизм и даже, наконец, преображается в ан-
ГЛАВА 9. Петрашевцы
173
тропотеизм, т.е. в учение, признающее высшим существом только
человека в природе. Натурализм, находясь на этой степени своего
рационального развития, считает всеобщее признание божества в
положительных религиях происшедшим от обоготворения человеком своей
личности и общих законов своего мышления; все религии, которые
представляют нам историческое развитие человечества, считает
только постепенным приготовлением человечества к антропотеизму или
полному самосознанию и сознанию жизненных законов природы1.
Здесь, несомненно, заявляет о себе тип философии, которой
отдавал предпочтение сам Петрашевский, точно так же как вряд ли можно
сомневаться в том, что «антропотеизм» в этом контексте обозначает
философию Фейербаха. Понятие природы в философии Петрашевско-
го происходит не из рационализма восемнадцатого века - этот
рационализм Петрашевский считал низшей стадией натурализма.
Следующей, более высокой и промежуточной стадией, по его мнению, был
материалистический пантеизм Фурье и идеалистический пантеизм
Гегеля, в котором Бог понимался как всеобщая и высшая формула
человеческого разума. (Петрашевский не видел никакого
противоречия в том, чтобы рассматривать гегельянство как фазу «натурализма»,
поскольку он считал натурализм противоположностью
сверхнатурализма, т.е. позиции, отвергаемой Гегелем во имя имманентности
Бога). Высшая стадия натурализма, представленная Фейербахом,
рассматривалась поэтому как кульминация развития немецкой
философии.
Сходной была концепция Спешнева, хотя он и полагал, что не
антропотеизм, но скорее атеизм может быть радикальной альтернативой
«сверхнатурализма». В большом письме Спешнева польскому
эмигранту Эдмунду Хоецкому находим следующее рассуждение:
...весь немецкий идеализм XIX века - «великая» немецкая
философия, начиная с Фихте <...> метит лишь в антропотеизм, пока она,
достигнув в лице своего последнего знаменосца и корифея -
Фейербаха - своей вершины и называя вещи своими именами, вместе с ним не
восклицает: Homo homini deus est - человек человеку бог. Я видел
далее, как эта доктрина, проникая из Германии, распространялась
среди других народов - конечно, не так широко, как на своей родине.
И при этом я имею в виду не рабских переписчиков гегелевской
философии за границей, а лишь самостоятельные умы - Прудона во
Франции и Каменского в Польше. Оба вышли из школы Гегеля, и луч-
Философские и общественно-политические произведения петрашевцев.
С. 183-184.
174 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ
МЫСЛИШЬ* доказательством того, что предпосылки для обожествления
человечества имелись уже у самого Гегеля и что школа Фейербаха
была его подлинной наследницей в Германии, является то, что и у
этих двух соседей немцев и в то же самое время, что и в Германии,
гегелевское учение выступило как антропотеизм, и пришли они к
этому, не зная Фейербаха, как Фейербах не знал их1.
Действительно, антропотеизм Фейербаха был следствием замены
божественного бытия человеческим и возведением антропологии в
ранг теологии. «Христианская религия, - писал Фейербах, - связала
человеческое имя с именем божьим в одном названии - богочеловека,
она таким образом человеческое имя вознесла до атрибута высшего
существа. Сообразно истинному положению вещей новая философия
превратила этот атрибут в субстанцию, предикат - в субъект»2. На
место Богочеловека Фейербах ставит Человекобога. «Бог есть
человек, человек есть Бог»3. Фейербах ожидал, что его учение будет
иметь освобождающее воздействие, человек выпрямится и
возродится, он по-новому ассимилирует в себе божественное начало, ставшее
ему чужим и замкнувшееся в Царствии Небесном. В то же время
Фейербах никогда не упускал случая подчеркнуть, что человек как
существо, обладающее телом, тоже подчинен законам природы. Отсюда -
бурный протест Фейербаха против спиритуализма, для которого
ценностью обладает только душа, и против гегелевского идеализма,
который видел в человеке только мыслящее существо. Антропотеизм
имел своей задачей реабилитацию природы и человека как часть этой
природы, как чувственного, наделенного страстями существа из плоти
и крови.
Эти краткие замечания позволяют лучше понять соединение
фейербаховских и фурьеристских элементов, так характерное для
идеологии петрашевцев. Легко было отвергнуть пантеистические
фантазии Фурье, заменив их антропотеизмом, поскольку Фейербах
был согласен с Фурье в тех вопросах, которые имели первостепенное
значение для петрашевцев: реабилитация природы и чувственности,
1 Там же. С. 494-495. Хенрик Каменский (1813-1865), философ и
выдающийся идеолог радикального крыла польского национально-освободительного
движения, написал книгу «Философия и материальная экономика человеческого
общества» (на польском языке, два тома, Познань, 1843-1845). В ней он
утверждал, что трудовое, исторически развивающееся человечество - единственный
Абсолют для человека.
2 Feuerbach L. Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie. 1842. <Фейер-
бах Л. Предварительные тезисы к реформе философии // Он же. Избранные
философские произведения: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 132.>
3 Фейербах Л. Сущность христианства.
ГЛАВА 9. Петрашевцы
175
свободное и гармоническое развитие страстей, а также перспектива
ренессанса человечества, основанного на свободе человеческой
природы и расцвета всех ее творческих возможностей. Речь Ахшарумова
на обеде в честь Фурье - хороший пример органического слияния
фурьеризма с мотивом антропотеизма - мотивом восстановления
присущих человеку божественных качеств:
Да, мы, все должны это сделать и должны помнить, за какое
великое дело беремся: законы природы, растоптанные учением
невежества, восстановить, рестаурироватъ образ божий человека во
всем его величии и красоте, для которой он жил столько времени.
Освободить и организовать высокие стройные страсти,
стесненные, подавленные. Разрушить столицы, города и все материалы их
употребить для других зданий, и всю эту жизнь мучений, бедствий,
нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную,
веселья, богатства, счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами,
плодами и разукрасить в цветах - вот цель наша, великая цель,
больше которой не было на земле другой цели1.
Приведенное высказывание показывает, что материализм
Фейербаха (в отличие от вульгарного материализма Фогта и Малешотта,
которому Фейербах проложил путь) не связан с позитивистской
«трезвостью». Наоборот, фейербаховский материализм сохранял
печать эпохи «социального романтизма»2, напряженной веры во
всеобщее и полное обновление человечества. С другой стороны, философия
Фейербаха несла в себе еще и такую тенденцию, которую можно
назвать предпозитивизмом. Если ключ к пониманию философии (то
есть идеалистической философии) - это теология, а ключ к
пониманию теологии - антропология, тогда изучение человеческой природы
должно быть самой важной отраслью знания. Но если принять, что
человек - часть природы, подчиненная строгим и всеобщим законам
причинности, то изучение человеческой природы относится, среди
прочего, к компетенции естественных наук и требует использования
научных методов. Такой ход мысли объясняет, почему петрашевцы
в такой мере полагались в своих взглядах на естественные науки,
будучи убеждены в необходимости изучения физиологии и психологии
человека, и в целом сочувствовали позитивистским направлениям
Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. С. 690.
2 Этот термин употреблялся для обозначения различных социальных и
религиозных концепций возрождения человечества, весьма популярных во Франции в
период 1815-1848 гг. Одной из таких концепций был фурьеризм, в особенности
максималистские идеи самого Фурье, которые легко переходили в чистую
фантастику.
176 АнджейВалщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
европейской мысли. Этот «предпозитивизм» особенно заметен в
статьях публициста Валериана Майкова, который одним из первых в
России начал изучать произведения Конта, Литтре и Джона Стюарта
Милля.
Уместно спросить, почему эта предпозитивистская тенденция не
вытеснила из мышления петрашевцев романтические увлечения ан-
тропотеизмом и утопическим социализмом. Вероятно, эти увлечения
прошли бы с течением времени, но дискуссии среди петрашевцев
были активными лишь на протяжении пары лет - слишком короткий
срок для того, чтобы участники этого движения могли осознать
потенциально конфликтный характер позитивистских и романтических
элементов внутри их мировоззрения. Этот дуализм ярко выразил
Момбелли, который заявил: для того чтобы «люди сделались еще на
земле богами», необходимо «отбросить все предрассудки
(произведения порока)»1. Этот аргумент - а он был отголоском убеждения
Фейербаха, что люди станут свободными только после того, как они
отвергнут все иллюзии, - похоже, естественным образом приводил к
выводу, что с «суевериями» можно бороться, только применяя
строгое научное мышление и путем постоянного обращения к новейшим
естественнонаучным открытиям. Тем самым петрашевцы оказались
прямыми предшественниками «просветительства» шестидесятых
годов, включая «реализм» Дмитрия Писарева. Мировоззрение
петрашевцев полностью соответствовало преобладавшему направлению в
русской литературе - его представляла в то время «натуральная
школа», - направлению, которое подчеркивало познавательную функцию
искусства и отдавало предпочтение литературным произведениям,
предлагавшим «физиологический анализ» общества. Психологизм
раннего Достоевского тоже происходил из постулата петрашевцев о
необходимости психологического анализа человеческой природы.
Для того чтобы определить роль петрашевцев в истории русской
мысли, необходимо принять во внимание рецепцию их идей в зрелых
сочинениях Достоевского. Полемика с социализмом, которая образует
фон всех его великих романов, в значительной мере питалась идеями
товарищей его юности. Основная тема этой полемики - мысль о том,
что социализм основывается не на желании социальной
справедливости, а на самоуверенной и тщетной попытке поставить человека на
место Бога, - несомненно, навеяна дискуссиями об антропотеизме на
собраниях петрашевцев, которые Достоевский посещал в молодости.
1 Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. С. 622.
ГЛАВА 10
177
истоки «русского социализма»
ТГ^усский социализм» Герцена вырос из полемики о роли
J J А-^России и Европы - полемики 1840-х гг. между славянофи-
W-jf. лами и западниками. Славянофилы притязали на то, что
они представляют исконные «русские начала», воплощенные в
деревенской общине, и отвергали рационализм и индивидуализм, которые
в их глазах были родовым клеймом западной цивилизации. Со своей
стороны, западники отстаивали автономию разума и личности: они
утверждали, что эмансипация отдельного человека теснейшим
образом зависит от рационализации общественных отношений. История
современной Европы, казалось, являет собой образец освобождения
отдельного человека от внешнего авторитета и догматически
навязываемых традиций, так что западникам казалось логичным принять
принцип буржуазного развития.
Сомнения Герцена в правильности этого последнего вывода
привели к появлению его «русского социализма». Как убежденный
сторонник принципа личности, Герцен поддерживал западников; но даже
в первой половине 1840-х гг. на него оказывала значительное влияние
социалистическая критика капитализма, и он сомневался в том, ведет
ли на самом деле «западный» путь к победе этого принципа. Первое
же соприкосновение с Западной Европой убедило Герцена в том, что
она находится в тисках жестокого кризиса и что России следует
искать свой собственный, «самобытный» путь развития. Это, конечно,
было равносильно полному разрыву с западничеством.
ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ ГЕРЦЕНА
Кризис убеждений
Покинув Россию в январе 1847 г., Герцен отправился в Париж.
Для него, воспитанного с ранних лет под влиянием французской
культуры, прибытие в «политическую и общественную» столицу
Европы означало осуществление мечты. Разочарование наступило
быстро: даже первое его письмо к московским друзьям показывает,
что вульгарность среднего класса в парижском театре шокировала его
178 Анджей Валицкии. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
эстетическую чувствительность. Это эстетическое отвращение, не
лишенное оттенка аристократического превосходства,
сопровождалось и глубоким нравственным отвращением. В своих «Письмах из
Avenue Marigny...» (1847) Герцен так определяет общественную роль
буржуазии:
Буржуазия не имеет великого прошедшего и никакой будущности.
Она была минутно хороша как отрицание, как переход, как противу-
положность, как отстаивание себя. Ее сил стало на борьбу и на
победу; но сладить с победою она не могла: не так воспитана. <...>
Дворянство имело свою общественную религию; правилами
политической экономии нельзя заменить догматы патриотизма, предания
мужества, святыню чести; есть, правда, религия противуположная
феодализму, но буржуа поставлен между этими двумя религиями^.
Религия, противоположная феодализму, - это, конечно, социализм -
единственный, на взгляд Герцена, достойный соперник общественной
религии дворянства. С другой стороны, революции 1848 года
закончились разгромом социализма и буржуазия еще раз вышла
победительницей. Герцену казалось, что провал революций решил судьбу
Европы, что буржуазия закрепила свое господство на многие годы
и что даже западные социалисты прониклись буржуазностью, -
почему они и не сумели воспользоваться шансом, который дала им
история. Славянство - в первую очередь Россия - осталось последней
надеждой человечества. Герцен начал теперь видеть в Европе
перевоплощение Рима периода упадка, в европейских социалистах -
преследовавшихся первых христиан, а в славянах - варварские племена,
которым суждено разрушить римскую империю и внести свой
собственный вклад в историю, одновременно сделавшись знаменосцами
христианских идеалов, перешедших от Рима.
Утрата Герценом веры в западничество привела его к переоценке
гегелевской философии. Покидая Россию, Герцен все еще считал себя
гегельянцем, хотя и в очень широком смысле этого слова. Он мог,
правда, уже тогда резко критиковать покорность человека «мировому
духу» {Weltgeist) и интерпретировать философию Гегеля в духе
персонализма и волюнтаризма; но он по-прежнему верил в неизбежный
поступательный ход истории и разумность исторического процесса
как целого. Триумфальные для буржуазии итоги 1848 г. - и сам факт
существования буржуазии - подорвали этот оптимизм. То, что на
смену «общественной религии» аристократии пришла не благородная
вера социализма, а приземленный и эстетически отталкивающий мир
1 Герцен A.M. Собр. соч. В 30-тит. (1954-1965). Т. 5. С. 34.
ГЛАВА 10. Истоки «русского социализма»
179
лавочников, показалось Герцену вопиющим противоречием
исторического разума.
Кризис убеждений, пережитый в то время Герценом, привел к
появлению одного из самых интересных его произведений - «С того
берега», опубликованного в Германии в 1850 г. В нем бывший
гегельянец заявлял, что история не имеет цели, что она - вечная
импровизация и что каждое поколение имеет цель в себе же самом. Историей
движет не разум, но случай и слепые силы. Из этого следует:
«Подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее - продолжение
человеческих жертвоприношений, заклание агнца для примирения
бога, распятие невинного за виновных»1.
История, хотя ее не назовешь «разумной», все же подвержена
причинно-следственным законам. Только моралист или сентиментальный
человек может возмущаться историей: очевидно, все, что происходит,
исторически необходимо. С другой стороны, «необходимость» не
следует смешивать с «разумностью»; наоборот, необходимость часто
неразумна. История находится во власти слепых сил природы,
которые необходимы в каузальном смысле, но это не предполагает
никакой телеологии. История «импровизируется, редко повторяется, она
пользуется всякой нечаянностью, стучится разом в тысячу ворот...,
которые отопрутся... кто знает?»2. В истории нет ничего
предопределенного, и поэтому все возможно.
Это новое истолкование истории неизбежно вело к проблематиза-
ции общепринятых мифов: Герцену казалось теперь, что вера в
неизбежный прогресс истории - это вера в «Молох, который <...> в
утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые кричат
ему: "Morituri te salutant!", только и умеет ответить горькой
усмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле»3. Отвечая себе
самому на вопрос, какие лозунги теперь выдвигать и под какими
знаменами выступать, Герцен прямо заявляет, что он не ищет знамени,
но пытается избавиться от знамени. Его новый совет однозначен:
«Когда бы люди захотели вместо того, чтоб спасать мир, спасать себя,
вместо того, чтоб освобождать человечество, себя освобождать, -
как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения
человека»4.
Однако этот ответ не был окончательным. Хотя Герцен теперь
провозглашал полное разрушение всех мифов и «вер», он уже гото-
1 Герцен А.И. Ук. изд. Т. 6. С. 125.
2 Там же. С. 32.
3 Там же. С. 34.
Там же.
180 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
вился принять новую веру - в Россию и славянство, в «русский
социализм», основывающийся на деревенской общине, которую
идеализировали славянофилы. Эта вера происходила из волюнтаристической
философии истории, которая позволила Герцену отвергнуть
убеждение русских западников, что Россия должна пройти тот же самый
путь исторического развития, который уже прошла до нее Западная
Европа. Предпосылки, на которых основывалась идея «русского
социализма», противоречили крайнему скептицизму и пессимизму
книги «С того берега», противоречили отчетливо провозглашенной там
позиции - позиции отказа от политической борьбы на чьей бы то ни
было стороне; но это противоречие следует рассматривать
диалектически. Пессимизм Герцена был пессимизмом западника, потерявшего
свою веру в будущее Европы. В споре между скептическим
наблюдателем «со стороны» и разочарованным, но эмоционально
неравнодушным идеалистом - Герцен сам называет свое отчаяние «капризом
будирующего любовника». Умом он поддерживает скептика, но на
практике отдает предпочтение позиции идеалиста, потерявшего веру
в Европу и вынужденного обращать свои надежды в другом
направлении: «Я вижу суд, я вижу казнь, смерть; но я не вижу ни
воскресения, ни помилования. Эта часть света кончила свое, силы ее
истощились; народы, живущие в этой полосе, дожили до конца своего
призвания, они начинают тупеть, отставать. История, по-видимому,
нашла другое русло; я иду туда»1.
«Русский социализм»
Герцен развивал свою концепцию «русского социализма» в
основном на французском языке в ряде брошюр, написанных, в первую
очередь, для западноевропейского читателя. Таковы статьи La Russie
( 1849, открытое письмо к немецкому социалисту Георгу Гервегу),
Lettre d' un Russe à Mazzini, Du développement des idées révolutionnaire en
Russie ( 1850), Le Peuple russe et le socialisme (1851, открытое письмо
Ж. Мишле), То the Editors of the Polish Democrat (1853, по-польски) и
La Russie et le vieux monde (1854, письмо к В. Линтону). Герцен писал
эти свои произведения за границей, поскольку он принял решение
эмигрировать для того, чтобы создать независимую русскую прессу.
«Свободная русская типография», которую он основал в 1853 г. с
помощью «Польского демократического общества», издавала газету
«Полярная звезда» (1855), название которой отсылало читателя к
альманаху, издававшемуся декабристами в 1823-1825 гг. Начиная с 1857 г.
1 Там же. С. 68-69.
ГЛАВА 10. Истоки «русского социализма» 181
«Свободная русская типография» издавала также газету «Колокол».
Несмотря на то что «Колокол» был строго запрещен в пределах
России и часто подвергался конфискации, это издание вскоре приобрело
в России большую популярность и влияние; его читали самые разные
слои населения, от студентов до членов имперского суда.
Русский социализм Герцена представляет собой оригинальную
попытку сформулировать философию русской истории путем синтеза
элементов, заимствованных у славянофилов, Чаадаева и западников
1840-х гг. (в особенности Белинского и Кавелина). От славянофилов
Герцен воспринял взгляд на деревенскую общину как на зародыш
новой, более высокой, чем западноевропейская, формы общественной
жизни, а также убеждение в том, что коллективизм (по терминологии
Герцена - социализм или даже коммунизм) - эта черта, органически
присущая русскому народу: «...социализм, который так решительно,
так глубоко разделяет Европу на два враждебных лагеря, - разве не
признан он славянофилами так же, как нами? Это мост, на котором
мы можем подать друг другу руку»1. Подобно славянофилам, Герцен
подчеркивает, что русский народ не был испорчен наследием
римского права и индивидуалистическим пониманием отношений
собственности, связанным с этим наследием. Как и славянофилы, Герцен
высоко ставит принцип самоуправления в общине и свободную
непосредственность взаимоотношений между ее членами, над которыми
не довлеют никакие договоры и формально установленные законы.
Наконец, вместе со славянофилами Герцен полагает, что
православная вера в России в большей мере, чем католицизм, сохранила
верность истинам Евангелия и что благодаря своей религиозной
обособленности русский народ был избавлен от контактов с больной
цивилизацией Западной Европы. Только эта изоляция и позволила
сохранить крестьянскую общину в России, а это в свою очередь
спасло русский народ и от «монгольского варварства», и от
«императорской цивилизации», помогло русским людям избежать «искушений
властью»; поэтому община «благополучно дожила до развития
социализма в Европе» . То, что в Европе было кульминацией
длительного процесса идейного развития, в России было плодом
«естественной непосредственности. Европа, которая так гордится своей
цивилизацией, заключает Герцен, должна многому научиться у русского
крестьянина с его убогой хижиной: этот крестьянин сохраняет верность
общинному началу и «допотопному» представлению, в
соответствии с которым всякий человек имеет право на свою часть земли и ее
плоды.
1 Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 7. С. 248.
2 Там же. С. 323.
182 АнджеиВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Элементы панславизма в сочинениях Герцена того времени - то,
что так раздражало Карла Маркса и других западноевропейских
радикалов, - тоже ведут свое происхождение от славянофильских
влияний. В 1840-е гг. славянофилы еще не принимали панславизм, хотя
панславистская нота уже прозвучала у Хомякова в его философии
истории. Герцен неоднократно разговаривал и спорил с Хомяковым.
Записи в дневнике Герцена за 1844 г. показывают, что влияние
славянофилов на Герцена заметно укрепилось под впечатлением от
парижских лекций Мицкевича о славянской литературе; у Мицкевича
Герцен тоже нашел критику европейской рационалистической
цивилизации, в особенности - представление, что славянские народы - «люди
будущего», и даже аналогию между славянской общиной и
социалистическими концепциями1.
У Чаадаева Герцен заимствовал взгляд на Россию как «страну вне
истории» и убеждение (в духе чаадаевской «Апологии
сумасшедшего»), что это было благом, поскольку пребывание вне истории делает
возможным творить историю без оглядки на прошлое. Отсутствие
традиций со сколько-нибудь глубокими корнями (за исключением
деревенской общины, которая оставалась как бы вне истории) и
отсутствие «балласта истории», который может оказаться бременем для
сегодняшнего поколения, навели Герцена на мысль, что Россия без
труда сумеет полностью порвать со «старым миром». Ведь русская
монархия не принадлежит традиции европейских монархов;
навязанный России и ей глубоко чуждый бюрократический режим - это
деспотизм наполеоновского типа, деспотизм, который даже нельзя
назвать консервативным, поскольку он разрушает традицию вместо того,
чтобы служить ей защитой. Новая русская история началась с
«отрицания прошлого», насильственно навязанного Петром Великим, -
отрицания, разрушившего «все традиции до такой степени, что бесполезно
даже пытаться восстанавливать их»2. Образованные русские не
имеют ничего общего с прошлым своей страны; воспитанные в
космополитической атмосфере и не отягощенные никакими историческими
традициями, они - самые свободные люди Европы. «Мы
независимы, - писал Герцен, - потому что начинаем жизнь сызнова. <.. .> Мы
независимы, потому что ничего не имеем. Нам почти нечего любить. Все
наши воспоминания исполнены горечи и злобы»3. Поэтому при
социальном перевороте русские все обретут и ничего не потеряют. Несколько тра-
1 См.: Walicki A. The Paris Lectures of Mickiewicz and Russian Slavophilism //
The Slavonic and East European Review, 46, No. 106 (Jan. 1968). <Валицкий А.
Парижские лекции Адама Мицкевича: Россия и русские мыслители // Вопросы
философии, 2001. № 3. С. 127-150. -Прим. перев>
2 Герцен A.M. Цит. изд. Т. 7. С. 332.
3 Там же. С. 333.
ГЛАВА 10. Истоки «русского социализма» 183
вестируя известную мысль Маркса о пролетариате, можно сказать, что
Герцен видел в России своего рода пролетария среди других стран -
пролетария, которому нечего терять, кроме своих цепей.
Существует еще одна страна с динамическим потенциалом,
которую не сдерживает ее феодальное прошлое: «Взгляните, например, на
эти две огромные равнины, которые соприкасаются затылками,
обогнув Европу. Зачем они так пространны, к чему они готовятся, что
означает пожирающая их страсть к деятельности, к расширению? Эти
два мира, столь противоположные и все же в чем-то схожие, - это
Соединенные Штаты и Россия»1. В 1835 г. де Токвиль уже высказал
предположение, что будущее принадлежит Америке и России. Герцен
соглашается с этим, но с одной оговоркой: только Россия внесет по-
настоящему новый вклад в историю человечества. Америка, писал он,
только кажется страной без истории; в действительности это та же
протестантская Европа, перенесенная на новый континент. Главное,
что Америка лишена той русской «смелости отрицания», которую
Герцен так ярко изобразил со смешанным чувством гордости и горечи
в открытом письме к Ж. Мишле:
На нас лежит слишком много цепей, чтобы мы добровольно
надели на себя еще и новые. <...> Мы покоряемся грубой силе. Мы рабы,
потому что не имеем возможности освободиться; но мы не
принимаем ничего от наших врагов.
Россия никогда не будет протестантскою.
Россия никогда не будет juste-milieu.
Россия никогда не сделает революции с целью отделаться от
царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-
судьями, царями-полицейскими2.
В своих статьях того времени Герцен не утверждает, что
отсутствие истории в соединении с деревенским коммунизмом русского
крестьянина достаточно сильны сами по себе для того, чтобы вызвать
ожидаемый и желаемый общественный переворот. Деревенская
община, взятая сама по себе, представляется Герцену статичным и
консервативным образованием, которое душит индивидуальность и
личную независимость. Герцену же дорога была индивидуальная
свобода, и по крайней мере в этом он оставался верным идеалам своей
молодости на протяжении всей дальнейшей жизни. Нужна была,
поэтому, какая-то активная сила, способная пробудить крестьянина и
влить новую жизнь в общину. Эта сила - «принцип индивидуализма»,
'Цит. изд. Т. 12. С. 168.
2 Цит. изд. Т. 7. С. 334.
184 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
первым воплощением которого был Петр Великий -
«царь-революционер», царь-якобинец, отвергший традиции и национальность1.
Такой взгляд на Петра Великого явно возвращается к
западническим концепциям сороковых годов - к аргументу Белинского, что
петровские реформы внесли динамический элемент в русскую
действительность, а также к истолкованию Кавелиным этих реформ как
первой фазы в реализации начала личности в русской истории.
Аргумент Герцена состоит в том, что на протяжении восемнадцатого
столетия царизм и его система оказывали цивилизирующее влияние и
способствовали эмансипации индивидуальности посредством
создания вестернизованной элиты, которая сначала поддерживала
правительство, но позднее повернулась против него. Поворотным
моментом было декабристское восстание: если самодержавие Петра было
«диктатурой прогресса», то в последекабристской России
бюрократический, «немецкий» деспотизм сделался однозначно реакционной
силой. А это значит, что новым носителем начала личности является
просвещенное дворянство, которое помогает правительству создавать
«европейское государство в пределах славянского государства», и
которое прошло одну за другой стадии эволюции европейского
самосознания2. Герцен доказывает, что в России «образованный средний
класс» - а в действительности всякий, кто «больше не принадлежит к
простому народу», - должен рассматриваться как часть дворянства.
Поэтому слой общества, в котором нужно видеть «зародыш и
умственный центр грядущей революции»3, - не дворянство как класс
землевладельцев, но дворянская интеллигенция - люди универсально
образованные и поэтому оторванные от безнравственной почвы»,
чуждые собственному социальному классу и оппозиционные по
отношению к официальной России4.
Таким образом, будущее России зависит от того, удастся ли слить
народный «коммунизм» с началом личности, представляемым
интеллигенцией. Для Герцена такая возможность равносильна слиянию
коренных русских начал с достижениями Европы, в особенности с
индивидуальной свободой, характерной для англо-саксонских стран.
Как носитель принципа личности, русская интеллигенция - продукт
вестернизации и наследник европейской цивилизации. Хотя
некоторые высказывания Герцена, процитированные вне контекста, могли
давать повод думать иначе, однако его русский социализм по своему
1 Цит. изд. Т. 12. С. 190.
2 Там же. Т. 7. С. 207.
3Цит. изд. Т. 6. С. 215.
4 Цит. изд. Т. 12. С. 155, 188-189.
ГЛАВА 10. Истоки «русского социализма»
185
замыслу не только антитеза Европы, но также и синтез, в котором
должно сохраниться все лучшее из европейского наследия.
На взгляд Герцена, русский социализм не является исторически
неизбежным. Реальны и другие возможности: победить может
коммунизм - «русский деспотизм наоборот»; или царистская система может
перейти в «социально-демократический деспотизм»1. Или Россия
нахлынет на Европу, разрушит цивилизованные страны и погибнет
вместе с ними во всемирной катастрофе. История, подчеркивал Герцен,
не имеет предустановленных путей; она позволяет человечеству
выбрать одну возможность среди множества других и бороться за ее
осуществление.
Девиз русского социализма - «сохранять общину, освобождая
индивида»2 - это, в сущности, новая формулировка давно занимавшей
Герцена проблемы достижения свободы без отчуждения, примирения
чувства автономии с чувством принадлежности. В 1840-е гг. он
постулировал примирение частного с всеобщим в гегелевских понятиях;
спустя несколько лет та же самая проблема возникла в другом
контексте, но можно с уверенностью предположить, что в обоих случаях
Герцен стремился удовлетворить одну и ту же психологическую
потребность.
Критика «старого мира»
Новый интерес Герцена к прошлому и будущему России был
тесно связан с его горьким разочарованием в «старом мире». Герцен был
проницательным критиком буржуазного общества, даже если его
суждения и осуждения не всегда были справедливы. Современного
читателя могут поразить некоторые особенно дальновидные
наблюдения, которые, по-видимому, предвосхищают сложный феномен,
который мы называем сегодня «массовой культурой». В этом
отношении самые интересные комментарии Герцена содержатся в цикле
статей под названием «Концы и начала»: здесь он полемизирует с
писателем Иваном Тургеневым, ставшим к тому времени моральным
авторитетом для либеральных западников в России.
1848 год знаменовал в глазах Герцена поворотный пункт, начало
конца, ne plus ultra европейской цивилизации. Тот год был для него
также крахом всех идеалов - прогресса, республиканизма,
демократии. Философия больше не была абсолютной, а конституция
оказалась ложью. Запад отошел от своих идеалов, от своей веры в те или
'Там же. С. 197.
2 Там же. С. 156. (Conserver la commune et rendre l'individu libre.)
186 Апджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
иные утопические решения, способные побудить людей к действию.
Все, что остается, - это конфликт национальных интересов и голая
борьба за власть.
По мысли Герцена, так случилось потому, что народы Запада уже
почти достигли зрелости и приближаются к состоянию стабильности,
к завершению эволюционного процесса. Представителем этой «эпохи
зрелости» является средний класс. Торжествующий свою победу
средний класс - «стотысячеголовая гидра, готовая без разбора все
слушать, все смотреть, всячески одеваться, всем наесться»; победила
«самодержавная толпа сплоченной посредственности», так
беспокоившая Джона Стюарта Милля1. Эта победа, однако, совсем не
случайна; толпе, которая «все покупает и потому все контролирует»,
разрушает все препятствия, «все заполняет и затопляет свои берега»,
которая «насыщается чем угодно и не довольствуется ничем», - эта
толпа доказательство успеха и силы среднего класса. Она может
разрушить красоту и стереть индивидуальность, но она способствует
процветанию. Подобно товарам на продажу, люди становятся
оптовым продуктом: они обыкновенны, они грубее и хуже в качестве
индивидов, но многочисленнее и сильнее en masse. Во имя этой
возрастающей мобильности масс победа среднего класса закономерна и
оправданна: «Нельзя сказать голодному: "Тебе больше к лицу голод,
не ищи пищи"»2.
Этот диагноз явно отделяет Герцена от идеологов русского
народничества. С точки зрения народников, которые в этом отношении
следовали за Марксом, капитализм означает принудительную
экспроприацию и пролетаризацию мелкого производителя и растущий
контраст между национальным богатством и бедностью масс. Трудно
вообразить представление более далекое от народников, чем
представление о капитализме как состоянии стабильности и равновесия,
достигнутых благодаря возросшей общественной роли масс.
Народников ужасала жестокость первоначального накопления и та цена,
которую приходилось платить за экспансию индустриализации.
Герцен же в своей аристократической, в духе Токвиля, критике
цивилизации среднего класса смотрел на капитализм как бы с прямо
противоположного полюса - с точки зрения конечного продукта
индустриализации, т.е. дешевого производства и массового потребления, а
также их социальных последствий. Парируя аргументы насчет
растущего обеднения пролетариата, он утверждал, что в Западной Европе
рабочий - член среднего класса in spe - идея, в 1860-е гг. не лишенная
оригинальности.
1 Цит. изд. Т. 16. С. 141.
2 Там же. С. 138.
ГЛАВА 10. Истоки «русского социализма»
187
Свобода и необходимость
Как отмечалось выше, теория «русского социализма» возникла
после того, как в мировоззрении Герцена усилились
волюнтаристические элементы. И до, и после 1848 г. он восставал против
телеологически понятой исторической необходимости, против якобы
объективных законов истории, вынуждающих индивидов и народы идти в
предустановленном направлении. Свои новые воззрения Герцен
изложил в книге «С того берега»: в ней страстное отрицание
«разумности» исторического процесса и подчеркивание роли случайности и
«импровизации» было выражением не только краха прежнего его
оптимистического взгляда на историю, но также и его импульса к
созданию такой философии истории, которая больше места оставляет для
свободного и сознательного личного выбора.
В то же время некоторые темы, вызывающие ассоциации с
философским натурализмом, тоже заявили о себе в книге «С того берега».
Отвергнув веру в то, что события в мире направляются духом разумности,
Герцен теперь превращает историю в поле битвы, на котором человек
ведет борьбу не на жизнь, а на смерть со слепыми силами природы.
За несколько лет до этого Герцен в своей философии действия склонялся
к натурализму Фейербаха как такой философии, которая отстаивает
естественную непосредственность против одностороннего господства
всеобщего. Но после 1848 г. под влиянием позитивистских направлений
в Европе Герцен стал считать натурализм такой философией, которая
требует научного объяснения всех явлений. Поэтому в 1860-е гг. он
попытался (особенно в «Концах и началах») заложить научные основы
своей теории русского социализма. Подчеркивая, что его построения
основываются на «естественном физиологическом подходе к истории»,
Герцен фактически пытался выбить почву из-под ног своих оппонентов.
В поддержку своих собственных теорий Герцен теперь
подчеркивает множественность возможностей в эволюции природы -
множественность, которая (он на этом настаивает), доказывает, что нет
такого «физиологического закона», по которому Россия необходимым
образом должна развиваться теми же самыми путями, что и Европа:
«Общий план развития допускает бесконечное число вариаций
непредвидимых, как хобот слона, как горб верблюда»1. Различные
виды животных эволюционировали, пока не достигли окончательной
стадии развития. Аналогичным образом Европа эволюционировала до
того момента, когда достигла своей окончательной формы -
буржуазного государства. Россия же, со своей стороны, - это такой организм,
эволюция которого еще не завершена и будущие очертания которого
'Там же. С. 196.
188 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
все еще не определились. Западная Европа адаптировалась к
буржуазной системе точно так же, как рыбы приспособились жить в воде и
дышать жабрами; это не значит, что дальнейшая судьба России уже
предрешена, даже если налицо определенные ранние симптомы
капиталистического развития. Для иллюстрации этого своего утверждения
Герцен обращается к эволюции утки, отмечая, что «в жизни утки была
минута колебания, аорта не загибалась своим стержнем вниз, а ветвилась с
притязанием на жабры; но имея физиологическое предание, привычку и
возможность развиться, утка не останавливалась на беднейшем строении
органа дыхания и переходила к легким»1. Такого рода аргументы,
заимствованные из естественной истории, Герцен использует против такой
натуралистической концепции общественного развития, которая
основывается на однолинейной и евроцентристской идее прогресса.
Термин «натурализм», однако, не адекватен философской позиции
Герцена после 1848 г. в ее целом. Натуралистическая философия
истории играла подчиненную роль в его мировоззрении; больше того, всякая
попытка расширить пределы этой философии неизбежно приводила к
столкновению с равновеликими ей ценностями - философией действия и
верой во всеобщий идеал, которые тоже играли значительную роль в его
аргументах в пользу русского социализма. Мыслящие люди, настаивал
Герцен, должны противостоять развитию капитализма в России, потому
что человечество уже обрело высший идеал - идеал социализма:
«Оконченный труд, достигнутый результат свершены и достигнуты для всех
понимающих; это круговая порука прогресса»2. Этот аргумент, конечно
же, противоположен натуралистическим предпосылкам философии
истории, выдвинутым в «Концах и началах»; ведь эта его философия
предполагала, что никакой такой «круговой поруки прогресса» не
существует: лягушка и курица развивались по-разному, различными были и пути
развития России и Западной Европы; не существует общего мерила для
их определения и оценки; каждый вид развивает свою собственную
«энтелехию» и формируется в соответствии с законами своей собственной
«органической естественной телеологии».
Мало того: натуралистическая философия истории основывалась
на строго «физиологическом» детерминизме и тем самым вступала в
конфликт с убеждением Герцена, что человек - господин, или должен
быть господином, своей собственной судьбы. Если историческая
эволюция только «расширение исторической эволюции», а развитие
данного народа можно сравнить (как это делал Герцен) с эволюцией
какой-нибудь рептилии или птицы, окончательная форма которых
предопределена (даже принимая во внимание все возможные изменения)
1 Цит. изд. С. 196.
2 Там же. Т. 12. С. 186.
ГЛАВА 10. Истоки «русского социализма» 189
свойствами эмбриона или яйца, то тогда едва ли возможно говорить о
«суверенной независимой индивидуальности» или о сознательно и
творчески направленном ходе истории.
В те годы, когда Герцен был политическим эмигрантом, он
слишком поглощен повседневной политической работой для того, чтобы
систематически продумать свои теоретические взгляды. Должно
быть, время от времени ему все же являлась мысль, что
натуралистическую философию истории и позитивную веру в возможность
научного решения всех проблем не легко примирить с прежними и более
существенными элементами его мировоззрения. Во всяком случае, в
свои поздние годы Герцен чем дальше, тем больше давал понять, что
он сознает этот конфликт.
Интересный документ в этом отношении - письмо к сыну (который
был натуралистом), написанное в 1868 г. и предназначавшееся к
опубликованию, - оно известно как «Письмо о свободе воли». Этот текст
показывает, что взгляды Герцена значительно изменились и что, в частности,
он подошел к тому, чтобы поставить под вопрос адекватность
естественных наук как инструмента понимания процессов общественного
развития, в особенности - философии истории. Физиология, писал Герцен
сыну, «доблестно выполнила свою задачу, разложив человека на
бесчисленное множество действий и реакций, сведя его к скрещению и
круговороту непроизвольных рефлексов; пусть же она не препятствует
теперь социологии восстановить целое, вырвав человека из
анатомического театра, чтобы возвратить его истории»1.
Принципиальное различие между натуралистическим и
социологическим пониманием человека, утверждает Герцен, заключается в
проблематике свободной воли. С «физиологической» точки зрения
чувство свободы воли - иллюзия, тогда как с точки зрения
социологии свобода воли имеет куда больше значения. В противоположность
физиологически понятому я - «текучей форме органических
функций», социологическое я, напротив, «предполагает сознание, а
сознающее я не может ни возбуждаться, ни действовать, не полагая себя в
то же время свободным, т.е. в известных пределах имеющим
способность делать или не делать то или другое». Это чувство свободы -
необходимый атрибут сознания людей: человек «выходит из животного
сна» и становится субстанцией истории. Поэтому идея свободы
только и делает понятной «феноменологическую необходимость
человеческого ума как психологическую реальность»2.
Совершенно очевидно, что аргументация Герцена не имеет целью
освободиться от противоречия между психологическим детерминиз-
1 Цит. изд. Т. 20. С. 439.
2 Там же. С. 443.
190 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ
МЫСЛИМОМ и человеческой свободой; наоборот, это противоречие возводится
им до уровня кантовской антиномии. Герцен не только отказывается
от представления о возможном примирении теории и практики -
представления, которого он придерживался в сороковые годы; он
находит философские аргументы в пользу самого дуализма - раскола
между «теоретическим» и «практическим» разумом - дуализма,
против которого он когда-то выступал. Тем не менее, Герцен вслед за
Кантом признает приоритет «практического разума» и тем самым
сохраняет верность базовым интенциям своей философии действия.
Объективная истина - вещь сама по себе - все еще остается magnum
ignotum, но, во всяком случае, нравственная свобода - это реальность
«антропологическая». Как таковая, она не менее реальна для людей,
чем время или пространство.
При всех своих слабостях такое решение проблемы побуждало
отвергнуть все теории, которые убеждали радикалов во имя
«объективных законов» физиологии, истории или экономики примириться с
неизбежными фактами и отказаться от борьбы за осуществление
«утопических» целей. В эпоху, когда на науку ссылались для
оправдания тезиса, что социализм будет возможен в России лишь в
отдаленном будущем, истолкование Герценом проблемы свободы и
необходимости имело большую привлекательность для большинства
русских социалистов. Фактически именно эта теория была источником и
основанием «субъективного» метода в социологии - метода, который
примерно в тот же период времени развивали Петр Лавров и Николай
Михайловский, ведущие теоретики русского народничества.
«К старому товарищу»
Политическому мировоззрению Герцена суждено было
подвергнуться еще одному значительному смещению после реформ
шестидесятых годов в России. До того как умер Николай I, Герцен был только
кабинетным философом, не способным повлиять на ход событий;
поэтому ему не составляло труда проповедовать безоговорочный
радикализм, прорицать приближающуюся катастрофу и гордо
провозглашать, что Россия никогда не остановит свой выбор на juste milieu.
После 1855 г. Герцен начал склоняться к компромиссу: он обращается к
новому императору, чтобы тот воспользовался шансом осуществить
«бескровный прогресс»; он приветствует каждый шаг вперед в деле
реформ, каким бы малым этот шаг ни был; он принимает ряд
«полумер» или «паллиативов» в свою политическую программу; и он в эти
годы даже готов к тому, чтобы монархия продолжала существовать
при условии, что самые неотложные реформы будут проведены в
ГЛАВА 10. Истоки «русского социализма» 191
жизнь. Благодаря этой переориентации Герцен теперь нашел
сторонников в самых широких слоях общества - среди людей, которые
выступали за реформы, но вовсе не за революционные изменения. В то
же время под влиянием многочисленной читательской аудитории
«Колокол» неизбежным образом сделался рупором общественного
мнения; это вносило известный эклектизм в позицию Герцена: у него
появились нотки соглашательства с преобладавшими ими в тот
момент настроениями и общепринятыми взглядами «лагеря реформ»
в самом широком смысле этого выражения.
Все это, понятно, повлекло за собой возобновление дружеских
контактов между Герценом и русскими либералами - сближение,
которому способствовали определенные расхождения Герцена с
радикалами. Герцен чувствовал, что Чернышевский и Добролюбов слишком
резко отвергали либеральные традиции прогрессивного дворянства и
повинны в догматическом осуждении поколения «лишних людей»
1840-х гг.1 Эти расхождения, однако, не следует преувеличивать: по
всем актуальным вопросам Герцен был на стороне скорее
Чернышевского и молодых радикалов, чем на стороне либералов-дворян. Когда
в 1861 г. была создана первая после декабристского движения
революционная организация, среди ее основателей были Герцен
и Огарев, как и Чернышевский, и название этой организации - «Земля
и воля», повторяло девиз герценовского «Колокола».
Вскоре, однако, огромной популярности и широкому влиянию
Герцена в пределах России пришел конец. Это было следствием ряда
событий, самым значительным из которых стало польское восстание
1863 г. Герцен всегда принимал как «догму» убеждение в том, что
польский народ имеет бесспорное право на независимость и что
русским и польским революционерам нужно объединиться. Ленин
позднее напишет, что, сохранив до конца верность этому принципу в 1863 г.,
Герцен спас «честь русской демократии». Несмотря на серьезные
сомнения в том, что восстание будет иметь успех, Герцен сразу же
поддержал инсургентов всем своим нравственным и политическим
авторитетом и отдал свою энергию и талант журналиста на службу делу
национального освобождения поляков. Его пессимистическим
прогнозам вскоре суждено было оправдаться. В России польское
восстание подняло волну шовинизма. Шовинистический угар охватил -
благодаря искусной пропаганде правительства и разнузданной
антипольской кампании, развязанной националистической прессой (во главе с
«Московскими ведомостями» Каткова) - даже определенную часть
прогрессивных кругов. Прежде восторженные читатели «Колокола»
начали прибегать к демагогическим аргументам, рисовавшим поль-
1 См. ниже. С. 224-226.
192 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ское восстание как реакционное движение в среде дворянства,
стремившегося установить господство Польши над Украиной и
Белоруссией и помешать земельной реформе в самой Польше. Объективные
наблюдатели, понимавшие справедливость польских требований и
соглашавшиеся с Герценом, вынуждены были замолчать под внешним
давлением как раз тогда, когда «Колокол» подвергся публичной
критике со всех сторон за измену - измену не только национальным
интересам, но даже социализму и демократии. Тираж «Колокола»
быстро упал и никогда больше не достигал прежнего высокого уровня.
После того как восстание было подавлено и страсти улеглись,
Герцену были уготованы новые разочарования. Особую горечь
вызвали у него недоразумения и ссоры с группой радикалов, называвшейся
«Молодая эмиграция». В этой истории было немало оснований для
взаимной подозрительности. Молодые радикалы - «разночинцы» -
обвиняли Герцена в аристократическом высокомерии, дряблом
либерализме и нежелании идти на личные жертвы во имя революции.
Со своей стороны, Герцен обвинял молодых радикалов в
политической неразборчивости и нечестных способах добывания денег для
безответственных предприятий. Его оскорбляло отсутствие у этих
молодых радикалов хороших манер и «бесцеремонная грубость», что,
по мнению Герцена, свидетельствовало о том, что им не удалось
освободиться от дурных привычек своего прежнего окружения.
Несмотря на многочисленные попытки достигнуть хоть какого-то
взаимного согласия, окончательный раскол стал неизбежным.
Горечь и чувство одиночества, которые испытал Герцен в связи с
этим, еще усилились из-за того, что его отношение к молодым
эмигрантам не всегда понимали даже его ближайшие сподвижники.
Авторитет и влияние Бакунина быстро возрастали, хотя его взгляды
подвергались резким нападкам со стороны русской секции Первого
интернационала. Даже Огарев чувствовал себя лучше среди молодых
революционеров-эмигрантов, чем Герцен. (Огарев, по сути дела,
разделял их воззрения.) За год до смерти Герцена это идейное
расхождение еще раз резко обострилось в связи с делом Нечаева1. Несмотря на
1 Сергей Нечаев (1847-1882) основал жестко централизованную и тайную
революционную организацию под названием «Народная месть». Он выдавал себя
за представителя Интернационала и члена Всероссийского революционного
комитета; в этом ему помогал Бакунин, который снабдил Нечаева особыми
полномочиями, скрепленными печатью несуществующего Alliance Révolutionaire
Européenne, Comité Général. В своем «Катехизисе революционера» Нечаев
предлагал беспощадные, ничем не брезгующие методы борьбы. Революционер,
говорилось в «Катехизисе революционера», презирает и ненавидит существующую
общественную этику: «Для него все, что способствует победе революции, -
нравственно, а что стоит на ее пути, - безнравственно» (цитирую в английском
ГЛАВА 10. Истоки «русского социализма»
193
просьбы как Бакунина, так и Огарева, Герцен отказался передать
Нечаеву деньги, оставленные неким Бахметьевым для использования
в революционных целях. Результаты деятельности Нечаева даже
Бакунина убедили в том, что скептицизм его друга был оправдан. Но
Герцена к тому времени уже не было в живых.
Критический и глубоко скептический взгляд Герцена на русских
революционеров конца шестидесятых годов, а также основательные
знания, приобретенные им в отношении организационных успехов
рабочего движения в Западной Европе, побудили Герцена еще раз
изменить свои взгляды. Он проанализировал мотивы, которые привели
его к этому в цикле писем «К старому товарищу» (1869), формально
адресованных Бакунину, но по сути дела полемически направленных
против тех взглядов, которых он сам придерживался после
трагических событий 1848-1849 гг., когда его разочарованность Западной
Европой достигла своего пика.
Доктрина русского социализма возникла из необычайно сильного
убеждения Герцена, что его собственная эпоха представляет собой
своего рода решающий момент. Ему казалось, что старый мир вот-вот
рухнет и что Западная Европа, подобно Древнему Риму, исчезнет в великой
исторической катастрофе, в которой русские сыграют роль новых
варваров. В письмах «К старому товарищу» этот катастрофизм уступает
место гораздо более умеренным оценкам. Герцен больше не
пророчествует о близящемся конце буржуазного мира: рождающийся новый
мир, утверждает он, еще не завершил своего развития, и старый порядок
по-прежнему прочно стоит на сильных моральных, как и материальных,
основаниях; попытки силой свергнуть его приведут только к краху,
стагнации и беспорядкам. «Подорванный порохом весь мир
буржуазный, когда уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнет с
разными изменениями какой-нибудь буржуазный мир»1.
Этот новый взгляд на будущее заключает в себе характерное
смещение в философии Герцена - поворот от волюнтаризма к снова и по-
новому утверждаемой необходимости и внутренней
последовательности исторических процессов. Каждая историческая формация, считает
переводе по кн.: Venturi F. Roots of Revolution. London, 1960. P. 366). Это правило
применили к Ивану Иванову, члену Нечаевской организации: его «приговорили к
смерти» и убили в 1869 г. за то, что он усомнился в полномочиях Нечаева и
протестовал против его методов. Убийство Иванова навело полицию на след
«Народной мести» и позволило арестовать ее членов. Судебный процесс над
Нечаевым и его организацией, проходивший в Петербурге в 1871 г., вызвал
бурную реакцию возмущения как в России, так и на Западе. Реакционная пресса (и
Достоевский в романе «Бесы») использовала процесс для дискредитации
революционного движения в целом.
1 Герцен А И. Цит. изд. Т. 20. Ч. П. С. 577.
194 АнджейВалщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
он теперь, была «высшей правдой» своего времени: «Собственность,
семья, церковь, государство были огромными воспитательными
формами человеческого освобождения и развития - мы выходим из них
по мановению надобности»1. На успех могут рассчитывать только
начинания, пребывающие в гармонии с внутренним ритмом
исторической эволюции. В полемическом запале спора с Бакуниным Герцен
доходит до того, что цитирует парадокс Гегеля: даже рабство может
быть шагом вперед на пути к свободе.
Герцен согласен, что решающую роль в истории играют
экономические процессы, но в отличие от Бакунина приходит к выводу, что
изменения в обществе созревают медленно и что их можно ускорить
лишь в той мере, в какой акушерка может помочь скорейшему
появлению ребенка на свет. Однако детерминизм Герцена не чисто
механический и только на первый взгляд противоречит его прежнему
взгляду, высказанному в письме к сыну о свободе воли; это не возврат
к гегелевскому идеализму, но и не уступка «экономизму» с его верой
в то, что изменения происходят автоматически, без участия
человеческой воли и сознания. Герцен утверждает, что экономические
изменения оказывают реальное влияние только посредством воздействия на
волю и сознание масс, так что воля и сознание составляют неотъемлемое
звено той цепи, которую мы называем историческим процессом.
Революционный анархизм Бакунина неприемлем не потому, что в нем
преувеличена роль человеческой свободы и сознания в истории, а наоборот,
потому что анархизм на самом деле игнорирует и свободу, и сознание,
пытаясь навязать массам волю самого революционера. Такое, по слову
Герцена, «ретроградство» в лучшем случае приводит к «равенству
каторжников» Бабефа или к «коммунистическому равенству» Кобета.
В своем новом взгляде на историю Герцен полагается не на веру в
«объективные» (другими словами - непреложные) законы, определяющие
движение событий, но лишь на признание того факта, что сознательная
воля даже самой эмансипированной личности имеет куда меньше
значения, чем исторически обусловленные сознание и воля масс.
Практическим приложением этого воззрения было то, что Герцен
стал отдавать предпочтение не столько революции, сколько
постепенно осуществляемым реформам. Поскольку экономические
изменения (и изменения в мировоззрении, сопровождающие их) происходят
постепенно и «нельзя людей освобождать в наружной жизни больше,
чем они освобождены внутри»2, то самая неотложная задача -
воздействовать на сознание масс, ускорять процесс «освобождения внутри»,
не пропуская, однако, промежуточных стадий эволюции. Место «грубой
1 Там же. С. 580.
2 Там же. С 590.
ГЛАВА 10. Истоки «русского социализма»
195
силы» должна занять сила аргументации, писал Герцен: «Апостолы нам
нужны прежде авангардных офицеров»1. Он решается высказать свою
позицию с полной ясностью: «Я не верю в прежние революционные
пути и стараюсь понять шаг людской в былом и настоящем, для того чтоб
знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в
какую люди не пойдут за мной - не могут идти»2.
Эта переоценка была частью возродившейся у Герцена веры в
Европу и, в частности, в европейский рабочий класс. В письмах «К
старому товарищу» Герцен несколько раз ссылается на Международное
товарищество рабочих, утверждая, что эта организация - первый
росток новой системы, вырастающей изнутри старого мира. То, что
Герцен, по словам Ленина, «обратил свои взоры <...> к
Интернационалу»3, было вполне последовательным в смысле решительного
отказа от «прежних революционных путей»; на отношение Герцена к
Первому Интернационалу повлиял Бакунин, который обвинил
Интернационал в признании буржуазного государства и в отказе от
революции ради легальных и мирных методов борьбы. Различие
между двумя старыми товарищами состояло, разумеется, в том, что
аргументы, служившие Бакунину для критики, Герцен считал основанием
для одобрения. Таким образом, письма «К старому товарищу» можно
рассматривать как, по крайней мере, частичное отрицание русского
социализма: хотя в них прямо и не проводилась мысль, что прогресс
возможен только в одном направлении и, следовательно, Россия не
может избежать капиталистической стадии развития, - в них, тем не
менее, отвергался исторический диагноз, согласно которому Россия
является «избранным народом социальной революции»4.
После революции 1905 года письма «К старому товарищу» были
истолкованы в либеральных кругах как свидетельство того, что
Герцен изменил свои убеждения и перешел на либеральные позиции, -
вывод, с которым трудно согласиться. Герцен ни уверовал в
буржуазный реформизм, ни отказался от идеала всеобщего, всемирного
преобразования общества. Его попытка заключалась в том, чтобы
примирить концепцию такого радикального преобразования с исторической
и культурной преемственностью. Если у него теперь не лежала душа к
«выжиганию дотла всего исторического поля»5, то потому, что он
больше не верил, что это приведет к действительному, по-настоящему
1 Там же. С. 592, 593.
2 Там же. С. 586.
3 Ленин В.И. Памяти Герцена // Он же. ПСС. 5-е изд. Т. 21. М., 1961. С. 257.
Выражение Энгельса в послесловии к статье «О социальных отношениях
в России» (1894). См.: Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими
политическими деятелями. М., 1951. С. 296.
5 Герцен А.И. Цит. изд. Т. 20. С. 589.
196 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
революционному искоренению зла: выжженные поля зарастут сорной
травой, и реализация гуманистических идеалов революции будет
обречена на провал или, по меньшей мере, надолго отсрочена.
Во всяком случае, письма «К старому товарищу» не меняют роль и
значение Герцена в русской интеллектуальной истории. Как
политический лидер, он представляет соединительное звено между декабристами
и «лишними людьми» (дворянами-революционерами и дворянами-
либералами) - с одной стороны, и радикальными демократами
шестидесятых годов - с другой. Как теоретик, Герцен стоял между западниками
и славянофилами сороковых годов - и идеологами народничества.
НИКОЛАЙ ОГАРЕВ
Гибкое определение, которое выше отнесено к Герцену, в равной
мере верно и в отношении его ближайшего друга и сотрудника
Николая Огарева (1813-1877). Жизненные пути его и Герцена тесно
переплетались со студенческой скамьи до последних лет в эмиграции.
В юности оба пережили романтический период дружбы, основанной
на взаимной симпатии и разделяемых обоими идеалов (в верности
которым они поклялись на Воробьевых Горах). В одно и то же время
Герцен и Огарев были студентами Московского университета и
вместе основали студенческий кружок, в котором они обсуждали идеи
сенсимонистов и других представителей «нового палингенеза
истории». В 1834 г. Огарев был, как и Герцен, арестован и сослан в
Пензенскую губернию. Вернувшись из ссылки, он, подобно Герцену,
увлеченно изучал немецкую философию; с 1841 по 1846 г. он учился
в Германии. Хотя в это время оба друга были далеко один от другого,
идейная эволюция Огарева по-прежнему была поразительно схожа
с идейной эволюцией Герцена: подобно последнему, Огарев
нащупывал путь к «философии действия», пытался «преодолеть» гегелевский
идеализм и внимательно читал произведения Фейербаха (именно
Огарев познакомил Герцена и других своих московских друзей с
Фейербахом во время кратковременного приезда в Россию в 1842 г.).
Позднее пути друзей на время разошлись: пока Герцен начинал за
границей разрабатывать свою теорию русского социализма, Огарев
обосновался в своих поместьях, освободил крестьян от крепостной
зависимости и ввел ряд нововведений, цель которых состояла в том,
чтобы поднять уровень жизни рациональными методами ведения хозяйства.
Однако как только Огарев приобрел заграничный паспорт (после смерти
Николая Г), он уехал из России и присоединился к Герцену в деле
создания «свободной русской печати». Он стал соредактором «Колокола» и
делил с другом все успехи и неудачи этого издания.
ГЛАВА 10. Истоки «русского социализма»
197
Как политический мыслитель Огарев в принципе разделял
мировоззрение Герцена, хотя по ряду вопросов он расходился с ним в
деталях и даже не соглашался с другом. Огарев писал стихи, но в
первую очередь его интересовали практические вопросы - такие как
организация революционного движения и экономические аспекты
русского социализма. Даже в 1857 г., когда, подобно Герцену, Огарев
еще верил в возможность осуществления принципиальных
демократических и общественных реформ мирным путем, он писал о
целесообразности организации тайного общества в России («Заметка о
тайном обществе»). Разочарованный ограниченностью земельных
реформ, начатых Александром II, Огарев вынашивал планы свержения
царского правительства посредством революции с участием армии и
крестьянства. Эти планы основывались на тщательном изучении
уроков декабристского восстания и антифеодальных крестьянских
бунтов: армия, по замыслу Огарева, должна была выступить первой и
обеспечить общий порядок и дисциплину, а вооруженные крестьяне
должны были поддержать восставшую армию боевыми дружинами.
Огарев больше, чем Герцен, склонен был апеллировать к
революционному крестьянству: Герцен довольно скептически относился к
возможности крестьянской революции и подчеркивал необходимость
сохранить культурные достижения образованной элиты. Огарев легче
сходился с обычными, рядовыми людьми из числа сочувствовавших
делу революции, и в 1862 г. он стал редактором нового
периодического издания «Общее вече», целью которого было приобрести
аудиторию из более простых читателей, чем были у «Колокола» (крестьяне,
рабочие, солдаты и староверы). Одно из писем Огарева шестидесятых
годов дает отчетливое и яркое представление об этой стороне его
личности: «...если у нас явится Пугачев, то я пойду к нему в
адъютанты, потому что я сотой доли так не ненавижу польское
шляхетство, как ненавижу русское дворянство, которое пошло, подло и
неразрывно связано с русским правительством»1.
Если Герцен стремился установить историософские основания
русского социализма, то Огарева больше интересовали
экономические аспекты социализма. Опираясь на детальный анализ конкретных
экономических факторов, он пытался доказать, что капитализм в
России - явление искусственное и не может рассчитывать на успех.
С другой стороны, существование крестьянской общины показывает,
что социализм не только «литературное представление» - как в
Западной Европе, разлагающейся вследствие экономического
индивидуализма, - но представление, реально укорененное в сельском
хозяйстве и народных обычаях России; его, это представление, нужно толь-
1 См.: Литературное наследство. Т. 61. М., 1953. С. 824.
198 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ко перенести с общинной собственности на землю на общинное
возделывание земли для того, чтобы социализм стал реальностью.
Естественная склонность русского крестьянства к социализму - гарантия
того, что можно установить федеральную систему правления,
избегнув тем самым централизации и регламентации сверху, что было
основной слабостью революционного коммунизма Бабефа.
Огарев вполне понимал: что то, что он предлагает, - это аграрный
социализм, и он был вполне последователен в своих выводах.
Например, он заявлял, что города в России не нужны, обвинял
Чернышевского в «городском» социализме и упрекал западноевропейских
социалистов в непонимании того, что отмена частной собственности на
землю - это conditio sine qua поп системы социализма.
Философские взгляды Огарева эволюционировали от религиозно
окрашенного романтического идеализма юности через гегельянство к
материализму и атеизму. Повлиял на Огарева и позитивизм: различие
между материализмом и позитивизмом, полагал он, состоит в том, что
последний не пытается определить всеобщее «начало» бытия внутри
своей системы, тогда как для материалиста таким началом является
материя; на практике, однако, Огарев считал, что та и другая системы
основываются на «положительном знании». Во взглядах Огарева на
общество механистический материализм соединяется с историческим
идеализмом: с одной стороны, Огарев подчеркивал, что исторический
процесс - составная часть естественной истории; с другой стороны,
он разделял взгляд Просвещения, в соответствии с которым перво-
двигатель прогресса - развитие и распространение научного знания.
Влияние Гегеля можно почувствовать в убеждении Огарева, что
прогресс совершается не линейно, а скорее по спирали. Для Огарева
характерен также «физиологический» детерминизм: в этом отношении
на него повлиял выдающийся русский физиолог И.М. Сеченов; следуя
учению Сеченова, Огарев отвергал свободу воли как идеалистический
предрассудок и пытался заменить «фатализм предопределения» -
«фатализмом причины и следствия».
Эта точка зрения отличалась от более сложной концепции,
выдвинутой Герценом в его «Письме о свободе воли». Но вопреки своему
детерминизму Огарев склонялся (пожалуй, в большей мере, чем
Герцен) к волюнтаризму в политической деятельности. Одно из
проявлений этого - отсутствие критической дистанции по отношению к
политическому авантюристу Нечаеву. Сегодня мы знаем, что Огарев тесно
сотрудничал с Нечаевым и написал большинство прокламаций,
которые распространяла Нечаевская организация. Интересно также
отметить, что в дискуссии, затеянной Герценом в «Письмах к старому
товарищу», Огарев поддерживал Бакунина.
Г Л А В А 11
199
НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
И «ПРОСВЕТИТЕЛИ»
ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ
Т"А)гда российские историки пишут о шестидесятых годах, они
г^ обычно имеют в виду не фактическое десятилетие с 1860-го по
Â. V. 1870-й г., а некий решающий период в современной русской
истории, который начался с 1855 г. вместе с поражением России в
Крымской войне и закончился в 1866 г. неудачным покушением
Каракозова на жизнь Александра II. Ключевым в это десятилетие был
1861 г., когда произошла отмена крепостного права и появились
указы о пользовании землей, а также когда наивысшего уровня за
предшествовавшие два года достигли революционные настроения. Первое
всероссийское революционное общество «Земля и воля» также было
основано в 1861 г. К 1862 г. шансы революции на успех начали
слабеть и правительственная реакция усилилась за счет
шовинистических настроений, возникших вслед за польским восстанием 1863 г.
Тем не менее, правительство продолжало осуществлять социальные
реформы: в начале 1864 г. были созданы местные органы
самоуправления - «земства», а позднее в том же году были начаты широко
задуманные юридические реформы. В то же время, однако, резко
усилилось преследование радикалов, которые настаивали на
дальнейших социальных изменениях, и атмосфера общественного мнения
стала неблагоприятной для демократического лагеря. После
покушения Дмитрия Каракозова на жизнь императора как либеральная, так
и консервативная пресса развязала истерическую кампанию против
«нигилистов».
Земельная реформа 1861 г. была достаточно ограниченной: она не
сумела удовлетворить потребность крестьян в земле, отняла часть
надела, который крестьянин обрабатывал прежде, и взвалила на него
бремя тяжелых налогов, которые шли на покрытие компенсаций,
выплачиваемых правительством прежним владельцам крепостных. Короче
говоря, аграрная проблема так и не была окончательно решена, и
структура царского абсолютизма осталась без изменений. Но и с учетом всего
этого не подлежит сомнению тот факт, что Россия теперь вступила в
период стремительного капиталистического развития и что в
интеллектуальной атмосфере страны происходили глубокие перемены.
200 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
После катастрофического поражения под Севастополем -
поражения, особенно удручавшего на фоне бесспорного героизма русской
армии, - феодально-бюрократическая империя, до недавнего времени
казавшаяся самой могущественной опорой Священного Союза, стала
восприниматься не иначе, как колосом на глиняных ногах. Смерть
Николая I, который символизировал все зло старого режима,
большинство встретило с чувством облегчения и с надеждой на то, что
правление нового императора откроет новую эпоху политических и
общественных перемен. Даже в правительственных кругах поняли,
что какие-то реформы - и, главное, решение крестьянской
проблемы - давно следовало осуществить. Александр II вынужден был взять
курс на частичные уступки, что предполагало подготовку
общественного мнения к проведению особенно неотложных реформ, но без
нанесения вреда существовавшей системе. Период великих надежд и
непосредственной гражданской активности, последовавший за
восшествием Александра на престол, получил известность в качестве
«оттепели».
Новая политика правительства была и непоследовательной, и
фрагментарной, вызывая тем самым смешанные чувства надежды и
сомнений. Однако уступки способствовали настоящему расцвету
общественной мысли: то был «золотой век» серьезной российской
журналистики. Взлет творческой активности после 1855 г. особенно
поражает на фоне полного застоя последних семи лет правления
Николая I - времени после смерти Белинского, эмиграции Герцена и суда
над петрашевцами. С 1848-го по 1855 г. демократическое движение
было лишено людей с идеями; под воздействием нараставшей волны
революционных настроений в Европе еще более усилилось
преследование всякой независимой мысли, печатное слово изнемогало под
прессом цензуры, а на университеты смотрели как на рассадники
инфекции. Власти так боялись призрака «возмущения умов», что
философские кафедры университетов были закрыты, а преподавание
философии передали православным богословам. Живая память о
непрерывных репрессиях тех лет породила преувеличенное доверие к
либерализму нового императора; широкое распространение получила надежда,
что прогресса удастся достичь добровольным сотрудничеством
правительства и общества, без беспорядков и проявлений насилия.
Представители почти всех общественных и политических направлений, казалось,
соединились в общем желании реформ и либерализации общественной
жизни. Объявление императора о скором указе об освобождении
крестьян было встречено с энтузиазмом. «Ты победил, галилеянин», - так
выразил Герцен преобладавшее в то время настроение умов.
Этот возвышенный оптимизм и порыв к национальному единству
скоро прошли. Внутренняя логика событий привела к возрастающей
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 201
поляризации подходов: по мере того как в демократических кругах
нарастало разочарование действиями правительства, там проявляли
все большую чуткость к революционным идеям. В сфере политики
самым важным изменением было появление сильного и независимого
радикального лагеря. Альянс радикальных демократов и либералов
распался тогда, когда стало ясно, что у них разные представления не
только о методах, ведущих к достижению общественных перемен, но
также и о конечных целях. Либералы, как и радикалы, стремились к
изменениям в пределах капиталистической системы, но те и другие
представляли различные интересы. Поскольку в России не было
сильной буржуазии, способной противостоять абсолютизму, то ни
либералов, ни радикальных демократов нельзя назвать представителями
буржуазии в строгом смысле. Либерализм был движением внутридво-
рянским: он представлял реформистскую тенденцию той части
помещичьего класса, которая желала адаптироваться к новым условиям
эпохи; в противоположность этому радикальное движение выражало
чаяния и интересы «народа» в самом широком смысле этого слова,
которое в России, конечно, подразумевало крестьянство.
Утверждение, что радикальные демократы представляли интересы
крестьянства, не следует понимать слишком буквально. Русские
крестьяне не могли по своему положению непосредственно участвовать в
идеологической борьбе. Члены демократических объединений
происходили не из крестьянства как такового, но из «разночинцев» - людей
смешанной недворянской среды, в большинстве своем детей мелких
служащих, священников или обедневших отпрысков дворянских
семей, тех, кому приходилось зарабатывать себе на жизнь умственным
трудом. Появление этой новой социальной группы в сфере публичной
жизни вызвало настоящую интеллектуальную и культурную
революцию.
Среди русских марксистов доминирующую идеологию
радикальных демократов шестидесятых годов принято называть
«просветительством» - понятие, которое семантически связано с
«просвещением». Представителей движения шестидесятых годов называли просто
«просветителями». Плеханов подчеркивал связь между
«просвещением» шестидесятых годов и историческим идеализмом восемнадцатого
столетия. Для Ленина «просветительство» было в основном
демократической идеологией, поддерживавшей буржуазный прогресс и
выступавшей против пережитков феодализма. Общее во взглядах
Плеханова и Ленина - то, что оба они связывали шестидесятническое
движение с рационализмом XVIII в., хотя Плеханов основное
внимание уделял теоретической слабости этого рационализма, тогда как
Ленин подчеркивал прогрессивную и антифеодальную его
направленность.
202 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Сходство между «просвещением» шестидесятых годов и
философией французского Просвещения восемнадцатого столетия можно
заметить также и в философских подходах («природа человека»,
противопоставляемая разного рода феодальным «суевериям»), и в
философском стиле шестидесятников - сознательно критическом,
агрессивном и всегда ориентированном на контраст между тем, что
«было», и тем, что «должно быть». Сами «просветители» ясно сознавали
это. Один из них, Николай Шелгунов, писал:
Шестидесятые годы явились моментом необыкновенного
подъема нашего духа, небывалого напряжения наших умственных сил и
небывалого еще развития критической мысли. <...> Не было в то
время ни одной области ведения, куда бы не заглянула критическая
мысль, и не было ни одного общественного явления, которого она бы
не коснулась. Земля и небо, рай и ад, выражаясь фигурально, вопросы
личного счастья, вопросы счастья общественного, изба мужика, дом
вельможи - все было обсмотрено и обследовано критическою мыс-
лию. <...> Умственная революция, которую мы пережили в
шестидесятых годах, была не меньше умственной революции, которую
переживала Франция с половины XVIII века}
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ
ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Биографическая справка
Ключевой фигурой шестидесятых годов был, несомненно,
Николай Чернышевский (1828-1889)2. Сын священника церкви святого
Сергия из города Саратова, он тоже должен был стать священником,
однако, закончив семинарию, Чернышевский, вместо того чтобы
продолжать изучение богословия, поступил на историко-филологический
факультет Санкт-Петербургского университета. В университете он
сразу погрузился в изучение запрещенных книг, которых нельзя было
достать в публичных библиотеках. Во время революций 1848 г.
Чернышевский с увлечением читал французские и немецкие газеты, что-
Цит. по: В.И. Ленин и русская общественно-политическая мысль XIX -
начала XX века. Л., 1969. С. 42.
2 О нем недавно появились три книги на английском языке: Randall F. В.
N.G. Chernyshevskii. New York, 1967; Woehrlin W.F. Chernyshevskii: The Man and
the Journalist. Cambridge, Mass., 1971; Pereira N.G. The Thought and Teachings of
N.G. Cernyshevskii. The Hague, 1975.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 203
бы быть в курсе самых последних событий. Александр Ханыков (один
из петрашевцев) познакомил его с Фурье и с утопическим
социализмом. С характерной для него основательностью Чернышевский взялся
за изучение главных трудов Фурье и Сен-Симона, Кабэ, Леру, Конси-
дерана, Прудона и Блана. Его представления о литературе и искусстве
сложились под заметным влиянием Белинского. Другое
определяющее влияние оказали на молодого Чернышевского дискуссии,
происходившие в доме Иринарха Введенского, преподавателя русской
литературы в Артиллерийском училище. Введенский в свое время
дружил с Петрашевским и представлял, таким образом, еще одно
связующее звено между Чернышевским и кружком Петрашевского.
Сначала Чернышевский пытался примирить идеи социалистов и
коммунистов, радикальных республиканцев и монтаньяров с
христианской верой; например, 1848 г. он молился за души революционеров,
которые были осуждены на смерть после поражения революции.
Позднее, под влиянием сенсимонистов и Пьера Леру, он пытается
соединить утопический социализм с идеей «нового христианства» -
«нового мессии, новой религии и нового мира». Еще позднее он вновь
был охвачен сомнениями, и в дневнике записал, что методы Христа,
«возможно, не были верными», а было бы больше пользы, если бы
Христос изобрел самоуправляющийся механизм, своего рода perpetu-
ит mobile, который освободил бы человечество от тягот и забот,
связанных с добыванием хлеба насущного1. Подобные мысли дают
основания полагать, что христианство молодого Чернышевского возникло
не из какого-то трансцендентального опыта, но из страстной веры в
Царство Божие на земле. Эта вера быстро подверглась процессу
секуляризации: после того как, вслед за Фейербахом, с необходимостью
был сделан вывод, что тайна теологии - антропология, легко было
сделать следующий шаг, истолковав Царство Божие на земле в
качестве царства эмансипированных людей, которые сами всецело
определяют свою судьбу.
Закончив университет в 1851 г., Чернышевский получил место
учителя литературы в Саратовском лицее. Он был талантливым
учителем и вскоре приобрел популярность среди студентов. Однако его
радикальные взгляды создавали ему трудности, и уже через два года,
в 1853 г., он уехал из родного Саратова в Санкт-Петербург. В
Петербурге он начал писать магистерскую диссертацию под заглавием
«Эстетические отношения искусства к действительности»2. Он также
начал печатать научные и литературно-критические статьи, и в 1855 г.
1 См.: дневник Чернышевского за 1848-1850 годы.
2 В дореволюционной России степень магистра давала право занять
должность профессора.
204 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
вошел в редколлегию издаваемого Некрасовым журнала
«Современник». После смерти Белинского «Современник» попал под влияние
группы либеральных критиков, склонявшихся к отвлеченной от
действительности эстетике (A.B. Дружинин, П.В. Анненков и В.П.
Боткин), в силу чего «Современник» уже не представлял однородную и
отчетливую идеологическую позицию. После того как в редколлегию
журнала вошел Чернышевский, «Современник» вновь сделался
боевым органом, отстаивавшим идеологию критического реализма.
Большинство своих литературно-критических работ
Чернышевский написал между 1854-м и 1857 г. Осенью 1857 г. он передал
руководство литературной секцией «Современника» своему молодому
сотруднику Николаю Добролюбову для того, чтобы посвятить себя
истории, философии и политической экономии. В статьях, написанных
в последующие годы, Чернышевский выдвинул основные принципы
нового революционного радикализма, который полностью расходился
с мировоззрением русских либералов и симпатизировавшей им части
дворянства. В работе «Антропологический принцип в философии»
(1860) Чернышевский выразил свои взгляды на философию и этику;
в «Капитале и труде» (1859), «Заметках об обоснованиях
политической экономии» (I860)1 и в других экономических статьях он подверг
критическому анализу экономический либерализм с точки зрения
политической экономии и «трудящихся масс»». Во многих статьях,
особенно в «Критике философских предубеждений против общинного
землевладения» (1858), он отстаивал крестьянскую общину от
критики сторонников капиталистического развития. Особый интерес
представляет ряд статей Чернышевского, посвященных революциям во
Франции («Каваньяк», «Борьба партий во Франции при Людовике
XVIII и Карле X», «Июльская монархия» и др.). В своем творчестве
этого времени Чернышевский подчеркивал колебания и трусость
либеральных политиков и резко критиковал полумеры, которые они
предлагали; он также противопоставлял программе либералов, в
которой основное внимание уделялось вопросу политических свобод
(что, полагал он, благоприятствует в основном экономически
процветающим слоям общества), программу радикалов, которые во главу
угла ставили состояние народа. Следует отметить, что мировоззрение
целого поколения русских революционеров сформировалось под
воздействием этих статей.
По мере того как революционные настроения в России набирали
силу, возрастала и роль Чернышевского как идейного вождя
радикального лагеря. Его дом был местом встречи революционеров-
активистов (среди них Н. Шелгунов, М. Михайлов, Н. Утин и братья
1 Эту работу высоко ценил Маркс.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 205
Серно-Соловьевичи), а студенты приходили к нему для обсуждения
политических выступлений. Как вспоминал позднее М. Слепцов,
Чернышевский проявлял большой интерес к работе
революционного общества «Земля и воля», которому помогал своими советами.
Под его влиянием находилось даже общество польских офицеров,
основанное Зигмунтом Сераковским, близким другом Чернышевского
(одним из членов этого общества был Ярослав Домбровский, который
погибнет героической смертью, возглавляя вооруженные силы
Парижской коммуны).
Чернышевский был отлично знаком с конспиративными методами
борьбы и мастерски умел скрывать следы. Этим можно объяснить,
что мы так ничего и не знаем о его связях с революционными
организациями; нет никаких свидетельств того, что он был членом группы
«Земля и воля». Но мы знаем, что он был автором прокламации
«Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», в которой
разъяснялись недостатки указа об освобождении крестьян1. Вероятно и то, что
он был главным вдохновителем тайного периодического издания
«Великорос» (1861), призывавшего образованные классы общества
взять в свои руки дело политической реформы.
Царские власти давно уже хотели избавиться от Чернышевского,
как от бельма на глазу, и с удовольствие воспользовались
подходящим предлогом: было перехвачено письмо от Герцена, в котором
якобы содержались доказательства контактов Чернышевского с русскими
эмигрантскими кругами в Лондоне. В июле 1862 г. Чернышевский
был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Однако
никаких инкриминирующих бумаг при аресте найдено не было, и
надежды на то, что тюрьма сломит Чернышевского, не оправдались.
Поэтому обвинению пришлось построить дело на косвенных
свидетельствах и выдуманных документах и показаниях. Следствие тянулось
почти два года, прежде чем Чернышевского приговорили к
четырнадцати годам исправительных работ и пожизненной ссылке в Сибирь,
несмотря на отсутствие достаточного количества свидетельств.
Император утвердил этот приговор, но сократил срок исправительных
работ до семи лет.
Находясь в тюрьме, Чернышевский написал свой знаменитый
роман «Что делать?». В нем изображен идеализированный портрет по-
По неустановленным причинам эта прокламация, написанная накануне
опубликования царского указа, не была напечатана. Возможно, крестьянское
восстание в Бездне убедило Чернышевского в том, что бывшие крепостные сами
поняли, что у них обманом отобрали часть их земли, а может быть, он
почувствовал, что в отсутствие организованного революционного движения
прокламация только развяжет стихийные возмущения, направленные против всей
образованной элиты, а не только против одного лишь класса землевладельцев.
206 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
коления «новых людей» - радикалов шестидесятых годов,
представителей новой морали, так же как и нового рационалистического и
материалистического мировоззрения. Герои романа - Лопухов,
Кирсанов и Вера Павловна - стоят выше общественных условностей и
руководствуются не иррациональными верованиями, а разумно понятой
собственной выгодой, «разумным эгоизмом» - отождествлением
своих собственных интересов с интересами и благом общества в целом.
Отдельный раздел романа посвящен необычной фигуре
революционера Рахметова - «высшей натуре», чья преданность общему благу
еще больше, чем у других героев Чернышевского. Несмотря на то что
Рахметов - отпрыск богатой аристократии, он хорошо представляет
себе удел простого народа, пешком обошел всю Россию, работал на
лесоповале, на каменоломне, тянул с бурлаками по берегу речные
суда. Он - один из избранных, «соль земли»: ради тренировки воли
и невосприимчивости к боли этот совершенный рыцарь революции
даже спит на ложе из гвоздей.
Благодаря странной невнимательности цензора роман «Что
делать?» получил разрешение печататься в «Современнике» по частям,
из номера в номер. Власти поняли свою ошибку слишком поздно.
Цензор, пропустивший роман в печать, был смещен, а новые
издания - запрещены, но эти меры оказались недостаточными для того,
чтобы остановить влияние романа. Номера «Современника», в
которых печатался «Что делать?», сохранялись так, как хранят семейные
реликвии. Для многих представителей молодого поколения этот
роман стал настоящей энциклопедией жизни и познания. Жена Ленина
Надежда Крупская рассказывает в своих воспоминаниях, что ее муж
помнил «Что делать?» вплоть до мельчайших деталей. Плеханов не
преувеличивал, когда заявлял: «С тех пор как завелись типографские
станки в России и вплоть до нашего времени, ни одно печатное
произведение не имело в России такого успеха, как "Что делать?"
Чернышевского»1.
Первые годы ссылки Чернышевский провел вблизи китайской
границы. Получив медицинское свидетельство, освобождавшее его от
работы в рудниках, он посвятил себя писательству и научным
исследованиям. Автобиографический роман «Пролог», написанный в те
годы, дает интересное освещение русской истории в революционные
шестидесятые годы. Отбыв первые семь лет приговора, он пережил
горькое разочарование, когда оказалось, что место, где ему
предстояло провести остаток дней, - уединенное иркутское поселение,
заброшенное в тайге в Восточной Сибири. Он стойко перенес это новое
Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. М., 1956-1958. Т. 4.
С.160.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 207
разочарование, а три года спустя решительно отказался подать
прошение о пересмотре своего приговора.
Одной из причин ссылки Чернышевского в такое отдаленное
место был страх властей, что ему помогут совершить побег, - в
революционных кругах часто обсуждали такую возможность. Первую
попытку освободить Чернышевского сделал ссыльный революционер
Герман Лопатин, друг Маркса1. Другая попытка, столь же
безуспешная, была предпринята в 1875 г. революционером-народником
Ипполитом Мышкиным. Положение Чернышевского оставалось
бесперспективным вплоть до 1880-х гг. В 1883 г. ему было разрешено
поселиться в Астрахани вместе с семьей, а в 1889 г., незадолго до смерти,
ему позволили возвратиться в родной Саратов.
Эстетика
Магистерская диссертация Чернышевского «Эстетические
отношения искусства к действительности» содержит первый зрелый
набросок его мировоззрения. Высшим философским авторитетом в
глазах Чернышевского был Людвиг Фейербах. Из-за цензуры он
поначалу не мог сослаться на Фейербаха; но он сделал это после
возвращения из ссылки в предисловии к третьему изданию диссертации,
подготовленному к печати в 1888 г.2 В этом предисловии
Чернышевский писал: «Автор не имел ни малейших притязаний сказать что-
нибудь новое, принадлежащее лично ему. Он желал только быть
истолкователем идей Фейербаха в применении к эстетике»3.
Отказываясь от притязания на оригинальность, Чернышевский
проявил, конечно, чрезмерную скромность. Начать с того, что его
диссертация по эстетике не целиком вышла из фейербаховской
философии; больше того: Фейербах фактически не писал об эстетике, так
что применение его идей к эстетической проблематике само по себе
было чем-то новым и оригинальным.
Вслед за Плехановым большинство писавших о Чернышевском
исследователей полагало, что влияние Фейербаха особенно заметно
1 Лопатин решил попытаться помочь Чернышевскому бежать из ссылки под
влиянием бесед с Марксом, который часто говорил, что «из всех современных
экономистов Чернышевский представляет действительно оригинального
мыслителя, между тем как остальные суть только простые компиляторы».
{Лопатин ГА. Автобиография. Петроград, 1922. С. 71.)
2 Как раз упоминание Фейербаха помешало этому изданию получить
разрешение цензора.
3 Чернышевский И.Г. Избранные философские сочинения. М.: ОГИЗ, 1938.
С. 4\2.-Прим. ред.
208 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
в главном тезисе диссертации, что цель его эстетики - «защита
действительности от фантазий». Эта точка зрения верна лишь отчасти:
материалистическое положение о приоритете действительности перед
искусством не заключает в себе ничего специфически фейербаховско-
го. То, что было оригинальным в философии Фейербаха - и в эстетике
Чернышевского, - заключалось в другом, а именно в слиянии
материализма и антропоцентризма.
«Антропоцентрическая» тема в мышлении Чернышевского
наиболее отчетливо проявляется в его теории прекрасного. Красота,
утверждал он, - нечто объективное, и скорее содержание, чем форма.
Гегель понял это, определив прекрасное как проявление абсолютного
духа. Но гегелевская концепция Абсолютного была свергнута с
пьедестала Фейербахом, который показал, что человек сам - абсолютная
ценность. Из этого основоположения Фейербах сделал вывод, что для
человека высшее добро, высшее бытие - это сама жизнь: «Только
потому делает человек богом или божественным существом то, от чего
зависит его жизнь, что для него его жизнь есть божественное
существо, божественное благо или предмет»1. Совершенно очевидно, что
эти идеи Фейербаха положены Чернышевским в основание его
определения прекрасного. Согласно этому определению, «прекрасное есть
жизнь»; «прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такою,
какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет,
который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни».2
Сразу же после этой дефиниции прекрасного в целом
Чернышевский предпринимает детальный анализ аристократического и
крестьянского идеалов женской красоты. Человек из народа, отмечал он,
считает красотой все, что имеет признаки крепкого здоровья и
гармонического физического развития; с другой стороны,
аристократическая красота не может не быть бледной, слабой и болезненной - все
признаки досужей, бездеятельной жизни и, в сущности,
неспособности к труду. Этот аргумент уже выходит за пределы
«антропологизма» Фейербаха и обнаруживает понимание взаимосвязей между
эстетическим воображением и детерминирующими его общественными
условиями жизни. Тем не менее, Чернышевский продолжает
настаивать на том, что только один эстетический идеал можно считать
«истинным» и «естественным». Аристократические идеалы - «признак
искусственной испорченности вкуса», искусственный результат
искусственной жизни; только идеал людей, живущих в «нормальных»
1 Фейербах Л. Лекции о сущности религии // Он же. Избранные философские
произведения. М.: ГИХЛ, 1955. С. 549.
2 Чернышевский HT. Эстетические отношения искусства к
действительности // Он же. Избранные философские сочинения. Цит. изд. С. 287.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 209
условиях (т.е. живущих трудовой жизнью и в контакте с природой),
гармонирует с истинной природой человека. Этот переход от
исторического релятивизма к нормативной эстетике, разумеется, важен для
Чернышевского, поскольку позволяет оправдать эстетические идеалы
трудящихся и требование возможно более широкой демократизации
искусства.
Понятие «жизнь» в диссертации Чернышевского тоже имеет два
различных значения. В первом, узком значении слово «жизнь»
означает изобилие и богатство жизненных сил. Важнее, однако, второе
значение слова, охватывающее еще и нравственную сферу.
Чернышевский пишет: «истинная жизнь - жизнь ума и сердца»1;
следовательно, высший идеал прекрасного - это человеческое существо в
полном развитии своих способностей. Такое определение прекрасного
сближает Чернышевского с великой гуманистической традицией в
Германии, представителями которой были Гёте, Шиллер и Гегель.
Правда, Чернышевский отвергает тезис Гегеля и Фишера о том, что
прекрасное в искусстве выше прекрасного в природе; но он
соглашается с ними в том, что прекрасное в природе имеет значение лишь
постольку, поскольку красота соотносится с человеком «О, как хороша
была бы гегелевская эстетика, если бы эта мысль, прекрасно развитая
в ней, была поставлена основною мыслью вместо фантастического
отыскивания полноты проявляемой идеи!»2.
Восстановление материи в своих правах, которое в эстетике
Чернышевского принимает форму реабилитации прекрасного в природе,
соединяется у него с типично фейербаховским оправданием
индивидуального человека. С гегельянской точки зрения, по-настоящему
реальной действительностью обладают только идеи; отдельные люди,
взятые в изоляции от «общего» («идеи» или «духа»), - это чистая
абстракция. Наоборот, с точки зрения Фейербаха, реальны именно
индивиды, а всеобщее - это абстракция. Чернышевский, полностью
согласный с Фейербахом, сделал попытку продемонстрировать в своей
диссертации, что «для человека общее только бледный и мертвый
экстракт из индивидуального»3. В приложении к эстетике это
убеждение неизбежно ведет к отрицанию генерализующей функции
искусства, к представлению, что «всеобщие типы», создаваемые, как
принято думать, литературой, - только копии
индивидуально-человеческих типов и что в реальной жизни мы встречаем типичных героев,
которые гораздо ближе к подлинной действительности и более
привлекательны, чем «обобщения», создаваемые литературой и искус-
1 Там же. С.288.
2 Там же. С. 290.
3 Там же. С. 348.
210 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ством. С этой точки зрения искусство может быть только суррогатом
действительности. Как справедливо было отмечено, то была «реакция
против гегелевского "общего" во имя индивидуального, доходящая до
метафизического противопоставления того и другого как
абстрактного и реального»,1 - противопоставления, типичного для фейербахов-
ского материализма.
Поэтому диссертацию Чернышевского нужно рассматривать в
качестве страстной защиты индивидуальности конкретного
человеческого существа, проигнорированного философами-идеалистами,
которые трактовали человека всего лишь как орудие Абсолюта.
Заблуждение Чернышевского - в чрезмерном упрощении и абстрактном
рационализме. Чернышевский не сумел разглядеть диалектическую
взаимосвязь между искусством и действительностью и, подобно
Фейербаху, трактовал постижение действительности как механический
акт, едва ли не схожий с пассивным отражением внешних объектов
в зеркале. В результате возникла теория, которая больше
соответствовала натуралистической, чем реалистической концепции искусства.
Эта теория шла вразрез с критическим восприятием самого
Чернышевского и вступала в явный конфликт с теми взглядами на роль
и значение искусства, которые он сам же выдвигает на других
страницах своей диссертации. Функция искусства, пишет Чернышевский,
не только в том, чтобы воспроизводить действительность, но также
и в том, чтобы объяснять и оценивать ее, - «выносить суждение»
о явлениях реальной жизни, воссоздаваемых искусством. В свете
этого определения искусство - не суррогат, ибо суррогат из жизненных
явлений ничего не прибавляет к нашим знаниям о реальной
действительности, как не помогает нам такой суррогат и выносить суждение о
действител ьности.
Когда Писарев говорил, что основной тезис диссертации
Чернышевского выражает идею «разрушения эстетики», то этим своим
утверждением он выказал полное непонимание основной мысли
диссертации. Основная мысль Чернышевского направлена не против
эстетики как таковой, а против эстетизма. Поскольку духовная и
материальная природа человека едина, полагает он, то чисто духовная
деятельность, возникающая исключительно из стремления к
прекрасному, невозможна. Влечение к красоте - незаинтересованное
влечение. Но оно никогда не возникает в изоляции от других человеческих
влечений или потребностей; поэтому область искусства нельзя
сводить к гораздо более узкой сфере эстетически прекрасного.
Чернышевский не желает умалить роль искусства; как раз наоборот, он счи-
1 Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм.
М, 1941. С. 221.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 211
тает «искусство для искусства» опасной теорией именно потому, что
она-то и ведет к вытеснению искусства на периферию человеческой
жизни и утрате им сколько-нибудь серьезного значения. Художник,
который творит исключительно ради красоты, был бы
несовершенным и, по сути дела, искалеченным человеком.
С самого начала эстетические взгляды Чернышевского пострадали
от односторонних интерпретаций и недоразумений. Против
Чернышевского выступили не только критики, защищавшие неангажиро-
ванное «чистое искусство» (Дружинин, Анненков, Боткин), но и
великие русские романисты. Тургенев, например, которого особенно
задевали взгляды Чернышевского на искусство, назвал «Эстетические
отношения искусства к действительности» «мертворожденным
продуктом слепой злобы и глупости». И все же, несмотря на множество
враждебных критиков и зачастую сторонников по недоразумению
(таких, как Писарев), эстетические идеи Чернышевского оказали
значительное влияние на русскую литературу и искусство. Основные
положения «Эстетических отношений...» были приняты в качестве
основополагающих установок прогрессивной русской критикой, и
писатели-радикалы, как и писатели-народники (Некрасов,
Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский и Владимир Короленко), старались применить
идеи Чернышевского к своему собственному творчеству. Илья Репин
писал в своих воспоминания, что молодые художники тоже читали
Чернышевского с большим интересом. Одним из ведущих
пропагандистов эстетики Чернышевского был Владимир Стасов - главный
русский теоретик реализма в изобразительном искусстве.
Антропологический принцип
Название основного философского труда Чернышевского -
«Антропологический принцип в философии» ( 1860) - дань уважения
«антропологизму» Фейербаха. Для Чернышевского «антропологический
принцип» предоставил теоретическое основание для его концепции
человека как интегральной целостности, для отмены вечного
дуализма тела и души. Чернышевский формулировал свои идеи следующим
образом: «... "что это за вещь антропологический принцип в
нравственных науках"? <...> принцип этот состоит в том, что на человека
надобно смотреть как на одно существо, имеющее только одну
натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины,
принадлежащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую
сторону деятельности человека как деятельность или всего его организма
от головы до ног включительно, или, если она оказывается
специальным отправлением какого-нибудь особенного органа в человеческом
212 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
организме, то рассматривать этот орган в его натуральной связи со
всем организмом»1.
Интересным дополнением к «Антропологическому принципу»
является статья «Характер человеческого знания», написанная после
возвращения Чернышевского из Сибири. В этой статье он выдвинул
эпистемологическую теорию, в основе которой - представление о
том, что человеческий организм заключает в себе и познающего,
и предмет познания; тем самым эта теория утверждала
нераздельность материи и сознания. Для человека, утверждает в своей статье
Чернышевский, «архимедов принцип», на котором основывается все, -
это не «Я мыслю», а «Я существую»; поскольку наше знание о нашем
собственном существовании является непосредственным и не
поддается сомнению, то наше познание материального мира, частицей
которого мы сами же и являемся, - в такой же мере надежно.
Чернышевский не сделал из этой своей теории единства
человеческой природы вывода, что все человеческие особенности можно
объяснить в понятиях физиологических свойств. Психологию не больше
можно объяснить в понятиях физиологии, заявляет Чернышевский,
чем физиологию - в понятиях химии, или химию - в понятиях
физики, потому что во всех этих случаях количественные различия
становятся различиями качественными. Важно, подчеркивает
Чернышевский, не допустить, чтобы человек «раскалывался», и помешать тому,
чтобы какая-то одна из его функций («дух» или «природа») не
обособилась и не превратилась в абсолютную. Человек - нераздельное
существо, и только в качестве такого единства он представляет
абсолютную ценность для других людей.
Именно эти аргументы подводили фундамент под этическую
теорию «разумного эгоизма» Чернышевского. Теория эта основывалась
на предпосылке, что руководящим принципом человеческого
поведения - как бы этот принцип ни интерпретировался - является эгоизм.
В сфере общественных норм теория Чернышевского отдает
предпочтение утилитаризму, рационализму и эгалитаризму. Постулатом
теории разумного эгоизма было утверждение, что критерий, в
соответствии с которым нужно оценивать человеческие поступки, - это та
польза, которую они приносят; добро имеет ценность не само по себе,
но только в качестве прочной, постоянной пользы - «очень полезной
пользы». Эгоизм может быть разумным и не разумным,
многочисленные случаи бескорыстия и самопожертвования - это на самом деле то
или иное выражение разумного понимания эгоизма: «<...>
доказывать, что геройский поступок был вместе умным поступком, что
благородное дело не было безрассудным делом, вовсе еще не значит,
1 Чернышевский Н.Г. Избранные философские сочинения. Цит. изд. С. 115.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 213
по нашему мнению, отнимать цену у геройства и благородства» .
Разумный эгоист признает за другими людьми право быть эгоистами
постольку, поскольку он признает, что все люди равны; в спорных
вопросах, когда нет согласия, он руководствуется принципом
наибольшего добра для наибольшего числа людей: <...>
общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации, общий
интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес
многочисленного сословия выше выгод малочисленного»2. Эгоизм,
который по настоящему разумен, заставляет людей понять, что у них
есть общие интересы и что они должны помогать друг другу. Это
и имел в виду Фейербах, когда он писал: «Быть индивидуумом,
правда, значит быть "эгоистом", но это значит вместе с тем - быть,
и притом неволей или волей, коммунистом» . Чернышевский мог бы
использовать это высказывание как эпиграф к своему роману «Что
делать?» - истории «разумных эгоистов», которые верят в
социалистическую систему.
Уже из этого краткого обзора понятно, что «разумный эгоист»
очень сильно отличается от того, что мы обычно понимаем под
«эгоизмом». Чернышевский использует понятие «эгоизм» в
контексте своей этической теории как некий вызов, обращенный к тем, кто
во имя трансцендентных ценностей осуждает как «эгоизм» все
попытки угнетенных улучшить свою долю; это выражение недоверия
Чернышевского к идеологиям, призывавшим людей жертвовать
собой ради якобы высших целей, то есть таких целей, которые будто
бы выше самого человека, понятого как живая и конкретная
человеческая личность.
Начиная еще с Просвещения, философы-материалисты -
Гельвеций и Гольдбах - считали разумный эгоизм логическим выводом из
материализма. Чернышевский расширил теоретические принципы
«разумного эгоизма», опираясь на критику Фейербахом таких
идеалистических абстракций, как сверхличный Разум или Дух. Фейербах
утверждал, что всеобщее не имеет какого-то отдельного,
независимого бытия; оно существует только как «предикат индивида». Этот ход
мысли приводил к отрицанию органицистских и историцистских
теорий, трактовавших общество в качестве сверхличного органического
целого, подчиняющегося рациональным законам исторической
необходимости. Чернышевский писал, что «общественная жизнь есть
1 Там же. С. 106.
2 Там же. С. 108.
3 См.: Фейербах Л. О «Сущности христианства» в связи с «Единственным
и его достоянием» // Он же. Изб. филос. произведения: В 2 т. T. H. M., 1955.
С. 411.
214 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
сумма индивидуальных жизней» . Законы, которым подчиняется
человек, - это законы природы, следовательно, законы и его
собственного организма. Чернышевский отвергает как ненаучное
допущение, что могут существовать отдельные законы, управляющие
эволюцией общества в духе «разума истории» Гегеля: ведь общество не
биологический организм и потому не может вести себя как реальное
существо.
В статье «О причинах падения Рима» Чернышевский снова
обращается к той же теме. Относительно соображений Герцена о
«дряхлости» Западной Европы и «юности и энергии» русского народа
Чернышевский полагает, что говорить об обществах растущих, зрелых и
стареющих, - это чистый антропоморфизм. Поскольку цивилизации
не организмы, то они не могут переживать процесс органической
эволюции; поэтому невозможно говорить о неизбежном закате
цивилизаций, как если бы они были людьми, подверженными закону смерти.
С особой страстью Чернышевский нападает на представление Гегеля
о «разумной необходимости» исторических процессов. Не существует
никакого такого Разума Истории, заявляет Чернышевский;
«разумность» вводят в историю разумные человеческие существа - люди,
которые создают знание: «Прогресс - результат знания».2 Прогресс не
гарантирован как неизбежный итог истории; его достижения хрупки,
так же как хрупки интеллектуальные достижения человека и его
жизнь. Падение Рима - прекрасный пример хрупкой природы
прогресса, поскольку он иллюстрирует падение цивилизации под
натиском варваров-завоевателей.
Такое истолкование может породить как пессимистические, так и
оптимистические выводы. Если прогресс не является неизбежным,
гарантированным законами истории, то ход событий определяется
всего лишь случайностью; с другой стороны, однако в таком случае
не появляется возможность трагической коллизии между
«субъективным» разумом людей и «объективной» необходимостью. Возможно,
трудно создать «то, что должно быть», но такую возможность нельзя
вовсе исключить. Чернышевский полагает, что объективные научные
критерии, определяющие «то, что должно быть», можно вывести из
законов, управляющих «человеческой природой», из всеобщности
«естественных» (т.е. материальных и духовных) потребностей
человека. С «антропологической» точки зрения, считает он, человеческая
природа неизменна; то, что изменяется, - это «искусственные
потребности», которые возникают оттого, что человек отчасти выпал из
Чернышевский HT. Избранные философские сочинения. Л., 1950-1951.
Т. 2. С. 484.
2 Там же. Т. 3. С. 314.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 215
природы и пребывает в условиях, которые уже не являются
«нормальными». С помощью этого Фейербахианского аргумента
Чернышевский возвращается к абстрактному рационализму «естественного
права» Просвещения. Несомненно, это - отход от диалектического и
исторического воззрения, с таким трудом выработанного Белинским,
но для этого имелись свои исторические причины. Радикальные
демократы шестидесятых годов - «критически мыслящие»
представители новой, нарождающейся общественной силы - историческим
аргументам предпочитали абсолютные критерии, поскольку исторические
аргументы неизбежно были относительными. Порвав с
консервативными интерпретациями гегельянства, Белинский тоже заново
утвердился в идеалах Вольтера и энциклопедистов. Чернышевский пошел
еще дальше в этом направлении, поскольку, подобно французским
философам-просветителям, он жил в условиях абсолютистского
режима, переживавшего кризис, и в этих условиях апелляции к
«человеческой природе», разуму и рационально обоснованной автономной
этике вызывают больший резонанс, чем апелляции к истории.
Будущее развитие России
Критика слепого преклонения перед «Необходимостью» и
сверхиндивидуальными «Законами Истории» - один из характерных и
повторяющихся мотивов в мышлении Чернышевского. Даже в своей
эстетике он критикует гегелевскую концепцию трагедии потому, что
концепция эта возводит историческую необходимость в ранг
абсолютного принципа. Следует однако отметить, что эта тенденция
мысли не всегда приводила Чернышевского к таким резким выводам, как
в его статье о «О причинах падения Рима». Другие его статьи
показывают, что отрицание им идеалистических гипостазирований не
означало, что он считал вообще бессмысленным искать объективные
законы общественных изменений.
Особый интерес в этом отношении представляет статья
Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного
землевладения» (1858). Хотя Чернышевский и заявляет здесь, что нет
таких типических черт общества, которые невозможно было бы
вывести из особенностей индивидов, он, тем не менее, выдвигает тезис
о существовании всеобщего закона эволюции - положение, которое
в самом общем виде он формулирует следующим образом:
«...повсюду высшая степень развития представляется по форме
возвращением к первобытной форме, которая заменялась противоположною на
средней степени развития»1. Поскольку индивиды могут «переско-
1 Там же. Т. 2. С. 473.
216 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
чить» промежуточную стадию, утверждает Чернышевский, то почему
же и общества - эти агрегаты индивидов - не в состоянии сделать
того же? Если индивиды могут развиваться с большей скоростью,
символизируемой в прогрессии 1, 4, 64.., то общественное развитие
может следовать формуле 1А, 4А, 64А, ...
Этот аргумент Чернышевский использует для доказательства
того, что Россия может обойти капиталистическую стадию развития и
что общинная собственность на землю может послужить основой для
развития сельского хозяйства. Во многих отношениях аргументы
Чернышевского в поддержку этого тезиса предвосхищают аргументы
диффузионистов в их полемике против эволюционистов. Фактор,
ускоряющий социальные изменения, по мнению Чернышевского, -
это культурный контакт, «сближение человека, которому нужно
достичь высшей степени процесса, с человеком уже достигшим ее»1. В
этом ускоренном процессе промежуточные стадии возможны только
теоретически, в качестве логических моментов изменений. Если они,
эти стадии, и достигают реального существования, то лишь на такой
бесконечной шкале, что никакого практического значения они не
имеют. Эволюция форм собственности совершается от общинной
собственности в племени через частную собственность (которая
достигает высшей точки своего развития при капитализме) к
современной общинной собственности в артелях-ассоциациях; Чернышевский
не сомневается в том, что эта последняя стадия скоро заменит
капиталистические отношения собственности в развитых странах.
Общинное землевладение в России, считает Чернышевский, - это такая
форма собственности, которая соответствует первой стадии всеобщего
развития человечества; поскольку прямой переход к третьей стадии -
стадии посткапиталистического коллективизма - вполне вероятен, то
и нет никакого смысла отменять деревенскую общину и тем самым
разрушать традиции коллективизма, сохраняющие свою
жизнеспособность в русском народе. Наоборот, следует попытаться
модернизировать общину и разумным образом превратить ее в артель
наподобие ассоциаций рабочих, существующих в Западной Европе.
Вопрос о капиталистическом или некапиталистическом
развитии - это сегодня одна из основных проблем, поглощающих
внимание экономистов и обществоведов, и она имеет очевидное
практическое значение для стран Третьего Мира. В отношении России
Герцен поднял этот вопрос на несколько лет раньше Чернышевского, но
Чернышевский первым сформулировал общую теорию ускоренного
общественного развития, основывающегося на некапиталистических
методах.
1 Там же. С. 482
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 217
Интересно отметить, что важность этой проблемы признал Маркс,
тщательно проштудировавший «Критику философских
предубеждений против общинного землевладения». Очень вероятно даже, что эта
статья повлияла на представления Маркса о будущем развитии
России1. Например, в подробных черновиках своего письма к Вере
Засулич от 8 марта 1881 г.2 Маркс высказывает мысль, что ситуация
в России исключительно благоприятная, поскольку первобытный
коммунизм сохранился до такого времени, когда экономические,
технические и интеллектуальные условия на Западе созрели для
современного коммунизма. Россия не изолированная страна, но часть
международной рыночной экономики, и она тем самым может
воспользоваться всеми преимуществами современной цивилизации и
технологии, осваивая плоды капиталистического производства, но отвергая
его modus operandi. В этих обстоятельствах России нет
необходимости проходить капиталистическую стадию; против защитников
капитализма, которые настаивали на том, что якобы невозможно обойти
никакую стадию развития, можно использовать аргумент, что русский
капитализм и сам перескакивает различные стадии развития путем
освоения готовых продуктов иностранного капитализма в форме
современного машиностроения, железных дорог и банковской системы.
Сходство этого хода мысли с аргументами Чернышевского -
поразительно.
Место Чернышевского
в идейной истории России
В 1870-е гг. традицию Чернышевского продолжили
революционные народники. Самого Чернышевского можно было бы называть
«народником» в широком смысле этого слова, но если хотим
определить его место в истории русских революционных идей, то мы не
должны упускать из виду важные отличия, которые отделяют его от
классического народничества.
Элементы народничества в идеологии Чернышевского - защита
крестьянской общины и некапиталистический путь развития. В
отличие от более поздних теоретиков народничества (особенно от Н.К.
Михайловского), Чернышевский не романтизировал «естественное»
хозяйство простого народа или древние «самобытные» народные
обычаи; не удивительно, что он был не согласен с историком А. 1Да-
См.: Штейн В.И. Очерки развития русской общественно-экономической
мысли XIX-XX веков. Л., 1948. С. 236.
2 Анализ этих черновиков см. в кн.: Walicki A. The Controversy over Capitalism:
Studies in the Social Philosophy of the Russian Populists. Oxford, 1969. P. 189-192.
218 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
повым, который считал общинное самоуправление бесценным
пережитком Древней Руси и ангелом-хранителем патриархальных
традиций. Если Михайловский считал общину зародышем новой
цивилизации, которая будет одновременно иной и качественно более высокой
по сравнению с капитализмом, то Чернышевский чувствовал, что
община представляет такую стадию эволюции, которая несравненно
ниже капиталистических отношений собственности. Существенное
различие состояло в том, что Чернышевский надеялся: Россия сумеет
догнать Западную Европу, опираясь на ее достижения, и превзойдет
ее, став образцом для других стран. «У Европы свой ум гораздо более
развитый, чем у нас, и учиться ему у нас нечему, и помощи нашей не
нужно ей»1. Если народники семидесятых годов надеялись, что
Россия пойдет совершенно другим путем, чем Западная Европа, то
Чернышевский настаивал на том, что вестернизация России должна
завершиться ликвидацией «азиатской обстановки жизни, азиатского
устройства общества, азиатского порядка дел»2.
Другое характерное отличие касалось соотношения общественных
и политических целей. Народники семидесятых годов приравнивали
политическую революцию к буржуазной революции, а
парламентскую систему - к буржуазному правлению; это привело их к выводу,
что распространение политической демократии только сыграет на
руку привилегированным классам и будет способствовать еще
большему обнищанию масс. Какое-то время Чернышевский разделял это
убеждение: «Не в том дело, будет царь или нет, будет конституция
или нет <...> а в том, чтобы один класс не сосал кровь другого» . Еще
в 1858 г. он считал, что демократия - условие процветания народа
и что поэтому Сибирь, население которой было относительно
состоятельным, - демократичнее Англии, которая страдает от
«пауперизации»4. Однако уже скоро (в революционные годы 1859-1861) он
вернулся к этой проблеме и пришел к совершенно иным выводам.
Недемократические методы, использовавшиеся при подготовке отмены
крепостного права, убедили его в том, что политическая свобода
является необходимым условием подлинного общественного прогресса.
Так, в своих «Письмах без адреса» (1862) Чернышевский
солидаризировался с дворянскими либералами из Тверского земства, которые
требовали для России конституционного правления5.
1 Чернышевский H.H. Избранные философские сочинения. Т. 3. С. 336.
2 Там же. Т. 2. С. 668.
3 Там же. Т.З. С. 821.
См. статью Чернышевского «Борьба партий во Франции при
Людовике XVIII и Карле X».
5 «Письма без адреса» предполагалось напечатать в февральском номере
«Современника» (1861), но цензор приостановил публикацию. Несмотря на свое
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 219
Этот сдвиг в позиции Чернышевского был следствием вывода, к
которому он пришел, а именно, что самое большое зло в России -
самодержавие, то, что из-за цензуры ему приходилось называть
«бюрократией». В отсутствие политической свободы, отмечал он,
централизованное бюрократическое правление препятствует нормальному
социальному развитию, подавляет общественное мнение и пренебрегает
советами экспертов. «При бюрократическом порядке совершенно
бесполезны ум, знание, опытность людей, которым поручено дело.
Люди эти действуют как машины, у которых нет своего мнения»1.
Политические формы не могут быть безразличным делом - таков
вывод Чернышевского. Если новое содержание вливается в старую
форму, то оно впитывает в себя запах прежней эпохи. Поэтому
«социальная» демократия неотделима от «политической» демократии. Даже
тогда, когда политические права принадлежат только дворянскому
сословию.
Вывод этот оправдывал поддержку Чернышевским либералов из
Твери. Но не только. «Письма без адреса» были прежде всего
своеобразным призывом ко всей образованной России, с монархом
включительно, чтоб общими усилиями двинуть страну по пути европейских
реформ. Характерно, что Чернышевский противопоставлял этот путь
стихийной народной революции, которая в русских условиях
обернулась бы вандализмом и на много лет уничтожила достижения
русского «европеизма».
Это последнее слово Чернышевского отражает разницу между
«шестидесятыми годами» - временем либеральной модернизации
России - и «семидесятыми годами» с их все возрастающим
сознанием трагических противоречий прогресса. Несмотря на свою критику
массовых ограничений либерализма, Чернышевский сохранил
верность западническим идеалам и осуждал русскую отсталость с точки
зрения европейской науки, цивилизации и политической свободы.
Народники, появившиеся вследствие разочарования крестьянской
реформой, иначе подходили к этим проблемам: ужасаясь перспективе
капиталистической экспроприации крестьянства, они идеализировали
название, «Письма...» были явным образом адресованы Александру II.
Чернышевский признавался, что сам он почти не верил, что сумеет убедить императора
в необходимости положить границы его абсолютной власти. Можно
предположить, что действительная цель «Писем без адреса» состояла в том, чтобы
убедить образованных читателей журнала в необходимости оказать давление на
правительство. В том же году подпольный журнал «Великорус» выдвинул
аналогичные предложения, отстаивая ту же тенденцию. Подробнее о позиции
либеральных аристократов города Твери см.: Emmons Т. The Russian Landed Gentry
and the Peasant Emancipation of 1861. Cambridge, UK, 1968.
1 Чернышевский Н.Г. Избранные философские сочинения. Т. 3. С. 511, 513-514.
220 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
русскую отсталость, отвергали европейский путь как регресс и искали
для России «самобытной» дороги развития.
Идеологическое наследие Чернышевского - его критика чисто
формального понимания свободы, защита крестьянской общины и
провозглашение приоритета «народного блага» - сделалось одним из
краеугольных камней народнической идеологии. Отсутствие
идеализации архаических общественных структур сделало это наследие
приемлемым и для марксистов. Плеханов, всю жизнь боровшийся с
народничеством, относился к Чернышевскому с огромным
уважением. Ленин тоже высказался (в разговоре с Валентиновым в 1904 г.),
что в свои молодые годы Чернышевский был его любимым
писателем: «Под его влиянием сотни людей делались революционерами
<...>, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего
глубоко перепахал» . Не следует, однако, забывать, что политическим
завещанием Чернышевского было поддержание требований
умеренного либерального конституционализма.
НИКОЛАЙ ДОБРОЛЮБОВ
И СПОР О «ЛИШНИХ ЛЮДЯХ»
Самым талантливым учеником и ближайшим другом
Чернышевского был Николай Добролюбов (1836-1861). Не только своим
внешним видом, но по своей биографии Чернышевский и Добролюбов
были поразительно похожи: Добролюбов тоже был сыном
провинциального священника (в Нижнем Новгороде), учился в духовной
семинарии и попал под мощное влияние прогрессивной русской
литературы и литературной критики. Были между ними и важные
различия, но они в основном являлись следствием того, что идейное
развитие Добролюбова проходило быстрее и не так сложно, как у
Чернышевского, поскольку путь уже был проложен старшим из них.
Очень характерно, что либеральных писателей того времени
гораздо сильнее раздражал младший критик. «Вы, - сказал однажды
Тур-генев Чернышевскому, - простая змея, а Добролюбов - очковая
змея» . В другом разговоре, тоже с Чернышевским, сходное различие
провел Кавелин: «Странное дело, я не могу чувствовать к
Добролюбову того мирного расположения, как, например, к вам <...> между
вами и нами [то есть либералами сороковых годов] есть связь; а меж-
1 См.: Валентинов И. Встречи с В.И.Лениным (New York, 1953).
Цит. по кн.: Полянский В. [П.И. Лебедев]. A.A. Добролюбов:
Мировоззрение и критическая деятельность. М, 1933. С. 18.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 221
ду нами и ими, видно, уже нет связи. Что ж делать? Это грустно для
нас; но так нужно для прогресса»1.
В замечании Кавелина заключена большая доля истины.
Чернышевский, подобно «людям сороковых годов», пережил период
увлечения спекулятивной философией, когда он интенсивно изучал
Гегеля. В противоположность Чернышевскому, Добролюбов нисколько не
интересовался проблемами, которые поднимала идеалистическая
философия, и читал только младогегельянцев и Фейербаха, потому что
у них можно было найти атеистические аргументы. В политических
вопросах Добролюбов иногда проявлял больше бескомпромиссности,
чем его старший товарищ и учитель. Именно Добролюбов вызвал
раскол в редакции «Современника», несмотря на все усилия
Некрасова избежать окончательного разрыва. Прочитав статью Добролюбова
«Когда же придет настоящий день?» ( 1860), Тургенев сказал
Некрасову, что или Добролюбов выйдет из редколлегии журнала, или это
сделает он, Тургенев. Некрасов выбрал Добролюбова, и Тургенев
прекратил контакты с «Современником», а за ним последовали Толстой,
Гончаров и Д. Григорович.
Хотя Добролюбов считал Чернышевского высшим авторитетом
в вопросах философии, ученик отличался от учителя в некоторых
деталях. Добролюбов, подобно Чернышевскому, верил в
«антропологический принцип»; и, хотя и был материалистом, он отвергал
«вульгарный материализм» Бюхнера и Молешотта (в отличие от
Писарева). В то же время, однако, Добролюбов придавал больше значения
естественным наукам, чем философии и истории, так что его
мировоззрение склонялось к натурализму.
В своей социальной философии Добролюбов был типичным
«просветителем»: он оценивал исторические явления в соответствии с
неизменными нормами «человеческой природы». Тревоживший
Добролюбова разрыв между идеалом разума и здравого смысла и
действительностью приводил к вопросу: «В чем корень этого
непонятного разлада между тем, что должно бы быть по естественному,
разумному порядку, и тем, что оказывается на деле?»2 Было бы крайним
упрощением сказать, что отсутствие образования и слабое сознание у
эксплуатируемого большинства своей силы и естественных прав
Добролюбов считал единственным источником «разлада»; с другой
стороны, такого рода аргументы были для него типичны. У него было
довольно наивное представление о классовой борьбе как борьбе «тру-
1 Там же. С. 9. О расколе между поколением «сороковых годов» и
«поколением «шестидесятых годов» см.: Lampert E.. Sons Against Fathers. Oxford, 1965;
Berlin I. "Fathers and Children" в его книге "Russian Thinkers". New York, 1978.
1 Добролюбов H. Собрание сочинений. M.; Л., 1961-1964. T. 7. С. 247.
222 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
дового народа» (представляющего «естественные» нужды и идеалы
человечества) против «паразитов» (само существование которых -
отклонение от «естественной» нормы). «Естественные стремления
человечества, - писал Добролюбов, - приведенные к самому
простому знаменателю, могут быть выражены в двух словах: "чтоб всем
было хорошо". Понятно, что, стремясь к этой цели, люди, по самой
сущности дела, сначала должны были от нее удалиться: каждый хотел,
чтоб ему было хорошо, и, утверждая свое благо, мешал другим;
устроиться же так, чтоб один другому не мешал, еще не умели» .
Добролюбов также несколько отличался от Чернышевского в
своем взгляде на роль масс. Подобно западникам сороковых годов,
Чернышевский считал простой народ скорее консервативной силой,
действующей по привычке; тем не менее, от либералов Чернышевский
отличался тем, что он верил: в исключительных обстоятельствах
массы способны отклониться от рутины и сыграть творческую роль в
истории (например, произвести революцию; см. его статью «Не начало
ли перемен?»). Добролюбов шел дальше; в статье «Черты для
характеристики русского простонародья» (1860) он подчеркивает
способность простых людей порывать с повседневной колеей жизни,
характерную для них любовь к свободе, благородство чувств и эмоций,
неистощимый кладезь творческой энергии. Такой идеализированный
взгляд на простонародье был совершенно чужд Чернышевскому.
Свой собственный тип литературной критики Добролюбов
называл «реальной критикой» - «реальной», надо полагать, потому, что
критика эта состояла, в первую очередь, в анализе литературного
произведения, как если бы оно было объективным социологическим
документом, а во вторую очередь - в тех выводах, которые полностью
игнорировали намерения автора. Добролюбов часто и даже нарочито
отвергал нормативную роль критика и осуждал попытки оценивать
литературные произведения посредством заранее установленных
критических норм; сам он выше всего ценил не идеологическое
содержание, а верное воспроизведение действительности.
Некоторые формулировки Добролюбова-критика наводят на
мысль, что роль «реальной критики» состоит только в том, чтобы, как
этого требовал уже Чернышевский, показать, насколько точно данное
произведение соответствует действительности, а не в том, чтобы
оценивать достоинство литературных произведений. Однако такой вывод
был бы слишком поспешным. Добролюбов совершенно искренне
отвергал «различные максимы и суждения, основанные бог знает на
1 Цит. изд. Т. 6. С. 307.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 223
каких теориях»; так, он реагировал на навязчивое морализирование и
дидактизм, которые были отличительными признаками либеральной
«обличительной литературы»; ему было также свойственно
декларировать свое безразличие к оценкам, основывавшимся на различных
эстетических канонах. В то же время он нимало не сомневался в том,
что существуют «общие понятия и законы, которые всякий человек
непременно имеет в виду», «известные аксиомы, без которых
мышление невозможно», «общие понятия и законы, которые всякий человек
непременно имеет в виду, рассуждая о каком бы то ни было
предмете» . Систему этих аксиом и норм Добролюбов называл
«человеческой природой». Поэтому осуждение им субъективных оценок
возникало из твердой уверенности в существовании совершенно
объективной и абсолютной системы ценностей; он требует, чтобы
писатель ограничил себя показом «фактов», потому что убежден, что
факты содержат свой собственный смысл и что изображение
неприкрашенной и неприкрытой действительности само по себе должно
наводить читателя на правильную оценку. Именно строгое
следование фактам и только фактам позволит освободить сознание людей от
«искусственных комбинаций, вредивших устройству общего
благосостояния»2.
Несмотря на то что Добролюбов на словах отрицает эстетические
каноны, но критерий «человеческой природы» в применении к
литературе, несомненно, подразумевает у него превосходство
бескомпромиссного реализма и отвержение литературных конвенций или,
в лучшем случае, безразличие к ним. Реализм в литературе, писал
Добролюбов, - «требование относительно верности действительной
жизни, которое всеми признано, как необходимое»3. Больше того,
опираясь на критерий соответствия человеческой природе и
«естественным» человеческим потребностям, Добролюбов пришел к
пониманию литературы как «силы служебной, которой значение
состоит в пропаганде, а достоинство определяется тем, что и как она
пропагандирует»4. «Мерою достоинства писателя или отдельного
произведения мы принимаем то, насколько служат они выражением
естественных стремлений известного времени и народа» . Отсюда
один шаг до полного отождествления «естественных» стремлений
и идеалов со стремлениями и идеалами простого человека. В статье
1 Там же. С. 304.
2 Там же. С. 309
3 Там же. С. 305.
4 Там же. С. 309.
5 Там же. С. 307.
224 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
«О степени участия народности в развитии русской литературы»
(1858) критик истолковывает историю русской литературы как
постепенный процесс приближения к «естественности» и
«народности», заканчивая статью призывом встать на «народную точку
зрения» в литературе.
В исторической перспективе слабость теоретических убеждений
Добролюбова не подлежит сомнению: его метод опирался, с одной
стороны, на анахроничное представление восемнадцатого столетия о
человеческой природе, а с другой стороны - на позитивистскую
(в широком смысле этого слова) иллюзию об объективной природе
«факта». Но эта иллюзия не приводила Добролюбова к преклонению
перед фактами; наоборот, его вера в «человеческую природу» как
неизменный и абсолютный коррелят нормативных суждений давала
ему уверенность в себе - уверенность, резко отличавшую его от
рефлектирующих либералов сороковых годов, которых он критиковал.
«Факты» Добролюбова приобретали новое революционное значение,
подкрепленное его убеждением, что это значение неотделимо от
самих фактов. В свете статей Добролюбова русская действительность
оказывалась противной самой человеческой природе, и это
показывалось на объективных фактах, собранных в произведениях почти всех
писателей-реалистов, даже тех, кто вовсе не были радикальными. Все
это, конечно, производило большое впечатление и превращало
литературную критику в могучее орудие, способствовавшее
радикализации общественного сознания.
Излюбленная тема Добролюбова - проблема «двух поколений»
или, точнее, двух общественных сил, вовлеченных в движение
пореформенного периода. В его статьях нашли свое выражение идеи
молодого поколения радикальных демократов, которые ясно осознали
бездну, отделявшую их от либерального дворянства, от тех, кто еще
недавно выносил на себе основную тяжесть оппозиции. Вслед за
Чернышевским1, Добролюбов взялся показать тесную связь между
отсутствием решительности у либеральной оппозиции его времени и
психологическим типом «человека сороковых годов». Не имея корней в
конкретном общественном движении, писал Добролюбов, «лишние
люди» неспособны к действию и предпочитают быть пассивными
наблюдателями, которые на словах выражают одобрение начатых
правительством реформ. Новая эпоха нуждается в «новых людях», и
такие люди уже начали появляться. На смену идеалистам-либералам,
терзаемым внутренними конфликтами и парализованным «рефлек-
1 Чернышевский обсуждал тему «лишних людей» в своей статье «Русский
человек на Rendez-vous» (1858).
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 225
сией», постепенно приходит «тип людей реальных, с крепкими
нервами и здоровым воображением»1.
Это выдержки из статьи «Литературные мелочи прошлого года»,
опубликованной в 1859 г. В ней Добролюбов искусно соединяет
беспристрастную критику либеральных публицистов и так называемой
«обличительной» с размышлениями о «людях сороковых годов» как
предшественниках современного русского либерализма. Хотя «раз-
гребатели грязи», говорит в этой статье Добролюбов, разоблачают
различные общественные недуги, их критика поверхностна, а
средства излечения, предлагаемые ими, - только паллиативы. В сущности,
либералы бояться последовательного, полного разоблачения, потому
что сами они - продукт той самой общественной действительности,
которую они пытаются изобличать.
Эти свои мысли Добролюбов развивает в острой статье «Что такое
обломовщина?», опубликованной в том же году. Обломов, герой
знаменитого романа Гончарова, показан в этой статье с неожиданной
точки зрения - как последний «лишний человек» в русской
литературе, как брат или, по крайней мере, близкий родственник пушкинского
Евгения Онегина, лермонтовского Печорина, герценовского Бельтова
и тургеневских Рудина и «Гамлета Щигровского уезда». Добролюбов
признает, что существуют некоторые индивидуальные различия
между ленивым, совершенно апатичным Обломовым и трагической
фигурой Печерина, которого Лермонтов сделал «героем нашего времени»;
тем не менее, все «лишние люди» органически не способны к
реальным поступкам, поскольку все они были воспитаны в
деморализующих, тепличных условиях привилегий, праздности и отсутствия
ответственности. У них нет права на ореол славы, каждый из них
страдает от паралича «обломовщины». Добролюбов тем самым свел
жесткие расчеты со всей культурой и традициями просвещенного
либерального дворянства.
Жесткость добролюбовской критики вызвала протесты с самых
разных сторон. Либералы повторяли аргумент, выдвинутый
Анненковым в его полемике с Чернышевским: «идеалист сороковых годов»,
которого критикуют радикальные демократы, - это «единственный
нравственный тип в современном мире»2. Немаловажно, что и Герцен
тоже не замедлил встать на защиту лишних людей. В статье Very
Dangerous!!! он даже утверждал, что, критикуя либеральную печать
и либеральные традиции русской интеллигенции, «паяцы» из
«Современника» подстрекают царский режим и заслуживают быть
1 Добролюбов Н. Указ. изд. Т. 4. С. 73.
2 Анненков П.В. Воспоминания и критические очерки. Т. 2. СПб.,1879.
С. 170-172.
226 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
награжденными абсолютизмом. Редакторы «Современника» были
сконфужены, оказавшись мишенью критики с такой неожиданной
стороны; ведь даже Добролюбов всегда считал Герцена (как и
Белинского) «высшей натурой», и его критика Герцена не затрагивала.
Чернышевский счел необходимым отправиться в Лондон для того, чтобы
лично выяснить недоразумение; он вернулся в убеждении, что Герцен
- человек прошлого. Недоразумение прояснилось, но различие во
мнениях осталось. Это видно из того, что после разговора с
Чернышевским Герцен напечатал другую статью («Лишние люди и желче-
вики»), написанную в смягченном тоне, но осуждающую
пренебрежительное отношение Добролюбова к поколению сороковых годов
как предрассудок и антиисторизм.
Бескомпромиссная критика Добролюбовым русского общества и
его столь же суровое осуждение тех, кто до этого считался «лучшими
сынами» России, сопровождались у него решимостью найти
достойные, положительные стороны русской жизни, новые образцы для
подражания и новых литературных героев.
В статье «Когда же придет настоящий день?» Добролюбов
набросал живой портрет «сильной натуры» - человека действия,
способного повести свою страну вперед по пути прогресса. Этой
«сильной натурой» был Инсаров, герой романа Тургенева
«Накануне», болгарин, борющийся против турок за свободу своей страны.
Источник твердости и энергии Инсарова, по мысли Добролюбова, -
абсолютное отсутствие у него какой-либо связи с тем, чему Инсаров
стремится противостоять. Хотя Россия не завоевана как нация, она
прежде подчинялась «домашним туркам» и нуждается в таких
людях, как Инсаров. И эти люди скоро появятся - таково
заключение статьи Добролюбова.
В статье «Луч света в темном царстве» (1860) революционный
протест выражен по-другому. Характер Катерины в пьесе
Островского «Буря» Добролюбов истолковал как символ стихийного бунта,
набирающего силу в народных массах, как знак приближающейся
«бури». Судьба Катерины, утверждает Добролюбов в этой своей
статье, должна убедить аудиторию в том, что «живая русская натура»
не может больше принять безысходной действительности «темного
царства»: среди угнетенных масс не может не проявиться протест.
Такое толкование не вытекает однозначно из пьесы Островского,
но благодаря Добролюбову оно стало постоянно ассоциироваться
с ней.
В то время как Добролюбов писал свои статьи о Тургеневе и
Островском, он уже страдал тяжелой формой туберкулеза. Летом 1860 г.
друзья убедили его поехать на лечение в Италию. Там он продолжал
много работать; плодом его пребывания в Италии стал впечатляющий
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 227
цикл статей, в которых анализировались успехи и неудачи
итальянского национально-освободительного движения. По возвращении
в Петербург в августе 1861 г. стало ясно, что перемена климата не
принесла ожидавшегося улучшения здоровья. Добролюбов умер в
ноябре того же года.
ДМИТРИЙ ПИСАРЕВ И «НИГИЛИЗМ»
После смерти Добролюбова и заточения в тюрьму Чернышевского
самым влиятельным литературным критиком в России был Дмитрий
Писарев (1840-1868)1. Хотя, подобно Добролюбову, Писарев развивал
идеи, выдвинутые Чернышевским, он придал этим идеям отпечаток
своей личности и пришел к выводам, которые сильно отличались от
направления Добролюбова; Писарев однажды даже написал, что если
бы он прежде встречал Добролюбова, то, вероятно, не согласился бы с
ним ни по одному вопросу2.
Идейное направление, которое представлял Писарев в своих
статьях, написанных для журнала «Русское слово», часто называли
«нигилизмом». Это слово, получившее широкое распространение
благодаря роману Тургенева «Отцы и дети», поначалу не заключало
в себе оскорбления (abuse), хотя именно это значение навязала ему
праворадикальная критика. Первоначально это слово означало
просто отрицание всех существующих авторитетов, решимость не
признавать ничего (nihil) такого, что невозможно оправдать с точки
зрения автономного, индивидуального разума. В «Отцах и детях»
Базаров (который представляет поколение «детей») сам использовал
обозначение «нигилист»; Писарев восхищался этим героем
Тургенева и представил его как образец для молодого поколения. Подобно
Базарову, Писарев считал, что освобождение индивида от
иррациональных уз, навязанных ему обществом, семьей и религией, должно
в основном осуществиться (центральная мысль нигилизма) путем
популяризации естественных наук. В то же время у Писарева была
преувеличенная вера в утилитарную этику «разумного эгоизма». Он
использовал свои статьи для пропаганды «мыслящих реалистов»
В отличие от Чернышевского и Добролюбова, Писарев происходил из
дворян. В первых своих статьях он защищал «чистое искусство» и умеренный
либерализм. Его взгляды стали более радикальными в 1861 г. Самая полная западная
работа о Писареве: Coquart A. Dmitry Pisarev et l'idéologie du nihilisme russe. Paris,
1946. В книге советского исследователя А.И. Новикова «Нигилизм и нигилисты»
(Л., 1972) «нигилизм» 1860-х гг. анализируется в перспективе дальнейшего
развития нигилистических идей в русской и западной мысли.
2 Писарев Д.И. Сочинения. М, 1955-1956. Т. 3. С. 35.
228 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
(литературным прототипом которых был Базаров) и для нападок на
«эстетику» - понимая под этим словом эстетствующие позирования
дворян-либералов.
С течением времени, особенно под влиянием праворадикальной
прессы, ярлык «нигилисты» был приклеен также к революционерам
семидесятых годов (особенно к террористам), хотя последние упорно
отвергали это определение, адресуя его исключительно «писаревцам».
Это различие подчеркнул революционный народник Сергей Кравчин-
ский, удачно осуществивший покушение на шефа полиции
Мезенцева. В своей книге «Подпольная Россия» Кравчинский писал: «Трудно
представить себе более резкую противоположность. Нигилист
стремится во что бы то ни стало к собственному счастью, идеал
которого - «разумная» жизнь «мыслящего реалиста». Революционер ищет
счастья других, принося ему в жертву свое собственное. Его идеал -
жизнь, полная страданий, и смерть мученика»1. Это утверждение,
конечно, - явное упрощение; в другом месте своей книги Кравчинский
подчеркивает, что нигилисты не были расчетливыми эгоистами и
цитирует характерное заявление В. Зайцева, одного из ближайших
соратников Писарева: «...мы были глубоко убеждены в том, что
боремся за счастье всего человечества, и каждый из нас охотно пошел бы на
эшафот и сложил свою голову за Молешотта и Дарвина»2. Тем не
менее, остается фактом, что нигилизм шестидесятых годов не был
революционным движением; он, несомненно, способствовал
радикализации общественного мнения, но он не пропагандировал
революционных методов борьбы и сам по себе не указывал революционных
целей.
Этому выводу как будто противоречит внешне значительный
эпизод биографии Писарева - четыре с половиной года заключения в
Петропавловской крепости. В июне 1862 г. Писарев познакомился с
Петром Баллодом - студентом, который пользовался незаконным
печатным станком, - и попросил его напечатать написанную им
прокламацию. В ней Писарев защищал Герцена от нападок,
содержавшихся в двух памфлетах, написанных по-французски бароном Фирк-
сом, царским агентом в Бельгии, который выступил под псевдонимом
Шедо-Ферроти. Последние слова писаревской прокламации звучат
как призыв к революции:
Династия Романовых и петербургская бюрократия должны
погибнуть. Их не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни
литераторы, подобные Шедо-Ферроти.
1 Степняк-Кравчинский С. Подпольная Россия. М.: ГИХЛ, 1960. С. 25.
2 Там же. С. 21.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 229
То, что мертво и гнило, должно само собой свалиться в могилу;
нам останется только дать им последний толчок и забросать
грязью их смердящие трупы1.
Баллода арестовали прежде, чем прокламация была напечатана,
и Писарев тоже был задержан. Во время допросов Писарев пытался
защищаться, ссылаясь на свое нервное состояние, вызванное
разрывом помолвки и реакционными мерами правительства (закрытие
воскресных школ и временное закрытие «Современника» и «Русского
слова»). Даже если принять эти объяснения за чистую монету, то
вполне возможно, что при других обстоятельствах Писарев мог бы
вступить в революционный лагерь. Как бы то ни было, прокламация
Писарева так и осталась изолированным эпизодом в его биографии.
В статьях, опубликованных и до и после ареста (в тюрьме ему было
разрешено читать книги и писать статьи), Писарев однозначно
высказывался в поддержку нереволюционных методов борьбы. Он был
убежден, что, во всяком случае, в обозримом будущем трезвый,
реалистический взгляд на существующее ясно показывает, что успешная
революция совершенно невозможна; и хотя при определенных
обстоятельствах революция может стать неизбежной, но «мыслящие
реалисты должны прибегнуть к революционной форме борьбы только в
крайнем случае. В своей программной статье «Реалисты» Писарев
противопоставляет «механические влияния» (имея в виду
революцию) «химическим влияниям» (то есть борьбе за новое,
«реалистическое» мировоззрение и последовательную легальную борьбу за
реформы). Поэтому, в противоположность Добролюбову, Писарева
можно назвать не революционером, но скорее радикальным
поборником терпеливой органической работы на благо прогресса.
Это различие станет вполне отчетливым, если проанализировать
отношение Писарева к излюбленным литературным героям
Добролюбова. Например, тургеневского Инсарова (из романа «Накануне»)
Писарев обвиняет в том, что персонаж этот нереалистичен, негибок и
импульсивен. Писарев расходился с Добролюбовым также и в оценке
Катерины в «Грозе» Островского, утверждая, что бунт Катерины
чисто эмоционален и иррационален и потому лишен позитивной
ценности. Вследствие того что Добролюбов страстно превозносил
Катерину, то он, по мнению Писарева, отказался от «реалистического»
взгляда на действительность и невольно поддержал «эстетику».
Различие в мировоззрении двух этих людей коренилось в их
философских убеждениях. В своем общем взгляде на мир Добролюбов
и Писарев оба - материалисты, но они были идеалистами в своем по-
1 ПисаревД.И. Цит. изд. Т. 2. С. 126.
230 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
нимании истории. Материализм Писарева имел характерные
элементы позитивизма (например, его защита агностицизма как
радикального средства борьбы против метафизики) и был столь же
экстремистским, как и его исторический идеализм. Интересно отметить, к
примеру, что Писареву больше всего импонировал не материализм в духе
Фейербаха, а его вульгаризованная натуралистическая версия,
выдвинутая Бюхнером, Фохтом и Молешоттом. В то же время довольно
наивный рационалистический идеализм Писарева привел его к
отождествлению прогресса с ростом научного знания, так что наука
превращалась прямо-таки в демиурга истории. Добролюбов тоже верил в
науку, но свойственная ему идеализация простых людей, в которых
он видел представителей неизменной человеческой природы,
направляла его внимание на историческую роль стихийных массовых
движений. Писарев же продолжил линию тех мыслителей в России,
которые считали, что единственной прогрессивной силой является
образованное меньшинство, а ко всем чисто «естественным» и спонтанным
поступкам относились с большой долей скептицизма.
Интересной иллюстрацией взгляда Писарева на вопрос о «новых
людях» и положительном герое является также статья о романе
Чернышевского «Что делать?», опубликованная в 1865 г. под названием
«Новый тип» (позднее перепечатанная под заглавием «Мыслящий
пролетариат»). Удивительным в этой статье кажется, на первый
взгляд, возвеличивание загадочного революционера Рахметова,
которого Писарев считает удачным изображением «необыкновенного
человека», который, по его мнению, бесконечно выше (за вычетом его
аскетизма) тургеневского Инсарова. Не следует считать этот ход
мысли несовместимым с писаревской программой органических реформ;
скорее Писарев хочет сказать, что «нереволюционный» не то же
самое, что «антиреволюционный». Рахметов, писал Писарев,
необыкновенный человек, его деятельность может в полной мере раскрыться в
необычных обстоятельствах, которые невозможно планировать или
предвидеть; только далекое будущее сделает явным плоды
деятельности этого человека. В настоящее же время обыкновенные люди
нуждаются в своей повседневной жизни в образцах для подражания.
Другие ведущие персонажи романа Чернышевского - Лопухов, Кирсанов
и Вера Павловна - дают такого рода образцы.
Любимым литературным героем Писарева - идеалом «мыслящего
реалиста» - был тургеневский Базаров, которому он посвятил две
статьи: «Базаров» (написана в 1862 г.) и более пространную «Реалисты»
(написана в тюрьме в 1864 г.). Различие позиций в той и другой
работах бросается в глаза. В первой статье Писарев откровенно
восхищается Базаровым как идеалом эмансипированной, твердо стоящей на
собственных ногах личности и представляет его как человека, отвер-
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 231
гающего все «принципы» и нормы, думающего только о себе и
неспособного к какому-либо самопожертвованию: «Им управляют только
личная прихоть или расчет. Ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя
он не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона.
Никакого принципа. Впереди - никакой высокой цели; в уме -
никакого высокого помысла, и при всем этом - силы огромные»1. Для
Писарева такая абсолютная эмансипация индивидуального «я» совпадает
с эмансипацией личности, а потому достойна похвалы как
необходимая предпосылка критического ума.
В «Реалистах» позиция Писарева резко модифицирована. На место
имморалистского индивидуализма приходит утилитаризм, который,
хотя и коренится в индивидуалистическом мировоззрении, тесно
связан с идеей труда ради общего блага. Внимательный анализ его
собственной позиции, утверждает теперь Писарев, показывает, что
мыслящая личность всем обязана обществу и что чувство чести требует
и от него заплатить свой долг: всякий честный человек должен внести
свой посильный вклад в решение «неизбежного вопроса о голодных
и раздетых людях»; «вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем
бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать»2. В этом своем новом
наброске характера Базарова Писарев делает акцент не на важности
мотива удовольствия, а на общественных целях, не на радостном
освобождении от ограничивающих мыслящую личность уз, а на
осознанном подчинении строгой критической рефлексии и на вкусе к
постоянному «общественно полезному» труду. Разумеется, этот свой
новый взгляд Писарев не считал несовместимым с эгоизмом: мотивы
Базарова, по его мнению, - мотивы эгоизма «мыслящего реалиста»,
а не «эстета».
Писарев, хотя он и ратует за необходимость усилий для того,
чтобы улучшить судьбу «голодных и раздетых», все же не был
социалистом; «мыслящих реалистов», по его мнению, можно найти не только
среди демократической интеллигенции, но и среди образованных
капиталистов, которых он называл «мыслящими вождями труда среди
масс». Такое отношение объясняется не только тем, что он возлагал
мало надежд на массы, но еще и тем, что Писарев больше, чем
Добролюбов, был осведомлен об индустриализации и техническом
прогрессе. Писарев чувствовал, что в современной ему России люди,
подобные Базарову, могут появиться только среди интеллигенции;
массы - это все еще пассивный сырой материал истории и, вероятно,
останутся такими еще долгое время. Только образованные и в
финансовом отношении независимые слои общества в состоянии организо-
1 Там же. СП.
2 Ук. соч. Т. 3. С. 195.
232 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
вать труд масс разумным образом и увеличить производительность
труда за счет применения новейших научно-технических
достижений.
В этой конструктивной и политически умеренной позитивистской
программе, закладывающей основы будущего процветающего
общества, «нигилизм» играет второстепенную роль. За одним
исключением, однако: в отношении к искусству и «эстетике» Писарев занял в
«Реалистах» позицию более крайнюю, чем в «Базарове». В «Базарове»
критик не отождествлял себя с такими высказываниями своего
любимого героя, как, например, заявление о том, что Пушкин недостоин
чтения, или что «Рафаэль гроша медного не стоит». В «Реалистах»
уже нет оговорки, что эти оценки следует понимать исторически, как
реакцию на чрезмерный эстетизм поколения «отцов». Писарев
провозглашает теперь, в духе радикального пуританизма, что тратить
человеческую энергию на создание и потребление удовольствий,
доставляемых искусством, - то же, что противоречить принципу
«экономии материальных и умственных сил». Романы еще могут,
допускает Писарев, иметь какую-то дидактическую ценность, но уже
роль поэзии вызывает у него сильные сомнения, а бессмысленность
музыки и изобразительного искусства для него вообще не подлежит
никакому сомнению: «...я решительно не верю тому, чтобы эти
искусства каким бы то ни было образом содействовали умственному и
нравственному совершенствованию человечества»1.
Эти мысли, характерные для общего направления журнала
«Русское слово», Писарев позднее развил в критическом эссе «Пушкин и
Белинский» (1865), а также в статье под выразительным заголовком
«Разрушение эстетики» (1865). Первая из этих работ представляет
собой очень резкий, даже грубый выпад как против культа Пушкина,
проводником которого был Аполлон Григорьев, так и против позиции
«искусства для искусства», которую отстаивали либеральные
критики. Писарев также оспорил высокие оценки Белинским Пушкина,
назвав Белинского «полуэстетом». Во второй статье - «Разрушение
эстетики» - представлено одностороннее «нигилистическое»
истолкование эстетических взглядов Чернышевского.
Важной стороной творческой деятельности Писарева были его
популярные статьи о естественных науках; он считал эти науки самым
эффективным орудием пропаганды «реализма». Он был одним из
первых в России, кто писал о Дарвине и теории эволюции, и его вклад
в этой области высоко оценивал К. Тимирязев, самый значительный в
России представитель дарвинизма. Эти статьи Писарева, написанные
очень живо, захватывающим и ярким стилем, читались студентами по
1 Там же. Т. 3. С. 114.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 233
всей России. В некоторых своих статьях о жизни животных Писареву
удалось соединить популяризацию наук и материалистическую
философию с остроумными и сатирическими замечаниями (по аналогии) о
человеческом обществе.
Есть основания полагать, что, если бы Писарев не умер в молодом
возрасте, он пришел бы к более сбалансированной позиции, близкой к
взглядам Чернышевского и сотрудников «Современника». Тон его
последних статей, как кажется, делает весьма вероятным такое
предположение. Другое свидетельство перемены в его мировоззрении -
тот факт, что после освобождения из тюрьмы он делал попытки
сблизиться с Некрасовым и Салтыковым-Щедриным, которые затеяли
издание журнала «Отечественные записки» после запрещения
«Современника». К несчастью, Писареву не суждено было жить долго; в
июне 1868 г. он утонул, купаясь в Балтийском море близ Риги.
КРИТИКА «ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ»:
АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ И НИКОЛАЙ СТРАХОВ
Рационализм в стиле Просвещения в его различных формах
задавал тон в прогрессивных кругах 1860-х гг. В сфере философии
серьезные успехи сделал материализм, что объяснялось главным образом
отсутствием профессиональных философов в российских
университетах. Самым серьезным критиком «антропологического принципа»
Чернышевского был богослов Памфил Юркевич (1827-1874),
профессор Киевской духовной академии. Его статьи «Из науки о
человеческом духе» и «Против материализма» привлекли внимание
влиятельных консерваторов, которые помогли ему получить кафедру
философии в Московском университете. Однако платонический идеализм
Юркевича слишком напоминал традиционную христианскую
апологетику для того, чтобы получить сколько-нибудь широкое влияние
в светских кругах.
Больший интерес вызвала и куда большим идейным и культурным
потенциалом располагала литературно-критическая реакция на
«просветителей» группы «почвенников» - сторонников «возвращения к
почве». Этот призыв имел явные отзвуки славянофильства; и,
действительно, идеологи почвенничества рассматривали свой конфликт с
«просветителями» как часть более широкой полемики о
взаимоотношении между Россией и Европой, продолжая тем самым философские
дискуссии 40-х гг. в новом контексте. В количественном отношении
влияние этой группы было ничтожным, но ее вклад в русскую
культуру имел, тем не менее, большое значение - главным образом в силу
234 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
той плодотворной роли, которую идеи почвенников сыграли в
творчестве Достоевского .
Главным идеологом «почвенников» был поэт-романтик и
литературный критик Аполлон Григорьев (1822-1864). Однако
романтический национализм самого Григорьева отличался от романтического
национализма славянофилов, которых он обвинял в односторонней
идеализации древнерусского боярства и патриархального
крестьянства. По его мнению, исконные принципы русской жизни
сохранились лучше всего в тех слоях населения, которые не подверглись
влиянию крепостного права, например в среде консервативного,
московского купечества, незамеченного славянофилами. Славянофилы, со
своей стороны, относились с оправданным подозрением к
экстравагантному «эстетическому» романтизму Григорьева, окрашивавшему
даже его отношение к религии и к его романтическим восторгам по
поводу многообразия национальных культур с их «запахами и
оттенками»: эти его восторги имели привкус релятивизма и их трудно было
примирить с «истинно христианской» системой ценностей.
Возможно, самой выдающейся особенностью личности А.
Григорьева была глубоко укоренившаяся в нем неприязнь ко всякой
«искусственности», к сковывающим схемам и безжизненности - ко всему
тому, что, согласно проведенному им разграничению, не «рождено»,
а «сделано». Григорьев резко полемизировал с всеми
рационалистическими теориями во имя «непосредственного», интуитивного познания
и противопоставлял «жизнь», «органичность» и «историю» - «теории»
и «логике». Свою философию Григорьев обобщил в следующей
формулировке: <«.. .> не один ум с его логическими требованиями и
порождаемыми необходимо этими требованиями теориями, а ум и логические его
требования плюс жизнь и ее органические проявления»2.
Одной из самых опасных теорий представлялась Григорьеву
философия Гегеля. В своей критике гегельянства он пытался объяснить,
почему «просветители» стали доминировать в русской
интеллектуальной культуре и каким образом гегельянство Белинского
проложило путь просветительскому рационализму Чернышевского и
Добролюбова3. «Исторической критике», представителем которой Григорь-
1 См. ниже.
2 Григорьев A.A. Сочинения. СПб., 1876. Т. 1. С. 624.
Отношение Григорьева к Белинскому было сложным. В творческой
деятельности Белинского он разграничивал два направления мысли: одно вело к
самому Григорьеву, другое - непосредственно к «просветителям» шестидесятых
годов. Григорьев критиковал Белинского как теоретика «натуральной школы»,
но принимал его интерпретацию Пушкина, превозносил написанное в период
«примирения с действительностью» и увлечения Шеллингом в 1830-е гг., но в то
же время критиковал Белинского как левого гегельянца.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 235
ев считал позднего Белинского, он противопоставляет что-то вроде
антитезы, названной им «органической критикой». Вводя эту свою
антитезу, Григорьев основывается на различии между «историческим
чувством» (т.е. консервативным историзмом, возникшим как реакция
на рационализм восемнадцатого века) и «историческим воззрением»
в духе левого гегельянства (т.е. историцистской теорией - одним из
проводников ее был Белинский - о бесконечном и всеобщем
прогрессе). «Историческое воззрение», отметает Григорьев, представляется
ему еще одним вариантом «рассудочной» версии прогресса.
Опасность «исторического воззрения» как теории, утверждает Григорьев,
состоит в том, что оно представляет собой странное соединение
фатализма и релятивизма; согласно этой теории, ни индивиды, ни народы
не отвечают за свою собственную жизнь, но являются только
«переходными моментами», только орудиями осуществления всеобщего
духа. Сам-то Гегель, основоположник «исторического воззрения», как
раз обладал «историческим чувством», но это чувство совершенно
исчезло у его учеников: у них не осталось ничего, кроме
догматический телеологической «теории истории» - абстрактной модели
эволюции, в соответствии с которой жизнь развивается по
предустановленному плану. В этой теории истории, как и во всяком
рационализме, подразумевается, что реально существует некий отвлеченный Дух
Человечества - представление, которое Григорьев отвергает как
иллюзию, поскольку действительным бытием, по его мнению, обладают
только конкретные индивиды - индивидуальные человеческие
существа или коллективные индивидуальности1.
Основные возражения А. Григорьева против «исторического
воззрения» (и «исторической критики») можно свести к трем пунктам.
Во-первых, он обвинил представителей этого направления в том, что
каждое «последнее слово» прогресса они преподносят как
абсолютную ценность, сводя все богатое разнообразие жизни к упрощенной
формуле «постепенного приближения» к тому, что принято за норму
в данный момент. Во-вторых, Григорьев почувствовал, что вера
представителей «исторического воззрения» во всеобщую и неизбежную
природу прогрессу приводит их к недооценке своеобразия народа,
к тому, что упускается из виду значение конкретно-индивидуального
и неповторимого феномена и игнорируется все то, что невозможно
объяснить всеобщими законами. В-третьих, отождествляя свое
собственное сознание с имманентным Разумом Истории, идеологи
«исторического воззрения» виновны в том, что пытаются осуществлять
сознательный контроль над жизнью и считают себя вправе втискивать
1 См. статью Григорьева «Взгляд на основы, значение и приемы современной
критики искусства» (1958) в указанном издании его сочинений. Т. 1.
236 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
жизнь в прокрустово ложе логики и резать скальпелем на части ее
живую ткань в самодовольном убеждении, что такая операция
окажется целительной. Это абсурдное и вредное притязание, утверждал
Григорьев; оно не принимает в расчет тот факт, что жизнь
направляется Божественным творчеством - «живым фокусом высших законов
самой жизни»1 - и что человек должен прислушаться к
иррациональной пульсации жизни вместо того, чтобы пытаться
контролировать жизнь.
Выход за пределы «исторического воззрения» Григорьев считал
заслугой позднего Шеллинга, который в своей «Философии
откровения» настаивал на личном бытии, персональности Бога, вновь
утвердил человеческую индивидуальность в качестве абсолютной ценности
и заложил основу для понимания того, что народы - это тоже
уникальные и иррациональные, исключительные личности, не
подверженные воздействию так называемых всеобщих законов человеческой
эволюции.
Народы, писал Григорьев, это организмы, каждый из которых «сам
в себе замкнут, сам по себе необходим, сам по себе имеет полномочие
жить по законам, ему свойственным, а не обязан служить переходною
формой для другого»2.
Основная предпосылка «органической критики» Григорьева - вера
в то, что жизнь есть «органическое единство»3. Это, естественно,
приводило его к предпочтению «органических явлений» в культуре,
т.е. произведений, укорененных в народной почве. Тем не менее,
«возвращение к почве» не означало для Григорьева (в отличие от
славянофилов) отвержения западных ценностей или отрицания принципа
персональности. На взгляд Григорьева, не только «кроткий» тип,
идеализированный славянофилами, но и его противоположность -
«хищный» тип, представляющий индивидуализм, имеет в русской почве
свои корни. Органический синтез уважения к традиции и принципу
личности, естественного роста, как у растения, и
утонченно-рационального сознания, - словом, синтез славянофильства и
западничества, - нельзя считать внутренне невозможным. Такой синтез, по
мнению Григорьева, уже произошел в творчестве Пушкина и произойдет
также в обществе, потому что великий поэт всегда является самым
совершенным духовным органом своего народа и непогрешимым
предвестником его будущего.
При таких взглядах не приходится удивляться тому, что Григорьев
занимал оригинальную позицию по вопросу о «лишних людях» в рус-
1 Там же. С. 205.
2 Там же. С. 210.
3 Там же. С. 223.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 237
ской жизни и литературе. Он признает, что «лишние люди»
действительно утратили корни в собственной почве и уделом их стала
внутренняя раздвоенность; но этот процесс, по мысли Григорьева,
необходим для того, чтобы обогатить саму почву и помочь
ассимилировать европейские начала и начало личности. «Лишние люди»
оторвались от своей почвы, но судьба их - в том, чтобы вернуться домой
не только кающимися блудными сыновьями, но такими людьми,
которые принесли с собой новый и ценный опыт, накопленный во время
их «скитальничеств». Излюбленным подтверждением этого тезиса
был для Григорьева путь Лаврецкого, героя «Дворянского гнезда»
Тургенева. По сути дела, Григорьев истолковал идеологическую
эволюцию самых выдающихся русских писателей, начиная с Пушкина
и кончая Достоевским, как аналогичный процесс «укоренения»,
то есть возвращения к народной почве.
Поэтому в спорах шестидесятых годов Григорьев горячо
поддерживал «лишних людей» в противовес «клеветнической», по его
мнению, критике Добролюбова. Если в статье «Что такое обломовщина?»
Добролюбов поставил себе целью доказать, что «лишние люди» сами
укоренены в системе KpenocTHH4ecfBa, которую, казалось бы, они
критикуют, то Григорьев переворачивает эту аргументацию,
утверждая, что такая укорененность говорит в пользу «лишних людей»
перед лицом «беспочвенных теоретиков». Ленивая деревня Обломовка
на самом деле - символ «родной матери», которую Добролюбов
посмел «облевать слюною бешеной собаки»1. Правило «возлюби труд
и избегай праздности и лености», писал Григорьев, совершенно верно
и достойно всяческой похвалы в отвлеченном смысле, в абстракции;
но как только «вы станете, как анатомическим ножом, рассекать то,
что вы называете Обломовкой и обломовщиной, бедная обиженная
Обломовка заговорит в вас самих...»2.
Центральное место в мышлении Григорьева занимает особая
концепция народности в литературе - концепция, которую он
противопоставил как требованию подчинить литературу общественным
и политическим целям, так и идеалу искусства для искусства. Это
позволило ему примирить романтический эстетизм с оправданием
реалистических тенденций, а культ великих романтических поэтов
(помимо Пушкина Григорьев высоко ценил Мицкевича и Байрона) -
с пониманием и симпатией к поэзии Некрасова. Поскольку в его
концепции народности определенное место занимает фольклорное
начало, то в целом Григорьев склонен приветствовать процесс
демократизации в литературе, который выражался в появлении писателей не-
1 Григорьев A.A. Воспоминания (и воспоминания о нем). М.; Л., 1930. С. 212.
2 Григорьев A.A. Сочинения. Т. 1. С. 415.
238 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
дворянского происхождения и в проникновении литературы в
глубинные слои народной жизни. Однако нужно помнить, что понятие
народности в мировоззрении Григорьева соединялось с
романтическим иррационализмом и консервативным взглядом на историю -
представлением о том, что «органичность» противостоит
рациональному мышлению и сознательным попыткам переделывать
действительность. Это, конечно, мешало ему понять, что «теоретики»,
которых он критиковал, - Чернышевский, Добролюбов и Писарев, - на
самом деле тоже были органическим порождением русской почвы.
Другим ведущим идеологом движения «возвращения к почве» был
Николай Страхов (1828-1896), по профессии ученый-естественник и
близкий друг Достоевского и позднее Толстого1. Главным в
мышлении Страхова было представление, что природа и общество образуют
органическое целое. Страхов был уверен, что гегелевская философия
дает теоретические основания для такого холистского взгляда на мир.
Его интерпретация философии Гегеля, конечно, отличалась от
интерпретации А. Григорьева: Страхов видел в гегельянстве не форму
рационализма, а напротив, считал Гегеля «чистейшим мистиком»,
связанным традицией мистицизма Баадера, Мейстера Экхарта и Ангелу-
се Силезиуса2. Вряд ли стоит удивляться тому, что Страхов нашел
возможность примирить так понятое гегельянство с православным
теизмом и славянофильским иррационализмом.
Всю свою жизнь Страхов посвятил борьбе с различными
проявлениями теоретического атомизма и механицизма, которые, как он
чувствовал, являются симптомами болезни западной цивилизации и
служат идеологическим основаниям нигилизма, революционаризма
и воинствующего «просветительства» шестидесятых годов.
Философию Фейербаха Страхов считал дополнением к атомистическим
концепциям в естественных науках. Квинтэссенция
фейербахианских идей, писал Страхов, заключается в отсутствии единства: «Нет
в мире никакого средоточия и никакой связи; средоточие каждой
вещи в ней самой, каждая вещь потому только существует, что она
отдельна, не связана с другими. Каждая точка в пространстве,
каждый атом существует отдельно, сам по себе, и это-то и есть
настоящее существование»3. Эта цитата - из статьи Страхова 1864 г. Хотя
речь в статье идет о Фейербахе, не может быть сомнений в том, что
Страхов имеет в виду также и русского ученика Фейербаха -
Николая Чернышевского.
1 См.: Gerstein L. Nikolai Strakhov. Cambridge, Mass., 1971.
2 Чижевский Д. И. Гегель в России. Paris, 1939. <СПб.: Наука, 2007. С. 309. -
Прим. перев>
3 Страхов H.H. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1883. Т. 2. С. 92.
ГЛАВА 11. Николай Чернышевский и «просветители»... 239
Главное произведение Страхова - книга «Мир как целое» (1872).
В ней он выдвигает свою собственную философию природы и дает
обстоятельную критику идей, популяризированных Писаревым в его
статьях (о материализме, об атомистической и механистической
истории природы и об эволюционной теории Дарвина). Мир, утверждает
Страхов, есть органическое единство. Больше того, это проникнутое
духом единство и различные части его - по существу, воплощение
различных стадий этого духа. Никакая отдельно взятая часть мира как
целого в действительности неотделима от целого, неавтономна; все со
всем связано, ничего не существует «само по себе», все пребывает
в текучем состоянии, как говорил Гераклит. Единство мира имеет
гармонический и органический характер; части, составляющие это
единство, не только соединены между собою, но и подчинены друг
другу, образуя иерархическую структуру. И, наконец, этот мир имеет
центр, которым является человек, самое утонченное произведение и
«узел бытия», «главное явление и главный орган мира». Но человек
постоянно стремится отделить себя от целого, перерезать пуповину,
соединяющую его с органическим единством творения1.
Страхов, разумеется, осуждал эти центробежные тенденции.
Окружающий мир внушал ему дурные предчувствия, поскольку
казался полем битвы могущественных сил разъединения и распада. Для
того чтобы дать отпор этим силам. Страхов призывал к
восстановлению «органического» начала в человеческом существовании - начала,
которое выражается в религиозном чувстве, связях с «народной
почвой» и сознании своей национальной принадлежности.
1 Страхов H.H. Мир как целое. 2-е изд. СПб., 1892. С. VII-IX.
240
ГЛАВА 12
ИДЕОЛОГИИ НАРОДНИЧЕСТВА
ВВЕДЕНИЕ
Г м термин «народничество» употребляется в нескольких различных
ш значениях . В самом широком смысле словом «народничество»
Л- обозначаются все русские демократические идеологии - как
революционные, так и реформистские, - которые выражали интересы
крестьян и мелких производителей и отстаивали тот взгляд, что
Россия может избежать капиталистической стадии развития. Если мы
примем это определение, тогда народничество окажется очень
широким, внутренне дифференцированным движением со своей
длительной историей, начиная от Герцена и Чернышевского и вплоть до
социалистов-революционеров в двадцатом столетии.
В узко-историческом значении, в котором употребляли это слово
русские революционеры 1870-х гг., термин «народничество»
применяется к одному лишь направлению в пределах русского
радикализма - направлению, которое возникло в середине 1870-х гг. после
попыток первого «хождения в народ» и которое отличалось от других
революционных направлений тем, что отстаивало принцип
«гегемонии масс над образованной элитой». В этом смысле слово
«народничество» противопоставлялось «отвлеченному умствованию» тех
революционеров, которые пытались учить крестьян вместо того, чтобы
самим учиться у них, и которые хотели навязать крестьянам идеалы
западного социализма вместо того, чтобы прислушаться к тому, что
крестьяне сами имели сказать, и чтобы действовать в их подлинных
интересах. С точки зрения отстаиваемых ими методов борьбы,
«народники» (во втором значении слова) противостояли участникам
«Народной воли»2 - народнической революционной организации,
1 Детально вопрос об этом термине обсуждается в книге: Walicki A. The
Controversy over Capitalism. Oxford, 1969. P. 1-28. См. также: Pipes R. Narodnichestvo:
A Semantic Inquiry // Slavic Review. 23. No. 3. Sep. 1964. Наиболее полным
изложением истории революционного народничества является книга: Venturi F. Roots
of Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth-
Century Russia. London, 1960.
2 Лучшая монография об идеях «Народной воли» - книга В.А. Твардовской
«Социалистическая мысль России на рубеже 1870-1980-х годов» (М., 1969).
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
241
сложившейся в 1879 г.: в отличие от «народовольцев», «народники»
отстаивали активные действия только среди народа и силами народа,
осуждали революционные заговоры, индивидуальный террор и
попытки захвата власти профессиональными революционными
организациями.
В этой главе термин «народничество» употребляется главным
образом в первом из указанных значений, хотя и в более узком, чем
обычно. Мы исходим из того, что «народничество» следует понимать
не в качестве особого направления революционной мысли, но как
динамическую идеологическую структуру, в пределах которой были
возможны различные позиции. Существенная особенность этого
идеологического комплекса состоит в том, что в нем демократический
радикализм соединялся с неприятием капитализма как социально-
экономической системы. Это неприятие выражалось в различных
формах «социализма», но на деле оно было ближе к тому, что Ленин
называл «экономическим романтизмом» - обращенной в прошлое
утопией, идеализировавшей докапиталистические экономические
отношения. В этом смысле слова «народничество» сложилось в России
только в 1870-е гг., когда широко распространилось разочарование в
прогрессивной роли капиталистического развития. Чернышевского
можно назвать народником in statu nascendi: он сформулировал
базовые положения народнической концепции некапиталистического пути
развития, но Чернышевский принадлежал в первую очередь к
«просветителям», тем, кого Ленин относил к поборникам радикальной
буржуазной демократии и кто боролся против пережитков
феодализма. Народники же (подчеркивал Ленин) сделали значительный шаг
вперед по сравнению с «просветителями», поскольку они поняли,
какие трагические последствия будет иметь капитализм для трудящихся
масс. «Просветители» занимали доминирующее положение в
демократическом движении в период борьбы за отмену крепостного права,
тогда как народничество созрело в пореформенной России как
реакция на стремительное развитие капитализма. Как «просветители», так
и народники представляли интересы широких масс, а в России
девятнадцатого столетия этими массам было в первую очередь
крестьянство; поэтому просветительское движение можно считать базовым
феноменом, из которого позднее возникло народничество. Однако,
в отличие от «просветителей», народники соединяли в себе
антифеодальный буржуазно-демократический радикализм с мелкобуржуазной
реакцией на буржуазный прогресс. Вот почему «наследие
шестидесятых годов» (термин Ленина) было безусловно прогрессивным, тогда
как наследие народничества в этом отношении неоднозначно.
Народник, писал Ленин, - это двуликий Янус, который «смотрит одним
242 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ликом в прошлое, а другим - в будущее» . Янусом, обращенным в
прошлое, был народнический социализм; Ленин часто отмечал, что
социалистические теории народников были «мелкобуржуазными»
(в марксистском смысле этого слова), реакционными и находились
под подавляющим влиянием «экономического романтизма»2.
Годы 1868-1870 можно считать временем появления
классического народничества. Многие молодые радикалы тогда отвернулись от
«реализма» Писарева и отвергли позитивистскую веру во
общеосвободительную миссию науки. В 1868 г. Бакунин опубликовал (в
эмигрантском журнале «Народное дело») свою знаменитую статью,
призывавшую молодых русских людей покинуть университеты и «пойти
в народ». Годом позже были опубликованы три классических
документа народничества: «Исторические письма» Лаврова, трактат
Михайловского «Что такое прогресс?» и книга Флеровского «Положение
рабочего класса в России». Два первых издания ставили под вопрос
оптимистическую веру в прогресс, столь характерную для
«просветителей», отмечали болезненные противоречия исторического процесса
и выражали сомнение относительно концепции однонаправленной
эволюции - концепции, оправдывавшей тот взгляд, что Россия
должна следовать общей схеме европейского пути капиталистического
развития. Флеровский в свою очередь нарисовал живую картину
растущего обнищания крестьянства, последовавшего в результате
внедрения капиталистических общественных отношений в сельское
хозяйство; вывод Флеровского был тот, что необходимо сделать все
возможное для того, чтобы воспрепятствовать дальнейшему
неограниченному развитию капитализма и использовать вместо этого
возможности крестьянской общины. В том же году, когда увидели свет
три этих важнейших документа, начало возникать и революционное
движение народников. Специфически народническим в этих очагах
революционной борьбы было убеждение в том, что необходимо
уделить основное внимание борьбе против дальнейшего распространения
капитализма на территории России.
Если «классическое народничество», как мы его понимаем, и
видело в капитализме «врага номер один», то к этому все же следует
добавить, что в 1870-е гг. оно не только находилось под влиянием
марксизма, но и в определенном смысле было рождено марксизмом.
Не случайно, что начальная стадия развития русской народнической
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. 5-е изд. Т. 1. С. 529.
" Следует отметить, что сам Ленин подчеркивал, что он пользуется понятием
«реакционный» в «историко-философском» смысле и имеет в виду только
ошибку теоретиков, которые в своих теоретических построениях ссылались на
устаревшие общественные отношения как на некий образец. См.: Ленин В.И. Цит.
изд. Т. 2. С. 211. - Прим. ред.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
243
мысли приходится на время после публикации первого тома
«Капитала» (1869), и первый перевод «Капитала», к удивлению Маркса,
вышел в России (1872) по инициативе народников (за перевод взялся
Герман Лопатин, близкий друг Маркса, а завершил Николай Даниэль-
сон, который считал марксизм вполне совместимым с
народничеством). Достаточно сказать, что русские демократы находились под
таким сильным впечатлением от «Капитала», в особенности - от
описания жестокостей первоначального накопления, что они решили
сделать все возможное для того, чтобы избежать развития
капитализма в России. В этом смысле они и стали «классическими»
народниками.
Таким образом, можно сказать, что русское народничество было
не только реакцией против капитализма в самой России (и даже не
просто реакцией на отрицательные стороны капитализма на Западе),
но, кроме того, - и, возможно, прежде всего, - народничество было
русской реакцией на образ капиталистического развития, созданный
социалистической мыслью Запада. Иначе говоря, народничество было
главным образом русской реакцией на критику капитализма и
буржуазных политических систем радикальными социалистами Запада.
И вполне понятно поэтому, что оно не могло не быть
непосредственным откликом на марксизм: ведь Маркс к тому времени стал ведущей
фигурой европейского социализма и автором самой авторитетной
книги о развитии капитализма.
ОТ «ХОЖДЕНИЯ В НАРОД»
ДО «НАРОДНОЙ ВОЛИ»
Антикапиталистический характер народнической идеологии
особенно наглядно проявлялся в недоверии народников к
парламентаризму и подчеркнутом безразличии к «политическим» формам
борьбы. Народники отождествляли «социалистическую» революцию
с социальной революцией, в смысле радикального преобразования
экономической основы общества. С другой стороны, политическая
борьба - т.е. борьба за политическую свободу с целью свержения
самодержавия - трактовалась в качестве всего лишь «буржуазной»
революции, которую настоящим социалистам следует игнорировать.
Таким образом, народники понимали социализм как
противоположность «политической борьбы»; считалось даже, что либеральная
конституция только усиливает привилегированные классы и может на
многие годы свести на нет шансы социалистов. Сегодня нам это
кажется странным парадоксом, но народники действительно считали
себя «аполитичными» и полагали эту аполитичность гарантией того,
244 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
что их социализм не загрязнен буржуазными примесями. Иногда они
занимали такую позицию потому, что были готовы сотрудничать с
правительством при условии, что оно станет продвигать необходимые
общественные реформы; но чаще народники вели себя «аполитично»,
полагая, что если свержение царского самодержавия оставит
общественные отношения неизменными, то это только приведет к
созданию буржуазного правительства и еще больше ухудшит
экономические условия жизни трудящихся масс.
Проблема взаимоотношения между политическими и
общественными целями не была новой. В 1860-е гг. она мучила Герцена и
Бакунина, хотя различие, которое оба они проводили между двумя видами
целей, не было ни таким радикальным, ни таким принципиальным,
каким оно стало в следующее десятилетие. Первая организация
«Земля и воля» (возникшая в 1862-1863 гг. под влиянием идей
Чернышевского, Герцена и Огарева) имела политические цели - такие, к
примеру, как созыв Земского Собора, - и не считала это отклонением от
общественных целей. Принципиальный отказ от политической
борьбы обозначился только в начале семидесятых годов.
Этот отказ произошел в силу ряда причин. Самая очевидная из
них - влияние Бакунина, который к тому времени стал вождем и
главным теоретиком международного анархизма. Бакунин выступал
против Маркса и немецкой социал-демократии на том основании, что
борьба за всеобщие избирательные права или за места в буржуазном
парламенте недостойна социалиста и является капитуляцией перед
мелкобуржуазным радикализмом.
Другим фактором, обусловившим отказ народников от
политической борьбы, был особый тип переживаний «кающегося дворянина»
(термин Михайловского) - состояние сознания, очень ярко описанное
в «Исторических письмах» Лаврова. Члены кружка Чайковского1 -
самого большого объединения народников в начале семидесятых
годов - особенно были склонны к напряженному нравственному
самокопанию, характерному для этого типа сознания. Для этих молодых
людей отказ от политической борьбы был формой самоотречения во
имя «уплаты долга», способом служения своему народу, потому что
для народа политическая свобода, казалось, не имеет реального
смысла. Михайловский, который в своих легально опубликованных
статьях сумел талантливо сформулировать насущные проблемы и дилеммы
революционного движения, в энергичных выражениях определил
существо этого строя мыслей как победу «совести» (чувства
нравственного обязательства) над «честью» (осознанием собственных прав).
Кружок получил свое имя от Н.В. Чайковского, но подлинным его
основателем был H.A. Натанзон.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
245
В интересной статье о «Бесах» Достоевского, опубликованной в
начале 1873 г., накануне «первого хождения в народ», он писал:
...для человека, вкусившего плодов общечеловеческого древа
познания добра и зла, не может быть ничего соблазнительнее свободы
политической, свободы совести, слова устного и слова печатного,
свободы обмена мыслей (политических сходок) и проч. И мы желаем этого,
конечно. Но если все связанные с этою свободой права должны только
протянуть для нас роль яркого и ароматного цветка, - мы не хотим
этих прав и этой свободы! Да будут они прокляты, если они не только
не дадут нам возможности рассчитаться, но еще увеличат их! <...>
Отдавая социальной реформе предпочтение перед политической, мы
отказываемся только от усиления наших прав и развития нашей
свободы, как орудий гнета народа и дальнейшего греха1.
Наконец, - и это было самой важной причиной «аполитичности»
первых народников, - они чем дальше, тем больше осознавали тот
факт, что политическая свобода, мерилом которой служила
английская система, была неразрывно связана с развитием капитализма, а
значит, как им казалось, была шагом назад - во всяком случае, в
России. В создании народнического образа капитализма и буржуазной
политической свободы важную роль сыграли две книги: «Положение
рабочего класса в России» (1869) и «Азбука общественных наук»
(1871). Автором обеих книг был экономист В. Берви-Флеровский,
который был связан с двумя тогдашними центрами народнического
движения - кружками Чайковского и Долгушина2. Большое
впечатление на молодых народников произвели также статья Михайловского
«Что такое прогресс?» и нападки Елисеева на «плутократию» и его
пренебрежительное отношение к парламентскому правлению как
удобному орудию буржуазии3. Не последнюю роль играло и влияние
Маркса: первый том «Капитала» был широко известен в
народнических кругах еще до публикации русского издания в 1872 г. (цензор
считал книгу безвредной, поскольку речь в ней шла только о
Западной Европе). Сам Маркс (в отличие от Бакунина) никогда не
пренебрегал политической борьбой; но для революционеров-народников не
составило большого труда истолковать «Капитал» по-своему. Тезис
1 Михайловский Н.К Полн. с обр. соч. Т. 1. 5-е изд. СПб., 1911. С. 869, 871.
2 Основателем долгушинского кружка, сложившегося в С.-Петербурге
осенью 1869, был A.B. Долгушин.
3 См. статью Г.З. Елисеева «Плутократия и ее основы», опубликованную в
«Отечественных записках» (1872. № 2); перепечатано в кн.: Народническая
экономическая литература / Под ред. Н.К. Каратаева. М, 1958. С. 125-159. Елисеев
в своем анализе правящей «плутократии» основывался на «Капитале» Маркса.
246 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Маркса о том, что политическая надстройка всегда служит интересам
господствующего класса, марксистские разоблачения в особенности
чисто «формального» (а не реального) характера буржуазной
демократии - народники использовали в качестве решающих аргументов
в пользу своего воззрения, в соответствии с которым общественные
и экономические изменения должны иметь приоритет перед
собственно политическими.
Отказ народников от политической борьбы имел своей целью,
среди прочего, доказать, что они совершенно свободны от
буржуазных иллюзий и что их главным врагом является капитализм. Отсюда
понятно, что по мере того? как капиталистические процессы
ускорялись в русской деревне, народники все больше выдвигали на
передний план антикапиталистические и антибуржуазные аспекты своей
идеологии и все больше идеализировали якобы социалистическую
природу общинного самоуправления.
Настоящим взрывом этой романтической веры в социалистические
инстинкты русского крестьянства было великое «хождение в народ»
1873-1874 гг. Следуя примеру членов кружков Чайковского и
Долгушина, сотни и тысячи молодых мужчин и женщин решили «пойти
в народ». Облачившись в крестьянскую одежду, без какой-либо
подготовки, часто даже не координируя свои действия, они отправились в
деревни для того, чтобы испытать подлинную, здоровую и простую
жизнь.
Как бы там ни было, энтузиазм, сопровождавший этот
«коллективный акт руссоизма», как назвал хождение в народ Вентури1, был
чем-то неслыханным и единственным в своем роде. «Ничего
подобного не было ни раньше, ни после, - писал Сергей Кравчинский. -
Казалось, тут действовало скорей какое-то откровение, чем пропаганда.
Сначала еще можно указывать на ту или другую книгу, ту или другую
личность, под влиянием которых тот или другой человек
присоединяется к движению; но потом это становится уже невозможным. Точно
какой-то могучий клик, исходивший неизвестно откуда, пронесся по
стране, призывая всех, в ком была живая душа, на великое дело
спасения родины и человечества»2.
Среди участников движения обычно проводят различие между
последователями Бакунина и последователями Лаврова. Расхождения
между этими двумя группами начали проявляться в конце 1860-х гг. -
еще до «хождения в народ», - во время примечательной дискуссии
о ценности образования и науки с точки зрения революционного дела.
В статье 1868 г., появившейся в эмигрантском журнале «Народное
1 Ventury. Roots of Revolution. P. 503.
2 Степняк-Кравчинский С. Подпольная Россия. M.: ГИХЛ, 1960. С. 32.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
247
дело», Бакунин призвал русских студентов бросить учебу, поскольку
это не более чем форма эксплуатации. В революционную эпоху,
утверждал он, нет времени на обучение, которое служит интересам
правящих классов и усугубляет общественное неравенство. Лавров,
который был гораздо ближе к рационалистическому наследию
«просветителей», счел необходимым отмежеваться от этого воззрения
Бакунина. Очень сжато он это сделал в статье под названием «Знание
и революция», опубликованной в первом номере эмигрантского
журнала «Вперед» (1973). В своей практической деятельности
последователи Лаврова, которых называли «пропагандистами», основное
внимание уделяли революционной пропаганде: просвещая крестьян, они
надеялись подготовить их к социализму. Последователей же Бакунина
называли «бунтарями»: эти шли в деревни не для того, чтобы учить
поселян, а для того чтобы побудить их к стихийному и
незамедлительному бунту.
Результаты крестового похода народников оказались
обескураживающими, и полиция произвела массовые аресты. Молодых
энтузиастов зачастую выдавал жандармам тот самый народ, который
революционеры желали подготовить к революции. Оказалось также, что
русское крестьянство не восприимчиво к социалистическим идеям
и куда меньше склонно к бунту, чем полагали выросшие в городе
интеллигенты. Народническое движение приобрело свой первый
значительный опыт, и необходимо было сделать из него соответствующие
выводы.
Программа революционной организации «Земля и воля»,
основанной в конце 1876 г., основывалась на опыте как «бунтарей», так и
«пропагандистов». Общей платформой было убеждение в том, что
революционеры должны действовать только среди народа и силами
народа. Основными причинами постигшей их неудачи народники
сочли преувеличенную последователями Бакунина готовность крестьян
к восстанию и чрезмерную отвлеченность социалистической
пропаганды. Упрек в отвлеченности был направлен против последователей
Лаврова, но отчасти он относился и к бакунинским «бунтарям», опыт
которых убеждал в том, что неправильно начинать революционную
агитацию среди крестьян с нападок на основы существующего
общественного строя. Для того чтобы избежать этих ошибок в будущем,
программа «Земли и воли» выдвигала только такие цели, которые
можно было «осуществить в ближайшем будущем», т.е. цели,
совпадающие с непосредственными интересами крестьян. «Пришло
время, - заявлял Кравчинский, - сбросить с социализма его немецкое
платье и тоже одеть в народную сермягу»; не только социалисты, но и
социализм должен стать органической частью исконного русского
248 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
крестьянства . Именно эта попытка освободиться от умственной
отвлеченности и утопизма и сделать социалистическую программу
более привлекательной и понятной для масс сыграла решающую роль
в истории термина «народничество», которое до этого употреблялось
редко.
Вооружившись новой программой, революционеры «Земли и
воли» отправились в новый крестовый поход, гораздо лучше
организованный, чем первое «хождение в народ». Согласно Вере Фигнер,
новая организация с самого начала стремилась заменить
«федералистские» принципы централизмом и эффективным руководством .
Условия подпольной деятельности подкрепляли эту тенденцию, и в конце
концов «Земля и воля» была преобразована в «боевую
централизованную организацию», на которую Ленин (в своей книге «Что
делать?») указывал как на пример, которому должны следовать русские
революционеры-марксисты.
Требование строго централизованной, дисциплинированной
организации давно уже выдвигалось Петром Ткачевым - главным
представителем «якобинского», или «бланкистского», направления в
русском революционном движении3. Как обоснование
непосредственного перехода России к социализму идеология Ткачева была
экстремистским вариантом широко понятого «народничества». В то же время,
однако, она полностью противоречила главной установке
народничества в более узком смысле, т.е. теории действования через народ,
силами самого народа, без навязывания ему проектов революционной
элиты. В противоположность революционерам из «Земли и воли»
Ткачев делал ставку на заговор профессиональных революционеров,
цель которых - захват политической власти любой ценой. Он считал
крестовые походы народников - хождения в народ - совершенно
недопустимой тратой энергии и вместо этого предлагал вернуться к
методам Нечаева, с которым он сотрудничал в конце 1860-х гг. Ткачев
также полагал, что многому можно научиться у западноевропейских
заговорщиков первой половины девятнадцатого века, и он особенно
восторгался опытом и искусством заговора у поляков. Его
ближайшими сподвижниками, когда он был эмигрантом, действительно были
два поляка: Карол Яницкий и Каспер Турский5.
1 См.: Козьмин Б.П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961.
С.642.
2 Фигнер В. Поли. собр. соч. М., 1932. Т. 1. С. 105.
3См. ниже. С. 263-271.
4 См. выше. С. 192, прим. 1.
5 Каспер Турский был одим из основателей польского
Социал-демократического общества, учрежденного в Цюрихе в 1872 г., и был связан с Интерна-
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
249
Ткачев утверждал, что массы не способны освободить себя сами,
своими собственными силами. Массы, правда, необходимо
поддерживать ради победы революции, но их роль чисто негативная: они
могут только разрушить. Решающую роль в революции должно
сыграть сильное руководство и хорошо организованная деятельность
революционного авангарда, который один в состоянии извлечь
максимальную пользу из хаоса, порожденного народными восстаниями.
Предварительная работа среди народа не имеет никого смысла; это
просто способ увильнуть от подлинного революционного участия,
удобная уловка, придуманная «реакционными революционерами».
Революцию в России недопустимо откладывать на будущее,
поскольку шансы на успех уменьшаются с каждым днем. Сегодня русское
государство «абсолютно абсурдно и абсурдно абсолютно»: оно
лишено какой бы то ни было реальной поддержки и «висит в
воздухе»1. Завтра, однако, оно станет «конституционным и умеренным»,
и тогда государство найдет поддержку в тех слоях общества, которые
сегодня и не помышляют защищать его. До тех пор, пока русская
буржуазия слаба и капитализм находится на ранней стадии развития,
еще можно планировать другое будущее для России; скоро, однако,
будет слишком поздно.
Этот диагноз соответствовал настроению нетерпеливых
последователей Бакунина, всегда желавших участвовать (engage) в
непосредственном революционном действии; с другой стороны, взгляды
Ткачева на роль масс и на общество будущего, выкованное тоталитарным
революционным государством, были крайне далеки от веры бакунин-
цев в спонтанность, в их идеал свободной федерации
самоуправляющих общин. Ткачев, со своей стороны, был убежден, что крестьянские
общины не способны породить социализм; по его мнению,
неподвижные и замкнутые в своей самодостаточности сельские общины едва ли
не самые консервативные и статичные формы общественной
организации, которые не заключают в себе элемента ростков
прогрессивного развития; они даже не способны сохранить верность своим
старым идеалам и защитить себя против враждебных им сил общества.
ционалом. В 1877-1878 гг. он был в тесном контакте с Валерием Вроблевским,
польским генералом Парижской коммуны, и помогал устроить его нелегальную
поездку в Россию. Вроблевский был членом Интернационала и личным другом
Маркса и Энгельса. Зная критическое отношение Энгельса к Ткачеву,
Вроблевский скрывал от него (и от Маркса) свои контакты с группой Ткачева. См.:
Borejsza J.W. W kregu wielkich wygnahcöw 1848-1895. Warsawa, 1963. P. 68-69,
123-124. О Турском см.: Pietkiewicz K. Kasper Michal Turski. Niepodleglosé, I.
1930. P.103-113.
1 Выражение, употребленное Ткачевым в его «Открытом письме к Энгельсу»
(см. ниже. С. 272).
250 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Поэтому задача революционного авангарда не может ограничиться
свержением абсолютизма. Ткачев приходит к выводу, что
революционная партия должна воспринять и усилить абсолютизм русского
государства для того, чтобы превратить его в мощный инструмент
революционной диктатуры и использовать этот инструмент для
полного, всестороннего преобразования общества. Авторитет
революционной партии, управляющей революционным государством,
должен заменить для русского народа авторитет его «мифического царя».
Члены организации «Земля и воля», как правило, были
решительно не согласны с Ткачевым. Они обвинили его в том, что под видом
русского революционного движения Ткачев предал народные
интересы ради своих собственных политических амбиций. Но, несмотря на
это, влияние Ткачева ускорило появления внутри «Земли и воли»
нового направления, в котором тщательно организованная политическая
борьба за свержение самодержавия получила приоритет над «работой
среди народа».
Этот неохотно осуществленный отход от чисто «народнической»
позиции (в узком, чисто историческом смысле этого слова) стал
итогом и частных успехов, и общего провала второго «хождения в
народ». Революционеры, которые осели в отдаленных деревнях в
качестве провинциальных врачей, учителей или мастеровых для того,
чтобы помочь крестьянам в их повседневной жизни и в организации
сопротивления помещикам, «кулакам» и местным чиновникам, с
полным правом могли заявить, что они добились гораздо большего, чем
«пропагандисты» 1874 г.; но в то же время им пришлось признать, что
они больше не могут эффективно продолжать свое дело в
существующих политических условиях. Именно этот вывод и побудил
некоторых «народников» перейти от узко-народнических методов борьбы к
политическому террору. В январе 1878 г. молодая девушка, Вера
Засулич, стреляла в генерала Трепова, губернатора Санкт-Петербурга,
для того чтобы отомстить за революционера, подвергнутого порке
в тюрьме. В мае того же года был убит в Киеве жандармский
полковник Хейкинг. В августе Сергей Кравчинский зарезал генерала
Мезенцева, шефа секретной полиции. 2-го апреля 1879 г. Александр
Соловьев предпринял неудачную попытку цареубийства, уведомив об этом
«Землю и волю», но не требуя от нее помощи. Через несколько недель
после этого внутри «Земли и воли» была образована тайная
террористическая организация «Свобода или смерть».
Новое направление осудили ортодоксальные народники во главе
с Плехановым1: они обвинили террористов в том, что те забросили
работу среди народа и предали традиционный принцип безусловного
1 См. ниже. С. 436-438.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
251
приоритета «социальных» целей. Многие ведущие участники «Земли
и воли» пытались сохранить верность первоначальным установкам
народничества, не отвергая, однако, терроризм. Характерный пример
этой двойственности - статья Кравчинского, опубликованная в
первом номере подпольного журнала - партийного органа народников
(осенью 1878 г.). В этой статье Кравчинский пытается убедить своих
товарищей, что основные силы партии должны продолжать работу в
деревнях; террористы, писал он, только «охранительный отряд,
назначение которого - оберегать этих работников от предательских
ударов врага»1.
Однако ни статья Кравчинского, ни новая версия партийной
программы, выработанная в 1878 г., не могли предотвратить раскола
внутри «Земли и воли». На тайном общем собрании членов
организации в Воронеже (в июле 1879 г.) был достигнут временный
компромисс (осуществленный благодаря тому, что Плеханов удалился с
собрания); но этого было недостаточно для того, чтобы
«традиционалисты» и «новаторы» преодолели свои разногласия. В октябре 1879 г.
раскол был признан в формальном порядке, и «Земля и воля»
прекратила свое существование. Ортодоксальные народники, руководимые
Плехановым, к которым присоединилась - к разочарованию
«новаторов» - и Вера Засулич, создали самостоятельную организацию под
названием «Черный передел»; название отсылало к народной мечте
о справедливом распределении земли среди «черного» народа, т.е.
среди крестьян. «Новаторы» назвали свою организацию «Народная
воля». Программа новой организации состояла в свержении
абсолютизма и установлении правления в соответствии с волей народа.
В силу почти общего ощущения, что традиционные методы
работы среди народа не имели серьезных результатов, «Народная воля»
без труда сделалась лидером революционного движения; по
сравнению с влиянием «Народной воли», «немногочисленные члены
«Черного передела» не представляли никакой реальной революционной
силы»2. Новым в революционной теории «новаторов»-обновленцев
был отказ от традиционной установки народников на приоритет
«социальных» целей над «политическими» и попытка оправдать
изменение методов борьбы ссылками на специфические особенности
русского государства. Главный теоретик партии Лев Тихомиров выдвинул
два основных аргумента в защиту новой партийной линии: один
аргумент был тот, что правительство активно поддерживает развитие
1 Программа журнала «Земля и воля». Перепечатано в книге под ред.
Каратаева, цит. изд. С. 322-326.
2 См.: Bazylov L. Dzialalnoéc narodnictwa rosyjskogo w latch 1878-1881
[Русское народничество: 1878-1881 гг.]. Вроцлав, 1960. P. 107.
252 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
капитализма в России; другой основывался на теории
«государственной школы» в историографии (о ней говорилось в главе 8) - теории,
утверждавшей, что в русской истории государство всегда было не
просто орудием общественных классов, но создателем этих
классов, верховным организатором всей общественной жизни. Тихомиров
использовал эту теорию в поддержку своего собственного тезиса,
а именно, что в России борьба против имущих классов неизбежно
должна перейти в политическую борьбу против государства, которое
вызвало к жизни все эти классы (включая буржуазию) и которое было
источником их силы.
Принятие постулата «политической борьбы» не означало,
разумеется, что не было различий в интерпретации этого постулата.
Согласно Плеханову, внутри «Народной воли» были две
противоборствующие тенденции: «конституционная» тенденция, которую представлял
Желябов, и «бланкистская»1 (или «якобинская»), к которой склонялся
сам Тихомиров. Следует добавить, что Тихомиров вовсе не был
последовательным «бланкистом»; в этом отношении он не шел ни в
какое сравнение с другим членом исполнительного комитета партии
Марией Ошаниной, страстной последовательницей Ткачева и
ученицей ветерана русского «якобинства» П.Г. Зайчневского.
Согласно «конституционной» интерпретации Желябова,
прибегнуть к политической борьбе означало искать альянса со всеми слоями
общества, которые заинтересованы в свержении абсолютизма -
прежде всего, на практике, с либералами. Цель этого альянса - обеспечить
представительное правительство и демократические права, которые
позволили бы социалистам продолжать легальную борьбу за
улучшение доли крестьян и рабочих. Это воззрение было поддержано
Михайловским в цикле статей «Политические письма социалиста»,
опубликованном под псевдонимом в журнале «Народная воля» в 1879 г.
Михайловский дал идеям Желябова теоретическое обоснование,
утверждая (в противоположность тем взглядам, которых он
придерживался незадолго до этого), что политическую свободу можно
использовать как орудие против русской буржуазии, которая, в отличие
от французской буржуазии восемнадцатого столетия, к счастью, все
еще слишком слаба для того, чтобы установить собственные порядки
после свержения абсолютизма.
Концепция «политической борьбы» Тихомирова была менее
определенной, потому что он разрывался между традиционным
«народничеством» и «бланкизмом». В отличие от Желябова, Тихомиров делал
акцент не на широком альянсе с либералами, а на взятии власти путем
1 По имени А. Бланки (1805-1881), французского революционера и
радикального мыслителя.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
253
решительных действий революционного авангарда. С другой
стороны, он отвергал идею Ткачева о долговременной революционной
диктатуре. Революционеры, утверждал он, должны взять власть, но
удерживать ее только до тех пор, пока общество не будет захвачено
народной революцией.
Независимо от этих различий и разногласий во мнениях, все члены
партии были согласны в том, что скорейший путь к свержению
абсолютизма - это убить царя. Были использованы все возможные
попытки для того, чтобы достичь этой цели. Первые две попытки - взорвать
поезд императора и устроить взрыв в Зимнем Дворце, тщательно
подготовленный Степаном Халтуриным, - не удались, но третья попытка
оказалась успешной. Первого марта 1881 г. Александр И был убит
бомбой, брошенной членом «Народной воли», обрусевшим поляком
Игнасием Хринивицким. В результате революционеров постигло
горькое разочарование: за убийством царя последовали не хаос и
революционные волнения, но консолидация самодержавия. Вместо
ожидавшегося огромного усиления популярности партии арест
главных вождей положил полный конец ее деятельности.
Исполнительный комитет (точнее, те его члены, которым удалось избежать ареста)
обратился с письмом к новому императору (проект письма, скорее
всего, принадлежал Тихомирову, а Михайловский внес в него частные
исправления), убеждая его созвать Народное Собрание и тем самым
избежать кровавой революции в будущем. Письмо заканчивалось
торжественным обещанием, что революционная партия примет как
обязательные все решения свободно избранного Собрания и
безоговорочно откажется от использования силы против правительства.
Однако Александр III предпочел такую политику, которая исключала
всякую надежду на мирное развитие русской монархии.
Те, кто принимал участие в покушении на царя, - Рысаков,
Желябов, Михайлов, Кибальчич и Софья Перовская, - были повешены
3 апреля 1881 г. (Хринивицкий погиб от брошенной им бомбы). Во
время судебного процесса не выдержал испытания только Рысаков,
девятнадцатилетний юноша. Мужественное поведение остальных,
особенно стойкость Желябова и Перовской, изумили судей и
снискали восхищение всего мира.
ПЕТР ЛАВРОВ
Биографическая заметка
Петр Лавров (1823-1900), ведущий мыслитель народничества и
одна из самых привлекательных фигур в русском революционном
движении девятнадцатого века, происходил из семьи богатых земле-
254 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
владельцев1. Он учился в Михайловской Артиллерийской академии
в Петербурге и, завершив образование, преподавал математику в
различных военных академиях. Его карьера была очень быстрой, и к
1858 г. он получил чин полковника. Лавров также интересовался
философией и социологией и в 1860 году опубликовал свою первую
книгу «Очерки вопросов практической философии», в которой заявил
себя приверженцем «антропологизма». На эту книгу обратил
внимание Чернышевский, который обсуждает ее в своем
«Антропологическом принципе философии»; там он обвиняет Лаврова в эклектизме,
но, тем не менее, соглашается с общим ходом его рассуждений.
В это время Лавров был в тесной связи с революционными
вождями первой организации «Земля и воля». В 1866 г. он был арестован во
время волны репрессий, последовавшей после покушения Каракозова
на жизнь царя, и приговорен к ссылке под наблюдением полиции в
Вологодской губернии. Серия статей «Исторические письма»,
публиковавшаяся в журнале «Неделя» в 1868-1869 гг., принесла ему
огромную популярность среди молодых радикалов. В феврале 1870 г.,
революционер Герман Лопатин помог Лаврову бежать за границу, где он
сразу же вошел в контакт с Международной ассоциацией рабочих,
в которую вступил осенью того же года. Лавров принимал участие
в Парижской Коммуне и был послан правительством Коммуны для
организации помощи в Бельгию и Англию, в результате чего у него
возникла продолжительная дружба с Марксом и Энгельсом. С 1873-го
по 1876 г. Лавров издавал революционный журнал «Вперед», сначала
в Цюрихе, а позднее (с 1874 г.) в Лондоне. В этом периодическом
издании он осудил линию поведения Нечаева, в соответствии с которой
в революционной борьбе все средства хороши, предупреждал против
революционного авантюризма и подчеркивал необходимость
длительной и тщательной подготовительной борьбы. Он разделял общее
убеждение народников в приоритете социальных целей борьбы над
политическими и соглашался с Бакуниным, что осуществление
социализма невозможно примирить с сохранением прежнего
государственного аппарата; однако (в противоположность анархистам) это
не помешало ему поддерживать дружеские отношения с
немецкими социал-демократами, которых никак нельзя было назвать
аполитичными.
С самого начала Лавров был радикальнее, чем его последователи
в России. На общем собрании своих сторонников, которое состоялось
См.: Pomper P. Peter Lavrov and the Russian Revolutionary Movement.
Chicago, 1972. «Исторические письма» Лаврова были переведены и
опубликованы на английском языке с введением и примечаниями Скенлана (Scanlan J. P.
Berkeley, Calif, 1967).
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
255
в Париже в конце 1876 г., недовольство по этому поводу достигло
критической точки и привело к расколу, в результате чего Лавров
снял с себя функции редактора журнала. На основании опыта
«хождения в народ» часть его сторонников, особенно влиятельная Санкт-
Петербургская группа, пришла к выводам, которые сам Лавров не мог
принять. Разочаровавшись в крестьянах, эта часть бывших
сторонников Лаврова сосредоточилась на пропаганде среди рабочих; они были
очень осторожны в своем подходе, подчеркивали важность
долговременной воспитательной работы, а не прямого революционного
действия (они были против всяких преждевременных вспышек
недовольства населения и даже против забастовок)1.
Лавров же понимал подготовительную работу к революции
гораздо шире, а не только как мирную пропаганду; хотя он и одобрял
воспитательную работу среди рабочих, но он по-прежнему верил в
социалистический потенциал крестьянской общины и считал, что будущее
России - в аграрном социализме.
После убийства Александра II Лавров вступил в «Народную волю»
и вместе с Тихомировым издавал журнал партии народников (в
Женеве). После распада «Народной воли» он вернулся к научной
деятельности и напечатал несколько книг по исторической социологии
и социологической философии истории. Среди них: «Опыт истории
мысли нового времени» (Женева, 1988-1894), «Задачи понимания
истории» (1898) и посмертно опубликованные «Важнейшие моменты
истории мысли» (1903). Последние две книги были опубликованы
в России под псевдонимом соответственно С. Арнольди и А. Долен-
га. Впрочем, еще прежде написания этих книг Лавров напечатал
(в 1880 г.) ценное исследование о Парижской коммуне, которое было
переведено на многие языки. В 1892-1896 гг. он издавал
периодическое издание по истории русского общественного и революционного
движения2. Умер Лавров в Париже, почитаемый всеми социалистами
независимо от различий в теоретических убеждениях и политических
взглядах.
1 К концу 1870-х гг. они стали оправдывать свое решение, ссылаясь на
Маркса. Община, утверждали они, - это реакционное учреждение, и оно осуждено на
исчезновение; поэтому социалистическая революция станет возможной только
после установления капитализма и появления пролетариата. См.: Левин СМ.
Общественное движение в России в 60-70-е годы XIX века. М., 1958. С. 378-83.
В соединении с традиционным народническим отношением к политической
борьбе это вело к странной «философии бездействия».
2 Его собственным вкладом в «Материалы...» была ценная монография
«Народники-пропагандисты 1872-1878 годов».
256 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Исторические письма
Популярность «Исторических писем» среди молодых русских
радикалов семидесятых годов объяснялась исключительным
воздействием одной статьи, которая называлась «Цена прогресса». «Дорого
заплатило человечество, - писал Лавров, - за то, чтобы несколько
мыслителей в своем кабинете могли говорить о его прогрессе».
Личное развитие «критически мыслящих личностей» среди
привилегированного образованного меньшинства оплачено тяжелым трудом
и ужасными страданиями поколений, эксплуатировавшихся мужчин
и женщин; каждая мысль, каждая идея «заплачена миллиардами
жизней, океанами крови, несчетными страданиями и неисходным трудом
поколений». Образованное меньшинство никогда не должно забывать
этого своего долга перед народом и должно сделать все, чтобы
оплатить этот долг. Каждая нравственная и критически мыслящая
личность должна сказать себе: «Я понесу ответственность за кровавую
цену моего собственного развития, если я использую это самое
развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и в будущем»1.
Эти слова наилучшим образом передают умонастроение тех
прогрессивных представителей образованного дворянства, которых
мучило чувство вины и которые желали пожертвовать своими личными
интересами на благо трудового народа. Именно это поколение
«кающихся» молодых людей начало - вместе с более сдержанными
«разночинцами» - играть ведущую роль в радикальном движении. Книга
Лаврова выразила словами дилемму этого поколения и, вместе с тем,
ответила на его вопросы. Самым важным из них был вопрос о
природе прогресса.
Убеждение в том, что долг перед народом должен быть оплачен,
как раз и побудило молодых народников с негодованием отвергнуть
все теории, утверждавшие, что прогресс неизбежен и что он заложен
в естественном порядке вещей. Молодому поколению эти теории
казались лишь удобным способом оправдать неприглядные черты
капитализма, которые были составной частью «объективных законов
истории» и «железных законов политической экономии». Неприятие
такого рода «объективизма», отождествлявшего прогресс со
«стихийным» развитием и осуждавшего все несогласные с этим
«субъективные» идеалы в качестве утопических, и побудило Лаврова и
Михайловского сформулировать взгляды, которые получили название
«субъективной социологии». Плеханов неоднократно высмеивал этот
народнический «субъективизм», который, однако, заслуживает более
справедливой оценки.
1 Лавров П.Л. Философия и социология. М., 1965. Т. 2. С. 81. (Английский
перевод в: EdieJ. etal Russian Philosophy. Chicago, 1965. Vol. 2. P. 138.)
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
257
Основные предпосылки «субъективной социологии» (неудачное и
не очень точное обозначение) можно свести к трем моментам. Во-
первых, это защита этических норм: предполагалось, что люди имеют
право судить обо всем со своей собственной точки зрения и
протестовать даже против «объективных законов истории», мало того -
обязаны протестовать против человеческих страданий даже в таких
ситуациях, которые кажутся безвыходными. Во-вторых, под субъективной
социологией подразумевалась эпистемологическая и
методологическая позиция, которая ставила под вопрос возможность
«объективного» познания в общественных науках; «субъективизм» в этом смысле
означал, что историческое и социологическое познание никогда не
бывает и не может быть по-настоящему объективным, потому что
оно окрашено общественными взглядами познающего ученого, его
неосознанными эмоциями или осознанно выбранными идеалами.
В-третьих, «субъективная социология» была философией истории,
которая утверждала, что «субъективный фактор» - человеческая воля
и сознание (выражавшиеся в деятельности революционной партии
или в государственном интервенционизме) - могут эффективно
противостоять стихийным тенденциям общественного развития и влиять
на ход истории. Этот третий момент был для революционных
народников, разумеется, самым главным; на нем Лавров основывал свою
«практическую философию», которая провозглашала, что,
сформировав партию и выработав общую программу, «критически мыслящие
личности» могут стать значительной силой, способной изменить
действительность и осуществить свои «субъективные» задачи.
Тем из своих читателей, кто искал определения прогресса, Лавров
отвечал однозначно: прогресс - это объективный и неизбежный закон
развития. Таких законов не существует; исторические события всегда
единственны и неповторимы. (Здесь Лавров отчасти предвосхищает
основные положения Виндельбанда и Риккерта.) Поэтому перед
лицом истории основная проблема - проблема отбора: следует найти
критерий, который позволил бы выделить существенное из аморфной
массы исторических данных. Такой критерий должен быть
субъективным, потому что он зависит от общественного идеала, принятого
конкретным ученым. Все факты классифицируются и все
исторические события интерпретируются в соответствии с тем, как они
связаны с этим идеалом. «<...> мы - с нашим нравственным идеалом,
определяющим перспективу процесса истории, - писал Лавров, -
становимся в конец этого процесса; все предыдущее становится к
нашему идеалу в отношение подготовительных ступеней, ведущих
неизбежно к определенной цели»1. Поэтому, согласно этой теории, про-
1 Лавров П.Л. Философия и социология. Цит. изд. Т. 2. С. 44.
258 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
гресс - это такое общее понятие, которое необходимо для того, чтобы
внести порядок в сырой материал истории и придать смысл
хаотической массе фактов. Сама по себе история не имеет смысла; в ней
можно найти множество разных смыслов, но все они привнесены
в нее людьми. Придавая истории смысл, мы уже тем самым
предполагаем и некоторый идеал - не только в сфере исторического понимания,
но и в сфере исторического действия. История человечества, согласно
Лаврову, началась вместе с появлением критически мыслящих
личностей, которые пытались сформировать судьбы людей с помощью
«критицизма» и «идеализации»1. Два этих фактора необходимы для тех, кто
желает изменить мир: первый - для того чтобы разрушить старое
общество, второй - для того чтобы построить новое на основании
определенных идеалов, которые всегда в какой-то степени утопичны.
Свой собственный идеал Лавров формулирует следующим
образом: «Физическое, умственное и нравственное развитие личности,
осуществление истины и справедливости в общественных
учреждениях»2. Или еще определеннее: «Прогресс, по моему мнению, есть
процесс развития в человечестве сознания и воплощения истины и
справедливости, путем работы критической мысли личностей над
современною культурою» . Под «культурой» Лавров понимает
статическую общественную структуру, основанную на религии, традиции
и обычаях. С появлением критически мыслящих личностей
начинается постепенное преобразование культуры в «цивилизацию»:
появляется динамическая общественная структура, в которой религию
заменяет наука, а обычаи - закон. Развитие цивилизации теперь уже не
«органическое» - стихийное и бессознательное; оно характеризуется
теперь всевозрастающей сознательной активностью индивидов и
личностей.
Эта теория - типичный пример рационалистической переоценки
интеллектуальных факторов в человеческой истории. В России эта
теория имела очень большое влияния в силу того, что молодые
народники - как на это и рассчитывал Лавров - отождествляли себя
1 Под «идеализацией» Лавров понимал нечто очень близкое к
«рационализации» во фрейдовском смысле или к «идеологии» в том смысле, в каком
употребляет это слово Карл Мангейм. Идеализация, в этом смысле, означает просто
усилие, обычно бессознательное, скрыть свои действительные мотивы и истолковать
свои побуждения в понятиях, лишенных собственных интересов. «Ложная»
идеализация служит сокрытию целей, которых люди стыдятся, тогда как «истинно
человеческая» идеализация помогает подготовить способ реализации законных
человеческих потребностей.
2 Лавров П.Л. Цит. изд. Т. 2. С. 54.
3 Лавров П.Л. Формула прогресса Н.К. Михайловского. Противники истории.
Научные основы истории цивилизации. СПб., 1906. С. 41.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
259
с «критически мыслящими личностями», которым суждено оказать
влияние на историю. С другой стороны, теория Лаврова не очень
сочеталась с народнической идеализацией крестьянской общины и
другими старинными и патриархальными узами, которые приходилось
признать (на языке теории Лаврова) низшими, «статическими»
формами «культуры». Интересно отметить в этой связи сходство между
идеями Лаврова и философией истории западников сороковых годов.
Мы находим явные параллели с взглядами Белинского на
возрастающую роль личности и рационального сознания в истории, с
размышлениями Герцена об истории как процессе индивидуализации и с
теорией прогресса Грановского, в соответствии с которой прогресс - это
«разложение масс мыслью». О тесной связи между мышлением
Лаврова и философскими темами 1840-х гг. свидетельствуют ранние
работы Лаврова о гегелевской философии «Очерки в области
практической философии», «Три разговора о современном значении
философии» (1861). «Субъективизм» Лаврова, подобно бунту Белинского
против тирании Weltgeist и философии действия Герцена, больше
направлен против фетишизации исторической необходимости и
тирании «всеобщего» у Гегеля, чем против позитивистского натурализма.
Его философия истории черпала свои импульсы у Канта (прогресс,
понятый как «регулятивная идея», как постулат практического разума), у
левых гегельянцев (в особенности «критическое мышление» Б. Бауэра как
двигатель прогресса) и в «антропологизме» Фейербаха
(антропоцентризм, противостоящий «объективизму» и «Абсолютному Духу»).
Понятно, что Лавров был самым крайним представителем
«западнического» крыла народнического движения. Мы также можем
проследить явное родство между взглядами, выраженными в
«Исторических письмах», и рационализмом «просветителей» шестидесятых
годов, которые, подобно Лаврову, переоценивали историческую роль
идей и, следовательно, интеллектуальных элит. Как документ
идеологии народничества «Письма...» Лаврова, по сути дела, не вполне
последовательны: в них замечательно выражены нравственные
сомнения молодых радикалов и свойственное им чувство исторической
миссии; но в них совершенно игнорируется один важный аспект
классического народничества, а именно тоска по архаическим формам
общественной жизни. Сам Лавров был слишком крепко связан с
великими прогрессивными традициями современного ему европейского
гуманизма, - в России эти традиции представляли западники и
«просветители», - чтобы отказаться от них ради обращенного в прошлое
утопизма. Хотя он и оспаривал основополагающее понятие
индивидуалистического гуманизма - свободное развитие личности, -
настаивая, что это развитие было куплено «океанами крови, несчетными
страданиями и неисходным трудом поколений», его теорию, в конеч-
260 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ном счете, можно было использовать для оправдания беспощадного
хода истории. Если критическое мышление - двигатель
общественного прогресса, то цена, которую приходилось платить за нее, не была
напрасной. Если расцвет личности, в соединении с реализацией
правды и справедливости в общественных учреждениях, - основной
критерий прогресса, то из этого невозможно не сделать вывод, что
европейская история, в конечном счете, - это история прогресса, и что
долгий процесс эксплуатации и угнетения масс не следует осуждать
целиком и полностью, с тем уточнением, разумеется, что теперь-то
пришло время отдать свой долг трудящимся массам.
Социологические концепции
Под влиянием Маркса Лавров в поздних своих социологических
сочинениях стал уделять больше внимания экономическим аспектам
общественных процессов. Его основные идеи остались
неизменными, но они получили теперь более полное и систематическое
выражение1.
Лавров определяет социологию как такую науку, которая
занимается солидарностью сознательных личностей и описывает конкретные
формы взаимодействия между людьми. По Лаврову, солидарность -
обязательное условие общественной жизни; но она должна быть
солидарностью сознательных личностей, поскольку на инстинктивном
уровне (в поросли полипов, например) солидарность относится к
области биологии, а не социологии. Социология имеет свою
теоретическую, как и практическую, сторону. Она является орудием
исследования общественной эволюции как объективного процесса, но также
играет и нормативную роль, поскольку формулирует общественные
идеалы и показывает, каким образом их, эти идеалы, можно
осуществить в жизни. В силу этой двойной роли Лавров неоднократно
отмечает, что его социология не может рассматриваться в изоляции от
его понимания социализма.
Все многообразие форм общественной солидарности Лавров
подразделяет на три основных типа. Первый тип - бессознательная
солидарность обычая2, которому личность подчиняется под давлением
1 См.: Сорокин H.A. Основные проблемы социологии П.Л. Лаврова // П.Л.
Лавров: Статьи, воспоминания, материалы. Петроград: Колос, 1922.
2 Термин «сознание» Лавров употребляет в различных значениях: первое,
более широкое значение подразумевает «духовную жизнь» (в определении
социологии как науки о солидарности сознательных личностей); в более узком
значении «сознание» относится только к рефлективному, критическому сознанию,
т.е. к самосознанию в философском смысле (в этом смысле солидарность по
обычаю «бессознательна»).
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
261
необходимости. Второй тип общественной солидарности - чисто
«эмоциональная солидарность»: она основывается на
неконтролируемых критической рефлексией импульсах. Третий тип - «сознательная
историческая солидарность», возникающая в общем усилии
сознательно достигнуть избранную и рационально оправданную цель. Этот
третий тип - высшая и важнейшая форма общественной
солидарности. Он возникает на более поздней, чем первые два типа, стадии
эволюции сознания и возвещает наступление процессов трансформации
статической «культуры» в динамическую «цивилизацию». Появление
этой высшей формы солидарности обозначает собою конец
предыстории и начало подлинной истории данного общества.
Сознательная солидарность выражается сообществом
«критически мыслящих» людей или, иначе говоря, интеллигенцией, на которой
лежит ответственность за преобразование культуры посредством
мысли. Поэтому история идей содержит квинтэссенцию
исторического процесса и исследование «важнейших моментов в истории
мысли» - это кратчайший путь к пониманию социальной эволюции.
В своей концепции движущей силы истории Лавров представляет
плюралистическую точку зрения. По его мнению, общественная
эволюция стимулируется различными потребностями личности, в
особенности - потребностью в пище, в удовлетворении инстинктов
совокупления и продолжения рода, а также потребностями безопасности и
нервного возбуждения (своеобразной разновидностью последнего
Лавров считал потребность человека в кампании других людей).
Самая важная из этих основных биологических потребностей,
потребность в пище, является стимулом экономического развития общества.
Этот тезис, в глазах Лаврова, служил оправданием приоритета
«экономических» целей над «политическими». Однако он подчеркивает,
что помимо биологических потребностей, присущих человеку как
родовому существу, есть и другие потребности; последние он относит к
«историческим категориям», поскольку они образуют то, что можно
назвать историческим измерением человеческого существования. Из
них самая важная, по Лаврову, - незаинтересованная «потребность
в развитии» - характерный признак «критически мыслящих
личностей». Лавров верил, что эта потребность становится все более
важной и что ее значение возрастает прямо пропорционально той роли,
которую играет сознательное, рациональное вмешательство в жизнь
данного общества.
Эта общая концепция истории как процесса, в котором культура
трансформируется в цивилизацию, связана с идеями Сен-Симона и
Конта, в соответствии с которыми «органические» фазы развития
уступают место «критическим». На органических стадиях
общественного развития появляются и созревают специфические формы культу-
262 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ры и доминирует общественное настроение солидарности; наоборот,
критические стадии - это эпохи индивидуализма и деструктивной
деятельности «критической мысли». Исторический прогресс движется
по спирали, все возрастая в скорости: сменяющие одна другую фазы
развития становятся короче и различие между органическими и
критическими периодами постоянно уменьшается. Так происходит
потому, что историческая эволюция создает все новые и новые
возможности для гармонического слияния солидарности и развития, порядка и
прогресса. История идет не рывками из одной крайности в другую,
а скорее стремится к состоянию «подвижного равновесия» -
состоянию, в котором развитие не приходит в конфликт с
существующими формами солидарности, а усиление солидарности не прерывает
развития.
С точки зрения исходных предпосылок «субъективного метода»,
социологические работы Лаврова явно делают большие уступки
«объективизму». Правда, Лавров сохраняет неизменным акцент на
роли критически мыслящих личностей и на нормативной роли
социологии, но он отбрасывает самое ядро «субъективизма» - отрицание
того, что в общественных науках объективное познание возможно.
Однако этот ход мысли был скорее модификацией в системе
воззрений Лаврова, чем радикальным структурным изменением системы.
Даже в «Исторических письмах» Лавров проводит различие между
историей, которая имеет дело с уникальным и неповторимым, и
социологией, которая стремится открыть некоторые общие законы
общественного развития. Через несколько лет в статье «О методе в
социологии» он отчетливо утверждал, что в социологии (в отличие от
истории) оба метода - субъективный и объективный - имеют свое
оправдание и свое применение. Одно время Лавров даже начал искать
объективное оправдание социальной революции в «исторической
необходимости» (под которой он понимал некоторые регулярно
совершающиеся общественные процессы, устанавливаемые
социологией). Разумеется, это не уступка «объективизму» в смысле гегелевской
идолатрии истории, ни либеральной апологии бесконтрольного,
«естественного» развития. Правильно отмечалось (Дж. Хеккером),
что «субъективный метод» Лаврова в этом отношении очень близок к
«антропотелеологическому методу» Л.Ф. Ворда (L.F. Ward), который
подчеркивал превосходство искусственных телеологических
процессов перед «естественными», хотя он и не отрицал, что существуют
некоторые общие законы общественной эволюции1.
Независимо от вопроса о теоретической последовательности и
научной ценности социологических теорий Лаврова не подлежит со-
1 См.: Hecker J. F'. Russian Sociology: A Contribution to the History of
Sociological Thought and Theory. New York, 1915. P. 118.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
263
мнению, что эти теории представляют большой исторический
интерес. Лавров раскрывается в этих теориях как идеолог интеллигенции.
Некоторые ученые высказывались в том смысле, что социологические
теории Лаврова - выражение особого «умственного
аристократизма» (апофеоз «критически мыслящих личностей») или даже
некоторых сторон дворянско-помещичьего менталитета (взгляд на народ как
на инертную массу в соединении с чувством вины)2. Хотя эти
замечания отчасти справедливы, но в них совсем упускается из виду
принципиальное различие между идеями Лаврова и апофеозом
интеллектуалов и ученых в социологических теориях Огюста Конта.
В творчестве Лаврова нет и намека на контовскую идею новой
интеллектуальной элиты, которая будет управлять иерархически
стратифицированным обществом будущего. Для русского мыслителя
интеллигенция была, прежде всего и в конечном счете, совестью общества -
а не интеллектуальной аристократией. Образованных людей, которые
пользовались дарами цивилизации, но были эгоистически
безразличны к вопиющим несправедливостям своего времени, Лавров называл
«культурными дикарями», людьми, которые возвратились на
доисторическую, доцивилизованную стадию племенного строя и которым
критическая мысль и бескорыстная потребность в развитии
совершенно чужды.
Таким образом, автора «Исторических писем» можно назвать
идеологом «интеллигенции» как этической категории, т.е. в том
значении этого слова, которое употреблялось в девятнадцатом веке.
Лавров был представителем не профессиональных интеллектуалов, но
идеологом сообщества лиц, наделенных повышенной нравственной и
интеллектуальной чуткостью и посвятивших свою жизнь борьбе
против общественной несправедливости.
ПЕТР ТКАЧЕВ
Самым серьезным вызовом взглядам Лаврова были воззрения
Петра Ткачева (1844-1886)3, о котором упоминалось выше как о
См.: Сорокин П.А. Основные проблемы... Цит. изд. С. 286.
"См.: Ладоха Г. Исторические и социологические воззрения П. Л. Лаврова //
Русская историческая литература в классовом освещении / Под ред. М.Н.
Покровского. М., 1927. С. 422.
3 Самая полная монография о Ткачеве вышла на английском языке: Deborah
Hardy. Petr Tkachev: The Critic as Jacobin. Seattle, Wash., 1977. Автор уделяет
большое внимание всему тому, что отличает мировоззрение Ткачева от взглядов
других идеологов народничества 1870-х гг. и выдвигает тезис, что во многих
отношениях Ткачев был гораздо ближе к радикалам 1860-х гг.
264 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
главном теоретике «якобинского» направления в русском
народничестве. В 1868-1869 гг. Ткачев был активным участником
студенческого движения и тесно сотрудничал с Нечаевым. С характерным для
него экстремизмом Ткачев, говорят, заявлял, что настоящее,
радикальное возрождение России потребует уничтожения каждого двадцать
пятого1. Ткачев был арестован весной 1869 г. и, проведя два года в
заключении в ожидании суда, был приговорен к шестнадцати месяцам
тюрьмы и последующей ссылке в Сибирь. Благодаря хлопотам его
матери ссылка была заменена ему поселением в родовых поместьях
под надзором полиции. В декабре 1873 г. Ткачеву удалось бежать в
Цюрих, где он пытался сотрудничать с Лавровым до тех пор, пока не
выяснилось, что различия между ними слишком велики. В 1874 г.,
вскоре, после того как он подверг нападкам программу Лаврова в
брошюре «Роль революционной пропаганды в России», Ткачев
порвал отношения с Лавровым и вступил в «бланкистский»
«Славянский кружок», который возглавляли два поляка: Каспер Турски и Ка-
рол Яницки. В 1875 г. Ткачев издает журнал «Набат», в котором
развивает свои идеи о захвате власти революционным меньшинством и
необходимости жесткой централизованной партийной организации.
Наиболее полное изложение взглядов Ткачева можно найти в его
статье «Что такое партия прогресса?»2 (1870), которая была написана
в ответ на «Исторические письма» Лаврова. Критика Ткачева
затрагивает наиболее уязвимые пункты учения Лаврова и ясно показывает
основное затруднение народнических мыслителей: они пытались
примирить идею развития личности с желанием обеспечить
решающую роль масс в общественной жизни.
Критика Ткачевым «Исторических писем» сводилась в основном к
тому, что «реальное» представление о прогрессе Лавров заменил
«формальным» представлением, совершенно бесполезным в качестве
критерия, необходимого для классификации той или иной
общественной позиции как реакционной или прогрессивной. Ведь если все
идеалы неизбежно субъективны, рассуждает Ткачев, тогда все идеологии,
даже реакционные, имеют право называть себя прогрессивными.
Утверждать, что все на свете важно или неважно, служит добру или
злу только по отношению к человеку, - это не адекватная сути дела
См. введение Козьмина в кн.: П.Н. Ткачев. Избранные сочинения на
социально-политические темы / Под ред. Б.П. Козьмина: В 4- т. М., 1932. Т. 1.
С.13-14.
2 Рукопись этой статьи, датированной 16 сентября 1870 г., была
конфискована полицией и впервые попала в печать в издании сочинений Ткачева,
осуществленном Козьминым; см. предшествующую сноску: Т. 2. С. 166-224. Однако
критика Ткачевым Лаврова была известна современникам по другим его статьям.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
265
аргументация; справедливо, что даже естественные науки не могут
притязать на знание «вещи в себе», но было бы абсурдным делать из
этого вывод, что и естествознание всего лишь «субъективно». И то же
самое верно в отношении теории прогресса: она может достигать
объективности, потому что существуют некоторые общезначимые,
первичные и «самоочевидные» истины, которые способны служить
абсолютным мерилом при определении прогресса. «Итак, есть -ив этом
согласны все - безусловный, объективный критерий истины; а
следовательно, и безусловный критерий истинности всякого
миросозерцания, а следовательно, возможность непогрешимого миросозерцания,
т.е. безусловного, для всех обязательного критерия прогресса» .
Однако Ткачев отвергал субъективный метод не вполне
последовательно. Хотя он отрицает релятивизм как позицию нормативного
подхода, представляющую опасность для абсолютной веры в
правильность своего дела, сам он не отвергает и не пытается оправдывать
свой идеал объективными законами исторической эволюции.
Представление о прогрессе, утверждал Ткачев, предполагает три
составляющих его элемента: движение, направление и цель. Но только два
из этих трех элементов действительно необходимы для того, чтобы
составить себе ясное представление о прогрессе человеческого
разума. В органическом мире природы всегда происходит какое-то
движение в определенном направлении; в этом случае цель движения
совпадает с направлением движения. В условиях общественной
эволюции невозможно найти такое постоянное движение в данном
направлении: в противоположность взглядам Спенсера, «процесс
исторического движения не может быть отождествляем с процессом
органического движения», поскольку историческое движение «не
имеет постоянного, однообразного направления и взятое само по себе
не должно мыслиться ни как прогрессивное, ни как
регрессивное»2. Таким образом, общественный прогресс определяется двумя
элементами - движением и целью; искать постоянного, объективного
направления в движении истории так же бессмысленно, как пытаться
найти сознательные цели в природе. Последняя и единственная цель
общества (для Ткачева это - аксиома) - счастье всех его членов;
поэтому для того чтобы дать «абсолютное» определение прогресса,
сначала необходимо установить научную, объективную дефиницию
счастья.
В поисках такой дефиниции Ткачев воспользовался определением
жизни, которое он нашел в «Принципах биологии» Спенсера. Оно, это
определение, показывает, что счастье заключается в примирении, или
1 Ткачев. П.Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1932. С. 475.
2 Там же. С. 194.
266 Аиджсй Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
гармоническом равновесии, потребностей человека и тех средств,
которые находятся в его распоряжении для их удовлетворения.
Проблема, как она виделась Ткачева, состоит в том, что человеческие
потребности очень разнообразны и что некоторые люди могут находить
удовлетворение только за счет других людей. Искусственные
потребности «высокоразвитых индивидуальностей» из привилегированного
меньшинства удовлетворяются за счет трудящихся масс, которые
лишены даже самого необходимого в жизни. Этот ход мысли давал
хорошую возможность для того, чтобы резко оспорить позицию
Лаврова. Ведь уже сам факт, аргументирует Ткачев, что «расцвет
личности», существенный элемент формулы прогресса по Лаврову,
показывает, что Лавров, по сути дела, является представителем
привилегированного меньшинства, которое в качестве производителей идей
привыкло считать себя «какою-то солью земли, какими-то
двигателями и делателями человеческого благополучия» и которое
рассматривает само свое существование как объективное свидетельство
исторического прогресса1. «С этой точки зрения, - продолжает Ткачев, -
нельзя не видеть, конечно, в истории прогресса: соль земли постоянно
увеличивалась количественно и улучшалась качественно; ее прогресс
очевиден»2. Персональное развитие «критически мыслящих
личностей», - как это отмечал и Лавров, - достигалось за счет трудящихся
масс, чья история была не прогрессом, а регрессом. Когда положение
масс сделалось настолько недопустимым, что даже
привилегированное меньшинство стало ощущать это положение как угрозу своему
существованию, то начали придумывать множество псевдопрогресив-
ных теорий, которые - подобно теории Лаврова - призывают к
справедливому распределению материальных и культурных благ. Но все
эти теории «открыто и еще настойчивее защищают необходимость не
только сохранения и поддержания человеческой индивидуальности на
той ступени развития, которой она достигла у избранного
меньшинства, но и дальнейшего ее развития в том же направлении»3. Этот
акцент на индивидуальности обнаруживает по существу реакционную
природу таких теорий. «Расцвет индивидуальности» - реакционный
постулат, потому что благополучие и счастье общества требуют
интеллектуального и нравственного уравнивания индивидуальностей.
Тем самым основной задачей, перед которой находится «партия
прогресса», состоит в том, чтобы свести «к одному общему знаменателю,
к одной общей степени все хаотическое своеобразие индивидуальностей,
выработавшееся путем регрессивного исторического движения»4.
'Там же. С. 218.
2 Там же. С. 218.
3 Там же. С. 129.
4 Там же. С. 206-207.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
267
Формуле прогресса, выдвинутой в «Исторических письмах»,
Ткачев противопоставляет следующую собственную формулу:
Итак, установление возможно полного равенства
индивидуальностей (это равенство не должно смешивать с равенством
политическим и юридическим, или даже экономическим - это равенство
органическое, физиологическое, обусловленное единством воспитания и
общностью условий жизни) и приведение потребностей всех и
каждого в полную гармонию с средствами к их удовлетворению - такова
конечная, единственно возможная цель человеческого общества,
таков верховный критерий исторического социального процесса. Все,
что приближает общество к этой цели, то прогрессивно; все, что
удаляет, то регрессивное.
На взгляд Ткачева, эта формула - логическое следствие его
определения счастья в приложении к обществу. Удовлетворение
потребностей каждого члена общества требует приспособления этих
потребностей к «существующему уровню производительности труда».
Поэтому общество должно контролировать и регулировать увеличение
потребностей и сознательно подавлять всякие индивидуальные
требования, которые - при существующем уровне экономического
развития - могут удовлетворяться только за счет других людей.
Единообразие потребностей - предпосылка общественного благополучия и
счастья, а ликвидация усложненной культуры элиты - та цена, которую
нужно заплатить за них. Всякая дифференциация создает угрозу
равновесию между человеческими потребностями и уровнем
производства, умножая тем самым неблагополучие. Принудительный
эгалитаризм, к которому стремятся все настоящие прогрессисты, означает,
что индивиды с большими потребностями, неспособные
удовлетворять свои потребности за счет других, вероятно, будут несчастливы:
следовательно, их собственное благополучие требует паритета в их
умственном и нравственном развитии с другими, менее
развитыми членами общества. Любое повышение потребностей должно
быть коллективным и планироваться в соответствии с ростом
производства.
Политические теории Ткачева ясно указывают, что «всеобщего
поравнение» - это задача, которая возлагается на революционный
авангард: именно ему после захвата власти предстоит заботиться
о детях и образовании, намеренно ограничивая развитие выдающихся
индивидуальностей, поскольку последние представляют
определенную опасность для узаконенного уровня общественного равенства.
1 Там же. С. 206-207.
268 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Революция поэтому не закончится вместе с захватом власти, она тогда
только начнется.
Полемика с Лавровым касалась не только средств, но также и
целей. Отсекая себя от традиции Герцена и Чернышевского, Ткачев
(в полную противоположность Лаврову) безоговорочно отверг
«принцип личности». Для него идеал гармонически развитой, критически
мыслящей личности - самый убедительный и яркий пример
буржуазного индивидуализма, идеологии, враждебной и чуждой простому народу.
В одной из своих статей Ткачев писал, что принцип индивидуализма был
сформулирован уже Протагором и софистами, идеология которых
отражала интересы городской буржуазии цивилизации Афин; а между тем
антииндивидуализм, по Ткачеву, имеет столь же почтенную и куда более
впечатляющую генеалогию: ее сформулировал Платон, чей
идеализированный образ древней Спарты с замечательной силой выразил принцип
полного подчинения индивида общественности.
Эти взгляды Ткачева отделяли его от других
мыслителей-народников не менее резко, чем его «якобинские», или «бланкистские»,
концепции революционной борьбы. Нельзя сказать, что его теории
относятся к числу «буржуазно-демократических», хотя бы и в самом
широком смысле. Запоздалый ученик Морелли, Бабефа и Буонаротти,
Ткачев был в России - а может быть, и во всей Европе девятнадцатого
века - самым последовательным и самым радикальным
представителем «грубого коммунизма», по словам молодого Маркса, -
коммунизма, «отрицающего повсюду личность человека»1. Представляется
вероятным, как предположил Козьмин, что жуткий образ «системы
Шигалева» в романе Достоевского «Бесы» - намек на идею
«выравнивания индивидуальности» Ткачева2.
Решительное отрицание Ткачевым значения индивидуальности
было специфическим решением дилеммы, вообще характерной для
мыслителей народничества, а именно: как примирить архаический
коллективизм крестьянской общины, которому они придавали
принципиальное значение, с требованием индивидуальной свободы;
другими словами, каким образом примирить идеал благосостояния
народа, который (согласно народнической доктрине) требовал остановить
процесс вестернизации, - с оправданием интеллигенции, которая сама
была продуктом вестернизации и жизненно заинтересована в
дальнейшем прогрессе. В отличие от Герцена, Чернышевского и Лаврова,
1 Маркс К. Философско-экономические рукописи // Маркс К., Энгельс Ф. Из
ранних произведений. М.: Политиздат, 1956. С. 586.
2 См.: Козьмин Б.П. П.Н.Ткачев и революционное движение 1860-х годов. М.,
1922. С. 193. Достоевский мог познакомиться с концепцией Ткачева о «всеобщем
поравнении» по статье «Люди будущего», напечатанной в журнале «Дело» в 1868 г.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
269
Ткачев был убежден, что «начало индивидуальности» (его
представляла вестернизованная элита) и начало общины непримиримы и не
будут примирены до тех пор, пока не удастся достичь «всеобщего по-
равнения».
Свою теорию прогресса Ткачев соединяет со своеобразным
«экономическим материализмом», заимствованным непосредственно у
Маркса. После всего сказанного на предшествующих страницах это
утверждение может показаться несколько неожиданным, а между тем
Ткачев был первым среди русских революционеров, кто сделал
первую серьезную попытку ассимилировать некоторые элементы
марксизма. Еще в 1865 г. он писал в журнале «Русское слово», что
поддерживает идею «известного немецкого эмигранта Карла
Маркса», добавляя, что «эта идея стала теперь общей для всех мыслящих и
честных людей». Еще раньше, в конце 1863 г., он развивал в печати
мысль о зависимости всех сфер общественной жизни (социальная
надстройка) от экономической сферы1.
«Вся общественная жизнь во всех своих проявлениях, со своей
литературой, политическим и юридическим бытом есть не что иное, как
продукт известных экономических принципов, лежащих в основе всех
этих социальных явлений»2. Эта цитата, конечно, парафраза из
предисловия к «Критике политической экономии» Маркса. Надо
добавить, что Ткачев не останавливается на декларировании принципов;
он пытается также, более или менее успешно, использовать эти
принципы в своей интерпретации идеологической борьбы в прошлом и
настоящем. Например, Реформацию он объясняет борьбой между
феодальной аристократией и возникавшей буржуазией, а эмансипацию
женщины - необходимым следствием наступления капитализма и т.п.
В полемике с Лавровым Ткачев подвергал критике преувеличение
роли «критически мыслящих личностей», утверждая, что решающая
роль в истории принадлежит не мысли и знанию, «аффектам,
отражающим жизненные интересы людей»3. Специфический
«экономический материализм» Ткачева не достигает уровня марксизма, но
марксистское влияние на него очевидно. Пожалуй, этот его материализм
лучше определить как своеобразную смесь марксизма с довольно
примитивным утилитарным преувеличением роли непосредственного
влияния экономических мотивов на индивидуальное поведение.
В связи с истолкованием идей Ткачева перед нами встает
интересная проблема. Экономический материализм - это такая теория,
которая, как правило, проявляется в сочетании с механистически понятым
детерминизмом. Как же, в таком случае, стало возможным, что в тео-
1 См. Козмин Б.П. Из истории революционной мысли в России. С. 374.
2 Ткачев ПН. Цит. изд. Т. 3. С. 98.
3 Там же. Т. 2. С. 213-215 («Роль мысли в истории»).
270 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
риях Ткачева механистический детерминизм сосуществует и
уживается с волюнтаристским убеждением, в соответствии с которым
будущее России зависит от воли и решимости активного
революционного меньшинства?
В работе Маркса «К критике политической экономии» Ткачев
вполне мог прочитать, что ни одна общественная формация не может
исчезнуть прежде, чем производственные силы, ей соответствующие,
достигнут своего полного развития. В 1880-е и в 1890-е гг. русские
марксисты делали из этого положения вывод, что социалистическая
революция в России имеет шансы победить лишь после того, как
русский капитализм исчерпает все свои возможности развития. Ткачев,
естественно, считал этот взгляд неприемлемым; напротив, он
утверждал, что революция возможна или после завершения всего цикла
капиталистического развития, или еще до того, как этот цикл начался.
Всякий экономический принцип, писал он в 1868 г., имеет свою
собственную внутреннюю логику развития; подобно тому как,
высказывая какую-то точку зрения, мы не можем сразу перейти от посылки к
выводу, точно так же и в экономическом развитии невозможно
пропустить промежуточные этапы1. Однако начать совершенно новый
цикл возможно, особенно в переходные эпохи, когда старые
экономические отношения уже пережили свое время, а новые еще не
установились прочно. Утопизм, заявляет Ткачев, не есть что-то такое, что
присуще одним только крайним радикалам, которые пытаются
заменить существующие экономические начала новыми; настоящие
утописты - это как раз умеренные, которые желают сохранить
существующую экономическую систему, пропуская при этом некоторые
естественные этапы развития и пытаясь избежать тех или иных
закономерных следствий этих этапов. Революция в России может
произойти или сразу, когда феодальная система себя исчерпала, а новая,
капиталистическая формация еще не укоренилась, или в далеком
будущем, после того как страна пройдет все болезненные этапы
капиталистического развития. В настоящий момент, - подытоживает свои
рассуждения Ткачев, будущее страны все еще в руках
революционеров; завтра будет слишком поздно. Сходная ситуация, по его мнению,
была в Германии во время крестьянских войн. Здесь Ткачев
расходится с Энгельсом, который считал, что поражение Томаса Мюнцера,
крестьянского вождя в Германии, было исторически неизбежным.
Ткачев же полагает, что Мюнцер вполне мог победить, и что его
победа спасла бы немецкие трудящиеся массы от страданий, которые их
ожидали при капитализме2.
'Цит. изд. Т. 1.С. 260-262.
2 Там же. Соображения Энгельса о возможности победы Мюнцера
(диаметрально противоположные мыслям Ткачева) часто цитировал Плеханов: он ис-
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
271
В 1874 г. Ткачев подверг резкой критике Энгельса. Контекст этой
полемики касался не столько России, сколько имел международный
характер: спор возник из-за идеологических разногласий между
Бакуниным и Марксом и их борьбой за лидерство в Первом
Интернационале. После аферы Нечаева, в которую вовлек Интернационал
Бакунин, была принята резолюция, осуждавшая Нечаева и выражавшая
неприятие заговорческих методов борьбы. Ткачев, который в
некотором смысле был учеником Нечаева, истолковал эту резолюцию как
наступление на русское революционное движение в целом. В
знаменитом «Открытом письме господину Фридриху Энгельсу» (1874)
Ткачев обвиняет Энгельса в отсутствии революционного рвения и
отстаивает свои собственные представления о возможности
революции в отсталых странах1. Обвинять Энгельса в чрезмерном уважении
к легальным формам борьбы значило быть несправедливым к нему,
но второй пункт ткачевских обвинений - относительно готовности
России к социалистической революции - действительно отражал
важное разногласие по принципиальным вопросам. Энгельс и в самом
деле полагал, что обязательным условием социализма является
высокое экономическое развитие буржуазного общества.
«Следовательно, - писал он, - буржуазия и с этой стороны является таким же
необходимым предварительным условием социалистической революции,
как и сам пролетариат. Поэтому утверждать, что эту революцию легче
провести в такой стране, где, хотя нет пролетариата, но зато нет и
буржуазии, доказывает лишь то, что ему нужно учиться еще азбуке
социализма»2.
Среди русских революционеров 1870-х гг. отношение к Ткачеву -
первоначально враждебное - начало меняться под воздействием двух
неудачных попыток «хождения в народ». Видя растущую
популярность своих идей, Ткачев пытался распространять свой «Набат»
в Санкт-Петербурге. Эта попытка не имела успеха: полиция
обнаружила типографское оборудование, и журнал прекратил свое
существование.
Вскоре после этого Ткачев перебрался в Париж, где он
сотрудничал с французскими «бланкистами» в их журнале M Dieu, ni Maître.
В 1882 г. у него появились симптомы душевного заболевания, и он
был помещен в психиатрическую больницу, где и умер через
несколько лет.
пользовал их против концепции Ткачева о «захвате власти». Позднее Плеханов
использовал тот же аргумент против Ленина.
' Ткачев П.Н. Избр соч. Т. 3. С. 88-98.
2 Энгельс Ф. Об общественных отношениях в России (1875) // Переписка
К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. 2-е изд. М., 1951.
С.196.
272 АнджейВалицкгш. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВСКИЙ
Теория прогресса Михайловского
В отличие от Лаврова и Ткачева, Николай Михайловский (1842-1904)
не был революционером, хотя он и был связан с
революционными кругами и при определенных обстоятельствах сотрудничал с
ними1. Нравственный и интеллектуальный авторитет Михайловского
почти целиком связан с его серьезной журнальной деятельностью:
сначала он писал для журнала «Отечественные записки», а позднее -
для журнала «Русское богатство». Михайловский был плодовитым
публицистом, но его наиболее серьезный вклад в теорию относится к
сфере социологии. Первый набросок его социологической концепции
истории - концепции, которой он остался верен до конца жизни, -
содержится в его статье «Что такое прогресс?», опубликованной
вскоре после появления «Исторических писем» Лаврова.
Михайловский начинает свою статью с критической оценки
теории прогресса Герберта Спенсера: он критикует эту теорию за то, что
в ней упущен из виду важнейший принципиальный факт, а именно,
что общественный прогресс не обязательно предполагает прогресс
индивидуального человека. Следуя за Спенсером, Михайловский
основывается на определении, известном как «закон Бауэра», в
соответствии с которым прогресс в органическом мире представляет собой
процесс перехода от простого (гомогенность) к сложному
(гетерогенность). Однако выводы, которые при этом делает Михайловский,
отличаются от выводов Спенсера: «закон Бауэра», по его мнению,
свидетельствует о непримиримом антагонизме между Спенсеровой
«органической эволюцией общества» и идеалом разностороннего
развития человеческой личности. Органическое общественное развитие
предполагает общественную дифференциацию, основанную на
разделении труда; поэтому такое развитие лишает индивидов
всесторонности и цельности, превращая их в специализированные органы якобы
высшего органического целого. Разнородность и сложность общества,
таким образом, обратно пропорциональны разнородности и
сложности отдельных членов этого общества. Первобытное общество
однородно по своей сущности, но каждый из его членов, взятый в
отдельности, - разнородное существо и «совмещает в себе все силы и
способности, какие только могут родиться при тогдашнем уровне
культуры и местных физических условиях»2. В первобытном обще-
1 См.: Billington JH. Mikhailovsky and Russian Populism. Oxford, 1958. О
сотрудничестве Михайловского с революционерами см. выше. С. 252-253.
2 Михайловский Н.К. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 32.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
273
стве человек живет примитивной, но полной жизнью, развивая все
свои способности и «целостную личность». Разделение труда и
социальная дифференциация разрушают это равновесие и превращают
человека в специализированные монофункциональные органы
общественного организма. Рост этого организма несовместим с ростом
индивидов, поскольку дифференциация организма как целого
неизбежно зависит от «упрощения» его отдельных органов, т.е. от потери
независимости, вызываемой односторонней специализацией.
Совершенно так же как человеческое тело развивается (дифференцируется)
за счет своих органов, и общественный организм тоже развивается за
счет своих человеческих членов. Понятие «общественного
организма», однако, - это абстракция: только человек - реальный организм,
только его удовольствия и страдания подлинны, поэтому только его
благосостояние должно быть мерилом прогресса. С этой точки
зрения, заключает свои рассуждения Михайловский, формула
прогресса Спенсера оказывается формулой регресса. Причина проста:
«<...> прогресс индивидуальный и развитие общества (по типу
органического развития) взаимно исключаются, как взаимно исключаются
развитие органов и развитие неделимого»1.
В своих аргументах Михайловский опирается на философскую
интерпретацию истории, которая связывала историю и духовную
эволюцию человечества с изменениями в организации труда и
сотрудничества. В общем виде схема Михайловского очень напоминает
построение Лаврова в его «Исторических письмах»; однако у
Михайловского этому построению придается другое еще измерение, потому
что в его концепции «этапы духовного развития» соединяются с
проблемой разделения труда и разрушительного воздействия разделения
труда на человеческую личность.
Первую существенную стадию в истории, как ее представлял себе
Михайловский, он называет «объективно антроцентрическим
периодом». Человек в то время видел в себе объективный и абсолютный
центр природы и объяснял все природные явления, соотнося их с
собою; отсюда анимистический и антропоморфический характер его
религиозных представлений. В начале этого периода кооперация -
явление почти неизвестное. Позднее, когда инстинкт самосохранения
заставил людей объединяться в группы, возникли два типа
кооперации - простая и сложная. Прототипом первой была «свободная группа
охотников», тогда как прототипом второй - патриархальная семья,
которая установила разделение на «мужской» и «женский» труд и
сделала роль женщин подчиненной. Простая кооперация не требовала
специализации функций и последовательной дифференциации обще-
1 Михайловский Н.К. Цит. изд. Т. 1. С. 41.
274 Анджеи Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ства; индивиды могли сохранять свою разнородность (то есть
многосторонность), в то время как группа оставалась однородной. При
сложной кооперации имела место обратная закономерность: «В
первом случае (простая кооперация. -A.B.) мы имеем однородное
общество с разнородными, равными, свободными и независимыми
членами; во втором - разнородное общество с неравными, несвободными,
специализированными членами, расположенными в некотором
иерархическом порядке»1. Простая кооперация сделала возможной
прогрессивную эволюцию человека - как физическую эволюцию, так и
духовную; сложная кооперация привела в действие общественный
прогресс, другой стороной которого был индивидуальный регресс.
Например, разделение труда в семье увеличивало разделение труда
между мужчинами и женщинами, лишая тем самым тот и другой пол
какой-то части человеческой полноты.
В объективно антропоцентрический период преобладала простая
кооперация. Ее окончательное вытеснение сложной кооперацией с ее
двойным злом - разделением труда и общественной
дифференциацией - знаменовало начало новой эпохи - «эксцентрического
периода». Михайловский выбрал это не совсем обычное название для того,
чтобы подчеркнуть искаженное видение мира, которое, как он считал,
характерно для людей, поврежденных специализацией: под
«эксцентричностью» он подразумевает отсутствие центра - отсутствие,
которое отражает нарушенную целостность. Распадение человеческой
личности, возникающее в силу разделения труда, приводит к
фрагментарному видению мира: действительность распадается на ряд
автономных сфер, каждая из которых существует «в себе и для себя».
Антропоцентричность, номинально сохраняющаяся в религиозной
сфере, уступает место полицентризму: природные и социальные
явления начинают теперь представляться человеку чуждыми ему
внешними «объективными» силами.
Источником этой «эксцентричности», на взгляд Михайловского,
является все большее усложнение человеческих отношений. В
условиях простой кооперации каждый человек работает ради достижения
совершенно осознанной и понятной цели, и это способствует
поддержанию чувства солидарности и взаимопонимания между членами
данной группы. В условиях сложной кооперации общая задача
становится все более и более неопределенной и, в конце концов,
распадается на множество самостоятельных, автономных задач; теория
расходится с практикой, а наука, искусство и хозяйство уже не служат, как
прежде, человеку, а превращаются в «цель в себе»; люди перестают
понимать друг друга, хотя они «связаны между собою самым тесным
1 Михайловский Н.К. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 82-83.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
275
образом» . А это, в свою очередь, вызывает появление
изолированных и антагонистических групп и приводит к утрате всякого чувства
общественной солидарности. Аналогичный процесс происходит в
сфере познания: здесь, с одной стороны, познание дробится на узкие
области специализации, а с другой стороны, познание становится
метафизической наукой, то есть абстрактной теорией, воспринимаемой
совершенно независимо от человека и в этом своем мнимо
«абсолютном» и «объективном» качестве - дегуманизированной. Функции,
которые раньше принадлежали всесторонней, цельной личности, теряют
связь с человеком и, в конечном итоге, начинают вести
самостоятельное существование, становясь безразличными, если не враждебными,
друг другу. Весь этот ход мысли поразительно напоминает
размышления молодого Маркса об «отчуждении» человека, которое
возникает в результате обособления друг от друга различных сфер
человеческой деятельности2.
Михайловский не отрицает большие достижения
«эксцентрического» периода в области искусства, науки или промышленности; но
он считает, что за эти достижения заплатили слишком высокую цену
и что, во всяком случае, не все достижения были необходимым
следствием разделения труда. Даже современная эпоха, утверждает
Михайловский, сохранила какие-то оазисы «неразделенного» труда;
поскольку сложная кооперация, сводящая общественную связь к одной
лишь экономической взаимозависимости, еще не полностью
вытеснила простую кооперацию, предполагающую общность целей и
сознательную солидарность, то люди все еще в силах защитить свою
индивидуальность от сил отчуждения и общественной атомизации. То
обстоятельство, что простая кооперация выжила, свидетельствует, по
мнению Михайловского, о том, что возрождение человека возможно -
возрождение, с которого начнется новая эпоха в истории - долгожданная
эпоха всеобщего обновления. Эту новую эпоху Михайловский называет
«субъективно антроцентрическим периодом»: в это время человек будет
знать, что объективно не он является центром вселенной, но человек
также осознает свое «субъективное» право и даже обязанность
относиться к себе как таковому и судить обо всем с точки зрения своей
собственной, живой и нераздельной человеческой индивидуальности.
'Там же. С. 91.
2 Маркс писал: «В самой сущности отчуждения заложено то, что каждая
отдельная сфера прилагает ко мне другой и противоположный масштаб: у морали -
один масштаб, у политической экономии - другой, ибо каждая из них является
некоторым отчуждением человека, каждая фиксирует некоторый особый круг
отчужденной сущностной деятельности и каждая относится отчужденно к
чужому отчуждению». < Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.:
Политиздат, 1956. С. 604. - Прим. ред>
276 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫС ЛИ...
Резюме этих идей содержится в знаменитой «формуле прогресса»
Михайловского, определяющей прогресс как постепенное
приближение к целостности личностей и возможно более полному и
всестороннему разделению физиологического труда между органами
отдельного человека и возможно меньшему общественному разделению труда
между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно
все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо,
разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность общества,
усиливая тем самым разнородность его отдельных членов1.
С социологической точки зрения эта «формула» представляет
несомненный интерес. Она выражает самую сущность обращенной в
прошлое народнической утопии с ее идеализацией самодовлеющего
примитивного крестьянского хозяйства. Михайловский часто
повторял, что интересы целостной личности совпадают с интересами
«нераздельного», неспециализированного труда, то есть с интересами
русского крестьянства. Русский крестьянин, подобно первобытному
человеку, живет бедной, но полной жизнью; в экономическом
отношении он полагается на себя и ни от кого не зависит; поэтому его
можно назвать образцом всесторонней и независимой личности. Все
свои потребности он удовлетворяет собственными силами, используя
все свои способности: крестьянин - он и фермер, и рыбак, и пастух,
и художник в одном лице. Крестьянская община эгалитарна и
однородна, но члены общины - сложные и многосторонние личности.
Низкий уровень сложной кооперации позволяет крестьянам сохранять
независимость, тогда как простая кооперация соединяет их по
взаимной симпатии и взаимопониманию. Это нравственное единство
находит свое выражение в общей собственности на землю и в
самоуправлении русского «мира».
Михайловский вполне сознавал, что существующая крестьянская
община имеет мало общего с идеальными представлениями о ней; он,
однако, приписывал это несоответствие разрушительным влияниям
извне и низкому уровню простой кооперации. Такое объяснение
связано с проведенным Михайловским различием между типами и
уровнями (или стадиями) общественного развития. С точки зрения уровня
развития, крестьянская община не может конкурировать с городской
фабрикой; но в то же время она представляет более высокий тип
развития. И то же самое различие, согласно Михайловскому, сохраняется
в отношении крестьянской России и Западной Европы: у западного
человека индивидуальность более развита, но эта индивидуальность
по своему качеству ниже «цельной» личности русского крестьянина.
1 Михайловский Н.К. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 150.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
277
Этот ход мыслей оставляет впечатление, что для Михайловского
«личное начало» - это не то, что следует ввести в деревенскую
общину извне, как считал Герцен; Михайловский ясно дает понять, что,
отстаивая «народные начала», он вместе с тем отстаивает и более
высокий тип индивидуальности. Мало того: само представление об
индивидуальности при таком образе мысли изменяет свое содержание и
занимает место «цельности» вместо того, чтобы характеризовать
личные особенности, отличающие одну индивидуальность от другой.
Отсюда получается, что индивидуальность великих ученых и
мыслителей - индивидуальность «односторонних специалистов» -
представляет собой более низкий тип развития. «Личность Гегеля, - писал
Михайловский, строго говоря, жалкий сколок человеческой
личности».
Интересно отметить, что, хотя Михайловский и считал «принцип
личности» краеугольным камнем своего мировоззрения, но такой ход
мысли тесно сближает Михайловского с Ткачевым, который самым
резким образом отвергал этот принцип, видя в нем квинтэссенцию
буржуазных ценностей. Конечно, Михайловский никогда бы не
принял идею Ткачева о принудительном «выравнивании»
индивидуальностей; но, тем не менее, оба они отстаивают идеал однородного
общества и пытаются дать теоретическое выражение некоторому
первобытному крестьянскому эгалитаризму.
Вполне понятно, что у автора «Исторических писем» должно было
быть много серьезных возражений и сомнений по поводу теории
прогресса Михайловского. В большой статье «Формула прогресса
Н.К.Михайловского»1 (1870) Лавров выдвигает свои основные
возражения. Если отменить разделение труда, говорит он, то
затормозится научно-технический прогресс, а абсолютная «однородность»
общества помешает появлению «критически мыслящих личностей»,
которые должны быть носителями новых идей. Осуществление «формулы
прогресса» Михайловского приведет к общественному застою
общества без признаков прогресса; мало того, принять такой взгляд на
прогресс равносильно заявлению, что история всегда была не
прогрессом, а регрессом.
Аргументы Лаврова не убедили Михайловского. Наоборот, в более
поздних своих статьях критика Михайловским общепринятого
взгляда на прогресс стала еще более радикальной и обращенность его
общественного идеала вспять стала еще более настойчивой. В статье
«Что такое прогресс?» Михайловский еще делал некоторые оговорки
относительно руссоистской критики цивилизации, пытаясь убедить
своих читателей в том, что «золотой век человечества» - впереди.
1 Лавров П.Л. Формула прогресса Н.К. Михайловского. Цит. изд. С. 12 слл.
278 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РуССКОЙ МЫСЛИ...
Но уже через несколько лет он прямо заявляет в одной из своих
статей («О Шиллере и многом другом», 1876), что Руссо и Шиллер были
правы, утверждая, что «золотой век» уже позади нас1. Симптомом
этой смены перспективы было то, что Михайловский теперь придавал
значение идеализации Средних веков в западноевропейских
идеологиях рабочего класса и возросшему интересу к архаическим формам
общественной жизни - интересу, который проявляли как ученые-
социалисты, так и ученые-консерваторы. В работе «Что такое
прогресс?» ретроспективным идеалом было первобытное племенное
общество; Средние века рассматривались там как эпоха жестких
общественных барьеров, как кульминация «эксцентрического» периода.
Своеобразная особенность «формулы прогресса» - то, что ее можно
повернуть и против феодализма, и против капитализма, точнее,
против определенных аспектов, которые были общими у обоих. Идеал
социальной однородности можно было использовать как оружие
одновременно против разделения общества на отдельные, герметически
замкнутые сословия и против «сложной кооперации»
капиталистического общества. Буржуазный прогресс, правда, имеет и свою
позитивную сторону, разлагая феодальные привилегии, но его следует
отвергнуть, поскольку этот прогресс лишает мелких независимых
производителей их самостоятельности. Еще в 1869 г. Михайловский
сосредоточивал основное внимание на критике новой
капиталистической структуры общества, идеализированной Спенсером, хотя и он
считал ее всего лишь продолжением «эксцентрических» тенденций
феодализма, которые казались ему не стоящими того, чтобы на них
«оглядываться» (за исключением таких анклавов равенства и
«простой кооперации», как военные общины казаков). В 1870-е гг.
стремительная экспансия русского капитализма сделала Михайловского еще
более чутким к специфическим и негативным (с его точки зрения)
особенностям нарождающегося буржуазного миропорядка; в то же
время эта экспансия по-новому осветила некоторые аспекты
средневекового общества, на которые он прежде не обращал особого
внимания. В частности, его поразило сходство крестьянской общины со
средневековыми гильдиями. Хотя Михайловский не отрицал, что
гильдии и современные ему русские общины ограничивали потенциал
индивидуального развития, но он, по-видимому, был убежден, что
такие ограничения не так вредны, как последствия капитализма.
Используя терминологию Маркса, можно сказать, что для
Михайловского община и гильдия обладали явным преимуществом перед
капиталистическим устройством общества, поскольку они представляли со-
См. в особенности статью Михайловского о Шиллере {Михайловский ИМ.
Полн. собр. соч. Т. 3).
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
279
бою еще не отчужденные формы развития человеческих отношений -
формы соединения, как он сам говорил, «не капиталов с капиталами,
а людей с людьми, личностей с личностями»1. В Средние века
индивиды гораздо меньше страдали от последствий социального развития,
чем в условиях современного капитализма. Этот факт, утверждал
Михайловский, все больше начинают осознавать как европейские
рабочие, которые «по собственному почину восстанавливают чисто
средневековые учреждения» (т.е. профсоюзы, на взгляд Михайловского, -
это восстановленные средневековые гильдии), так и возрастающее
число ученых, которые обращаются «назад, к средним векам, а то так
и к еще более глубокой древности»2. Поэтому нет оснований
утверждать, что капитализм освободил индивида или что буржуазная
политическая экономия выказала такую уж большую заботу о его свободе
и благосостоянии, что нарождаются «индивидуализм и атомизм».
Индивидуализм - в смысле обоснования исключительной ценности
человеческой индивидуальности - это единственный адекватный
философский подход, но он не имеет абсолютно ничего общего с
экономикой laissez faire. У либеральных экономистов есть свой собственный
фантом (Spuk Штирнера), которому они безжалостно принесли
в жертву свободу и благосостояние конкретных людей. Этот новый
фантом - «система максимального производства». Эта система не
способна даже богатых людей сделать счастливыми, потому что она
привела в действие безумную гонку амбиций и нужд, не предложив
никаких реальных надежд на их удовлетворение. Вывод, к которому
приходит Михайловский: подлинный индивидуализм должен
обратить свой взгляд в прошлое, на Средние века и на архаику
Золотого века.
Нет сомнения в том, что среди разнообразных авторов, книги
которых оказали формообразующее влияние на теории Михайловского,
самым важным было влияние Карла Маркса3. В первом томе
«Капитала» Михайловский мог прочитать драматическое изображение того,
как огромное множество людей внезапно и насильственным образом
лишаются средств к существованию и оказываются вышвырнутыми
на рынок труда в качестве свободных и «независимых» пролетариев;
1 Цит.соч.Т. 1.С. 445.
2 Там же. С. 432. Михайловский упоминает в этой связи таких ученых, как
Г.Л. Маурер, Э. Нассе, Л. Брентано, сэре Г.С. Мэн и Лавеле. Пишет он и о
Марксе: «И Маркс, и представители "профессорского социализма"
(Kathedersozialismus) весьма терпимо относятся к некоторым формам средневековой
общественности, до такой степени терпимо, что подобное отношение было бы решительно
немыслимо еще очень недавно». (Там же.)
3 См. статьи Михайловского «О публикации в русском издании книги
Маркса» и «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского».
280 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
отторгнув производителя от средств производства, капитализм лишил
производителя (если воспользоваться терминологией Михайловского)
его экономической самодостаточности и ценности и превратил в
специализированный орган общественного организма (механизмов
капиталистического рынка). В диалектической модели Маркса капитализм
ориентирован на уничтожение средневековых форм производства
(отмена приобретенной частной собственности, то есть
экспроприация трудящегося; социализм же, будучи отрицанием отрицания,
в свою очередь, экспроприирует экспроприаторов, возвращая
средства производства производителям. Михайловский, подобно другим
народникам, делает отсюда вывод: для того чтобы не подвергнуться
жестокостям первоначального накопления, Россия должна сделать все
возможное, чтобы «перескочить капитализм», избежать
индустриализации английского типа. Больше того, в контексте воззрений самого
Михайловского его прочтение «Капитала» окончательно утвердило
его в мысли, что социализм и «средневековые формы производства»
(в особенности общая собственность на землю, сохранившаяся в
русской крестьянской общине) - это только разные «уровни» одного и
того же типа. Из этого, казалось, с полной ясностью следовал тот
вывод, что кратчайший путь достижения социализма в России
заключается в развитии таких отношений труда и собственности, которые уже
существуют, хотя и в грубой форме, в русских деревнях и «артелях»
русских ремесленников. Окончательный вывод, к которому пришел
Михайловский, звучит как парадокс: «Рабочий вопрос в Европе есть
вопрос революционный, ибо там он требует передачи условий труда в
руки работника, экспроприации теперешних собственников. Рабочий
вопрос в России есть вопрос консервативный, ибо тут требуется
только сохранение условий труда в руках работника, гарантия
теперешним собственникам их собственности»1.
Из этой аргументации ясно, что Михайловский неверно понял
Маркса, используя только такие аспекты Марксовой теории, которые
легко встраивались в общий контекст народнических взглядов самого
Михайловского. Тем не менее, влияние Маркса на Михайловского
было гораздо глубже этой рецепции. Еще в 1869 г. в статье «Теория
Дарвина и общественная наука» Михайловский ссылался на взгляды
Маркса о разделении труда; нетрудно даже найти в «Капитале»
множество мест, которые Михайловский мог бы процитировать в
поддержку своих собственных воззрений.
В главе 12 «Капитала» («Разделение труда и мануфактура») Маркс
писал:
1 Михайловский Н.К. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 703.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
281
Односторонность и далее неполноценность частичного рабочего
становится его достоинством, коль скоро он выступает как орган
совокупного рабочего. Привычка к односторонней функции
превращает его в орган, действующий с инстинктивной уверенностью, а
связь совокупного механизма вынуждает его действовать с
регулярностью отдельной части машины. <... > В мануфактуре обогащение
совокупного рабочего, а следовательно, и капитала общественными
производительными силами обусловлено обеднением рабочего
индивидуальными производительными силами. <...> Некоторое духовное
и телесное уродование неизбежно даже при разделении труда
внутри всего общества в целом.
В заключение Маркс одобрительно цитирует из «Знакомых слов»
Д. Уркварта: «Рассечение человека называется казнью, если он
заслужил смертный приговор, убийством, если он его не заслужил.
Рассечение труда есть убийство народа»1.
Для Михайловского эти воззрения были не только
подтверждением его собственной точки зрения; очень вероятно, что они -
подлинный исходный пункт его собственных концепций. Нет никакого
сомнения в том, что, только после прочтения Маркса, Михайловский
нашел ссылки на проблему разделения труда и его разрушительное
воздействие на цельного человека у прежних авторов, таких как
Руссо, Фергюссон и Шиллер. Принципиальная предпосылка, на которой
основывалась эта теория прогресса, - что общественный прогресс
несовместим с прогрессом отдельных, индивидуальных людей, -
тоже, надо полагать, сложилась у него под влиянием взгляда Маркса,
в соответствии с которым совершенствование «коллективного
работника» достигается за счет индивидуального работника.
В своих выводах Михайловский, разумеется, полностью
расходился с Марксом. Для последнего разделение труда, которое достигает
своего пика в современном капитализме, представляет собой, тем не
менее, огромный шаг вперед, позволяя рабочему «сбросить с себя
оковы индивидуальности и развить возможности своего рода».
Михайловский считал истиной как раз противоположное. В
марксистском анализе капитализма Михайловский нашел подтверждение
тезиса Чернышевского о том, что «национальное богатство» обратно
пропорционально «народному благу» и на этом основании провозгласил,
что капиталистическое развитие является в сущности общественным
регрессом. Иначе говоря, усвоив у Маркса представление о высокой
цене, которою нужно оплачивать развитие капитализма,
Михайловский отказался платить эту цену и все свои надежды перенес на мни-
1 Маркс К. Капитал. Т. 1. М.: Политиздат, 1978. С. 362, 374, 376. - Прим. ред.
282 Анджей Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
мую возможность реставрации архаических форм общественной
жизни и адаптации их к новым условиям. Тем самым он все больше и
больше тяготел к своему оглядывавшемуся назад утопизму -
утопизму, который можно назвать «социологическим романтизмом».
Борьба за индивидуальность
В середине 1870-х гг. Михайловский разработал всестороннюю
социологическую теорию, которую назвал «борьбой за
индивидуальность» (серия статей под этим названием появилась в 1875-1876 гг.).
Работа под этим названием интересна непоследовательностью и
противоречивостью авторской мысли; причиной этого было то, что
Михайловский развивает в ней идеи, которым он пытается
противостоять. Несмотря на свое критическое отношение к концепции
общества как «биологического организма», Михайловский и сам отдает
дань этой концепции в своих теоретических построениях. Отвергая
«аналогический метод», он в своей теории «борьбы за
индивидуальность» сам же основывается на биологических аналогиях и трактует
общество как организм или, во всяком случае, как такое образование,
которое угрожает разрастись в некий суперорганизм, члены которого
низведены до роли пассивных органов. Хотя Михайловский и
обвиняет социальных дарвинистов в апологии буржуазного общества, сам он
не выходит за пределы натурализма и эволюционизма. От
критикуемых им авторов Михайловский отличается только тем, что он
противопоставляет простодушному доверию «органицистов» к закону
выживания сильнейших пессимистическую теорию, согласно которой
«естественная эволюция» - как в органическом мире, так и в
человеческом обществе, - осуществляется за счет постоянного снижения
качества (в смысле «типов» развития) и поэтому представляет собой
движение назад с точки зрения индивидуального развития
человеческого рода. Единственная надежда в этих условиях, по
Михайловскому, состоит в том, чтобы не приспосабливаться к «естественному
ходу событий», а присоединиться к другим убежденным сторонникам
индивидуальности в борьбе за подчинение общества их собственным
целям.
Теория Михайловского основывается на утверждении:
«Существуют различные ступени индивидуальности, которые борются
между собой, стремятся подчинить друг друга». Это положение было
заимствовано из классификации биологических организмов Геккеля и
его тезиса, что совершенство целого прямо пропорционально
несовершенству составляющих это целое частей (и наоборот). Тезис
Михайловского подразумевает, что взаимоотношение между целым и его
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
283
частями всегда носит антагонистический характер: отдельный орган
стремится подчинить себе «индивидуальность» клеток и в то же
время защищает себя от подчинения более высокой «индивидуальности»
организма; индивидуальный организм, в свою очередь, ведет борьбу
за свою индивидуальность против более высокой индивидуальности
своего рода. Человек представляет собой одну из стадий
индивидуальности (шестую стадию по классификации Геккеля) и имеет над
собой целую иерархию сверхчеловеческих «индивидуальностей»
(фабрики как единицы «сложной кооперации», сословия, классы,
народы, государства и т.д.), и все они стараются подчинить друг друга
своей власти. С точки зрения индивидуальности, все эти
общественные индивидуальности могут развиваться только за счет свободы и
цельности человека. Поэтому, заключает Михайловский, «общество
есть первый, ближайший и злейший враг человека»1. Слова
Михайловского не следует понимать как декларацию крайнего анархизма.
Он не был этатистом, но главным его врагом был капитализм, самая
опасная форма «сложной кооперации». Подобно многим другим
народникам, он даже полагал, что вмешательство государства может
быть полезным в деле предотвращения капиталистического развития
в интересах индивидуальности человека.
Нужно помнить, разумеется, что это предупреждение относилось
только к такому обществу, которое развивается органически по
законам «естественной эволюции», иначе говоря, оно относится к
капиталистическому обществу, которое, по Михайловскому, представляет
полную победу общественного организма над индивидуальным
человеком. В соответствии со своей «формулой прогресса» Михайловский
считает, что для людей все же остается реальный выбор; они могут
бороться против навязывания им капитализма путем создания
неорганического общества, основанного на «простой кооперации».
Общество этого типа не оставит в тени свои составные части, и его
благосостояние будет в основном совпадать с благосостоянием его
индивидуальных членов. Общество, в котором будет минимум
«социализации» (в смысле навязывания внеличных, сверхиндивидуальных
общественных механизмов своим членам) и в то же время будет развита
в максимальной степени сознательная солидарность людей и
общность их интересов, - вот что было, на взгляд Михайловского,
идеалом подлинного социализма. Этот момент следует подчеркнуть,
1 Михайловский Н.К. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 461. Слова Михайловского не
надо понимать в смысле декларации крайнего анархизма. Но он не был и
этатистом: главным его врагом был капиталист, самая опасная форма «сложной
кооперации». Подобно многим другим народникам, Михайловский считал даже,
что вмешательство государства не следует использовать для того, чтобы
препятствовать капиталистическому развитию ради интересов человеческой личности.
284 Анджей Валицкгш. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
поскольку теория «борьбы за индивидуальность» оставляет
впечатление, что идеал Михайловского скорее в самодостаточности одинокой
монады. Ретроспективные стороны этого идеала связаны с
романтическим взглядом Михайловского на архаические общественные связи,
которые по контрасту с современными, органическими связями были
простыми, непосредственными и понятными: они объединяли людей
общностью чувств и целей без возрастания взаимной зависимости.
Вместе с тем Михайловский - слишком сознающий ум для того,
чтобы идеализировать бездумное принятие традиции или растворение
индивидуального сознания в коллективе. Он мечтает об обществе,
основанном на сознательном согласии и свободном и разумном
выборе общих целей, а это значит, что он неосознанно тяготеет к той
модели индивидуальности, которая сложилась в соответствии с
«буржуазным» прогрессом в результате разложения архаических связей между
людьми. Хотя Михайловский видел цель всей своей деятельности в
том, чтобы поднять на более высокий уровень тип кооперации и
коммунальный образ жизни, представленный архаической крестьянской
общиной, его модель общества оказалась гибридом, соединявшим
идеализацию докапиталистической сельской экономики с
«буржуазно-демократической» концепцией индивидуальной свободы. Теория
Михайловского - очень яркий пример двуликого Януса
народничества, глядящего и назад, и вперед: оба лица ясно показывают, что
народническое мировоззрение обладало своеобразной цельностью не
столько благодаря своей однородности, сколько в силу
специфического напряжения между двумя противоречившими друг другу
системами ценностей.
Теория «борьбы за индивидуальность» имеет у Михайловского
ряд подразделов, которые более или менее изобретательно объясняют
различные аспекты биологической и социальной эволюции. Одна из
таких побочных концепций представлена в статье «Герои и толпа»
(1882) и посвящена проблемам социальной психологии и
иррационального поведения толпы и в этом смысле предвосхищала теорию
Тарда о подражании. Другая производная теория Михайловского
касалась «патологической магии» и имела целью объяснить различные
психологические феномены (стигматы, медиумизм и гипнотизм) как
различные выражения бунта органов человеческого тела против
насильственного подчинения в результате распада личности под
разрушительным влиянием капиталистического разделения труда1.
Самый интересный из этих вторичных применений основной идеи
«борьбы за индивидуальность» - теория любви Михайловского2. Тео-
1 См. его статью «Патологическая магия» 1887.
2 Михайловский Н.К. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 493-594.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
285
рия эта имеет поразительное и неожиданное сходство с теориями
таких романтических философов, как Франц фон Баадер, которые
видели в любви стремление (urge) вернуть потерянное единство
первозданного андрогинна. Любовь, утверждает Михайловский, - это
стремление к перерождению путем самоосуществления в другом
человеческом существе. Тот факт, что этот порыв реально существует,
показывает, что в человеке живо ощущение утраченной
«тотальности», или «цельности», и этот факт, по Михайловскому, доказывает
превосходство гермафродита как типа личности. Для того чтобы
проиллюстрировать эту свою мысль, Михайловский ссылается на
античный миф, рассказанный Аристофаном в «Пире» Платона. В свое
время мир был населен племенем гермафродитов - существ огромного
роста, намного превосходивших современных людей и физически,
и умственно. Эти существа безуспешно пытались завоевать Олимп, и
в наказание они были рассечены богами надвое. Эти две половины,
однако, тянулись одна к другой и отказывались разойтись, и многие
даже умерли от голода. Увидев это, Зевс сжалился над ними и придал
каждому из них вид индивидуального человеческого существа -
мужчины или женщины. Любовь возникла из их стремления к
утраченному единству.
Самый странный аспект теории Михайловского состоит в том, что
посредством представления о «самодостаточности», которое, по его
мнению, было общим у гермафродитов с первобытным
крестьянством, Михайловский соединяет романтическое томление по
утраченному единству со своей идеализацией крестьянской общины.
Правда, Михайловский признает, что люди никогда не были
гермафродитами; но, тем не менее, различие между полами в прошлом
было менее выражено, а среди крестьян оно было еще менее
характерным, чем среди высших классов. Подчеркивание различия полов и,
как следствие, выделение значения любви усиливались по мере
прогресса цивилизации. Объяснение этому, как нетрудно предположить,
Михайловский видит в прогрессирующем разделении труда: люди,
которые больше «разделены», имеют и большую потребность в
любви, которая, как они надеются, поможет им «дополнить» себя и
восстановить свою первозданную целостность.
Общественное содержание
социологической теории Михайловского
Можно спорить о том, насколько значительный вклад внес
Михайловский в развитие социологической теории. Но как исторический
документ, раскрывающий специфическую природу, как и внутренние
286 Анджег'1 Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
противоречия и затруднения народнической мысли, - в этом
отношении творчество Михайловского представляет исключительный
интерес.
Объективно идеализация им «неразделенного» труда была
выражением интересов крестьянства как докапиталистической
общественной формации, отражением точки зрения мелкого производителя,
образ жизни которого оказался под угрозой индустриализации. Но
природа «крестьянской» программы Михайловского не оставляет
сомнения в том, что сформулировал ее представитель интеллигенции.
В отличие от Толстого, Михайловский никогда не пытался
отождествлять свою собственную позицию с точкой зрения
патриархального крестьянства; он был и остался интеллигентом, продуктом ве-
стернизации; для него было чем-то вполне естественным пытаться
приспособить свое утопическое представление о крестьянстве к
традициям русских «просветителей» и к представлению о ценности
индивидуальности - представлению, которое разделялось
интеллигенцией в целом. Когда Михайловский выступал от своего имени, он
называл себя «профаном», имея в виду не узкого специалиста в какой-
то одной области знания, а человека широких умственных интересов
и всесторонних способностей1. «Профан» - это такой человек,
который сознательно отказывается поддаваться влияниям разделения
труда в умственной сфере; в этом смысле он подобен крестьянину в
сфере физического труда. Поэтому профан и крестьянин - естественные
союзники в общей борьбе против «сложной кооперации»
капитализма, которая вынуждала индивида сделаться винтиком в подавляющем
его общественном механизме.
Несмотря на кажущуюся общность их интересов, Михайловский
все же признает, что разрыв между крестьянином и «профаном» не
так-то легко преодолеть. Он даже предвидит возможность конфликта
между ними из-за крестьянского невежества и поэтому четко отличал
«интересы» народа от народных «мнений»2. В то самое время, когда
на «мнения» народа часто ссылались реакционеры с самой дурной
репутацией, любившие подчеркивать преданность крестьянства царю
как образец, по контрасту с неприятием царя радикальной
интеллигенцией, - Михайловский с трагической ясностью сознавал, какие
последствия может повлечь за собой этот конфликт: «Я профан и тут.
У меня на столе стоит бюст Белинского, который мне очень дорог, вот
шкаф с книгами, за которыми я провел много ночей. Если в мою ком-
1 В серии его статей «Записки профана». 1875-77.
2 Совершенно иную точку зрения выдвинул Ю.Юзов (Ю.И. Каблиц). В своей
книге «Основы народничества» (1882) он трактует народ и «интеллигенцию» как
два полюса антитезы. Защита им архаических традиций и нападки на
интеллигенцию были почти обскурантскими.
ГЛАВА 12. Идеологии народничества
287
нату вломится русская жизнь со всеми ее бытовыми особенностями и
разобьет бюст Белинского и сожжет мои книги, я не покорюсь и
людям деревни; я буду драться. <...> И если бы даже меня осенил дух
величайшей кротости и самоотвержения, я все-таки сказал бы, по
малой мере: "прости им, Боже истины и справедливости, они не знают,
что творят!" Я все-таки, значит, протестовал бы»1.
Вот еще одна цитата в том же духе:
Голос деревни слишком часто противоречит ее собственным
интересам, и задача состоит в том, чтобы, искренно и честно признав
интересы народа своею целью, сохранить в деревне, как она есть,
только то, что действительно этим интересам соответствует.
Дело идет об обмене между нами и народом, обмене честном, без
шулерства и задних мыслей, в результате которого получается
равенство обмененных ценностей. О, если бы я мог утонуть,
расплыться в этой серой, грубой массе народа, утонуть бесповоротно,
но сохранив тот светоч истины и идеала, какой мне удаюсь добыть
на счет того же народа! О, если бы и вы все, читатели, пришли к
такому же решению, особенно у кого светочь горит ярче моего и
вообще светло и без копоти. <...>. Какая бы это вышла иллюминация и
какой великий исторический праздник она отметила бы собою! Нет
равного ему в истории .
Эти выдержки из «Записок профана» проливают свет на
своеобразное противоречие в мышлении Михайловского. В отличие от
Ткачева он пытался примирить эгалитарный идеал однородности
общества с ценностями, которые - по его же словам - «приобретались за
счет народа», т.е. в результате социальной дифференциации -
процесса, который Михайловский не переставал критиковать в своей
социологической теории. Соглашаясь, что «светоч истины и идеала»
приобретался за счет народа, Михайловский фактически возвращается к
теории «критически мыслящих личностей» Лаврова. Ведь и он тем
самым признает, что вестернизованная элита в России представляет
определенные ценности, которые - как утверждал еще Герцен -
должны войти в архаический мир крестьянской коммуны извне.
Кроме того, и по тем же самым причинам, Михайловский отчасти даже
помимо своей воли реабилитирует некоторые идеалы, связанные с
буржуазным прогрессом Запада. Именно это имел в виду Ленин,
когда он писал: «Если г. Михайловский начинает свою "социологию"
с "личности", протестующей против русского капитализма, как слу-
1 Михайловский И.К. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 692.
2 Там же. С. 707.
288 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫС ЛИ...
чайного и временного уклонения России с правильного пути, то он
уже тут побивает сам себя, не понимая, что только капитализм и
создал условия, сделавшие возможным этот процесс личности»1.
Это утверждение, разумеется, не надо понимать слишком
буквально, в нем есть некоторое полемическое упрощение: между
идеализацией Михайловским индивидуальности и возникновением
русского капитализма нет прямой связи. Но невозможно отрицать, что
мысли «профана» могли появиться на свет только в результате
модернизации, в Европе инициированной капитализмом, а в Россию
проникшей вместе с вестернизацией, которой русская интеллигенция
девятнадцатого века была обязана своим существованием.
Ценности и идеи, созданные этими процессами, обнаружили
отчетливую тенденцию к автономии и к выхождению за рамки
буржуазного общества, которое часто оказывалось не в состоянии
осуществить эти ценности и идеи. Этим объясняется тот факт, что русские
народники сумели перенять их и приспособить для негативной
критики капитализма. Но оказалось затруднительным - и даже
невозможным - сочетать эти идеалы с архаическими формами общества и с
мировоззрением крестьян, которых народники хотели защитить от
капиталистической эксплуатации. Это принципиальное противоречие -
общая особенность почти всех разновидностей народничества. В
утопизме Михайловского доминировало и задавало тон архаическое
крестьянское начало, и оно, это начало, виделось тоже глазами
интеллигента. Крестьянский элемент в мировоззрении Михайловского был
сильнее, чем во взглядах Лаврова, представителя «критически
мыслящей» интеллигенции, но игнорировать другой элемент в мышлении
Михайловского значит дать искаженное представление о роли
Михайловского в целом. Можно сказать, что его мировоззрение
представляло собой интересный синтез антикапиталистического,
обращенного вспять утопизма с буржуазно-демократическими, вестерни-
зованными идеалами Белинского - синтез, который очень хорошо
выражает в общем неудачные попытки народников достичь единства
между архаическим миром русского крестьянства и идейным
наследием русской интеллигенции.
1 Ленин В.И. ППС. 5-е изд. Т. 1. С. 434.
ГЛАВА 13
289
АНАРХИЗМ
Яомимо народничества, другим характерным продуктом
радикальной социалистической мысли в России во второй
половине девятнадцатого века был анархизм. Оба эти направления
переплетались: выдающийся теоретик и вождь международного
анархизма Михаил Бакунин в юности был членом народнического
революционного движения1. Народничество, однако, развивалось только
на своей домашней почве и было поглощено специфическими
русскими проблемами, тогда как русские теоретики анархизма были
активны в международном рабочем движении. Для анархистов самой
важной проблемой была отмена государства; в то время как
народники главного врага видели в капитализме и их основным
теоретическим интересом было доказать, что России нет необходимости
непременно стать капиталистической. Поэтому, хотя оба направления
могли выступать вместе, обязательного единства между ними не
предполагалось. Даже в 1870-гг., когда влияние Бакунина в русском
революционном движении достигло наивысшей точки, была
народническая группировка (Г.З. Елисеев, за которым последовал В.
Воронцов и «легальные народники), которая считала, что с капитализмом
можно бороться путем усиления вмешательства государства в
общественную и экономическую сферу, - постулат, который был
совершенно несовместим с принципами анархизма.
1 См.: Carr Е. Mikhail Bakunin. New York, 1961; Hepner В. Bakounine et le pan-
slavism révolulutionaire. Paris, 1950; Pyziur E. The Doctrine of Anarchism of Mikhail
A. Bakunin. Milwaukee, Wise, 1955; Lampert E. Studies in Rebellion. London, 1957;
Avrich P. The Russian Anarchists. Princeton, N.J., 1967; Le fining A. Michel Bakunine
et ses relations avec Sergei Neöaev, 1870-1872. Leiden, 1971. Самая полная и
лучшая монография о Бакунине - четырехтомный труд советского историка: Стек-
лов ЮМ. М.А. Бакунин, его жизнь и деятельность. 2-е изд. М., 1926-1927.
О Кропоткине см.: Joli J. The Anachists. Boston, 1965; Woodcock D. and Ava-
kumovic I. The Anachist Prince. London, 1950; Miller M.A. Kropotkin. Chicago, 1976.
290 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
МИХАИЛ БАКУНИН
Биографическая справка
Мы уже видели в главе 7, что первый философский период в
жизни Бакунина завершился его знаменитой статьей «Реакция в
Германии», в которой утверждалась необходимость тотального
революционного разрушения старого миропорядка. Новый период можно
рассматривать как преимущественно подготовительную стадию
будущего политического действия, когда Бакунин установил контакты
со многими ведущимися революционными вождями Европы. В
Швейцарии он встречался с немецким коммунистом-утопистом
Вильгельмом Вейтлингом (в 1843 г.), а немного позднее он стал хорошо
известен в кругах радикалов и социалистов, а также среди политических
эмигрантов во Франции. Здесь Бакунин познакомился с двумя
мыслителями, которым суждено было оказать значительное влияние на его
социальную философию, - с Прудоном и Марксом. Он также был
в хороших отношениях с польскими эмигрантами, особенно с
историком Иохимом Лелевелом, который заинтересовал Бакунина своей
теорией славянской общины, основанной на самоуправлении.
Познакомился Бакунин и с Мицкевичем, но его не убедили мессианские
взгляды последнего на роль славян, выдвинутые в лекциях
Мицкевича в Collège de France. В 1847 г. на собрании, посвященном памяти
польского восстания 1831 г., Бакунин произнес волнующую речь,
в которой заявил, что Россия сможет обрести свободу не раньше, чем
Польша вновь обретет независимость. Из-за этой речи Бакунина
выслали из Франции по требованию русского посла. Он перебрался
в Брюссель, но вскоре после этого получил возможность вернуться
в Париж, когда разразилась революция 1848 г.
Во время «весны народов» Бакунин сначала поднял знамя
«революционного панславизма», то есть свободной и демократической
федерации всех славянских народов. Он с жадностью следил за ходом
русских дел и считал, что движения за национальную независимость
среди славянских народов подействует как детонатор для революции
в России. Поначалу Бакунин намеривался отправиться в Познань, где
он хотел убедить поляков отказаться от «неестественного»
антирусского альянса с немецкими либералами и превратить восстание
в княжестве Познанском во всеславянскую революцию. Поскольку
у него не было необходимых финансовых средств, то он обратился
к Временному правительству Французской республики с просьбой
о займе; заем ему дали в основном потому, что французы боялись его
присутствия в Париже во время революции. Префект Парижа во вре-
ГЛАВА 13. Анархизм
291
мя революции, Коссидьер, очень тонко охарактеризовал отношение к
Бакунину, когда сказал о нем: «В первый день революции он
неоценим; на второй день его следует расстрелять».
Планы Бакунина насчет Познани потерпели неудачу из-за
вмешательства полиции в Берлине. Бакунин был арестован, а освобожден
только после того, как он дал обещание не ехать в Познань. Вместо
Познани Бакунин отправился сначала во Вроцлав (Бреслау), а потом
в Прагу, где он участвовал в Славянском конгрессе (2-12 июня 1848 г.).
На конгрессе Бакунин выступил как член польской секции и говорил
в том смысле, что польская независимость - общая цель русских и
поляков. Вместе с поляками Бакунин выступил против
оппортунистической австро-славянской программы чешских либералов и сделал все
возможное для того, чтобы убедить делегатов одобрить более
революционную позицию. Когда конгресс был прерван вспышкой
революционного восстания в Праге, сам Бакунин помогал строить
баррикады.
Деятельность Бакунина в славянских странах и статьи по
славянским вопросам (как например, статья «Обращение русского патриота
ко всем славянам», 1848) были подвергнуты критике Марксом и
Энгельсом. Их критика не всегда была справедливой, поскольку она
основывалась на представлении, что у чехов и других малых славянских
народов - в отличие от поляков - отсутствуют условия для
независимого развития, и что движение за независимость славянских народов
в основе своей реакционно. Конфликт обострялся тем, что
редактировавшаяся Марксом Neue Rheinische Zeitung опубликовала
недостоверный отчет (в июле 1848 г.), что Бакунин - русский агент. Вскоре
после того, как стало ясно, что это - фальшивка, которую, по всей
вероятности, сознательно распространяло царское правительство, газета
напечатала извинение, но Бакунин продолжал испытывать обиду на
Маркса, подозревая, что тот вел себя не вполне добросовестно. На
отношение Бакунина к Марксу и Энгельсу повлияла также
инстинктивная неприязнь Бакунина к немцам - неприязнь, которая сильно
возросла в 1848 г. из-за недоброжелательной уклончивости многих
немецких демократов и в особенности из-за националистических
откликов Франкфуртского парламента на справедливые требования
славян. (Ради исторической истины следует добавить, что отношение
Маркса к Франкфуртскому парламенту было не менее критическим,
чем у Бакунина.)
После подавления восстания в Праге Бакунин скрылся в Лейпциге;
позднее (в мае 1849 г.) он проявил себя как самый энергичный
руководитель революции в Дрездене. Когда и оно было подавлено, его
арестовали и приговорили к смерти, хотя приговор позднее изменили
на пожизненное заключение. Потом Бакунина передали австрийскому
292 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
правительству и, после того как он год провел в пражской тюрьме и в
крепости Ольмюц (где его держали прикованным к стене), его снова
приговорили к смерти. Однако приговор не был приведен в
исполнение, так как царские власти теперь требовали его экстрадиции в
Россию как опасного политического заговорщика.
По прибытии в Петербург Бакунин был посажен в знаменитую
Петропавловскую крепость. Как и во время процесса декабристов,
Николай I и теперь сыграл роль покровителя-суверена, желающего
знать, какие внутренние мотивы побудили одного из его подданных
вступить на путь зла. В этих обстоятельствах Бакунин написал свою
знаменитую «Исповедь» - подробный отчет о своей деятельности
после отъезда из России. Этот документ, не публиковавшийся до 1921 г.,
поистине очень странный. Бакунин начинает с того, что выражает
уважение к Николаю I как единственному властителю, который не
утратил веры в свое имперское призвание, а себя Бакунин называет
«кающимся грешником»; в то же время тон Бакунина далек от
смирения: он отказывается давать какие-либо показания, которые можно
было бы инкриминировать кому-либо, кроме его самого. Бакунин
рисует в своем письме мрачную картину общественных зол не только
в Западной Европе (что вызвало одобрение императора), но также и в
России, которая, как заявляет Бакунин, отделена от других стран
всепроникающей атмосферой страха и лжи. Бакунин признает, что,
может быть, и ошибался в своих действиях, но не в силах отказаться от
своих отчаянных планов. Он даже пытался обратить своего «отца-
исповедника», предлагая царю облечься в мантию освободителя
угнетенных славянских народов.
В 1854 г. Бакунина перевели в Шлиссельбургскую крепость, а три
года спустя новый император позволил ему поселиться в Сибири.
Благодаря влиянию своего дяди, генерал-губернатора Восточной
Сибири графа Николая Муравьева-Амурского, Бакунину разрешили
жить в Иркутске и поступить на правительственную службу. Он
женился на полячке (Антонине Квятковской) и вскоре вновь обрел
прежний революционный азарт. В 1861 г. Бакунин совершает побег из
Сибири через Японию и Соединенные Штаты и в Лондоне
присоединяется к своим старым друзьям - Герцену и Огареву.
Сразу же он включился в два важнейших общественных события:
«оттепель» в России, последовавшую за манифестом об
освобождении крестьян, и патриотические демонстрации в Польше. В связи с
ситуацией в России Бакунин опубликовал брошюру под названием
«Романов, Пугачев или Пестель» ( 1862), в которой писал, что кризис
можно преодолеть путем созыва Земского Собора и превращения
петербургского императора в «народного царя». Когда в Польше
поднялось Январское восстание, Бакунин оказал активную поддержку бес-
ГЛАВА 13. Анархизм
293
помощной попытке Теофила Лапинского организовать внезапный
рейд для поддержки инсургентов. После подавления восстания в
Польше Бакунин перенес свои надежды в Италию - страну с
традицией конспиративных политических обществ и с особенно
напряженными, непреодолимыми конфликтами. Мировоззрение Бакунина к
тому времени стало более радикальным: дело национальной
независимости и политических свобод отступило на задний план перед
грандиозной задачей социальной революции, осуществить которую
в Западной Европе должен был рабочий класс, а в России -
крестьянство.
В 1868 г. Бакунин заинтересовался международной «Лигой мира
и свободы», которую он пытался превратить в орудие своих
собственных идей и планов. С этой целью он написал длинную, так и не
законченную статью «Федерализм, социализм, антитеологизм»,
которая была первым зрелым выражением его анархизма. Потеряв
терпение с глубоко буржуазной Лигой, Бакунин основал собственную
международную организацию, названную «Альянсом социалистической
демократии», и начал кампанию за принятие ее - в качестве
отдельного автономного органа - в Первый Интернационал. Когда этот
маневр был отвергнут, «Альянс» распался, и его члены вступили в
различные секции Интернационала. Однако это была чисто тактическая
мера: сторонники Бакунина вступили в Интернационал только для
того, чтобы вести полемику с доминировавшей в нем фракцией,
которую представляли Маркс и «Генеральный Совет». Бакунин обвинил
Маркса в диктаторском централизме, в «этатизме» и даже в том, что
Маркс предал дело революции, сосредоточившись на легальных
методах борьбы за реформы и политические права. Бакунин считал, что
Маркс представляет интересы квалифицированных рабочих в
буржуазных странах, которые сами были глубоко проникнуты буржуазными
тенденциями; себя же Бакунин объявил представителем
«пролетариата отверженных» - рабочих масс в бедных и отсталых странах. В
полемике с Марксом Бакунин зачастую вел себя не вполне порядочно,
играя на антигерманских настроениях итальянских и французских
рабочих, а временами у него звучала и антисемитская нота. С самого
начала отношения с Марксом омрачало Нечаевское дело, в которое
Бакунин вовлек Интернационал без ведома его руководства,
скомпрометировав Интернационал в глазах общественного мнения.
Генеральный совет, со своей стороны, ответил на это решительной и
беспощадной борьбой против линии, проводимой Бакуниным. В итоге
этой борьбы появилась резолюция, принятая на съезде
Интернационала в Праге (сентябрь 1872 г.): Бакунин был исключен из
Интернационала за раскольническую деятельность и личную непорядочность.
Последнее обвинение было не совсем справедливо, как признали
294 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
позднее многие сторонники Маркса. Бакунин взял аванс за перевод
«Капитала» Маркса, но, как говорят, так и не сделав эту работу,
шантажировал издателя, когда тот попросил Бакунина вернуть деньги.
Генеральному совету дорого пришлось заплатить за свою победу:
раскол в конечном счете положил конец Первому Интернационалу.
Ослабленный уходом сторонников Бакунина, которые основали свою
собственную анархическую организацию, Интернационал перенес
свой штаб в Нью-Йорк, и вскоре его деятельность прекратилась.
Последний съезд состоялся в Филадельфии в 1876 г. Бакунин умер
в июле того же года, а Интернационал самих анархистов закрылся год
спустя.
Последние годы Бакунина прошли в лихорадочной
революционной деятельности. В 1871 г. он принимал участие в Лионском
восстании, в 1873-м - в испанской революции, спровоцированной его
сторонниками, а в 1874-м - в беспорядках в Болонье. Все эти
предприятия закончились неудачей, и стареющий Бакунин едва не лишился
жизни на баррикадах - такой смерти он, видимо, желал больше всего.
В эти же годы у него нашлось время для написания своих самых
значительных теоретических работ: «Кнуто-германская империя и
социальная революция» (1870-1871) и «Государственность и анархия» (1873).
Философские взгляды Бакунина
В период своего анархизма Бакунин считал себя
последовательным материалистом, атеистом и позитивистом. Крупнейшими
философами своего времени он признавал Фейербаха, Конта, Прудона и
Маркса. У Фейербаха он заимствовал представление о религиозном
отчуждении - представление, что человек, творец Бога, сделался
рабом своего собственного творения и что «когда небо стало богаче,
земля стала беднее». Конта Бакунин хвалит за то, что тот вышел за
пределы теологической и метафизической стадии мышления с
помощью «позитивной науки», и за то, что философию Конт понимал как
систематизацию данных, собранных отдельными науками. В своем
анализе различия между позитивизмом и материализмом Бакунин
называет Конта таким мыслителем, который, в противоположность
Гегелю, «материализовал дух, показав, что единственное основание
психических явлений - это материя»1. Прудон восхищал Бакунина не
только как великий теоретик анархизма, но и как философ, который
пытался выйти за пределы исторического идеализма. Но самый зна-
1 Бакунин М.А. Избранные сочинения. С предисловием Джеймса Гильома.
Петроград, 1919-1922. Т. 3. С. 149-154.
ГЛАВА 13. Анархизм
295
чительный вклад в этом отношении, как признавал Бакунин, внес
Маркс, которым Бакунин восхищался как мыслителем даже тогда,
когда находился с ним в самой жесткой конфронтации по
политическим вопросам. Прудон, говорит Бакунин, строил свою аргументацию
на абстрактной идее закона и тем самым остался верен идеализму
и метафизике; наоборот, Маркс научно доказал, что экономическая
структура общества предшествует и определяет его правовую и
политическую структуру1. Бакунин считал Маркса крупнейшим
экономистом своего времени и называл «Капитал» «потрясающим»
произведением. Тем не менее, он обвинял автора «Капитала» в том, что тот
сделал из собственного открытия фетиш, то есть в том, что Маркс
поставил идеалы в зависимость от «экономических фактов», тем самым
способствуя фаталистической интерпретации истории.
Бакунин, подобно Марксу и Энгельсу, считал, что основная
проблема философии - это спор между материалистами и идеалистами.
Принимая материализм, Бакунин руководствовался не только
теоретическими соображениями, но также - и даже прежде всего -
нравственными принципами. «Обожествляя человеческие вещи, -
декларировал он, - идеалисты всегда приходят к торжеству грубого
материализма <...> защищая идеалистические доктрины, невольно
оказываешься увлеченным в стан угнетателей и эксплуататоров»2. В
практических, повседневных делах, утверждал Бакунин, именно
материализм является подлинным идеализмом; так происходит потому, что
всякое развитие содержит в себе самом отрицание отправного пункта
своего же движения таким образом, что если исходная точка -
материальное, то отрицание будет идеальным. Следовательно,
материализм ведет к подлинному идеализму и постулирует полное и
окончательное освобождение общества, поднимая «красное знамя
экономического равенства и социальной справедливости»'. Бакунин
иллюстрирует свою аргументацию, указывая на противоположность
Италии и Германии: Италия, по его мнению, страна материалистической
цивилизации, а Германия - страна самого возвышенного идеализма.
В Италии, писал Бакунин, можно дышать свободно, тогда как само
имя Германии олицетворят «грубое и торжествующее холопство».
Компенсируя недостаточность реальной жизни духовным бегством в
сферу метафизических идей, немцы сделались самой худшей
разновидностью филистеров и холопов, послушными исполнителями
самых антигуманных приказов правительства: «Можно даже сказать
1 Цит. изд. Т. 1.С. 246-247.
2 Там же. Т. 2. С. 179, 184.
3 Там же. С. 184.
4 Там же. С. 181.
296 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
вообще, что чем возвышеннее идеальный мир немца, тем уродливее и
пошлее его жизнь и его действия в живой действительности»1.
Человек, полагал Бакунин, сам является продуктом природы и
потому исходная точка развития человека - стадия животного. Первым
шагом на пути эмансипации человека является мысль, акт
абстракции - пробуждение разума, которому человек обязан своей
способностью достигать осознанного самоопределения, контролировать свои
инстинктивные рефлексы, понимать взаимосвязь окружающих его
объектов и преобразовывать свое окружение в соответствии со
своими потребностями2. Первоначально, однако, человек мыслит
образами; поэтому он гипостазирует свои собственные абстракции и в
процессе преодоления своей животности, становится рабом продуктов
собственного воображения. Наивысшее и самое опасное из этих
персонифицированных абстракций - это Бог. Создание Бога было
исторической необходимостью, но в то же время и ужасной ошибкой
и несчастьем. Идея Бога - самая сильная форма отрицания свободы
человека. Всякая религия - в особенности христианство -
предполагает «принижение, порабощение и уничтожение человечества в
пользу божественности»3; всякая религия жестока, она освящает принцип
принесения жизни в жертву абстракциям и непрестанно требует
крови. Отсюда следует, что уничтожение Бога - необходимое условие
человеческой свободы. Переворачивая известный афоризм Вольтера,
Бакунин писал: «Если бы Бог действительно существовал, следовало
бы уничтожить его»4.
Ясно, поэтому, что Бакунин призывал к отвержению Бога не
только во имя науки, но также (и прежде всего) во имя свободы. Эта
мысль хорошо сочеталась с его общим убеждением: для того чтобы
достигнуть всеобщего освобождения, недостаточно полагаться на
одно лишь мышление: столь же важно восстание. По Бакунину, человек
стал человеком в акте неподчинения Богу и познания добра и зла;
поэтому образцом для человека должен быть Сатана - «вечный
бунтовщик, первый свободный мыслитель и эмансипатор миров»5. Вся
человеческая история - триада из трех стадий: за первой стадией
«животности» следует стадия «мысли», а за нею третья стадия - «бунт». При
синхроническом истолковании общества этим трем стадиям
соответствуют три сферы: экономика, наука и свобода.
Для Бакунина (как и для Фейербаха) прототипы всех форм
идеализма - религия и теология. Вот почему он настаивает на том, что по-
1Цит. изд.Т. 1.С. 231.
2 Цит. изд. Т. 3. С. 170-171.
3 Цит. изд. Т. 2. С. 159.
4 Там же. С. 163.
5 Там же. С. 145.
ГЛАВА 13. Анархизм
297
беда материализма и позитивизма над системами философского
идеализма означает победу свободы. Материалистический или
позитивистский подход в науке (Бакунин не признавал особого различия
между тем и другим) вырабатывает мировоззрение, «идущее
естественным от центра к периферии путем, снизу верх». То, что природа
подчинена закону причинности, несовместимо со свободой
постольку, поскольку свобода противоположна внешнему принуждению.
В отличие от внутренней необходимости законы, которым должен
подчиниться человек как создание природы, - это законы его
собственного бытия, законы, восставать против которых было бы нелепо.
Свободу следует противопоставлять не детерминизму, а насилию и
различным формам отчуждения, таким как религия и государство.
Нет ничего унизительного в зависимости от законов природы; это
нельзя назвать рабством, поскольку «рабство предполагает
наличность некоторого господина над нами, законодателя, стоящего вне
того, кем он управляет»1.
Хотя Бакунин подчеркивал важность науки как такой силы,
которая освобождает людей от теологии и всех внешних диктатов, он
критиковал науку за присущую ей тенденцию сводить бесконечное
разнообразие жизни к некоторой упорядоченной модели. Он восстает
против научных абстракций во имя особенного и личного - того, что
имеет свой неповторимый вкус или аромат и что невозможно
выразить в абстрактных понятиях или объяснить посредством теорий. Эта
антиинтеллектуальная черта в мировоззрении Бакунина - связующее
звено между его анархистской философией зрелой поры и
романтизмом его юности; в то же время здесь можно видеть интересное
предвосхищение Бергсона и идеалистической «философии жизни»2
(довольно неожиданная ассоциация, если вспомнить, что Бакунин считал
себя материалистом и последователем позитивизма). Сущность
жизни, заявляет он, - это спонтанность, свободно проявляющаяся
творческая способность, не поддающаяся рационализации. Наука
«незыблема, безлична, обща, отвлеченна, нечувствительна», но абстракции, как
тому учит история, легко превращаются в вампиров, питающихся
человеческой кровью3. Наука незаменима для человека, но если дать
науке господствовать над людьми, - пусть даже и «позитивной
науке», в которой не осталось следов идеализма, - то это имело бы
роковые последствия. Люди с какой-нибудь доктриной, вроде
теологов, неспособны ни понять, ни сочувствовать конкретным индивиду-
1 Там же. С. 164.
2 См.: Temkinowa H. Bakunin i antinomie wolnoéci [Бакунин и антиномии
свободы]. Варшава, 1964. Р. 95-96.
3 Бакунин М.А. Цит. изд. Т. 2. С. 192-196.
298 АпджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
альным существам; такие люди всегда готовы приспособить жизнь
к теории, ставить опыты на теле общества - а этого надо избегать
любой ценой1.
Эта аргументация полемически заострена против марксизма.
Бакунин считал Маркса типичным мыслителем-доктринером, и самый
термин «научный социализм», как ему казалось, обнаруживает
тенденцию дать науке власть над жизнью, подчинить «необразованные»
массы безропотно служить «действительным или мнимым ученым» -
вождям социал-демократической партии2.
В начале XX века упрощенная, экстремистская версия такого
взгляда на марксизм и социализм стала известной под названием «ма-
хаевщины». Творцом этой антиинтеллигентской теории был польский
революционер Ян Вацлав Махайский (1867-1926, псевдоним А.
Вольский), бывший член Польской социалистической партии, друг
известного писателя Стефана Жиромского. Его главная работа под
названием «Умственный рабочий» (написанная в Сибири в 1898-1899 годах)
интерпретировала социализм как замаскированную форму стремления
интеллигентов к использованию рабочего движения для захвата
власти и установления общественного порядка, в котором полнота власти
принадлежала бы «обладателям умственного капитала»,
организованным как новый правящий класс, безжалостно эксплуатирующий
трудящиеся массы.
Социальная философия Бакунина
Поскольку Бакунин делал акцент на значении коллективного
начала, его анархизм отличался от индивидуалистического анархизма
Прудона и был прямой противоположностью асоциального и
аморального анархизма Макса Штирнера. В отличие от Штирнера,
Бакунин не восстает на общество и прославляет эгоизм; наоборот, он дает
понять, что бунтовать против общества так же бессмысленно, как и
бунтовать против законов природы. Зависимость от законов,
управляющих общественным поведением, не ограничивает автономию
индивидуальности, поскольку общественные нормы - в отличие от
политического законодательства - не навязаны какою-то чуждой волей,
но представляют собой внутреннюю необходимость. Где нет
внешнего диктата, там чувство свободы и самореализации возможны только
в пределах общества, потому что и свобода, и самореализация
возникают в результате спонтанного слияния индивидуальной воли с волей
коллектива.
'Там же. С. 193.
2Цит. изд. Т. 1.С. 295.
ГЛАВА 13. Анархизм
299
Этот ход мыслей показывает, что анархизм Бакунина основывался
на представлении о диаметральной противоположности общества
и государства; общество - естественный элемент, обеспечивающий
формой интернализованного контроля, тогда как государство - это
отчужденная, антиобщественная сила, которую нужно уничтожить
для того, чтобы освободить социальный инстинкт, глубоко
залегающий в человеческой личности (Бакунин замалчивает тот факт, что в
условиях революционной практики вряд ли возможно проводить
различие между двумя этими сферами). Общество - продукт природы,
тогда как концепция «общественного договора», постулировавшая
более совершенное - досоциальное - состояние и рассматривавшая
общество как механический и совершенно искусственный агрегат из
отдельных людей, - это опасная метафизическая теория, которая на
практике (независимо от либеральных намерений тех, кто ее
придерживается) санкционирует абсолютный авторитет государства . Вся
политико-правовая сфера действительности - это, в сущности,
искусственный продукт определенной стадии мышления в процессе
человеческой эволюции, причем политика тесно связана с теологией: та и
другая исходят из того, что человек по природе зол и должен быть
ограничен и подчинен принудительной дисциплине. В сущности,
всякое государство - это Церковь во времени, а всякая Церковь не что
иное, как божественное государство2.
Употребляя современную терминологию, можно сказать, что
Бакунин считал государство отчужденной социальной силой, которая
распространяет свою власть за счет разрыва «жизненных»,
общественных связей. Стоит добавить к этому, что Бакунин признавал
некоторые сходства между своим ходом мысли и воззрениями
Константина Аксакова на государство как на «внешнюю правду», «начало зла,
внешнего принуждения» . Это частичное совпадение взглядов
представляет определенный интерес, поскольку оно позволяет увидеть, что
анархизм тоже имел склонность оглядываться назад, - тенденция, которая
особенно отчетливо выражалась в идеализации не поддающихся полной
рационализации, дополитических форм общественной жизни.
Нападая на государство во всех его видах - от монархизма до
республики, - Бакунин тоже апеллирует к универсальному идеалу.
Государство, по его словам, - это «самое ужасное, самое циничное и самое
полное противоречие всего человеческого»4; поскольку государство
1 Цит. изд. Т. 3. С. 184-185.
2 Там же. С. 195.
3 См.: Богучарский В.Ю. Активное народничество семидесятых годов. М.,
1912. С. 20-21.
4 Бакунин MA. Цит. изд. Т. 3. С. 190.
300 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РуССКОЙ МЫСЛИ...
разделяет людей, настраивает граждан одной страны против граждан
другой страны, присваивает себе абсолютный суверенитет, то тем
самым оно сводит на нет всеобщие узы человеческой солидарности.
Патриотизм, который культивируют правительства, по сути дела, -
средство оправдания всех преступлений, потому что совершаются эти
преступления по приказанию властей. Самое совершенное
воплощение esprit cT état - немецкий офицер: «цивилизованный зверь»,
«лакей по убеждению и палач по призванию», он соединяет в себе
«ученость с хамством, а хамство с храбростью, строгую исполнительность
со способностью инициативы, регулярность с зверством и зверство
с своеобразною честностью»; это существо, всегда готовое по
приказу начальства «истребить и перерезать десятки, сотни городов
и селений»1.
Эти аргументы Бакунина направлены не только против
буржуазного государства, но и против того, что он называл «государственным
социализмом», - направление, которое, на его взгляд, представляли
Маркс и Лассаль (принципиальные различия между ними обоими
Бакунин игнорировал). Социализм и свобода, настаивает он, -
нераздельны: «свобода без социализма означает привилегию и
несправедливость», но «социализм без свободы - это рабство»2. Именно потому
что свободу невозможно примирить с какой-либо политической
организацией, необходимо стремиться к уничтожению государств, или, по
крайней мере, к полной децентрализации государства, что оставляет
за каждой его составной частью право на добровольное отделение.
Общественная организация должна строиться «снизу вверх»,
в соответствии с подлинными нуждами и естественными тенденциями
различных групп общества. В этом смысле «индивиды и ассоциации,
общины и районы, провинции и народы объединятся на начале
свободной федерации для основания - человечества»3.
Характерный аспект социальных воззрений Бакунина - его
требование: «...наука, как моральное начало, существующее вне всеобщей
общественной жизни, и представленное корпорацией патентованных
ученых, должна быть ликвидирована и распространена в
широких народных массах»4. Наука должна быть общей собственностью,
и этой цели можно достичь, обеспечив каждому равноправное
всеобщее образование. Став однажды частью сообщества и потеряв свою
самостоятельность, наука на какое-то время снизит свои притязания,
но зато она станет составной частью реальной жизни и будет лучше
'Цит. изд. Т. 1.С. 158-161.
2 Цит. изд. Т. 3. С. 147.
3 Там же. С. 192-193.
4 Цит. изд. Т. 2. С. 201.
ГЛАВА 13. Анархизм
301
служить нуждам реальной жизни, а тем самым перестанет создавать
надменную и общественно деструктивную интеллектуальную
аристократию.
По вопросу о частной собственности Бакунин был гораздо менее
радикален, чем Ткачев: эгалитарный коммунизм последнего не
удовлетворял идеалу свободы Бакунина и его нелюбви к единообразию.
Тем не менее, он решительно против права наследования.
Единственным наследником всех мертвецов должен быть «общественный
фонд, посвященный воспитанию и образованию всех детей обоего
пола и обеспечивающий их содержание, пока они не достигнут
зрелости»1.
Изображая свой коллективистский идеал, Бакунин иногда
ссылался на якобы древние русского народа, институциональным
выражением которых была деревенская община. Отношение Бакунина к
общине было не лишено критики. Он обсуждает этот вопрос более
обстоятельно в статье, опубликованной в качестве приложения к
«Государственности и анархии». В этой статье он выделяет три основные
положительные черты «идеала русского народа». Эти черты: (1)
убеждение, что вся земля должна принадлежать народу, (2) прикреп-
ленность к общинному землевладению и (3) принцип самоуправления
и упорная вражда к официальным лицам и государственным
институтам. Но были еще и три отрицательные черты, а именно: (1)
патриархальность, (2) поглощение отдельного человека «миром» и (3) вера
в царя2. В силу этого Бакунин не верил в общину как революционную
силу, хотя он высоко ценил архаический коллективизм крестьянства.
В то же время он был убежден, что революцию можно осуществить
силами народа и во имя народных идеалов, и глубоко верил в
жизненность великой традиции крестьянских восстаний Стеньки Разина
и Пугачева. Бакунин поэтому склонен был верить, что в самом народе
дремлет революционная сила, способная в любой момент стать
настоящим вызовом патриархальному консерватизму общины и побудить
массы к восстанию против искусственной цивилизации
государства.
Бакунин указывает на долгую историю разбойничьих шаек в
России как на доказательство такой революционной силы. «Разбой, -
пишет он, - это важное историческое явление в России»; первые
разбойники, первые революционеры в России - Пугачев и Стенька
Разин - были «разбойники»3. Идеализация крестьянского бандитизма
1 Цит. изд. Т. 3. С. 146.
2 Подобно Белинскому, Бакунин считал религиозность крестьянства
поверхностным и не включил в свой идеал.
3 Бакунин М.А. Приложение к «Государству и анархии».
302 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
как самой архаической формы общественного протеста - одна из
наиболее характерных сторон бакунизма. Английский историк-
марксист Хобсбаум назвал Бакунина классическим образцом сугубо
архаического и романтического революционера1. В XIX столетии
разновидность анархизма, которую представлял Бакунин, пустила
корни в значительной мере в Италии и в Испании (особенно в Анда-
лузии) и стала политическим движением, которое особенно ярко
отражало стихийные революционные чаяния отсталых крестьянских
масс2.
Идеи Бакунина оказали значительное влияние на народничество
1870-х гг. - о чем говорилось в предшествующей главе. Из двух
течений внутри народничества, которые в 1873-1874 гг. участвовали в
«хождении в народ», бакунинцы составляли большинство и
представляли «романтическую» сторону движения; они апеллировали к
эмоциям и инстинктам крестьян, тогда как сторонники Лаврова (другое
течение) желали учить крестьян, сформировать их сознание. Поэтому
сторонников Бакунина правильно называли «бунтарями»: вместе со
своим вождем они верили, что русские крестьяне всегда готовы
взбунтоваться и начать восстание; поэтому бакунинцы отправились
по деревням - особенно на Украине и в Поволжье - в надежде
возродить традиции казацко-крестьянских восстаний. Последователи же
Лаврова («пропагандисты») отправились в деревни с мирной
пропагандой социалистических идей: они надеялись просветить крестьян и
подготовить их для будущей революции, которая должна была быть
не стихийным бунтом, но сознательным предприятием. Оба течения
высоко ставили крестьянскую общину, но сторонники Лаврова
гораздо меньше были склонны идеализировать архаические черты общины;
в коммунально-общинном самоуправлении им были дороги не
столько реально существовавшие общественные отношения, сколько их
социалистический потенциал. Обе эти разновидности народничества
отвергали борьбу за «политическую свободу» как «буржуазную» и
«лживую», но если лавровцы симпатизировали германской социал-
демократии, то бакунинцы считали ее партией, предавшей идеалы
революционного социализма.
1 Hobsbawm EJ. Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movement
in the 19th and 20th Centuries. Manchester, 1963. P. 165.
2 Там же. С. 82-83.
ГЛАВА 13. Анархизм
303
ПЕТР КРОПОТКИН
Биографическая заметка
Другая ведущая фигура анархизма девятнадцатого века - князь
Петр Кропоткин (1842-1921), представитель древнего дворянского
рода, предком которого, как считалось в его семье, был Рюрик,
основатель первого российского государства. После завершения своего
образования в пажеском корпусе в Петербурге (где воспитывались
будущие чиновники высокого, правительственного ранга) Кропоткин
поразил своих родственников и учителей тем, что избрал скромную
должность офицера сибирского казачьего полка в Амурском районе
Забайкалья. В годы, проведенные в Сибири (1862-1867), Кропоткин
занимался исследованиями по местной этнографии, геологии и
географии (за свою работу он удостоился золотой медали и был назначен
секретарем Императорского русского этнографического общества.
Кровавое подавление бунта среди ссыльных поляков в Забайкалье
привело его к решению оставить военную службу - ее он больше не
мог примирить со своими убеждениями - и посвятить себя научной
деятельности в Санкт-Петербургском университете. В 1872 г., во
время пребывания в Швейцарии, Кропоткин присоединился к
бакунинскому крылу Международного товарищества рабочих, бросил
многообещающую научную карьеру в университете и всецело посвятил
себя революционной деятельности. Кропоткин стал одним из
основателей народнического кружка Чайковского: для последнего он
составил проект программы под названием «Заняться рассмотрением
идеала будущего строя» (1973). В период «хождения в народ» он
очень успешно вел революционную пропаганду среди рабочих
Петербурга. В 1874 г. он был арестован и заключен в Петропавловскую
крепость; двумя годами позднее он разработал дерзкий план побега,
который ему помогли осуществить его друзья на воле (с ними он
поддерживал связь с помощью особого кода). Бегство Кропоткина
взбесило царские власти, но, несмотря на все поиски полиции, ему
удалось бежать за границу. Он обосновался в Швейцарии и вскоре стал
одним из признанных главных теоретиков и вождей международного
анархизма. В 1876 г. Кропоткин основал знаменитый анархистский
журнал Le Révolté. Изгнанный из Швейцарии в 1881 г., он
перебирается во Францию, где через два года его арестовывают и
приговаривают к пяти годам тюремного заключения. После успешно
проведенной кампании по освобождению Кропоткина его амнистировали в
1886 г.; он поселился в Лондоне, где написал свои самые знаменитые
произведения. После Февральской революции 1917 г. Кропоткин вер-
304 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
нулся в Россию, но активно не участвовал в политической
деятельности; он жил в городе Дмитрове, недалеко от Москвы, и продолжал
свои исследования. Хотя у Кропоткина были значительные
расхождения с Октябрьской революцией, он издал в 1921 г. обращение к
рабочим Западной Европы с призывом противостоять всем попыткам их
правительств свергнуть молодую Советскую республику.
Самая известная книга Кропоткина - знаменитые «Воспоминания
революционера», написанные по-английски для Athlantic Monthly
(1898-1899), где автор представил яркий рассказ о своей жизни,
включая знаменитый побег. Теоретические взгляды Кропоткина
содержатся в его работе «Хлеб и воля» (написанной по-французски, 1892)1;
«Анархия. Ее философия, ее идеал» (по-французски, 1896)2;
«Взаимопомощь как фактор эволюции» (по-английски, 1904); «Государство и
его роль в истории» (по-французски, 1906)3; «Этика», написанная по-
русски и опубликованная посмертно в 1922 г. Кропоткин также
является автором ценной книги по истории Французской революции (Le
Grande Révolution■, 1917).
Философия истории Кропоткина
Классическая работа Кропоткина «Взаимопомощь как фактор
эволюции» - это выступление против неограниченной конкуренции
капиталистического общества и против ее защиты
социал-дарвинистами. Как ученый-естественник Кропоткин тоже считал себя
дарвинистом, но оно понимал, что факты, открытые Дарвиным, получили
одностороннее истолкование: Кропоткин, правда, готов признать, что
борьба за выживание и «Самоутверждение индивида путем
соревнования» - важные факторы эволюции, но он обратил внимание на
другой, не менее важный фактор, значимость которого, утверждает он,
Дарвин принимал (тогда как апологеты капитализма обходят его
молчанием). Этот фактор - сотрудничество между членами одного и то
же вида. Примеры сотрудничества, или взаимопомощи, обычны в
животном мире, считает Кропоткин. Существуют
высокоорганизованные сообщества животных - такие как муравьи, - внутри которых
конкуренция неизвестна. В ходе эволюции сообщества животных
сложились в более высокоорганизованные и более «сознательные»
социальные группы, которые предоставляют своим членам больше
1 Английский перевод был опубликован в Нью-Йорке в 1913 г. и переиздан
в 1968 г.
2 Английский перевод - Лондон, 1897 г. и Сан-Франциско, 1898 г.
Английский перевод был опубликован в Лондоне в 1903 г., переиздан
в 1943 г.
ГЛАВА 13. Анархизм
305
независимости, не лишая их благ общественной организации (в
качестве примера Кропоткин ссылался на колонии бобров)1.
Первобытные человеческие сообщества тоже основывались на
взаимопомощи, с удовлетворением отмечает Кропоткин. Он отвергает
как абсурдное представление, что в период якобы досоциального
состояния первобытный человек участвовал в непрерывной борьбе
против других представителей своего вида. Неограниченный
индивидуализм, убеждает Кропоткин, - продукт современности и был бы
непонятен так называемым «дикарям». Племенные и классовые
сообщества жили по принципу взаимной солидарности, пользуясь
добытыми общим трудом запасами и отдавая на общее усмотрение все
трофеи, которые всякий отдельный член сообщества приобретал
в течение года. Этот принцип применялся только внутри клана, и, к
сожалению, «двойная мораль», разделявшая людей на «мы» и «они»,
тогда еще не была отменена.
Появление отдельных семей разрушило клан и инициировало
новую, более высокую стадию эволюции, которую Кропоткин называет
«варварством». Базовой общественной единицей и организацией,
посредством которой взаимопомощь реализовывалась в те времена,
была сельская община; это уже не клановая общность, основанная на
кровных узах, а общность, основанная на связях с соседями.
Население всех стран прошло через стадию сельских общин (Кропоткин
иллюстрировал свои размышления примерами, взятыми из работ
английского историка сэра Генри Мейна); общины показали большую
жизнеспособность и исчезли сами по себе, как бы ни утверждали
противоположное апологеты буржуазного индивидуализма. В Англии
сельские общины отчасти сохранились вплоть до восемнадцатого
века, а во Франции их разрушили только законодательство Тюрго и
Французская революция.
В Средние века городские коммуны достигли особенно
продвинутой стадии взаимопомощи. Кропоткин полагал, что великая эпоха
средневековых свободных городов (включая русские
города-государства Новгород и Псков) представляет вершину в истории
человечества. Материальная цивилизация развивалась в то время быстро
и принесла непосредственные благодеяния городскому населению
(в этом отношении Средневековье отличалось от эпохи
Индустриальной революции); ни до, ни после этого простые рабочие не жили так
состоятельно. Средневековые города представляли собой
неформальные объединения улиц, округов, профессиональных гильдий.
Кропоткин особенно высоко оценивает гильдию - организацию, которая
усовершенствовала, на более высоком уровне, принцип взаимопомощи
Взаимопомощь как фактор эволюции (глава 2).
306 Анджеи Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
прежних сельских общин. Ограничивая конкуренцию и устанавливая
эффективную систему взаимопомощи между ее членами,
средневековые гильдии гарантировали стабильность и процветание; труд был
удовольствием, и различие между ремесленником и художником
было крайне незначительным. Великолепные средневековые соборы
свидетельствуют о высоком уровне как ремесла, так и художества той
эпохи.
Когда читаешь эти размышления, сразу вспоминаются два
мыслителя девятнадцатого века: англичанин Джон Рескин и Вильям
Моррис. Рескин - писатель, который от художественной критики
обратился к критике общественных зол; он восхищался средневековыми
соборами и осуждал индустриальную цивилизацию ради идеала
красоты. Моррис был поэтом: культ Средневековья привел его к
попытке возродить средневековые ремесла печатников и обойщиков, и
он, подобно Кропоткину, принимал активное участие в
социалистическом движении. Сам Кропоткин ясно сознавал это сходство во
взглядах и называл Морриса единственным англичанином, который понял
значение Средних веков и воздал им должное1.
В шестнадцатом веке цивилизация свободных городов была
разрушена. Хотя Кропоткин был убежден, что возрастающие социальные
антагонизмы в городах отчасти были причиной их заката, он все же
считал, что объяснялось это в значительной мере внешними
факторами. Большие города захватили «новые варвары» - короли, прелаты и
юристы (представители римской традиции), которые объединили
силы с целью навязать свое господство и установить единственный
центр правления. Это привело - впервые в истории христианской
цивилизации - к установлению государства в подлинном смысле этого
слова, то есть (по определению Кропоткина) к «сосредоточению
многих отправлений общественной жизни в руках немногих»2.
Прототипом и сознательно копируемой моделью нового государства был
Древний Рим; его основная цель заключалась в том, чтобы разорвать
все непосредственные узы, связывающие человека с человеком, для
того чтобы сделаться единственной связующей людей силой и не
допустить появления «государств в государстве». Прежний дух
феодализма - дух ненасильственной инициативы и добровольных
соглашений - выветрился, и на его месте оказался дух дисциплины,
правления, организованного по принципу «пирамиды» (иерархии)
правления3.
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Он же. Хлеб и воля.
Современная наука и анархия. М.: Правда, 1990. С. 413. -Прим. ред.
2 Там же. С. 398.
3 Там же. С. 433.
ГЛАВА 13. Анархизм
307
Буржуазные революции, которые были направлены против
абсолютных монархий, не изменили общего направления социальной
эволюции; наоборот, они способствовали усилению этой тенденции
правления, поставив под удар то, что еще оставалось от
кооперативного духа Средних веков. Французская революция была последним
порождением традиции римского права (в республиканской ее
интерпретации), и она отказалась принять остатки анклавов общего
законодательства и нанесла последний смертельный удар сельским
общинам. В постреволюционный период дух «этатизма» глубоко проник
даже в такие общественно-политические движения, которые ставили
под вопрос существующие системы и противопоставляли себя
классовому правительству буржуазии. Современный радикал, заявляет
Кропоткин, это «централист, государственник и якобинец до мозга
костей. По его же стопам идут и социалисты»1.
Казалось бы, этот диагноз приводит только к пессимистическим
выводам. Но Кропоткин неисправимый оптимист: он глубоко верит
во врожденную доброту человека, в дух взаимопомощи, в будущее,
основанное на неприменении силы в человеческих отношениях. Он
твердо убежден, что, несмотря на многие поражения, естественная
склонность к взаимопомощи не вымерла в массах, но лишь глубоко
сокрыта у них в бессознательном2. Поэтому революционеры, цель
которых - вызвать радикальные изменения в мире, в своих усилиях
должны основываться на этом естественном инстинкте. Опасная
иллюзия - полагать, что государство, которое на протяжении своей
истории препятствовало объединению людей, подавляло свободу и
парализовало инициативу на местах, может вдруг превратиться в свою
противоположность. Нужно выбрать между двумя конфликтующими
традициями: одна из них - римская и авторитарная, другая - народная
и свободная3.
Проведенное Кропоткиным противопоставление двух традиций и
двух типов взаимоотношений между людьми можно сравнить с
противопоставлением двух типов общественных связей - «общностью»
(Gemeinschaft) и «обществом» (Gesellschaft), проведенным Ф.
Теннисом, о котором упоминалось выше в этой книге в связи со
славянофилами4. Теннис, подобно Кропоткину, противопоставлял систему
связей коммунального типа («общность») внутренне атомизированному
«обществу», понимаемому как агрегат конфликтующих между собою
1 Там же. С. 448.
2 Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. М., 2007. С. 223. -
Прим. ред.
3 Государство, его роль в истории. Цит. изд. С. 452.
4 См. выше. С. 123-124.
308 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
индивидов, отношения между которыми регулируются извне сильным
государственным аппаратом. Подобно Кропоткину, Теннис
рассматривал сельские общины и средневековые города как образцы
прежнего, органического типа связи, а римскую цивилизацию и капитализм
(основанный на соревновании, то есть, в сущности, на конфликтах) -
как классические примеры второго типа связей между людьми. Это
сравнение невозможно, конечно, понимать слишком буквально:
Кропоткин, к примеру, не выделял роль традиции и религии в
формировании общинных связей, или рационализма в установлении
политически легальных связей - тех сторон социологической теории Тенниса,
которые больше всего напоминают славянофильские концепции. Тем
не менее, сравнение с Теннисом интересно в свете социологического
содержания философии истории Кропоткина; в особенности это
сравнение объясняет характерную для Кропоткина тенденцию
идеализировать архаические формы социальной взаимосвязи. Эта тенденция
имеет у Кропоткина нечто общее со славянофилами, хотя
славянофильство было дворянской идеологией, тогда как анархизм
Кропоткина - как и русское народничество - был ностальгическим
выражением тоски по утраченной идеальной общности непосредственных
производителей - ремесленников и крестьян.
Образ будущего у Кропоткина
В отличие от Бакунина, которого больше интересовала критика
существующих общественных отношений и реальный акт
революции, Кропоткина можно назвать систематизатором анархизма.
Например, в своей книге «Завоевание хлеба» он взялся за подробное
изложение утопии анархизма. Другое отличие в акценте состоит в
том, что анархизм Кропоткина не только коллективистский по своему
характеру, но и коммунистический. Непосредственная задача
социальной революции, заявляет он, должна заключаться в том, чтобы
преобразовать экономические отношения в соответствии с принципом
«каждому по потребностям». Принцип «каждому по труду», на взгляд
Кропоткина, не гарантирует социальной справедливости и
несовместим с личной свободой; ведь существует множество различных
типов труда, явно несопоставимых между собой, а значит, определение
того, сколько будет стоить выполнение любой конкретной задачи,
включает момент торговли, другими словами - постоянный конфликт.
Это, в свою очередь, делает необходимым установить какой-то
авторитет, стоящий над людьми, с целью действовать как посредник и
обеспечить социальную гармонию. На практике, поэтому, «купоны
труда» не отличались бы от денег.
ГЛАВА 13. Анархизм
309
Кропоткин убежден, что огромный производительный потенциал
современной технологии облегчает введение коммунистического
принципа оплаты «каждому по потребностям». Предложенный
Кропоткиным план разработан весьма подробно. Если технологию
поставить под разумный контроль, а ресурсы найти среди простых
людей, полагает Кропоткин, то результаты превзойдут все ожидания:
рабочий день можно будет сократить до четырех-пяти часов. А
производительность труда возрастет в четыре раза как в
промышленности, так и в сельском хозяйстве. Члены коммунистической общины
должны будут работать несколько часов и, в свою очередь, будут
удовлетворять свои основные потребности в еде, жилье,
образовании и т.п. без ограничения; те же, кто захотят чего-то большего,
получат возможность производить предметы роскоши в свое
свободное время. Кропоткин с оптимизмом относится к возможности
осуществления своего плана в будущем и считает, что план этот уже
применяют в капиталистических странах, где книги в публичных
библиотеках доступны всем, кому они нужны, и где сезонными
билетами можно пользоваться неограниченно в поездках на
определенные расстояния.
Одна из проблем, которые пришлось рассматривать
Кропоткину, - это что делать с людьми, которые слишком ленивы, чтобы
работать. Никто не ленив по природе, аргументирует он, а если и есть
исключения, то и эти исключения заслуживают того, чтобы их
потребности тоже удовлетворялись, поскольку каждый человек
наделен правом жить. Тем не менее, общине придется отнестись к таким
индивидам иначе, чем к другим ее членам, и поступать с ними так
же, как с больными или общественно неполноценными. Врожденная
неприязнь человека к одиночеству, изоляции - достаточное
основание для того, чтобы склонить таких людей включиться в общие
задачи (если они не больны по-настоящему). С другой стороны, всем
тем, кто осознанно отвергает принципы коммунизма, должно быть
позволено оставить общину и поискать для себя что-то более
удовлетворительное. Например, они могут выбрать себе
единомышленников и создать свою собственную общину, основанную на иных
принципах1. Таких людей, по мнению Кропоткина, будет очень
мало, так что некоммунистические анклавы не будут представлять
угрозы для начал общественной кооперации, принятых абсолютным
большинством.
Кропоткин - противник разделения труда, так же как Толстой и
Михайловский, хотя в своих взглядах по этому вопросу он избегает
крайностей, поскольку понимает, что некоторые типы труда требуют
1 См.: работу «Хлеб и вино».
310 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
специализации; во всяком случае, он предполагает, что в его
идеальном обществе тысячи различных специализированных
ассоциаций будут удовлетворять самым разным вкусам. В чем, однако,
Кропоткин абсолютно убежден, так это в том, что разделение между
физическим и умственным трудом должно быть отменено. Например,
людям, желающим писать и печататься, следует объединиться в
ассоциации, создавать издательства, выучиться на наборщика и
печатать свои собственные произведения. Несомненно, одни книги
будут скромнее, замечает Кропоткин, но скорее по объему, чем по
существу1.
Несправедливое разделение на умственный и физический труд -
тема, которой Кропоткин касался еще прежде, когда в качестве члена
кружка Чайковского он создал проект идеальной общественной
системы будущего. В этом проекте он настаивал на том, что даже
гениальные ученые не должны освобождаться от исполнения разных
неприятных общих задач: «...Дарвин, занимающийся вывозом нечистот,
потому только кажется людям абсурдом, что они не в состоянии
отрешиться от представлений, целиком взятых из современного
общества»2. Не только привилегию рождения, но и привилегию на
образование нужно отменить как один из источников общественного
неравенства.
Однако, в отличие от Ткачева, который призывал к
выравниванию «вниз», Кропоткин с его оптимизмом и неприятием силовых
решений пришел к мысли о выравнивании «верх», которое, по его
мнению, станет возможным благодаря широкому распространению
механики и более эффективной организации. В частности, от такого
выравнивания выиграют женщины, которые перестанут быть рабами
домашнего труда. Кропоткин предсказывает широкое применение
машин для мытья посуды, чистки обуви и для стирки белья, так же
как проведение центрального отопления и доставку съестных
продуктов на дом или даже доставку полного многоразового питания в
специальных фургонах. Такие средства, экономящие затраты труда,
отмечает он, уже осуществляются при капитализме, особенно в
Соединенных Штатах, которые в этом отношении опережают
остальной мир.
1 Там же.
Кропоткин П.А. Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего
строя? (перепечатано в кн.: Революционное народничество 70-х годов XIX века /
Под ред. Б.С. Итенберг. Т. 1. М, 1964. С. 64). Во имя общественного равенства
молодой Кропоткин призывал «закрыть все университеты, академии и проч.
высшие учебные заведения и открыть повсеместно школу-мастерскую, которая в
очень скором времени объемом преподавания, конечно, доразовьется до уровня
теперешних университетов и превзойдет их» (Там же. С. 67).
ГЛАВА 13. Анархизм
311
Другая сфера, которая выиграет от отмены разделения труда, - это
окружающая человека среда. Искусство сольется с индустрией,
подобно тому, как оно в свое время было составной частью
ремесленничества. «Для развития искусства, - утверждает Кропоткин, - нужно,
чтобы оно было связано с промышленностью тысячью
промежуточных ступеней, которые сливали бы их в одно целое, как справедливо
говорили Рескин и великий социалистический поэт Моррис. Все, что
окружает человека - дома и их внутренняя обстановка, улица,
общественное здание внутри и снаружи, - все должно обладать прекрасной
художественной формой»1. В обществе, в котором все люди достигли
определенной степени благосостояния и имеют свободное время, где
все работают ради удовлетворения своих собственных нужд,
нетрудно будет достигнуть такого уровня красоты.
Размышления Кропоткина на тему революции интересны, хотя и
совершенно утопичны. В отличие от Бакунина, который в своей
деятельности пользовался методами заговорщиков, заимствованными у
секретных обществ карбонариев, Кропоткин полностью отвергает эту
традицию; сам он был привержен очень строгому этическому кодексу
и испытывал такой ужас перед насилием, что он счел бы для себя
невозможным сотрудничать с таким авантюристом, как Нечаев, который
был убежден, что цель оправдывает средства. Как только революция
увенчается успехом, убежден Кропоткин, ее обретения будут
неоспоримы. Заводы и фабрики, магазины и дома захватят вооруженные
люди, которые осуществят справедливое перераспределение
общественных богатств, и насилие вскоре станет излишним. Как это ни странно,
Кропоткин допускал, что анархистская революция может иметь успех
на сравнительно небольшой территории, например в Париже и в двух
соседних с ним департаментах (Сена и Сена-и-Уаза). В «Завоевании
хлеба» он объясняет свой план, каким образом сделать такую
автономию возможной: все, что для этого нужно, это чтобы половина
взрослого населения Парижа и его окрестностей каждый год отдавала 58
пятичасовых рабочих дней обработке земли (в департаментах Сены и
Сены-и-Уазы); эффективная современная сельскохозяйственная
техника позволит этим людям стать самодостаточными и независимыми
от остальной страны2. Кропоткин, очевидно, считал возможным, что
остальная Франция согласится предоставить экономические санкции
своей революционной столице и не осмелится прибегнуть к
вооруженной интервенции. Трудно отделаться от впечатления, что,
несмотря на все страстные нападки Кропоткина на буржуазное государство,
он слишком доверяет демократическим достижениям Западной Евро-
1 См.: Хлеб и воля. Цит. изд. С. 127. - Прим. ред.
2 Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Там же. С.93.
312 Аиджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
пы. Это связано с его глубоким убеждением в том, что эволюционный
цикл, неблагоприятный для инстинкта «взаимопомощи», уже
завершился и что современные государства скоро «отомрут» и уступят
свое место свободным общественным инициативам1.
В истории анархизма - движения, ультрареволюционное и
левацкое крыло которого часто пускалось в безответственный
политический экстремизм, прославление насилия и примитивный
антиинтеллектуализм, - Кропоткин занимает совершенно особое место.
Несомненно, он был одним из самых принципиальных и лично
привлекательных фигур этого движения. Наивность его взглядов
существенно связана с его прирожденной добротой и безграничной верой в
человечество. В теории, как и в повседневной практике, Кропоткин
был революционером, но многие его идеи ближе к пацифистскому и
даже христианскому анархизму (например, к анархизму толстовского
типа). Теории Кропоткина имели большое влияние в кооперативном
движении, которое отстаивало мирный характер трансформации
общества путем создания кооперативов и ассоциаций, основанных на
принципе взаимопомощи. Среди его учеников был и выдающийся
польский теоретик безгосударственного социализма Эдвард Абра-
мовский.
1 Там же.
ГЛАВА 14
313
РЕАКЦИОННЫЕ ИДЕОЛОГИИ
ПОРЕФОРМЕННОЙ ЭПОХИ
Слово «реакционный», как правило, употребляется в целом ряде
значений. В контексте истории идей следует проводить
различие между идеологиями, которые реакционны по своему
содержанию, и такими идеологиями, которые реакционны по своей
функции (в контексте той или иной общественной ситуации).
В первом случае «реакционный» - дескриптивный термин,
указывающий на то, что данная идеология обращена в прошлое и
идеализирует (прямо или косвенно) какую-то предшествующую ступень
социальной эволюции. Такой ретроспективный взгляд был характерен для
народничества; это имел в виду Ленин, когда он проводил различие
между реакцией «в историко-философском смысле» (которую он
называл «ошибкой теоретиков, которые берут образцы для своих
теорий из отживших форм общества») и реакцией «в обычном смысле
этого понятия» (то есть в смысле политической поддержки крайне
правых движений)1.
Многие исследователи проводят также различие между
реакционностью сознательной (субъективной) и реакционностью
бессознательной. Это различение, которое предполагает, что между
субъективными мотивами идеолога и объективным содержанием или
функцией отстаиваемых им идей возможен конфликт, тоже полезно
в качестве аналитического средства интерпретации.
В этой главе речь пойдет о мыслителях, к которым слово
«реакционный» применимо без каких-либо дальнейших объяснений или
оговорок, - мыслителях реакционных как объективно, так и субъективно,
то есть и с точки зрения функции, и с точки зрения содержания своих
идей. Эти мыслители активно противостояли не только революции, то
есть общественному радикализму, но отчасти даже реформам,
проводившимся Александром II. Появление таких реакционных идеологий
было важным симптомом поляризации общества - поляризации,
вызванной изменениями в социальной атмосфере 1860-х гг., и
перспективами развития, возникшими под влиянием революционного движения.
1 Ленин В.И. Поли, собр.соч. 5-е изд. Т. 2. М., 1967. С. 211.
314 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ-
НИКОЛАИ ДАНИЛЕВСКИЙ
Самой динамичной, а в некоторых отношениях и самой актуально-
модной разновидностью реакции в России d 1870-е гг. был панславизм -
движение, цель которого состояла в том, чтобы заставить царское
правительство проводить более агрессивную и шовинистическую
внешнюю политику, особенно по отношению к Турции, и создать
мощную федерацию славянских народов под руководством России.
Самым активным политиком в панславистском движении был Иван
Аксаков (упоминавшийся в главе 6); однако он не был ведущим
теоретиком панславизма, поскольку настолько благоговел перед
славянофильством, что это мешало ему предпринять ревизию и
переосмыслить славянофильскую доктрину в новых, пореформенных
общественных условиях. Первое и, пожалуй, единственное
систематическое изложение панславизма представлено в книге Николая
Данилевского «Россия и Европа», опубликованной в 1869 гг. и в
последующие годы несколько раз переиздававшейся1.
Николаи Данилевский (1822-1885), ученый-естественник и в
прошлом член кружка петрашевцев, никогда не был связан с
классическим славянофильством. Как теоретик панславизма он пользовался
славянофильскими идеями, но путем сознательного отбора и ревизии
он сумел приспособить эти идеи к совершенно иного рода
идеологической модели.
В первую очередь Данилевскому пришлось отказаться от
славянофильской точки зрения на государство, поскольку учение, которое
рассматривало государство как «неизбежное зло» или «внешнюю
правду», вступало в явное противоречие с идейной программой,
призывавшей к созданию мощной экономической и военной федерации
во главе с Россией. Оценивая роль Петра Великого, Данилевский
придает гораздо большое значение политическим и военным успехам,
способствовавшим созданию мощной империи, чем недостойному,
«обезьяньему» подражанию Европе, сопровождавшему петровские
реформы. Но, конечно, наибольшие изменения, произведенные
Данилевским в славянофильских взглядах, обнаруживаются в
истолковании исторической миссии России: для славянофилов цель состояла в
защите определенных всеобщих идеалов («истинное христианство»,
' Наиболее полное исследование о русском панславизме написано Фрэнком
Фэднером; см.: Fadner F. Seventy Years of Russian Pan-Slavism in Russia: Karamsin
to Danilevsky. Washington, D.C., 1962. См. также: Boro-Petrovich M. The
Emergence of Russian Panslavism. New York, 1958. О Данилевском см. недавно
опубликованную монографию: MacMaster R.E. Danilevsky: A Russian Totalitarian
Philosopher. Cambridge, Mass., 1967.
ГЛАВА 14. Реакционные идеологии пореформенной эпохи 315
традиционные общественные связи); для Данилевского же цель,
оправдывающая все жестокости русской истории, заключается в
создании мощного государственного организма, экспансия которого
подчиняется только естественным законам эволюции. Европа, с
негодованием писал Данилевский, отказалась признать миссию России и
приписала ей лишь скромную роль «цивилизирования Азии». Ни один
великий народ не удовлетворится такою ролью. К счастью,
предназначенье России, очевидным образом, совершенно иное: русский
народ, как и другие славянские народы, несет в себе зародыш нового
типа цивилизации - такой цивилизации, которая не имеет ничего
общего с германо-романской цивилизацией Европы. Эта новая
цивилизация расцветет после завоевания Константинополя и после того как
этот город станет столицей славянской империи, которую освободит
и объединит Россия. Поэтому «идея славянства» должна быть, после
идеи Бога, высшим идеалом для каждого славянина - идеалом,
который «выше свободы, выше науки, выше просвещения, выше всякого
земного блага, ибо ни одно из них не достижимо без ее
осуществления»1.
По Данилевскому, ошибка славянофилов состояла в том, что они
приписали абсолютную, то есть универсальную, ценность русским,
или славянским, началам. В результате славянофилы впали в ту же
самую ошибку, что и западники, которые отождествили европейскую
цивилизацию с мировой цивилизацией. Нет и не может быть
ценностей, которые были бы для человечества «всеобщими». Данилевский
заявляет: человечество выражает себя только в конкретных,
«историко-культурных» типах, которые просто разные, так что их даже и
невозможно сравнивать; пытаться оценивать эти типы с точки зрения их
якобы всеобщего значения так же бессмысленно, как спрашивать,
какая конкретная растительная форма - пальма или кипарис, дуб или
роза - лучше выражают «идею растения». Поскольку не может быть
никакой такой универсальной миссии, то славяне и не могли быть
избранными для такой миссии; не могут они и представлять в своих
действиях какое-либо коллективное тело - «подлинно христианские
начала», поскольку такие начала значимы только в отношении к
индивидам. Требование применять христианские начала к политике -
«мистицизм и сентиментализм» эпохи Священного союза - не
принимает в расчет тот факт, что только индивиды бессмертны и что
самопожертвование - высший принцип христианской нравственности -
можно требовать только от них. Законы, управляющие отношениями
1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические
отношения славянского мира к германо-романскому. 4-е изд. СПб., 1889.
С ИЗ.
316 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
между государствами и народами, могут основываться только на
собственном интересе: «око за око, зуб за зуб». В соответствии с этим
утилитаристским принципом Бентама Данилевский требует
отвергнуть остатки легитимизма в русской внешней политике и проповедует
откровенно циничный подход к международным отношениям.
Такой возведенный в политическую программу имморализм был
очень удобен для русского великодержавного шовинизма. Слово
«имморализм», возможно, не вполне подходит в данном случае: не то
чтобы Данилевский игнорировал нравственные критерии, он только
выбирает другое понятие - понятие «славянского
историко-культурного типа» - в качестве высшего нравственного мерила для России и
всех других славянских народов. С этой «славянской» точки зрения
ему было уже нетрудно вынести приговор «иезуитско-шляхетской
Польше», «Иуде славянства», которую он сравнивает со злостным
тарантулом, жадно пожирающим восточных соседей, несмотря на то
что его собственное тело пожирается западным соседом1. С этой же
точки зрения он осуждает политику царизма за «мягкость» в
отношении Европы и обвиняет правительство в том, что оно не учитывает
интересы России и братских славянских народов, заигрывая с
Западом. Даже в отношении к полякам, считает Данилевский, царское
правительство проявляло излишнее благородство.
Во внутренней политике Данилевский верил в «социальную
монархию», которая должна быть над классами и должна охранять
общественную гармонию, подчиняя отдельные частные интересы
общему благу. Сначала ему казалось, что этот идеал удастся
осуществить посредством реформ Александра II, но позднее он изменил
свое мнение, в особенности в том, что касалось законодательных
реформ. В первых изданиях «России и Европы» он защищает эти
реформы от обвинения в «копировании» Европы и цитирует
Хомякова, который утверждал, что правовая система - самородное
славянское установление. Однако в третье посмертное издание его
книги Николай Страхов включил заметки, сделанные самим
Данилевским на полях своей книги (вероятно, в 1880-1881 гг.). Данилевский,
по-видимому, не удовлетворенный тем, каким образом проводились
большие политические процессы 1870-х гг. и вынесенными
приговорами, признается в этих своих заметках, что он ошибался:
«Реформа только что началась, и хотелось верить, что, а потому и
верилось» что она примет разумный характер - на деле она обратилась в
иностранную карикатуру. При большей трезвости мысли это можно
и должно было предвидеть» .
1 Там же. С. 33.
2 Там же. С. 300.
ГЛАВА 14. Реакционные идеологии пореформенной эпохи 317
Своим местом в интеллектуальной истории России Данилевский
обязан не только своей политической доктрине, но также и своей
теории «историко-культурных типов» - теории, которую невозможно
рассматривать только как теоретическое оправдание панславизма.
Предшественником Данилевского здесь был Аполлон Григорьев,
который утверждал (см. главу 11), что отдельные народы или группы
родственных народов - это уникальные и самодостаточные
организмы, живущие по своим собственным законам и независимые от якобы
всеобщих законов эволюции человека1. Это свое представление
Григорьев развивал, опираясь на взгляды позднего Шеллинга и в
противопоставление универсалистской схеме философии истории Гегеля.
Его полемика против «исторического воззрения Гегеля» получила
свое продолжение в полемике Данилевского против дарвинизма,
в котором классификация видов, осуществленная французским
зоологом Кювье, приобрела такое же значение, как до этого идеи Шеллинга
имели для Григорьева. Хотя Данилевский заменяет романтическую
философию истории Григорьева натуралистической философией
истории, в обоих случаях категории эволюции вытесняются
морфологической точкой зрения. Эстетизм или, точнее, особые эстетические
критерии, извлекающие красоту из многообразия форм определенных
«типов организации»2, также занимают видное место в учении
Данилевского. Вклад Кювье, по его мнению, состоит в том, что тот провел
различие между «эволюционной стадией» (или уровнем развития)
организмов и их «типами»: «Эти типы не стадии эволюции на лестнице
постепенного совершенства (стадии, расположенные, так сказать,
в иерархическом порядке субординации), а совершенно иные планы -
без всякого общего знаменателя, в которых каждое существо
развивается специфическим и отчетливым образом к множественности и
совершенству в пределах своего плана» .
В переводе на язык исторических представлений, это означает
устранение идеи однонаправленного и всеобщего прогресса. Вместо
абстрактного «общечеловечества» (понятого как универсальный
признак всего человеческого) Данилевский предлагает понятие «всечело-
вечество», имея в виду богатое разнообразие культурных и
национальных различий, которые невозможно свести к какому-то общему
знаменателю или расположить в эволюционный ряд. Предвосхищая
более поздние теории Шпенглера4 и Арнольда Тойнби, Данилевский
1 См. выше. С. 234-238.
2 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С. XXX-XXXI.
3 Там же. С. 87.
4 По вопросу о возможном влиянии идей Данилевского на Шпенглера см.: So-
rokin P. Modern Historical and Social Philosophies. New York, 1963. P. 50,69,73-82.
318 Анджей Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
подразделяет человечество на «историко-культурные типы»,
сопоставимые с различными стилями в архитектуре и живописи; прогресс -
это нечто такое, что не может иметь место только внутри типа, и
категории органического роста - такие, как «юность», «зрелость» и
«старость», - применимы только к этим различным типам, а не к
человечеству в целом. В силу разнородности и разнообразия исторических
явлений, нет смысла даже пытаться создавать теории, претендующие
на то, чтобы объять всю историю; такие теории неизменно
основываются на «ложной точке зрения» европоцентризма - неосознанном
отождествлении истории Европы с историей человечества.
Различение между «эволюционными типами» и «эволюционными
стадиями» в пределах разнообразных типов с энтузиазмом поддержал
Михайловский1. Интерпретация мыслителем-народником
исторических типов несколько отличалась от интерпретации Данилевского,
поскольку Михайловского интересовали прежде всего типы
экономического развития, а не культурные особенности. Однако
заинтересованность того и другого мыслителя в различении между
эволюционными типами и эволюционными стадиями была совсем не случайной:
как Данилевский, так и Михайловский хотели оправдать свое
убеждение в том, что у России начала развития - «местные», и поэтому оба
они должны были отвергать все универсалистские схемы и концепции
однонаправленного развития.
Данилевский выделяет десять типов цивилизаций в прошлом:
(1) египетскую, (2) китайскую, (3) ассиро-вавилонско-финикийскую,
или древне-семитскую, (4) индийскую, (5) иранскую, (6) иудейскую,
(7) древнегреческая,(8) римская, (9) неосемитская, или арабская,
и (10) романо-германскую, или европейскую. Эти цивилизации
«несоизмеримы» с точки зрения своих «начал», но их можно сравнивать
с формальной точки зрения. Например, существуют
«моноэлементарные» типы, которые могут претендовать на достижение только в
одной сфере культуры, и «многоэлементарные» типы, которые могут
гордиться достижениями во многих сферах; некоторые типы
совершенно «самодостаточны», тогда как другие способны лишь
ассимилировать «материал культуры» (но не ее начала), созданный
современными или предшествовавшими культурными типами. Культурная
деятельность, в самом широком смысле, развивается в четырех
основных областях: (1) в области религии, (2) в области культуры (в
более узком смысле это наука, искусство и техника), (3) в политической
сфере, (4) в социально-экономической. Иудейская цивилизация была
моноэлементарным религиозным типом, Древняя Греция - культур-
1 Михайловский Н.К. Поли. собр. соч. 4-е изд. СПб., 1906-1914. Т. 3. С. 867-868.
«Записки простака».
ГЛАВА 14. Реакционные идеологии пореформенной эпохи 319
ным (преимущественно художественным) типом, а Рим -
политическим типом; в отличие от китайской или индийской цивилизации,
каждая из них была способна ассимилировать достижения других
культур. Европейская цивилизация «дуальна»: она состоит из
политического и из культурного элементов и способна к очень значительной
и творческой ассимиляции.
В отличие от славянофилов, Данилевский не был враждебен к ро-
мано-германскому началу. Среди выделенных им
«историко-культурных типов» европейский тип - один из самым значительных, может
быть, самый утонченный из созданных когда-либо прежде; но в то же
время Данилевский подтверждает славаянофильский диагноз о
вырождении Европы. В его схеме европейская история прошла три
периода наивысшего развития. Первый период - это тринадцатый век,
когда был расцвет аристократической и теоретической культуры.
Второй период - семнадцатое столетие после интеллектуального
освобождения, осуществленного Ренессансом, и освобождения
совести, осуществленного Реформацией; этот период представляет
творческий апогей европейской истории (на эту эпоху ностальгически
оглядывались в то время и все консерваторы Европы - за
исключением католиков-ультрамонтанистов, которым хотелось вернуться в еще
более далекое прошлое). Вместе с освобождением от феодализма в
конце восемнадцатого столетия начинается, по Данилевскому, третий
и последний период европейских достижений -
технически-индустриальная эпоха. В этот период (в 1848 г.) возникают новые силы,
желающие полного освобождения от старой европейской цивилизации,
а это значит - полного ее разрушения. Парижская коммуна, писал
Данилевский в одной из заметок к более позднему изданию своей
книги, - еще одно, особенно ужасное воплощение этих сил:
«Наступило начало конца»1.
Закат Европы, однако, не затрагивает Россию и славянские
народы. Какие бы аргументы ни выдвигали русские западники для того,
чтобы доказать противоположное, Россия внутренне не принадлежит
к Европе; лучшее тому доказательство - то, что и сама Европа не
считает Россию «одним из нас» и отвернулась от России с отвращением.
Убедительным подтверждением самобытности России - решение
крестьянского вопроса, которое наделило крестьян землей, но также
сохранило крестьянскую общину как бастион против пролетариата,
разрушающего Европу. Отвернувшись от Европы и отрезав себя от нее,
захватив Константинополь, освободив и объединив своих братьев-
славян, Россия создаст новый - одиннадцатый - культурный тип.
Предполагая, что это будет первый «тетраэлементарный» культур-
1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С. 253-254.
320 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ный тип, Данилевский заявляет, что славяне способны быть
активными во всех четырех областях культуры, особенно в религиозной
(православие) и в социально-экономической (решение аграрного
вопроса) областях. Благодаря исключительной способности славян
понимать другие культуры, усваивать их достижения, вполне вероятно,
что славянский тип ближе всего к осуществлению идеала «всечело-
вечности». Однако до тех пор, пока этот тип полностью еще не
сформировался, лучше будет сосредоточить основное внимание на
индивидуальности и специфических отличиях, чем на идеале всече-
ловечности - идеале, достижимом полностью для одного только
Бога. В частности, Данилевский рекомендует в отношениях с Европой
проявлять «самостоятельность и патриотический фанатизм» в
качестве основного противовеса западным влияниям. Для того чтобы
выпрямить дерево, его надо изо всей силы оттянуть в противоположную
сторону1.
В повседневном политическом контексте тех лет теории
Данилевского граничили с призывами начать открытую кампанию не только
против революционного движения, но и также и против умеренной
либеральной оппозиции. Как все убежденные реакционеры в России
того времени, Данилевский считал либерализм и все радикальные
движения симптомом болезни, которой испорченная Европа заразила
здоровый организм матушки-России.
КОНСТАНТИН ПОБЕДОНОСЦЕВ
В отличие от Данилевского, Константин Победоносцев (1827-1907)
не был ни оригинальным, ни даже интересным мыслителем. Если он и
занимает известное место в русской интеллектуальной истории, то в
основном как типичный и влиятельный представитель реакционной
мысли в период кризиса русского абсолютизма. Его имя всегда будет
ассоциироваться с насильственным, всеобъемлющим триумфом
реакции в России в годы правления Александра III. Поэт Александр Блок
изобразил эту безрадостную эпоху в своей поэме «Возмездие»:
В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только - тень огромных крыл...
1 Там же. С. 109,468.
ГЛАВА 14. Реакционные идеологии пореформенной эпохи 321
Победоносцев был юристом, автором трехтомного учебника по
гражданскому праву и многих работ по истории русской
юриспруденции. Он отказался от успешной академической карьеры и ушел в
политику; очень быстро стал сначала сенатором ( 1868), потом членом
Государственного совета ( 1872) и, наконец, оберпрокурором Священного
синода (1880-1905). На этом посту он способствовал антисемитизму,
преследовал староверов и сектантов и проводил политику
русификации, последовательно ограничивавшую религиозные права
национальных меньшинств. Заметное влияние Победоносцева на внутреннюю
политику царского правительства объяснялось не только его
официальным положением, но также прямым влиянием на императорскую
семью, куда его в 1860-е гг. пригласили в качестве наставника. Ему
было поручено воспитание двух последних русских царей -
Александра III и Николая II, и характерная для них обоих упрямая и близорукая
политика отчасти, несомненно, - результат его усилий.
Победоносцев изложил свою социальную философию в собрании
статей «Московский сборник» (1896). В этих статьях он критикует
западноевропейскую цивилизацию за рационализм и веру во
врожденную доброту человека. Сам Победоносцев верил в инерцию,
которую он считал мистической силой, скрепляющей общество. Силы эти
для него символизировали неграмотные крестьяне, сохраняющие
верность старым традициям и глубоко привязанные к церковным
обрядам, пусть даже они и не понимают затверженные молитвы. Вслед за
французским социологом Фредериком Ле Пле <Le Playe> (чью книгу
La Constitution essetielle de l'humanité он перевел на русский язык)
Победоносцев подчеркивает консервативную, стабилизирующую
функцию семьи. Развитие народа Победоносцев считает органическим
процессом, который определяется такими не поддающимися
сознательному контролю индивидов факторами, как земля, коллективное
бессознательное масс и их история. Каждый народ, писал
Победоносцев, - пленник своей собственной истории, и развитие народа
происходит по присущим именно ему законам; поэтому подражание другим
народам всегда неестественно и «приносит вред». В России
абсолютизм - истинно народная власть, поэтому все попытки либерализиро-
вать существующую систему, включая правовые реформы,
проводившиеся в годы правления Александра II1, будут иметь, скорее всего,
1 Победоносцев был очень невысокого мнения об Александре II: он обвинял его
в ослаблении государства и утверждал, что это было связано с безнравственной
жизнью царя. См.: Byrnes R.F. Pobedonostsev, His Life and Thought. Bloomington, Ind.,
1968. P. 143-144. Победоносцев также подвергал нападкам судебные реформы,
объявляя их безответственностью царя и либералов, хотя сам он принимал активное
участие в подготовке этих реформ. Byrnes Я F. Pobedonostsev... P. 54-59.
322 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
роковые последствия. Особую жесткость Победоносцев проявляет в
своих нападках на парламентскую систему, хотя он и признает, что
она занимает свое законное место в англо-саксонских странах, где
парламент - продукт органического исторического развития. В
других же странах, подчеркивает Победоносцев, парламентское
правление ведет к всеобщей коррупции, тирании масс и неконтролируемой
«партийности», т.е. к отказу от общего блага ради жестокой борьбы
частных интересов.
Взгляды Победоносцева имеют много точек соприкосновения с
романтическим консерватизмом первой половины девятнадцатого
века. И это не случайно: представления Победоносцева о праве
сложились под влиянием теоретика немецкой «исторической школы»
Ф.К. Савиньи, а одним из любимых писателей Победоносцева был
романтик-консерватор Томас Карлейль. Однако персонально этот
русский почитатель европейского романтизма был далеко не
романтик: сухой, педантичный бюрократ, Победоносцев относился ко
всякому романтическому энтузиазму и к чрезмерному выражению
эмоций с крайним подозрением. Несмотря на в целом дружеские
отношения с Иваном Аксаковым1 и высокую оценку славянофильства, это
направление мало повлияло на Победоносцева; гораздо ближе его
сердцу был бюрократический консерватизм правления Николая.
В противоположность славянофилам, Победоносцев не верил в
объединяющую людей «соборность», потому что он не мог примирить
это верование со своим глубоким убеждением в том, что слабая и, в
сущности, порочная природа человека требует строгой дисциплины,
навязываемой извне. Убежденный в том, что «народное начало»
России заключается в нерушимости абсолютизма, Победоносцев
неизменно отвергал любые требования о созыве Земельного съезда и
превозносил петровские реформы главным образом за то, что они
укрепили самодержавие. Его взгляд на крестьянскую общину определялся
чисто практическими соображениями: сначала он считал общину
консервативным учреждением, которое помогает стабилизировать
государство, но в конце 1880-х гг. Победоносцев пришел к выводу, что
интересы абсолютизма требуют отменить общую собственность на
землю и создать класс богатых фермеров (в этом он предвосхитил
главную идею аграрных реформ Столыпина)2. Важно и то, что
Победоносцев не был противником индустриализации: он считал, что вполне
возможно модернизировать экономику России, не производя коренных
изменений в структуре общества и в и политической системе.
1 Эти отношения были не вполне свободны от разногласий, поскольку
Аксаков, хранивший верность традициям славянофильства, отстаивал свободу слова и
совести.
2 Byrnes R.F. Pobedonostsev... P. 301.
ГЛАВА 14. Реакционные идеологии пореформенной эпохи 323
Пессимистический взгляд на человеческую природу и глубокое
недоверие к сильным эмоциям и стихийным общественным
движениям побуждали Победоносцева довольно сдержанно относиться к
агрессивному национализму панславистов. Накануне войны с
Турцией в 1877 г. он, правда, поддался общему панславистскому
настроению, но скоро восстановил трезвую умеренность и вернулся к своей
идее пассивной и оборонительной внешней политики. Его
американский биограф Р.Ф. Бирнс даже называет Победоносцева типичным
изоляционистом1. Оберпрокурор Священного Синода не верил во
«всеславянскую» миссию России. Правильнее, пожалуй, будет
сказать, что у него не было никакой веры в будущее. Православная,
самодержавная Россия была для него «отдельным миром»; но этому
миру угрожали извне и изнутри, и ему приходилось отчаянно
защищаться от катастрофы, которая рано или поздно должна была грянуть.
КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ
Гораздо более колоритной и сложной фигурой был Константин
Леонтьев (1831-1891). Его мировоззрение сложилось за те десять лет
(1863-1874), которые он провел на службе в русском консульстве
в различных частях Оттоманской империи, - период, когда он часто
посещал грекоправославную монашескую общину на горе Атос.
Выйдя в отставку (из-за несогласия с российской политикой в отношении
Турции), он работал в России цензором; но через несколько лет снова
подал прошение об отставке и поселился в Оптиной Пустыне,
знаменитой своими старцами. Уже в конце жизни он принял
монашеский обет.
Презрение к «буржуазному плебейству», отталкивание от
«человека с улицы» с его пошлыми идеалами «всемирного процветания» и
«разумного счастья среднего класса» - вот эмоциональный источник
всего творчества Леонтьева. После его смерти его часто называли
«русским Ницше»2. Чрезвычайно важный аспект этого отвращения
Леонтьева к буржуазным ценностям - его эстетизм: даже будучи еще
совсем молодым человеком, Леонтьев не любил железную дорогу -
этот высший символ буржуазной цивилизации - и осуждал
европейскую одежду за «невыносимую пошлость» и отсутствие
живописности. Человек, писал Леонтьев, должен делать своим образцом приро-
1 Ibid. Р. 119-120.
2 См.: Бердяев НА. Константин Леонтьев: Очерки из истории русской
религиозной мысли. Paris, 1926. С. 37. Имеется английский перевод этой книги,
выполненный Reavey. Leontiev K.N. London, 1940.
324 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ду, которая «любит разнообразие и роскошь форм». Красота являет
себя в отчетливости линий, своеобразии, индивидуальности,
специфическом цвете; она зависит от дифференцированности и,
следовательно, от неравенства. Либеральный гуманизм и индивидуализм,
критикующие общественные различия, - это, в сущности,
антиэстетическая сила: «Индивидуализм губит индивидуальность людей,
областей и наций»1. И точно так же «сентиментализм» и «эвдемонизм»
препятствуют появлению сильных и блестящих личностей, которые
формируются благодаря несчастьям и несправедливостям. Победа
либерально-эгалитарного идеала всеобщего процветания и всеобщего
принятия ценностей среднего класса делает историю бессмысленной.
«Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал
всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал
бы навеки...»2
Те же мысли более подробно развиты в главном произведении
Леонтьева «Византизм и славянство» (1875). В нем выдвинуто
оригинальное истолкование эволюции различных обществ - концепция,
предвосхитившая теорию Шпенглера о переходе от «культуры» к
«цивилизации»3. Имеет эта концепция и некоторые общие черты с
концепциями Ортеги-и-Гассет и других анти-эгалитарных критиков
массовой культуры.
Всякое развитие, считает Леонтьев, проходит три основные
стадии, которые являются общими не только для биологической
эволюции, но также и для эволюции художественных стилей и целых
общественных организмов. Исходная стадия - период простоты, когда
первичная однородность преобладает как в целом, так и в составляющих
целое частях. Переход ко второй стадии характеризуется
возрастанием сложности: как целое, так и его части индивидуализируются, но в
то же время скрепляются сильнее «деспотизмом внутренней формы»;
кульминация второй стадии - «сложное цветение», т.е. максимальная
дифференцированность в пределах конкретного
индивидуализированного морфологического единства. С этого момента эволюция
переходит в распад и, посредством вторичного упрощения, приводит к
унифицирующему слиянию составных элементов, а потому и к новой
уравнительной простоте. Эта третья стадия - стадия «уравнительного
слияния и простоты» - возвещает приближающуюся смерть организма.
Применяя эту схему к философии истории, Леонтьев использует
«типы» Данилевского, заменившего ими «отвлеченное человечество»
1 Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. СПб., 1912. Т. 5. С. 147.
2 Там же. С. 426.
3 См.: Sorokin P. Contemporary Sociological Theories. New York and London,
n.d. P. 25-26, note 49.
ГЛАВА 14. Реакционные идеологии пореформенной эпохи 325
в качестве протагониста в процессе эволюции и распада. История
Западной Европы, с точки зрения Леонтьева, - классический пример
культурного распада, пример, который должен послужить России и
уроком, и предупреждением. Согласно Леонтьеву, кульминация
европейского прогресса - это период между Ренессансом и
восемнадцатым столетием; за ним последовал период распада, возвестивший
начало третьей стадии - распада дифференцированного
морфологического единства. На этой стадии все становится более разжиженным и
мелким. В то время как индустрия расширяется, культура
распадается, потому что индивидуальность культуры (ее неповторимая
уникальность) возможна только при объединяющем «деспотизме
формы»; с точки зрения этого критерия, Китай или Турция стоят гораздо
выше по своей культуре, чем Бельгия или Швейцария.
Основной симптом вырождения Европы -
«эгалитарно-либеральный процесс»; этот процесс, заявляет Леонтьев, «есть антитеза
процессу развития. При последнем внутренняя идея держит крепко
общественный материал в своих организующих, деспотических объятьях и
ограничивает его разбегающиеся стремления. Прогресс же,
борющийся против всякого деспотизма - сословий, цехов, монастырей, даже
богатства и т.п. - есть не что иное, как процесс разложения <...>,
процесс уничтожения тех особенностей, которые были органически
(т.е. деспотически) свойственны общественному телу»1.
Особые выводы из этой теории относятся к роли политиков.
Леонтьев полагает, что до периода «цветущей сложности» истина - на
стороне прогрессистов, которые ведут народ от стадии примитивной
простоты к дифференциации и распространению форм. Однако на
стадии распада истина - на стороне консерваторов, которые пытаются
задержать атомизацию общества. Такова ситуация не только в
Европе, но и в России, где «либерально-эгалитарный процесс» пробил себе
дорогу после смерти Николая I. Нужно «подморозить» Россию, чтобы
спасти ее от гниения - зловещий афоризм, придуманный Леонтьевым
в оправдание ультрареакционной программы Победоносцева.
Леонтьев согласен с Данилевским, что Россия, хотя и уязвима для
«чумного дыхания» Европы, не принадлежит к европейскому «типу»,
но он по-другому представляет себе специфическую природу «рус-
скости». По его мнению, Россия не чисто славянская страна;
оригинальность ее культуры определяется также и азиатскими ее
элементами. Славянство «аморфно, стихийно, неорганизованно», тогда как
Россия в первую очередь - наследница византийской цивилизации,
которую Данилевский не заметил в своей теории
«историко-культурных» типов. Поэтому завоевание Константинополя позволит России
1 Леонтьев КН. Собр. соч. Т. 5. С. 198-199.
326 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
создать новый культурный тип, который будет не славянским, а
неовизантийским. Византизм, воплощенный в православии и
самодержавии, - вот «организующее начало» русской истории; «славянства» как
такового не существует, поскольку вне Византии славяне не более
чем этнографический материал, подверженный разлагающему
влиянию, которое исходит от Европы. Если южные славяне сохранили
свою оригинальность, подытоживает Леонтьев, то только благодаря
Турции, которая «заморозила» их культуру и отделила их от
либеральной Европы.
Для того чтобы лучше понять Леонтьева, нужно помнить, что
в годы своего пребывания на Ближнем Востоке он полюбил турок и в
то же время стал испытывать глубокое отвращение к славянам. В
частности, ему не нравились болгары, в которых, по его словам, он
увидел симптомы преждевременного старения - безостановочный
переход от первой стадии эволюции к третьей стадии, то есть
трансформацию «свинопасов» в «либеральных мещан».
Резко отрицательная оценка Леонтьевым славян отчасти
объясняется его общим подходом к национализму девятнадцатого века;
отдельная статья, которую он посвятил этой теме, прямо озаглавлена:
«Национальная политика как орудие всемирной революции». В ней
высказана мысль, что нации обладают творческой силой только тогда,
когда они представляют какую-либо особую культуру: «голый» или
чисто «племенной» национализм - разлагающая сила, которая
разрушает и культуру, и государство; это - уравнительный, в конечном
счете, космополитический процесс; более того, национализм - маска,
прикрывающая либерально-эгалитарные тенденции, специфическая
метаморфоза всеобщего процесса распада.
Этот свой тезис Леонтьев иллюстрирует примерами Греции и
Италии: эти страны, по его убеждению, быстро начали терять свой
«национальный характер» после завоевания независимости.
Националистические движения среди славян идут в том же направлении:
националистические страсти вызвали конфликт болгар с
православием, представлявшим греческую епархию, и принятие европейской
конституции. По славянскому вопросу Леонтьев склонен согласиться
скорее с Николаем I, чем с Погодиным и панславистами. В «Визан-
тизме и славянстве» он утверждает, что не славяне сами по себе
заслуживают восхищения и поддержки, а только их «оригинальность»;
практически это означает, что поддерживать надо не славян-
националистов, а носителей византизма - греческих «фанариотов».
Этот вывод явно противоречил «славянской» политике правительства
Александра II и положил конец дипломатической карьеры Леонтьева.
Таким образом, сначала горячий сторонник Данилевского и в
определенном смысле его ученик, Леонтьев перешел к отрицанию
ГЛАВА 14. Реакционные идеологии пореформенной эпохи 327
панславистской программы своего учителя. «Мы впредь, - писал он, -
должны смотреть на панславизм как на дело весьма опасное, если не
совсем губительное»1. «Меньшие братья» славяне уже заражены
духом уравнительного, эгалитарного либерализма и, в сущности,
являются самыми опасными врагами настоящей
православно-византийской культуры. Не случайно, по мнению Леонтьева, панславизм имел
успех вместе с либеральными идеями, а именно - в период «великих
реформ», когда отличия России от Европы эпохи заката Европы
затушевывались. Этот аргумент не следует понимать в том смысле, что
Леонтьева больше не интересовало завоевание Константинополя; на
самом деле то, против чего он выступал самым решительным
образом, была идея «освобождения» других славянских народов. Леонтьев
чувствовал, что Австрия и Турция еще долго будут управлять этими
народами, поскольку только отсутствие политической независимости
вынуждало южных славян культивировать свое культурное
своеобразие. По мысли Леонтьева, турецкое и австрийское иго этим народам
следует сбросить тогда, когда Россия станет достаточно зрелой для
того, чтобы исполнить свою миссию и - после завоевания
Константинополя - направлять будущее славянства.
Что Константинополь рано или поздно будет завоеван, в этом
Леонтьев не сомневался, но он далеко не уверен, достаточно ли это
само по себе для того, чтобы Россия создала новую и оригинальную
цивилизацию. Россию трудно назвать молодой страной, писал он с
сожалением; политика Александра III - «благотворная реакция», но
невозможно сказать, «излечит» ли она русское общество, которое
начиная с 1960-х гг. глубоко поражено разлагающими процессами.
Правда, завоевание стран, изначально принадлежавших православно-
византийской культуре, укрепит российский византизм, но Леонтьев
сожалеет о том, что в процессе обретения независимости эти страны
станут жертвой уравнительной чумы либерализма. На исходе жизни -
в начале 1890-х гг. - Леонтьев окончательно теряет веру в
способность России создать новый по своему своеобразию культурный тип.
Будущее, пророчит Леонтьев, принадлежит социализму; возможно
даже, что русский царь станет во главе социалистического движения,
организует и дисциплинирует это движение точно так же, как
император Константин «организовал» христианство; или, может быть, -
как пишет Леонтьев в другом своем апокалипсическом
предсказании, - демократическая, обмирщенная Россия сделается родиной
Антихриста2.
1 Леонтьев КН. Национальная политика как орудие всемирной революции.
М., 1889. С. 54.
2 См.: Бердяев H.A. Константин Леонтьев. С. 212, 217.
328 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
В своем видении будущего как катастрофы Леонтьев находил
только одно утешение: он убежден, что ненавистные ему либералы
никогда не победят; новые властители, которые возникнут из кризиса
европейской и русской цивилизации не будут ни «либеральными», ни
«мягкотелыми». Если, писал он в 1880 г., дальнейшее подражание
больному Западу приведет Россию к революции, то эта революция в
конечном итоге установит «режим с такими суровыми порядками,
каких мы еще не видывали, может быть»1. Европейские и русские
социалисты, говорит Леонтьев в другой своей работе, не поставят
памятников либералам:
И они правы в своем презрении <...> и как бы ни враждовали эти
люди против настоящих охранителей, против форм и приемов
охранения, им не благоприятного, но все существенные стороны
охранительных учений им самим понадобятся. Им нужен будет страх, нужна
будет дисциплина; им понадобятся предания покорности, привычка к
повиновению; народы, удачно (положим) экономическую жизнь свою
пересоздавшие, но ничем на земле все-таки не удовлетворимые,
воспылают тогда новым жаром к мистическим учениям и т.п.2
В своих воззрениях Леонтьев в значительной мере воспроизводит
учения, сформулированные в начале девятнадцатого века, в
особенности идеи немецких консервативных романтиков и теократические
концепции де Местра. Фактически консервативный романтизм -
общий источник, связывающий Леонтьева и славянофилов3. Леонтьев и
сам признавал эту связь, но вместе с тем он осуждал славянофильство
как непоследовательное учение, в котором были неприемлемые для
него элементы4. Он писал, что славянофильство казалось мне и тогда
уже слишком эгалитарно-либеральным для того, чтобы достаточно
отделить нас (русских) от новейшего Запада. Это одно; другая же
сторона этого учения, внушавшая мне недоверие и тесно, впрочем,
связанное с первой, была какая-то как бы односторонняя моральность.
Это учение казалось мне в одно и то же время и не государственным,
и не эстетическим. Со стороны государственной меня гораздо больше
удовлетворял Катков. Со стороны же исторической и внешнежизнен-
1 Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т. 7. С.205
2 Там же. С. 217.
3 Вот почему Милюков считает Леонтьева продуктом вырождения
славянофильства, тогда как Трубецкой называет его «разочарованным романтиком».
См.: Милюков П.И. Из истории русской интеллигенции. СПб., 1902;
Трубецкой НС. Разочарованный славянофил // Вестник Европы. 1892. № 10.
4 Иван Аксаков отрицал это сходство и с презрением отвергал идеи
Леонтьева как «сладострастный культ дубинки».
ГЛАВА 14. Реакционные идеологии пореформенной эпохи 329
ной эстетики я чувствовал себя несравненно ближе к Герцену, чем к
настоящим славянофилам1.
Леонтьев здесь имеет в виду критику Герценым
западноевропейской буржуазии - критику, в которой эстетическое отвращение играло
важную роль. Гораздо ближе, однако, эстетизм Леонтьева к эстетизму
Григорьева и Данилевского и к отрицанию ими всеобщих критериев.
У Леонтьева мы видим глубокую связь этого типа эстетизма с
отрицанием морали как руководящего принципа; имморальные поступки и
черты характера могут и в самом деле быть «прекрасны», потому что
злое начало может усиливать разнообразие, колорит и доблесть.
Совершенно очевидно, что славянофильское видение древней
России - с ее гармонией, однородными традициями и мнимым
отсутствием отчетливых социальных различий - непримиримо с эстетическим
идеалом Леонтьева. Гораздо ближе его представлениям о «цветущей
сложности» тот самый Запад, который славянофилы как раз
критиковали, с его правлением, «основывающимся на силе», с его жесткими
общественными перегородками, с его блестящим рыцарством и с его
Церковью, которая притязала на гегемонию над мирской властью.
Леонтьев, понятно, восхищался «старой» Европой, а критику
славянофилами феодализма и западной аристократии приписывал влиянию
на них новой «либерально-эгалитарной» Европы . Это, естественно,
повлияло на его интерпретацию основных проблем русской истории
и вынудило рассматривать разрыв между дворянством и народом -
разрыв, который так тревожил славянофилов, - как положительный
симптом.
До Петра было больше однообразия в социальной, бытовой
картине нашей, больше сходства в частях; с Петра началось более
ясное, резкое расслоение нашего общества, явилось то разнообразие,
без которого нет творчества у народов. Петр, как известно,
утвердил еще более и крепостничество. <...> Деспотизм Петра был
прогрессивный и аристократический в смысле вышеизложенного
расслоения общества. Либерализм Екатерины имел решительно тот лее
характер. Она вела Россию к цвету, к творчеству и росту. Она
усиливала неравенство. Вот в чем главная ее заслуга. Она охраняла
крепостное право (целость мира, общины поземельной), распространяла
даже это право на Малороссию и, с другой стороны, давала льготы
дворянству, уменьшала в нем служебный смысл, потому возвышала
собственно аристократические его свойства - род и личность; с ее
времени дворянство стало несколько независимее от государства, но
1 Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т. 6. С. 335.
2 Там же. С. 431-432.
330 Аиджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
по-прежнему оно преобладало и господствовало над другими
классами нации. Оно еще более выделилось, выяснилось,
индивидуализировалось и вступило в тот период, когда из него постепенно вышли:
Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пушкин, Гоголь и т.п.1
На политическом уровне отношение Леонтьева к аристократии, к
классовым различиям и классовым привилегиям тоже отличалось от
отношения славянофилов. Сторонник реакционных мер, с помощью
которых правительство Александра III пыталось восстановить
«различия», Леонтьев не мог простить славянофилам их участие в
либеральных реформах 1860-х гг. Антиаристократические заявления
эпигонов славянофильства (Ю. Самарин и И. Аксаков), их постоянное
напоминание, что русское дворянство вышло из служилых людей
государства и потому должно проявлять умеренность в своих
притязаниях, - все это Леонтьев с негодованием отвергает как явную
уступку уравнительству. Насколько он был в этом последователен,
показывает тот факт, что Леонтьев отверг даже вдохновленную
славянофилами «демократическую» политику русификации.
Аристократические традиции немецких баронов и польской шляхты, писал он,
царское правительство должно тщательно охранять - особенно в
такое время, когда нигилизм и другие симптомы вырождения
распространяются в массе русских людей. Преследовать польскую шляхту и
католицизм, поддерживать латвийцев и эстонцев за счет баронов
Ливонии и Курляндии - значит способствовать распаду, который несет с
собой эгалитаризм, и ускорять роковой процесс всеобщего
упрощения. Как это ни парадоксально, но Леонтьев даже симпатизировал
польскому восстанию 1863 г. как «реакционному» и выражал
сожаление, что после поражения восстания победители сами же
способствовали ускорению процесса демократизации Польши". Интересно
отметить, что очень похожего мнения о польском восстании 1863 г.
придерживался и Прудон - разумеется, с диаметрально противоположной
оценкой.
Обращает на себя внимание отношение Леонтьева к земельным
реформам в России. В своих комментариях по этому вопросу он
подчеркивает двойственный характер программы земельных реформ: с
одной стороны, то, что он называет
либерально-индивидуалистическим (европейским) аспектом, с другой - общинно-консервативный
(русский) аспект правительственной программы . Смешав эти два
аспекта и не сумев провести различие между «спасительным прикреп-
Чоже. T. 5.C. 133-134.
2 То же. Т. 6. С. 170-171.
3 То же. Т. 7. С. 322.
ГЛАВА 14. Реакционные идеологии пореформенной эпохи 331
лением народа к земле» (т.е. сохранением и узакониванием общины)
и «рискованным освобождением от власти помещиков», -
славянофилы и даже Данилевский и Катков, по Леонтьеву, попали в
«либеральную ловушку».
Наконец, и это тоже важно: религиозная концепция Леонтьева и
его интерпретация православия1 радикально отличаются от воззрений
славянофилов. «Русский Ницше» испытывал глубочайшее
отвращение ко всякого рода морализирующему евангелическому
христианству и ко всем попыткам «гуманизировать религию»; в не меньшей
степени отталкивал Леонтьева религиозный сентиментализм и учения
о любви, которые не принимают во внимание страх {timor Domini),
покорность и авторитет. На его взгляд, «Церковный демократизм»
Хомякова и славянофильский идеал «свободного единства» -
типичные примеры «розового» христианства, абсолютно чуждого
настоящему, «черному» христианству православных монахов на Афоне и в
Оптиной Пустыне. По Леонтьеву, главная отличительная черта
«аскетического и догматического православия» - его «византийский
пессимизм», отсутствие у него веры в возможность гармонии и
всеобщего братства. В этом отношении, на его взгляд, Шопенгауэр и Гартман
ближе к христианству, чем либерально-социалистические пророки
всеобщей справедливости и благосостояния2. Все великие религии -
«пессимистические учения, санкционировавшие страдания,
заблуждения и несправедливости на земле»3. Почти с садистским
удовлетворением Леонтьев напоминает неудачу новозаветного обещания
всеобщего братства и предсказания, что придет время, когда любовь
ослабнет и установится царство Антихриста.
Как показывает это изложение взглядов Леонтьева, он был одним
из тех русских мыслителей, которые не боятся доводить свои идеи до
их логического конца. В противоположность эпигонам
славянофильства, Леонтьева нельзя назвать идеологом «прусского» или какого-
либо иного пути к капитализму: он был законченным реакционером,
последним бескомпромиссным защитником русского,
западноевропейского и даже оттоманского феодализма и самым радикальным
представителем романтического консерватизма аристократии в эпоху
ее заката - настолько радикальным, что в этом своем экстремизме он
был одинок.
1 Леонтьев КН. Моя литературная судьба // Литературное наследство. Т. 22-24.
М., 1935. С. 441.
2 Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т. 7. С. 232-243.
3 Там же. С. 230.
332
ГЛАВА 15
ДВА ПИСАТЕЛЯ-ПРОРОКА
Русская литература, возможно, больше, чем какая-либо другая
литература в девятнадцатом столетии, обращалась к
философским размышлениям о смысле человеческого существования
и была проникнута глубоким чувством нравственной ответственности
за судьбу своего народа и судьбы человечества в целом. В России
девятнадцатого века, как, впрочем, и в Польше, великие писатели
относились к литературе как к моральной миссии, средству в борьбе за то,
чтобы изменить мир.
Самыми характерными в этом отношении были два великих
литературных пророка - Толстой и Достоевский. Оба пережили духовный
кризис, знаменовавший поворотный пункт в их жизни, и в результате
оба они стали беспощадными критиками современной им
цивилизации. Оба подвергали тяжким испытаниям совесть своих читателей
страшными картинами разложения и в то же время указывали путь
к нравственному и религиозному возрождению. Оба с глубоким
проникновением изображали полное отчаяние в отношении к Богу и
смыслу существования, а в качестве лекарства представляли веру
в Христа. В обоих этих людях возвращение к религии было связано
с ужасным опытом близости смерти. Наконец, оба писателя испытали
глубокое влияние от общения с русскими крестьянами - простым
народом, который казался им воплощением высшего, истинно
христианского миропонимания.
При всех этих очевидных и глубоких сходствах трудно назвать
двух писателей, которые были бы так мало похожи друг на друга.
Любой сравнительный анализ творчества Толстого и Достоевского -
а такие сопоставления и противопопоставления имеют давнюю
традицию в критике - сразу же делает видимыми многочисленные и
коренные различия.
В этой главе мы не будем анализировать целиком все творчество
Толстого и Достоевского с точки зрения философского содержания1,
Литература о том и другом писателе огромна. С точки зрения философских,
религиозных и политических взглядов, особую ценность представляют
следующие работы, доступные на английском языке: Мочульский К. В. Достоевский
жизнь и творчество. Париж, 1947; Бердяев H.A. Миросозерцание Достоевского.
Praha 1923; Gibbon A.B. The Religion of Dostoevsky. London, 1973; Carrol J. Brake-
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
333
поскольку это потребовало бы соединить идеологический анализ и
детальную литературную критику, что выходит за пределы нашей
книги. На нижеследующих страницах мы ограничимся освещением
тех взглядов, к которым оба писателя пришли в свой зрелый период,
в которых они утвердились после того, как пережили идеологический
кризис, - взглядов, которые тот и другой отстаивали не только в
своих романах, но и в других своих многочисленных сочинениях.
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ
«Хрустальный дворец» и «подполье»
В противоположность графу Толстому. Федор Достоевский (1821-
1881) родился в «случайном семействе», которое постоянно
пребывало в страхе потерять свое скромное общественное положение,
достигнутое с огромными усилиями. Талант Достоевского созревал не в
«дворянских гнездах», а в беспокойной среде большого города -
среди унижений, непомерных амбиций, повседневной борьбы за
существование и трагических общественных конфликтов. Излюбленными
героями молодого Достоевского были «униженные и оскорбленные»,
простые люди (см. в особенности его литературный дебют - «Бедные
люди», 1846 г.), или романтические мечтатели, живущие в своем
собственном, самодовлеющем мире грез («Белые ночи», 1848 г.), или это
люди, снедаемые нездоровыми притязаниями и шизофреническими
галлюцинациями (см. в особенности «Двойник», 1846 г.). Место
действия почти всех романов Достоевского - Петербург, увиденный
глазами человека, недавно лишь оторвавшегося от патриархальной непо-
out from the Crystal Palace: the Anarcho-Psychological Critique. Stirner, Nietzsche,
Dostoevsky. London, 1974; Розанов В. В. «Легенда о великом инквизиторе»
Ф.М.Достоевского. 3-е изд. СПб., 1906; Berlin I. The Hedgehog-and the Fox: An
Essay on Tolstoy's View of History. London, 1967. Фундаментальный труд о
религиозных взглядах Толстого: Weisbein N. С Evolution religieuse de Tolstoi. Paris,
1960. Самой полной монографией о Толстом до сих пор остается:
Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой: В 3 т. Л., 1928-1931. См. также работы, цитируемые ниже,
а также две значительные книги советских ученых: Бахтин ММ. Проблемы
поэтики Достоевского. М., 1963; Гроссман Л.П. Достоевский. М.: ЖЗЛ, 1965 L.P.Gr.
Сопоставительный анализ взглядов Толстого и Достоевского дается в
работе: Stepun F. Dostoewski und Tolstoj, Christentum und soziale Revolution.
München, 1961; Doerne M. Toltoj und Dostojewskij, 2 Christliche Utopien.
Göttingen, 1969.
1 См. рассуждения о наследственном дворянстве и «случайных» семействах
в последней главе романа «Подросток».
334 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
средственности быта и переживающего этот город, жителем которого
он теперь стал, как странный, фантастический и чуждый мир1. Вот
почему Петербург Достоевского так похож на Петербург Гоголя -
город сумерек и белых ночей, город-призрак, пульс которого бьется
учащенно, символ таких сил, которые пришли с Запада и разрушили
мирную жизнь «святой Руси». Как отмечалось выше, Достоевский
принадлежал к кружку Петрашевского и был одним из
приговоренных к смерти. Мгновение, которое он пережил на Семеновском плацу
в ожидании расстрела, до того как в последнюю минуту пришел
приказ о помиловании, было ужасным опытом, который он уже никогда
не мог забыть. Правда, у него не было причины чувствовать себя
виновным, но, несомненно, что пережитый им шок тоже, среди прочего,
заставлял его вчитываться в каждое слово Нового Завета -
единственной книги, которую ему разрешалось иметь с собой на протяжении
четырех лет каторги в Сибири.
Когда срок каторжных работ в Омске кончился, Достоевскому
предстояли еще пять лет обязательной военной службы в
Семипалатинске. Когда он был освобожден от армии в 1859 г., он снова начал
писать, но теперь его мысли значительно отличались от тех, которые
были актуальны среди петрашевцев. В 1860 г. Достоевский и его
старший брат Михаил стали издавать литературный журнал «Время»,
в котором их основными сотрудниками были Аполлон Григорьев
и Николай Страхов. В этом журнале Достоевский призывал
«вернуться к почве» - в противоположность идеям радикальной
интеллигенции - и вернуться к «чисто народным» и вместе с тем истинно
христианским ценностям русского народа.
Как совершилось такое превращение? В своих «Записках из
мертвого дома» (1862), художественном отчете о пережитом на каторжных
работах, Достоевский подчеркивает то решающее влияние, которое
имело на него общение с преступниками, его ежедневными
товарищами. Это были люди простого происхождения, покорно
принимавшие свою судьбу, и они показались ему подлинными
представителями простого народа; даже будучи преступниками, они не утратили
сильных и простых убеждений русского крестьянства. Тогда-то,
рассказывает нам Достоевский, он остро осознал различие - настоящую
пропасть, отделяющую русский народ от вестернизованной
интеллигенции, и понял, что ценности простого народа бесконечно
предпочтительней.
В этой интеллектуальной эволюции, которая была сложным
процессом и которую трудно представить во всех ее аспектах, играли роль и
другие факторы (Достоевский признавал, что и ему самому было бы
1 См.: Кирпотин В.Я. Молодой Достоевский. М., 1947. С. 341-342.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
335
трудно представить пережитое во всей полноте)1. Но следует отметить,
что решающий, поворотный момент приходится на годы его сибирской
каторги и что именно в то время составной частью его мировоззрения
стала специфическая антитеза между интеллигенцией и простым
народом, или, иначе, между европейскими и русскими ценностями.
В 1862 г. Достоевский впервые поехал за границу. Великолепный
цикл очерков «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863) -
описание его путешествий по Западной Европе. Лондон, где в это время
проходила мировая промышленная выставка в Кристальном Дворце в
Гайд-Парке, произвел на Достоевского глубочайшее впечатление. Его
удивила и поразила мощь капиталистической цивилизации, крайняя
рационализация жизни, «колоссальное дробление», которое было не
только внешним, но и «внутренним, духовным, исходящим из души».
На той выставке он разрывался между восхищением и страхом; в этом
своем противочувствии он видит себя свидетелем какой-то победы,
триумфа чего-то «окончательного»: «Это какая-то библейская
картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из апокалипсиса».
Кристальный Дворец в Пакстоне, это гигантское сооружение из стекла
и металла, стало для Достоевского символом могущества
капиталистического прогресса, могущества языческого «Ваала», питающегося
человеческими жертвоприношениями2.
В этих своих очерках Достоевский с необычайной остротой и
силой проникновения продемонстрировал тот факт, что именно
разделяющая людей сила буржуазного индивидуализма составляет
движущуюся силу западной цивилизации. Индивидуализм создал мощную
овеществленную материальную силу, но в то же время он изолировал
человека от человека, привел людей в конфликт с природой и себе
подобными. Вдохновленный отчасти Герценом, с которым он
встречался в Лондоне, Достоевский подчеркивает, что буржуазная
свобода - чисто негативна; что она, в сущности, для «того, кто имеет
миллион»; что «уничтожающая неравенство» власть денег - внешняя
сторона победоносного буржуазного индивидуализма - уменьшает
личность3. Эти мысли, впервые высказанные в «Зимних заметках о
летних впечатлениях», позднее будут продолжены в романе
«Подросток» (1875).
Рациональному эгоизму европейского капитализма Достоевский
противопоставляет идеал подлинной братской общины, хранимый
православием и русскими народными традициями. В такой общине
1 Кирпотин В.Я. Ф.М. Достоевский. М., 1960. С. 448.
2 Достоевский Ф.М. Зимние заметки о летних впечатлениях // Он же. Собр.
соч.: В 10 т. Т. 4. М., ГИХЛ, 1956. С. 93.
3 Там же.
336 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
индивидуальное не противостоит коллективному, но полностью
подчиняет себя ему, не выдвигая никаких условий и не рассчитывая на
преимущества, которые можно извлечь из этого; коллективное же, со
своей стороны, не требует какой-то огромной жертвы, но дарует
индивиду свободу и безопасность, гарантией которых является братская
любовь. Общность такого рода, братство людей «само делается»1; ее
невозможно придумать или сделать. Хотя Достоевский, вероятно,
пришел к этим мыслям независимо от славянофилов, они
поразительно схожи со славянофильскими, включая концепцию Хомякова о
«соборности» как «свободном единстве».
Через год после «Зимних заметок...» Достоевский напечатал
повесть «Записки из подполья» (1864), в которой изображен человек,
отвергнувший все общественные узы и контакты и который
воплощает протест против всякого подчинения - «самое главное и самое
дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность». Рассказчик -
человек девятнадцатого столетия, «отрешившийся от почвы и от
народных начал»; он противопоставляет свое «я» объективному миру
и восстает против того, чтобы быть винтиком в общественном
механизме, «фортепьянными клавишами, на которых <...> играют сами
законы природы». Свободу он понимает как своеволие и настаивает
на том, что принять логику и здравый смысл как руководящее
начало - это «не жизнь, а начало смерти». Герой Достоевского бросает
вызов всему нравственному миропорядку: «Свету ли провалиться,
или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне
чай всегда пить»2.
Интерпретация «Записок из подполья» осложняется тем, что
рассказчик время от времени высказывает мысли самого автора. В
описании рационализованного общества будущего мы снова
обнаруживаем «кристальный дворец» из «Зимних заметок...»:
Тогда-то <...> настанут новые экономические отношения,
совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точно-
стию, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы,
собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда
выстроится хрустальный дворец. <... > Ведь человек глуп, глуп
феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен
так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например,
нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего
будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблаго-
1 Достоевский Ф.М. Зимние заметки о летних впечатлениях. Цит. изд. С. 106.
2 Достоевский Ф.М. Записки из подполья // Он же. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4.
М.:ГИХЛ, 1956. С. 237.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
337
родной или, лучше сказать, ретроградной и насмешливою
физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не
столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом,
единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к
черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!1
Частичное смешение между автором и рассказчиком дало повод
для появления целого ряда ошибочных интерпретаций; существуют
книги, в которых говорится, что Достоевский «подтверждает
абсолютную ценность и целостность единственного отдельного
индивида»2. Трудно быть дальше от истины; ведь ясно, что Достоевский
оправдывает не индивидуализм «подпольного человека», но только
его нападки на рационализацию общественных связей, общих как для
западного капитализма, так и для социализма (в глазах Достоевского
представителем идей западного социализма в России был
Чернышевский, чья репутация в то время была самой высокой). В «Записках из
подполья» Достоевский хотел выразить почти фрейдовскую мысль о
том, что в «подполье» человеческого сознания дремлют
иррациональные, демонические силы, которые имеют тенденцию сублимироваться
в таком обществе, единство которого держится нерациональными
духовными узами, но эти демонические силы при определенных
благоприятных обстоятельствах могут взбунтоваться против цивилизации,
основанной на «разумном эгоизме». Поскольку люди не
рациональные существа, то в рационализированном обществе они не могут быть
у себя дома; однако в обществе, лишенном подлинных уз
человеческой солидарности, иррациональный, анархический протест
«подпольного человека» вполне оправдан. В первоначальном тексте
«Записок...» Достоевский использовал этот аргумент для того, чтобы
доказать «потребность веры в Христа», но к его возмущению цензор
вычеркнул это место. Тем не менее, интенция автора совершенно
ясна; сам рассказчик так комментирует свою собственную позицию:
<... > Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что
оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и
украдкой язык ему показать. <...> сам знаю, как дважды два, что
вовсе не подполье лучше, а что-то другое, которого я жажду, но
которого никак не найду! К черту подполье!2.
Стоит отметить, что отношение Достоевского к
ультраиндивидуализму «подпольного человека» совершенно аналогично отношению А. Хо-
1 Там же. С. 153.
2 Jackson R.L. Dostoevsky's Underground Man in Russian Literature. The Hague,
1958. P. 14.
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Цит. изд. С. 162, 164.
338 Анджеи Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
мякова к иррационалистическому индивидуализму Макса Штирнера.
Сочинение последнего «Единственный и его собственность», - писал
Хомяков, - это оправданный протест против рационалистической
цивилизации: «Это голос души, правда, безнравственной, но безнравственной
потому, что ее лишили всякой нравственной основы, души,
беспрестанно высказывающей, хотя и бессознательно, и разумность покорности
началу, которое бы было ею сознано и которому бы она поверила, и
восстающей с негодованием и злобою на ежедневную проделку западных
систематиков, не верящих и требующих веры, произвольно создающих
узы и ожидающих, что другие примут их на себя с покорностью»1.
Ложные пути Человекобога
Столкновение между индивидуалистическим «своеволием» и
«христианской правдой» получает более глубокое освещение в
больших романах Достоевского 1860-х и 1970-х гг. К этому времени
писатель пришел к выводу, что и западный капитализм, и
социалистические идеи - это следствие отпадения человека от Бога. Европейская
цивилизация отвергла путь Христа, Богочеловека, и вместо этого
избрала путь превращения человека в идола, путь Человекобога. Эта
идея, пронизывающая романы «Бесы» (1871-1872), «Братья
Карамазовы» (1879-1880) и «Дневник писателя» (1873-1881), вероятно, была
навеяна Достоевскому Фейербахом, с сочинениями которого он
познакомился в юности, когда был участником кружка петрашевцев.
«Божественное бытие не что иное, как человеческое бытие, - писал
Фейербах. - Все атрибуты божественной природы поэтому -
атрибуты человеческой природы. <...> Человек - реальный Бог»2.
Антропоцентризм Фейербаха был подвергнут критике Максом
Штирнером, который утверждал, что философ Фейербах, в сущности,
не перестал быть «теологом»: провозглашенное им освобождение -
это, по сути дела, замещение принципа «бог вне нас» принципом «бог
внутри нас» (или «Человек» как абстрактная сущность человечности).
Религия «Человека», таким образом, только новый способ порабощения
индивида путем подчинения его тирании «всеобщего». Путь к
настоящей свободе личности, по Штирнеру, перекрыт Богочеловеком; поэтому
недостаточно убить Бога - необходимо также убить «Человека» . Для
того чтобы освободиться, индивид должен совершить преступле-
Хомяков A.C. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1914. С. 150.
2 L. Feuerbach. The Essence of Christianity, trans. George Eliot, introduced by
Karl Barth. New York, 1957. P. 14, 230.
Stirner Max. Der Einzige und sein Eigentum <"Единственный и его собствен-
ность"> Berlin, 1926. S. 182.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
339
ние , должен признать себя высшей ценностью и освободить идею
«святого террора» от представления о нарушении нравственных
законов, навязанных во имя абстрактной человечности.
В романе «Преступление и наказание» (1866) Раскольников
рассуждает совершенно в том же духе. Внешне дело выглядит так, что
он убивает свою жертву для того, чтобы украсть деньги и спасти свою
мать и сестру от бесчестия; по существу же его преступление -
эксперимент чистого убийства, попытка определить «тварь ли я, как все»,
или свободный человек, Наполеон, имеющий право нарушать
нравственные начала и держать жизни людей в своих руках. Раскольников
хочет проверить, имеет ли он право убить: «Смогу ли я переступить,
или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться или взять, или нет? Тварь ли я
дрожащая, или право имею...» .
Теория, с помощью которой Раскольников оправдывает свой
поступок, - это русский эквивалент философии Штирнера, который писал:
«Мое право совершить убийство находится внутри; я имею право убить,
если я не запрещаю это себе сам. Если меня не связывают
представления, что убийство - "несправедливость", что-то "нечистое"»3.
Эксперимент Раскольникова заканчивается провалом. Он не может
игнорировать свою человечность, не может переступить черту и
оставить позади себя добро и зло: «... я не человека убил, я у принцип
убил. Принцип-то я и убил, но переступить-то не переступил, на этой
стороне остался...»4. Его мучают кошмары, он не может смотреть в
глаза другим людям и вынужден признаться в своей вине тем, кого он
прежде считал ничтожествами. По замыслу Достоевского, история
осуществленного Раскольниковым эксперимента демонстрирует
ошибочность аргумента, что все позволено, что этические нормы можно
игнорировать; в конечном счете, Бог существует в качестве
необходимого гаранта нравственного закона.
Второй вариант абсолютно самоутверждающегося своеволия -
эксперимент самоубийства - изображается в романе «Бесы». Для Ки-
1 «Автономное Я, - писал Штирнер (ibid., S. 236), - не может не совершать
преступлений, ибо преступление - это сущность бытия. <...> Преступление
представляет значение и достоинство Человека». Сравним это высказывание со
словами Раскольникова: «Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие,
но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные
сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно
преступниками....»; см.: Достоевский Ф.М. Преступление и наказание //Он .же.
Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М., 1957. С. 270. Подробный анализ идей Раскольникова
и соответствующих идей Штирнера содержится в моей статье «Достоевский и
идея свободы», в: Walicki A. Osobowoéc a historia, Studia z dziejöw literatury I mysli
rozyjskiej. Варшава, 1959.
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Цит. изд. С. 437.
3 Stirner Мах. Der Einzige und sein Eigentum. S. 221.
4 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Цит. изд. С. 285.
340 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
риллова самоубийство - единственный способ утвердить
собственную свободу в мире, лишенном Бога.
Если нет Бога, то я бог [рассуждает Кириллов]. <...> Если бог
есть, то вся воля его, и из его воли я не могу. Если нет, то вся воля моя,
и я обязан заявить своеволие. <...> Неужели никто на всей планете,
кончив бога и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие, в
самом полном пункте <...>. Я обязан себя застрелить, потому что
самый полный пункт моего своеволия - это убить себя самому*.
Убивая себя, Кириллов хочет убить свой страх смерти и тем
самым спасти человечество от Бога и показать, что человек сам Бог:
«Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении
переродит физически»2. На самом деле Кирилов приходит лишь к
своему собственному уничтожению, и его смерть (с его же согласия)
используют ничтожные люди для достижения своих жалких целей.
Так кончается второй великий эксперимент по реализации
индивидуалистической свободы.
В сфере общественных отношений окончательным итогом
абсолютного своеволия и вседозволенности, по мысли Достоевского,
может быть только деспотизм. Свобода без Бога ведет к появлению
«сладострастной» и «садистской» жажды власти и тем самым
превращается в свою противоположность. «Выходя из безграничной
свободы, - говорит Шигалев в «Бесах», - я заключаю безграничным
деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что кроме моего разрешения
общественной формулы не может быть никакого»3. «Шигалевщина» -
мрачный образ будущего общества, основывающегося на абсолютной
покорности и абсолютной обезличенности. В качестве
окончательного решения социального вопроса Шигалев предлагает разделить
человечество на две неравные части. «Одна десятая доля получает свободу
личности и безграничное право над остальными девятью десятыми.
Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и
при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений
первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем,
и будут работать». Последовательно осуществленное абсолютное
равенство, не допускает даже неравенства способностей: «Цицерону
отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивает-
1 Достоевский Ф.М. Бесы // Он же. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. С. 64.
Эту мысль можно обнаружить в творчестве Людвига Фейербаха. В его
«Лекциях о сущности религии» он писал о «будущем бессмертном человеке,
отличающемся от человека, каким он существует в настоящее время во плоти и
крови».
3 Достоевский Ф.М. Бесы. Цит. изд. Т. 7. С. 421-422.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
341
ся камнями - вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без
деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно
быть равенство, и вот шигалевщина!»1.
В модифицированном и более благородном виде система Шигале-
ва представлена в «Легенде о великом инквизиторе» в пятой книге
романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Легенде...»
предшествует «бунт» Ивана Карамазова - восстание против якобы
божественной и исторической справедливости: Иван отказывается принять
гармонию, за которую нужно заплатить слишком дорогую цену. Иван
отвергает не Бога, но мир, созданный Богом, ибо мир этот -
несправедливый; ведь божественное Провидение ничего не делает для того,
чтобы предотвратить страдание невинных детей, и никакая будущая
«гармония» не сможет оправдать слезинку замученного ребенка2.
Бунт Ивана предполагает, что люди должны взять свою судьбу в
собственные руки, отвергнуть истины, которые открыло Евангелие,
и построить Царство Божие на земле. Понятно, что Достоевский так
и объяснял истоки революционного социализма.
По своему замыслу «Легенда о великом инквизиторе» - это притча
о справедливом царстве, которое пытаются основать на земле
социалисты. Великий инквизитор меняет свободу на хлеб, отнимая у людей
свободу ради того, чтобы дать счастье своим «ничтожным детям».
Однако неустранимым условием этого счастья является полная,
скотоподобная деперсонализация. Зная, что люди слабы, Инквизитор
освобождает их от бремени свободы, совести и персональной ответственности;
он заменяет свободу властью авторитета, а совещательное свободное
единение - единством, основанным на принуждении. Церковь,
превращенная в Государство, объединяет «всех в одну единодушную
гармоническую кучу. Когда Христос сходит на землю для того, чтобы снова
быть среди людей, Инквизитор пытается арестовать его и сжечь как
еретика. Христос слушает в молчании его длинный монолог, а потом
целует его в губы в знак прощения; Инквизитор отпускает Христа, но
просит его никогда больше не возвращаться на землю и не нарушать
умиротворенного счастья, которое люди достигли без Христа.
«Диалектика индивидуализма», в результате которой
индивидуалистическая свобода превращается во всеобщую несвободу, находит
1 Там же. С. 423, 437.
2 Бунт Ивана Карамазова напоминает бунт Белинского против Гегеля - даже
фразеология совпадает. Вполне вероятно, что Достоевский использовал отрывки
из писем Белинского к Боткину, опубликованные А.Н. Пыпиным в его
биографии Белинского в 1876 г. См. об этом: Walicki A. Osobowoéc a historia. P.405-409;
то же наблюдение сделал и В.Я. Кирпотин в своей кн.: Достоевский и Белинский.
М., 1960. С. 228-239.
342 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
свое объяснение в философии истории Достоевского, и эта философия
имеет явное сходство со славянофильской критикой Западной
Европы. Подобно славянофилам Достоевский указывает на классическое
наследие как источник зла: это оно исказило христианскую веру на
Западе. Под влиянием языческого Рима, католицизм усвоил идею Че-
ловекобога (император, Аполлон Бельведерский) и такое понятие
единства, которое основывается на принуждении . Индивидуальный
протест против католической идеи единства привел к атомизации
общества и отдал власть в руки буржуазии, философия которой - эгоизм
(«каждый человек за себя и только за себя») и закон джунглей. Новое
отрицание - протест против индивидуализма и анархии - породил
социализм, который Достоевский считает секуляризованной формой
католического «единства по принуждению».
Представление о том, что существует органическая взаимосвязь
между католицизмом и социализмом, выдвинутое в «Легенде о
великом инквизиторе», было одной из излюбленных и почти навязчивых
теорий Достоевского. Оно, это представление, впервые встречается у
него в романе «Идиот» в известном монологе князя Мышкина:
Ведь и социализм порождение католичества и католической
сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в
противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы
заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтоб
утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не
Христом, а тоже насилием! Это тоже свобода чрез насилие, это
тоже объединение чрез меч и кровь!2
Достоевский развивал это свое представление в «Дневнике
писателя», где он писал: «Сам современный французский социализм
<...> не что иное, как самое подлинное и самое прямое продолжение
католической идеи, ее самое полное, самое окончательное
осуществление, ее фатальное следствие, развивавшееся на протяжении
столетий»3.
Эта аналогия не покажется такой уж курьезной, если вспомнить,
что последователи Сен-Симона во Франции придерживались сходных
взглядов об отношении между католицизмом и социализмом (хотя
они оценивали связь между католицизмом и социализмом в
положительном смысле) и представляли себе будущее как «органическую»
1 Достоевский Ф.М. Дневник писателя // Он же. Поли. собр. соч.: В 30 т.
Т. 25. Л.: Наука, 1983. С. 7.
2 Достоевский Ф.М. Идиот // Он же. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1957.
С.616.
3 Дневник писателя.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
343
эпоху, как «новую теократию», основанную на католических
принципах иерархии и власти авторитета. Во всяком случае, идеи
Достоевского об эволюции западной цивилизации не были новыми в России.
Взгляд на католицизм как на наследника Древнего Рима происходит
из славянофильской теории; формула «единства в принуждении»
напоминает «единство без свободы» Хомякова, а изображение атоми-
зированного буржуазного общества сопоставимо с его же «свободой
без единства». Понимание сущности социализма, как искания
утраченного «объединяющего начала», равно как и желание произвольно
навязать этот принцип атомизированному обществу, тоже имеет свои
соответствия в славянофильской мысли. Другая вариация той же темы
обнаруживается в некоторых замечаниях о западной цивилизации,
высказанных Аполлоном Григорьевым по поводу одного письма
Жорж Санд. Это письмо комментирует Григорьев:
Страшное обличение жизни, в которой высшие понятия о любви и
братстве надобно было придумывать, в которой общее
только насильственно, только произвольно может возобладать над
отдельным и личным и, как насилие, должно возбудить непременно
протест или отпор личного, - жизни, в которой, одним словом,
неизбежны два крайних явления: деспотическое личного «папством» -
папством ли римским, ичи, что, в сущности, совершенно все равно,
папством фурьеристским, сенсимонистским - или беспутный
протест личного, выражающийся наконец самым последовательным
обоготворением одной личности в учении Макса Штирнерах.
В 1870-е гг. Достоевский близко сошелся с крайне правыми
кругами. В 1872 г. ему предложили взять на себя редактирование
консервативной газеты «Гражданин», и вскоре Достоевский стал близким
другом Победоносцева. Писатель посещал Победоносцева каждую
субботу и вел с ним долгие беседы, даже советовался с ним в период
написания «Братьев Карамазовых». Стоит поэтому подчеркнуть, что
«Братья Карамазовы» (в противоположность «Бесам») невозможно
рассматривать просто как памфлет на революционный социализм;
бунт Ивана Карамазова показан Достоевским с глубоким
пониманием, хотя сам автор старается опровергнуть мотивы, которые он
изобразил так проникновенно. Отчасти это объясняется тем, что «Бесы»
написаны под влиянием суда над Нечаевым, тогда как «Братья
Карамазовы» писались под влияния героической борьбы террористов-
народников, личное благородство и чистота мотивов которых
Достоевским не ставились под вопрос. Однако существенное различие со-
1 Григорьев А. Сочинения. СПб., 1876. С. 175-176.
344 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
стоит в том, что борьба Ивана Карамазова, несомненно, отражает
конфликт, который Достоевский прежде пережил сам. Достоевский
как бывший участник кружка Петрашевского тоже, должно быть,
испытывал искушения воинствующего атеизма; его возглас «Осанна»,
как заметил однажды он сам, прошел «через горнило сомнений»1.
Победоносцев был несколько встревожен, прочитав главу о бунте
Ивана Карамазова и «Легенду о великом инквизиторе»; он
сомневался, и не без оснований, сумеет ли Достоевский предоставить столь же
убедительные аргументы противоположной стороны. Этой
противоположной стороной, которой требовал Победоносцев, стал в романе
православный монах отец Зосима, написанный довольно бледно и
безжизненно. Ангельская доброта Алеши Карамазова тоже не очень
убедительна. Что же касается «Легенды...», то эта в высшей степени
двусмысленное сочинение с идеологической точки зрения; не было
никакой гарантии того, что ее читатели увидят опасность для свободы
и индивидуальности, которые исходят исключительно от католицизма
и социализма, а не, скажем, от православного самодержавия,
которому оберпрокурор Святейшего Синода служил верой и правдой.
Национальный мессианизм
и идея «всечеловечности»
Римско-католическому идеалу церкви как государства
Достоевский противопоставляет православный идеал государства как церкви.
Как точно заметил А.В.Луначарский, Достоевский нуждался в этом
утопическом представлении отчасти потому, что оно давало ему
возможность не «рвать окончательно своей внутренней связи с
социалистической правдой, в то же время предавая всяческому проклятию
материалистический социализм»2. Важно то, что Достоевский даже не
третировал слово «социализм»: в последнем выпуске «Дневника
писателя» он использовал словосочетание Герцена - «русский
социализм» - для описания идеалов, которые он приписывает русскому
народу - «идеалов государства как церкви, всемирного братства и
свободного единства человечества».
Лейтмотив православной утопии Достоевского - да и, по
существу, славянофильской утопии - идея возвращения к народу, к
«народной почве». Мессианская нота, акцент на «общечеловеческой
миссии русского народа», у Достоевского гораздо сильнее, чем в
классическом славянофильстве. В отличие от Данилевского, который
резко отвергал самую идею о какой-либо всеобщей миссии, Достоев-
1 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1883. С. 375.
2 Ф.М. Достоевский в русской критике. М, 1956. С. 442.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
345
ский верит, что завоевание Константинополя и объединение Россией
всех славянских народов откроет новую эпоху в истории
человечества - эпоху, когда православная Россия скажет свое «новое слово»,
которое возродит и спасет человечество. Необходимо ясно сознавать,
однако, что этот универсализм не означает оправдания идеала
«абстрактной человечности», отвергнутого защитниками «возвращения к
почве». По Достоевскому, «всечеловек» - антитезис «общечеловеку».
Под «всечеловечеством» он подразумевает разнородность и
всесторонне осуществленную личность - в противоположность
абстрактному идеалу абстрактного «человечества»; этот абстрактный идеал
Достоевский обвиняет в сведении человеческой сложности к убогому
общему знаменателю, или, что еще более вероятно, в том, что это
просто маска, скрывающая желание втиснуть каждого в один и тот же
готовый образец.
В романах Достоевского мессианизм выступает в двух версиях.
Одну из них выражает Шатов в «Бесах»:
Народ - это тело божие. Всякий народ до тех только пор и
народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете
богов исключает до всякого примирения; пока верует в то, что своим
богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Но истина
одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь бога
истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и
великих богов. Единый народ «богоносец» - это русский народ...
Народ, согласно Достоевскому, - синоним простых людей. Все
снова и снова в его романах и журнальной публицистике находим
уничтожающую критику беспочвенной интеллигенции, атеизм
которой, по его мнению, - следствие отрыва интеллигенции от «почвы».
«Вы атеист, - говорит Шатов Ставрогину, - потому что вы барич,
последний барич. Вы потеряли различие зла и добра, потому что
перестали свой народ узнавать. <...> Слушайте, добудьте бога трудом; вся
суть в этом, или исчезнете, как подлая плесень; трудом добудьте».
«Бога трудом? Каким трудом?» - спрашивает Ставрогин. Ответ Ша-
това: «Мужицким»2.
В этой своей крайней форме учение Достоевского, выраженное
устами Шатова, одновременно националистично и антиинтеллектуа-
листично. Но, как упоминалось выше, «Бесы» писались под
непосредственным впечатлением от Нечаевского дела, поэтому роман является
односторонним отражением мировоззрения автора романа. Несколько
1 Достоевский Ф.М. Бесы // Он же. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. С. 266-267.
2 Там же. С. 271.
346 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
иного типа мессианизм - тот, который, не отвергая «чужих богов»,
усматривает миссию России в примирении Европы и России,
интеллигенции и народа; такой мессианизм фактически предлагает
универсальный синтез, который находим в статьях, написанных
Достоевским для журнала «Время» еще в начале 1860-х гг. Эта версия
мессианизма позднее получила развитие в «Дневнике писателя»:
«О, знаете ли вы, господа, - писал он в 1877 году, - как дорога
нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему ненавистникам Европы -
эта самая Европа, эта "страна святых чудес". Знаете ли вы, как дороги
нам эти "чудеса" и как любим и чтим, более чем братски любим и
чтим мы великие племена, населяющие ее, и все великое и
прекрасное, совершенное ими»1.
Вестернизация, признает Достоевский, расширила горизонты
России, и это все должны оценить. Интеллигенция тоже внесла в это
расширение горизонтов ценный вклад:
...мы должны... преклониться пред правдой народной... мы
должны склониться, как блудные дети, двести лет не бывшие дома, но
воротившиеся, однако же, все-таки русскими... Но, с другой
стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это sine
qua поп: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы
принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться,
и даже перед какой бы то ни было его правдой; наше пусть
остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, в крайнем
случае, и за счастье соединения с народом. В противном случае,
пусть уж мы оба погибнем врознь2.
Таким образом, Достоевский (как до него Чаадаев) считает отрыв
от почвы и блуждание вне «дома» не просто и не только несчастьем;
это и шанс создать новый тип «всечеловека», свободного от бремени
прошлого и от национальных предрассудков, - человека, который
возьмет на себя «страдания мира». Достоевский согласен с Герценом
в том, что мыслящий русский - самый независимый человек в мире.
В России, говорит Версилов в романе Достоевского «Подросток»,
есть культурная элита: «Нас таких в России, может быть, около
тысячи человек <...>. Нет свободнее и счастливее русского европейского
скитальца из нашей тысячи. Это я, право, не смеясь говорю» .
Тем не менее, Достоевский призывал эту избранную «тысячу»
бросить свои странствования и вернуться домой. Только возврат к
1 Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Т. 25. Л.: Наука, 1983. С. 197-198.
2 Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 22. Л.: Наука, 1982. С. 45.
3 Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. Т. 8. М.: ГИХЛ, 1957. С. 512, 520.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
347
«почве» и смирение перед «народной правдой» позволит элите найти
удовлетворительное примирение и излечит личность от внутренней
расколотости. Символическое выражение этой мысли - сцена в
«Подростке», когда Версилов разбивает древнюю икону странника старца
Макара. Здесь перед нами разбивают народное
(православно-христианское) наследие (икона разбивается на две равные части) и намек
на возвращение к народу через мать Подростка Соню - женщину из
народа. Брак Сони и Версилова - символ будущего воссоединения,
потерянного интеллигенции с народом, который, несмотря на
искушение (соблазнение Сони Версиловым), удержал веру в свои
нравственные понятия и сохранил в своей религии чистый, неискаженный
образ Христа.
Та же тема в более развернутом изложении, подытожившем
размышления Достоевского на протяжении двух десятков лет,
представлена в знаменитой «Речи о Пушкине», произнесенной при открытии
памятника Пушкину в Москве (8 июня 1880 г.). В этом выступлении
Достоевский подхватывает и продолжает излюбленный Аполлоном
Григорьевым образ Пушкина как синтетического выражения русского
духа - как «пророка», который показал русскому народу его миссию
и его будущее.
В характере Алеко, героя поэмы «Цыгане», и Евгения Онегина,
утверждает Достоевский, Пушкин впервые изобразил «несчастного
скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца
<...> в оторванном от народа обществе нашем». Слово «скиталец», на
взгляд Достоевского, точно определяет всю русскую
интеллигенцию - как «лишних людей» сороковых, так и народников
семидесятых годов. «Эти русские бездомные скитальцы, - говорит
Достоевский, - продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго,
кажется, не исчезнут»; в настоящее время они ищут спасения в
социализме, которого еще не существовало во времена Алеко, и надеются
таким образом достичь всеобщего счастья, «ибо русскому скитальцу
необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он
не примирится, - конечно, пока дело только в теории»1.
Однако, прежде чем странник сможет успокоиться, он должен
победить свою гордыню и смириться перед «правдой народной».
«Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость» - таково,
по Достоевскому, «русское решение вопроса», которое, по его
убеждению, мы находим в поэзии Пушкина. Алеко не сумел последовать
этому совету, и потому цыгане просят его оставить их; Онегин
пренебрег Татьяной - скромной девушкой, которая близка к «почве»,
а к тому времени, когда он понял необходимость смирения, было уже
1 Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 442^44.
348 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
поздно. Все творчество Пушкина, отмечает Достоевский, являет
собой постоянное столкновение «русских скитальцев» с «народной
правдой», представленной «положительно прекрасными» героями -
людьми почвы, выражающими духовную сущность русского народа.
Цель этих противопоставлений - убедить читателя в необходимости
«возврата к почве» и слияния с народом.
Сам Пушкин - доказательство того, что такой возврат возможен
без отрицания всемирных идеалов. Достоевский обращает внимание
на «всемирную отзывчивость» поэта, его способность отождествить
себя с испанцем (Дон Жуан), арабом («Подражание Корану»),
англичанином («Пир во время чумы») или древним римлянином
(«Египетские ночи»), оставаясь при этом национальным поэтом. Этой своей
способностью Пушкин обязан «всемирности» русского духа: «Стать
настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит
только <...> стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите».
В «Речи о Пушкине» Достоевский говорил и о разделении на
славянофилов и западников - разделении, о котором он сожалеет как
о великом, хотя исторически неизбежном, недоразумении. Импульс,
двигавший реформой Петра, был не просто утилитаризм, но желание
расширить границы национального, включив в него «всечеловече-
ство»? Мечты о том, чтобы послужить человечеству, - вот что, по
Достоевскому, руководило даже политическими интересами русского
государства: «Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей
политике, как не служила Европе, гораздо более, чем себе самой? Не
думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило»1.
О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И
впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие
грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим
русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в
европейские противоречия уже окончательно, указать исход
европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей,
вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце
концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей
гармонии, братского окончательного согласия всех племен по
Христову евангельскому закону!2
До своего выступления Достоевский всерьез беспокоился, что
аудитория воспримет ее холодно. Его страхи оказались неоснователь-
В этом месте своей речи Достоевский полемизирует с Данилевским,
который в книге «Россия и Европа» высмеивал русских государственных деятелей,
которые пытались заигрывать с Европой в ущерб интересам своей страны.
2 Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 448.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
349
ными. Речь о Пушкине имела беспрецедентный успех: охваченная
энтузиазмом толпа восклицала: «Наш святой, наш пророк», - и люди
плотным кольцом обступили Достоевского, чтобы поцеловать его
руку. Даже Тургенев, в карикатурном виде изображенный в «Бесах»,
подошел обнять Достоевского. Казалось, то был торжественный
момент общего примирения между славянофилами и западниками.
«Когда в конце я высказал идею всемирного примирения, - писал
Достоевский жене, - в аудитории начался безумный энтузиазм; я не могу
описать тебе, какой шум, какой рев одобрения начался, когда я
закончил; люди, не знавшие друг друга, разражались слезами, плакали,
кидались в объятия друг друга и клялись, что они станут лучше, будут
любить, а не ненавидеть друг друга»1.
Энтузиазм, вызванный «Речью...», оказался непродолжительным;
люди, обнимавшие друг друга под непосредственным впечатлением
от услышанного, поразмыслив, пришли к выводу, что разделявшие их
различия никак не уменьшились. Только Иван Аксаков продолжал
относиться к Пушкинской речи Достоевского с неизменным
некритическим энтузиазмом.
Среди восторженных слушателей Пушкинской речи был писатель-
народник Глеб Успенский. В отчете для журнала «Отечественные
записки» он писал, что речь Достоевского имела «ошеломляющий
эффект», совершенно заслуженный, несмотря на слова «насчет
какого-то смирения», на которые аудитория не обратила никакого
внимания. Когда появился полный текст выступления Достоевского,
Успенский счел необходимым скорректировать свой отчет и предупредить
своих читателей, что впечатление, произведенное Пушкинской речью,
не соответствует ее «подлинному смыслу» и что впечатление это
основывается в основном на ложной интерпретации.
Критика со стороны консервативной партии исходила от
К. Леонтьева. Он назвал Достоевского еретиком, который хочет
заменить церковное учение «розовым христианством». Евангелие,
подчеркивал Леонтьев, не обещает всемирного братства, согласия и
гармонии, а реализация этих идеалов была бы для Церкви величайшим
несчастьем.
Со своей точки зрения Леонтьев был совершенно прав в своей
критике. Внимательное прочтение «Братьев Карамазовых» и «Речи
о Пушкине» не оставляет сомнения в том, что, по существу, забота
Достоевского была не о небесном спасении, а о спасении на земле. Он
настаивал на возможности такого мира, в котором не будет
несправедливости и насилия, а будет всемирное братство, и это отражало его
тоску по «гармонии» и было эхом его юношеских идей, непреодоли-
1 Достоевский Ф.М. Письма / Под ред. A.C. Долинина. Т. 4. М, 1959. С. 144.
350 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ
МЫСЛИМОЙ бездной отделяя Достоевского от таких реакционных его
наставников, как Победоносцев1. Следует помнить, что сам термин
«гармония» - название одной из статей «Карманного словаря»,
составленного петрашевцами.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Этапы нравственного кризиса
В конце 1870-х гг. граф Лее Толстой (1828-1910) был на вершине
своей литературной славы: роман «Война и мир» появился в 1869 г.,
роман «Анна Каренина» - в 1877 г. И вот на пике своего гениального
творчества писатель пережил нравственный кризис, ознаменовавший
поворотный момент в его жизни. После периода депрессии и мыслей
о самоубийстве Толстой все больше и больше захвачен мыслью, что
он должен совершенно порвать с той системой ценностей, которой
придерживалась благополучная элита, к которой он принадлежал.
В 1878/79 гг. Толстой написал знаменитую «Исповедь»; за ней
последовала «Критика догматического богословия» и трактаты «В чем
моя вера?» (1884), «Так что же нам делать?» (1886), «О жизни» (1887)
и «Царство божие внутри нас». В 1881 г. Толстой обратился к
Александру III с просьбой смягчить смертные приговоры, вынесенные
революционерам, убившим его отца. В том же году он отправился
паломником в Оптину Пустынь: разговоры с отцом Амвросием, широко
известным старцем Оптинского монастыря, утвердили в нем
недоверие к официальному православию. Другой опыт, когда год спустя
Толстой работал в Московском цензовом комитете, тоже
способствовал изменению его мировоззрения; он из первых рук узнал, в каких
условиях живет городская беднота. Ради своей семьи он не отдал
крестьянам своего поместья, как сам того хотел, но он сократил свои
личные расходы, отказался от прежнего аристократического образа
жизни и занялся постоянным физическим трудом. Постепенно он
собрал вокруг себя группу учеников, среди которых самым
значительным был Владимир Чертков. Они совместно организовали
издательское товарищество «Посредник», задачей которого было нести
литературу в народ. В «Посреднике» Толстой напечатал несколько своих
произведений (например, «Чем люди живы?», «Бог правду видит, да
не скоро скажет»). «Посредник» имел большой успех и способствовал
популяризации толстовских идей, особенно среди религиозных
сектантов. После ужасного неурожая 1891 г. Толстой пытался пробудить
1 См.: Гус М. Идеи и образы Ф.М. Достоевского. М., 1962. С. 492-^95.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
351
общественное мнение серией статей о голоде в деревнях и лично
организовывал помощь голодающим крестьянам. Когда через несколько
лет правительство стало преследовать секту духоборов, Толстой
выступил в ее защиту и вместе с Чеховым помогал устроить их
эмиграцию в Канаду. Волна возмущения прокатилась по всему миру, когда в
ответ на критику Толстым официального православия Священный
Синод отлучил его от церкви в 1901 г.
Такова общепринятая версия того, каким образом возникло
толстовское учение и как оно продолжало функционировать в народной
среде и в религиозно-философских брошюрах (которые из-за цензуры
печатались за границей). Однако многие исследователи указывают на
то, что элементы поздней философии Толстого можно найти в
произведениях, написанных до пережитого им мировоззренческого
«переворота»1.
Огромное впечатление на Толстого-подростка оказала
руссоистская критика цивилизации- в пятнадцать лет он носил на шее
медальон с изображением Руссо". В рассказе «Три смерти», написанном в
1858 г., мы уже находим характерное толстовское
противопоставление: страх смерти, переживаемый «высшими классами», и спокойное
приятие своего конца простым человеком из народа. В статьях,
опубликованных в 1862 г. в журнале «Ясная Поляна» (в то время, когда
Толстой организовал школу для крестьянских детей своего имения),
содержится первый набросок его социальной философии,
разработанной им позднее в 1880-е гг. Осуждение индивидуализма
(воплощением которого для Толстого, как и для Достоевского, был Наполеон) -
сквозной мотив «Войны и мира». В этом романе индивидуализм то и
дело противопоставляется инстинктивной «правде» простого народа.
Даже пессимизм Толстого не был только следствием его
идеологического кризиса. Из одного письма Толстого мы знаем, что он читал
Шопенгауэра в 1869 г.; сочинения этого «величайшего гения среди
людей», писал Толстой своему другу Фету, наполняют его
«бесконечной радостью» и никогда прежде не испытанным удовольствием .
Не следует, однако, недооценивать кризис 1880-х гг., хотя в
«Исповеди» Толстой преувеличивает внезапность и резкость изменений,
произошедших в его мировоззрении. Яркий рассказ о кающемся
грешнике - художественный прием, целью которого было
шокировать читателей и тем самым заставить их отказаться от их собствен-
1 См.: SemczukA. Lew Tolstoi. Варшава, 1963. P. 221 ff.
2 См. об этом: Гусев H.H. Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. М.,
1958. С. 30. В 1901 г. Толстой рассказал одному профессору в Париже, что в
юности он прочитал «всего Руссо, все двадцать два тома, включая
"Музыкальный словарь"».
3 Там же. С. 363.
352 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ной неправедной жизни. Тем не менее, искренность и убежденность, с
которыми написана «Исповедь», говорят сами за себя; до написания
этого произведения Толстой пережил тяжелый приступ депрессии,
который в 1876 г. привел его к мыслям о самоубийстве. В процессе
выхода из этого своего состояния Толстой обратился к религии и,
в конце концов, порвал с общепринятым в его среде мировоззрением.
В общем и целом можно сказать, что, хотя кризис и был только
этапом в постепенной эволюции идей Толстого, он, этот кризис,
обозначил поворотный момент в его жизни.
В «Исповеди» Толстой писал, что он был крещен и воспитан
в православной вере, но потом забросил ее, как и большинство людей
его класса. Он убивал людей на войне; сражался на дуэлях; тратил
деньги, которые вымогал у крестьян, на еду, питье и карточную игру;
предавался дебоширству. Не было, кажется, такого преступления,
которого он бы не совершил, но в его кругу все принимали его за
нравственного человека.
Что же теперь заняло место утраченной веры? Подобно
большинству образованных людей своего времени, пишет Толстой, он верил
в прогресс, но когда он увидел в Париже, как гильотинируют
человека, то он понял, что никакая теория не может оправдать лишение
человека жизни. Он жаждал славы, но в глубине души не верил, что
сделаться самым знаменитым писателем в мире составляет какую-то
существенную ценность. Когда умер его любимый брат, то как было
объяснить и оправдать эту смерть? Удовлетворительного ответа не
было. Неизбежность смерти делала жизнь совершенно абсурдной,
жестокой и глупой шуткой. Удел человеческий можно сравнить с
судьбой путешественника из восточной сказки-притчи. Преследуемый
диким зверем, путешественник спускается в колодец, но на дне его он
видит открытую пасть дракона. Не в силах ни подняться наверх, ни
спуститься вниз, бедняга цепляется за куст, растущий в стене
колодца. Постепенно теряя силы, он видит двух мышей, белую и черную
(символы дня и ночи), грызущих ветку, на которой он висит.
Понимая, что падение неизбежно, путешественник все же огромным
усилием связывает сладкие капли, стекавшие с листьев. «И это не басня,
- комментирует Толстой, - а это истинная, неоспоримая и всякому
понятная правда»1.
Если бы люди имели мужество посмотреть в лицо истине, то они
наверняка поняли бы, что с точки зрения того, как индивид цепляется
за мысль о личном выживании, человеческое существование можно
подытожить словами: «Суета сует и всяческая суета». Эту истину
знали все мудрецы в истории - Сократ, Соломон, Будда. И новейшая
1 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. М.; Л., 1928-1958. Т. 23. С. 14.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
353
философия в лице Шопенгауэра тоже пришла к выводу, что счастлив
тот, кто не рожден, смерть лучше, чем жизнь. Лучшее разрешение
ужасной дилеммы жизни и смерти - самоубийство, и этот выход
избрали сильные и энергичные люди. Другие решения той же
дилеммы - эпикурейство, освобождение от сознания или - для людей
мудрых, но слабых (как Соломон и Шопенгауэр) - принятие жизни как
она есть, с полным сознанием того, что она - зло и лишена смысла.
Этот выход, пишет Толстой в «Исповеди», избрал поначалу и он сам:
сознавая, что жизнь глупая шутка, сыгранная с человечеством, он, тем
не менее, продолжал жить, то есть мыться, одеваться, обедать,
разговаривать и даже писать книги.
Здесь в аргументации «Исповеди» происходит внезапное
изменение, аналогичное тому, которое происходит у Канта, когда он,
продемонстрировав, что теоретический разум приходит к непримиримым
антиномиям, противопоставляет теоретическому разуму
практический разум, разрешающий тем самым противоречия1. Разум, пишет
Толстой, отрицает жизнь, но и сам он - порождение жизни. Жизнь -
это все во всем; разум отдельного человека, отрицает, что жизнь
имеет смысл, но в то же время миллионы человеческих существ
проживают свою жизнь, нимало не сомневаясь, что она имеет смысл.
«Как же так? - спрашивает Толстой. - <...> Что ж я один с
Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни?»2.
Что, если нас обуяла гордость нашим собственным разумом? В
соответствии с рациональным пониманием образованных людей жизнь
может быть бессмысленной, но огромные массы людей находят в
жизни смысл на основе иррационального понимания, то есть веры.
Вера не откровение и не что-то такое сверхъестественное, она не
ограничивается лишь отношением человека к Богу; нет, вера - это
именно сверхрациональное постижение смысла человеческого
существование, постижение, благодаря которому человек не уничтожает
себя.
Придя к такому выводу, сообщает Толстой в «Исповеди», он стал
искать духовной опоры у людей религиозных убеждений. Сначала он
обратился к людям своего собственного круга, но скоро понял, что их
вера - не настоящая, а только одно из их эпикурейских удовольствий.
Тогда он стал приглядываться к «верующим из бедных, простых,
неученых людей» - странникам, монахам, крестьянам, православным
христианам, староверам и сектантам. В общении с ними Толстой ви-
1 Позднее Толстой и сам заметил это сходство; он читал (в 1887 г.)
«Критику практического разума» Канта с удовольствием (см.: Гусев H.H.. Летопись...
С. 679).
2 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. Т. 23. С. 30.
354 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
дел, что они принимают болезни и несчастья со спокойным
терпением, а смерть - без ужаса и отчаянья. Он научился любить этих людей
и постепенно понял, что тот смысл, который имела для них жизнь, и
был настоящим смыслом, так что и он тоже принял этот смысл. Он
вновь обрел веру в Бога и понял всеобщую мудрость, переданную
традицией, - мудрость, которая утверждает, что миром правит
высшая воля и что тот, кто поймет смысл жизни, должен склонить голову
перед этой волей.
Следующий этап эволюции Толстого начался тогда, когда он
заметил различие между верой богословов и верой простого народа.
Сначала, под влиянием Хомякова, он участвовал во всех религиозных
церемониях, даже в таких, смысл которых он не понимал; он осаживал
свой интеллект и смирялся перед традицией, ибо только так, как он
полагал, он «соединится в любви» с предшествующими поколениями,
со всем человечеством. Однако очень скоро он не мог не заметить,
что богословские догмы служат больше тому, чтобы разделять людей,
чем тому, чтобы соединять их; и догмы эти санкционируют
преследования и эксплуатируют в партикуляристских и вполне мирских целях.
Подвергнув исследованию и проверке официальное богословие,
Толстой пришел к выводу, что это богословие не интересуется
смыслом жизни; непонятные догмы не скрывают в себе никакого такого
глубокого смысла, а только являются средством отвлечь внимание
людей от простых и ясных истин религиозной веры. Потому что
истины эти, которые простые люди понимают инстинктивно, часто
неудобны для их правителей. Поэтому Толстой, руководствуясь
разумом, взялся за критику богословия. От верования он требует, чтобы
не было необъяснимых, сверхрациональных истин, за исключением
таких, принятие которых происходит из природы самого разума,
понятого как такая способность, которая реализует свои собственные
ограничения1. Толстой подверг учения церкви рациональной проверке
для того, чтобы очистить их от всего того, что в них не согласуется с
разумом и что было ему навязано искусственно.
Таким образом, разум - отодвинутый на второй план для того,
чтобы позволить писателю принять веру, понятую как
иррациональное, но утверждающее жизнь постижение, - теперь полностью
восстанавливается в своих правах. Еще позднее Толстой пришел к
выводу, что нет и не должно быть никакой дисгармонии между разумом и
религией, если только не превращать религию в псевдо-веру .
На первый взгляд, аргументация Толстого может показаться
противоречащей самой себе: разум сначала капитулирует перед верой,
1 Там же. С. 57.
2 См. сочинение Толстого «Что такое религия и в чем сущность ее?» (1902).
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
355
а потом он же и становится арбитром в делах веры; сначала вся
рациональная аргументация осуждается в качестве отрицающей жизнь
(ход мысли, ведущий от картезианского сомнения к
шопенгауэровскому пессимизму), а затем - как другую крайность - мы получаем
чисто рационалистическую критику таинств веры с позиций
«здравого смысла»1. На самом же деле никакой непоследовательности нет -
а только постоянное напряжение между двумя полюсами мысли,
образующими диалектическое целое внутри взаимозависимости этих
полюсов. Для того чтобы проследить ход мысли Толстого, нужно
осознать, что Толстой все время имеет в виду два различных типа разума:
разум, отрицающий жизнь и вынужденный смириться перед верой, -
таков индивидуальный разум человека как существа, подверженного
пространственно-временным ограничениям; с другой стороны, разум
в гармонии с верой - это всеобщий разум. Специфическая
особенность философии Толстого состоит в том, что сверхиндивидуальный,
всеобщий разум, восхваляемый им, имеет некоторые общие черты с
критицизмом и рассудочностью Просвещения, то есть несет на себе
печать того типа рационализма, который религиозные критики
Просвещения (например, Ламеннэ) осуждали за то, что это происходит на
самом деле из индивидуального разума, несовместимого с разумом
всеобщим.
Другой необычный аспект мышления Толстого заключается в том,
что он пришел к представлению о тщете индивидуального разума
отчасти благодаря чтению Шопенгауэра. Этим он отличается как от
славянофилов, которые черпали вдохновение у немецких романтиков,
так и от Чаадаева, на которого повлияли французские
традиционалисты. Под влиянием Шопенгауэра Толстой пришел к убеждению о
существенном различии между истинной реальностью и иллюзорным
миром явлений. Шопенгауэр считал, что всякое страдание, страх
смерти и ощущение абсурдности жизни проистекают оттого, что
индивид находится в плену у воли - метафизической субстанции
вселенной - в пределах своего индивидуального тела. Поэтому путь к
спасению - в отказе от своего «я», в освобождении от бремени
пространственно-временной индивидуальности. «Спасение, - писал
Шопенгауэр, - нечто совершенно чуждое нашей личности; для того
чтобы достичь его, необходимо уничтожить эту индивидуальность»2.
Это - ведущая идея этики Шопенгауэра, идея, указывающая путь к
спасению, которого можно достигнуть посредством метафизического
1 Среди писателей французского Просвещения Толстой ценил не только
Руссо, но и Вольтера.
2 Schopenhauer A. Sämmtliche Werke. Leipzig, 1922. Bd. 2. S. 482 («Мир как
воля и представление»).
356 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
имперсонализма. Любить ближнего значит забыть свою собственную
индивидуальность, уничтожить барьеры между мною и другим: «Для
того, кто активно любит своего ближнего, покрывало Майи
становится прозрачным, мираж principium individuation is исчезает»1. Другой
путь спасения ведет через искусство, которое имеет интуитивное
понимание всего вечного, неизменного и безличного. Однако полное
освобождение обретается только в «эвтаназии воли» - состоянии
полного безразличия, ухода в нирвану. Этого нравственного идеала
можно достичь путем аскетической резиньяции, воплощением которой
является христианский святой или индийский святой.
Исходя из этого, нетрудно видеть, что роль Шопенгауэра в
духовном кризисе Толстого и разрешении этого кризиса - весьма
значительна. Правда, Толстой не воспринял философию Шопенгауэра во
всей ее целостности (в частности, Толстой не принял концепцию воли
как метафизической сущности вселенной); более того, то, что было
им воспринято от Шопенгауэра, он часто модифицировал или
соединял с другими идеями, совершенно чуждыми немецкому философу.
Новое мировоззрение Толстого, в сущности, привело его, как мы
увидим, к тому, что он радикальным образом поставил под вопрос всю
культуру и образ жизни высших классов - чему не найти соответствия
в философии Шопенгауэра и в его взглядах на жизнь. Тем не менее,
именно Шопенгауэру Толстой обязан формулировкой ведущей идеи
своей философии жизни - представлению о том, что между
подлинной жизнью и пространственно-временным существованием имеется
принципиальное различие. Именно Шопенгауэр укрепил Толстого
в убеждении, что индивид, ограниченный временем и
пространством, не может не придти к выводу, что его жизнь - полный абсурд,
и именно Шопенгауэр также убедил Толстого в том, что путь
спасения - в преодолении «принципа индивидуализации». Наконец,
благодаря отчасти Шопенгауэру у Толстого пробудился интерес к
буддизму и другим великим религиям Востока, и он увидел, в каком
соотношении эти религии находятся к христианству.
Философия жизни Толстого
Лучшее изложение метафизики жизни Толстого находим в его
трактате «О жизни» (1887).
«Жизнь человека истинная, - писал Толстой, - та, из которой он
составляет себе понятие о всякой другой жизни, - есть стремление
к благу, достигаемому подчинением своей личности закону разума.
' Ibid. S. 440-441.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
357
Ни разум, ни степень подчинения ему не определяются ни
пространством, ни временем. Истинная жизнь человека происходит вне
пространства и времени»1. Только о такой жизни - жизни, для которой не
существует различия между одной минутой и пятьюдесятью
тысячами лет, - можно сказать, что она поистине существует.
Именно пространство и время лежат в основе «принципа индиви-
дуации». Из этого следует, что отрицание индивидуального
благосостояния не какое-то исключительное достоинство, а необходимый
закон жизни. Для того чтобы жить истинной жизнью, - а не жизнью
животных инстинктов, - необходимо переродиться и стать «разумным
сознанием», то есть выйти за пределы индивидуальности,
отождествив свое благосостояние с благосостоянием других. Кому это
удается, тот обнаруживает, что смерть больше не вызывает ужаса, и он
воспринимает мир как разумное целое, подчиненное общему закону.
Индивидуальная жизнь не есть истинная жизнь: индийский йог,
который проводит годы, стоя на одной ноге для того, чтобы достичь
Нирваны, живет более подлинной жизнью, чем озверелые обитатели так
называемых цивилизованных стран2, То, что обычно называют
жизнью, на самом деле только игра со смертью (в этом отношении,
заявляет Толстой, «современные пессимисты», Шопенгауэр и Гартман,
согласны с буддистами). Истинная жизнь не мир явлений, но
невидимое и безличное «разумное сознание» - всеобщая сила, не связанная
временем и пространством. Индивидуальность - это зло, иллюзия,
которая отрывает человека от истинной жизни, заточает в мир
явлений и обрекает на страдание и смерть. Путь к преодолению
индивидуальности ведет через любовь - любовь не как эмоциональный
импульс, но как полное подчинение спокойной ясности «разумного
сознания», которое требует от людей отказаться от своего
индивидуального благосостояния3.
Хотя Толстой и требует отвергнуть «индивидуальное
благосостояние», а не личность как таковую, но главное для него - это доказать,
что истинную личность не следует отождествлять с «жявотной»
природой пространственно-временного мира. Личность как чувство
совпадения с самой собой, как самоидентичность, на самом деле не имеет
ничего общего с индивидуальностью: наше тело находится в
непрестанном изменении, и индивидуальное сознание - ряд изменяющихся
психологических состояний, тогда как чувство идентичности - нечто
непрерывное и неизменное. Опираясь на эти соображения, Толстой
1 Толстой Л.И. Поли. собр. соч. / Под ред. Н.И. Бирюкова. СПб., 1913. Т. 17.
С.248.
2 Там же. С. 261.
3 Там же. С. 270.
358 Апджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
пытается в трактате «О жизни» доказать, что «истинное я человека»
не подвержено смерти. Однако эти его мысли не получили полного
развития и, похоже, возникли не столько из принципиальной позиции,
сколько в силу определенных колебаний. Главное содержание
философии жизни Толстого - это, несомненно, метафизический имперсо-
нализм, совершенно последовательный (за вычетом упомянутых
оговорок) и крайний в своих этических выводах.
Этика Толстого в общих своих постулатах - требовании любви
к ближнему и аскетического смирения - не отличается от этики
Шопенгауэра. Это сходство распространяется и на представление об
иллюзорной природе мира с его пространством и временем - воззрение,
которое оправдывает эти этические постулаты. Однако в своих
практических выводах Толстой сильно отличается от немецкого образца.
В системе Шопенгауэра преодоление «principium individuationis» - это
вершина развития самой индивидуальности. «Отказ от мира» у него
не ведет к идеализации сознания на доиндивидуальной стадии его,
то есть к культу простоты и руссоистской критики цивилизации.
Шопенгауэр был в первую очередь консервативным либералом по своим
политическим убеждениям: он твердо защищал права индивида1;
наоборот, метафизический имперсонализм Толстого привел его к
осуждению индивидуализма и к призыву смириться перед «народной
правдой» и к полному растворению в ней, а также к
ненасильственному противлению злу. Герой, наилучшим образом воплощающий
идеал этой «народной правды», - Платон Каратаев в «Войне и мире»,
простой крестьянин, который ощущает себя частичкой анонимной
толпы и не имеет самостоятельного, отдельного существования. Пьер
Безухов страстно желает пережить «правду» Каратаева. «Солдатом
быть, просто солдатом, - размышляет он, засыпая. - Войти в эту
общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими.
Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого
внешнего человека?»
Оригинальное в философии Толстого - это то, что мечта сбросить
бремя «принципа индивидуализации» есть нечто большее, чем просто
один из аспектов кризиса индивидуализма - кризиса, который,
достигнув высшей точки, диалектически переходит в свою
противоположность. Вслед за Шопенгауэром Толстой искал подтверждения
своих теорий в религиях Востока, но самым значительным
источником влияния для него были его собственные наблюдения над
русскими крестьянами - сочувственное понимание их образа жизни, облег-
В мировоззрении Тургенева тоже находим соединение метафизического
имперсонализма с либеральной защитой прав личности. См.: Walicki A. Turgenev
and Schopengauer. Oxford Slavonic Papers, 10 (1962).
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
359
чавшейся благодаря патриархальным связям, которые в его случае
еще связывали барина с крестьянином. Семья Толстого принадлежала
к старинной русской аристократии, укорененной в древней,
«полуазиатской» России, но в то же время глубоко вестернизованной и в лице
своих лучших представителей полностью участвовавшей в духовной
жизни интеллектуальной элиты. Несомненно, эта своеобразная
ситуация позволила Толстому воспринять европейскую культуру и
пережить ее кризис «изнутри», одновременно противопоставив этой
культуре свое проникновенное понимание культуры и общественного
сознания русского крестьянства, находившегося еще на
до-индивидуальной стадии развития. Результатом столкновения обеих культур
стало то, что советские ученые, вслед за Лениным, назвали «сдвигом
на позицию патриархального крестьянства».
Взгляды Толстого на религию
Как религиозный мыслитель Толстой представляет крайний
рационалистический и этический евангелизм - тип еретического
христианства, противоположный мистическим отклонением от
ортодоксии.
Интересно отметить, что религиозные взгляды Толстого были
особенно близки славянским представителям этого типа
христианского сознания - «богемским братьям» (не случайно Толстой
чрезвычайно ценил их идеолога Петра Хельчицкого) и «польским братьям»,
называемым «социнианами» или «арианами». Противоположную
крайность в России представляли религиозно-философские идеи
Владимира Соловьева. Оба они - Л. Толстой и В. Соловьев -
провозглашали необходимость христианского ренессанса и религиозного
обновления человечества, но то, каким образом каждый из них
представлял себе религию вообще и христианство в частности, настолько
явно не совпадало, что все попытки прийти к взаимопониманию были
обречены на провал. Толстого раздражал мистицизм Соловьева, а
Соловьев не выносил морализаторства Толстого. Оба они, пишет
биограф Соловьева, почти физически не выносили друг друга .
На взгляд Толстого, сущность христианства заключается в
этических поучениях Христа; Христос, полагал он, был только человек,
хотя и величайший среди великих моралистов и учителей
человечества, таких как Конфуций, Лао-Цзы, Будда и Сократ. В поучениях
Христа, согласно Толстому, нет ничего мистического или
таинственного: они просты, ясны и сразу понятны каждому; их квинтэссенция
1 См.: Мочульский К. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Париж, 1951.
С.248.
360 Анджей Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
содержится в Нагорной проповеди . Из Нагорной проповеди Толстой
взял пять заповедей, в которых попытался обобщить смысл послания
Христа: не гневайся; не прелюбодействуй; не суди ближних своих; не
противься злу; люби врагов своих2. По Толстому, четвертая
заповедь - самая важная. Евангельские слова - «Вы слышали, что сказано:
"око за око и зуб за зуб". А Я говорю вам: не противься злому»
(Матф. 5:38-39) - были для него «истинно ключом», отпиравшим все
двери . Когда его теорию пассивного сопротивления злу обвиняли в
пустом мечтательстве, то Толстой отвечал, что на самом деле мечта-
тельство - точнее сказать, кошмар, вроде криков сумасшедшего, - это
мир, созданный в пренебрежении поучений Христа и основанный на
насилии. Учение Христа, писал Толстой, не эксцентрично, а разумно
и практично; смысл этого учения лучше всего выражен в
утверждении: «Христос учит людей не делать глупостей»4. Евангельские
наставления не требуют ни мученичества, ни сверхчеловеческих
жертв, поскольку они провозглашают идеал жизни в гармонии с
человеческой природой, обеспечивают здоровую жизнь и спокойную
смерть. «Мирское учение» побуждает людей к самопожертвованию,
призывает их жить в перенаселенных городах, учит ненавидеть и
убивать друг друга, беспокоиться о поддержании своего существования,
так что у людей не остается времени для самой жизни. «Мирское
учение» превращает жизнь в ад, тогда как Христос показывает нам, как
Нагорная проповедь - излюбленный текст всех тех, кто проповедует
религию и этику христианского сектантства. См.: Kolakowski L. Swiadomoéé religijna i
wiçz koscielna (Религиозное сознание и узы Церкви). Варшава, 1965. Р. 289.
Книга Колаковского интересно освещает контраст между религиозным
сознанием Толстого и Соловьева. «С самого раннего времени почитание Христа
развивалось отчасти как конфликт различных течений, тяготевших к одной из
двух крайностей: на одном полюсе - те, кого интересует только учение Христа и
цель жизни на земле, кто отрицают или нивелируют божественность Христа (со-
циниане, несториане, ариане и др.), тогда как на другом полюсе - те, кто меньше
внимания уделяют жизни Христа на земле и даже рассматривают ее лишь как
символ <...>, но подчеркивают божественность Христа вплоть до
отождествления Сына с Отцом <...> (монофизиты и др.). Тяготение к одной из двух
идеальных моделей Христа нетрудно обнаружить в пределах чрезвычайно сложного
многообразия различных христианских учений: с одной стороны, Христос как
нравственный наставник, Человек, идеалу которого надлежит следовать; с
другой - Христос как Бог, мистический жених души, Логос, Божественный Свет,
эманация Абсолюта. Таковы две противоположные версии христианства, ни одна
из которых не приемлема с точки зрения римско-католической Церкви (как и для
православия. -А. В.)» (Ibid. P.288).
2 См. трактат: В чем моя вера? // Толстой H.H. Поли. собр. соч. Т. 23.
3 Там же. С. 311.
4 Там же. С. 423.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
361
установить Царство Небесное на земле - царство вечного мира, в
котором мечи перекуют на орала, и все люди будут братьями.
Пытаясь свести религию к этике, Толстой предпринимает
критический пересмотр христианской догмы и обрядов в свете
моралистических и рационалистических критериев. Среди отвергнутых им
догм - Святая Троица, Откровение, Непорочное Зачатие и
Воскресение; он считает их не только несовместимыми с логикой; в
особенности эти догмы, как ему кажется, не содержат ни малейших намеков на
какое-либо «разумное» правило поведение. В конце жизни Толстой
попытался объединить все четыре Евангелия в одно связное
повествование, и в процессе этой работы он очистил Новый Завет от
всякой космологии и онтологии, так же как от всяких описаний чудес;
в конце концов, он также очистил Евангелие и от учения о Слове
(Иоанн. I), лишив это учение мистического и онтологического смысла
и истолковав «логос» как собственно нравственное постижение
жизни. В своем стремлении элиминировать все, что отдает сверхесте-
ственным, Толстой отверг учение о Благодати и Святом Духе, которое
он называет безнравственным, поскольку оно «под корень подсекает
все, что есть лучшего в природе человека»1.
Приходится спросить: можно ли еще называть христианство
религией, если она лишена столь многих своих живых элементов.
Тщательный анализ идей Толстого наводит на мысль, что нет,
невозможно. В своем трактате «Что такое религия и в чем сущность ее?» (1902)
Толстой утверждает, что подлинная религия охватывает основные
начала, общие для всех великих верований, - такие убеждения,
которые все они разделяют и благодаря которым человечество еще не
вымерло. В этой вечной и всемирной религии христианству не
принадлежит никакого привилегированного места, хотя Толстой и
рассматривает Иисуса как величайшего учителя человечества - как
человека, учения которого божественны, но который сам - не божествен.
В этом и только в этом последнем смысле можно говорить
о толстовской философии как христианской. В то же время институ-
циализированное христианство официальной церкви Толстой
называет самым растленным из всех мировых религий. Всякая религия,
утверждает он, состоит из двух частей: из этического учения и
метафизического учения, разработанного для того, чтобы оправдать
этическое учение. Можно сказать, что религия деградирует тогда, когда
она замещает свои этические принципы внешними символами культа.
Все религии пострадали от такого вырождения, но христианство -
больше всего. Первые признаки раскола между «метафизикой» и
«этикой» заметны в Посланиях ап. Павла, где провозглашается мета-
1 Там же. С. 230 («Исследование догматического богословия»).
362 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
физическая и кабалистическая теория, чуждая учению самого Христа.
Последняя стадия деградации христианства наступила вместе с
принятием его как официального исповедания при Константине Великом.
Император пришел к единственному в своем роде соглашению с
высшими священниками - соглашению, с помощью которого он мог
теперь жить как ему вздумается, предаваясь убийствам, поджогам,
грабежам и дебоширству, но в то же время продолжая называть себя
христианином и будучи уверенным, что на небе место ему
обеспечено1. Отныне христианство было религией, которая не требовала от
своих последователей никакого нравственного поведения и скрепляла
печатью одобрения безнравственность существующего миропорядка.
В своем беспощадном осуждении лицемерия и лживости
официального христианства Толстой совершенно упустил из виду указание
Христа воздерживаться от гнева. Ленин назвал толстовскую
критику выражением примитивной крестьянской демократии, в которой
«века крепостного гнета и десятилетия форсированного
пореформенного разорения, накопили горы ненависти, злобы и отчаянной
решимости»2.
В конечном счете, толстовскую критику религии можно
рассматривать как полное отрицание церкви как института и наступление на
самые основы «позитивных религий». Представление о том, что
нужны особые люди в качестве посредников между человеком и Богом,
так же как вера в чудеса, в магическую силу слов и формул, которые
записаны в книгах и повторяются на протяжении столетий, - все это,
по Толстому, только подтверждает факт деградации религии.
Истинной всеобщей верой, пророком которой должен стать Толстой, будет
религия без священников, без догм, без таинств, без литургии -
словом, очищенная от всяких следов сверхъестественного.
Каково же место Бога в этой религии? Воззрения Толстого,
несомненно, имеют мало общего с традиционным теизмом. Верно, что в
своих сочинениях для народа Толстой сравнивает отношение
человека к Богу с отношением сына к отцу или работника к его хозяину, но
эти сравнения не нужно понимать буквально, как свидетельство
антропоморфизма в понимании Божества. Больше оснований, как
кажется, для того чтобы классифицировать толстовскую концепцию
Бога как специфическую версию теологического имманентизма. Дать
более точное определение представляется затруднительным,
поскольку сам Толстой не делал попыток такого рода. Он довольствовался
утверждением: «Бог существует как начало всех вещей; частица этого
божественного начала существует в человеке, и она может быть
1 Там же. С. 480. («Церковь и государство»).
2 Ленин В. И. ПСС. 5-е. изд. Т. 17. С. 210-211.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
363
уменьшена или увеличена за счет образа жизни»1. Нежелание
Толстого определять сущность Бога не только следствие того, что его
интересовали преимущественно этические вопросы. Не менее важен и тот
факт, что Толстой был убежден в тщетности всех подобных
определений. Таким образом, несмотря на крайний рационализм его критики
догматического богословия, автора «Исповеди» невозможно считать
представителем религиозного рационализма. «Бога и душу, - писал
он, - я знаю так же, как я знаю бесконечность, не путем определения,
но совершенно другим путем. Определения же разрушают во мне это
знание» . Подобно Канту (которого он цитирует), Толстой
принципиально отвергает «рациональную теологию»; правда, он был
рационалистическим критиком позитивной религии, но, в отличие от Канта,
он убежден в бессилии теоретических доказательств существования
Бога и попыток проанализировать сущность Его бытия.
Критика Толстым цивилизации
и общественных идеалов
В качестве общественной идеологии философия Толстого
необычна тем, что она соединяет радикальную критику существующей
социальной системы и духовного состояния привилегированных классов с
не менее радикальным отрицанием революционных учений и всех
попыток сопротивления злу силой.
Толстовская критика совершенно антиисторична; Толстой,
отмечал Ленин, «рассуждает отвлеченно, он допускает только точку
зрения "вечных" начал нравственности, вечных истин религии»3. То был
сознательный и целенаправленный выбор: Толстой отверг
«исторический взгляд» - веру в историческую необходимость и рациональный
ход истории, - потому что считал эту веру искаженной аморальным
релятивизмом и слепым оптимизмом. Такой подход, естественно,
идет рука об руку с полным отрицанием веры в прогресс - веры,
столь популярной среди современников Толстого. Идея прогресса,
согласно Толстому, приемлема, если ее понимать как вечный закон
индивидуального совершенствования, но не в применении к истории.
«Закон прогресса, или совершенствования, написан в душе каждого
человека и, только вследствие заблуждения, переносится в историю»;
в отвлечении от личности «он делается пустой болтовней, ведущей к
оправданию каждой бессмыслицы и фатализма». Больше того, поня-
1 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. М.,1913. Т. 15. С. 317. («Что такое религия и
в чем сущность ее?»)
2 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. (1928-1958). М., 1957. Т. 23. С. 132.
3 Ленин В.И. Цит. изд. Т. 20. С. 101.
364 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
тие исторического прогресса применимо только к странам, входящим
в сферу влияния европейской цивилизации, или, точнее, к небольшой
части населения этих стран. Простым людям «прогресс» только
наносит вред; везде массы «постоянно враждебно относятся к прогрессу и
постоянно не только не признают его пользы, но положительно и
сознательно признают его вред для них»1.
Нужно подчеркнуть, что статья, в которой содержатся эти мысли,
была опубликована в 1962 г. (в педагогическом журнале «Ясная
поляна»), то есть почти за двадцать лет до идейного «кризиса»
Идеализация натурального хозяйства, основанного на экономических
отношениях, предшествовавших разделению труда, - идеализация, так
характерная для философии Толстого, - тоже восходит ко времени,
предшествовавшему повороту конца 1870-х гг. Последнее слово на
эту тему обнаруживается в трактате «Так что же нам делать?»,
опубликованном в 1886 г. В нем Толстой подхватывает излюбленную тему
Михайловского - критику органических теорий общества (в
особенности теорий Конта и Спенсера) с их оправданием разделения труда.
Теории, сравнивающие общество с организмом, писал Толстой, - это
вымысел, придуманный ради выгоды привилегированных, а
разделение труда тоже придумано для того, чтобы оправдывать лентяев.
Интересно отметить, что, подобно Михайловскому, Толстой считает, что
разделение труда наносит вред также и привилегированному
меньшинству, которое пользовалось обманом и силой для того, чтобы
избегать физического труда, потому что разнообразный и
переменчивый труд имеет существенное значение для здоровья и счастья:
«Птица так устроена, что ей необходимо летать, ходить, клевать,
соображать, и когда она все это делает, тогда она удовлетворена, счастлива,
тогда она птица. Точно так же и человек: когда он ходит, ворочает,
поднимает, таскает, работает пальцами, глазами, ушами, языком,
мозгом, тогда он удовлетворен, тогда только человек»2. Толстой
предлагает заменить разделение труда в соответствии с индивидуальными
способностями разделением рабочего дня (принцип «упряжки»),
таким образом, чтобы каждый день индивид по очереди был занят во
всех сферах деятельности, служа удовлетворению своих
материальных и духовных потребностей. Сходство между этим идеалом и
формулой прогресса Михайловского напрашивается само собой3.
1 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. Изд. 1928-1958. Т. 8. С. 334-335.
2 То же. Т. 25. С. 390. («Так что же нам делать?»)
3 См. выше. Сам Михайловский признавал сходства между своими
воззрениями и воззрениями Толстого (особенно с его педагогическими статьями) и писал
об этом в эссе «Десница и шуйца Льва Толстого» (1875). После «кризиса» этот
параллелизм стал еще очевиднее.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
365
Когда Толстой выступает против прогресса и разделения труда,
он, конечно, имеет в виду капиталистическое хозяйство, и его
идеализация «неразделенного» труда явно носит следы романтического
взгляда на крестьянское натуральное хозяйство. Интересно отметить,
что, в отличие от таких критиков буржуазной цивилизации, как Руссо,
Толстой видит в разделении труда не диалектическое противоречие,
присущее прогрессу, а просто «отношения угнетения работающего
большинства неработающим меньшинством»1. Это, разумеется, явное
социологическое упрощение; сила этого упрощения заключается в
произвольности нападок и скорее в «нигилистической» смелости
отрицания, чем в тонкости философского анализа.
В это свое безоговорочное осуждение цивилизации и культуры
Толстой не забыл включить и науку. Современная наука, писал он,
служит тому, чтобы удовлетворять искусственные потребности
богатых и усиливать их власть над народом. Науку нужно назвать
полностью безнравственной, поскольку она потеряла из виду единственный
по-настоящему важный вопрос - понимание природы призвания
человека и сущности добродетели. Исследование этой проблемы, по
Толстому, не требует ни разделения труда, ни какой-либо
специализации, и наука, которая применяется для решения этого вопроса,
неотделима от религии, понятой как система этики. Первосвященники
такой религии - великие моралисты и религиозные лидеры, как
Конфуций, Сократ, Марк Аврелий, Иисус Христос и Мухаммед.
Человечеству не нужна никакая наука, кроме этого.
Вполне предсказуемо, что для Толстого воплощением всяческого
зла в усложненной цивилизации является институт государства. Одна
из важных сторон радикального поворота в его мировоззрении -
принятие им полного христианского анархизма. В качестве системы
подавления, настраивающей народы друг против друга, государство
явным образом нарушает Нагорную проповедь. Поэтому позволять себе
тесную связь с государством для христианства равносильно
богохульству; такая связь только доказывает гибельный характер государства,
поскольку понятие «христианского государства, как "горячий лед", -
это противоречие в терминах2. В своем рвении Толстой теперь
отвергает даже такие гражданские добродетели, как доблесть и патриотизм,
которые он прославил в «Севастопольских рассказах», в «Войне и
мире» и в других своих произведениях, написанных до «поворота».
1 См. работу: Асмус В. Ф. Мировоззрение Толстого // Литературное
наследство. Т. 69. Кн 1. М., 1961. С. 43-51. Это исследование, насколько мне известно,
лучшая и самая репрезентативная советская работа о мировоззрении Толстого.
2 Толстой Л. И. Поли. собр. соч. Изд. 1928-1958. Т. 23. С. 479.
366 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
В трактате «Христианство и любовь к отечеству» ( 1894) Толстой
говорит, что патриотизм всегда орудие подавления: патриотизм
властителей только эгоистическая забота о своем собственном
благосостоянии, тогда как патриотизм подвластных предполагает отрицание
человеческого достоинства, разума и совести, то есть рабскую
покорность перед теми, кто на вершине власти. Писатель предостерегал
даже против патриотизма угнетенных наций; считал его особенно
опасным, потому что в нем больше горечи и, как следствие, больше
насилия1.
Критицизм Толстого в конце концов привел его к полному
отрицанию существующего миропорядка. Идеал, который он выдвигает на
место отрицаемого, - это образ жизни, отменяющий всякое
применение силы и все формы общественного неравенства. Достигнуть этого
можно пассивным сопротивлением - осуждением существующей
системы и отказом от всякого участия в ней. Толстой отвергает как
иллюзорные надежды либералов на постепенные улучшения путем
вхождения в правительство и других форм сотрудничества с властью;
в то же время он выступает против революции на том основании, что
она не только противна христианству, но также и бесполезна,
поскольку ведет к возрастанию насилия, а не к его устранению.
Русско-японская война и революция 1905 года побудили старого
писателя к энергичной деятельности. Он выступает с протестом
против войны в статье «Одумайтесь!» и осуждает кровавую расправу над
безоружной толпой, шедшей к Зимнему Дворцу в Кровавое
воскресение; в статьях «Великий грех» и «Конец века» он отстаивает право
крестьян на увеличение их владений и призывает к национализации
земли; он осуждает репрессивную политику правительства, но также
призывает революционеров отказаться от их методов борьбы
(«Обращение ко всем - правительству, революционерам и народу», 1906 г.).
Он, разумеется, не приветствовал манифест 17 октября, ни созыв
первой Думы, которые он считал чисто этатистскими мерами,
бессильными против зла; но он никогда не переставал выступать в защиту
преследуемых. В 1908 г. он написал пламенный в своей искренности
манифест «Не могу молчать» - протест против кровавых методов
подавления, которыми пользовалось реакционное правительство
Столыпина против революционеров.
В своих статьях о Толстом Ленин подвел глубокий итог
толстовской философии. Как мыслитель, писал Ленин, Толстой велик пото-
1 На практике Толстой не следовал своим собственным рекомендациям
буквально и признавал справедливость движений за национальную независимость.
См. его кавказскую повесть «Хаджи Мурат» и рассказ «За что?» (1906) о
трагической судьбе польского инсургента 1863 г.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
367
му, что его идеология отразила «великое народное море [русского
крестьянства], взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими
слабостями и всеми сильными своими сторонами»1.
В то же время Ленин подчеркивал, что толстовское учение
«безусловно утопично и по своему содержанию реакционно в самом
точном и в самом глубоком значении этого слова»2. Как представитель
чувств и чаяний патриархального крестьянства, Толстой смотрел
скорее назад, чем вперед; он хотел восстановить архаический, доинду-
стриальный образ жизни и прямо заявлял, что идеал современности -
в прошлом. Все это относится к «реакционной» стороне
мировоззрения Толстого. С другой стороны, - и Ленин это полностью осознавал
- «реакционные и утопические» идеи Толстого нанесли сильный удар
по самым основаниям русского государства и общественной
системы - основаниям, которые были реакционными в более
общепринятом смысле этого слова. Многие русские эмигранты позднее не без
причины обвиняли Толстого в том, что он помог революционерам,
подорвав убеждения многих оппонентов революции в справедливость
их дела.
Есть какой-то архаический и утопический привкус также и в
последнем трагическом акте протеста Толстого против порочного
мира - в им же инициированных обстоятельствах, сопровождавших
его смерть. Разногласия с женой по вопросу о распределении своего
наследства3 привели к тому, что Толстой снова попытался
осуществить свою старую мечту уйти из мира, отвернувшись от «роскоши,
которой всегда был окружен». 28 октября (10 ноября) 1910 г. он
ночью ушел из своего дома с одним из своих учеников - доктором
Д.П. Маковицким и с одобрения своей дочери Александры с
намерением найти такое место, где он мог бы завершить свою жизнь в
одиночестве и молчании. Ему не удалось осуществить это свое
намерение: газеты всего мира информировали публику о каждом
шаге его путешествия. Простуда, перешедшая в воспаление легких,
вынудила его на продолжительное время задержаться на маленькой
железнодорожной станции Астапово, где он и умер 7 (20) ноября.
Известие о смерти Толстого имело отклик во всем мире. Но
несмотря на скорбь, которую выражали правительства и парламенты,
призывы великого моралиста и впечатление, вызванное его смертью,
были бессильны предотвратить взрыв первой мировой войны.
1 Ленин В.И. Цит. изд. Т. 20. С. 71.
2 Там же. С. 103.
3 В своем завещании Толстой отдал свои гонорары своим ученикам, а не семье.
368 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Роль искусства
Размышления о природе искусства являются составной частью
толстовской мысли, и они нашли свое наиболее полное выражение в
трактате «Что такое искусство?» ( 1898). За много лет до этого, в своих
педагогических статьях, написанных для журнала «Ясная поляна»,
Толстой называл искусство привилегированных классов пустым
развлечением бездельников и отметал все культурные достижения
«богатых классов» (включая произведения любимых им Пушкина и
Бетховена) как суету и бессмыслицу по сравнению с искусством, которое
говорит голосом народа.
«Что такое искусство?» - новое страстное утверждение этих
мыслей. На первых страницах своего трактата Толстой дает
исчерпывающий анализ эстетического кредо своего времени: цель искусства -
красота, или, другими словами, эстетическое удовольствие,
отделенное от нравственных ценностей. Верить в тезис «искусство для
искусства», утверждает Толстой, так же совершенно бессмысленно, как и
утверждать, что цель еды - в том, чтобы доставлять удовольствие
небу. Но, отвергая эстетизм, Толстой отвергает и аскетическое
отталкивание от искусства, которое можно найти у Платона, первых
христиан, ортодоксальных мусульман и буддистов. В его системе вещей
искусство имеет свое место: оно есть «средство общения людей,
соединяющее их в одних и тех же чувствах», а потому искусство имеет
существенное отношение к «общественной жизни». Но искусство, по
Толстому, не только то, что обычно называют искусством, - картины,
статуи, симфонии, сонеты и романы: «Вся жизнь человеческая
наполнена произведениями искусства всякого рода, от колыбельной песни,
шутки, передразнивания, украшений жилищ, одежды, утвари до
церковных служб, торжественных шествий»1.
Природа искусства лучше всего выражена в народном искусстве,
которое тесно связано с религией и повседневным ритмом труда, с
человеческим существованием как нераздельным целым, в котором
нет изолированных и автономных сфер.
Функция искусства, по Толстому, состоит в том, чтобы выражать
чувства посредством внешних символов и «заражать» других людей
этими чувствами. Поэтому ценность произведения искусства зависит
от убеждений и нравственных ценностей, которое оно пытается
выразить. Главная задача подлинного искусства - объединять людей;
в противоположность этому, искусство «богатых классов» обращено
к немногим и пытается передать чувство лишь узкого
привилегированного слоя. Такие чувства невозможно назвать подлинно человече-
1 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. Изд. 1928-1958. Т. 30. С. 66-67.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
369
скими эмоциями, поскольку они углубляют разъединение между
людьми, а не преодолевают его.
Толстой различает в искусстве три группы таких
«разъединяющих» людей чувств: первая - модные чувства национализма и
шовинизма, гордыня, социальная или кастовая исключительность и
презрение к слабым; вторая группа потворствует эксцессам
чувственности, типичным для людей, ведущих бездеятельную и бессмысленную
жизнь (в литературе эти чувства выражают произведения,
пронизанные эротикой и натуралистическим культом человека как животного);
последняя группа чувств обслуживает пресыщенность и пессимизм
с его мировой скорбью, - все эти чувства чужды простому народу.
Растущая популярность произведений искусства, выражающих
подобные эмоции, заявляет Толстой, только одна из форм
прогрессирующего вырождения. Искусство элиты все больше и больше
расходится с народом, все больше и больше обособляется; предмет искусства
становится все более узким, и когда художники, в конце концов,
почувствуют, что сказать им больше нечего, тогда искусство исчезнет
вовсе. Вот почему художники гоняются за оригинальностью и
новизной во что бы то ни стало, хотя все, чего они способны достичь, - это
формальная изощренность, типичная для всякого искусства в эпоху
его заката. Этот формализм ставит искусство в еще более
изолированное положение, так что искусство, в конце концов, становится
непонятным уже никому, кроме узкого круга знатоков.
Современный этап в этом процессе интеллектуального и
художественного вырождения, по Толстому, - «декадентское» искусство
французских символистов - Бодлера, Верлена, Малларме, - а также
музыка Вагнера. Толстой, однако, отмечает, что источник
современного вырождения нужно искать в прошлом и что различие между
современными «декадентами» и художниками предшествовавшего
поколения только количественное. Поворотным пунктом в истории
западноевропейского искусства стал Ренессанс - эпоха, когда высшие
классы потеряли религиозную веру и перестали руководствоваться
теми же чувствами, которыми руководствуется простой народ.
Вследствие этого искусство элиты оторвалось от искусства народа как
целого, и вместо одного искусства стало два: «высокое» - искусство
мастеров и «низкое» - искусство масс. В России сходный поворот был
вызван петровскими реформами. Свою аргументацию Толстой
доводит до логического конца: среди представителей «высокого»
искусства, чуждого простому народу, оказываются у него не только
Рафаэль, Микеланджело и Шекспир, но и особенно любимый им прежде
Пушкин.
В противоположность «безнравственному» искусству правящих
классов толстовский идеал «искусства будущего» - это идеал, по-
370 Анджей Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
настоящему свободный как от внутренних, так и от внешних
ограничений, то есть больше не запертый в ограниченную сферу
эгоистических и безнравственных чувств и больше не зависимый от «денежных
мешков» с их богатствами. До тех пор, пока торговцы не будут
удалены из храма искусства, не будет и храма. «Искусство будущего
изгонит их». Это будет искусство для всех, как «Илиада» и «Одиссея»,
библейские истории и псалмы, а также средневековое искусство, -
принадлежали всем и каждому. Художественное творчество
перестанет быть областью профессионалов, им сможет заниматься всякий
талантливый трудящийся люд. Это приведет к великому расцвету и
усилению роли искусства, поскольку чувства трудового народа
бесконечно богаче и имеют большую ценность, чем чувства богатых.
От искусства, которое хочет соответствовать критериям Толстого,
он требует искренности, общедоступного и нравственно достойного
содержания, а также ясной, простой и выразительной формы.
Плеханов справедливо отмечал, что это - те качества, за которые ратовал
Чернышевский в своей диссертации «Эстетические отношения
искусства к действительности»1. Неудивительно поэтому, что брошюру
Толстого об искусстве с воодушевлением приветствовал Владимир
Стасов, ведущий продолжатель традиций Чернышевского в
художественной критике и одновременно основной консультант Толстого по
эстетике и истории искусства2. Имеются даже некоторые общие точки
между Толстым и Писаревым: нападки Толстого на искусство
«высших классов» столь же «нигилистичны» и во многих пунктах
совпадают с крестовым походом Писарева против «эстетики».
Эти сходства отчасти объясняются тем, что Толстой, подобно
радикальным демократам шестидесятых годов, начал пропагандировать
реалистическое и «социально ответственное» искусство. Другое
объяснение отмеченного сходства - частичное родство между
мировоззрением Толстого и мировоззрением «просветителей». Как
отмечалось выше, «разум» в понимании Толстого имеет много общего с
рационализмом восемнадцатого века, в особенности неукротимой
(unswerving) волей к «поискам предельных начал» и с его
антиисторическим отрицанием авторитета и традиции. В этом отношении
Толстой, можно сказать, был внутренне связан с «просветителями»
шестидесятых годов, хотя его религиозно мотивированные отрицание
эгоизма и ненасильственное сопротивление злу явно противоположны
«разумному эгоизму».
См.: Плеханов Г.В. Еще о Толстом // Л.Н. Толстой в русской критике. М.,
1952. С. 438.
ЛомуновЛ.Н. Толстой в борьбе против декадентского искусства// Л.Н.
Толстой: Сборник статей и материалов. М., 1951. С. 80-81.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
371
ДОСТОЕВСКИЙ И ТОЛСТОЙ:
СОПОСТАВЛЕНИЕ
Попытаемся подвести итоги. То, что отличает Достоевского и
Толстого от других писателей девятнадцатого века, - это,
несомненно, их страстный моралистический накал. «Моралистический»,
однако, не адекватное обозначение. Некоторые крупнейшие моралисты -
например, стоики и скептики - не верили в возможность радикальных
изменений и сознательно воздерживались от того, чтобы дать волю
моральному негодованию. Достоевский и Толстой, напротив,
энергично протестовали против «всякого нарушения гражданского или
морального порядка вещей» и призывали к полному религиозному
и нравственному возрождению1. Их озабоченность предельными
возможностями человеческой судьбы имеет все признаки настоящего
пророческого пафоса.
Однако каждый из этих двух русских писателей был пророком
очень по-своему. Достоевский пытался проникнуть в мистический
смысл истории посредством понятия Богочеловечества, тогда как
Толстой вообще отвергал историю во имя вечных истин
христианского Евангелия. На взгляд Достоевского, русская история открывала
путь к спасению через Христа; идеал восстановления единства с
народом, «возвращения к почве», был его специфической версией
примирения с историей, с историческим православием и сохраненной
народом национальной традицией. На взгляд же Толстого, истинная
жизнь не зависит от времени: истина и простой народ - вне истории,
а исторический процесс только порождает зло, и его, этот процесс,
нужно разрушить для того, чтобы на земле установилось царство
нравственного Абсолюта. Оба писателя жаждали «гармонии» на
земле, но если Достоевский мечтал о том, чтобы Государство
превратилось в Церковь, и осуждал рационализм во имя мистических и
евангельских идеалов, то Толстой отрицал необходимость какой бы то ни
было институционализованной религии и выступал за
рационалистическую евангельскую ересь. Метафизический имперсонализм
Толстого и последовательное неприятие им индивидуального бессмертия
глубоко чужды автору «Братьев Карамазовых»; в той же мере
Достоевский враждебен толстовскому эгалитаризму, который он считал
уравнительством, уничтожающим индивидуальность и свободу. Как
пророк Достоевский ближе к национальному мессианизму Ветхого
Завета (мессианизм Шатова). В философии Толстого если и есть
какой-то элемент Ветхого Завета, то только потому, что неслыханные
1 См.: WachJ. Sociology of Religion. London, 1947. P. 355.
372 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ
МЫСЛИЛО своей смелости и резкости обличения зла этим автором
напоминают пафос еврейских пророков1.
Различия между двумя писателями станут еще яснее, если
проанализировать их с точки зрения тех звеньев, которые соединяют
каждого из них с конкретными направлениями русской мысли. Достоевский
был романтиком-националистом, продолжателем славянофильской
традиции, тогда как Толстой, этот бескомпромиссный критик всякого
национализма и даже патриотизма, больше чувствовал себя дома
с рационалистическими и просвещенческими типами мышления.
В своих общественно-политических взглядах Толстой ближе к
народникам и анархистам, хотя он переосмыслил их учение в
антиреволюционном и евангельском духе. Эти различия имели свои практические
политические последствия: Достоевский, осужденный в молодые
годы на тяжелый труд в Сибири, в свои последние годы вращался
в реакционных кругах, был в дружеских отношениях с
Победоносцевым и мечтал о взятии Константинополя. Толстой, аристократ-
землевладелец, отверг свой класс и более тридцати лет обличал
моральное зло, заключенное во всех государственных учреждениях,
обличал все виды эксплуатации и насилия.
Конечно, было бы несправедливым по отношению к Достоевскому
отождествлять его с реакционными идеологами 1870-х гг. В
действительности многие вожди народничества считали Достоевского
(разумеется, ошибочно) своим идеологическим союзником2; не случайно
Луначарский писал, что Победоносцев и другие его «высокие
покровители не могли ему полностью довериться и постоянно ждали от
него неприятных сюрпризов»3. Нервный, беспочвенный интеллектуал,
который способен был изобразить нравственный и духовный
конфликт братьев Карамазовых с такой исключительной
проникновенностью, в действительности был ближе к радикальной интеллигенции
своего времени, чем Толстой, пророк вечной истины Евангелия,
который был одновременно и аристократом, и крестьянином, и во всем
этом - патриархом. Этико-религиозные взгляды Толстого -
статическая система завершенных истин, тогда как самое ценное в мышлении
Достоевского образует диалектическую сложность. Было бы неверно
сводить мировоззрение Достоевского просто к православному
утопизму и непосредственно увязывать его с реакционными
политическими учениями. Также и сегодня некоторые его идеи обладают
поразительной свежестью, тогда как у Толстого мы чувствуем подлинно
1 Ibid.
2 Немало свидетельств этому собрано A.C. Долининым. См.: Достоевский Ф.М.
Материалы и исследования. Л., 1935. С. 52-53.
3 Ф.М. Достоевский в русской критике. С. 452.
ГЛАВА 15. Два писателя-пророка
373
(а не поверхностно) архаичный тип мысли - мышление, по-своему
сильное, но вместе с тем и анахроничное, поражающее смелостью
своих проницательных упрощений, но раздражающее своей
«нигилистической» односторонностью и манихейским дуализмом.
Идеи Достоевского оказали влияние на мыслителей самого
разного идеологического толка - консервативных и прогрессивных,
религиозных и мирских. Слава Достоевского достигла своего пика в
двадцатом столетии. Наряду с Владимиром Соловьевым (с которым он
подружился в конце жизни и на которого оказал значительное
влияние) Достоевский ответствен за возобновление интереса к религии
(так называемый «религиозный ренессанс») среди многих
образованных русских людей в первые годы двадцатого века. Почти все русские
философы-идеалисты и все без исключения религиозные мыслители,
взгляды которых сложились в начале века и которые продолжали свое
творчество после Русской революции за границей, - такие разные, как
Бердяев, Булгаков, Франк, Мережковский, Шестов, Лосский и Гесс-
сен, - были на том или ином этапе своей жизни захвачены
Достоевским и впитали в свое мировоззрение его идеи. Среди
западноевропейских мыслителей больше других проявляли интерес к его
творчеству секулярные экзистенциалисты (особенно Сартр и Камю). У
Достоевского их привлекало не его «православие», а его диалектика
индивидуализма, понимание им проблемы «бунта» и тяжести
свободы - словом, те идеи, которые он анализировал через своих
«самоутверждающихся» героев.
Толстой приобрел признание и авторитет во всем мире как
моралист и религиозный мыслитель. Его дом в Ясной Поляне посещали
паломники из всех стран, и сотни писем со всего мира приходили
туда от последователей и оппонентов. Его идеи - особенно его
пацифистские воззрения - получили огромную популярность. Тем не
менее, толстовская философия и религиозная мысль так и не стали
влиятельным учением. Сила идей Толстого всецело основана на его
собственной харизматической личности; после его смерти его идеи
быстро были забыты, за одним важным исключением: в Махатме
Ганди Толстой нашел по крайней мере одного по-настоящему
великого продолжателя своего учения.
374
ГЛАВА 16
РАЗНОВИДНОСТИ ПОЗИТИВИЗМА
ВСТУПЛЕНИЕ
отличие от польского позитивизма, который выражал
реалистические устремления молодого поколения (после поражения
восстания 1863 г.) к общественным переменам путем
тщательной «органической» работы, русский позитивизм никогда не был
влиятельной идеологией. Идеи позитивизма, разумеется, в значительной
мере воздействовали на общую интеллектуальную атмосферу той
эпохи, и некоторые русские позитивисты вовсе не были
лишены таланта, но можно сказать, что ни один из них не сыграл по-
настоящему выдающейся роли в идейной истории России.
Первые отзвуки позитивистских идей достигли России еще во
второй половине 1840-х гг. Некоторые теории Конта (в особенности его
концепция трех стадий развития человечества - теологической,
метафизической и позитивной) нашли приверженцев в России среди
людей, связанных с петрашевцами; такими в особенности были
Валериан Майков и экономист Владимир Милютин (1826-1855). Отношение
Белинского к позитивизму, напротив, было очень сдержанным; он
считал Конта интересным мыслителем, достойным внимания в
качестве «реакции против теологического вмешательства в науку», но он
считал, что Конт лишен гения и что смешно надеяться на него как на
основателя новой философии. Конт, писал Белинский, пытается
разрушить метафизику не только как науку, имеющую дело с
«трансцендентальными бессмыслицами», но также и как такую науку, которая
имеет дело с природой человеческого духа; это показывает, что
область философии чужда Конту и что ему доступны только математика
и естественные науки1.
«Просветителям» шестидесятых годов тоже было трудно принять
Конта без оговорок; этому в особенности мешал их материализм и
общественный радикализм. Однако философия Конта оказала
определенное влияние на Писарева, который использовал аргументы
позитивизма в своей полемике против представления виталистов о
таинственном начале жизни. Еще большее впечатление произвела на Пи-
1 Белинский ВТ. Избранные философские сочинения. М., 1948. Т. 2. С. 326-329.
В
ГЛАВА 16. Разновидности позитивизма
375
сарева философия истории Конта, которой он посвятил пространную
статью («Исторические идеи Августа Конта», 1865). Для Писарева
контовская концепция о трех стадиях развития человечества -
отличное подтверждение двух его излюбленных теорий, а именно, что
исторический прогресс зависит от эволюции знания и что естественные
науки имеют освободительную миссию.
Отношение мыслителей-народников к Конту было еще более
сложным. Позитивизм, несомненно, оказал на них влияние, но назвать
народников позитивистами нет абсолютно никаких оснований1.
Лавров и Михайловский писали свои сочинения в такое время, когда
позитивизм в общественных науках в основном был представлен
эволюционистскими теориями Герберта Спенсера. Оба русских мыслителя
полностью отвергали позитивистский эволюционизм как крайнее
выражение «объективизма», которому они противопоставляли свою
собственную «субъективную социологию»; их также отталкивал
позитивистский сциентизм, в особенности тем, что он принципиально
устранял ценностные суждения. Однако, отталкиваясь от «объективизма»,
мыслители-народники в то же время нашли себе союзника в самом Кон-
те, который признавал значимость как «объективных», так и
«субъективных» методов. Поэтому Михайловский в своей полемике со
Спенсером мог опираться на Конта, которого он называл предтечей
«объективно-антропоцентрической» эпохи в истории человечества. Это само по
себе отчетливо проясняет существенное различие между воззрениями
Михайловского и позитивизмом того времени. Во второй половине
девятнадцатого века только небольшая группа сектантски настроенных,
«ортодоксальных» контианцев (например, П. Лаффитт и Ж.Ф. Робинэ)
все еще отстаивала «субъективный метод» Конта; Литтре, главный
представитель основной школы послеконтовского позитивизма во
Франции, отверг «субъективный метод» вместе с «религией
человечества» и другими романтическими элементами системы Конта.
Лавров, менее склонный к «социологическому романтизму»,
определил свое отношение к позитивизму в статье «Задачи позитивизма
и их решение» (1868). В этой статье он обсуждает различные
варианты позитивистского мышления (Конт, Литтре, Милль, Спенсер и Лю-
ис) и предупреждает, что их нельзя недооценивать. Перефразируя
замечание Гегеля о философии, Лавров определяет позитивизм как
«наше время, схваченное в силлогизме»2. Долгосрочный вклад, кото-
1 Народники зачислены в позитивисты в книгах: Jakovenko В. Dejiny ruske
filosofie. Прага, 1929; Lossky NO. History of Russian Philosophy. London, 1952,
a B.B. Зеньковский в своей History of Russian Philosophy, trans. George L. Kline
(2 vols. London, 1953) трактует их как «полупозитивистов».
2 Лавров ПА. Философия и социология. М., 1965. Т. 1. С.5 84.
376 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
рый внес позитивизм, писал Лавров, состоит в том, что он
сформулировал задачи, стоящие перед человеческим рассудком, а именно, что
взаимоотношения между явлениями следует анализировать строго
научными методами, без всякого отношения к метафизической «вещи
в себе», и что знание, обретенное таким образом, надлежит
использовать для интерпретации не только нечеловеческого мира, но также
общества и истории. Подобно Михайловскому, Лавров подчеркивал
важность «субъективного метода» и пытался показать, цитируя
самого Конта, что этот метод вполне совместим с базовыми
предпосылками позитивизма. Однако вывод, который делает здесь Лавров,
сводится к тому, что позитивизм не способен решить проблему, им самим
поставленную, потому что у него недостает объединяющего
философского принципа. Этот принцип - человек как существо,
чувствующее и мыслящее, символ подлинного единства духа и тела.
Историческая роль позитивизма только в том, чтобы ставить проблемы;
решением проблем должна заниматься антропологическая философия,
зачатки которой можно найти в идеях Фейербаха, Прудона и Милля.
«Антропологизм» Лаврова образует место между
«антропологическим принципом» Чернышевского и «субъективной антропологией»
народнической социологии. Впитав в себя многие элементы
позитивизма, антропологизм Лаврова, однако, представляет собой явным
образом самостоятельное учение.
ДОГМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ:
ГРИГОРИЙ ВЫРУБОВ
Первым последовательным приверженцем Контова позитивизма в
России был Григорий Вырубов (1843-1913), который, правда,
философской деятельностью занимался в основном во Франции.
Вырубов был еще учеником Александровского лицея в Санкт-
Петербурге, когда познакомился с учением Конта благодаря одному
из наставников этого учебного заведения - французу по имени Пом-
миер, ученику Конта и другу Литтре. После изучения медицины
и естественных наук в Петербургском университете Вырубов уехал
в Париж, где общался с вдовой Конта и кружком его учеников. Он
сблизился с Литтрэ и стал с ним соредактором главного печатного
органа французского позитивизма - La Philosophie Positive. В 1903 г.,
после смерти П. Лаффитта, Вырубов был назначен заведующим
кафедрой истории науки в Collège de France. Хотя местом его
постоянного проживания была Франция, Вырубов сохранил интерес к России
и русской культуре: он имел контакты с Бакуниным, Герценом и
Лавровым, а после смерти Герцена осуществил первое полное издание
ГЛАВА 16. Разновидности позитивизма
377
его сочинений1. Во время Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг.
Вырубов поехал на Кавказ в качестве представителя Красного Креста
и занимался там организацией полевых госпиталей, за что был
награжден орденом Св. Владимира. Однако все его философские и
научные произведения были написаны во Франции (он
специализировался по химии и кристаллографии).
Философская позиция Вырубова наиболее отчетливым образом
выражена в его статье Le certain et le probable, l'absolu et le relative,
опубликованной в первом выпуске журнала La Philosophie Positive.
Основополагающее утверждение статьи состоит в том, что научное
познание может притязать на абсолютную истину и что
противопоставление абсолютного и относительного само по себе относительно.
Все, что реально и поддается переводу на язык научных законов,
можно назвать абсолютным. Позитивизм отвергает только
теологические и метафизические абсолюты, но не абсолют как таковой; если не
удается обрести ничего абсолютного, значит отсутствует целостный
взгляд на мир. Истина не существует вне науки, вне сферы
человеческого рассудка; всякая истина возникает как результат опыта,
проверенного в процессе столкновения с прежде установленными
научными законами. Как абсолютное, так и относительное знание
принадлежит сфере умопостигаемого. Абсолютные истины - верифицируемые
и необратимые утверждения, тогда как относительные истины лишены
определенности, противоречивы и обладают низкой степенью
возможного. По мере роста научного знания все больше и больше
относительных истин будут трансформироваться в абсолютные истины2.
Роль философии, по мнению Вырубова, состоит в том, чтобы
делать обобщения на основе фактов, собранных теми или иными
науками. В этой аргументации поражает не только полное пренебрежение
онтологическими проблемами, интересовавшими классическую
философию (это особенно бросается в глаза в нападках на «метафизику»
материалистов)3, но также отвержение теории познания, которую
Вырубов отождествляет с психологией. Теорию познания он предлагает
заменить методологией отдельных наук; вера в науку, писал он, -
«основополагающая аксиома», которая устраняет всякое сомнение.
Картезианский метод философского сомнения он считает пустым
умствованием и твердо отвергает критику Милля в адрес Конта, в
соответствии с которой следует, что Конт ошибался, пренебрегая логикой
и психологией. Проблема критерия истины, по Вырубову, не фило-
1 См. его «Революционные воспоминания» в «Вестнике Европы» (1913. № 1).
2 WyrouboffG. Le certain et le probable, l'absolu et le relative // La philosophie
Positive. 1867. Vol. 1. P. 176-181.
3 Cm: WyrouboffG. La Philosophie matérialiste et la philosophie positive // La
Philosophie positive. 1879. Vol. 22.
378 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
софская проблема: она относится к области естественных наук,
которые давным-давно уже установили такой критерий; поэтому
философия должна принять научную формулу, в соответствии с которой
мерило истины - «повторение данного явления при одних и тех же
условиях, выраженных в формулах, известных как закон»1.
Вполне понятно, что Вырубов относился с глубокой
враждебностью к любым проявлениям обновленного интереса к Канту.
Немецкий философ кажется ему абсолютной противоположностью Конта;
ведь основоположник «позитивной философии» занимался реальным
миром, тогда как Кант, сосредоточившись на исследовании
мыслящего субъекта, отверг возможность познания объективных законов,
управляющих действительностью. На взгляд Вырубова,
неокантианство - попытка оживить метафизику, тем более опасная, что это
философское направление не осознает своей собственной
«метафизической природы» .
В противоположность критической философии Канта, позитивизм
Вырубова - насквозь догматическая система. Один из главных
принципов его позитивизма состоит в том, что всякая подлинная
философия должна основываться на «основополагающей аксиоме», которую
невозможно подвергнуть критической рефлексии3. В некоторых
вопросах Вырубов отходит от Конта, возможно, не осознавая этого
(например, он не разделял феноменализм своего наставника); тем не
менее, он настаивает, что позитивизм Конта - единственный
настоящий позитивизм в философии и единственная вполне завершенная
философская система современности. «Как философия, - заявлял он,
- позитивизм полностью завершен, к нему нечего прибавить и от него
нечего отнять. Конт, разумеется, совершил множество ошибок, но
лишь как астроном, химик или биолог, а не как философ»4. Поэтому
ученикам Вырубова оставалось лишь применять его общие
указания, особенно в таких дисциплинах, которым их учитель уделял мало
внимания5.
1 WyrouboffG, Le Certain et le probable. P. 181.
2 См.: WyrouboffG. Remarques, P. 394.
3 См.: WyrouboffG. Le Certain et le probable. P. 174-175.
4 WyrouboffG, Remarques. P. 394.
5 Несмотря на приведенные декларации, Вырубов отвергал политическую
философию Конта. Он, например, отстаивал суверенитет простых людей, тогда
как Конт его отбрасывал как метафизическую догму, и он выступал за
децентрализацию власти, цитируя по этому вопросу Прудона. См.: Wyroubqff G. La
Politique qualitative et la politique quatitative // La Philosophie Positive. 1872. Vol. 8.
Литтре тоже подверг пересмотру политический аспект контианства, но
Вырубов (возможно, под влиянием Герцена) пошел в этом отношении дальше, хотя
в других отношениях он не склонен был к каким-либо новшествам.
ГЛАВА 16. Разновидности позитивизма
379
КРИТИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ:
ВЛАДИМИР ЛЕСЕВИЧ
Совсем другой тип позитивизма представлял Владимир Лесевич
(1837-1905). Поскольку у него преобладал интерес к теории познания
и он пытался использовать принципы критической философии Канта, то
этот тип позитивизма можно назвать «критическим позитивизмом».
Лесевич посвятил свои основные работы критическому
осмыслению истоков и развития «научной философии»1. Хотя он и заявляет,
что позитивизм Конта - поворотный пункт в истории философии,
Лесевич находит в нем целый ряд недостатков. К примеру, Конт, по
Лесевичу, недооценил Канта и не сумел понять, что Кант тоже
предшественник позитивизма; в сущности, Конт вообще недооценил
значение теории познания и отказался предоставить ей определенное
место в своей философской системе. То же самое верно и в отношении
того, как Конт относился к логике, которую он, невзирая на критику
Милля, отказался признать самостоятельной дисциплиной и найти ей
определенное место в своей классификации наук. С другой стороны,
по мнению Лесевича, философия Конта заключает в себе, по крайней
мере, ростки критической теории познания; в противном случае его
система была всего лишь энциклопедией наук. Однако последователи
Конта попусту растратили это ценное качество, занимаясь
собиранием научных фактов, и сочли контовскую классификацию наук самой
важной стороной позитивизма. Эмиль Литтре, на взгляд Лесевича,
совершенно не знал истории философии за пределами Франции и не
имел никакого представления о теории познания.
Наиболее строгой и обстоятельной критике Лесевич подверг
Вырубова, которого он обвиняет в чрезмерном «сциентизме» - наивной
вере, что все проблемы может решить наука, - что и привело
Вырубова, в сущности, к упразднению и тривиализации позитивистской
философии. Сведя различие между абсолютным и относительным
знанием к различию в степени, Вырубов отверг релевантность теории
познания.2 Это было большой ошибкой, поскольку позитивизм,
напротив, должен сосредоточиться на теории познания, если он
притязает быть философией. Для того чтобы выйти из этого затруднения,
считает Лесевич, позитивистам следует вернуться к исходным идеям
Конта, а затем заострить свои критические способности путем
изучения Локка, Юма и английской эмпирической традиции. Однако сна-
1 См. его работы «Опыт критического исследования позитивной философии».
(СПб., 1878) и «Что такое научная философия?» (СПб., 1891).
2Лесевич ВВ. Опыт... Цит. изд. С. 185-186.
380 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
чала они должны преодолеть свой предрассудок в отношении Канта и
реформировать позитивизм в духе эпистемологического
критицизма неокантианцев. Соответственно Лесевич горячо рекомендовал
работы таких немецких мыслителей, как Геринг, Лаас, Ланге и Риль,
которые стремились к сближению между неокантианцами и
позитивистами. В то же время Лесевич подчеркивает, что между обеими
этими системами мысли существует отчетливая демаркационная
линия и что позитивисты не могут принять допущения познания a priori:
они должны учиться у неокантианцев, но при этом оставаться на
твердой почве реализма. Позитивизм не может ограничиваться
теоретико-познавательными размышлениями, но он должен освоить кан-
товский критицизм для того, чтобы стать «критической философией
действительности» и тем самым достичь наивысшей ступени своего
развития1.
Лесевич излагал эти идеи в 1870-е гг. Примерно десятью годами
позднее его взгляды претерпели некоторую эволюцию и сместились
от кантианства к эмпириокритицизму австрийского физика и
философа Эрнста Маха. В книге «Что такое научная философия?» Лесевич
посвящает несколько глав воззрениям Маха, Авенариуса и особенно
Петцольда, который, как подчеркивает Лесевич, разрешил, наконец,
вопрос о том, в каком отношении философия находится к науке.
Лесевич теперь утверждает, что философия постепенно перестает быть
отдельной наукой; даже теория познания скоро прекратить свое
существование в качестве отдельной, специализированной области
философского исследования. Отныне роль философии - в создании
всеобщего знания, основывающегося на позитивных науках, на такой
системе, которая обрабатывает данные этих наук на самом высоком
уровне абстракции, оценивая их с интегральной точки зрения и
раскрывая внутреннюю зависимость между ними. «Научная философия»
такого рода со временем заменит «ненаучные» философские
направления2.
По вопросу о «научной философии» поэтому позиция Лесевича,
в общем и целом, не отличается от позиции классического
позитивизма, в соответствии с которой роль философии заключается в
обобщении данных конкретных наук. Несмотря на то что Лесевич
больше не предоставляет самостоятельного места теории познания -
этого последнего бастиона философии в традиционном смысле слова, -
он всегда был очень далек от недооценки значения
эпистемологической рефлексии. На протяжении всего своего творческого пути
Лесевич, по сути дела, был представителем так называемого «второго по-
1 Там же. С. 161-163.
2 Лесевич ВВ. Что такое научная философия? Указ. изд. С. 248-251.
ГЛАВА 16. Разновидности позитивизма
381
зитивизма», который делал основной упор на
теоретико-познавательном критицизме1. С неустанной энергией он отстаивал убеждение в
том, что победа «научной философии» сделает науку «философской»,
а не просто философию - «научной».
Лесевич был убежден, что «научная философия» может иметь
огромное общественное значение: она поможет преодолеть рутину и
традиционализм, сделает понятной необходимость изменений в
различных областях и побудит ученых сосредоточить свои усилия на
решении проблем, представляющих общественный интерес. В своих
политических симпатиях Лесевич близок к народникам. (Он был
выслан в Сибирь в 1879 г. за связи с революционными народниками,
а после возвращения жил под присмотром полиции в Полтаве и
Твери; ему было разрешено вернуться в Петербург только в 1888 г.) Он
был высокого мнения о Лаврове и Михайловском, отзывался о них
как о «самых компетентных судьях позитивизма» и был согласен с их
критикой преобладавших в то время направлений позитивистской
философии2. Защита Лесевичем «субъективного метода» несет на себе
явные следы влияния Лаврова и Михайловского. Позитивисты,
согласно Лесевичу, отвергают «субъективный метод» только потому,
что позитивная наука слаба в теории познания. Абстрактные науки, то
есть науки, исследующие общие законы данной области явлений,
пользуются только «объективными» эмпирическими методами, но
конкретные (прикладные) науки направлены на реальную
деятельность и потому должны решать проблемы путем введения
ценностных ориентиров, т.е. с помощью «субъективного метода». Лесевич
сумел найти многочисленные аргументы в поддержку этого хода
мысли в работах неокантианцев.
Попытки Лесевича наладить взаимоотношения между
позитивизмом и неокантианством нашли мало откликов в России. Отчасти это
объяснялось невысоким профессиональным уровнем русских
неокантианцев, но, в первую очередь, тем, что в России неокантианство
занималось не столько критикой метафизических систем, сколько
прокладывало путь возрождению метафизического идеализма. Главный
представитель русского неокантианства Александр Введенский (1856-
1925), профессор Петербургского университета, был убежденным
противником позитивизма. Его философия, которую он называл
«логицизмом», основывалась на последовательно идеалистическом и
антиэмпирическом истолковании философии Канта. Согласно
Введенскому, кантианство - своего рода «средний путь» философии - путь,
1 Ср.: Kolakowski L. The Alienation of Reason: A History of Positivist Thought.
Trans. By Norbert Guterman. Garden City, N.Y., 1968.
2 См.: Лесевич ВВ.. Опыт... С. 241-245.
382 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
который позволяет избежать вредных и устарелых притязаний
метафизического максимализма, не попадая, однако, в ловушку
позитивистского «сциентизма», который Введенский обвиняет в подрыве
основ жизни и в том, что он ведет к опасному нравственному
нигилизму. Для того чтобы противодействовать этим опасностям,
Введенский защищает представление о личном бытии Бога, о свободной воле
и о бессмертии души, одновременно подчеркивая, что эти идеи
воспринимаются не интеллектом, но сознательной верой1. Вполне
отдавая себе отчет в том, какие опасные этические импликации заключает
в себе субъективный идеализм, Введенский настаивал на том, что
одним из «постулатов практического разума» является вера в
«субъективное» существование других людей. Подобно Лесевичу,
Введенский подчеркивал важность теории познания, но его позиция очень
далека от позитивизма, и его совсем не привлекала идея «научной
философии», как ее понимал Лесевич.
ПОЗИТИВИЗМ И ПСИХОЛОГИЯ
В рассуждениях и спорах позитивистов о теории познания
психология занимала очень значительное место. Это понятно, если
вспомнить, что в то время, как правило, не проводили различия между
эпистемологией и психологией. Для Вырубова возрастание интереса к
теории познания - это симптом путаницы между философией и
психологией. Кавелин полагал, что теория Локка и Канта фактически
относится к сфере психологии и что сугубое внимание к
эпистемологическим вопросам свидетельствует о ключевом значении психологии в
современной философии. Даже Лесевич, проводивший отчетливую
границу между теорией познания и психологией (он вступил в
полемику по этому вопросу с Сеченовым), был убежден, что теория
познания основывается преимущественно на психологических данных2.
Наступление позитивистов на метафизику в области психологии
предпринял профессор Московского университета Матвей Троицкий
(1835-1899), который представлял английскую школу позитивизма.
Главное сочинение Троицкого3 - горячее выступление против
философского уклона в немецкой психологии с позиций английской
эмпирической, ассоцианистской психологии. Владимир Соловьев
сообщает, что Троицкий всякий раз начинал свой ежегодный курс лекций по
1 См.: Введенский А.И. Философические очерки. СПб., 1901. С. 89, 108.
2 См.: Wyrouboff G. Remarques. P. 392; К.Д. Собр. соч. Т. 2. СПб., 1899.
С. 364-371, 375, 578;Лесевич ВВ. Опыт... С. 124-125.
3 Троицкий ММ. Немецкая психология в текущем столетии. М., 1867.
ГЛАВА 16. Разновидности позитивизма
383
психологии кратким изложением немецкого идеализма, в завершении
которого произносил: «Ну вот, господа, сами видите! Стружка,
стружка! В печку их!»1
Человеком гораздо более широких интеллектуальных горизонтов
был историк Константин Кавелин (см. главу 8). Хотя и он тоже был
близок к позитивизму и поддерживал аргументы позитивистов против
метафизики, но его угнетал преобладавший в ту пору культ научных
фактов - культ, который делал серьезное философское обсуждение
«почти таким же смешным, как ношение парика»2. Кавелин считал,
что позитивисты ошибаются, отвергая метафизику или объясняя
метафизические проблемы в понятиях материальных процессов; вместо
этого, по его мнению, следует извлечь реальное психологическое ядро,
скрытое в глубине метафизических систем (хотя и в замаскированном
виде), и исследовать это ядро в его собственных понятиях; то есть
позитивисты должны признать, что психологические процессы имеют свое
автономное бытие наравне с материальным бытием . Тот факт, что
позитивизм так и не подчинился пока этому постулату, привел Кавелина
к убеждению, что позитивизм все еще не научная философия, а только
переходный этап в эволюции человеческого сознания4.
Критикуя отказ позитивистов признать реальность ментальных
явлений, Кавелин использует аргументы, заимствованные из
агностицизма. Приверженцам «научного реализма», отмечает он, следует
помнить, что сама наука - это «психологический факт, который не
существует вне сознания»5. Мы способны постигать только знаки,
символы реальности, но никак не реальность «в себе»6.
В своем главном труде «Задачи психологии» (1872) Кавелин
утверждает, что материализм и идеализм - это, в сущности,
запоздалые наследники схоластики: они не помнят своих собственных
истоков и рассматривают ту или другую сторону христианского дуализма
в качестве абсолюта7. Этот дуализм невозможно преодолеть путем
объяснения ментальных процессов в понятиях материальных явлений,
как и наоборот. Духовные феномены не поддаются редукции, хотя это
не надо понимать так, что они не зависят от физической конституции
1 Соловьев B.C. Собр. соч. СПб., 1903. Т. 8. С. 417.
2 Замечания высказаны в 1874 году. См.: Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 3. С. 271.
3 Там же. С. 319-320.
4 Там же. С. 346-347. Кавелин утверждал, что и сами позитивисты начинают
выходить за пределы прежней своей односторонности. Он полагал, что видит
тому свидетельство в «Проблемах жизни и сознания» у Джорджа Генри Lewes
(Собр. соч. Т. 3. С. 338).
5 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 3. С 341.
6 Там же. С. 337.
7 Там же. С. 420-438.
384 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
человека. В своей теории о взаимоотношении между сознанием и
телом Кавелин защищает промежуточную позицию между
психологическим параллелизмом и интеракционизмом. Везде, отмечает он,
имеются примеры параллельных рядов явлений, взаимосвязь между
которыми не подлежит сомнению, пусть даже эта взаимосвязь еще не
вполне исследована. Целостность человеческой природы не будет
нарушена, если мы признаем гипотезу, по которой в человеке
существуют два организма, производные от общей основы, и потому, в
конечном счете, внутренне связанных; каждый из этих организмов
влияет на другой, сохраняя при этом свою самостоятельность1.
В психологии Кавелин выделяет два основных направления:
эмпирическую психологию, идущую от Локка, и идеалистическую
психологию, идущую от Канта. Эмпирическая психология исследует ту
часть души, которая направлена на материальный мир и им
обусловлена; идеалистическая психология интересуется такими
психическими явлениями, в которых сознание выражает свою автономию, свою
деятельность2. Английская психология представляет направление,
инициированное Локком, немецкая - направление, инициированное
Кантом. Мы скоро увидим, что сам Кавелин считал оба эти
направления односторонними и постулировал примирение между ними как
взаимодополняющими системами.
Это примирение было частью предпринятой Кавелиным попытки
осторожной реабилитации немецкого идеализма: этот последний он
понимает как замаскированную форму психологического
исследования психики человека. Спекулятивные конструкции немецкого
идеализма, полагал Кавелин, становятся понятными, если их перевести на
язык психологии; нужно только понять, что логические формулы, на
которых основываются эти конструкции, по сути дела, описывают
такой момент, когда душа раскалывается на две половины и видит
себя отраженной в своем ином. Реалистически-эмпирическое
направление, которое признает только рецептивную, пассивную сторону
души, ничего не внесло в эту область исследования, и потому оно не
имеет права отметать немецкий идеализм как якобы лишенный
всякой ценности3.
Позиция Кавелина, что вполне понятно, не удовлетворила ни
материалистов, ни последовательных идеалистов и спиритуалистов.
«Задачи психологии» подверглись нападкам с двух сторон:
выдающийся физиолог И.М. Сеченов критиковал подход к психологическим
процессам как автономным явлениям, тогда как славянофил Юрий
1 Там же. С. 485, 837-838.
2 Там же. С. 507-508.
3 Там же. С. 509-511.
ГЛАВА 16. Разновидности позитивизма
385
Самарин обвинил Кавелина в том, что тот преувеличил степень
зависимости души от тела и внешнего окружения, что, как он
подчеркивал, противоречит догмату о бессмертии души.
Во введении к своей книге Кавелин объяснял, что существует
отчетливая связь между его интересом к психологии и гегелианским
либерализмом его юности. Как в «Задачах психологии», так и во
«Взгляде на юридический быт древней России» (1847) его основной
заботой была защита сильной самостоятельной личности1. В 1840-е гг.
Кавелин обсуждал эволюцию личности в свете прошлого и будущего
России; в «Задачах психологии» он рассматривает эту эволюцию с
точки зрения ее всеобщего или, по крайней мере, ее европейского
значения. Во второй половине девятнадцатого века, утверждает
Кавелин, заметно умаление индивидуальности: появляются безличные
массы и одиночество в толпе2. Хотя роль общественности
подчеркивается больше, чем когда-либо прежде, люди чувствуют себя все
более отчужденными друг от друга. Политики и лидеры общества
смотрят на отдельных людей как на совокупность статистических данных,
как на цифры в бюджете или знаки в уравнении. Ученые и
«философские реалисты» относятся к людям, как к вещам, объектам внешнего
мира, подчиненным неизбежным законам причинности3. Только
психология пытается противодействовать этому процессу: она говорит от
имени личности и восстанавливает ее центральное положение во
вселенной, показывая, что мнимо объективные социальные процессы -
это в действительности труд индивидов и что сама наука не
существует вне человеческого сознания4.
Другая значительная книга Кавелина, «Задачи этики» (1885), тоже
посвящена проблеме личности. В ней он подвергает резкой критике
утилитарный и эвдемонический подход к этике, ориентированный на
понятие счастья, и утверждает, что предпосылки сильной
нравственной личности - это вера в сверхиндивидуальные идеалы и постоянное
стремление к совершенству. Счастье не может быть последней целью
человеческого существования, хотя самый могущественный источник
счастья заключается в усилии, которое прилагают для достижения
цели (идеала). Погоня за счастьем и выгодой способствует внешнему,
материальному прогрессу, но в то же время она лишает жизнь более
глубокого смысла, отнимает у людей веру и надежду, а тем самым,
в конечном счете, и возможность счастья .
1 Там же. С. 375. См. выше. С. 163-165.
2 Там же. С. 613.
3 Там же. С. 629-632.
4 Там же. С. 638-646.
5 Там же. С. 981, 1009-1017.
386 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Из этой аргументации ясно, что обычная практика, в соответствии
с которой Кавелина классифицируют в качестве позитивиста, не
вполне оправданна. Пожалуй, с большим основанием его можно
назвать «полупозитивистом»1; правда, Кавелин защищал позитивизм
от нападок Соловьева2, но сам он противостоял преувеличенному
культу научных фактов и пытался сблизить позитивистскую
философию и идеализм, что фактически и было основной задачей его
философского творчества.
Николай Грот (1852-1899), сын филолога Я.К. Грота, был более
воинственным и последовательным позитивистом (правда, лишь на
первом этапе своего идейного развития). Интерес к философии и
психологии сформировался у него под влиянием Кавелина, который был
частым посетителем в доме Гротов и привлек молодого Грота к
участию в «перипатетических разговорах» на философские темы. В
университете Грот занимался под руководством Троицкого; повлияли на
него и работы Сеченова по физиологии нервной системы. В 1886 г. он
был избран профессором Московского университета; вскоре после
этого он стал президентом Московского психологического
общества4, а в 1889 г. он основал журнал «Проблемы философии и
психологии»5. Благодаря своей разнообразной официальной деятельности
Грот стал одной из ведущих фигур в философских академических
кругах России.
В первых своих работах - в магистерской диссертации о
психологии чувственного восприятия и в докторской диссертации,
посвященной психологическому истолкованию проблем логики, - Грот
представляет последовательную ассоцианистскую позицию6. Следуя за
Спенсером, Грот определяет психические процессы как одно из
средств, используемых организмом для адаптации к окружающей
внешней среде. Для того чтобы объяснить эти процессы, Грот сфор-
1 См.: Zenkovsky. History of Russian Philosophy. Vol. 1. P. 345-348.
2 См. его статью «Априорная философия или положительная наука» в кн.:
Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. 3. С. 285.
3 Нижеследующее изложение взглядов Грота основывается на статье
П.П. Соколова «Философские взгляды и научная деятельность Н.Я. Грота» в
сборнике: Н.Я. Грот в очерках, воспоминаниях и письмах. СПб., 1911.
4 Благодаря Гроту Психологическое общество (основанное в 1885 г.
Троицким) стало важным центром интеллектуальной жизни. Другой организацией, к
которой могли принадлежать профессиональные философы в России, было
Петербургское фФилософское общество, где ведущей фигурой был А. Введенский.
Если не считать недолго издававшиеся А. Козловым периодические
издания, это был первый (т.е. первый регулярно издававшийся) в России
профессиональный журнал, посвященный философии.
6 Психология чувствований в ее истории и главных основах. СПб., 1879-
1880; К вопросу о теории логики. Leipzig, 1882.
ГЛАВА 16. Разновидности позитивизма
387
мулировал теорию «психической циркуляции», которая постулирует
цикл автоматических реакций, аналогичный циркуляции
элементарных частиц в теле. В своем истолковании ментальных процессов (оно
у него основывается на биологических принципах Спенсера и на
собственной теории «психической циркуляции»), Грот сводит правила
умозаключения к шести типам ассоциации; первые три типа - чисто
механические (простая ассоциация, диссоциация и дисассоциацион
психических элементов), а три других - органические (интеграция,
дезинтеграция и дифференциация). Эта классификация соединяется у
Грота с защитой «наивного реализма» в теории познания и с
захватившей его перспективой применить строго детерминистический
эволюционизм к психическим процессам. В социологии Грот отвергал
«субъективный метод», но в то же время считал - не вполне
непоследовательно - человеческое счастье целью исторического прогресса.
Попытка сделать философию психологии более «научной» привела
Грота к тому, что он призвал к устранению таких метафизических
понятий, как «душа» (он полагал, что это понятие следует заменить
термином «сенсориум»); «ненаучную» философию он отметал как
субъективный творческий акт наподобие поэзии. Одна из его теорий
состояла в том, что философские системы - это субъективные
продукты, удовлетворяющие субъективным же требованиям сознания;
различные системы имеют равную психологическую ценность и
следуют одна за другой в соответствии с конкретными специфическими
законами развития психики.
Вера Грота в достоверность его теорий не выдержала испытания
временем. Уже в середине 1880-х гг. - после изучения произведений
Джордано Бруно и Платона, Канта и Шопенгауэра - Грот отвернулся
от позитивизма и открыто заявил о своем обращении к метафизике.
Его новая философия, названная им «монодуализмом», должна была
стать синтезом монизма и дуализма, то есть решением
онтологических антиномий: идея Бога - принцип, примиряющий дух и материю,
а идея души - принцип, примиряющий материю и силу. В психологии
Грот отверг механицизм и ассоцианизм как «теоретические
суеверия». Из одного какого-либо романа Достоевского, заявляет теперь
Грот, можно больше узнать о психологии, чем из всех теорий Спенсера .
Метафизика Грота не была возвращением к спекулятивным
конструкциям немецкого идеализма; в соответствии с духом эпохи это
была индуктивная метафизика, которая пыталась основываться на
данных внутреннего опыта и потому была тесно (и намеренно)
связана с психологией. К концу своей жизни Грот даже пытался примирить
свою новую систему с позитивизмом. Это было вызвано возникшим
1 Там же. С. 118.
388 Аиджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
у него интересом к энергетике Вильгельма Оствальда: она укрепила в
нем убеждение в том, что научное объяснение метафизических
проблем находится в пределах области вероятного. Утверждая, что
понятие психической энергии совершенно так же значимо, как и понятие
физической энергии, Грот пытался доказать значимость бессмертия
на основе энергетики. Он вернулся к формулам эволюционизма, но,
истолковав природу как пьедестал духа, а биологическую эволюцию
как орудие в реализации разума и свободы, придал этим формулам
новое спиритуалистическое содержание1.
ПОЗИТИВИЗМ И СОЦИОЛОГИЯ
Областью, в которую русский позитивизм внес самый ценный -
можно сказать, международный - вклад, была социология. При этом
главные представители позитивистской социологии - Евгений де
Роберты (1843-1915) и Максим Ковалевский (1851-1916) -
принадлежали к совсем разным школам мысли внутри позитивизма, как и в
пределах социологии.
Де Роберти, друг Вырубова, печатавшийся в La Philosophie
Positive, представлял французскую, контовскую традицию; поэтому он
рассматривает социологию, позднейшую и высшую науку по
классификации Конта, с точки зрения философии. Его собственную книгу
«Социология» (опубликована в России в 1880 г.) он сам правильно
назвал «философией социологии»2. Как следует из полного заглавия
книги, предмет социологии как науки включает размышления о
принципиальном значении и методологических особенностях социологии,
а также о месте социологии в ее отношении к другим наукам,
особенно к биологии и психологии.
В изложениях истории социологии де Роберти рассматривается
как один из первых и самых выдающихся представителей
социологизма - научной позиции, которая утверждает, что регулярно
повторяющиеся социальные процессы, открываемые социологическими
исследованиями, невозможно ни редуцировать, ни объяснить с
помощью других дисциплин, таких как биология, психология или
экономика3. Общественные явления, заявляет де Роберти, - симптомы
особых свойств органической материи4; как таковые они несопоставимы
'Там же. С. 120-128.
2 Роберти Е. де. Социология. Основная задача и методологические особенности,
место в ряду наук, разделение и связь с биологией и психологией. СПб., 1880.
3 Sorokin P. Contemporary Socialogical Theories. New York and London, n.d.
P. 438^63.
4 Роберти Е. де. Социология... С. 77.
ГЛАВА 16. Разновидности позитивизма
389
с каким-либо широким классом более известных явлений и потому
должны рассматриваться новой основополагающей и абстрактной
(в Контовом смысле этого слова) наукой. Постоянное появление
(даже среди позитивистов) «общих теорий» - то есть
редукционистских теорий, игнорирующих качественные различия между разными
группами явлений, - отчасти, на взгляд де Роберти, объясняется
возобновившимися метафизическими попытками найти-таки всеобъяс-
няющую «вещь в себе»1.
Социологизм де Роберти направлен в основном против взгляда
Спенсера на социальные процессы по аналогии с биологическими
процессами, но также и против «психологизма» Д.С. Милля. Де
Роберти полагал, что Спенсер, да и вся английская эволюционистская
школа, страдает той же самой слабостью, как и у материалистов, а
именно, своего рода метафизическим «монизмом» - тенденцией
формулировать всеохватывающие гипотезы, которые пытаются
свести сложность и разнообразие живого мира к одному общему
знаменателю. С другой стороны, психологизм, крайним выражением
которого является неокантианство, виновен в отвлечении внимания от
внешнего мира вещей и сконцентрированности исключительно на
субъективных явлениях. Оба эти направления несут вину за
«редукционизм», потому что ни то, ни другое не понимает качественного
своеобразия социологии. При этом, однако, де Роберти склонен
считать «биологизм» более весомой теорией, чем психологизм.
Подобно Конту, он воспринимает биологию как основополагающую
научную дисциплину, непосредственно предшествующую социологии в
иерархии наук; биология едва ли способна объяснить
социологические явления, но она, тем не менее, предлагает основания, без
которых социология была бы лишена какой-либо основательности. Де
Роберти следует за Контом так же и в том, что он рассматривает
психологию как всего лишь такую область исследования, которая
имеет дело с конкретными явлениями, относящимися отчасти к
биологии, а отчасти - к социологии. Изолированный индивид не может
быть разумным, мыслящим существом (в этой связи де Роберти
часто ссылается на де Бональда); люди, в сущности, продукты
общественного развития, поэтому психология должна основываться на
социологии, а не наоборот2.
Несмотря на то что в своей интеллектуальной эволюции де
Роберти постепенно отходит от Конта, он все же продолжает считать
основателями подлинной позитивистской традиции скорее Конта и Сен-
Симона, чем Юма и Канта. Свою новую концепцию (изложенную в
'Там же. С. 199.
2 Там же. С. 299-301.
390 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
книгах, опубликованных во Франции) он назвал
«сверхпозитивизмом» или «неопозитивизмом». Этот неопозитивизм не имеет ничего
общего с неопозитивизмом более позднего времени (логическим
позитивизмом) Венского кружка, продолжавшим традиции позитивизма
в теории познания. Де Роберти - убежденный противник того, что он
называл «одержимостью гносеологией» в философии его времени, -
тенденции, которая, как он считал, обнаруживается даже в творчестве
самого Конта2. На взгляд де Роберти, проблемы теории познания
сумеет разрешить не философская теория познания, но социология.
Характерный мотив мышления де Роберти — убежденная
оппозиция философскому агностицизму, который он называл пережитком
веры в метафизическую «природу вещей». Против Монтескье с его
теорией законов как необходимых отношений, возникающих из
природы вещей, де Роберти выдвигает утверждение, что, наоборот,
«природа вещей» возникает из отношений или законов. Поскольку
никакой другой «природы» не существует и поскольку отношения между
вещами поддаются уразумению, то проблема недостоверности
познания, проблема агностицизм, больше не имеет смысла. Точно так же
устраняется и дуализм «феномена» и «ноумена», а «непознаваемое»
оказывается всего лишь «еще непознанным». С этим ходом мысли
соединяется и отрицание классического определения истины,
поскольку, на взгляд де Роберти, это определение подразумевает
существование метафизической «вещи в себе». Истина, считает де
Роберти, только взаимное согласование идей и понятий, и единственной
гарантией и мерилом этого соответствия является коллективный
опыт; поэтому истина есть неизбежный результат - самое
принципиальное и действенное выражение - коллективного опыта3. Различие
между объективным и субъективным - это, в сущности, различие
между индивидуальным опытом, который вполне сложился и
пребывает под влиянием и властью коллективного опыта, и
индивидуальным опытом, который подвержен коллективному опыту только в
незначительной степени (поскольку за исключением животного уровня
не существует опыта, который хотя бы отчасти не был бы
социальным)4. Всякая область познания начинается с субъективизма и посте-
Другие основные сочинения де Роберти: Политико-экономические этюды.
СПб., 1869; Прошедшее философии. М, 1886; CInconnaissable. Paris, 1989; L
Agnosticisme. Paris, 1892; Nouveau Programme de sociologie. Paris, 1904; Sociologie d'
action. Paris, 1908; Les Concepts de la raison et les lois de Г universe. Paris, 1912.
2 Le concept de la raison. P. 30-31.
3 Les Concepts de la raison. P. 30-31.
4 Nouveau programme. P. 193-194. Этот тезис нашел потом развитие в работах
теоретика «эмпириомонизма» Александра Богданова (1873-1929), творца
неомарксистской «философии коллективизма».
ГЛАВА 16. Разновидности позитивизма
391
пенно становится все более и более объективной, по мере того как она
формируется в пределах матрицы социального опыта.
В основу своей концепции социальных корней познания де Робер-
ти кладет гипотезу, по которой социальность как специфическая
и высшая форма энергии - «сверхорганическая энергия» - возникает
в результате взаимодействия множества сознаний. Благодаря этому
взаимодействию сознаний происходит переход от ментальных
явлений - таких как впечатления, воображение, эмоции и импульсы
(субъективные и конкретные, которые во французском языке
обозначаются одним и тем же словом conscience, то есть индивидуальное
сознание), - к абстрактной идеации, которая порождает connaissance,
то есть сверхиндивидуальное сознание; другими словами,
биологический, рецептивный процесс преобразуется в социальный, понятийный
процесс1. Социальный опыт, постоянно обновляясь и множась,
производит феномен, известный под разными именами абстрактных
представлений (время, пространство, причинность, цель, необходимость),
или - синтетически - под именем разум. По сути дела, разум то же
самое, что социальность, то есть сверхорганическая энергия. Поэтому
теории познания и сознания должны быть сферой интересов не
столько философов и психологов, сколько социологов, а сама социология
должна стать частью энергетики - общей науки обо всех формах
энергии2.
Казалось бы, разумно предположить, что социологическая теория
познания, соединенная с энергетикой, должна постулировать
первичность социального действия по отношению к познанию. Однако де
Роберти решительный противник такой концепции. Его теория
четырех факторов (или модусов) общества предписывает решающую роль
научному познанию, обнаруживая тем самым свой по существу
идеалистический интеллектуализм3. Эти четыре фактора: (1) детальное
научное познание (аналитический и гипотетический модус), (2)
философия и религия (синтетический и аподиктический), (3) искусство
(синкретический и символический модус), (4) социальное действие
(практический, или телеологический, модус). Эту свою, теорию де
Роберти характеризует как корректив к концепции Конта о трех стадиях
развития, в которой религиозное и философское познание
предшествует научному познанию. (Де Роберти считал, что на самом деле
верно обратное.) В сущности, однако, он - против активистских
социологических теорий (включая марксизм), которые исходят из того,
1 Les concepts de la raison. P. 11-14.
2 Здесь Роберти опирается на энергетизм Освальда, хотя он и постулирует,
что три типа энергии - физическая, химическая и органическая - должны быть
восполнены «сверхорганической» энергией. (Ibid. P. 117-119.)
3 Nouveau programme. P. 65-81.
392 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
что общественная практика вызывает развитие идей. Нет, возражает
де Роберти, среди людей, которые живут в организованных
обществах, основывающихся на разуме, действию всегда предшествует
мышление; действие может быть продуктом мышления, но если мы
принимаем первичность практической точки зрения в пределах
мыслящего сознания, то это не значит, что нужно принять тезис о
первичности практической деятельности над сознанием. Де Роберти полагал,
что его собственная социологическая теория разрушает ложную
антиномию между «рационализмом» и «активизмом», предлагая
понимать активизм как логический и рациональный. Его теория
показывает, что существуют два типа прагматизма: один можно назвать внена-
учным или донаучным (прагматизм животного мира); и другой,
основывающийся на науке, и этот второй тип относится собственно
к человеку1.
В своей критике «активизма» де Роберти подчеркивает связь
активизма с культом простого человека; те, кто восхваляют практику,
заявляет де Роберти, желают прославлять также и «демос» независимо
от того обстоятельства, что в общественной критике решающая роль
принадлежит познанию и рациональному руководству2. В своем
собственном общественном идеале де Роберти пытался примирить
элитарность (правление интеллектуальной элиты) с эгалитаризмом
(максимальные возможности получить образование). Он считал, что
прогресс функционирует по двум законам: (1) закон общественного
развития, вследствие которого одни люди опережают других людей
(что объясняет интеллектуальную разнородность общества и
появление правящих элит); (2) закон возрастающей диффузии знания -
закон, который охраняет демократические права3.
Идеи де Роберти не нашли особого признания ни среди
философов, ни среди социологов. Лесевич ставил де Роберти наравне с
Вырубовым, то есть считал его мыслителем, который придал слову
«позитивизм» одиозный смысл, поскольку, мол, де Роберти вообще не
понимает проблем теории познания. Лавров обвинял де Роберти в
чрезмерной отвлеченности и безразличии к вопросам современности.
Однако можно утверждать, что де Роберти заслуживает более
благосклонного внимания. Его философская социология - или, скорее, со-
циологизирующая философия - представляет собой интересную
попытку преодолеть разрыв между позитивизмом Конта и другими
философскими системами конца девятнадцатого и начала двадцатого
столетия. Несмотря на декларированную нелюбовь к «гносеологиче-
1 Les concepts de la raison, P. 160.
2 Nouveau programme. P. 211.
3 Les Concepts de la raison. P. 24.
ГЛАВА 16. Разновидности позитивизма
393
ским увлечениям», де Роберти не отказывался вникать в
принципиальные эпистемологические проблемы. Во многих отношениях его
концепция социальных корней познания напоминает
социологическую философию Эмиля Дюркгейма.
Подобно де Роберти, другой ведущий русский социолог той
эпохи - Максим Ковалевский (1851-1916) - тоже провел многие годы за
границей. Он учился в Берлине, Париже (где подружился с
Вырубовым) и Лондоне (где познакомился с Марксом и Энгельсом).
Завершив учебу, Ковалевский преподавал в Московском университете, но
он лишился своей кафедры в 1887 г. за политическую
«неблагонадежность». Ковалевский уехал из России и вернулся в 1905 г. и основал
умеренно-либеральную Партию демократических реформ. В годы
пребывания за границей Ковалевский представлял Россию на
многочисленных международных социологических конгрессах; в 1901 г. он
основал (вместе с Де Роберти) Русскую высшую школу
общественных наук в Париже, где позднее преподавал Ленин. В 1895 г.
Ковалевского избирают вице-президентом, а в 1907 г. президентом
Международного социологического института.
В своем научном творчестве Ковалевский представляет
совершенно другой тип социологии, чем де Роберти1. Де Роберти интересовали,
в основном, философские импликации его теорий, и он не пытался
применять их в конкретных социологических исследованиях (это
нужно считать недостатком, особенно если сравнить де Роберти с
Дюркгеймом). Ковалевский же, напротив, посвятил себя
исследованиям конкретной эволюции в обществе и даже не опубликовал
систематического изложения своих собственных социологических теорий.
Как и де Роберти, Ковалевского критиковали за отсутствие интереса к
специфически русским проблемам; но в его случае такая критика едва
ли оправданна . Пытаясь показать историческую неизбежность
«производства обмена» и представительного правления, Ковалевский внес
своими книгами вклад в ведущие идеологические споры своего
времени и предоставил аргументы для сторонников той мысли, что
Россия не может обойти капиталистическую стадию развития. Работа
Ковалевского о крестьянской общине повлияла на молодого Плеханова
Основные труды М. Ковалевского: Общинное землевладение. М., 1879;
«Закон и обычай на Кавказе». М., 1890. Т. 2; Tableau des origins et de Г evolution
de la famille et de la propriété. M., 1895-1899. T. 4; «Экономический рост Европы
до возникновения капиталистического хозяйства». М., 1898-1903. Т. 3; От
прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к
парламентаризму. М., 1906. Т. 3; Социология. СПб., 1910. Т. 2; Идеи Ковалевского
рассматриваются в книге: Alexander Vucinich, Social Thought in Tsarist Russia: The
Quest for a General Science of Society, 1861-1917. Chicago, 1976.
2 См.: Сафронов Б.Г. MM. Ковалевский как социолог. M., 1960. С. 19-24.
394 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
и способствовала тому, что Плеханов отказался от народничества
ради марксизма.
Ковалевский называл себя «сторонником философии Конта и
учеником Маркса»1. Он ценил дружеские отношения с Марксом и
Энгельсом и использовал их исследования по экономической истории
Европы; со своей стороны Энгельс был высокого мнения о работе
Ковалевского об эволюции семьи и частной собственности и
использовал некоторые материалы оттуда в своих собственных книгах. Однако
вряд ли можно говорить о влиянии марксизма на взгляды
Ковалевского; для него основателем научной социологии был Конт,
а марксизм - только особой разновидностью позитивистского
эволюционизма.
Сам Ковалевский был типичным социальным эволюционистом,
убежденным в единообразной и всеобщей применимости основных
законов общественного развития. Социология, считал Ковалевский, -
это наука, которая имеет дело с организацией и эволюцией обществ.
Это определение - модификация классической формулы Конта,
определяющей социологию как науку о «порядке и устройстве общества»,
потому что, считал Ковалевский, не всякая социальная организация
заслуживает того, чтобы называться «упорядоченной», а эволюция не
всегда синоним прогресса. Тем не менее, Ковалевский убежден, что
общее движение эволюции - прогрессивно и что прогресс один из
неумолимых законов истории. Прогресс Ковалевский определяет как
усиление уз человеческой солидарности, как непрерывное
расширение «замиренной среды» - от племенного единства через патриотизм
к космополитизму, к солидарности всего человеческого рода. Эта
общая формула прогресса принимает у Ковалевского различные формы
в зависимости от той или иной сферы общественной жизни, к которой
она применяется. Закон Конта о трех стадиях развития, на взгляд
Ковалевского, в достаточной степени выражает природу прогресса в
сфере интеллектуальной. Политический прогресс Ковалевский
определяет как расширение индивидуальной автономии и народного
самоуправления; прогресс такого рода относительно независим от
внешних форм государственности и в то же время вполне совместим с
монархической системой. Прогресс в экономической сфере
заключается в постоянном расширении экономических отношений;
Ковалевский верил, что рост международной торговли ведет к экономической
интеграции всего мира, что он устранит причины войны и, в конце
концов, приведет к созданию мировой федерации демократических
государств.
Казаков А.П. Теория прогресса в русской социологии конца XIX века. Л.,
1969. С. 100.
ГЛАВА 16. Разновидности позитивизма
395
Эти воззрения с очевидностью показывают, что в своей теории
общественной эволюции Ковалевский на первый план ставит не
борьбу, но факторы, работающие на интеграцию и тем самым
благоприятствующие росту солидарности и мирному сосуществованию. В этом
отношении Ковалевский отличается не только от Маркса, но также от
Спенсера и от социал-дарвинистов. С другой стороны, Ковалевский
обнаруживает некоторое родство с «академическими» социалистами
(Kathedersozialisten) в Германии, влияние которых в его работах
очевидно; кроме того, на него явно повлияли такие русские противники
социал-дарвинизма, как Кропоткин, Лавров и Михайловский.
Принято считать, что Ковалевский - представитель
демографической школы, которая основывалась на убеждении, что основной
движущей силой прогресса является рост населения. Такое
представление не вполне корректно: Ковалевский действительно придавал
большое значение демографическому фактору, но только в
экономической сфере. В целом же он противостоял всем попыткам объяснять
общественные изменения какой-то одной причиной и предпочитал
объяснять эволюцию «одновременным и параллельным действием и
противодействием многих факторов»1. Такая точка зрения, утверждал
он, возникает из самой природы позитивизма, то есть из понимания
внутренней взаимосвязи всех сфер общества.
В своих политических взглядах Ковалевский был умеренным
либералом, который верил, что царизм можно преобразовать в
конституционную монархию. Эти его взгляды никак не противоречили его
симпатиям к «академическому» социализму. По экономическим
вопросам Ковалевский решительно расходился с классическими
теориями экономического либерализма: свободную конкуренцию он
считал формой борьбы, которая, скорее, препятствует прогрессу.
Социализм, на взгляд Ковалевского, - это способ организации
производительных сил с целью устранения классовых конфликтов2; с другой
стороны, революция казалась ему явлением противоестественным.
Эти воззрения влияли на истолкование Ковалевским проблем его
времени: он обращал особое внимание на борьбу Маркса против
революционного волюнтаризма , подчеркивал вклад марксизма в
определение объективных законов общественного прогресса, утверждая,
что социал-демократическая партия может и не быть
республиканской; он также был высокого мнения о немецком социал-демократе
Эдуарде Бернштейне и хвалил Плеханова за то, что последний был
последовательным сторонником альянса между пролетариатом и ли-
1 Ковалевский. ММ. Современные социологии. СПб., 1905. С. XIV.
2 См.: Сафронов Б.Г. Ковалевский как социолог. С. 84-85.
3 Там же. С. 86.
396 Аиджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
беральными фракциями буржуазии. Даже лозунг коммунистов
«Пролетарии всех стран - соединяйтесь!», на взгляд Ковалевского, не более чем
призыв к учреждению легальных ассоциаций рабочего класса1.
Другим, еще более значительным представителем позитивистской
социологии в России был Николай Кареев (1850-1931). В отличие от
де Роберти и Ковалевского, Кареев пытался соединить позитивизм с
народнической социологией Лаврова и Михайловского. В своих
теоретических работах Кареев подчеркивал важность ценностного
элемента (или, иначе, «субъективного» фактора) во всех попытках
упорядочивания исторических данных и резко полемизировал с
теориями, придававшими решающее историческое значение
сверхиндивидуальным и сверхличностным силам2. Кареев обвинял марксизм,
среди прочих его недостатков, в тенденции к фатализму и
односторонней деперсонализации истории3. С другой стороны, Кареев считал
Конта ответственным за преувеличение роли интеллектуальной
эволюции в ущерб экономической истории.
Теории Кареева были только эклектической попыткой примирить
позитивизм с «субъективной социологией» и некоторыми элементами
марксизма. Как и в случае Ковалевского, самый значительный вклад
Кареев внес в социологическую интерпретацию истории - в ту
область, где он придерживался конкретных фактов. Сюда относится,
например, монография Кареева «Крестьянский вопрос во Франции
в последней четверти восемнадцатого века» (1879), которую Маркс
назвал «превосходной книгой»4.
1 См.: Казаков А.П. Укз. соч. С. 126.
2 См. в особенности следующие работы Кареева: Основные вопросы философии
истории. М., 1883; Сущность исторического процесса и роль личности в истории.
СПб., 1890; Историко-философские и социологические этюды. СПб., 1895.
3 См.: Кареев H.H. Старые и новые этюды об экономическом материализме.
СПб., 1896.
4 См. письмо Маркса к Ковалевскому, написанное в апреле 1879 г.: (Переписка
К. Маркса и Ф. Энгельса с русским политическими деятелями. М., 1951. С. 232-233). -
В новом польском издании этой книги рассматриваются позитивистская
социология Якова Новикова (1849-1912), а также идеи представителей позитивизма в
философии права - С. Муромцева, Г. Шершеневича и Н. Корпунова.
(Примечание автора, 2010 г.).
Г Л А В А 17
397
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
И МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ
Яоследняя треть девятнадцатого века в России, несмотря на
неблагоприятный интеллектуальный климат, - период
оживления идеалистической философии. Концентрированный
натиск позитивистов на «метафизику» во всех ее формах встретил
сильное сопротивление. Правда, метафизический идеализм не удержал тех
позиций, которые он занимал в русской идейной жизни во времена
Чаадаева, в пору горячей полемики вокруг Гегеля и классического
славянофильства. Теперь идеализм развивался, так сказать, на
обочине ведущих направлений мысли, но, с другой стороны, он стал
независимым от публицистики, превращаясь в систематическую
философию. Эта трансформация метафизического идеализма, несомненно,
была составной частью общей тенденции: философия обретала все
большую автономию и профессионализм.
Мыслители, о которых пойдет речь в этой главе, представляют
различные философские направления, и при жизни они часто
относились друг другу критически. Однако общим у них было то, что
они отстаивали метафизический идеализм и бескомпромиссно
противостояли материализму и позитивизму. Самой значительной и
колоритной фигурой среди этих мыслителей был Владимир Соловьев.
Оригинальность и влияние Соловьева происходили от его
способности примирить притязания на глобальную философскую систему с
русской интеллектуальной традицией, не склонной к исследованию
«чисто теоретических» проблем. Хотя система Соловьева сама
возникла из общего процесса превращения философии в автономную
сферу деятельности, где трудились философы-профессионалы,
однако его система притязала как раз на то, чтобы противостоять
этому процессу специализации во имя идеала «цельности» - идеала,
постулатом которого было убеждение в том, что теоретическая
философия должна органически соединяться с религией и
общественной практикой.
398 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ СОЛОВЬЕВА
Жизнь Соловьева
Владимир Соловьев (1853-1900) был сыном Сергея Соловьева,
ведущего историка-западника, профессора Московского университета.
Дед его был православным священником, и Владимир воспитывался
матерью в атмосфере благочестия. Его друг Л.М. Лопатин
рассказывает, что когда Володе было четырнадцать лет, он пережил
религиозный кризис, в результате которого юный Соловьев стал «полным
материалистом», «типичным нигилистом шестидесятых годов»1.
Соловьев в это время исповедовал своего рода хилиастический атеизм
в соединении с пламенной верой в полное преображение мира -
верой, которая, надо сказать, никогда не оставляла его впоследствии.
Когда ему было семнадцать лет, Соловьев поступил на историко-
филологический факультет Московского университета, но вскоре под
впечатлением от статьи Писарева «Наша университетская наука»
перевелся на естественнонаучный факультет. Однако он продолжал
читать философские труды (Спинозу, Шопенгауэра, Канта, Шеллинга,
Фихте и Гегеля); и в результате этих чтений и собственных
размышлений и переживаний Соловьев вновь обрел веру в Бога и в
философскую значительность и глубину христианства. В 1872 г. в возрасте
девятнадцати лет он снова стал убежденным христианином. Он
оставил свои занятия естествознанием и целиком посвятил себя
философии, обучаясь под руководством философа и богослова П.Д. Юркеви-
ча. Посещал он также и лекции в Московской духовной академии.
Магистерская диссертация Соловьева «Кризис западной философии:
против позитивистов» была опубликована в 1874 г., и вскоре после
этого он начал преподавать в Петербургском университете. Однако уже в
следующем году Соловьев обратился за разрешением на поездку в
Англию для того, чтобы собрать материал для своих исследований в
библиотеке Британского музея. В Лондоне Соловьев погрузился в изучение
истории мистицизма, особенно неоплатонической традиции и
германской мистики и теософии (Якоб Беме, Франц Баадер). Затем по
внезапному побуждению он отправился в Египет, что едва не привело к
трагическим последствиям. Одетый в ту же одежду, которую он обычно
носил в Лондоне, Соловьев однажды отправился на прогулку в пустыню
в поисках некоего туземного племени, которое считалось хранителем
древней каббалистической традиции. Бедуины-кочевники, увидев его
1 Лопатин Л.М. Философское мировоззрение B.C. Соловьева // Он же.
Философские характеристики и речи. М., 1911. С. 123.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 399
в длинном черном пальто и в высокой черной шляпе, приняли
Соловьева за злого духа, и он едва избежал смерти.
Действительной причиной путешествия Соловьева в Египет было
мистическое видение, которое он назвал «Софией», или «Вечной
женственностью», - персонификацией пассивного аспекта Бога. Это
видение посещало Соловьева трижды: впервые - в детстве, когда он
страдал от неразделенной любви к девятилетней девочке; второй раз
видение явилось ему в Британском музее, когда некий голос приказал
ему отправиться в Египет; а в третий раз видение было в пустыне
после приключения с бедуинами. Через двадцать лет Соловьев,
писавший еще и стихи, изобразит три эти свои видения в полушутливом
автобиографическом стихотворении «Три свидания».
После возвращения в Россию (летом 1976 г.) Соловьев
устанавливает тесные отношения со славянофильскими и панславянскими
кругами (главным образом - с Иваном Аксаковым), а также с
Достоевским, на которого Соловьев произвел очень глубокое впечатление
(существуют веские основания полагать, что Соловьев послужил
романисту прототипом Алеши Карамазова, а некоторые особенности
Соловьева писатель заимствовал при создании образа Ивана
Карамазова)1. В 1878 г. Соловьев прочитал в Петербурге имевшие большой
успех публичные «Чтения о Богочеловечестве». Через два года он
представил на соискание свою докторскую диссертацию под
названием «Критика отвлеченных начал» (1880), а после получения звания
доцента возобновил чтение академических лекций в университете и
на Высших женских курсах. Но академическая карьера оказалась
недолгой: после убийства Александра II Соловьев выступил с
публичной лекцией, в которой осудил революционеров, но также призвал
нового императора сохранить им жизнь. В результате Соловьеву
сначала запретили чтение публичных лекций, а вскоре вынудили и вовсе
оставить университет.
По мере того как Соловьев обретал интеллектуальную зрелость, он
все больше отходил от эпигонов славянофильства. Окончательный
разрыв произошел в 1883 г., когда Соловьев перестал печататься в
«Руси» Ивана Аксакова и вместо этого, к возмущению своих друзей
из «правых», сделался автором либерального и западнического
«Русского вестника». Это было концом первого этапа его идейной
эволюции и началом второго этапа, который князь Евгений Трубецкой
(автор двухтомного труда о философии Соловьева) назвал «утопическим
периодом»2.
1 См.: Мочульский К Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Париж, 1951. С. 80.
2 См.: Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 1. М., 1913. С. 87.
Трубецкой разделяет идейную эволюцию Соловьева на три периода: (1) «подго-
400 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Утопия, вдохновлявшая Соловьева в этот первый период, -
объединение всех христианских церквей, вслед за которым должно
последовать установление теократического царства небесного на земле.
Именно ради этого своего идеала Соловьев выступил против всех
форм национализма, отверг славянофильскую идеализацию
православного христианства и осудил преследования национальных и
религиозных меньшинств (его статьи на эту тему, опубликованные в
«Русском вестнике», позднее были собраны в двухтомнике
«Национальный вопрос в России»). С либералами Соловьев разделял также веру
в буржуазный прогресс - позиция, которая вызывала особый гнев у
его ультрареакционного поклонника Константина Леонтьева. А
между тем образ будущего, развивавшийся в книгах Соловьева,
опубликованных, чтобы избежать цензуры, за рубежом («История и
будущность теократии», 1887; L Idée russe, 1881; La Russie et Г Eglise
Universelle, 1889), - этот образ будущего был далеко не либеральным:
судьба человечества на земле обретала свершение в духовном
объединении под властью римского папы и в политическом объединении
под властью российского императора. Соловьев пытался привлечь
хорватского епископа Иосифа Строссмайера к осуществлению своего
замысла, а через него - и папу Льва XIII. Штроссмайер, живший
мечтами о всеславянском единстве, восхищался идеей Соловьева; да и
папа Лев тоже соглашался, что идеал, предложенный русским
философом, прекрасен, но он полагал, что осуществить этот идеал могло
бы только чудо1.
В начале 1890-х гг. Соловьев уже сам начал терять веру в
возможность осуществления своего идеального «царства». Теперь он вступил
в третий период своей философской эволюции: он вернулся к
предмету своего первоначального интереса - к чистой философии. В конце
жизни взгляды Соловьева претерпели еще одну, последнюю
эволюцию: он утратил оптимистическую веру в будущее и все больше
отдавался эсхатологическим предчувствиям катастрофы.
Соловьев был тонкой и очень сложной личностью, не лишенной
некоторой загадочности. Его внешние черты придавали ему вид
человека не от мира сего, так что простые люди часто принимали его за
товительный» - до 1882 года; (2) «утопический» - примерно с 1882-го по
1894 год (Мочульский в своей биографии Соловьева полагает, что этот период
закончился в начале 1890-х годов); (3) «положительный» период - годы, когда
Соловьев больше не верил в осуществимость своей утопической мечты и
сосредоточился на разработке теоретических оснований своей метафизики и этики.
Д. Стремуков (Stremoukhoff) в своей работе V. Soloviev et son oeuvre messianique
(Strasbourg, 1935) выделяет в эволюции Соловьева еще последнюю -
апокалипсическую - фазу.
1 См.: Мочульский К. Владимир Соловьев. С. 185.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 401
священника и вставали перед ним на колени. В то же время у него
было своеобразное чувство юмора, и в своих стихах он сам над собой
посмеивался. В его природе было нечто детское и доверчивое, и он
был склонен видеть все явления с духовной точки зрения, в качестве
«отражения незримого мира»; но хотя он и проповедовал принятие
«мирского» через «преобразование божественным», он, тем не менее,
не мог найти общего языка со своей повседневной, прозаической
жизнью. Он легко влюблялся, и его мистицизм, несомненно, был
сублимацией эротических чувств, хотя этот мистицизм невозможно вовсе
сбросить со счета как просто замещение эротики. Он вел беспорядочную
жизнь, днем часто спал, а ночью работал, мало заботясь о будущем.
Известно, что он был не в состоянии отказать нищему и мог отдать все
имевшиеся у него деньги и даже расстаться со своими ботинками.
Однажды его нашли дрожащим от холода, потому что он отдал всю свою
теплую одежду. Подобно Толстому, Соловьев был визионером, но его
видения были не грозными раскатами патриархального
пророка-громовержца, но чуткими мечтами эксцентричного поэта-романтика.
Философия всеединства
В ранних произведениях Соловьева влияние философского
романтизма первых славянофилов совершенно очевидно1. В частности,
Соловьев основывался на идеях Киреевского, особенно на его
концепции интегральной целостности - концепции, которая должна была
противостоять деструктивным воздействиям рационализма.
В своей магистерской диссертации Соловьев определяет кризис
западноевропейской философии как кризис рационализма - всякого
отвлеченного, абстрактного, чисто теоретического познания. В
развитии человеческого духа, полагал Соловьев, философия выражает
стадию индивидуалистической рефлексии, и эти формы -
промежуточное звено между примитивным религиозным единством и будущим
восстановлением духовного единства посредством универсального
синтеза науки, философии и религии. Плюрализм философских
систем - продукт разложения первобытного единства, результат
отчуждения и самоутверждения индивидуального Я. Западная философия
родилась из конфликта индивидуального разума и веры: этапы ее
развития - рационализация веры (схоластика), затем полное отрицание
веры и, наконец, полное отрицание всякого непосредственного зна-
Детальное сопоставление взглядов Соловьева со славянофильской
философией можно найти в работе: Walicki A. The Slavophile Controversy, глава 15.
О взаимоотношениях между Соловьевым, Достоевским и русским
славянофильством см.: Zernov N. Three Russian Prophets: Khomyakov, Dostoevsky, Solovyov.
London, 1944.
402 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ния - концепция, которая наложила тень сомнения на
субстанциальный характер внешнего мира и отождествила бытие с мышлением
(Гегель). В рамках этой славянофильской схемы Соловьев
выдвигает несколько своих собственных идей относительно ключевых
пунктов в диалектическом развитии европейской мысли и уделяет
значительное внимание ряду философских систем, включая системы
Шопенгауэра и Эдуарда фон Гартмана. Раздел, посвященный Гегелю
и философии после Гегеля, представляет особый интерес: здесь
славянофильская критика гегельянства сливается с предостережениями
Достоевского о деструктивном влиянии обожествления человека
(Человекобога)1.
Для Соловьева идеи Гартмана - самый крайний пример кризиса
западной философии, хотя эти идеи, парадоксальным образом, тоже
предвосхищают тот грядущий день, когда философия сольется с
религией и тем самым восстановит духовное единство. «Философия
бессознательного» Гартмана представляется Соловьеву реабилитацией
метафизики, отвергнутой позитивистами, - возвращением к
религиозному понятию «всеединства». Приписав Гартману свои собственные
представления, Соловьев объявляет, что вслед за уничтожением
эгоистического самоутверждения борющихся между собой индивидов
последует не буддийская Нирвана, но apokastasis ton panton - «царство
духа», связанное единством абсолютного духа. Соловьев считает
такое представление конечным итогом всей эволюции западной
философии (т.е. философии вообще) - эволюции, которая равнозначна
новому открытию древних истин, сохраненных в традиции восточного
христианства.
Первый труд, в котором Соловьев наметил общие очертания своей
собственной системы, называется «Философские начала цельного
знания» (1877). Само название ясно указывает на понятие
«цельность», или «целостность», которое было стержнем философского
творчества Киреевского. При этом, однако, Соловьев выдвигает ряд
идей, которых не найти в славянофильском учении, например
представление Конта, что человечество - это «действительный, хотя и
собирательный организм», коллективный субъект истории2.
Эволюционный процесс, утверждает Соловьев, проходит три
стадии: стадию примитивного, или первобытного,
недифференцированного единства; стадию дифференциации, когда индивидуальные части
отделяются друг от друга; стадию нового соединения, воссоединения,
всеединства, когда единство восстанавливается, но теперь уже как
«свободное единство», которое не сводит дифференциацию к нулю, а
1 См. выше. С. 117, 338-344.
2 Соловьев B.C. Собр. соч. СПб. б.г. Т. 1. С. 232.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 403
скрепляет отдельные элементы воедино посредством органической
внутренней связи. В процессе эволюции человечества (к которой
данная схема тоже применима) первая стадия - субстанциональный
монизм - представлена миром Востока (включая ислам XIX века),
а вторая стадия - западноевропейской цивилизацией. Обе эти стадии
были необходимыми этапами в цикле развития, но сами по себе они
не равны в своей ценности; любого рода монизм, по мнению
Соловьева, выше атомизма, так что «мусульманский Восток выше западной
цивилизации».
В период примитивного единства три области человеческой
деятельности - сферы творчества, научного познания и общественной
практики - полностью подчинены религии. В сфере творчества
технология (первая, или материальная, ступень) смешана с искусством
(вторая, или формальная, ступень) и мистицизмом (высшая, или
абсолютная, ступень) в недифференцированном, мистическом
творчестве - в том, что Соловьев называет «теургией». В сфере познания
положительная наука (материальная ступень) сливается с отвлеченной
философией (формальная ступень) и теологией (абсолютная ступень)
в недифференцированное целое, которое можно назвать теософией.
В сфере общественной практики экономическое общество
производителей, или земство (материальная ступень), сливается с государством
(формальная ступень) и церковью (абсолютная ступень), образуя
однородное и «теократическое» целое. На второй стадии эволюции
(представляемой Западной Европой) различные ступени в пределах
каждой сферы стремятся к автономии и господству друг над другом.
В результате этой борьбы материя победила дух: конечный итог
западной цивилизации (и подлинное порождение капитализма, как
называет его Соловьев) - экономический социализм в общественной
сфере, позитивизм в сфере научного познания, а утилитаризм, или
реализм, в сфере творчества. Но это еще не последняя стадия
эволюции человечества; в соответствии со всеобщим по своей значимости
законом развития за первыми двумя стадиями должна последовать
третья - стадия свободного единства, когда отдельные сферы, или
«ступени», человеческого творчества, познания и общественной
практики вновь соединятся, но сохраняя при этом свои отличительные
свойства. В трех областях жизни это обновленное единство выразит
себя в качестве «свободной теургии», «свободной теософии» и
«свободной теократии». «Итак, - заключает Соловьев, - все сферы и
степени общечеловеческого существования в этом третьем
окончательном фазисе исторического развития должны будут образовать
органическое целое, единое в своей основе и цели, множественно-
тройственное в своих органах и членах. Нормальная соотносительная
деятельность всех органов образует новую общую сферу - цельной
404 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
жизни. Носителем этой жизни в человечестве может быть сначала,
как мы видели, только народ русский»1.
Небольшое отступление: интересно проследить более детально
оправдание исторической судьбы русского народа, которое находим в
публичной лекции Соловьева «Три силы», прочитанной им в том же
1877 г. (в год русско-турецкой войны «за освобождение славян»).
В этой лекции Соловьев высказал предположение, что реальные
носители «трех сил, управлявших эволюцией человечества с самого
начала истории», - это «три исторических мира» или, точнее, три
отдельных культуры - мусульманский Восток, цивилизация Запада и
славянство. Первую силу представляет ископаемое деспотическое
единство, в котором все жизненные сферы подчинены религии и
человек тем самым превращен в безжизненное орудие «бесчеловечного
Бога». Вторая сила ставит «безбожного человека» против
«бесчеловечного Бога»; ее последнее слово - «всеобщий эгоизм и анархия»,
полная атомизация жизни, науки и искусства. Эти три силы никогда
не встречаются (и не могут встретиться) в своей чистой форме; скорее
их следует рассматривать в качестве специфических направлений,
полная и окончательная реализация которых означала бы
уничтожение человечества. Помешать этому - такова миссия третьей силы,
способной достичь синтеза «единства» и «множества» и сделать Бога
«человечным», а человека приблизить к Богу, примирить Восток и
Запад. Эта третья сила может возрасти в своей мощи благодаря
божественному откровению, и представлять эту силу может только такой
народ, который способен быть посредником между божественным и
человеческим. Такой посредник должен быть совершенно лишен
исключительности или односторонности; он должен быть наделен
непоколебимой верой в божественное, способностью выходить за пределы
своих собственных, частных интересов, презрением к вещам этого
мира и умением не растрачивать свою энергию. На множество
отдельных сфер деятельности эти свойства, заключает Соловьев,
«несомненно принадлежат племенному характеру славянства, в
особенности же национальному характеру русского народа»2.
Теперь вернемся к «Философским началам цельного знания».
После водного раздела Соловьев переходит к более полному исследова-
1 Там же. С. 262.
2 Там же. С. 224. Здесь явно слышны отголоски мессианизма Достоевского,
особенно его концепции «всечеловеческой» миссии русского народа. Связь
между идеями Соловьева и идеями Достоевского проанализировал Сергей Гессен
в статье Der Kampf der Utopie und der Autonomie des Guten in der Weltanschauung
Dostojewskis und W. Solowjows // Die Pädagogische Hochschule. Baden, 1929,
№ 4. <Борьба утопии и антиномии добра в мировоззрении Ф.М. Достоевского
и Вл. Соловьева; см.: Гессен СИ. Избранные сочинения. М, 1999. С. 609-677. -
Прим. перев>
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 405
нию идеи «свободной теософии» (другими словами «цельного
знания»). Он различает три типа философии - натурализм (эмпиризм),
рационализм и мистицизм. Эмпиризм и рационализм, утверждает
Соловьев, избирают разные пути, но приходят к одному и тому
результату - отрицанию субстанциональной реальности как внешнего мира,
так и самого познающего. Абсурдность такого итога иллюстрирует
банкротство всей «схоластической», то есть теоретической,
философии. Высший тип познания - мистицизм, который опирается на
сверхъестественные источники знания и ищет «живые и цельные»
истины, которые включают не только интеллект, но также и «волю
к добру» и «чувство прекрасного - красоты». Однако сам мистицизм
не может приравниваться к настоящей философии, поскольку эта
последняя постулирует внутренний, органический синтез всех типов
философской мысли - аналогично синтезу науки, философии и
теологии в высшем, свободном теософском единстве. Подытоживая свои
размышления об источниках, методах и целях цельного знания,
Соловьев писал:
Свободная теософия вообще есть знание, имеющее предметом
истинно сущее в его объективном проявлении, целью - внутреннее
соединение человека с истинно сущим, матерьялом - данные
человеческого опыта во всех его видах, а именно, во-первых, опыта
мистического, затем внутреннего или психического и, наконец, внешнего
или физического; основною формой своею имеющее умственное
созерцание или интуицию идей, связанную в общую систему
посредством чисто логического или отвлеченного мышления, и, наконег\,
деятельным источником или производящею причиной - вдохновение,
то есть действие высших идеальных существ на человеческий дух1.
Соловьев намеревался также разработать три основных начала
своей философии свободы - органическую логику, органическую
метафизику и органическую этику, - но «Философские начала цельного
знания» обрываются на разделе об органической логике. Под
«логикой» Соловьев понимает науку о первоначале, Urprinzip, или, точнее,
«логос» как первое начало на второй стадии самодифференциации,
соответствующей второму члену Святой Троицы. Соловьев называет
этот свой метод «положительной диалектикой» и настаивает на том,
что этот метод принципиально отличается от рационалистической
диалектики Гегеля. «Положительная диалектика» позволяет каждый
предмет определять посредством трихотомического отношения к
абсолютному первоначалу: (1) в его субстанциональном единстве с
первоначалом, т.е. чистой потенциальности или положительном ничто
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 1. С. 294.
406 Анджей Валицкнн. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
(в Боге-Отце); (2) в самодифференциации, т.е. в акте самореализации
(в «логосе», или Сыне); (3) в свободном, или опосредованном,
единстве с первоначалом (в Святом Духе). Дифференциация среди
отдельных логических категорий (Соловьев собирался представить двадцать
семь таких категорий) возможна только в «логосе», и потому она
относительна, поскольку «логос» по самой своей природе есть
отношение. Три способа, посредством которых первоначало относится ко
всему остальному, а также к себе самому, можно назвать скрытым,
откровенным и воплощенным, или конкретным, «логосом (Христос).
Эти соображения представляют собой как бы связующее звено между
«логикой» Соловьева и темой «Богочеловечества».
Труд, в котором Соловьев суммировал и систематизировал свои идеи
в области теории познания, этики и общественной философии - его
докторская диссертация «Критика отвлеченных начал» (1880). В этом
произведении Соловьев возвращается к концепции «свободной теософии»
и «свободной теократии», только теперь вместо понятия «цельного»
появляется понятие «Всеединство». То, что Соловьев называет
«отвлеченными началами», - это различные стороны «Всеединства»: отделившись
от целого и установив свою автономию, они теряют свою подлинность,
вступая в конфликт друг с другом, и вовлекают человечество в состояние
разъединения и хаоса. В таком состоянии кризиса философия должна
попытаться восстановить духовное единство и в сфере познания, и в
сфере общественной. В поддержку этой своей программы возвращения к
единству Соловьев отрицает «теоретическую философию»
(«отвлеченное знание») и автономию этики (чтобы избежать «отвлеченного
морализма»). В других разделах своей диссертации Соловьев вновь
использует славянофильские идеи: представление, в соответствии с которым вера
лежит в основе всякого знания, заимствовано из эпистемологии
Хомякова; а идея «свободной общинности», основанной на любви и
исключающей «внешний авторитет», - это опять-таки сразу узнаваемая версия
славянофильской «соборности».
Богочеловечество и «София»
Для Соловьева вопросы теории познания и этики вторичны по
отношению к философии религии, которая тесно связана с
антропологией, космологией и философией истории. В основе его философии
религии лежит понятие «Богочеловечества», мистериальная идея
«Бога, ставшего Человеком», в которой Соловьев видел подлинный
смысл христианства. Религия Богочеловечества (ее, как настаивает
Соловьев, нужно отличать от официального богословия христианских
церквей) - высшая форма религиозного сознания, потому что вера в
Бога - это самое ценное: Бог может соединяться с человеком, не по-
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 407
давляя и не поглощая его. Богочеловечество содержит истины как
Востока, так и Запада, и, в сущности, - истину всех религий, не
исключая и веру атеистов в Человечество.
Идея Богочеловечества позволила Соловьеву преодолеть дуализм
традиционной христианской теологии - дуализм божественного и
временного, - не впадая в пантеизм. Понятие «Бога, ставшего
Человеком», не предполагает ни дуалистической веры в трансцендентность
Бога, ни пантеистической веры в Его имманентность как
всепроникающее начало. Тем не менее, Бог и трансцендентен, и имманентен,
а опосредующее начало, которое позволяет миру пресуществляться
Божественным духом, - связующее звено между Богом и
сотворенной материей, - это Человек . Предельная цель вселенной - синтез
временного и божественного - всемирное восстановление в живом
Всеединстве. Согласно Соловьеву, вся природа тяготеет к Человеку,
и человечество взращивает Богочеловека в своем чреве. Инкарнация
Бога в Иисусе Христе - центральное событие не только истории
человечества, но и всего космического процесса.
Понятие Богочеловечества в творчестве Соловьева тесно связано
с идеей «Софии», или Божественной Мудрости, о которой написано
в Библии: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий
своих, искони» (Притчи, 8: 22-23). Соловьев отождествил Софию
с таинственным существом, которое являлось ему в его мистических
видениях; о ней он прочитал все, что мог в безбрежной мистической
и теософской литературе, в которой говорится о Софии. Он изучил
еврейские мистические сочинения - Кабалу (в которой София
принимает вид женщины), произведения Якоба Беме, в которых София
отождествляется с «Вечной Женственностью», и сочинения Сведен-
борга, Сен-Мартена и Баадера. Соловьев верил, что «София»
особенно близка мистическим традициям восточного христианства, потому
что она изображена на одной старой иконе в Новгородском соборе.
В поздние годы Соловьев пытался доказать, что «София» идентична
понятию Le Grand Etre - идеальному бытию в философии Конта2.
Понятие «София» не вполне прояснено в философии Соловьева,
в особенности потому, что в других его работах оно подвергается раз-
Существует поразительное сродство между этими воззрениями и
взглядами польских философов-романтиков (особенно А. Цешковским, В. Трентовским
и 3. Красинским), которые пытались примирить теизм с атеизмом и
трансцендентность с имманентностью для того, чтобы «мир не был безбожным, а Бог -
«внемирным» (Цешковский). Это сходство отмечено Бердяевым, который
предположил, что Цешковский в некоторых отношениях превосходит Соловьева. См.:
Бердяев H.A. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX и начала
XX века. Paris, 1946. С. 213-215.
2 См. лекцию Соловьева 1898 года «Идея человечества у Огюста Конта»
{Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 8).
408 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ного рода модификациям. Развивая свои теории, Соловьев
использовал идеи, заимствованные им у Платона, неоплатоников, Лейбница
(представление об идеях как монадах) и Шеллинга. В широком
смысле «София» представляет Мировую Душу, идеальную Человечность
и «вечную женственность». В каждом организме, считает Соловьев,
есть два типа единства - творящее и сотворенное. Во Христе (как
второй субстанции Бога) активное, творческое единство - это Слово, или
«логос», а сотворенное единство - это «София». Представляя
существенную «единственность» божественных архетипических идей
(которые Соловьев считал жизненными силами), «София» является
Мировой Душой и одновременно идеальной человечностью, роль
которой состоит в опосредовании между Богом и миром. В качестве
«Слова, ставшего плотью», то есть божественной материи, «София»
символизирует пассивное, рецептивное и, в этом смысле,
женственное начало.
Мировая Душа имеет свою собственную волю, и этот факт сделал
возможным Грехопадение, начало космической драмы. Осознав
желание отделиться от Бога и утвердить свое бытие вне Бога, «София»
утратила свою свободу, свое центральное положение и власть над
творением. Результатом отпадения «Софии» от Бога является
пространственно-временной мир объектов, в котором единство
распалось, и жизнь оказалась во власти смерти. Прежде чем идеал
Всеединства можно будет осуществить, мир вновь должен воссоединиться
с Богом: Мировая Душа должна слиться с «логосом». Процесс
воссоединения - медленный процесс: порыв к Всеединству сначала
проявляется в природе как слепая сила (закон тяготения, комбинация
элементов в химических процессах и т.п.), потом - как начало
организации (органической жизни) и, наконец (после появления человеческого
рода), как сознательная и свободная деятельность. Последовательные
стадии процесса творения (космогония) имеют свое соответствие в
стадиях теогонии, то есть в идеях человека о Боге. Моментом,
ставшим поворотным (хотя вся предшествующая история мира и
человечества подводила к нему), было христианство: Бог стал человеком в
историческом Иисусе Христе, и это событие - совершившаяся теофа-
ния после целого ряда неполных подготовительных теофаний. После
этого события порыв к Всеединству оказывается сильнее, чем силы
смерти и распада. Тем не менее, идеал совершенного человека,
воплощенного в Иисусе, то есть идеал Богочеловека, может быть
реализован только в идеальном обществе - Царстве Божием на земле. Это
будет завершающей стадией истории человечества на земле;
природный мир будет спасен во второй раз, «пресуществлен божественно»,
он освободится от власти смерти и соединится с Богом в свободном
Всеединстве.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 409
В этой теории орудием окончательного восстановления
Всеединства должно быть человечество, соединившееся с Богом через
Христа, - то есть христианская церковь. Однако христианство страдает
от разделения внутреннего. На Западе христианская церковь стала
жертвой искушений земной власти во времени (католичество), или от
греха интеллектуальной гордыни (протестантизм); на Востоке же
православие сохранило чистой истину Христа, но оно не пыталось
воплотить ее во внешнем, историческом мире культуры. Западная
цивилизация развивала человеческое начало, тогда как Восток остался
верным божественному началу. Поэтому реализация Богочеловечества
в человеческом обществе - сущностное предусловие полного
преображения мира - требует примирения Востока и Запада и объединения
христианских церквей.
Теократическая утопия
и теория любви Соловьева: влияние Федорова
Соловьев воображал, что Царство Божие на земле осуществится
в качестве «свободной теократии». Поскольку Бог - высший
авторитет и власть, рассуждал Соловьев, то правительство, состоящее из
людей, всегда - узурпация и тирания. С другой стороны, Бог не
проявляет свою власть непосредственно: на земле Бога представляет Его
высокий наместник - император и пророки. Структура легитимной
власти авторитета - триедина в соответствии с тремя субстанциями
Святой Троицы: триединство папского, имперского и пророческого
элементов - это отражение во времени триединства Бога-Отца, Сына
и Святого Духа. Царство Божие установится на земле, когда
человечество соединится под властью одного первосвященника и одного
императора и когда подлинные пророки - «свободное дыхание
божественного духа» - будут проявляться постоянно среди простых
людей, опосредуя власть земного времени и власть духовную. После
соединения и подчинения Богу род человеческий осуществит свою
миссию во вселенной: тварный мир сольется с божественным миром,
восстановит единство в падшей природе и одолеет силы хаоса и смерти.
Как упоминалось ранее, выбор Соловьевым первосвященника пал
на римского папу. Подобно Чаадаеву до него, Соловьев пришел к
выводу, что в ссоре с Византией правота была на стороне Рима.
Отколовшись от всеобщего единства, православная церковь позволила,
чтобы христианство стало прислуживать национальному
партикуляризму. Католическая церковь тоже делала ошибки, но она была
активной исторической силой, посвятившей себя строительству Царства
Божия, тогда как в православии течение подлинного христианства
представлено в созерцательной жизни монастырей. Соловьев утвер-
410 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
дился в своем критическом взгляде на православие как на такую
религию, которая раболепствует перед мирскими властями в ходе
осуществления Победоносцевым преследований религиозных и
национальных меньшинств и вследствие той роли, которую играла церковь
в их русификации. В статье Saint Vladimir et l'Etat Chrétien (1888)
Соловьев даже утверждает, что в России идеал всемирной церкви
выражает не официальное православие, но преследуемые староверы.
Соловьев был человеком удивительных противоречий: осуждая
все формы национализма, он верил, что России суждено сыграть
мессианскую роль в политическом объединении человечества под
властью царя. Русская империя станет «третьим Римом», который
примирит первые два1. Успех этой миссии, на взгляд Соловьева, зависит
от внутреннего преобразования российского общества и, в частности,
от решения еврейского и польского вопросов. Но при всех этих своих
оговорках тем более удивительно, насколько сильно Соловьев тяготел
к идеализированной картине русского самодержавия и до какой
степени его оценки находились под воздействием взглядов,
распространенных в реакционных кругах, - взглядов, против которых он сам же
и выступал. Русский абсолютизм, по мысли Соловьева, создаст
обновление и искупление Европы путем конфронтации с безбожными силами
Западного мира; правда, Соловьев не высказывал в точности то, что он
имел в виду, но не может быть никакого сомнения в том, что его вера
в такого рода миссию официального правительства несовместима с
заявленным им идеалом полной свободы совести.
Мнения Соловьева по польскому вопросу тоже наивны и, в
сущности, реакционны2. Он был убежден, что враждебность Польши к
России коренится в чисто духовных причинах и что с материальной
стороны связь с Россией для Польши - преимущество. Поскольку
«польскость» Соловьев отождествлял с католичеством и с ведущей
ролью дворянства (широко распространенное воззрение,
популяризированное славянофилами и народниками), то он, естественно, считал,
что примирение России с Римом устранит основную причину
польской вражды, особенно если Польшу попросят сыграть важную роль
посредника в этом примирении. В то же время общественные притя-
1 Идея, что Москва может стать «третьим Римом», впервые была
сформулирована в конце пятнадцатого столетия монахом Филофеем, который заявил, что
после падения Византии (второго Рима) Россия избрана Богом для того, чтобы
быть третьим и последним Римом.
2 В новом издании настоящей книги автор значительно смягчил эту оценку,
представляя взгляды Соловьева на национальный вопрос как благородную
попытку соединить христианские ценности с идеей национальности,
освобожденной от национализма и крепко связанной с либеральными принципами в
политической жизни. (Примечание автора 2010 г.)
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 411
зания поместной польской аристократии можно будет удовлетворить,
если аристократию пригласят занять место независимого и активного
высшего класса, который в самой России отсутствует. А когда поляки
будут удовлетворены морально, то это автоматически приведет к
исчезновению русского нигилизма, который Соловьев называл «маской
польского вопроса».
К чести Соловьева, он был способен признавать свои ошибки.
Чем дальше, тем больше он терял иллюзии, связанные с
«христианством» консервативных кругов, где и к нему тоже относились с
возрастающим недоверием, а в связи с жестоким голодом 1891-1892 гг.
он даже начал сомневаться в позитивной роли самодержавного
государства. В своей лекции «Об упадке средневекового миросозерцания»
(прочитанной в 1891 г., в год голода) Соловьев утверждал, что
неверующие больше сделали для прогресса человечества, чем христиане.
(После той лекции Леонтьев объявил его негодяем и орудием
Антихриста.) В следующем году Соловьев сказал Е. Трубецкому, что ему
хочется присоединиться к неверующим и бороться против христиан
своего времени1. Несомненно, это было сказано в момент
раздражения, но это раздражение выражало неподдельную горечь
разочарованного идеалиста.
Хотя Соловьев и разочаровался в том, что касалось национальной
миссии России и своей теократической утопии, но это не означало,
что все утопические мотивы автоматически исчезли из его
мировоззрения. Наоборот, в начале 1880-х гг. в его размышлениях
преобладает утопическое созерцание со специфическим оттенком эроса.
Плодами этих размышлений стали пять статей под общим заглавием
«Смысл любви» (1892-1894).
Эротическая струя, тесно связанная с идеалом «вечной
женственности», проходит через всю философию Соловьева. Его концепция
Всеединства основывается на идее «суггестивного» единства части и
целого, своего рода любовного сотрудничества, в котором
устремление к воссоединению и целостности преодолевает
дезинтегрирующую, центробежную силу эгоизма2. Но этот «панэротизм» в
мировоззрении Соловьева сопровождается неприязнью к физическим
взаимоотношениям, которые Соловьев считал симптомом грехопадения: он
проводит различие между любовью-эросом (под которой он понимает
идеальную любовь, связывающую два пола) и собственно физические
взаимоотношения между полами. Соловьев также отвергает взгляд,
в соответствии с которым целью любви является зачатие, то есть
продолжение рода, и утверждает, что в природе не существует прямого
1 См.: Мочульский К. Владимир Соловьев. Цит. изд. С. 195.
2 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 6. С. 416.
412 Анджей Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
соответствия между плодородием и силой половой любви. Любовь
между мужчинами и женщинами, на взгляд Соловьева, - одна из
высших ценностей, и он отказывается принять точку зрения
Шопенгауэра, что такая любовь - мираж, которым природа пользуется для
того, чтобы заставить любовников пожертвовать собой ради будущих
поколений. Сущность любви, утверждает Соловьев, составляет порыв
к восстановлению единства - реализации идеала подлинного
человеческого существа, идеала, который представляет нераздельное свободное
единство мужского и женского начал. Полный, всецелый человек создан
по образу и подобию своего Творца, и глубочайший смысл половой
любви состоит в том, что она позволяет человеку пресуществиться в
Боге и вырваться из-под власти смерти. С другой стороны, физический акт
любви помогает утвердить власть смерти, потому что он ведет к «дурной
бесконечности» - бессмысленной пролиферации поколений, каждое из
которьгх является только средством для следующего поколения. Поэтому
физические взаимоотношения разрушают любовь и отрицают ее
подлинный смысл. Властная сила, которая в силу грехопадения «Софии»
обратилась вовне к порождению, должна быть направлена вовнутрь и
стать орудием всемирного восстановления единства.
Эти представления напоминают одержимость немецких
романтиков понятием андрогина. Соловьеву здесь особенно близок Баадер,
который писал, что «любовь - это средство, благодаря которому
мужчина и женщина могут обрести внутреннюю полноту (в душе и в
духе) и таким образом осуществить идею целостного человеческого
существа - образа изначальной божественности человека»1. Общий
источник и концепции Соловьева, и концепции Баадера - это, конечно,
платоновский миф о первых людях, которые были наказаны за свою
самонадеянность тем, что подверглись рассечению на две половины.
Следует, однако, подчеркнуть, что у Соловьева был еще и другой,
чисто русский источник вдохновения - концепция Николая Федорова
(1828-1903), незаконного сына князя Павла Гагарина. Федоров
работал в библиотеке в Румянцевском музее в Москве (ныне Библиотека
имени Ленина) и был автором «Философии общего дела»
(опубликована посмертно). Федоров был эксцентричным человеком, о котором
мало кто знал при его жизни, и то значение, которое придавали ему
позднее некоторые русские историки-эмигранты, представляется
несколько преувеличенным2. Следует, однако, отметить, что теории Фе-
1 См.: Susini Е. Franz von Baader et le romantisme mystique. Paris, 1942. Vol. 3.
P. 569-572.
2 См. разделы, посвященные Федорову, в историях русской философии Зень-
ковского и Лосского. Фрагменты из сочинений Федорова см. в издании: Edie J.
et ai, Russian Philosophy. Chicago, 1965. Vol. 3. P. 16-54.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 413
дорова произвели сильное впечатление как на Толстого, так и на
Достоевского и что Соловьев пытался развивать дальше эти теории в
своей философии. Соловьев познакомился с идеями Федорова в 1878 г.
и сразу же нашел их «недалекими от истины». Последовавшее затем
личное знакомство углубило это впечатление. В начале 1880-х гг.
Соловьев признал Федорова своим учителем и определил его концепцию
как первый шаг, сделанный человеческим духом на пути к Христу1.
Мировоззрение Федорова - странная смесь религиозных и
мистических мотивов с утилитаризмом здравого смысла, а радикальной
критики капитализма - с индустриализацией, культом техники и
естественных наук. У Федорова была почти магическая вера в
способность человека овладеть силами природы и использовать их для
решения «последних вопросов». Хотя он и призывал к
целенаправленной и планомерной перестройке действительности, но эту
«проективную» установку он подчинил утопической фантазии «общего
дела», в соответствии с которой все усилия должны сосредоточиться
на воскрешении мертвых и одолении самой смерти. Отсюда
выходило, что прогресс аморален в принципе, поскольку Федоров не мог
принять «смерти отцов» - отказа от прошлых поколений как всего
лишь ступеней, ведущих к счастью будущих поколений. Эти идеи, по
всей вероятности, произвели впечатление на Достоевского, который
устами Ивана Карамазова подверг критике все историософские
теодицеи, пытавшиеся оправдать конечную справедливость
божественного провидения. «Воле к рождению» - распространению поколений
смертных людей - Федоров противопоставляет «волю к
воскресению» - торжество над смертью и замену физической любви любовью
братьев и сестер. Он думал, что этой цели можно достичь путем
овладения природой и посредством установления общественной системы,
основывающейся на общинной собственности и исключении всех
факторов, которые разделяют людей и вводят элементы борьбы во
взаимоотношения между ними.
Соловьев воспринял от Федорова его критику «воли к рождению»,
а также представление о том, что победа над смертью - единственное
нравственное разрешение драмы истории. Соловьев также принимает
мысль Федорова о том, что искупление должно быть общим,
коллективным актом и что единственный способ, каким человечество может
достичь бессмертия, - соединение в Царстве Божием на земле.
Очевидно, однако, что Соловьева не мог не отталкивать натурализм
Федорова и его откровенный культ науки, и он не особенно
симпатизировал почитанию предков и связанному с ним эгалитарному
коммунизму. Больше того, осуждение Соловьевым деторождения соеди-
1 Мочульский К. Владимир Соловьев. С. 153-154.
414 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
нялось у него со своеобразным панэротизмом - точно так же как его
концепция всемирного воскресения была связана с неоплатоническим
и романтическим идеалом восстановления космического единства и
Богочеловечества. Короче говоря, Соловьев перенял у Федорова
некоторые идеи, но ассимилировал их в несоизмеримо более сложное
философское мировоззрение - мировоззрение, которое, несомненно,
имело больше общего с идеями Новалиса и Баадера, чем с
воззрениями, развитыми в «Философии общего дела».
Автономизация этики и теории познания;
апокалиптические предчувствия
Разочарование в теократическом утопизме привело Соловьева к
тому, что он изменил свой взгляд на возрастающее обмирщение
культуры и на различные идейные направления, связанные с этим
процессом. Соловьев начал с одобрением отзываться о Лесевиче (которому
прежде вообще отказывал в каком бы то ни было философском
значении)1, открыл для себя то новое, что внес Конт в христианское
сознание, и предложил причислить основоположника позитивизма к
христианским святых2, даже выразил согласие с основными положениями
диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к
действительности».
Это постепенное изменение в мировоззрении Соловьева означало,
что он стал относиться менее критически к возрастающей
эмансипации научного познания, художественного творчества и общественной
практики от направляющих пружин религии. Подготавливая к новому
изданию свою книгу «Критика отвлеченных начал», Соловьев пришел
к выводу, что его взгляды на этику изменились настолько, что ему
следует их полностью пересмотреть. Так он пришел к написанию
своего главного труда по этике - книги «Оправдание добра» (1897).
Самая значительная новация в этом произведении - признание
независимости этики не только от религии, но также и от метафизики.
В научной литературе имеет место разногласие относительно того,
насколько далеко заходит эта тенденция к независимости: некоторые
исследователи философии Соловьева полагают, что он склонялся к
полной автономии этики3, в то время как другие считают, что эта
автономия на самом деле лишь кажущаяся, поскольку она предполагает как
свое необходимое предусловие существование Бога и бессмертие души4.
1 См.: Шчулъский. Владимир Соловьев. С. 191.
2 Там же.
3 Там же. С. 229.
4 Трубецкой ЕМ. Миросозерцание... С. 229.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 415
Ближе всего к истине, как нам представляется, взгляд, в соответствии
с которым Соловьев в «Оправдании добра» стремился подчеркнуть
относительную автономию этической сферы - ее независимость от
метафизического знания о Боге и догм положительной религии1.
В части I этой книге («Добро в человеческой природе») Соловьев
пытается придать своей этике эмпирические основания, выводя этику
из чувства стыда, сострадания и религиозного почитания
(«благоговения»). Стыд (его прототипом является стыд сексуальный) выражает
отношение человека к тому, что ниже человека; чувство стыда
напоминает человеку о том, что он духовное существо, призванное к более
высоким целям, чем мир физической материи. В своем дальнейшем
развитии стыд переходит в совесть, роль которой состоит в том,
чтобы восстанавливать целостность во внутренней жизни индивида.
Сострадание - общественное чувство, выражающее отношение человека
к себе подобным, т.е. к своим собратьям; роль сострадания состоит
в том, чтобы превратить общество в целостный организм, в
сущностную истину, т.е. действительную солидарность всех существ.
Наконец, религиозное благочестие выражает отношение человека к тому,
что выше его; его роль - восстановить целостность человеческой
природы путем объединения ее с абсолютным центром вселенной. Тот
факт, что чувство стыда, сострадания и религиозного благоговения -
универсальные чувства, является для Соловьева убедительным
доказательством того, что создание общезначимой и автономной системы
этики (т.е. системы, не зависимой от метафизики и от положительной
религии) - возможно. В то же время, вслед за Кантом, Соловьев
настаивает на том, что этика не может основываться на
психологических данных. Всеобщность и необходимость придает этике разум.
Говорить об этике можно лишь тогда, когда разум выводит внутреннее
этическое содержание из природных данных и подтверждает это
содержание в качестве категорического императива, который не
зависит от психологических оснований2.
В части II «Оправдания добра» («Добро от Бога») Соловьев
развивает свой тезис о том, что добро коренится в Абсолюте. В последней
части («Добро в истории человечества») он рассматривает проблему
нравственности в международных, политических и экономических
отношениях. Соловьев утверждает здесь, что этические соображения
должны играть все большую роль в политике, и критикует
национальный эгоизм; но одновременно с этим он оспаривает
космополитизм, утверждая, что уважение к национальности невозможно
отделить от уважения к личности. Экономическую деятельность Соловьев
1 См.: Hessen S. Der Kampf der Utopie.
2 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 7. С. 130, 169, 173.
416 АиджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
считает спиритуализацией природы и настаивает на том, что ее, эту
деятельность, не следует считать всего лишь борьбой за
существование. Важнейшая роль государства, на его взгляд, состоит в том, чтобы
защищать слабых и, значит, взять на себя ответственность за то,
чтобы экономические отношения опирались на возможно более здоровое
этическое основание. По этому вопросу Соловьев вступил в полемику
с Чичериным, который защищал экономику в духе laissez faire, a
также с Толстым, в глазах которого государство как таковое было только
организацией грабежа.
То обстоятельство, что Соловьев чем дальше, тем больше
склонялся к тому, чтобы сделать философию как таковую, а также
отдельные философские дисциплины мерой автономии, еще отчетливее
проявляется в трех статьях по теории познания, опубликованных под
общим заголовком «Теоретическая философия» (1897-1899). Эти статьи
открываются заявлением автора, что первая обязанность философа-
теоретика состоит в том, чтобы подавить все интересы, кроме чисто
философских, и забыть о всякой другой воле, кроме воли обрести
истину1.
Размышления Соловьева о теоретико-познавательных вопросах
привели к тому, что он отверг спиритуалистический догматизм,
который исходит из представления о субстанциональности познающего.
Картезианское «я мыслю», утверждает Соловьев, совсем не
обязательно предполагает, что «я есмь»; все, что нам доступно, - это
состояния сознания, вне зависимости от которых познающий субъект
только пустая форма2. Полемизируя со своим другом Л.М. Лопатиным и
со своими собственными прежними взглядами, выраженными в
«Лекциях о Богочеловечестве», Соловьев утверждает теперь, что
человеческое сознание не субстанция, а только «гипостасис». Единственная
субстанция в настоящем смысле этого слова - это Абсолют. Только
после своей смерти человек, наконец, субстанциализируется в вечной
идеальности; поэтому субстанциальность - это предел судьбы, а не
внутреннее свойство человеческой души.
Интересно также проанализировать трактовку Соловьевым «трех
типов достоверности», на которые может опираться теоретическая
философия. Первый тип - это субъективные состояния сознания или,
иначе, психический материал познания; второй тип - логическое
рассуждение как таковое (отделенное от содержания); третий тип -
целенаправленное познание («замысел»), т.е. жизненный поступок,
который направляет сознание на абсолютную истину и преобразовывает
непосредственные впечатления в материал сложного комплексного
1 Там же. Т. 8. С. 157.
2 Там же. С. 165-172.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 417
процесса активного постижения . Это несколько напоминает
феноменологическое представление об «интенции» и «интенциональном
акте». Трудно сказать, насколько далеко простирается это соответствие,
поскольку преждевременная смерть Соловьева помешала ему развить
его эпистемологические теории.
В последний год жизни взгляды Соловьева, явным образом,
претерпели еще одно изменение. Его оптимистическая вера в
либеральный прогресс и его убеждение в том, что даже секуляризация это по
существу составная часть общей цели спасения через Иисуса, начали
уступать место пессимистическому настроению. Это настроение
нашло свое выражение в философском диалоге «Три разговора»
(1899-1900) и особенно в «Повести об Антихристе», которая
составляет приложение к этому диалогу.
Если оставить в стороне частности, то «Повесть об Антихристе»
можно в общем виде пересказать следующим образом. В двадцатом
столетии Европу захватывает некая желтокожая раса. Впоследствии
народы Европы сбрасывают монгольское иго и перед лицом общей
опасности создают сильную федерацию демократических государств.
В двадцать первом веке появляется необыкновенный человек: он
спиритуалист, аскет, филантроп; он верит в Бога (хотя любит он только
себя) и желает счастья человечеству. Под его водительством народы
мира объединяются в одно всемирное государство; долгожданная эра
вечного мира уже близка, и социальные реформы кладут конец
нищете. Великий благодетель человечества правит в христианском духе и
пользуется расположением христиан (которых осталось совсем
немного). Он даже собирает экуменический Собор для того, чтобы
объединить христианские церкви. Однако на самом деле этот благодетель
человечества не верит в Христа и хочет занять Его место. Среди
христиан, участвующих в Соборе, только несколько человек
(последователи папы Петра II, старца Иоанна, представляющего православную
церковь, и вождя протестантов профессора Эрнста Паули) распознают
в нем Антихриста. Осуществив лживое объединение христиан,
Антихрист провозглашает себя воплощением Бога на земле; настоящие же
христиане признают своим вождем папу римского и отправляются в
пустыню для того, чтобы ожидать там явления Христа. Между тем
произошло восстание евреев, которые с самого начала верили, что
Антихрист и есть ожидаемый Мессия, а потом, осознав свою ошибку,
в гневе обрушились на узурпатора. Император-Антихрист
направляется со своей армией против мятежников, но благодаря
вмешательству высших сил погибает в огненном озере. Евреи и христиане
направляются в Иерусалим, где они видят нисходящего на землю Христа. Все
мертвые воскресают, чтобы править вместе с Христом тысячу лет.
1 Там же. С. 203, 209, 219-221.
418 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Сам Соловьев (как и многие его последователи и исследователи
его творчества) считал «Повесть об Антихристе» произведением
чрезвычайно значительным1. Такая оценка - явное преувеличение;
если сравнить «Повесть...» с «Легендой о великом инквизиторе»,
сходной с ней в некоторых отношениях, то придется признать, что
видение Достоевского впечатляет гораздо больше. Но, главное,
«Повесть...» не проясняет того, что мировоззрение Соловьева претерпело
некоторые радикальные изменения; она также бросает неожиданный
свет на «зачарованный лик» автора. Оригинальность этого
произведения - в изображении Антихриста как филантропа, который
осуществляет прогрессивные идеалы человечества и даже пытается придать
этим идеалам христианский вид. Именно так представлял себе
Константин Леонтьев - последовательный критик «либерального и
уравнительного прогресса» и «розового христианства» - царство
Антихриста. Окончательная цель Антихриста, по Соловьеву, предстает
почти пародией на его же идеал «свободной теократии». Значит ли это,
что в конце жизни Соловьев пришел к согласию с Леонтьевым,
а, возможно, даже к смутному подозрению, что всем трудом своей
жизни он проложил путь не Царству Божию на земле, но Царству
Антихриста? Отсутствие дополнительных свидетельств делает
невозможным однозначный ответ на этот вопрос; но имеется достаточно
оснований для того, чтобы задать этот вопрос.
Эстетика Соловьева
Соловьев высказывался о проблемах эстетики по самым разным
поводам - как в собственно философских работах, так и в
литературной критике; но его взгляды в этой области не отражают его
интеллектуальной эволюции и не претерпели никаких существенных
изменений. Наиболее систематическое изложение эстетических
представлений Соловьева находим в его работах «Красота в природе» (1889)
и «Общий смысл искусства» (1890).
В качестве эпиграфа к своему эссе о красоте в природе Соловьев
избрал слова Достоевского: «Красота спасет мир». Естественная
красота, заявляет он, - это проявление конкретного действия Абсолюта
в материальном мире; спиритуализируя материю, красота помогает
поднять падшую Мировую Душу и ввести элемент божественного в
действительность.
Роль красоты в искусстве - аналогична: искусство это орудие
восстановления всемирного единства; процесс создания произведения
' См.: Мочульский К. Цит. соч. С. 248.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 419
искусства означает соединение с высшим миром и потому относится к
мистике. Роль искусства состоит в том, чтобы стать теургической
силой, способной преобразовать и «просветлять» человеческий мир.
Красота, по Соловьеву, нечто объективное и не может отделяться
от Истины и Добра; всему прекрасному надлежит помогать
совершенствовать действительность. Соловьев отвергает теории искусства
для искусства и даже цитирует Чернышевского в поддержку своего
воззрения, что такие теории - симптом «эстетического сепаратизма»1.
В своей попытке поставить Красоту в услужение Истине и Добру,
Соловьев подчеркивает ценность общественно призванного,
ангажированного искусства. Оправдание «относительной истины» реализма
путем ссылок на мистическую теорию искусства, основывающуюся
на платонических и шеллингианских мотивах, - одна из самых
курьезных черт эстетики Соловьева.
Однако реализм для Соловьева только предтеча по-настоящему
религиозного искусства будущего. В качестве пророка этого
искусства будущего он указывает на Достоевского, которым Соловьев
восторгается как писателем-пророком - художником, который «создавал
жизнь» и считал свое искусство орудием осуществления Царства
Божьего на земле.
Согласно Соловьеву, пророческий элемент в творчестве
Достоевского - потрясающее выражение глубинной сущности искусства.
Желая того или нет, каждый великий художник в той или иной степени
пророк, и это потому что произведение искусства (в соответствии
с дефиницией Соловьева) - такая репрезентация объекта, которая
показывает его с точки зрения предельной цели, т.е. в свете будущего
мира2.
Последователи Соловьева
Только после смерти Соловьева его идеи сделались
по-настоящему влиятельными. Не будет преувеличением сказать, что все
поколение русских философов-идеалистов и религиозных мыслителей
прошло его философскую школу. Благодаря многим выдающимся
ученикам (после революции работавших главным образом вне
России) Соловьев обрел посмертную репутацию крупнейшего философа.
Сегодня это представление широко распространено среди историков
философии идеалистической ориентации.
Рецепция идей Соловьева - сложный вопрос, но в нем отчетли
во выделяются два аспекта: с одной стороны, творчество Соловьева
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 6. С. 424-431.
2 Там же. С. 78.
420 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
в огромной мере способствовало распространению и усилению
влияния религиозно-идеалистической философии (это очень ясно видно на
интеллектуальной эволюции бывших легальных марксистов -
Булгакова, Бердяева и Франка); с другой стороны, идеи Соловьева,
возбудив интерес к религии, помогли прояснить необходимость далеко
идущей модернизации религиозного сознания и внесли в русскую
религиозную мысль ряд явно неортодоксальных мотивов.
С.Л. Франк (1877-1950), Л.П. Карсавин (1882-1952) и философы-
богословы С.Н. Булгаков (1871-1944) и П.А. Флоренский (1882-1937)
всецело основывались на метафизической концепции «всеединства»
и тесно связанной с нею концепции «Софии». Интуитивист Н.О. Лос-
ский (1870-1965) пытался соединить представление о «всеединстве»
и «Софии» с монадологическим плюрализмом, воспринятым от А.
Козлова. В противоположность этому князь С.Н. Трубецкой (брат
E.H. Трубецкого, автора монографии о Соловьеве) использовал идеи
Соловьева в своей полемике против «гносеологического
индивидуализма»: он утверждал, что индивидуальное сознание коренится в
сверхиндивидуальном, коллективном сознании, которое он
отождествлял с «Софией». Влияние Соловьева очевидно и в «новом
религиозном сознании» литературного критика и романиста Д.С.
Мережковского (1865-1941), и у известного христианского экзистенциалиста
H.A. Бердяева (1874-1948), которого интересовали главным образом
мессианские и эсхатологические мотивы соловьевской мысли. Все
упомянутые философы разделяли также глубокий антирационализм
Соловьева - свойственную ему тенденцию смешивать границы между
философией и религией, а также его склонность к мистицизму.
Творчество Сергея Гессена (1887-1950), философа и педагога,
который поселился в Польше в 1935 г., представляет более
рационалистическое продолжение мышления Соловьева. Гессен тоже воспринял
идею «всеединства», но он предпринял критическое переосмысление
утопических мотивов философии Соловьева, защищая автономию
философии и всех других относительно самостоятельных сфер
культуры от «мнимого Абсолюта»1.
Решающее влияние Соловьева можно проследить также в
творчестве русских поэтов-символистов - В. Иванова, Андрея Белого и,
прежде всего, Александра Блока, чьи ранние «Стихи о Прекрасной
Даме» были посвящены идеалу «вечной женственности». В своих
литературно-критических работах Блок использовал также эстетические
теории Соловьева, особенно «теургическую» концепцию искусства
как силы, преображающей мир, и представление, что эстетическое
1 См.: Гессен СИ. Борьба утопии и автономии добра в мировоззрении
Ф.М. Достоевского и B.C. Соловьева // Он же. Избранные сочинения / Сост.
А. Валицкий, Н. Чистякова. М.: РОССПЭН, 1999. С. 609-677.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 421
созерцание связано с мистическим опытом. Но поэтов-символистов
Соловьев интересовал и как религиозный мыслитель, и как философ
культуры. В 1920 г. Блок назвал его (в статье «Владимир Соловьев
и наше время») «носителем и провидцем» будущего - пророком
«третьей силы», которая когда-нибудь примирит разъединенный мир,
точно так же как христианство в свое время примирило древний мир,
переживавший свой закат, с германскими варварами.
АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВ И ПАНПСИХИЗМ
Другим значительным представителем метафизического
идеализма был Алексей Козлов (1831-1901)1. Подобно Соловьеву, он отвергал
идеализм в узком смысле этого слова, т.е. монистический взгляд на
мир в качестве чистого мышления; такое понимание идеализма
Козлов называл типичной философией переходных эпох, своего рода
компромиссом между спиритуализмом и материализмом, или между
теизмом и атеизмом2. Однако в отличие от Соловьева Козлов не
стремится восстановить связи между философией и религией или дать
философскую интерпретацию христианских истин; в целом он
ограничивается собственно философскими проблемами и пытается
выработать онтологические и эпистемологические основания
спиритуализма. Именно это имел в виду биограф Козлова, С.А. Аскольдов,
когда он утверждал, что идеи Козлова и Соловьева представляют собой
«одну и ту же проблему, но как бы с разных концов»3.
Козлов начал серьезно изучать философию, когда ему было уже
около 40 лет, после того как ему попалась в руки книга Фрауенштедта
о Шопенгауэре. Спустя несколько лет Козлов опубликовал труд о
философии Гартмана, а в 1875 г. он получил кафедру философии в
университете Св. Владимира в Киеве. В 1878 г. он публикует книгу о
Дюринге, в которой полемизирует с позитивистской концепцией
«научной философии». В 1885 г. он начал издавать журнал
«Философский трехмесячник» - первый философский журнал в России, - но
вскоре ему пришлось отказаться от этого своего начинания из-за
правостороннего паралича, приковавшего его к постели на шесть
месяцев. Его биограф полагает, что эта болезнь, которая вынудила
Козлова сосредоточиться на своем внутреннем «я» на такое долгое время,
позволила ему пережить субстанциальность «Я» и тем самым помогла
ему придать окончательный вид своей метафизике.
Козлов был незаконным сыном И.А. Пушкина, дальнего родственника
Александра Пушкина.
2 См.: Аскольдов А. Алексей Александрович Козлов. М., 1912. С. 212-213.
Аскольдов был незаконным сыном Козлова.
3 Там же. С. 217.
422 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
В 1888 г. Козлов вновь начинает издавать время от времени
номера нового журнала «Свое слово», в котором он излагает свои зрелые
философские идеи (он был одним-единственным автором журнала,
который издавался нерегулярно). Из опубликованных в этом журнале
статей самая значительная - философский диалог «Разговоры с
петербургским Сократом». В нем русский Сократ представляет взгляды
автора, а главный оппонент - позитивист Шугаер. Среди других
участников - Иван и Алеша Карамазовы; Козлов, несомненно, давал
этим понять, что его философия дает ответ на вопросы, поставленные
Достоевским.
Исходным пунктом философской спекуляции, полагает Козлов, не
может быть ни представление о «чистом бытии» (как в гегелевской
логике), ни Юмово описание сознания как «пучка чувственных
впечатлений». Анализ сознания показывает, что оно разделяется на
первичное сознание (совокупность простых, непосредственных опытов) и
производное, или сложное, сознание (тотальность всех умственных,
или духовных аспектов). В пределах первичного сознания можно
различать: (1) осознание содержания того или иного опыта, (2) осознание
совершаемых человеком поступков и (3) осознание «своего Я» -
собственной идентичности как индивидуальной духовной субстанции.
Именно в пределах Я и посредством его происходит синтез осознания
опыта с осознанием своих поступков, что делает возможным переход
к сложному сознанию. Поэтому Я - предусловие разума и сознания,
которое невозможно, в качестве категории бытия, ни оправдать, ни
игнорировать, как это делают эмпиризм и идеалистический монизм.
Познающий субъект это субстанция, а не пустой сосуд; сбрасывание со
счетов всех конкретных атрибутов бытия не делает бытие пустым, а
приводит к понятию Я как простой, нередуцируемой духовной монаде.
Пространно-временной мир, по Козлову, - совокупность
состояний сознания. В отличие от Канта, Козлов отказывается считать
пространство и время категориями познания a priori, но еще больше он
против механистического ассоцианизма эмпириков. По существу, мир
для него - это система, в которой бесконечное множество духовных
субстанций взаимодействуют одна с другой. То, что мы называем
материальными объектами, полагает Козлов, в действительности -
символы субстанции, с которой мы так или иначе взаимодействуем.
Время и пространство -тоже символы: пространство - символ
взаимосвязи субстанций, тогда как время символизирует тот факт, что
субстанции, сами по себе неизменные, все же изменчивы и подвижны
в своих не-сущностных атрибутах. Сеть взаимоотношений,
связывающая субстанции, - вне времени. Но вследствие узости восприятия
нашего сознания мы не можем объять эту сеть как целое;
следовательно, мы попадаем в нее от точки к точке, приходя таким образам к
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 423
представлениям о «раньше», «теперь» и «после». Мир изменяется, но
не во временной, а в логической последовательности. Каждый момент
бытия детерминирован всеми другими моментами
последовательности, в пределах которой субстанция развивается, не исключая и те
моменты, которые, с точки зрения времени, относятся к будущему.
Козлов называл свою философию «панпсихизмом». Он также
употреблял термин «плюралистический монизм»; смысл этого
самопротиворечивого обозначения состоит в том, чтобы показать, что
принцип множественности (бесконечное множество отдельных духовных
субстанций) не сводит к нулю единство мира, поскольку все
субстанции встроены в центральную субстанцию - Бога.
Основным источником философии Козлова были, разумеется,
монадология Лейбница и воззрения его продолжателей в девятнадцатом
веке, особенно Лотце и Тейхмюллера, профессора Дерпского (ныне
Тартуского университета в Эстонии) с 1871 по 1888 г. Козлов также
следовал за Лейбницем в своей концепции бессмертия, которая
основывалась на определенном представлении о реинкарнации.
Ведущим учеником Козлова был Н.О. Лосский, который, как
упоминалось ранее, пытался соединить духовную монадологию с
метафизикой всеединства Соловьева. Идеи Козлова развивал и его сын
С.А. Аскольдов (1871-1945), коллега Лосского в Петербургском
университете. Деятельность Лосского и Аскольдова относится уже к
двадцатому столетию, поэтому их творчество выходит за рамки нашей
книги.
Другим философом, продолжавшим развивать идеи Козлова, был
ученик Тейхмюллера ЕЛ. Бобров (1867-1933). Близок к Козлову был
также JI.M. Лопатин (1855-1920), друг Соловьева (и гораздо более
оригинальный мыслитель, чем Бобров). В своем двухтомном труде
«Положительные задачи философии» (1886-1891) Лопатин, который
был профессором Московского университета, тоже возвращается к
монадологии Лейбница и пытается сочетать динамически понятый
спиритуалистический плюрализм с «рациональным теизмом», в
котором Бог истолковывается как «монада монад». Этот метафизический
идеализм, названный его автором «динамическим спиритуализмом»,
или «системой конкретного динамизма», предоставлял основание для
этического персонализма, в котором подчеркивались активность и
творческая сила души человека.
424 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
БОРИС ЧИЧЕРИН И ГЕГЕЛЬЯНЦЫ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА
О Борисе Чичерине (1828-1903) говорилось в одной из
предшествовавших глав в связи с эволюцией русского западничества1.
Выдающийся историк и юрист, ученик Грановского и Редькина2,
Чичерин с юности считал себя гегельянцем и оставался до конца жизни
верным гегелевской философии. В своих политических взглядах он
был либеральным консерватором, убежденным противником всех
радикальных и революционных движений, но в то же время
последовательным западником, который утверждал необходимость отстаивать и
распространять либеральные реформы 1860-х гг. В 1868 г. Чичерин
покинул кафедру Московского университета в знак протеста против
нарушения властями академической автономии. В 1882 г. его
назначили градоначальником Москвы, но вскоре впал в немилость
правительства и вынужден был оставить свой пост (Александр III и его
реакционные советники вознегодовали, когда Чичерин заявил, что права
земства следует расширить и что институты местного самоуправления
должны «увенчаться» установлением народного представительства.)
Несмотря на свой большой талант и огромную эрудицию,
проявившуюся в его «Истории политических учений» (пять томов;
1869-1902), Чичерин никогда не был популярной фигурой. Он очень
остро осознавал свое идейное одиночество; вспоминая времена своей
молодости, часто отзывался о второй половине девятнадцатого века
как о времени общего заката культуры.
Чичерин занялся философией в 1870-е гг. - главным образом для
того, чтобы оспорить преобладавшие тогда позитивистские
направления. Систематическое изложение его идей находим в книге «Наука
и религия» (1879). Через несколько лет после этого он публикует
«Положительную философию и единство науки» (1872) - книгу, где
полемизирует с воззрениями Конта (которого он, тем не менее, ценил
гораздо выше, чем Милля или Спенсера). Чичерин против
позитивизма с гегельянской позиции: для него гегелевская философия - это
«абсолютный рационализм»3, и он поэтому решительно отвергает ми-
Интересно отметить, что учеником Тейхмюллера был также известный
польский философ Винценты Лютославский (1863-1954), представитель
спиритуалистического монадологизма, в 1889-1893 годах преподававший философию
в Казани. В последующие годы он приобрел мировую известность как знаток
философии Платона.
2 Русский гегельянец Петр Редькин (1808-1891) читал лекции по философии
права в Московском университете в 1840-е гг.
3 См.: Чижевский Д.И. Гегель в России. Париж, 1939. С. 291.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 425
стический налет в идеализме Соловьева - тенденцию, которую
Чичерин подверг критике в книге «Мистицизм в науке» (1880). Здесь
Чичерин признает, что подход Соловьева превосходит узость
позитивистов1, но в то же время Чичерин полагает, что теории Соловьева не
согласуются с логикой и с фактами и пристегиваются к области
религиозного откровения, принижая тем самым философию и
предоставляя оружие позитивистам. В «Основаниях логики и метафизики»
( 1894) Чичерин утверждал, что современная эпоха выходит за
пределы позитивизма и свидетельствует о возрождении метафизики, но при
этом сама метафизика должна стать «позитивной наукой»2.
Чичерин считает диалектику «высшей философской наукой»,
утверждая, что движущая сила всякого развития - «внутренние
противоречия начал». Он также полагает, что началом и концом
диалектического развития является Абсолют. Мало того: усилия
человеческого разума подняться от всего относительного к Абсолюту - и даже
существование самого понятия Абсолюта - являются, на взгляд
Чичерина, решающими аргументами против позитивизма. Критикуя
эмпиризм и материализм, он подчеркивает, что не может быть науки вне
представления о «регулярных процессах» - представления, которое
уже предполагает всеобщий Разум, поскольку структуру этой
регулярности едва ли можно извлечь из самого опыта. Для обозначения
онтологического аспекта диалектики Чичерин использует
традиционный термин «метафизика», и в своей полемике против позитивистов
он прямо заявляет, что всей вселенной управляют законы метафизики
(читай - «диалектики») и одна лишь метафизика может придать науке
желанное единство3.
Однако гегельянство Чичерина было далеко не ортодоксальным.
С одной стороны, он критиковал «абсолютный рационализм» как
одностороннюю систему и заявлял, что пришло время, чтобы
рационализм и реализм (и позитивизм как одно из направлений реализма)
объединились в некоем универсализме. С другой стороны, Чичерин
пошел дальше Гегеля в направлении примирения философии с
религией, отождествив всеобщий разум и персонального Бога и настаивая
на том, что религия как феномен «конкретного единства» выше
философии. Этот ход мысли связан с отходом от «теологического
эволюционизма» Гегеля и его представлением об Абсолюте как
саморазвивающимся и восходящим к самосознанию посредством Человека.
В своих «Воспоминаниях» Чичерин объясняет это расхождение с
Гегелем своим религиозным опытом, который дал ему ощущение транс-
1 Чичерин Б.Н. Мистицизм в науке. М, 1880. С. 2.
2 Чичерин Б.Н. Основания логики и метафизики. М., 1894. С. 2.
3 Чичерин Б.Н. Положительная философия и единство науки. М., 1892. С. 318.
426 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ценденции Абсолюта. «Я понял, - писал он, - что если дух -
предельная форма абсолюта, он также и первоначальная форма -
неисчерпаемая, всесильная сила, источник всякого бытия»1. Таким образом,
Чичерин остановился на полпути между гегелевским воззрением на
имманентность космического начала и традиционным теистическим
понятием трансцендентного Творца мира. Пытаясь истолковать догму
о Троице в философских понятиях, Чичерин утверждает, что Абсолют
и имманентен, и трансцендентен2; в качестве Силы, Разума (Слова)
и Духа Абсолют обладает персональностью; единственный имперсо-
нальный «момент» Абсолюта - материя (элемент, противоположный
Разуму), но и она тоже обретает в человеке разумное сознание.
Чичерин различает четыре стадии Абсолюта: (1) творческую силу,
порождающую противоположное, (2) разум и (3) материю, которые
примиряются в (4) единстве духа. По этому вопросу Чичерин тоже отходит
от ортодоксального гегельянского воззрения. Гегель, по его мнению,
ошибся, начав свою логику с понятия чистого, недифференцированного
бытия; процесс разумения должен иметь своим исходным пунктом нечто
специфическое, конкретное единство всеобщего и особенного3. Больше
того, в диалектическом процессе не три стадии (как у Гегеля), а четыре:
первичное единство, порождающее противоположности абстрактной
всеобщности и абстрактной единичности (вторая и третья стадии), вслед
за которыми идет последнее единство высшего уровня (четвертая стадия,
после которой процесс повторяется). Проследить эту схему во всех
доступных исследованию явлениях, по Чичерину, - главная цель и
краеугольный камень познания. Он убежден в том, что произведенная им
модификация гегелевской диалектики - открытие исключительной
важности, которое позволяет соединить диалектику развития с
аристотелевской теорией четырех типов причин путем применения понятия анализа
и синтеза - двух основополагающих процессов разумения. Стадия
первичного единства (творческая сила Абсолюта) соответствует у
Аристотеля активной причине; абстрактная всеобщность и абстрактная
единичность (Разум и материя в Абсолюте) соответствуют у Аристотеля
формальной и материальной причине; а новая, высшая причина (Дух) -
целевой причине.
Теперь посмотрим, каким образом Чичерин применял эту схему к
философии истории, которую он отождествляет с философией
истории философии, поскольку он убежден, что коль скоро идеи
составляют движущую силу истории, то история философии - ключ к
нашему пониманию истории, а не наоборот4.
1 Чичерин БЫ. Воспоминания. М., 1929. С. 2, 148.
2 Чичерин Б. И. Наука и религия. М., 1909. С. 95-98.
3 Там же. С. 61-62.
4 Там же. С. 129,243.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 427
Человечество, утверждает Чичерин, движется от первоначального
единства через разделение на две противоположности к целевой
причине. Каждая из этих трех больших стадий эволюции разделяется на
синтетическую (религиозную) эпоху и аналитическую (философскую)
эпоху, которые представляют собой переход к последующему
синтезу. Каждый из этих периодов, в свою очередь, представляет один или
несколько циклов, которые охватывают четыре основные стадии
мышления и бытия, т.е. стадии первоначального единства (активная
причина) двух противоположностей (формальная или материальная
причина) и последнее единство (целевая причина). В пределах одного
цикла прогресс может быть субъективным - от первоначального
к последнему единству через противоречие материи и формы - и
может быть объективным - от формальной к материальной причине -
через противоречие активной и целевой причины.
Человечество, по Чичерину, уже прошло два важных
эволюционных этапа - первоначального единства и разделения. На
синтетическом этапе первой стадии возникла естественная религия, тогда как на
аналитическом этапе (составляющем переход ко второй стадии) мы
видим развитие греческой философии от универсализма через
реализм к рационализму. Вместе с закатом древнего мира происходил
переход ко второй стадии - стадии разделения: в пределах
средневекового христианства развивалась современная философия - от
рационализма через реализм к универсализму (в обратном порядке по
отношению к развитию древней философии). В настоящее время,
согласно Чичерину, человечество проходит этап реализма, что является
выражением двоякого превосходства единичного над всеобщим:
в материалистическом реализме (т.е. материализме и позитивизме)
и в спиритуалистическом материализме, т.е. в спиритуалистической
монадологии). Убежденный в том, что понимание законов диалектики
позволяет с точностью предвидеть будущее, Чичерин заявляет, что
стадия философского универсализма, которая проложит путь к
всеохватывающему философскому синтезу, уже близка. Таким образом
человечество вернется к своему Творцу, от которого оно изошло.
Первоначальный религиозный синтез был откровением Силы (Отец); второй этап -
христианский синтез (синтез на стадии разделения) - откровение Слова
(Сын); и третий, будущий синтез (синтез на стадии окончательного
единства) будет откровением Духа (третье лицо Троицы)1.
Интересно отметить, что эта философия истории имеет
поразительное сходство с идеями польского гегельянца Августа Цешковско-
го (упоминавшегося выше в связи с Герценом): Цешковский тоже
разделял историю на три большие эпохи, которые он называл эпохами
'Там же. С. 444-451.
428 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
первоначального единства, эпохой разделения и эпохой
окончательного единства, опосредованного развитием, и он называет их эпохами
Отца, Сына и Святого Духа. Но есть одно существенное различие:
в своей книге «Отче Наш» польский мессианский философ считал
себя орудием Святого Духа, призванным открыть принципы
окончательного религиозного синтеза; Чичерин же, наоборот, строго
разделяет религию и философию и считает свою собственную философию
лишь переходом к окончательной стадии универсализма второго
аналитического этапа в интеллектуальной истории человечества.
Наиболее интересный теоретический вклад Чичерина - это,
несомненно, его философские размышления о праве (которые он считал
внутренне связанными с экономикой) и государстве. Темы эти,
правда, встречаются почти во всех его трудах, но самостоятельно они
рассматриваются в двух книгах Чичерина: «Собственность и право» (два
тома; 1882-1883) и «Философия права» (1900).
Подобно Гегелю, Чичерин считал государство высшей формой
взаимодействия между людьми. Отличается Чичерин от Гегеля и
сближается с Кантом в трактовке человека не как орудия, но как цели
в себе. Чичерин даже склонен называть свою позицию
«индивидуализмом», поскольку он ставил свободу и автономию индивида выше
государства и всех форм социальной организации1.
В системе Чичерина государство представляет высшее единство трех
форм общественной асоциации: семья - это естественная форма;
общество граждан - юридическая; церковь - нравственная форма2. Однако
высшее единство государства не оказывает влияния на относительную
автономию общественных форм, подчиненных ему. Каждая область
имеет ясно определенные пределы и управляется своими собственными
законами. Это разделение сфер в пределах государства, на взгляд
Чичерина, самая важная гарантия свободы, поэтому он и осуждает всякое
стремление одной отдельной социальной сферы (включая высшую)
«поглотить» другие или нарушить их автономию. В Средние века
государством управляли отдельные лица, вследствие чего государство
эксплуатировалось монархами и феодалами ради их собственных целей; в Новое
Чичеринская философия права детально анализируется в моей кн.: Legal
Philosophies of Russian Liberalism. Oxford, 1987. Глава II. См. также новое
издание настоящей книги, где Чичерину посвящена отдельная обширная глава.
2 Анализ политической философии Чичерина см.: Shapiro L. Rationalism and
Nationalism in Russian Nineteenth-Century Political Thought. New Haven, Conn.
1967. P. 89-101. Интересный выпад против осуществленной Шапиро
интерпретации можно найти в статье: Aileen Kelly. What Is Real Is Rational: The Political
Philosophy of B.N. Chicherin // Cahiers du monde russe et soviétique, 18, No. 3,
июль-сент. 1977. P. 195-222. Основной тезис этой статьи состоит в том, что Чичерин
был на самом деле не умеренным либералом, а убежденным консерватором.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 429
время прогресс, в сущности, заключается в эмансипации государства от
этой зависимости и в проведении отчетливых границ между частной и
публичной сферами. Реакция на это - опасная тенденция со стороны
государства вмешиваться в частную жизнь, отделять себя от всех других
сфер жизни и ограничивать экономические свободы граждан путем
введения социального и экономического законодательства. Социализм, по
мнению Чичерина, самое крайнее, но далеко не единственное выражение
этой деструктивной тенденции.
Чичерин не разделяет веры ведущих либеральных экономистов в
автоматическую природу прогресса. Он не был наивным поборником
добродетелей неограниченной конкуренции и признавал, что против
капиталистического свободного рынка можно высказать
основательные возражения. С другой стороны, Чичерин подчеркивает, что не
дело государства вмешиваться в экономические отношения с
нравственными требованиями. Решение общественных проблем должно
быть частью улучшения индивидуальных нравственных норм;
богатые нравственно обязаны помогать бедным, но бедные не имеют
права требовать такой помощи.
Эти аргументы, которые сегодня поражают нас странной
анахроничностью, - признак ограниченности мышления Чичерина. Правда,
он отвергал крайний оптимизм идеологии laisseiz faire, но не мог
выйти за пределы ее догм. Сравнение с его современником английским
гегельянцем Томасом Хиллом Грином, который в своей ревизии
классического либерализма принял во внимание и оправдал
вмешательство государства в общественно-экономические отношения, - не в
пользу Чичерина.
Справедливости ради, однако, следует отметить, что в аргументации
Чичерина в защиту экономического либерализма есть один аспект,
который в какой-то мере актуален еще и сегодня. Дело в том, что Чичерин
старался привлечь внимание к опасности, которая скрыта в смешении
юридического закона и нравственного закона. Юридический закон,
утверждал Чичерин, не «нравственный минимум» (определение
Соловьева), а совершенно отдельная сфера, которую не следует смешивать
с нравственностью. Юридический закон определяет границы свободы,
тогда как моральный закон определяет императивы нравственного
долженствования. Закон, поддерживаемый силами принуждения, решает,
что разрешено, а что нет, но он не может быть орудием нравственности.
Законодательное определение границ свободы не разрушает автономию
индивида, а наоборот, обозначает определенную сферу, в пределах
которой индивид неуязвим со стороны государства и общества. С другой
стороны, законодательное определение нравственного долга
несовместимо со свободой совести, а потому и с нравственностью.
Единственным результатом такой попытки соединить законодательную власть
430 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
и нравственное долженствование может быть только «самая худшая
тирания, какую только можно вообразить»?1
Эти аргументы были направлены не только против социалистов,
которых Чичерин обвинял в презрении к закону - презрении,
выраставшем из их этического максимализма, - но в не меньшей мере и
против теократического утопизма Соловьева. Можно предположить,
что Чичерин имел в виду также идеал общины славянофилов и
критику ими права как «внешней истины». Единогласная община
Константина Аксакова, которой каждый индивид должен подчиниться без
каких-либо законодательных гарантий, означает, несомненно, полную
ликвидацию индивидуальной свободы и нравственной автономии.
Позволим себе небольшое отступление: стоит припомнить здесь
попытку критически развить идеи Чичерина - попытку,
предпринятую уже в XX веке Сергеем Гессеном (упоминавшимся ранее). Гессен
выдвигал концепцию, которую он называл «правовым социализмом».
По существу, он стремился соединить понимание Чичериным
юридического закона как силы, защищающей автономию индивида, - с
концепцией закона как «минимальной нравственности» у Соловьева.
«Юридический социализм» должен был примирить социалистический
постулат моральности в общественных отношениях с уважением к
праву, роль которого - в том, чтобы охранять «сверхсоциальное ядро»
индивида как от эксцессов государственного вмешательства в дела
личности, так и от давления общественного конформизма2.
Гегельянцами в России во второй половине девятнадцатого
столетия были также Николай Деболъский (1842-1918), профессор
Петербургской духовной академии и автор великолепного перевода
«Логики» Гегеля, и Павел Бакунин (1820-1900), брат анархиста Михаила
Бакунина. Однако оба эти мыслителя отошли от ортодоксального
гегельянства настолько радикально, что правильнее называть их не
столько гегельянцами в строгом смысле слова, сколько неогегельянцами.
Дебольский, математик по образованию, пытался примирить
гегельянский рационализм с традиционным христианством теизмом.
В своем главном труде «Философия феноменального формализма»
(два тома; 1892-1895)3 Дебольский пытается провести отчетливую
разграничительную линию между бесконечным разумом Абсолюта
и его индивидуализацией - конечным человеческим разумом.
Согласно Дебольскому, принципиальная ошибка гегелевской философии
Чичерин Б.Н. Мистицизм в науке. С. 60.
2 См.: Walicki А. Введение // Hessen S. Studia z filozofîi kultury (Исследования
по философии культуры). Варшава, 1968. Р. 35-40.
Из других сочинений Дебольского следует назвать книгу «Философия
будущего. Соображения о ее начале, предмете, методе и системе», (1882). Во
введении к этому труду Дебольский дает очерк эволюции своих философских идей.
ГЛАВА 17. Владимир Соловьев и метафизический идеализм 431
заключалась в том, что в ней человеческий разум отождествляется с
Абсолютным Разумом; Гегель заблуждался и в том, что он приравнял
логику к онтологии: его логика на самом деле не «система бытия»,
а только «система возможных представлений о бытии». Кроме того,
Гегель, согласно Дебольскому, слишком мало внимания уделял
относительной значимости и автономии эмпирического разума и
формальной логики. Фактически именно интерес Дебольского к
формальной логике привел его к тому, чтобы попытаться сблизить
гегелевскую диалектику с докантовским рационализмом1.
Свою философскую позицию Дебольский определяет как
формалистический метаэмпиризм, который он противопоставляет как
эмпиризму, так и мистическим концепциям непосредственного,
недискурсивного познания. Всякий опыт, утверждал Дебольский, следует
рассматривать аналитически в двух его аспектах - эмпирическом, или
феноменальном, и метаэмпирическом, или метафизическом. Метаэм-
пирическое познание позволяет человеческому разуму приобретать
знания об Абсолютном Разуме, но сознание человеческое не может
вплотную подойти к реальности Абсолютного, потому что только
формальная сторона Абсолютного доступна познанию. Постичь
смысл абсолютного Первоначала - невозможно, поскольку Абсолют
только приоткрывается в формальных моментах мира явлений.
Конечный и индивидуальный разум человека не в состоянии проникнуть
в сущность Абсолюта, но формальный характер этого конечного
разума отражает формализм Абсолютного Разума.
Павел Бакунин представлял совершенно иную философскую
школу. Две его книги - «Запоздалый голос сороковых годов» (1881) и
«Основы веры и знания» (1886) - это религиозные размышления
романтика в гегелианском контексте2 - запоздалое эхо дискуссий,
проходивших в кружке Станкевича в конце 1830-х гг. Пантеистическое
видение мира, одушевленного «дыханием Абсолюта», соединяется
у Бакунина с теистическими и персоналистскими мотивами, защитой
бессмертия души и романтическим культом женственности.
Гегелевская диалектика заявляет о себе в понятии «мирового спора» -
взаимоотрицания единичностей, борющихся друг с другом и пытающихся
поглотить друг друга. Этот «спор», согласно Бакунину, замирает
только в присутствии Красоты. Миссия человека на земле состоит
в том, чтобы выйти за пределы своего греховного самоутверждения
в собственной единичности или партикулярности. Благодаря узам,
связывающим Красоту с Абсолютным, человеческий дух способен
1 Чижевский Д.И. Гегель в России. С. 303.
2 См.: Zenkovsky V.V. A History of Russian Philosophy, trans. George L. Kline. 2
vols. London, 1953. Vol. 2. P. 629.
432 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
схватывать мир как целое и выходить за пределы своей собственной
субъективности путем постижения реальности как высшего
разумного единства противоположности.
П. Бакунин формулировал свои воззрения, сознательно отталкиваясь от
позитивизма, который он обвинял в переворачивании «мистической
лестницы», восходящей от земли к небу1. Как запоздалый романтик П. Бакунин
был одиноким мыслителем, у которого нашлось совсем не много
читателей, хотя «Основы веры и знания» с энтузиазмом воспринял Л. Толстой2.
Другая разновидность гегельянства в широком смысле слова -
философские взгляды драматурга Александра Сухово-Кобылина (1817-1903).
Его философские сочинения остались неопубликованными, и только
недавно был напечатан краткий отчет о его трехтомной рукописи, в которой
речь идет о природе вселенной (учение «Всемира») и философии духа .
В противоположность Чичерину, который был решительным
противником эволюционизма в духе Дарвина, Сухово-Кобылин,
по-видимому, считал свою философию специфическим синтезом идей Гегеля
и Дарвина. По сути дела, Сухово-Кобылин воспринимает теорию
Дарвина как составную часть гегелевского учения о диалектическом
развитии Абсолютной Идеи. В своих историософских представлениях
он соединяет гегельянство с социал-дарвинизмом и подчеркивает
значение в обществе борьбы за выживание, естественного отбора и права
сильного. Сухово-Кобылин предсказывает победу разума в
близящейся последней эпохе, понимая ее как победу высшей расы,
руководимой аристократией духа.
Поскольку философские сочинения Сухово-Кобылина не
напечатаны, трудно анализировать и оценить их адекватным образом. Тем не
менее, если иметь в виду преобладавшую среди русских гегельянцев
оппозицию позитивизму и натурализму, попытка Сухово-Кобылина
инкорпорировать позитивистский натурализм в систему,
основывающуюся на метафизическом идеализме, достойна упоминания в
порядке интересного исключения.
Поздние русские гегельянцы не имели наследников; правда,
конституционалисты-демократы заимствовали некоторые идеи у
Чичерина, но их интересовала только его философия права и государства,
а не его реформа диалектики или метафизические концепции.
Чрезвычайное оживление интереса к Гегелю произошло под влиянием
марксизма (особый вклад в это оживление внес Плеханов), но то
было, разумеется, совершенно другое - материалистическое -
направление рецепции гегельянства.
1 Чижевский Д. И. Гегель в России. С. 315.
2 Там же. С. 311.
3 См.: История философии в СССР / Под ред. В.Е. Евграфова. М, 1968. Т. 3.
С.321-323.
ГЛАВА 18
433
ОТ НАРОДНИЧЕСТВА К МАРКСИЗМУ
ВВЕДЕНИЕ
В главе о народничестве 1870-х годов упоминалось о рецепции
народниками марксизма. Марксово описание жестокостей,
сопровождавших первоначальное накопление капитала и индустриальную
революцию, ужаснуло народников и утвердило их в убеждении, что
цена, которую придется заплатить за капиталистический прогресс,
слишком высока и все усилия должны быть направлены на то, чтобы
Россия сумела избежать капитализма. В то же время народники
первой половины 1870-х гг. не видели никаких противоречий между
марксистской теорией (на которую они неоднократно ссылались) и
«субъективной социологией», то есть представлением об особом пути
развития России в соответствии с «народными» началами. Маркса
народники считали в основном экономистом, критиком капитализма и
человеком, создавшим теорию прибавочной стоимости, которую
народники восхваляли на все лады за раскрытие механизма
политической эксплуатации. Даже Бакунинское крыло народничества, которое
вслед за самим Бакуниным обвиняло Маркса в политическом
оппортунизме, склонялось к принятию марксизма как экономической
теории. Один из наиболее характерных представителей этого крыла -
Яков Стефанович - писал: «Марксизм как теория, а не как членство в
западной социалистической партии и поддержка ее практической
политики - не исключает народничества»1.
Полемика Энгельса с Ткачевым2 (1875) позволила обратить
внимание на тот факт, что марксизм - это еще и теория общественного
развития, которая постулирует, что обязательным условием
социализма является высокий уровень развития производительных сил,
достигнутый при капитализме. Эволюция всякой экономической фор-
1 См.: Группа «Освобождение труда». М.; Л., 1926. № 4. С. 196. Более
подробное освещение раннего этапа рецепции народничеством марксизма можно
найти в работах: Роэль А.Л. Русская экономическая мысль 60-70-х гг. XIX века
и марксизм. М., 1956; Пустарнаков В.Ф. «Капитал» Маркса и философская
мысль в России. М, 1974. Ср. также: Walïckï A. The Controversy Over Capitalism.
P.132-139.
2 См. главу 12 этой книги.
434 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
мации, писал Маркс в предисловии к первому немецкому изданию
«Капитала», есть естественноисторический процесс, объективный и
независимый от человеческой воли: общество «не может ни
продвигаться прыжками, ни упразднить последовательные фазы своего
нормального развития». Законы общественного развития действуют с
«железной необходимостью», и отсталые страны должны пройти те
же самые этапы развития, которые развитые страны уже прошли:
«Страна промышленно более развитая, показывает менее развитой
стране лишь картину ее собственного будущего»1.
Народникам трудно было принять это утверждение. Наиболее
драматически это выражено Михайловским в статье «Карл Маркс
перед судом г. Ю. Жуковского» (1877). Для западноевропейского
социалиста, писал Михайловский, теория общественного развития Маркса
дает научное объяснение прошлого и аргументы о неизбежности
социализма; поэтому принятие этой теории не заключает в себе
нравственной дилеммы, расхождения между идеалом и
действительностью. Русский же социалист, который станет проверять правильность
марксистской теории, окажется в другом положении: для него Марк-
сово описание капиталистического развития представит образ
ближайшего будущего России и Марксов исторический детерминизм
заставит его примириться с трагическими сторонами
капиталистического прогресса со всеми его болезненными для масс последствиями. Как
социалист русский человек должен будет принять необходимость
капиталистического развития, а значит, принять и крах своего
собственного идеала. Оказавшись перед выбором - или участвовать в
прогрессе, проводимом «рыцарями накопления», или бороться за реализацию
своих идеалов (зная, что «железная необходимость» заранее обрекает
эту борьбу на неудачу), русский социалист, несомненно, отвергнет
обе эти возможности и станет всего лишь пассивным наблюдателем,
бесстрастным регистратором общественных процессов2.
Маркс сам откликнулся на эту точку зрения в ноябре 1877 года в
письме к редактору «Отечественных записок» - журнала, в котором
была опубликована упомянутая статья Михайловского. Маркс,
правда, так и не отослал своего письма, но в нем он утверждает, что
процесс накопления, описанный в «Капитале», относится только к
Западной Европе периода перехода от феодализма к капитализму и не
может механически переноситься на другие страны мира; процессы,
которые могут казаться явно схожими, но которые произошли в
различных исторических обстоятельствах, могут иметь совершенно
различные результаты. Всякий отдельный период экономического разви-
1 Маркс К. Капитал. Т. 1. М., 1978. С. 9.
2 Михайловский Н.К. Поли. собр. соч. 4-е изд. СПб., 1909. Т. 4. С. 167-173.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 435
тия в истории нужно исследовать в зависимости от его собственных
особенностей и сравнивать с другими периодами; невозможно дать
исчерпывающее научное объяснение конкретного исторического
развития, «пользуясь универсальной отмычкой какой-нибудь общей
историко-философской теории, наивысшая добродетель которой
состоит в ее надисторичности»1.
Это письмо было опубликовано только в 1886 г.2 К этому времени
русские марксисты (особенно Плеханов) разработали свои
собственные теории, в которых тезис о неизбежности капиталистической
стадии развития был выдвинут на передний план. Тот факт, что у самого
Маркса были на этот счет сомнения, Плеханов обошел молчанием, и
значение этого факта было преуменьшено. В 1890-е гг., когда
индустриализация в России начала набирать обороты, Энгельс приписал
сомнения Маркса тактическим соображениям: Марксу, полагал он, не
хотелось охлаждать пыл русских революционеров, мужество которых
поддерживалось верой в будущие социалистические возможности
крестьянской общины3.
Объяснение Энгельса противоречит трем вариантам письма,
которые Маркс написал Вере Засулич 8 марта 1881 г.; подробные
черновики письма указывают на то, что Маркс допускал для России
возможность миновать капиталистический этап и придавал этому
дискуссионному вопросу большое теоретическое значение4. В момент
получения письма Засулич и Плеханов, ее идейный руководитель, не
были еще народниками. Можно предположить, что их решение не
публиковать письмо объяснялось ожиданием более обстоятельного
развития взглядов Маркса по данному вопросу в виде специальной
брошюры, обещанной автором «Капитала» деятелям «Народной
воли». Почему, однако, не сделали этого позже, после смерти Маркса?
К сожалению, трудно опровергнуть гипотезу сознательной утайки,
сформулированную в эмиграции бывшим меньшевиком Е.
Юрьевским. В своих «Мыслях о Плеханове» он правильно указал, что
письмо Маркса к Засулич прямо противоречило всем идеям, разработан-
1 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями.
М., 1951. С 223.
2 В 1884 г. Энгельс передал письмо Маркса группе «Освобождение труда».
Группа Плеханова воздержалась от публикации письма, но два года спустя оно
появилось на страницах народнического издания «Вестник "Народной воли"».
Женева, 1888. № 5. Публицисты-народники (Михайловский, Воронцов и Кри-
венко) истолковали письмо как доказательство того, что сам Маркс не разделял
воззрений своих русских последователей, и сразу же воспользовались этим
в своей полемике против русских марксистов.
3 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями.
М., 1951. С. 296.
4 См. выше.
436 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ным Плехановым в период перехода от народничества к марксизму и
представляемым в его работах как азбучная истина «научного
социализма»1. Подробный анализ взглядов Маркса на будущее
слаборазвитых стран, конечно, выходит за рамки этой книги. В контексте нашего
исследования нужно только сказать, что Маркс высказывался по
этому вопросу очень кратко и что его соображения, сами по себе
исключительно глубокие, в целом остались неизвестны широкому кругу
читателей; с другой стороны, самые известные труды Маркса содержат
формулировки, в соответствии с которыми капитализм - естественная
стадия, через которую должна пройти каждая страна.
Марксистские взгляды начали распространяться среди русских
революционеров по мере того, как эти последние все больше
разочаровывались в использованных прежде методах борьбы и не могли уже
игнорировать очевидный прогресс капитализма в области сельского
хозяйства. Разрыв с народничеством не был ни легким, ни
безболезненным, и прежде чем произошла радикальная поляризация позиций,
было немало попыток примирить марксизм со старой мечтой о том,
чтобы обойти капиталистическую стадию.
МЕЖДУ НАРОДНИЧЕСТВОМ И МАРКСИЗМОМ
Особый интерес в этом контексте представляет идеологическая
эволюция Георгия Плеханове? (1856-1918), который в своей юности
был связан с ортодоксальным народническим революционным
движением («ортодоксальным» в смысле пропаганды деятельности
исключительно «среди народа» и «через народ»). В своей статье «Закон
экономического развития и задачи социализма в России»,
опубликованной в журнале «Земля и воля» в январе 1879 г., Плеханов
попытался истолковать Марксову теорию таким образом, чтобы привести
ее в соответствие с организацией «Земля и воля».
Статья Плеханова открывается полемикой с последователями
Ткачева и их теорией «захвата власти» - в высшей степени значимый
факт в свете последующей эволюции Плеханова. Даже тогда, когда он
все еще представлял правоверных народников, Плеханов (который
так и остался до конца жизни бескомпромиссным врагом всех форм
«бланкизма») обращается к марксизму за аргументами против того,
что, по его мнению, является политическим авантюризмом его
оппонентов. Прошло то время, читаем в статье, когда люди думали:
1 См.: Юрьевский Е. Мысли о Плеханове // Социалистический вестник. New
York/Paris, 1957. No. 4. С. 67.
2 Самая значительная монография о Плеханове на английском языке:
Baron S.N. Plekhanov: The Father of Russian Marxism. Stanford, Calif., 1963.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 437
для того чтобы установить лучшую общественную систему,
достаточно «устроить заговор», захватить власть и осчастливить население
благодетельными декретами. Взгляды такого рода - выражение
теологического этапа в развитии социологии; в настоящее время
социологическое мышление вступило в положительный этап,
представленный социалистической теорией Маркса и Энгельса (Плеханов
упоминает также Родбертуса и Дюринга. Автор «Капитала», продолжает
Плеханов, показал, что общественная система какой-либо страны
определяется экономическим развитием и что обществом управляют
законы, которые невозможно изменить по своей воле. Это не
означает, что нужно соглашаться с либеральными публицистами, которые
используют этот ход мысли в подтверждение своего тезиса, что в
отсталой России нет смысла бороться за социализм. Законы экономического
развития вовсе не одни и те же повсеместно; история не монотонный и
не механический процесс, Карл Маркс не из тех людей, которые хотят
поместить человечество «в прокрустово ложе "всеобщих законов"».
В этом пункте Плеханов, - вероятно, не сознавая этого, -
повторяет основной аргумент Ткачева, что социализм в России возможен
только потому, что капитализм там еще не проложил себе дорогу.
Маркс говорит нам, заявляет Плеханов, что, когда общество «напало
на правильный путь естественных законов своего движения», оно не
может ни «зачеркнуть естественные этапы своего развития, ни
упразднить их законодательными актами»; однако Россия, настаивает
Плеханов, еще не вступила на этот катастрофический путь. Западная
Европа была вынуждена развиваться на капиталистических путях,
потому что там деревенская община распалась в борьбе с
феодализмом; в России же деревенская община сохранилась в относительно
нетронутом виде. В Европе объективной основой социализма
является «обобществление труда», введенное капитализмом; в России же -
общинное владение землей. С другой стороны, обобществление труда
(т.е. совместная обработка земли) появится в сельском хозяйстве
вместе с развитием технологии и введением сельскохозяйственной
техники. Русский народ способен осуществить спонтанную организацию
всех сторон общественной жизни в соответствии с
социалистическими началами; в осуществлении этого ему препятствуют только
вмешательство и деморализующее влияние государства (в этом пункте
взгляды Плеханова и Ткачева начинают расходиться, поскольку
последний, как мы уже знаем, не верил в народную «спонтанность»).
Даже если правительству удастся разрушить институт деревенской
общины, заключает свою статью Плеханов, то все равно потребуется
какое-то время для того, чтобы коллективистские идеалы и традиции
масс смогли измениться. Поэтому программа организации «Земля и
воля» покоится на твердых основаниях и не нуждается в изменении.
438 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
К несчастью, в случае с Плехановым его аргументация покоится на
неправильном переводе (и неправильной интерпретации) фразы,
процитированной из Маркса. Правильный и несокращенный вариант гласит:
Общество, ест далее оно напало на след естественного закона
своего развитии, - а конечной целью моего сочинения является
открытие экономического закона движения современного общества, -
не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни
отменить последние декретами^.
Очевидно, что «напасть на след естественного закона своего
развития» - это не то же самое, что «вступить на правильный путь
естественных законов», что Плеханов понимает так, чтобы просто оказаться
в сфере влияния этих законов. В «Капитале» Маркс хотел высказать ту
мысль, что даже научное понимание законов экономического развития
не может изменить естественной последовательности в развитии
общества. Поэтому вывод Плеханова, что законы капиталистического
развития не применимы к России, поскольку она еще не вышла на орбиту
капитализма, основывается на недоразумении.
Если ход мысли Плеханова додумать до логического конца и
спросить, что, по его мнению, случится, если Россия все же войдет
в конечном счете в орбиту капитализма, то ответ получится только
пессимистический. Ткачев в этом случае сказал бы, что все дело в
соотношении двух конфликтующих сил: спонтанной
капиталистической тенденции и дисциплинированного революционного авангарда.
Для Плеханова, который не одобрял политические заговоры и самую
идею сопротивления естественным законам развития, проблема
выглядела гораздо сложнее. Признать капитализм естественной
тенденцией значило отвернуться от народничества. Своеобразный
исторический парадокс состоял в том, что разрыв Плеханова с классическим
тезисом народничества о возможности обойти капитализм был
результатом его ортодоксальной позиции в народническом движении,
т.е. его оппозиции «бланкизму» - оппозиции, которую Плеханов
пытался продолжать в организации «Черный передел», возникшей после
раскола среди членов «Земли и воли». Можно даже сказать, что
Плеханов стал социал-демократом потому, что он остался верным старой
программе «Земли и воли», в которой декларировалось, что
революции творятся народными массами и подготавливаются историей.
Путь Плеханова к марксизму не был, однако, единственным.
В 1880-е гг. в России, в Петербурге, Киеве, Нижнем Новгороде,
Казани и в других городах на Волге, существовало большое число рево-
1 Маркс К. Капитал. Т. 1. С. 9.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 439
люционных обществ, члены которых постепенно эволюционировали в
сторону марксизма, часто продолжая соединять марксистские
экономические теории с культом героических традиций «Народной воли»1.
Интересный и значительный пример такой переходной фигуры -
старший брат Ленина, Александр Ульянов, (1866-1887), которого не
следует обходить вниманием даже в кратком обзоре народнической
рецепции марксизма. Ульянов, разумеется, был народником в самом
широком смысле слова. Сам он считал себя продолжателем традиций
«Народной воли», но в своей «Программе террористической фракции
"Народной воли"»2 Ульянов отказывается от общепринятого
обозначения - «социалисты-народники» - и называет их продолжателей
просто социалистами. В его взглядах нет ничего отсталого; основная
революционная сила, упоминаемая в его «Программе...», - городской
рабочий класс, а не крестьянство, а под социализмом понимается
«неизбежный результат капиталистического производства и
капиталистической структуры». Это не означает, писал Ульянов, что не может
быть «другого, более прямого перехода к социализму, если существуют
особые благоприятные условия в традиции народа и в характере
народа». Закон перехода от капитализма к социализму «выражает
историческую необходимость, управляющую прогрессом каждой страны к
социализму, если этот процесс происходит спонтанно, без сознательного
вмешательства со стороны определенной общественной группы»3.
Своеобразие попытки Ульянова соединить народничество с
марксизмом можно понять лучше, если вспомнить, что он перевел на
русский язык раннюю работу Маркса «К критике гегелевской философии
права» (перевод был опубликован в Швейцарии с интересным
предисловием Лаврова). Критика религии, главное содержание этой работы
Маркса, для Ульянова имела второстепенное значение; в воззрении
Маркса его интересует в основном возможность сжать сроки
исторического развития страны, пройдя некоторые этапы этого процесса на
идеологическом уровне. Молодой Маркс писал в упомянутой работе,
что политическое развитие Германии опережает ее историческое
развитие, поскольку Германия пережила в мышлении все то, что
Франция пережила в действительности. Ульянов совершенно верно увидел
в этом важный аргумент в пользу той мысли, что исторически
отсталые (но идеологически развитые) страны могут миновать или
свернуть некоторые этапы своего «естественного» развития. Б. Кольцов,
1 См. об этом: Utechin V. The "Preparatory" Trend in the Russian Revolutionary
Movement in the 1880's // Soviet Affaires. London, 1962. No. 3. См. также:
Полевой Я. А. Зарождение марксизма в России. М, 1959.
2 Перепечатано в кн.: Народническая экономическая литература / Под ред.
Н.К. Каратаева. М., 1958. С. 631-636.
3 Там же. С. 631.
440 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
член Петербургской группы возрожденной «Народной воли»,
следующим образом прокомментировал эту мысль: «Мы часто говорили об
этой работе Маркса, и Ульянов всегда утверждал: что идея того, что
Германия пережила в мышлении все то, что другие страны пережили
на практике, не противоречит позднейшим взглядам Маркса и может
быть применена к России. <...> Позднее мне приходилось слышать от
других русских социал-демократов, что какое-то время они тоже
интерпретировали марксизм подобным образом»1.
Дальнейшее идейное развитие Ульянова было прервано его
смертью: он был казнен за то, что руководил покушением на
Александра III (так называемое «дело 1 марта 1887 года»). «Судьба брата
имела, несомненно, глубокое влияние на Владимира Ильича, - писала жена
Ленина Н. Крупская. На будущего вождя большевистской революции
оказала глубокое впечатление также трусость либералов в его родном
Симбирске, которые охладели к семье Ульяновых после ареста брата.
«Это юношеское переживание, - отмечает Крупская, - несомненно,
наложило печать на отношение Владимира Ильича к "обществу", к
либералам»2. Интересно отметить, что подозрительность и неприязнь к
либералам с самого начала резко отличали Ленина от Плеханова.
ПЛЕХАНОВ
И «РАЗУМНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
Как отмечалось выше, в конце 1870-х гг. основной заботой
Плеханова было то, чтобы установить, можно ли (и в какой степени)
считать капитализм «естественной» тенденцией в экономике России.
Поэтому он с некоторым волнением изучал собранную Орловым
статистику о развитии капиталистических отношений в русской деревне.
Однако не одни только наблюдения над ростом капитализма в
России объясняют тот факт, что Плеханов отверг народническую
концепцию обходного по отношению к капитализму пути. Разрыв его
с народничеством в не меньшей мере был обусловлен уроками
революционной пропаганды народников: оказалось, что социалистическая
пропаганда может иметь больше шансов на успех среди городского
рабочего класса, чем среди крестьян деревенской общины, и,
следовательно, первой задачей русских социалистов должно быть свержение
царизма как системы. Члены «Народной воли» первыми пришли к
таким выводам - и это, конечно, означало отказ от характерного для
народничества пренебрежения классовой борьбой; но в отношении
1 Цит. по. Полевой ЯН. Зарождение марксизма в России. С. 315.
2 Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. М., 1989. С. 14.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 441
целей, которых следовало достичь, мнения разделились. Одни хотели
взять власть (фракция Тихомирова), тогда как другие (под
руководством Желябова) хотели ввести конституцию, гарантирующую
демократические свободы. Плеханов, который меньше кого бы то ни было
тяготел к «аполитичному» народничеству, отверг программу Тихомирова как
«бланкистскую», но он критиковал и программу Желябова за то, что она
граничила со сдачей идеи социализма. Плеханов считал, что решение
дилеммы найдено немецкой социал-демократической партией, которая
участвует в легальной политической деятельности, не отказываясь при
этом от своей социалистической направленности.
Значение поворота Плеханова к социальной демократии станет
еще яснее, если вспомнить мнение о немецких социал-демократах,
распространенное среди русских революционеров того времени.
Л. Дейч, основавший вместе с Плехановым группу «Освобождение
труда», дал следующее определение этому: «Во всем цивилизованном мире
понятие "социальная демократия" ассоциировалось с некоей мирной
парламентской партией и ее деятельностью, особенностью которой было
почти полное отсутствие определенных, революционных методов
борьбы»1 . По этой самой причине Дейч и Вера Засулич не пожелали принять
это название. Зато Плеханову оно нравилось как раз потому, что
предполагало умеренность; он надеялся разработать такую политическую
программу, которая станет приемлемой также и для либералов: «Не пугая
никого далеким пока "красным призраком", такая политическая
программа вызывала бы к нашей революционной партии сочувствие всех, не
принадлежащих к систематическим противникам демократии»2. В
конечном итоге был достигнут компромисс: последователи Плеханова
создали марксистскую организацию под нейтральным названием
«Освобождение труда» (1883), но в то же время они всячески подчеркивали
свои симпатии к немецким социал-демократам.
На взгляд Плеханова, социал-демократия давала шанс спасти то,
что он называл «практической» стороной классического
народничества. В предисловии к первой своей марксистской брошюре
«Социализм и политическая борьба» Плеханов писал: «Стремление работать
в народе и для народа, уверенность в том, что "освобождение
рабочего класса" - это практическая тенденция нашего народничества
дорога мне по-прежнему»3.
Программа, намеченная в «Социализме и политической борьбе»
(1883) и в книге «Наши разногласия» (1885), состояла, коротко гово-
1 Цит. по: Ваганян В. Г.В. Плеханов. Опыт характеристики социально-
политических воззрений. М., 1924. С. 94-95.
2 Плеханов Г.В. Сочинения. 2-е изд. М.; Пг., 1920-1927. Т. 2. С. 83.
3 Там же. С. 27.
442 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ря, в горячем призыве к политической борьбе и решительном
отвержении «бланкизма». Диктатура революционного класса (т.е.
пролетариата) писал Плеханов в статье, посвященной критике
«бланкистских» тенденций среди членов «Народной воли», не имеет ничего
общего с диктатурой группы революционеров: «...никакой Комитет-
Исполнительный, Распорядительный, или как бы там его ни называли, -
не может представлять рабочего класса в истории»1. Великая миссия
рабочего класса, продолжает Плеханов, состоит в том, чтобы завершить
вестернизацию России, начатую Петром Великим; захват власти
революционными социалистами только помешает этому и в
действительности будет даже катастрофой, которая станет, в конечном счете,
громадным шагом назад. Подлинный социализм удастся установить лишь
тогда, когда экономическое развитие и пролетарское классовое сознание
достигнут сколько-нибудь высокого уровня. Политическая власть,
которая попытается организовать социалистическое производство в отсталой
стране сверху, будет вынуждена прибегнуть к идеям патриархального и
авторитарного коммунизма; единственное изменение будет состоять в
том, что перуанских «сынов солнца» и их чиновников заменит
социалистическая каста2. Несомненно, добавляет Плеханов, что при таком
воспитании народ не только не будет образован для социализма, но он либо
потеряет способность к прогрессу, либо сохранит эту способность, но
ценой того, что снова появится экономическое неравенство, которое
революционное правительство хотело отменить3.
Логический вывод из этой аргументации был тот, что русские
должны выбрать долгий и трудный путь капиталистического
развития4. Между политической революцией (т.е. свержением царизма) и
будущей социалистической революцией должно пройти достаточно
длительное время для того, чтобы могли полностью установиться
капиталистические производственные отношения, а русский
пролетариат получил политическую подготовку в соблюдающем законы,
прочном парламентском государстве. Промежуток между этими двумя
революциями может быть короче, чем на Западе, потому что в России в
силу западного влияния социалистическое движение очень рано
приобрело организованные формы, в то время как капитализм еще только
зарождался. Благодаря тому, что русские социалисты рано освоили
марксизм, они способны ускорить развитие пролетарского классового
сознания среди русских рабочих. С другой стороны,
капиталистический этап не должен быть слишком кратковременным: возможно со-
1 Там же. С. 166.
2 Там же. Т. 3. С. 81.
3 Там же.
4 Там же. С. 325.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 443
кратить «естественный» процесс, но всякая попытка чересчур
сократить или заменить его «искусственным» процессом чревата
опасностью нежелательных «химических изменений»1.
Интересно отметить, что Плеханов никогда не отказывался от этих
своих взглядов: он не преувеличивал, когда писал четверть века
спустя, что по вопросам тактики его позиция не изменилась ни в одной
важной детали, и в спорах между большевиками и меньшевиками он
остается твердо приверженным идеям, разработанным группой
«Освобождение труда»2. До конца жизни Плеханов боролся против
двух противостоящих друг другу тенденций, которые, как он считал,
заключают в себе величайшую опасность для русского рабочего
движения: одна тенденция -тред-юнионистское мышление рабочих,
впоследствии доведенное до крайности в «экономизме»
социал-демократического правого крыла (на взгляд Плеханова, это была лишь другая
версия старого «аполитичного» народничества); другая тенденция -
«бланкизм», преувеличивающая «субъективный фактор» в истории
и обнаруживающая опасное тяготение «укоротить» естественные
этапы развития. В поздние годы Плеханов обвинял большевиков в том,
что они являются наследниками этой последней тенденции.
В революционном крыле народников программу Плеханова сочли
граничащей на практике с предательством социализма. Настроение
тех, кто остался в «Народной воле», отчетливо выражено в статье
«Чего нам ждать от революции?»3, написанной Львом Тихомировым,
ведущим теоретиком партии, впоследствии ставшим рьяным
сторонником царизма. Поистине странным должен быть социалист, писал
Тихомиров, если он провозглашает неизбежность и прогрессивную
природу капитализма, зная при этом, какие страдания капитализм
приносит миллионам людей, и принимая эти страдания ради какой-то
далекой цели. Будучи последовательными, социалисты такого рода
должны превратиться в капиталистов, потому что капиталисты по-
настоящему способны продвигать развитие капитализма. Теория
Плеханова, утверждал Тихомиров, психологически неприемлема для
настоящего революционера; подлинный источник этой теории -
благоговение перед Западом и следование примеру западных стран, хотя
их развитие совершенно иное, чем развитие России.
Сам Плеханов, разумеется, сознавал трагическую дилемму, в
которой он оказался как социалист, выступающий за капиталистическое
1 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. М, 1956-1958. Т. 4.
С. 140. В этой связи Плеханов приводит аргумент Чернышевского, что хотя и можно
сократить процесс высушивания сигар, но сигары при этом теряют свой аромат.
2 Плеханов Г.В. Сочинения. Т. 19. С. 283.
3 Вестник народной воли. Женева, 1884. № 2.
444 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
развитие своей страны. Это одна из причин его страстных нападок на
«субъективизм» и его акцента на сознательном принятии
необходимости. Едва ли будет преувеличением, если сказать, что
«необходимость» - центральное понятие в плехановской модели марксизма.
В его сочинениях можно различить две линии рассуждений, которые
основываются на различных теоретических допущениях: иногда
Плеханов утверждает, что капиталистическое развитие по европейскому
образцу - самая желательная альтернатива (имея в виду, что есть и
другие, менее желательные возможности, как, например,
«перуанский» авторитарный коммунизм); в других случаях Плеханов
безоговорочно отвергает всякую возможность выбора, заявляя, что его
политическая программа основывается на понимании «объективных законов
развития», что основательность прогноза в этой программе можно
доказать «с математической точностью» и что цели программы будут
осуществлены с такой же непреложностью, как то, что завтра взойдет
солнце. В своих ранних марксистских работах - «Социализм и политическая
борьба» и «Наши разногласия» - первый ход мысли более очевиден,
тогда как позднее возобладал второй тип аргументации - особенно в
философских работах Плеханова «К вопросу о развитии монистического
взгляда на историю» (1894) и «К вопросу о роли личности в истории»
(1898). «Субъективной социологии» народничества Плеханов
противопоставляет жесткий объективизм, элиминируя и высмеивая все попытки
даже мыслить в категориях «того, что должно быть». Научные
социалисты, подчеркивал он, стремятся к социализму не потому, что он
желателен, а потому что социализм - это следующий этап в ряду «побед
экономии Труда над экономией Капитала» в неумолимом, объективном
движении истории; «социал-демократ плывет по течению истории», следуя
действию причин исторического развития, «не имеющих ничего общего
с сознанием и волей человека»1.
Эту смену акцента - от желаемого к необходимому - нетрудно
объяснить. В основе обращения Плеханова к марксизму - акт выбора,
определивший его систему ценностей, в соответствии с которой
«естественные» процессы считаются превосходящими
«искусственные» процессы. Для того чтобы преодолеть возражения социалистов-
революционеров, Плеханов, разумеется, пытался убедить и себя
самого, и их в том, что его выбор единственно научный, и что, строго
говоря, он просто следует тем путем, который начертала сама история, -
путем, который не сможет изменить никакой «субъективный»
протест. В свете своего убеждения, что капитализм необходимым
образом приносит с собою страдания масс, Плеханов не мог всячески не
подчеркивать неизбежность этого процесса; абсолютная необходи-
1 Плеханов Г.В. Сочинения. Т. 1. С. 392; Т. 4. С. 86, 113-114.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 445
мость (и, больше того, такая необходимость, которую можно принять
в качестве «разумной») была, в конце концов, единственным
оправданием того, чтобы принять человеческие страдания.
Ясно поэтому, что акцент Плеханова на «необходимости»
невозможно объяснить лишь ссылками на преобладавший в его эпоху дух
научного детерминизма и позитивистского эволюционизма.
«Необходимость», к которой апеллировал Плеханов, не могла быть просто
делом объективных «фактов»: приспособление к одним лишь фактам
было бы чистым оппортунизмом. Поэтому «необходимость» нужно
было помыслить как онтологическую необходимость, внутренне
присущую самой структуре вселенной. Можно сказать, что Плеханов
нуждался в теодицее и нашел ее в гегельянской идее необходимого
и разумного развития истории.
С этой точки зрения, особый свет проливают статьи Плеханова о
Белинском: они помогают точнее определить место Плеханова в
русской интеллектуальной истории. Самая значительная из этих статей -
«Белинский и разумная действительность» - была написана в 1897 г.
и в некотором смысле была ответом Михайловскому, который в
полемике со Струве проводил сравнение между «объективизмом»
русских марксистов и взглядами Белинского в период его «примирения
с действительностью». В обоих случаях, утверждал Михайловский,
конфликт между «личностью» и исторической действительностью
разрешился в пользу последней; в обоих случаях индивид якобы
подчинялся разумной и благодетельной необходимости. Однако
Белинский осознал свою ошибку, взбунтовался против «разумной
действительности» и отказался продолжать принимать мнимую неизбежность
человеческого страдания.
Плеханов не отрицает, что между Белинским и русскими
марксистами есть сходные черты; напротив, он это всячески подчеркивает.
Однако в отличие от Михайловского его вдохновляет не бунт
Белинского против действительности, но предшествовавшее этому бунту
примирение с действительностью. В его интерпретации «примирение
с действительностью» самый продуктивный этап во всем идейном
развитии Белинского1. Плеханов называет Белинского предшественником
русского марксизма, который показал неадекватность «отвлеченного
идеала» и осознал необходимость оправдать революционное отрицание
как составную часть нормального хода исторического процесса.
Плеханов выделяет три этапа в интеллектуальной эволюции
Белинского - до, в течение и после «примирения». На первом этапе
Белинский принес действительность в жертву идеалу, а на втором,
наоборот, пожертвовал идеалом ради действительности; на третьем
1 Там же. С. 542,271.
446 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
же этапе Белинский пытался примирить оба предшествовавших этапа,
преобразовать отвлеченный идеал в конкретный посредством понятия
«становления», то есть подчеркивая динамический аспект общества.
Согласно интерпретации Плеханова, эта схема отражает три основные
стадии в процессе эволюции европейской мысли.
Первая стадия - период «отвлеченного идеала» - нашла свое
воплощение в рационализме Просвещения, которое использовало
субъективный критерий индивидуального человеческого разума для оценки
действительности. Плеханов утверждает: «субъективная социология»
русских народников - реликт этого отвлеченного, внеисторического
рационализма. Но когда просветительский разум всерьез столкнулся с
реальностью, он потерпел поражение: события, последовавшие за
Французской революцией, воочию показали, что общественными процессами
управляют объективные законы, независимые от человеческой воли
и сводящие на нет все человеческие планы. Выражением нового этапа
в эволюции сознания была антипросветительская философия немецкого
идеализма: в ее идее всеобщего Разума Истории, противоположного
индивидуальному разуму, можно видеть метафору, указывающую на
объективный порядок и ход вещей, на имманентную необходимость и
внутреннюю логику исторического процесса. Это тоже была специфическая
версия «примирения с действительностью», и основывалась она на
допущении, что то, что действительно, должно быть и разумно, поскольку
в истории господствуют необходимые и разумные законы. В
консервативной философии Гегеля «примирение» оказалось оправданием
прусского государства; но этот вывод противоречит диалектике самого
Гегеля, которая продемонстрировала, что всякая сторона действительности
управляется законом, причем все формы бытия, пережившие свою
полезность, подлежат отрицанию и преобразованию в свою
противоположность. Поэтому диалектика Гегеля предоставляет орудие для выхода
за пределы гегелевской системы, и эта диалектика поставила перед
мышлением человека новую проблему, а именно: каким образом открыть
объективные законы исторического развития и создать такую идеологию,
которая одновременно сочеталась бы с этими законами и выходила бы за
пределы революционного отрицания эмпирической действительности, не
впадая в утопизм. Эту проблему решил Маркс: он открыл законы,
управляющие экономическим развитием, превратив социализм из
утопического учения в науку, и тем самым подготовил почву для преодоления
трагического конфликта между идеалом и действительностью.
Значение «примирения с действительностью» у Белинского для
Плеханова проясняется в свете этой схемы. В целом ряде своих
произведений, написанных на ту или иную тему, Плеханов ссылается на
случай Белинского как пример бесстрашной идейной честности,
глубокого понимания бессилия «отвлеченных идеалов» и бессмысленно-
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 447
сти «субъективизма». В период своего «примирения» Белинский -
«социологический гений», который инстинктивно понял, что
гегелевское учение о разумности всего действительного предоставляет
единственно возможное основание для общественных наук. Ошибка
Белинского не в его общем подходе к действительности, а только в
чрезмерно статичном понимании действительности: Белинский
отождествил динамический Разум действительности (т.е. присущие ей
прогрессивные тенденции) с существующей «эмпирической»
действительностью. Поэтому, утверждает Плеханов, не прав был
Михайловский, полагавший, что Белинский исправил свою ошибку, восстав
против авторитета Гегеля; напротив, бунт против Гегеля был
«теоретическим грехопадением», понижением строгих интеллектуальных
критериев под влиянием вспышки подавленных страстей1.
Вернувшись к своему первоначальному утопизму, Белинский забыл свой
собственный аргумент, что «философия примирения» основывается
на здравом постулате, в соответствии с которым все периоды
общественного развития имеют свою собственную значимость, - идея,
которую нужно только соединить с «понятием отрицания»2.
Плеханов особенно старался показать, что в период «примирения»
Белинский не воспринял реакционных идей, что отказ от
«отвлеченных идеалов» возник у него из признания необходимости и должен
рассматриваться как акт самоотрицания, а не как конформизм.
Компетентные читатели статьи Плеханова неизбежно приходили к
выводу, что существует тесная связь между отрицанием Белинским
«отвлеченного героизма» и отрицанием «отвлеченного» народнического
идеала о непосредственном переходе к социализму самого Плеханова.
Марксизм, воспринятый Плехановым и его единомышленниками,
можно также назвать особой разновидностью «примирения с
действительностью» (действительностью русского капитализма) во имя
исторической необходимости; этот марксизм, разумеется, был очищен от
ошибки Белинского и представлял собой принятие динамической
действительности как процесса становления, в соединении с
«понятием отрицания». Интересно отметить, что в своей незавершенной
«Истории русской общественной мысли» Плеханов и сам намеревался
провести параллель между «примирением с действительностью»
Белинского и русским марксизмом .
'Там же. Т. 1.С. 458.
2 Плеханов здесь имеет в виду следующее место из письма Белинского к
Боткину (от 10.12.1840): «Конечно, идеи, которые я силился развить в статье по
случаю книги Глинки о Бородинском сражении, верны в своих основаниях, но
должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права <...> без
которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото...».
- Белинский ВТ. Поли. собр. соч. М., 1953-1959. Т. 11. С. 576.
3 Плеханов Г.В. Сочинения. Т. 20. М.; Л., 1925. С. XXVIII.
448 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Для Плеханова «разумная действительность» - действительность
как динамический процесс, развертывающийся в соответствии с
разумными законами исторического прогресса, - это развитие
капиталистических отношений в России. В этом пункте Плеханов тоже
ссылался на Белинского, утверждение которого - что «внутренний
процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той
минуты, когда русское дворянство превратится в буржуазию»1, - он
называл проницательной «разгадкой будущей судьбы России как
культурной страны»2.
Хотя Плеханов представлял Белинского как подлинного предтечу
русского марксизма (или, точнее, своей собственной версии
марксизма), он не считал, что есть какое-либо противоречие между
марксизмом в его понимании и утверждениями «субъективных» социологов,
что Белинский именно их идеологический предшественник. Плеханов
признает, что Белинский не вполне сумел преодолеть «утопизм»; в
своем «отрицании» русской действительности Белинский
неоднократно покидал диалектическую позицию ради субъективистских
подходов «просветительства». Русские марксисты основываются на
сильной стороне Белинского, тогда как «субъективная социология»
возвратилась к его слабой стороне, к «теоретическому
грехопадению», проявившемуся в нравственном бунте Белинского против
гегельянства. В свои поздние годы Плеханов пытался доказать, что
«субъективистская» тактика большевиков тоже возникла из того же
«грехопадения». Существенным представляется то обстоятельство,
что уже в самом конце своей жизни - после Октябрьской революции,
которую он считал волюнтаристским вмешательством в законы
истории, - Плеханов продолжал обращать внимание читателей на борьбу
Белинского против утопизма и чувствовал себя вынужденным
предупреждать победившую партию большевиков об опасности
«отвлеченного идеала» . Столь же характерным было его желание быть
похороненным в Петербурге рядом с могилой Белинского.
1 См. выше, главу 8.
2 Плеханов Г.В. Избранные произведения. Т. 4. С. 521.
3 В 1918 г. Плеханов все еще настаивал на необходимости
капиталистического этапа развития: «Одному из основателей научного социализма, Ф. Энгельсу,
принадлежит замечательная фраза: "Если бы не было древнего рабства, то не
было бы и новейшего социализма". Вдумайтесь в эту фразу: она равносильна
относительному оправданию рабства. То есть его оправданию в пределах
известной исторической эпохи. Не есть ли это позорная измена требованиям идеала?
Успокойтесь! Здесь нет измены. Здесь есть только отрицание того утопического
идеала, который возникает в тумане отвлечения, вне всякой органической связи с
определенными условиями времени и места. И в таком отрицании не вина
Энгельса. А его заслуга. Отвлеченный идеал слишком долго задерживал
поступательное движение человеческого ума. Недаром наш В.Г.Белинский оплакивал то
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 449
Интерпретация Плехановым идейного развития Белинского
бросает свет на трагедию самого Плеханова. Эта трагедия станет еще
понятнее, если мы немного задержимся на анализе того, что же,
собственно, Плеханов имел в виду, говоря об «исторической
необходимости». Для Плеханова самыми значительными мыслителями были
Гегель и Спиноза; он даже ставил Спинозу (понятого с
материалистической точки зрения) выше Гегеля и даже утверждал, что «Маркс и
Энгельс в материалистический период своего развития никогда не
покидали точки зрения Спинозы» . В системах Спинозы и Гегеля
Плеханова восхищали их монизм и строгий детерминизм, понятый
как онтологическая необходимость, внутренне присущая разумной
структуре вселенной. Поэтому необходимость, по Плеханову, - это,
в сущности, разумная необходимость в понимании Спинозы,
необходимость, которой Гегель придал динамический и исторический
характер, а Маркс дал новую научную интерпретацию. Принцип
детерминизма (каузальность), получивший широкое признание в
естественных науках, Плеханов распространяет на общественные науки и
возводит на уровень «разумной» необходимости, которая поэтому
имеет большее значение, чем повседневная эмпирическая
необходимость, то есть законосообразный порядок вещей, который можно
установить эмпирическим путем. Плеханов сумел изобразить
трагический конфликт Белинского между идеалом и действительностью
с такой драматической глубиной, потому что его любимый герой тоже
понимал необходимость как онтологический принцип: если бы его
«примирение с действительностью» было всего лишь
подчинением эмпирической действительности, а не Разуму и Истории, то это
было бы не более чем актом отчаяния или конформизма, интересным,
в лучшем случае, с психологической точки зрения.
Концепция «необходимости», разумеется, неотделима от понимания
«свободы». В книге «О роли личности в истории» Плеханов не без
гордости заявляет, что русские последователи Маркса преодолели дуализм
идеала и действительности, достигли высшего монизма и рассматривают
себя в качестве сознательного орудия исторической необходимости.
Свобода в понимании русских марксистов имеет свои корни в
«необходимости»: «Вернее сказать, это - свобода, отождествившаяся с
необходимостью, это - необходимость, преобразившаяся в свободу»2.
Перспективно также исследовать, какие именно общественные
процессы Плеханов считал «необходимыми», или «закономерными».
время, когда находился под его вредным влияниям». - Плеханов Г. В. Год на
родине. Paris, 1921. Т. 2. С. 260.
1 Плеханов Г. В. Избр. филос. произв. Т. 2. С. 360.
2 Там же. С. 308.
450 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Начать с того, что Плеханов отчетливо понимал, что это качество
ассоциируется со спонтанным и «органическим» развитием; поэтому
только такой процесс вписывался в его концепцию исторической
необходимости, источником которого является внутренняя причина,
а не что-то внешнее и чуждое. Если добавить к этому, что Плеханов
осуждал - как субъективистское, извне навязанное насилие над
историей - всякую попытку со стороны революционной (или
правительственной) организации противостоять «внутренней логике»
экономического развития, то станет ясно: то, что Плеханов подразумевал под
тенденцией неизбежного развития, часто было просто специфической
формой развития, характерной для эпохи классического капитализма
Это, разумеется, та форма «экономического материализма», которую
Грамши удачно определил как смесь либерально-буржуазной
политической экономии с урезанным и упрощенным марксизмом1. Больше
того, несмотря на свою якобы объективность, представления
Плеханова о том, что «правильно» и «необходимо», неизбежным образом
включают в себя нормативный взгляд на идеальный процесс развития.
Исходя из утверждения, что движение идей определяется «ходом
вещей», Плеханов зачастую делал тот вывод, что люди не должны
пытаться вмешиваться в события извне с целью изменить ход событий в
соответствии с их собственными идеалами. Сразу видно, что такая
аргументация имеет прескриптивный характер: это отход от фактов
ради оценочных суждений.
Здесь, кроме того, сказался «европоцентризм» Плеханова -
существенный компонент его западничества. Поэтому как раз в этом
вопросе Плеханов самым решительным образом порвал со своим же
прошлым и с гордостью принимал укоры в «западничестве», которые
народники обращали против русских марксистов. Враждебность
Плеханова к «азиатскому деспотизму»2 (опорой которого, по его мнению,
была крестьянская община), в соединении с его взглядами на то, как
«правильно» понимать процессы развития в смысле нерушимых
законов всеобщего «Разума Истории», означает, что его концепция
«исторической необходимости» была до крайности отвлеченной,
оторванной от «исторических и географических условий развития», как
выразился однажды Белинский о своем собственном «отвлеченном
идеале». Ирония (а отчасти и трагедия) Плеханова - в том, что
признание исторической необходимости, которое, как он думал, спасет
его от «утопизма», обернулось, по сути дела, его же собственным
утопизмом. Когда, после первых успехов Русской революции, Плеха-
1 См.: GramsciA. The Modern Prince and Other Writings. London, 1957. P. 153-161.
2 См. великолепный анализ этой стороны воззрений Плеханова в: Baron S.
Plekhanov The Father of Russian Marxism. Stanford, Calif, 1963. P. 295-307.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 451
нов обвинил большевиков в пренебрежении «конкретными условиями
времени и места», то это произошло потому, что у него был его
собственный отвлеченный идеал, полагавший самый разумный путь к
социалистической России; это был идеал русского западничества,
желавший своей стране «нормальный» европейский путь развития,
этапы которого следуют один за другим с разумной
последовательностью и всегда в полной гармонии с внутренними тенденциями
экономического и культурного роста. В конечном итоге идеал построения
социализма в России после полного завершения процесса вестерниза-
ции на прочных основаниях высокоразвитой капиталистической
демократии - этот идеал Плеханова оказался не менее «отвлеченным»,
чем идеалы русских народников.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
И ЭСТЕТИКА ПЛЕХАНОВА
Сочинения Плеханова об искусстве и литературе должны
рассматриваться как составная часть его творчества в целом. Правда, многие
из этих его работ были написаны только в начале двадцатого
столетия, но взгляды, нашедшие в них выражение, в основном сложились
гораздо раньше. Мотивы, лежавшие в основании таких исследований
по эстетике, как «Письма без адреса» (1899-1900), «Французская
драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки
зрения социологии» (1905) и «Искусство и общественная жизнь»
(1912-13), определялись желанием показать на примере искусства
ценность исторического материализма как способа истолкования.
В этих своих работах Плеханов оспаривает в основном не столько
идеалистическую эстетику, сколько попытки объяснить искусство с
точки зрения натуралистического материализма (прежде всего -
дарвиновского эволюционизма) или позитивистского психологизма. Общий
знаменатель обеих этих точек зрения, согласно Плеханову, - попытка
объяснить искусство путем привлечения внеисторического понятия
«человеческой природы» или его разновидностей (вроде представления
Тэна о «расе»). Плеханов признает, что существуют некоторые
врожденные тенденции - такие как инстинкт подражания или противоречия
(«принцип антитезы» Дарвина); но он утверждает, что то, каким
образом эти тенденции проявляются, или то, появляются ли они вообще, -
иными словами, переход от возможности к действительности, -
определяется различными историческими обстоятельствами.
Плеханов почерпнул этот аргумент непосредственно из теории
эволюции; на его взгляд, различие между дарвиновским
эволюционизмом и историческим материализмом сводится к тому, что в исто-
452 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
рическом развитии решающая роль принадлежит не природному
окружению (хотя его и надо учитывать), но общественным условиям,
которые определяются уровнем развития производительных сил.
Плеханов находит множество аргументов в пользу этого тезиса в
этнологической и социологической литературе о жизни первобытных
племен. Например, он указывает, что в орнаментах мотивы животного
мира уступают место мотивам растительного мира тогда, когда
племена перестают быть охотниками и становятся земледельцами, и что
музыкальный ритм зависит от ритма труда, а значит, и от развития
производительных сил. Плеханов также всячески подчеркивает тот
факт, что полезная деятельность - т.е. труд - старше, чем игра, и что
оценка человеком объектов с точки зрения их полезности
предшествует всякой эстетической точке зрения.
Своеобразный парадокс эстетических теорий Плеханова: хотя он
неизменно настаивает на превосходстве исторического материализма
над натуралистическим материализмом, но в своем социологическом
истолковании прекрасного он использует многие категории
натурализма; не случайно он объявляет, что его исследование общественных
явлений использует принципы, применявшиеся Дарвиным в области
биологии1. Объясняя историю искусства воздействием внешних условий
на психофизическую природу человека, социология Плеханова понимает
человека не как творца своей собственной природы и истории, но всего
лишь как продукт - пассивную среду объективных процессов,
подчиненную жесткому детерминизму естественной необходимости.
Помимо явных свидетельств позитивистского натурализма, в
эстетике Плеханова дает о себе знать влияние Гегеля - влияние,
воспринятое им в основном из вторых рук, через Белинского. Гегель считал
искусство самостоятельной формой Абсолютного Духа; Плеханов
видел в искусстве самостоятельную, нередуцируемую форму
общественной идеологии. Сфера прекрасного, писал он, не интеллект, но
инстинкт; подлинный художник, как это правильно подчеркивал
Белинский, мыслит образами. Поскольку тем самым подразумевается,
что искусство имеет свои собственные, специфические правила и
развивается по законам, которые не являются прямым отражением
законов общества, то этот ход мысли вступает в противоречие с
редукционизмом позитивистов. Этот аргумент подразумевает также, что
писатели должны избегать чрезмерной рационализации творческого
процесса, а равно и подмены языка, свойственного искусству, языком
политического журнализма. Плеханов строго применял этот критерий
независимо от личного отношения к идеологии, отстаиваемой в
данном произведении искусства: он критиковал писателя-народника
1 Плеханов Г.В. Сочинения. Т. 14. С. 10.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 453
Н. Наумова за то, что тот использовал литературу как средство
пропаганды народнических взглядов, подобно тому как он позднее
критиковал Максима Горького за то, что в романе «Мать» искусство
подчинено пропаганде марксизма.
Благодаря отчасти своему подчеркнутому «объективизму»,
Плеханов понимал, что критики в области искусства и литературы должны
быть сдержаны в выражении своих собственных политических
предпочтений. Поскольку все общественные и политические идеалы
исторически и социологически имеют свое оправдание, постольку
нормативный подход в эстетике явно не научен. Если же эстетика желает,
чтобы ее принимали всерьез как научную дисциплину, ей следует
перестать читать нравоучения художникам на предмет того, каким
искусству надлежит быть и какие идеалы искусство должно
провозглашать; вместо этого критики должны объяснять, что такое искусство и
почему оно принимает данную определенную форму в такую-то
определенную эпоху. В литературной и художественной критике
строгие научные правила, разумеется, менее обязательны, а более
уместны оценочные замечания или указания. Но даже критик, полагал
Плеханов, не должен оценивать произведение искусства по
субъективным меркам своего собственно отвлеченного идеала. В частности,
критику не следует понуждать художника поддерживать своим
искусством какую-либо политическую линию, ведь это только отвлекает
внимание от подлинного своеобразия художественного произведения
и от его эстетического и идейного воздействия. Задача искусства -
отражать сознание общественности, и если искусство желает делать
это хорошо, то оно может и не принимать во внимание взгляды
критиков относительно того, каким искусству следует быть.
Свои взгляды на роль критика Плеханов изложил в теории
«материалистической» литературной критики. В первую очередь критик-
материалист должен определить и исследовать «социологический
эквивалент» рассматриваемого художественного произведения, перевести
идеи анализируемого произведения с языка художественных образов на
язык социологии. Вслед за тем, на втором этапе нужно осуществить
собственно художественный анализ произведения, что означает -
установить, насколько адекватно его форма выражает содержание1.
Теория эта не давала советы критикам, как им оценивать
произведения искусства с точки зрения их собственных эстетических и
общественных идеалов, но при более тщательном рассмотрении
оказывается, что и здесь тоже «объективизм» Плеханова непоследователен -
ни в теории, ни на практике. Наиболее явный отход от его же
теоретических возражений в адрес нормативной эстетики - это принятие
1 Там же. Т. 14. С. 183-189.
454 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Плехановым того, что он называл «эстетическим кодексом Белинского».
Этот кодекс, который, заметим, был воспринят не столько от
Белинского, сколько приписан Белинскому Плехановым, включал пять
требований к произведению искусства. Последнее должно: (1) представлять
жизнь как она есть с помощью образов, а не силлогизмов; (2) изображать
истину без приукрашиваний или искажений; (3) выражать какую-то
конкретную идею, которая охватывает весь изображаемый предмет в его
целом; (4) иметь форму, соответствующую содержанию; и (5) показать
единство формы, т.е. гармоническое соответствие всех его частей1.
Совершенно очевидно, что эти пять требований, в сущности, только еще
одно повторение эстетических принципов реализма девятнадцатого века
и что возведение их в ранг некоторой всеобщей нормы не только
несовместимо с провозглашенным Плехановым отталкиванием от оценочной
эстетики, но и грешит против принципа историзма.
Если проанализировать вклад Плеханова как литературного критика
более внимательно, то поражает вот что: он скорее готов принять
историческую относительность своих оценок искусства прошлого, чем своих
оценок направлений современного ему искусства. Это больше всего
заметно в радикальном осуждении Плехановым модернистского
движения, особенно символизма, который он оценивал по меркам реализма.
Эта непоследовательность происходила из внутренних
противоречий позиции Плеханова. В основе этой позиции лежит, с одной
стороны, убеждение в том, что все, что существует, исторически
оправданно и неизбежно, но, с другой стороны, постулат, в соответствии
с которым научное понимание законов развития дает возможность
установить, какие тенденции прогрессивны, а какие - нет; поэтому
все, что своим существованием противоречит этому диагнозу,
подлежит осуждению. К современным ему интеллектуальным и
художественным движениям (и к тем, которые он всегда не одобрял, и к тем,
которые он не предвидел), Плеханов относился не столько как
объективный ученый, заинтересованный в том, чтобы открыть их
социальный генезис, но скорее как судья, который выносит окончательный
приговор с точки зрения высшей научной компетентности
относительно «того, что должно быть». Это, разумеется, только другое
выражение той же самой догматической уверенности, которая привела
Плеханова к осуждению большевистской революции как нарушения
научно установленных законов исторического развития.
То, каким образом Плеханов отстаивал абсолютную ценность
реализма девятнадцатого века и его неспособность принять новые
направления в современном искусстве, показывает, что исторический
материализм Плеханова страдал той же самой ограниченностью, что и
1 Там же. Т. 23. С. 156-157.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 455
исторический идеализм Гегеля; Плехановский исторический
материализм мог объяснить необходимость того, что было прежде, но не
годился в качестве ориентира для будущего. Однако было бы
несправедливо закончить на этой ноте. Сегодня эстетика Плеханова выглядит,
конечно же, старомодной, но важно помнить, что он был пионером
марксистской художественной критики. Значительный интерес
представляют его попытки марксистского истолкования социальной
психологи - области исследований, где можно было объяснить такие
особенности произведений искусства, которые не связаны напрямую
производительными силами. Исследование «Французская драматическая
литература и французская живопись XVIII века с точки зрения
социологии», в котором эти идеи развиты наиболее подробно, все еще может
предложить современному читателю много продуктивного.
ЛЕГАЛЬНОЕ НАРОДНИЧЕСТВО
В начале 1880-х годов необходимость политических методов
борьбы была признана всеми фракциями русского революционного
движения. Это не означало, что прежний принцип народничества о
приоритете «социальных задач» над «политическими» был полностью
оставлен. Революционное народничество стало политически
ориентированным, но не так обстояло дело в социально-реформистском
направлении, которое с давних пор существовало внутри
революционного движения и для которого 1880-е и 1890-е гг. были периодом
интенстивной деятельности. Русские исследователи обычно называют
это направление «либеральным народничеством», хотя такое
обозначение не очень удачно ни с политической, ни с экономической точки
зрения. Понятие «легального», то есть нереволюционного,
народничества представляется более точным. Представители этого
направления были «аполитичны» в гораздо более точном смысле, чем
революционеры: они не выступали за систему либерального
парламентаризма и были однозначно враждебны в отношении экономического
либерализма. По сути дела, они были «либералами» только в очень
широком и специфически русском смысле слова: как противники
революции, питавшие надежду на реформы сверху. Еще в начале
1970-х годов типичный представитель этого направления Г.З. Елисеев
заявил, что русские должны быть благодарны судьбе за то, что у них
нет парламентского правления; благодаря этому государство все еще
в состоянии проводить реформы на благо масс и защищать их против
кулаков-мироедов и ненасытной плутократии1.
1 См. выше прим. 3. С. 245.
456 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
Сначала границы между легальным и революционным
народничеством были не очень определенными. Михайловский, например, был
легальным народником, хотя он симпатизировал революционерам и
сотрудничал с ними, а в своих теоретических работах формулировал
общие идеалы движения, под которыми готовы были подписаться как
революционные, так и нереволюционные народники. Экономист-
народник Василий Берви-Флеровский (1829-1918), автор книги
«Положение рабочего класса в России» (1869), был тесно связан с
революционными кругами, но апеллировал к доброй воле властей и не
был убежден в необходимости «политической революции» в России.
Он даже обращался к землевладельцам, предлагая им советы насчет
того, как относиться к народу по-братски и работать на его благо,
не теряя своего общественного положения . Эти призывы Бер-
ви-Флеровского возникали из его убеждения избежать капитализма
в интересах русского народа в целом, и, более того, это единственный
путь, которым можно предотвратить национальную катастрофу.
В 1880-е гг., после того как революционеры отказались от своего
безразличия к политическим формам борьбы, легальное
народничество стало вполне самостоятельным движением со своей собственной
идеологией. Общим знаменателем, связующим подчас совсем разных
участников этого движения, был постулат некапиталистической
индустриализации - индустриализации, которую начнет проводить и
направлять государство, охраняющее интересы мелких
производителей. Ведущим и самым характерным представителем легального
народничества был В. П. Воронцов (1848-1918), который подписывал
свои работы инициалами В.В.2 Его книга «Судьбы капитализма в
России» (1882) была первой широко задуманной попыткой
проанализировать специфические черты русского капитализма; в то же время эта
книга стала оригинальным выражением теоретических представлений
об экономическом развитии на некапиталистических путях.
Мыслители-народники 1970-х гг. были глубоко проникнуты
пессимистическим убеждением, что время работает против них, что так
называемый «объективный» ход событий - автоматическая природа
экономического развития - толкает Россию все дальше по
капиталистическому пути. Михайловский, к примеру, ставил под вопрос не
само существование этого «объективного» хода вещей как такового,
но только его неизбежность; он выступал против этой неизбежности
1 Берви-Флеровский В. Избранные экономические произведения. Т. 1. М.,
1958. С. 612-613.
2 Интересное рассмотрение экономических взглядов Воронцова и
взаимоотношения между «легальными народниками» и «легальными марксистами»
можно найти в книге: Mendel А.Р. Dilemmas of Progress in Tsarist Russia: Legal
Marxism and Legal Populism. Cambridge, Mass., 1961.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 457
во имя своих «субъективных» нравственных постулатов, признавая,
однако, что шансы успешной реализации этих постулатов с каждым
годом убывают. Книга В.П. Воронцова имела своей задачей
предоставить аргументы в пользу более оптимистического воззрения, в
соответствии с которым положение дел в России не так уж благоприятно
для буржуазии. Но этот оптимизм был только частичным: Воронцов
утверждал, что капитализм не может быть в России доминирующей
формой производства, но он не исключал того, что в будущем
капитализм станет формой эксплуатации масс.
В своей убежденности в полной неудаче индустриализации на
капиталистических путях Воронцов основывается на анализе условий
существования русского капитализма:
Историческая особенность нашей крупной промышленности
заключается в том, что ей приходится расти во время, когда другие
страны достигли уже высокой степени развития. Это приводит
к двум последствиям: во-первых, она может пользоваться всеми
формами, выработанными Западом, не переползая черепашьим
шагом с одной ступени на другую, то есть, по-видимому, имеет
возможность развиваться очень быстро; во-вторых, ей приходится
конкурировать с опытными, давно установившимися в
промышленном отношении странами, а соперничество таких противников
может совершенно заглушить слабые ростки вновь возникающего
капитализма.
Подытоживая результаты своего исследования, Воронцов
добавляет к этому, что отсталость России можно считать своего рода
исторической привилегией:
Страны, позже других выступившие на путь исторического
развития, имеют то громадное преимущество над своими
предшественницами, что могут, на основании опыта последних, составить
себе более или менее вероятное представление о следующем своем
шаге и потом сознательно стремиться или уберегаться того, чего
другие достигли лишь инстинктивно^.
Представление, в соответствии с которым отсталость может быть
своеобразной привилегией, еще раньше выдвигал Герцен (под
влиянием Чаадаева), а также Чернышевский, который выразил эту идею
1 Воронцов ВВ. Судьбы капитализма в России. СПб., 1882. С. 13-14.
Основные фрагменты этого труда перепечатаны в книге «Народническая
экономическая литература» (под ред. Каратаева).
458 Анджей Валицшй. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
в афоризме: «История, как бабушка, страшно любит младших
внуков»1. В прокламации «К молодому поколению» (1861), одном из
первых документов революционного народничества, авторы ее, Шел-
гунов и Михайлов, выразили ту же самую мысль: «Мы как нация
поздние, и в этом наше спасение». Воронцов, таким образом, имел за
плечами некоторую традицию. То, что его отличало от
предшественников (отчасти за исключением Чернышевского), - это смещение
акцента с чисто экономической стороны проблемы, а именно мысль
о том, что «привилегию отсталости» можно использовать не только
для того, чтобы построить более справедливую общественную
систему, но также и для того, чтобы ускорить процесс индустриализации.
Другое препятствие на пути капиталистического развития
Воронцов видит в невозможности успешной конкуренции отсталой России в
рыночном соперничестве с более развитыми странами.
Капиталистические предприятия в России, писал Воронцов, не имеют внешних
рынков, а их внутренний рынок сокращается из-за падения
покупательной способности населения - падения, вызванного
капиталистической экспроприацией. На основе имеющейся в распоряжении
современной технологии крупномасштабное капиталистическое
предпринимательство может интенсивно развиваться в России даже при
отсутствии рынка путем возрастания производительности труда, но
оно не может развиваться экстенсивно, т.е. давая рабочие места все
возрастающему числу наемных рабочих. Капиталистическое
предпринимательство может создать маленькие островки современного
производства, которые в состоянии удовлетворить потребности
высших классов, но оно не может стать доминирующим способом
производства; оно может эксплуатировать массы и разорить множество
мелких собственников, но оно не в состоянии дать им работу и тем
самым подготовить их к овладению более «обобществленными»
методами производства. В Западной Европе капитализм был
исторически необходимой и прогрессивной формой «обобществления труда»;
в России же, как вообще в отсталых странах, капитализм возможен
только в форме эксплуатации - «абортивной попытки»,
«незаконнорожденного ребенка истории». Отождествив индустриализацию как
таковую с капиталистической индустриализацией, русское
правительство прилагает все усилия для того, чтобы поддержать
отечественный капитализм посредством искусственных инъекций и
щедрых субсидий, «в мягких перчатках»; результат всех этих усилий -
скорее «игра в капитализм», пародия на него. Русские капиталисты и
1 Чернышевский HT. Избранные философские сочинения. Л., 1950-1951. Т. 2.
С. 486 («Критика философских предубеждений против общинного владения»).
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 459
сами почувствовали необходимость объяснить отсутствие у них
успеха, и в деревенской общине они нашли настоящего козла отпущения.
Сельское хозяйство России тоже характеризуется Воронцовым как
доказательство неудачи русского капитализма. Воронцов даже
утверждает, что за исключением Англии все европейские страны начинают
отходить от капиталистических методов сельскохозяйственного
производства. (Для того чтобы понять это странное утверждение, нужно
понимать, что для Воронцова капитализм в сельском хозяйстве
заключался в экспроприации мелких собственников, а не в
высокоразвитом производстве товаров на капиталистический рынок, хотя бы и в
малом объеме.) Воронцов объясняет причины падения
сельскохозяйственного производства и продолжающийся распад крестьянской
общины бессмысленными фискальными поборами правительства,
включая даже порку крестьян с целью силой заставить их продавать
скот и посевное зерно ценой разрушения производственных сил
деревни. Несмотря на это крестьяне борются за то, чтобы сохранить
свою независимость, и это им даже удается, хотя и ценою
максимального сокращения своего собственного потребления; больше того,
владельцы больших поместий идут на то, чтобы ради высокой арендной
платы скорее сдавать землю в аренду крестьянам, чем обрабатывать
ее наемным трудом, и таким образом сами участвуют в передаче
крестьянам сельского хозяйства.
В качестве альтернативы капитализма Воронцов предлагает такую
индустриализацию, которую бы вводило и проводило само
государство. По его мнению, правительство должно национализировать
крупную промышленность и организовать постепенную передачу
малых предприятий рабочим артелям - организациям, которые можно
контролировать опосредованно; ремесленников и работающих на
дому нужно стимулировать объединяться в кооперативы, которые будут
получать помощь от государства для приобретении сырья и сбыта
продукции. Такую же помощь следует оказать и крестьянским
общинам. Было бы неверно делать из этого вывод, что Воронцов хочет
сохранить сельские ремесла навсегда: он только желает обеспечить
гладкий, безболезненный переход к «обобществленным формам
производства». Воронцов только отчасти был учеником Михайловского:
его не вдохновлял идеал безраздельного, не обобществленного труда,
и он даже часто цитирует Маркса, у которого научился рассматривать
обобществленное производство как историческую необходимость и
неотъемлемое условие экономического развития. На взгляд
Воронцова, экономическое развитие проходит три стадии: (1) доиндустриаль-
ного, «народного» производства, (2) обобществления труда как части
процесса индустриализации, (3) обобществленного «народного»
производства (из-за цензуры Воронцову приходилось избегать слова
460 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
«социализм»). Получается, что индустриализация под
покровительством государства представляет самый эффективный путь
достижения этой окончательной, высшей стадии экономического развития.
Поэтому Воронцов считал себя вправе сделать вывод, что Россия все еще
может кое-чему научить Запад: «Будем надеяться, что именно Россия и
есть та страна, которая послужит образцом при реорганизационной
работе, что ее историческая миссия заключается в осуществлении
равенства и братства, если уж ей не суждено бороться за свободу»1.
Надежда на то, что царская Россия может продвигаться к
социализму, не решив сначала вопрос о политической свободе, проистекала
из убеждения Воронцова в том, что государство нуждается в
индустриализации, но не может ее достичь методами капитализма: «Чем
позднее начнет какая-либо страна развиваться в промышленном
отношении, тем труднее завершить ей это развитие капиталистическим
путем»2. Государство - единственный институт, способный
инвестировать капитал не ради прибыли, но ради благосостояния общества;
только плановая индустриализация, направляемая правительством,
может обеспечить экономическую независимость России и
предотвратить ее эксплуатацию со стороны более развитых
капиталистических стран; только спонсируемая государством экономическая
политика позволит России состязаться с западными соперниками - изгнать
Англию с азиатских рынков и занять место Америки в экспорте зерна.
К таким же выводам приходил Н. Даниелъсои (1844-1918,
псевдоним Николай-он), русский переводчик «Капитала» Маркса, многие
годы переписывавшийся с Марксом и Энгельсом (начиная с 1868 г.) и
тем самым предоставлявший им непосредственную информацию об
экономическом развитии России. Даниельсон был народником,
который не без основания считал себя марксистом. Его основная работа -
«Очерки нашего пореформенного общественного состояния» (1893) -
была написана по предложению самого Маркса. Даниельсон всячески
подчеркивает различия между собой и экономическими
публицистами, которые «защищали дело народа с узко-крестьянской точки
зрения»3. Он намеренно избегал цитировать Воронцова (хотя на самом
деле многое у него позаимствовал) и не упускал возможности
ссылаться на авторитет Маркса и Энгельса, даже цитируя свою частную
переписку с ними. Тем не менее, не может быть никакого сомнения в
том, что Даниельсон принадлежал к легальным народникам. По
основным вопросам он был вполне согласен с Воронцовым, и един-
1 В(оронцов) В. Судьбы капитализма. С. 124.
2 Там же. С. 15.
3 Цит. по: История русской экономической мысли / Под ред. А.Я. Пашкова и
H.A. Цаголова. М., 1960. Т. 2. Ч. 2. С. 329.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 461
ственное различие между ними состоит в том, что они по-разному
расставляли акценты. Даниельсон, к примеру, не считал
капиталистическую индустриализацию России совсем уж невозможной; однако,
подобно Воронцову, он делал акцент на том, что у России отсутствуют
внешние рынки, и обращал особое внимание на катастрофическую
ситуацию в сельском хозяйстве: этим он, помимо прочего, пытался убедить
правительство в том, что капиталистическое развитие противоречит
подлинным интересам российского государства. Подобно Воронцову,
Даниельсон был представителем мелких производителей и защищал малую
индустрию и деревенскую общину, будучи убежден, что эти последние
предоставляют основание для будущего обобществленного
производства. Словом, Даниельсон разделял убеждение Воронцова в том, что
спонсированная государством индустриализация позволит соединить
рост производительности труда с ростом массового потребления.
Проблему, перед которой мы стоим, можно обобщенно выразить
так: Что мы должны сделать для того, чтобы вывести нашу
промышленность на уровень западной промышленности, для того чтобы
Россия не сделалась вассалом более развитых стран, и в то же время
поднять жизненный уровень народа в целом? Вместо этого мы
отождествили тяжелую промышленность с ее капиталистической
формой, сведя тем самым нашу проблему к следующей дилемме: кому
мы должны пожертвовать нашу легкую промышленность - нашей
собственной капиталистической индустрии или английской
индустрии? Если дело обстояло так - а оно обстояло именно так, - то
наша легкая промышленность оказалась обречена, и мы начали
развивать нашу собственную капиталистическую промышленность1.
Чего читатели Даниельсона не знали, так это того, что сомнения,
которые он пытался представить в качестве ложной дилеммы,
разделял и Энгельс. 22-го сентября 1892 г. Энгельс писал Даниельсону:
«Ваша реальная проблема представляется мне такой: русским
пришлось решать: или их собственная grande industrie разрушит частную
мануфактуру, или импорт английских товаров осуществит этот
процесс. Защищаясь, русские будут влиять на процесс, не защищаясь,
влиять будут англичане»2. Говоря о ложной дилемме, Даниельсон
фактически вел скрытую полемику с Энгельсом. Это был не един-
1 Ннколай-он {Даниельсон). Очерки нашего пореформенного общественного
хозяйства. СПб., 1893. С. 390-391. Соответствующие разделы этой книги
перепечатаны в издании под ред Каратаева: Народническая экономическая
литература.
Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями.
462 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ственный случай его несогласия с Энгельсом: считая себя
марксистом, Даниельсон был совсем не склонен отказываться от
собственных, давно сложившихся взглядов на экономическое развитие своей
страны. Он делал все возможное для того, чтобы убедить Энгельса в
правильности своих воззрений, но, и когда это ему не удалось, он
продолжал твердо держаться своей точки зрения. Когда было нужно,
Даниельсон апеллировал к авторитету Маркса и Энгельса, а когда он
не соглашался с ними, то не называл их по имени, чтобы не испортить
своей репутации правоверного марксиста.
Под влиянием марксизма Даниельсон старался подчеркнуть свое
неприятие «экономического романтизма». Вот почему он отверг
проекты относительно организации правительством помощи деревенским
умельцам и работающим на дому - проекты эти выдвигали Воронцов,
Кривенко и другие писатели-народники. Труд, писал Даниельсон,
должен быть «обобществленным»; «патриархальное производство»
нужно преобразовать в крупную промышленность, а это возможно
только путем структурной трансформации всей экономической
системы. В действительности Даниельсон и сам был не свободен от
склонности к романтизации докапиталистических пережитков
«патриархального производства». Принципиально и он, и Воронцов были
едины в своей общей цели - программе индустриализации, способной
предотвратить «экспроприацию мелких производителей» и падение
уровня жизни. Основное различие между Даниельсоном и Воронцовым
заключалось в том, что Воронцов отстаивал дешевый кредит для
ремесленников, низкие налоги и свободное совещательство для крестьян как
способы борьбы капитализмом, тогда как Даниельсон с большим
скепсисом относился к таким полумерам и подчеркивал необходимость
глобальной трансформации системы государственным путем.
Наконец, не надо забывать, что оба эти автора-народника верили,
что можно провести в жизнь экономические программы без каких-
либо предшествующих им политических реформ. Эта характерная
сторона легального народничества вызывала возмущение у русских
марксистов. В письме к Энгельсу Плеханов писал: «Но предположим,
что община - наш якорь спасения. Кто произведет реформы,
предлагаемые Николай-оном? Царское правительство? Лучше чума, чем
реформы, исходящие от подобных реформаторов. Социализм,
насаженный русскими исправниками, - что за химера!»1.
Было бы несправедливо закончить на этой ноте. В нашей
сегодняшней перспективе мы видим в теориях Воронцова и Даниельсона
не только совершенно оправданную попытку защитить крестьян, ко-
1 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями.
С.334.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 463
торых такое множество социалистов поспешило объявить
обреченными, но также и первую попытку поставить вопрос и найти решение
таких проблем, которые и сегодня еще стоят перед странами Третьего
Мира. Воронцов, Даниельсон и другие легальные народники могли
недооценивать возможности капиталистического развития в России и
слишком оптимистически расценивали шансы примирения
некапиталистической индустриализации с непрерывным ростом массового
потребления; вряд ли также можно сомневаться в том, что они иногда
ложно интерпретировали факты и часто тенденциозно толковали
статистические данные, создавая тем самым неверную картину того, что
в действительности происходило в экономике России. С другой
стороны, Воронцов и Даниельсон первыми поняли, что экономическая
отсталость порождает свои собственные проблемы и что неразвитые
страны не только не должны, но и не могут следовать в своем развитии
образцу передовых стран Западной Европы. Воронцов, возможно,
ошибался, когда говорил, что капиталистическая промышленность в России
никогда не сумеет завоевать внешние рынки, но сама проблема, как он ее
сформулировал, а именно влияние международных условий на
индустриализацию отсталых стран, конечно же, не была псевдопроблемой.
Надежда Воронцова на то, что царское правительство осуществит
некапиталистическую индустриализацию в России в интересах народа,
несомненно, была иллюзией, но эта иллюзия возникла из правильного
понимания взаимосвязи между экономической отсталостью и ролью
государства как инициатора экономического развития.
ЛЕГАЛЬНЫЙ МАРКСИЗМ
Спор о капитализме достиг своего пика в 1890-е гг., когда марксизм
стал влиятельным направлением в России и приобрел широкое
распространение в рабочем движении. Именно в ту пору, когда политика
министра финансов графа Витте быстро изменяла облик страны, дебаты
между народниками и марксистами направили внимание русской
интеллигенции на проблемы капиталистической индустриализации. Важную
роль в этих дебатах сыграло течение, известное под именем «легальный
марксизм». Ленин называл его «совершенно курьезным явлением»,
которое было бы невозможным в 1880-е и в начале 1890-х гг.:
В стране самодержавной, полным порабощением печати, в эпоху
отчаянной политической реакции, преследовавшей самомалейшие
ростки политического недовольства и протеста, - внезапно
пробивает себе дорогу в подцензурную литературу теория революционного
марксизма, излагаемая эзоповским, но для всех <интересующихся>
понятным языком. Правительство привыкло считать опасной толь-
464 Анджей Валщкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ
МЫСЛИЛО теорию (революционного) народничества, не замечая, как
водится, его внутренней эволюции, радуясь всякой направленной против нее
критике. Пока правительство спохватилось, пока тяжеловесная
армия цензоров и жандармов разыскала нового врага и обрушилась на
него, - до тех пор прошло немало (на наш русский счет) времени.
А в это время выходили одно за другим марксистские книги,
открывались марксистские журналы и газеты, марксистами становились
повально все. Марксистам льстили, за марксистами ухаживали, издатели
восторгались необычайно ходким сбытом марксистских книгх.
Ленин имеет здесь в виду, разумеется, «легальный» марксизм в
самом широком смысле этого слова, т.е. всю в целом марксистскую
литературу, которая печаталась легально. Широкое распространение
марксистской литературы объяснялось (как подчеркивал Ленин)
альянсом между людьми крайних и людьми умеренных убеждений,
то есть альянсом революционных марксистов и «легальных»
марксистов sensu stricto - сторонников легальных методов борьбы, которые
видели в марксизме такую теорию, которая делает упор на
необходимости капиталистической индустриализации и либеральной свободы.
Ведущим представителем этого течения был Петр Струве (1870—
1944). После опубликования его работы «Критические заметки к
вопросу об экономическом развитии в России» (1894) легальный
марксизм стал влиятельным течением со своими периодическими
изданиями и своим представительством среди университетских профессоров
(А. Скворцов, А. Чупров, М. Туган-Барановский и др.). Можно даже
сказать, что для среднего русского интеллигента (если он не был
непосредственно связан с революционным движением) марксизм в
России начался не с Плеханова, но со Струве2.
Предшественником Струве был Н. Зибер, профессор Киевского
университета и автор исследования «Давид Риккардо и Карл Маркс»,
о котором положительно отзывался сам Маркс3. Книга эта целиком
была напечатана только в 1885 г., но отдельные ее части -
диссертация о теории стоимости Риккардо (1871) и ряд статей под названием
«Экономическая теория Маркса» - появились в 1870-е гг. и внесли
большой вклад в дело популяризации марксизма среди членов «Земли
и воли». Стоит отметить, что работы Зибера оказали значительное
влияние на молодого Плеханова, который ссылался на них в своей
статье «Закон экономического развития общества и задачи социализ-
1 Ленин В.И. Что делать? // Он же. ПСС. 4-е изд. Т. 5. М., 1951. С. 333-334.
2 Самое обстоятельное исследование о Струве до 1905 г. -Pipes R. Struve,
Liberal on the Left, 1870-1905. Cambridge. Mass, 1970.
3 См. послесловие ко второму немецкому изданию «Капитала».
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму
465
ма в России». Советские ученые обычно склонны видеть Зибера в
более благоприятном свете, чем Струве, и отмечают его роль в
пропаганде марксизма в России. С другой стороны, если рассматривать
общую типологию различных версий русского марксизма, то
невозможно отрицать, что именно Зибер инициировал
либерально-экономическое истолкование, подхваченное позднее легальными
марксистами. Согласно Зиберу, Маркс был, прежде всего прочего, учеником
и продолжателем Риккардо. «Капитал», писал Зибер, является «не чем
иным, как продолжением и развитием начал, лежащих в основании
учений Риккардо и Смита»1.
Основной акцент Зибер делал на эволюционной неизбежности
капитализма. Общественные формации, писал он, - это не вопрос
выбора, а неизбежный результат естественного развития; сознательное
вмешательство людей не может достичь чего-то большего, чем
повивальная бабка, которая разве что сокращает время родовых мук.
Необходимость пройти через капиталистический этап развития определяется
всеобщим законом экономического развития; можно
противодействовать каким-то общественно вредным последствиям индустриализации с
помощью заводского законодательства по английскому образцу, но
«попытка ликвидировать капитализм прежде, чем он будет готов
ликвидировать сам себя, равносильна попытке поднять себя за волосы»2.
Экономическое развитие имеет эволюционный характер, и его естественные
этапы невозможно ни перескочить, ни искусственно сократить:
институциональная структура государства всегда автоматически
приспосабливается к экономическому базису.
Зибер настолько верил в автоматический прогресс, что был убежден,
что и переход к социализму произойдет без всякой революции, когда
этот переход станет экономически оправданным. Вопрос о введении
новой системы, полагал он, должен решить международный конгресс,
состоящий из представителей развитых индустриальных стран.
Человек с такими взглядами не мог не быть абсолютно враждебен
народничеству. Зибер был уверен, что крестьянская община обречена
на исчезновение и что развитие экономики требует экспроприации и
пролетаризации большей части российского крестьянства. Зибер
часто повторял, что из русского крестьянства не будет толку, если оно
не пройдет через «индустриальный котел». Для Зибера было аксиомой,
что разбросанные здесь и там хозяйства мелких независимых
производителей нужно заменить крупным капиталистическим производством. Не
удивительно, что Аксельрод заметил в письме к Плеханову, что теория
Зибера приводит русских социалистов к безрадостному выводу: «кресть-
1 Зибер H.H. Избранные экономические произведения. М., 1959. Т. 1. С. 556.
2 Там же. Т.2. С. 673.
466 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
янство предоставить на волю исторической стихии, а самим сделаться
либералами, или же самим сидеть сложа руки»1.
Достойно внимания, что как раз по этому вопросу Струве
придерживался другого мнения: не социалисты должны стать либералами,
полагал он, но либералам (если они хотят иметь влияние) хотя бы на
какое-то время следует стать социал-демократами. Несомненно, этот
аргумент со всей ясностью указывает на политическую слабость
либерального движения в России.
В своих «Критических заметках...» Струве нападал на
народническое учение и отстаивал прогрессивную природу капиталистической
индустриализации. Воля индивидов и их субъективные идеалы ничего
не стоят, утверждает Струве, полемизируя с «субъективной
социологией». Поэтому корректный подход к капитализму - подход не
идеологический, но объективный - это позиция ученого, который
демонстрирует неизбежность данного процесса. «Приходится сделать
вывод, что нам недостает культуры, и мы должны пойти на науку к
капитализму», - таков вывод книги.
Эта позиция, естественно, вызвала взрыв негодования в
народнических кругах. Для того чтобы понять последовавшую реакцию,
нужно принять во внимание тот факт, что как Плеханов, так и немецкие
социал-демократы еще прежде сделали серьезную ошибку: они
относились к крестьянам как к однородной реакционной массе и что
в программе немецких социал-демократов, одобренной в Эрфурте в
1891 г., говорилось о крахе мелких независимых предприятий
(включая фермы) как о «естественной необходимости» экономического
развития. Все эти факторы в итоге привели к тому, что народнические
авторы в каждом марксисте подозревали пропагандиста
экспроприации крестьян или даже представителя интересов буржуазии. В
полемике между марксистами и народниками одним из самых активных
участников был Михайловский, который резко выступал не только
против Струве и легальных марксистов, но и против марксизма как
такового, обвиняя его в фатализме и доктринерской негибкости в
соединении с диалектической софистикой, догматическим
самодовольством и высокомерным безразличием к судьбе живых людей.
Особое возмущение вызывала фраза, что нужно «брать уроки у
капитализма». Но только молодой Ленин счел необходимым
отказаться disown от нее и ясно показать различие между взглядами
Струве и революционным марксизмом. Среди большинства других
марксистов того времени «Критические заметки...» принесли Струве
большую известность и уважение, а его ревизионистские взгляды
старались не замечать ради его вклада в борьбу против народничества.
1 Переписка Г.В. Плеханова и П.Б. Аксельрода. М, 1925. Т. 2. С. 197.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 467
На первом съезде русских социал-демократов в Минске в 1898 г.
именно Струве предложили написать манифест партии. Эта
программа, одобренная съездом, показывает общую платформу, на которой
легальные и революционные марксисты сумели договориться; в ней
ничего не говорилось о захвате власти или гегемонии пролетариата,
а задача, стоявшая перед рабочим классом, определяется тем, чтобы
занять место «слабой и трусливой» буржуазии в борьбе за
политические свободы. Сам Струве позднее признавал, что для него лично вопрос
о политических правах имел гораздо больше значения, чем конечная
цель социализма. Он «страстно любил свободу», тогда как социализм как
таковой никогда не вызывал у него никаких эмоций, не говоря уже о
страсти: «Я стал адептом социализма просто путем размышлений, и
таким образом я пришел к выводу, что социализм - исторически
неизбежный результат объективного процесса экономического развития»1.
Важно то, что уже в своих ранних «Критических заметках...»
Струве предвосхищает кое-какие основные идеи «ревизионизма»
Бернштейна. Струве отверг теорию о неизбежном конечном крахе
капитализма ("Zusammenbruchstheorie") и обнищании пролетариата
("Verelendungstheorie"), и, несмотря на то что он видел в марксизме
«единственную научную теорию» общественного развития, он все же
считал, что философские основания марксизма недостаточны и
должны быть дополнены кантовским критицизмом. Не удивительно, что в
конце 1890-х гг. он сразу принял активное участие в немецком
ревизионистском движении. Его статья о марксистской теории
общественного развития (Die Marxische Theorie der sozialen Entwicklung,
1899)2 в некоторых отношениях гораздо более радикальна в своей
критике Маркса, чем тезисы Бернштейна. Струве в ней называет
Маркса «утопистом» (точно так же как прежде он во имя Маркса
обвинял в утопизме народников) и изображает социальную революцию,
в сущности, как эволюционный процесс, подчеркивая, что социализм
не «отрицание» капитализма, но скорее неизбежный итог
естественного развития самого капитализма.
Нас не должно удивлять то обстоятельство, что в России ревизия
марксизма была предпринята даже раньше, чем в Германии. Когда
Плеханов писал: «Своеобразная черта нашей недавней истории, что
даже вестернизация нашей буржуазии проходила под знаменем
марксизма» , то он имел в виду то же самое, что подразумевал и Струве,
утверждая, что легальный марксизм по существу своему - «оправда-
1 Struve PB. My Contacts and Conflicts with Lenin // Slavonic Review. Vol. 12.
April, 1934. P. 577.
2 См. в: Archive für soziale Gesetzgebung und Statistik, Bd. 14. Berlin, 1899.
3 Плеханов Г. В. Сочинения. Цит. изд. Т. 24. С. 281.
468 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ние капитализма», и что роль его в развитии русской мысли можно
сравнить с ролью экономического либерализма на Западе. Можно
сказать, что легальный марксизм был первой прокапиталистической
идеологией, обращавшейся к русской интеллигенции. Он приобрел
широкую популярность главным образом потому, что он не был явно
буржуазен и, как казалось, происходил из социалистической
традиции. С другой стороны, вряд ли нужно удивляться тому, что теория,
так глубоко проникнутая идеей капитализма, с самого начала должна
была взяться за соответствующую ревизию марксизма.
К 1900 г. большинство прежних легальных марксистов разорвало,
в конце концов, отношения с русским социал-демократическим
революционным движением и присоединилось к либеральным вождям
«земства», сформировав тем самым союз, которому впоследствии
суждено было стать ядром будущей Конституционной
демократической партии. Сам Струве стал лидером правого крыла этой
либеральной группировки. Те лидеры народников, которые с самого начала
относились к легальным марксистам как к сторонникам буржуазии
(Михайловский был одним из них), теперь, казалось, были
реабилитированы. Однако Плеханов, что характерно, не счел себя обязанным
прекратить свой политический альянс со Струве; в соответствии со
своей прежней программой он продолжал думать, что сотрудничество
с прогрессивными фракциями буржуазии - единственный путь к
завершению вестернизации России.
Для Струве легальный марксизм был только недолгим переходным
периодом. В последующие годы идейная эволюция Струве вела его от
марксизма (дополненного кантианством) к новому идеализму (Струве
был одним из авторов важного сборника статей под вызывающим
названием «Проблемы идеализма», 1902). В 1909 г. он принял участие в
знаменитом философском сборнике «Вехи», который призывал к полному
разрыву с революционными и материалистическими традициями
русской интеллигенции и к возврату к русской религиозной мысли,
особенно к идеям славянофилов, Достоевского и Соловьева.
Сходная эволюция (от легального марксизма к «Вехам»)
характерна для идейного пути Николая Бердяева, Сергея Булгакова и Семена
Франка - мыслителей, которые после революции 1905 г. стали
ведущими представителями движения, известного под названием
«русского религиозного ренессанса».
РАННИЕ СОЧИНЕНИЯ ЛЕНИНА
В отличие от Плеханова, который остался человеком XIX века,
хотя он и дожил до 1918 г., Ленин, и как теоретик политики, и как поли-
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 469
тический лидер, - фигура XX века в полном смысле слова. Однако его
имя и ранние труды не следует оставлять без внимания в истории
русской общественной мысли девятнадцатого столетия, если иметь в виду
значительный вклад, который Ленин внес в спор о капитализме - спор,
который был продолжением дискуссии о будущем развитии России
и который бушевал до этого на протяжении половины столетия.
Подобно своему старшему брату Александру (и в
противоположность Плеханову), молодой Владимир Ульянов был привержен
традициям «Народной воли». Не может быть никаких сомнений в том, что
Ленин был одним из тех лидеров русского рабочего движения, которые
«в своей ранней юности восторженно преклонялись перед героями
террора. Отказ от обаятельного впечатления этой героической традиции стоил
борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни
стало хотели остаться верными "Народной воле" и которых молодые социал-
демократы высоко уважали»1. Надежда Крупская в своих воспоминаниях
приводит эти заключительные слова из работы Ленина «Что делать?»,
добавляя от себя: «Этот абзац - кусок биографии Владимира Ильича»2.
Ленин начал профессиональную жизнь революционера в
студенческом марксистском кружке в Казани - одном из тех кружков,
которые организовал в Волжской губернии в 1880-е гг. молодой
революционер-марксист Николай Федосеев (1871-1898). Участники этих
кружков не считали себя противниками народничества и даже хотели
продолжать все еще живые традиции революционного крыла этого
движения. Федосеев, разумеется, был решительно против
«оправдания капитализма» легальными марксистами, то есть против
экспроприации крестьян; фактически он был за то, чтобы одной из основных
задач революционной борьбы стал возврат крестьянам земли,
отобранной у них по аграрной реформе 1861 г. Поэтому Федосеев
чувствовал себя лично оскорбленным нападками Михайловского на
русских марксистов, и в ноябре 1893 г. - в начале предпринятого
Михайловским наступления на марксистов - написал ему большое письмо с
изложением своей позиции . Федосеев делал упор на том, что не
понимает голословных утверждений Михайловского, поскольку и
народники, и марксисты, отстаивают интересы эксплуатируемых
классов, стараются защищать крестьян и, по возможности, превратить
сельский пролетариат в независимых крестьян-собственников.
Федосеев признает в своем письме, что «нет дыма без огня» и что он сам
слышал о некоторых марксистах в Оренбурге, которые, по слухам,
говорили, что помогать голодающим крестьянам значит препятство-
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. 5-е изд. Т. 6. С. 180.
2 Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. С. 39.
3 Федосеев Н. Статьи и письма. М, 1958. С. 96 слл.
470 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
вать «процессу созидания капитализма». Однако такому человеку, как
Михайловский, не следует отождествлять марксизм с глупостью
провинциальных студентов.
Следующее письмо Федосеева было размером с большую статью.
Тон его был в основном примирительным, а цель - убедить
Михайловского в том, что настоящие русские марксисты не имеют ничего
общего с такими буржуазными экономистами, как Скворцов и Чу-
пров, которые скрывают свою истинную природу под покровом
марксистской фразеологии (это письмо было написано еще до
опубликования «Критических заметок...» Струве). Федосеев даже признал, что
был неправ, лично оскорбившись взглядами Михайловского, и что
ему следовало бы писать предшествующее письмо в другом тоне.
Самоубийство Федосеева через несколько лет стало трагическим
эпилогом этой переписки. Отправленный на принудительные работы
в 1898 г., Федосеев был потрясен, узнав, что некоторые его товарищи-
ссыльные обвиняют его - как марксиста - в том, что он представляет
интересы буржуазии; это потрясение было главной причиной его
самоубийства1.
Альянса народников и марксистов, которого желал Федосеев,
достичь было невозможно. Невозможно отчасти потому, что
народничество в 1890-е гг. было представлено почти исключительно его
легальным крылом, в котором только Михайловский пользовался
некоторым авторитетом в революционных кругах; Воронцов, Даниельсон и
Южаков к тому времени были сильно дискредитированы из-за своего
соглашательского отношения к самодержавию. С другой стороны,
легальные марксисты (вроде Струве) провоцировали народников на
обвинение всех марксистов в том, что они стали «агентами
буржуазии», тогда как людям типа Воронцова из-за их тяготения к
политически правым марксисты дали кличку «полицейских» народников.
Такое положение вещей значительно усилило поляризацию
идеологических позиций и вынудило молодого Ленина порвать все отношения с
«друзьями народа» - народниками.
Однако резкий полемический тон ленинской критики не должен
затемнять тот факт, что его отношение к народничеству отличалось
не только от позиции Струве, но также и от позиции Плеханова. Эти
различия отчетливо проступают в работе Ленина
«Экономическое содержание народничества и его критика в книге г. Струве»
(1894-1895). На первых же страницах находим утверждение, что
«либерально-народническое» изложение марксизма не имеет никакого
отношения к марксистским взглядам, смешав и исказив их, внеся в
них «гегельянство, "веру в обязательность для каждой страны пройти
1 См. введение Б. Волина в кн.: Федосеев И. Цит. изд. С. 24-28.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 471
через фазу капитализма" и много другого чисто уже нововременского
вздора»1. (В последующие годы Ленин признавал, что между
марксизмом и гегельянством существует тесная взаимосвязь, но он думал,
что искать эту взаимосвязь нужно в понятии «борьбы
противоположностей», а не в представлении о непроницаемой «разумной
необходимости», которое выдвигал Плеханов.) Ленин высмеивал также и
формулировку Михайловского, что люди оказывают влияние на
объективный «ход вещей», указывая, что «ход вещей» состоит именно в
действиях и «влияниях» людей, и ни в чем ином, так что мысль
Михайловского «сводится к пустой тавтологии»2. Хотя эти слова были
направлены против Михайловского, их вполне можно было
адресовать Плеханову и Струве; все трое верили в «объективный ход
событий», который не зависит от людей, а единственное различие между
ними состояло в том, что Михайловский призывал к героической
борьбе против этой объективной силы вещей, тогда как Плеханов
и Струве отметали такую позицию как «субъективизм».
В характерном для России споре о роли «субъективных» и
«объективных» факторов в истории Ленин, таким образом, отвергает не
только народнический субъективизм, но также и тот «объективизм»,
который в те годы казался внутренне присущим историческому
материализму. «Объективист, доказывая необходимость ряда фактов, -
ядовито писал Ленин о Струве, - всегда рискует сбиться на точку
зрения апологета этих фактов; материалист вскрывает классовое
противоречие и тем самым определяет свою точку зрения». Объективизм,
утверждал Ленин, дает обзор процесса в целом, а не тех конкретных
антагонистических классов, борьба между которыми и создает этот
процесс; с другой стороны, материализм при всякой оценке событий
просто и открыто выступает за определенную позицию
определенного общественного класса3. Короче говоря, Ленин анализировал
историю не как овеществленный процесс, движущей силой которого
является безличная необходимость, но как поле боя, как сцену с людьми
в качестве действующих лиц, участие которых подразумевает
сознательное или бессознательное отождествление с определенным
классом, а значит - сознательный или бессознательный выбор
определенных ценностей. В свете этой концепции противоположность между
«объективным ходом вещей» (на который делали упор Плеханов и
легальные марксисты) и сознательной волей индивида (которую
подчеркивали народники) потеряла свое значение: всякий объективный
ход вещей невозможно было постичь иначе, чем в понятиях человече-
1 Ленин ВЫ. ПСС. Т. 1. М., 1958. С. 352.
2 Там же. С. 417.
3 Там же. С. 418^19.
472 АнджейВалицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
ских действий, а сознательную волю индивидов уже невозможно
оторвать от ее, этой воли, общественных факторов.
Столь же оригинальна и неожиданна была позиция Ленина в споре
о капитализме. Воронцов, как мы помним, настаивал на том, что
капитализм, в сущности, не имеет сколько-нибудь реальной
перспективы в России; Ленин парировал этот тезис неожиданным
утверждением, что капитализм не только уже вполне утвердился в России, но
«вполне уже и окончательно сложившийся»1. Этот аргумент,
первоначально высказанный в полемике со Струве, а подробно развитый в
работе «Развитие капитализма в России» (писалась между 1896 и 1899 гг.),
был направлен против народников, но также противостоял взглядам,
которые были общепринятыми среди русских марксистов той поры,
признававших, что капитализм в России вступил в первоначальную стадию,
но при этом всячески старались доказать, что капитализм в России не
может «вполне и окончательно сложиться» до тех пор, пока царское
самодержавие не потерпит полного политического поражения.
Но можно ли утверждать, что капитализм и в самом деле
окончательно установился в России в последние десятилетия девятнадцатого
века. Верил ли Ленин, что капиталистические экономические
отношения могут твердо и необратимо установиться на ранних этапах
индустриализации, прежде чем власть возьмет в свои руки буржуазия?
Некоторые западноевропейские и американские исследователи, к
примеру, утверждали, что Ленин умышленно преувеличил степень
развития производительных сил для того, чтобы оправдать революционную
политическую тактику. Ответ на вопрос, разумеется, всецело зависит
от того, как мы поймем базовые предпосылки, на которые Ленин
опирался в своем анализе. Важно не то, что Ленин недооценил отсталость
России, а то, что в своем диагнозе состояния экономического
развития России он сделал главным вопрос о преобладающих
взаимоотношениях между производством и природой принципиальных
классовых противоречий. Говоря о полном и необратимом установлении
капитализма в России, Ленин имел в виду установление товарного
производства, основанного на эксплуатации наемного труда. Поэтому
тезис Ленина относился не к степени капиталистического развития,
но к природе и интенсивности основополагающих классовых
антагонизмов. Больше того, в отличие от легальных народников Ленин
делал особый акцент на классовых различиях внутри крестьянства.
Представляется оправданным, если сказать, что, в отличие от других
русских марксистов Ленин видел суть марксизма скорее в теории
классовой борьбы, а не в теории развития производственных сил и
этапов экономического развития. В соответствии с этим «пройти капита-
1 Там же. С. 521.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 473
листическую эпоху» означало для него, прежде всего, «пройти опыт
классовой борьбы в условиях капитализма», а не обязательно
достижения наивысшего развития капиталистического производства.
Следуя этому ходу мысли, мы подходим к другому
существенному различию между позицией Ленина и «объективным»
истолкованием марксизма. В статье 1923 г. «О нашей революции» Ленин
высмеивает тех, кто думает, будто «учебник по Каутскому» может
предсказать «все формы развития дальнейшей мировой истории».
Догматическому детерминизму немецких социал-демократов
противопоставлен в этой статье девиз Наполеона: "On s'egage et puis... on voi".
Внимательное прочтение ранних работ Ленина показывает, что он с
самого начала отказался видеть в марксизме закрытую систему
готовых истин. Он пришел к тому, что отверг детерминистскую версию
марксизма не только своим активизмом, но также и своим глубоким
недоверием к априорным схемам эволюции. Когда Ленин пишет, что
он решительно отвергает «веру в триады, в абстрактные, не
требующие проверки фактами догмы и схемы», то это не было только
словесной декларацией. В его понимании (как и в понимании Маркса)
тезис о том, что общественно-экономические формации терпят крах
лишь тогда, когда они исчерпают свой производственный потенциал,
был формулой, описывающей классическую модель, а не абстрактной
схемой, нуждающейся в подтверждении в каждом отдельном случае
независимо от объективных обстоятельств данной страны1. Книга
«Развитие капитализма в России» - пример того, с какой остротой
Ленин видел все аспекты экономики России. Детально
документированное свидетельство особенностей русского капитализма -
особенностей, происходивших от «одновременного существования самых
передовых форм промышленности и полусредневековых форм
земледелия»2, - дает конкретный ответ на вопросы о том, как стала
возможной победа Октябрьской революции двадцатью годами позднее
и чему обязана она своими специфическими особенностями.
Интересно также отметить, что в своей полемике с народниками
Ленин иначе, чем Плеханов, интерпретирует тезис о том, что
капитализм - необходимая предпосылка социализма. Если Плеханов
отмечал важность экспансии капиталистических сил производства
и роль буржуазной демократии как политической тренировочной
площадки, то Ленин подчеркивал, какие уроки следует вынести из
1 Ленин ссылался на письмо Маркса к издателю «Отечественных записок».
Письмо Маркса к Вере Засулич от 8 марта 1881 г., недвусмысленно
подтверждавшее возможность некапиталистического развития России, было
опубликовано только в 1924 г.
2 Ленин В.И. Цит. изд. Т. 3. С. 596, прим.
474 Анджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ-
ШКОЛЫ экономических отношений в условиях капитализма и
классовой борьбы. Его работы ясно показывают, что он считал возможным
учиться на этих уроках даже при самодержавной системе царской
России. Необходимой предпосылкой социалистического движения
Ленин считал то, что капитализм «разрушил прежние узкие условия жизни
человека, порождавшие умственную тупость и не дававшие
возможности производителям самим взять в руки свою судьбу»1. Русский
капитализм в значительной мере разрушил эти барьеры. Ленин так писал об
этом:
В России этот процесс сказался с полной силой в пореформенную
эпоху, когда старинные формы труда рушились с громадной
быстротой и первое место заняла купля-продажа рабочей силы,
отрывавшая крестьянина от патриархальной полукрепостнической семьи,
от отупляющей обстановки деревни и заменявшая
полукрепостнические формы присвоения сверхстоимостей - формами чисто
капиталистическими. Этот экономический процесс отразился в социальной
области "общим подъемом чувства личности", вытеснением из
"общества " помещичьего класса разночинцами, горячей войной
литературы против бессмысленных средневековых стеснений
личности и т.п. Что именно пореформенная Россия принесла этот подъем
чувства личности, чувства собственного достоинства, - этого
народники не станут, вероятно, оспаривать2.
Таким образом, Ленин был важной фигурой в споре между
народниками и марксистами не только потому, что он был автором
основательного труда о развитии капитализма в России, но еще и потому,
что он проявил исключительную проницательность в отношении
общественного содержания идеологии народничества. Он определял
народничество как идеологию мелких производителей (особенно
крестьян - мелких собственников и ремесленников), которые были
жизненно заинтересованы в том, чтобы освободиться от последних
реликтов феодальной эксплуатации - хотя бы эти реликты уже
подвергались разрушению в процессе экспансии капитализма. Вот почему
(это выражение уже приводилось в нашей книге) Ленин писал о
народничестве как двуликом Янусе, который «смотрит одним ликом
в прошлое, а другим - в будущее»3.
Обращенное вперед лицо народничества - это его антифеодальная
сторона и его стремление к демократии; лицо, обращенное назад, -
1 Ленин В. И. Цит. изд. Т. 1. С. 433.
2 Там же. С.433^34.
3 Там же. С. 529.
ГЛАВА 18. От народничества к марксизму 475
это представление народничества о социализме. Ленин неоднократно
подчеркивал, что социалистические теории народничества были
мелкобуржуазными (в марксистском смысле этого понятия),
утопическими и насквозь проникнуты реакционным «экономическим
романтизмом», имея в виду идеализацию народниками докапиталистической и
раннекапиталистической аграрной экономики1. Марксистам следует
сделать из этого два вывода: во-первых, это необходимость
решительно отвергнуть народнический социализм, а во-вторых,
желательность альянса с народничеством как буржуазно-демократической
идеологией, которая выступает не против капитализма как такового,
а против антидемократического его крыла, поддерживаемого
либералами и крупными землевладельцами. Поэтому в работе
«Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве»
Ленин укоряет Струве (которого он считает в этот момент своим
союзником) за то, что тот подчеркивает только различия, разделявшие
народничество и марксизм, и просмотрел существенную общность
целей двух идеологий: обе они представляют интересы мелких
производителей. Ленин полностью отверг попытки Струве превознести
крупную капиталистическую индустрию на том основании, что она-де
рационализирует производство; более того, сравнивая взгляды Струве
со взглядами народников (даже их легального крыла) о
необходимости в дешевых кредитах и другой помощи мелким производителям,
Ленин решительно встал на сторону народников: «Народники, - писал
он, - неизмеримо правильно понимают и представляют в этом
отношении интересы мелких производителей, и марксисты должны, отвергнув
все реакционные черты их программы, не только принять
общедемократические пункты, но и провести их точнее, глубже и дальше»2.
Отношение Ленина и к либералам, и к народникам Плеханов
встретил с неодобрением. В 1895 г., во время их первой встречи,
Плеханов сказал Ленину (который в действительности произвел на него
очень хорошее впечатление): «Вы отвернулись от либералов, тогда
как мы повернулись лицом к ним»3. Это различие позиций таило в
себе серьезное разногласие в выборе тактики и даже в интерпретации
марксизма, хотя ни та, ни другая сторона в то время еще не вполне это
сознавала. Плеханов был за альянс с либеральной буржуазией,
которая представляла капиталистический прогресс и продолжала
проводить вестернизацию России. Ленин, со своей стороны, полагал, что
у марксиста не должно быть никаких иллюзий насчет природы
либерализма. Для Плеханова самым отсталым классом - основной опорой
1 Ленин В. И. Характеристика экономического романтизма // Там же.
2 Там же. Т. 1.С. 531.
3 См.: Переписка Г.В. Плеханова и П.Б. Аксельрода. Т. 1. С. 271.
476 Аиджей Валицкий. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ...
«азиатского» деспотизма - было крестьянство; Ленин тоже
подчеркивал отсталость и «азиатский» характер крестьянства, но он, тем не
менее, считал крестьян главной силой в близящейся революции.
Плеханов видел в народничестве идеологию интеллигенции, подчеркивая
в ней «субъективизм» и «отвлеченный идеал»; Ленин же не столько
уделял внимание теории народничества, которую он отметал как
выражение ложного сознания, сколько считал, что существенное
«экономическое содержание» народничества заключается не в
антикапиталистических декларациях, но в защите народниками конкретных
интересов мелких производителей в борьбе за наиболее
демократический путь капиталистического развития (крестьянская модель). Вот
почему Ленин чувствовал себя ближе к народникам, чем к либералам,
хотя либеральный взгляд на русский капитализм был гораздо ближе
к марксизму, чем позиция народников.
Оригинальная точка зрения Ленина в спорах 1890-х гг. явно
предвосхищает его последующую политическую биографию:
подчеркивание значения аграрного вопроса, отказ относиться к крестьянам как к
«реакционной» массе (подход, характерный для меньшевиков и
Второго Интернационала в целом) и, наконец, политическая тактика,
основывавшаяся на союзе не с либеральной буржуазией (как того
требовал Плеханов), но с демократическими фракциями мелкой
буржуазии и крестьянством. Ленин сам сознавал эту непрерывность своей
основной позиции, и в 1912 г. он отмечал, что истоки большевизма
связаны с попыткой извлечь из утопизма народничества его «ценное
демократическое ядро»1.
Оглядываясь в исторической ретроспективе, можно добавить к
этому, что Ленин обязан народникам даже в еще большей степени.
В конце концов, это он реализовал мечту народников о том, чтобы
после свержения царского самодержавия сразу же перейти к
построению социализма. Каким образом и какой ценой это было достигнуто -
тема уже другой книги.
1 Ленин В.И. Цит. изд. Т. 22. С. 117-121.
477
АНДЖЕЙ ВАЛИЦКИЙ
(Библиографическая справка)
Анджей Валицкий (родился в Варшаве 15.05.1930) - гражданин
Польши и (с 1993 г.) США, профессор-«эмеритус» Польской
академии наук и университета Нотр Дам (Индиана). С 1994 г. - член-
корреспондент Польской АН, с 1998 г. - академик.
По приглашению работал во многих странах: в 1966-1967 гг. и в
1973 г. - в All Soul College Оксфордского университета, в 1969 г. - как
приглашенный профессор Копенгагенского университета; в 1970 г.
преподавал один семестр в Стэндфордском университете в
качестве "visiting Kratter professor of history"; в 1977 г. посетил Японию по
приглашению Общества поощрения науки; в 1977-1978 гг. прожил
12 месяцев в Washington DC в качестве сотрудника Международного
центра научных исследований имени Вудро Вильсона; в 1979 г. один
семестр читал лекции в Женевском университете, а в 1981-1986 гг.
работал старшим научным сотрудником Отдела интеллектуальной
истории австралийского национального университета в Канберре.
В 1986-1999 гг. А. Валицкий заведовал кафедрой на историческом
отделении в университете Нотр Дам, Индиана. Несколько раз А.
Валицкий приезжал в СССР и Россию, поддерживая контакты с
российскими учеными. После 1989 г. напечатал несколько статей в журнале
«Вопросы философии».
А. Валицкий - автор более 20 книг, опубликованных на польском
и английском языках (некоторые из них переведены на итальянский,
испанский, японский, украинский, венгерский и турецкий языки); ряд
книг, глав в книгах и отдельных статей вышли под его редакцией.
Наиболее значительные его книги:
• Osobowosc a historia. Studia z dziejôw literatury i mysli rosyjskiej.
Warszawa, 1959;
• W kregu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego
slowianofilstwa. Warszawa, 1964 (итальянский перевод: Una Utopia
conservatrice, Einaudi. Torino, 1973; английский перевод: The Slavophile
Controversy. Oxford, 1969; украинский перевод: Vpoloni konservativnoi
utopii, Kiev, 1998);
• The Controversy over Capitalism. Studies in the Social Philosophy of
the Russian Populist. Oxford, 1969 (испанский перевод: Барселона,
1971; итальянский перевод: Милан, 1973; японский перевод: Киото,
1975);
478
• Rosyjska filozofia i mysl spoleczna od Oswiecenia do marksizmu.
Warszawa 1973 (английский перевод: A History of Russian Thought from
the Enlightenment to Marxism. Stanford, Calif, 1979, Oxford, 1980;
турецкий перевод: Istanbul, 2009);
• Philosophy and Romantic Nationalism. The Case of Poland. Oxford,
1982, University Notre Dame Press, 1994);
• Legal Philosophies of Russian Liberalism. Oxford, 1987, University
Notre Dame Press 1992;
• Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom: The Rise and Fall
of the Communist Utopia. Stanford, 1995 (Polish translation: Warszawa,
1996; Ukrainian translation: Kiev, 1999);
• Rosja, katolicyzm i sprawa polska. Warszawa, 2002 (Hungarian
translation: Mariabesnyö - Gödöllö, 2006);
• Zarys mysli rosyjskiej od Oswiecenia do Renesansu religijno-
filozoficznego. Krakow, 2005. (Эта книга - значительно дополненная
версия книги A History of Russian Thought from the Enlightenment to
Marxism, включающая эпоху религиозно-философского ренессанса
и значительно более полное освещение марксизма-ленинизма.)
В ноябре 1998 г. А. Валицкий получил в Риме из рук президента
Италии международную премию имени Балзана по истории за
исследования по «культурной и социальной истории славянского мира от
Екатерины Великой до Русских революций 1917 года».
Предлагаемая книга - перевод первого варианта A History of
Russian Thought from the Enlightenment to Marxism. С точки зрения автора,
решение издавать этот первый вариант достаточно проблематично.
Однако в пользу такого решения говорит тот факт, что ранний
вариант книги в течение уже 25 лет служит основным учебником по
истории русской мысли в США (перепечатываемым каждый год), и
поэтому он может рассматриваться как своего рода «классика» в рамках
«зарубежной историографии русской философии» до 1991 г. При
вручении А. Валицкому премии Балзана особо отмечалось, что Валицкий
внес большой вклад в дело понимания русской культуры и истории ее
развития.
479
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие к английскому переводу 3
Предисловие к польскому изданию 7
ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ МЫСЛИ 13
Екатерина II и философия Просвещения - 14; Возникновение русской
просветительской философии - 20; Николай Новиков и масонство - 27; Аристократическая
оппозиция - 39.
ГЛАВА 2. КУЛЬМИНАЦИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ:
АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ 48
Жизнь Радищев - 48; Социальная философия Радищева - 52; Взгляды Радищева
на этику и воспитание - 58; Радикальная реформа или революция? - 60; Трактат
о бессмертии - 64.
ГЛАВА 3. ДВОРЯНЕ-КОНСЕРВАТОРЫ
И ДВОРЯНЕ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 66
Николай Карамзин - 66; Декабристы - 71 ; Николой Тургенев - 75.
ГЛАВА 4: АНТИПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
НАЧАЛА ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА 84
Мистицизм - 84; Любомудры и русское шеллингианство - 87.
Г Л А В А 5:. ПЕТР ЧААДАЕВ 94
Метафизика и история философии Чаадаева - 95; Прошлое и будущее России. - 99;
Место Чаадаева в интеллектуальной истории России - 104.
ГЛАВА 6: СЛАВЯНОФИЛЫ 106
Философия истории и социальные идеи славянофилов - 107; Понятие
«цельной личности» и «новые начала в философии» - 113; Славянофильская
экклесиология - 118; Славянофильство как консервативный утопизм - 121;
Распад славянофильства- 126.
ГЛАВА 7. РУССКИЕ ГЕГЕЛЬЯНЦЫ - ОТ «ПРИМИРЕНИЯ
С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ» К «ФИЛОСОФИИ ДЕЙСТВИЯ» 130
Николай Станкевич - 131; Михаил Бакунин - 133; Виссарион Белинский - 136;
Александр Герцен - 143.
ГЛАВА 8. БЕЛИНСКИЙ И РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ
ЗАПАДНИЧЕСТВА 150
Западничество Белинского - 151; Либеральные западники - 162.
ГЛАВА 9. ПЕТРАШЕВЦЫ 167
Общественно-политические идеи петрашевцев - 167;
Философские идеи петрашевцев - 172.
ГЛАВА 10. ИСТОКИ «РУССКОГО СОЦИАЛИЗМА» 177
Эволюция взглядов Герцена - 177; Николай Огарев - 196.
ГЛАВА П. НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
И «ПРОСВЕТИТЕЛИ» ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ 199
Антропологический материализм Чернышевского - 202; Николай Добролюбов
и спор о «лишних людях» - 220; Дмитрий Писарев и «нигилизм» - 227; Критика
«просветителей»: Аполлон Григорьев и Николай Страхов - 233.
ГЛАВА 12. ИДЕОЛОГИИ НАРОДНИЧЕСТВА 240
Введение - 240; От «хождения в народ» до «Народной воли» - 243;
Петр Лавров - 253; Петр Ткачев - 263; Николай Михайловский - 272.
480
Оглавление
ГЛАВА 13. АНАРХИЗМ
Михаил Бакунин - 290; Петр Кропоткин - 303.
ГЛАВА 14. РЕАКЦИОННЫЕ ИДЕОЛОГИИ ПОРЕФОРМЕННОЙ
ЭПОХИ 313
Николай Данилевский - 314; Константин Победоносцев - 320:
Константин Леонтьев - 323.
ГЛАВА 15. ДВА ПИСАТЕЛЯ-ПРОРОКА 332
Федор Достоевский - 333; Лев Толстой - 350;
Достоевский и Толстой: сопоставление - 371.
ГЛАВА 16. РАЗНОВИДНОСТИ ПОЗИТИВИЗМА 374
Вступление - 374; Догматический позитивизм: Григорий Вырубов - 376;
Критический позитивизм: Владимир Лесевич - 379; Позитивизм и психология - 382;
Позитивизм и социология - 388.
ГЛАВА 17. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
И МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ 397
Религиозная философия Соловьева - 398; Алексей Козлов и панпсихизм - 421 :
Борис Чичерин и гегельянцы второй половины девятнадцатого века - 424.
ГЛАВА 18. ОТ НАРОДНИЧЕСТВА К МАРКСИЗМУ 433
Введение - 433; Между народничеством и марксизмом - 436; Плеханов
и «разумная действительность» - 440; Литературная критика
и эстетика Плеханова - 451 ; Легальное народничество - 455;
Легальный марксизм - 463; Ранние сочинения Ленина - 468.
АНДЖЕЙ ВАЛИЦКИЙ
(Библиографическая справка) 477
Научная монография
ВАЛИЦКИЙ Анджей
История русской мысли
от просвещения до марксизма
Анджей Валицкий (родился в
Варшаве 15-5-1930 г.) - гражданин
Польши и (с 1993 г.) США, профес-
сор-«эмеритус» Польской Академии
Наук и университета Нотр Дам
(Индиана). С 1994 г. - член-корреспондент
Польской АН, с 1998 г. - академик.
А. Валицкий - автор более 20 книг,
опубликованных на польском и
английском языках (некоторые из них
переведены на итальянский,
испанский, японский, украинский,
венгерский и турецкий языки); ряд книг,
глав в книгах и отдельных статей
вышли под его редакцией.
В ноябре 1998 г. А. Валицкий получил
в Риме из рук президента Италии
международную премию имени Бал-
зана по истории за исследования по
«культурной и социальной истории
славянского мира от Екатерины
Великой до Русских революций 1917
года».
Предлагаемая книга - перевод
первого варианта A History of Russian
Thought from the Enlightenment to
Marxism - написана в жанре
«истории идей» и отличается той
взвешенностью и симпатизирующей
объективностью, дефицит которых
слишком часто дает о себе знать в
российских «Историях русской
философии». Перед нами
впечатляющая картина
общественно-политических и мировоззренческих
исканий, воззрений и дискуссий, от
правления Екатерины II до революции
1905 г., - «история», которая
сегодня, в XXI веке, читается,
переживается и понимается по-новому
актуально. Написанная ясно и
увлекательно, книга А.Валицкого
предназначена как для специалистов,
так и для широкого круга
читателей, интересующихся
перипетиями и судьбами русской мысли и
духовно-идеологической культуры.