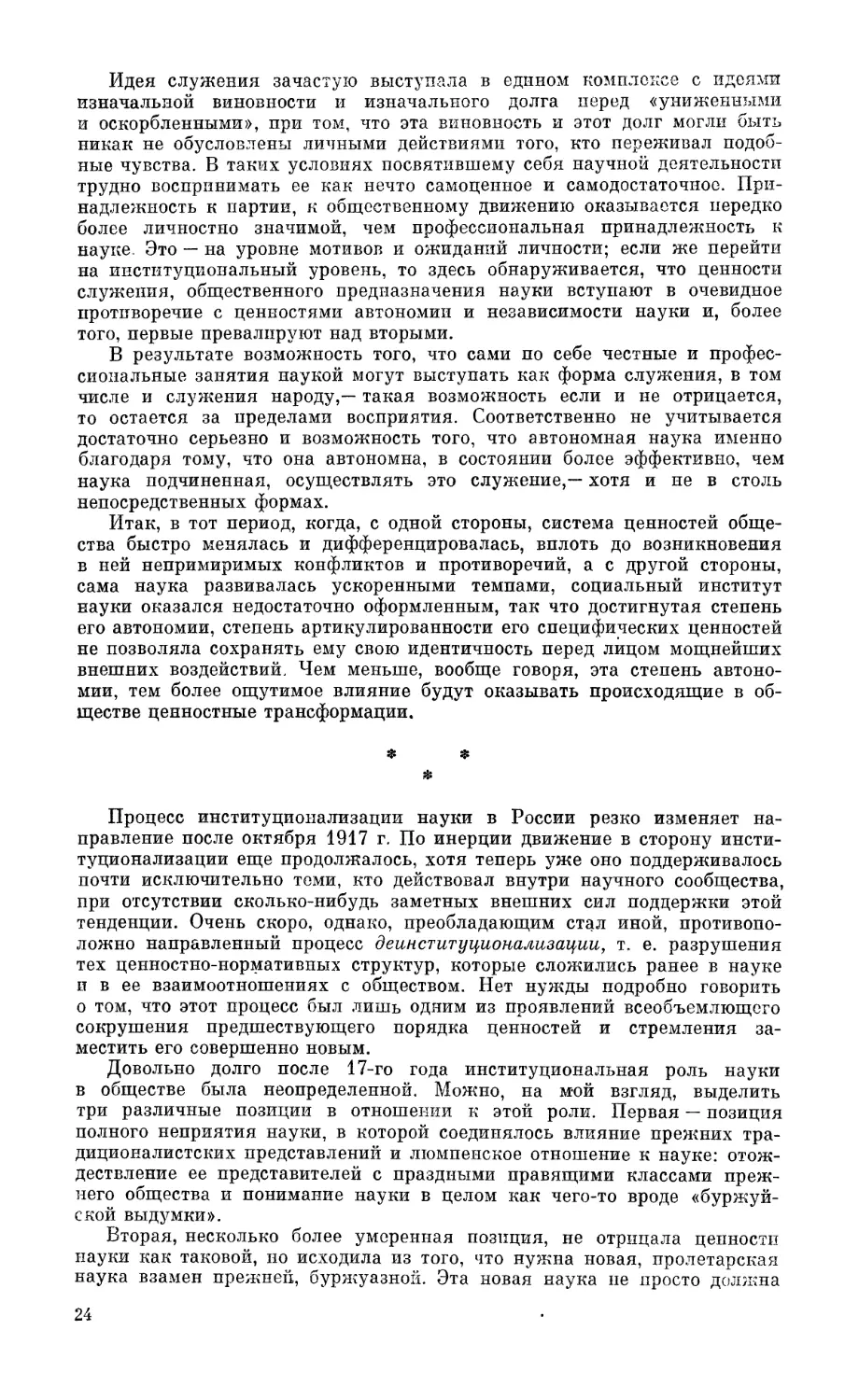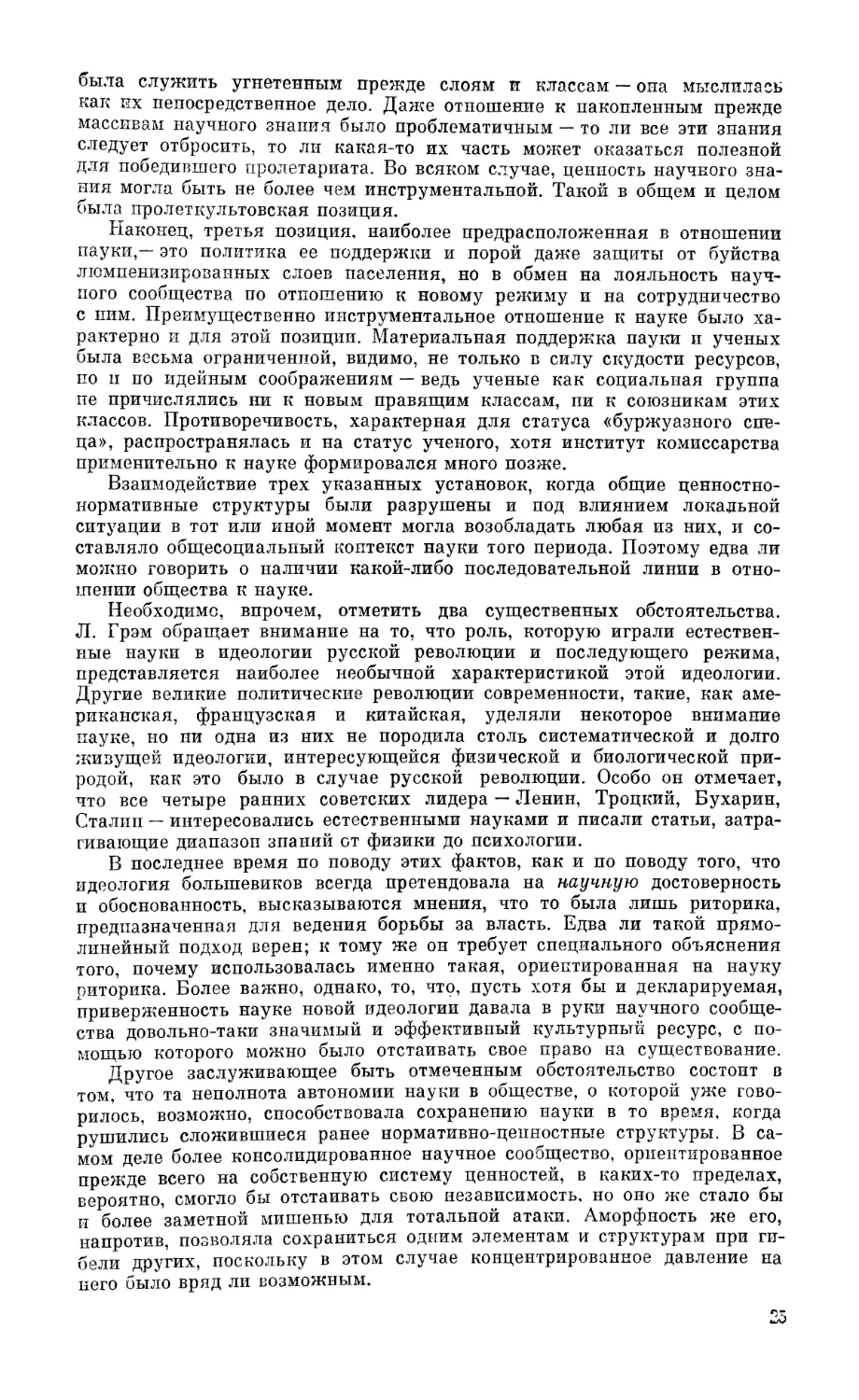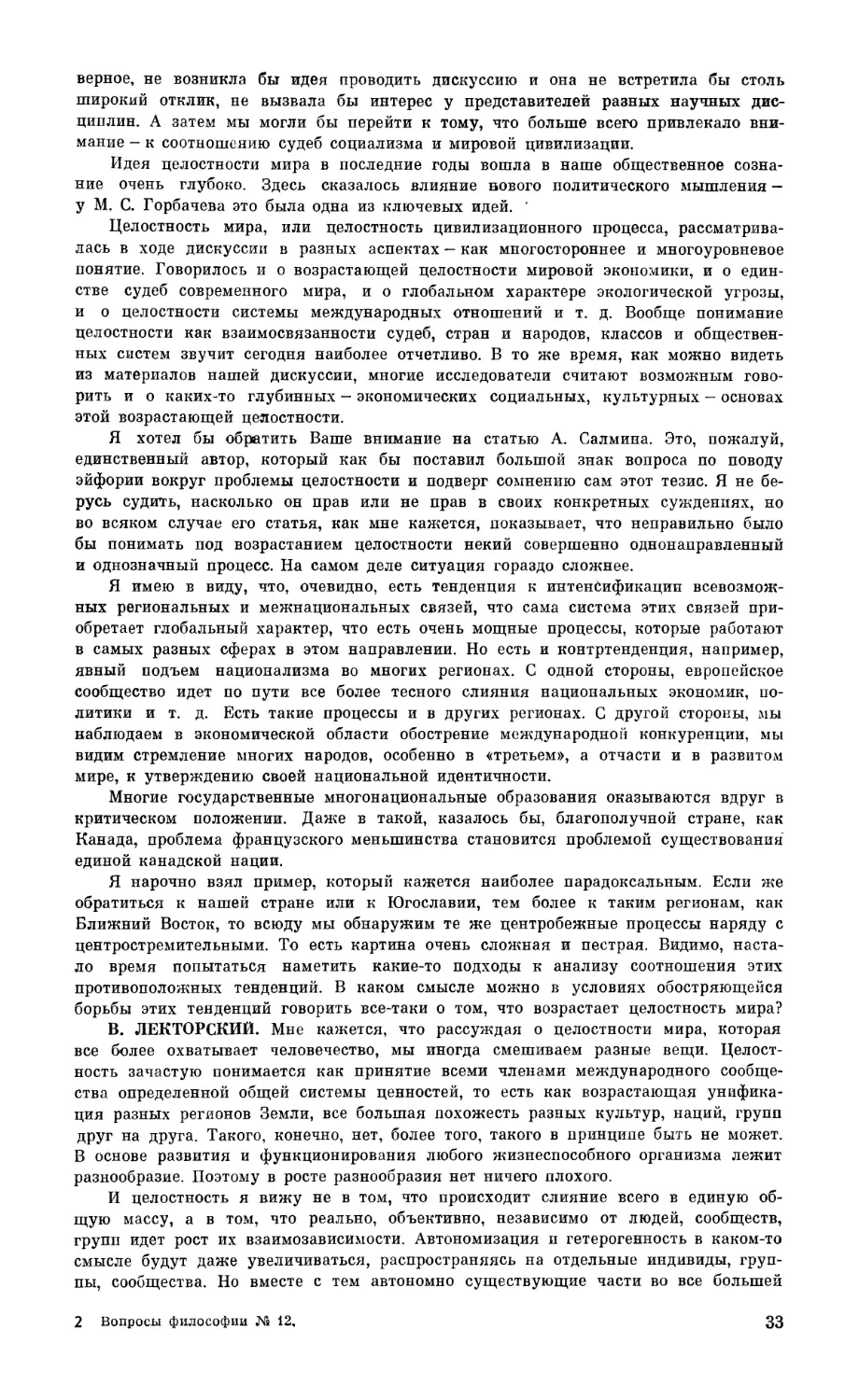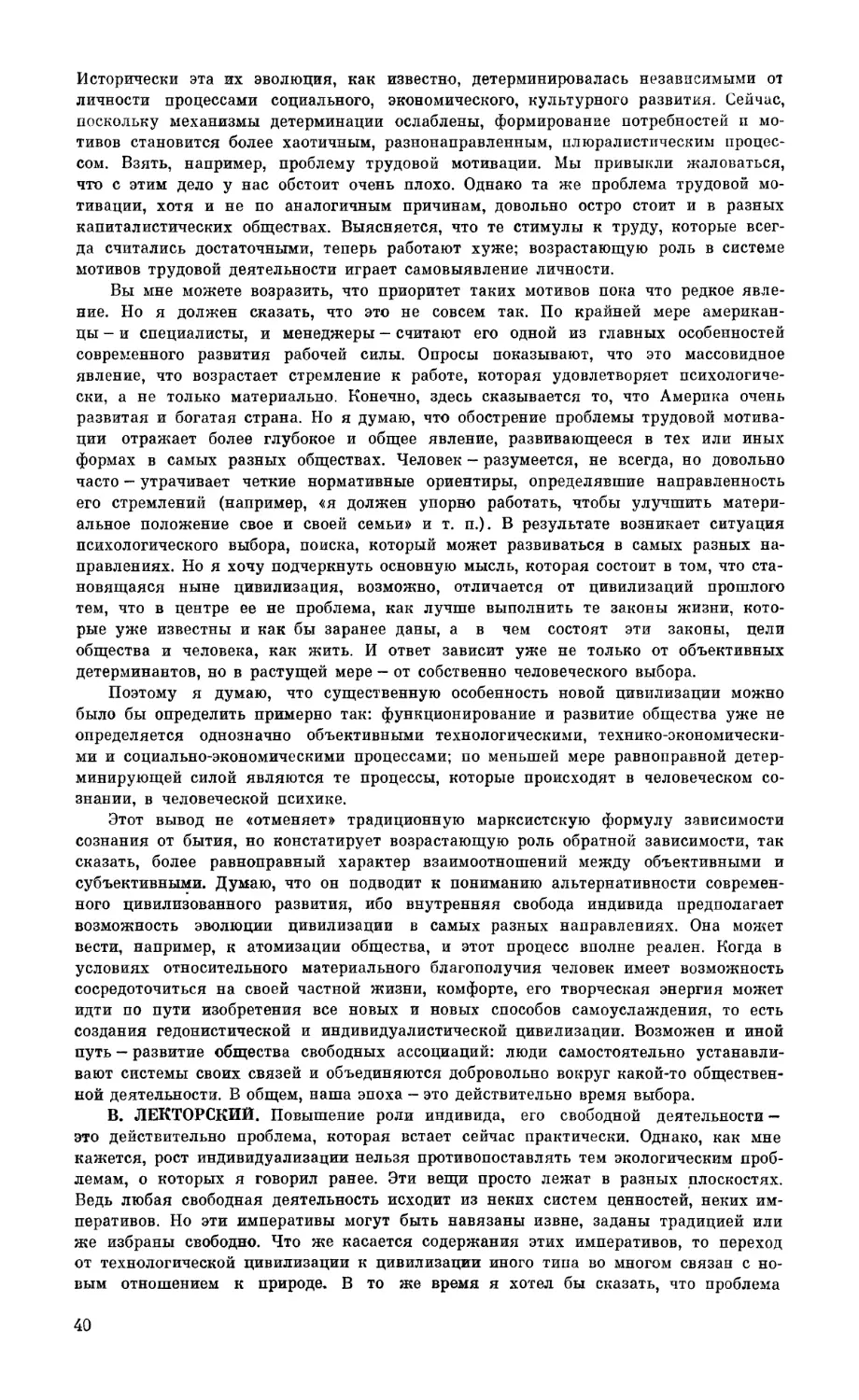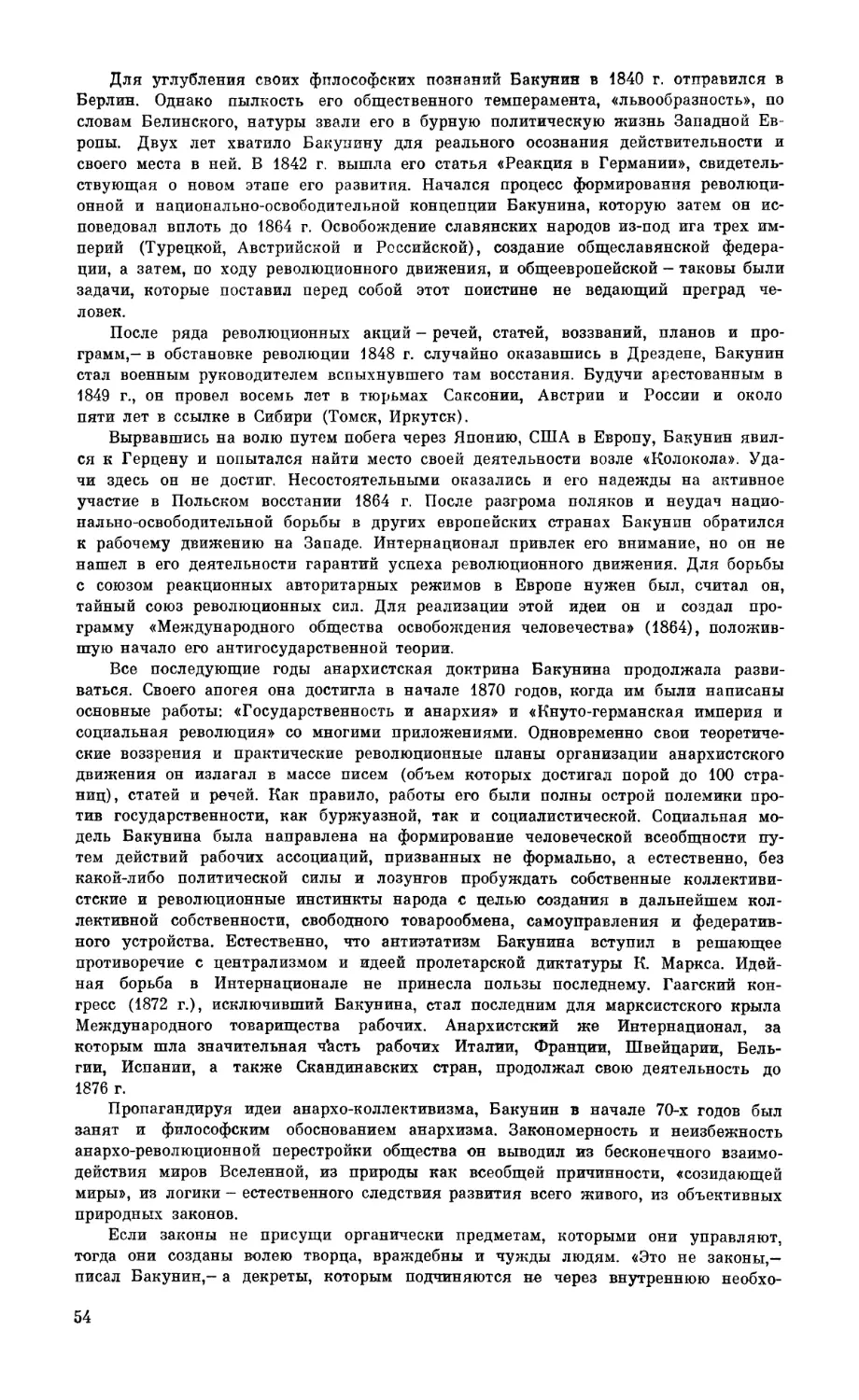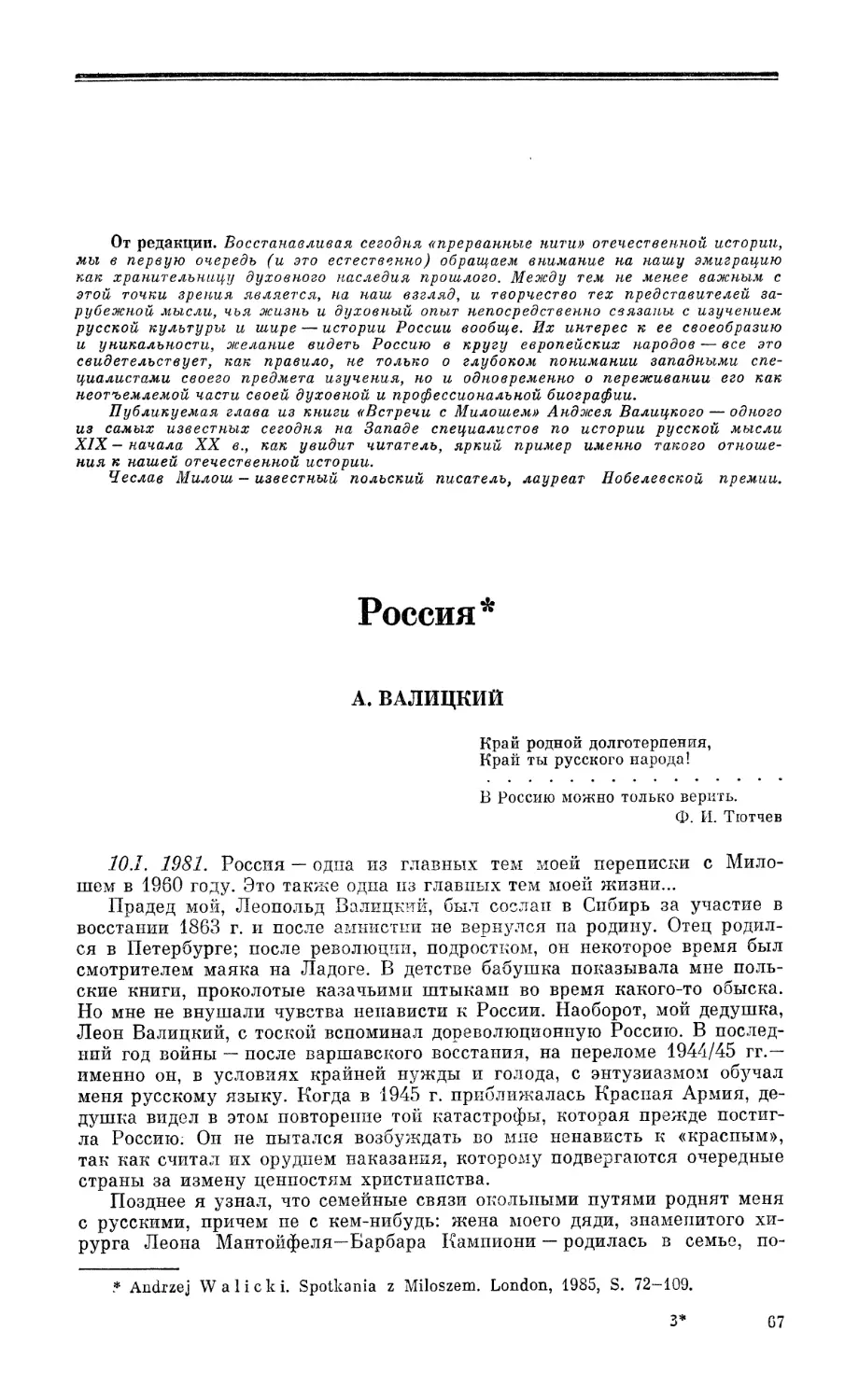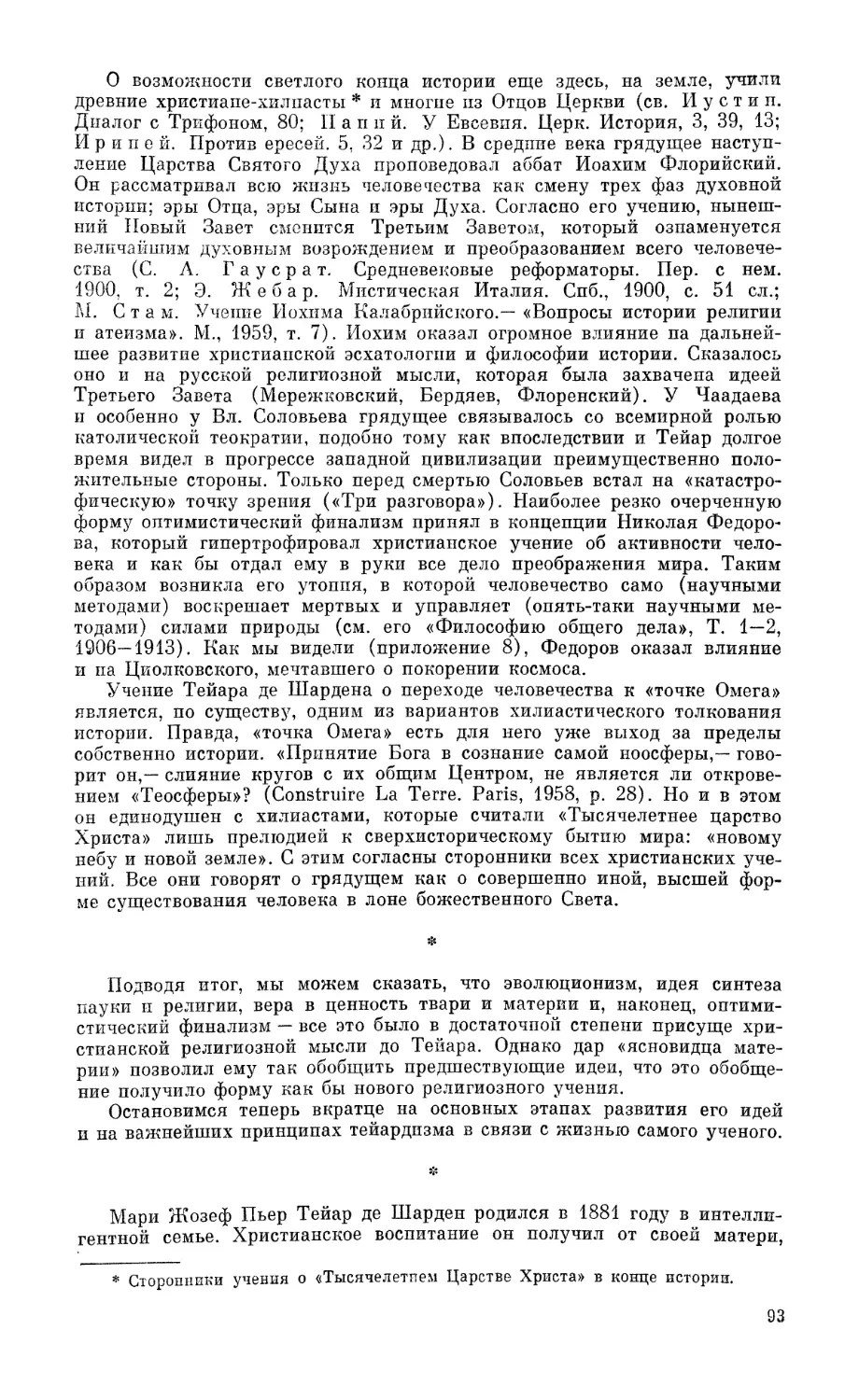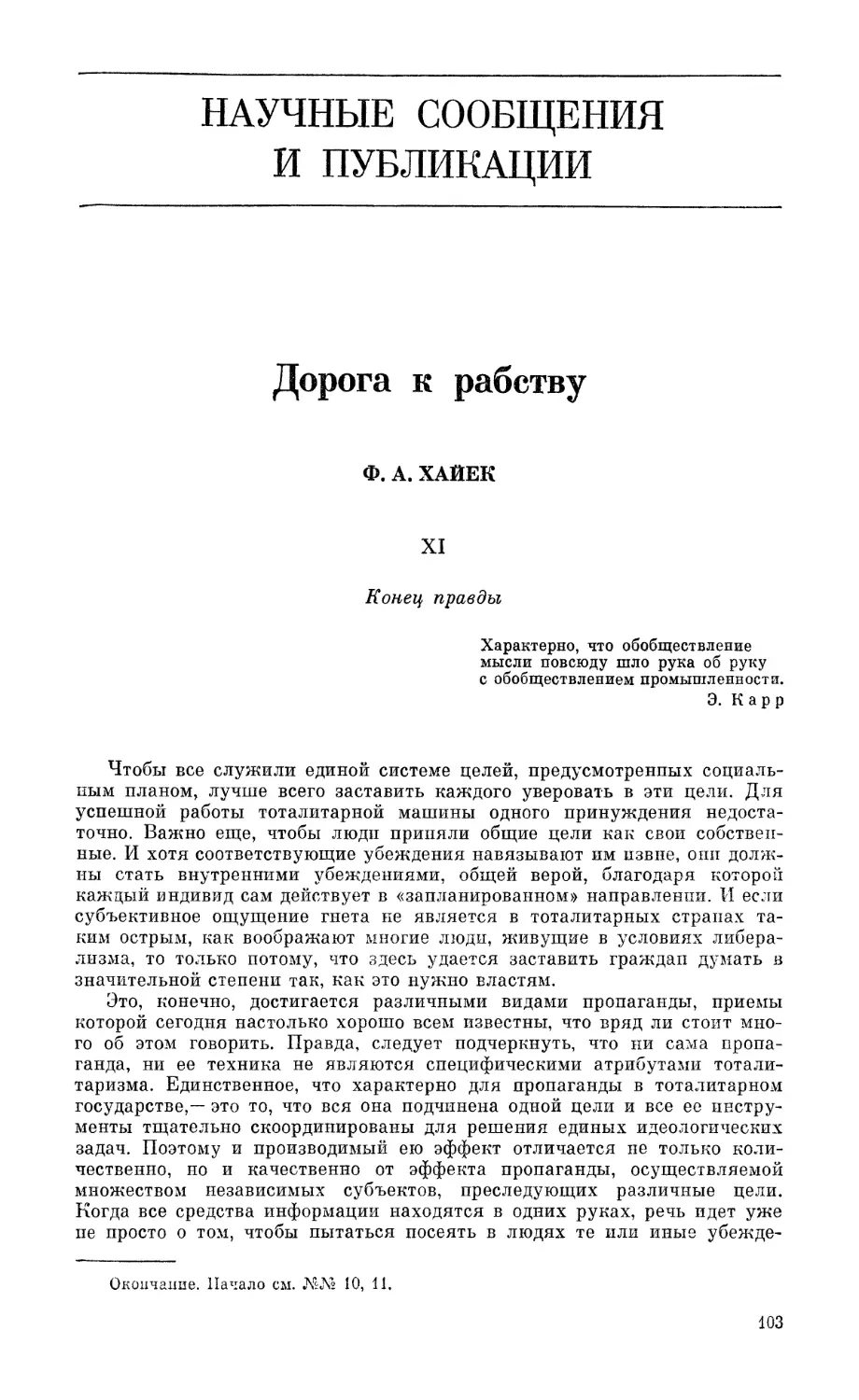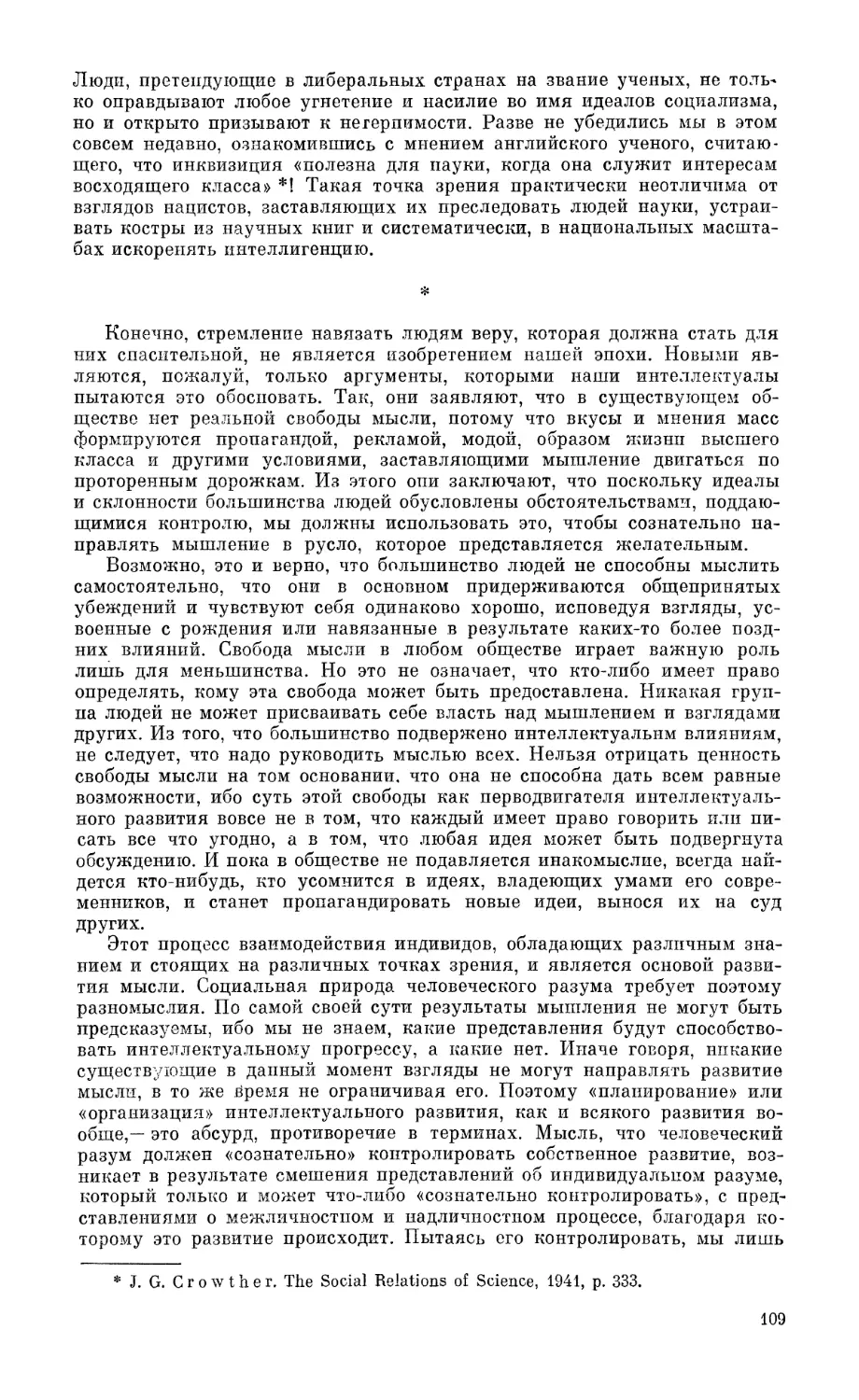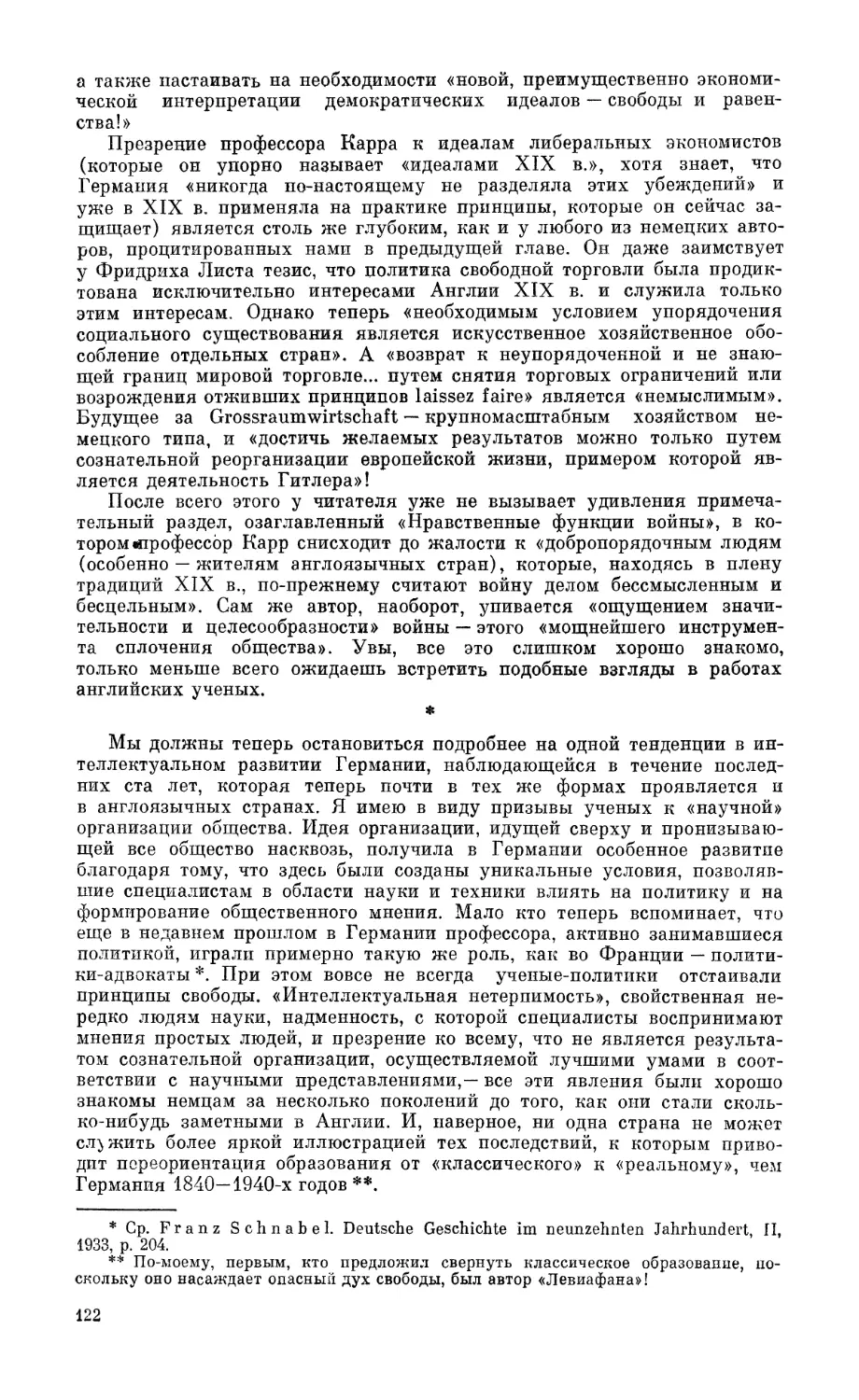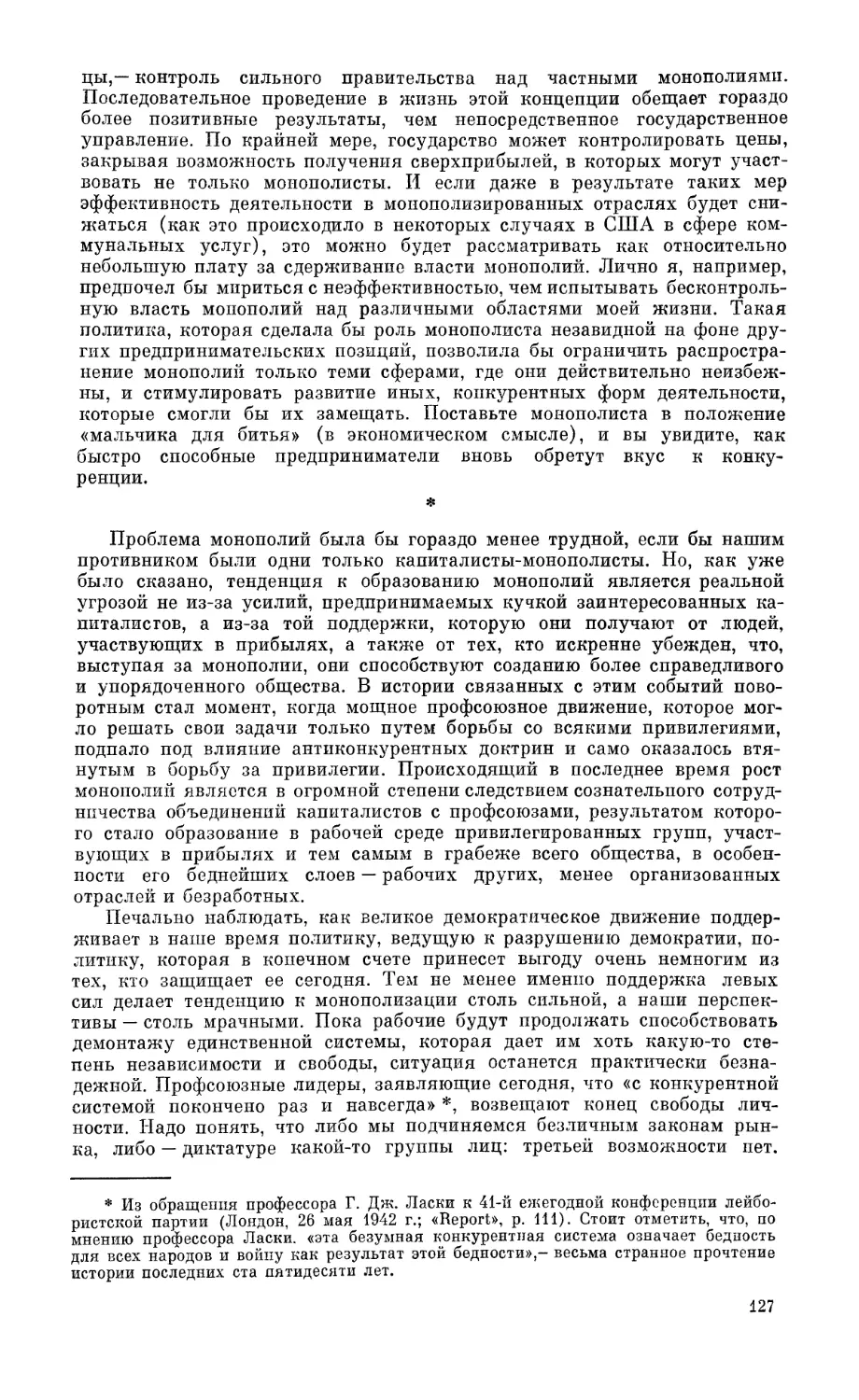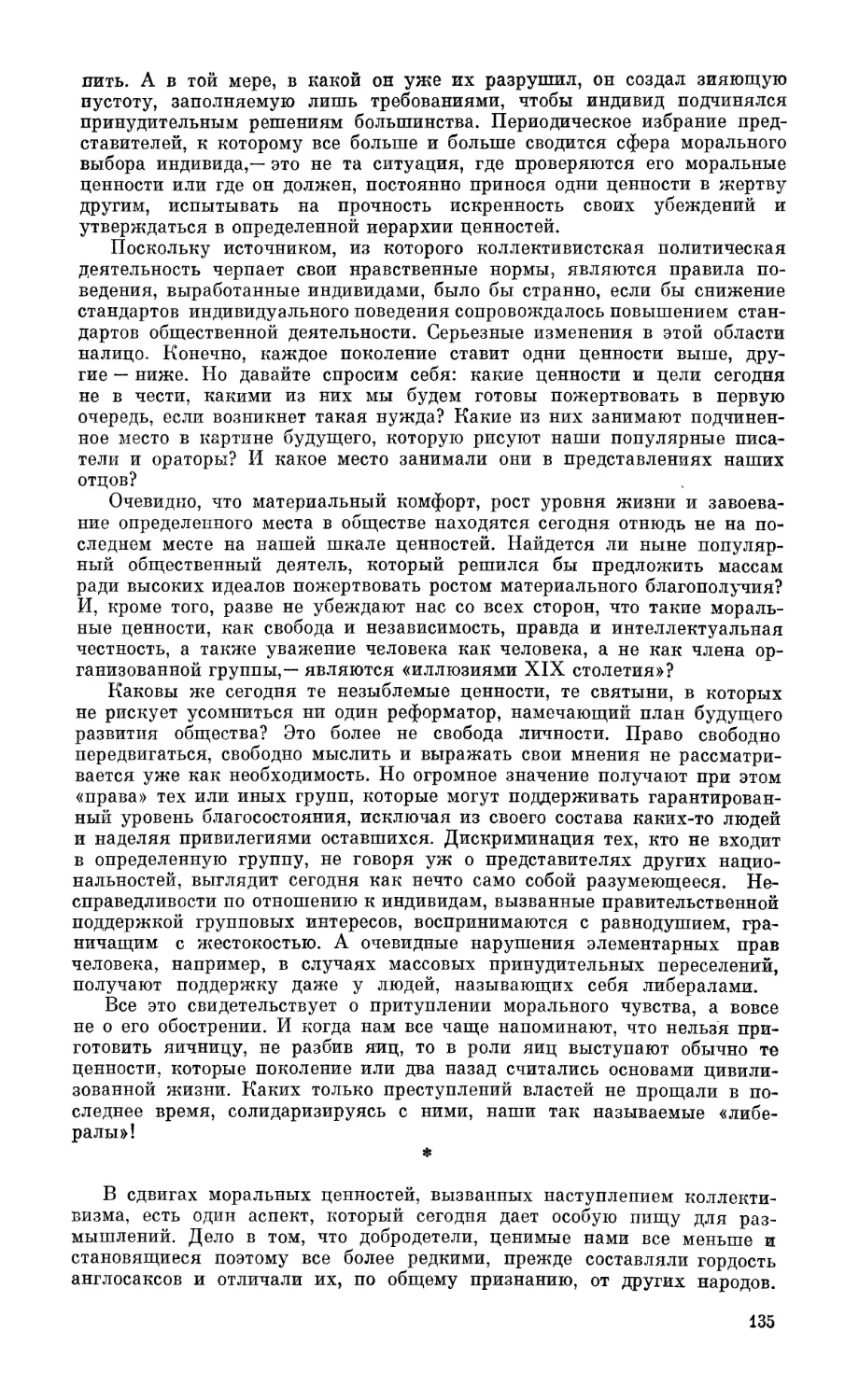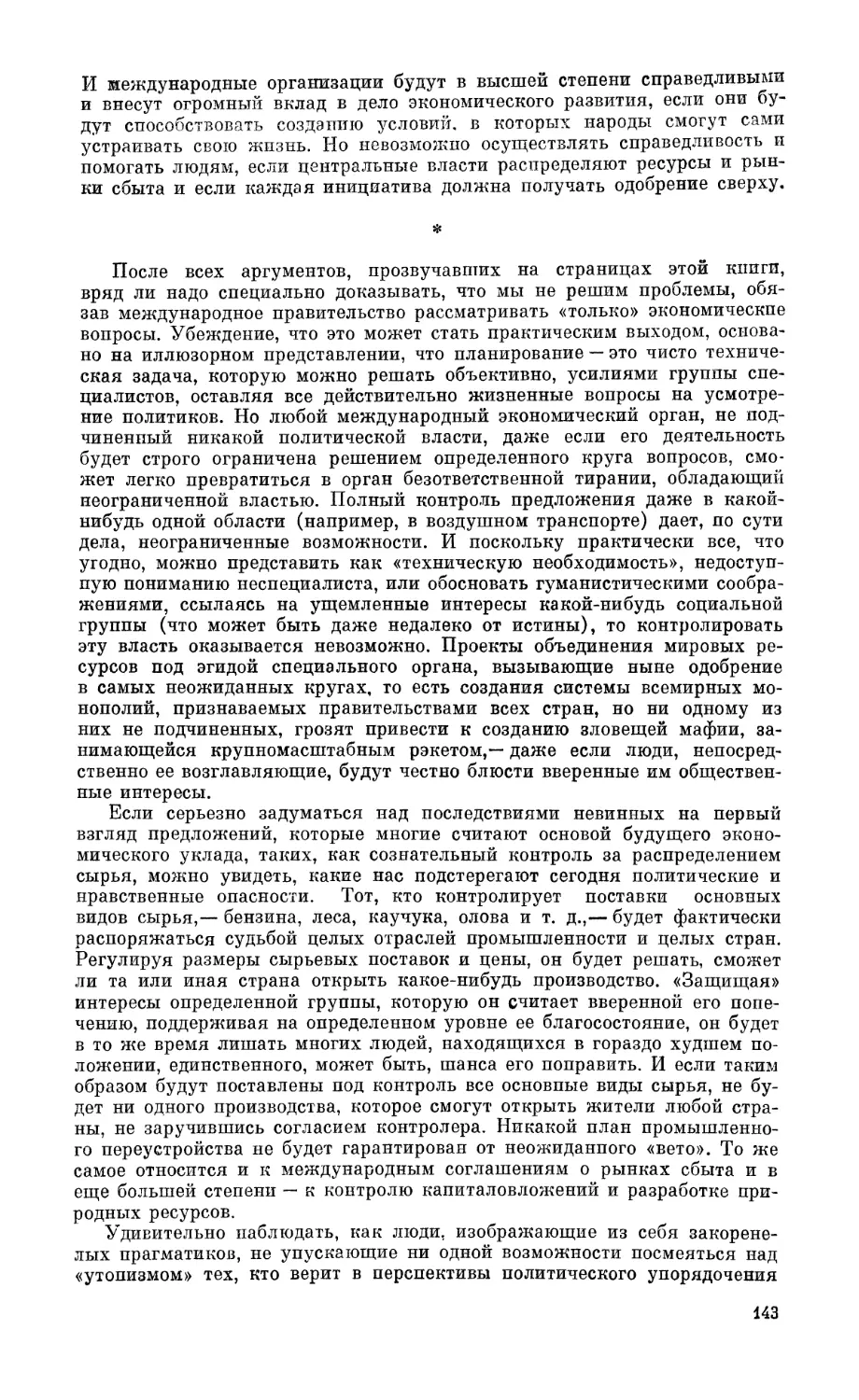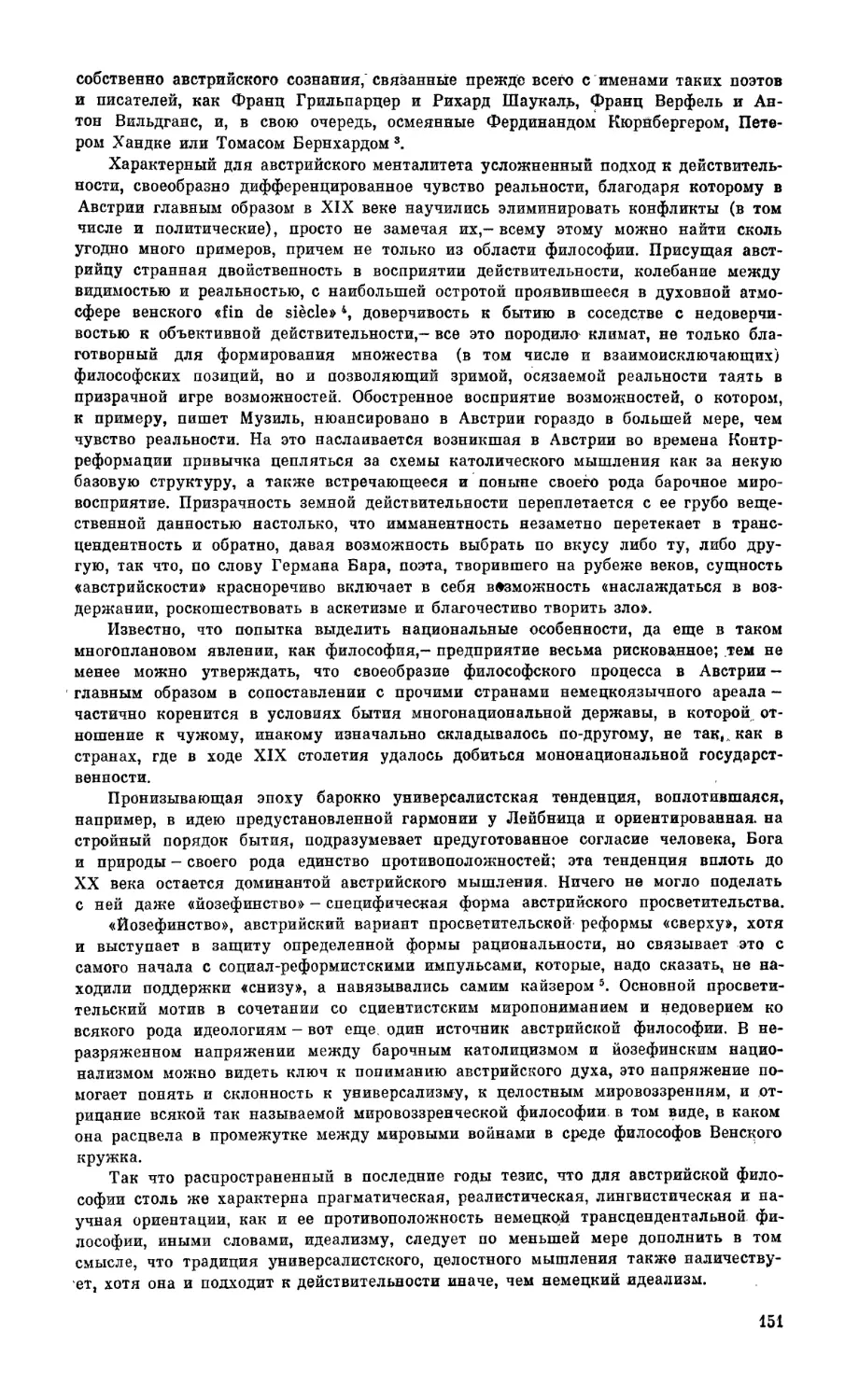Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ВОПРОСЫ
ФИЛОСОФИИ
, А ^ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
О Л/. ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА 1 QQO
*" выхолит тсжтшгтсг.стттп X %J %J \J
СОДЕРЖАНИЕ
В. А. Тишков — Социальное и национальное в историко-антрополо-
гической перспективе ........ 3
Б. Г. Юдин — Социальный генезис советской науки «16
Современное общество: пути развития
Г. Г, Дилигенский — В. А. Лекторский. Проблемы целостного мира
(диалог) • . . 32
В. Ж. Келде, М. Я. Ковальзон — Общественная наука и практика. . 44
Из истории отечественной культуры
М. А. Бакунин — Коррупция.— О Макиавелли.— Развитие
государственности (предисловие к публикации II. М. Пирумовой) . . 53
А. Валицкий — Россия 67
Философия, религия, культура
Протоиерей А. Мень — О Тейаре де Шардене 89
Научные сообщения и публикации
Ф. А. Хайек — Дорога к рабству (окончание) 103
Философия за рубежом
IL Кашшц — Австрийская философия 150
Из редакционной почты
Г. М. Тавризян — Рецензия на метод, или метод рецензии . ... 168
МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». 1990
(Мераб Константинович Мамардашвили | Некролог 171
Указатель статей, помещенных в журнале «Вопросы философии» за
1990 год 172
Наши авторы 176
CONTENTS
V. A. TISHKOV. The social and the national in a historico-anthropologi-
cal perspective. B. G. YUDIN. The sociogenesis of Soviet science. G. G. DILI-
GENSKY - V. A. LEKTORSKY. Problems of the whole world. (A dialogue).
V. ZH. KELLE, M. YA. KOVALZON. Social science and the practice.
M. A. BAKUNIN. Corruption; On Macchiavelli; The development of statehood.
(Introduced by N. M. Pirumova). A. VALICKI. Russia. Archipriest A. MEN'.
On Teilhard de Chardin. F. A. HAYEK. The road to serfdom (Conclusion).
P. KAMPITS. Austrian philosophy. LETTERS TO EDITORS. GENERAL
INDEX OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL «VOPROSY
FILOSOFII» AT THE 1990.
g) Издательство ЦК КПСС «Правда», «Вопросы философии», 1990
Социальное и национальное в
историко-антропологической перспективе
В. А. ТИШКОВ
2. К оценке исторической эволюции
Советское обществоведение нуждается в качественно новых
теоретических подходах, которые рассматривали бы общество не просто как
некую «совокупность социальных организаций, институтов и групп,
в основе функционирования которой лежат классовые и другие
социальные противоречия» \ а как сложную самоорганизующую систему, в
которой важную роль играют общие законы адаптивного поведения.
Последние обычно связывались с биологическими системами и на общественные
формы жизни не распространялись, хотя в последнее время становится
все более очевидным, что изучение с единых позиций процессов
самоорганизации как природы, так и общества, «всего, что создано
человечеством» 2,— это одно из наиболее плодотворных направлений
обновляющегося гуманитарного знания.
Теоретическая парадигма советского обществознания, включая
историографию, может расширяться не только за счет отращивания новых
корней в системе уже познанных законов о фундаментальных свойствах
жизни, включая ее общественные формы, но и в наращивании новой
кроны за счет привлечения в аналитический арсенал накопленного
современной философской и социально-культурной антропологией знания
о сложном мире иррационального и субъективного, о природе
двустороннего взаимодействия слов, представлений и вещей, т. е. всего того, что
выдающийся французский антрополог Мишель Фуко назвал
«дискурсивной практикой», или «археологией познания» 3.
Сейчас становится все более ясным, что доминировавший в нашей
исторической науке упрощенно-методологический подход, омертвивший
живое многообразие исторического процесса тем, что втискивал его
в прокрустово ложе однолинейного восходящего движения, пресловутой
«пятичленки» и т. п., по сути дела, не мог освободиться из-под влияния
механистического миропонимания. Это породило массу упрощений и
несоответствий в оценке хода общественной эволюции, абсолютизировав ее
детерминистские и однолинейные начала в виде таких
категорий-монстров, как «объективные общественные потребности», «исторические
закономерности», «исторический прогресс» и т. п. В то же время, предписав
ученому-обществоведу завышенную претензию на отстраненно-зеркаль-
ное отражение и оценку действительности, эта методология
сформировала еще более опасные вторичные установки на «научное руководство
1 БСЭ, 3-е изд. М., 1974, с. 248.
2 См.: Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития. М., 1987.
3 Foucault M. L'ordre du discours. P., 1971; его же. L'archeologie du savoir.
P., 1969.
обществом» и его «преобразование», дав, в свою очередь, повод для
упреков в адрес ученых как главных виновников гражданских неурядиц,
политических и социальных катаклизмов.
Оставаясь в рамках механистического стиля мышления и только
частично поколебленных догматов, советские обществоведы, в том числе
срочно занятые «пятыовывождением» историки, еще не задумались в
должной мере над тем, что вступившая во второй половине XX века в
качественно новую и явно критическую стадию человеческая эволюция,
включая итоги грандиозного социального эксперимента на одной шестой
части земного шара, возможно, вообще не поддается объяснению в
рамках привычных и, казалось бы, незыблемых категорий, характеризующих
«объективные закономерности общественного прогресса».
Действительно, что лежит в основе движения социального космоса?
Привычная апелляция к базовому понятию «противоречие» вряд ли
достаточна для объяснения весьма длительного мирного существования
социально-гомогенных общностей, включая государственные образования
в прошлом и настоящем, а самое главное — в этом случае затрудняется
видение путей и механизмов становления гармоничных социальных
структур в будущем. Кроме того, когда исторический процесс мыслится в
рамках постоянно разрешающихся на более высоком уровне
противоположностей и противоречий, то порождается иллюзия, скажем, построения
бесконфликтного «демократического социализма» за счет выделения из
противоположных социальных сущностей некой новой позитивной
цельности. Тем самым как бы ограничиваются возможности для участников
исторической драмы сосуществовать с противоположными сущностями и
принципами в рамках их коррекции, компромисса и контроля. Из такого
исторического видения рождается установка на «решенческий подход»
к проблемам общественной жизни, как, например, в сфере
межнациональных отношений в нашей стране.
Социальные перемены действительно составляют суть движения
истории, но что вызывает эти изменения, что обусловливает постоянство
перемен? Возможно, плодотворно разрабатываемое социальными
антропологами понятие адаптации, вернее, «адаптивного ответа» на внешний
вызов здесь может стать более мощным инструментом познания
социального движения как «процессов, через которые живые системы всех
видов — организмы, группы населения, общества, экосистемы, возможно и
биосфера в целом, сохраняют себя и поддерживают свое существование
перед лицом пертурбаций (возмущений, расстройств), постоянно им
навязываемым и угрожающим» 4. По крайней мере интерпретация
социального космоса через понятие «адаптивных ответов» и «экосистем», отсекая
однолинейно-детерминистское видение исторического прогресса,
выступает более чувствительной к сегодняшним реалиям и озабоченности
человечества о сохранении жизни и цивилизации. По крайней мере для
второй половины XX века, уж если говорить о каких-либо главных
противоречиях в глобальном масштабе, достаточно очевиден тот общий
вызов, перед которым ныне стоит человеческое сообщество. Речь идет
о способности человеческого рода к самоуничтожению, несмотря на
впечатляющий рост творческих сил человека. В рамках сформулированной
С. Стояновичем философии контингенциализма (т. е. учения о
случайности) «имеется реальная возможность и даже вероятность завершить
раз и навсегда цикл человеческой случайности: от биологической
случайности появления человека во Вселенной до случайности его
исчезновения благодаря его же собственным творческим силам» 5.
4 Rappaport R. Logos, Liturgy and the Evolution of Humanity.-Paper
presented at the XII International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences.
Zagreb, 1988, p. 5.
5 Стоянович С. От марксизма к постмарксизму.- «Вопросы философии», 1990,
№ 1. с. 153.
Менее самонадеянное историческое мышление подсказывает более
осмотрительную позицию в отношении способности познания прошлого,
извлечения из него необходимых уроков, а тем более предвидения
будущего. «Мы стоим между прошлым, только отчасти познанным, и
будущим, только едва видимым»6,—• отмечает американский антрополог
Д. Аберле. Эта позиция обуславливается, как минимум, двумя новыми
моментами в понимании движения материи, в том числе исторического
времени. Во-первых, становится все более очевидной определенная
необратимость и энтропийная природа вещей в космосе, в живой природе
и в явлениях культуры, при которой определенная часть информации
как бы постоянно утрачивается и «мы каждое утро просыпаемся в более
запутанном и беспорядочном мире, чем тот, который оставили накануне
вечером» 7. Во-вторых, в человеческой деятельности все больший вес
занимают стохастические, непредвиденные последствия. Мы сейчас живем
в качественно новой ситуации, она совсем не та, с которой имел дело
К. Маркс, когда говорил о царстве необходимости (материальное
производство) и царстве свободы (материальное изобилие). Наше понимание
прошлого и настоящего должно включать и третье царство — «царство
роковой, созданной человеком случайности» 8.
Вышесказанное подводит нас к еще одной важной теоретической
проблеме: в какой мере осмысление современного этапа исторической
эволюции учитывает характер тех основных социальных структур, в
рамках которых сегодня происходят общественные процессы?
Классический марксизм исходит из постулата, что определяющими ход мировой
истории являются классы как социальные группировки людей,
взаимоотношения, противоречия и борьба между ними. Все другие базовые
структуры (государства, этнические общности — народы) как бы вторичны по
отношению к первым и определяются ими. Государство — это прежде
всего механизм политического господства одного класса над другим,
а консолидация этнического самосознания, пробуждение национальной
жизни и национальных движений — результат борьбы буржуазии за
полную победу товарного производства, завоевания внутреннего рынка, То и
другое требует государственного сплочения территорий, на которых
проживает однородное в этнокультурном плане население.
Оспаривать правоту этих положений для периода становления и
развития капитализма до эпохи научно-технической революции, когда
формировался марксизм-ленинизм как научное мировидение и как
политическая теория, едва ли возможно. В тот исторический период доминантой
общественного развития действительно была жесткая социальная ломка
гражданских сообществ по классовым параметрам, рост и накопление
материальных благ за счет пролетаризации масс и обогащения
социальной верхушки — владельцев средств производства. В свою очередь, эта
ломка сопровождалась неистребимым социальным протестом
эксплуатируемых, видевших свою цель в социалистическом идеале и его
воплощении на путях тотальных переворотов. Через разрушение старого мира и
построение социализма предполагалось создание социально
справедливого, гармоничного общества с неизбежным отмиранием государственных
структур и национальных различий между народами.
Коммунизм мыслился как возврат на новом историческом витке
(изобилие производимого общественного продукта) к той самой норме жизни
человеческих сообществ, которая называлась первобытным коммунизмом
и которую человечество утратило, впав в «ересь» социально-классового
неравенства и эксплуатации человека человеком. Весь период
человеческой истории, связанный с неравенством и эксплуатацией, объявлялся
6 A b e r I e D. F. What kind of science is Anthropology? - «American
Anthropologist», 1987, Vol. 89, N 3, p. 556.
7 R i f k i n J. Entropy. A New World view. N. YM 1980, p. 3,
8 СтояновичС. Указ. соч., с. 152.
своего рода историческим предбанником, с концом которого и начинается
подлинная история человечества. Этот тезис составлял основу
марксистского понимания истории и общества, причем обращенного не только в
прошлое, но и в будущее. Как пишет Э. Геллнер, «он обеспечивал
не просто объяснение для начала истории, но и для ее нормы. В нашем
начале заключена наша сущность. В нашей сущности лежит и наше
предназначение. Это не просто наиболее существенные черты, которые
требуют своего объяснения, но и то, что требует воплощения» 9, Марксизм
как бы строил свою теорию исторического процесса и революционную
идеологию не из некой внешней заданности, а на исходной мессианской
посылке о реализации подлинной сущности и предназначении
общественного человека, которые оказались на каком-то отрезке истории
«похищенными» или деформированными патологическими социальными
устройствами.
Не только в научных исследованиях, но и на страницах учебников
эта мессианская заданность трактовки эволюции человеческого общества
фактически не скрывалась. «В связи с попытками идеологов
антикоммунизма опровергнуть важнейшее марксистское положение о том, что
частная собственность, классы и государство являются преходящими
общественными институтами, особую остроту приобретает разработка
советскими этнографами (вместе с представителями других исторических
дисциплин) истории первобытного общества» 10,— читает до сих пор
студент, начиная свою специализацию по этнографии.
Все же не только реальная практика «коммунистического
строительства», но и обстоятельные исследования начальных стадий человеческой
истории, выполненные археологами и антропологами в последние
десятилетия, показывают, что между «началом» и «будущим» Человечества
лежат не просто деформированные отчуждением человека от средств
производства и социальным угнетением стадии классовых общественно-
экономических формаций; это и есть сама суть и естество истории в том
виде и формах, как она состоялась. И прежде всего по той причине, что
свойственные всей живой природе, в том числе предчеловеческим
группам, законы естественного отбора, иерархии и доминирования различных
форм неравенства не устраняются, а продолжают свое существование
вплоть до стадии классообразования, не говоря уже о последующей
истории.
8 этом плане человечество не выделялось из живой природы и
остается ее частью. Неравенство и состязательность, различные формы
доминирования на индивидуальном и групповом уровне, скорее всего
есть условие социального развития, а равенство и отсутствие
состязательной конкуренции и неизбежной в ее итоге дисгармонии есть форма
социальной энтропии, т. е. гибели общества. Безусловно, такой вывод
трудно совместим с концепцией К. Маркса о «родовой сущности
человека», согласно которой потенциал добра принадлежит «человеческой
сущности», а потенциал зла присущ только лишь «человеческому
существованию». Человек заключает в себе оба эти противоположные начала
и только такой взгляд способен действительно объяснить многое в
трактовке явлений, событий и исторических героев прошлого.
Эта констатация совсем не означает перехода на позиции теоретиков
западного либерализма, считающих, что требование справедливого
распределения есть всего лишь атавизм, что человеку необходимо избавиться
от многих сантиментов, которые были хороши для маленьких общий,
и что социализм является результатом возрождения подобных
первобытных инстинктови. Хотя историки не имеют возможности судить о
социализме как о реализованной исторической сущности, все-таки само
9 Geliner E. State and Society in Soviet Thought. Oxford, 1988, p. 19.
10 Этнография. M., 1982, с 12.
11 См. Hayek F. A. The Three sources of Human Values. London, 1978.
длительное существование этой идеи, инкапсуляция многих ее
компонентов в капиталистическую общественную систему и в этатистские
политические образования, называвшиеся социалистическими странами,
позволяет говорить об идее и практике социализма как выражении
органической тенденции современного мирового развития.
Возможно, что социалистическая идея, равно как и христианская идея
в более ранние периоды истории, есть своего рода «компенсаторный
механизм», призванный смягчить, сбалансировать, свести до минимума те
дискомфортные и неизбежные несоответствия is жизни человеческих
сообществ и отдельных индивидов, которые вызываются самой их природой.
Опровергнуть или подтвердить это предположение может только сам
факт появления на исторической арене жизнеспособной системы
демократического социализма.
2. О понятиях «класс» и «нация»
Это сейчас легко подвергать критике классовый анализ общественного
развития даже применительно к той эпохе, на материалах которой он
был создан. Новая философия, достижения в области социальной
истории и антропологии последних десятилетий помогают
демистифицировать одно из «заблуждений эпохи», а именно показать, как появление
в дискурсивной практике европейских интеллектуалов середины
прошлого века концепций класса и национальности обрело со временем
догматизированное представление о неких материально существующих
«архетипах». Новейшие исследования показывают, что необходимы серьезные
коррективы в закостенелые представления о социальном (классовом)
и этническом (национальном). Требует нового осознания сам процесс
функционирования и взаимодействия пары: класс — национальность.
Стоящие за' этими категориями социальные и культурные процессы не
являются в действительности «объективными силами». Они должны
прежде всего трактоваться как производные и определяемые опытом
отдельных индивидов и групп внутри различных сообществ.
Классовые и национальные традиции формируются и
переформируются, прекращают свою жизнь и возрождаются. Их риторика, символы
и ритуалы заимствуются, изобретаются и передаются через
интеллектуалов и активистов. И в этом смысле классы и национальности, их
социальное или национальное самосознание существовали в прошлом и
существуют сегодня в том виде, в каком они «сотворены» в итоге активных
действий отдельных лиц, партий, средств массовой коммуникации.
Важная роль в создании этих представлений на уровне коллективного
сознания принадлежит интеллектуалам, прежде всего научной интеллигенции,
включая и самих историков.
К тому же необходимо учитывать, что во второй половине XX в.
характер общественной жизни изменился по многим качественным
параметрам, которые 100 лет назад не могли предвидеть даже гениальные
мыслители. Прежде всего понятие «основные классы» не может сегодня
адекватно отразить ни капиталистическую, ни социалистическую
действительность. В странах развитого капитализма рабочий класс уже не
выступает как единая социальная общность; далеко не всегда его взгляды
и позиции прогрессивны, а самое главное — социальный антагонизм не
может быть сведен к антитезе «рабочий класс — буржуазия» 12. В целом
же классы как социальные группировки человечества утрачивают свои
всепроникающие, детерминирующие общественную жизнь способности,
а трактовка классовой борьбы как движущей силы исторического
процесса становится просто неприемлемой.
12 См.: Дилигенский Г. Революционная теория и современность,- «Мировая
экономика к международные отношения», 198S, № 3,
Более того, избрание в качестве основной детерминанты класса
отношения к средствам производства, да и вообще принцип анализа обшест-
ва, когда в основу кладется производственная деятельность людей,
трудно, если не невозможно применить к анализу современных развитых
обществ, где лишь около 1/3 граждан заняты этой деятельностью и где
обладание информацией, квалификацией, талантами приносят большие
статус и власть, чем обладание овеществленными средствами
производства, если вообще таких обладателей сегодня возможно вычленить в
отдельную социальную группу.
В равной мере и применительно к нашему обществу пора отказаться
от неосмотрительного переноса из сферы дискурсивной
(словесно-концептуальной) практики в идейпо-политическую и даже
конституционно-правовую вышеупомянутого категориального аппарата. Это в реальной
общественной жизни ведет к конфликтным и необоснованным претензиям
отдельных групп граждан, которые, будучи вооружены (вот уж
действительно точное определение для данного случая!) понятиями «класс»
или «национальность», да еще и конституционно закрепленных в качестве
официальных категорий, ведут себя с позиций «гегемона» или правовой
исключительности, претендуя уже только на основе данного статуса на
доминирующее положение как в структурах общегражданской власти,
так и в системе распределения прав или социальных благ,
территориальных пространств и их ресурсов.
В последние десятилетия качественно новые параметры приобрел
и такой важнейший тип социальных группировок, как
историко-культурные, этнические общности (народы или национальности), а вместе
с этим должны меняться и наши представления о них. Мне уже
приходилось писать о причинах феномена «этническое возрождение» в
современном мире, в том числе о причинах национальных движений и роста
межнациональной напряженности в нашей стране» 13. С возрастанием
целостных характеристик человечества, распространением урбанизации и
нивелирующих форм массовой культуры, межгосударственных и
межличностных контактов и взаимосвязей этнокультурное многообразие
планетарного сообщества людей тем не менее не сходит с исторической арены.
Переходя все в большей мере из сферы материальной в сферу духовной
культуры и самосознания, этничность утверждает себя вполне
определенно как устойчивая совокупность поведенческих норм или
социально-нормативной культуры, которая поддерживается определенными кругами
внутриэтнической информационной структуры (языковые, родственные
или другие контакты). Этничность позволяет ее носителю лучше
ориентироваться в урбанизированном мире. Чувство принадлежности к той
или иной группе нужно человеку как форма, через которую реализуется
необходимая ему социальная комфортность (наряду с микроячейкой —
семьей) и которая используется им для достижения определенных
социальных целей.
К тому же современные цивилизация и трудовая деятельность,
требуя и обеспечивая фактически поголовную образованность людей,
продолжают, несмотря на внешне схожие формы, функционировать в
определенных культурных системах. Новейшие технологии, любой
квалифицированный труд, выполнение служебных функций требуют все более
обширных знаний и личностных взаимосвязей, которые могут выражаться
(начиная от производственных инструкций) и осуществляться (вплоть
до телефонных разговоров с сотнями смежников) па определенном языке
в рамках определенных традиций личностного и группового поведения.
В отличие от времен работника с плугом и сохой и даже мастерового
и станочника в традиционном промышленном производстве
современная трудовая деятельность гораздо в большей степени включает в
43 Тишков В. А. Народы и государство.-«Коммунист», 1989, № 1.
себя культурные параметры, которые имеют национальные (этнические)
формы.
В этой ситуации конкурентные отношения, продвижение по службе,
жизненный успех оказываются достаточно тесно связанными в
многонациональных коллективах и обществах в целом с принадлежностью к той
или иной культуре, с ее статусом и сферой распространения. Наиболее
отчетливо это проявляется в сфере языковых отношений. Стремление
сохранить и утвердить собственную культуру на личностном и групповом
уровнях через всю систему национальных форм и символов тем самым
становится неотъемлемой характеристикой развития современных
индустриальных обществ. К тому же развитие это, как правило, идет
неравномерно: некоторые регионы или сферы занятости даже в рамках одного
государства могут по ряду причин заметно отставать по уровню
обеспечения социальных благ и в целом условий существования проживающих
или работающих в них людей. А региональные и даже
социально-профессиональные границы (особенно по линии город — село) часто
совпадают с этническими, способствуя тем самым проецированию
социально-экономических несоответствий и неравенства на сферу межнациональных
взаимоотношений. Национальные интересы и формирующиеся на их
основе движения и требования здесь оказываются тесно связанными с
процессами современного индустриального развития, даже если оно
дополнительно не деформировано командно-административными
структурами и низкой социальной мобильностью граждан, как это характерно для
нашей страны.
В XIX—XX вв. по мере развития и утверждения индустриального
и постиндустриального производства и современных цивилизованных
форм в жизни людей этничности в ее материализованном виде как бы
становится меньше, а национализма (имеется в виду система взглядов
и устремлений) — больше.
В доиндустриальных обществах грамотность и высокая культура, на
уровне которой формируется представление о национальном, были
доступны лишь узким элитным группам. Основная же масса членов общества,
т. е. аграрии, хотя и обладала определенным комплексом этнических
черт, культурной отличительностью, свою принадлежность к
национальному не осознавала. Французы (я имею в виду народ, а не отдельных
просветителей или представителей знати) вплоть до буржуазной
революции конца XVIII в. и даже после нее французами себя не осознавали
и не называли. Они осознавали себя как «пейзан», т. е. крестьяне,
жители определенной местности («Орлеанская дева» была именно «девой из
Орлеана»). Дальше осознания своей принадлежности к местности, к
общине массовое сознание членов аграрных обществ не заходило.
При достижении определенного уровня грамотности и образования,
сопровождающегося освоением основной массой членов этнической
общности (народа) так называемой «высокой культуры» и интенсивным
ростом внутрикоммуникационных связей (особенно через средства
массовой информации), представление о национальном стало складываться на
уровне коллективного, массового сознания.
В нашей стране вплоть до первых десятилетий XX в., а отчасти и по
сегодняшний день, этническое самосознание было и остается на
массовом уровне довольно зыбким. Даже, например, у крупных народов
Средней Азии и Казахстана, которые квалифицируются по нашей иерархии
этнических образований как «социалистические нации», еще в 20-е годы
преобладали в самосознании и самоназвании локальные или родоплемен-
ные названия. Среди узбекоязычного и таджикоязычного населения
среднеазиатских оазисов, а также Южного Казахстана употреблялись
этнонимы: таджик (как коренное оседлое население оазисов независимо
от языка), сарт, тат, чагатай. Они перекрывались локальными
наименованиями: бухарец, ташкентец, самарканди, пухори (имелись в виду не
только данный город, но и его округа) и. Даже во время двух
последних переписей (1979 и 1989 гг.) некоторые группы в составе узбеков
называли себя «тюрк», в связи с чем в Фергане, например, под одним
названием оказались два совершенно разных народа — этнографическая
группа узбеков и турки-месхетинцы.
Когда проходило национально-государственное размежевание в 20—
30-е годы, то учитывался не только этнический состав населения, но
порою решающее значение имели экономические факторы (Комиссия по
районированию работала под руководством Среднеазиатского
экономического совета). В итоге созданные республики не могли не иметь
многонационального состава населения, но вся официальная идеология и
практика, включая политику коренизации, вместе с естественными
процессами консолидации и этнокультурного развития способствовали
развитию общественной идеологии на основе идеи нации, причем
«коренной нации», обладающей, как было зафиксировано конституционно,
через «свои» союзные республики суверенными правами (1936 г.) или
даже являющейся суверенным национальным государством (1977 г.).
•В течение последних 50 лет в нашей стране, согласно официальной
науке и политико-государственным установкам, шел процесс
формирования, развития и сближения социалистических наций. Многие народы
или даже родоплеменные группы, в представлениях и лексиконе которых
не было не только самого понятия «нация», но даже иногда и ее
названия (азербайджанцы, например, назывались до этого «тюрками»), не
только действительно совершили разительные перемены в своем
развитии, но и быстро овладели самой идеей нации, включив в нее
значительные мифотворческие, сконструированные начала15. Этот процесс
«конструирования наций» на основе умозрительных, но освещенных
авторитетом «вождя народов» жестких дефиниций прочно вошел в
общественное сознание, не исключая и ученых-специалистов, как безусловно
объективный процесс без каких-либо элементов иррациональности. Мы
имеем здесь дело с одной из многих мистификаций в истории советской
действительности и советского обществознания. Не свидетельствует ли
это о том, что равно как в экономике идеи социалистического
планирования и другие постулаты идеологизированной политэкономии потерпели
неудачу, так и в сфере так называемого «национально-государственного
строительства» и межнациональных отношений марксистско-ленинская
теория наций оказалась неспособной принять вызов современных
реалий?
Понятие нации требует коренного пересмотра в нашем общество-
знании, а вместе с этим — в общественно-политической и конституционно-
правовой практике. Распутать этот клубок чрезвычайно сложно. В этой
связи Э. Геллнер, на мой взгляд, справедливо замечает: «У человека
должна быть национальность, как у него должны быть нос и два уха,*,
Все это кажется самоочевидным, хотя, увы, это не так. Но то, что это
поневоле внедрилось в сознание как самоочевидная истина, представляет
собой важнейший аспект или даже суть проблемы национализма.
Национальная принадлежность — не врожденное человеческое свойство, но
теперь оно воспринимается именно таковым» 16. Причем добавим, что
воспринимается не просто в бытовом, массовом сознании, но и даже
профессиональными философами, пишущими, что «национальность дана
человеку от рождения и останется неизменной всю его жизнь. Она так
же прочна в нем, как, например, пол» 17.
14 См.: Карам ышева Б. X. Очерки этнической истории южных районов
Таджикистана и Узбекистана. М., 1976.
15 «Я сама родила множество узбеков»,-, говорила одна из
этнографов-участников переписи 1926 г. в Самарканде (по сведениям Б. X. Карамышевой).
16 Геллнер Э. Нации и национализм.— «Вопросы философии», 1989, № 7, с. 124.
17 И о н и н Л. Философия национальности.— Перестройка и национальные
проблемы. Приложение к журналу «Новое время», 1989, с. 1.
10
В советском обществознании понятие нации как некоего архетипа,
как «этно-социального организма» утвердилось и остается пока
господствующим и противопоставляется этатистскому значению слова «нация»
(как согражданство), которое якобы всего лишь утвердилось во
французском, а затем и в английском языке 18. Думается, что вопрос здесь
не только в лингвистической традиции.
Эпоха крушения абсолютистских'монархий и колониальных империй
дала человечеству (преимущественно европейским народам) идею
огромной мифотворческой и политической силы — идею нации как некой
субстанции, через которую гражданское общество обретает право на
суверенитет и власть, вместо идеи о ее божественном происхождении и
обладании «помазанником» Бога в лице монарха. Идея нации помогла
оформиться освободительным движениям среди народов, стремящихся построить
демократические гражданские сообщества и создать суверенные
государства. Хотя ни в эпоху буржуазных революций к распада крупных
монархий в XVIII—XIX вв., ни в эпоху крушения колониальных империй в
XIX—XX вв. идея национального государства в ее чистом виде (один
народ — одно государство) не была реализована. Границы между
государственными образованиями, которые всегда должны быть
определенны, хотя в какой-то мере складывались они случайно, никогда не могли
совпадать с границами проживания представителей этнокультурных
общностей (народов); такие границы в силу естественных контактов,
взаимодействия и мобильности людей невозможно определить географическими
линиями. Более того, некоторые народы веками проживали совместно и
в силу своей хозяйственно-культурной специфики по-разному
использовали ресурсы одной и той же территории, другие же народы оказались
разбросанными по территории государства или вообще разделены
государственными границами.
Со временем в мире понятие нации все больше связывалось с
понятием государства, согражданства (Организация Объединенных Наций,
например), хотя для многих народов (а их в мире около 3 тысяч), не
удовлетворенных своим статусом в составе многонациональных
образований, эта идея продолжает служить мощной мобилизующей силой для
создания суверенных гражданских сообществ в виде отдельных
государств, автономных образований или для обеспечения национально-
культурных интересов и прав.
В Российском государстве — огромном многонациональном
образовании — вплоть до начала XX в. вместо объединяющей идеи нации
действовала феодальная, эклектическая формула «православие, самодержавие,
народность», которая затем была заменена политизированной идеей
«пролетарской, классовой солидарности». Последняя помогла
большевикам, прибегая к революционному, а затем тоталитарному насилию,
сохранить государство почти в тех же границах бывшей империи. Здесь
огромную роль сыграл и выдвинутый в рядах социал-демократии конца
XIX в. и взятый В. И. Лениным на вооружение лозунг о праве наций
на самоопределение. Как справедливо пишет Р. Суни, «в ходе революции
и гражданской войны как марксисты, так и националисты прибегали к
своей собственной риторике, чтобы определить содержание драмы и ее
участников, чтобы завоевать последователей и чтобы легитимизировать
использование насилия. Язык, на котором выражались их
противоположные идеалы, восходил к антагонистическим движениям прошлого века,
но в первое десятилетие и в первую половину XX в. марксистские и
националистические концепции оказались среди наиболее мощных
средств выражения политических чувств и подходов. Соответствующие
этим концепциям утопии были довольно различными, даже
взаимоисключающими, хотя в конечном итоге большевистский компромисс включил
18 См.: Бромлей Ю. В. К разработке понятийно-терминологических аспектов
национальной проблематики.— «Советская Этнография», 1989, № 6.
И
в себя вынужденное признание этно-политических единиц в
федеральной ^структуре как необходимое условие сохранения целостности нового
государства» 19.
В конечном итоге ни один из идеалов не реализовался в истории:
марксисты не смогли построить государство рабочих и крестьян и
объединить пролетариев всех стран, националистам не удалось осуществить
принцип «национальной государственности». Человечество предпочло
более сложные и многообразные пути эволюции, расставшись со
многими формами, которые когда-то, возможно, казались извечными. Однако
идеи нации оформлялись и оформляются по сегодняшний день как один
из важнейших факторов системы символических представлений,
необходимых для формирования и существования социальных групп (в данном
случае — народов), для установления факта принадлежности к этим
группам, укрепления их внутренней сплоченности и для создания основ
власти тех, кто ими руководит. Чаще всего идея нации оформляется в
среде того или иного народа (как в настоящее время среди гагаузов в
СССР или гавайцев и индейских групп в США) или даже группы
народов («нация дене» в 70—80-е годы среди северных атапасков Канады)
как средство достижения государственного суверенитета и реализуется с
достижением этой государственности. Другими словами, не среди наций
рождаются национальные движения, а, наоборот, на почве национальных
движений, достигших определенного развития народов, оформляется идея
нации.
Нельзя не согласиться с Э. Геллнером, что «нации создает человек,
нации — это продукт человеческих убеждений, пристрастий и
наклонностей. Обычная группа людей (скажем, жителей определенной
территории, носителей определенного языка) становится нацией, если и когда
члены этой группы твердо признают определенные общие права и
обязанности по отношению друг к другу в силу объединяющего их
членства. Именно взаимное признание такого товарищества и превращает их
в нацию, а не другие общие качества, какими бы они ни были, которые
отделяют эту группу от всех стоящих вне ее» 20. У этого же автора
есть еще более лаконичное определение нации — это своего рода
«постоянный, неформальный, извечно утверждаемый плебисцит» 21.
Из всего этого по крайней мере необходимо сделать вывод, что
«нация» — это прежде всего внутригрупповая дефиниция, а не что-то
определяемое и навязываемое извне учеными или государством.
Разумнее самим народам (будь то украинцы или цыгане, киргизы или
нанайцы) дать возможность называть или не называть себя нацией и не
придавать этому понятию строго научную или конституционную дефиницию.
На сегодняшний же день по-прежнему главенствует известное
определение, что «нация — это историческая общность людей периода
становления и развития капитализма (капиталистический тип нации) или
социализма (социалистический тип наций), характеризующаяся
устойчивой общностью экономических связей, территории, языка, культурно-
психологических особенностей» 22.
3. Новые условия — новые дефиниции
Сегодня каждый из этих признаков требует по меньшей мере
серьезных коррективов, чем уже ставится под сомнение правомочность
самого определения. Возьмем общность хозяйственных связей. Это, без-
19 Suny R. G. Nationalism and Class as factors in the Revolution of 1917 CRSO
Working paper, 1988, p. 2.
20 Г е л л н е р Э. Указ. соч., с. 124.
21 G е 11 п е г Е. Nations and Nationalism. Oxford, 1988, p. 53.
22 Актуальные проблемы развития национальных отношений,
интернационального и патриотического воспитания. М., 1988, с. 15.
12
условно, историческое условие возникновения и развития народов,
отчетливо проявившееся в так называемом хозяйственно-культурном типе,
традиционной системе жизнеобеспечения этносов. Но даже на
докапиталистической стадии общность хозяйственных связей была скорее
свойством, присущим другим образованиям — общинам, вотчинам,
феодальным государствам, и только этническая однородность последних (да
и то не всегда) позволяла перенести это свойство в какой-то мере и на
этносы. Как признак нации эта хозяйственная общность также не более
чем общность «буржуазных связей» (В. И. Ленин), когда потребности
капиталистического способа производства требовали расширения и
оформления государственных границ (т. е. границ рынка) желательно
вокруг определенной этнической территории. Но практически ни
границы, ни сами хозяйственные связи этими территориями не ограничивались.
«Самостоятельной экономической деятельности народа» не
существовало, по крайней мере с конца феодального натурального
хозяйства и изолированности, а уж тем более ее не существует в современную
эпоху.
Об определенной хозяйственной общности в пределах республик,
территорий говорить можно, но в какой мере эта общность — признак
этнического образования? Ведь она обеспечивается всем многоэтничным
составом населения республик, а в некоторых из них (Казахстан, Латвия,
Эстония), возможно, даже в большей степени иноэтничным населением,
учитывая структуру занятости в сфере производства материальных благ,
составляющих основу хозяйственного жизнеобеспечения того или иного
национального или национально-территориального образования.
Об общности хозяйственных связей современных развитых народов
как нациеобразующем признаке говорить практически невозможно.
У многих народов внешние хозяйственные связи сильно преобладают над
внутренними (на внутригосударственном уровне многонациональных
сообществ это вообще стало уже нормой). В некоторых странах связи
региональные безусловно доминируют. В Канаде, например,
«вертикальные» хозяйственные связи провинций с пограничными штатами США
гораздо сильнее «горизонтальных», по которым, казалось бы, должны
определяться одна или две канадские нации.
Но самое главное, во многих развитых странах большинство членов
этноса к хозяйственным связям непосредственного отношения не имеет
вообще. Более того, есть народы, не обладающие вообще внутренним
хозяйственным комплексом, цементирующим их единство. Их основным
источником жизнеобеспечения (и далеко не безобидного) может быть,
например, обслуживание мировой науки и производство информации,
коммерческий туризм, продажа рекреационных услуг или финансовое
посредничество. О каких общих хозяйственных связях как
типологическом признаке нации здесь можно говорить вообще?
Наоборот, чем слабее хозяйственная общность на внутриэкономиче-
ском уровне и чем в большей мере эти связи ориентированы вовне на
другие народы и государства, тем сильнее экономическая база этого
народа и более благоприятны условия для его существования.
Территориальная общность в качестве признака нации как
этносоциального образования по сути своей означает, что каждая нация
имеет свою исконную и только ей принадлежащую территорию
(отсутствие территории или возможность совместного «владения» ею
двумя или несколькими народами ни в теории, ни на практике пока не
признаются). Территориальный вопрос играл очень важную роль в
истории народов: вне определенных территорий они не смогли бы
сформироваться; среда обитания людей, ее размеры и возможности были
причиной вековых войн и конфликтов, да и сейчас вопрос о
«принадлежности» территории — среди основных причин наиболее ожесточенных
межэтнических столкновений,
13
Но нельзя не видеаъ и следующего: признак.территориальной
общности связываемая с понжгаями границ и владения, как факторами
разъединительного порядка. На рубеже XXI в. хозяйственные,
ведомственные, а тем более территориально-этнические границы становятся
анахронизмом. Нынешняя мобильность населения как непременное условие
эффективного хозяйствования и жизненного успеха в нормальном
гражданском обществе, урбанизация и сосредоточение все большей части
населения в многонациональных по составу городских агломерациях
ведут к стиранию и без того условных пространственных границ между
этническими общностями.
Границы обостряют межэтнические противоречия, а тем более если
они взяты за основу территориально-административного деления
(принцип, который по непонятным причинам в советской
государственно-правовой теории и практике объявлен принципом социалистического
федерализма). Стремление «затолкнуть» современный этнос в границы
ведет не только к конфликту, но и стагнации уже начавшегося
конфликта. Потенциальная конфликтность заложена в жесткой «привязке» того
или иного народа нашей страны к категории наций с
национально-государственным статусом. Хотя как признак нации государственность не
называется, но все строится на том, что народы, проживающие в
союзных и автономных республиках — это нации; те же, кто проживает в
национально-территориальных образованиях,— народности, а народы, не
имеющие территориального статуса, или представители национальностей,
живущие за пределами собственных национально-государственных
образований,— национальные группы.
Между тем, если придерживаться этих критериев, то в непонятную
категорию «национальной группы» попадает добрая треть (гораздо более,
чем 60 млн. чел.) населения страны. Получается, например, что в состав
русской нации не должны входить русские, живущие не только в Нарве,
Кустанае, Харькове, но и на территории Татарии, Башкирии, Якутии и
других автономных образований РСФСР, поскольку официально — это
территории «других» наций. В разряд «национальных групп» попадают целые
народы, не имеющие территориально-политических образований.
Уязвимость этой градации, ее политизированность и несоответствие собственно
этническим характеристикам можно проиллюстрировать многими
примерами. Неужели, например, не покажется странным, что до 1954 г. русские
в Крыму были частью русской нации, а после стали национальной
группой, а украинцы — наоборот. Но ведь в характеристике русских и
украинцев Крыма с точки зрения их принадлежности к определенным
этническим общностям ничего не изменилось.
Все-таки советская теория этноса в значительной мере
подстраивалась под государственную национальную политику. Для того чтобы
теснее увязать характеристику этнических общностей и их иерархию с
системой государственно-политических образований, в теоретические
построения было введено и разграничение понятий «этнос в узком смысле
слова» — этникос (все лица одной национальности или этноса) и «этнос
в широком значении слова» — ЭСО (этносоциальная общность), т, е.
народ, а вернее, та его часть, которая проживает в пределах
«собственного» национально-государственного образования. Здесь налицо
излишняя институализация, а вернее, абсолютизация структурных элементов,
прежде всего государственности, в характеристике этносов. Это и
является источником массы несоответствий и схоластичности многих
построений, связанных с официально принятой и внедряемой в массовое
сознание иерархий этнических общностей. Скажем, почему абхазы — это
нация, а гагаузы — нет? К какой нации относятся армяне Нагорного
Карабаха или буряты Усть-Ордынского национального автономного
округа?
14
Огромное число исключений, оговорок, всевозможных модификаций,
которые сопровождали построения наших теоретиков-этнологов ш
последние десятилетия в попытке уйти от сталинского догматизма, радикально
с ним не порывая, видимо, уже не могут обеспечить надежные
ориентиры для практики перестройки сферы межнациональных отношений я
реформы федерации. Необходимо отказаться от абсолютизации
принципа национальной государственности (один народ — одно государство),
а вместе с этим и от попыток придать умозрительным конструкциям в
осознании этнических явлений характер объективно существующих
иерархических типов этнических общностей, в том числе и
«этносоциальной общности» в виде нации. Это поможет деэтатизировать и деполитк-
зировать сферу национальных отношений.
Есть надежда, что раздавшийся недавно призыв: «Дело политиков и
экспертов — освобождение грядущего правового государства от великой
лжи национальной идеи»23 — получит заинтересованную и глубокую
оценку философов, этнологов и историков. Гораздо сложнее дело обстоит
с политической сферой и сферой массового сознания. На протяжении
длительного времени этнические различия в нашем обществе понимались
не только как официально легитимизирующие ьыражения коллективных
партикулярностей, но и как основа государственно-политических
структур. Соответственно развитие гражданского общества и общественного
мнения в ходе перестройки в нашей стране приобрело отчетливые
национальные формы. Национальность и национальное чувство стали как
бы исходным общим определителем политического действия. Этот фактор
столь мощно действует в нашей действительности, что даже созданный
общесоюзный парламент фактически обрел облик ассамблеи наций, не
говоря о государственных, политических и общественных институтах
более низкого уровня. Противостоять этому фактору может только
опережающий процесс общегражданской демократизации и хозяйственного
преуспевания в рамках Союза.
Возможно, что в точке зрения: «Единственный путь избежать
насилия — это деэтнификация государственного устройства и деполитиза-
ция национальных отношений» — заключена некоторая доля утопии
применительно к нашему государству, но нельзя не согласиться с
утверждением тех же авторов, что «национальность должна стать частным
делом гражданина, объектом его культурных, языковых и бытовых
предпочтений» 24. На сегодня только два государства в мире — СССР и
ЮАР — занимаются официальной фиксацией национального
происхождения своих граждан. Но СССР и одно из немногих государств, где
национальные чувства и интересы граждан столь долго были в
пренебрежении, а сейчас они вышли на авансцену общественной жизни.
Поэтому, думаю, было бы разумным отказаться от определения
этноса как некоей эпохальной социальной формы. Этнос, или этническая
идентичность — это скорее источник существования общности, а не ее
суть; процесс адаптации и изменений, а не встроенная в мироздание ар-
хетипическая, изначальная структура. Этнос как естественный феномен
скорее есть интегративная социальная функция для определенной
категории людей в глобальной политико-экономической системе и культурном
космосе. Но это лишь предварительные заключения, приглашающие
скорее к дискуссии, чем претендующие на некоторый окончательный
вывод.
23 Гусейнов Г., Драгу иски й Д., Сергеев В., Цымбурский В.
Этнос и политическая власть.- «Век XX и мир», 1989, № 9, с. 18.
24 Т а м же, с. 18.
Социальный генезис советской науки
Б. Г. ЮДИН
В нынешних дискуссиях о судьбах и злоключениях советской науки,
если говорить об их концептуальной стороне, отчетливо звучат три темы:
наука и идеология, наука и власть, наука и бюрократия. Развиваются
трактовки, согласно которым та или иная из названных сил — будь то
идеология, власть или бюрократия — выступает как главная виновница
всех несчастий, выпавших на долю отечественной науки.
Нельзя не согласиться с тем, что каждая из этих точек зрения
имеет под собой и солидный теоретический фундамент, и достаточно
внушительный фактический материал, и, что немаловажно, обычно опирается
на собственный опыт, на личные переживания автора. Действительно,
можно ли оспаривать, что деятельность ученого в нашей стране очень
часто подвергалась жесткой идеологической цензуре, что практически
узаконенным было неукоснительное следование «марксистско-ленинской
методологии»? Или то, что ученый постоянно находился в полной
зависимости от партийно-государственных структур власти, невежественный
диктат которых сказывался на самых разных сторонах его деятельности?
Либо, наконец, тот факт, что всепроникающая бюрократизация жизни
общества в наибольшей мере захватила институт науки, в который было
внесено многое от чиновного распорядка взаимоотношений и действий?
И все же подобные объяснения прошлого нашей науки
представляются существенно неполными. Прежде всего несколько смущает, что
каждая из названных концепций оказывается своего рода перевертышем по
отношению к прежней официальной историографии советской науки,
В самом деле, один из центральных пунктов этой историографии состоял
в том, что советский ученый (или вообще любой ученый), поскольку он
руководствуется самой передовой идеологией, в силу одного этого чуть
ли не обречен на успех и по крайней мере имеет неоспоримые
преимущества перед любым другим ученым. Очень и очень много было
написано и сказано также и о том, сколь благотворны поддержка и помощь
государства и партии их любимому детищу — советской науке, да и о
том, как великолепно продумана организация науки в нашей стране.
Стоит, кстати, заметить, что и в поддержку каждого из этих тезисов
приводилось немало фактических данных...
Представляется, что самой по себе замена знака «плюс» на «минус»
недостаточно для более глубокого постижения того, что происходило в
течение семи с лишним десятилетий. Хотелось бы, далее, обратить
внимание и на другое обстоятельство. Идеологические квалификации тех или
иных научных теорий, направлений, концепций и пр. едва ли можно
рассматривать как то, что непосредственно и однозначно проистекает из
самих этих теорий или концепций. Все подобного рода определения суть
интерпретации, которые кем-то конструируются.
Здесь необходимо обратиться к языку того, что называют социологи-
16
ей научного знания, конструктивистской социологией науки,
дискурсивным анализом науки, интердретативной социологией науки и т. д.1
Использовать при изучении истории советской науки понятийный аппарат
этих направлений было бы весьма перспективным.
С точки зрения социологии научного знания, идеологические
обоснования либо опровержения тех или иных научных утверждений
выступают как использование специфического вида культурных ресурсов. Так,
по словам М. Малкея, ученые отбирают свои культурные ресурсы и
переинтерпретируют их, делая все это в качестве реакции на данный
социальный контекст и в соответствии со своими позициями в этом
контексте. Именно такую роль довольно часто выполняли апелляции
советских ученых к «марксистско-ленинской» идеологии (либо философии,
либо методологии — и то, и другое понималось, как правило, в качестве
почти синонима идеологии).
Верно, конечно, что для многих научных концепций, подвергшихся
идеологической экзекуции, возможности развития надолго становились
проблематическими, если не вообще закрытыми — едва ли надо
приводить тому примеры. Но тем не менее следует обратить внимание и на
то, что нередко к использованию такого культурного ресурса, как
оценка научной концепции на ее соответствие идеологическому шаблону,
в равной мере, хотя и с далеко не одинаковым успехом, прибегали и те,
кто хотел ее защитить, и те, кто выступал против нее.
Так, в 70-е годы, когда Б. Л. Астауров и Д. К. Беляев ссылками
на классиков марксизма-ленинизма обосновывали возможность изучения
генетической основы человеческих способностей, Н. П. Дубинин опирался
на те же авторитеты для того, чтобы критиковать это направление. Или
другой пример: если в 50-е годы кибернетика истолковывалась как
буржуазная лженаука, то позднее А. И. Берг и его единомышленники для
обеспечения идеологической приемлемости этой области знания широко
использовали лозунг «Кибернетику — на службу коммунизму».
Если напомнить помимо этого о дискуссиях по поводу идеологической
квалификации, скажем, теории относительности или квантовой
механики, да и о множестве других подобных дискуссий, то нельзя не
согласиться с мыслью о том, что, вообще говоря, тот идеологический пресс,
давлению которого подвергалась советская наука, сам по себе не был в
состоянии приостановить развитие какой-либо естественнонаучной теории
или концепции. В каждом конкретном случае этот механизм подавления
надо было еще привести в действие, для чего требовалось, во-первых,
разработать соответствующую идеологическую интерпретацию данной
теории и, во-вторых, добиться одобрения этой интерпретации научным
сообществом. При этом, конечно, надо иметь в виду, что добиваться
одобрения можно было самыми различными методами, вплоть до
разгрома существующего сообщества и замещения его новым, вербуемым из
адептов этой интерпретации.
Рассматриваемую проблему не следует упрощать. Идеологическая,
а если говорить точнее — мировоззренческая интерпретация научных
результатов — это, вообще говоря, такой тип деятельности, который
необходим, как представляется, и для самосознания ученых, и для того,
чтобы эти результаты могли быть освоены культурой общества. Беды науки
начинаются лишь тогда, когда эти интерпретации выполняют роль
пресса, запрещающего одни направления развития науки и
предписывающего другие.
Надо отметить и еще одно обстоятельство. По словам американского
философа и историка науки Л. Грэма, «существует много свидетельств
1 См., напр., М а л к е й М. Наука и социология знания. М., 1983; Г и л б е р т Дж.,
Малке и М. Открывая ящик Пандоры. Социологический анализ высказываний
ученых. М., 1987, Современная западная социология науки. М., 1988,
.17
того, что советские интеллектуалы, обладавшие несомненными
способностями и достижениями, по концептуальным основаниям считали
убедительными историко- и диалектико-материалистические объяснения
природы. О. Ю. Шмидт, И. И. Агол, С. Ю. Семковский, А. С. Серебровский,
А. Р. Лурия, А. И. Опарин, Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн ~- все
это примеры видных советских ученых, ясно указывавших в той или
иной форме на свое убеждение в том, что марксизм имеет реальное
отношение к их работе еще до того, как от них стали требовать заверений
в этом» а.
Можно было бы, наверное, оспаривать и качественную оценку
некоторых из включенных Л. Грэмом в этот список, и искренность многих
высказываний такого рода. Однако не подлежит сомнению тот факт, что
очень часто действительно серьезные ученые находили в философии и
методологии марксизма опорную точку для своих исканий. Для них,
используя терминологию М. Малкея, это был не только внешний
(связанный с необходимостью определиться в текущем социальном
контексте) , но и внутренний культурный ресурс, т. е. нечто, имеющее
непосредственное отношение к самому содержанию их научных взглядов.
С течением десятилетий по мере того, как сменялись поколения
ученых, все больше становилась доля тех, кто имел представление лишь об
одной, да и то чрезвычайно вульгаризированной философской системе.
В результате возможностей осознанного, искреннего и компетентного
выбора становилось все меньше. Уже в 70-е годы декларации в «верности
марксизму-ленинизму» и завершения в его исключительной
методологической плодотворности по большей части выступали в качестве чисто
формальных клише, как, впрочем, и в других сферах жизни общества.
Соответственно и диктат идеологии сказывался уже не столько в
подавлении тех или иных научных направлений, сколько в усеченности
философско-методологического фундамента, необходимого для самой
способности к научному творчеству. На смену идеологическому
неистовству приходил идеологический цинизм.
Как бы то ни было, один лишь факт засилья идеологии позволяет
объяснить далеко не все, оставляя открытыми многие вопросы о путях
и механизмах действия этого мощного пресса. Примерно то же можно
сказать о воздействии власти и бюрократии на науку. Каждый из такого
рода частичных подходов представляется недостаточным в той мере,
в какой эти воздействия идеологии, власти или бюрократии выступают
как воздействия исключительно или по преимуществу внешние, сама же
наука рассматривается только, так сказать, в страдательном залоге, как
нечто «пассивно-реактивное».
Иными словами, нельзя все сводить к существованию науки в
весьма специфических условиях жесткого давления. Ведь опять-таки в любом
обществе наука подвергается воздействию со стороны власти, точно так
же, как в любом обществе существуют различные формы
бюрократического контроля науки. Можно ли, однако, ограничиться констатацией
лишь тех различий в степени, в интенсивности воздействия, которые
демонстрирует история советской науки?
Более объемной, думается, была бы такая точка зрения, с которой
удалось бы увидеть советскую науку как науку довольно-таки
специфическую, которая формировалась и развивалась в этих специфических
условиях. Речь, таким образом, идет о взаимодействии различных структур
а не просто о пассивном восприятии одной из них того, что исходит от
других. На этом пути н&м, возможно, удастся увидеть в новом ракурсе те
проблемы, которые относятся не только к прошлому, но к настоящему
и будущему советской науки.
2 Graham LorenR. Science, Philosophy and Human Behavior in the Soviet
Union. N. Y., 1987.
18
Здесь будут рассматриваться те структурные взаимодействия и
преобразования, которые определили многое в судьбах советской науки.
Характеристика этих взаимодействий и преобразований будет
основываться на понятии институционализации. Один из классиков социологии
XX в. Т. Парсонс определял институциональный аспект социального
действия, который он считал главным предметом социологического
анализа, следующим образом: «Говоря в самых общих выражениях, это такая
область, в которой выявляются действующие в социальных системах
нормативные экспектации, коренящиеся в культуре и определяющие, что
именно надлежит делать при тех или иных обстоятельствах людям в
различных статусах и ролях* одного или нескольких различных
значений. Эти экспектации интегрируются с мотивами деятелей в ролях, т. е.
с тем, что они «испытывают побуждение» сделать или «хотят» сделать в
соответствующих ситуациях и обстоятельствах» 3.
Иными словами, социальные действия являются упорядоченными,
организуются в системы, так что можно иметь обоснованные
предположения о том, как будут действовать люди в ситуациях того или иного
типа, и строить в соответствии с этим собственные действия. Такая
упорядоченность и предсказуемость действий обеспечиваются за счет
укорененных и принятых в данной культуре нормативных ожиданий —
экспектации. На уровне индивида эта упорядоченная культурой система
ценностей и норм реализуется благодаря организованности мотивов,
которые побуждают его действовать так, как это предписывают
нормативные ожидания, средоточием которых является уровень системы.
Существует, само собой разумеется, обширный набор позитивных и
негативных санкций, которыми поощряется ожидаемое и наказывается
отклоняющееся поведение. Однако принципиально важно то, что
нормативные ожидания бывают интериоризованы в структуре личности,
становясь мотивами действия, определяемого не извне, не страхом наказания
или стремлением к вознаграждению, а собственным, исходящим изнутри
личности, побуждением и желанием.
Примерно по такой же схеме в современном обществе, в котором
наука выступает как один из социальных институтов, упорядочивается и
организуется как взаимодействие между учеными, так и взаимодействие
науки с другими сферами жизни общества. Следует только иметь в виду,
что институционализация науки — это одновременно и результат
происходивших ранее исторических процессов, и длительный, отнюдь еще не
завершившийся процесс наших дней»
В ходе этого процесса, во-первых, формируется социальный институт
науки с присущей ему системой ценностей и норм, и, во-вторых,
в том или ином виде устанавливается соответствие между этой системой
и нормативно-ценностной системой, характерной для общества в целом.
Соответствие это, вообще говоря, никогда не бывает полным, так что
всегда возникают институциональные напряжения и конфликты между
наукой и обществом (которые могут выражаться, например, в том, что
господствующие в обществе ценности делают запретными некоторые
направления исследований, осуществимые с точки зрения имеющегося
научного потенциала). В то же время невозможна ситуация открытых и
непримиримых противоречий между двумя этими системами норм и
ценностей. Социальный институт науки просто не сформируется и не
сможет существовать в таком обществе, фундаментальные ценности
которого несовместимы со специфическими ценностями науки.
3 Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. Под ред. Т. П а р-
с о н с а. М., 1972.
19
Из сказанного следует, что серьезное изменение этих
фундаментальных ценностей общества не может не сказываться и на нормативно-цен-
постных структурах науки (как, впрочем, и любого другого социального
института). Эти структуры также подвергаются изменениям,
направление и характер которых зависят не только от фундаментальных
ценностей общества, но и от ранее сформировавшихся ценностей и норм
науки.
К примеру, в науке западных стран сейчас происходят столь
серьезные изменения этой структуры, что некоторые авторы говорят даже о
деинституциоыализации науки как профессии \ В этой связи можно
было бы упомянуть хотя бы такое явление, как коммерциализация
фундаментальных исследований, характерная для областей знания,
связанных с биотехнологией и биомедицинскими науками. В силу ряда причин
частный бизнес охотно идет на финансирование фундаментальных
исследований в этих сферах, чего не было никогда ранее в его
взаимоотношениях с наукой. (Всякого рода частные фонды, финансирующие
фундаментальную науку, обычно руководствуются
культурно-меценатскими соображениями, поддерживая либо научные исследования как
таковые, либо определенные области науки. В данном же случае речь идет
о финансировании тех направлений исследований, которые обещают
получение прибыли.) Одним из следствий этого оказывается возникновение
институциональных конфликтов в науке. Принятые представления об
академических свободах, необходимых для занятий фундаментальной
наукой, в частности, об определении тематики исследований внутри
научного сообщества, вступают в противоречие с ситуацией, когда
тематика таких исследований задается при существенном влиянии того, кто
вкладывает в них капитал. Серьезным образом изменяется и социальная
роль ученого, который при этом совмещает профессиональную
исследовательскую деятельность с предпринимательством, что в корне
противоречит такой основополагающей ценностной установке фундаментальной
науки, как ориентация на незаинтересованный поиск истины.
Словом, институциональные изменения в науке — явление не
исключительное, скорее наоборот, это нечто вполне обычное. Здесь
надо учитывать то обстоятельство, что наука по историческим меркам —
это довольно молодой социальный институт, к тому же институт, в
качестве одной из ключевых ценностей которого выступает непрерывное
обновление. Нормативной экспектацией и внутренним мотивом
деятельности ученого является создание нового знания, поиск новых проблем и
решений, новых методов. Уже в силу этого институциональные
конфликты между наукой и обществом сами по себе представляются нормой и
пцтому институциональная задача состоит не в том, чтобы не допускать
таких конфликтов, а в создании механизжт, позтшяшщжх их
контролировать, удерживать в определенных рамках. Это, между прочим,
предполагает известную степень гибкости нормативно-ценностных структур
того общества, в котором существует и развивается социальный
институт науки.
Надо отметить также и то особенно важное для нашей темы
обстоятельство, что в большинстве обществ, исключая западноевропейские,
наука не является автохтонным социальным институтом — напротив, ин-
ституционализация науки выступает как одно из последствий и вместе
с тем одна из сторон процесса модернизации. И здесь заложен очень
серьезный источник институциональных конфликтов, можно сказать,
имманентных для существования науки. Эти конфликты всегда актуальны
и, с одной стороны, всегда находят то или иное решение, но, с другой
стороны, это решение никогда не может быть окончательным. Речь идет
4 Вайпгарт П. Социальная оценка науки или деинституционализация науки
как профессии? - Сб.: Социальные показатели в системе научно-технической
политики. М., 1986, с. 394-400.
20
о конфликтах между необходимостью поддержания и укрепления
автономии науки как социального института и необходимостью того, чтобы
наука выполняла некоторый крур социальных функций.
Противоречивость двух этих требований очевидна, но дело осложняется еще и тем,
что сами социальные функции науки исторически расширяются и
осложняются, а значит, не бывают, как правило, четко очерченными.
Вообще говоря, процесс институционализации науки может быть
представлен как процесс формирования такого сообщества, которое
правомочно самостоятельно определять не только стандарты и нормы, но и
направления, тематику, проблематику своей деятельности. Лишь
образование такого сообщества позволяет говорить о создании социального
института науки. Этот институт, однако, должен получать поддержку —
в формах признания (т. е. одобрения со стороны общества смысла
и целей его деятельности), возможностей для пополнения научного
сообщества новыми членами, материального обеспечения и пр. Получение же
поддержки, в свою очередь, обусловлено теми полезными и даже
необходимыми для общества продуктами и результатами, которые способна
предоставить ему наука.
Социальная роль ученого поэтому предполагает как стремление
отстоять и упрочить автономию науки, так и одновременно с этим
создавать то, что требуется обществу. Здесь-то и кроется глубинный
источник конфликта, поскольку проблематичным является решение о том, кто
должен формулировать запросы общества к науке и, главное, определять,
как ученые должны действовать для удовлетворения этих запросов.
Мерой автономии науки в конечном счете можно считать то,
насколько влиятельно научное сообщество в определении курса своих действий
по удовлетворению потребностей общества. Поэтому было бы вполне
естественным полагать, что чем больше научное сообщество позволяет
обществу вмешиваться в вопросы своей внутренней организации, тем
меньше степень его автономии.
Отталкиваясь от изложенного, обратимся теперь непосредственно
к предыстории и истории советской науки. В науке России достаточно
отчетливо обнаружило себя противостояние традиционалистской и
модернистской систем ценностей. В. О. Ключевский выразил это
противостояние через сопоставление науки восточной, греческой или византийской,
влияние которой проводилось православной церковью, и западной науки,
первоначально поддерживавшейся и внедрявшейся государством для
удовлетворения его материальных потребностей, но вышедшей за рамки
этой сферы. (Сам термин «наука» при этом понимается в широком
смысле, не очень-то центрированном вокруг представления о науке как
социальном институте.)
По словам В. О. Ключевского, критика новой, или западной, науки
в России XVII в.— «не старческое охранительное брюзжание на
новизны, а отражение взгляда на науку, коренившегося в самой глубине
древнерусского церковного сознания. Наука и искусство ценились в
древней Руси по их связи с церковью как средства познания слова Божия
и душевного спасения» 5. В противовес этому западные наука и
искусство являлись «как законные потребности человеческого ума и сердца,
как необходимые условия благоустроенного и благообразного общежития,
находившие свое оправдание в себе самих, а не в служении нуждам
церкви... так западная наука, или, говоря более обще, культура,
приходила к нам не покорной служительницей церкви и не подсудимой,
5 Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. Т. III. M., 1988, с. 266.
21
хотя и терпимой ею грешницей, а как бы соперницей или в лучшем
случае сотрудницей церкви в деле устроения людского счастья... Легко
понять, почему знакомство с этой наукой тотчас возбудило в московском
обществе тревожный вопрос: безопасна ли эта наука для правой веры
и благонравия, для вековых устоев национального быта?» 6 Конфликт
двух ценностных систем раскрывается в этих словах с предельной
обнаженностью; в тех или иных формах, как отмечает сам Ключевский, он
воспроизводился и в последующем.
Наша тема не предполагает основательного погружения в глубины
истории. Хотелось бы тем не менее обратить внимание на такое
наблюдение историка. Греческое влияние не захватывает всего человека, не
лишает его ни национальных особенностей, ни самобытности; однако
в своей сфере (в сфере руководства церковно-нравственным бытом
парода) оно захватывало все общество сверху донизу, сообщая ему духовную
цельность. Напротив, западное влияние, проникая во все сферы жизни
и «захватывая всего человека, как личность и как гражданина,...
по крайней мере доселе (т. е. до начала XX в.— Б. Ю.) не успело
захватить всего общества: с такой поглощающей силой оно подействовало
лишь на тонкий, вечно подвижный и тревожный слой, который лежит
на поверхности нашего общества» \
Процесс институционализации науки в России был долгим и крайне
противоречивым, зависимым от размеров и изменчивого социального
статуса этого относительно тонкого слоя. Особенно примечателен в этом
отношении период от начала XX в. до октября 1917 г.
То было время бурного развития науки. Открывались новые
институты и лаборатории, организовывались профессиональные научные
общества, некоторые периферийные города становились новыми центрами науки,
быстро росло количество высших учебных заведений. За период с 1900
по 1917 г. только в Петрограде и Москве было создано свыше 80
научных обществ. К 1917 г. их общее число превысило 300 8. Наряду с
наукой, финансируемой государством, возникают научные и учебные
учреждения, финансируемые местными властями или частным капиталом,
такие, как университет Шанявского или Бестужевские курсы,
появляются лаборатории и конструкторские бюро на некоторых крупных
предприятиях. Общепринятой практикой стала стажировка ученых в ведущих
научных центрах мира. Марк Адаме отмечает экспоненциальный рост
русской научно-технической периодики начиная с 1880 г.9
И хотя, как показывают данные, приводимые П. В. Волобуевым, по
количеству ученых Россия еще отставала от Франции, Англии, Германии
и США, сами темпы роста были внушительными. По словам В. И.
Вернадского, в то время в России наблюдался расцвет научной мысли
и научной культуры. А вот как он же характеризовал эту ситуацию
позже, в 1919 г.: «Нельзя забывать уроки недавнего прошлого, тот подъем
научной работы в России при поддержке государства, который наступил
после поражения 1915 г., шел в 1915-17 годах и привел к крупнейшим
научным и практическим достижениям... Государство должно
воспользоваться этими готовыми научными центрами, должно дать им
разгореться, а не загаснуть»10.
Такой быстрый рост, однако, не мог не вызвать институциональных
напряжений во взаимоотношениях науки с другими социальными
институтами. Государство в общем и целом поддерживало науку: опасения по
6 Т а м ж е, с. 267.
7 Т а м ж е, с. 244.
8 Волобуев П. В. Русская наука накануне Октябрьской революции.™
«Вопросы истории естествознания и техники», 1987, № 3, с. 5.
9 Adams Mark В. Eugenics in Russia 1900-1940. In: The Wellborn Science
Eugenics... N. Y., 1990, p. 153-216.
№
22
10 Вернадский В. И. Довольно крови и страданий.- «Век XX и мир», 1990,
& 1.
поводу вредного политического и идеологического воздействия, которое
несла с собой западная наука, перевешивались осознанием жизненной
необходимости развития науки для обеспечения экономической и военной
мощи страны.
Наиболее известным из числа конфликтов, порождавшихся резким
изменением институционального статуса науки, стало увольнение
значительной части профессоров и преподавателей Московского университета
в 1911 г. Вообще же говоря, рост науки сопровождался и усилением
традиционалистских и антинаучных настроений в различных слоях
общества. Тот мотив, который ранее мы видели у В. О. Ключевского, находит
отражение и в словах П, В. Волобуева, характеризующих ситуацию
перед 1917 г.: «Низкий образовательный и культурный уровень основной
массы населения привел к тому, что культурно-интеллектуальная почва,
равно как и социальная база, на которой вырастала и на которую могла
опираться наука, была необычайно тонка и тем ограничивала
возможности ее развития».
Еще одна институциональная проблема, отмечаемая Волобуевым,
состояла в том, что научный потенциал России превосходил наличную
материально-техническую базу. В результате же высокий теоретический
уровень отечественной научно-технической мысли мало сказывался на
темпах и характере технического прогресса, опережая в ряде случаев
практические потребности производства внутри страны. В такой
ситуации не мог достаточно эффективно действовать один из наиболее
важных каналов институциональной поддержки науки, поскольку в глазах
очень многих занятия наукой выступали как нечто полностью
оторванное от практических нужд и потребностей. Как известно, упреки
подобного рода высказывали в числе других Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров,
которые предлагали собственные и, заметим, идущие извне науки,
интерпретации ее целей и задач.
Все это отражалось и на самосознании ученых. Тот внутренний для
института науки конфликт между стремлением к автономии и
необходимостью удовлетворять общественные потребности, о котором уже
говорилось, в условиях России рассматриваемого периода выражался в
специфических формах. Воспользуемся еще одной цитатой из статьи П. В. Во-
лобуева. По его словам, среди движущих пружин развития русской
науки крупную, неизмеримо большую, чем в странах Запада, роль
играли идейные факторы. Многим русским ученым были присущи
демократические взгляды и передовые общественные идеалы, а науку они
рассматривали как форму общественной деятельности, служения интересам
народа. Отдавая дат> уважения благородству такой позиции, хотелось бы
вместе с тем отметить, что ее принятие серьезно ослабляет установку
на автономию науки, которая бывает особенно актуальной в периоды
институциональных кризисов.
Идея служения народу была весьма отчетливо выражена в
умонастроениях русской интеллигенции вообще и научной интеллигенции в
частности. Это достаточно хорошо известно. Дело, однако, в том, что
сама по себе формула «служение народу» допускает неограниченное
количество разнообразных интерпретаций. А при определении того, каким
конкретно образом должно осуществляться это служение, многие
представители научного сообщества были склонны больше ориентироваться
именно на «передовые общественные идеалы», прислушиваясь к
высказывавшим их идеологам, чем на реальные возможности науки. Быть
может, отчасти и этим, а не только слабостью материальной базы науки
объясняется столь ярко проявляющаяся теоретическая ориентация науки
в России того времени? Ведь крупный прорыв в теории сулит
неисчислимые практические блага сразу для множества людей. Поиск теории,
как мы видим, каким-то незаметным образом сближается с поиском
утопии.
23
Идея служения зачастую выступала в едином комплексе с идеями
изначальной виновности и изначального долга перед «униженными
и оскорбленными», при том, что эта виновность и этот долг могли быть
никак не обусловлены личными действиями того, кто переживал
подобные чувства. В таких условиях посвятившему себя научной деятельности
трудно воспринимать ее как нечто самоценное и самодостаточное.
Принадлежность к партии, к общественному движению оказывается нередко
более личностью значимой, чем профессиональная принадлежность к
науке. Это — на уровне мотивов и ожиданий личности; если же перейти
на институциональный уровень, то здесь обнаруживается, что ценности
служения, общественного предназначения науки вступают в очевидное
противоречие с ценностями автономии и независимости науки и, более
того, первые превалируют над вторыми.
В результате возможность того, что сами по себе честные и
профессиональные занятия наукой могут выступать как форма служения, в том
числе и служения народу,— такая возможность если и не отрицается,
то остается за пределами восприятия. Соответственно не учитывается
достаточно серьезно и возможность того, что автономная наука именно
благодаря тому, что она автономна, в состоянии более эффективно, чем
наука подчиненная, осуществлять это служение,— хотя и не в столь
непосредственных формах.
Итак, в тот период, когда, с одной стороны, система ценностей
общества быстро менялась и дифференцировалась, вплоть до возникновения
в ней непримиримых конфликтов и противоречий, а с другой стороны,
сама наука развивалась ускоренными темпами, социальный институт
науки оказался недостаточно оформленным, так что достигнутая степень
его автономии, степень артикулированности его специфических ценностей
не позволяла сохранять ему свою идентичность перед лицом мощнейших
внешних воздействий. Чем меньше, вообще говоря, эта степень
автономии, тем более ощутимое влияние будут оказывать происходящие в
обществе ценностные трансформации.
Процесс институциоиализации науки в России резко изменяет
направление после октября 1917 г. По инерции движение в сторону инсти-
туционализации еще продолжалось, хотя теперь уже оно поддерживалось
почти исключительно теми, кто действовал внутри научного сообщества,
при отсутствии сколько-нибудь заметных внешних сил поддержки этой
тенденции. Очень скоро, однако, преобладающим стал иной,
противоположно направленный процесс деинституционализации, т. е. разрушения
тех ценностно-нормативных структур, которые сложились ранее в науке
и в ее взаимоотношениях с обществом. Нет нужды подробно говорить
о том, что этот процесс был лишь одним из проявлений всеобъемлющего
сокрушения предшествующего порядка ценностей и стремления
заместить его совершенно новым.
Довольно долго после 17-го года институциональная роль науки
в обществе была неопределенной. Можно, на мой взгляд, выделить
три различные позиции в отношении к этой роли. Первая — позиция
полного неприятия науки, в которой соединялось влияние прежних
традиционалистских представлений и люмпенское отношение к науке:
отождествление ее представителей с праздными правящими классами
прежнего общества и понимание науки в целом как чего-то вроде
«буржуйской выдумки».
Вторая, несколько более умеренная позиция, не отрицала ценности
науки как таковой, но исходила из того, что нужна новая, пролетарская
наука взамен прежней, буржуазной. Эта новая наука не просто должна
24
была служить угнетенным прежде слоям ж классам — она мыслилась
как нх непосредственное дело. Даже отношение к накопленным прежде
массивам научного знания было проблематичным — то ли все эти знания
следует отбросить, то ли какая-то их часть может оказаться полезной
для победившего пролетариата. Во всяком случае, ценность научного
знания могла быть не более чем инструментальной. Такой в общем и целом
была пролеткультовская позиция.
Наконец, третья позиция, наиболее предрасположенная в отношении
пауки,— это политика ее поддержки и порой даже защиты от буйства
люмпенизированных слоев населения, но в обмен на лояльность
научного сообщества по отношению к новому режиму и на сотрудничество
с ним. Преимущественно инструментальное отношение к науке было
характерно и для этой позиции. Материальная поддержка науки и ученых
была весьма ограниченной, видимо, не только в силу скудости ресурсов,
но и по идейным соображениям — ведь ученые как социальная группа
не причислялись ни к новым правящим классам, ни к союзникам этих
классов. Противоречивость, характерная для статуса «буржуазного
спеца», распространялась и на статус ученого, хотя институт комиссарства
применительно к науке формировался много позже.
Взаимодействие трех указанных установок, когда общие ценностно-
нормативные структуры были разрушены и под влиянием локальной
ситуации в тот или иной момент могла возобладать любая из них, и
составляло общесоциальный контекст науки того периода. Поэтому едва ли
можно говорить о наличии какой-либо последовательной линии в
отношении общества к науке.
Необходимо, впрочем, отметить два существенных обстоятельства.
Л. Грэм обращает внимание на то, что роль, которую играли
естественные науки в идеологии русской революции и последующего режима,
представляется наиболее необычной характеристикой этой идеологии.
Другие великие политические революции современности, такие, как
американская, французская и китайская, уделяли некоторое внимание
науке, но ни одна из них не породила столь систематической и долго
живущей идеологии, интересующейся физической и биологической
природой, как это было в случае русской революции. Особо он отмечает,
что все четыре ранних советских лидера — Ленин, Троцкий, Бухарин,
Сталин — интересовались естественными науками и писали статьи,
затрагивающие диапазон знаний gt физики до психологии.
В последнее время по поводу этих фактов, как и по поводу того, что
идеология большевиков всегда претендовала на научную достоверность
и обоснованность, высказываются мнения, что то была лишь риторика,
предназначенная для ведения борьбы за власть. Едва ли такой
прямолинейный подход верен; к тому же он требует специального объяснения
того, почему использовалась именно такая, ориентированная на науку
риторика. Более важно, однако, то, что, пусть хотя бы и декларируемая,
приверженность науке новой идеологии давала в руки научного
сообщества довольно-таки значимый и эффективный культурный ресурс, с
помощью которого можно было отстаивать свое право на существование.
Другое заслуживающее быть отмеченным обстоятельство состоит в
том, что та неполнота автономии науки в обществе, о которой уже
говорилось, возможно, способствовала сохранению науки в то время, когда
рушились сложившиеся ранее нормативно-ценностные структуры. В
самом деле более консолидированное научное сообщество, ориентированное
прежде всего на собственную систему ценностей, в каких-то пределах,
вероятно, смогло бы отстаивать свою независимость, но оно же стало бы
и более 'заметной мишенью для тотальной атаки. Аморфность же его,
напротив, позволяла сохраниться одним элементам и структурам при
гибели других, поскольку в этом случае концентрированное давление на
него было вряд ли возможным.
Коль скоро мы уже перешли к разговору о поведении научного
сообщества в первый послереволюционный период, следует обратить
внимание и на то, что размывание институциональных структур породило,
помимо всего прочего, и один чрэзвьтчайпо яркий эффект. В эти годы
произошел, говоря словами В. И. Вернадского, взрыв научного творчества,
близкого к которому, пожалуй, не было во всей последующей истории
советской науки.
Выдвигалось много новых, поистине революционных идей и
концепций; легко пересекались дисциплинарные границы; в науке в изобилии
появлялись новые яркие имена, направления и школы. (Аналогичный
взрыв творчества в те же годы охватил, как известно, и некоторые
другие области духовной жизни общества.) Продолжался и начавшийся
ранее процесс бурного развития инфраструктуры науки, по крайней
мере некоторых из важнейших составляющих ее. Сравнительно
интенсивными, особенно на фоне последующего, были международные научные
контакты, что позволяло ученым быть в курсе новейших достижений и
тенденций мировой науки, а в ряде областей даже занимать лидирующие
позиции.
В этом разнородном и пестром потоке было, безусловно, много
наносного, несерьезного, а то и просто вздорного. Немало, однако же, было
создано и такого, что стало основой новых продуктивных
исследовательских областей, а также и глубоких идей, весь смысл которых мог
выявиться только десятилетиями позже. В это время раскрылось большое
число в высшей степени одаренных, нестандартно мыслящих
личностей.
Можно назвать целый ряд причин и условий, способствовавших
этому взрыву. Д. А. Александров связывает его с процессами смены
поколений в научном сообществе и, следовательно, с появлением молодых
ученых, которые, выдвигая революционные идеи и подходы, получали
тем самым возможность претендовать на лидерство в научном
сообществе. Вообще говоря, в устойчивом сообществе путь к лидерским
позициям достаточно долог и предполагает углубленную проработку уже
выдвинутых и принятых основополагающих идей и значительную меру
уважения к признанным авторитетам. Устойчивое сообщество бывает не
очень-то склонно поддерживать революционные идеи. И напротив, когда
внутренние структуры сообщества ослаблены, путь к лидерству,
связанный с выдвижением радикально новых концепций, оказывается более
вероятным и приемлемым,
В данный период (примерно по 1927 г.) возможности получения
материальной поддержки для исследований, и ранее не отличавшиеся
чрезмерностью, резко сокращаются. В этих условиях чрезвычайно трудно,
если не невозможно, проводить работы, требующие аппаратуры,
препаратов, лаборантов и пр. Поэтому более открытым оказывается путь чисто
теоретический, не предполагающий особых материальных затрат.
Важным условием, далее, было то, что в этот период еще не успела
сложиться государственно-монополистическая централизованная
организация науки. Существование нескольких независимых друг от друга
органов, финансирующих исследования, обеспечивает возможность как
расширения фронта исследований, так и конкуренцию научных идей.
Ослабление научного сообщества и его нормативно-ценностных
структур сказалось и в том, что в этот период возникло или получило
развитие множество концепций, не имеющих сколько-нибудь жесткой привязки
ни к одной из существовавших научных дисциплин. Устойчивое
сообщество имеет довольно четкое дисциплинарное строение, причем его члены
проводят специальную политику поддержания имеющихся
дисциплинарных рамок, поскольку благодаря дисциплинарному расчленению
организуются и упорядочиваются взаимодействия между учеными. Однако эта
же устойчивости как хорошо известно, бывает и тормозом для одобрения
2G
и последующей разработки принципиально новых идей
междисциплинарного содержания.
Кроме того, ослабление нормативно-ценностных структур делает менее
жесткими и границы, отделяющие науку от не-науки. Критерии, по
которым ученые определяют значимость того или иного результата,
становятся размытыми, а само сообщество — более проницаемо для
аутсайдеров. Иногда они не имеют опыта профессиональной научной работы
(или даже соответствующего образования).
Яркий, хотя далеко не единственный пример тому,— жизненный путь
А. А. Богданова, который отойдя от политической деятельности, занялся
сначала созданием тектологии — всеобщей организационной науки,
выдвинув при этом немало очень нетривиальных идей, которые получили
признание лишь в 60-е годы, с возникновением и развитием системных
исследований и кибернетики. Его фундаментальный труд «Тектология»
был переиздан в 1989 г., что свидетельствует о современности его идей
и сегодня. * В последний период жизни Богданов всецело отдается той
области, в которой он получил образование,— медицине, и здесь поставив
перед собой в высшей степени оригинальную задачу — путем
переливания крови добиться омоложения человеческого организма.
Все это свидетельствует о том, что процесс деинституционализации
науки, происходивший в то время, имел определенную направленность,
если не логику. Идеи нового режима, тогда еще не отлившиеся в
жесткие, догматические формы, были достаточно определенными лишь в
настойчивом отрицании всего старого. Несравненно меньше ясности было
по поводу очертаний и форм того нового, которое предстояло создать.
Возможности творчества — и социального, и научного — представлялись
беспредельными, и это ощущение беспредельности являлось весьма
мощным стимулом для научной работы. В свою очередь* идея служения
народу была переинтерпретирована таким образом, что объектом служения
для многих стал пролетариат (плюс, быть может, беднейшее
крестьянство). Тем самым смысл и предназначение научной деятельности
становились теперь более постигаемыми и одновременно намного легче
реализуемыми. Правила игры, которые предлагались научному сообществу,
вырабатывались в главных своих чертах вовсе не им, по в той или иной
степени представлялись приемлемыми для многих его членов.
Особенно соответствовали новым умонастроениям те области и
направления естествознания, которые так или иначе имели отношение к-
изучению человека. Порой имелось в виду и обновление человека, вплоть
до физического обновления, и даже создание нового человека — и все это
мыслилось как проблемы не отвлеченные, а вполне практические. Этот
пафос в разных модификациях был общим для таких столь далеких друг
от друга направлений, интенсивно развивавшихся в тот период, как
психоанализ и научная организация труда, педология и психотехника,
эргология и евгеника,— и многих других.
Процесс деинституционализации науки по своей длительности,
конечно, не ограничивается периодом с 1917 по 1927 г. Разрушение
основополагающих норм научного этоса продолжалось еще долгие годы. Уже
в этот период, однако, начинают проявляться ростки нового процесса —
вторичной институционализации и дают о себе знать его главные
действующие силы. Этот процесс в конечном счете и привел к созданию
такого специфического образования, как советская наука.
Господствующая система ценностей консолидировалась весьма
быстро, все более глубоко захватывая практически каждую сферу
социального взаимодействия. Каждому социальному институту приходилось
перестраиваться таким образом, чтобы если не полностью согласоваться
с этой системой ценностей, то по крайней мере предотвращать открытые
столкновения с ней. К тому же ужесточался и социальный контроль, так
что действия, которые еще вчера могли выступать как ценностно ней-
27
тральные, сегодня интерпретировались в качестве предосудительных и
даже враждебных. (Если обратиться к истории, то можно напомнить,
что было время, когда цитирование иностранного автора или издания,
хотя бы в целях критики, превратилось в нечто непозволительное.)
Особенно тяжело было подстроиться под этот контроль -такому социальному
институту, как церковь, несмотря даже на то, что ее иерархи прилагали
к тому специальные, порой немалые усилия.
На этом фойе и происходила вторичная институционализация
советской науки Для того чтобы получать институциональную поддержку,
да и просто сохраняться, научное сообщество должно было не только
избегать открытых конфликтов с превалирующей системой ценностей, но
и доказывать необходимость и полезность научной деятельности для
общества, причем в условиях, когда критерии этой полезности
формулировались за его пределами.
* Как представляется, ход и результаты процесса вторичной институ-
ционализации определялись противоречивым взаимодействием трех
нормативно-ценностных комплексов, порой дополнявших друг друга, порой
вступавших в конфликт,— или трех типов институционализированных
установок и ожиданий. Важно иметь в виду, что эти установки и
ожидания не должны персонифицироваться, хотя большая приверженность
какому-либо типу и может обнаруживаться у конкретных членов
научного сообщества. Речь, однако, не идет о противостоянии трех различных
групп ученых. Каждый тип, говоря языком социологии научного знания,
позволяет вырабатывать и использовать определенный внутренне
согласованный набор культурных ресурсов, необходимых дл:я оценки и
признания того, что предлагает тот или иной ученый в качестве полученного
им научного результата.
Прежде всего продолжала сохраняться и частично воспроизводиться,
хотя и с большими трудностями, ориентация на ценности мировой
академической науки Ее поддерживали главным образом те, кто
приобщился к научному сообществу еще в дореволюционное время и
последователи их традиций.
Говоря о трудностях, осложнявших реализацию соответствующих
установок, следует ко всему упомянутому ранее добавить и такое
обстоятельство. Согласно господствующей системе ценностей наша страна
представлялась авангардом всего остального человечества. Такое
мироощущение' накладывалось и на науку, что порождало пренебрежителыю-
пегативиое отношение не только к содержанию, но и к ценностям
мировой науки. В каких-то пределах это мироощущение, поскольку оно
защищало и поощряло самобытность мысли, могло даже способствовать
научному творчеству, разумеется, не гарантируя качество результата.
Однако постепенно, по мере того как советская наука становилась
все более автаркичной, следование собственным критериям, оторванным
от критериев мировой науки, освобождало почву для культивирования
серости, невежества, а порой и откровенного шарлатанства. Положение
усугублялось еще и тем, что во многих отраслях науки складывалось
и нарастало отставание в материально-техническом оснащении
исследований, а быстрый рост числа научных работников и учреждений не
сопровождался соответствующим развитием технической базы науки.
Два других нормативно-ценностных комплекса были тождественны
между собой в негативном отношении к академической науке и ее
традиционным ценностям, но различались по ряду других важных черт. Это,
во-первых, система ценностей «народной науки», которую В. П. Филатов
трактует как накопление и сохранение житейского опыта и. Такая
«народная наука», очевидно, существует во всяком человеческом обществе.
Существует она и в тех обществах, в которых сложился социальный ин-
11 Фи л ат о в В. П. Научное познание и мир человека. М., 1989.
23
статут ^науки. При этом обычно она никоим образом не претендует на
то, чтобы вытеснять академическую науку.
Что касается «народной науки», как она складывалась в нашей
стране, ее устремления были весьма далеко идущими, а связанный с ней
комплекс ценностных установок внес свою лепту в процесс вторичной
институционализащш науки. Здесь можно вспомнить, к примеру,
движение по созданию «хат-лабораторий», возвеличивание в качестве «народ-
пых ученых» И. В. Мичурина и Т. Д, Лысенко и многое другое.
Критерии, которыми руковЪдствуется «народная наука» при оценке
знаний,— это прежде всего понятность (научное знание тем более
качественно, чем более понятным оно может быть для неспециалиста) и
возможность получения, исходя непосредственно из этих знаний, такого
зримого, материального эффекта, который облегчает или делает более
производительным труд рабочего и крестьянина, либо улучшает его быт.
Надо сказать и о том, что система ценностей «народной науки»
подкреплялась традиционным для русского ученого мотивом служения народу и
традиционным же стремлением поддержать, выпестовать талант «из
низов». Вспомним хотя бы о благосклонном отношении Н. И. Вавилова к
первым шагам Т. Д. Лысенко на научном поприще.
Очевидно, институционализация комплекса ценностей «народной
науки» — в той мере, в какой она имела место — препятствовала
стремлению научного сообщества утвердить свою автономию. С точки зрения
«народной науки», скажем, подключение непрофессионалов к дискуссии
по специально-научным вопросам представляется не только естественным,
но и желательным. Результатом этого, впрочем, является размывание
традиционного этоса науки,— как и результатом такой своеобразной
демократизации образования, когда студенты выступали в качестве
идеологических цензоров у собственных профессоров. Вообще следует заметить,
что научные дискуссии — типа, к примеру, знаменитой сессии ВАСХНИЛ
1948 г.— имели смысл не столько в том, чтобы утвердить, обосновать
ту или иную точку зрения (ведь исход их обычно бывал предрешен
заранее), сколько в том, что в их ходе формировались новые и подчас
весьма специфические критерии и стандарты научности, резко отличные
от принятых в мировой науке.
Если обратиться к эволюции ценностей «народной науки», то здесь
прежде всего обращает на себя внимание следующее. После того как
стала осознаваться призрачность упований на скорую победу мировой
революции, наука, как и все общество, начала переходить на рельсы
изоляционизма. Последний же дополнялся, особенно в разгар борьбы с
космополитами, подчеркиванием приоритета, подчас мнимого, отечественной
науки в самых разных областях. Конечно, идея народной науки далеко
не во всем совпадает с так понятой идеей «отечественной науки» —
роднит их прежде всего представление о безусловном лидерстве той и
другой (хотя бы и потенциальном), и представление об их
самодостаточности (которое, заметим, нанесло немалый ущерб советской
культурной политике) Трансформация одного идеала в другой связана, видимо,
с появлением и утверждением новой научной элиты, получившей
специальное образование, с консолидацией и стремлением к автономии
нового научного сообщества, одной из институциональных задач которого
становится определение и поддержание границ между наукой и не-наукой.
В условиях тоталитарного общества главным, если не единственным,
институтом поддержки науки становится государственная власть, и в
первую очередь ее одобрения, а не одобрения рабочих и крестьянских масс,
вынуждено добиваться научное сообщество. В результате культурный
герой-самоучка уходит из реальной жизни в область предания.
Наконец, третьим комплексом ценностей, определявших процесс
вторичной институционализации, были ценности «партийной» (или
«марксистской», «марксистско-ленинской») науки, противопоставляемой науке
29
буржуазной, идеалистической. Он оформляется позже, чем первые два,
хотя соображения о классовости науки высказывались и в первые годы
после революции, и до нее. Для начального периода советской власти,
вообще говоря, не была характерна классовая оценка содержания
естественнонаучных знаний. Как отмечает Л. Грэм, в годы непосредственно
после революции почти никто не считал, что контроль над
интеллектуалами со стороны коммунистической партии должен выводить за пределы
их политической деятельности в область собственно теории. Лидеры
партии не планировали и не предсказывали того, что партия будет одобрять
или поддерживать некоторые внутринаучные точки зрения; все главные
партийные лидеры были принципиально против этой поддержки.
Между тем? однако, ведущие партийные теоретики были
непримиримыми в том, что касалось наук об обществе,— здесь критерии
классовости работали в полную силу. Возможность же распространения этих
критериев сначала на пограничные между общественными и естественными
науками области, например, в психологии или биологии, а затем и далее,
на все естествознание, всегда оставалась открытой.
С конца 20-х — качала 30-х гг. эта возможность все в большей мере
стала превращаться в действительность. Аргумент о классовой —
буржуазной или марксистской, соответственно, реакционной или
прогрессивной, идеалистической или материалистической,— сущности той или иной
естественнонаучной теории становится важным критерием для ее оценки,
принятия или отвержения. Интересно отметить, что после 2-го
Международного конгресса по истории науки (Лондон, 1931), на котором
Б. М. Гессен выступил с докладом «О социально-экономических корнях
механики Ньютона», идеи о классовом содержании естественнонаучного
знания приобр&/ш большую популярность и в западной социологии науки.
Особую изощренность в применении критериев партийности и
классовости демонстрировали Т. Д. Лысенко и И. И. Презент в ходе
дискуссий до генетике в 30-е и 40-е годы, а в конце 40-х — начале 50-х гг.
поиск и ниспровержение буржуазно-идеалистических теорий охватили
многие области науки, вплоть до кибернетики. Конечно, критерии
классовости во всех этих случаях использовались прежде всего
инструментально; тем не менее сам факт столь частого и регулярного обращения к ним
говорит о том, что они включались и в нормативно-ценностные
структуры научного сообщества. В этой связи возникает вопрос: а можно ли
считать такие явления, как лысенковщина, наукой? Во всяком случае,
основной тезис многих критиков лысенковщины — это то, что она была
не наукой, а шарлатанством. Я бы все же ответил на этот вопрос
утвердительно в том смысле, что реальное научное сообщество того времени
с его силами и возможностями было не в состоянии отвергнуть лысен-
ковщину, которая, таким образом, по праву занимает место в истории
советской науки. Эта'наука, какой она была на одной из стадий
процесса вторичной институционализации, не имела достаточно сильного
иммунитета против такого рода инфекций.
Соответствие ценностям «партийной науки» в течение некоторого
времени было более важным для обоснования научных концепций и
результатов, чем соответствие ценностям мировой науки. Особые
преимущества обретала та концепция, по поводу которой удавалось доказать,
что ее содержание непосредственно вытекает из трудов классиков
марксизма-ленинизма. Все это опять-таки объясняется тем, что Основным
социальным институтом, от которого получало поддержку научное
сообщество, была партийно-государственная власть.
В общем и целом комплексу ценностей «партийной науки» не суждена
была долгая жизнь. Интересно, что, как показывает К. О. Россиянинов,
одним из первых критиков этого комплекса был не кто иной, как
И. В. Сталин, вычеркивавший в тексте доклада, подготовленного
Т. Д. Лысенко, термины «буржуазная наука», «буржуазная биология»
и пр. Увы, об этом стало известно лишь недавно. Тогда же действие этих
ценностей не было поколеблено. Научному сообществу пришлось
затратить немало времени и сил для изживания комплекса ценностей
«партийно-классовой науки».
*
Заключая этот анализ, хотелось бы обратить внимание на следующее.
Процесс вторичной институционализации советской науки
представляется к настоящему времени в основном завершенным, поскольку
критерии мировой академической науки ныне практически доминируют во
всех естественных и гуманитарных науках нашей страны. Но этот
процесс оставил определенный след, сказывающийся и на нынешнем
состоянии советской науки. Вторичная институционализация привела к
формированию таких нормативно-ценностных структур, в которых заметное
место занимает установка на самоизоляцию. Нельзя сказать, что она
полностью подавляет противоположную установку на взаимодействие с
мировой наукой, однако под ее влиянием создано немало барьеров, которые
и сегодня препятствуют включению советских ученых в мировое научное
сообщество, что жизненно необходимо для оздоровления нашей науки.
Советская наука, какой она сложилась в ходе вторичной
институционализации, не обладает достаточной автономией для того, чтобы
вырабатывать и проводить собственную политику в реализации социальных
функций науки. Ориентация лишь на один источник поддержки, каковым
является государственная (или партийно-государственная) власть,
не позволяет конституироваться полнокровному научному сообществу.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что недоверие к институтам
государственной власти, бытующее сегодня в нашем обществе, в какой-то
мере распространяется и на науку. Между тем определенный уровень
моральной поддержки науки со стороны общества необходим для нее не
меньше, чем поддержка материально-финансовая. Чем раньше наше
общество это осознает, чем искуснее наука поможет ему в этом осознании,
тем скорее между обществом и наукой будет наконец установлено
полноценное сотрудничество.
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Проблемы целостного мира
От редакции. В № 8 нашего журнала за 199V г. опубликована подборка
материалов по этой широкой теме в рамках дискуссии, проводимой «Вопросами
философии» совместно с журналом «Мировая экономика и международные отношения»,
в данном номере публикуется диалог главных редакторов журналов, в котором
подводятся некоторые предварительные итоги дискуссии, выявляются вопросы,
нуждающиеся в более глубоком осмыслении и дальнейшей разработке.
Г. ДИЛИГЕНСКИЙ. Владислав Александрович, может быть, мы обменяемся
мнениями, о том, что получилось и что не получилось в нашей совместной дискуссии.
Что Вам^ показалось наиболее интересным, какие вопросы остались неясными?
Меня интересует Ваше впечатление и как читателя.
В. ЛЕКТОРСКИЙ. Дискуссия интересная, особенно если учесть, что до сих
пор эту тему под таким углом зрения у нас не обсуждали. Спор идет о
решении взаимосвязанных, но разных проблем.
Одна из них касается специфических путей нашего развития, того факта, что
мы оказались- в силу известных причин - изолированными от мира. И сегодня
перед нашим обществом стоит конкретная задача: как вписаться в мировую
цивилизацию, найти свое достойное место в мире, перестать быть в нем изгоями.
Другая проблема, связанная с первой, но более широкая и масштабная - это
характер тех сдвигов, которые происходят сейчас в мировой цивилизации. Данная
проблема в глобальном плане более важна, хотя для нас, может быть, актуальнее
в практическом смысле первая. И мы иногда, как мне кажется, смешиваем эти
две разного рода проблемы.
В ходе дискуссии в наших журналах опубликованы интересные и очень
разные статьи. Однако я не могу избавиться от ощущения, что многие относящиеся к
теме вопросы мы все еще плохо представляем, что пока выявились только
контуры проблематики, некая общая схема; углубиться же по-настоящему во все
эти проблемы нам еще предстоит. Так что наша дискуссия - только начало.
Г. ДИЛИГЕНСКИЙ. Я согласен с тем, что Вы сказали о двух проблемных
узлах дискуссии. Эмоциональный фон, который на всех нас действует, подталкивал
многих участников дискуссии прежде всего к анализу наших проблем, что
совершенно естественно. Но, очевидно, не менее важен и второй аспект. Приобщение
или включение нашего обдцества в мировую цивилизацию стало у нас своего рода
дежурным лозунгом. Сама же эта мировая цивилизация как бы выносится за
скобки, причем под ней чаще всего неявно понимается западный мир, который
рассматривается как нечто уже вполне завершенное. Между тем динамика
исторического развития не останавливается, идет какой-то цивилизационный процесс.
И поэтому правильно, вероятно, говорить о включении нашего общества в поток
этого цивилизациснного развития.
Так что предложенное Вами членение темы абсолютно оправдано, и я бы
предложил дальнейший разговор построить именно по этим двум магистральным
направлениям. И, может быть, начать с проблемы целостности мира. Ведь если бы
не было потребности глубже осознать эту во многом еще неясную проблему, на-
32
верное, не возникла бы идея проводить дискуссию и она не встретила бы столь
широкий отклик, не вызвала бы интерес у представителей разных научных
дисциплин. А затем мы могли бы перейти к тому, что больше всего привлекало
внимание — к соотношению судеб социализма и мировой цивилизации.
Идея целостности мира в последние годы вошла в наше общественное
сознание очень глубоко. Здесь сказалось влияние нового политического мышления —
у М. С, Горбачева это была одна из ключевых идей. '
Целостность мира, или целостность цивилизационного процесса,
рассматривалась в ходе дискуссии в разных аспектах — как многостороннее и многоуровневое
понятие. Говорилось и о возрастающей целостности мировой экономики, и о
единстве судеб современного мира, и о глобальном характере экологической угрозы,
и о целостности системы международных отношений и т. д. Вообще понимание
целостности как взаимосвязанности судеб, стран и народов, классов и
общественных систем звучит сегодня наиболее отчетливо. В то же время, как можно видеть
из материалов нашей дискуссии, многие исследователи считают возможным
говорить и о каких-то глубинных — экономических социальных, культурных — основах
этой возрастающей целостности.
Я хотел бы обратить Ваше внимание на статью А. Салмина. Это, пожалуй,
единственный автор, который как бы поставил большой знак вопроса по поводу
эйфории вокруг проблемы целостности и подверг сомнению сам этот тезис. Я не
берусь судить, насколько он прав или не прав в своих конкретных суждениях, но
во всяком случае его статья, как мне кажется, показывает, что неправильно было
бы понимать под возрастанием целостности некий совершенно однонаправленный
и однозначный процесс. На самом деле ситуация гораздо сложнее.
Я имею в виду, что, очевидно, есть тенденция к интенсификации
всевозможных региональных и межнациональных связей, что сама система этих связей
приобретает глобальный характер, что есть очень мощные процессы, которые работают
в самых разных сферах в этом направлении. Но есть и контртенденция, например,
явный подъем национализма во многих регионах. С одной стороны, европейское
сообщество идет по пути все более тесного слияния национальных экономик,
политики и т. д. Есть такие процессы и в других регионах. С другой стороны, мы
наблюдаем в экономической области обострение международной конкуренции, мы
видим стремление многих народов, особенно в «третьем», а отчасти и в развитом
мире, к утверждению своей национальной идентичности.
Многие государственные многонациональные образования оказываются вдруг в
критическом положении. Даже в такой, казалось бы, благополучной стране, как
Канада, проблема французского меньшинства становится проблемой существования
единой канадской нации.
Я нарочно взял пример, который кажется наиболее парадоксальным. Если же
обратиться к нашей стране или к Югославии, тем более к таким регионам, как
Ближний Восток, то всюду мы обнаружим те же центробежные процессы наряду с
центростремительными. То есть картина очень сложная и пестрая. Видимо,
настало время попытаться наметить какие-то подходы к анализу соотношения этих
противоположных тенденций. В каком смысле можно в условиях обостряющейся
борьбы этих тенденций говорить все-таки о том, что возрастает целостность мира?
В. ЛЕКТОРСКИЙ. Мне кажется, что рассуждая о целостности мира, которая
все более охватывает человечество, мы иногда смешиваем разные вещи.
Целостность зачастую понимается как принятие всеми членами международного
сообщества определенной общей системы ценностей, то есть как возрастающая
унификация разных регионов Земли, все большая похожесть разных культур, наций, групп
друг на друга. Такого, конечно, нет, более того, такого в принципе быть не может.
В основе развития и функционирования любого жизнеспособного организма лежит
разнообразие. Поэтому в росте разнообразия нет ничего плохого.
И целостность я вижу не в том, что происходит слияние всего в единую
общую массу, а в том, что реально, объективно, независимо от людей, сообществ,
групп идет рост их взаимозависимости. Автономизация и гетерогенность в каком-то
смысле будут даже увеличиваться, распространяясь на отдельные индивиды,
группы, сообщества. Но вместе с тем автономно существующие части во все большей
2 Вопросы философии JSTa 12, 33
мере становятся зависимы друг от друга, потому что действие каждой из них в
возрастающей степени отражается на положении и возможностях действия
остальных частей. Я понимаю рост целостности прежде всего в этом смысле, а не как
усиление похожести или унификации.
Нужно иметь в виду, что автономизация, рост различий, конечно, чреваты
конфликтами, поскольку любое различие при некоторых условиях может
перерасти в конфликт. В связи с этим становление целостности мира, я думаю, не
исключает конфликты. Может быть, их число будет даже увеличиваться.
Другое дело — какого рода эти конфликты.
Тот тип конфликтов, который господствовал до сих пор, объективно становится
все менее вероятным, потому что он ставит под угрозу жизнь всего мирового
сообщества. Вместе с тем какие-то формы конкуренции и какие-то формы конфликтов
просто необходимы. Важно лишь, чтобы были найдены цивилизованные способы их
разрешения.
Поэтому мнение о том, что любые виды борьбы уходят сегодня в прошлое,
представляется мне иллюзорным. Борьба всегда будет. Просто она приобретает
иные формы. Без конкуренции нет развития. Однако не обязательно конкуренция
и борьба должны быть направлены на уничтожение противника.
Нужно еще иметь в виду, что между объективными условиями и их
осознанием может быть некоторый временной разрыв. Поэтому объективная
необходимость становления целостного мира и осознание этой необходимости в реальности
могут не совпадать.
Если рассуждать практически, то по крайней мере в значительной части
регионов Земли в ближайшей перспективе количество конфликтов будет скорее всего
увеличиваться. Это не отменяет тезис о росте целостности. Что касается нашей
страны, то бесконфликтного ближайшего будущего нам ожидать не приходится. Оно
будет даже, может быть, более сложным, чем настоящее. Но нужно найти форму
регулирования этих конфликтов, форму достижения консенсуса в рамках растущей
диверсификации.
Таким образом, рост целостности мира - бесспорный, на мой взгляд, тезис.
Все дело в том, как это понимать.
Г, ДИЛИГЕНСКИЙ. Вы затронули много вопросов. Но мне кажется, главный
тезис, который Вы высказали, состоит в том, что целостность — это прежде всего
взаимозависимость. Это наиболее бесспорная сторона возрастающей целостности.
Причем она легко прослеживается на любых уровнях общественной деятельности.
Возьмем, например, экономику. В сущности, современные производительные
силы, современный уровень экономического развития просто немыслимы без
глобального обмена товарами и капиталами, чего, кстати, не понимают наши
отечественные консерваторы. В частности, привлечение иностранного капитала в страну
кажется им чем-то кошмарным, чуть ли не продажей национальной
независимости. Тут, очевидно, проявляется незнание элементарных вещей: ведь сейчас самые
мощные капиталистические страны — и США, и ведущие европейские государства
наводнены иностранным капиталом. В Париже половина, если не больше, домов на
Елисейских полях принадлежит японцам и арабским шейхам. Любой товар,
который имеет какие-то потребительские преимущества, немедленно становится
доступным и проникает во все поры мирового рынка. Сейчас американцы считают
своей национальной проблемой № 1 японскую, а в последнее время еще и
южнокорейскую конкуренцию. С точки зрения интересов американского производства и
занятых в нем людей это действительно острая проблема. Но, с другой стороны,
американский потребитель, понимая эту проблему, в то же время все чаще и чаще
покупает японский или южнокорейский автомобиль, потому что он дешевле и
лучше. То есть это взаимопроникновение национальных экономик стало в наши
дни неодолимым и естественным процессом.
С точки зрения международно-политической мы не только сознаем, но и
ощущаем на эмоциональном уровне, что любое крупное, особенно кризисное, событие,
которое происходит где-то в мире, касается всех, не ограничивается по своему
значению какими-то локальными и региональными рамками. У нас многие не могут
понять, почему на Западе правящие круги и широкие слои общественности прояв-
34
ляют заинтересованность в успехе перестройки. Кое-кому в этом видятся лишь
желание обратить нас в их веру, подчинить своему влиянию. Такие мотивы могут
иметь место. Но главное не в этом, а в другом; никто не может относиться
безразлично к тому, что происходит в стране, занимающей Ve часть суши. Станет
ли она изолированной частью мира с непонятными процессами и с
непредсказуемыми перспективами или же будет развиваться в общем русле — это имеет
колоссальное значение для всех.
Да и гораздо более локальные, казалось бы, события или явления тоже
вызывают сейчас всеобщий интерес, всеобщую озабоченность. Как только в какой-либо
точке земного шара возникает конфликтная ситуация, практически все мировое
сообщество начинает ею заниматься. И не только потому, что существуют такие
институты, как Организация Объединенных Наций. Под этим всеобщим интересом,
очевидно, лежит глубокое ощущение реальной взаимосвязанности всего, что
происходит на Земле. Процесс интенсификации связей идет давно, но сейчас он достиг
какого-то нового качества, которое нелегко точно определить. Но то, что процесс
идет именно в этом направлении, то есть в направлении роста всесторонней
взаимозависимости, тут я с Вами совершенно согласен.
Но вот что у меня вызывает некоторое сомнение: можно ли ограничиваться в
понимании целостности только или, главным образом, этой стороной дела.
Мы с Вами не расходимся в том, что, во-первых, какой-то абсолютной
целостности не существует, во-вторых, она вряд ли возможна, в-третьих, если бы она
была возможна, то это было бы плохо. С этим я полностью согласен. Но все же
какие-то процессы гомогенизации идут. И они тоже неоднозначны. В них есть и
плохое, и хорошее,
В числе материалов, которые опубликовал Ваш журнал, есть небольшая статья
Э. Араб—Оглы. Чем она привлекла мое внимание? В основу общечеловеческих
ценностей автор кладет европейскую цивилизацию. Для него целостность мира имеет
как бы европейский источник. На первый взгляд это может вызвать упрек в
европоцентризме, в недооценке колоссальных вкладов других цивилизаций в мировую
цивилизацию и т. д.
Не обсуждая отдельные формулировки и выводы статьи, я хочу сказать, что
она напоминает нам об одном важном моменте. Содержание целостности состоит
не только во взаимозависимости, но и в том, что какие-то достижения
цивилизованного развития, которые были осуществлены в силу определенных исторических
причин в тех или иных регионах, в рамках отдельных региональных и
национальных культур, в условиях возрастающей глобальной целостности получают все
более широкое распространение и, в сущности, становятся компонентами этой
целостности.
Но как бы мы ни старались уйти от европоцентризма, все-таки мы не можем
не признать в конце концов, что какие-то основные, имеющие общечеловеческое
значение формы, скажем, демократического, политического устройства, были
выработаны в Западной Европе и теперь получают всеобщее признание.
Мне кажется, что этой стороне целостности уделили мало внимания в ходе
дискуссии. В последние примерно два десятилетия пали многие тоталитарные и
авторитарные режимы в самых разных странах. А альтернатива этим режимам
одна: при всем национальном своеобразии стран процесс всюду идет по пути
принятия парламентской демократии.
По-видимому, мы вступаем в какой-то принципиально новый этап
глобализации гуманистических ценностей. Сейчас мало кто может выступить открыто
против гуманизма. Разумеется, гуманизм — достаточно многообразное понятие.
Например, ренессансный гуманизм, акцентировавший мощь и свободу творческого
человеческого духа, был в определенном смысле элитарным гуманизмом. Главный пафос
современного гуманизма заключается в его универсальности: он адресуется
каждому человеку, провозглашает право каждого на жизнь, благосостояние, свободу и т. д.
Иными словами, это демократический гуманизм.
Буквально на протяжении нескольких десятилетий многие страны и регионы,
которые по своим культурным традициям были далеки от такого рода
гуманистических ценностей в своей общественной практике, приобщились к ним. Вероятно,
35
можно назвать много аспектов глобальной универсализации различных культурных,
политических, институциональных образований, которые в свое время имели только
локальное распространение.
Очень сложны и противоречивы проблемы культурной глобализации. Роковые
ритмы с одинаковым энтузиазмом воспринимаются молодежью независимо от
нации, региона, цвета кожи и т. д. Конечно, массовая культура связана с массовым
потреблением. Престижными являются одни и те же блага, набор их. Об этом
много писали специалисты. Вероятно, и в этой глобализации выражается
целостность мира, и опять же она не характеризуется одной взаимозависимостью,
обладает своим собственным духовным содержанием. С этой точки зрения очень
интересен вопрос, который Вы поставили,— о конфликтности.
Я ведь тоже сказал вначале о тенденциях и контртенденциях. К сожалению,
у нас нет достаточного материала для эмпирически выверенных выводов об их
соотношении. Но мне кажется, что возникает примерно следующая коллизия.
В современном мире стихийно и в широких масштабах идет процесс культурной
и иной гомогенизации. Люди во многих местах эмоционально воспринимают ее как
большую опасность. Они чувствуют, что на их коренной образ жизни и образ
мыслей наступает какая-то мощная сила, и это вызывает реакцию, суть которой -
в защите своей идентичности. Отсюда углубление интереса к прошлому, к
корням и т. д.
Вообще проблема групповой, а также национальной, религиозной, культурной
идентичности, видимо, является сегодня очень острой, и многие движения
фундаменталистского характера связаны с ней.
Думаю, что у нее есть еще более глубокая основа, которая не имеет
отношения к целостности. Это разрушение привычных, укоренившихся
социально-групповых структур, на которых основаны социальные связи людей, реально
переживаемый ими социум, то ощущение своего «мы», которое необходимо каждому
человеку. В силу колоссального социального динамизма, возрастающего во всех
обществах, резкой дестабилизации социальной структуры и нарушения интеграции
личности в группе это ощущение теряется, и люди испытывают вакуум общности: «я»
оказывается в состоянии изоляции, одиночества, лишается своих корней, диахрон-
ных и синхронных психологических связей с человеческим миром.
Мне уже доводилось писать о том, что в принципе эта ситуация создает
стимулы для развития общечеловеческого, родового сознания, но ведь невозможно
ожидать от каждого человека, чтобы он сразу же проникся чувством подобной,
ломающей все национальные, социальные и культурные границы общечеловеческой
общности. У многих реакция другая: стремление оживить, возродить наиболее
элементарные и древние ориентации на свой народ, на свою этническую группу, на
исконную религию.
Мы привыкли думать, что международные и социально-политические
конфликты имеют в основе своей определенные интересы. Видимо, это слишком узкая
точка зрения. Многие конфликты в современном мире зачастую связаны с
какими-то подсознательными, за гранью непосредственных интересов находящимися
мотивами. Сама быстрота процессов, ведущих к резким социально-культурным
изменениям, в том числе унификации, является самостоятельным фактором роста
социальной напряженности, агрессивности.
Происходят вещи, которые с точки зрения рациональной теории интересов
просто невозможны. Вспомним хотя бы ливанскую ситуацию: ведь ее никакими
разумными соображениями объяснить невозможно. Почему возникла
непреодолимая враждебность не только между различными религиозными общинами, но и
между сектами внутри одной и той же религиозной общины? Почему оказалось
невозможно в этой недавно процветающей стране восстановить элементарный
модус вивенди? Конечно, тут вмешиваются и внешние факторы, существует сложный
узел противоречий... Но, видимо, главное в этой ситуации - все же глубинные
социально-психологические моменты, которые мы еще не умеем по-настоящему
анализировать.
Итак, мы с Вами коснулись понятия целостности и, может быть, в какой-то
мере подошли к структурированию этого понятия. Можно выделить те аспекты
36
действительности, в которых эта целостность проявляется больше и, наоборот, те,
где больше проявляется тенденция к автономизации. И наверное, более всего
последнее относится к сфере культуры.
В. ЛЕКТОРСКИЙ. Думаю, что это так.
Я согласен с тем, что Вы сказали, и это не противоречит тому, о чем
говорил я. Дело в том, что если друг с другом взаимодействуют разные компоненты,
они должны иметь что-то общее, иначе это взаимодействие просто невозможно.
Когда я с кем-либо спорю, то без каких-то общих предпосылок, разделяемых
обеими сторонами, наш спор бессмыслен. Если же мы исходим из разных
представлений и разных систем ценностей (тем более ценностей несовместимых), то мы
спорить не сможем, потому что просто друг друга не поймем. Иными словами,
любое взаимодействие предполагает общие предпосылки, хотя бы общий язык как
минимум. И в этом смысле, когда я говорил о росте взаимозависимости, я имел в
виду, что это невозможно без принятия неких универсальных ценностей. Они
должны существовать как основа, как необходимое условие взаимодействия.
Поэтому рост целостности мира, конечно, предполагает также и принятие неких общих
ценностных предпосылок, то есть рост гомогенизации в определенном отношении.
Другой вопрос, что он должен сопровождаться, на мой взгляд, ростом разнообразия.
Процесс гомогенизации связан, как мне кажется, с развитием
научно-технической цивилизации. Это предполагает некую систему ценностей, общую для всех,
кто включается в эту цивилизацию. И когда Вы говорили о ценностях гуманизма,
демократии и т. д., которые были выработаны в рамках европейской цивилизации,
Вы, по-видимому, имели в виду именно это.
Но здесь мы касаемся особой темы. Дело в том, что сложившийся
первоначально в Европе, а потом распространившийся по всему миру тип
научно-технической цивилизации очень много дал для человека, для развития его свободы. Но
вместе с тем он имеет изъяны. Это тип цивилизации, который называют
техногенным.
Не случайно, что сейчас наряду с распространением идеалов свободы,
демократии и гуманизма во всем мире растет интерес и к некоторым другим ценностям,
созданным на пути развития иного типа культур (в частности на Востоке),
накопивших очень интересные и важные знания, выработавших какие-то системы
ценностей, и мы сейчас начинаем их осваивать. Мне кажется, что и в истории русской
культуры были также достижения, которые выводят за границы технологической
цивилизации и которые сейчас представляют интерес как раз в связи со
становлением общей глобальной системы ценностей. Значит, происходит не только
распространение по всему миру европейского типа цивилизации, но и одновременно
освоение пластов культуры, являющихся вкладом других регионов Земли. А это
предполагает взаимодействие разнотипных культур и цивилизаций.
Г. ДИЛИГЕНСКИЙ. Да, Вы незаметно перешли к центральной теме нашего
разговора - к теме цивилизации и цивилизационных сдвигов. Я с Вами совершенно
согласен в том, что современная цивилизация имеет в основе своей динамики
научно-технический прогресс и действительно является техногенной. Техногенна она
не только в том смысле, что техническое развитие выступает как ведущий стимул
эволюции. Не менее важно и то, что само это развитие, то есть
научно-технический прогресс, основанный на нем экономический рост, накопление общественного
богатства, создание и присвоение все более широкого ассортимента всевозможных
благ образуют высшие ценностные принципы этой цивилизации. Причем, как уже
отмечали многие авторы, эти принципы объединяют те общественные системы,
которые мы всегда считали противоположными, антагонистическими,- капитализм и
так называемый реальный социализм.
Но нас, очевидно, должен больше интересовать другой вопрос: исторические
границы этой цивилизации. Мы с Вами, а также большинство участников
дискуссии согласны в том, что мы живем в период резких, быстрых и качественных
цивилизационных сдвигов, возможно, в период рождения новой цивилизации.
И возникает вопрос: что же она такое? Те определения, которые мы имеем,
или очень фрагментарны, или просто бессодержательны. Например, понятие
«постиндустриальное общество» — это одна из попыток определить новую цивилизацию.
37
Но в этом определении как таковом нет ничего, кроме указания на новизну
складывающейся ныне цивилизации, на ее временной параметр (после
«индустриальной»); оно, в сущности, тавтологично. Когда же пытаются раскрыть конкретное
содержание «постиндустриализма», обычно отмечают изменения в количественном
соотношении тех или других сфер экономической деятельности, например,
возрастающую роль сферы услуг и умственного труда. Это действительно важные
изменения, но непонятно, почему именно их следует принимать за главные
характеристики новой цивилизации.
В последнее время много говорят об информационном обществе. Как бы ни
были важны новые типы распространения и новая роль информации, как бы ни
была велика роль компьютеров в современном производстве, очень трудно поверить
и, по-моему, невозможно доказать, что они являются определяющими
характеристиками этой новой цивилизации. Бесспорно, они глубоко затрагивают
определенные сферы человеческой жизни, что-то в ней меняют. Но ведущие принципы той
или иной цивилизации не могут быть определены через компьютеры, информатику
или сферу услуг. Мне кажется, что эти подходы очень типичны для мышления,
свойственного именно техногенной цивилизации. Техника настолько обожествлена,
что любое крупное изменение в обществе и человеке осознается лишь как некая
техническая новация.
Я бы хотел попросить Вас, исходя из материалов этой дискуссии, сказать,
видите ли Вы признаки каких-то интересных подходов, может быть, в самой
зачаточной форме, к пониманию нового качества цивилизации?
В. ЛЕКТОРСКИЙ. Становление нового типа цивилизации, видимо, идет по
разным параметрам, в том числе какую-то роль во всем этом играет переход к
информационному обществу. Но мне кажется, что есть один очень важный момент,
который действительно ставит границы существующему типу технологического
развития. Речь идет о необходимости новых отношений с природой. И я бы связал
новый тип цивилизации именно с этой реальной проблемой, которая имеет
отношение к выживанию человечества. Отсюда следует очень многое, в том числе новое
понимание прогресса, возможные границы развития, новое понимание
взаимоотношений человека и природы и вообще места человека во Вселенной. Иными
словами, становление цивилизации нового типа предполагает глубокие
мировоззренческие сдвиги, которые должны затрагивать массовое сознание.
Второй момент, который мне кажется важным, это рост индивидуализации, то
есть повышение значения индивида, индивидуальной деятельности. Об этом Вы
писали в статьях, опубликованных в рамках нашей дискуссии. Это тоже, по-моему,
относится к фундаментальным цивилизованным сдвигам. И это следовало бы
обсудить.
Г. ДИЛИГЕНСКИЙ. Действительно, техногенная цивилизация основана на
таком взаимоотношении между человеком и природой, при котором природа является
объектом человеческой деятельности, объектом эксплуатации, причем
эксплуатации неограниченной.
Ей присущ тип развития, который можно выразить одним словом - «больше».
Цель состоит в том, чтобы накапливать все больше и больше материальных благ,
богатств и на этой основе решать все человеческие проблемы, в том числе
социальные и пр. Техногенной цивилизации присуще представление, что природа
неисчерпаема именно как объект ее эксплуатации человеком. Понимание глубины
экологического кризиса кладет конец такому представлению. Отсюда идейное и
научно-теоретическое движение последних десятилетий, начатое Римским клубом и
поставившее проблему нового типа экономического роста. И я с Вами согласен, что
это обозначает важную грань цивилизационной революции. При этом речь идет не
только о том, что человечеству надо себя ограничивать, но и о том, как жить в
условиях экономических ограничений. Это перестраивает очень многое в
человеческой жизни, перестраивает (или должно перестроить) систему ценностных
приоритетов, всю систему мотивов человеческой деятельности.
Но хочу отметить вот какой момент. Я не уверен, что человек способен
перестроить основы своего отношения к миру и действительно создать в результате
какую-то новую цивилизацию только под влиянием каких-либо внешних факторов
38
или угроз. Конечно, можно отказаться от войны, поскольку война становится очень
опасной, понять необходимость охраны природной среды. Но вряд ли одни
внешние ограничители могут изменить внутреннюю природу человека, которая
выработана в условиях определенной эпохи. Должны быть какие-то более глубокие
внутренние стимулы.
Вполне возможна ситуация, когда на уровне своих глобальных национальных,
общественных, государственных институтов человечество уже сознаёт значение
проблемы, вырабатывает способы ее решения. Но до корней психики рядового
члена общества все это не доходит, не проникает в глубину его психологии, в его
собственную индивидуальную культуру. И он продолжает, действуя, может
быть, хитрее, осуществлять прежнюю стяжательскую стратегию ограбления и
разрушения природы.
Поэтому я придаю очень большое значение второму моменту, о котором Вы
упомянули,— сдвигам в системе отношений между индивидом и обществом. И с этой
точки зрения мне кажется, что один из основных моментов, который
действительно разрушает основы техногенной цивилизации, это изменения, происходящие в
индивидуальном человеке.
Что я имею в виду? Мы привыкли к определенной системе детерминизма.
В сущности, все ведущие современные школы социальной теории исходят из
представления о том, что конкретный человек детерминирован в своем поведении,
в своих психологических установках теми или иными внешними факторами -
техническими, экономическими, социально-групповыми, культурными. Я думаю, что
подход к детерминации в современных условиях должен быть более диалектичным
и сложным. Это не значит, что я отрицаю колоссальное детерминирующее
влияние, допустим, уровня технико-экономического развития, которое, конечно же,
образует исторические рамки и формы проявления человеческой деятельности.
Однако индивидуализация, о которой я писал в ходе дискуссии, означает
резкое ослабление зависимости человека от определенной социальной среды и
социальной группы, от других внешних или общественных детерминантов. Она означает
гораздо больший уровень автономии индивида, его свободы. Причем речь идет не
о свободе человеческой деятельности как таковой - мы знаем, что для нее
существует масса объективных ограничителей, среди которых в настоящее время
возрастающее значение приобретают ограничители экологические.
Я имею в виду свободу внутреннюю, свободу психологического выбора. Человек
сейчас действительно меньше зависит от системы представлений, норм, идущих от
социума. Я не буду говорить о причинах этого. Они связаны, как я уже отмечал,
и с возрастающей мобильностью, дестабилизацией всей социальной структуры,
и с ростом плюрализма групповых структур, и идущих от них культурных норм.
Они связаны и с рационализацией сознания. Одним словом, человек становится
психологически, интеллектуально менее связанным, более свободным и более
раскованным.
Возможно, что это нарушает или ослабляет как раз решающее звено
привычной нам системы детерминации. Детерминация человеческого поведения не идет
ведь непосредственно от тех или иных материальных моментов. Никто так
никогда не считал. Она идет обязательно через группу, через непосредственный социум,
который человеку сообщает правила и ориентиры поведения. Сейчас это звено
резко ослаблено, и человек в определенном смысле становится как бы
предоставленным самому себе.
Мне кажется, что это обстоятельство как раз и может стать и уже
становится очень важной базовой посылкой цивилизационных сдвигов. И вообще любые
цивилизационные сдвиги являются таковыми лишь постольку, поскольку они
происходят в самом человеке. Можно предположить, что суть нынешних сдвигов в том,
что отныне различного рода социальные, политические, культурные процессы,
совокупность которых образует цивилизационное развитие, в большей мере будут
зависеть от того, что происходит в индивидуальном человеке. Прежде всего от того,
как будут складываться приоритеты его потребностей и мотивов.
Мы признаем, что мотивационная сфера - это ядро человека, личности, что
потребности имеют свойство бесконечно развиваться, умножаться, возвышаться.
39
Исторически эта их эволюция, как известно, детерминировалась независимыми от
личности процессами социального, экономического, культурного развития. Сейчас,
поскольку механизмы детерминации ослаблены, формирование потребностей и
мотивов становится более хаотичным, разнонаправленным, плюралистическим
процессом. Взять, например, проблему трудовой мотивации. Мы привыкли жаловаться,
что с этим дело у нас обстоит очень плохо. Однако та же проблема трудовой
мотивации, хотя и не по аналогичным причинам, довольно остро стоит и в разных
капиталистических обществах. Выясняется, что те стимулы к труду, которые
всегда считались достаточными, теперь работают хуже; возрастающую роль в системе
мотивов трудовой деятельности играет самовыявление личности.
Вы мне можете возразить, что приоритет таких мотивов пока что редкое
явление. Но я должен еказать, что это не совсем так. По крайней мере
американцы - и специалисты, и менеджеры - считают его одной из главных особенностей
современного развития рабочей силы. Опросы показывают, что это массовидное
явление, что возрастает стремление к работе, которая удовлетворяет
психологически, а не только материально. Конечно, здесь сказывается то, что Америка очень
развитая и богатая страна. Но я думаю, что обострение проблемы трудовой
мотивации отражает более глубокое и общее явление, развивающееся в тех или иных
формах в самых разных обществах. Человек - разумеется, не всегда, но довольно
часто — утрачивает четкие нормативные ориентиры, определявшие направленность
его стремлений (например, «я должен упорно работать, чтобы улучшить
материальное положение свое и своей семьи» и т. п.). В результате возникает ситуация
психологического выбора, поиска, который может развиваться в самых разных
направлениях. Но я хочу подчеркнуть основную мысль, которая состоит в том, что
становящаяся ныне цивилизация, возможно, отличается от цивилизаций прошлого
тем, что в центре ее не проблема, как лучше выполнить те законы жизни,
которые уже известны и как бы заранее даны, а в чем состоят эти законы, цели
общества и человека, как жить. И ответ зависит уже не только от объективных
детерминантов, но в растущей мере - от собственно человеческого выбора.
Поэтому я думаю, что существенную особенность новой цивилизации можно
было бы определить примерно так: функционирование и развитие общества уже не
определяется однозначно объективными технологическими,
технико-экономическими и социально-экономическими процессами; по меньшей мере равноправной
детерминирующей силой являются те процессы, которые происходят в человеческом
сознании, в человеческой психике.
Этот вывод не «отменяет» традиционную марксистскую формулу зависимости
сознания от бытия, но констатирует возрастающую роль обратной зависимости, так
сказать, более равноправный характер взаимоотношений между объективными и
субъективными. Думаю, что он подводит к пониманию альтернативности
современного цивилизованного развития, ибо внутренняя свобода индивида предполагает
возможность эволюции цивилизации в самых разных направлениях. Она может
вести, например, к атомизации общества, и этот процесс вполне реален. Когда в
условиях относительного материального благополучия человек имеет возможность
сосредоточиться на своей частной жизни, комфорте, его творческая энергия может
идти по пути изобретения все новых и новых способов самоуслаждения, то есть
создания гедонистической и индивидуалистической цивилизации. Возможен и иной
путь - развитие общества свободных ассоциаций: люди самостоятельно
устанавливают системы своих связей и объединяются добровольно вокруг какой-то
общественной деятельности. В общем, наша эпоха - это действительно время выбора.
В. ЛЕКТОРСКИЙ. Повышение роли индивида, его свободной деятельности —
это действительно проблема, которая встает сейчас практически. Однако, как мне
кажется, рост индивидуализации нельзя противопоставлять тем экологическим
проблемам, о которых я говорил ранее. Эти вещи просто лежат в разных плоскостях.
Ведь любая свободная деятельность исходит из неких систем ценностей, неких
императивов. Но эти императивы могут быть навязаны извне, заданы традицией или
же избраны свободно. Что же касается содержания этих императивов, то переход
от технологической цивилизации к цивилизации иного типа во многом связан с
новым отношением к природе. В то же время я хотел бы сказать, что проблема
40
индивида как свободного существа в теоретической форме в философии
прорабатывалась давно.
Вы сказали, что исторически социология рассматривала человека как существо
детерминированное извне. Но я хочу заметить, что западная философская
традиция была несколько иной. Классическая европейская философия исходила из того,
что человек — автономное, независимое существо, само принимающее решения.
Понимание свободы, которое разрабатывалось в западной философии, как раз и шло
именно в этом русле. Поэтому то понимание человека как индивида, личности,
свободного существа, о котором Вы говорили, как раз традиционно для
европейского философа.
Г. ДИЛИГЕНСКИЙ. Не кажется ли Вам, что сейчас как раз создаются условия
для того, чтобы философский идеал человека как-то сближался с реальной жизнью?
В. ЛЕКТОРСКИЙ. Об этом я как раз и хочу поговорить. Мне представляется,
что было бы неверно думать, что социология, подчеркивавшая детерминированность
поведения человека, описывала реальное положение дел (по крайней мере то,
которое существовало до недавнего времени), а философия, толковавшая о свободной
индивидуальности, просто имела дело с неким мифом. Думаю, что в
действительности все сложнее. Идея человека как автономного и свободного существа не с
неба свалилась, она глубоко укоренена в европейской традиции. Она базируется
на глубинных ценностях европейской культуры, выражает определенный идеал и
вместе с тем определенную реальность.
Детерминированность человеческой деятельности, принадлежность индивида к
тем или иным социальным общностям, его включенность в определенные традиции
и вместе с тем идеал свободной индивидуальности - это две стороны одной и той
же европейской культуры. Между этими двумя сторонами могли возникнуть
напряженные отношения, но важно иметь в виду, что обе они имеют глубокие корни в
реальности. И когда мы говорим сегодня о том, что совершается переход от одного
типа цивилизации к другому, мы не можем отбросить одну часть, а вторую
оставить неизменной. Все должно бььть трансформировано, в том числе и
культивировавшееся в классической философии понимание индивида и его свободы. Потому
что понимание индивида, личности, субъекта и его свободной деятельности,
являющееся в течение долгого времени достоянием европейской философии, имеет при
всем своем гуманизме определенные изъяны. И связано это, как ни странно, с тем
типом культурного и цивилизационного развития, который доминировал в Европе в
течение нескольких столетий.
Этот изъян я вижу в недооценке мысли о том, что индивид, взятый сам по
себе, внутренне неполноценен, что он нуждается для своей реализации в системе
связей с другими. Эти межличностные, межиндивидуальные связи способны быть
разного типа. Я могу оказаться вовлеченным в такую систему межиндивидуальных
связей, когда коллектив диктует мне, как мне жить, но я также могу в результате
свободного выбора прийти к единению с другими людьми. Вот эта проблема
взаимоотношений человека и человека, межличностных связей, межиндивидуальных
коммуникаций в старой европейской философской традиции по существу не
разрабатывалась. Она не могла разрабатываться и в рамках одностороннего
социологического детерминизма, так как если индивид - просто элемент группы, то данной
проблемы тоже не существует. Я считаю, что это новая, современная проблема.
И потому для меня проблема выбора, проблема индивидуализации связана с
проблемой коммуникации, взаимопонимания между индивидами.
Поэтому, с моей точки зрения, переход к цивилизации нового типа означает
переход к нового типа сообществам, где каждый индивид свободен, но вместе с тем
каждый нуждается в других.
И здесь мы опять выходим на проблему взаимозависимости, о которой я уже
говорил: индивидуальная свобода не отвергает мои связи с другими, а, наоборот,
необходимо их предполагает. А когда этого нет, когда индивид сам по себе — это
все-таки патологическая ситуация, которая закрывает пути развития культуры и
общества.
Осознание этого факта сегодня характерно' для многих областей философии.
Возьму для иллюстрации философию науки. Классическая традиция в этой дисцип-
41
лине исходила из следующего: для того чтобы понять, как происходит научное
познание, достаточно рассмотреть деятельность отдельного ученого в процессе
собирания им фактов, выдвижения гипотез, конструирования теорий и т. д. Сегодня
становится все более очевидным, что нельзя ничего понять в реальном процессе
научного познания, если не принимать во внимание деятельность научных сообществ,
отношения индивидов в рамках этих сообществ, отношения между разными
сообществами и т. д.
Между прочим, возникновение нового типа сообществ ставит новые проблемы,
с которыми не имела дела старая философская и социальная мысль, вроде вопроса
о коллективной ответственности в деятельности такого рода сообществ.
Г. ДЙЛИГЕНСКИЙ. Как раз научное сообщество - это идущая с далеких
времен оптимальная «модель», если угодно, наиболее перспективного и вероятного на
предстоящем этапе цивилизационного развития типа человеческих связей.
В. ЛЕКТОРСКИЙ. А вообще было бы хорошо сравнить такие явления. Пока все
это высказано лишь в форме общей идеи.
Г. ДЙЛИГЕНСКИЙ. Я хотел бы сделать чисто практический вывод из того,
что мы с Вами говорили'до сих пор. Вероятно, очень важно сейчас во все сферы
общественного знания — экономическую науку, историю, социологию - органически
включить проблемы человека как индивида с его внутренним миром. Потому что
этот внутренний мир превращается теперь в один из важнейших и ведущих
компонентов всего общественно-исторического развития.
Что касается второй проблемы, о которой Вы сказали в начале нашего
разговора,— проблемы специфических путей развития нашей страны, то теоретически она
была сформулирована в ходе нашей дискуссии как соотношение формации и
цивилизации, а у некоторых участников — как дилемма: формация или цивилизация.
Проблема эта непосредственно связана с волнующей наше общество темой судеб
социализма, с самим содержанием и смыслом понятия «социализм», с его
правомерностью и адекватностью.
Некоторые из участников дискуссии в общем исходят из наиболее
распространенной и принятой у нас концепции социализма как особой общественной системы,
которая должна сохраниться и обновиться. Но в ходе дискуссии была
сформулирована и другая, альтернативная парадигма, которая исходит из того, что сам
принцип определения какой-то целостной общественной действительности через понятие
формации в современных условиях перестает работать.
Этот тезис может вызвать возражения идеологического порядка, но мы сейчас
об этом просто не должны думать, потому что главное - все-таки истина. И мне
кажется, что для этого вывода, который пока еще мало разработан теоретически,
есть очень серьезные основания.
Какие? Прежде всего отсутствие в реальной истории «эмпирического»
социализма. То состояние общества, которое мы связываем с командно-административной
системой, тоталитаризмом, не может быть, мне кажется, определено как социализм,
ибо оно не соответствует гуманистической сути социалистической идеи.
Социализм - это, конечно же, гуманизм, иначе понятие просто теряет смысл.
В. ЛЕКТОРСКИЙ. Вы знаете, что есть такая точка зрения: где существует
общественная собственность, там обязательно есть социализм, хотя формы этого
социализма могут быть различными, в том числе и бюрократическими,
тоталитарными и т. д.
Г. ДЙЛИГЕНСКИЙ. Да, такая позиция есть, и она-то как раз и связана с
формационным подходом. Но мы же знаем, что наше общество - это результат
эксперимента по конструированию альтернативы капитализму. Альтернатива
капитализму действительно получилась - и то, что это не капитализм, совершенно
очевидно, но ведь и не прогрессивная по сравнению с ним формация, а скорее
какая-то искаженная и тупиковая разновидность техногенной цивилизации,
несостоятельная попытка осуществить ускоренный технико-экономический прогресс на
основе тотального огосударствления экономики.
А что представляет собой общество, которое мы называем капиталистическим?
Оно, несомненно, капиталистическое на уровне экономики — на этом уровне
функционируют все компоненты капитализма. Но когда мы переходим на уровень поли-
42
тики и политической системы, социальных целей и приоритетов, духовной жизни
общества, словом, всего того, что, по марксистской терминологии, относится к
надстройке,— сведение всех этих сфер общественной действительности к обобщающим
понятиям «капитализм», «капиталистическая формация» оказывается практически
невозможным. Скорее мы видим общество, как бы сложенное из двух половин, из
двух частей, которые, конечно, взаимосвязаны, но взаимосвязь эта осуществляется
на основе компромисса, взаимной притирки законов капиталистической экономики
и противостоящих им, либо не совпадающих с ними социальных интересов. На
надстроечном уровне, в условиях плюралистической демократии невозможно не
учитывать социальные интересы всех более или менее крупных групп общества.
Поэтому «надстройка» не может обслуживать интересы только буржуазии,
принципы капитализма.
Компромисс, взаимная притирка экономической, в основе своей
капиталистической, и социально-политической (а также культурной) сфер, разумеется,
предполагает их взаимовлияние. С одной стороны, общество широко учитывает
интересы и законы функционирования капиталистической предпринимательской
деятельности, эти интересы оказывают определенное влияние на политику, культуру и т. д.
Но, с другой стороны, социально-политические императивы, отражающие интересы
массовых слоев общества, воздействуют на экономику, влияют на систему ее
государственного регулирования, обусловливают перераспределение добытых ею благ в
соответствии с принципами социальной справедливости, ограничивают власть,
политическое и идеологическое влияние буржуазии. Словом, в современном западном
обществе базис вопреки традиционному марксистскому представлению не
определяет надстройку. В этом его отличие от капитализма первой половины XIX века,
который описывал Маркс. Тогда буржуазия и ее интересы действительно
господствовали и в политике, и в других сферах общественной жизни. Но ведь тезис об
определении надстройки базисом - это краеугольный камень концепции социально-
экономической формации.
Историческое развитие сильно изменило структуру, принципы и механизмы
функционирования обществ, которые мы привычно определяем как
капиталистические. Причем здесь в немалой мере сказалось влияние социалистической идеи и
попыток ее реализации в реформистских рамках. Поэтому принцип определения
сути, типа общества, исходя из преобладающей в нем формы собственности,
оказался в конечном счете несостоятельным. Еще более явно его несостоятельность
обнаруживается попытками классифицировать по формационному принципу
общества «третьего мира». Это неизбежно ведет к теоретическому тупику. Думаю, что
столь же бесперспективны основанные на том же принципе идеологические споры
по проблемам развития нашего общества.
В. ЛЕКТОРСКИЙ. Все, что вы рассказали, важно в высшей степени. Но у меня
возникает вопрос: если сейчас формационный подход оказывается явно
недостаточным для объяснения современного мира, то может быть, он вообще не способен
помочь нам разобраться в той истории, которая до сих пор протекала?
Г. ДИЛИГЕНСКИЙ. Формационный подход адекватен совершенно определенной
эпохе - смены феодализма капитализмом. К тому же, как подчеркивал К. Маркс,
он основан на опыте только европейской истории — не случайно же
основоположник исторического материализма писал об азиатском способе производства.
Достаточно спорно и определение сути античного общества как рабовладельческого.
В. ЛЕКТОРСКИЙ. Мы обычно исходим из того, что тезис о всеопределяющей
роли экономики в любом обществе выражает суть марксистского подхода к
истории. Но ведь Маркса можно понять и иначе: тот строй, где экономика определяет
все и вся, как раз не гуманен, ущербен и отражает отчуждение продуктов
человеческой деятельности от человека. Таким строем для Маркса был капитализм. Но
именно поэтому Маркс и критиковал капитализм.
Г. ДИЛИГЕНСКИЙ. Очевидно, можно заключить, что наша дискуссия сделала
один из первых шагов в верном направлении - к раскрытию целостности мира и
общественного развития через более сложную, более разнообразную гамму
подходов и категорий, чем это было до сих пор. Видимо, нам предстоит большая
работа по выявлению этих подходов и категорий, их взаимоотношений*
43
Общественная наука и практика
В. Ж. КЕЛЛЕ, М. Я, КОВАЛЬЗОН
Перестройка принесла с собой новый взгляд на вещи. Многое, что считалось
важным, оказывается пустым и ненужным хламом. Катастрофически
обесцениваются прежние знания о нашем обществе, превращаясь в миф и, напротив, то, что
отбрасывалось и даже проклиналось, становится жизненно необходимым. Судьба
А. Д. Сахарова является символом этого поворота. Каковы же
идейно-теоретические основы происходящих изменений? Ясно, что здесь не может быть единой
точки зрения. Многие склонны рассматривать перемены как выражение краха
социализма. Мы считаем, что исходную идею перестройки следует искать в отказе не от
социализма, а от отождествления социализма с командно-административной
системой. Строй, который преподносился официальной идеологией как воплощение
идеалов социализма, на поверку оказался отчужденной от народа и подавляющей
личность авторитарно-бюрократической системой. Критика этой системы и ее демон*
таж обусловлены в первую очередь тем, что она привела к отчуждению от народа
собственности и власти, обнаружила свою неспособность решать экономические и
социальные проблемы на современном уровне и завела страну в тупик: при
наличии огромных природных богатств и мощной экономики общество не может в
течение многих лет решить элементарную продовольственную' проблему и насытить
рынок товарами массового спроса. В результате по многим показателям
жизненного уровня страна оказалась позади развитых капиталистических государств, не
говоря уже об отставании в области новейших технологий.
Но дело не только в экономике. Провозглашая лозунг «Все для блага
человека», командно-административная система на практике проявила бюрократическое
пренебрежение к нуждам реального конкретного человека, который жил с
сознанием своего бессилия перед лицом мощной партийно-государственной машины и был
в действительности лишен многих свобод, записанных в Конституции. Командная
система, провозглашая свою верность «социалистической демократии», на деле
отстранила народ от участия в подготовке и принятии жизненно важных для
общества решений. Негативные последствия этого лицемерия глубоко проникли в тело
общества.
Во внешнеполитическом плане мирное сосуществование капиталистических и
социалистических государств в общем свелось к «равновесию страха», что не
только вызывало огромные, истощающие страну военные расходы, но и вообще в
условиях насыщенности военных арсеналов ядерным оружием стало опасным
анахронизмом.
Идейным основанием этой системы был догматизированный марксизм-ленинизм.
Система приспосабливала к своим потребностям также общественные науки.
Отказ от командно-административного социализма предполагает критику
догматизма и выработку новых подходов к проблеме взаимоотношения общественной
науки и общественной жизни, амея з виду, что перестройка не просто нуждается
в социальном знании, а во много раз увеличивает ценность этого знания. Все это
требует обсуждения возникающих теоретико-методологических проблем,
критического анализа состояния обществознания, осмысления тех изменений, которые
44
происходят как в самих общественных науках, так и в их положении в обществе.
По этим вопросам уже имеется некоторая литература. Мы также хотели бы
высказаться по ряду возникших в этой области проблем, преимущественно
касающихся не конкретной проблематики различных общественных наук, а
обществознания, взятого в целом. Возможность такого подхода обусловлена тем, что при всех
различиях между историей, политической экономией, социологией и другими
конкретными науками, существуют и объединяющие их общие для них вопросы и
задачи. Наука - часть общества, и потому мы исходили из того, что развитие и тем
более практическое применение общественных наук должны быть поняты в
первую очередь как социальные проблемы. В методологической значимости именно
такого подхода убеждает история советского периода, когда власть формировала
общественную науку по своему образу и подобию, как средство своего укрепления.
Командно-административная система и
общественная наука
Традицией марксизма является признание высокого значения научной теории
для практической деятельности. И нельзя игнорировать уроки первой в истории
попытки построить общество «на основе науки». Видимо, во многом по-новому —
в свете имеющегося опыта — должен решаться вопрос о том, что значит
руководствоваться данными науки в социальной практике. Надо понять также, как и
почему трансформировалась марксистская традиция в области обществознания и во
что она реально превратилась.
В соответствии с этой традицией в философской литературе предшествующего
периода в основном рассматривался вопрос о социальных функциях и роли
общественных наук. Хотя уже тогда многим было ясно, что в действительности
общественные науки никакой существенной роли не играют и используются
преимущественно как средство пропаганды, против тезиса о их возрастающей роли никто не
возражал. Чаще всего эта идея служила апологетическим целям, но иногда ее
отстаивание было способом - хотя и весьма робким - выражения критического
отношения к реальности и выражения надежды, что «научное управление» станет
нреградой против субъективизма. Иносказание, подтекст были подчас единственно
возможными способами публичного выражения несогласия с официальными
установками. Поэтому издательским редакторам свыше вменялось в обязанность
устранение всякого подтекста.
Лишь перестройка, гласность создают условия для выяснения того, как же в
действительности осуществлялись социальные функции общественной науки.
Конечно, объективная история марксистской общественной науки еще не написана.
Здесь предстоит большая работа. Но основные тенденции во взаимоотношении
социальной науки и общества вырисовываются уже сейчас достаточно отчетливо.
После Октябрьской революции началась борьба за постепенное подведение под
все общественные науки марксистского теоретико-методологического фундамента.
Процесс этот был весьма сложным и противоречивым, сопровождался большими
интеллектуальными потерями и различными крайностями. На нем сказывались и
политическая обстановка, и недостаток общей культуры, и примитивная
трактовка самого марксизма. Но сама постановка этого вопроса отвечала духу времени,
рассматривалась в контексте превращения марксизма в господствующую
идеологию.
Однако в конце 20-х годов многоликий идейно-теоретический процесс
становления марксистского обществознания был прерван. Вплоть до середины 50-х годов над
общественной наукой довлели жесткие идеологические установки сталинизма, во
многом деформировавшие марксистскую методологию. Кроме того, как и все другие
сферы деятельности, общественные науки понесли в это время большие
человеческие потери. Загубленные жизни, прерванная частично или навсегда творческая
деятельность талантливых ученых, тотальный идеологический контроль за
издательской и преподавательской деятельностью, суровые кары за отступление от
официальных «апробированных» положений или неосторожно сказанное слово ... Все это
создавало напряженную атмосферу страха, формировало ненормальные отношения
45
в научном сообществе, благоприятствовало появлению карьеристов, демагогов,
полузнаек, спекулировавших на «принципе партийности» и выискивавших в работах
своих коллег различного рода крамолу. Научная полемика часто завершалась
политическими обвинениями, наклеиванием различных ярлыков. А в тех условиях
следствием таких обвинений мог быть арест.
Конечно, такая обстановка не способствовала развитию творческой активности.
Скованность мысли, догматизм, внутренняя цензура снижали творческий
потенциал талантливых ученых и были одновременно питательной средой для
выдвижения серости и посредственности. Все это имело для общественных наук далеко
идущие последствия, нанесло огромный ущерб их развитию. И буквально героизмом
было то, что в различных общественных науках находились люди, стремившиеся
поддержать в своей области должный уровень науки.
И еще характерный штрих доперестроечного времени - противоречие между
словесными призывами к разработке актуальных проблем и созданием условий,
делающих практически невозможным их реализацию, поскольку исследование
социальной реальности было сильно затруднено ликвидацией наук, имеющих дело с
социальными фактами, таких, например, как социология, демография, социальная
психология и т. п. Отрицательно влияли также закрытость статистики и архивов,
жесткий идеологический контроль. Вместо объективного научного исследования
реальности подбирались факты, призванные «подтверждать» правильность теории и
политики. Ученых заставляли подгонять действительность под заранее
заготовленные идеологические схемы. Получалось, что исходным пунктом была не реальность,
а идея, модель будущего, которую следует воплощать в действительность. К чему
это привело, хорошо известно. Что же касается самой науки, то подобное
понимание ее роли приводило к искажению ее познавательной функции, к выдвижению
на первый план пропагандистски-апологетических задач. От науки требовалось не
объективное знание «социалистической действительности» и ее истории, а ее
представление в таком виде, в каком это считалось «нужным» на основе тех или иных
политических соображений. Это подрывало сами основы социально-научного
мышления, вело к подмене науки мифологией, набрасывающей, пользуясь выражением
К. Маркса, «покров на существующее положение вещей».
Но есть и другая сторона проблемы. Как известно, для науки существенно
гносеологическое разграничение эмпирического и теоретического уровней познания.
Вульгаризация науки и подмена научных знаний, призванных отражать глубинные
основы происходящих в обществе процессов, обыденными и идеологическими
представлениями начинается там, где поверхностное описание реальности выдается за
ее сущностную характеристику, возводится в ранг объективной закономерности.
К сожалению, некоторые авторы именно в этом ключе писали о социализме,
стирая всякую грань между обыденным сознанием и наукой. К. Маркс
проанализировал это явление, вскрывая корни вульгарной политэкономии. Анализ Маркса в
определенной мере применим к такого рода вульгаризации общественной науки в
условиях командно-административной системы.
К этому следует добавить, что даже сам марксистский принцип единства
теории и практики оказался серьезным тормозом на пути развития общественных
наук: раз наука связана с социальной практикой, значит ее выводы должны быть
непременно «правильными», иначе она нанесет ущерб практике. Такая установка
прямо и непосредственно служила оправданию административного давления на
науку, тормозила исследовательский поиск, препятствовала выдвижению и
обсуждению гипотез, т. е. фактически оказалась направленной против свободы научного
творчества, критического отношения к самой практике. Следовательно, догматизация
принципа единства теории и практики превратила его в средство торможения
социального познания. Наука, не участвующая в выработке принимаемых решений,
наука, которую оберегают, чтобы она не преступила меру дозволенного, наука,
проповедующая навязанные ей догмы и шаблоны, успешно выполнять
социально-критическую функцию просто не в состоянии. И любые призывы усилить влияние
науки повиснут в воздухе до тех пор, пока не изменится само отношение
общества к науке, а соответственно и положение науки в обществе, ее социальный
статус.
46
Вместе с тем в течение многих десятилетий обществоведы жили с постоянным
чувством вины перед партией и народом за то, что они что-то недодали,
оторвались от практики, от жизни, занимаются схоластикой и т. п. Их критиковали с
высоких трибун за подобные грехи. Но сейчас видно, что это была лицемерная
критика. На самом деле командно-административная система сформировала ту
общественную науку, какая ей была нужна, и между практикой этой системы и этой
общественной наукой было полное единство.
К. Маркс в свое время писал, что бюрократия превращает государственные дела
в канцелярские, а канцелярские — в государственные. В этих метаморфозах нет
места науке. Бюрократ действует по законам иерархии власти, а не в соответствии
с реальностью, Поэтому истина для него ничего не значит, а наука как источник
объективного знания не является ценностью. Идущие от имени науки
практические рекомендации представляются ему посягательством на его прерогативы,
недопустимым вмешательством в сферу его компетенции. Противоречие между
официальной установкой и реальным отношением бюрократии к науке разрешается
отнюдь не в пользу последней. Бюрократическая система в нашем обществе имела
достаточно возможностей и средств, чтобы адаптировать науку к своим
потребностям. Превращение канцелярского дела в государственное в данном случае состоит
в использовании авторитета науки для «обоснования» уже принятых волевых
решений. Именно в этой форме бюрократическая практика принимает науку, и
утверждается то мнимое единство науки и практики, о котором мы говорили.
В психологическом плане эта ситуация является развращающей. Расцветает
антиинтеллектуализм, пренебрежение теорией, наукой. «Люди дела», чиновники
смотрят высокомерно на «мудрствующих» ученых, возникает иногда даже циничное
отношение к теории как средству пропаганды, нужной для широких масс, но не для
«посвященных».
В плане же гносеологическом по мере укрепления сталинской диктатуры
происходила утопизация и мифологизация господствующей идеологии, которую лишь по
форме, по ее словесному обрамлению можно считать марксистской. Но дух и смысл
марксизма из нее исчезают.
Действительно, Сталин, говоря о творческом марксизме, сам превращал его в
систему догм. Он писал, что историю нельзя ни улучшать, ни ухудшать, но до
неузнаваемости исказил всю историю страны и партии, превратив ее в средство
возвеличения собственной личности. Он заявлял, что краеугольный камень
марксизма - массы, "но делал все, чтобы лишить массы возможности проявления
инициативы. Марксистская диалектика отнюдь не стала препятствием для
заскорузло консервативного, подозрительного отношения ко всему новому. Он одному
себе из всех живущих присвоил право «развивать марксизм», превратил себя в
живого классика, а всех обществоведов низвел до уровня комментаторов своих
великих трудов.
Из сталинского марксизма-ленинизма были исключены темы человека, личности,
гуманизма, зато абсолютизирована классовая борьба, что было иезуитски
использовано для оправдания массовых репрессий против народа. Развитие общественной
науки в СССР было оторвано от ее развития в остальном мире. Советский
массовый читатель мог познакомиться с тем, что делается за рубежом в области
философии, политической экономии, социологии и других наук только через
критические работы, наполненные ярлыками и пустой руганью, написанные людьми
малосведущими, а иногда и недобросовестными.
Примитивизация марксистской философии, бесплодные попытки создания
политэкономии социализма, деформированная установками Вышинского юридическая
наука, во многом искаженная история и т. п.— такое наследие в области общество-
знания оставила после себя эпоха сталинизма.
XX съезд КПСС развенчал культ Сталина, но оставил в неприкосновенности
созданную им систему, устранив лишь некоторые ее самые бесчеловечные
крайности.
После краткой «оттепели» начался длительный период застоя, ресталинизации,
затормозившей развитие общества и общественной науки и воспроизводившей в
несколько смягченной форме ту модель взаимоотношения общественной науки и вла-
47
сти, которая сформировалась в условиях сталинизма. Разрыв между словом и
делом типичен и для этого времени. С одной стороны, принимались решения об
усилении роли общественных наук в коммунистическом строительстве, официально
восстанавливалась в правах эмпирическая социология (она перестала
называться - «буржуазной наукой»), признавалась необходимость «соединения достижений
НТР с преимуществами социализма», а с другой - от науки опять потребовалась
апологетика, социология вызывала подозрение, тормозилось развитие конкретных
исследований, ставились преграды социологическому образованию и т. д. Волнами
накатывались на различные общественные науки административно-идеологические
проработки. Чтобы держать в узде общественные науки, к руководству научными
подразделениями привлекались не блещущие талантами люди. Наука осталась
невостребованной, она не получила необходимых стимулов для своего развития и
применения. Застой в обществе отразился и на общественной науке.
Вместе с тем мы бы не хотели, чтобы нас поняли в том смысле, что все дело
в злокозненных бюрократах, специально занимающихся различного рода интригами
против науки. В жизни все и проще, и сложнее: проще, поскольку практика
управления ничего для себя от науки и не ожидала, не была ориентирована на
применение науки; сложнее, ибо здесь мы сталкиваемся со старой, можно сказать,—
старой как мир — коллизией между наукой, отражающей сущность, и
непосредственным восприятием, фиксирующим явления. Поверхностные, основанные на
здравом смысле высказывания обладают немалой притягательной силой, ибо создают
видимость соответствия непосредственной действительности, реальным интересам
сегодняшней практики. Научные же истины всегда парадоксальны, если к ним
подходить с меркой повседневного опыта. Особенно опасны так называемые
«рациональные доводы», исходящие из такого опыта, скажем, попытки обосновать
«хозяйственное» использование Байкала, поворот на юг северных рек, строительство
огромных ирригационных систем и т. п. Даже технически они оказывались
обоснованными поверхностно, ибо не учитывали широкие экологические и
социально-гуманитарные последствия их реализации.
Наука выделяет сущность, так сказать, в «чистом» виде. Поэтому положения
науки не совпадают с непосредственной видимостью. Только правильный учет
посредствующих звеньев, видоизменяющих проявление сущности и придающих ей
конкретный вид, обеспечивает действительную возможность использования научных
знаний в практической деятельности.
Чтобы была обеспечена необходимая связь науки и практики, требуется
наличие по крайней мере трех основных моментов: готовности практиков использовать
науку, ее рекомендации, просто способности ее воспринять; готовности науки —
в смысле уровня теоретической разработки проблем и способности к выработке
эффективных практических рекомендаций - служить практике, быть для нее
полезной; существования механизма взаимодействия науки и практики, активно
действующих (а не перекрытых) каналов, по которым идут потоки информации в
обоих направлениях и реализуются взаимные требования.
Несмотря на все трудности и проблемы, несмотря на то, что постепенно угасал
импульс к развитию общественных наук, данный в 50-е годы критикой культа
личности, во многих отраслях обществознания и в развитии философской мысли
ныне достигнуты известные результаты. Но, пожалуй, в наименьшей степени это
можно сказать об изучении советского общества, что и послужило причиной всем
известного и достаточно горького вывода: мы плохо знаем общество, в котором
живем. И все же сейчас сложилась качественно новая обстановка для всей системы
обществознания прежде всего потому, что пришла в движение общественная жизнь,
начались революционные изменения практически во всех сферах общественной
жизни, направленные на устранение авторитарно-бюрократических структур,
утверждение демократии и гласности; В этих условиях возникла общественная
потребность в науке, практическом использовании ее потенциала. Ум, глубокие
знания, компетентность, творческие способности — все, чем раньше пренебрегали,
бездумно и преступно разбазаривая интеллектуальное богатство страны, резко выросло
в цене. Невостребованная ранее общественная наука вдруг обрела практическую
значимость. Она ныне призвана активно участвовать в преобразовании производ-
48
ственных отношений, где утверждаются многообразные формы собственности и
предстоит переход к рыночным отношениям, в развитии демократии, создании
правового государства, в повышении уровня культуры, духовной жизни, в обеспечении
движения к гуманному, демократическому социализму. В связи с этими
процессами и в обществе, и в самой науке происходят глубокие мировоззренческие сдвиги,
переосмысление прошлой истории, переоценка ценностей.
Наука и практика: механизмы взаимодействия
Чтобы происходящий в нашей жизни перелом благотворно отразился на
системе обществознания, необходимо четко представлять, в каком направлении следует
осуществлять перестройку в области общественных наук. Ясно, что
ориентироваться надо не на умозрительные построения, а искать ответы в имеющемся
историческом опыте. Особое значение в этом отношении имеет, на наш взгляд, опыт
ленинского обобщения реальных проблем. Важен также исторический опыт развития
естествознания.
В феврале 1921 года, возмущенный абстрактными и бесплодными разговорами
«о едином хозяйственном плане», Ленин написал статью под таким названием.
Против чего выступает в ней Ленин, что защищает и разъясняет? Он критикует
«пустейшее говорение», «литературщину», «высасывание из пальца лозунгов и
проектов вместо внимательного и тщательного ознакомления с нашим собственным
практическим опытом», а вместе с тем - «бюрократическое самомнение»,
«коммунистическое чванство дилетантов», «самодурство сановников, бумажную волокиту,
игру в проверяющие комиссии, одним словом, чисто чиновничье убийство живого
дела», вместо того, чтобы учиться «работать систематично, используя свой же опыт,
свою же практику» *.
Особый интерес представляет положительная часть его работы. В ней он
защищает идеи плана ГОЭЛРО. Ленин характеризует его как «превосходный научный
труд», в этой связи требует «научиться ценить науку» и подчеркивает:
«Изучение — дело ученого, и тут, поскольку дело идет у нас уже давно не об общих
принципах, а именно о практическом опыте, нам опять в десять раз ценнее хотя
бы буржуазный, но знающий дело «специалист науки и техники», чем чванный
коммунист, готовый в любую минуту дня и ночи написать «тезисы», выдвинуть
«лозунги», преподнести голые абстракции»2. Следует «остерегаться увлечения
командованием, уметь сначала посчитаться с тем, что наука уже выработала» 3.
Анализируя эти ленинские положения, хотелось бы особо выделить и
подчеркнуть слова о том, что ГОЭЛРО был создан не высшими органами Советской
республики, а по их поручению «лучшими учеными силами». Наши же планы стали
разрабатываться не коллегиями ученых, а чиновничьими организациями. Конечно,
при Госплане имеется целая совокупность НИИ, призванных научно обеспечить
деятельность планирующих организаций. Кроме того, в сам аппарат планирующих
органов часто входят люди с учеными степенями и званиями. Но жизнь и
теоретические соображения убеждают - это не решает дела.
Функциональное разграничение Госплана (Минфина, Госкомитета цен и целого
ряда других учреждений) как чиновничьей организации, составляющей план, и
научно-исследовательских учреждений, не составляющих планов, а лишь
разрабатывающих проблемы планирования (ценообразования и т. п.), неизбежно приводит к
тому, что каждое из них постепенно начинает руководствоваться в своей
деятельности относительно самостоятельными интересами (НИИ - диссертациями,
справками и докладами для начальства и т. п., планирующие органы - срочным
согласованием планов, досрочным их сопоставлением й т. п.), далек© не совпадающими
с потребностями общества и, следовательно, с прямым назначением этих
учреждений в рамках нашего общества.
Напрашивающийся отсюда вывод, думается, один: как и ГОЭЛРО,
современные планы и программы должны разрабатывать ученые, функцией которых явля-
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 339, 344.
2 Т а м ж е, с. 346-347.
3 Т а м ж е, с. 347.
49
ется не только «научное обоснование» плана, но и его составление и
корректировка в соответствии с принципом «обратной связи». Программы должны быть
научным продуктом, результатом научного исследования и обобщения, а учреждения, их
разрабатывающие и определяющие техническую политику и т. д^— научными
учреждениями.
К этому же выводу подводит осмысление опыта подключения естественных
наук к непосредственному обслуживанию практики.
Во-первых, этот опыт говорит о том, что связь науки и практики —
естествознания и производства — не является, как правило, непосредственной. Для ее
реализации оказалось необходимым формирование целой совокупности звеньев,
образующих единую и взаимообусловливающую цепь, основными элементами которой
выступают: сфера фундаментальных наук, система прикладных наук,
экспериментальные модели и опытно-конструкторские разработки. Все это предшествует
непосредственному использованию научного знания в технике и технологии
производства. Думается, что практическое применение общественных наук при всей
специфичности этого процесса, видимо, требует формирования подобной цепи,
обеспечивающей переход от фундаментальных общественных наук к системе прикладных
социологических, социально-психологических, демографических и т. п. дисциплин,
а от них - к разработке моделей социального развития и их экспериментальной
проверке с тем, чтобы можно было затем научно оснастить практику планирования
и управления.
Во-вторых, превращение производства в технологическое приложение науки с
необходимостью породило производственный сектор науки, функционально
нацеленный на непосредственное обслуживание производственного процесса. Не означает
ли этот опыт, что и в социальной сфере возможно создание особого сектора науки
(«социально-практического»), функцией которого было бы научное обеспечение
непосредственной практики. Необходимой предпосылкой этого является острая
потребность в появлении целой совокупности социологических,
конкретно-экономических, социально-психологических, демографических, науковедческих,
социально-медицинских, экологических и т. п. дисциплин и быстром росте числа специалистов,
владеющих необходимыми знаниями, умениями и культурой для практической
реализации конкретных знаний.
Опыт научно-производственных объединений, в которых НИИ образуют
производственный сектор науки, поучителен для обществознания в том смысле, что
убеждает в необходимости превращения ведомственных НИИ общественных наук в
такой орган общественного организма, который непосредственно нацелен на
реализацию необходимых обществу функций планирования, финансирования,
регулирования экономической жизни. Чтобы целенаправленный процесс функционирования
и развития нашего общества стал «предметным бытием» обществознания, общест-
вознание должно стать функциональным элементом социальной системы,
непосредственно обслуживающим ее развитие.
Но, зафиксировав тот факт, что кризисное состояние нашего общества
возникло именно потому, что командно-бюрократическая система, прокламировавшая
свою опору на марксистско-ленинскую науку, фактически игнорировала ее
творческий дух и гуманистическую суть, мы обязаны учитывать и другую сторону
проблемы. Теперь уже не только теоретические соображения или яркие образы
«антиутопий», но и имеющийся богатый опыт, причем не только нашей страны,
убедительно раскрыли миру грозные опасности последовательной ориентации на
абстрактную рациональность. Общество, рассмотренное как социальная система,
которая должна быть однозначно и целесообразно рационализирована подобно идеально
скомпонованному механическому агрегату, неизбежно вырождается, превращаясь в
казарму. Человека можно назвать винтиком социального механизма и даже на
время сделать таковым, но это приводит к кризису как человека, так и самого
общества. Факты убедительно свидетельствуют, что общество, игнорирующее или даже
недооценивающее свое «человеческое измерение», не только проигрывает в плане
духовном, но и как материальная система довольно быстро приходит к кризису.
Именно поэтому, обосновывая положение об органической связи общественной
науки и общественной практики, мы хотели бы подчеркнуть, что функционирова-
50
ние и развитие общества, гармонизация его отношений с природой предполагают
четкое вычленение в системе обществознания группы гуманитарных наук, которые
в отличие от социально-теоретических нацелены не на овладение законами
системы, а на исследование и решение специфически человеческих проблем.
Для уточнения сказанного обратим внимание на два момента. Во-первых,
границы между общественными (социально-теоретическими) и гуманитарными
науками столь же относительны, как относительны «измерения» общества как
материальной системы и как человеческого образования. Во-вторых, необходимо иметь в
виду, что для реализации гуманистических целей общественного развития
потенциала одного обществознания недостаточно. Для развития общества и человека
необходимы мораль, философия как основное средство мировоззренческой ориентации,
искусство, формирующее богатство эмоционального мира человека.
В. И. Ленин отмечал, что неграмотный человек стоит вне политики, связывая
переход от демократии для народа к демократии самого народа с подъемом
культурного уровня масс. С тех пор культурный уровень масс повысился, но
повысились и требования к массам: их компетентности, демократическим навыкам,
духовной зрелости. В этих условиях на общественные науки ложится ответственная
задача - дать людям знания, необходимые для сознательного включения в
исторический процесс, для активного участия в управлении, научить их самостоятельно
ими пользоваться, чтобы они не лежали «мертвым грузом».
Главное в решении такой задачи - глубина теоретических разработок, точность
исторических описаний, действенность практических рекомендаций, высокий
уровень исследовательской культуры и т. д. Эти показатели, видимо, следует
рассматривать и как основные критерии перестройки в области общественных наук.
Однако требования к тем или иным социально-гуманитарным наукам должны быть
дифференцированы, что у нас далеко не всегда соблюдается. Например, согласно
инструкции ВАК, все диссертации, к какой бы области социального знания они ни
принадлежали, обязаны завершаться практическими предложениями или
рекомендациями. Но ведь имеются науки, которые по самому своему характеру никаких
практических рекомендаций дать не могут и практическое значение которых
состоит в том, что они работают на повышение культурного уровня, расширение
исторического кругозора или формирование мировоззрения людей. И разве этого
мало?! Ведь нельзя же практику понимать узкопрагматически, отождествлять
отношение к практике экономической или юридической науки и гражданской истории
или литературоведения. Но именно яа такого рода отождествлении основаны эти
инструкции. В результате они ставят людей в ложное положение, заставляют
изворачиваться, чтобы формально удовлетворить требованиям инструкции,
выдумывать «практические предложения». Такого рода инструкции изначально содержат в
себе установку на их нарушение. А в результате мы начинаем удивляться, почему
так легко нарушаются всевозможные правила и инструкции.
Да, в общественных науках должна быть значительно усилена ориентация на
практику. Но их связь с практикой не должна трактоваться упрощенно и
прямолинейно. Реальной почвой этой связи является привлечение науки к решению
практических задач, их решительный поворот к потребностям практики.
Ориентация яа практику ни в коей мере не означает какого-либо принижения или даже
малейшей недооценки фундаментального знания, теоретических исследований.
Напротив, теоретическая неготовность перехода к рыночной экономике, к примеру,
намного снижает практическую действенность нашей экономической науки.
Поэтому и в новых условиях речь может идти не об ослаблении, а о значительном
усилении теоретической работы, о развитии фундаментальных теоретических
исследований. Но готовность общественных наук обслуживать нужды практики и в
особенности участвовать в подготовке и проведении в жизнь различного рода
управленческих решений зависит от развития прикладных исследований как
необходимого во многих случаях посредствующего звена между теорией и практическими
рекомендациями.
О сложностях развития прикладных исследований в нашей стране
свидетельствует история становления эмпирической социологии, которое шло через
преодоление огромных трудностей и препятствий, подчас искусственно нагромождавшихся
51
на ее пути. Достаточно сказать, что десятилетиями исчисляется задержка с
организацией социологического образования. Руководство бывшего Министерства
высшего и среднего специального образования сделало все, чтобы не допустить развития
социологического образования в стране. Сейчас плотина прорвана, и
социологические факультеты созданы в нескольких университетах. Но этого явно недостаточно,
учитывая реальную потребность в социологических исследованиях и то, что в
стране можно пока по пальцам перечесть специалистов, имеющих базовое
социологическое образование.
Наконец, хотелось бы обратить внимание на проблему «уровня науки». Как и
в экономике, в науке существует мировой уровень, задаваемый наиболее
развитыми направлениями исследования в рамках той или иной науки. Это понятие
применимо, на наш взгляд, и к общественным наукам. Мы не можем сказать, что
отечественные исследования в области истории, социологии, экономики и ряде
других наук находятся на мировом уровне. Задача состоит в формировании в
общественных науках такого научного сообщества, которое способно было бы
поддерживать соответствующий уровень науки, поскольку практике может принести
ощутимую пользу лишь наука высокого качества.
Широкое использование данных науки на практике ставит проблему
соотношения науки и демократии. Очевидно, необходимо поднимать социальный статус
науки, превращая ее в одно из важных средств демократического развития
общества. Вместе с тем связь науки и практики означает, что наука принимает на себя
обязательство давать практике обоснованные и осуществимые рекомендации.
Поэтому можно говорить о повышении социальной ответственности общественных наук
в современных условиях. Ситуация ныне обязывает возможно полнее использовать
потенциал общественных наук в интересах социально-экономического и духовного
развития нашего общества.
ИЗ ИСТОРИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Предисловие к публикации
Громкое имя - Бакунин, широко известное во многих странах мира, все еще
не зазвучало в полную силу на его родине. В связи с этим хотелось бы
вспомнить слова немецкого исследователя жизни и творчества Бакунина Ф. Брупбахера:
«Он может стать понятным только в эпоху, которая наступит... Бакунин вновь
станет актуальным в тот день, когда человек найдет невыносимым деспотизм
буржуазный и деспотизм пролетарский» *. В настоящее время слова Брупбахера уже не
кажутся утопией, и образ русского мыслителя и революционера вызывает все
больший интерес у многих наших современников.
«Вечно движущееся начало, лежащее,- по словам В. Белинского,- во
глубине ... духа» 2 Бакунина, его страстные поиски истины, его стремление «быть
свободным и освобождать других» действительно становятся нужными и актуальными.
Привлекает и сама далеко не ординарная личность великого бунтаря, которого
в 1906 г. А. Блок представлял «еще не распылавшимся костром»3, на
героическую натуру которого указывал А. Герцен. «Прометеевский облик» Бакунина
восхищал и Брупбахера4.
Остановимся на некоторых этапах жизни Михаила Александровича Бакунина
(1814-1876). При всей «социалистической беспардонности», по его собственным
словам, ему свойственной, основы его воззрений складывались в обстановке высокой
дворянской культуры. Его отец, Александр Михайлович Бакунин, принадлежал к
кругу тех, кто воплощал в своей жизни идеи русского просвещения. Его мать,
Варвара Александровна, урожденная Муравьева, вышла из семьи, давшей ряд
блестящих и трагических имен декабристов. Каждый из десяти детей Бакуниных
(шесть братьев и четыре сестры) оставил тот или иной след в русской культуре.
«Премухинская гармония», как называли современники особый мир имения
Бакуниных в Новоторжском уезде Тверской губернии, родилась на основе глубокой
духовности родителей, совместных занятий детей, изучения живой природы,
литературы, музыки, живописи, а затем горячего увлечения философией. Интерес к ней,
пробудившийся у Михаила Бакунина во время его службы в армии (летом
1833 г.), стал бурно развиваться после выхода его в отставку (1835 г.), когда он,
Н. Станкевич, В. Белинский и некоторые другие новые их друзья погрузились в
исследования Шеллинга, Фихте, Канта, а к концу 30-х годов - Гегеля, «Из
молодежи гегельской, конечно, № 1 - Бакунин»5 - отмечал А. И. Герцен в апреле
1840 г. Первые же публикации Бакунина6 и последовавшие за ними статьи
Герцена 7 дали Н, Г. Чернышевскому возможность утверждать, что «тут в первый раз
русский ум показал свою способность быть участником в развитии
общечеловеческой науки» 8.
1 Brupbacher F. Introduction. «Bakounine. Confession», 1974, p. 45.
2 Белинский В. Г. Поли. собр. соч., т. XII. М., 1958, с. 114
3 БлокА. Собр. соч., т. 5. М.- Л., 1962. с. 31.
* См.: В г u p b а с h e r F. Op. cit, p. 45.
5 Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. XXII. Мм 1961, с. 77.
6 «Гимназические речи Гегеля». Предисловие переводчика.- «Московский
наблюдатель», ч. 16, кн. I, 1838 и статьи «О философии».- «Отечественные записки», 1840,
№ 4." '
7 Дилетантизм в науке; Письма оо изучении природы.
8 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч., т. I, M., 1939, с. 664.
53
Для углубления своих философских познаний Бакунин в 1840 г. отправился в
Берлин. Однако пылкость его общественного темперамента, «львообразность», по
словам Белинского, натуры звали его в бурную политическую жизнь Западной
Европы. Двух лет хватило Бакунину для реального осознания действительности и
своего места в ней. В 1842 г. вышла его статья «Реакция в Германии»,
свидетельствующая о новом этапе его развития. Начался процесс формирования
революционной и национально-освободительной концепции Бакунина, которую затем он
исповедовал вплоть до 1864 г. Освобождение славянских народов из-под ига трех
империй (Турецкой, Австрийской и Российской), создание общеславянской
федерации, а затем, по ходу революционного движения, и общеевропейской - таковы были
задачи, которые поставил перед собой этот поистине не ведающий преград
человек.
После ряда революционных акций - речей, статей, воззваний, планов и
программ,-в обстановке революции 1848 г. случайно оказавшись в Дрездене, Бакунин
стал военным руководителем вспыхнувшего там восстания. Будучи арестованным в
1849 г., он провел восемь лет в тюрьмах Саксонии, Австрии и России и около
пяти лет в ссылке в Сибири (Томск, Иркутск).
Вырвавшись на волю путем побега через Японию, США в Европу, Бакунин
явился к Герцену и попытался найти место своей деятельности возле «Колокола».
Удачи здесь он не достиг. Несостоятельными оказались и его надежды на активное
участие в Польском восстании 1864 г. После разгрома поляков и неудач
национально-освободительной борьбы в других европейских странах Бакунин обратился
к рабочему движению на Западе. Интернационал привлек его внимание, но он не
нашел в его деятельности гарантий успеха революционного движения. Для борьбы
с союзом реакционных авторитарных режимов в Европе нужен был, считал он,
тайный союз революционных сил. Для реализации этой идеи он и создал
программу «Международного общества освобождения человечества» (1864),
положившую начало его антигосударственной теории.
Все последующие годы анархистская доктрина Бакунина продолжала
развиваться. Своего апогея она достигла в начале 1870 годов, когда им были написаны
основные работы: «Государственность и анархия» и «Кнуто-германская империя и
социальная революция» со многими приложениями. Одновременно свои
теоретические воззрения и практические революционные планы организации анархистского
движения он излагал в массе писем (объем которых достигал порой до 100
страниц), статей и речей. Как правило, работы его были полны острой полемики
против государственности, как буржуазной, так и социалистической. Социальная
модель Бакунина была направлена на формирование человеческой всеобщности
путем действий рабочих ассоциаций, призванных не формально, а естественно, без
какой-либо политической силы и лозунгов пробуждать собственные
коллективистские и революционные инстинкты народа с целью создания в дальнейшем
коллективной собственности, свободного товарообмена, самоуправления и
федеративного устройства. Естественно, что антиэтатизм Бакунина вступил в решающее
противоречие с централизмом и идеей пролетарской диктатуры К. Маркса.
Идейная борьба в Интернационале не принесла пользы последнему. Гаагский
конгресс (1872 г.), исключивший Бакунина, стал последним для марксистского крыла
Международного товарищества рабочих. Анархистский же Интернационал, за
которым шла значительная ч'асть рабочих Италии, Франции, Швейцарии,
Бельгии, Испании, а также Скандинавских стран, продолжал свою деятельность до
1876 г.
Пропагандируя идеи анархо-коллективизма, Бакунин в начале 70-х годов был
занят и философским обоснованием анархизма. Закономерность и неизбежность
анархо-революционной перестройки общества он выводил из бесконечного
взаимодействия миров Вселенной, из природы как всеобщей причинности, «созидающей
миры», из логики - естественного следствия развития всего живого, из объективных
природных законов.
Если законы не присущи органически предметам, которыми они управляют,
тогда они созданы волею творца, враждебны и чужды людям. «Это не законы, -
писал Бакунин,- а декреты, которым подчиняются ве через внутреннюю необхо-
54
димость и естественное течение, а через внешнюю силу, божественную или
человеческую» 9,
Социальное, доказывал он, появилось не из развивающихся отношений людей
между собой, а из самой «природы человечности». Человек «вышел из животного
рабства и, пройдя через божественное рабство - переходный этап между его
животностью и человечностью,- идет ныне к завоеванию и реализации своей
человеческой свободы» Только таким путем, по Бакунину, и осуществлялся прогресс
в человечестве. Но сам человек существует в природе, поэтому первое условие его
свободы — «подчинение природе, нашей матери». Предрекая будущее, Бакунин
писал о бесперспективности борьбы против природы, но, не представляя масштабов
грозящей катастрофы, он еще был уверен, что человек «никогда не сможет ни
победить, ни обуздать ее» 10.
К середине 1870-х годов Бакунин практически отошел от революционной борьбы.
О восприятии им в это время потенциальных возможностей революции
свидетельствует его письмо 3, К. Ралли от 15 июля 1875 г.
«...Оглядываясь на окружающие нас события и явления момента, в который
мы живем, на подлость, мелкоту, трусость, бездушие характеров; на полное
отсутствие честных стремлений (в большинстве), на тупость, эгоизм, на буржуазность
и беспомощность пролетариата, на стадность, на самолюбишки и проч... на весь
современный склад нравственной личности, на социалистическую развращенность
рабочего, испорченного болтовней и утратившего даже инстинкт,- я ничего не жду
от современного поколения. Знаю только один способ, которым еще можно
служить делу революции,- это срыванием масок с так называемых революционеров.
Почва наша до того засорена, что много надо трудов, чтобы только очистить ее от
всякой дряни, и то, что бы ни посеялось, все заглушится сорной травой и
бурьяном. Пример всюду: во Франции, Италии, Испании, в Швейцарии. Могу назвать
тысячи. Произрастание бурьяна и сорных трав - вот период, в котором мы живем.
Суемудрие, скажете вы? - Какой черт суемудрие, разве вы не знаете, что в
революционной партии на 100 человек, наверно, 90 подлецов и негодяев, вредящих
делу. Это между интеллигенцией, а в народе? Вот с каких пор я наблюдаю и
вдумываюсь в народ, после Парижа, Лиона, после французской войны и Коммуны,
везде вижу одно - лишь полное отсутствие человечности, одну лишь цивилизаци-
онную гангрену буржуазных стремлений. Исключения редки и даже, по-моему,
необъяснимы. Что же делать? Ждать. Ждать, что, может быть, обстоятельства
европейские сложатся круче, т. е. совокупность экономических и политических
условий. Индивидуальная же деятельность, организаторская, агитаторская не
приблизит, не изменит ничего. Поле не за нами, а за сорной травой.- Все Марксы, Ути-
яы, все практические подлецы могут еще действовать, т. е. исполнять свое
назначение - развращать человеческую мысль и волю. Тут поприще готовое и
подготовка богатая и задатки громадные. Наш час не пришел» и.
Работу над двумя главными трудами своей жизни Бакунин начал в 1870 г.,
в разгар франко-прусской войны и растущего революционного движения во
Франции. К этому же времени относится и самый высокий уровень его политической
активности. Создается впечатление, что грозящая катаклизмами обстановка
европейского политического кризиса и собственное ощущение итогов жизни уже
немолодого мыслителя заставили его обосновать и представить читателю прежде всего
антиавторитарную доктрину, направленную своим острием против опасности
создания, в случае успеха революции, государственного социализма. Осенью 1870 г. он
приступил к «Государственности и анархии» 12.
9 Bakounine M. Oeuvres. V. III. P., 1908, p. 344.
10 I b i d., p. 244, 286.
11 ЦГАОР ф. 7026, oil I, ед. хр. 3.
12 Книгу эту Бакунин писал урывками до 1874 г. Последняя часть оказалась
утерянной. Некоторые сюжеты были опубликованы в 1870—1871 гг. в ряде статей.
Отдельной книгой «Государственность и анархия» вышла в Женеве в 1873 г.
55
В то же время военные успехи немцев заставили Бакунина поспешить с
брошюрой, направленной против реакционной Германии, грозящей гибелью
революционной Франции. Однако эта работа по ходу дела приняла иной характер.
Присущее Бакунину стремление к выявлению первоосновы любого значительного
явления жизни повело его за собой. К тому же поражение революционных
выступлений на юге Франции убедило Бакунина в том, что «скорейшим воздействием на
общественное мнение» делу не поможешь. 19 ноября он написал Огареву, что у
него «нет более веры, чтобы какими бы то ни было брошюрами или даже
непосредственными практическими предприятиями и действиями можно было теперь
переменить ход событий». «Я пишу,— сообщал он в том же письме,—
патологический эскиз настоящей Франции и Европы, для назидания ближайших будущих
деятелей, а также и для оправдания своей системы и своего образа действий» 13.
Эта последняя цель будущей книги увела Бакунина далеко от его первоначальных
планов. Хорошо знавший творческий стиль Бакунина Дж. Гильом, его соратник и
первый издатель, рассказывал: он «пустился в одно из тех отступлений, которые
были для него так привычны и порой заставляли его забывать отправную точку» 14.
По мере написания книга отправлялась частями в Женеву, где она печаталась
в кооперативной типографии. Н. Огарев и Н. Озеров держали корректуру. Первый
выпуск (тиражом тысяча экз.) вышел в начале апреля 1871 г. Спустя несколько
дней Бакунин писал Огареву: «Ты все требуешь у меня конец. Дорогой друг, я
незамедлительно вышлю тебе материал для второго выпуска в восемь листов, и все
же это не будет концом. Пойми же, что я начал, думая написать брошюру, а
кончаю книгой. Это чудовищно, да что же делать, раз я сам чудовище? Но книга,
хотя и чудовищна, будет жизненной и полезной для чтения. Она почти целиком
написана. Остается лишь отделать ее. Это моя первая и последняя книга, мое
Завещание. Поэтому, мой друг, не противоречь мне... Остается вопрос денежный.
Набрали всего на десять листов, будет же не менее двадцати четырех. Но не
беспокойся... Печатайте и издавайте смело этот первый выпуск... Бог посылает день, Бог
даст и хлеба... И если возможно еще изменить, назовите мою книгу так: Кнуто-
германская империя и социальная революция» 15.
Работа эта не стала последней, но Бакунин имел все основания придавать ей
большое значение. На склоне лет он впервые столь глубоко обобщил весь свой
немалый теоретический опыт, что дает ныне исследователям возможность проследить
обоснование и развитие его системы взглядов.
Говоря Огареву, что книга «почти целиком написана», он преувеличивал. Это
«почти» было весьма значительным. Соединить философию с политикой он не смог
или не успел. Удачнее получилось с критикой буржуазной науки. Она
органически вплелась в его философскую доктрину. Работы же, объединенной общим
планом, не вышло, да и, очевидно, не могло получиться из соединения столь
различных компонентов, как «патологический эскиз современной Франции», исторические
экскурсы в историю Германии, критика Бисмарка и наряду с этим широко
аргументированное опровержение идеализма, защита естественнонаучного метода
познания мира и, наконец, «философская диссертация» — так Дж. Гильом назвал
наиболее значительную философскую работу Бакунина, которая появилась в качестве
одного из приложений к «Кнуто-германской империи...».
Судьба книги в целом оказалась весьма неблагоприятной. Ее не поняли, и
прежде всего - ближайшие соратники Бакунина. Так, Гильом писал про философскую
часть рукописи: «Это было, в большей своей части, исследование системы Огю-
ста Конта» 16. Конт действительно был одним из объектов критики Бакунина, но
содержание рукописи, ее смысл и пафос были, как отмечалось выше, посвящены
более глубоким и общим проблемам.
Около 40 лет эта часть книги находилась у Гильома, пока он не включил ее
в сочинения Бакунина, изданные им в Париже в 1908 г. Но став известной, ру-
13 Письма М. А. Бакунина А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906, с. 415.
14 Гильом Дж. Предисловие к книге «Кнуто-германская империя и социальная
революция». См.: Бакунин М. Собр. соч., т. II. М., 1919, с. 10.
15 Т а м ж е, с. 13.
16 Гильом Дж. Цит. соч., с. 10.
56
копись эта осталась незамеченной. Философские воззрения Бакунина не
привлекали, да и сейчас мало привлекают внимание исследователей. Ю. М. Стеклов в
главе второй 3-го тома своей монографии «Михаил Александрович Бакунин» (М.,
1927) прошел мимо важной части его философской работы: «Философских рассуж-
дэний о божественном призраке, о реальном мире и человеке», хотя широко
использовал другие издания Гильома. Впервые в нашей стране работа эта частично была
введена в научный оборот в 1981 г. П. И. Моисеевым 17 и полностью опубликована
В. Ф. Пустарнаковым в числе избранных философских сочинений Бакунина18.
Судьба первого выпуска «Кнуто-германской империи...» была более удачна.
Напечатанная в 1871 г., она переиздавалась в начале XX века во Франции, вошла и
в избранные произведения Бакунина, публиковавшиеся в начале 20-х годов
издательством «Голос труда» в Москве, и в недавнее время была издана в томе
произведений Бакунина, подготовленном Пустарнаковым1Э (в Приложении к журнаду
«Вопросы философии»).
Самое же полное издание этого необычного труда осуществлено Институтом
социальных исследований в Амстердаме (т. VII, 1981). В числе многочисленных
приложений, фрагментов, вариантов к основному тексту книги находится и небольшой
эскиз «Коррупция.— О Макиавелли.— Развитие государственности», который мы и
предлагаем читателю.
Обращению Бакунина к фигуре Макиавелли содействовали, на наш взгляд, два
обстоятельства. Первое из них - стремление к глубокому и всестороннему анализу
механизма власти, столь блестяще описанного итальянским мыслителем. Второе -
волна интереса к Макиавелли, охватившая русское общество в 60-70-х годах
XIX века.
Его идеями в это время серьезно занимался один из основателей
государственной школы в русской историографии, Б. Н. Чичерин. В связи с социальной
ситуацией 60-х годов XIX в. попытался рассмотреть воззрения Макиавелли ученый и
публицист, автор книги «Политические и общественные теории XVI века» (СПб.,
1862) Ю. Г. Жуковский. Об «озлобленной мудрости Макиавелли»20 говорил
А. И. Герцен. С одобрением относился к принципам итальянского ученого и
политика П. Н. Ткачев, считавший «истинным реализмом» отрицание «мистической
нравственности» схоластиков и возведение силы в право 21. Отношение к итальянскому
мыслителю некоторой части революционной молодежи выражал небезызвестный в
свое время поэт, сотрудник «Современника», «Русского слова», «Вестника Европы»
и других изданий И. И. Гольц-Миллер (1842-1871). В 1861 г. он принимал
деятельное участие в создании крайне радикальной прокламации «Молодая Россия»22.
Примерно в это же время в одном из его стихотворений прозвучали строки:
...И страх вселяющий в глупцах
Великий Макиавелль.23
Бакунину Макиавелли был важен как творец «современной науки и
искусства политики». Он называл его «великим основоположником позитивистской
политики», написавшим «бессмертные труды». Величие Макиавелли Бакунин видел в
открытии им «совершенно естественной системы», «физиологическом описании»
общества, в создании новых законов политики, основной из которых - преступление,
«Только благодаря преступлению можно создать, укрепить и сохранить
государственную власть: с того мгновения, когда преступление становится орудием государ-
17 См.: Моисеев П.- И. Философия Михаила Бакунина. Докторская
диссертация. Л., 1982.
18 См.: Бакунин М. А. Избранные философские сочинения и письма. М.,
1987.
19 Бакунин М. А, Философия. Социология. Политика. М., 1989.
20 Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. X. М., 1956, с. 75.
21 Ткачев П. Н. Избр. соч. на социально-политические темы в четырех томах.
Т. I. М.. 1932, с. 71-73.
22 Но свидетельству одного из главных авторов прокламации, П. Г. Заичневско-
го, добавления, предложенные Гольц-Миллером, были восприняты другими
участниками этого предприятия «как излишняя порция пороха, которого искали тогда и
хотели нагромоздить столько, чтобы всем либеральным и реакционным чертям стало
тошно» (Козьмин Б. П. Г. Заичневский и «Молодая Россия». М., 1932, с. 86-87).
23 «Поэты 1860-х годов». Л., 1968, с. 39.
57
ства, оно становится добродетелью. Таков великий принцип Макиавелли, таков и
вечный принцип политической борьбы всех минувших, настоящих и грядущих
государств». В качестве примера Бакунин приводил исторический опыт России и
Франции, причем отмечал, что многие пережитые Францией революции лишь
укрепляли государство, придавая ему новую «славу и мощь».
Экскурс в XVI век вообще был предпринят Бакуниным, с тем чтобы
представить генезис государственности. Но саму по себе проблему эту он пытался
анализировать в непосредственной связи с понятием нравственности.
Власть, по Бакунину, всегда аморальна. Примерно в то же время, когда
создавался публикуемый здесь текст, выступая в секции Интернационала (округ Курт-
лари), он говорил: «Государственная мораль совершенно противоположна
общечеловеческой. Государство само представляет себя всем своим подданным, как высшую
цель... Все, что способствует усилению и увеличению государства,— благо; все, что
идет в ущерб им, будь то самое добродетельное, самое благородное с человеческой
точки зрения,— зло... такова государственная мораль» 24.
Ее принципы распространяются на господствующий класс и привилегированные
группы, или «банды»,— об этом Бакунин весьма своеобразно пишет в публикуемом
фрагменте. Чем больше класс, или «банда», тем легче и быстрее происходит их
коррупция, обусловленная аморальностью принципа государственной власти.
Постепенно члены группы, класса и т. п. «цинично срывают маску, отбрасывают всякую
видимость идеала», открыто проявляют свою сущность эксплуататоров нации и
объединяются лишь личной выгодой. «Такова истинная коррупция».
Что же может противостоять ей?
Прежде всего — солидарность, считает Бакунин. Коррупция, пишет он, «это
полное безразличие индивида к общественной пользе и солидарности
исключительно во имя личной выгоды». И далее со свойственным ему стремлением к
крайностям утверждает, что понятие «коррупция» неприменимо к классам,
объединенным общим идеалом, и к бандам преступников, связанных солидарностью.
Солидарность как основной закон человеческого общежития в разных формах
существовала и в Древнем мире и в Средние века, вплоть до середины XV века,
когда в Италии стали возникать новые формы политического государства, опыт
которых послужил Макиавелли материалом для его политической теории,- так
полагал Бакунин.
Исследователь личности Макиавелли «в логико-культурном и, следовательно,
всеобщем значении» - Л. М. Баткин, считая, что она (личность) «должна быть
уяснена не на уровне «идеологических клише и практических применений», вместе
с тем с полным основанием утверждает: «Макиавелли-теоретик всецело
прагматичен, и в последовательности, с которой он проводит исключительно политическую
точку зрения,- вся его до наших дней не изжитая новизна, нечто смущающее
ум» 25.
В заключение позволим себе выразить надежду, что связанный с Макиавелли
фрагмент из творческой лаборатории Бакунина вызовет размышления и у
современного читателя.
Н. М. ПИРУМОВА.
24 ЦГАОР СССР. Ф. 825, оп. I. ед. хр. 301, л. 76.
25 Баткин Л. М. Итальянское возрождение в поисках индивидуальности. М„
1989, с. 163, 165-166. *
Коррупция.—О Макиавелли.—
Развитие государственности
М. А. БАКУНИН
Я уже говорил, что бонапартизм не является, по сути, ни принципом, ни
политическим течением, не вызван каким-либо органическим или историческим
интересом в экономическом и политическом развитии страны. Просто-напросто, добавлял
я, банда разбойников, воспользовавшись глубокими разногласиями между классами
французского общества, ночной порой внезапно и дерзко овладела Францией
и, захватив власть, удерживала ее двадцать лет. Опорой ее послужили три
огромных порока Франции, или три великих ее несчастья: неизлечимая отныне трусость
ее буржуазии, неорганизованность рабочих масс и невежество крестьян. Ее
поддерживали три в равной степени отвратительных обстоятельства, которые за эти
двадцать лет весьма способствовали гибели Франции: бюрократическая организация,
которая в конце концов убила всякое стихийное национальное движение,
дезорганизовала все живые силы Франции; жестокая и тупая военная дисциплина,
насаждаемая в преторианской армии, опустившейся до состояния огромной наемной
гвардии, специально обученными офицерами. Такая дисциплина делает солдата орудием
в руках неспособных и глубоко порочных офицеров. И наконец, бич католической
церкви, представленной огромным количеством «черных людей» с главой в Риме,
которые, считая эту несчастную Францию благородной добычей, могущей
ускользнуть от них в любой момент, насаждают в ней наряду с грубыми суевериями все
разногласия и политические взгляды, способные держать сельское население в
вечном рабстве.
Таковы, несомненно, условия и причины существующего положения, которое
может признавать и уважать не искренний человек, но лишь политик, желающий
в свою очередь воспользоваться им, чтобы прийти к власти и удержать ее. Что
касается результатов, к которым может привести подобная политика, мы их видим:
это современное состояние Франции.
Мы рассмотрели основы бонапартизма, обратимся теперь к его средствам.
У него есть лишь одно средство, но очень сильное: коррупция, которая, впрочем,
изобретена не бонапартизмом, но получена им как историческое наследие,—
единственное, которым бонапартизм сумел воспользоваться и продуктом которого
стал сам.
Условимся теперь о значении слова «коррупция» *. Оставляя в стороне все
вопросы, связанные с частной моралью (которая, впрочем, неотделима от
коллективной), я понимаю под этим словом полное безразличие индивида к общественной
пользе и солидарности исключительно во имя личной выгоды. Какой-либо класс
ели ограниченная общность людей — церковь, религиозный орден, аристократия,
буржуазия, бюрократия, армия, полиция и даже банды разбойников — могут быть
глубоко аморальны, т. е. противопоставлены всему человечеству по своим основам,
условиям своего исключительного и привилегированного существования, по целям,
которые они преследуют; но при этом они еще не коррумпированы,- до тех пор,
пока не распадутся под нажимом частных интересов их членов. Правда, чем
больше интересы класса противостоят общественным интересам, тем более облегчается
коррупция его членов, что обусловлено аморальностью принципа, лежащего в осно-
«Archives Bakounine». Ed. A, Lehning. Leiden, 1987, p. 369-382.
* Франц. «corruption» можно переводить и как «разложение», «развращение»,
«подкуп». (Ред.)
59
ве его существования; если только эта безнравственность не прикрывается в их
глазах каким-либо вымышленным идеалом, например, патриотическим или
религиозным. Именно это и произошло с церковью и аристократией, и потому они были
так могущественны в прошлом и так упорно цепляются за жизнь еще и сегодня,
когда все общественные условия этому противоречат. Это также объясняет, почему
буржуазия, едва придя к власти, начинает обнаруживать бесспорные признаки
разложения и упадка. По природе своих повседневных занятий слишком
реалистичная, чтобы искать опоры в великих идеалах патриотизма и религии, она
вынуждена довольствоваться весьма сомнительными и спорными идеалами метафизики и
юридического права, и ей никогда не удается скрыть, даже от самой себя, свою
низкую сущность. В этом отношении игроки на бирже, крупные промышленные,
торговые и банковские компании, финансовые и политические спекулянты,
контрабандисты, грабители - группы, легче всего поддающиеся коррупции, ибо они — еще
большие реалисты, чем основная масса буржуазии. Они цинично срывают всякую
маску, отбрасывают всякую видимость идеала и открыто проявляют свою истинную
сущность эксплуататоров богатства и труда нации. Члены этих различных
сообществ объединяются уже не во имя какого-то принципа, истинного или ложного;
они связаны друг с другом лишь личной выгодой. Такова истинная коррупция.
Добавим, что среди этих групп откровенных эксплуататоров шайки контрабандистов,
разбойников и воров являют сравнительно высокий уровень морали. Во-первых,
они большей частью бедны и борются за жизнь; это, по крайней мере, законно.
Кроме того, они не пользуются уважением и защитой общества, как
привилегированные и богатые спекулянты, воры и разбойники на государственной службе,
в банках, промышленности и торговле. Их изгоняет и преследует, как диких
зверей, то самое общество, которое не сумело дать им ни воспитания, ни
образования, ни средств к существованию, но зато наделяет их всеми привилегиями
уголовного кодекса. Они ведут постоянную войну с обществом, которое всегда было для
них лишь мачехой, и подвергаются в этой борьбе жестоким опасностям,
вынуждающим их теснее объединяться между собой, что вовсе не нужно официальным
эксплуататорам, признанным и обласканным высшим обществом. Внутри таких
вынужденных союзов чаще всего формируется нечто вроде коллективной морали,
иногда возвышающейся до общего воодушевления, которое становится источником
поистине героических поступи из и самоотверженности.
Разумеется, слово «коррупция» неприменимо к классам, какими бы
аморальными ни были их принципы, по крайней мере до тех пор, пока эти классы
объединены во имя какого-либо идеала; оно также не относится к бандам
преступников, пока их связывают узы солидарности, способные воодушевить их на
героические и самоотверженные поступки. Оно применимо лишь к индивидам,
предающим интересы какого-либо коллектива, но не во имя более высоких и
справедливых интересов, что было бы, напротив, признаком относительной моральности,
а исключительно ради личной выгоды. Итак, до тех пор, пока индивид сохраняет
верность и страстную преданность общим и более или менее идеализированным
интересам какого-либо коллектива, как бы ни были аморальны поступки, которые он
совершает ради этого сообщества или совместно с ним, нельзя сказать, что он
коррумпирован.
Таким образом, грабитель или вор представляет в высшей степени
безнравственные коллективные интересы, несомненно, преступные и пагубные для общества
в целом; но до тех пор, пока он предан своей банде и готов пожертвовать собой
во имя ее спасения, его нельзя назвать коррумпированным. Есть ли что более
отвратительное и порочное, грубое и бесчеловечное, более противоречащее всему
тому, что получило в XIX веке название цивилизации и морали, чем поведение
всех этих геаералов и офицеров германской армии? Сии достойные представители
раболепного и в то же время спесивого дворянства предаются сегодня во Франции,
с пылом, выдающим их истинную сущность, обычно запретным, но сейчас
дозволенным и даже похвальным утехам - они грабят, убивают и совершают самые
разнообразные жестокости под знаменами нового императора Германии, для которого
они, по энергичному выражению Берна, являются не столько подданными, сколько
лакеями. Так вот, сколь бы гнусны и отвратительны ни были их деяния,- совер-
60
шая их, эти люди верили, что выполняют долг немецких патриотов и верных
подданных своего властелина: если они верят, что служат таким образом чести
национального знамени или интересам и славе дворянского сословия, к которому по
большей части принадлежат, то можно сказать, что они жестокие, хоть и
цивилизованные дикари, злейшие и опаснейшие враги всего, что есть человеческого в
человечестве, но нельзя назвать их коррумпированными. Этого нельзя сказать даже о
шпионах, которыми граф Бисмарк заполонил, кажется, всю Францию,- ведь многие
из них занимаются своим гнусным ремеслом из чистого патриотизма.
Иезуит, совершающий, не ради личного интереса, но во славу церкви и
Господа и во имя обогащения своего ордена, те ужасные преступления, которые
покойный Эжен Сю взвалил на голову бедного отца Родена,- этот иезуит, несомненно,
гнусен, но не коррумпирован. Буржуа, который не из трусости или корысти, но
лишь ради спасения своего класса от социальной революции предает Францию
пруссакам,- заслуживает каких угодно определений, но он не коррумпирован.
Когда молодой радикальный буржуа, к примеру, г. Андрие, прокурор Республики
в Лионе, забыв о своих шалостях вольнодумца и социал-демократа, одной рукой
ласкает бонапартистов, а другой свирепо карает представителей народа, о нем
можно лишь сказать, что он вновь обрел моральные принципы своего класса. Но,
напротив, когда мы видим, как рабочий, к примеру, г. Бриалу, выбранный в
муниципальный совет Лиона своими товарищами, пренебрег ими, обманул их, пожертвовал
интересами народа и Франции во имя интересов буржуазии,— о, тогда мы назовем
это предательством и коррупцией, если только поступки его не вызваны
тщеславием и глупостью.
Коррупция, как я уже сказал, вовсе не изобретение бонапартизма; она
возникла с появлением первого в истории политического государства, но именно в
наши дни стала политическим институтом государства. Впрочем, никогда не было
государства, которое в той или иной мере не прибегало бы к коррупции как к
средству управления; ни одно государство не могло в достаточной степени
укрепиться благодаря урегулированию интересов классов, представителем и естественным
защитником которых оно являлось,- достаточно, чтобы не бояться ни внешних, ни
внутренних врагов. И если этих врагов нельзя было ни удовлетворить, допустив в
состав привилегированного класса, ни уничтожить, ни парализовать, ни запугать
своим могуществом, государство вынуждено было пытаться их подкупить. Но число
коррумпированных было бесконечно меньше в прошлом, чем в наши дни: меньше
до революции, гораздо меньше в средневековье и совсем ничтожно в древности.
В древности государство и религиозный культ составляли единое целое, так что
само государство, принимавшее обличье богов, и являлось постоянным и реальным
предметом религиозного культа. Предательство интересов государства
расценивалось в общественном мнении как самое преступное и презренное святотатство.
Впрочем, в древнем мире один человек не мог поставить себя вне общества как
существо, имеющее отдельную жизнь, независимую от какой-либо политической и
социальной общности. Собственно, человек еще не существовал или существовал
лишь как предмет философских размышлений; на самом деле он был лишь
гражданин, и каждый гражданин вкладывал всю свою душу или даже обретал свою
душу, принцип своего индивидуального существования, лишь в пределах этой
национальной организованной и ограниченной общности, которая называлась
государством. Коррупция и предательство в этот золотой век политики были, несомненно,
исключительно трудны и редки.
Христианство дало человеку индивидуальную душу, независимую от
государства и даже от общества. Оно, бесспорно, заронило в его душу семена эгоизма,
освященного и узаконенного религией; а также мысль о вечном спасении каждого,
наряду с уверенностью, что избранных слишком мало и, значит, огромное
большинство его сограждан навеки осуждено гореть в геенне огненной. Этой доктриной
христианство разрушило античную политическую солидарность; но разрушило лишь
для того, чтобы создать новую: солидарность избранных или праведников, Церковь,
т. е. духовную и небесную общность, а рикошетом и иную светскую общность
новых государств, благословленных и освященных церковью. Так в средневековье
возникли два мира, неразделимо связанные и в то же время противостоящие друг
61
другу: церковь и государство. Их глубокий антагонизм, развиваясь и углубляясь,
медленно, но верно отрывал многие души то от одной, то от другой, а часто от
обоих. Между этими мирами, поглощенными вечной борьбой друг с другом, с
естественной необходимостью появилась третья категория общностей — более
ограниченных, а потому теснее сплоченных и крепче связанных: классы и корпорации,
отделенные от церкви и государства и тем не менее неотделимые от них и
принимающие то одну, то другую сторону: дворянство чаще и охотнее примыкало к
церкви, а буржуазия и рабочие корпорации - к государству. Что же касается
народных масс (крестьян и крепостных), служащих опорой истории и всегда
приносимых в жертву церкви и государству, то они всегда склонялись то туда, то сюда
и принимали ту сторону, которая сулила им защиту, облегчение участи и спасение,
никогда, впрочем, не выполняя своих обещаний.
В такой организации было мало места для индивидуализма, а значит, и
условий для коррупции. Средневековье, в сущности, было сплошной гражданской
войной, правда, организованной, но варварской и беспощадной к побежденным, а ничто
так не укрепляет союз, ничто не способно так упрочить чувство сплоченности,
доходящее до страсти, как борьба. Да и сами интересы людей требовали такой
солидарности: в разгар этой беспрестанной и беспощадной борьбы индивид мог спасти
свою жизнь, лишь опираясь на ту общность, к которой он принадлежал. И наконец,
религиозный дух, царивший тогда в Европе, придавал всем этим ассоциациям, как
бы ни были преступны их замыслы, священный и мистический характер.
Верность и честь считались религиозными добродетелями. По сравнению с нашей
эпохой индивидуальный бунт и предательство были весьма редки. Совершаемые
обычно под влиянием сильных чувств, они вызывали всеобщее порицание и почти
всегда приводили либо к раскаянию, либо к ужасным наказаниям. Для бунта
средневековому человеку, будь то даже король или император, нужно было проявить
истинный героизм, настолько каждый был связан прочными узами солидарности,
одновременно мистической, политической и социальной.
В конце средних веков, начиная со второй половины XV вплоть до первой
половины XVII века, две категории людей, чтобы не сказать два класса, стали
проявлять заметное стремление к индивидуальному раскрепощению, а именно к
коррупции. Это были военные банды и политики. И те и другие возникли сначала и
главным образом в Италии.
Собственно говоря, банды не были итальянскими. В большинстве своем они
состояли из французов, испанцев и особенно немцев. Их привлекали в Италию как
гражданские войны, так и войны между государствами, театром которых столь
долго была эта прекрасная и несчастная страна. В сущности, это были банды
грабителей, более или менее организованные и дисциплинированные, состоящие из
людей многих национальностей, висельников, которых объединяли лишь узы
порока, варварства, страсти к наживе,- людей без веры, без закона, предлагающих свои
услуги тому, кто лучше заплатит, которых ничуть не заботит справедливость или
несправедливость его действий - лишь бы хорошо платили. Большей частью эти
банды состояли из людей сильных духом, насмехающихся над Богом и дьяволом,
как и те политики, о которых я вскоре скажу. Это они прекрасно доказали в
первой половине XVI века: когда их привел в Рим коннетабль Бурбона, генерал
ревностного императора-католика и защитника религии Карла V, они безжалостно
разорили эту святую столицу католического мира. Из них по большей части
состояли императорские и баварские армии во время Тридцатилетней войны.
Позднее эти банды вошли в состав постоянных регулярных армий крупных
государств и, естественно, привнесли всю свирепость и распутство, приобретенные
ими на протяжении двухвековых занятий доходным и жестоким ремеслом
грабителей, в большинство стран Европы. Но в регулярных армиях все эти
блистательные качества не уничтожились, а энергично подавлялись железной дисциплиной,
не менее жестокой и безжалостной, чем они сами, и могли служить лишь пользе
государства. Именно так и возникла пресловутая добродетель самопожертвования
солдата, столь превозносимая сегодня всеми любителями порядка как такового,
будь то монархисты или республиканцы. Эта добродетель - не что иное, как
презрение к правам человека или глупое пренебрежение ими, презрение ко всем че-
62
ловечесхим симпатиям, а также свирепость, обычно присущая грабителям, которых
железная дисциплина превращает в механический инструмент, слепо и
беспрекословно повинующийся воле начальников. Об этом говорят неслыханные подвиги
германских армий в несчастной Франции, описаниями которых заполнены в наши
дни колонки всех газет и от которых продолжают надуваться спесью сердца
доброй немецкой буржуазии, пока они не обернутся против нее, что обязательно
вскоре произойдет: ведь каждый из этих подвигов - преступление. Обманываются те,
кто воображает, что наши современные регулярные армии ведут начало от рыцарства.
Хоть это и не нравится германскому юнкерству, они не имеют с рыцарством
ничего общего. Они происходят непосредственно от шаек вольных средневековых
разбойников, убийц и грабителей и до сих пор сохранили всю их природу. Ибо в
регулярных армиях самых цивилизованных государств вы всегда найдете слегка
замаскированного старого разбойника, старого средневекового грабителя, несомненно,
обузданного дисциплиной, но не менее жестокого и ожидающего лишь сигнала своего
начальника, чтобы с радостью предаться своему ремеслу.
Повторяю, хотя военные банды и совершали свои подвиги в Италии, они были
более испанскими и французскими, нежели итальянскими; и более немецкими,
чем испанскими и французскими. Что до племени политиков, то, напротив, оно
было исключительно итальянским. Наука и искусство современной политики
происходят из Италии.
И в самом деле, Италия стала колыбелью современной цивилизации во всех
отношениях, положительных и отрицательных. В то время как вся Европа,
раздираемая жестокостью материальной силы и глупостью убаюкивающей веры,
погружалась в болезненный и тяжелый сон, уже со второй половины XI века многие
итальянские города — Венеция, Генуя, Флоренция, Милан, Павия и другие — были
уже в полной мере республиками; особенно процветали две первые благодаря своей
торговле и промышленности. Уже в XII веке они основали свою первую лигу
против императора и папы. В XIII веке они заложили основы современного
искусства. В XIV веке у них была великолепная литература: поэзия Данте и проза Бок-
каччио. Дух этой литературы, проницательный, практический и смелый,
обращенный против религии и господства церкви, можно сравнить лишь с Вольтером,
появившимся на четыре века позже. В XV веке в Италии был ренессанс греческой
и латинской литературы, Христофор Колумб и первые философы-атеисты. И
наконец, в XVI веке, веке Макиавелли, Италия поразила мир несравненной
гениальностью своих великих художников, смелостью своих вольнодумцев и в то же
время — своим глубоким упадком. Ибо именно в эту эпоху она в конце концов пала
под двойным деспотизмом папы и императора, на этот раз объединившихся против
нее. Италия пала и утратила все свои свободы. В XVII веке, подобно заходящему
солнцу, она бросила последний отблеск, как бы прощальный луч всему миру
благодаря великому гению Галилея, истинного отца современных позитивных наук,
устами которого она вынуждена была просить прощения у Римской инквизиции за
то, что осмелилась сохранить свой бессмертный гений.
В течение пяти веков свободы и торгового, промышленного, художественного,
литературного, философского и общественного процветания итальянские города
развивали и испробовали все политические формы, начиная с кратковременной
тирании ее маленьких деспотов, умных, но жестоких,— до народной демократии. На
новой основе католицизма они возродили опыт городов античной Греции, что с
необходимостью привело к новому искусству — искусству побеждать и сохранять
власть всеми возможными способами и новой науке — науке о государстве, которую
представляли профессиональные политики, поразившие мир своими дерзкими и
жестокими преступлениями и глубокой изысканностью своего опыта и коррупции.
В течение пяти веков в Италии шла ожесточенная борьба между классами,
партиями и индивидами за захват государственной власти, что составляет на деле
единственный предмет, единственную серьезную заботу политики. Каждый маленький
итальянский городок был как бы отдельным миром, представлявшим одну и ту же
политическую драму с некоторыми присущими только ему локальными
особенностями; каждый город был своеобразной академией, где индивиды и классы, так
сказать, вынуждены были изучать на практике науку и искусство политики. Добавьте
63
к этому соперничество и бесконечную борьбу городов между собой и на фоне всего
этого усложнения и многообразия отношений - острую, постоянную борьбу папы и
императора, Гвельфов и Гибеллинов. Все это должно было способствовать
формированию политического характера итальянцев и в конечном счете сообщило ему
тот отпечаток коварства и глубокой порочности, за который их так часто упрекали.
Династии Сфорца, Борджиа и Медичи уже существовали и действовали, прежде
чем Никколо Макиавелли, великий основоположник позитивистской политики,
написал свои бессмертные труды.
Не Макиавелли изобрел вероломство, непременное свойство всякой политики.
Он его лишь констатировал, упорядочил и обобщил не в искусственной, а в
совершенно естественной, свойственной самой логике вещей системе, которая стала
предметом его учения. Он просто-напросто представил историю естественной, создал
физиологическое описание такого общества, каким оно предстало его глазам, и вывел
его основные принципы. Из самих глубин исторического прошлого и настоящего
Италии он лучше, чем кто-либо до него и даже после него, сумел извлечь вечные
законы политики.
Каков же, по Макиавелли, основной принцип политики? Он ужасен, но реален.
Это преступление. Только с помощью преступления можно создать, укрепить и
сохранить государственную власть: но с того момента, когда преступление начинает
служить орудием государства, оно становится добродетелью. Таков великий
принцип Макиавелли, таков и вечный принцип политической борьбы всех минувших,
настоящих и грядущих государств.
Макиавелли был великим патриотом. Глубоко озабоченный упадком своей
страны, он горячо жаждал ее освобождения и возрождения, выступая против папы и
императора. Он не возлагал больших надежд на ее укрепление с помощью
католицизма, как, например, Данте. За два века, прошедших со времени Данте,
преступления пап, разложение церкви и священников привели к тому, что просвещенные
классы и даже большая часть населения городов почти полностью утратили
религиозную веру. Слишком большие бедствия причинил Италии Бог, олицетворяемый
церковью. Макиавелли и его современники могли отныне рассчитывать лишь на
человеческие средства, но там, где религия продолжала еще оказывать реальное
воздействие на дух народа, можно было использовать и ее. Итак, религия умерла в
сердцах самой просвещенной части итальянского народа, особенно в городах,—
а известно, что и поныне итальянские государственные деятели смотрят на
население деревень как на кариатиду или необходимую для своего существования дойную
корову. Все политические и общественные институты, все классы и сообщества,
созданные и долгое время вдохновлявшиеся католицизмом, неизбежно были
вовлечены в общий процесс гибели Отчизны, и никто из них уже не смог стать опорой
ее обновления. Но с той поры, как жизненные силы нации, ее организованная
социальная реальность не могли больше быть естественной базой возрождения
Италии как государства, возникла потребность создать нечто новое, стоящее вне жизни
нации и свободы народа; создать при помощи политики истинно патриотической
по своим целям, но глубоко коварной по средствам, которые, казалось, только и
могли отныне привести к достижению этих целей. Необходимо было возродить
Италию посредством насилия и лжи, целой серии дерзких, ловко рассчитанных
заранее преступлений.
Такова мысль книги «Государь». Впрочем, Макиавелли был не более
монархистом, чем республиканцем. Прежде всего он был итальянцем. В сущности, по
своему темпераменту и образу жизни он скорее склонялся даже к республиканской,
чем монархической форме правления. Особенно он выступал за создание великого
и сильного национального государства, монархического или республиканского; он был
твердо убежден, что и монархия, и республика основаны на смелых и ловких
интригах, направленных при монархии против так называемых народных партий,
а при республике против откровенно реакционных партий, а особенно против тех,
кто стремился к престолу,- но и в том, и в другом случае это вело к обману и
порабощению народных масс. К тому же? придерживаясь позитивистских взглядов
и будучи одним из самых просвещенных людей своей эпохи, Макиавелли
прекрасно видел, что общий ход истории в его время определенно ведет к созданию
64
крупных монархий; он понимал также, что существование сильного и в
значительной степени централизованного государства несовместимо с республиканскими
формами правления *. Он стал монархистом не по своему чувству, которое оставалось
глубоко республиканским, а благодаря разуму, подкрепленному глубоким знанием
итальянской действительности, который доказывал, что спасение его несчастной
родины, находящейся под двойным гнетом, светским и духовным - императора и
папы,- лишь в искусственном создании монархической державы, основанной не на
политике активного и дружеского сотрудничества с итальянским народом, а на его
политическом, социальном и духовном уничтожении.
Макиавелли с великолепной проницательностью угадал и предсказал в своей
книге основной принцип современной государственной власти, установившейся на
обломках средневековья после религиозных войн на всем европейском континенте,
кроме Нидерландов и Швейцарии, начиная со второй половины XVII века. Этот
принцип — не что иное, как принцип искусственной и главным образом
механической силы, опирающейся на тщательно разработанную, научную эксплуатацию
богатств и жизненных ресурсов нации и организованной так, чтобы держать ее в
абсолютном повиновении. Этот принцип выносит смертный приговор всем
национальным структурам и содержит явное или скрытое порабощение народов и торжество
абсолютной централизованной власти: военной, бюрократической, полицейской,
финансовой. Сама эта власть стала объектом чего-то вроде религиозного культа.
Именно этот строй, под тройным, в равной степени гибельным влиянием татар,
Византии и цивилизации, официально вывезенной из Германии, укрепился в
германо-восточной части Российской империи; именно этот строй, начиная с
Вестфальского мира, основанный во Франции политическими авантюристами, приехав-
* Для доказательства совместимости сильной государственной власти и свободы
граждан приверженцы чисто политической республики приводят в пример
Соединенные Штаты Америки или Великобританию. Но они всегда забывают, что основой
Северной Америки были не государства, а штаты. Бесспорно, в наши дни, особенно с
последней войны, Соединенные Штаты Америки стремятся к концентрации и
большему единению, к созданию сильного, единого и неделимого государства. Это
результат большой политической победы, ибо политика непременно всегда и повсюду имеет
единственную главную цель: создание сильной власти, способной подавить
человеческую справедливость и свободу. Если бы это стремление американцев Севера к
политической централизации увенчалось успехом, было бы покончено и с их свободой,
и с их республиканской формой правления. Это, несомненно, произошло бы
благодаря тому естественному импульсу, который роковым образом подталкивает все
формы политической демократии, основанные на неравенстве социальных условий и на
наемном труде народных масс, к превращению, рано или поздно, сначала в военную
диктатуру, более или менее прикрытую республиканскими формами правления, а
затем в монархию, также прикрытую разными конституционными формами. И лишь
набирающее в последние годы силу в Америке, как и в Европе, мощное
социалистическое движение, стремящееся заменить политическое правление сверху
экономической и социальной организацией снизу,— лишь оно внушает надежду, что все
попытки создать мощную политическую централизованную организацию потерпят крах
перед проявлением уже не столь слепой, хотя и не вполне еще осознанной воли
народных масс...
Тому, кто хочет мыслить серьезно и непредвзято и основывать свои политические
выводы лишь на реальных событиях, взаимоотношениях государства и классов,
должно быть ясно: сегодня и в Европе, и в Америке остаются только два течения, два
реальных направления: одно ведет цивилизованный мир к созданию крупных
государств, огромных и чудовищных политических, деспотических, технических, военных
и бюрократических объединений, основанных на окончательном подавлении, чтобы не
сказать полном рабстве, трудовых масс для процветания имущих и господствующих
классов, в свою очередь подчиненных всемогущему государству. Другое направление
ведет пролетариат всех стран к полному его освобождению от государственной
власти и позволяет предвидеть в недалеком будущем организацию нового
международного типа, основанную на свободе и на принципах социального и экономического
равенства. Все. что происходит между этими фатально противоположными
направлениями, отныне лишено права на существование и средств к существованию — лишь дым
и призрак.
У меня нет сомнений, что народное движение, результат самой логики истории
и естественных потребностей человеческой природы, в конце концов должно
восторжествовать. Но я все более убеждаюсь, что окончательного торжества человечества
над жестокостью можно добиться лишь ценой ужасной борьбы и огромных жертв.
3 Вопросы философии Ли 12. Q5
шими сюда из Италии в свите Екатерины и Марии Медичи, и расширенный и
укрепленный гением Ришелье, окончательно установился при Людовике XIV. Строй
этот пережил многие революции, которые не ослабляли, а, напротив, еще больше
укрепляли его, в течение двух веков поддерживая славу и мощь Франции. В конце
концов строй стал приходить в упадок и, деморализуя Францию своими
постоянными победами, вверг страну в ужасное состояние, в котором она и пребывает
поныне. Из этого положения Францию может вывести только социальная революция,
т. е. окончательное свержение этого строя, разрушение государства. В Германии
этот строй был возведен на руинах старой Германской империи в результате
победы протестантского движения: воздействие этой религиозной реформы, имевшей
освободительное значение и пробуждавшей повсюду в иных странах прогрессивные
устремления, в этой стране почтительной субординации и иллюзорных идеалов
имело единственный результат: оно полностью парализовало, по крайней мере на
протяжении двух веков, развитие умов и окончательно утвердило религиозный
культ светской власти, культ власти правителей и их чиновников. Реформация еще
и сегодня продолжает выполнять в Германии ту же обязанность, которую
восточное христианство с давних пор исполняло в России: обращать души, эгоистически
занятые собственным спасением, к Богу, а тело и имущество каждого и всех вместе
предавать абсолютному произволу государя *.
Наконец, этот строй, опирающийся, с одной стороны, на военную жестокость
дворян, низкопоклонство которых перед государем можно сравнить лишь с их
глупым презрением ко всему, что в социальной иерархии находится ниже их,
а с другой стороны, на рабский, страстный патриотизм буржуазии, терпеливой и
послушной до конца жизни — создается теперь во второй Германской империи —
прусско-германской империи, основанной на страхе перед Богом и уважении власти
и всех вышестоящих.
Перевод Т. Е. Салъе, И. М. Козиной
* В письме, направленном несколько месяцев тому назад в редакцию
небольшой газеты г. Женевы, издававшейся на русском языке, признанный глава немецких
коммунистов г. Карл Маркс изложил исторический софизм, весьма меня удививший,
ибо он исходил от столь образованного и интеллигентного человека. Карл Маркс
утверждает, что если в Германии до сих пор существует абсолютная власть государей,
то это следует объяснять в основном роковым влиянием России. Он странным
образом недооценивает историю своей собственной страны, выдвигая то, что явно
противоречит опыту всех времен и всех стран. Видано ли когда-нибудь, чтобы нация,
стоящая на более низкой ступени цивилизации, навязывала и передавала свои
собственные принципы несравненно более развитой стране иначе как путем завоевания?
Но Германия, насколько мне известно, никогда не была завоевана Россией.
Следовательно, совершенно невозможно, чтобы Германия могла принять какой-либо
русский принцип; но более чем вероятно, и даже несомненно, что в результате их
непосредственного соседства и своего политического, промышленного, торгового,
научного и социального превосходства Германия привнесла в Россию свои собственные
идеи, что обычно признают и сами немцы, когда не без гордости говорят, что Россия
обязана Германии той частицей цивилизованности, которой она обладает. И
действительно: в политическом и административном, военном и бюрократическом
отношении созданием нашего имперского строя мы обязаны Германии. Кроме того, мы
обязаны ей нашей дорогой царствующей династией, чисто немецкой по крови.
Если не игнорировать и не отрицать историю, господин Карл Маркс должеп
признать, что народ, а точнее русские народы,- ибо существуют но крайней мере два
основных народа — народы Великороссии и Малороссии, говорящие на двух языках и
имеющие во многих отношениях две разные истории,— что эти народы, повторяю,
ни в коей мере не способствовали возвышению той империи, которая зародилась и
стала развиваться в Москве под владычеством и жестоким влиянием татар. И эта
империя немного выиграла в человеческом плане, получив позднее Византийское
благословение...
От редакции. Восстанавливая сегодня «прерванные нити» отечественной истории,
мы в первую очередь (и это естественно) обращаем внимание на нашу эмиграцию
как хранительницу духовного наследия прошлого. Между тем не менее важным с
этой точки зрения является, на наш взгляд, и творчество тех представителей
зарубежной мысли, чья жизнь и духовный опыт непосредственно связаны с изучением
русской культуры и шире — истории России вообще. Их интерес к ее своеобразию
и уникальности, желание видеть Россию в кругу европейских народов — все это
свидетельствует, как правило, не только о глубоком понимании западными
специалистами своего предмета изучения, но и одновременно о переживании его как
неотъемлемой части своей духовной и профессиональной биографии.
Публикуемая глава из книги «Встречи с Милошем» Анджея Валицкого — одного
из самых известных сегодня на Западе специалистов по истории русской мысли
XIX—начала XX в., как увидит читатель, яркий пример именно такого
отношения к нашей отечественной истории.
Чеслав Милош — известный польский писатель, лауреат Нобелевской премии.
Россия*
А. ВАЛИЦКИЙ
Край родной долготерпения,
Край ты русского народа!
В Россию можно только верить.
Ф. И. Тютчев
10.1. 1981. Россия — одна из главных тем моей переписки с
Милошем в 1960 году. Это также одна из главных тем моей жизни...
Прадед мой, Леопольд Валицкий, был сослан в Сибирь за участие в
восстании 1863 г. и после амнистии не вернулся на родину. Отец
родился в Петербурге; после революции, подростком, он некоторое время был
смотрителем маяка на Ладоге. В детстве бабушка показывала мне
польские книги, проколотые казачьими штыками во время какого-то обыска.
Но мне не внушали чувства ненависти к России. Наоборот, мой дедушка,
Леон Валицкий, с тоской вспоминал дореволюционную Россию. В
последний год войны — после варшавского восстания, на переломе 1944/45 гг.—
именно он, в условиях крайней нужды и голода, с энтузиазмом обучал
меня русскому языку. Когда в 1945 г. приближалась Красная Армия,
дедушка видел в этом повторение той катастрофы, которая прежде
постигла Россию: Он не пытался возбуждать во мне ненависть к «красным»,
так как считал их орудием наказания, которому подвергаются очередные
страны за измену ценностям христианства.
Позднее я узнал, что семейные связи окольными путями роднят меня
с русскими, причем не с кем-нибудь: жена моего дяди, знаменитого
хирурга Леона Мантойфеля—Барбара Кампиони — родилась в семье, по-
* Andrzej Walicki. Spotkania z Miloszem. London, 1985, S. 72-109.
3* G7
родненной с Бакуниными и Тургеневыми. Леон Мантойфель,
рассказывая об этом, как-то заметил, что и моего отца он считает наполовину
русским, потому что русская земля налагает на каждого, кто на ней
родился, неизгладимый отпечаток.
Мое поступление на филологический факультет и выбор русского
языка и литературы в качестве предмета изучения были продиктованы
чисто внешними обстоятельствами. На самом деле я хотел изучать
философию, но в 1949 г. философское отделение было закрыто по
политическим причинам. Возможность же заниматься, например, польской
филологией была у меня отрезана в связи с арестом отца. И вот
экзаменационная комиссия университета в Лодзи предложила мне, в сущности,
единственную возможность — поступить на только что открывшееся
отделение русского языка, испытывавшее резкий недобор студентов. То,
что я охотно это предложение принял, вытекало из отсутствия каких-либо
предубеждений по отношению к России и из подлинного интереса к ее
истории и культуре. Полной трагизма историей России заинтересовал
меня Бжозовский *, книгу которого «Пламя» я прочитал еще в
школьные годы; в русскую духовную культуру, в мир русской мысли ввел меня
Сергей Гессен 2, о котором в начале 1955 г. я написал отдельные
воспоминания. Эти воспоминания, более чем двадцатипятилетней давности,
являются началом того, что я пишу сейчас, и органической частью
задуманного мною цикла очерков, который я мог бы озаглавить так же, как
и Герцен: «Былое и думы».
Коль скоро это заглавие упомянуто, стоит, я думаю, привести рассказ
о моих впечатлениях от первого знакомства с этой прекрасной книгой
Герцена. Они были изложены в письме Крыстыне (от 2 февраля 1952 г.)
из санатория в Косцяне.
«Очень жаль, что у меня нет следующих томов о жизни в эмиграции,
о польской эмиграции, о хлопотах с созданием первого и единственного
свободного русского политического журнала («Колокола»),
завершившихся печатаньем его в польской типографии и отправкой через польских
эмиссаров. Но уже в первом томе есть упоминания о ссыльных поляках
и много мест, посвященных Польше. Автор предисловия также приводит
много отрывков (частично известных мне) из статей Герцена о Польше.
...Я читал эти места со сдавленным горлом (что-то давит его и сейчас) —
слезы, волнение, благодарность и страшная боль... Ты это понимаешь или
должна понимать. Вера в необходимость космополитизма науки и
философии, давняя мечта о-братстве народов не мешает мне до боли любить
Польшу, меньше ту — с картин Матейко, больше — с Гроттгера, меньше
сенкевичевскую, больше из романов Жеромского, Польшу после
разделов, периода восстаний. Подчас что-то рванет эту струну, когда не ждешь,
когда скептически усомнился и в ее существовании, и в ее ценности.
Не верь этим моим сомнениям. Достаточно заглянуть в «Папа Тадеуша»,
достаточно почитать, как Герцен вспоминает, что его товарищи по
университету радовались каждому поражению Дибича... Я горжусь тем, что
мой прадед прошел сибирскую ссылку. Но иногда меня охватывает
отчаяние, так как мне кажется, что лишь немногие могут это понять ...
Новое, искусственное, сверху заданное единство, именуемое
социалистическим народом, не только чуждо мне, но оно недействительно, призрачно...
То же самое до некоторой степени я чувствую по отношению к России,
прежней России, которую отдельные поляки способны хорошо
понимать — первые книги, которые научили меня любить ее, были польские:
1 Бжозовский Станислав Леопольд, псевд. Адам Чепил (1878-1911) - польский
философ, теоретик культуры, лит. критик, публицист, прозаик.- Прим. ред.
2 Гессен Сергей Иосифович (1887-1950) -русский философ, создатель так
называемой педагогики культуры. Печатается под псевд. Sergius. С. Гессену Валицкий
посвятил свою книгу «Legal Philosophies of Russian Liberalism» (Oxford, 1987).- Прим.
ред.
68
«Пламя» Бжозовского и прекрасная монография Кульчицкого под
заглавием «Русская Революция, от Радищева до Плеханова (как народника)».
Совершенно иным, полным отвращения, органического,
непроизвольного отталкивания было мое отношение к официальному «советизму».
Проводимая в мои студенческие годы «борьба с космополитизмом»
казалась мне варварской и в то же время бесподобно смешной. Мои
товарищи полонисты слышали о ней весьма немного, потому что в Польше
сталинисты боролись скорее с патриотизмом, чем с «космополитизмом» и,
пожалуй, сознательно старались — блюдя репутацию «страны Советов»,—
чтобы мы не знали слишком много о бушующем в СССР обскурантизме.
Поэтому я старался распространять информацию об этом: повторял в
разговорах высказывания Жданова о лишенной чувства патриотизма
Анне Ахматовой, которая «копалась в своей грязной душонке», сообщал
об осуждении чуть ли не всей дождановской советской науки за
«низкопоклонство» перед Западом, о бессовестных извращениях исторических
фактов (например, об оценке Суворова в новейшем издании
энциклопедии как полководце, который при взятии Варшавы отличился особой
гуманностью), о запрете приводить цитаты даже Ленина, если они
заключали, например, мысль о том, что Чернышевский был «учеником
Фейербаха», о попытках представлять не только русских писателей, но и
русских мыслителей (среди них Белинского, которого я, впрочем, высоко
ценил), как «превышающих на четыре головы» (sic!) своих западных
современников и т. д., и т. п. По содержанию эти мракобесные
проявления великорусского шовинизма казались мне смешными, но в ужас
приводило то, что эта кампания велась с использованием карательного
аппарата тоталитарного государства и имела свои последствия: все
издававшиеся тогда советские книги, особенно из области русской философии и
общественной мысли, были похожи друг на друга как две капли воды —
одно и то же содержание, те же громы и молнии, метаемые в западную
науку и отечественных «космополитов», те же цитаты из Ленина и
Сталина и не менее характерное замалчивание тех высказываний в их
работах (даже Сталина!), которые не подходили к выдвигаемым в данный
момент заданиям идеологического характера.
То, что русские приписывают себе приоритет или высшие достижения
во всех областях науки и культуры, было, конечно, общеизвестно.
Ходили об этом анекдоты, например, об открытии рентгеновских лучей
русским попом 17-го века, что подтверждалось записью летописца,
приводящего слова, сказанные попом в разговоре с женой: «Вижу тебя насквозь,
старая ведьма». Немногие, однако, отдавали себе отчет в размерах
угрозы, которая нависла над Россией и тем самым над нами. Тут дело было
не в защите подлинных ценностей родной культуры; борьба с
космополитизмом была отнюдь не борьбой славянофилов с западниками. Она
использовалась для того, чтобы отделить русскую культуру от остального
мира; во имя этого и было организовано гонение на всех просвещенных
людей в России. Надо было выдвинуть людей безграмотных и играть на
их примитивно националистических чувствах и антиинтеллигентских
настроениях, чтобы превратить их в орудие разрушения всякой подлинной
духовной жизни, которая самим своим существованием оказывала
сопротивление сталинским, поистине дьявольским притязаниям на полное
контролирование человеческих мыслей и чувств. Антисемитский аспект
этой кампании был для меня вначале второстепенным, потом, однако,
мое внимание на этот вопрос обратили сами русские. О многих вещах,
например, об отождествлении на практике «космополитизма» с
«сионизмом», а последнего с еврейским происхождением, я узнал во время моего
пребывания в СССР в конце 1956 года.
В этой связи я позволю себе небольшое отступление. 15 июня
1962 года заведующий сектором истории философии народов СССР в
Институте философии в Москве В. Евграфов на публичном собрании
69
своего коллектива в следующих словах пытался убедить меня в том, что
«борьба с космополитизмом» была правильной:
«Андрей Михайлович, вы должны это понять. Ведь русский народ
на протяжении веков находился в глубочайшем унижении. Народу,
обладающему таким великим духом, отказывали в праве гордиться своей
философией, говорили, что, собственно, пе было русской философии.
Некоторые товарищи стали даже говорить, что интеллигенция русского
народа — это евреи. Андрей Михайлович, разве вы бы пе возмутились,
если такое говорилось о польском народе? Русский народ был унижаем
даже в республиках, например, на Кавказе было 30% русских, но их
отстраняли от республиканских и партийных органов власти. Надо же
было это прекратить!»
Вернусь, однако, к периоду моей университетской учебы. Мне
кажется, что многие студенты-русисты осознали со временем всю глубину
падения советской науки. Моя же способность увидеть это раньше других
объясняется просто тем, что я занимался не только литературоведением,
но и русской общественно-философской мыслью, которая была главным
объектом проведения «аитикосмополитической» кампании. Меня и по
сей день тошнит, когда я думаю о десятках прочитанных мною работ
о так называемых «русских революционных демократах», которых
провозглашали тогда величайшими в мире философами домарксистского
периода. <...>
Позднее, в период «оттепели», я часто задавал себе вопрос, в какой
степени советская Россия, в особенности сталинская, является
продолжением дореволюционной России? Или иначе, в какой степени русская
традиция, в частности традиция русской революционной интеллигенции,
способствовала возникновению в XX в. новой, поистине чудовищной формы
«азиатского деспотизма»? Тезис о прямой, непосредственной
преемственности, развиваемый в многотомном труде Яна Кухажевского «От белого
до красного царизма», я отвергал с порога. Ибо сущность сталинизма
я усматривал в порабощении умов, в насильственной унификации
духовной жизни, а ничего такого в России XIX века, которую я лучше всего
знал, не было. Даже в мрачную николаевскую эпоху духовная жизнь
была богата, разнообразна, цензура выполняла лишь «негативную»
функцию. То есть было известно, что о многом писать нельзя, но никто
не указывал, как надлежало писать или думать, не было организованного,
идеологического нажима для достижения (как выражались в Советском
Союзе) «морально-политического единства». А что уж говорить о после-
николаевском времени! Когда после крымской войны стали появляться
различные (в том числе и радикальные) политические группировки п
течения, и каждое находило способы выражать себя в легальной, хотя
и контролируемой цензурой печати. А еще позднее? После революции
1905—1906 гг., когда началось такое, во что советским людям вообще,
видимо, трудно поверить. Ведь цензура стала фактически поощрять в
это время революционное движение, пропуская издания, направленные
против существующего строя, симпатизирующие даже террористам.
Кроме того, даже во времена Николая I, в этот «апогей самодержавия»,
политическая власть охватывала узкую сферу, не проникала во все
области общественной жизни; мысль о национализации экономики (не говоря
уже о культуре), то есть о превращении всего населения в подданных
власти чиновников, была ей совершенно чужда. Принимая это во
внимание, я согласился бы тогда (и согласен сейчас) с положением
Солженицына что между дореволюционной Россией и Россией, возникшей
после революции, разверзлась пропасть.
11. I. И в то же время я не мог не продолжать поиск причин,
вследствие которых итог русской революции оказался именно таким. Сильное
впечатление произвели на меня статьи из сборника «Вехи», в котором
еще в 1909 г. были подвергнуты критике некоторые черты, характерные
70
для склада ума радикальной русской интеллигенции, и который поэтому
был назван Лениным «энциклопедией либерального ренегатства». В ходе
своих собственных исследований я тоже наталкивался нередко на эти
черты, которые следовало бы назвать «предтоталитарными» или по
крайней мере способствующими победе тоталитаризма. Я об этом говорил
однажды на собрании в клубе «Кривой круг» (Krzywe Kolo), и
присутствующий па нем проф. Станислав Оссовский столь высоко оцепил мое
выступление, что предложил сотрудничать в своем коллективе. Я
отказался от этого лестного предложения, так как не собирался стать sensu
stricto социологом, а кроме того, среди сотрудников Оссовского (Стефан
Новак, Витольд Едлицкий, Апджей Малевский) господствовала тогда
чуждая мне неопозитивистская тенденция. Но я согласился написать
для них статью, и через несколько месяцев (в начале 1958 г.) у меня
был готов текст в несколько десятков страниц, озаглавленный «От
народничества к ленинизму», с отдельным приложением о «Вехах». Я писал
в нем о ленинизме как «русифицированной» форме марксизма, обращая
внимание на характерное у русских отсутствие уважения или даже
презрение к праву (о чем говорил мне уже Гессен и что подтверждали мои
собственные исследования о славянофильстве и народничестве), на
слабое укоренение чувства неприкосновенности частной собственности и тем
самым — неотъемлемых прав человека, на сильную коллективистскую
тенденцию, связанную иногда (Ткачев!) с верой в коллективное спасение
путем применения насилия, на пренебрежение к политической свободе
(чаще всего в рамках критики западной цивилизащш), на
секуляризованные стремления к «царствию Божьему на земле», перерождающиеся
в антипрагматическую, презирающую «постепенство», догматическую
религию «социального возрождения» и т. д., и т. п. Немалое значение я
придавал замеченной мною разнице в смысловой коннотации слов
«демократия», «демократический» в польском и русском языках: в Польше
была «шляхетская (дворянская) демократия», ибо «демократия»
означала политическую свободу, в России же можно было говорить о
«демократическом царизме», так как демократия противопоставлялась
аристократии, а не автократии. Я писал об этом:
«Стоит подчеркнуть, что само слово «демократия» имело в России
значение не* «политическое», а «социальное»... До сегодняшнего дня в
России говорят о «демократических классах», «демократической среде» —
слово «демократический» является здесь синонимом слова «народный».
Важным новшеством XX съезда КПСС было введение в национальный
язык понятия «демократизации», и, следовательно, употребление слова
«демократия» по своему значению стало более «политическим», близким
к западноевропейскому».
Текст этот вызвал в коллективе проф. Оссовского большой интерес,
дискуссия была оживленной и, к счастью, не касалась вопроса о
«методологической правильности» моих исследований с точки зрения
неопозитивизма. Забегая вперед, скажу о дальнейшей судьбе этой работы, с
самого начала не предназначенной для публикации. О затронутых в ней
проблемах я беседовал в 1959 г. (находясь в США) со Збигневом Бже-
зинским, а затем с ней познакомился проф. Виктор Сукенницкий,
который незадолго до этого опубликовал книгу под заглавием «Колумбово
заблуждение», был изумлен, что сравнение Ленина с Колумбом, т. е.
мысль о том, что Ленин, хотя и открыл «новый мир», но не осуществил
своей цели (для Колумба целью было доплыть до Индии, для Ленина —
построить социализм) присутствовала и в моей работе, написанной до
выхода его книги. Прочитал и похвалил мой текст также Ричард Пайпс.
Возвратясь из Америки, я частично использовал эту работу, когда писал
большое введение к антологии текстов народников и вступительную
статью к избранным сочинениям Плеханова, опуская в них, однако, все
то, что могло быть признано явно «аитилеиинским» или «антисоветским».
71
В «послемартовский» период до меня дошли слухи, что какой-то
экземпляр моей работы пропал из архива бывшей кафедры проф. Оссовского
и что его читают в кругах так называемых «диссидентов». Это меня
заинтересовало еще и потому, что в единственной имеющейся у меня
копии недоставало нескольких страниц. Слухи подтвердились, и через
некоторое время Адам Михник принес мне аккуратно перепечатанный,
полный текст моих критических рассуждений о русской революционной
традиции и деформациях, которым подверглась в России марксистская
мысль.
О роли русских национальных традиций в прокладывании пути
советскому тоталитаризму можно спорить до бесконечности. Тут
возможны крайние точки зрения. Впрочем, еще в XIX в. русские в оценке
самих себя придерживались прямо противоположных мнений: от
хвастовства (далекого, правда, от ждановщины) до болезненно уничижительных
высказываний, причем их авторами были люди абсолютно непохожие
друг на друга, как, например, Чаадаев и Чернышевский. Моя
собственная точка зрения была всегда далекой от этих крайностей, хотя в
разные годы она менялась в зависимости от того, чем я в данный момент
занимался и что меня привлекало. Но тут не место обсуждать эти
вопросы во всей их сложности. Я здесь пишу о роли России в моей духовной
биографии, хочу объяснить ту позицию которую я занял по отношению
к русским проблемам в моей переписке с Милошем в 1960 году. При
таком подходе я не могу не сказать о том, чем была для меня русская
литература и русская мысль в трудные годы формирования моего
мировоззрения.
Она была для меня противоядием против сталинизма во всех его
формах — как в форме «новой веры», так и сопутствующего ей
трусливого или циничного лицемерия. Я опасался не «русификации», а
«советизации». Подлинная русская культура не оглупляла меня, не
порабощала мой разум, наоборот — она обостряла мой критицизм по отношению к
действительности, основанной на лжи, действовала освобождающе,
формировала мое самосознание, нравственно укрепляла меня. Из всего, что
я до сих пор написал, видно, какую большую роль в моей
интеллектуальной биографии сыграл Белинский, несмотря на отвращение, которое
вызывали у меня бесчисленные работы о нем как о «великом
революционном демократе», который «вплотную подошел к марксизму». Такую же
роль в моих борениях с «новой верой» имел для меня и Достоевский,
особенно его «Легенда о Великом Инквизиторе», а также книга Герцена
«С того берега». Но не только это! Я поглощал всю русскую литературу
XIX века, знал наизусть множество стихотворений, в том числе поэтов
«неблагонадежных», как, например, Тютчев и Фет, еще на втором курсе
прочитал всего Чехова и хотел писать у профессора Татаркевича
дипломную работу о его мировоззрении. А начало XX века, русская поэзия
этого периода, не переиздававшаяся, идеологически осужденная! Будучи
студентом I курса, я переписывал в Лодзи десятки страниц из
дореволюционного издания стихотворений Брюсова, позднее, в Варшаве,
благодаря Земовиту Федецкому, открыл для себя поэзию Пастернака и еще
неизвестные (даже, как оказалось впоследствии, Глебу Струве!) стихи
Мандельштама (напр., «Жил Александр Герцевич, еврейский
музыкант» — стихотворение, которое я сразу запомнил). Еще позднее
немаловажным событием было для меня знакомство с Аполлоном Григорьевым,
которым я заинтересовался, прочитав о нем статью Блока; именно
Аполлон Григорьев помог мне во всей полноте осознать, что историзм можно
понимать не как телеологическую теорию «этапов прогресса», через
которые необходимо обязательно пройти, а как уважение ко всему
подлинному, «родившемуся», а не «сделанному» или навязанному извне. Под
влиянием резкого контраста между всем тем, что я переживал, читая
русских писателей и мыслителей, и одновременно интеллектуальным убо-
72
жеством и постыдной недобросовестностью большинства писавшихся
тогда работ о русской литературе и общественной мысли, очень рано, еще
в начале учебы в университете, во мне начала пробуждаться мысль о
том, что русскую культуру надо спасать, и в то же время уверенность,
что в ней можно найти и собственное спасение от навязчивого,
агрессивного «советизма».
В 1955 году, когда в атмосфере польской «оттепели» стало легче
дышать, эта робкая идея о моей собственной роли в деле восстановления
ценностей русской культуры превратилась в чувство долга. Я рассуждал
так: в Польше создаются условия несравненно большей свободы для
научных исследований, чем в России, и моей обязанностью — обязанностью
человека, который жил в сталинское время и неплохо знает все еще
применяемые в СССР методы фальсификации в науке,— должна быть помощь
русским в процессе очищения от лжи их культурного наследия,
возврата к собственным корням. В этом был даже некий элемент
«антизападничества», так как я считал, что обрести утраченное наследие —
например, добросовестно истолковать Белинского, заново ввести в культурный
оборот Чаадаева, славянофилов, Соловьева, познакомиться с духовным и
интеллектуальным богатством эмиграции, с приговоренной к небытию
поэзией Пастернака, Цветаевой, Мандельштама и т. д.— для русских
важнее, чем навёрстывать опоздание в знакомстве с литературой и
мыслью Запада. Разумеется, я полностью признавал важность такого
«навёрстывания», но считал, что невозможно сразу перескочить из
сталинизма в европеизм, что исторический опыт слишком страшен, чтобы
можно было хоть на минуту забыть о нем, что о полном освоении
культурных достижений и опыта западных стран русские должны думать
только тогда, когда они освоят собственную культуру и откажутся от ,
ложного взгляда на свою трагическую историю. Во всем этом я отводил
себе роль посредника, как, впрочем, и всей Польше, развитие событий в
которой вселяло надежду на возможность помощи России изнутри,
ускоряя происходящие в ней перемены на пути десталинизации. Сегодня,
четверть века спустя, могу сказать, что эта надежда была, пожалуй,
не совсем лишенной оснований, хотя я несомненно грешил излишним
оптимизмом.
Первым шагом, сделанным мною в этом направлении на пороге
«оттепели» в 1954 г., было решительное заявление о праве польской
русистики на самостоятельность. Да, именно так, потому что существовало
правило (принятое и рекомендуемое, в частности, проф. Марианом Якуб-
цем, человеком, впрочем, благородным и честным), что поляки не могут
«конкурировать» с русскими в интерпретации их собственной литературы
(а уж тем более философской и политической мысли), что задача
польских русистов должна состоять, во-первых, в популяризации достижений
советской науки и, во-вторых, в исследовании так называемых «связей»
русской литературы с польской, то есть практически воздействия
первой на вторую, а не наоборот. Согласно этой концепции, моя задача в
Польско-советском институте сводилась к изучению влияния «великих
русских революционных демократов» — Белинского, Чернышевского,
Добролюбова — на польскую литературу и польскую мысль.
Относительно быстро, хотя только после того, как я потратил много сил, чтобы
просмотреть целые груды журналов, я убедился, что тема эта бесплодна:
о Белинском в XIX в. почти никто в Польше не знал (только в начале
XX Бжозовский воздал ему должное), Добролюбов оказал влияние лишь
на Я. Белоблоцкого, а восприятие Чернышевского было неразрывно
связано с восприятием народнической мысли (заниматься же
народничеством, которое считалось тогда выигрышной темой, мне никто не
предлагал!). Итак, я решил оставить эту тему, однако сделать это до того, как
меня примут в аспирантуру, было рискованно. Кроме того, к моменту
приема мне хотелось иметь как можно больше собственных работ, чтобы
73
ссылаться на них. А их к 1955 г. накопилось уже немало... Как бы то
ни было, в атмосфере начала «оттепели» я не только изменил тему
своей собственной работы, но и подтолкнул весь коллектив к
«конкуренции» с советской наукой.
12.1. Само собой разумеется, что я нетерпеливо ожидал того момента,
когда своими глазами увижу Россию. Наступило это в 1956 г., после
триумфального возвращения Гомулки с московских переговоров (до этого
поездки поляков в СССР были временно приостановлены). Во время
месячной командировки я увидел Москву и ее окрестности, Ленинград и
даже столицу Украины Киев. Дневник я не вел, а в своих письмах
друзьям не мог писать обо всем. Однако множество впечатлений, сцен,
разговоров и сегодня еще живо в моей памяти.
Прежде всего меня поразили контрасты. С одной стороны,
имперский советизм, сильнее всего выраженный в пышности московского
метро, а также в «тортовой» архитектуре, подавляющей своей громадностью
и безвкусицей; с другой стороны, вековая Россия — тихие переулки
старой Москвы, величественный Ленинград и одновременно лица женщин
в платках и мужчин в ватниках, приехавших за покупками, церкви
Загорска, неповторимая атмосфера букинистических магазинов, где можно
было еще купить немало хороших старых изданий и встретить истинных
ценителей книг, интеллигентов XIX в. с задумчивыми бородатыми
лицами. Контрасты между людьми — от неслыханной грубости до
интеллектуальной утонченности в сочетании с откровенностью и сердечностью,
каких я больше нигде, ни до этого, ни после, не встречал.
Разговаривали со мной охотно, даже в поезде и на улице. Случайные собеседники,
наученные, видимо, избегать контактов с иностранцами, часто начинали
разговор с наивного заявления, что поляки, столько лет жившие с
русскими в одном государстве, заслуживают того, чтобы не относиться к ним
как к иностранцам. Мне запомнилась в этой связи фраза, сказанная с
явной симпатией и ожиданием одобрения с моей стороны: «Мы поляков
за иностранцев вовсе не считаем!» <...>
Интересен был также обмен мнениями в рамках официальных
научных контактов. В Пушкинском доме в Ленинграде я изложил в
небольшом кругу научных сотрудников (с участием проф. Григорьяна)
основные тезисы моей работы о Белинском и романтизме, заметив, в
частности, в ходе дискуссии, что нет оснований причислять Гоголя к так
называемому «критическому реализму». Дискуссия была сверх ожидания
деловой, мои доводы принимались с пониманием, но оппоненты не
соглашались со мной, что с советским литературоведением дело обстоит плохо
и надо кое-что изменить. Во время перерыва я услышал, однако,
знаменательное разъяснение. Разница мнений по вопросу о реализме Гоголя,
говорил мой собеседник, допустима, но только в дискуссиях между
специалистами; в печатных текстах надо держаться одного, ранее
согласованного положения, так как в противном случае воцарится всеобщий
релятивизм, студенты перестанут верить в одну истину и придут к
выводу, что раз допустимы разные мнения насчет реализма Гоголя, то надо
допустить разные взгляды на политический строй Советского Союза. Это
было сказано с оттенком иронии, но в то же время с уверенностью, что
цементом советского строя является единство взглядов и что малейший
элемент плюрализма пагубен для этой системы.
О том, что в среде специалистов могут возникать действительно
интересные споры, я убедился еще в Москве. В Институте мировой
литературы им. Горького я был свидетелем дискуссии по проекту
коллективного труда о русской литературе, в ходе которой выступил ученый,
работы которого я хорошо знал: В. Переверзев, марксист еще с
дореволюционного времени, а после революции вождь школы, названной
«вульгарно-социологической». Лицо выразительное, породистое, «из
девятнадцатого века». Он говорил великолепно, с дозированным, сдержанным гне-
74
вом о том, что классовые критерии совсем забыты, а вместо них
процветает национальное самовосхваление, что чуть ли не все русские
писатели идеализируются, скрывается их социальная обусловленность и
противоречия во взглядах, что достижения культуры объясняются
сумбурным понятием «решающей роли народных масс в истории» и т. д.
Потом мне сказали, что он только что вернулся из лагеря, второй раз
его туда не посадят, и поэтому он может позволить себе намного больше
других. Все это только усилило мое восхищение человеком, который,
несмотря на лагерные испытания, сохранил ясность мысли и гражданское
мужество.
Самые интересные беседы были, конечно, с теми, кто сразу объявлял,
что симпатизирует польской «оттепели», глубоко переживает позор
вторжения в Венгрию, знает о трагедии варшавского восстания и бесславной
роли, какую сыграл в этом Советский Союз. Это была поистине удача,
чуть ли не перст Провидения, что мне привелось встретить этих людей.
Встречи в тесной московской квартире, где жили три поколения чудесной
семьи русских интеллигентов, продолжавшиеся до утра разговоры и
широкий спектр взглядов: от страстной веры одного молодого человека в
спасительные последствия восстановления подлинного ленинизма до
глубокого, спокойного и горького пессимизма старого профессора,
помнившего Льва Петражицкого и Фаддея Зелинского в российский период их
деятельности...
Как много узнал я из этих разговоров, тем более что их участники
говорили не только о своих взглядах, но вообще о мнениях,
высказываемых в советской России. Я узнал, в частности, что, кроме оболваненного
пропагандой большинства и интеллигентского меньшинства, мечущегося,
как когда-то и я, между моральным бунтом против действительности и
попытками примирения с ней во имя тех или иных «высших целей»,
есть в СССР и такие люди, для которых советское общество — это один
большой застенок, а советские руководители — «бандиты и палачи, руки
которых в крови» (с типичным представителем этой группы, писателем
Аркадием Белинковым, я встретился позднее, когда принимал его в
своем варшавском доме). Я познакомился не только с взглядами, но и с
неизвестными мне фактами. Я узнал, например, как выглядела на практике
«борьба с космополитизмом». Сперва высказывался кто-то из властей
либо появлялась статья в местной печати о том, что в таком-то
институте Академии наук «ширится космополитизм». Потом на партийных
собраниях в указанном институте вполне серьезно и в деловом тоне —
несмотря на атмосферу террора — взвешивалось, кому из сотрудников
следует наклеить этот ярлык; при этом принимались во внимание
интересы «научного коллектива» (например, «он уже стар» или «будем
беречь молодых»), а также своеобразные «гуманные» соображения (у него
нет детей на иждивении, а у других есть и т. п.). Когда жертвы Молоху
были выбраны, наступал этап их критики, все более жестокой, с ними
порывали всякие отношения, переставали здороваться. Следующий этап
зависел от самокритики, чаще всего, однако, «космополита» не только
увольняли с работы, но и лишали права на жительство в городе, что
было равнозначно административной высылке. Во время такой акции,
хотя обошлись с ним, как говорят, мягко, от сердечного приступа
(в 1954 г.) скончался знаменитый ленинградский фольклорист М. К. Аза-
довский.
Однако рассказы о подобных ужасах не отталкивали меня от России.
Наоборот, поддерживали уверенность, что народ, столько страдавший,
предназначен для великого. Это ничего, рассуждал я, что «средний
советский человек» ожесточен и оглуплен; мыслящие люди не истреблены
целиком, не заглохла прославленная «русская совесть», хотя — как,
впрочем, и раньше — она присуща лишь узкому слою элиты; главное, что
такая духовная элита существует, а раз так, то достаточно небольшого
послабления, чтобы рухнула эта чудовищная пирамида порабощающей
лжи. И тогда русская культура, русская мысль возродится, расскажет
миру правду о трагических уроках русской истории, потрясет Запад и
остановит ширящийся там моральный кризис.
Сегодня Россия дала нам Солженицына, Запад удостоил его
Нобелевской премии, но ни в России, ни на Западе не видно того, о чем я
мечтал в тот год, когда победила польская «оттепель». Однако еще сейчас
жива во мне какая-то частичка моей тогдашней веры.
Через три года после моей первой поездки в Россию я получил
стипендию Форда и готовился к поездке на Запад. К этому времени я
прочитал в польском переводе «Доктора Живаго», стихи из этого романа я
знал — некоторые, разумеется, по-русски,— наизусть. Его поэзия и была
для меня подтверждением веры, что истинная Россия воскреснет, хотя
сейчас в ней «еще кругом ночная мгла», все «тонет в фарисействе»,
но произойдет чудо и «смоковницу испепелит дотла». В особенности
действовало на мое воображение стихотворение «На страстной», говорящее
об ожидании первого дыхания весны и о том, что «смерть можно будет
побороть усильем воскресенья».
Себе, как уже упоминалось, я отводил в этом процессе роль довольно
определенную. Мне грезилось, что моя только что вышедшая книга
«Личность и история» ускорит в СССР процесс восстановления истины в
истории русской мысли. Контраст этих мечтаний с действительностью
обнаружился, однако, уже вскоре после выхода книжки в разговоре о ней со
знающим польский язык советским историком Игорем Сергеевичем Н.,
человеком вовсе не глупым и довольно доброжелательно относившимся
ко мне.
Н.: Вы написали превосходную книгу, но почему вы посвятили главу
о Достоевском белому эмигранту Гессену, не поблагодарили никого из
наших ученых, зато цитируете в примечаниях антимарксистских
западных ученых?
Я: Гессену я многим обязан, чего пе могу сказать о советских
ученых, с которыми, впрочем, в то время, когда писалась книга, у меня
не было личных контактов. Западных же ученых я цитирую только тогда,
когда полемизирую с ними или же с ними согласен.
Н.: Знаю, вижу, что вы ничем не обязаны нашим историкам
«отечественной философии», я согласен с вами, что это по большей части
неучи и дураки, но надо было все же кого-нибудь поблагодарить, хотя бы
каких-нибудь литературоведов. У нас это очень любят, это бы вам
помогло. Хорошо, если вы полемизируете с западными учеными, но если
вы с ними согласны, то зачем же указывать источник? Если уж
обязательно хотите цитировать, то скажите по крайней мере, что соглашаетесь
с буржуазным ученым по одному, частному вопросу, но отвергаете «суть»
его взглядов.
Я: Мне хотелось бы услышать, что вы думаете по существу о книге?
Н.: Я в этой области пе специалист, лично мне она нравится, думаю,
что преимущественно вы правы. Однако время еще не созрело, чтобы
говорить то, что вы говорите. А кроме того, подумайте: вы молоды, у нас
считается, что новые интерпретации должны быть результатом
коллективного труда, что их надо коллективно же согласовать и поручить их
публикацию кому-нибудь из людей постарше, опытным товарищам,
членам Академии. Прежде всего, однако, вы поляк; удобно ли иностранцу
учить русских, как они доля-сны исследовать собственную литературу и
философию? У нас этого не любят.
Я: Моя книга может стать поводом для дискуссии, обмена мнениями.
Н.: Я вам этого не желаю, так как любая рецензия может быть
отрицательной. Мы не хотим критиковать ученых из братской Польши, мы
ценим вас за то, что вы издаете классиков русской мысли, не хотим
считать вас одним из наших идейных противников и тем самым портить
76
вам карьеру. Займитесь издательской деятельностью, популяризацией
советской науки, а собственные взгляды высказывайте реже и
осторожнее. Я желаю вам хорошего и потому постараюсь, чтобы ваша книга не
рецензировалась. Зачем обращать на нее внимание и восстанавливать
против нее наших мракобесов?
Итак, началось с похвал, а кончилось констатацией, что, собственно
говоря, «Личность и история» вообще могла не писаться.
Это, однако, не слишком меня взволновало. Я был приготовлен к
длительному труду. Я верил, что дождусь когда-нибудь настоящей
«оттепели» в России, что приму в ней участие и что все сделанное мною в
области изучения русской мысли будет тогда замечено. Пока же я co6pi-
рался в свою первую поездку на Запад и ожидал встретить там людей,
мыслящих так же, как и я, то есть обеспокоенных тем, что в России,
стране, создавшей в XIX в. богатую культуру, человеческая мысль и
творчество закованы в кандалы. Содействовать всеми силами их
освобождению казалось мне моральным долгом интеллектуала любой страны.
13. I. В самом начале мне повезло. По дороге в США я задержался
на несколько дней в Англии, съездил в Оксфорд навестить моего друга
Здислава и благодаря этому имел возможность познакомиться с
необыкновенным человеком: Исайей Берлином. Сэр Исайя, который родился в
русско-еврейской семье и стал англичанином, сразу понял, что
волновало мою душу. Моя аудиенция у него должна была продолжаться
15 минут, но затянулась до полутора часов. Мы разговаривали хаотично
обо всем: о трагедии русской интеллигенции, о Чаадаеве и Герцене,
о вреде веры в историческую необходимость (этой теме Берлин посвятил
одну из своих работ, тогда мне еще неизвестную). Мы решили, что
последние три месяца моей годичной стажировки я проведу в Оксфорде,
где Берлин постарается получить для меня «fellowship» в Септ-Энтони'с
Колледж. Я был в приподнятом настроении, так как отношение
Берлина к живо интересующим меня вопросам отвечало всем моим
ожиданиям...
В Америке же, точнее, в Гарвардском университете, меня ждало
разочарование. Прошло много лет, и я смотрю на это с растущим
безразличием, с юмором, но тогда, в начале 1960 г. я готов был оценивать
гарвардских специалистов по вопросам советской империи весьма сурово.
Я ожидал разговоров до поздней ночи, как в России, расспросов о
Польше и СССР, совещаний по составлению какой-нибудь общей программы
борьбы с ложью, словом,—долгих дискуссий a la russe о «проклятом
вопросе»: что делать? Между тем меня представили нескольким лицам,
несколько раз пригласили на ланч, но до «принципиальных разговоров»
так дело и не доходило. Через две-три недели, однако, меня пригласили
на вечеринку к Бжезиыским. Я удивился, почему к столь позднему
часу — к девяти вечера; мне и в голову не приходило, что ужин не
предусмотрен; еще больше меня удивило, что вечеринка называется «Бал
у Нептуна» и что будут танцы; я же полагал, что это будет встреча
видных советологов (Бжезинский, Пайпс, Дзевановский). Оказалось
иначе: не было ни ужина, ни дискуссии! Собравшиеся танцевали в
странных костюмах (Пайпс был переодет в Нептуна), нетанцующим же негде
было даже присесть, серьезные разговоры считались неуместными и
быстро прекращались. Это считалось (как деликатно дали мне понять)
нарушением неписаных, но обязательных правил. Все были со мной
радушны, однако я не мог скрыть своего удивления.
Собственно, у меня не было никаких поводов для неудовольствия.
Пайпс встречался со мной регулярно и дал мне много ценных советов,
другие профессора во всех университетских центрах, где я побывал,
обычно тоже не отказывались уделять мне время. Но, как правило,
контакты с коренными американцами у меня не складывались, за
исключением Мартина Мэлиа из университета в Беркли, Проще было с эми-
77
грантами из гитлеровской Германии: например, Ганс Мейергофф из
университета в Лос-Анджелесе, знаток философии истории, автор книги
«Time in Literature», провел со мной весь день, интересуясь всем и
изумляясь, что я так глубоко пережил проблематику гегелевского
историзма и другие «немецкие проблемы», высмеянные в англосаксонском
мире неопозитивистами. Охотно также встречался со мной
прославившийся впоследствии Герберт Маркузе, который преподавал тогда в
Брендеис Юниверсити, но читал лекции и в Гарварде; я спорил с ним
о том. действительно ли суть тоталитаризма в «контроле свободного
времени», осуществляемом mass media (Маркузе хотел таким образом
доказать, что в США страшный тоталитаризм). Его работы я рекомендовал
прочитать Милошу (ср. письмо Милоша от 19.XI.60: «Маркузе без
Вашей рекомендации я бы, пожалуй, не читал»), поэтому должен здесь
заметить, что Маркузе, хотя и был мне интересен, однако не убеждал
меня...
Разумеется, прежде всего меня интересовали встречи с поляками и
русскими. С поляками я находил общий язык в случае 1) если они
были не столь американизированы, как Бжезинский, 2) если разделяли
мой интерес к русским вопросам и, наконец, 3) если ими не овладевали
антирусские настроения, как это имело место, например, с директором
библиотеки Гувера, Свораковским. Должен сказать, что этим условиям
отвечало немало лиц, и я не могу отказать себе в удовольствии назвать
их имена: упомянутый уже Виктор Сукенницкий — трагическая
личность, виленский профессор Милоша; Александр Герц, видный социолог,
занимавшийся в Нью-Йорке торговлей польскими книгами, которого я
встретил как раз после того, как он прочитал «Личность и историю»;
Александр Эрлих, польский патриот и в то же время бундовец,
экономист, до такой степени свободный от профессиональной узости, что не
только тотчас же прочитал мою книгу, но и усердно старался, чтобы она
была издана на английском языке в Columbia University Press; Виктор
Вайнтрауб, у которого я часто гостил и который по сей день проявляет
интерес к тому, чем я в данный момент занимаюсь; Вацлав Ледницкий,
ставший, к сожалению, слишком уж большим чудаком; Крыстына
Поморская, сейчас жена Романа Якобсона, с которой мы вместе учились в
университете; Анджей Бжеский, товарищ по клубу «Кшиве Коло». Этот
перечень можно было бы продолжить, он не охватывает, в частности,
людей, с которыми я познакомился позднее в Англии.
А теперь русские. Сперва из Гарварда: Роман Якобсон, великолепно
владеющий польским языком, помнящий Гессена, с которым встречался
в «пражском лингвистическом кружке». Он с интересом прочитал
«Личность и историю» и очень смеялся, узнав, что некоторые варшавские
литературоведы, ссылаясь на его авторитет, оспаривают во имя
структурализма обоснованность моего метода реконструкции
мировоззрения таких писателей, как Достоевский и Тургенев. Отец Георгий Фло-
ровский, которого уже нет в живых, считающийся крупнейшим
православным теологом нашего столетия; он знал польский язык настолько,
что мог прочитать мою книгу, высоко оценил в ней главу о Достоевском
и уговаривал меня читать Леонтьева. И сейчас хорошо помню его у
себя дома, где жена потчевала меня русскими блинами, и в бостонской
церкви, где он отправлял пасхальное богослужение. Александр Гершен-
корн, экономист, завороженный символическим толкованием содержания
«Доктора Живаго», беседующий со мной об экономических теориях
народников, но еще больше интересовавшийся влиянием Шопенгауэра на
творчество Тургенева. Борис Николаевский, лучший, пожалуй, знаток
разных подробностей из истории русского революционного движения.
И, наконец, Питирим Сорокин, один из создателей гарвардской школы
социологии, директор Research Center in Creative Altruism — центра,
популяризирующего альтруистическую любовь (в сочетании с аскетиз-
78
мом) как средство против всех недугов приходящей в упадок западной
цивилизации. Вначале он был почти недоступен, но когда я послал ему
конспект готовившейся мною в то время работы о славянофилах
(т. е. примерный план «В кругу консервативной утопии»), он пригласил
меня в свою виллу, в окрестностях Бостона. Пропагандируя аскетизм, он
жил в абсолютном комфорте, среди пышных роз, за которыми сам
ухаживал, в окружении произведений искусства всех времен и культур
(что сам же осуждал как проявление «хаотичного синкретизма» эпохи
упадка), особенно гордился картинами Кандинского и другими
шедеврами «искусства сенситивной эпохи» (хотя писал о них как о симптомах
вырождения). Он сразу назвал себя славянофилом, произнес тираду
против Запада, а комментируя мой конспект и мои высказывания, заявил,
что я «на голову выше» (мы разговаривали по-русски), погруженных в
эмпиризм американских социологов. Ему в особенности понравилось, что
я ссылаюсь на великих классиков социологии (Тенниса, Дюркгейма, Ве-
бера — последнего он считал своим соперником, переоцениваемым в
науке). Сорокин не только разделял мою веру в духовное возрождение
России, но шел значительно дальше, пытаясь убедить меня, что уже
сегодняшняя, официальная Россия достигла духовных высот, и с гордостью
показывал упоминания о себе в сочинениях Ленина. Он был восхищен,
что Хрущев на заседании ООН снял ботинок и ударил им по столу: он
усматривал в этом симптом аутентичности, искренности и силы чувств,
отсутствие чего ощущал на Западе.
Приехав в Беркли, я встретил еще одного русского, который точно
так же оценивал поведение Хрущева. Это был инженер со странной
биографией, Павел Анисимов, доказывавший мне, что американцам
недостает спонтанности, что они рабы «внутренней регламентации» (слова
Достоевского из «Записок из подполья!) и что в советском концлагере
больше «внутренней свободы», чем во всей Америке. Я тоже выше всего
ценил «внутреннюю свободу», но понимал ее, однако, совсем иначе, не
как чистую «непосредственность», абсолютно лишенную контроля и
чувства здравого смысла.
Я вспоминаю Аыисимова не без связи с Милошем. Позднее я узнал
(очевидно, от Мартина Мэлиа), что во время студенческих волнений в
Беркли Милош пробовал вначале «симпатизировать молодым», но впал в
отчаяние, услышав от одного студента слова, под которыми подписался
бы и Анисимов, что с точки зрения свободы нет никакой разницы
между кампусом в Беркли и концлагерем. Не знаю, насколько истинен этот
рассказ, но se поп ё vero, ё ben trovato \
А русские в Нью-Йорке? Кроме брата Гессена, с которым я там
встретился, это были, с одной стороны, сотрудники «Нового Журнала»,
с другой — ветераны меньшевизма.
Главный редактор «Нового Журнала», бывший эсер Роман Гуль
(роман которого об Азефе под заглавием «Генерал БО» вышел в
1958 г. на польском языке, притом в партийном издательстве!), принял
меня сердечно, хотя и не вызвал особой симпатии. Он удивлялся,
почему, собственно, поляк занимается русской мыслью, подозревая как
будто, что за этим кроется либо завуалированный марксизм, либо —
польский национализм...
Другое дело меньшевики — среди них я сразу почувствовал себя
«дома» или, точнее, так, как во время долгих ночных разговоров с
моими друзьями в СССР. Собирались они в маленькой квартире Лидии
Осиповны Дан, сестры Мартова, вдовы Ф. Дана, которая в начале столетия
была секретарем «Искры». Я помню многих из них, в особенности
Р. Абрамовича, С. Шварца и более молодого Б. Сапира. Я встречал
1 Дословно: если это и не правда, то хорошо найдено (итал.)\
79
их и в Колумбийском университете, когда они обсуждали проект
«Истории меньшевизма». Однажды на таком обсуждении разгорелась
дискуссия между «правыми» и «левыми» меньшевиками. Представитель
первых, фамилию которого я не помню, доказывал, что антибольшевистские
социалисты должны были поддержать Белую армию. Шварц ответил на
это вопросом: «А вы сами могли бы представить себе тогда
сотрудничество с реакционерами, ответственными за погромы? После
драматической минуты молчания и воцарившейся тишины мы услышали ответ:
«Нет, товарищи, не мог бы...»
Во время встреч у Л. О. Дан меня расспрашивали о польской
«оттепели», о Лешеке Колаковском, о моих собственных взглядах, о
впечатлениях от поездки в СССР, словом — обо всем. Все мы были согласны
насчет того, что нет ничего хуже тоталитаризма, что в советских
условиях прогрессом был бы даже «бонапартизм», то есть традиционная
военная диктатура, лишенная идеологии (подобную мысль Гершенкрон
вычитал в «Докторе Живаго»). Однажды Лидия Осиповна сказала с
волнением: «Это прекрасно, что, несмотря на столько катастроф, три
поколения русской интеллигенции находят общий язык». Старшее из
этих поколений представляла она сама, среднее — Сапир, а младшее,
видимо, я. Но я не чувствовал себя обиженным. Так же, как Милош
(его письмо от 4.XI.60), я считал, что принадлежность к русской
интеллигенции «не умаляет нашего достоинства».
Перед отъездом из Нью-Йорка я получил от Лидии Осиповны книгу
ее мужа «Происхождение большевизма» (1946). На ней дарственная
надпись: «А. М. Валицкому, на добрую память, с лучшими пожеланиями и
большими надеждами».
В Калифорнии, кроме Анисимова, я встретил еще двух русских,
профессоров университета в Беркли: Николая Рязановского, историка,
и Глеба Струве (сына Петра Струве), литературоведа. Первому из них
я обязан возможностью прочитать упомянутый уже доклад о
славянофильстве, озаглавленный «Personality and Society in the Ideology of
the Russian Slavophiles. A study in the Sociology of Knowledge». Доклад
был встречен с интересом, что признал даже Ледницкий, весьма не
склонный к похвалам. Среди слушателей были два аспиранта,
которых я тогда не запомнил: Теренс Эммонс и японец Цугуо Тогава.
Много лет спустя первый из них пригласил меня на полгода в Стан-
фордский университет, где мне была на это время предложена
профессура (1976), а второй—на месяц в Японию. Я думал, что это было
результатом публикации моих книг на английском и японском языках, но
Эммонс и Тогава решительно утверждали, что публикации, конечно,
помогли, но главной причиной приглашений было то впечатление, которое
произвел на них мой первый доклад на английском языке.
С Глебом Струве мы разговаривали главным образом о поэзии:
о Пастернаке и Мандельштаме. Приехав в Оксфорд, я получил от него
письмо, кончавшееся упоминанием о Милоше: «На днях я
познакомился, наконец, с Чеславом Милошем, который приезжал сюда
приблизительно месяц тому назад. Мы разговаривали о Вас и Вашей книге».
Письмо это помечено 23.XI.60. Значит, встреча Струве с Милошем
имела место в период, когда автор «Порабощенного разума» уже
написал мне два длинных письма.
Итак, пора перейти к проблеме России, представленной в этой
переписке.
В первом своем письме ко мне (4.XI.60) — кроме характерного для
него замечания о духовном родстве с русской интеллигенцией
XIX в.— Милош вообще не касается русских вопросов; моя статья
1954 г. о Белинском упоминается им лишь в контексте польской
«оттепели». Но следующее письмо, написанное после того, как он прочитал
«Личность и историю», посвящено России почти целиком.
80
Я опускаю подробные и во многом интересные замечания об
отдельных главах моей книги. Но не могу не привести весьма выразительную
оценку главы о Достоевском, так как в ней заключена, на мой взгляд,
важная мысль о русской литературе вообще:
«Глава о Достоевском лучшая в книге и просто замечательная,
потрясающая благодаря ясности и уверенности изложения. О Достоевском
писали много, но, как правило, в духе эпохи, обвивая его лианами
литературного анализа. Вы показываете его величие, быть может, величие
русской литературы вообще — то есть его способность ухватиться за
важное бульдожьей хваткой. Возможно, портрет Достоевского,
ограниченный философией, вышел неполным, так как исчезает чаща, сквозь
которую он прорвался, то есть временное измерение; исчезает также тот
отвратительно преданный государству, орущий о праве России владеть
Константинополем Достоевский, которого с ужасом слушали на каторге
сидевшие вместе с ним демократы, проникнутые идеями ксендза Стеген-,
ного. То есть Достоевский со следами щей на неопрятной бороде,
выжимающий у всех деньги. Но это ничего. Путем такого ограничения
нащупана связь с современностью, причем самим соотношением мотивов и так,
что дальнейшие выводы были бы даже излишни, были бы чрезмерным
нажатием на педаль».
Фразу о «способности ухватиться за важное бульдожьей хваткой»
я считаю превосходной. О Достоевском и Толстом она говорит
практически все. К Тургеневу и Чехову она подходит меньше, ибо эти писатели,
особенно Чехов, «схватывали» всегда важное, но не по-бульдожьи,
иногда более тонко, но с меньшей силой, с меньшей «уверенностью». Сейчас,
однако, появление Солженицына вновь, на мой взгляд, подтверждает
мысль Милоша о том исключительном характере величия, который
свойствен, пожалуй, только русской литературе.
Большое удовольствие доставило мне сдержанное отношение Милоша
к методу обвивания мировоззрения Достоевского «лианами
литературного анализа». Буквально за день до моего отъезда в США я
дискутировал по этому поводу с Рышардом Пшибыльским, который упрекал меня,
что в своем «Достоевском» я игнорирую целостность литературных
произведений и не замечаю «трудностей и мучений гуманитарных наук
XX века», занимаюсь «какими-то второстепенными вопросами (sic! —
А. В.) истории развития философских систем» («Nowa Kultura», 17.I.
1960; главный редактор этого еженедельника, Стефан Жулкевский, был
в этом споре на моей стороне). В своем ответе (помещенном в этом же
номере) я, естественно, возражал и защищал свой философский подход,
который к тому же не вызывал ранее у самого Пшибыльского никаких
сомнений, а насчет моего анализа из его уст раздавалась даже похвала.
С замечаниями же Милоша об отсутствии в моем очерке исторического
контекста и биографических деталей я вполне согласился. Ибо это была
цена, которую я сознательно заплатил за то, чтобы, ограничив
проблематику Достоевского рамками философии, придать ей актуальный
характер, и Милош это отлично понял.
14. I. Дальше письмо Милоша касается специального номера
ж. «Kultura», изданного на русском языке в мае 1960 г. и
посвященного русско-польским связям. В своем предыдущем письме я сообщал Ми-
лошу, что мои русские знакомые (я имел в виду главным образом
меньшевиков) были разочарованы и даже огорчены этим номером. В статье
Мерошевского (как и в очерке Милоша о России, который впоследствии
вошел в его книгу «Родная Европа») они нашли довольно резкие слова
о враждебных чувствах поляков, а ожидали скорее воззваний к
примирению. Отвечая мне, Милош указывал, что я пе прав, приписывая ему
мысль об «инстинктивной ненависти» поляков к русским, и довольно
недвусмысленно отмежевался от статьи Мерошевского. Думаю, что эта
часть его высказывания стоит того, чтобы привести ее целиком.
81
«Вообще этот номер «Культуры» был, по-моему, ненужным и
плохим, но я не знал, что в нем будет, когда давал согласие на свое
участие. Положение мое не из легких, учитывая, что опубликованные
вещи в зависимости от соседства приобретают иногда другое звучание,
чем в Польше. Может быть, не надо было писать эту главу о России,
но я чувствовал необходимость, непреодолимую внутреннюю потребность,
чтобы обнажить свой комплекс, и потом, смотря по обстоятельствам,
перейти в некую высшую фазу. Моя «травма» не антирусская, напротив,
я русских очень любдю, когда встречаю вне их цивилизации. Счастье,
что в Польше невозможно обсуждение этой травмы — по трем причинам:
1) правительства, 2) болезненной уязвимости русских, 3) национального
польского табу. Возможно, это как-нибудь постепенно уладится, может
быть, изменится перспектива, хотя шансы невелики. Я думаю, только
большая, публичная, но абсолютно искренняя дискуссия могла бы
помочь. Те, кто вне себя от гнева, когда «Культура» касается русской
проблематики... обнаруживают полное и притом — довольное собой
невежество относительно русской мысли и истории России».
Если бы эта переписка имела место сейчас, я был бы удовлетворен
этими словами: Милош ведь допускал возможность «перехода в
высшую фазу»; в сущности, он весьма решительно отмежевался от
стереотипных форм антирусского комплекса. Я бы даже сказал, что его
мнение о русском номере «Культуры», нэ учитывающее, например,
несомненной ценности поэмы Лободовского «Письмо Борису Пастернаку»,
слишком сурово. Однако двадцать лет назад я думал иначе: возрождение
подлинного «русского характера» казалось мне не только важным само
по себе, но и наиболее эффективным оружием дротив «советизма». И я
хотел убедить Милоша в этом... Я писал ему: «Что касается русского
номера «Культуры», то должен признаться, я солидарен с русскими.
Слишком мало великодушия было в этом номере, слишком мало духа
Герцена и «Друзей москалей» Мицкевича. Вы пишете: «Поляки и
русские не любят друг друга или, точнее, питают друг к другу
недоброжелательные чувства, от презрения и отвращения до ненависти, что не
исключает взаимного влечения, всегда отмеченного недоверием». Я знаю,
что Вы это не писали специально для русского номера «Культуры», но
в этом номере это звучит как подтверждение слов Мерошевского:
«Русских ненавидят в Польше более, чем англичан в Индии или французов
в Алжире. Ненавидят их одинаково католики и коммунисты, крестьяне и
рабочие, интеллигенция — словом, все. Эта ненависть безгранична,
никакие слова не дают представления о ней». Меня спрашивали, правда ли
это, я ответил, что, нет. Может быть, я болен атрофией чувства
ненависти, но я способен по крайней мере замечать, что чувствуют другие. По-
моему, ненависть к русским как таковым у нас редка — часто смотрят
на них свысока, но это еще не ненависть. Ненавидят «советизм», а не «рус-
скость». Очень часто симпатизируют русским именно те, кто больше всех
из-за них настрадался,—например (из общих знакомых), А. Бжеский,
П. Маевский. Я сам (в какой-то степени) принадлежу к ним».
Последнее предложение должно было означать, что и я довольно
пострадал из-за навязанного Польше «советизма», что, хоть я и отличаю
«советизм» от «русскости», но не могу не согласиться, что существующий
в Польше строй создан русскими. Если я все же полагал, что, несмотря
на это, мы не должны ненавидеть русских, то это вытекало из сознания,
что больше всего страданий они причинили себе сами, а также из
иррациональной веры, что из этих страданий вырастет нечто великое для
всего мира.
Сегодня для меня очевидна опасность такой веры. Мессианство
может облагораживать национализм слабых народов, но в стране столь
могущественной и одновременно столь униженной, как Россия, оно легко
превращается в опасную для всех политическую тиранию. Однако я не
82
могу осуждать в этой связи Солженицына, когда он провозгласил нечто
подобное тому, что и мне приходило в голову 20 лет назад. Если бы я
его осудил, то насколько сильнее пришлось бы мне осудить самого себя!
Думаю, что каждый, кто глубоко пережил русскую трагедию, не может
не задавать себе вопроса о ее смысле. Хотя желание найти этот смысл,
пожалуй, слишком легко может перерождаться в веру в особую миссию
народа.
15. I. Чтобы закончить с русским номером «Культуры», перехожу к
следующему письму Милоша от второго декабря 1960 г. В конце он
пишет: «Согласен (с вами) насчет русского номера «Культуры». Гедройцю
о необходимости заняться Россией XIX века я уже писал и буду писать
о Вас. Вы должны повидаться с ним и прямо сказать об этом
номере — это всегда оказывает влияние».
Слова «буду писать о Вас» означали, видимо, готовность написать
для «Культуры» рецензию на мою книгу или что-то вроде размышлений
по ее поводу. Эта готовность (я не считал ее обещанием) так и
осталась в сфере намерений. Однако мне известно, что Милош.не только
использовал «Личность и историю» в своих занятиях со студентами, но
и участвовал в попытках найти для нее американского издателя...
Хорошо помню, что его мнение фигурировало в ходе переговоров. Я хотел
изъять из книги главу «Славянофилы и западники» и добавить
исследование об «Антропологическом материализме Чернышевского». В
Columbia University Press дело уже шло на лад, но решающее слово
принадлежало издателям, и в результате книгу не стали печатать.
Вернусь, однако, к кульминационному пункту моего тогдашнего
обмена мыслями с Милошем. Я не могу не написать о нем, хотя это
воспоминание вызывает у меня сегодня весьма противоречивые чувства.
В письме от 19.XI. Милош писал:
«Оборонительного жеста поляков и национального табу не следует
игнорировать. Это не годится для иронии. Иностранцу такой польский
«национализм» непонятен, но мы-то знаем, сколько в каждом из нас от
русского, и это не похоже на отношение, например, мексиканцев к
«gringos» — янки, ибо русификация, хотя бы через посредство языка,
грозит нам изнутри. А (неразборчивое слово) некоторых писателей, как
Тувим, доказывают, что в таких случаях начинает терять устойчивость
какая-то существенная культурная ориентация. Это, впрочем, очень
трудно определить, тут приходится двигаться наощупь, но реакция
польских крестьян в 1945 г. (вовсе не политическая) дала мне много
(материала) для пережевывания. Такого ада, каким было вступление этой
армии в Польшу, я никогда не видел и в главе о России не обмолвился
об этом ни словом... могли бы опять подумать, что тут выкидывается
еще один антисоветский номер. Я употребляю слово «ад», хотя это было
скорее смешно, чем страшно,— и несводимо ни к низкому уровню
жизни, ни к бедности и т. д. Я как бы был свидетелем сцен из
Достоевского, когда действительность вдруг теряет реальность и уже неизвестно
что и как, и где мы находимся. И вследствие этих и других фактов у
меня возникла мысль, что надо нам (ничего не поделаешь) оставлять
такие понятия, как «дух нации» etc., как слишком
скомпрометированные, но когда-нибудь, когда аппаратура усовершенствуется, мы к этому
вернемся. Возможно, в польском национальном табу есть какие-то
чувства, исключать которые из расчета не следует — и Вам тоже не следует
это делать, если Вы хотите действовать эффективно. Путь через
значительность русской мысли, пожалуй, правилен».
Сейчас я очень далек от «игнорирования оборонительного жеста
поляков». Весной 1976 г. в доме Милоша в Беркли, мне, в свою очередь,
пришлось убеждать поэта, что различные «националистические»
импульсы поляков по-своему обоснованны, что возбуждение в Польше
национальных чувств не есть лишь вода на мелышцу «коммуны», что за них
83
надо бороться. Помимо также, что во время разговора, еще до того, как
мы сели за стол, был такой момент, когда Милош впал в слегка
фамильярное настроение и стал напевать по-русски (в доме его родителей,
как это можно видеть из очерка о Россип, русский язык «был языком
юмора»). Пани Янина призвала его тогда к порядку, напомнив, что
«в ее доме не говорят на этом языке». Это был классический
«оборонительный жест»; я счел его довольно анахроничным по форме, но
отнесся к нему с пониманием.
Но в 1960 г. я реагировал совершенно иначе! Предостережения Ми-
лоша имели тот результат, что я нахохлился, они, как мне казалось,
ставили под сомнение как раз то, что я считал тогда своей личной
миссией. Последнее предложение приведенной выше цитаты из его
письма я прочитал прямо наоборот: «Путь через значительность русской
мысли, пожалуй, неправилен». В своем следующем письме (от 2.XII)
Милош «возмутился»: «Призывая считаться с польскими табу, я
действовал во имя определенной тактики: тот, кто считается с
действительными фактами, действует эффективнее». В свое оправдание могу сказать,
что переход от предостережения о подрыве «какой-то существенной
культурной ориентации» к поддерживающему мои замыслы выводу мне и
самому кажется сейчас неожиданным. Вывод этот появляется как deus ex
machina, ему не предшествуют слова вроде «несмотря на», «однако», что
сделало бы невозможной мою ошибку. Но факт остается фактом, я
прочитал предложение наоборот, что, видимо, произошло вследствие моей
защитной установки. Оборона, как известно, легко переходит в
наступление, и я двинулся на Милоша с подлинно кавалерийским азартом.
«Вы пишите, что «путь через значительность русской мысли,
пожалуй, неправилен». Я, однако, выбрал именно этот путь. Вы
предостерегаете меня, чтобы я не игнорировал «оборонительный жест поляков», ибо
грозит нам опасность «русификации» изнутри (в качестве примера Вы
приводите Тувима). Но я уже «русифицирован» больше, чем Тувим.
У меня есть одна «идея», которую мой «теоретический разум»
перечеркивает, но которая остается для меня «постулатом» практического
разума. Я пишу, быть может, больше для русских, чем для поляков, хотя
знаю, что они не будут меня читать. Я был бы счастлив, если бы в
условиях какой-нибудь будущей «оттепели» мог хоть в ничтожной мере
помочь русским обрести вновь их ценнейшие традиции, утраченные и
поруганные традиции «нравственного беспокойства». Я хотел бы
посмотреть на русскую мысль с точки зрения общих у нас с русскими
испытаний — они не могут этого сделать, я могу, следовательно, я, обязан
сделать это за них. Возможно, когда-нибудь я оставлю эту идею, уже
сейчас, после пребывания в США, я утратил три четверти веры и
энтузиазма, но в таком случае я выберу спокойную академическую
«карьеру». За действительное духовное возрождение России я готов
поплатиться «внутренней русификацией» всех поляков... Это звучит, видимо, для
Вас ужасно — для меня это тоже было бы ужасно, если бы я верил в
творческие возможности польского национализма. Но я не верю, я вижу
только мракобесный национализм и, с другой стороны, доминирующую
среди интеллигенции моду на отсутствие веры в ценности польской
культуры и насмешливое отношение к национальным традициям. Те, кто
поворачивается спиной к России вместо того, чтобы повернуться к ней
лицом, вовсе не националисты — это абстрактные «западники», с
пренебрежением относящиеся к родному «захолустью», считающие
«захолустной» даже проблематику литературы «сведения счетов»... Для меня, так
же как и для Бжозовского, высочайшим достижением польской
культуры является польский романтизм, этих ценностей я не отдам никому,
думаю, однако, что будущая, духовно возрожденная Россия поймет их
лучше, чем доминирующая теперь часть польской интеллигенции. Бжо-
зовский, кстати, намного больше русифицирован, чем Тувим («Пламя»)».
84
После этих слов следовал цитировавшийся уже отрывок о русском
номере «Культуры», а дальше — следующее заявление:
«Я понимаю необходимость «оборонительного жеста». Но дело
именно в том, что «западничество» для меня — только убежище,
крепостной вал, в то время как русская культура XIX века (умственная и
нравственная) является ценностью позитивной, привлекающей меня с
тем большей силой, чем меньшей опасностью угрожают мне иного рода
проявления «русскости».
В ответном письме Милош не только указывал на недоразумение.
Теперь, спустя многие годы, письмо кажется мне неимоверно
интересным. Попробую проанализировать его, но сперва должен процитировать
из него одно место:
«Я с большим уважением отношусь к Вашему выбору и методу или
замыслу. Думаю, не единственная ли это возможность? Скептицизм —
ценность чисто негативная. У меня нет определенного мнения насчет
пропорций элементов в русской цивилизации, в ее прошлом,
позволяющих предсказывать более глубокую (я не говорю о механизмах
производства, потребления, политики) перемену. То, что нас ужасает,— реально,
но ужасное бывает необходимой стороной одной и той же медали. Хотя
такие вещи обычно развертываются в истории очень медленно».
Прежде всего в письме не было протеста против моего намеренно
провокационного заявления о готовности поплатиться за духовное
возрождение России «внутренней русификацией» поляков. Сознаюсь, меня
это немного удивило, я ожидал возражений, которые дали бы мне
возможность точнее определить свою позицию. Однако я думал,
и продолжаю думать, что Милош просто очень хорошо понял кавычки,
в которые я заключил выражение «внутренняя русификация». В
действительности речь ведь шла лишь о таком типе отношения ко всему
национально польскому, который возникает при восприятии подлинной
русской культуры, примером чего и был Бжозовский. Кстати, Милош
в начале своего письма подхватил и развернул мою мысль о
«внутренней русификации» Бжозовского. Значит, он понял, что, в сущности,
я имею в виду не какое-то «национальное отступничество» а 1а Гуров-
ский, а лишь переориентацию польской культуры с «французского» или
«западного» образца (при всей условности этих определений) на
«русский» образец девятнадцатого века. А что касается этого вопроса (к нему
я еще вернусь), то он согласился с ним еще в своем первом письме.
Во-вторых,— молчаливое согласие насчет неверия «в творческие
возможности польского национализма» (слово «национализм» я употреблял,
разумеется, в широком, англосаксонском смысле этого понятия). Милош
как будто не заметил того, что послужило поводом к разногласию между
нами, которое обнаружилось в недалеком будущем, а именно:
отмежевываясь от «мракобесного национализма», я одновременно обвинял польскую
интеллигенцию в том, что она перестала трудиться над формированием
польских национальных чувств, перестала заботиться о том, в каком
направлении они будут развиваться. Милош, я думаю, не обратил
достаточного внимания на то, что я осуждал «абстрактное западничество» не
только за то, что оно повернулось спиной к России, но и за
эстетствующее пренебрежение к польским национальным ценностям, в особенности
к наследию романтизма. Но зато ему был близок, я думаю, другой
аспект моей критики польских «западников: обвинение их в отсутствии
понимания того, что испытания сталинской эпохи, пережитые нами
вместе с русскими, имеют универсальное значение...
16. I. Читая сейчас очерк Милоша о России *, я нахожу в нем
гораздо больше, чем тогда, когда я читал его в русском номере
«Культуры». То, что Милош пишет о своей «восточной частичке», а также о
* «Rodzinna Europa», s. 108-127.
S5
том, что русский язык высвобождает нашу «славянскую половину»,
кажется мне улавливанием какой-то глубокой правды. Вслед за Милошем
и его словами о «духе нации» могу сказать, что действительно надо
отказаться от обобщения о фаталистически-эсхатологическом характере
восточного склада ума, как ставшего слишком банальным, хотя когда-
нибудь в будущем, когда «аппаратура наша усовершенствуется», мы
реабилитируем это обобщение... Русские мистики, писал Милош,
считали, что «пока придет Христос, мы полностью подчинены позорному
закону, бунт нашего сердца бессилен. Позднее, когда Царство Божие
было названо коммунизмом, по крайней мере появилась возможность
утешения, что вела к нему «железная земная необходимость» и что,
подчиняясь ей,— а она заставляла уничтожать противников, притеснять
их, подвергать пыткам — можно ускорить наступление Великого дня»
(с. 119—120). Когда я перечитываю это место сегодня, для меня
очевидно, что «новая вера» в том варианте, в каком пережил ее не только
я, но и Милош, имела два источника: одним из них был тот восточный
элемент русского склада ума, наличие которого он замечал внутри себя,
вторым же — гегеле-марксизм.
Милош вспоминает, что в молодости он много раз, тренируясь в
автоиронии, проделывал следующее упраждеыие. «Надо было,— пишет он,—
втянуть воздух и глубоким басом проговорить: «Вырыта заступом яма
глубокая», а затем быстро тенорком сказать: «Wykopana szpadlem jama
glgboka». Расположение ударений и гласных в первом случае — это
угрюмость, темнота, сила, во втором — легкость, светлость и слабость»
(с. 116). Сегодня я знаю, что подобные мысли высказывались и
некоторыми выдающимися поляками за сто лет до Милоша. Очарование
русским языком, его звучностью, силой, а также противопоставление его
латинизированному польскому языку — мотив, появляющийся во всех
сочинениях «национального отступника» Адама Туровского. Однако
гораздо важнее, что эти же наблюдения встречаются и в парижских
лекциях Мицкевича. Когда Мицкевич говорил о превосходстве русского
«тона» над польским, «тона» Суворова над «током» Костюшко, то имел
в виду не чистую силу духа, а, конечно же, силу языковой экспрессии.
Его пленяла повелевающая сила русского языка, возможность добывать
из него «ноту, пронизывающую страхом», заставлявшую солдат слепо
повиноваться. Он с сожалением констатировал, что польский язык не
имеет такой силы: «Польская речь, расцветшая в мягком климате
христианства, звучала иначе. В тоне поляков было нечто подобное тону
французской монархии средних веков, тону рыцарских времен. Но средние века
были задержаны в своем беге, и Европа пошла в ином направлении.
Христианский тон начал слабеть и у поляков; поляки продолжали его
поддерживать, но у них не хватало уже сил настроить его на высоту
тона русского. Теперь еще русские солдаты насмехаются над польскими
офицерами, что те как бы просят своих солдат открыть огонь, как бы
кланяются перед неприятелем» (Dziela, X, 417).
Итак — тот же контраст слабости и силы. Совпадение мнений двух
поэтов, хотя и разделенных столетием, не кажется мне случайным.
Могу сказать, что и я — toutes proportions gardees 4 — думал так же.
Русский язык, в особенности язык русской поэзии, очаровывал меня
своей силой, укреплял во мне веру в великое будущее русского народа.
Но, во избежание односторонности, должен тут же заметить, что с
тезисом Милоша о проявлении в русском языке не только великого, но и
смешного, я абсолютно согласен. Лексика, использовавшаяся в русском
языке для «борьбы с космополитизмом» и проведения других
идеологических кампаний, была, па мой взгляд, невыразимо комична. По сей
день меня смешат фразы типа: низкопоклонство перед Западом; превы*
1 При равных условиях {фр).
S6
шатъ на четыре головы; оголтелый мракобес, атакующий марксизм с
пеной у рта; дипломированный лакей буржуазии; единственно правильная
точка зрения и т. п.
На этом можно было бы и закончить эти воспоминания и
размышления о России. Расскажу лишь очень коротко, так как эту тему
надлежало бы развить отдельно,— о дальнейшей судьбе моей «идеи»,
представленной Милошу и одобренной им.
Перед моим отъездом в США, в квартире моего отца (на ул. Барто-
шевича), состоялся прощальный вечер, на который я пригласил моих
старших товарищей из круга Бронека Бачко. Они знали, что я еду с
чувством своеобразной миссии, с верой в солидарность интеллектуалов
всего мира, с уверенностью, что перед интеллектуалами Запада буду
представлять не только Польшу, но и Россию. Они подшучивали надо
мной по этому поводу, но, в сущности, относились к такой позиции с
пониманием и симпатией. Лешек Колаковский произнес тогда речь (это
был, видимо, первый вариант его будущего эссе о жреце и шуте), в
которой он противопоставлял мое «искание Бога» сочувственному
отношению к «Дьяволу», то есть к скептической, индивидуалистической,
иронично-критической позиции. Он сказал, что я ищу Бога, хотя отношусь
также с некоторым пониманием и к Дьяволу, он же — наоборот.
Несколько лет спустя, в середине шестидесятых годов, тот же Лешек
написал о своих товарищах ряд юмористических статей для
вымышленной энциклопедии. В одной из них я был представлен как обрусевший
поляк, Андрей Михайлович Валицкий, награжденный орденом за
усмирение польского восстания 1863 г., плюющий на загнивающий Запад и
рекомендующий моральное возрождение через православную веру и
соломенные лапти. В статье говорилось также о рецепции моих взглядов:
сперва А. М. Валицкого оценили как «реакционного мракобеса», затем
признали, что в его обскурантизме содержались «элементы прогресса»
и, наконец, возвели на пьедестал как «великого русского патриота»,
который «приближался к революционному демократизму».
Шутки эти меня не обижали, и я очень жалею, что не сделал себе
копии этой «статьи». Как Бронек, так и Лешек, не раз давали самую
высокую оценку моей работе в области истории русской мысли. Так что,
как автору, мне не на что было жаловаться.
Моя диссертация на звание доцента под заглавием «В кругу
консервативной утопии» из-за ее больших размеров печаталась почти год
(я кончил ее писать в конце 1963 года). Сразу же после защиты я не
только получил звание доцента, но и стал членом Научного совета
Института философии и социологии. Книга много рецензировалась,
причем не только в специальных журналах, но и, например, в журнале
«Tworczosc», а в некоторых еженедельниках ей были посвящены
обширные статьи (напр., Марека Семека в «Wspolczesnosc», № 2, 1965 и
Константина Гжибовского в «Zycie Literackie», № 20, 1965; последний
правильно заметил, что я интерпретирую русскую мысль в
западноевропейских категориях и в этом смысле ликвидирую миф о не
поддающемся никаким определениям своеобразии «русской души»). В США
профессора Пайпс, Вайнтауб и Эрлих считали, что книга — «высшего
класса» (письмо от А. Эрлиха, 5.XI.64), и сразу же принялись хлопотать
(опять, к сожалению, безрезудьтатцо) об издании ее в США 1.
Но особенно радовали меня письма от людей, которых я лично но
знал и которым книгу не посылал, например, от музыковеда Зыгмупта
Мыцельского, а также длинное, трогательное письмо от Клода Бакфиса
(от 9 мая 1965), ученого, которого я оцепил лишь впоследствии. Одним
словом, восприятие моих работ в Польше и среди читающих по-польски
1 «W kr§gu konserwatywnej utopii» (Warszawa 1964). Позднее книга вышла на
английском языке под заглавием «The Slavophile Controversy» в Англии (Oxford,
1975).- Прим. ред.
87
западных ученых было очень хорошее. Но я, как это обычно бывает е
людьми, у которых сознание миссии чрезмерно развито, был не вполне
удовлетворен. Мне недостаточно было того, что написал о
«Консервативной утопии» в своем письме от 2.Х.64 Стефан Жулкевский: «Это,
несомненно, тот труд, который представляет собой и сейчас, и для будущего
историка науки переломный момент в процессе возрождения
послевоенной и, наконец-то, современной польской русистики. С Вас, собственно,
начинается серьезное существование польской культурно-исторической
русистики после войны». Мне хотелось (и я духчаю, это естественно),
чтобы мои работы были замечены и в Советском Союзе.
С этим, однако, дело обстояло хуже...
17. I <...> Я хочу завершить этот рассказ о России в моей жизни
воспоминанием о двух проявлениях русского полонофильства, с которыми
я столкнулся в семидесятые годы.
Первое связано с впечатлением от встречи с
инженерами-нефтяниками, которые осенью 1974 г. пригласили меня к своему столику в
ресторане «Варшава» в Москве. Они были навеселе, меня тоже заставляли
пить, но все спрашивали о Польше, восхищались польскими эстрадными
певицами, фильмами, книгами и газетами, даже польской архитектурой
на Украине. Когда зашел разговор об экономике, они стали мне
рассказывать об абсурдах планирования, а узнав, что у нас происходит то же
самое, разразились смехом. Как же это? Значит, и Польше навязали эту
систему? Их очень смешило, что «гордая Польша» обязана выполнять
«социалистические планы». Россия — другое дело, так как Россия
(цитирую) «это сволочь», то есть те, кому надевали петлю на шею и
волокли по земле. «План» это именно петля, а тут оказывается, что и «панская
Польша» загнана в такую петлю!
Второе воспоминание относится к лету 1975 года. Я был тогда
в Москве, не в командировке, а по приглашению моих старых друзей.
И вот мне посчастливилось познакомиться с полонофилом-мистиком. Его
звали Феликс. Будучи математическим логиком, он прочитал труды
известных польских логиков, затем поехал в Польшу, увидел
переполненные костелы, и это коренным образом изменило его жизнь. Он
превосходно овладел польским языком и на вопрос, как это ему удалось
сделать, ответил: «Это от любви — от любви к польской речи». Он усердно
читал доставляемые ему поляками католические журналы, газеты и
книги (в том числе переводы), впитывал в себя все польское, искал его,
прохаживаясь по улицам Вильны и Львова. Он не стал католиком,
католицизм послужил ему ступенью к неконфессиональному, мистически
понимаемому христианству. Он перестал интересоваться политикой,
диссидентами, судьбой масс, сознательно выбрал духовный элитаризм. Судьбы
России, говорил он, зависят от нравственного возрождения, которое
совершится когда-нибудь в будущем благодаря маленькой горстке
избранных, таких, как он. Совершенствование душ этой горстки он считал
делом гораздо более важным, чем всякая практическая деятельность.
Таким образом, несмотря на проникнутость католицизмом и «польскостью»,
он выражал своей позицией программное нежелание сочетать святость
с деятельностью в мире, то есть типично русскую черту, замеченную
Милошем (ср. «Rodzinna Europa», s. 121).
Думаю, что мои воспоминания и размышления о России не приводят
к однозначным заключениям. Они скорее подтверждают актуальность
вопроса, заданного полтора века тому назад Мицкевичем:
Когда же свободы заря заблестит,
Дневная ли бабочка к солнцу взлетит
В бескрайную даль свой полет устремляя —
Иль мрака создание — совка ночная?
{Перевод В. Левина)
ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА
От редакции. Убийство 9 сентября этого года о. Александра Меня, известного
православного священника, глубоко потрясло не только близко знавших его. Как
свидетельствуют многочисленные отклики и статьи, посвященные его памяти,
которые появились после этого трагического события, погиб выдающийся человек,
обладавший несомненным даром священнослужителя, талантливый и яркий ученый.
Наша культура, как никогда нуждающаяся сегодня в таких людях, потеряла
широко образованного подвижника-педагога и просветителя, уникального знатока истории
религии, автора интересных книг на богословские и философско-религиозные темы.
Публикуемая статья о. Александра — одна из наиболее характерных для его
творчества. В ней выражено своего рода кредо автора, который был всегда открыт
к диалогу и пониманию другого и умел ясно и просто говорить о самых сложных
проблемах человеческой жизни с позиций христианства.
О Тейаре де Шардене*
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР МЕНЬ
Годы, которые протекли со дня смерти о. Пьера Тейара де Шардена
(1881—1955), были наполнены ожесточенными спорами, возникшими
вокруг его имени. Книги этого выдающегося ученого, вышедшие посмертно,
вызвали реакции, зачастую диаметрально противоположные. Если одни
видели в нем нового Фому Аквината, соединившего науку и религию, то
другие называли тейардизм «мифологией», «пантеизмом», «уступкой
материализму». Однако, как бы ни оценивать Тейара и его
миросозерцание, никто не может отрицать, что он явление в высшей степени
значительное и симптоматичное для нашего времени. Он отвечает на многие
вопросы, которые волнуют сегодня мыслящих людей. Наука и религия,
эволюция и грядущее преображение мира сплетаются в его «Феномене
человека» в единое живое целое. Естествоиспытатель и священник,
мыслитель и мистик, блестящий стилист и обаятельный человек — он как бы
создан для того, чтобы стать властителем дум нынешних поколений.
Католики гордятся им, коммунисты издают его книги, хотя и те и
другие далеки от того, чтобы полностью принять его учение. Такова сила
его притягательности.
Христианский эволюционизм Тейара и религиозная концепция
эволюции, которая была изложена в главе пятой, имеют немало общего.
Поэтому автор счел необходимым особо остановиться на основных
положениях тейардизма, чтобы рассмотреть следующие вопросы: вводит ли
Тейар в своих основных принципах какие-то особые новшества? Каковы
главные черты его системы? В чем правы и в чем не правы его критики?
И, наконец, что дает тейардизм современному христианству?
* Из книги: А. М е н ь. Истоки религии. Брюссель, 1981.
89
Тейар де Шарден всегда делал ударение на взаимосвязи всех наук.
Он мечтал о некой сверхнауке, координирующей все отрасли знания
(P. Grenet. Teilhard de Chardin. Paris, 1961, p. 117). По его мнению,
в будущем наука и религия окажутся тесно взаимосвязанными в
единстве человеческого познания, ибо для науки необходимо убеждение
в том, что «универсум имеет смысл и что он может и должен, если мы
останемся верными, прийтп к какому-то необратимому совершенству»
(Тейар де Шарден. Феномен человека. Пер. с франц. Н. А.
Садовского. М., 1965, с. 278, далее —ФЧ). Но для этого совершенства нужна
глубокая интуиция единства и высшей цели мира. Все это можно найти
только в религии. Поэтому для Тейара «религия и наука — две
неразрывно связанные стороны, или фазы, одного и того же полного акта
познания, который один смог бы охватить прошлое и будущее эволюции»
(ФЧ, с. 279).
Атеистические критики Тейара изображают этот подход как нечто
неслыханно новое, возникшее из желания преодолеть конфликт знания
и веры. На самом же деле в этом отношении модернистичен у Тейара
главным образом язык.
Идеал целостного знания уже многие века притягивал человеческое
мышление. К нему стремились еще древнегреческие философы, особенно
Аристотель. И на уровне науки своего времени Аристотель достиг очень
многого. Второй синтез, уже христианский, был осуществлен св. Фомой
Аквинатом на основе опыта Аристотеля. Впрочем, Фома вынужден был
резко разграничивать научные и религиозные сферы, чтобы наука могла
свободно развиваться. Поэтому в дальнейшем вместо синтеза стала
усиливаться дифференциация областей знания.
В новое время попытки христианского синтеза возобновились. В
известной степени таким синтезом можно назвать (невзирая на ее
пантеизм) и систему Гегеля, которую отличал дерзновенный размах,
свойственный только системам Аристотеля и Фомы. В конце XIX века
принципиальные основы синтеза были разработаны Вл. Соловьевым, который
проповедовал идеал «цельного знания», или «свободной теософии» *.
В «цельном знании», по его замыслу, должны были найти свое место
как данные позитивных наук, так и отвлеченное философское мышление
и теология. Сам Вл. Соловьев наметил первые шаги к такому синтезу
(см. его: Философские начала цельного знания.—Собр. соч., Т. I, с. 250).
Система осталась незавершенной, и некоторые вообще отрицали
возможность подобной всеобъемлющей концепции. Но такое отрицание
игнорирует естественную потребность человека осмыслить свою веру и
окружающий мир. Разумеется, подобные попытки всегда будут несовершенными
(хотя бы в силу ограниченности самой науки и рационального
познания), но правомерность их нельзя отрицать. Таким образом, как инте-
грист Тейар вовсе не является новатором. Однако то, что он соединил
в себе ученого, мыслителя и мистика, придает особую ценность его
синтезу.
Тейар — христианский эволюционист. Некоторые видят в этом какое-
то небывалое новшество. Проблему творения, с торжеством заявляют
атеисты, «он толкует совершенно отличным от богословских догм
образом... «Творение» у него уже не является единовременным актом, а
представляет собой, по сути дела, процесс. Сама эволюция становится у него
тождественной «творению» (3. Тор дай. Философия Тейара де Шар-
дена и современная идеологическая борьба.— «Вопросы научного атеиз-
* Не смешивать с теософией оккультистов,
90
ма». Т. 2, с. 371). Но, как мы видели (гл. 5 и приложения 5, 6),
и в этом отношении Тейар не является пионером. Эразм Дарвин и Ла-
марк, Уоллес и Лайель уже давно стояли на точке зрения, сочетавшей
творение и эволюцию. На необходимости идеи эволюции для
христианского мировоззрения настаивал и Вл. Соловьев (Собр. соч. Т. 8, с. 198).
До революции в России церковные издательства выпустили книги
зоолога Э. Васмана и ботаника Е. Деннерта, где развивалась религиозная
концепция эволюции.
Следует отметить, что Васман, как и Теиар, был католиком.
Католиком же был Гуго Обермайер, профессор Парижского института по
изучению доисторического человека, который откровенно поддерживал
эволюционизм. Говоря о библейском сказании, он справедливо сравнивал
его не с научными данными, а с космогоииями других народов.
«Оно,— писал Обермайер,— величественно в своей простоте и
поражает силою и красотою выражения. В нем происхождение мира является
деянием личного, Всемогущего Бога. Ни один культурный народ
древности не создал ничего могущего быть приравненным к этой
возвышенной космогонии. Но, признавая ее величие, мы не должны забывать, что
библейское сказание не рисует вовсе исторического хода создания мира.
В нем говорится о том, что все существующее в данную геологическую
эпоху, все растения и животные, были созданы Всемогущим Творцом.
Акт творения разделен лишь на чисто внешних основаниях на 6
моментов, соответствующих неделе, с ее шестью рабочими днями и днем
отдыха... Таким образом, о происхождении мира, в естественно-историческом
смысле этого слова, в Библии мы не находим ни малейшего намека;
в такой форме, впрочем, изложение этого вопроса было бы фактически
бесцельным, так как на протяжении тысячелетий оно оставалось бы
непонятным... Мы знаем теперь в общих чертах, каким способом
произошло творение всего существующего... Многочисленные ряды
органических форм развиваются с постепенностью из более простых основных
форм... Было бы крупною ошибкою пренебрегать высшими ступенями
развития (т. е. человеком) из-за того, что они произошли от низших,—
то, что в этих высших формах составляет новое, является в них
результатом творческой силы» (Г. Обермайер. Доисторический человек.
СПб, 1913, с. 1, 14).
Эти слова были написаны в тот год, когда Тейар был рукоположен
в священники. Обермайер — член того же монашеского ордена, что
Тейар,— суммировал основные принципы христианского понимания
эволюции. Тейар лишь развивал дальше это понимание и стремился
сделать его достоянием широких кругов.
Тейар с ранних лет обладал особым чувством священности и величия
природы. Материя была для него не отвлеченным философским
понятием, а живой материнской средой, с которой он ощущал себя кровно
связанным. Во всех его теоретических построениях материи, природе
уделяется огромное место. Порой почти доходит до своеобразного
«мистического материализма». В уединении монгольской пустыни он писал:
«Ты дал мне, Боже, непреодолимое тяготение ко всему, что движется
в темной материи... Я узнал в себе больше сына Земли, нежели — дитя
Неба» (Hymne de L'Univers. Paris, 1961, p. 24).
Быть может, в этом признании священности тварного мира Тейар
отступил от христианства в сторону иных учений? Думать так —
значит забывать об одной из существеннейших сторон Евангельского
благовестил. Именно христианство в отличие от спиритуализма провозгласило
освящение мира, в котором воплотился Богочеловек. Тщетно восточные
ереси пытались исказить это учение, отрицая полноту человеческого есте-
91
ства во Христе. Церковь устами Халкидонского Собора утвердила благо-
вестие о спасении твари и освящении плоти.
Правда, в истории христианства односторонний спиритуализм
практически нередко брал верх. Но Халкидонский догмат оставался
неизменной вехой, по которой новые поколения могли выравнивать свои пути
(см.: Вл. Соловьев. Великий спор.—Собр. соч. Т. IV, с. 20 ел.).
Именно то, что Христос был не Богом, принявшим облик земного
существа, а реальным Богочеловеком, вознесло тварный мир до высочайших
ступеней бытия. Он освятил Собою кровь и плоть, воздух и почву, небо
и землю. Для буддийского святого живые существа — это собратья по
страданию. Для святого Франциска и ветер, и солнце, и птицы, и звери —
братья и сестры во Христе.
Религиозная мысль нового времени, особенно в России, была
прикована к этим проблемам Твари, Плоти, Земли (Соловьев — в учении
о Богочеловечестве, Бердяев — о творчестве, Е. Трубецкой — в учении
о человеке как «друге» Божием). Софиология Флоренского и Булгакова
была попыткой осмыслить эти проблемы на путях христианского
гностицизма.
Таким образом, направленность Тейара на материю, творчество,
активность человека есть его черта, общая с основным потоком
христианской мысли. Однако для него все это стало объектом совершенно
исключительного личного опыта. Можно даже сказать, что ему было дано
особое откровение о Земле, откровение, которого искали и жаждали многие
до него.
*
И наконец, Тейар учил о наступлении финального периода в
истории мира, когда не без участия и усилий человечества совершится
вхождение твари в мир Божественного совершенства. Эту фазу мировой
эволюции он называет «точкой Омега». Все его надежды сосредоточены на
грядущем, и тут он является прямым преемником библейских пророков.
Библия, христианство пронизаны этим упованием «Да приидет Царствие
Твое». О наступлении этого Царства, являющегося в конце всемирно-
исторической драмы, говорит последняя книга Библии — Апокалипсис.
Но уже с самых ранних первохристианских времен возникло два
оттенка в понимании того, как Царство Божие явится в мир. Одним это
явление представлялось как внезапное вторжение сверхъестественных
сил, которые полностью разрушат старый мир и создадут Новый
Иерусалим. Другие предвидели в конце истории торжество Правды Божией на
земле, и переход от этого «Тысячелетнего царства Христова» к Новому
Иерусалиму рисуется им как восхождение на новую ступень. Говоря
крайне схематически, один взгляд исходил из концепции «неудавшейся
истории», а другой — оставлял в ней место светлому финалу. Оба
понимания опирались на Апокалипсис, толкуя его по-разному. В нем можно
найти известное оправдание как для веры в Тысячелетнее царство
(см.: С. Булгаков. Апокалипсис Иоанна. Париж, 1948, с. 177 ел.),
так и для мысли о «неудаче» истории (соловьевские «Три разговора»).
Чем объяснить такую двойственность? По-видимому, не только тем,
что человечеству до последнего мгновения оставлена свобода выбора,
но и тем, что исторический процесс имеет двойственный характер. В нем
постоянно борются и возрастают две противоположные тенденции. Один
поток идет ко Христу, другой — к Антихристу. Еще библейские пророки,
говоря о торжестве Бога на зомле, предвидели возрастание злых сил в
конце истории (символы Гога и Магога у пр. Иезекииля).
Каждое из двух пониманий истории делает ударение на одной из
этих тенденций. В частности, Тейар видит только линию, восходящую
ввысь, к «точке Омега», оставляя в тени линию зла и регрессии. В этом
он следует одной из старых христианских традиций.
92
О возможности светлого конца истории еще здесь, на земле, учили
древние христиане-хилиасты * и многие из Отцов Церкви (св. И у с т и н.
Диалог с Трифоном, 80; II а п и й. У Евсевия. Церк. История, 3, 39, 13;
И р и ы е й. Против ересей. 5, 32 и др.). В средние века грядущее
наступление Царства Святого Духа проповедовал аббат Иоахим Флорийский.
Он рассматривал всю жизнь человечества как смену трех фаз духовной
истории; эры Отца, эры Сына и эры Духа, Согласно его учению,
нынешний Новый Завет сменится Третьим Заветом, который ознаменуется
величайшим духовным возрождением и преобразованием всего
человечества (С. Л, Г а у с р а т. Средневековые реформаторы. Пер. с нем.
1900, т. 2; Э. Же бар. Мистическая Италия. Спб., 1900, с. 51 ел.;
М. С т а м. Учение Иохима Калабрийского.— «Вопросы истории религии
и атеизма». М., 1959, т. 7). Иохим оказал огромное влияние на
дальнейшее развитие христианской эсхатологии и философии истории. Сказалось
оно и на русской религиозной мысли, которая была захвачена идеей
Третьего Завета (Мережковский, Бердяев, Флоренский). У Чаадаева
и особенно у Вл. Соловьева грядущее связывалось со всемирной ролью
католической теократии, подобно тому как впоследствии и Тейар долгое
время видел в прогрессе западной цивилизации преимущественно
положительные стороны. Только перед смертью Соловьев встал на
«катастрофическую» точку зрения («Три разговора»). Наиболее резко очерченную
форму оптимистический финализм принял в концепции Николая
Федорова, который гипертрофировал христианское учение об активности
человека и как бы отдал ему в руки все дело преображения мира. Таким
образом возникла его утопия, в которой человечество само (научными
методами) воскрешает мертвых и управляет (опять-таки научными
методами) силами природы (см. его «Философию общего дела», Т. 1—2,
1906—1913). Как мы видели (приложение 8), Федоров оказал влияние
и на Циолковского, мечтавшего о покорении космоса.
Учение Тейара де Шардена о переходе человечества к «точке Омега»
является, по существу, одним из вариантов хилиастического толкования
истории. Правда, «точка Омега» есть для него уже выход за пределы
собственно истории. «Принятие Бога в сознание самой ноосферы,—
говорит он,— слияние кругов с их общим Центром, не является ли
откровением «Теосферы»? (Construire La Terre. Paris, 1958, p. 28). Но и в этом
он единодушен с хилиастами, которые считали «Тысячелетнее царство
Христа» лишь прелюдией к сверхисторическому бытию мира: «новому
небу и новой земле». С этим согласны сторонники всех христианских
учений. Все они говорят о грядущем как о совершенно иной, высшей
форме существования человека в лоне божественного Света.
Подводя итог, мы можем сказать, что эволюционизм, идея синтеза
пауки и религии, вера в ценность твари и материи и, наконец,
оптимистический финализм — все это было в достаточной степени присуще
христианской религиозной мысли до Тейара. Однако дар «ясновидца
материи» позволил ему так обобщить предшествующие идеи, что это
обобщение получило форму как бы нового религиозного учения.
Остановимся теперь вкратце на основных этапах развития его идей
и на важнейших принципах тейардизма в связи с жизнью самого ученого.
Мари Жозеф Пьер Тейар де Шарден родился в 1881 году в
интеллигентной семье. Христианское воспитание он получил от своей матери,
Сторонники учения о «Тысячелетнем Царстве Христа» в конце истории.
93
которая в религиозном отношении была прямой противоположностью
своему двоюродному деду — Вольтеру. В детстве Пьер отличался какой-
то особенной любовью к камням, земле, тайнам природы. Задолго до
осмысления Вселенной как «божественной среды» он уже остро ощущал
ее красоту и священность (P. Grenet. Op. cit, p. 59).
В 1892 году Тейар поступает в коллеж Общества Иисуса, а когда
через 7 лет оканчивает его, у него уже созрело решение вступить в
Орден иезуитов. В 1900 году (в год смерти Вл. Соловьева) Тейар уже
новоначальиый член Общества Иисусова, а через год приносит
иноческие обеты. Тейар продолжает свое образование, получает ученую
степень. Наставники благословляют его на занятие естественными науками.
Так монах становится ученым. Он принимает участие в экспедиции
в Египет, где его окончательно пленяют геология и палеонтология. Этим
сферам науки он останется верен до конца своих дней.
В мировоззрении Тейара можно найти следы влияния разных
мыслителей, преимущественно это французские философы. В своих идеях
о единстве человечества он чем-то связан с Огюстом Контом («Grand
Etre»); на формирование идеи о «точке Омега», несомненно, оказало
воздействие «Будущее науки» Ренана; особенно ощутимо влияние Бергсона
с его учением о «творческой эволюции».
В 1911 году Тейар принимает сан. Его работы в области
палеонтологии соприкасаются с проблемами антропогенеза. Его захватывает
волнующая тайна происхождения человека. Дружба с аббатом Анри Брей-
лем, ведущим французским палеонтологом, приводит его на позиции
эволюционного понимания антропогенеза.
В 1914 году монах-ученый мобилизован в армию в качестве санитара.
Фронтовая жизнь вводит его в мир особых переживаний. В эссе
«Ностальгия фронта» (1917) он говорит о том значении, которое имеет для
души соприкосновение с опасностью, трагедией, смертью. Оно дает
чувство значительности, величия жизни, помогает преодолеть пошлый и
будничный взгляд на вещи. Тейар — романтик, романтик в самом высоком
и серьезном значении слова. Для него весь окружающий мир, вся
природа, все люди горят переливающимся пламенем вселенских тайн.
Он чувствует свою неразрывную связь с материей, страдает от ее разру-
шимости и непрочности и находит высшее ее утверждение в
пронизывающем ее Духе.
В годы войны он уже много пишет, пытаясь выразить
открывающееся ему видение мира. Демобилизовавшись, Тейар получает дипломы
по ряду отраслей естествознания, а в 1922 году защищает диссертацию
по палеонтологии. С 1920 по 1923 год он преподает в парижском
Католическом институте, на кафедре геологии. В 1923 году происходит
важнейшее событие в жизни Тейара. Он оставляет преподавание и принимает
участие в большой экспедиции в Азию.
С этого времени в течение многих лет ученый делит со своими
спутниками трудности полевой работы. Он проходит по древним путям
Монголии, изучает геологию Китая, вместе с Блэком и Пэем открывает
кости синантропа в Чжоу-коу-тяне, странствует по Индии, Бирме, Яве,
Африке, Америке. В какой-то степени эти путешествия сыграли для
Тейара ту же роль, что и путешествие на «Бигле» для Дарвина. В
соприкосновении с миром нетронутых пустынь, в непосредственном
изучении людей и природы вдали от цивилизации, в прослеживании путей
эволюции на окаменелостях, извлеченных из земли своими руками,
формировалось миросозерцание Тейара. Во время экспедиций, оставаясь
лицом к лицу с первозданным безмолвием пустынь, он переживал часы
глубоких космических прозрений. Вселенная все более и более
открывалась ему как божественная Плоть, как участница мирового таинства.
Там он написал «Вселенскую литургию», полную вдохновения и
пронизанную ясновидением космоса. Это удивительные молитвы, родственные
94
по духу творениям великих мистиков. Он видит Бога, одухотворяющего
весь мир, и приникает к Нему, полный доверия и любви: «Искрящееся
Слово, пламенная Мощь, Ты, Который замесил такое множество, чтобы
вдохнуть в него Твою жизнь, о, прошу Тебя, опусти па нас свои
могучие руки, свои заботливые руки, свои всеирисутствующие руки, руки,
которые не касаются ни там, ни здесь в отличие от рук человека, но
которые... одновременно касаются нас во всем, что есть самого широкого
и самого сокровенного в пас и вокруг нас...» («Hymne de L'Univers»,
p. 28).
Тейара в его скитаниях окружали люди, нередко далекие от его веры
или равнодушные к религии. Он был свободен от той кабинетной
атмосферы, которая могла бы исказить для него перспективу мира. Даже
в годы второй мировой войны он смотрел на Европу с «птичьего полета»
своей далекой Азии. Это, правда, лишило его опыта европейской
трагедии, но в то же время позволило шире смотреть на человечество в целом.
С 1926 года жизнь Тейара омрачают сложные отношения с Орденом.
По мнению руководства, он стал переходить рубеж собственно науки
и углубляться в теоретические построения сомнительного характера. Его
эволюционизм казался им слишком прямолинейным и опасным для
богословия. Многие выражения Тейара действительно были двусмысленными.
Его слог поэта-ученого, несколько напоминающий слог Бергсона, не
всегда способствовал точности и ясности мысли. Он любил смелые метафоры,
но порой они могли вводить в заблуждение. Не желая вторгаться в
богословскую область, он иногда не считался с ней, и его высказывания
приводили в смущение многих теологов. Ввиду всего этого Орден не дал
ему благословения на преподавательскую работу и публикование
философских трудов, хотя Тейар в то время получил уже мировую
известность и был избран членом французской Академии.
Конфликт длился до конца жизни Тейара. Несколько раз он подавал
прошение о разрешении напечатать свой главный труд «Феномен
человека» и получал отказ.
Иные люди (которых Тейар никогда бы не признал своими
единомышленниками) находили в этом конфликте повод злорадствовать или
проливать крокодиловы слезы (см., например: «Наука и религия», 1966,
N2 7, с. 29). А между тем они забывали, что достаточно было Тейару
порвать с Орденом, как он смог бы свободно преподавать и печататься.
Вспомним хотя бы судьбу аббата Лгоази, специалиста по Св. Писанию,
который, порвав с Церковью (1908 г.), стал профессором Коллеж
де Франс. Ко Тейар на первое место ставил послушание инока и сына
Церкви. Он продолжал упорно работать над своими трудами, уточняя
и раскрывая свою мысль. «Когда я перечитываю теперь эти страницы,—
писал он о своей книге «Божественная среда»,— я нахожу в них
основные черты своего христокосмического видения. Но, с другой стороны,
я с удивлением отмечаю, до какой степени в то время мое
представление об универсуме было еще туманным и беспомощным» (цит. по:
P. Grenet. Teilhard de Chardin, p. 124). Таким образом, досадная на
первый взгляд строгость Ордена сыграла положительную роль в
оттачивании формы тейардизма.
Тейар не мог уйти от Церкви потому, что в самом его
миропонимании она была центральным стволом эволюции ноосферы. Побывав в
Риме, он писал в октябре 1946 года: «Христианство представляет собой
совершенно особый феномен («феномен христианства») с его
парадоксальной, неповторимой и действенной убежденностью в том, что земные
противоречия являются как бы аркою, связывающей человека с тем, что
выше его». «Я вижу,—писал он два года спустя,—именно в этом
Римском Древе, во всей его целостности, поддержку биологии, достаточно
широкую и многообразную для того, чтобы осуществлять и поддерживать
преображение человечества» (P. Grenet. Op. cit., p. 49).
95
У руководителей Ордена было слишком большое чувство
ответственности, чтобы беспрепятственно дать распространяться учению Тейара
в двусмысленной и соблазняющей форме. Для него это было
мучительным испытанием. Но он вынес его как настоящий праведник и
истинный христианин. В своей обобщающей работе «Феномен человека» он
сделал очень много для того, чтобы преодолеть неясность, присущую
прежним его книгам и статьям. Сегодня отношение к работам Тейара
в католических кругах меняется: он постепенно получает признание.
Следует заметить, что и в самые критические годы Тейар
беспрепятственно выступал с докладами и печатал на ротаторе свои работы. Так
что тем, кто упрекает Орден в подавлении свободы ученого, следовало бы
обратиться к иным примерам для сравнения. Кстати, их же можно было
бы спросить: почему книга Тейара вышла в переводе на русский язык
с пропуском главы о христианстве? И могли ли генетики в те же годы
(1948—1950) выступать с лекциями о хромосомной теории? Однако
многие католики и по сей день смотрят на тейардизм отрицательно. Такую
же оценку получил Тейар и со стороны известного православного
философа — о. В. Зеньковского. Мы будем говорить об их возражениях,
рассматривая основные пункты системы Тейара.
Сам ученый сознавал нечеткость формулировок, свойственную многим
его ранним работам. Поэтому именно «Феномен человека» — книга,
которую он дополнял и редактировал десять лет,— может считаться
наиболее адекватным выражением его миросозерцания. В ней он дал
целостную картину конвергирующей Вселенной.
Работая над «Феноменом человека», Тейар стремился договаривать
все до конца, при этом книга нисколько не проиграла в смысле
поэтичности и силы выражения. С изумительным мастерством пользуется он
образами, заимствованными из органической жизни, чтобы передать
трепещущее и текучее бытие универсума. Здесь и «пучки», и «соки»,
и «пульсации», и «черешки». Когда он говорит о Древе Жизни, почти
физически ощущаешь реальность этого исполинского тела,
поднимающегося из темных недр материи к свету Духа. Это совершенство
художественной формы ставит Тейара в один ряд с наиболее выдающимися
мастерами слова среди мыслителей всех времен — Платоном и Августином,
Шопенгауэром и Бергсоном, Вл. Соловьевым и Бердяевым.
Название главной книги Тейара не случайно. В ней он как бы сразу
отстраняет от себя роль умозрительного философа или богослова. Он
хочет говорить только о явлениях, только о феноменах (ФЧ, с. 31). Этим
он ставит себя в положение ученого, строящего гипотезы на основании
фактов. Поэтому те, кто обвиняет его в пренебрежении к богословским
проблемам, просто не понимают границ, которые он себе поставил. Как
мы увидим, в ходе раскрытия идей эволюции он в конце смыкается с
теологией, но это не делает его богословом в строгом смысле слова. On
идет от внешнего, от «феномена».
Прот. В. Зеиьковский замечает, однако, что Тейар не удерживается
на «поверхности вещей» и обращается к таким понятиям, которые лежат
глубоко, глубже феноменального плана (В. 3 е н ь к о в с к и й. Основы
христианской философии. Т. II. Париж, 1964, с. 179). Но здесь нужно
иметь в виду, что многие мыслители употребляли известные термины
со своим особым значением (например, Бергсон называл «интеллектом»
нечто противоположное «интеллекту» схоластов). Тейар же вообще был
склонен к словотворчеству и новому осмыслению старых понятий. Для
него «феномен» — это не «явление» в кантианском смысле, а та часть
действительности, которая доступна исследованию. Сюда входят как
внешние явления, так и силы, стоящие за ними, в частности творческая
96
«радиальная энергия». Об этих силах говорит не умозрительная
концепция и не богословие, а гипотеза, опиравшаяся на научные данные.
Разумеется, гипотезы рождаются не в пустом пространстве. Их характер
тесно связан с внутренней интуицией, с его взглядом на мир.
Какова же основная интуиция Тейара? Ее легко обнаружить, ибо во
всех своих произведениях он силится выразить ее. Суть его интуиции —
видение мира как живого организма, пронизанного Божеством и
устремленного к совершенству. Воплощением этого тяготения и является
эволюция Универсума, на вершине которой стоит человек. У корней
эволюции он видит творческие силы, которые как бы свернуты, скрыты и
разворачиваются постепенно в ходе развития. Но когда в лице человека
эволюция достигает критической точки, начинается объединение,
конвергенция: мир устремляется к высшему Синтезу.
Эта схема развития (единство, дифференциация, синтез) восходит к
Гегелю и была позднее раскрыта Вл. Соловьевым (см.: Собр. соч. Т. I,
с. 250). Но Тейар придал ей особую биологическую и космическую
окраску, так как естествознание подтверждает ее с исключительной
наглядностью.
Проблема начала мира у Тейара почти отсутствует именно в силу
того, что он хочет ограничиться «феноменальными» гипотезами. Лишь
в конце пути он как бы ретроспективно начинает поиски Первого
момента.
Тейар не согласен ни с материализмом, ни со спиритуализмом в их
чистом виде. «По моему убеждению,— говорит он,— эти две точки
зрения требуется объединить» (ФЧ, с. 54). Однако остается неясным, что
он подразумевает под спиритуализмом. А ту «феноменологию», которую
он предлагает взамен как синтез, трудно назвать действительным
выходом из борьбы двух направлений. Но в одном он прав: наука и научные
гипотезы должны лежать по ту сторону идеологии. И его гипотеза о
материи может быть принята и материалистом, и «спиритуалистом».
При рассмотрении структуры материи Тейар последовательно и
логично идет к панпсихизму (ФЧ, с. 143). Он отправляется от человека,
обладающего «внутренним» миром, и делает, в общем, вполне логичный
вывод о наличии подобной внутренней стороны у животных, растений,
неживой природы (эту мысль развивали еще А. Шопенгауэр и Вл.
Соловьев). Основой «внутреннего» начала Тейар считает «радиальную
энергию», которая влечет материю «в направлении более сложного»
(ФЧ, с. 65). Что это? Теория, гипотеза, миф?
Зеньковский утверждает, что это миф. Но мы знаем, что гипотеза
о присущей материи тенденции к развитию и усложнению теперь уже
факт, «феномен», доступный позитивной науке.
Сближая эту тенденцию с творческой силой Божества, Тейар отнюдь
не отступает от библейско-христианского понимания миротворения. Как
мы видели, именно в том, что материи придается творческая сила, и
заключается суть биогенеза по Библии («да произведет вода душу
живую...»). Но у Тейара есть две неясности, на которые следует указать.
Первая: иной раз кажется, что он готов видеть в этой творческой
энергии имманентность Самого Божества материи (см.: например, L'Avenir
de Fhomme, p. 105; Hymne de l'Univers, p. 83). Кажется, что исчезает
грань между Божественной и тварной энергиями, и это дает право Зень-
ковскому обвинять Тейара в пантеизме или акосмизме (В.
Зеньковский. Цит. соч., с. 185). Однако для философов и богословов Тейар
оставляет полный простор осмыслить ту связь, которая существует
между «внутренней» энергией мира и Божеством (тем более что ни те, ни
другие не смогли еще прийти к единому мнению в понимании этой
проблемы) .
Вторая неясность связана с тем, что у читателя легко создается
впечатление, что «радиальной энергии» (присущей материи вообще)
4 Вопросы философии № 12. 97
достаточно для того, чтобы обусловить всю эволюцию. Он даже решается
поэтому называть стадию неживой материи «преджизнью» (ФЧ, с, 58).
Эта точка зрения недостаточно подчеркивает качественное различие трех
ступеней эволюции: неживой материи, жизни и человека. В этом
отношении критика Зеньковского справедлива. Тейар слишком глубоко
проникнут чувством всеобщей одушевленности, и эти переходы от одной
ступени к другой часто кажутся ему не столь существенными. Но тем не
менее он вопреки своей основной интуиции указывает на значение
скачков в развитии.
Умалчивая о начале мира (а что можно сказать об этом с точки
зрения «феноменальной»?), Тейар все же склонен к принятию теории
«взрыва», «расширяющейся Вселенной». В момент «взрыва» из вещества
путем внезапной трансформации образуются устойчивые единицы
элементарной материи. «Преджизнь», скрытая «радиальная энергия», ведет
материальный мир по пути усложнения. Эволюция начинается еще задолго
до появления живых организмов. Ткань универсума несет в себе
координацию внутреннего («психического») и внешнего, структурного
(«тангенциального»). Она является одновременно живой системой
взаимосвязей, органическим (а не механическим) взаимопроникновением
элементов.
Говоря об эволюции, Тейар справедливо настаивает на том, что в
настоящее время она перестала быть спорной гипотезой. «В мире,— пишет
он,-— еще встречаются люди, подозрительно и скептически настроенные
в отношении эволюции. Зная природу и натуралистов лишь по книгам,
они полагают, что борьба вокруг трансформизма все еще продолжается,
как во времена Дарвина. А поскольку в биологии идут дискуссии
относительно механизма видообразования, они воображают, что эта наука
сомневается или еще могла бы сомневаться, не отрицая себя самой,
насчет факта и реальности такого развития. Но положение дел совершенно
иное» (ФЧ, с. 137, 140).
«Черешки», или начала нового в эволюционном стволе, всегда
ускользают от взора наблюдателя. Тейар очень убедительно говорит об этом
(ФЧ, с. 92). Ссылаясь на «глубокое» структурное единство «древа
жизни» (с. 99), он допускает моноцентрализм жизнетворения: «Взятое в
целом живое вещество, расползшееся по Земле, с первых же стадий своей
эволюции вырисовывает контуры одного гигантского организма» (ФЧ,
с. 113).
Итак, жизнь возникла единожды в одном месте. Возникла она путем
скачка. Тейар прямо называет его «внутренней революцией» (ФЧ, с. 89).
Он признает прерывность вопреки обвинению Зеньковского. «Эта столь
привлекательная идея непосредственного превращения одной энергии в
другую должна быть отвергнута» (ФЧ, с. 64). Значит, взрыв, революция.
В чем же коренится этот переворот? Источник его Тейар видит в самой
природе радиальной энергии, в том «психическом», что скрыто в «пред-
жизни». Однако христианскому взгляду на миротворение более
свойственно усматривать здесь особое творческое воздействие на материю. Для
Тейара же оно скорее заключено уже в самом факте существования
«внутреннего» вещей. Впрочем, когда речь идет о жизни, этот вопрос не
столь принципиален, как вопрос о человеке.
Говоря о самом процессе эволюции живых существ, Тейар придает
большое значение фактам, доказывающим направленность развития в
сторону все менее и менее вероятных структур (ФЧ, с. 109). «Я
считаю,— пишет он,— что существуют направление и линия прогресса
жизни, столь отчетливые, что их реальность, как я убежден, будет общепри-
знана завтрашней наукой» (ФЧ, с. 142).
Как мы видели (гл. 5), сам факт возрастания сложности и
стремления организмов к совершенству есть свидетельство в пользу
направленности эволюционного процесса. Тейар указывает и на тупики эволюции
98
(закон Долло), к которым приводит узкая специализация организма. А в
центральном стволе, говорит он, «от одного зоологического пласта к
другому что-то безостановочно рывками развивается и возрастает в одном
и том же направлении. И это — наиболее физически существенное на
нашей планете» (ФЧ, с. 147).
Тенденцию усложнения, противоположную росту энтропии, ученый
объясняет опять-таки действием «внутреннего», силой радиальпой
энергии. Но вот эволюция подходит к тем рубежам, где, по выражению Тей-
ара, «психическая температура повышается». Тихо и незаметно
подготавливается новый планетарный переворот. «Я охотно представляю себе,—
говорит Тейар,— нового пришельца возникшим из автономной, долгое
время скрытой, хотя и втайне активной эволюционной линии, которая в
один прекрасный день выступила победоносно среди всех других линий»
(ФЧ, с. 198).
Многие увидели в тейаровском понимании антропогенеза «чистую»
эволюцию: переход от животного к человеку без скачка. Нужно признать,
что кое-какие его выражения действительно дают повод к подобному
толкованию. Но на самом деле ученый хорошо знал о пропасти, которая
отделяет человека от всего остального мира. Он рассматривает человека
как самое поразительное явление в универсуме. «Ничтожный
морфологический скачок и вместе с тем невероятное потрясение сфер жизни —
в этом весь парадокс человека» (ФЧ, с. 163).
Здесь Тейар уже прямо прибегает к термину «прерывность» (с. 171).
Возникновение мысли — «порог, который должен быть перейден одним
шагом». Это «индивидуальный мгновенный скачок от инстинкта к мысли»
(с. 179). Итак, прерывность признана. И все же ученый склоняется к
тому, чтобы считать эту революцию «скачком радиального в
бесконечность» (с. 168), т. е. к тому, чтобы выводить духовное начало человека
из психики животного. С научной точки зрения это в высшей степени
сомнительный тезис (см. гл. 5). Самые высокоразвитые животные,
близкие телесно к человеку, проявляют не больше интеллектуальной силы,
чем дельфины. Одного усложнения центральной нервной системы для
появления духовной личности человека недостаточно. Теайр видит
трудность и оставляет за теологом право говорить здесь о «творческом акте»
(ФЧ, с. 169). Именно на этом творческом акте настаивает христианство,
которое признает возможным естественное происхождение
психофизической природы человека. Об этом недвусмысленно было сказано в
энциклике Папы Пия XII Humani Generis, опубликованной в 1850 году. Между
прочим, в этой энциклике осуждается и теория полигенизма, выводящая
человека из разных видов приматов. Тейар не защищал полигенизма,
но утверждал, что для науки обнаружение «черешка» вида почти
невозможно. Начало всегда ускользает от нее. «В глубинах времен,— говорит
он,— в которых происходила гоминизация, наличие и развитие
единственной пары положительно неуловимы, их невозможно рассмотреть
непосредственно при любом увеличении. Таким образом, можно
предположить, что в этом интервале имеется место для всего, что требует
трансэкспериментальная точка зрения» (ФЧ, с. 185). Оставаясь на уровне
«феномена», разумеется, невозможно обнаружить факт Грехопадения
или духовного могущества Первочеловека.
Многие считали, что в тейардизме вообще нет места Первородному
греху. При этом ссылались на энциклику Пия XII, который отрицает
толкование «Адама» как «некоего множества праотцев». Но, во-первых,
тейардизм не отрицает единства корней человечества; а во-вторых, он
не исключает понимания «Адама» как Всечеловека. Папа имел в виду
коллектив, подменяющий единство «Адама». Если же «Адам» есть
всеединство человека, то сама альтернатива «одного» и «множества» теряет
значение. Грех поразил «Адама» как Всечеловека, и эта духовная рапа
не может подлежать рассмотрению антропологии.
4* 99
Однако действительно, у Тейара если не по форме, то по существу
проблема искаженности человеческой природы и зла в мире как-то
теряется. Она оказывается далека от его основной интуиции. Ученому
приходится писать особое приложение к «Феномену человека», чтобы
говорить о зле и страдании» *.
Как же понимает Тейар эту проблему с точки зрения «феномена»?
Прежде всего для него зло — естественный продукт «игры больших
чисел». Это зло беспорядка и неудач, издержки, сопровождающие развитие
жизни. Одним словом, оно оказывается чем-то естественным и
неизбежным. С этим трудно согласиться, и поэтому Тейар все же допускает
«особый эффект какой-то катастрофы или первичного извращения».
Таким образом, хотя зло и оказалось в «приложении», но оно нашло место
в системе, формально не противоречащей христианскому его пониманию.
И все же в целом Тейар проходит мимо проблемы греховности
человека, что ослабляет его учение, отрывая его от реальной
действительности. Здесь тейардизм нуждается не в «приложении», а в существенном
дополнении.
С возникновением человека наряду с биосферой появляется ноосфера.
По мнению Тейара, она не может остановиться в своем развитии, ибо
она есть часть эволюции. Ее шедевры — это мысль, личность, многоеди-
ность сознаний. Но этого мало. Выходя за рамки «феномена», Тейар
ожидает нового этапа эволюции, когда человечество сольется в единстве
«точки Омега»... Подобно тому как слияние одноклеточных животных в
организм было началом дальнейшего прогресса, так и духовное
объединение человечества ведет его к Сверхжизни и Сверхчеловечеству.
Распространение мысли и силы человека по Земле, его «планетизация» —
это залог будущего. Тейар верит в то, что все развитие науки, техники,
социальных систем ведет к этой высшей духовной точке. В век, когда
столь многие проклинают технику и тяготятся цивилизацией, он
усматривает в них «гоминизацию Земли и мира». Но Тейар идет еще дальше.
«Может ли,— говорит он,— универсум окончиться иначе, чем в
безмерном?» (ФЧ, с. 247). «Человек никогда не сумеет превзойти человека,
объединяясь с самим собой» (ФЧ, с. 249). Нужно, чтобы нечто
сверхчеловеческое реально существовало независимо от людей. Это и есть
«точка Омега».
«Омега» представляет собой, с одной стороны, то, что восточные
богословы называли «соборностью»,— единение без смешения, слияние без
поглощения. С другой стороны, «Омега» — это Нечто и в то же время
«Некто, действующий с самого начала эволюции. Эволюция — это поток,
становление, гибель и рождение. То, что движет ее, должно быть
«независимым» (ФЧ, с. 256). Оно не рождается в эволюции, а
«наличествует всегда». «Омега» стоит вне времени. Это — Начало трансцендентное,
надмирное. Именно поэтому Оно могло воздвигать Вселенную все выше
и выше к «божественному очагу» (ФЧ, с. 266). «Омега» — это Бог,
Который сокровенно пронизал мир Своей силой, вытянул его в гигантское
Древо Жизни и приближает к Своему бытию. Все творческие усилия
человека, вся его культура и цивилизация, его любовь, его энергия, его
деяния и, наконец, все личные индивидуальности, которые бессмертны,—
все это служит вселенской Божественной Цели.
Бог проявляет Себя постоянно, и один из высочайших признаков Его
проявления — это христианство. Оно оказывается могущественной
планетарной силой, единственно способней в настоящее время объединять
человечество для достижения космической цели Бога.
* Это приложение, как и глава «Феномен христианства», в русском переводе
книги опущены (без оговорок и пояснений).
100
«Двигателем сознательной жизни,— говорит Тейар,— может быть
только Абсолютное, то есть Божественное. Религию можно было
понимать как простое утешение, как «опиум». На самом же деле ее
подлинной задачей является поддержка и пробуждение прогресса жизни»
(L/Energie humaine, p. 221). Только бесконечные перспективы того, что
восточные Отцы Церкви называли «теозисом» (обожением), могут быть
подлинной путеводной звездой человечества в грядущем.
Связь тейаровской «точки Омега» с идеей «теозиса» приближает его
к православному мышлению, хотя лично он был мало знаком с восточ-
нохристиаыским богословием. На эту родственность тейардизма и
православия указал прот. Г. Клингер (см. его статью о Тейаре в журнале
«Zycie i mysl», 1968, № 6-7).
Сосредоточивая свое внимание на будущем человека и Вселенной,
Тейар отнюдь не был отвлеченным мыслителем. Его подлинно
христианский оптимизм заражен неистощимой созидательной энергией. Его
доверие к бытию, доверие к Богу вдохновляет и вселяет надежду. Все
прекрасное, творческое, пронизанное любовью, что осуществляется на
Земле, есть для Тейара «знамение времени», предвестие грядущего
преображения. Он пророк прогресса, но не ложного, чисто внешнего,
устремленного к Царству Божию. Он видит эволюцию и развитие человечества
глазами веры.
Для того чтобы получить сверходухотворение в Боге, пишет он,
не должно ли человечество предварительно родиться и вырасти в
соответствии со всей системой того, что мы называем «эволюцией»? Смысл
Земли открывается и взрывается вверх, в смысл Бога. А смысл Бога
укореняется и питается снизу в смысле Земли. Трансцендентный,
личный Бог и эволюционирующий мир, не являющиеся больше
противоположными центрами притяжения, но входящие в иерархическую связь,
для того чтобы поднять всю человеческую массу в едином приливе,—
такова должна быть та замечательная трансформация, которую
теоретически можно предвидеть, но которая фактически уже проявляет себя во
всем растущем числе как свободомыслящих, так и верующих, в идее
духовной эволюции универсума (Construire la terre, p, 32—33).
В этих словах выражено упование, на котором зиждется вера
Библии, ибо для нее смысл истории заключен в движении к Царству, где
Бог будет всем во всем.
Мы лишь очень кратко коснулись основных моментов тейардизма.
Из того, что было сказано, легко увидеть, что «пантеистический»,
внутренний опыт Тейара наложил определенную печать на его систему. Но
гораздо важнее отметить, что Тейар очень близок к тем из православных
мыслителей, которые рассматривали весь мир как Теофанию
(Богоявление). Зеньковский имел основание упрекать его в недостаточном
разграничении слоев бытия и в отсутствии четкой идеи творения. Слабостью
Тейара является и его понимание зла. Если оно «естественно», то Иван
Карамазов был прав. Осталась в стороне от Тейара и проблема антино-
мичности, для него во всем господствует номизм, законы однозначные и
четкие. Правы и те католические критики, которые упрекали Тейара в
том, что он дал повод для смешения Бога и мира, естественного и
сверхъестественного. Однако мыслитель сознательно стремился к преодолению
недостатков и пробелов своей системы. Кроме того, заявляя, что он
ограничивается сферой «феноменальной», Тейар оставляет простор для
философской и богословской мысли. Думается, что, дополняя и развивая
тейардизм, можно сделать его важным составным элементом
современного христианства. Это не будет посягательством на творчество Тейара, а,
напротив, продолжением его дела.
101
Что же дает учение Тейара де Шардена современному христианскому
сознанию?
1. Своим пониманием Церкви как творческого начала в современном
обществе Тейар способствует разработке положительного идеала для
христиан наших дней. Он указывает на любовь к Богу как на ведущую силу
эволюции ноосферы. Она неразрывно связана с любовью между людьми,
с активным преодолением зла и разделений в мире. Тейар учит нас
любовному отношению к миру. Вместо враждебного неприятия он
предлагает идти к нему с проповедью Христа, но проповедью действенной. Его
светлый взгляд на будущее обнаруживает в нем веру, которой нужно
учиться всем. В противовес мрачной безнадежности, которая смирилась
с обреченностью мира, Тейар с упованием смотрит вперед, призывая
людей к положительному деланию. Силы регресса не пугают его, не
вызывают в нем покорного и пассивного отношения к действительности. Его
личный религиозный опыт есть драгоценная жемчужина христианства.
2. Тейар своим научным синтезом помогает возникающему диалогу
между христианами и нехристианами. Для многих марксистов
христианство понятно и даже приемлемо именно в форме тейардизма.
3. Синтез Тейара вносит свою лепту в построение целостного
христианского миросозерцания. Те же его стороны, которые спорны и неясны,
вполне можно раскрыть, развить, уточнить, дополнить.
Таким образом, хотя система о. Пьера Тейара де Шардена и имеет*
черты ограниченности (как и все, что делает человек), она тем не менее
нужна нам, как нужна и сама личность этого инока-ученого и пророка-
гуманиста.
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
И ПУБЛИКАЦИИ
Дорога к рабству
Ф. А. ХАЙЕК
XI
Конец правды
Характерно, что обобществление
мысли повсюду шло рука об руку
с обобществлением промышленности.
Э. Карр
Чтобы все служили единой системе целей, предусмотренных
социальным планом, лучше всего заставить каждого уверовать в эти цели. Для
успешной работы тоталитарной машины одного принуждения
недостаточно. Важно еще, чтобы люди приняли общие цели как свои
собственные. И хотя соответствующие убеждения навязывают им извне, они
должны стать внутренними убеждениями, общей верой, благодаря которой
каждый индивид сам действует в «запланированном» направлении. И если
субъективное ощущение гнета не является в тоталитарных странах
таким острым, как воображают многие люди, живущие в условиях
либерализма, то только потому, что здесь удается заставить граждан думать в
значительной степени так, как это нужно властям.
Это, конечно, достигается различными видами пропаганды, приемы
которой сегодня настолько хорошо всем известны, что вряд ли стоит
много об этом говорить. Правда, следует подчеркнуть, что ни сама
пропаганда, ни ее техника не являются специфическими атрибутами
тоталитаризма. Единственное, что характерно для пропаганды в тоталитарном
государстве,— это то, что вся она подчинена одной цели и все ее
инструменты тщательно скоординированы для решения единых идеологических
задач. Поэтому и производимый ею эффект отличается не только
количественно, но и качественно от эффекта пропаганды, осуществляемой
множеством независимых субъектов, преследующих различные цели.
Когда все средства информации находятся в одних руках, речь идет уже
не просто о том, чтобы пытаться посеять в людях те или иные убежде-
Окоичаыие. Начало см. №<N*2 10, 11.
103
ния. В такой ситуации искусный пропагандист обладает почти
неограниченной властью над сознанием людей и даже самые из них разумные и
независимые в суждениях не могут полностью избежать
пропагандистского влияния, если они отрезаны от других источников информации.
Таким образом, в тоталитарных странах пропаганда действительно
владеет умами людей, но особенности ее обусловлены здесь не методами,
а лишь целью и размахом. И если бы ее воздействие ограничивалось
навязыванием системы ценностей, одобряемых властями, она была бы
просто проводником коллективистской морали, о которой мы уже говорили.
Проблема тогда свелась бы просто к тому, хорош или плох этический
кодекс, которому она учит. Как мы имели возможность убедиться,
этические принципы тоталитаризма вряд ли пришлись бы нам по душе. Даже
стремление к равенству путем управления экономикой могло бы привести
только к официально санкционированному неравенству, то есть к
принудительному определению статуса каждого индивида в новой
иерархической структуре, а большинство элементов гуманистической морали,
таких, как уважение к человеческой жизни, к слабым и к личности
вообще, при этом просто бы исчезли. Впрочем, как ни отвратительно это для
большинства людей, как ни оскорбителен для их морального чувства
коллективистский этический кодекс, его все же не всегда можно назвать
прямо аморальным. Для строгих моралистов консервативного толка он,
наверное, даже привлекательнее в каких-то своих чертах, чем мягкие и
снисходительные нормы либерального общества.
Но тоталитарная пропаганда приводит и к более серьезным
последствиям, разрушительным для всякой морали вообще, ибо она затрагивает
то, что служит основой человеческой нравственности: чувство правды и
уважение к правде. По самой природе своих целей тоталитарная
пропаганда не может ограничиться теми ценностями и нравственными
убеждениями, в которых человек и так следует взглядам, принятым в обществе,
но должна распространяться также и на область фактов, к которым
человеческое сознание находится уже в совсем другом отношении. Дело
здесь вот в чем. Во-первых, чтобы заставить людей принять
официальные ценности, их надо обосновать, то есть показать их связь с другими,
очевидными ценностями, а для этого нужны суждения о причинной
зависимости между средствами и целями. И во-вторых, поскольку различие
целей и средств является на деле вовсе пе таким определенным и ясным,
как в теории, людей приходится убеждать не только в правомерности
целей, но и в необходимости конкретных путей их достижения и всех
связанных с этим обстоятельств.
Мы уже убедились, что всенародная солидарность со всеобъемлющим
этическим кодексом или с единой системой ценностей, скрыто
присутствующей в любом экономическом плане,— вещь неведомая в свободном
обществе. Ее придется создавать с нуля. Из этого, однако, не следует,
что планирующие органы будут с самого начала отдавать себе в этом
отчет. А если даже и будут, то вряд ли окажется возможным разработать
такой кодекс заблаговременно. Конфликты между различными
потребностями мало-помалу будут давать о себе знать и, по мере того как они
станут проявляться, надо будет принимать какие-то решения. Таким
образом, кодекс этот не будет чем-то, что существует априори и
направляет решения, а будет, наоборот, рождаться из самих этих решений. Мы
убедились также и в том, что невозможность отделить проблему целей
и ценностей от конкретных решений становится камнем преткновения в
деятельности демократического правительства. Не будучи в состоянии
проработать все технические детали плана, оно должно еще прийти к
соглашению относительно общих целей планирования.
104
PI поскольку планирующей инстанции придется все время решать
вопросы «по существу дела», не опираясь ни на какие определенные
моральные установления, решения эти надо будет постоянно обосновывать
или по крайней мере каким-то образом убеждать людей, что они
правильны. И хотя тот, кто принимает решения, может руководствоваться при
этом всего лишь собственными предрассудками, какой-то общий принцип
здесь все же должен быть публично заявлен, ибо люди должны не
просто пассивно подчиняться проводимой политике, а активно ее
поддерживать. Таким образом, деятельность индивидов, осуществляющих
планирование, направляется за неимением ничего лучшего их субъективными
предпочтениями, которым, однако, надо придать убедительную,
рациональную форму, способную привлечь как можно больше людей. Для этой
цели формулируются суждения, связывающие между собой определенные
факты, то есть создаются специальные теории, которые становятся затем
составной частью идеологической доктрины.
Этот процесс создания «мифа», оправдывающего действия властей,
не обязательно является сознательным. Лидер тоталитарного общества
может руководствоваться просто инстинктивной ненавистью к
существующему порядку вещей и желанием создать новый иерархический
порядок, соответствующий его представлениям о справедливости. Он
может, к примеру, просто не любить евреев, которые выглядят такими
преуспевающими в мире, где для него самого не нашлось подходящего места,
и, с другой стороны, восхищаться стройными белокурыми людьми, так
напоминающими благородных героев романов, читанных им в юные годы.
Поэтому он охотно принимает теории, подводящие рациональную базу
под предрассудки, в которых он, впрочем, не одинок. Так псевдонаучная
теория становится частью официальной идеологии, направляющей в той
или иной мере действия многих и многих людей. Или не менее
распространенная неприязнь к индустриальной цивилизации и романтизация
сельской жизни, подкрепленная суждениями (по-видимому,
ошибочными), что деревня рождает лучших воинов, дает пищу для еще одного
мифа — «Blut und Boden» («кровь и земля»), содержащего не только
указания на высшие ценности, но и целый ряд причинно-следственных
утверждений, которые нельзя подвергнуть сомнению, ибо они относятся
к области идеалов, направляющих жизнь всего общества.
Необходимость создания таких официальных доктрин, являющихся
инструментом воздействия на жизнь целого общества и всех его членов,
была обоснована многими теоретиками тоталитаризма. «Благородная
ложь» Платона или «мифы» Сореля призваны служить тем же целям,
что и расовая теория нацистов или теория корпоративного государства
Муссолини. Они являются прежде всего особой формой теоретической
интерпретации фактов, оправдывающей априорные мнения или
предрассудки.
Чтобы люди действительно принимали ценности, которым они должны
беззаветно служить, лучше всего убедить их, что это те самые
ценности, которых они (по крайней мере самые достойные из них)
придерживались всегда, только до сих пор интерпретация этих ценностей была
неверной. Тогда они начнут поклоняться новым богам в уверенности, что
новый культ отвечает их чаяниям — тому, что они смутно чувствовали
сами. В такой ситуации самый простой и эффективный прием —
использовать старые слова в новых значениях. И это становится одной из
наиболее характерных особенностей интеллектуального климата
тоталитаризма, сбивающих с толку внешних наблюдателей: извращение языка,
смещение значений слов, выражающих идеалы режима.
Больше всего страдает, конечно, слово «свобода», которое в
тоталитарных странах используют столь же часто, как в либеральных. Дейст-
105
вительно, когда бы ни наносился урон свободе в привычном для пас
значении этого слова, это всегда сопровождалось обещаниями
каких-нибудь новых свобод. Чтобы не поддаться искушению лозунга «Новые
свободы взамен старых» *, надо быть постоянно начеку. А ведь есть еще и
сторонники «планирования во имя свободы», сулящие нам «коллективную
свободу объединившихся людей», смысл которой становится совершенно
ясен, если принять во внимание, что, «разумеется, достижение
планируемой свободы не будет означать одновременного уничтожения всех (sic!)
форм свободы, существовавших прежде». Надо отдать должное
д-ру К. Маннгейму, которому принадлежат эти слова, что он все-таки
предупреждает, что «понятие свободы, сформированное в прошлом
столетии, служит препятствием к подлинному пониманию этой проблемы» **.
Но само слово «свобода» в его рассуждениях столь же сомнительно, как
и в устах тоталитарных политиков. «Коллективная свобода», о которой
все они ведут речь,— это не свобода каждого члена общества, а ничем
не ограниченная свобода планирующих органов делать с обществом все,
что они пожелают ***. Это — смешение свободы с властью, доведенное до
абсурда.
В данном случае извращение значения слова было, без сомнения,
хорошо подготовлено развитием немецкой философии и не в последнюю
очередь теоретиками социализма. Но «свобода» — далеко не единственное
слово, которое, став инструментом тоталитарной пропаганды, изменило
свое значение на прямо противоположное. Мы уже видели, как то же
самое происходит с «законом» и «справедливостью», «правами» и
«равенством». Список этот можно продолжать до тех пор, пока в него не
войдут практически все широко бытующие этические и политические
категории.
Тот, кто не наблюдал этого «изнутри», не может вообразить,
насколько широко может практиковаться передергивание значений привычных
слов и какую оно порождает смысловую невнятицу, не поддающуюся
разумному анализу. Надо видеть собственными глазами, как перестают
понимать друг друга родные братья, когда один из них, обратившись в
новую веру, начинает говорить совсем другим языком. А кроме того,
изменение значений слов, выражающих политические идеалы, происходит
не однажды. Оно становится пропагандистским приемом, сознательным
или бессознательным, и используется вновь и вновь, постоянно смещая
все смысловые ориентиры. По мере того как этот процесс набирает силу,
язык оказывается выхолощенным, а слова превращаются в пустые
скорлупки, значения которых могут свободно изменяться на прямо
противоположные. Единственное, что продолжает действовать,— это механизм
эмоциональных ассоциаций, и он используется в полной мере.
Несложно лишить большинство людей способности самостоятельно
мыслить. Но надо еще заставить молчать меньшинство, сохранившее
волю к разумной критике. Как мы уже убедились, дело не сводится к
навязыванию морального кодекса, служащего основой социального
плана. Многие пункты такого кодекса не поддаются формулированию и
существуют в неявном виде — в деталях самого плана и в действиях
правительства, которые должны поэтому приобрести характер священнодейст-
* Это заголовок одной из недавно опубликовапных работ историка К. Бекера.
** Man and Society in an Age of Reconstruction, p. 377.
*** Как справедливо замечает Петер Друкер, «чем меньше действительной
свободы, тем больше разговоров о «новой свободе». Однако Есе это только слова,
прикрывающие прямую противоположность тому, что в Европе когда-либо понималось под
свободой... Новая свобода, проповедуемая теперь в Европе, это право большинства
навязывать свою волю личности» (The End of Economic Man, p. 74).
106
вия, свободного от всякой критики. И чтобы люди безоглядно
поддерживали общее дело, они должны быть убеждены, что как цель, так и
средства выбраны правильно. Поэтому официальная вера, к которой надо
приобщить всех, будет включать интерпретацию всех фактов, имеющих
отношение к плану. А любая критика или сомнения будут решительно
подавляться, ибо они могут ослабить единодушие. Вот, например, как
описывают Уэббы ситуацию, типичную для любого предприятия в
России: «Когда работа идет, всякое публичное выражение сомнений или
опасений, что план не удастся выполнить, расценивается как проявление
нелояльности и даже неблагонадежности, поскольку это может
отрицательно повлиять на настроение и работоспособность других рабочих» *.
А если сомнения или опасения касаются не успеха конкретного дела,
а социального плана в целом, это должно быть квалифицировано уже как
саботаж.
Таким образом, факты и теории станут столь же неотъемлемой частью
идеологии, как и вопросы морали. И все каналы распространения
знаний — школа и печать, радио и кинематограф — будут использоваться
исключительно для пропаганды таких взглядов, которые независимо от
их истинности послужат укреплению веры в правоту властей. При этом
всякая информация, способная посеять сомнения или породить
колебания, окажется под запретом. Единственным критерием допустимости тех
или иных сообщений станет оценка их возможного воздействия на
лояльность граждан. Короче говоря, ситуация при тоталитарном режиме
будет всегда такой, какой она бывает в других странах лишь во время
войны. От людей будут скрывать все, что может вызвать сомнения в
мудрости правительства или породить к нему недоверие. Информация об
условиях жизни за рубежом, которая может дать почву для
неблагоприятных сравнений, знание о возможных альтернативах избранному курсу,
сведения, позволяющие догадываться о просчетах правительства,
об упущенных им шансах улучшения жизни в стране и т. д.,— все это
окажется под запретом. В результате не останется буквально ни одной
области, где не будет осуществляться систематический контроль
информации, направленный на полную унификацию взглядов.
Это относится и к областям, казалось бы, далеким от политики,
например, к наукам, даже к самым отвлеченным. То, что в условиях
тоталитаризма в гуманитарных дисциплинах, таких, как история,
юриспруденция или экономика, не может быть разрешено объективное
исследование и единственной задачей становится обоснование официальных
взглядов,— факт очевидный и уже подтвержденный практически. Во всех
тоталитарных странах эти науки стали самыми продуктивными
поставщиками официальной мифологии, используемой властями для
воздействия на разум и волю граждан. Характерно, что в этих областях ученые
даже не делают вид, что занимаются поиском истины, а какие концепции
надо разрабатывать и публиковать,— это решают власти.
Тоталитарный контроль распространяется, однако, и на области,
не имеющие на первый взгляд политического значения. Иной раз бывает
трудно объяснить, почему та или иная доктрина получает официальную
поддержку или, наоборот, порицание, но, как ни странно, в различных
тоталитарных странах симпатии и антипатии оказываются во многом
схожими. В частности, в них наблюдается устойчивая негативная
реакция на абстрактные формы мышления, характерная также и для
поборников коллективизма среди наших ученых. В конечном счете не так уж
важно, отвергается ли теория относительности потому, что она
принадлежит к числу «семитских происков, подрывающих основы христианской
и нордической физики», или потому, что «противоречит основам
марксизма и диалектического материализма». Так же не имеет большого значе-
S. and В. W e b b. Soviet Communism, p. 1038.
107
яия, продиктованы ли нападки на некоторые теоремы из области
математической статистики тем, что они «являются частью классовой борьбы
на переднем крае идеологического фронта и появление их обусловлено
исторической ролью математики как служанки буржуазии», или же вся
эта область целиком отрицается на том основании, что «в ней
отсутствуют гарантии, что она будет служить интересам народа». Кажется, не
только прикладная, но и чистая математика рассматривается с таких же
позиций, во всяком случае, некоторые взгляды на природу непрерывных
функций могут быть квалифицированы как «буржуазные предрассудки».
По свидетельству Уэббов, журнал «За марксистско-ленинское
естествознание» пестрит заголовками типа «За партийность в математике» или
«За чистоту марксистско-ленинского учения в хирургии». В Германии
ситуация примерно такая же. Журнал национал-социалистической
ассоциации математиков просто до краев наполнен «партийностью», а один
из самых известных немецких физиков, лауреат Нобелевской премии
Ленард, подытожил труды своей жизни в издании «Немецкая физика в
четырех томах»!
Осуждение любой деятельности, не имеющей очевидной практической
цели, соответствует самому духу тоталитаризма. Наука для науки или
искусство для искусства равно ненавистны нацистам, нашим
интеллектуалам-социалистам и коммунистам. Основанием для всякой деятельности
должна быть осознанная социальная цель. Любая спонтанность или не-
проясненность задач нежелательны, так как они могут привести к
непредвиденным результатам, противоречащим плану, просто немыслимым
в рамках философии, направляющей планирование. Этот принцип
распространяется даже на игры и развлечения. Пусть читатель сам гадает —
в России или в Германии прозвучал официальный призыв, обращенный
к шахматистам: «Мы должны раз и навсегда покончить с нейтральностью
шахмат и бесповоротно осудить формулу «шахматы для шахмат», как и
«искусство для искусства»».
Какими бы ни казались невероятными подобные извращения, мы
должны твердо отдавать себе отчет, что это отнюдь не случайные
отклонения, никак не связанные с сутью тоталитарной системы. К этому
неизбежно приводят попытки подчинить все и вся «единой концепции
целого», стремление поддержать любой ценой представления, во имя
которых людей обрекают на постоянные жертвы, и вообще идея, что
человеческие мысли и убеждения являются инструментами достижения заранее
избранной цели. Когда наука поставлена на службу не истине, но
интересам класса, общества или государства, ее единственной задачей
становится обоснование и распространение представлений, направляющих всю
общественную жизнь. Как объяснил нацистский министр юстиции,
всякая новая научная теория должна прежде всего поставить перед собой
вопрос: «Служу ли я национал-социализму?»
Само слово «истина» теряет при этом свое прежнее значение. Если
раньше его использовали для описания того, что требовалось отыскать,
а критерии находились в области индивидуального сознания, то теперь
речь идет о чем-то, что устанавливают власти, во что нужно верить в
интересах единства общего дела и что может изменяться, когда того
требуют эти интересы.
Трудно понять, не испытав на собственном опыте, все своеобразие
интеллектуальной атмосферы тоталитарного строя — свойственный ей
цинизм и безразличие к истине, исчезновение духа независимого
исследования и веры в разум, повсеместное превращение научных дискуссий
ь политические, где последнее слово принадлежит властям и т. д. Но,
быть может, самым тревожным является то обстоятельство, что
осуждение интеллектуальной свободы, характерное для уже существующих
тоталитарных режимов, проповедуется и в свободном обществе теми
интеллектуальными лидерами, которые стоят на позициях коллективизма.
108
Люди, претендующие в либеральных странах на звание ученых, не
только оправдывают любое угнетение и насилие во имя идеалов социализма,
но и открыто призывают к нетерпимости. Разве не убедились мы в этом
совсем недавно, ознакомившись с мнением английского ученого,
считающего, что инквизиция «полезна для науки, когда она служит интересам
восходящего класса» *! Такая точка зрения практически неотличима от
взглядов нацистов, заставляющих их преследовать людей науки,
устраивать костры из научных книг и систематически, в национальных
масштабах искоренять интеллигенцию.
Конечно, стремление навязать людям веру, которая должна стать для
них спасительной, не является изобретением нашей эпохи. Новыми
являются, пожалуй, только аргументы, которыми наши интеллектуалы
пытаются это обосновать. Так, они заявляют, что в существующем
обществе нет реальной свободы мысли, потому что вкусы и мнения масс
формируются пропагандой, рекламой, модой, образом жизни высшего
класса и другими условиями, заставляющими мышление двигаться по
проторенным дорожкам. Из этого они заключают, что поскольку идеалы
и склонности большинства людей обусловлены обстоятельствами,
поддающимися контролю, мы должны использовать это, чтобы сознательно
направлять мышление в русло, которое представляется желательным.
Возможно, это и верно, что большинство людей не способны мыслить
самостоятельно, что они в основном придерживаются общепринятых
убеждений и чувствуют себя одинаково хорошо, исповедуя взгляды,
усвоенные с рождения или навязанные в результате каких-то более
поздних влияний. Свобода мысли в любом обществе играет важную роль
лишь для меньшинства. Но это не означает, что кто-либо имеет право
определять, кому эта свобода может быть предоставлена. Никакая
группа людей не может присваивать себе власть над мышлением и взглядами
других. Из того, что большинство подвержено интеллектуальим влияниям,
не следует, что надо руководить мыслью всех. Нельзя отрицать ценность
свободы мысли на том основании, что она не способна дать всем равные
возможности, ибо суть этой свободы как перводвигателя
интеллектуального развития вовсе не в том, что каждый имеет право говорить или
писать все что угодно, а в том, что любая идея может быть подвергнута
обсуждению. И пока в обществе не подавляется инакомыслие, всегда
найдется кто-нибудь, кто усомнится в идеях, владеющих умами его
современников, и станет пропагандировать новые идеи, вынося их на суд
других.
Этот процесс взаимодействия индивидов, обладающих различным
знанием и стоящих на различных точках зрения, и является основой
развития мысли. Социальная природа человеческого разума требует поэтому
разномыслия. По самой своей сути результаты мышления не могут быть
предсказуемы, ибо мы не знаем, какие представления будут
способствовать интеллектуальному прогрессу, а какие нет. Иначе говоря, никакие
существующие в данный момент взгляды не могут направлять развитие
мысли, в то же время не ограничивая его. Поэтому «планирование» или
«организация» интеллектуального развития, как и всякого развития
вообще,— это абсурд, противоречие в терминах. Мысль, что человеческий
разум должен «сознательно» контролировать собственное развитие,
возникает в результате смешения представлений об индивидуальном разуме,
который только и может что-либо «сознательно контролировать», с
представлениями о межличностном и надличностном процессе, благодаря
которому это развитие происходит. Пытаясь его контролировать, мы лишь
* J. G. Crowther. The Social Relations of Science, 1941, p. 333.
109
устанавливаем пределы развитию разума, что рано или поздно приведет
к интеллектуальному застою и упадку мышления.
Трагедия коллективистской мысли заключается в том, что,
постулируя в начале разум как верховный фактор развития, она в конце
приходит к его разрушению, ибо неверно трактует процесс, являющийся
основой движения разума. Парадоксальным образом коллективистская
доктрина, выдвигая принцип «сознательного» планирования, неизбежно
наделяет высшей властью какой-то индивидуальный разум, в то время как
индивидуализм, наоборот, позволяет понять значение в общественной
жизни надындивидуальных сил. Смирение перед социальными силами и
терпимость к различным мнениям, характерные для индивидуализма,
являются тем самым полной противоположностью интеллектуальной
гордыне, стоящей за всякой идеей единого руководства общественной
жизнью.
XII
Социалистические корни нацизма
Все антилиберальные силы
объединяются против всего
либерального.
А. Меллер ван ден Брук
Существует распространенное заблуждение, что
национал-социализм — это просто бунт против разума, иррациональное движение,
не имеющее интеллектуальных корней. Будь это на самом деле так,
движение это не таило бы в себе столько опасности. Однако такая точка
зрения не имеет под собой никаких оснований. Доктрина
национал-социализма является кульминационной точкой длительного процесса развития
идей, в котором участвовали мыслители, известные не только в
Германии, но и далеко за ее пределами. И что бы мы ни говорили сегодня
об исходных посылках этого направления, никто не станет отрицать, что
у истоков его стояли действительно серьезные авторы, оказавшие большое
влияние на развитие европейской мысли. Свою систему они строили
жестко и последовательно. Приняв ее исходные посылки, уже невозможно
свернуть в сторону, избежать неумолимой логики дальнейших выводов.
Это чистый коллективизм, свободный от малейшего налета
индивидуалистской традиции, которая могла бы помешать его осуществлению.
Наибольший вклад, безусловно, внесли в этот процесс немецкие
мыслители, хотя они отнюдь не были на этом пути одиноки. Томас Карлейль
и Хьюстон Стюарт Чемберлен, Огюст Конт и Жорж Сорель не уступают
в этом отношении ни одному из немцев. Эволюцию этих идей в самой
Германии хорошо проследил Р. Д. Батлер в опубликованном недавно
исследовании «Корпи национал-социализма». Как можно заключить из
этой книги, на протяжении ста пятидесяти лет это направление
периодически возрождалось, демонстрируя поразительную и зловещую
живучесть. Однако до 1914 г. значение его было невелико: оно оставалось
одним из многих направлений мысли в стране, отличавшейся тогда, быть
может, самым большим в мире разнообразием философских идей. Этих
взглядов придерживалось незначительное меньшинство, а у большинства
немцев они вызывали не меньшее презрение, чем у всех остальных
народов.
Почему же эти убеждения реакционного меньшинства получили в
конечном счете поддержку большинства жителей Германии и практически
целиком захватили умы ее молодого поколения? Причины этого нельзя
110
сводить только к поражению в войне и сложностям послевоенной жизни,
к последовавшему за этим росту национализма и уж тем более (как
этого хотели бы многие) — к капиталистической реакции на наступление
социализма. Наоборот, как раз поддержка со стороны социалистов и
привела сторонников этих идей к власти. И не при помощи буржуазии они
получили власть, а скорее в силу отсутствия крепкой буржуазии.
Идеи, которые в последнем поколении вышли на передний план в
политической жизни Германии, противостояли не социализму в марксизме,
а содержащимся в нем либеральным элементам — интернационализму и
демократии. И по мере того как становилось все более очевидно, что
именно эти элементы мешают осуществлению социализма, левые
социалисты постепенно смыкались с правыми. В результате возник союз левых
и правых антикапиталистических сил, своеобразный сплав радикального и
консервативного социализма, который и искоренил в Германии все
проявления либерализма.
Социализм в Германии был с самого качала тесно связан с
национализмом. Характерно, что наиболее значительные предшественники
национал-социализма — Фихте, Родбертус и Лассаль — являются в то же
время признанными отцами социализма. Пока в немецком рабочем
движении широко использовался теоретический социализм в его марксистской
версии, авторитарные и националистические концепции находились в
тени. Но это продолжалось недолго *. Начиная с 1914 г. из рядов
марксистов один за другим стали выдвигаться проповедники, обращавшие в
национал-социалистскую веру уже не консерваторов и реакционеров,
а рабочих и идеалистически настроенную молодежь. И только после
этого волна национал-социализма, достигнув своего апогея, привела к
появлению гитлеризма. Военная истерия, от которой побежденная
Германия так полностью и не излечилась, стала отправной точкой современного
движения, породившего национал-социализм, причем огромную помощь
оказали в этом социалисты.
*
Первым и, пожалуй, наиболее характерным представителем этого
направления является покойный профессор Вернер Зомбарт, чья
нашумевшая книга «Торгаши и герои» вышла в свет в 1915 г. Зомбарт начинал
как социалист-марксист и еще в 1909 г. мог с гордостью утверждать,
что большую часть своей жизни он посвятил борьбе за идеи Карла
Маркса. Он действительно как никто другой способствовал распространению
в Германии социалистических и антикапиталистических идей. И если
марксистская мысль пронизывала тогда всю интеллектуальную атмосферу
этой страны (в гораздо большей степени, чем это было в других
странах, кроме разве что послереволюционной России), то это была во многом
его заслуга. Зомбарт считался выдающимся представителем преследуемой
социалистической интеллигенции и из-за своих радикальных взглядов не
мог получить кафедру в университете. И даже после войны как в
Германии, так и за ее пределами влияние его исторических исследований
(в которых он оставался марксистом, перестав быть марксистом в
политике) было очень заметным. Оно, в частности, прослеживается в работах
английских и американских сторонников планирования.
Так вот, этот заслуженный социалист приветствует в своей книге
«Германскую войну», которая является, по его мнению, неизбежным
выражением конфликта между коммерческим духом английской
цивилизации и героической культурой Германии. Его презрение к «торгашеству»
англичан, начисто утративших военный дух, поистине не знает границ.
* Да и то лишь отчасти, если в 1892 г. один из лидеров социал-демократической
партии, Август Бебель, мог сказать Бисмарку: «Имперский канцлер может не
сомневаться, что немецкая социал-демократия — это что-то вроде подготовительной школы
милитаризма»!
111
duo нет ничего более постыдного, чем стремление к индивидуальному
благополучию. Главный, как он считает, принцип английской морали —
«да будет у тебя все благополучно и да продлятся твои дни на земле» —
является «самым отвратительным из принципов, порожденных духом
коммерции». В соответствии с «немецкой идеей государственности»,
восходящей еще к Фихте, Лассалю и Родбертусу, государство основано и
сформировано не индивидами, не является совокупностью индивидов и цель
его вовсе не в том, чтобы служить интересам личности. Это — Volksge-
meinschaft — «национальная общность», в рамках которой у личности
нет прав, но есть только обязанности. А всякие притязания личности
лишь проявление торгашеского духа. «Идеи 1789 г.» — свобода,
равенство, братство — это торгашеские идеалы, единственная цель которых — дать
преимущества частным лицам.
До 1914 г., рассуждает далее Зомбарт, подлинно германские
героические идеалы находились в небрежении и опасности, исходившей от
английских коммерческих идеалов, английского образа жизни и английского
спорта. Англичане не только сами окончательно разложились, так что
каждый профсоюзный деятель по горло увяз в трясине комфортабельной
жизни, но начали заражать другие народы, Только война напомнила
немцам, что они являются нацией воинов, народом, вся деятельность
которого (в особенности экономическая) связана в конечном счете с
военными целями. Зомбарт знает, что другие народы презирают немцев за
культ милитаризма, но сам он этим гордится. Только коммерческое
сознание могло счесть войну бесчеловечным и бессмысленным
предприятием. Есть жизнь более высокая, чем жизнь личности, и это жизнь нации
и государства. А предназначение индивида — приносить себя в жертву
этим высшим ценностям. Таким образом, война — воплощение
героической жизни, а война против Англии — это война с ненавистным
коммерческим идеалом, идеалом личной свободы и комфорта, символизируемого,
по Зомбарту, безопасными бритвами, которые немецкие солдаты
находили в английских окопах.
*
Если неистовые выпады Зомбарта выглядели тогда чересчур
напористыми даже для большинства немцев, то рассуждения другого немецкого
профессора, точно такие же по смыслу, но более мягкие и академичные
по форме, оказались поэтому и более приемлемыми. Иоганн Пленге был
столь же авторитетным марксистом, как и Зомбарт. Его книга «Маркс
и Гегель» положила начало гегельянскому ренессансу среди ученых-
марксистов. И нет никаких сомнений, что он начинал свою деятельность
как самый настоящий социалист. Из многочисленных его публикаций
военного времени наиболее важной является, пожалуй, небольшая,
но получившая широкий резонанс книжка с примечательным заголовком
«1789 и 1914: символические годы в истории политической мысли». В ней
разбирается конфликт между «идеями 1789-го», то есть идеалом свободы,
и «идеями 1914-го», то есть идеалом организации.
Для Пленге, как и для большинства социалистов, черпающих свои
идеалы из приложения технических представлений к проблемам
общественной жизни, организация составляет сущность социализма. Как он
совершенно справедливо отмечает, идея организации была исходным пунктом
социалистического движения, зародившегося во Франции в начале
XVIII в. Маркс и марксисты предали эту идею, променяв ее на
абстрактную и беспочвенную идею свободы. И только теперь мы вновь
наблюдаем возврат к идее организации, причем повсюду, о чем свидетельствуют,
например, труды Герберта Уэллса, коюрого он характеризует как одного
из выдающихся деятелей современного социализма. (Книга Г. Уэллса
«Будущее в Америке» оказала большое влияние на Пленге.) Но более
всего идея эта расцвела в Германии, где ее смогли наилучшим образом
112
понять и применить. Война Англии и Германии является, следовательно,
войной между двумя противоположными принципами. Это
«экономическая мировая война» — третья фаза великой духовной битвы современной
истории, стоящая на одном уровне с Реформацией и буржуазной
революцией, принесшей идеалы свободы. Исход этой борьбы предрешен: в ней
победят новые, восходящие силы, рожденные в горниле экономического
прогресса XIX столетия. Это социализм и организация.
«Поскольку в идеологической сфере Германия была наиболее
последовательным сторонником социалистической мечты,— пишет Пленге,—
а в сфере реальности — сильнейшим архитектором
высокоорганизованной экономической системы, двадцатый век —- это мы. Как бы ни
закончилась война, мы будем служить образцом для других народов. Нашими
идеями будет руководствоваться все человечество. Сегодня на сцене
Всемирной Истории разыгрывается колоссальное действо: с нами побеждает
и входит в жизнь новый всемирно-исторический идеал, а в Англии
одновременно рушится ветхий принцип, который повсеместно господствовал
ранее».
Военная экономика, созданная в Германии в 1914 г.,— «первый опыт
построения социализма, ибо ее дух — активный, а не потребительский —
это подлинный социалистический дух. Требования военного времени
привели к установлению социалистического принципа в экономической
жизни, а необходимость обороны страны подарила миру идею немецкой
организации, национальной общности, национального социализма... Мы
даже не заметили, как вся наша политическая жизнь в государстве и в
промышленности поднялась на более высокий уровень. Государство и
экономика образуют теперь совершенно новое единство... Чувство
экономической ответственности, характерное для работы государственного
служащего, пронизывает теперь все виды частной деятельности». Это новое,
истинно германское корпоративное устройство экономической жизни
(которое Пленге считает, впрочем, еще не полностью созревшим) «есть
высшая форма жизни государства, когда-либо существовавшая на Земле».
Вначале профессор Пленге еще надеялся примирить идеал свободы с
идеалом организации — путем полного, хотя и добровольного подчинения
индивида обществу. Но вскоре всякие остатки либерализма исчезают из
его трудов. К 1918 г. принцип единства социализма и политического
насилия прояснился для него окончательно. Вот что он писал в
социалистическом журнале «Die Glocke» незадолго до конца войны: «Пора
признать, что социализм должен проводиться с позиций силы, поскольку он
равнозначен организации. Социализму надлежит завоевывать власть,
а не слепо ее разрушать. И когда в мире идет война между народами,
самым важным, по сути решающим для социализма является вопрос:
какая из наций более всех предрасположена к власти, какая из них
может служить примером и организатором для других?»
А далее следует тезис, послуживший позднее для обоснования
Гитлером идеи Нового Порядка. «Разве не является с точки зрения
социализма, который тождествен организации, право наций на самоопределение
правом на индивидуалистскую экономическую анархию? Хотим ли мы
предоставить индивиду полное право на самоопределение в
экономической жизни? Последовательный социализм может давать людям право
объединяться только в соответствии с реальной, исторически
детерминированной расстановкой сил».
Идеалы, так ясно выраженные Пленге, были особенно популярны в
определенных кругах немецких ученых и инженеров, призывавших к
всесторонней плановой организации общественной жизни, как это теперь
делают их английские и американские коллеги. Лидером этого движения
был знаменитый химик Вильгельм Оствальд, одно из высказываний ко-
ИЗ
торого получило большую известность. Рассказывают, что он публично
заявил, что «Германия хочет организовать Европу, в которой до сих пор
еще отсутствует организация. Я открою вам величайший секрет
Германии: мы, то есть вся германская нация, обнаружили значение принципа
организации. И пока все остальные народы прозябают при
индивидуалистическом режиме, мы живем уже в режиме организации».
Очень похожие идеи высказывались в кругах, близких к немецкому
сырьевому диктатору Вальтеру Ратенау. Хотя он, возможно, и
содрогнулся бы, поняв, куда заведет страну тоталитарная экономика, но,
рассматривая историю зарождения нацистских идей, нельзя пройти мимо
его мыслей, ибо его труды оказали наибольшее влияние на
экономические воззрения того поколения немцев, которое сформировалось во время
и сразу после войны. А некоторые из его ближайших сотрудников
позднее составили костяк Управления пятилетнего плана, руководимого
Герингом. Близкими по смыслу и значению были и рассуждения еще
одного бывшего марксиста — Фридриха Науманна: его книга
«Центральная Европа» была, наверное, самым популярным произведением
времен войны *.
Но честь развить эти идеи с наибольшей полнотой и добиться их
повсеместного распространения выпала на долю представителя левого
крыла социал-демократической партии в Рейхстаге Пауля Леыша. Уже в
своих первых книгах Ленш изобразил войну как «поспешное
отступление английской буржуазии перед натиском социализма» и объяснил,
насколько различаются между собой социалистический идеал свободы и
соответствующий английский идеал. Ио лишь в третьей из
опубликованных им книг, озаглавленной «Три года мировой революции», его идеи,
не без влияния Плеиге, расцвели пышным цветом **. Аргументы Ленша
основаны на интересном и во многих отношениях точном историческом
анализе последствий проводившейся в Германии Бисмарком политики
протекционизма. Политика эта привела к такой концентрации и карте-
лизации производства, которая для марксиста Ленша выглядит как
высшая стадия индустриального развития.
«В результате решений, принятых Бисмарком в 1879 г., Германия
ступила на путь революционного развр1тия, то есть стала единственным
в мире государством, обладающим столь высокой и прогрессивной
экономической системой. Поэтому в происходящей ныне Мировой Революции
Германия является представителем революционных сил, а ее главный
противник, Англия,— сил контрреволюционных. Мы можем таким
образом убедиться, что государственный строй, будь то либеральный и
республиканский или монархический и автократический, очень мало влияет
на то, является ли в исторической перспективе та или иная страна
свободной. Иначе говоря, наши представления о Свободе, Демократии и т. д.
ведут свое происхождение от английского индивидуализма, в
соответствии с которым свободной считается страна со слабым правительством,
а всякое ограничение свободы личности расценивается как автократия и
милитаризм».
В Германии, которая «в силу своего исторического предназначения»
должна была явить другим странам образец нового экономического
устройства, «были заранее созданы все условия, необходимые для победы
социализма. Поэтому задачей всех социалистических партий является
поддержка Германии в борьбе с ее врагами, чтобы она могла выполнить
* Хорошее изложение взглядов Науманна, не менее точно выражающих
специфически немецкое сочетание социализма с империализмом, чем цитаты, которые мы
приводим в тексте, можно найти в: R. D. Butler. The Roots of National Socialism
1941, pp. 203-209.
** Английский перевод этой книги был опубликован еще во время войны каким-
то весьма дальновидным человеком: Paul L e n s с h. Three Years of World Revolution.
With preface by J. E. M. London, 1918.
114
свою историческую миссию и революционизировать весь мир. Война
стран Антанты против Германии напоминает попытки низших слоев
буржуазии в докапиталистический период остановить упадок своего класса».
Организация капитала,—- пишет далее Ленш,— «начавшаяся
неосознанно еще в довоенный период, а во время войны продолженная вполне
целенаправленно, будет проводиться после войны на систематической
основе, причем не просто из любви к организации, и не потому, что
социализм получил признание как высший принцип общественного
устройства. Классы, которые являются сегодня на деле пионерами
социализма, в теории считаются или еще недавно считались его заклятыми
противниками. Социализм наступает и в какой-то мере уже наступил
потому, что мы больше не можем без него существовать».
Этой тенденции сегодня противятся только либералы. «Люди,
составляющие этот класс, бессознательно ориентируются на английские
стандарты. К ним можно отнести всю немецкую просвещенную буржуазию.
Их политический словарь, включающий такие термины, как «свобода»,
«права человека», «конституция», «парламентаризм»,— выражает
индивидуалистское либеральное мировоззрение, английское по своему
происхождению, взятое на вооружение в Германии буржуазными деятелями в
50-е, 60-е и 70-е гг. XIX в. Но эти понятия безнадежно устарели, как и
в целом либерализм, падение которого ускорила нынешняя война. От
этого наследия теперь надлежит избавиться, чтобы обратиться всецело к
разработке новых понятий Государства и Общества. Социалгхзм является
в этом смысле сознательной и определенной альтернативой
индивидуализму. Сегодня уже нельзя закрывать глаза на тот факт, что в так
называемой «реакционной» Германии рабочий класс завоевал себе гораздо
более прочные позиции в государстве, чем в Англии или во Франции».
Выводы, к которым приходит Ленш, заслуживают самого
пристального внимания, ибо являются во многих отношениях очень точными.
«Поскольку социал-демократы заняли благодаря всеобщему
избирательному праву все возможные места в Рейхстаге, в муниципальных советах,
в арбитраже и в судах, в системе социального обеспечения и т. д., они
очень глубоко проникли в государственный организм. Но за это
пришлось заплатить тем, что государство, в свою очередь, стало оказывать
огромное влияние на трудящихся. В результате усилий,
предпринимаемых социалистами на протяжении вот уже пятидесяти лет, государство
очень изменилось по сравнению с 1867 г., когда было впервые введено
всеобщее избирательное право. Но соответственно изменилась и социал-
демократия. Можно утверждать, что государство подверглось процессу
социализации, а социал-демократия — процессу национализации».
Идеи Пленге и Ленша проложили дорогу для уже непосредственных
творцов национал-социализма, таких, как, назовем лишь два наиболее
известных имени,— Освальд Шпенглер и Артур Меллер ван ден Брук *.
Можно спорить, в какой степени является социалистом Шпенглер, но
совершенно очевидно, что его работа «Пруссачество и социализм»,
опубликованная в 1920 г., выражает идеи, владевшие в то время умами
немецких социалистов. Чтобы в этом убедиться, достаточно нескольких
извлечений. «Старый Прусский дух и социалистические убеждения,
которые сегодня враждуют между собой, как могут враждовать только
братья, являются совершенно тождественными». Представители Западной
* То же самое можно сказать и о многих других интеллектуальных лидерах,
принадлежавших к поколению, породившему нацизм, таких как Отмар Шпаян, Ганс
Фрейер, Карл Шмитт или Эрнст Юнгер. Об их взглядах см.: Aurel К о 1 n a i. The War
against the West, 1938. Эта работа имеет только тот недостаток, что, ограничившись
послевоенным периодом, когда эти идеи уже были подхвачены националистами,
автор упустил из виду их подлинных творцов - социалистов.
115
цивилизации в Германии,— немецкие либералы,— это «незримая
английская армия, оставленная Наполеоном на немецкой земле после битвы при
Йене». Все либеральные реформаторы, такие, как Харденберг или
Гумбольдт, были для Шпенглера «англичанами». Но «английский дух» будет
изгнан германской революцией, начавшейся в 1914 г.
«Три последних нации Запада стремились к трем формам
существования, выраженным в знаменитых лозунгах — Свобода, Равенство,
Общность. В формах политического устройства они проявлялись как
либеральный парламентаризм, социальная демократия и авторитарный
социализм *... Немецкий, а точнее Прусский дух наделяет властью целое...
Каждому отведено свое место. Человек руководит либо подчиняется.
Таков, начиная с XVIII в., авторитарный социализм,— течение
антилиберальное и антидемократическое, если иметь в виду английский
либерализм и французскую демократию... Многое вызывает ненависть или
пользуется дурной репутацией в Германии, но только либерализм вызывает
презрение на немецкой земле.
Структура английской нации основана на разграничении богатых и
бедных, прусской — на разграничении руководящих и подчиненных.
Соответственно, совершенно по-разному проходят в этих странах
водоразделы между классами».
Отметив принципиальные различия между английской конкурентной
системой и прусской системой «управления экономикой», и показав
(сознательно следуя выкладкам Ленша), как, начиная с Бисмарка,
целенаправленная организация экономической деятельности постепенно
приобретала социалистические формы, Шпенглер далее пишет следующее.
«В Пруссии существовало подлинное государство в самом высоком
смысле этого слова. Там не было частных лиц. Всякий человек, живший
внутри этой системы, которая работала с точностью часового механизма,
выполнял в ней какую-то функцию. Поэтому управление делами
общества не могло находиться в руках частных лиц, как того требует
парламентаризм. Это была государственная служба, и всякий ответственный
политик всегда был слугой целого».
«Прусская идея» предполагает, что каждый должен быть
официальным лицом, находящимся на жалованье у государства. В частности,
управление любой собственностью осуществляют только государственные
уполномоченные. Тем самым государство будущего — это государство
чиновников. Но есть «критический вопрос, и не только для Германии, но
и для всего мира, и Германии предстоит решить его для всего мира:
станет ли в будущем торговля управлять государством или
государство — торговлей? В решении этого вопроса пруссачество и социализм
совпадают... Пруссачество и социализм борются с Англией — Англией среди
нас».
Апостолу национал-социализма Меллеру ван ден Бруку оставалось
после этого сделать только один шаг, объявив первую мировую войну
войной между либерализмом и социализмом. «Мы проиграли войну с
Западом: социализм потерпел поражение от либерализма» **. Для него,
как и для Шпенглера, лР1берализм является врагом номер один. Меллер
ван ден Брук с гордостью заявляет, что «в сегодняшней Германии нет
либералов. Есть молодые революционеры, есть молодые консерваторы.
* Эта формула Шпенглера воспроизводится в часто цитируемом высказывании
Шмитта — ведущего нацистского эксперта по конституционному праву. Он утверждал,
что эволюция государства проходит через «три последовательных диалектических
стадии - от абсолютистской стадии XVII-XVIII вв., через нейтральную либеральную
стадию XIX в.,— к тоталитарной стадии, на которой государство полностью
совпадает с обществом. (С. Schmitt. Der Huter der Verfassung. Tubingen, 1931, p. 79).
** A. Moeller van den В ruck. Socialismus und Aussenpolitik, 1933, pp. 87,
90, 100. Статьи, собранные в этом сборнике, в частности, статья «Ленин и Кейнс», где
этот тезис обосновывается наиболее подробно, были впервые опубликованы между
1919 и 1923 гг. У
116
Но кому сейчас придет в голову быть либералом? Либерализм — это
философия, от которой немецкая молодежь отворачивается с презрением,
с гневом, с характерной усмешкой, ибо нет ничего более чуждого, более
отвратительного, более противного ее умонастроениям. Молодежь
Германии видит в либерализме своего главного врага».
«Третий Рейх» Меллера ван ден Брука обещал принести немцам
социализм, приспособленный к характеру германской нации и очищенный
от западных либеральных идей. Так оно, собственно, и случилось.
Эти авторы не были одиноки: они двигались в общем потоке идей,
захвативших Германию. Еще в 1922 г. беспристрастный наблюдатель с
удивлением отмечал, что в этой стране «многие считают борьбу с
капитализмом продолжением войны с Антантой, перенесенной в область
духа и Экономической организации, и рассматривают это как путь к
практическому социализму, который позволит вернуть немецкому народу его
самые благородные традиции» *.
Идея борьбы с либерализмом — тем либерализмом, который победил
Германию,— носилась в воздухе и объединяла социалистов и
консерваторов, выступавших в итоге единым фронтом. Первоначально эта идея
была с готовностью воспринята немецким молодежным движением, где
доминировали социалистические умонастроения и где родился первый
сплав социализма с национализмом. С конца 20-х годов и до прихода к
власти Гитлера выразителями этой тенденции в интеллектуальной среде
были молодые люди, группировавшиеся вокруг журнала «Die Tat» и
возглавляемые Фердинандом Фридом. Пожалуй, самым характерным плодом
деятельности этой группы, известной как Edelnazis (нацисты —
аристократы), стала книга Фрида «Конец капитализма». Сходство ее со
многими издающимися сейчас в Англии и США произведениями очевидно.
Там и здесь можно найти попытки сближения левого и правого
социализма и одинаковое презрение к отжившим принципам либерализма,
и, честно говоря, все это не может не вызывать тревоги.
«Консервативный социализм» (а в несколько иных кругах — «Религиозный
социализм») — под этим лозунгом создавалась в Германии атмосфера, в
которой добился успеха «Национал-социализм». И именно «консервативный
социализм» необыкновенно популярен у нас сегодня. Не означает ли это,
что еще до начала реальной войны мы стали терпеть поражение в
войне, ведущейся «в области духа и экономической организации»?
XIII
Тоталитаристы среди нас
Когда власть рядится в одежды
организатора, она становится столь
привлекательной, что способна превратить
союз свободных людей в тоталитарное
государство.
«Тайме»
Вероятно, размах, который приобретает произвол в странах с
тоталитарным режимом, вместо того чтобы увеличивать опасения, что то же
самое может случиться и в более просвещенных странах, наоборот, ук-
* К. Р г i b r a m. Deutscher Nationalismus und Deutscher Socialismus. «Archiv fur
Socialwissenschaft und Socialpolitik», Vol. 49, 1922, pp. 293-299. Автор, в частности,
упоминает философа Макса Шелера, проповедующего «всемирную
социалистическую миссию Германии», и марксиста К. Корша, пишущего о духе новой народной
общности — Volksgemeinschaf t.
117
репляет уверенность в том, что это невозможно. Когда мы сравниваем
Англию с нацистской Германией, контраст оказывается настолько
разительным, что мы не можем допустить и мысли, что в нашей стране
события пойдут когда-нибудь таким же путем. А тот факт, что контраст
этот в последнее время усиливается, как будто опровергает всякие
предположения о том, что мы движемся в том же направлении. Но не будем
забывать, что еще пятнадцать лет назад возможность нынешнего
положения дел в Германии тоже представлялась фантастической, и не
только для девяти десятых самих немцев, но и для самых недружелюбно
настроенных иностранных наблюдателей, какими бы прозорливыми они
ни казались нам сегодня.
Однако, как мы уже говорили, сегодняшнее состояние
демократических стран напоминает не современную Германию, но Германию
двадцати—тридцатилетней давности. Есть множество признаков, казавшихся
тогда «чисто немецкими», а ныне вполне характерных и для Англии,
которые можно расценивать как симптомы той же болезни. Самый
существенный из них мы уже упоминали. Это смыкание правых с левыми по
экономическим вопросам и их общее противостояние либерализму,
бывшему до этого основой английской политики. Здесь можно сослаться на
авторитет Гарольда Николсона, утверждавшего, что при последнем
консервативном правительстве среди рядовых членов парламента от
консервативной партии «наиболее способные все были в сердце своем
социалистами» *. И вряд ли есть какие-то сомнения, что, как и во времена
фабианцев, социалисты ныне больше симпатизируют консерваторам,
нежели либералам. Есть и другие признаки, тесно с этим связанные.
Крепнущий день ото дня культ государства, восхищение властью,
гигантомания, стремление организовать все и вся (мы теперь называем это
«планированием») и полная «неготовность предоставить вещи их
собственному естественному развитию»,— черта, беспокоившая фон Трейчке в
немцах еще шестьдесят лет назад,— все это присутствует сегодня в
английской действительности не в меньшей степени, чем в свое время в
Германии.
Чтобы убедиться, насколько далеко зашла за последние двадцать лет
Англия по пути, намеченному Германией, достаточно обратиться к
работам, написанным во время прошлой войны, авторы которых обсуждают
различия английской и немецкой точек зрения на вопросы политики и
морали. Пожалуй, тогда у британской публики были более адекватные
представления об этих различиях, чем сейчас. Если в то время
англичане гордились своеобразием своих подходов и традиций, то теперь
большинство из них либо стыдятся взглядов, считавшихся тогда
типично английскими, либо начисто их отвергают. Вряд ли будет
преувеличением сказать, что чем более английским представлялся тогда миру тот
или иной автор, писавший о политике или проблемах общества, тем
прочнее забыт он сейчас своими же соотечественниками. Такие люди,
как лорд Морли или Генри Сиджвик, лорд Эктон или А. В. Дайси,
которыми в то время восхищался весь мир, ибо их работы считались
образцом английской либеральной политической мудрости, для нынешнего
поколения англичан — не более чем старомодные викторианцы. Быть
может, ничто не свидетельствует так ярко о происшедших за это время
переменах, как то, что в современной английской литературе нет
недостатка в симпатиях к Бисмарку, но имя Гладстона редко упоминается
без иронической усмешки по поводу его викторианской морали и
наивного утопизма.
Я попробую передать тревожное впечатление, возникающее при
чтении некоторых английских работ, где анализируются идеи,
получившие распространение в Германии во время прошлой войны, в которых
буквально каждое слово можно отнести и к взглядам, доминирующим
* «Spectator», April 12, 1940, p. 523.
118
сейчас в английской литературе. Для начала процитирую лорда Кейнса,
обнаружившего в 1915 г. в типичной для того времени немецкой работе
то, что он называет «дурным сном». В соответствии с мыслью автора
«даже в мирное время промышленность должна оставаться
мобилизованной. Это он имеет в виду, говоря о «милитаризации промышленности»
(таков заголовок анализируемой работы). С индивидуализмом надо
покончить раз навсегда. Должна быть создана система регуляции,
объектом которой будет не счастье отдельного человека (профессор Яффе
заявляет это без всякого стеснения), но укрепление организованного
единства государства с целью максимального повышения эффективности
(Leistungsfahigkeit), влияние которого на благополучие индивида будет
лишь опосредованным. Эта чудовищная доктрина подается под
своеобразным идеалистическим соусом. Нация превратится в «самодостаточное
единство» и станет тем, чем ей надлежит быть согласно Платону,—
«воплощением человека в большом». Близящийся мир принесет, среди
прочего, усиление государственного влияния в промышленности...
Иностранные капиталовложения, эмиграция, индустриальная политика,
трактующая весь мир как рынок,— все это слишком опасно. Старый,
отмирающий подход к развитию промышленности, основанный на выгоде,
уступит место подходу, основанному исключительно на власти. Так
новая Германия XX века положит конец капитализму, пришедшему сто
лет тому назад из Англии»*. Если не считать того, что ни один
английский автор не осмелился пока (насколько мне известно) открыто
пренебрегать счастьем отдельного человека, все сказанное отражается
сегодня как в зеркале в современной английской литературе.
Однако не только идеи, открывшие в Германии и в других странах
дорогу тоталитаризму, но и принципы тоталитаризма как такового
завладевают ныне умами в демократических странах. Несмотря на то, что
в Англии найдется сегодня немного людей, готовых целиком проглотить
тоталитарную пилюлю, различные авторы успешно скармливают ее нам
по частям. Нет, пожалуй, ни одной страницы в книге Гитлера, которую
бы нам кто-нибудь, живущий в Англии или в США, не порекомендовал
прочитать и использовать для наших целей. Это относится и к тем, кто
является смертельным врагом Гитлера. Мы не должны забывать, что
люди, покинувшие Германию или ставшие ее врагами в результате
проводимой там антисемитской политики, нередко являются при этом
убежденными тоталитаристами немецкого типа **.
Никакое общее описание не может передать поразительного сходства
идей, получивших ныне распространение в английской политической
литературе, со взглядами, подорвавшими в свое время в Германии веру в
устои западной цивилизации и создавшими атмосферу, в которой мог
добиться успеха нацизм. Сходство это проявляется не только в
содержании, но и (пожалуй, даже в большей степени) в стиле обсуждения
проблем,— в готовности ломать все культурные связи и традиции, делая
ставку на один конкретный эксперимент. Как это было и в Германии,
большинство современных работ, подготавливающих в демократических
* «Economic Journal», 1915, p. 450.
** Чтобы понять, какая часть социалистов на самом деле перешла в нацисты,
надо учитывать, что истинное соотношение мы получим, сравнивая число
обратившихся в нацизм не с общим числом бывших социалистов, а с числом тех, кому не
могло помешать перейти в другой лагерь их расовое происхождение.
Действительно, любопытной чертой политической эмиграции из Германии является
относительно низкий процент левых, которые не являются в то же время «евреями» в
немецком смысле этого термина. Весьма часто приходится сегодня слышать восхваления
в адрес немецкой системы, предваряемые вступлениями вроде того, что прозвучало
иедавно на конференции, посвященной изучению «заслуживающих внимания
тоталитарных методов экономической мобилизации»: «г-п Гитлер — это совсем не мой
идеал. Есть чрезвычайно веские личные причины, по которым г-и Гитлер не может
быть моим идеалом. Но...».
119
странах почву для тоталитаризма, принадлежат перу искренних
идеалистов, а нередко и выдающихся интеллектуалов. И хотя, может быть, не
очень корректно выделять в качестве иллюстраций нескольких авторов
там, где речь могла бы идти о сотнях их единомышленников, я не вижу
другого пути, чтобы продемонстрировать, как далеко зашло уже
развитие этих идей. При этом я буду сознательно выбирать только тех, чья
честность и незаинтересованность находятся вне подозрений. Я
попытаюсь таким образом передать интеллектуальный климат, в котором
зарождаются тоталитарные идеи, однако мне вряд ли удастся решить не менее
важную задачу — охарактеризовать современную эмоциональную
атмосферу демократических стран, которые и в этом отношении напоминают
Германию двадцатилетней давности. Чтобы усматривать в привычных
теперь явлениях симптомы страшной болезни, нужны также
специальные исследования незаметных порой сдвигов в структуре языка и
мышления. Так, встречая людей, настаивающих на необходимости различать
«великие» и «мелкие» идеи или повсеместно заменять старые
«статические» или «частичные» представления на новые «динамические» или
«глобальные», можно научиться видеть в том, что на первый взгляд кажется
нонсенсом, проявление знакомой нам уже интеллектуальной позиции,
изучением которой мы здесь занимаемся.
Я хочу в первую очередь обратиться к двум работам,
принадлежащим перу выдающегося ученого и привлекшим в последние годы большое
внимание. В современной английской литературе найдется не много
столь же ярких примеров влияния сугубо немецких идей, с которым мы
сталкиваемся в книгах профессора Э. X. Карра «Двадцатилетний
кризис» и «Условия мира».
В первой из этих книг профессор Карр честно признается, что он
является последователем «реалистической «исторической школы»,
ведущей свое происхождение из Германии и отмеченной именами таких
великих мыслителей, как Гегель и Маркс». Как он объясняет, реалист —
это «тот, кто рассматривает мораль как функцию политики» и «не
может логически допустить никаких ценностей, кроме основанных на
фактах». В полном соответствии с немецкой традицией «реализм»
противостоит «утопизму», восходящему к XVIII в., «который является
индивидуалистическим принципом, то есть объявляет высшим судьей совесть
человека». Но старая мораль с ее «абстрактными общими принципами»
должна исчезнуть, поскольку «эмпирик рассматривает и решает каждый
конкретный вопрос отдельно». Иными словами, значение имеет только
целесообразность, и, как убеждает нас автор, даже «правило pacta sunt
servanda * не является моральным принципом». И профессора Карра
совсем не беспокоит, что без общих принципов решение конкретных дел
окажется в зависимости от чьих-то мнений, а международные договоры,
не будучи сопряжены с моральными обязательствами, потеряют
смысл.
Хотя профессор Карр и не говорит об этом прямо, из всех его
суждений вытекает, что Англия воевала в последней войне не на той
стороне, на которой следовало. Всякий, кто обратится сегодня к заявлениям
двадцатипятилетней давности, в которых формулировались военные цели
Великобритании, и сравнит их со взглядами, высказываемыми ныне
профессором Карром, сможет убедиться, что его взгляды в точности
совпадают с немецкими воззрениями того периода. Сам он, вероятно, возразит
на это, что взгляды, которых придерживались тогда политики в нашей
* Договоры должны соблюдаться (лат.) - один из принципов международного
права. (Прим. перев.)
120
стране, являются не более чем плодом английского лицемерия.
Насколько он не понимает различия между идеалами нашей страны и
идеалами современной Германии, видно из следующего его утверждения:
«когда один из нацистских лидеров заявляет, что все, что идет на
благо немецкого народа,— хорошо, а все, что идет ему во вред,— плохо,—
он лишь облекает в слова принцип отождествления национальных
интересов со всеобщим правом, который для англоязычных наций был уже
установлен президентом Вильсоном, профессором Тойнби, лордом
Сесилом и многими другими».
Поскольку книги профессора Карра посвящены международным
проблемам, в этой области его идеи выявляются особенно отчетливо. Но и
из отдельных его замечаний по поводу будущего общества можно
заключить, что он ориентируется на тоталитарную модель. Иногда
приходится даже задуматься, случайно ли сходство некоторых его положений
с высказываниями откровенных тоталитаристов, или он следует этой
тенденции сознательно. Например, утверждая, что «мы более не видим
смысла в привычном для XIX в. разграничении общества и государства»,
отдает ли он себе отчет, что это один к одному доктрина ведущего
нацистского теоретика Карла Шмитта и самая суть введенного им
понятия тоталитаризма? И понимает ли он, что воспроизводит нацистское
обоснование ограничения свободы мнений, заявляя, что «массовое
производство мнений осуществляется так же, как и массовое производство
товаров» и, следовательно, «существующее до сих пор предубежденное
отношение к слову «пропаганда» это то же самое, что предубеждение
против контроля в промышленности и торговле»?
В своей более поздней книге «Условия мира» профессор Карр дает
однозначный утвердительный ответ на вопрос, которым мы закончили
предыдущую главу. Он пишет: «Победители потеряли мир, а l ?ветская
Россия и Германия обрели его, ибо первые продолжали исповедовать и
отчасти применять когда-то верные, но теперь ставшие
разрушительными идеалы прав наций и конкурентного капитализма, в то время как
вторые, сознательно или неосознанно, двинулись вперед на волне XX
столетия, стремясь построить новый мир, состоящий из более крупных
единиц, организованных по принципу централизованного планирования и
контроля».
Профессор Карр воистину издает боевой клич германцев,
провозглашая социалистическую революцию, идущую с Востока и направленную
против Запада, в которой Германия является лидером: «Революция,
начатая прошлой войной, вдохновляющая всякое значительное
политическое движение последних двадцати лет... Революция, направленная
против господства идей XIX в.— либеральной демократии, самоопределения
наций и конкурентной экономики...» Он прав: «этот вызов, брошенный
убеждениям XIX в., должен был найти самую активную поддержку в
Германии, которая никогда по-настоящему не разделяла этих
убеждений». Но с фанатизмом, свойственным всем псевдо-историкам, начиная с
Гегеля и Маркса, отстаивает он неизбежность такого развития событий:
«Мы знаем, в каком направлении движется мир, и мы должны
подчиниться этому движению или погибнуть».
Уверенность в неизбежности этой тенденции базируется на уже
знакомых нам экономических недоразумениях — на предположении о
неотвратимом росте монополий как следствии технологического развития, на
обещании «потенциального изобилия» и других уловках, которыми
щедро приправлены работы такого рода. Профессор Карр не является
экономистом, и его экономические рассуждения не выдерживают серьезной
критики. Но ни это обстоятельство, ни то, что одновременно он
доказывает, что значение экономических факторов в жизни общества
стремительно падает, не мешает ему строить на экономических рассуждениях
все свои предсказания о неизбежном пути исторического развития,
121
а также настаивать на необходимости «новой, преимущественно
экономической интерпретации демократических идеалов — свободы и
равенства!»
Презрение профессора Карра к идеалам либеральных экономистов
(которые он упорно называет «идеалами XIX в.», хотя знает, что
Германия «никогда по-настоящему не разделяла этих убеждений» и
уже в XIX в. применяла на практике принципы, которые он сейчас
защищает) является столь же глубоким, как и у любого из немецких
авторов, процитированных нами в предыдущей главе. Он даже заимствует
у Фридриха Листа тезис, что политика свободной торговли была
продиктована исключительно интересами Англии XIX в. и служила только
этим интересам, Однако теперь «необходимым условием упорядочения
социального существования является искусственное хозяйственное
обособление отдельных стран», А «возврат к неупорядоченной и не
знающей границ мировой торговле... путем снятия торговых ограничений или
возрождения отживших принципов laissez faire» является «немыслимым».
Будущее за Grossraumwirtscnaft — крупномасштабным хозяйством
немецкого типа, и «достичь желаемых результатов можно только путем
сознательной реорганизации европейской жизни, примером которой
является деятельность Гитлера»!
После всего этого у читателя уже не вызывает удивления
примечательный раздел, озаглавленный «Нравственные функции войны», в
котором шрофессор Карр снисходит до жалости к «добропорядочным людям
(особенно — жителям англоязычных стран), которые, находясь в плену
традиций XIX в., по-прежнему считают войну делом бессмысленным и
бесцельным». Сам же автор, наоборот, упивается «ощущением
значительности и целесообразности» войны — этого «мощнейшего
инструмента сплочения общества». Увы, все это слишком хорошо знакомо,
только меньше всего ожидаешь встретить подобные взгляды в работах
английских ученых.
*
Мы должны теперь остановиться подробнее на одной тенденции в
интеллектуальном развитии Германии, наблюдающейся в течение
последних ста лет, которая теперь почти в тех же формах проявляется и
в англоязычных странах. Я имею в виду призывы ученых к «научной»
организации общества. Идея организации, идущей сверху и
пронизывающей все общество насквозь, получила в Германии особенное развитие
благодаря тому, что здесь были созданы уникальные условия,
позволявшие специалистам в области науки и техники влиять на политику и на
формирование общественного мнения. Мало кто теперь вспоминает, что
еще в недавнем прошлом в Германии профессора, активно занимавшиеся
политикой, играли примерно такую же роль, как во Франции —
политики-адвокаты *. При этом вовсе не всегда ученые-политики отстаивали
принципы свободы. «Интеллектуальная нетерпимость», свойственная
нередко людям науки, надменность, с которой специалисты воспринимают
мнения простых людей, и презрение ко всему, что не является
результатом сознательной организации, осуществляемой лучшими умами в
соответствии с научными представлениями,— все эти явления были хорошо
знакомы немцам за несколько поколений до того, как они стали
сколько-нибудь заметными в Англии. И, наверное, ни одна страна не может
сложить более яркой иллюстрацией тех последствий, к которым
приводит переориентация образования от «классического» к «реальному», чем
Германия 1840—1940-х годов **.
* Ср. Franz Schnabel. Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, II,
1933, p. 204.
** По-моему, первым, кто предложил свернуть классическое образование,
поскольку оно насаждает опасный дух свободы, был автор «Левиафана»!
122
И то, что в конце концов ученые мужи этой страны (за
исключением очень немногих) с готовностью пошли на службу новому режиму,
является одним из самых печальных и постыдных эгохзодов в истории
возвышения национал-социализма *. Ни для кого не секрет, что именно
ученые и инженеры, которые па словах всегда возглавляли поход к
новому и лучшему миру, прежде всех других социальных групп
подчинились новой тирании *'*.
Роль, которую сыграли интеллектуалы в тоталитарном
преобразовании общества, была предугадана Жюльеном Бенда, чья книга «Измена
клерков» обретает совершенно новое звучание сегодня, через пятьдесят
лет после того, как она была написана. По крайней мере над одним
местом в этой книге стоит как следует поразмыслить, рассматривая
экскурсы некоторых британских ученых в область политики. Бенда пишет о
«предрассудке, появившемся в XIX в., который заключается в
убеждении, что наука всемогущественна и, в частности, компетентна в
вопросах морали. Остается выяснить, верят ли в эту доктрину те, кто ее
пропагандирует, или же они просто хотят, придавая научную форму
устремлениям своего сердца, сделать их более авторитетными,
прекрасно зная при этом, что речь идет не более чем о страстях. Следует
также отметить, что положение, согласно которому история подчиняется
научным законам, особенно рьяно поддерживают сторонники деспотизма,
И это вполне естественно, поскольку такой взгляд позволяет исключить
две вещи, им особенно ненавистные,— свободу человека и значение
личности в истории».
Мы уже упоминали одну английскую работу, где на фоне
марксистской идеологии проступали характерные черты позиции интеллектуала-
тоталитариста,— неприятие, даже ненависть ко всему, что стало
наиболее значимым в западной цивилизации со времени Ренессанса, и
одновременно одобрение методов Инквизиции. Но нам бы не хотелось еще
раз рассматривать здесь столь крайние взгляды. Поэтому мы обратимся
теперь к произведению более умеренному и в то же время вполне
типичному, получившему широкую известность. Небольшая книжка
К. X. Уоддингтона под названием «Научный подход» является
достаточно характерным образчиком литературы, пропагандируемой английским
еженедельником «Нейчур», в которой требования допустить к власти
ученых сочетаются с призывами к широкомасштабному «планированию».
Д-р Уоддингтон не так откровенен в своем презрении к свободе, как Кроу-
тер. Однако от других авторов его отличает ясное понимание того, что
* Готовность ученых оказывать услуги властям, какими бы они ни были,
наблюдавшаяся в Германии и раньше, всегда шла здесь рука об руку с развитием
государственной организации науки, которую сейчас так превозносят на Западе. Один
из наиболее известных исследователей, физиолог Эмиль дю Буа-Реймон, не
постыдился заявить в речи, которую произнес в 1870 г., будучи ректором Берлинского
университета и президентом Прусской Академии наук: «Благодаря самому нашему
положению Берлинский университет, расположенный напротив дворца кайзера,
выступает в роли интеллектуального телохранителя дома Гогенцоллернов».
(Примечательно, что дю Буа-Реймон счел уместным опубликовать и английский перевод этой
речи. См.: Emil duBois-Reymond. A Speech on the German War. London, 1870. p. 31).
** Достаточно привести свидетельство зарубежного очевидца событий. Р. А. Брэ-
ди, рассматривая в своем исследовании «Дух и структура немецкого фашизма»
изменения, происходившие в академических кругах Германии, ^приходит к заключению,
что «из всех специалистов, существующих в современном обществе, ученые,
вероятно, самые податливые и легче всего поддаются манипулированию. Конечно, нацисты
уволили многих университетских профессоров немногих исследователей, работавших
в научных лабораториях. Но в основном это не были представители естествознания,
мышление которых считается более точным, но, по большей час! и, гуманитарии,
которые в целом лучше знали и сильнее критиковали нацистские программы. В
естествознании репрессиям подверглись прежде всего евреи, а также критически
настроенные к режиму ученые, которые были здесь в меньшинстве. В результате нацистам
не составило большого труда «скоординировать» научную деятельность и заставить
свою изощренную пропаганду трубить на каждом углу, что просвещенные круги
Германии оказывают им всяческую поддержку».
123
тенденции, которые он описывает и защищает, неизбежно ведут к
тоталитаризму. И такая перспектива представляется ему более
предпочтительной, чем то, что он называет «современной цивилизацией обезьяньего
питомника».
Утверждая, что ученый способен управлять тоталитарным обществом,
д-р Уоддингтон исходит главным образом из того, что «наука может
выносить нравственные суждения о человеческом поведении». Этот тезис,
выношенный, как мы видели, несколькими поколениями немецких
ученых-политиков и отмеченный еще Ж. Бенда, получает самую горячую
поддержку в «Нейчур». И чтобы объяснить, что из этого следует, не
понадобится даже выходить за пределы книги д-ра Уоддингтона.
«Ученому,— объясняет нам автор,— трудно говорить о свободе, в частности,
потому, что он не убежден, что такая вещь вообще существует». Тем не
менее «наука признает» некоторые виды свободы, но «свобода, которая
заключается в том, чтобы быть не похожим на других, не обладает
научной ценностью». По-видимому, мы были введены в заблуждение, стали
чересчур терпимыми, и виной тому — «зыбкие гуманитарные
представления», в адрес которых Уоддингтон произносит немало нелестных слов.
Когда речь заходит об экономических и социальных вопросах, эта
книга о «научном подходе» теряет, как это вообще свойственно
литературе такого рода, всякую связь с научностью. Мы вновь находим здесь
все знакомые клише и беспочвенные обобщения насчет «потенциального
изобилия», «неизбежности монополий» и т. п. «Непререкаемые
авторитеты», высказывания которых автор приводит для подкрепления своих
взглядов, на поверку оказываются чистыми политиками, имеющими
сомнительное отношение к науке, в то время как труды серьезных
исследователей он оставляет без внимания.
Как и в большинстве работ подобного типа, рассуждения автора
базируются в значительной степени на его вере в «неизбежные тенденции»,
постигать которые — задача науки. Это представление непосредственно
вытекает из марксизма, который, будучи «подлинно научной
философией», является, по убеждению д-ра Уоддингтона, вершиной развития
человеческой мысли, а основные его понятия «почти тождественны
понятиям, составляющим фундамент научного изучения природы». «Трудно
отрицать,— пишет далее автор,— что жизнь в сегодняшней Англии
гораздо хуже, чем она была прежде» — в 1913 году. Но он не отчаивается
и смело заглядывает в будущее, предрекая построение новой
экономической системы, которая станет «централизованной и тоталитарной в том
смысле, что все стороны экономического развития больших регионов
будут сознательно организованы в соответствии с единым планом». Что же
касается его оптимистической уверенности, что в тоталитарном обществе
удастся сохранить свободу мысли, то основанием для нее служит
убеждение, вытекающее, по-видимому, из «научного подхода», что «будет
существовать чрезвычайно веская информация по всем важным вопросам,
доступная пониманию неспециалистов»,— в том числе и по вопросу о
«совместимости тоталитаризма и свободы мысли».
Описывая существующие в Англии тоталитарные тенденции,
следовало бы для полноты картины остановиться еще на различных попытках
создания своего рода социализма для среднего класса, удивительно
похожих (хотя их авторы, безусловно, об этом не подозревают) на то,
что происходило в догитлеровский период в Германии *. И если бы
* Еще одним фактором, который, вероятно, станет после войны усиливать
тоталитарные тепденции, окажутся те люди, которые в военное время почувствовали вкус
к принуждению и контролю и не смогут уже мириться с более скромными ролями.
Несмотря на то, что после предыдущей войны таких людей было значительно
меньше, чем будет теперь, они оказали заметное влияние на экономику страны. Помню,
как десять или двенадцать лет тому назад, оказавшись в обществе именно таких
людей, я впервые испытал тогда еще редкое для Англии ощущение, будто меня
внезапно погрузили в типично «немецкую» интеллектуальную атмосферу.
124
нас здесь интересовали политические движения, нам пришлось бы
сосредоточить внимание на деятельности таких новых организаций, как
«Forward-March» («Вперед-марш») или «Common-Wealth» («Общее
дело»), па движении, созданном сэром Ричардом Эклаидом, автором
книги «Unser Kampf» («Наша борьба»), или на выступавшем одно время с
ним Вхместе «Комитете 1941 г.», руководимом г-ном Дж. Б. Пристли. Но,
хотя было бы неверно не принимать во внимание все эти в высшей
степени симптоматичные явления, вряд ли стоит и переоценивать их
значение как политических сил. Помимо интеллектуальных влиянпй,
проиллюстрированных нами на двух примерах, главными движущими силами,
ведущими наше общество к тоталитаризму, являются две большие
социальные группы: объединения предпринимателей и профсоюзы. Быть
может, величайшая на сегодняшний день опасность проистекает из того
факта, что интересы и политика этих групп направлены в одну
точку.
Обе они стремятся к монополистической организации
промышленности и для достижения этой цели часто согласуют свои действия. Это
чрезвычайно опасная тенденция. У нас нет оснований считать ее
неизбежной, но если мы и дальше будем двигаться по этой дороге, она, без
сомнения, приведет нас к тоталитаризму.
Движение это, конечно, сознательно спланировано главным образом
капиталистами — организаторами монополий, от которых тем самым и
исходит основная опасность. И отнюдь не снимает с них
ответственности тот факт, что целью их является не тоталитарное, а скорее
корпоративное общество, в котором организованные отрасли будут чем-то
вроде относительно независимых государств в государстве. Но они
недальновидны, как и их немецкие предшественники, ибо верят, что им
будет позволено не только создать такую систему, но и управлять ею
сколько-нибудь длительное время. Никакое общество не оставит на волю
частных лиц решения, которые придется постоянно принимать
руководителям таким образом устроенного производства. Государство никогда не
допустит, чтобы такая власть и такой контроль осуществлялись в
порядке частной инициативы. И было бы наивно думать, что в этой ситуации
предпринимателям удастся сохранить привилегированное положение,
которое в конкурентном обществе оправдано тем фактом, что из многих,
кто рискует, лишь некоторые достигают успеха, надежда на который
делает риск осмысленным. Нет ничего удивительного в том, что
предприниматели хотели бы иметь и высокие доходы, доступные в условиях
конкуренции лишь для наиболее удачливых из них, и одновременно —
защищенность государственных служащих. Пока наряду с государственной
промышленностью существует большой частный сектор, способные
руководители производства, будучи в защищенном положении, могут
рассчитывать и на высокую зарплату. Но если эти их надежды и сбудутся,
быть может, в переходный период, то очень скоро они обнаружат, как
обнаружили их коллеги в Германии, что они более не хозяева
положения и должны довольствоваться той властью и тем вознаграждением,
которые соблаговолит дать им правительство.
Я надеюсь, что, учитывая весь пафос этой книги, меня вряд ли
заподозрят в излишней мягкости по отношению к капиталистам. Тем не
менее я возьмусь утверждать, что нельзя возлагать ответственность за
нарастание монополистических тенденций только на этот класс. Хотя его
стремление к монополистической организации очевидно, само по себе оно
не способно стать решающим фактором в этом процессе. Роковым
является то обстоятельство, что капиталистам удалось заручиться
поддержкой других общественных групп и с их помощью — поддержкой
правительства.
Эту поддержку монополисты получили, позволив другим группам
участвовать в их прибылях и (что, по-видимому, даже более важно)
125
убедив всех в том, что монополии идут навстречу интересам общества.
Однако перемены в общественном мнении, повлиявшие на
законодательство и правосудие * и тем ускорившие этот процесс, стали возможны в
основном благодаря пропаганде левых сил, направленной против
конкурентной системы. Нередко при этом меры, направленные против
монополий, вели в действительности только к их укреплению. Каждый удар по
прибылям монополий, будь то в интересах отдельных групп или
государства в целом, приводит к возникновению новых групп, готовых
поддерживать монополии. Система, в которой большие привилегированные
группы участвуют в прибылях монополий, является в политическом
отношении даже более опасной, а монополии в таких условиях становятся
более прочными, чем в случае, когда прибыли достаются немногим
избранным. Но, хотя ясно, например, что высокие зарплаты, которые имеет
возможность платить монополист, являются таким же результатом
эксплуатации, как и его собственные прибыли, и что они представляют
собой грабеж по отношению не только к потребителю, но и к другим
категориям рабочих и служащих, живущих на зарплату, тем не менее
высокие зарплаты рассматриваются сегодня как веский аргумент в пользу
монополий, причем в очень широких кругах, а не только среди тех, кто
в этом непосредственно заинтересован **.
Есть серьезные основания для сомнений, что даже в тех случаях,
когда монополия является неизбежной, лучшим способом контроля
является передача ее государству. Если бы речь шла о какой-то одной
отрасли, это, быть может, и было бы верно. Но если мы имеем дело со
множеством монополизированных отраслей, то по целому ряду причин
лучше отдать их в частные руки, чем оставлять под опекой государства.
Пусть существуют монополии на железнодорожный или воздушный
транспорт, на снабжение газом или электричеством,— позиция
потребителя будет, безусловно, более прочной, пока все они принадлежат
различным частным лицам, а не являются объектом централизованной
«координации». Частная монополия почти никогда не бывает полной и уж во
всяком случае не является вечной или гарантированной от
потенциальной конкуренции, в то время как государственная монополия всегда
защищена — и от потенциальной конкуренции, и от критики. Государство
предоставляет монополиям возможность закрепиться на все времена,
и возможность эта, без сомнения, будет использована. Когда власти,
которые должны контролировать эффективность деятельности монополий,
заинтересованы в их защите, ибо критика монополий является
одновременно критикой правительства, вряд ли можно надеяться, что
моноподии будут по-настоящему служить интересам общества. Государство,
занятое всесторонним планированием деятельности монополизированных
отраслей, будет обладать сокрушительной властью по отношению к
индивиду и вместе с тем окажется крайне слабым и несвободным в том, что
касается выработки собственного политического курса. Механизмы
монополий станут тождественными механизмам самого государства, которое
все больше и больше будет служить интересам аппарата, но не
интересам общества в целом.
Пожалуй, если монополии в каких-то сферах неизбежны, то лучшим
является решение, которое до недавнего времени предпочитали американ-
* См. в связи с этим поучительную статью У. А. Льюиса «Монополия и закон»'
«Modern Law Review», Vol. VI, № 3 (April 1943).
** Еще более удивительным является то откровенное расположение, с которым
многие социалисты относятся к рантье - держателям акций, имеющим с монополий
твердый доход. Слепая ненависть к прибылям приводит в данном случае к
социальному и этическому оправданию не требующего никаких усилий, но фиксированного
дохода, например, держателей акций железных дорог, и признанию монополий в
качестве гаранта такого рода дохода. Это один из странных симптомов извращения
ценностей, происходящего в жизни нашего поколения.
126
цы,— контроль сильного правительства над частными монополиями.
Последовательное проведение в жизнь этой концепции обещает гораздо
более позитивные результаты, чем непосредственное государственное
управление. По крайней мере, государство может контролировать цены,
закрывая возможность получения сверхприбылей, в которых могут
участвовать не только монополисты. И если даже в результате таких мер
эффективность деятельности в монополизированных отраслях будет
снижаться (как это происходило в некоторых случаях в США в сфере
коммунальных услуг), это можно будет рассматривать как относительно
небольшую плату за сдерживание власти монополий. Лично я, например,
предпочел бы мириться с неэффективностью, чем испытывать
бесконтрольную власть монополий над различными областями моей жизни. Такая
политика, которая сделала бы роль монополиста незавидной на фоне
других предпринимательских позиций, позволила бы ограничить
распространение монополий только теми сферами, где они действительно
неизбежны, и стимулировать развитие иных, конкурентных форм деятельности,
которые смогли бы их замещать. Поставьте монополиста в положение
«мальчика для битья» (в экономргческом смысле), и вы увидите, как
быстро способные предприниматели вновь обретут вкус к
конкуренции.
Проблема монополий была бы гораздо менее трудной, если бы нашим
противником были одни только капиталисты-монополисты. Но, как уже
было сказано, тенденция к образованию монополий является реальной
угрозой не из-за усилий, предпринимаемых кучкой заинтересованных
капиталистов, а из-за той поддержки, которую они получают от людей,
участвующих в прибылях, а также от тех, кто искренне убежден, что,
выступая за монополии, они способствуют созданию более справедливого
и упорядоченного общества. В истории связанных с этим событий
поворотным стал момент, когда мощное профсоюзное движение, которое
могло решать свои задачи только путем борьбы со всякими привилегиями,
подпало под влияние антиконкурентных доктрин и само оказалось
втянутым в борьбу за привилегии. Происходящий в последнее время рост
монополий является в огромной степени следствием сознательного
сотрудничества объединений капиталистов с профсоюзами, результатом
которого стало образование в рабочей среде привилегированных групп,
участвующих в прибылях и тем самым в грабеже всего общества, в
особенности его беднейших слоев — рабочих других, менее организованных
отраслей и безработных.
Печально наблюдать, как великое демократическое движение
поддерживает в наше время политику, ведущую к разрушению демократии,
политику, которая в конечном счете принесет выгоду очень немногим из
тех, кто защищает ее сегодня. Тем не менее именно поддержка левых
сил делает тенденцию к монополизации столь сильной, а наши
перспективы — столь мрачными. Пока рабочие будут продолжать способствовать
демонтажу единственной системы, которая дает им хоть какую-то
степень независимости и свободы, ситуация останется практически
безнадежной. Профсоюзные лидеры, заявляющие сегодня, что «с конкурентной
системой покончено раз и навсегда» *, возвещают конец свободы
личности. Надо понять, что либо мы подчиняемся безличным законам
рынка, либо — диктатуре какой-то группы лиц: третьей возможности нет.
* Из обращения профессора Г. Дж. Ласки к 41-й ежегодной конференции
лейбористской партии (Лондон, 26 мая 1942 г.; «Report», p. 111). Стоит отметить, что, по
мнению профессора Ласки, «эта безумная конкурентная система означает бедность
для всех народов и войну как результат этой бедности»,— весьма странное прочтение
истории последних ста пятидесяти лет.
127
И те, кто способствует отказу от первого пути, сознательно или
неосознанно толкают нас на второй. Даже если, в случае победы второй
системы, некоторые рабочие станут лучше питаться и получат, без
сомнения, красивую униформу, я все же сомневаюсь, что большинство
трудящихся Англии останутся в конце концов благодарны интеллектуалам из
числа их лидеров, навязавшим им социалистическую доктрину, чреватую
личной несвободой.
На всякого, кто знаком с историей европейских стран последних
двадцати пяти лет, произведет удручающее впечатление недавно принятая
программа английской лейбористской партии, где поставлена задача
построения «планового общества». Всяким «попыткам реставрации
традиционной Британии» противопоставлена здесь схема, которая не только в
целом, но и в деталях, и даже по своей термршологии неотличима от
социалистических мечтаний, охвативших двадцать пять лет тому назад
Германию. И резолюция, принятая по предложению профессора Ласки,
в которой содержится требование сохранить в мирное время «меры
правительственного контроля, необходимые для мобилизации национальных
ресурсов во время войны», и все характерные словечки и лозунги вроде
«сбалансированной экономики» (которой не хватает Великобритании, по
мнению того же Ласки) или «общественного потребления»,
долженствующего быть целью централизованного управления промышленным
производством,— взяты из немецкого идеологического словаря.
Четверть века тому назад существовало еще, возможно, какое-то
извинение для наивной веры, что «плановое общество может быть гораздо
более свободным, чем либеральное конкурентное общество, на смену
которому оно приходит» *. Но повторять это, имея за плечами
двадцатипятилетний оцыт проверки и перепроверки этих убеждений, повторять в
тот момент, когда мы с оружием в руках боремся против системы,
порожденной этой идеологией,— поистине трагическое заблуждение. И то,
что великая партия, занявшая как в парламенте, так и в общественном
мнении место прогрессивных партий прошлого, ставит перед собой
задачу, которую в свете всех недавних событий можно расценивать только
как реакционную,— это огромная перемена, происходящая на наших
глазах и несущая смертельную угрозу всем либеральным ценностям. То,
что прогрессивному развитию в прошлом противостояли консервативные
правые силы,— явление закономерное и не вызывающее особой тревоги.
Но если место оппозиции и в парламенте, и в общественных дискуссиях
займет вторая реакционная партия,— тогда уж действительно не
останется никакой надежды.
* The Old Word and the New Society: An Interium Report of the National
Executive of the British Labor Party on the Problems of Reconstruction, pp. 12 and 16.
XIV
Материальные обстоятельства
и идеальные цели
Разве справедливо, чтобы большинство,
возражающее против свободы,
порабощало меньшинство, готовое
эту свободу отстаивать? Несомненно,
правильнее, если уж речь идет о
принуждении, чтобы меньшее число
людей заставило остальных сохранить
свободу, которая ни для кого не является
злом,
нежели большему числу, из потакания
собственной подлости, превратить
оставшихся в таких же, как они, рабов.
Те, кто не стремится ни к чему иному,
кроме собственной законной свободы,
всегда вправе отстаивать ее по мере
сил, сколько бы голосов ни было против.
Джон Мильтон.
Наше поколение тешит себя мыслью, что оно придает
экономическим соображениям меньшее значение, чем это делали отцы и деды.
«Конец экономического человека» обещает стать одним из главных
мифов нашей эпохи. Но прежде чем соглашаться с этой формулой или
усматривать в ней положительный смысл, давайте посмотрим, насколько
она соответствует истине. Когда мы сталкиваемся с призывами к
перестройке общества, которые раздаются сегодня повсеместно, мы
обнаруживаем, что все они носят экономический характер. Как мы уже видели,
новое истолкование политических идеалов прошлого — свободы,
равенства, защищенности — «в экономических терминах» является одним из
главных требований, выдвигаемых теми же людьми, которые
провозглашают конец экономического человека. При этом нельзя не отметить, что
люди сегодня больше, чем когда-либо, руководствуются в своих
устремлениях теми или иными экономическими соображениями,— упорно
распространяемым взглядом, что существующее экономическое устройство
нерационально, иллюзорными надеждами на «потенциальное
благосостояние», псевдотеориями о неизбежности монополий и разного рода
досужими разговорами о кончающихся запасах естественного сырья или об
искусственном замораживании изобретений, в котором якобы повинна
конкуренция (хотя как раз это никогда не может случиться в условиях
конкуренции, а является обычно следствием дезятельности монополий,
причем — поддерживаемых государством) *.
Однако, с другой стороны, наше поколение, безусловно, меньше, чем
предыдущие, прислушивается к экономическим доводам. Люди сегодня
решительно отказываются жертвовать своими устремлениями, когда
этого требуют экономические обстоятельства. Они не хотят учитывать
факторы, ограничивающие их запросы, или следовать в чем-то
экономической необходимости. Не презрение к материальным благам и не отсут-
* Частые упоминания в качестве аргументов против конкуренции случаев
уничтожения запасов зерна, кофе и т. д. свидетельствуют лишь об интеллектуальной
недобросовестности. Нетрудно понять, что в условиях конкурентной рыночной системы
никакому владельцу таких запасов не может быть выгодно их уничтожение.
Случай замораживания патентов сложнее — его нельзя проанализировать между делом
Однако для того, чтобы полезное для общества изобретение было положено «под
сукно», требуется такое исключительное стечение обстоятельств, что возникает
сомнение - имели ли в действительности место такие случаи, заслуживающие серьезного
рассмотрения.
5 Вопросы философии № 12. 129
ствие стремления к ним, но, напротив, нежелание признавать, что на
пути осуществления потребностей есть и препятствия, и конфликты
различных интересов,— вот характерная черта нашего поколения. Речь
следовало бы вести скорее об «экономофобии», чем о «конце экономического
человека»,— формуле дважды неверной, ибо она намекает на
продвижение от состояния, которого не было, к состоянию, которое нас вовсе не
ждет. Человек, подчинявшийся прежде безличным силам,— хотя они и
мешали порой осуществлению его индивидуальных замыслов,— теперь
возненавидел эти силы и восстал против них.
Бунт этот является свидетельством гораздо более общей тенденции,
свойственной современному человеку: нежелания подчиняться
необходимости, не имеющей рационального обоснования. Данная тенденция
проявляется в различных сферах жизни, в частности в области морали,
и приносит порой положительные результаты. Но есть сферы, где такое
стремление к рационализации полностью удовлетворить нельзя, и вместе
с тем отказ подчиняться установлениям, которые для нас непонятны,
грозит разрушением основ нашей цивилизации. И хотя по мере
усложнения нашего мира мы, естественно, все больше сопротивляемся силам,
которые, не будучи до конца понятными, заставляют нас все время
корректировать наши надежды и планы, именно в такой ситуации
непостижимость их неумолимо возрастает. Сложная цивилизация предполагает,
что индивид должен приспосабливаться к переменам, причины и природа
которых ему неизвестны. Человеку не ясно, почему его доходы
возрастают или падают, почему он должен менять занятие, почему какие-то
вещи становится получить труднее, чем другие, и т. д. Те, кого это
затрагивает, склонны искать непосредственную, видимую причину, винить
очевидные обстоятельства, в то время как реальная причина тех или
иных изменений коренится обычно в системе сложных
взаимозависимостей и скрыта от сознания индивида. Даже правитель общества,
живущего по единому плану, чтобы объяснить какому-нибудь функционеру,
почему ему меняют зарплату или переводят на другую работу, должен
был бы изложить и обосновать весь свой план целиком. А это означает,
что причины могут узнавать лишь очень немногие.
Только подчинение безличным законам рынка обеспечивало в
прошлом развитие цивилизации, которое в противном случае было бы
невозможным. Лишь благодаря этому подчинению мы ежедневно вносим свой
вклад в создание того, чего не в силах вместить сознание каждого из
нас в отдельности. И неважно, если мотивы такого подчинения были
в свое время обусловлены представлениями, которые теперь считаются
предрассудком,— религиозным духом терпимости или почтением к
незамысловатым теориям первых экономистов, Существенно, что найти
рациональное объяснение силам, механизм действия которых в основном от нас
скрыт, труднее, чем просто следовать принятым религиозным догматам
или научным доктринам. Может оказаться, что если никто в нашем
обществе не станет делать того, чего он до конца не понимает, то только
для поддержания нашей цивилизации на современном уровне сложности
каждому человеку понадобится невероятно мощный интеллект, которым
в действительности никто не располагает. Отказываясь покоряться
силам, которых мы не понимаем и в которых не усматриваем чьих-то
сознательных действий или намерений, мы впадаем в ошибку,
свойственную непоследовательному рационализму. Он непоследователен, ибо
упускает из виду, что в сложном по своей структуре обществе для
координации многообразных индивидуальных устремлений необходимо
принимать в расчет факты, недоступные никакому отдельному человеку.
И если речь не идет о разрушении такого общества, то единственной
альтернативой подчинению безличным и на первый взгляд
иррациональным законам рынка является подчинение столь же неконтролируемой
воле каких-то людей, то есть их произволу. Стремясь избавиться от оков,
130
которые они ныне ощущают, люди не отдают себе отчета, что оковы
авторитаризма, которые они наденут на себя сознательно и по
собственной воле, окажутся гораздо более мучительными.
Некоторые утверждают, что, научившись управлять силами природы,
мы все еще очень плохо умеем использовать возможности общественного
сотрудничества. Это правда. Однако обычно из этого утверждения делают
ложный вывод, что мы должны теперь овладевать социальными силами
точно так же, как овладели силами природы. Это не только прямая
дорога к тоталитаризму, но путь, ведущий к разрушению всей нашей
цивилизации. Ступив на него, мы должны будем отказаться от надежд
на ее дальнейшее развитие. Те, кто к этому призывает, демонстрируют
полное непонимание того, что сохранить наши завоевания можно, лишь
координируя усилия множества индивидов с помощью безличных сил.
Теперь мы должны ненадолго вернуться к той важнейшей мысли, что
свобода личности несовместима с главенством одной какой-нибудь цели,
подчиняющей себе всю жизнь общества. Единственным исключением из
этого правила является в свободном обществе война или другие
локализованные во времени катастрофы. Мобилизация всех общественных сил
для устранения такой ситуации становится той ценой, которую мы
сознательно платим за сохранение свободы в будущем. Из этого ясно,
почему бессмысленны модные ныне фразы, что в мирное время мы должны
будем делать то-то и то-то так, как делаем во время войны. Можно
временно пожертвовать свободой во имя более прочной свободы в будущем.
Но нельзя делать этот процесс перманентным.
Принцип, что никакая цель не должна стоять в мирное время выше
других целей, применим и к такой задаче, имеющей сегодня, по общему
признанию, первостепенную важность, как борьба с безработицей. Нет
сомнений, что мы должны приложить к ее решению максимум усилий.
Тем не менее это не означает, что данная задача должна доминировать
над всеми другими или, если воспользоваться крылатым выражением,
.что ее надо решать «любой ценой». Категорические требования
зашоренных идеалистов или расплывчатые, но хлесткие призывы вроде
«обеспечения всеобщей занятости» ведут обычно к близоруким мерам и в
конечном счете не приносят ничего, кроме вреда.
Мне представляется крайне важным, чтобы после войны, когда мы
вплотную столкнемся с этой задачей, наш подход к ее решению был
абсолютно трезвым и мы бы полностью понимали, на что здесь можно
рассчитывать. Одна из основных особенностей послевоенной ситуации
будет определяться тем обстоятельством, что сотни тысяч людей —
мужчин и женщин,— будучи заняты в специализированных военных областях,
неплохо зарабатывали в военное время. В мирное время возможности
такого трудоустройства резко сократятся. Возникнет нужда в
перемещении работников в другие области, где заработки многих из них станут
значительно меньше. Даже целенаправленная переквалификация,
которую безусловно придется проводить в широких масштабах, целиком не
решит проблемы. Все равно останется много людей, которые, получая за
свой труд вознаграждение, соответствующее его общественной пользе,
будут вынуждены смириться с относительным снижением своего
материального благосостояния.
Если при этом профсоюзы будут успешно сопротивляться всякому
снижению заработков тех или иных групп людей, то развитие ситуации
пойдет по одному из двух путей: либо будет применяться принуждение
и в результате отбора кого-то станут переводить на относительно
низкооплачиваемые должности, либо людям, получавшим во время войны
высокую зарплату, будет позволено оставаться безработными, пока они но
131
согласятся работать за относительно более низкую плату. В
социалистическом обществе эта проблема возникнет точно так же, как и во всяком
другом: подавляющее большинство работников будет здесь против
сохранения высоких заработков тем, кто получал их только ввиду военной
необходимости. И социалистическое общество в такой ситуации
безусловно прибегнет к принуждению. Во для нас важно, что, если мы не
захотим прибегать к принуждению и будем в то же время стремиться не
допустить безработицы «любой ценой», мы станем принимать отчаянные
и бессмысленные меры, которые будут приносить лишь временное
облегчение, но в конечном счете приведут к серьезному снижению
продуктивности использования трудовых ресурсов. Следует отметить, что
денежная политика не сможет стать средством преодоления этих затруднений,
ибо она не приведет ни к чему, кроме общей и значительной инфляции,
необходимой, чтобы поднять все заработки и цены до уровня тех,
которые невозможно снизить. Но и это принесет желаемые результаты
только путем снижения реальной заработной платы, которое произойдет при
этом не открыто, а «под сурдинку». А кроме того, поднять все доходы
и заработки до уровня рассматриваемой группы означает создать такую
чудовищную инфляцию, что вызванные ею рассогласования и
несправедливости будут значительно выше тех, с которыми мы собираемся таким
образом бороться.
Эта проблема, которая с особой остротой встанет после войны,
возникает в принципе всякий раз, когда экономическая система вынуждена
приспосабливаться к переменам. И всегда существует возможность занять
на ближайшее время всех работников в тех отраслях, где они уже
работают, путем увеличения денежной массы. Но это будет приводить только
к росту инфляции и к сдерживанию процесса перетекания рабочей силы
из одних отраслей в другие, необходимого в изменившейся ситуации,—
процесса, который в естественных условиях всегда происходит с
задержкой и, следовательно, порождает определенный уровень безработицы.
Однако главным недостатком этой политики является все же то, что в
конечном счете она приведет к результатам, прямо противоположным
тем, на которые она нацелена: к снижению производительности труда и,
соответственно, к возрастанию относительного числа работников,
заработки которых придется искусственно поддерживать на определенном уровне.
*
Не подлежит сомнению, что в первые годы после войны мудрость
в экономической политике будет необходима как никогда и что от того,
как мы станем решать экономические проблемы, будет зависеть сама
судьба нашей цивилизации. Во всяком случае, сначала мы будем очень
бедны и восстановление прежнего жизненного уровня станет для
Великобритании более сложной задачей, чем для многих других стран. Но,
действуя разумно, мы, безусловно, сможем самоотверженным трудом и
специальными усилиями, направленными на обновление промышленности и
системы ее организации, восстановить прежний уровень жизни и даже
его превзойти. Однако для этого нам придется довольствоваться
потреблением в пределах, позволяющих решать задачи восстановления, не
испытывая никаких чрезмерных ожиданий, способных этому
воспрепятствовать, и используя наши трудовые ресурсы оптимальным образом и для
насущных целей, а не так, чтобы просто как-нибудь занять всех и
каждого *. Вероятно, не менее важно не пытаться быстро излечить бедность,
* Здесь, по-видимому, стоит подчеркнуть, что как бы нам ни хотелось ускорить
возврат к свободной экономике, это не означает, что все ограничения военного
времени можно будет снять в один миг. Ничто так не подорвет веру в систему
свободного предпринимательства, как резкая (пусть даже и кратковременная)
дестабилизация, которая возникнет в результате такого шага. Несомненно, что экономика
военного времени должна быть преобразована путем тщательно продуманного
132
перераспределяя национальный доход вместо того, чтобы его наращивать,
ибо мы рискуем при этом превратить большие социальные группы в
противников существующего политического строя. Не следует забывать,
что одним из решающих факторов победы тоталитаризма в странах
континентальной Европы было наличие большого малоимущего среднего
класса. В Англии и США ситуация пока что иная.
Мы сможем избежать угрожающей нам печальной участи только при
условии быстрого экономического роста, способного вывести нас к новым
успехам, какими бы низкими ни были наши стартовые позиции. При
этом главным условием развития является готовность приспособиться к
происходящим в мире переменам, невзирая ни на какие привычные
жизненные стандарты отдельных социальных групп, склонных противиться
изменениям, и принимая в расчет только необходимость использовать
трудовые ресурсы там, где они нужнее всего для роста национального
богатства. Действия, необходимые для возрождения экономики страны и
достижения более высокого уровня жизни, потребуют от всех небывалого
напряжения сил. Залогом успешного преодоления этого непростого
периода может быть только полная готовность каждого подчиниться этим
мерам и встретить трудности, как подобает свободным людям,
самостоятельно прокладывающим свой жизненный путь. Пусть каждому будет
гарантирован необходимый прожиточный минимум, но пусть при этом
будут ликвидированы все привилегии. И пусть не будет извинения ни
для каких попыток создать замкнутые групповые структуры,
препятствующие, во имя сохранения определенного уровня материального
благосостояния группы, вхождению новых членов извне.
«К черту экономику, давайте строить честный мир» — такое
заявление звучит благородно, но в действительности является совершенно
безответственным. Сегодня в нашем мире каждый убежден, что надо
улучшать материальные условия жизни в той или иной конкретной сфере,
для той или иной группы людей. Сделать такой мир лучше можно,
только подняв в нем общий уровень благосостояния. Единственное, чего
не выдержит демократия, от чего она может дать трещину, это
необходимость существенного снижения уровня жизни в мирное время или
достаточно длительный период, в течение которого будут отсутствовать
видимые улучшения.
Даже те, кто допускает, что современные политические тенденции
представляют существенную опасность для нашего экономического
развития и опосредованно, через экономику, угрожают более высоким
ценностям, продолжают все же тешить себя иллюзией, полагая, что мы идем
на материальные жертвы во имя нравственных идеалов. Есть, однако,
серьезные сомнения, что пятьдесят лет развития коллективизма подняли
наши моральные стандарты, а не привели, наоборот, к их снижению.
Хотя мы любим с гордостью утверждать, что стали чувствительнее к
социальной несправедливости, но наше поведение как индивидов отнюдь
этого не подтверждает. В негативном плане, в смысле возмущения
несовершенством и несправедливостью теперешнего строя наше поколение
действительно не знает себе равных. Но как это отражается в наших
позитивных установках, в сфере морали, индивидуального поведения и
в попытках применять моральные принципы, сталкиваясь с различными
и не всегда однозначными проявлениями функционирования социальной
машины?
В этой области дела так запутаны, что придется начинать анализ е
самых основ. Наше поколение рискует забыть не только то обстоятель-
постепенного ослабления контроля, которое может растянуться на несколько лет.
Вопрос заключается только в том, к какой системе мы будем при этом стремиться!
133
ство, что моральные принципы неразрывно связаны с индивидуальным
поведением, но также и то, что они могут действовать только если
индивид свободен, способен принимать самостоятельные решения и ради
соблюдения этих принципов добровольно приносить в жертву личную
выгоду. Вне сферы личной ответственности нет ни добра, ни зла, ни
добродетели, ни жертвы. Только там, где мы несем ответственность за свои
действия, где наша жертва свободна и добровольна, решения,
принимаемые нами, могут считаться моральными. Как невозможен альтруизм за
чужой счет, так же невозможен он и в отсутствие свободы выбора. Как
сказал Мильтон, «если бы всякий поступок зрелого человека,— добрый
или дурной,— был ему предписан, или вынужден, или навязан, что
была бы добродетель, как не пустой звук, какой похвалы заслуживало
бы нравственное поведение, какой благодарности — умеренность и
справедливость?»
Свобода совершать поступки, когда материальные обстоятельства
навязывают нам тот или иной образ действий, и ответственность, которую
мы принимаем, выстраивая нашу жизнь по совести,— вот условия,
необходимые для существования нравственного чувства и моральных
ценностей, для их ежедневного воссоздания в свободных решениях,
принимаемых человеком. Чтобы мораль была не «пустым звуком», нужны
ответственность — не перед вышестоящим, но перед собственной
совестью,— сознание долга, не имеющего ничего общего с принуждением,
необходимость решать, какие ценности предпочесть, и способность
принимать последствия этих решений.
Совершенно очевидно, что в области индивидуального поведения
влияние коллективизма оказалось разрушительным. И это было
неизбежно. Движение, провозгласившее одной из своих целей освобождение
от личной ответственности *, не могло не стать аморальным, какими бы
ни были породившие его идеалы. Можно ли сомневаться, что такой
призыв отнюдь не укрепил в людях способность принимать самостоятельные
моральные решения или чувство долга, заставляющее их бороться за
справедливость? Ведь одно дело — требовать от властей улучшения
положения и даже быть готовым подчиниться каким-то мерам, когда им
подчиняются все, и совсем другое — действовать, руководствуясь собственным
нравственным чувством и, быть может, вразрез с общественным
мнением. Многое сегодня свидетельствует о том, что мы стали более
терпимы к конкретным злоупотреблениям, равнодушны к частным
проявлениям несправедливости и в то же время сосредоточились на некой
идеальной системе, в которой государство организует все наилучшим
образом. Быть может, страсть к коллективным действиям — это способ
успокоить совесть и оправдать эгоизм, который мы научились немного
смирять в личной сфере.
Есть добродетели, которые сегодня не в цене: независимость,
самостоятельность, стремление к добровольному сотрудничеству с
окружающими, готовность к риску и к отстаиванию своего мнения перед лицом
большинства. Это как раз те добродетели, благодаря которым существует
индивидуалистическое общество. Коллективизм ничем не может их заме-
* По мере того, как социализм перерастает в тоталитаризм, это проявляется все
более отчетливо. В Англии такое требование откровенно сформулировано в
программе новейшего и наиболее тоталитаристского социалистического движения «Общее
дело», возглавляемого сэром Ричардом Эклендом. Главной чертой обещанного им
нового строя является то, что общество «скажет индивиду: «Не беспокойся больше о
том, как тебе зарабатывать на жизнь». Ибо, разумеется, «общество в целом должно
оценивать свои ресурсы и решать, получит ли человек работу и как, когда и каким
образом оп будет трудиться». И общество «организует лагеря с довольно мягким
режимом для тех, кто уклоняется от своих обязанностей». Может ли после этого кого-
то удивить заявление автора, что Гитлер «случайно обнаружил (или вынужден был
использовать) лишь малую часть илп частный аспект того, что в конечном счете
потребуется от человечества» (Sir Richard А с 1 a n d, Bt, The Forward March, 1941,
pp. 127, 126, 135 and 32).
134
нить. А в той мере, в какой он уже их разрушил, он создал зияющую
пустоту, заполняемую лишь требованиями, чтобы индивид подчинялся
принудительным решениям большинства. Периодическое избрание
представителей, к которому все больше и больше сводится сфера морального
выбора индивида,— это не та ситуация, где проверяются его моральные
ценности или где он должен, постоянно принося одни ценности в жертву
другим, испытывать на прочность искренность своих убеждений и
утверждаться в определенной иерархии ценностей.
Поскольку источником, из которого коллективистская политическая
деятельность черпает свои нравственные нормы, являются правила
поведения, выработанные индивидами, было бы странно, если бы снижение
стандартов индивидуального поведения сопровождалось повышением
стандартов общественной деятельности. Серьезные изменения в этой области
налицо. Конечно, каждое поколение ставит одни ценности выше,
другие — ниже. Но давайте спросим себя: какие ценности и цели сегодня
не в чести, какими из них мы будем готовы пожертвовать в первую
очередь, если возникнет такая нужда? Какие из них занимают
подчиненное место в картине будущего, которую рисуют наши популярные
писатели и ораторы? И какое место занимали они в представлениях наших
отцов?
Очевидно, что материальный комфорт, рост уровня жизни и
завоевание определенного места в обществе находятся сегодня отнюдь не на
последнем месте на нашей шкале ценностей. Найдется ли ныне
популярный общественный деятель, который решился бы предложить массам
ради высоких идеалов пожертвовать ростом материального благополучия?
И, кроме того, разве не убеждают нас со всех сторон, что такие
моральные ценности, как свобода и независимость, правда и интеллектуальная
честность, а также уважение человека как человека, а не как члена
организованной группы,— являются «иллюзиями XIX столетия»?
Каковы же сегодня те незыблемые ценности, те святыни, в которых
не рискует усомниться ни один реформатор, намечающий план будущего
развития общества? Это более не свобода личности. Право свободно
передвигаться, свободно мыслить и выражать свои мнения не
рассматривается уже как необходимость. Но огромное значение получают при этом
«права» тех или иных групп, которые могут поддерживать
гарантированный уровень благосостояния, исключая из своего состава каких-то людей
и наделяя привилегиями оставшихся. Дискриминация тех, кто не входит
в определенную группу, не говоря уж о представителях других
национальностей, выглядит сегодня как нечто само собой разумеющееся.
Несправедливости по отношению к индивидам, вызванные правительственной
поддержкой групповых интересов, воспринимаются с равнодушием,
граничащим с жестокостью. А очевидные нарушения элементарных прав
человека, например, в случаях массовых принудительных переселений,
получают поддержку даже у людей, называющих себя либералами.
Все это свидетельствует о притуплении морального чувства, а вовсе
не о его обострении. И когда нам все чаще напоминают, что нельзя
приготовить яичницу, не разбив яиц, то в роли яиц выступают обычно те
ценности, которые поколение или два назад считались основами
цивилизованной жизни. Каких только преступлений властей не прощали в
последнее время, солидаризируясь с ними, наши так называемые
«либералы»!
*
В сдвигах моральных ценностей, вызванных наступлением
коллективизма, есть один аспект, который сегодня дает особую пищу для
размышлений. Дело в том, что добродетели, ценимые нами все меньше и
становящиеся поэтому все более редкими, прежде составляли гордость
англосаксов и отличали их, по общему признанию, от других народов.
135
Этими качествами (присущими в такой же степени, пожалуй, еще только
нескольким малочисленным нациям, таким, как голландцы или
швейцарцы) были независимость и самостоятельность, инициативность и
ответственность, умение многое делать добровольно и не лезть в дела соседа,
терпимость к людям странным, непохожим на других, уважение к
традициям и здоровая подозрительность по отношению к властям. Но
наступление коллективизма с присущими ему централистскими
тенденциями последовательно разрушает именно те традиции и установления, в
которых нашел свое наиболее яркое воплощение демократический гений и
которые, в свою очередь, существенно повлияли на формирование
национального характера и всего морального климата Англии и США.
Иностранцу бывает порой легче разглядеть, чем обусловлен
нравственный облик нации. И если мне, который, что бы ни гласил закон,
навсегда останется здесь иностранцем, будет позволено высказать свое
мнение, я вынужден буду констатировать, что являюсь свидетелем одного из
самых печальных событий нашего времени, наблюдая, как англичане
начинают относиться со все большим презрением к тому, что было поистине
драгоценным вкладом Англии в мировое сообщество. Жители Англии
вряд ли отдают себе отчет, насколько oroi отличаются от других народов
тем, что независимо от партийной принадлежности все они воспитаны
на идеях, известных под именем «либерализма». Еще двадцать лет тому
назад англичане, если их сравнивать с представителями любой другой
нации, даже не будучи членами либеральной партии, все были, однако,
либералами. И даже теперь английский консерватор или социалист,
оказавшись за рубежом, не менее, чем либерал, обнаруживает, что у него
мало общего с людьми, разделяющими идеи Карлейля или Дизраэли,
Уэббов или Г. Уэллса,— то есть с нацистами и тоталитаристами,—
но если он попадает на интеллектуальный островок, где живы традиции
Маколея или Гладстона, Дж. Ст. Милля или Джона Морли, он находит
там родственные души и может легко говорить с ними на одном языке,
пусть даже его собственные идеалы и отличаются от тех, которые
отстаивают эти люди.
Утрата веры в традиционные ценности британской цивилизации ни
в чем не проявилась так ярко, как в потрясающей неэффективности
британской пропаганды, оказавшей ни с чем не сравнимое
парализующее воздействие на достижение стоящей сейчас перед нами великой
цели. Чтобы пропаганда, направленная на другую страну, была
успешной, надо прежде всего с гордостью признавать за собой те черты и
ценности, которые известны как характерные особенности нашей страны,
выделяющие ее среди других. Британская пропаганда потому оказалась
неэффективной, что люди, за нее ответственные, сами утратили веру в
специфические английские ценности или не имеют ни малейшего
представления, чем эти ценности существенно отличаются от ценностей
других народов. В самом деле, наша левая интеллигенция так долго
поклонялась чужим богам, что разучилась видеть положительные черты в
английских институтах и традициях. Эти люди, являющиеся в большинстве
социалистами, не могут допустить и мысли, что моральные ценности,
составляющие предмет их гордости, возникли в огромной степени
благодаря тем институтам, которые они призывают разрушить. К сожалению,
такой точки зрения придерживаются не только социалисты. Хочется
думать, что менее речистые, но более многочисленные англичане считают
иначе. Однако, если судить по идеям, пронизывающим современные
политические дискуссии и пропаганду, англичан, которые не только
«говорят языком Шекспира», но и верят в то, во что верил Мильтон, уже
практически не осталось *.
* В этой главе мы уже не раз ссылались на Мильтона. Но трудно удержаться,
чтобы не привести еще одно его высказывание, которое, несмотря на то, что оно ши-
136
Верить, что пропаганда, основанная на таком подходе, окажет какое-
либо воздействие на врага, в особенности на немцев, означает фатально
заблуждаться. Немцы, возможно, и не знают как следует Англию и
США, но они все же знают достаточно, чтобы иметь представление
о традиционных ценностях английской демократии и о тех расхождениях
между нашими странами, которые последовательно углублялись на
памяти двух-трех поколений. И если мы хотим их убедить не только в
искренности наших заявлений, но и в том, что мы предлагаем реальную
альтернативу тому пути, по которому они ныне следуют, то это
невозможно сделать, принимая их образ мыслей. Мы не сможем обмануть их,
подсовывая вторичные толкования идей, заимствованных в свое время
у их отцов,— будь то идеи «реальной политики», «научного
планирования» или корпоративизма. И мы не сможем их ни в чем убедить, пока
идем за ними след в след по дороге, ведущей к тоталитаризму. Если
демократические страны откажутся от высших идеалов свободы и счастья
индивида, фактически признавая таким образом несостоятельность своей
цивилизации и свою готовность следовать за Германией, то им в самом
деле нечего будет предложить другим народам. Для немцев это выглядит
как запоздалое признание коренной неправоты либерализма и права
Германии прокладывать дорогу к новому миру, каким бы ужасным ни был
переходный период. При этом немцы вполне отдают себе отчет, что
английские и американские традиции находятся в непримиримом противоречии с
их идеалами и образом жизни. Их можно было бы убедить, что они
избрали неверный путь, но они никогда не поверят, что англичане или
американцы будут лучшими проводниками на дороге, проложенной Германией.
И в последнюю очередь пропаганда такого рода найдет отклик у тех
людей, на чью помощь в деле восстановления Европы мы в конечном
счете можем рассчитывать, поскольку их ценности близки к нашим
Но их опыт прибавил им мудрости и избавил от иллюзий: они поняли,
что ни благие намерения, ни эффективная организация не сохранят
человечности в системе, где отсутствует свобода и ответственность
личности. Немцы и итальянцы, усвоившие этот урок, хотят превыше всего
иметь надежную защиту от чудовищного государства. Им нужны не
грандиозные планы переустройства всего общества, но покой, свобода и
возможность выстроить еще раз свою собственную жизнь. Мы можем
рассчитывать на помощь некоторых жителей стран, с которыми мы воюем,
не потому, что они предпочтут английское владычество прусскому, а
потому, что они верят, что в мире, где когда-то победили демократические
идеалы, их избавят от произвола, оставят в покое и позволят заниматься
своими делами.
Чтобы победить в идеологической войне и привлечь на свою сторону
дружественные элементы во вражеском стане, мы должны прежде всего
вновь обрести веру в традиционные ценности, которые мы готовы были
отстаивать прежде, и смело встать на защиту идеалов, являющихся
главной мишенью врага. Мы завоюем доверие и обретем поддержку не
стыдливыми извинениями за свои взгляды, не обещаниями их немедленно
изменить и не заверениями, что мы найдем компромисс между
традиционными либеральными ценностями и идеями тоталитаризма. Реальное
значение имеют не последние усовершенствования наших общественных
институтов, которые ничтожны по сравнению с пропастью, разделяющей
два пути развития, но наша приверженность тем традициям, которые
сделали Англию и США странами, где живут независимые и свободные,
терпимые и благородные люди.
роко известно, сегодня осмелится напомнить только иностранец: «Пусть Англия не
забывает, что она первой стала учить другие народы, как надо жить».
Примечательно, что в нашем поколении нашлось множество ниспровергателей Мильтона,- как в
Англии, так и в США, И не случайно, по-видимому, главный из них,—Эзра Паунд,—
cui во время войны радиопередачи нз Италии!
137
XV
Каким будет мир после войны
Из всех форм контроля демократии
наиболее адекватной и действенной
оказалась федерация... Федеративная
система ограничивает и сдерживает
верховную власть, наделяя
правительство четко очерченными
правами. Это единственный метод
держать в узде не только большинство,
но и народовластие в целом.
Лорд Э к т о н
Ни в какой другой области мир не заплатил еще такой цены за
отступление от принципов либерализма XIX в., как в сфере
международных отношений, где это отступление впервые и началось. И все же мы
выучили еще далеко не весь урок, преподанный нам этим опытом. Быть
может, наши представления о целях и возможностях в этой области все
еще таковы, что грозят привести к результатам, прямо противоположным
тем, которые они обещают.
Один из уроков недавнего времени, который постепенно доходит до
нашего сознания, заключается в том, что различные системы
экономического планирования, реализуемые независимо в отдельных странах,
не только губительно сказываются на состоянии экономики как таковой,
но также приводят к серьезному обострению международных отношений.
Сегодня уже не надо объяснять, что пока каждая страна может
осуществлять в своих интересах любые меры, которые сочтет необходимыми,
нельзя надеяться на сохранение прочного мира. А поскольку многие виды
планирования возможны только в том случае, если властям удается
исключить все внешние влияния, то результатом такого планирования
становятся ограничения передвижений людей и товаров.
Менее очевидной, но не менее реальной является угроза миру,
коренящаяся в искусственно культивируемом экономическом единстве всех
жителей страны, ступившей на путь планирования, и в возникновении
блоков со взаимоисключающими интересами. В принципе нет никакой
необходимости, чтобы границы между странами являлись одновременно
водоразделами между различными жизненными стандартами и чтобы
принадлежность к какой-то нации гарантировала блага, недоступные
представителям других наций. Больше того, это нежелательно. Если
национальные ресурсы рассматриваются как исключительная собственность
соответствующих наций, если международные экономические связи
вместо того, чтобы быть связями индивидов, превращаются в отношения
между нациями как едиными и единственными субъектами производства
и торговли, зависть и разногласия между народами становятся
неизбежными. В наши дни получила распространение поистине фатальная
иллюзия, что, проводя переговоры между государствами или организованными
группами по поводу рынков сбыта и источников сырья, можно добиться
снижения международной напряженности. Этот путь ведет к тому, что
силовые аргументы окончательно вытеснят то, что лишь метафорически
называется «конкурентной борьбой». В результате вопросы, которые
между индивидами никогда не решались с позиций силы, будут решаться в
противоборстве сильных и хорошо вооруженных государств, не
контролируемых никаким высшим законом. Экономическое взаимодействие между
государствами, каждое из которых само является высшим судьей своих
действий и руководствуется только своими актуальными интереса-
138
ми, неизбежно приведет к жестоким межгосударственным
столкновениям *.
Если мы используем дарованную нам победу для того, чтобы
проводить в послевоенном мире зту политику, результаты которой были
очевидны еще в 1939 г., мы очень скоро обнаружим, что победили
национал-социализм лишь с целью создать мир, целиком состоящий из таких
«национал-социализмов», отличающихся друг от друга в деталях, но
одинаково тоталитарных, националистических и находящихся в постоянном
противоборстве. Тогда немцы окажутся агрессорами (многие уже и теперь
так считают **) только в том смысле, что они первыми ступили на этот
путь.
Те, кто хотя бы отчасти сознает эту опасность, приходят обычно к
выводу, что экономическое планирование должно быть «международным»
и осуществляться некими наднациональными властями. Очевидно, что
это вызовет все те же затруднения, которые встречаются при попытках
планирования на национальном уровне. Но есть здесь и гораздо большие
опасности, в которых сторонники этой концепции вряд ли отдают себе
отчет. Прежде всего проблемы, возникающие в результате сознательного
управления экономикой отдельной страны, при переходе к
международным масштабам усугубляются многократно. Конфликт между
планированием и свободой не может не стать более глубоким, когда возрастает
разнообразие жизненных стандартов и ценностей, которые должны быть
охвачены единым планом. Нетрудно планировать экономическую жизнь
семьи, если она относительно невелика и живет в небольшом поселении.
Но по мере увеличения размеров группы согласие между ее членами
по поводу иерархии целей будет все меньше и соответственно будет
расти необходимость использовать принуждение. В небольшом сообществе
существует согласие по многим вопросам, обусловленное общностью
взглядов на относительную важность тех или иных задач, общими
оценками и ценностями. Но чем шире мы будем раскидывать сети, тем больше
найдется у нас причин использовать силу.
Людей, проживающих в одной стране, можно относительно легко
убедить пойти на жертвы, чтобы помочь развитию «их» металлургии, или
«их» сельского хозяйства, или обеспечить всем определенный уровень
благосостояния. Пока речь идет о том, чтобы помогать людям, чьи
жизненные устои и образ мыслей нам знакомы, о перераспределении доходов
или реорганизации условий труда людей, которых мы по крайней мере
можем себе представить и взгляды которых на необходимый уровень
материальной обеспеченности близки к нашим, мы обычно готовы идти
ради них на какие-то жертвы. Но чтобы понять, что в более широких
масштабах моральные критерии, необходимые для такого рода
взаимопомощи, совершенно исчезают, достаточно вообразить проблемы, которые
встанут в ходе экономического планирования хотя бы такой области,
как Западная Европа. Неужели кто-то может помыслить такие
общезначимые идеалы справедливого распределения, которые заставят
норвежского рыбака отказаться от перспектив улучшения своего экономического
положения, чтобы помочь своему коллеге в Португалки, или голландского
рабочего — покупать велосипед по более высокой цене, чтобы поддержать
механика из Ковентри, или французского крестьянина — платить более
высокие налоги ради индустриализации в Италии?
Если те, кто предлагает все это осуществить, отказываются замечать
эти проблемы, то только потому, что, сознательно или бессознательно,
* По этому и другим вопросам, которых я могу коснуться в этой главе лишь
очень кратко, см. книгу профессора Лайонела Роббинса: Lionel R о b b i n s. Economic
Planning and International Order, 1937, passim.
** В этом отношении весьма показательной является книга: James В u r h a m.
The Managerial Revolution, 1941.
Я9
оби полагают, что станут сами решать эти вопросы за других, и
считают себя способными делать это справедливо и беспристрастно. Чтобы
англичане поняли, что в действительности означают такие идеи, они
должны представить себе, что в глазах планирующей инстанции они
окажутся малой нацией и все основные цели развития экономики
Великобритании будут определяться большинством не-британского
происхождения. Много ли найдется в Англии людей, готовых подчиняться
решениям международного правительства, какими бы демократическими ни были
принципы его создания, имеющего власть объявить развитие испанской
металлургии приоритетным направлением по сравнению с развитием той
же отрасли в Южном Уэльсе или сконцентрировать всю оптическую
промышленность в Германии, ликвидировав ее в Великобритании, или
постановить, что в Великобританию будет ввозиться только готовый бензин,
а вся нефтеперерабатывающая промышленность будет сосредоточена в
нефтедобывающих странах?
Воображать, что экономическая жизнь обширной области,
включающей множество различных наций, будет спланирована с помощью
демократической процедуры, можно, лишь будучи абсолютно слепым к такого
рода проблемам. Международное планирование в гораздо большей
степени, чем планирование в масштабах одной страны, будет неприкрытой
диктатурой, разгулом насилия и произвола, осуществляемого небольшой
группой, навязывающей всем остальным свои представления о том, кто
к чему пригоден и кто чего достоин. Это будет воплощение немецкой
идеи Grossraumwirtschaft — крупномасштабного централизованного
хозяйства, управителем которого может стать только Herrenvolk — раса
господ. Неверно считать жестокость и пренебрежение к стремлениям
малых народов, проявленные немцами, выражением их врожденной
порочности: это было неизбежным следствием той задачи, которую они
перед собой поставили. Чтобы осуществлять управление экономической
жизнью людей, обладающих крайне разнообразными идеалами и
ценностями, надо принять на себя ответственность применения силы. Людей,
которые поставили себя в такое положение, даже самые благие намерения
не могут уберечь от необходимости действовать так, что те, на кого
направлены эти действия, будут считать их в высшей степени аморальными*.
Это верно даже в том случае, если высшие власти будут отличаться
крайней степенью идеализма и альтруизма. Но как ничтожно мала
вероятность альтруистической власти, как велики оказываются здесь
искушения! Я убежден, что в Англии уровень порядочности и честности,
особенно в международных делах, выше, чем где бы то ни было. И все же
здесь теперь раздаются во множестве голоса, призывающие использовать
победу для создания условий, в которых британская промышленность
сможет максимально применить специальное оборудование,
изготовленное во время войны, и направить процесс восстановления Европы по
такому руслу, которое обеспечило бы исключительные возможности для
развития индустрии нашей страны и гарантировало бы каждому ее
жителю работу, которую он считает для себя подходящей. В этих
предложениях поражает даже не то, что они вообще возникают, а то, что они
звучат как абсолютно невинные, само собой разумеющиеся, а их
авторами являются вполне порядочные люди, которые просто не отдают себе
отчет* к каким чудовищным моральным последствиям приведет насилие,
неизбежное в случае их осуществления **.
* Опыт колониальной политики Великобритании, как, впрочем, и любой другой
державы, ясно показал, что даже «мягкие» формы планирования, известные как
промышленное развитие и освоение ресурсов колоний, неизбежно предполагают
навязывание определенных ценностей и идеалов тем народам, которым мы пытаемся
оказать помощь. Именно этот опыт заставляет даже самых глобально мыслящих
специалистов сомневаться в возможности «международного» управления колониями.
** Если кто-то еще сомневается в наличии этих трудностей или надеется, что
имея достаточно доброй воли, их можно преодолеть, я могу предложить поразмыщ-
140
Пожалуй, самым популярным доводом, укрепляющим веру в
возможность централизованного демократического управления экономическох!
жизнью множества различных наций, является роковое заблуждение,
что если решения по всем основным вопросам будет принимать «народ»,
то в силу общности интересов трудящихся всего мира удастся легко
преодолеть различия, существующие между правящими классами
разных стран. Есть, однако, все основания предполагать, что если
планирование будет осуществляться во всемирном масштабе, то конфликты
экономических интересов, возникающие ныне в рамках отдельных стран,
уступят место гораздо более серьезным конфликтам между целыми
народами, разрешить которые можно будет только с применением сильд.
У трудящихся разных стран будут возникать взаимоисключающие
мнения по вопросам, которые придется решать международному
правительству, а общезначимые критерии, необходимые для мирного разрешения
таких конфликтов, найти будет гораздо сложнее, чем в ситуации
классовых противоречий в одной стране. Для рабочих из бедной страны
требование их более обеспеченных коллег, стремящихся обезопасить себя от
конкуренции, законодательно ввести минимум заработной платы будет
не защитой их интересов, а лишением их единственной возможности
улучшить свое материальное положение. Жители бедной страны исходно
поставлены в невыгодные условия, так как вынуждены работать за более
низкую плату и обменивать продукт своего десятичасового труда на
продукт пятичасового труда жителей развитых стран, имеющих более
производительное оборудование. И такая «эксплуатация» для них ничем не
лучше капиталистической.
Совершенно очевидно, что в планируемом международном сообществе
богатые и, следовательно, более сильные нации станут объектом гораздо
большей зависти и ненависти, чем в мире, построенном на принципах
свободной экономики. А бедные нации будут убеждены (неважно, с
основанием или без оснований), что их положение можно легко поправить,
если позволить им действовать по собственному усмотрению. И если
обязанностью международного правительства станет распределение
богатств между народами, то, как следует из социалистического учения,
классовая борьба превратится в борьбу между трудящимися разных
стран.
В последнее время приходится часто слышать не слишком внятные
рассуждения о «планировании во имя выравнивания различных
жизненных уровней». Чтобы понять, к чему они сводятся, рассмотрим
конкретный пример. Областью, к которой сегодня приковано внимание наших
сторонников планирования, является бассейн Дуная и прилегающие к
нему страны Юго-Восточной Европы. Нет сомнения, что как из
гуманистических и экономических соображений, так и для упрочения в будущем
мира в Европе необходимо улучшить экономическое положение этого
региона и пересмотреть существовавшее там до войны политическое
устройство. Но это не равнозначно подчинению единому плану всей
происходящей там экономической жизни, чтобы развитие различных
отраслей шло по заранее продуманной схеме, а всякая местная инициатива
лять над некоторыми последствиями централизованного управления экономической
деятельностью на международном уровне. Можно ли, например, сомневаться, что
при таком повороте событий будет сознательно или неосознанно сделано все, чтобы
сохранить доминирующее положение в мире белого человека, и что другие расы
воспримут это именно таким образом? Пока я не встречу человека, который, будучи в
здравом уме, станет утверждать, что народы Европы сснласятся добровольно
подчиниться жизненным стандартам, установленным всемирным парламентом, я не смогу
не считать подобные планы абсурдными. Но это, к сожалению, не мешает многим
всерьез обсуждать конкретные меры так, будто всемирное правительство является
вполне достижимым идеалом.
141
требовала бы одобрения центральных властей. Нельзя, например, создать
для бассейна Дуная нечто вроде «Управления долины реки Теннесси»,
не определив заранее и на много лет вперед относительные темпы
экономического развития разных народов, живущих в этом регионе, и из
подчинив все их устремления этой единой цели.
Такого рода планирование должно начинаться с установления
приоритетных интересов. Для сознательного выравнивания по единому плану
различных уровней жизни необходимо взвесить разные потребности и
выделить из них наиболее важные, требующие первоочередного
удовлетворения. При этом группы, интересы которых не попали в число
приоритетных, могут быть убеждены не только в несправедливости такой
дискриминации, но и в том, что они смогут легко удовлетворить свои
запросы, если будут действовать независимо. Нет такой шкалы ценностей,
которая позволила бы нам решить, являются ли нужды бедного
румынского крестьянина более (или менее) насущными, чем нужды еще более
бедного албанца, или что удовлетворение потребностей пастуха из
Словакии важнее, чем удовлетворение потребностей пастуха из Словении.
Но если мы собираемся поднимать их уровень жизни по единому плану,
мы должны как-то все это взвесить и увязать одно с другим. И когда
такой план будет принят к исполнению, все ресурсы данного региона
окажутся подчиненными содержащимся в нем указаниям и никто уже
не сможет действовать по своему усмотрению, даже если видит не
предусмотренные планом пути улучшения своего материального положения.
Если запросы какой-то группы не получают приоритетного статуса,
то члены этой группы вынуждены реально трудиться для
удовлетворения запросов тех, кому было отдано предпочтение.
При таком положении буквально у каждого будет возникать
ощущение, что он несправедливо обижен, что другой план мог бы дать ему
больше и что решением властей он оказался приговоренным занимать в
обществе место, которое он считает для себя недостойным.
Предпринимать такие действия в регионе, густо населенном малыми народами,
каждый из которых считает себя выше остальных, значит заранее обречь
себя на применение насилия. На практике это означает, что большие
нации будут своей волей решать, какими темпами наращивать уровень
жизни болгарским, а какими — македонским крестьянам, и кто быстрее
будет приближаться к западным стандартам благосостояния — чешский
или венгерский шахтер. Не надо быть экспертом в области психологии
народов Центральной Европы (и даже просто в области психологии),
чтобы понять, что, как бы ни были установлены приоритеты,
недовольных будет много, скорее всего — большинство. И очень скоро ненависть
людей, считающих себя несправедливо обиженными, обратится против
властей, которые, хотя и не преследуют корыстных целей, все же
решают судьбы людей.
Тем не менее есть много людей, искренне убежденных, что если им
будет доверена такая задача, то они окажутся в состоянии решить все
проблемы беспристрастно и справедливо. Они будут страшно удивлены,
обнаружив, что являются объектом ненависти и подозрений. И именно
такие люди первыми пойдут на применение силы, когда те, кому они
намеревались помочь, ответят на это непониманием и неблагодарностью.
Это опасные идеалисты, и они будут безжалостно насаждать все, что,
по их мнению, соответствует интересам других. Они просто не
подозревают, что, когда они берутся силой навязывать другим людям
нравственные представления, которых те не разделяют, они рискуют попасть в
положение, в котором им придется действовать безнравственно. Ставить
такую задачу перед народами-победителями —значит толкать их на путь
морального разложения.
Мы можем употребить все силы, чтобы помочь бедным, которые сами
стремятся поднять уровень своего материального благосостояния.
142
И международные организации будут в высшей степени справедливыми
и внесут огромный вклад в дело экономического развития, если они
будут способствовать созданию условий, в которых народы смогут сами
устраивать свою жизнь. Но невозможно осуществлять справедливость и
помогать людям, если центральные власти распределяют ресурсы и
рынки сбыта и если каждая инициатива должна получать одобрение сверху.
После всех аргументов, прозвучавших на страницах этой книги,
вряд ли надо специально доказывать, что мы не решим проблемы,
обязав международное правительство рассматривать «только» экономические
вопросы. Убеждение, что это может стать практическим выходом,
основано на иллюзорном представлении, что планирование — это чисто
техническая задача, которую можно решать объективно, усилиями группы
специалистов, оставляя все действительно жизненные вопросы на
усмотрение политиков. Но любой международный экономический орган, не
подчиненный никакой политической власти, даже если его деятельность
будет строго ограничена решением определенного круга вопросов,
сможет легко превратиться в орган безответственной тирании, обладающий
неограниченной властью. Полный контроль предложения даже в какой-
нибудь одной области (например, в воздушном транспорте) дает, по сути
дела, неограниченные возможности. И поскольку практически все, что
угодно, можно представить как «техническую необходимость»,
недоступную пониманию неспециалиста, или обосновать гуманистическими
соображениями, ссылаясь на ущемленные интересы какой-нибудь социальной
группы (что может быть даже недалеко от истины), то контролировать
эту власть оказывается невозможно. Проекты объединения мировых
ресурсов под эгидой специального органа, вызывающие ныне одобрение
в самых неожиданных кругах, то есть создания системы всемирных
монополий, признаваемых правительствами всех стран, но ни одному из
них не подчиненных, грозят привести к созданию зловещей мафии,
занимающейся крупномасштабным рэкетом,— даже если люди,
непосредственно ее возглавляющие, будут честно блюсти вверенные им
общественные интересы.
Если серьезно задуматься над последствиями невинных на первый
взгляд предложений, которые многие считают основой будущего
экономического уклада, таких, как сознательный контроль за распределением
сырья, можно увидеть, какие нас подстерегают сегодня политические и
нравственные опасности. Тот, кто контролирует поставки основных
видов сырья,— бензина, леса, каучука, олова и т. д.,— будет фактически
распоряжаться судьбой целых отраслей промышленности и целых стран.
Регулируя размеры сырьевых поставок и цены, он будет решать, сможет
ли та или иная страна открыть какое-нибудь производство. «Защищая»
интересы определенной группы, которую он считает вверенной его
попечению, поддерживая на определенном уровне ее благосостояние, он будет
в то же время лишать многих людей, находящихся в гораздо худшем
положении, единственного, может быть, шанса его поправить. И если таким
образом будут поставлены под контроль все основные виды сырья, не
будет ни одного производства, которое смогут открыть жители любой
страны, не заручившись согласием контролера. Никакой план
промышленного переустройства не будет гарантирован от неожиданного «вето». То же
самое относится и к международным соглашениям о рынках сбыта и в
еще большей степени — к контролю капиталовложений и разработке
природных ресурсов.
Удивительно наблюдать, как люди, изображающие из себя
закоренелых прагматиков, не упускающие ни одной возможности посмеяться над
«утопизмом» тех, кто верит в перспективы политического упорядочения
143
международных отношений, в то же самое время усматривают
практический смысл в гораздо более тесных и безответственных отношениях
между нациями, на которых основана идея международного планирования.
И они убеждены, что если наделить международное правительство
невиданной доселе властью, не сдерживаемой, как мы видели, даже
принципами правозаконности, то власть эта будет использоваться таким
альтруистическим и справедливым образом, что все ей с готовностью
подчинятся. Между тем очевидно, что страны, может быть, и соблюдали бы
формальные правила в отношениях друг с другом, если бы сумели об
этих правилах договориться, но они никогда не станут подчиняться
решениям международной планирующей инстанции. Иначе говоря, они
готовы играть по правилам, но ни за что не согласятся на такую систему,
при которой значимость их потребностей будет определяться
большинством голосов. Если даже под гипнозом этих иллюзорных идей народы
вначале и согласятся наделить такой властью международное
правительство, то очень скоро они обнаружат, что делегировали этому органу вовсе
не разработку технических вопросов, а власть решать свою судьбу.
Впрочем, наши «реалисты» не так уж непрактичны и поддерживают
эти идеи не без задней мысли: великие державы, будучи несогласны
подчиняться никакой высшей власти, могут тем не менее использовать ее,
чтобы навязывать свою волю малым нациям в какой-нибудь области, где
они надеются завоевать гегемонию. И в этом уже чувствуется
настоящий реализм, ибо за всем камуфляжем «международного» планирования
скрывается на самом деле ситуация, которая вообще является
единственно возможной: все «международное» планирование будет осуществлять
одна держава. Этот обман, однако, не меняет того факта, что зависимость
небольших стран от внешнего давления будет неизмеримо большей, чем
если бы они сохраняли в какой-то форме свой политический суверенитет.
Примечательно, что самые горячие сторонники централизованного
экономического «нового порядка» в Европе демонстрируют, как и их
предшественники — немцы, а в Англии — фабианцы, полное пренебрежение
к правам личности и к правам малых народов. Взгляды профессора
Карра, который в этой области является даже более последовательным
тоталитаристом, чем во внешнеполитических вопросах, вынудили одного из
его коллег обратиться к нему с вопросом: «Если нацистский подход к
малым суверенным государствам действительно станет общепринятым,
за что же тогда мы воюем?» * Те, кто отметил, какую тревогу проявили
наши союзники, не принадлежащие к числу сверхдержав, в связи с
недавними высказываниями по этому поводу, опубликованными в таких
различных газетах, как «Тайме» и «Нью Стэйтсмэн» **, знают, что уже
сейчас такой подход вызывает возмущение у наших ближайших друзей.
Как же легко будет растерять запас доброй воли, накопленный во время
войны, если мы будем ему следовать!
Те, кто с такой легкостью готов пренебрегать правами малых стран,
правы, быть может, только в одном: мы не можем рассчитывать на
длительный мир после окончания этой войны, если государства,— неважно,
большие или малые,— вновь обретут полный экономический суверенитет.
Это не означает, что должно быть создано новое сверхгосуддрство,
наделенное правами, которые мы еще не научились как следует использовать
на национальном уровне, или что каким-то международным властям надо
* Профессор Мэынинг в рецензии на книгу профессора Карра «Условия мира» —
«International Affairs Review Supplement».— June, 1942.
** Как недавно отметил один из еженедельников, «мы уже не удивляемся, когда
со страниц «Нью Стэйтсмэн» или «Тайме» вдруг повеет идеями профессора Карра».
(«Four Winds» in Time and Tide, February 20, 1943).
144
предоставить возможность указывать отдельным нациям, как им
использовать свои ресурсы. Речь идет только о том, что в послевоенном мире
нужна сила, которая предотвращала бы действия отдельных государств,
приносящие прямой ущерб их соседям,— какая-то система правил,
определяющих, что может делать государство, и орган, контролирующий
исполнение этих правил. Власть, которой, будет обладать этот орган, станет
главным образом запретительной. Прежде всего он должен будет
говорить «нет» любым проявлениям рестрикционной политики.
Неверно полагать, как это теперь делают многие, что нам нужна
международная экономическая власть при сохранении политического
суверенитета отдельных государств. Дело обстоит как раз противоположным
образом. Что нам действительно нужно и чего мы можем надеяться
достичь, это не экономическая власть в руках какого-то безответственного
международного органа, а, наоборот, высшая политическая власть,
способная контролировать экономические интересы, а в случае конфликта
между ними — выступать в роли третейского судьи, ибо сама она в
экономической игре никак не будет участвовать. Нам нужен
международный политический орган, который, не имея возможности указывать
народам, что им делать, мог бы ограничивать те их действия, которые
наносят вред другим.
Власть этого международного органа будет по типу совсем не такой,
какую взяли на себя в последнее время некоторые государства. Это будет
минимум власти, необходимый, чтобы сохранять мирные
взаимоотношения, характерный для ультралиберального государства типа «laissez fai-
ге»! И даже в большей степени, чем на национальном уровне, должны
здесь действовать принципы правозаконности. Нужда в таком междуна*
родном органе становится тем более ощутимой, чем больше отдельные
государства углубляются в наше время в экономическое
администрирование и становятся скорее действующими лицами на экономической сцене,
чем наблюдателями, что значительно повышает вероятность
межгосударственных конфликтов на экономической почве.
Формой власти, предполагающей передачу международному
правительству строго определенных полномочий, в то время как во всех
остальных отношениях отдельные государства продолжают нести
ответственность за свои внутренние дела, является, разумеется, федерация.
В разгар пропаганды «Федеративного Союза» можно было услышать
много неверных, а часто просто нелепых заявлений по поводу создания
всемирной конфедерации. Но все это не должно заслонять того факта, что
федеративный принцип является единственной формой объединения
различных народов, способной упорядочить взаимоотношения между
странами, никак не ограничивая их законного стремления к независимости *.
Федерализм — это, конечно, не что иное, как приложение к
международным отношениям принципов демократии — единственного способа
осуществлять мирным путем перемены, изобретенного пока человечеством.
Но федерация — это демократия с очень ограниченной властью. Если не
принимать в расчет гораздо менее практичную форму слияния
нескольких стран в единое централизованное государство (необходимость в
котором вовсе не очевидна), то федерация предоставляет единственную
возможность для осуществления идеи международного права. Не будем
себя обманывать, утверждая, что международное право существовало и
в прошлом, ибо, употребляя этот термин по отношению к правилам
поведения на международной арене, мы выдавали желаемое за действи-
* К сожалению, поток федералистских публикаций, обрушившихся на нас в
последние годы, был так велик, что от нашего внимания ускользнули несколько
важных и глубоких работ. Одну из них по крайней мере надо будет внимательно
изучить, когда придет время формировать в Европе новые политические структуры. Это
небольшая книжка д-ра Айвора Дженнингса, содержащая проект федерации
Западной Европы: W. Ivor Jennings. A Federation for Western Europe, 1940.
6 Вопросы философии J«fi 12. ■ 145
тельное. Дело в том, что если мы хотим воспрепятствовать убийствам,
недостаточно просто объявить их нежелательными, надо еще дать
властям возможность предотвращать убийства. Точно так же не может быть
никакого международного права без реальной власти, способной
претворять его в жизнь. Препятствием к созданию такой власти служило до
недавнего времени представление, ^то она должна включать в себя все
разнообразные аспекты власти, присутствующие в современном государстве.
Но если власть разделяется по федеративному принципу, это становится
необязательным.
Такое разделение полномочий будет неизбежно ограничивать власть
и целого, и входящих в него отдельных государств. В результате
многие виды планирования, ныне весьма популярные, окажутся просто
невозможными *, Но это не будет служить препятствием для всякого
планирования вообще. Одним иэ главных преимуществ федерации является
как раз то, что она закрывает дорогу опасным видам планирования и
открывает — полезным. Например, она предотвращает или может быть
устроена так^ чтобы предотвращать рестрикционные меры. И она
ограничивает международное планирование областью, в которой может быть
достигнуто полное согласие, и не только между непосредственно
заинтересованными сторонами, но между всеми, кого это может затрагивать.
Полезные формы планирования применяются в условиях федерации
локально, осуществляются теми, кто имеет соответствующую компетенцию,
и не сопровождаются рестрикционньши мерами. Можно даже надеяться,
что внутри федерации, где уже не будет причин, заставлявших в
прошлом максимально укреплять отдельные государства, начнется процесс,
обратный централизации, и правительства станут передавать часть своих
полномочий местным властям.
Стоит напомнить, что идея воцарения мира во всем мире в
результате соединения отдельных государств в большие федеративные группы,
а в конечном счете, возможно, и в единую федерацию, совсем не нова.
Это был идеал, привлекавший практически всех либеральных
мыслителей XIX столетия. Начиная с Теннисона,— у которого видение
«воздушной битвы» сменяется видением единения народов, возникающего после
их последнего сражения,—и вплоть до конца века достижение
федерации оставалось неугасимой мечтой, надеждой на то, что это будет
следующий великий шаг в развитии нашей цивилизации. Либералы XIX в.,
может быть, и не знали в точности, насколько существенным
дополнением к их принципам была идея конфедерации государств **. Но мало
кто из них не отметил это как конечную цель ***. И только с приходом
XX века* ознаменовавшего торжество «реальной политики», идею
федерации стали считать утопической и неосуществимой.
Восстанавливая нашу цивилизацию* мы должны избежать
гигантомании. Не случайно в жизни малых народов больше и достоинства, и
красоты, а среди больших наций очевидно более счастливыми являются те,
которым не знакома мертвящая атмосфера централизации. И мы не
сможем сохранять и развивать демократию, если власть принимать важней-
* См. об этом мою статью: Economic Conditions of Inter-state Federation,- «New
Commonwealth Quarterly». Vol. V (September, 1939).
** См. об этом книгу профессора Роббинса, на которую я уже ссылался,- с 240-
257.
*** В самом конце прошлого века Генри Сиджвик считал «не выходящим за
пределы трезвых прогнозов предположение, что в западноевропейских "странах может
возникнуть какая-то форма интеграции; и если это произойдет, то весьма вероятно,
что они последуют примеру Америки и новое политическое единство будет
сформировано как федерация» (The Development of European Polity [опубликовано
посмертно в 1903 г.], р. 439). F
146
шие решения будет сосредоточена в организаций, слишком масштабной,
чтобы ее мог охватить своим разумом обычный человек* Никогда
демократия не действовала успешно, если не было достаточно развито звено
местного самоуправления, которое является школой политической
деятельности как для народа, так и для его будущих лидеров. Только на
этом уровне можно усвоить, что такое ответственность^ и научиться
принимать ответственные решения в вопросах, понятных каждому. Только
здесь, где человек руководствуется в своих действиях не теоретическими
знаниями о нуждах людей, а умением понимать реальные нужды своего
соседа, он может по-настоящему войти в общественную жизнь* Когда же
масштабы политической деятельности становятся настолько широкими,
что знаниями, необходимыми для ее осуществления, располагает только
бюрократия, творческий импульс отдельного человека неизбежно
ослабевает. И в этом смысле, я думаю, может оказаться бесценным опыт малых
стран, таких, как Голландия или Швейцария» Даже такой счастливой
стране, как Великобритания, есть, пожалуй, что из него почерпнуть* И,
конечно, мы бы все выиграли, если бы нам удалось создать мир, в
котором себя хорошо чувствовали малые страны.
Однако небольшие государства смогут сохранить независимость —
внутреннюю и внешнюю — только при условии, что будет
по-настоящему действовать система международного права, гарантирующая,
во-первых, что соответствующие законы будут соблюдаться, а во-вторых, что
органы, следящие за их соблюдением, не будут использовать свою власть
в других целях. Поэтому с точки зрения эффективности претворения в
жизнь норм международного права органы эти должны обладать сильной
властью, но в то же время они должны быть так устроены, чтобы была
исключена всякая возможность возниЙновения их тирании,— как на
международном, так и на национальном уровне. Мы никогда не сможем
предотвратить злоупотребление властью, если не будем готовы ограничить
эту власть, пусть даже затрудняя этим решение стоящих перед ней задач.
Величайшая возможность, которая представится нам в конце этой войны,
заключается в том, что победившие державы, первыми подчинившись
системе правил, которую они сами же установят, будут вместе с тем
иметь моральное право обязать другие страны также подчиниться этим
правилам.
Одной из лучших гарантий мира станет такой международный орган,
который будет ограничивать власть государства над личностью.
Международные принципы правозаконности должны стать средством как
против тирании государства над индивидом, так и против тирании нового
супергоеударства над национальными сообществами. Нашей целью
является не могущественное суиергосударство и не формальная ассоциация
«свободных наций», но — сообщество наций, состоящих из свободных
людей. Мы долго сокрушались, что стало невозможно осмысленно
действовать на международной арене, потому что другие все время нарушают
правила игры. Приближающаяся развязка войны даст нам возможность
продемонстрировать, что мы были искренни и что теперь мы готовы при^
нять те же ограничения нашей свободы действий, которые считаем
обязательными для всех.
Разумно используя федеративный принцип, мы сможем решить
многие сложнейшие проблемы, стоящие в современном мире. Но мы никогда
не добьемся успеха, если будем стремиться получить то, чего этот
принцип не может дать. Возможно, возникнет тенденция распространять
деятельность любой международной организации на весь мир. И, наверное^
возникнет нужда в какой-то всеобъемлющей организации, которая
смогла бы заменить Лигу Наций. Величайшая опасность, на мой взгляд,
состоит в том, что, возлагая на эту организацию все задачи, которые
необходимо решать в области международных отношений, мы сделаем ее
неэффективной. Я всегда полагал, что именно в этом была причина слабо-
147
стй Лиги Наций: безуспешные попытки сделать ее всемирной и
всеобъемлющей сделали ее недееспособной, а будь она меньше и в то же время
сильнее, она смогла бы стать надежным инструментом сохранения мира.
Мне кажется, что эти соображения до сих пор остаются в силе. И
уровень сотрудничества, которого можно достичь, скажем, между
Британской империей, странами Западной Европы и, вероятно, Соединенными
Штатами, недостижим в масштабах всего мира. Сравнительно узкая
ассоциация, построенная на принципах федерации, сможет на первых порах
охватить лишь часть Западной Европы, с тем чтобы потом постепенно
расширяться.
С другой стороны, конечно, создание такой региональной федерации
не снижает вероятности столкновений между различными блоками, и, с
этой точки зрения, формируя более широкую, но и более формальную
ассоциацию, мы уменьшим риск возникновения войны. Я думаю, что
нужда в такой организации не является препятствием для возникновения
более тесных союзов, включающих страны, близкие по своей культуре,
мировоззрению и жизненным стандартам. Стремясь всеми силами
предотвратить будущие войны, мы не должны испытывать иллюзии, что
можно однажды, раз и навсегда создать организацию, которая сделает
невозможной войну в любой части евета. Мы не только не добьемся при этом
успеха, но и упустим шанс в решении более скромных задач. Как и во
всякой борьбе со злом, меры, принимаемые против войны, могут
оказаться хуже самой войны. Максимум, на что мы можем разумно
рассчитывать, это снизить риск возможных конфликтов, ведущих к войне.
XVI
Заключение
Целью этой книги не было изложение детальной программы будущего
развития. И если, рассматривая международные проблемы, мы несколько
отклонились от поставленной первоначально чисто критической задачи,
то только потому, что в этой области мы вскоре столкнемся с
необходимостью создания принципиально новых структур, в рамках которых
будет происходить дальнейшее развитие, возможно, очень длительное.
И здесь многое зависит от того, как мы используем предоставленную
нам возможность. Но, что бы мы ни сделали, это будет только начало
трудного процесса, в котором, как все мы надеемся, постепенно
выкристаллизуется новый мир, совсем не похожий на тот, в котором мы жили
последние двадцать пять лет.
Я сомневаюсь, что на данном этапе может пригодиться подробный
проект внутреннего устройства нашего общества и что вообще
кто-нибудь способен сегодня такой проект предложить. Сейчас важно
договориться о некоторых принципах и освободиться от заблуждений,
направлявших наши действия в недавнем прошлом. И как бы это ни было
неприятно, мы должны признать, что накануне этой войны мы вновь
оказались в положении, когда лучше расчистить путь от препятствий,
которые нагромоздила людская глупость, и высвободить творческую
энергию индивидов, чем продолжать совершенствовать машину, которая ими
«руководит» и «управляет». Иначе говоря, надо создавать благоприятные
условия для прогресса вместо того, чтобы «планировать прогресс».
Но прежде всего нам надо освободиться от иллюзий, заставляющих нас
верить, что все, совершенное нами в недавнем прошлом, было либо
разумным, либо неизбежным. Мы не поумнеем до тех пор, пока не
признаем, что наделали много глупостей.
148
Если нам предстоит строить новый мир, мы должны найти в себе
смелость начать все сначала. Чтобы дальше прыгнуть, надо отойти назад
для разбега. У тех, кто верит в неизбежные тенденции и проповедует
«новый порядок» и идеалы последних сорока лет, кто не находит ничего
лучшего, чем пытаться повторить то, что сделал Гитлер, у тех не может
быть этой смелости. Кто громче всех призывает «новый порядок»,
находится целиком под влиянием идей, породивших и эту войну, и страдания
нашего времени. Правы юноши, отвергающие сегодня идеи старших.
И они заблуждаются, если верят, что это все еще либеральные идеи
XIX в., которых молодое поколение просто совсем не знает. И хотя мы
не стремимся и не можем вернуться к реальностям XIX в., у нас есть
возможность осуществить его высокие идеалы. Мы не имеем права
чувствовать превосходства над напшми дедами, потому что это мы, в XX
столетии, а не они— в XIX, перепутали все на свете. Но если они еще как
следует не знали, как создать мир, к которому были устремлены их
мысли, то мы благодаря нашему опыту уже лучше подготовлены к этой
задаче. Потерпев неудачу при первой попытке создать мир свободных
людей, мы должны попробовать еще раз. Ибо принцип сегодня тот же,
что и в XIX в., и единственная прогрессивная политика — это
по-прежнему политика, направленная на достижение свободы личности.
Перевод М. Б. Гнедовского
ФИЛОСОФИЯ ЗА РУБЕЖОМ
От редакции. Петер Кампиц (р. 1942) философское образование получил в
Венском и Парижском университетах. В настоящее время он — профессор Венского
университета, автор многих работ по истории австрийской философии. Данный
обзор написан им специально для нашего журнала.
Австрийская философия
П. КАМПИЦ
Разговор о самостоятельной австрийской философии во многих отношениях
нуждается в некотором оправдании. Оно касается в первую очередь географической,
исторической, как, впрочем, и геополитической привязки понятия «Австрия», но
также и определения того, что при этом фигурирует и понимается в качестве
«философии».
Надо сказать, что рассматривать в единой перспективе и то и другое не так-то
просто, причем именно в нашем контексте. Ибо если исходить из
австро-венгерской монархии с ее многовековой историей, то — помимо непременного упоминания
немецкоязычных философов, доминировавших здесь благодаря политическим
обстоятельствам,— полагается обращать внимание в первую очередь на тот факт, что
преимущественно в XIX столетии, веке формирования национальных государств,
в них ширилось стремление обрести собственную философию (как это было,
например, в Богемии-Чехии и Венгрии). В немецкоязычных регионах монархии и в
кругах учащего и учащегося университетского люда, говорящего на немецком языке,
подобная проблематика просто не могла возникнуть по причине существования
немецкого национализма, даже если учесть, что в Австрии никогда не было ничего
похожего на «Речи к немецкой нации» Фихте (1808), где он говорит о том, «что
истинная, завершенная в себе самой и проникающая мимо оболочки явления
прямо в его ядро философия ... может быть по сути дела только германской, иными
словами самобытной; наоборот, быть настоящим немцем — значит обладать
способностью философствовать, и никак не иначе» *.
Многонациональное государство Австрии, позднейшая двуединая монархия
Австро-Венгрия, в которой невозможно было провести четкие границы ни в
национальном, ни в географическом отношениях и которая — несмотря на преобладание
немецкого языка (в австрийском его варианте) и благодаря стихии многоязычия,-
демонстрировала пестроту взаимопроникновений и взаимовлияний на пересечении
со славянским и романским мирами, выработала со временем такую культурно-
историческую непрерывность, что ее хватило и в XX веке на Австрию обеих
республик 2. Если же попутаться выделить самостоятельную австрийскую
идентичность, то следует искать ее не в национальной, не в политической областях,
а только в том, что - говоря о философии - обычно именуют «сферой духа». При
этом, однако, вовсе не подразумеваются многочисленные попытки формирования
150
собственно австрийского сознания, связанные прежде всего с именами таких поэтов
и писателей, как Франц Грильпарцер и Рихард Шаукаль, Франц Верфель и
Антон Вильдганс, и, в свою очередь, осмеянные Фердинандом Кюрнбергером,
Петером Хандке или Томасом Бернхардом3.
Характерный для австрийского менталитета усложненный подход к
действительности, своеобразно дифференцированное чувство реальности, благодаря которому в
Австрии главным образом в XIX веке научились элиминировать конфликты (в том
числе и политические), просто не замечая их,— всему этому можно найти сколь
угодно много примеров, причем не только из области философии. Присущая
австрийцу странная двойственность в восприятии действительности, колебание между
видимостью и реальностью, с наибольшей остротой проявившееся в духовной
атмосфере венского «fin de siecle»4, доверчивость к бытию в соседстве с
недоверчивостью к объективной действительности,- все это породило климат, не только
благотворный для формирования множества (в том числе и взаимоисключающих)
философских позиций, но и позволяющий зримой, осязаемой реальности таять в
призрачной игре возможностей. Обостренное восприятие возможностей, о котором,
к примеру, пишет Музиль, нюансировано в Австрии гораздо в большей мере, чем
чувство реальности. На это наслаивается возникшая в Австрии во времена
Контрреформации привычка цепляться за схемы католического мышления как за некую
базовую структуру, а также встречающееся и поныне своего рода барочное
мировосприятие. Призрачность земной действительности переплетается с ее грубо
вещественной данностью настолько, что имманентность незаметно перетекает в
трансцендентность и обратно, давая возможность выбрать по вкусу либо ту, либо
другую, так что, по слову Германа Бара, поэта, творившего на рубеже веков, сущность
«австрийскости» красноречиво включает в себя возможность «наслаждаться в
воздержании, роскошествовать в аскетизме и благочестиво творить зло».
Известно, что попытка выделить национальные особенности, да еще в таком
многоплановом явлении, как философия^- предприятие весьма рискованное; тем не
менее можно утверждать, что своеобразие философского процесса в Австрии -
главным образом в сопоставлении с прочими странами немецкоязычного ареала -
частично коренится в условиях бытия многонациональной державы, в которой,
отношение к чужому, инакому изначально складывалось по-другому, не так,, как в
странах, где в ходе XIX столетия удалось добиться мононациональной
государственности.
Пронизывающая эпоху барокко универсалистская тенденция, воплотившаяся,
например, в идею предустановленной гармонии у Лейбница и ориентированная, на
стройный порядок бытия* подразумевает предуготованное согласие человека, Бога
и природы — своего рода единство противоположностей; эта тенденция вплоть до
XX века остается доминантой австрийского мышления. Ничего не могло поделать
с ней даже «йозефинство» — специфическая форма австрийского просветительства.
«Йозефинство», австрийский вариант просветительской реформы «сверху», хотя
и выступает в защиту определенной формы рациональности, но связывает это с
самого начала с социал-реформистскими импульсами, которые, надо сказать, не
находили поддержки «снизу», а навязывались самим кайзером 5. Основной
просветительский мотив в сочетании со сциентистским миропониманием и недоверием ко
всякого рода идеологиям - вот еще, один источник австрийской философии. В
неразряженном напряжении между барочным католицизмом и йозефинским
национализмом можно видеть ключ к попиманию австрийского духа, это напряжение
помогает понять и склонность к универсализму, к целостным мировоззрениям, и
отрицание всякой так называемой мировоззренческой философии, в том виде, в каком
она расцвела в промежутке между мировыми войнами в среде философов Венского
кружка.
Так что распространенный в последние годы тезис, что для австрийской
философии столь же характерна прагматическая, реалистическая, лингвистическая и
научная ориентации, как и ее противоположность немецкой трансцендентальной
философии, иными словами, идеализму, следует по меньшей мере дополнить в том
смысле, что традиция универсалистского, целостного мышления также
наличествует, хотя она и подходит к действительности иначе, чем немецкий идеализм.
151
Роберт Музиль подвел иронический итог этой традиции, следующим образом
резюмировав сосуществование универсалистских течений и аналитического, логико-
лингвистического процесса: «Один склад ума удовлетворяется тем, что стремится к
точности и придерживается фактов; другой не удовлетворяется этим, а охватывает
всегда все и выводит свое знание из так называемых вечных и великих истин.
Один выигрывает при этом в успехе, а другой в широте и достоинстве. Пессимист
мог бы, разумеется, сказать, что результаты одного ничего не стоят, а результаты
другого не в ладу с истиной» 6.
Далее, если задуматься над тем фактом, что в Венском университете,
основанном в 1365 г., господствовал в свое время номинализм, то стоит припомнить, что
римский император Марк Аврелий, один из крупнейших репрезентантов позднеан-
тичной стоической философии, сочинял свои максимы в основном на австрийской
земле - в городе Карнунте7. Какая-то доля идейного наследия стоической школы,
чей девиз «sustine et abstine»8 уж очень напоминает австрийские житейские
правила, без сомнений, вошла в историю австрийского философствования, хотя
причислять Марка Аврелия к австрийской философии язык как-то не поворачивается.
А то, что в Венском университете в эпоху зрелого и позднего Средневековья
прижился номинализм, связано, конечно, с личностью переехавшего в Вену Генриха
фон Лангенштайна, хотя в том, что номинализм здесь привился, можно видеть и
симптом скептического отношения к платонизму, да и к схоластическому реализму,
отношения, укоренившегося на австрийской почве. Ведь настаивать на нереальности,
мнимости всех так называемых универсалий означает вставать на сторону
единичного, чувственно познаваемой действительности, на сторону скептицизма. Здесь
можно увидеть как бы истоки антиспекулятивного, лингвистического и
эмпирического начала в австрийской философии.
То же относится и к гуманисту Конраду Цельтису, которого императору
Максимилиану удалось завлечь в Вену лишь после долгих уговоров и который внес
не столько философскую, сколько поэтическую струю в атмосферу Венского
университета. Цельтис стремился сопрячь латинскую и германскую традиции и носился
с широкомасштабными планами устроения своего рода «Дунайского общества»,
«Sodalitas Danubiana»9 как прообраза Академии в дунайском регионе,- все это
позволяет считать его предтечей философии Средней Европы.
Нечто похожее можно сказать и о деятельности Лейбница, который никогда
в Австрии не преподавал, но постоянно останавливался при венском дворе и
поддерживал теплые отношения с принцем Евгением Савойским. Последнему он,
кстати, посвятил свой трактат «Начала природы и благодати, основанные на разуме».
В Вене, между прочим, родилась и лейбницева «Монадология», в которой
излагалась идея гармонического сосуществования монады и целого, причем монада, в свою
очередь, является представительницей целого.
Эта глубоко барочная мыслительная конструкция благодаря популяризатору
Лейбница - Христиану Вольфу - продержалась в Австрии вплоть до XIX столетия.
Вольфианский рационализм и его позднейшая модификация в работах Иоганна
Фридриха Гербарта стали оплотом противников критической трансцендентальной
философии Канта, которая хотя и была довольно рано усвоена йозефинцами,
деятелями австрийского Просвещения, но вскоре - в связи с событиями Французской
революции — попала в немилость и навлекла на себя гонения. А в Венгрии кантов-
ская философия приобрела множество сторонников. Судьбе же было угодно, чтобы
одним из первых горячих поклонников Канта, интерпретаторов его философии стал
австриец: бывший иезуит Карл Леонгард Рейнольд. Он с приключениями бежал из
Австрии и на основании своих «Писем о кантовской философии» получил
профессуру в Йенском университете.
Очевидно, что наряду с официальным запретом кантовской философии
вытеснению трансцендентальной философии, важнейшим представителем которой был
Бернард Больцано (1781—1848), способствовала и католическая барочная традиция,
уже пустившая в Австрии глубокие корни. Больцано родился в Праге, отец его
был итальянец, мать - чешка. Его можно считать первым самостоятельным
австрийским философом. Образование он получил в своем родном городе, где изучал
математику, физику и философию, и хотя он был воспитан в лоне лейбницианско-
152
вольфианской школы, ему удалось разработать вполне независимое учение,
направленное против субъективизма и психологизма и изложенное в его «Наукоуче-
нии», где развивается концепция логических представлений, предложений и истин
«в себе». Учение его оказало существенное влияние на логические и семантические
теории XX века. Идеи Больцано прослеживаются как в борьбе Гуссерля с
психологизмом в логике, так и в логико-семантических штудиях Бертрана Рассела.
Лежащее в основе построений Больцано. твердое убеждение в независимом от
сознания бытии вневременных и внепространственных истин, существующих вне
связи с тем, мыслятся или высказываются они кем-либо или нет, несомненно
несет на себе печать аристотелевско-схоластической философии, где и берет начало
духовная родословная Больцано.
В ходе мероприятий, связанных с Реставрацией, Больцано, ставший к тому
времени священником, получил в 1805 г. в Пражском университете новосозданную
кафедру истории религии. Кафедра эта, надо сказать, мыслилась как противовес
тенденциям австрийского Просвещения. Так получилось, что уже в начале своей
философской деятельности Больцано оказался в струе Просвещения и йозефинст-
ва, о чем недвусмысленно свидетельствуют его религиозно-философские
высказывания и этические взгляды. Его воскресные обязательные проповеди в первую очередь
затрагивают проблему связи религии и нравственности, причем здесь в подходе
Больцано к религии явно чувствуется влияние утилитаризма и секуляризма.
Понятно, что эти рассуждения навлекли на него неудовольствие со стороны
светского и духовного начальств. В 1819 г. он был отстранен от профессуры, а его тяжба
с церковными властями в Риме длилась вплоть до 1825 г.
Больцано не только был первопроходцем в области логики и наукоучения,
помимо этого круг его интересов включал еще и проблемы этики и философии
религии. Если просветительский пафос борьбы с невежеством и заблуждениями
чувствуется уже в его. теоретических работах, то в «Руководстве к религиозным
наукам» он объявляет религию чуть ли не функцией нравственности. Счастье и
добродетель - вот лейтмотивы понимания религии у Больцано, саму же религию он
определил в назидательных речах 1813 г. «как воплощение истин, влекущих нас к
добродетели и счастью».
В своем учении о религии он фактически преследовал утилитаристскую цель
умножения добронравия и благоденствия. При этом у него временами
прослеживаются почти что демократические тенденции, например, когда он пропагандирует
умеренную идею равенства всех граждан в обществе или считает обязательным
противиться произволу неправедных тиранов-правителей.
Однако стремление к общественному благу как верховная цель общества носи?
и у Больцано некоторые черты, навевающие мысли о тоталитаризме: гражданин
рассматривается как несовершеннолетнее существо, нуждающееся в постоянном
воспитании и руководстве. Здесь просвечивает как йозефинство, так и плоская
просветительская философия, ориентирующиеся на рационалистический идеал
человечества.
Заслуживает внимания и позиция Больцано в разгоревшейся тогда в Богемии
межнациональной розни, которую он - пражанин - принял близко к сердцу. Он
набрасывает своего рода «этнопоэтику», исходящую из признания относительности
роли языка для отдельных народов, в которой в качестве требования морального
закона выдвигает требование уважения к другому народу и призывает к мирному
сосуществованию.
Его понимание независящих от субъекта истин в себе приводит к тому, что и
моральный закон сохраняет силу независимо от всех желаний и требований, а не
является — как у Канта — постулатом практического разума. Несмотря на
«богемский реформ-католицизм» и" школу гербартианцев, эту официальную катедер-фило-
софию после событий 1848 года, представление Больцано об истинных
предложениях в себе пусть и не явно, но ощутимо сохранило свою действенность.
Сходная судьба ожидала и другого философа-священника из Австрии -
Франца Брентано (1838-1917), также не поладившего с церковной администрацией.
И у него философское происхождение связано с традицией аристотелевско-схола-
стического философствования. Выходец из рейнской области, Брентано 10 поначалу
153
преподавал в Вюрцбурге, а затем - после утверждения догмата о папской
непогрешимости и - сложил сан священника и, наконец, вышел из церкви, не
расставшись, однако, с христианской верой. В 1874 г., в либеральную эпоху в Австрии,
Брентано перебирается в Вену, получив приглашение из университета, и оказывает
колоссальное влияние на тамошний философский климат. Среди его слушателей
были Зигмунд Фрейд, Эдмунд Гуссерль - родоначальник феноменологии, а также
будущий президент Чехословацкой республики Томаш Масарик. Ученики Брентано
пользовались авторитетом в университетах по всей дунайской монархии:
Антон Мартин в Черновицах, а затем — вместе с Карлом Штумпфом - в Праге,
Алексиус фон Мейнонг, выдвинувший теорию предмета,- в Граце, где вокруг него
сплотилась группа учеников, таких, как Алоис Хефлер, Христиан фон Эренфельс,
Антон Малли. Наконец, логик ж семантик Казимир Твардовский основал в Лембер-
ге (Львов) знаменитую логическую школу, представителями которой были
Казимир Айдукевич, Ян Мукашевич и Тадеуш Котарбинский.
Брентано оказал влияние на такие различные философские направления, как
феноменология,, теория гештальтов, логический анализ, что связано не только с
многоплановостью его философского наследия, но и с характером его мышления,
претерпевавшим частые метаморфозы. В 1880 г. в связи с женитьбой Брентано был
вынужден оставить профессорскую должность 12, но продолжал преподавать в
Венском университете в качестве лриват-дрцента, пользуясь огромной популярностью у
студентов.
Несмотря на приверженность к традиции Аристотеля и схоластики, Брентано
всегда етоял по сути дела на реалистической философской позиции. В своем труде
«Психология с эмпирической точки зрения» (1874) он не только высказывал
убеждение, что истинным методом в философии может быть только метод естественных
наук, но и ввел понятие интенциональности, которое - несмотря на свои
схоластические корни,— стало благодаря феноменологии Гуссерля ключевым понятием
современного мышления. Признавая роль интуиции (Anschammgen), т. е.
психологического опыта, в нашей понятийной системе, Брентано указывает еще и на интен-
диональность нашего сознания, направленность его на другое; ни один психический
акт - суждение, чувство или представление - невозможен без наличия
определенного коррелята, причем безразлично — имеется ли во внеположной (внепсихиче-
ской) действительности соответствие этому корреляту или нет. Лишь предметы
«внутреннего восприятия» могут рассматриваться в качестве достоверных, само же
содержание мышления (das Gedachte) не обязательно должно иметь
продолжительное существование. Впоследствии Брентано пришел к так называемому «реиз-
му», объявил все реально не существующее фикцией и в традициях
лингвистического номинализма отказал в существовании всеобщим сущностям. В конце концов
он пришел к выводу, что всем нашим представлениям соответствуют некие реалии
и что под сущим моншо разуметь в пределе только вещь, будь то телесную или
духовную.
В своей этике Брентано утверждал непосредственно очевидную природу добра
и обосновывал абсолютный характер этического императива верой в личного Бога-
Творца, как видим, снова вразрез с Кантом.
Алексиус фон Мейнонг (1853-1920) на базе брентановского подхода к сознанию
разработал «теорию предмета», также подразумевающую — вплоть до парадокса —
бытийный характер предметов: «Существуют предметы, для которых справедливо
суждение, что такие предметы не существуют».
Закончив курс у Брентано, Мейнонг начал преподавательскую деятельность в
Грацском университете, где он, кстати, первым среди австрийцев, организовал
Институт эмпирической психологии. Мейнонг строго различал представление, акт
представления и предмет представления. Его тонкие построения ориентированы на
«чистый объект», чье фактическое существование вычленяется, что позволяет
проводить своего рода априорное изучение чистого конкретного бытия (Sosein) предметов.
Обнаружение различных модусов бытия предметов дает возможность разрешать
различные логические парадоксы, специально выявляя как свойства, так и
несуществование нейтрально представленных предметов.
На этом пути Мейнонгу удалось классифицировать не только модусы бытия
154
предметов, но и подчиненные им классы переживания. По аналогии с
представлением, мышлением, чувствованием, желанием Мейнонг различает объекты,
объективное, ценное (Dignitative) и желаемое (Desiderative). В аксиологии Мейнонг
также развивает концепцию Брентано: с одной стороны, ценность утверждается
связью представления и ценного, а это означает, что она непременно присуща
предмету, а с другой - ценности объективно заданы в своего рода «эмоциональной
презентации». По аналогии с различением наличествования и существования для
предмета об этических ценностях можно также сказать, что они пусть и не
существуют, но все же вполне наличествуют.
Другой ученик Брентано прославился как отец гештальт-психологии; речь идет
о Христиане фон Эренфелъсе (1859-1932). Его статья «О гештальт-качествах»
(1890) заложила фундамент для тех психологических школ, которые, протестуя
против атомистической, механистической концепции души, настаивали на
целостном, идущем от формы, от структуры (gestalthaft) подходе к ней. Эренфельс -
и он не покидал почвы учения Брентано об интенциональности психики —
утверждал самостоятельность этих структур, гештальтов, которые — подобно мелодии —
интенционально схватываются сознанием как транспонируемая, переносимая на
другой уровень форма на базе воспринятых и затем расчленяемых ощущений.
Фактически имеющиеся данные органов чувств образуют как бы фундамент
формирующихся на них гештальт-качеетв. Гештальт-качество (GestaJtsqualitat)
отличается тем, что оно больше суммы образующих его частей и характеризуется
кроме того транспонируемостью, переносимостью в другие сферы и наличием
всевозможных градаций, которые Эренфельс называет высотой или чистотой гештальтов.
Эренфельс пытался использовать понятие гештальта и для построения модели
действительности, причем, однако, для него сам дух вносит свой вклад в устойчивое
содержание гештальта и возрастает роль «производящей деятельности субъекта».
Школы психологии, восходящие к Эренфельсу (например, Макс Вертхеймер и
Вольфганг Кёлер), закладывают далее гештальт-качество в фундамент, в саму
действительность, приписывая духу скорее функцию восприятия. И все же понятие
гештальт-качества, которое разрабатывал Эренфельс в полемике с Эрнстом Махом,
послужило важной поправкой к «атомизму» в психологии.
В своей космологии (1916) Эренфельс рассматривает гештальты как основу
действительности и несущих ее структур, являющихся манифестациями некоего
упорядочивающего начала, которое порождает растущее многообразие. Базовая
метафизическая концепция и универсалистские тенденции Эренфельса выдают в нем
последователя Лейбница с его видением всеобъемлющего, гармонически упорядоченного
универсума.
Наделал шума Эренфельс и своими идеями в области евгеники и сексуальной
этики, связанными с теорией ценностей. Здесь он занял позицию, опирающуюся на
дарвинову теорию эволюции и разграничивающую конститутивное и культурное
развитие. Согласно его взглядам противодействовать обрыву процесса естественного
отбора в результате воздействия культурных факторов можно только заменой
моногамного брака на полигамный. В учении о ценностях — по аналогии с
экономической теорией максимальной прибыли, развиваемой прежде всего в трудах
Карла Меигера,- Эренфельс придерживался того мнения, что существует корреляция
между силой желания и недостатком (избытком) желаемого.
Самым же продуктивным и влиятельным австрийским мыслителем второй
половины XIX столетия был без сомнения Эрнст Мах (1838—1916). Физик по
специальности, он не только открыл новые горизонты в учении о теплоте и теории
воздушных потоков (до сих пор сверхзвуковая скорость указывается в «числах Маха»),
но одновременно с Йозефом Бройером (учителем Фрейда) определил функцию
вестибулярного аппарата.
Однако в философии Мах оказался аутсайдером. И тем не менее его
сенсуализм антиметафизической и антиспекулятивной окраски, во многом идущий от
позитивизма, имел известный резонанс, ощущаемый и в импрессионистской
литературе Вены на рубеже веков, и во взглядах русских революционеров-большевиков.
Единственный философский труд Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», еще
и сегодня считающийся идеологическим фундаментом марксизма-ленинизма, есть
155
не что иное, как ожесточенная полемика с Махом. Против тезисов Маха
ополчались Эдмунд Гуссерль и Макс Планк, Альберт Эйнштейн и Людвиг Больцман,
кстати, преемник Маха в Венском университете.
Но у Маха были свои сторонники, к ним относятся неопозитивисты из
Венского кружка. Вместе с Союзом свободомыслия они основали в период между
мировыми войнами Союз Эрнста Маха, в котором просветительские и
просвещенческие тенденции сочетались с проповедью научного миропонимания.
Эмпириокритицизм Маха хорошо укладывается в русло традиции
научно-эмпирического философствования, присущего австрийской философии. Кроме того,
нельзя не указать на тот факт, что Мах в синтезе позитивизма и импрессионизма
отразил в философских понятиях духовную атмосферу Вены рубежа веков.
В мышлении Маха сказались как его интерес к физиологии органов чувств,
так и выработанная в физических исследованиях точность понятийного аппарата,
связанная с основным принципом «экономии мышления».
Для физика Маха основополагающую троицу составляли факт, опыт и
методика. Спекулятивное мышление порождает только бесполезные гипотезы, ведь
действительность доступна нашему познанию исключительно через посредство
чувственного восприятия. При этом цвета, звуки, пространства и времена оказываются
последними элементами действительности. Сознание есть комплекс ощущений,
поступающих непрерывным упорядоченным потоком. Воспоминания суть возрождение
комплексов прежних ощущений. Познание «истинной» сущности действительности
нам недоступно. Реальность и явления, действительность и мнимость равнозначны,
ибо «органы чувств никогда не обманывают и никогда не дают верных показаний».
Понятно, что Маха можно аттестовать и как представителя последовательного
монизма, усматривающего в ощущениях единственно возможный доступ к
действительности. Учение Маха об элементах дает возможность представить даже Я лишь
как функциональную связь элементов. Пониманию Я как вида субстанциальной
действительности он противопоставляет тезис об «обреченности Я», которое может
являться только как «эмпирическая конструкция» или же просто как «допущение».
Сознание — простой комплекс ощущений — и мышление, преобразующее эти
комплексы, составляют как бы сцену, на которой выступает Я, рассматриваемое как
своего рода «единица экономии мышления». Согласно Маху все связанное с
метафизическим субъектом оказывается на поверку чисто мнимой проблемой.
Именно эта концепция элиминирования Я привела к тому, что мышление
Маха стали истолковывать, и как субъективный идеализм, и как материализм с
позитивистским оттенком. Эмпириокритицизм Маха трактует физическое и
психическое только как различные по способу рассмотрения и по исходной позиции
аспекты действительности, исчезающей в конечном счете в мешанине видимости и
реальности. Вот такие и подобные им концепции оказали огромное влияние на
импрессионистскую литературу и искусство Вены рубежа веков, ну а научные цели
Маха, как и следовало ожидать, учитывались куда меньше. Ведь растворение
эмпирики и данности в ощущениях покоится в рамках теории Маха на строгом
естественнонаучном фундаменте.
Антиспекулятивное и антиметафизическое мышление Маха не только
выразило позитивистский дух эпохи - второй половины XIX столетия, но вместе с тем
повлияло на духовную почву Австрии того времени и оплодотворило ее своим
своеобразным синтезом позитивизма и импрессионизма, далеко выходя за пределы
одной философии. Представление о мнимой реальности Я не только имело
последствия в отношении трансцендентальной или идеалистической метафизики, но и
благодаря вытекающей отсюда идеи распада непрерывной личности дало импульсы,
поощрявшие эстетизм венской литературы. Нападки Маха на устоявшееся понятие
Я и опирающееся на него понятие личности и индивидуальности стали важными
лейтмотивами на интеллектуальной сцене fin de siecle и, что нужно отметить,
замена морали эстетикой получила при этом понятийную основу.
Заклятым врагом Маха был рано пресекший свою жизнь Отто Вейнингер
(2880—2903). Главный его труд «Пол и характер» пронизан каким-то
патологическим антифеминизмом и антисемитизмом, антисемитизмом еврея,
захлебывающегося в ненависти к своей нации, тем не менее для мышления Вейнингера в целом
156
характерен моральный ригоризм, как бы контрапунктически противопоставленный
эстетской, изрядно легковесной литературной сцене той поры.
Вооружившись довольно нелепой на вид смесью биологических теорий и
платонических концепций, Вейнингер одержим идеей: противопоставить идеальному
типу мужчины столь же идеальный тип женщины, Женщина предстает при этом
как абсолютное воплощение сексуальности, как существо, колеблющееся между
полюсами своего существования — абсолютной матери и абсолютной шлюхи. И
напротив, бытие мужчины лишь частично определяется его сексуальностью.
Сексуальность же - по Вейнингеру - означает отрицание этического.
Отсюда выводятся различные негативные стороны женского существа, слабости
женщины, ее неполноценность, за которые, однако, в конечном счете несет
этическую ответственность и расплачивается мужчина, постоянно борющийся, с одной
стороны, за преодоление сексуальности, а с другой - в своей ненависти к женщине
культивирующий еще не преодоленную ненависть к. своей собственной
сексуальности.
По мнению Вейнингера, женщина не способна ни на гениальность, ни на
нравственное поведение; понятие ценности и стремление к бессмертию для нее -
ничто. Безусловно, патологическое женоненавистничество, брызжущее из
многочисленных тирад Вейнингера, связано с его ущербным отношением к сфере эротики.
Обвинение женщины в том, что она есть секруальность и более ничто, что она
всецело подчинена идее коитуса, вполне может составить предмет для
психоаналитического истолкования, как, впрочем, и убеждение Вейнингера в том, что
мужчина мучается от глубинного чувства вины перед женщиной, которое делает
невозможным всякую счастливую любовь, если только это не далекая от эротики
«платоническая» любовь 13.
Вейнингер развивал учение о гении, чтобы не сказать культ гения, культ,
который - исходя из кантовского ригоризма - видит в гении не только
интеллектуальное, но и нравственное совершенство. Гений обладает не только сильнейшей
волей к ценности, но и воплощает в себе высшую форму сознания и моральности,
он — «живой микрокосм», как бы содержащий в себе все. Сознание Я и сознание
индивидуальности в высшем проявлении тождественны гению.
Вместе с тем нравственный ригоризм, исповедуемый здесь Вейнингером,
означает неприятие действия. Главными мерками оказываются закон и независимость,
автономия Я. Высшая ступень сознания, а с ней и свобода — вот цель цравствен-
но автономного законодателя, которой постоянно противостоит несвобода тела.
Здесь становится понятным и антисемитизм Вейнингера: как женщине, так и
еврею, отказано в какой бы то ни было форме личности 14. Еврей - это существо,
рожденное для стирания всех границ, не признающее - поскольку не имеет ни
души, ни морали - никаких моральных ценностей, не испытывающее тоски по
бессмертию. Далее, подобно тому, как женщина оказывается в конце концов
олицетворением вины мужчины, так и еврей есть воплощение вины христианина.
Искупление станет возможным лишь там, где мужчина преодолеет свою
собственную вину - свое другое Я, обретая тем самым чистоту и нравственность,
распространяющиеся на всех людей в целом.
Какими бы утрированными и воспаленными ни казались идеи Вейнингера, все
же на фоне двойной морали, характерной для этой позднебуржуазной эпохи, на
фоне превращения эротики в игру и импрессионистскую светотень человеческих
отношений, эти идеи предстают таким же продуктом своего времени, как и
психоанализ Фрейда, не случайно выросшего в душной атмосфере интеллектуальной
оранжереи fin de siecle.
Надо сказать, что Зигмунд Фрейд (1856—1939) так и не имел в Австрии такого
ошеломительного успеха, какой выпал на долю психоанализа как теории (но даже
и как практического метода) в других странах, тем не менее его учение является
следствием ситуации в буржуазном обществе Австрии на рубеже XIX и XX веков
и как в зеркале отражает ее.
Уже говорилось, что в молодости Фрейд прослушал курс философских лекций
Брентано, однако позднее он отверг философию, в которой видел злоупотребление
мышлением и даже сходство с системами, возникающими у параноиков t5.
157
Точно так же можно вполне рассматривать его набросок метапсихологии как
эквивалент метафизики, да и вообще истолкование человека в психоанализе
обнаруживает солидную философскую подоплеку. Критика философии традиционного
покроя, встречающаяся нередко и у Бревтано или Гуссерля, приобретает у Фрейда
характер огульного отрицания философии как таковой и заканчивается
недвусмысленным исповеданием эмпирического естественнонаучного подхода. Но замена
метафизики метапсихологией приводит к теории человека в том же виде, в каком она
разрабатывается в традиционных философских истолкованиях.
Не вдаваясь в детали различных моментов психоаналитической теории и не
преувеличивая роли безусловно имеющейся у Фрейда редукционалистской
тенденции, интерпретирующей человека как враждебное, подвластное инстинктам
существо, можно сказать: метапсихология Фрейда - как и естественнонаучный
эмпирический метод у Маха — свидетельствует не только о неудовлетворенности
спекулятивной философией. В связи с этим попытка Фрейда выдвинуть метапсихологию
па место метафизики заслуживает по крайней мере упоминания в обзоре
австрийской философии в качестве подтверждения одной из ее ключевых тенденций.
Уже часто отмечаемая тенденция австрийского философствования, связанная с
философией языка и вместе с тем с критикой языка, несомненно достигает своего
апогея в выдающейся фигуре Людвига Витгенштейна. Однако эта тенденция
проявляется в философии и литературе уже XIX века* демонстрируя особенность
австрийского мышления, которую можно, помимо прочего, связать с многонациональным
характером австро-венгерской монархии. Так Фритц Маутнер, автор трехтомных
«Очерков критики языка» (1901-1904), указал на то, что у еврея, родившегося и
выросшего в одной из славянских местностей Австрии, благодаря необходимости
существования в многоязычной среде не может не выработаться повышенной
чувствительности к языковому феномену. Но и кризис языка, о котором пишет Гуго
фон Гофмансталь в фиктивном письме (1902) от имени роэта лорда Чандоса,
и языковой пуризм Карла Крауса, и размышления р языке у Кафки или Музиля
свидетельствуют об этом сгустке чувствительности.
Языковой скепсис Фрица Маутнера, доходящий порой до отчаяния в языке,
представляет собой, честно говоря, крайнюю форму критики языка. В отличие от
Витгенштейна или хотя бы философов Венского кружка Маутнер отказывает языку
в любой возможности постижения действительности. Мало того, что язык -
абсолютно непригодный инструмент для познания действительности, он еще и
закрывает нам доступ к ней, раскидывая перед нами мираж «ложной» действительности.
Посему цель критики языка Маутнер усматривает в избавлении нас от языка и в
достижении молчания, что можно трактовать как своего рода посюстороннюю,
безбожную мистику.
Не бэз влияния Эрнста Маха Маутнер видит в словах лишь памятку, узелок
на память о наших чувственных ощущениях, а поскольку наши органы чувств
возникли случайно, в ходе приспособления к действительности нашего аппарата
восприятия, то этот узелок на память тем более отсекает нас от подлинной
действительности. Маутнер хотя и признает за языком определенную
коммуникативную ценность, известную пользу для взаимопонимания людей, но отрицает какую
бы то ни было ценность его для познания. Можно признать, что речь (Sprechen)
является существенной особенностью функционирования языка, но эта речь также
подпадает под критерии номиналистской критики, которую Маутнер пускает в ход
ирртив любого вида эссенциализма. Ибо главные враги Маутнера — это
«понятийные признаки» философии. Язык вводит нас в искушение допускать наличие
сущностей (Wesenheiten) там, где он в соответствии с возможностями грамматики
преобразует для них соответствующие структуры. Но и этого мало, язык внушает нам
при этом, что эти сущности реальны. Здесь наиболее вредоносной оказывается
тенденция к субстанциализации, к образованию понятий типа «бытие», «сущность»
(Wesen) и т. п. Ведь язык порождает здесь сущности (Entitaten), которых в
«действительности» не существует. Разочарование Маутнера в языке распространяется
и на поэзию, хотя он — сам будучи поэтом — отводит для нее совершенно иную
область оперирования языком. Поэзия нацелена не на познание, а на раскрытие
своеобразной таинственной связи между словом и вещью. Но и здесь неумолим
безжалостный скепсис, и в качестве единственно возможного выхода предлагается
молчание. В своем следующем труде «История атеизма» Маутнер стремится
продемонстрировать всю бессмысленность религиозных понятий. Единственный выход
он видит в «безбожной мистике». И все-таки, пусть его требования могут казаться
и противоречивыми и парадоксальными, своей радикальной критикой языка он
проложил путь, выявляющий - пусть и в утрированной форме - характерные
особенности австрийской философии.
Людвиг Витгенштейн (1889-1951) также ссылается на Маутнера, обозначая в
качестве преимущественной задачи философии занятие критикой языка. И
Витгенштейн в конце своего «Tractatus logico-philosophicus» (1921) приходит к заповеди
молчания, которая, однако, относится в первую очередь к предложениям
(спекулятивной) философии. Этот австрийский философ дважды радикально преображал
философский ландшафт современности: во-первых, своей ориентированной на
логику идеального языка концепцией, что формулировать и высказывать допустимо
только осмысленные предложения; во-вторых, своей поздней философией, где он в
качестве решающего критерия языка предлагает употребление.
Проводимое в его «Трактате» разграничение между тем, о чем можно говорить,
и тем, о чем можно только молчать, произвело настоящую революцию в
философии. Витгенштейн однозначно показал, что философия не может заключаться лишь
в провозглашении теоретических суждений, тезисов и доктрин, а должна
рассматриваться как деятельность, причем как лингво-аналитическая деятельность.
Этот лингвистический анализ, эта критика языка ведет не к разочарованию в
языке, а к определенному разграничению: Витгенштейн проводит границу между
тем, о чем можно мыслить и говорить, и тем, о чем нельзя говорить, не впадая
при этом в бессмыслицу. Для этого он применяет логический анализ предложений,
чтобы с помощью устанавливаемой при этом истинностной ценности судить об
осмысленности или бессмыслице сложных предложений.
Людвиг Витгенштейн, выходец из семьи крупного промышленника,
первоначально изучал технические дисциплины, готовясь стать инженером, но растущий
интерес к проблемам математики и логики увлек его на ниву философии. После
окончания курса у Бертрана Рассела Витгенштейн стал солдатом-добровольцем в
первую мировую войну; завершив же свой «Логико-философский трактат», он
полностью отошел от философии. Интерес к ней снова пробудился у него только после
многих лет учительства в маленькой деревушке в Нижней Австрии, причем этот
интерес был не в малой степени связан со знакомством с философами - членами
Венского кружка. В 30-е годы Витгенштейн возвращается в Англию, где, несмотря
на свое глубокое отвращение к философии как средству добывания хлеба
насущного, становится в конце концов кембриджским профессором. В это время
рождается философия «позднего» Витгенштейна, изложенная в книге «Философские
исследования», увидевшей свет лишь после смерти автора. В ней он формулирует
понятие «язык-игра» или «языковая игра», которое оказало сильное влияние на так
называемую «ordinary-language-theory» 16.
Витгенштейнов «Трактат» исходит из теории, согласно которой между
мышлением, языком и действительностью имеется соотношение образов (Bildverhalt-
nis) 17. Эта отображающая связь языка и действительности не только позволяет
разоблачать все предложения нашего языка, не дающие никакого образа
действительности, как бессмысленные или - что имеет место для предложений логики -
ничего не значащими, но и подтверждает, что между языком, мышлением и
действительностью имеется определенное структурное соответствие.
Проводя анализ сложных предложений нашего языка, расчленяя их до
простых, можно установить истинностную ценность того или иного высказывания,
причем следует иметь в виду, что для Витгенштейна истинность и осмысленность
предложения не обязательно совпадают. Эмпирического или логического критерия
смысла - как это предполагалось философами Венского кружка - здесь
недостаточно. Ведь для Витгенштейна решающей является как раз область, которая не входит
в то, о чем можно (осмысленно) говорить, область того, о чем, следовательно,
нельзя говорить, но о чем можно только молчать. Хотя в предисловии к «Трактату»
Витгенштейн пишет, что в задачу книги как раз и входит показать с помощью
159
языка границы этого языка, все же он в качестве решающей рассматривает именно
ту область, которая лежит по другую сторону проведенной черты. Ибо — и в этом
вся парадоксальность книги Витгенштейна - предложение, отображающее
совокупный мир, как раз и неспособно высказать того, что лежит в основе его и мира, а без
этого описать и высказать мир невозможно.
В связи с этим Витгенштейн и назвал проблему говорения и показывания
главной проблемой «Трактата». Форму, лежащую в основе и мира, и языка,
предложение может только предъявить, показать, не подпадая при этом под обвинение в
бессмысленности. Поэтому всякая попытка прояснения смысла предложений всегда
неразрывно связана с наличием этой предпосылки.
Поскольку, согласно Витгенштейну, в мире существуют только факты,
решающим моментом является перспектива, взгляд на мир. Между тем, что может быть
сказано ясно, и тем, что показывает себя, областью мистического, необходимо
провести четкую грань, что повышает ценность молчания. Витгенштейн, которого на
протяжении всей его жизни волновали и мучали этические и религиозные
проблемы, отводил, говоря о себе, важную роль этике, хотя в соответствии с его же
взглядами этические проблемы не могут быть ни высказаны, ни сформулированы. Можно
даже прийти к выводу, что подлинный пафос «Трактата» - этический, что
Витгенштейн стремился как бы «спасти» вопросы этики (которые ведь не совпадают с
фактами), формулируя для них требование молчания. И все же строгую границу
между тем, о чем можно говорить, и тем, о чем говорить нельзя, то и дело
пытаются задеть в этических вопросах, даже сдвинуть ее, хотя нужно всегда отдавать
себе отчет в безнадежности этого предприятия.
Ретирада Витгенштейна, ставшего сельским учителем, есть следствие его
философствования. Лишь спустя много лет он пришел к теории языка-игры, что помимо
прочего свидетельствовало и о расставании с представлением об идеальном,
логически насквозь продуманном языке. Тем не менее он продолжал считать, что
задача философии заключается в критике языка, в лингвистическом анализе. Нужно
разрушить чары языка, опутавшего своими сетями наш разум, но разрушить путем
всматривания - с привлечением языковых средств - в языковые действия, в
употребление языка.
Если в «Трактате» элементы языка (простые предложения, слова, имена)
соотнесены с элементами действительности (фактами, вещами) и значение слова
определено предметом, с которым оно соотносится, то теперь на первый план
выходит употребление, причем оказывается, что и значение слова есть его
использование в языке.
Критикуя «логический атомизм», которому он сам отдал дань в «Трактате»,
Витгенштейн помимо всего прочего указывает: существуют не только предложения,
содержащие высказывания или утверждения, но и великое множество языковых
действий, которые не связаны с описанием «положения дел» (Sachverhalt), как,
например, вопросы, приказы, просьбы, пожелания и т. п. Но последние, в свою
очередь, тесно связаны с разными видами деятельности, что позволяет Витгенштейну
охарактеризовать языковую игру как нечто, неразрывно связанное с человеческой
деятельностью, с «формой жизни». Нас вводит в заблуждение, поясняет
Витгенштейн на примере ящика с инструментами, тождество формы слов, не всегда
совпадающее с тождеством их функций. Языковая игра и лежащая в ее основе
форма жизни не поддается дальнейшему обоснованию, здесь предел всех дальнейших
разъяснений, хотя существенным моментом является соблюдение правил
определенной языковой игры. Тесная взаимосвязь правил и обычаев свидетельствует о
том, что освоение какой-либо языковой игры представляет собой некую
определенную технику, и все же применение правил также есть проблема грамматики. Это
позволяет Витгенштейну допустить, что нет смысла искать за рамками говорения,
т. е. за практикой языковой игры, каких-то собственно духовных процессов, как это
делается в случае высказывания мнения, в акте понимания и т. п. Точно так же
Витгенштейн решительно отметает возможность существования «приватного
языка»: мы осваиваем употребление значения в языковых играх, т. е. в самом
коммуникативном акте. Философия прежде всего выполняет терапевтическую функцию,
она призвана разрешать философские проблемы, возникающие в результате языко-
160
вых путаниц. Это значит, что истинная цель философии - освобождение себя от
философии; кстати, Витгенштейн оспаривает наличие у нее способности изменения
действительности. Она ничего не изменяет, она все оставляет, как есть.
И в поздней философии Витгенштейна постоянно сквозит его обеспокоенность
проблемами религии и этики. Пусть он избегает прямых высказываний по поводу
этического и религиозного, которое по Витгенштейну — в любопытной параллели с
Кьеркегором - может осуществляться лишь экзистенциально, проживаться, эти
вопросы занимают в его творчестве обширное место. Смесь острого логического
анализа и мечтательного парения мысли, отличающая философское наследие
Витгенштейна, породила пеструю массу разнообразнейших толкований, ею же
объясняется глобальное воздействие его построений на всевозможные философские течения —
от философии лингвистического анализа до герменевтики, от теорий языковых
актов до постмодернизма.
Ярлык позитивиста наклеивают на него явно по недоразумению, хотя он
какое-то время поддерживал тесную связь с неопозитивистами Венского кружка,
главным образом со spiritus rector 18 Морицем Шликом, и хотя многие тезисы его
ранней философии роднят его с философией Венского кружка.
Мориц Шлик (1882—1936) стал в 1924 г» преемником Эрнста Маха и Людвига
Больцмана в Венском университете. Шлик изучал физику в Берлинском
университете и с самых ранних пор исповедовал сциентистский и антиспекулятивный
подход в мышлении, на основе которого он очень быстро и успешно сформировал
в Вене группу единомышленников. В 1924 году он организовал неофициальные
беседы, собиравшие людей, разделяющих его взгляды,- философов и представителей
точных наук, даже экономистов и правоведов. Эти собрания положили начало
знаменитому Венскому кружку. В 1929 г. был опубликован манифест под названием
«Научное миропонимание», посвященный Шлику и написанный математиком
Гансом Ганом, философом Рудольфом Карнапом и «универсальным гением» Отто Ней-
ратом, а также членами кружка, симпатизировавшими социал-демократам. Боевую
направленность этого текста против христианско-метафизического миропонимания
нужно оценивать обязательно с учетом политической напряженности^
существовавшей в 20-е и 30-е годы в Австрии между социал-демократами и христианскими
социалистами. Социал-реформистская, просветительская, а по сути постйозефинская
позиция Венского кружка воплотилась в целый ряд акций за пределами
университетской среды. Так, для поддержки народного образования был основан Союз
Эрнста Маха, а Отто Нейрат, успевший побывать членом правительства
недолговечной Баварской советской республики, постоянно отстаивал интересы рабочего
класса в рамках своей социал-реформистской деятельности.
Венский кружок пропагандировал поворот к научной философии, задачу
которой его члены видели в основном в гносеологическом, логическом и лингвистича*
ском анализе. В качестве источника познания провозглашался опыт, в качестве
метода — логический анализ, а в качестве цели — целостная цаука, по примеру
точных наук (в первую очередь физики) выбрасывающая из философии все проблемы,
не удовлетворяющие жестким критериям осмысленности и истинности.
Нельзя сказать, что по всем этим вопросам у членов Венского кружка было
полное единство взглядов (серьезные разногласия выявились между Шликом и
Файглем, чьи умеренные воззрения допускали многие традиционные постановки
проблем, с одной стороны, и Нейратом и Карнапом - с другой), тем не менее их
можно объединить на общей платформе «логического позитивизма».
В «Общей теории познания» (1918) Шлик встал на эмпирическую точку
зрения: отвергнув возможность априорных синтетических суждений (Кант), он
трактовал познание как описание (эмпирических) фактов посредством (логических)
суждений.
Действительность нельзя ограничивать тем, что воспринимается органами
чувств и сознанием. Шлик понимает действительность в конечном счете как то, что
может быть схвачено с помощью надежной научной методологической процедуры:
например, поля, электроны, волны. То, что мы постигаем количественными
методами науки, и то, что доступно усмотрению, интуиции (Anschauung), не две
«действительности», а лишь два типа подхода к ней. Эта эмпиристская позиция у Шли-
161
ка со временем приобрела больше феноменалистских черт, причем растущее
значение придавалось лингво-аналитической и логической постановкам вопросов. При
этом все в большей степени главная роль в добыче познаний отводилась
конкретным наукам. Рудольф Карнап (1891-1970) назвал проблемы метафизики мнимыми
и свел всю собственно философскую деятельность к искоренению слов, не
имеющих значения, и высказываний, не имеющих смысла. Эмпирически
верифицируемый понятийный аппарат и формальная логика — вот главные критерии
философствования, называющего себя научным.
«Универсальный гений» Отто Нейрат (1882—1945) больше других членов
Венского кружка оказался вовлеченным в политическую жизнь, причем на стороне
социал-демократии. Нейрат в свое время изучал политэкономию и довольно рано
увлекся социальными проблемами. В Вене он разработал для статистики
пиктографическую систему, в которой единице количества соответствует пиктографический
символ, и тем самым оживил древнюю мечту об универсальном языке. В области
гносеологии Нейрат был бескомпромиссным поборником физикализма, в рамках
которого главными критериями смысла высказываний являются логическое сочетание
предложений и их эмпирическая верификация. Система не противоречащих друг
другу протокольных предложений, возможности верификации которых однозначно
установлены, исключает всякое проникновение метафизических утверждений.
Наряду с этим Нейрат энергично выступал в пользу постоянного пересмотра научных
положений и законов, носящих как таковые лишь предположительный характер.
Стало популярным его сравнение научно-философского труда с беспрестанными
ремонтными работами на корабле в открытом море. Что же касается проблем этики,
то они глубоко волновали Шлика, чего не скажешь о радикалах в Венском кружке,
которые вообще исключали вопросы этики и религии — как ненаучные — из
философского рассмотрения, что также способствовало их разрыву с Витгенштейном.
Как и его гносеология, этика Шлика продолжает традиции эмпиризма, не
впадая при этом в неприкрытый утилитаризм. Опираясь на различение переживания
и познания, Шлик в качестве определяющего критерия всякого поведения
выбирает чувство: желание и нежелание - вот подлинные мотивы наших действий.
Законы природы не приписывают нам каких-либо определенных дедствий, не
противоречат они и нашей свободе. Свободный в нравственном отношении человек - по
Шлику - это тот, кто действует без принуждения, руководствуясь своими
желаниями. Пример этого — игра, деятельность, осуществляемая ради нее самой, без
всякого внешнего принуждения. С игрой Шлик связывает и апофеоз молодости, в
наиболее чистом виде воплощающий веселье, радость и восторг.
Философия Венского кружка, безусловно склонная к редукционизму, сильно
повлияла на развитие строгой научности, отвергающей метафизику. Эта философия
и связанные с ней лингво-аналитические и логические исследования значительно
способствовали тому, что в англоязычных странах по преимуществу, куда после
оккупации Австрии гитлеровцами, а до этого - после захвата власти в Австрии
Дольфусом (1934), были вынуждены эмигрировать многие члены Венского кружка,
данная сторона австрийской философии развивалась особенно успешно. После
убийства Шлика (1936) одним из его учеников начался распад Венского кружка.
Несмотря на сегодня уже кажущееся старомодным науковерие Венского кружка,
свойственная ему бескомпромиссная логическая острота, готовность к постоянному
пересмотру гипотез, если того требует действительность, стали существенными
чертами современного философствования. Бесспорно заслугой Венского кружка, благодаря
которому австрийская философия обрела всемирную известность, является тот
факт, что лингвистическая тема с тех пор в общем так и не сходит с
философской повестки дня, хотя здесь всегда нужно помнить об исполинской фигуре
Витгенштейна.
Тема языка была затронута совершенно в ином ключе представителями так
называемой философии диалога. Мартин Бубер (1878-1963), уроженец Вены,
проведший детство в Лемберге (Львов), и учитель католической народной школы
Фердинанд Эбнер (1882—1931) выработали независимо друг от друга лингвистическое
мышление, в основе которого (и в этом их отличие от Витгенштейна или
философов Венского кружка) лежит изначальное доверие к языку, к слову. Там, где Бу-
162
бер, отправляясь от опыта основных слов «Я-Ты» или «Я-Оно», затрагивает
различные связи-отношения с действительностью, Фердинанд Эбнер исходит из
фундаментального события между Я и Ты, происходящего в слове и в любви.
Философия диалога у Бубера и Эбнера кульминирует в связи с вечным Ты,
в отношении Бог - человек, мыслимом только как межличностное отношение.
Язык - для обоих философов - как проговариваемый между Я и Ты язык и
порождающий эту межчеловеческую связь язык, имеет совершенно иной ранг, чем
при подходах, связанных с лингвистическим и логическим анализами. Язык
порождает здесь (по Эбнеру) единственную подлинную действительность,
открывающуюся между Я и Ты в событии диалога, тогда как по Буберу сущность
межчеловеческого отношения определяется диалогическим началом, сущность же
отношения к внечеловеческой действительности - объективацией.
В существующей философии Нового времени Эбнер усматривает замкнутость
Ты и одиночество Я, в связи с чем вся метафизика предстает как «сон духа».
Лишь язык, живущий в диалоге Я и Ты, в состоянии раскрыть действительность
существования (Dasemswirklichkeit), при этом Эбнер понимает дух в «пневмато-
логическом» ключе - исходя из слушания слова, в глубинной же основе слова
находится божественный Логос.
В сущности диалогическая концепция языка у Эбнера не менее революционна,
чем концепция языка у Витгенштейна, ибо она также ориентируется на
высказывание, на утверждение и его притязание на истину. Истина же состоит не в
согласии высказывания с положением дел, а в событии любви между Я и Ты, в
событии, которое открываемо и несомо словом. И у Бубера и у Эбнера человек
рассматривается в первую очередь с точки зрения языка, «иметь слово» — это не
просто существенная черта человеческого бытия, ведь слово вообще обретает
реальность только в межличностной диалогической связи. Для Эбнера всякая философия
(как и всякая теология) доходит до своего предела перед диалогической
реальностью, основа которой - в Боге.
Следуя по стопам Серена Кьеркегора, Эбнер со всей радикальностью и
бескомпромиссностью пропагандирует христианство, ориентирующееся на Бога Спасения
и Обетования, христианство, которое - как и у Витгенштейна - отвергает всякую
метафизику.
Конечно, Эбнер не занимается критикой языка. Но он неустанно твердит, что
именно язык раскрывает нам доступ к духовным реальностям жизни и что мы —
и не только Я и Ты - существуем благодаря языку, благодаря произносимому
слову. Язык - не орудие, не средство коммуникации, не нечто, чьи структуры
необходимо прояснять посредством семантики, семиотики и теории информации,
язык — необходимое условие для раскрытия действительности.
В эпоху между двумя мировыми войнами, в атмосфере идеологической
ожесточенности, доходящей до фанатизма, резко поляризовались также
консервативное и социал-демократическое мышление. «Австромарксизм», которому была
свойственна радикальность в теории и нерешительность на практике, шел за своим
блестящим теоретиком Максом Адлером; для консерваторов же лидером стал
экономист Отмар Шпанн, возродивший традицию целостности австрийского мышления.
Отмар Шпанн (1878-1950) набросал универсалистскую теорию целостности
(Ganzheitslehre), в которой отношение части к целому и составляющих его частей
друг к другу мыслилось таким образом, что часть, единичное, индивид можно
определять только из его отношения к другому индивиду и к целому, и что, наоборот,
целое - на пути интеграции - определено совокупностью своих членов, частей.
В этой теории снова оживает древняя идея: целое больше суммы своих частей.
Начав с политэкономии, Шпанн все больше склонялся к политической
философии, что нашло отражение прежде всего в его книге «Истинное государство»
(1921), а своими поздними работами по философии общества и философии истории
он окончательно утвердился как философ.
Теория целостности, опирающаяся на романтическое и органическое
представление о действительности, имеет у Шпанна в сфере политической философии
сословную и иерархическую структуру: в постоянном противостоянии либерализму,
ориентирующемуся на индивида, и коллективизму (коммунизму), поглощающему
163
индивида, Шпанн предлагает сословное деление общественности, в рамках которого
особо важную роль играют принципы вычленения из целого и обратной связи с
целым. Понятие «сословие» следует интерпретировать исходя из близости к
целостности, а не просто опираясь на профессионально-сословные и квази-классовые
членения. Выявляющееся при этом ступенчатое строение дает возможность
развивать — с социологической точки зрения — теорию институций, столь же
автономных и «непосредственно целостных», как и сочетающихся в особые иерархические
структуры.
Первоцентром, из которого вычленяются все формы наличного бытия, является,
как считает Шпанн, Бог — не только отправная точка любой истинной философии,
но и своего рода «метафизическая над-тобой-ность», а тем самым сердцевина и
гарант иерархически устроенного универсума. Религия же — это сознание обратной
связи человека с Богом, причем в принципе эту обратную связь несет" в себе все
творение.
Шпанн критикует демократию, в которой видит связанную с естественным
правом форму продуманного до конца индивидуализма; эта его критика, а также
опора на сословное государство, ориентировавшаяся, надо сказать, больше на модель
фашистских корпораций, осуществленных Муссолини в Италии, втягивали его в
поле ожесточенных идеологических споров. Несмотря на его попытки отмежеваться
от австрийского сословного государства, нельзя отрицать его близости к
авторитарным теориям. Учение Шпанна о целостности как таковое, противостоящее всякому
аналитическому атомизму, примыкает к универсализму, являющему собой со времен
барокко важный мотив австрийского философствования.
Постоянные конфликты возникали у Шпанна и его последователей с так
называемым «австромарксизмом». В этом течении, колеблющемся между реформизмом и
большевизмом (Отто Бауэр), выдвинулся в качестве главного представителя
Макс Адлер (1873—1937), Несмотря на то, что Карл Реннер, будущий президент
Второй республики, выступал в первую очередь за примирение национальностей в
монархии, а Отто Бауэр также подходил к национальному вопросу с позиций
примирения, атмосфера Первой австрийской республики становилась все более
напряженной. Достижения социал-демократического правительства в сфере социальных
реформ противоречили его радикализму на словах, видевшему в консервативных
католических силах, а также в левых отступниках более опасных противников, чем
в национал-социалистах.
Макс Адлер (с 1921 г. и до своей кончины профессор социологии Венского
университета) сделал попытку с помощью арсенала кантовской философии пронизать
марксизм критикой разума, причем особая роль отводилась здесь этике, как,
впрочем, и религии.
Адлер указал на то, что ускользнуло от внимания Канта: на соотнесенность
субъекта с другим субъектом. Здесь Адлер выдвигает тезис о «социальном
априори»: наше социальное бытие не определяется ни практической необходимостью, ни
чем-то вроде социального инстинкта; эта социальная соотнесенность наличествует
(также априорно) как, скажем, априорные формы, чувственного созерцания или
категории рассудка в духе Канта.
С другой стороны, Адлер, корректируя основные идеи Маркса, отвергал
материализм как некритическое, а потому метафизическое мировоззрение. Вообще говоря,
Адлер стремится защищать в рамках марксизма автономию человеческого духа, ре-
лятивируя тем самым Марксов тезис о том, что сознание порождается
материальным и общественным бытием. Экономика и идеология суть две различные ступени
одной и той же духовной взаимосвязи, считает он19. Но не только в
трансцендентально-критическом философском методе видит Адлер возможность
существенного изменения марксистской интерпретации по направлению к человеку. Этика и
религия лучше всего могут противодействовать тенденции к экономическому овещне-
нию (Versachlichung), которое Адлер считал заблуждением марксизма.
Адлер, протестующий против разведения этики и экономических
закономерностей, столь же горячо отстаивает творческое единство личности, а с другой стороны,
подчеркивает ценность религии и веры как самостоятельных вариантов подступа к
действительности. Конечно, в Адлере не стоит вщ^чь «рвдвдю^всич) марксиста»,
164
тем не менее его утопическое представление о новом человеке, воплощающем новое
качество межчеловеческих отношений за пределами и коллективистского насилия и
беспредельного индивидуализма, связано с признанием роли религии. В
противоположность ортодоксальному марксизму Адлер не ограничивал религию «ложным»
сознанием, а подчеркивал «внутреннюю самостоятельность религиозной жизни»,
трактуя ее как некое условие, которое может обеспечить единство мира и жизни.
Хотя радикальные высказывания в защиту «нового человека», в пользу широкой
программы реформы воспитания и обусловлены его принципиальной верой в
прогресс, они учитывают в рамках австромарксизма индивидуальность человеческого
бытия и пытаются - пусть и не всегда удачно - считаться с ней.
Все перечисленные традиции пострадали, а некоторые были просто разрушены
в ходе оккупации Австрии гитлеровской Германией. Венский кружок распался уже
вскоре после смерти Шлика, а представители традиционной университетской
философии, и прежде всего философы христианского направления, стали подвергаться
преследованиям. И лишь после второй мировой войны австрийская философия
стала набирать силу, хотя и лишилась традиции Венского кружка.
В настоящем обзоре не было возможности упомянуть множество фигур либо
одиноких в своих исканиях, либо недостаточно крупных. Это относится к Йозефу
Поппер-Линкеусу (1838-1921), разделявшему социал-реформистские взгляды и
предлагавшему ввести вместо всеобщей воинской повинности всеобщую
продовольственную повинность; он был почитателем Вольтера и в этом качестве
пропагандировал уважение к человеческой жизни и отказ от насилия как первейший долг
просвещения. Ничего не было сказано и о социологе Людвиге Гумпловиче (1838—
1909), чей главный труд «Борьба рас» против воли автора был воспринят в социал-
дарвинистском ключе. За пределами обзора остался и Герман Брох (1886-1951),
чья тоска по универсалистской гармонии, укорененной в сфере трансцендентного,
возвращает нас к мотивам барочного мышления. Разумеется, перечень этими
именами не исчерпывается.
После второй мировой войны австрийская философия, прежде всего в Вене,
обратилась к традиционным и актуальным проблемам, и здесь выделились две
фигуры — ученик Роберта Райнингера Эрих Хайнтелъ (род. 1912) и представитель
католического направления Лео Габриэль (1902-1985).
Не были забыты и традиции мышления, относящиеся к периоду между
мировыми войнами. И здесь стоит назвать по крайней мере двух философов этого
направления: сэра Карла Поппера (род. 1902), сотрудничавшего с Венским кружком в
бытность свою в Вене, хотя это сотрудничество и сочеталось с критическим
отношением к деятельности кружка; и ученика Поппера — Пауля Фейерабенда
(род. 1924), держащегося в стороне от критического рационализма своего учителя.
Если Поппер — в первую очередь благодаря «Логике исследования», где
эмпирический критерий истины, используемый Венским кружком, он заменяет на
принцип фальсификации,- коренным образом повлиял на философию науки, то Фейер-
абенд привлек к себе внимание преимущественно своими поздними работами,
где он — вопреки строгой научности как методологического критерия в том числе и
для философии — приходит к признанию плюрализма методов («anything goes»,
«все годится»).
В противовес «жестким» критериям Венского кружка Поппер разработал
теорию фальсификации, которая приписывает даже научным системам высказываний
лишь гипотетический характер. В своем труде «Открытое общество» Поппер
набрасывает либеральную социальную философию, подвергающую резкой критике
утопии, все виды тоталитаризма, историзм. Вместо законченных социальных утопий,
носящих - как одна, от Платона до Маркса - тоталитарный характер, следует
заняться чем-то вроде социального конструирования, «peace-meal-engineering»20.
Девиз Поппера - «пусть умирают гипотезы, не люди» - выдает гуманистическое
начало, лежащее в основе его «критического рационализма».
Благодаря Конраду Лоренцу (1903-1989) преимущественно в последние годы
на базе биологии и бихевиоризма была разработана эволюционная теория
познания, которая на основе эволюционного принципа рассматривает познание как
результат эволюционно-биологического развития и приписывает человеку целый ряд
165
врожденных стереотипов поведения. При этом наши формы познания
истолковываются как результаты практической деятельности и приспособления, связанные с
историей человеческого рода.
Если обозреть традицию австрийской философии в целом, то можно заметить,
что ключевыми ее моментами являются скептическое отношение к идеологии,
многообразие, плюрализм взглядов, а также солидная доля реалистических и
антитрансцендентальных концепций. Корни многообразия австрийского мышления и
связанной с этим антидогматической основной позиции безусловно можно искать в
многонациональной и полифонической социальной структуре Австрии. Вместе с тем
следует отметить, что именно в период с 1850 по 1940 гг. в австрийской
философской мысли сформулирован целый ряд подходов, влияние которых далеко
перешагнуло границы Австрии.
Тот факт, что эта страна, сжавшаяся после первой мировой войны до размеров
крошечного государства, не только повлияла своими мыслителями — от Фрейда до
Витгенштейна — на глобальную духовную ситуацию, но и смогла выработать свою
собственную оригинальную философскую традицию, представляет интерес и не
только с точки зрения истории философии. Положение дел в австрийской
философии с ее сознательной ориентацией на многообразие и многоголосие может
считаться просто-таки образцовым, если вспомнить, что творится сейчас в духовном
мире Европы с его метаморфозами и переворотами. И вот в пространстве,
отмеченном вердиктом Витгенштейна: «Философия оставляет все, как есть, она ничего не
меняет», и призывом Поппера; «Пусть умирают гипотезы, не люди», выявляется та
самая «Humanitas Austriaca» 21, которая еще со времен барокко считалась высшей
целью не только мышления, но и жизни.
Библиография
Литература общего характера: Gabriel L., MaderJ. (Hrg.), Philosophie in
Osterreich; in: Wissenschaft und Weltbild, Bd. 21, Wien 1968. На Пег R., Studien zur
osterreichischen Philosophie, Amsterdam 1979. Его же, Fragen zu Wittgenstein und Auf-
satze zur osterreichischen Philosophie, Amsterdam 1986. Johnston W., Osterreichische
Kultur- und Geistesgeschichte. Gesellschaft und Ideen im Donauraum 1848-1938, Wien
1974. Kampits P., Zwischen Schein und Wirklichkeit. Eine kleine Geschichte der
osterreichischen Philosophie, Wien 1984. L e s e r N., Zwischen Reformismus und Bolschewismus.
Der Austromarxismus als Theorie und Praxis, Wien 1968. Nyiri J. K. (Hrg.), Austrian
Philosophy. Studies And Texts, Miinchen 1961. SauerW, Osterreichische Philosophie
zwischen Aufklarung und Restauration, Amsterdam 1982. Schorske K., Wien. Geist
und Gesellschaft im Fin de siecle, Frankfurt a. M. 1982. Smith B. (Hrg.), Structure
And Gestalt. Philosophy And Literature In Austria-Hungary And Her Successor States,
Amsterdam 1981. О Людвиге Витгенштейне: J a n i k A. T. S., Wittgensteins Wien,
Miinchen 1984. Kampits P., Ludwig Wittgenstein. Wege und Umwege zu seinem Denken,
Graz 1985. Его же: Destruktion, Hermeneutik und System. Neue Wittgenstein - Inter-
pretationen des deutschen Sprachraums. In: Philos. Literaturanzeiger 31(1978). Его
ж е: Sprachspiel und Dialog. Zur Sprachdeutung Ludwig Wittgensteins und Ferdinand
Ebners. In: Sprache als Erkenntnis und als soziale Tatsache. Hrsg^ v. R. Haller, Wien
1981. Kenny A., Wittgenstein, Frankfurt a. M. 1974. McGuiness Fb. L.,
Wittgensteins fruhe Jahre, Frankfurt a. M. 1988. Terricabras J. M., Ludwig Wittgenstein.
Kommentar und Interpretation, Freburg 1978. WittgensteiriL., Schriften,
Frankfurt a. M. 1960 ff. О Фердинанде Эбнере: MethlaglW., Kampits P., К6nig Сh.,
Brandfellner F.- J., Gegen den Traum vom Geist: Ferdinand Ebner Beitrage zum
Symposium Gablitz 1980. Seyr F. (Hrg.), Ferdinand Ebner, Schriften, 3 Bde.,
Munchen 1963. Theunissen M., Ferdinand Ebner: Das Wort und die geistigen Reali-
taten. Pneumatologische Fragmente, Frankfurt a. M. 1980. Об Отто Вейнингере: LeRi-
der J., Le cas Otto Weininger, Paris 1982. Le Rider J., Leser N., (Hrg.), Otto Wei-
ninger. Werk und Wirkung, Wien 1984. Weininger O., Geschlecht und Charakter,
Munchen 1980. Его же: Uber die letzten Dinge, Munchen 1980. О Максе Адлере: Pf a-
bigan A., Leser N. (Hrg.), Max Adi er. Ausgewahlte Schriften, Wien 1981. Об От-
маре Шпанне: Becher W., Der Blick aufs Ganze. Das Weltbild Othmar Spanns,
Munchen 1985. HeinrichR., RiehlH., SchondorferU., SpannR, Westpha-
len F. (Hrg.), Othmar Spann. Gesamtausgabe, Graz 1979-1983. Pichler J. H.,
Othmar Spann oder die Welt als Ganzes, in: Monographien zur osterreichischen
Kultur- und Geistesgeschichte, Bd. 4, hrg. v. Kampits P., Wien 1988.
166
Примечания
1 J. G. F i с h t e, Reden an die deutsche Nation, Ges. Werke, Bd. V. S. 473.
2 Первая австрийская республика - с 12 ноября 1918 г. по март 1938 г. (аншлюсе,
поглощение Австрии гитлеровской Германией). Вторая республика — с 1945 г.
3 Томасу Бернхарду (род. 1931) принадлежат высказывания об австрийцах,
которым присуща «механическая монотонность в философском и эковомическом
отношениях», об Австрии как о «пустом месте в искусстве и культуре», о том, что «нигде
кроме Австрии не требуется таких усилий, чтобы сдвинуть с места умственную
работу, не говоря уже о том, чтобы довести ее до конца».
4 Конец столетия (фр.).
5 Австрийский император Иосиф (Йозеф) II (1741-1790), отсюда и название для
проводимого им курса просветительских реформ — «йозефинство».
6 Р. Музиль. Человек без свойств, кн. I, M. 1984, с, 289.
7 Кстати, умер он в римском лагере Виндабона (на территории современной
Вены).
8 Терпи и воздерживайся (лат.).
9 Дунайское товарищество (лат.),
10 Стоит отметить, что Брентано доводился племянником поэту-романтику Кле-
менсу Брентано и юристу Фридриху фон Савиньи.
11 В 1870 г. на I Ватиканском соборе.
12 В соответствии с австрийским законодательством бывшие священники не
имели права вступать в брак, поэтому Брентано венчался в Германии, а затем
вернулся в Вену - он не переносил ни прусского, ни протестантского духа германского
райха.
*3 Вейнингер пишет: «Возможно, при сотворении человека мужчина в
метафизическом и вневременном акте усвоил божественное начало, душу исключительно для
себя... Эту свою несправедливость по отношению к женщине он искупает теперь в
страдании любви, в которой он пытается возвратить женщине похищенную у нее
душу, хочет подарить ей душу, ибо чувствует свою вину перед женщиной за это
хищение. Ибо как раз перед возлюбленной его сильнее всего мучает это загадочное
чувство вины... Пожалуй, безнадежность этой попытки возвратить потерю ... может как-
то объяснить, почему не бывает счастливой любви» (О. Weininger. Geschlecht und
Charakter, цит. по; К amp its P. Schein und Wirklichkeit, S. 149).
14 Крещеный (в протестантскую веру) еврей Вейнингер был поклонником
английского философа Хустона Стюарта Чемберлена (1855-1927) и разделял его
расовую теорию.
15 См.: S. Freud, Briefe 1873-1939, Frankfurt a. M. 1968, S. 389, или: S. Freud,
Ges. Werke, Bd. 14, S. 86.
Je Теория обыденного, повседневного языка (англ.).
17 Это значит, что мысль и предложение дают образ действительности,
отображают ее. Однако отображение это не фотографическое: между фактами, мыслями и
предложениями существует лишь структурное тождество. В связи с этим
Витгенштейн называет предложение «образом действительности», учитывая при этом и
возможность ложного образа. См.: К a m p i t s P. Zwischen Schein und Wirklichkeit, S. 204.
18 Духовный предводитель (лат.).
19 В книге «Zwischen Schein und Wirklichkeit» (S. 160-161) Кампиц, развивая
эту мысль, цитирует Адлера: «Марксизм для Адлера прежде всего «наука об
общественной жизни и общественном развитии, и ее ключевые понятия — производительные
силы, производственные отношения, материальный базис и т. п.- будучи понятиями
социальными, носят всецело духовную природу». Адлер утверждает далее: «Как
только будет познана и усвоена эта точка зрения, произойдет замечательное
очеловечение и даже одухотворение материалистического понимания истории, благодаря
чему оно явится почти как применение к истории критической немецкой социальной
философии».
20 Конструирование мирного и сытого общества (англ.).
81 Человечность австрийской духовной культуры (лат.).
Перевод и примечания А. Б. Григорьева
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Рецензия на метод, или метод рецензии
Г. М.ТАВРИЗЯН
При всем реальном многообразии
рецензий есть черта, которую можно
считать общей для рецензий любого рода и
стиля: это благородное в основе своей
стремление рецензента превзойти автора,
в случае возникновения разногласий,
мерой приближения к истине,- разумеется,
при всей субъективности ее понимания
обеими сторонами. Копья ломаются во
имя некой правды, которую автор книги
и автор рецензии пытаются усмотреть,
каждый в свой черед, в меру возможного.
Рецензия в каком-то смысле
«стандартна», если она определяется этой
интенцией,- быть может, даже скучна. И
напротив, полное отсутствие такого
намерения у рецензента вполне может
обусловить незаурядность и неординарность его
произведения.
Нередки случаи, когда автор
рецензируемого труда имеет основания
жаловаться на то, что рецензент приписывает
ему неверно понятые положения. Книгу,
о которой идет речь, это бедствие
миновало: все то, что рецензент не понял или
понял на своеобразный манер, он
излагает от своего имени. Все же я не могу
совсем не чувствовать за это
ответственности и вынуждена обратиться к фактам,
в том числе и общеизвестным. Выпужде-
на, так как рецензент красивым
композиционным приемом прочно связал свои
рассуждения с моей книгой, на которую
он по всем этим положениям вовсе не
ссылается и сослаться не может.
Итак, прежде всего: как автор работы,
носящей название: «О. Шпенглер, Й. Хей-
зинга: две концепции кризиса культуры»
(подчеркну еще раз: две — а не одна!),
представляющей собой, по существу, две
монографии, связанные общей темой
исследования теоретических оснований
истории культуры (Kulturgeschichte) пер-
* См.: Свасьян К. А.-Г. М. Таври-
зян. О. Шпенглер, Й. Хейзинга: две
концепции кризиса культуры.— «Вопросы
философии», 1990, № 6 (с. 168-171).
вых десятилетий XX века, не могу не
выразить своего удивления по поводу
употребления рецензентом этих имен
неизменно в одном ряду, слитно, на одном
дыхании — по всем статьям: как
«визионеров истории», «ясновидцев
исторического прошлого», как «пророков,
обращенных вспять»; они же — непризнанные
историки, при этом оба «отмечены
стигматами философской «персона грата»,
оба - «авторы, пребывающие в
харизматической зоне письма»... Не
останавливается рецензент и перед
словообразованием «шпенглеровско-хейзинговский».
Они же — создатели «величайших
шедевров прозы XX века» (но не просто, а «к
стыду и смятению многих ex officio
мастеров прозы»). Да полно - не пора ли
разделить «сиамских близнецов»? Зачем
понадобилось рецензенту две фигуры,
отношение к которым со стороны автора
книги в высшей степени неодинаково
(было бы излишне эксплицировать здесь
эту тему) и которые в истории
общественной мысли занимают каждый свое,
особое, место, упоминать в такой
слитности? Корректно ли это? Резон этого
(как и очевидный резон рецензии в
целом) один: так эффектнее. Объединены
они по одному признаку: обоих не было
дано понять никому. Все же трудно
согласиться с тем, что задача эта
исторически встала впервые именно перед
рецензентом. И тем не менее не случайно
уже в. начале рецензии адресатом
взволнованных упреков К. А. Свасьяна
оказываются широкие круги «цеховых
философов» не в одном поколении, а также
историки, не признавшие О. Шпенглера и
Й. Хейзингу за «своих» (см. с. 169),-
все те, кому «чопорная
подведомственность и .специализированность
культурных доминионов» помешала в свое
время понять и оценить того и другого.
Констатируя таким образом своего рода
профессиональную неприкаянность
обоих, К. А. Свасьян вплотную подходит к
вопросу: «Так кто же [они]? Для отве-
168
та на этот вопрос пришлось бы
отвлечься от легальной табели о рангах
современных научных профессий...» и т. д.
(с. 169). Думается, однако, что для
ответа на этот вопрос требовалось
значительно меньше. Достаточно было упомянуть
общеизвестное понятие Kulturgeschichte:
вклад в этот «культурный доминион»,
принадлежность ему творчества О. Шпен-
глера, Й. Хейзинги, насколько мне
известно, еще никем не оспаривались -
правда, тогда пришлось бы пожертвовать
всем пространным, красивым, а главное,
поучительным пассажем о
преимуществах «интуитивного метода» над тем,
который рецензент называет
«аналитически-концептуальным» либо
«критическим». (Кавычки здесь объясняются тем,
что словам, которые в этой связи вводит
в оборот К. А. Свасьян, трудно подобрать
синонимы в ряду привычных категорий.
Так, основной характеристикой
«концептуально-аналитического» метода являет*
ся его изначальная, принципиальная
неадекватность (см. с. 169); это - цитирую
К. А. Свасьяна - где «меньше»
[аналитический метод] «покушается на
«больше» [интуитивный метод] и где
«больше» одновременно выступает в роли
регулятора, не позволяющего «меньше»
впасть в своего рода рассудочную
невменяемость и вести себя так, словно бы
само оно только и было — «больше»
(врожденный порок философской
аналитики как таковой)» (с. 170),
Но вернемся к сюжету,
предложенному нам К. А. Свасьяном. Что же,
неужели история действительно обошла славой
крупнейшего немецкого философа и
замечательного нидерландского историка?
Действительно ли Хейзинга - изгой
исторической науки, а Шпенглера признают
философом только натуры, родственные
ему по духу? Действительно ли Шпенглер
не вошел, притом сразу и на долгие годы,
в философию (и даже — в
«ведомственную»)? Зачем же К. А. Свасьяну -
образованному, начитаннейшему философу —
нужна эта волнующая инсценировка?
Не очень понятна филиппика
рецензента по поводу недооценки (по рецензии —
полного игнорирования) нидерландского
историка его современниками,
представителями исторической науки; точнее, не
очень понятно, к кому обращен ее пафос.
Говорится это, возможно, в укор
автору,— а может быть, в назидание
читателю. (Замечу, справедливости ради: речь
вовсе не всегда напрямую адресована
автору книги, отнюдь нет. Рецензия в этом
отношении вполне демократична:
автору предоставляется полная свобода
самому выбирать, что отнести на свой счет,
а что - нет). Между тем в книге о
неоднозначном отношении к новаторским
поискам Хейзинги со стороны
представителей академической среды, традиционной
историографии, как и о собственной
необычной историографической манере
Хейзинги, блистательной литературной
стороне его трудов, сказано немало (в
первую очередь в главе: «О некоторых
историографических принципах Й.
Хейзинги», фактически же — во всех
разделах, посвященных историку). Рецензент
этого не заметил и решил рассказать об
этом сам. Хотелось бы сделать еще одно
небольшое примечание. Если мы высоко
чтим голландского историка, это ещё
вовсе не значит, что все те критические
соображения, которые высказывались в
его адрес, должны быть аннулированы
одним росчерком пера, списаны на счет
ограниченного кругозора его оппонентов
либо «врожденного порока аналитики как
таковой». Высказывались эти
соображения обычно видными историками,
деятелями культуры; мнений же
«подведомственных чиновников» история для
нас почти не сберегла.
Далее. При всем своеобразии взглядов
на предмет истории, на специфику
исторического познания Хейзинга фактически
всю жизнь работал над проблемами
метода; - обоснование собственного метода
содержится во многих его работах. Это
достаточно известно, это очевидно хотя
бы из книги. Все это не мешает
рецензенту утверждать: здесь и не пахнет так
называемой «методологией».
В целом рецензия сделана так, что,
будучи вынужден изредка напоминать о
том, что у тебя в книге, испытываешь
чувство неловкости, ненужности: в самом
деле — до того ли?..
Там, где текст рецензии уже вплотную,
без экивоков, приближен к книге,
возникает следующий упрек: «Пафос
дистанции пронизывает не одну страницу
книги, и автор то и дело напоминает
читателю, с кем, собственно, он (скорее они —
автор и читатель) имеет дело» (с. 169).
Если отвлечься от несколько
нетрадиционной для дискуссий о методе
постановки вопроса (хотя, видимо, и в этом тоже —
специфика «критико-аналитического»
метода: не дать читателю забыть, с кем он
имеет дело), то остается вопрос: почему
же не быть «дистанции»? Прежде всего,
мне бы хотелось, чтобы фигуры О.
Шпенглера и Й. Хейзинги были разъединены
хотя бы по этому случаю. И не будем
жертвами полемического пыла,
рассуждая, все на том же примере, об
«интуитивно-неприкосновенной цели», доказывая
«критическую табуированность
названного типа мышления» (кстати, мысль, не
очень ясно выраженная): сколь бы
велик и уникален ни был Шпенглер,— а с
этим автор заведомо согласен, о чем
свидетельствуют как данная книга, так и
другие его работы,- тот,, кто хотел бы
здесь панегирика «без дистанции»,
романтически постулируемого постижения
через сродство душ, натолкнулся бы
прежде всего на толщу внутреннего
интеллектуального сопротивления всей западной
культуры. Как это ни «парадоксально»,
именно всей. (Какое уж там «критическое
табуирование»...) Трудно предположить,
что К. А. Свасьян, чья эрудиция достойна
всяческого уважения, действительно не
подозревает, что отношение в мировой
культуре к Шпенглеру сложилось, в силу
169
объективных причин, противоречивое, но
увы! — для всех «дистанционное».
Огромное влияние его культурологии на XX
век признают, очевидно, многие,— но кто
в целом мире стал бы претендовать на
репутацию «шпенглерианца»? Известно
рецензенту и отношение к Шпенглеру
русских философов: Н. А. Бердяева,
С. Л. Франка и других. Так на кого же
рассчитана вся эта мистификация?
Кроме того, вряд ли стоит то» что в
собственных трудах является предметом
постоянных насмешек, едкого
иронизирования (ибо как иначе назвать хлест-
ские выражения в адрес Шпенглера типа
«брезгливый антипозитивист», его же
«пресыщенное кривляние» и многое тому
подобное? В книге «Проблема символа в
современной философии» немногим
больше повезло и Хейзинге), в другом
тексте, а точнее говоря, на полях черного
текста, в рецензии,— преподносить в
качестве «интутивно-неприкосновенной
цели». На таком примере обоснование
преимуществ «интуитивного метода»
выглядит малоубедительным.
Семантическая сфера разговора о
методе в рецензии значительно шире того,
что может предложить в данном случае
традиционная лексика. Нескованный
стиль рецензии позволяет свободно
смодулировать в другие области, и вот
visa-vis интуиции возникают «таможенный
досмотр и прочие процедуры
критического анализа» как неотъемлемая функция
«аналитики»; когда же к этому
добавляются и «столь частые поминания
Маркса» (на чем, видимо, ассоциативный ряд,
связанный для читателя с «критикой»,
«аналитикой» и «концептуальностью»,
должен замкнуться!), окончательно
убеждаешься в аллегорическом
характере противопоставления двух «методов».
Так, своевременный разговор о методах
может позволить, не затрачивая особых
усилий и пожертвовав истиной
исторических реалий, оказаться в русле
поверхностной моды, при повышенном спросе
на «неизъяснимое», внерациональное
произвести впечатление на тех, кому
импонирует всякий разговор об «интуиции»;
и напротив, слово «критический»,
извечное и самое существенное в философском
словаре, может быть в том же контексте
и в глазах того же читателя запросто
отнесено к числу непопулярных,- если
этому читателю намекнуть, что
«критическое» в философии - это пережиток
идеологии. (Разумеется, менее всего я
склонна оспаривать возможности
интуитивного познания или односторонне
превозносить так называемую «аналитику»
либо «критику»: но, откровенно говоря,
совершенно непонятно, во-первых,
какой смысл (за вычетом
аллегорического) имеют эти слова в тексте К. А. Сва-
сьяна, по какому признаку он
квалифицирует ту или иную работу как
«непосредственно-интуитивную» либо
«концепту ал ьно-аналитияескую», и, во-вторых,
как можно всерьез обсуждать проблемы
познания, изолировав и воинственно
противопоставив друг другу два
вышеупомянутых «метода», декларативно
дискредитировав один из них (он заранее «чреват
аберрациями»,-с. 169, и т. д. и т. п.).
И вновь - «сколько Маркса» — только
уже, в духе неоконъюнктуры, с
обратным отсчетом.
На этом фоне похвалы в адрес
книги,- на которые К. А. Свасьян не
скупится,— как-то не радуют, фраза, которая
должна окончательно оттенить
великодушный тон рецензии, о «высоком
достоинстве книги, взвалившей на себя все
тяготы и наделенной в то же время
всеми льготами первенца» (с. 171),—
озадачивает. Ну с льготами — ясно,
подразумевается сама рецензия, а с первенцем?
Что же, так-таки ничего не было в
отечественной литературе в области
истории зарубежной философии и культуры
за последние десятилетия? Никто не брал
на себя «тягот»?.. Льгот, конечно, было
не так много, а работы как раз были.
И яркие. По истории мысли, по
культуре и, конкретно, о Шпенглере.
Меньше числом, но также интересные - о
Хейзинге. Все они названы в моей
книге, на ряд из них я неоднократно
ссылаюсь; многие из авторов пользуются
международным признанием. Рецензент
этого не заметил, хотя ему известны все
эти имена. Как уже отмечалось,- не до
того... Видимо, и здесь не хотелось
отстать от моды; той, довольно
поверхностной, в русле которой в одном из
недавних номеров «Советской культуры»
(газеты, очень мной уважаемой) автор
статьи на свой страх и риск утверждал,
что до сего времени философы писали о
Сартре, о Камю, о Хайдеггере и Ясперсе
и обо всех других, не читая их.
В итоге: может быть, лучше было бы
написать эссе, положив в основу этот
синтез публицистики, художественной
прозы и методологических аллегорий,
а не эксплуатировать для этого имеющий
более скромные рамки и задачи жанр
рецензии?
Мераб Константинович Мамардашвили
25 ноября 1990 года скоропостижно скончался М. К. Мамардашвили.
Мераб Константинович родился в Грузии, в г. Гори 15 сентября 1930 г.
Философский факультет и аспирантуру он окончил в Москве, в 1961 г.
защитил кандидатскую, а в 1970 г.—докторскую диссертации. Работал
в редакции журнала «Вопросы философии» в 1957—1961 гг., а затем в
должности заместителя главного редактора — в 1967—1977гг. В 1961—1966гг.
работал в журнале «Проблемы мира и социализма», позже — в научных
институтах Москвы. В 1980 г. Мераб Константинович переехал в Грузию,
где работал в Институте философии, сначала заведующим отделом, затем
главным научным сотрудником.
М. К. Мамардашвили — автор многочисленных работ, всегда
вызывавших при своем появлении острый интерес в философских и научных
кругах. Среди них: «К проблеме метода истории философии» («ВФ», 1965,
№ 6), «Анализ сознания в работах Маркса» («ВФ», 1968, № 6), «Формы
и содержание мышления» (М., 1968), «Классическая и современная
философия» (М., 1972 — в соавторстве), «Проблема объективного метода в
психологии» («ВФ», 1977, № 7 — в соавторстве), «Символ и сознание»
(Иерусалим, 1982 — в соавторстве), «Классический и неклассический
идеалы рациональности» (Тбилиси, 1984), «Как я понимаю философию»
(М., 1990).
В 70—80-х годах широкое признание получают лекции М. К.
Мамардашвили, которые он читает на психологическом факультете МГУ, в
Институте общей и педагогической психологии АПН СССР. Записи этих
лекций, посвященных Декарту, Канту и другим мыслителям, еще
предстоит систематизировать и издать. Философствование вслух было
любимым творческим занятием Мераба Константиновича, которому он отдавал
много времени и сил. Рукописное наследие философа также велико, это
по крайней мере несколько книг, которые он так и не успел завершить
и опубликовать.
Несколько лет жизни М. К. Мамардашвили посвятил^ нашему
журналу. Его всегда отличали высочайший интеллектуальный уровень,
безупречный вкус в подборе публикуехмых материалов, прогрессивная
научная позиция.
М. К. Мамардашвили - выдающийся философский ум, авторитет его
высок в широкой среде ученых-гуманитариев. Научное наследие М. К.
Мамардашвили наверняка будет разрабатываться в ближайшие годы
следующими поколениями. Похоронен он в Тбилиси. Вклад его в развитие
философии в Грузии велик. И в то же время он - несомненно российский
философ, обогативший русскую философскую культуру.
Ушел из жизни наш товарищ, прекрасный человек, которого очень
любили его друзья, которым восхищалась молодежь, глубину суждений
которого признавали и недруги. Мы никогда не сможем забыть его
светлый облик.
Указатель статей, помещенных в журнале
«Вопросы философии» за 1990 год
Статьи и публикации
№№ Стр.
Аксаков К. С- О некоторых современных собственно литературных
вопросах (Предисловие В. А. Кошелева) 2 158
А р а б - О г л ы Э. А.— Европейская цивилизация я общечеловеческие цен- 8 10
ности 8 10
Асмус В. Ф.- Философия в Киевском университете в 1914-1920 годах 8 90
Ахути н А. В.— София и черт (Кант перед лицом русской религиозной
метафизики) 1 51
Бакунин М. А.- Коррупция.- О Макиавелли.- Развитие
государственности (Предисловие И. М. Пирумовой) 12 53
Барабанов Е. В.- Новая политическая теология И. Б. Меца и Ю. Мольт-
манна 9 76
Барабанов Е. В.— «Русская идея» в эсхатологической перспективе . . t 8 62
Баталов Э. Я.— Единство в многообразии — принцип живого мира ._ . . ' 8 13
Белый А.-Пути культуры (Предисловие Э. И. Чистяковой) 11 91
Бергсон А.-Здравый смысл и классическое образование (Предисловие
И. И. Блауберг) . . . 1 163
Бердяев Н. А.- Русская идея . . . • 1.2 77
' " г 87
Блауберг И. И.—Анархизм: что мы о нем знаем? ...- ~. 3 165
Бори П. Ч.— Новое прочтение «Трех разговоров» и повести об антихристе
Вл. Соловьева, конфликт двух универсализмов 9 27
Булгаков С. П.-Письма С. Н. Дурылину (Предисловие и примечания
М. А, Рашковской и Е, Б. Рашковского) 3 156
Бутенко А. П., Кадочникова Т. Г.- Становление социалистического
общества и казарменный социализм 6 46
Валицкий А,- Россия 12 67
Воронин П. П.- Разумность мироустройства - глазами физика .... 8 36
Вышеславцев Б. П.- Сердце в христианской и индийской мистике
(Предисловие Н. К. Гаврюшина) 4 62
Га ген-Торн Н. И.- Вольфыла: Вольно-Философская Ассоциация в
Ленинграде в 1920-1922 гг. (Предисловие и публикация Г, Ю. Гаеен-
Торн) 4 88
Гвардини Р.- Конец нового времени (Предисловие П. П. Гайденко) . . 4 127
Геллер М. Я.- «Первое предостережение» - удар хлыстом 9 37
Гройс Б.-Русский авангард по обе стороны «черного квадрата» ... И 67
Гуревич А. Я.— Социальная история и историческая наука 4 23
Гуревич А. Я.-Теория формаций и реальность истории И 31
Гусейнов А. А.— Мораль и насилие 5 127
Дарендорф Р.- Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в
Восточной Европе 9 69
Дилигенский Г. Г.— В защиту человеческой индивидуальности ... 3 31
Дилигенский Г. Г., Лекторский В. А.- Проблемы целостного мира
(диалог) \2 32
Замошкин Ю. А.-«Конец истории»: идеологизм и реализм 3 148
Зинченко В. П.- Наука - неотъемлемая часть культуры? 1 33
Ильенков Э. В.-Свобода воли (Предисловие А. Г. Новохатъко) ... 2 69
И о н и н Л. Г.— Две реальности «Мастера и Маргариты» 2 44
К а м п и ц П.- Австрийская философия 12 150
Кантор К. М,— Два проекта всемирной исторгли 2 76
Кара-Мурза С. Г.- Наука и кризис цивилизации 9 3
Карасев Л. В.— Знаки покинутого детства («постоянное» у А. Платонева) 2 26
172
Стр.
К е л л е В. Ж., Ковальзон М. Я.— Общественная наука и практика . 12 44
Келли А.-Самоцензура и русская интеллигенция: 1905-1914 .... 10 52
К и н Ц. И.- Три трагедии 4 105
Кистяковский Б. А.— Государство правовое и социалистическое . . 6 141
К н а б е Г. С- Феномен рока и контр-культура 8 39
Коган Л. А.-Философия Н. Ф. Федорова 11 74
Коровиков В. И.— Начало и первый погром 2 65
Кош и В.-Философия мира в ядерный век 5 137
Красин Ю. А.- Взаимодействие общественных систем в целостном мире 8 3
Кудрявцев В. Н., Л у к а ш е в а Е. А.- Новое политическое мышление и
права человека 5 3
Курц П.—Гуманизм и атеизм (Предисловие Л. Н. Митрохина) .... 10 166
Кустарев А.— Начало русской революции: версия Макса Вебера ... 8 119
Лаут Р.- К вопросу о генезисе «Легенды о Великом Инквизиторе» ... 1 70
Лекторский В. А.- К читателям 1 3
Л е ф е в р В. А.— От психофизики к моделированию души 7 25
Лихачев Д. С— О национальном характере русских 4 3
Мамардашвили М. К.— Сознание как философская проблема .... 10 3
Межуев В. М.- Социализм как идея и как реальность 11 18
Me йен С. В.—Академическая наука? 9 16
М е н ь А.- О Тейаре де Шардене .12 89
М е ц И. В.- Будущее христианства 9 83
Мешков А. Н.- Веха в истории русского просвещения 11 100
М и г д а л А. Б,— Физика и философия -. 1 5
Мигранян А. М.-Переосмысливая консерватизм . 11 114
Михайлов Ф. Т.— Слово об Ильенкове .■ 2 56
Моисеев Н. Н.- Человек во Вселенной и на Земле ......... 6 32
Мольтманн Ю.— Теология надежды 9 132
Нанивская В. Т.—Анатомия репрессивного сознания (как создавалась
отечественная школа) 5 47
Неретина С. С- История с методологией истории 9 149
Нерсесянц В. С- Прогресс равенства и будущность социализма ... 3 46
Овчинников Н. Ф.-Б. Л. Пастернак: поиски призвания (от
философии к поэзии) 4 7
Огурцов А. П.—Наука: власть и коммуникация
(социально-философские аспекты) л ...... 11 3
О й з е р м а н Т. И.- Мысли, афоризмы • .«..у. 10 153
Ору элл Дне.— Артур Кестлер (Послесловие А. М. Зверева) ..... 10 67
Петров М. К.— Человек и культура в научно-технической революции
(Предисловие С. С. Неретиной) 5 79
П л а н к М.- Религия и естествознание 8 25
Поварни н С— Спор. О теории и практике спора , - 3 57
Померанц Г. С- История в сослагательном наклонении 11 55
Рашковский Е. В.- Пастернак и Тейяр де Шарден 8 160
Родоман Б. Б.- Уроки географии _••*••••*_••>• 4 36
Розов М. А,- От зерен фасоли к зернам истины ..." 7 42
Савицкая Э.~ Закономерности формирования «модели культурного
человека» _. . . . • . _ 5 61
Санин А. А.- В бой идут одни старики - . 9 67
Сахаров А. Д.- Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и
интеллектуальной свободе 2 4
Свинцов В. И.-Полуправда — .-.-..- 6 53
Стоянович С.— От марксизма к постмарксизму (Предисловие М. Н.
Грецкого) 1 145
Т и ш к о в В. А.— Социальное и национальное в историко-антропологической
перспективе 12 3
Троцкий Л. Д.- Р1х мораль и наша 5 105
Ульянов Н. И.-«Басманный философ» (Предисловие В. А. Кошелева
и А. В. Чернова) 8 74
Федотов Г. П.- Лицо России. Carmen saeculare. Православие и
историческая критика. Александр Невский и Карл Маркс. Как Сталин видит
историю России? (Предисловие В. В. Сербиненко) 8 131
Филатов В. П.- Образы науки в русской культуре 5 34
Флашен Л.-Книга (Послесловие М. В. Гнедовского) 6 62
Флоровский Г. В.- Метафизические предпосылки утопизма
(Предисловие В. В. Сербиненко) 10 7S
Франк С. Л.-Смысл жизни (Предисловие Ю. П. Сенокосова) .... 6 68
Фрейденберг О. М.- Утопия (Предисловие Н. В. Брагинской) ... 5 148
фуку ям а Ф.- Конец истории? Я 134
фурман Д. Е.- Наши тревоги и всемирная история И 44
173
Стр.
Хайдеггер М.- Слова Ницше «Бог мертв» {Предисловие А, В.
Михайлова) 7 143
X а н е к Ф. А.- Дорога к рабству (Предисловие Р, И. КапеЛюшникова) 10,11, 12 113
103
Чанышев А. Н.-Трактат о небытии . . . . . . . . *; «-- • .-. . 10 158
Шамшурин В. И.- Человек и государство в русской философии
естественного права „ 2 • • • • 6 132
Шанин Т.-Формы хозяйства вне систем . . . ... ...«•-$... 8 109
Шестов Л.- Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше (Послесловие
В. В. Ерофеева) 7 59
Ш р е й д е р 10. А,- Человеческая рефлексия и две системы этического
сознания . •_•-•••_•*> -г.* j • ^ 32
Юдин Б. Г.-Социальный генезис советской науки . . . , . .-..,,>. 12 16
«Круглые столы», обсуждения
Кинематограф и культура (Материалы ((круглого стола»)» Выступили:
A. С. Смирнов, С. В. Дробашенко, К. М. Долгов, К. Э. Разлогов, Р* А. Нуг-
манов, Л. А. Аннинский, Г. Г. Курьерова, А. Б. Гребнев, Э. В. Лотяну,
О. И. Гейисаретский, Т. Ладди (США), М. М. Хуциев, В. А. Подорога,
Ю. А. Богомолов 3 3
Молодежь в современном мире: проблемы и суждения (Материалы
«круглого стола»). Выступили: И. С. Кон, Л. А. Радзиховский, М. И.
Новинская, Т. В. Чередниченко, Д. И. Фельдштейн, А. Г. Асмолов, В. Ф. Ле-
вичева, Ю. Н. Давыдов, А. В. Толстых * 5 12
Перестройка и нравственность (Материалы «круглого стола»).
Выступили: А. А. Гусейнов, И. М. Клямкин, А. И. Титаренко, В. С. Библер,
Г. С. Батищев, КХ В. Согомонов, Л, Н. Митрохин #.*... 7 3
Право. Свобода. Демократия (Материалы «круглого стола»). Выступи-
л и: Э. Ю. Соловьев, В. М. Межуев, Э. Я. Баталов, В. С. Нерсесянц,
B. Ж. Келле, Г, В. Мальцев* В. А. Смирнов, В. Д. Зорькин, А* Ф. Зотов,
М. Я. Ковальзон, Л. С. Мамут »•....*. 6 3
Умер ли марксизм? (Материалы дискуссии). Выступили: В. И. Толстых,
В. С. Степин, Э. Ю. Соловьев, В. Ж. Келле, А. А. Гусейнов, А. И.
Гельман, Ф. Т. Михайлов, В. М. Межуев, К. X, Момджян .,..-♦-... 10 19
Наши интервью
Интервью с Л. В. Карпинским ...„..•♦..._... 4 48
Интервью с В. А. Лефевром _ • • • • «S •_*• .••_.. 7 52
Интервью с А. М. Пятигорским .t...... 5 93
Интервью с В. Хёсле ...._........ 11 107
Интервью с Т. Шаниным ,...». . ^.* • ...... 8 115
Из редакционной почты
Авраамов Д. С*- О профессиональной этике журналиста 5 168
Вересов Н. Н.- Научные метафоры и недоуменные вопросы .... 11 169
Гусев В л.- Драмы свободы 3 170
Занусси К.- Что будет с Европой? ..'....- 4 164
Поливанов М. К.- О судьбе Г. Г. Шпета 6 160
Раушенбах Б. В.-О логике триединости 11 166
Свирский С. Я.- В науке нет «царского пути» .......... 8 167
Тавризян Г. М.-Рецензия на метод, или метод рецензии . . . . . 12 168
Критика и библиография
Аладьин В. Г.- Из истории философии Латинской Америки XX века . . 5 173
Васильева Т. В.— Востребовать невостребованное наследство .... 9 168
Донских О. А. (Новосибирск) - А* П. Огурцов. Дисциплинарная
структура науки: ее генезис и обоснование _. 4 171
К о б з е в А. И.— Л. С. Васильев. Проблемы генезиса китайской мысли . . 8 174
Колеров М. А., Плотников Н. С,- О новых публикациях работ
Н. А. Бердяева .--«• 9 164
Кукаркин-Шапиро А. 3.- Б. С. Братусь. Аномалии личности ... 3 173
Малахов В. С— Буква и дух: к проблеме издания философского
наследия _ 4 169
174
Назаров В. Н.-Листы Сада Мории; Учение ЖИВОЙ ЭТИКИ .... 11 174
Новик И. В., У е м о в А. И.- А. А. Богданов. Тектология. Всеобщая
организационная наука и 172
Обсуждение учебника «Введение в философию» . . . 8 169
Дружинина А. А-.- 3. Фрейд. Введение в психоанализ 3 172
Пустарнаков В. Ф.- А. А. Галактионов, П. Ф. Никандров. Русская
философия IX - XIX вв 4 167
Руткевич А. М.- В. М. Лейбин. Фрейд, психоанализ и современная
западная философия 6 171
Свасьян К. А,-Г. М. Тавризяя. О. Шпенглер, Й. Хейзинга: две
концепции кризиса культуры . . 6 168
СемушкинА. В. (Днепропетровск) -Ж. П. Вернан. Происхождение*
древнегреческой мысли 1 169
Сербиненко В. В.- В. К. Шохин. Древняя Индия в культуре Руси
(XI - середина XV в.) * 1 J72
Тит арен ко А. И., Во лченко Л. В.- М. С. Каган. Мир общения ... 5 172
Ярошевский М. Г.- К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский.
Философско-психологическая концепция С. Л. Рубинштейна .... 6 165
К нашим подписчикам * , 7 2
Конкурс по теме «Социализм и отчуждение» . . . . / \* 6 174
К сведению авторов ~ ' 5 2
Объявление общества «Радонеж» ....*.. " . 6 174
От Института философии АН СССР ......;.. 4 174
От Советского национального комитета по истории и философии науки и
техники - .... 3 175
От Советского оргкомитета по подготовке к IX Международному конгрессу
по логике, методологии и философии науки 9 174
Проблемы информатизации общества и развития науки 5 175
Некролог |Игорь Викторович Блауберг[. . в . . . , ....... -. . 9 173
Некролог |Мераб Константинович Мамардашвили | 12 171
Некролог [Нина Федоровна Уткина| „ . .- 10 175
Наши авторы
тишков
Валерий Александрович
ЮДИН
Борис Григорьевич
КЕЛЛЕ
Владислав Жановдч
КОВАЛЬЗОН
Матвей Яковлевич
ДИЛИГЕНСКИЙ
Герман Германович
ЛЕКТОРСКИЙ
Владислав
Александрович
ПИРУМОВА
Наталья Михайловна
ВАЛИЦКИЙ
Анджей
КАМПИЦ
Петер
ТАВРИЗЯН
Гаяне Михаиловна
- доктор исторических наук, директор Института
этнографии АН СССР
— доктор философских наук, главный редактор журнала
«Человек»
— доктор философских .наук, главный научный сотрудник
Института истории естествознания и техники АН СССР
- доктор философских наук, профессор кафедры
философии гуманитарных факультетов МГУ им. М. В.
Ломоносова
— доктор исторических наук, главный редактор журнала
«Мировая экономика и международные отношения»
- доктор философских наук, главный редактор журнала
«Вопросы философии»
— доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института истории АН СССР
- профессор Нотр-Дамекого университета (США)
- профессор Венского университета (Австрия)
— доктор философских наук, ведущий научный
сотрудник Института философии АН СССР
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В. А. Лекторский (главный редактор), Г. С. Арефьева, А. И. Володии, П. П. Гайденко,
Б. Т. Григорьяк, В. П. Зинченко, А. Ф. Зотов, В. Ж. Келле, Л. Н. Митрохин, Н. Н.
Моисеев, И. В* Мотрошилова, В. И. Мудрагей (заместитель главного редактора),
Т. И. Ойзерман, В. А. Смирнов, В. С. Стенин, В. С. Швырев, А. А. Яковлев
(ответственный секретарь).
Технический редактор Е. А. Колесникова
Формат 70xl08Vi6
Уч.-изд. л. 17,31
Сдано в набор 31.10.90 Подписано к печати 26.12.90
Печать высокая Усл. печ. л. 15,4 Усл. кр.-отт. 15,75
Тираж 82 000 экз. Заказ 663 Цена 80 коп.
Адрес редакции: 121002, Москва, Г-2, Смоленский бульвар, 20. Телефон 201-56-86
Набрано и сматрицировано во 2-й типографии «Наука»,
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.
Отпечатано в ордена Ленина типографии
«Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16,
Зак. 1700