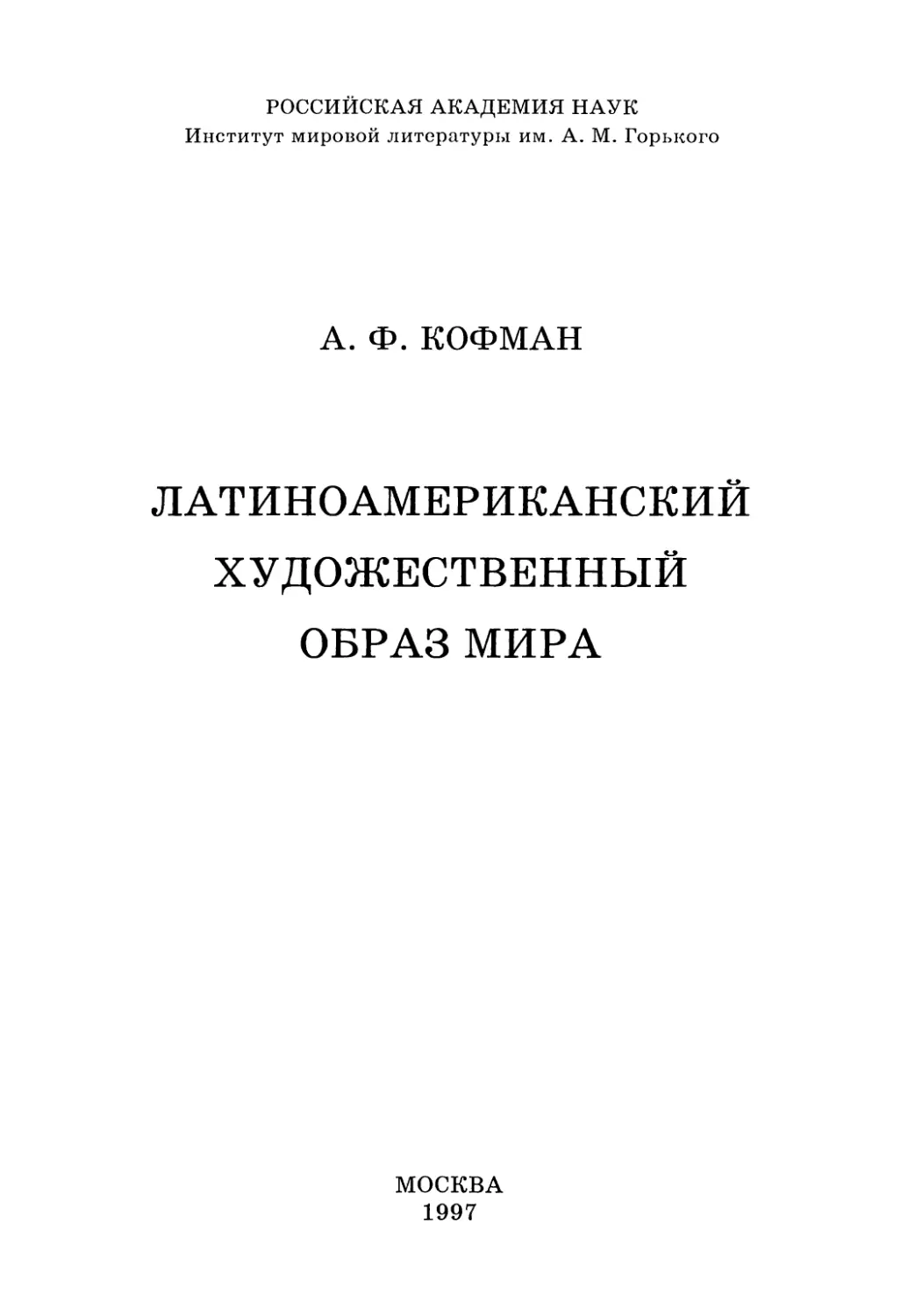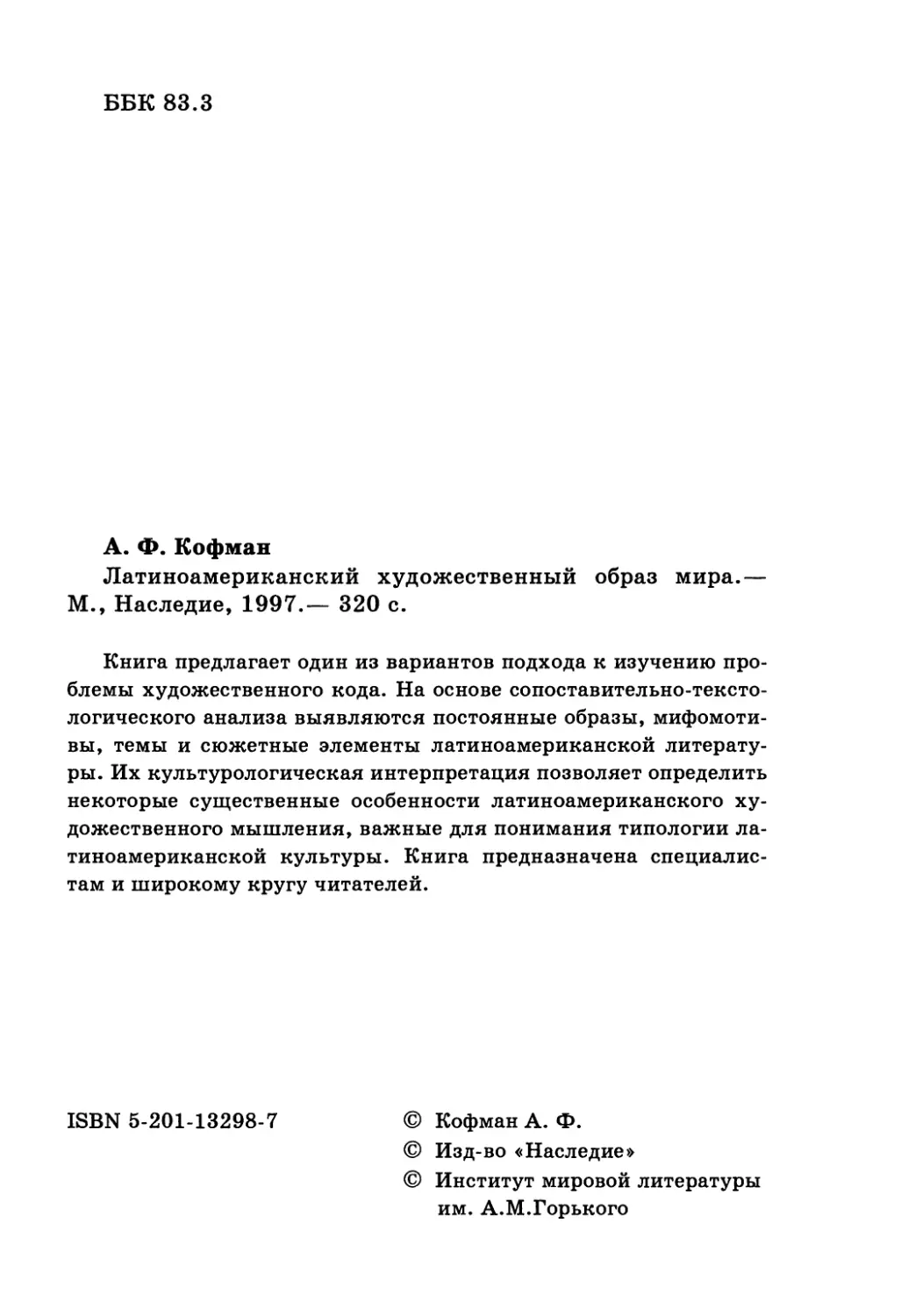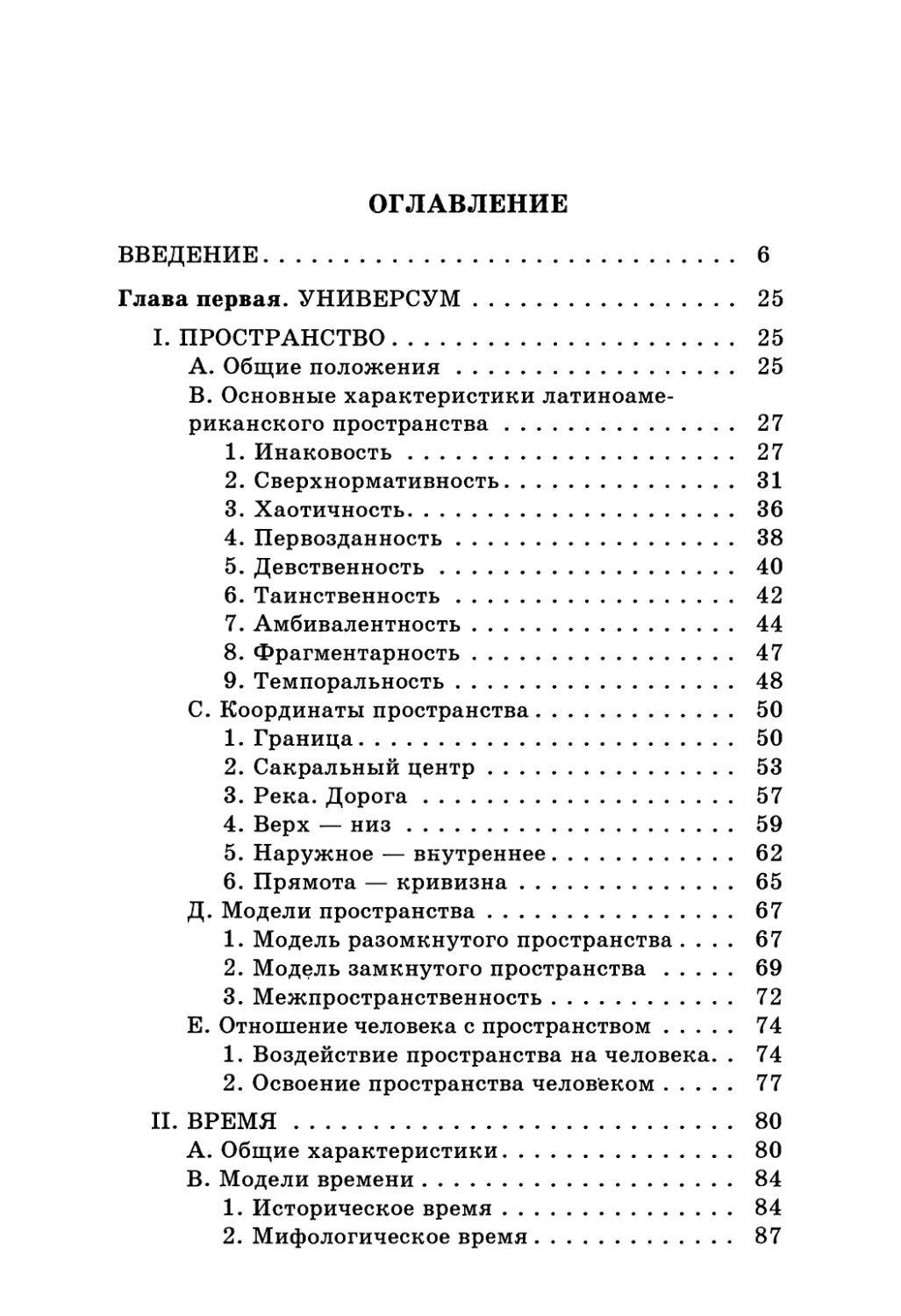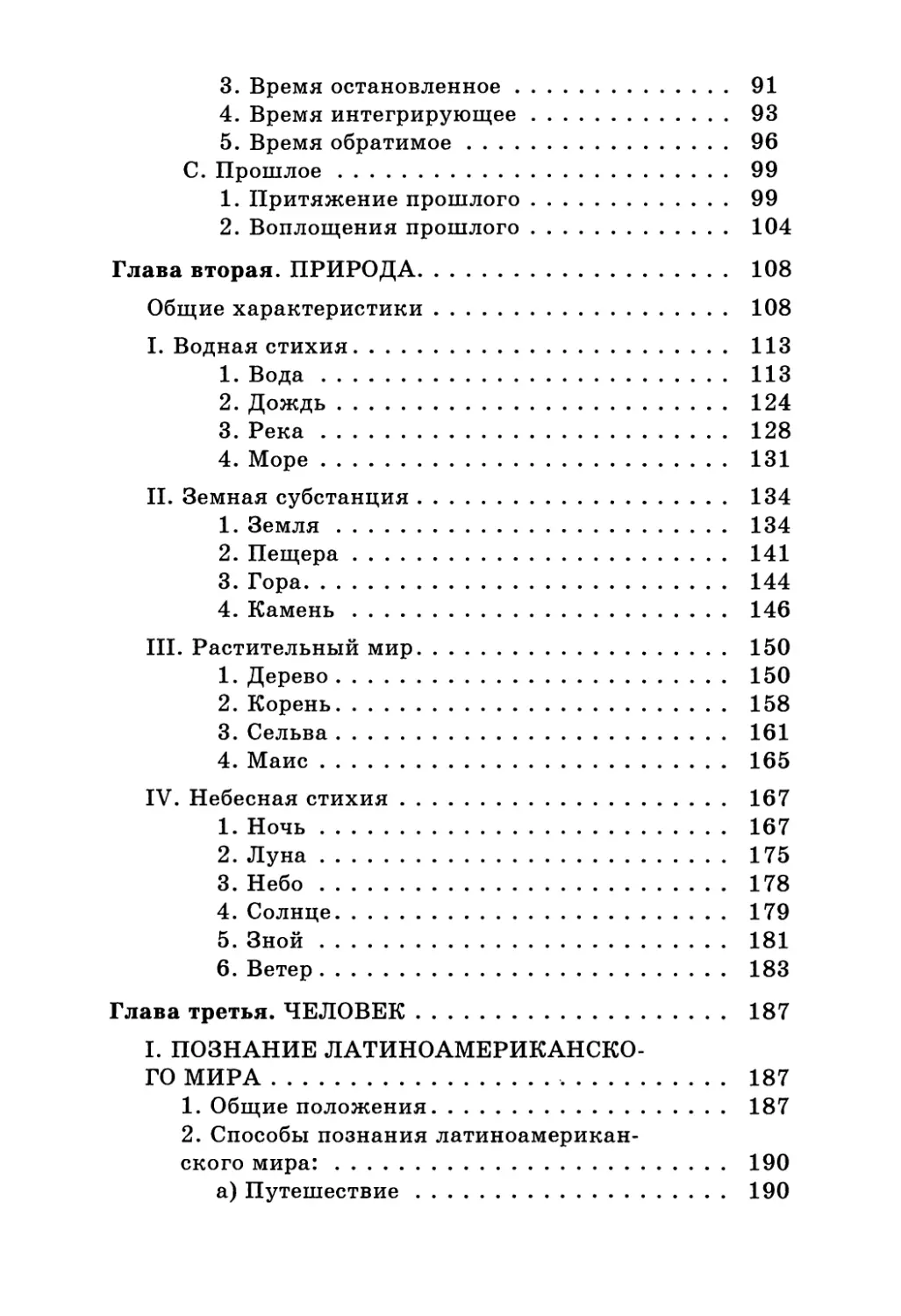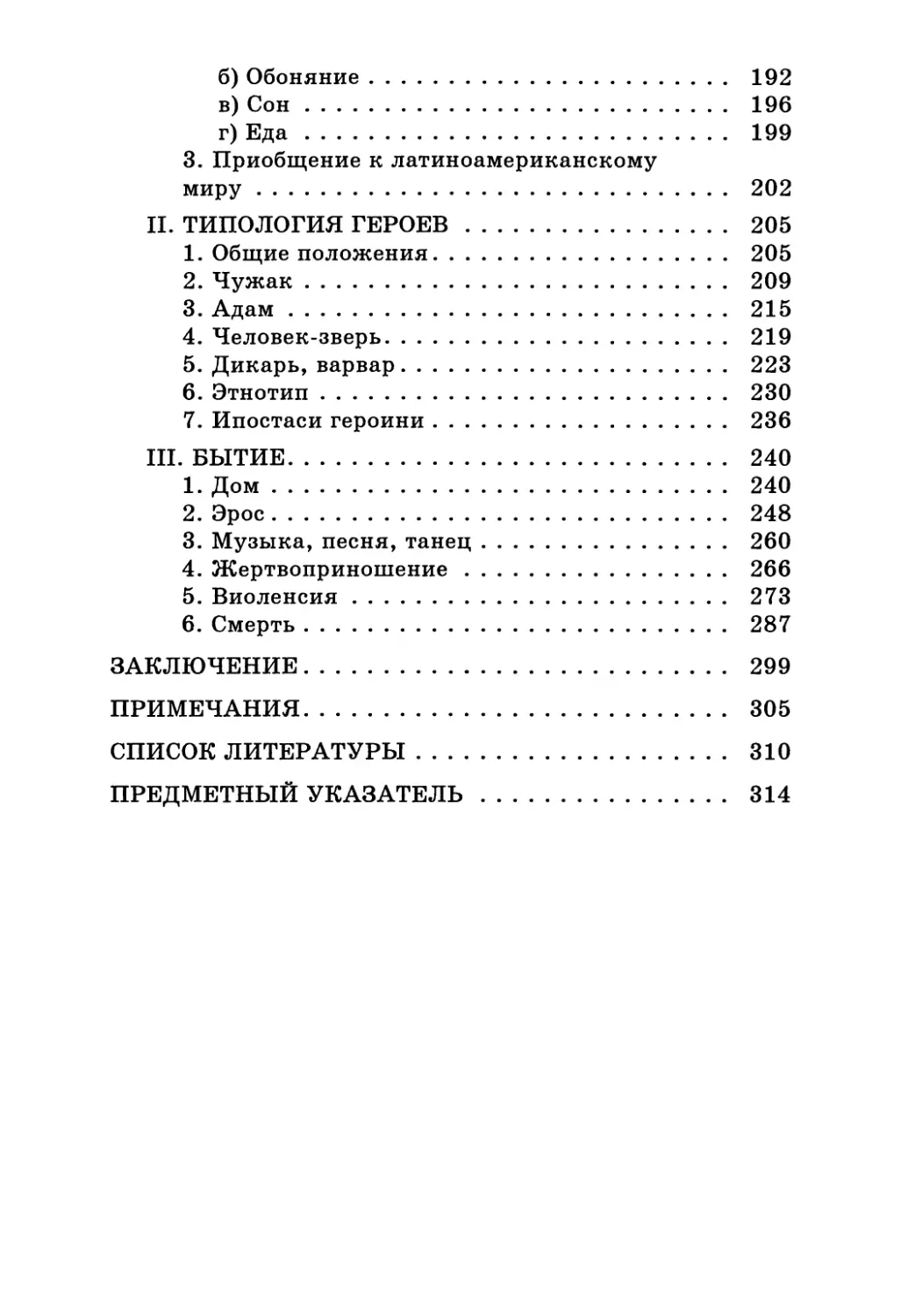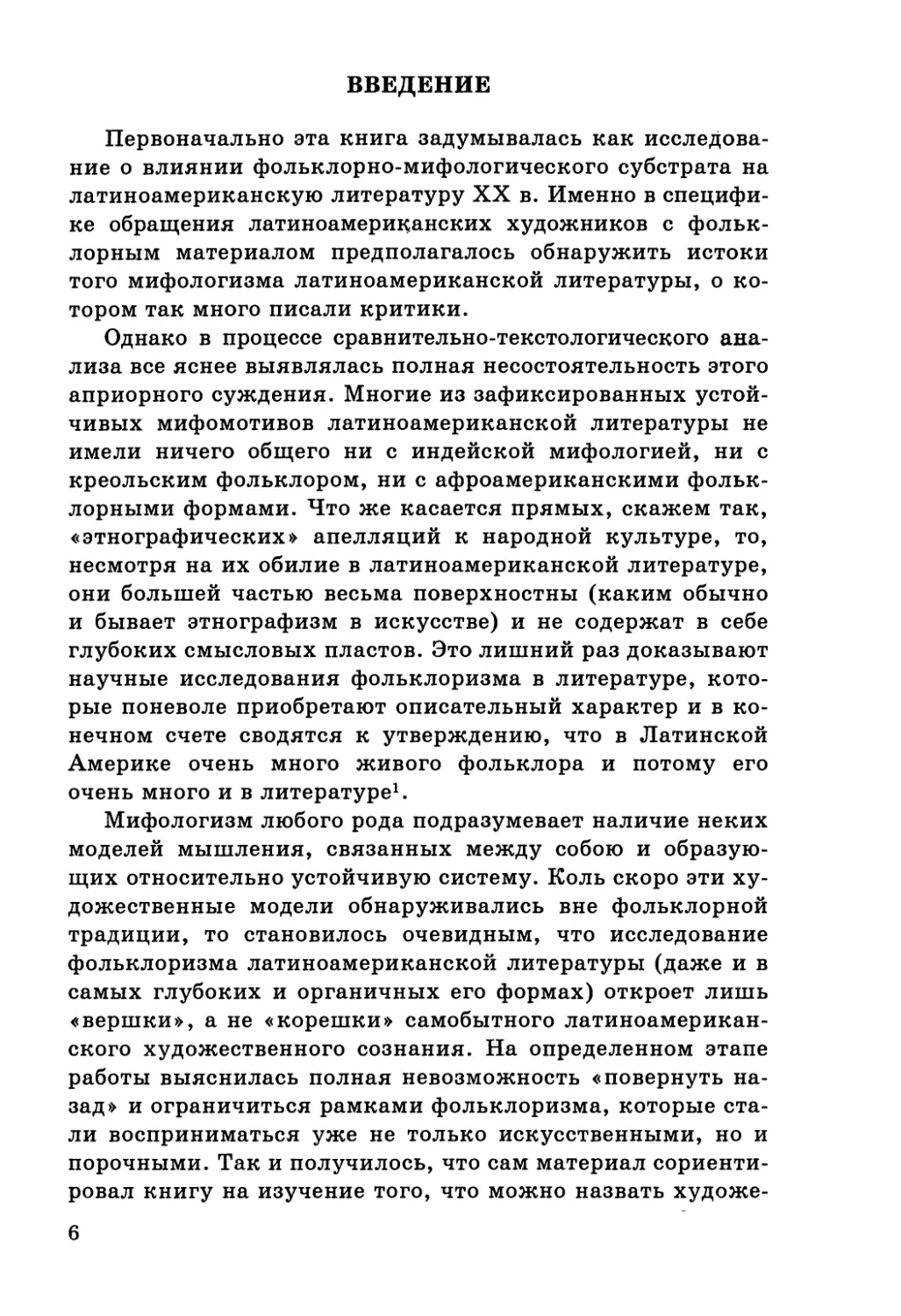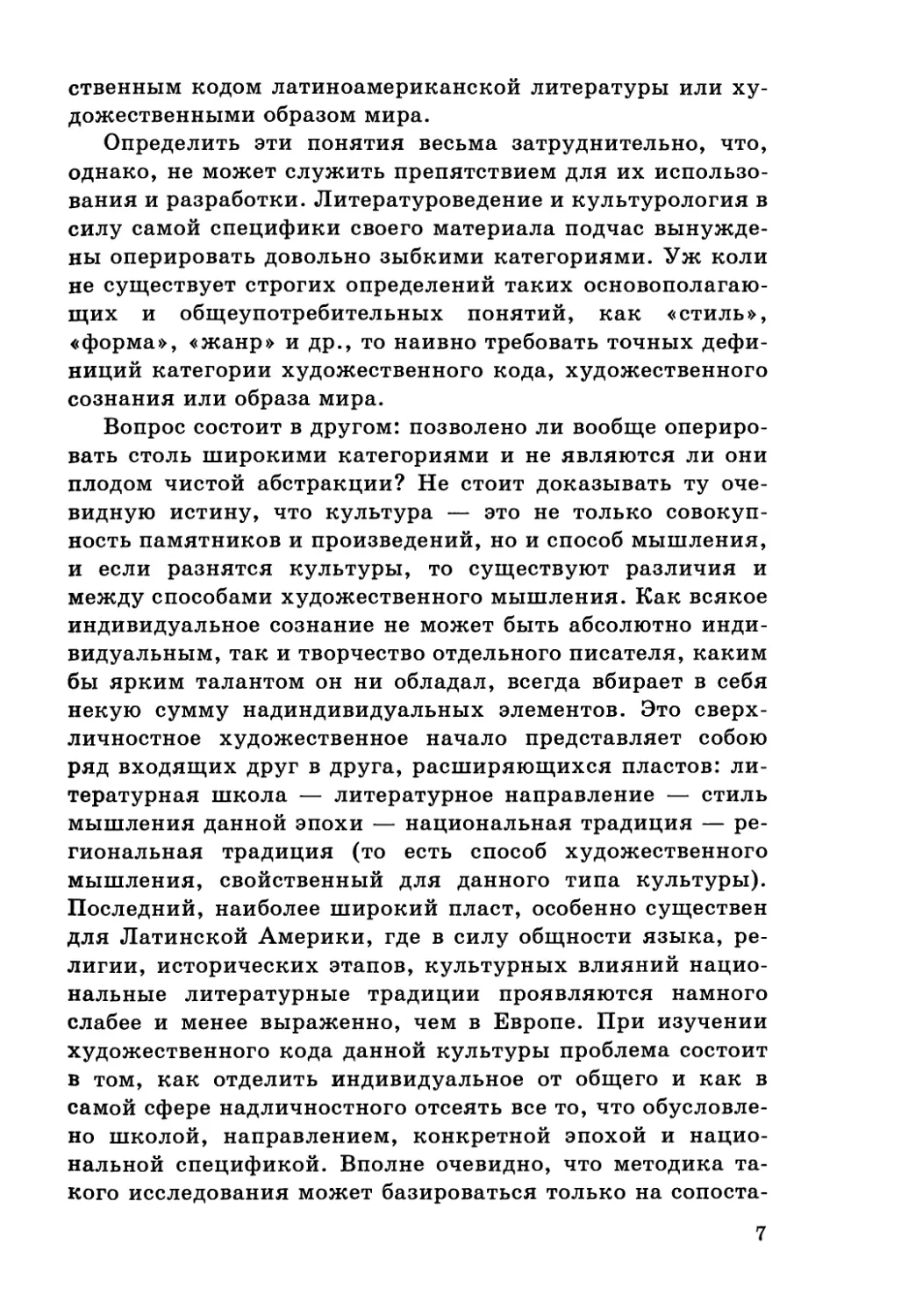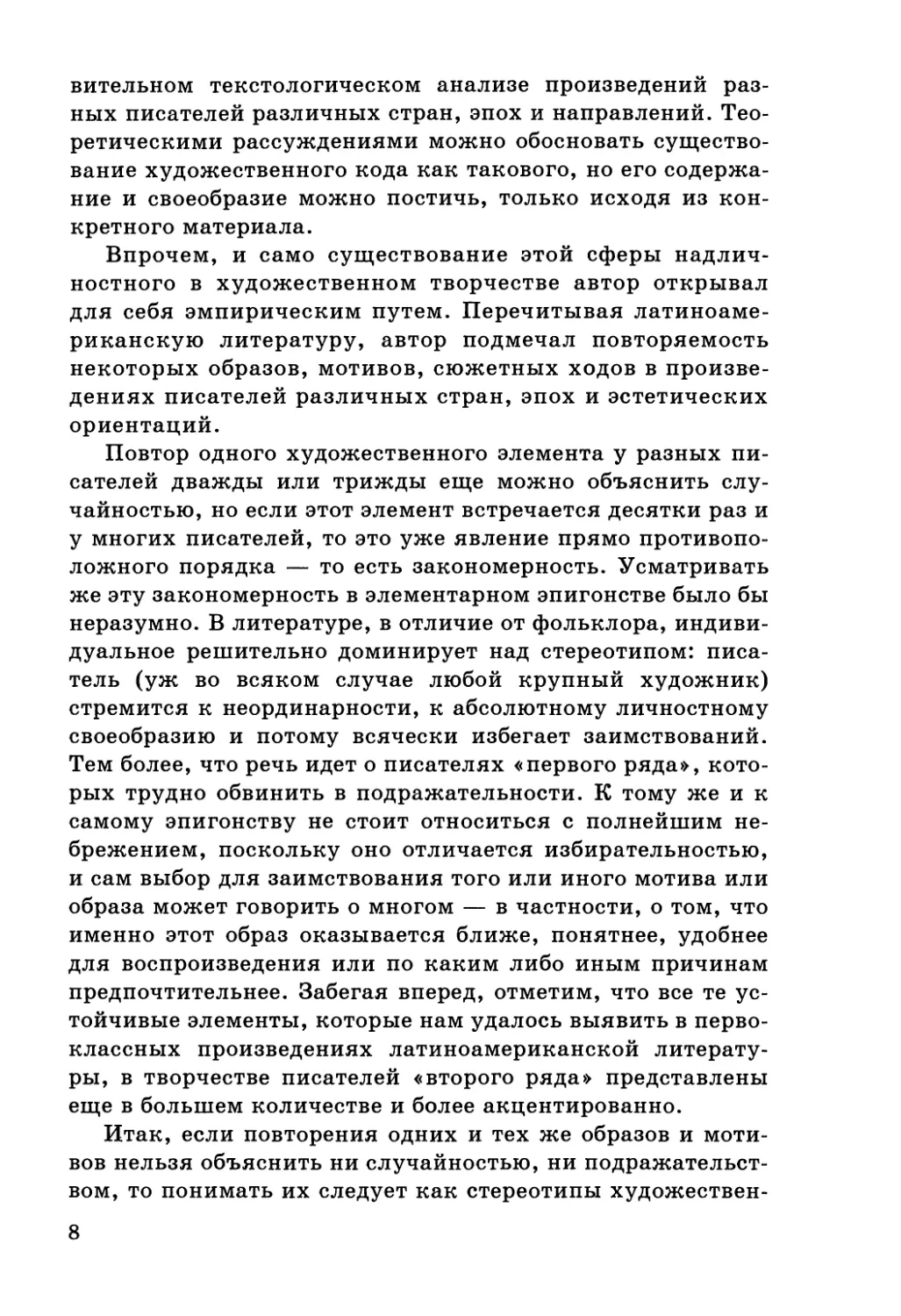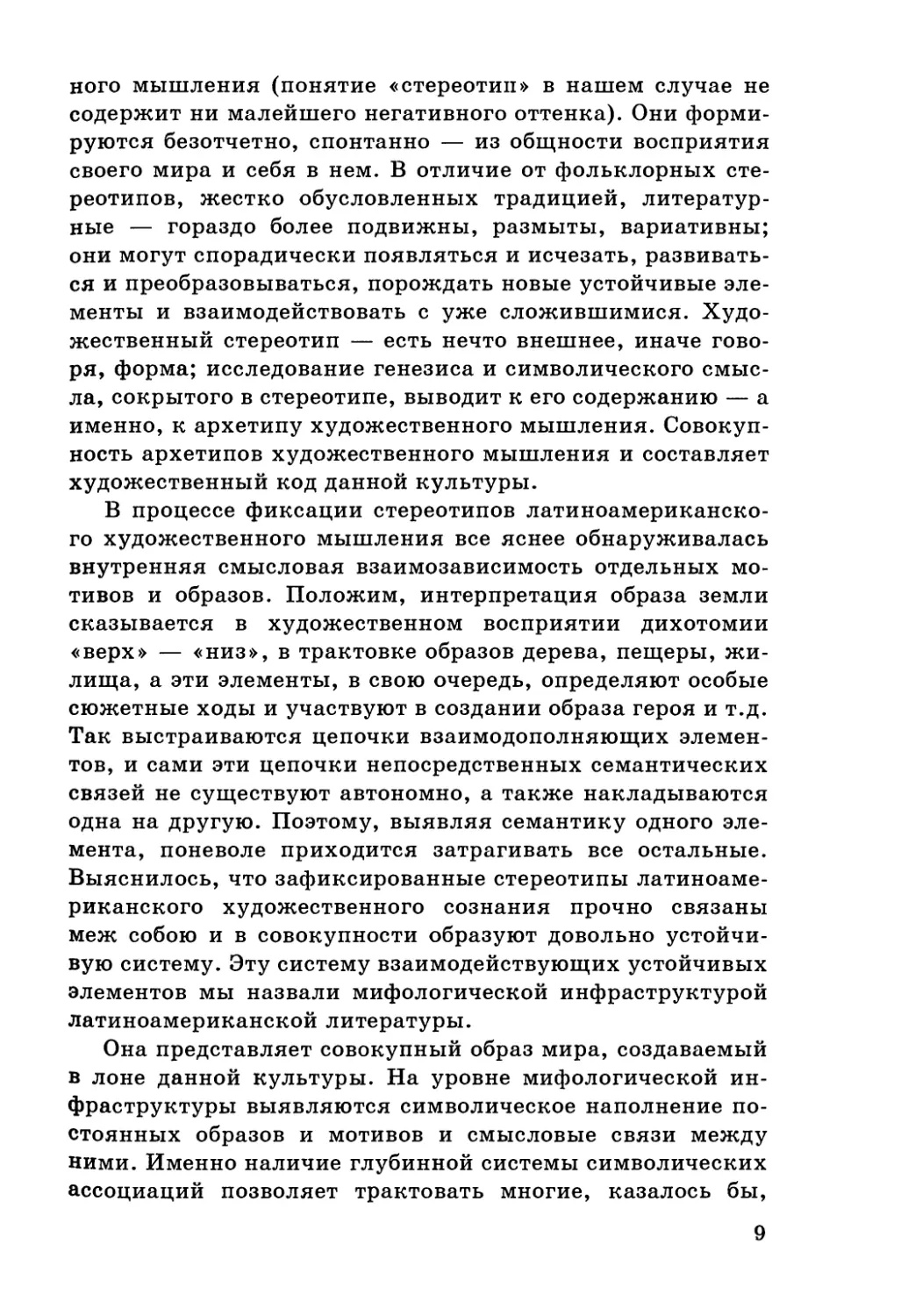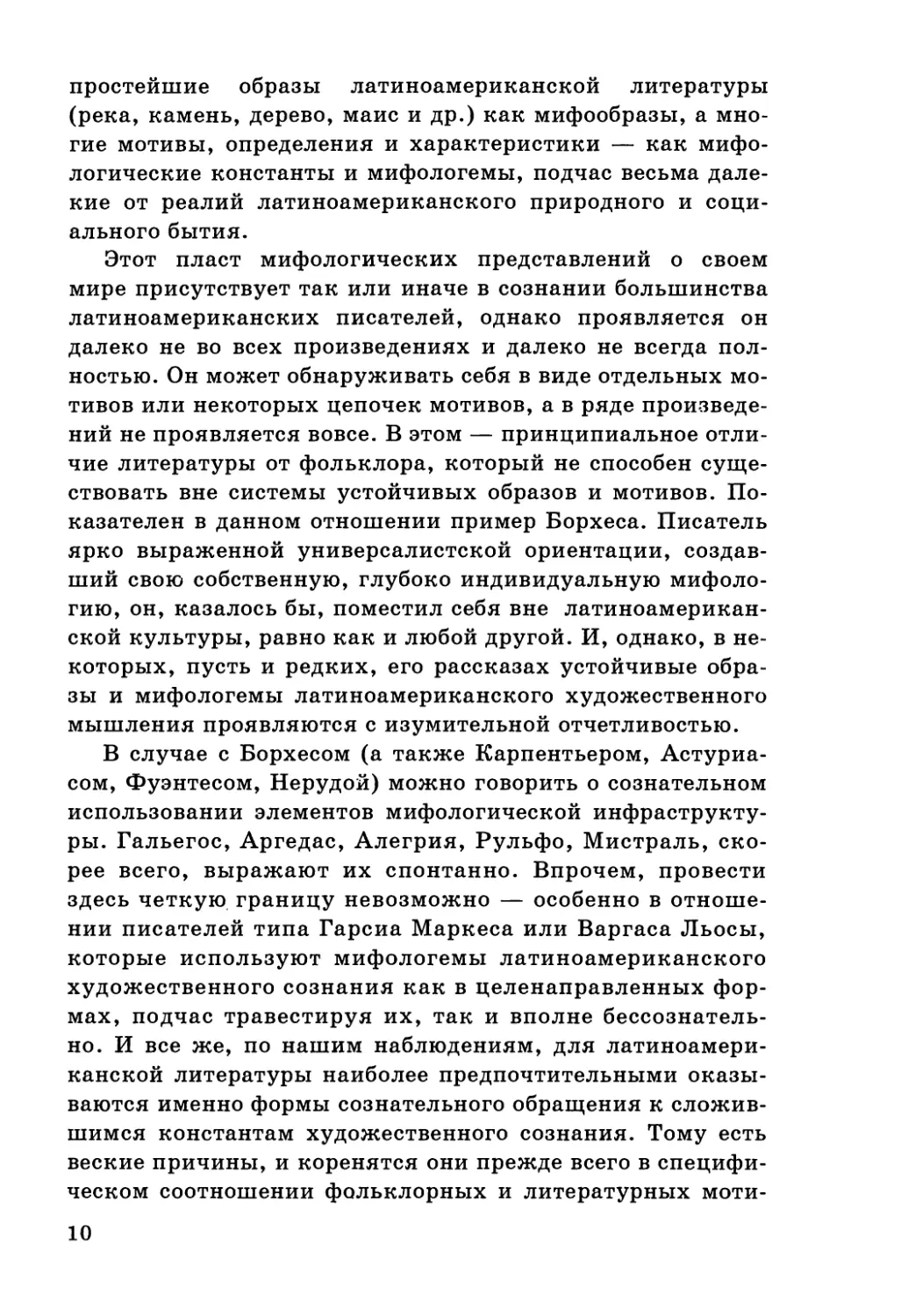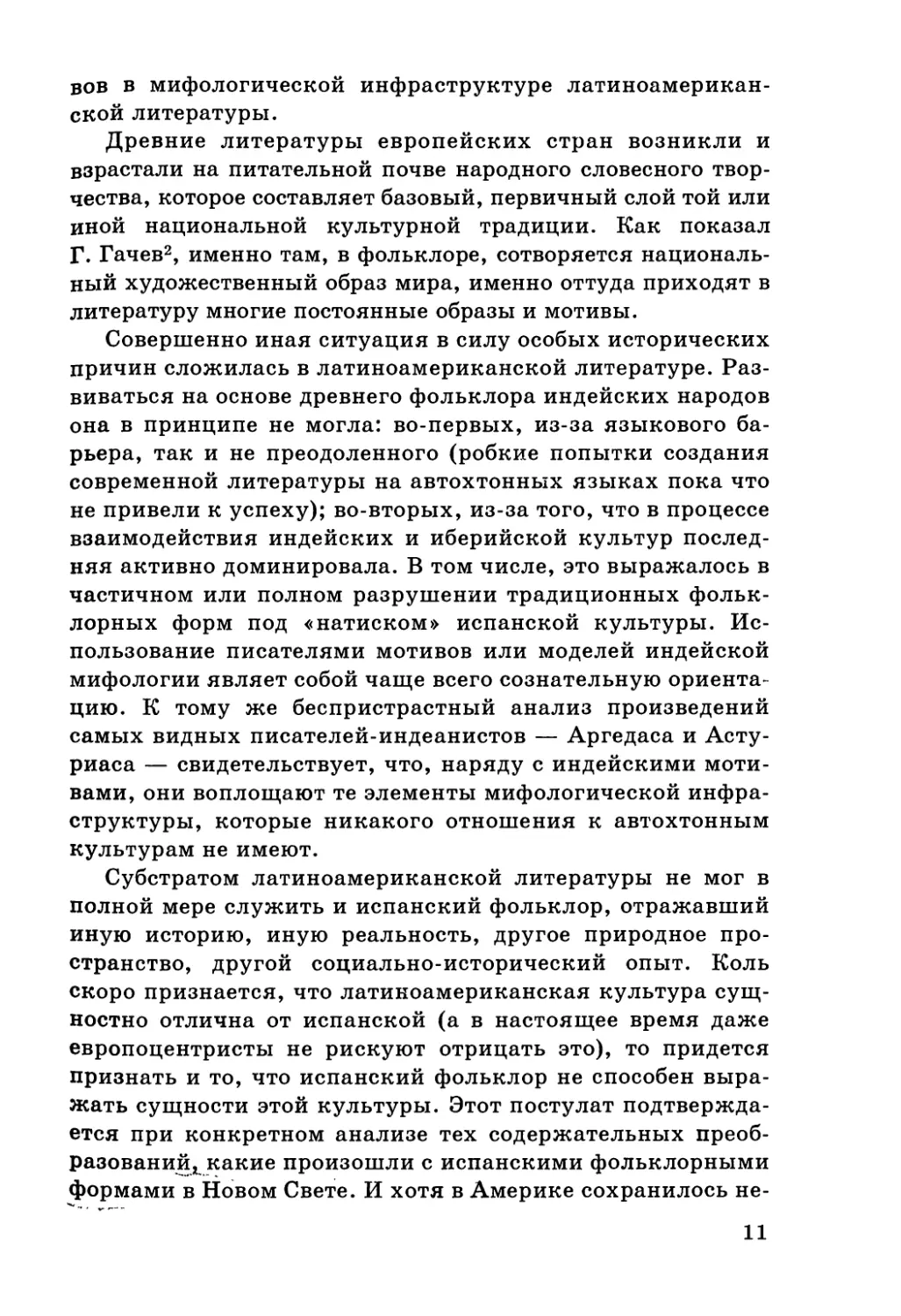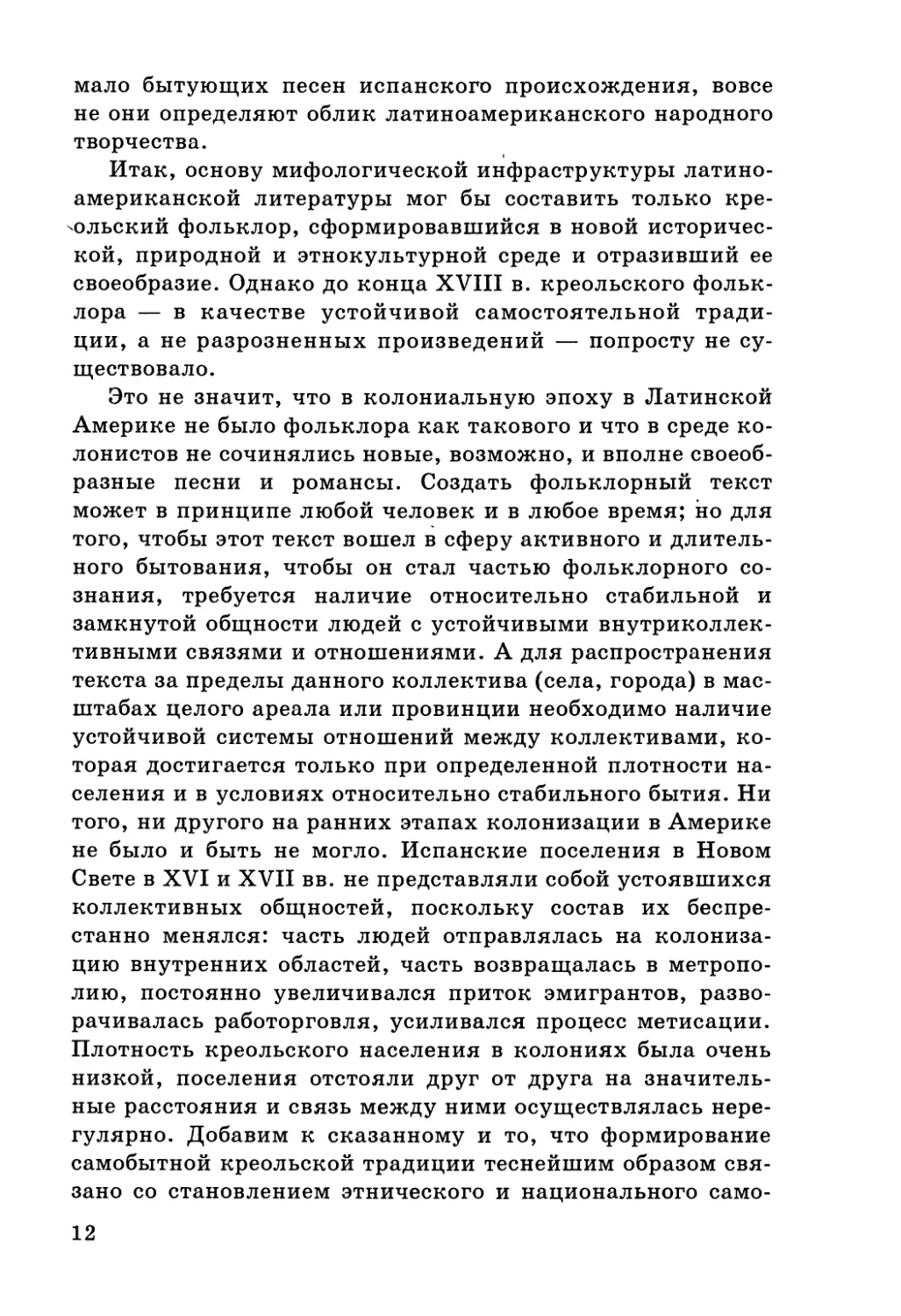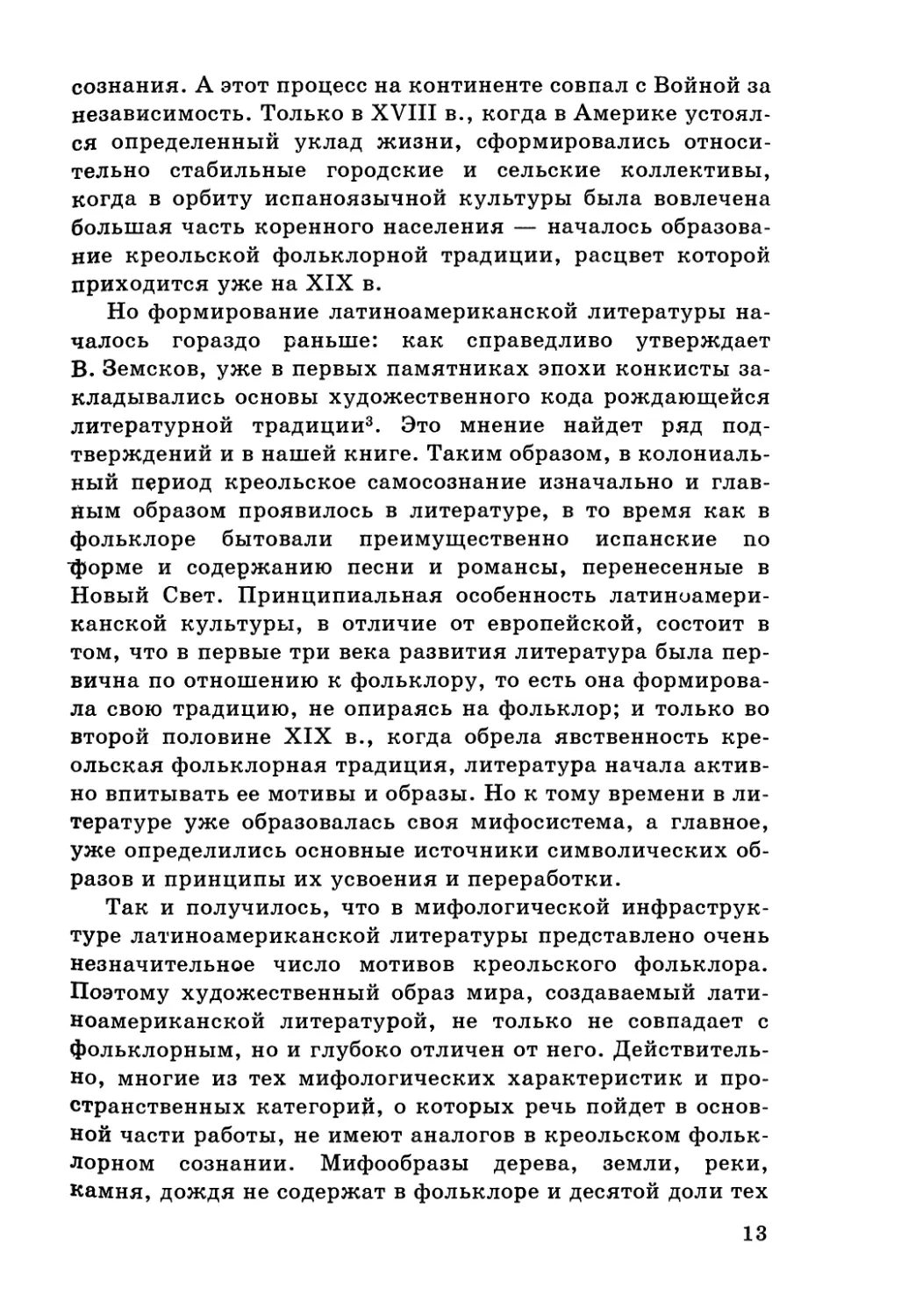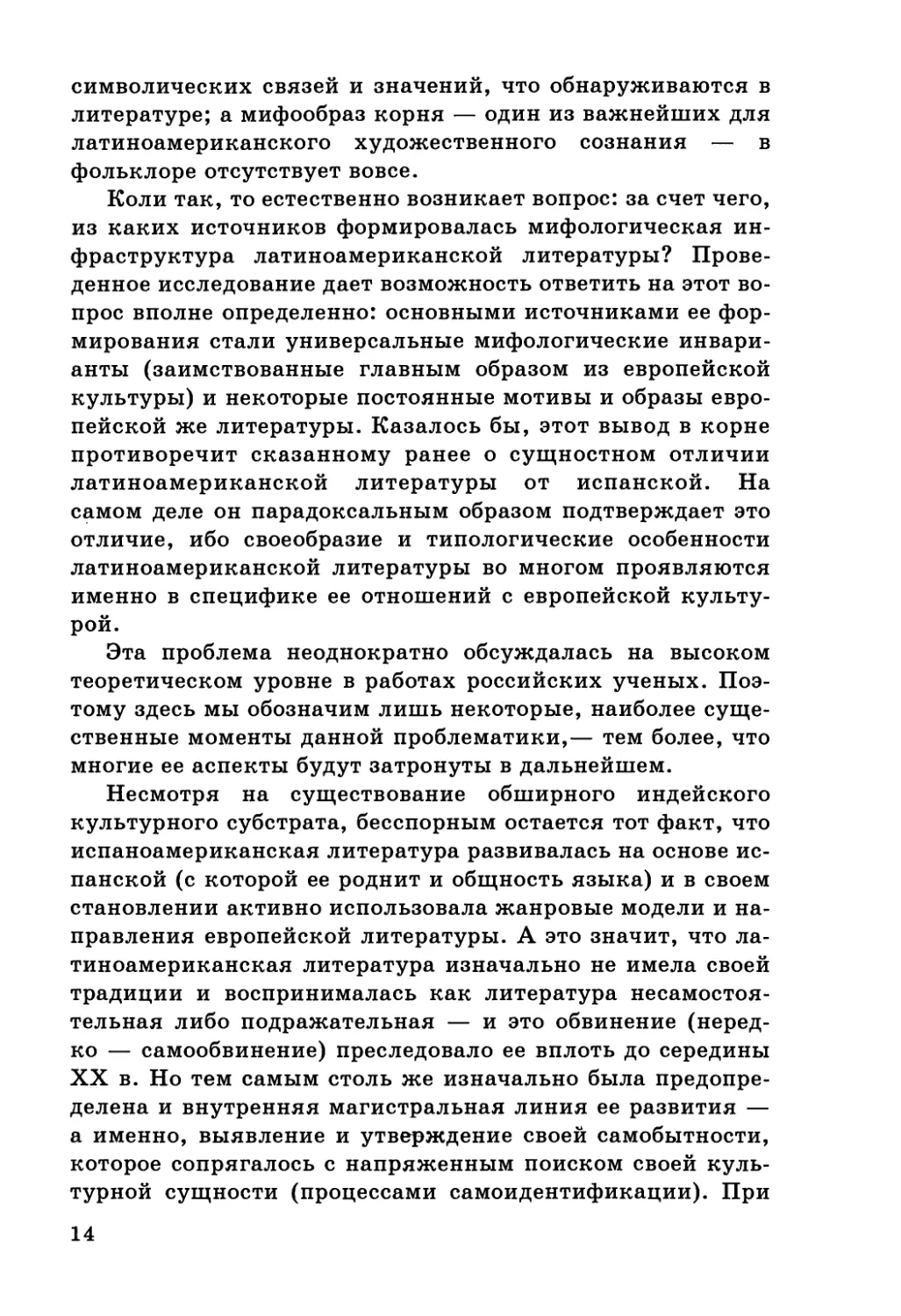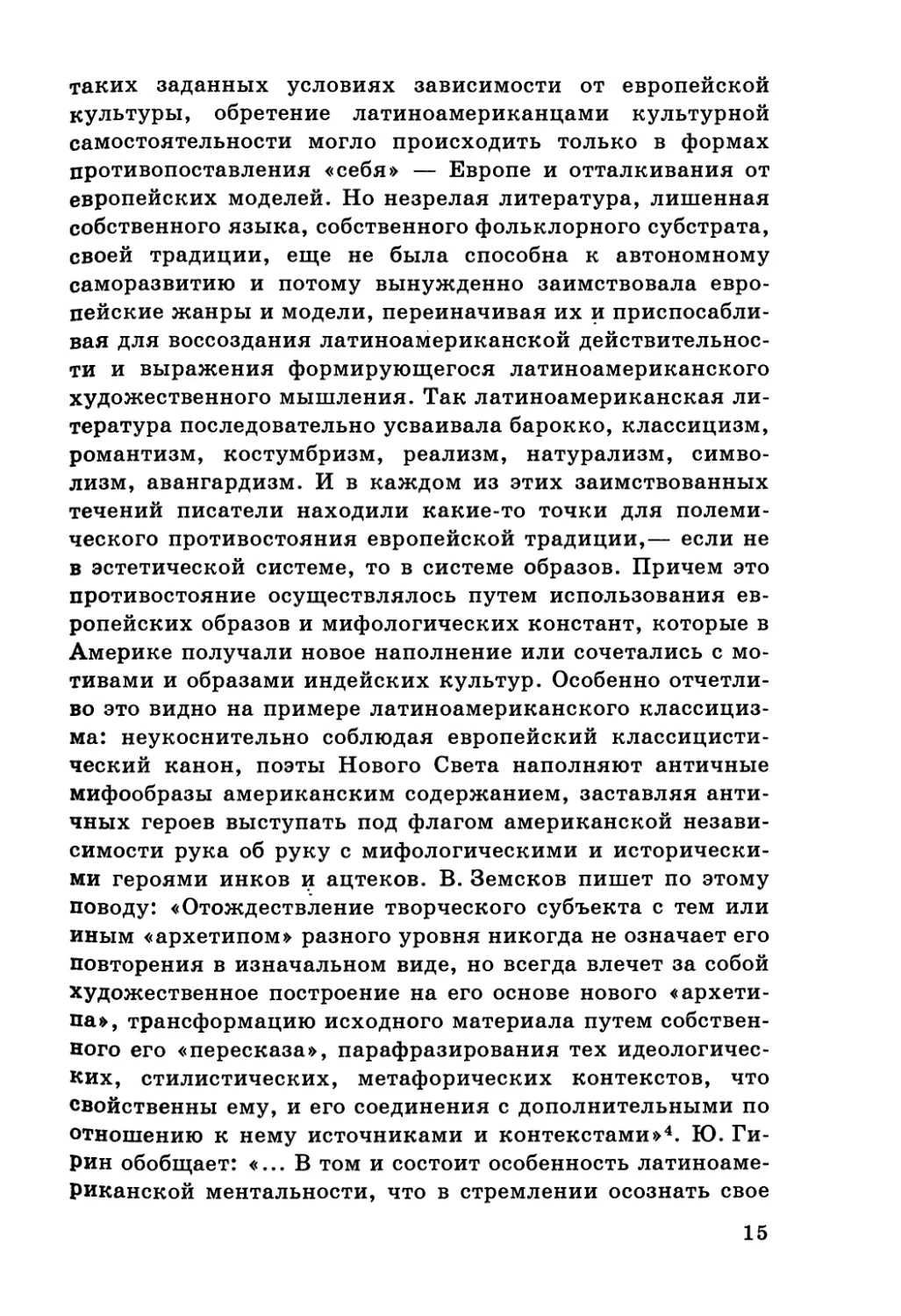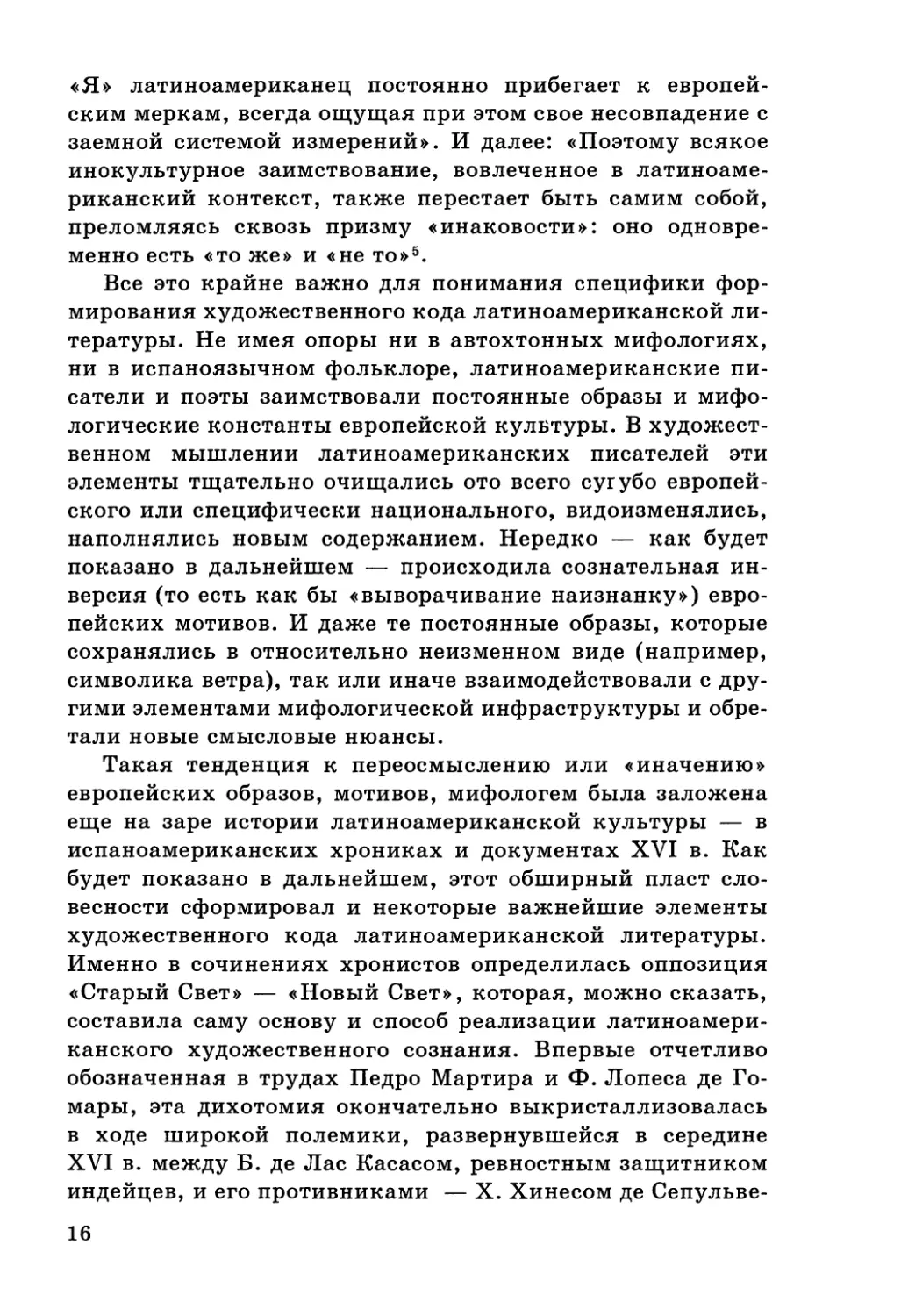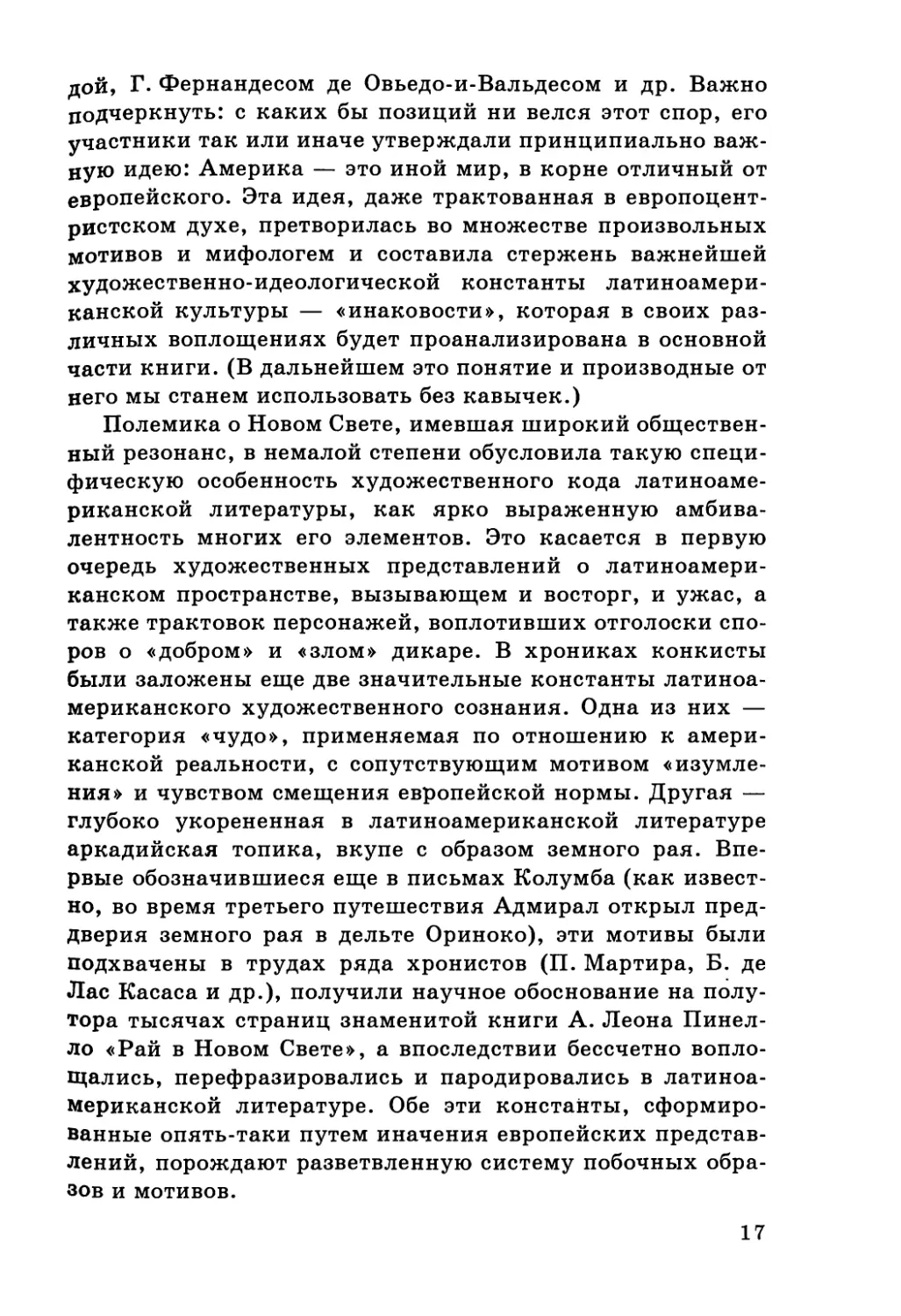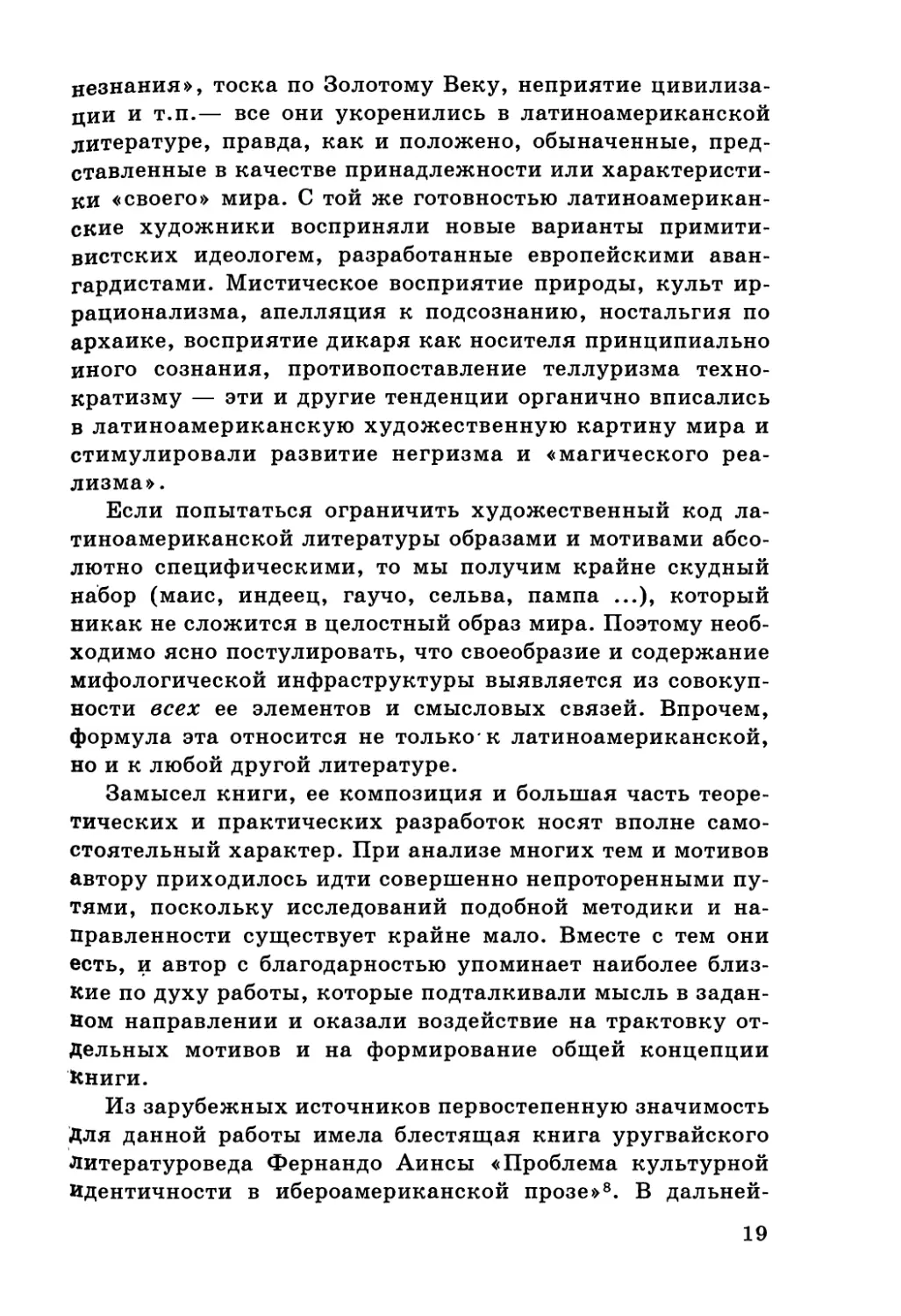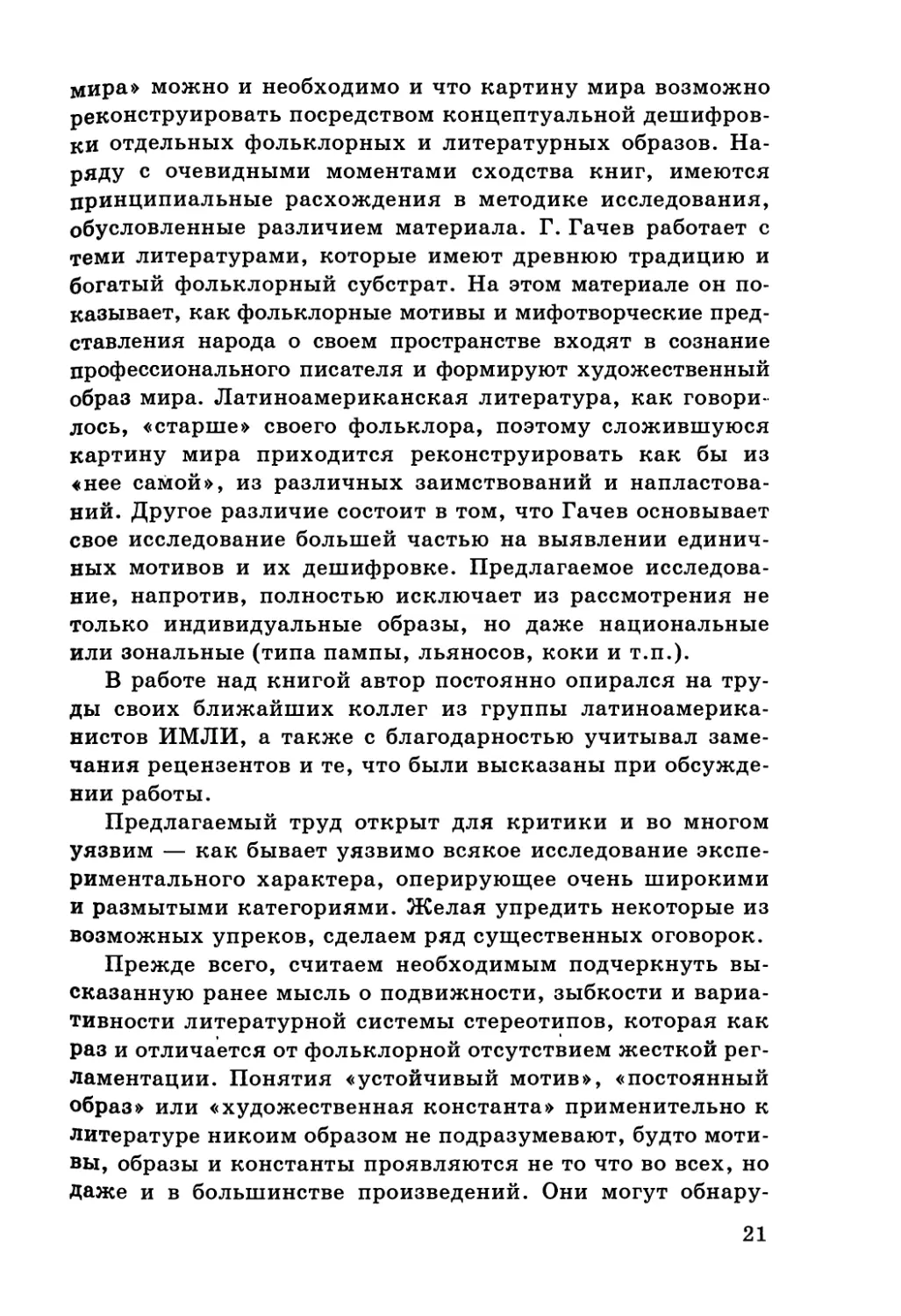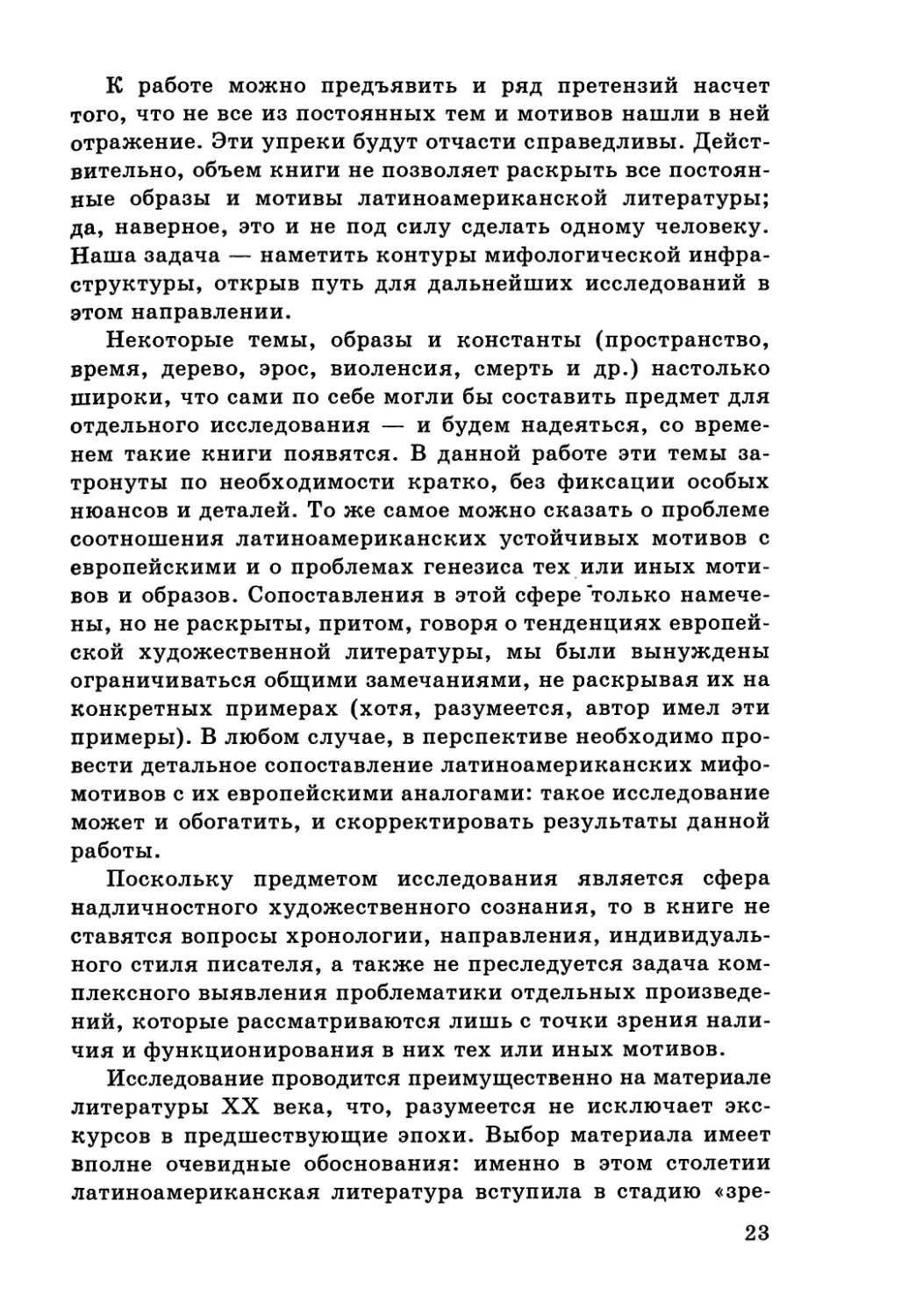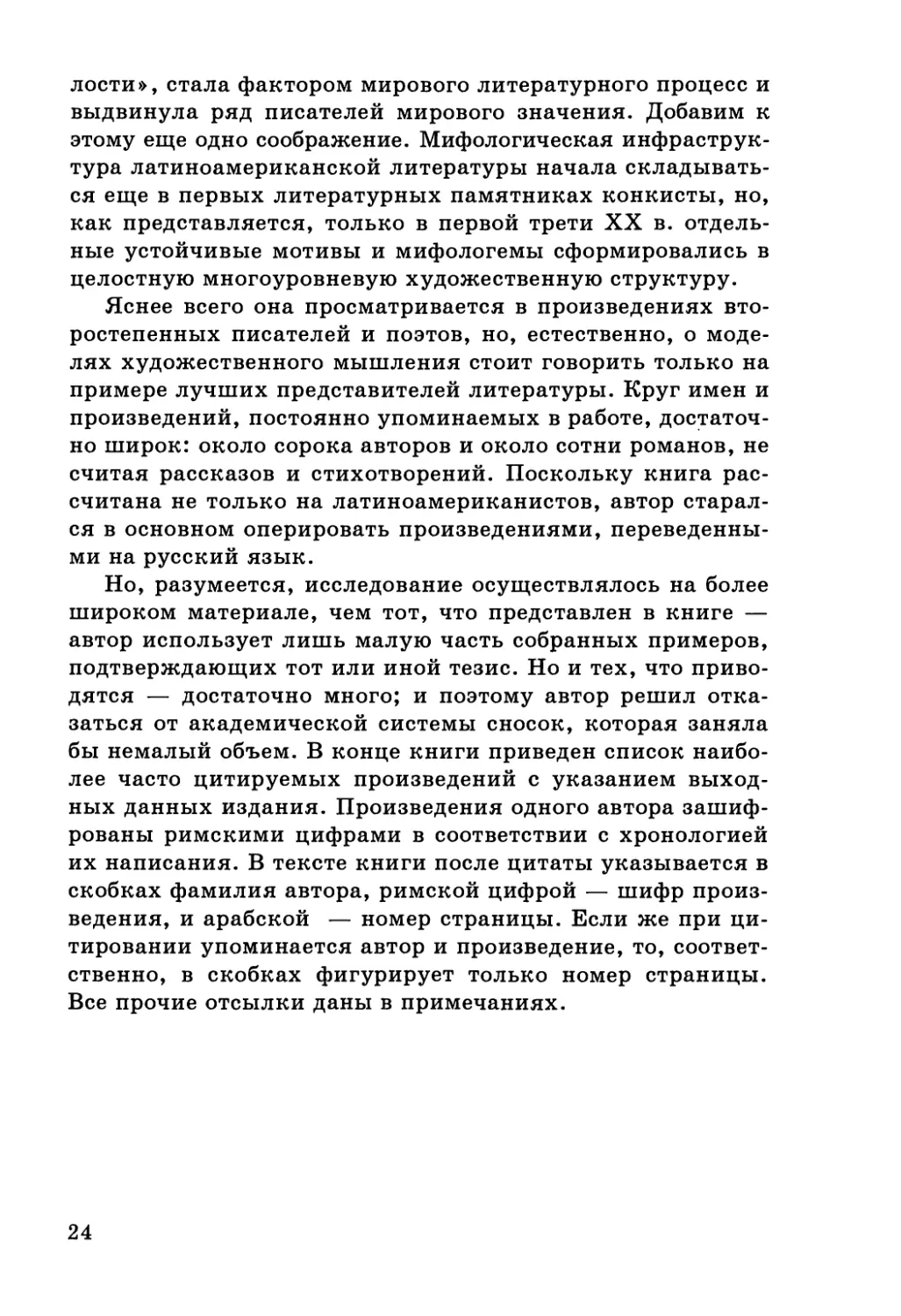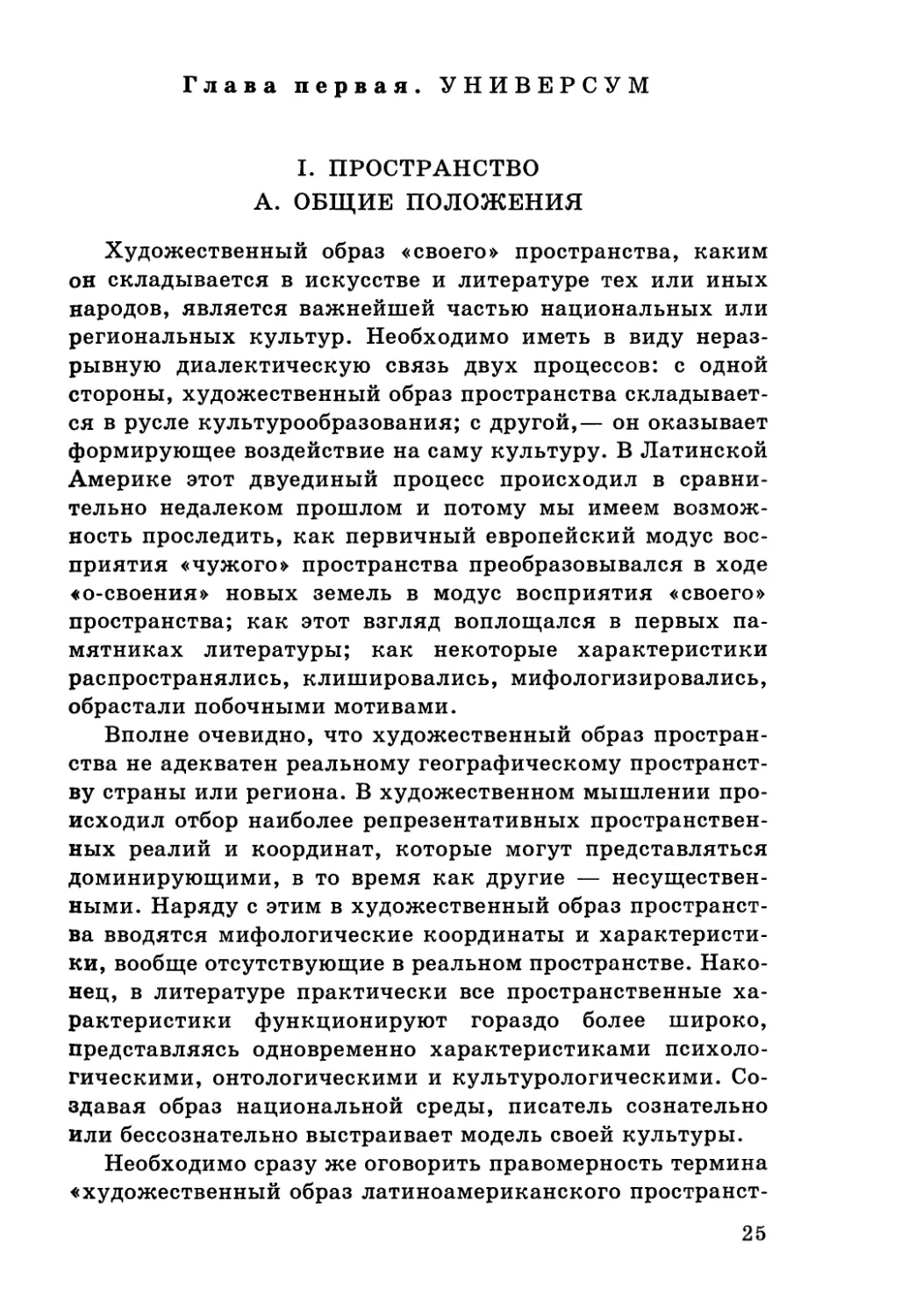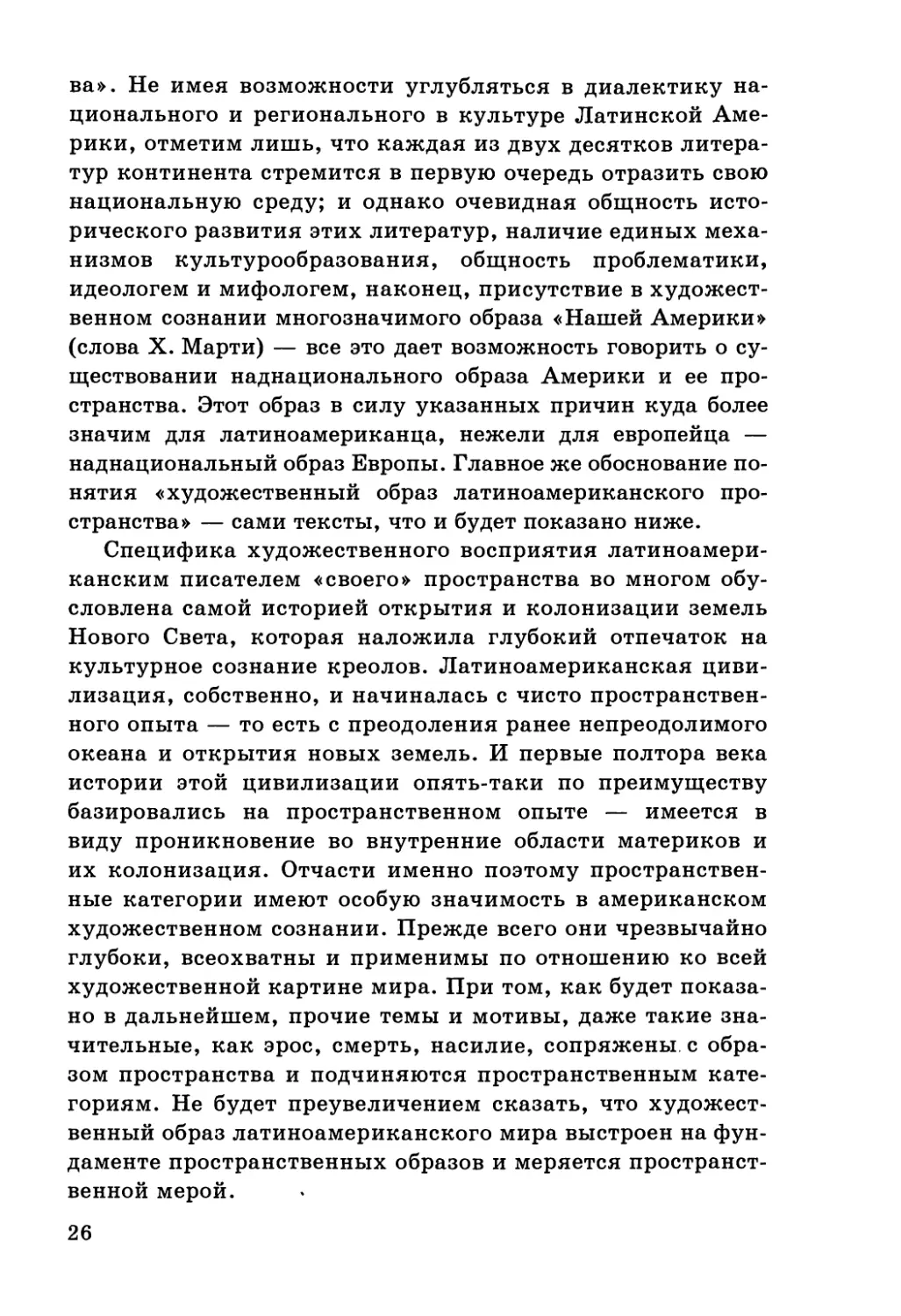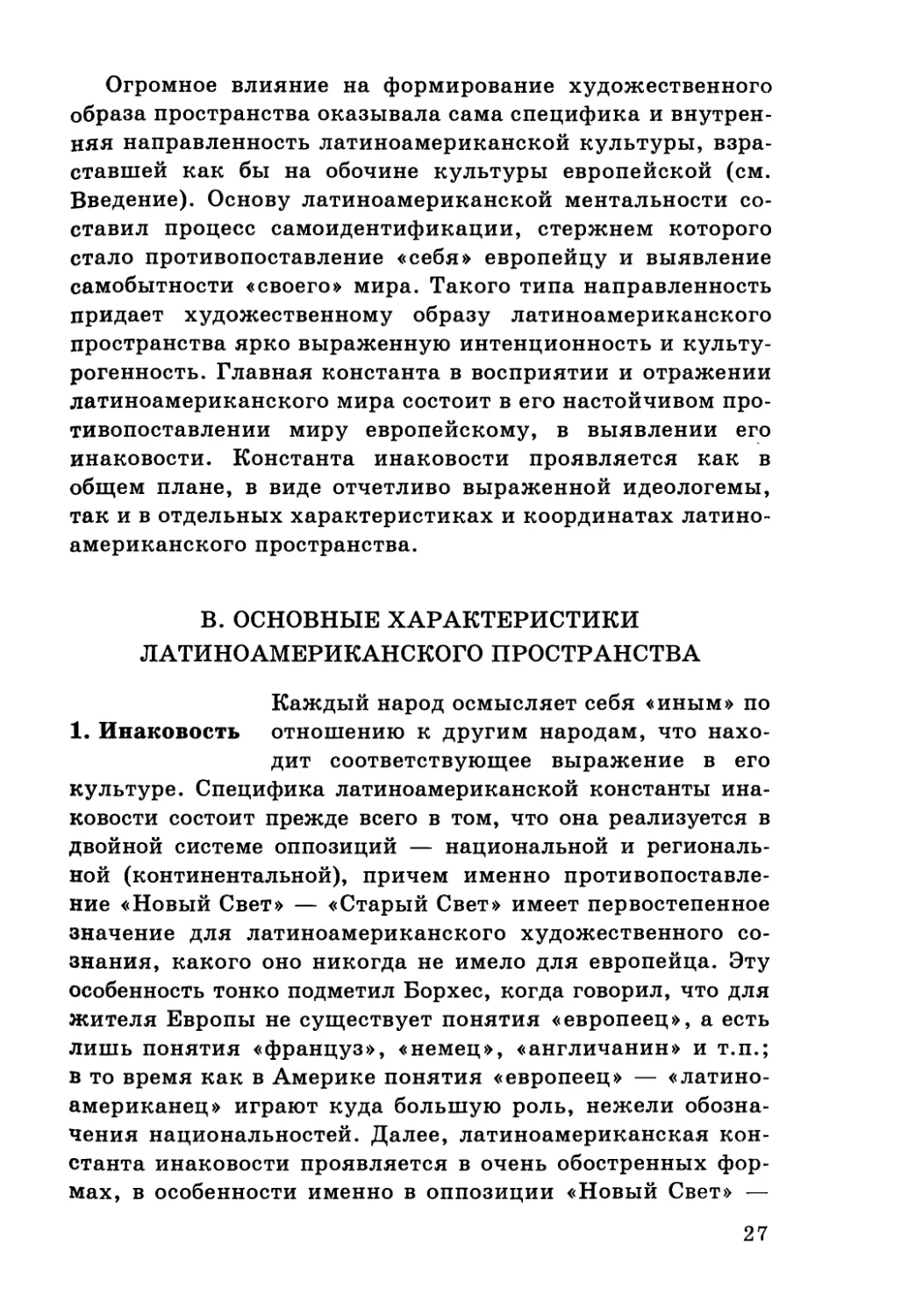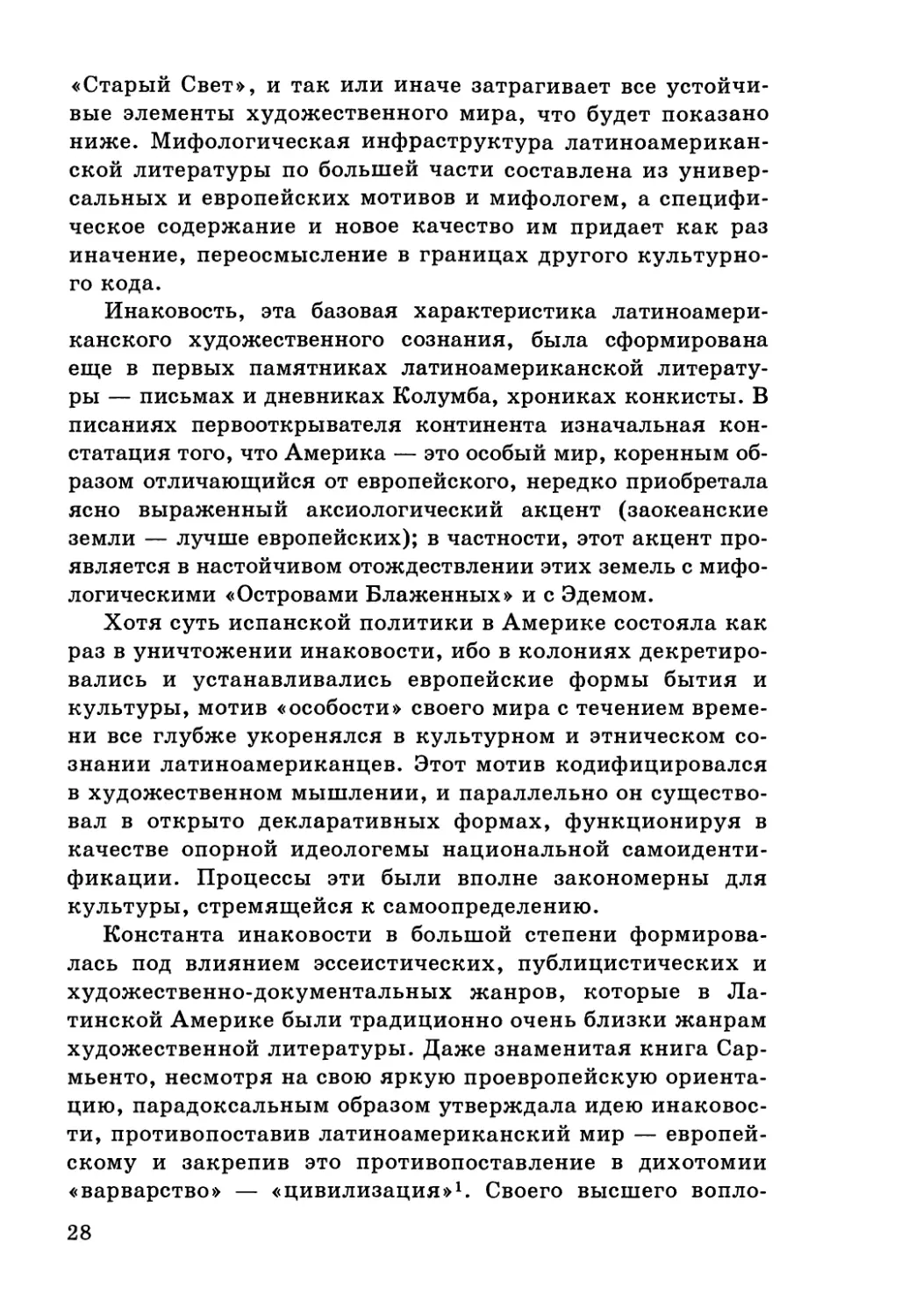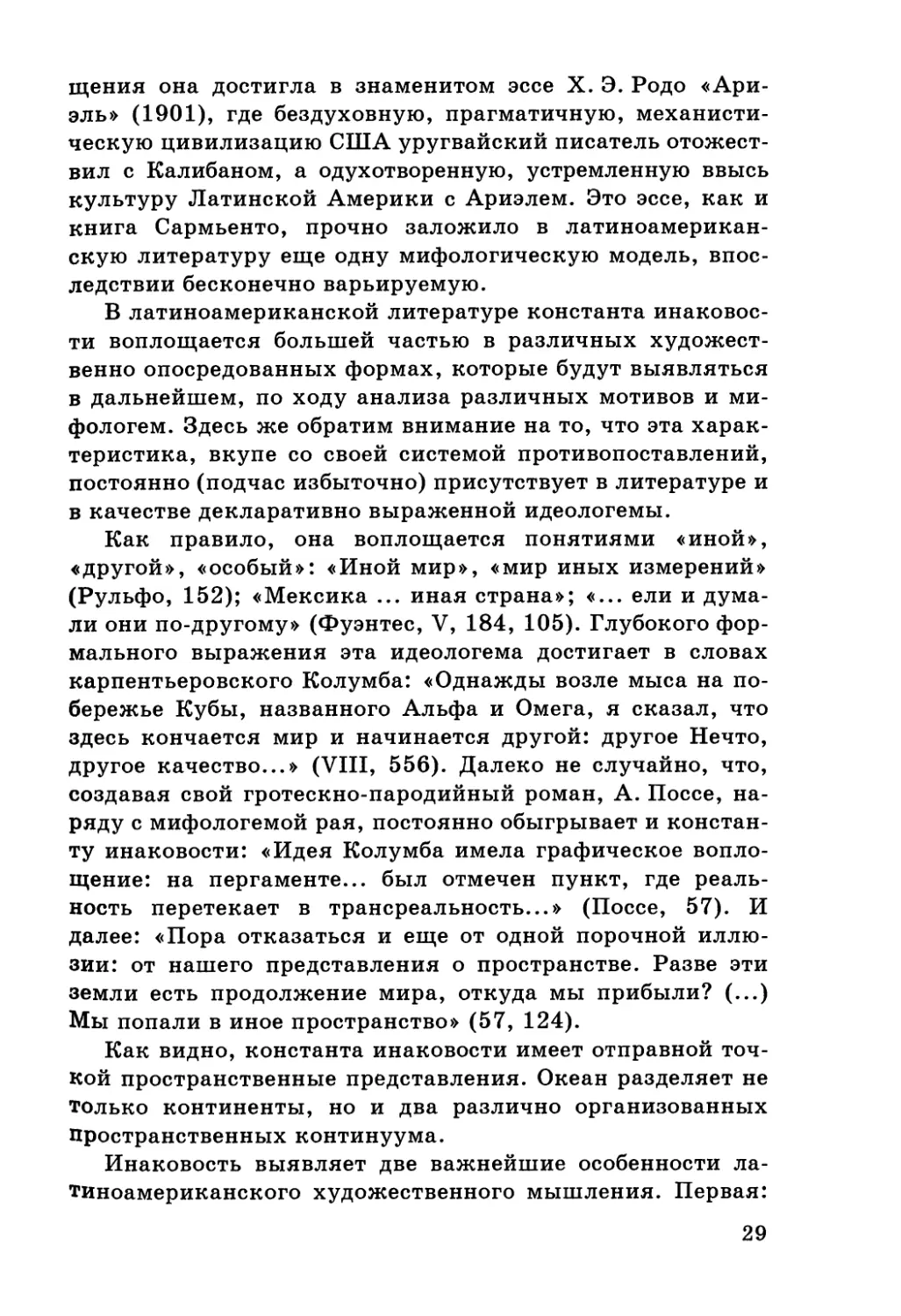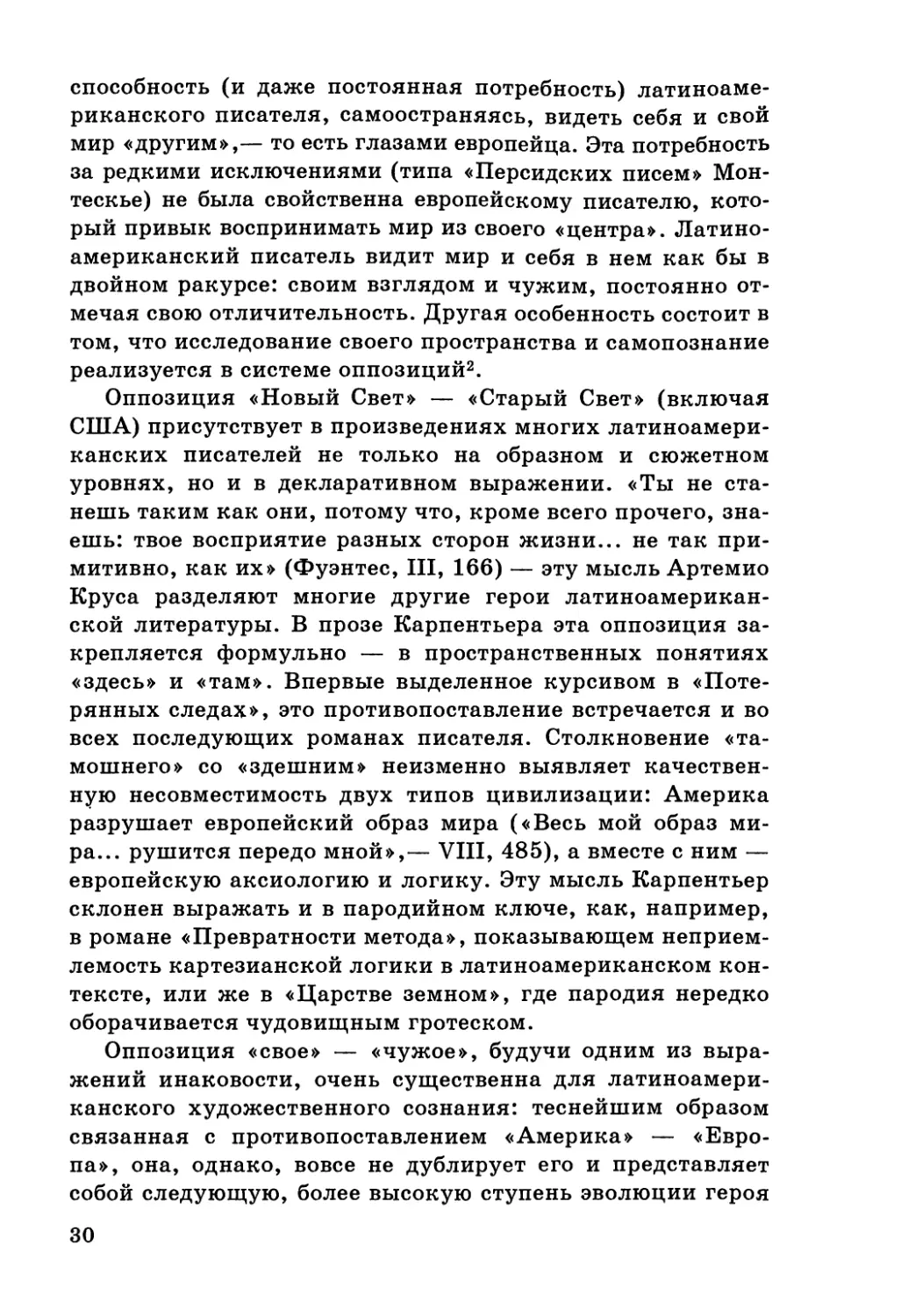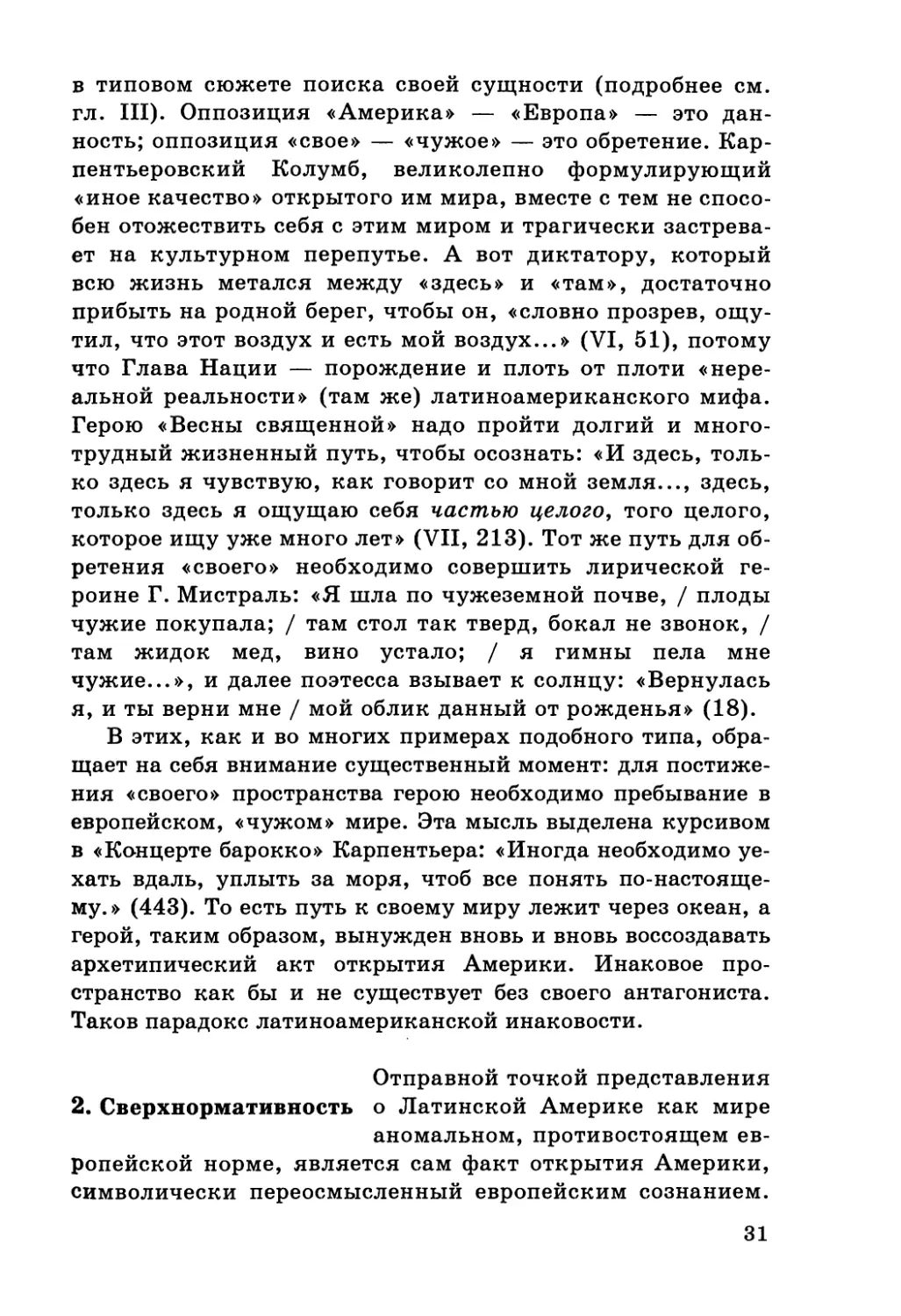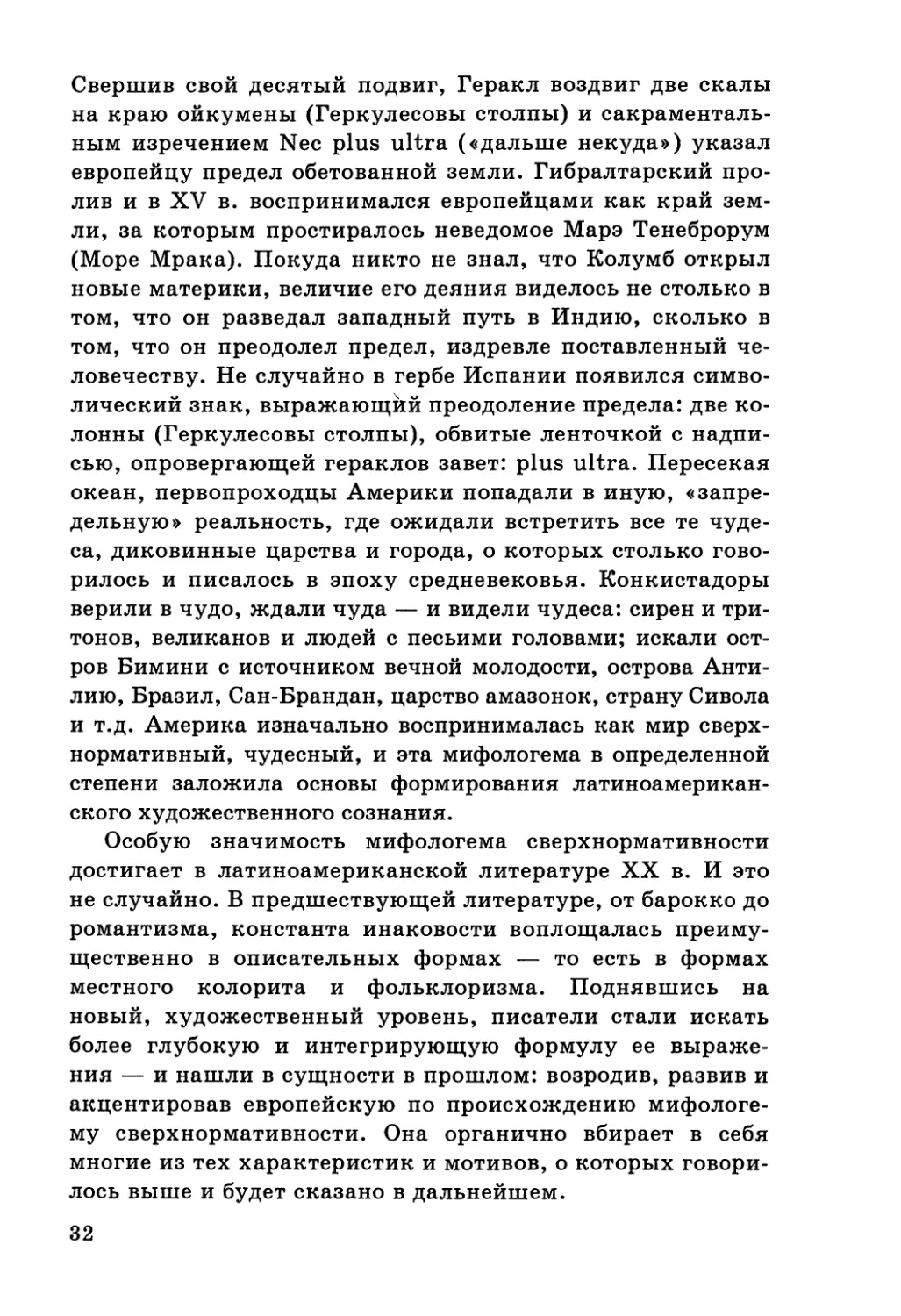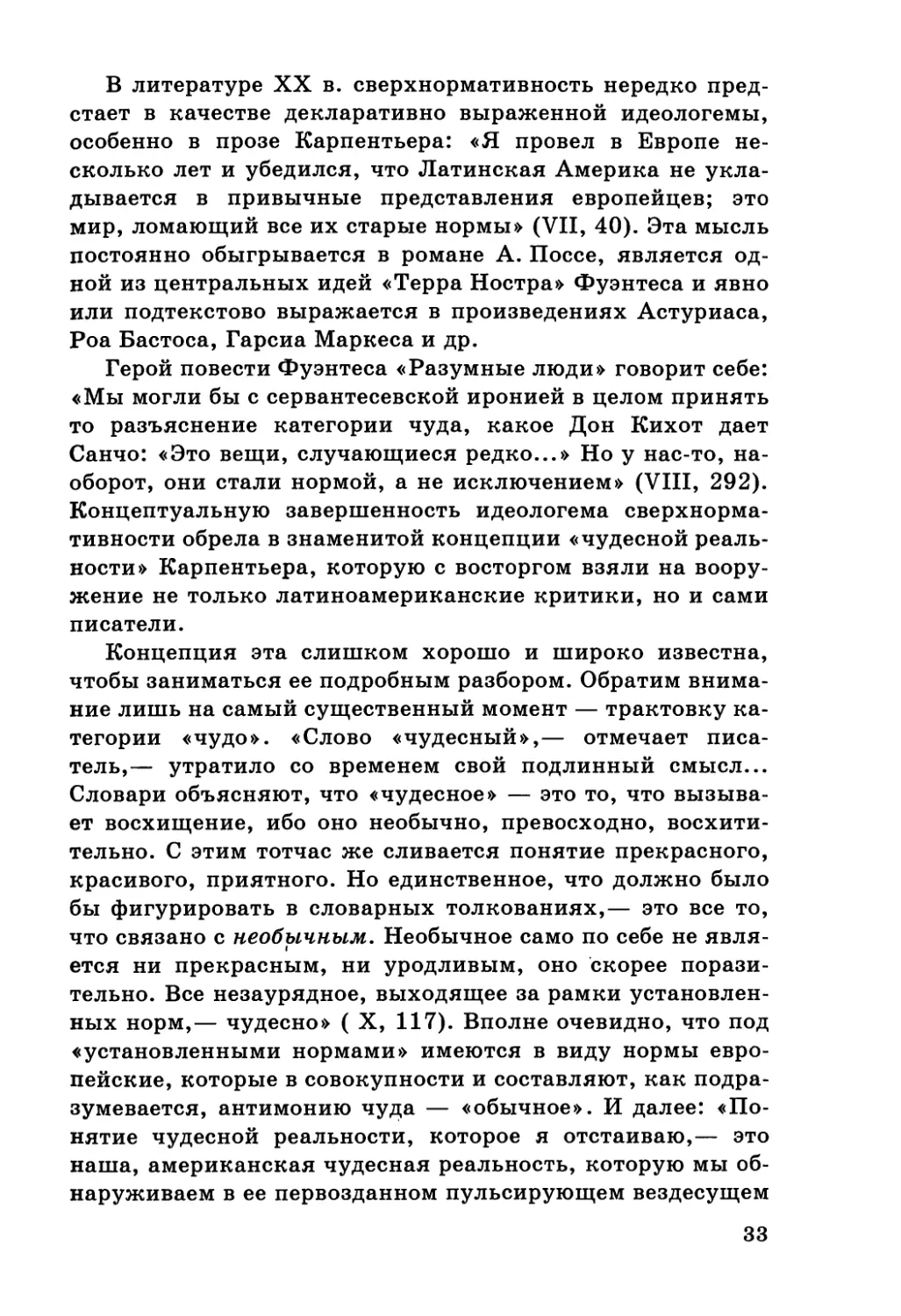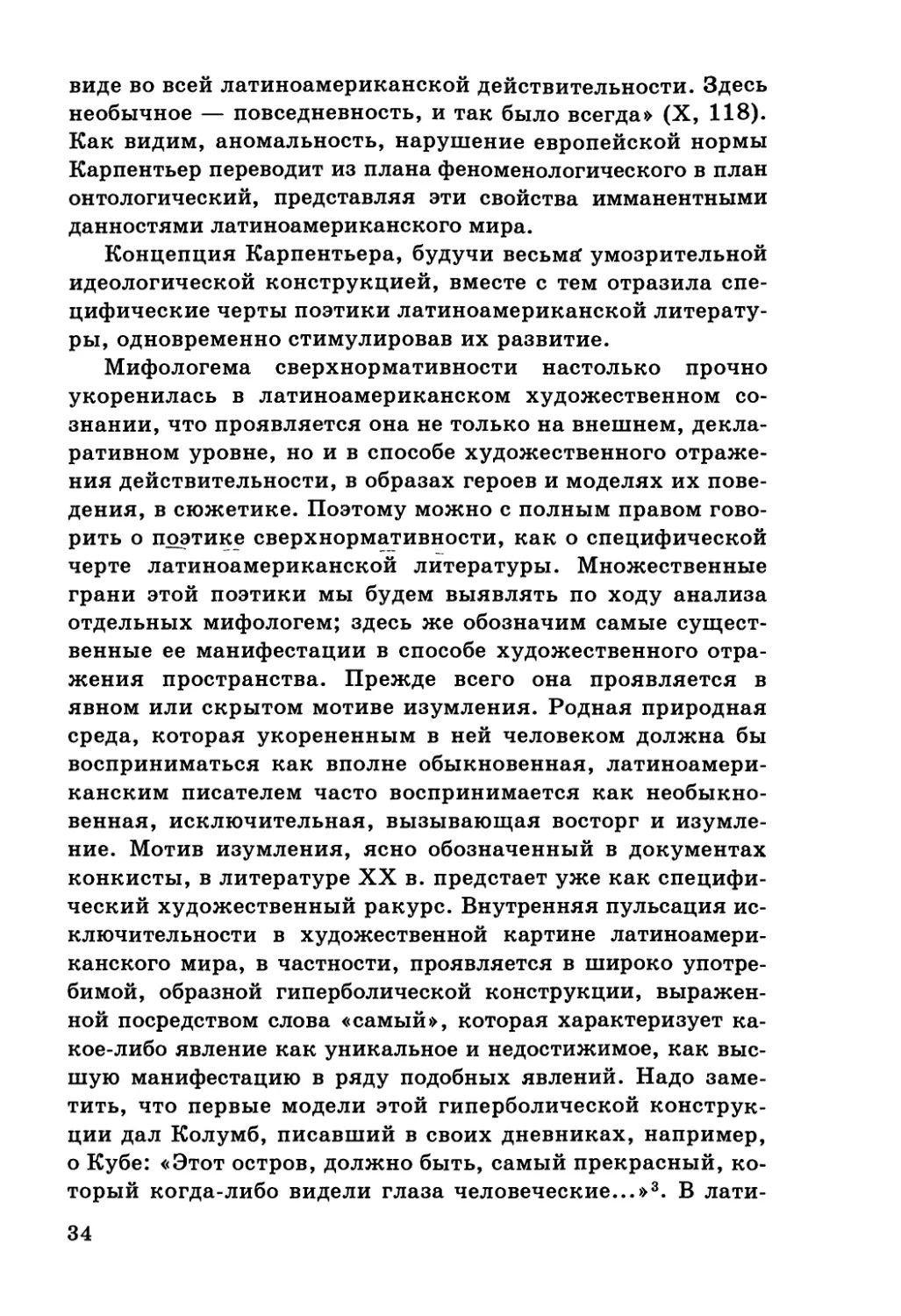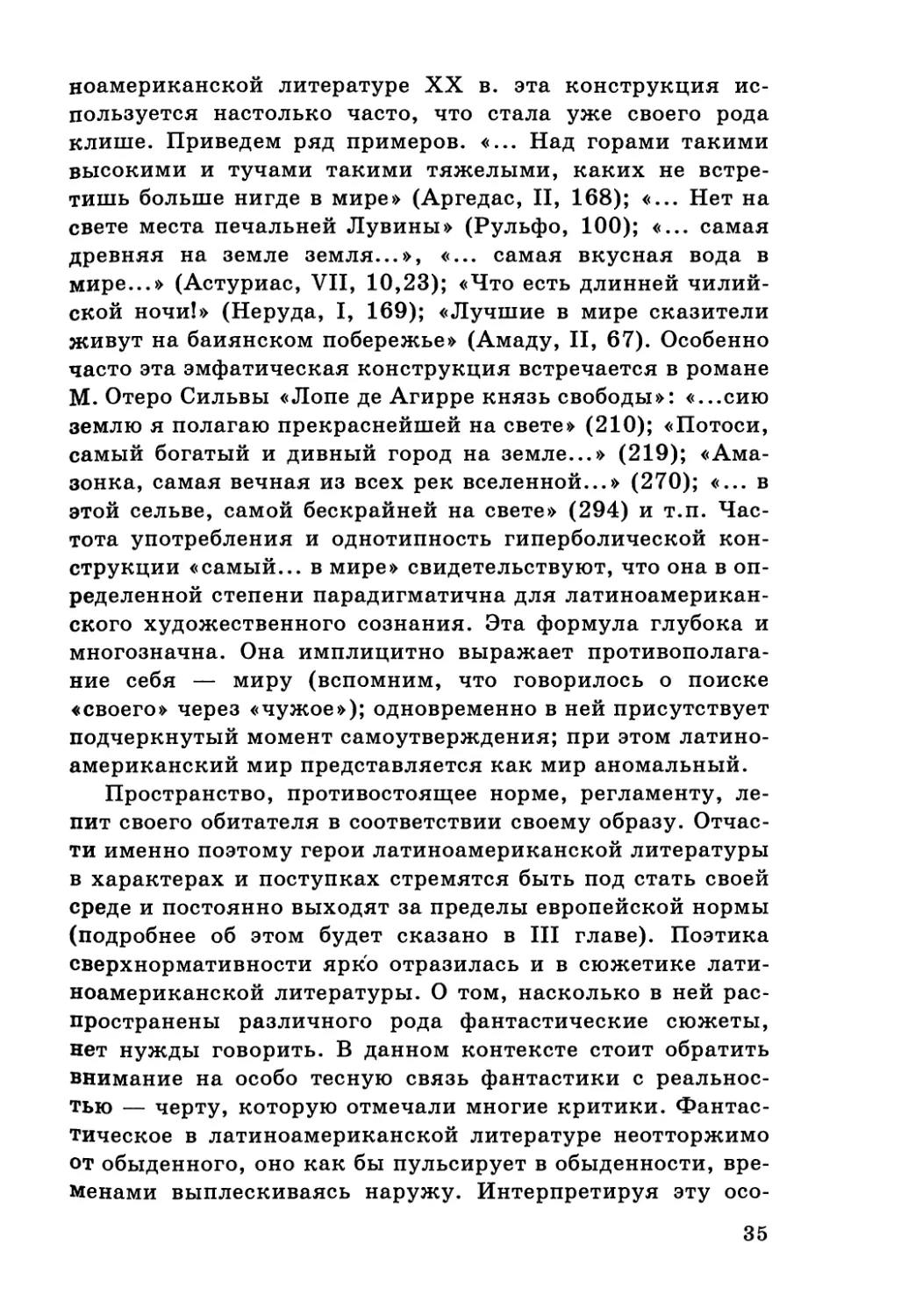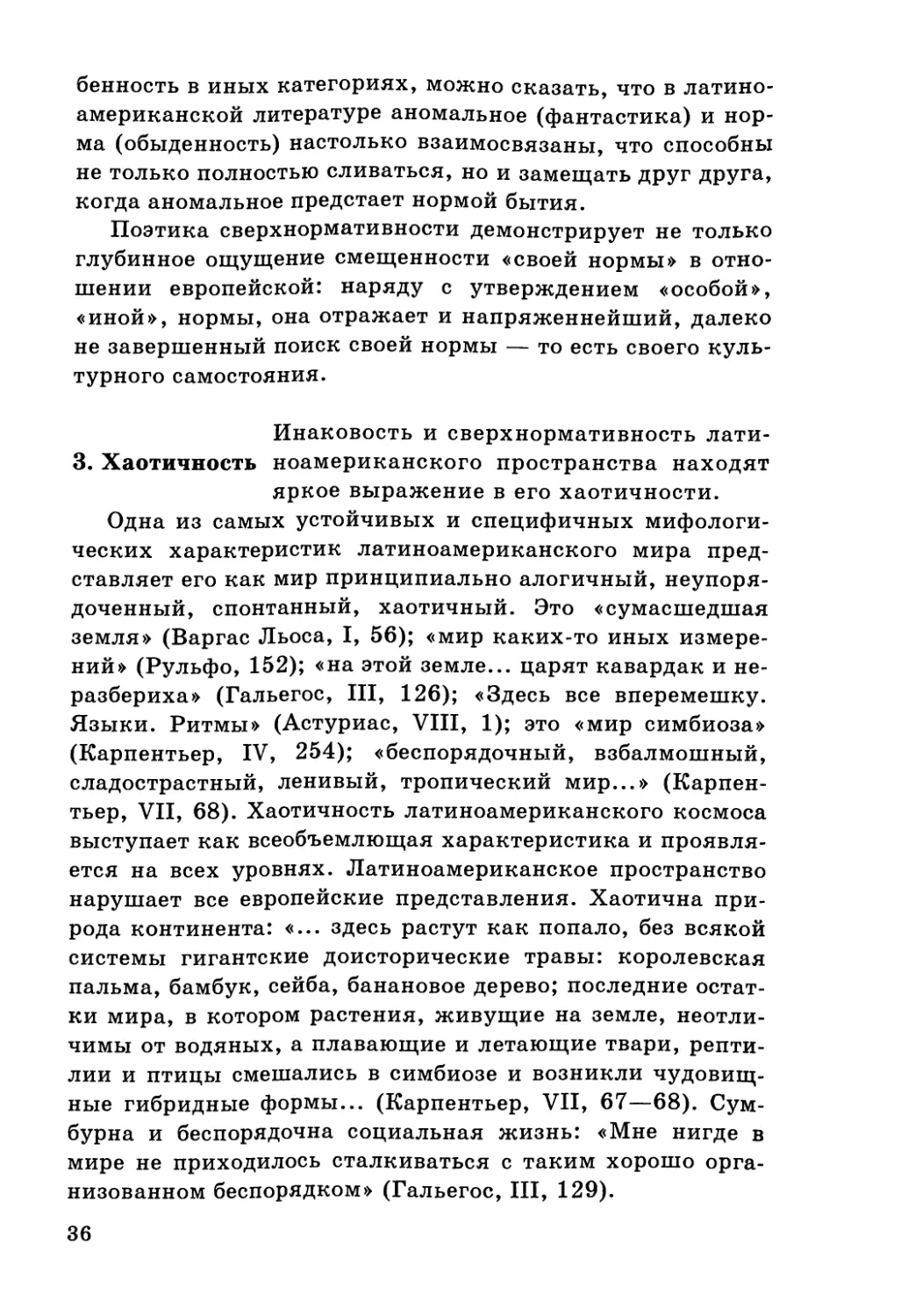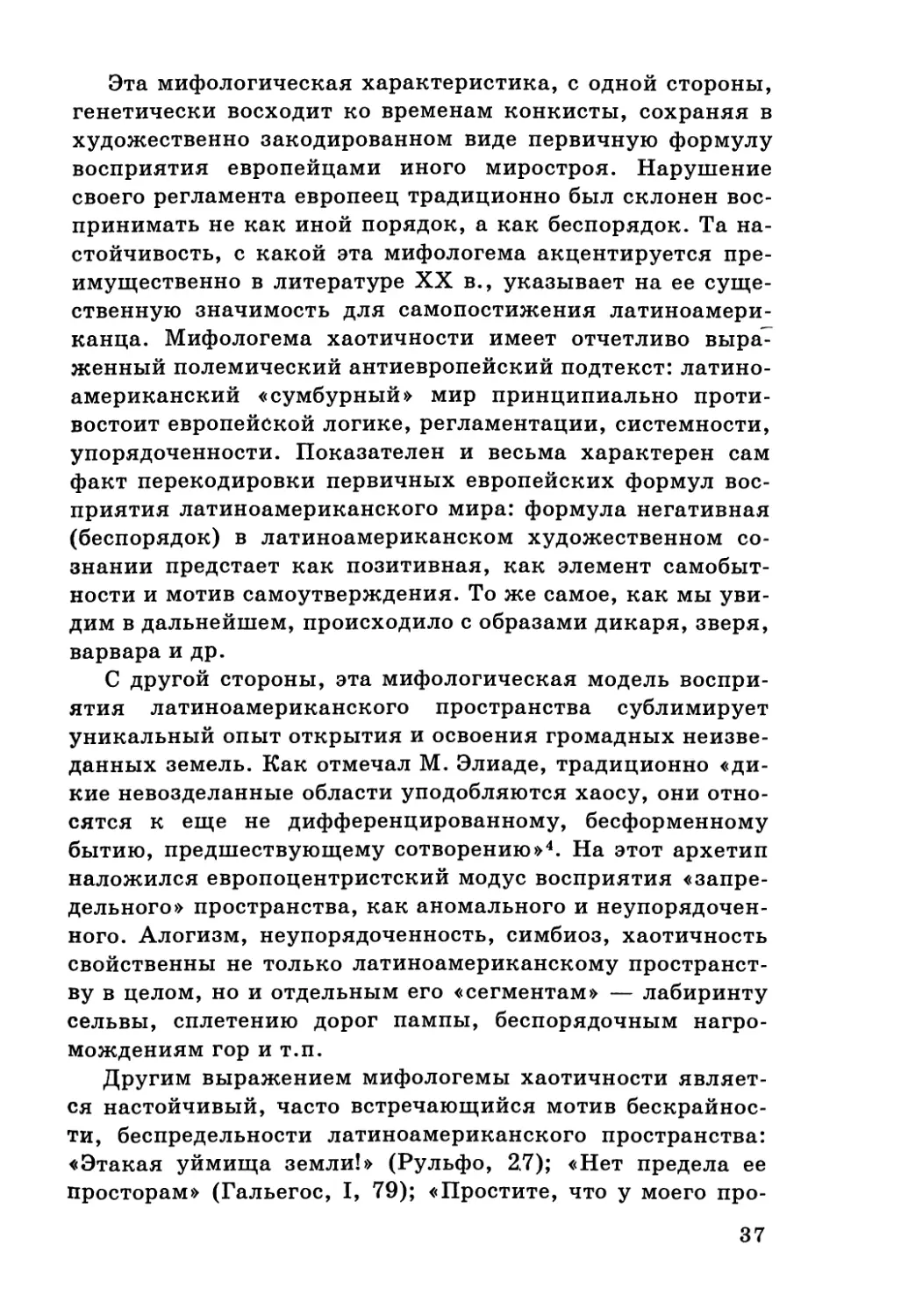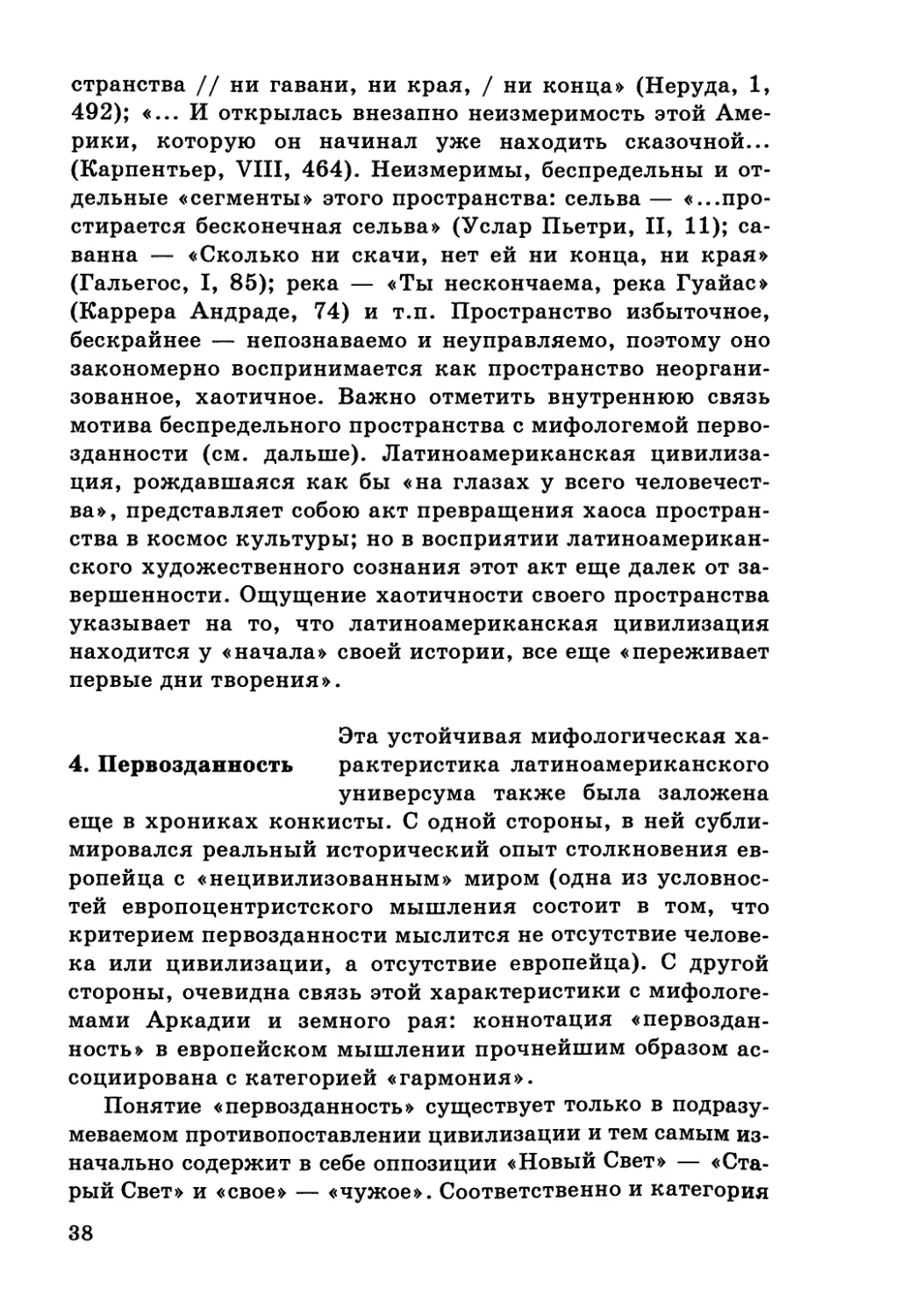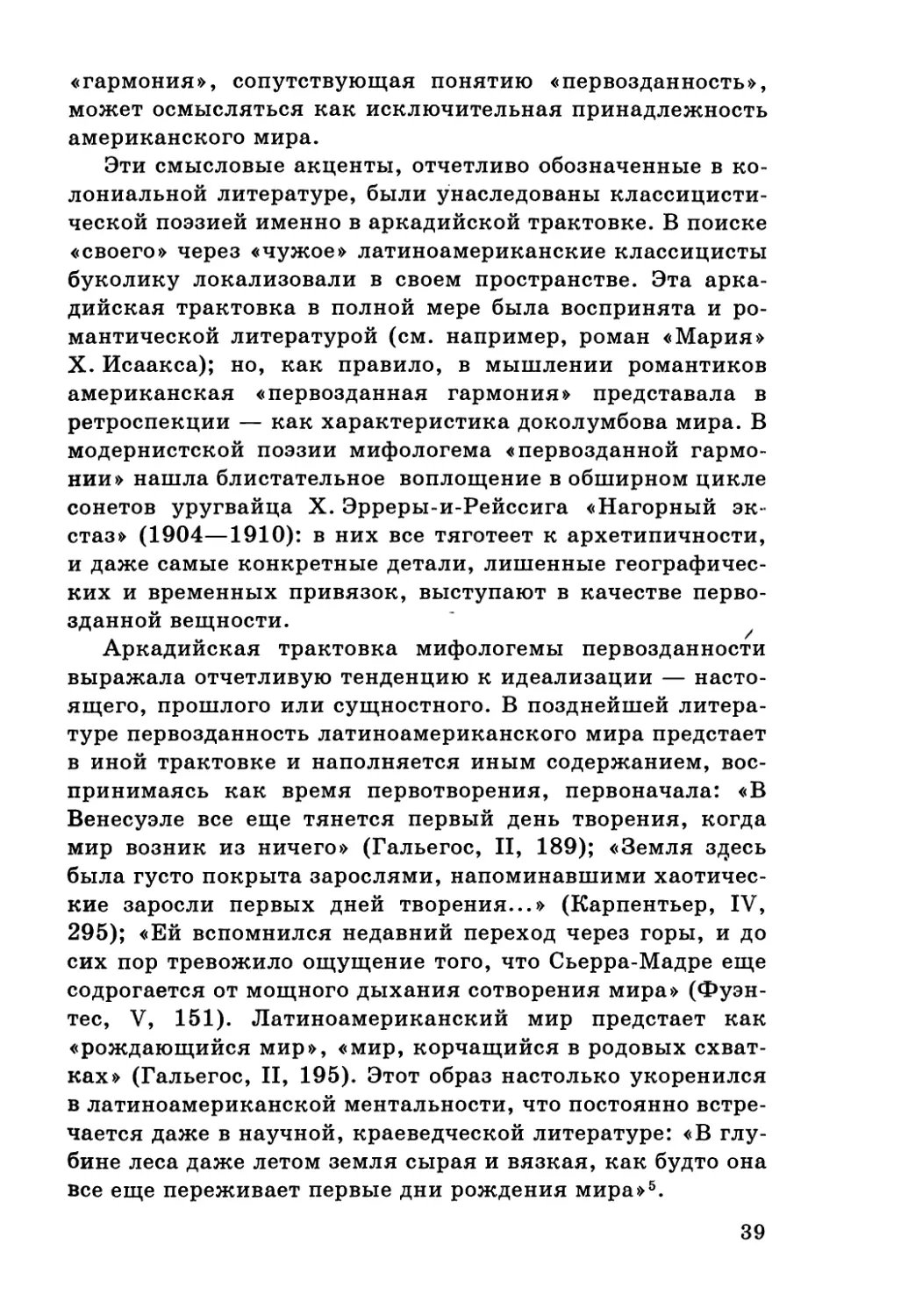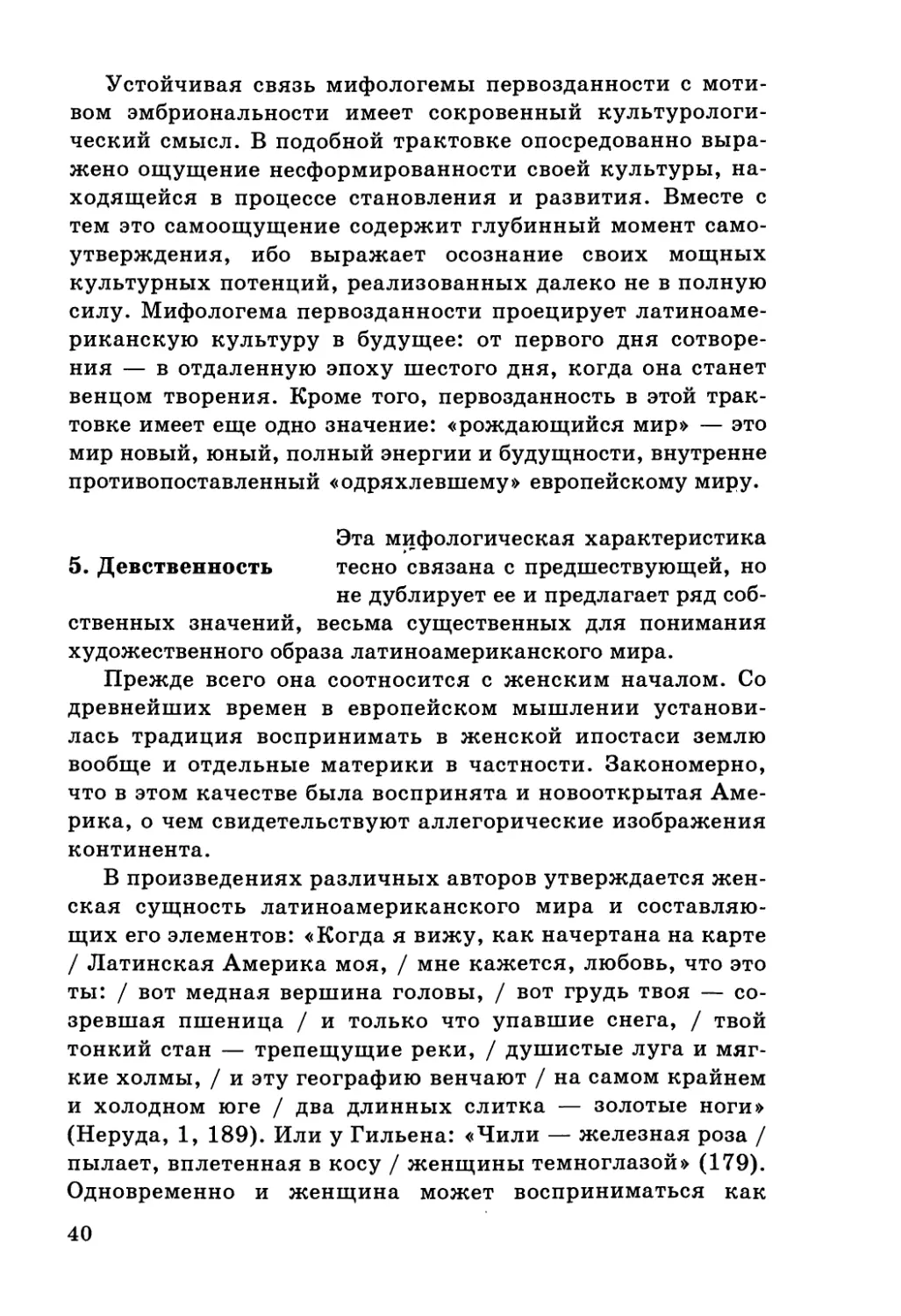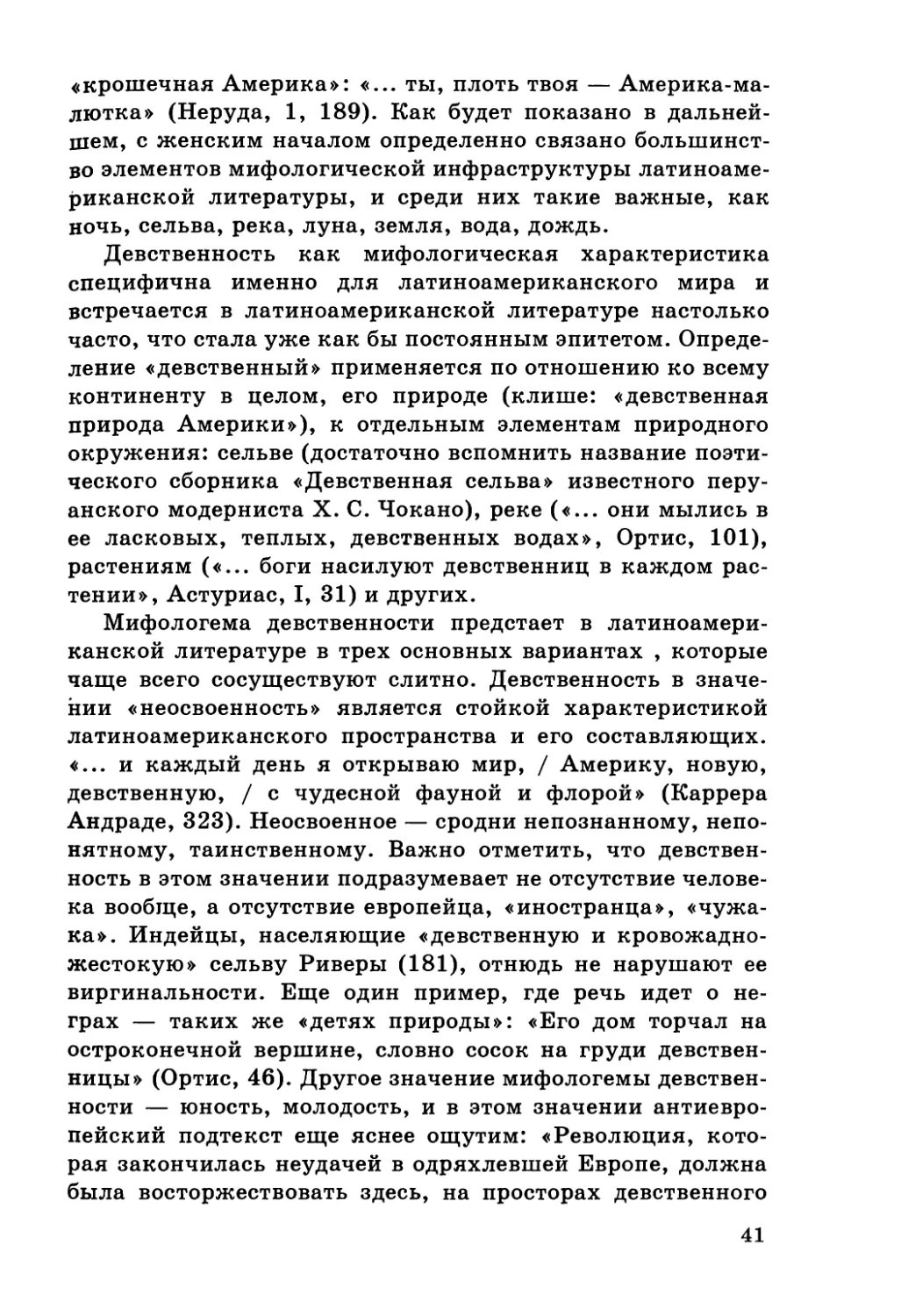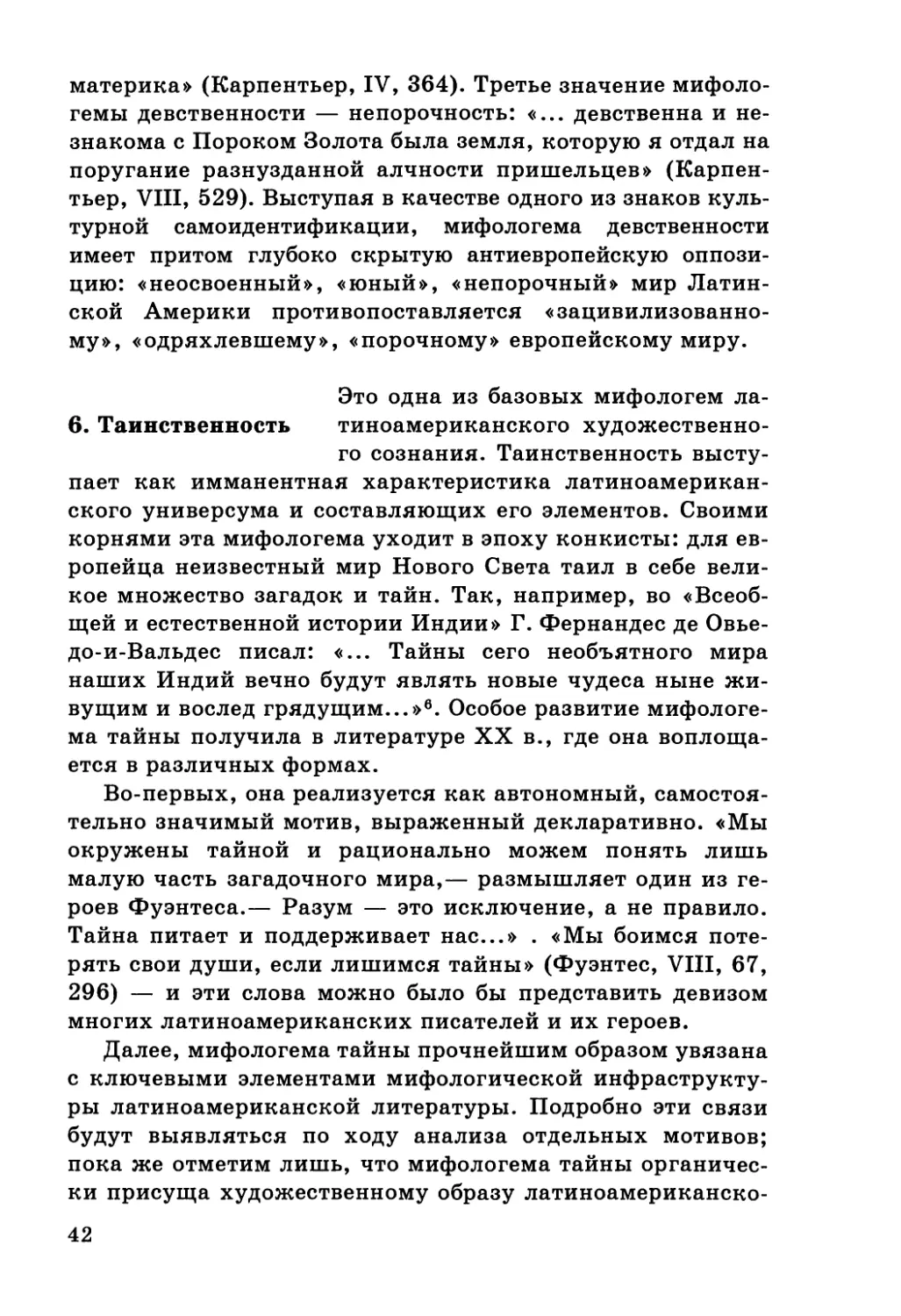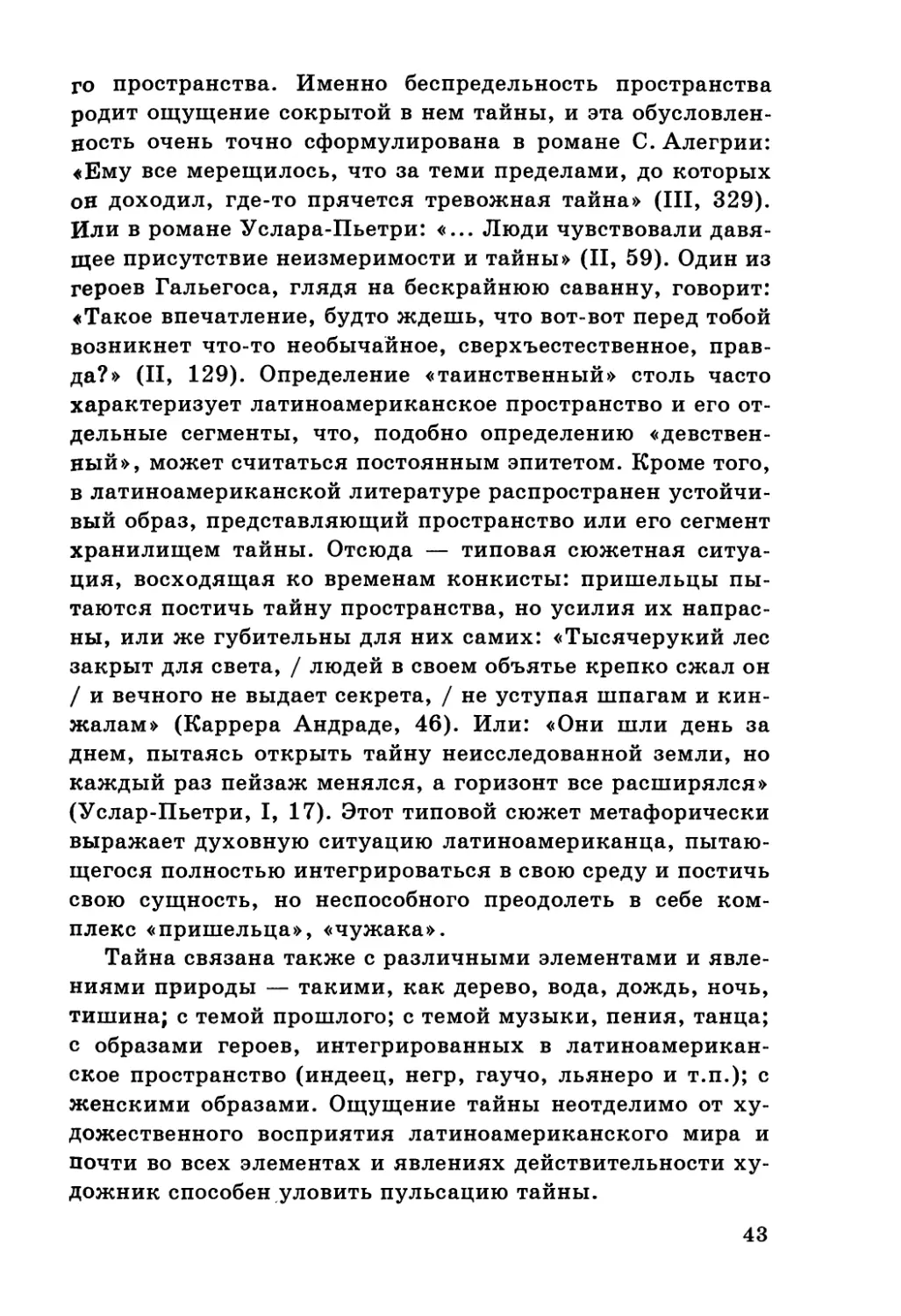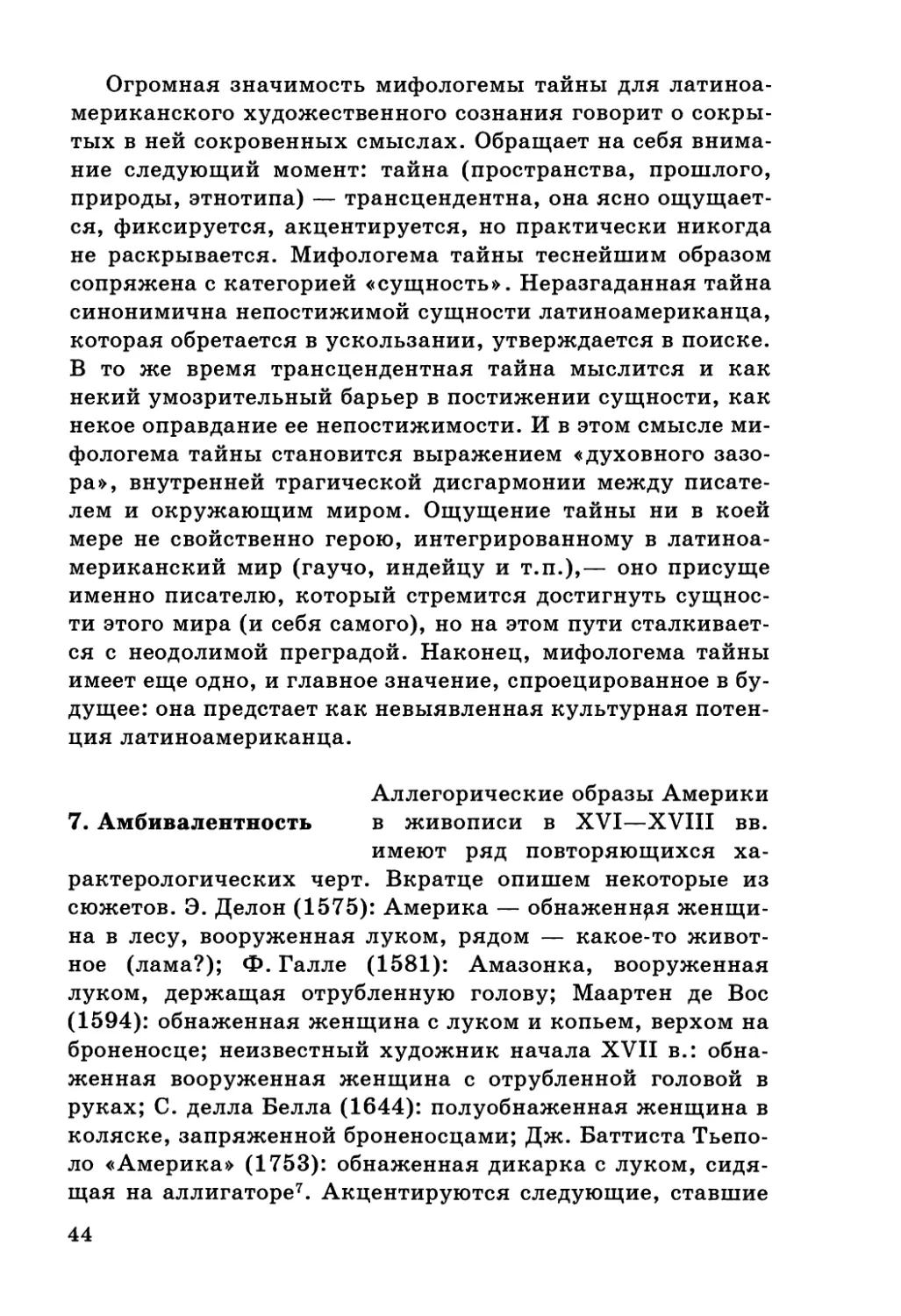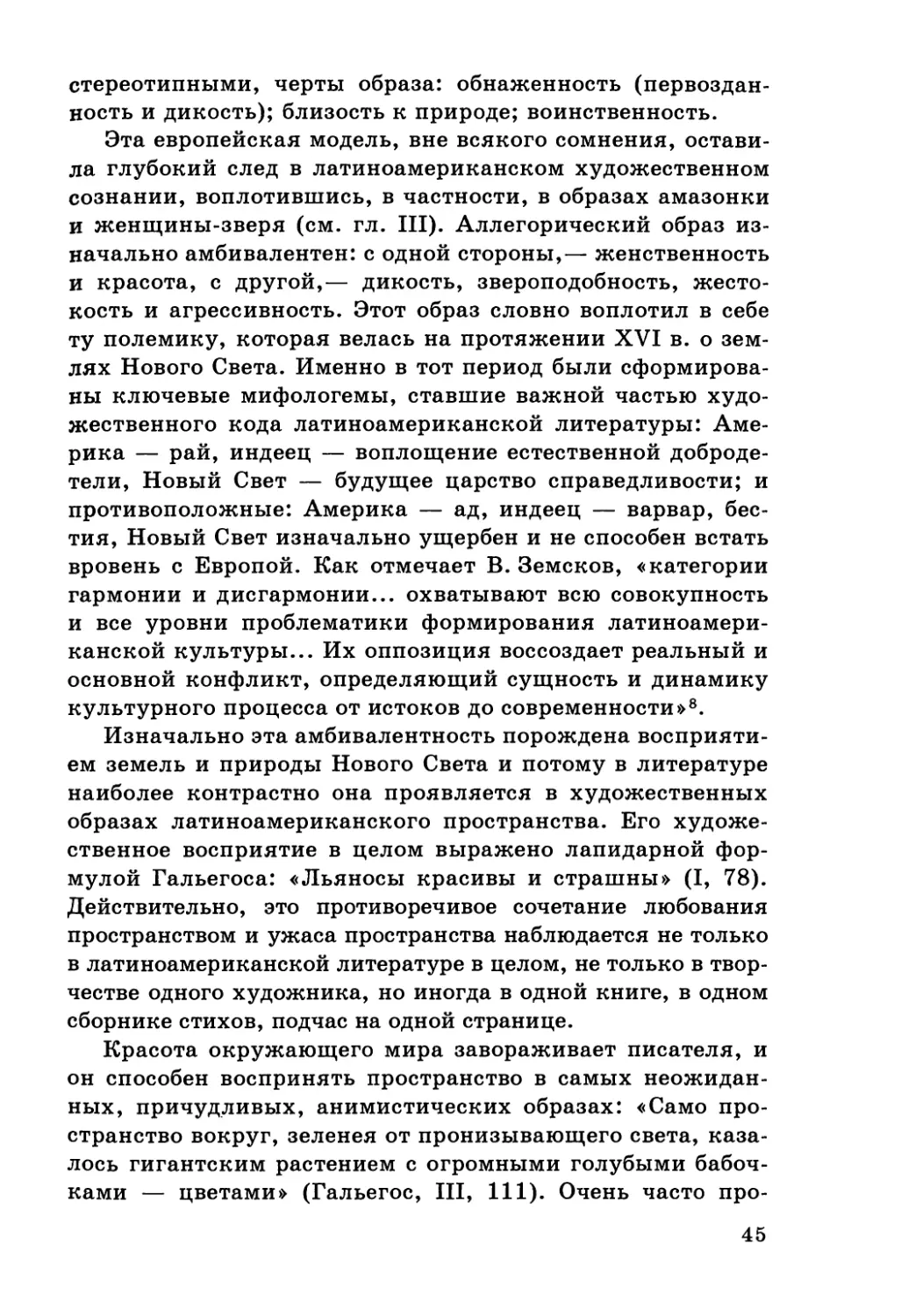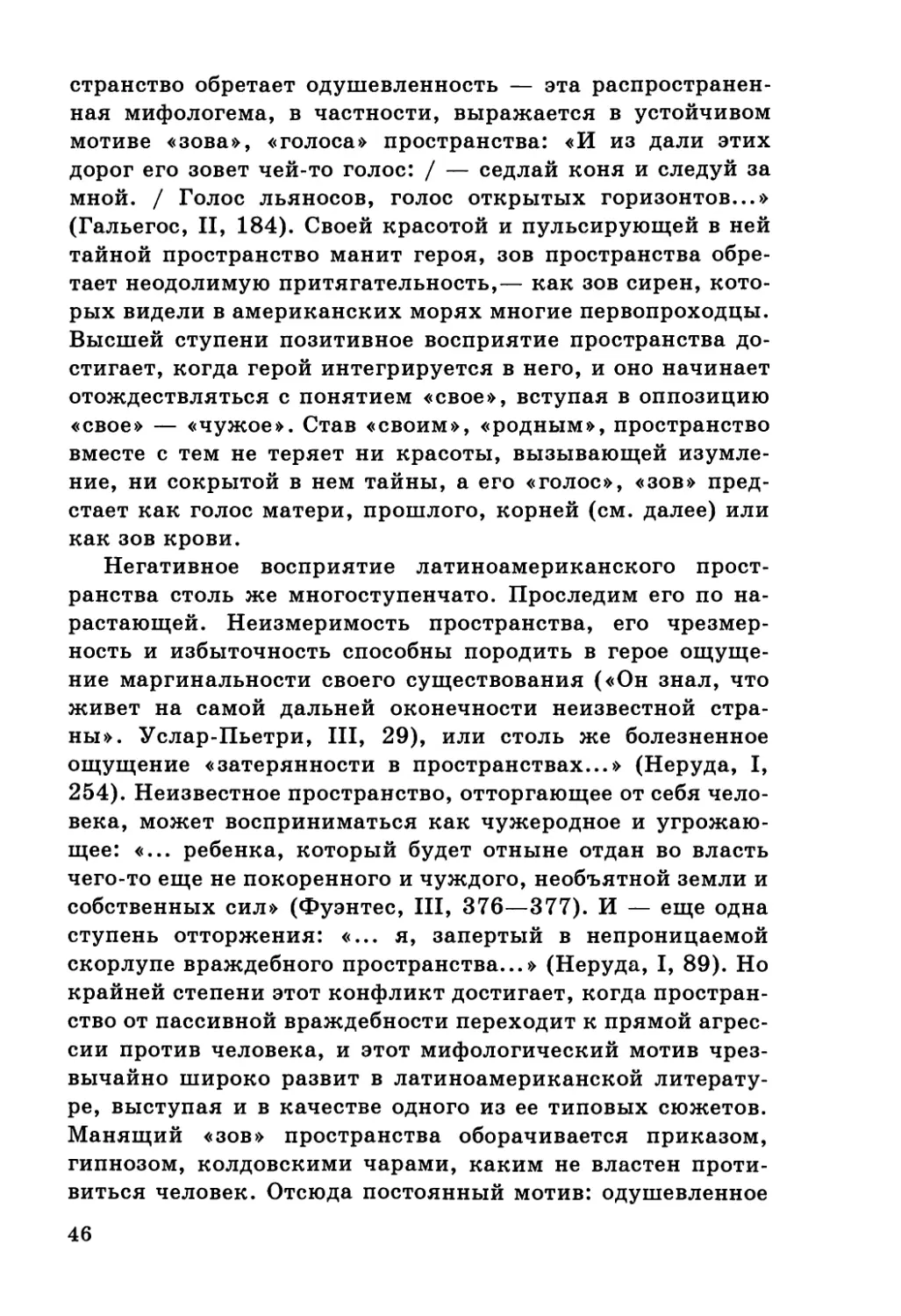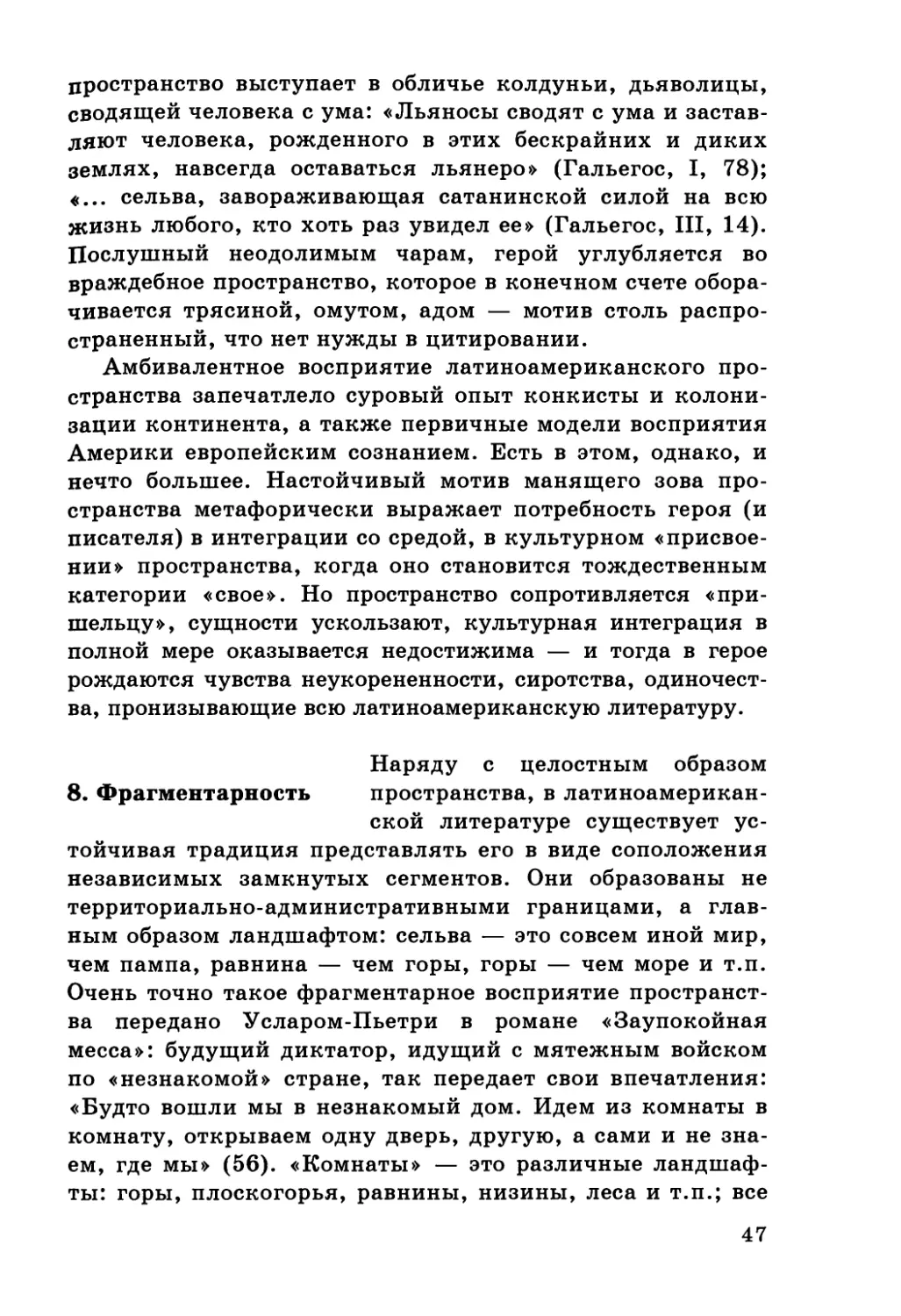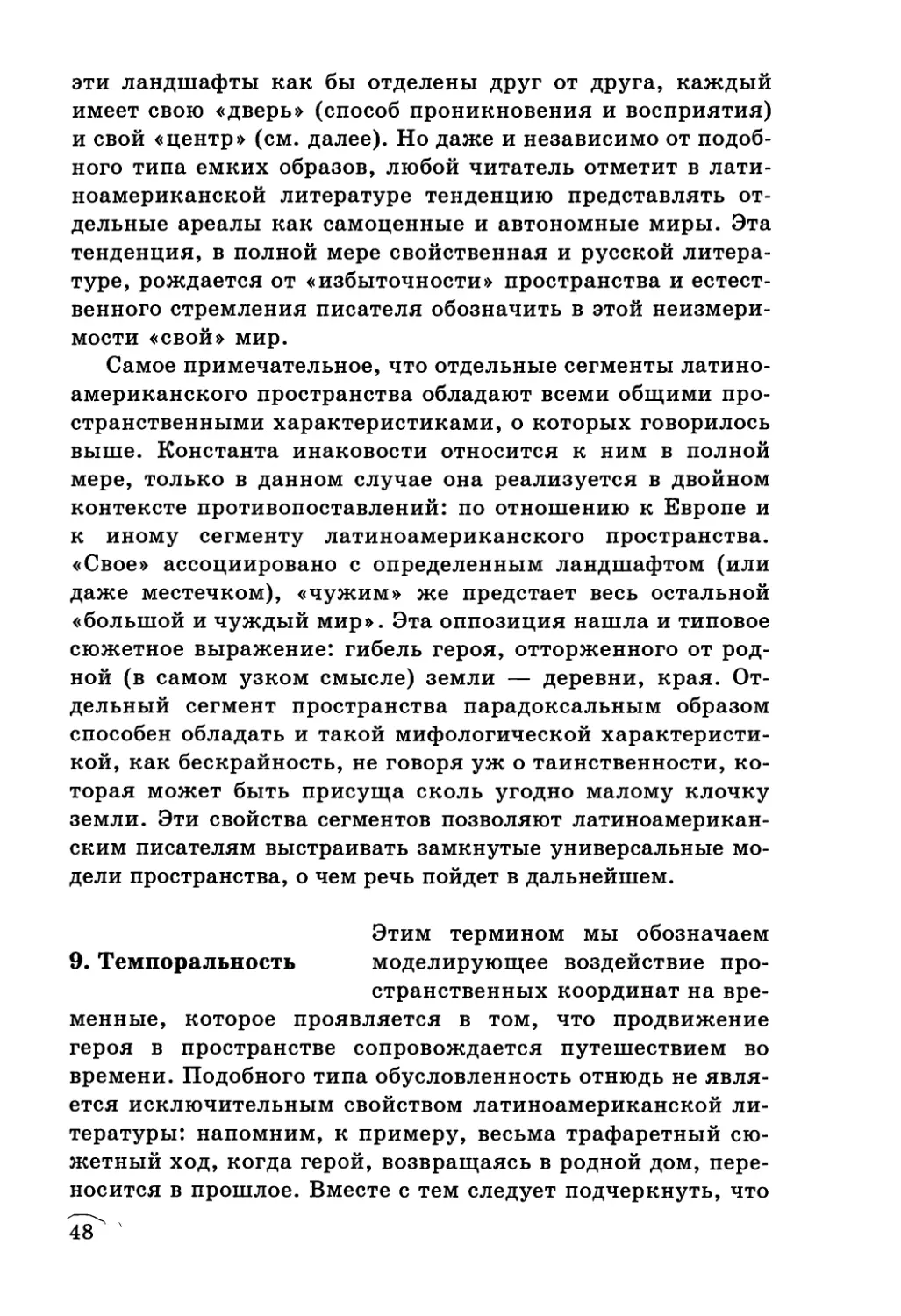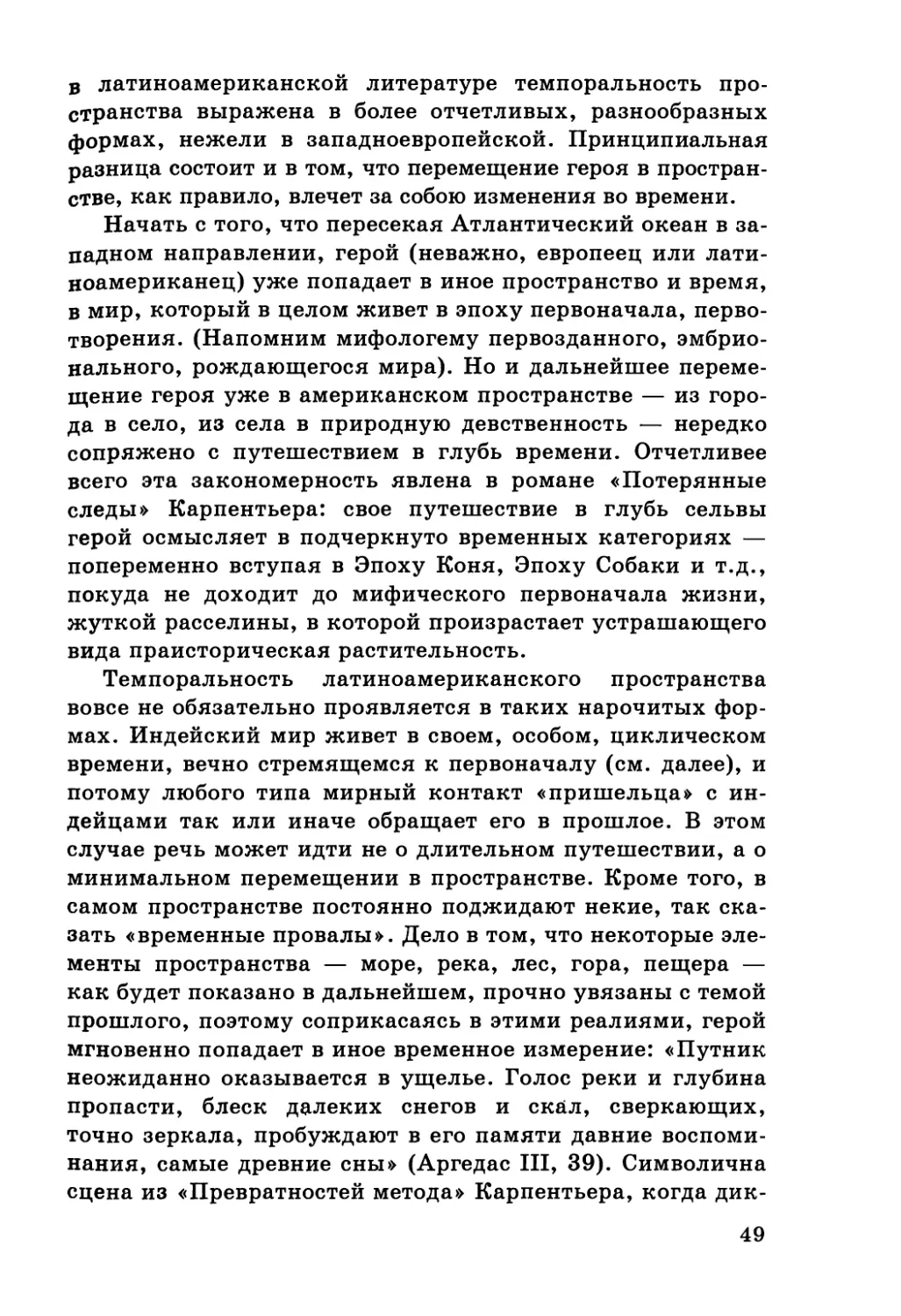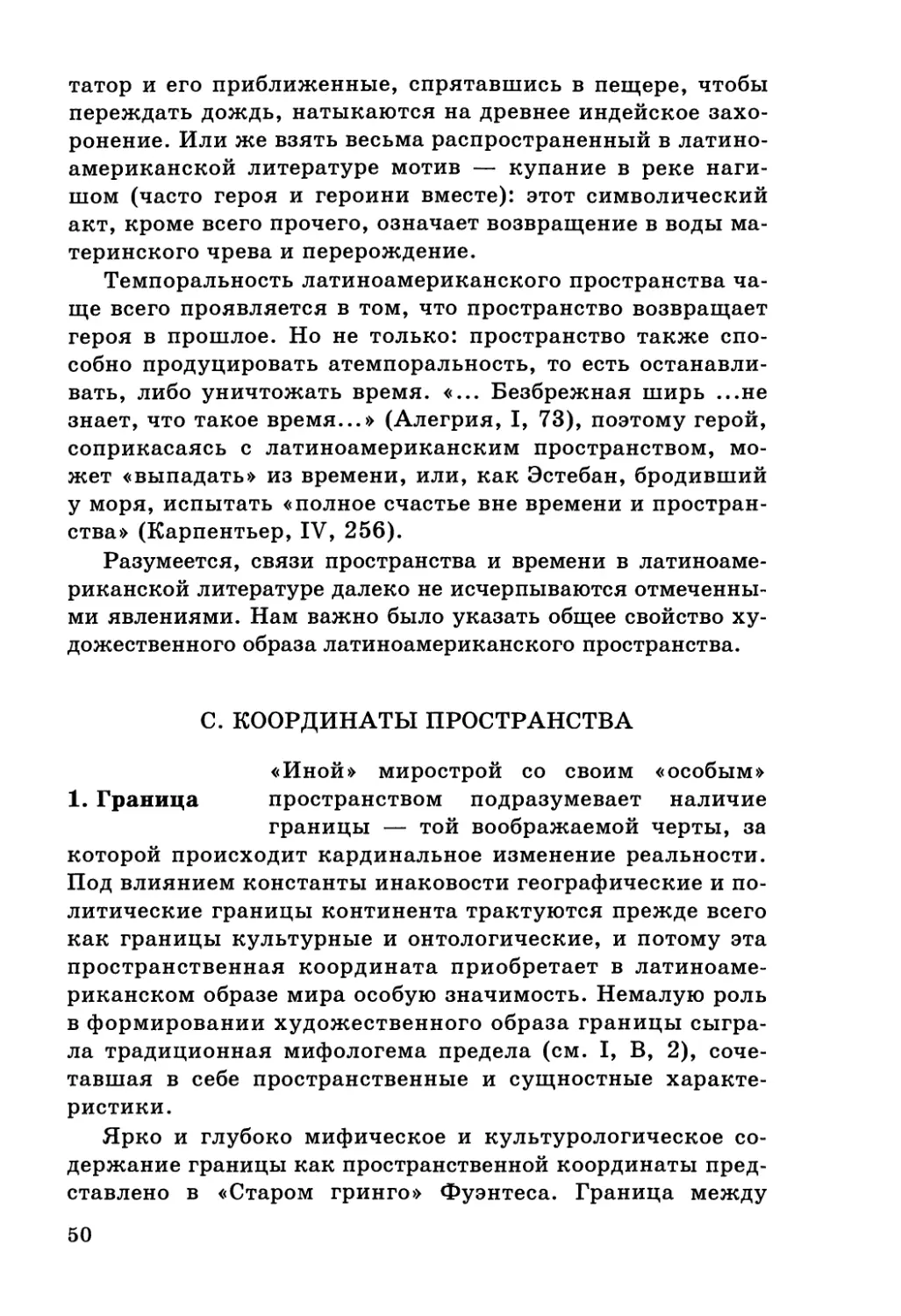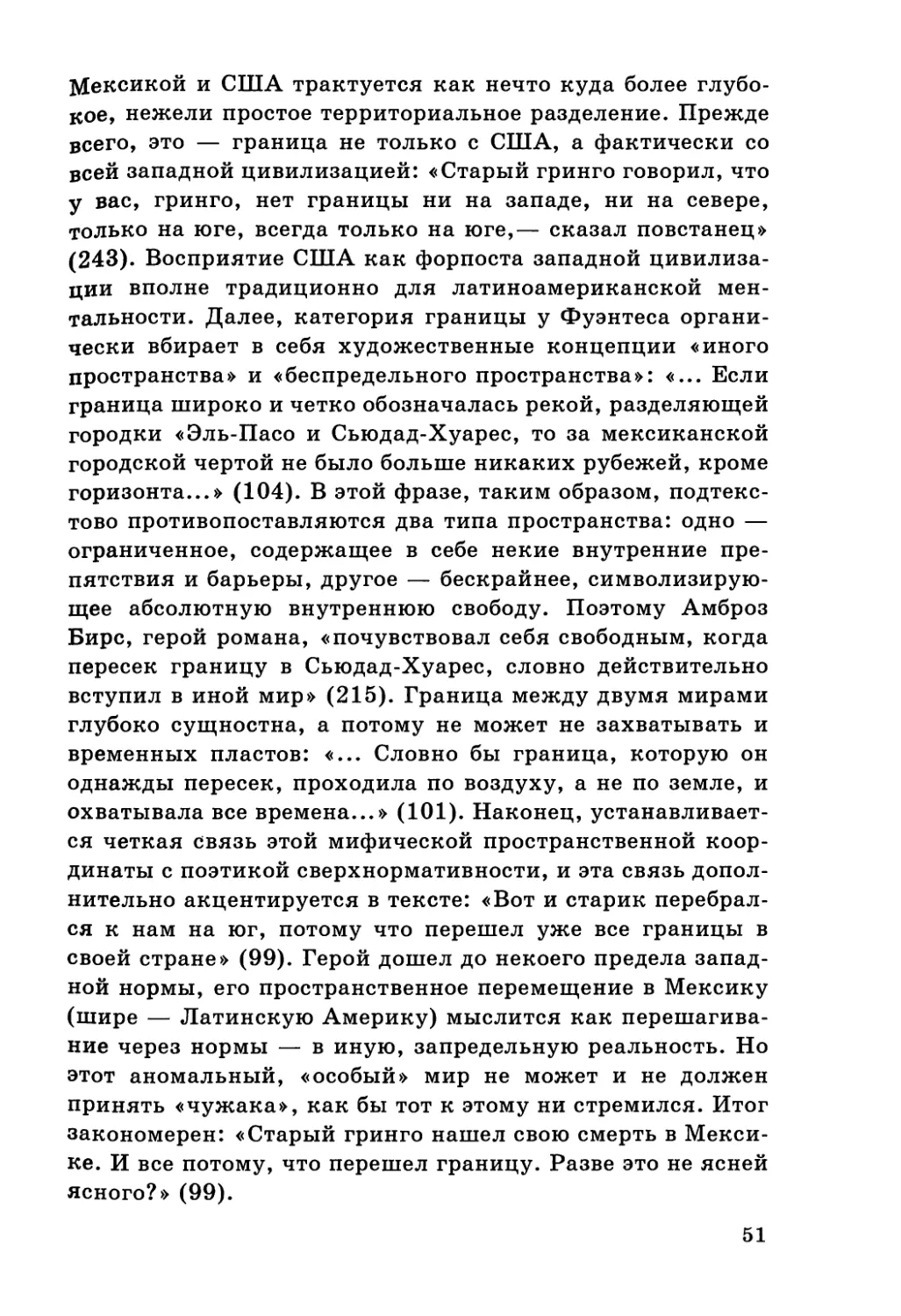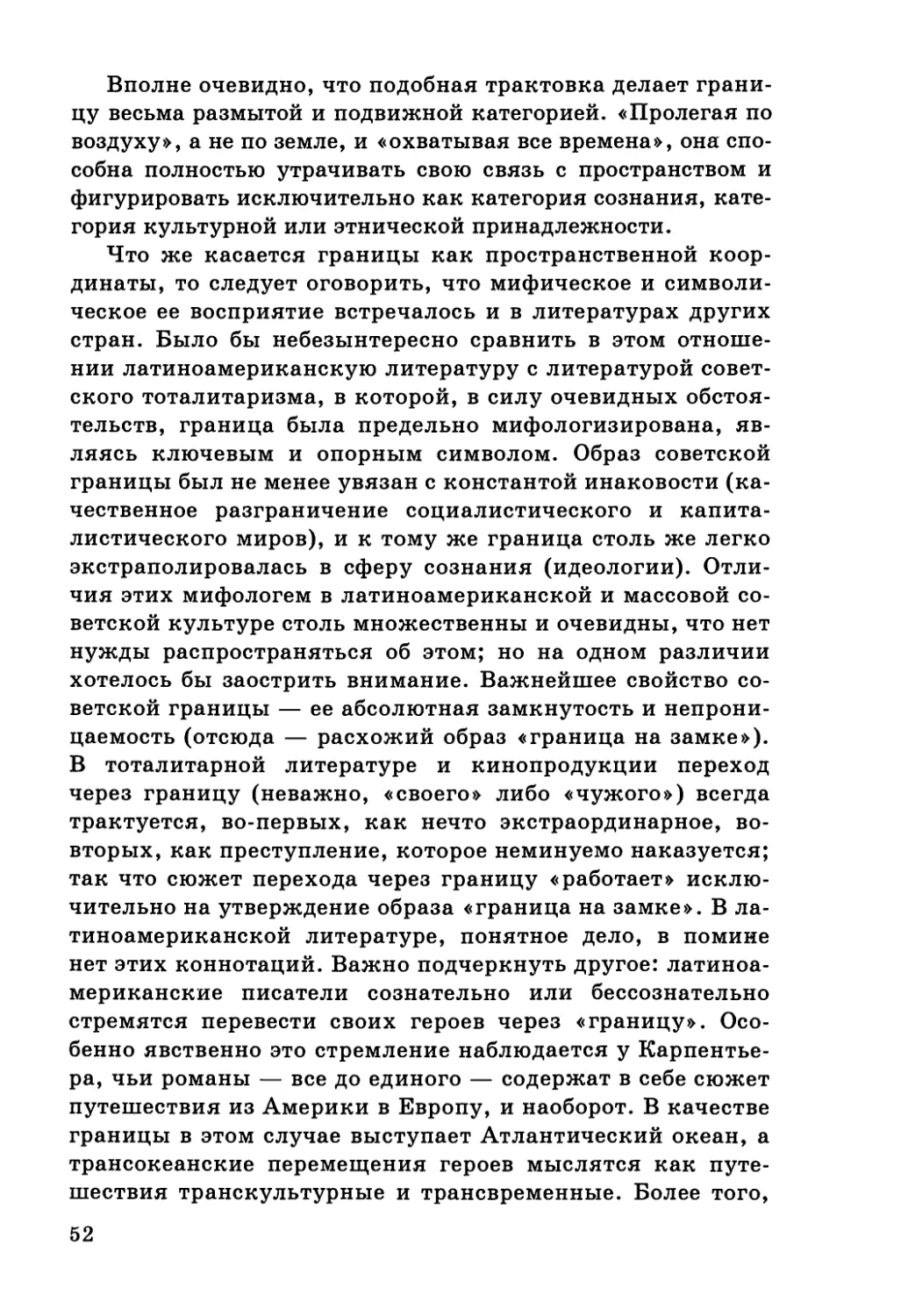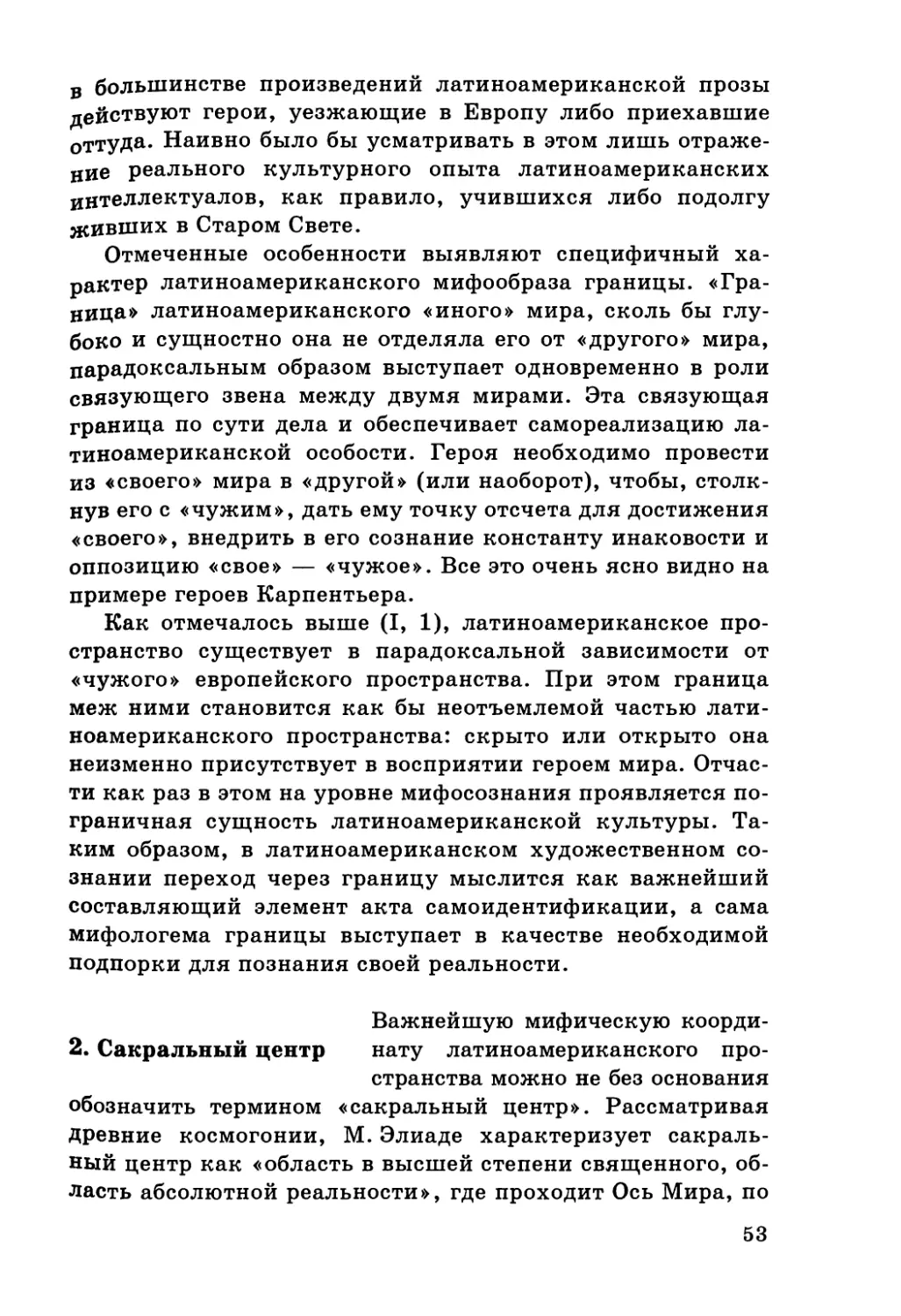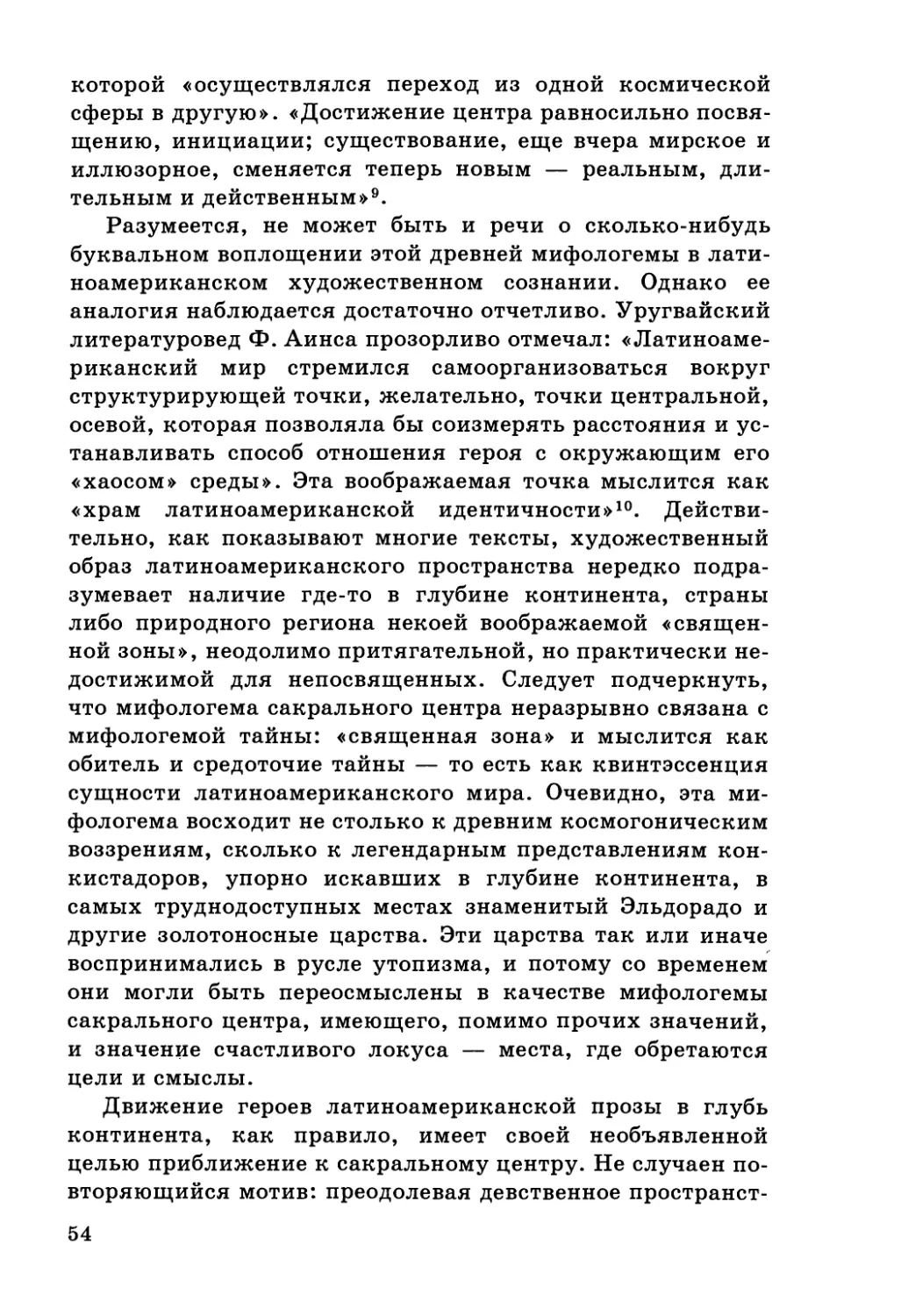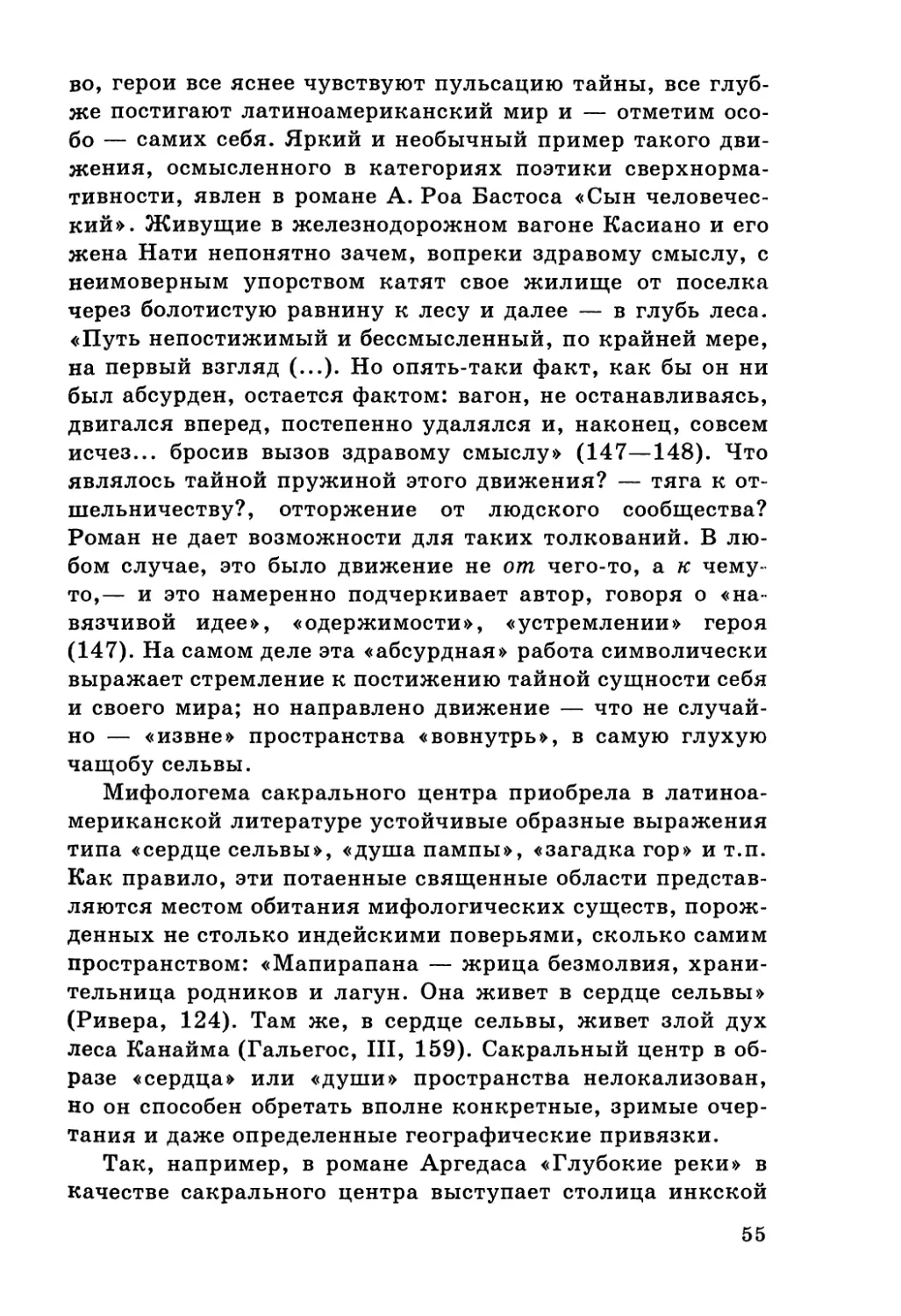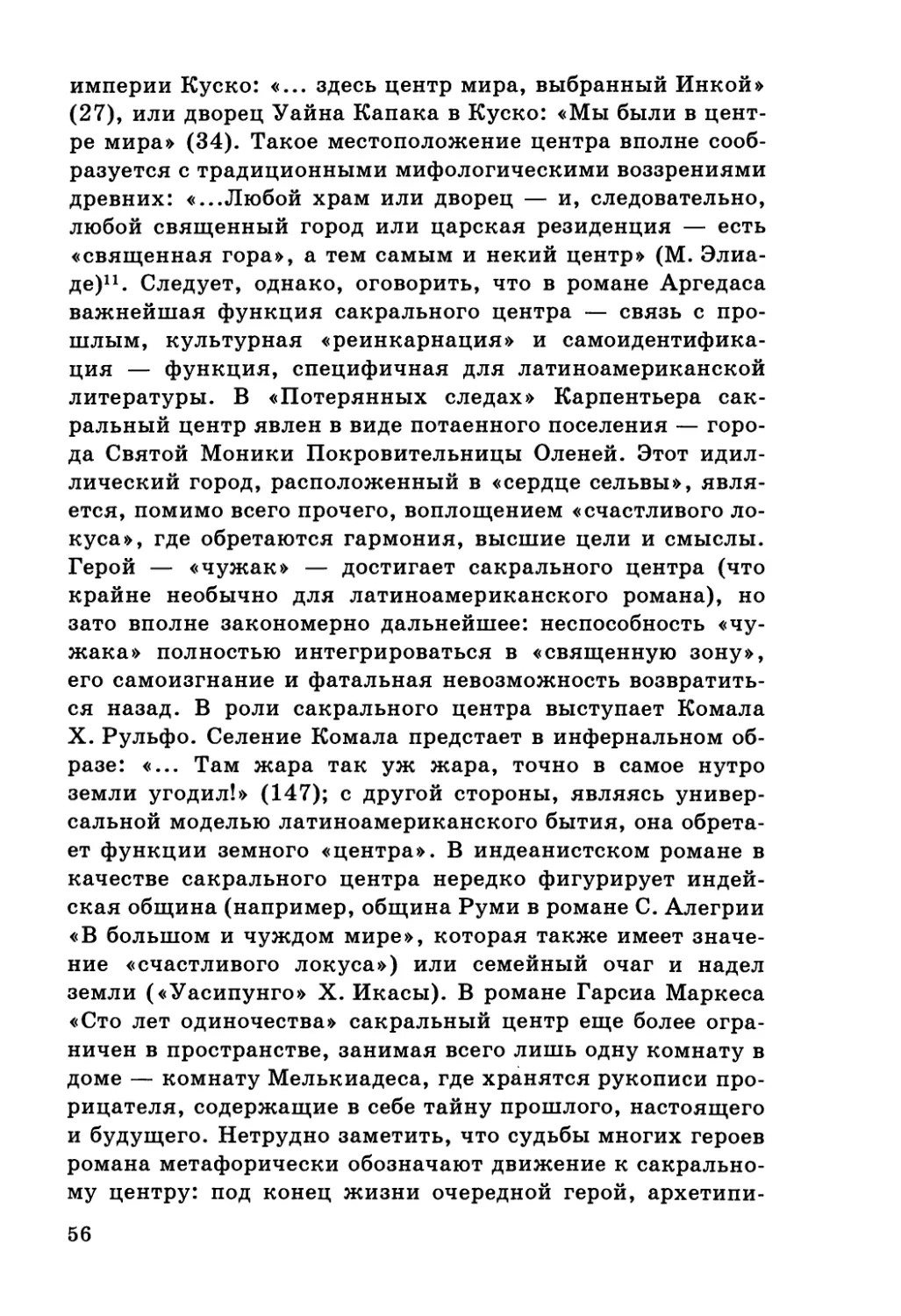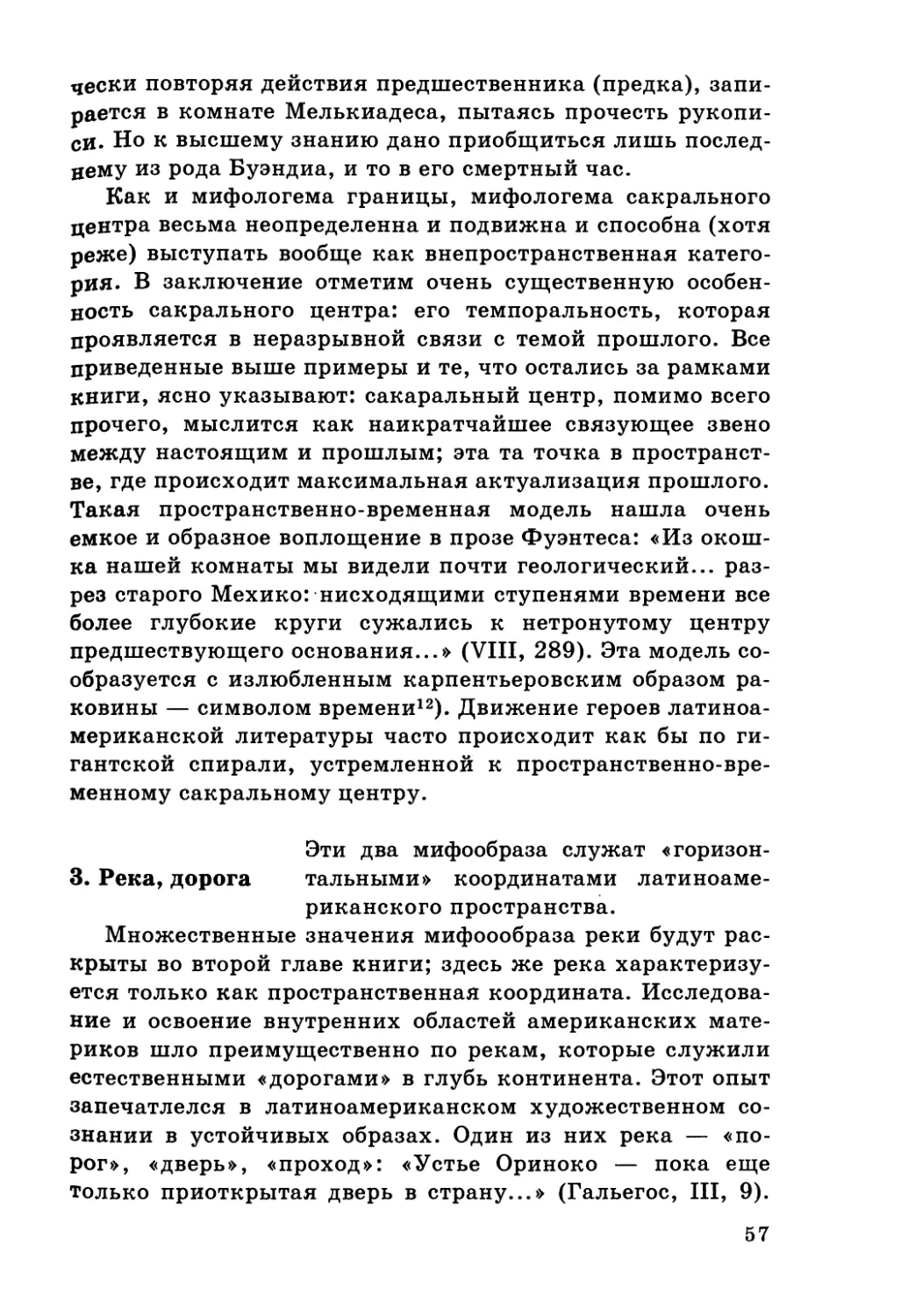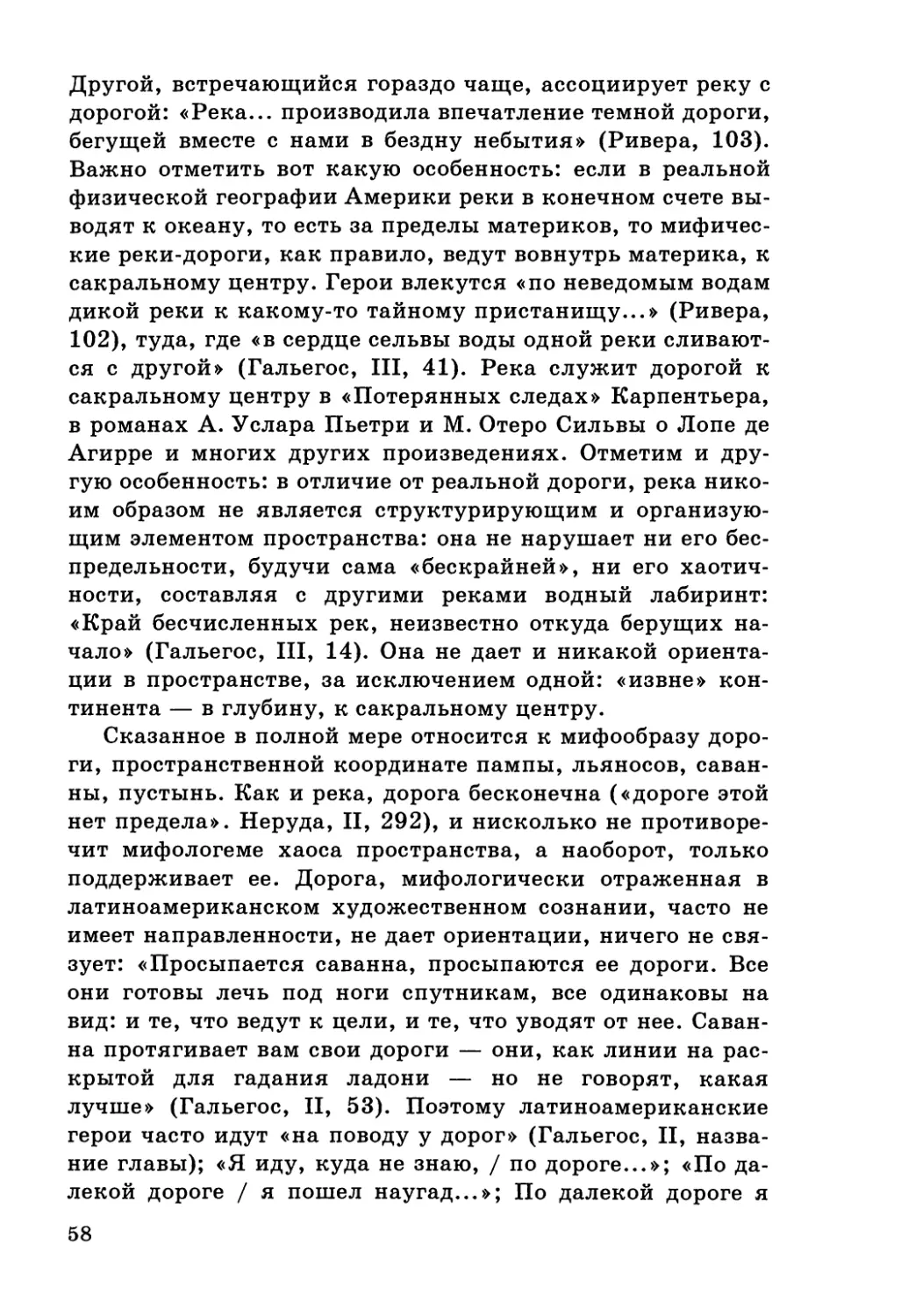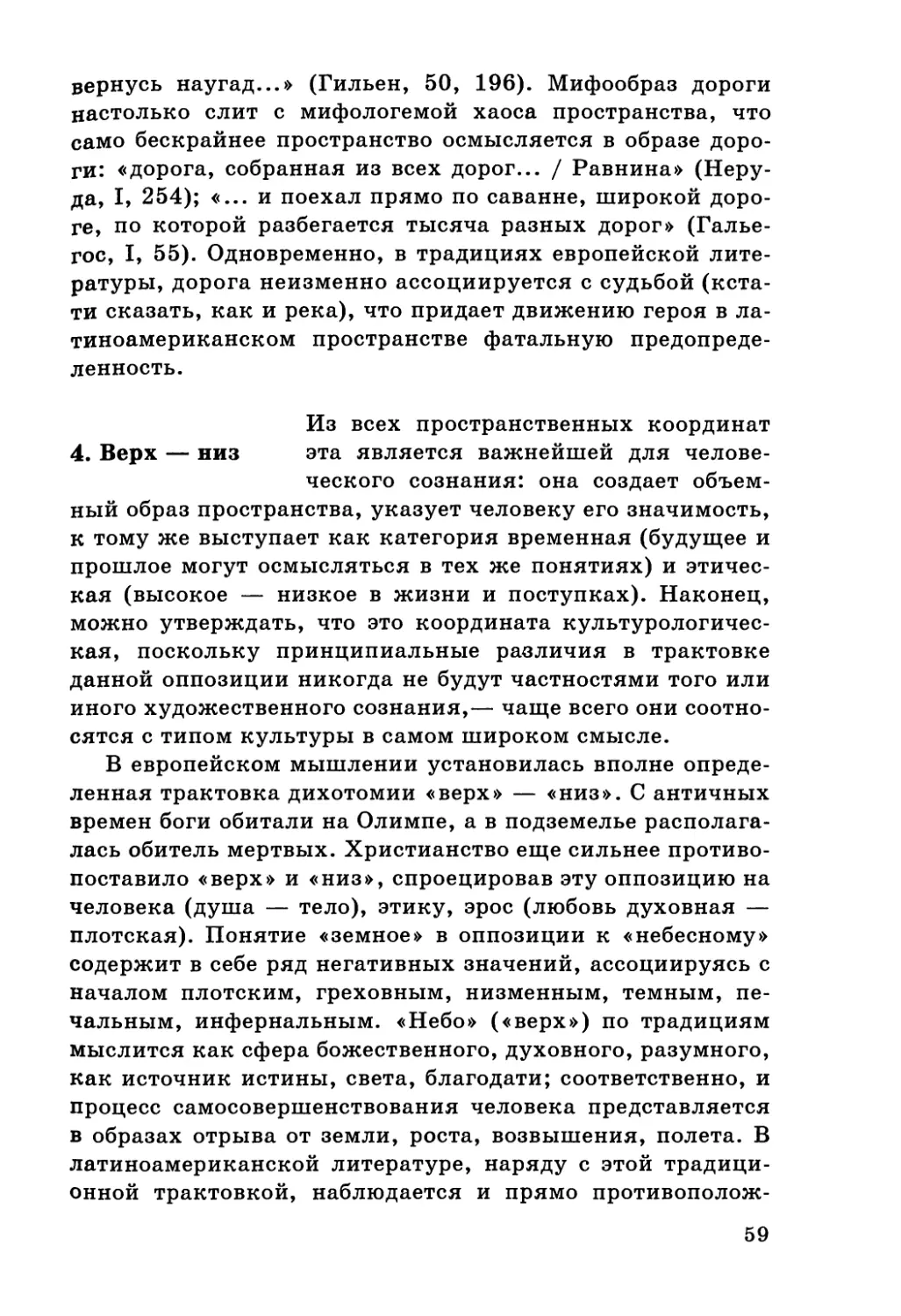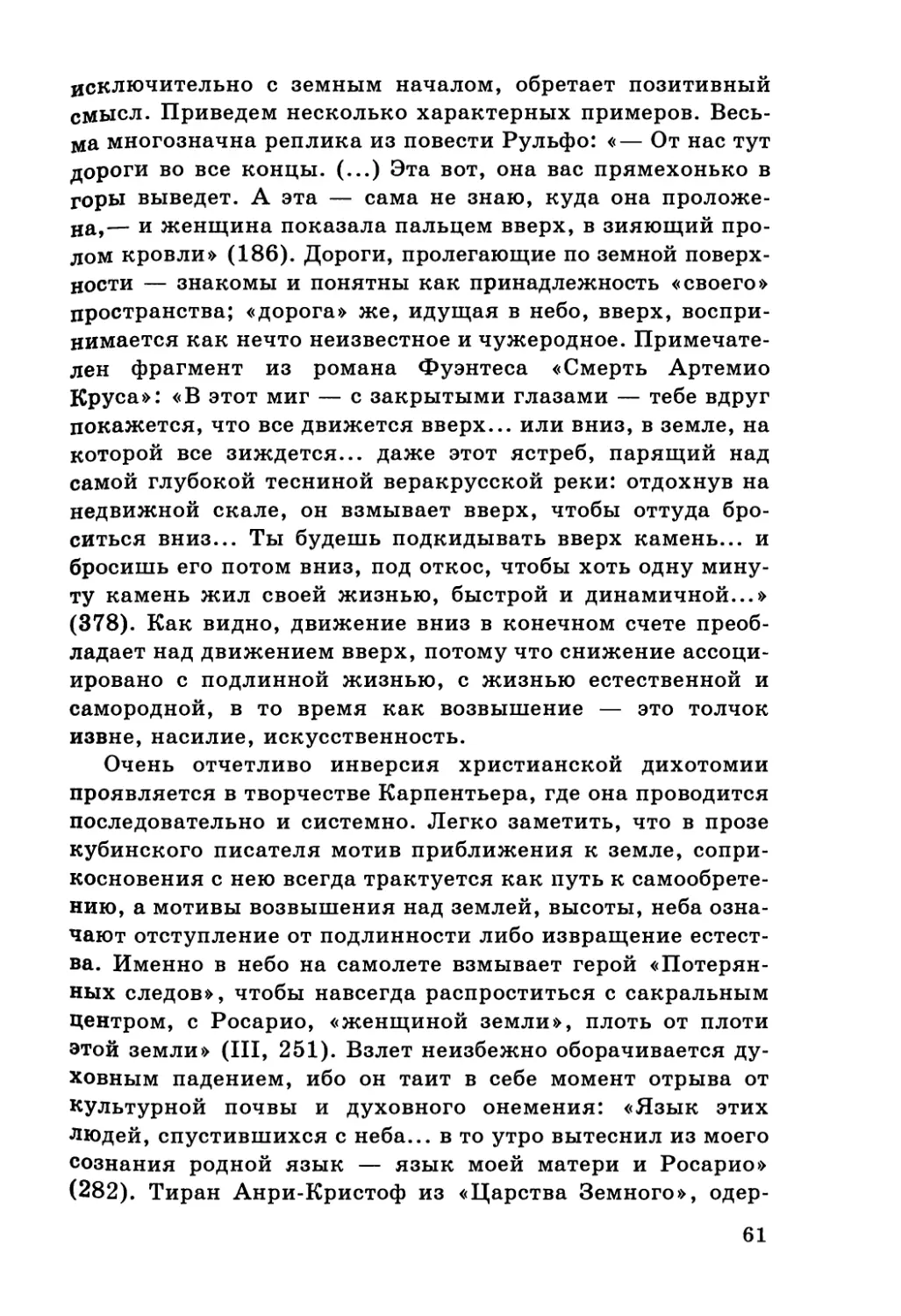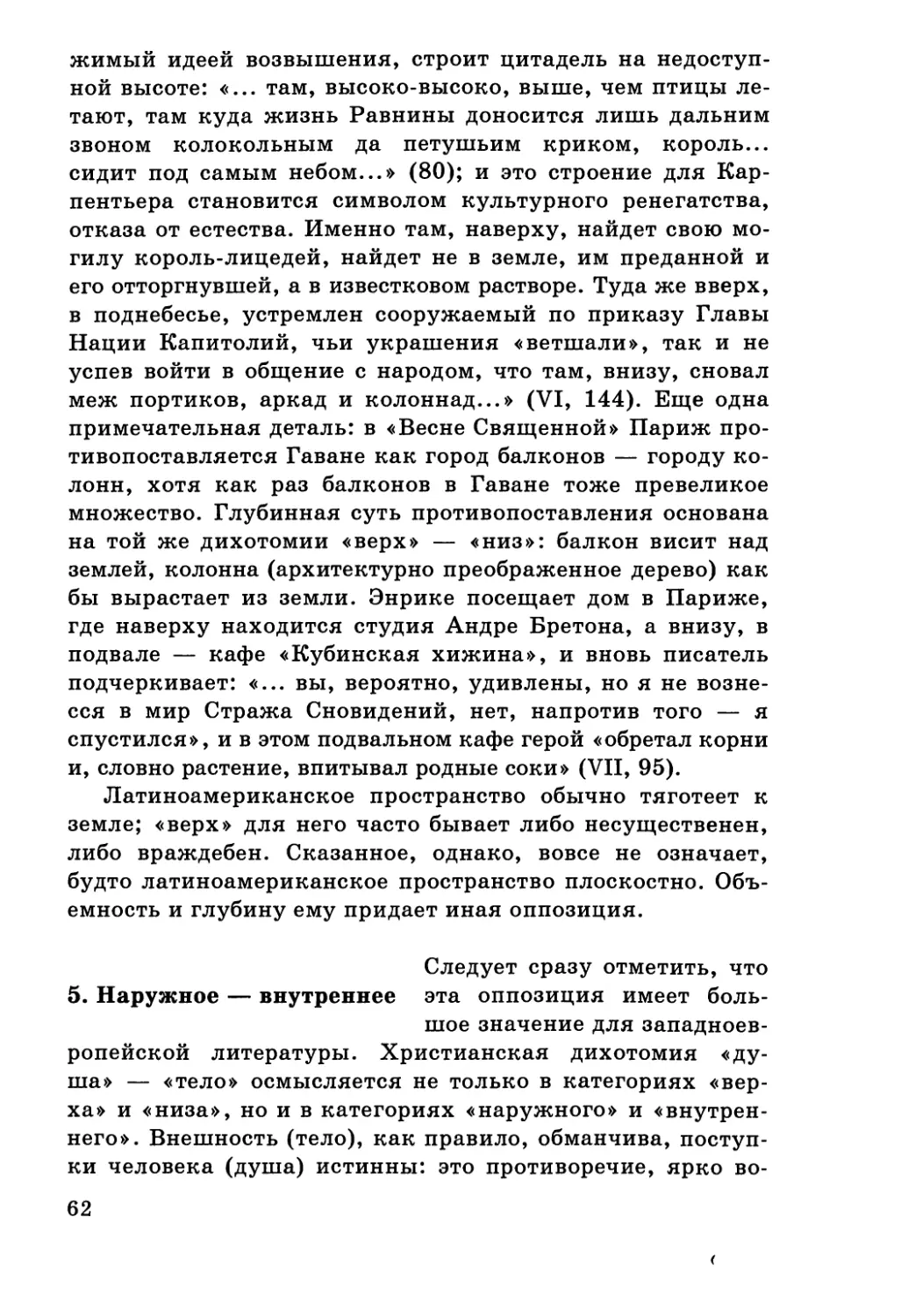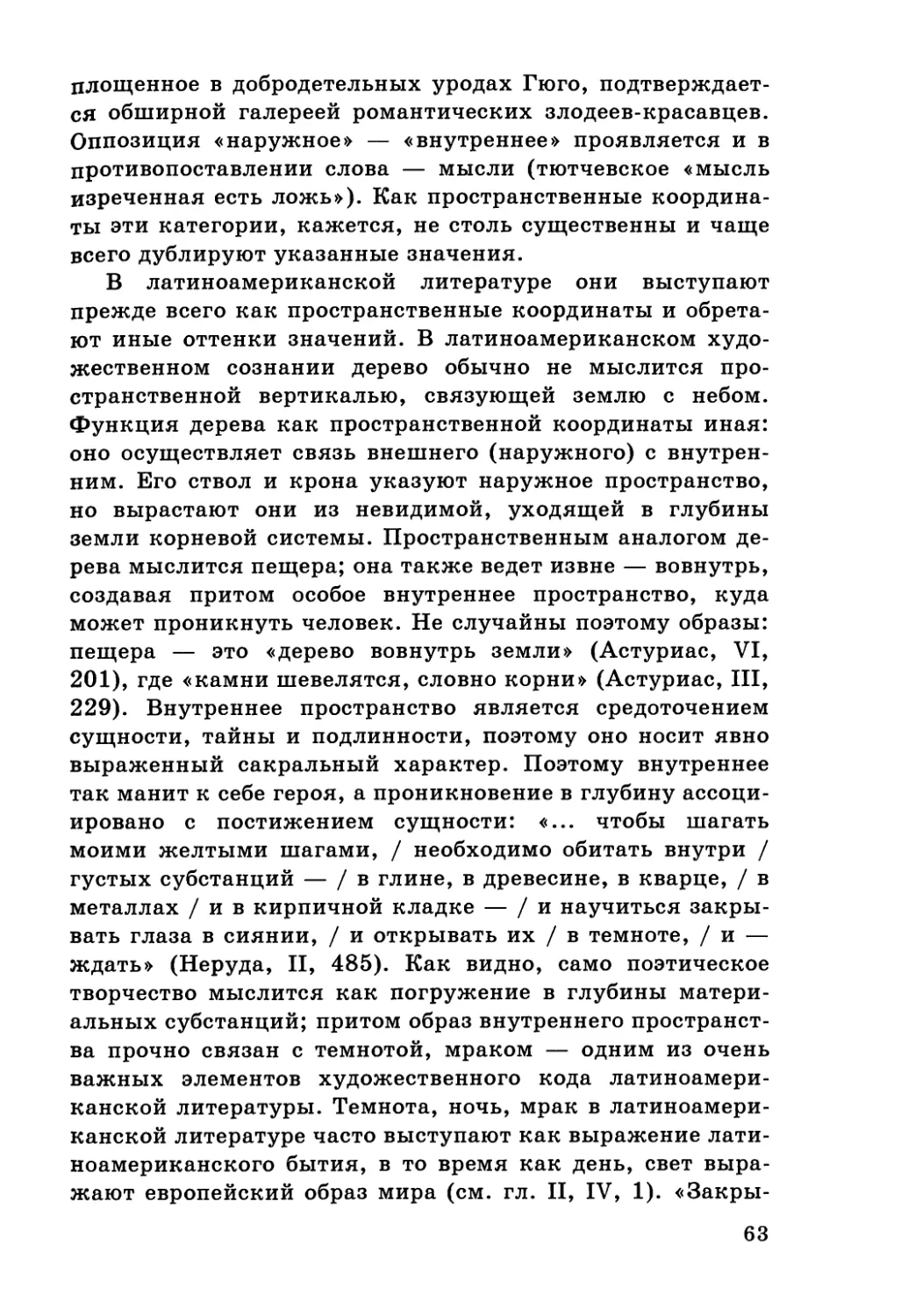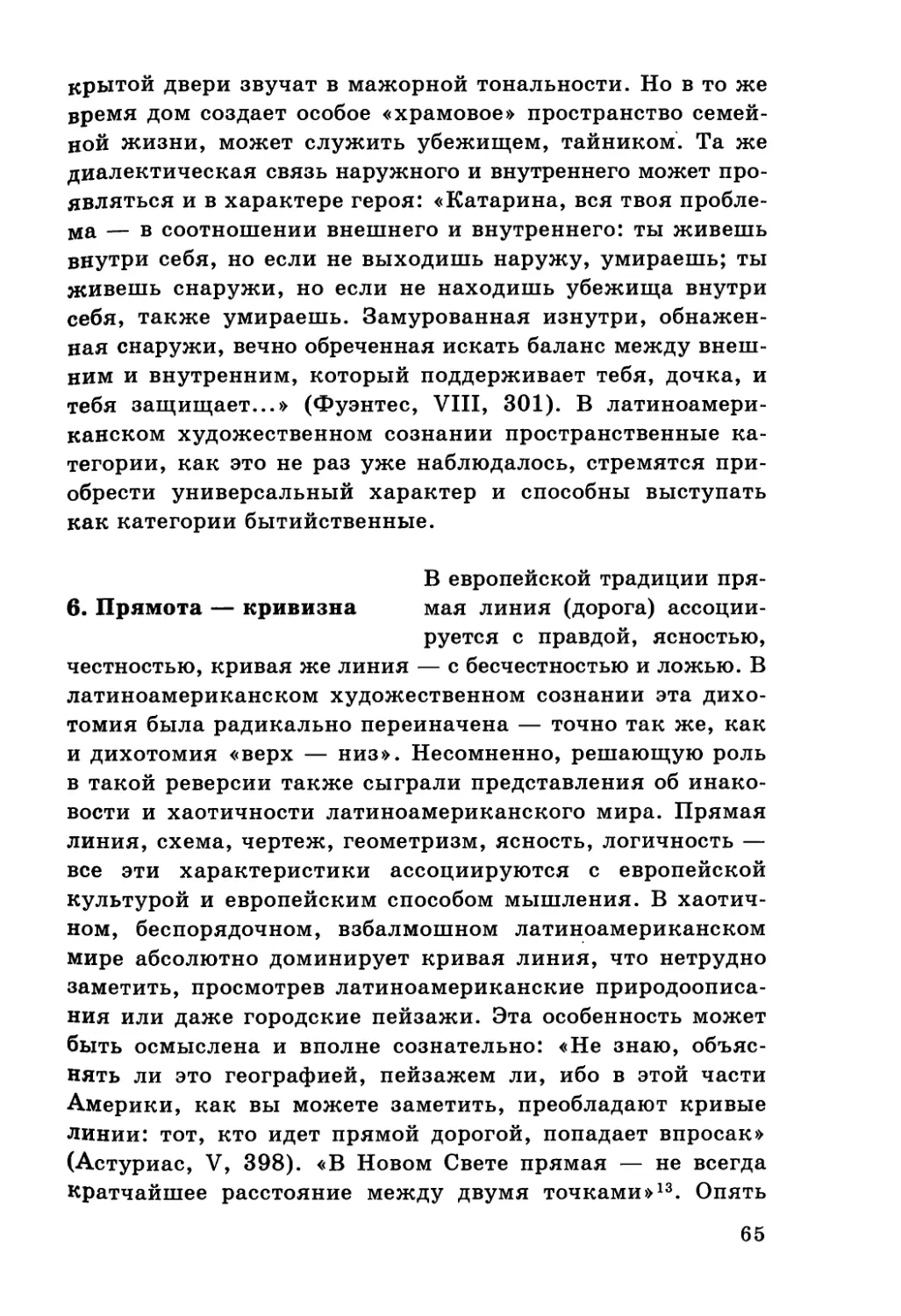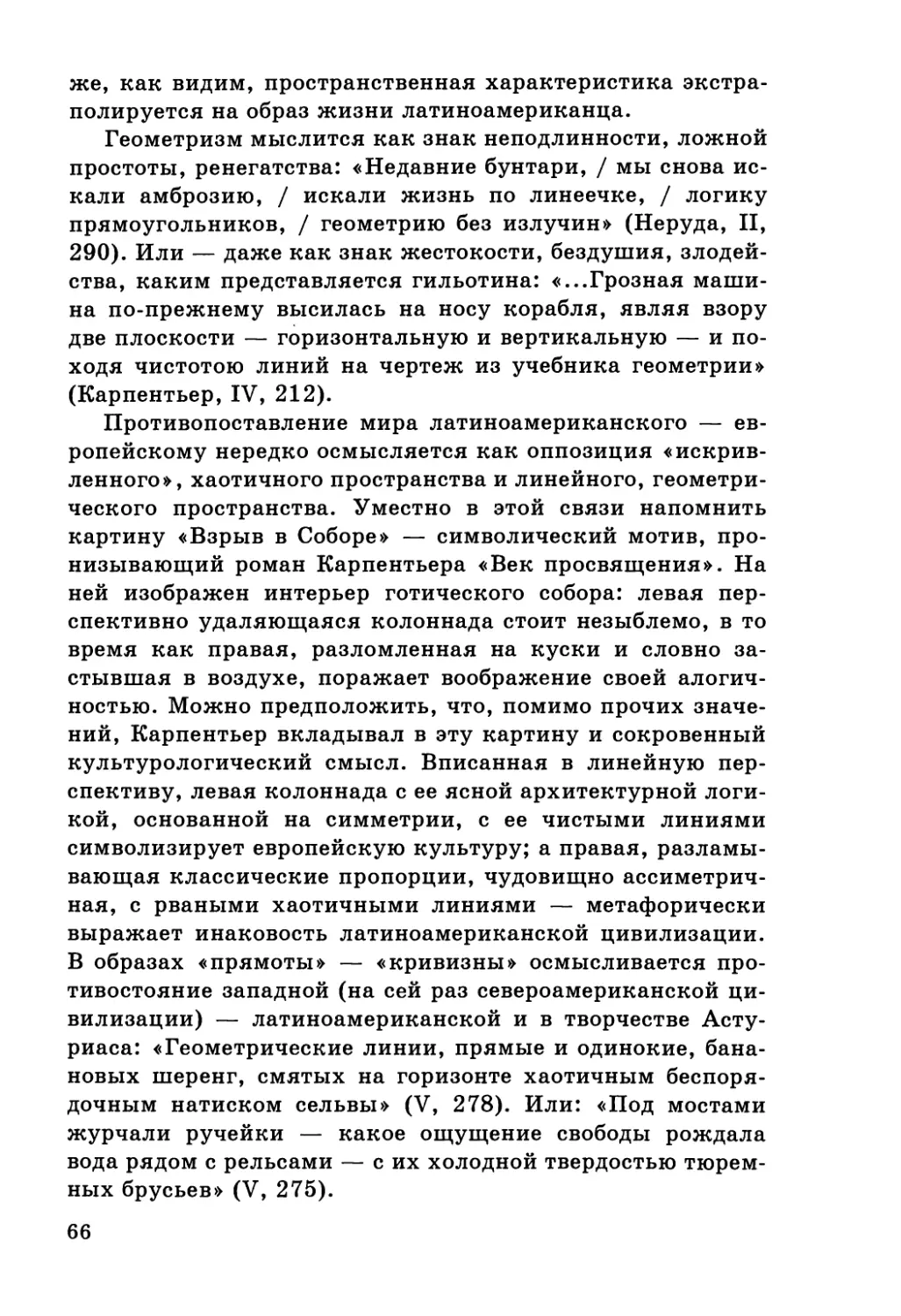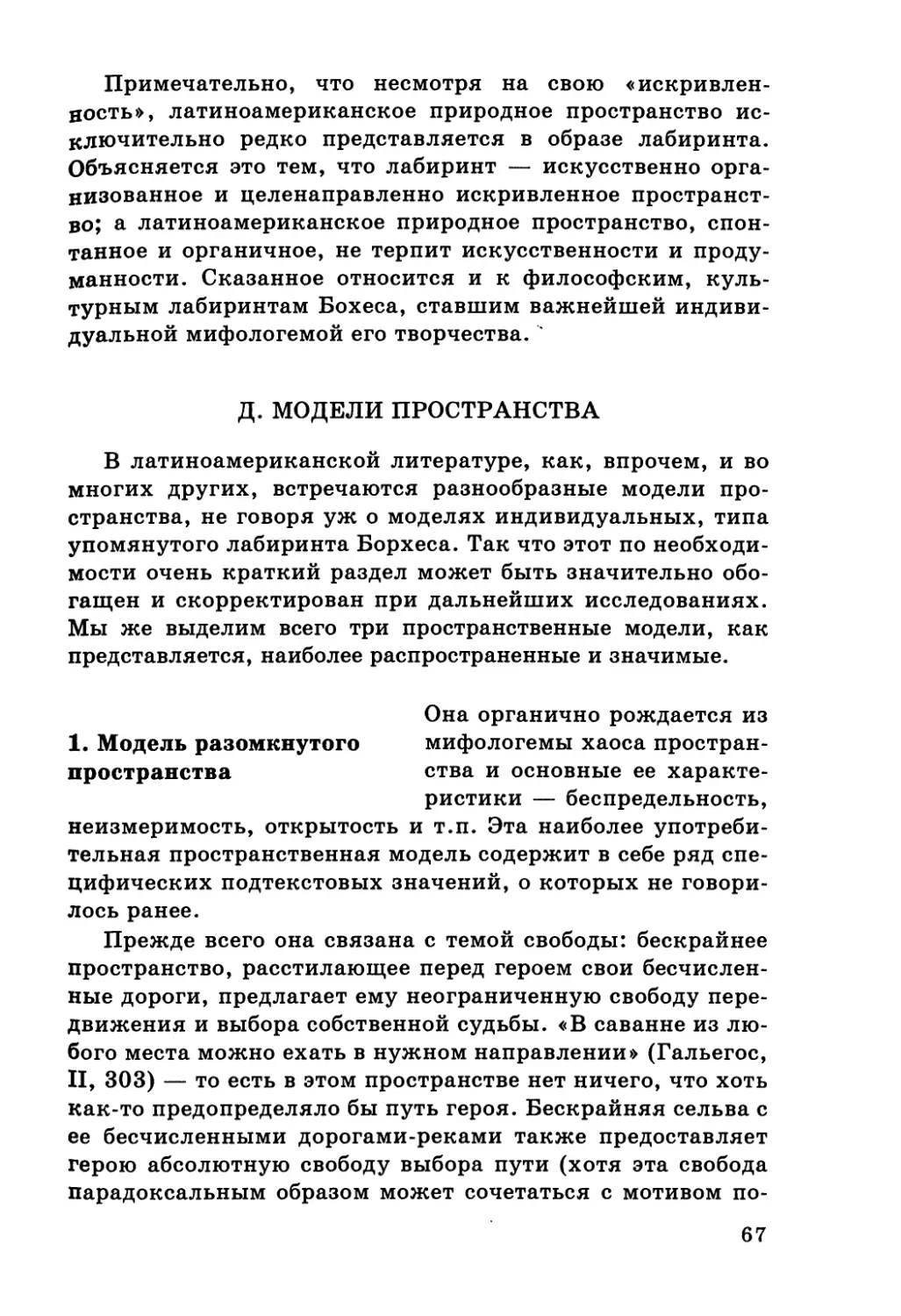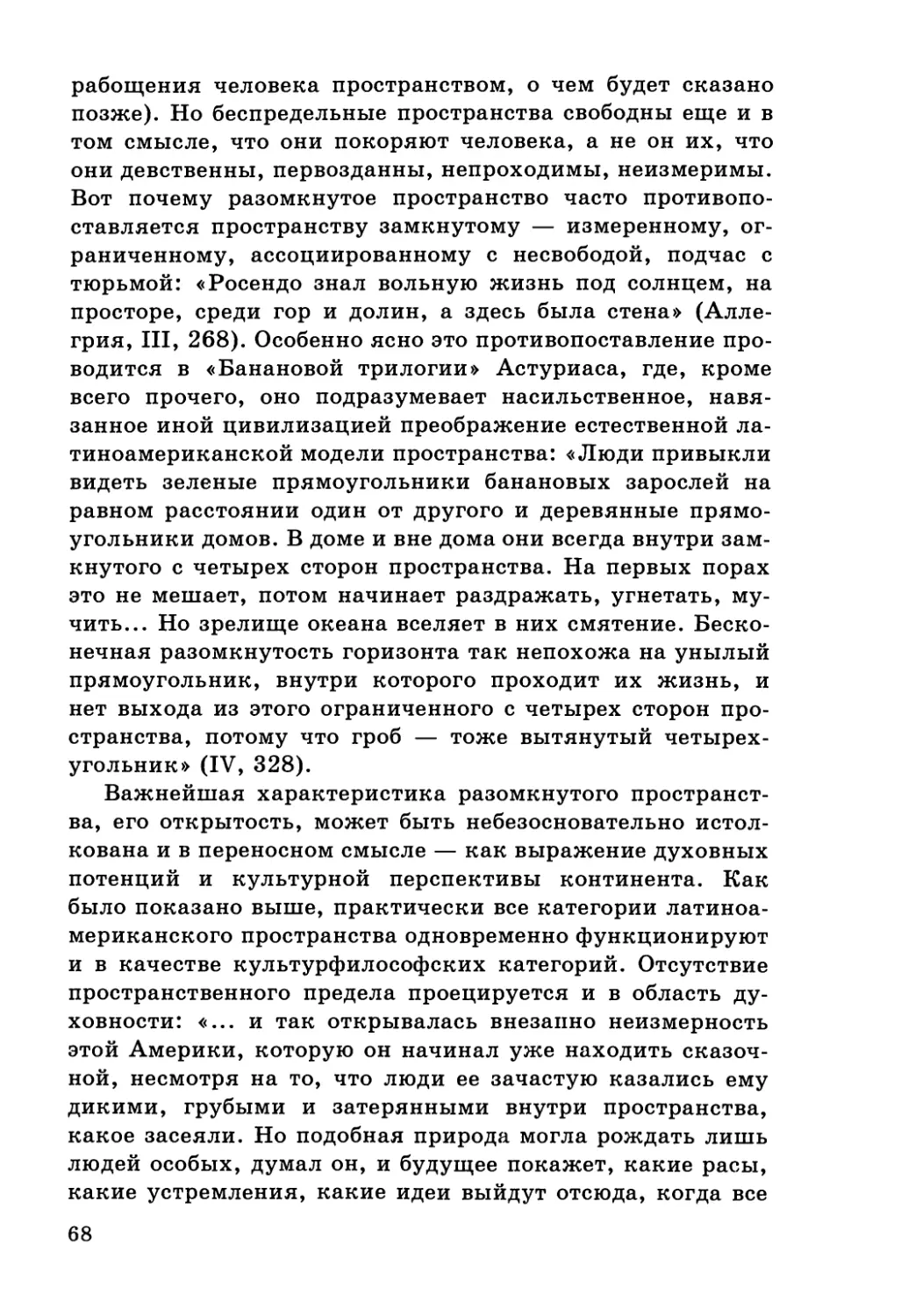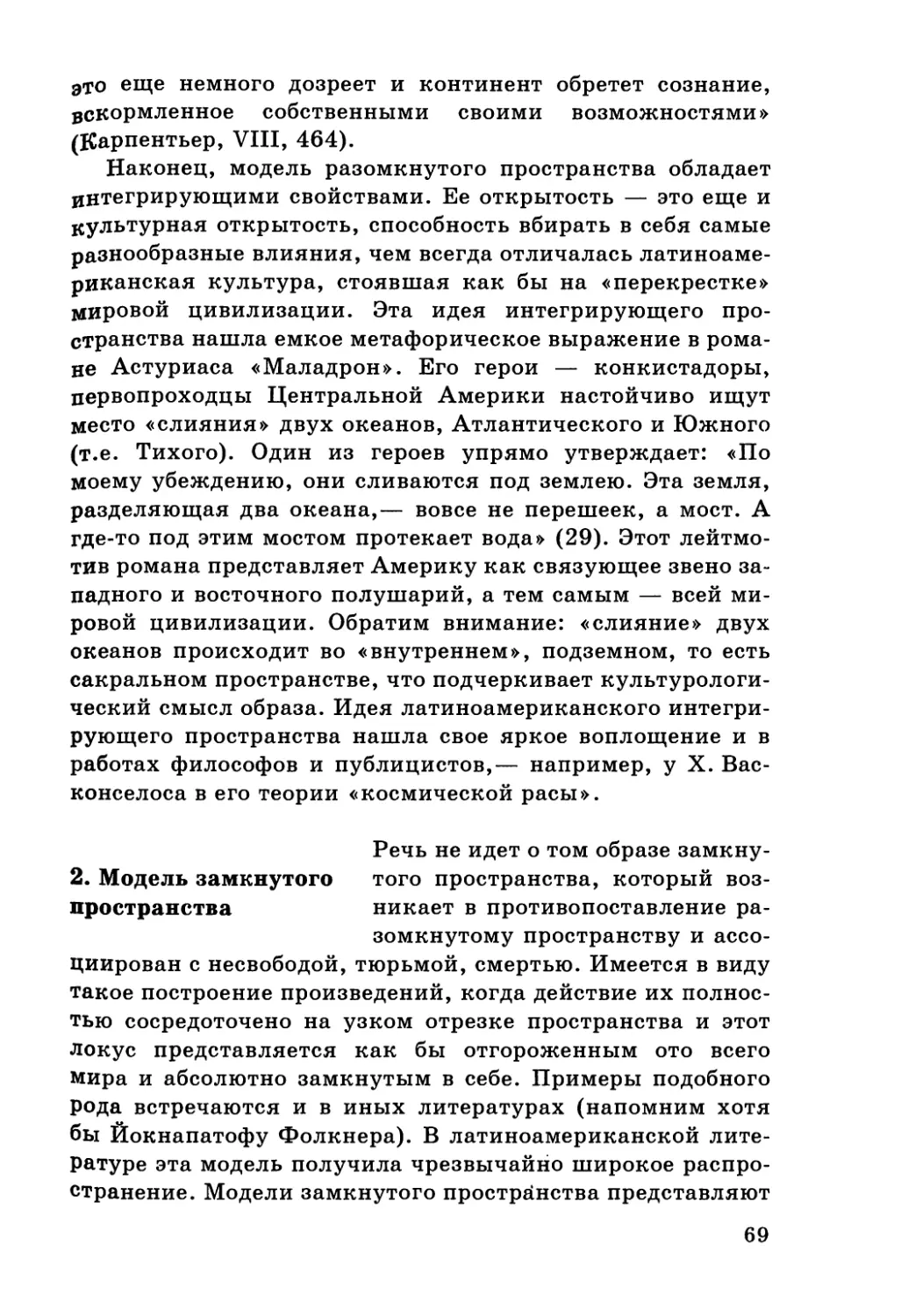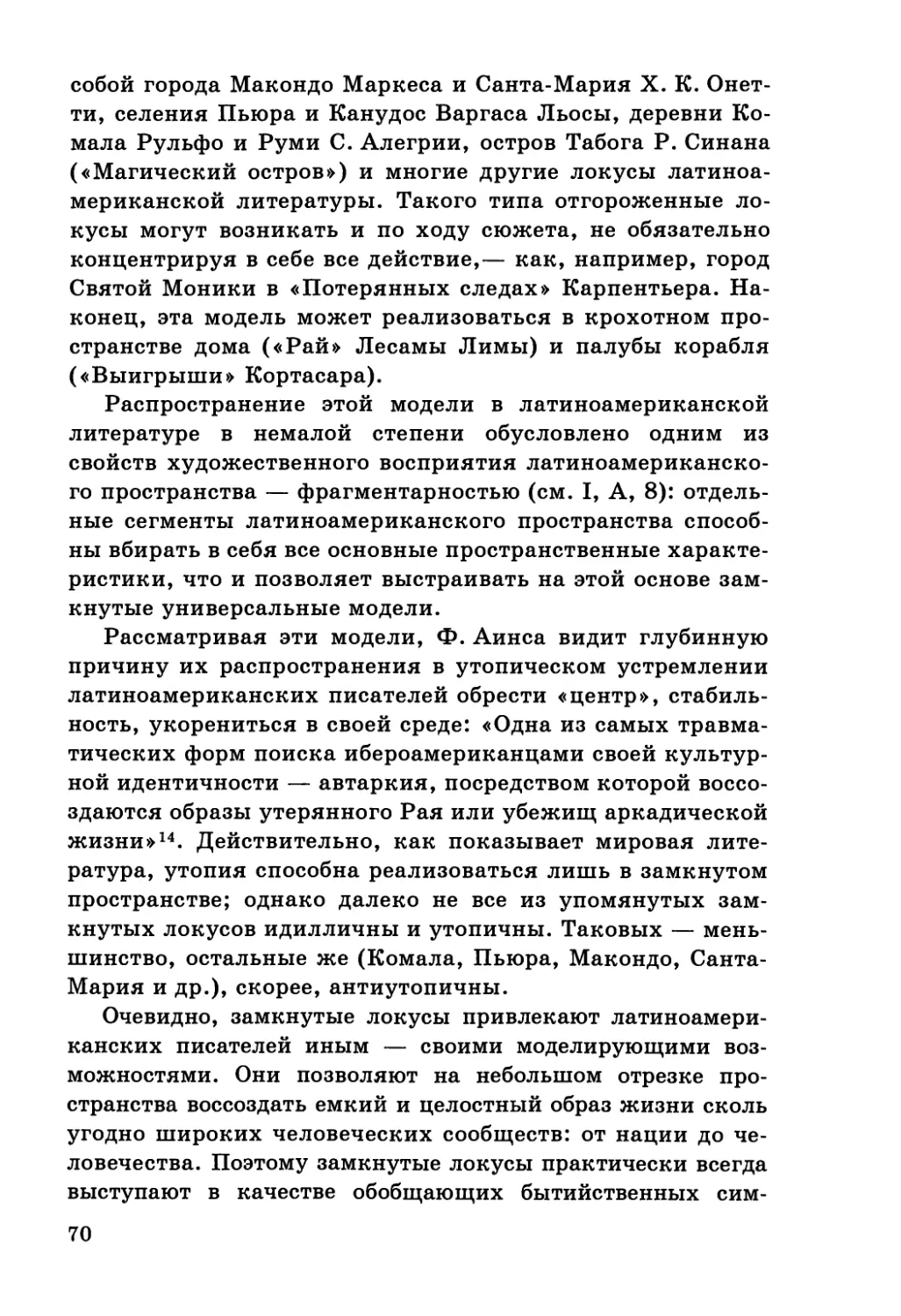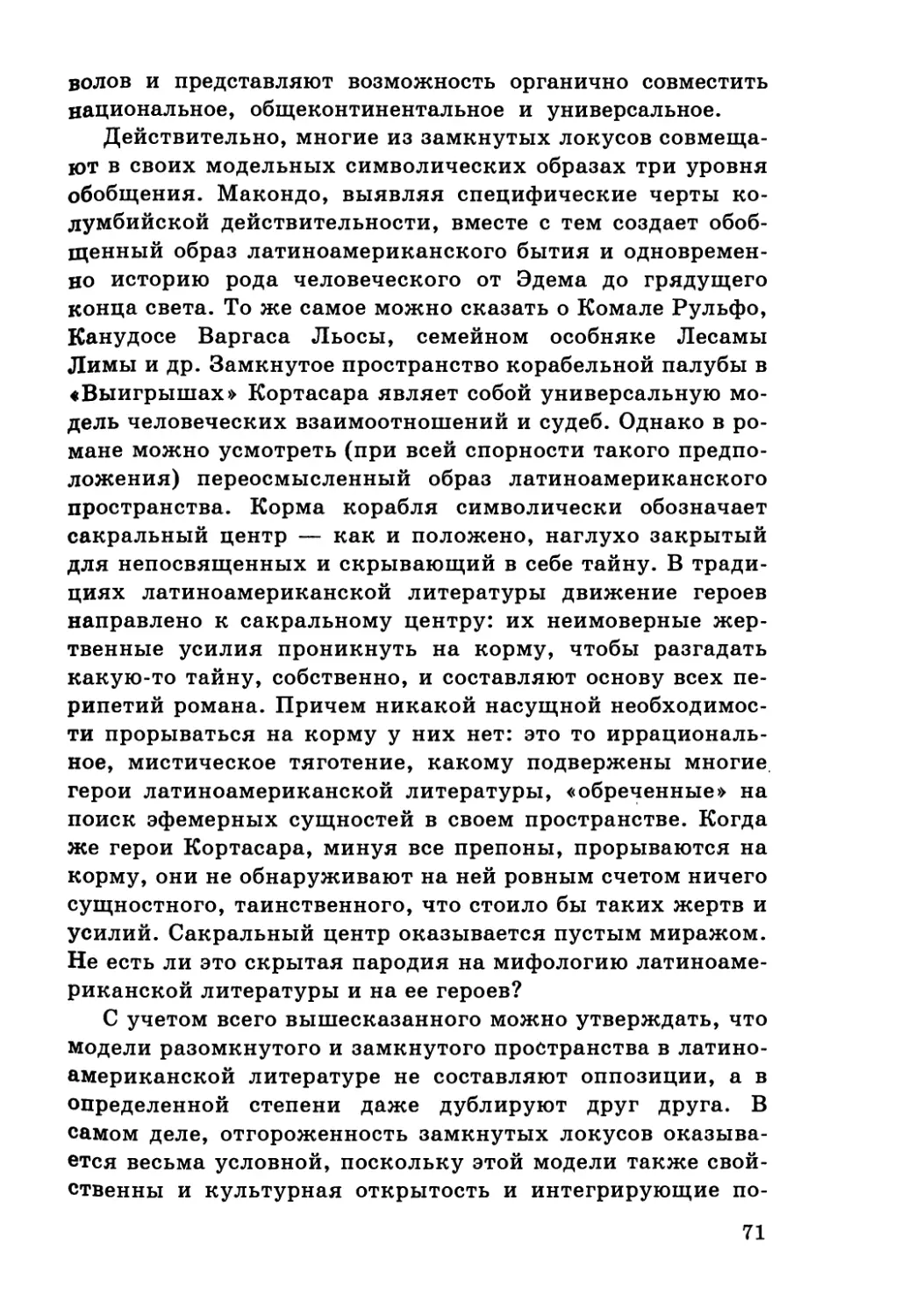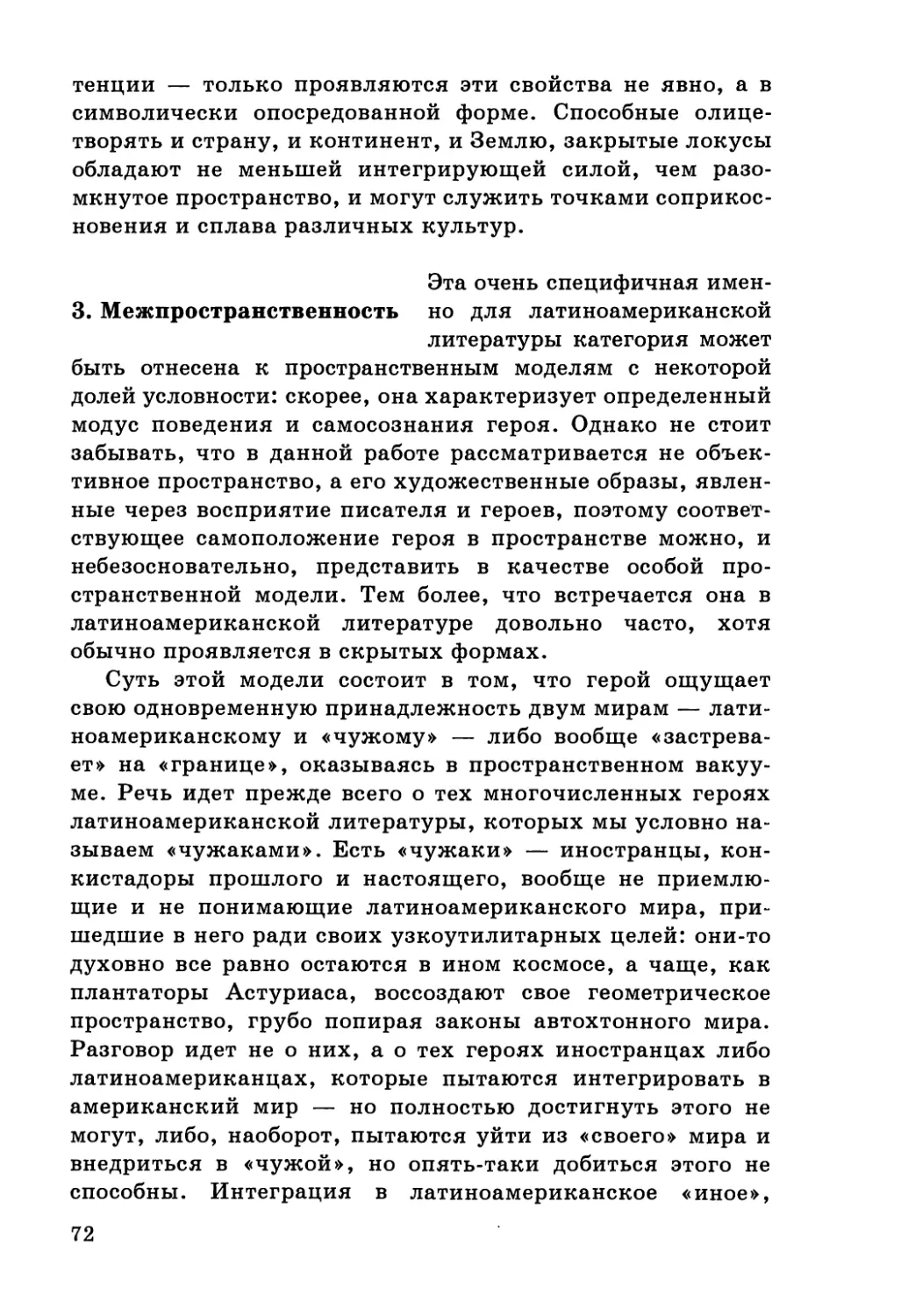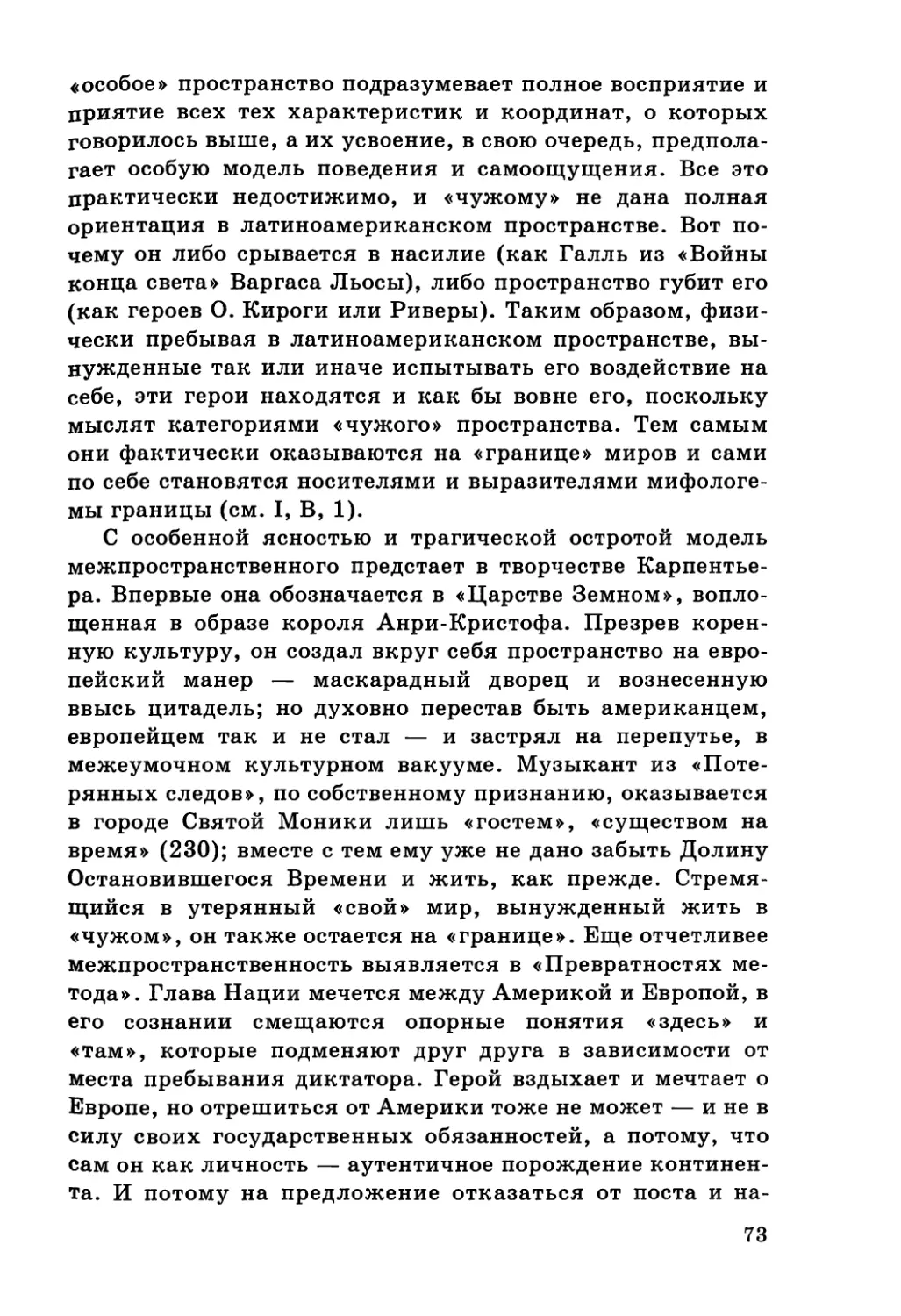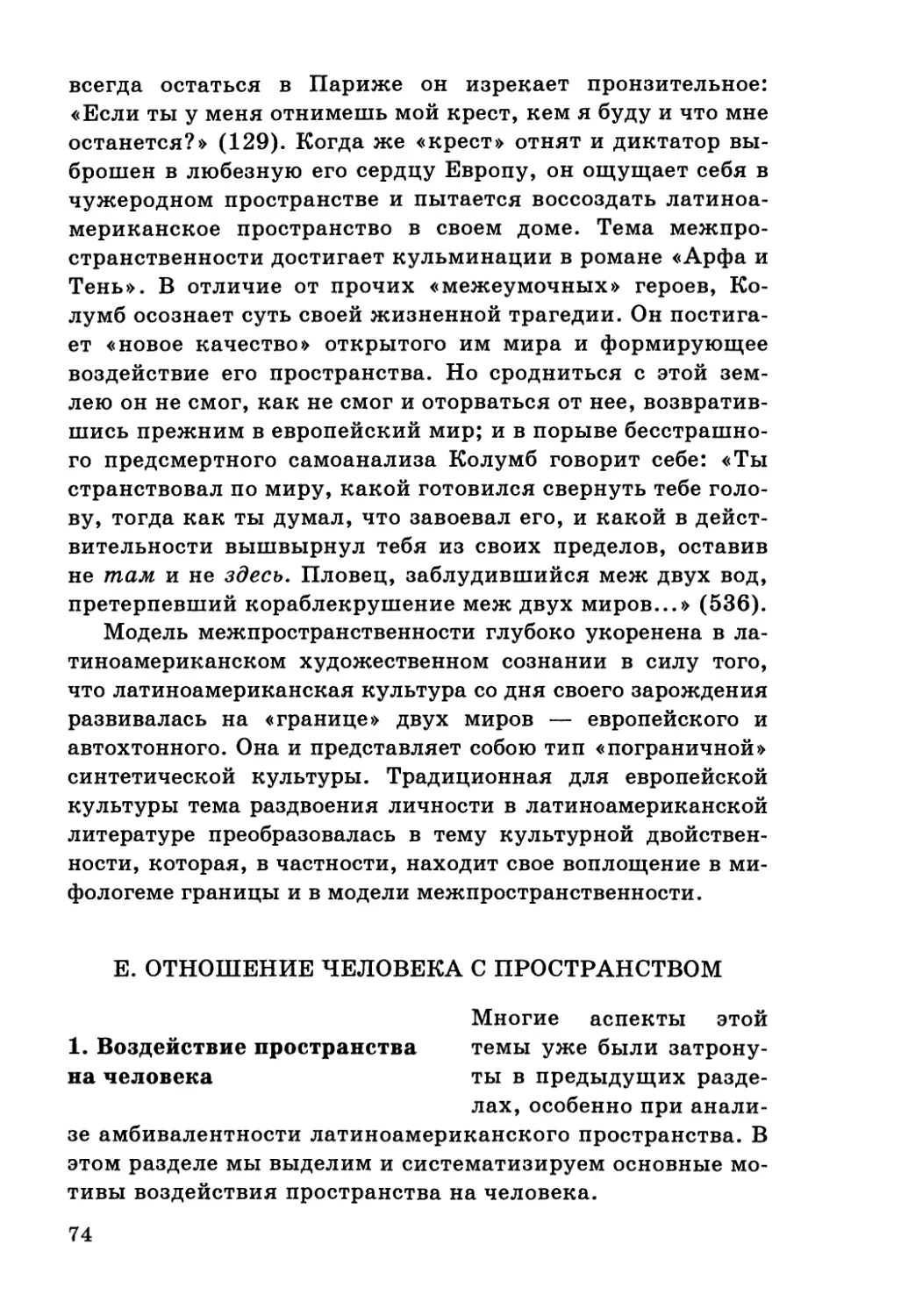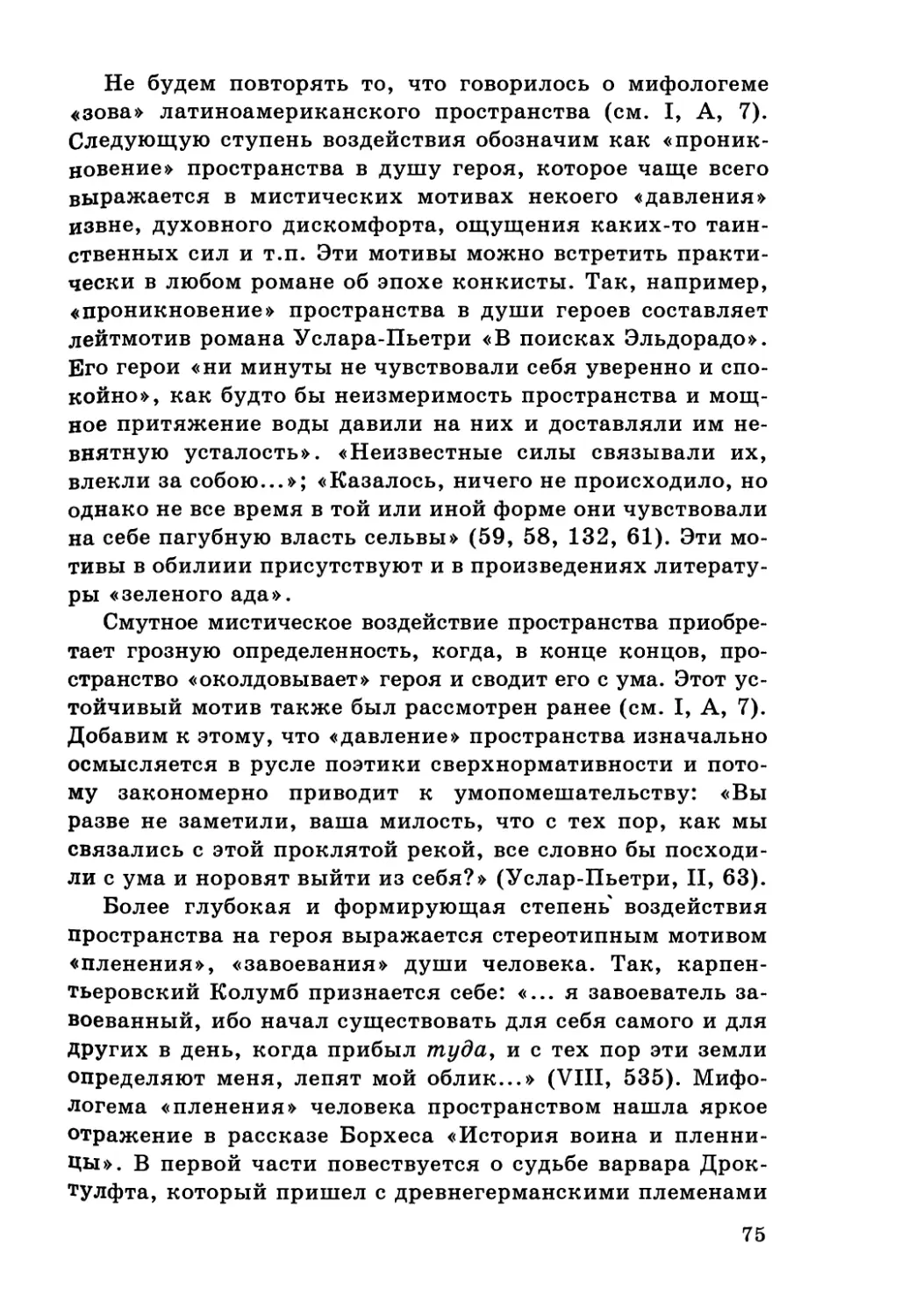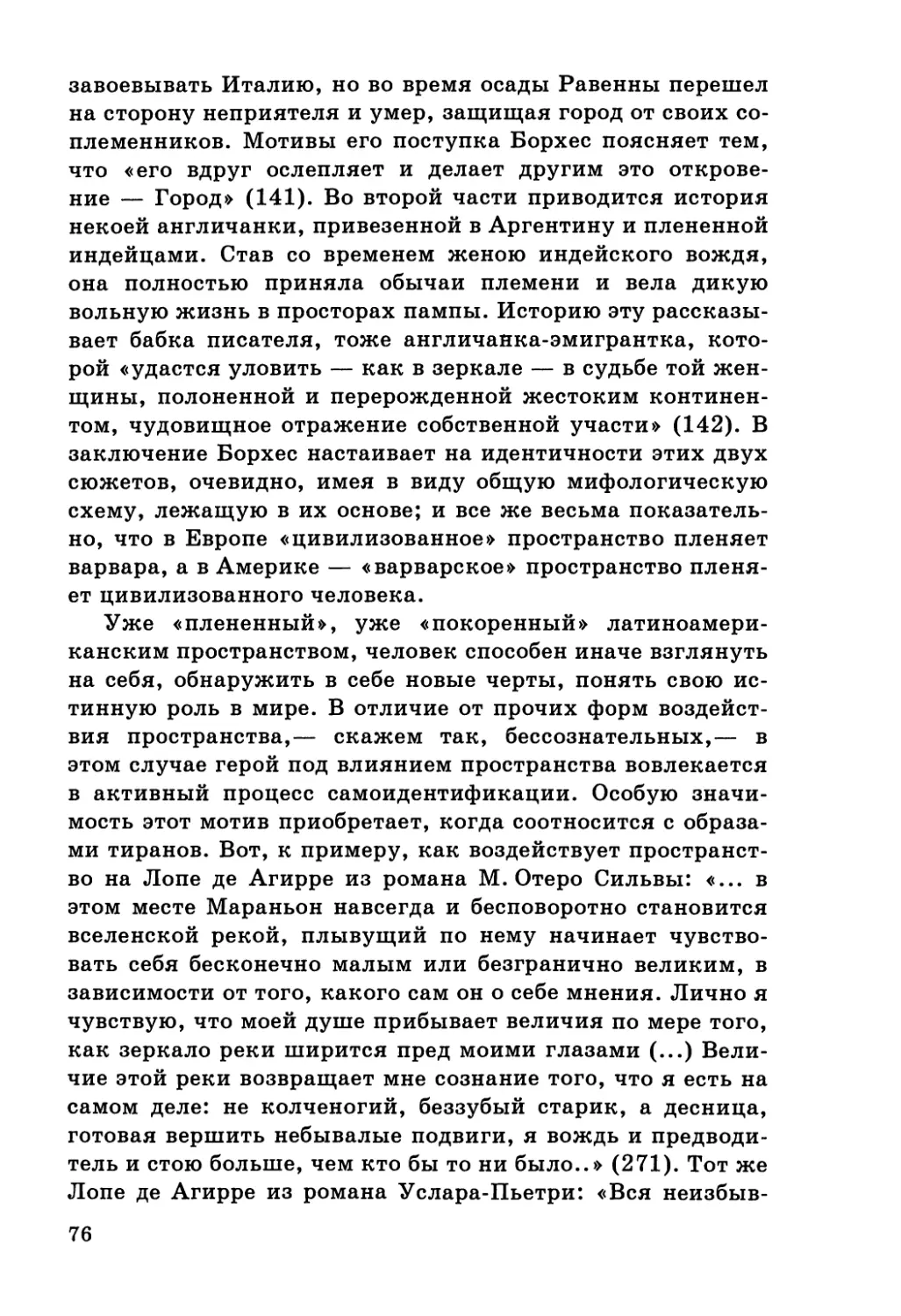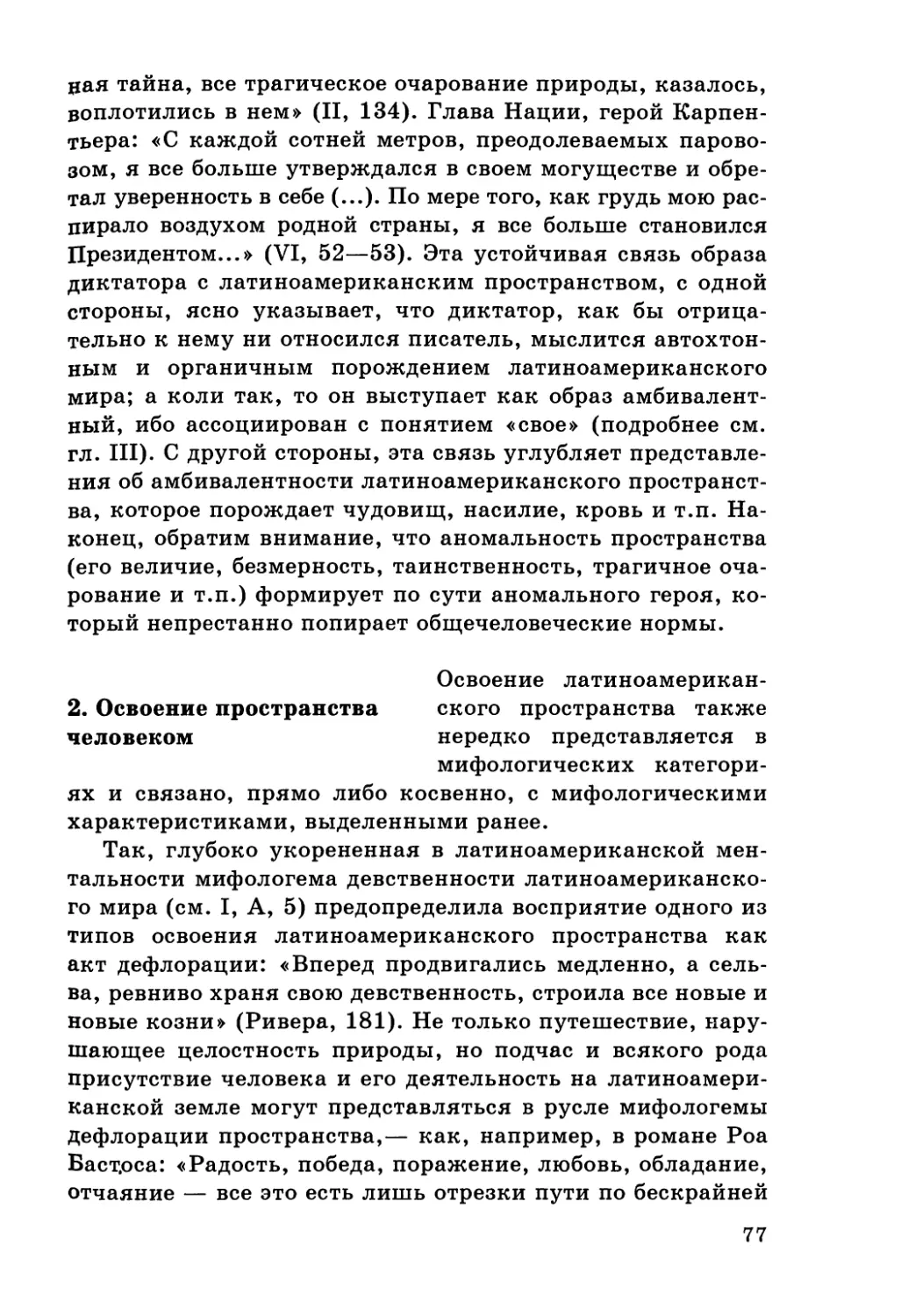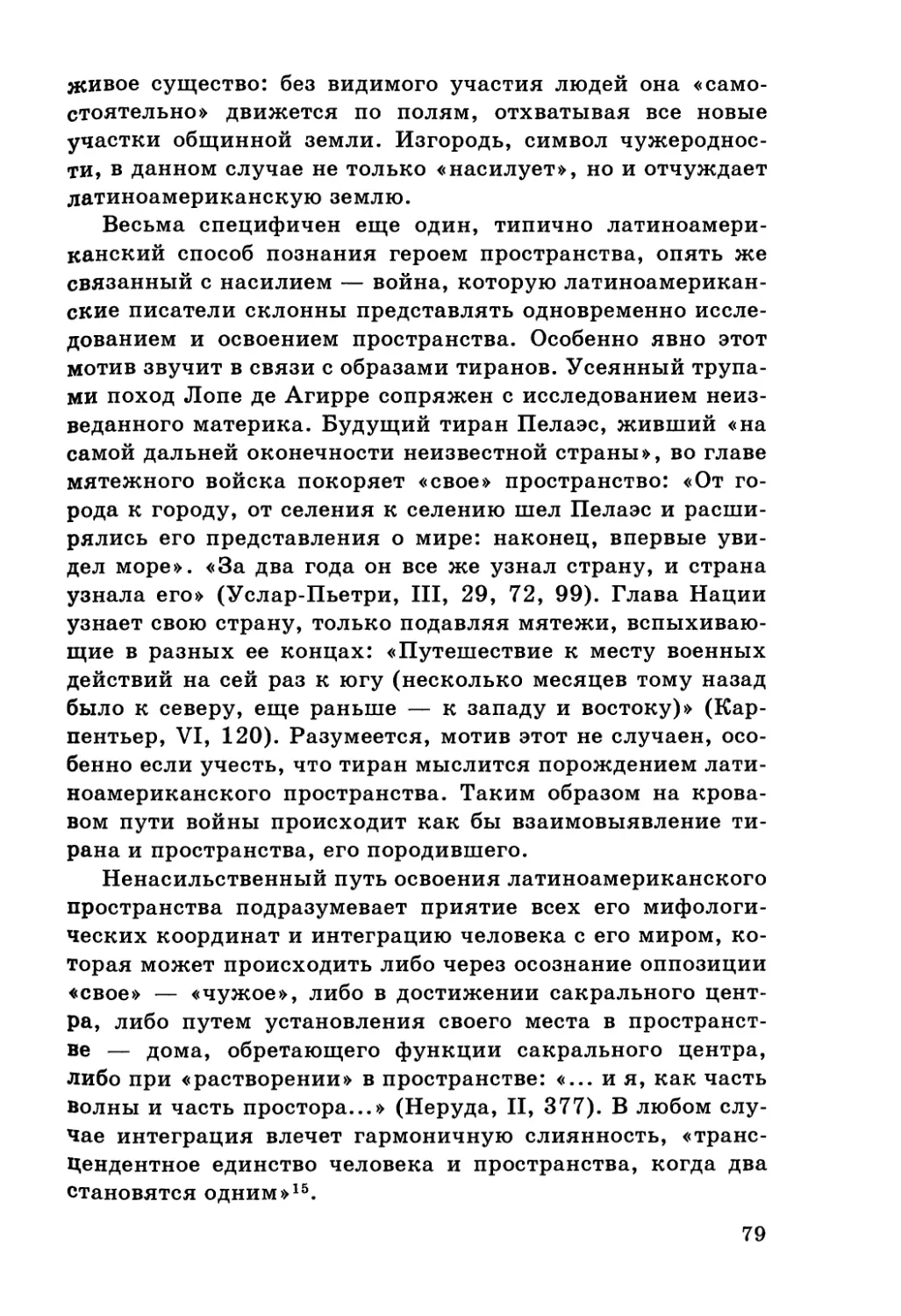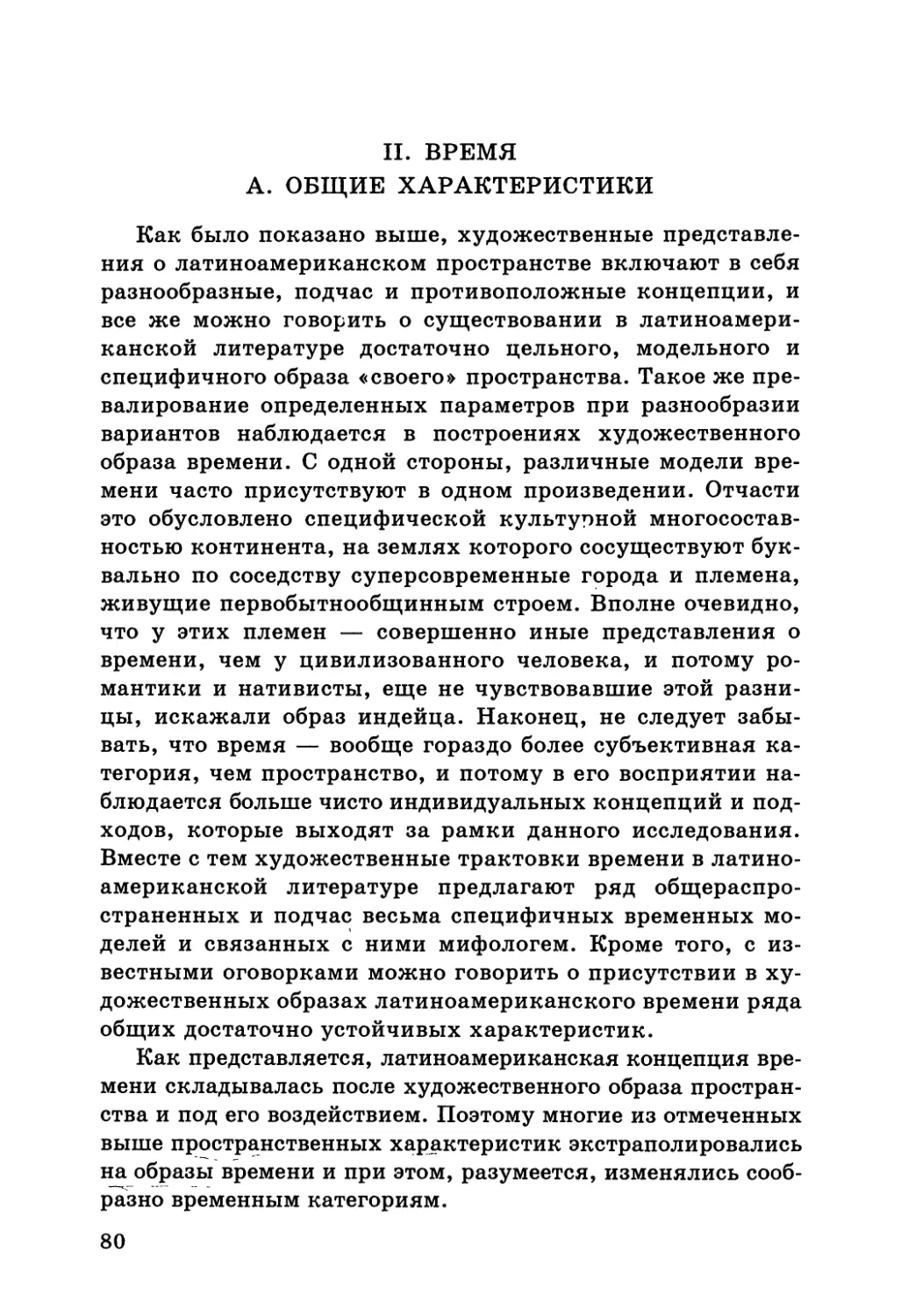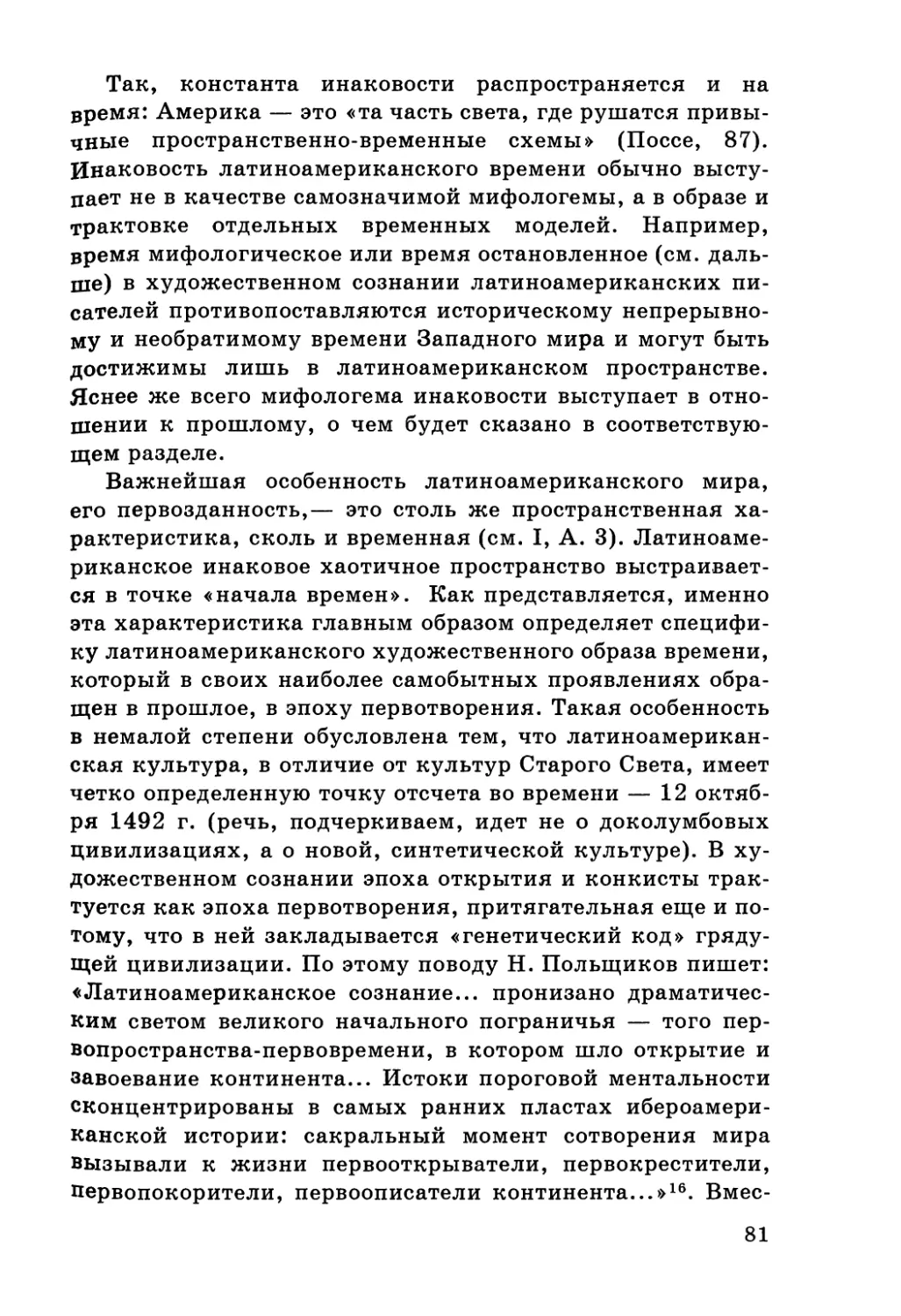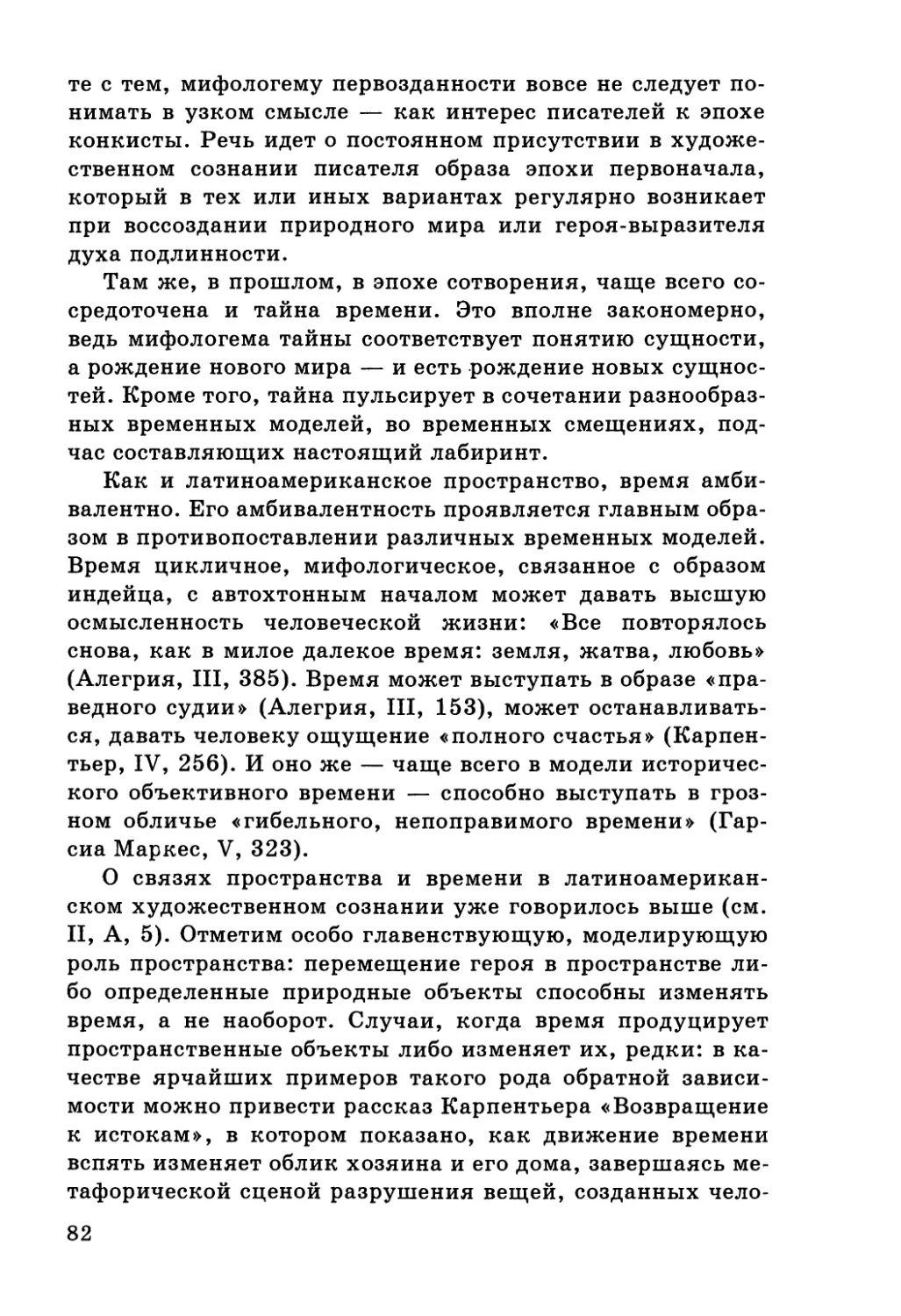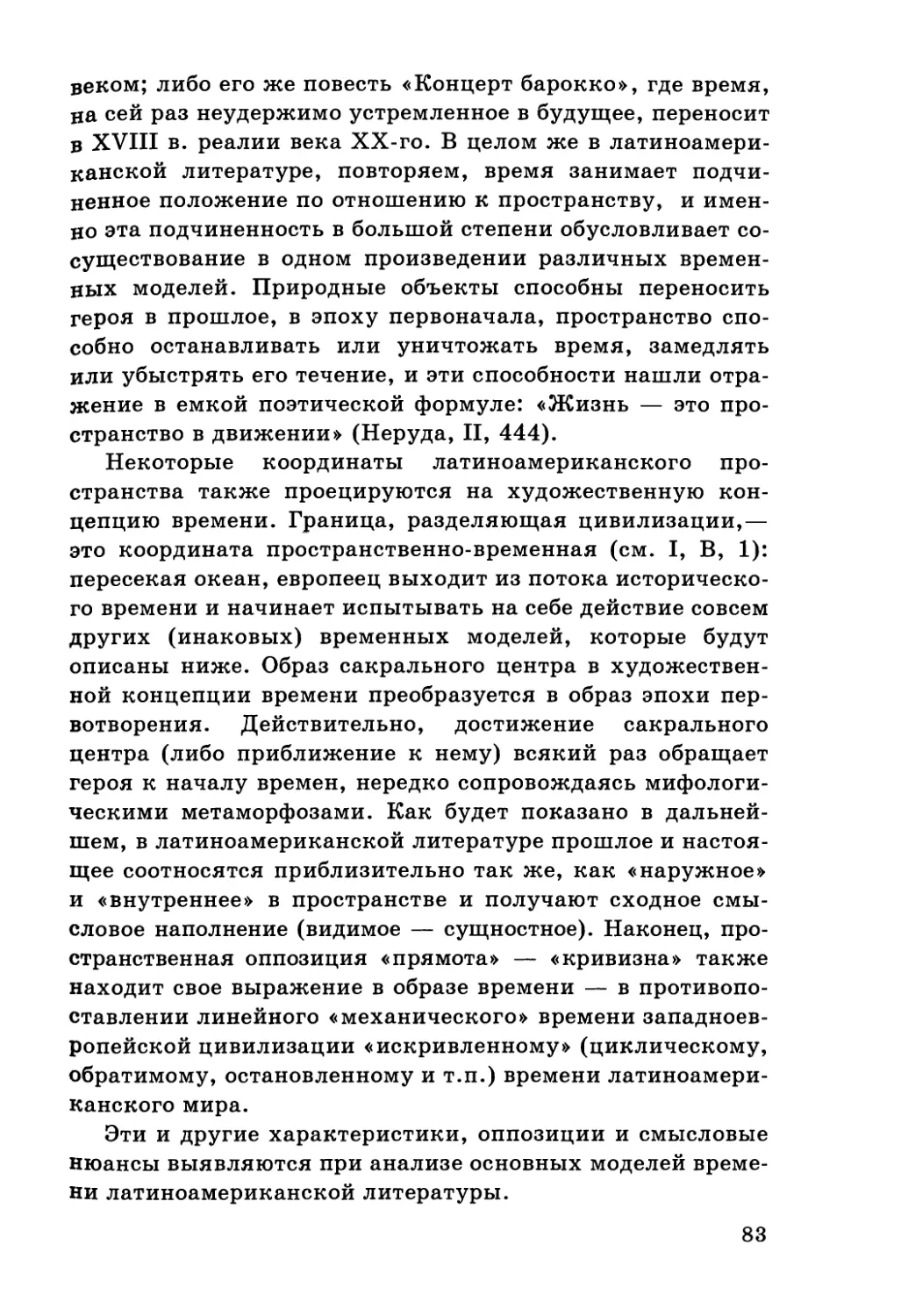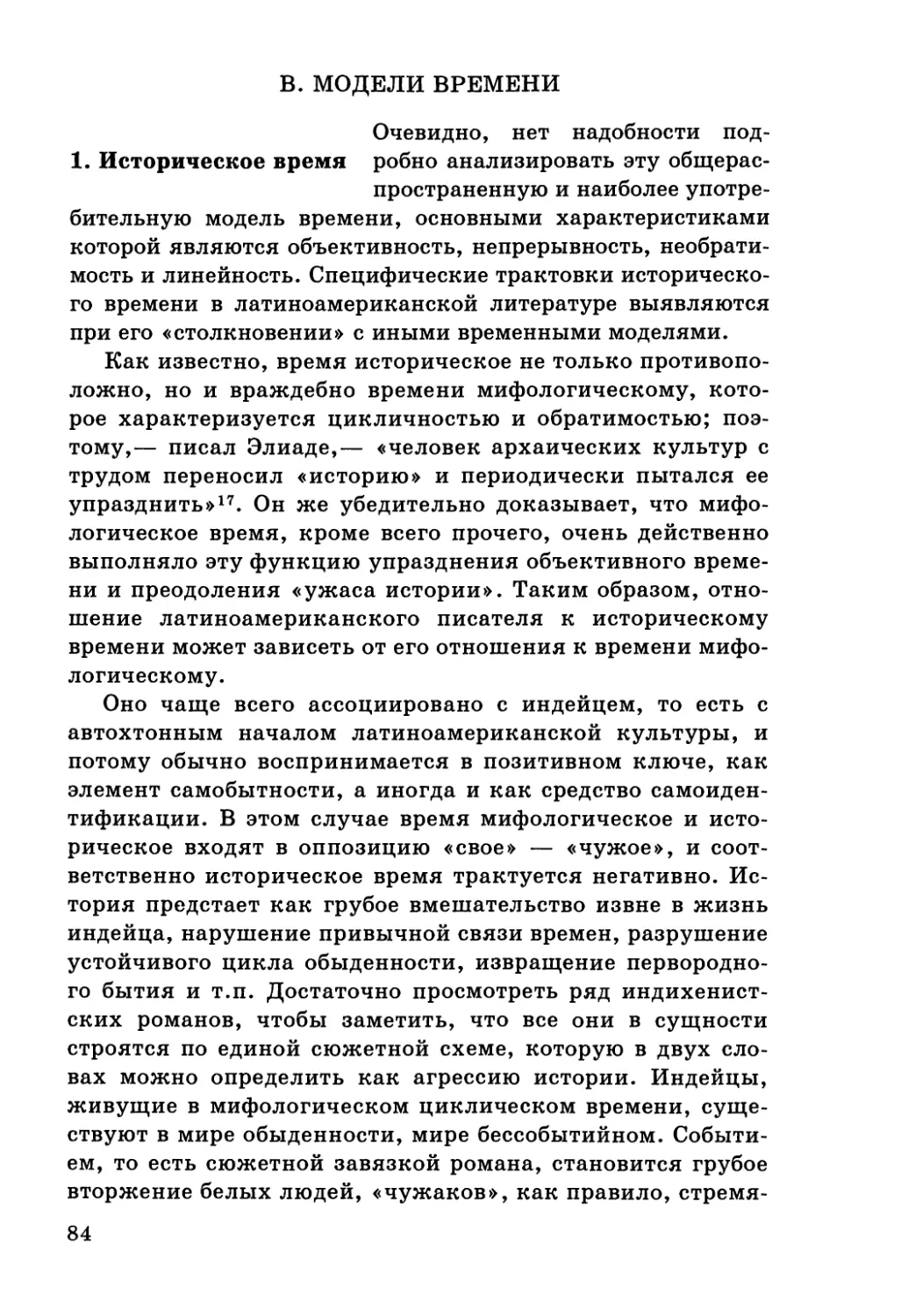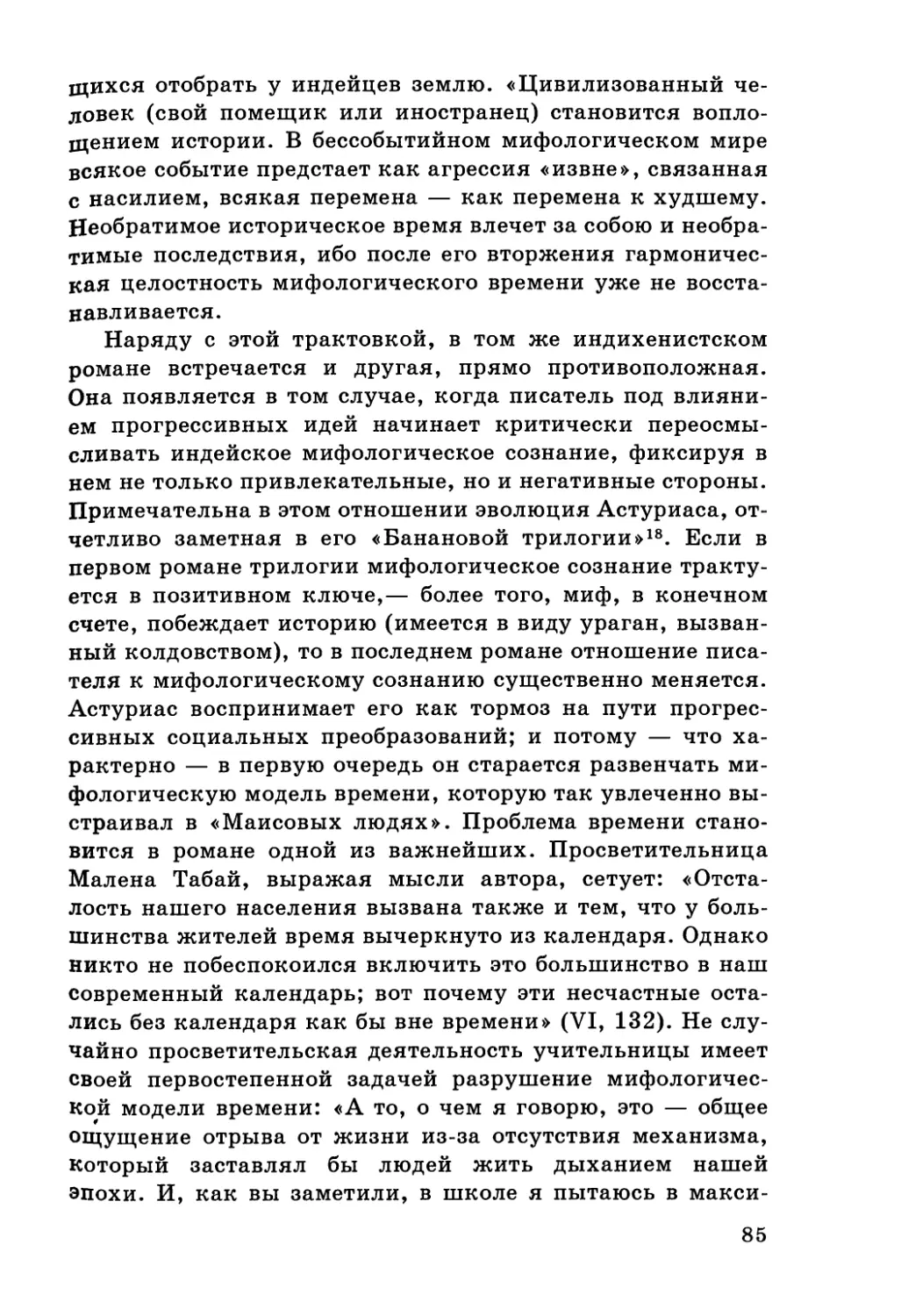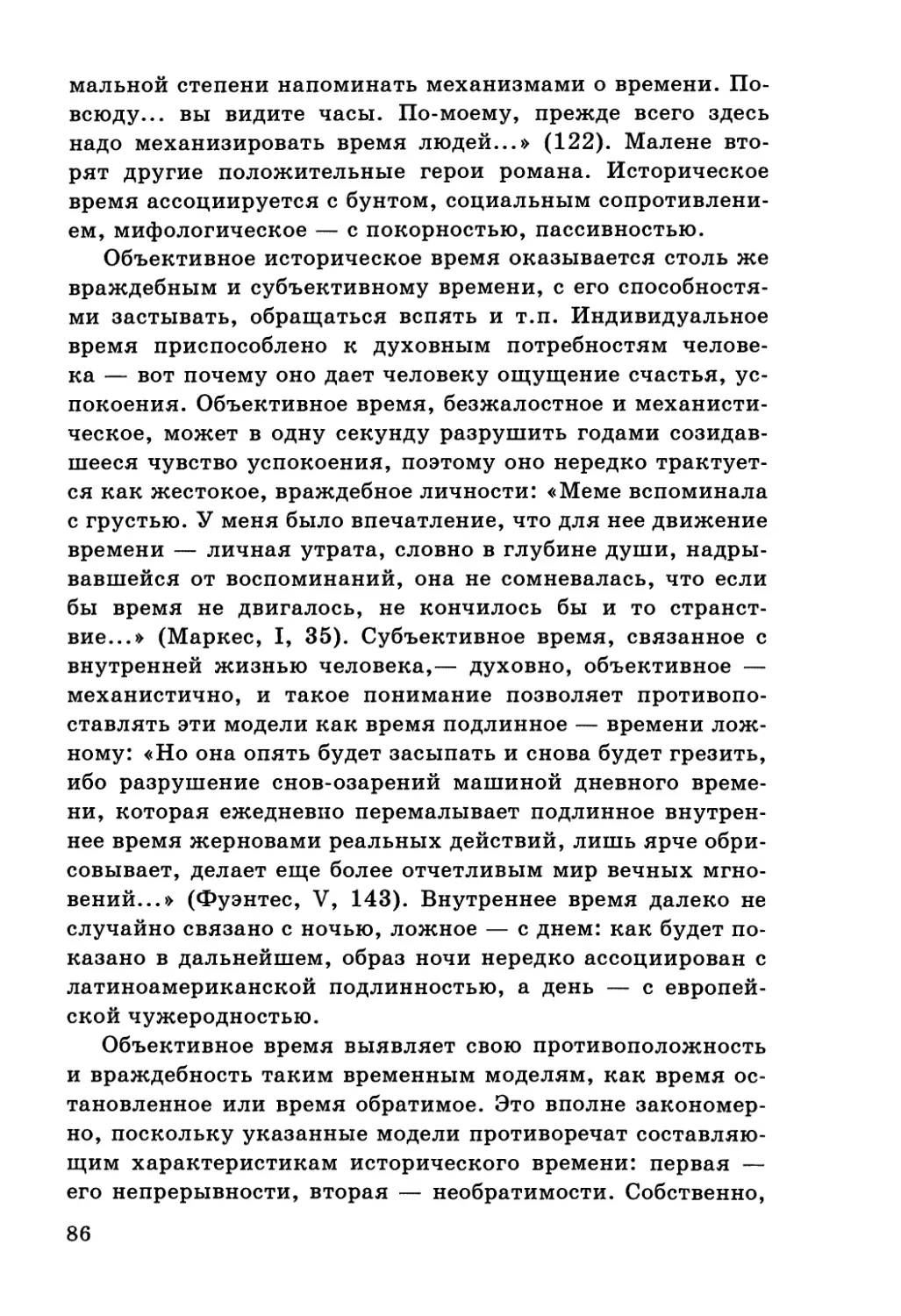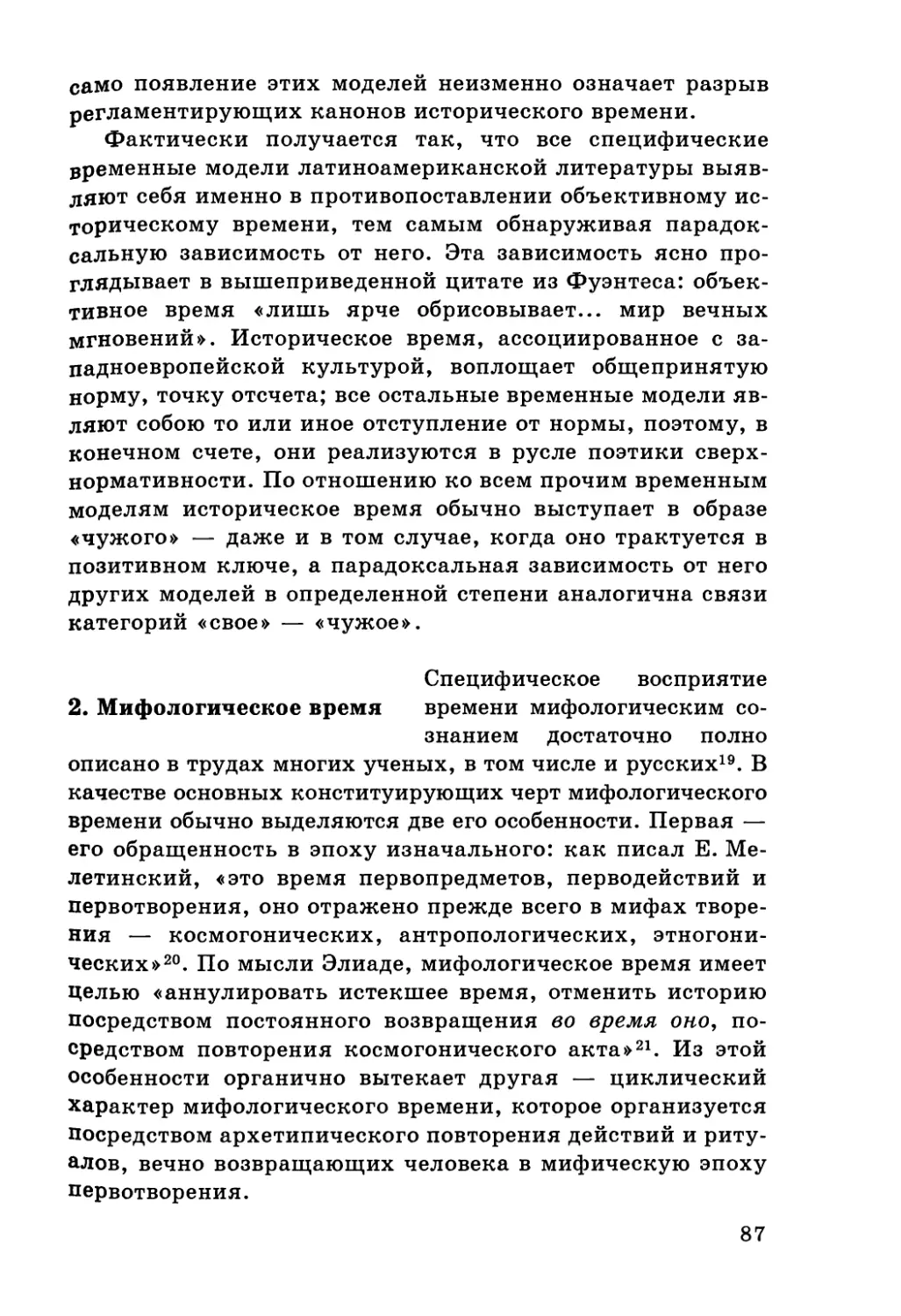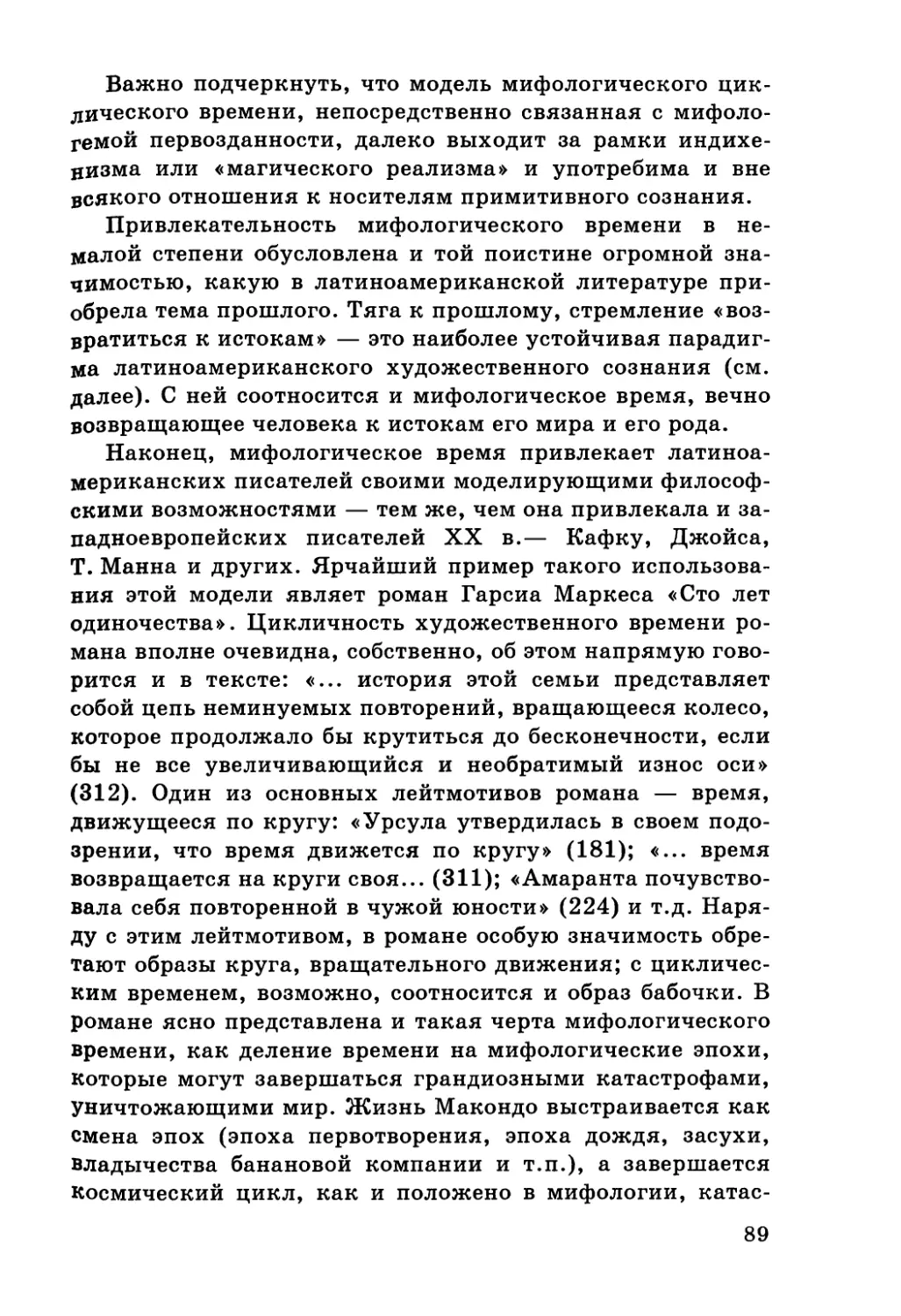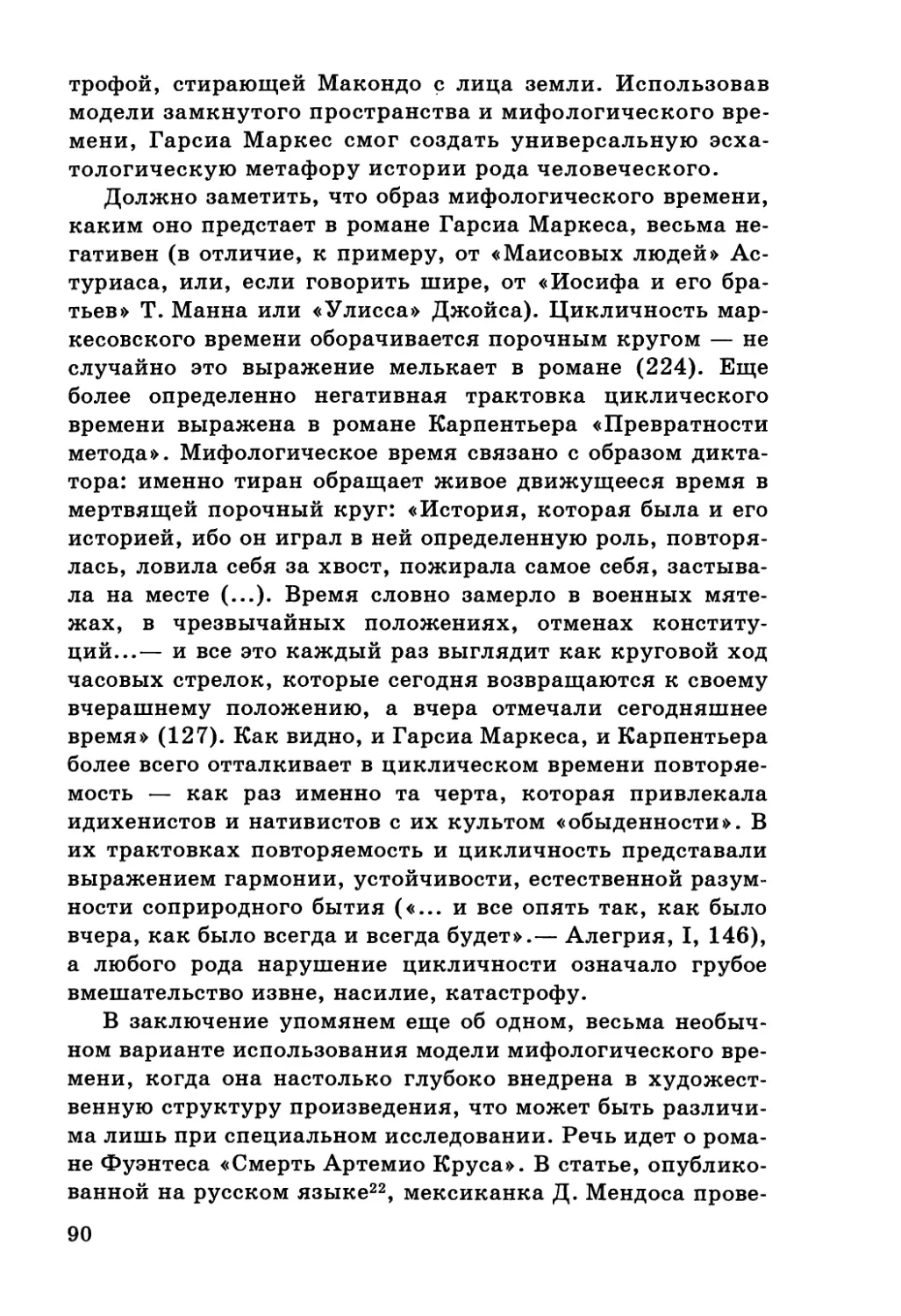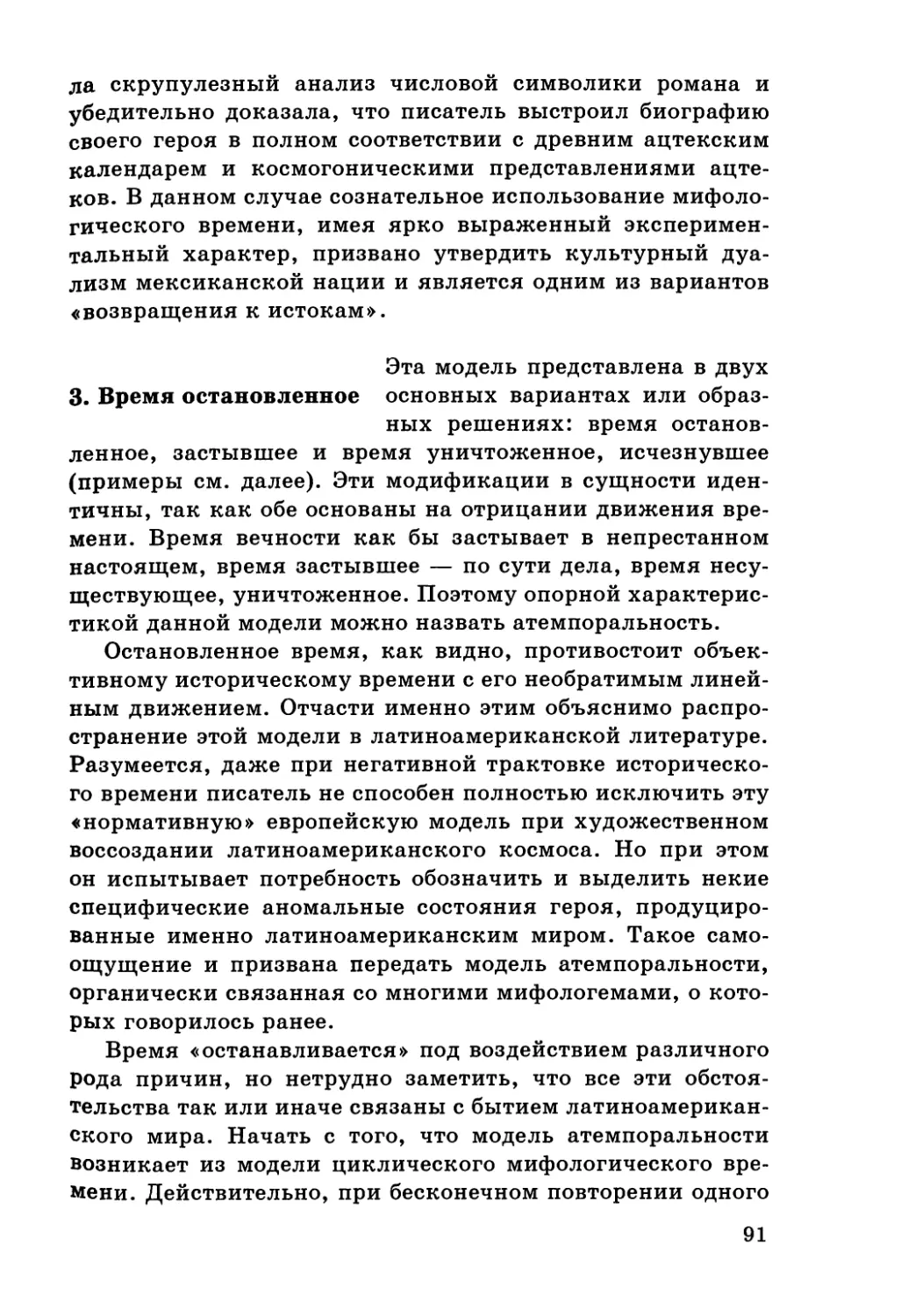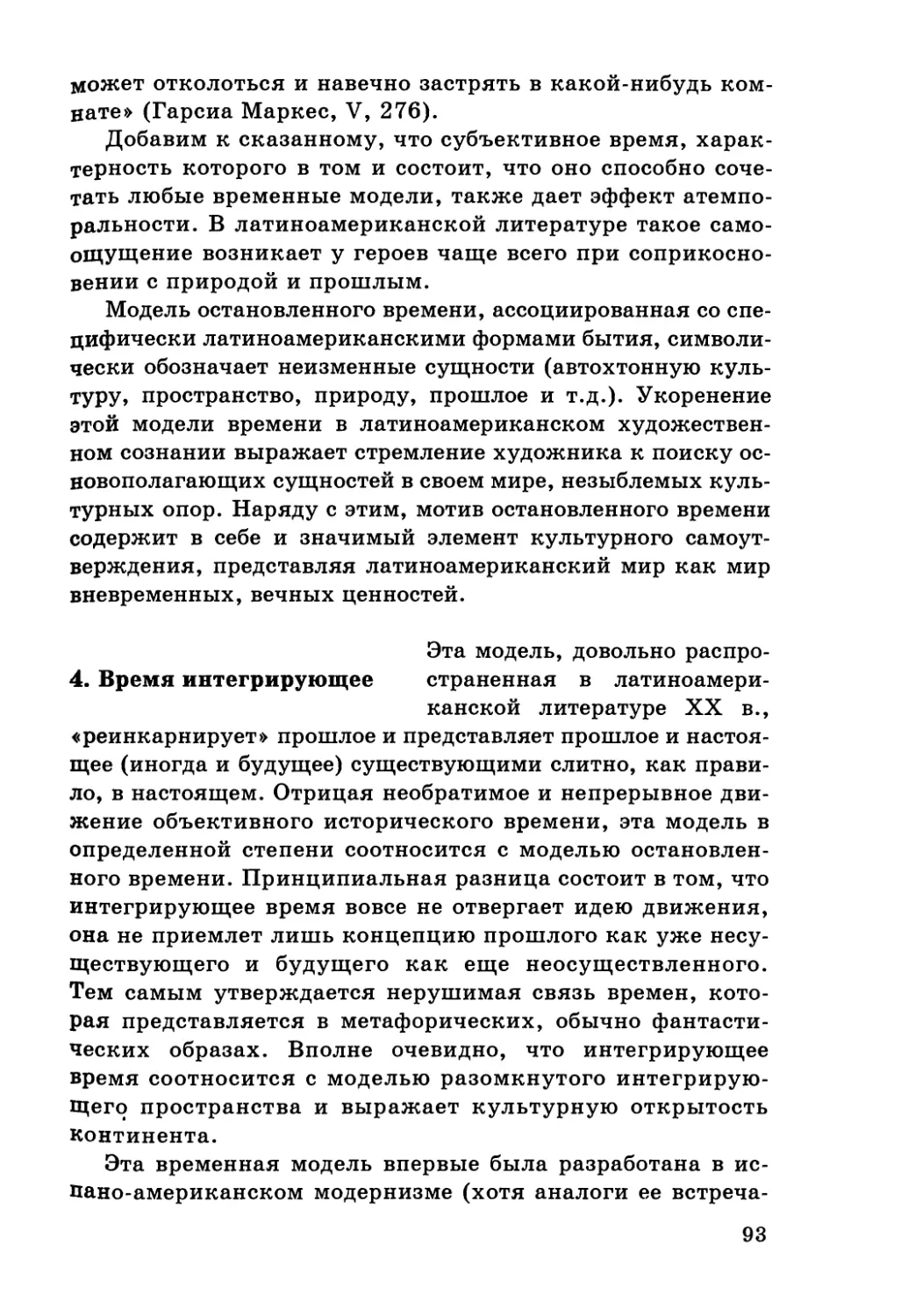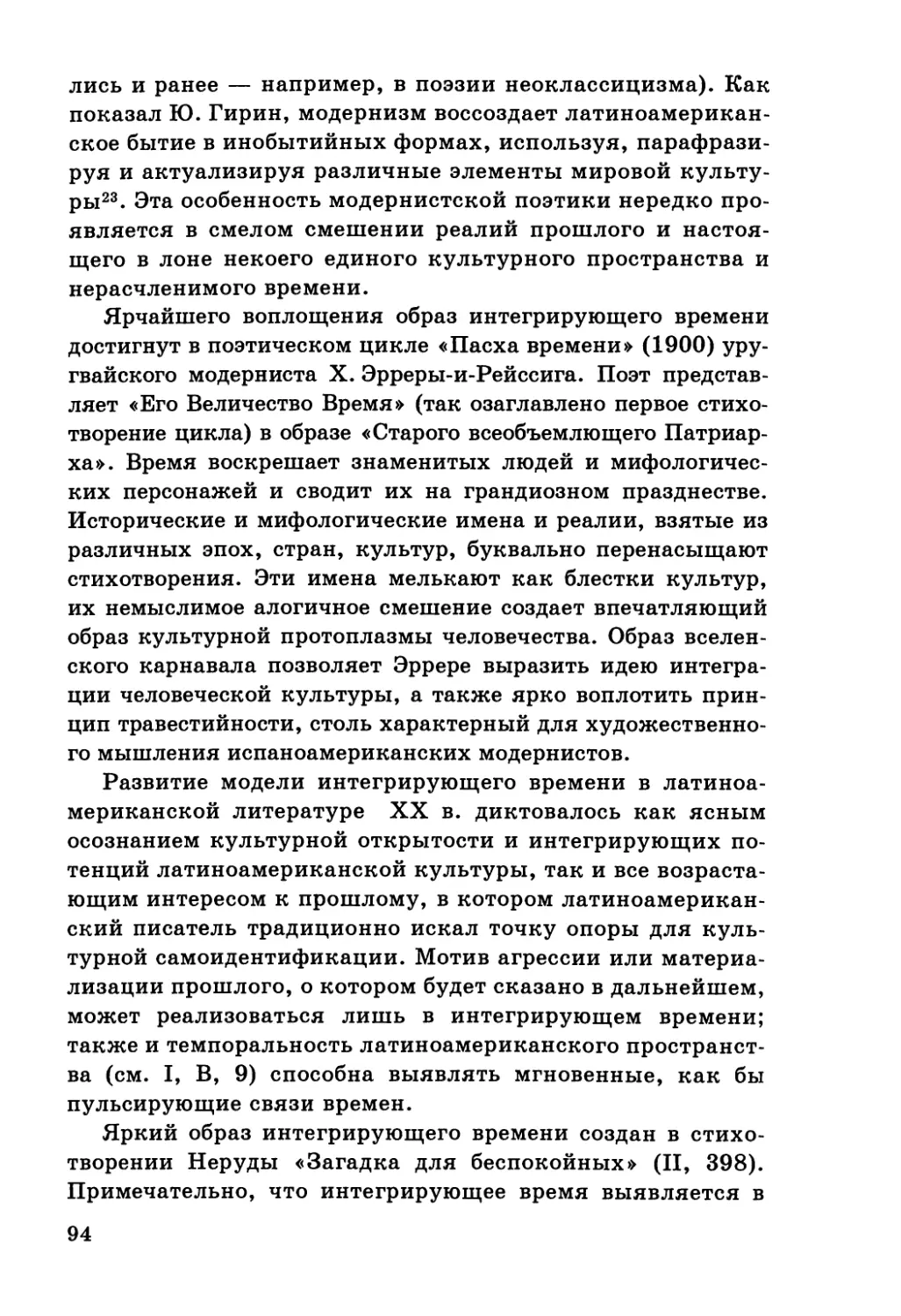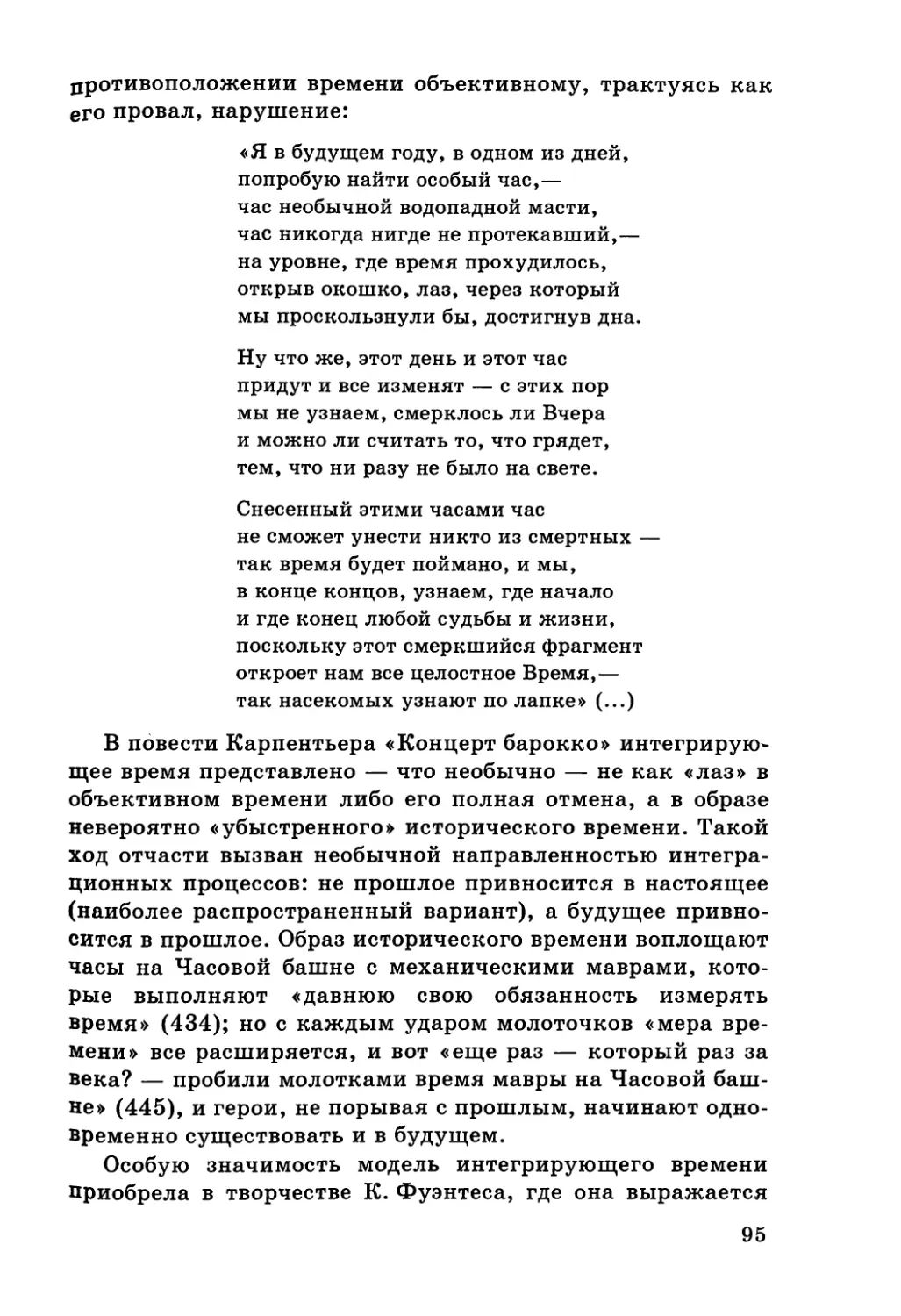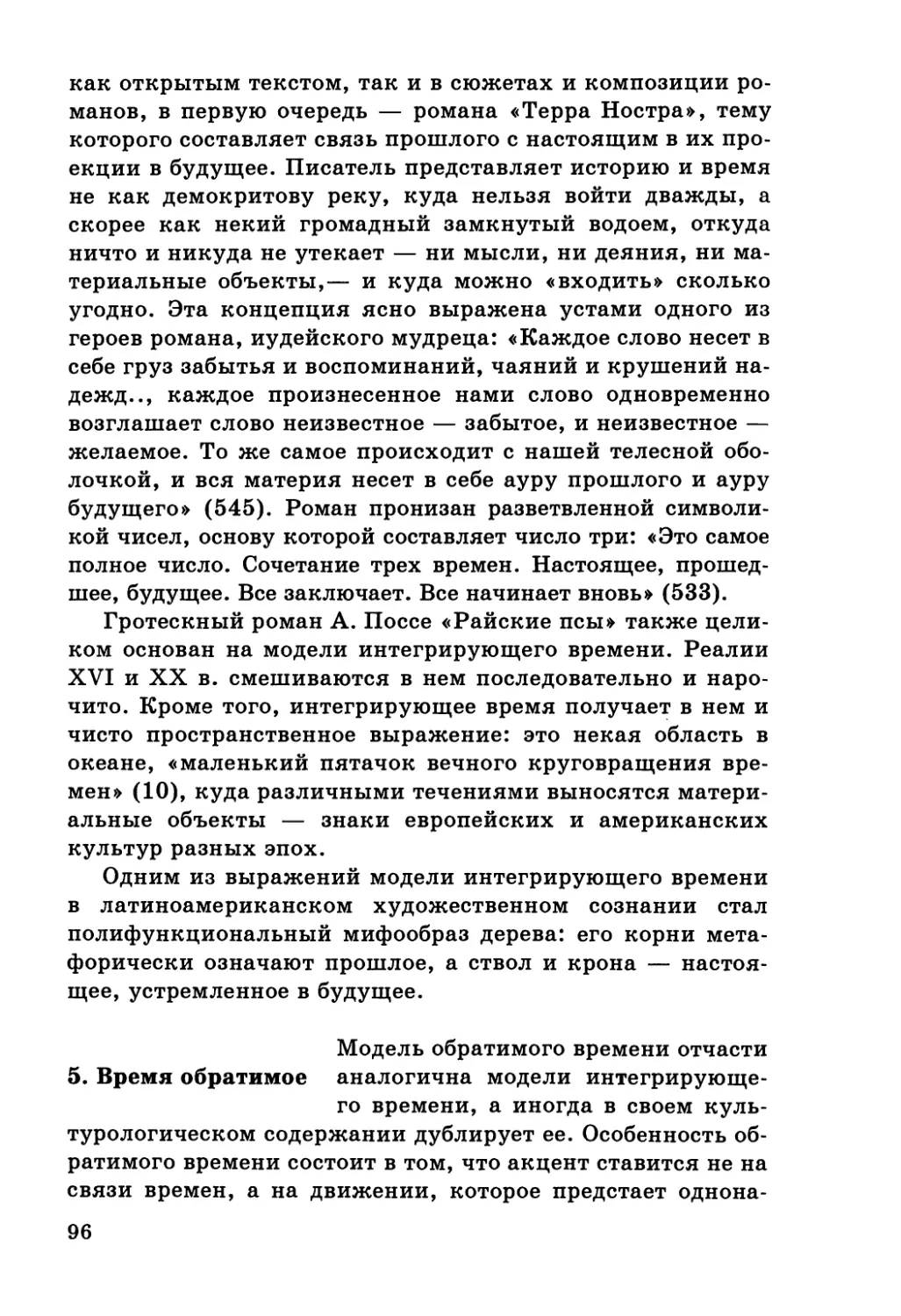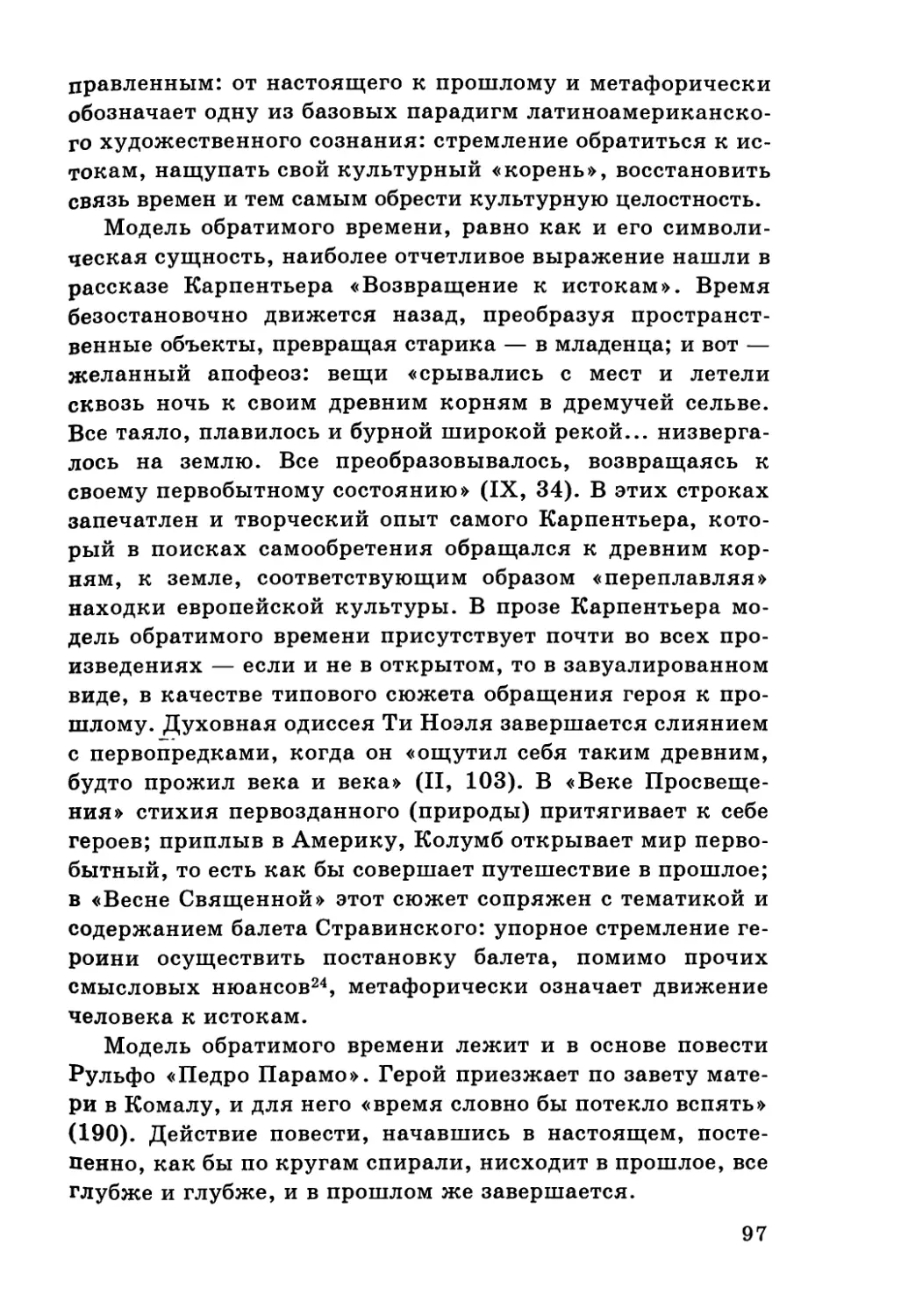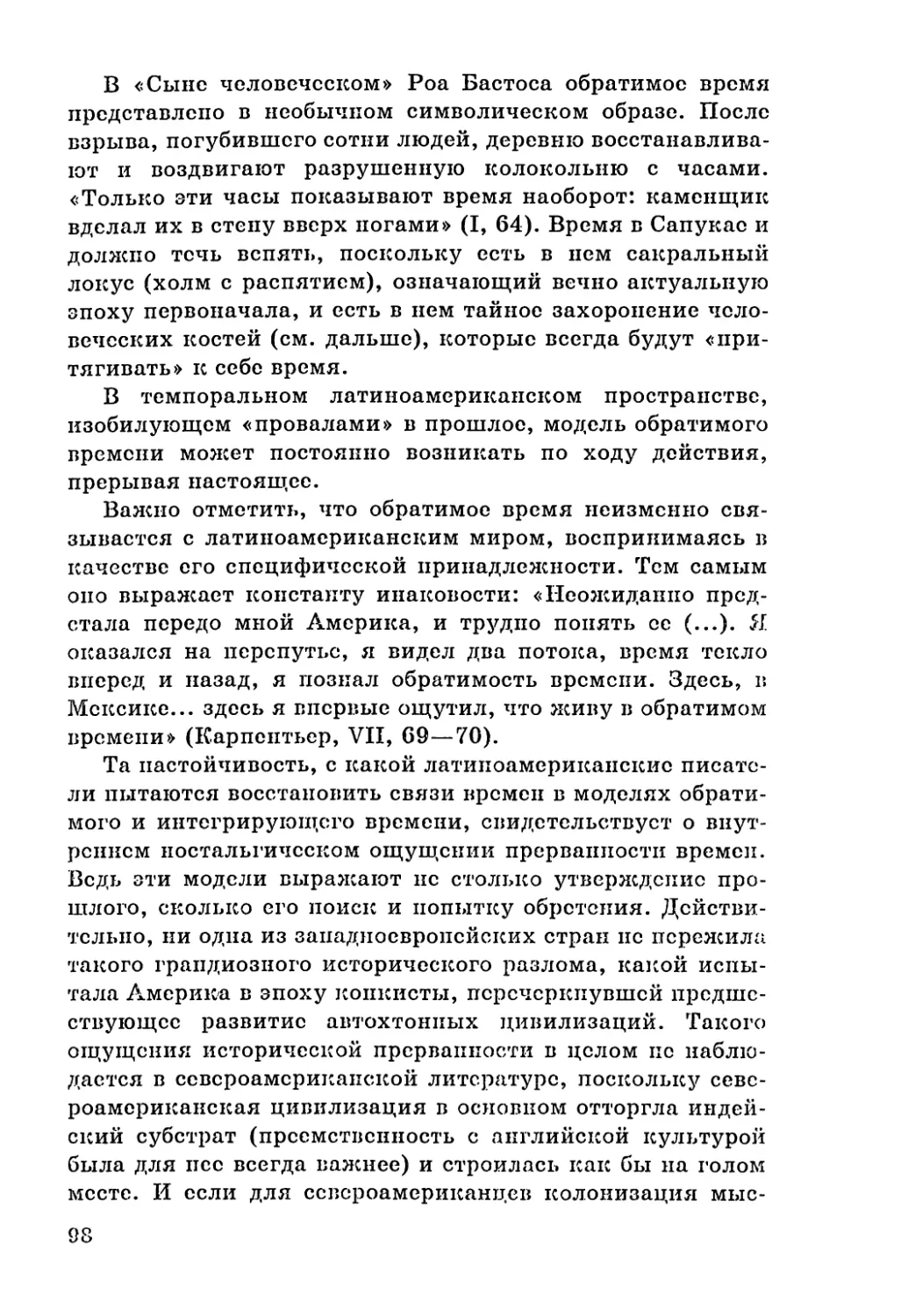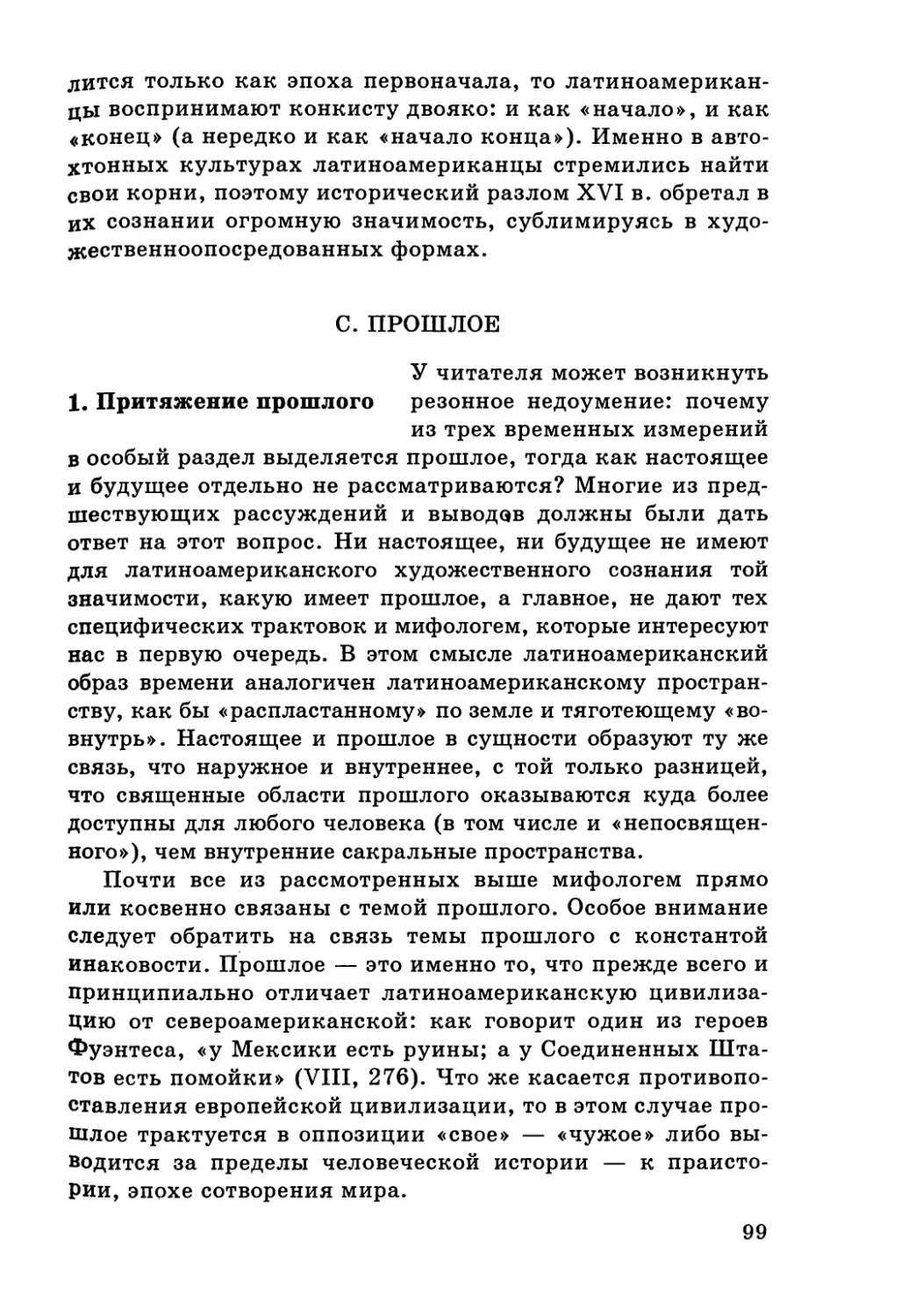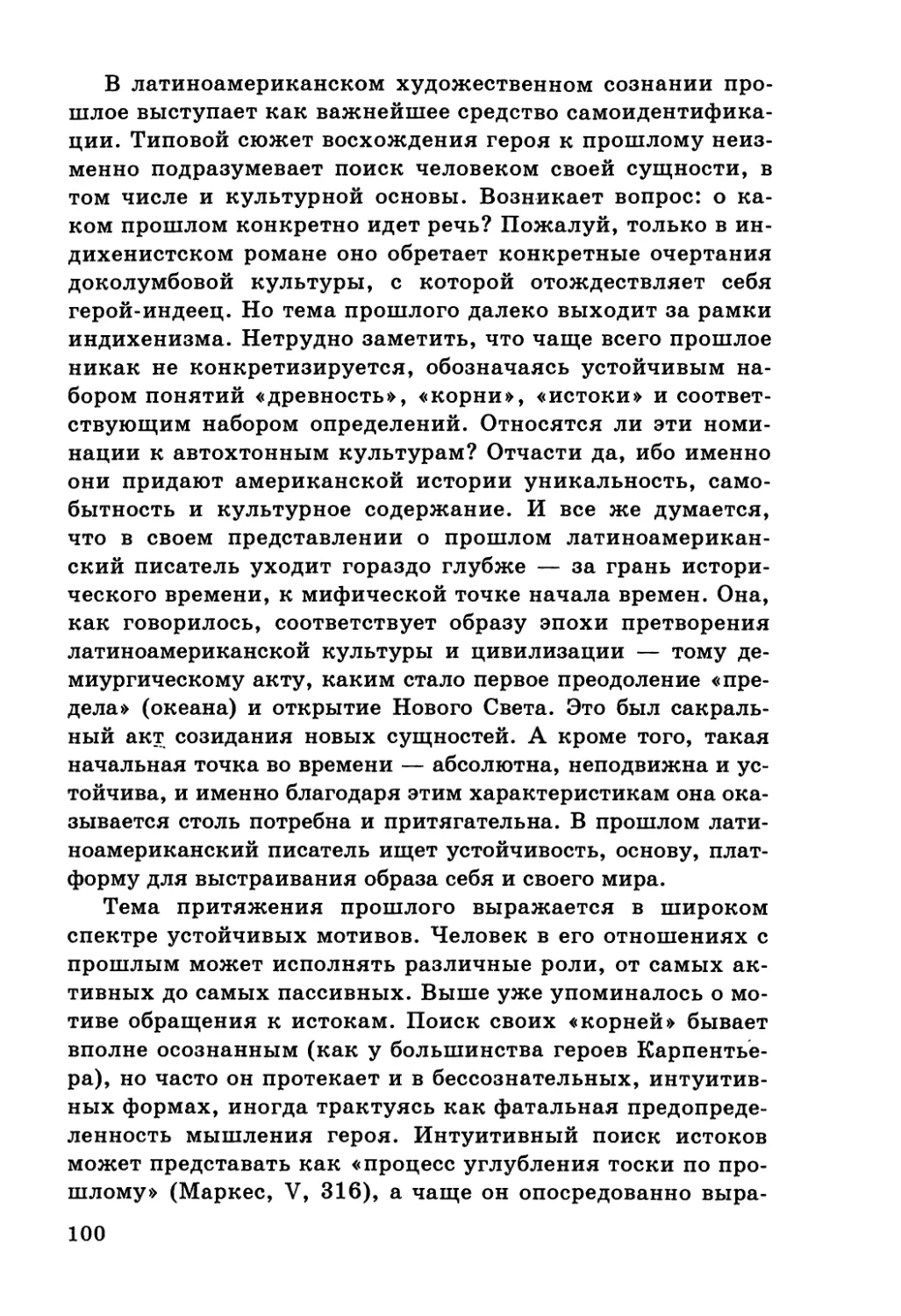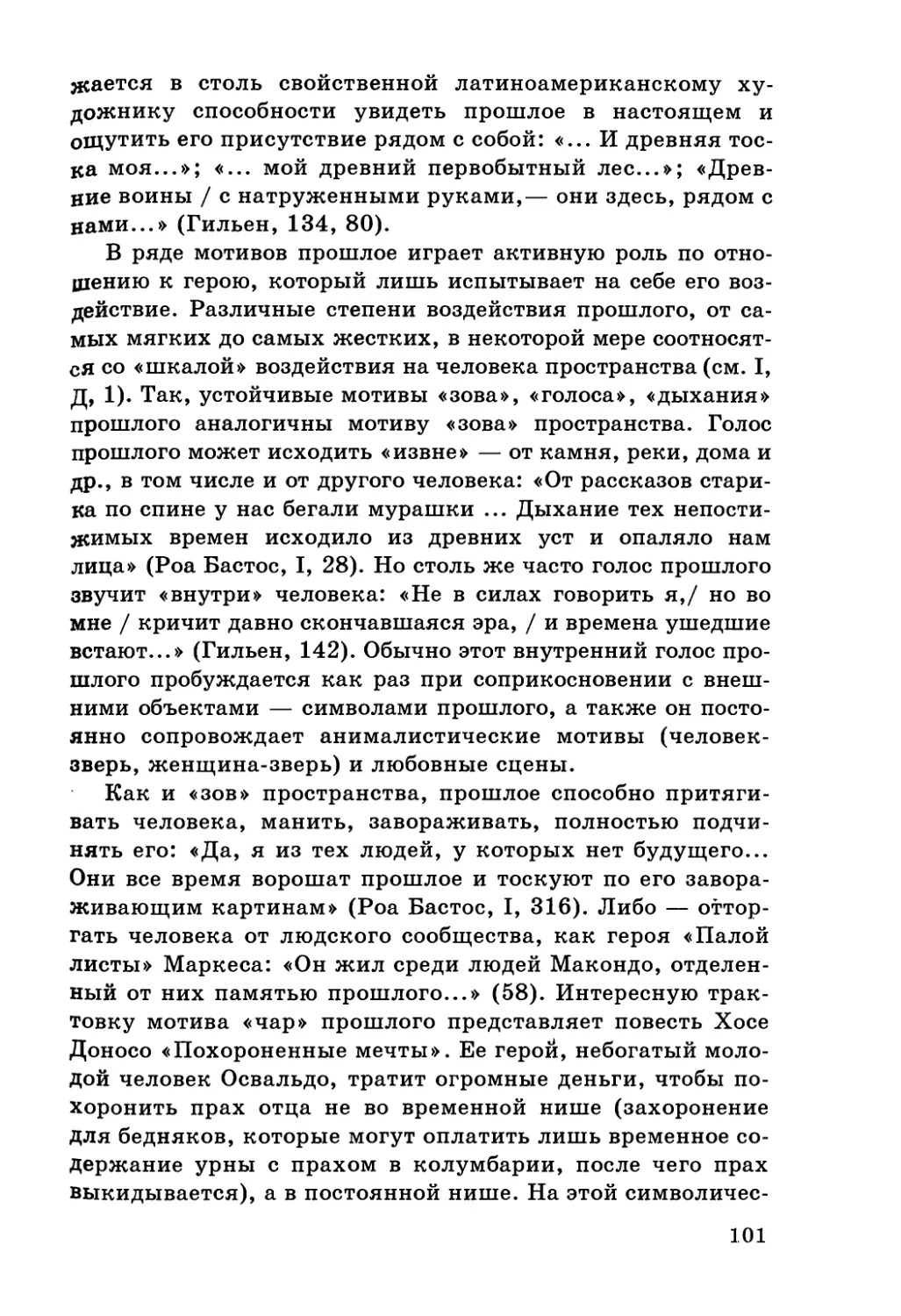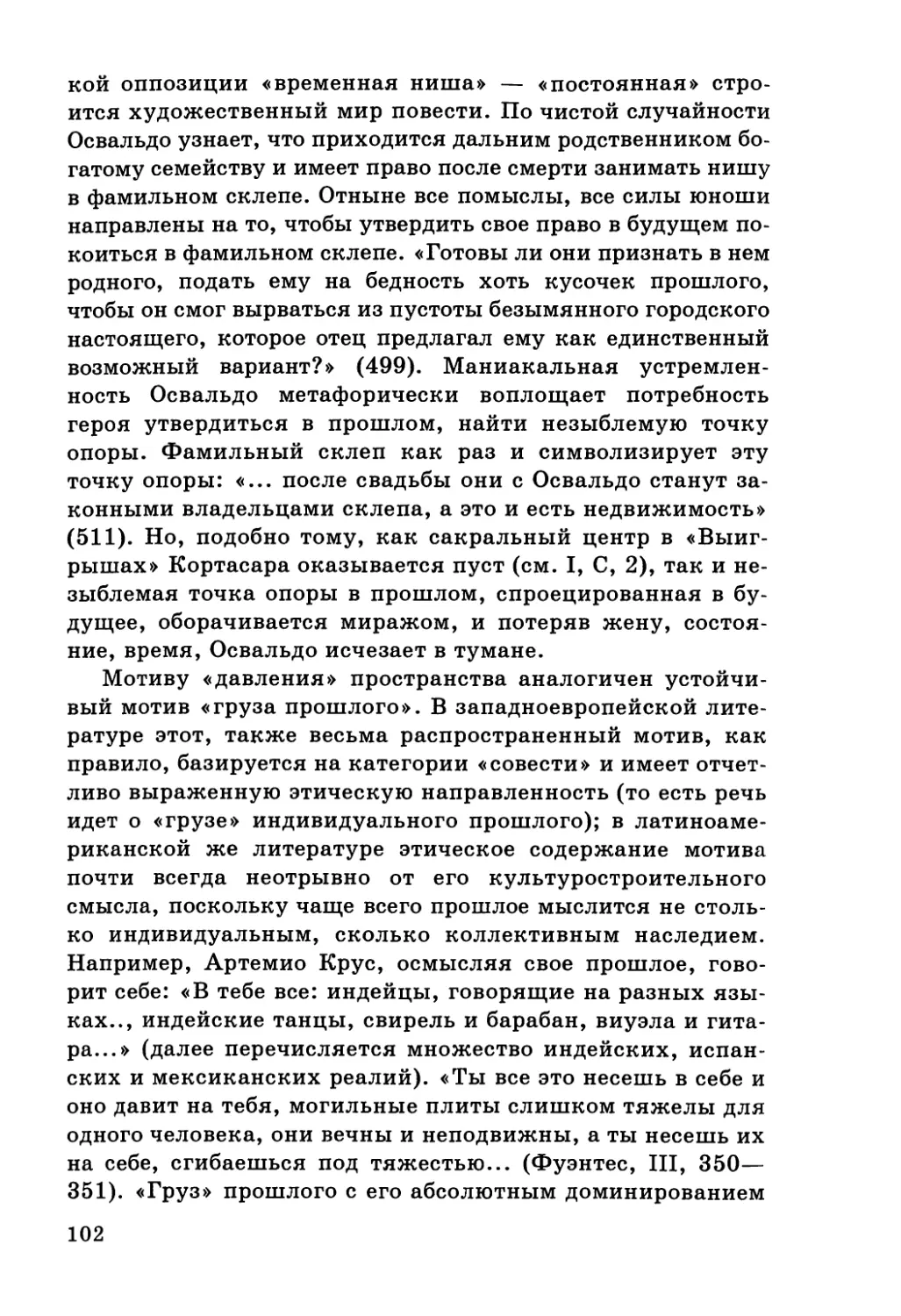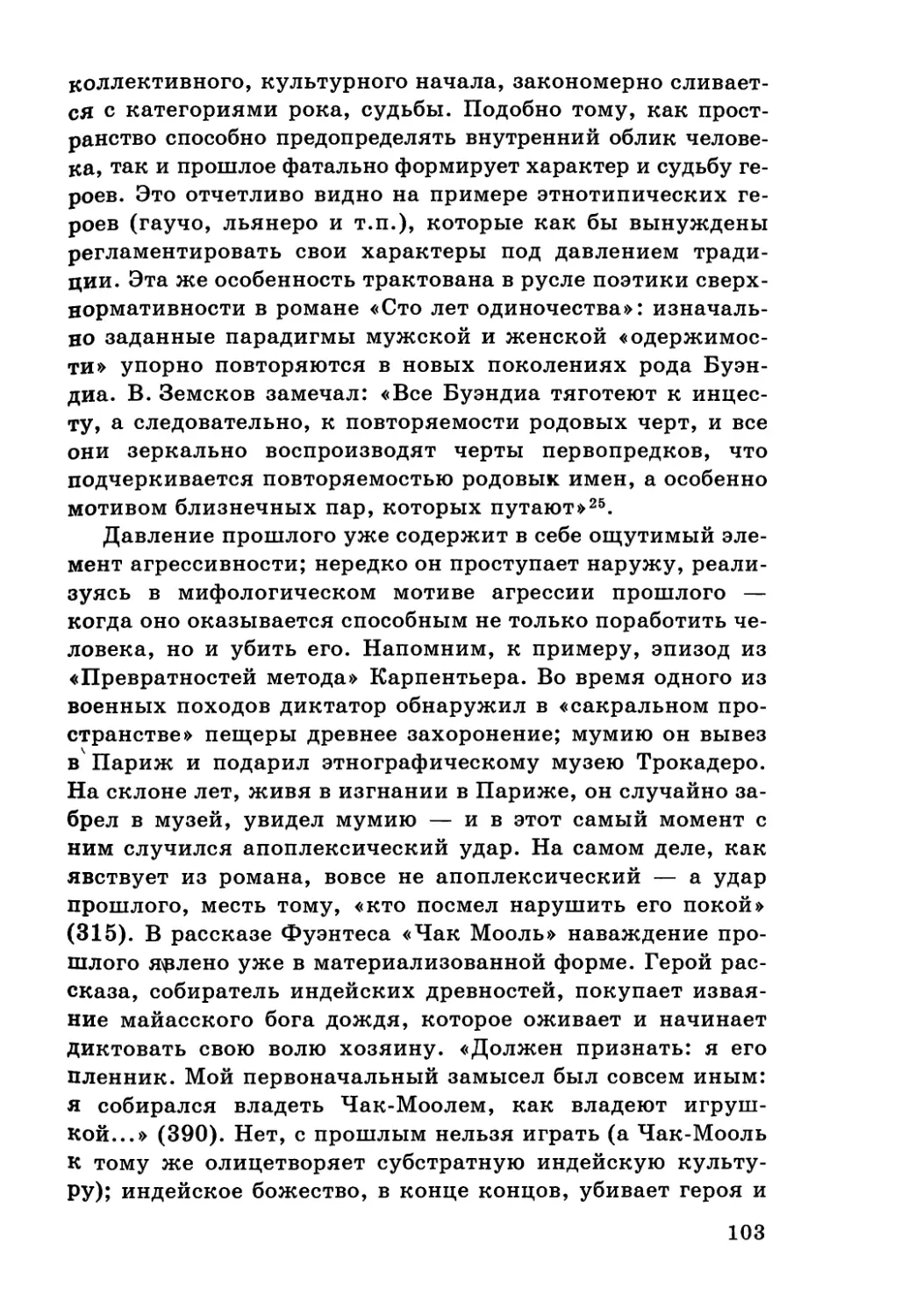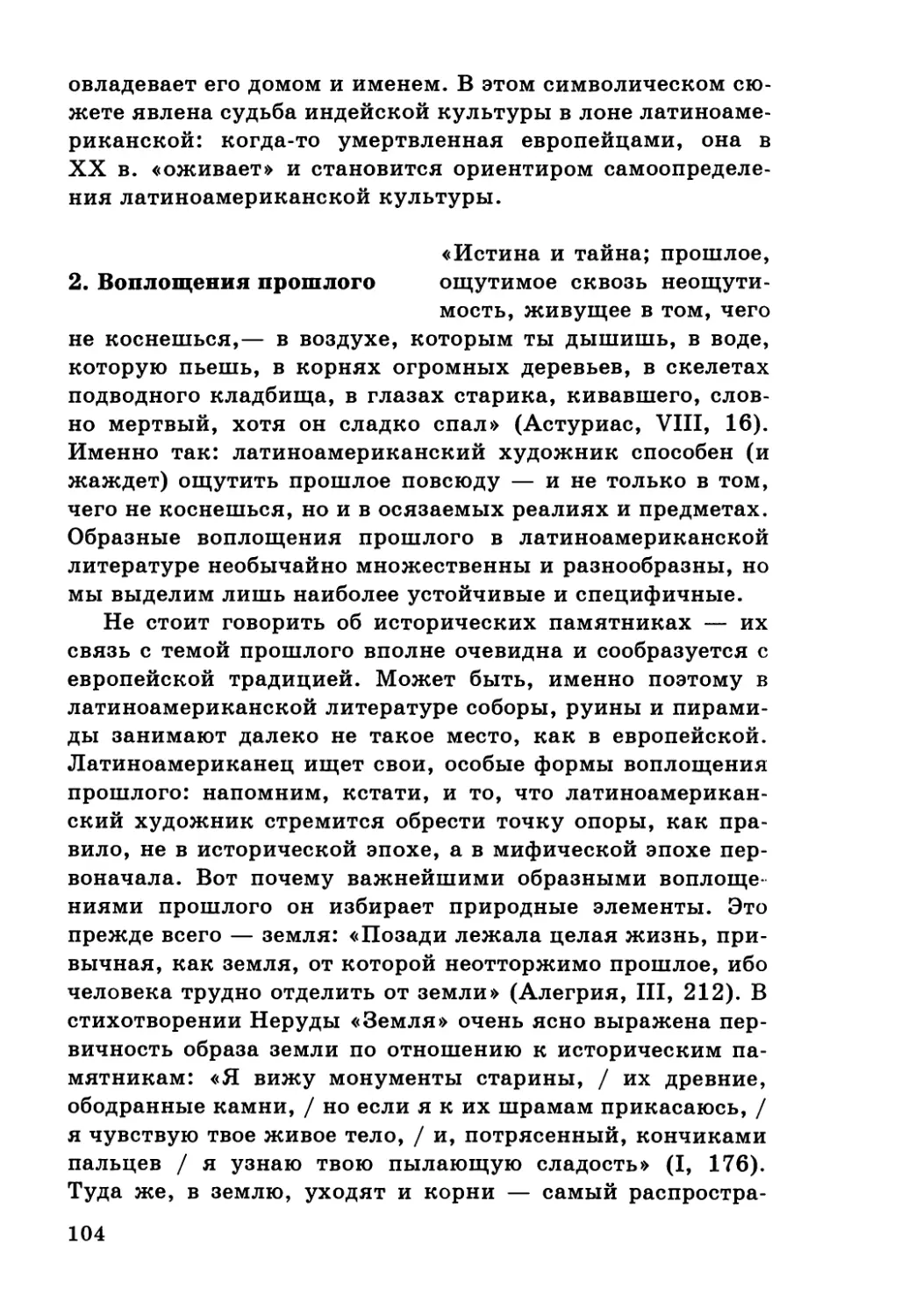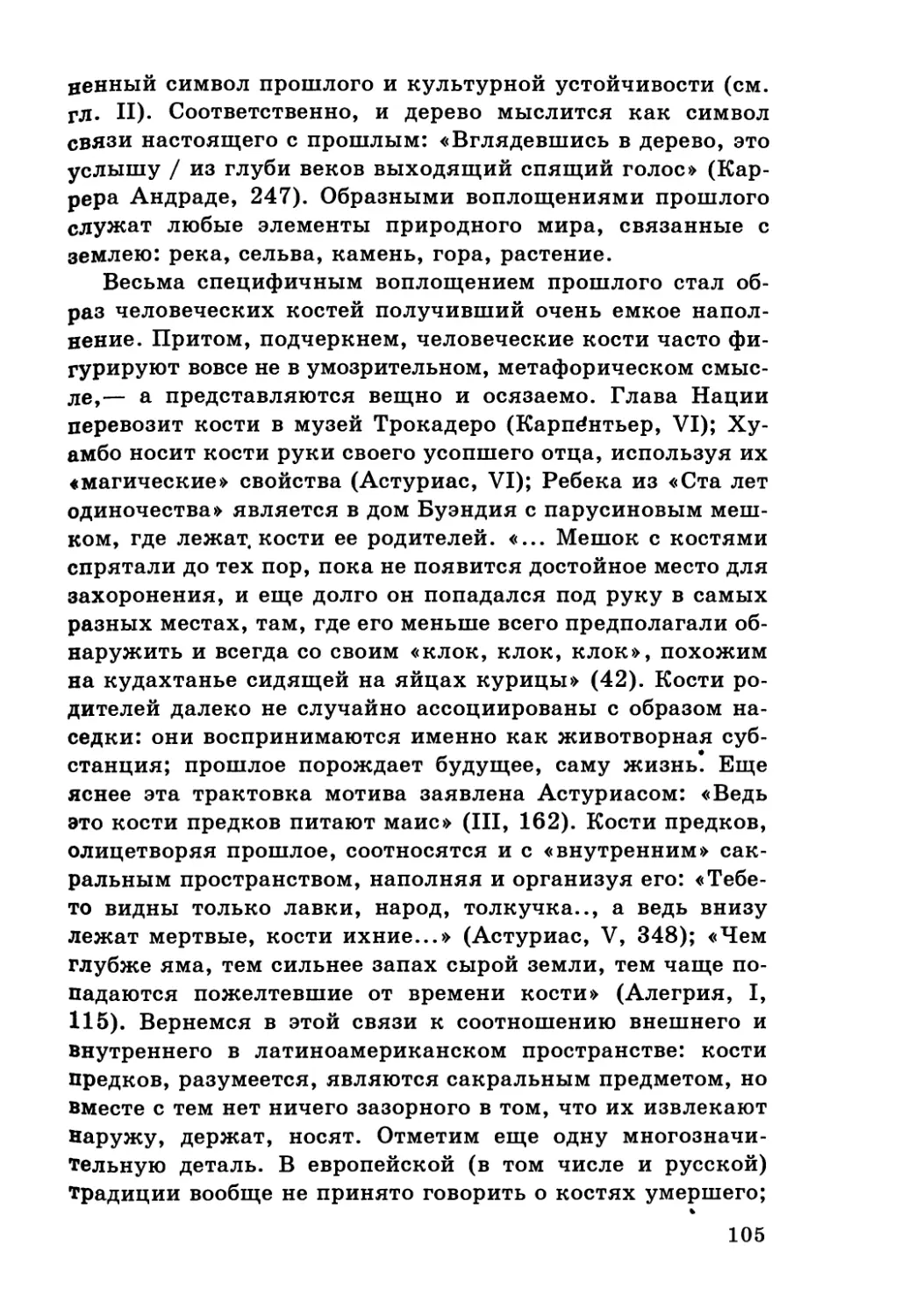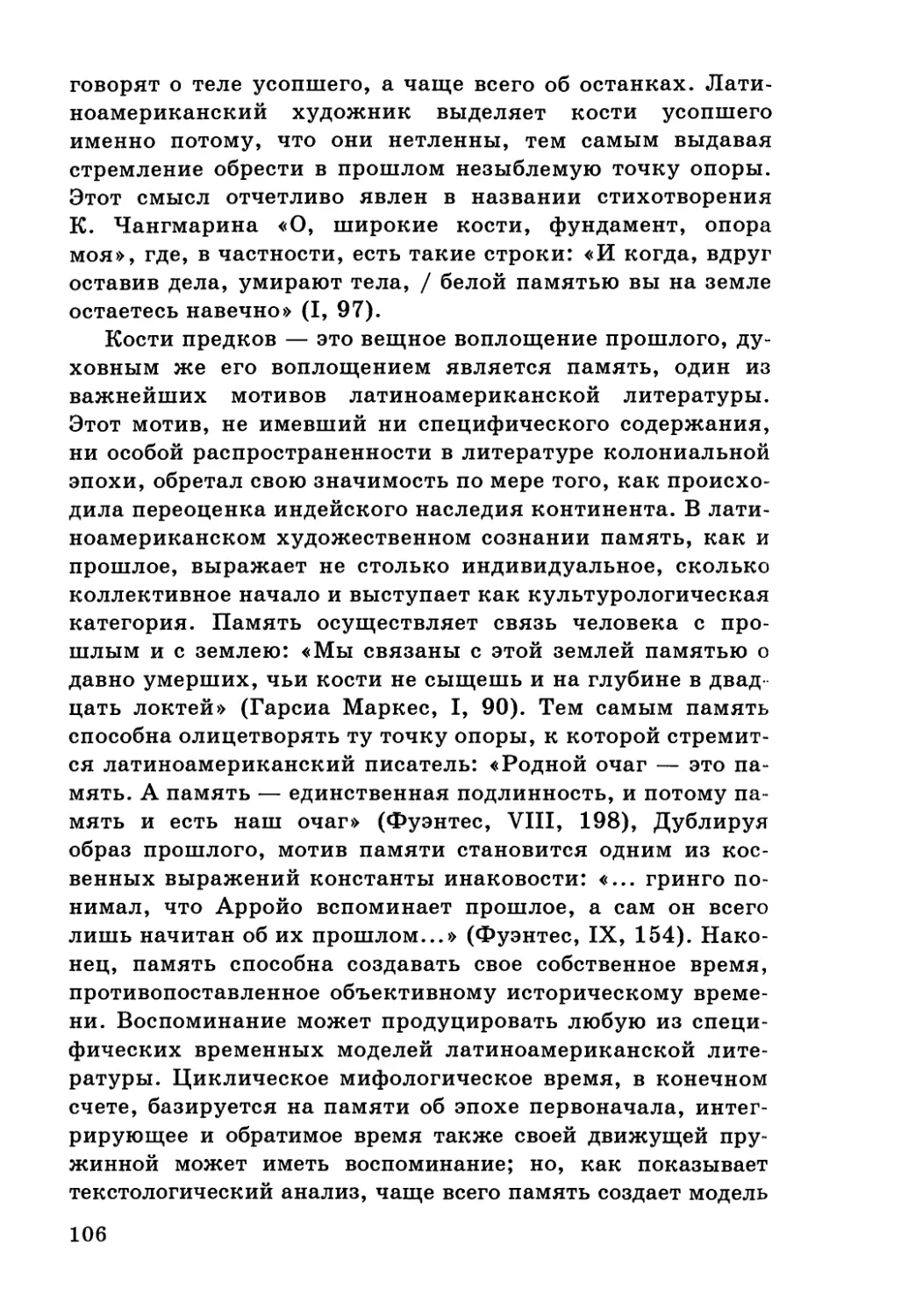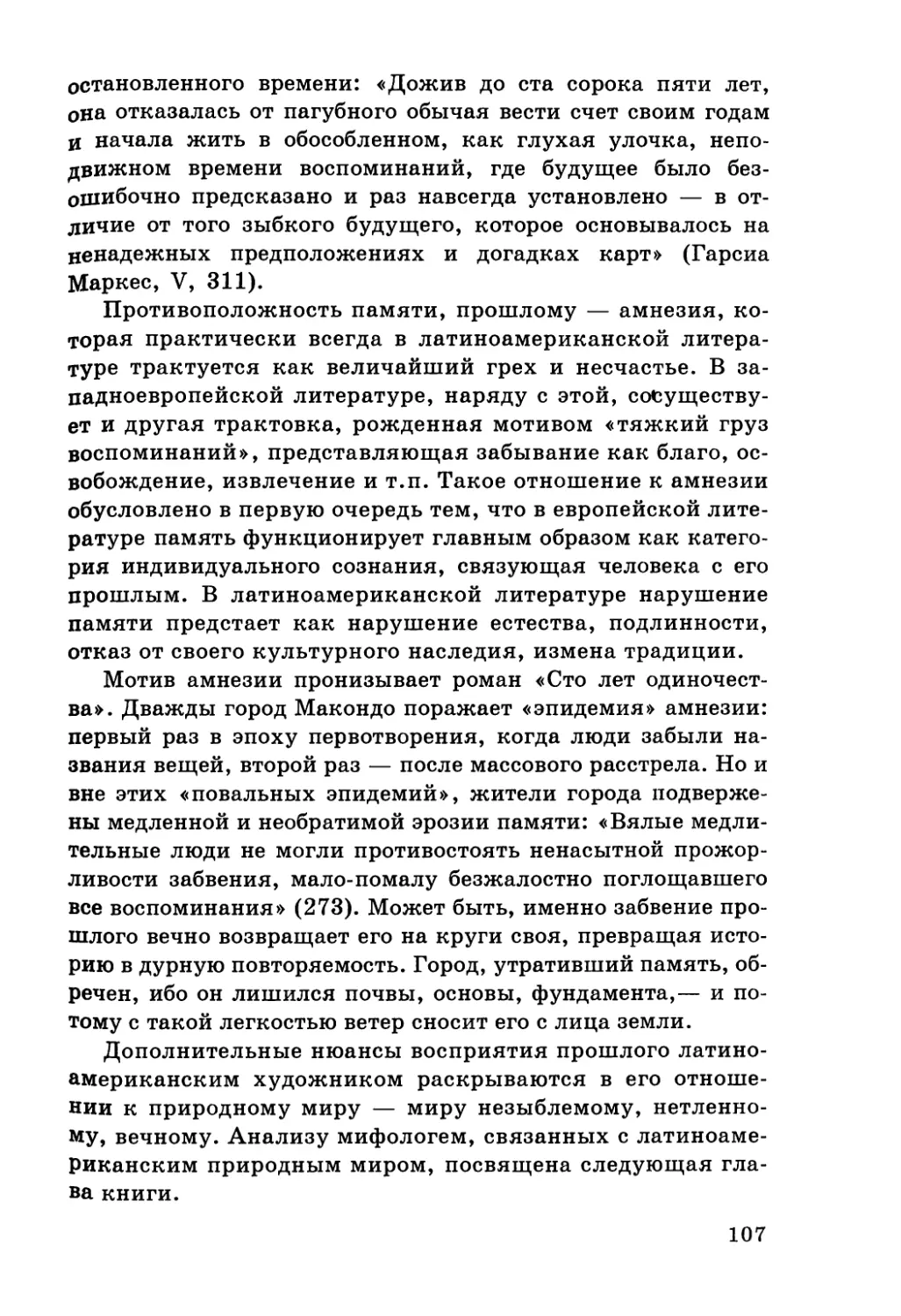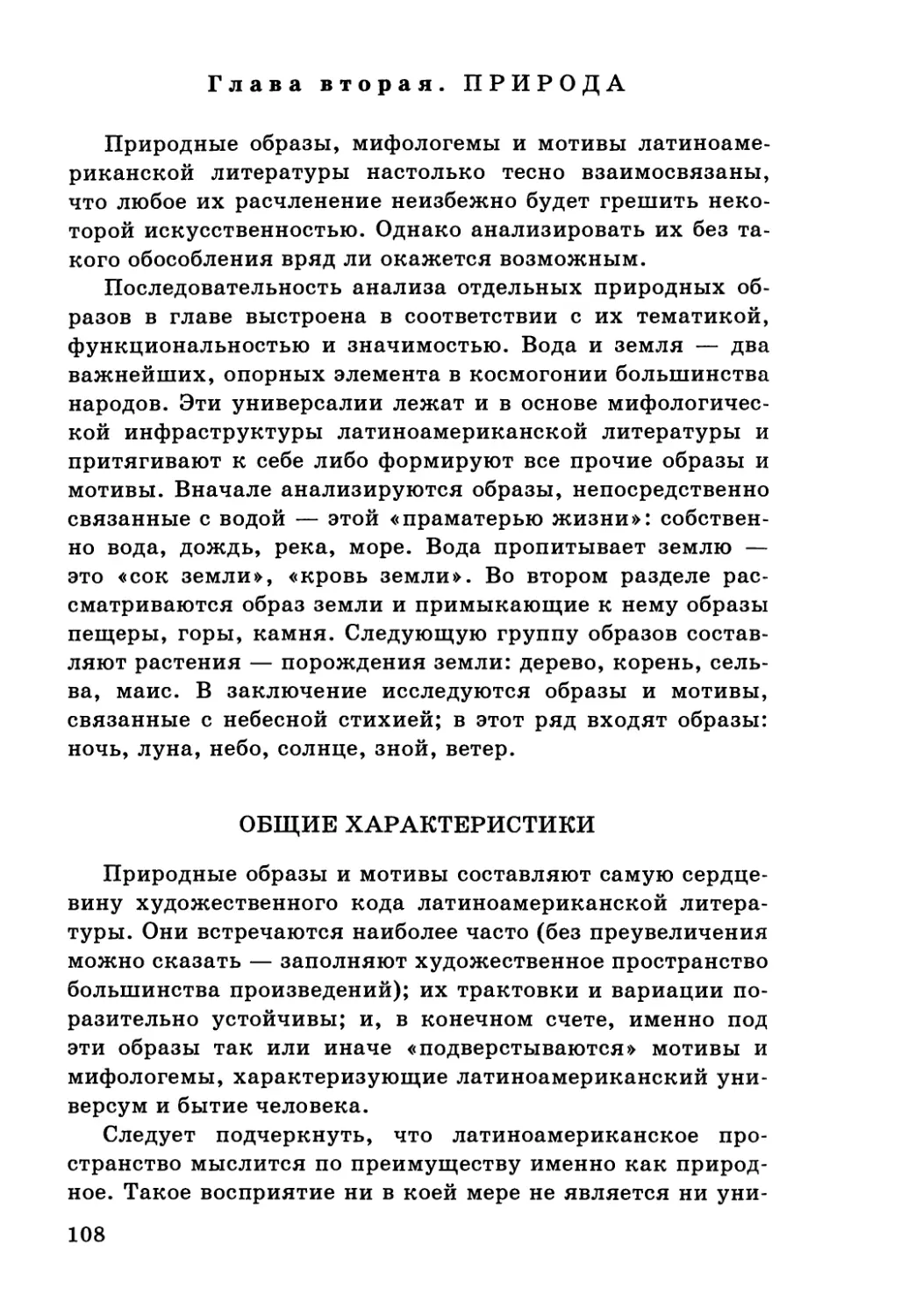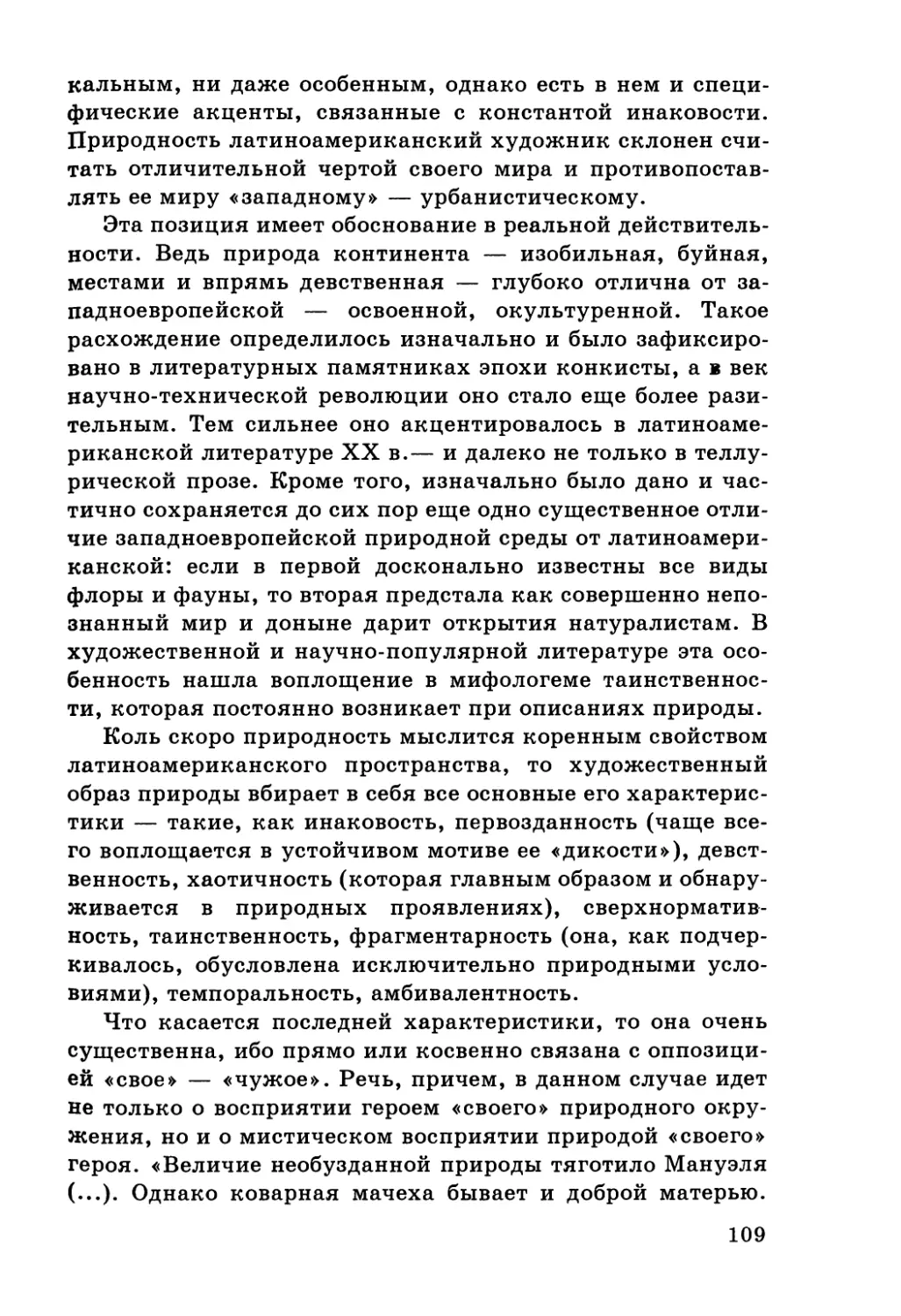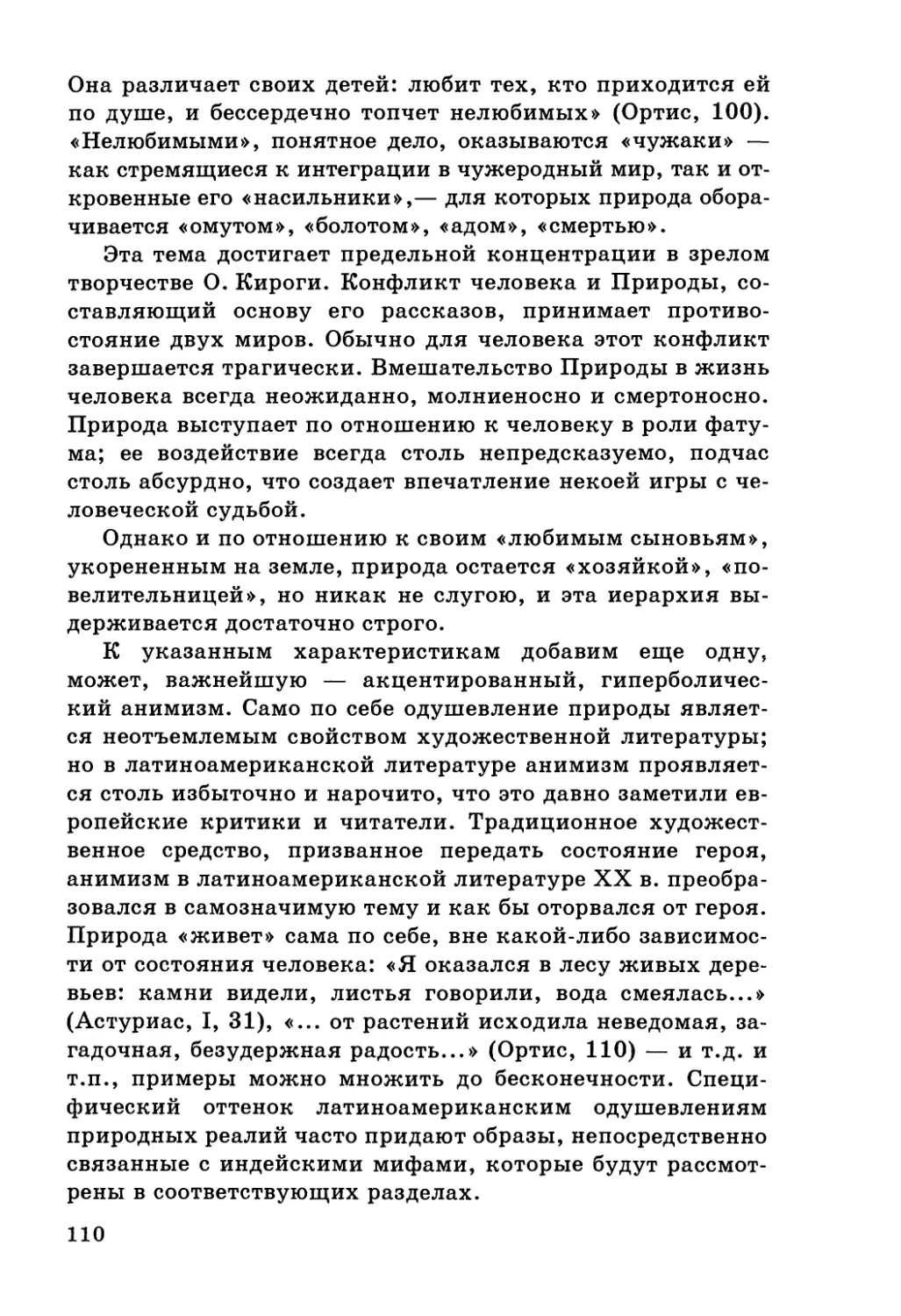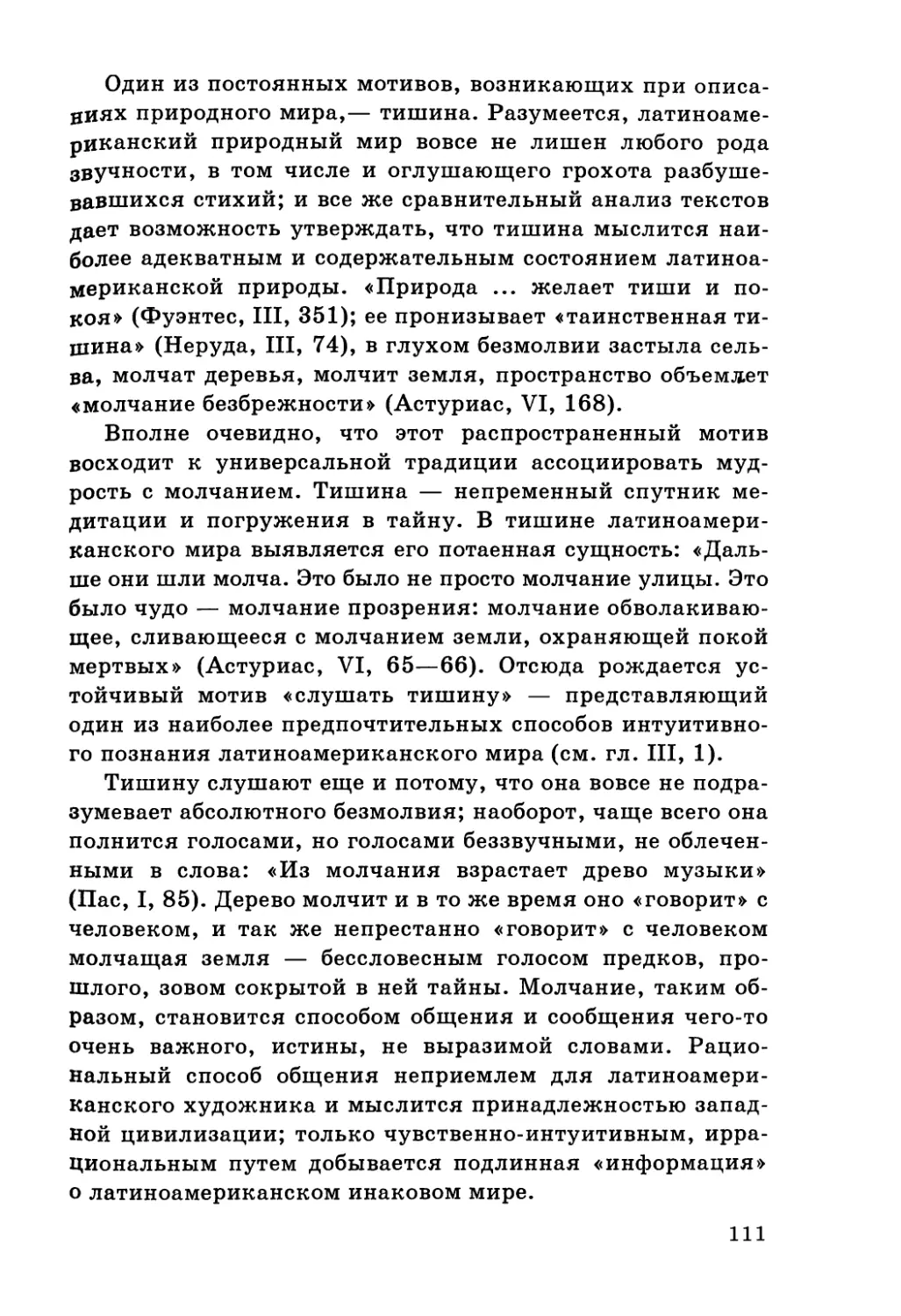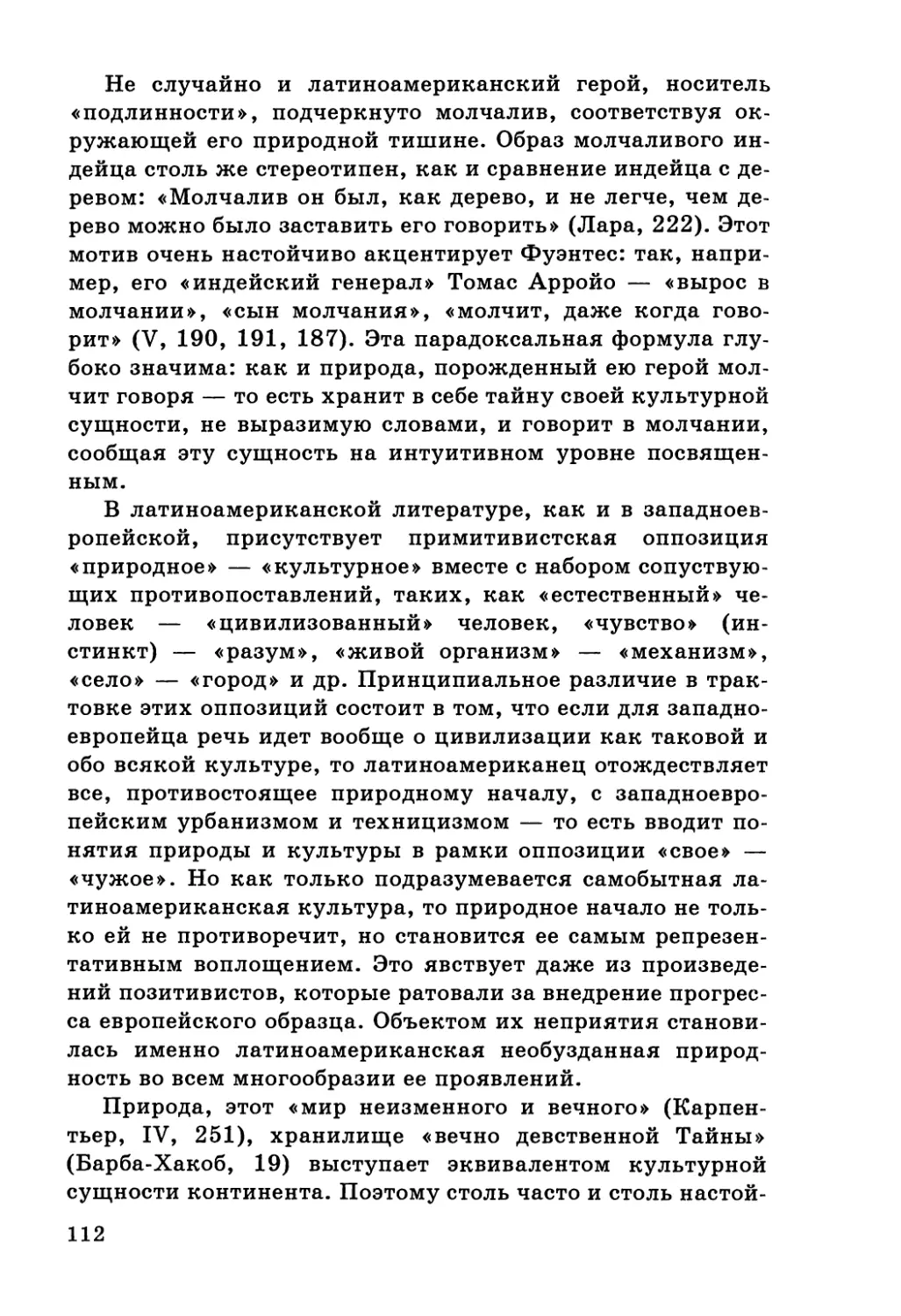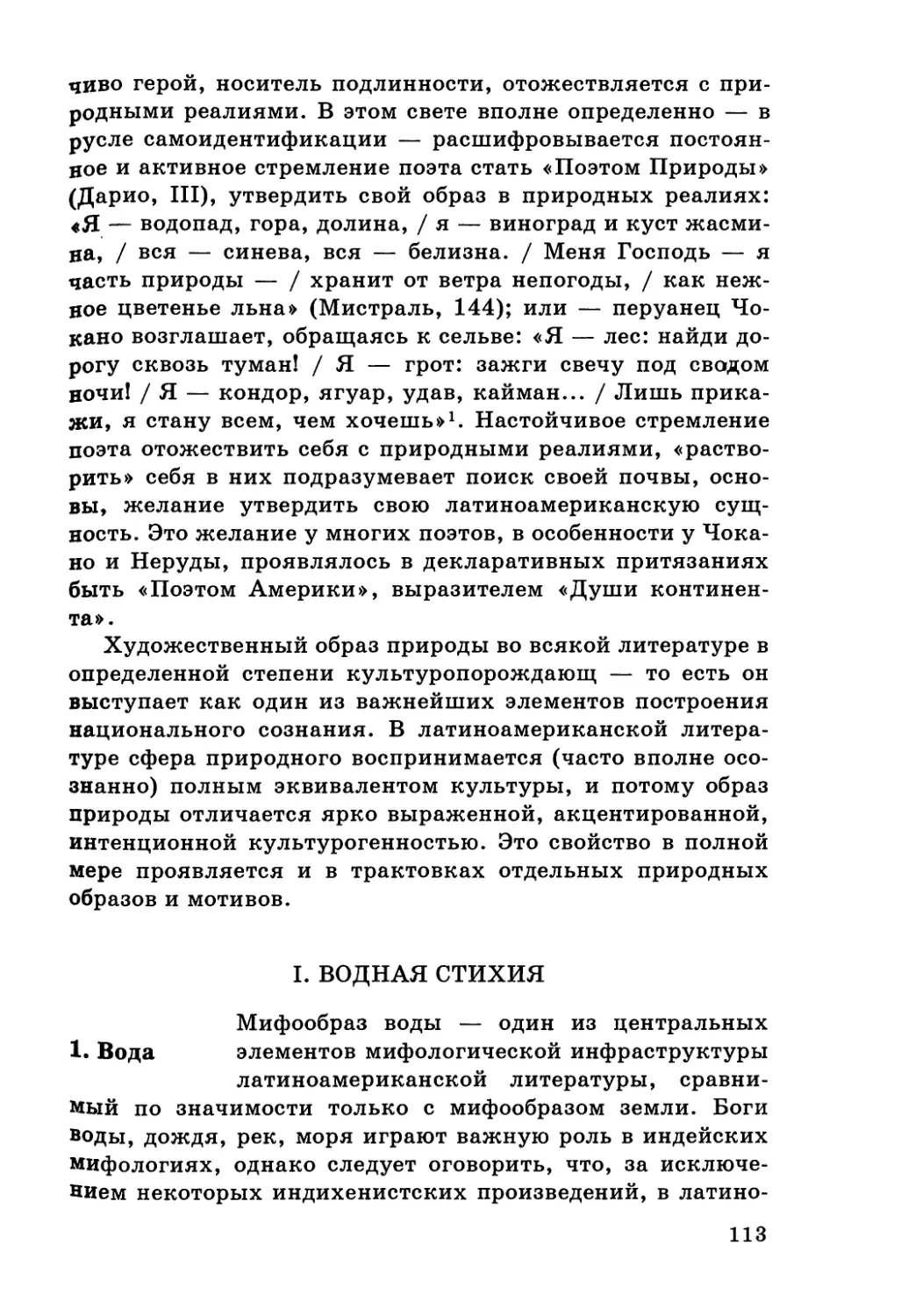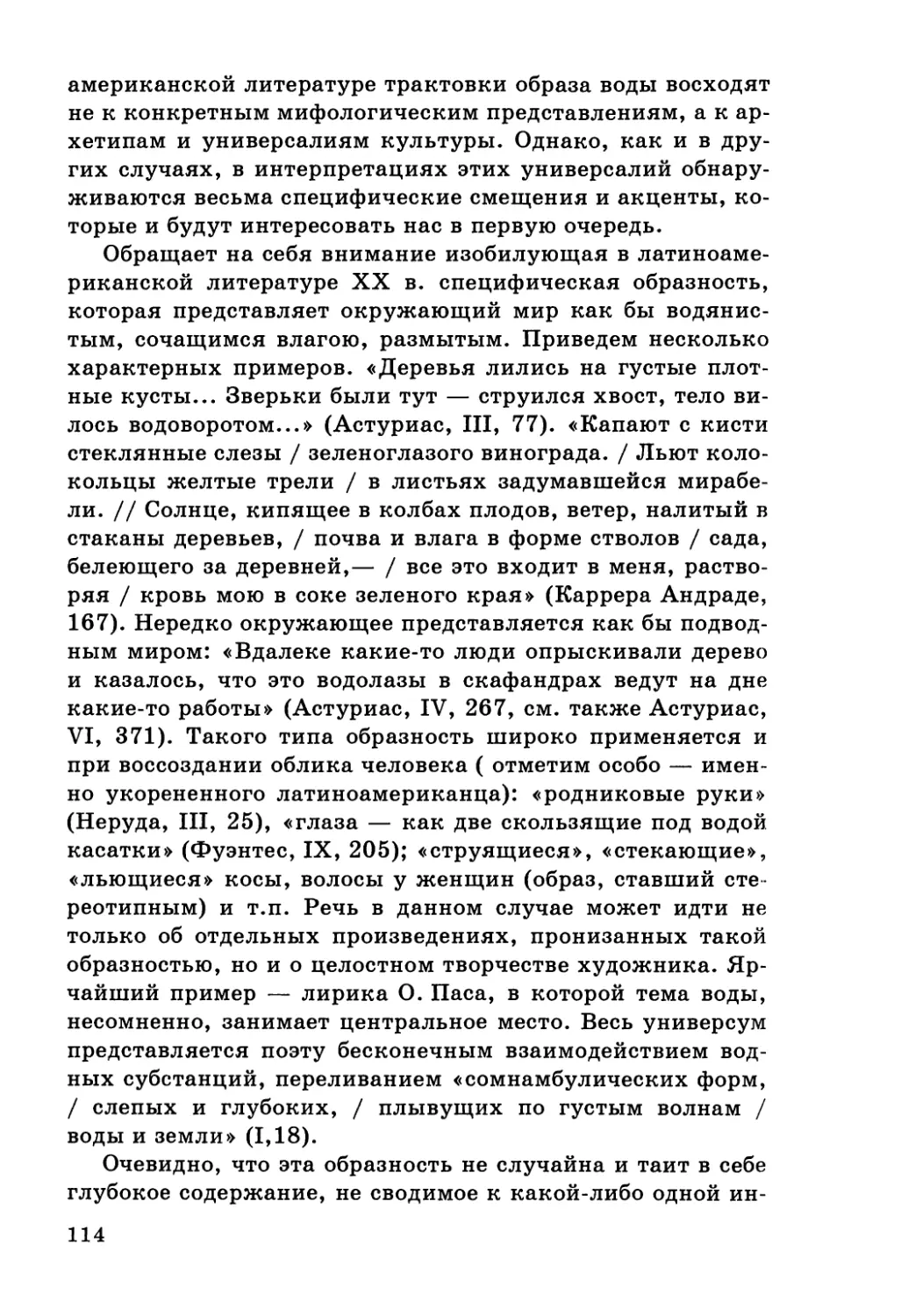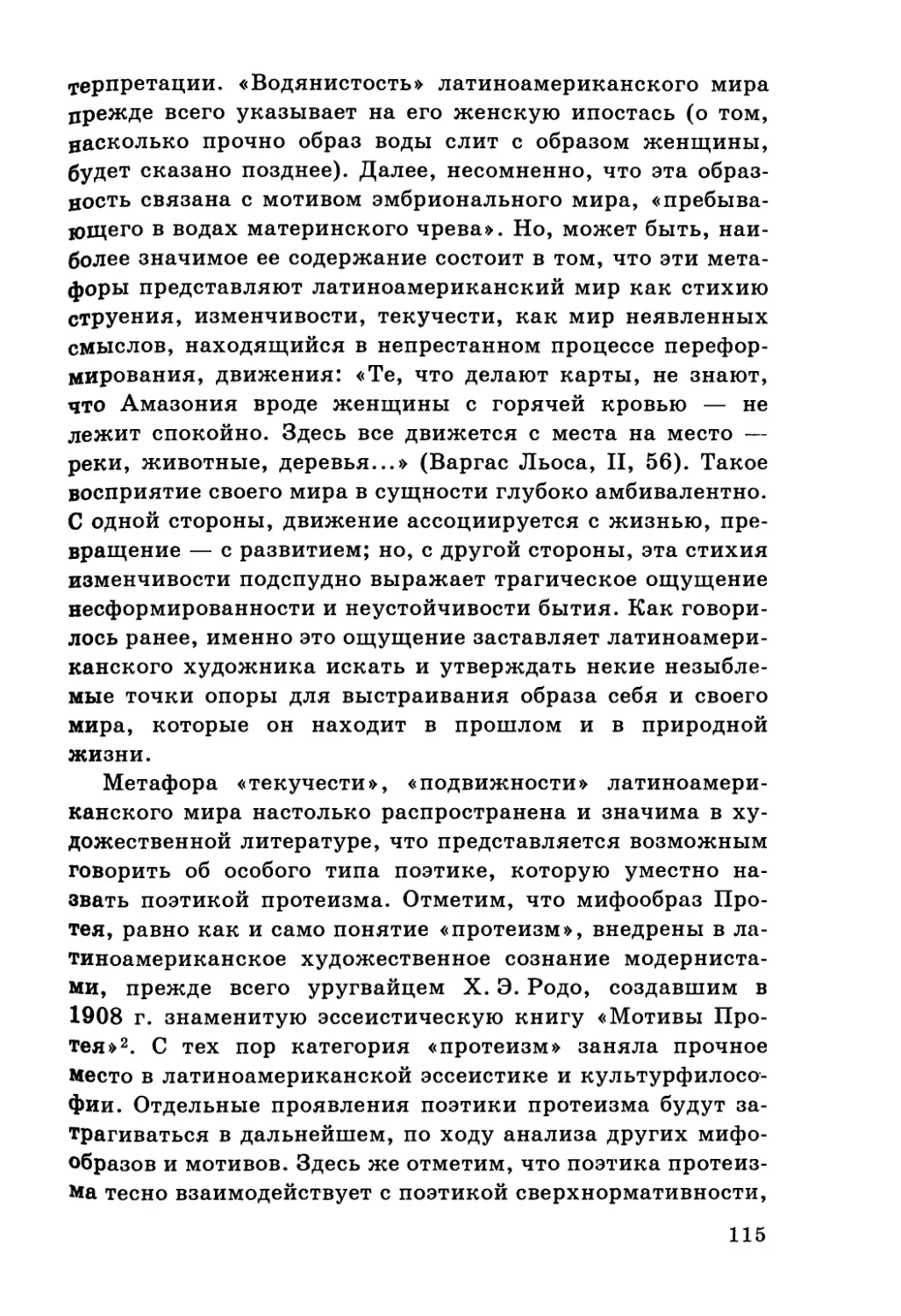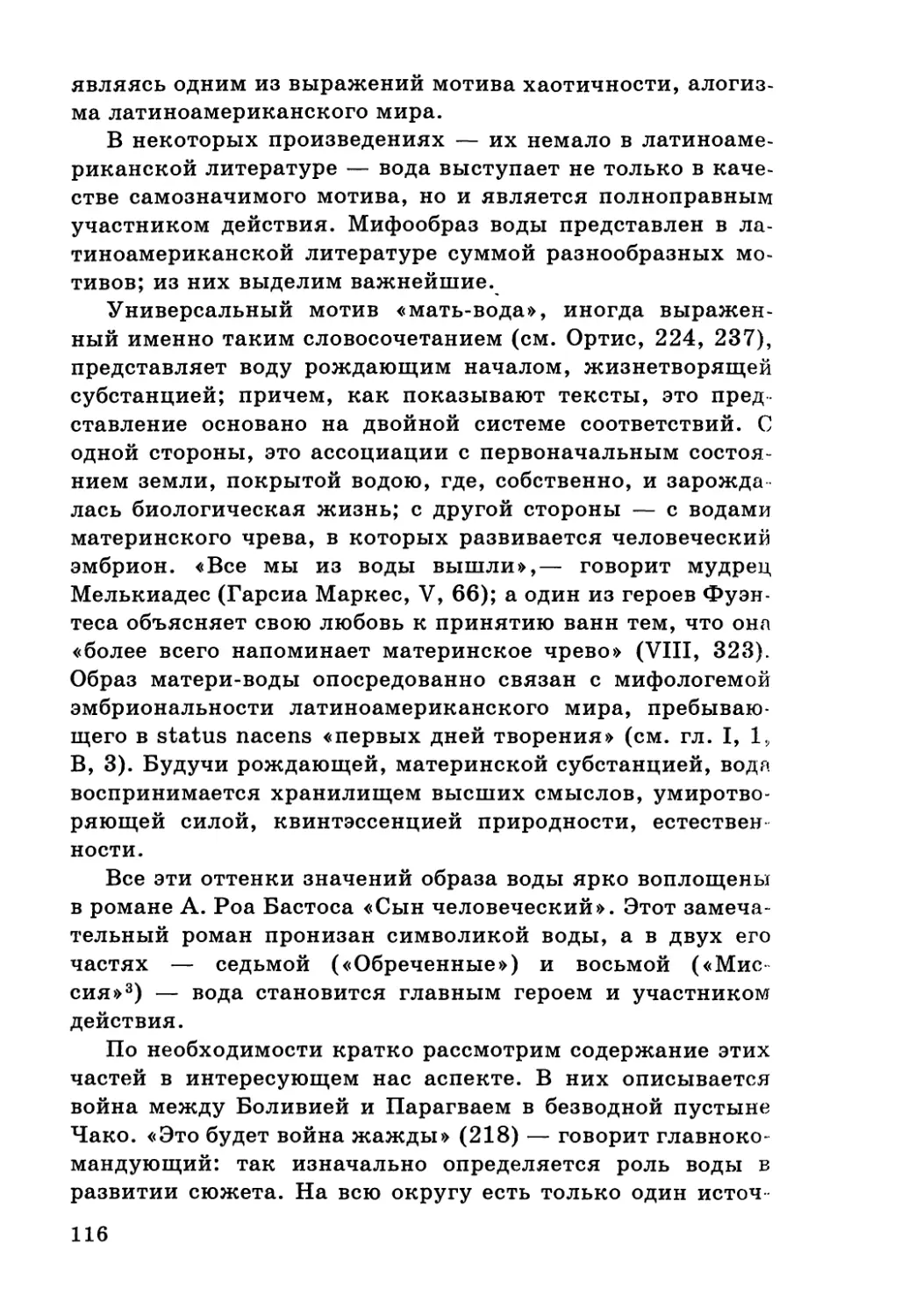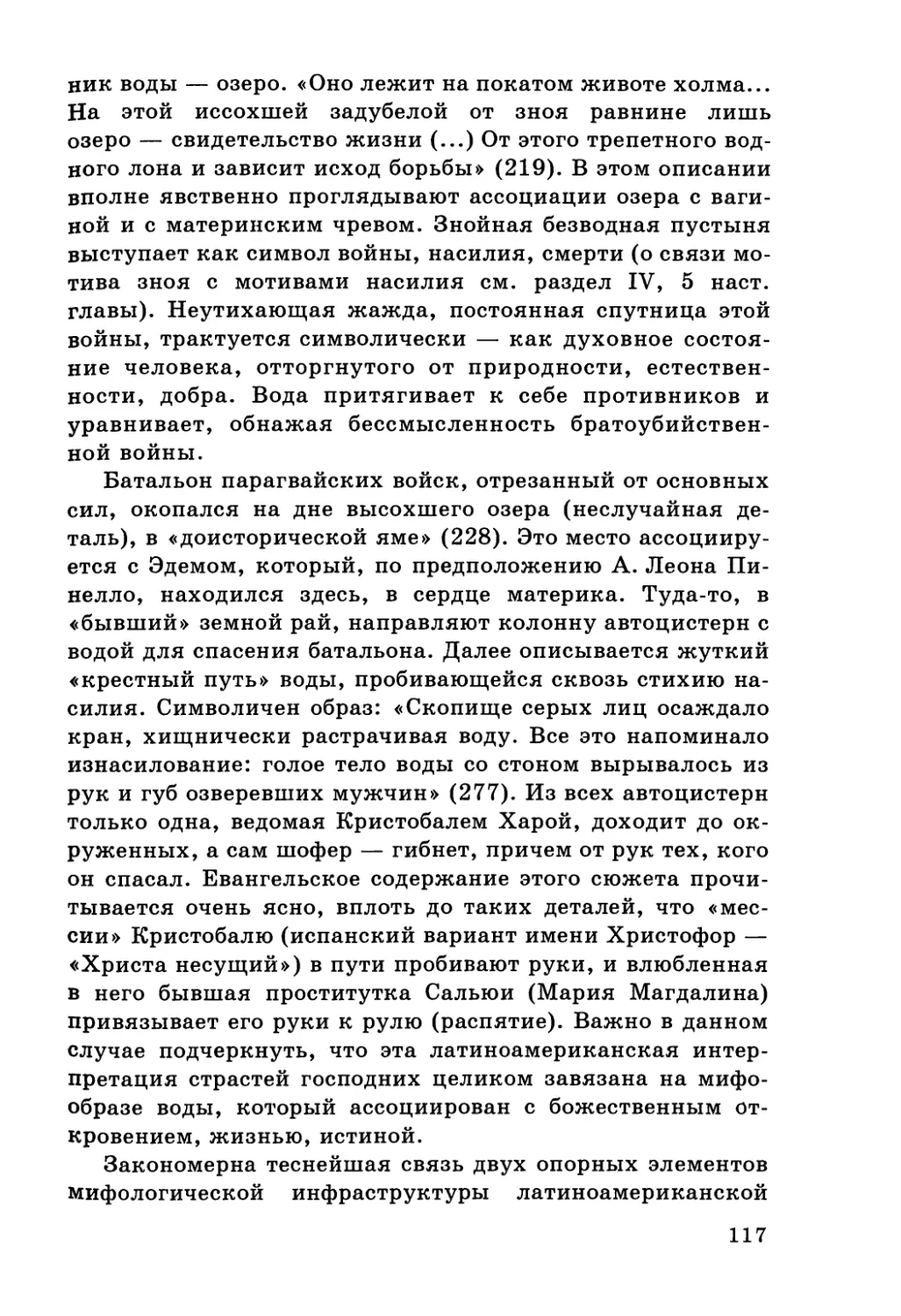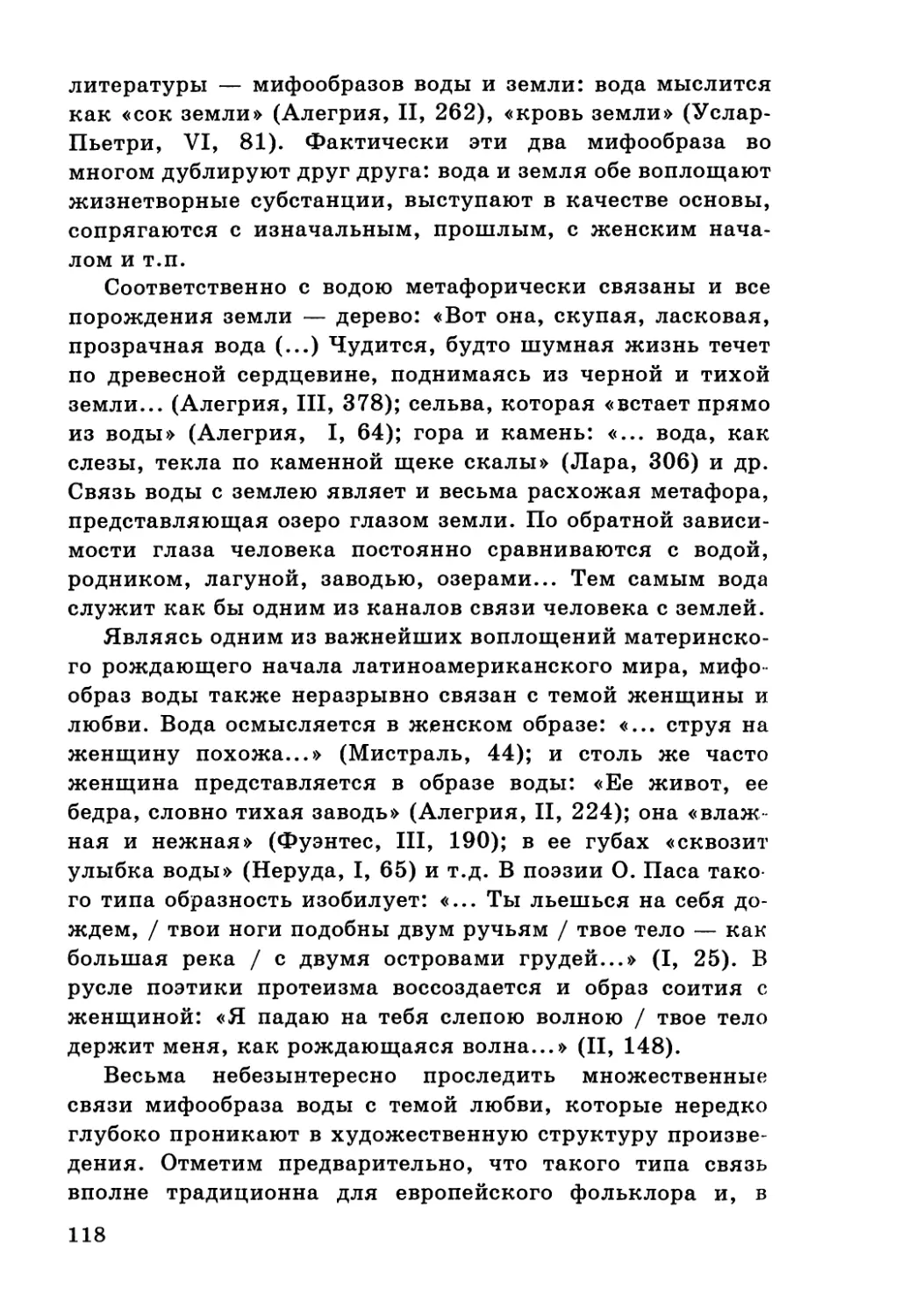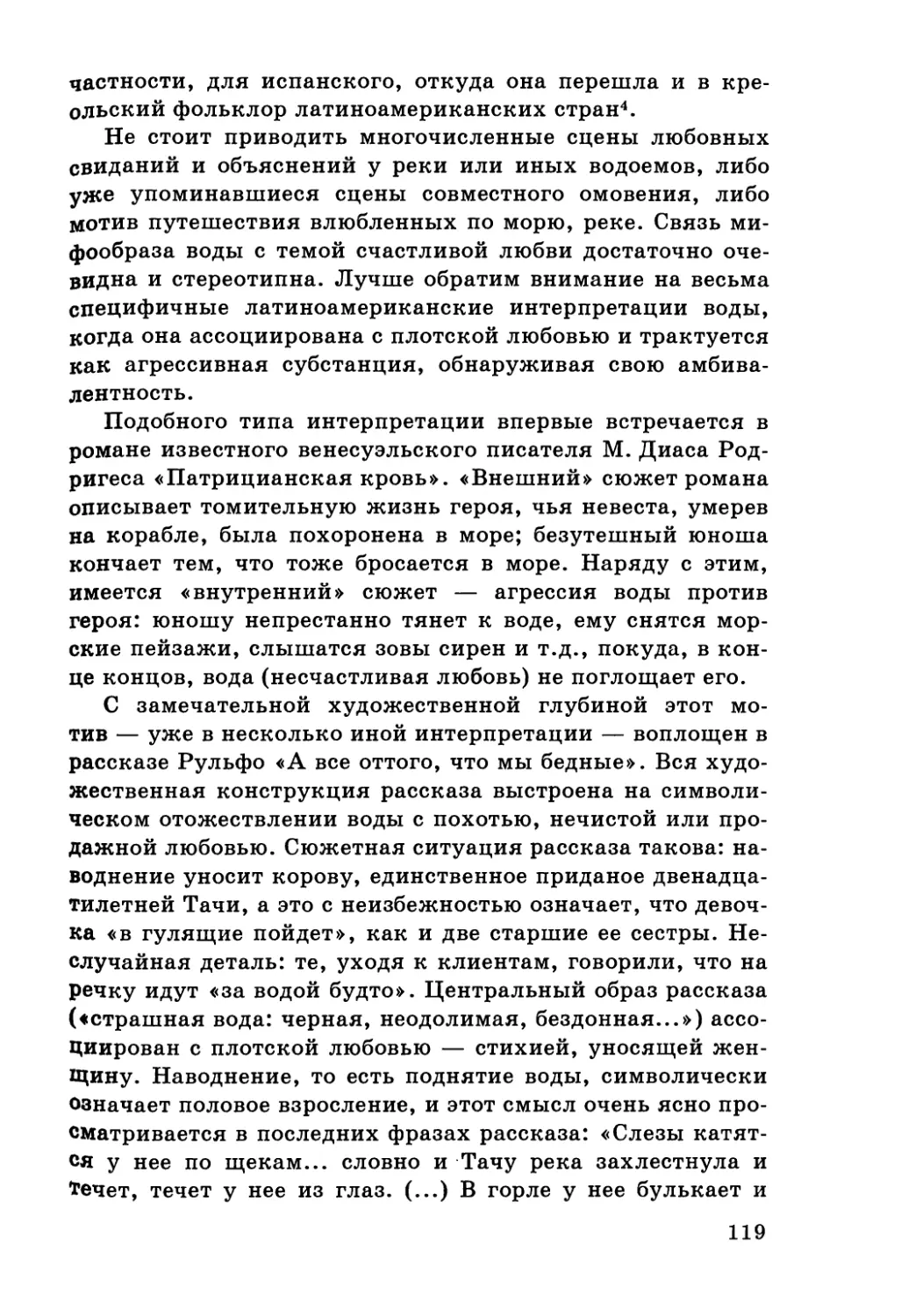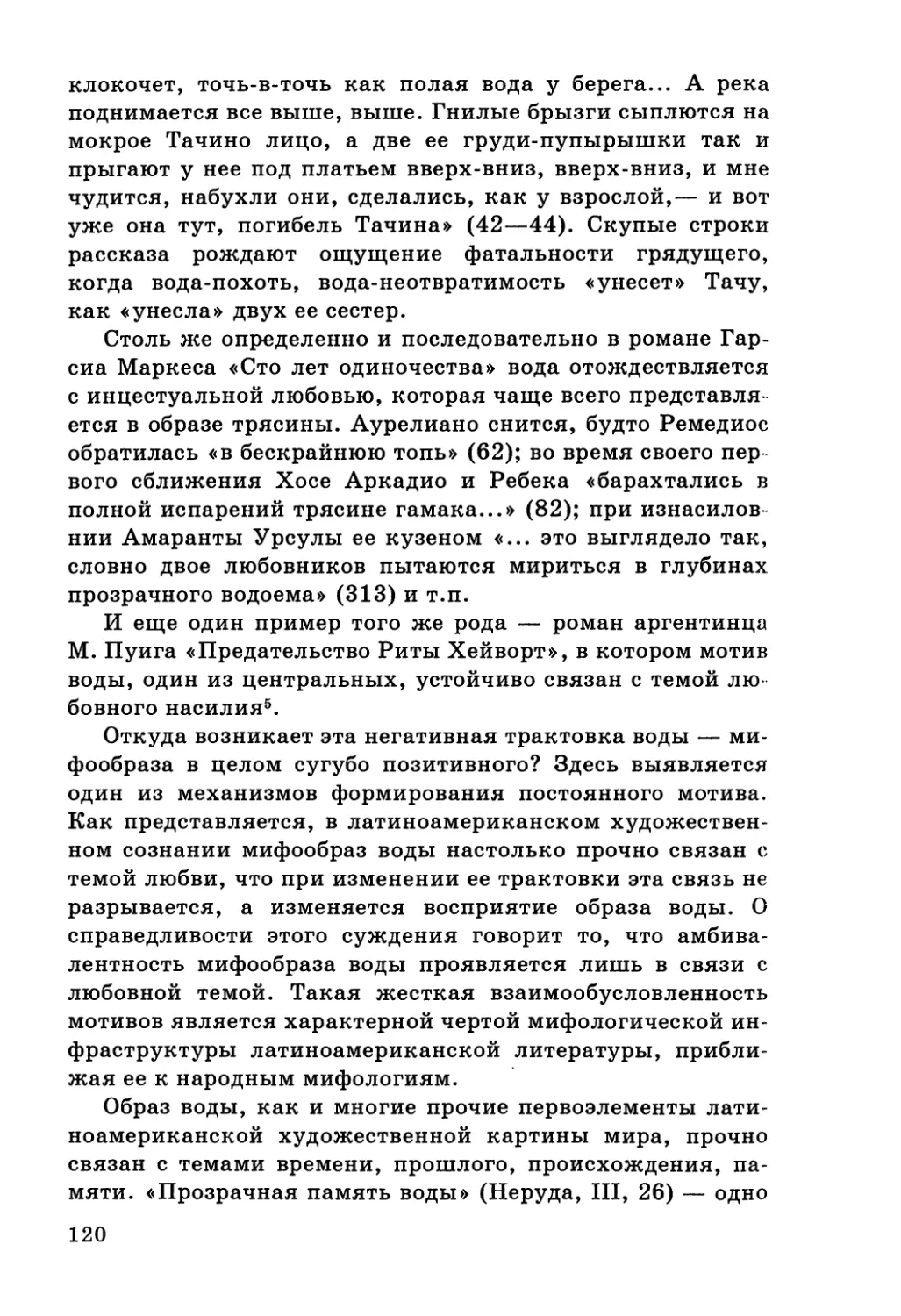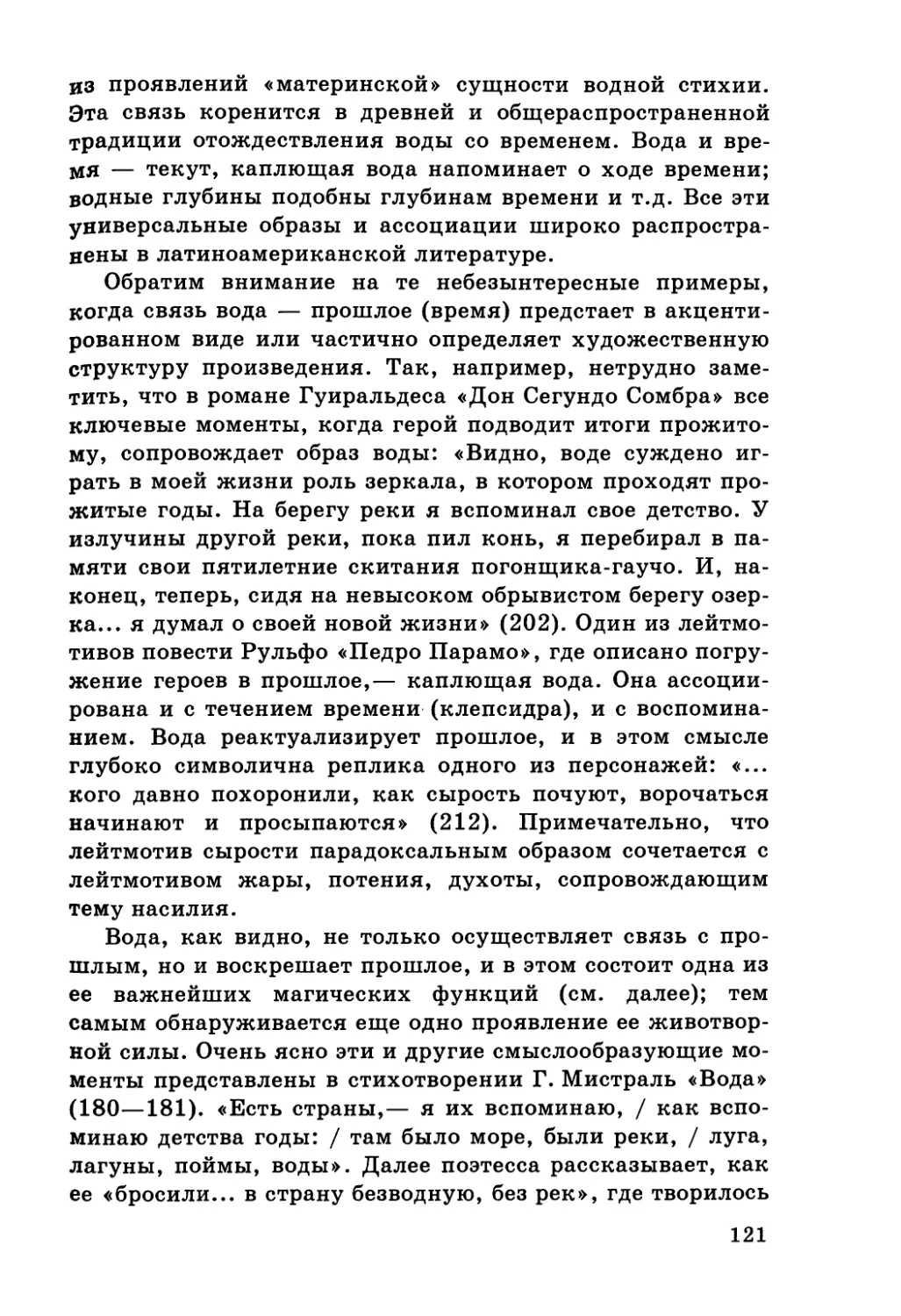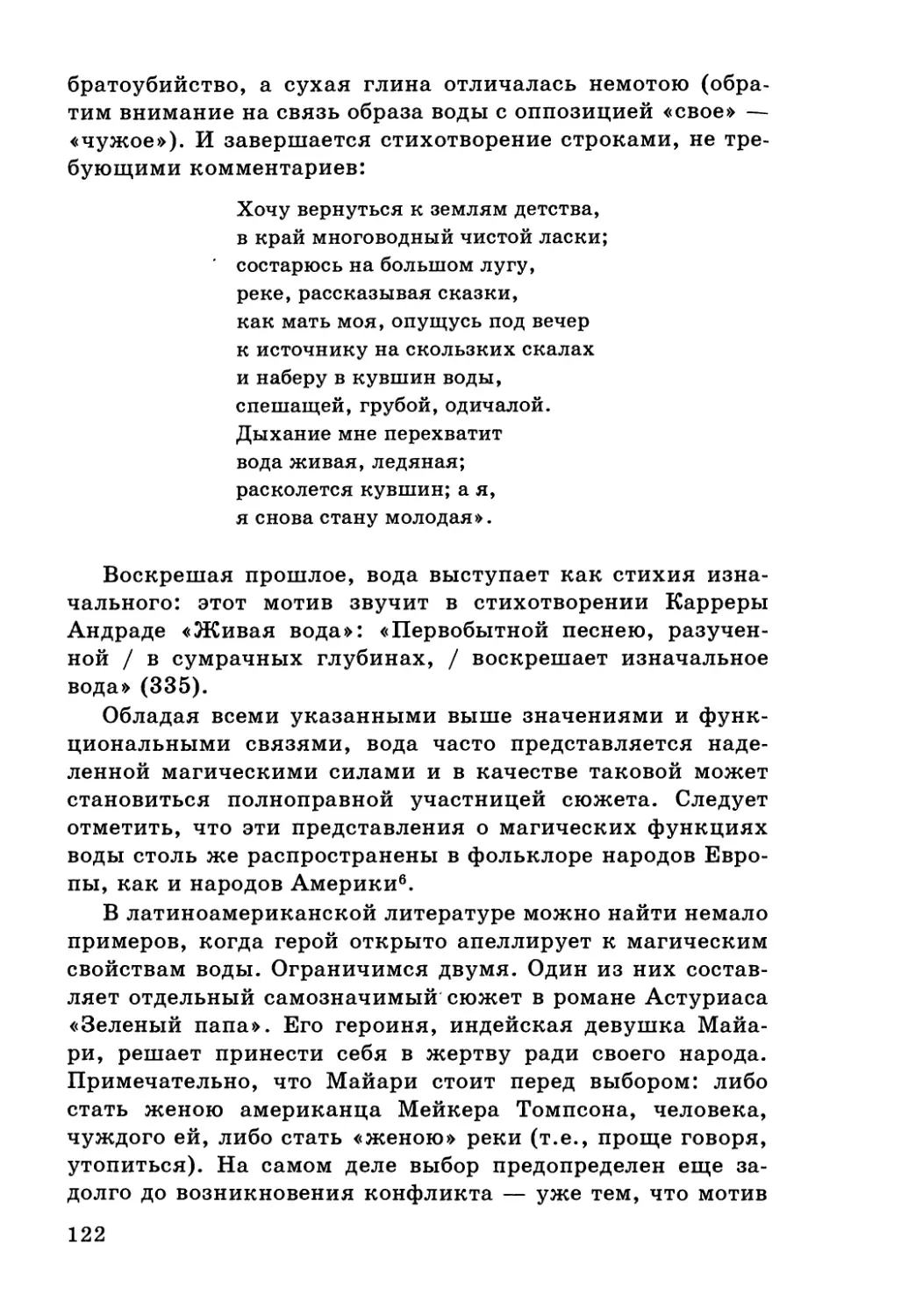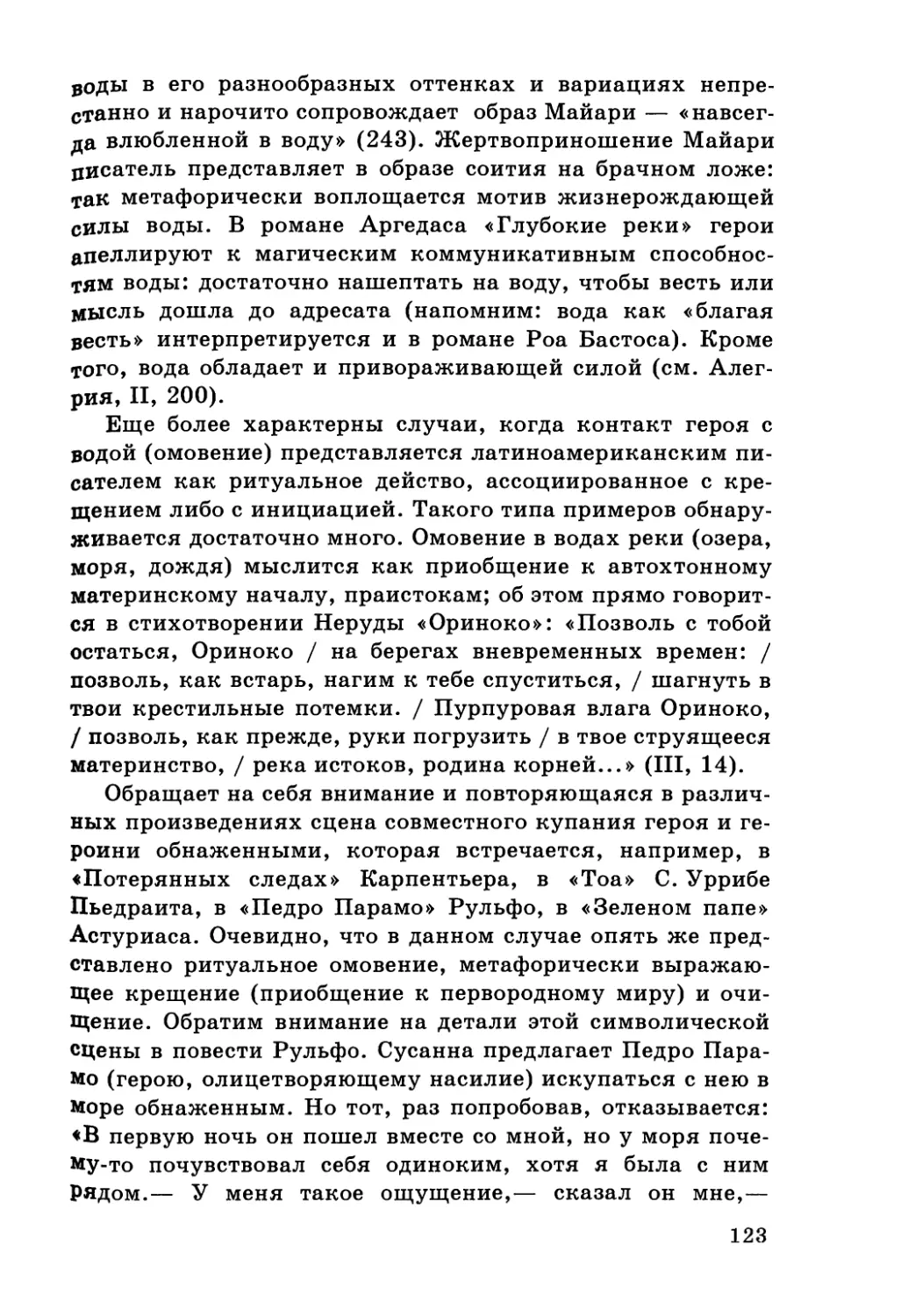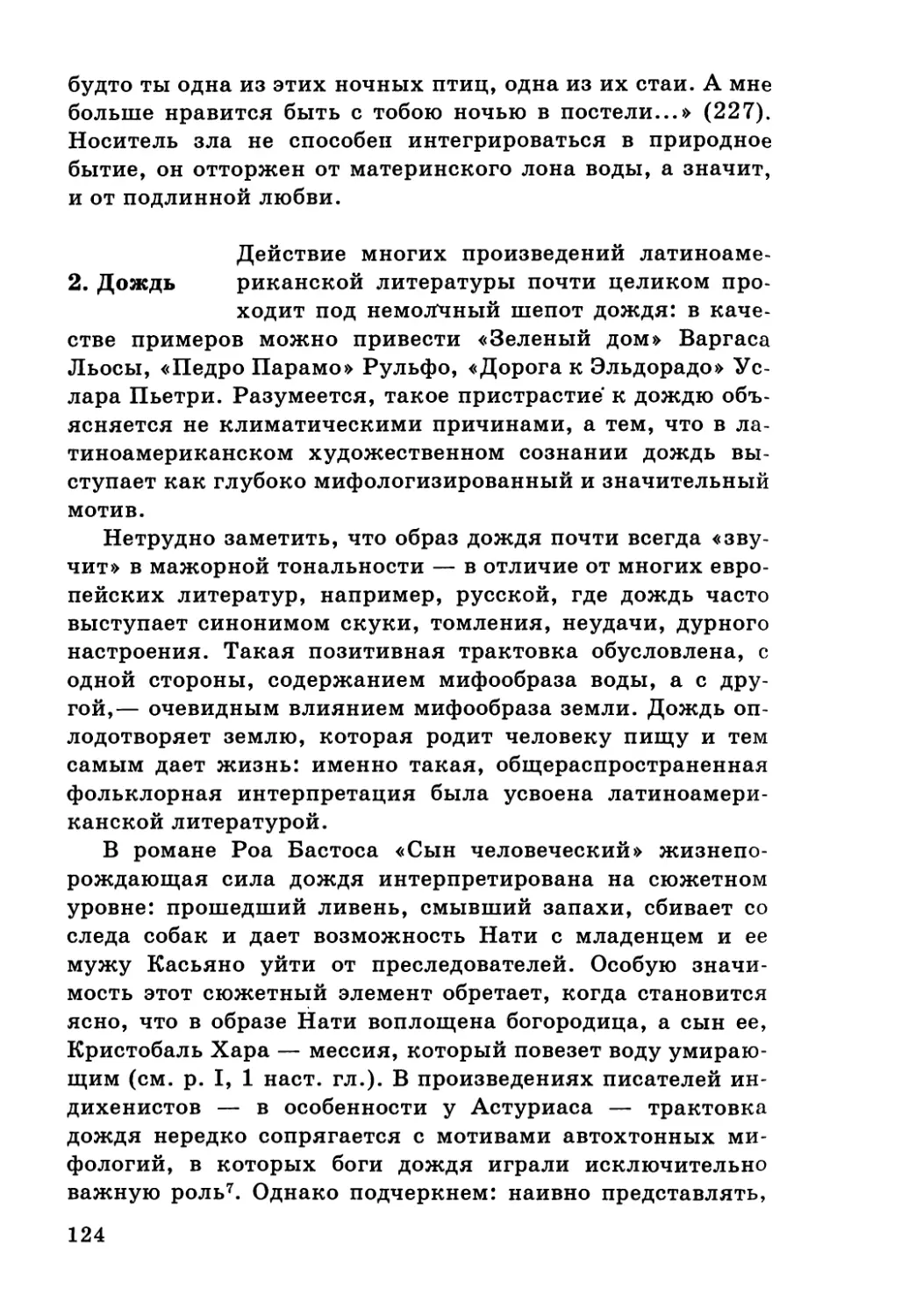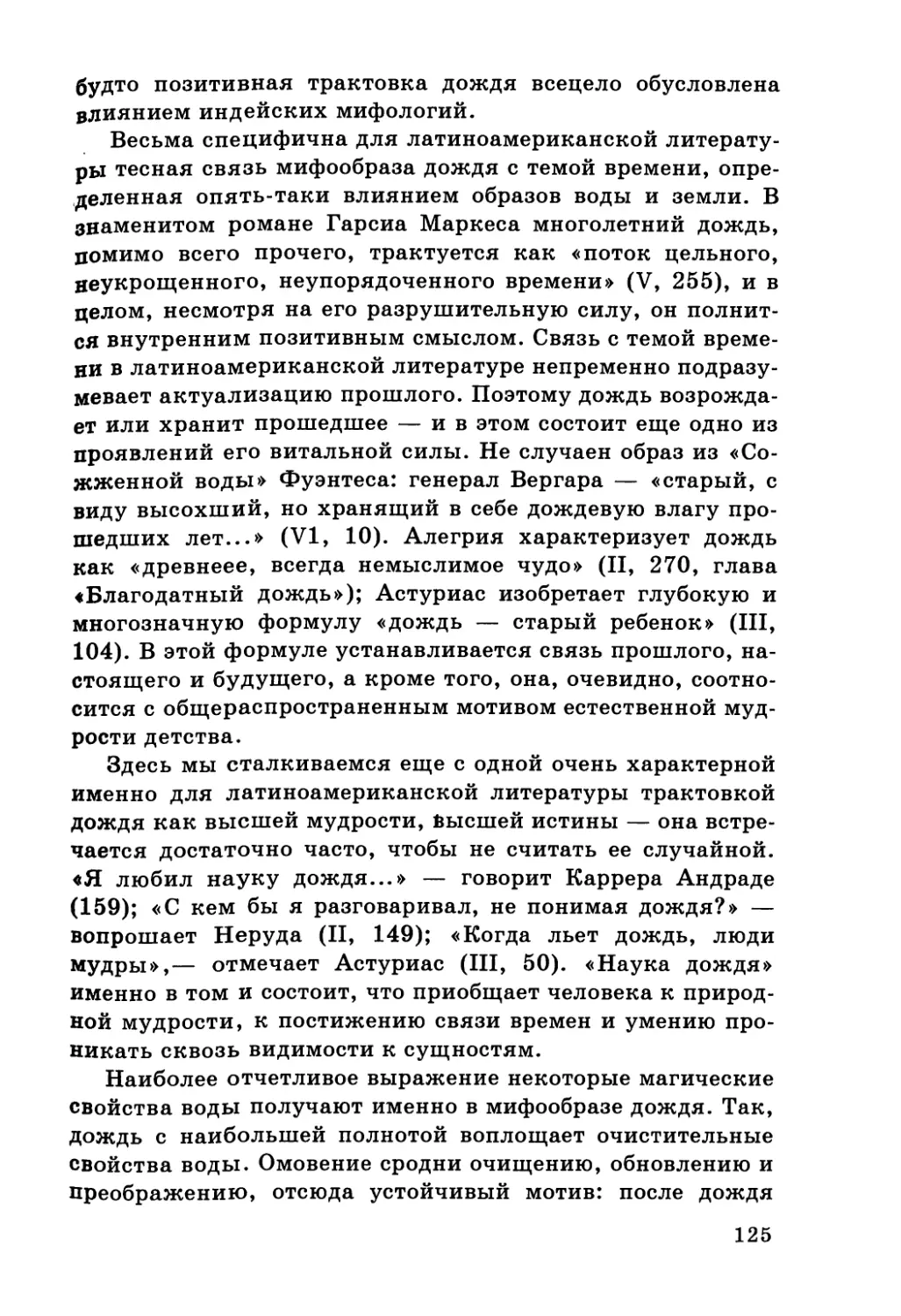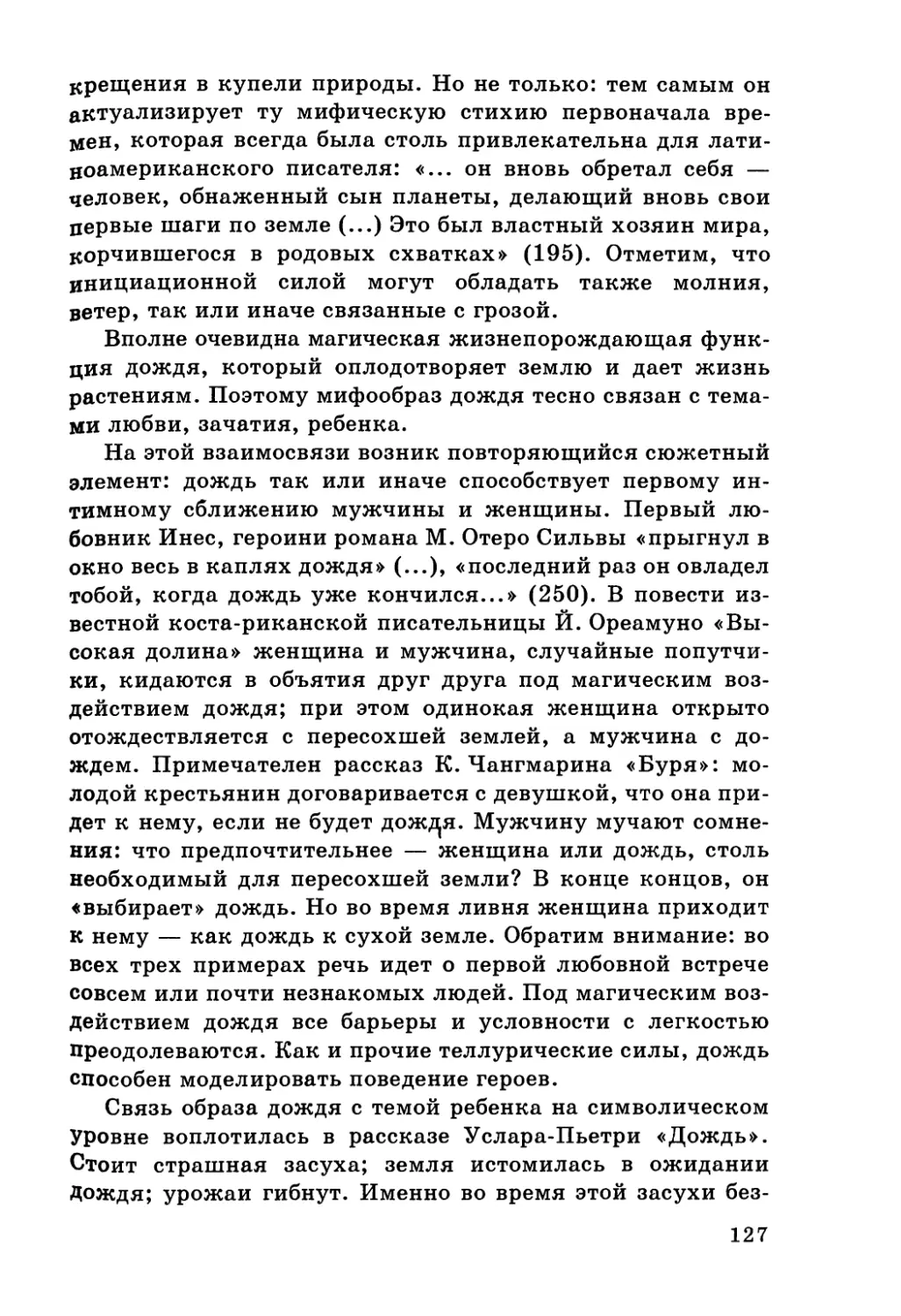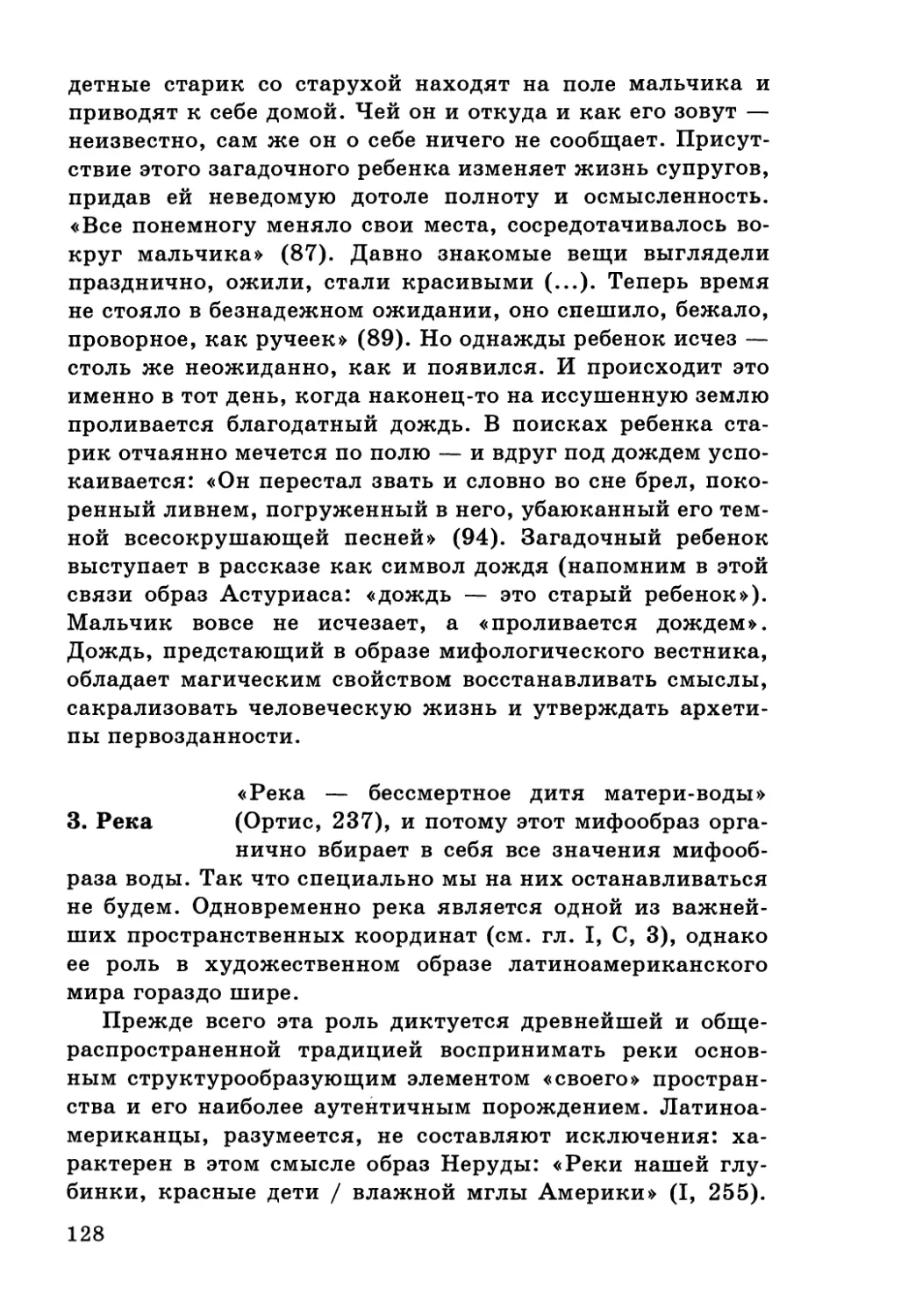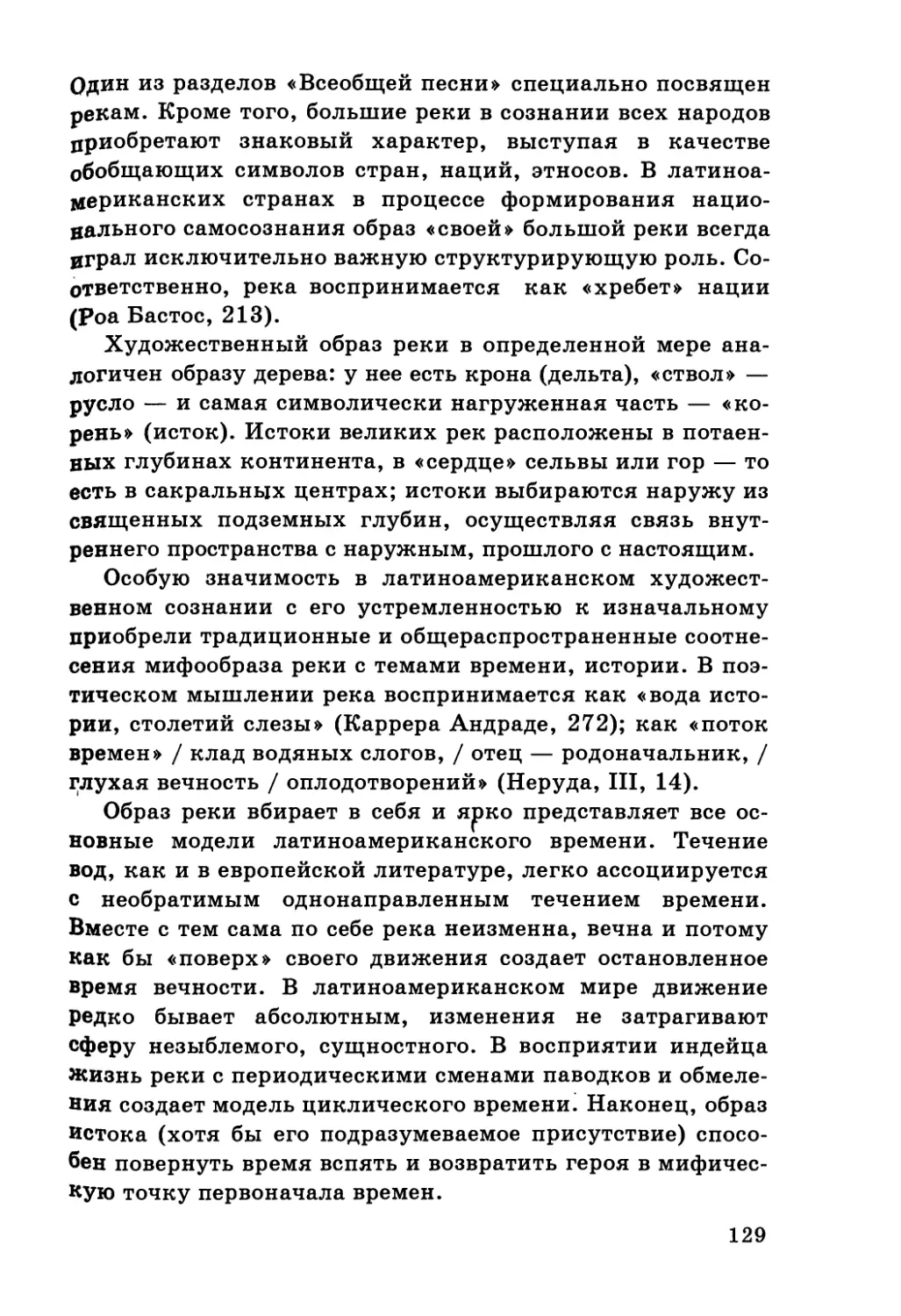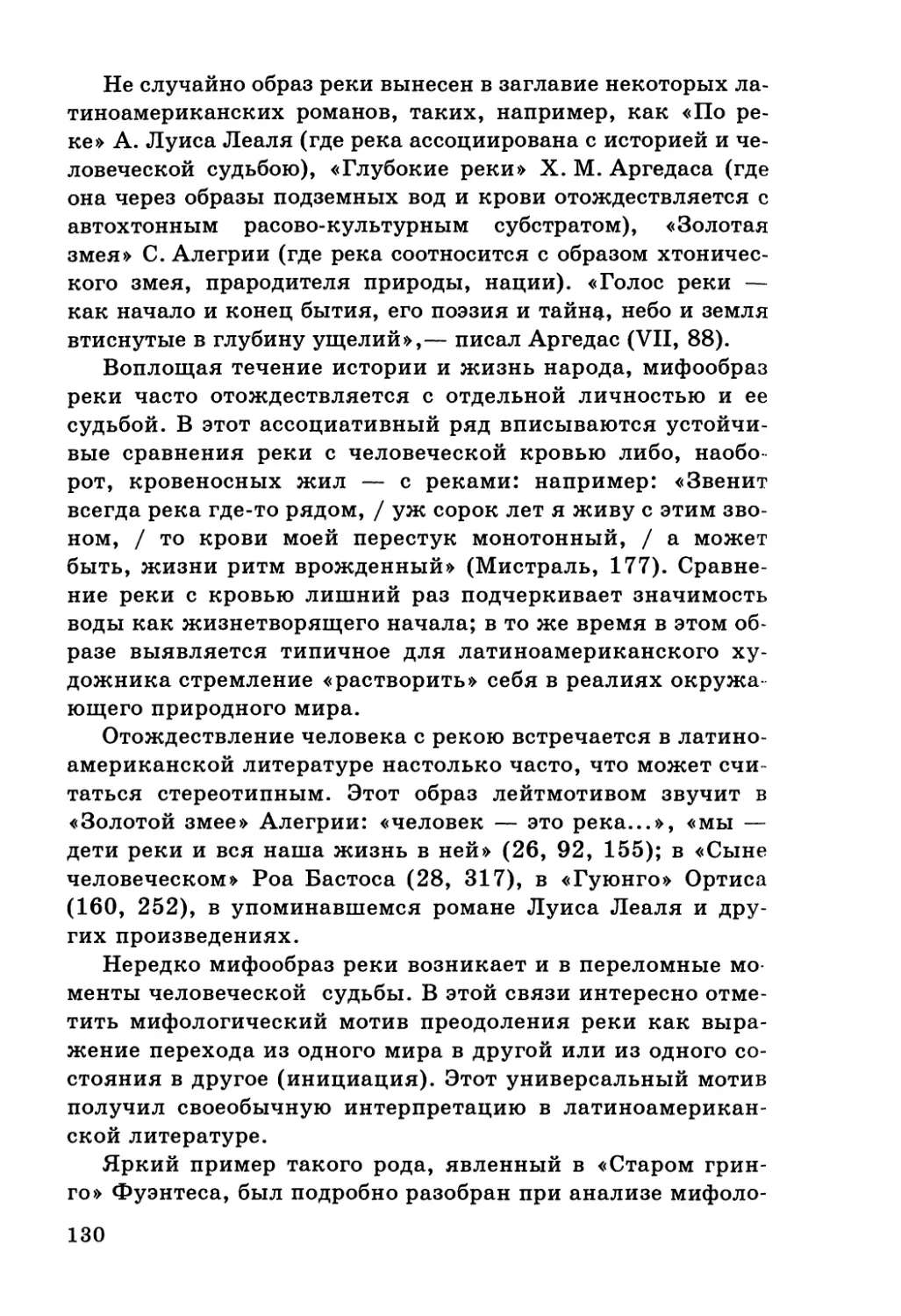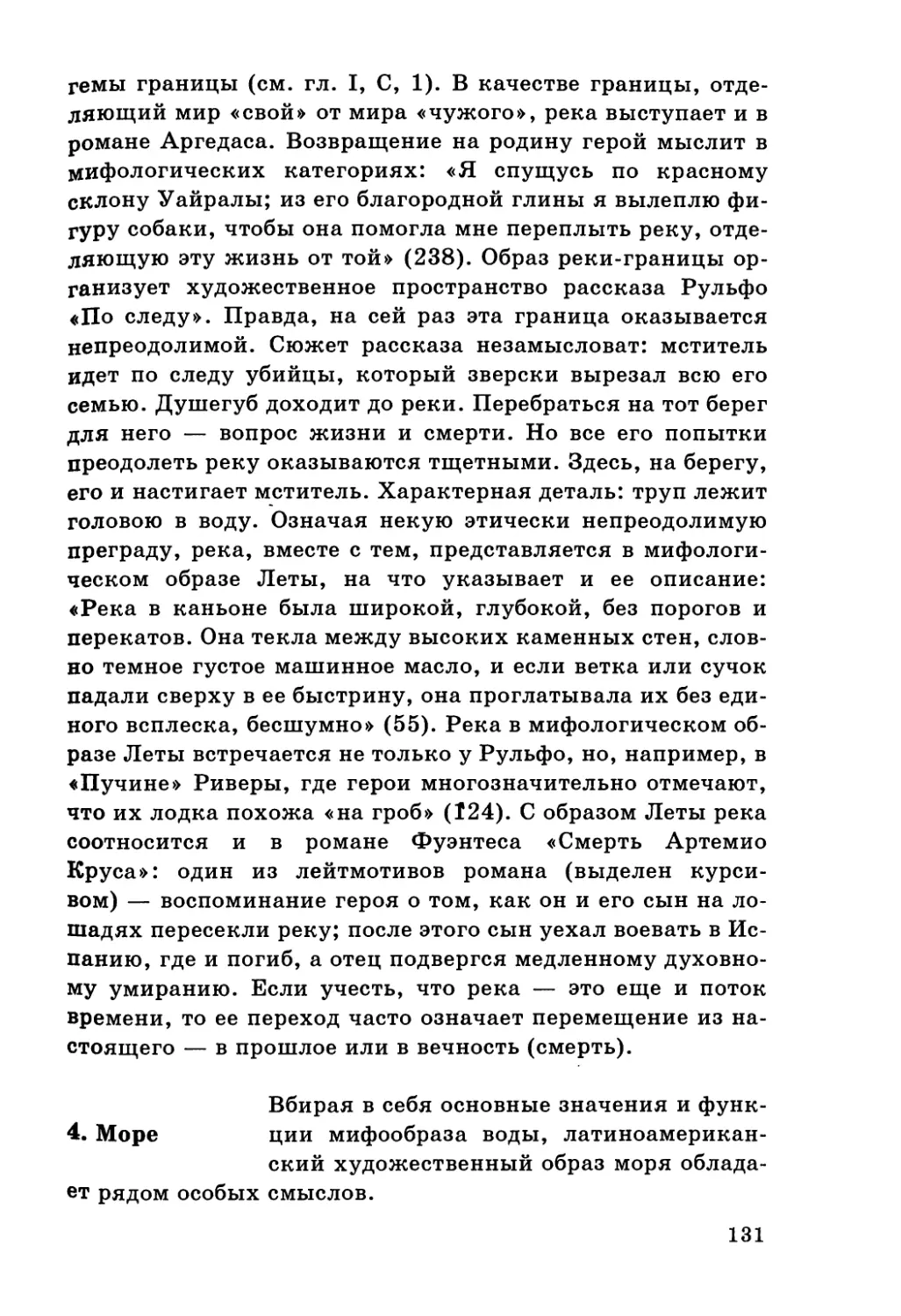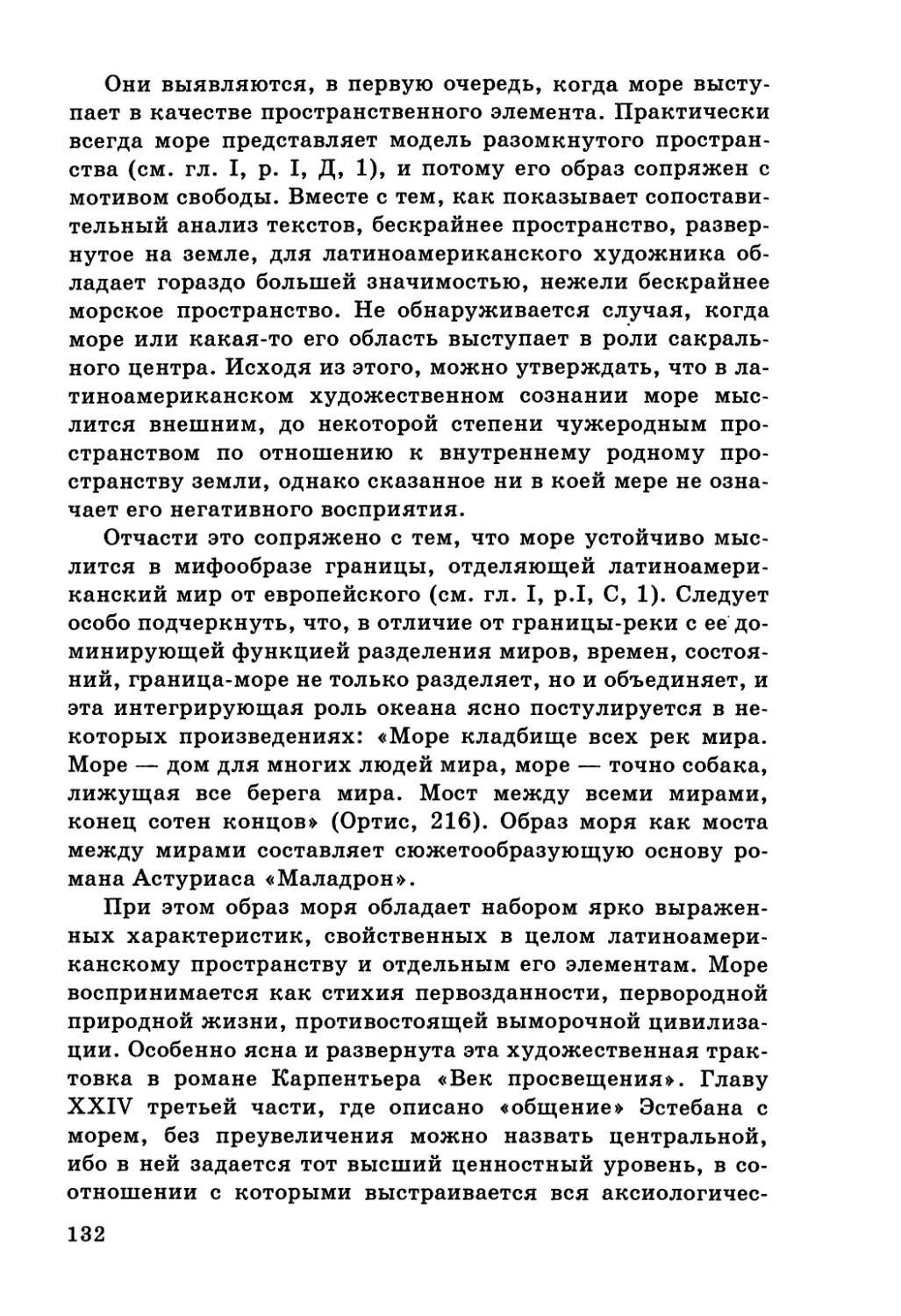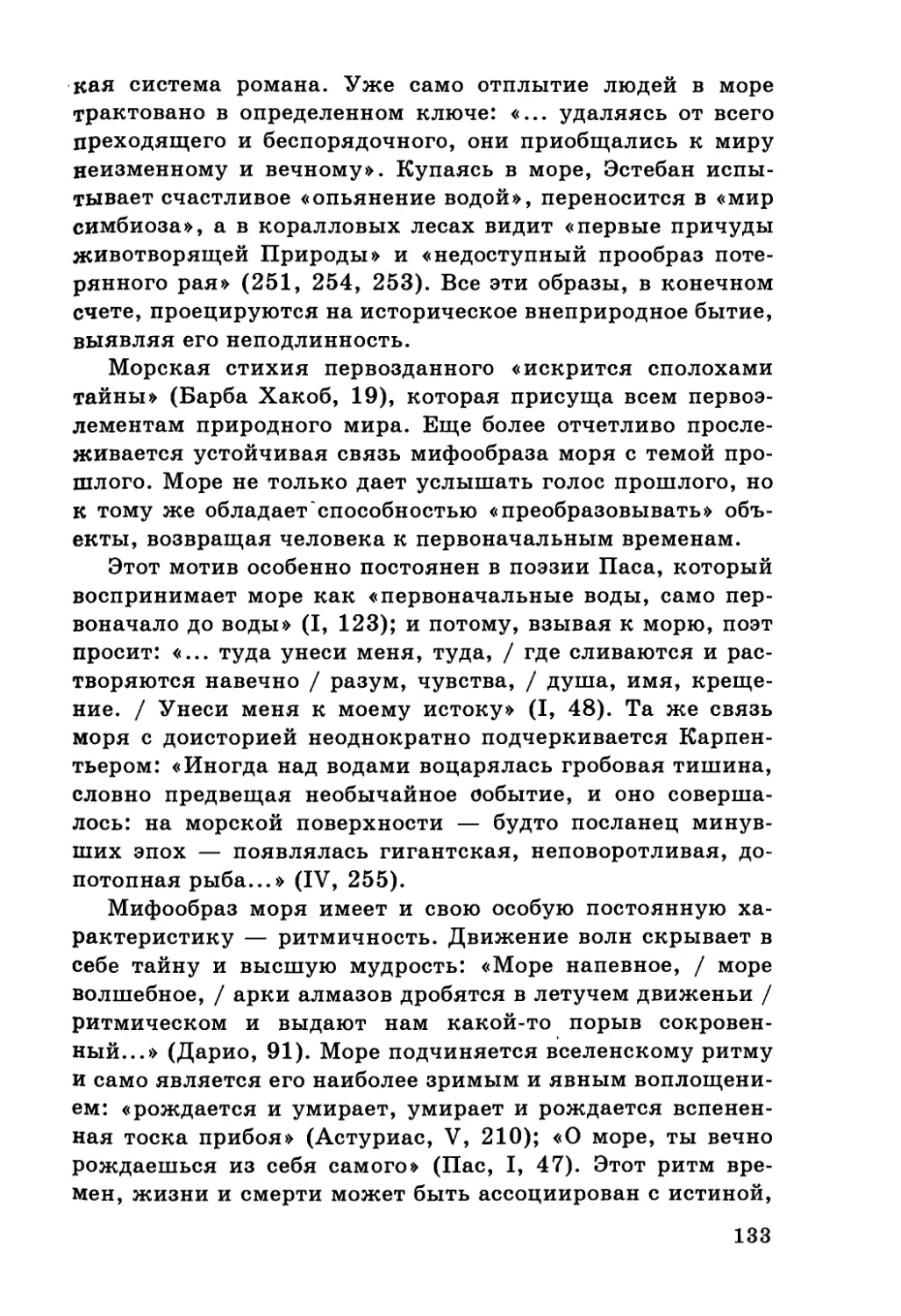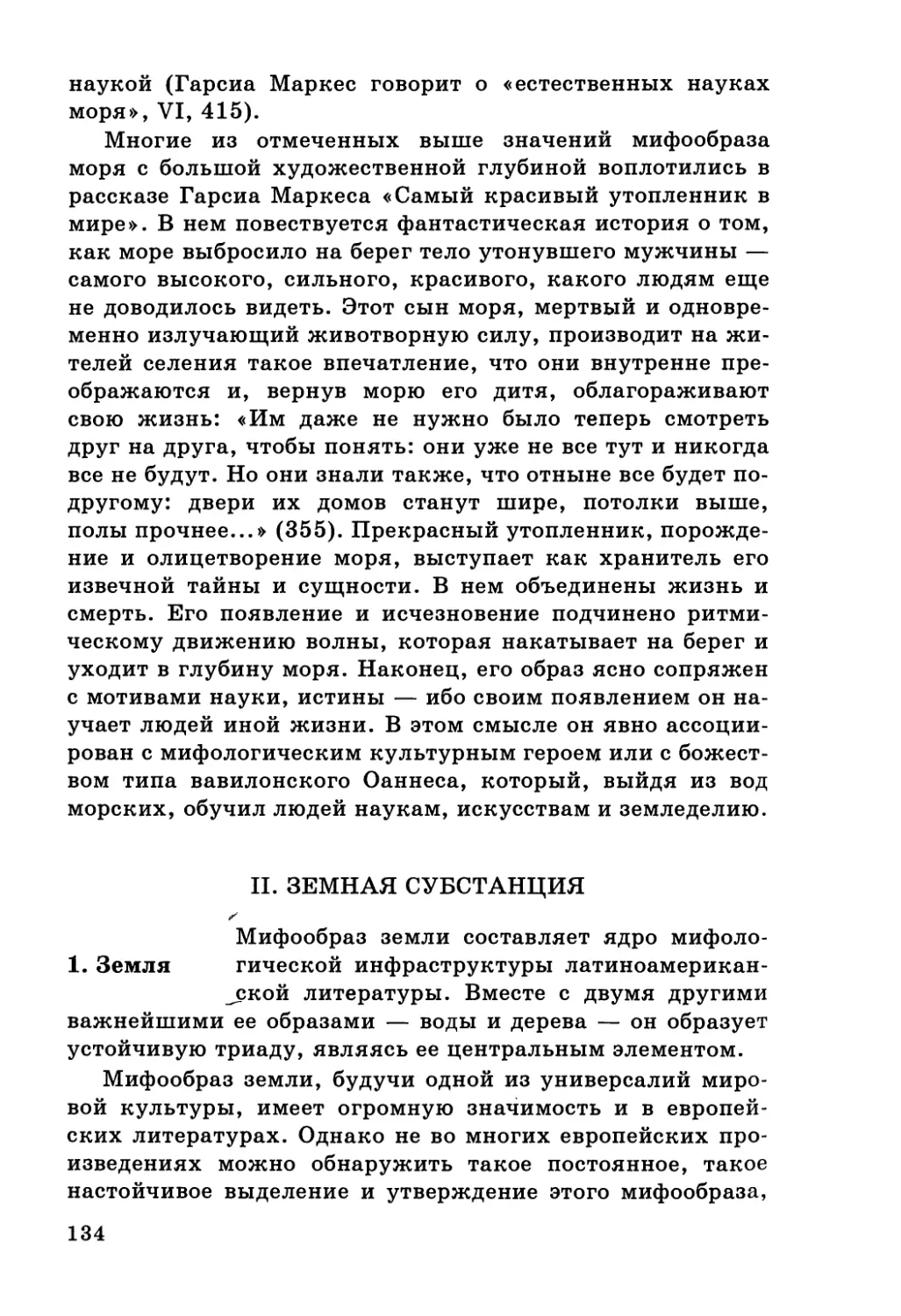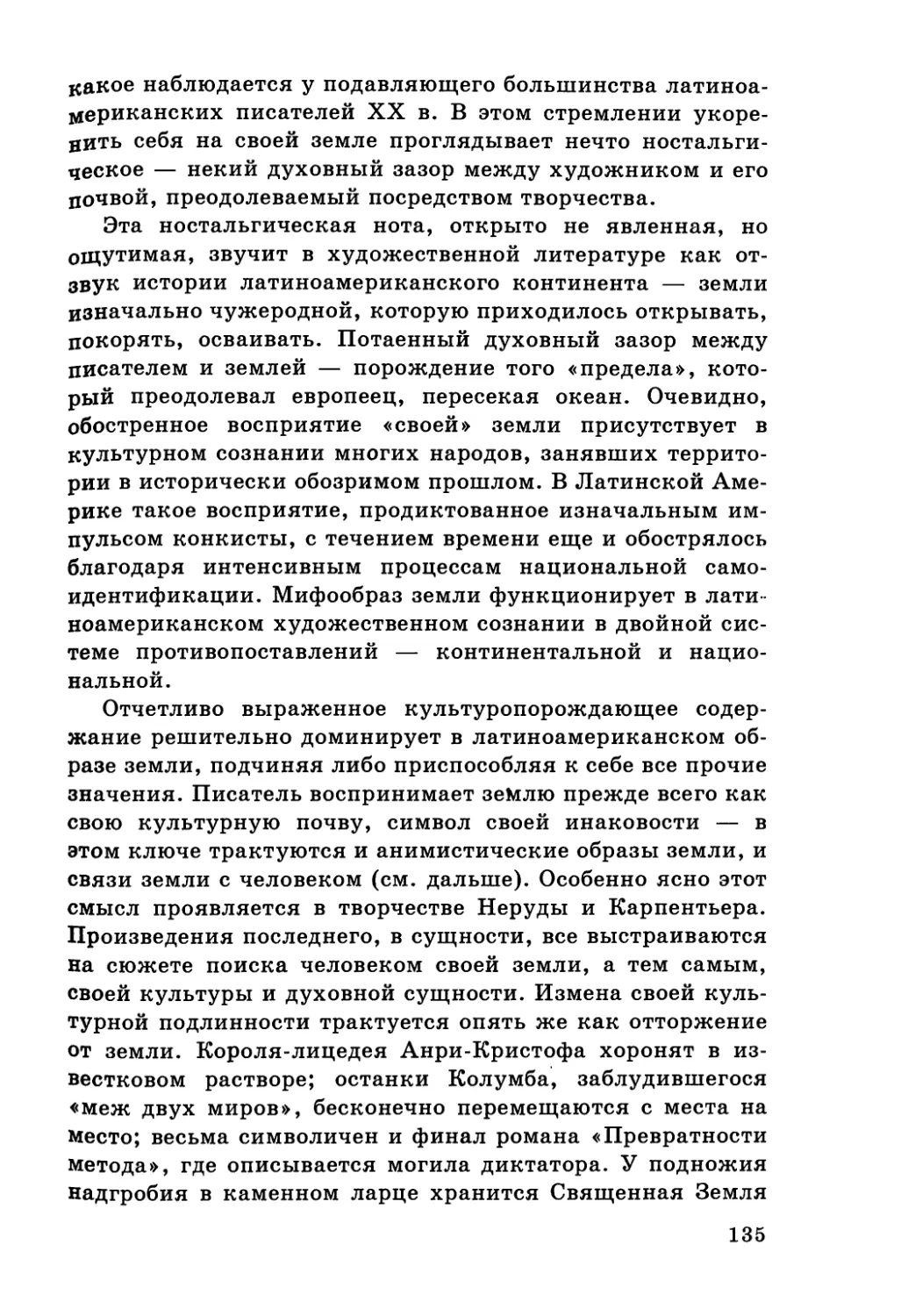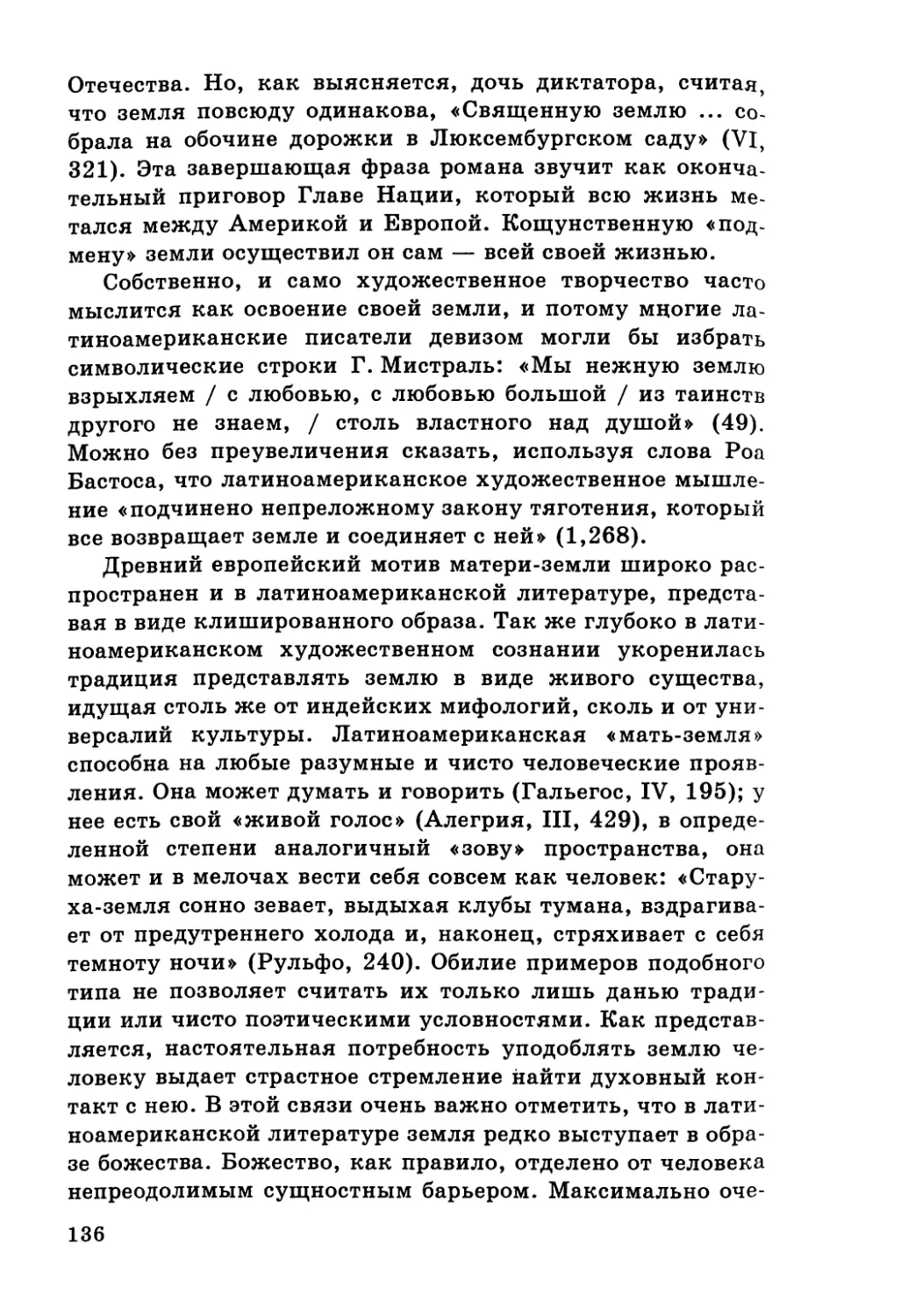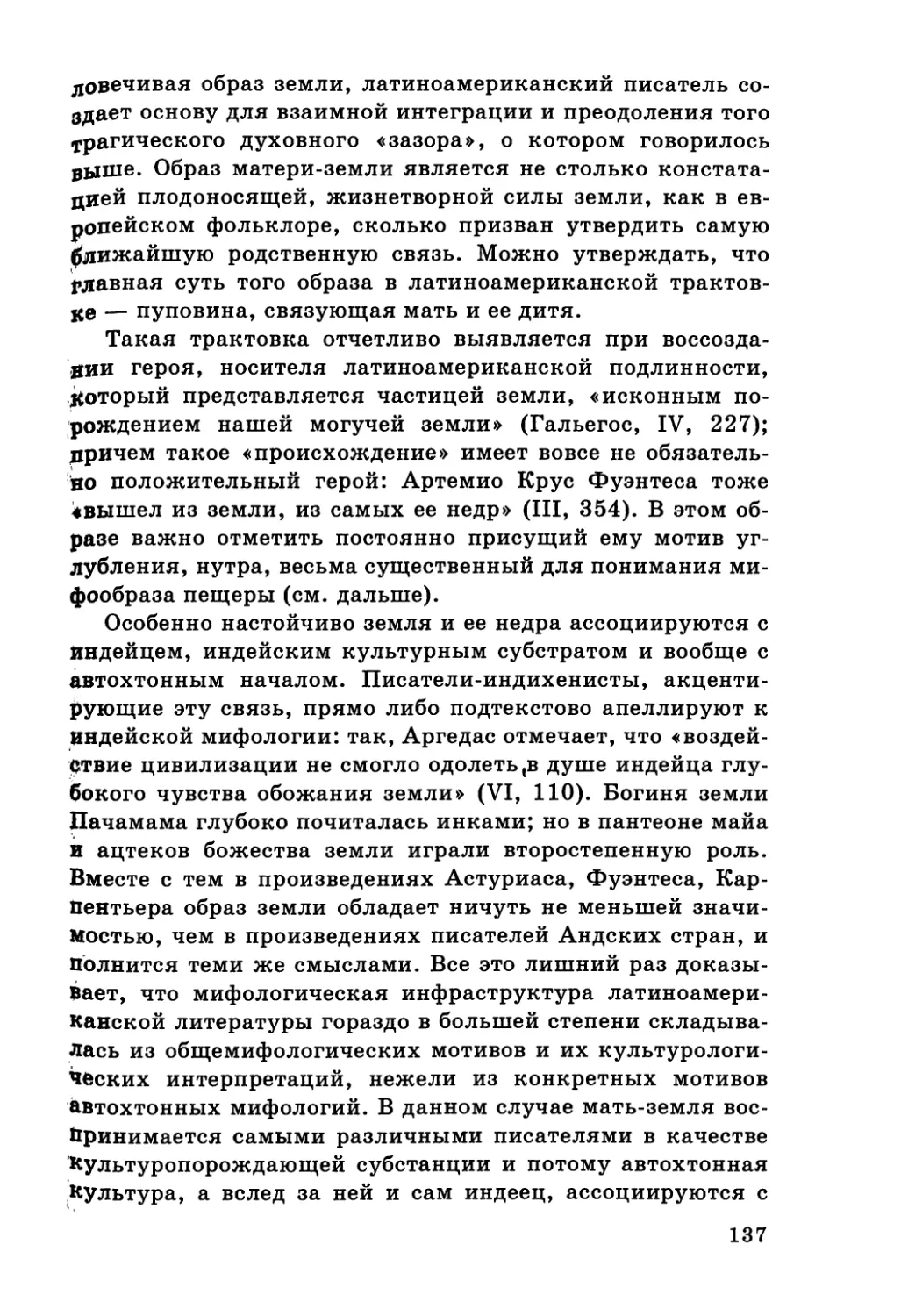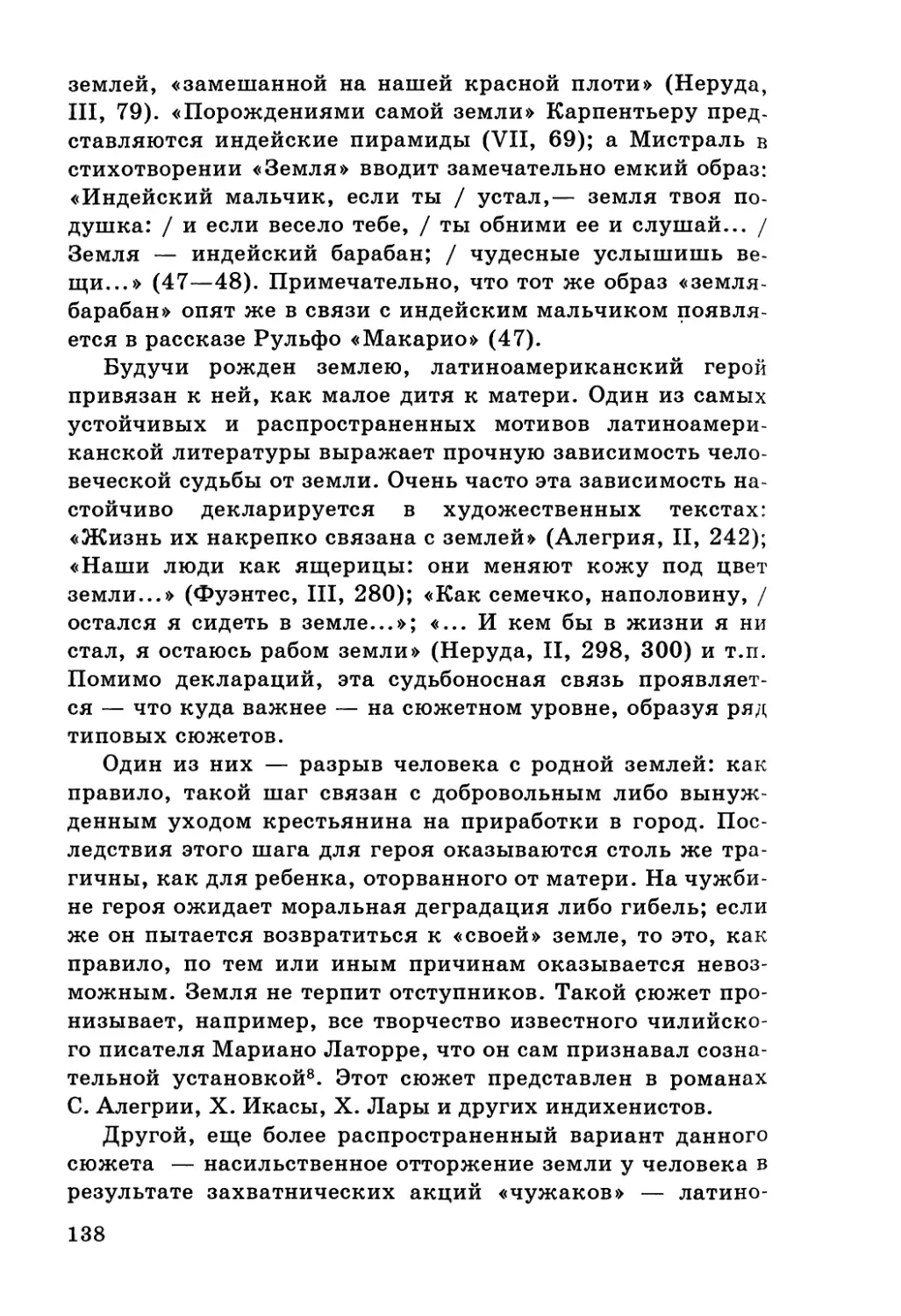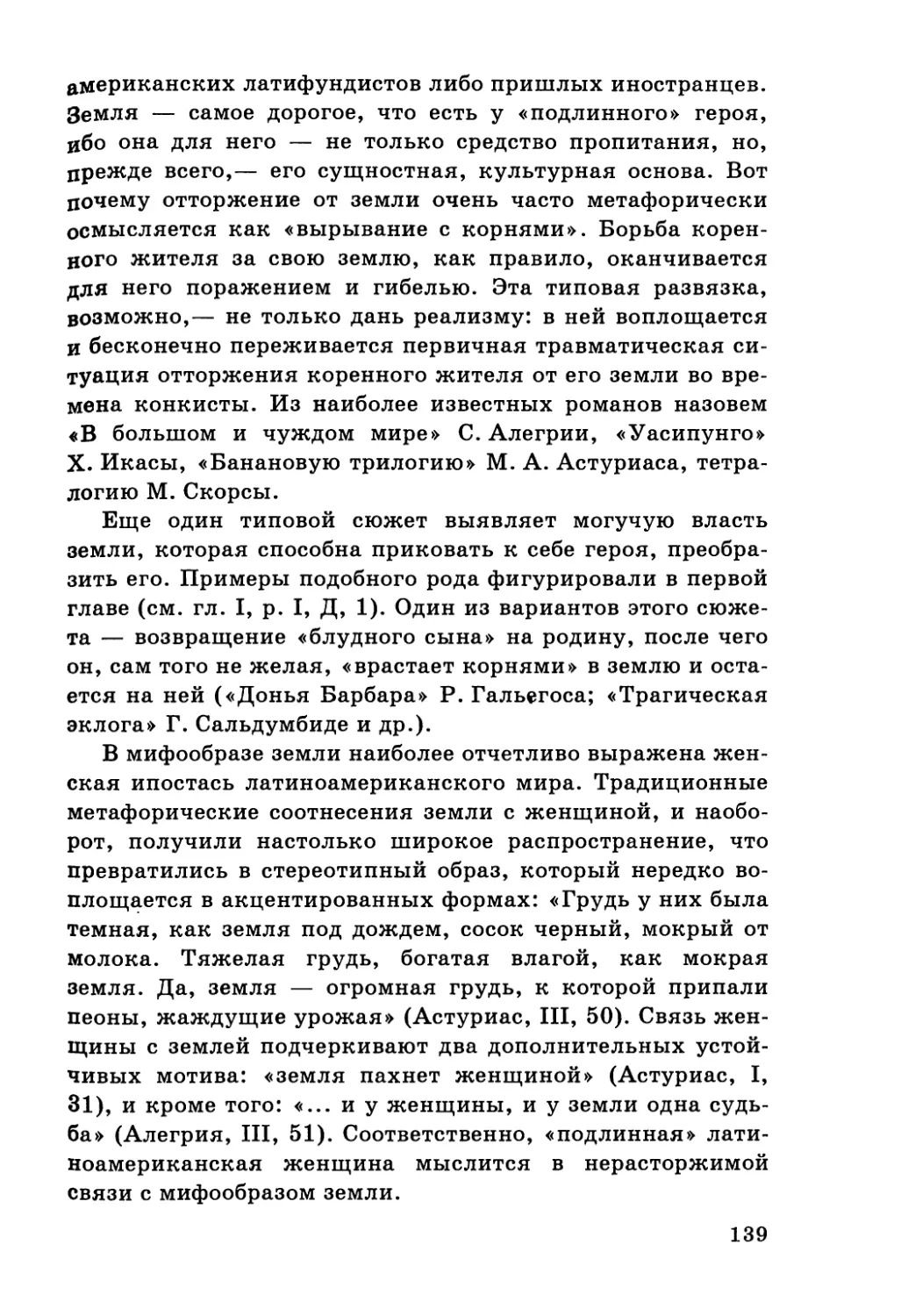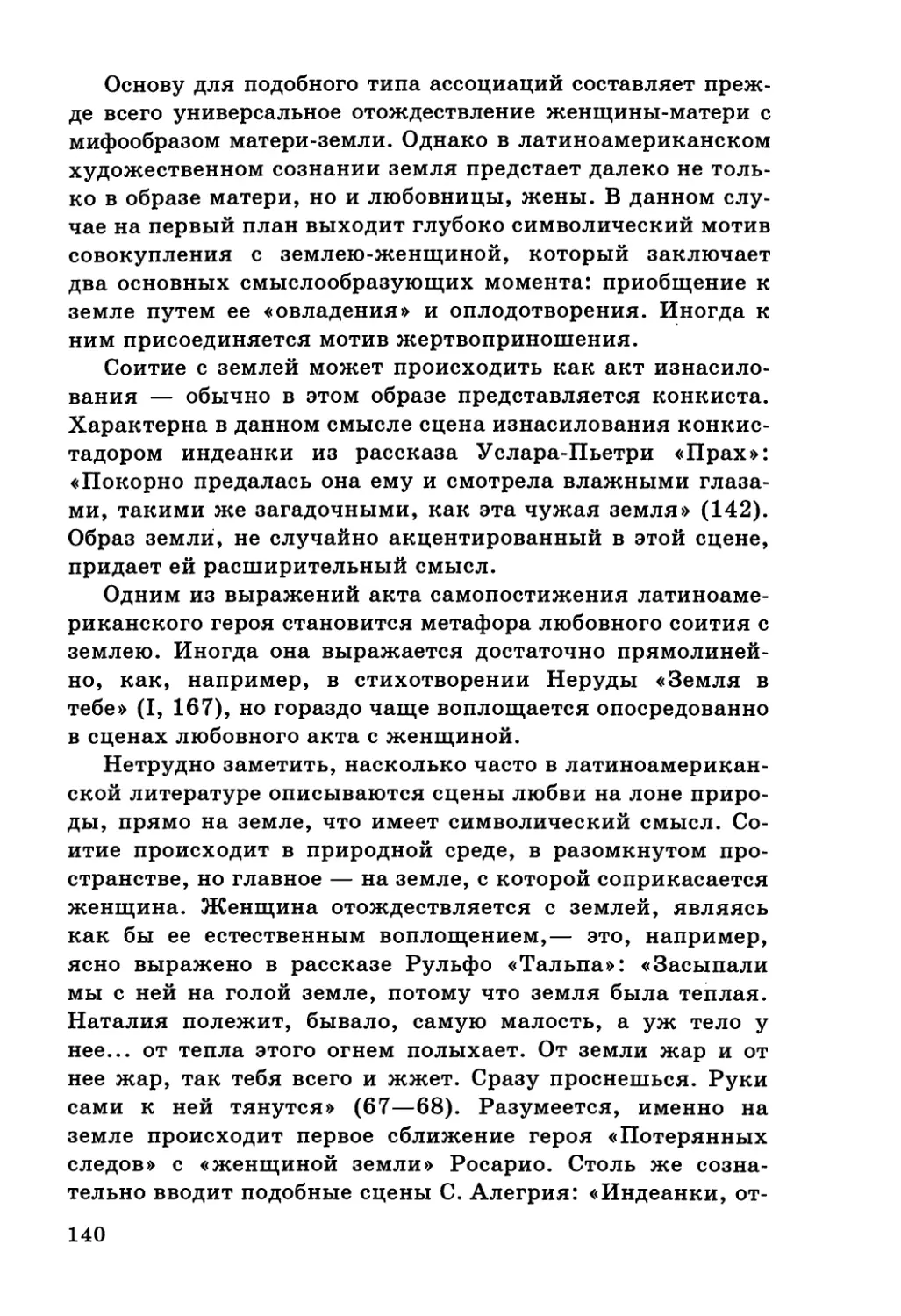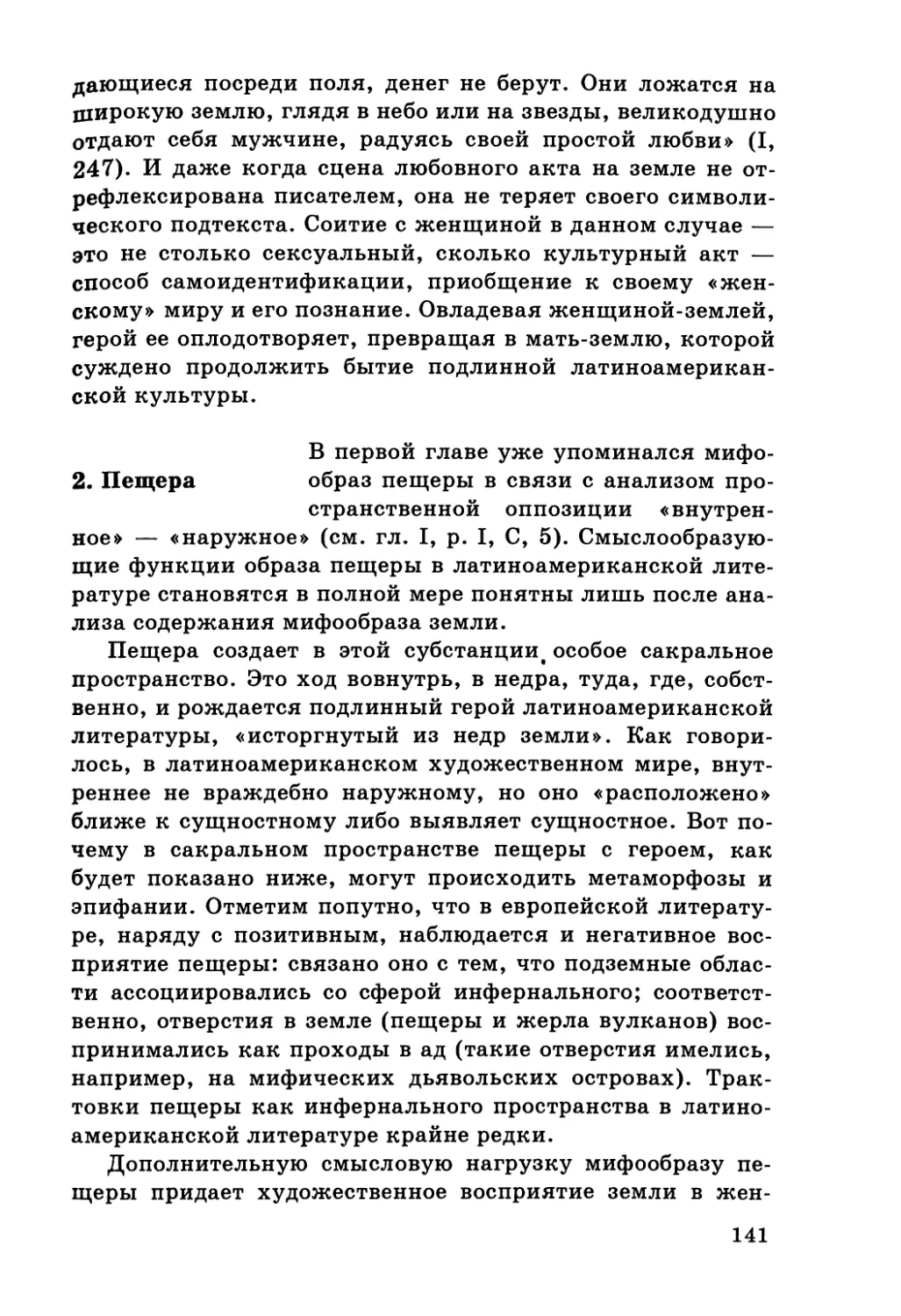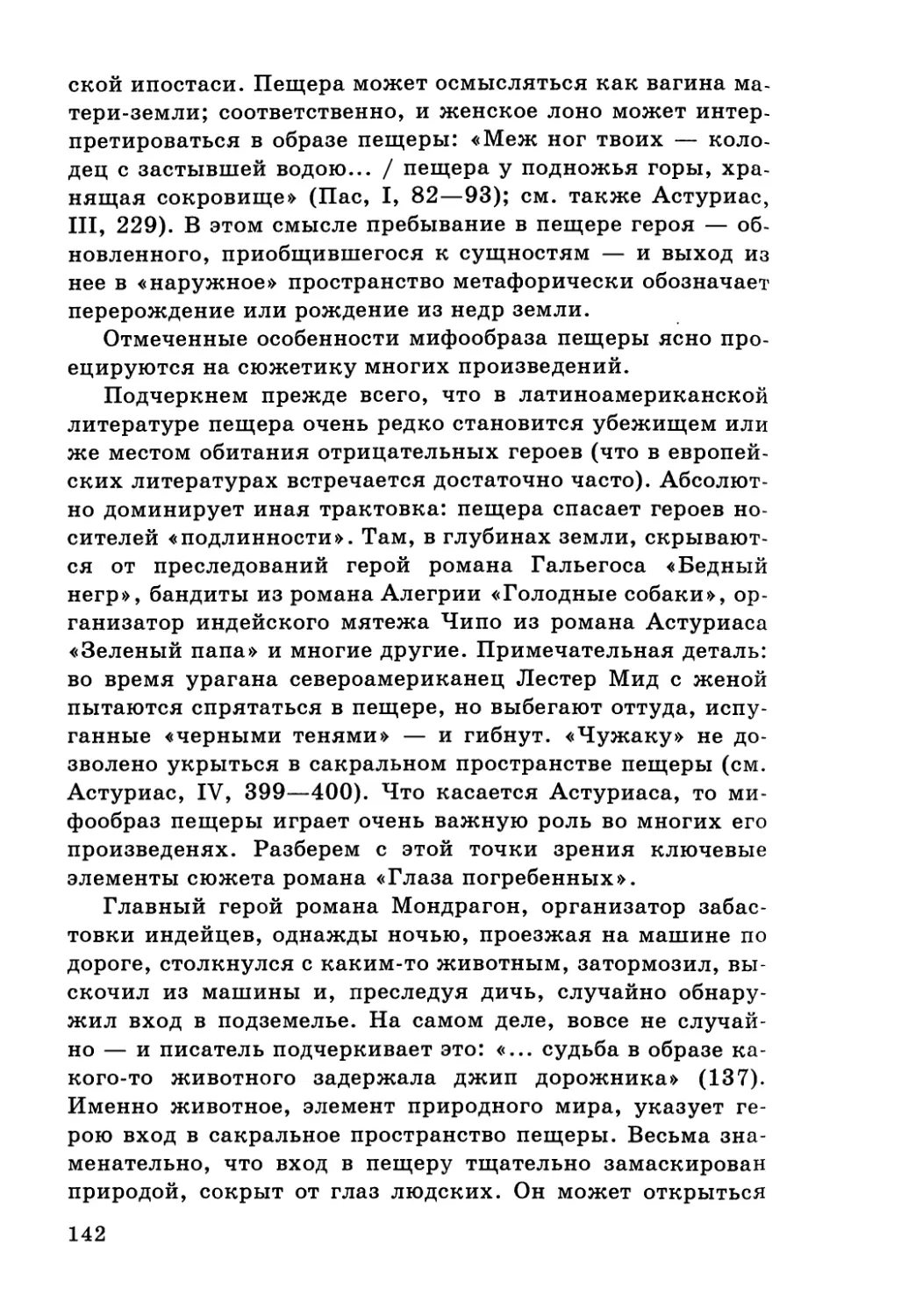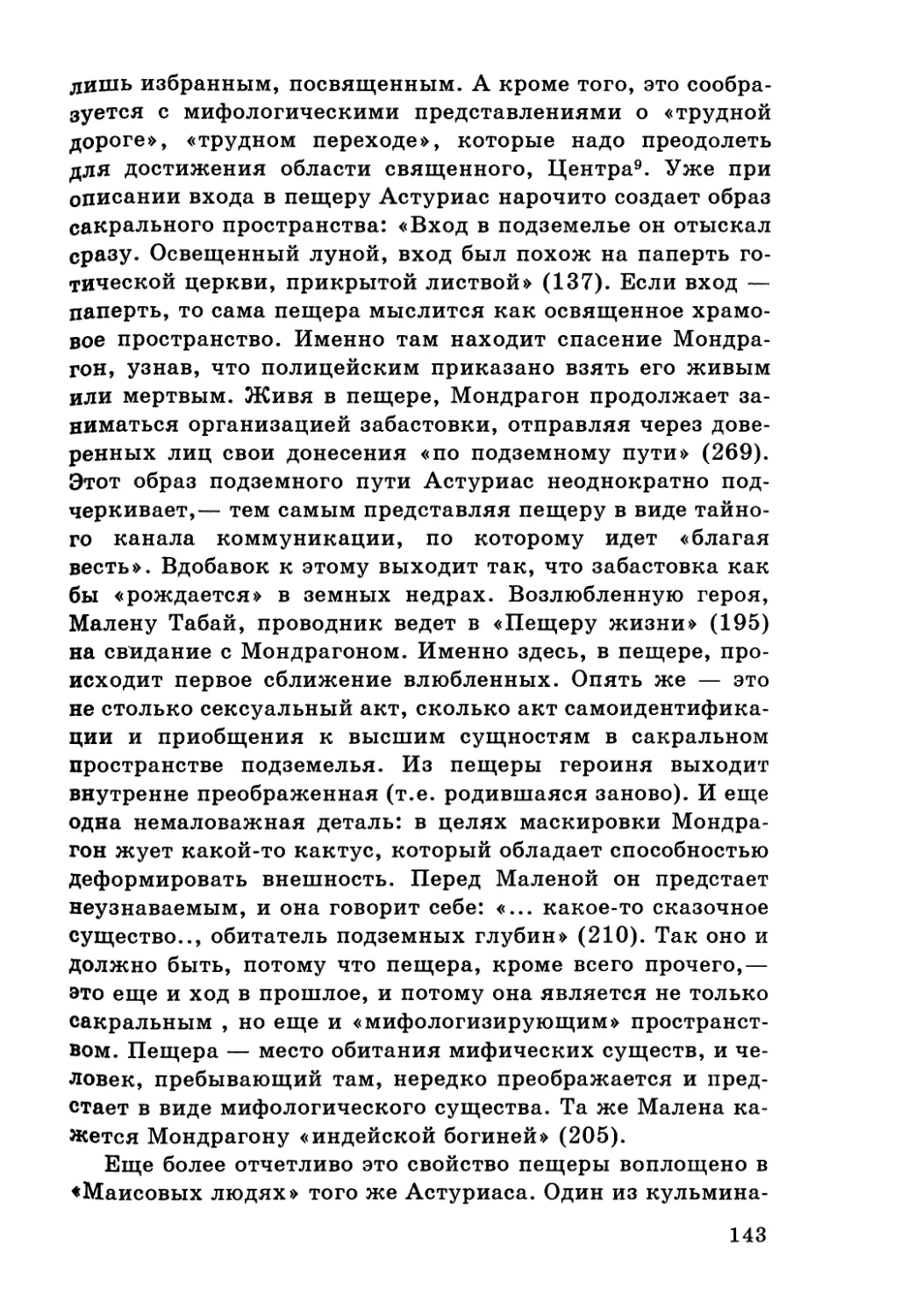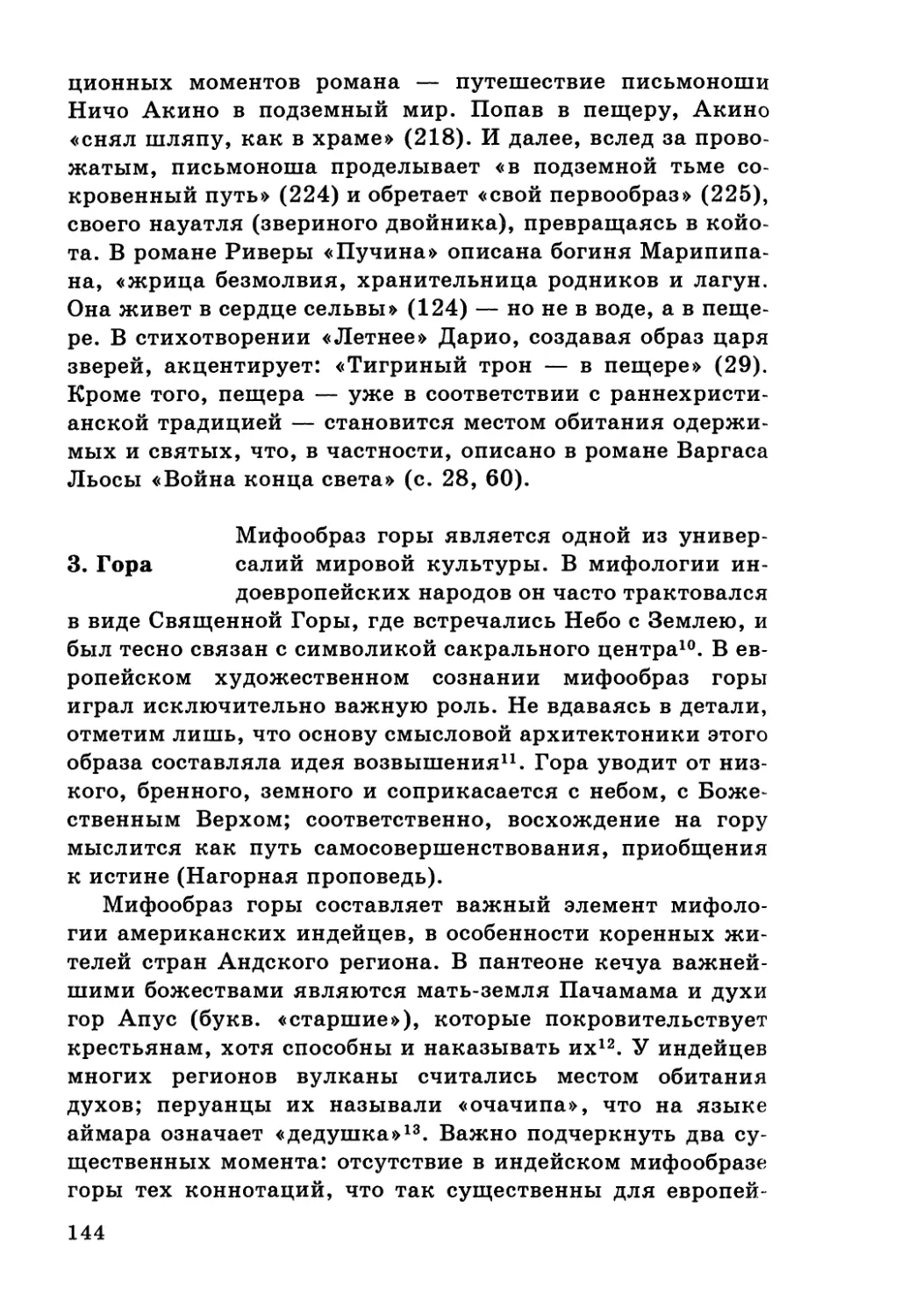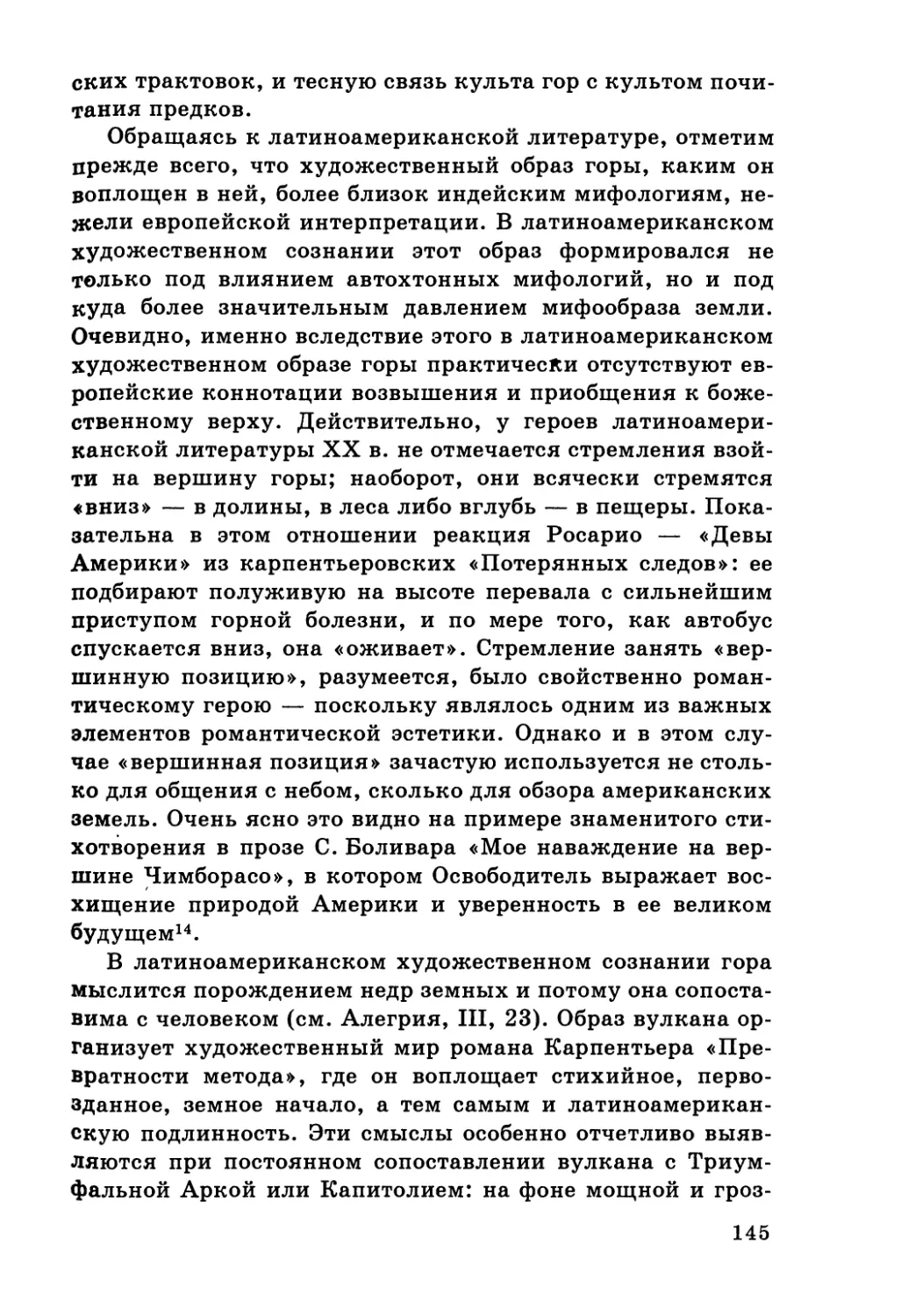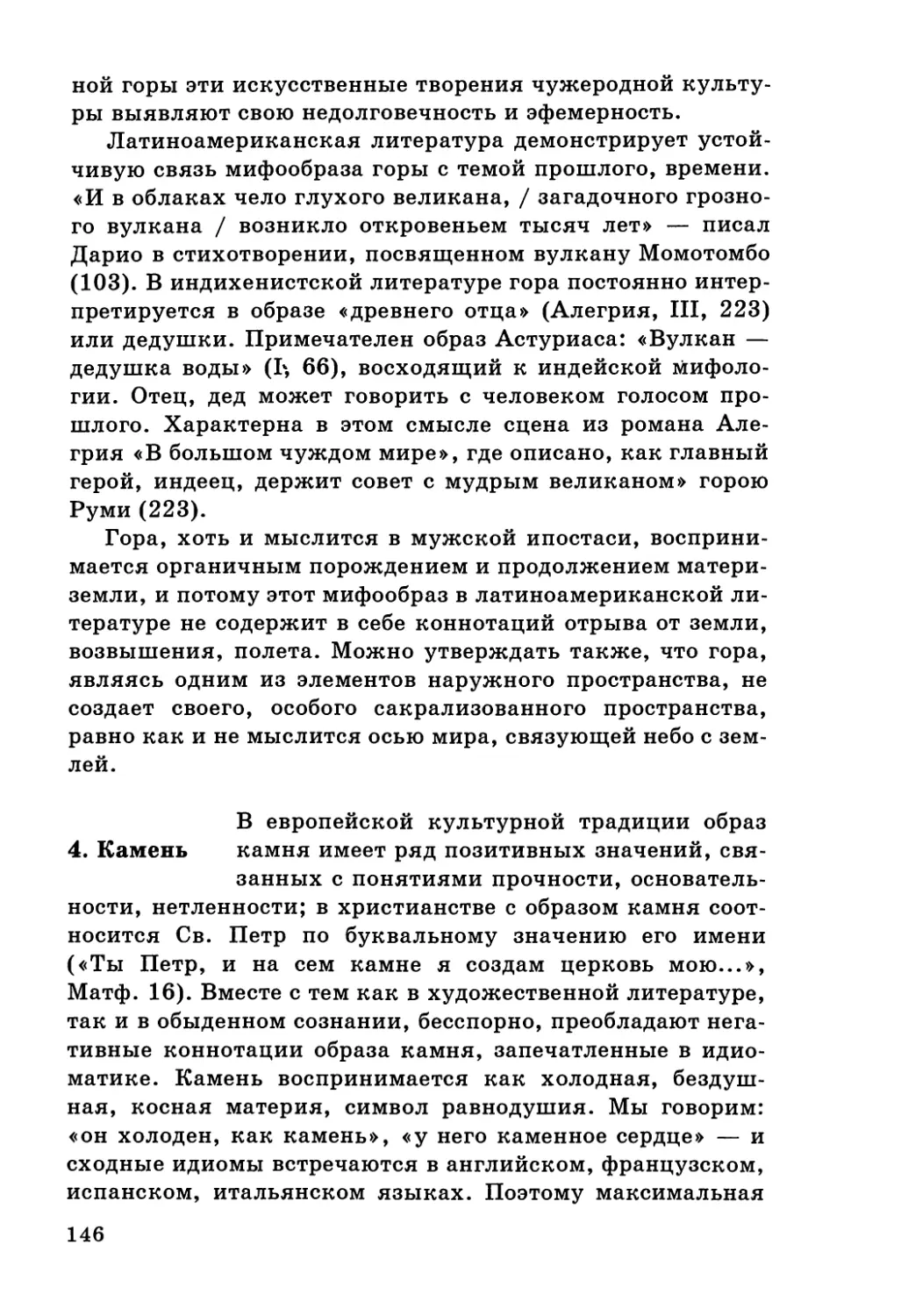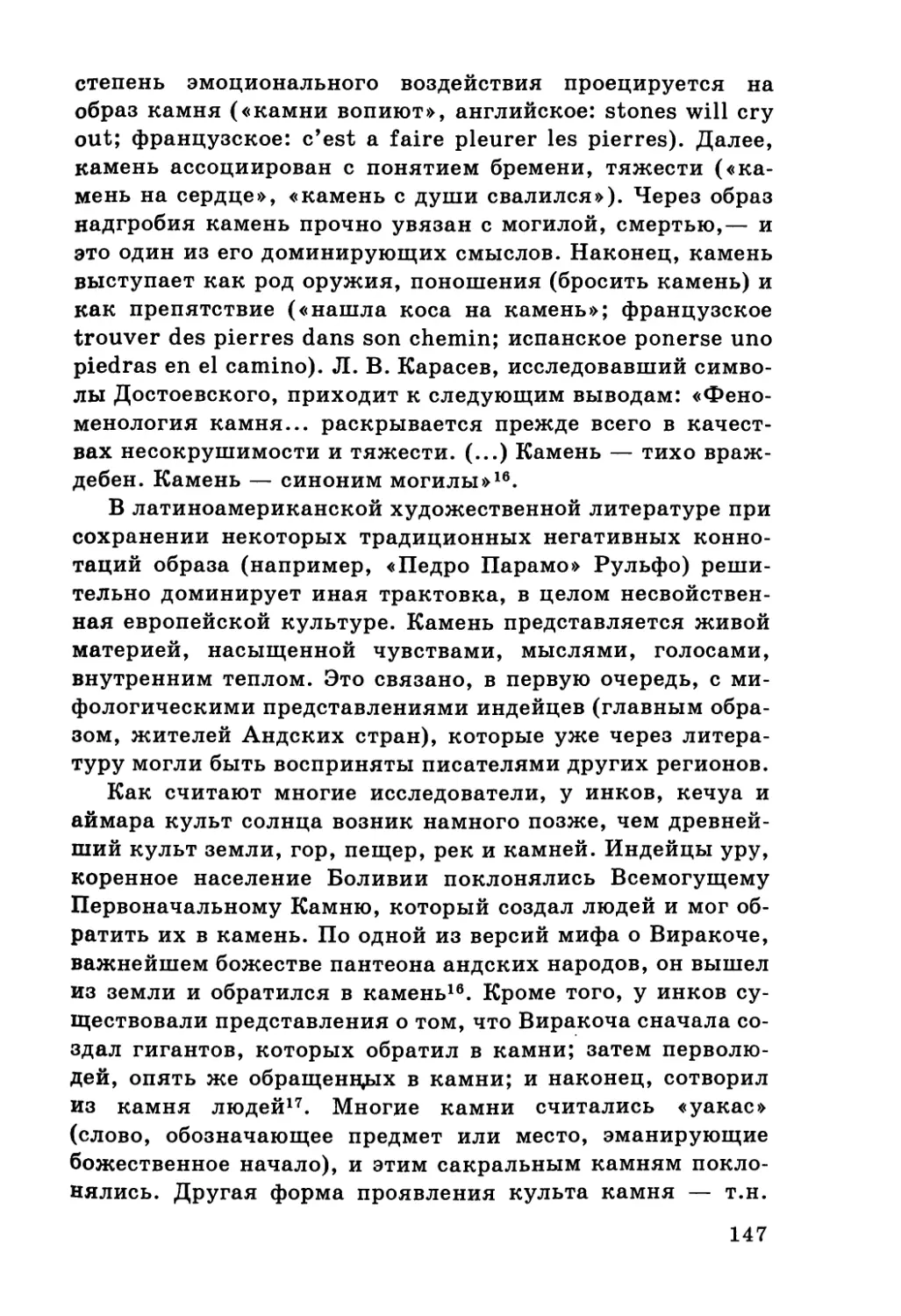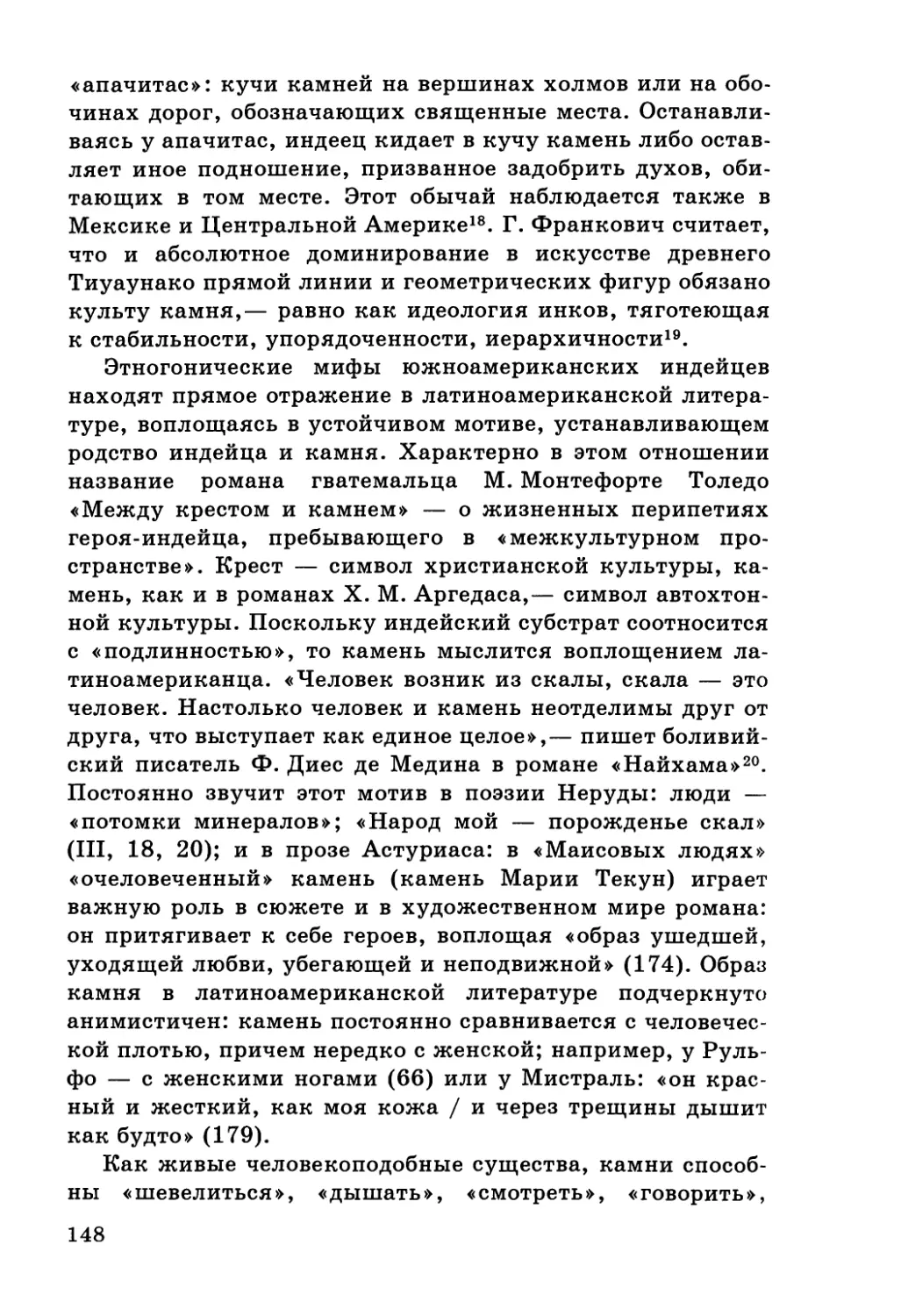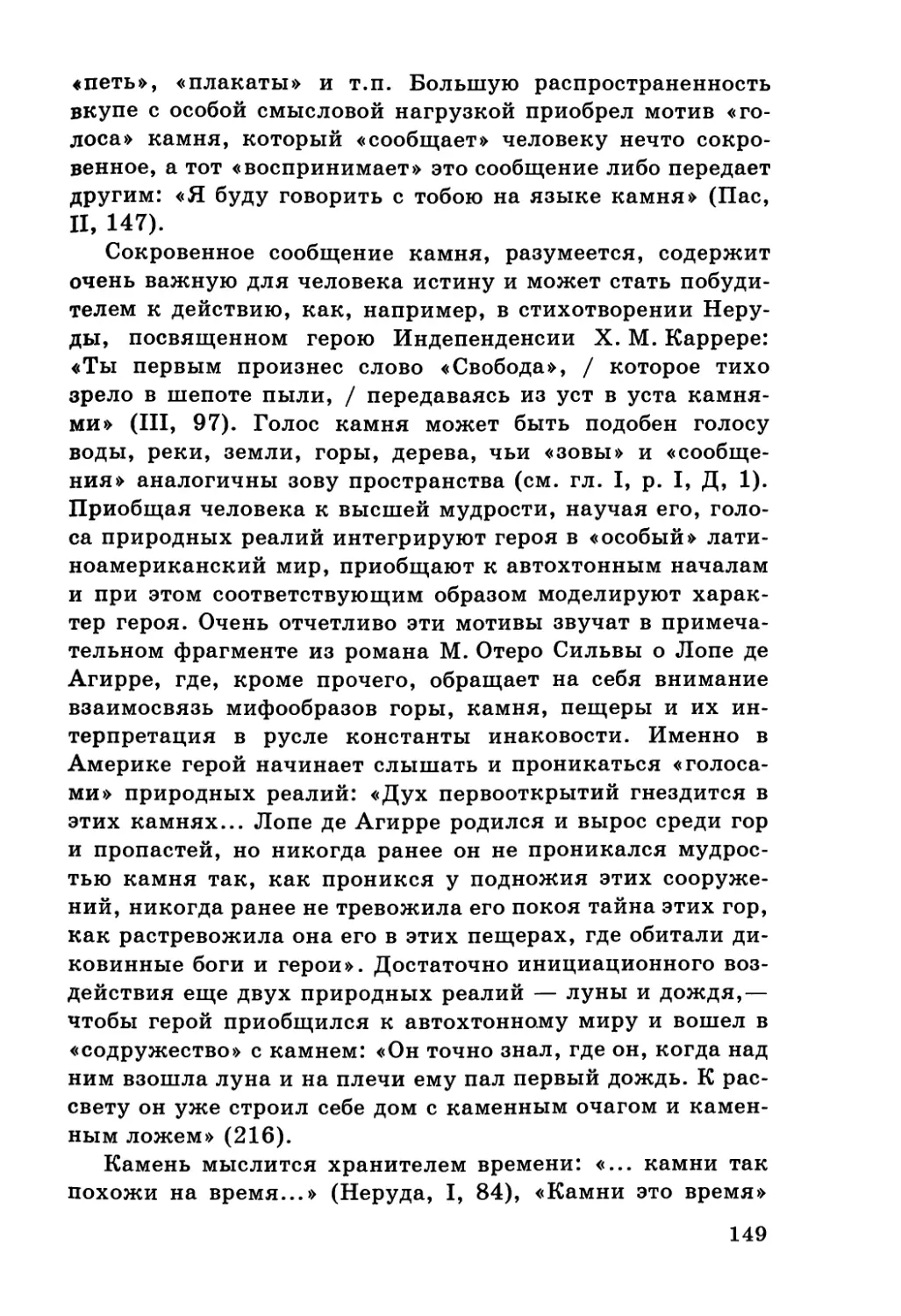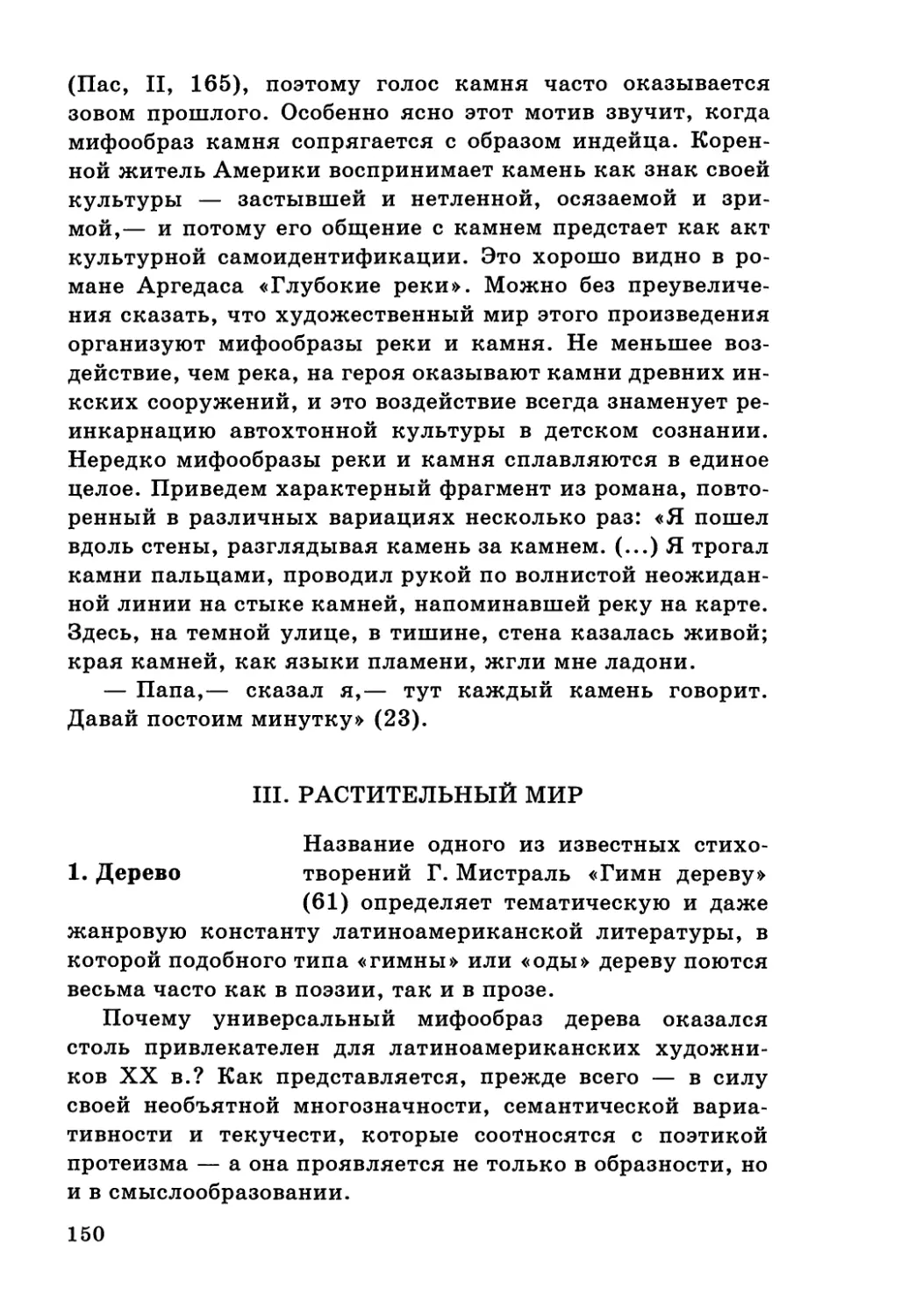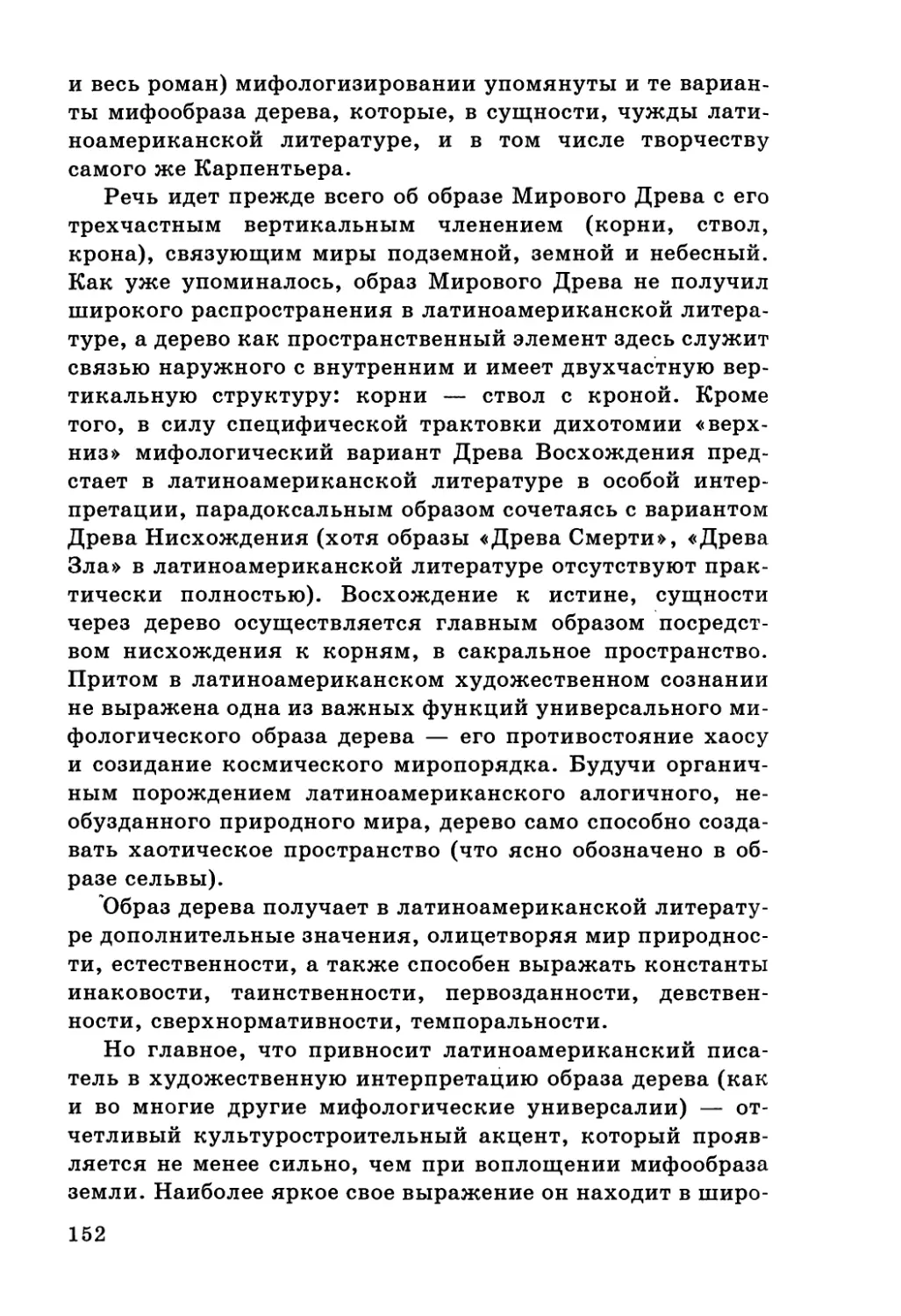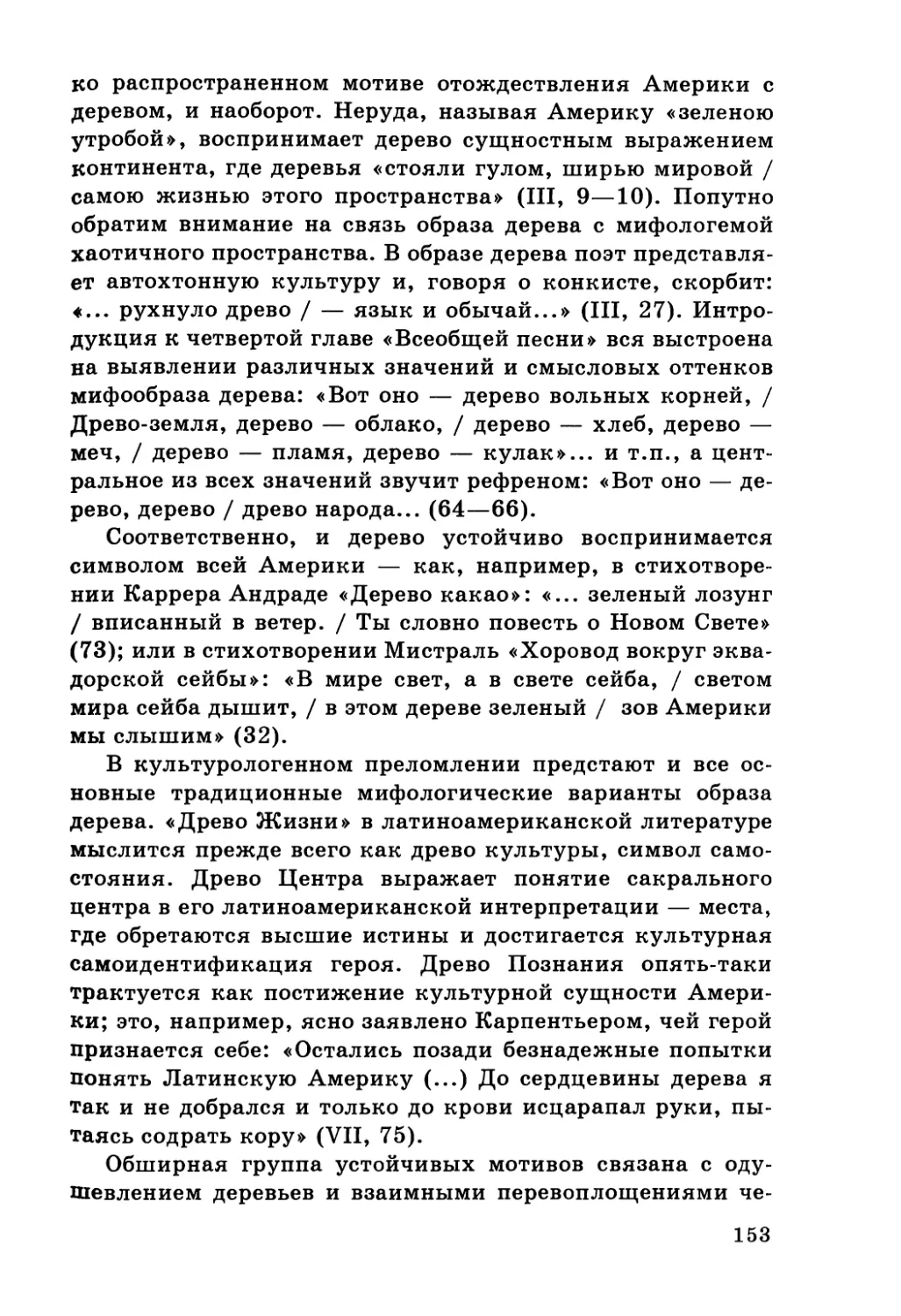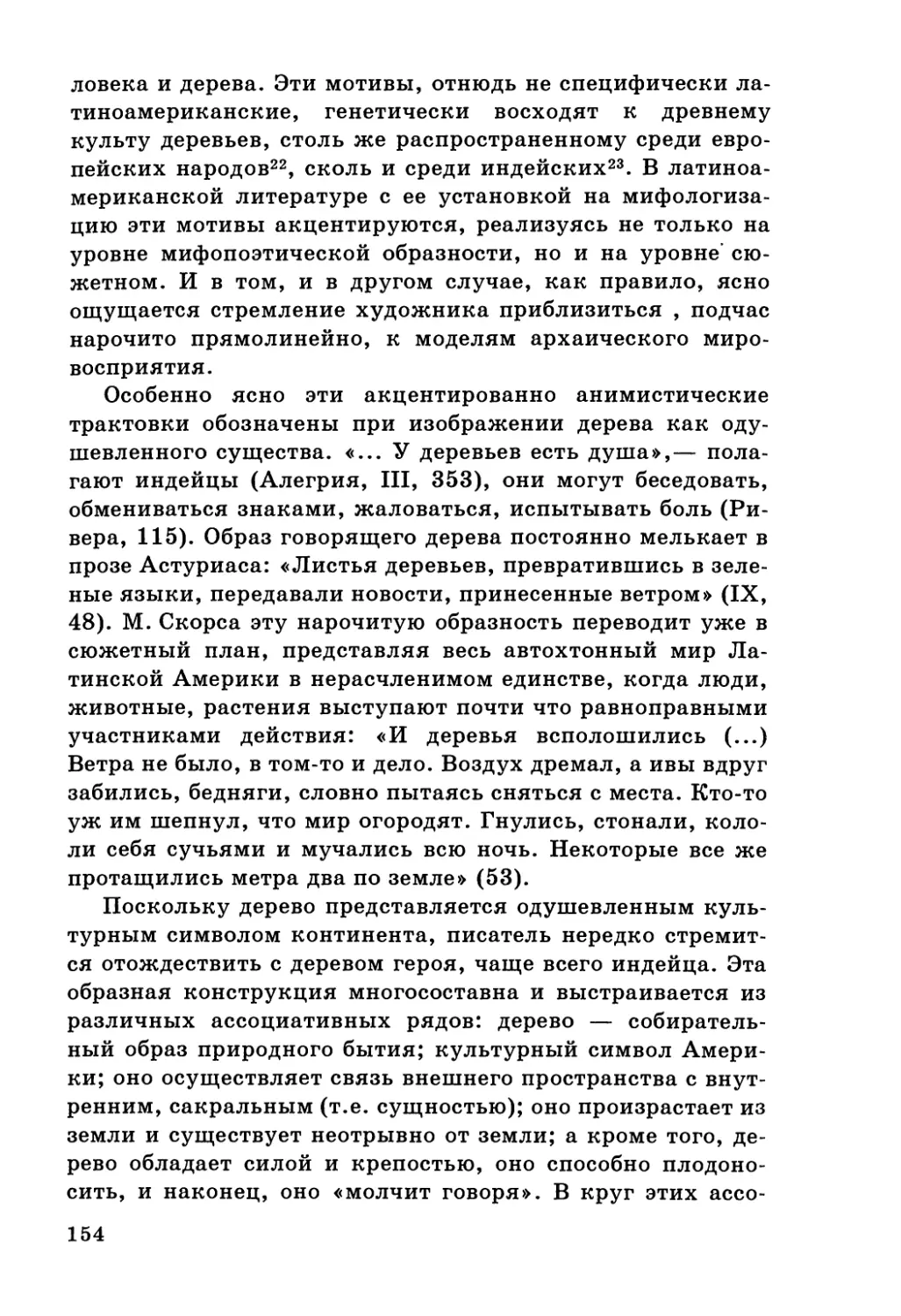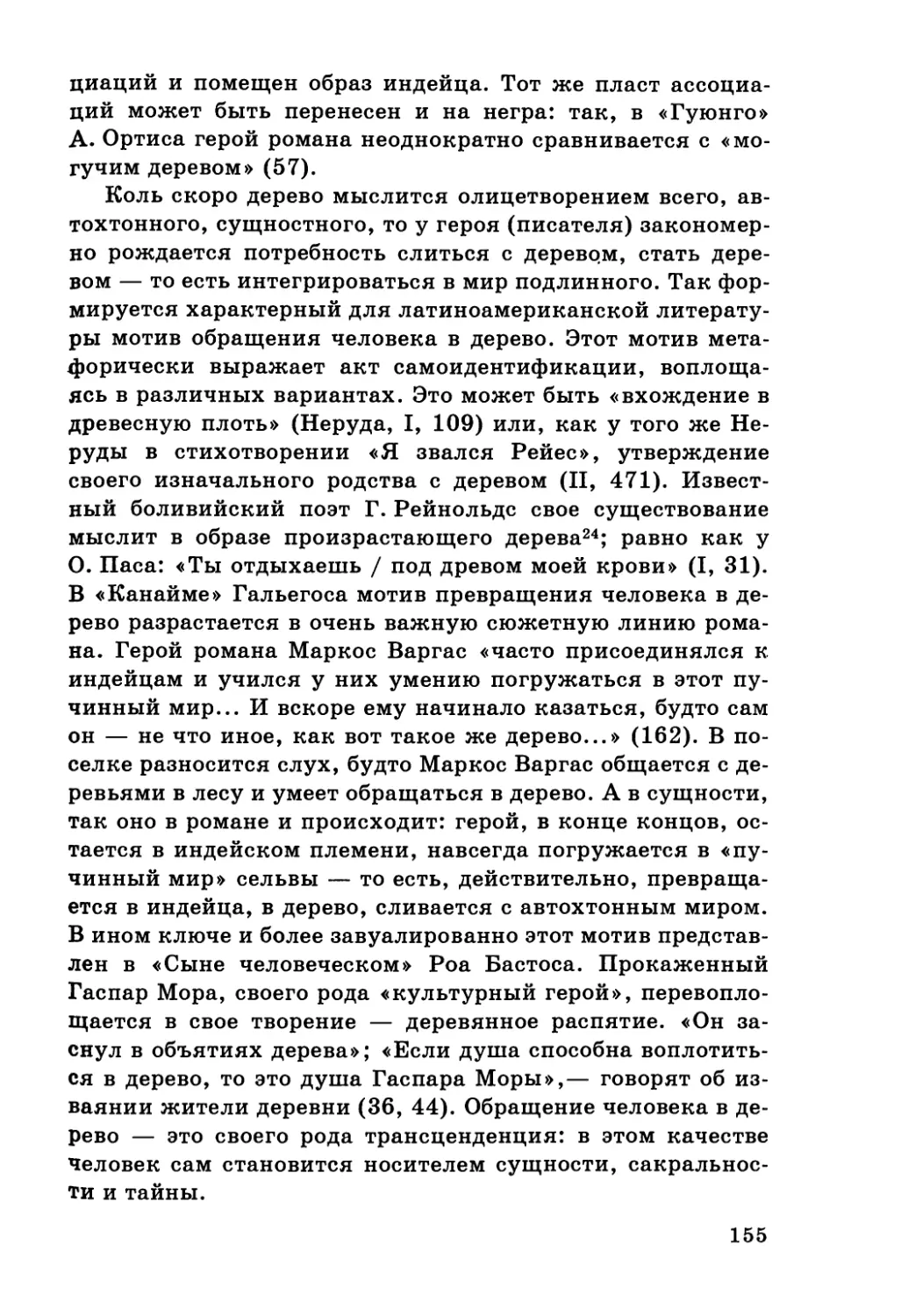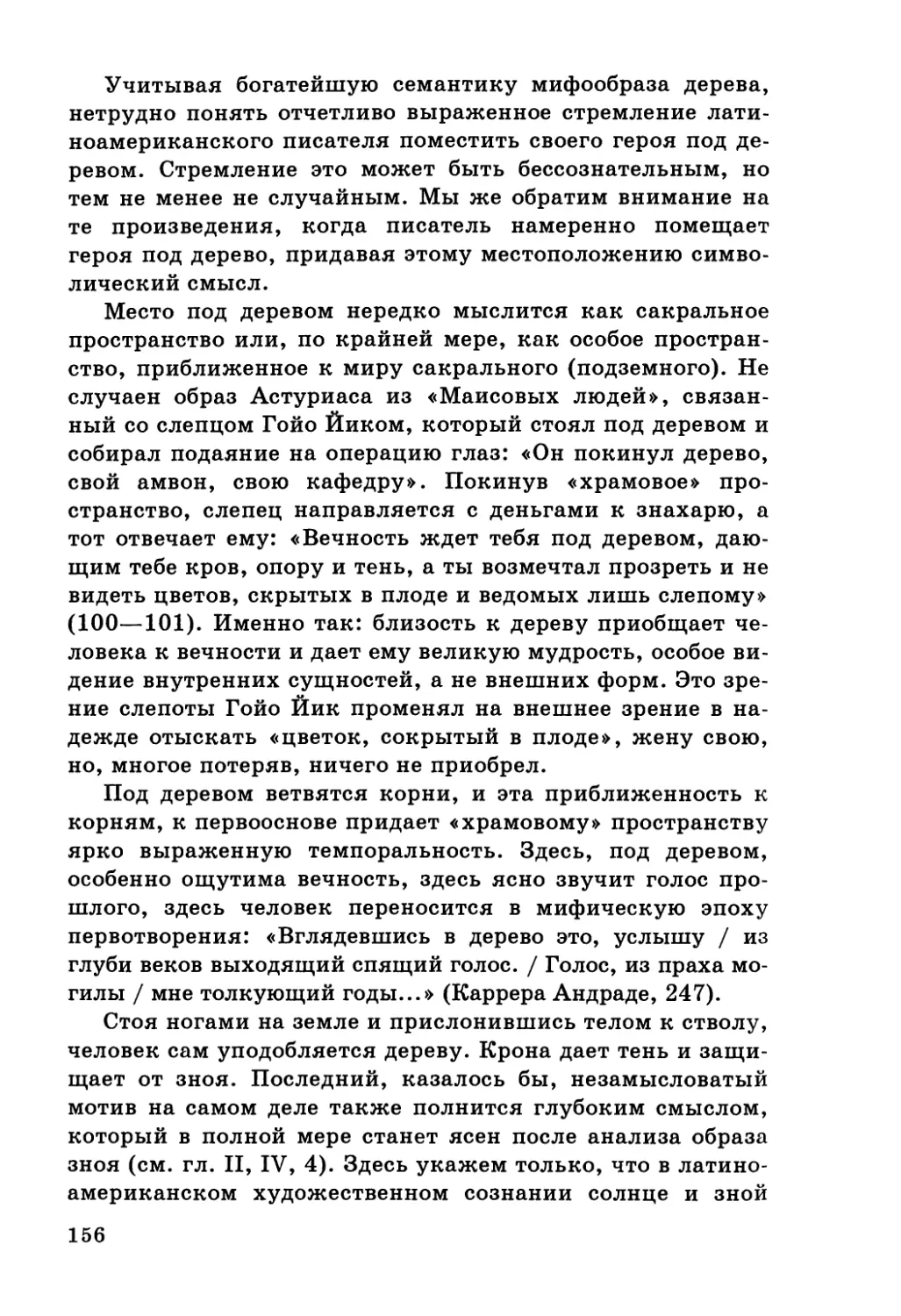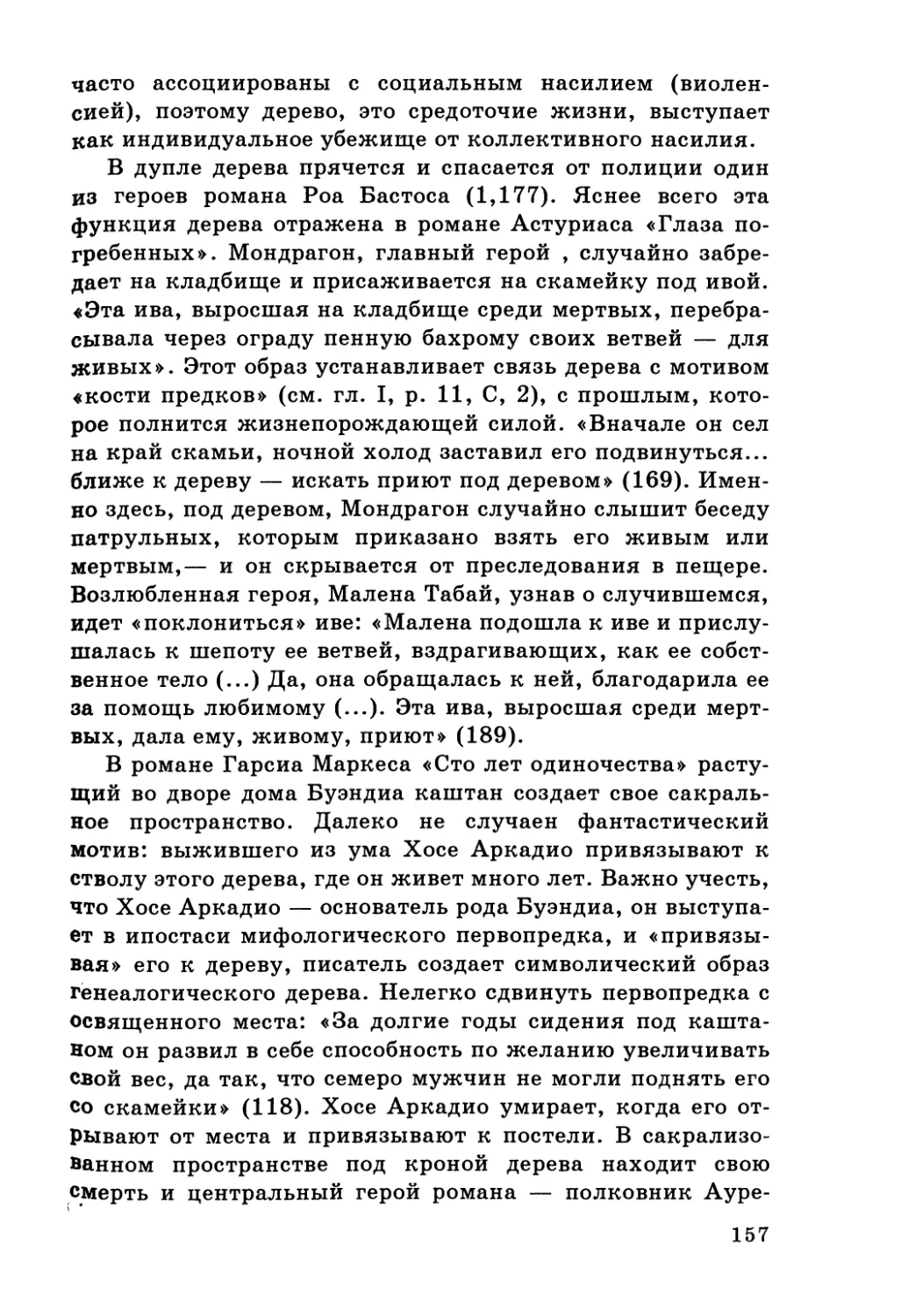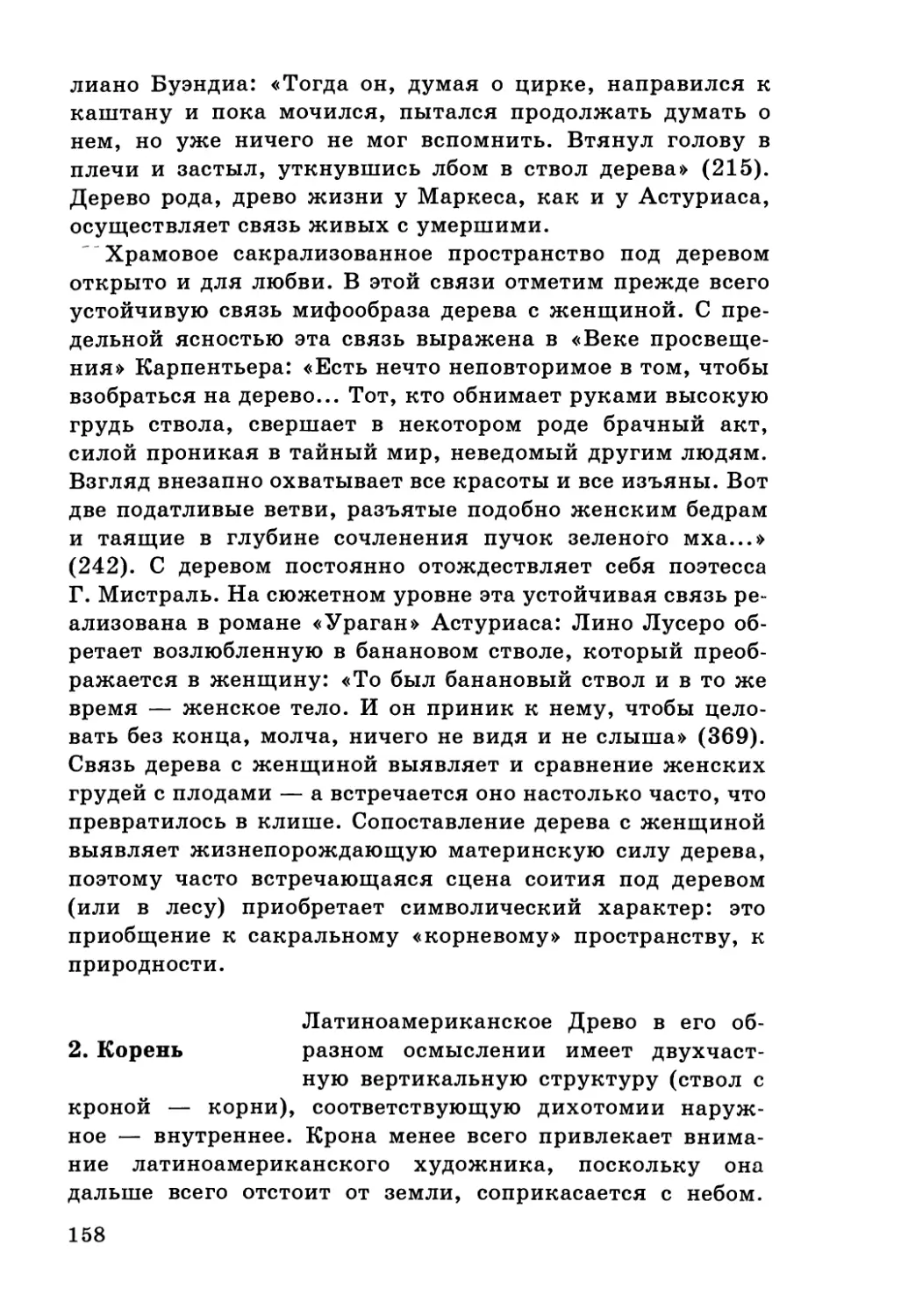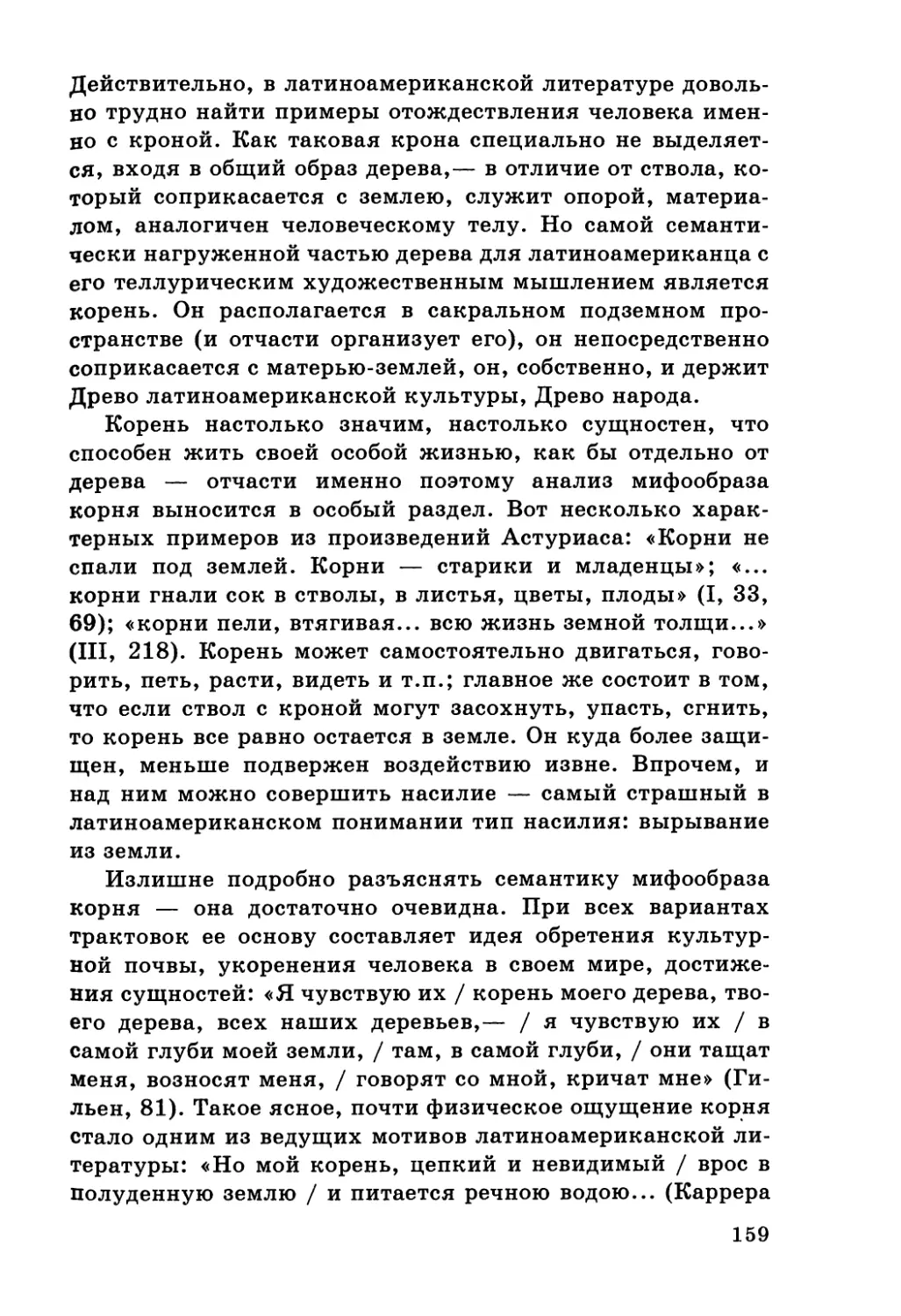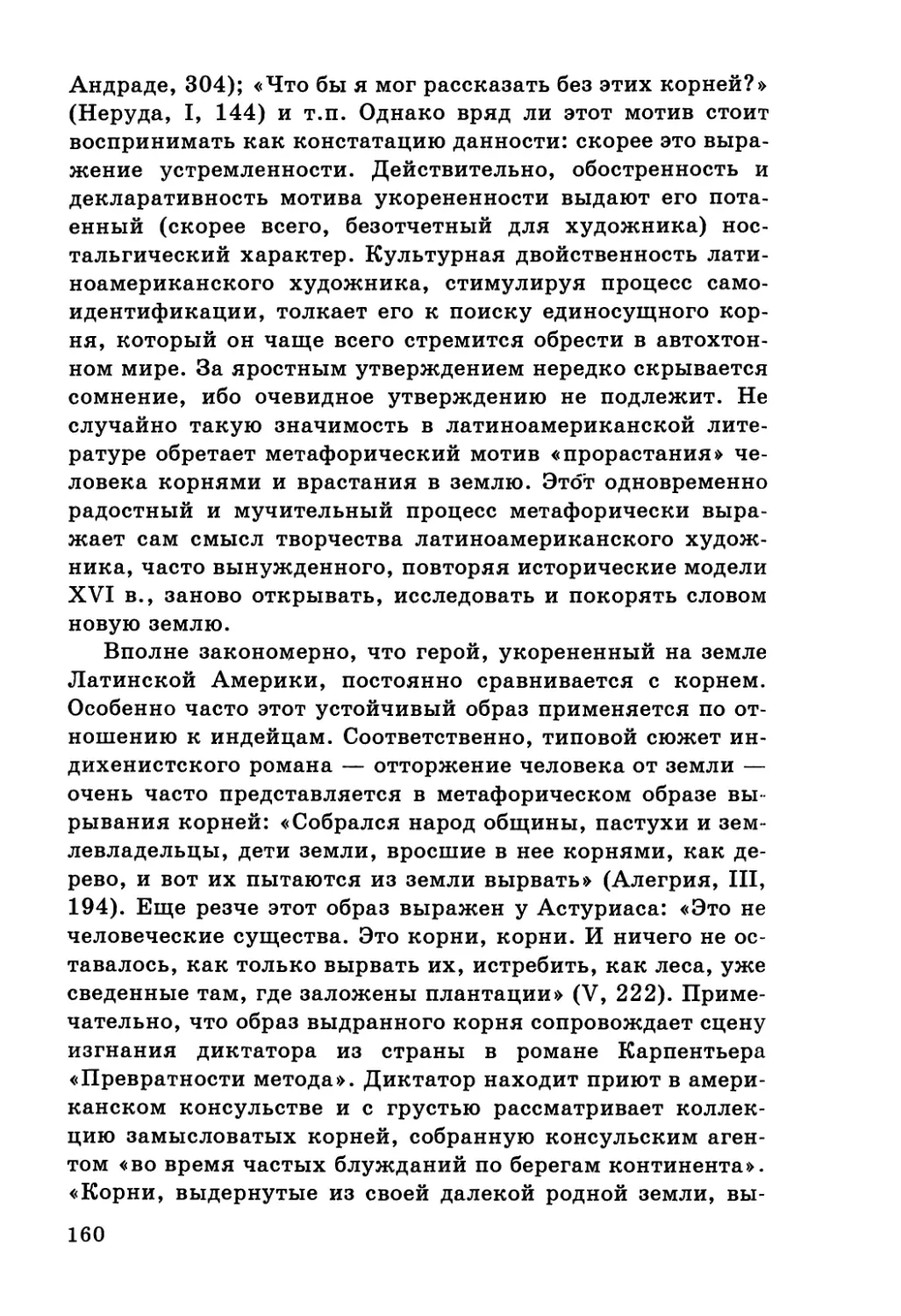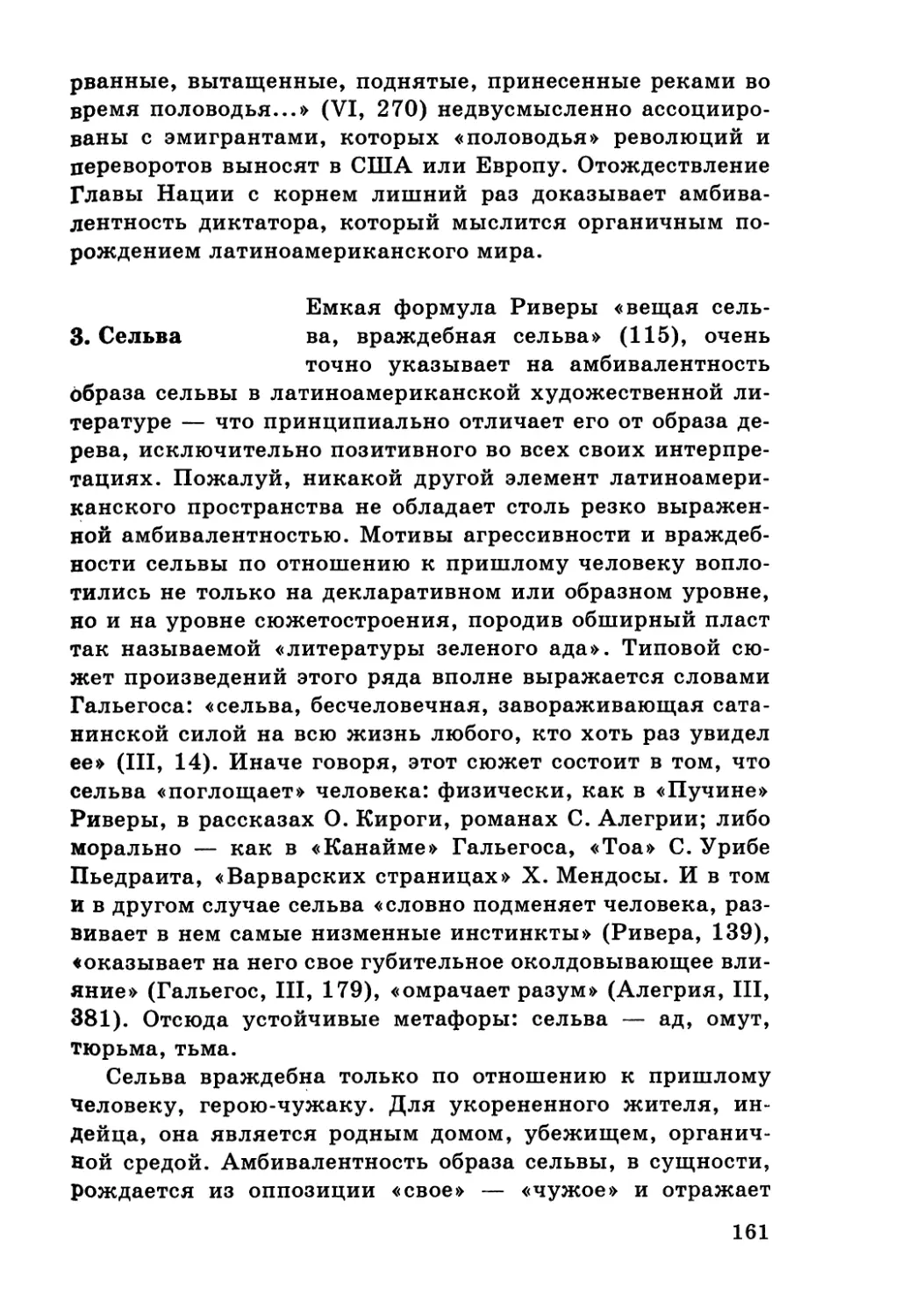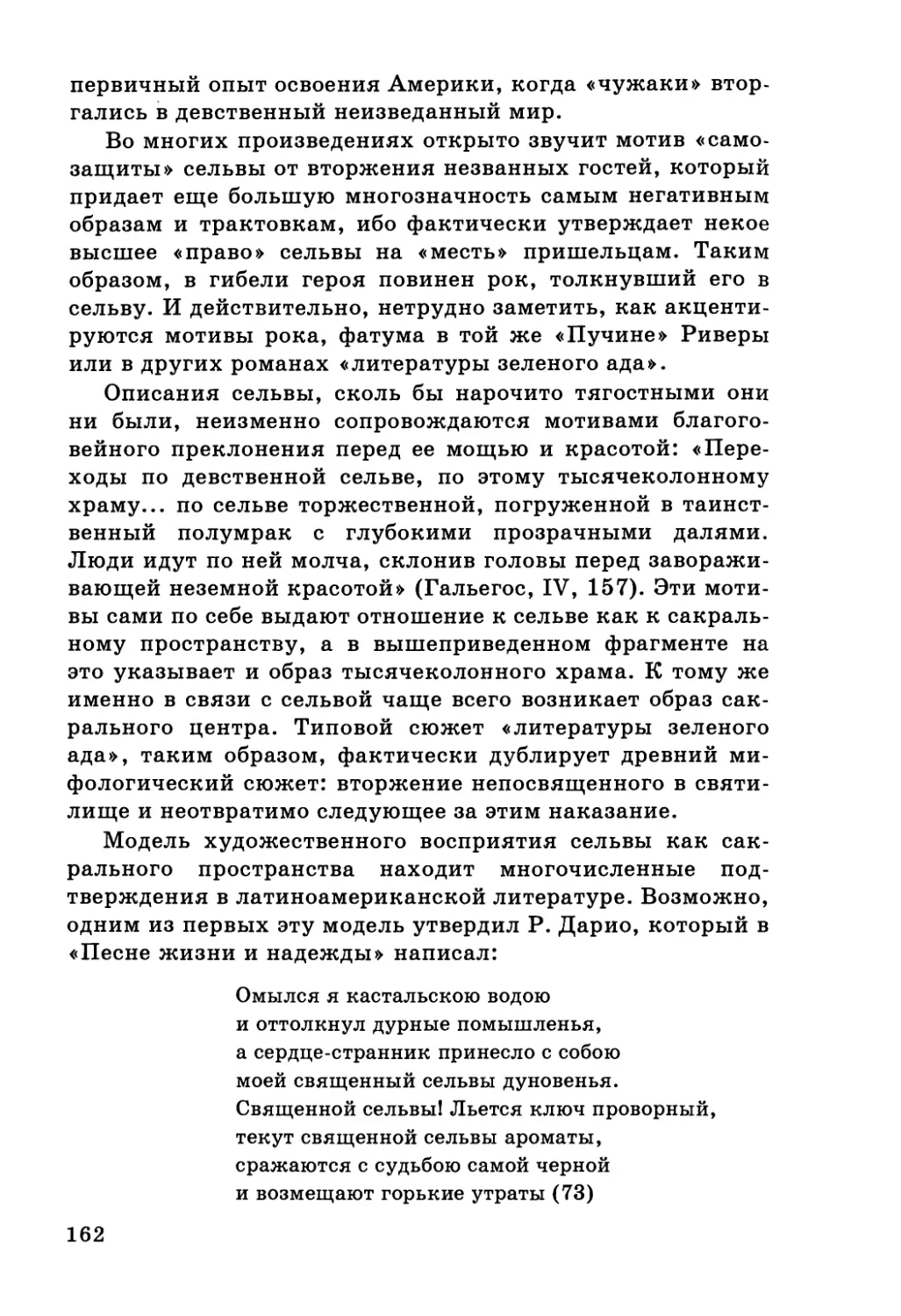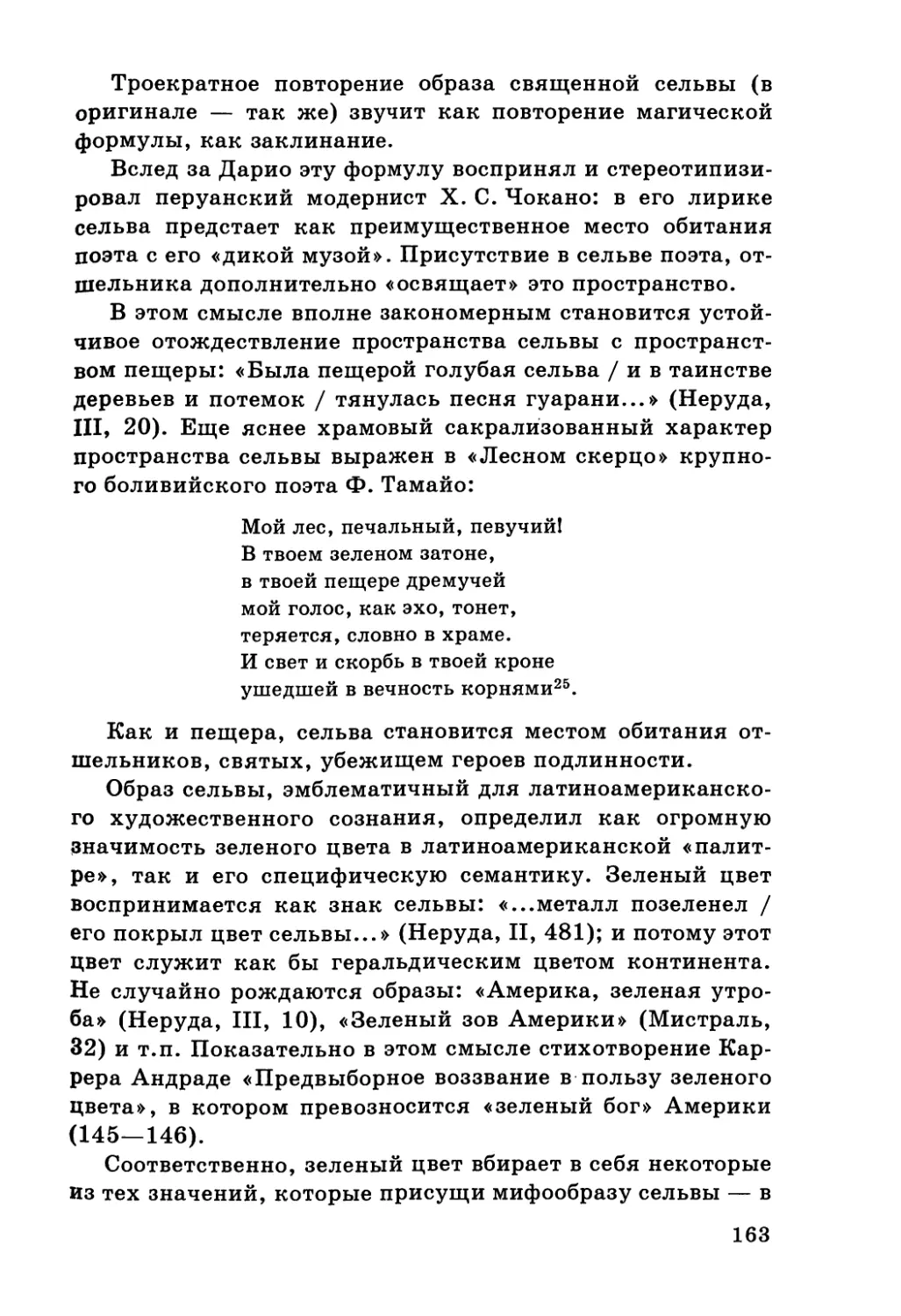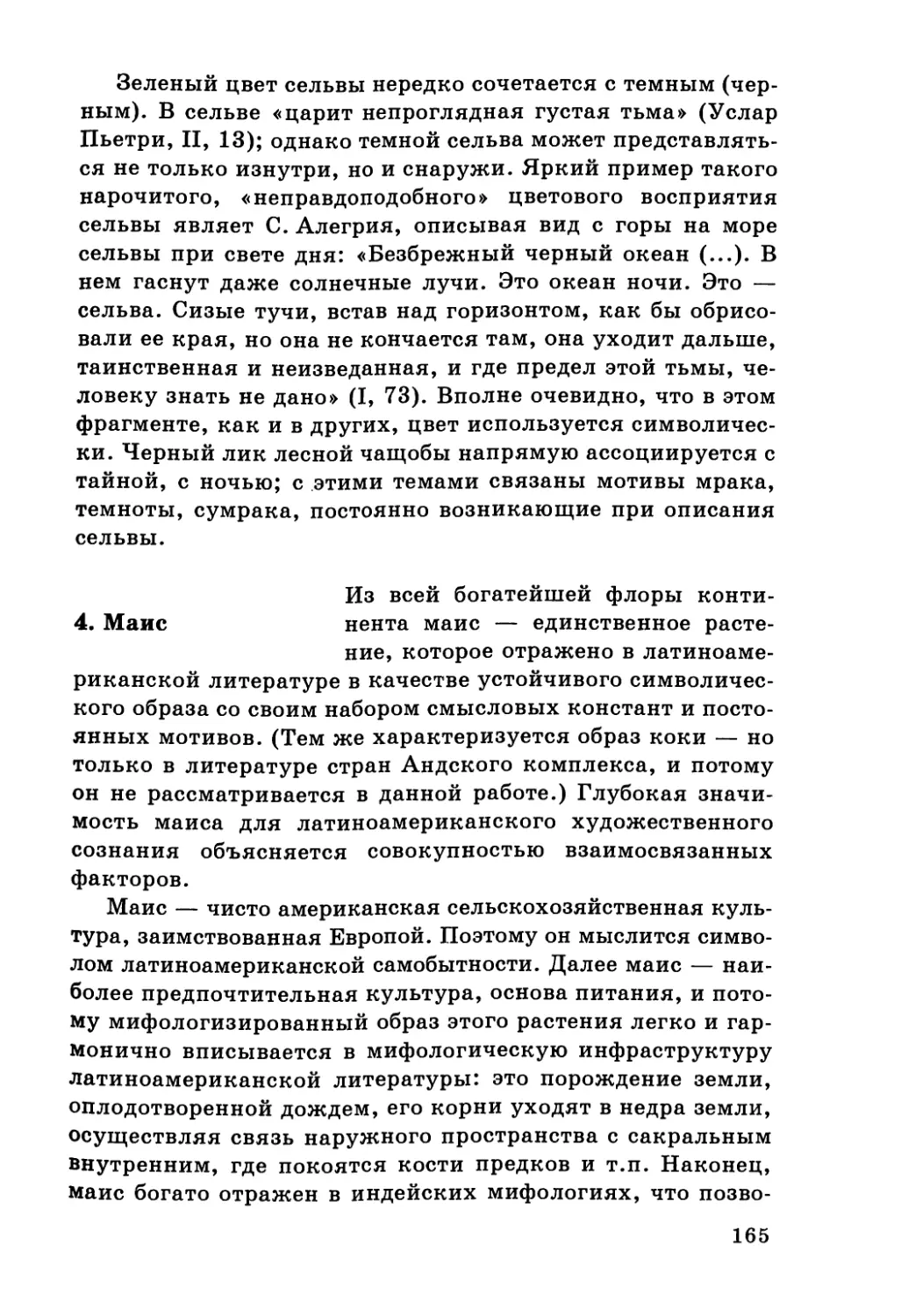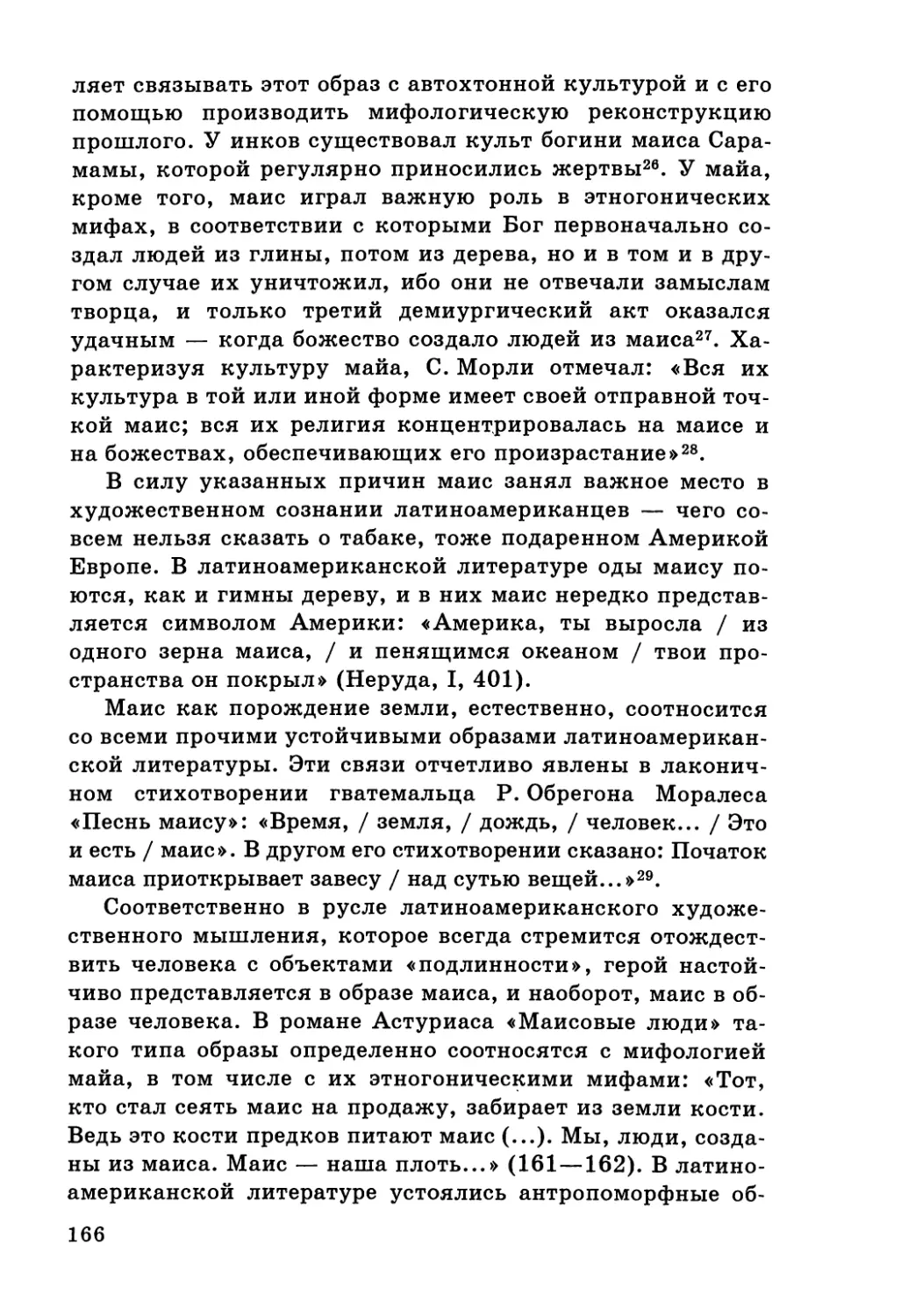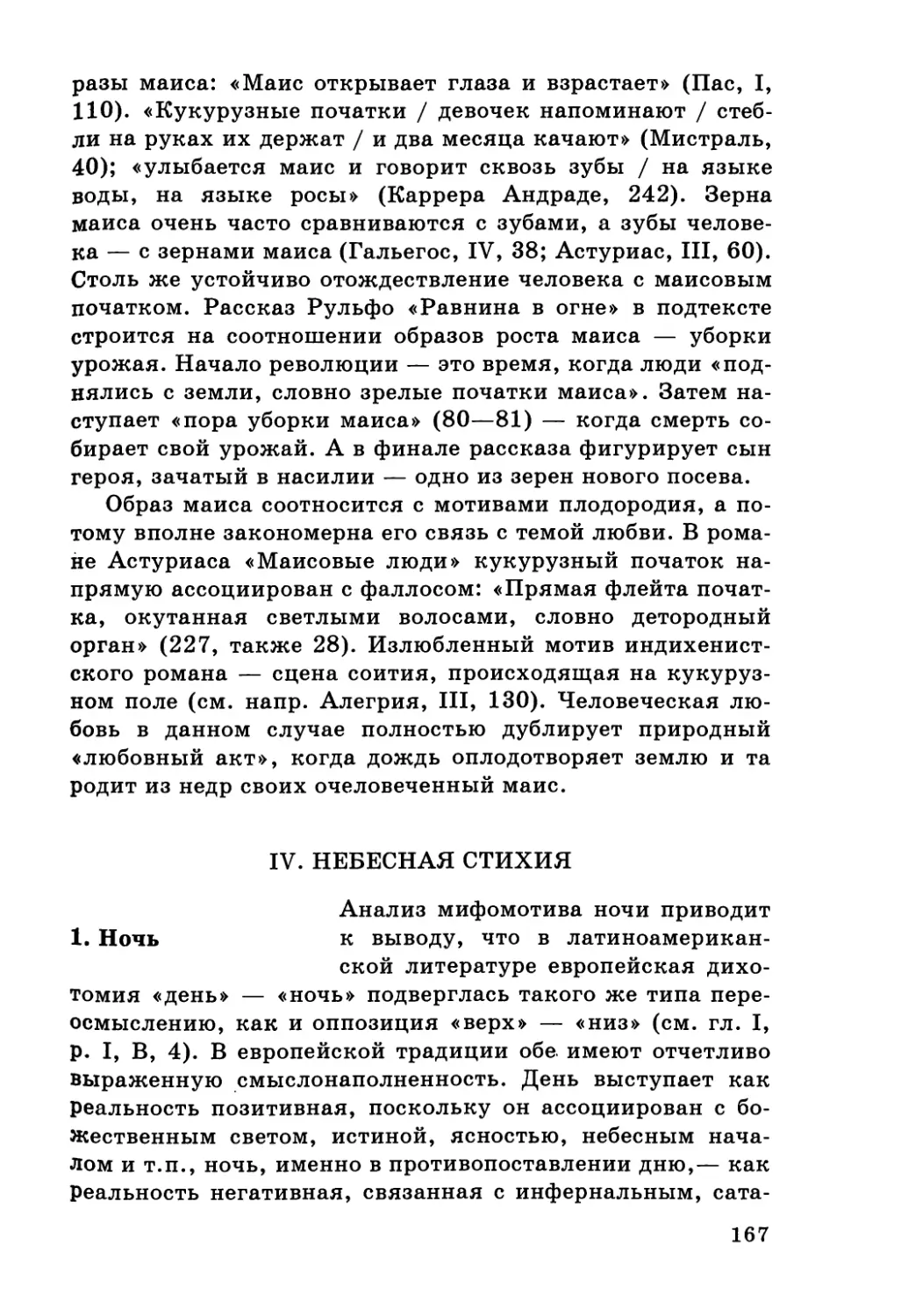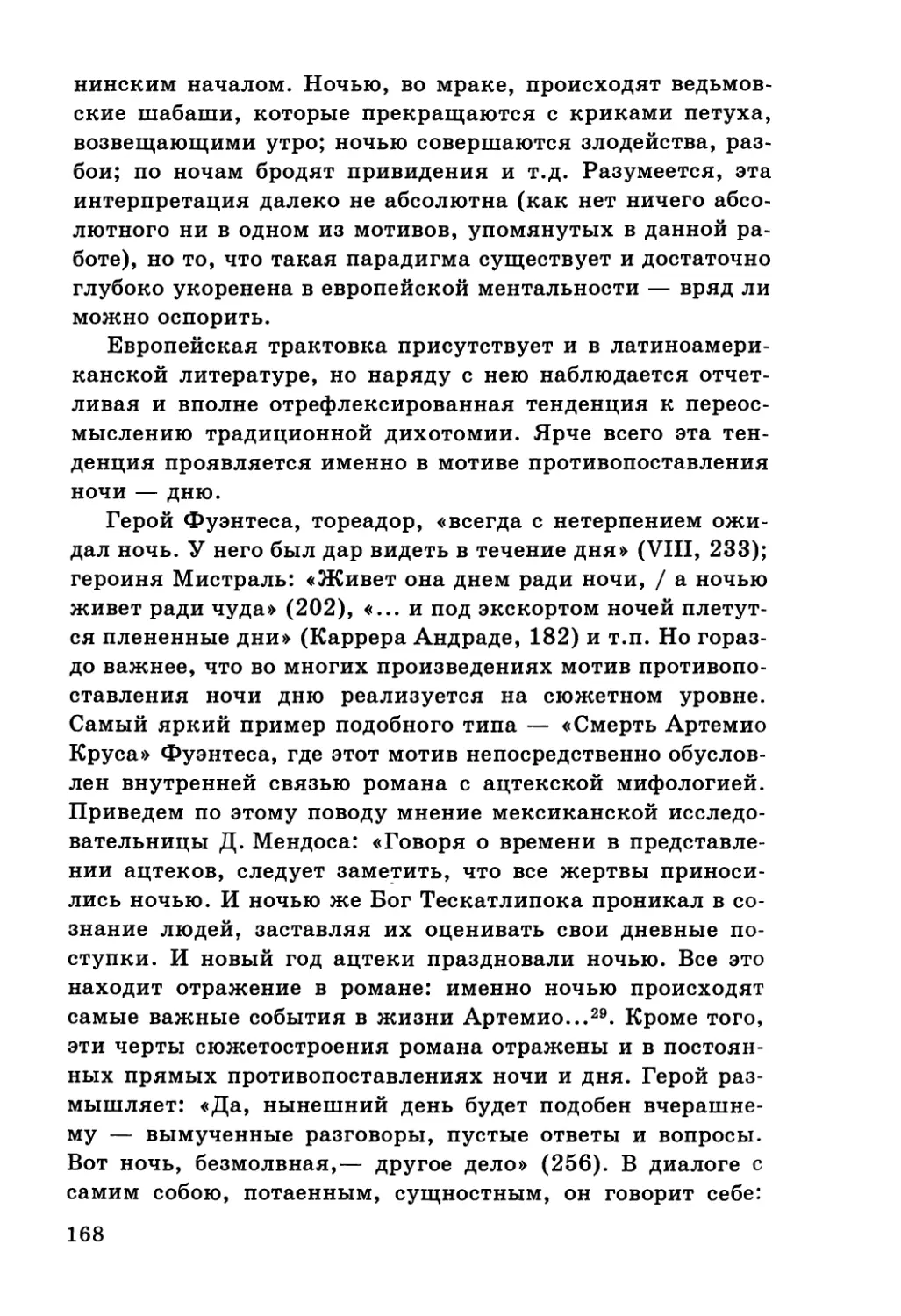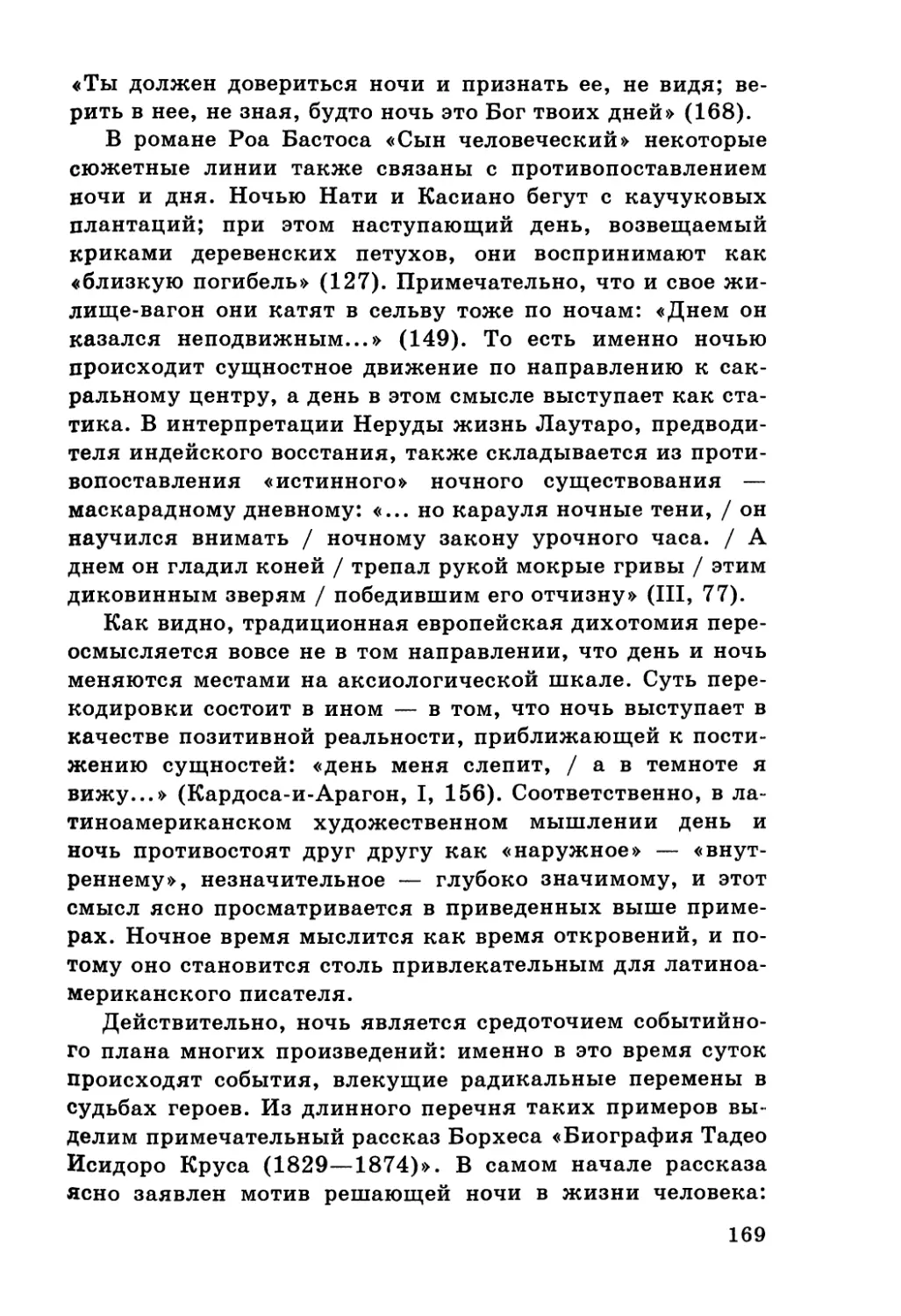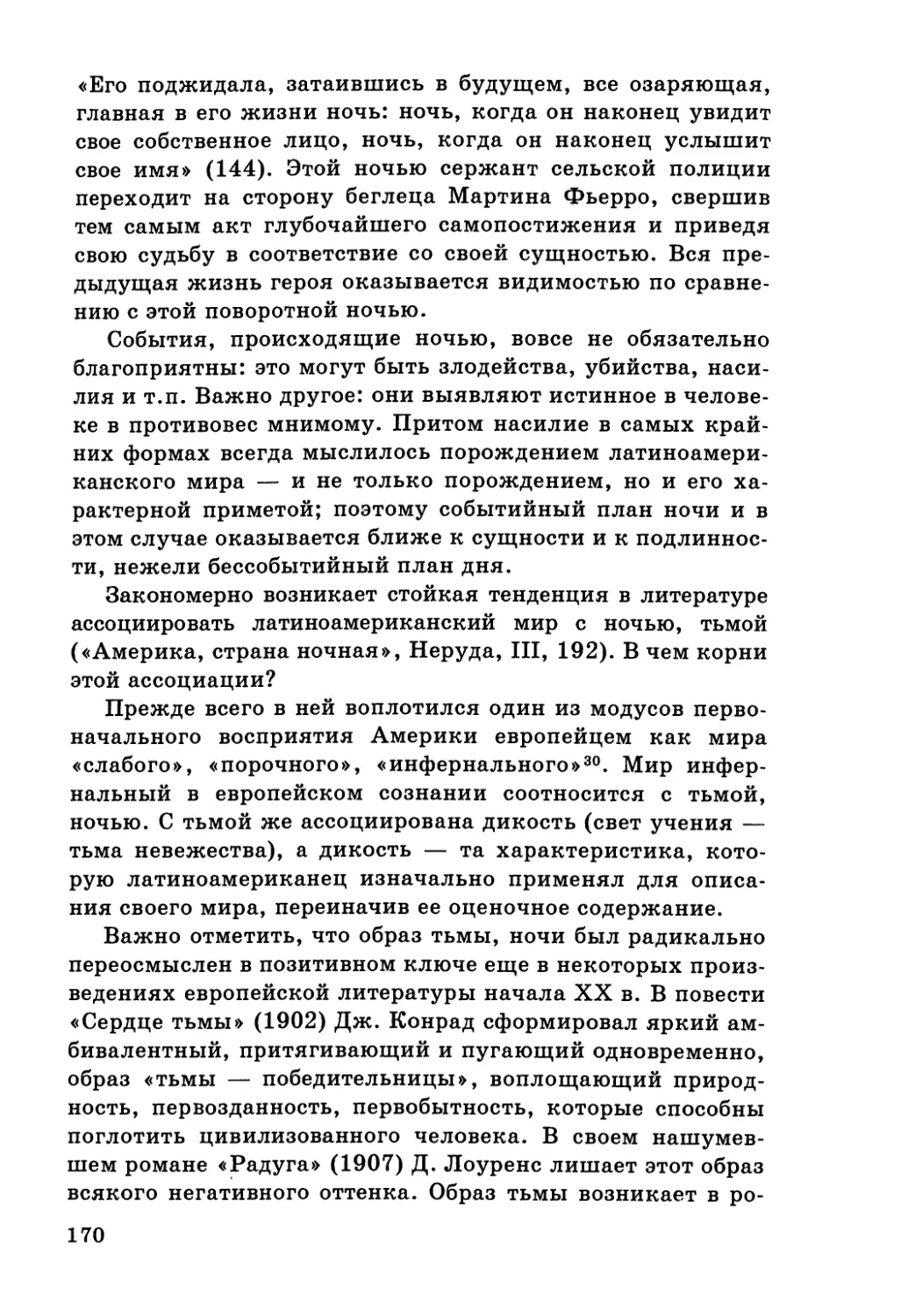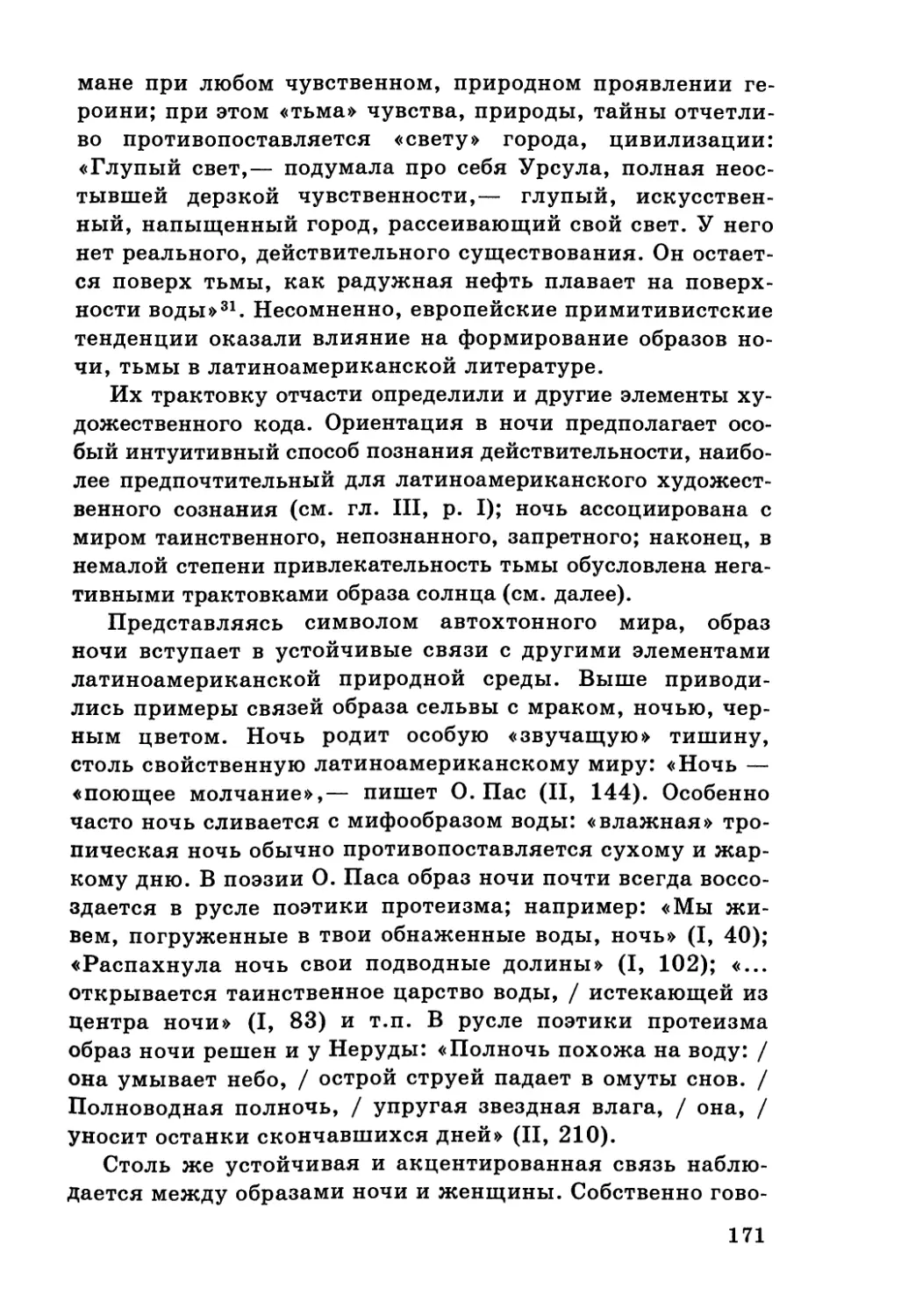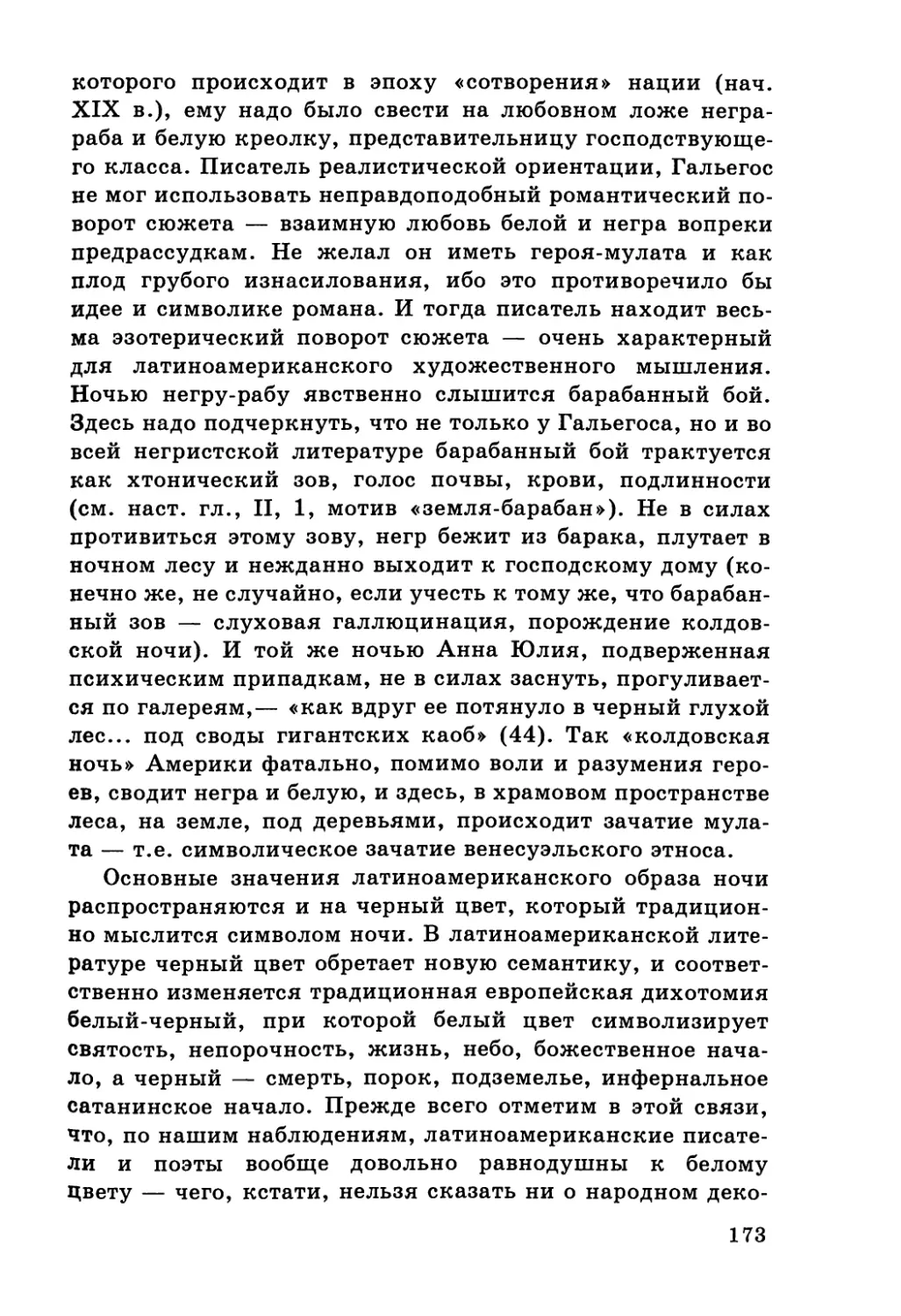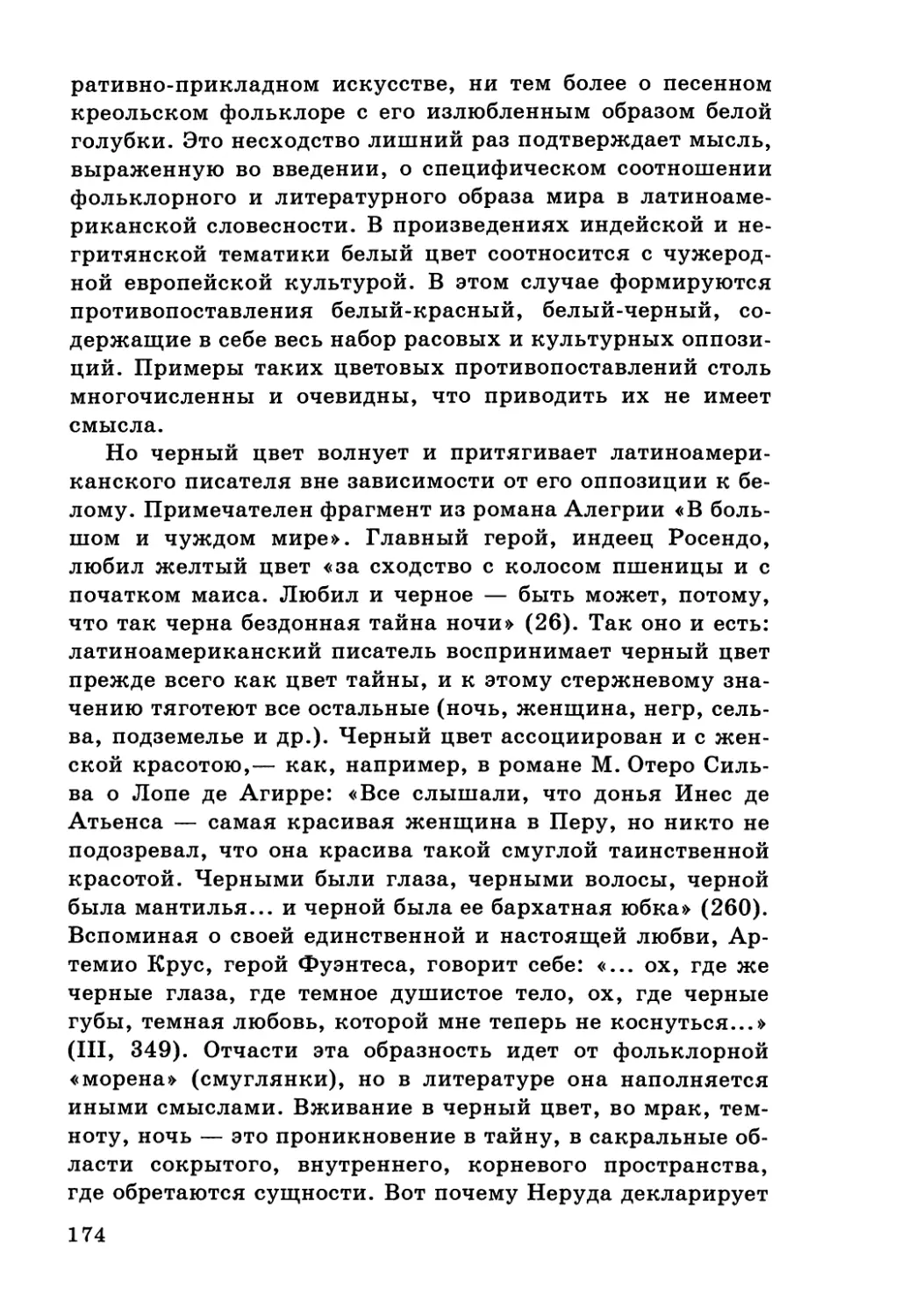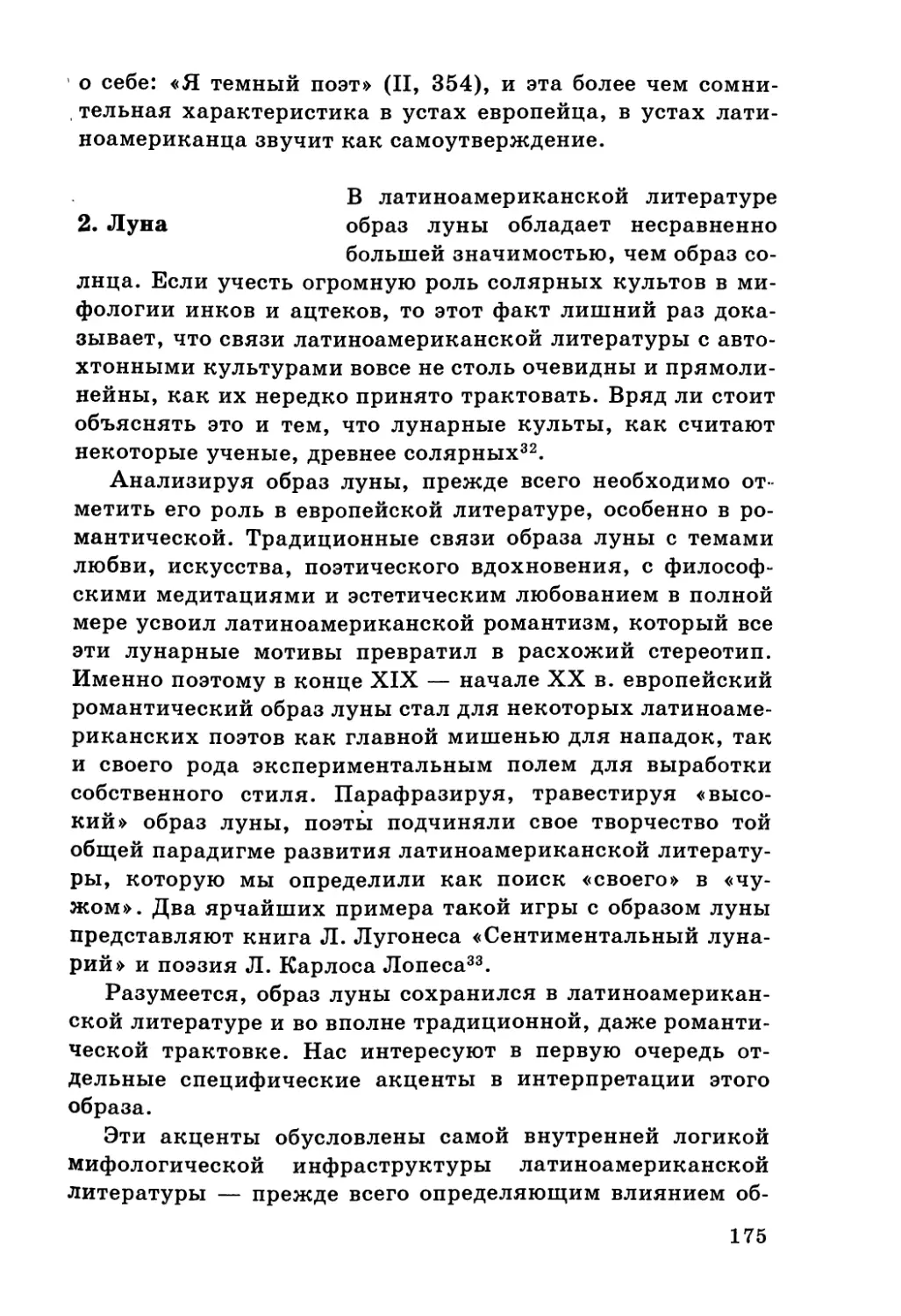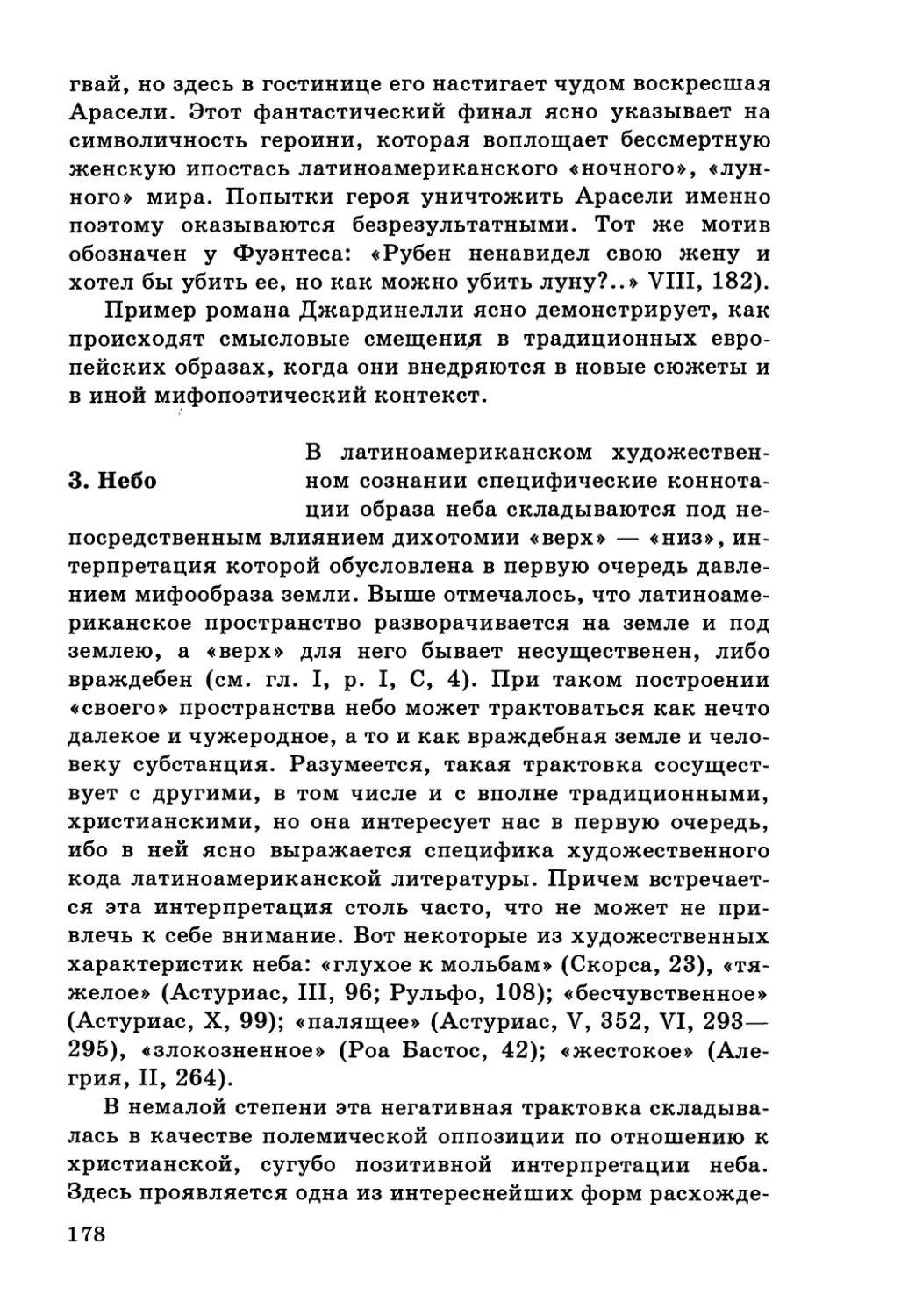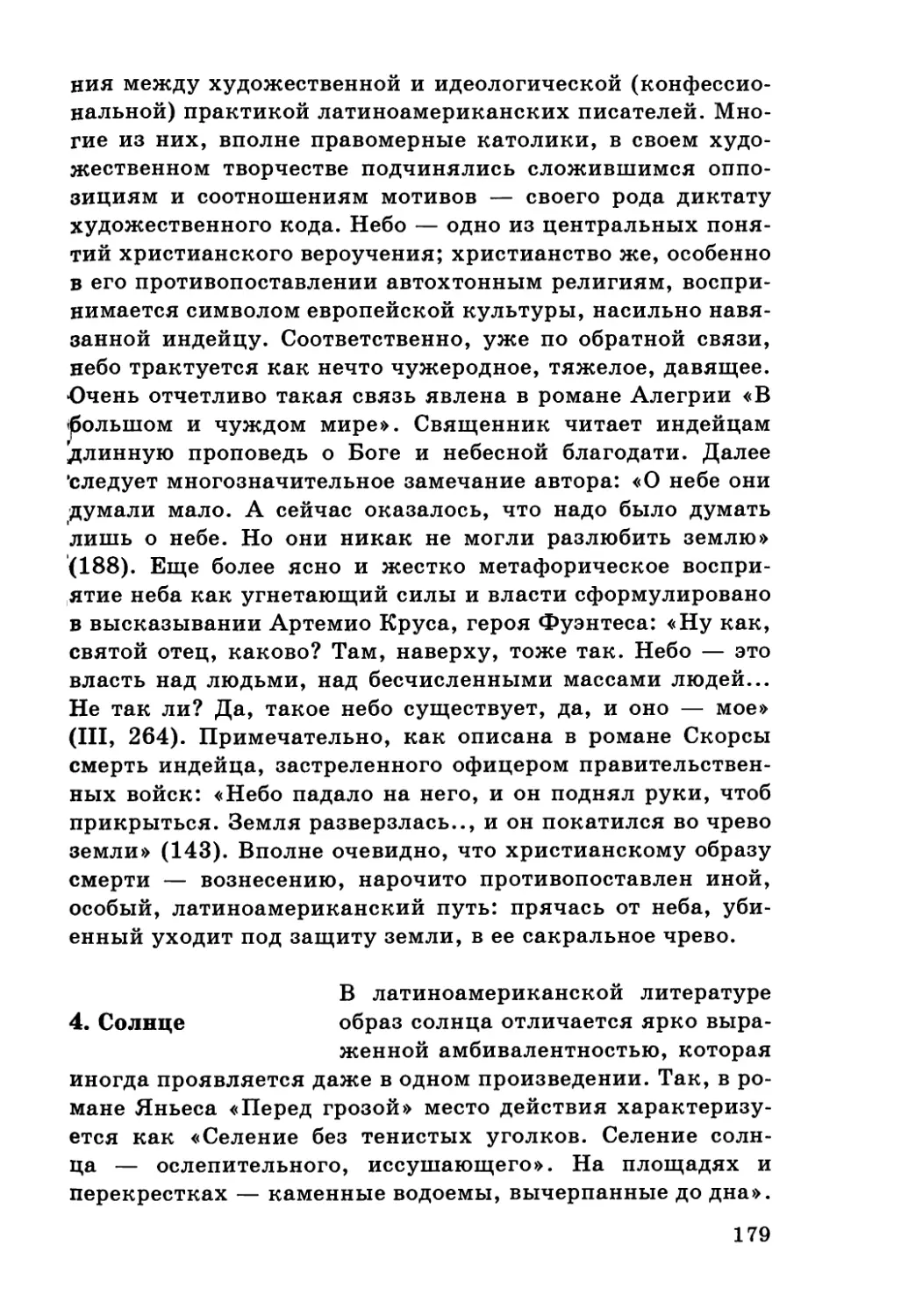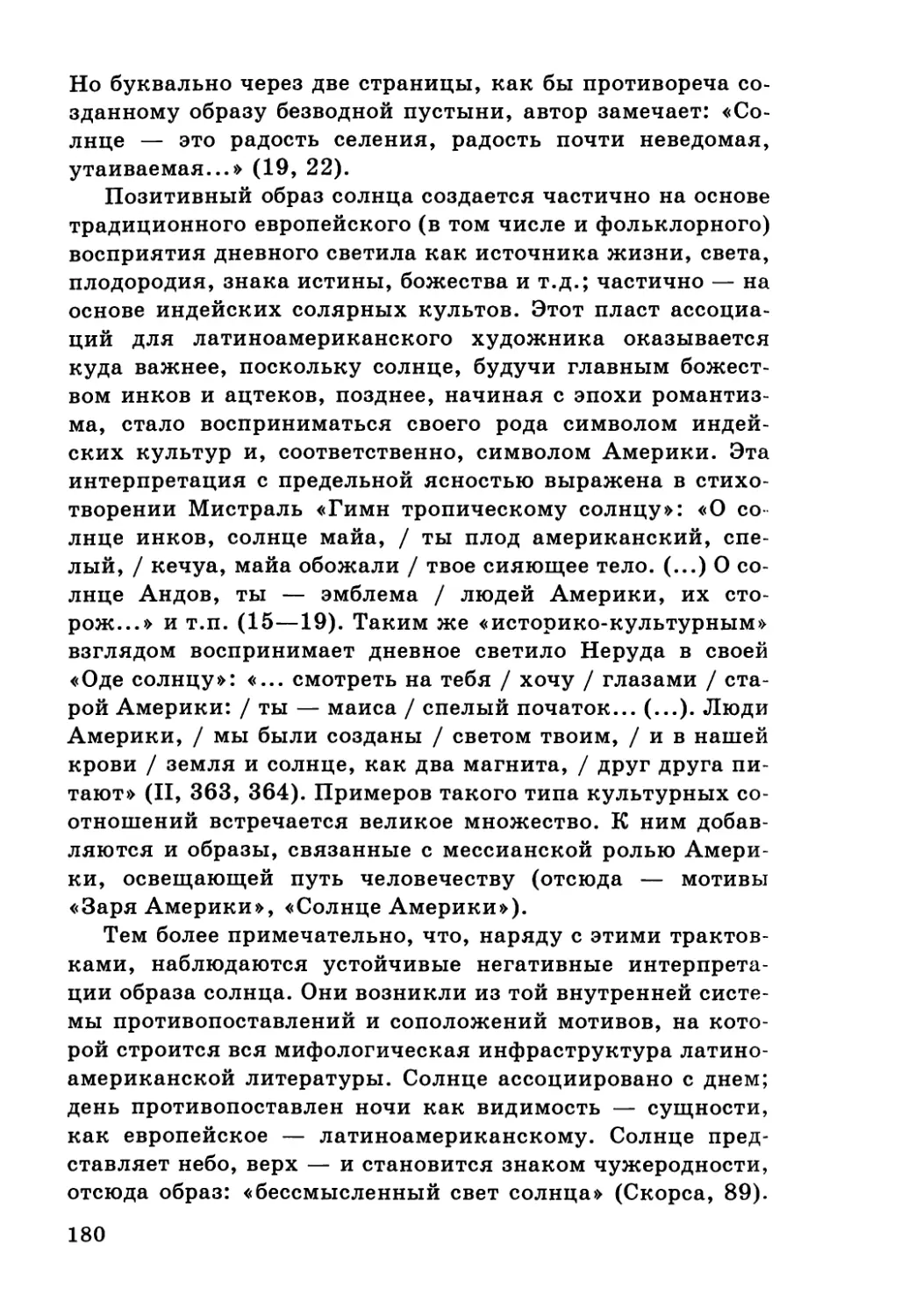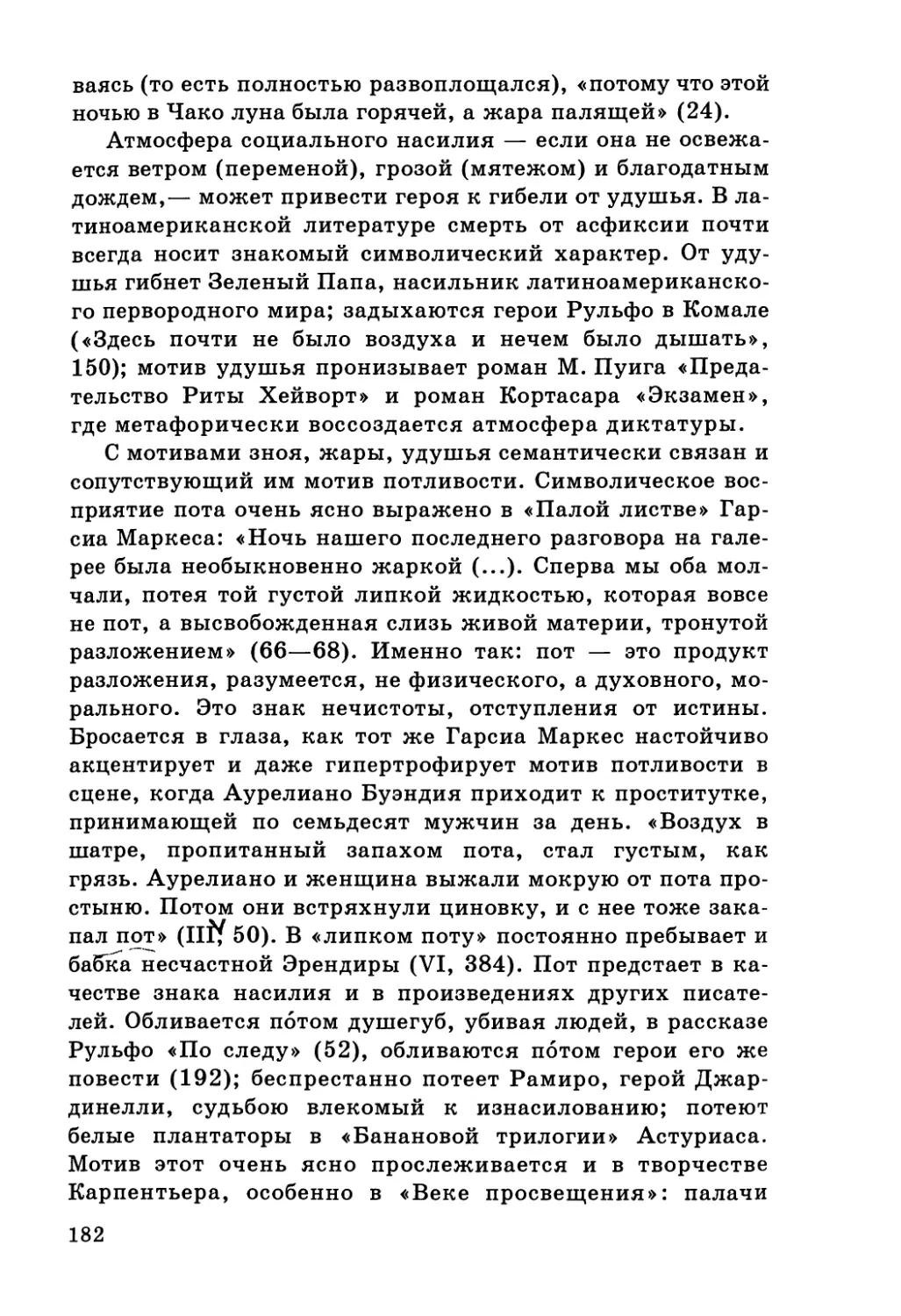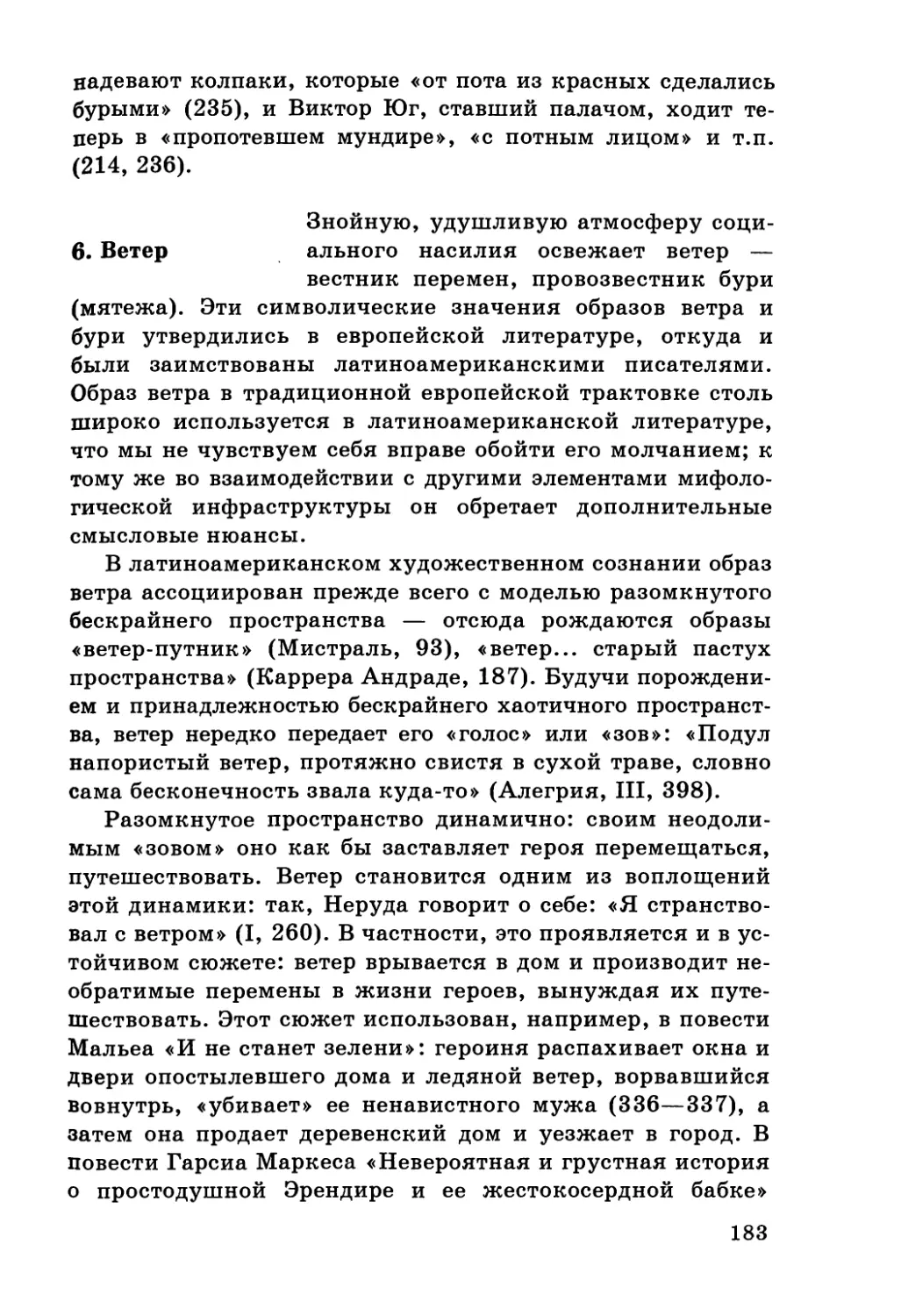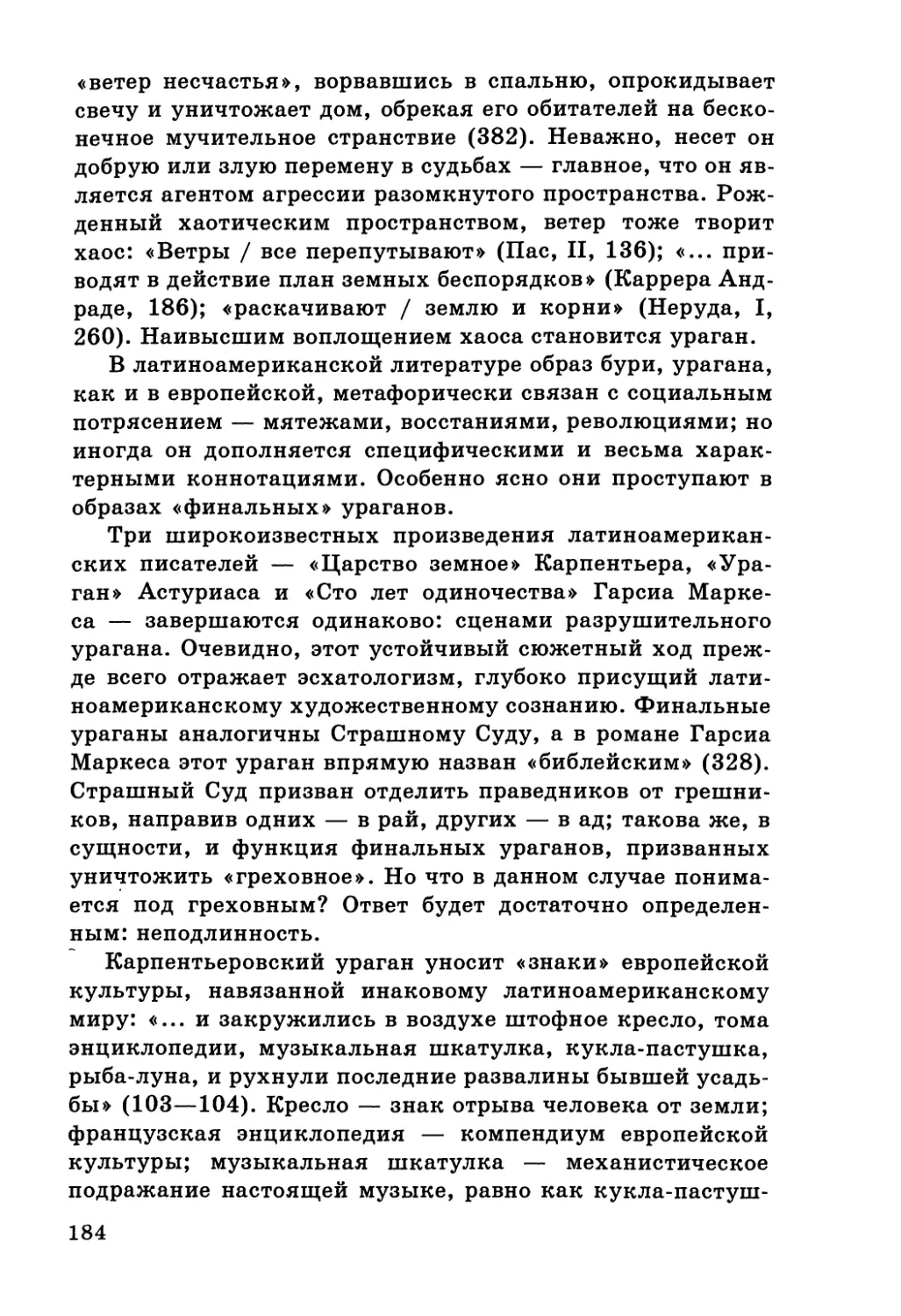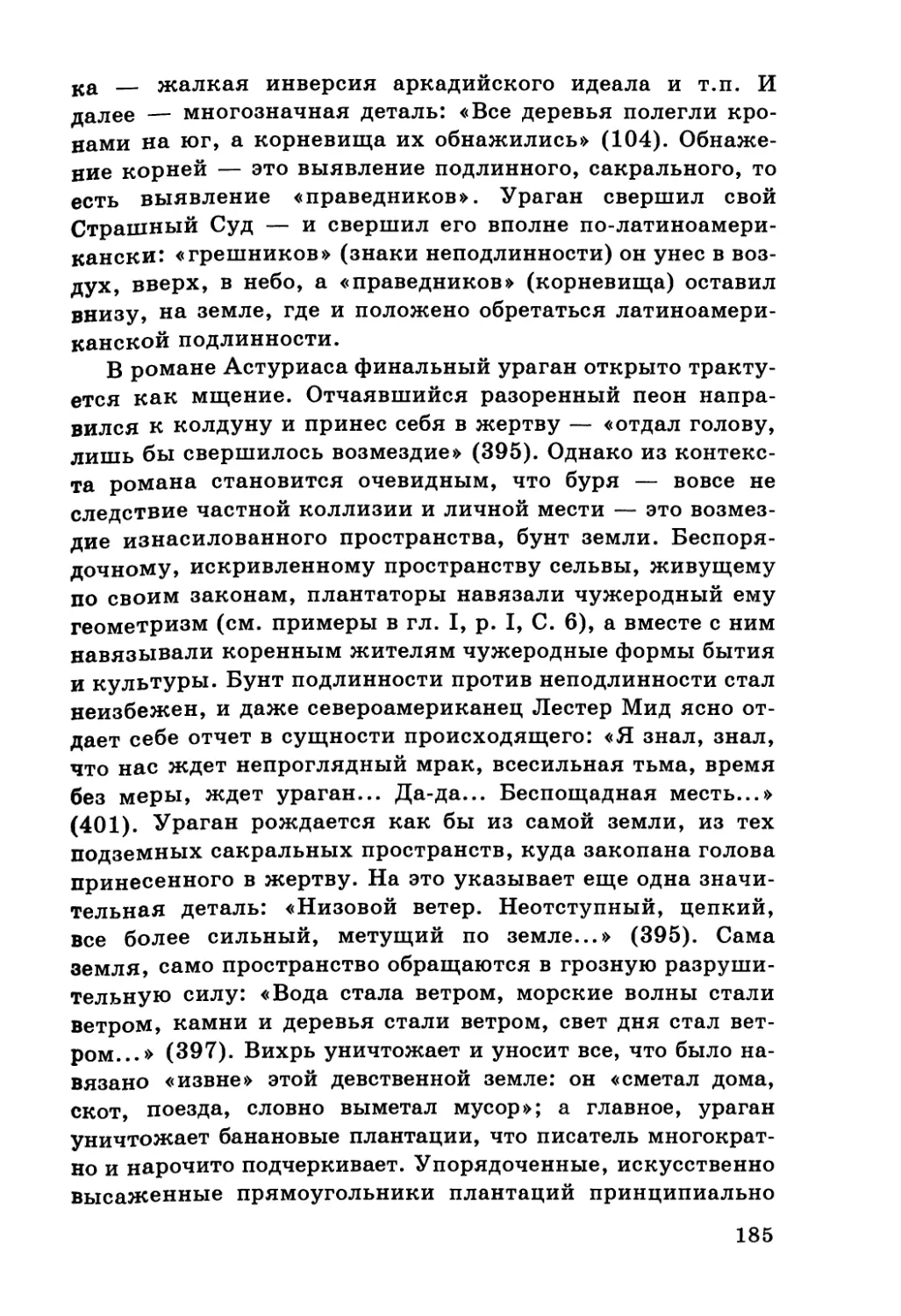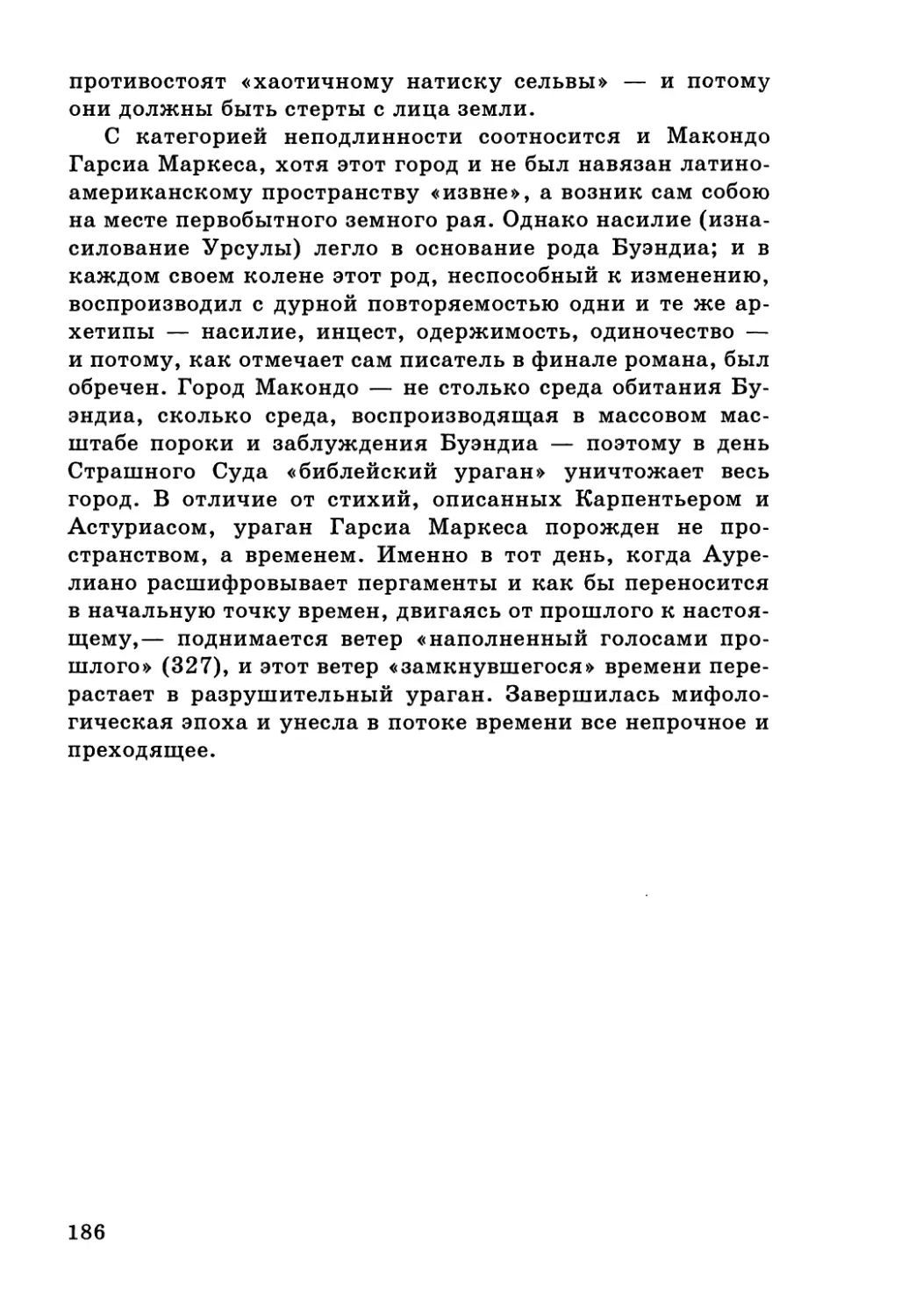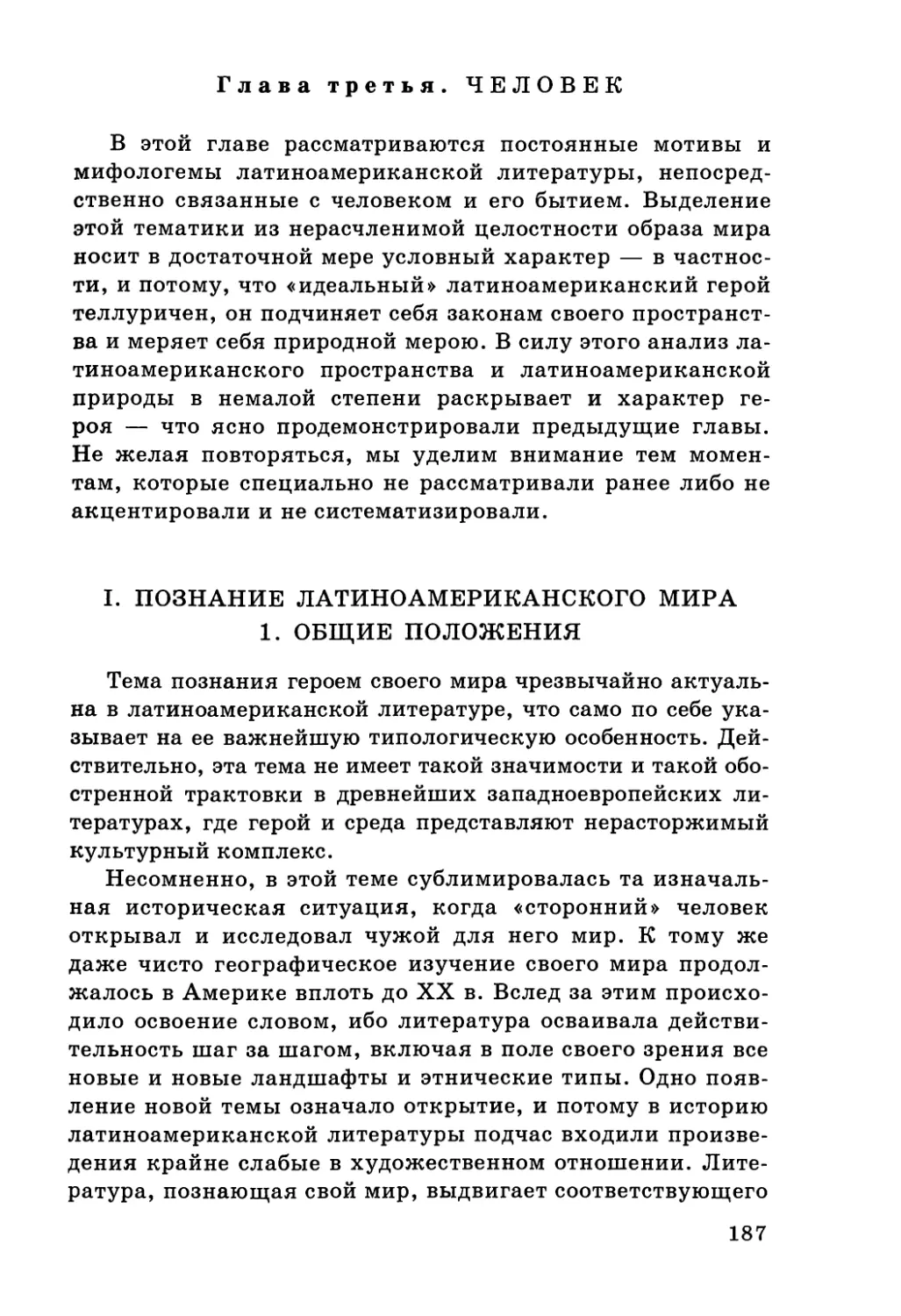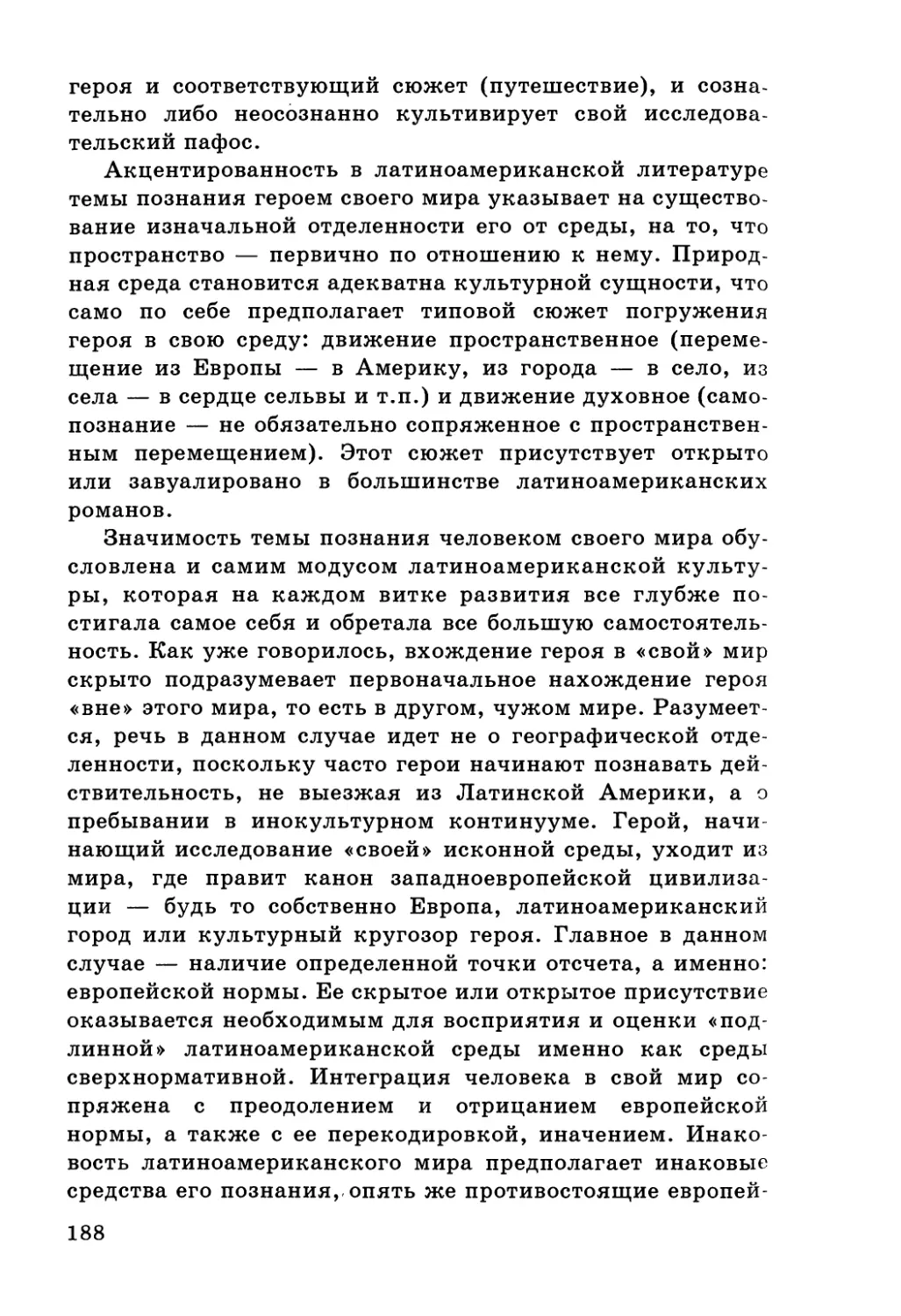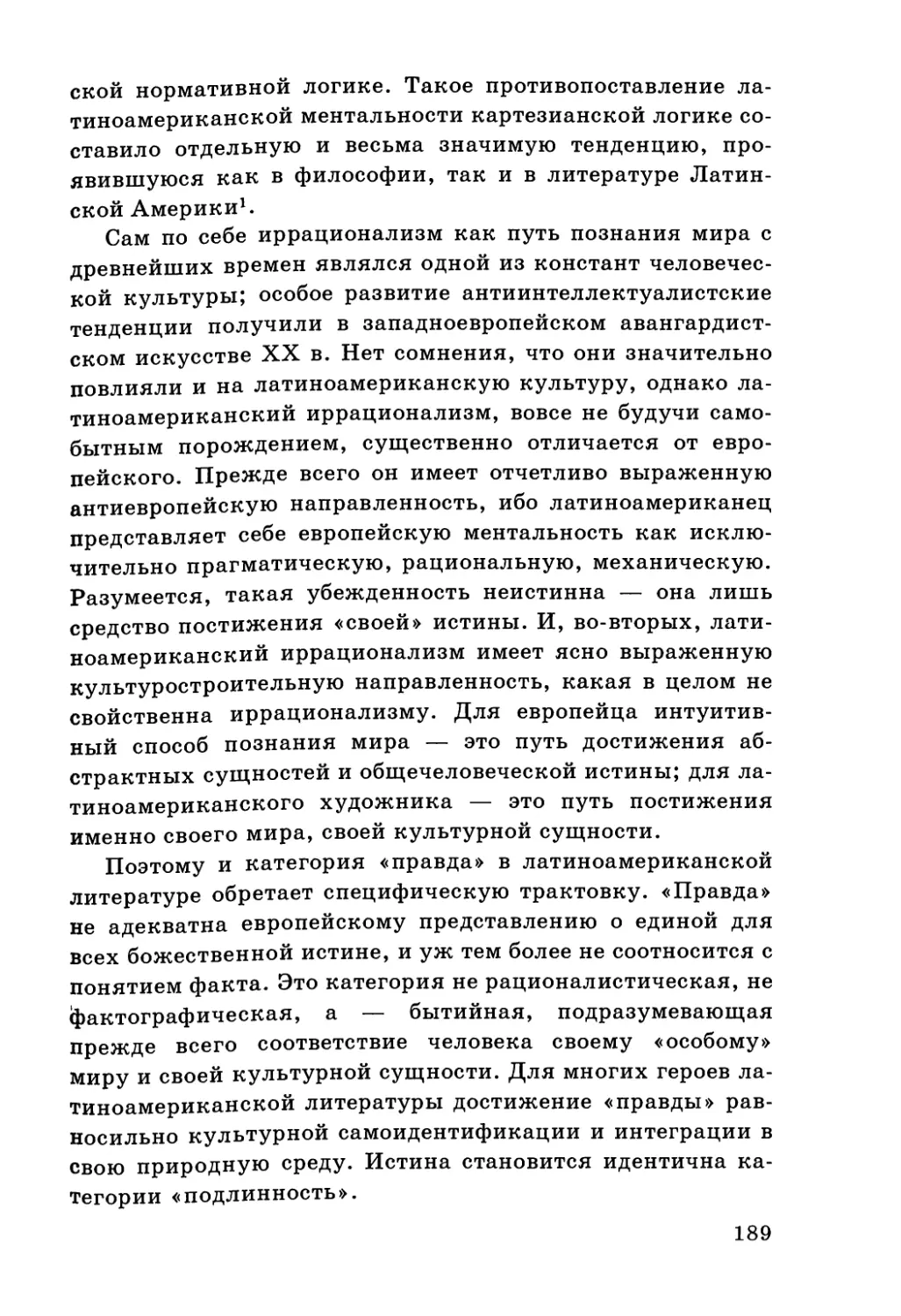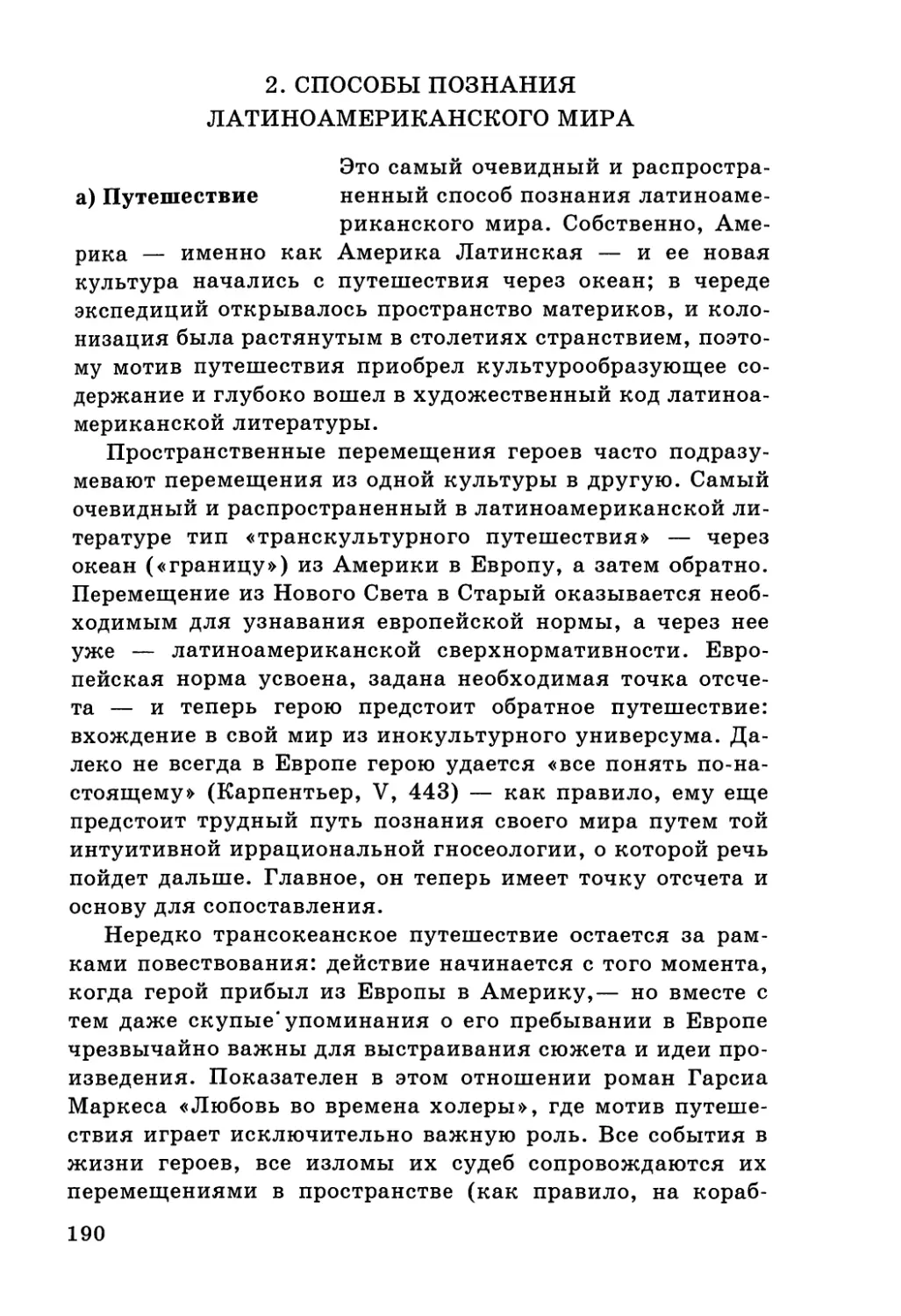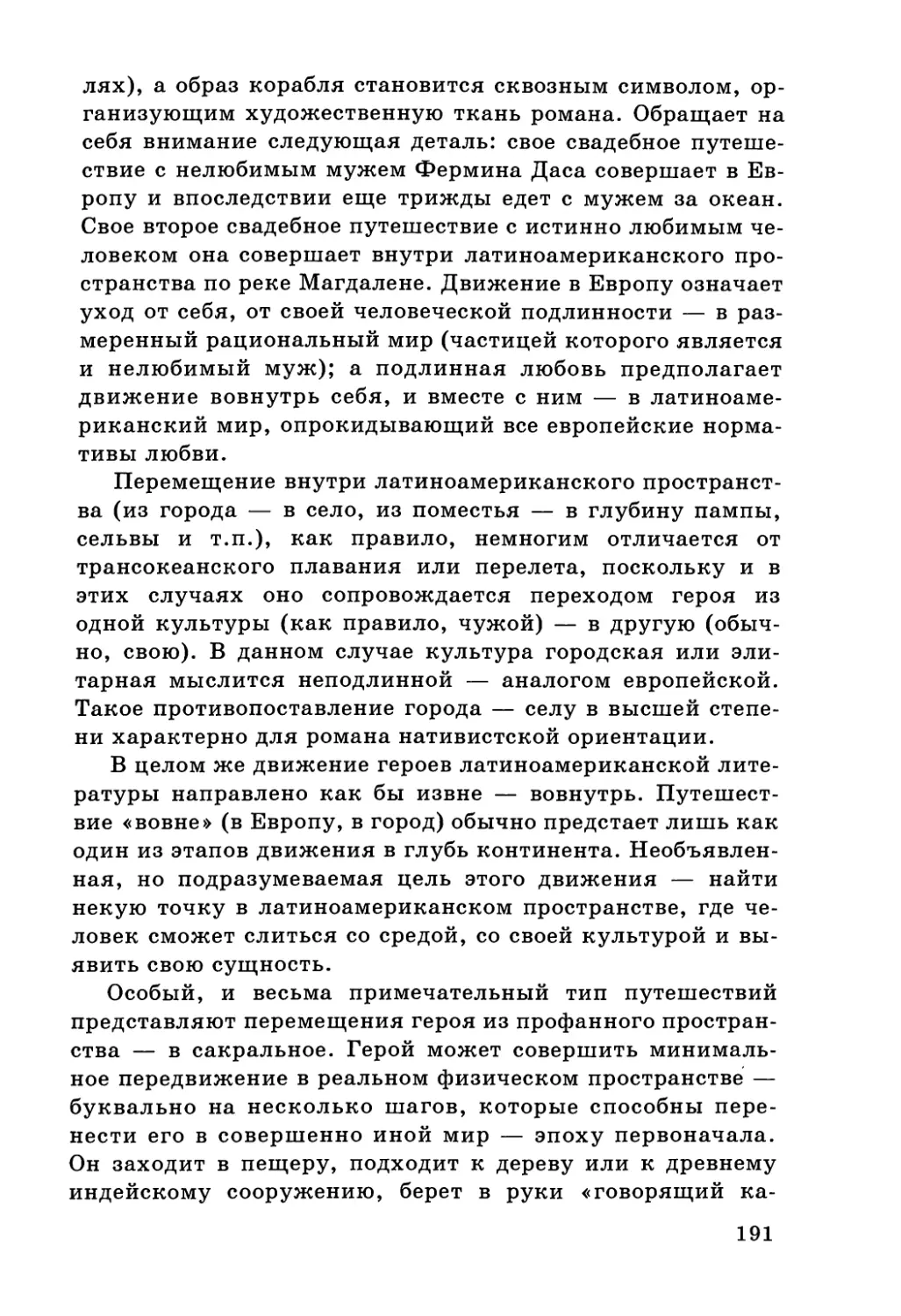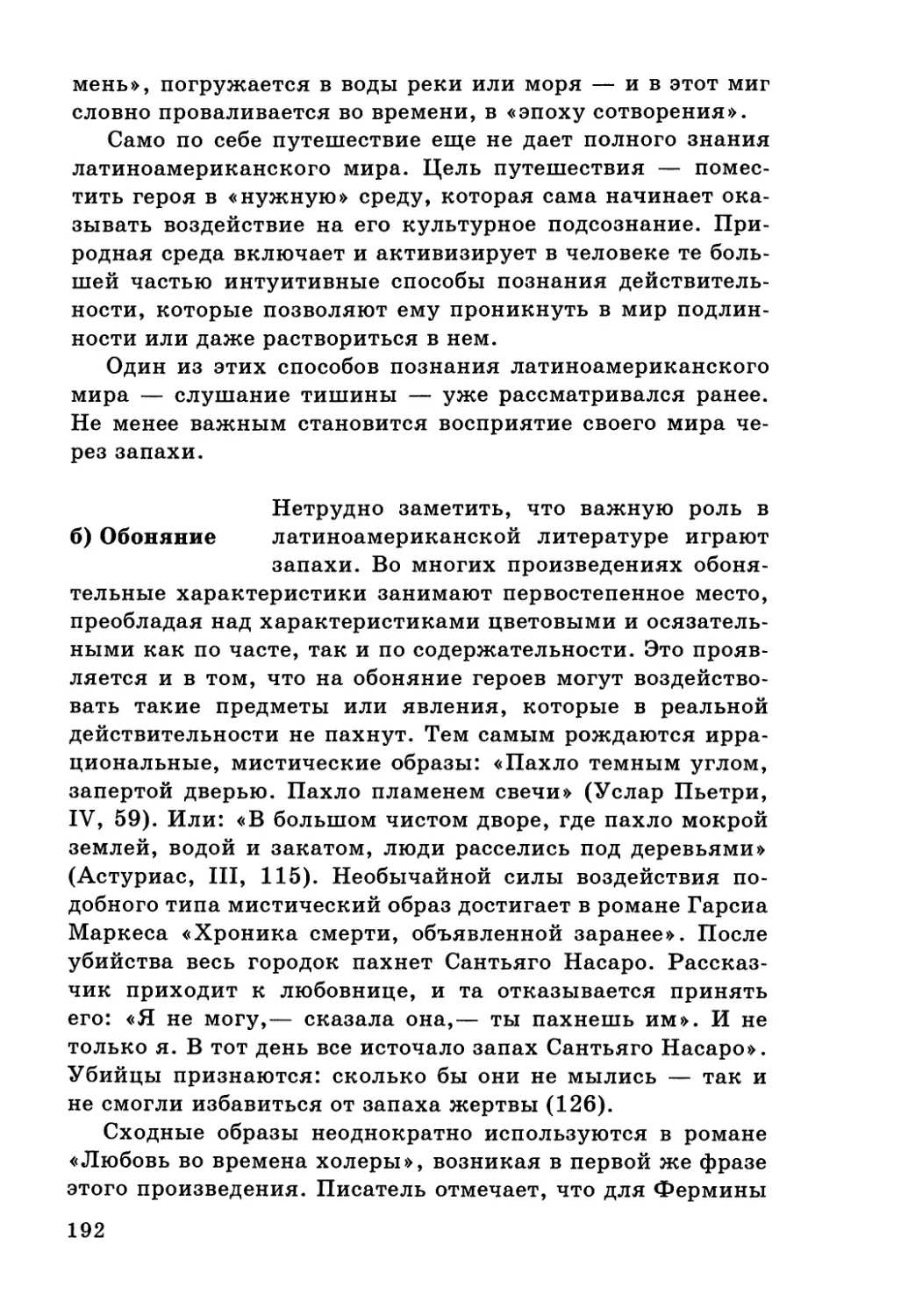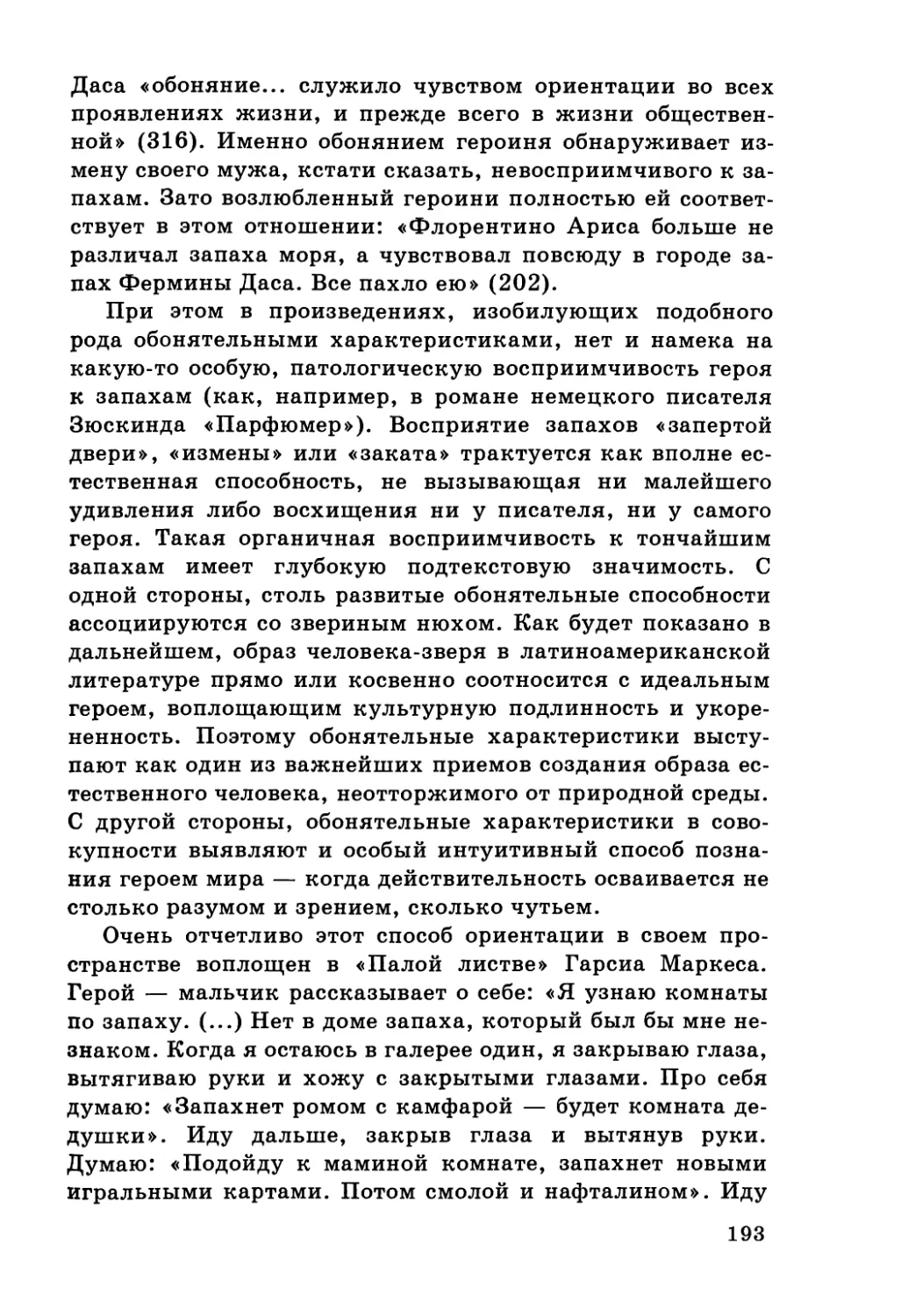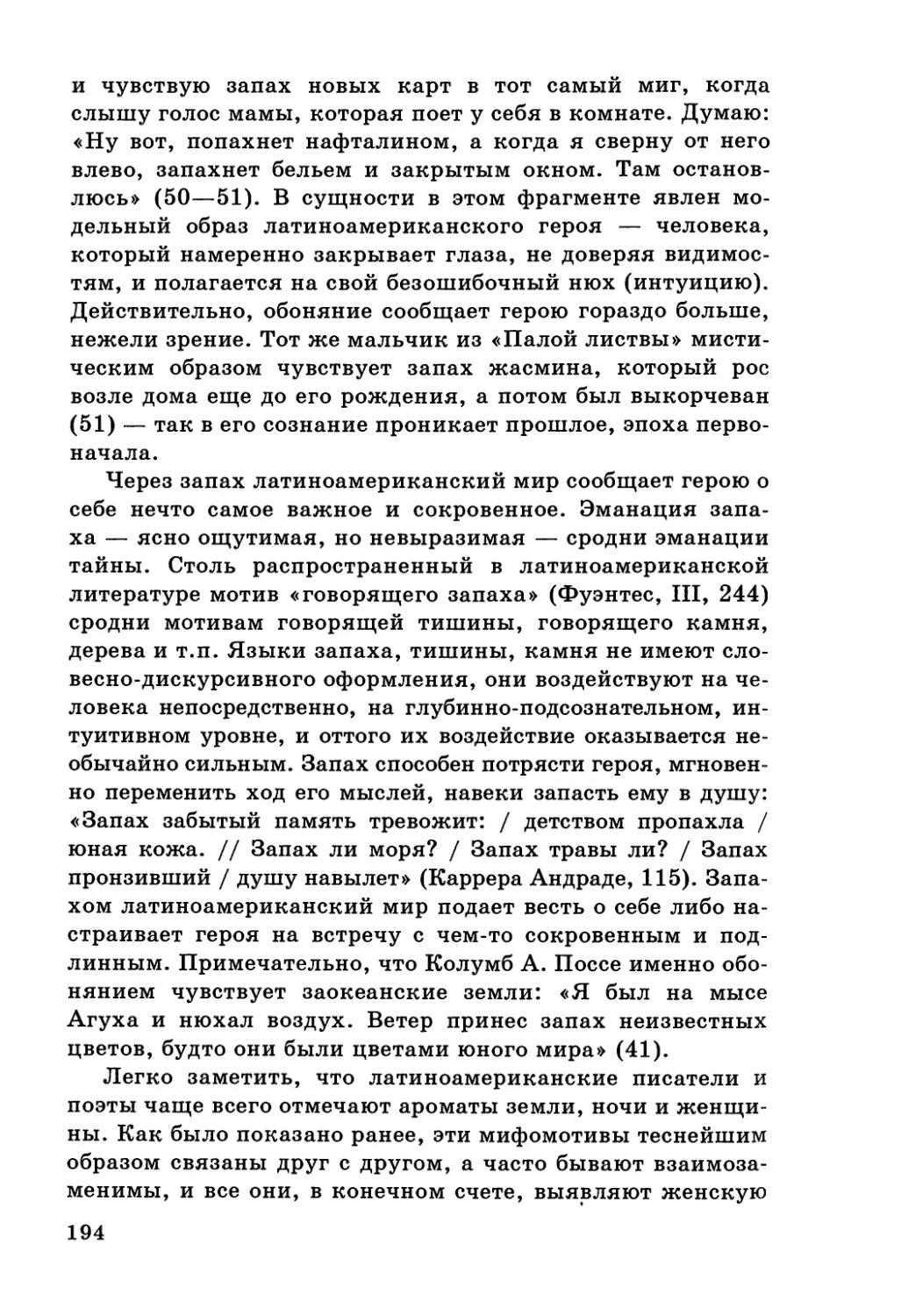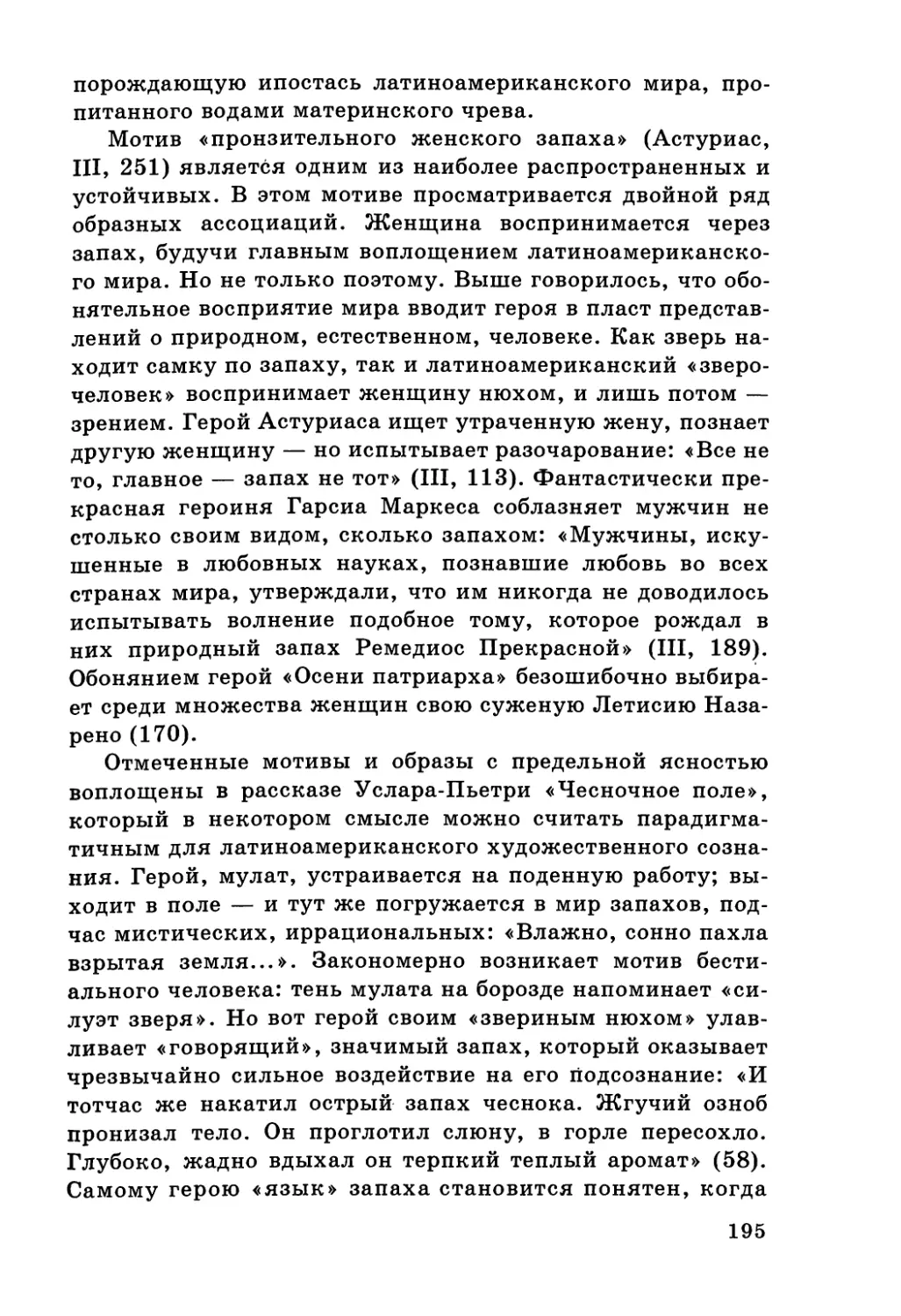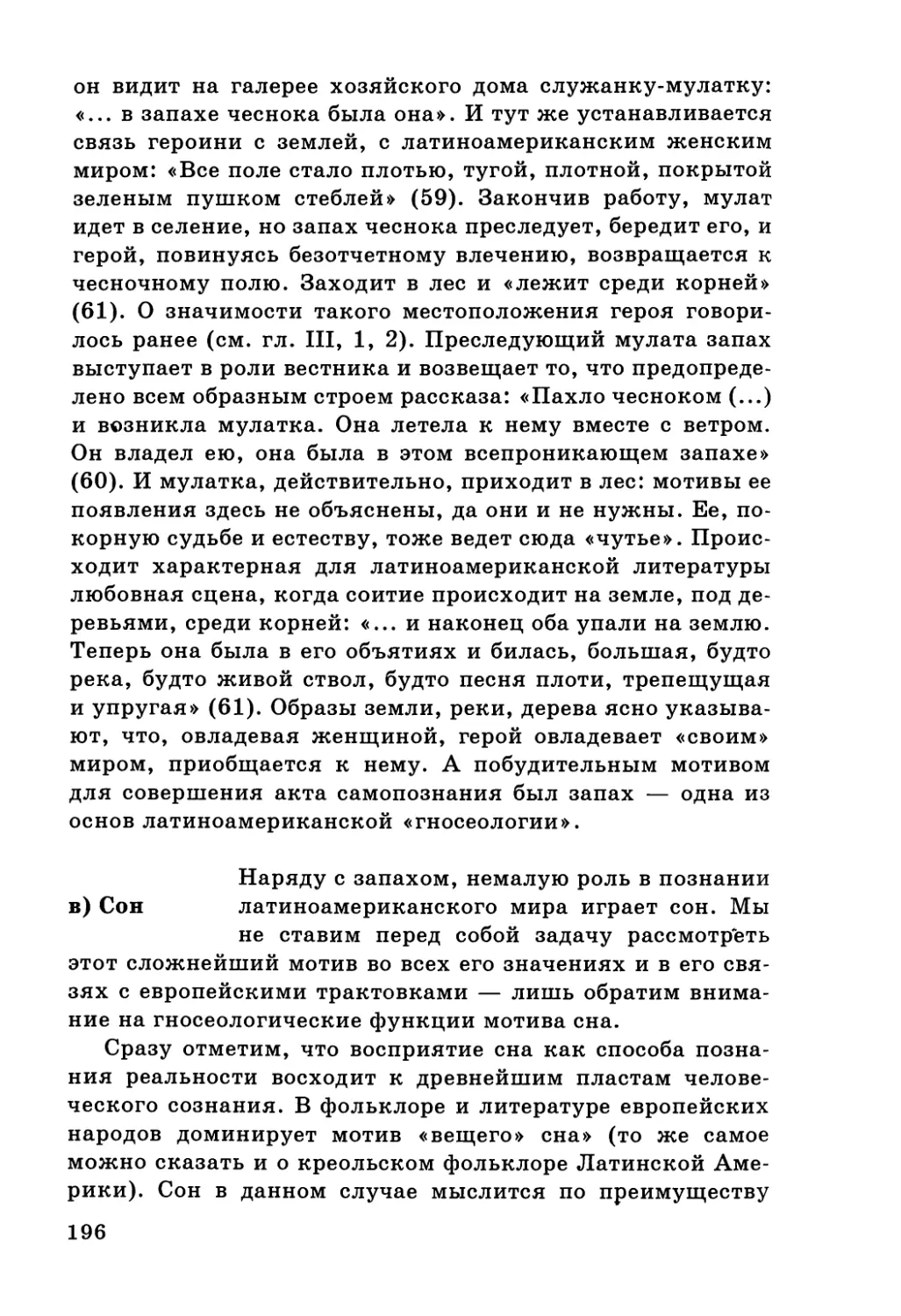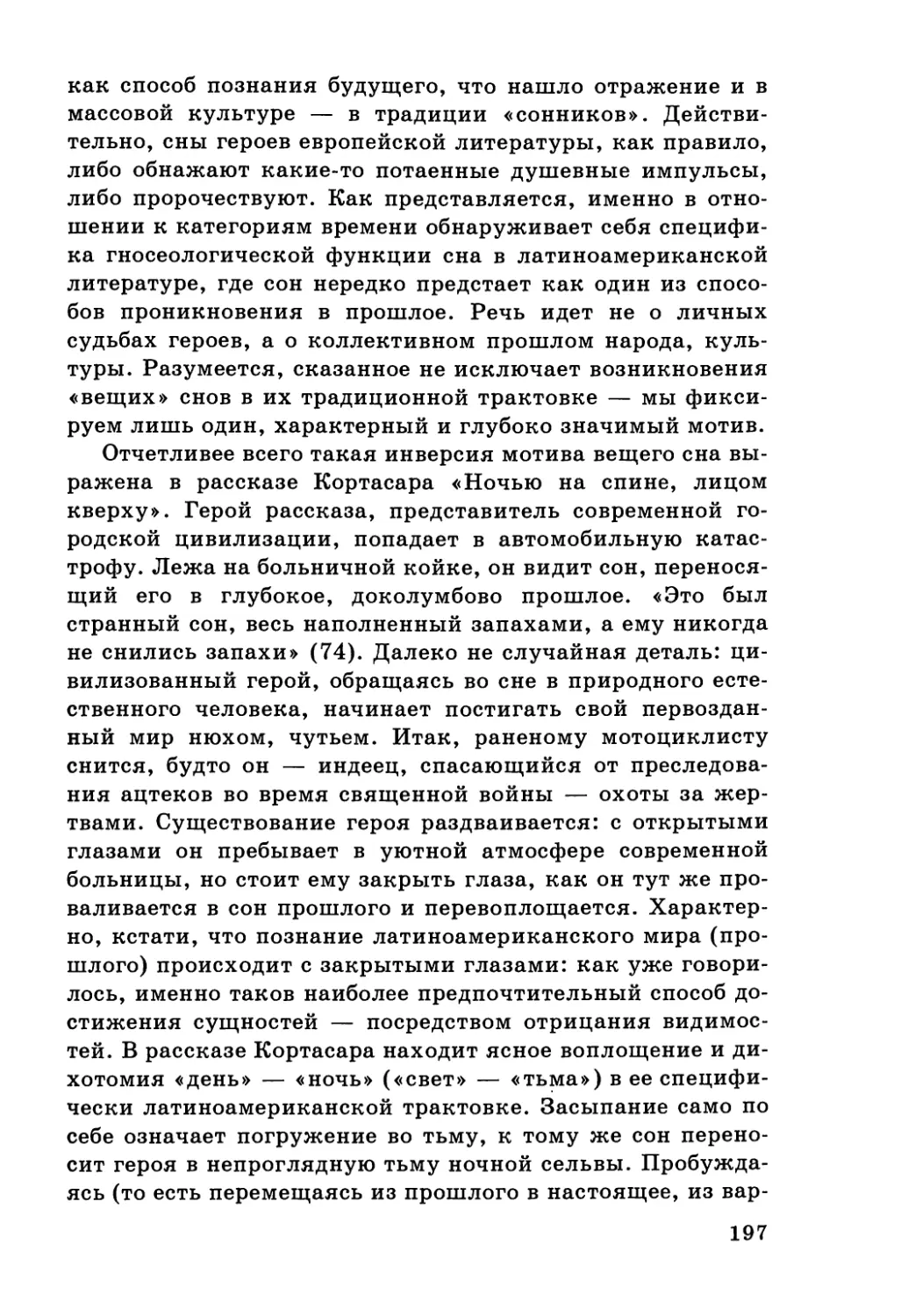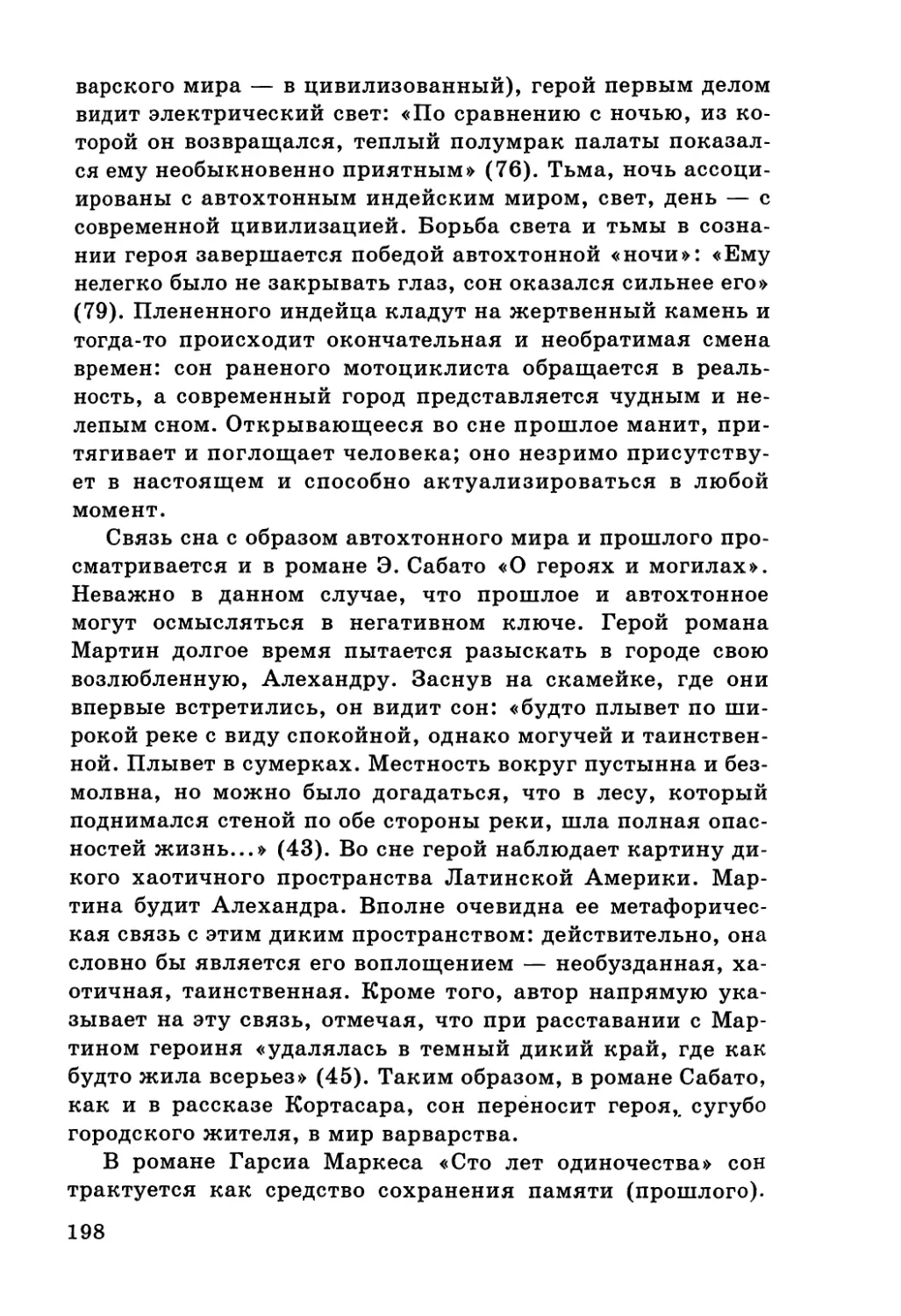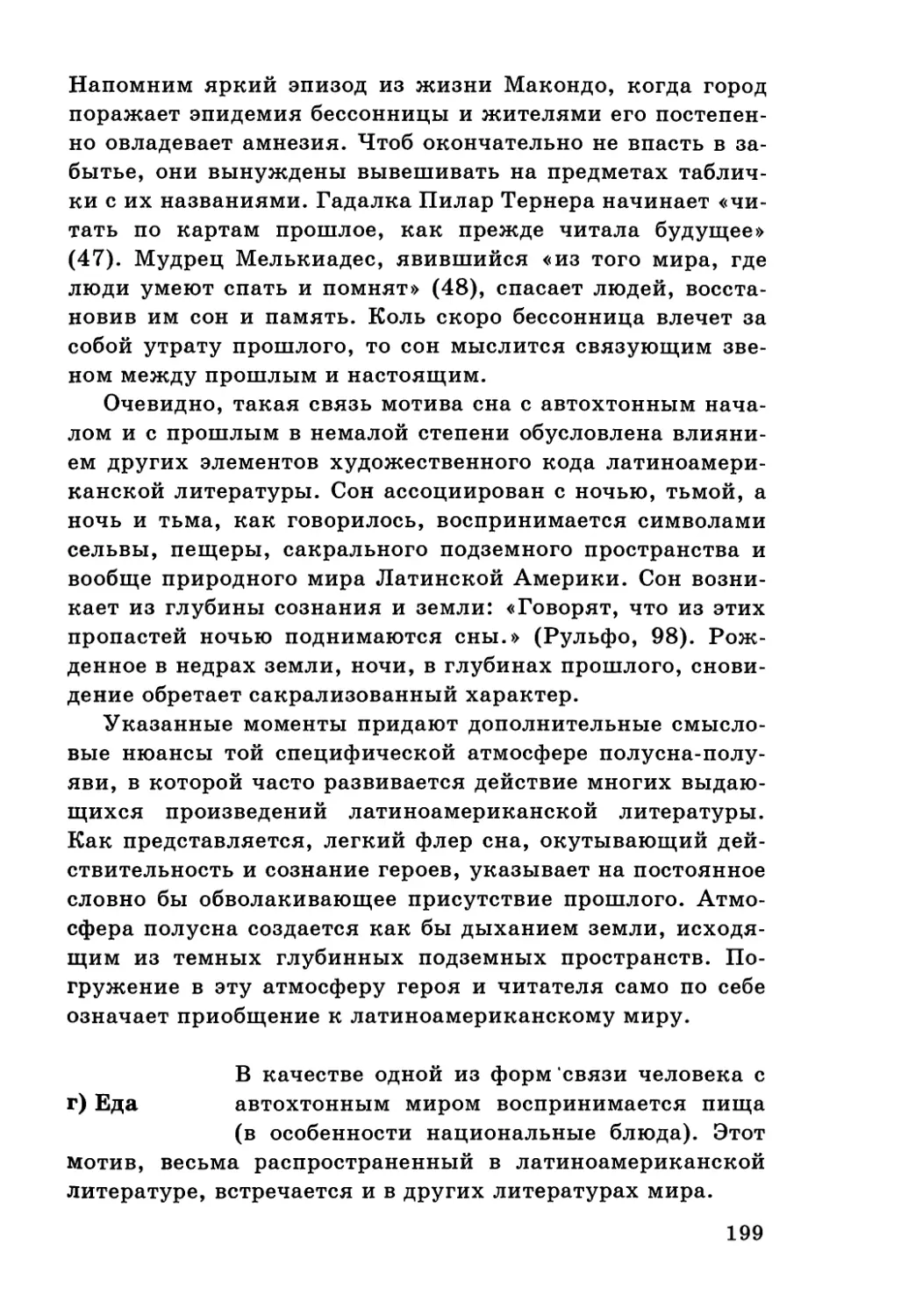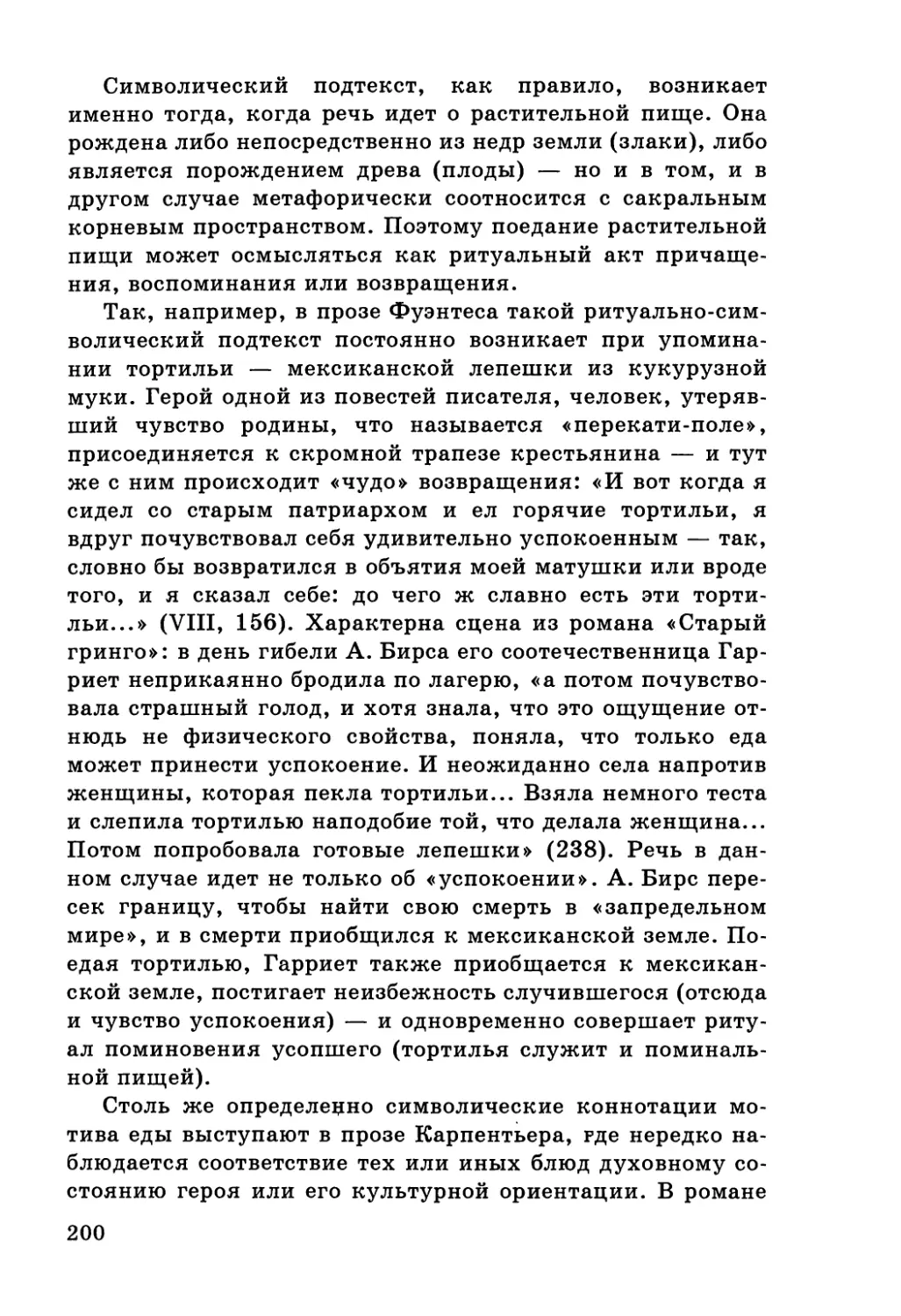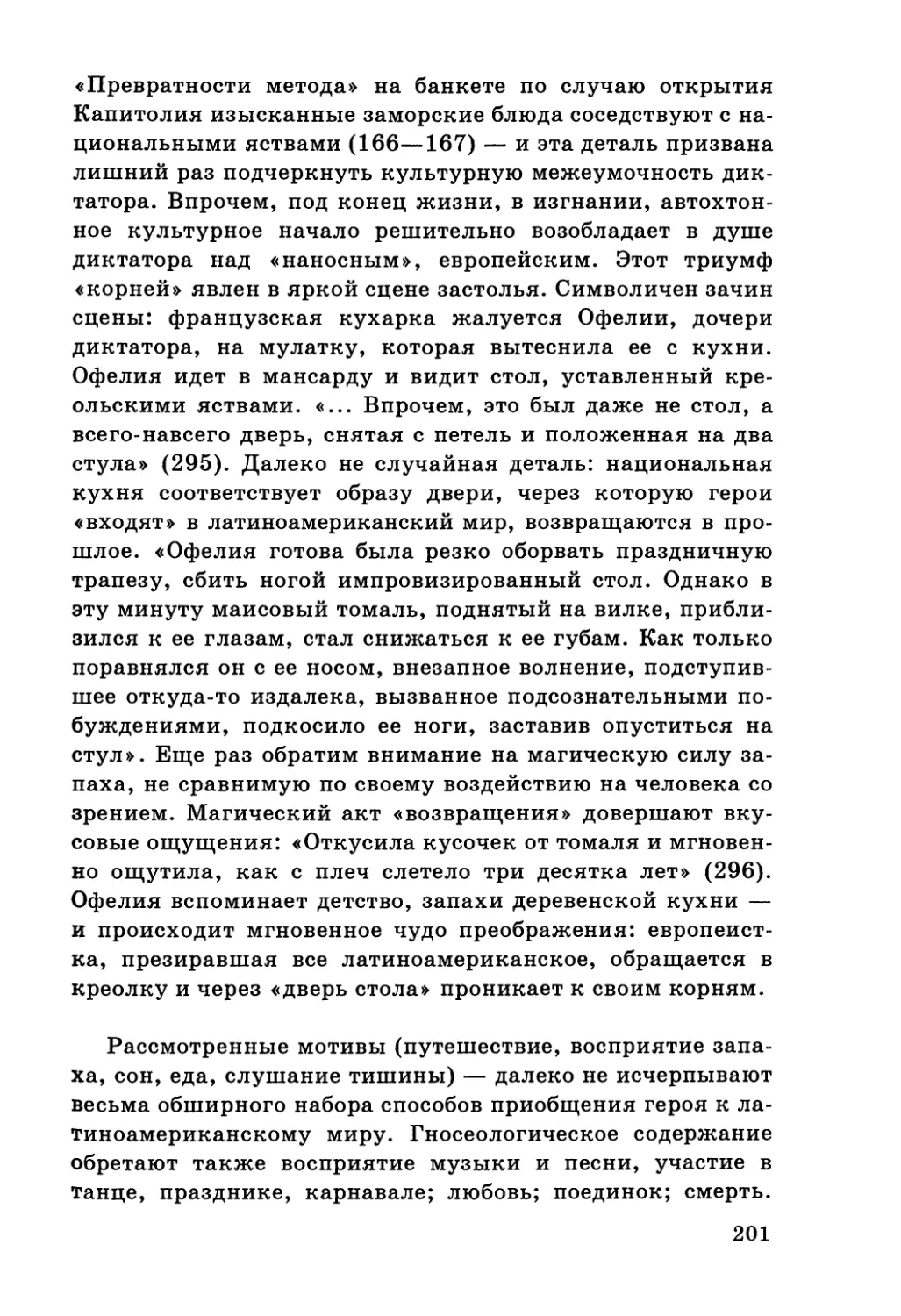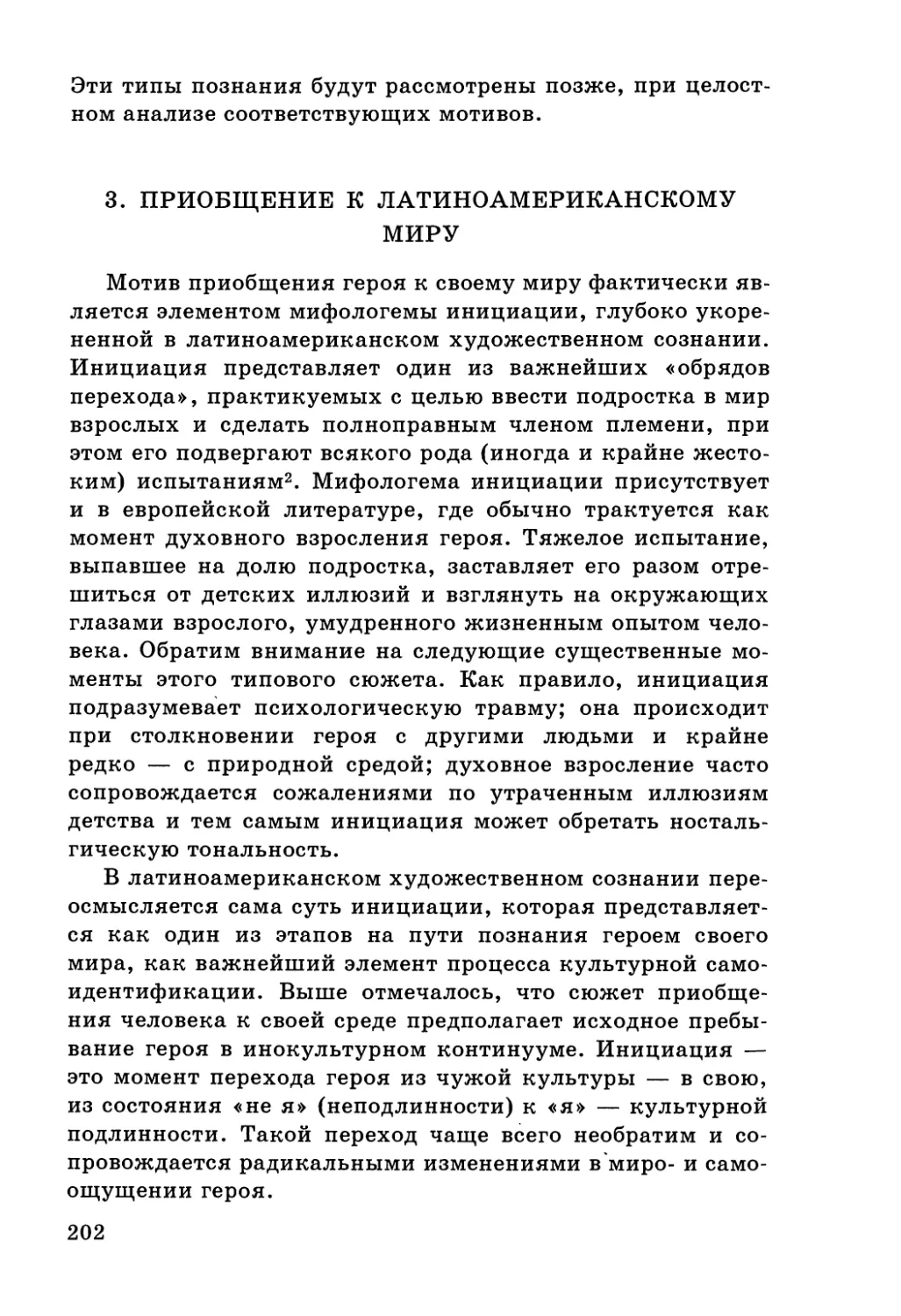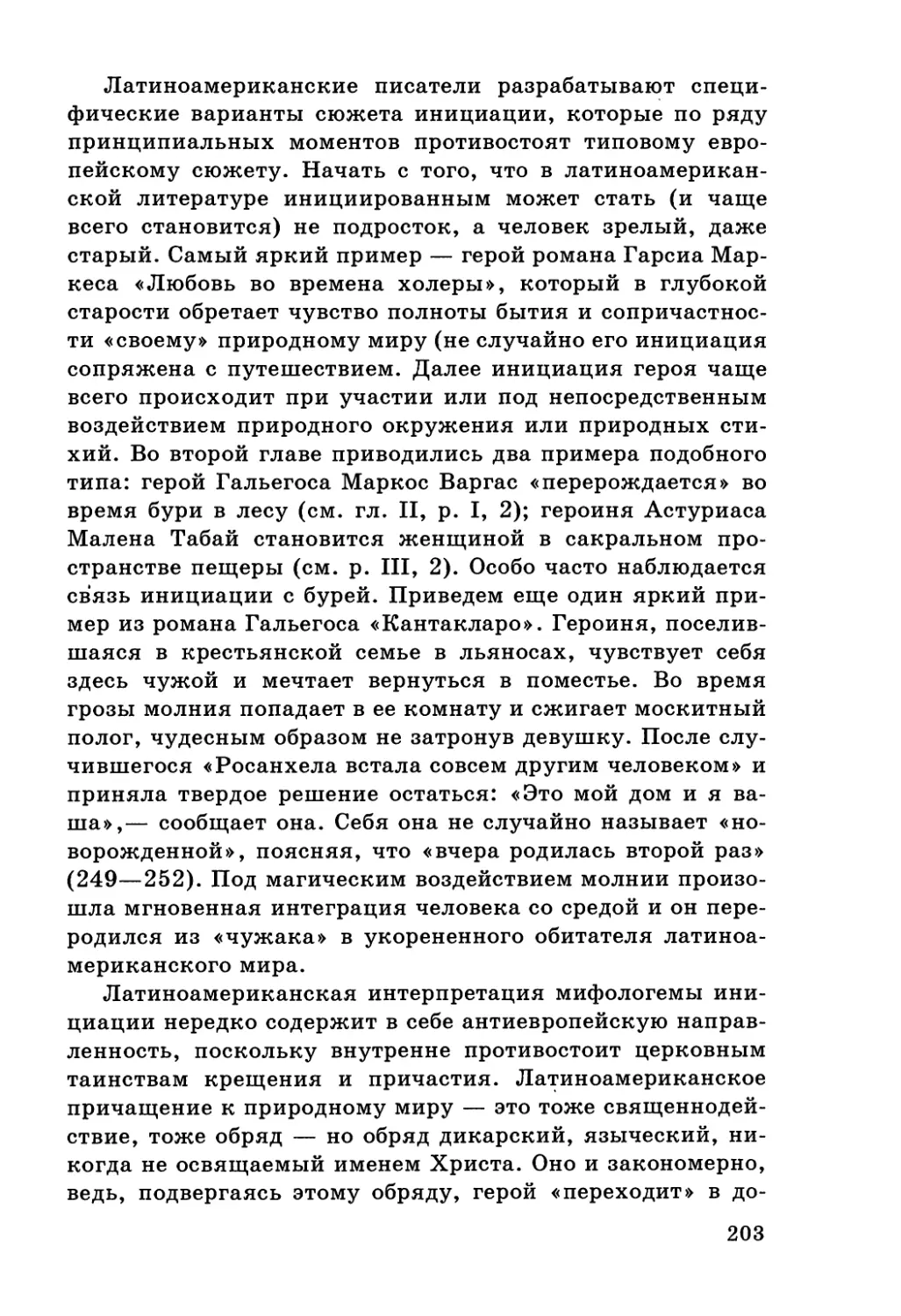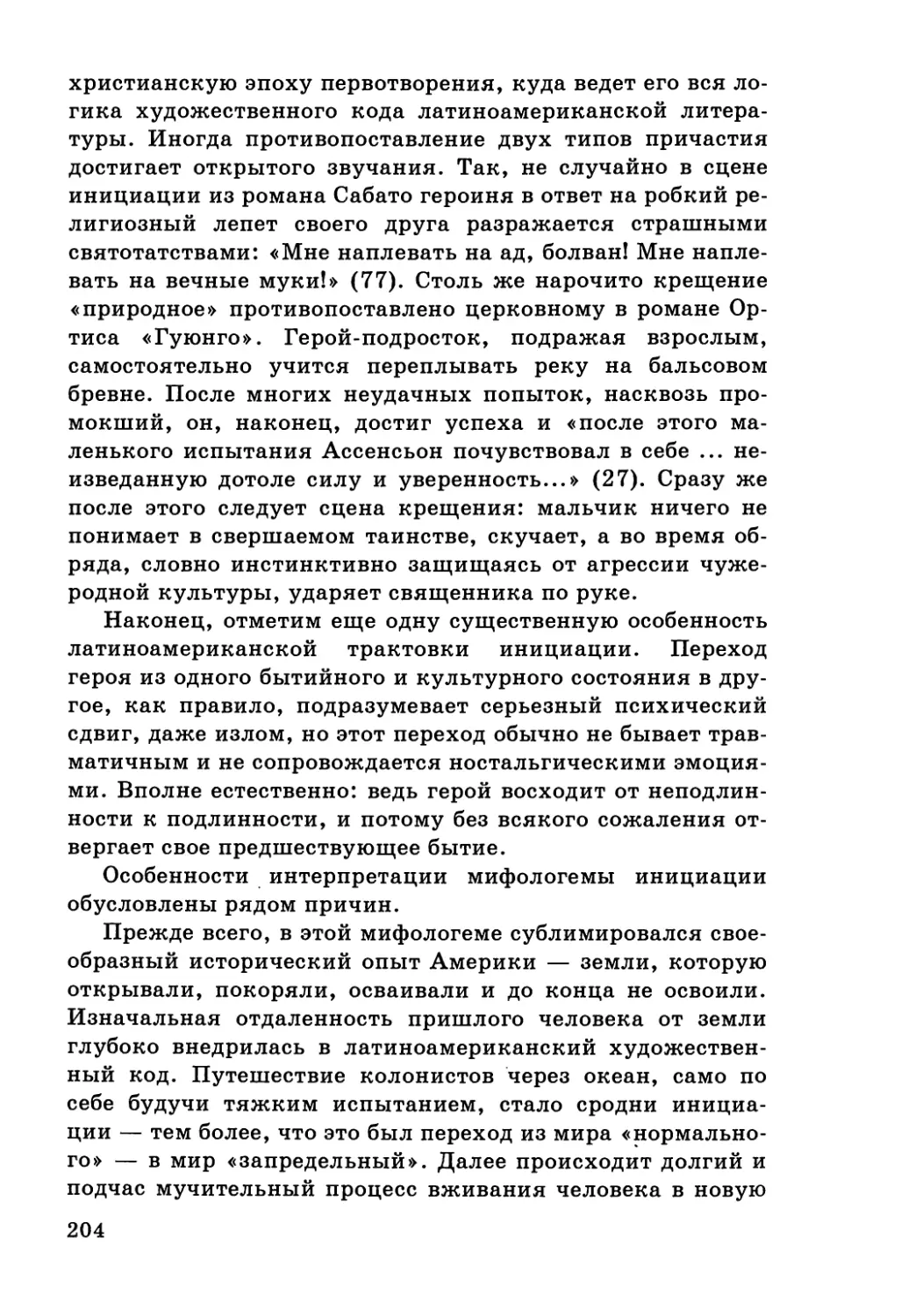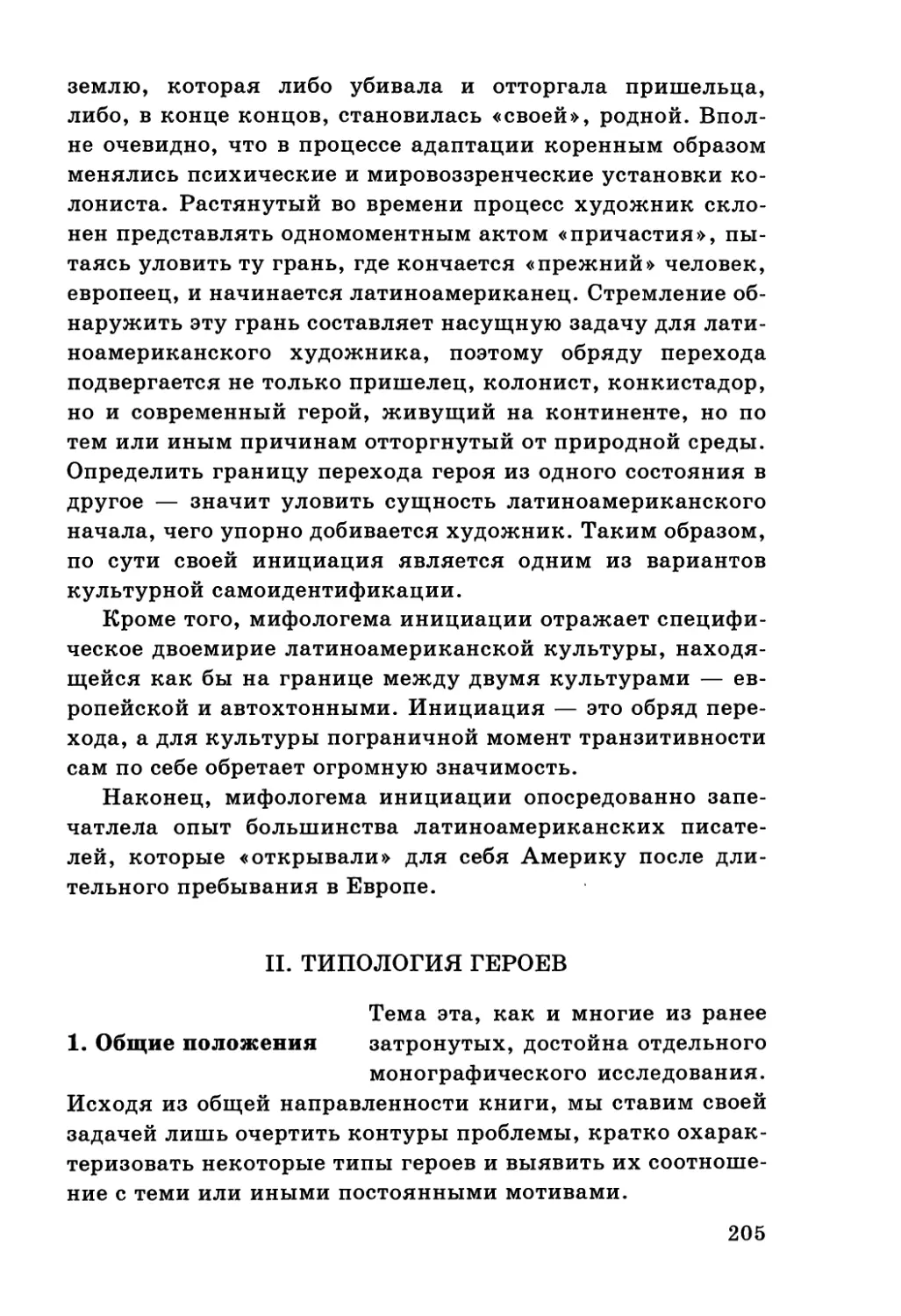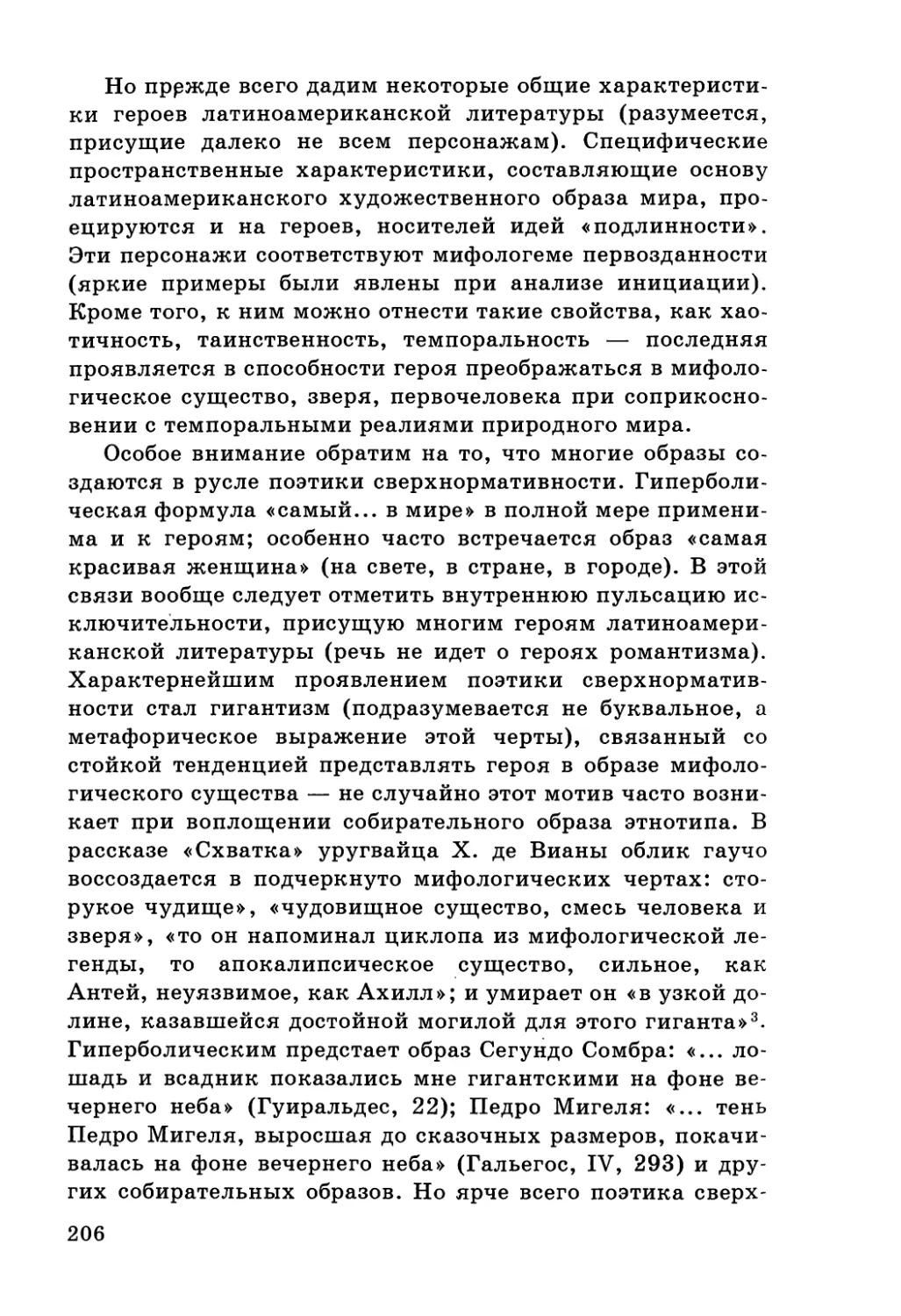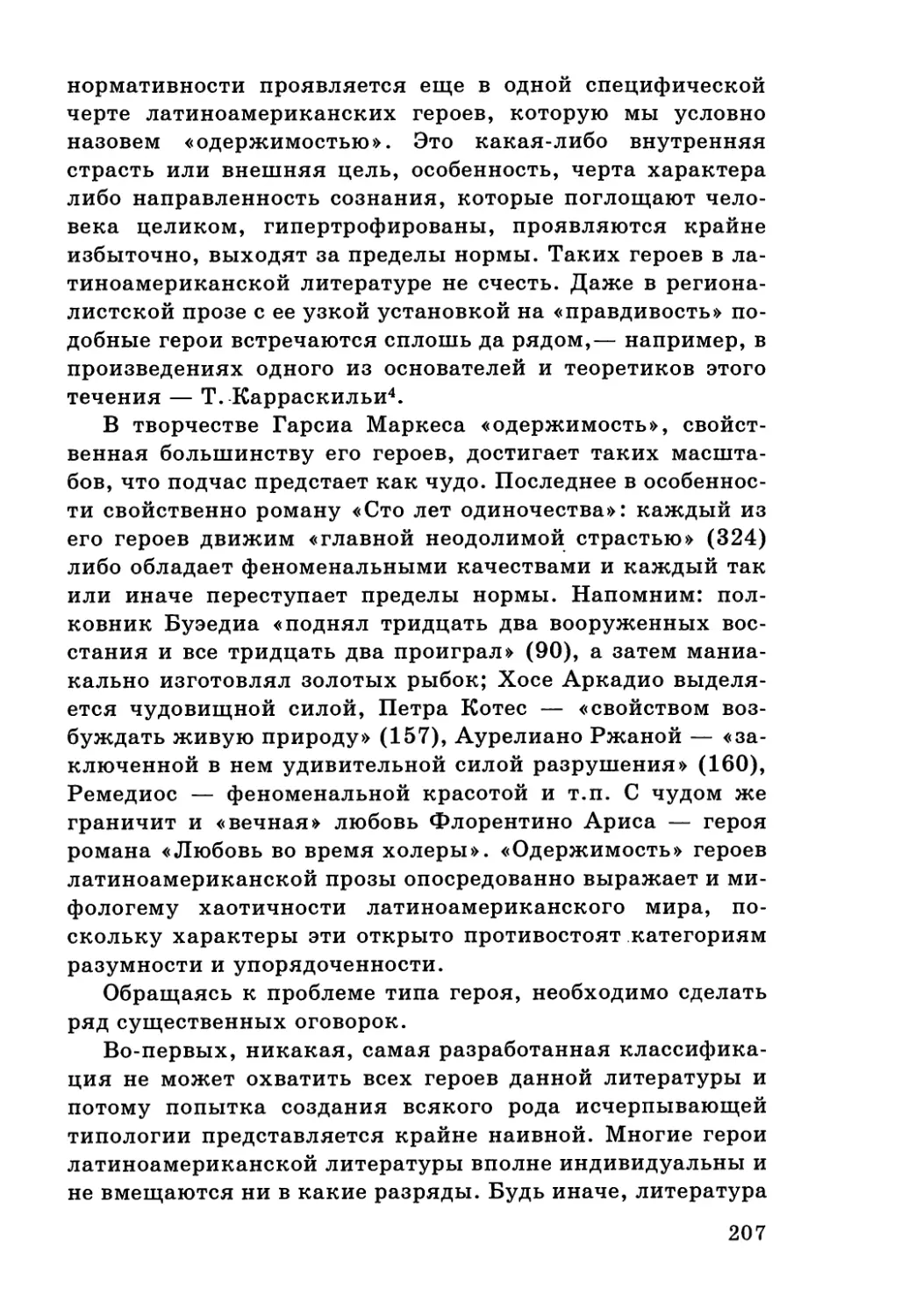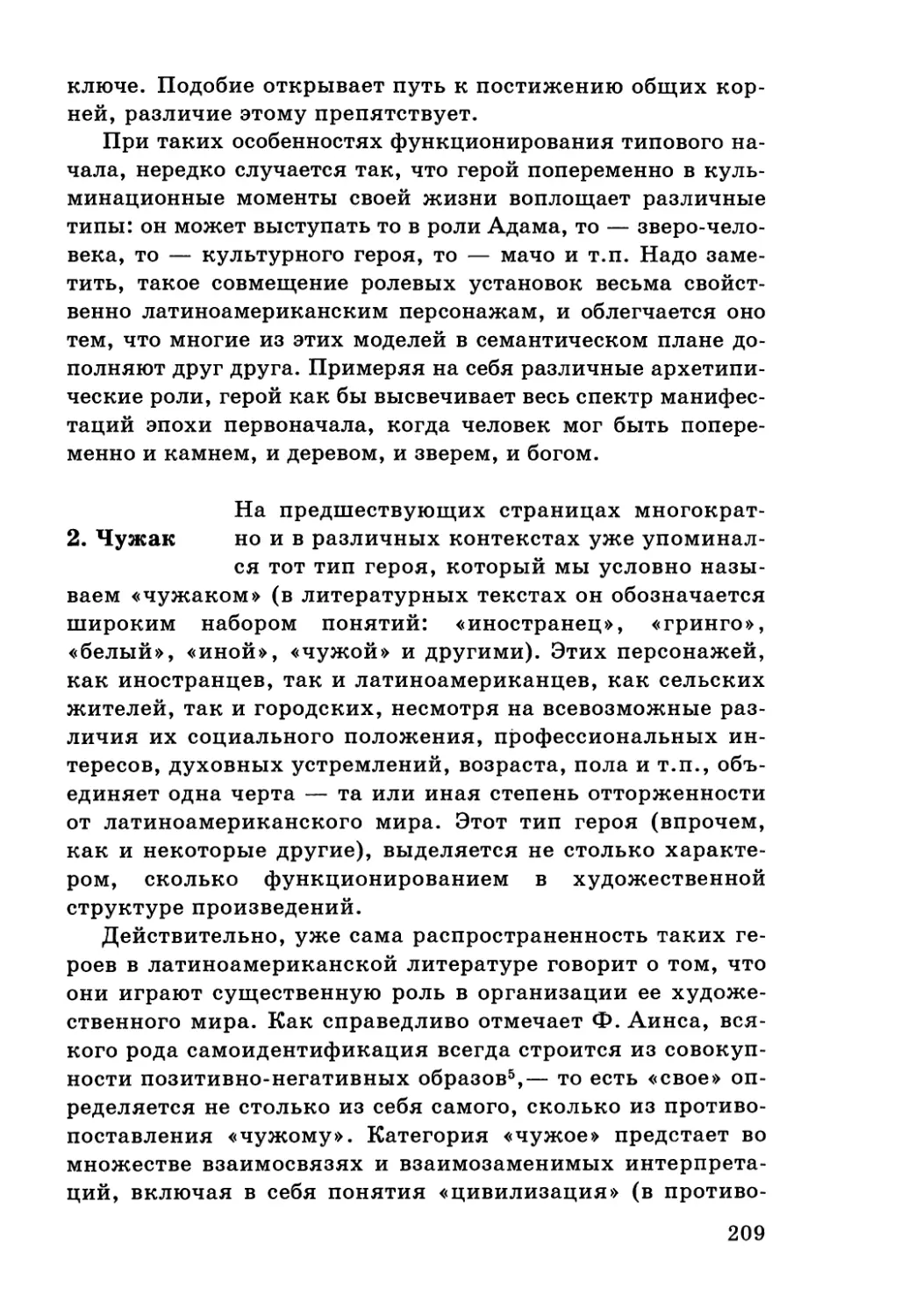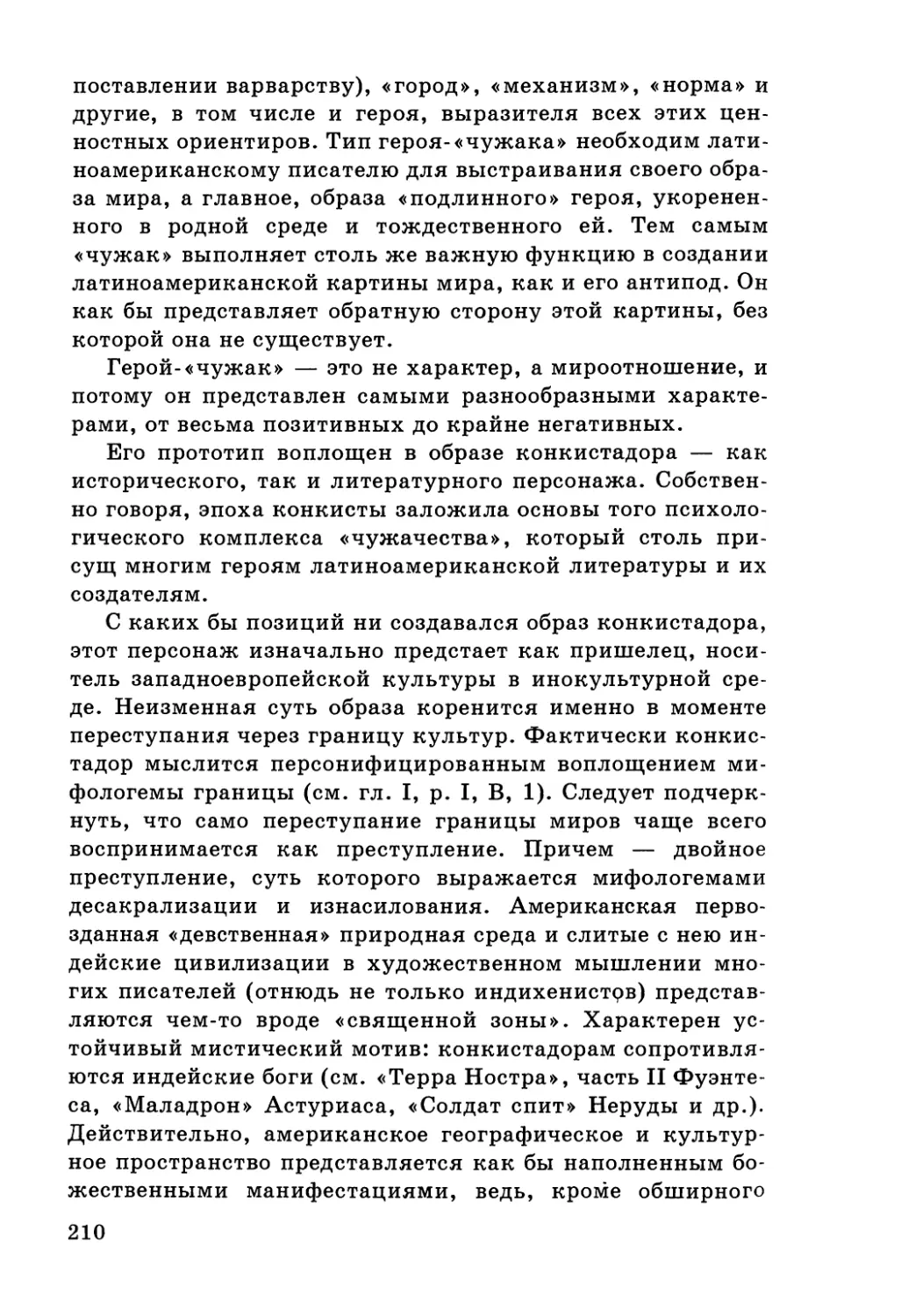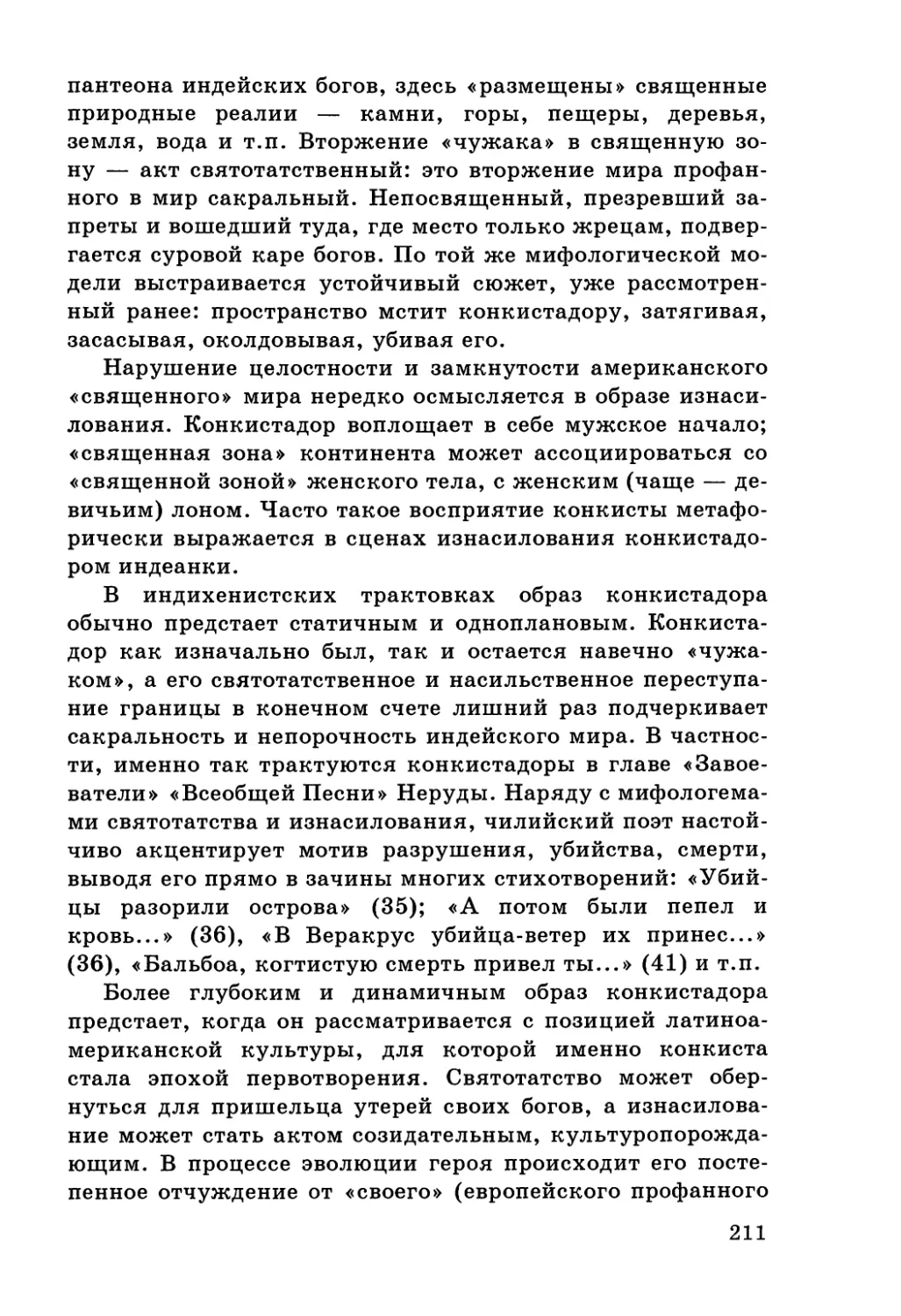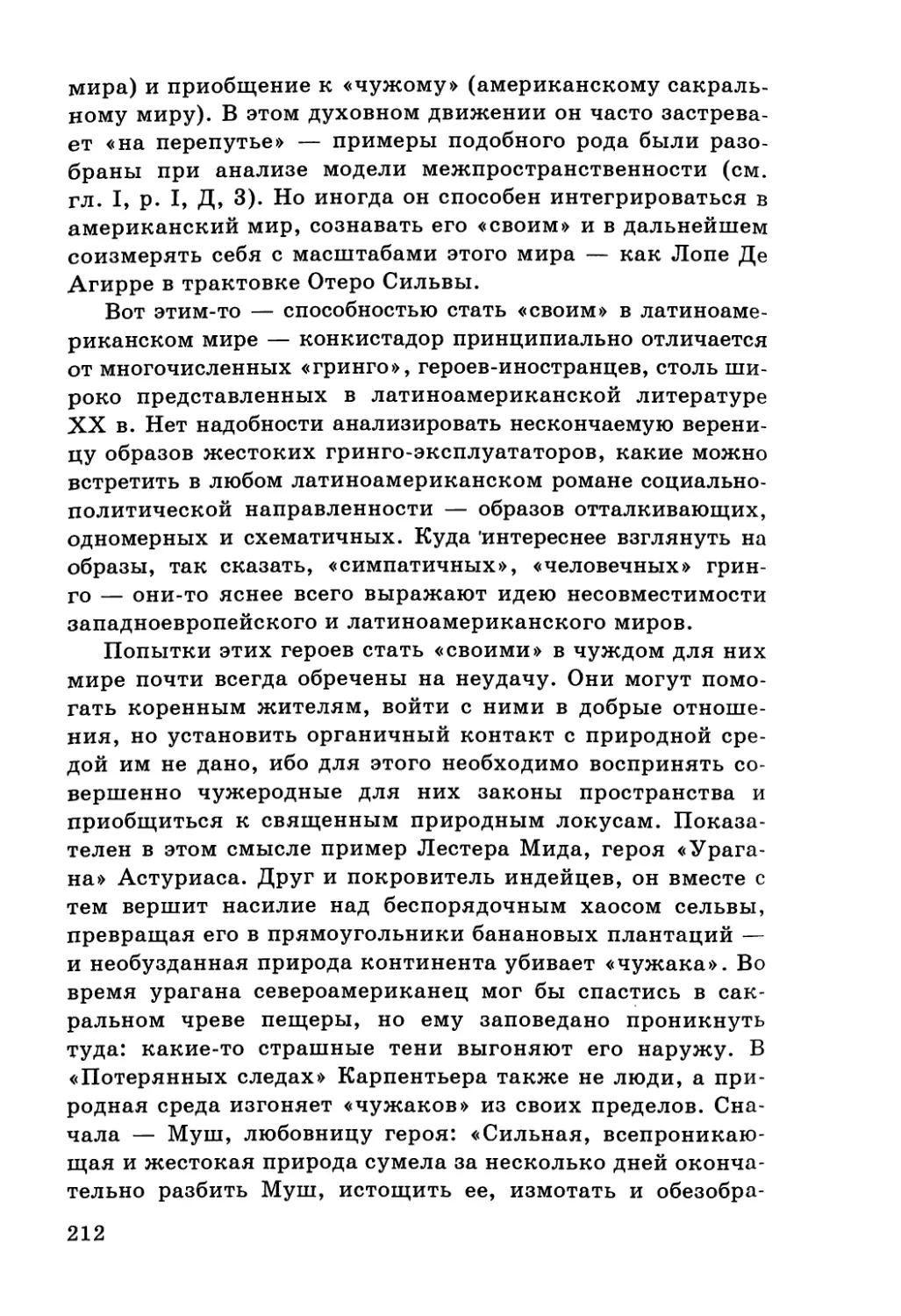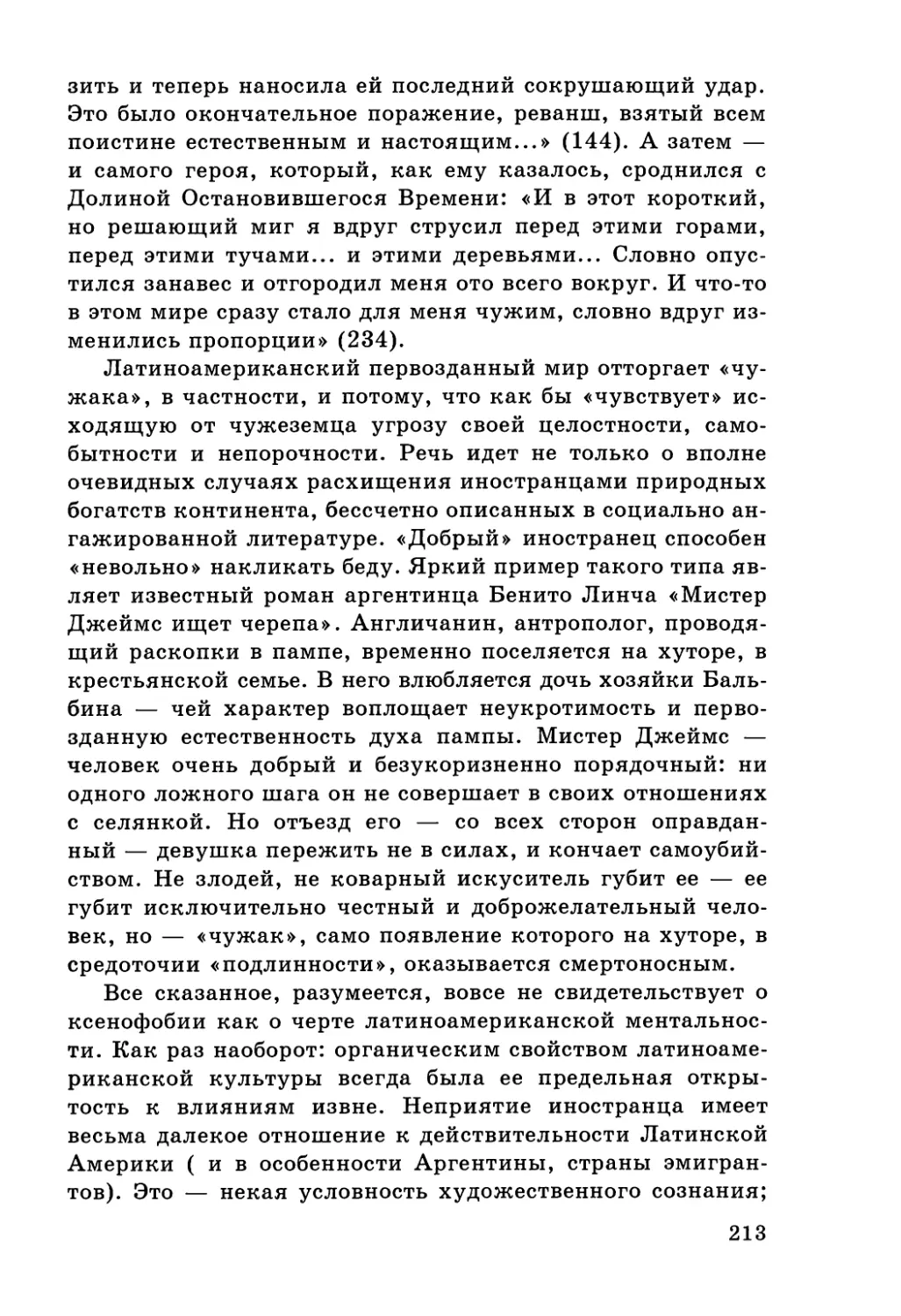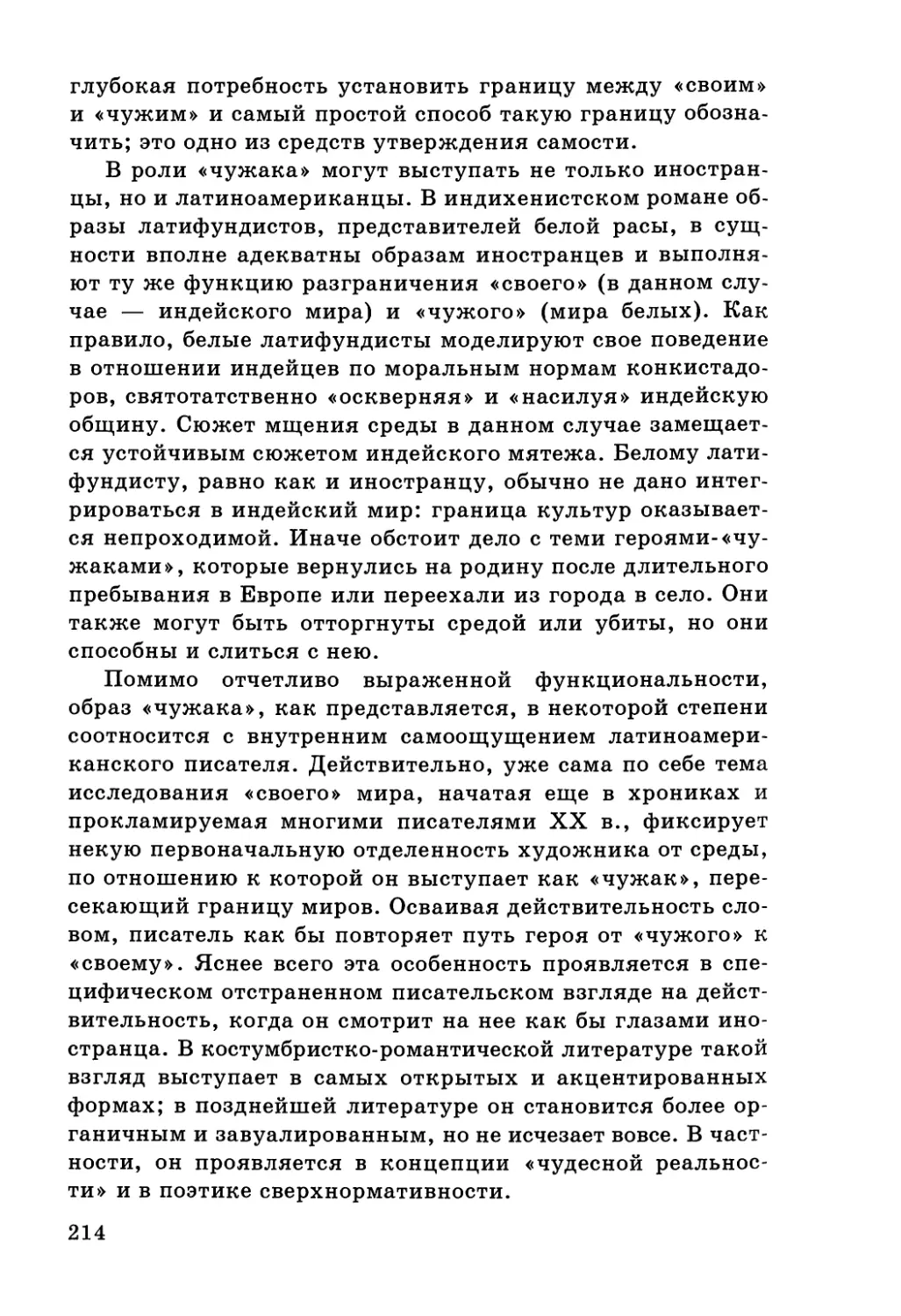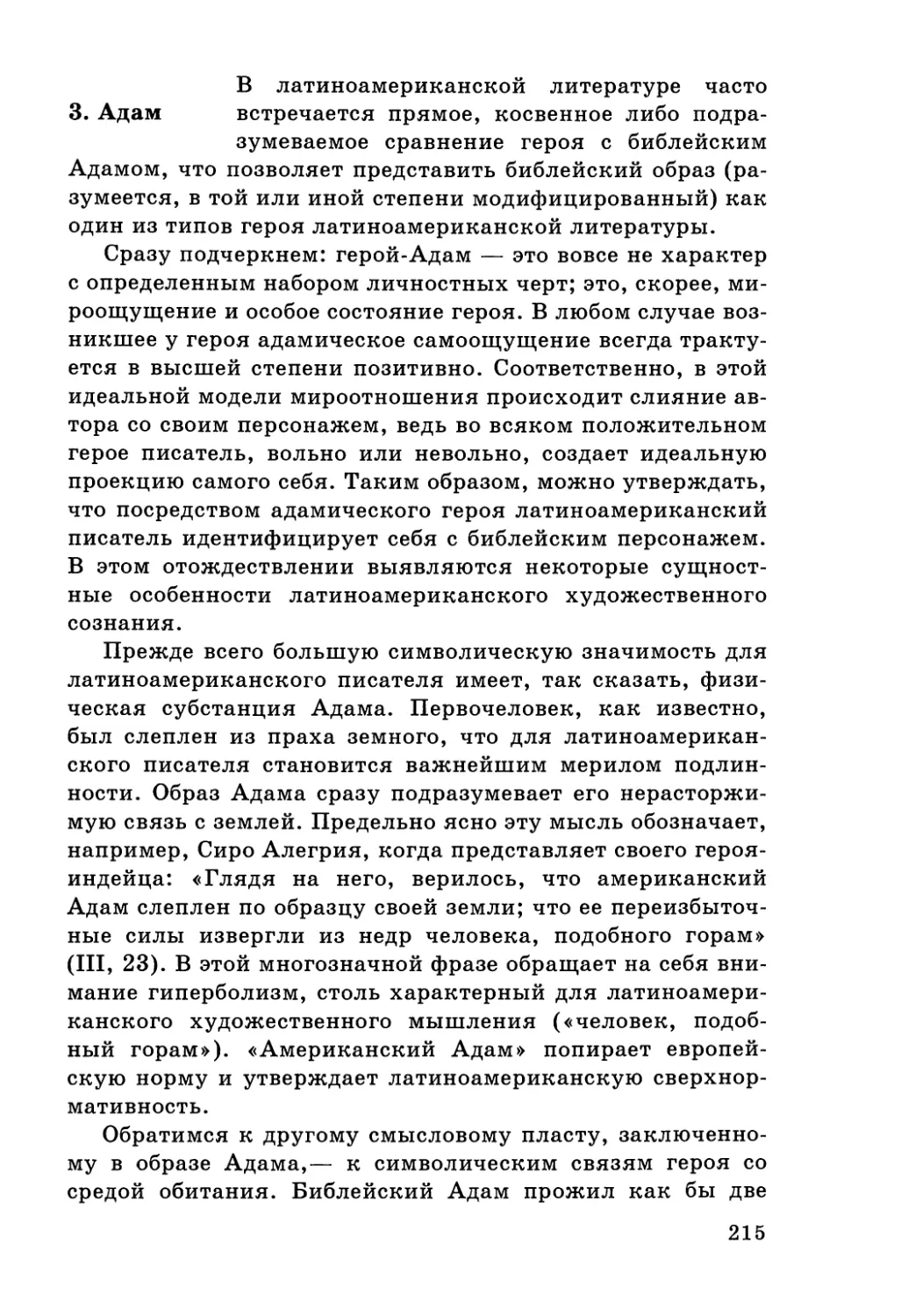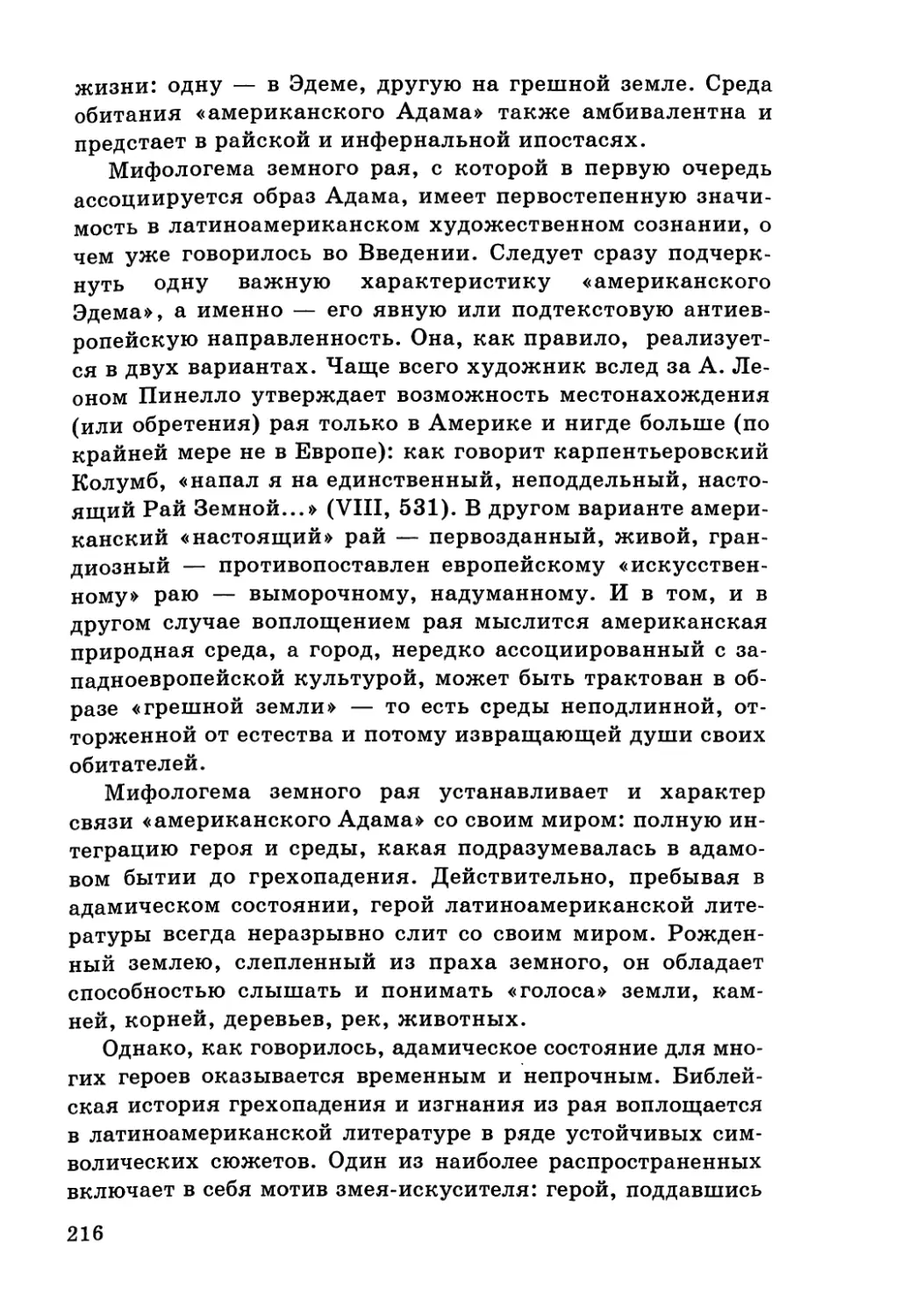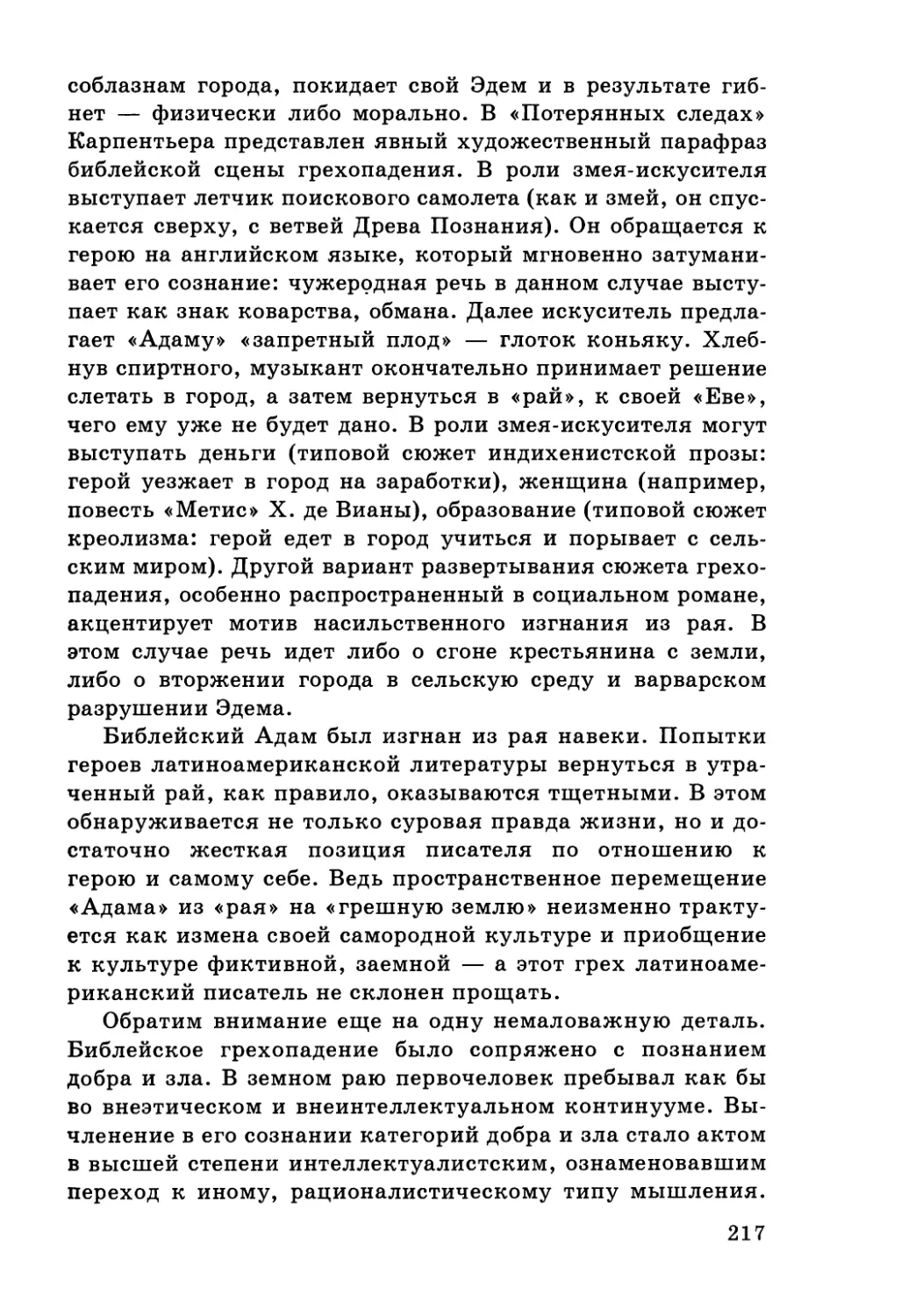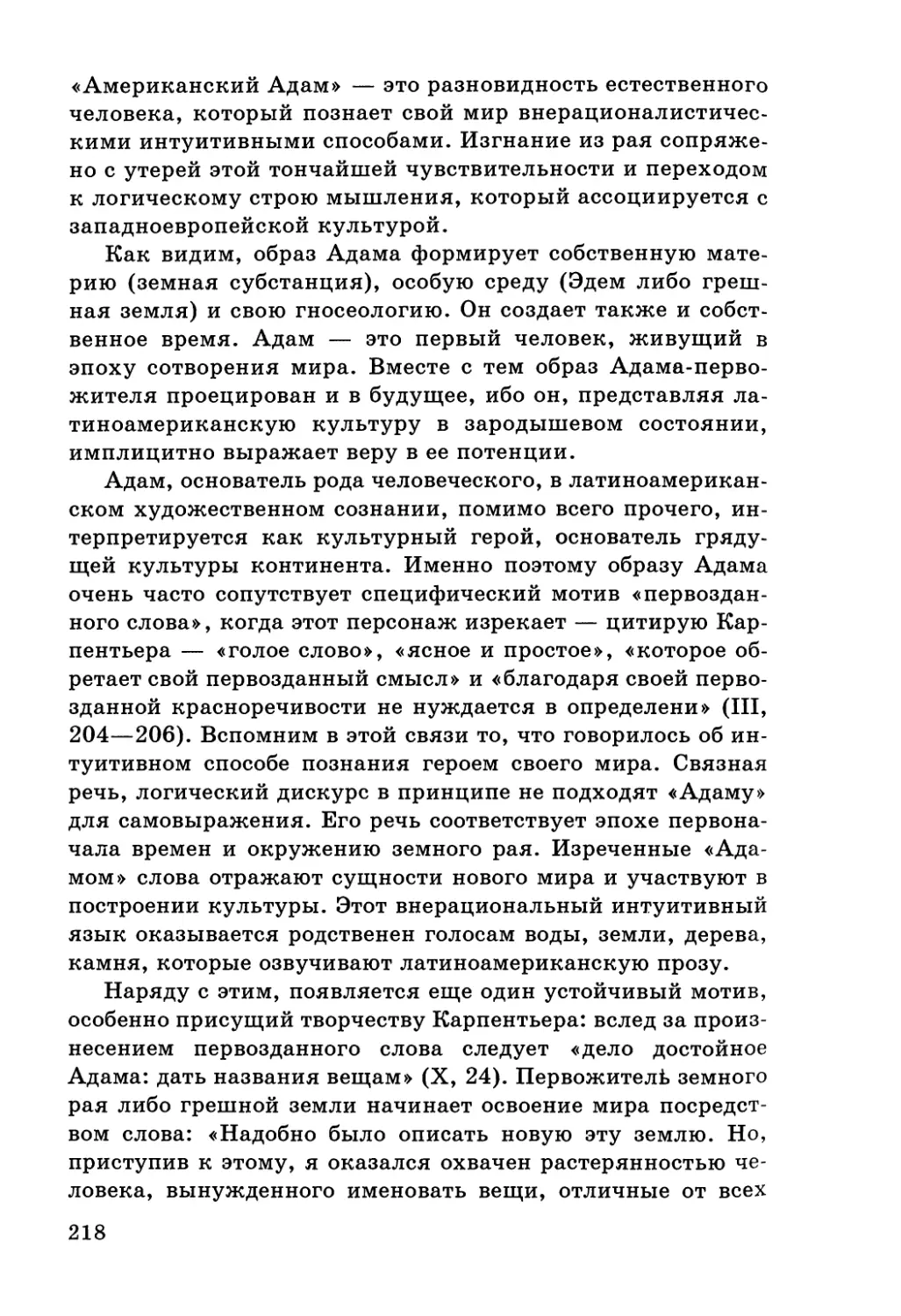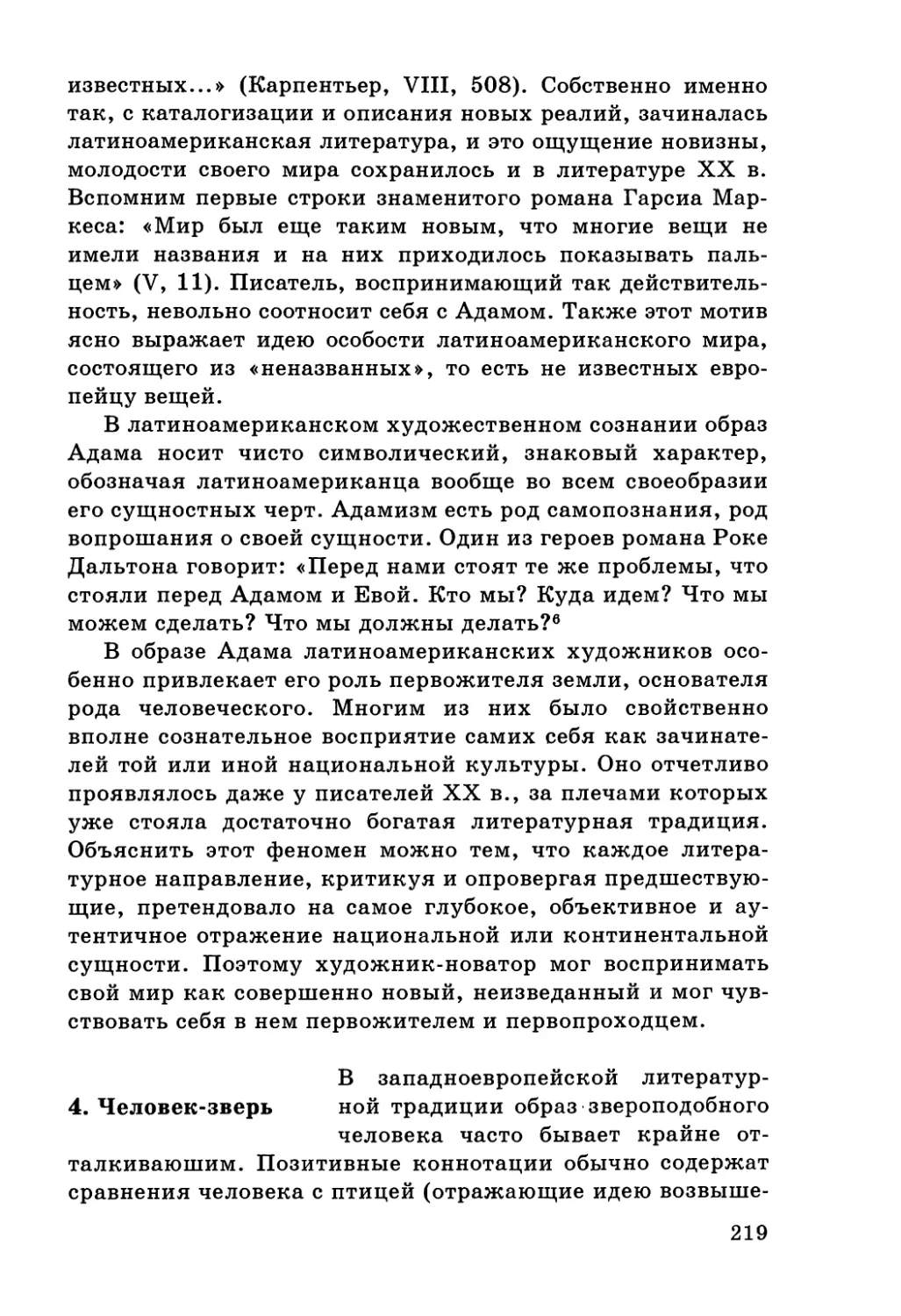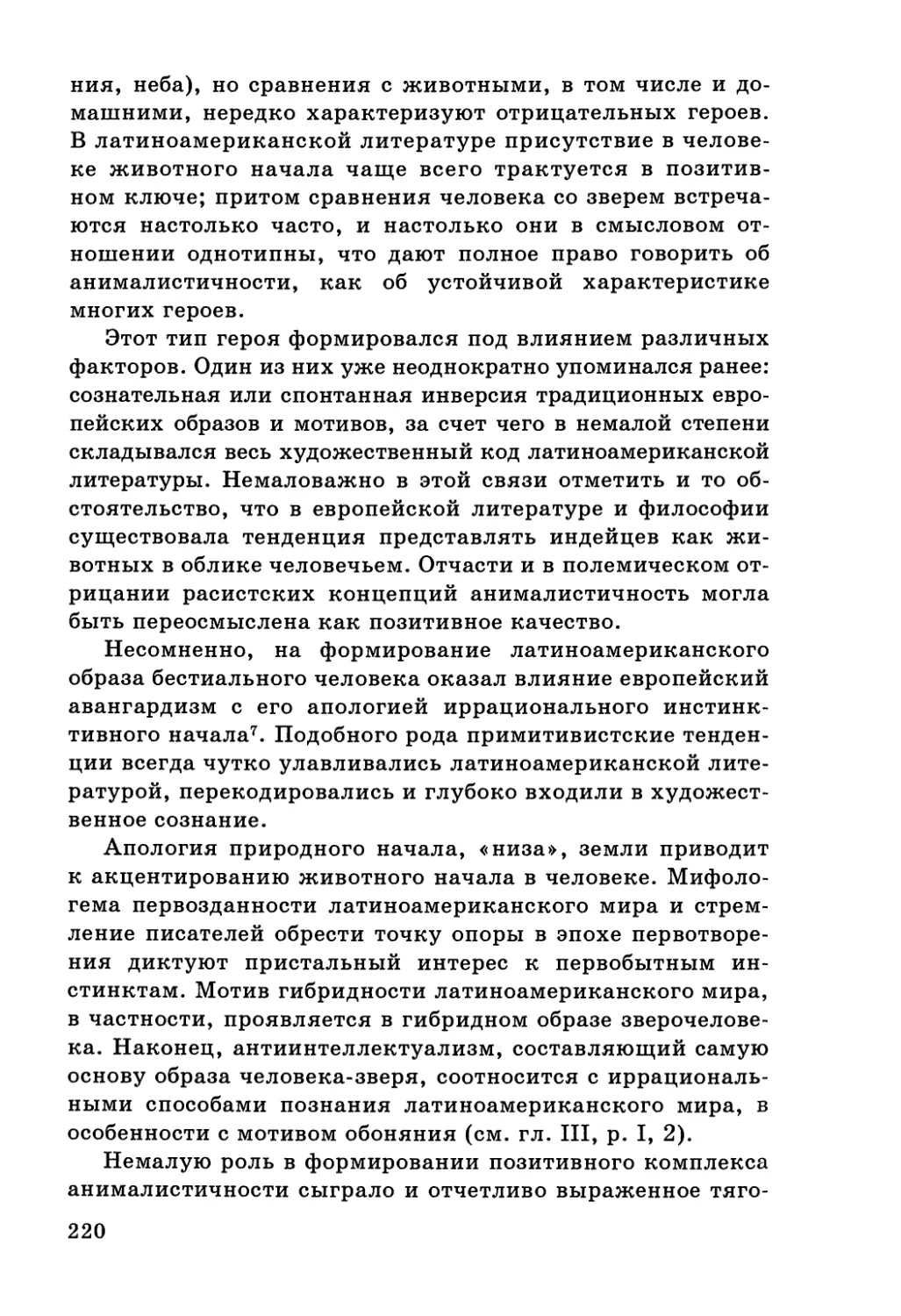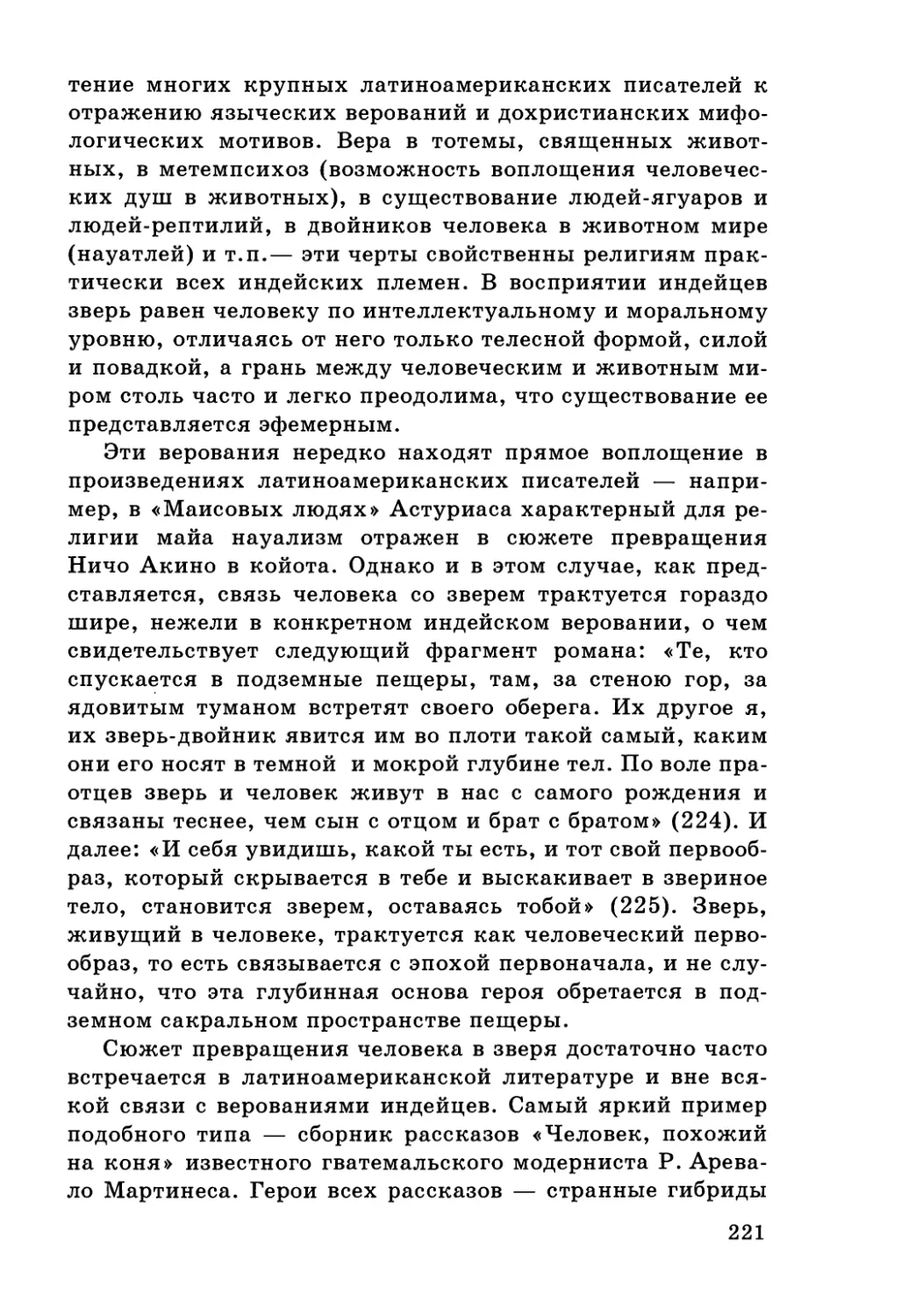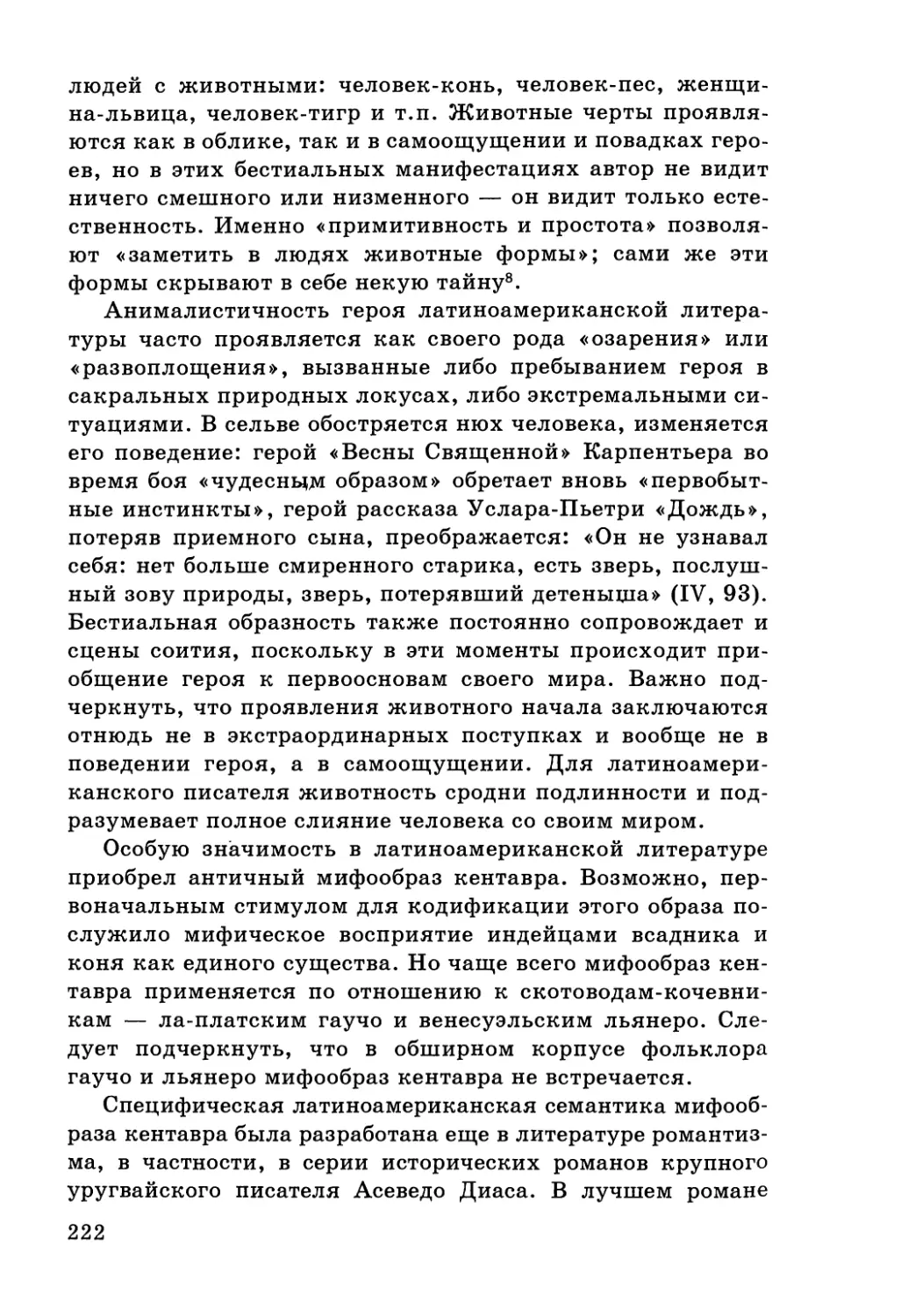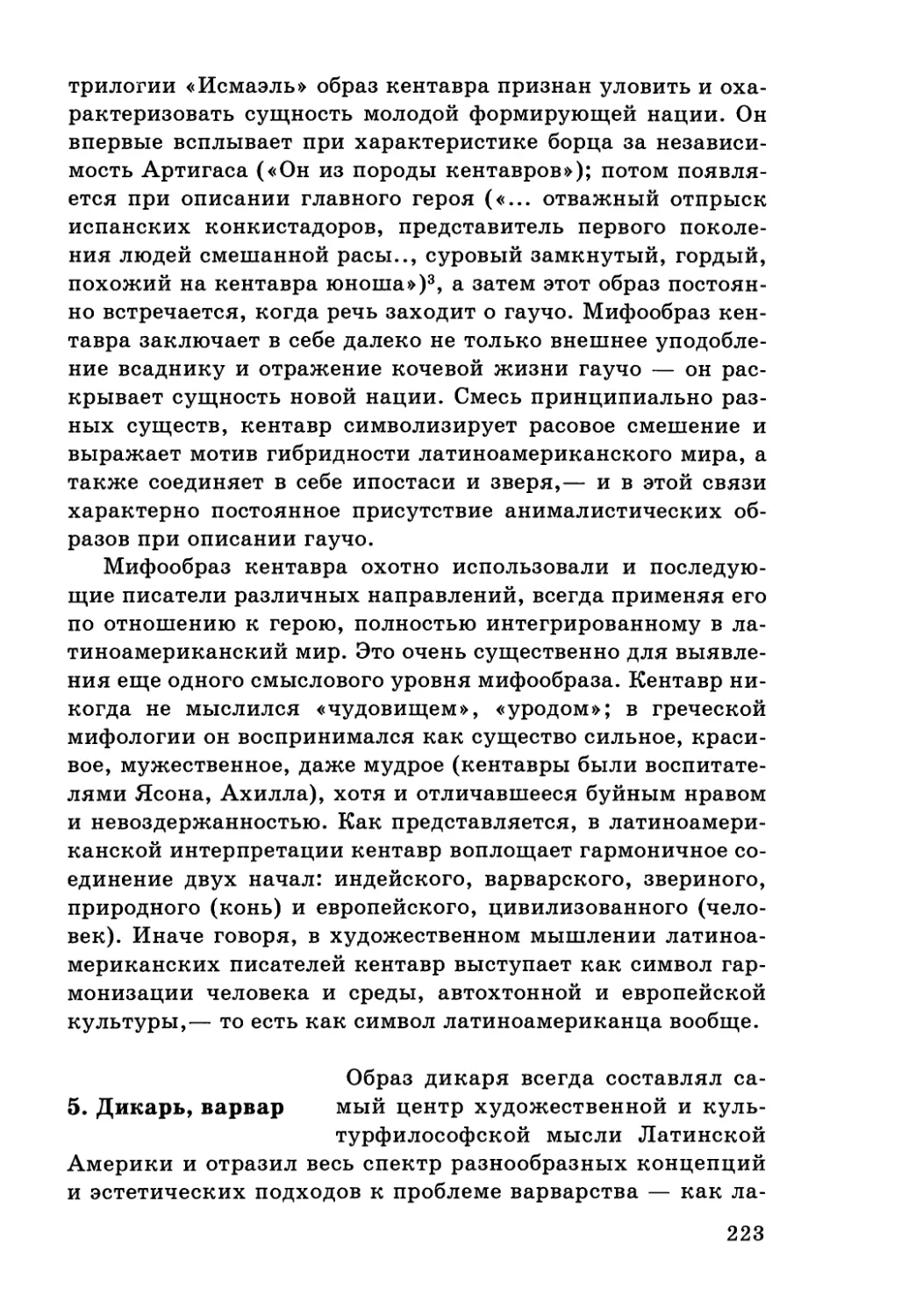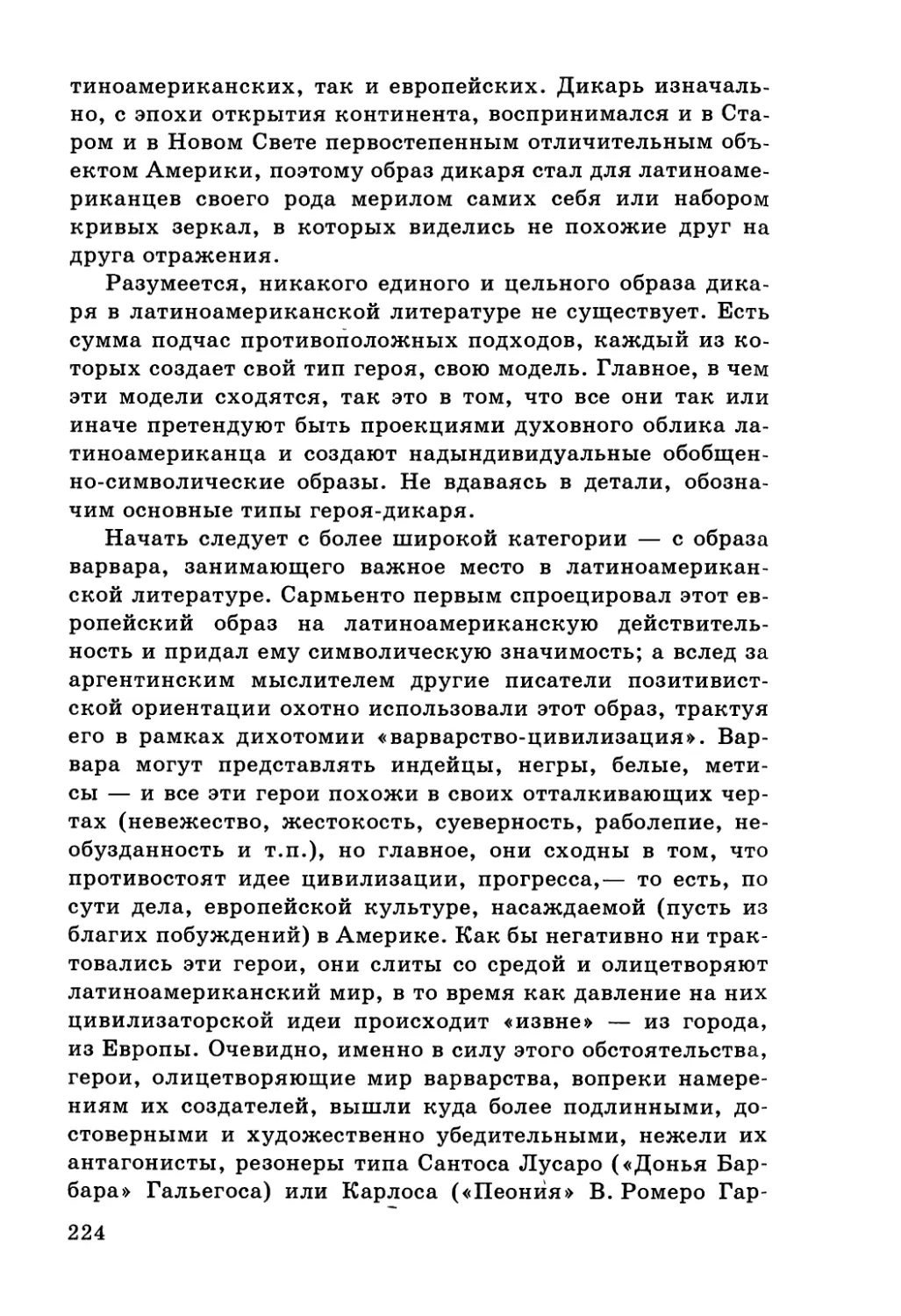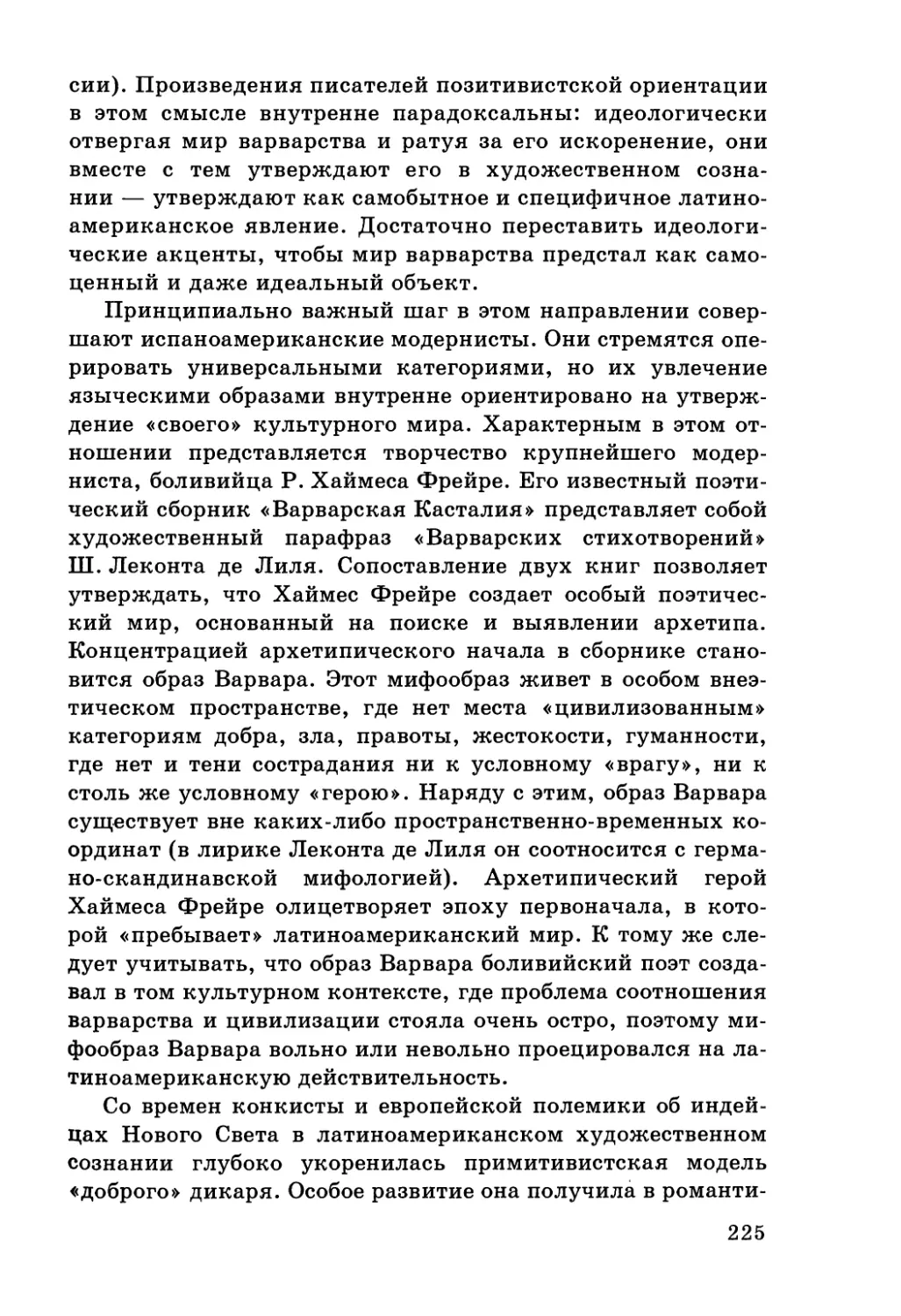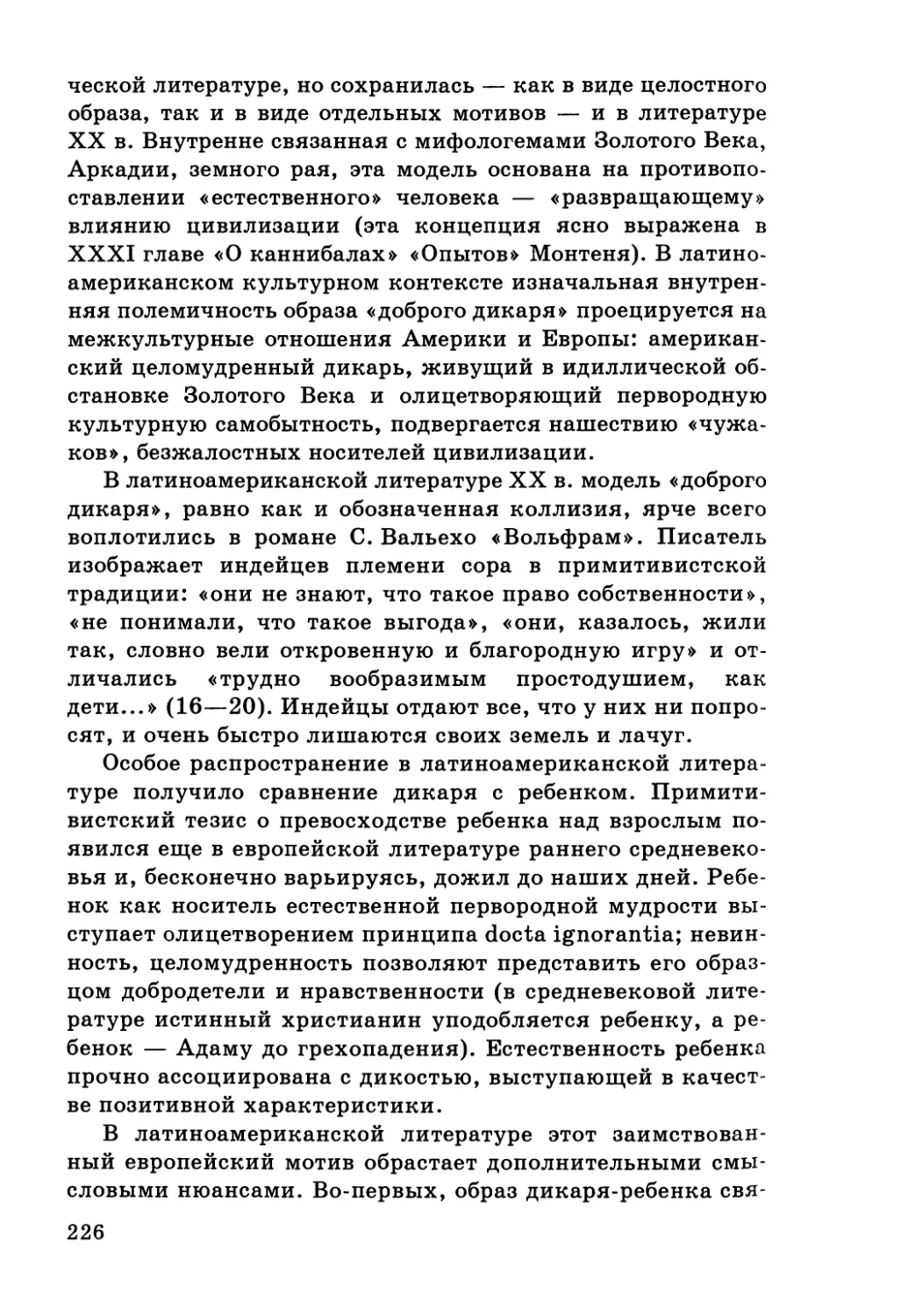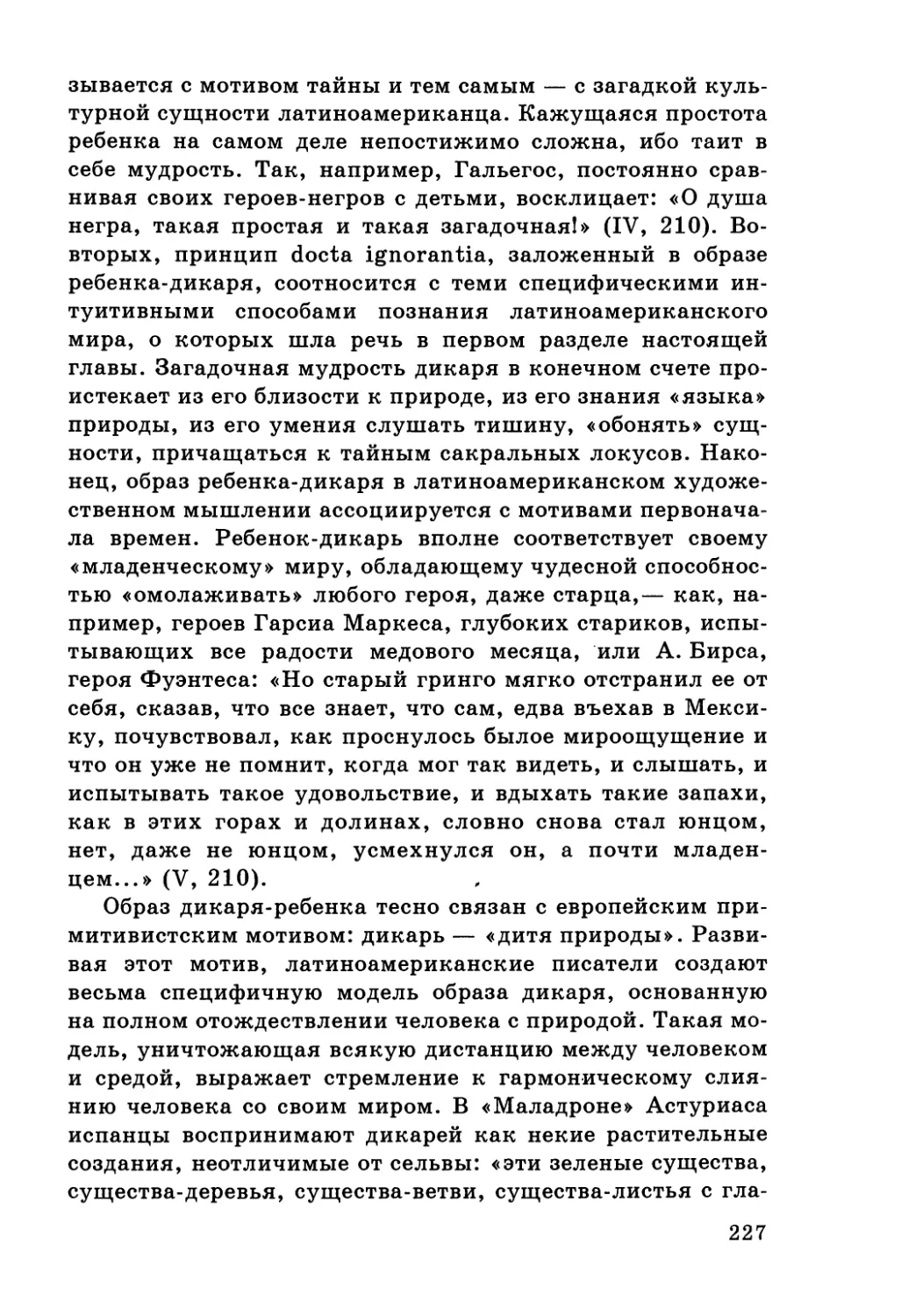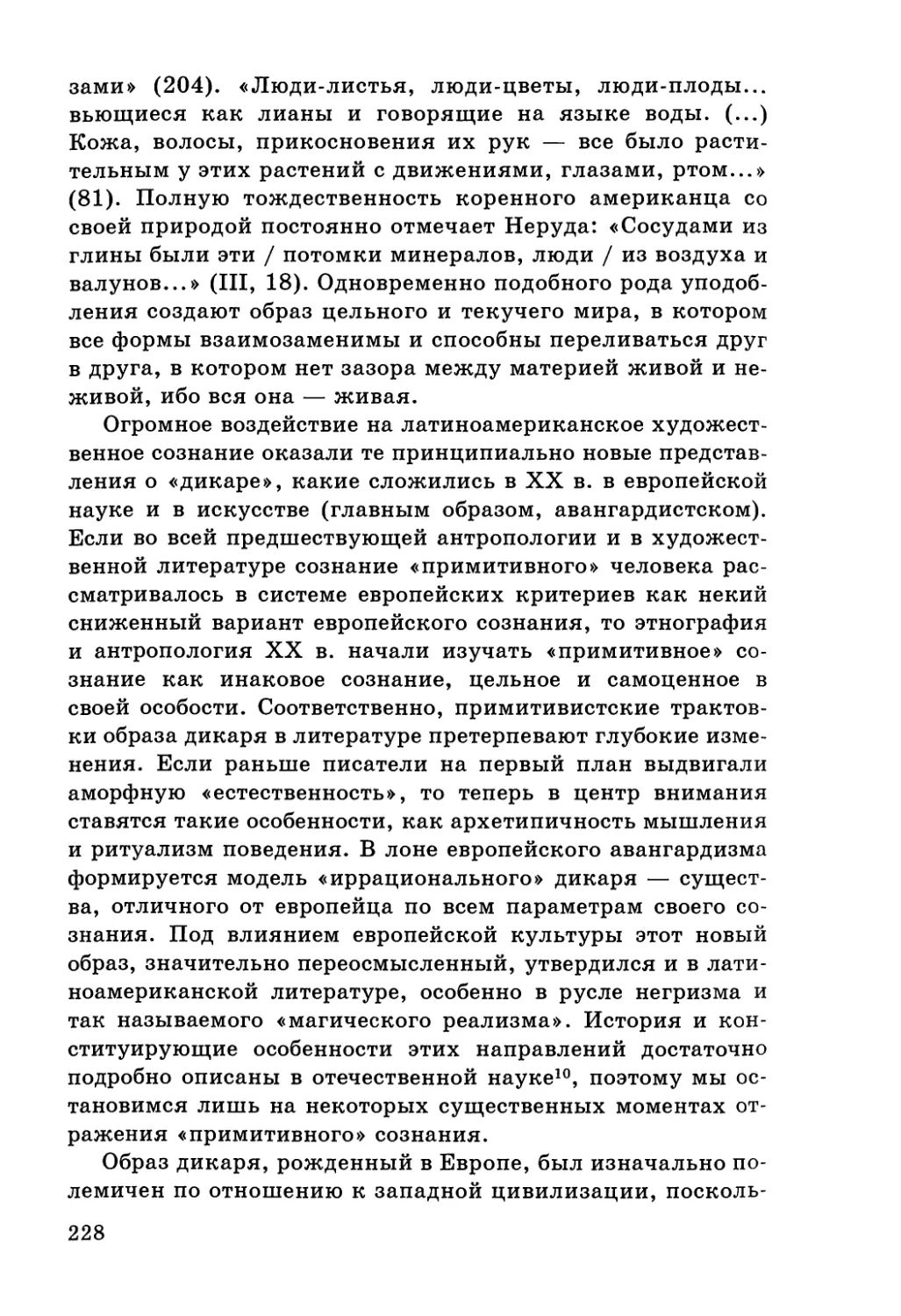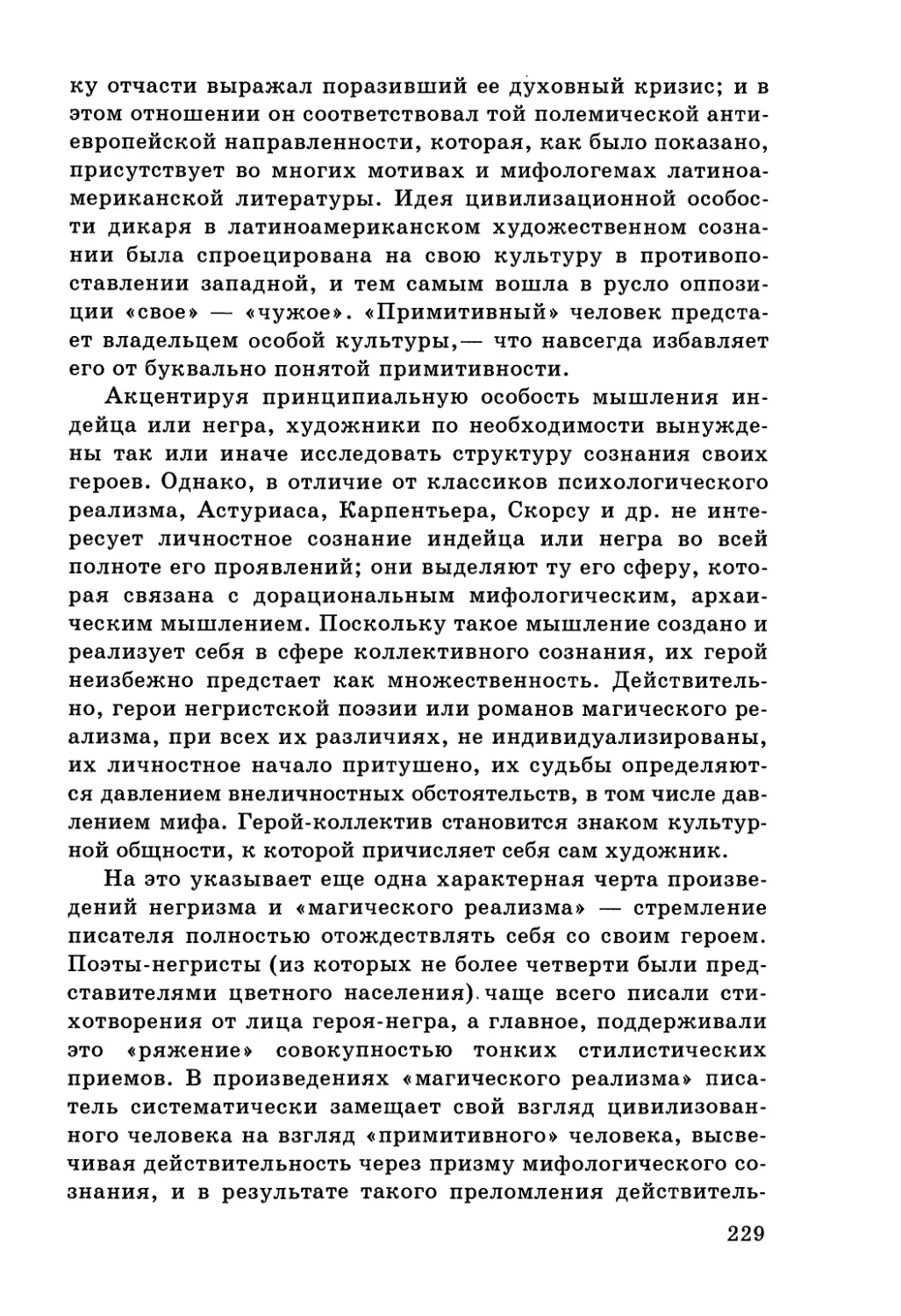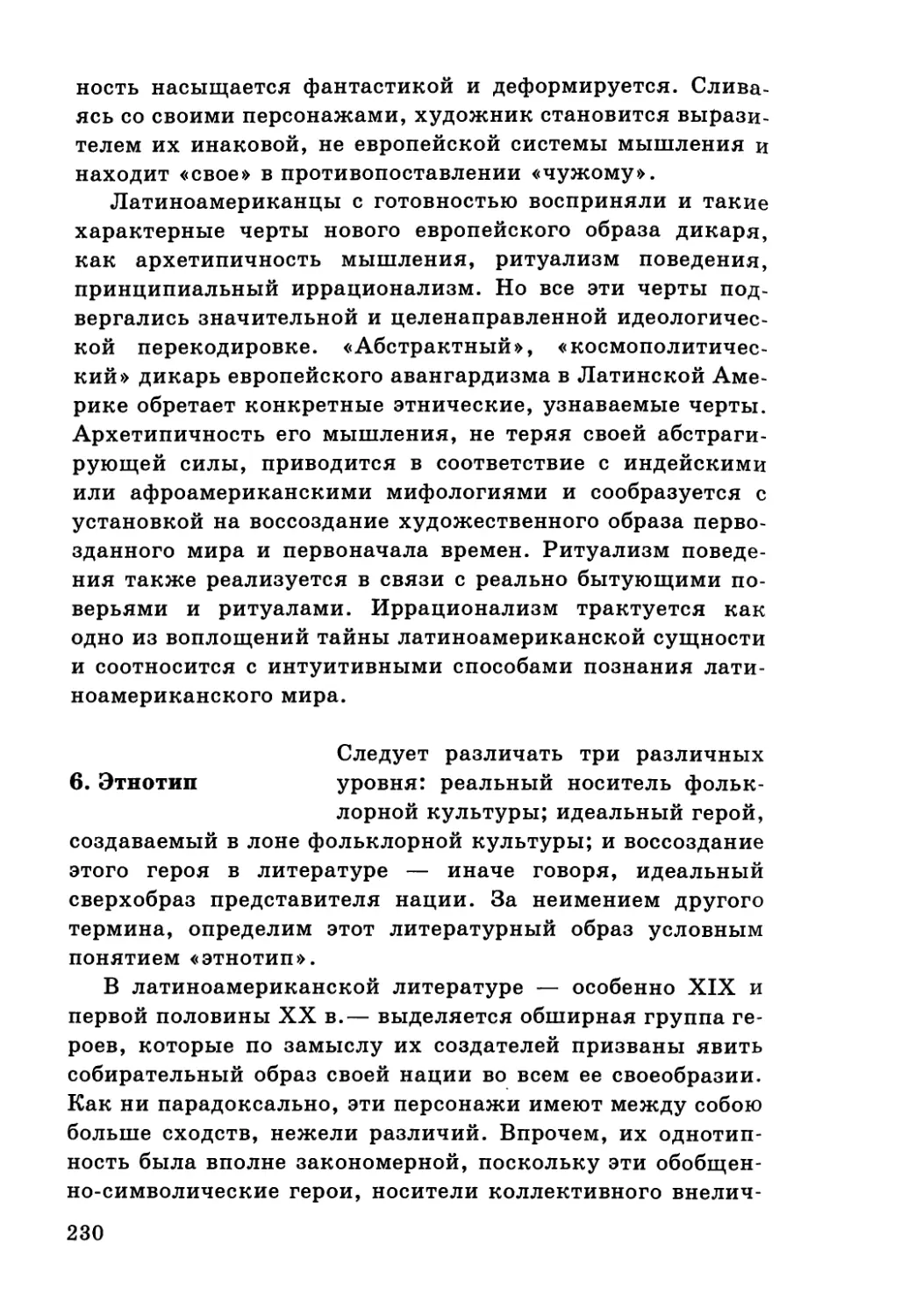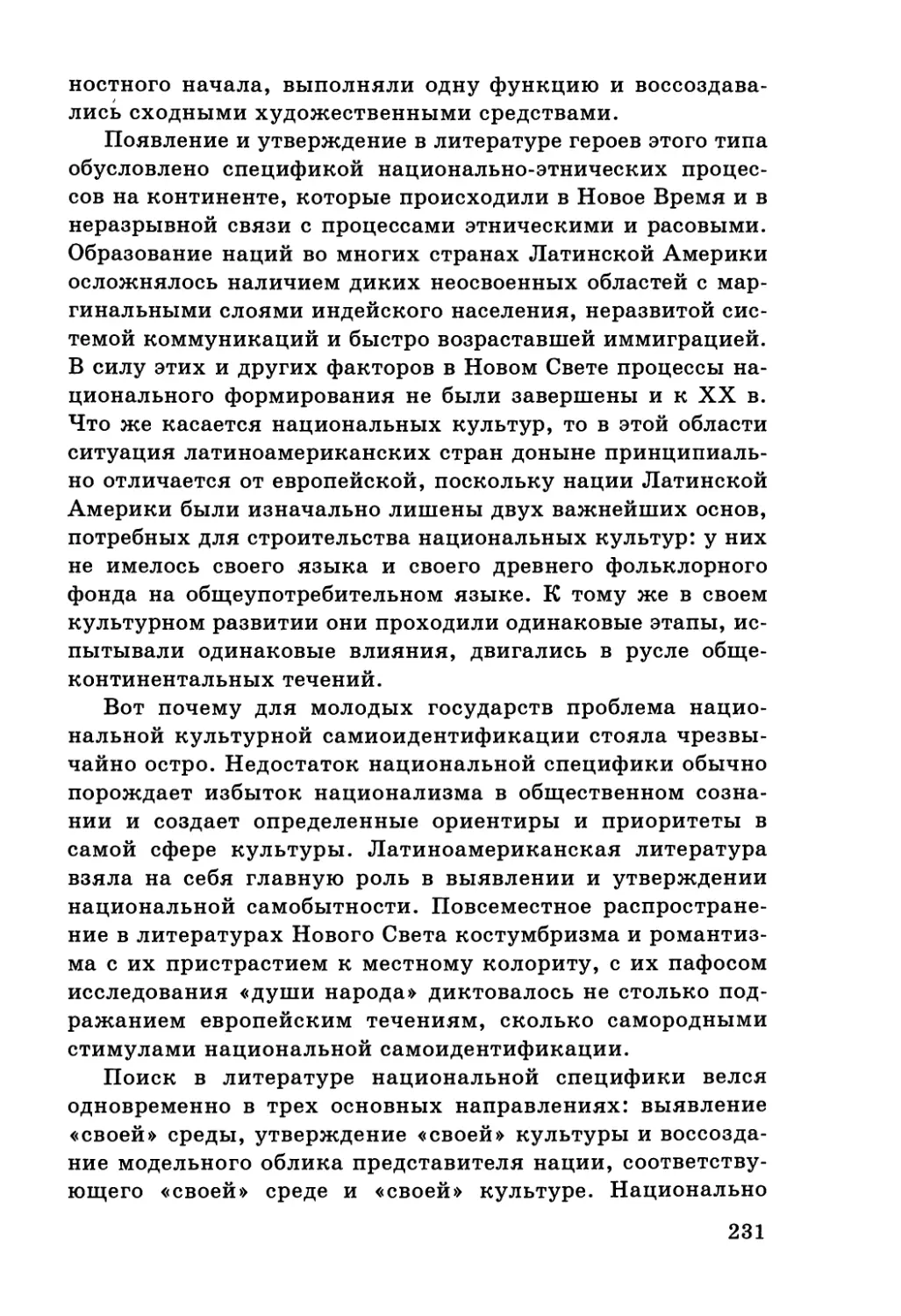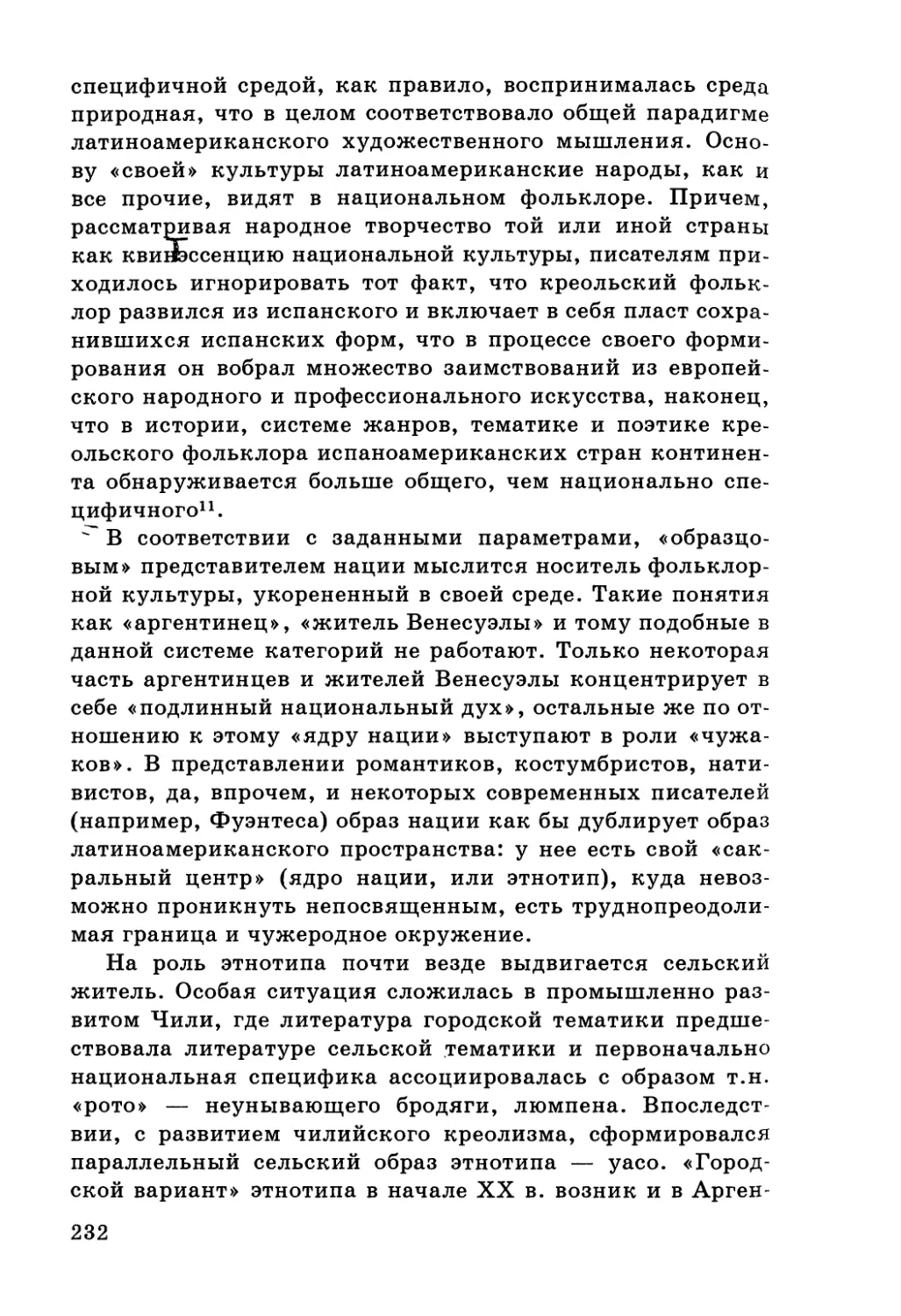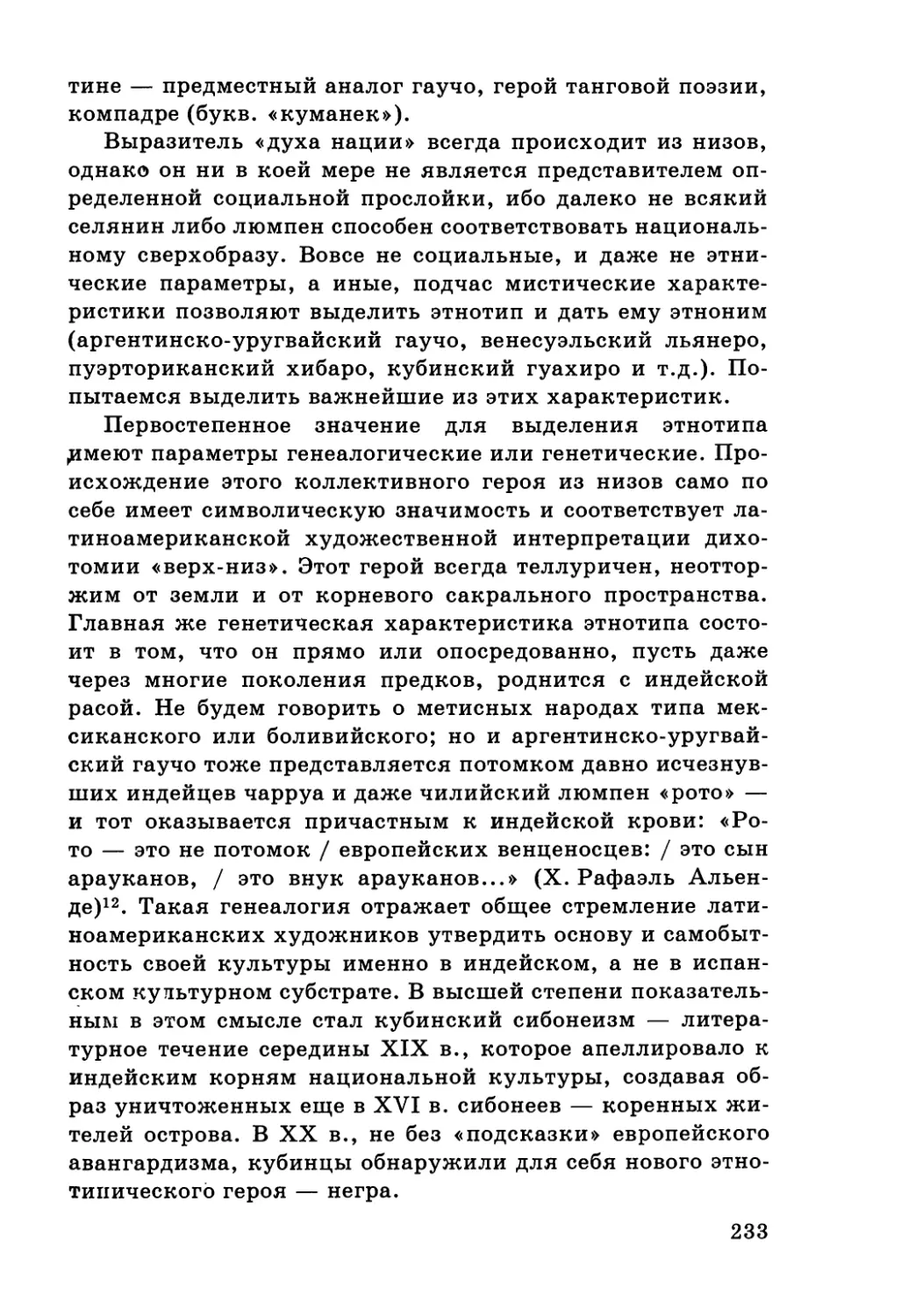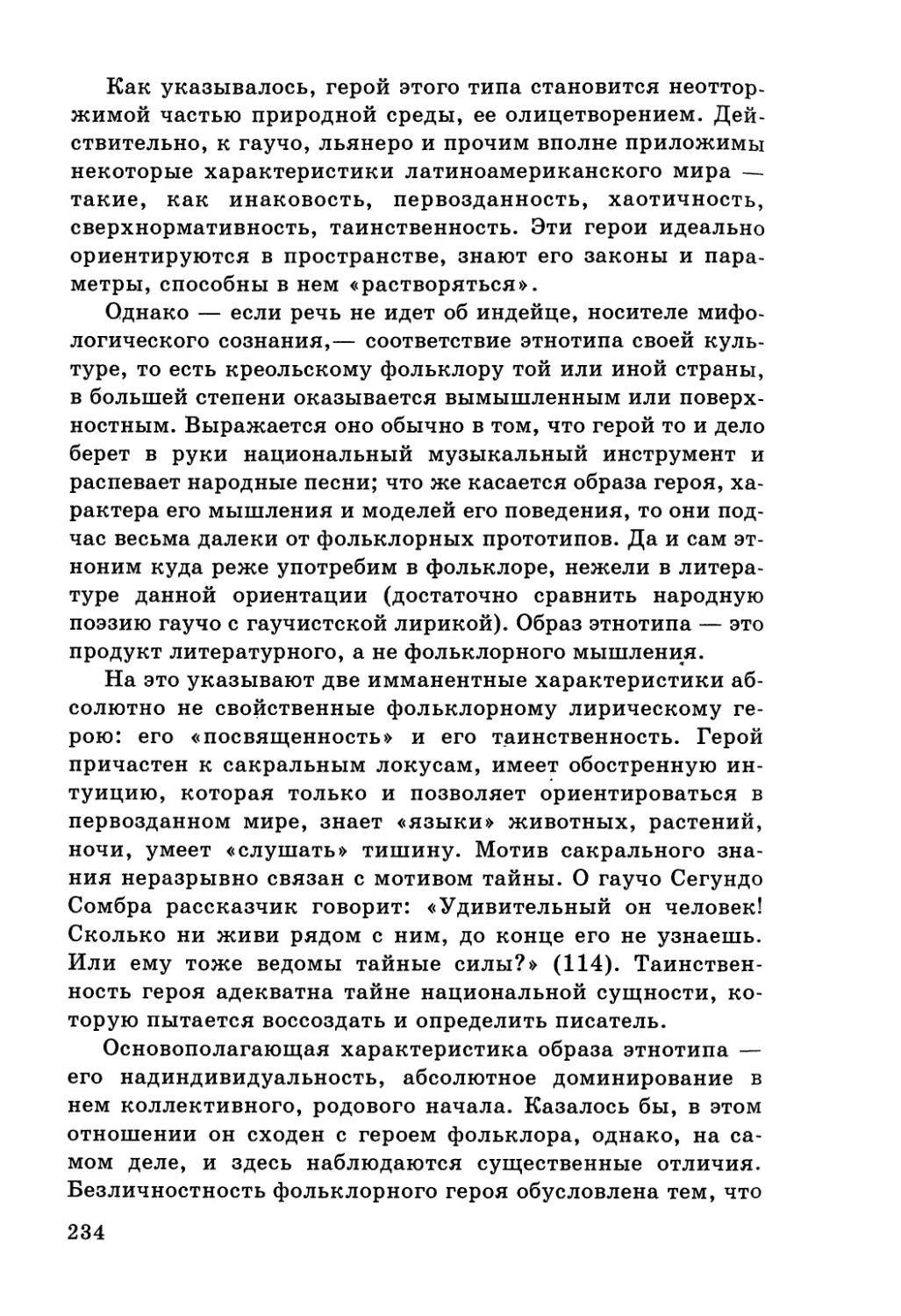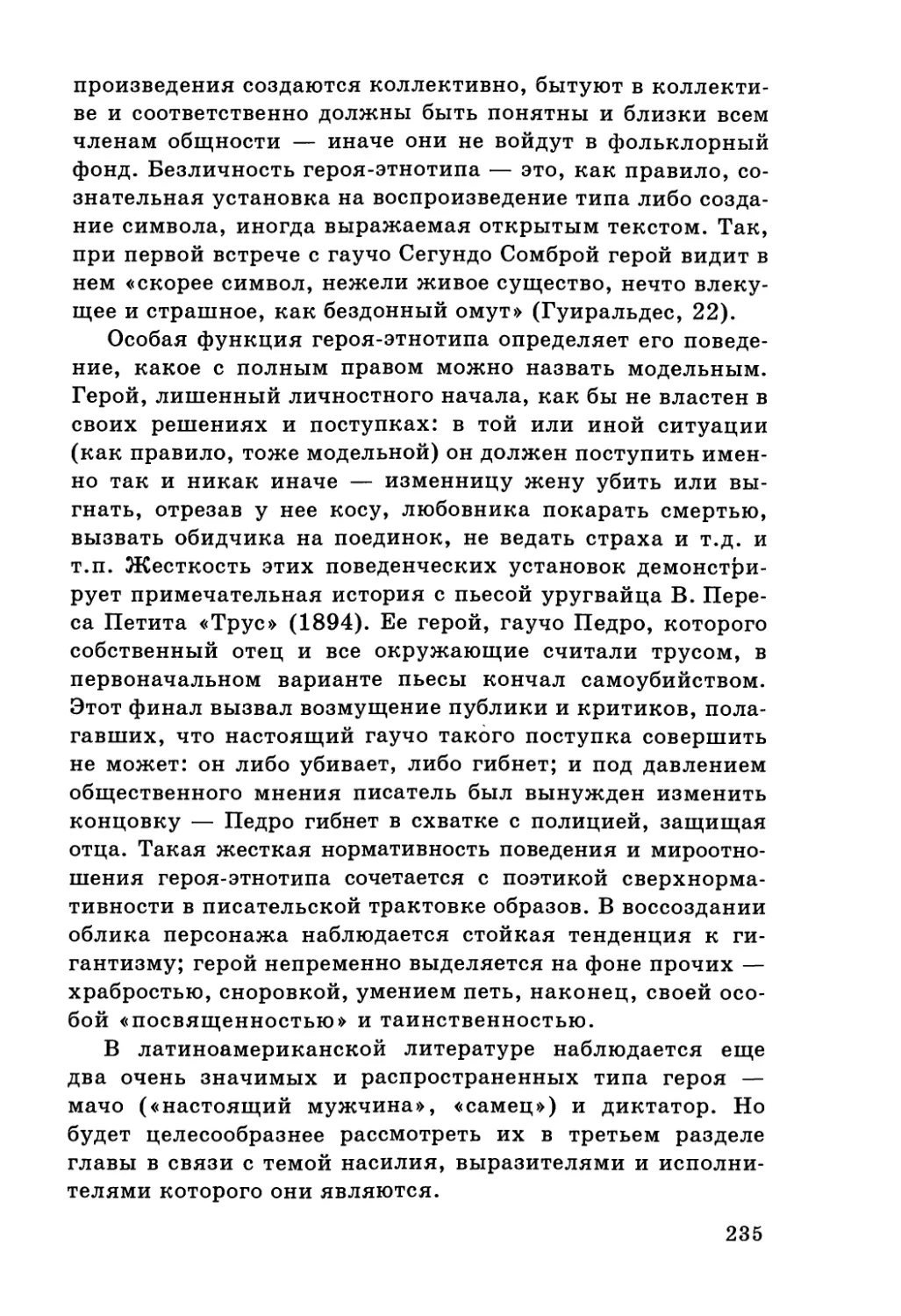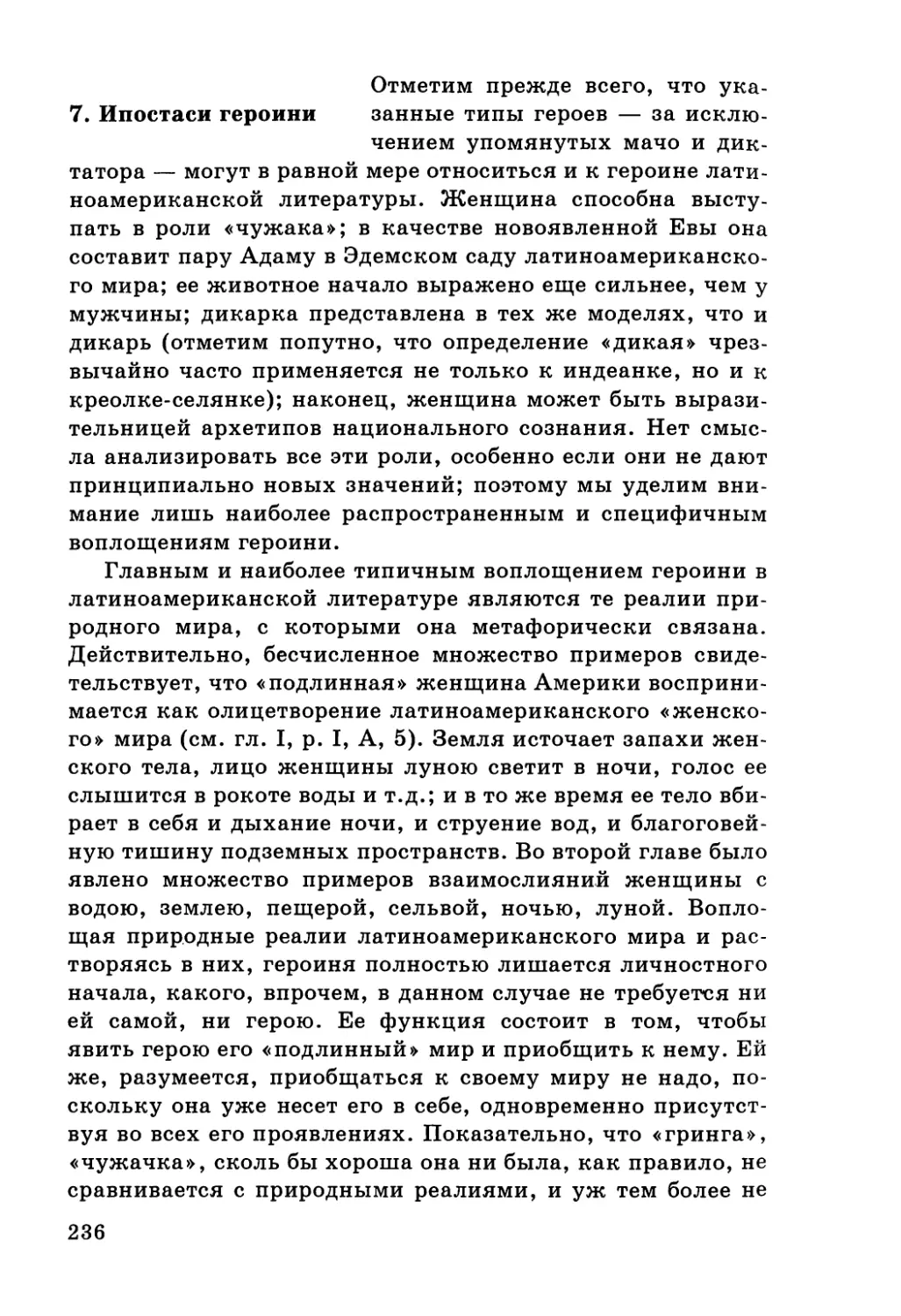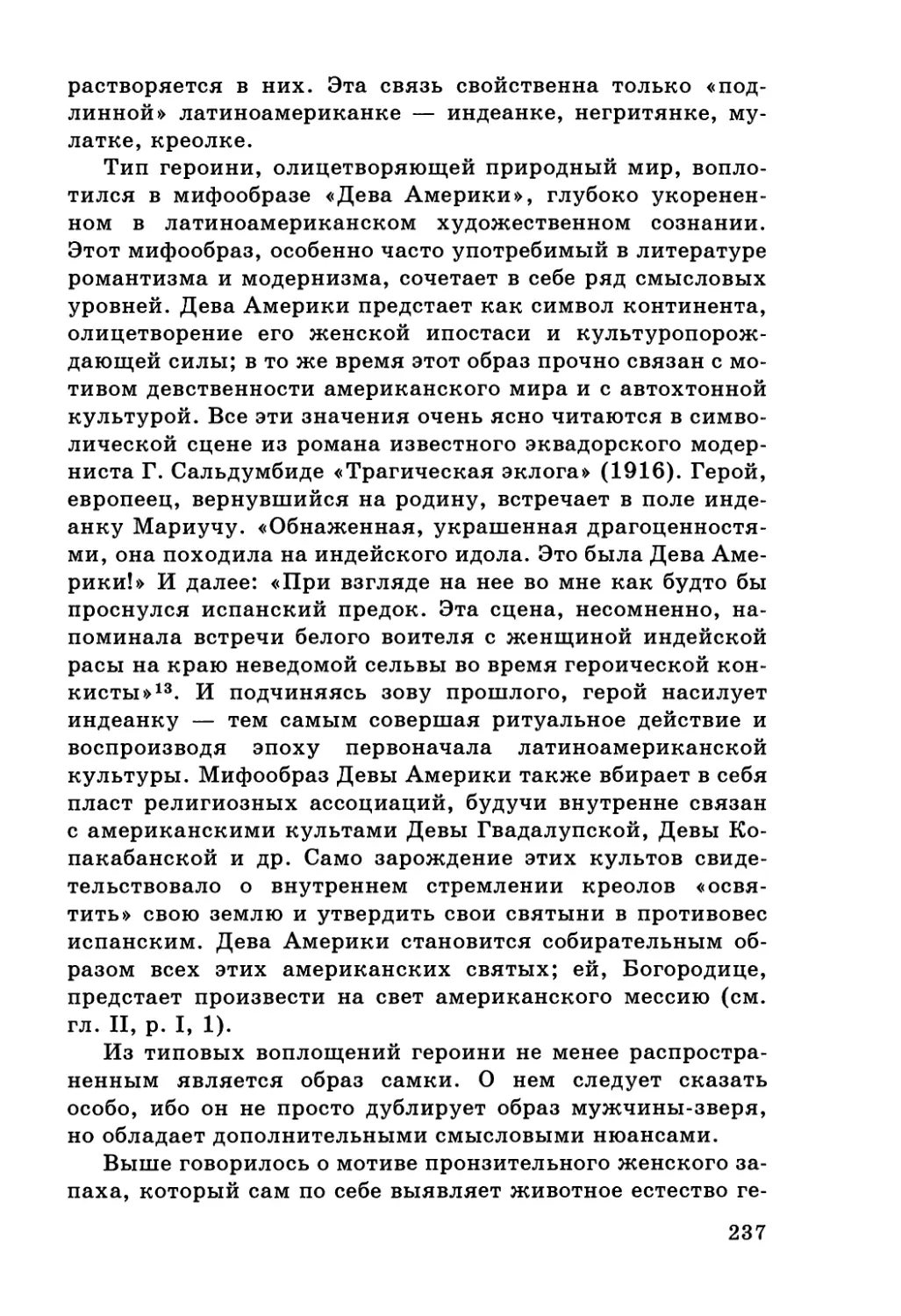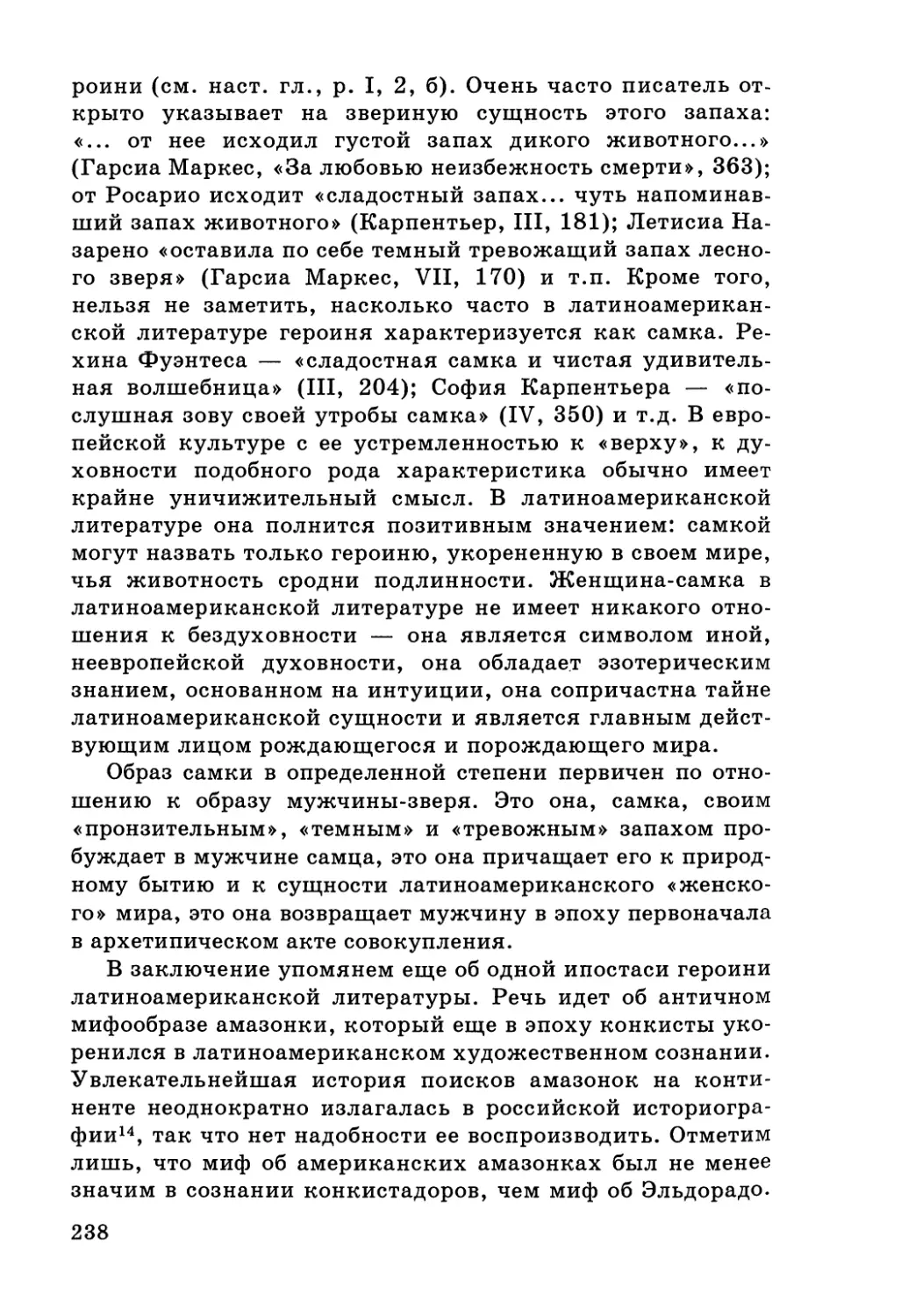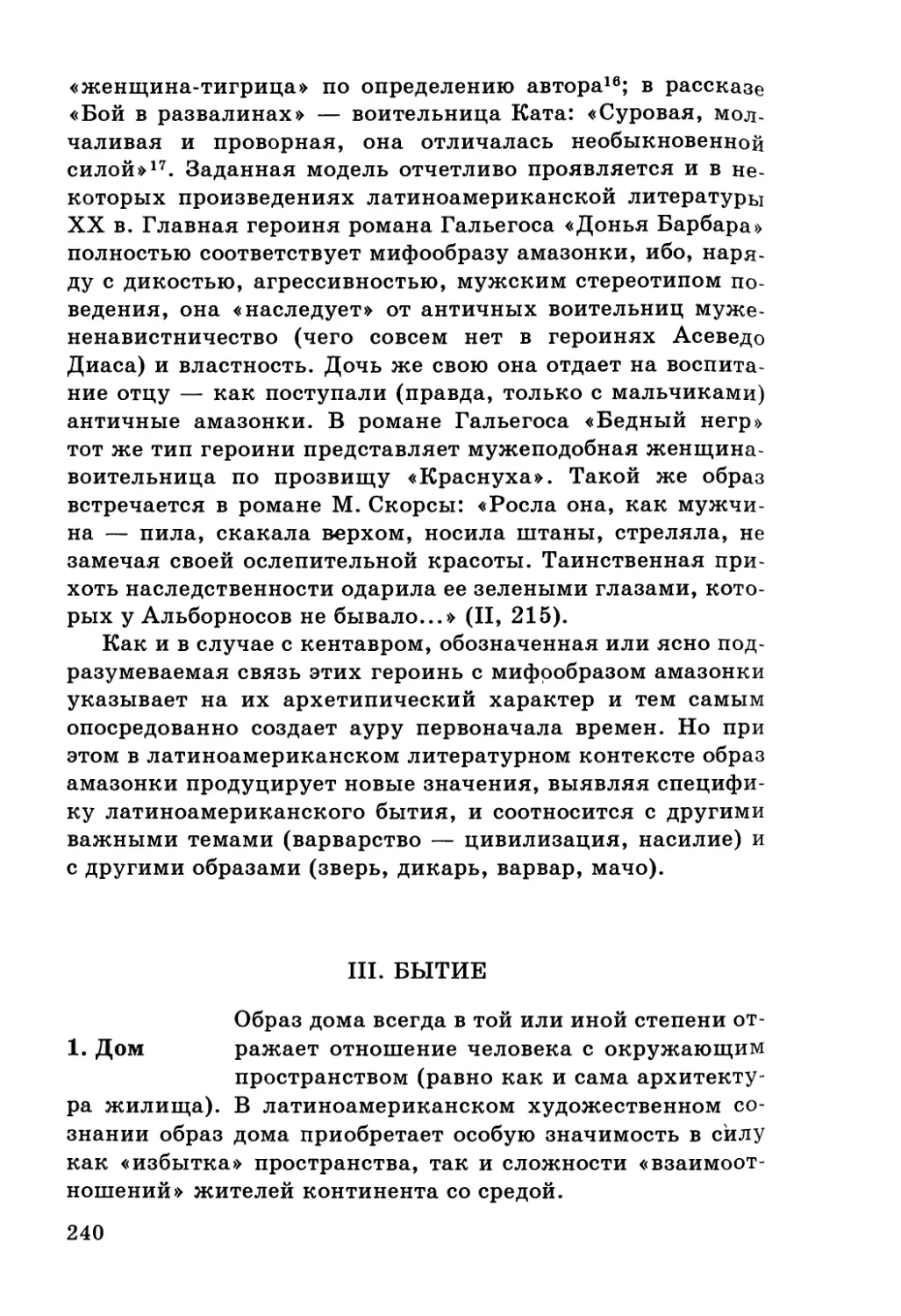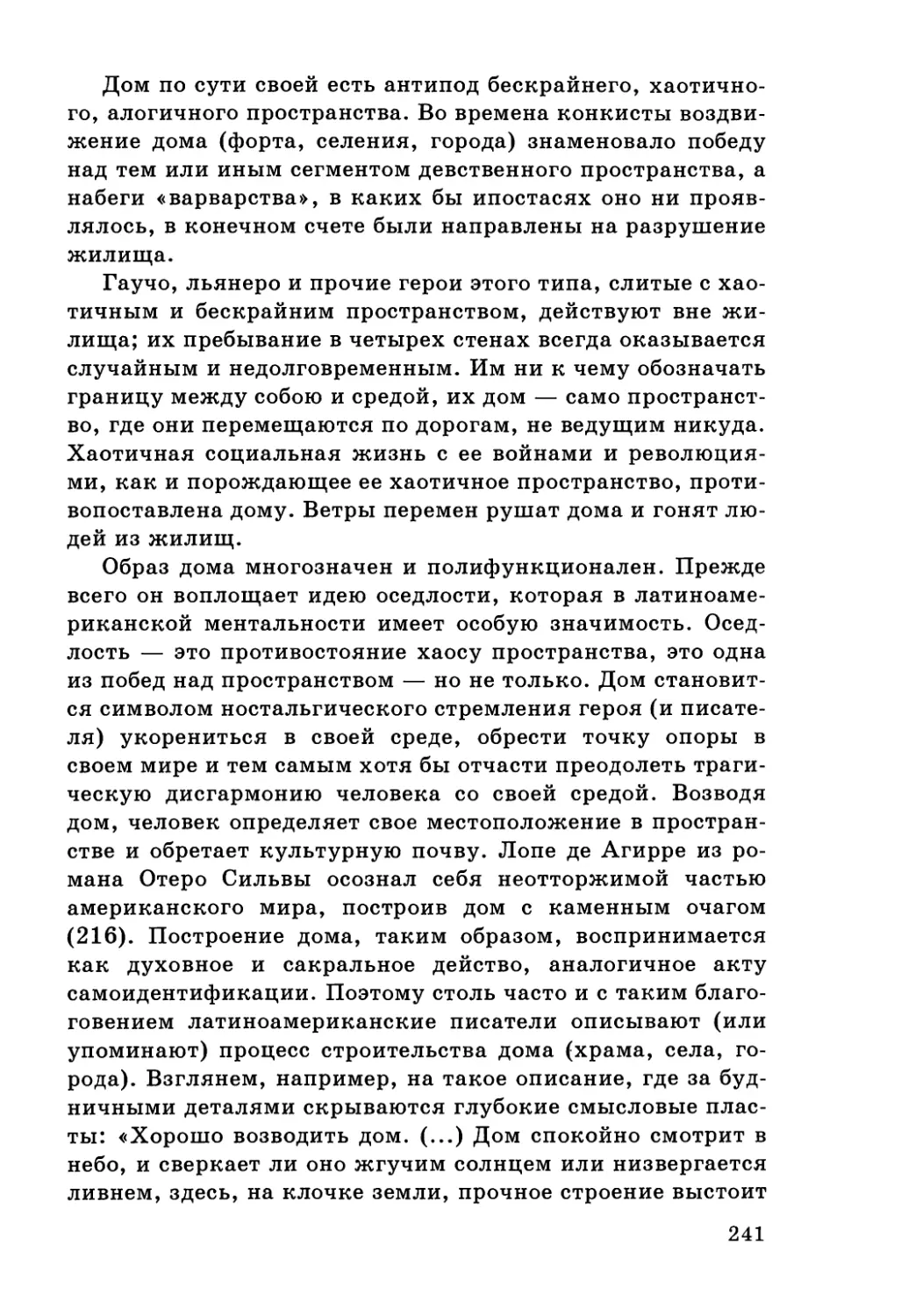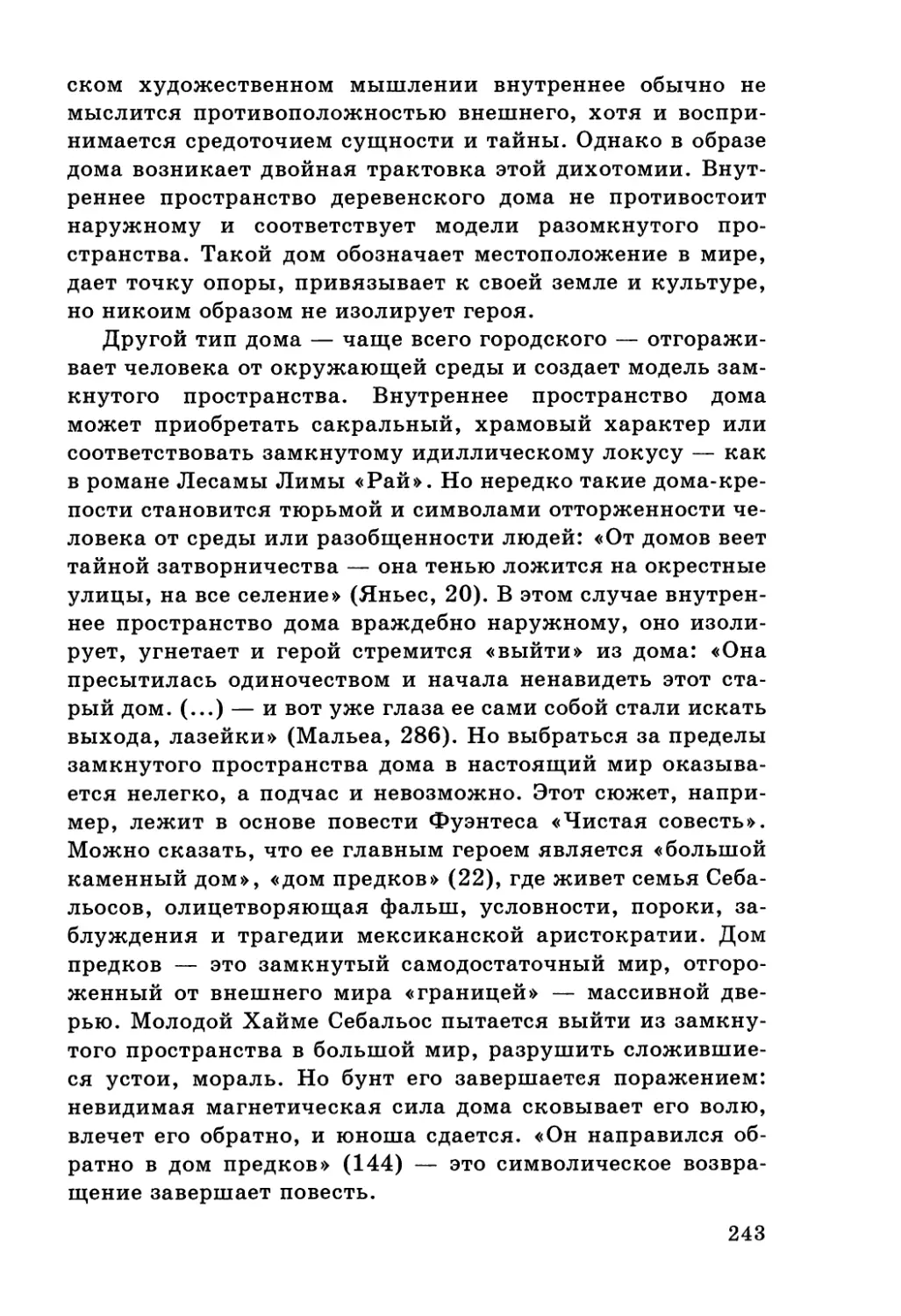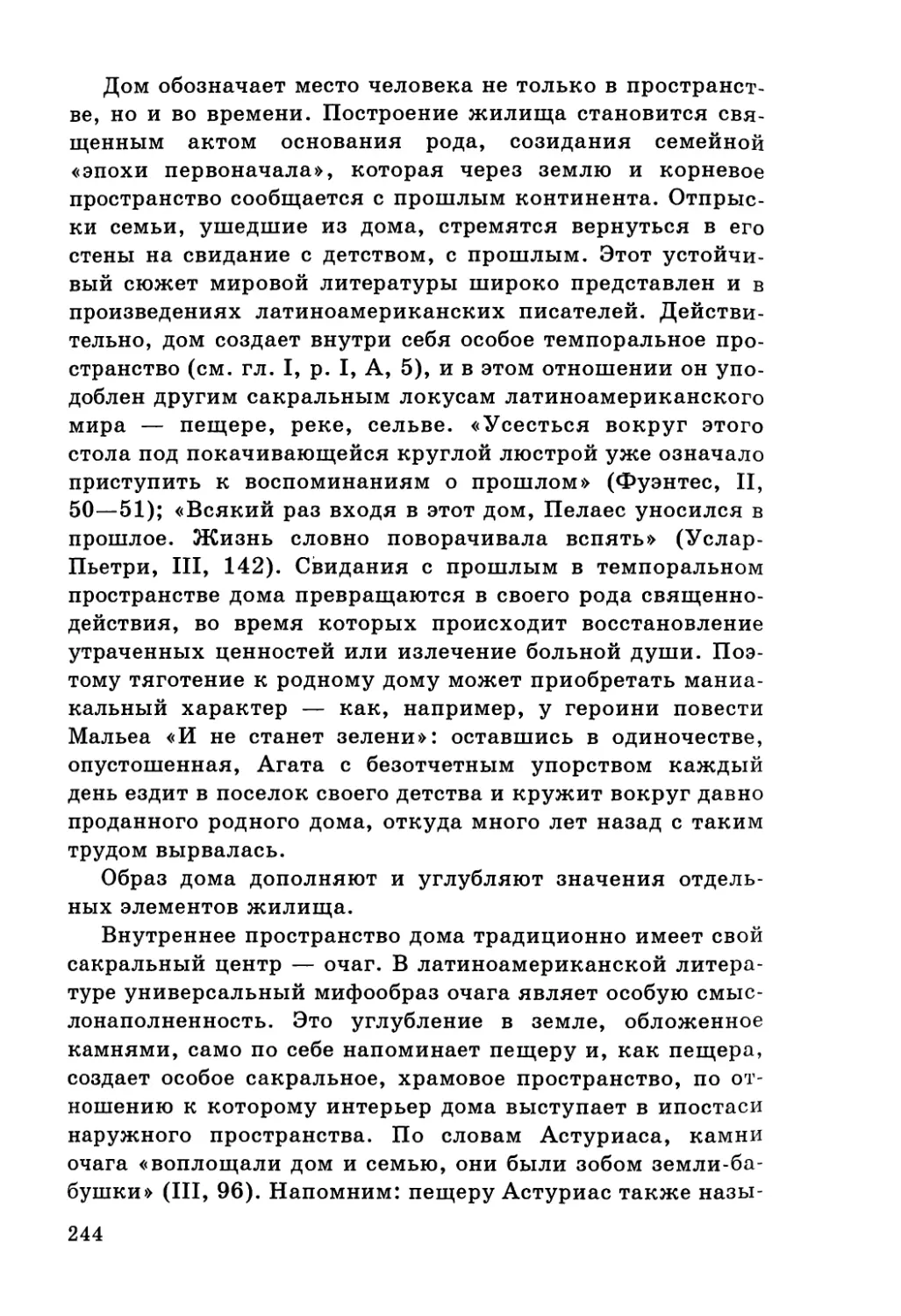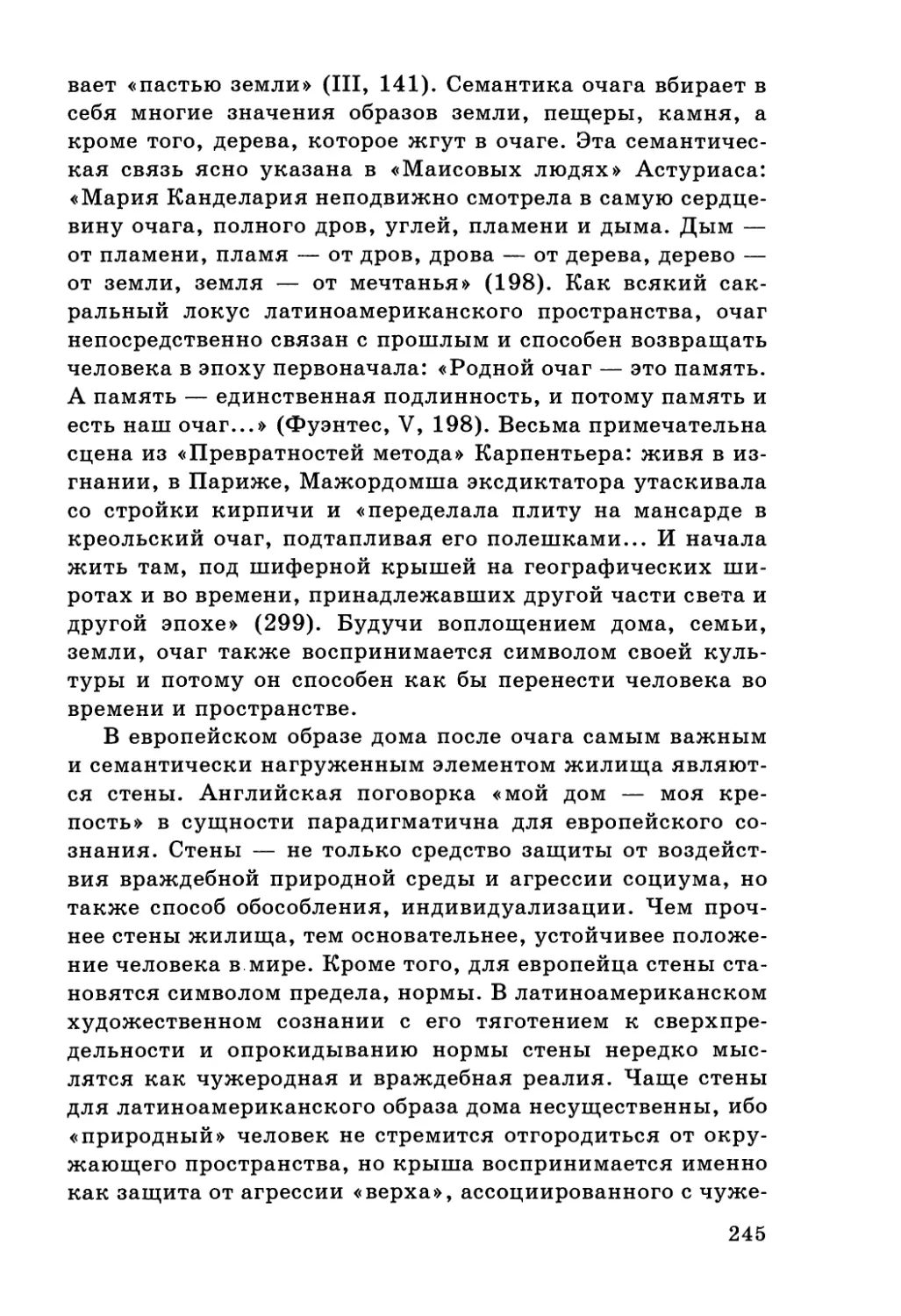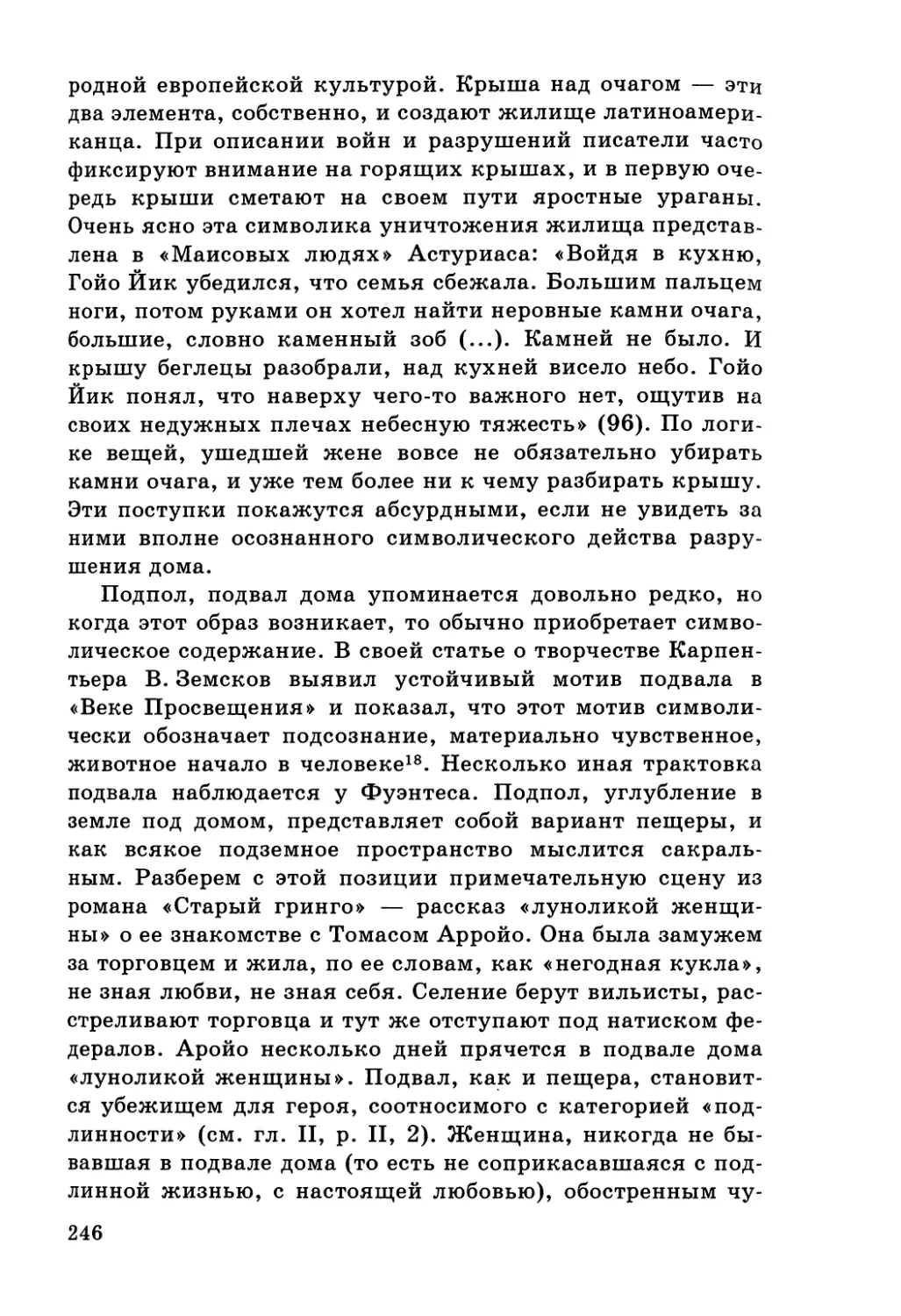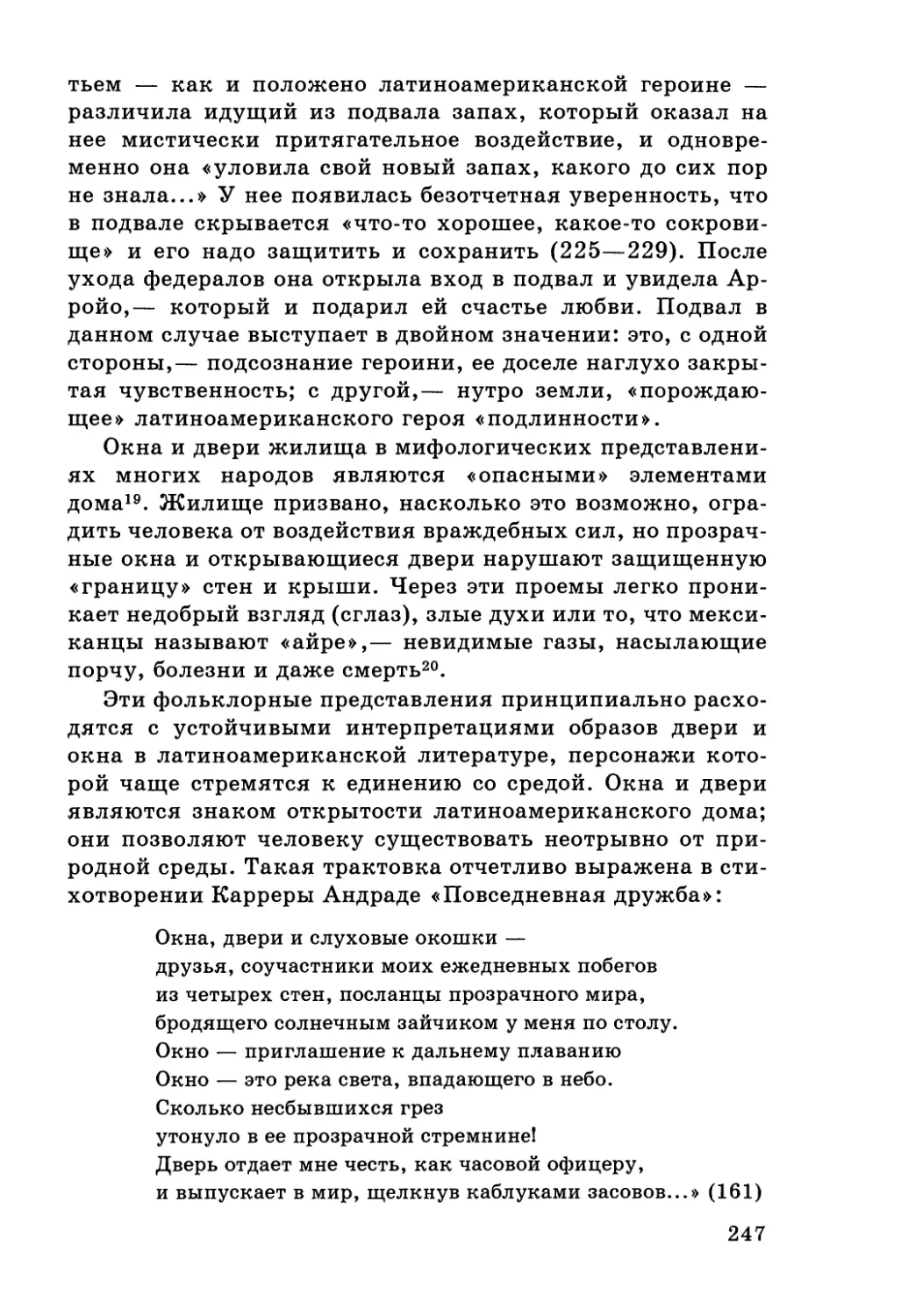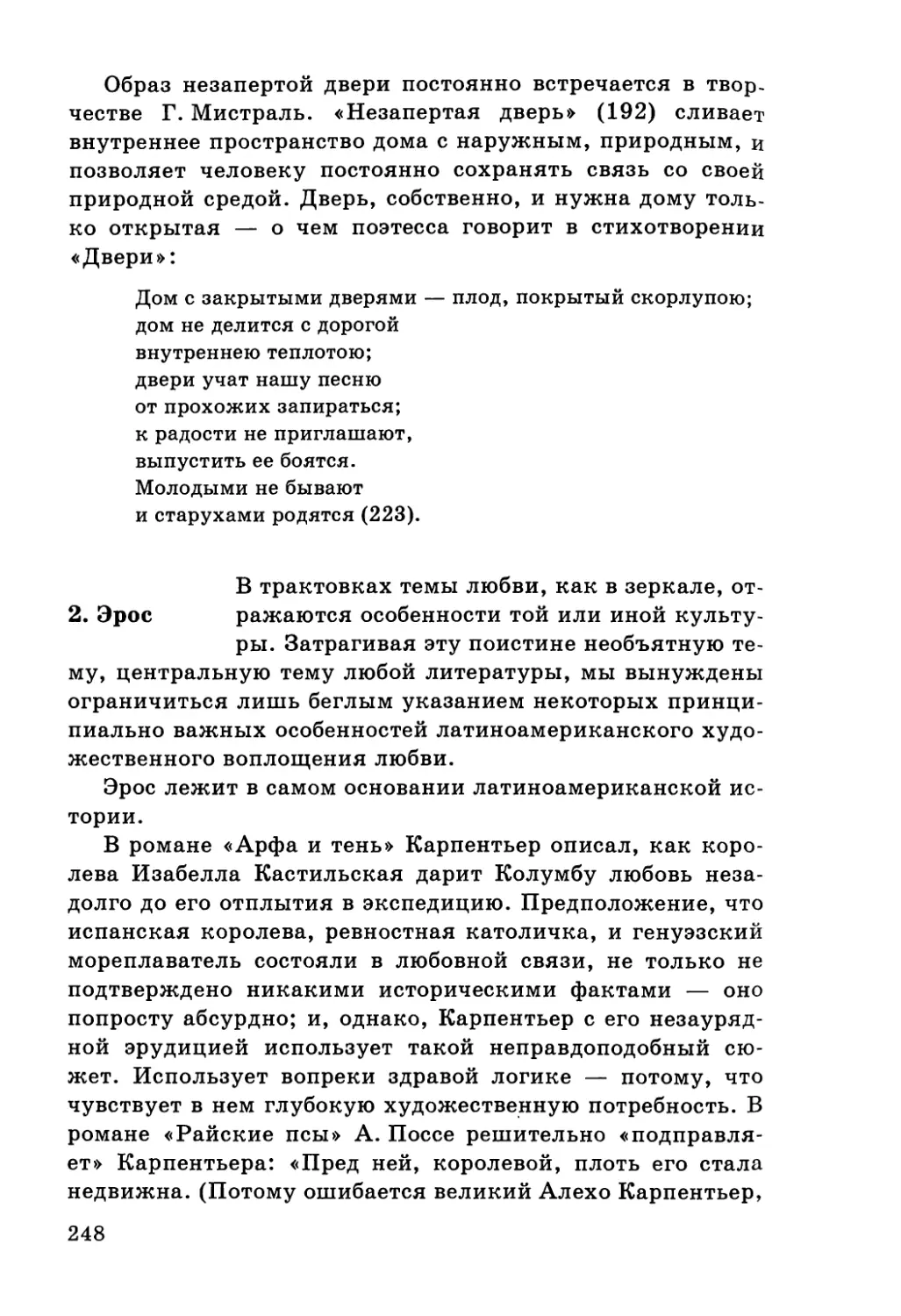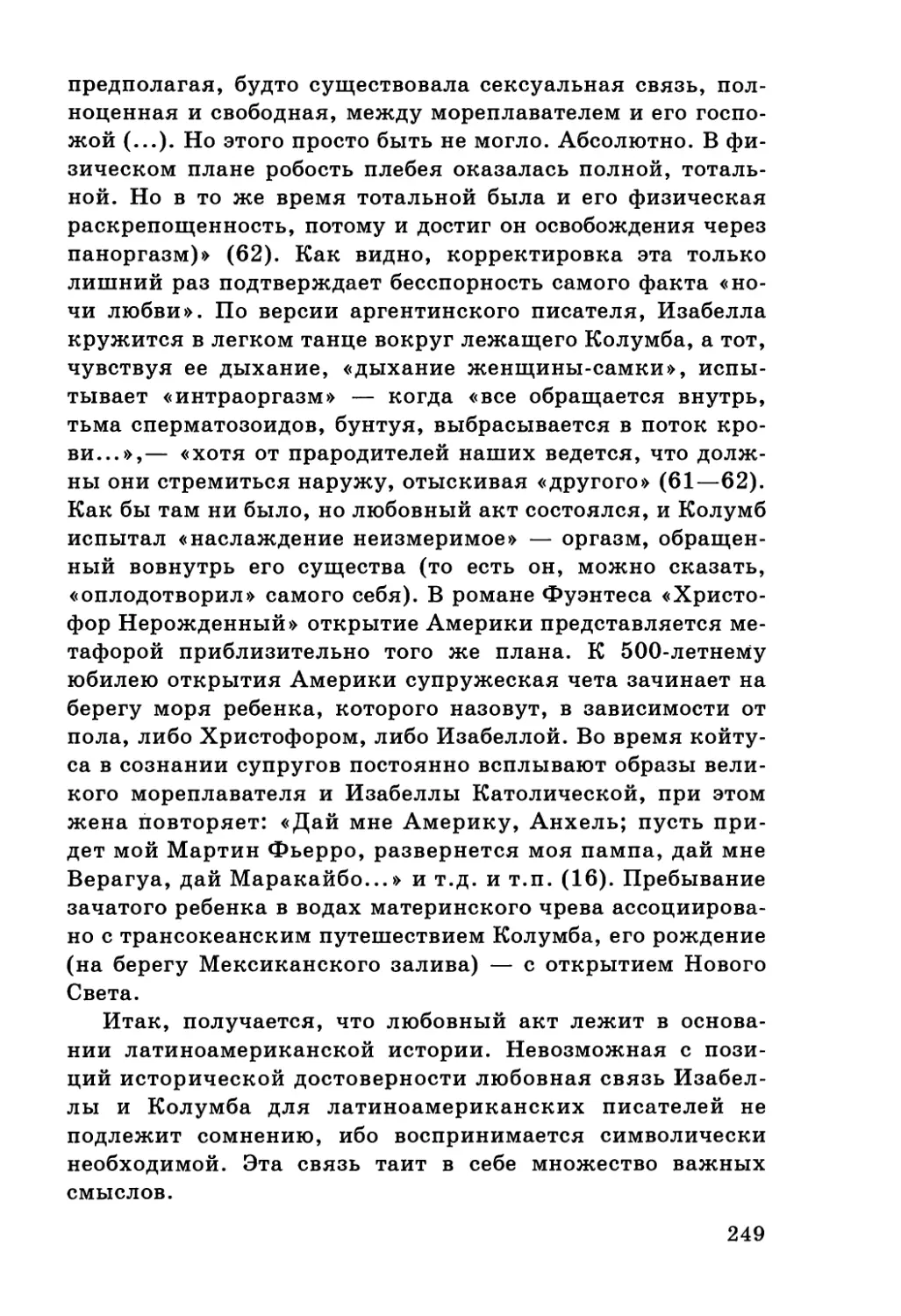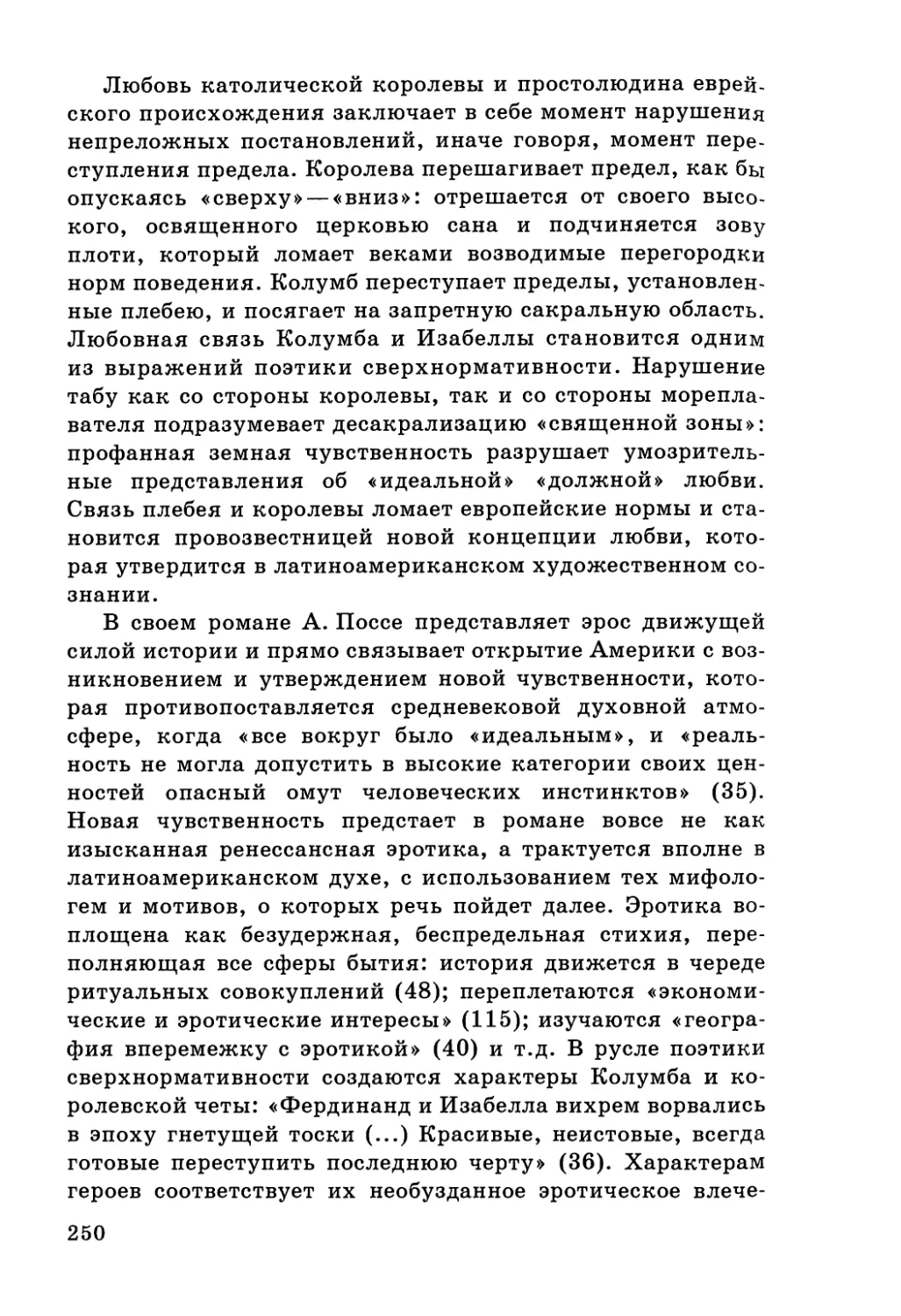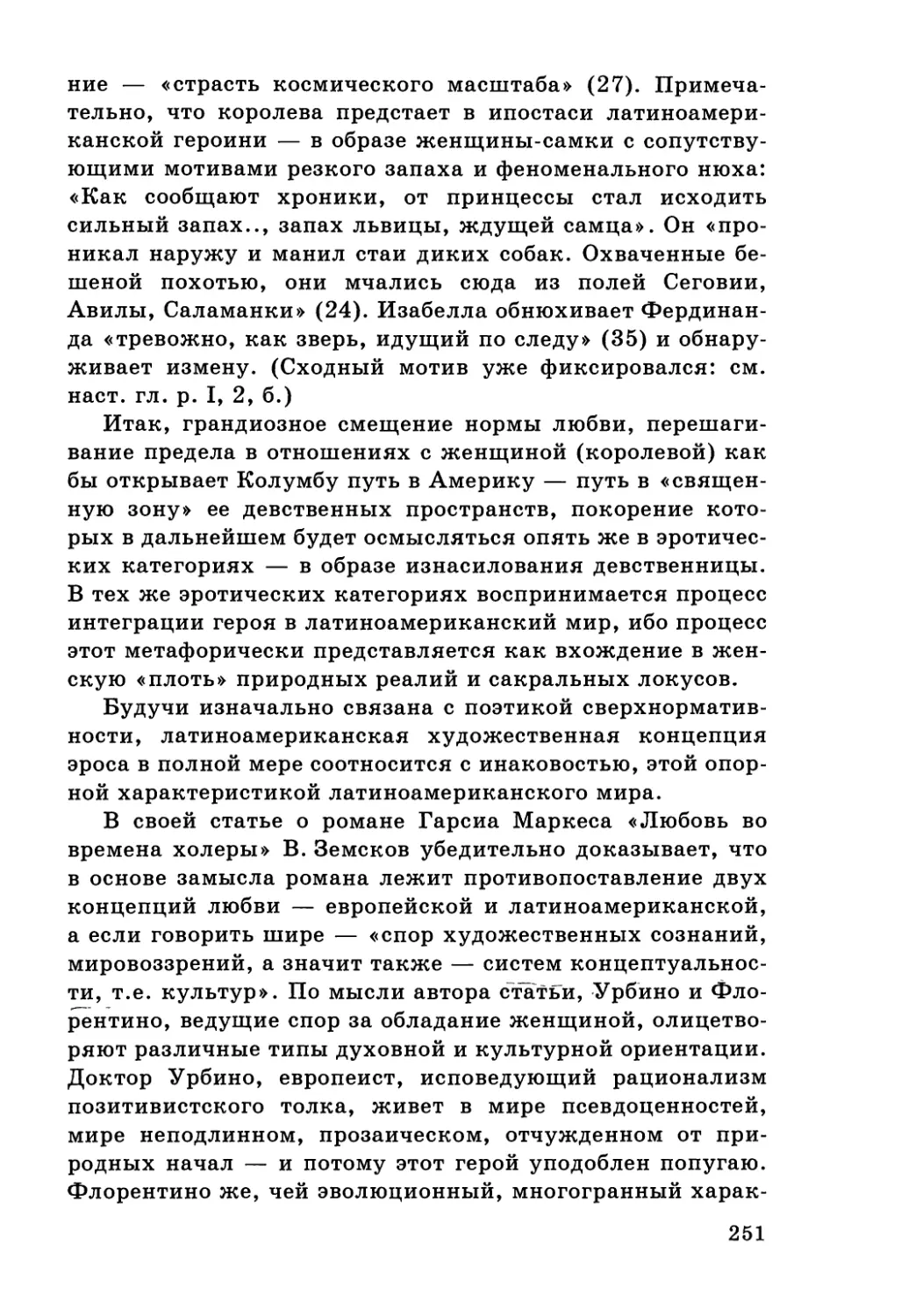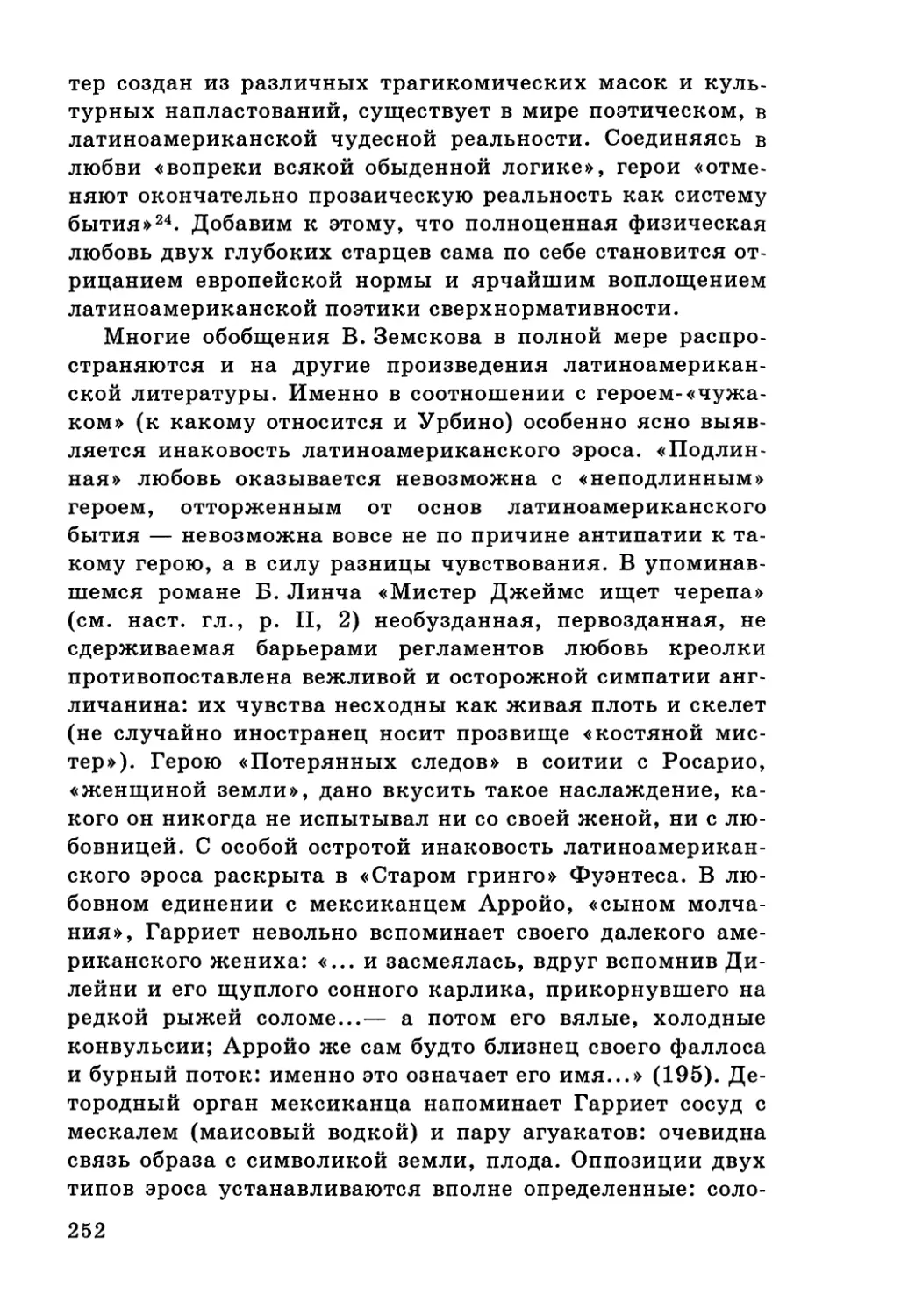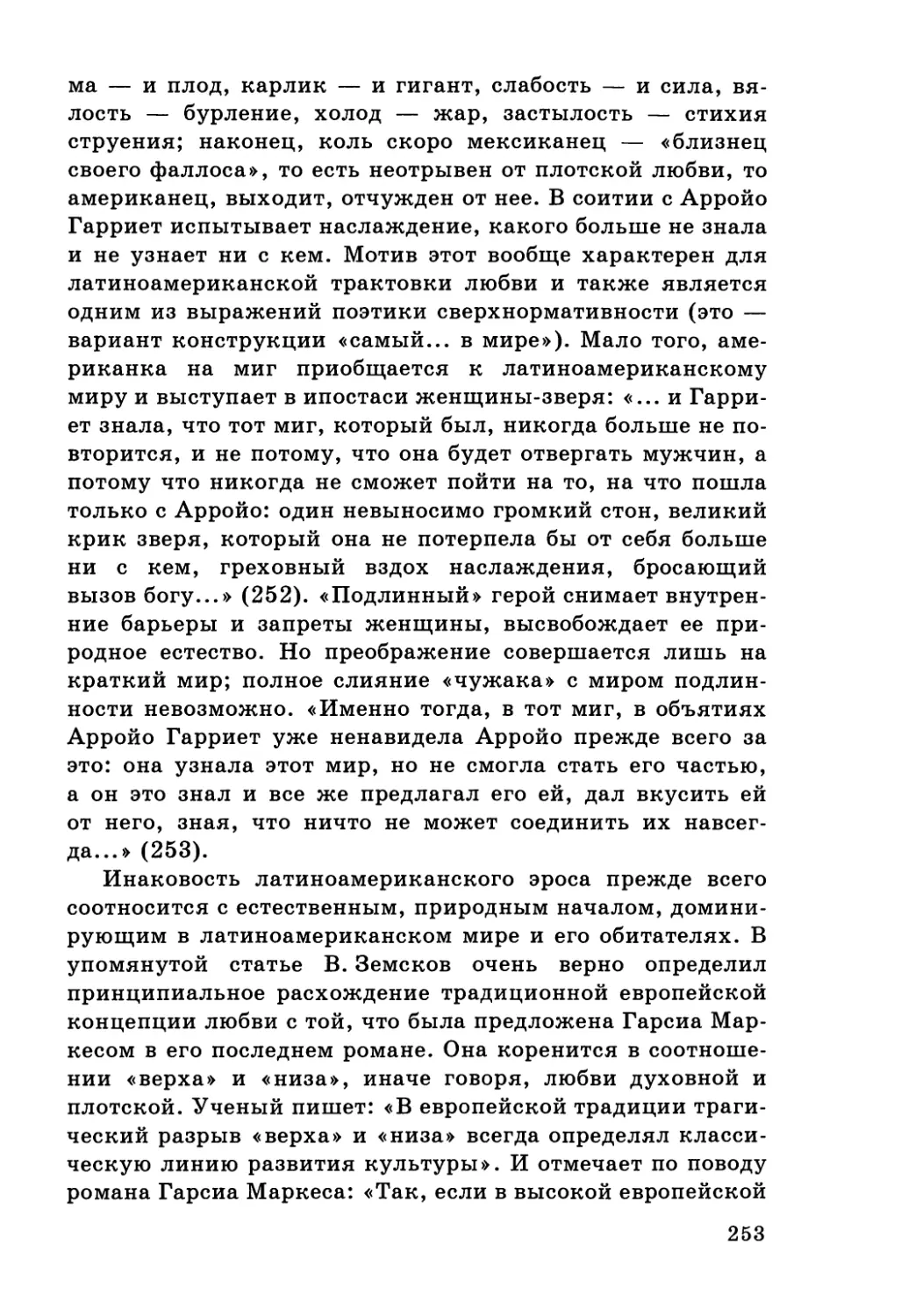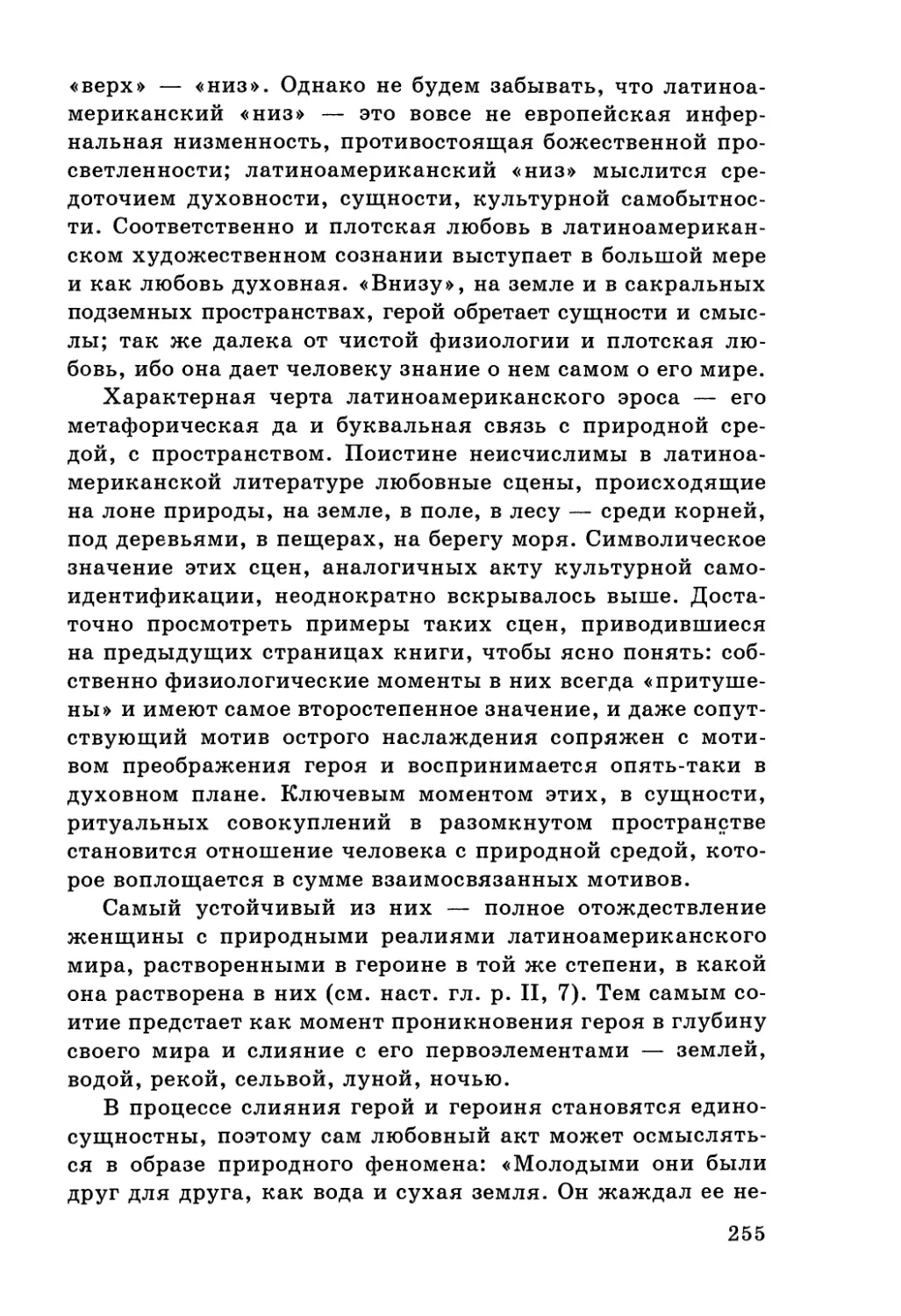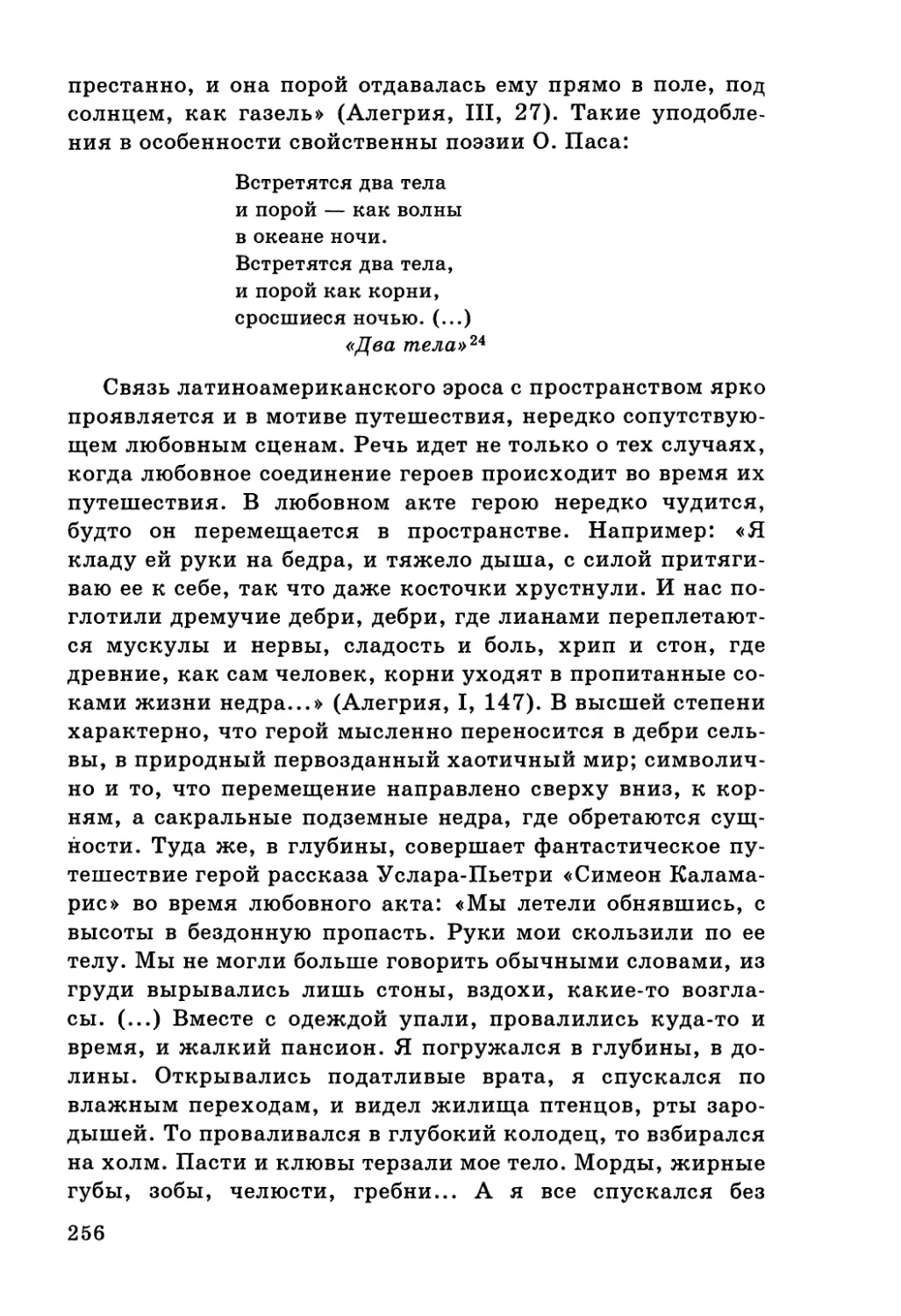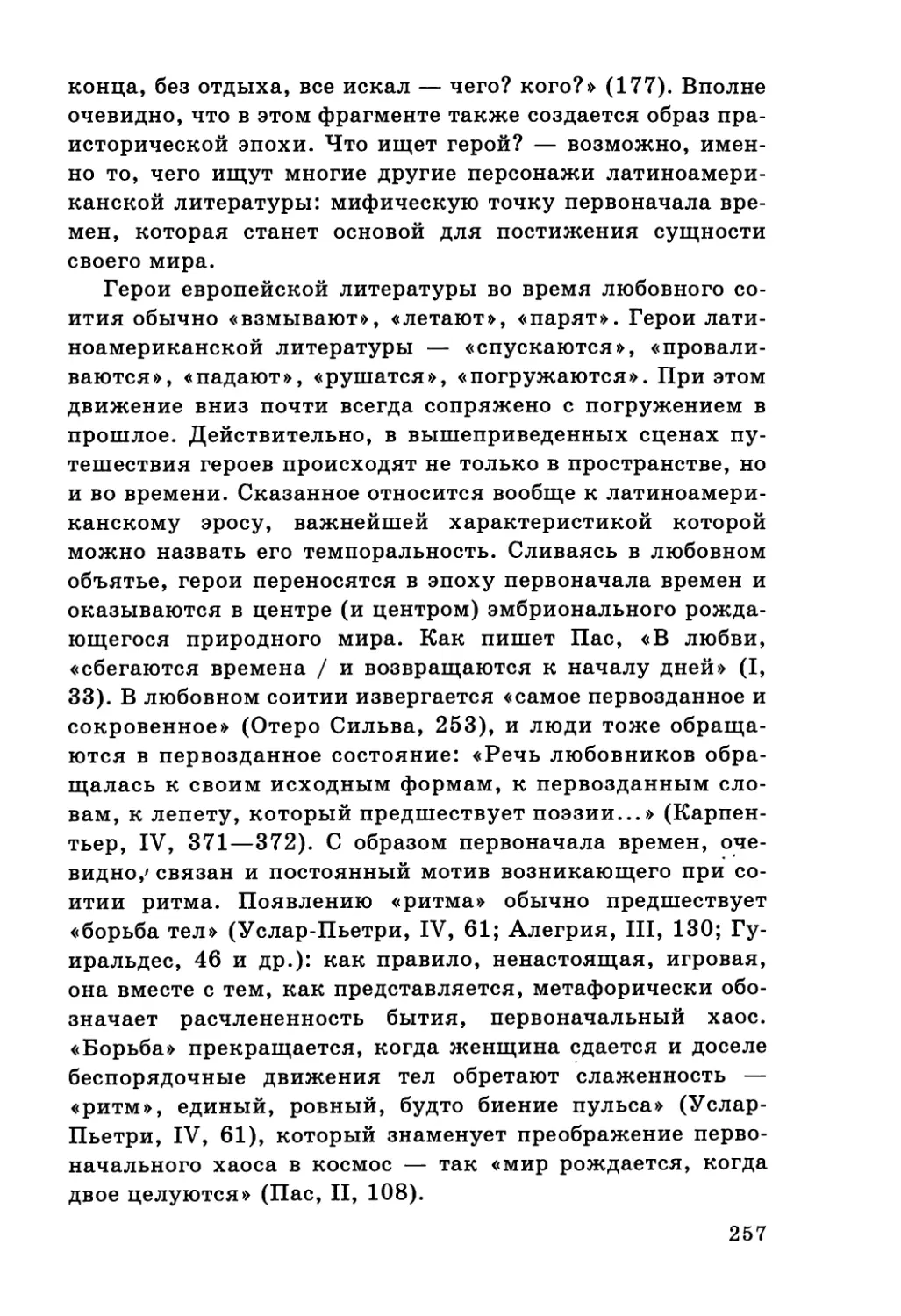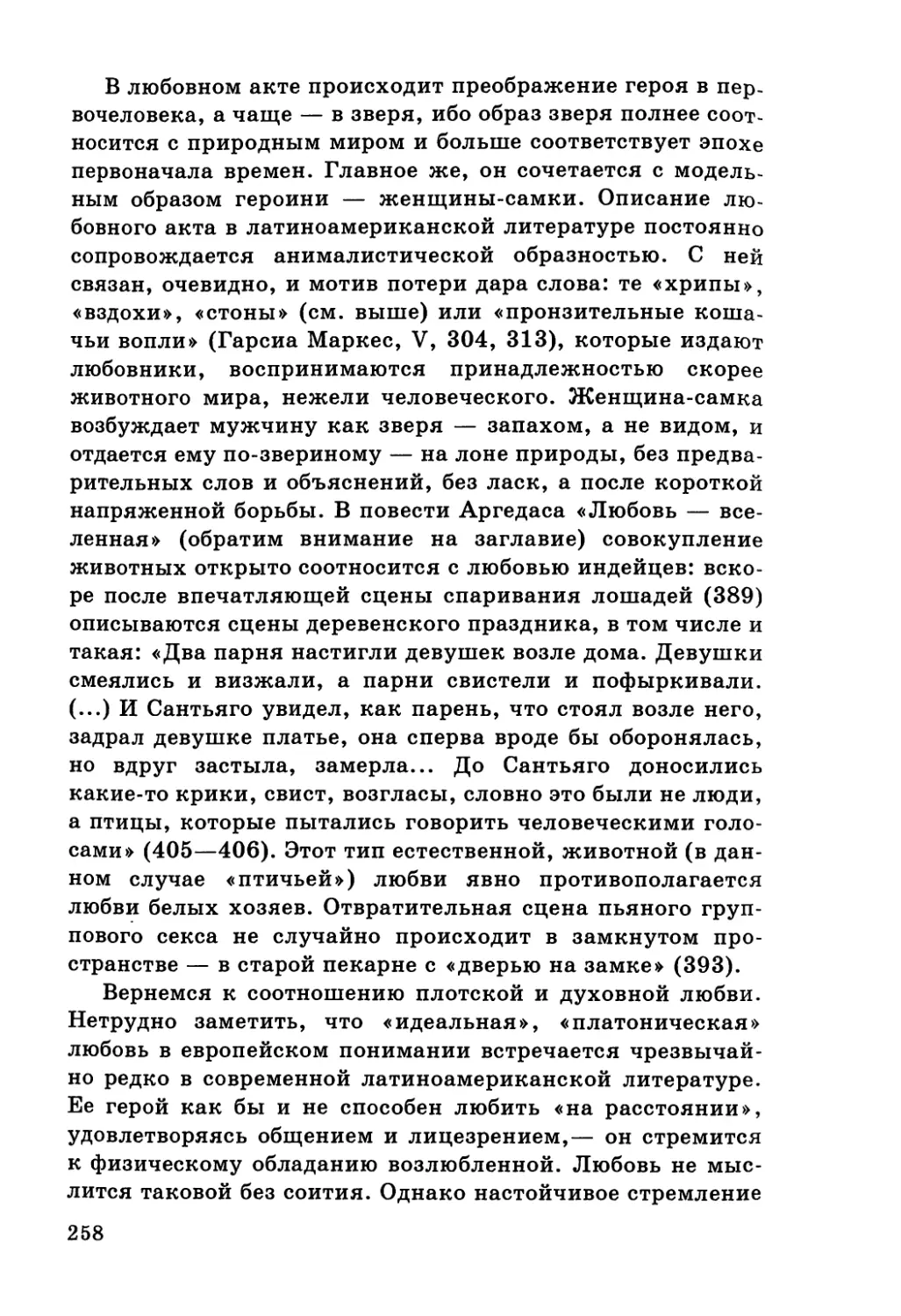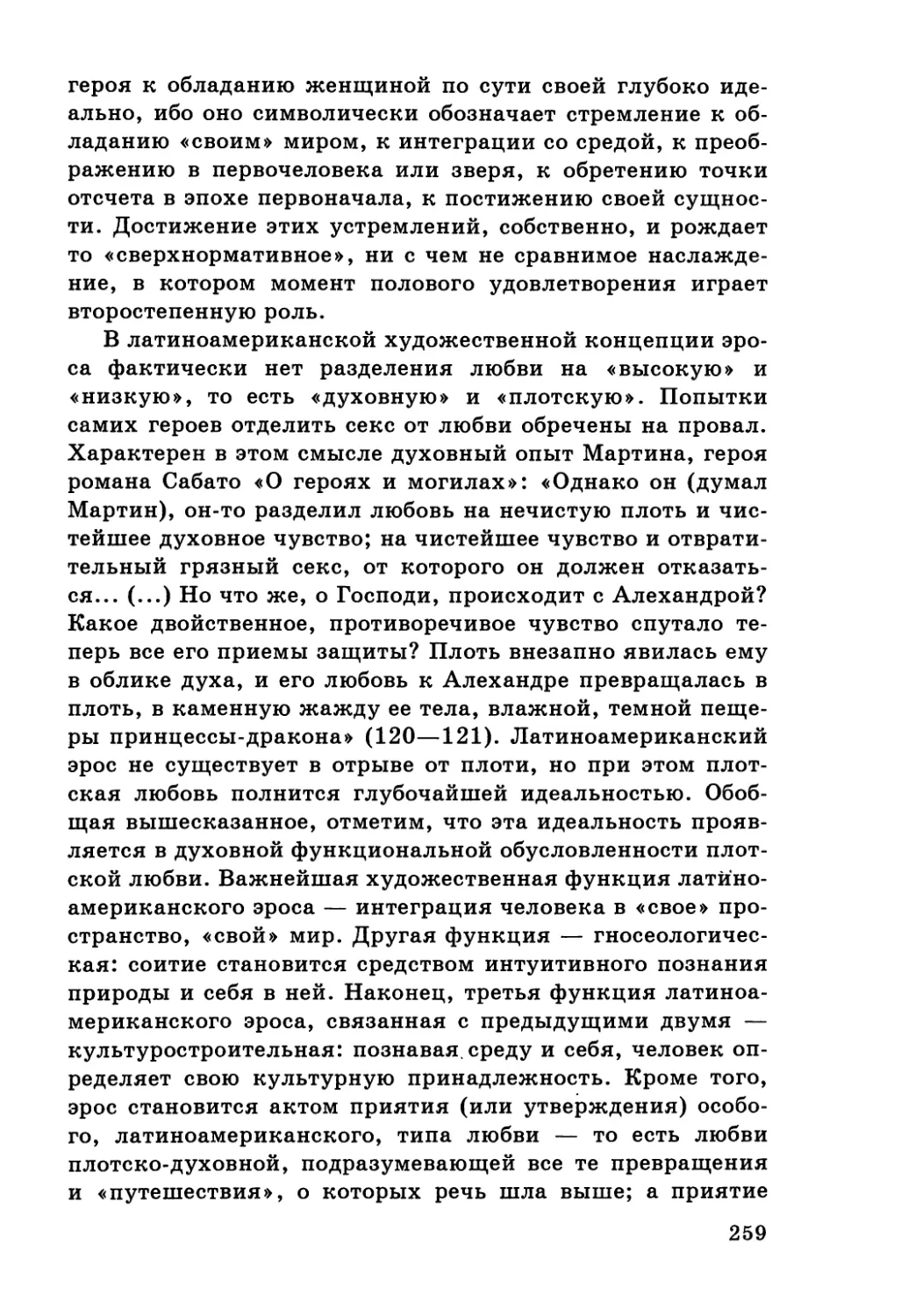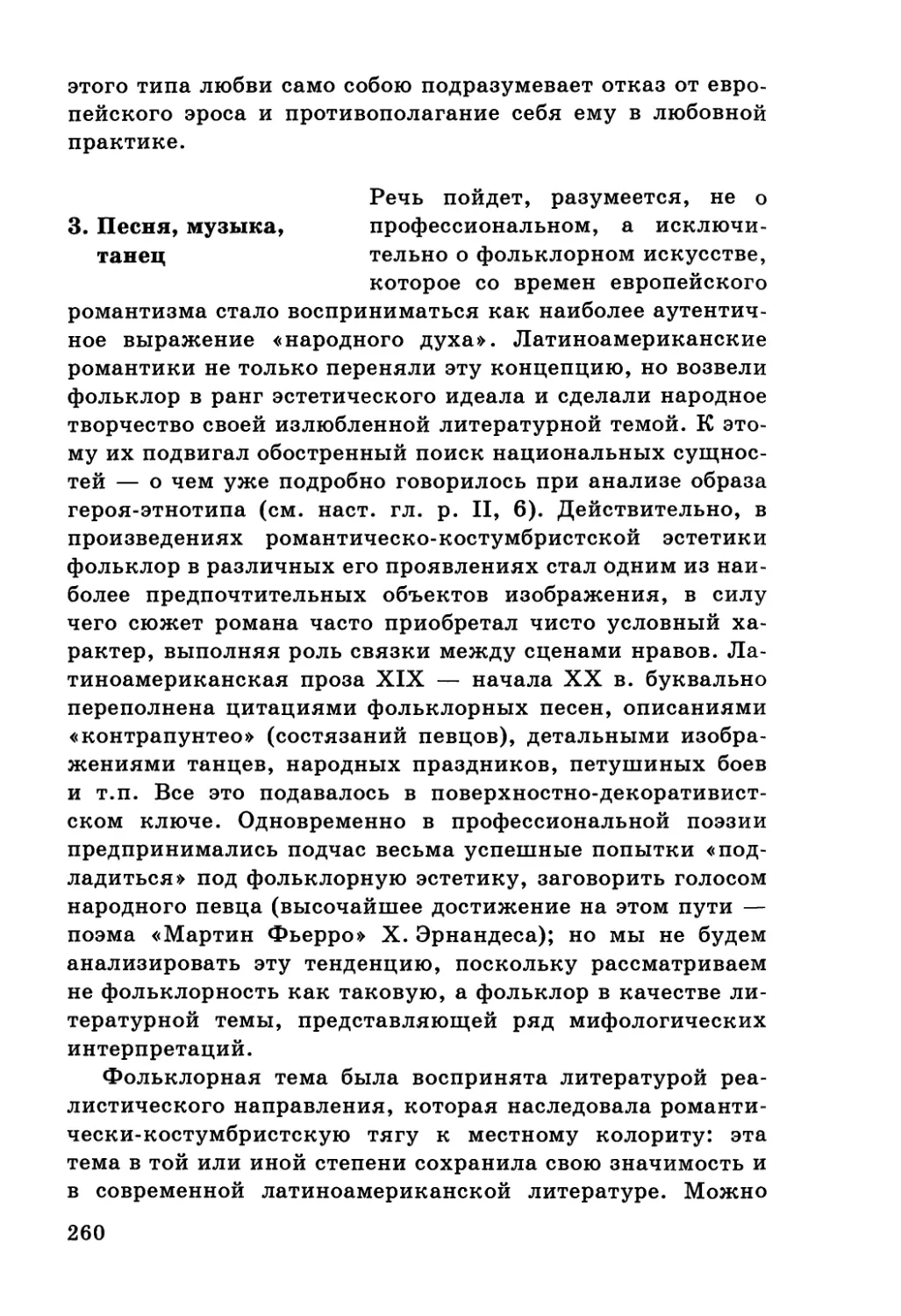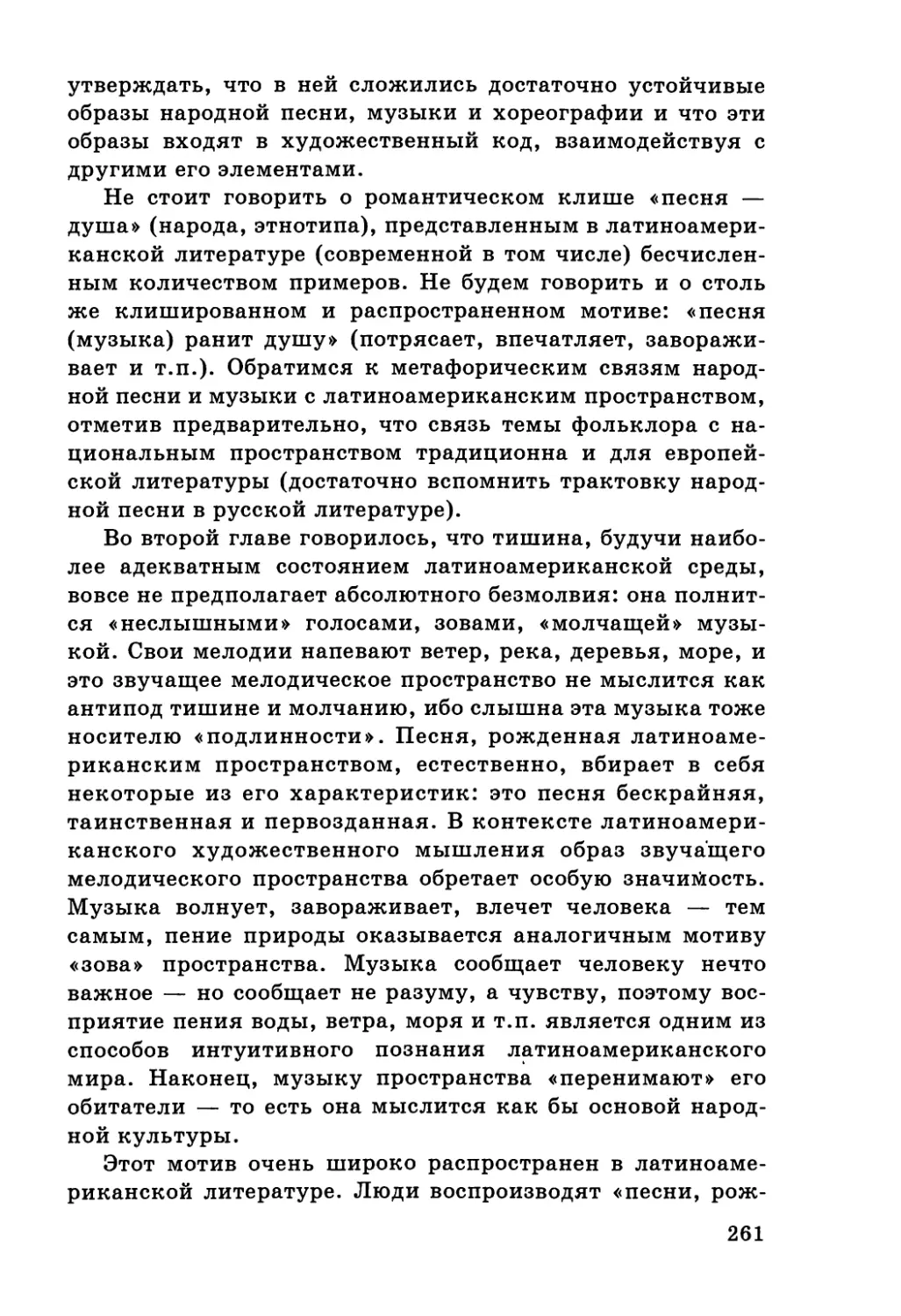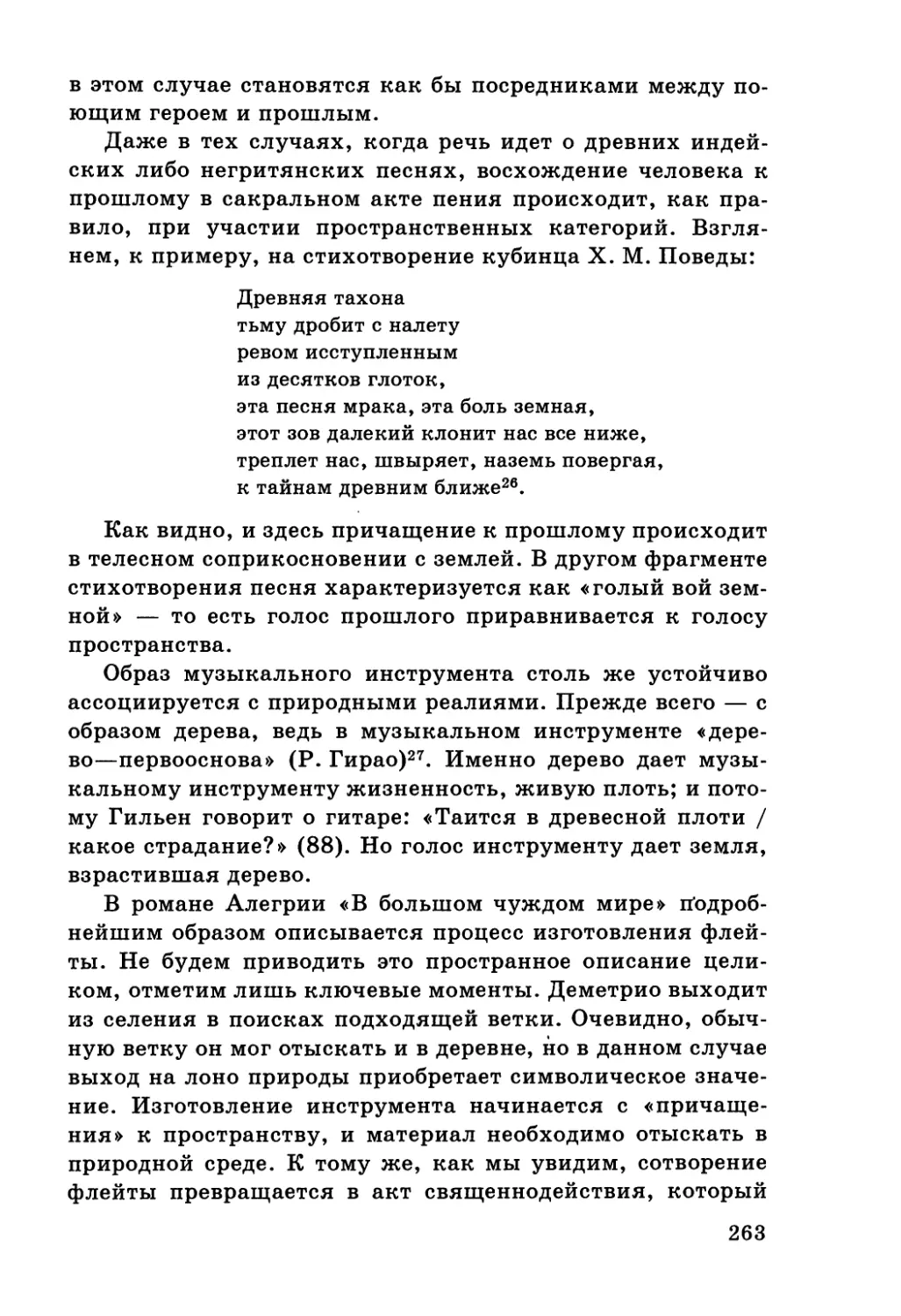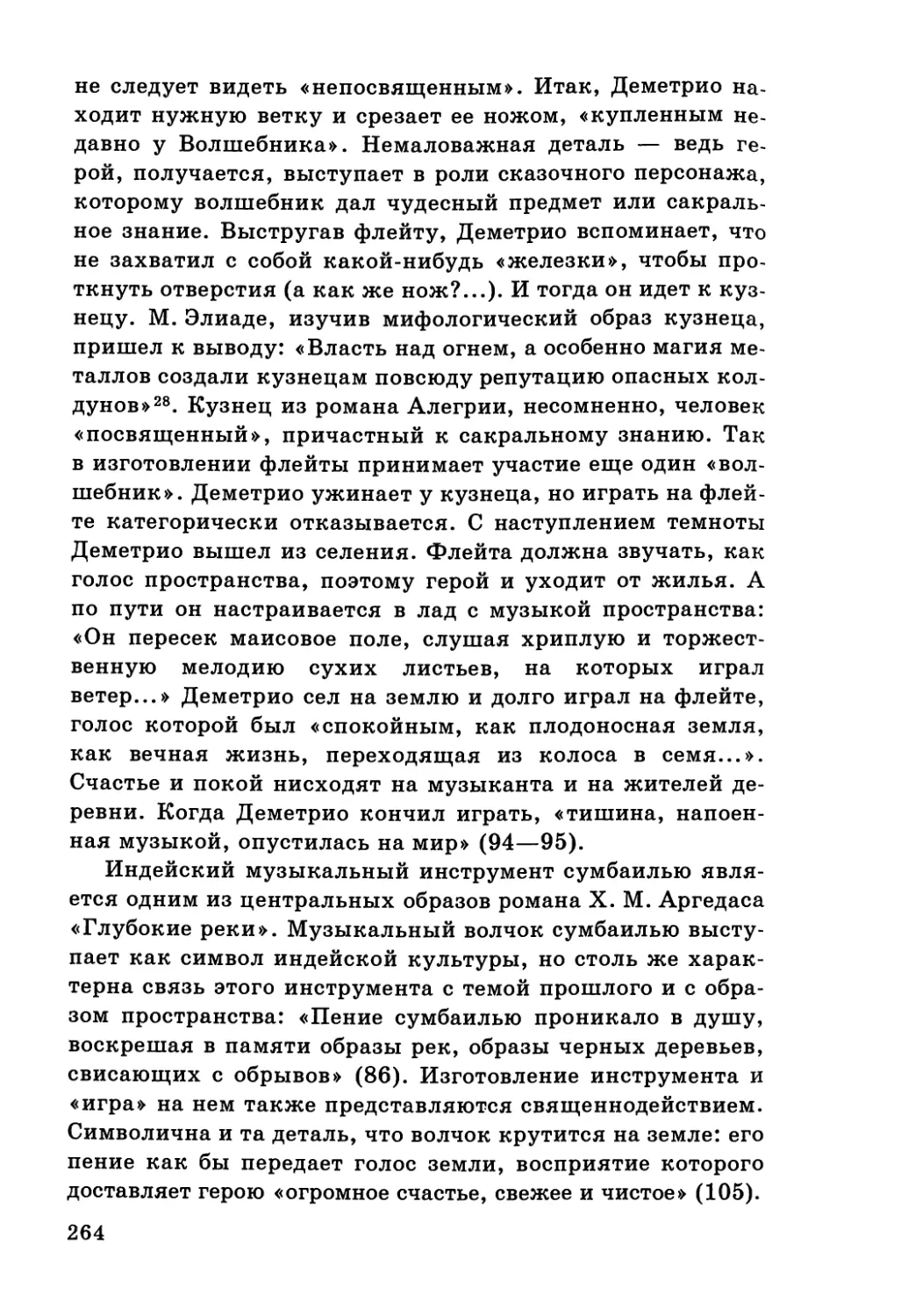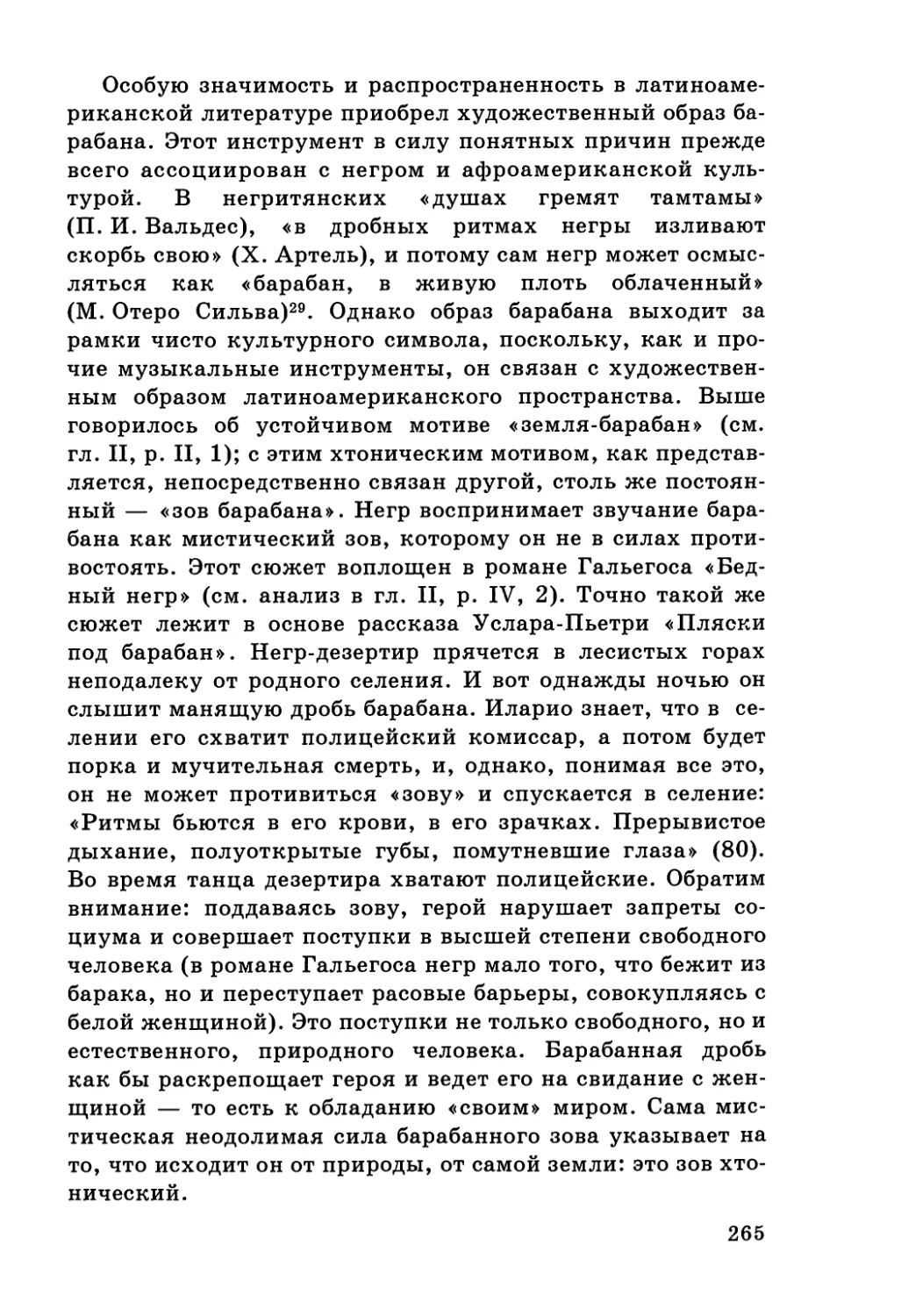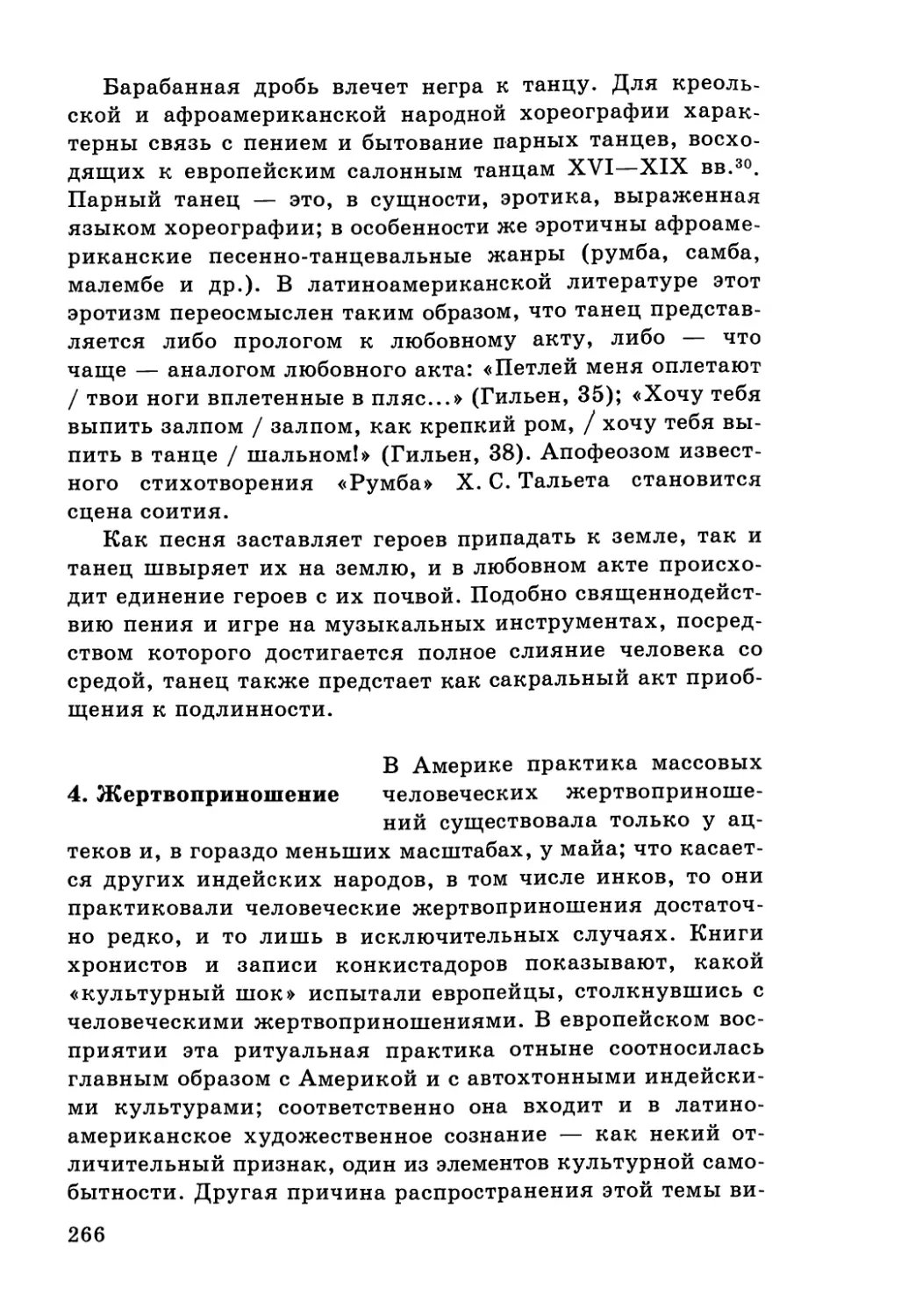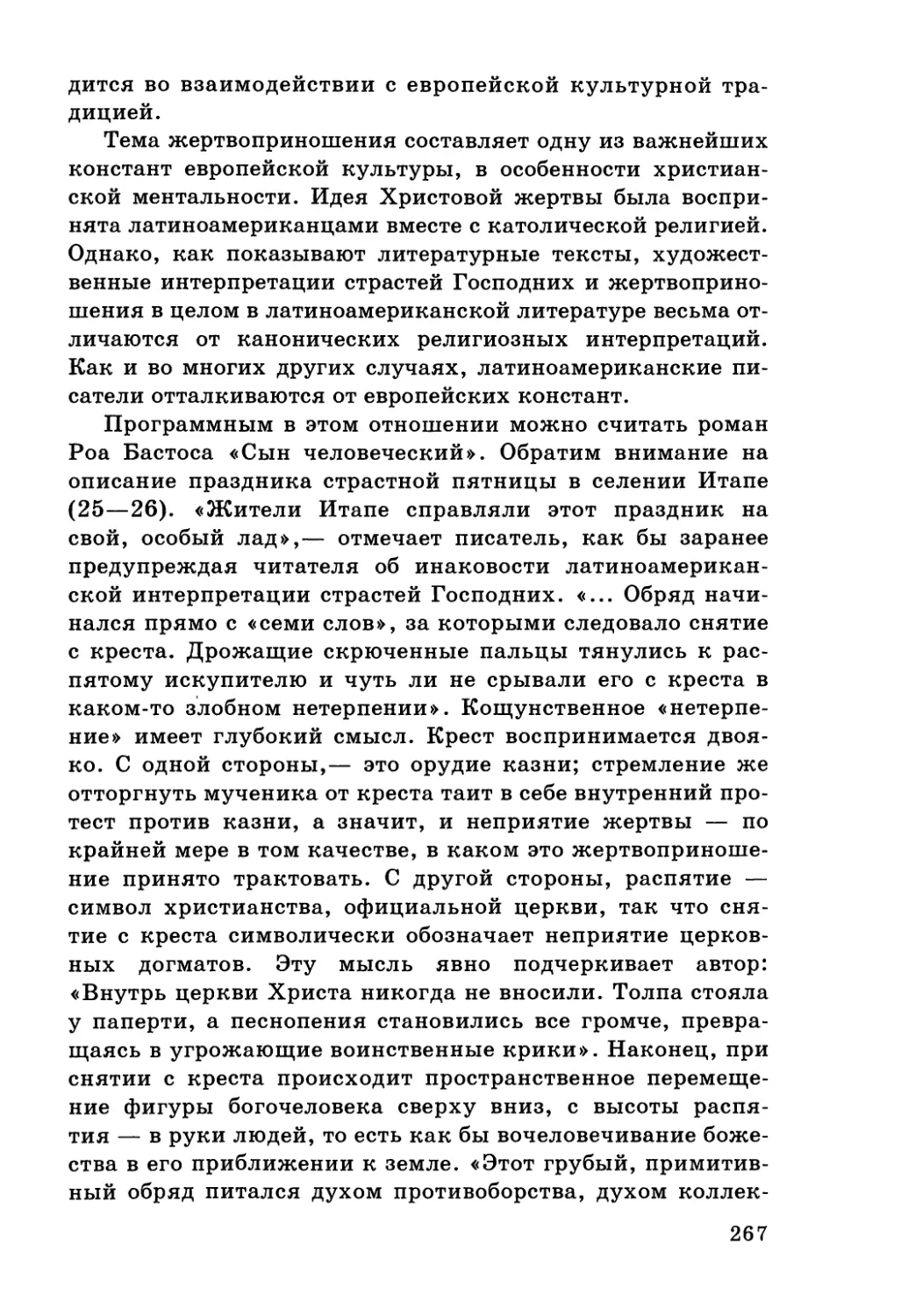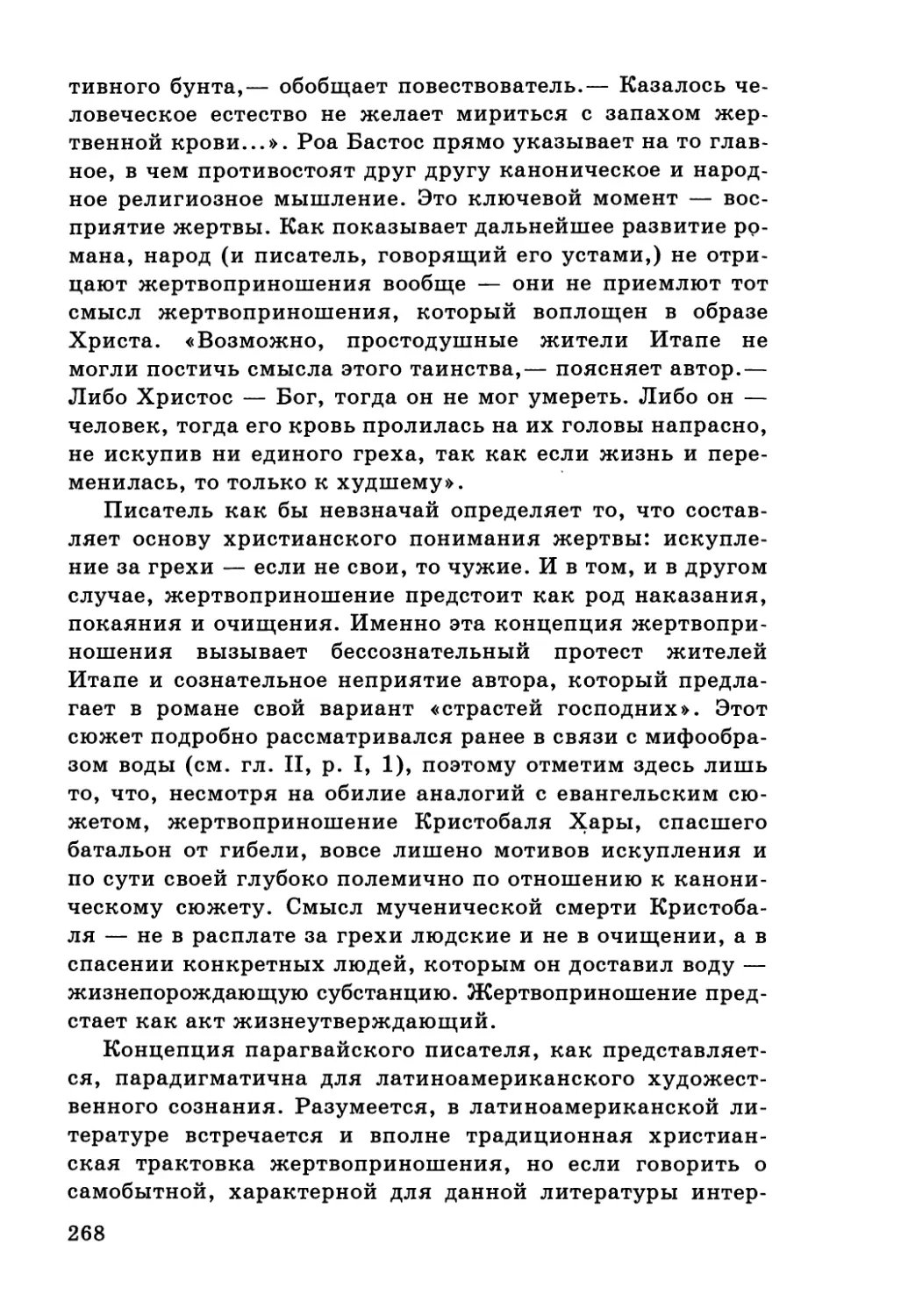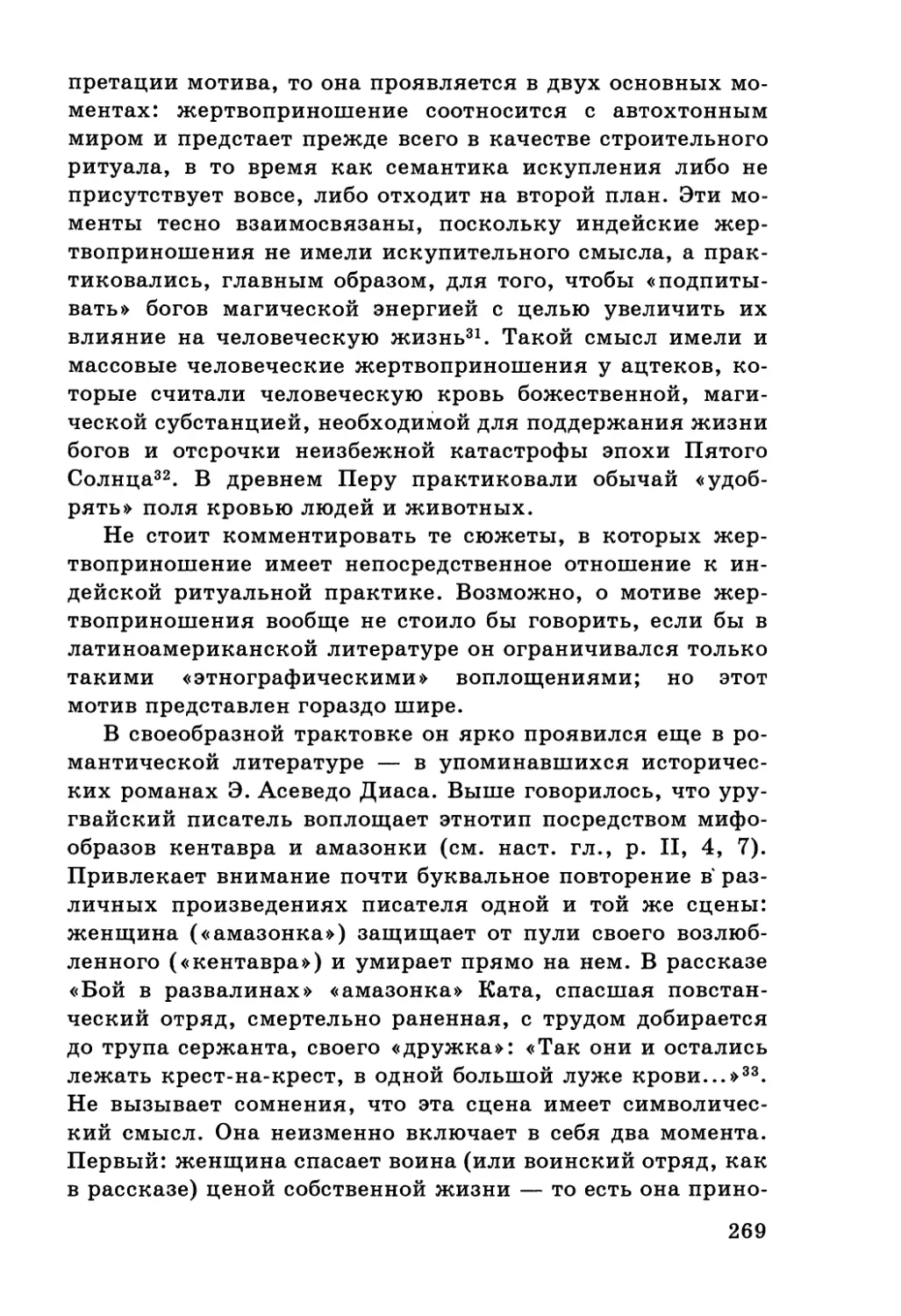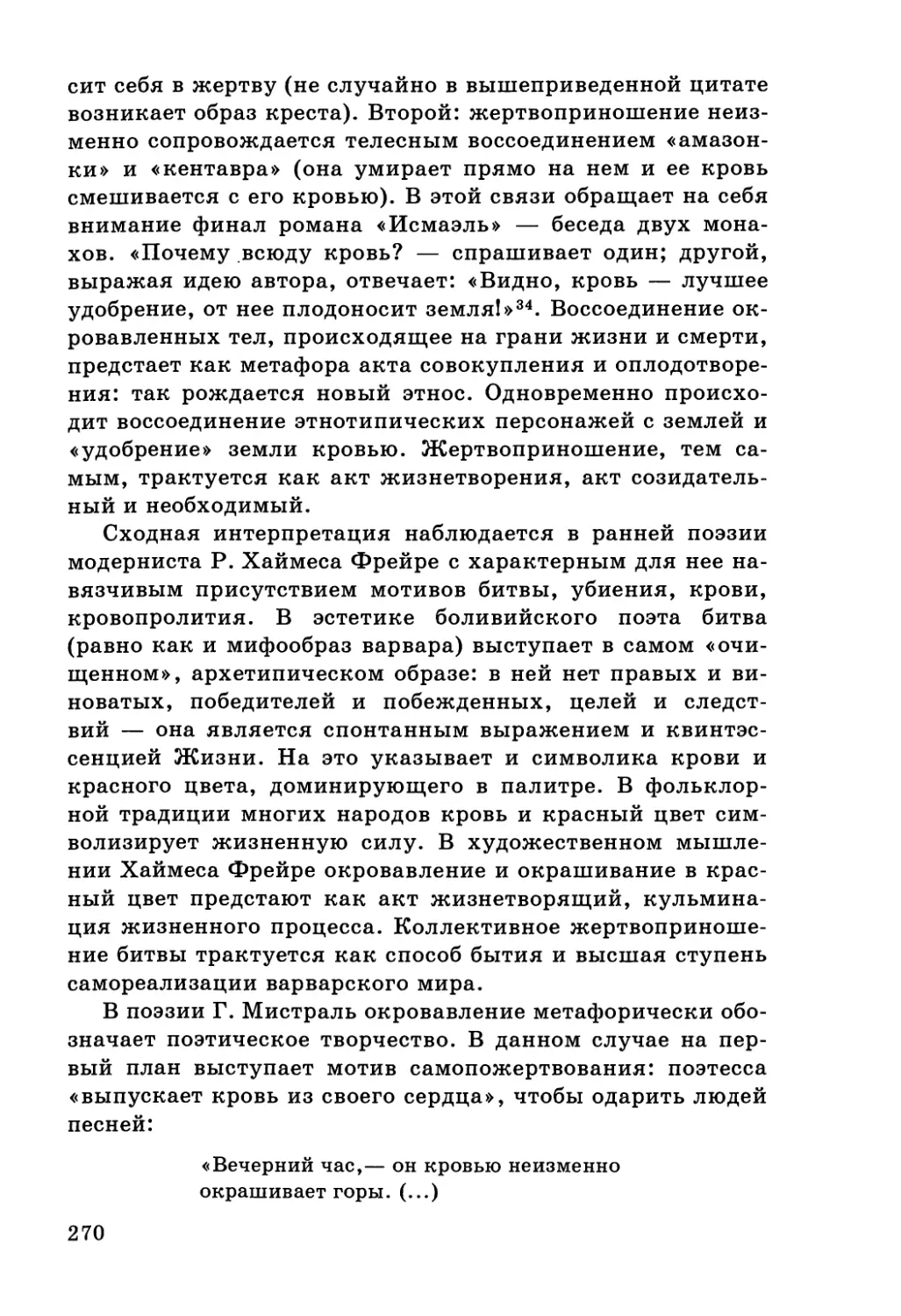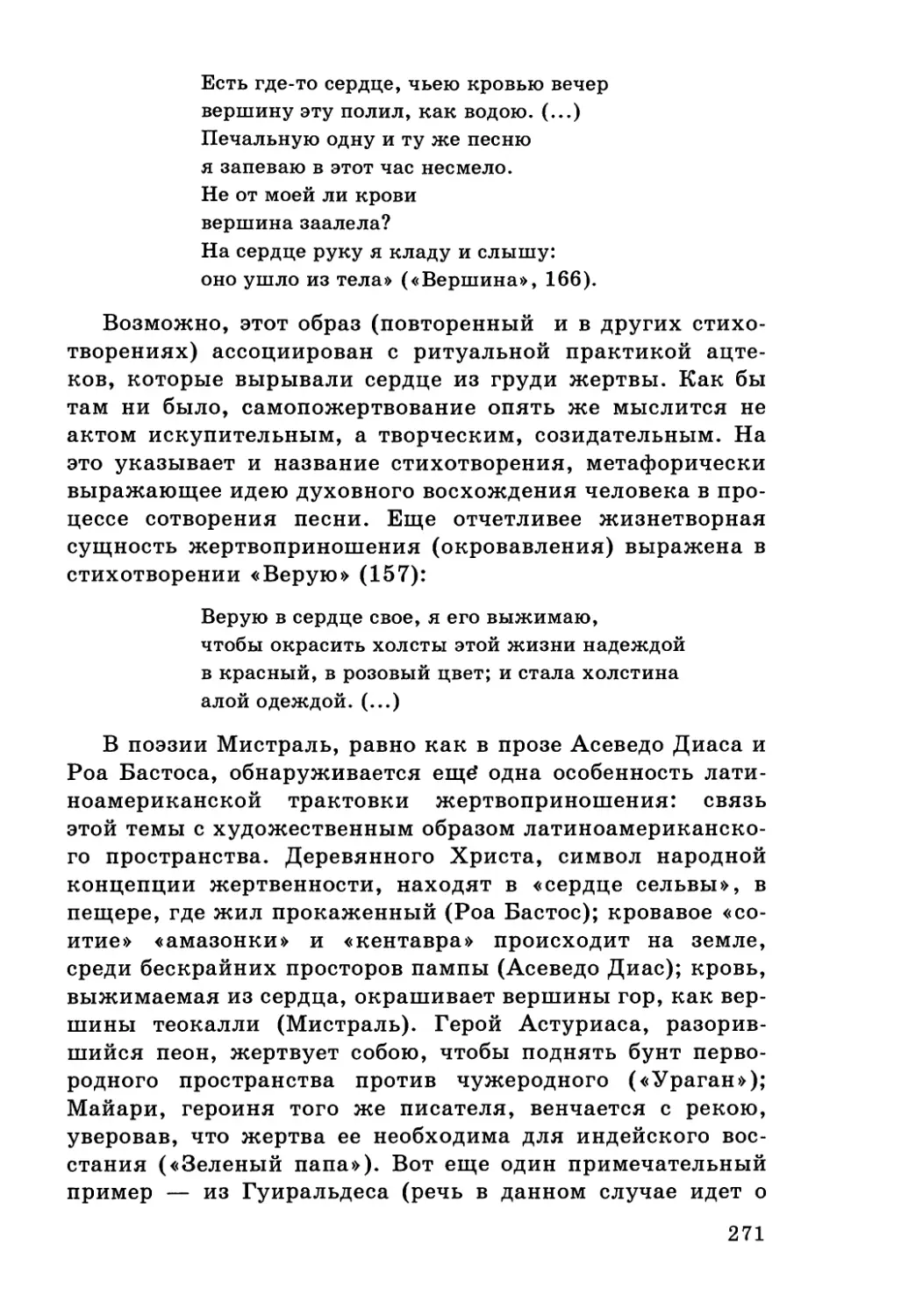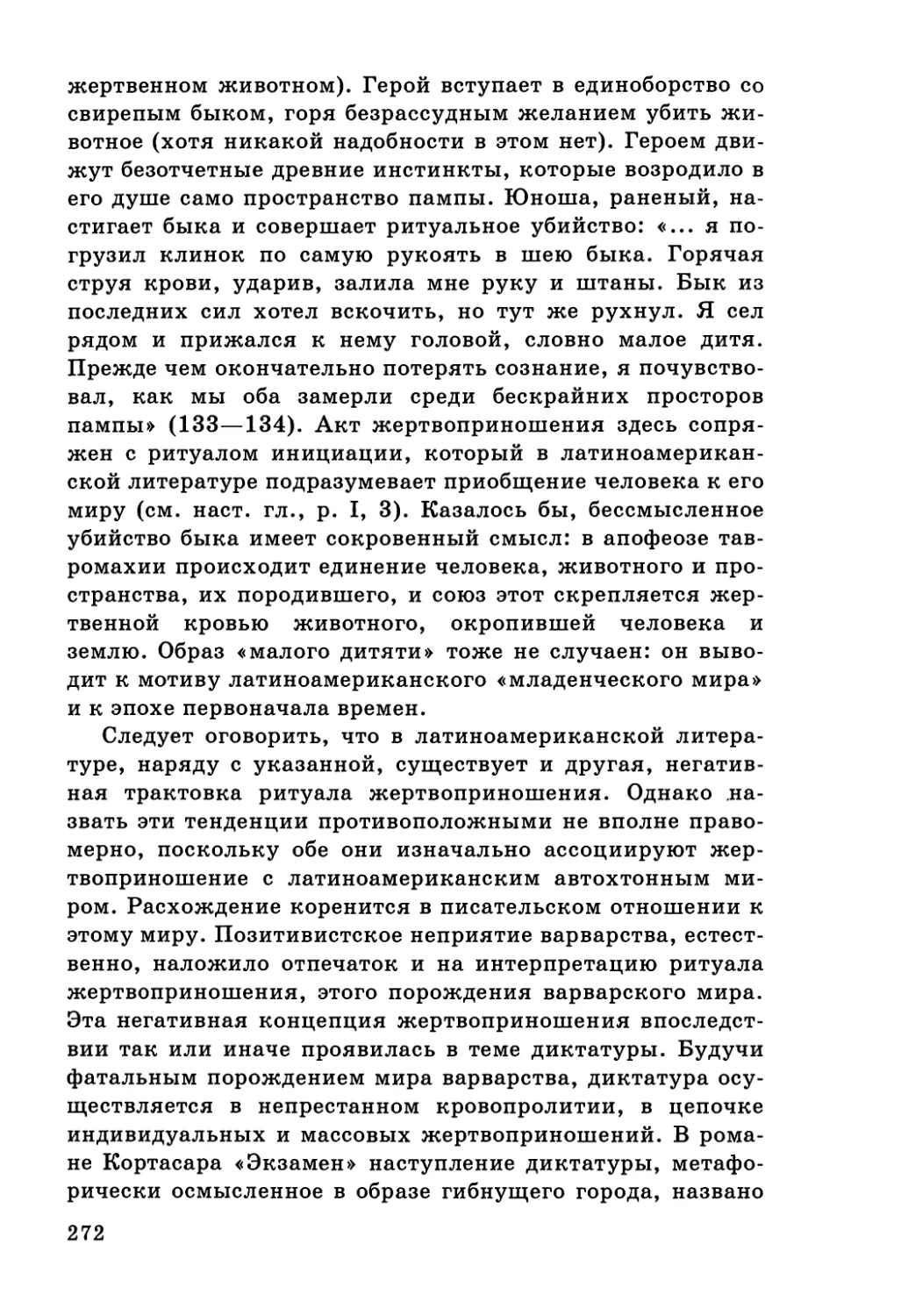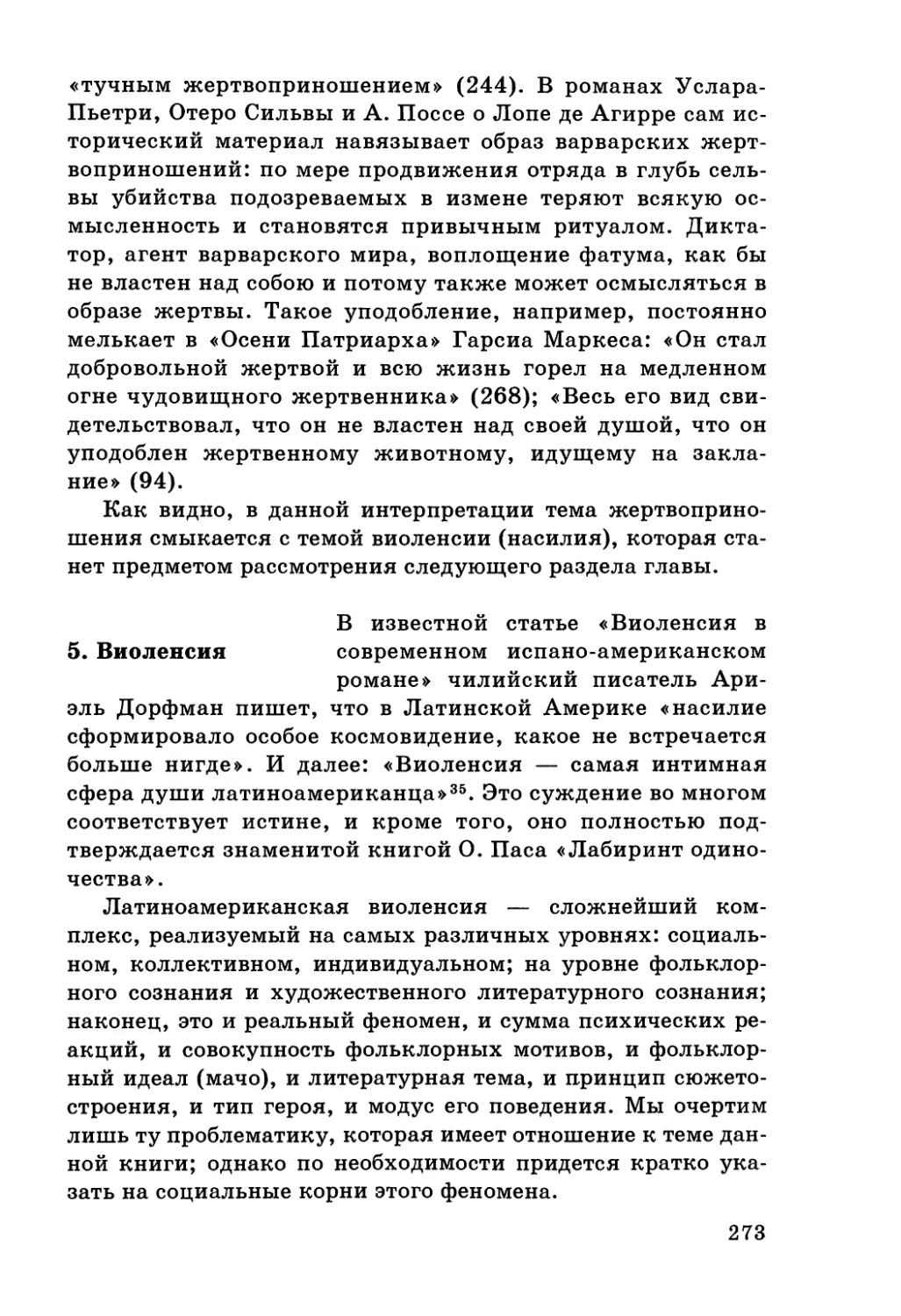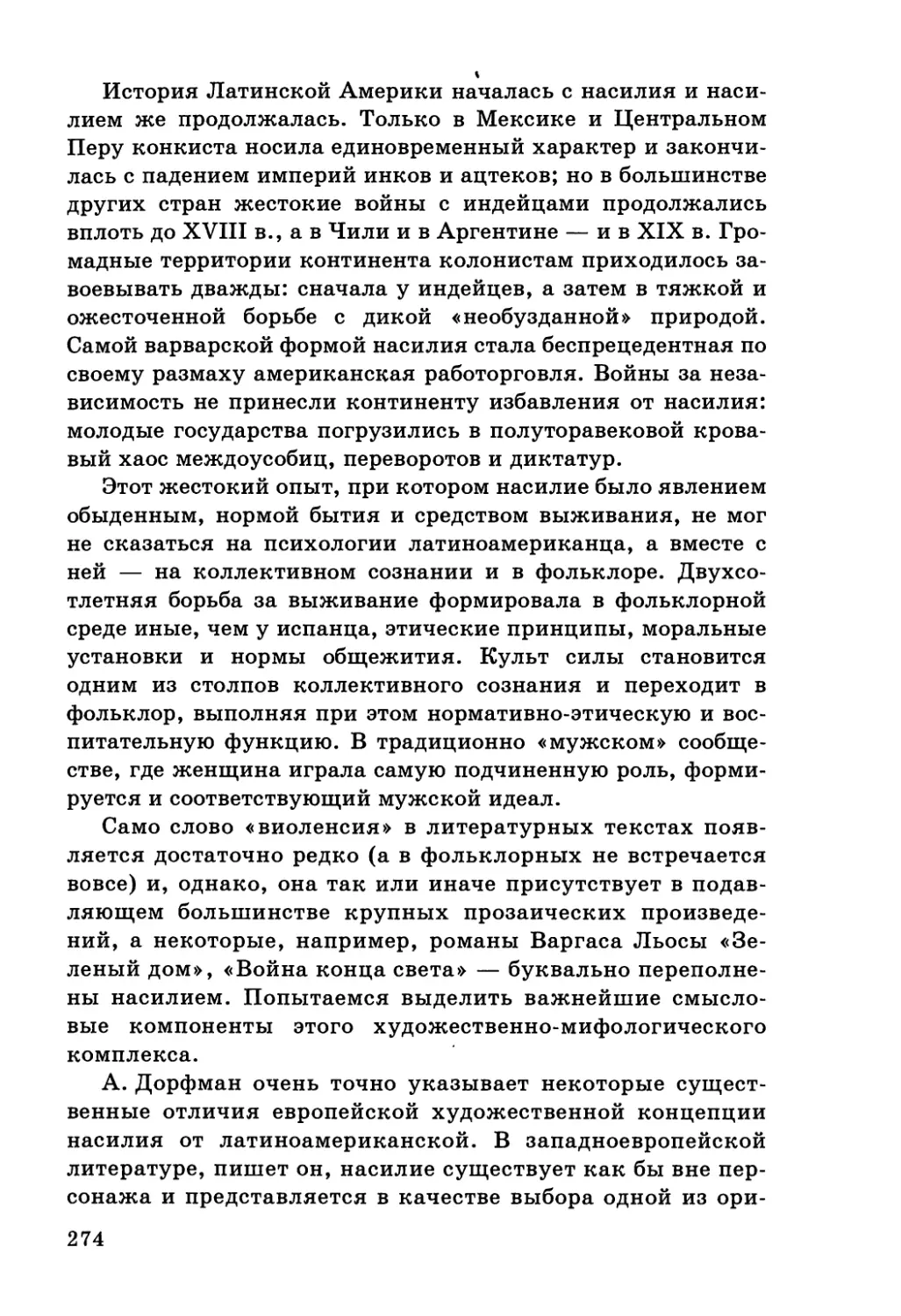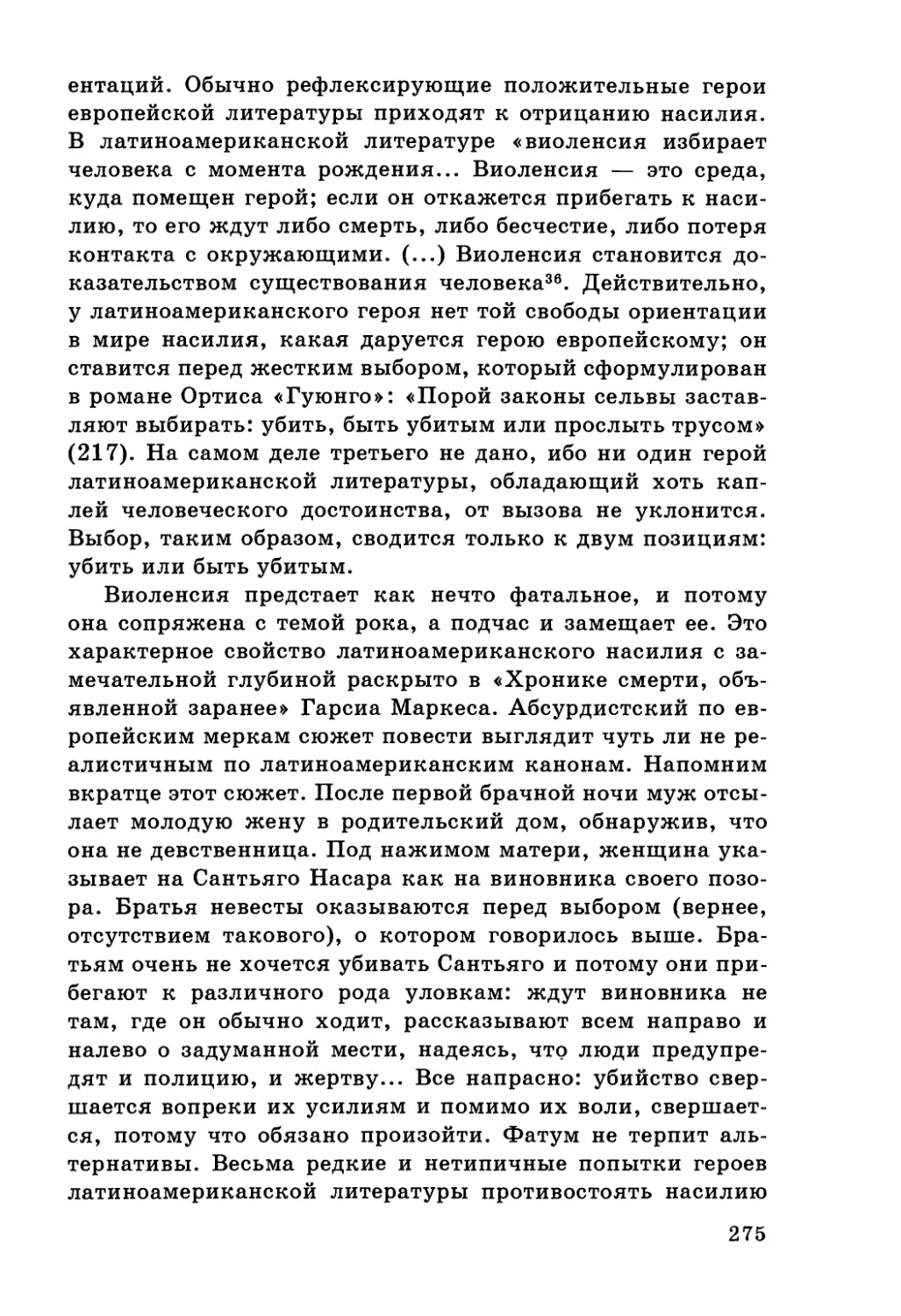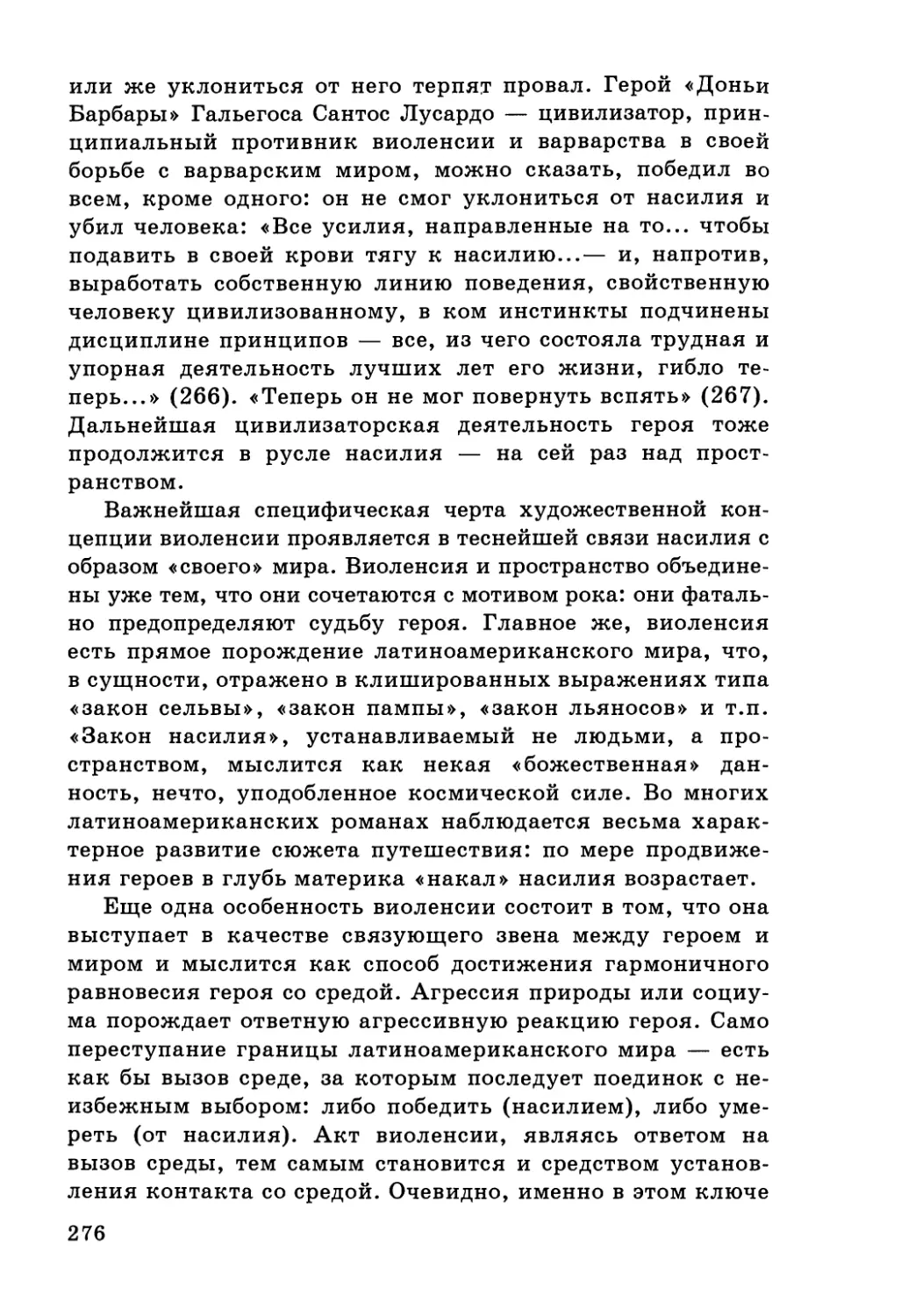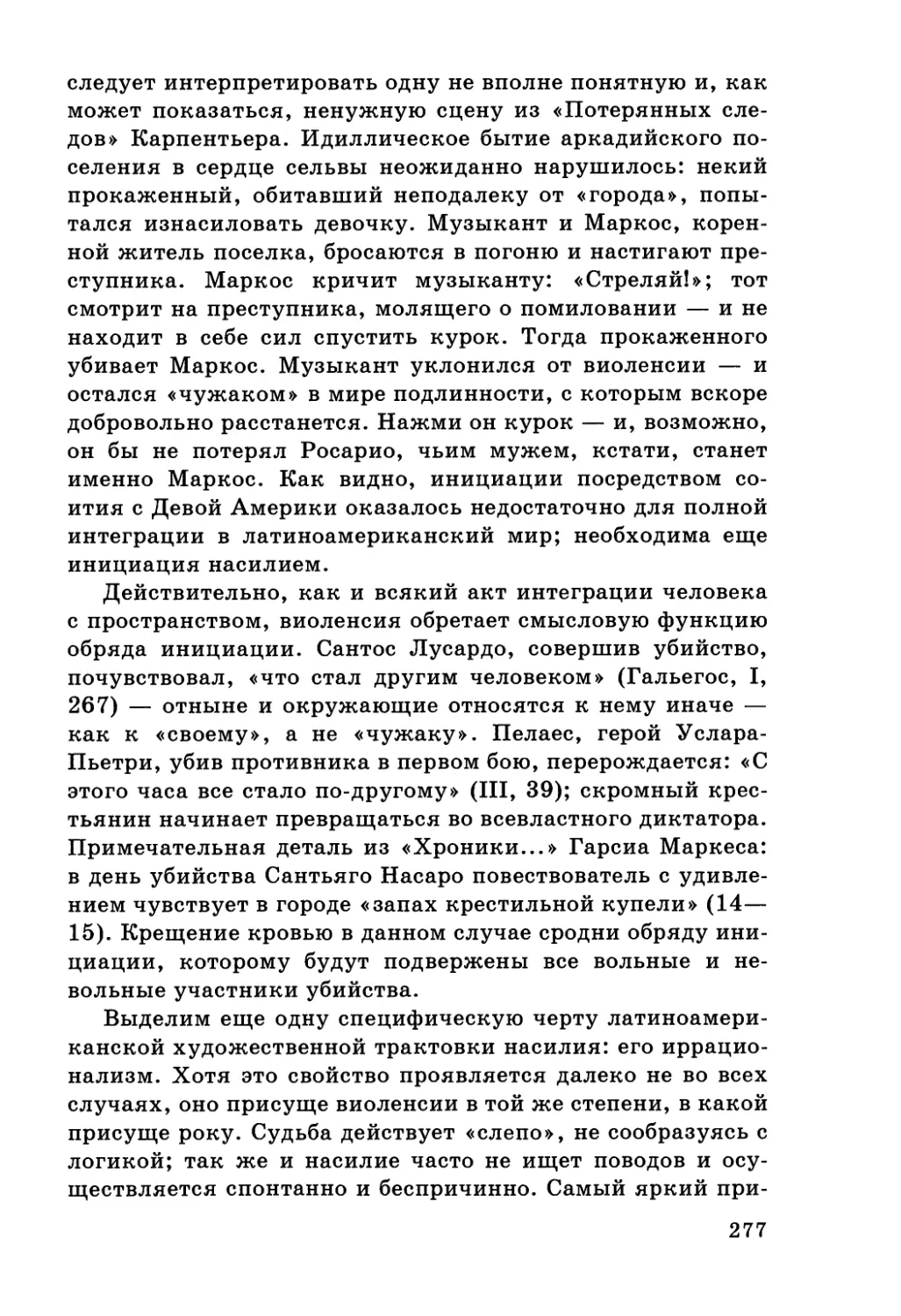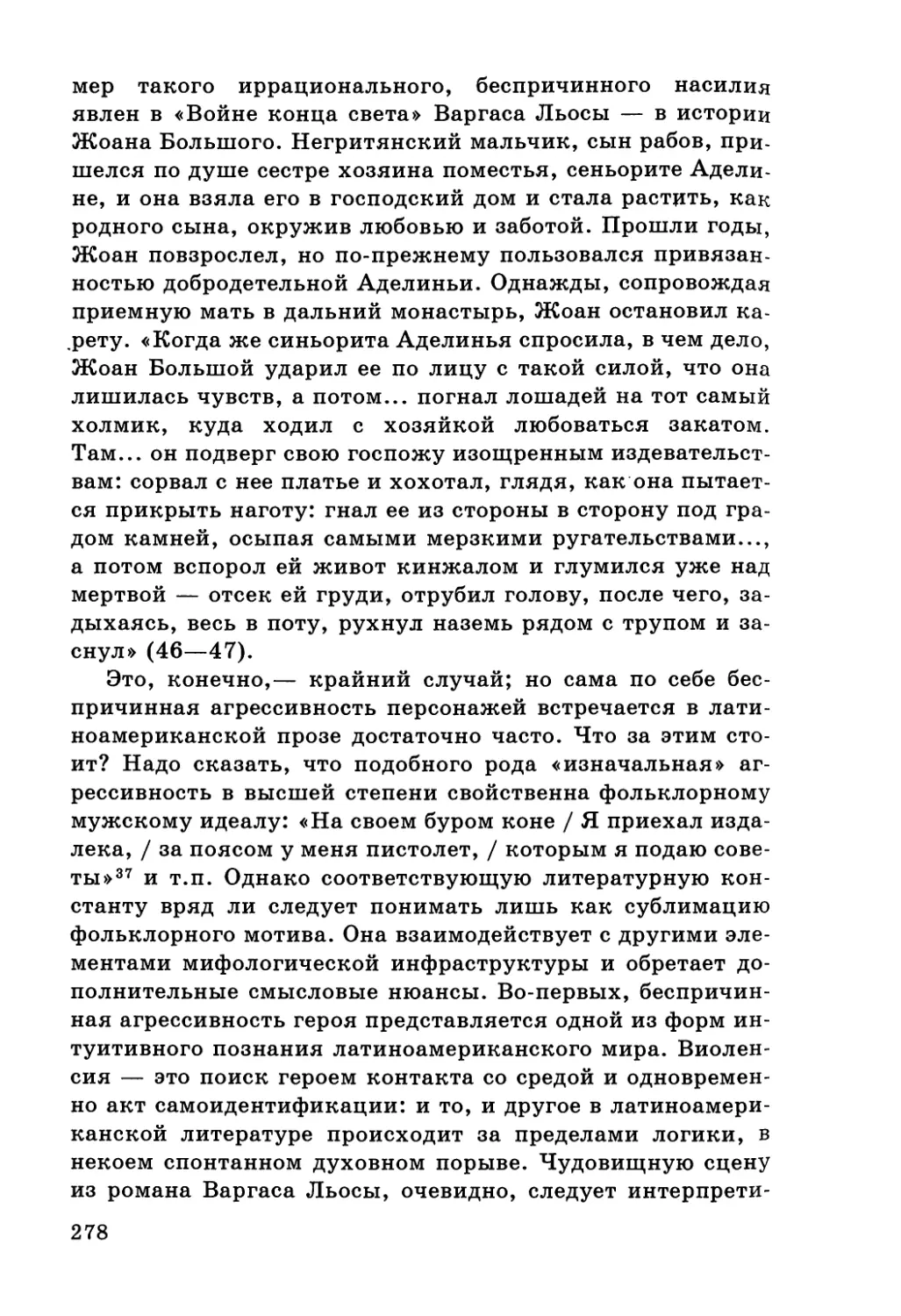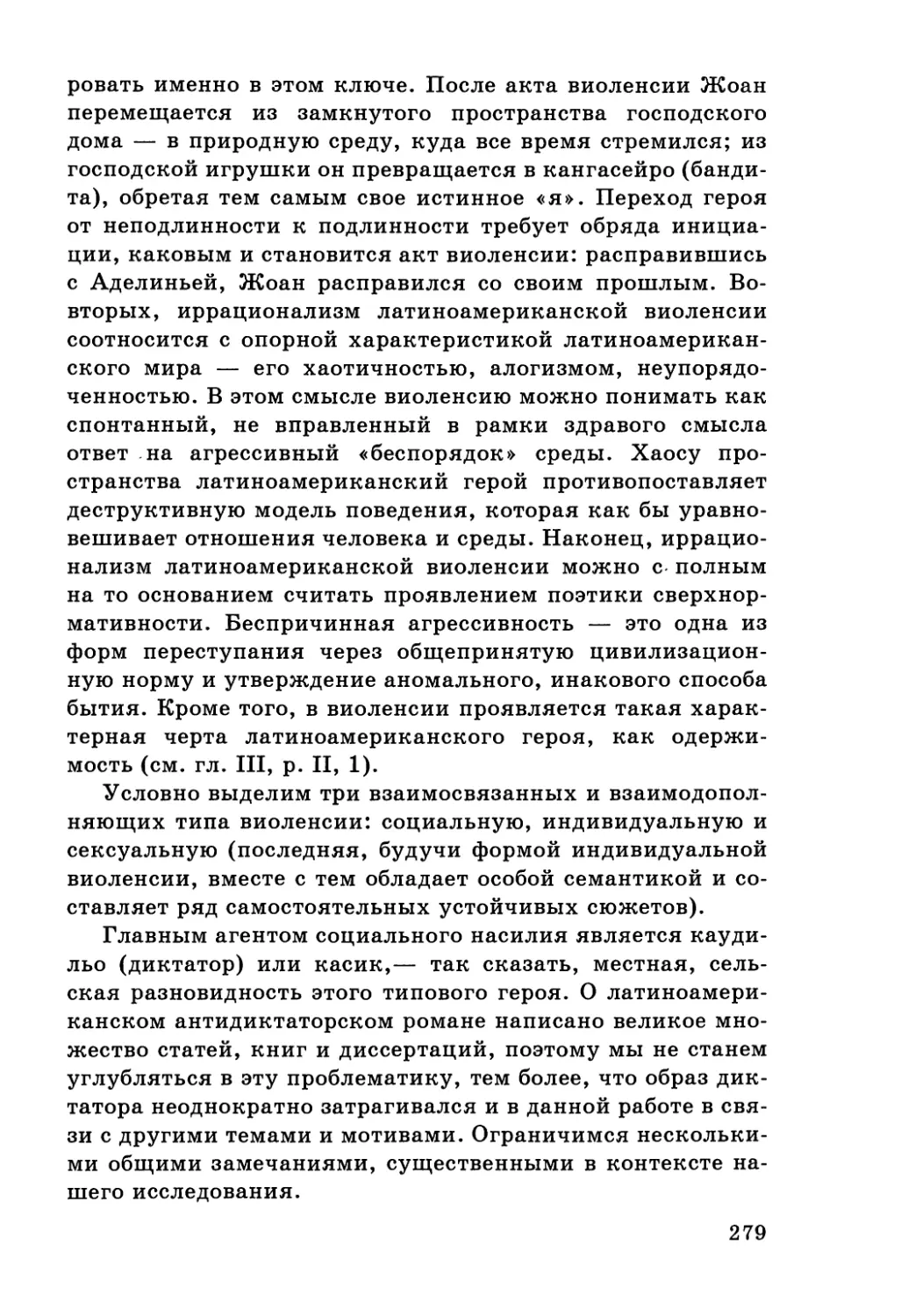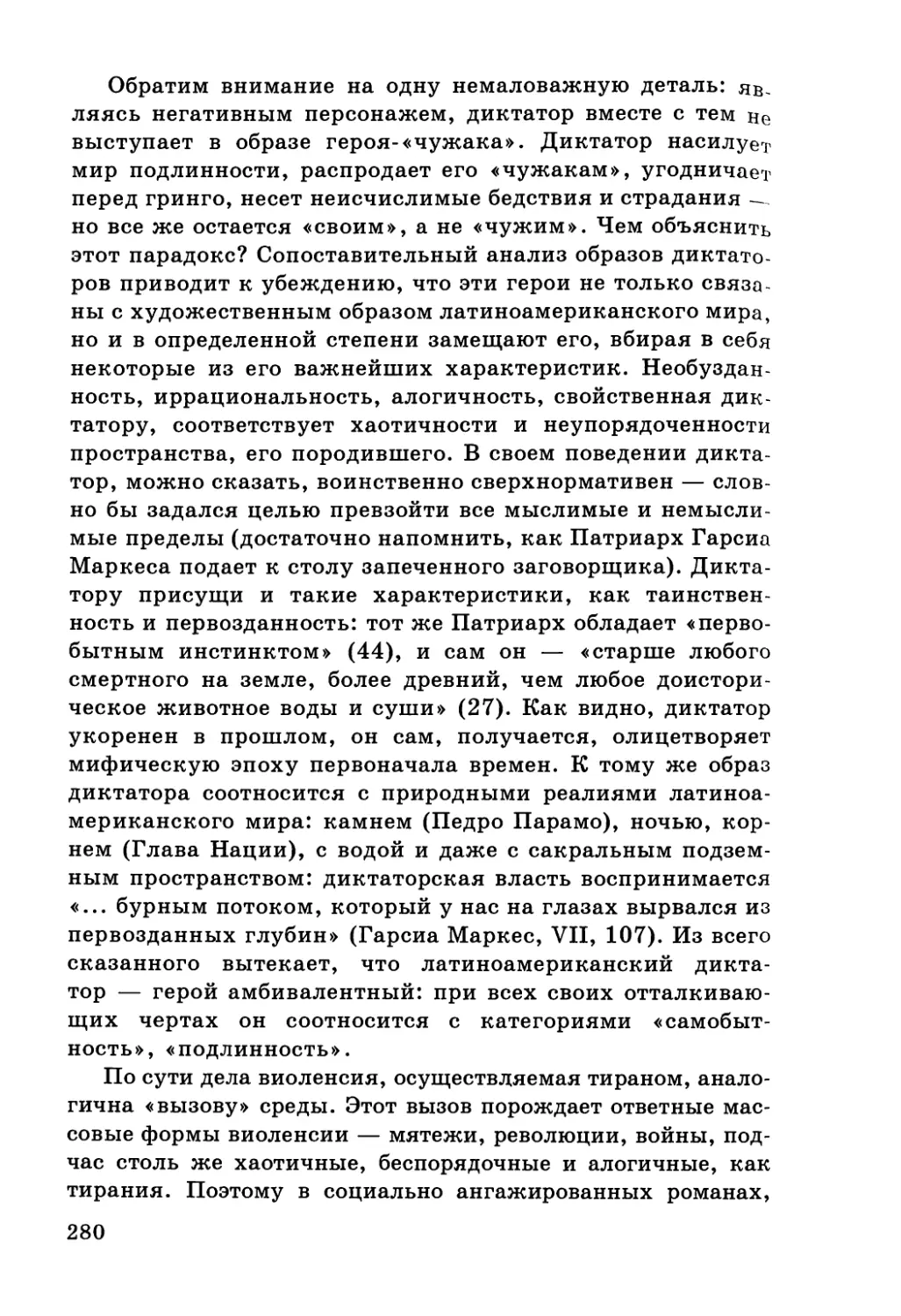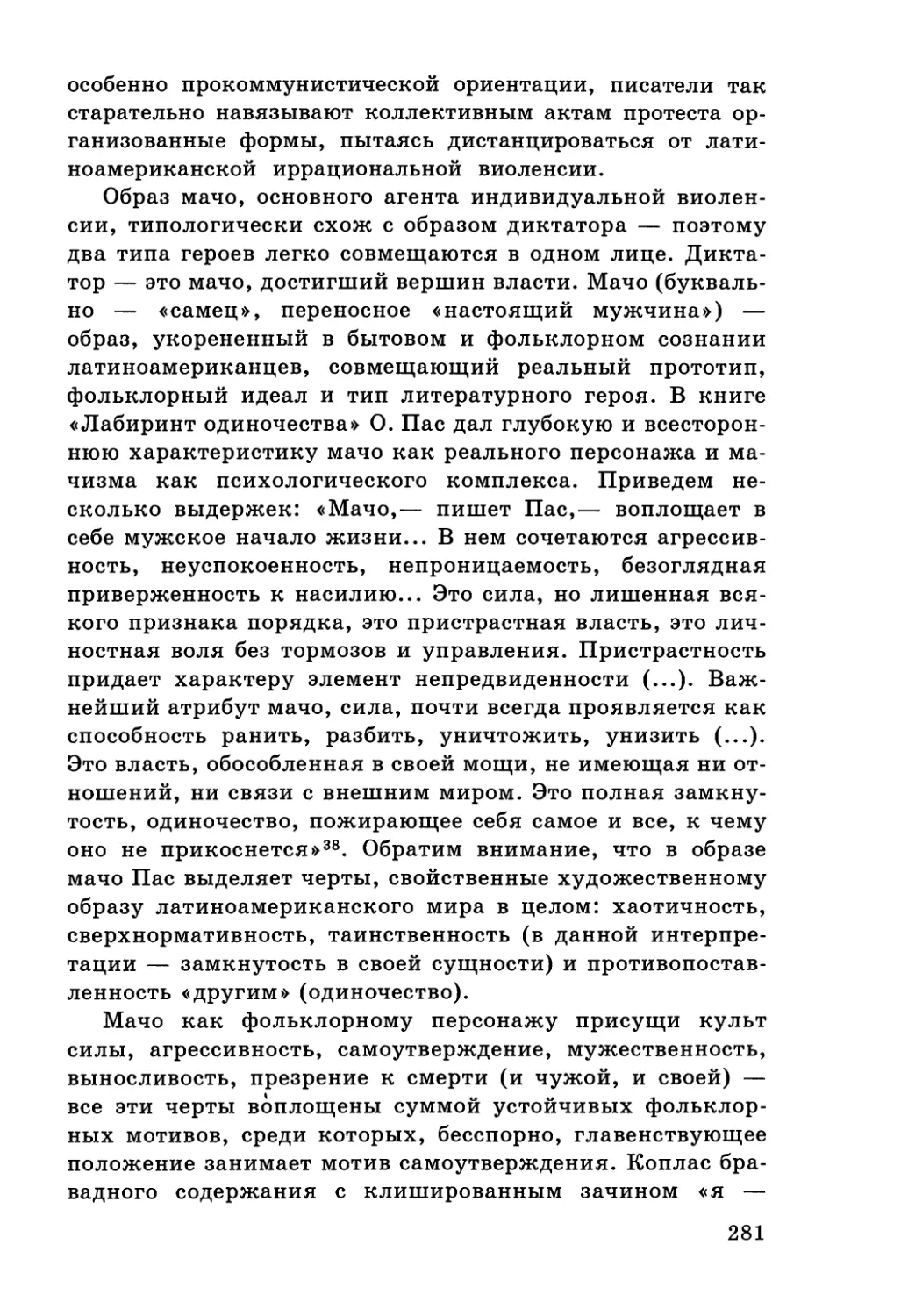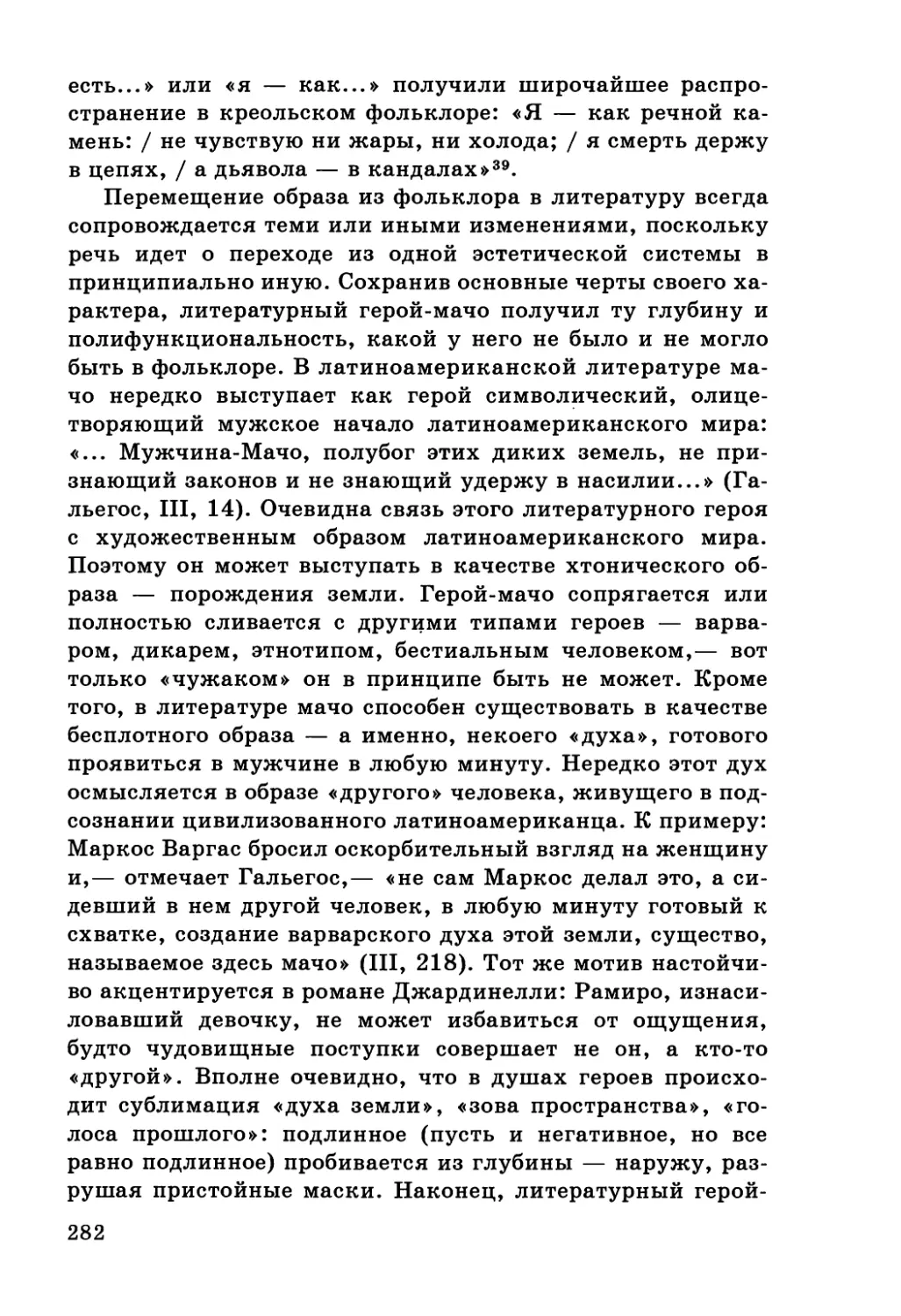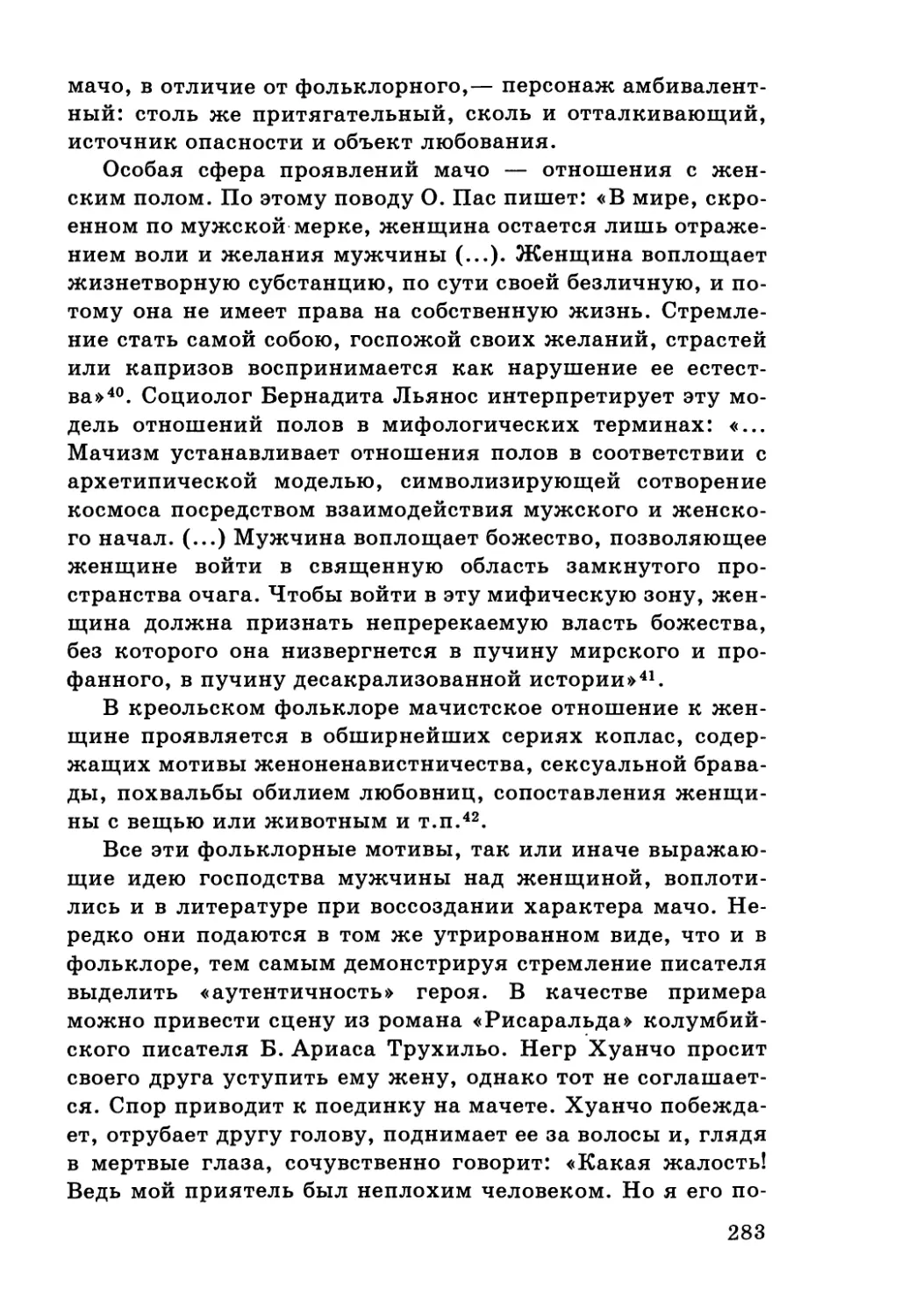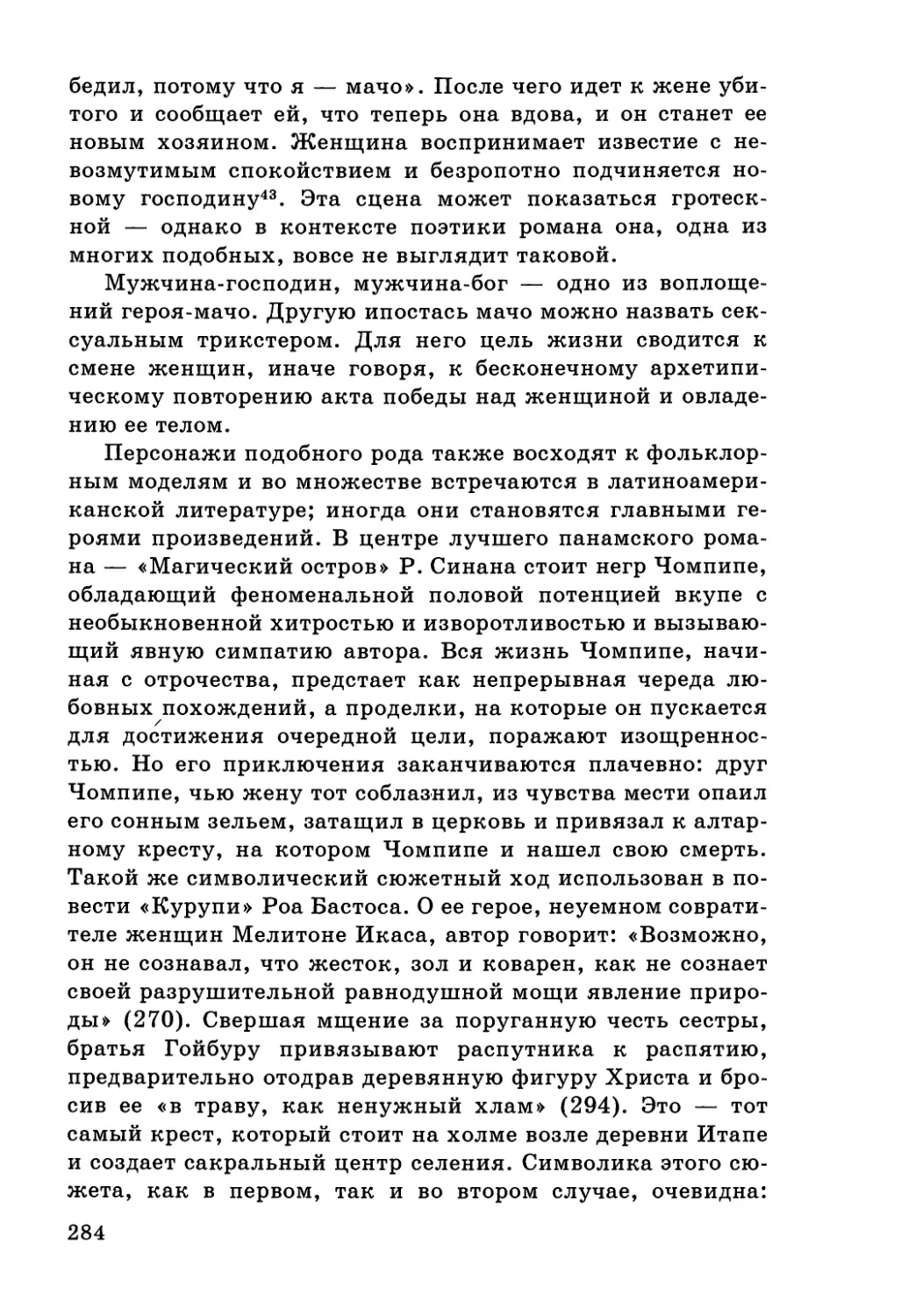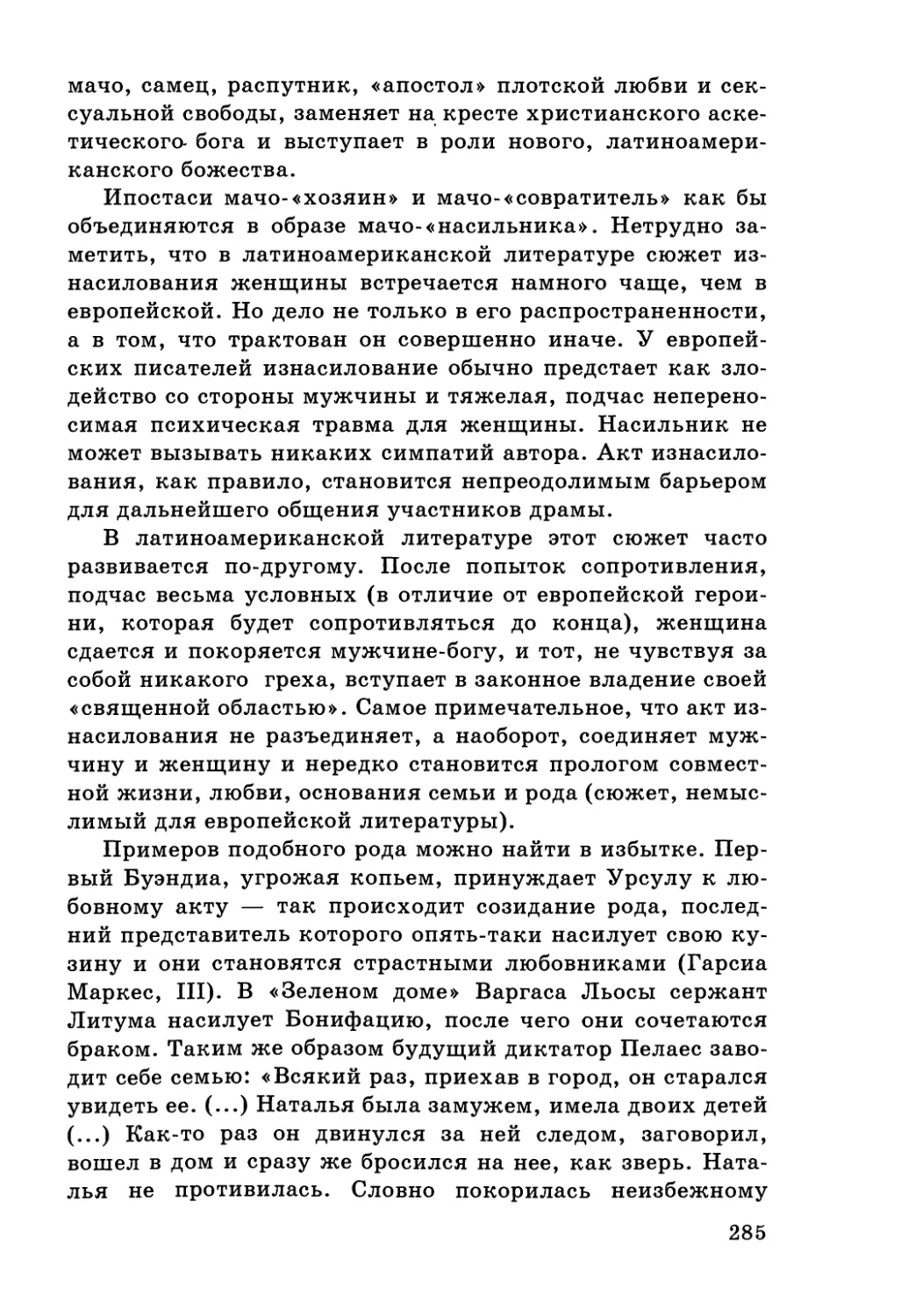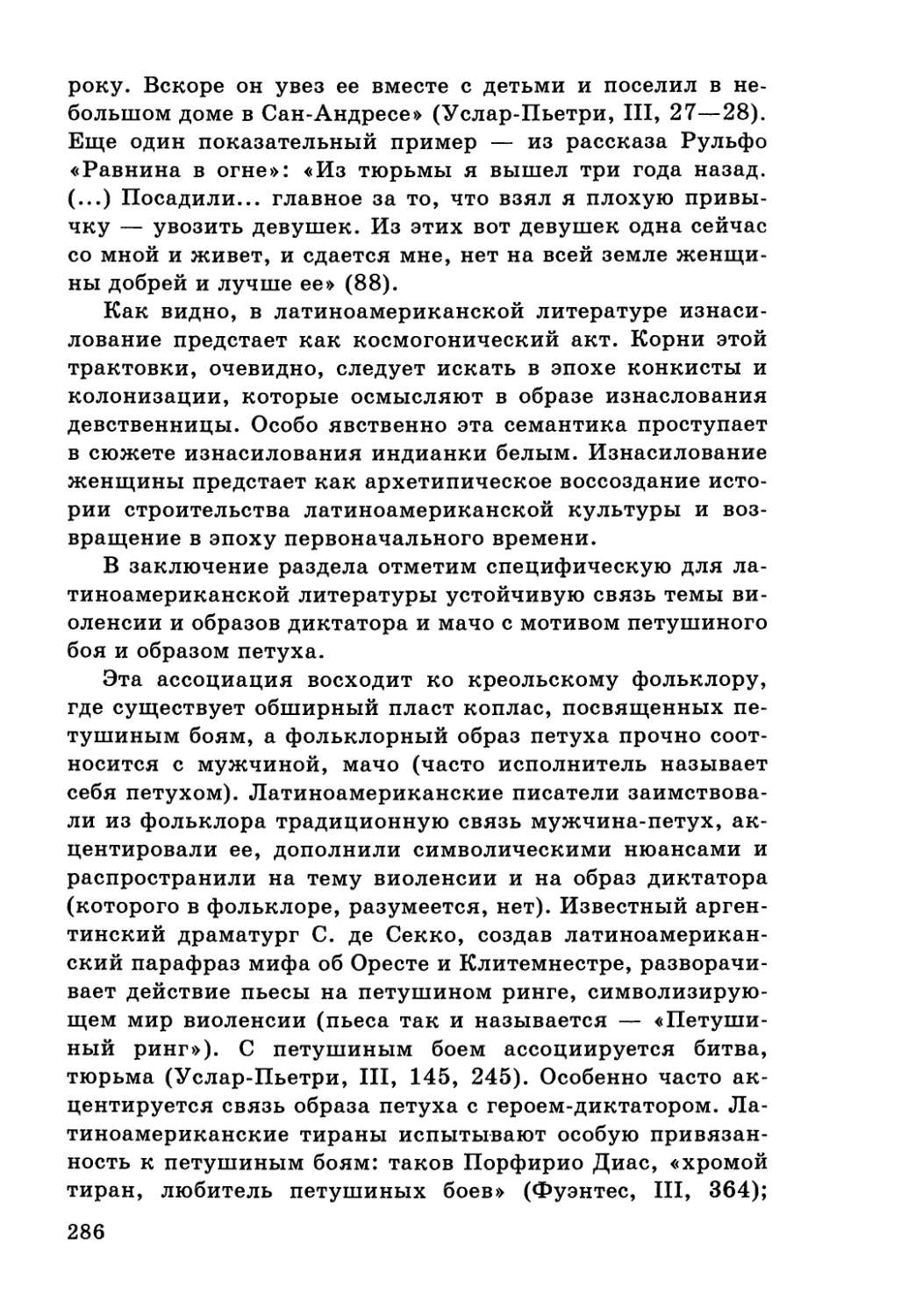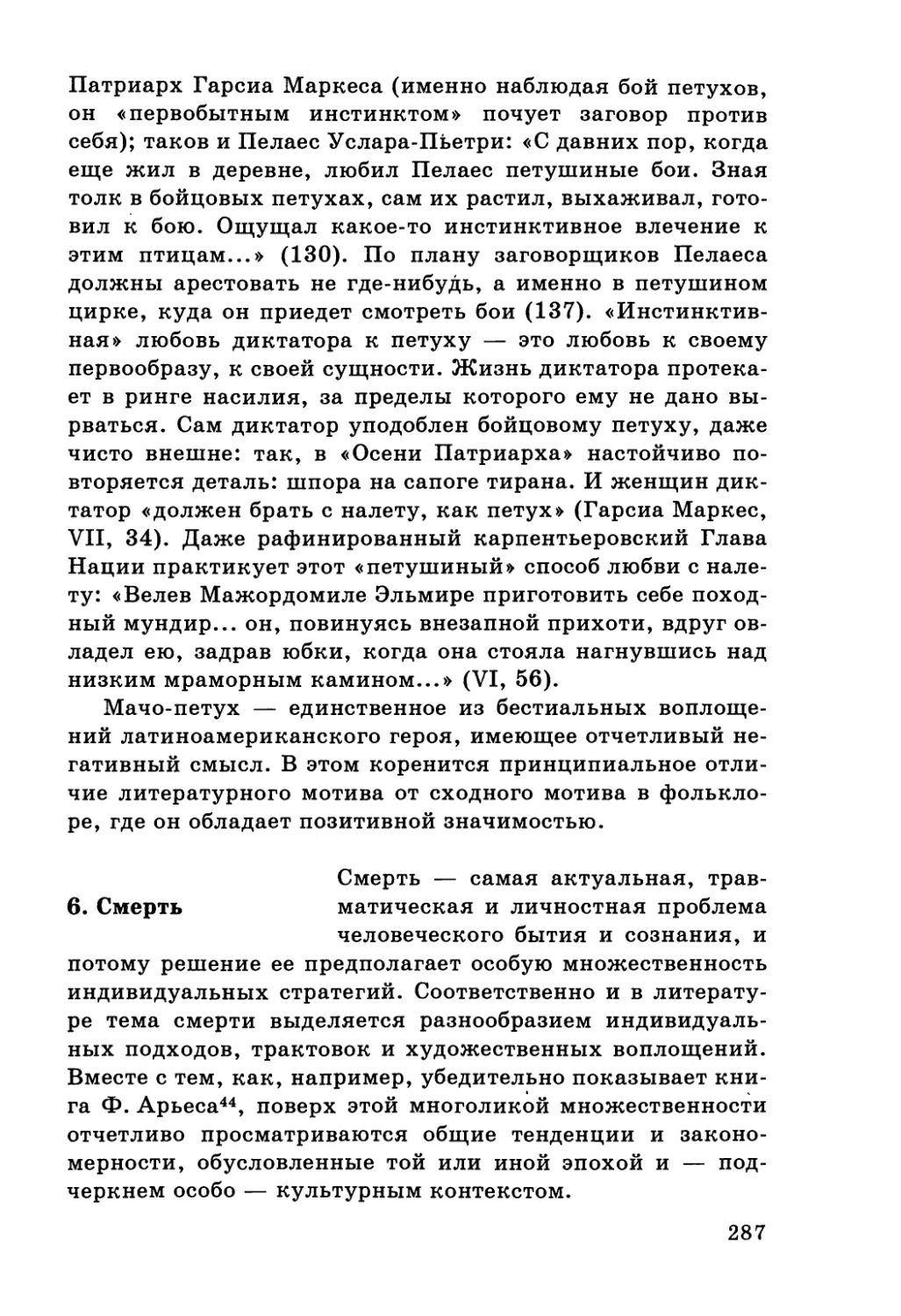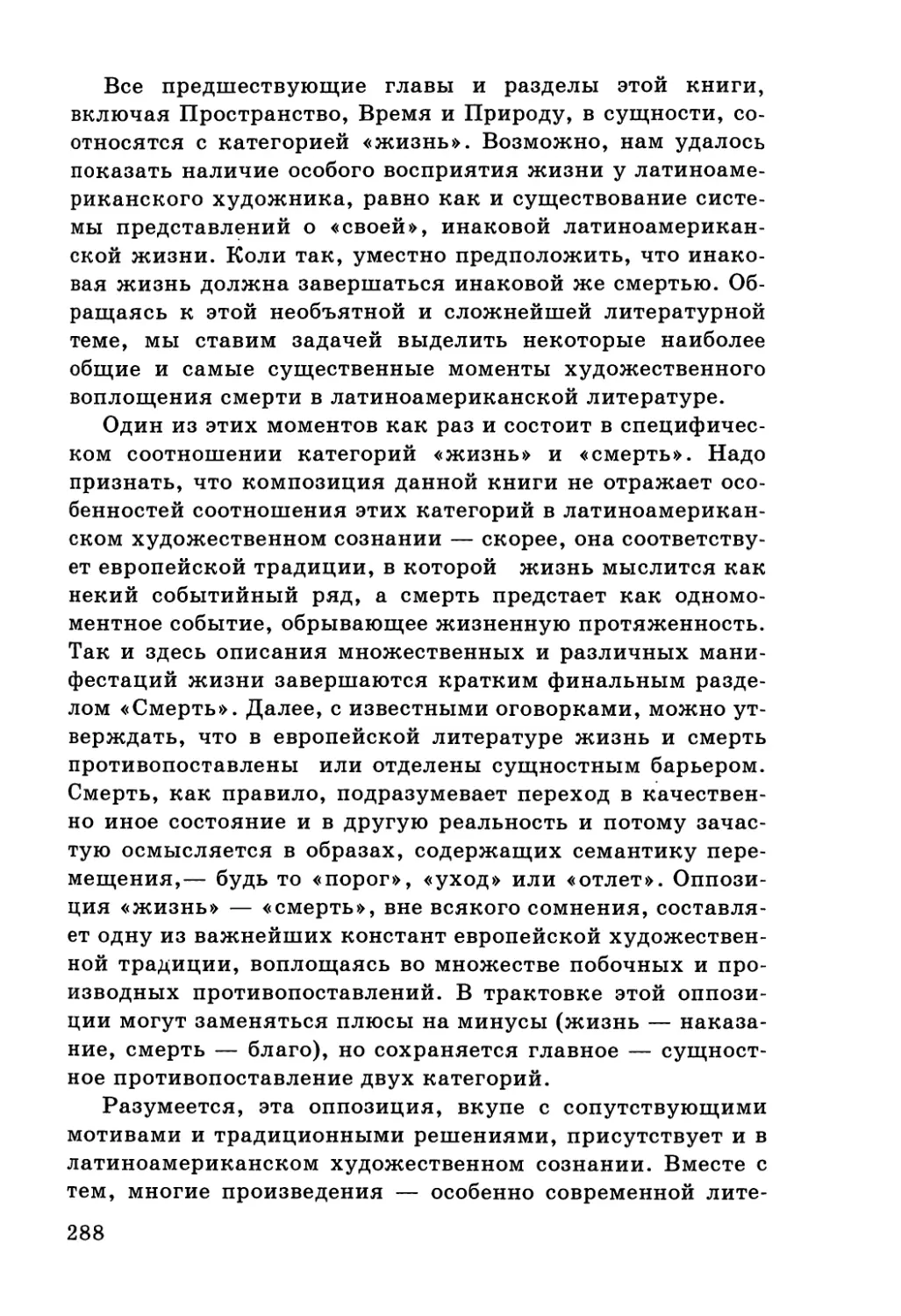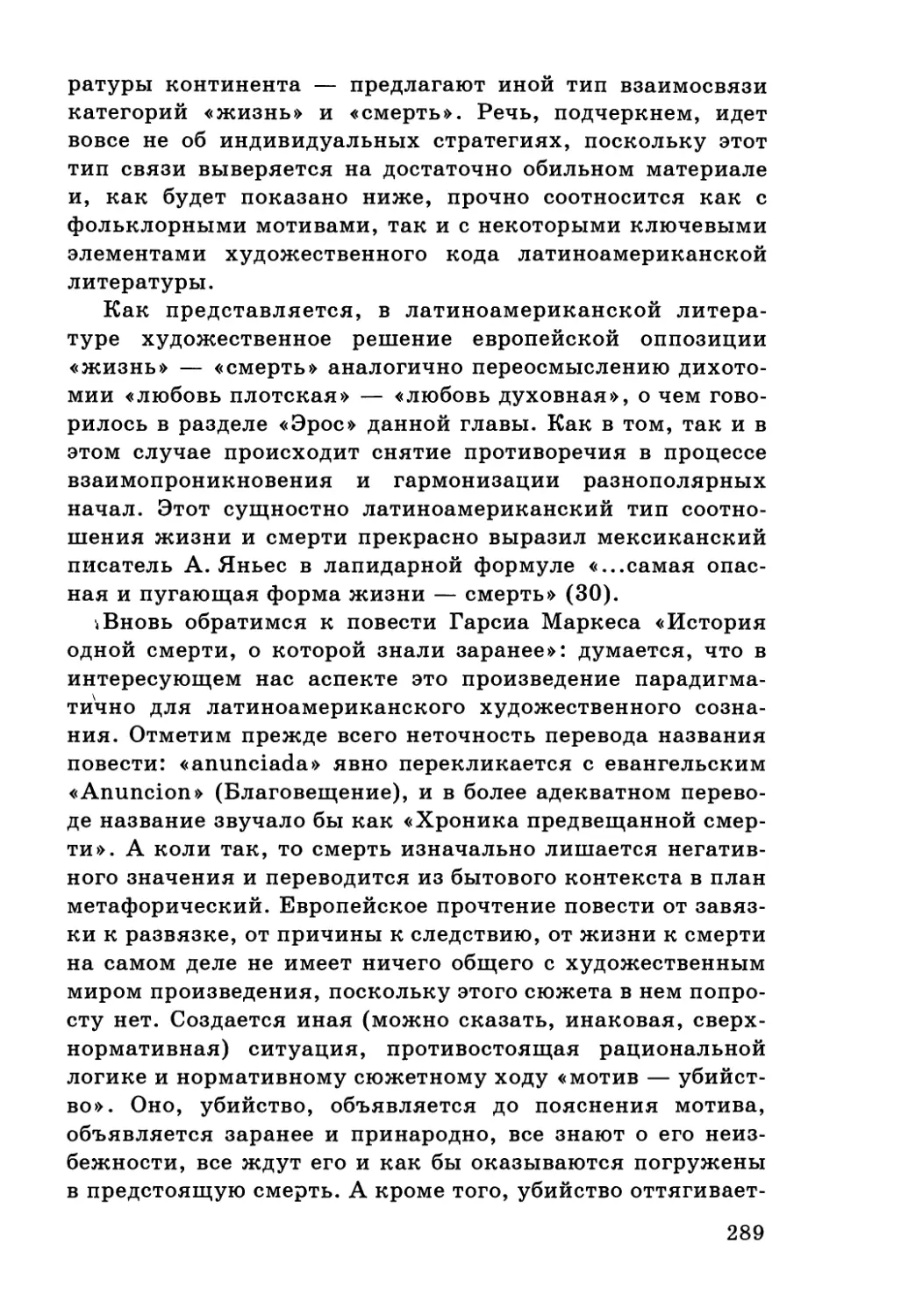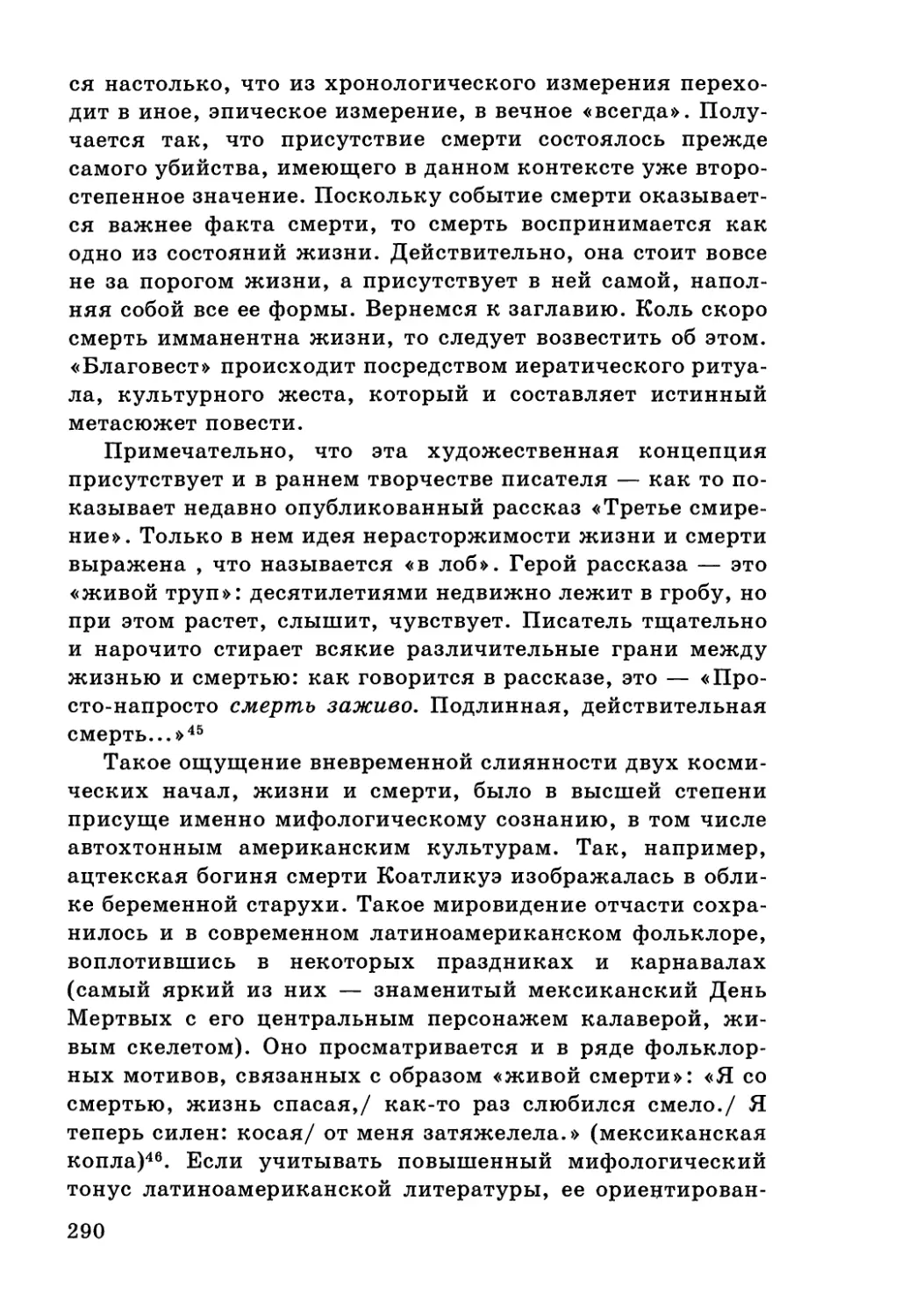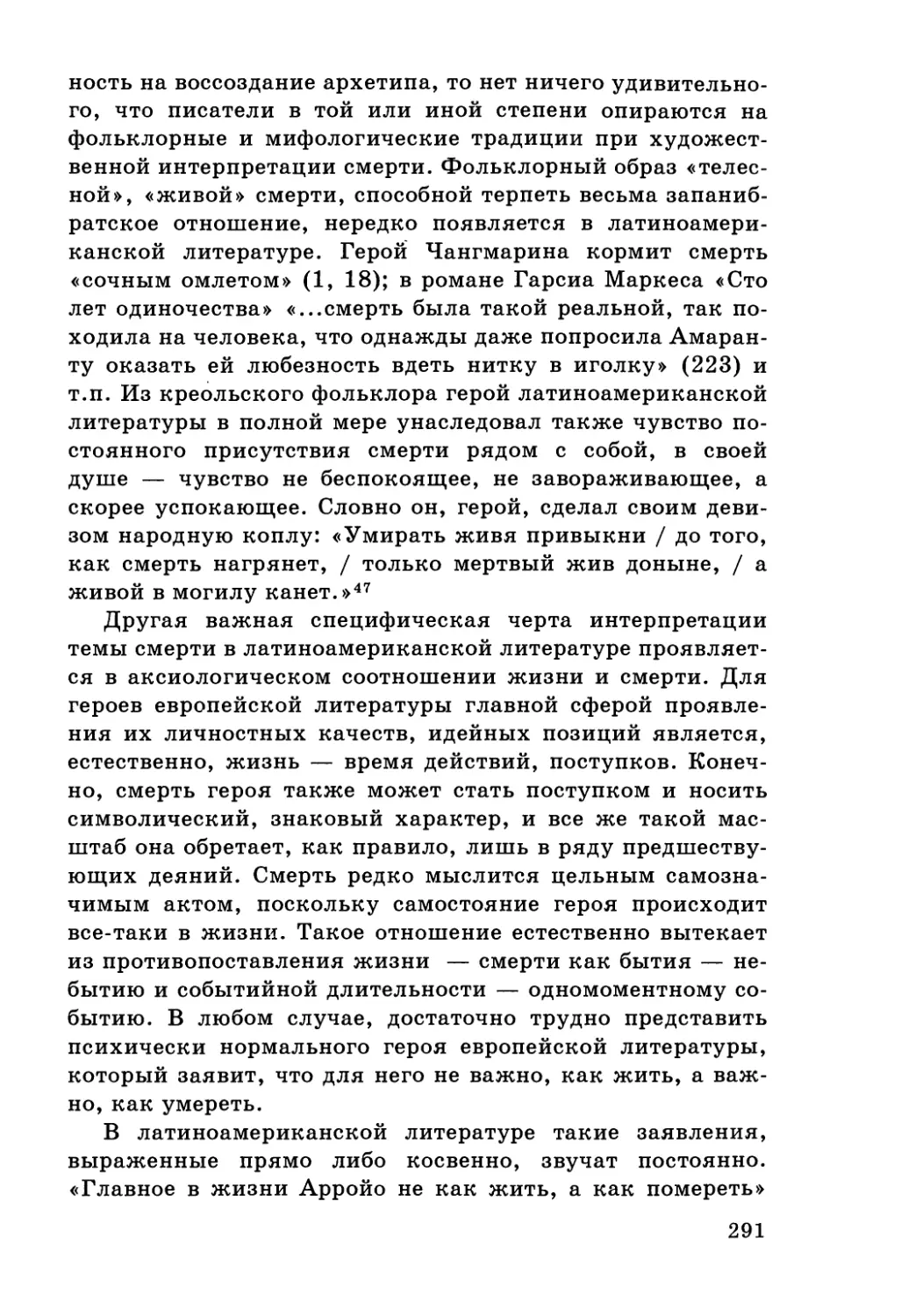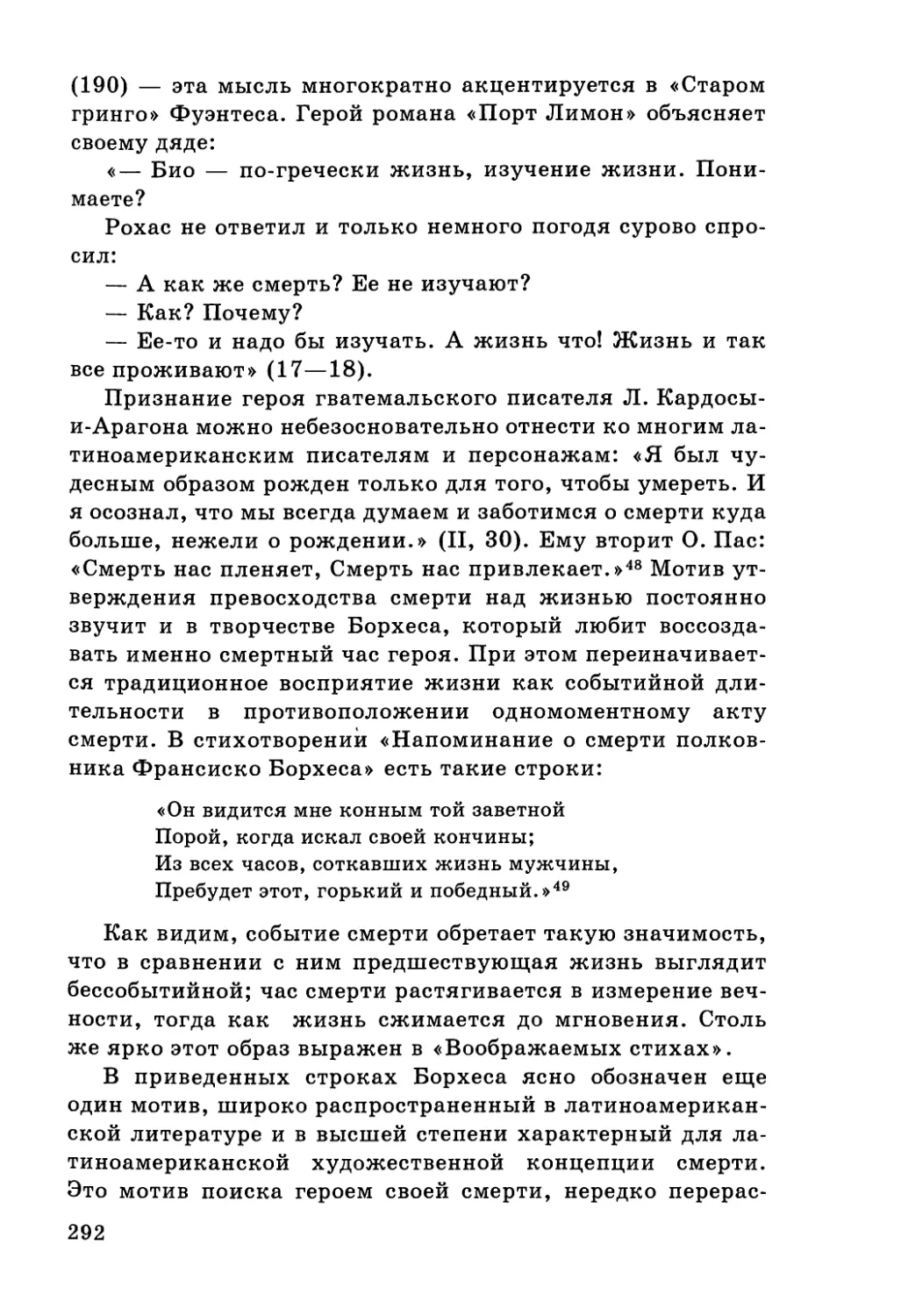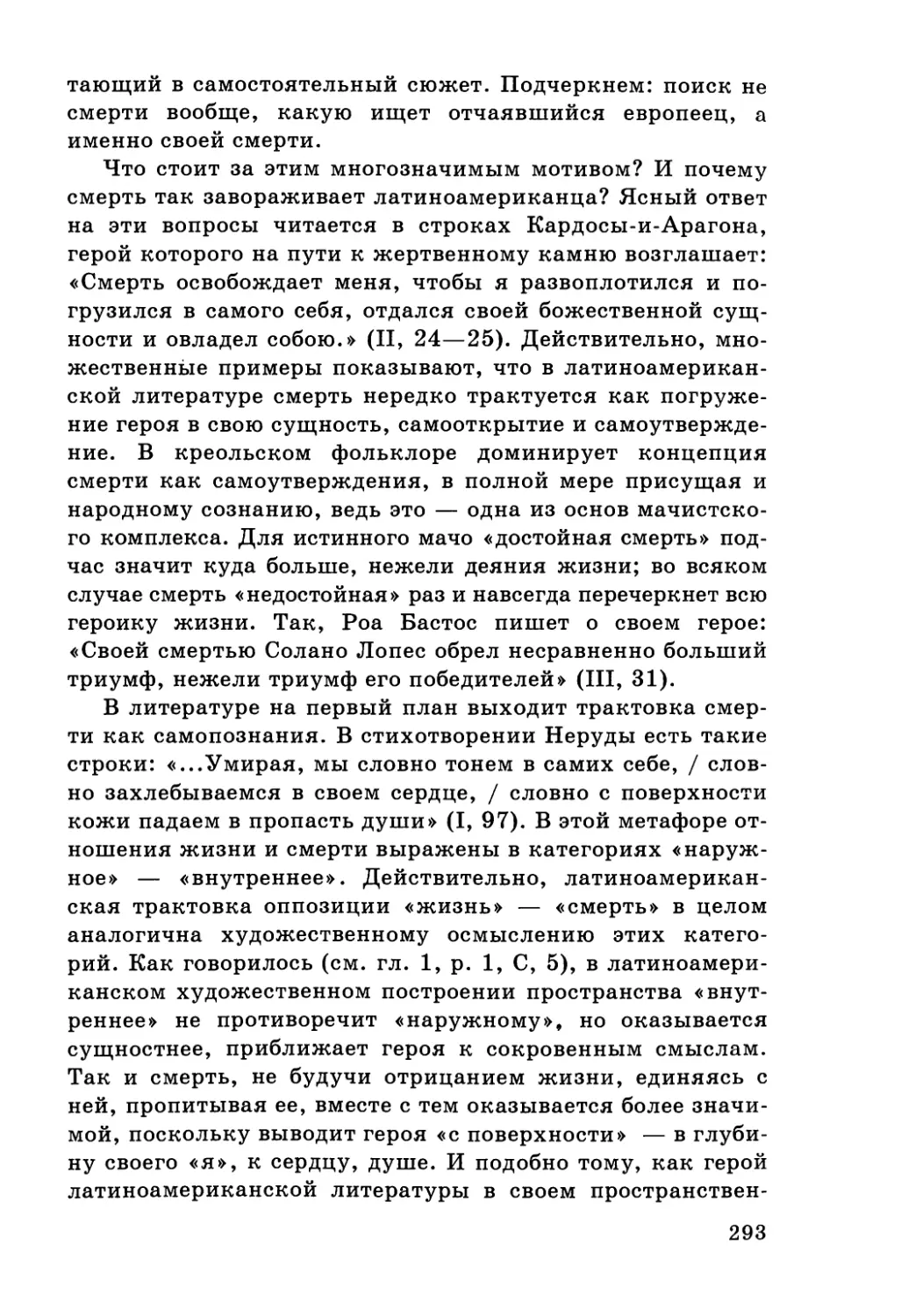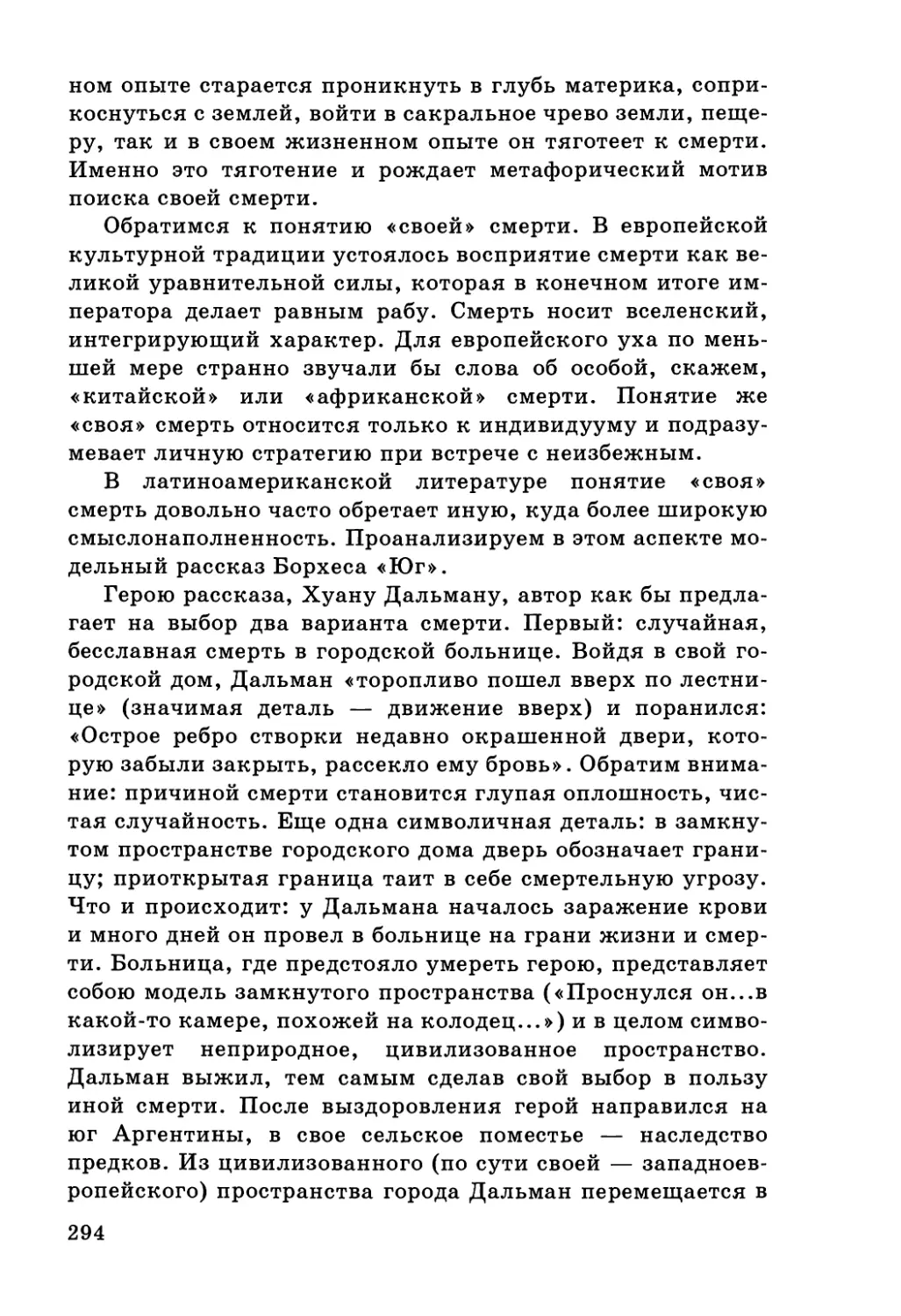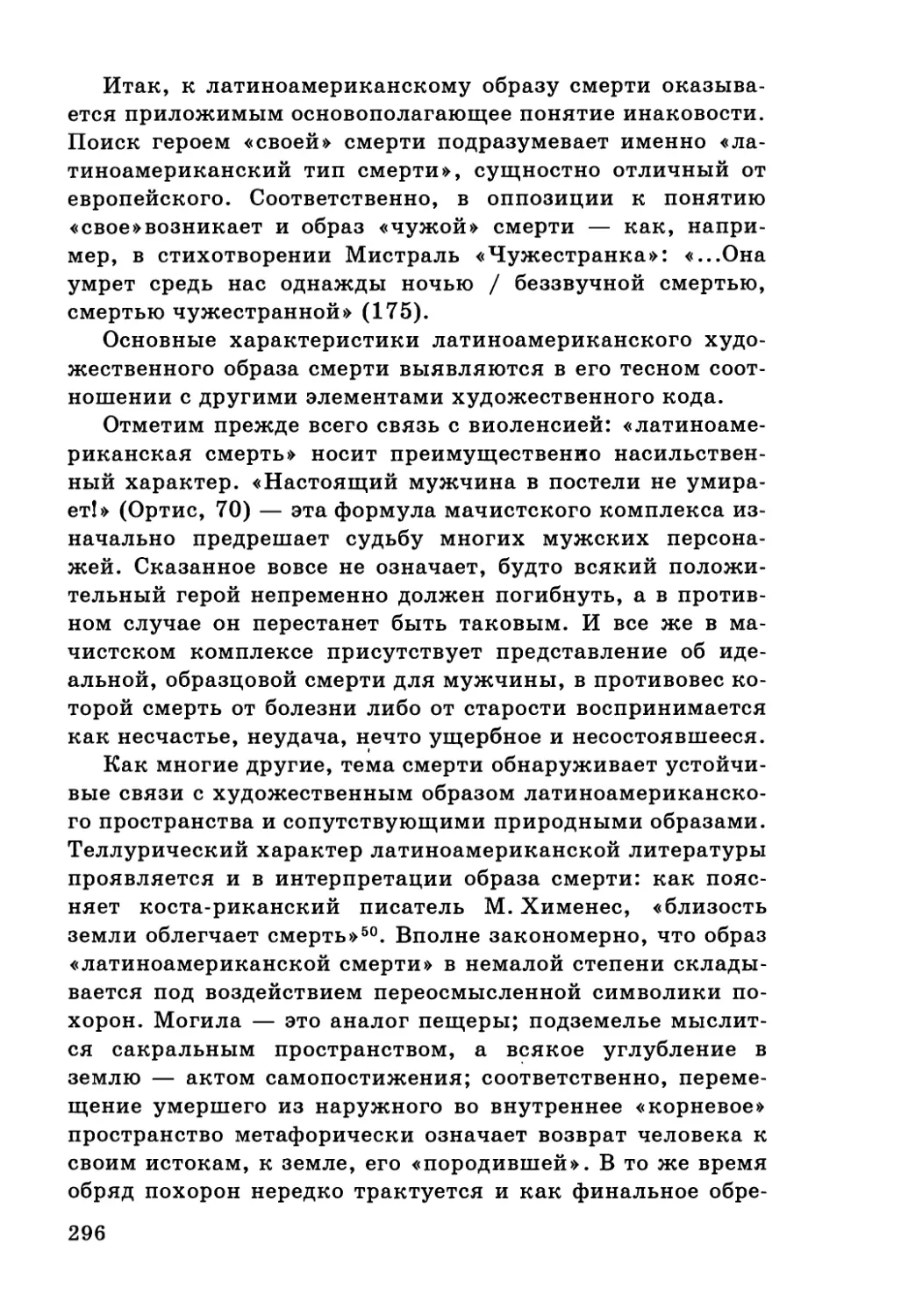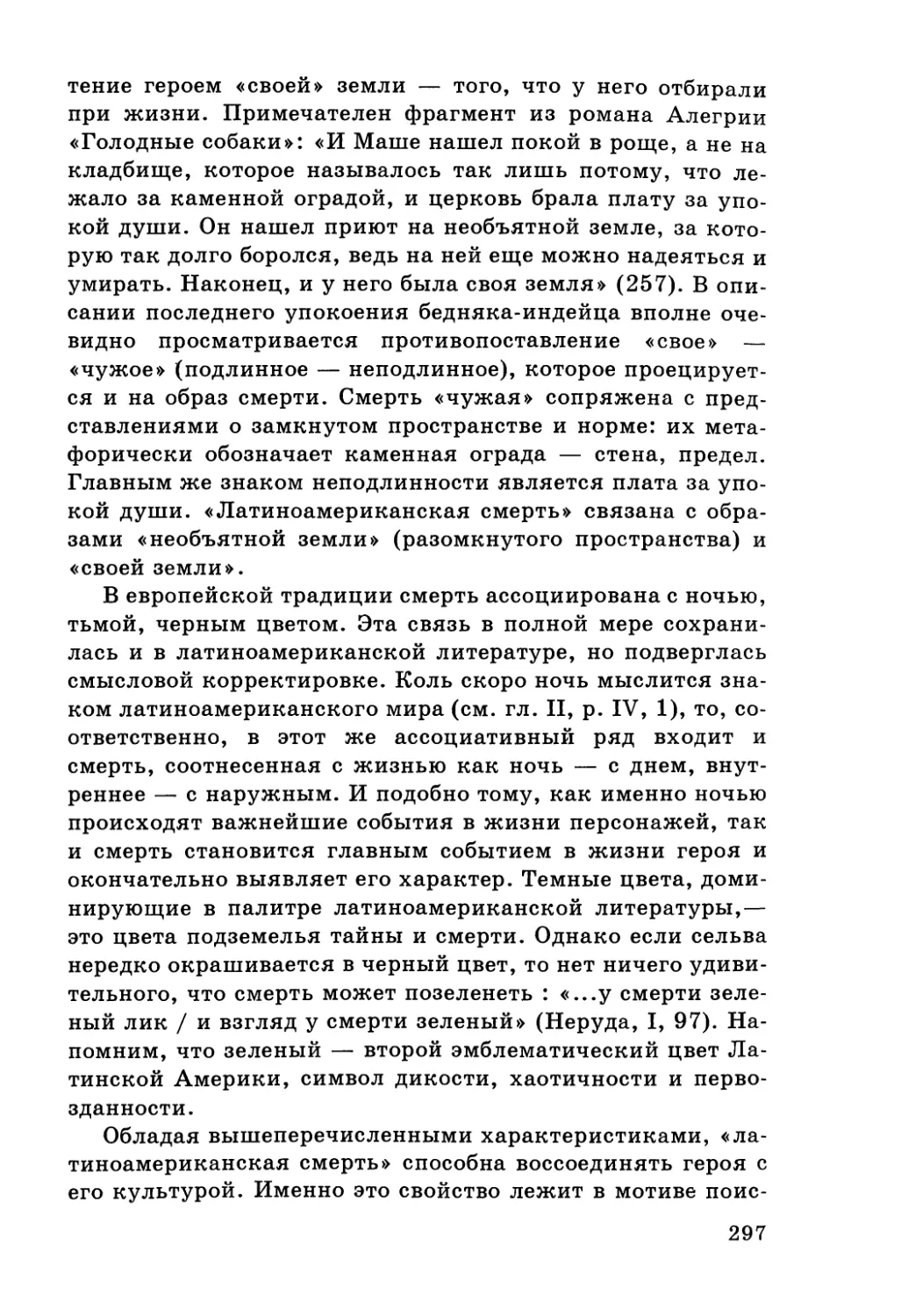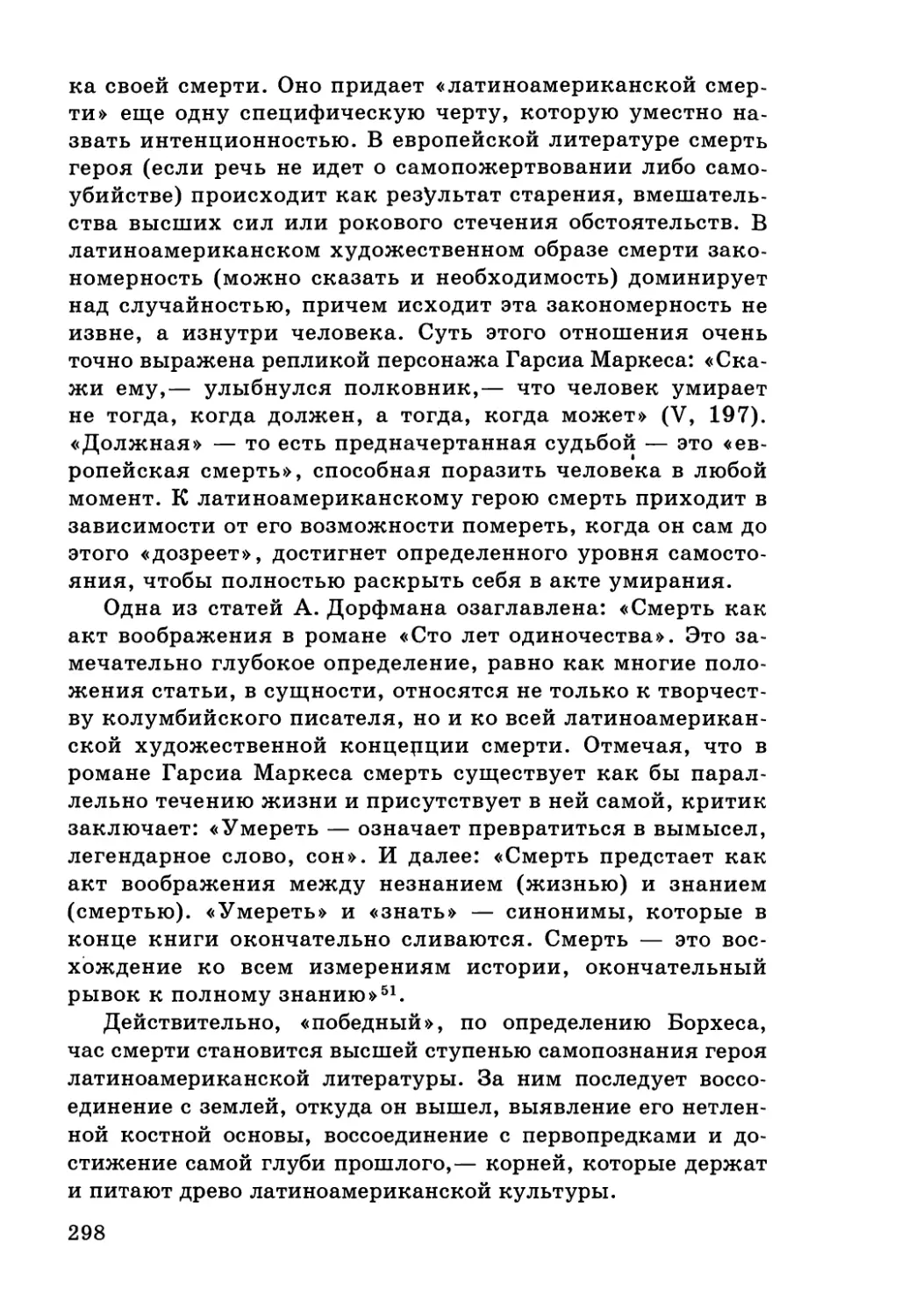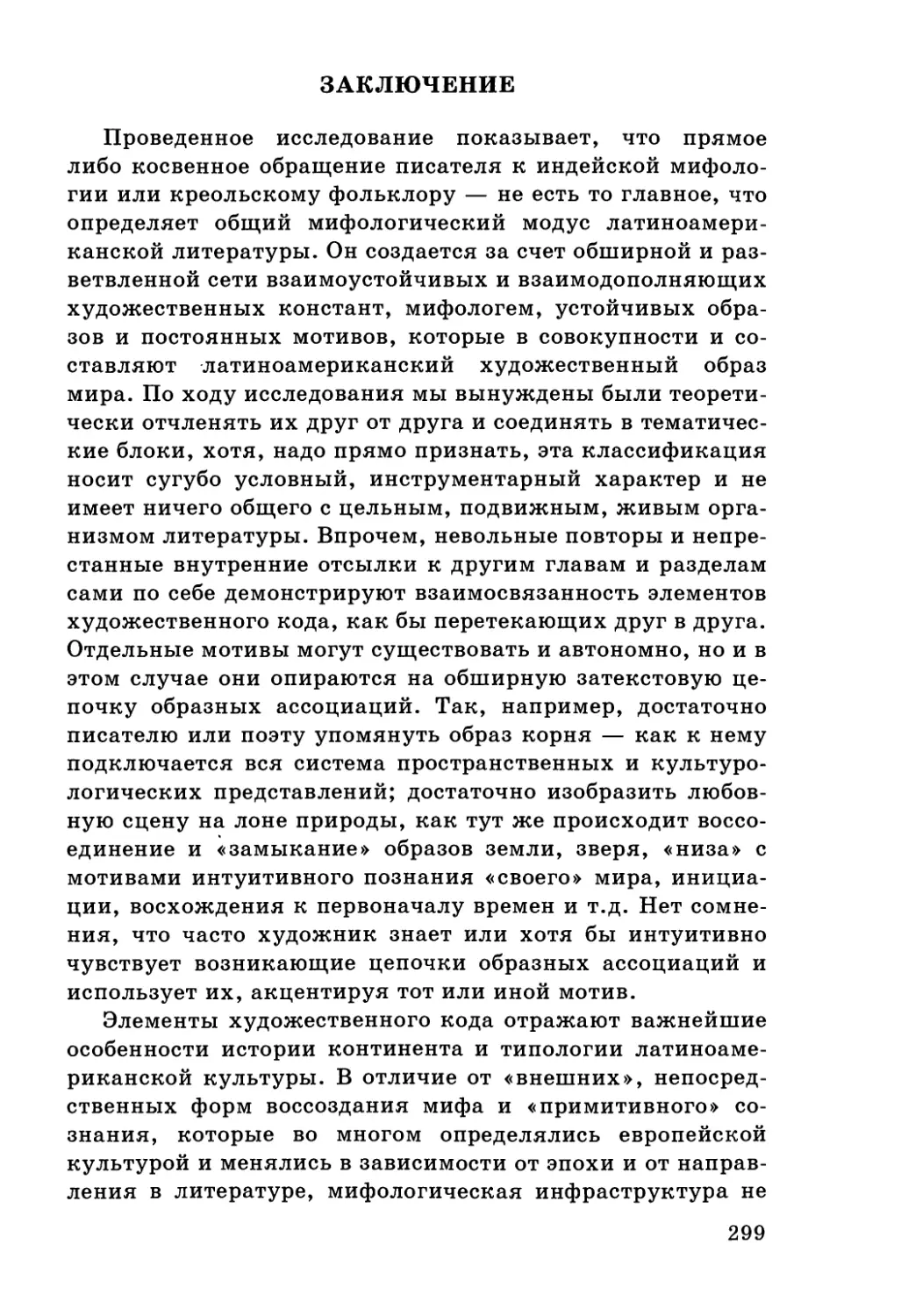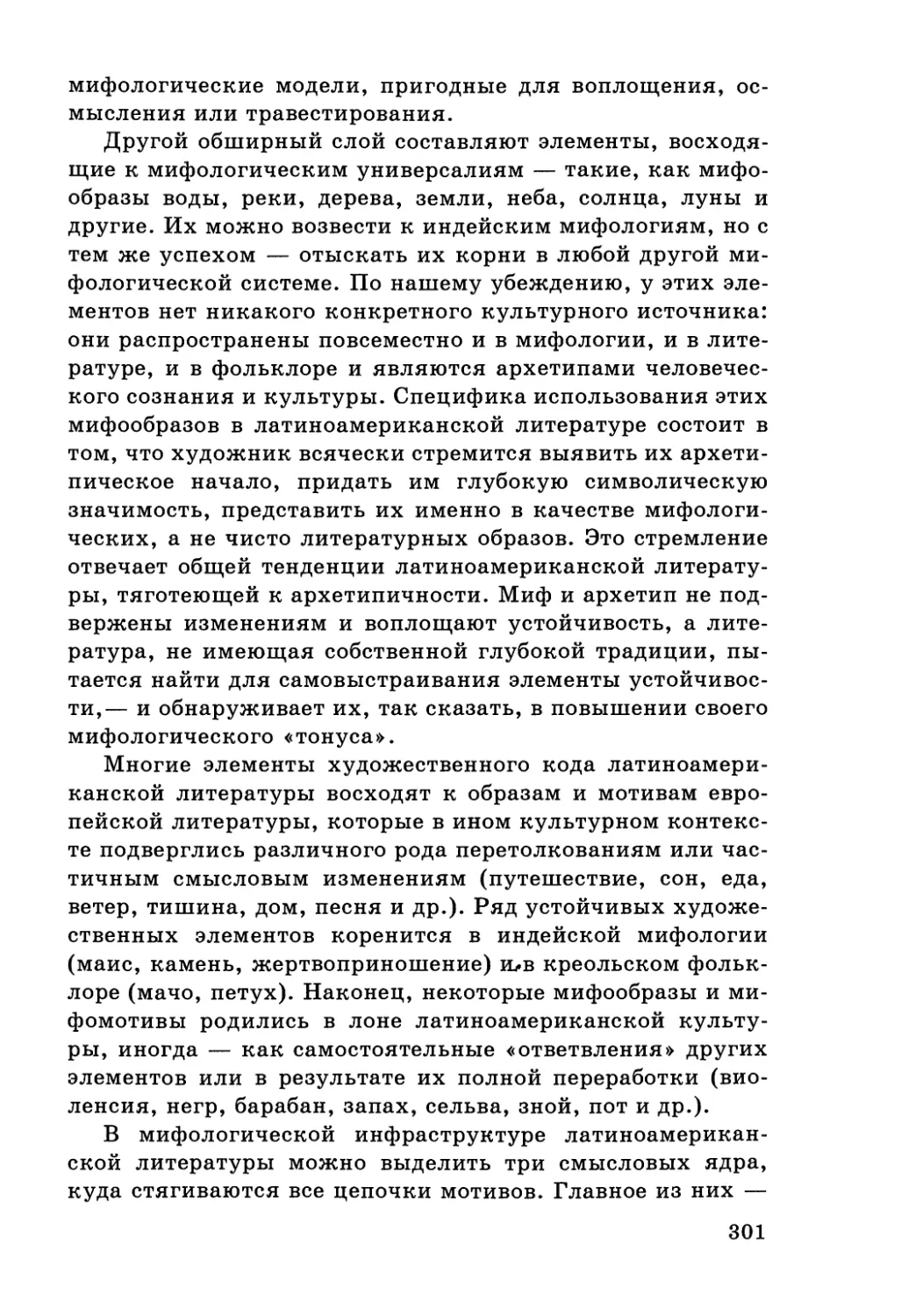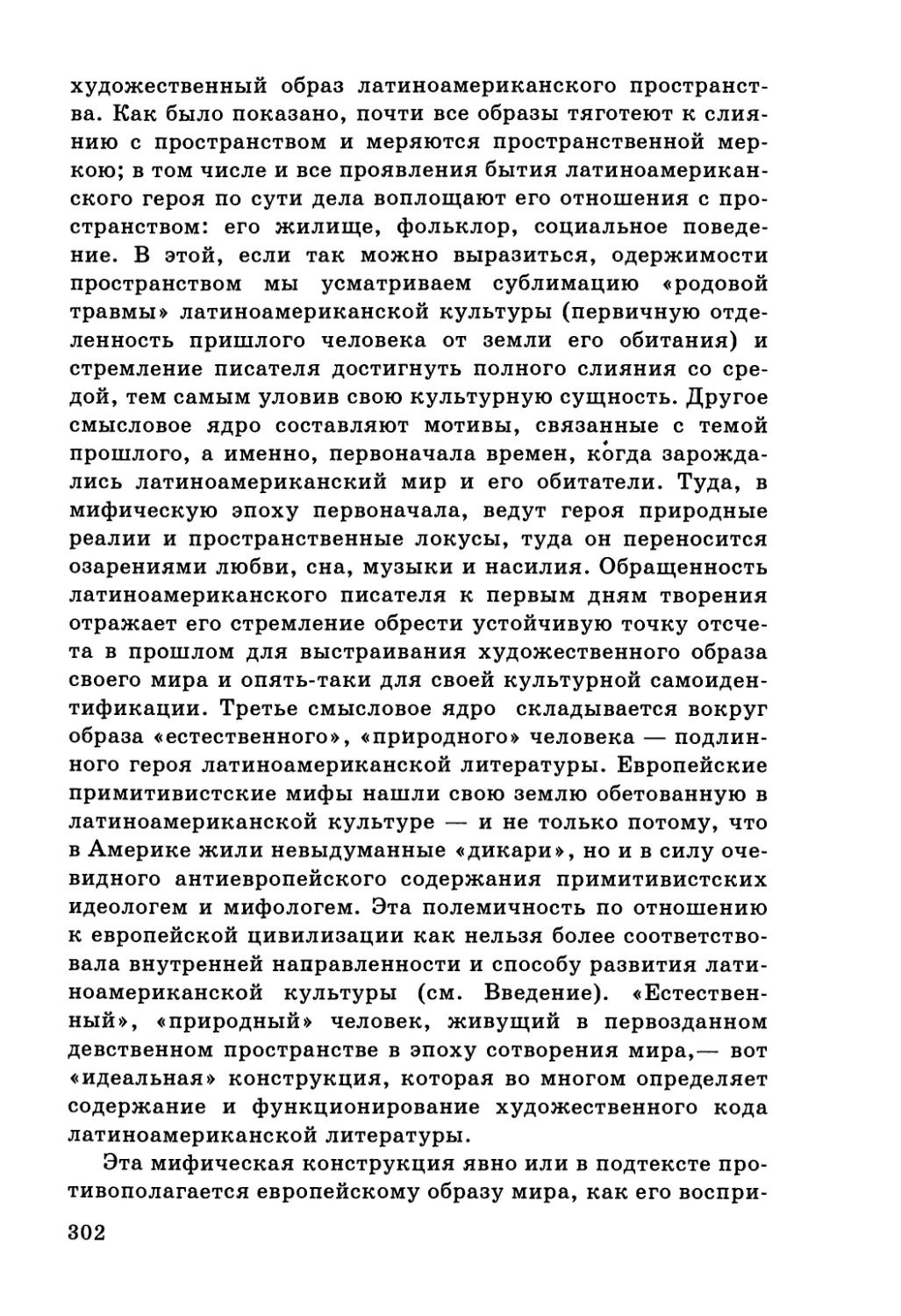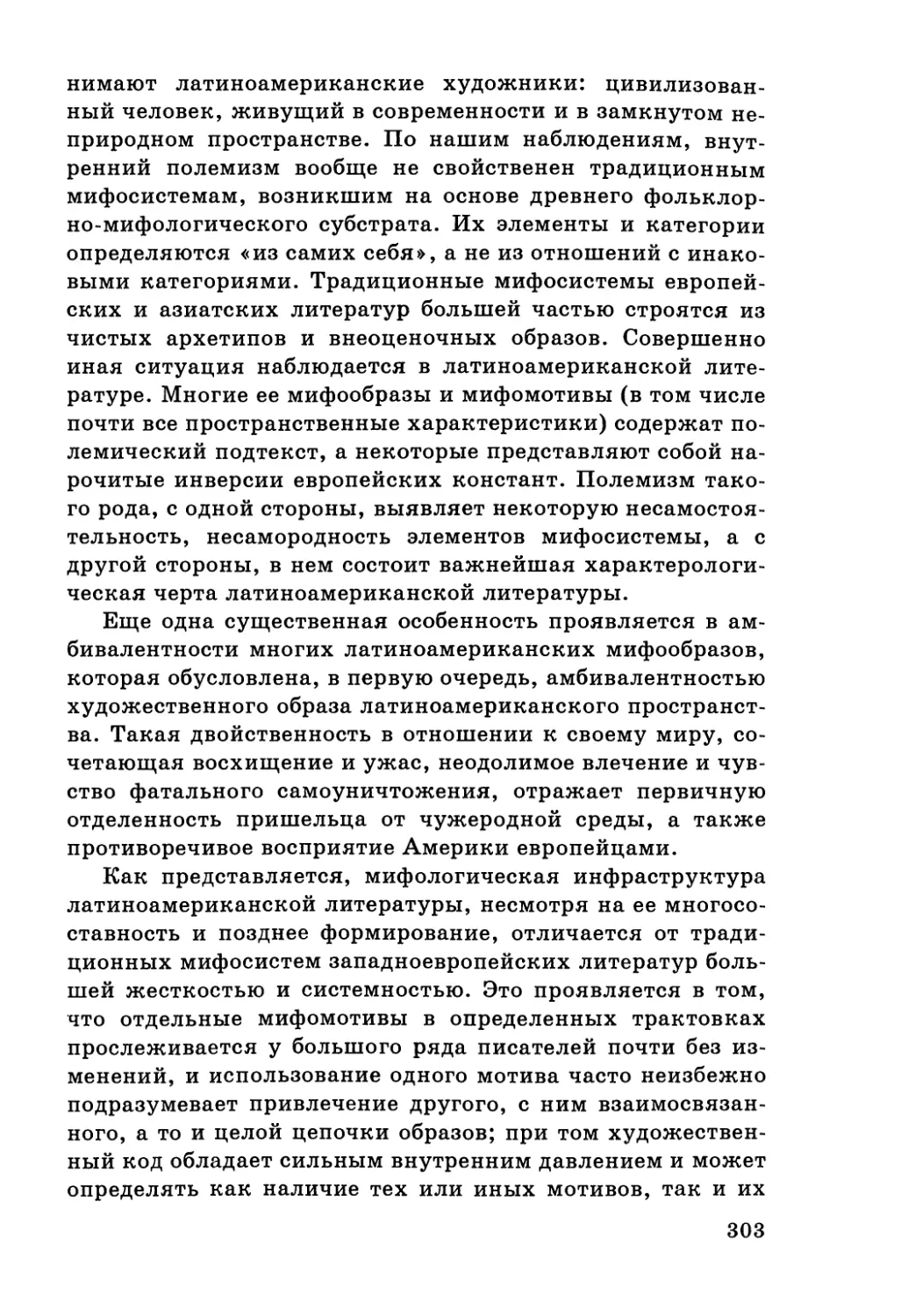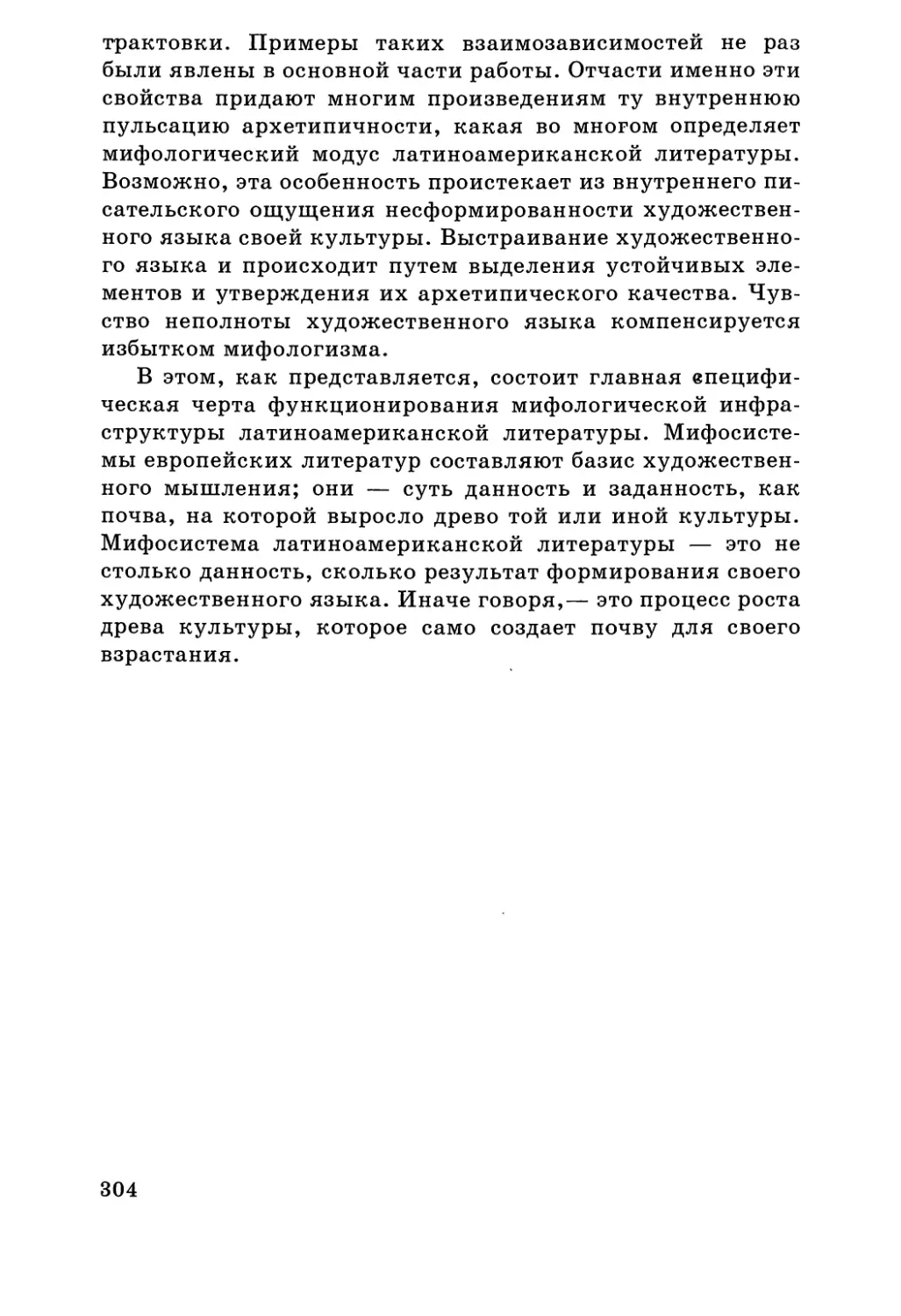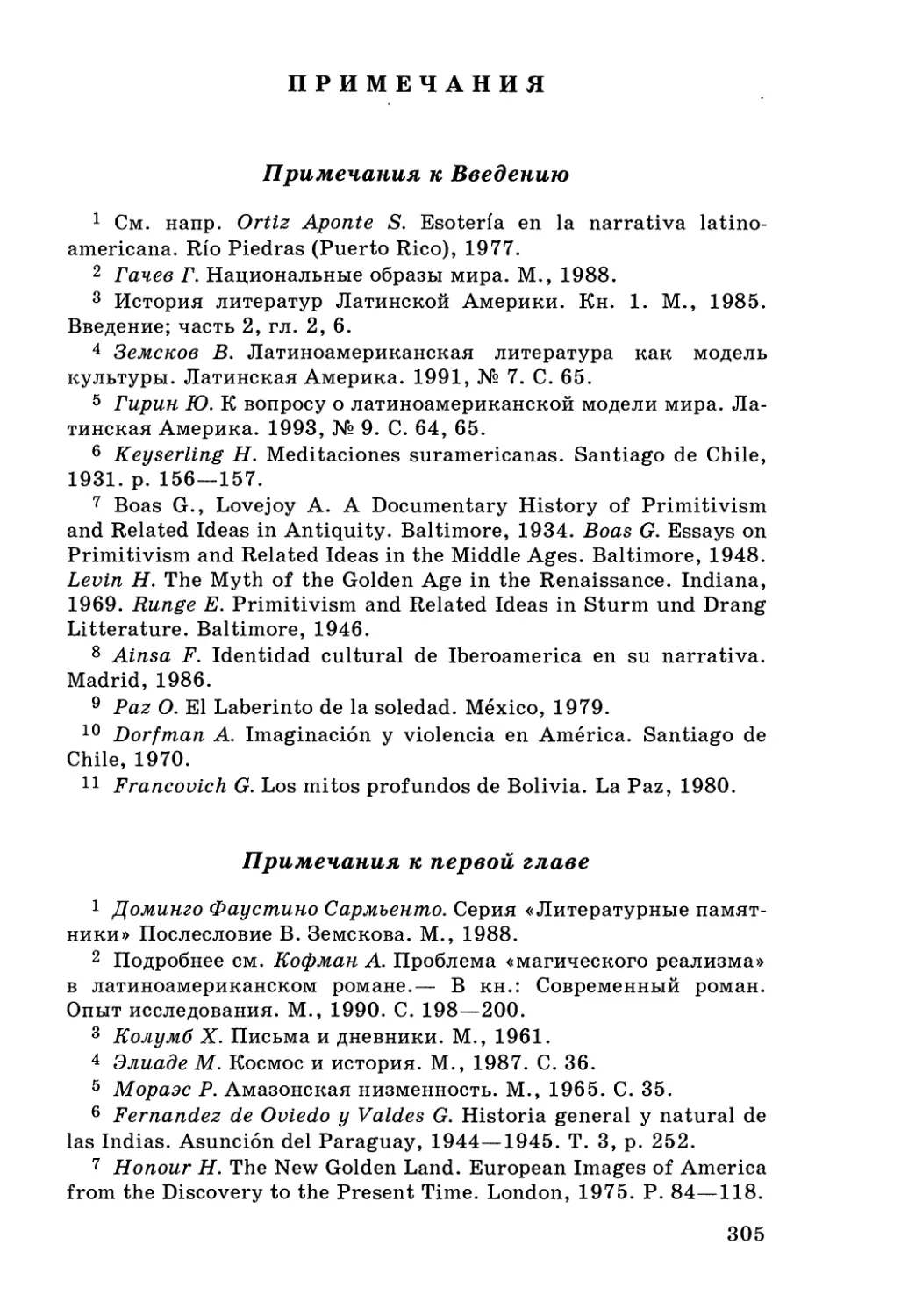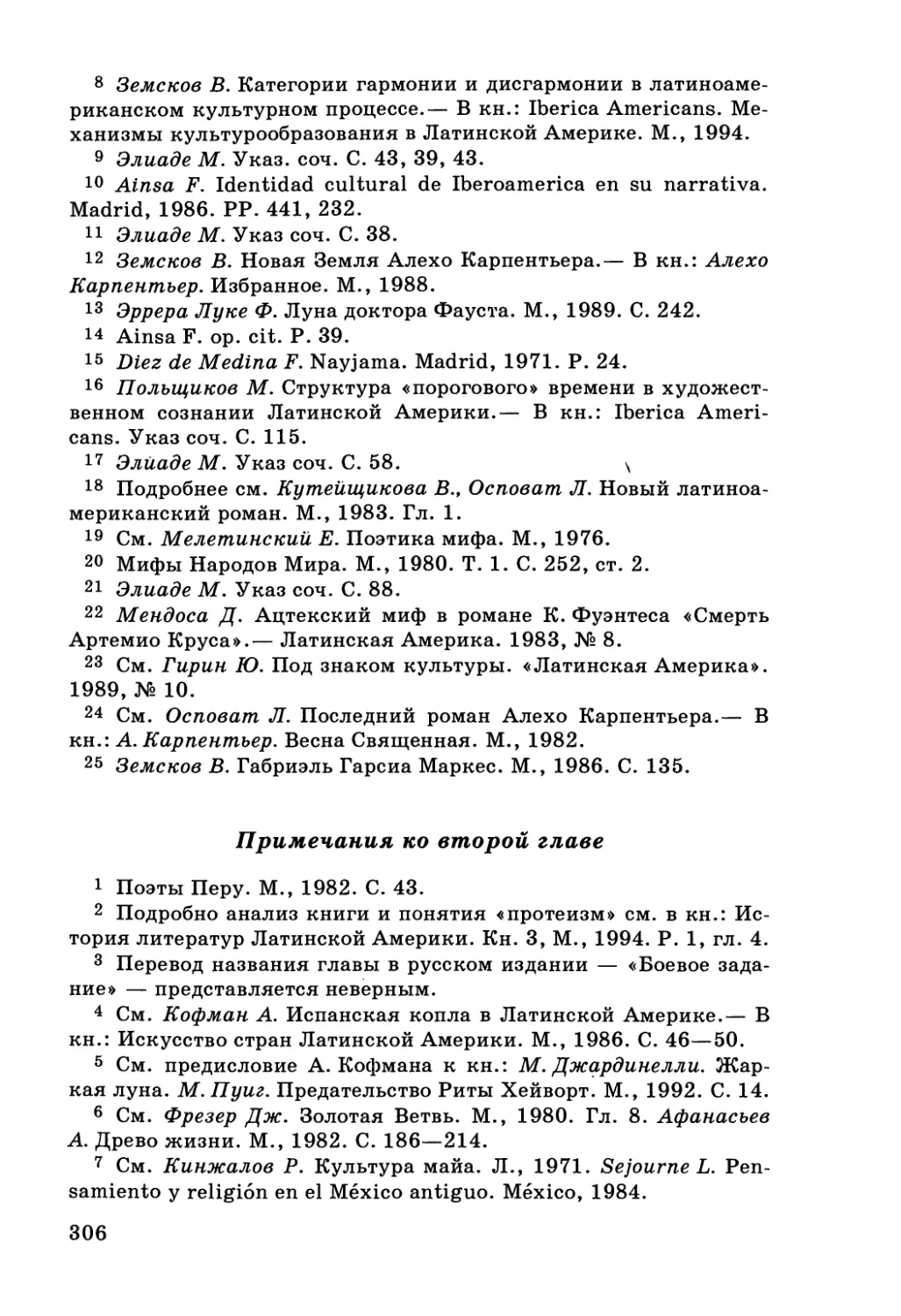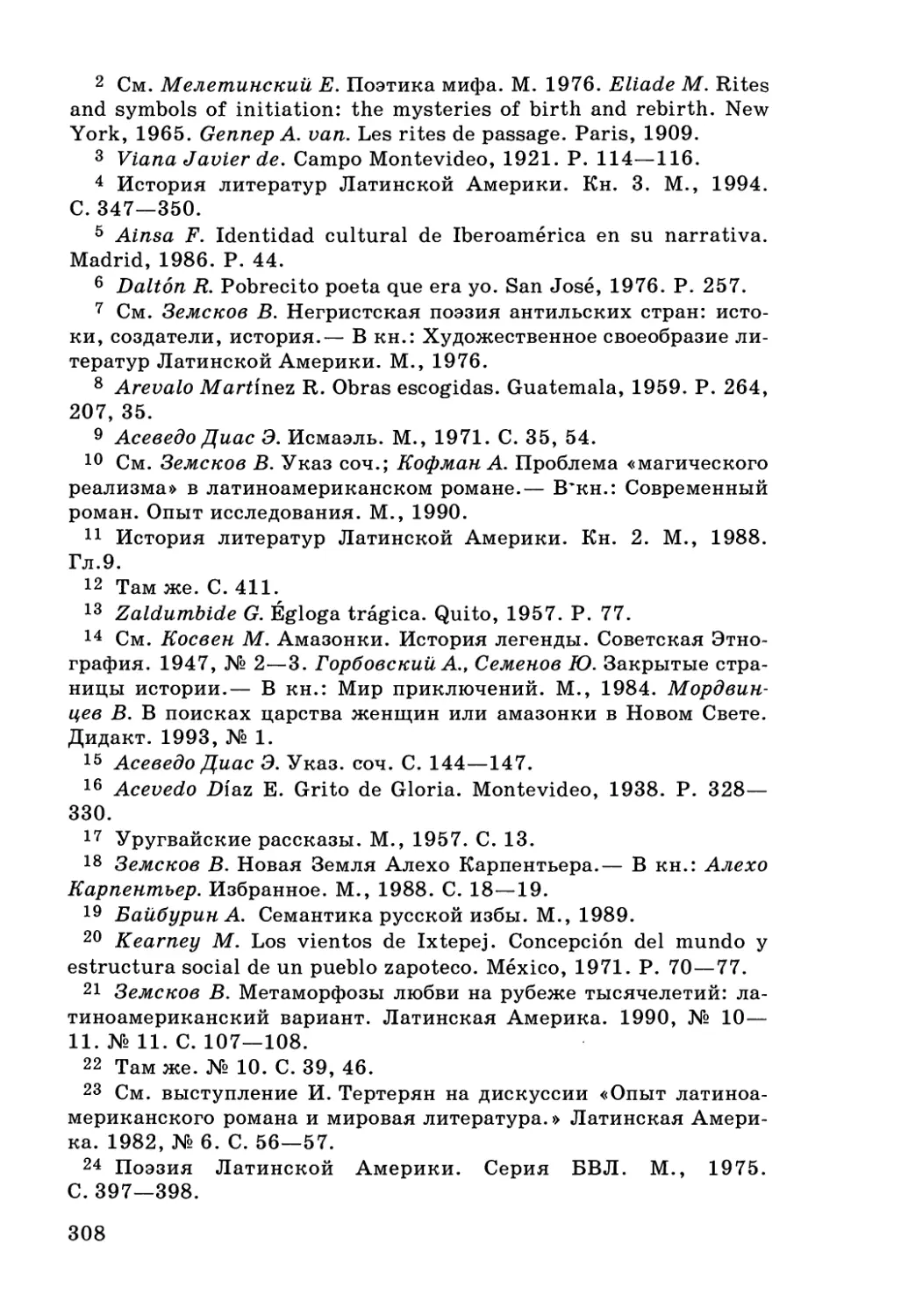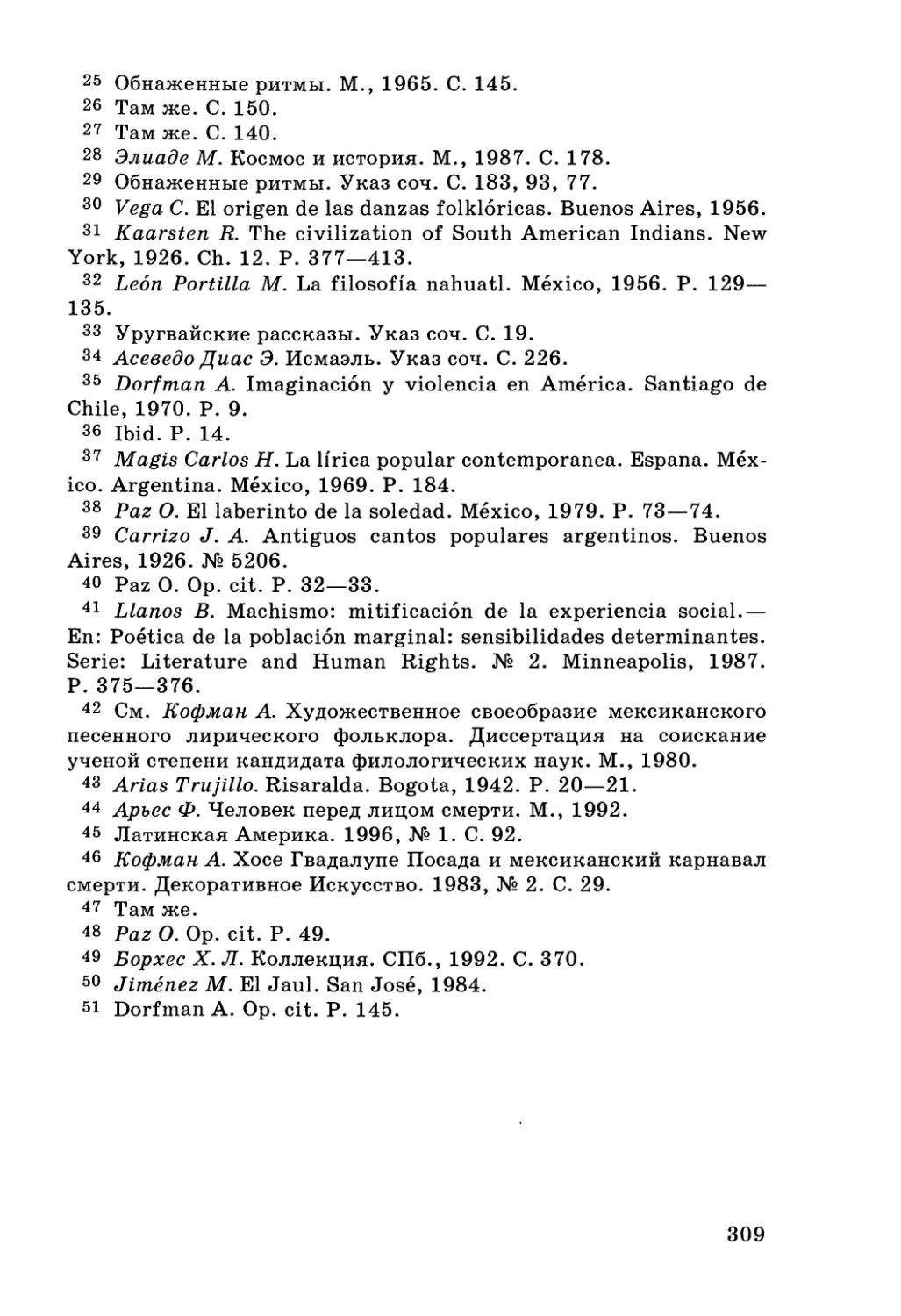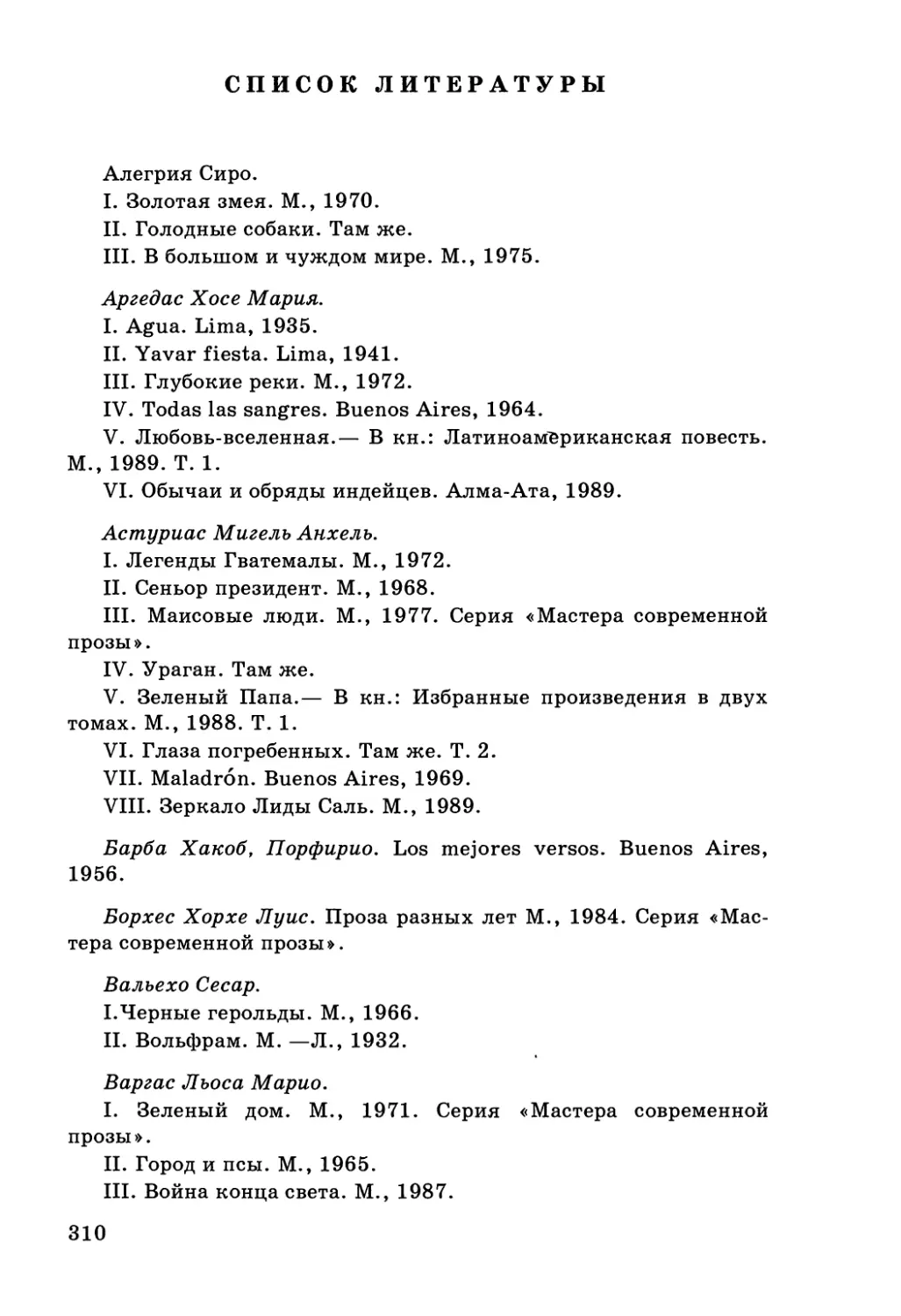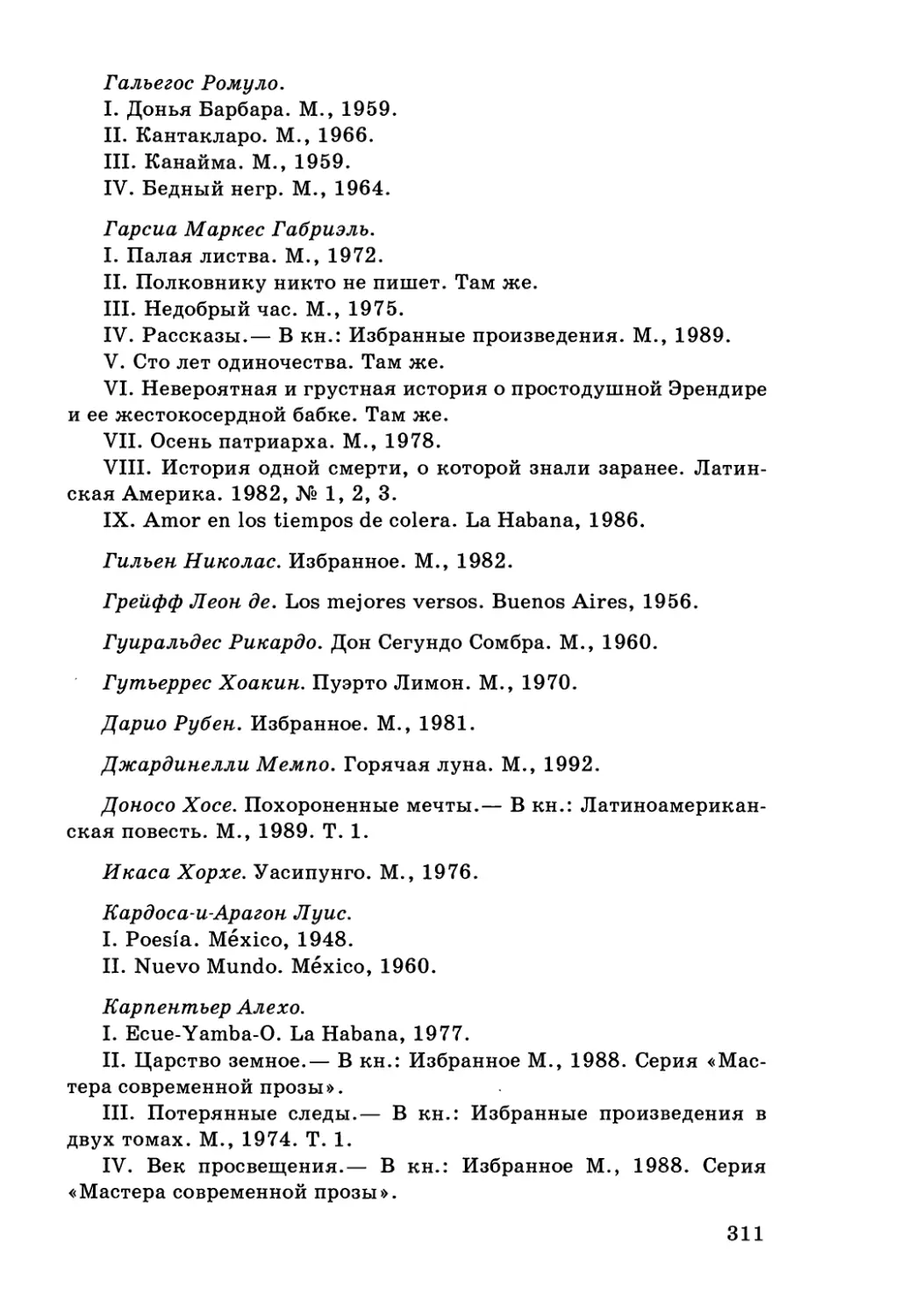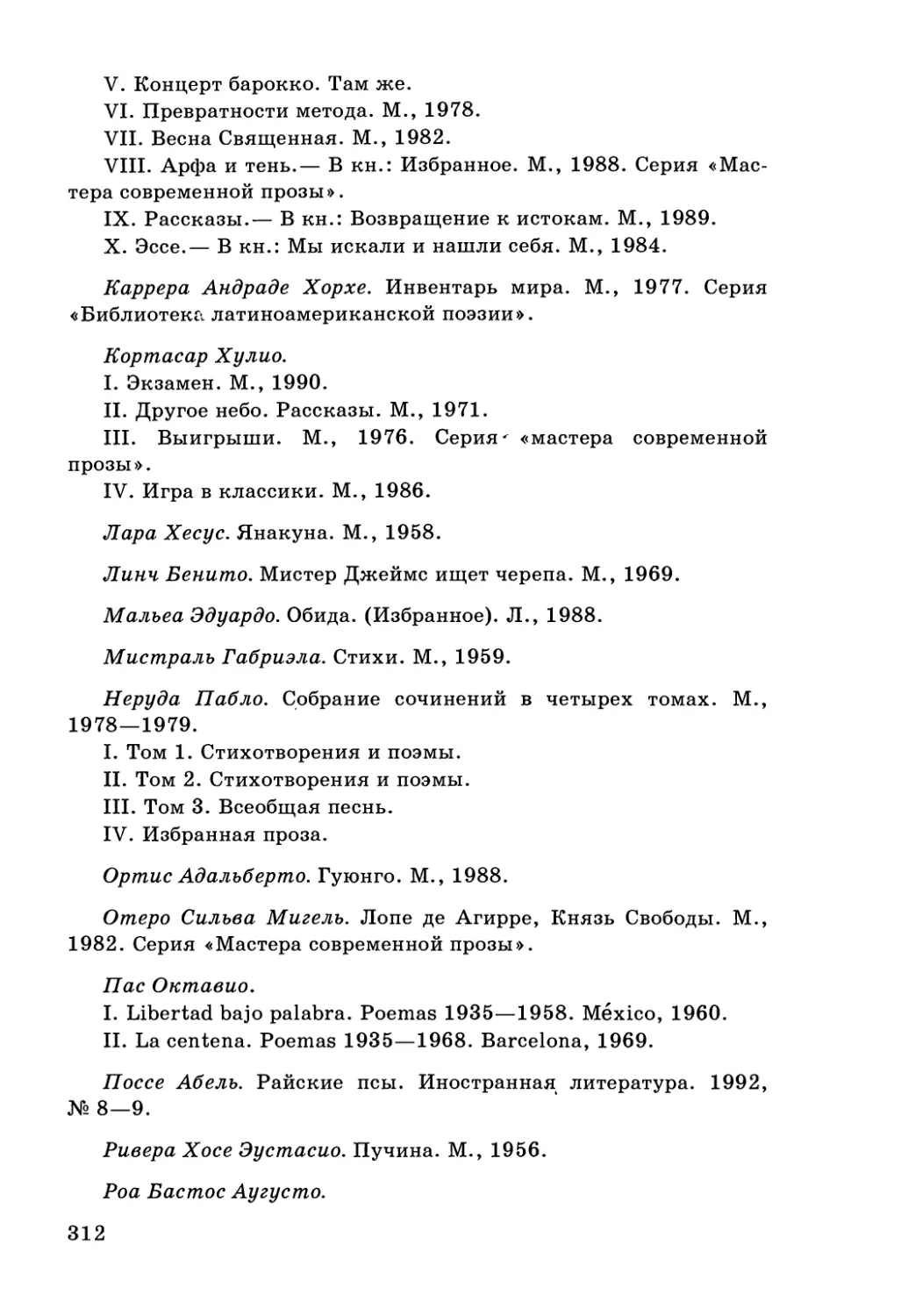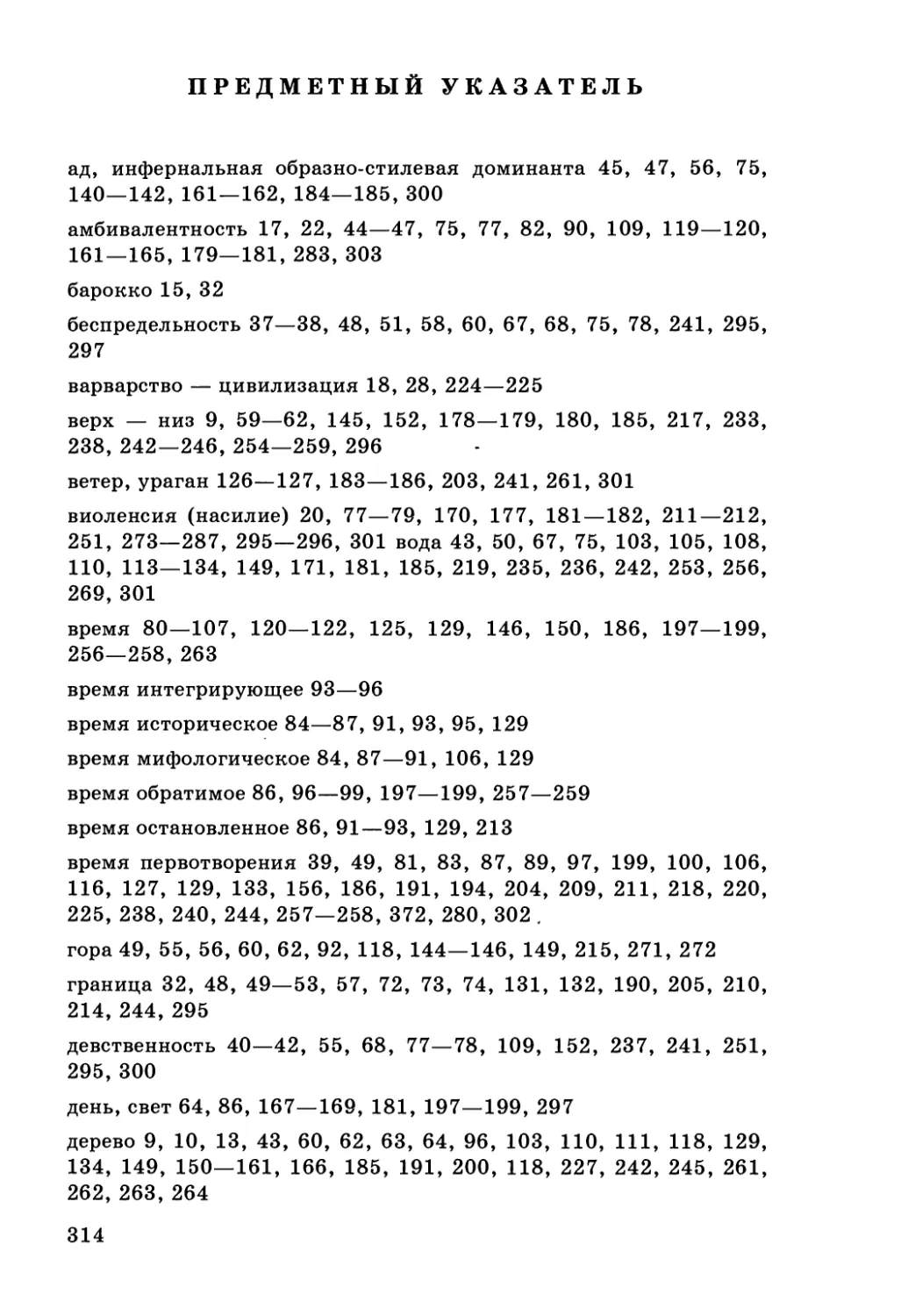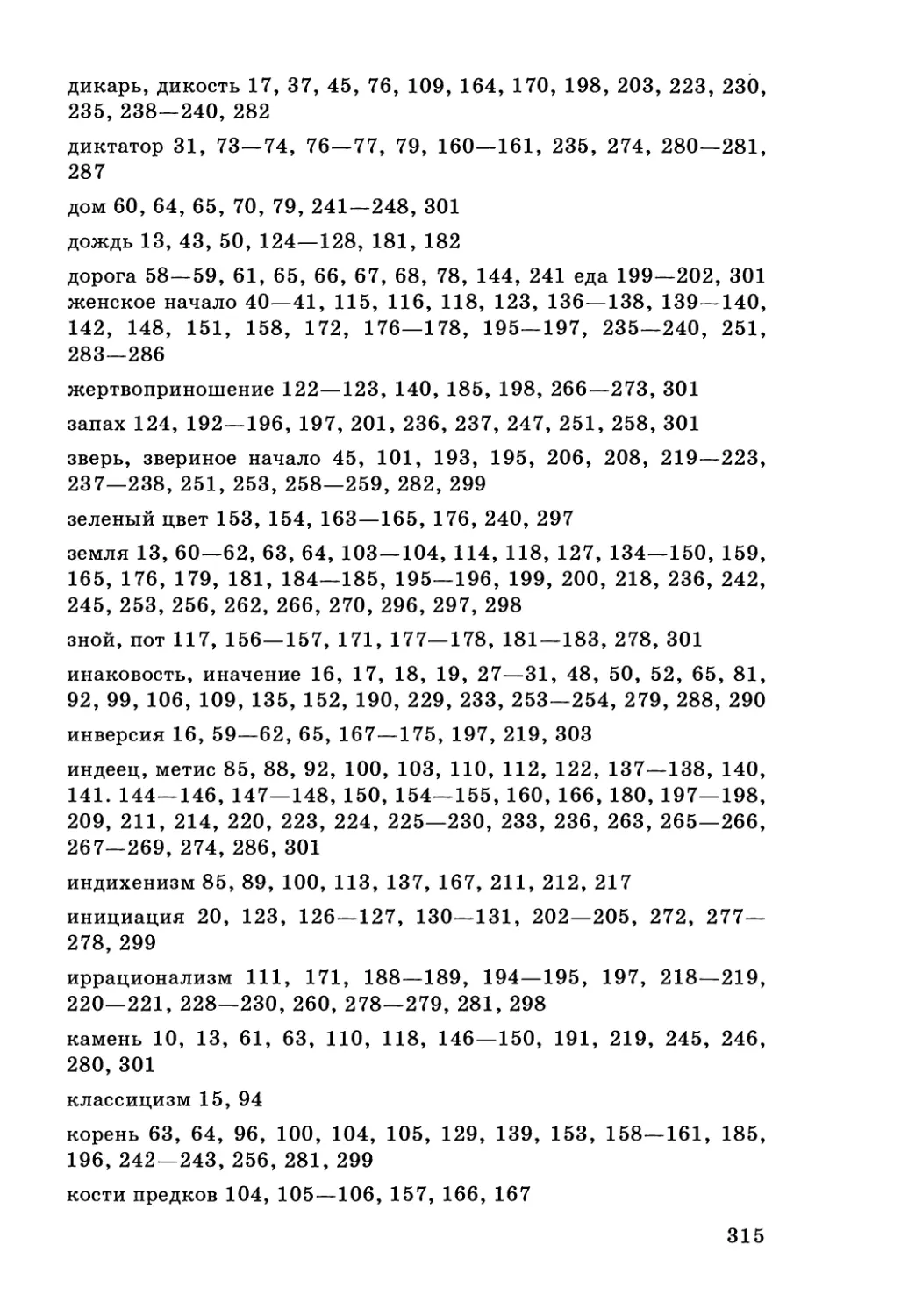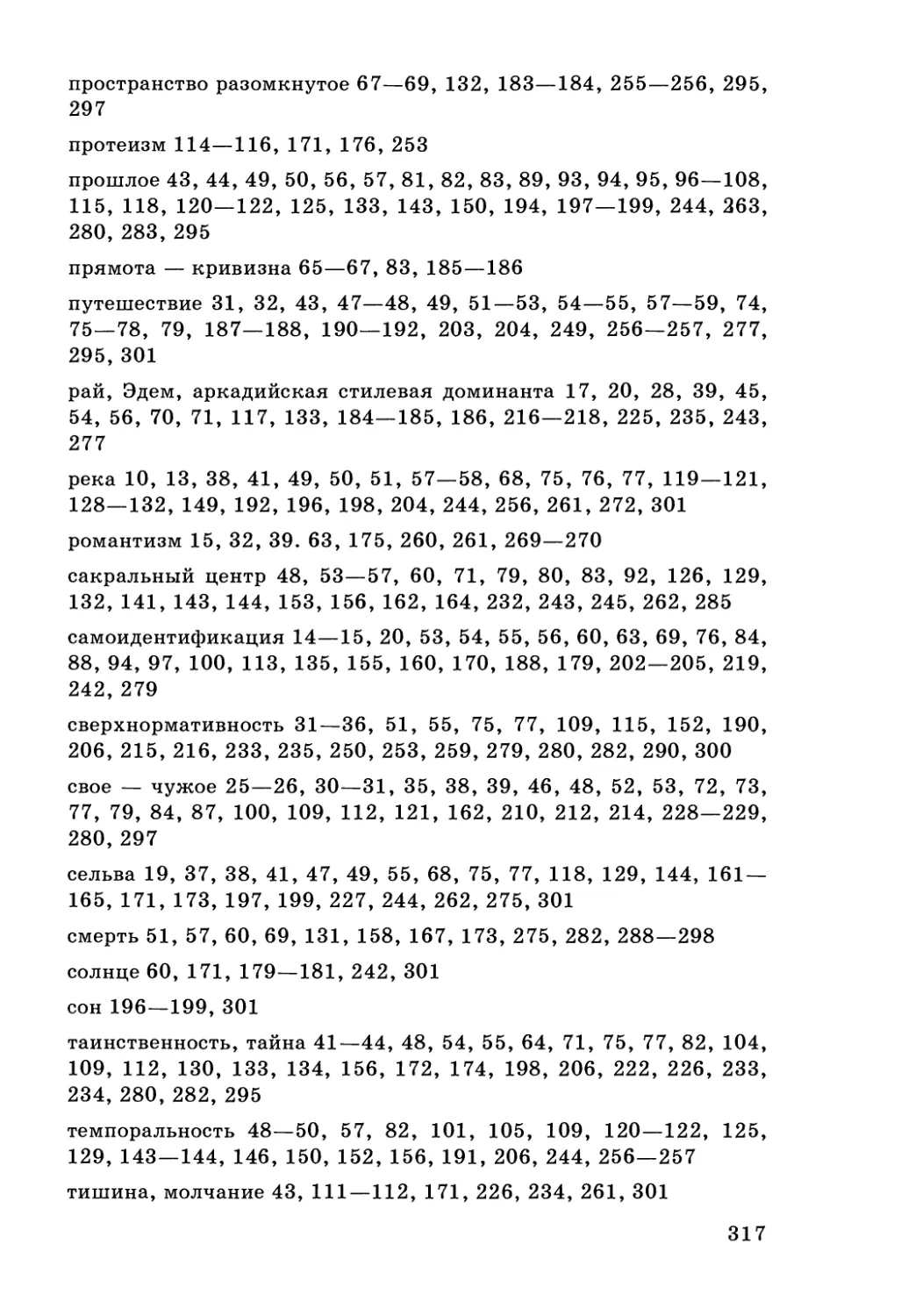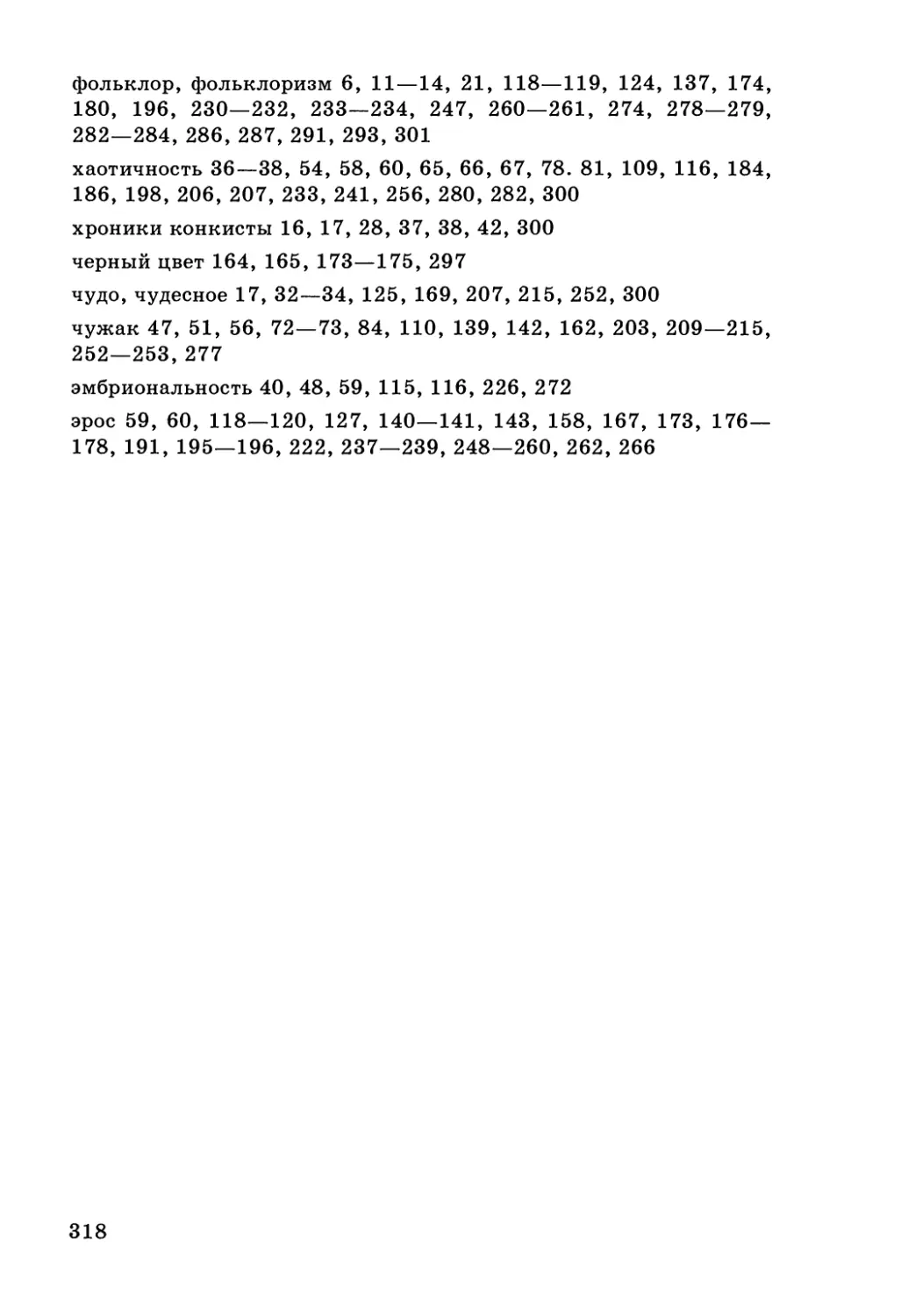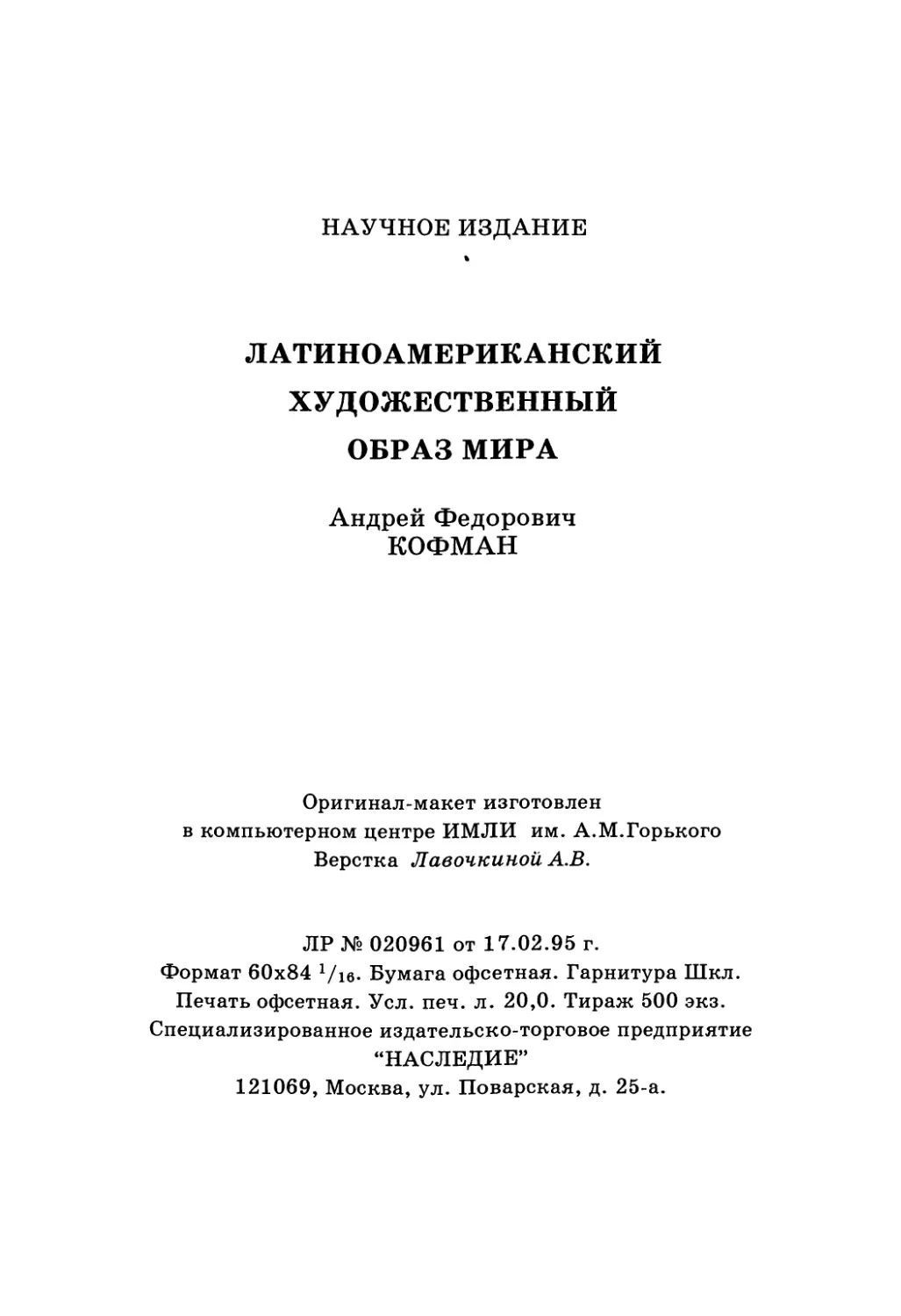Автор: Кофман А.Ф.
Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран этнография история литературы
ISBN: 5-201-13298-7
Год: 1997
Текст
Il
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
А. Ф. КОФМАН
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОБРАЗ МИРА
МОСКВА
1997
ББК 83.3
А. Ф. Кофман
Латиноамериканский художественный образ мира.—
М., Наследие, 1997.— 320 с.
Книга предлагает один из вариантов подхода к изучению про-
блемы художественного кода. На основе сопоставительно-тексто-
логического анализа выявляются постоянные образы, мифомоти-
вы, темы и сюжетные элементы латиноамериканской литерату-
ры. Их культурологическая интерпретация позволяет определить
некоторые существенные особенности латиноамериканского ху-
дожественного мышления, важные для понимания типологии ла-
тиноамериканской культуры. Книга предназначена специалис-
там и широкому кругу читателей.
ISBN 5-201-13298-7 © Кофман А. Ф.
© Изд-во «Наследие»
© Институт мировой литературы
им. А.М.Горького
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 6
Глава первая. УНИВЕРСУМ 25
I. ПРОСТРАНСТВО 25
A. Общие положения 25
B. Основные характеристики латиноаме-
риканского пространства 27
1. Инаковость 27
2. Сверхнормативность 31
3. Хаотичность 36
4. Первозданность 38
5. Девственность 40
6. Таинственность 42
7. Амбивалентность 44
8. Фрагментарность 47
9. Темпоральность 48
C. Координаты пространства 50
1. Граница 50
2. Сакральный центр 53
3. Река. Дорога 57
4. Верх — низ 59
5. Наружное — внутреннее 62
6. Прямота — кривизна 65
Д. Модели пространства 67
1. Модель разомкнутого пространства .... 67
2. Модель замкнутого пространства 69
3. Межпространственность 72
Е. Отношение человека с пространством 74
1. Воздействие пространства на человека. . 74
2. Освоение пространства человеком 77
И. ВРЕМЯ 80
A. Общие характеристики 80
B. Модели времени 84
1. Историческое время 84
2. Мифологическое время 87
3. Время остановленное 91
4. Время интегрирующее 93
5. Время обратимое 96
С. Прошлое 99
1. Притяжение прошлого 99
2. Воплощения прошлого 104
Глава вторая. ПРИРОДА 108
Общие характеристики 108
I. Водная стихия 113
1. Вода 113
2. Дождь 124
3. Река 128
4. Море 131
П. Земная субстанция 134
1. Земля 134
2. Пещера 141
3. Гора 144
4. Камень 146
III. Растительный мир 150
1. Дерево 150
2. Корень 158
3. Сельва 161
4. Маис 165
IV. Небесная стихия 167
1. Ночь 167
2. Луна 175
3. Небо 178
4. Солнце 179
5. Зной 181
6. Ветер 183
Глава третья. ЧЕЛОВЕК 187
I. ПОЗНАНИЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКО-
ГО МИРА 187
1. Общие положения 187
2. Способы познания латиноамерикан-
ского мира: 190
а) Путешествие 190
б) Обоняние 192
в) Сон 196
г) Еда 199
3. Приобщение к латиноамериканскому
миру 202
П. ТИПОЛОГИЯ ГЕРОЕВ 205
1. Общие положения 205
2. Чужак 209
3. Адам 215
4. Человек-зверь 219
5. Дикарь, варвар 223
6. Этнотип 230
7. Ипостаси героини 236
III. БЫТИЕ 240
1. Дом 240
2. Эрос 248
3. Музыка, песня, танец 260
4. Жертвоприношение 266
5. Виоленсия 273
6. Смерть 287
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 299
ПРИМЕЧАНИЯ 305
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 310
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 314
ВВЕДЕНИЕ
Первоначально эта книга задумывалась как исследова-
ние о влиянии фольклорно-мифологического субстрата на
латиноамериканскую литературу XX в. Именно в специфи-
ке обращения латиноамериканских художников с фольк-
лорным материалом предполагалось обнаружить истоки
того мифологизма латиноамериканской литературы, о ко-
тором так много писали критики.
Однако в процессе сравнительно-текстологического ана-
лиза все яснее выявлялась полная несостоятельность этого
априорного суждения. Многие из зафиксированных устой-
чивых мифомотивов латиноамериканской литературы не
имели ничего общего ни с индейской мифологией, ни с
креольским фольклором, ни с афроамериканскими фольк-
лорными формами. Что же касается прямых, скажем так,
«этнографических» апелляций к народной культуре, то,
несмотря на их обилие в латиноамериканской литературе,
они большей частью весьма поверхностны (каким обычно
и бывает этнографизм в искусстве) и не содержат в себе
глубоких смысловых пластов. Это лишний раз доказывают
научные исследования фольклоризма в литературе, кото-
рые поневоле приобретают описательный характер и в ко-
нечном счете сводятся к утверждению, что в Латинской
Америке очень много живого фольклора и потому его
очень много и в литературе1.
Мифологизм любого рода подразумевает наличие неких
моделей мышления, связанных между собою и образую-
щих относительно устойчивую систему. Коль скоро эти ху-
дожественные модели обнаруживались вне фольклорной
традиции, то становилось очевидным, что исследование
фольклоризма латиноамериканской литературы (даже и в
самых глубоких и органичных его формах) откроет лишь
«вершки», а не «корешки» самобытного латиноамерикан-
ского художественного сознания. На определенном этапе
работы выяснилась полная невозможность «повернуть на-
зад» и ограничиться рамками фольклоризма, которые ста-
ли восприниматься уже не только искусственными, но и
порочными. Так и получилось, что сам материал сориенти-
ровал книгу на изучение того, что можно назвать художе-
6
ственным кодом латиноамериканской литературы или ху-
дожественными образом мира.
Определить эти понятия весьма затруднительно, что,
однако, не может служить препятствием для их использо-
вания и разработки. Литературоведение и культурология в
силу самой специфики своего материала подчас вынужде-
ны оперировать довольно зыбкими категориями. Уж коли
не существует строгих определений таких основополагаю-
щих и общеупотребительных понятий, как «стиль»,
«форма», «жанр» и др., то наивно требовать точных дефи-
ниций категории художественного кода, художественного
сознания или образа мира.
Вопрос состоит в другом: позволено ли вообще опериро-
вать столь широкими категориями и не являются ли они
плодом чистой абстракции? Не стоит доказывать ту оче-
видную истину, что культура — это не только совокуп-
ность памятников и произведений, но и способ мышления,
и если разнятся культуры, то существуют различия и
между способами художественного мышления. Как всякое
индивидуальное сознание не может быть абсолютно инди-
видуальным, так и творчество отдельного писателя, каким
бы ярким талантом он ни обладал, всегда вбирает в себя
некую сумму надиндивидуальных элементов. Это сверх-
личностное художественное начало представляет собою
ряд входящих друг в друга, расширяющихся пластов: ли-
тературная школа — литературное направление — стиль
мышления данной эпохи — национальная традиция — ре-
гиональная традиция (то есть способ художественного
мышления, свойственный для данного типа культуры).
Последний, наиболее широкий пласт, особенно существен
для Латинской Америки, где в силу общности языка, ре-
лигии, исторических этапов, культурных влияний нацио-
нальные литературные традиции проявляются намного
слабее и менее выраженно, чем в Европе. При изучении
художественного кода данной культуры проблема состоит
в том, как отделить индивидуальное от общего и как в
самой сфере надличностного отсеять все то, что обусловле-
но школой, направлением, конкретной эпохой и нацио-
нальной спецификой. Вполне очевидно, что методика та-
кого исследования может базироваться только на сопоста-
7
вительном текстологическом анализе произведений раз-
ных писателей различных стран, эпох и направлений. Тео-
ретическими рассуждениями можно обосновать существо-
вание художественного кода как такового, но его содержа-
ние и своеобразие можно постичь, только исходя из кон-
кретного материала.
Впрочем, и само существование этой сферы надлич-
ностного в художественном творчестве автор открывал
для себя эмпирическим путем. Перечитывая латиноаме-
риканскую литературу, автор подмечал повторяемость
некоторых образов, мотивов, сюжетных ходов в произве-
дениях писателей различных стран, эпох и эстетических
ориентации.
Повтор одного художественного элемента у разных пи-
сателей дважды или трижды еще можно объяснить слу-
чайностью, но если этот элемент встречается десятки раз и
у многих писателей, то это уже явление прямо противопо-
ложного порядка — то есть закономерность. Усматривать
же эту закономерность в элементарном эпигонстве было бы
неразумно. В литературе, в отличие от фольклора, индиви-
дуальное решительно доминирует над стереотипом: писа-
тель (уж во всяком случае любой крупный художник)
стремится к неординарности, к абсолютному личностному
своеобразию и потому всячески избегает заимствований.
Тем более, что речь идет о писателях «первого ряда», кото-
рых трудно обвинить в подражательности. К тому же и к
самому эпигонству не стоит относиться с полнейшим не-
брежением, поскольку оно отличается избирательностью,
и сам выбор для заимствования того или иного мотива или
образа может говорить о многом — в частности, о том, что
именно этот образ оказывается ближе, понятнее, удобнее
для воспроизведения или по каким либо иным причинам
предпочтительнее. Забегая вперед, отметим, что все те ус-
тойчивые элементы, которые нам удалось выявить в перво-
классных произведениях латиноамериканской литерату-
ры, в творчестве писателей «второго ряда» представлены
еще в большем количестве и более акцентированно.
Итак, если повторения одних и тех же образов и моти-
вов нельзя объяснить ни случайностью, ни подражательст-
вом, то понимать их следует как стереотипы художествен-
8
ного мышления (понятие «стереотип» в нашем случае не
содержит ни малейшего негативного оттенка). Они форми-
руются безотчетно, спонтанно — из общности восприятия
своего мира и себя в нем. В отличие от фольклорных сте-
реотипов, жестко обусловленных традицией, литератур-
ные — гораздо более подвижны, размыты, вариативны;
они могут спорадически появляться и исчезать, развивать-
ся и преобразовываться, порождать новые устойчивые эле-
менты и взаимодействовать с уже сложившимися. Худо-
жественный стереотип — есть нечто внешнее, иначе гово-
ря, форма; исследование генезиса и символического смыс-
ла, сокрытого в стереотипе, выводит к его содержанию — а
именно, к архетипу художественного мышления. Совокуп-
ность архетипов художественного мышления и составляет
художественный код данной культуры.
В процессе фиксации стереотипов латиноамериканско-
го художественного мышления все яснее обнаруживалась
внутренняя смысловая взаимозависимость отдельных мо-
тивов и образов. Положим, интерпретация образа земли
сказывается в художественном восприятии дихотомии
«верх» — «низ», в трактовке образов дерева, пещеры, жи-
лища, а эти элементы, в свою очередь, определяют особые
сюжетные ходы и участвуют в создании образа героя и т.д.
Так выстраиваются цепочки взаимодополняющих элемен-
тов, и сами эти цепочки непосредственных семантических
связей не существуют автономно, а также накладываются
одна на другую. Поэтому, выявляя семантику одного эле-
мента, поневоле приходится затрагивать все остальные.
Выяснилось, что зафиксированные стереотипы латиноаме-
риканского художественного сознания прочно связаны
меж собою и в совокупности образуют довольно устойчи-
вую систему. Эту систему взаимодействующих устойчивых
элементов мы назвали мифологической инфраструктурой
латиноамериканской литературы.
Она представляет совокупный образ мира, создаваемый
в лоне данной культуры. На уровне мифологической ин-
фраструктуры выявляются символическое наполнение по-
стоянных образов и мотивов и смысловые связи между
ними. Именно наличие глубинной системы символических
ассоциаций позволяет трактовать многие, казалось бы,
9
простейшие образы латиноамериканской литературы
(река, камень, дерево, маис и др.) как мифообразы, а мно-
гие мотивы, определения и характеристики — как мифо-
логические константы и мифологемы, подчас весьма дале-
кие от реалий латиноамериканского природного и соци-
ального бытия.
Этот пласт мифологических представлений о своем
мире присутствует так или иначе в сознании большинства
латиноамериканских писателей, однако проявляется он
далеко не во всех произведениях и далеко не всегда пол-
ностью. Он может обнаруживать себя в виде отдельных мо-
тивов или некоторых цепочек мотивов, а в ряде произведе-
ний не проявляется вовсе. В этом — принципиальное отли-
чие литературы от фольклора, который не способен суще-
ствовать вне системы устойчивых образов и мотивов. По-
казателен в данном отношении пример Борхеса. Писатель
ярко выраженной универсалистской ориентации, создав-
ший свою собственную, глубоко индивидуальную мифоло-
гию, он, казалось бы, поместил себя вне латиноамерикан-
ской культуры, равно как и любой другой. И, однако, в не-
которых, пусть и редких, его рассказах устойчивые обра-
зы и мифологемы латиноамериканского художественного
мышления проявляются с изумительной отчетливостью.
В случае с Борхесом (а так^ке Карпентьером, Астуриа-
сом, Фуэнтесом, Нерудой) можно говорить о сознательном
использовании элементов мифологической инфраструкту-
ры. Гальегос, Аргедас, Алегрия, Рульфо, Мистраль, ско-
рее всего, выражают их спонтанно. Впрочем, провести
здесь четкую границу невозможно — особенно в отноше-
нии писателей типа Гарсиа Маркеса или Варгаса Льосы,
которые используют мифологемы латиноамериканского
художественного сознания как в целенаправленных фор-
мах, подчас травестируя их, так и вполне бессознатель-
но. И все же, по нашим наблюдениям, для латиноамери-
канской литературы наиболее предпочтительными оказы-
ваются именно формы сознательного обращения к сложив-
шимся константам художественного сознания. Тому есть
веские причины, и коренятся они прежде всего в специфи-
ческом соотношении фольклорных и литературных моти-
10
bob в мифологической инфраструктуре латиноамерикан-
ской литературы.
Древние литературы европейских стран возникли и
взрастали на питательной почве народного словесного твор-
чества, которое составляет базовый, первичный слой той или
иной национальной культурной традиции. Как показал
Г. Гачев2, именно там, в фольклоре, сотворяется националь-
ный художественный образ мира, именно оттуда приходят в
литературу многие постоянные образы и мотивы.
Совершенно иная ситуация в силу особых исторических
причин сложилась в латиноамериканской литературе. Раз-
виваться на основе древнего фольклора индейских народов
она в принципе не могла: во-первых, из-за языкового ба-
рьера, так и не преодоленного (робкие попытки создания
современной литературы на автохтонных языках пока что
не привели к успеху); во-вторых, из-за того, что в процессе
взаимодействия индейских и иберийской культур послед-
няя активно доминировала. В том числе, это выражалось в
частичном или полном разрушении традиционных фольк-
лорных форм под «натиском» испанской культуры. Ис-
пользование писателями мотивов или моделей индейской
мифологии являет собой чаще всего сознательную ориента-
цию. К тому же беспристрастный анализ произведений
самых видных писателей-индеанистов — Аргедаса и Асту-
риаса — свидетельствует, что, наряду с индейскими моти-
вами, они воплощают те элементы мифологической инфра-
структуры, которые никакого отношения к автохтонным
культурам не имеют.
Субстратом латиноамериканской литературы не мог в
полной мере служить и испанский фольклор, отражавший
иную историю, иную реальность, другое природное про-
странство, другой социально-исторический опыт. Коль
скоро признается, что латиноамериканская культура сущ-
ностно отлична от испанской (а в настоящее время даже
европоцентристы не рискуют отрицать это), то придется
признать и то, что испанский фольклор не способен выра-
жать сущности этой культуры. Этот постулат подтвержда-
ется при конкретном анализе тех содержательных преоб-
разований^ какие произошли с испанскими фольклорными
формами в Новом Свете. И хотя в Америке сохранилось не-
11
мало бытующих песен испанского происхождения, вовсе
не они определяют облик латиноамериканского народного
творчества.
Итак, основу мифологической инфраструктуры латино-
американской литературы мог бы составить только кре-
ольский фольклор, сформировавшийся в новой историчес-
кой, природной и этнокультурной среде и отразивший ее
своеобразие. Однако до конца XVIII в. креольского фольк-
лора — в качестве устойчивой самостоятельной тради-
ции, а не разрозненных произведений — попросту не су-
ществовало.
Это не значит, что в колониальную эпоху в Латинской
Америке не было фольклора как такового и что в среде ко-
лонистов не сочинялись новые, возможно, и вполне своеоб-
разные песни и романсы. Создать фольклорный текст
может в принципе любой человек и в любое время; но для
того, чтобы этот текст вошел в сферу активного и длитель-
ного бытования, чтобы он стал частью фольклорного со-
знания, требуется наличие относительно стабильной и
замкнутой общности людей с устойчивыми внутриколлек-
тивными связями и отношениями. А для распространения
текста за пределы данного коллектива (села, города) в мас-
штабах целого ареала или провинции необходимо наличие
устойчивой системы отношений между коллективами, ко-
торая достигается только при определенной плотности на-
селения и в условиях относительно стабильного бытия. Ни
того, ни другого на ранних этапах колонизации в Америке
не было и быть не могло. Испанские поселения в Новом
Свете в XVI и XVII вв. не представляли собой устоявшихся
коллективных общностей, поскольку состав их беспре-
станно менялся: часть людей отправлялась на колониза-
цию внутренних областей, часть возвращалась в метропо-
лию, постоянно увеличивался приток эмигрантов, разво-
рачивалась работорговля, усиливался процесс метисации.
Плотность креольского населения в колониях была очень
низкой, поселения отстояли друг от друга на значитель-
ные расстояния и связь между ними осуществлялась нере-
гулярно. Добавим к сказанному и то, что формирование
самобытной креольской традиции теснейшим образом свя-
зано со становлением этнического и национального само-
12
сознания. А этот процесс на континенте совпал с Войной за
независимость. Только в XVIII в., когда в Америке устоял-
ся определенный уклад жизни, сформировались относи-
тельно стабильные городские и сельские коллективы,
когда в орбиту испаноязычной культуры была вовлечена
большая часть коренного населения — началось образова-
ние креольской фольклорной традиции, расцвет которой
приходится уже на XIX в.
Но формирование латиноамериканской литературы на-
чалось гораздо раньше: как справедливо утверждает
В. Земсков, уже в первых памятниках эпохи конкисты за-
кладывались основы художественного кода рождающейся
литературной традиции3. Это мнение найдет ряд под-
тверждений и в нашей книге. Таким образом, в колониаль-
ный период креольское самосознание изначально и глав-
ным образом проявилось в литературе, в то время как в
фольклоре бытовали преимущественно испанские по
"форме и содержанию песни и романсы, перенесенные в
Новый Свет. Принципиальная особенность латиноамери-
канской культуры, в отличие от европейской, состоит в
том, что в первые три века развития литература была пер-
вична по отношению к фольклору, то есть она формирова-
ла свою традицию, не опираясь на фольклор; и только во
второй половине XIX в., когда обрела явственность кре-
ольская фольклорная традиция, литература начала актив-
но впитывать ее мотивы и образы. Но к тому времени в ли-
тературе уже образовалась своя мифосистема, а главное,
уже определились основные источники символических об-
разов и принципы их усвоения и переработки.
Так и получилось, что в мифологической инфраструк-
туре латиноамериканской литературы представлено очень
незначительное число мотивов креольского фольклора.
Поэтому художественный образ мира, создаваемый лати-
ноамериканской литературой, не только не совпадает с
фольклорным, но и глубоко отличен от него. Действитель-
но, многие из тех мифологических характеристик и про-
странственных категорий, о которых речь пойдет в основ-
ной части работы, не имеют аналогов в креольском фольк-
лорном сознании. Мифообразы дерева, земли, реки,
Камня, дождя не содержат в фольклоре и десятой доли тех
13
символических связей и значений, что обнаруживаются в
литературе; а мифообраз корня — один из важнейших для
латиноамериканского художественного сознания — в
фольклоре отсутствует вовсе.
Коли так, то естественно возникает вопрос: за счет чего,
из каких источников формировалась мифологическая ин-
фраструктура латиноамериканской литературы? Прове-
денное исследование дает возможность ответить на этот во-
прос вполне определенно: основными источниками ее фор-
мирования стали универсальные мифологические инвари-
анты (заимствованные главным образом из европейской
культуры) и некоторые постоянные мотивы и образы евро-
пейской же литературы. Казалось бы, этот вывод в корне
противоречит сказанному ранее о сущностном отличии
латиноамериканской литературы от испанской. На
самом деле он парадоксальным образом подтверждает это
отличие, ибо своеобразие и типологические особенности
латиноамериканской литературы во многом проявляются
именно в специфике ее отношений с европейской культу-
рой.
Эта проблема неоднократно обсуждалась на высоком
теоретическом уровне в работах российских ученых. Поэ-
тому здесь мы обозначим лишь некоторые, наиболее суще-
ственные моменты данной проблематики,— тем более, что
многие ее аспекты будут затронуты в дальнейшем.
Несмотря на существование обширного индейского
культурного субстрата, бесспорным остается тот факт, что
испаноамериканская литература развивалась на основе ис-
панской (с которой ее роднит и общность языка) и в своем
становлении активно использовала жанровые модели и на-
правления европейской литературы. А это значит, что ла-
тиноамериканская литература изначально не имела своей
традиции и воспринималась как литература несамостоя-
тельная либо подражательная — и это обвинение (неред-
ко — самообвинение) преследовало ее вплоть до середины
XX в. Но тем самым столь же изначально была предопре-
делена и внутренняя магистральная линия ее развития —
а именно, выявление и утверждение своей самобытности,
которое сопрягалось с напряженным поиском своей куль-
турной сущности (процессами самоидентификации). При
14
таких заданных условиях зависимости от европейской
культуры, обретение латиноамериканцами культурной
самостоятельности могло происходить только в формах
противопоставления «себя» — Европе и отталкивания от
европейских моделей. Но незрелая литература, лишенная
собственного языка, собственного фольклорного субстрата,
своей традиции, еще не была способна к автономному
саморазвитию и потому вынужденно заимствовала евро-
пейские жанры и модели, переиначивая их и приспосабли-
вая для воссоздания латиноамериканской действительнос-
ти и выражения формирующегося латиноамериканского
художественного мышления. Так латиноамериканская ли-
тература последовательно усваивала барокко, классицизм,
романтизм, костумбризм, реализм, натурализм, симво-
лизм, авангардизм. И в каждом из этих заимствованных
течений писатели находили какие-то точки для полеми-
ческого противостояния европейской традиции,— если не
в эстетической системе, то в системе образов. Причем это
противостояние осуществлялось путем использования ев-
ропейских образов и мифологических констант, которые в
Америке получали новое наполнение или сочетались с мо-
тивами и образами индейских культур. Особенно отчетли-
во это видно на примере латиноамериканского классициз-
ма: неукоснительно соблюдая европейский классицисти-
ческий канон, поэты Нового Света наполняют античные
мифообразы американским содержанием, заставляя анти-
чных героев выступать под флагом американской незави-
симости рука об руку с мифологическими и исторически-
ми героями инков и ацтеков. В. Земсков пишет по этому
поводу: «Отождествление творческого субъекта с тем или
иным «архетипом» разного уровня никогда не означает его
повторения в изначальном виде, но всегда влечет за собой
художественное построение на его основе нового «архети-
па», трансформацию исходного материала путем собствен-
ного его «пересказа», парафразирования тех идеологичес-
ких, стилистических, метафорических контекстов, что
свойственны ему, и его соединения с дополнительными по
отношению к нему источниками и контекстами»4. Ю. Ги-
рин обобщает: «... В том и состоит особенность латиноаме-
риканской ментальности, что в стремлении осознать свое
15
«Я» латиноамериканец постоянно прибегает к европей-
ским меркам, всегда ощущая при этом свое несовпадение с
заемной системой измерений». И далее: «Поэтому всякое
инокультурное заимствование, вовлеченное в латиноаме-
риканский контекст, также перестает быть самим собой,
преломляясь сквозь призму «инаковости»: оно одновре-
менно есть «то же» и «не то»5.
Все это крайне важно для понимания специфики фор-
мирования художественного кода латиноамериканской ли-
тературы. Не имея опоры ни в автохтонных мифологиях,
ни в испаноязычном фольклоре, латиноамериканские пи-
сатели и поэты заимствовали постоянные образы и мифо-
логические константы европейской культуры. В художест-
венном мышлении латиноамериканских писателей эти
элементы тщательно очищались ото всего сугубо европей-
ского или специфически национального, видоизменялись,
наполнялись новым содержанием. Нередко — как будет
показано в дальнейшем — происходила сознательная ин-
версия (то есть как бы «выворачивание наизнанку») евро-
пейских мотивов. И даже те постоянные образы, которые
сохранялись в относительно неизменном виде (например,
символика ветра), так или иначе взаимодействовали с дру-
гими элементами мифологической инфраструктуры и обре-
тали новые смысловые нюансы.
Такая тенденция к переосмыслению или «иначению»
европейских образов, мотивов, мифологем была заложена
еще на заре истории латиноамериканской культуры — в
испаноамериканских хрониках и документах XVI в. Как
будет показано в дальнейшем, этот обширный пласт сло-
весности сформировал и некоторые важнейшие элементы
художественного кода латиноамериканской литературы.
Именно в сочинениях хронистов определилась оппозиция
«Старый Свет» — «Новый Свет», которая, можно сказать,
составила саму основу и способ реализации латиноамери-
канского художественного сознания. Впервые отчетливо
обозначенная в трудах Педро Мартира и Ф. Лопеса де Го-
мары, эта дихотомия окончательно выкристаллизовалась
в ходе широкой полемики, развернувшейся в середине
XVI в. между Б. де Лас Касасом, ревностным защитником
индейцев, и его противниками — X. Хинесом де Сепульве-
16
дой, Г. Фернандесом де Овьедо-и-Вальдесом и др. Важно
подчеркнуть: с каких бы позиций ни велся этот спор, его
участники так или иначе утверждали принципиально важ-
ную идею: Америка — это иной мир, в корне отличный от
европейского. Эта идея, даже трактованная в европоцент-
ристском духе, претворилась во множестве произвольных
мотивов и мифологем и составила стержень важнейшей
художественно-идеологической константы латиноамери-
канской культуры — «инаковости», которая в своих раз-
личных воплощениях будет проанализирована в основной
части книги. (В дальнейшем это понятие и производные от
него мы станем использовать без кавычек.)
Полемика о Новом Свете, имевшая широкий обществен-
ный резонанс, в немалой степени обусловила такую специ-
фическую особенность художественного кода латиноаме-
риканской литературы, как ярко выраженную амбива-
лентность многих его элементов. Это касается в первую
очередь художественных представлений о латиноамери-
канском пространстве, вызывающем и восторг, и ужас, а
также трактовок персонажей, воплотивших отголоски спо-
ров о «добром» и «злом» дикаре. В хрониках конкисты
были заложены еще две значительные константы латиноа-
мериканского художественного сознания. Одна из них —
категория «чудо», применяемая по отношению к амери-
канской реальности, с сопутствующим мотивом «изумле-
ния» и чувством смещения европейской нормы. Другая —
глубоко укорененная в латиноамериканской литературе
аркадийская топика, вкупе с образом земного рая. Впе-
рвые обозначившиеся еще в письмах Колумба (как извест-
но, во время третьего путешествия Адмирал открыл пред-
дверия земного рая в дельте Ориноко), эти мотивы были
подхвачены в трудах ряда хронистов (П. Мартира, Б. де
Лас Касаса и др.)> получили научное обоснование на полу-
тора тысячах страниц знаменитой книги А. Леона Пинел-
ло «Рай в Новом Свете», а впоследствии бессчетно вопло-
щались, перефразировались и пародировались в латиноа-
мериканской литературе. Обе эти константы, сформиро-
ванные опять-таки путем иначения европейских представ-
лений, порождают разветвленную систему побочных обра-
зов и мотивов.
17
Полемика XVI в. получила продолжение в XIX — нача-
ле XX вв. в трудах позитивистов и модернистов. И опять-
таки важно отметить, что самые ярые хулители Америки и
поборники европейского прогресса — социологи О. Бунхе,
Г. Рене Морено, П. Аркайа, Л. Вальенилья Ланс,— даже
они в своих теоретических построениях исходили из идеи
инаковости латиноамериканского мира по отношению к
европейскому. Примечательно и то, что писатели позити-
вистской ориентации, ратовавшие за искоренение варвар-
ства (Д. Ф. Сармьенто, Р. Гальегос и др.)> подчас не могли
скрыть внутреннего любования «варварством», и их само-
родные «варварские» герои отличаются куда большей до-
стоверностью, жизненностью и цельностью, нежели «ци-
вилизаторы», идеологические гомункулюсы. Главное же,
при описании латиноамериканского мира и его коренных
обитателей они впадают в эзотеризм, выявляя элементы
мифологической инфраструктуры латиноамериканской
литературы с необычной яркостью и полнотой.
Огромное влияние на формирование художественного
кода латиноамериканской литературы оказала виталист-
ская философия начала XX в., в частности, знаменитая
книга Германа Кайзерлинга «Южноамериканские размыш-
ления». По признанию автора, посещение Боливии пере-
вернуло его миропонимание: именно там он ощутил мощ-
ное воздействие теллурических сил, осознал себя неоттор-
жимой частью земли и вернулся в эпоху сотворения мира6.
Как будет показано, теллуричность в высшей степени
характерна для американского художественного мышле-
ния. Разумеется, нелепо соотносить эту характеристику с
каким-то влиянием извне, ибо она питается и вполне само-
родными стимулами, но такого типа «поддержка» со сто-
роны европейской культурфилософии всегда была очень
значима для латиноамериканских художников. В еще
большей степени это относится к воздействию европейско-
го примитивизма (имеется в виду идеологическая тенден-
ция, существовавшая в европейской культуре со времен
античности7). Все древние и устойчивые примитивистские
идеологемы — такие, как апология «естественного челове-
ка» и «природного закона», утверждение превосходства
чувства, инстинкта над разумом и восхваление «мудрого
18
незнания», тоска по Золотому Веку, неприятие цивилиза-
ции и т.п.— все они укоренились в латиноамериканской
литературе, правда, как и положено, обыначенные, пред-
ставленные в качестве принадлежности или характеристи-
ки «своего» мира. С той же готовностью латиноамерикан-
ские художники восприняли новые варианты примити-
вистских идеологем, разработанные европейскими аван-
гардистами. Мистическое восприятие природы, культ ир-
рационализма, апелляция к подсознанию, ностальгия по
архаике, восприятие дикаря как носителя принципиально
иного сознания, противопоставление теллуризма техно-
кратизму — эти и другие тенденции органично вписались
в латиноамериканскую художественную картину мира и
стимулировали развитие негризма и «магического реа-
лизма».
Если попытаться ограничить художественный код ла-
тиноамериканской литературы образами и мотивами абсо-
лютно специфическими, то мы получим крайне скудный
набор (маис, индеец, гаучо, сельва, пампа ...), который
никак не сложится в целостный образ мира. Поэтому необ-
ходимо ясно постулировать, что своеобразие и содержание
мифологической инфраструктуры выявляется из совокуп-
ности всех ее элементов и смысловых связей. Впрочем,
формула эта относится не только-к латиноамериканской,
но и к любой другой литературе.
Замысел книги, ее композиция и большая часть теоре-
тических и практических разработок носят вполне само-
стоятельный характер. При анализе многих тем и мотивов
автору приходилось идти совершенно непроторенными пу-
тями, поскольку исследований подобной методики и на-
правленности существует крайне мало. Вместе с тем они
есть, и автор с благодарностью упоминает наиболее близ-
кие по духу работы, которые подталкивали мысль в задан-
ном направлении и оказали воздействие на трактовку от-
дельных мотивов и на формирование общей концепции
Книги.
Из зарубежных источников первостепенную значимость
Для данной работы имела блестящая книга уругвайского
Литературоведа Фернандо Аинсы «Проблема культурной
Идентичности в ибероамериканской прозе»8. В дальней-
19
шем будет сделано немало отсылок на эту работу по кон-
кретным поводам, здесь же вкратце отметим те существен-
ные моменты исследования Аинсы, которые в той или
иной степени были использованы в предлагаемой книге.
Это — прежде всего глубокая разработка самоидентифика-
ционных моделей латиноамериканского художественного
сознания и вообще выделение проблемы идентичности в
качестве основы самостроения латиноамериканской куль-
туры. Далее, Аинса последовательно применяет и обосно-
вывает принцип выделения тематических констант и ус-
тойчивых образов, раскрывает их историко-культурное со-
держание. Ученый вводит понятие «художественный
образ латиноамериканского пространства» и глубоко ана-
лизирует два важнейших пространственных образа, при-
сутствующих и в нашей работе: хаос пространства и сак-
ральный центр. Отчасти были использованы разработки
испанского ученого, касающиеся аркадийской топики, мо-
тивов путешествия и инициации.
В немалой степени эта книга обязана также эссеистике
Нобелевского лауреата Октавио Паса, в частности, его зна-
менитой книге «Лабиринт одиночества»9. В этой книге
мексиканский писатель дал глубокий анализ архетипов
национального сознания, выявленных через слово, идио-
матику, поведенческие модели и т.п. Наряду с методикой
О. Паса, автор использовал его конкретные разработки по
темам мачизма и смерти. В том же культурологическом
русле написаны блестящие эссе известного чилийского пи-
сателя Ариэля Дорфмана, собранные в книге «Воображе-
ние и виоленсия в Америке»10. Для нас была важна как
сама методика исследований Дорфмана — выявление спе-
цифических черт латиноамериканского мифомышления
через художественные образы,— так и конкретный анализ
темы виоленсии (насилия). Сходную направленность обна-
руживают труды боливийского ученого Гильермо Франко-
вича, автора книги «Глубинные мифы Боливии»11.
Из отечественных научных трудов следует выделить из-
вестную книгу Г. Гачева «Национальные образы мира». С
нею предлагаемая работа имеет немало общего — прежде
всего в исходных предпосылках. Г. Гачев убедительно по-
казал, что оперировать понятием «национальный образ
20
мира» можно и необходимо и что картину мира возможно
реконструировать посредством концептуальной дешифров-
ки отдельных фольклорных и литературных образов. На-
ряду с очевидными моментами сходства книг, имеются
принципиальные расхождения в методике исследования,
обусловленные различием материала. Г. Гачев работает с
теми литературами, которые имеют древнюю традицию и
богатый фольклорный субстрат. На этом материале он по-
казывает, как фольклорные мотивы и мифотворческие пред-
ставления народа о своем пространстве входят в сознание
профессионального писателя и формируют художественный
образ мира. Латиноамериканская литература, как говори-
лось, «старше» своего фольклора, поэтому сложившуюся
картину мира приходится реконструировать как бы из
«нее самой», из различных заимствований и напластова-
ний. Другое различие состоит в том, что Гачев основывает
свое исследование большей частью на выявлении единич-
ных мотивов и их дешифровке. Предлагаемое исследова-
ние, напротив, полностью исключает из рассмотрения не
только индивидуальные образы, но даже национальные
или зональные (типа пампы, льяносов, коки и т.п.).
В работе над книгой автор постоянно опирался на тру-
ды своих ближайших коллег из группы латиноамерика-
нистов ИМЛИ, а также с благодарностью учитывал заме-
чания рецензентов и те, что были высказаны при обсужде-
нии работы.
Предлагаемый труд открыт для критики и во многом
уязвим — как бывает уязвимо всякое исследование экспе-
риментального характера, оперирующее очень широкими
и размытыми категориями. Желая упредить некоторые из
возможных упреков, сделаем ряд существенных оговорок.
Прежде всего, считаем необходимым подчеркнуть вы-
сказанную ранее мысль о подвижности, зыбкости и вариа-
тивности литературной системы стереотипов, которая как
раз и отличается от фольклорной отсутствием жесткой рег-
ламентации. Понятия «устойчивый мотив», «постоянный
образ» или «художественная константа» применительно к
литературе никоим образом не подразумевают, будто моти-
вы, образы и константы проявляются не то что во всех, но
Даже и в большинстве произведений. Они могут обнару-
21
житься в творчестве десятка писателей, и то далеко не во
всех их произведениях. Главное в данном случае, чтобы
эти писатели представляли разные страны, направления,
поколения — это дает уверенность, что мотив глубоко уко-
ренен в художественном сознании, а не обусловлен истори-
ческим периодом или национальной традицией. Литера-
турный стереотип только и может проявляться в весьма ог-
раниченных масштабах, особенно когда речь идет о твор-
честве крупных художников. Будь иначе, литература пре-
вратилась бы в унылый набор клишированных элементов,
какой обычно представляет собой массовая, бульварная
литература. Более того, в творчестве некоторых писателей
могут встречаться прямо противоположные по смыслу
трактовки какого-либо постоянного мотива — и такие слу-
чаи не раз будут отмечены в работе. Так оно и должно
быть, поскольку литература — это не схема, а живой орга-
низм, который питается духом противоречия. И особенно
это характерно, именно для латиноамериканской литерату-
ры, где многие образы отличаются ярко выраженной амби-
валентностью. Другие противоположные по смыслу трактов-
ки рождаются из потребности переосмыслить или травес-
тировать устоявшиеся образы и мифологемы.
Кроме того, в литературе понятие устойчивого образа
или мотива всегда оказывается относительным. В латиноа-
мериканской литературе отдельные мотивы и их соотно-
шения могли в той или иной степени меняться в зависи-
мости от эпохи или национальной принадлежности произ-
ведения. Эти факты, однако, не опровергают ни наличия
устойчивых трактовок и связей, ни наличия цельной худо-
жественной картины мира.
Национальные и этнорегиональные варианты художе-
ственного кода не входят в предмет нашего рассмотрения.
В частности, это касается бразильской литературы, обла-
дающей своей спецификой. В этой связи следует отметить,
что исследование проводилось в основном на испаноамери-
канском материале, но, как подтвердила специалист по
бразильской литературе М. Надъярных, многие выводы
относятся и к этой литературе, что дает автору право ис-
пользовать термин «латиноамериканский».
22
К работе можно предъявить и ряд претензий насчет
того, что не все из постоянных тем и мотивов нашли в ней
отражение. Эти упреки будут отчасти справедливы. Дейст-
вительно, объем книги не позволяет раскрыть все постоян-
ные образы и мотивы латиноамериканской литературы;
да, наверное, это и не под силу сделать одному человеку.
Наша задача — наметить контуры мифологической инфра-
структуры, открыв путь для дальнейших исследований в
этом направлении.
Некоторые темы, образы и константы (пространство,
время, дерево, эрос, виоленсия, смерть и др.) настолько
широки, что сами по себе могли бы составить предмет для
отдельного исследования — и будем надеяться, со време-
нем такие книги появятся. В данной работе эти темы за-
тронуты по необходимости кратко, без фиксации особых
нюансов и деталей. То же самое можно сказать о проблеме
соотношения латиноамериканских устойчивых мотивов с
европейскими и о проблемах генезиса тех или иных моти-
вов и образов. Сопоставления в этой сфере только намече-
ны, но не раскрыты, притом, говоря о тенденциях европей-
ской художественной литературы, мы были вынуждены
ограничиваться общими замечаниями, не раскрывая их на
конкретных примерах (хотя, разумеется, автор имел эти
примеры). В любом случае, в перспективе необходимо про-
вести детальное сопоставление латиноамериканских мифо-
мотивов с их европейскими аналогами: такое исследование
может и обогатить, и скорректировать результаты данной
работы.
Поскольку предметом исследования является сфера
надличностного художественного сознания, то в книге не
ставятся вопросы хронологии, направления, индивидуаль-
ного стиля писателя, а также не преследуется задача ком-
плексного выявления проблематики отдельных произведе-
ний, которые рассматриваются лишь с точки зрения нали-
чия и функционирования в них тех или иных мотивов.
Исследование проводится преимущественно на материале
литературы XX века, что, разумеется не исключает экс-
курсов в предшествующие эпохи. Выбор материала имеет
вполне очевидные обоснования: именно в этом столетии
латиноамериканская литература вступила в стадию «зре-
23
лости», стала фактором мирового литературного процесс и
выдвинула ряд писателей мирового значения. Добавим к
этому еще одно соображение. Мифологическая инфраструк-
тура латиноамериканской литературы начала складывать-
ся еще в первых литературных памятниках конкисты, но,
как представляется, только в первой трети XX в. отдель-
ные устойчивые мотивы и мифологемы сформировались в
целостную многоуровневую художественную структуру.
Яснее всего она просматривается в произведениях вто-
ростепенных писателей и поэтов, но, естественно, о моде-
лях художественного мышления стоит говорить только на
примере лучших представителей литературы. Круг имен и
произведений, постоянно упоминаемых в работе, достаточ-
но широк: около сорока авторов и около сотни романов, не
считая рассказов и стихотворений. Поскольку книга рас-
считана не только на латиноамериканистов, автор старал-
ся в основном оперировать произведениями, переведенны-
ми на русский язык.
Но, разумеется, исследование осуществлялось на более
широком материале, чем тот, что представлен в книге —
автор использует лишь малую часть собранных примеров,
подтверждающих тот или иной тезис. Но и тех, что приво-
дятся — достаточно много; и поэтому автор решил отка-
заться от академической системы сносок, которая заняла
бы немалый объем. В конце книги приведен список наибо-
лее часто цитируемых произведений с указанием выход-
ных данных издания. Произведения одного автора зашиф-
рованы римскими цифрами в соответствии с хронологией
их написания. В тексте книги после цитаты указывается в
скобках фамилия автора, римской цифрой — шифр произ-
ведения, и арабской — номер страницы. Если же при ци-
тировании упоминается автор и произведение, то, соответ-
ственно, в скобках фигурирует только номер страницы.
Все прочие отсылки даны в примечаниях.
24
Глава первая. УНИВЕРСУМ
I. ПРОСТРАНСТВО
А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Художественный образ «своего» пространства, каким
он складывается в искусстве и литературе тех или иных
народов, является важнейшей частью национальных или
региональных культур. Необходимо иметь в виду нераз-
рывную диалектическую связь двух процессов: с одной
стороны, художественный образ пространства складывает-
ся в русле культурообразования; с другой,— он оказывает
формирующее воздействие на саму культуру. В Латинской
Америке этот двуединый процесс происходил в сравни-
тельно недалеком прошлом и потому мы имеем возмож-
ность проследить, как первичный европейский модус вос-
приятия «чужого» пространства преобразовывался в ходе
«о-своения» новых земель в модус восприятия «своего»
пространства; как этот взгляд воплощался в первых па-
мятниках литературы; как некоторые характеристики
распространялись, клишировались, мифологизировались,
обрастали побочными мотивами.
Вполне очевидно, что художественный образ простран-
ства не адекватен реальному географическому пространст-
ву страны или региона. В художественном мышлении про-
исходил отбор наиболее репрезентативных пространствен-
ных реалий и координат, которые могут представляться
доминирующими, в то время как другие — несуществен-
ными. Наряду с этим в художественный образ пространст-
ва вводятся мифологические координаты и характеристи-
ки, вообще отсутствующие в реальном пространстве. Нако-
нец, в литературе практически все пространственные ха-
рактеристики функционируют гораздо более широко,
представляясь одновременно характеристиками психоло-
гическими, онтологическими и культурологическими. Со-
здавая образ национальной среды, писатель сознательно
или бессознательно выстраивает модель своей культуры.
Необходимо сразу же оговорить правомерность термина
«художественный образ латиноамериканского пространст-
25
ва». Не имея возможности углубляться в диалектику на-
ционального и регионального в культуре Латинской Аме-
рики, отметим лишь, что каждая из двух десятков литера-
тур континента стремится в первую очередь отразить свою
национальную среду; и однако очевидная общность исто-
рического развития этих литератур, наличие единых меха-
низмов культурообразования, общность проблематики,
идеологем и мифологем, наконец, присутствие в художест-
венном сознании многозначимого образа «Нашей Америки»
(слова X. Марти) — все это дает возможность говорить о су-
ществовании наднационального образа Америки и ее про-
странства. Этот образ в силу указанных причин куда более
значим для латиноамериканца, нежели для европейца —
наднациональный образ Европы. Главное же обоснование по-
нятия «художественный образ латиноамериканского про-
странства» — сами тексты, что и будет показано ниже.
Специфика художественного восприятия латиноамери-
канским писателем «своего» пространства во многом обу-
словлена самой историей открытия и колонизации земель
Нового Света, которая наложила глубокий отпечаток на
культурное сознание креолов. Латиноамериканская циви-
лизация, собственно, и начиналась с чисто пространствен-
ного опыта — то есть с преодоления ранее непреодолимого
океана и открытия новых земель. И первые полтора века
истории этой цивилизации опять-таки по преимуществу
базировались на пространственном опыте — имеется в
виду проникновение во внутренние области материков и
их колонизация. Отчасти именно поэтому пространствен-
ные категории имеют особую значимость в американском
художественном сознании. Прежде всего они чрезвычайно
глубоки, всеохватны и применимы по отношению ко всей
художественной картине мира. При том, как будет показа-
но в дальнейшем, прочие темы и мотивы, даже такие зна-
чительные, как эрос, смерть, насилие, сопряжены с обра-
зом пространства и подчиняются пространственным кате-
гориям. Не будет преувеличением сказать, что художест-
венный образ латиноамериканского мира выстроен на фун-
даменте пространственных образов и меряется пространст-
венной мерой.
26
Огромное влияние на формирование художественного
образа пространства оказывала сама специфика и внутрен-
няя направленность латиноамериканской культуры, взра-
ставшей как бы на обочине культуры европейской (см.
Введение). Основу латиноамериканской ментальности со-
ставил процесс самоидентификации, стержнем которого
стало противопоставление «себя» европейцу и выявление
самобытности «своего» мира. Такого типа направленность
придает художественному образу латиноамериканского
пространства ярко выраженную интенционность и культу-
рогенность. Главная константа в восприятии и отражении
латиноамериканского мира состоит в его настойчивом про-
тивопоставлении миру европейскому, в выявлении его
инаковости. Константа инаковости проявляется как в
общем плане, в виде отчетливо выраженной идеологемы,
так и в отдельных характеристиках и координатах латино-
американского пространства.
В. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Каждый народ осмысляет себя «иным» по
1. Инаковость отношению к другим народам, что нахо-
дит соответствующее выражение в его
культуре. Специфика латиноамериканской константы ина-
ковости состоит прежде всего в том, что она реализуется в
двойной системе оппозиций — национальной и региональ-
ной (континентальной), причем именно противопоставле-
ние «Новый Свет» — «Старый Свет» имеет первостепенное
значение для латиноамериканского художественного со-
знания, какого оно никогда не имело для европейца. Эту
особенность тонко подметил Борхес, когда говорил, что для
жителя Европы не существует понятия «европеец», а есть
лишь понятия «француз», «немец», «англичанин» и т.п.;
в то время как в Америке понятия «европеец» — «латино-
американец» играют куда большую роль, нежели обозна-
чения национальностей. Далее, латиноамериканская кон-
станта инаковости проявляется в очень обостренных фор-
мах, в особенности именно в оппозиции «Новый Свет» —
27
«Старый Свет», и так или иначе затрагивает все устойчи-
вые элементы художественного мира, что будет показано
ниже. Мифологическая инфраструктура латиноамерикан-
ской литературы по большей части составлена из универ-
сальных и европейских мотивов и мифологем, а специфи-
ческое содержание и новое качество им придает как раз
иначение, переосмысление в границах другого культурно-
го кода.
Инаковость, эта базовая характеристика латиноамери-
канского художественного сознания, была сформирована
еще в первых памятниках латиноамериканской литерату-
ры — письмах и дневниках Колумба, хрониках конкисты. В
писаниях первооткрывателя континента изначальная кон-
статация того, что Америка — это особый мир, коренным об-
разом отличающийся от европейского, нередко приобретала
ясно выраженный аксиологический акцент (заокеанские
земли — лучше европейских); в частности, этот акцент про-
является в настойчивом отождествлении этих земель с мифо-
логическими «Островами Блаженных» и с Эдемом.
Хотя суть испанской политики в Америке состояла как
раз в уничтожении инаковости, ибо в колониях декретиро-
вались и устанавливались европейские формы бытия и
культуры, мотив «особости» своего мира с течением време-
ни все глубже укоренялся в культурном и этническом со-
знании латиноамериканцев. Этот мотив кодифицировался
в художественном мышлении, и параллельно он существо-
вал в открыто декларативных формах, функционируя в
качестве опорной идеологемы национальной самоиденти-
фикации. Процессы эти были вполне закономерны для
культуры, стремящейся к самоопределению.
Константа инаковости в большой степени формирова-
лась под влиянием эссеистических, публицистических и
художественно-документальных жанров, которые в Ла-
тинской Америке были традиционно очень близки жанрам
художественной литературы. Даже знаменитая книга Сар-
мьенто, несмотря на свою яркую проевропейскую ориента-
цию, парадоксальным образом утверждала идею инаковос-
ти, противопоставив латиноамериканский мир — европей-
скому и закрепив это противопоставление в дихотомии
«варварство» — «цивилизация»1. Своего высшего вопло-
28
щения она достигла в знаменитом эссе X. Э. Родо «Ари-
эль» (1901), где бездуховную, прагматичную, механисти-
ческую цивилизацию США уругвайский писатель отожест-
вил с Калибаном, а одухотворенную, устремленную ввысь
культуру Латинской Америки с Ариэлем. Это эссе, как и
книга Сармьенто, прочно заложило в латиноамерикан-
скую литературу еще одну мифологическую модель, впос-
ледствии бесконечно варьируемую.
В латиноамериканской литературе константа инаковос-
ти воплощается большей частью в различных художест-
венно опосредованных формах, которые будут выявляться
в дальнейшем, по ходу анализа различных мотивов и ми-
фологем. Здесь же обратим внимание на то, что эта харак-
теристика, вкупе со своей системой противопоставлений,
постоянно (подчас избыточно) присутствует в литературе и
в качестве декларативно выраженной идеологемы.
Как правило, она воплощается понятиями «иной»,
«другой», «особый»: «Иной мир», «мир иных измерений»
(Рульфо, 152); «Мексика ... иная страна»; «... ели и дума-
ли они по-другому» (Фуэнтес, V, 184, 105). Глубокого фор-
мального выражения эта идеологема достигает в словах
карпентьеровского Колумба: «Однажды возле мыса на по-
бережье Кубы, названного Альфа и Омега, я сказал, что
здесь кончается мир и начинается другой: другое Нечто,
другое качество...» (VIII, 556). Далеко не случайно, что,
создавая свой гротескно-пародийный роман, А. Поссе, на-
ряду с мифологемой рая, постоянно обыгрывает и констан-
ту инаковости: «Идея Колумба имела графическое вопло-
щение: на пергаменте... был отмечен пункт, где реаль-
ность перетекает в трансреальность...» (Поссе, 57). И
далее: «Пора отказаться и еще от одной порочной иллю-
зии: от нашего представления о пространстве. Разве эти
земли есть продолжение мира, откуда мы прибыли? (...)
Мы попали в иное пространство» (57, 124).
Как видно, константа инаковости имеет отправной точ-
кой пространственные представления. Океан разделяет не
только континенты, но и два различно организованных
Пространственных континуума.
Инаковость выявляет две важнейшие особенности ла-
тиноамериканского художественного мышления. Первая:
29
способность (и даже постоянная потребность) латиноаме-
риканского писателя, самоостраняясь, видеть себя и свой
мир «другим»,— то есть глазами европейца. Эта потребность
за редкими исключениями (типа «Персидских писем» Мон-
тескье) не была свойственна европейскому писателю, кото-
рый привык воспринимать мир из своего «центра». Латино-
американский писатель видит мир и себя в нем как бы в
двойном ракурсе: своим взглядом и чужим, постоянно от-
мечая свою отличительность. Другая особенность состоит в
том, что исследование своего пространства и самопознание
реализуется в системе оппозиций2.
Оппозиция «Новый Свет» — «Старый Свет» (включая
США) присутствует в произведениях многих латиноамери-
канских писателей не только на образном и сюжетном
уровнях, но и в декларативном выражении. «Ты не ста-
нешь таким как они, потому что, кроме всего прочего, зна-
ешь: твое восприятие разных сторон жизни... не так при-
митивно, как их» (Фуэнтес, III, 166) — эту мысль Артемио
Круса разделяют многие другие герои латиноамерикан-
ской литературы. В прозе Карпентьера эта оппозиция за-
крепляется формульно — в пространственных понятиях
«здесь» и «там». Впервые выделенное курсивом в «Поте-
рянных следах», это противопоставление встречается и во
всех последующих романах писателя. Столкновение «та-
мошнего» со «здешним» неизменно выявляет качествен-
ную несовместимость двух типов цивилизации: Америка
разрушает европейский образ мира («Весь мой образ ми-
ра... рушится передо мной»,— VIII, 485), а вместе с ним —
европейскую аксиологию и логику. Эту мысль Карпентьер
склонен выражать и в пародийном ключе, как, например,
в романе «Превратности метода», показывающем неприем-
лемость картезианской логики в латиноамериканском кон-
тексте, или же в «Царстве земном», где пародия нередко
оборачивается чудовищным гротеском.
Оппозиция «свое» — «чужое», будучи одним из выра-
жений инаковости, очень существенна для латиноамери-
канского художественного сознания: теснейшим образом
связанная с противопоставлением «Америка» — «Евро-
па», она, однако, вовсе не дублирует его и представляет
собой следующую, более высокую ступень эволюции героя
30
в типовом сюжете поиска своей сущности (подробнее см.
гл. III). Оппозиция «Америка» — «Европа» — это дан-
ность; оппозиция «свое» — «чужое» — это обретение. Кар-
пентьеровский Колумб, великолепно формулирующий
«иное качество» открытого им мира, вместе с тем не спосо-
бен отожествить себя с этим миром и трагически застрева-
ет на культурном перепутье. А вот диктатору, который
всю жизнь метался между «здесь» и «там», достаточно
прибыть на родной берег, чтобы он, «словно прозрев, ощу-
тил, что этот воздух и есть мой воздух...» (VI, 51), потому
что Глава Нации — порождение и плоть от плоти «нере-
альной реальности» (там же) латиноамериканского мифа.
Герою «Весны священной» надо пройти долгий и много-
трудный жизненный путь, чтобы осознать: «И здесь, толь-
ко здесь я чувствую, как говорит со мной земля..., здесь,
только здесь я ощущаю себя частью целого, того целого,
которое ищу уже много лет» (VII, 213). Тот же путь для об-
ретения «своего» необходимо совершить лирической ге-
роине Г. Мистраль: «Я шла по чужеземной почве, / плоды
чужие покупала; / там стол так тверд, бокал не звонок, /
там жидок мед, вино устало; / я гимны пела мне
чужие...», и далее поэтесса взывает к солнцу: «Вернулась
я, и ты верни мне / мой облик данный от рожденья» (18).
В этих, как и во многих примерах подобного типа, обра-
щает на себя внимание существенный момент: для постиже-
ния «своего» пространства герою необходимо пребывание в
европейском, «чужом» мире. Эта мысль выделена курсивом
в «Концерте барокко» Карпентьера: «Иногда необходимо уе-
хать вдаль, уплыть за моря, чтоб все понять по-настояще-
му.» (443). То есть путь к своему миру лежит через океан, а
герой, таким образом, вынужден вновь и вновь воссоздавать
архетипический акт открытия Америки. Инаковое про-
странство как бы и не существует без своего антагониста.
Таков парадокс латиноамериканской инаковости.
Отправной точкой представления
2. Сверхнормативность о Латинской Америке как мире
аномальном, противостоящем ев-
ропейской норме, является сам факт открытия Америки,
символически переосмысленный европейским сознанием.
31
Свершив свой десятый подвиг, Геракл воздвиг две скалы
на краю ойкумены (Геркулесовы столпы) и сакраменталь-
ным изречением Nee plus ultra («дальше некуда») указал
европейцу предел обетованной земли. Гибралтарский про-
лив и в XV в. воспринимался европейцами как край зем-
ли, за которым простиралось неведомое Марэ Тенеброрум
(Море Мрака). Покуда никто не знал, что Колумб открыл
новые материки, величие его деяния виделось не столько в
том, что он разведал западный путь в Индию, сколько в
том, что он преодолел предел, издревле поставленный че-
ловечеству. Не случайно в гербе Испании появился симво-
лический знак, выражающий преодоление предела: две ко-
лонны (Геркулесовы столпы), обвитые ленточкой с надпи-
сью, опровергающей гераклов завет: plus ultra. Пересекая
океан, первопроходцы Америки попадали в иную, «запре-
дельную» реальность, где ожидали встретить все те чуде-
са, диковинные царства и города, о которых столько гово-
рилось и писалось в эпоху средневековья. Конкистадоры
верили в чудо, ждали чуда — и видели чудеса: сирен и три-
тонов, великанов и людей с песьими головами; искали ост-
ров Бимини с источником вечной молодости, острова Анти-
лию, Бразил, Сан-Брандан, царство амазонок, страну Сивола
и т.д. Америка изначально воспринималась как мир сверх-
нормативный, чудесный, и эта мифологема в определенной
степени заложила основы формирования латиноамерикан-
ского художественного сознания.
Особую значимость мифологема сверхнормативности
достигает в латиноамериканской литературе XX в. И это
не случайно. В предшествующей литературе, от барокко до
романтизма, константа инаковости воплощалась преиму-
щественно в описательных формах — то есть в формах
местного колорита и фольклоризма. Поднявшись на
новый, художественный уровень, писатели стали искать
более глубокую и интегрирующую формулу ее выраже-
ния — и нашли в сущности в прошлом: возродив, развив и
акцентировав европейскую по происхождению мифологе-
му сверхнормативности. Она органично вбирает в себя
многие из тех характеристик и мотивов, о которых говори-
лось выше и будет сказано в дальнейшем.
32
В литературе XX в. сверхнормативность нередко пред-
стает в качестве декларативно выраженной идеологемы,
особенно в прозе Карпентьера: «Я провел в Европе не-
сколько лет и убедился, что Латинская Америка не укла-
дывается в привычные представления европейцев; это
мир, ломающий все их старые нормы» (VII, 40). Эта мысль
постоянно обыгрывается в романе А. Поссе, является од-
ной из центральных идей «Teppa Ностра» Фуэнтеса и явно
или подтекстово выражается в произведениях Астуриаса,
Роа Бастоса, Гарсиа Маркеса и др.
Герой повести Фуэнтеса «Разумные люди» говорит себе:
«Мы могли бы с сервантесевской иронией в целом принять
то разъяснение категории чуда, какое Дон Кихот дает
Санчо: «Это вещи, случающиеся редко...» Но у нас-то, на-
оборот, они стали нормой, а не исключением» (VIII, 292).
Концептуальную завершенность идеологема сверхнорма-
тивности обрела в знаменитой концепции «чудесной реаль-
ности» Карпентьера, которую с восторгом взяли на воору-
жение не только латиноамериканские критики, но и сами
писатели.
Концепция эта слишком хорошо и широко известна,
чтобы заниматься ее подробным разбором. Обратим внима-
ние лишь на самый существенный момент — трактовку ка-
тегории «чудо». «Слово «чудесный»,— отмечает писа-
тель,— утратило со временем свой подлинный смысл...
Словари объясняют, что «чудесное» — это то, что вызыва-
ет восхищение, ибо оно необычно, превосходно, восхити-
тельно. С этим тотчас же сливается понятие прекрасного,
красивого, приятного. Но единственное, что должно было
бы фигурировать в словарных толкованиях,— это все то,
что связано с необычным. Необычное само по себе не явля-
ется ни прекрасным, ни уродливым, оно скорее порази-
тельно. Все незаурядное, выходящее за рамки установлен-
ных норм,— чудесно» ( X, 117). Вполне очевидно, что под
«установленными нормами» имеются в виду нормы евро-
пейские, которые в совокупности и составляют, как подра-
зумевается, антимонию чуда — «обычное». И далее: «По-
нятие чудесной реальности, которое я отстаиваю,— это
наша, американская чудесная реальность, которую мы об-
наруживаем в ее первозданном пульсирующем вездесущем
33
виде во всей латиноамериканской действительности. Здесь
необычное — повседневность, и так было всегда» (X, 118).
Как видим, аномальность, нарушение европейской нормы
Карпентьер переводит из плана феноменологического в план
онтологический, представляя эти свойства имманентными
данностями латиноамериканского мира.
Концепция Карпентьера, будучи весьма умозрительной
идеологической конструкцией, вместе с тем отразила спе-
цифические черты поэтики латиноамериканской литерату-
ры, одновременно стимулировав их развитие.
Мифологема сверхнормативности настолько прочно
укоренилась в латиноамериканском художественном со-
знании, что проявляется она не только на внешнем, декла-
ративном уровне, но и в способе художественного отраже-
ния действительности, в образах героев и моделях их пове-
дения, в сюжетике. Поэтому можно с полным правом гово-
рить о поэтике сверхнормативности, как о специфической
черте латиноамериканской литературы. Множественные
грани этой поэтики мы будем выявлять по ходу анализа
отдельных мифологем; здесь же обозначим самые сущест-
венные ее манифестации в способе художественного отра-
жения пространства. Прежде всего она проявляется в
явном или скрытом мотиве изумления. Родная природная
среда, которая укорененным в ней человеком должна бы
восприниматься как вполне обыкновенная, латиноамери-
канским писателем часто воспринимается как необыкно-
венная, исключительная, вызывающая восторг и изумле-
ние. Мотив изумления, ясно обозначенный в документах
конкисты, в литературе XX в. предстает уже как специфи-
ческий художественный ракурс. Внутренняя пульсация ис-
ключительности в художественной картине латиноамери-
канского мира, в частности, проявляется в широко употре-
бимой, образной гиперболической конструкции, выражен-
ной посредством слова «самый», которая характеризует ка-
кое-либо явление как уникальное и недостижимое, как выс-
шую манифестацию в ряду подобных явлений. Надо заме-
тить, что первые модели этой гиперболической конструк-
ции дал Колумб, писавший в своих дневниках, например,
о Кубе: «Этот остров, должно быть, самый прекрасный, ко-
торый когда-либо видели глаза человеческие...»3. В лати-
34
ноамериканской литературе XX в. эта конструкция ис-
пользуется настолько часто, что стала уже своего рода
клише. Приведем ряд примеров. «... Над горами такими
высокими и тучами такими тяжелыми, каких не встре-
тишь больше нигде в мире» (Аргедас, II, 168); «... Нет на
свете места печальней Лувины» (Рульфо, 100); «... самая
древняя на земле земля...», «... самая вкусная вода в
мире...» (Астуриас, VII, 10,23); «Что есть длинней чилий-
ской ночи!» (Неруда, I, 169); «Лучшие в мире сказители
живут на баиянском побережье» (Амаду, II, 67). Особенно
часто эта эмфатическая конструкция встречается в романе
М. Отеро Сильвы «Лопе де Агирре князь свободы»: «...сию
землю я полагаю прекраснейшей на свете» (210); «Потоси,
самый богатый и дивный город на земле...» (219); «Ама-
зонка, самая вечная из всех рек вселенной...» (270); «... в
этой сельве, самой бескрайней на свете» (294) и т.п. Час-
тота употребления и однотипность гиперболической кон-
струкции «самый... в мире» свидетельствуют, что она в оп-
ределенной степени парадигматична для латиноамерикан-
ского художественного сознания. Эта формула глубока и
многозначна. Она имплицитно выражает противополага-
ние себя — миру (вспомним, что говорилось о поиске
«своего» через «чужое»); одновременно в ней присутствует
подчеркнутый момент самоутверждения; при этом латино-
американский мир представляется как мир аномальный.
Пространство, противостоящее норме, регламенту, ле-
пит своего обитателя в соответствии своему образу. Отчас-
ти именно поэтому герои латиноамериканской литературы
в характерах и поступках стремятся быть под стать своей
среде и постоянно выходят за пределы европейской нормы
(подробнее об этом будет сказано в III главе). Поэтика
сверхнормативности ярко отразилась и в сюжетике лати-
ноамериканской литературы. О том, насколько в ней рас-
пространены различного рода фантастические сюжеты,
нет нужды говорить. В данном контексте стоит обратить
внимание на особо тесную связь фантастики с реальнос-
тью — черту, которую отмечали многие критики. Фантас-
тическое в латиноамериканской литературе неотторжимо
от обыденного, оно как бы пульсирует в обыденности, вре-
менами выплескиваясь наружу. Интерпретируя эту осо-
35
бенность в иных категориях, можно сказать, что в латино-
американской литературе аномальное (фантастика) и нор-
ма (обыденность) настолько взаимосвязаны, что способны
не только полностью сливаться, но и замещать друг друга,
когда аномальное предстает нормой бытия.
Поэтика сверхнормативности демонстрирует не только
глубинное ощущение смещенности «своей нормы» в отно-
шении европейской: наряду с утверждением «особой»,
«иной», нормы, она отражает и напряженнейший, далеко
не завершенный поиск своей нормы — то есть своего куль-
турного самостояния.
Инаковость и сверхнормативность лати-
3. Хаотичность ноамериканского пространства находят
яркое выражение в его хаотичности.
Одна из самых устойчивых и специфичных мифологи-
ческих характеристик латиноамериканского мира пред-
ставляет его как мир принципиально алогичный, неупоря-
доченный, спонтанный, хаотичный. Это «сумасшедшая
земля» (Варгас Льоса, I, 56); «мир каких-то иных измере-
ний» (Рульфо, 152); «на этой земле... царят кавардак и не-
разбериха» (Гальегос, III, 126); «Здесь все вперемешку.
Языки. Ритмы» (Астуриас, VIII, 1); это «мир симбиоза»
(Карпентьер, IV, 254); «беспорядочный, взбалмошный,
сладострастный, ленивый, тропический мир...» (Карпен-
тьер, VII, 68). Хаотичность латиноамериканского космоса
выступает как всеобъемлющая характеристика и проявля-
ется на всех уровнях. Латиноамериканское пространство
нарушает все европейские представления. Хаотична при-
рода континента: «... здесь растут как попало, без всякой
системы гигантские доисторические травы: королевская
пальма, бамбук, сейба, банановое дерево; последние остат-
ки мира, в котором растения, живущие на земле, неотли-
чимы от водяных, а плавающие и летающие твари, репти-
лии и птицы смешались в симбиозе и возникли чудовищ-
ные гибридные формы... (Карпентьер, VII, 67—68). Сум-
бурна и беспорядочна социальная жизнь: «Мне нигде в
мире не приходилось сталкиваться с таким хорошо орга-
низованном беспорядком» (Гальегос, III, 129).
36
Эта мифологическая характеристика, с одной стороны,
генетически восходит ко временам конкисты, сохраняя в
художественно закодированном виде первичную формулу
восприятия европейцами иного миростроя. Нарушение
своего регламента европеец традиционно был склонен вос-
принимать не как иной порядок, а как беспорядок. Та на-
стойчивость, с какой эта мифологема акцентируется пре-
имущественно в литературе XX в., указывает на ее суще-
ственную значимость для самопостижения латиноамери-
канца. Мифологема хаотичности имеет отчетливо выра^
женный полемический антиевропейский подтекст: латино-
американский «сумбурный» мир принципиально проти-
востоит европейской логике, регламентации, системности,
упорядоченности. Показателен и весьма характерен сам
факт перекодировки первичных европейских формул вос-
приятия латиноамериканского мира: формула негативная
(беспорядок) в латиноамериканском художественном со-
знании предстает как позитивная, как элемент самобыт-
ности и мотив самоутверждения. То же самое, как мы уви-
дим в дальнейшем, происходило с образами дикаря, зверя,
варвара и др.
С другой стороны, эта мифологическая модель воспри-
ятия латиноамериканского пространства сублимирует
уникальный опыт открытия и освоения громадных неизве-
данных земель. Как отмечал М. Элиаде, традиционно «ди-
кие невозделанные области уподобляются хаосу, они отно-
сятся к еще не дифференцированному, бесформенному
бытию, предшествующему сотворению»4. На этот архетип
наложился европоцентристский модус восприятия «запре-
дельного» пространства, как аномального и неупорядочен-
ного. Алогизм, неупорядоченность, симбиоз, хаотичность
свойственны не только латиноамериканскому пространст-
ву в целом, но и отдельным его «сегментам» — лабиринту
сельвы, сплетению дорог пампы, беспорядочным нагро-
мождениям гор и т.п.
Другим выражением мифологемы хаотичности являет-
ся настойчивый, часто встречающийся мотив бескрайнос-
ти, беспредельности латиноамериканского пространства:
«Этакая уймища земли!» (Рульфо, 2.7); «Нет предела ее
просторам» (Гальегос, I, 79); «Простите, что у моего про-
37
странства // ни гавани, ни края, / ни конца» (Неруда, 1,
492); «... И открылась внезапно неизмеримость этой Аме-
рики, которую он начинал уже находить сказочной...
(Карпентьер, VIII, 464). Неизмеримы, беспредельны и от-
дельные «сегменты» этого пространства: сельва — «...про-
стирается бесконечная сельва» (Услар Пьетри, II, 11); са-
ванна — «Сколько ни скачи, нет ей ни конца, ни края»
(Гальегос, I, 85); река — «Ты нескончаема, река Гуайас»
(Каррера Андраде, 74) и т.п. Пространство избыточное,
бескрайнее — непознаваемо и неуправляемо, поэтому оно
закономерно воспринимается как пространство неоргани-
зованное, хаотичное. Важно отметить внутреннюю связь
мотива беспредельного пространства с мифологемой перво-
зданности (см. дальше). Латиноамериканская цивилиза-
ция, рождавшаяся как бы «на глазах у всего человечест-
ва», представляет собою акт превращения хаоса простран-
ства в космос культуры; но в восприятии латиноамерикан-
ского художественного сознания этот акт еще далек от за-
вершенности. Ощущение хаотичности своего пространства
указывает на то, что латиноамериканская цивилизация
находится у «начала» своей истории, все еще «переживает
первые дни творения».
Эта устойчивая мифологическая ха-
4. Первозданность рактеристика латиноамериканского
универсума также была заложена
еще в хрониках конкисты. С одной стороны, в ней субли-
мировался реальный исторический опыт столкновения ев-
ропейца с «нецивилизованным» миром (одна из условнос-
тей европоцентристского мышления состоит в том, что
критерием первозданности мыслится не отсутствие челове-
ка или цивилизации, а отсутствие европейца). С другой
стороны, очевидна связь этой характеристики с мифологе-
мами Аркадии и земного рая: коннотация «первоздан-
ность» в европейском мышлении прочнейшим образом ас-
социирована с категорией «гармония».
Понятие «первозданность» существует только в подразу-
меваемом противопоставлении цивилизации и тем самым из-
начально содержит в себе оппозиции «Новый Свет» — «Ста-
рый Свет» и «свое» — «чужое». Соответственно и категория
38
«гармония», сопутствующая понятию «первозданность»,
может осмысляться как исключительная принадлежность
американского мира.
Эти смысловые акценты, отчетливо обозначенные в ко-
лониальной литературе, были унаследованы классицисти-
ческой поэзией именно в аркадийской трактовке. В поиске
«своего» через «чужое» латиноамериканские классицисты
буколику локализовали в своем пространстве. Эта арка-
дийская трактовка в полной мере была воспринята и ро-
мантической литературой (см. например, роман «Мария»
X. Исаакса); но, как правило, в мышлении романтиков
американская «первозданная гармония» представала в
ретроспекции — как характеристика доколумбова мира. В
модернистской поэзии мифологема «первозданной гармо-
нии» нашла блистательное воплощение в обширном цикле
сонетов уругвайца X. Эрреры-и-Рейссига «Нагорный эк-
стаз» (1904—1910): в них все тяготеет к архетипичности,
и даже самые конкретные детали, лишенные географичес-
ких и временных привязок, выступают в качестве перво-
зданной вещности.
Аркадийская трактовка мифологемы первозданности
выражала отчетливую тенденцию к идеализации — насто-
ящего, прошлого или сущностного. В позднейшей литера-
туре первозданность латиноамериканского мира предстает
в иной трактовке и наполняется иным содержанием, вос-
принимаясь как время первотворения, первоначала: «В
Венесуэле все еще тянется первый день творения, когда
мир возник из ничего» (Гальегос, II, 189); «Земля здесь
была густо покрыта зарослями, напоминавшими хаотичес-
кие заросли первых дней творения...» (Карпентьер, IV,
295); «Ей вспомнился недавний переход через горы, и до
сих пор тревожило ощущение того, что Сьерра-Мадре еще
содрогается от мощного дыхания сотворения мира» (Фуэн-
тес, V, 151). Латиноамериканский мир предстает как
«рождающийся мир», «мир, корчащийся в родовых схват-
ках» (Гальегос, II, 195). Этот образ настолько укоренился
в латиноамериканской ментальности, что постоянно встре-
чается даже в научной, краеведческой литературе: «В глу-
бине леса даже летом земля сырая и вязкая, как будто она
все еще переживает первые дни рождения мира»5.
39
Устойчивая связь мифологемы первозданности с моти-
вом эмбриональности имеет сокровенный культурологи-
ческий смысл. В подобной трактовке опосредованно выра-
жено ощущение несформированности своей культуры, на-
ходящейся в процессе становления и развития. Вместе с
тем это самоощущение содержит глубинный момент само-
утверждения, ибо выражает осознание своих мощных
культурных потенций, реализованных далеко не в полную
силу. Мифологема первозданности проецирует латиноаме-
риканскую культуру в будущее: от первого дня сотворе-
ния — в отдаленную эпоху шестого дня, когда она станет
венцом творения. Кроме того, первозданность в этой трак-
товке имеет еще одно значение: «рождающийся мир» — это
мир новый, юный, полный энергии и будущности, внутренне
противопоставленный «одряхлевшему» европейскому миру.
Эта мифологическая характеристика
5. Девственность тесно связана с предшествующей, но
не дублирует ее и предлагает ряд соб-
ственных значений, весьма существенных для понимания
художественного образа латиноамериканского мира.
Прежде всего она соотносится с женским началом. Со
древнейших времен в европейском мышлении установи-
лась традиция воспринимать в женской ипостаси землю
вообще и отдельные материки в частности. Закономерно,
что в этом качестве была воспринята и новооткрытая Аме-
рика, о чем свидетельствуют аллегорические изображения
континента.
В произведениях различных авторов утверждается жен-
ская сущность латиноамериканского мира и составляю-
щих его элементов: «Когда я вижу, как начертана на карте
/ Латинская Америка моя, / мне кажется, любовь, что это
ты: / вот медная вершина головы, / вот грудь твоя — со-
зревшая пшеница / и только что упавшие снега, / твой
тонкий стан — трепещущие реки, / душистые луга и мяг-
кие холмы, / и эту географию венчают / на самом крайнем
и холодном юге / два длинных слитка — золотые ноги»
(Неруда, 1, 189). Или у Гильена: «Чили — железная роза /
пылает, вплетенная в косу / женщины темноглазой» (179).
Одновременно и женщина может восприниматься как
40
«крошечная Америка»: «... ты, плоть твоя — Америка-ма-
лютка» (Неруда, 1, 189). Как будет показано в дальней-
шем, с женским началом определенно связано большинст-
во элементов мифологической инфраструктуры латиноаме-
риканской литературы, и среди них такие важные, как
ночь, сельва, река, луна, земля, вода, дождь.
Девственность как мифологическая характеристика
специфична именно для латиноамериканского мира и
встречается в латиноамериканской литературе настолько
часто, что стала уже как бы постоянным эпитетом. Опреде-
ление «девственный» применяется по отношению ко всему
континенту в целом, его природе (клише: «девственная
природа Америки»), к отдельным элементам природного
окружения: сельве (достаточно вспомнить название поэти-
ческого сборника «Девственная сельва» известного перу-
анского модерниста X. С. Чокано), реке («... они мылись в
ее ласковых, теплых, девственных водах», Ортис, 101),
растениям («... боги насилуют девственниц в каждом рас-
тении», Астуриас, I, 31) и других.
Мифологема девственности предстает в латиноамери-
канской литературе в трех основных вариантах , которые
чаще всего сосуществуют слитно. Девственность в значе-
нии «неосвоенность» является стойкой характеристикой
латиноамериканского пространства и его составляющих.
«... и каждый день я открываю мир, / Америку, новую,
девственную, / с чудесной фауной и флорой» (Каррера
Андраде, 323). Неосвоенное — сродни непознанному, непо-
нятному, таинственному. Важно отметить, что девствен-
ность в этом значении подразумевает не отсутствие челове-
ка вообще, а отсутствие европейца, «иностранца», «чужа-
ка». Индейцы, населяющие «девственную и кровожадно-
жестокую» сельву Риверы (181), отнюдь не нарушают ее
виргинальности. Еще один пример, где речь идет о не-
грах — таких же «детях природы»: «Его дом торчал на
остроконечной вершине, словно сосок на груди девствен-
ницы» (Ортис, 46). Другое значение мифологемы девствен-
ности — юность, молодость, и в этом значении антиевро-
пейский подтекст еще яснее ощутим: «Революция, кото-
рая закончилась неудачей в одряхлевшей Европе, должна
была восторжествовать здесь, на просторах девственного
41
материка» (Карпентьер, IV, 364). Третье значение мифоло-
гемы девственности — непорочность: «... девственна и не-
знакома с Пороком Золота была земля, которую я отдал на
поругание разнузданной алчности пришельцев» (Карпен-
тьер, VIII, 529). Выступая в качестве одного из знаков куль-
турной самоидентификации, мифологема девственности
имеет притом глубоко скрытую антиевропейскую оппози-
цию: «неосвоенный», «юный», «непорочный» мир Латин-
ской Америки противопоставляется «зацивилизованно-
му», «одряхлевшему», «порочному» европейскому миру.
Это одна из базовых мифологем ла-
6. Таинственность тиноамериканского художественно-
го сознания. Таинственность высту-
пает как имманентная характеристика латиноамерикан-
ского универсума и составляющих его элементов. Своими
корнями эта мифологема уходит в эпоху конкисты: для ев-
ропейца неизвестный мир Нового Света таил в себе вели-
кое множество загадок и тайн. Так, например, во «Всеоб-
щей и естественной истории Индии» Г. Фернандес де Овье-
до-и-Вальдес писал: «... Тайны сего необъятного мира
наших Индий вечно будут являть новые чудеса ныне жи-
вущим и вослед грядущим...»6. Особое развитие мифологе-
ма тайны получила в литературе XX в., где она воплоща-
ется в различных формах.
Во-первых, она реализуется как автономный, самостоя-
тельно значимый мотив, выраженный декларативно. «Мы
окружены тайной и рационально можем понять лишь
малую часть загадочного мира,— размышляет один из ге-
роев Фуэнтеса.— Разум — это исключение, а не правило.
Тайна питает и поддерживает нас...» . «Мы боимся поте-
рять свои души, если лишимся тайны» (Фуэнтес, VIII, 67,
296) — и эти слова можно было бы представить девизом
многих латиноамериканских писателей и их героев.
Далее, мифологема тайны прочнейшим образом увязана
с ключевыми элементами мифологической инфраструкту-
ры латиноамериканской литературы. Подробно эти связи
будут выявляться по ходу анализа отдельных мотивов;
пока же отметим лишь, что мифологема тайны органичес-
ки присуща художественному образу латиноамериканско-
42
го пространства. Именно беспредельность пространства
родит ощущение сокрытой в нем тайны, и эта обусловлен-
ность очень точно сформулирована в романе С. Алегрии:
«Ему все мерещилось, что за теми пределами, до которых
он доходил, где-то прячется тревожная тайна» (III, 329).
Или в романе Услара-Пьетри: «... Люди чувствовали давя-
щее присутствие неизмеримости и тайны» (II, 59). Один из
героев Гальегоса, глядя на бескрайнюю саванну, говорит:
«Такое впечатление, будто ждешь, что вот-вот перед тобой
возникнет что-то необычайное, сверхъестественное, прав-
да?» (II, 129). Определение «таинственный» столь часто
характеризует латиноамериканское пространство и его от-
дельные сегменты, что, подобно определению «девствен-
ный», может считаться постоянным эпитетом. Кроме того,
в латиноамериканской литературе распространен устойчи-
вый образ, представляющий пространство или его сегмент
хранилищем тайны. Отсюда — типовая сюжетная ситуа-
ция, восходящая ко временам конкисты: пришельцы пы-
таются постичь тайну пространства, но усилия их напрас-
ны, или же губительны для них самих: «Тысячерукий лес
закрыт для света, / людей в своем объятье крепко сжал он
/ и вечного не выдает секрета, / не уступая шпагам и кин-
жалам» (Каррера Андраде, 46). Или: «Они шли день за
днем, пытаясь открыть тайну неисследованной земли, но
каждый раз пейзаж менялся, а горизонт все расширялся»
(Услар-Пьетри, I, 17). Этот типовой сюжет метафорически
выражает духовную ситуацию латиноамериканца, пытаю-
щегося полностью интегрироваться в свою среду и постичь
свою сущность, но неспособного преодолеть в себе ком-
плекс «пришельца», «чужака».
Тайна связана также с различными элементами и явле-
ниями природы — такими, как дерево, вода, дождь, ночь,
тишина; с темой прошлого; с темой музыки, пения, танца;
с образами героев, интегрированных в латиноамерикан-
ское пространство (индеец, негр, гаучо, льянеро и т.п.); с
женскими образами. Ощущение тайны неотделимо от ху-
дожественного восприятия латиноамериканского мира и
почти во всех элементах и явлениях действительности ху-
дожник способен уловить пульсацию тайны.
43
Огромная значимость мифологемы тайны для латиноа-
мериканского художественного сознания говорит о сокры-
тых в ней сокровенных смыслах. Обращает на себя внима-
ние следующий момент: тайна (пространства, прошлого,
природы, этнотипа) — трансцендентна, она ясно ощущает-
ся, фиксируется, акцентируется, но практически никогда
не раскрывается. Мифологема тайны теснейшим образом
сопряжена с категорией «сущность». Неразгаданная тайна
синонимична непостижимой сущности латиноамериканца,
которая обретается в ускользании, утверждается в поиске.
В то же время трансцендентная тайна мыслится и как
некий умозрительный барьер в постижении сущности, как
некое оправдание ее непостижимости. И в этом смысле ми-
фологема тайны становится выражением «духовного зазо-
ра», внутренней трагической дисгармонии между писате-
лем и окружающим миром. Ощущение тайны ни в коей
мере не свойственно герою, интегрированному в латиноа-
мериканский мир (гаучо, индейцу и т.п.),— оно присуще
именно писателю, который стремится достигнуть сущнос-
ти этого мира (и себя самого), но на этом пути сталкивает-
ся с неодолимой преградой. Наконец, мифологема тайны
имеет еще одно, и главное значение, спроецированное в бу-
дущее: она предстает как невыявленная культурная потен-
ция латиноамериканца.
Аллегорические образы Америки
7. Амбивалентность в живописи в XVI—XVIII вв.
имеют ряд повторяющихся ха-
рактерологических черт. Вкратце опишем некоторые из
сюжетов. Э. Делон (1575): Америка — обнаженная женщи-
на в лесу, вооруженная луком, рядом — какое-то живот-
ное (лама?); Ф. Галле (1581): Амазонка, вооруженная
луком, держащая отрубленную голову; Маартен де Вое
(1594): обнаженная женщина с луком и копьем, верхом на
броненосце; неизвестный художник начала XVII в.: обна-
женная вооруженная женщина с отрубленной головой в
руках; С. делла Белла (1644): полуобнаженная женщина в
коляске, запряженной броненосцами; Дж. Баттиста Тьепо-
ло «Америка» (1753): обнаженная дикарка с луком, сидя-
щая на аллигаторе7. Акцентируются следующие, ставшие
44
стереотипными, черты образа: обнаженность (первоздан-
ность и дикость); близость к природе; воинственность.
Эта европейская модель, вне всякого сомнения, остави-
ла глубокий след в латиноамериканском художественном
сознании, воплотившись, в частности, в образах амазонки
и женщины-зверя (см. гл. III). Аллегорический образ из-
начально амбивалентен: с одной стороны,— женственность
и красота, с другой,— дикость, звероподобность, жесто-
кость и агрессивность. Этот образ словно воплотил в себе
ту полемику, которая велась на протяжении XVI в. о зем-
лях Нового Света. Именно в тот период были сформирова-
ны ключевые мифологемы, ставшие важной частью худо-
жественного кода латиноамериканской литературы: Аме-
рика — рай, индеец — воплощение естественной доброде-
тели, Новый Свет — будущее царство справедливости; и
противоположные: Америка — ад, индеец — варвар, бес-
тия, Новый Свет изначально ущербен и не способен встать
вровень с Европой. Как отмечает В. Земсков, «категории
гармонии и дисгармонии... охватывают всю совокупность
и все уровни проблематики формирования латиноамери-
канской культуры... Их оппозиция воссоздает реальный и
основной конфликт, определяющий сущность и динамику
культурного процесса от истоков до современности»8.
Изначально эта амбивалентность порождена восприяти-
ем земель и природы Нового Света и потому в литературе
наиболее контрастно она проявляется в художественных
образах латиноамериканского пространства. Его художе-
ственное восприятие в целом выражено лапидарной фор-
мулой Гальегоса: «Льяносы красивы и страшны» (I, 78).
Действительно, это противоречивое сочетание любования
пространством и ужаса пространства наблюдается не только
в латиноамериканской литературе в целом, не только в твор-
честве одного художника, но иногда в одной книге, в одном
сборнике стихов, подчас на одной странице.
Красота окружающего мира завораживает писателя, и
он способен воспринять пространство в самых неожидан-
ных, причудливых, анимистических образах: «Само про-
странство вокруг, зеленея от пронизывающего света, каза-
лось гигантским растением с огромными голубыми бабоч-
ками — цветами» (Гальегос, III, 111). Очень часто про-
45
странство обретает одушевленность — эта распространен-
ная мифологема, в частности, выражается в устойчивом
мотиве «зова», «голоса» пространства: «И из дали этих
дорог его зовет чей-то голос: / — седлай коня и следуй за
мной. / Голос льяносов, голос открытых горизонтов...»
(Гальегос, II, 184). Своей красотой и пульсирующей в ней
тайной пространство манит героя, зов пространства обре-
тает неодолимую притягательность,— как зов сирен, кото-
рых видели в американских морях многие первопроходцы.
Высшей ступени позитивное восприятие пространства до-
стигает, когда герой интегрируется в него, и оно начинает
отождествляться с понятием «свое», вступая в оппозицию
«свое» — «чужое». Став «своим», «родным», пространство
вместе с тем не теряет ни красоты, вызывающей изумле-
ние, ни сокрытой в нем тайны, а его «голос», «зов» пред-
стает как голос матери, прошлого, корней (см. далее) или
как зов крови.
Негативное восприятие латиноамериканского прост-
ранства столь же многоступенчато. Проследим его по на-
растающей. Неизмеримость пространства, его чрезмер-
ность и избыточность способны породить в герое ощуще-
ние маргинальности своего существования («Он знал, что
живет на самой дальней оконечности неизвестной стра-
ны». Услар-Пьетри, III, 29), или столь же болезненное
ощущение «затерянности в пространствах...» (Неруда, I,
254). Неизвестное пространство, отторгающее от себя чело-
века, может восприниматься как чужеродное и угрожаю-
щее: «... ребенка, который будет отныне отдан во власть
чего-то еще не покоренного и чуждого, необъятной земли и
собственных сил» (Фуэнтес, III, 376—377). И — еще одна
ступень отторжения: «... я, запертый в непроницаемой
скорлупе враждебного пространства...» (Неруда, I, 89). Но
крайней степени этот конфликт достигает, когда простран-
ство от пассивной враждебности переходит к прямой агрес-
сии против человека, и этот мифологический мотив чрез-
вычайно широко развит в латиноамериканской литерату-
ре, выступая и в качестве одного из ее типовых сюжетов.
Манящий «зов» пространства оборачивается приказом,
гипнозом, колдовскими чарами, каким не властен проти-
виться человек. Отсюда постоянный мотив: одушевленное
46
пространство выступает в обличье колдуньи, дьяволицы,
сводящей человека с ума: «Льяносы сводят с ума и застав-
ляют человека, рожденного в этих бескрайних и диких
землях, навсегда оставаться льянеро» (Гальегос, I, 78);
«... сельва, завораживающая сатанинской силой на всю
жизнь любого, кто хоть раз увидел ее» (Гальегос, III, 14).
Послушный неодолимым чарам, герой углубляется во
враждебное пространство, которое в конечном счете обора-
чивается трясиной, омутом, адом — мотив столь распро-
страненный, что нет нужды в цитировании.
Амбивалентное восприятие латиноамериканского про-
странства запечатлело суровый опыт конкисты и колони-
зации континента, а также первичные модели восприятия
Америки европейским сознанием. Есть в этом, однако, и
нечто большее. Настойчивый мотив манящего зова про-
странства метафорически выражает потребность героя (и
писателя) в интеграции со средой, в культурном «присвое-
нии» пространства, когда оно становится тождественным
категории «свое». Но пространство сопротивляется «при-
шельцу», сущности ускользают, культурная интеграция в
полной мере оказывается недостижима — и тогда в герое
рождаются чувства неукорененности, сиротства, одиночест-
ва, пронизывающие всю латиноамериканскую литературу.
Наряду с целостным образом
8. Фрагментарность пространства, в латиноамерикан-
ской литературе существует ус-
тойчивая традиция представлять его в виде соположения
независимых замкнутых сегментов. Они образованы не
территориально-административными границами, а глав-
ным образом ландшафтом: сельва — это совсем иной мир,
чем пампа, равнина — чем горы, горы — чем море и т.п.
Очень точно такое фрагментарное восприятие пространст-
ва передано Усларом-Пьетри в романе «Заупокойная
месса»: будущий диктатор, идущий с мятежным войском
по «незнакомой» стране, так передает свои впечатления:
«Будто вошли мы в незнакомый дом. Идем из комнаты в
комнату, открываем одну дверь, другую, а сами и не зна-
ем, где мы» (56). «Комнаты» — это различные ландшаф-
ты: горы, плоскогорья, равнины, низины, леса и т.п.; все
47
эти ландшафты как бы отделены друг от друга, каждый
имеет свою «дверь» (способ проникновения и восприятия)
и свой «центр» (см. далее). Но даже и независимо от подоб-
ного типа емких образов, любой читатель отметит в лати-
ноамериканской литературе тенденцию представлять от-
дельные ареалы как самоценные и автономные миры. Эта
тенденция, в полной мере свойственная и русской литера-
туре, рождается от «избыточности» пространства и естест-
венного стремления писателя обозначить в этой неизмери-
мости «свой» мир.
Самое примечательное, что отдельные сегменты латино-
американского пространства обладают всеми общими про-
странственными характеристиками, о которых говорилось
выше. Константа инаковости относится к ним в полной
мере, только в данном случае она реализуется в двойном
контексте противопоставлений: по отношению к Европе и
к иному сегменту латиноамериканского пространства.
«Свое» ассоциировано с определенным ландшафтом (или
даже местечком), «чужим» же предстает весь остальной
«большой и чуждый мир». Эта оппозиция нашла и типовое
сюжетное выражение: гибель героя, отторженного от род-
ной (в самом узком смысле) земли — деревни, края. От-
дельный сегмент пространства парадоксальным образом
способен обладать и такой мифологической характеристи-
кой, как бескрайность, не говоря уж о таинственности, ко-
торая может быть присуща сколь угодно малому клочку
земли. Эти свойства сегментов позволяют латиноамерикан-
ским писателям выстраивать замкнутые универсальные мо-
дели пространства, о чем речь пойдет в дальнейшем.
Этим термином мы обозначаем
9. Темпоральность моделирующее воздействие про-
странственных координат на вре-
менные, которое проявляется в том, что продвижение
героя в пространстве сопровождается путешествием во
времени. Подобного типа обусловленность отнюдь не явля-
ется исключительным свойством латиноамериканской ли-
тературы: напомним, к примеру, весьма трафаретный сю-
жетный ход, когда герой, возвращаясь в родной дом, пере-
носится в прошлое. Вместе с тем следует подчеркнуть, что
48
в латиноамериканской литературе темпоральность про-
странства выражена в более отчетливых, разнообразных
формах, нежели в западноевропейской. Принципиальная
разница состоит и в том, что перемещение героя в простран-
стве, как правило, влечет за собою изменения во времени.
Начать с того, что пересекая Атлантический океан в за-
падном направлении, герой (неважно, европеец или лати-
ноамериканец) уже попадает в иное пространство и время,
в мир, который в целом живет в эпоху первоначала, перво-
творения. (Напомним мифологему первозданного, эмбрио-
нального, рождающегося мира). Но и дальнейшее переме-
щение героя уже в американском пространстве — из горо-
да в село, из села в природную девственность — нередко
сопряжено с путешествием в глубь времени. Отчетливее
всего эта закономерность явлена в романе «Потерянные
следы» Карпентьера: свое путешествие в глубь сельвы
герой осмысляет в подчеркнуто временных категориях —
попеременно вступая в Эпоху Коня, Эпоху Собаки и т.д.,
покуда не доходит до мифического первоначала жизни,
жуткой расселины, в которой произрастает устрашающего
вида праисторическая растительность.
Темпоральность латиноамериканского пространства
вовсе не обязательно проявляется в таких нарочитых фор-
мах. Индейский мир живет в своем, особом, циклическом
времени, вечно стремящемся к первоначалу (см. далее), и
потому любого типа мирный контакт «пришельца» с ин-
дейцами так или иначе обращает его в прошлое. В этом
случае речь может идти не о длительном путешествии, а о
минимальном перемещении в пространстве. Кроме того, в
самом пространстве постоянно поджидают некие, так ска-
зать «временные провалы». Дело в том, что некоторые эле-
менты пространства — море, река, лес, гора, пещера —
как будет показано в дальнейшем, прочно увязаны с темой
прошлого, поэтому соприкасаясь в этими реалиями, герой
мгновенно попадает в иное временное измерение: «Путник
неожиданно оказывается в ущелье. Голос реки и глубина
пропасти, блеск далеких снегов и скал, сверкающих,
точно зеркала, пробуждают в его памяти давние воспоми-
нания, самые древние сны» (Аргедас III, 39). Символична
сцена из «Превратностей метода» Карпентьера, когда дик-
49
татор и его приближенные, спрятавшись в пещере, чтобы
переждать дождь, натыкаются на древнее индейское захо-
ронение. Или же взять весьма распространенный в латино-
американской литературе мотив — купание в реке наги-
шом (часто героя и героини вместе): этот символический
акт, кроме всего прочего, означает возвращение в воды ма-
теринского чрева и перерождение.
Темпоральность латиноамериканского пространства ча-
ще всего проявляется в том, что пространство возвращает
героя в прошлое. Но не только: пространство также спо-
собно продуцировать атемпоральность, то есть останавли-
вать, либо уничтожать время. «... Безбрежная ширь ...не
знает, что такое время...» (Алегрия, I, 73), поэтому герой,
соприкасаясь с латиноамериканским пространством, мо-
жет «выпадать» из времени, или, как Эстебан, бродивший
у моря, испытать «полное счастье вне времени и простран-
ства» (Карпентьер, IV, 256).
Разумеется, связи пространства и времени в латиноаме-
риканской литературе далеко не исчерпываются отмеченны-
ми явлениями. Нам важно было указать общее свойство ху-
дожественного образа латиноамериканского пространства.
С. КООРДИНАТЫ ПРОСТРАНСТВА
«Иной» мирострой со своим «особым»
1. Граница пространством подразумевает наличие
границы — той воображаемой черты, за
которой происходит кардинальное изменение реальности.
Под влиянием константы инаковости географические и по-
литические границы континента трактуются прежде всего
как границы культурные и онтологические, и потому эта
пространственная координата приобретает в латиноаме-
риканском образе мира особую значимость. Немалую роль
в формировании художественного образа границы сыгра-
ла традиционная мифологема предела (см. I, В, 2), соче-
тавшая в себе пространственные и сущностные характе-
ристики.
Ярко и глубоко мифическое и культурологическое со-
держание границы как пространственной координаты пред-
ставлено в «Старом гринго» Фуэнтеса. Граница между
50
Мексикой и США трактуется как нечто куда более глубо-
кое, нежели простое территориальное разделение. Прежде
всего, это — граница не только с США, а фактически со
всей западной цивилизацией: «Старый гринго говорил, что
у вас, гринго, нет границы ни на западе, ни на севере,
только на юге, всегда только на юге,— сказал повстанец»
(243). Восприятие США как форпоста западной цивилиза-
ции вполне традиционно для латиноамериканской мен-
тальности. Далее, категория границы у Фуэнтеса органи-
чески вбирает в себя художественные концепции «иного
пространства» и «беспредельного пространства»: «... Если
граница широко и четко обозначалась рекой, разделяющей
городки «Эль-Пасо и Сьюдад-Хуарес, то за мексиканской
городской чертой не было больше никаких рубежей, кроме
горизонта...» (104). В этой фразе, таким образом, подтекс-
тово противопоставляются два типа пространства: одно —
ограниченное, содержащее в себе некие внутренние пре-
пятствия и барьеры, другое — бескрайнее, символизирую-
щее абсолютную внутреннюю свободу. Поэтому Амброз
Бирс, герой романа, «почувствовал себя свободным, когда
пересек границу в Сьюдад-Хуарес, словно действительно
вступил в иной мир» (215). Граница между двумя мирами
глубоко сущностна, а потому не может не захватывать и
временных пластов: «... Словно бы граница, которую он
однажды пересек, проходила по воздуху, а не по земле, и
охватывала все времена...» (101). Наконец, устанавливает-
ся четкая связь этой мифической пространственной коор-
динаты с поэтикой сверхнормативности, и эта связь допол-
нительно акцентируется в тексте: «Вот и старик перебрал-
ся к нам на юг, потому что перешел уже все границы в
своей стране» (99). Герой дошел до некоего предела запад-
ной нормы, его пространственное перемещение в Мексику
(шире — Латинскую Америку) мыслится как перешагива-
ние через нормы — в иную, запредельную реальность. Но
этот аномальный, «особый» мир не может и не должен
принять «чужака», как бы тот к этому ни стремился. Итог
закономерен: «Старый гринго нашел свою смерть в Мекси-
ке. И все потому, что перешел границу. Разве это не ясней
ясного?» (99).
51
Вполне очевидно, что подобная трактовка делает грани-
цу весьма размытой и подвижной категорией. «Пролегая по
воздуху», а не по земле, и «охватывая все времена», она спо-
собна полностью утрачивать свою связь с пространством и
фигурировать исключительно как категория сознания, кате-
гория культурной или этнической принадлежности.
Что же касается границы как пространственной коор-
динаты, то следует оговорить, что мифическое и символи-
ческое ее восприятие встречалось и в литературах других
стран. Было бы небезынтересно сравнить в этом отноше-
нии латиноамериканскую литературу с литературой совет-
ского тоталитаризма, в которой, в силу очевидных обстоя-
тельств, граница была предельно мифологизирована, яв-
ляясь ключевым и опорным символом. Образ советской
границы был не менее увязан с константой инаковости (ка-
чественное разграничение социалистического и капита-
листического миров), и к тому же граница столь же легко
экстраполировалась в сферу сознания (идеологии). Отли-
чия этих мифологем в латиноамериканской и массовой со-
ветской культуре столь множественны и очевидны, что нет
нужды распространяться об этом; но на одном различии
хотелось бы заострить внимание. Важнейшее свойство со-
ветской границы — ее абсолютная замкнутость и непрони-
цаемость (отсюда — расхожий образ «граница на замке»).
В тоталитарной литературе и кинопродукции переход
через границу (неважно, «своего» либо «чужого») всегда
трактуется, во-первых, как нечто экстраординарное, во-
вторых, как преступление, которое неминуемо наказуется;
так что сюжет перехода через границу «работает» исклю-
чительно на утверждение образа «граница на замке». В ла-
тиноамериканской литературе, понятное дело, в помине
нет этих коннотаций. Важно подчеркнуть другое: латиноа-
мериканские писатели сознательно или бессознательно
стремятся перевести своих героев через «границу». Осо-
бенно явственно это стремление наблюдается у Карпентье-
ра, чьи романы — все до единого — содержат в себе сюжет
путешествия из Америки в Европу, и наоборот. В качестве
границы в этом случае выступает Атлантический океан, а
трансокеанские перемещения героев мыслятся как путе-
шествия транскультурные и трансвременные. Более того,
52
в большинстве произведений латиноамериканской прозы
действуют герои, уезжающие в Европу либо приехавшие
оттуда. Наивно было бы усматривать в этом лишь отраже-
ние реального культурного опыта латиноамериканских
интеллектуалов, как правило, учившихся либо подолгу
ясивших в Старом Свете.
Отмеченные особенности выявляют специфичный ха-
рактер латиноамериканского мифообраза границы. «Гра-
ница» латиноамериканского «иного» мира, сколь бы глу-
боко и сущностно она не отделяла его от «другого» мира,
парадоксальным образом выступает одновременно в роли
связующего звена между двумя мирами. Эта связующая
граница по сути дела и обеспечивает самореализацию ла-
тиноамериканской особости. Героя необходимо провести
из «своего» мира в «другой» (или наоборот), чтобы, столк-
нув его с «чужим», дать ему точку отсчета для достижения
«своего», внедрить в его сознание константу инаковости и
оппозицию «свое» — «чужое». Все это очень ясно видно на
примере героев Карпентьера.
Как отмечалось выше (I, 1), латиноамериканское про-
странство существует в парадоксальной зависимости от
«чужого» европейского пространства. При этом граница
меж ними становится как бы неотъемлемой частью лати-
ноамериканского пространства: скрыто или открыто она
неизменно присутствует в восприятии героем мира. Отчас-
ти как раз в этом на уровне мифосознания проявляется по-
граничная сущность латиноамериканской культуры. Та-
ким образом, в латиноамериканском художественном со-
знании переход через границу мыслится как важнейший
составляющий элемент акта самоидентификации, а сама
мифологема границы выступает в качестве необходимой
подпорки для познания своей реальности.
Важнейшую мифическую коорди-
2. Сакральный центр нату латиноамериканского про-
странства можно не без основания
обозначить термином «сакральный центр». Рассматривая
Древние космогонии, М. Элиаде характеризует сакраль-
ный центр как «область в высшей степени священного, об-
ласть абсолютной реальности», где проходит Ось Мира, по
53
которой «осуществлялся переход из одной космической
сферы в другую». «Достижение центра равносильно посвя-
щению, инициации; существование, еще вчера мирское и
иллюзорное, сменяется теперь новым — реальным, дли-
тельным и действенным»9.
Разумеется, не может быть и речи о сколько-нибудь
буквальном воплощении этой древней мифологемы в лати-
ноамериканском художественном сознании. Однако ее
аналогия наблюдается достаточно отчетливо. Уругвайский
литературовед Ф. Аинса прозорливо отмечал: «Латиноаме-
риканский мир стремился самоорганизоваться вокруг
структурирующей точки, желательно, точки центральной,
осевой, которая позволяла бы соизмерять расстояния и ус-
танавливать способ отношения героя с окружающим его
«хаосом» среды». Эта воображаемая точка мыслится как
«храм латиноамериканской идентичности»10. Действи-
тельно, как показывают многие тексты, художественный
образ латиноамериканского пространства нередко подра-
зумевает наличие где-то в глубине континента, страны
либо природного региона некоей воображаемой «священ-
ной зоны», неодолимо притягательной, но практически не-
достижимой для непосвященных. Следует подчеркнуть,
что мифологема сакрального центра неразрывно связана с
мифологемой тайны: «священная зона» и мыслится как
обитель и средоточие тайны — то есть как квинтэссенция
сущности латиноамериканского мира. Очевидно, эта ми-
фологема восходит не столько к древним космогоническим
воззрениям, сколько к легендарным представлениям кон-
кистадоров, упорно искавших в глубине континента, в
самых труднодоступных местах знаменитый Эльдорадо и
другие золотоносные царства. Эти царства так или иначе
воспринимались в русле утопизма, и потому со временем
они могли быть переосмыслены в качестве мифологемы
сакрального центра, имеющего, помимо прочих значений,
и значение счастливого локуса — места, где обретаются
цели и смыслы.
Движение героев латиноамериканской прозы в глубь
континента, как правило, имеет своей необъявленной
целью приближение к сакральному центру. Не случаен по-
вторяющийся мотив: преодолевая девственное пространст-
54
во, герои все яснее чувствуют пульсацию тайны, все глуб-
же постигают латиноамериканский мир и — отметим осо-
бо — самих себя. Яркий и необычный пример такого дви-
жения, осмысленного в категориях поэтики сверхнорма-
тивности, явлен в романе А. Роа Бастоса «Сын человечес-
кий». Живущие в железнодорожном вагоне Касиано и его
жена Нати непонятно зачем, вопреки здравому смыслу, с
неимоверным упорством катят свое жилище от поселка
через болотистую равнину к лесу и далее — в глубь леса.
«Путь непостижимый и бессмысленный, по крайней мере,
на первый взгляд (...). Но опять-таки факт, как бы он ни
был абсурден, остается фактом: вагон, не останавливаясь,
двигался вперед, постепенно удалялся и, наконец, совсем
исчез... бросив вызов здравому смыслу» (147—148). Что
являлось тайной пружиной этого движения? — тяга к от-
шельничеству?, отторжение от людского сообщества?
Роман не дает возможности для таких толкований. В лю-
бом случае, это было движение не от чего-то, а к чему-
то,— и это намеренно подчеркивает автор, говоря о «на-
вязчивой идее», «одержимости», «устремлении» героя
(147). На самом деле эта «абсурдная» работа символически
выражает стремление к постижению тайной сущности себя
и своего мира; но направлено движение — что не случай-
но — «извне» пространства «вовнутрь», в самую глухую
чащобу сельвы.
Мифологема сакрального центра приобрела в латиноа-
мериканской литературе устойчивые образные выражения
типа «сердце сельвы», «душа пампы», «загадка гор» и т.п.
Как правило, эти потаенные священные области представ-
ляются местом обитания мифологических существ, порож-
денных не столько индейскими поверьями, сколько самим
пространством: «Мапирапана — жрица безмолвия, храни-
тельница родников и лагун. Она живет в сердце сельвы»
(Ривера, 124). Там же, в сердце сельвы, живет злой дух
леса Канайма (Гальегос, III, 159). Сакральный центр в об-
разе «сердца» или «души» пространства нелокализован,
но он способен обретать вполне конкретные, зримые очер-
тания и даже определенные географические привязки.
Так, например, в романе Аргедаса «Глубокие реки» в
качестве сакрального центра выступает столица инкской
55
империи Куско: «... здесь центр мира, выбранный Инкой»
(27), или дворец Уайна Капака в Куско: «Мы были в цент-
ре мира» (34). Такое местоположение центра вполне сооб-
разуется с традиционными мифологическими воззрениями
древних: «...Любой храм или дворец — и, следовательно,
любой священный город или царская резиденция — есть
«священная гора», а тем самым и некий центр» (М. Элиа-
де)11. Следует, однако, оговорить, что в романе Аргедаса
важнейшая функция сакрального центра — связь с про-
шлым, культурная «реинкарнация» и самоидентифика-
ция — функция, специфичная для латиноамериканской
литературы. В «Потерянных следах» Карпентьера сак-
ральный центр явлен в виде потаенного поселения — горо-
да Святой Моники Покровительницы Оленей. Этот идил-
лический город, расположенный в «сердце сельвы», явля-
ется, помимо всего прочего, воплощением «счастливого ло-
куса», где обретаются гармония, высшие цели и смыслы.
Герой — «чужак» — достигает сакрального центра (что
крайне необычно для латиноамериканского романа), но
зато вполне закономерно дальнейшее: неспособность «чу-
жака» полностью интегрироваться в «священную зону»,
его самоизгнание и фатальная невозможность возвратить-
ся назад. В роли сакрального центра выступает Комала
X. Рульфо. Селение Комала предстает в инфернальном об-
разе: «... Там жара так уж жара, точно в самое нутро
земли угодил!» (147); с другой стороны, являясь универ-
сальной моделью латиноамериканского бытия, она обрета-
ет функции земного «центра». В индеанистском романе в
качестве сакрального центра нередко фигурирует индей-
ская община (например, община Руми в романе С. Алегрии
«В большом и чуждом мире», которая также имеет значе-
ние «счастливого локуса») или семейный очаг и надел
земли («Уасипунго» X. Икасы). В романе Гарсиа Маркеса
«Сто лет одиночества» сакральный центр еще более огра-
ничен в пространстве, занимая всего лишь одну комнату в
доме — комнату Мелькиадеса, где хранятся рукописи про-
рицателя, содержащие в себе тайну прошлого, настоящего
и будущего. Нетрудно заметить, что судьбы многих героев
романа метафорически обозначают движение к сакрально-
му центру: под конец жизни очередной герой, архетипи-
56
чески повторяя действия предшественника (предка), запи-
рается в комнате Мелькиадеса, пытаясь прочесть рукопи-
си. Но к высшему знанию дано приобщиться лишь послед-
нему из рода Буэндиа, и то в его смертный час.
Как и мифологема границы, мифологема сакрального
центра весьма неопределенна и подвижна и способна (хотя
реже) выступать вообще как внепространственная катего-
рия. В заключение отметим очень существенную особен-
ность сакрального центра: его темпоральность, которая
проявляется в неразрывной связи с темой прошлого. Все
приведенные выше примеры й те, что остались за рамками
книги, ясно указывают: сакаральный центр, помимо всего
прочего, мыслится как наикратчайшее связующее звено
между настоящим и прошлым; эта та точка в пространст-
ве, где происходит максимальная актуализация прошлого.
Такая пространственно-временная модель нашла очень
емкое и образное воплощение в прозе Фуэнтеса: «Из окош-
ка нашей комнаты мы видели почти геологический... раз-
рез старого Мехико: нисходящими ступенями времени все
более глубокие круги сужались к нетронутому центру
предшествующего основания...» (VIII, 289). Эта модель со-
образуется с излюбленным карпентьеровским образом ра-
ковины — символом времени12). Движение героев латиноа-
мериканской литературы часто происходит как бы по ги-
гантской спирали, устремленной к пространственно-вре-
менному сакральному центру.
Эти два мифообраза служат «горизон-
3. Река, дорога тальными» координатами латиноаме-
риканского пространства.
Множественные значения мифоообраза реки будут рас-
крыты во второй главе книги; здесь же река характеризу-
ется только как пространственная координата. Исследова-
ние и освоение внутренних областей американских мате-
риков шло преимущественно по рекам, которые служили
естественными «дорогами» в глубь континента. Этот опыт
запечатлелся в латиноамериканском художественном со-
знании в устойчивых образах. Один из них река — «по-
рог», «дверь», «проход»: «Устье Ориноко — пока еще
только приоткрытая дверь в страну...» (Гальегос, III, 9).
57
Другой, встречающийся гораздо чаще, ассоциирует реку с
дорогой: «Река... производила впечатление темной дороги,
бегущей вместе с нами в бездну небытия» (Ривера, 103).
Важно отметить вот какую особенность: если в реальной
физической географии Америки реки в конечном счете вы-
водят к океану, то есть за пределы материков, то мифичес-
кие реки-дороги, как правило, ведут вовнутрь материка, к
сакральному центру. Герои влекутся «по неведомым водам
дикой реки к какому-то тайному пристанищу...» (Ривера,
102), туда, где «в сердце сельвы воды одной реки сливают-
ся с другой» (Гальегос, III, 41). Река служит дорогой к
сакральному центру в «Потерянных следах» Карпентьера,
в романах А. Услара Пьетри и М. Отеро Сильвы о Лопе де
Агирре и многих других произведениях. Отметим и дру-
гую особенность: в отличие от реальной дороги, река нико-
им образом не является структурирующим и организую-
щим элементом пространства: она не нарушает ни его бес-
предельности, будучи сама «бескрайней», ни его хаотич-
ности, составляя с другими реками водный лабиринт:
«Край бесчисленных рек, неизвестно откуда берущих на-
чало» (Гальегос, III, 14). Она не дает и никакой ориента-
ции в пространстве, за исключением одной: «извне» кон-
тинента — в глубину, к сакральному центру.
Сказанное в полной мере относится к мифообразу доро-
ги, пространственной координате пампы, льяносов, саван-
ны, пустынь. Как и река, дорога бесконечна («дороге этой
нет предела». Неруда, II, 292), и нисколько не противоре-
чит мифологеме хаоса пространства, а наоборот, только
поддерживает ее. Дорога, мифологически отраженная в
латиноамериканском художественном сознании, часто не
имеет направленности, не дает ориентации, ничего не свя-
зует: «Просыпается саванна, просыпаются ее дороги. Все
они готовы лечь под ноги спутникам, все одинаковы на
вид: и те, что ведут к цели, и те, что уводят от нее. Саван-
на протягивает вам свои дороги — они, как линии на рас-
крытой для гадания ладони — но не говорят, какая
лучше» (Гальегос, II, 53). Поэтому латиноамериканские
герои часто идут «на поводу у дорог» (Гальегос, II, назва-
ние главы); «Я иду, куда не знаю, / по дороге...»; «По да-
лекой дороге / я пошел наугад...»; По далекой дороге я
58
вернусь наугад...» (Гильен, 50, 196). Мифообраз дороги
настолько слит с мифологемой хаоса пространства, что
само бескрайнее пространство осмысляется в образе доро-
ги: «дорога, собранная из всех дорог... / Равнина» (Неру-
да, I, 254); «... и поехал прямо по саванне, широкой доро-
ге, по которой разбегается тысяча разных дорог» (Галье-
гос, I, 55). Одновременно, в традициях европейской лите-
ратуры, дорога неизменно ассоциируется с судьбой (кста-
ти сказать, как и река), что придает движению героя в ла-
тиноамериканском пространстве фатальную предопреде-
ленность.
Из всех пространственных координат
4. Верх — низ эта является важнейшей для челове-
ческого сознания: она создает объем-
ный образ пространства, указует человеку его значимость,
к тому же выступает как категория временная (будущее и
прошлое могут осмысляться в тех же понятиях) и этичес-
кая (высокое — низкое в жизни и поступках). Наконец,
можно утверждать, что это координата культурологичес-
кая, поскольку принципиальные различия в трактовке
данной оппозиции никогда не будут частностями того или
иного художественного сознания,— чаще всего они соотно-
сятся с типом культуры в самом широком смысле.
В европейском мышлении установилась вполне опреде-
ленная трактовка дихотомии «верх» — «низ». С античных
времен боги обитали на Олимпе, а в подземелье располага-
лась обитель мертвых. Христианство еще сильнее противо-
поставило «верх» и «низ», спроецировав эту оппозицию на
человека (душа — тело), этику, эрос (любовь духовная —
плотская). Понятие «земное» в оппозиции к «небесному»
содержит в себе ряд негативных значений, ассоциируясь с
началом плотским, греховным, низменным, темным, пе-
чальным, инфернальным. «Небо» («верх») по традициям
мыслится как сфера божественного, духовного, разумного,
как источник истины, света, благодати; соответственно, и
процесс самосовершенствования человека представляется
в образах отрыва от земли, роста, возвышения, полета. В
латиноамериканской литературе, наряду с этой традици-
онной трактовкой, наблюдается и прямо противополож-
59
ная, представляюющая собою полемическую инверсию
христианской дихотомии. Она-то и интересует нас в пер-
вую очередь.
Эта специфическая трактовка сформировалась под давле-
нием мифообраза земли — центрального в мифологической
инфраструктуре латиноамериканской литературы — и ярко
воплотилась в различных образах и темах, таких, как дере-
во, гора, небо, солнце, дом, эрос, смерть. Отдельные прояв-
ления оппозиции «верх» — «низ» будут раскрыты по ходу
анализа указанных тем; здесь же мы обратим внимание ис-
ключительно на ее пространственное содержание.
Начать с того, что в латиноамериканском образе про-
странства вертикаль не имеет того исключительно важно-
го значения, как в европейских пространственных пред-
ставлениях. Ориентируясь, европеец, как правило, выде-
ляет взором возвышенности — горы, холмы, церкви и т.п.
Эти мелкие вертикали рассекают единую горизонталь про-
странства, дробят его на сегменты и тем самым как бы одо-
машнивают, делают уютным для человека. И сакральные
локусы европейского пространства тоже вознесены.
В латиноамериканском пространстве владычествует го-
ризонталь. Это относится и к тем произведениям, действие
которых происходит в гористой местности. В хаотической
беспредельности пространства герой не ищет вспомога-
тельных структурирующих вертикалей. Их нет, как нет и
ориентации (в европейском понимании). Как было показа-
но в предыдущем разделе, герой движется наугад, извне
континента — в глубину, движется, чтобы раствориться в
пространстве, и это растворение становится высшей степе-
нью самореализации.
Образ латиноамериканского пространства разворачива-
ется на земле; все его основные характеристики прямо или
косвенно связаны с понятием протяженности и тяготеют к
земной поверхности. Характерен в этом смысле образ Ва-
льехо: «...небо, / ветрами пригвожденное к земле» (148).
Его сакральные центры не вознесены, а внедрены в ланд-
шафт или вовнутрь земли (см. гл. II, Пещера).
При таком сильнейшем «земном притяжении» мотивы
отрыва от земли, взлета, верха могут трактоваться как не-
гативные, а «низ», ассоциированный не с низменным, а
60
исключительно с земным началом, обретает позитивный
смысл. Приведем несколько характерных примеров. Весь-
ма многозначна реплика из повести Рульфо: «— От нас тут
дороги во все концы. (...) Эта вот, она вас прямехонько в
горы выведет. А эта — сама не знаю, куда она проложе-
на,— и женщина показала пальцем вверх, в зияющий про-
лом кровли» (186). Дороги, пролегающие по земной поверх-
ности — знакомы и понятны как принадлежность «своего»
пространства; «дорога» же, идущая в небо, вверх, воспри-
нимается как нечто неизвестное и чужеродное. Примечате-
лен фрагмент из романа Фуэнтеса «Смерть Артемио
Круса»: «В этот миг — с закрытыми глазами — тебе вдруг
покажется, что все движется вверх... или вниз, в земле, на
которой все зиждется... даже этот ястреб, парящий над
самой глубокой тесниной веракрусской реки: отдохнув на
недвижной скале, он взмывает вверх, чтобы оттуда бро-
ситься вниз... Ты будешь подкидывать вверх камень... и
бросишь его потом вниз, под откос, чтобы хоть одну мину-
ту камень жил своей жизнью, быстрой и динамичной...»
(378). Как видно, движение вниз в конечном счете преоб-
ладает над движением вверх, потому что снижение ассоци-
ировано с подлинной жизнью, с жизнью естественной и
самородной, в то время как возвышение — это толчок
извне, насилие, искусственность.
Очень отчетливо инверсия христианской дихотомии
проявляется в творчестве Карпентьера, где она проводится
последовательно и системно. Легко заметить, что в прозе
кубинского писателя мотив приближения к земле, сопри-
косновения с нею всегда трактуется как путь к самообрете-
нию, а мотивы возвышения над землей, высоты, неба озна-
чают отступление от подлинности либо извращение естест-
ва. Именно в небо на самолете взмывает герой «Потерян-
ных следов», чтобы навсегда распроститься с сакральным
Центром, с Росарио, «женщиной земли», плоть от плоти
этой земли» (III, 251). Взлет неизбежно оборачивается ду-
ховным падением, ибо он таит в себе момент отрыва от
культурной почвы и духовного онемения: «Язык этих
людей, спустившихся с неба... в то утро вытеснил из моего
сознания родной язык — язык моей матери и Росарио»
(282). Тиран Анри-Кристоф из «Царства Земного», одер-
61
жимый идеей возвышения, строит цитадель на недоступ-
ной высоте: «... там, высоко-высоко, выше, чем птицы ле-
тают, там куда жизнь Равнины доносится лишь дальним
звоном колокольным да петушьим криком, король...
сидит под самым небом...» (80); и это строение для Кар-
пентьера становится символом культурного ренегатства,
отказа от естества. Именно там, наверху, найдет свою мо-
гилу король-лицедей, найдет не в земле, им преданной и
его отторгнувшей, а в известковом растворе. Туда же вверх,
в поднебесье, устремлен сооружаемый по приказу Главы
Нации Капитолий, чьи украшения «ветшали», так и не
успев войти в общение с народом, что там, внизу, сновал
меж портиков, аркад и колоннад...» (VI, 144). Еще одна
примечательная деталь: в «Весне Священной» Париж про-
тивопоставляется Гаване как город балконов — городу ко-
лонн, хотя как раз балконов в Гаване тоже превеликое
множество. Глубинная суть противопоставления основана
на той же дихотомии «верх» — «низ»: балкон висит над
землей, колонна (архитектурно преображенное дерево) как
бы вырастает из земли. Энрике посещает дом в Париже,
где наверху находится студия Андре Бретона, а внизу, в
подвале — кафе «Кубинская хижина», и вновь писатель
подчеркивает: «... вы, вероятно, удивлены, но я не возне-
сся в мир Стража Сновидений, нет, напротив того — я
спустился», и в этом подвальном кафе герой «обретал корни
и, словно растение, впитывал родные соки» (VII, 95).
Латиноамериканское пространство обычно тяготеет к
земле; «верх» для него часто бывает либо несущественен,
либо враждебен. Сказанное, однако, вовсе не означает,
будто латиноамериканское пространство плоскостно. Объ-
емность и глубину ему придает иная оппозиция.
Следует сразу отметить, что
5. Наружное —■ внутреннее эта оппозиция имеет боль-
шое значение для западноев-
ропейской литературы. Христианская дихотомия «ду-
ша» — «тело» осмысляется не только в категориях «вер-
ха» и «низа», но и в категориях «наружного» и «внутрен-
него». Внешность (тело), как правило, обманчива, поступ-
ки человека (душа) истинны: это противоречие, ярко во-
62
(
площенное в добродетельных уродах Гюго, подтверждает-
ся обширной галереей романтических злодеев-красавцев.
Оппозиция «наружное» — «внутреннее» проявляется и в
противопоставлении слова — мысли (тютчевское «мысль
изреченная есть ложь»). Как пространственные координа-
ты эти категории, кажется, не столь существенны и чаще
всего дублируют указанные значения.
В латиноамериканской литературе они выступают
прежде всего как пространственные координаты и обрета-
ют иные оттенки значений. В латиноамериканском худо-
жественном сознании дерево обычно не мыслится про-
странственной вертикалью, связующей землю с небом.
Функция дерева как пространственной координаты иная:
оно осуществляет связь внешнего (наружного) с внутрен-
ним. Его ствол и крона указуют наружное пространство,
но вырастают они из невидимой, уходящей в глубины
земли корневой системы. Пространственным аналогом де-
рева мыслится пещера; она также ведет извне — вовнутрь,
создавая притом особое внутреннее пространство, куда
может проникнуть человек. Не случайны поэтому образы:
пещера — это «дерево вовнутрь земли» (Астуриас, VI,
201), где «камни шевелятся, словно корни» (Астуриас, III,
229). Внутреннее пространство является средоточением
сущности, тайны и подлинности, поэтому оно носит явно
выраженный сакральный характер. Поэтому внутреннее
так манит к себе героя, а проникновение в глубину ассоци-
ировано с постижением сущности: «... чтобы шагать
моими желтыми шагами, / необходимо обитать внутри /
густых субстанций — /в глине, в древесине, в кварце, / в
металлах /ив кирпичной кладке — /и научиться закры-
вать глаза в сиянии, / и открывать их / в темноте, /и —
ждать» (Неруда, II, 485). Как видно, само поэтическое
творчество мыслится как погружение в глубины матери-
альных субстанций; притом образ внутреннего пространст-
ва прочно связан с темнотой, мраком — одним из очень
важных элементов художественного кода латиноамери-
канской литературы. Темнота, ночь, мрак в латиноамери-
канской литературе часто выступают как выражение лати-
ноамериканского бытия, в то время как день, свет выра-
жают европейский образ мира (см. гл. II, IV, 1). «Закры-
63
вать глаза в сиянии» и прозревать сущности в темноте,
тесноте, глубине, тишине — это наиболее предпочтитель-
ный способ интуитивного познания латиноамериканской
реальности.
Движение героев в глубь континента, к сакральным
центрам в конечном счете тоже выражает взаимодействие
категорий «наружное» — «внутреннее». Еще яснее их от-
ношение проявляется в образе дома, жилища (см. гл. III).
Очень тонкую мифологическую трактовку образа дома
дает Фуэнтес: «Мексиканские дома снаружи слепы; их
ревниво запертые входы как бы хотят сказать, что наши
дома глядят вовнутрь себя, глядят в патио, внутренние
сады, фронтоны, порталы — и это их подлинный взгляд»
(VIII, 307). Нетрудно заметить далеко не случайную деталь:
латиноамериканские писатели не склонны описывать фа-
сады домов, зато непременно опишут интерьер, даже если
это убогая бедняцкая хижина. Функция дома в том и со-
стоит, чтобы создать внутреннее пространство, которое не-
редко приобретает сакральный характер (см. гл. III).
Особо следует подчеркнуть, что, в отличие от западно-
европейской литературы, в латиноамериканской — кате-
гории «наружное» — «внутреннее», как правило, не со-
ставляют оппозиции. Они не враждебны и не противопо-
ставлены друг другу: внутреннее и наружное составляют
органичное единство, а если первое предпочтительнее, то
только потому, что оно более сущностно, более сакрализо-
вано, ближе к тайне. Корень не есть отрицание ствола и
кроны, скорее — ствол и крона — символически указуют
на присутствие корня. Притом подземное, «корневое» про-
странство в определенной степени аналогично земному:
«Тянись, малышка стебелек, / тревожь земной покров, /
там, под землей, ведь тоже лес / из крохотных ростков, / и
в том лесу ты — баобаб, / огромный и ветвистый, / и на
ветвях твоих сидят / с блоху размером птицы...» (Гильен,
189—190). Пещера не враждебна земной поверхности, но
именно пещера способна служить убежищем, тайным ка-
налом коммуникации и местом захоронения «костей пред-
ков» (см. далее). Дом довольно редко воспринимается кре-
постью, отгораживающей человека от «враждебного» про-
странства — вот почему образы распахнутого окна, рас-
64
крытой двери звучат в мажорной тональности. Но в то же
время дом создает особое «храмовое» пространство семей-
ной жизни, может служить убежищем, тайником. Та же
диалектическая связь наружного и внутреннего может про-
являться и в характере героя: «Катарина, вся твоя пробле-
ма — в соотношении внешнего и внутреннего: ты живешь
внутри себя, но если не выходишь наружу, умираешь; ты
живешь снаружи, но если не находишь убежища внутри
себя, также умираешь. Замурованная изнутри, обнажен-
ная снаружи, вечно обреченная искать баланс между внеш-
ним и внутренним, который поддерживает тебя, дочка, и
тебя защищает...» (Фуэнтес, VIII, 301). В латиноамери-
канском художественном сознании пространственные ка-
тегории, как это не раз уже наблюдалось, стремятся при-
обрести универсальный характер и способны выступать
как категории бытийственные.
В европейской традиции пря-
6. Прямота — кривизна мая линия (дорога) ассоции-
руется с правдой, ясностью,
честностью, кривая же линия — с бесчестностью и ложью. В
латиноамериканском художественном сознании эта дихо-
томия была радикально переиначена — точно так же, как
и дихотомия «верх — низ». Несомненно, решающую роль
в такой реверсии также сыграли представления об инако-
вости и хаотичности латиноамериканского мира. Прямая
линия, схема, чертеж, геометризм, ясность, логичность —
все эти характеристики ассоциируются с европейской
культурой и европейским способом мышления. В хаотич-
ном, беспорядочном, взбалмошном латиноамериканском
мире абсолютно доминирует кривая линия, что нетрудно
заметить, просмотрев латиноамериканские природоописа-
ния или даже городские пейзажи. Эта особенность может
быть осмыслена и вполне сознательно: «Не знаю, объяс-
нять ли это географией, пейзажем ли, ибо в этой части
Америки, как вы можете заметить, преобладают кривые
линии: тот, кто идет прямой дорогой, попадает впросак»
(Астуриас, V, 398). «В Новом Свете прямая — не всегда
кратчайшее расстояние между двумя точками»13. Опять
65
же, как видим, пространственная характеристика экстра-
полируется на образ жизни латиноамериканца.
Геометризм мыслится как знак неподлинности, ложной
простоты, ренегатства: «Недавние бунтари, / мы снова ис-
кали амброзию, / искали жизнь по линеечке, / логику
прямоугольников, / геометрию без излучин» (Неруда, II,
290). Или — даже как знак жестокости, бездушия, злодей-
ства, каким представляется гильотина: «...Грозная маши-
на по-прежнему высилась на носу корабля, являя взору
две плоскости — горизонтальную и вертикальную — и по-
ходя чистотою линий на чертеж из учебника геометрии»
(Карпентьер, IV, 212).
Противопоставление мира латиноамериканского — ев-
ропейскому нередко осмысляется как оппозиция «искрив-
ленного», хаотичного пространства и линейного, геометри-
ческого пространства. Уместно в этой связи напомнить
картину «Взрыв в Соборе» — символический мотив, про-
низывающий роман Карпентьера «Век просвящения». На
ней изображен интерьер готического собора: левая пер-
спективно удаляющаяся колоннада стоит незыблемо, в то
время как правая, разломленная на куски и словно за-
стывшая в воздухе, поражает воображение своей алогич-
ностью. Можно предположить, что, помимо прочих значе-
ний, Карпентьер вкладывал в эту картину и сокровенный
культурологический смысл. Вписанная в линейную пер-
спективу, левая колоннада с ее ясной архитектурной логи-
кой, основанной на симметрии, с ее чистыми линиями
символизирует европейскую культуру; а правая, разламы-
вающая классические пропорции, чудовищно ассиметрич-
ная, с рваными хаотичными линиями — метафорически
выражает инаковость латиноамериканской цивилизации.
В образах «прямоты» — «кривизны» осмысливается про-
тивостояние западной (на сей раз североамериканской ци-
вилизации) — латиноамериканской и в творчестве Асту-
риаса: «Геометрические линии, прямые и одинокие, бана-
новых шеренг, смятых на горизонте хаотичным беспоря-
дочным натиском сельвы» (V, 278). Или: «Под мостами
журчали ручейки — какое ощущение свободы рождала
вода рядом с рельсами — с их холодной твердостью тюрем-
ных брусьев» (V, 275).
66
Примечательно, что несмотря на свою «искривлен-
ность», латиноамериканское природное пространство ис-
ключительно редко представляется в образе лабиринта.
Объясняется это тем, что лабиринт — искусственно орга-
низованное и целенаправленно искривленное пространст-
во; а латиноамериканское природное пространство, спон-
танное и органичное, не терпит искусственности и проду-
манности. Сказанное относится и к философским, куль-
турным лабиринтам Бохеса, ставшим важнейшей индиви-
дуальной мифологемой его творчества.
Д. МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВА
В латиноамериканской литературе, как, впрочем, и во
многих других, встречаются разнообразные модели про-
странства, не говоря уж о моделях индивидуальных, типа
упомянутого лабиринта Борхеса. Так что этот по необходи-
мости очень краткий раздел может быть значительно обо-
гащен и скорректирован при дальнейших исследованиях.
Мы же выделим всего три пространственные модели, как
представляется, наиболее распространенные и значимые.
Она органично рождается из
I. Модель разомкнутого мифологемы хаоса простран-
пространства ства и основные ее характе-
ристики — беспредельность,
неизмеримость, открытость и т.п. Эта наиболее употреби-
тельная пространственная модель содержит в себе ряд спе-
цифических подтекстовых значений, о которых не говори-
лось ранее.
Прежде всего она связана с темой свободы: бескрайнее
пространство, расстилающее перед героем свои бесчислен-
ные дороги, предлагает ему неограниченную свободу пере-
движения и выбора собственной судьбы. «В саванне из лю-
бого места можно ехать в нужном направлении» (Гальегос,
II, 303) — то есть в этом пространстве нет ничего, что хоть
как-то предопределяло бы путь героя. Бескрайняя сельва с
ее бесчисленными дорогами-реками также предоставляет
герою абсолютную свободу выбора пути (хотя эта свобода
парадоксальным образом может сочетаться с мотивом по-
67
рабощения человека пространством, о чем будет сказано
позже). Но беспредельные пространства свободны еще и в
том смысле, что они покоряют человека, а не он их, что
они девственны, первозданны, непроходимы, неизмеримы.
Вот почему разомкнутое пространство часто противопо-
ставляется пространству замкнутому — измеренному, ог-
раниченному, ассоциированному с несвободой, подчас с
тюрьмой: «Росендо знал вольную жизнь под солнцем, на
просторе, среди гор и долин, а здесь была стена» (Алле-
грия, III, 268). Особенно ясно это противопоставление про-
водится в «Банановой трилогии» Астуриаса, где, кроме
всего прочего, оно подразумевает насильственное, навя-
занное иной цивилизацией преображение естественной ла-
тиноамериканской модели пространства: «Люди привыкли
видеть зеленые прямоугольники банановых зарослей на
равном расстоянии один от другого и деревянные прямо-
угольники домов. В доме и вне дома они всегда внутри зам-
кнутого с четырех сторон пространства. На первых порах
это не мешает, потом начинает раздражать, угнетать, му-
чить... Но зрелище океана вселяет в них смятение. Беско-
нечная разомкнутость горизонта так непохожа на унылый
прямоугольник, внутри которого проходит их жизнь, и
нет выхода из этого ограниченного с четырех сторон про-
странства, потому что гроб — тоже вытянутый четырех-
угольник» (IV, 328).
Важнейшая характеристика разомкнутого пространст-
ва, его открытость, может быть небезосновательно истол-
кована и в переносном смысле — как выражение духовных
потенций и культурной перспективы континента. Как
было показано выше, практически все категории латиноа-
мериканского пространства одновременно функционируют
и в качестве культурфилософских категорий. Отсутствие
пространственного предела проецируется и в область ду-
ховности: «... и так открывалась внезапно неизмерность
этой Америки, которую он начинал уже находить сказоч-
ной, несмотря на то, что люди ее зачастую казались ему
дикими, грубыми и затерянными внутри пространства,
какое засеяли. Но подобная природа могла рождать лишь
людей особых, думал он, и будущее покажет, какие расы,
какие устремления, какие идеи выйдут отсюда, когда все
68
это еще немного дозреет и континент обретет сознание,
вскормленное собственными своими возможностями»
(Карпентьер, VIII, 464).
Наконец, модель разомкнутого пространства обладает
интегрирующими свойствами. Ее открытость — это еще и
культурная открытость, способность вбирать в себя самые
разнообразные влияния, чем всегда отличалась латиноаме-
риканская культура, стоявшая как бы на «перекрестке»
мировой цивилизации. Эта идея интегрирующего про-
странства нашла емкое метафорическое выражение в рома-
не Астуриаса «Маладрон». Его герои — конкистадоры,
первопроходцы Центральной Америки настойчиво ищут
место «слияния» двух океанов, Атлантического и Южного
(т.е. Тихого). Один из героев упрямо утверждает: «По
моему убеждению, они сливаются под землею. Эта земля,
разделяющая два океана,— вовсе не перешеек, а мост. А
где-то под этим мостом протекает вода» (29). Этот лейтмо-
тив романа представляет Америку как связующее звено за-
падного и восточного полушарий, а тем самым — всей ми-
ровой цивилизации. Обратим внимание: «слияние» двух
океанов происходит во «внутреннем», подземном, то есть
сакральном пространстве, что подчеркивает культурологи-
ческий смысл образа. Идея латиноамериканского интегри-
рующего пространства нашла свое яркое воплощение и в
работах философов и публицистов,— например, у X. Вас-
конселоса в его теории «космической расы».
Речь не идет о том образе замкну-
2. Модель замкнутого того пространства, который воз-
пространства никает в противопоставление ра-
зомкнутому пространству и ассо-
циирован с несвободой, тюрьмой, смертью. Имеется в виду
такое построение произведений, когда действие их полнос-
тью сосредоточено на узком отрезке пространства и этот
локус представляется как бы отгороженным ото всего
мира и абсолютно замкнутым в себе. Примеры подобного
рода встречаются и в иных литературах (напомним хотя
бы Йокнапатофу Фолкнера). В латиноамериканской лите-
ратуре эта модель получила чрезвычайно широкое распро-
странение. Модели замкнутого пространства представляют
69
собой города Макондо Маркеса и Санта-Мария X. К. Онет-
ти, селения Пьюра и Канудос Варгаса Льосы, деревни Ко-
мала Рульфо и Руми С. Алегрии, остров Табога Р. Синана
(«Магический остров») и многие другие локусы латиноа-
мериканской литературы. Такого типа отгороженные ло-
кусы могут возникать и по ходу сюжета, не обязательно
концентрируя в себе все действие,— как, например, город
Святой Моники в «Потерянных следах» Карпентьера. На-
конец, эта модель может реализоваться в крохотном про-
странстве дома («Рай» Лесамы Лимы) и палубы корабля
(«Выигрыши» Кортасара).
Распространение этой модели в латиноамериканской
литературе в немалой степени обусловлено одним из
свойств художественного восприятия латиноамериканско-
го пространства — фрагментарностью (см. I, А, 8): отдель-
ные сегменты латиноамериканского пространства способ-
ны вбирать в себя все основные пространственные характе-
ристики, что и позволяет выстраивать на этой основе зам-
кнутые универсальные модели.
Рассматривая эти модели, Ф. Аинса видит глубинную
причину их распространения в утопическом устремлении
латиноамериканских писателей обрести «центр», стабиль-
ность, укорениться в своей среде: «Одна из самых травма-
тических форм поиска ибероамериканцами своей культур-
ной идентичности — автаркия, посредством которой воссо-
здаются образы утерянного Рая или убежищ аркадической
жизни»14. Действительно, как показывает мировая лите-
ратура, утопия способна реализоваться лишь в замкнутом
пространстве; однако далеко не все из упомянутых зам-
кнутых локусов идилличны и утопичны. Таковых — мень-
шинство, остальные же (Комала, Пьюра, Макондо, Санта-
Мария и др.), скорее, антиутопичны.
Очевидно, замкнутые локусы привлекают латиноамери-
канских писателей иным — своими моделирующими воз-
можностями. Они позволяют на небольшом отрезке про-
странства воссоздать емкий и целостный образ жизни сколь
угодно широких человеческих сообществ: от нации до че-
ловечества. Поэтому замкнутые локусы практически всегда
выступают в качестве обобщающих бытийственных сим-
70
волов и представляют возможность органично совместить
национальное, общеконтинентальное и универсальное.
Действительно, многие из замкнутых локусов совмеща-
ют в своих модельных символических образах три уровня
обобщения. Макондо, выявляя специфические черты ко-
лумбийской действительности, вместе с тем создает обоб-
щенный образ латиноамериканского бытия и одновремен-
но историю рода человеческого от Эдема до грядущего
конца света. То же самое можно сказать о Комале Рульфо,
Канудосе Варгаса Льосы, семейном особняке Лесамы
Лимы и др. Замкнутое пространство корабельной палубы в
«Выигрышах» Кортасара являет собой универсальную мо-
дель человеческих взаимоотношений и судеб. Однако в ро-
мане можно усмотреть (при всей спорности такого предпо-
ложения) переосмысленный образ латиноамериканского
пространства. Корма корабля символически обозначает
сакральный центр — как и положено, наглухо закрытый
для непосвященных и скрывающий в себе тайну. В тради-
циях латиноамериканской литературы движение героев
направлено к сакральному центру: их неимоверные жер-
твенные усилия проникнуть на корму, чтобы разгадать
какую-то тайну, собственно, и составляют основу всех пе-
рипетий романа. Причем никакой насущной необходимос-
ти прорываться на корму у них нет: это то иррациональ-
ное, мистическое тяготение, какому подвержены многие
герои латиноамериканской литературы, «обреченные» на
поиск эфемерных сущностей в своем пространстве. Когда
же герои Кортасара, минуя все препоны, прорываются на
корму, они не обнаруживают на ней ровным счетом ничего
сущностного, таинственного, что стоило бы таких жертв и
усилий. Сакральный центр оказывается пустым миражом.
Не есть ли это скрытая пародия на мифологию латиноаме-
риканской литературы и на ее героев?
С учетом всего вышесказанного можно утверждать, что
модели разомкнутого и замкнутого пространства в латино-
американской литературе не составляют оппозиции, а в
определенной степени даже дублируют друг друга. В
самом деле, отгороженность замкнутых локусов оказыва-
ется весьма условной, поскольку этой модели также свой-
ственны и культурная открытость и интегрирующие по-
71
тенции — только проявляются эти свойства не явно, а в
символически опосредованной форме. Способные олице-
творять и страну, и континент, и Землю, закрытые локусы
обладают не меньшей интегрирующей силой, чем разо-
мкнутое пространство, и могут служить точками соприкос-
новения и сплава различных культур.
Эта очень специфичная имен-
3. Межпространственность но для латиноамериканской
литературы категория может
быть отнесена к пространственным моделям с некоторой
долей условности: скорее, она характеризует определенный
модус поведения и самосознания героя. Однако не стоит
забывать, что в данной работе рассматривается не объек-
тивное пространство, а его художественные образы, явлен-
ные через восприятие писателя и героев, поэтому соответ-
ствующее самоположение героя в пространстве можно, и
небезосновательно, представить в качестве особой про-
странственной модели. Тем более, что встречается она в
латиноамериканской литературе довольно часто, хотя
обычно проявляется в скрытых формах.
Суть этой модели состоит в том, что герой ощущает
свою одновременную принадлежность двум мирам — лати-
ноамериканскому и «чужому» — либо вообще «застрева-
ет» на «границе», оказываясь в пространственном вакуу-
ме. Речь идет прежде всего о тех многочисленных героях
латиноамериканской литературы, которых мы условно на-
зываем «чужаками». Есть «чужаки» — иностранцы, кон-
кистадоры прошлого и настоящего, вообще не приемлю-
щие и не понимающие латиноамериканского мира, при-
шедшие в него ради своих узкоутилитарных целей: они-то
духовно все равно остаются в ином космосе, а чаще, как
плантаторы Астуриаса, воссоздают свое геометрическое
пространство, грубо попирая законы автохтонного мира.
Разговор идет не о них, а о тех героях иностранцах либо
латиноамериканцах, которые пытаются интегрировать в
американский мир — но полностью достигнуть этого не
могут, либо, наоборот, пытаются уйти из «своего» мира и
внедриться в «чужой», но опять-таки добиться этого не
способны. Интеграция в латиноамериканское «иное»,
72
«особое» пространство подразумевает полное восприятие и
приятие всех тех характеристик и координат, о которых
говорилось выше, а их усвоение, в свою очередь, предпола-
гает особую модель поведения и самоощущения. Все это
практически недостижимо, и «чужому» не дана полная
ориентация в латиноамериканском пространстве. Вот по-
чему он либо срывается в насилие (как Галль из «Войны
конца света» Варгаса Льосы), либо пространство губит его
(как героев О. Кироги или Риверы). Таким образом, физи-
чески пребывая в латиноамериканском пространстве, вы-
нужденные так или иначе испытывать его воздействие на
себе, эти герои находятся и как бы вовне его, поскольку
мыслят категориями «чужого» пространства. Тем самым
они фактически оказываются на «границе» миров и сами
по себе становятся носителями и выразителями мифологе-
мы границы (см. I, В, 1).
С особенной ясностью и трагической остротой модель
межпространственного предстает в творчестве Карпентье-
ра. Впервые она обозначается в «Царстве Земном», вопло-
щенная в образе короля Анри-Кристофа. Презрев корен-
ную культуру, он создал вкруг себя пространство на евро-
пейский манер — маскарадный дворец и вознесенную
ввысь цитадель; но духовно перестав быть американцем,
европейцем так и не стал — и застрял на перепутье, в
межеумочном культурном вакууме. Музыкант из «Поте-
рянных следов», по собственному признанию, оказывается
в городе Святой Моники лишь «гостем», «существом на
время» (230); вместе с тем ему уже не дано забыть Долину
Остановившегося Времени и жить, как прежде. Стремя-
щийся в утерянный «свой» мир, вынужденный жить в
«чужом», он также остается на «границе». Еще отчетливее
межпространственность выявляется в «Превратностях ме-
тода». Глава Нации мечется между Америкой и Европой, в
его сознании смещаются опорные понятия «здесь» и
«там», которые подменяют друг друга в зависимости от
места пребывания диктатора. Герой вздыхает и мечтает о
Европе, но отрешиться от Америки тоже не может — и не в
силу своих государственных обязанностей, а потому, что
сам он как личность — аутентичное порождение континен-
та. И потому на предложение отказаться от поста и на-
73
всегда остаться в Париже он изрекает пронзительное:
«Если ты у меня отнимешь мой крест, кем я буду и что мне
останется?» (129). Когда же «крест» отнят и диктатор вы-
брошен в любезную его сердцу Европу, он ощущает себя в
чужеродном пространстве и пытается воссоздать латиноа-
мериканское пространство в своем доме. Тема межпро-
странственности достигает кульминации в романе «Арфа и
Тень». В отличие от прочих «межеумочных» героев, Ко-
лумб осознает суть своей жизненной трагедии. Он постига-
ет «новое качество» открытого им мира и формирующее
воздействие его пространства. Но сродниться с этой зем-
лею он не смог, как не смог и оторваться от нее, возвратив-
шись прежним в европейский мир; и в порыве бесстрашно-
го предсмертного самоанализа Колумб говорит себе: «Ты
странствовал по миру, какой готовился свернуть тебе голо-
ву, тогда как ты думал, что завоевал его, и какой в дейст-
вительности вышвырнул тебя из своих пределов, оставив
не там и не здесь. Пловец, заблудившийся меж двух вод,
претерпевший кораблекрушение меж двух миров...» (536).
Модель межпространственности глубоко укоренена в ла-
тиноамериканском художественном сознании в силу того,
что латиноамериканская культура со дня своего зарождения
развивалась на «границе» двух миров — европейского и
автохтонного. Она и представляет собою тип «пограничной»
синтетической культуры. Традиционная для европейской
культуры тема раздвоения личности в латиноамериканской
литературе преобразовалась в тему культурной двойствен-
ности, которая, в частности, находит свое воплощение в ми-
фологеме границы и в модели межпространственности.
Е. ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА С ПРОСТРАНСТВОМ
Многие аспекты этой
1. Воздействие пространства темы уже были затрону-
на человека ты в предыдущих разде-
лах, особенно при анали-
зе амбивалентности латиноамериканского пространства. В
этом разделе мы выделим и систематизируем основные мо-
тивы воздействия пространства на человека.
74
Не будем повторять то, что говорилось о мифологеме
«зова» латиноамериканского пространства (см. I, А, 7).
Следующую ступень воздействия обозначим как «проник-
новение» пространства в душу героя, которое чаще всего
выражается в мистических мотивах некоего «давления»
извне, духовного дискомфорта, ощущения каких-то таин-
ственных сил и т.п. Эти мотивы можно встретить практи-
чески в любом романе об эпохе конкисты. Так, например,
«проникновение» пространства в души героев составляет
лейтмотив романа Услара-Пьетри «В поисках Эльдорадо».
Его герои «ни минуты не чувствовали себя уверенно и спо-
койно», как будто бы неизмеримость пространства и мощ-
ное притяжение воды давили на них и доставляли им не-
внятную усталость». «Неизвестные силы связывали их,
влекли за собою...»; «Казалось, ничего не происходило, но
однако не все время в той или иной форме они чувствовали
на себе пагубную власть сельвы» (59, 58, 132, 61). Эти мо-
тивы в обилиии присутствуют и в произведениях литерату-
ры «зеленого ада».
Смутное мистическое воздействие пространства приобре-
тает грозную определенность, когда, в конце концов, про-
странство «околдовывает» героя и сводит его с ума. Этот ус-
тойчивый мотив также был рассмотрен ранее (см. I, А, 7).
Добавим к этому, что «давление» пространства изначально
осмысляется в русле поэтики сверхнормативности и пото-
му закономерно приводит к умопомешательству: «Вы
разве не заметили, ваша милость, что с тех пор, как мы
связались с этой проклятой рекой, все словно бы посходи-
ли с ума и норовят выйти из себя?» (Услар-Пьетри, II, 63).
Более глубокая и формирующая степень воздействия
пространства на героя выражается стереотипным мотивом
«пленения», «завоевания» души человека. Так, карпен-
тьеровский Колумб признается себе: «... я завоеватель за-
воеванный, ибо начал существовать для себя самого и для
других в день, когда прибыл туда, и с тех пор эти земли
определяют меня, лепят мой облик...» (VIII, 535). Мифо-
логема «пленения» человека пространством нашла яркое
отражение в рассказе Борхеса «История воина и пленни-
цы». В первой части повествуется о судьбе варвара Дрок-
тулфта, который пришел с древнегерманскими племенами
75
завоевывать Италию, но во время осады Равенны перешел
на сторону неприятеля и умер, защищая город от своих со-
племенников. Мотивы его поступка Борхес поясняет тем,
что «его вдруг ослепляет и делает другим это открове-
ние — Город» (141). Во второй части приводится история
некоей англичанки, привезенной в Аргентину и плененной
индейцами. Став со временем женою индейского вождя,
она полностью приняла обычаи племени и вела дикую
вольную жизнь в просторах пампы. Историю эту рассказы-
вает бабка писателя, тоже англичанка-эмигрантка, кото-
рой «удастся уловить — как в зеркале — в судьбе той жен-
щины, полоненной и перерожденной жестоким континен-
том, чудовищное отражение собственной участи» (142). В
заключение Борхес настаивает на идентичности этих двух
сюжетов, очевидно, имея в виду общую мифологическую
схему, лежащую в их основе; и все же весьма показатель-
но, что в Европе «цивилизованное» пространство пленяет
варвара, а в Америке — «варварское» пространство пленя-
ет цивилизованного человека.
Уже «плененный», уже «покоренный» латиноамери-
канским пространством, человек способен иначе взглянуть
на себя, обнаружить в себе новые черты, понять свою ис-
тинную роль в мире. В отличие от прочих форм воздейст-
вия пространства,— скажем так, бессознательных,— в
этом случае герой под влиянием пространства вовлекается
в активный процесс самоидентификации. Особую значи-
мость этот мотив приобретает, когда соотносится с образа-
ми тиранов. Вот, к примеру, как воздействует пространст-
во на Лопе де Агирре из романа М. Отеро Сильвы: «... в
этом месте Мараньон навсегда и бесповоротно становится
вселенской рекой, плывущий по нему начинает чувство-
вать себя бесконечно малым или безгранично великим, в
зависимости от того, какого сам он о себе мнения. Лично я
чувствую, что моей душе прибывает величия по мере того,
как зеркало реки ширится пред моими глазами (...) Вели-
чие этой реки возвращает мне сознание того, что я есть на
самом деле: не колченогий, беззубый старик, а десница,
готовая вершить небывалые подвиги, я вождь и предводи-
тель и стою больше, чем кто бы то ни было..» (271). Тот же
Лопе де Агирре из романа Услара-Пьетри: «Вся неизбыв-
76
ная тайна, все трагическое очарование природы, казалось,
воплотились в нем» (II, 134). Глава Нации, герой Карпен-
тьера: «С каждой сотней метров, преодолеваемых парово-
зом, я все больше утверждался в своем могуществе и обре-
тал уверенность в себе (...). По мере того, как грудь мою рас-
пирало воздухом родной страны, я все больше становился
Президентом...» (VI, 52—53). Эта устойчивая связь образа
диктатора с латиноамериканским пространством, с одной
стороны, ясно указывает, что диктатор, как бы отрица-
тельно к нему ни относился писатель, мыслится автохтон-
ным и органичным порождением латиноамериканского
мира; а коли так, то он выступает как образ амбивалент-
ный, ибо ассоциирован с понятием «свое» (подробнее см.
гл. III). С другой стороны, эта связь углубляет представле-
ния об амбивалентности латиноамериканского пространст-
ва, которое порождает чудовищ, насилие, кровь и т.п. На-
конец, обратим внимание, что аномальность пространства
(его величие, безмерность, таинственность, трагичное оча-
рование и т.п.) формирует по сути аномального героя, ко-
торый непрестанно попирает общечеловеческие нормы.
Освоение латиноамерикан-
2. Освоение пространства ского пространства также
человеком нередко представляется в
мифологических категори-
ях и связано, прямо либо косвенно, с мифологическими
характеристиками, выделенными ранее.
Так, глубоко укорененная в латиноамериканской мен-
тальности мифологема девственности латиноамериканско-
го мира (см. I, А, 5) предопределила восприятие одного из
типов освоения латиноамериканского пространства как
акт дефлорации: «Вперед продвигались медленно, а сель-
ва, ревниво храня свою девственность, строила все новые и
новые козни» (Ривера, 181). Не только путешествие, нару-
шающее целостность природы, но подчас и всякого рода
присутствие человека и его деятельность на латиноамери-
канской земле могут представляться в русле мифологемы
дефлорации пространства,— как, например, в романе Роа
Баст,оса: «Радость, победа, поражение, любовь, обладание,
отчаяние — все это есть лишь отрезки пути по бескрайней
77
равнине. Кто-то падает в этой борьбе, но ему на смену при-
ходят другие и снова прокладывают колею, прочерчивают
колесами борозду, оставляя кровавый след на древней зем-
ной тверди и оплодотворяя жестокую девственницу-приро-
ду» (1, 285).
Виргинальное пространство континента сопротивляет-
ся проникновеннию в свое лоно, строит гибельные коз-
ни — то есть речь идет не просто о дефлорации, а об изна-
силовании. О том, насколько значима тема изнасилования
в латиноамериканской литературе и как она своеобразно
трактована, будет сказано в третьей главе; пока же отме-
тим, что конкиста, начиная с эпохи романтизма, нередко
мыслилась в образе изнасилования девственницы; этот
образ, в частности, выражался стереотипной сюжетной си-
туацией изнасилования белым девушки-индеанки.
Одна из самых грубых и открытых форм «изнасилова-
ния» латиноамериканского пространства связана с прода-
жей земли и вмешательством иностранцев. Кульминаци-
онного выражения эта тема достигает в «Осени патриарха»
Маркеса — в фантастическом сюжете продажи американ-
цам моря. Море вывозят в танкерах и на его месте остается
чудовищная илистая пустыня.
Примечательный чисто позитивистский вариант пред-
ставлен в «Донье Барбаре» Гальегоса. Суть его состоит в
том, чтобы преодолеть хаос пространства, измерив неизме-
римое и разграничив безграничное — именно поэтому ци-
вилизаторский проект Сантоса Лусардо отправной своей
точкой ставит огораживание: «Изгородь явилась бы нача-
лом цивилизации льяносов. Всемогущей силе она противо-
поставила бы право, своеволие человека ограничила бы об-
щепризнанным порядком» (109). И кончается роман как
раз триумфальной символической сценой огораживания:
«... На земле бесчисленных дорог, где издавна терялись в
поисках верного пути блуждающие надежды, проволочная
изгородь прокладывала один единственный и прямой путь
в будущее» (299). Это, в сущности, тоже один из вариантов
«изнасилования» пространства. Тот же мотив огоражива-
ния предстает в мифологическом переосмыслении в рома-
не М. Скорсы «Траурный марш по селению Ранкас». На
сей раз изгородь из колючей проволоки воплощается как
78
ясивое существо: без видимого участия людей она «само-
стоятельно» движется по полям, отхватывая все новые
участки общинной земли. Изгородь, символ чужероднос-
ти, в данном случае не только «насилует», но и отчуждает
латиноамериканскую землю.
Весьма специфичен еще один, типично латиноамери-
канский способ познания героем пространства, опять же
связанный с насилием — война, которую латиноамерикан-
ские писатели склонны представлять одновременно иссле-
дованием и освоением пространства. Особенно явно этот
мотив звучит в связи с образами тиранов. Усеянный трупа-
ми поход Лопе де Агирре сопряжен с исследованием неиз-
веданного материка. Будущий тиран Пелаэс, живший «на
самой дальней оконечности неизвестной страны», во главе
мятежного войска покоряет «свое» пространство: «От го-
рода к городу, от селения к селению шел Пелаэс и расши-
рялись его представления о мире: наконец, впервые уви-
дел море». «За два года он все же узнал страну, и страна
узнала его» (Услар-Пьетри, III, 29, 72, 99). Глава Нации
узнает свою страну, только подавляя мятежи, вспыхиваю-
щие в разных ее концах: «Путешествие к месту военных
действий на сей раз к югу (несколько месяцев тому назад
было к северу, еще раньше — к западу и востоку)» (Кар-
пентьер, VI, 120). Разумеется, мотив этот не случаен, осо-
бенно если учесть, что тиран мыслится порождением лати-
ноамериканского пространства. Таким образом на крова-
вом пути войны происходит как бы взаимовыявление ти-
рана и пространства, его породившего.
Ненасильственный путь освоения латиноамериканского
пространства подразумевает приятие всех его мифологи-
ческих координат и интеграцию человека с его миром, ко-
торая может происходить либо через осознание оппозиции
«свое» — «чужое», либо в достижении сакрального цент-
ра, либо путем установления своего места в пространст-
ве — дома, обретающего функции сакрального центра,
либо при «растворении» в пространстве: «... и я, как часть
волны и часть простора...» (Неруда, II, 377). В любом слу-
чае интеграция влечет гармоничную слиянность, «транс-
цендентное единство человека и пространства, когда два
становятся одним»15.
79
П. ВРЕМЯ
А. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Как было показано выше, художественные представле-
ния о латиноамериканском пространстве включают в себя
разнообразные, подчас и противоположные концепции, и
все же можно говорить о существовании в латиноамери-
канской литературе достаточно цельного, модельного и
специфичного образа «своего» пространства. Такое же пре-
валирование определенных параметров при разнообразии
вариантов наблюдается в построениях художественного
образа времени. С одной стороны, различные модели вре-
мени часто присутствуют в одном произведении. Отчасти
это обусловлено специфической культурной многосостав-
ностью континента, на землях которого сосуществуют бук-
вально по соседству суперсовременные города и племена,
живущие первобытнообщинным строем. Вполне очевидно,
что у этих племен — совершенно иные представления о
времени, чем у цивилизованного человека, и потому ро-
мантики и нативисты, еще не чувствовавшие этой разни-
цы, искажали образ индейца. Наконец, не следует забы-
вать, что время — вообще гораздо более субъективная ка-
тегория, чем пространство, и потому в его восприятии на-
блюдается больше чисто индивидуальных концепций и под-
ходов, которые выходят за рамки данного исследования.
Вместе с тем художественные трактовки времени в латино-
американской литературе предлагают ряд общераспро-
страненных и подчас весьма специфичных временных мо-
делей и связанных с ними мифологем. Кроме того, с из-
вестными оговорками можно говорить о присутствии в ху-
дожественных образах латиноамериканского времени ряда
общих достаточно устойчивых характеристик.
Как представляется, латиноамериканская концепция вре-
мени складывалась после художественного образа простран-
ства и под его воздействием. Поэтому многие из отмеченных
выше пространственных характеристик экстраполировались
на образы времени и при этом, разумеется, изменялись сооб-
разно временным категориям.
80
Так, константа инаковости распространяется и на
время: Америка — это «та часть света, где рушатся привы-
чные пространственно-временные схемы» (Поссе, 87).
Инаковость латиноамериканского времени обычно высту-
пает не в качестве самозначимой мифологемы, а в образе и
трактовке отдельных временных моделей. Например,
время мифологическое или время остановленное (см. даль-
ше) в художественном сознании латиноамериканских пи-
сателей противопоставляются историческому непрерывно-
му и необратимому времени Западного мира и могут быть
достижимы лишь в латиноамериканском пространстве.
Яснее же всего мифологема инаковости выступает в отно-
шении к прошлому, о чем будет сказано в соответствую-
щем разделе.
Важнейшая особенность латиноамериканского мира,
его первозданность,— это столь же пространственная ха-
рактеристика, сколь и временная (см. I, А. 3). Латиноаме-
риканское инаковое хаотичное пространство выстраивает-
ся в точке «начала времен». Как представляется, именно
эта характеристика главным образом определяет специфи-
ку латиноамериканского художественного образа времени,
который в своих наиболее самобытных проявлениях обра-
щен в прошлое, в эпоху первотворения. Такая особенность
в немалой степени обусловлена тем, что латиноамерикан-
ская культура, в отличие от культур Старого Света, имеет
четко определенную точку отсчета во времени — 12 октяб-
ря 1492 г. (речь, подчеркиваем, идет не о доколумбовых
цивилизациях, а о новой, синтетической культуре). В ху-
дожественном сознании эпоха открытия и конкисты трак-
туется как эпоха первотворения, притягательная еще и по-
тому, что в ней закладывается «генетический код» гряду-
щей цивилизации. По этому поводу Н. Полыциков пишет:
«Латиноамериканское сознание... пронизано драматичес-
ким светом великого начального пограничья — того пер-
вопространства-первовремени, в котором шло открытие и
завоевание континента... Истоки пороговой ментальности
сконцентрированы в самых ранних пластах ибероамери-
канской истории: сакральный момент сотворения мира
вызывали к жизни первооткрыватели, первокрестители,
первопокорители, первоописатели континента...»16. Вмес-
81
те с тем, мифологему первозданности вовсе не следует по-
нимать в узком смысле — как интерес писателей к эпохе
конкисты. Речь идет о постоянном присутствии в художе-
ственном сознании писателя образа эпохи первоначала,
который в тех или иных вариантах регулярно возникает
при воссоздании природного мира или героя-выразителя
духа подлинности.
Там же, в прошлом, в эпохе сотворения, чаще всего со-
средоточена и тайна времени. Это вполне закономерно,
ведь мифологема тайны соответствует понятию сущности,
а рождение нового мира — и есть рождение новых сущнос-
тей. Кроме того, тайна пульсирует в сочетании разнообраз-
ных временных моделей, во временных смещениях, под-
час составляющих настоящий лабиринт.
Как и латиноамериканское пространство, время амби-
валентно. Его амбивалентность проявляется главным обра-
зом в противопоставлении различных временных моделей.
Время цикличное, мифологическое, связанное с образом
индейца, с автохтонным началом может давать высшую
осмысленность человеческой жизни: «Все повторялось
снова, как в милое далекое время: земля, жатва, любовь»
(Алегрия, III, 385). Время может выступать в образе «пра-
ведного судии» (Алегрия, III, 153), может останавливать-
ся, давать человеку ощущение «полного счастья» (Карпен-
тьер, IV, 256). И оно же — чаще всего в модели историчес-
кого объективного времени — способно выступать в гроз-
ном обличье «гибельного, непоправимого времени» (Гар-
сиа Маркес, V, 323).
О связях пространства и времени в латиноамерикан-
ском художественном сознании уже говорилось выше (см.
II, А, 5). Отметим особо главенствующую, моделирующую
роль пространства: перемещение героя в пространстве ли-
бо определенные природные объекты способны изменять
время, а не наоборот. Случаи, когда время продуцирует
пространственные объекты либо изменяет их, редки: в ка-
честве ярчайших примеров такого рода обратной зависи-
мости можно привести рассказ Карпентьера «Возвращение
к истокам», в котором показано, как движение времени
вспять изменяет облик хозяина и его дома, завершаясь ме-
тафорической сценой разрушения вещей, созданных чело-
82
веком; либо его же повесть «Концерт барокко», где время,
на сей раз неудержимо устремленное в будущее, переносит
в XVIII в. реалии века ХХ-го. В целом же в латиноамери-
канской литературе, повторяем, время занимает подчи-
ненное положение по отношению к пространству, и имен-
но эта подчиненность в большой степени обусловливает со-
существование в одном произведении различных времен-
ных моделей. Природные объекты способны переносить
героя в прошлое, в эпоху первоначала, пространство спо-
собно останавливать или уничтожать время, замедлять
или убыстрять его течение, и эти способности нашли отра-
жение в емкой поэтической формуле: «Жизнь — это про-
странство в движении» (Неруда, II, 444).
Некоторые координаты латиноамериканского про-
странства также проецируются на художественную кон-
цепцию времени. Граница, разделяющая цивилизации,—
это координата пространственно-временная (см. I, В, 1):
пересекая океан, европеец выходит из потока историческо-
го времени и начинает испытывать на себе действие совсем
других (инаковых) временных моделей, которые будут
описаны ниже. Образ сакрального центра в художествен-
ной концепции времени преобразуется в образ эпохи пер-
вотворения. Действительно, достижение сакрального
центра (либо приближение к нему) всякий раз обращает
героя к началу времен, нередко сопровождаясь мифологи-
ческими метаморфозами. Как будет показано в дальней-
шем, в латиноамериканской литературе прошлое и настоя-
щее соотносятся приблизительно так же, как «наружное»
и «внутреннее» в пространстве и получают сходное смы-
словое наполнение (видимое — сущностное). Наконец, про-
странственная оппозиция «прямота» — «кривизна» также
находит свое выражение в образе времени — в противопо-
ставлении линейного «механического» времени западноев-
ропейской цивилизации «искривленному» (циклическому,
обратимому, остановленному и т.п.) времени латиноамери-
канского мира.
Эти и другие характеристики, оппозиции и смысловые
нюансы выявляются при анализе основных моделей време-
ни латиноамериканской литературы.
83
В. МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ
Очевидно, нет надобности под-
1. Историческое время робно анализировать эту общерас-
пространенную и наиболее употре-
бительную модель времени, основными характеристиками
которой являются объективность, непрерывность, необрати-
мость и линейность. Специфические трактовки историческо-
го времени в латиноамериканской литературе выявляются
при его «столкновении» с иными временными моделями.
Как известно, время историческое не только противопо-
ложно, но и враждебно времени мифологическому, кото-
рое характеризуется цикличностью и обратимостью; поэ-
тому,— писал Элиаде,— «человек архаических культур с
трудом переносил «историю» и периодически пытался ее
упразднить»17. Он же убедительно доказывает, что мифо-
логическое время, кроме всего прочего, очень действенно
выполняло эту функцию упразднения объективного време-
ни и преодоления «ужаса истории». Таким образом, отно-
шение латиноамериканского писателя к историческому
времени может зависеть от его отношения к времени мифо-
логическому.
Оно чаще всего ассоциировано с индейцем, то есть с
автохтонным началом латиноамериканской культуры, и
потому обычно воспринимается в позитивном ключе, как
элемент самобытности, а иногда и как средство самоиден-
тификации. В этом случае время мифологическое и исто-
рическое входят в оппозицию «свое» — «чужое», и соот-
ветственно историческое время трактуется негативно. Ис-
тория предстает как грубое вмешательство извне в жизнь
индейца, нарушение привычной связи времен, разрушение
устойчивого цикла обыденности, извращение первородно-
го бытия и т.п. Достаточно просмотреть ряд индихенист-
ских романов, чтобы заметить, что все они в сущности
строятся по единой сюжетной схеме, которую в двух сло-
вах можно определить как агрессию истории. Индейцы,
живущие в мифологическом циклическом времени, суще-
ствуют в мире обыденности, мире бессобытийном. Событи-
ем, то есть сюжетной завязкой романа, становится грубое
вторжение белых людей, «чужаков», как правило, стремя-
84
щихся отобрать у индейцев землю. «Цивилизованный че-
ловек (свой помещик или иностранец) становится вопло-
щением истории. В бессобытийном мифологическом мире
всякое событие предстает как агрессия «извне», связанная
с насилием, всякая перемена — как перемена к худшему.
Необратимое историческое время влечет за собою и необра-
тимые последствия, ибо после его вторжения гармоничес-
кая целостность мифологического времени уже не восста-
навливается.
Наряду с этой трактовкой, в том же индихенистском
романе встречается и другая, прямо противоположная.
Она появляется в том случае, когда писатель под влияни-
ем прогрессивных идей начинает критически переосмы-
сливать индейское мифологическое сознание, фиксируя в
нем не только привлекательные, но и негативные стороны.
Примечательна в этом отношении эволюция Астуриаса, от-
четливо заметная в его «Банановой трилогии»18. Если в
первом романе трилогии мифологическое сознание тракту-
ется в позитивном ключе,— более того, миф, в конечном
счете, побеждает историю (имеется в виду ураган, вызван-
ный колдовством), то в последнем романе отношение писа-
теля к мифологическому сознанию существенно меняется.
Астуриас воспринимает его как тормоз на пути прогрес-
сивных социальных преобразований; и потому — что ха-
рактерно — в первую очередь он старается развенчать ми-
фологическую модель времени, которую так увлеченно вы-
страивал в «Маисовых людях». Проблема времени стано-
вится в романе одной из важнейших. Просветительница
Малена Табай, выражая мысли автора, сетует: «Отста-
лость нашего населения вызвана также и тем, что у боль-
шинства жителей время вычеркнуто из календаря. Однако
никто не побеспокоился включить это большинство в наш
современный календарь; вот почему эти несчастные оста-
лись без календаря как бы вне времени» (VI, 132). Не слу-
чайно просветительская деятельность учительницы имеет
своей первостепенной задачей разрушение мифологичес-
кой модели времени: «А то, о чем я говорю, это — общее
ощущение отрыва от жизни из-за отсутствия механизма,
который заставлял бы людей жить дыханием нашей
эпохи. И, как вы заметили, в школе я пытаюсь в макси-
85
мальной степени напоминать механизмами о времени. По-
всюду... вы видите часы. По-моему, прежде всего здесь
надо механизировать время людей...» (122). Малене вто-
рят другие положительные герои романа. Историческое
время ассоциируется с бунтом, социальным сопротивлени-
ем, мифологическое — с покорностью, пассивностью.
Объективное историческое время оказывается столь же
враждебным и субъективному времени, с его способностя-
ми застывать, обращаться вспять и т.п. Индивидуальное
время приспособлено к духовным потребностям челове-
ка — вот почему оно дает человеку ощущение счастья, ус-
покоения. Объективное время, безжалостное и механисти-
ческое, может в одну секунду разрушить годами созидав-
шееся чувство успокоения, поэтому оно нередко трактует-
ся как жестокое, враждебное личности: «Меме вспоминала
с грустью. У меня было впечатление, что для нее движение
времени — личная утрата, словно в глубине души, надры-
вавшейся от воспоминаний, она не сомневалась, что если
бы время не двигалось, не кончилось бы и то странст-
вие...» (Маркес, I, 35). Субъективное время, связанное с
внутренней жизнью человека,— духовно, объективное —
механистично, и такое понимание позволяет противопо-
ставлять эти модели как время подлинное — времени лож-
ному: «Но она опять будет засыпать и снова будет грезить,
ибо разрушение снов-озарений машиной дневного време-
ни, которая ежедневно перемалывает подлинное внутрен-
нее время жерновами реальных действий, лишь ярче обри-
совывает, делает еще более отчетливым мир вечных мгно-
вений...» (Фуэнтес, V, 143). Внутреннее время далеко не
случайно связано с ночью, ложное — с днем: как будет по-
казано в дальнейшем, образ ночи нередко ассоциирован с
латиноамериканской подлинностью, а день — с европей-
ской чужеродностью.
Объективное время выявляет свою противоположность
и враждебность таким временным моделям, как время ос-
тановленное или время обратимое. Это вполне закономер-
но, поскольку указанные модели противоречат составляю-
щим характеристикам исторического времени: первая —
его непрерывности, вторая — необратимости. Собственно,
86
само появление этих моделей неизменно означает разрыв
регламентирующих канонов исторического времени.
Фактически получается так, что все специфические
временные модели латиноамериканской литературы выяв-
ляют себя именно в противопоставлении объективному ис-
торическому времени, тем самым обнаруживая парадок-
сальную зависимость от него. Эта зависимость ясно про-
глядывает в вышеприведенной цитате из Фуэнтеса: объек-
тивное время «лишь ярче обрисовывает... мир вечных
мгновений». Историческое время, ассоциированное с за-
падноевропейской культурой, воплощает общепринятую
норму, точку отсчета; все остальные временные модели яв-
ляют собою то или иное отступление от нормы, поэтому, в
конечном счете, они реализуются в русле поэтики сверх-
нормативности. По отношению ко всем прочим временным
моделям историческое время обычно выступает в образе
«чужого» — даже и в том случае, когда оно трактуется в
позитивном ключе, а парадоксальная зависимость от него
других моделей в определенной степени аналогична связи
категорий «свое» — «чужое».
Специфическое восприятие
2. Мифологическое время времени мифологическим со-
знанием достаточно полно
описано в трудах многих ученых, в том числе и русских19. В
качестве основных конституирующих черт мифологического
времени обычно выделяются две его особенности. Первая —
его обращенность в эпоху изначального: как писал Е. Ме-
летинский, «это время первопредметов, перводействий и
первотворения, оно отражено прежде всего в мифах творе-
ния — космогонических, антропологических, этногони-
ческих»20. По мысли Элиаде, мифологическое время имеет
Целью «аннулировать истекшее время, отменить историю
посредством постоянного возвращения во время оно, по-
средством повторения космогонического акта»21. Из этой
особенности органично вытекает другая — циклический
характер мифологического времени, которое организуется
Посредством архетипического повторения действий и риту-
алов, вечно возвращающих человека в мифическую эпоху
первотворения.
87
Модель мифологического времени получила очень ши-
рокое распространение в латиноамериканской литературе
XX в. В значительной мере это обусловлено существовани-
ем на континенте большого числа людей, которых в той
или иной степени можно назвать носителями мифологи-
ческого сознания. Наивно, однако, думать, будто индейцы
и негры сами по себе повлияли на распространение этой
временной модели. Она утвердилась в латиноамерикан-
ской литературе к середине XX в., а до той поры герои-ин-
дейцы и герои-белые пребывали в одном временном пото-
ке — в потоке исторического объективного времени. Ста-
новление модели мифологического времени в латиноаме-
риканской литературе происходило, с одной стороны, под
влиянием европейского интереса к примитивному созна-
нию, ярко вспыхнувшему в 10-е гг. XX в., а с другой сто-
роны, было обусловлено назревшей потребностью латиноа-
мериканских писателей углубить исследование своего
мира и обновить свои художественные средства. Природа и
индеец традиционно являлись наиболее предпочтительны-
ми объектами для воплощения константы инаковости.
Внешние, не свободные от декоративизма формы воссозда-
ния образа индейца, доминировавшие в латиноамерикан-
ской литературе с XVI по XX вв., исчерпали себя. Взгляд
перемещается с внешних атрибутов и социальных про-
блем — в сферу сознания; при этом сознание индейца
представляется как принципиально отличное от менталь-
ности цивилизованного человека. На это, в частности, ука-
зывает и то, что основной интерес многих писателей вызы-
вают мифологические дорационалистические черты созна-
ния индейца или негра, которые подчас предстают в пре-
увеличенном или утрированном виде. Естественно, что
при таком подходе на первый план выходит особое мифо-
логическое время, в котором пребывают герои этого типа.
Этот экскурс должен прояснить, что модель мифологи-
ческого времени в латиноамериканской литературе не сле-
дует воспринимать как прямое отражение особенностей
ментальности индейца или афроамериканца. Она скорее
выступает как отличительный объект самобытности, одно
из воплощений инаковости и тем самым как одно из
средств культурной самоидентификации.
88
Важно подчеркнуть, что модель мифологического цик-
лического времени, непосредственно связанная с мифоло-
гемой первозданности, далеко выходит за рамки индихе-
яизма или «магического реализма» и употребима и вне
всякого отношения к носителям примитивного сознания.
Привлекательность мифологического времени в не-
малой степени обусловлена и той поистине огромной зна-
чимостью, какую в латиноамериканской литературе при-
обрела тема прошлого. Тяга к прошлому, стремление «воз-
вратиться к истокам» — это наиболее устойчивая парадиг-
ма латиноамериканского художественного сознания (см.
далее). С ней соотносится и мифологическое время, вечно
возвращающее человека к истокам его мира и его рода.
Наконец, мифологическое время привлекает латиноа-
мериканских писателей своими моделирующими философ-
скими возможностями — тем же, чем она привлекала и за-
падноевропейских писателей XX в.— Кафку, Джойса,
Т. Манна и других. Ярчайший пример такого использова-
ния этой модели являет роман Гарсиа Маркеса «Сто лет
одиночества». Цикличность художественного времени ро-
мана вполне очевидна, собственно, об этом напрямую гово-
рится и в тексте: «... история этой семьи представляет
собой цепь неминуемых повторений, вращающееся колесо,
которое продолжало бы крутиться до бесконечности, если
бы не все увеличивающийся и необратимый износ оси»
(312). Один из основных лейтмотивов романа — время,
движущееся по кругу: «Урсула утвердилась в своем подо-
зрении, что время движется по кругу» (181); «... время
возвращается на круги своя... (311); «Амаранта почувство-
вала себя повторенной в чужой юности» (224) и т.д. Наря-
ду с этим лейтмотивом, в романе особую значимость обре-
тают образы круга, вращательного движения; с цикличес-
ким временем, возможно, соотносится и образ бабочки. В
романе ясно представлена и такая черта мифологического
времени, как деление времени на мифологические эпохи,
которые могут завершаться грандиозными катастрофами,
уничтожающими мир. Жизнь Макондо выстраивается как
смена эпох (эпоха первотворения, эпоха дождя, засухи,
владычества банановой компании и т.п.), а завершается
Космический цикл, как и положено в мифологии, катас-
89
трофой, стирающей Макондо с лица земли. Использовав
модели замкнутого пространства и мифологического вре-
мени, Гарсиа Маркес смог создать универсальную эсха-
тологическую метафору истории рода человеческого.
Должно заметить, что образ мифологического времени,
каким оно предстает в романе Гарсиа Маркеса, весьма не-
гативен (в отличие, к примеру, от «Маисовых людей» Ас-
туриаса, или, если говорить шире, от «Иосифа и его бра-
тьев» Т. Манна или «Улисса» Джойса). Цикличность мар-
кесовского времени оборачивается порочным кругом — не
случайно это выражение мелькает в романе (224). Еще
более определенно негативная трактовка циклического
времени выражена в романе Карпентьера «Превратности
метода». Мифологическое время связано с образом дикта-
тора: именно тиран обращает живое движущееся время в
мертвящей порочный круг: «История, которая была и его
историей, ибо он играл в ней определенную роль, повторя-
лась, ловила себя за хвост, пожирала самое себя, застыва-
ла на месте (...). Время словно замерло в военных мяте-
жах, в чрезвычайных положениях, отменах конститу-
ций...— и все это каждый раз выглядит как круговой ход
часовых стрелок, которые сегодня возвращаются к своему
вчерашнему положению, а вчера отмечали сегодняшнее
время» (127). Как видно, и Гарсиа Маркеса, и Карпентьера
более всего отталкивает в циклическом времени повторяе-
мость — как раз именно та черта, которая привлекала
идихенистов и нативистов с их культом «обыденности». В
их трактовках повторяемость и цикличность представали
выражением гармонии, устойчивости, естественной разум-
ности соприродного бытия («... и все опять так, как было
вчера, как было всегда и всегда будет».— Алегрия, I, 146),
а любого рода нарушение цикличности означало грубое
вмешательство извне, насилие, катастрофу.
В заключение упомянем еще об одном, весьма необыч-
ном варианте использования модели мифологического вре-
мени, когда она настолько глубоко внедрена в художест-
венную структуру произведения, что может быть различи-
ма лишь при специальном исследовании. Речь идет о рома-
не Фуэнтеса «Смерть Артемио Круса». В статье, опублико-
ванной на русском языке22, мексиканка Д. Мендоса прове-
90
ла скрупулезный анализ числовой символики романа и
убедительно доказала, что писатель выстроил биографию
своего героя в полном соответствии с древним ацтекским
календарем и космогоническими представлениями ацте-
ков. В данном случае сознательное использование мифоло-
гического времени, имея ярко выраженный эксперимен-
тальный характер, призвано утвердить культурный дуа-
лизм мексиканской нации и является одним из вариантов
«возвращения к истокам».
Эта модель представлена в двух
3. Время остановленное основных вариантах или образ-
ных решениях: время останов-
ленное, застывшее и время уничтоженное, исчезнувшее
(примеры см. далее). Эти модификации в сущности иден-
тичны, так как обе основаны на отрицании движения вре-
мени. Время вечности как бы застывает в непрестанном
настоящем, время застывшее — по сути дела, время несу-
ществующее, уничтоженное. Поэтому опорной характерис-
тикой данной модели можно назвать атемпоральность.
Остановленное время, как видно, противостоит объек-
тивному историческому времени с его необратимым линей-
ным движением. Отчасти именно этим объяснимо распро-
странение этой модели в латиноамериканской литературе.
Разумеется, даже при негативной трактовке историческо-
го времени писатель не способен полностью исключить эту
«нормативную» европейскую модель при художественном
воссоздании латиноамериканского космоса. Но при этом
он испытывает потребность обозначить и выделить некие
специфические аномальные состояния героя, продуциро-
ванные именно латиноамериканским миром. Такое само-
ощущение и призвана передать модель атемпоральности,
органически связанная со многими мифологемами, о кото-
рых говорилось ранее.
Время «останавливается» под воздействием различного
рода причин, но нетрудно заметить, что все эти обстоя-
тельства так или иначе связаны с бытием латиноамерикан-
ского мира. Начать с того, что модель атемпоральности
возникает из модели циклического мифологического вре-
мени. Действительно, при бесконечном повторении одного
91
и того же круг времени сужается до точки — полной оста-
новленное™. Именно таким нередко представляет Астури-
ас мифологическое время индейцев в романе «Глаза погре-
бенных»: «... здесь человек — существо вне времени...»
(118); «Время здесь не ощущается, оно не существует»
(120). Мифологическая трансформация героя или его по-
гружение в стихию мифа также могут осмысляться в обра-
зе «ухода» от объективного времени. Так, например, Ничо
Акино из «Маисовых людей» перевоплотился в койота — и
«для него время кончилось» (216).
Далее, модель остановленного времени прочно связана
с латиноамериканским пространством, которое не подвер-
жено давлению времени, пребывает в вечности и своей не-
зыблемостью отвергает историю: «Одни только горы.., они
одни сторожили время — застывшее, непримиримое и
вечно живое время вне времени...» (Карпентьер, VII, 70);
«И в этом краю, где земля призрачна / время не движется,
а размышляет». (Каррера Андраде, 247). Герой Фуэнтеса,
А. Бирс, переступив границу, попадает в «иное», «запре-
дельное» пространство и соответственно покидает объек-
тивное время: «Теперь его жизнь текла вне времени, как
капля дождя по одному оставшемуся осеннему листику,
когда неизвестно, что упадет раньше: листок или капля»
(V, 160). Некоторые модельные локусы латиноамерикан-
ского пространства также пребывают в атемпоральнос-
ти,— как, например, селение Лувина в рассказе Рульфо:
«Вы приезжаете туда и время для вас как бы останавлива-
ется» (104). Притом атемпоральность можно с полным
правом назвать обязательным свойством сакральных цент-
ров латиноамериканского пространства. Это естественно:
ведь сакральный центр не должен быть подвержен измене-
нию, он возрождает прошлое, переводя его в план вечного
настоящего. Показательно, что город Святой Моники рас-
положен в Долине Остановившегося Времени (Карпентьер,
III). Остановилось время и в комнате Мелькиадеса: «Хосе
Аркадио Буэндиа... единственным в доме обладал доста-
точной ясностью ума, позволившей ему постигнуть ту ис-
тину, что время в своем движении тоже сталкивается с
препятствием и терпит аварии, и потому кусок времени
92
может отколоться и навечно застрять в какой-нибудь ком-
нате» (Гарсиа Маркес, V, 276).
Добавим к сказанному, что субъективное время, харак-
терность которого в том и состоит, что оно способно соче-
тать любые временные модели, также дает эффект атемпо-
ральности. В латиноамериканской литературе такое само-
ощущение возникает у героев чаще всего при соприкосно-
вении с природой и прошлым.
Модель остановленного времени, ассоциированная со спе-
цифически латиноамериканскими формами бытия, символи-
чески обозначает неизменные сущности (автохтонную куль-
туру, пространство, природу, прошлое и т.д.). Укоренение
этой модели времени в латиноамериканском художествен-
ном сознании выражает стремление художника к поиску ос-
новополагающих сущностей в своем мире, незыблемых куль-
турных опор. Наряду с этим, мотив остановленного времени
содержит в себе и значимый элемент культурного самоут-
верждения, представляя латиноамериканский мир как мир
вневременных, вечных ценностей.
Эта модель, довольно распро-
4. Время интегрирующее страненная в латиноамери-
канской литературе XX в.,
«реинкарнирует» прошлое и представляет прошлое и настоя-
щее (иногда и будущее) существующими слитно, как прави-
ло, в настоящем. Отрицая необратимое и непрерывное дви-
жение объективного исторического времени, эта модель в
определенной степени соотносится с моделью остановлен-
ного времени. Принципиальная разница состоит в том, что
интегрирующее время вовсе не отвергает идею движения,
она не приемлет лишь концепцию прошлого как уже несу-
ществующего и будущего как еще неосуществленного.
Тем самым утверждается нерушимая связь времен, кото-
рая представляется в метафорических, обычно фантасти-
ческих образах. Вполне очевидно, что интегрирующее
время соотносится с моделью разомкнутого интегрирую-
щего пространства и выражает культурную открытость
континента.
Эта временная модель впервые была разработана в ис-
пано-американском модернизме (хотя аналоги ее встреча-
93
лись и ранее — например, в поэзии неоклассицизма). Как
показал Ю. Гирин, модернизм воссоздает латиноамерикан-
ское бытие в инобытийных формах, используя, парафрази-
руя и актуализируя различные элементы мировой культу-
ры23. Эта особенность модернистской поэтики нередко про-
является в смелом смешении реалий прошлого и настоя-
щего в лоне некоего единого культурного пространства и
нерасчленимого времени.
Ярчайшего воплощения образ интегрирующего времени
достигнут в поэтическом цикле «Пасха времени» (1900) уру-
гвайского модерниста X. Эрреры-и-Рейссига. Поэт представ-
ляет «Его Величество Время» (так озаглавлено первое стихо-
творение цикла) в образе «Старого всеобъемлющего Патриар-
ха». Время воскрешает знаменитых людей и мифологичес-
ких персонажей и сводит их на грандиозном празднестве.
Исторические и мифологические имена и реалии, взятые из
различных эпох, стран, культур, буквально перенасыщают
стихотворения. Эти имена мелькают как блестки культур,
их немыслимое алогичное смешение создает впечатляющий
образ культурной протоплазмы человечества. Образ вселен-
ского карнавала позволяет Эррере выразить идею интегра-
ции человеческой культуры, а также ярко воплотить прин-
цип травестийности, столь характерный для художественно-
го мышления испаноамериканских модернистов.
Развитие модели интегрирующего времени в латиноа-
мериканской литературе XX в. диктовалось как ясным
осознанием культурной открытости и интегрирующих по-
тенций латиноамериканской культуры, так и все возраста-
ющим интересом к прошлому, в котором латиноамерикан-
ский писатель традиционно искал точку опоры для куль-
турной самоидентификации. Мотив агрессии или материа-
лизации прошлого, о котором будет сказано в дальнейшем,
может реализоваться лишь в интегрирующем времени;
также и темпоральность латиноамериканского пространст-
ва (см. I, В, 9) способна выявлять мгновенные, как бы
пульсирующие связи времен.
Яркий образ интегрирующего времени создан в стихо-
творении Неруды «Загадка для беспокойных» (II, 398).
Примечательно, что интегрирующее время выявляется в
94
противоположении времени объективному, трактуясь как
его провал, нарушение:
«Я в будущем году, в одном из дней,
попробую найти особый час,—
час необычной водопадной масти,
час никогда нигде не протекавший,—
на уровне, где время прохудилось,
открыв окошко, лаз, через который
мы проскользнули бы, достигнув дна.
Ну что же, этот день и этот час
придут и все изменят — с этих пор
мы не узнаем, смерклось ли Вчера
и можно ли считать то, что грядет,
тем, что ни разу не было на свете.
Снесенный этими часами час
не сможет унести никто из смертных —
так время будет поймано, и мы,
в конце концов, узнаем, где начало
и где конец любой судьбы и жизни,
поскольку этот смеркшийся фрагмент
откроет нам все целостное Время,—
так насекомых узнают по лапке» (...)
В повести Карпентьера «Концерт барокко» интегрирую-
щее время представлено — что необычно — не как «лаз» в
объективном времени либо его полная отмена, а в образе
невероятно «убыстренного» исторического времени. Такой
ход отчасти вызван необычной направленностью интегра-
ционных процессов: не прошлое привносится в настоящее
(наиболее распространенный вариант), а будущее привно-
сится в прошлое. Образ исторического времени воплощают
часы на Часовой башне с механическими маврами, кото-
рые выполняют «давнюю свою обязанность измерять
время» (434); но с каждым ударом молоточков «мера вре-
мени» все расширяется, и вот «еще раз — который раз за
века? — пробили молотками время мавры на Часовой баш-
не» (445), и герои, не порывая с прошлым, начинают одно-
временно существовать и в будущем.
Особую значимость модель интегрирующего времени
приобрела в творчестве К. Фуэнтеса, где она выражается
95
как открытым текстом, так и в сюжетах и композиции ро-
манов, в первую очередь — романа «Teppa Ностра», тему
которого составляет связь прошлого с настоящим в их про-
екции в будущее. Писатель представляет историю и время
не как демокритову реку, куда нельзя войти дважды, а
скорее как некий громадный замкнутый водоем, откуда
ничто и никуда не утекает — ни мысли, ни деяния, ни ма-
териальные объекты,— и куда можно «входить» сколько
угодно. Эта концепция ясно выражена устами одного из
героев романа, иудейского мудреца: «Каждое слово несет в
себе груз забытья и воспоминаний, чаяний и крушений на-
дежд.., каждое произнесенное нами слово одновременно
возглашает слово неизвестное — забытое, и неизвестное —
желаемое. То же самое происходит с нашей телесной обо-
лочкой, и вся материя несет в себе ауру прошлого и ауру
будущего» (545). Роман пронизан разветвленной символи-
кой чисел, основу которой составляет число три: «Это самое
полное число. Сочетание трех времен. Настоящее, прошед-
шее, будущее. Все заключает. Все начинает вновь» (533).
Гротескный роман А. Поссе «Райские псы» также цели-
ком основан на модели интегрирующего времени. Реалии
XVI и XX в. смешиваются в нем последовательно и наро-
чито. Кроме того, интегрирующее время получает в нем и
чисто пространственное выражение: это некая область в
океане, «маленький пятачок вечного круговращения вре-
мен» (10), куда различными течениями выносятся матери-
альные объекты — знаки европейских и американских
культур разных эпох.
Одним из выражений модели интегрирующего времени
в латиноамериканском художественном сознании стал
полифункциональный мифообраз дерева: его корни мета-
форически означают прошлое, а ствол и крона — настоя-
щее, устремленное в будущее.
Модель обратимого времени отчасти
5. Время обратимое аналогична модели интегрирующе-
го времени, а иногда в своем куль-
турологическом содержании дублирует ее. Особенность об-
ратимого времени состоит в том, что акцент ставится не на
связи времен, а на движении, которое предстает однона-
96
правленным: от настоящего к прошлому и метафорически
обозначает одну из базовых парадигм латиноамериканско-
го художественного сознания: стремление обратиться к ис-
токам, нащупать свой культурный «корень», восстановить
связь времен и тем самым обрести культурную целостность.
Модель обратимого времени, равно как и его символи-
ческая сущность, наиболее отчетливое выражение нашли в
рассказе Карпентьера «Возвращение к истокам». Время
безостановочно движется назад, преобразуя пространст-
венные объекты, превращая старика — в младенца; и вот —
желанный апофеоз: вещи «срывались с мест и летели
сквозь ночь к своим древним корням в дремучей сельве.
Все таяло, плавилось и бурной широкой рекой... низверга-
лось на землю. Все преобразовывалось, возвращаясь к
своему первобытному состоянию» (IX, 34). В этих строках
запечатлен и творческий опыт самого Карпентьера, кото-
рый в поисках самообретения обращался к древним кор-
ням, к земле, соответствующим образом «переплавляя»
находки европейской культуры. В прозе Карпентьера мо-
дель обратимого времени присутствует почти во всех про-
изведениях — если и не в открытом, то в завуалированном
виде, в качестве типового сюжета обращения героя к про-
шлому. Духовная одиссея Ти Ноэля завершается слиянием
с первопредками, когда он «ощутил себя таким древним,
будто прожил века и века» (II, 103). В «Веке Просвеще-
ния» стихия первозданного (природы) притягивает к себе
героев; приплыв в Америку, Колумб открывает мир перво-
бытный, то есть как бы совершает путешествие в прошлое;
в «Весне Священной» этот сюжет сопряжен с тематикой и
содержанием балета Стравинского: упорное стремление ге-
роини осуществить постановку балета, помимо прочих
смысловых нюансов24, метафорически означает движение
человека к истокам.
Модель обратимого времени лежит и в основе повести
Рульфо «Педро Парамо». Герой приезжает по завету мате-
ри в Комалу, и для него «время словно бы потекло вспять»
(190). Действие повести, начавшись в настоящем, посте-
пенно, как бы по кругам спирали, нисходит в прошлое, все
глубже и глубже, и в прошлом же завершается.
97
В «Сыне человеческом» Роа Бастоса обратимое время
представлено в необычком символическом образе. После
взрыва, погубившего сотки людей, деревню восстанавлива-
ют и воздвигают разрушенную колокольню с часами.
«Только зти часы показывают время наоборот: каменщик
вделал их в стену вверх ногами» (I, 64). Время в Сапукас и
должно течь вспять, поскольку есть в нем сакральный
локус (холм с распятием), означающий вечно актуальную
эпоху первоначала, и есть в нем тайное захоронение чело-
веческих костей (см. дальше), которые всегда будут «при-
тягивать» к себе время.
В темпоральном латиноамериканском пространстве,
изобилующем «провалами» в прошлое, модель обратимого
времени может постоянно возникать по ходу действия,
прерывая настоящее.
Валено отметить, что обратимое время неизменно свя-
зывается с латиноамериканским миром, восприкимаясь в
качестве его специфической принадлежности. Тем самым
оно выражает константу инаковости: «Неожиданно пред-
стала передо мной Америка, и трудно понять ее (...). Я
оказался на перепутье, я видел два потока, время текло
вперед и назад, я познал обратимость времени. Здесь, в
Мексике... здесь я впервые ощутил, что живу в обратимом
времени» (Карпснтьер, VII, G9—70).
Та настойчивость, с какой латиноамериканские писате-
ли пытаются восстановить связи времен в моделях обрати-
мого и интегрирующего времени, свидетельствует о внут-
реннем ностальгическом ощущении прервашюсти времен.
Ведь зти модели выралсают не столько утверждение про-
шлого, сколько его поиск и попытку обретения. Действи-
тельно, ни о/ща из западноевропейских стран не пережила
такого грандиозного исторического разлома, какой испы-
тала Америка в зпоху конкисты, перечеркнувшей предше-
ствующее развитие автохтонных цивилизаций. Такого
ощущения исторической прервашюсти в целом по наблю-
дается в североамериканской литературе, поскольку севе-
роамериканская цивилизация в основном отторгла индей-
ский субстрат (преемственность с английской культурой
была для нес всегда важнее) и строилась как бы на голом
месте. И если для североамериканцев колонизация мыс-
98
лится только как эпоха первоначала, то латиноамерикан-
цы воспринимают конкисту двояко: и как «начало», и как
«конец» (а нередко и как «начало конца»). Именно в авто-
хтонных культурах латиноамериканцы стремились найти
свои корни, поэтому исторический разлом XVI в. обретал в
их сознании огромную значимость, сублимируясь в худо-
ясественноопосредованных формах.
С. ПРОШЛОЕ
У читателя может возникнуть
1. Притяжение прошлого резонное недоумение: почему
из трех временных измерений
в особый раздел выделяется прошлое, тогда как настоящее
и будущее отдельно не рассматриваются? Многие из пред-
шествующих рассуждений и выводов должны были дать
ответ на этот вопрос. Ни настоящее, ни будущее не имеют
для латиноамериканского художественного сознания той
значимости, какую имеет прошлое, а главное, не дают тех
специфических трактовок и мифологем, которые интересуют
нас в первую очередь. В этом смысле латиноамериканский
образ времени аналогичен латиноамериканскому простран-
ству, как бы «распластанному» по земле и тяготеющему «во-
внутрь». Настоящее и прошлое в сущности образуют ту же
связь, что наружное и внутреннее, с той только разницей,
что священные области прошлого оказываются куда более
доступны для любого человека (в том числе и «непосвящен-
ного»), чем внутренние сакральные пространства.
Почти все из рассмотренных выше мифологем прямо
или косвенно связаны с темой прошлого. Особое внимание
следует обратить на связь темы прошлого с константой
инаковости. Прошлое — это именно то, что прежде всего и
принципиально отличает латиноамериканскую цивилиза-
цию от североамериканской: как говорит один из героев
Фуэнтеса, «у Мексики есть руины; а у Соединенных Шта-
тов есть помойки» (VIII, 276). Что же касается противопо-
ставления европейской цивилизации, то в этом случае про-
шлое трактуется в оппозиции «свое» — «чужое» либо вы-
водится за пределы человеческой истории — к праисто-
рии, эпохе сотворения мира.
99
В латиноамериканском художественном сознании про-
шлое выступает как важнейшее средство самоидентифика-
ции. Типовой сюжет восхождения героя к прошлому неиз-
менно подразумевает поиск человеком своей сущности, в
том числе и культурной основы. Возникает вопрос: о ка-
ком прошлом конкретно идет речь? Пожалуй, только в ин-
дихенистском романе оно обретает конкретные очертания
доколумбовой культуры, с которой отождествляет себя
герой-индеец. Но тема прошлого далеко выходит за рамки
индихенизма. Нетрудно заметить, что чаще всего прошлое
никак не конкретизируется, обозначаясь устойчивым на-
бором понятий «древность», «корни», «истоки» и соответ-
ствующим набором определений. Относятся ли эти номи-
нации к автохтонным культурам? Отчасти да, ибо именно
они придают американской истории уникальность, само-
бытность и культурное содержание. И все же думается,
что в своем представлении о прошлом латиноамерикан-
ский писатель уходит гораздо глубже — за грань истори-
ческого времени, к мифической точке начала времен. Она,
как говорилось, соответствует образу эпохи претворения
латиноамериканской культуры и цивилизации — тому де-
миургическому акту, каким стало первое преодоление «пре-
дела» (океана) и открытие Нового Света. Это был сакраль-
ный акт созидания новых сущностей. А кроме того, такая
начальная точка во времени — абсолютна, неподвижна и ус-
тойчива, и именно благодаря этим характеристикам она ока-
зывается столь потребна и притягательна. В прошлом лати-
ноамериканский писатель ищет устойчивость, основу, плат-
форму для выстраивания образа себя и своего мира.
Тема притяжения прошлого выражается в широком
спектре устойчивых мотивов. Человек в его отношениях с
прошлым может исполнять различные роли, от самых ак-
тивных до самых пассивных. Выше уже упоминалось о мо-
тиве обращения к истокам. Поиск своих «корней» бывает
вполне осознанным (как у большинства героев Карпентье-
ра), но часто он протекает и в бессознательных, интуитив-
ных формах, иногда трактуясь как фатальная предопреде-
ленность мышления героя. Интуитивный поиск истоков
может представать как «процесс углубления тоски по про-
шлому» (Маркес, V, 316), а чаще он опосредованно выра-
100
ясается в столь свойственной латиноамериканскому ху-
дожнику способности увидеть прошлое в настоящем и
ощутить его присутствие рядом с собой: «... И древняя тос-
ка моя...»; «... мой древний первобытный лес...»; «Древ-
ние воины / с натруженными руками,— они здесь, рядом с
нами...» (Гильен, 134, 80).
В ряде мотивов прошлое играет активную роль по отно-
шению к герою, который лишь испытывает на себе его воз-
действие. Различные степени воздействия прошлого, от са-
мых мягких до самых жестких, в некоторой мере соотносят-
ся со «шкалой» воздействия на человека пространства (см. I,
Д, 1). Так, устойчивые мотивы «зова», «голоса», «дыхания»
прошлого аналогичны мотиву «зова» пространства. Голос
прошлого может исходить «извне» — от камня, реки, дома и
др., в том числе и от другого человека: «От рассказов стари-
ка по спине у нас бегали мурашки ... Дыхание тех непости-
жимых времен исходило из древних уст и опаляло нам
лица» (Роа Бастос, I, 28). Но столь же часто голос прошлого
звучит «внутри» человека: «Не в силах говорить я,/ но во
мне / кричит давно скончавшаяся эра, / и времена ушедшие
встают...» (Гильен, 142). Обычно этот внутренний голос про-
шлого пробуждается как раз при соприкосновении с внеш-
ними объектами — символами прошлого, а также он посто-
янно сопровождает анималистические мотивы (человек-
зверь, женщина-зверь) и любовные сцены.
Как и «зов» пространства, прошлое способно притяги-
вать человека, манить, завораживать, полностью подчи-
нять его: «Да, я из тех людей, у которых нет будущего...
Они все время ворошат прошлое и тоскуют по его завора-
живающим картинам» (Роа Бастос, I, 316). Либо — оттор-
гать человека от людского сообщества, как героя «Палой
листы» Маркеса: «Он жил среди людей Макондо, отделен-
ный от них памятью прошлого...» (58). Интересную трак-
товку мотива «чар» прошлого представляет повесть Хосе
Доносо «Похороненные мечты». Ее герой, небогатый моло-
дой человек Освальдо, тратит огромные деньги, чтобы по-
хоронить прах отца не во временной нише (захоронение
для бедняков, которые могут оплатить лишь временное со-
держание урны с прахом в колумбарии, после чего прах
выкидывается), а в постоянной нише. На этой символичес-
101
кой оппозиции «временная ниша» — «постоянная» стро-
ится художественный мир повести. По чистой случайности
Освальдо узнает, что приходится дальним родственником бо-
гатому семейству и имеет право после смерти занимать нишу
в фамильном склепе. Отныне все помыслы, все силы юноши
направлены на то, чтобы утвердить свое право в будущем по-
коиться в фамильном склепе. «Готовы ли они признать в нем
родного, подать ему на бедность хоть кусочек прошлого,
чтобы он смог вырваться из пустоты безымянного городского
настоящего, которое отец предлагал ему как единственный
возможный вариант?» (499). Маниакальная устремлен-
ность Освальдо метафорически воплощает потребность
героя утвердиться в прошлом, найти незыблемую точку
опоры. Фамильный склеп как раз и символизирует эту
точку опоры: «... после свадьбы они с Освальдо станут за-
конными владельцами склепа, а это и есть недвижимость»
(511). Но, подобно тому, как сакральный центр в «Выиг-
рышах» Кортасара оказывается пуст (см. I, С, 2), так и не-
зыблемая точка опоры в прошлом, спроецированная в бу-
дущее, оборачивается миражом, и потеряв жену, состоя-
ние, время, Освальдо исчезает в тумане.
Мотиву «давления» пространства аналогичен устойчи-
вый мотив «груза прошлого». В западноевропейской лите-
ратуре этот, также весьма распространенный мотив, как
правило, базируется на категории «совести» и имеет отчет-
ливо выраженную этическую направленность (то есть речь
идет о «грузе» индивидуального прошлого); в латиноаме-
риканской же литературе этическое содержание мотива
почти всегда неотрывно от его культуростроительного
смысла, поскольку чаще всего прошлое мыслится не столь-
ко индивидуальным, сколько коллективным наследием.
Например, Артемио Крус, осмысляя свое прошлое, гово-
рит себе: «В тебе все: индейцы, говорящие на разных язы-
ках.., индейские танцы, свирель и барабан, виуэла и гита-
ра...» (далее перечисляется множество индейских, испан-
ских и мексиканских реалий). «Ты все это несешь в себе и
оно давит на тебя, могильные плиты слишком тяжелы для
одного человека, они вечны и неподвижны, а ты несешь их
на себе, сгибаешься под тяжестью... (Фуэнтес, III, 350—
351). «Груз» прошлого с его абсолютным доминированием
102
коллективного, культурного начала, закономерно сливает-
ся с категориями рока, судьбы. Подобно тому, как прост-
ранство способно предопределять внутренний облик челове-
ка, так и прошлое фатально формирует характер и судьбу ге-
роев. Это отчетливо видно на примере этнотипических ге-
роев (гаучо, льянеро и т.п.), которые как бы вынуждены
регламентировать свои характеры под давлением тради-
ции. Эта же особенность трактована в русле поэтики сверх-
нормативности в романе «Сто лет одиночества»: изначаль-
но заданные парадигмы мужской и женской «одержимос-
ти» упорно повторяются в новых поколениях рода Буэн-
диа. В. Земсков замечал: «Все Буэндиа тяготеют к инцес-
ту, а следовательно, к повторяемости родовых черт, и все
они зеркально воспроизводят черты первопредков, что
подчеркивается повторяемостью родовык имен, а особенно
мотивом близнечных пар, которых путают»25.
Давление прошлого уже содержит в себе ощутимый эле-
мент агрессивности; нередко он проступает наружу, реали-
зуясь в мифологическом мотиве агрессии прошлого —
когда оно оказывается способным не только поработить че-
ловека, но и убить его. Напомним, к примеру, эпизод из
«Превратностей метода» Карпентьера. Во время одного из
военных походов диктатор обнаружил в «сакральном про-
странстве» пещеры древнее захоронение; мумию он вывез
в Париж и подарил этнографическому музею Трокадеро.
На склоне лет, живя в изгнании в Париже, он случайно за-
брел в музей, увидел мумию — ив этот самый момент с
ним случился апоплексический удар. На самом деле, как
явствует из романа, вовсе не апоплексический — а удар
прошлого, месть тому, «кто посмел нарушить его покой»
(315). В рассказе Фуэнтеса «Чак Мооль» наваждение про-
шлого явлено уже в материализованной форме. Герой рас-
сказа, собиратель индейских древностей, покупает извая-
ние майасского бога дождя, которое оживает и начинает
диктовать свою волю хозяину. «Должен признать: я его
пленник. Мой первоначальный замысел был совсем иным:
я собирался владеть Чак-Моолем, как владеют игруш-
кой...» (390). Нет, с прошлым нельзя играть (а Чак-Мооль
к тому же олицетворяет субстратную индейскую культу-
ру); индейское божество, в конце концов, убивает героя и
103
овладевает его домом и именем. В этом символическом сю-
жете явлена судьба индейской культуры в лоне латиноаме-
риканской: когда-то умертвленная европейцами, она в
XX в. «оживает» и становится ориентиром самоопределе-
ния латиноамериканской культуры.
«Истина и тайна; прошлое,
2. Воплощения прошлого ощутимое сквозь неощути-
мость, живущее в том, чего
не коснешься,— в воздухе, которым ты дышишь, в воде,
которую пьешь, в корнях огромных деревьев, в скелетах
подводного кладбища, в глазах старика, кивавшего, слов-
но мертвый, хотя он сладко спал» (Астуриас, VIII, 16).
Именно так: латиноамериканский художник способен (и
жаждет) ощутить прошлое повсюду — и не только в том,
чего не коснешься, но и в осязаемых реалиях и предметах.
Образные воплощения прошлого в латиноамериканской
литературе необычайно множественны и разнообразны, но
мы выделим лишь наиболее устойчивые и специфичные.
Не стоит говорить об исторических памятниках — их
связь с темой прошлого вполне очевидна и сообразуется с
европейской традицией. Может быть, именно поэтому в
латиноамериканской литературе соборы, руины и пирами-
ды занимают далеко не такое место, как в европейской.
Латиноамериканец ищет свои, особые формы воплощения
прошлого: напомним, кстати, и то, что латиноамерикан-
ский художник стремится обрести точку опоры, как пра-
вило, не в исторической эпохе, а в мифической эпохе пер-
воначала. Вот почему важнейшими образными воплоще-
ниями прошлого он избирает природные элементы. Это
прежде всего — земля: «Позади лежала целая жизнь, при-
вычная, как земля, от которой неотторжимо прошлое, ибо
человека трудно отделить от земли» (Алегрия, III, 212). В
стихотворении Неруды «Земля» очень ясно выражена пер-
вичность образа земли по отношению к историческим па-
мятникам: «Я вижу монументы старины, / их древние,
ободранные камни, / но если я к их шрамам прикасаюсь, /
я чувствую твое живое тело, / и, потрясенный, кончиками
пальцев / я узнаю твою пылающую сладость» (I, 176).
Туда же, в землю, уходят и корни — самый распростра-
104
ненный символ прошлого и культурной устойчивости (см.
гл. П). Соответственно, и дерево мыслится как символ
связи настоящего с прошлым: «Вглядевшись в дерево, это
услышу / из глуби веков выходящий спящий голос» (Кар-
рера Андраде, 247). Образными воплощениями прошлого
служат любые элементы природного мира, связанные с
землею: река, сельва, камень, гора, растение.
Весьма специфичным воплощением прошлого стал об-
раз человеческих костей получивший очень емкое напол-
нение. Притом, подчеркнем, человеческие кости часто фи-
гурируют вовсе не в умозрительном, метафорическом смыс-
ле,— а представляются вещно и осязаемо. Глава Нации
перевозит кости в музей Трокадеро (Карпе*нтьер, VI); Ху-
амбо носит кости руки своего усопшего отца, используя их
«магические» свойства (Астуриас, VI); Ребека из «Ста лет
одиночества» является в дом Буэндия с парусиновым меш-
ком, где лежат, кости ее родителей. «... Мешок с костями
спрятали до тех пор, пока не появится достойное место для
захоронения, и еще долго он попадался под руку в самых
разных местах, там, где его меньше всего предполагали об-
наружить и всегда со своим «клок, клок, клок», похожим
на кудахтанье сидящей на яйцах курицы» (42). Кости ро-
дителей далеко не случайно ассоциированы с образом на-
седки: они воспринимаются именно как животворная суб-
станция; прошлое порождает будущее, саму жизнь. Еще
яснее эта трактовка мотива заявлена Астуриасом: «Ведь
это кости предков питают маис» (III, 162). Кости предков,
олицетворяя прошлое, соотносятся и с «внутренним» сак-
ральным пространством, наполняя и организуя его: «Тебе-
то видны только лавки, народ, толкучка.., а ведь внизу
лежат мертвые, кости ихние...» (Астуриас, V, 348); «Чем
глубже яма, тем сильнее запах сырой земли, тем чаще по-
падаются пожелтевшие от времени кости» (Алегрия, I,
115). Вернемся в этой связи к соотношению внешнего и
внутреннего в латиноамериканском пространстве: кости
предков, разумеется, являются сакральным предметом, но
вместе с тем нет ничего зазорного в том, что их извлекают
Наружу, держат, носят. Отметим еще одну многозначи-
тельную деталь. В европейской (в том числе и русской)
традиции вообще не принято говорить о костях умершего;
105
говорят о теле усопшего, а чаще всего об останках. Лати-
ноамериканский художник выделяет кости усопшего
именно потому, что они нетленны, тем самым выдавая
стремление обрести в прошлом незыблемую точку опоры.
Этот смысл отчетливо явлен в названии стихотворения
К. Чангмарина «О, широкие кости, фундамент, опора
моя», где, в частности, есть такие строки: «И когда, вдруг
оставив дела, умирают тела, / белой памятью вы на земле
остаетесь навечно» (I, 97).
Кости предков — это вещное воплощение прошлого, ду-
ховным же его воплощением является память, один из
важнейших мотивов латиноамериканской литературы.
Этот мотив, не имевший ни специфического содержания,
ни особой распространенности в литературе колониальной
эпохи, обретал свою значимость по мере того, как происхо-
дила переоценка индейского наследия континента. В лати-
ноамериканском художественном сознании память, как и
прошлое, выражает не столько индивидуальное, сколько
коллективное начало и выступает как культурологическая
категория. Память осуществляет связь человека с про-
шлым и с землею: «Мы связаны с этой землей памятью о
давно умерших, чьи кости не сыщешь и на глубине в двад
цать локтей» (Гарсиа Маркес, I, 90). Тем самым память
способна олицетворять ту точку опоры, к которой стремит-
ся латиноамериканский писатель: «Родной очаг — это па-
мять. А память — единственная подлинность, и потому па-
мять и есть наш очаг» (Фуэнтес, VIII, 198), Дублируя
образ прошлого, мотив памяти становится одним из кос-
венных выражений константы инаковости: «... гринго по-
нимал, что Арройо вспоминает прошлое, а сам он всего
лишь начитан об их прошлом...» (Фуэнтес, IX, 154). Нако-
нец, память способна создавать свое собственное время,
противопоставленное объективному историческому време-
ни. Воспоминание может продуцировать любую из специ-
фических временных моделей латиноамериканской лите-
ратуры. Циклическое мифологическое время, в конечном
счете, базируется на памяти об эпохе первоначала, интег-
рирующее и обратимое время также своей движущей пру-
жинной может иметь воспоминание; но, как показывает
текстологический анализ, чаще всего память создает модель
106
остановленного времени: «Дожив до ста сорока пяти лет,
она отказалась от пагубного обычая вести счет своим годам
й начала жить в обособленном, как глухая улочка, непо-
движном времени воспоминаний, где будущее было без-
ошибочно предсказано и раз навсегда установлено — в от-
личие от того зыбкого будущего, которое основывалось на
ненадежных предположениях и догадках карт» (Гарсиа
Маркес, V, 311).
Противоположность памяти, прошлому — амнезия, ко-
торая практически всегда в латиноамериканской литера-
туре трактуется как величайший грех и несчастье. В за-
падноевропейской литературе, наряду с этой, сосуществу-
ет и другая трактовка, рожденная мотивом «тяжкий груз
воспоминаний», представляющая забывание как благо, ос-
вобождение, извлечение и т.п. Такое отношение к амнезии
обусловлено в первую очередь тем, что в европейской лите-
ратуре память функционирует главным образом как катего-
рия индивидуального сознания, связующая человека с его
прошлым. В латиноамериканской литературе нарушение
памяти предстает как нарушение естества, подлинности,
отказ от своего культурного наследия, измена традиции.
Мотив амнезии пронизывает роман «Сто лет одиночест-
ва». Дважды город Макондо поражает «эпидемия» амнезии:
первый раз в эпоху первотворения, когда люди забыли на-
звания вещей, второй раз — после массового расстрела. Но и
вне этих «повальных эпидемий», жители города подверже-
ны медленной и необратимой эрозии памяти: «Вялые медли-
тельные люди не могли противостоять ненасытной прожор-
ливости забвения, мало-помалу безжалостно поглощавшего
все воспоминания» (273). Может быть, именно забвение про-
шлого вечно возвращает его на круги своя, превращая исто-
рию в дурную повторяемость. Город, утративший память, об-
речен, ибо он лишился почвы, основы, фундамента,— и по-
тому с такой легкостью ветер сносит его с лица земли.
Дополнительные нюансы восприятия прошлого латино-
американским художником раскрываются в его отноше-
нии к природному миру — миру незыблемому, нетленно-
му, вечному. Анализу мифологем, связанных с латиноаме-
риканским природным миром, посвящена следующая гла-
ва книги.
107
Глава вторая. ПРИРОДА
Природные образы, мифологемы и мотивы латиноаме-
риканской литературы настолько тесно взаимосвязаны,
что любое их расчленение неизбежно будет грешить неко-
торой искусственностью. Однако анализировать их без та-
кого обособления вряд ли окажется возможным.
Последовательность анализа отдельных природных об-
разов в главе выстроена в соответствии с их тематикой,
функциональностью и значимостью. Вода и земля — два
важнейших, опорных элемента в космогонии большинства
народов. Эти универсалии лежат и в основе мифологичес-
кой инфраструктуры латиноамериканской литературы и
притягивают к себе либо формируют все прочие образы и
мотивы. Вначале анализируются образы, непосредственно
связанные с водой — этой «праматерью жизни»: собствен-
но вода, дождь, река, море. Вода пропитывает землю —
это «сок земли», «кровь земли». Во втором разделе рас-
сматриваются образ земли и примыкающие к нему образы
пещеры, горы, камня. Следующую группу образов состав-
ляют растения — порождения земли: дерево, корень, сель-
ва, маис. В заключение исследуются образы и мотивы,
связанные с небесной стихией; в этот ряд входят образы:
ночь, луна, небо, солнце, зной, ветер.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Природные образы и мотивы составляют самую сердце-
вину художественного кода латиноамериканской литера-
туры. Они встречаются наиболее часто (без преувеличения
можно сказать — заполняют художественное пространство
большинства произведений); их трактовки и вариации по-
разительно устойчивы; и, в конечном счете, именно под
эти образы так или иначе «подвёрстываются» мотивы и
мифологемы, характеризующие латиноамериканский уни-
версум и бытие человека.
Следует подчеркнуть, что латиноамериканское про-
странство мыслится по преимуществу именно как природ-
ное. Такое восприятие ни в коей мере не является ни уни-
108
кальным, ни даже особенным, однако есть в нем и специ-
фические акценты, связанные с константой инаковости.
Природность латиноамериканский художник склонен счи-
тать отличительной чертой своего мира и противопостав-
лять ее миру «западному» — урбанистическому.
Эта позиция имеет обоснование в реальной действитель-
ности. Ведь природа континента — изобильная, буйная,
местами и впрямь девственная — глубоко отлична от за-
падноевропейской — освоенной, окультуренной. Такое
расхождение определилось изначально и было зафиксиро-
вано в литературных памятниках эпохи конкисты, а в век
научно-технической революции оно стало еще более рази-
тельным. Тем сильнее оно акцентировалось в латиноаме-
риканской литературе XX в.— и далеко не только в теллу-
рической прозе. Кроме того, изначально было дано и час-
тично сохраняется до сих пор еще одно существенное отли-
чие западноевропейской природной среды от латиноамери-
канской: если в первой досконально известны все виды
флоры и фауны, то вторая предстала как совершенно непо-
знанный мир и доныне дарит открытия натуралистам. В
художественной и научно-популярной литературе эта осо-
бенность нашла воплощение в мифологеме таинственнос-
ти, которая постоянно возникает при описаниях природы.
Коль скоро природность мыслится коренным свойством
латиноамериканского пространства, то художественный
образ природы вбирает в себя все основные его характерис-
тики — такие, как инаковость, первозданность (чаще все-
го воплощается в устойчивом мотиве ее «дикости»), девст-
венность, хаотичность (которая главным образом и обнару-
живается в природных проявлениях), сверхнорматив-
ность, таинственность, фрагментарность (она, как подчер-
кивалось, обусловлена исключительно природными усло-
виями), темпоральность, амбивалентность.
Что касается последней характеристики, то она очень
существенна, ибо прямо или косвенно связана с оппозици-
ей «свое» — «чужое». Речь, причем, в данном случае идет
не только о восприятии героем «своего» природного окру-
жения, но и о мистическом восприятии природой «своего»
героя. «Величие необузданной природы тяготило Мануэля
(...). Однако коварная мачеха бывает и доброй матерью.
109
Она различает своих детей: любит тех, кто приходится ей
по душе, и бессердечно топчет нелюбимых» (Ортис, 100).
«Нелюбимыми», понятное дело, оказываются «чужаки» —
как стремящиеся к интеграции в чужеродный мир, так и от-
кровенные его «насильники»,— для которых природа обора-
чивается «омутом», «болотом», «адом», «смертью».
Эта тема достигает предельной концентрации в зрелом
творчестве О. Кироги. Конфликт человека и Природы, со-
ставляющий основу его рассказов, принимает противо-
стояние двух миров. Обычно для человека этот конфликт
завершается трагически. Вмешательство Природы в жизнь
человека всегда неожиданно, молниеносно и смертоносно.
Природа выступает по отношению к человеку в роли фату-
ма; ее воздействие всегда столь непредсказуемо, подчас
столь абсурдно, что создает впечатление некоей игры с че-
ловеческой судьбой.
Однако и по отношению к своим «любимым сыновьям»,
укорененным на земле, природа остается «хозяйкой», «по-
велительницей», но никак не слугою, и эта иерархия вы-
держивается достаточно строго.
К указанным характеристикам добавим еще одну,
может, важнейшую — акцентированный, гиперболичес-
кий анимизм. Само по себе одушевление природы являет-
ся неотъемлемым свойством художественной литературы;
но в латиноамериканской литературе анимизм проявляет-
ся столь избыточно и нарочито, что это давно заметили ев-
ропейские критики и читатели. Традиционное художест-
венное средство, призванное передать состояние героя,
анимизм в латиноамериканской литературе XX в. преобра-
зовался в самозначимую тему и как бы оторвался от героя.
Природа «живет» сама по себе, вне какой-либо зависимос-
ти от состояния человека: «Я оказался в лесу живых дере-
вьев: камни видели, листья говорили, вода смеялась...»
(Астуриас, I, 31), «... от растений исходила неведомая, за-
гадочная, безудержная радость...» (Ортис, 110) — и т.д. и
т.п., примеры можно множить до бесконечности. Специ-
фический оттенок латиноамериканским одушевлениям
природных реалий часто придают образы, непосредственно
связанные с индейскими мифами, которые будут рассмот-
рены в соответствующих разделах.
110
Один из постоянных мотивов, возникающих при описа-
ниях природного мира,— тишина. Разумеется, латиноаме-
риканский природный мир вовсе не лишен любого рода
звучности, в том числе и оглушающего грохота разбуше-
вавшихся стихий; и все же сравнительный анализ текстов
дает возможность утверждать, что тишина мыслится наи-
более адекватным и содержательным состоянием латиноа-
мериканской природы. «Природа ... желает тиши и по-
коя» (Фуэнтес, III, 351); ее пронизывает «таинственная ти-
шина» (Неруда, III, 74), в глухом безмолвии застыла сель-
ва, молчат деревья, молчит земля, пространство объемлет
«молчание безбрежности» (Астуриас, VI, 168).
Вполне очевидно, что этот распространенный мотив
восходит к универсальной традиции ассоциировать муд-
рость с молчанием. Тишина — непременный спутник ме-
дитации и погружения в тайну. В тишине латиноамери-
канского мира выявляется его потаенная сущность: «Даль-
ше они шли молча. Это было не просто молчание улицы. Это
было чудо — молчание прозрения: молчание обволакиваю-
щее, сливающееся с молчанием земли, охраняющей покой
мертвых» (Астуриас, VI, 65—66). Отсюда рождается ус-
тойчивый мотив «слушать тишину» — представляющий
один из наиболее предпочтительных способов интуитивно-
го познания латиноамериканского мира (см. гл. III, 1).
Тишину слушают еще и потому, что она вовсе не подра-
зумевает абсолютного безмолвия; наоборот, чаще всего она
полнится голосами, но голосами беззвучными, не облечен-
ными в слова: «Из молчания взрастает древо музыки»
(Пас, I, 85). Дерево молчит и в то же время оно «говорит» с
человеком, и так же непрестанно «говорит» с человеком
молчащая земля — бессловесным голосом предков, про-
шлого, зовом сокрытой в ней тайны. Молчание, таким об-
разом, становится способом общения и сообщения чего-то
очень важного, истины, не выразимой словами. Рацио-
нальный способ общения неприемлем для латиноамери-
канского художника и мыслится принадлежностью запад-
ной цивилизации; только чувственно-интуитивным, ирра-
циональным путем добывается подлинная «информация»
о латиноамериканском инаковом мире.
111
Не случайно и латиноамериканский герой, носитель
«подлинности», подчеркнуто молчалив, соответствуя ок-
ружающей его природной тишине. Образ молчаливого ин-
дейца столь же стереотипен, как и сравнение индейца с де-
ревом: «Молчалив он был, как дерево, и не легче, чем де-
рево можно было заставить его говорить» (Лара, 222). Этот
мотив очень настойчиво акцентирует Фуэнтес: так, напри-
мер, его «индейский генерал» Томас Арройо — «вырос в
молчании», «сын молчания», «молчит, даже когда гово-
рит» (V, 190, 191, 187). Эта парадоксальная формула глу-
боко значима: как и природа, порожденный ею герой мол-
чит говоря — то есть хранит в себе тайну своей культурной
сущности, не выразимую словами, и говорит в молчании,
сообщая эту сущность на интуитивном уровне посвящен-
ным.
В латиноамериканской литературе, как и в западноев-
ропейской, присутствует примитивистская оппозиция
«природное» — «культурное» вместе с набором сопуствую-
щих противопоставлений, таких, как «естественный» че-
ловек — «цивилизованный» человек, «чувство» (ин-
стинкт) — «разум», «живой организм» — «механизм»,
«село» — «город» и др. Принципиальное различие в трак-
товке этих оппозиций состоит в том, что если для западно-
европейца речь идет вообще о цивилизации как таковой и
обо всякой культуре, то латиноамериканец отождествляет
все, противостоящее природному началу, с западноевро-
пейским урбанизмом и техницизмом — то есть вводит по-
нятия природы и культуры в рамки оппозиции «свое» —
«чужое». Но как только подразумевается самобытная ла-
тиноамериканская культура, то природное начало не толь-
ко ей не противоречит, но становится ее самым репрезен-
тативным воплощением. Это явствует даже из произведе-
ний позитивистов, которые ратовали за внедрение прогрес-
са европейского образца. Объектом их неприятия станови-
лась именно латиноамериканская необузданная природ-
ность во всем многообразии ее проявлений.
Природа, этот «мир неизменного и вечного» (Карпен-
тьер, IV, 251), хранилище «вечно девственной Тайны»
(Барба-Хакоб, 19) выступает эквивалентом культурной
сущности континента. Поэтому столь часто и столь настой-
112
чиво герой, носитель подлинности, отожествляется с при-
родными реалиями. В этом свете вполне определенно — в
русле самоидентификации — расшифровывается постоян-
ное и активное стремление поэта стать «Поэтом Природы»
(Дарио, III), утвердить свой образ в природных реалиях:
«Я — водопад, гора, долина, /я — виноград и куст жасми-
на, / вся — синева, вся — белизна. / Меня Господь — я
часть природы — / хранит от ветра непогоды, / как неж-
ное цветенье льна» (Мистраль, 144); или — перуанец Чо-
кано возглашает, обращаясь к сельве: «Я — лес: найди до-
рогу сквозь туман! /Я — грот: зажги свечу под сводом
ночи! /Я — кондор, ягуар, удав, кайман... / Лишь прика-
жи, я стану всем, чем хочешь»1. Настойчивое стремление
поэта отожествить себя с природными реалиями, «раство-
рить» себя в них подразумевает поиск своей почвы, осно-
вы, желание утвердить свою латиноамериканскую сущ-
ность. Это желание у многих поэтов, в особенности у Чока-
но и Неруды, проявлялось в декларативных притязаниях
быть «Поэтом Америки», выразителем «Души континен-
та».
Художественный образ природы во всякой литературе в
определенной степени культуропорождающ — то есть он
выступает как один из важнейших элементов построения
национального сознания. В латиноамериканской литера-
туре сфера природного воспринимается (часто вполне осо-
знанно) полным эквивалентом культуры, и потому образ
природы отличается ярко выраженной, акцентированной,
интенционной культурогенностью. Это свойство в полной
мере проявляется и в трактовках отдельных природных
образов и мотивов.
I. ВОДНАЯ СТИХИЯ
Мифообраз воды — один из центральных
1. Вода элементов мифологической инфраструктуры
латиноамериканской литературы, сравни-
мый по значимости только с мифообразом земли. Боги
воды, дождя, рек, моря играют важную роль в индейских
Мифологиях, однако следует оговорить, что, за исключе-
нием некоторых индихенистских произведений, в латино-
113
американской литературе трактовки образа воды восходят
не к конкретным мифологическим представлениям, а к ар-
хетипам и универсалиям культуры. Однако, как и в дру-
гих случаях, в интерпретациях этих универсалий обнару-
живаются весьма специфические смещения и акценты, ко-
торые и будут интересовать нас в первую очередь.
Обращает на себя внимание изобилующая в латиноаме-
риканской литературе XX в. специфическая образность,
которая представляет окружающий мир как бы водянис-
тым, сочащимся влагою, размытым. Приведем несколько
характерных примеров. «Деревья лились на густые плот-
ные кусты... Зверьки были тут — струился хвост, тело ви-
лось водоворотом...» (Астуриас, III, 77). «Капают с кисти
стеклянные слезы / зеленоглазого винограда. / Льют коло-
кольцы желтые трели / в листьях задумавшейся мирабе-
ли. // Солнце, кипящее в колбах плодов, ветер, налитый в
стаканы деревьев, / почва и влага в форме стволов / сада,
белеющего за деревней,— / все это входит в меня, раство-
ряя / кровь мою в соке зеленого края» (Каррера Андраде,
167). Нередко окружающее представляется как бы подвод-
ным миром: «Вдалеке какие-то люди опрыскивали дерево
и казалось, что это водолазы в скафандрах ведут на дне
какие-то работы» (Астуриас, IV, 267, см. также Астуриас,
VI, 371). Такого типа образность широко применяется и
при воссоздании облика человека ( отметим особо — имен-
но укорененного латиноамериканца): «родниковые руки»
(Неруда, III, 25), «глаза — как две скользящие под водой
касатки» (Фуэнтес, IX, 205); «струящиеся», «стекающие»,
«льющиеся» косы, волосы у женщин (образ, ставший сте-
реотипным) и т.п. Речь в данном случае может идти не
только об отдельных произведениях, пронизанных такой
образностью, но и о целостном творчестве художника. Яр-
чайший пример — лирика О. Паса, в которой тема воды,
несомненно, занимает центральное место. Весь универсум
представляется поэту бесконечным взаимодействием вод-
ных субстанций, переливанием «сомнамбулических форм,
/ слепых и глубоких, / плывущих по густым волнам /
воды и земли» (1,18).
Очевидно, что эта образность не случайна и таит в себе
глубокое содержание, не сводимое к какой-либо одной ин-
114
терпретации. «Водянистость» латиноамериканского мира
Прежде всего указывает на его женскую ипостась (о том,
насколько прочно образ воды слит с образом женщины,
будет сказано позднее). Далее, несомненно, что эта образ-
ность связана с мотивом эмбрионального мира, «пребыва-
ющего в водах материнского чрева». Но, может быть, наи-
более значимое ее содержание состоит в том, что эти мета-
форы представляют латиноамериканский мир как стихию
струения, изменчивости, текучести, как мир неявленных
смыслов, находящийся в непрестанном процессе перефор-
мирования, движения: «Те, что делают карты, не знают,
что Амазония вроде женщины с горячей кровью — не
лежит спокойно. Здесь все движется с места на место —
реки, животные, деревья...» (Варгас Льоса, II, 56). Такое
восприятие своего мира в сущности глубоко амбивалентно.
С одной стороны, движение ассоциируется с жизнью, пре-
вращение — с развитием; но, с другой стороны, эта стихия
изменчивости подспудно выражает трагическое ощущение
несформированности и неустойчивости бытия. Как говори-
лось ранее, именно это ощущение заставляет латиноамери-
канского художника искать и утверждать некие незыбле-
мые точки опоры для выстраивания образа себя и своего
мира, которые он находит в прошлом и в природной
жизни.
Метафора «текучести», «подвижности» латиноамери-
канского мира настолько распространена и значима в ху-
дожественной литературе, что представляется возможным
говорить об особого типа поэтике, которую уместно на-
звать поэтикой протеизма. Отметим, что мифообраз Про-
тея, равно как и само понятие «протеизм», внедрены в ла-
тиноамериканское художественное сознание модерниста-
ми, прежде всего уругвайцем X. Э. Родо, создавшим в
1908 г. знаменитую эссеистическую книгу «Мотивы Про-
тея»2. С тех пор категория «протеизм» заняла прочное
Место в латиноамериканской эссеистике и культурфилосо-
фии. Отдельные проявления поэтики протеизма будут за-
трагиваться в дальнейшем, по ходу анализа других мифо-
образов и мотивов. Здесь же отметим, что поэтика протеиз-
ма тесно взаимодействует с поэтикой сверхнормативности,
115
являясь одним из выражений мотива хаотичности, алогиз-
ма латиноамериканского мира.
В некоторых произведениях — их немало в латиноаме-
риканской литературе — вода выступает не только в каче-
стве самозначимого мотива, но и является полноправным
участником действия. Мифообраз воды представлен в ла-
тиноамериканской литературе суммой разнообразных мо-
тивов; из них выделим важнейшие.
Универсальный мотив «мать-вода», иногда выражен-
ный именно таким словосочетанием (см. Ортис, 224, 237),
представляет воду рождающим началом, жизнетворящей
субстанцией; причем, как показывают тексты, это пред
ставление основано на двойной системе соответствий. С
одной стороны, это ассоциации с первоначальным состоя-
нием земли, покрытой водою, где, собственно, и зарожда
лась биологическая жизнь; с другой стороны — с водами
материнского чрева, в которых развивается человеческий
эмбрион. «Все мы из воды вышли»,— говорит мудрец
Мелькиадес (Гарсиа Маркес, V, 66); а один из героев Фуэн-
теса объясняет свою любовь к принятию ванн тем, что она
«более всего напоминает материнское чрево» (VIII, 323).
Образ матери-воды опосредованно связан с мифологемой
эмбриональности латиноамериканского мира, пребываю-
щего в status nacens «первых дней творения» (см. гл. I, 1,
В, 3). Будучи рождающей, материнской субстанцией, вода
воспринимается хранилищем высших смыслов, умиротво-
ряющей силой, квинтэссенцией природности, естествен
ности.
Все эти оттенки значений образа воды ярко воплощены
в романе А. Роа Бастоса «Сын человеческий». Этот замеча-
тельный роман пронизан символикой воды, а в двух его
частях — седьмой («Обреченные») и восьмой («Мис
сия»3) — вода становится главным героем и участником
действия.
По необходимости кратко рассмотрим содержание этих
частей в интересующем нас аспекте. В них описывается
война между Боливией и Парагваем в безводной пустыне
Чако. «Это будет война жажды» (218) — говорит главноко-
мандующий: так изначально определяется роль воды в
развитии сюжета. На всю округу есть только один источ
116
ник воды — озеро. «Оно лежит на покатом животе холма...
На этой иссохшей задубелой от зноя равнине лишь
озеро — свидетельство жизни (...) От этого трепетного вод-
ного лона и зависит исход борьбы» (219). В этом описании
вполне явственно проглядывают ассоциации озера с ваги-
ной и с материнским чревом. Знойная безводная пустыня
выступает как символ войны, насилия, смерти (о связи мо-
тива зноя с мотивами насилия см. раздел IV, 5 наст,
главы). Неутихающая жажда, постоянная спутница этой
войны, трактуется символически — как духовное состоя-
ние человека, отторгнутого от природности, естествен-
ности, добра. Вода притягивает к себе противников и
уравнивает, обнажая бессмысленность братоубийствен-
ной войны.
Батальон парагвайских войск, отрезанный от основных
сил, окопался на дне высохшего озера (неслучайная де-
таль), в «доисторической яме» (228). Это место ассоцииру-
ется с Эдемом, который, по предположению А. Леона Пи-
нелло, находился здесь, в сердце материка. Туда-то, в
«бывший» земной рай, направляют колонну автоцистерн с
водой для спасения батальона. Далее описывается жуткий
«крестный путь» воды, пробивающейся сквозь стихию на-
силия. Символичен образ: «Скопище серых лиц осаждало
кран, хищнически растрачивая воду. Все это напоминало
изнасилование: голое тело воды со стоном вырывалось из
рук и губ озверевших мужчин» (277). Из всех автоцистерн
только одна, ведомая Кристобалем Харой, доходит до ок-
руженных, а сам шофер — гибнет, причем от рук тех, кого
он спасал. Евангельское содержание этого сюжета прочи-
тывается очень ясно, вплоть до таких деталей, что «мес-
сии» Кристобалю (испанский вариант имени Христофор —
«Христа несущий») в пути пробивают руки, и влюбленная
в него бывшая проститутка Сальюи (Мария Магдалина)
привязывает его руки к рулю (распятие). Важно в данном
случае подчеркнуть, что эта латиноамериканская интер-
претация страстей господних целиком завязана на мифо-
образе воды, который ассоциирован с божественным от-
кровением, жизнью, истиной.
Закономерна теснейшая связь двух опорных элементов
мифологической инфраструктуры латиноамериканской
117
литературы — мифообразов воды и земли: вода мыслится
как «сок земли» (Алегрия, II, 262), «кровь земли» (Услар-
Пьетри, VI, 81). Фактически эти два мифообраза во
многом дублируют друг друга: вода и земля обе воплощают
жизнетворные субстанции, выступают в качестве основы,
сопрягаются с изначальным, прошлым, с женским нача-
лом и т.п.
Соответственно с водою метафорически связаны и все
порождения земли — дерево: «Вот она, скупая, ласковая,
прозрачная вода (...) Чудится, будто шумная жизнь течет
по древесной сердцевине, поднимаясь из черной и тихой
земли... (Алегрия, III, 378); сельва, которая «встает прямо
из воды» (Алегрия, I, 64); гора и камень: «... вода, как
слезы, текла по каменной щеке скалы» (Лара, 306) и др.
Связь воды с землею являет и весьма расхожая метафора,
представляющая озеро глазом земли. По обратной зависи-
мости глаза человека постоянно сравниваются с водой,
родником, лагуной, заводью, озерами... Тем самым вода
служит как бы одним из каналов связи человека с землей.
Являясь одним из важнейших воплощений материнско-
го рождающего начала латиноамериканского мира, мифо
образ воды также неразрывно связан с темой женщины и
любви. Вода осмысляется в женском образе: «... струя на
женщину похожа...» (Мистраль, 44); и столь же часто
женщина представляется в образе воды: «Ее живот, ее
бедра, словно тихая заводь» (Алегрия, II, 224); она «влаж
ная и нежная» (Фуэнтес, III, 190); в ее губах «сквозит
улыбка воды» (Неруда, I, 65) и т.д. В поэзии О. Паса тако
го типа образность изобилует: «... Ты льешься на себя до-
ждем, / твои ноги подобны двум ручьям / твое тело — как
большая река / с двумя островами грудей...» (I, 25). В
русле поэтики протеизма воссоздается и образ соития с
женщиной: «Я падаю на тебя слепою волною / твое тело
держит меня, как рождающаяся волна...» (II, 148).
Весьма небезынтересно проследить множественные
связи мифообраза воды с темой любви, которые нередко
глубоко проникают в художественную структуру произве-
дения. Отметим предварительно, что такого типа связь
вполне традиционна для европейского фольклора и, в
118
частности, для испанского, откуда она перешла и в кре-
ольский фольклор латиноамериканских стран4.
Не стоит приводить многочисленные сцены любовных
свиданий и объяснений у реки или иных водоемов, либо
уже упоминавшиеся сцены совместного омовения, либо
мотив путешествия влюбленных по морю, реке. Связь ми-
фообраза воды с темой счастливой любви достаточно оче-
видна и стереотипна. Лучше обратим внимание на весьма
специфичные латиноамериканские интерпретации воды,
когда она ассоциирована с плотской любовью и трактуется
как агрессивная субстанция, обнаруживая свою амбива-
лентность.
Подобного типа интерпретации впервые встречается в
романе известного венесуэльского писателя М. Диаса Род-
ригеса «Патрицианская кровь». «Внешний» сюжет романа
описывает томительную жизнь героя, чья невеста, умерев
на корабле, была похоронена в море; безутешный юноша
кончает тем, что тоже бросается в море. Наряду с этим,
имеется «внутренний» сюжет — агрессия воды против
героя: юношу непрестанно тянет к воде, ему снятся мор-
ские пейзажи, слышатся зовы сирен и т.д., покуда, в кон-
це концов, вода (несчастливая любовь) не поглощает его.
С замечательной художественной глубиной этот мо-
тив — уже в несколько иной интерпретации — воплощен в
рассказе Рульфо «А все оттого, что мы бедные». Вся худо-
жественная конструкция рассказа выстроена на символи-
ческом отожествлении воды с похотью, нечистой или про-
дажной любовью. Сюжетная ситуация рассказа такова: на-
воднение уносит корову, единственное приданое двенадца-
тилетней Тачи, а это с неизбежностью означает, что девоч-
ка «в гулящие пойдет», как и две старшие ее сестры. Не-
случайная деталь: те, уходя к клиентам, говорили, что на
речку идут «за водой будто». Центральный образ рассказа
(♦страшная вода: черная, неодолимая, бездонная...») ассо-
циирован с плотской любовью — стихией, уносящей жен-
щину. Наводнение, то есть поднятие воды, символически
означает половое взросление, и этот смысл очень ясно про-
сматривается в последних фразах рассказа: «Слезы катят-
ся у нее по щекам... словно и Тачу река захлестнула и
течет, течет у нее из глаз. (...) В горле у нее булькает и
119
клокочет, точь-в-точь как полая вода у берега... А река
поднимается все выше, выше. Гнилые брызги сыплются на
мокрое Тачино лицо, а две ее груди-пупырышки так и
прыгают у нее под платьем вверх-вниз, вверх-вниз, и мне
чудится, набухли они, сделались, как у взрослой,— и вот
уже она тут, погибель Тачина» (42—44). Скупые строки
рассказа рождают ощущение фатальности грядущего,
когда вода-похоть, вода-неотвратимость «унесет» Тачу,
как «унесла» двух ее сестер.
Столь же определенно и последовательно в романе Гар-
сиа Маркеса «Сто лет одиночества» вода отождествляется
с инцестуальной любовью, которая чаще всего представля-
ется в образе трясины. Аурелиано снится, будто Ремедиос
обратилась «в бескрайнюю топь» (62); во время своего пер
вого сближения Хосе Аркадио и Ребека «барахтались в
полной испарений трясине гамака...» (82); при изнасилов
нии Амаранты Урсулы ее кузеном «... это выглядело так,
словно двое любовников пытаются мириться в глубинах
прозрачного водоема» (313) и т.п.
И еще один пример того же рода — роман аргентинца
М. Пуига «Предательство Риты Хейворт», в котором мотив
воды, один из центральных, устойчиво связан с темой лю-
бовного насилия5.
Откуда возникает эта негативная трактовка воды — ми-
фообраза в целом сугубо позитивного? Здесь выявляется
один из механизмов формирования постоянного мотива.
Как представляется, в латиноамериканском художествен-
ном сознании мифообраз воды настолько прочно связан с
темой любви, что при изменении ее трактовки эта связь не
разрывается, а изменяется восприятие образа воды. О
справедливости этого суждения говорит то, что амбива-
лентность мифообраза воды проявляется лишь в связи с
любовной темой. Такая жесткая взаимообусловленность
мотивов является характерной чертой мифологической ин-
фраструктуры латиноамериканской литературы, прибли-
жая ее к народным мифологиям.
Образ воды, как и многие прочие первоэлементы лати-
ноамериканской художественной картины мира, прочно
связан с темами времени, прошлого, происхождения, па-
мяти. «Прозрачная память воды» (Неруда, III, 26) — одно
120
из проявлений «материнской» сущности водной стихии.
Эта связь коренится в древней и общераспространенной
традиции отождествления воды со временем. Вода и вре-
мя — текут, каплющая вода напоминает о ходе времени;
водные глубины подобны глубинам времени и т.д. Все эти
универсальные образы и ассоциации широко распростра-
нены в латиноамериканской литературе.
Обратим внимание на те небезынтересные примеры,
когда связь вода — прошлое (время) предстает в акценти-
рованном виде или частично определяет художественную
структуру произведения. Так, например, нетрудно заме-
тить, что в романе Гуиральдеса «Дон Сегундо Сомбра» все
ключевые моменты, когда герой подводит итоги прожито-
му, сопровождает образ воды: «Видно, воде суждено иг-
рать в моей жизни роль зеркала, в котором проходят про-
житые годы. На берегу реки я вспоминал свое детство. У
излучины другой реки, пока пил конь, я перебирал в па-
мяти свои пятилетние скитания погонщика-гаучо. И, на-
конец, теперь, сидя на невысоком обрывистом берегу озер-
ка... я думал о своей новой жизни» (202). Один из лейтмо-
тивов повести Рульфо «Педро Парамо», где описано погру-
жение героев в прошлое,— каплющая вода. Она ассоции-
рована и с течением времени (клепсидра), и с воспомина-
нием. Вода реактуализирует прошлое, и в этом смысле
глубоко символична реплика одного из персонажей: «...
кого давно похоронили, как сырость почуют, ворочаться
начинают и просыпаются» (212). Примечательно, что
лейтмотив сырости парадоксальным образом сочетается с
лейтмотивом жары, потения, духоты, сопровождающим
тему насилия.
Вода, как видно, не только осуществляет связь с про-
шлым, но и воскрешает прошлое, и в этом состоит одна из
ее важнейших магических функций (см. далее); тем
самым обнаруживается еще одно проявление ее животвор-
ной силы. Очень ясно эти и другие смыслообразующие мо-
менты представлены в стихотворении Г. Мистраль «Вода»
(180—181). «Есть страны,— я их вспоминаю, / как вспо-
минаю детства годы: / там было море, были реки, / луга,
лагуны, поймы, воды». Далее поэтесса рассказывает, как
ее «бросили... в страну безводную, без рек», где творилось
121
братоубийство, а сухая глина отличалась немотою (обра-
тим внимание на связь образа воды с оппозицией «свое» —
«чужое»), И завершается стихотворение строками, не тре-
бующими комментариев:
Хочу вернуться к землям детства,
в край многоводный чистой ласки;
' состарюсь на большом лугу,
реке, рассказывая сказки,
как мать моя, опущусь под вечер
к источнику на скользких скалах
и наберу в кувшин воды,
спешащей, грубой, одичалой.
Дыхание мне перехватит
вода живая, ледяная;
расколется кувшин; а я,
я снова стану молодая».
Воскрешая прошлое, вода выступает как стихия изна-
чального: этот мотив звучит в стихотворении Карреры
Андраде «Живая вода»: «Первобытной песнею, разучен-
ной / в сумрачных глубинах, / воскрешает изначальное
вода» (335).
Обладая всеми указанными выше значениями и функ-
циональными связями, вода часто представляется наде-
ленной магическими силами и в качестве таковой может
становиться полноправной участницей сюжета. Следует
отметить, что эти представления о магических функциях
воды столь же распространены в фольклоре народов Евро-
пы, как и народов Америки6.
В латиноамериканской литературе можно найти немало
примеров, когда герой открыто апеллирует к магическим
свойствам воды. Ограничимся двумя. Один из них состав-
ляет отдельный самозначимый сюжет в романе Астуриаса
«Зеленый папа». Его героиня, индейская девушка Майа-
ри, решает принести себя в жертву ради своего народа.
Примечательно, что Майари стоит перед выбором: либо
стать женою американца Мейкера Томпсона, человека,
чуждого ей, либо стать «женою» реки (т.е., проще говоря,
утопиться). На самом деле выбор предопределен еще за-
долго до возникновения конфликта — уже тем, что мотив
122
роды в его разнообразных оттенках и вариациях непре-
станно и нарочито сопровождает образ Майари — «навсег-
да влюбленной в воду» (243). Жертвоприношение Майари
писатель представляет в образе соития на брачном ложе:
так метафорически воплощается мотив жизнерождающей
силы воды. В романе Аргедаса «Глубокие реки» герои
апеллируют к магическим коммуникативным способнос-
тям воды: достаточно нашептать на воду, чтобы весть или
мысль дошла до адресата (напомним: вода как «благая
весть» интерпретируется и в романе Роа Бастоса). Кроме
того, вода обладает и привораживающей силой (см. Алег-
рия, II, 200).
Еще более характерны случаи, когда контакт героя с
водой (омовение) представляется латиноамериканским пи-
сателем как ритуальное действо, ассоциированное с кре-
щением либо с инициацией. Такого типа примеров обнару-
живается достаточно много. Омовение в водах реки (озера,
моря, дождя) мыслится как приобщение к автохтонному
материнскому началу, праистокам; об этом прямо говорит-
ся в стихотворении Неруды «Ориноко»: «Позволь с тобой
остаться, Ориноко / на берегах вневременных времен: /
позволь, как встарь, нагим к тебе спуститься, / шагнуть в
твои крестильные потемки. / Пурпуровая влага Ориноко,
/ позволь, как прежде, руки погрузить / в твое струящееся
материнство, / река истоков, родина корней...» (III, 14).
Обращает на себя внимание и повторяющаяся в различ-
ных произведениях сцена совместного купания героя и ге-
роини обнаженными, которая встречается, например, в
«Потерянных следах» Карпентьера, в «Тоа» С. Уррибе
Пьедраита, в «Педро Парамо» Рульфо, в «Зеленом папе»
Астуриаса. Очевидно, что в данном случае опять же пред-
ставлено ритуальное омовение, метафорически выражаю-
щее крещение (приобщение к первородному миру) и очи-
щение. Обратим внимание на детали этой символической
сцены в повести Рульфо. Сусанна предлагает Педро Пара-
Мо (герою, олицетворяющему насилие) искупаться с нею в
Море обнаженным. Но тот, раз попробовав, отказывается:
«В первую ночь он пошел вместе со мной, но у моря поче-
Му-то почувствовал себя одиноким, хотя я была с ним
рядом.— У меня такое ощущение,— сказал он мне,—
123
будто ты одна из этих ночных птиц, одна из их стаи. А мне
больше нравится быть с тобою ночью в постели...» (227).
Носитель зла не способен интегрироваться в природное
бытие, он отторжен от материнского лона воды, а значит,
и от подлинной любви.
Действие многих произведений латиноаме-
2. Дождь риканской литературы почти целиком про-
ходит под немолчный шепот дождя: в каче-
стве примеров можно привести «Зеленый дом» Варгаса
Льосы, «Педро Парамо» Рульфо, «Дорога к Эльдорадо» Ус-
лара Пьетри. Разумеется, такое пристрастие к дождю объ-
ясняется не климатическими причинами, а тем, что в ла-
тиноамериканском художественном сознании дождь вы-
ступает как глубоко мифологизированный и значительный
мотив.
Нетрудно заметить, что образ дождя почти всегда «зву-
чит» в мажорной тональности — в отличие от многих евро-
пейских литератур, например, русской, где дождь часто
выступает синонимом скуки, томления, неудачи, дурного
настроения. Такая позитивная трактовка обусловлена, с
одной стороны, содержанием мифообраза воды, а с дру-
гой,— очевидным влиянием мифообраза земли. Дождь оп-
лодотворяет землю, которая родит человеку пищу и тем
самым дает жизнь: именно такая, общераспространенная
фольклорная интерпретация была усвоена латиноамери-
канской литературой.
В романе Роа Бастоса «Сын человеческий» жизнепо-
рождающая сила дождя интерпретирована на сюжетном
уровне: прошедший ливень, смывший запахи, сбивает со
следа собак и дает возможность Нати с младенцем и ее
мужу Касьяно уйти от преследователей. Особую значи-
мость этот сюжетный элемент обретает, когда становится
ясно, что в образе Нати воплощена богородица, а сын ее,
Кристобаль Хара — мессия, который повезет воду умираю-
щим (см. р. I, 1 наст. гл.). В произведениях писателей ин-
дихенистов — в особенности у Астуриаса — трактовка
дождя нередко сопрягается с мотивами автохтонных ми-
фологий, в которых боги дождя играли исключительно
важную роль7. Однако подчеркнем: наивно представлять,
124
будто позитивная трактовка дождя всецело обусловлена
влиянием индейских мифологий.
Весьма специфична для латиноамериканской литерату-
ры тесная связь мифообраза дождя с темой времени, опре-
деленная опять-таки влиянием образов воды и земли. В
знаменитом романе Гарсиа Маркеса многолетний дождь,
помимо всего прочего, трактуется как «поток цельного,
неукрощенного, неупорядоченного времени» (V, 255), и в
целом, несмотря на его разрушительную силу, он полнит-
ся внутренним позитивным смыслом. Связь с темой време-
ни в латиноамериканской литературе непременно подразу-
мевает актуализацию прошлого. Поэтому дождь возрожда-
ет или хранит прошедшее — ив этом состоит еще одно из
проявлений его витальной силы. Не случаен образ из «Со-
жженной воды» Фуэнтеса: генерал Вергара — «старый, с
виду высохший, но хранящий в себе дождевую влагу про-
шедших лет...» (VI, 10). Алегрия характеризует дождь
как «древнеее, всегда немыслимое чудо» (II, 270, глава
«Благодатный дождь»); Астуриас изобретает глубокую и
многозначную формулу «дождь — старый ребенок» (III,
104). В этой формуле устанавливается связь прошлого, на-
стоящего и будущего, а кроме того, она, очевидно, соотно-
сится с общераспространенным мотивом естественной муд-
рости детства.
Здесь мы сталкиваемся еще с одной очень характерной
именно для латиноамериканской литературы трактовкой
дождя как высшей мудрости, высшей истины — она встре-
чается достаточно часто, чтобы не считать ее случайной.
«Я любил науку дождя...» — говорит Каррера Андраде
(159); «С кем бы я разговаривал, не понимая дождя?» —
вопрошает Неруда (II, 149); «Когда льет дождь, люди
мудры»,— отмечает Астуриас (III, 50). «Наука дождя»
именно в том и состоит, что приобщает человека к природ-
ной мудрости, к постижению связи времен и умению про-
никать сквозь видимости к сущностям.
Наиболее отчетливое выражение некоторые магические
свойства воды получают именно в мифообразе дождя. Так,
Дождь с наибольшей полнотой воплощает очистительные
свойства воды. Омовение сродни очищению, обновлению и
преображению, отсюда устойчивый мотив: после дождя
125
природа выглядит иначе, сильнее воздействует на героя,
который, в свою очередь, также ощущает себя по-другому
(см., напр., Гуиральдес, 67—68).
Одна из важнейших, ярко выраженных в латиноамери-
канской литературе функций дождя — освящение. Приве-
дем два показательных примера. Герой романа Роа Бастоса
«Сын человеческий» прокаженный Гаспар Мора вырезал
из дерева распятие, которому отныне суждено стать симво-
лом деревни Сапукай, ее святыней. Когда процессия несет
распятие из сельвы, где обитал прокаженный, в деревню,
разражается гроза с проливным дождем. Люди бредут по
колено в потоках воды. Однако «священник... категори-
чески запретил вносить статую в храм, несмотря на чудо,
которое как бы освятило ее. Она ведь принесла с собой из
лесу ливень» (46). Споря со священником, мудрец Мака-
рио говорит об изваянии: «По дороге его омыл и очистил
ливень. Да вы только посмотрите! Он же говорит своими
деревянными устами!» (47). В конце концов, распятие, ос-
вященное и преображенное очистительной небесной вла-
гой, устанавливают на холме возле деревни, который в ху-
дожественном пространстве романа выступает в роли сак-
рального центра. Другой пример — финальная сцена рома-
на Астуриаса «Глаза погребенных». Происходит забастов-
ка рабочих банановой компании — итог развития действия
и характеров. Описывая забастовку, автор многократно
повторяет: «Шел дождь над забастовкой» (592). Учитывая,
какую огромную роль в «Банановой трилогии» играет ми-
фообраз воды, можно с уверенностью предположить, что
дождь в этой финальной сцене символизирует ритуал освя
щения. А освящение всегда подразумевает и внутреннее
преображение: «Женщины никогда не видали мужчин та-
кими. Никогда. Да, они выглядели необычно. Шел дождь.
Шел дождь над забастовкой» (592).
Еще одна магическая и ритуальная функция дождя —
инициация. Приведем яркий пример из романа Гальегоса
«Канайма», где явлено чисто ритуальное поведение героя.
При приближении грозы Маркое Варгас «снял с головы
шляпу» (...). Затем разулся и разделся догола (...) и устре-
мился в самую чащу, навстречу грозе» (193). Вполне оче-
видно, что герой подвергает себя метафорическому обряду
126
Крещения в купели природы. Но не только: тем самым он
актуализирует ту мифическую стихию первоначала вре-
мен, которая всегда была столь привлекательна для лати-
ноамериканского писателя: «... он вновь обретал себя —
человек, обнаженный сын планеты, делающий вновь свои
первые шаги по земле (...) Это был властный хозяин мира,
корчившегося в родовых схватках» (195). Отметим, что
цнициационной силой могут обладать также молния,
ветер, так или иначе связанные с грозой.
Вполне очевидна магическая жизнепорождающая функ-
ция дождя, который оплодотворяет землю и дает жизнь
растениям. Поэтому мифообраз дождя тесно связан с тема-
ми любви, зачатия, ребенка.
На этой взаимосвязи возник повторяющийся сюжетный
элемент: дождь так или иначе способствует первому ин-
тимному сближению мужчины и женщины. Первый лю-
бовник Инее, героини романа М. Отеро Сильвы «прыгнул в
окно весь в каплях дождя» (...)> «последний раз он овладел
тобой, когда дождь уже кончился...» (250). В повести из-
вестной коста-риканской писательницы Й. Ореамуно «Вы-
сокая долина» женщина и мужчина, случайные попутчи-
ки, кидаются в объятия друг друга под магическим воз-
действием дождя; при этом одинокая женщина открыто
отождествляется с пересохшей землей, а мужчина с до-
ждем. Примечателен рассказ К. Чангмарина «Буря»: мо-
лодой крестьянин договаривается с девушкой, что она при-
дет к нему, если не будет дождя. Мужчину мучают сомне-
ния: что предпочтительнее — женщина или дождь, столь
необходимый для пересохшей земли? В конце концов, он
«выбирает» дождь. Но во время ливня женщина приходит
к нему — как дождь к сухой земле. Обратим внимание: во
всех трех примерах речь идет о первой любовной встрече
совсем или почти незнакомых людей. Под магическим воз-
Действием дождя все барьеры и условности с легкостью
преодолеваются. Как и прочие теллурические силы, дождь
способен моделировать поведение героев.
Связь образа дождя с темой ребенка на символическом
Уровне воплотилась в рассказе Услара-Пьетри «Дождь».
Стоит страшная засуха; земля истомилась в ожидании
Дождя; урожаи гибнут. Именно во время этой засухи без-
127
детные старик со старухой находят на поле мальчика и
приводят к себе домой. Чей он и откуда и как его зовут —
неизвестно, сам же он о себе ничего не сообщает. Присут-
ствие этого загадочного ребенка изменяет жизнь супругов,
придав ей неведомую дотоле полноту и осмысленность.
«Все понемногу меняло свои места, сосредотачивалось во-
круг мальчика» (87). Давно знакомые вещи выглядели
празднично, ожили, стали красивыми (...). Теперь время
не стояло в безнадежном ожидании, оно спешило, бежало,
проворное, как ручеек» (89). Но однажды ребенок исчез —
столь же неожиданно, как и появился. И происходит это
именно в тот день, когда наконец-то на иссушенную землю
проливается благодатный дождь. В поисках ребенка ста-
рик отчаянно мечется по полю — и вдруг под дождем успо-
каивается: «Он перестал звать и словно во сне брел, поко-
ренный ливнем, погруженный в него, убаюканный его тем-
ной всесокрушающей песней» (94). Загадочный ребенок
выступает в рассказе как символ дождя (напомним в этой
связи образ Астуриаса: «дождь — это старый ребенок»).
Мальчик вовсе не исчезает, а «проливается дождем».
Дождь, предстающий в образе мифологического вестника,
обладает магическим свойством восстанавливать смыслы,
сакрализовать человеческую жизнь и утверждать архети-
пы первозданности.
«Река — бессмертное дитя матери-воды»
3. Река (Ортис, 237), и потому этот мифообраз орга-
нично вбирает в себя все значения мифооб-
раза воды. Так что специально мы на них останавливаться
не будем. Одновременно река является одной из важней-
ших пространственных координат (см. гл. I, С, 3), однако
ее роль в художественном образе латиноамериканского
мира гораздо шире.
Прежде всего эта роль диктуется древнейшей и обще-
распространенной традицией воспринимать реки основ-
ным структурообразующим элементом «своего» простран-
ства и его наиболее аутентичным порождением. Латиноа-
мериканцы, разумеется, не составляют исключения: ха-
рактерен в этом смысле образ Неруды: «Реки нашей глу-
бинки, красные дети / влажной мглы Америки» (I, 255).
128
Один из разделов «Всеобщей песни» специально посвящен
рекам. Кроме того, большие реки в сознании всех народов
Приобретают знаковый характер, выступая в качестве
обобщающих символов стран, наций, этносов. В латиноа-
мериканских странах в процессе формирования нацио-
нального самосознания образ «своей» большой реки всегда
0грал исключительно важную структурирующую роль. Со-
ответственно, река воспринимается как «хребет» нации
(роаБастос, 213).
Художественный образ реки в определенной мере ана-
логичен образу дерева: у нее есть крона (дельта), «ствол» —
русло — и самая символически нагруженная часть — «ко-
рень» (исток). Истоки великих рек расположены в потаен-
ных глубинах континента, в «сердце» се львы или гор — то
есть в сакральных центрах; истоки выбираются наружу из
священных подземных глубин, осуществляя связь внут-
реннего пространства с наружным, прошлого с настоящим.
Особую значимость в латиноамериканском художест-
венном сознании с его устремленностью к изначальному
приобрели традиционные и общераспространенные соотне-
сения мифообраза реки с темами времени, истории. В поэ-
тическом мышлении река воспринимается как «вода исто-
рии, столетий слезы» (Каррера Андраде, 272); как «поток
времен» / клад водяных слогов, / отец — родоначальник, /
глухая вечность / оплодотворений» (Неруда, III, 14).
Образ реки вбирает в себя и ярко представляет все ос-
новные модели латиноамериканского времени. Течение
вод, как и в европейской литературе, легко ассоциируется
с необратимым однонаправленным течением времени.
Вместе с тем сама по себе река неизменна, вечна и потому
как бы «поверх» своего движения создает остановленное
время вечности. В латиноамериканском мире движение
редко бывает абсолютным, изменения не затрагивают
сФеру незыблемого, сущностного. В восприятии индейца
Жизнь реки с периодическими сменами паводков и обмеле-
ния создает модель циклического временив Наконец, образ
истока (хотя бы его подразумеваемое присутствие) спосо-
бен повернуть время вспять и возвратить героя в мифичес-
кую точку первоначала времен.
129
Не случайно образ реки вынесен в заглавие некоторых ла-
тиноамериканских романов, таких, например, как «По ре-
ке» А. Луиса Леаля (где река ассоциирована с историей и че-
ловеческой судьбою), «Глубокие реки» X. М. Аргедаса (где
она через образы подземных вод и крови отождествляется с
автохтонным расово-культурным субстратом), «Золотая
змея» С. Алегрии (где река соотносится с образом хтоничес-
кого змея, прародителя природы, нации). «Голос реки —
как начало и конец бытия, его поэзия и тайн^, небо и земля
втиснутые в глубину ущелий»,— писал Аргедас (VII, 88).
Воплощая течение истории и жизнь народа, мифообраз
реки часто отождествляется с отдельной личностью и ее
судьбой. В этот ассоциативный ряд вписываются устойчи-
вые сравнения реки с человеческой кровью либо, наобо
рот, кровеносных жил — с реками: например: «Звенит
всегда река где-то рядом, / уж сорок лет я живу с этим зво-
ном, / то крови моей перестук монотонный, / а может
быть, жизни ритм врожденный» (Мистраль, 177). Сравне-
ние реки с кровью лишний раз подчеркивает значимость
воды как жизнетворящего начала; в то же время в этом об-
разе выявляется типичное для латиноамериканского ху-
дожника стремление «растворить» себя в реалиях окружа
ющего природного мира.
Отождествление человека с рекою встречается в латино-
американской литературе настолько часто, что может счи
таться стереотипным. Этот образ лейтмотивом звучит в
«Золотой змее» Алегрии: «человек — это река...», «мы —
дети реки и вся наша жизнь в ней» (26, 92, 155); в «Сыне
человеческом» Роа Бастоса (28, 317), в «Гуюнго» Ортиса
(160, 252), в упоминавшемся романе Луиса Леаля и дру-
гих произведениях.
Нередко мифообраз реки возникает и в переломные мо
менты человеческой судьбы. В этой связи интересно отме-
тить мифологический мотив преодоления реки как выра-
жение перехода из одного мира в другой или из одного со-
стояния в другое (инициация). Этот универсальный мотив
получил своеобычную интерпретацию в латиноамерикан-
ской литературе.
Яркий пример такого рода, явленный в «Старом грин-
го» Фуэнтеса, был подробно разобран при анализе мифоло-
130
темы границы (см. гл. I, С, 1). В качестве границы, отде-
ляющий мир «свой» от мира «чужого», река выступает и в
романе Аргедаса. Возвращение на родину герой мыслит в
мифологических категориях: «Я спущусь по красному
склону Уайралы; из его благородной глины я вылеплю фи-
гуру собаки, чтобы она помогла мне переплыть реку, отде-
ляющую эту жизнь от той» (238). Образ реки-границы ор-
ганизует художественное пространство рассказа Рульфо
«По следу». Правда, на сей раз эта граница оказывается
непреодолимой. Сюжет рассказа незамысловат: мститель
идет по следу убийцы, который зверски вырезал всю его
семью. Душегуб доходит до реки. Перебраться на тот берег
для него — вопрос жизни и смерти. Но все его попытки
преодолеть реку оказываются тщетными. Здесь, на берегу,
его и настигает мститель. Характерная деталь: труп лежит
головою в воду. Означая некую этически непреодолимую
преграду, река, вместе с тем, представляется в мифологи-
ческом образе Леты, на что указывает и ее описание:
«Река в каньоне была широкой, глубокой, без порогов и
перекатов. Она текла между высоких каменных стен, слов-
но темное густое машинное масло, и если ветка или сучок
падали сверху в ее быстрину, она проглатывала их без еди-
ного всплеска, бесшумно» (55). Река в мифологическом об-
разе Леты встречается не только у Рульфо, но, например, в
«Пучине» Риверы, где герои многозначительно отмечают,
что их лодка похожа «на гроб» (124). С образом Леты река
соотносится и в романе Фуэнтеса «Смерть Артемио
Круса»: один из лейтмотивов романа (выделен курси-
вом) — воспоминание героя о том, как он и его сын на ло-
шадях пересекли реку; после этого сын уехал воевать в Ис-
панию, где и погиб, а отец подвергся медленному духовно-
му умиранию. Если учесть, что река — это еще и поток
времени, то ее переход часто означает перемещение из на-
стоящего — в прошлое или в вечность (смерть).
Вбирая в себя основные значения и функ-
4. Море ции мифообраза воды, латиноамерикан-
ский художественный образ моря облада-
ет рядом особых смыслов.
131
Они выявляются, в первую очередь, когда море высту-
пает в качестве пространственного элемента. Практически
всегда море представляет модель разомкнутого простран-
ства (см. гл. I, р. I, Д, 1), и потому его образ сопряжен с
мотивом свободы. Вместе с тем, как показывает сопостави-
тельный анализ текстов, бескрайнее пространство, развер-
нутое на земле, для латиноамериканского художника об-
ладает гораздо большей значимостью, нежели бескрайнее
морское пространство. Не обнаруживается случая, когда
море или какая-то его область выступает в роли сакраль-
ного центра. Исходя из этого, можно утверждать, что в ла-
тиноамериканском художественном сознании море мыс-
лится внешним, до некоторой степени чужеродным про-
странством по отношению к внутреннему родному про-
странству земли, однако сказанное ни в коей мере не озна-
чает его негативного восприятия.
Отчасти это сопряжено с тем, что море устойчиво мыс-
лится в мифообразе границы, отделяющей латиноамери-
канский мир от европейского (см. гл. I, р.1, С, 1). Следует
особо подчеркнуть, что, в отличие от границы-реки с ее до-
минирующей функцией разделения миров, времен, состоя-
ний, граница-море не только разделяет, но и объединяет, и
эта интегрирующая роль океана ясно постулируется в не-
которых произведениях: «Море кладбище всех рек мира.
Море — дом для многих людей мира, море — точно собака,
лижущая все берега мира. Мост между всеми мирами,
конец сотен концов» (Ортис, 216). Образ моря как моста
между мирами составляет сюжетообразующую основу ро-
мана Астуриаса «Маладрон».
При этом образ моря обладает набором ярко выражен-
ных характеристик, свойственных в целом латиноамери-
канскому пространству и отдельным его элементам. Море
воспринимается как стихия первозданности, первородной
природной жизни, противостоящей выморочной цивилиза-
ции. Особенно ясна и развернута эта художественная трак-
товка в романе Карпентьера «Век просвещения». Главу
XXIV третьей части, где описано «общение» Эстебана с
морем, без преувеличения можно назвать центральной,
ибо в ней задается тот высший ценностный уровень, в со-
отношении с которыми выстраивается вся аксиологичес-
132
кая система романа. Уже само отплытие людей в море
трактовано в определенном ключе: «... удаляясь от всего
преходящего и беспорядочного, они приобщались к миру
неизменному и вечному». Купаясь в море, Эстебан испы-
тывает счастливое «опьянение водой», переносится в «мир
симбиоза», а в коралловых лесах видит «первые причуды
животворящей Природы» и «недоступный прообраз поте-
рянного рая» (251, 254, 253). Все эти образы, в конечном
счете, проецируются на историческое внеприродное бытие,
выявляя его неподлинность.
Морская стихия первозданного «искрится сполохами
тайны» (Барба Хакоб, 19), которая присуща всем первоэ-
лементам природного мира. Еще более отчетливо просле-
живается устойчивая связь мифообраза моря с темой про-
шлого. Море не только дает услышать голос прошлого, но
к тому же обладает "способностью «преобразовывать» объ-
екты, возвращая человека к первоначальным временам.
Этот мотив особенно постоянен в поэзии Паса, который
воспринимает море как «первоначальные воды, само пер-
воначало до воды» (I, 123); и потому, взывая к морю, поэт
просит: «... туда унеси меня, туда, / где сливаются и рас-
творяются навечно / разум, чувства, / душа, имя, креще-
ние. / Унеси меня к моему истоку» (I, 48). Та же связь
моря с доисторией неоднократно подчеркивается Карпен-
тьером: «Иногда над водами воцарялась гробовая тишина,
словно предвещая необычайное событие, и оно соверша-
лось: на морской поверхности — будто посланец минув-
ших эпох — появлялась гигантская, неповоротливая, до-
потопная рыба...» (IV, 255).
Мифообраз моря имеет и свою особую постоянную ха-
рактеристику — ритмичность. Движение волн скрывает в
себе тайну и высшую мудрость: «Море напевное, / море
волшебное, / арки алмазов дробятся в летучем движеньи /
ритмическом и выдают нам какой-то порыв сокровен-
ный...» (Дарио, 91). Море подчиняется вселенскому ритму
и само является его наиболее зримым и явным воплощени-
ем: «рождается и умирает, умирает и рождается вспенен-
ная тоска прибоя» (Астуриас, V, 210); «О море, ты вечно
рождаешься из себя самого» (Пас, I, 47). Этот ритм вре-
мен, жизни и смерти может быть ассоциирован с истиной,
133
наукой (Гарсиа Маркес говорит о «естественных науках
моря», VI, 415).
Многие из отмеченных выше значений мифообраза
моря с большой художественной глубиной воплотились в
рассказе Гарсиа Маркеса «Самый красивый утопленник в
мире». В нем повествуется фантастическая история о том,
как море выбросило на берег тело утонувшего мужчины —
самого высокого, сильного, красивого, какого людям еще
не доводилось видеть. Этот сын моря, мертвый и одновре-
менно излучающий животворную силу, производит на жи-
телей селения такое впечатление, что они внутренне пре-
ображаются и, вернув морю его дитя, облагораживают
свою жизнь: «Им даже не нужно было теперь смотреть
друг на друга, чтобы понять: они уже не все тут и никогда
все не будут. Но они знали также, что отныне все будет по-
другому: двери их домов станут шире, потолки выше,
полы прочнее...» (355). Прекрасный утопленник, порожде-
ние и олицетворение моря, выступает как хранитель его
извечной тайны и сущности. В нем объединены жизнь и
смерть. Его появление и исчезновение подчинено ритми-
ческому движению волны, которая накатывает на берег и
уходит в глубину моря. Наконец, его образ ясно сопряжен
с мотивами науки, истины — ибо своим появлением он на-
учает людей иной жизни. В этом смысле он явно ассоции-
рован с мифологическим культурным героем или с божест-
вом типа вавилонского Оаннеса, который, выйдя из вод
морских, обучил людей наукам, искусствам и земледелию.
П. ЗЕМНАЯ СУБСТАНЦИЯ
Мифообраз земли составляет ядро мифоло-
1. Земля гической инфраструктуры латиноамерикан-
ской литературы. Вместе с двумя другими
важнейшими ее образами — воды и дерева — он образует
устойчивую триаду, являясь ее центральным элементом.
Мифообраз земли, будучи одной из универсалий миро-
вой культуры, имеет огромную значимость и в европей-
ских литературах. Однако не во многих европейских про-
изведениях можно обнаружить такое постоянное, такое
настойчивое выделение и утверждение этого мифообраза,
134
какое наблюдается у подавляющего большинства латиноа-
мериканских писателей XX в. В этом стремлении укоре-
нить себя на своей земле проглядывает нечто ностальги-
ческое — некий духовный зазор между художником и его
почвой, преодолеваемый посредством творчества.
Эта ностальгическая нота, открыто не явленная, но
ощутимая, звучит в художественной литературе как от-
звук истории латиноамериканского континента — земли
изначально чужеродной, которую приходилось открывать,
покорять, осваивать. Потаенный духовный зазор между
писателем и землей — порождение того «предела», кото-
рый преодолевал европеец, пересекая океан. Очевидно,
обостренное восприятие «своей» земли присутствует в
культурном сознании многих народов, занявших террито-
рии в исторически обозримом прошлом. В Латинской Аме-
рике такое восприятие, продиктованное изначальным им-
пульсом конкисты, с течением времени еще и обострялось
благодаря интенсивным процессам национальной само-
идентификации. Мифообраз земли функционирует в лати
ноамериканском художественном сознании в двойной сис-
теме противопоставлений — континентальной и нацио-
нальной.
Отчетливо выраженное культуропорождающее содер-
жание решительно доминирует в латиноамериканском об-
разе земли, подчиняя либо приспособляя к себе все прочие
значения. Писатель воспринимает землю прежде всего как
свою культурную почву, символ своей инаковости — в
этом ключе трактуются и анимистические образы земли, и
связи земли с человеком (см. дальше). Особенно ясно этот
смысл проявляется в творчестве Неруды и Карпентьера.
Произведения последнего, в сущности, все выстраиваются
на сюжете поиска человеком своей земли, а тем самым,
своей культуры и духовной сущности. Измена своей куль-
турной подлинности трактуется опять же как отторжение
от земли. Короля-лицедея Анри-Кристофа хоронят в из-
вестковом растворе; останки Колумба, заблудившегося
«меж двух миров», бесконечно перемещаются с места на
Место; весьма символичен и финал романа «Превратности
Метода», где описывается могила диктатора. У подножия
Надгробия в каменном ларце хранится Священная Земля
135
Отечества. Но, как выясняется, дочь диктатора, считая,
что земля повсюду одинакова, «Священную землю ... со-
брала на обочине дорожки в Люксембургском саду» (VI,
321). Эта завершающая фраза романа звучит как оконча-
тельный приговор Главе Нации, который всю жизнь ме-
тался между Америкой и Европой. Кощунственную «под-
мену» земли осуществил он сам — всей своей жизнью.
Собственно, и само художественное творчество часто
мыслится как освоение своей земли, и потому многие ла-
тиноамериканские писатели девизом могли бы избрать
символические строки Г. Мистраль: «Мы нежную землю
взрыхляем / с любовью, с любовью большой / из таинств
другого не знаем, / столь властного над душой» (49).
Можно без преувеличения сказать, используя слова Роа
Бастоса, что латиноамериканское художественное мышле-
ние «подчинено непреложному закону тяготения, который
все возвращает земле и соединяет с ней» (1,268).
Древний европейский мотив матери-земли широко рас-
пространен и в латиноамериканской литературе, предста-
вая в виде клишированного образа. Так же глубоко в лати-
ноамериканском художественном сознании укоренилась
традиция представлять землю в виде живого существа,
идущая столь же от индейских мифологий, сколь и от уни-
версалий культуры. Латиноамериканская «мать-земля»
способна на любые разумные и чисто человеческие прояв-
ления. Она может думать и говорить (Гальегос, IV, 195); у
нее есть свой «живой голос» (Алегрия, III, 429), в опреде-
ленной степени аналогичный «зову» пространства, она
может и в мелочах вести себя совсем как человек: «Стару-
ха-земля сонно зевает, выдыхая клубы тумана, вздрагива-
ет от предутреннего холода и, наконец, стряхивает с себя
темноту ночи» (Рульфо, 240). Обилие примеров подобного
типа не позволяет считать их только лишь данью тради-
ции или чисто поэтическими условностями. Как представ-
ляется, настоятельная потребность уподоблять землю че-
ловеку выдает страстное стремление найти духовный кон-
такт с нею. В этой связи очень важно отметить, что в лати-
ноамериканской литературе земля редко выступает в обра-
зе божества. Божество, как правило, отделено от человека
непреодолимым сущностным барьером. Максимально оче-
136
довечивая образ земли, латиноамериканский писатель со-
здает основу для взаимной интеграции и преодоления того
трагического духовного «зазора», о котором говорилось
выше. Образ матери-земли является не столько констата-
цией плодоносящей, жизнетворной силы земли, как в ев-
ропейском фольклоре, сколько призван утвердить самую
фшжайшую родственную связь. Можно утверждать, что
Славная суть того образа в латиноамериканской трактов-
ice — пуповина, связующая мать и ее дитя.
Такая трактовка отчетливо выявляется при воссозда-
нии героя, носителя латиноамериканской подлинности,
который представляется частицей земли, «исконным по-
рождением нашей могучей земли» (Гальегос, IV, 227);
дричем такое «происхождение» имеет вовсе не обязатель-
но положительный герой: Артемио Крус Фуэнтеса тоже
1вышел из земли, из самых ее недр» (III, 354). В этом об-
разе важно отметить постоянно присущий ему мотив уг-
лубления, нутра, весьма существенный для понимания ми-
фообраза пещеры (см. дальше).
Особенно настойчиво земля и ее недра ассоциируются с
индейцем, индейским культурным субстратом и вообще с
автохтонным началом. Писатели-индихенисты, акценти-
рующие эту связь, прямо либо подтекстово апеллируют к
Индейской мифологии: так, Аргедас отмечает, что «воздей-
ствие цивилизации не смогло одолеть ,в душе индейца глу-
бокого чувства обожания земли» (VI, 110). Богиня земли
Пачамама глубоко почиталась инками; но в пантеоне майа
и ацтеков божества земли играли второстепенную роль.
Вместе с тем в произведениях Астуриаса, Фуэнтеса, Кар-
оентьера образ земли обладает ничуть не меньшей значи-
мостью, чем в произведениях писателей Андских стран, и
Полнится теми же смыслами. Все это лишний раз доказы-
вает, что мифологическая инфраструктура латиноамери-
канской литературы гораздо в большей степени складыва-
лась из общемифологических мотивов и их культурологи-
ческих интерпретаций, нежели из конкретных мотивов
автохтонных мифологий. В данном случае мать-земля вос-
принимается самыми различными писателями в качестве
Культуропорождающей субстанции и потому автохтонная
^Культура, а вслед за ней и сам индеец, ассоциируются с
137
землей, «замешанной на нашей красной плоти» (Неруда,
III, 79). «Порождениями самой земли» Карпентьеру пред-
ставляются индейские пирамиды (VII, 69); а Мистраль в
стихотворении «Земля» вводит замечательно емкий образ:
«Индейский мальчик, если ты / устал,— земля твоя по-
душка: / и если весело тебе, / ты обними ее и слушай... /
Земля — индейский барабан; / чудесные услышишь ве-
щи...» (47—48). Примечательно, что тот же образ «земля-
барабан» опят же в связи с индейским мальчиком появля-
ется в рассказе Рульфо «Макарио» (47).
Будучи рожден землею, латиноамериканский герой
привязан к ней, как малое дитя к матери. Один из самых
устойчивых и распространенных мотивов латиноамери-
канской литературы выражает прочную зависимость чело-
веческой судьбы от земли. Очень часто эта зависимость на-
стойчиво декларируется в художественных текстах:
«Жизнь их накрепко связана с землей» (Алегрия, II, 242);
«Наши люди как ящерицы: они меняют кожу под цвет
земли...» (Фуэнтес, III, 280); «Как семечко, наполовину, /
остался я сидеть в земле...»; «... И кем бы в жизни я ни
стал, я остаюсь рабом земли» (Неруда, И, 298, 300) и т.п.
Помимо деклараций, эта судьбоносная связь проявляет-
ся — что куда важнее — на сюжетном уровне, образуя ряд
типовых сюжетов.
Один из них — разрыв человека с родной землей: как
правило, такой шаг связан с добровольным либо вынуж-
денным уходом крестьянина на приработки в город. Пос-
ледствия этого шага для героя оказываются столь же тра-
гичны, как для ребенка, оторванного от матери. На чужби-
не героя ожидает моральная деградация либо гибель; если
же он пытается возвратиться к «своей» земле, то это, как
правило, по тем или иным причинам оказывается невоз-
можным. Земля не терпит отступников. Такой сюжет про-
низывает, например, все творчество известного чилийско-
го писателя Мариано Латорре, что он сам признавал созна-
тельной установкой8. Этот сюжет представлен в романах
С. Алегрии, X. Икасы, X. Лары и других индихенистов.
Другой, еще более распространенный вариант данного
сюжета — насильственное отторжение земли у человека в
результате захватнических акций «чужаков» — латино-
138
американских латифундистов либо пришлых иностранцев.
Земля — самое дорогое, что есть у «подлинного» героя,
ибо она для него — не только средство пропитания, но,
Прежде всего,— его сущностная, культурная основа. Вот
почему отторжение от земли очень часто метафорически
осмысляется как «вырывание с корнями». Борьба корен-
ного жителя за свою землю, как правило, оканчивается
для него поражением и гибелью. Эта типовая развязка,
возможно,— не только дань реализму: в ней воплощается
и бесконечно переживается первичная травматическая си-
туация отторжения коренного жителя от его земли во вре-
мена конкисты. Из наиболее известных романов назовем
«В большом и чуждом мире» С. Алегрии, «Уасипунго»
X. Икасы, «Банановую трилогию» М. А. Астуриаса, тетра-
логию М. Скорсы.
Еще один типовой сюжет выявляет могучую власть
земли, которая способна приковать к себе героя, преобра-
зить его. Примеры подобного рода фигурировали в первой
главе (см. гл. I, р. I, Д, 1). Один из вариантов этого сюже-
та — возвращение «блудного сына» на родину, после чего
он, сам того не желая, «врастает корнями» в землю и оста-
ется на ней («Донья Барбара» Р. Гальегоса; «Трагическая
эклога» Г. Сальдумбиде и др.)-
В мифообразе земли наиболее отчетливо выражена жен-
ская ипостась латиноамериканского мира. Традиционные
метафорические соотнесения земли с женщиной, и наобо-
рот, получили настолько широкое распространение, что
превратились в стереотипный образ, который нередко во-
площается в акцентированных формах: «Грудь у них была
темная, как земля под дождем, сосок черный, мокрый от
молока. Тяжелая грудь, богатая влагой, как мокрая
земля. Да, земля — огромная грудь, к которой припали
пеоны, жаждущие урожая» (Астуриас, III, 50). Связь жен-
щины с землей подчеркивают два дополнительных устой-
чивых мотива: «земля пахнет женщиной» (Астуриас, I,
31), и кроме того: «... и у женщины, и у земли одна судь-
ба» (Алегрия, III, 51). Соответственно, «подлинная» лати-
ноамериканская женщина мыслится в нерасторжимой
связи с мифообразом земли.
139
Основу для подобного типа ассоциаций составляет преж-
де всего универсальное отождествление женщины-матери с
мифообразом матери-земли. Однако в латиноамериканском
художественном сознании земля предстает далеко не толь-
ко в образе матери, но и любовницы, жены. В данном слу-
чае на первый план выходит глубоко символический мотив
совокупления с землею-женщиной, который заключает
два основных смыслообразующих момента: приобщение к
земле путем ее «овладения» и оплодотворения. Иногда к
ним присоединяется мотив жертвоприношения.
Соитие с землей может происходить как акт изнасило-
вания — обычно в этом образе представляется конкиста.
Характерна в данном смысле сцена изнасилования конкис-
тадором индеанки из рассказа Услара-Пьетри «Прах»:
«Покорно предалась она ему и смотрела влажными глаза-
ми, такими же загадочными, как эта чужая земля» (142).
Образ земли, не случайно акцентированный в этой сцене,
придает ей расширительный смысл.
Одним из выражений акта самопостижения латиноаме-
риканского героя становится метафора любовного соития с
землею. Иногда она выражается достаточно прямолиней-
но, как, например, в стихотворении Неруды «Земля в
тебе» (I, 167), но гораздо чаще воплощается опосредованно
в сценах любовного акта с женщиной.
Нетрудно заметить, насколько часто в латиноамерикан-
ской литературе описываются сцены любви на лоне приро-
ды, прямо на земле, что имеет символический смысл. Со-
итие происходит в природной среде, в разомкнутом про-
странстве, но главное — на земле, с которой соприкасается
женщина. Женщина отождествляется с землей, являясь
как бы ее естественным воплощением,— это, например,
ясно выражено в рассказе Рульфо «Тальпа»: «Засыпали
мы с ней на голой земле, потому что земля была теплая.
Наталия полежит, бывало, самую малость, а уж тело у
нее... от тепла этого огнем полыхает. От земли жар и от
нее жар, так тебя всего и жжет. Сразу проснешься. Руки
сами к ней тянутся» (67—68). Разумеется, именно на
земле происходит первое сближение героя «Потерянных
следов» с «женщиной земли» Росарио. Столь же созна-
тельно вводит подобные сцены С. Алегрия: «Индеанки, от-
140
дающиеся посреди поля, денег не берут. Они ложатся на
широкую землю, глядя в небо или на звезды, великодушно
отдают себя мужчине, радуясь своей простой любви» (I,
247). И даже когда сцена любовного акта на земле не от-
рефлексирована писателем, она не теряет своего символи-
ческого подтекста. Соитие с женщиной в данном случае —
это не столько сексуальный, сколько культурный акт —
способ самоидентификации, приобщение к своему «жен-
скому» миру и его познание. Овладевая женщиной-землей,
герой ее оплодотворяет, превращая в мать-землю, которой
суждено продолжить бытие подлинной латиноамерикан-
ской культуры.
В первой главе уже упоминался мифо-
2. Пещера образ пещеры в связи с анализом про-
странственной оппозиции «внутрен-
ное» — «наружное» (см. гл. I, р. I, С, 5). Смыслообразую-
щие функции образа пещеры в латиноамериканской лите-
ратуре становятся в полной мере понятны лишь после ана-
лиза содержания мифообраза земли.
Пещера создает в этой субстанциив особое сакральное
пространство. Это ход вовнутрь, в недра, туда, где, собст-
венно, и рождается подлинный герой латиноамериканской
литературы, «исторгнутый из недр земли». Как говори-
лось, в латиноамериканском художественном мире, внут-
реннее не враждебно наружному, но оно «расположено»
ближе к сущностному либо выявляет сущностное. Вот по-
чему в сакральном пространстве пещеры с героем, как
будет показано ниже, могут происходить метаморфозы и
эпифании. Отметим попутно, что в европейской литерату-
ре, наряду с позитивным, наблюдается и негативное вос-
приятие пещеры: связано оно с тем, что подземные облас-
ти ассоциировались со сферой инфернального; соответст-
венно, отверстия в земле (пещеры и жерла вулканов) вос-
принимались как проходы в ад (такие отверстия имелись,
например, на мифических дьявольских островах). Трак-
товки пещеры как инфернального пространства в латино-
американской литературе крайне редки.
Дополнительную смысловую нагрузку мифообразу пе-
щеры придает художественное восприятие земли в жен-
141
ской ипостаси. Пещера может осмысляться как вагина ма-
тери-земли; соответственно, и женское лоно может интер-
претироваться в образе пещеры: «Меж ног твоих — коло-
дец с застывшей водою... / пещера у подножья горы, хра-
нящая сокровище» (Пас, I, 82—93); см. также Астуриас,
III, 229). В этом смысле пребывание в пещере героя — об-
новленного, приобщившегося к сущностям — и выход из
нее в «наружное» пространство метафорически обозначает
перерождение или рождение из недр земли.
Отмеченные особенности мифообраза пещеры ясно про-
ецируются на сюжетику многих произведений.
Подчеркнем прежде всего, что в латиноамериканской
литературе пещера очень редко становится убежищем или
же местом обитания отрицательных героев (что в европей-
ских литературах встречается достаточно часто). Абсолют-
но доминирует иная трактовка: пещера спасает героев но-
сителей «подлинности». Там, в глубинах земли, скрывают-
ся от преследований герой романа Гальегоса «Бедный
негр», бандиты из романа Алегрии «Голодные собаки», ор-
ганизатор индейского мятежа Чипо из романа Астуриаса
«Зеленый папа» и многие другие. Примечательная деталь:
во время урагана североамериканец Лестер Мид с женой
пытаются спрятаться в пещере, но выбегают оттуда, испу-
ганные «черными тенями» — и гибнут. «Чужаку» не до-
зволено укрыться в сакральном пространстве пещеры (см.
Астуриас, IV, 399—400). Что касается Астуриаса, то ми-
фообраз пещеры играет очень важную роль во многих его
произведенях. Разберем с этой точки зрения ключевые
элементы сюжета романа «Глаза погребенных».
Главный герой романа Мондрагон, организатор забас-
товки индейцев, однажды ночью, проезжая на машине по
дороге, столкнулся с каким-то животным, затормозил, вы-
скочил из машины и, преследуя дичь, случайно обнару-
жил вход в подземелье. На самом деле, вовсе не случай-
но — и писатель подчеркивает это: «... судьба в образе ка-
кого-то животного задержала джип дорожника» (137).
Именно животное, элемент природного мира, указует ге-
рою вход в сакральное пространство пещеры. Весьма зна-
менательно, что вход в пещеру тщательно замаскирован
природой, сокрыт от глаз людских. Он может открыться
142
лишь избранным, посвященным. А кроме того, это сообра-
зуется с мифологическими представлениями о «трудной
дороге», «трудном переходе», которые надо преодолеть
для достижения области священного, Центра9. Уже при
описании входа в пещеру Астуриас нарочито создает образ
сакрального пространства: «Вход в подземелье он отыскал
сразу. Освещенный луной, вход был похож на паперть го-
тической церкви, прикрытой листвой» (137). Если вход —
паперть, то сама пещера мыслится как освященное храмо-
вое пространство. Именно там находит спасение Мондра-
гон, узнав, что полицейским приказано взять его живым
или мертвым. Живя в пещере, Мондрагон продолжает за-
ниматься организацией забастовки, отправляя через дове-
ренных лиц свои донесения «по подземному пути» (269).
Этот образ подземного пути Астуриас неоднократно под-
черкивает,— тем самым представляя пещеру в виде тайно-
го канала коммуникации, по которому идет «благая
весть». Вдобавок к этому выходит так, что забастовка как
бы «рождается» в земных недрах. Возлюбленную героя,
Малену Табай, проводник ведет в «Пещеру жизни» (195)
на свидание с Мондрагоном. Именно здесь, в пещере, про-
исходит первое сближение влюбленных. Опять же — это
не столько сексуальный акт, сколько акт самоидентифика-
ции и приобщения к высшим сущностям в сакральном
пространстве подземелья. Из пещеры героиня выходит
внутренне преображенная (т.е. родившаяся заново). И еще
одна немаловажная деталь: в целях маскировки Мондра-
гон жует какой-то кактус, который обладает способностью
деформировать внешность. Перед Маленой он предстает
неузнаваемым, и она говорит себе: «... какое-то сказочное
существо.., обитатель подземных глубин» (210). Так оно и
Должно быть, потому что пещера, кроме всего прочего,—
это еще и ход в прошлое, и потому она является не только
сакральным , но еще и «мифологизирующим» пространст-
вом. Пещера — место обитания мифических существ, и че-
ловек, пребывающий там, нередко преображается и пред-
стает в виде мифологического существа. Та же Малена ка-
жется Мондрагону «индейской богиней» (205).
Еще более отчетливо это свойство пещеры воплощено в
«Маисовых людях» того же Астуриаса. Один из кульмина-
143
ционных моментов романа — путешествие письмоноши
Ничо Акино в подземный мир. Попав в пещеру, Акино
«снял шляпу, как в храме» (218). И далее, вслед за прово-
жатым, письмоноша проделывает «в подземной тьме со-
кровенный путь» (224) и обретает «свой первообраз» (225),
своего науатля (звериного двойника), превращаясь в койо-
та. В романе Риверы «Пучина» описана богиня Марипипа-
на, «жрица безмолвия, хранительница родников и лагун.
Она живет в сердце сельвы» (124) — но не в воде, а в пеще-
ре. В стихотворении «Летнее» Дарио, создавая образ царя
зверей, акцентирует: «Тигриный трон — в пещере» (29).
Кроме того, пещера — уже в соответствии с раннехристи-
анской традицией — становится местом обитания одержи-
мых и святых, что, в частности, описано в романе Варгаса
Льосы «Война конца света» (с. 28, 60).
Мифообраз горы является одной из универ-
3. Гора салий мировой культуры. В мифологии ин-
доевропейских народов он часто трактовался
в виде Священной Горы, где встречались Небо с Землею, и
был тесно связан с символикой сакрального центра10. В ев-
ропейском художественном сознании мифообраз горы
играл исключительно важную роль. Не вдаваясь в детали,
отметим лишь, что основу смысловой архитектоники этого
образа составляла идея возвышения11. Гора уводит от низ-
кого, бренного, земного и соприкасается с небом, с Боже-
ственным Верхом; соответственно, восхождение на гору
мыслится как путь самосовершенствования, приобщения
к истине (Нагорная проповедь).
Мифообраз горы составляет важный элемент мифоло-
гии американских индейцев, в особенности коренных жи-
телей стран Андского региона. В пантеоне кечуа важней-
шими божествами являются мать-земля Пачамама и духи
гор Апус (букв, «старшие»), которые покровительствует
крестьянам, хотя способны и наказывать их12. У индейцев
многих регионов вулканы считались местом обитания
духов; перуанцы их называли «очачипа», что на языке
аймара означает «дедушка»13. Важно подчеркнуть два су-
щественных момента: отсутствие в индейском мифообразе
горы тех коннотаций, что так существенны для европей-
144
ских трактовок, и тесную связь культа гор с культом почи-
тания предков.
Обращаясь к латиноамериканской литературе, отметим
прежде всего, что художественный образ горы, каким он
воплощен в ней, более близок индейским мифологиям, не-
жели европейской интерпретации. В латиноамериканском
художественном сознании этот образ формировался не
только под влиянием автохтонных мифологий, но и под
куда более значительным давлением мифообраза земли.
Очевидно, именно вследствие этого в латиноамериканском
художественном образе горы практически отсутствуют ев-
ропейские коннотации возвышения и приобщения к боже-
ственному верху. Действительно, у героев латиноамери-
канской литературы XX в. не отмечается стремления взой-
ти на вершину горы; наоборот, они всячески стремятся
«вниз» — в долины, в леса либо вглубь — в пещеры. Пока-
зательна в этом отношении реакция Росарио — «Девы
Америки» из карпентьеровских «Потерянных следов»: ее
подбирают полуживую на высоте перевала с сильнейшим
приступом горной болезни, и по мере того, как автобус
спускается вниз, она «оживает». Стремление занять «вер-
шинную позицию», разумеется, было свойственно роман-
тическому герою — поскольку являлось одним из важных
элементов романтической эстетики. Однако и в этом слу-
чае «вершинная позиция» зачастую используется не столь-
ко для общения с небом, сколько для обзора американских
земель. Очень ясно это видно на примере знаменитого сти-
хотворения в прозе С. Боливара «Мое наваждение на вер-
шине Чимборасо», в котором Освободитель выражает вос-
хищение природой Америки и уверенность в ее великом
будущем14.
В латиноамериканском художественном сознании гора
мыслится порождением недр земных и потому она сопоста-
вима с человеком (см. Алегрия, III, 23). Образ вулкана ор-
ганизует художественный мир романа Карпентьера «Пре-
вратности метода», где он воплощает стихийное, перво-
зданное, земное начало, а тем самым и латиноамерикан-
скую подлинность. Эти смыслы особенно отчетливо выяв-
ляются при постоянном сопоставлении вулкана с Триум-
фальной Аркой или Капитолием: на фоне мощной и гроз-
145
ной горы эти искусственные творения чужеродной культу-
ры выявляют свою недолговечность и эфемерность.
Латиноамериканская литература демонстрирует устой-
чивую связь мифообраза горы с темой прошлого, времени.
«Ив облаках чело глухого великана, / загадочного грозно-
го вулкана / возникло откровеньем тысяч лет» — писал
Дарио в стихотворении, посвященном вулкану Момотомбо
(103). В индихенистской литературе гора постоянно интер-
претируется в образе «древнего отца» (Алегрия, III, 223)
или дедушки. Примечателен образ Астуриаса: «Вулкан —
дедушка воды» (Ь, 66), восходящий к индейской мифоло-
гии. Отец, дед может говорить с человеком голосом про-
шлого. Характерна в этом смысле сцена из романа Але-
грия «В большом чуждом мире», где описано, как главный
герой, индеец, держит совет с мудрым великаном» горою
Руми (223).
Гора, хоть и мыслится в мужской ипостаси, восприни-
мается органичным порождением и продолжением матери-
земли, и потому этот мифообраз в латиноамериканской ли-
тературе не содержит в себе коннотаций отрыва от земли,
возвышения, полета. Можно утверждать также, что гора,
являясь одним из элементов наружного пространства, не
создает своего, особого сакрализованного пространства,
равно как и не мыслится осью мира, связующей небо с зем-
лей.
В европейской культурной традиции образ
4. Камень камня имеет ряд позитивных значений, свя-
занных с понятиями прочности, основатель-
ности, нетленности; в христианстве с образом камня соот-
носится Св. Петр по буквальному значению его имени
(«Ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою...»,
Матф. 16). Вместе с тем как в художественной литературе,
так и в обыденном сознании, бесспорно, преобладают нега-
тивные коннотации образа камня, запечатленные в идио-
матике. Камень воспринимается как холодная, бездуш-
ная, косная материя, символ равнодушия. Мы говорим:
«он холоден, как камень», «у него каменное сердце» — и
сходные идиомы встречаются в английском, французском,
испанском, итальянском языках. Поэтому максимальная
146
степень эмоционального воздействия проецируется на
образ камня («камни вопиют», английское: stones will cry
out; французское: c'est a faire pleurer les pierres). Далее,
камень ассоциирован с понятием бремени, тяжести («ка-
мень на сердце», «камень с души свалился»). Через образ
надгробия камень прочно увязан с могилой, смертью,— и
это один из его доминирующих смыслов. Наконец, камень
выступает как род оружия, поношения (бросить камень) и
как препятствие («нашла коса на камень»; французское
trouver des pierres dans son chemin; испанское ponerse uno
piedras en el camino). Л. В. Карасев, исследовавший симво-
лы Достоевского, приходит к следующим выводам: «Фено-
менология камня... раскрывается прежде всего в качест-
вах несокрушимости и тяжести. (...) Камень — тихо враж-
дебен. Камень — синоним могилы»16.
В латиноамериканской художественной литературе при
сохранении некоторых традиционных негативных конно-
таций образа (например, «Педро Парамо» Рульфо) реши-
тельно доминирует иная трактовка, в целом несвойствен-
ная европейской культуре. Камень представляется живой
материей, насыщенной чувствами, мыслями, голосами,
внутренним теплом. Это связано, в первую очередь, с ми-
фологическими представлениями индейцев (главным обра-
зом, жителей Андских стран), которые уже через литера-
туру могли быть восприняты писателями других регионов.
Как считают многие исследователи, у инков, кечуа и
аймара культ солнца возник намного позже, чем древней-
ший культ земли, гор, пещер, рек и камней. Индейцы уру,
коренное население Боливии поклонялись Всемогущему
Первоначальному Камню, который создал людей и мог об-
ратить их в камень. По одной из версий мифа о Виракоче,
важнейшем божестве пантеона андских народов, он вышел
из земли и обратился в камень16. Кроме того, у инков су-
ществовали представления о том, что Виракоча сначала со-
здал гигантов, которых обратил в камни; затем перволю-
дей, опять же обращенных в камни; и наконец, сотворил
из камня людей17. Многие камни считались «уакас»
(слово, обозначающее предмет или место, эманирующие
божественное начало), и этим сакральным камням покло-
нялись. Другая форма проявления культа камня — т.н.
147
«апачитас»: кучи камней на вершинах холмов или на обо-
чинах дорог, обозначающих священные места. Останавли-
ваясь у апачитас, индеец кидает в кучу камень либо остав-
ляет иное подношение, призванное задобрить духов, оби-
тающих в том месте. Этот обычай наблюдается также в
Мексике и Центральной Америке18. Г. Франкович считает,
что и абсолютное доминирование в искусстве древнего
Тиуаунако прямой линии и геометрических фигур обязано
культу камня,— равно как идеология инков, тяготеющая
к стабильности, упорядоченности, иерархичности19.
Этногонические мифы южноамериканских индейцев
находят прямое отражение в латиноамериканской литера-
туре, воплощаясь в устойчивом мотиве, устанавливающем
родство индейца и камня. Характерно в этом отношении
название романа гватемальца М. Монтефорте Толедо
«Между крестом и камнем» — о жизненных перипетиях
героя-индейца, пребывающего в «межкультурном про-
странстве». Крест — символ христианской культуры, ка-
мень, как и в романах X. М. Аргедаса,— символ автохтон-
ной культуры. Поскольку индейский субстрат соотносится
с «подлинностью», то камень мыслится воплощением ла-
тиноамериканца. «Человек возник из скалы, скала — это
человек. Настолько человек и камень неотделимы друг от
друга, что выступает как единое целое»,— пишет боливий-
ский писатель Ф. Диес де Медина в романе «Найхама»20.
Постоянно звучит этот мотив в поэзии Неруды: люди —
«потомки минералов»; «Народ мой — порожденье скал»
(III, 18, 20); и в прозе Астуриаса: в «Маисовых людях»
«очеловеченный» камень (камень Марии Текун) играет
важную роль в сюжете и в художественном мире романа:
он притягивает к себе героев, воплощая «образ ушедшей,
уходящей любви, убегающей и неподвижной» (174). Образ
камня в латиноамериканской литературе подчеркнуто
анимистичен: камень постоянно сравнивается с человечес-
кой плотью, причем нередко с женской; например, у Руль-
фо — с женскими ногами (66) или у Мистраль: «он крас-
ный и жесткий, как моя кожа / и через трещины дышит
как будто» (179).
Как живые человекоподобные существа, камни способ-
ны «шевелиться», «дышать», «смотреть», «говорить»,
148
«петь», «плакаты» и т.п. Большую распространенность
вкупе с особой смысловой нагрузкой приобрел мотив «го-
лоса» камня, который «сообщает» человеку нечто сокро-
венное, а тот «воспринимает» это сообщение либо передает
другим: «Я буду говорить с тобою на языке камня» (Пас,
II, 147).
Сокровенное сообщение камня, разумеется, содержит
очень важную для человека истину и может стать побуди-
телем к действию, как, например, в стихотворении Неру-
ды, посвященном герою Индепенденсии X. М. Каррере:
«Ты первым произнес слово «Свобода», / которое тихо
зрело в шепоте пыли, / передаваясь из уст в уста камня-
ми» (III, 97). Голос камня может быть подобен голосу
воды, реки, земли, горы, дерева, чьи «зовы» и «сообще-
ния» аналогичны зову пространства (см. гл. I, р. I, Д, 1).
Приобщая человека к высшей мудрости, научая его, голо-
са природных реалий интегрируют героя в «особый» лати-
ноамериканский мир, приобщают к автохтонным началам
и при этом соответствующим образом моделируют харак-
тер героя. Очень отчетливо эти мотивы звучат в примеча-
тельном фрагменте из романа М. Отеро Сильвы о Лопе де
Агирре, где, кроме прочего, обращает на себя внимание
взаимосвязь мифообразов горы, камня, пещеры и их ин-
терпретация в русле константы инаковости. Именно в
Америке герой начинает слышать и проникаться «голоса-
ми» природных реалий: «Дух первооткрытий гнездится в
этих камнях... Лопе де Агирре родился и вырос среди гор
и пропастей, но никогда ранее он не проникался мудрос-
тью камня так, как проникся у подножия этих сооруже-
ний, никогда ранее не тревожила его покоя тайна этих гор,
как растревожила она его в этих пещерах, где обитали ди-
ковинные боги и герои». Достаточно инициационного воз-
действия еще двух природных реалий — луны и дождя,—
чтобы герой приобщился к автохтонному миру и вошел в
«содружество» с камнем: «Он точно знал, где он, когда над
ним взошла луна и на плечи ему пал первый дождь. К рас-
свету он уже строил себе дом с каменным очагом и камен-
ным ложем» (216).
Камень мыслится хранителем времени: «... камни так
похожи на время...» (Неруда, I, 84), «Камни это время»
149
(Пас, II, 165), поэтому голос камня часто оказывается
зовом прошлого. Особенно ясно этот мотив звучит, когда
мифообраз камня сопрягается с образом индейца. Корен-
ной житель Америки воспринимает камень как знак своей
культуры — застывшей и нетленной, осязаемой и зри-
мой,— и потому его общение с камнем предстает как акт
культурной самоидентификации. Это хорошо видно в ро-
мане Аргедаса «Глубокие реки». Можно без преувеличе-
ния сказать, что художественный мир этого произведения
организуют мифообразы реки и камня. Не меньшее воз-
действие, чем река, на героя оказывают камни древних ин-
кских сооружений, и это воздействие всегда знаменует ре-
инкарнацию автохтонной культуры в детском сознании.
Нередко мифообразы реки и камня сплавляются в единое
целое. Приведем характерный фрагмент из романа, повто-
ренный в различных вариациях несколько раз: «Я пошел
вдоль стены, разглядывая камень за камнем. (...) Я трогал
камни пальцами, проводил рукой по волнистой неожидан-
ной линии на стыке камней, напоминавшей реку на карте.
Здесь, на темной улице, в тишине, стена казалась живой;
края камней, как языки пламени, жгли мне ладони.
— Папа,— сказал я,— тут каждый камень говорит.
Давай постоим минутку» (23).
III. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Название одного из известных стихо-
1. Дерево творений Г. Мистраль «Гимн дереву»
(61) определяет тематическую и даже
жанровую константу латиноамериканской литературы, в
которой подобного типа «гимны» или «оды» дереву поются
весьма часто как в поэзии, так и в прозе.
Почему универсальный мифообраз дерева оказался
столь привлекателен для латиноамериканских художни-
ков XX в.? Как представляется, прежде всего — в силу
своей необъятной многозначности, семантической вариа-
тивности и текучести, которые соотносятся с поэтикой
протеизма — а она проявляется не только в образности, но
и в смыслообразовании.
150
Латиноамериканские писатели (в особенности XX в.)
формировали свой художественный язык в немалой степе-
ни за счет сознательной или бессознательной реактуализа-
ции общемифологических образов. Уже сам по себе уни-
версальный мифологический образ дерева в его двух ос-
новных ипостасях — «Древо Жизни» и «Мировое Дре-
во» — содержит очень широкий спектр значений21. Однако
в латиноамериканской литературе эти значения, во-пер-
вых, усваивались избирательно,— то есть какие-то прини-
мались, а другие, не соответствующие сложившемуся об-
разу мира,— отвергались. Во-вторых, и те варианты, что
принимались, подчас весьма своеобразно интерпретирова-
лись. Наконец, к традиционным значениям мифообраза
дерева в латиноамериканском контексте, отчасти и под
давлением других образов, добавлялись специфические
смысловые оттенки и интерпретации. Вкратце опишем эти
семантические уровни.
Из традиционных мифопоэтических значений образа
дерева латиноамериканские художники восприняли такие
варианты и символы, как «Древо Жизни», «Древо Плодо-
родия», «Древо Познания», «Древо Центра», «Древо Пер-
воначала» («Перворожденное Древо»). Конкретные приме-
ры усвоения этих символов и их первоосмысления будут
приведены позже, пока же ограничимся показательным
фрагментом из «Весны священной» Карпентьера, где автор
демонстрирует прекрасное знание мифологических значе-
ний образа дерева и использует их в художественной кон-
струкции романа. Энрике, герой романа, размышляет,
глядя на сейбу: «Сейба — дерево-триада, чьи корни, ствол
и ветви суть элементы единства... (...) Не зря, думал я,
зовут кубинские крестьяне сейбу «матерью всех деревьев»,
быть может, то голос древней мудрости, изначально объ-
единявшей понятие «Женщина» с понятием «Дерево», ибо
в первооснове всех религий Земля и Мать обозначаются
как ствол и побег, как символ начала жизни. В древнюю
космогонию Карибских островов входят легенды о Древе
Жизни, о Древе — центре вселенной, о Древе Мудрости, о
Древе Восхождения, о Солнечном Древе... (...) Вот оно
Древо — Центр мироздания...» (212—213). Однако следует
отметить, что в этом несколько нарочитом (впрочем, как
151
и весь роман) мифологизировании упомянуты и те вариан-
ты мифообраза дерева, которые, в сущности, чужды лати-
ноамериканской литературе, и в том числе творчеству
самого же Карпентьера.
Речь идет прежде всего об образе Мирового Древа с его
трехчастным вертикальным членением (корни, ствол,
крона), связующим миры подземной, земной и небесный.
Как уже упоминалось, образ Мирового Древа не получил
широкого распространения в латиноамериканской литера-
туре, а дерево как пространственный элемент здесь служит
связью наружного с внутренним и имеет двухчастную вер-
тикальную структуру: корни — ствол с кроной. Кроме
того, в силу специфической трактовки дихотомии «верх-
низ» мифологический вариант Древа Восхождения пред-
стает в латиноамериканской литературе в особой интер-
претации, парадоксальным образом сочетаясь с вариантом
Древа Нисхождения (хотя образы «Древа Смерти», «Древа
Зла» в латиноамериканской литературе отсутствуют прак-
тически полностью). Восхождение к истине, сущности
через дерево осуществляется главным образом посредст-
вом нисхождения к корням, в сакральное пространство.
Притом в латиноамериканском художественном сознании
не выражена одна из важных функций универсального ми-
фологического образа дерева — его противостояние хаосу
и созидание космического миропорядка. Будучи органич-
ным порождением латиноамериканского алогичного, не-
обузданного природного мира, дерево само способно созда-
вать хаотическое пространство (что ясно обозначено в об-
разе сельвы).
Образ дерева получает в латиноамериканской литерату-
ре дополнительные значения, олицетворяя мир природнос-
ти, естественности, а также способен выражать константы
инаковости, таинственности, первозданности, девствен-
ности, сверхнормативности, темпоральности.
Но главное, что привносит латиноамериканский писа-
тель в художественную интерпретацию образа дерева (как
и во многие другие мифологические универсалии) — от-
четливый культуростроительный акцент, который прояв-
ляется не менее сильно, чем при воплощении мифообраза
земли. Наиболее яркое свое выражение он находит в широ-
152
ко распространенном мотиве отождествления Америки с
деревом, и наоборот. Неруда, называя Америку «зеленою
утробой», воспринимает дерево сущностным выражением
континента, где деревья «стояли гулом, ширью мировой /
самою жизнью этого пространства» (III, 9—10). Попутно
обратим внимание на связь образа дерева с мифологемой
хаотичного пространства. В образе дерева поэт представля-
ет автохтонную культуру и, говоря о конкисте, скорбит:
«... рухнуло древо / — язык и обычай...» (III, 27). Интро-
дукция к четвертой главе «Всеобщей песни» вся выстроена
на выявлении различных значений и смысловых оттенков
мифообраза дерева: «Вот оно — дерево вольных корней, /
Древо-земля, дерево — облако, / дерево — хлеб, дерево —
меч, / дерево — пламя, дерево — кулак»... и т.п., а цент-
ральное из всех значений звучит рефреном: «Вот оно — де-
рево, дерево / древо народа... (64—66).
Соответственно, и дерево устойчиво воспринимается
символом всей Америки — как, например, в стихотворе-
нии Каррера Андраде «Дерево какао»: «... зеленый лозунг
/ вписанный в ветер. / Ты словно повесть о Новом Свете»
(73); или в стихотворении Мистраль «Хоровод вокруг эква-
дорской сейбы»: «В мире свет, а в свете сейба, / светом
мира сейба дышит, / в этом дереве зеленый / зов Америки
мы слышим» (32).
В культурологенном преломлении предстают и все ос-
новные традиционные мифологические варианты образа
дерева. «Древо Жизни» в латиноамериканской литературе
мыслится прежде всего как древо культуры, символ само-
стояния. Древо Центра выражает понятие сакрального
центра в его латиноамериканской интерпретации — места,
где обретаются высшие истины и достигается культурная
самоидентификация героя. Древо Познания опять-таки
трактуется как постижение культурной сущности Амери-
ки; это, например, ясно заявлено Карпентьером, чей герой
признается себе: «Остались позади безнадежные попытки
понять Латинскую Америку (...) До сердцевины дерева я
так и не добрался и только до крови исцарапал руки, пы-
таясь содрать кору» (VII, 75).
Обширная группа устойчивых мотивов связана с оду-
шевлением деревьев и взаимными перевоплощениями че-
153
ловека и дерева. Эти мотивы, отнюдь не специфически ла-
тиноамериканские, генетически восходят к древнему
культу деревьев, столь же распространенному среди евро-
пейских народов22, сколь и среди индейских23. В латиноа-
мериканской литературе с ее установкой на мифологиза-
цию эти мотивы акцентируются, реализуясь не только на
уровне мифопоэтической образности, но и на уровне' сю-
жетном. И в том, и в другом случае, как правило, ясно
ощущается стремление художника приблизиться , подчас
нарочито прямолинейно, к моделям архаического миро-
восприятия.
Особенно ясно эти акцентированно анимистические
трактовки обозначены при изображении дерева как оду-
шевленного существа. «... У деревьев есть душа»,— пола-
гают индейцы (Алегрия, III, 353), они могут беседовать,
обмениваться знаками, жаловаться, испытывать боль (Ри-
вера, 115). Образ говорящего дерева постоянно мелькает в
прозе Астуриаса: «Листья деревьев, превратившись в зеле-
ные языки, передавали новости, принесенные ветром» (IX,
48). М. Скорса эту нарочитую образность переводит уже в
сюжетный план, представляя весь автохтонный мир Ла-
тинской Америки в нерасчленимом единстве, когда люди,
животные, растения выступают почти что равноправными
участниками действия: «И деревья всполошились (...)
Ветра не было, в том-то и дело. Воздух дремал, а ивы вдруг
забились, бедняги, словно пытаясь сняться с места. Кто-то
уж им шепнул, что мир огородят. Гнулись, стонали, коло-
ли себя сучьями и мучались всю ночь. Некоторые все yivG
протащились метра два по земле» (53).
Поскольку дерево представляется одушевленным куль-
турным символом континента, писатель нередко стремит-
ся отождествить с деревом героя, чаще всего индейца. Эта
образная конструкция многосоставна и выстраивается из
различных ассоциативных рядов: дерево — собиратель-
ный образ природного бытия; культурный символ Амери-
ки; оно осуществляет связь внешнего пространства с внут-
ренним, сакральным (т.е. сущностью); оно произрастает из
земли и существует неотрывно от земли; а кроме того, де-
рево обладает силой и крепостью, оно способно плодоно-
сить, и наконец, оно «молчит говоря». В круг этих ассо-
154
циаций и помещен образ индейца. Тот же пласт ассоциа-
ций может быть перенесен и на негра: так, в «Гуюнго»
А. Ортиса герой романа неоднократно сравнивается с «мо-
гучим деревом» (57).
Коль скоро дерево мыслится олицетворением всего, ав-
тохтонного, сущностного, то у героя (писателя) закономер-
но рождается потребность слиться с деревом, стать дере-
вом — то есть интегрироваться в мир подлинного. Так фор-
мируется характерный для латиноамериканской литерату-
ры мотив обращения человека в дерево. Этот мотив мета-
форически выражает акт самоидентификации, воплоща-
ясь в различных вариантах. Это может быть «вхождение в
древесную плоть» (Неруда, I, 109) или, как у того же Не-
руды в стихотворении «Я звался Рейес», утверждение
своего изначального родства с деревом (II, 471). Извест-
ный боливийский поэт Г. Рейнольде свое существование
мыслит в образе произрастающего дерева24; равно как у
О. Паса: «Ты отдыхаешь / под древом моей крови» (I, 31).
В «Канайме» Гальегоса мотив превращения человека в де-
рево разрастается в очень важную сюжетную линию рома-
на. Герой романа Маркое Варгас «часто присоединялся к
индейцам и учился у них умению погружаться в этот пу-
чинный мир... И вскоре ему начинало казаться, будто сам
он — не что иное, как вот такое же дерево...» (162). В по-
селке разносится слух, будто Маркое Варгас общается с де-
ревьями в лесу и умеет обращаться в дерево. А в сущности,
так оно в романе и происходит: герой, в конце концов, ос-
тается в индейском племени, навсегда погружается в «пу-
чинный мир» сельвы — то есть, действительно, превраща-
ется в индейца, в дерево, сливается с автохтонным миром.
В ином ключе и более завуалированно этот мотив представ-
лен в «Сыне человеческом» Роа Бастоса. Прокаженный
Гаспар Мора, своего рода «культурный герой», перевопло-
щается в свое творение — деревянное распятие. «Он за-
снул в объятиях дерева»; «Если душа способна воплотить-
ся в дерево, то это душа Гаспара Моры»,— говорят об из-
ваянии жители деревни (36, 44). Обращение человека в де-
рево — это своего рода трансценденция: в этом качестве
человек сам становится носителем сущности, сакральнос-
ти и тайны.
155
Учитывая богатейшую семантику мифообраза дерева,
нетрудно понять отчетливо выраженное стремление лати-
ноамериканского писателя поместить своего героя под де-
ревом. Стремление это может быть бессознательным, но
тем не менее не случайным. Мы же обратим внимание на
те произведения, когда писатель намеренно помещает
героя под дерево, придавая этому местоположению симво-
лический смысл.
Место под деревом нередко мыслится как сакральное
пространство или, по крайней мере, как особое простран-
ство, приближенное к миру сакрального (подземного). Не
случаен образ Астуриаса из «Маисовых людей», связан-
ный со слепцом Гойо Йиком, который стоял под деревом и
собирал подаяние на операцию глаз: «Он покинул дерево,
свой амвон, свою кафедру». Покинув «храмовое» про-
странство, слепец направляется с деньгами к знахарю, а
тот отвечает ему: «Вечность ждет тебя под деревом, даю-
щим тебе кров, опору и тень, а ты возмечтал прозреть и не
видеть цветов, скрытых в плоде и ведомых лишь слепому»
(100—101). Именно так: близость к дереву приобщает че-
ловека к вечности и дает ему великую мудрость, особое ви-
дение внутренних сущностей, а не внешних форм. Это зре-
ние слепоты Гойо Йик променял на внешнее зрение в на-
дежде отыскать «цветок, сокрытый в плоде», жену свою,
но, многое потеряв, ничего не приобрел.
Под деревом ветвятся корни, и эта приближенность к
корням, к первооснове придает «храмовому» пространству
ярко выраженную темпоральность. Здесь, под деревом,
особенно ощутима вечность, здесь ясно звучит голос про-
шлого, здесь человек переносится в мифическую эпоху
первотворения: «Вглядевшись в дерево это, услышу / из
глуби веков выходящий спящий голос. / Голос, из праха мо-
гилы / мне толкующий годы...» (Каррера Андраде, 247).
Стоя ногами на земле и прислонившись телом к стволу,
человек сам уподобляется дереву. Крона дает тень и защи-
щает от зноя. Последний, казалось бы, незамысловатый
мотив на самом деле также полнится глубоким смыслом,
который в полной мере станет ясен после анализа образа
зноя (см. гл. II, IV, 4). Здесь укажем только, что в латино-
американском художественном сознании солнце и зной
156
часто ассоциированы с социальным насилием (виолен-
сией), поэтому дерево, это средоточие жизни, выступает
как индивидуальное убежище от коллективного насилия.
В дупле дерева прячется и спасается от полиции один
из героев романа Роа Бастоса (1,177). Яснее всего эта
функция дерева отражена в романе Астуриаса «Глаза по-
гребенных». Мондрагон, главный герой , случайно забре-
дает на кладбище и присаживается на скамейку под ивой.
«Эта ива, выросшая на кладбище среди мертвых, перебра-
сывала через ограду пенную бахрому своих ветвей — для
живых». Этот образ устанавливает связь дерева с мотивом
«кости предков» (см. гл. I, р. 11, С, 2), с прошлым, кото-
рое полнится жизнепорождающей силой. «Вначале он сел
на край скамьи, ночной холод заставил его подвинуться...
ближе к дереву — искать приют под деревом» (169). Имен-
но здесь, под деревом, Мондрагон случайно слышит беседу
патрульных, которым приказано взять его живым или
мертвым,— и он скрывается от преследования в пещере.
Возлюбленная героя, Малена Табай, узнав о случившемся,
идет «поклониться» иве: «Малена подошла к иве и прислу-
шалась к шепоту ее ветвей, вздрагивающих, как ее собст-
венное тело (...) Да, она обращалась к ней, благодарила ее
за помощь любимому (...)• Эта ива, выросшая среди мерт-
вых, дала ему, живому, приют» (189).
В романе Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» расту-
щий во дворе дома Буэндиа каштан создает свое сакраль-
ное пространство. Далеко не случаен фантастический
мотив: выжившего из ума Хосе Аркадио привязывают к
стволу этого дерева, где он живет много лет. Важно учесть,
что Хосе Аркадио — основатель рода Буэндиа, он выступа-
ет в ипостаси мифологического первопредка, и «привязы-
вая» его к дереву, писатель создает символический образ
генеалогического дерева. Нелегко сдвинуть первопредка с
Освященного места: «За долгие годы сидения под кашта-
ном он развил в себе способность по желанию увеличивать
свой вес, да так, что семеро мужчин не могли поднять его
со скамейки» (118). Хосе Аркадио умирает, когда его от-
рывают от места и привязывают к постели. В сакрализо-
Ванном пространстве под кроной дерева находит свою
смерть и центральный герой романа — полковник Ауре-
157
лиано Буэндиа: «Тогда он, думая о цирке, направился к
каштану и пока мочился, пытался продолжать думать о
нем, но уже ничего не мог вспомнить. Втянул голову в
плечи и застыл, уткнувшись лбом в ствол дерева» (215).
Дерево рода, древо жизни у Маркеса, как и у Астуриаса,
осуществляет связь живых с умершими.
'Храмовое сакрализованное пространство под деревом
открыто и для любви. В этой связи отметим прежде всего
устойчивую связь мифообраза дерева с женщиной. С пре-
дельной ясностью эта связь выражена в «Веке просвеще-
ния» Карпентьера: «Есть нечто неповторимое в том, чтобы
взобраться на дерево... Тот, кто обнимает руками высокую
грудь ствола, свершает в некотором роде брачный акт,
силой проникая в тайный мир, неведомый другим людям.
Взгляд внезапно охватывает все красоты и все изъяны. Вот
две податливые ветви, разъятые подобно женским бедрам
и таящие в глубине сочленения пучок зеленого мха...»
(242). С деревом постоянно отождествляет себя поэтесса
Г. Мистраль. На сюжетном уровне эта устойчивая связь ре-
ализована в романе «Ураган» Астуриаса: Лино Лусеро об-
ретает возлюбленную в банановом стволе, который преоб-
ражается в женщину: «То был банановый ствол и в то же
время — женское тело. И он приник к нему, чтобы цело-
вать без конца, молча, ничего не видя и не слыша» (369).
Связь дерева с женщиной выявляет и сравнение женских
грудей с плодами — а встречается оно настолько часто, что
превратилось в клише. Сопоставление дерева с женщиной
выявляет жизнепорождающую материнскую силу дерева,
поэтому часто встречающаяся сцена соития под деревом
(или в лесу) приобретает символический характер: это
приобщение к сакральному «корневому» пространству, к
природности.
Латиноамериканское Древо в его об-
2. Корень разном осмыслении имеет двухчаст-
ную вертикальную структуру (ствол с
кроной — корни), соответствующую дихотомии наруж-
ное — внутреннее. Крона менее всего привлекает внима-
ние латиноамериканского художника, поскольку она
дальше всего отстоит от земли, соприкасается с небом.
158
Действительно, в латиноамериканской литературе доволь-
но трудно найти примеры отождествления человека имен-
но с кроной. Как таковая крона специально не выделяет-
ся, входя в общий образ дерева,— в отличие от ствола, ко-
торый соприкасается с землею, служит опорой, материа-
лом, аналогичен человеческому телу. Но самой семанти-
чески нагруженной частью дерева для латиноамериканца с
его теллурическим художественным мышлением является
корень. Он располагается в сакральном подземном про-
странстве (и отчасти организует его), он непосредственно
соприкасается с матерью-землей, он, собственно, и держит
Древо латиноамериканской культуры, Древо народа.
Корень настолько значим, настолько сущностей, что
способен жить своей особой жизнью, как бы отдельно от
дерева — отчасти именно поэтому анализ мифообраза
корня выносится в особый раздел. Вот несколько харак-
терных примеров из произведений Астуриаса: «Корни не
спали под землей. Корни — старики и младенцы»; «...
корни гнали сок в стволы, в листья, цветы, плоды» (I, 33,
69); «корни пели, втягивая... всю жизнь земной толщи...»
(III, 218). Корень может самостоятельно двигаться, гово-
рить, петь, расти, видеть и т.п.; главное же состоит в том,
что если ствол с кроной могут засохнуть, упасть, сгнить,
то корень все равно остается в земле. Он куда более защи-
щен, меньше подвержен воздействию извне. Впрочем, и
над ним можно совершить насилие — самый страшный в
латиноамериканском понимании тип насилия: вырывание
из земли.
Излишне подробно разъяснять семантику мифообраза
корня — она достаточно очевидна. При всех вариантах
трактовок ее основу составляет идея обретения культур-
ной почвы, укоренения человека в своем мире, достиже-
ния сущностей: «Я чувствую их / корень моего дерева, тво-
его дерева, всех наших деревьев,— / я чувствую их / в
самой глуби моей земли, / там, в самой глуби, / они тащат
меня, возносят меня, / говорят со мной, кричат мне» (Ги-
льен, 81). Такое ясное, почти физическое ощущение корня
стало одним из ведущих мотивов латиноамериканской ли-
тературы: «Но мой корень, цепкий и невидимый / врос в
полуденную землю / и питается речною водою... (Каррера
159
Андраде, 304); «Что бы я мог рассказать без этих корней?»
(Неруда, I, 144) и т.п. Однако вряд ли этот мотив стоит
воспринимать как констатацию данности: скорее это выра-
жение устремленности. Действительно, обостренность и
декларативность мотива укорененности выдают его пота-
енный (скорее всего, безотчетный для художника) нос-
тальгический характер. Культурная двойственность лати-
ноамериканского художника, стимулируя процесс само-
идентификации, толкает его к поиску единосущного кор-
ня, который он чаще всего стремится обрести в автохтон-
ном мире. За яростным утверждением нередко скрывается
сомнение, ибо очевидное утверждению не подлежит. Не
случайно такую значимость в латиноамериканской лите-
ратуре обретает метафорический мотив «прорастания» че-
ловека корнями и врастания в землю. Этот одновременно
радостный и мучительный процесс метафорически выра-
жает сам смысл творчества латиноамериканского худож-
ника, часто вынужденного, повторяя исторические модели
XVI в., заново открывать, исследовать и покорять словом
новую землю.
Вполне закономерно, что герой, укорененный на земле
Латинской Америки, постоянно сравнивается с корнем.
Особенно часто этот устойчивый образ применяется по от-
ношению к индейцам. Соответственно, типовой сюжет ин-
дихенистского романа — отторжение человека от земли —
очень часто представляется в метафорическом образе вы
рывания корней: «Собрался народ общины, пастухи и зем-
левладельцы, дети земли, вросшие в нее корнями, как де-
рево, и вот их пытаются из земли вырвать» (Алегрия, III,
194). Еще резче этот образ выражен у Астуриаса: «Это не
человеческие существа. Это корни, корни. И ничего не ос-
тавалось, как только вырвать их, истребить, как леса, уже
сведенные там, где заложены плантации» (V, 222). Приме-
чательно, что образ выдранного корня сопровождает сцену
изгнания диктатора из страны в романе Карпентьера
«Превратности метода». Диктатор находит приют в амери-
канском консульстве и с грустью рассматривает коллек-
цию замысловатых корней, собранную консульским аген-
том «во время частых блужданий по берегам континента».
«Корни, выдернутые из своей далекой родной земли, вы-
160
рванные, вытащенные, поднятые, принесенные реками во
время половодья...» (VI, 270) недвусмысленно ассоцииро-
ваны с эмигрантами, которых «половодья» революций и
переворотов выносят в США или Европу. Отождествление
Главы Нации с корнем лишний раз доказывает амбива-
лентность диктатора, который мыслится органичным по-
рождением латиноамериканского мира.
Емкая формула Риверы «вещая сель-
3. Сельва ва, враждебная сельва» (115), очень
точно указывает на амбивалентность
образа сельвы в латиноамериканской художественной ли-
тературе — что принципиально отличает его от образа де-
рева, исключительно позитивного во всех своих интерпре-
тациях. Пожалуй, никакой другой элемент латиноамери-
канского пространства не обладает столь резко выражен-
ной амбивалентностью. Мотивы агрессивности и враждеб-
ности сельвы по отношению к пришлому человеку вопло-
тились не только на декларативном или образном уровне,
но и на уровне сюжетостроения, породив обширный пласт
так называемой «литературы зеленого ада». Типовой сю-
жет произведений этого ряда вполне выражается словами
Гальегоса: «сельва, бесчеловечная, завораживающая сата-
нинской силой на всю жизнь любого, кто хоть раз увидел
ее» (III, 14). Иначе говоря, этот сюжет состоит в том, что
сельва «поглощает» человека: физически, как в «Пучине»
Риверы, в рассказах О. Кироги, романах С. Алегрии; либо
морально — как в «Канайме» Гальегоса, «Тоа» С. Урибе
Пьедраита, «Варварских страницах» X. Мендосы. И в том
и в другом случае сельва «словно подменяет человека, раз-
вивает в нем самые низменные инстинкты» (Ривера, 139),
«оказывает на него свое губительное околдовывающее вли-
яние» (Гальегос, III, 179), «омрачает разум» (Алегрия, III,
381). Отсюда устойчивые метафоры: сельва — ад, омут,
тюрьма, тьма.
Сельва враждебна только по отношению к пришлому
Человеку, герою-чужаку. Для укорененного жителя, ин-
дейца, она является родным домом, убежищем, органич-
ной средой. Амбивалентность образа сельвы, в сущности,
рождается из оппозиции «свое» — «чужое» и отражает
161
первичный опыт освоения Америки, когда «чужаки» втор-
гались в девственный неизведанный мир.
Во многих произведениях открыто звучит мотив «само-
защиты» сельвы от вторжения незванных гостей, который
придает еще большую многозначность самым негативным
образам и трактовкам, ибо фактически утверждает некое
высшее «право» сельвы на «месть» пришельцам. Таким
образом, в гибели героя повинен рок, толкнувший его в
сельву. И действительно, нетрудно заметить, как акценти-
руются мотивы рока, фатума в той же «Пучине» Риверы
или в других романах «литературы зеленого ада».
Описания сельвы, сколь бы нарочито тягостными они
ни были, неизменно сопровождаются мотивами благого-
вейного преклонения перед ее мощью и красотой: «Пере-
ходы по девственной сельве, по этому тысячеколонному
храму... по сельве торжественной, погруженной в таинст-
венный полумрак с глубокими прозрачными далями.
Люди идут по ней молча, склонив головы перед заворажи-
вающей неземной красотой» (Гальегос, IV, 157). Эти моти-
вы сами по себе выдают отношение к сельве как к сакраль-
ному пространству, а в вышеприведенном фрагменте на
это указывает и образ тысячеколонного храма. К тому же
именно в связи с сельвой чаще всего возникает образ сак-
рального центра. Типовой сюжет «литературы зеленого
ада», таким образом, фактически дублирует древний ми-
фологический сюжет: вторжение непосвященного в святи-
лище и неотвратимо следующее за этим наказание.
Модель художественного восприятия сельвы как сак-
рального пространства находит многочисленные под-
тверждения в латиноамериканской литературе. Возможно,
одним из первых эту модель утвердил Р. Дарио, который в
«Песне жизни и надежды» написал:
Омылся я кастальскою водою
и оттолкнул дурные помышленья,
а сердце-странник принесло с собою
моей священный сельвы дуновенья.
Священной сельвы! Льется ключ проворный,
текут священной сельвы ароматы,
сражаются с судьбою самой черной
и возмещают горькие утраты (73)
162
Троекратное повторение образа священной сельвы (в
оригинале — так же) звучит как повторение магической
формулы, как заклинание.
Вслед за Дарио эту формулу воспринял и стереотипизи-
ровал перуанский модернист X. С. Чокано: в его лирике
сельва предстает как преимущественное место обитания
поэта с его «дикой музой». Присутствие в сельве поэта, от-
шельника дополнительно «освящает» это пространство.
В этом смысле вполне закономерным становится устой-
чивое отождествление пространства сельвы с пространст-
вом пещеры: «Была пещерой голубая сельва /ив таинстве
деревьев и потемок / тянулась песня гуарани...» (Неруда,
III, 20). Еще яснее храмовый сакрализованный характер
пространства сельвы выражен в «Лесном скерцо» крупно-
го боливийского поэта Ф. Тамайо:
Мой лес, печальный, певучий!
В твоем зеленом затоне,
в твоей пещере дремучей
мой голос, как эхо, тонет,
теряется, словно в храме.
И свет и скорбь в твоей кроне
ушедшей в вечность корнями25.
Как и пещера, сельва становится местом обитания от-
шельников, святых, убежищем героев подлинности.
Образ сельвы, эмблематичный для латиноамериканско-
го художественного сознания, определил как огромную
значимость зеленого цвета в латиноамериканской «палит-
ре», так и его специфическую семантику. Зеленый цвет
воспринимается как знак сельвы: «...металл позеленел /
его покрыл цвет сельвы...» (Неруда, II, 481); и потому этот
цвет служит как бы геральдическим цветом континента.
Не случайно рождаются образы: «Америка, зеленая утро-
ба» (Неруда, III, 10), «Зеленый зов Америки» (Мистраль,
32) и т.п. Показательно в этом смысле стихотворение Кар-
рера Андраде «Предвыборное воззвание в пользу зеленого
цвета», в котором превозносится «зеленый бог» Америки
(145—146).
Соответственно, зеленый цвет вбирает в себя некоторые
из тех значений, которые присущи мифообразу сельвы — в
163
первую очередь такие, как первозданность, необуздан-
ность, дикость, амбивалентность. Зеленый цвет стойко ас-
социирован с автохтонным началом: так, например, у Гар-
сиа Маркеса индеанка Меме «походила на идола, зеленого
и призрачного...» (I, 36). Зеленый и черный — преимуще-
ственно цвета глаз героев латиноамериканской литерату-
ры (о черном цвете, ассоциированном с ночью, будет сказа-
но позднее). Зеленые глаза — это глаза зверя, обитателя
сельвы, и выражают они природность и дикость, хищность
и необузданность. Фуэнтес вполне сознательно акцентиру-
ет зеленый цвет глаз Артемио Круса, приоткрывая смысл
образа в первых же строках романа: «Я — этот глаз. Этот
глаз, испещренный прожилками ненависти — жгучей,
давней, забытой и вечно живой. Я — этот зеленый глаз
меж отекших век» (III, 147).
В романе Варгаса Льосы «Зеленый дом» специфическая
латиноамериканская семантика зеленого цвета сочетается
с традиционным испанским значением этого цвета — не-
пристойный, похотливый. Действие романа происходит в
сельве или при постоянном присутствии образа сельвы.
Значения зеленого цвета намечаются при описании облика
одной из героинь романа, дикарки Бонифации: у нее
«глаза — два зеленых огонька», «зеленые глаза — зверьки
в чаще волос» (144, 296). Зеленый — цвет дикости, вар-
варства, а стихия варварства переполняет роман. Ее эмбле-
матическим воплощением становится здание публичного
дома, выкрашенное в зеленый цвет. Примечателен образ:
зеленый дом «высится как собор в центре города» (135). В
этом образе происходит переосмысление и травестирова-
ние «классического» храмового пространства сельвы, а
также мотива сакрального центра, «сердца сельвы». Зеле-
ный дом выступает в качестве центра, куда стянуты нити
судеб всех героев. Варварский мир, полный насилия, со-
здает свой «собор» в виде публичного дома, где служатся
сатанинские литургии. Не случайна ремарка одного из ге-
роев романа, Арфиста, основателя публичного дома: «Я уж
совсем забыл сельву, помню только, как все зеленеет. Поэ-
тому я и покрасил арфу в зеленый цвет» (381). Как видно,
зеленый цвет, дублируя некоторые значения образа сель-
вы, воспринимается амбивалентно.
164
Зеленый цвет сельвы нередко сочетается с темным (чер-
ным). В сельве «царит непроглядная густая тьма» (Услар
Пьетри, II, 13); однако темной сельва может представлять-
ся не только изнутри, но и снаружи. Яркий пример такого
нарочитого, «неправдоподобного» цветового восприятия
сельвы являет С. Алегрия, описывая вид с горы на море
сельвы при свете дня: «Безбрежный черный океан (...). В
нем гаснут даже солнечные лучи. Это океан ночи. Это —
сельва. Сизые тучи, встав над горизонтом, как бы обрисо-
вали ее края, но она не кончается там, она уходит дальше,
таинственная и неизведанная, и где предел этой тьмы, че-
ловеку знать не дано» (I, 73). Вполне очевидно, что в этом
фрагменте, как и в других, цвет используется символичес-
ки. Черный лик лесной чащобы напрямую ассоциируется с
тайной, с ночью; с этими темами связаны мотивы мрака,
темноты, сумрака, постоянно возникающие при описания
сельвы.
Из всей богатейшей флоры конти-
4. Маис нента маис — единственное расте-
ние, которое отражено в латиноаме-
риканской литературе в качестве устойчивого символичес-
кого образа со своим набором смысловых констант и посто-
янных мотивов. (Тем же характеризуется образ коки — но
только в литературе стран Андского комплекса, и потому
он не рассматривается в данной работе.) Глубокая значи-
мость маиса для латиноамериканского художественного
сознания объясняется совокупностью взаимосвязанных
факторов.
Маис — чисто американская сельскохозяйственная куль-
тура, заимствованная Европой. Поэтому он мыслится симво-
лом латиноамериканской самобытности. Далее маис — наи-
более предпочтительная культура, основа питания, и пото-
му мифологизированный образ этого растения легко и гар-
монично вписывается в мифологическую инфраструктуру
латиноамериканской литературы: это порождение земли,
оплодотворенной дождем, его корни уходят в недра земли,
осуществляя связь наружного пространства с сакральным
внутренним, где покоятся кости предков и т.п. Наконец,
маис богато отражен в индейских мифологиях, что позво-
165
ляет связывать этот образ с автохтонной культурой и с его
помощью производить мифологическую реконструкцию
прошлого. У инков существовал культ богини маиса Сара-
мамы, которой регулярно приносились жертвы26. У майа,
кроме того, маис играл важную роль в этногонических
мифах, в соответствии с которыми Бог первоначально со-
здал людей из глины, потом из дерева, но и в том и в дру-
гом случае их уничтожил, ибо они не отвечали замыслам
творца, и только третий демиургический акт оказался
удачным — когда божество создало людей из маиса27. Ха-
рактеризуя культуру майа, С. Морли отмечал: «Вся их
культура в той или иной форме имеет своей отправной точ-
кой маис; вся их религия концентрировалась на маисе и
на божествах, обеспечивающих его произрастание»28.
В силу указанных причин маис занял важное место в
художественном сознании латиноамериканцев — чего со-
всем нельзя сказать о табаке, тоже подаренном Америкой
Европе. В латиноамериканской литературе оды маису по-
ются, как и гимны дереву, и в них маис нередко представ-
ляется символом Америки: «Америка, ты выросла / из
одного зерна маиса, / и пенящимся океаном / твои про-
странства он покрыл» (Неруда, I, 401).
Маис как порождение земли, естественно, соотносится
со всеми прочими устойчивыми образами латиноамерикан-
ской литературы. Эти связи отчетливо явлены в лаконич-
ном стихотворении гватемальца Р. Обрегона Моралеса
«Песнь маису»: «Время, / земля, / дождь, / человек... / Это
и есть / маис». В другом его стихотворении сказано: Початок
маиса приоткрывает завесу / над сутью вещей...»29.
Соответственно в русле латиноамериканского художе-
ственного мышления, которое всегда стремится отождест-
вить человека с объектами «подлинности», герой настой-
чиво представляется в образе маиса, и наоборот, маис в об-
разе человека. В романе Астуриаса «Маисовые люди» та-
кого типа образы определенно соотносятся с мифологией
майа, в том числе с их этногоническими мифами: «Тот,
кто стал сеять маис на продажу, забирает из земли кости.
Ведь это кости предков питают маис (...). Мы, люди, созда-
ны из маиса. Маис — наша плоть...» (161—162). В латино-
американской литературе устоялись антропоморфные об-
166
разы маиса: «Маис открывает глаза и взрастает» (Пас, I,
110). «Кукурузные початки / девочек напоминают / стеб-
ли на руках их держат / и два месяца качают» (Мистраль,
40); «улыбается маис и говорит сквозь зубы / на языке
воды, на языке росы» (Каррера Андраде, 242). Зерна
маиса очень часто сравниваются с зубами, а зубы челове-
ка — с зернами маиса (Гальегос, IV, 38; Астуриас, III, 60).
Столь же устойчиво отождествление человека с маисовым
початком. Рассказ Рульфо «Равнина в огне» в подтексте
строится на соотношении образов роста маиса — уборки
урожая. Начало революции — это время, когда люди «под-
нялись с земли, словно зрелые початки маиса». Затем на-
ступает «пора уборки маиса» (80—81) — когда смерть со-
бирает свой урожай. А в финале рассказа фигурирует сын
героя, зачатый в насилии — одно из зерен нового посева.
Образ маиса соотносится с мотивами плодородия, а по-
тому вполне закономерна его связь с темой любви. В рома-
не Астуриаса «Маисовые люди» кукурузный початок на-
прямую ассоциирован с фаллосом: «Прямая флейта почат-
ка, окутанная светлыми волосами, словно детородный
орган» (227, таклсе 28). Излюбленный мотив индихенист-
ского романа — сцена соития, происходящая на кукуруз-
ном поле (см. напр. Алегрия, III, 130). Человеческая лю-
бовь в данном случае полностью дублирует природный
«любовный акт», когда дождь оплодотворяет землю и та
родит из недр своих очеловеченный маис.
IV. НЕБЕСНАЯ СТИХИЯ
Анализ мифомотива ночи приводит
1. Ночь к выводу, что в латиноамерикан-
ской литературе европейская дихо-
томия «день» — «ночь» подверглась такого же типа пере-
осмыслению, как и оппозиция «верх» — «низ» (см. гл. I,
р. I, В, 4). В европейской традиции обе. имеют отчетливо
выраженную смыслонаполненность. День выступает как
реальность позитивная, поскольку он ассоциирован с бо-
жественным светом, истиной, ясностью, небесным нача-
лом и т.п., ночь, именно в противопоставлении дню,— как
реальность негативная, связанная с инфернальным, сата-
167
нинским началом. Ночью, во мраке, происходят ведьмов-
ские шабаши, которые прекращаются с криками петуха,
возвещающими утро; ночью совершаются злодейства, раз-
бои; по ночам бродят привидения и т.д. Разумеется, эта
интерпретация далеко не абсолютна (как нет ничего абсо-
лютного ни в одном из мотивов, упомянутых в данной ра-
боте), но то, что такая парадигма существует и достаточно
глубоко укоренена в европейской ментальности — вряд ли
можно оспорить.
Европейская трактовка присутствует и в латиноамери-
канской литературе, но наряду с нею наблюдается отчет-
ливая и вполне отрефлексированная тенденция к переос-
мыслению традиционной дихотомии. Ярче всего эта тен-
денция проявляется именно в мотиве противопоставления
ночи — дню.
Герой Фуэнтеса, тореадор, «всегда с нетерпением ожи-
дал ночь. У него был дар видеть в течение дня» (VIII, 233);
героиня Мистраль: «Живет она днем ради ночи, / а ночью
живет ради чуда» (202), «... и под экскортом ночей плетут-
ся плененные дни» (Каррера Андраде, 182) и т.п. Но гораз-
до важнее, что во многих произведениях мотив противопо-
ставления ночи дню реализуется на сюжетном уровне.
Самый яркий пример подобного типа — «Смерть Артемио
Круса» Фуэнтеса, где этот мотив непосредственно обуслов-
лен внутренней связью романа с ацтекской мифологией.
Приведем по этому поводу мнение мексиканской исследо-
вательницы Д. Мендоса: «Говоря о времени в представле
нии ацтеков, следует заметить, что все жертвы приноси-
лись ночью. И ночью же Бог Тескатлипока проникал в со-
знание людей, заставляя их оценивать свои дневные по-
ступки. И новый год ацтеки праздновали ночью. Все это
находит отражение в романе: именно ночью происходят
самые важные события в жизни Артемио...29. Кроме того,
эти черты сюжетостроения романа отражены и в постоян-
ных прямых противопоставлениях ночи и дня. Герой раз-
мышляет: «Да, нынешний день будет подобен вчерашне-
му — вымученные разговоры, пустые ответы и вопросы.
Вот ночь, безмолвная,— другое дело» (256). В диалоге с
самим собою, потаенным, сущностным, он говорит себе:
168
«Ты должен довериться ночи и признать ее, не видя; ве-
рить в нее, не зная, будто ночь это Бог твоих дней» (168).
В романе Роа Бастоса «Сын человеческий» некоторые
сюжетные линии также связаны с противопоставлением
ночи и дня. Ночью Нати и Касиано бегут с каучуковых
плантаций; при этом наступающий день, возвещаемый
криками деревенских петухов, они воспринимают как
«близкую погибель» (127). Примечательно, что и свое жи-
лище-вагон они катят в сельву тоже по ночам: «Днем он
казался неподвижным...» (149). То есть именно ночью
происходит сущностное движение по направлению к сак-
ральному центру, а день в этом смысле выступает как ста-
тика. В интерпретации Неруды жизнь Лаутаро, предводи-
теля индейского восстания, также складывается из проти-
вопоставления «истинного» ночного существования —
маскарадному дневному: «... но карауля ночные тени, / он
научился внимать / ночному закону урочного часа. / А
днем он гладил коней / трепал рукой мокрые гривы / этим
диковинным зверям / победившим его отчизну» (III, 77).
Как видно, традиционная европейская дихотомия пере-
осмысляется вовсе не в том направлении, что день и ночь
меняются местами на аксиологической шкале. Суть пере-
кодировки состоит в ином — в том, что ночь выступает в
качестве позитивной реальности, приближающей к пости-
жению сущностей: «день меня слепит, / а в темноте я
вижу...» (Кардоса-и-Арагон, I, 156). Соответственно, в ла-
тиноамериканском художественном мышлении день и
ночь противостоят друг другу как «наружное» — «внут-
реннему», незначительное — глубоко значимому, и этот
смысл ясно просматривается в приведенных выше приме-
рах. Ночное время мыслится как время откровений, и по-
тому оно становится столь привлекательным для латиноа-
мериканского писателя.
Действительно, ночь является средоточием событийно-
го плана многих произведений: именно в это время суток
происходят события, влекущие радикальные перемены в
судьбах героев. Из длинного перечня таких примеров вы-
делим примечательный рассказ Борхеса «Биография Тадео
Исидоро Круса (1829—1874)». В самом начале рассказа
ясно заявлен мотив решающей ночи в жизни человека:
169
«Его поджидала, затаившись в будущем, все озаряющая,
главная в его жизни ночь: ночь, когда он наконец увидит
свое собственное лицо, ночь, когда он наконец услышит
свое имя» (144). Этой ночью сержант сельской полиции
переходит на сторону беглеца Мартина Фьерро, свершив
тем самым акт глубочайшего самопостижения и приведя
свою судьбу в соответствие со своей сущностью. Вся пре-
дыдущая жизнь героя оказывается видимостью по сравне-
нию с этой поворотной ночью.
События, происходящие ночью, вовсе не обязательно
благоприятны: это могут быть злодейства, убийства, наси-
лия и т.п. Важно другое: они выявляют истинное в челове-
ке в противовес мнимому. Притом насилие в самых край-
них формах всегда мыслилось порождением латиноамери-
канского мира — и не только порождением, но и его ха-
рактерной приметой; поэтому событийный план ночи и в
этом случае оказывается ближе к сущности и к подлиннос-
ти, нежели бессобытийный план дня.
Закономерно возникает стойкая тенденция в литературе
ассоциировать латиноамериканский мир с ночью, тьмой
(«Америка, страна ночная», Неруда, III, 192). В чем корни
этой ассоциации?
Прежде всего в ней воплотился один из модусов перво-
начального восприятия Америки европейцем как мира
«слабого», «порочного», «инфернального»30. Мир инфер-
нальный в европейском сознании соотносится с тьмой,
ночью. С тьмой же ассоциирована дикость (свет учения —
тьма невежества), а дикость — та характеристика, кото-
рую латиноамериканец изначально применял для описа-
ния своего мира, переиначив ее оценочное содержание.
Важно отметить, что образ тьмы, ночи был радикально
переосмыслен в позитивном ключе еще в некоторых произ-
ведениях европейской литературы начала XX в. В повести
«Сердце тьмы» (1902) Дж. Конрад сформировал яркий ам-
бивалентный, притягивающий и пугающий одновременно,
образ «тьмы — победительницы», воплощающий природ-
ность, первозданность, первобытность, которые способны
поглотить цивилизованного человека. В своем нашумев-
шем романе «Радуга» (1907) Д. Лоуренс лишает этот образ
всякого негативного оттенка. Образ тьмы возникает в ро-
170
мане при любом чувственном, природном проявлении ге-
роини; при этом «тьма» чувства, природы, тайны отчетли-
во противопоставляется «свету» города, цивилизации:
«Глупый свет,— подумала про себя Урсула, полная неос-
тывшей дерзкой чувственности,— глупый, искусствен-
ный, напыщенный город, рассеивающий свой свет. У него
нет реального, действительного существования. Он остает-
ся поверх тьмы, как радужная нефть плавает на поверх-
ности воды»31. Несомненно, европейские примитивистские
тенденции оказали влияние на формирование образов но-
чи, тьмы в латиноамериканской литературе.
Их трактовку отчасти определили и другие элементы ху-
дожественного кода. Ориентация в ночи предполагает осо-
бый интуитивный способ познания действительности, наибо-
лее предпочтительный для латиноамериканского художест-
венного сознания (см. гл. III, р. I); ночь ассоциирована с
миром таинственного, непознанного, запретного; наконец, в
немалой степени привлекательность тьмы обусловлена нега-
тивными трактовками образа солнца (см. далее).
Представляясь символом автохтонного мира, образ
ночи вступает в устойчивые связи с другими элементами
латиноамериканской природной среды. Выше приводи-
лись примеры связей образа сельвы с мраком, ночью, чер-
ным цветом. Ночь родит особую «звучащую» тишину,
столь свойственную латиноамериканскому миру: «Ночь —
«поющее молчание»,— пишет О. Пас (II, 144). Особенно
часто ночь сливается с мифообразом воды: «влажная» тро-
пическая ночь обычно противопоставляется сухому и жар-
кому дню. В поэзии О. Паса образ ночи почти всегда воссо-
здается в русле поэтики протеизма; например: «Мы жи-
вем, погруженные в твои обнаженные воды, ночь» (I, 40);
«Распахнула ночь свои подводные долины» (I, 102); «...
открывается таинственное царство воды, / истекающей из
центра ночи» (I, 83) и т.п. В русле поэтики протеизма
образ ночи решен и у Неруды: «Полночь похожа на воду: /
она умывает небо, / острой струей падает в омуты снов. /
Полноводная полночь, / упругая звездная влага, / она, /
уносит останки скончавшихся дней» (II, 210).
Столь же устойчивая и акцентированная связь наблю-
дается между образами ночи и женщины. Собственно гово-
171
ря, они взаимозаменимы: и ночь, и женщина — обе пред-
ставляются в виде влажной, водянистой, темной (в смыс-
ле — таинственной) субстанции, обе соотносятся с латино-
американским природным миром. Вот почему даже герои-
не «кажется, что она сама и есть ночь...» (Алегрия, I, 41),
не говоря уж о чрезвычайно распространенных сравнени-
ях возлюбленной с ночью. В «Ночной песне» Л. де. Грейф-
фа на таких сравнениях построен каждый из двадцати
трех стихов произведения: «Твои волосы благоухают ноч-
ными ароматами, / в твоих глазах застыл сумрак ночи, /
вкушаю ночь я с твоих трепещущих губ» и т.п. (20). Соот-
ветственно, и ночь постоянно представляется в образе жен-
щины: «Он вглядывался в темно-синюю ночь — упругую,
теплую,— которая так походила на обнаженную женщи-
ну... (Астуриас, VI, 173).
Ночь обостряет и углубляет восприятие природных реа-
лий латиноамериканского женского мира, «ведь в ночном
мраке человек связан только с землей» (Ортис, 148). Герой
способен «вникнуть в язык ночи» (Рульфо, 224), слушать
значимую, «говорящую» тишину ночи и тем самым при-
близиться к тайне. Мотив тайны постоянно сопутствует об-
разу ночи и составляет основу расхожего образа «колдов-
ской ночи». Этот традиционный европейский образ лати-
ноамериканские художники наделили специфическими
смысловыми нюансами. «Наваждение» таких «колдов-
ских» ночей состоит вовсе не в том, что они искажают или
преобразуют действительность (как это часто наблюдается
на европейском материале), а в том, что они, наоборот,
приближают человека к реальности, его автохтонной,
культурной подлинности.
Показательна в этом отношении глава «Заколдованная
ночь» из романа Гальегоса «Бедный негр». Идеологичес-
кую основу романа составляет полемика с теми латиноаме-
риканскими позитивистами, которые говорили о расовой
неполноценности мулатов и метисов, а в метисации видели
причины отсталости стран континента. Расовое смешение
Гальегос считает основой и положительным фактором раз-
вития латиноамериканских наций. Такая идея потребова-
ла героя-мулата; но тут писатель столкнулся с чисто фа-
бульным затруднением: в историческом романе, действие
172
которого происходит в эпоху «сотворения» нации (нач.
XIX в.), ему надо было свести на любовном ложе негра-
раба и белую креолку, представительницу господствующе-
го класса. Писатель реалистической ориентации, Гальегос
не мог использовать неправдоподобный романтический по-
ворот сюжета — взаимную любовь белой и негра вопреки
предрассудкам. Не желал он иметь героя-мулата и как
плод грубого изнасилования, ибо это противоречило бы
идее и символике романа. И тогда писатель находит весь-
ма эзотерический поворот сюжета — очень характерный
для латиноамериканского художественного мышления.
Ночью негру-рабу явственно слышится барабанный бой.
Здесь надо подчеркнуть, что не только у Гальегоса, но и во
всей негристской литературе барабанный бой трактуется
как хтонический зов, голос почвы, крови, подлинности
(см. наст, гл., II, 1, мотив «земля-барабан»). Не в силах
противиться этому зову, негр бежит из барака, плутает в
ночном лесу и нежданно выходит к господскому дому (ко-
нечно же, не случайно, если учесть к тому же, что барабан-
ный зов — слуховая галлюцинация, порождение колдов-
ской ночи). И той же ночью Анна Юлия, подверженная
психическим припадкам, не в силах заснуть, прогуливает-
ся по галереям,— «как вдруг ее потянуло в черный глухой
лес... под своды гигантских каоб» (44). Так «колдовская
ночь» Америки фатально, помимо воли и разумения геро-
ев, сводит негра и белую, и здесь, в храмовом пространстве
леса, на земле, под деревьями, происходит зачатие мула-
та — т.е. символическое зачатие венесуэльского этноса.
Основные значения латиноамериканского образа ночи
распространяются и на черный цвет, который традицион-
но мыслится символом ночи. В латиноамериканской лите-
ратуре черный цвет обретает новую семантику, и соответ-
ственно изменяется традиционная европейская дихотомия
белый-черный, при которой белый цвет символизирует
святость, непорочность, жизнь, небо, божественное нача-
ло, а черный — смерть, порок, подземелье, инфернальное
сатанинское начало. Прежде всего отметим в этой связи,
что, по нашим наблюдениям, латиноамериканские писате-
ли и поэты вообще довольно равнодушны к белому
Цвету — чего, кстати, нельзя сказать ни о народном деко-
173
ративно-прикладном искусстве, ни тем более о песенном
креольском фольклоре с его излюбленным образом белой
голубки. Это несходство лишний раз подтверждает мысль,
выраженную во введении, о специфическом соотношении
фольклорного и литературного образа мира в латиноаме-
риканской словесности. В произведениях индейской и не-
гритянской тематики белый цвет соотносится с чужерод-
ной европейской культурой. В этом случае формируются
противопоставления белый-красный, белый-черный, со-
держащие в себе весь набор расовых и культурных оппози-
ций. Примеры таких цветовых противопоставлений столь
многочисленны и очевидны, что приводить их не имеет
смысла.
Но черный цвет волнует и притягивает латиноамери-
канского писателя вне зависимости от его оппозиции к бе-
лому. Примечателен фрагмент из романа Алегрии «В боль-
шом и чуждом мире». Главный герой, индеец Росендо,
любил желтый цвет «за сходство с колосом пшеницы и с
початком маиса. Любил и черное — быть может, потому,
что так черна бездонная тайна ночи» (26). Так оно и есть:
латиноамериканский писатель воспринимает черный цвет
прежде всего как цвет тайны, и к этому стержневому зна-
чению тяготеют все остальные (ночь, женщина, негр, сель-
ва, подземелье и др.)- Черный цвет ассоциирован и с жен-
ской красотою,— как, например, в романе М. Отеро Силь-
ва о Лопе де Агирре: «Все слышали, что донья Инее де
Атьенса — самая красивая женщина в Перу, но никто не
подозревал, что она красива такой смуглой таинственной
красотой. Черными были глаза, черными волосы, черной
была мантилья... и черной была ее бархатная юбка» (260).
Вспоминая о своей единственной и настоящей любви, Ар-
темио Крус, герой Фуэнтеса, говорит себе: «... ох, где же
черные глаза, где темное душистое тело, ох, где черные
губы, темная любовь, которой мне теперь не коснуться...»
(III, 349). Отчасти эта образность идет от фольклорной
«морена» (смуглянки), но в литературе она наполняется
иными смыслами. Вживание в черный цвет, во мрак, тем-
ноту, ночь — это проникновение в тайну, в сакральные об-
ласти сокрытого, внутреннего, корневого пространства,
где обретаются сущности. Вот почему Неруда декларирует
174
о себе: «Я темный поэт» (II, 354), и эта более чем сомни-
тельная характеристика в устах европейца, в устах лати-
ноамериканца звучит как самоутверждение.
В латиноамериканской литературе
2. Луна образ луны обладает несравненно
большей значимостью, чем образ со-
лнца. Если учесть огромную роль солярных культов в ми-
фологии инков и ацтеков, то этот факт лишний раз дока-
зывает, что связи латиноамериканской литературы с авто-
хтонными культурами вовсе не столь очевидны и прямоли-
нейны, как их нередко принято трактовать. Вряд ли стоит
объяснять это и тем, что лунарные культы, как считают
некоторые ученые, древнее солярных32.
Анализируя образ луны, прежде всего необходимо от-
метить его роль в европейской литературе, особенно в ро-
мантической. Традиционные связи образа луны с темами
любви, искусства, поэтического вдохновения, с философ-
скими медитациями и эстетическим любованием в полной
мере усвоил латиноамериканской романтизм, который все
эти лунарные мотивы превратил в расхожий стереотип.
Именно поэтому в конце XIX — начале XX в. европейский
романтический образ луны стал для некоторых латиноаме-
риканских поэтов как главной мишенью для нападок, так
и своего рода экспериментальным полем для выработки
собственного стиля. Парафразируя, травестируя «высо-
кий» образ луны, поэты подчиняли свое творчество той
общей парадигме развития латиноамериканской литерату-
ры, которую мы определили как поиск «своего» в «чу-
жом». Два ярчайших примера такой игры с образом луны
представляют книга Л. Лугонеса «Сентиментальный луна-
рий» и поэзия Л. Карлоса Лопеса33.
Разумеется, образ луны сохранился в латиноамерикан-
ской литературе и во вполне традиционной, даже романти-
ческой трактовке. Нас интересуют в первую очередь от-
дельные специфические акценты в интерпретации этого
образа.
Эти акценты обусловлены самой внутренней логикой
мифологической инфраструктуры латиноамериканской
литературы — прежде всего определяющим влиянием об-
175
раза ночи. Коль скоро основной событийный план произве-
дения приходится на ночь, то эти события будут происхо-
дить при «колдовском» свете луны, который создает осо-
бый мир текучих переливчатых форм и неявленных смы-
слов — мир, воплощенный в русле поэтики протеизма.
Луна, постоянная спутница ночи, мыслится органич-
ной принадлежностью латиноамериканского мира, и в си-
лу этого она часто воспринимается не как небесное тело —
отдаленное и отторженное от земли, а как явление земного
пространства, участвующее в земной жизни. Не случайно
поэтому ее часто называют зеленой (см. например, назва-
ние романа X. Беленьо «Зеленая луна»).
Являясь принадлежностью латиноамериканского жен-
ского мира, порождением женщины-ночи, луна мыслится
воплощением женской ипостаси. Метафорическая связь
луна-женщина наблюдается и в европейской литературе; а
в латиноамериканской она предстает в очень акцентиро-
ванном виде, причем нередко напрямую возводится к древ-
ним мифологическим представлениям (в большинстве ре-
лигий луна олицетворяла женское божество). Например, в
прозе Фуэнтеса: «Луна всегда была женщиной, всегда бо-
гиней и никогда — богом...» (VIII, 182—183). Женская
ипостась луны может проявляться даже визуально: «Све-
тила луна, и беглецам показалось, будто она странным об-
разом обрела очертания женского тела» (Ортис, 49). Соот-
ветственно, образ луны постоянно сопровождает эротичес-
кие мотивы: «Этой ночью, в постели / нас было трое: ты,
ночь и луна» (Пас, II, 204). Повторяем: в самом сочетании
всех этих мотивов ничего специфичного нет — их особые
смысловые нюансы выявляются во взаимодействии с дру-
гими образами и мотивами.
Рассмотрим в этом аспекте нашумевший роман «Жар-
кая луна» современного аргентинского писателя Д. Джар-
динелли. На первый взгляд, ошарашивает вопиющее про-
тиворечие между логикой характера и поступками Ремиро
Бернардеса, героя романа: этот зрелый мужчина из хоро-
шей семьи, интеллектуал, проживший восемь лет в Пари-
же, юрист по образованию, человек благовоспитанный и
здравомыслящий, на третий день после своего возвраще-
ния из Европы на родину зверски насилует тринадцатилет-
не
нюю девочку, дочь своего давнего знакомого, и убивает ее
отца. Рамиро — многократно подчеркивает писатель — со-
вершает то, о чем раньше даже помыслить не мог. Пыта-
ясь найти объяснения страшному «вывиху» своего созна-
ния, герой во всем винит луну и жару. В этих объяснениях
кроется глубокий символический смысл. В традициях сло-
жившегося латиноамериканского мифомышления писа-
тель представляет ночь, луну, жару как обобщающие во-
площения латиноамериканского мира — природного и со-
циального (о значении мотива жары см. дальше). Луна
также открыто соотносится с образом девочки Арасели.
В романе ясно читается, что поведение героя вызвано
действием на его подсознание неких надличностных сил.
На это указывает еще и такой парадокс: непрестанно изум-
ляясь своим поступкам, Рамиро вместе с тем их внутренне
предугадывает, чувствует их роковую неизбежность — и
этот мотив заявлен в первой же фразе романа: «Он заранее
знал, что это произойдет: он понял это как только ее уви-
дел» (21). Далеко не случайно, что чудовищный «вывих» в
поведении героя происходит сразу же по его возвращении
на родину после долгих лет отсутствия: «луна» (женщи-
на), «ночь» и «атмосфера» родины активизируют в созна-
нии Рамиро самца, мачо, насильника, рожденного латино-
американской средой, но скрытого под европейской мас-
кой. Фактически в романе своеобразно представлен и ин-
терпретирован типовой сюжет латиноамериканской про-
зы: покорение, поглощение человека латиноамериканским
пространством.
Весьма примечательно дальнейшее развитие сюжета.
Изнасилованная девочка не умерла и, воспылав к насиль-
нику неукротимой страстью, начинает прямо-таки пресле-
довать его. Такой поворот сюжета в высшей степени харак-
терен для латиноамериканской литературы и несвойстве-
нен европейской (см. гл. III, р. III, 5) «Жаркая луна» —
Арасели — принуждает героя к новым любовным актам,
покуда он не решается на новое убийство. Он душит девоч-
ку, ломая ей шейные позвонки, и долго глядит на труп:
«Луна целиком осветила тело Арасели, ее посиневшее
лицо. Наконец-то созрела полная луна, жаркая луна, ог-
ненная кипящая луна Чако» (93). Рамиро бежит в Пара-
177
гвай, но здесь в гостинице его настигает чудом воскресшая
Арасели. Этот фантастический финал ясно указывает на
символичность героини, которая воплощает бессмертную
женскую ипостась латиноамериканского «ночного», «лун-
ного» мира. Попытки героя уничтожить Арасели именно
поэтому оказываются безрезультатными. Тот же мотив
обозначен у Фуэнтеса: «Рубен ненавидел свою жену и
хотел бы убить ее, но как можно убить луну?..» VIII, 182).
Пример романа Джардинелли ясно демонстрирует, как
происходят смысловые смещение в традиционных евро-
пейских образах, когда они внедряются в новые сюжеты и
в иной мифопоэтический контекст.
В латиноамериканском художествен-
3. Небо ном сознании специфические коннота-
ции образа неба складываются под не-
посредственным влиянием дихотомии «верх» — «низ», ин-
терпретация которой обусловлена в первую очередь давле-
нием мифообраза земли. Выше отмечалось, что латиноаме-
риканское пространство разворачивается на земле и под
землею, а «верх» для него бывает несущественен, либо
враждебен (см. гл. I, р. I, С, 4). При таком построении
«своего» пространства небо может трактоваться как нечто
далекое и чужеродное, а то и как враждебная земле и чело-
веку субстанция. Разумеется, такая трактовка сосущест-
вует с другими, в том числе и с вполне традиционными,
христианскими, но она интересует нас в первую очередь,
ибо в ней ясно выражается специфика художественного
кода латиноамериканской литературы. Причем встречает-
ся эта интерпретация столь часто, что не может не при-
влечь к себе внимание. Вот некоторые из художественных
характеристик неба: «глухое к мольбам» (Скорса, 23), «тя-
желое» (Астуриас, III, 96; Рульфо, 108); «бесчувственное»
(Астуриас, X, 99); «палящее» (Астуриас, V, 352, VI, 293—
295), «злокозненное» (Роа Бастос, 42); «жестокое» (Але-
грия, II, 264).
В немалой степени эта негативная трактовка складыва-
лась в качестве полемической оппозиции по отношению к
христианской, сугубо позитивной интерпретации неба.
Здесь проявляется одна из интереснейших форм расхожде-
178
ния между художественной и идеологической (конфессио-
нальной) практикой латиноамериканских писателей. Мно-
гие из них, вполне правомерные католики, в своем худо-
жественном творчестве подчинялись сложившимся оппо-
зициям и соотношениям мотивов — своего рода диктату
художественного кода. Небо — одно из центральных поня-
тий христианского вероучения; христианство же, особенно
в его противопоставлении автохтонным религиям, воспри-
нимается символом европейской культуры, насильно навя-
занной индейцу. Соответственно, уже по обратной связи,
небо трактуется как нечто чужеродное, тяжелое, давящее.
Очень отчетливо такая связь явлена в романе Алегрии «В
большом и чуждом мире». Священник читает индейцам
длинную проповедь о Боге и небесной благодати. Далее
•следует многозначительное замечание автора: «О небе они
думали мало. А сейчас оказалось, что надо было думать
лишь о небе. Но они никак не могли разлюбить землю»
(188). Еще более ясно и жестко метафорическое воспри-
ятие неба как угнетающий силы и власти сформулировано
в высказывании Артемио Круса, героя Фуэнтеса: «Ну как,
святой отец, каково? Там, наверху, тоже так. Небо — это
власть над людьми, над бесчисленными массами людей...
Не так ли? Да, такое небо существует, да, и оно — мое»
(III, 264). Примечательно, как описана в романе Скорсы
смерть индейца, застреленного офицером правительствен-
ных войск: «Небо падало на него, и он поднял руки, чтоб
прикрыться. Земля разверзлась.., и он покатился во чрево
земли» (143). Вполне очевидно, что христианскому образу
смерти — вознесению, нарочито противопоставлен иной,
особый, латиноамериканский путь: прячась от неба, уби-
енный уходит под защиту земли, в ее сакральное чрево.
В латиноамериканской литературе
4. Солнце образ солнца отличается ярко выра-
женной амбивалентностью, которая
иногда проявляется даже в одном произведении. Так, в ро-
мане Яньеса «Перед грозой» место действия характеризу-
ется как «Селение без тенистых уголков. Селение солн-
ца — ослепительного, иссушающего». На площадях и
перекрестках — каменные водоемы, вычерпанные до дна».
179
Но буквально через две страницы, как бы противореча со-
зданному образу безводной пустыни, автор замечает: «Со-
лнце — это радость селения, радость почти неведомая,
утаиваемая...» (19, 22).
Позитивный образ солнца создается частично на основе
традиционного европейского (в том числе и фольклорного)
восприятия дневного светила как источника жизни, света,
плодородия, знака истины, божества и т.д.; частично — на
основе индейских солярных культов. Этот пласт ассоциа-
ций для латиноамериканского художника оказывается
куда важнее, поскольку солнце, будучи главным божест-
вом инков и ацтеков, позднее, начиная с эпохи романтиз-
ма, стало восприниматься своего рода символом индей-
ских культур и, соответственно, символом Америки. Эта
интерпретация с предельной ясностью выражена в стихо-
творении Мистраль «Гимн тропическому солнцу»: «О со
лнце инков, солнце майа, / ты плод американский, спе-
лый, / кечуа, майа обожали / твое сияющее тело. (...) О со-
лнце Андов, ты — эмблема / людей Америки, их сто-
рож...» и т.п. (15—19). Таким же «историко-культурным»
взглядом воспринимает дневное светило Неруда в своей
«Оде солнцу»: «... смотреть на тебя / хочу / глазами / ста-
рой Америки: / ты — маиса / спелый початок... (...)• Люди
Америки, / мы были созданы / светом твоим, /ив нашей
крови / земля и солнце, как два магнита, / друг друга пи-
тают» (II, 363, 364). Примеров такого типа культурных со-
отношений встречается великое множество. К ним добав-
ляются и образы, связанные с мессианской ролью Амери-
ки, освещающей путь человечеству (отсюда — мотивы
«Заря Америки», «Солнце Америки»).
Тем более примечательно, что, наряду с этими трактов-
ками, наблюдаются устойчивые негативные интерпрета-
ции образа солнца. Они возникли из той внутренней систе-
мы противопоставлений и соположений мотивов, на кото-
рой строится вся мифологическая инфраструктура латино-
американской литературы. Солнце ассоциировано с днем;
день противопоставлен ночи как видимость — сущности,
как европейское — латиноамериканскому. Солнце пред-
ставляет небо, верх — и становится знаком чужеродности,
отсюда образ: «бессмысленный свет солнца» (Скорса, 89).
180
Наконец, солнце заключает в себе огонь, жар — противо-
положность воде, которая пропитывает рождающийся про-
теический латиноамериканский мир. Именно иссушаю-
щая сила солнца противостоит природному бытию: «Со-
лнце обрушивается на зеленое молчание, на царство ласки
и нежности... Слепое и буйное желтое пламя пожирает
все» (Астуриас, VI, 293). В такой интерпретации солнце
выступает как антипод, враг земли: «Солнце вытянуло из
земли все соки (Алегрия, II, 261); «Солнце поднималось,
съедая все краски на земле» (Услар Пьетри, IV, 83). Одним
из типовых сюжетных элементов латиноамериканской
прозы становится засуха, которая разрешается дождем. В
этих эпизодах особенно явственно обозначается негатив-
ная трактовка солнца. Дополнительные смысловые нюан-
сы этой трактовке придает специфическая интерпретация
мотива жары.
В одной из повестей Фуэнтес пишет:
5. Зной «Жара и холод для нас — это прежде
всего состояния души»... (VIII, 18).
Действительно, для латиноамериканского писателя
зной — это нечто куда более значимое, нежели просто по-
годное явление. Сравнительный анализ текстов показыва-
ет, что в латиноамериканском художественном сознании
установилось устойчивое отождествление жары с социаль-
ной либо духовной атмосферой, а точнее говоря,— с наси-
лием. Например, атмосфера насилия, в которую погруже-
но селение Комала в повести Рульфо, воплощается в на-
стойчивом, как может даже показаться избыточном моти-
ве жары, «знойной духоты» (178). Тот же мотив «опьяне-
ния зноем» пронизывает «Глаза погребенных» Астуриаса
(454). Ближе к финалу (забастовке) жара все усиливается,
и это крещендо находит объяснение в аллегорической фра-
зе: «Гроза уже близко. Потому так жарко» (426). Символи-
ческий смысл жары в полной мере раскрывается в финале,
когда происходит забастовка, освящаемая дождем. В том
же ключе мотив зноя интерпретируется в упомянутом ро-
мане Джардинелли; весьма примечательна причинная
связь, обозначенная автором: герой действовал не задумы-
181
ваясь (то есть полностью развоплощался), «потому что этой
ночью в Чако луна была горячей, а жара палящей» (24).
Атмосфера социального насилия — если она не освежа-
ется ветром (переменой), грозой (мятежом) и благодатным
дождем,— может привести героя к гибели от удушья. В ла-
тиноамериканской литературе смерть от асфиксии почти
всегда носит знакомый символический характер. От уду-
шья гибнет Зеленый Папа, насильник латиноамериканско-
го первородного мира; задыхаются герои Рульфо в Комале
(«Здесь почти не было воздуха и нечем было дышать»,
150); мотив удушья пронизывает роман М. Пуига «Преда-
тельство Риты Хейворт» и роман Кортасара «Экзамен»,
где метафорически воссоздается атмосфера диктатуры.
С мотивами зноя, жары, удушья семантически связан и
сопутствующий им мотив потливости. Символическое вос-
приятие пота очень ясно выражено в «Палой листве» Гар-
сиа Маркеса: «Ночь нашего последнего разговора на гале-
рее была необыкновенно жаркой (...). Сперва мы оба мол-
чали, потея той густой липкой жидкостью, которая вовсе
не пот, а высвобожденная слизь живой материи, тронутой
разложением» (66—68). Именно так: пот — это продукт
разложения, разумеется, не физического, а духовного, мо-
рального. Это знак нечистоты, отступления от истины.
Бросается в глаза, как тот же Гарсиа Маркес настойчиво
акцентирует и даже гипертрофирует мотив потливости в
сцене, когда Аурелиано Буэндия приходит к проститутке,
принимающей по семьдесят мужчин за день. «Воздух в
шатре, пропитанный запахом пота, стал густым, как
грязь. Аурелиано и женщина выжали мокрую от пота про-
стыню. Потом они встряхнули циновку, и с нее тоже зака-
пал пот» (Ilîf 50). В «липком поту» постоянно пребывает и
бабка несчастной Эрендиры (VI, 384). Пот предстает в ка-
честве знака насилия и в произведениях других писате-
лей. Обливается потом душегуб, убивая людей, в рассказе
Рульфо «По следу» (52), обливаются потом герои его же
повести (192); беспрестанно потеет Рамиро, герой Джар-
динелли, судьбою влекомый к изнасилованию; потеют
белые плантаторы в «Банановой трилогии» Астуриаса.
Мотив этот очень ясно прослеживается и в творчестве
Карпентьера, особенно в «Веке просвещения»: палачи
182
надевают колпаки, которые «от пота из красных сделались
бурыми» (235), и Виктор Юг, ставший палачом, ходит те-
перь в «пропотевшем мундире», «с потным лицом» и т.п.
(214, 236).
Знойную, удушливую атмосферу соци-
6. Ветер ального насилия освежает ветер —
вестник перемен, провозвестник бури
(мятежа). Эти символические значения образов ветра и
бури утвердились в европейской литературе, откуда и
были заимствованы латиноамериканскими писателями.
Образ ветра в традиционной европейской трактовке столь
широко используется в латиноамериканской литературе,
что мы не чувствуем себя вправе обойти его молчанием; к
тому же во взаимодействии с другими элементами мифоло-
гической инфраструктуры он обретает дополнительные
смысловые нюансы.
В латиноамериканском художественном сознании образ
ветра ассоциирован прежде всего с моделью разомкнутого
бескрайнего пространства — отсюда рождаются образы
«ветер-путник» (Мистраль, 93), «ветер... старый пастух
пространства» (Каррера Андраде, 187). Будучи порождени-
ем и принадлежностью бескрайнего хаотичного пространст-
ва, ветер нередко передает его «голос» или «зов»: «Подул
напористый ветер, протяжно свистя в сухой траве, словно
сама бесконечность звала куда-то» (Алегрия, III, 398).
Разомкнутое пространство динамично: своим неодоли-
мым «зовом» оно как бы заставляет героя перемещаться,
путешествовать. Ветер становится одним из воплощений
этой динамики: так, Неруда говорит о себе: «Я странство-
вал с ветром» (I, 260). В частности, это проявляется и в ус-
тойчивом сюжете: ветер врывается в дом и производит не-
обратимые перемены в жизни героев, вынуждая их путе-
шествовать. Этот сюжет использован, например, в повести
Мальеа «И не станет зелени»: героиня распахивает окна и
двери опостылевшего дома и ледяной ветер, ворвавшийся
вовнутрь, «убивает» ее ненавистного мужа (336—337), а
затем она продает деревенский дом и уезжает в город. В
повести Гарсиа Маркеса «Невероятная и грустная история
о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабке»
183
«ветер несчастья», ворвавшись в спальню, опрокидывает
свечу и уничтожает дом, обрекая его обитателей на беско-
нечное мучительное странствие (382). Неважно, несет он
добрую или злую перемену в судьбах — главное, что он яв-
ляется агентом агрессии разомкнутого пространства. Рож-
денный хаотическим пространством, ветер тоже творит
хаос: «Ветры / все перепутывают» (Пас, II, 136); «... при-
водят в действие план земных беспорядков» (Каррера Анд-
раде, 186); «раскачивают / землю и корни» (Неруда, I,
260). Наивысшим воплощением хаоса становится ураган.
В латиноамериканской литературе образ бури, урагана,
как и в европейской, метафорически связан с социальным
потрясением — мятежами, восстаниями, революциями; но
иногда он дополняется специфическими и весьма харак-
терными коннотациями. Особенно ясно они проступают в
образах «финальных» ураганов.
Три широкоизвестных произведения латиноамерикан-
ских писателей — «Царство земное» Карпентьера, «Ура-
ган» Астуриаса и «Сто лет одиночества» Гарсиа Марке-
са — завершаются одинаково: сценами разрушительного
урагана. Очевидно, этот устойчивый сюжетный ход преж-
де всего отражает эсхатологизм, глубоко присущий лати-
ноамериканскому художественному сознанию. Финальные
ураганы аналогичны Страшному Суду, а в романе Гарсиа
Маркеса этот ураган впрямую назван «библейским» (328).
Страшный Суд призван отделить праведников от грешни-
ков, направив одних — в рай, других — в ад; такова же, в
сущности, и функция финальных ураганов, призванных
уничтожить «греховное». Но что в данном случае понима-
ется под греховным? Ответ будет достаточно определен-
ным: неподлинность.
Карпентьеровский ураган уносит «знаки» европейской
культуры, навязанной инаковому латиноамериканскому
миру: «... и закружились в воздухе штофное кресло, тома
энциклопедии, музыкальная шкатулка, кукла-пастушка,
рыба-луна, и рухнули последние развалины бывшей усадь-
бы» (103—104). Кресло — знак отрыва человека от земли;
французская энциклопедия — компендиум европейской
культуры; музыкальная шкатулка — механистическое
подражание настоящей музыке, равно как кукла-пастуш-
184
ica — жалкая инверсия аркадийского идеала и т.п. И
далее — многозначная деталь: «Все деревья полегли кро-
нами на юг, а корневища их обнажились» (104). Обнаже-
ние корней — это выявление подлинного, сакрального, то
есть выявление «праведников». Ураган свершил свой
Страшный Суд — и свершил его вполне по-латиноамери-
кански: «грешников» (знаки неподлинности) он унес в воз-
дух, вверх, в небо, а «праведников» (корневища) оставил
внизу, на земле, где и положено обретаться латиноамери-
канской подлинности.
В романе Астуриаса финальный ураган открыто тракту-
ется как мщение. Отчаявшийся разоренный пеон напра-
вился к колдуну и принес себя в жертву — «отдал голову,
лишь бы свершилось возмездие» (395). Однако из контекс-
та романа становится очевидным, что буря — вовсе не
следствие частной коллизии и личной мести — это возмез-
дие изнасилованного пространства, бунт земли. Беспоря-
дочному, искривленному пространству сельвы, живущему
по своим законам, плантаторы навязали чужеродный ему
геометризм (см. примеры в гл. I, р. I, С. 6), а вместе с ним
навязывали коренным жителям чужеродные формы бытия
и культуры. Бунт подлинности против неподлинности стал
неизбежен, и даже североамериканец Лестер Мид ясно от-
дает себе отчет в сущности происходящего: «Я знал, знал,
что нас ждет непроглядный мрак, всесильная тьма, время
без меры, ждет ураган... Да-да... Беспощадная месть...»
(401). Ураган рождается как бы из самой земли, из тех
подземных сакральных пространств, куда закопана голова
принесенного в жертву. На это указывает еще одна значи-
тельная деталь: «Низовой ветер. Неотступный, цепкий,
все более сильный, метущий по земле...» (395). Сама
земля, само пространство обращаются в грозную разруши-
тельную силу: «Вода стала ветром, морские волны стали
ветром, камни и деревья стали ветром, свет дня стал вет-
ром...» (397). Вихрь уничтожает и уносит все, что было на-
вязано «извне» этой девственной земле: он «сметал дома,
скот, поезда, словно выметал мусор»; а главное, ураган
уничтожает банановые плантации, что писатель многократ-
но и нарочито подчеркивает. Упорядоченные, искусственно
высаженные прямоугольники плантаций принципиально
185
противостоят «хаотичному натиску сельвы» — и потому
они должны быть стерты с лица земли.
С категорией неподлинности соотносится и Макондо
Гарсиа Маркеса, хотя этот город и не был навязан латино-
американскому пространству «извне», а возник сам собою
на месте первобытного земного рая. Однако насилие (изна-
силование Урсулы) легло в основание рода Буэндиа; и в
каждом своем колене этот род, неспособный к изменению,
воспроизводил с дурной повторяемостью одни и те же ар-
хетипы — насилие, инцест, одержимость, одиночество —
и потому, как отмечает сам писатель в финале романа, был
обречен. Город Макондо — не столько среда обитания Бу-
эндиа, сколько среда, воспроизводящая в массовом мас-
штабе пороки и заблуждения Буэндиа — поэтому в день
Страшного Суда «библейский ураган» уничтожает весь
город. В отличие от стихий, описанных Карпентьером и
Астуриасом, ураган Гарсиа Маркеса порожден не про-
странством, а временем. Именно в тот день, когда Ауре-
лиано расшифровывает пергаменты и как бы переносится
в начальную точку времен, двигаясь от прошлого к настоя-
щему,— поднимается ветер «наполненный голосами про-
шлого» (327), и этот ветер «замкнувшегося» времени пере-
растает в разрушительный ураган. Завершилась мифоло-
гическая эпоха и унесла в потоке времени все непрочное и
преходящее.
186
Глава третья. ЧЕЛОВЕК
В этой главе рассматриваются постоянные мотивы и
мифологемы латиноамериканской литературы, непосред-
ственно связанные с человеком и его бытием. Выделение
этой тематики из нерасчленимой целостности образа мира
носит в достаточной мере условный характер — в частнос-
ти, и потому, что «идеальный» латиноамериканский герой
теллуричен, он подчиняет себя законам своего пространст-
ва и меряет себя природной мерою. В силу этого анализ ла-
тиноамериканского пространства и латиноамериканской
природы в немалой степени раскрывает и характер ге-
роя — что ясно продемонстрировали предыдущие главы.
Не желая повторяться, мы уделим внимание тем момен-
там, которые специально не рассматривали ранее либо не
акцентировали и не систематизировали.
I. ПОЗНАНИЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО МИРА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема познания героем своего мира чрезвычайно актуаль-
на в латиноамериканской литературе, что само по себе ука-
зывает на ее важнейшую типологическую особенность. Дей-
ствительно, эта тема не имеет такой значимости и такой обо-
стренной трактовки в древнейших западноевропейских ли-
тературах, где герой и среда представляют нерасторжимый
культурный комплекс.
Несомненно, в этой теме сублимировалась та изначаль-
ная историческая ситуация, когда «сторонний» человек
открывал и исследовал чужой для него мир. К тому же
даже чисто географическое изучение своего мира продол-
жалось в Америке вплоть до XX в. Вслед за этим происхо-
дило освоение словом, ибо литература осваивала действи-
тельность шаг за шагом, включая в поле своего зрения все
новые и новые ландшафты и этнические типы. Одно появ-
ление новой темы означало открытие, и потому в историю
латиноамериканской литературы подчас входили произве-
дения крайне слабые в художественном отношении. Лите-
ратура, познающая свой мир, выдвигает соответствующего
187
героя и соответствующий сюжет (путешествие), и созна-
тельно либо неосознанно культивирует свой исследова-
тельский пафос.
Акцентированность в латиноамериканской литературе
темы познания героем своего мира указывает на существо-
вание изначальной отделенности его от среды, на то, что
пространство — первично по отношению к нему. Природ-
ная среда становится адекватна культурной сущности, что
само по себе предполагает типовой сюжет погружения
героя в свою среду: движение пространственное (переме-
щение из Европы — в Америку, из города — в село, из
села — в сердце сельвы и т.п.) и движение духовное (само-
познание — не обязательно сопряженное с пространствен-
ным перемещением). Этот сюжет присутствует открыто
или завуалировано в большинстве латиноамериканских
романов.
Значимость темы познания человеком своего мира обу-
словлена и самим модусом латиноамериканской культу-
ры, которая на каждом витке развития все глубже по-
стигала самое себя и обретала все большую самостоятель-
ность. Как уже говорилось, вхождение героя в «свой» мир
скрыто подразумевает первоначальное нахождение героя
«вне» этого мира, то есть в другом, чужом мире. Разумеет-
ся, речь в данном случае идет не о географической отде-
ленности, поскольку часто герои начинают познавать дей-
ствительность, не выезжая из Латинской Америки, а о
пребывании в инокультурном континууме. Герой, начи-
нающий исследование «своей» исконной среды, уходит из
мира, где правит канон западноевропейской цивилиза-
ции — будь то собственно Европа, латиноамериканский
город или культурный кругозор героя. Главное в данном
случае — наличие определенной точки отсчета, а именно:
европейской нормы. Ее скрытое или открытое присутствие
оказывается необходимым для восприятия и оценки «под-
линной» латиноамериканской среды именно как среды
сверхнормативной. Интеграция человека в свой мир со-
пряжена с преодолением и отрицанием европейской
нормы, а также с ее перекодировкой, иначением. Инако-
вость латиноамериканского мира предполагает инаковые
средства его познания, опять же противостоящие европей-
188
ской нормативной логике. Такое противопоставление ла-
тиноамериканской ментальности картезианской логике со-
ставило отдельную и весьма значимую тенденцию, про-
явившуюся как в философии, так и в литературе Латин-
ской Америки1.
Сам по себе иррационализм как путь познания мира с
древнейших времен являлся одной из констант человечес-
кой культуры; особое развитие антиинтеллектуалистские
тенденции получили в западноевропейском авангардист-
ском искусстве XX в. Нет сомнения, что они значительно
повлияли и на латиноамериканскую культуру, однако ла-
тиноамериканский иррационализм, вовсе не будучи само-
бытным порождением, существенно отличается от евро-
пейского. Прежде всего он имеет отчетливо выраженную
антиевропейскую направленность, ибо латиноамериканец
представляет себе европейскую ментальность как исклю-
чительно прагматическую, рациональную, механическую.
Разумеется, такая убежденность неистинна — она лишь
средство постижения «своей» истины. И, во-вторых, лати-
ноамериканский иррационализм имеет ясно выраженную
культуростроительную направленность, какая в целом не
свойственна иррационализму. Для европейца интуитив-
ный способ познания мира — это путь достижения аб-
страктных сущностей и общечеловеческой истины; для ла-
тиноамериканского художника — это путь постижения
именно своего мира, своей культурной сущности.
Поэтому и категория «правда» в латиноамериканской
литературе обретает специфическую трактовку. «Правда»
не адекватна европейскому представлению о единой для
всех божественной истине, и уж тем более не соотносится с
понятием факта. Это категория не рационалистическая, не
фактографическая, а — бытийная, подразумевающая
прежде всего соответствие человека своему «особому»
миру и своей культурной сущности. Для многих героев ла-
тиноамериканской литературы достижение «правды» рав-
носильно культурной самоидентификации и интеграции в
свою природную среду. Истина становится идентична ка-
тегории «подлинность».
189
2. СПОСОБЫ ПОЗНАНИЯ
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО МИРА
Это самый очевидный и распростра-
а) Путешествие ненный способ познания латиноаме-
риканского мира. Собственно, Аме-
рика — именно как Америка Латинская — и ее новая
культура начались с путешествия через океан; в череде
экспедиций открывалось пространство материков, и коло-
низация была растянутым в столетиях странствием, поэто-
му мотив путешествия приобрел культурообразующее со-
держание и глубоко вошел в художественный код латиноа-
мериканской литературы.
Пространственные перемещения героев часто подразу-
мевают перемещения из одной культуры в другую. Самый
очевидный и распространенный в латиноамериканской ли-
тературе тип «транскультурного путешествия» — через
океан («границу») из Америки в Европу, а затем обратно.
Перемещение из Нового Света в Старый оказывается необ-
ходимым для узнавания европейской нормы, а через нее
уже — латиноамериканской сверхнормативности. Евро-
пейская норма усвоена, задана необходимая точка отсче-
та — и теперь герою предстоит обратное путешествие:
вхождение в свой мир из инокультурного универсума. Да-
леко не всегда в Европе герою удается «все понять по-на-
стоящему» (Карпентьер, V, 443) — как правило, ему еще
предстоит трудный путь познания своего мира путем той
интуитивной иррациональной гносеологии, о которой речь
пойдет дальше. Главное, он теперь имеет точку отсчета и
основу для сопоставления.
Нередко трансокеанское путешествие остается за рам-
ками повествования: действие начинается с того момента,
когда герой прибыл из Европы в Америку,— но вместе с
тем даже скупые'упоминания о его пребывании в Европе
чрезвычайно важны для выстраивания сюжета и идеи про-
изведения. Показателен в этом отношении роман Гарсиа
Маркеса «Любовь во времена холеры», где мотив путеше-
ствия играет исключительно важную роль. Все события в
жизни героев, все изломы их судеб сопровождаются их
перемещениями в пространстве (как правило, на кораб-
190
лях), а образ корабля становится сквозным символом, ор-
ганизующим художественную ткань романа. Обращает на
себя внимание следующая деталь: свое свадебное путеше-
ствие с нелюбимым мужем Фермина Даса совершает в Ев-
ропу и впоследствии еще трижды едет с мужем за океан.
Свое второе свадебное путешествие с истинно любимым че-
ловеком она совершает внутри латиноамериканского про-
странства по реке Магдалене. Движение в Европу означает
уход от себя, от своей человеческой подлинности — в раз-
меренный рациональный мир (частицей которого является
и нелюбимый муж); а подлинная любовь предполагает
движение вовнутрь себя, и вместе с ним — в латиноаме-
риканский мир, опрокидывающий все европейские норма-
тивы любви.
Перемещение внутри латиноамериканского пространст-
ва (из города — в село, из поместья — в глубину пампы,
сельвы и т.п.), как правило, немногим отличается от
трансокеанского плавания или перелета, поскольку и в
этих случаях оно сопровождается переходом героя из
одной культуры (как правило, чужой) — в другую (обыч-
но, свою). В данном случае культура городская или эли-
тарная мыслится неподлинной — аналогом европейской.
Такое противопоставление города — селу в высшей степе-
ни характерно для романа нативистской ориентации.
В целом же движение героев латиноамериканской лите-
ратуры направлено как бы извне — вовнутрь. Путешест-
вие «вовне» (в Европу, в город) обычно предстает лишь как
один из этапов движения в глубь континента. Необъявлен-
ная, но подразумеваемая цель этого движения — найти
некую точку в латиноамериканском пространстве, где че-
ловек сможет слиться со средой, со своей культурой и вы-
явить свою сущность.
Особый, и весьма примечательный тип путешествий
представляют перемещения героя из профанного простран-
ства — в сакральное. Герой может совершить минималь-
ное передвижение в реальном физическом пространстве —
буквально на несколько шагов, которые способны пере-
нести его в совершенно иной мир — эпоху первоначала.
Он заходит в пещеру, подходит к дереву или к древнему
индейскому сооружению, берет в руки «говорящий ка-
191
мень», погружается в воды реки или моря — ив этот миг
словно проваливается во времени, в «эпоху сотворения».
Само по себе путешествие еще не дает полного знания
латиноамериканского мира. Цель путешествия — помес-
тить героя в «нужную» среду, которая сама начинает ока-
зывать воздействие на его культурное подсознание. При-
родная среда включает и активизирует в человеке те боль-
шей частью интуитивные способы познания действитель-
ности, которые позволяют ему проникнуть в мир подлин-
ности или даже раствориться в нем.
Один из этих способов познания латиноамериканского
мира — слушание тишины — уже рассматривался ранее.
Не менее важным становится восприятие своего мира че-
рез запахи.
Нетрудно заметить, что важную роль в
б) Обоняние латиноамериканской литературе играют
запахи. Во многих произведениях обоня-
тельные характеристики занимают первостепенное место,
преобладая над характеристиками цветовыми и осязатель-
ными как по чаете, так и по содержательности. Это прояв-
ляется и в том, что на обоняние героев могут воздейство-
вать такие предметы или явления, которые в реальной
действительности не пахнут. Тем самым рождаются ирра-
циональные, мистические образы: «Пахло темным углом,
запертой дверью. Пахло пламенем свечи» (Услар Пьетри,
IV, 59). Или: «В большом чистом дворе, где пахло мокрой
землей, водой и закатом, люди расселись под деревьями»
(Астуриас, III, 115). Необычайной силы воздействия по-
добного типа мистический образ достигает в романе Гарсиа
Маркеса «Хроника смерти, объявленной заранее». После
убийства весь городок пахнет Сантьяго Насаро. Рассказ-
чик приходит к любовнице, и та отказывается принять
его: «Я не могу,— сказала она,— ты пахнешь им». И не
только я. В тот день все источало запах Сантьяго Насаро».
Убийцы признаются: сколько бы они не мылись — так и
не смогли избавиться от запаха жертвы (126).
Сходные образы неоднократно используются в романе
«Любовь во времена холеры», возникая в первой же фразе
этого произведения. Писатель отмечает, что для Фермины
192
Даса «обоняние... служило чувством ориентации во всех
проявлениях жизни, и прежде всего в жизни обществен-
ной» (316). Именно обонянием героиня обнаруживает из-
мену своего мужа, кстати сказать, невосприимчивого к за-
пахам. Зато возлюбленный героини полностью ей соответ-
ствует в этом отношении: «Флорентино Ариса больше не
различал запаха моря, а чувствовал повсюду в городе за-
пах Фермины Даса. Все пахло ею» (202).
При этом в произведениях, изобилующих подобного
рода обонятельными характеристиками, нет и намека на
какую-то особую, патологическую восприимчивость героя
к запахам (как, например, в романе немецкого писателя
Зюскинда «Парфюмер»). Восприятие запахов «запертой
двери», «измены» или «заката» трактуется как вполне ес-
тественная способность, не вызывающая ни малейшего
удивления либо восхищения ни у писателя, ни у самого
героя. Такая органичная восприимчивость к тончайшим
запахам имеет глубокую подтекстовую значимость. С
одной стороны, столь развитые обонятельные способности
ассоциируются со звериным нюхом. Как будет показано в
дальнейшем, образ человека-зверя в латиноамериканской
литературе прямо или косвенно соотносится с идеальным
героем, воплощающим культурную подлинность и укоре-
ненность. Поэтому обонятельные характеристики высту-
пают как один из важнейших приемов создания образа ес-
тественного человека, неотторжимого от природной среды.
С другой стороны, обонятельные характеристики в сово-
купности выявляют и особый интуитивный способ позна-
ния героем мира — когда действительность осваивается не
столько разумом и зрением, сколько чутьем.
Очень отчетливо этот способ ориентации в своем про-
странстве воплощен в «Палой листве» Гарсиа Маркеса.
Герой — мальчик рассказывает о себе: «Я узнаю комнаты
по запаху. (...) Нет в доме запаха, который был бы мне не-
знаком. Когда я остаюсь в галерее один, я закрываю глаза,
вытягиваю руки и хожу с закрытыми глазами. Про себя
думаю: «Запахнет ромом с камфарой — будет комната де-
душки». Иду дальше, закрыв глаза и вытянув руки.
Думаю: «Подойду к маминой комнате, запахнет новыми
игральными картами. Потом смолой и нафталином». Иду
193
и чувствую запах новых карт в тот самый миг, когда
слышу голос мамы, которая поет у себя в комнате. Думаю:
«Ну вот, попахнет нафталином, а когда я сверну от него
влево, запахнет бельем и закрытым окном. Там останов-
люсь» (50—51). В сущности в этом фрагменте явлен мо-
дельный образ латиноамериканского героя — человека,
который намеренно закрывает глаза, не доверяя видимос-
тям, и полагается на свой безошибочный нюх (интуицию).
Действительно, обоняние сообщает герою гораздо больше,
нежели зрение. Тот же мальчик из «Палой листвы» мисти-
ческим образом чувствует запах жасмина, который рос
возле дома еще до его рождения, а потом был выкорчеван
(51) — так в его сознание проникает прошлое, эпоха перво-
начала.
Через запах латиноамериканский мир сообщает герою о
себе нечто самое важное и сокровенное. Эманация запа-
ха — ясно ощутимая, но невыразимая — сродни эманации
тайны. Столь распространенный в латиноамериканской
литературе мотив «говорящего запаха» (Фуэнтес, III, 244)
сродни мотивам говорящей тишины, говорящего камня,
дерева и т.п. Языки запаха, тишины, камня не имеют сло-
весно-дискурсивного оформления, они воздействуют на че-
ловека непосредственно, на глубинно-подсознательном, ин-
туитивном уровне, и оттого их воздействие оказывается не-
обычайно сильным. Запах способен потрясти героя, мгновен-
но переменить ход его мыслей, навеки запасть ему в душу:
«Запах забытый память тревожит: / детством пропахла /
юная кожа. // Запах ли моря? / Запах травы ли? / Запах
пронзивший / душу навылет» (Каррера Андраде, 115). Запа-
хом латиноамериканский мир подает весть о себе либо на-
страивает героя на встречу с чем-то сокровенным и под-
линным. Примечательно, что Колумб А. Поссе именно обо-
нянием чувствует заокеанские земли: «Я был на мысе
Агуха и нюхал воздух. Ветер принес запах неизвестных
цветов, будто они были цветами юного мира» (41).
Легко заметить, что латиноамериканские писатели и
поэты чаще всего отмечают ароматы земли, ночи и женщи-
ны. Как было показано ранее, эти мифомотивы теснейшим
образом связаны друг с другом, а часто бывают взаимоза-
менимы, и все они, в конечном счете, выявляют женскую
194
порождающую ипостась латиноамериканского мира, про-
питанного водами материнского чрева.
Мотив «пронзительного женского запаха» (Астуриас,
III, 251) является одним из наиболее распространенных и
устойчивых. В этом мотиве просматривается двойной ряд
образных ассоциаций. Женщина воспринимается через
запах, будучи главным воплощением латиноамериканско-
го мира. Но не только поэтому. Выше говорилось, что обо-
нятельное восприятие мира вводит героя в пласт представ-
лений о природном, естественном, человеке. Как зверь на-
ходит самку по запаху, так и латиноамериканский «зверо-
человек» воспринимает женщину нюхом, и лишь потом —
зрением. Герой Астуриаса ищет утраченную жену, познает
другую женщину — но испытывает разочарование: «Все не
то, главное — запах не тот» (III, 113). Фантастически пре-
красная героиня Гарсиа Маркеса соблазняет мужчин не
столько своим видом, сколько запахом: «Мужчины, иску-
шенные в любовных науках, познавшие любовь во всех
странах мира, утверждали, что им никогда не доводилось
испытывать волнение подобное тому, которое рождал в
них природный запах Ремедиос Прекрасной» (III, 189).
Обонянием герой «Осени патриарха» безошибочно выбира-
ет среди множества женщин свою суженую Летисию Наза-
рено(170).
Отмеченные мотивы и образы с предельной ясностью
воплощены в рассказе Услара-Пьетри «Чесночное поле»,
который в некотором смысле можно считать парадигма-
тичным для латиноамериканского художественного созна-
ния. Герой, мулат, устраивается на поденную работу; вы-
ходит в поле — и тут же погружается в мир запахов, под-
час мистических, иррациональных: «Влажно, сонно пахла
взрытая земля...». Закономерно возникает мотив бести-
ального человека: тень мулата на борозде напоминает «си-
луэт зверя». Но вот герой своим «звериным нюхом» улав-
ливает «говорящий», значимый запах, который оказывает
чрезвычайно сильное воздействие на его подсознание: «И
тотчас же накатил острый запах чеснока. Жгучий озноб
пронизал тело. Он проглотил слюну, в горле пересохло.
Глубоко, жадно вдыхал он терпкий теплый аромат» (58).
Самому герою «язык» запаха становится понятен, когда
195
он видит на галерее хозяйского дома служанку-мулатку:
«... в запахе чеснока была она». И тут же устанавливается
связь героини с землей, с латиноамериканским женским
миром: «Все поле стало плотью, тугой, плотной, покрытой
зеленым пушком стеблей» (59). Закончив работу, мулат
идет в селение, но запах чеснока преследует, бередит его, и
герой, повинуясь безотчетному влечению, возвращается к
чесночному полю. Заходит в лес и «лежит среди корней»
(61). О значимости такого местоположения героя говори-
лось ранее (см. гл. III, 1, 2). Преследующий мулата запах
выступает в роли вестника и возвещает то, что предопреде-
лено всем образным строем рассказа: «Пахло чесноком (...)
и возникла мулатка. Она летела к нему вместе с ветром.
Он владел ею, она была в этом всепроникающем запахе»
(60). И мулатка, действительно, приходит в лес: мотивы ее
появления здесь не объяснены, да они и не нужны. Ее, по-
корную судьбе и естеству, тоже ведет сюда «чутье». Проис-
ходит характерная для латиноамериканской литературы
любовная сцена, когда соитие происходит на земле, под де-
ревьями, среди корней: «... и наконец оба упали на землю.
Теперь она была в его объятиях и билась, большая, будто
река, будто живой ствол, будто песня плоти, трепещущая
и упругая» (61). Образы земли, реки, дерева ясно указыва-
ют, что, овладевая женщиной, герой овладевает «своим»
миром, приобщается к нему. А побудительным мотивом
для совершения акта самопознания был запах — одна из
основ латиноамериканской «гносеологии».
Наряду с запахом, немалую роль в познании
в) Сон латиноамериканского мира играет сон. Мы
не ставим перед собой задачу рассмотреть
этот сложнейший мотив во всех его значениях и в его свя-
зях с европейскими трактовками — лишь обратим внима-
ние на гносеологические функции мотива сна.
Сразу отметим, что восприятие сна как способа позна-
ния реальности восходит к древнейшим пластам челове-
ческого сознания. В фольклоре и литературе европейских
народов доминирует мотив «вещего» сна» (то же самое
можно сказать и о креольском фольклоре Латинской Аме-
рики). Сон в данном случае мыслится по преимуществу
196
как способ познания будущего, что нашло отражение и в
массовой культуре — в традиции «сонников». Действи-
тельно, сны героев европейской литературы, как правило,
либо обнажают какие-то потаенные душевные импульсы,
либо пророчествуют. Как представляется, именно в отно-
шении к категориям времени обнаруживает себя специфи-
ка гносеологической функции сна в латиноамериканской
литературе, где сон нередко предстает как один из спосо-
бов проникновения в прошлое. Речь идет не о личных
судьбах героев, а о коллективном прошлом народа, куль-
туры. Разумеется, сказанное не исключает возникновения
«вещих» снов в их традиционной трактовке — мы фикси-
руем лишь один, характерный и глубоко значимый мотив.
Отчетливее всего такая инверсия мотива вещего сна вы-
ражена в рассказе Кортасара «Ночью на спине, лицом
кверху». Герой рассказа, представитель современной го-
родской цивилизации, попадает в автомобильную катас-
трофу. Лежа на больничной койке, он видит сон, перенося-
щий его в глубокое, доколумбово прошлое. «Это был
странный сон, весь наполненный запахами, а ему никогда
не снились запахи» (74). Далеко не случайная деталь: ци-
вилизованный герой, обращаясь во сне в природного есте-
ственного человека, начинает постигать свой первоздан-
ный мир нюхом, чутьем. Итак, раненому мотоциклисту
снится, будто он — индеец, спасающийся от преследова-
ния ацтеков во время священной войны — охоты за жер-
твами. Существование героя раздваивается: с открытыми
глазами он пребывает в уютной атмосфере современной
больницы, но стоит ему закрыть глаза, как он тут же про-
валивается в сон прошлого и перевоплощается. Характер-
но, кстати, что познание латиноамериканского мира (про-
шлого) происходит с закрытыми глазами: как уже говори-
лось, именно таков наиболее предпочтительный способ до-
стижения сущностей — посредством отрицания видимос-
тей. В рассказе Кортасара находит ясное воплощение и ди-
хотомия «день» — «ночь» («свет» — «тьма») в ее специфи-
чески латиноамериканской трактовке. Засыпание само по
себе означает погружение во тьму, к тому же сон перено-
сит героя в непроглядную тьму ночной сельвы. Пробужда-
ясь (то есть перемещаясь из прошлого в настоящее, из вар-
197
варского мира — в цивилизованный), герой первым делом
видит электрический свет: «По сравнению с ночью, из ко-
торой он возвращался, теплый полумрак палаты показал-
ся ему необыкновенно приятным» (76). Тьма, ночь ассоци-
ированы с автохтонным индейским миром, свет, день — с
современной цивилизацией. Борьба света и тьмы в созна-
нии героя завершается победой автохтонной «ночи»: «Ему
нелегко было не закрывать глаз, сон оказался сильнее его»
(79). Плененного индейца кладут на жертвенный камень и
тогда-то происходит окончательная и необратимая смена
времен: сон раненого мотоциклиста обращается в реаль-
ность, а современный город представляется чудным и не-
лепым сном. Открывающееся во сне прошлое манит, при-
тягивает и поглощает человека; оно незримо присутству-
ет в настоящем и способно актуализироваться в любой
момент.
Связь сна с образом автохтонного мира и прошлого про-
сматривается и в романе Э. Сабато «О героях и могилах».
Неважно в данном случае, что прошлое и автохтонное
могут осмысляться в негативном ключе. Герой романа
Мартин долгое время пытается разыскать в городе свою
возлюбленную, Алехандру. Заснув на скамейке, где они
впервые встретились, он видит сон: «будто плывет по ши-
рокой реке с виду спокойной, однако могучей и таинствен-
ной. Плывет в сумерках. Местность вокруг пустынна и без-
молвна, но можно было догадаться, что в лесу, который
поднимался стеной по обе стороны реки, шла полная опас-
ностей жизнь...» (43). Во сне герой наблюдает картину ди-
кого хаотичного пространства Латинской Америки. Мар-
тина будит Алехандра. Вполне очевидна ее метафоричес-
кая связь с этим диким пространством: действительно, она
словно бы является его воплощением — необузданная, ха-
отичная, таинственная. Кроме того, автор напрямую ука-
зывает на эту связь, отмечая, что при расставании с Мар-
тином героиня «удалялась в темный дикий край, где как
будто жила всерьез» (45). Таким образом, в романе Сабато,
как и в рассказе Кортасара, сон переносит героя,, сугубо
городского жителя, в мир варварства.
В романе Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» сон
трактуется как средство сохранения памяти (прошлого).
198
Напомним яркий эпизод из жизни Макондо, когда город
поражает эпидемия бессонницы и жителями его постепен-
но овладевает амнезия. Чтоб окончательно не впасть в за-
бытье, они вынуждены вывешивать на предметах таблич-
ки с их названиями. Гадалка Пилар Тернера начинает «чи-
тать по картам прошлое, как прежде читала будущее»
(47). Мудрец Мелькиадес, явившийся «из того мира, где
люди умеют спать и помнят» (48), спасает людей, восста-
новив им сон и память. Коль скоро бессонница влечет за
собой утрату прошлого, то сон мыслится связующим зве-
ном между прошлым и настоящим.
Очевидно, такая связь мотива сна с автохтонным нача-
лом и с прошлым в немалой степени обусловлена влияни-
ем других элементов художественного кода латиноамери-
канской литературы. Сон ассоциирован с ночью, тьмой, а
ночь и тьма, как говорилось, воспринимается символами
сельвы, пещеры, сакрального подземного пространства и
вообще природного мира Латинской Америки. Сон возни-
кает из глубины сознания и земли: «Говорят, что из этих
пропастей ночью поднимаются сны.» (Рульфо, 98). Рож-
денное в недрах земли, ночи, в глубинах прошлого, снови-
дение обретает сакрализованный характер.
Указанные моменты придают дополнительные смысло-
вые нюансы той специфической атмосфере полусна-полу-
яви, в которой часто развивается действие многих выдаю-
щихся произведений латиноамериканской литературы.
Как представляется, легкий флер сна, окутывающий дей-
ствительность и сознание героев, указывает на постоянное
словно бы обволакивающее присутствие прошлого. Атмо-
сфера полусна создается как бы дыханием земли, исходя-
щим из темных глубинных подземных пространств. По-
гружение в эту атмосферу героя и читателя само по себе
означает приобщение к латиноамериканскому миру.
В качестве одной из форм связи человека с
г) Еда автохтонным миром воспринимается пища
(в особенности национальные блюда). Этот
мотив, весьма распространенный в латиноамериканской
литературе, встречается и в других литературах мира.
199
Символический подтекст, как правило, возникает
именно тогда, когда речь идет о растительной пище. Она
рождена либо непосредственно из недр земли (злаки), либо
является порождением древа (плоды) — но и в том, и в
другом случае метафорически соотносится с сакральным
корневым пространством. Поэтому поедание растительной
пищи может осмысляться как ритуальный акт причаще-
ния, воспоминания или возвращения.
Так, например, в прозе Фуэнтеса такой ритуально-сим-
волический подтекст постоянно возникает при упомина-
нии тортильи — мексиканской лепешки из кукурузной
муки. Герой одной из повестей писателя, человек, утеряв-
ший чувство родины, что называется «перекати-поле»,
присоединяется к скромной трапезе крестьянина — и тут
же с ним происходит «чудо» возвращения: «И вот когда я
сидел со старым патриархом и ел горячие тортильи, я
вдруг почувствовал себя удивительно успокоенным — так,
словно бы возвратился в объятия моей матушки или вроде
того, и я сказал себе: до чего ж славно есть эти торти-
льи...» (VIII, 156). Характерна сцена из романа «Старый
гринго»: в день гибели А. Бирса его соотечественница Гар-
риет неприкаянно бродила по лагерю, «а потом почувство-
вала страшный голод, и хотя знала, что это ощущение от-
нюдь не физического свойства, поняла, что только еда
может принести успокоение. И неожиданно села напротив
женщины, которая пекла тортильи... Взяла немного теста
и слепила тортилью наподобие той, что делала женщина...
Потом попробовала готовые лепешки» (238). Речь в дан-
ном случае идет не только об «успокоении». А. Бирс пере-
сек границу, чтобы найти свою смерть в «запредельном
мире», и в смерти приобщился к мексиканской земле. По-
едая тортилью, Гарриет также приобщается к мексикан-
ской земле, постигает неизбежность случившегося (отсюда
и чувство успокоения) — и одновременно совершает риту-
ал поминовения усопшего (тортилья служит и поминаль-
ной пищей).
Столь же определецно символические коннотации мо-
тива еды выступают в прозе Карпентьера, где нередко на-
блюдается соответствие тех или иных блюд духовному со-
стоянию героя или его культурной ориентации. В романе
200
«Превратности метода» на банкете по случаю открытия
Капитолия изысканные заморские блюда соседствуют с на-
циональными яствами (166—167) — и эта деталь призвана
лишний раз подчеркнуть культурную межеумочность дик-
татора. Впрочем, под конец жизни, в изгнании, автохтон-
ное культурное начало решительно возобладает в душе
диктатора над «наносным», европейским. Этот триумф
«корней» явлен в яркой сцене застолья. Символичен зачин
сцены: французская кухарка жалуется Офелии, дочери
диктатора, на мулатку, которая вытеснила ее с кухни.
Офелия идет в мансарду и видит стол, уставленный кре-
ольскими яствами. «... Впрочем, это был даже не стол, а
всего-навсего дверь, снятая с петель и положенная на два
стула» (295). Далеко не случайная деталь: национальная
кухня соответствует образу двери, через которую герои
«входят» в латиноамериканский мир, возвращаются в про-
шлое. «Офелия готова была резко оборвать праздничную
трапезу, сбить ногой импровизированный стол. Однако в
эту минуту маисовый томаль, поднятый на вилке, прибли-
зился к ее глазам, стал снижаться к ее губам. Как только
поравнялся он с ее носом, внезапное волнение, подступив-
шее откуда-то издалека, вызванное подсознательными по-
буждениями, подкосило ее ноги, заставив опуститься на
стул». Еще раз обратим внимание на магическую силу за-
паха, не сравнимую по своему воздействию на человека со
зрением. Магический акт «возвращения» довершают вку-
совые ощущения: «Откусила кусочек от томаля и мгновен-
но ощутила, как с плеч слетело три десятка лет» (296).
Офелия вспоминает детство, запахи деревенской кухни —
и происходит мгновенное чудо преображения: европеист-
ка, презиравшая все латиноамериканское, обращается в
креолку и через «дверь стола» проникает к своим корням.
Рассмотренные мотивы (путешествие, восприятие запа-
ха, сон, еда, слушание тишины) — далеко не исчерпывают
весьма обширного набора способов приобщения героя к ла-
тиноамериканскому миру. Гносеологическое содержание
обретают также восприятие музыки и песни, участие в
танце, празднике, карнавале; любовь; поединок; смерть.
201
Эти типы познания будут рассмотрены позже, при целост-
ном анализе соответствующих мотивов.
3. ПРИОБЩЕНИЕ К ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОМУ
МИРУ
Мотив приобщения героя к своему миру фактически яв-
ляется элементом мифологемы инициации, глубоко укоре-
ненной в латиноамериканском художественном сознании.
Инициация представляет один из важнейших «обрядов
перехода», практикуемых с целью ввести подростка в мир
взрослых и сделать полноправным членом племени, при
этом его подвергают всякого рода (иногда и крайне жесто-
ким) испытаниям2. Мифологема инициации присутствует
и в европейской литературе, где обычно трактуется как
момент духовного взросления героя. Тяжелое испытание,
выпавшее на долю подростка, заставляет его разом отре-
шиться от детских иллюзий и взглянуть на окружающих
глазами взрослого, умудренного жизненным опытом чело-
века. Обратим внимание на следующие существенные мо-
менты этого типового сюжета. Как правило, инициация
подразумевает психологическую травму; она происходит
при столкновении героя с другими людьми и крайне
редко — с природной средой; духовное взросление часто
сопровождается сожалениями по утраченным иллюзиям
детства и тем самым инициация может обретать носталь-
гическую тональность.
В латиноамериканском художественном сознании пере-
осмысляется сама суть инициации, которая представляет-
ся как один из этапов на пути познания героем своего
мира, как важнейший элемент процесса культурной само-
идентификации. Выше отмечалось, что сюжет приобще-
ния человека к своей среде предполагает исходное пребы-
вание героя в инокультурном континууме. Инициация —
это момент перехода героя из чужой культуры — в свою,
из состояния «не я» (неподлинности) к «я» — культурной
подлинности. Такой переход чаще всего необратим и со-
провождается радикальными изменениями в миро- и само-
ощущении героя.
202
Латиноамериканские писатели разрабатывают специ-
фические варианты сюжета инициации, которые по ряду
принципиальных моментов противостоят типовому евро-
пейскому сюжету. Начать с того, что в латиноамерикан-
ской литературе инициированным может стать (и чаще
всего становится) не подросток, а человек зрелый, даже
старый. Самый яркий пример — герой романа Гарсиа Мар-
кеса «Любовь во времена холеры», который в глубокой
старости обретает чувство полноты бытия и сопричастнос-
ти «своему» природному миру (не случайно его инициация
сопряжена с путешествием. Далее инициация героя чаще
всего происходит при участии или под непосредственным
воздействием природного окружения или природных сти-
хий. Во второй главе приводились два примера подобного
типа: герой Гальегоса Маркое Варгас «перерождается» во
время бури в лесу (см. гл. II, р. I, 2); героиня Астуриаса
Малена Табай становится женщиной в сакральном про-
странстве пещеры (см. р. III, 2). Особо часто наблюдается
связь инициации с бурей. Приведем еще один яркий при-
мер из романа Гальегоса «Кантакларо». Героиня, поселив-
шаяся в крестьянской семье в льяносах, чувствует себя
здесь чужой и мечтает вернуться в поместье. Во время
грозы молния попадает в ее комнату и сжигает москитный
полог, чудесным образом не затронув девушку. После слу-
чившегося «Росанхела встала совсем другим человеком» и
приняла твердое решение остаться: «Это мой дом и я ва-
ша»,— сообщает она. Себя она не случайно называет «но-
ворожденной», поясняя, что «вчера родилась второй раз»
(249—252). Под магическим воздействием молнии произо-
шла мгновенная интеграция человека со средой и он пере-
родился из «чужака» в укорененного обитателя латиноа-
мериканского мира.
Латиноамериканская интерпретация мифологемы ини-
циации нередко содержит в себе антиевропейскую направ-
ленность, поскольку внутренне противостоит церковным
таинствам крещения и причастия. Латиноамериканское
причащение к природному миру — это тоже священнодей-
ствие, тоже обряд — но обряд дикарский, языческий, ни-
когда не освящаемый именем Христа. Оно и закономерно,
ведь, подвергаясь этому обряду, герой «переходит» в до-
203
христианскую эпоху первотворения, куда ведет его вся ло-
гика художественного кода латиноамериканской литера-
туры. Иногда противопоставление двух типов причастия
достигает открытого звучания. Так, не случайно в сцене
инициации из романа Сабато героиня в ответ на робкий ре-
лигиозный лепет своего друга разражается страшными
святотатствами: «Мне наплевать на ад, болван! Мне напле-
вать на вечные муки!» (77). Столь же нарочито крещение
«природное» противопоставлено церковному в романе Ор-
тиса «Гуюнго». Герой-подросток, подражая взрослым,
самостоятельно учится переплывать реку на бальсовом
бревне. После многих неудачных попыток, насквозь про-
мокший, он, наконец, достиг успеха и «после этого ма-
ленького испытания Ассенсьон почувствовал в себе ... не-
изведанную дотоле силу и уверенность...» (27). Сразу же
после этого следует сцена крещения: мальчик ничего не
понимает в свершаемом таинстве, скучает, а во время об-
ряда, словно инстинктивно защищаясь от агрессии чуже-
родной культуры, ударяет священника по руке.
Наконец, отметим еще одну существенную особенность
латиноамериканской трактовки инициации. Переход
героя из одного бытийного и культурного состояния в дру-
гое, как правило, подразумевает серьезный психический
сдвиг, даже излом, но этот переход обычно не бывает трав-
матичным и не сопровождается ностальгическими эмоция-
ми. Вполне естественно: ведь герой восходит от неподлин-
ности к подлинности, и потому без всякого сожаления от-
вергает свое предшествующее бытие.
Особенности интерпретации мифологемы инициации
обусловлены рядом причин.
Прежде всего, в этой мифологеме сублимировался свое-
образный исторический опыт Америки — земли, которую
открывали, покоряли, осваивали и до конца не освоили.
Изначальная отдаленность пришлого человека от земли
глубоко внедрилась в латиноамериканский художествен-
ный код. Путешествие колонистов через океан, само по
себе будучи тяжким испытанием, стало сродни инициа-
ции — тем более, что это был переход из мира «нормально-
го» — в мир «запредельный». Далее происходит долгий и
подчас мучительный процесс вживания человека в новую
204
землю, которая либо убивала и отторгала пришельца,
либо, в конце концов, становилась «своей», родной. Впол-
не очевидно, что в процессе адаптации коренным образом
менялись психические и мировоззренческие установки ко-
лониста. Растянутый во времени процесс художник скло-
нен представлять одномоментным актом «причастия», пы-
таясь уловить ту грань, где кончается «прежний» человек,
европеец, и начинается латиноамериканец. Стремление об-
наружить эту грань составляет насущную задачу для лати-
ноамериканского художника, поэтому обряду перехода
подвергается не только пришелец, колонист, конкистадор,
но и современный герой, живущий на континенте, но по
тем или иным причинам отторгнутый от природной среды.
Определить границу перехода героя из одного состояния в
другое — значит уловить сущность латиноамериканского
начала, чего упорно добивается художник. Таким образом,
по сути своей инициация является одним из вариантов
культурной самоидентификации.
Кроме того, мифологема инициации отражает специфи-
ческое двоемирие латиноамериканской культуры, находя-
щейся как бы на границе между двумя культурами — ев-
ропейской и автохтонными. Инициация — это обряд пере-
хода, а для культуры пограничной момент транзитивности
сам по себе обретает огромную значимость.
Наконец, мифологема инициации опосредованно запе-
чатлела опыт большинства латиноамериканских писате-
лей, которые «открывали» для себя Америку после дли-
тельного пребывания в Европе.
И. ТИПОЛОГИЯ ГЕРОЕВ
Тема эта, как и многие из ранее
1. Общие положения затронутых, достойна отдельного
монографического исследования.
Исходя из общей направленности книги, мы ставим своей
задачей лишь очертить контуры проблемы, кратко охарак-
теризовать некоторые типы героев и выявить их соотноше-
ние с теми или иными постоянными мотивами.
205
Но прржде всего дадим некоторые общие характеристи-
ки героев латиноамериканской литературы (разумеется,
присущие далеко не всем персонажам). Специфические
пространственные характеристики, составляющие основу
латиноамериканского художественного образа мира, про-
ецируются и на героев, носителей идей «подлинности».
Эти персонажи соответствуют мифологеме первозданности
(яркие примеры были явлены при анализе инициации).
Кроме того, к ним можно отнести такие свойства, как хао-
тичность, таинственность, темпоральность — последняя
проявляется в способности героя преображаться в мифоло-
гическое существо, зверя, первочеловека при соприкосно-
вении с темпоральными реалиями природного мира.
Особое внимание обратим на то, что многие образы со-
здаются в русле поэтики сверхнормативности. Гиперболи-
ческая формула «самый... в мире» в полной мере примени-
ма и к героям; особенно часто встречается образ «самая
красивая женщина» (на свете, в стране, в городе). В этой
связи вообще следует отметить внутреннюю пульсацию ис-
ключительности, присущую многим героям латиноамери-
канской литературы (речь не идет о героях романтизма).
Характернейшим проявлением поэтики сверхнорматив-
ности стал гигантизм (подразумевается не буквальное, а
метафорическое выражение этой черты), связанный со
стойкой тенденцией представлять героя в образе мифоло-
гического существа — не случайно этот мотив часто возни-
кает при воплощении собирательного образа этнотипа. В
рассказе «Схватка» уругвайца X. де Вианы облик гаучо
воссоздается в подчеркнуто мифологических чертах: сто-
рукое чудище», «чудовищное существо, смесь человека и
зверя», «то он напоминал циклопа из мифологической ле-
генды, то апокалипсическое существо, сильное, как
Антей, неуязвимое, как Ахилл»; и умирает он «в узкой до-
лине, казавшейся достойной могилой для этого гиганта»3.
Гиперболическим предстает образ Сегундо Сомбра: «... ло-
шадь и всадник показались мне гигантскими на фоне ве-
чернего неба» (Гуиральдес, 22); Педро Мигеля: «... тень
Педро Мигеля, выросшая до сказочных размеров, покачи-
валась на фоне вечернего неба» (Гальегос, IV, 293) и дру-
гих собирательных образов. Но ярче всего поэтика сверх-
206
нормативности проявляется еще в одной специфической
черте латиноамериканских героев, которую мы условно
назовем «одержимостью». Это какая-либо внутренняя
страсть или внешняя цель, особенность, черта характера
либо направленность сознания, которые поглощают чело-
века целиком, гипертрофированы, проявляются крайне
избыточно, выходят за пределы нормы. Таких героев в ла-
тиноамериканской литературе не счесть. Даже в региона-
листской прозе с ее узкой установкой на «правдивость» по-
добные герои встречаются сплошь да рядом,— например, в
произведениях одного из основателей и теоретиков этого
течения — Т. Карраскильи4.
В творчестве Гарсиа Маркеса «одержимость», свойст-
венная большинству его героев, достигает таких масшта-
бов, что подчас предстает как чудо. Последнее в особеннос-
ти свойственно роману «Сто лет одиночества»: каждый из
его героев движим «главной неодолимой страстью» (324)
либо обладает феноменальными качествами и каждый так
или иначе переступает пределы нормы. Напомним: пол-
ковник Буэедиа «поднял тридцать два вооруженных вос-
стания и все тридцать два проиграл» (90), а затем маниа-
кально изготовлял золотых рыбок; Хосе Аркадио выделя-
ется чудовищной силой, Петра Котес — «свойством воз-
буждать живую природу» (157), Аурелиано Ржаной — «за-
ключенной в нем удивительной силой разрушения» (160),
Ремедиос — феноменальной красотой и т.п. С чудом же
граничит и «вечная» любовь Флорентино Ариса — героя
романа «Любовь во время холеры». «Одержимость» героев
латиноамериканской прозы опосредованно выражает и ми-
фологему хаотичности латиноамериканского мира, по-
скольку характеры эти открыто противостоят категориям
разумности и упорядоченности.
Обращаясь к проблеме типа героя, необходимо сделать
ряд существенных оговорок.
Во-первых, никакая, самая разработанная классифика-
ция не может охватить всех героев данной литературы и
потому попытка создания всякого рода исчерпывающей
типологии представляется крайне наивной. Многие герои
латиноамериканской литературы вполне индивидуальны и
не вмещаются ни в какие разряды. Будь иначе, литература
207
превратилась бы в бесконечную комедиа дель арте. Далее,
невозможно в точности определить, где кончается индиви-
дуальность и начинается тип — и наоборот. Однако такая,
вполне естественная для литературы размытость катего-
рий вовсе не ставит под сомнение само существование
типа — то есть относительно обширной группы разных ге-
роев с системно повторяющимися чертами характера, мо-
дусом поведения, ролевыми установками и т.п. Тип героя
может быть обусловлен эстетикой того или иного направ-
ления либо, если он просматривается в различных литера-
турных направлениях и на протяжении нескольких перио-
дов,— художественным ходом данной литературы. Нас ин-
тересуют такие типы латиноамериканских героев, которые
выражают специфику латиноамериканского художествен-
ного сознания в целом.
Типы героев могут создаваться как спонтанно, так и со-
знательно, когда писатель целенаправленно конструирует
характер под сложившийся канон или же устанавливает
канон. Этот, второй, способ весьма характерен для латино-
американской литературы, обращенной на поиск нацио-
нальных (или цивилизационных) ценностей и архетипов.
Отметим также, что типовое начало, регламентирую
щее поведение героя, может проявляться в зависимости от
сюжетной ситуации. К примеру, один из наиболее предпо-
чтительных типов латиноамериканского героя — тип
зверо-человека — как правило, не моделирует полностью
поведение героя: звериное начало отчетливо выявляется в
человеке в кульминационные моменты его «слияний» со
средой, почвой, подлинной культурой. Выходит так, что
типическое (а лучше сказать, архетипическое начало)
мыслится как потенциальная возможность героя, которая
может реализоваться лишь в случае его частичной или
полной интеграции со «своим» миром. И потому герой, не-
отторжимый от среды (этнотип, индеец, негр), часто пред-
ставляется как существо безличностное, абсолютно архе-
типичное. Здесь обнаруживается еще одна особенность ла-
тиноамериканской литературы: писатель воспринимает ти-
повое начало в человеке началом родовым, культурным, ци-
вилизационным, и потому обычно трактует его в позитивном
208
ключе. Подобие открывает путь к постижению общих кор-
ней, различие этому препятствует.
При таких особенностях функционирования типового на-
чала, нередко случается так, что герой попеременно в куль-
минационные моменты своей жизни воплощает различные
типы: он может выступать то в роли Адама, то — зверо-чело-
века, то — культурного героя, то — мачо и т.п. Надо заме-
тить, такое совмещение ролевых установок весьма свойст-
венно латиноамериканским персонажам, и облегчается оно
тем, что многие из этих моделей в семантическом плане до-
полняют друг друга. Примеряя на себя различные архетипи-
ческие роли, герой как бы высвечивает весь спектр манифес-
таций эпохи первоначала, когда человек мог быть попере-
менно и камнем, и деревом, и зверем, и богом.
На предшествующих страницах многократ-
2. Чужак но и в различных контекстах уже упоминал-
ся тот тип героя, который мы условно назы-
ваем «чужаком» (в литературных текстах он обозначается
широким набором понятий: «иностранец», «гринго»,
«белый», «иной», «чужой» и другими). Этих персонажей,
как иностранцев, так и латиноамериканцев, как сельских
жителей, так и городских, несмотря на всевозможные раз-
личия их социального положения, профессиональных ин-
тересов, духовных устремлений, возраста, пола и т.п., объ-
единяет одна черта — та или иная степень отторженности
от латиноамериканского мира. Этот тип героя (впрочем,
как и некоторые другие), выделяется не столько характе-
ром, сколько функционированием в художественной
структуре произведений.
Действительно, уже сама распространенность таких ге-
роев в латиноамериканской литературе говорит о том, что
они играют существенную роль в организации ее художе-
ственного мира. Как справедливо отмечает Ф. Аинса, вся-
кого рода самоидентификация всегда строится из совокуп-
ности позитивно-негативных образов5,— то есть «свое» оп-
ределяется не столько из себя самого, сколько из противо-
поставления «чужому». Категория «чужое» предстает во
множестве взаимосвязях и взаимозаменимых интерпрета-
ций, включая в себя понятия «цивилизация» (в противо-
209
поставлении варварству), «город», «механизм», «норма» и
другие, в том числе и героя, выразителя всех этих цен-
ностных ориентиров. Тип героя-«чужака» необходим лати-
ноамериканскому писателю для выстраивания своего обра-
за мира, а главное, образа «подлинного» героя, укоренен-
ного в родной среде и тождественного ей. Тем самым
«чужак» выполняет столь же важную функцию в создании
латиноамериканской картины мира, как и его антипод. Он
как бы представляет обратную сторону этой картины, без
которой она не существует.
Герой-«чужак» — это не характер, а мироотношение, и
потому он представлен самыми разнообразными характе-
рами, от весьма позитивных до крайне негативных.
Его прототип воплощен в образе конкистадора — как
исторического, так и литературного персонажа. Собствен-
но говоря, эпоха конкисты заложила основы того психоло-
гического комплекса «чужачества», который столь при-
сущ многим героям латиноамериканской литературы и их
создателям.
С каких бы позиций ни создавался образ конкистадора,
этот персонаж изначально предстает как пришелец, носи-
тель западноевропейской культуры в инокультурной сре-
де. Неизменная суть образа коренится именно в моменте
переступания через границу культур. Фактически конкис-
тадор мыслится персонифицированным воплощением ми-
фологемы границы (см. гл. I, р. I, В, 1). Следует подчерк-
нуть, что само переступание границы миров чаще всего
воспринимается как преступление. Причем — двойное
преступление, суть которого выражается мифологемами
десакрализации и изнасилования. Американская перво-
зданная «девственная» природная среда и слитые с нею ин-
дейские цивилизации в художественном мышлении мно-
гих писателей (отнюдь не только индихенистов) представ-
ляются чем-то вроде «священной зоны». Характерен ус-
тойчивый мистический мотив: конкистадорам сопротивля-
ются индейские боги (см. «Teppa Ностра», часть II Фуэнте-
са, «Маладрон» Астуриаса, «Солдат спит» Неруды и др.).
Действительно, американское географическое и культур-
ное пространство представляется как бы наполненным бо-
жественными манифестациями, ведь, кроме обширного
210
пантеона индейских богов, здесь «размещены» священные
природные реалии — камни, горы, пещеры, деревья,
земля, вода и т.п. Вторжение «чужака» в священную зо-
ну — акт святотатственный: это вторжение мира профан-
ного в мир сакральный. Непосвященный, презревший за-
преты и вошедший туда, где место только жрецам, подвер-
гается суровой каре богов. По той же мифологической мо-
дели выстраивается устойчивый сюжет, уже рассмотрен-
ный ранее: пространство мстит конкистадору, затягивая,
засасывая, околдовывая, убивая его.
Нарушение целостности и замкнутости американского
«священного» мира нередко осмысляется в образе изнаси-
лования. Конкистадор воплощает в себе мужское начало;
«священная зона» континента может ассоциироваться со
«священной зоной» женского тела, с женским (чаще — де-
вичьим) лоном. Часто такое восприятие конкисты метафо-
рически выражается в сценах изнасилования конкистадо-
ром индеанки.
В индихенистских трактовках образ конкистадора
обычно предстает статичным и одноплановым. Конкиста-
дор как изначально был, так и остается навечно «чужа-
ком», а его святотатственное и насильственное переступа-
ние границы в конечном счете лишний раз подчеркивает
сакральность и непорочность индейского мира. В частнос-
ти, именно так трактуются конкистадоры в главе «Завое-
ватели» «Всеобщей Песни» Неруды. Наряду с мифологема-
ми святотатства и изнасилования, чилийский поэт настой-
чиво акцентирует мотив разрушения, убийства, смерти,
выводя его прямо в зачины многих стихотворений: «Убий-
цы разорили острова» (35); «А потом были пепел и
кровь...» (36), «В Веракрус убийца-ветер их принес...»
(36), «Бальбоа, когтистую смерть привел ты...» (41) и т.п.
Более глубоким и динамичным образ конкистадора
предстает, когда он рассматривается с позицией латиноа-
мериканской культуры, для которой именно конкиста
стала эпохой первотворения. Святотатство может обер-
нуться для пришельца утерей своих богов, а изнасилова-
ние может стать актом созидательным, культуропорожда-
ющим. В процессе эволюции героя происходит его посте-
пенное отчуждение от «своего» (европейского профанного
211
мира) и приобщение к «чужому» (американскому сакраль-
ному миру). В этом духовном движении он часто застрева-
ет «на перепутье» — примеры подобного рода были разо-
браны при анализе модели межпространственности (см.
гл. I, р. I, Д, 3). Но иногда он способен интегрироваться в
американский мир, сознавать его «своим» и в дальнейшем
соизмерять себя с масштабами этого мира — как Лопе Де
Агирре в трактовке Отеро Сильвы.
Вот этим-то — способностью стать «своим» в латиноаме-
риканском мире — конкистадор принципиально отличается
от многочисленных «гринго», героев-иностранцев, столь ши-
роко представленных в латиноамериканской литературе
XX в. Нет надобности анализировать нескончаемую верени-
цу образов жестоких гринго-эксплуататоров, какие можно
встретить в любом латиноамериканском романе социально-
политической направленности — образов отталкивающих,
одномерных и схематичных. Куда 'интереснее взглянуть на
образы, так сказать, «симпатичных», «человечных» грин-
го — они-то яснее всего выражают идею несовместимости
западноевропейского и латиноамериканского миров.
Попытки этих героев стать «своими» в чуждом для них
мире почти всегда обречены на неудачу. Они могут помо-
гать коренным жителям, войти с ними в добрые отноше-
ния, но установить органичный контакт с природной сре-
дой им не дано, ибо для этого необходимо воспринять со-
вершенно чужеродные для них законы пространства и
приобщиться к священным природным локусам. Показа-
телен в этом смысле пример Лестера Мида, героя «Урага-
на» Астуриаса. Друг и покровитель индейцев, он вместе с
тем вершит насилие над беспорядочным хаосом сельвы,
превращая его в прямоугольники банановых плантаций —
и необузданная природа континента убивает «чужака». Во
время урагана североамериканец мог бы спастись в сак-
ральном чреве пещеры, но ему заповедано проникнуть
туда: какие-то страшные тени выгоняют его наружу. В
«Потерянных следах» Карпентьера также не люди, а при-
родная среда изгоняет «чужаков» из своих пределов. Сна-
чала — Муш, любовницу героя: «Сильная, всепроникаю-
щая и жестокая природа сумела за несколько дней оконча-
тельно разбить Муш, истощить ее, измотать и обезобра-
212
зить и теперь наносила ей последний сокрушающий удар.
Это было окончательное поражение, реванш, взятый всем
поистине естественным и настоящим...» (144). А затем —
и самого героя, который, как ему казалось, сроднился с
Долиной Остановившегося Времени: «И в этот короткий,
но решающий миг я вдруг струсил перед этими горами,
перед этими тучами... и этими деревьями... Словно опус-
тился занавес и отгородил меня ото всего вокруг. И что-то
в этом мире сразу стало для меня чужим, словно вдруг из-
менились пропорции» (234).
Латиноамериканский первозданный мир отторгает «чу-
жака», в частности, и потому, что как бы «чувствует» ис-
ходящую от чужеземца угрозу своей целостности, само-
бытности и непорочности. Речь идет не только о вполне
очевидных случаях расхищения иностранцами природных
богатств континента, бессчетно описанных в социально ан-
гажированной литературе. «Добрый» иностранец способен
«невольно» накликать беду. Яркий пример такого типа яв-
ляет известный роман аргентинца Бенито Линча «Мистер
Джеймс ищет черепа». Англичанин, антрополог, проводя-
щий раскопки в пампе, временно поселяется на хуторе, в
крестьянской семье. В него влюбляется дочь хозяйки Баль-
бина — чей характер воплощает неукротимость и перво-
зданную естественность духа пампы. Мистер Джеймс —
человек очень добрый и безукоризненно порядочный: ни
одного ложного шага он не совершает в своих отношениях
с селянкой. Но отъезд его — со всех сторон оправдан-
ный — девушка пережить не в силах, и кончает самоубий-
ством. Не злодей, не коварный искуситель губит ее — ее
губит исключительно честный и доброжелательный чело-
век, но — «чужак», само появление которого на хуторе, в
средоточии «подлинности», оказывается смертоносным.
Все сказанное, разумеется, вовсе не свидетельствует о
ксенофобии как о черте латиноамериканской ментальнос-
ти. Как раз наоборот: органическим свойством латиноаме-
риканской культуры всегда была ее предельная откры-
тость к влияниям извне. Неприятие иностранца имеет
весьма далекое отношение к действительности Латинской
Америки (ив особенности Аргентины, страны эмигран-
тов). Это — некая условность художественного сознания;
213
глубокая потребность установить границу между «своим»
и «чужим» и самый простой способ такую границу обозна-
чить; это одно из средств утверждения самости.
В роли «чужака» могут выступать не только иностран-
цы, но и латиноамериканцы. В индихенистском романе об-
разы латифундистов, представителей белой расы, в сущ-
ности вполне адекватны образам иностранцев и выполня-
ют ту же функцию разграничения «своего» (в данном слу-
чае — индейского мира) и «чужого» (мира белых). Как
правило, белые латифундисты моделируют свое поведение
в отношении индейцев по моральным нормам конкистадо-
ров, святотатственно «оскверняя» и «насилуя» индейскую
общину. Сюжет мщения среды в данном случае замещает-
ся устойчивым сюжетом индейского мятежа. Белому лати-
фундисту, равно как и иностранцу, обычно не дано интег-
рироваться в индейский мир: граница культур оказывает-
ся непроходимой. Иначе обстоит дело с теми героями-«чу-
жаками», которые вернулись на родину после длительного
пребывания в Европе или переехали из города в село. Они
также могут быть отторгнуты средой или убиты, но они
способны и слиться с нею.
Помимо отчетливо выраженной функциональности,
образ «чужака», как представляется, в некоторой степени
соотносится с внутренним самоощущением латиноамери-
канского писателя. Действительно, уже сама по себе тема
исследования «своего» мира, начатая еще в хрониках и
прокламируемая многими писателями XX в., фиксирует
некую первоначальную отделенность художника от среды,
по отношению к которой он выступает как «чужак», пере-
секающий границу миров. Осваивая действительность сло-
вом, писатель как бы повторяет путь героя от «чужого» к
«своему». Яснее всего эта особенность проявляется в спе-
цифическом отстраненном писательском взгляде на дейст-
вительность, когда он смотрит на нее как бы глазами ино-
странца. В костумбристко-романтической литературе такой
взгляд выступает в самых открытых и акцентированных
формах; в позднейшей литературе он становится более ор-
ганичным и завуалированным, но не исчезает вовсе. В част-
ности, он проявляется в концепции «чудесной реальнос-
ти» ив поэтике сверхнормативности.
214
В латиноамериканской литературе часто
3. Адам встречается прямое, косвенное либо подра-
зумеваемое сравнение героя с библейским
Адамом, что позволяет представить библейский образ (ра-
зумеется, в той или иной степени модифицированный) как
один из типов героя латиноамериканской литературы.
Сразу подчеркнем: герой-Адам — это вовсе не характер
с определенным набором личностных черт; это, скорее, ми-
роощущение и особое состояние героя. В любом случае воз-
никшее у героя адамическое самоощущение всегда тракту-
ется в высшей степени позитивно. Соответственно, в этой
идеальной модели мироотношения происходит слияние ав-
тора со своим персонажем, ведь во всяком положительном
герое писатель, вольно или невольно, создает идеальную
проекцию самого себя. Таким образом, можно утверждать,
что посредством адамического героя латиноамериканский
писатель идентифицирует себя с библейским персонажем.
В этом отождествлении выявляются некоторые сущност-
ные особенности латиноамериканского художественного
сознания.
Прежде всего большую символическую значимость для
латиноамериканского писателя имеет, так сказать, физи-
ческая субстанция Адама. Первочеловек, как известно,
был слеплен из праха земного, что для латиноамерикан-
ского писателя становится важнейшим мерилом подлин-
ности. Образ Адама сразу подразумевает его нерасторжи-
мую связь с землей. Предельно ясно эту мысль обозначает,
например, Сиро Алегрия, когда представляет своего героя-
индейца: «Глядя на него, верилось, что американский
Адам слеплен по образцу своей земли; что ее переизбыточ-
ные силы извергли из недр человека, подобного горам»
(III, 23). В этой многозначной фразе обращает на себя вни-
мание гиперболизм, столь характерный для латиноамери-
канского художественного мышления («человек, подоб-
ный горам»). «Американский Адам» попирает европей-
скую норму и утверждает латиноамериканскую сверхнор-
мативность.
Обратимся к другому смысловому пласту, заключенно-
му в образе Адама,— к символическим связям героя со
средой обитания. Библейский Адам прожил как бы две
215
жизни: одну — в Эдеме, другую на грешной земле. Среда
обитания «американского Адама» также амбивалентна и
предстает в райской и инфернальной ипостасях.
Мифологема земного рая, с которой в первую очередь
ассоциируется образ Адама, имеет первостепенную значи-
мость в латиноамериканском художественном сознании, о
чем уже говорилось во Введении. Следует сразу подчерк-
нуть одну важную характеристику «американского
Эдема», а именно — его явную или подтекстовую антиев-
ропейскую направленность. Она, как правило, реализует-
ся в двух вариантах. Чаще всего художник вслед за А. Ле-
оном Пинелло утверждает возможность местонахождения
(или обретения) рая только в Америке и нигде больше (по
крайней мере не в Европе): как говорит карпентьеровский
Колумб, «напал я на единственный, неподдельный, насто-
ящий Рай Земной...» (VIII, 531). В другом варианте амери-
канский «настоящий» рай — первозданный, живой, гран-
диозный — противопоставлен европейскому «искусствен-
ному» раю — выморочному, надуманному. И в том, и в
другом случае воплощением рая мыслится американская
природная среда, а город, нередко ассоциированный с за-
падноевропейской культурой, может быть трактован в об-
разе «грешной земли» — то есть среды неподлинной, от-
торженной от естества и потому извращающей души своих
обитателей.
Мифологема земного рая устанавливает и характер
связи «американского Адама» со своим миром: полную ин-
теграцию героя и среды, какая подразумевалась в адамо-
вом бытии до грехопадения. Действительно, пребывая в
адамическом состоянии, герой латиноамериканской лите-
ратуры всегда неразрывно слит со своим миром. Рожден-
ный землею, слепленный из праха земного, он обладает
способностью слышать и понимать «голоса» земли, кам-
ней, корней, деревьев, рек, животных.
Однако, как говорилось, адамическое состояние для мно-
гих героев оказывается временным и непрочным. Библей-
ская история грехопадения и изгнания из рая воплощается
в латиноамериканской литературе в ряде устойчивых сим-
волических сюжетов. Один из наиболее распространенных
включает в себя мотив змея-искусителя: герой, поддавшись
216
соблазнам города, покидает свой Эдем и в результате гиб-
нет — физически либо морально. В «Потерянных следах»
Карпентьера представлен явный художественный парафраз
библейской сцены грехопадения. В роли змея-искусителя
выступает летчик поискового самолета (как и змей, он спус-
кается сверху, с ветвей Древа Познания). Он обращается к
герою на английском языке, который мгновенно затумани-
вает его сознание: чужеродная речь в данном случае высту-
пает как знак коварства, обмана. Далее искуситель предла-
гает «Адаму» «запретный плод» — глоток коньяку. Хлеб-
нув спиртного, музыкант окончательно принимает решение
слетать в город, а затем вернуться в «рай», к своей «Еве»,
чего ему уже не будет дано. В роли змея-искусителя могут
выступать деньги (типовой сюжет индихенистской прозы:
герой уезжает в город на заработки), женщина (например,
повесть «Метис» X. де Вианы), образование (типовой сюжет
креолизма: герой едет в город учиться и порывает с сель-
ским миром). Другой вариант развертывания сюжета грехо-
падения, особенно распространенный в социальном романе,
акцентирует мотив насильственного изгнания из рая. В
этом случае речь идет либо о сгоне крестьянина с земли,
либо о вторжении города в сельскую среду и варварском
разрушении Эдема.
Библейский Адам был изгнан из рая навеки. Попытки
героев латиноамериканской литературы вернуться в утра-
ченный рай, как правило, оказываются тщетными. В этом
обнаруживается не только суровая правда жизни, но и до-
статочно жесткая позиция писателя по отношению к
герою и самому себе. Ведь пространственное перемещение
«Адама» из «рая» на «грешную землю» неизменно тракту-
ется как измена своей самородной культуре и приобщение
к культуре фиктивной, заемной — а этот грех латиноаме-
риканский писатель не склонен прощать.
Обратим внимание еще на одну немаловажную деталь.
Библейское грехопадение было сопряжено с познанием
добра и зла. В земном раю первочеловек пребывал как бы
во внеэтическом и внеинтеллектуальном континууме. Вы-
членение в его сознании категорий добра и зла стало актом
в высшей степени интеллектуалистским, ознаменовавшим
переход к иному, рационалистическому типу мышления.
217
«Американский Адам» — это разновидность естественного
человека, который познает свой мир внерационалистичес-
кими интуитивными способами. Изгнание из рая сопряже-
но с утерей этой тончайшей чувствительности и переходом
к логическому строю мышления, который ассоциируется с
западноевропейской культурой.
Как видим, образ Адама формирует собственную мате-
рию (земная субстанция), особую среду (Эдем либо греш-
ная земля) и свою гносеологию. Он создает также и собст-
венное время. Адам — это первый человек, живущий в
эпоху сотворения мира. Вместе с тем образ Адама-перво-
жителя проецирован и в будущее, ибо он, представляя ла-
тиноамериканскую культуру в зародышевом состоянии,
имплицитно выражает веру в ее потенции.
Адам, основатель рода человеческого, в латиноамерикан-
ском художественном сознании, помимо всего прочего, ин-
терпретируется как культурный герой, основатель гряду-
щей культуры континента. Именно поэтому образу Адама
очень часто сопутствует специфический мотив «первоздан-
ного слова», когда этот персонаж изрекает — цитирую Кар-
пентьера — «голое слово», «ясное и простое», «которое об-
ретает свой первозданный смысл» и «благодаря своей перво-
зданной красноречивости не нуждается в определени» (III,
204—206). Вспомним в этой связи то, что говорилось об ин-
туитивном способе познания героем своего мира. Связная
речь, логический дискурс в принципе не подходят «Адаму»
для самовыражения. Его речь соответствует эпохе первона-
чала времен и окружению земного рая. Изреченные «Ада-
мом» слова отражают сущности нового мира и участвуют в
построении культуры. Этот внерациональный интуитивный
язык оказывается родственен голосам воды, земли, дерева,
камня, которые озвучивают латиноамериканскую прозу.
Наряду с этим, появляется еще один устойчивый мотив,
особенно присущий творчеству Карпентьера: вслед за произ-
несением первозданного слова следует «дело достойное
Адама: дать названия вещам» (X, 24). Первожитель земного
рая либо грешной земли начинает освоение мира посредст-
вом слова: «Надобно было описать новую эту землю. Но,
приступив к этому, я оказался охвачен растерянностью че-
ловека, вынужденного именовать вещи, отличные от всех
218
известных...» (Карпентьер, VIII, 508). Собственно именно
так, с каталогизации и описания новых реалий, зачиналась
латиноамериканская литература, и это ощущение новизны,
молодости своего мира сохранилось и в литературе XX в.
Вспомним первые строки знаменитого романа Гарсиа Мар-
кеса: «Мир был еще таким новым, что многие вещи не
имели названия и на них приходилось показывать паль-
цем» (V, 11). Писатель, воспринимающий так действитель-
ность, невольно соотносит себя с Адамом. Также этот мотив
ясно выражает идею особости латиноамериканского мира,
состоящего из «неназванных», то есть не известных евро-
пейцу вещей.
В латиноамериканском художественном сознании образ
Адама носит чисто символический, знаковый характер,
обозначая латиноамериканца вообще во всем своеобразии
его сущностных черт. Адамизм есть род самопознания, род
вопрошания о своей сущности. Один из героев романа Роке
Дальтона говорит: «Перед нами стоят те же проблемы, что
стояли перед Адамом и Евой. Кто мы? Куда идем? Что мы
можем сделать? Что мы должны делать?6
В образе Адама латиноамериканских художников осо-
бенно привлекает его роль первожителя земли, основателя
рода человеческого. Многим из них было свойственно
вполне сознательное восприятие самих себя как зачинате-
лей той или иной национальной культуры. Оно отчетливо
проявлялось даже у писателей XX в., за плечами которых
уже стояла достаточно богатая литературная традиция.
Объяснить этот феномен можно тем, что каждое литера-
турное направление, критикуя и опровергая предшествую-
щие, претендовало на самое глубокое, объективное и ау-
тентичное отражение национальной или континентальной
сущности. Поэтому художник-новатор мог воспринимать
свой мир как совершенно новый, неизведанный и мог чув-
ствовать себя в нем первожителем и первопроходцем.
В западноевропейской литератур-
4. Человек-зверь ной традиции образ звероподобного
человека часто бывает крайне от-
талкивающим. Позитивные коннотации обычно содержат
сравнения человека с птицей (отражающие идею возвыше-
219
ния, неба), но сравнения с животными, в том числе и до-
машними, нередко характеризуют отрицательных героев.
В латиноамериканской литературе присутствие в челове-
ке животного начала чаще всего трактуется в позитив-
ном ключе; притом сравнения человека со зверем встреча-
ются настолько часто, и настолько они в смысловом от-
ношении однотипны, что дают полное право говорить об
анималистичности, как об устойчивой характеристике
многих героев.
Этот тип героя формировался под влиянием различных
факторов. Один из них уже неоднократно упоминался ранее:
сознательная или спонтанная инверсия традиционных евро-
пейских образов и мотивов, за счет чего в немалой степени
складывался весь художественный код латиноамериканской
литературы. Немаловажно в этой связи отметить и то об-
стоятельство, что в европейской литературе и философии
существовала тенденция представлять индейцев как жи-
вотных в облике человечьем. Отчасти и в полемическом от-
рицании расистских концепций анималистичность могла
быть переосмыслена как позитивное качество.
Несомненно, на формирование латиноамериканского
образа бестиального человека оказал влияние европейский
авангардизм с его апологией иррационального инстинк-
тивного начала7. Подобного рода примитивистские тенден-
ции всегда чутко улавливались латиноамериканской лите-
ратурой, перекодировались и глубоко входили в художест-
венное сознание.
Апология природного начала, «низа», земли приводит
к акцентированию животного начала в человеке. Мифоло-
гема первозданности латиноамериканского мира и стрем-
ление писателей обрести точку опоры в эпохе первотворе-
ния диктуют пристальный интерес к первобытным ин-
стинктам. Мотив гибридности латиноамериканского мира,
в частности, проявляется в гибридном образе зверочелове-
ка. Наконец, антиинтеллектуализм, составляющий самую
основу образа человека-зверя, соотносится с иррациональ-
ными способами познания латиноамериканского мира, в
особенности с мотивом обоняния (см. гл. III, р. I, 2).
Немалую роль в формировании позитивного комплекса
анималистичности сыграло и отчетливо выраженное тяго-
220
тение многих крупных латиноамериканских писателей к
отражению языческих верований и дохристианских мифо-
логических мотивов. Вера в тотемы, священных живот-
ных, в метемпсихоз (возможность воплощения человечес-
ких душ в животных), в существование людей-ягуаров и
людей-рептилий, в двойников человека в животном мире
(науатлей) и т.п.— эти черты свойственны религиям прак-
тически всех индейских племен. В восприятии индейцев
зверь равен человеку по интеллектуальному и моральному
уровню, отличаясь от него только телесной формой, силой
и повадкой, а грань между человеческим и животным ми-
ром столь часто и легко преодолима, что существование ее
представляется эфемерным.
Эти верования нередко находят прямое воплощение в
произведениях латиноамериканских писателей — напри-
мер, в «Маисовых людях» Астуриаса характерный для ре-
лигии майа науализм отражен в сюжете превращения
Ничо Акино в койота. Однако и в этом случае, как пред-
ставляется, связь человека со зверем трактуется гораздо
шире, нежели в конкретном индейском веровании, о чем
свидетельствует следующий фрагмент романа: «Те, кто
спускается в подземные пещеры, там, за стеною гор, за
ядовитым туманом встретят своего оберега. Их другое я,
их зверь-двойник явится им во плоти такой самый, каким
они его носят в темной и мокрой глубине тел. По воле пра-
отцев зверь и человек живут в нас с самого рождения и
связаны теснее, чем сын с отцом и брат с братом» (224). И
далее: «И себя увидишь, какой ты есть, и тот свой первооб-
раз, который скрывается в тебе и выскакивает в звериное
тело, становится зверем, оставаясь тобой» (225). Зверь,
живущий в человеке, трактуется как человеческий перво-
образ, то есть связывается с эпохой первоначала, и не слу-
чайно, что эта глубинная основа героя обретается в под-
земном сакральном пространстве пещеры.
Сюжет превращения человека в зверя достаточно часто
встречается в латиноамериканской литературе и вне вся-
кой связи с верованиями индейцев. Самый яркий пример
подобного типа — сборник рассказов «Человек, похожий
на коня» известного гватемальского модерниста Р. Арева-
ло Мартинеса. Герои всех рассказов — странные гибриды
221
людей с животными: человек-конь, человек-пес, женщи-
на-львица, человек-тигр и т.п. Животные черты проявля-
ются как в облике, так и в самоощущении и повадках геро-
ев, но в этих бестиальных манифестациях автор не видит
ничего смешного или низменного — он видит только есте-
ственность. Именно «примитивность и простота» позволя-
ют «заметить в людях животные формы»; сами же эти
формы скрывают в себе некую тайну8.
Анималистичность героя латиноамериканской литера-
туры часто проявляется как своего рода «озарения» или
«развоплощения», вызванные либо пребыванием героя в
сакральных природных локусах, либо экстремальными си-
туациями. В сельве обостряется нюх человека, изменяется
его поведение: герой «Весны Священной» Карпентьера во
время боя «чудесньщ образом» обретает вновь «первобыт-
ные инстинкты», герой рассказа Услара-Пьетри «Дождь»,
потеряв приемного сына, преображается: «Он не узнавал
себя: нет больше смиренного старика, есть зверь, послуш-
ный зову природы, зверь, потерявший детеныша» (IV, 93).
Бестиальная образность также постоянно сопровождает и
сцены соития, поскольку в эти моменты происходит при-
общение героя к первоосновам своего мира. Важно под-
черкнуть, что проявления животного начала заключаются
отнюдь не в экстраординарных поступках и вообще не в
поведении героя, а в самоощущении. Для латиноамери-
канского писателя животность сродни подлинности и под-
разумевает полное слияние человека со своим миром.
Особую значимость в латиноамериканской литературе
приобрел античный мифообраз кентавра. Возможно, пер-
воначальным стимулом для кодификации этого образа по-
служило мифическое восприятие индейцами всадника и
коня как единого существа. Но чаще всего мифообраз кен-
тавра применяется по отношению к скотоводам-кочевни-
кам — ла-платским гаучо и венесуэльским льянеро. Сле-
дует подчеркнуть, что в обширном корпусе фольклора
гаучо и льянеро мифообраз кентавра не встречается.
Специфическая латиноамериканская семантика мифооб-
раза кентавра была разработана еще в литературе романтиз-
ма, в частности, в серии исторических романов крупного
уругвайского писателя Асеведо Диаса. В лучшем романе
222
трилогии «Исмаэль» образ кентавра признан уловить и оха-
рактеризовать сущность молодой формирующей нации. Он
впервые всплывает при характеристике борца за независи-
мость Артигаса («Он из породы кентавров»); потом появля-
ется при описании главного героя («... отважный отпрыск
испанских конкистадоров, представитель первого поколе-
ния людей смешанной расы.., суровый замкнутый, гордый,
похожий на кентавра юноша»)3, а затем этот образ постоян-
но встречается, когда речь заходит о гаучо. Мифообраз кен-
тавра заключает в себе далеко не только внешнее уподобле-
ние всаднику и отражение кочевой жизни гаучо — он рас-
крывает сущность новой нации. Смесь принципиально раз-
ных существ, кентавр символизирует расовое смешение и
выражает мотив гибридности латиноамериканского мира, а
также соединяет в себе ипостаси и зверя,— и в этой связи
характерно постоянное присутствие анималистических об-
разов при описании гаучо.
Мифообраз кентавра охотно использовали и последую-
щие писатели различных направлений, всегда применяя его
по отношению к герою, полностью интегрированному в ла-
тиноамериканский мир. Это очень существенно для выявле-
ния еще одного смыслового уровня мифообраза. Кентавр ни-
когда не мыслился «чудовищем», «уродом»; в греческой
мифологии он воспринимался как существо сильное, краси-
вое, мужественное, даже мудрое (кентавры были воспитате-
лями Ясона, Ахилла), хотя и отличавшееся буйным нравом
и невоздержанностью. Как представляется, в латиноамери-
канской интерпретации кентавр воплощает гармоничное со-
единение двух начал: индейского, варварского, звериного,
природного (конь) и европейского, цивилизованного (чело-
век). Иначе говоря, в художественном мышлении латиноа-
мериканских писателей кентавр выступает как символ гар-
монизации человека и среды, автохтонной и европейской
культуры,— то есть как символ латиноамериканца вообще.
Образ дикаря всегда составлял са-
5. Дикарь, варвар мый центр художественной и куль-
турфилософской мысли Латинской
Америки и отразил весь спектр разнообразных концепций
и эстетических подходов к проблеме варварства — как ла-
223
тиноамериканских, так и европейских. Дикарь изначаль-
но, с эпохи открытия континента, воспринимался и в Ста-
ром и в Новом Свете первостепенным отличительным объ-
ектом Америки, поэтому образ дикаря стал для латиноаме-
риканцев своего рода мерилом самих себя или набором
кривых зеркал, в которых виделись не похожие друг на
друга отражения.
Разумеется, никакого единого и цельного образа дика-
ря в латиноамериканской литературе не существует. Есть
сумма подчас противоположных подходов, каждый из ко-
торых создает свой тип героя, свою модель. Главное, в чем
эти модели сходятся, так это в том, что все они так или
иначе претендуют быть проекциями духовного облика ла-
тиноамериканца и создают надындивидуальные обобщен-
но-символические образы. Не вдаваясь в детали, обозна-
чим основные типы героя-дикаря.
Начать следует с более широкой категории — с образа
варвара, занимающего важное место в латиноамерикан-
ской литературе. Сармьенто первым спроецировал этот ев-
ропейский образ на латиноамериканскую действитель-
ность и придал ему символическую значимость; а вслед за
аргентинским мыслителем другие писатели позитивист-
ской ориентации охотно использовали этот образ, трактуя
его в рамках дихотомии «варварство-цивилизация». Вар-
вара могут представлять индейцы, негры, белые, мети-
сы — и все эти герои похожи в своих отталкивающих чер-
тах (невежество, жестокость, суеверность, раболепие, не-
обузданность и т.п.), но главное, они сходны в том, что
противостоят идее цивилизации, прогресса,— то есть, по
сути дела, европейской культуре, насаждаемой (пусть из
благих побуждений) в Америке. Как бы негативно ни трак-
товались эти герои, они слиты со средой и олицетворяют
латиноамериканский мир, в то время как давление на них
цивилизаторской идеи происходит «извне» — из города,
из Европы. Очевидно, именно в силу этого обстоятельства,
герои, олицетворяющие мир варварства, вопреки намере-
ниям их создателей, вышли куда более подлинными, до-
стоверными и художественно убедительными, нежели их
антагонисты, резонеры типа Сантоса Лусаро («Донья Бар-
бара» Гальегоса) или Карлоса («Пеония» В. Ромеро Гар-
224
сии). Произведения писателей позитивистской ориентации
в этом смысле внутренне парадоксальны: идеологически
отвергая мир варварства и ратуя за его искоренение, они
вместе с тем утверждают его в художественном созна-
нии — утверждают как самобытное и специфичное латино-
американское явление. Достаточно переставить идеологи-
ческие акценты, чтобы мир варварства предстал как само-
ценный и даже идеальный объект.
Принципиально важный шаг в этом направлении совер-
шают испаноамериканские модернисты. Они стремятся опе-
рировать универсальными категориями, но их увлечение
языческими образами внутренне ориентировано на утверж-
дение «своего» культурного мира. Характерным в этом от-
ношении представляется творчество крупнейшего модер-
ниста, боливийца Р. Хаймеса Фрейре. Его известный поэти-
ческий сборник «Варварская Касталия» представляет собой
художественный парафраз « Варварских стихотворений »
Ш. Леконта де Лиля. Сопоставление двух книг позволяет
утверждать, что Хаймес Фрейре создает особый поэтичес-
кий мир, основанный на поиске и выявлении архетипа.
Концентрацией архетипического начала в сборнике стано-
вится образ Варвара. Этот мифообраз живет в особом внеэ-
тическом пространстве, где нет места «цивилизованным»
категориям добра, зла, правоты, жестокости, гуманности,
где нет и тени сострадания ни к условному «врагу», ни к
столь же условному «герою». Наряду с этим, образ Варвара
существует вне каких-либо пространственно-временных ко-
ординат (в лирике Леконта де Лиля он соотносится с герма-
но-скандинавской мифологией). Архетипический герой
Хаймеса Фрейре олицетворяет эпоху первоначала, в кото-
рой «пребывает» латиноамериканский мир. К тому же сле-
дует учитывать, что образ Варвара боливийский поэт созда-
вал в том культурном контексте, где проблема соотношения
варварства и цивилизации стояла очень остро, поэтому ми-
фообраз Варвара вольно или невольно проецировался на ла-
тиноамериканскую действительность.
Со времен конкисты и европейской полемики об индей-
цах Нового Света в латиноамериканском художественном
сознании глубоко укоренилась примитивистская модель
«доброго» дикаря. Особое развитие она получила в романти-
225
ческой литературе, но сохранилась — как в виде целостного
образа, так и в виде отдельных мотивов — ив литературе
XX в. Внутренне связанная с мифологемами Золотого Века,
Аркадии, земного рая, эта модель основана на противопо-
ставлении «естественного» человека — «развращающему»
влиянию цивилизации (эта концепция ясно выражена в
XXXI главе «О каннибалах» «Опытов» Монтеня). В латино-
американском культурном контексте изначальная внутрен-
няя полемичность образа «доброго дикаря» проецируется на
межкультурные отношения Америки и Европы: американ-
ский целомудренный дикарь, живущий в идиллической об-
становке Золотого Века и олицетворяющий первородную
культурную самобытность, подвергается нашествию «чужа-
ков», безжалостных носителей цивилизации.
В латиноамериканской литературе XX в. модель «доброго
дикаря», равно как и обозначенная коллизия, ярче всего
воплотились в романе С. Вальехо «Вольфрам». Писатель
изображает индейцев племени сора в примитивистской
традиции: «они не знают, что такое право собственности»,
«не понимали, что такое выгода», «они, казалось, жили
так, словно вели откровенную и благородную игру» и от-
личались «трудно вообразимым простодушием, как
дети...» (16—20). Индейцы отдают все, что у них ни попро-
сят, и очень быстро лишаются своих земель и лачуг.
Особое распространение в латиноамериканской литера-
туре получило сравнение дикаря с ребенком. Примити-
вистский тезис о превосходстве ребенка над взрослым по-
явился еще в европейской литературе раннего средневеко-
вья и, бесконечно варьируясь, дожил до наших дней. Ребе-
нок как носитель естественной первородной мудрости вы-
ступает олицетворением принципа docta ignorantia; невин-
ность, целомудренность позволяют представить его образ-
цом добродетели и нравственности (в средневековой лите-
ратуре истинный христианин уподобляется ребенку, а ре-
бенок — Адаму до грехопадения). Естественность ребенка
прочно ассоциирована с дикостью, выступающей в качест-
ве позитивной характеристики.
В латиноамериканской литературе этот заимствован-
ный европейский мотив обрастает дополнительными смы-
словыми нюансами. Во-первых, образ дикаря-ребенка свя-
226
зывается с мотивом тайны и тем самым — с загадкой куль-
турной сущности латиноамериканца. Кажущаяся простота
ребенка на самом деле непостижимо сложна, ибо таит в
себе мудрость. Так, например, Гальегос, постоянно срав-
нивая своих героев-негров с детьми, восклицает: «О душа
негра, такая простая и такая загадочная!» (IV, 210). Во-
вторых, принцип docta ignorantia, заложенный в образе
ребенка-дикаря, соотносится с теми специфическими ин-
туитивными способами познания латиноамериканского
мира, о которых шла речь в первом разделе настоящей
главы. Загадочная мудрость дикаря в конечном счете про-
истекает из его близости к природе, из его знания «языка»
природы, из его умения слушать тишину, «обонять» сущ-
ности, причащаться к тайным сакральных локусов. Нако-
нец, образ ребенка-дикаря в латиноамериканском художе-
ственном мышлении ассоциируется с мотивами первонача-
ла времен. Ребенок-дикарь вполне соответствует своему
«младенческому» миру, обладающему чудесной способнос-
тью «омолаживать» любого героя, даже старца,— как, на-
пример, героев Гарсиа Маркеса, глубоких стариков, испы-
тывающих все радости медового месяца, или А. Бирса,
героя Фуэнтеса: «Но старый гринго мягко отстранил ее от
себя, сказав, что все знает, что сам, едва въехав в Мекси-
ку, почувствовал, как проснулось былое мироощущение и
что он уже не помнит, когда мог так видеть, и слышать, и
испытывать такое удовольствие, и вдыхать такие запахи,
как в этих горах и долинах, словно снова стал юнцом,
нет, даже не юнцом, усмехнулся он, а почти младен-
цем...» (V, 210).
Образ дикаря-ребенка тесно связан с европейским при-
митивистским мотивом: дикарь — «дитя природы». Разви-
вая этот мотив, латиноамериканские писатели создают
весьма специфичную модель образа дикаря, основанную
на полном отождествлении человека с природой. Такая мо-
дель, уничтожающая всякую дистанцию между человеком
и средой, выражает стремление к гармоническому слия-
нию человека со своим миром. В «Маладроне» Астуриаса
испанцы воспринимают дикарей как некие растительные
создания, неотличимые от сельвы: «эти зеленые существа,
существа-деревья, существа-ветви, существа-листья с гла-
227
зами» (204). «Люди-листья, люди-цветы, люди-плоды...
вьющиеся как лианы и говорящие на языке воды. (...)
Кожа, волосы, прикосновения их рук — все было расти-
тельным у этих растений с движениями, глазами, ртом...»
(81). Полную тождественность коренного американца со
своей природой постоянно отмечает Неруда: «Сосудами из
глины были эти / потомки минералов, люди / из воздуха и
валунов...» (III, 18). Одновременно подобного рода уподоб-
ления создают образ цельного и текучего мира, в котором
все формы взаимозаменимы и способны переливаться друг
в друга, в котором нет зазора между материей живой и не-
живой, ибо вся она — живая.
Огромное воздействие на латиноамериканское художест-
венное сознание оказали те принципиально новые представ-
ления о «дикаре», какие сложились в XX в. в европейской
науке и в искусстве (главным образом, авангардистском).
Если во всей предшествующей антропологии и в художест-
венной литературе сознание «примитивного» человека рас-
сматривалось в системе европейских критериев как некий
сниженный вариант европейского сознания, то этнография
и антропология XX в. начали изучать «примитивное» со-
знание как инаковое сознание, цельное и самоценное в
своей особости. Соответственно, примитивистские трактов-
ки образа дикаря в литературе претерпевают глубокие изме-
нения. Если раньше писатели на первый план выдвигали
аморфную «естественность», то теперь в центр внимания
ставятся такие особенности, как архетипичность мышления
и ритуализм поведения. В лоне европейского авангардизма
формируется модель «иррационального» дикаря — сущест-
ва, отличного от европейца по всем параметрам своего со-
знания. Под влиянием европейской культуры этот новый
образ, значительно переосмысленный, утвердился и в лати-
ноамериканской литературе, особенно в русле негризма и
так называемого «магического реализма». История и кон-
ституирующие особенности этих направлений достаточно
подробно описаны в отечественной науке10, поэтому мы ос-
тановимся лишь на некоторых существенных моментах от-
ражения «примитивного» сознания.
Образ дикаря, рожденный в Европе, был изначально по-
лемичен по отношению к западной цивилизации, посколь-
228
ку отчасти выражал поразивший ее духовный кризис; и в
этом отношении он соответствовал той полемической анти-
европейской направленности, которая, как было показано,
присутствует во многих мотивах и мифологемах латиноа-
мериканской литературы. Идея цивилизационной особос-
ти дикаря в латиноамериканском художественном созна-
нии была спроецирована на свою культуру в противопо-
ставлении западной, и тем самым вошла в русло оппози-
ции «свое» — «чужое». «Примитивный» человек предста-
ет владельцем особой культуры,— что навсегда избавляет
его от буквально понятой примитивности.
Акцентируя принципиальную особость мышления ин-
дейца или негра, художники по необходимости вынужде-
ны так или иначе исследовать структуру сознания своих
героев. Однако, в отличие от классиков психологического
реализма, Астуриаса, Карпентьера, Скорсу и др. не инте-
ресует личностное сознание индейца или негра во всей
полноте его проявлений; они выделяют ту его сферу, кото-
рая связана с дорациональным мифологическим, архаи-
ческим мышлением. Поскольку такое мышление создано и
реализует себя в сфере коллективного сознания, их герой
неизбежно предстает как множественность. Действитель-
но, герои негристской поэзии или романов магического ре-
ализма, при всех их различиях, не индивидуализированы,
их личностное начало притушено, их судьбы определяют-
ся давлением внеличностных обстоятельств, в том числе дав-
лением мифа. Герой-коллектив становится знаком культур-
ной общности, к которой причисляет себя сам художник.
На это указывает еще одна характерная черта произве-
дений негризма и «магического реализма» — стремление
писателя полностью отождествлять себя со своим героем.
Поэты-негристы (из которых не более четверти были пред-
ставителями цветного населения), чаще всего писали сти-
хотворения от лица героя-негра, а главное, поддерживали
это «ряжение» совокупностью тонких стилистических
приемов. В произведениях «магического реализма» писа-
тель систематически замещает свой взгляд цивилизован-
ного человека на взгляд «примитивного» человека, высве-
чивая действительность через призму мифологического со-
знания, и в результате такого преломления действитель-
229
ность насыщается фантастикой и деформируется. Слива-
ясь со своими персонажами, художник становится вырази-
телем их инаковой, не европейской системы мышления и
находит «свое» в противопоставлении «чужому».
Латиноамериканцы с готовностью восприняли и такие
характерные черты нового европейского образа дикаря,
как архетипичность мышления, ритуализм поведения,
принципиальный иррационализм. Но все эти черты под-
вергались значительной и целенаправленной идеологичес-
кой перекодировке. «Абстрактный», «космополитичес-
кий» дикарь европейского авангардизма в Латинской Аме-
рике обретает конкретные этнические, узнаваемые черты.
Архетипичность его мышления, не теряя своей абстраги-
рующей силы, приводится в соответствие с индейскими
или афроамериканскими мифологиями и сообразуется с
установкой на воссоздание художественного образа перво-
зданного мира и первоначала времен. Ритуализм поведе-
ния также реализуется в связи с реально бытующими по-
верьями и ритуалами. Иррационализм трактуется как
одно из воплощений тайны латиноамериканской сущности
и соотносится с интуитивными способами познания лати-
ноамериканского мира.
Следует различать три различных
6. Этнотип уровня: реальный носитель фольк-
лорной культуры; идеальный герой,
создаваемый в лоне фольклорной культуры; и воссоздание
этого героя в литературе — иначе говоря, идеальный
сверхобраз представителя нации. За неимением другого
термина, определим этот литературный образ условным
понятием «этнотип».
В латиноамериканской литературе — особенно XIX и
первой половины XX в.— выделяется обширная группа ге-
роев, которые по замыслу их создателей призваны явить
собирательный образ своей нации во всем ее своеобразии.
Как ни парадоксально, эти персонажи имеют между собою
больше сходств, нежели различий. Впрочем, их однотип-
ность была вполне закономерной, поскольку эти обобщен-
но-символические герои, носители коллективного внелич-
230
ностного начала, выполняли одну функцию и воссоздава-
лись сходными художественными средствами.
Появление и утверждение в литературе героев этого типа
обусловлено спецификой национально-этнических процес-
сов на континенте, которые происходили в Новое Время и в
неразрывной связи с процессами этническими и расовыми.
Образование наций во многих странах Латинской Америки
осложнялось наличием диких неосвоенных областей с мар-
гинальными слоями индейского населения, неразвитой сис-
темой коммуникаций и быстро возраставшей иммиграцией.
В силу этих и других факторов в Новом Свете процессы на-
ционального формирования не были завершены и к XX в.
Что же касается национальных культур, то в этой области
ситуация латиноамериканских стран доныне принципиаль-
но отличается от европейской, поскольку нации Латинской
Америки были изначально лишены двух важнейших основ,
потребных для строительства национальных культур: у них
не имелось своего языка и своего древнего фольклорного
фонда на общеупотребительном языке. К тому же в своем
культурном развитии они проходили одинаковые этапы, ис-
пытывали одинаковые влияния, двигались в русле обще-
континентальных течений.
Вот почему для молодых государств проблема нацио-
нальной культурной самиоидентификации стояла чрезвы-
чайно остро. Недостаток национальной специфики обычно
порождает избыток национализма в общественном созна-
нии и создает определенные ориентиры и приоритеты в
самой сфере культуры. Латиноамериканская литература
взяла на себя главную роль в выявлении и утверждении
национальной самобытности. Повсеместное распростране-
ние в литературах Нового Света костумбризма и романтиз-
ма с их пристрастием к местному колориту, с их пафосом
исследования «души народа» диктовалось не столько под-
ражанием европейским течениям, сколько самородными
стимулами национальной самоидентификации.
Поиск в литературе национальной специфики велся
одновременно в трех основных направлениях: выявление
«своей» среды, утверждение «своей» культуры и воссозда-
ние модельного облика представителя нации, соответству-
ющего «своей» среде и «своей» культуре. Национально
231
специфичной средой, как правило, воспринималась среда
природная, что в целом соответствовало общей парадигме
латиноамериканского художественного мышления. Осно-
ву «своей» культуры латиноамериканские народы, как и
все прочие, видят в национальном фольклоре. Причем,
рассматривая народное творчество той или иной страны
как квиноссенцию национальной культуры, писателям при-
ходилось игнорировать тот факт, что креольский фольк-
лор развился из испанского и включает в себя пласт сохра-
нившихся испанских форм, что в процессе своего форми-
рования он вобрал множество заимствований из европей-
ского народного и профессионального искусства, наконец,
что в истории, системе жанров, тематике и поэтике кре-
ольского фольклора испаноамериканских стран континен-
та обнаруживается больше общего, чем национально спе-
цифичного11.
^ В соответствии с заданными параметрами, «образцо-
вым» представителем нации мыслится носитель фольклор-
ной культуры, укорененный в своей среде. Такие понятия
как «аргентинец», «житель Венесуэлы» и тому подобные в
данной системе категорий не работают. Только некоторая
часть аргентинцев и жителей Венесуэлы концентрирует в
себе «подлинный национальный дух», остальные же по от-
ношению к этому «ядру нации» выступают в роли «чужа-
ков». В представлении романтиков, костумбристов, нати-
вистов, да, впрочем, и некоторых современных писателей
(например, Фуэнтеса) образ нации как бы дублирует образ
латиноамериканского пространства: у нее есть свой «сак-
ральный центр» (ядро нации, или этнотип), куда невоз-
можно проникнуть непосвященным, есть труднопреодоли-
мая граница и чужеродное окружение.
На роль этнотипа почти везде выдвигается сельский
житель. Особая ситуация сложилась в промышленно раз-
витом Чили, где литература городской тематики предше-
ствовала литературе сельской тематики и первоначально
национальная специфика ассоциировалась с образом т.н.
«рото» — неунывающего бродяги, люмпена. Впоследст-
вии, с развитием чилийского креолизма, сформировался
параллельный сельский образ этнотипа — уасо. «Город-
ской вариант» этнотипа в начале XX в. возник и в Арген-
232
тине — предместный аналог гаучо, герой танговой поэзии,
компадре (букв, «куманек»).
Выразитель «духа нации» всегда происходит из низов,
однако он ни в коей мере не является представителем оп-
ределенной социальной прослойки, ибо далеко не всякий
селянин либо люмпен способен соответствовать националь-
ному сверхобразу. Вовсе не социальные, и даже не этни-
ческие параметры, а иные, подчас мистические характе-
ристики позволяют выделить этнотип и дать ему этноним
(аргентинско-уругвайский гаучо, венесуэльский льянеро,
пуэрториканский хибаро, кубинский гуахиро и т.д.). По-
пытаемся выделить важнейшие из этих характеристик.
Первостепенное значение для выделения этнотипа
,имеют параметры генеалогические или генетические. Про-
исхождение этого коллективного героя из низов само по
себе имеет символическую значимость и соответствует ла-
тиноамериканской художественной интерпретации дихо-
томии «верх-низ». Этот герой всегда теллуричен, неоттор-
жим от земли и от корневого сакрального пространства.
Главная же генетическая характеристика этнотипа состо-
ит в том, что он прямо или опосредованно, пусть даже
через многие поколения предков, роднится с индейской
расой. Не будем говорить о метисных народах типа мек-
сиканского или боливийского; но и аргентинско-уругвай-
ский гаучо тоже представляется потомком давно исчезнув-
ших индейцев чарруа и даже чилийский люмпен «рото» —
и тот оказывается причастным к индейской крови: «Ро-
то — это не потомок / европейских венценосцев: / это сын
арауканов, / это внук арауканов...» (X. Рафаэль Альен-
де)12. Такая генеалогия отражает общее стремление лати-
ноамериканских художников утвердить основу и самобыт-
ность своей культуры именно в индейском, а не в испан-
ском культурном субстрате. В высшей степени показатель-
ным в этом смысле стал кубинский сибонеизм — литера-
турное течение середины XIX в., которое апеллировало к
индейским корням национальной культуры, создавая об-
раз уничтоженных еще в XVI в. сибонеев — коренных жи-
телей острова. В XX в., не без «подсказки» европейского
авангардизма, кубинцы обнаружили для себя нового этно-
типического героя — негра.
233
Как указывалось, герой этого типа становится неоттор-
жимой частью природной среды, ее олицетворением. Дей-
ствительно, к гаучо, льянеро и прочим вполне приложимы
некоторые характеристики латиноамериканского мира —
такие, как инаковость, первозданность, хаотичность,
сверхнормативность, таинственность. Эти герои идеально
ориентируются в пространстве, знают его законы и пара-
метры, способны в нем «растворяться».
Однако — если речь не идет об индейце, носителе мифо-
логического сознания,— соответствие этнотипа своей куль-
туре, то есть креольскому фольклору той или иной страны,
в большей степени оказывается вымышленным или поверх-
ностным. Выражается оно обычно в том, что герой то и дело
берет в руки национальный музыкальный инструмент и
распевает народные песни; что же касается образа героя, ха-
рактера его мышления и моделей его поведения, то они под-
час весьма далеки от фольклорных прототипов. Да и сам эт-
ноним куда реже употребим в фольклоре, нежели в литера-
туре данной ориентации (достаточно сравнить народную
поэзию гаучо с гаучистской лирикой). Образ этнотипа — это
продукт литературного, а не фольклорного мышления.
На это указывают две имманентные характеристики аб-
солютно не свойственные фольклорному лирическому ге-
рою: его «посвященность» и его таинственность. Герой
причастен к сакральным локусам, имеет обостренную ин-
туицию, которая только и позволяет ориентироваться в
первозданном мире, знает «языки» животных, растений,
ночи, умеет «слушать» тишину. Мотив сакрального зна-
ния неразрывно связан с мотивом тайны. О гаучо Сегундо
Сомбра рассказчик говорит: «Удивительный он человек!
Сколько ни живи рядом с ним, до конце его не узнаешь.
Или ему тоже ведомы тайные силы?» (114). Таинствен-
ность героя адекватна тайне национальной сущности, ко-
торую пытается воссоздать и определить писатель.
Основополагающая характеристика образа этнотипа —
его надиндивидуальность, абсолютное доминирование в
нем коллективного, родового начала. Казалось бы, в этом
отношении он сходен с героем фольклора, однако, на са-
мом деле, и здесь наблюдаются существенные отличия.
Безличностность фольклорного героя обусловлена тем, что
234
произведения создаются коллективно, бытуют в коллекти-
ве и соответственно должны быть понятны и близки всем
членам общности — иначе они не войдут в фольклорный
фонд. Безличность героя-этнотипа — это, как правило, со-
знательная установка на воспроизведение типа либо созда-
ние символа, иногда выражаемая открытым текстом. Так,
при первой встрече с гаучо Сегундо Сомброй герой видит в
нем «скорее символ, нежели живое существо, нечто влеку-
щее и страшное, как бездонный омут» (Гуиральдес, 22).
Особая функция героя-этнотипа определяет его поведе-
ние, какое с полным правом можно назвать модельным.
Герой, лишенный личностного начала, как бы не властен в
своих решениях и поступках: в той или иной ситуации
(как правило, тоже модельной) он должен поступить имен-
но так и никак иначе — изменницу жену убить или вы-
гнать, отрезав у нее косу, любовника покарать смертью,
вызвать обидчика на поединок, не ведать страха и т.д. и
т.п. Жесткость этих поведенческих установок демонстри-
рует примечательная история с пьесой уругвайца В. Пере-
са Петита «Трус» (1894). Ее герой, гаучо Педро, которого
собственный отец и все окружающие считали трусом, в
первоначальном варианте пьесы кончал самоубийством.
Этот финал вызвал возмущение публики и критиков, пола-
гавших, что настоящий гаучо такого поступка совершить
не может: он либо убивает, либо гибнет; и под давлением
общественного мнения писатель был вынужден изменить
концовку — Педро гибнет в схватке с полицией, защищая
отца. Такая жесткая нормативность поведения и мироотно-
шения героя-этнотипа сочетается с поэтикой сверхнорма-
тивности в писательской трактовке образов. В воссоздании
облика персонажа наблюдается стойкая тенденция к ги-
гантизму; герой непременно выделяется на фоне прочих —
храбростью, сноровкой, умением петь, наконец, своей осо-
бой «посвященностью» и таинственностью.
В латиноамериканской литературе наблюдается еще
два очень значимых и распространенных типа героя —
мачо («настоящий мужчина», «самец») и диктатор. Но
будет целесообразнее рассмотреть их в третьем разделе
главы в связи с темой насилия, выразителями и исполни-
телями которого они являются.
235
Отметим прежде всего, что ука-
7. Ипостаси героини занные типы героев — за исклю-
чением упомянутых мачо и дик-
татора — могут в равной мере относиться и к героине лати-
ноамериканской литературы. Женщина способна высту-
пать в роли «чужака»; в качестве новоявленной Евы она
составит пару Адаму в Эдемском саду латиноамериканско-
го мира; ее животное начало выражено еще сильнее, чем у
мужчины; дикарка представлена в тех же моделях, что и
дикарь (отметим попутно, что определение «дикая» чрез-
вычайно часто применяется не только к индеанке, но и к
креолке-селянке); наконец, женщина может быть вырази-
тельницей архетипов национального сознания. Нет смыс-
ла анализировать все эти роли, особенно если они не дают
принципиально новых значений; поэтому мы уделим вни-
мание лишь наиболее распространенным и специфичным
воплощениям героини.
Главным и наиболее типичным воплощением героини в
латиноамериканской литературе являются те реалии при-
родного мира, с которыми она метафорически связана.
Действительно, бесчисленное множество примеров свиде-
тельствует, что «подлинная» женщина Америки восприни-
мается как олицетворение латиноамериканского «женско-
го» мира (см. гл. I, р. I, А, 5). Земля источает запахи жен-
ского тела, лицо женщины луною светит в ночи, голос ее
слышится в рокоте воды и т.д.; и в то же время ее тело вби-
рает в себя и дыхание ночи, и струение вод, и благоговей-
ную тишину подземных пространств. Во второй главе было
явлено множество примеров взаимослияний женщины с
водою, землею, пещерой, сельвой, ночью, луной. Вопло-
щая природные реалии латиноамериканского мира и рас-
творяясь в них, героиня полностью лишается личностного
начала, какого, впрочем, в данном случае не требуется ни
ей самой, ни герою. Ее функция состоит в том, чтобы
явить герою его «подлинный» мир и приобщить к нему. Ей
же, разумеется, приобщаться к своему миру не надо, по-
скольку она уже несет его в себе, одновременно присутст-
вуя во всех его проявлениях. Показательно, что «гринга»,
«чужачка», сколь бы хороша она ни была, как правило, не
сравнивается с природными реалиями, и уж тем более не
236
растворяется в них. Эта связь свойственна только «под-
линной» латиноамериканке — индеанке, негритянке, му-
латке, креолке.
Тип героини, олицетворяющей природный мир, вопло-
тился в мифообразе «Дева Америки», глубоко укоренен-
ном в латиноамериканском художественном сознании.
Этот мифообраз, особенно часто употребимый в литературе
романтизма и модернизма, сочетает в себе ряд смысловых
уровней. Дева Америки предстает как символ континента,
олицетворение его женской ипостаси и культуропорож-
дающей силы; в то же время этот образ прочно связан с мо-
тивом девственности американского мира и с автохтонной
культурой. Все эти значения очень ясно читаются в симво-
лической сцене из романа известного эквадорского модер-
ниста Г. Сальдумбиде «Трагическая эклога» (1916). Герой,
европеец, вернувшийся на родину, встречает в поле инде-
анку Мариучу. «Обнаженная, украшенная драгоценностя-
ми, она походила на индейского идола. Это была Дева Аме-
рики!» И далее: «При взгляде на нее во мне как будто бы
проснулся испанский предок. Эта сцена, несомненно, на-
поминала встречи белого воителя с женщиной индейской
расы на краю неведомой сельвы во время героической кон-
кисты»13. И подчиняясь зову прошлого, герой насилует
индеанку — тем самым совершая ритуальное действие и
воспроизводя эпоху первоначала латиноамериканской
культуры. Мифообраз Девы Америки такнсе вбирает в себя
пласт религиозных ассоциаций, будучи внутренне связан
с американскими культами Девы Гвадалупской, Девы Ко-
пакабанской и др. Само зарождение этих культов свиде-
тельствовало о внутреннем стремлении креолов «освя-
тить» свою землю и утвердить свои святыни в противовес
испанским. Дева Америки становится собирательным об-
разом всех этих американских святых; ей, Богородице,
предстает произвести на свет американского мессию (см.
гл. II, р. I, 1).
Из типовых воплощений героини не менее распростра-
ненным является образ самки. О нем следует сказать
особо, ибо он не просто дублирует образ мужчины-зверя,
но обладает дополнительными смысловыми нюансами.
Выше говорилось о мотиве пронзительного женского за-
паха, который сам по себе выявляет животное естество ге-
237
роини (см. наст, гл., р. I, 2, б). Очень часто писатель от-
крыто указывает на звериную сущность этого запаха:
«... от нее исходил густой запах дикого животного...»
(Гарсиа Маркес, «За любовью неизбежность смерти», 363);
от Росарио исходит «сладостный запах... чуть напоминав-
ший запах животного» (Карпентьер, III, 181); Летисиа На-
зарено «оставила по себе темный тревожащий запах лесно-
го зверя» (Гарсиа Маркес, VII, 170) и т.п. Кроме того,
нельзя не заметить, насколько часто в латиноамерикан-
ской литературе героиня характеризуется как самка. Ре-
хина Фуэнтеса — «сладостная самка и чистая удивитель-
ная волшебница» (III, 204); София Карпентьера — «по-
слушная зову своей утробы самка» (IV, 350) и т.д. В евро-
пейской культуре с ее устремленностью к «верху», к ду-
ховности подобного рода характеристика обычно имеет
крайне уничижительный смысл. В латиноамериканской
литературе она полнится позитивным значением: самкой
могут назвать только героиню, укорененную в своем мире,
чья животность сродни подлинности. Женщина-самка в
латиноамериканской литературе не имеет никакого отно-
шения к бездуховности — она является символом иной,
неевропейской духовности, она обладает эзотерическим
знанием, основанном на интуиции, она сопричастна тайне
латиноамериканской сущности и является главным дейст-
вующим лицом рождающегося и порождающего мира.
Образ самки в определенной степени первичен по отно-
шению к образу мужчины-зверя. Это она, самка, своим
«пронзительным», «темным» и «тревожным» запахом про-
буждает в мужчине самца, это она причащает его к природ-
ному бытию и к сущности латиноамериканского «женско-
го» мира, это она возвращает мужчину в эпоху первоначала
в архетипическом акте совокупления.
В заключение упомянем еще об одной ипостаси героини
латиноамериканской литературы. Речь идет об античном
мифообразе амазонки, который еще в эпоху конкисты уко-
ренился в латиноамериканском художественном сознании.
Увлекательнейшая история поисков амазонок на конти-
ненте неоднократно излагалась в российской историогра-
фии14, так что нет надобности ее воспроизводить. Отметим
лишь, что миф об американских амазонках был не менее
значим в сознании конкистадоров, чем миф об Эльдорадо.
238
Очевидно, именно актуализация этого мифа вкупе с пред-
ставлениями о дикости континента породили в пластичес-
ких искусствах Европы стойкую тенденцию аллегорически
изображать Америку в образе амазонки.
Механизмы усвоения в латиноамериканской литерату-
ре заимствованных античных мифообразов кентавра и
амазонки были сходными и включали в себя следующие
ключевые моменты: актуализация (перенос из античности
в современность), модернизация (отбор нескольких кон-
ституирующих черт образа), спецификации (метафоричес-
кое уподобление латиноамериканскому персонажу), вто-
ричная мифологизация (внедрение образа в мифологичес-
кую инфраструктуру и его взаимодействие с ее элемента-
ми, сопровождаемое появлением нового пучка значений).
В процессе «модернизации» античного мифообраза ама-
зонки латиноамериканские писатели отбирают и закреп-
ляют такие его черты, как воинственность, дикость, муж-
ской стереотип поведения, отсутствие материнского ин-
стинкта; при этом отбрасывают все связанное с матриар-
хальными формами общественной организации (трудно-
представимыми в мачистском социуме). На основе отобран-
ных черт создается специфический тип героини, весьма да-
лекой как от своего античного прообраза, так и от европей-
ских героинь-воительниц, которые, несмотря на жестокую
мужскую обстановку, царящую вокруг, обычно в полной
мере сохраняют свое женское естество. Латиноамерикан-
ская «амазонка» отрицает в себе женское начало и мыслит
себя полным аналогом «настоящего мужчины», мачо.
Этот тип героини ярко воплотился в исторических ро-
манах и рассказах Э. Асеведо Диаса. В упоминавшемся ро-
мане «Исмаэль» действует женщина-воительница Синфо-
роса, которая сражается наравне с мужчинами в повстан-
ческом отряде. Автор говорит о ней: «В бою эта гневная
амазонка без пощады разила врагов саблей и пикой».
После родов она пристроила ребенка на воспитание, а сама
помчалась догонять отряд — и погибла, закрыв своего
«дружка» от пули. Она полность дублирует гаучо-кентав-
ра, в том числе и в сочетании звериного и человеческого
начал, и эта амбивалентность получает закрепление в
емкой формуле «женщина-пума»15. В романе «Клич сла-
вы» (1893) образ амазонки воплощает Хасинта Лунареха,
239
«женщина-тигрица» по определению автора16; в рассказе
«Бой в развалинах» — воительница Ката: «Суровая, мол-
чаливая и проворная, она отличалась необыкновенной
силой»17. Заданная модель отчетливо проявляется и в не-
которых произведениях латиноамериканской литературы
XX в. Главная героиня романа Гальегоса «Донья Барбара»
полностью соответствует мифообразу амазонки, ибо, наря-
ду с дикостью, агрессивностью, мужским стереотипом по-
ведения, она «наследует» от античных воительниц муже-
ненавистничество (чего совсем нет в героинях Асеведо
Диаса) и властность. Дочь же свою она отдает на воспита-
ние отцу — как поступали (правда, только с мальчиками)
античные амазонки. В романе Гальегоса «Бедный негр»
тот же тип героини представляет мужеподобная женщина-
воительница по прозвищу «Краснуха». Такой же образ
встречается в романе М. Скорсы: «Росла она, как мужчи-
на — пила, скакала верхом, носила штаны, стреляла, не
замечая своей ослепительной красоты. Таинственная при-
хоть наследственности одарила ее зелеными глазами, кото-
рых у Альборносов не бывало...» (II, 215).
Как и в случае с кентавром, обозначенная или ясно под-
разумеваемая связь этих героинь с мифообразом амазонки
указывает на их архетипический характер и тем самым
опосредованно создает ауру первоначала времен. Но при
этом в латиноамериканском литературном контексте образ
амазонки продуцирует новые значения, выявляя специфи-
ку латиноамериканского бытия, и соотносится с другими
важными темами (варварство — цивилизация, насилие) и
с другими образами (зверь, дикарь, варвар, мачо).
III. БЫТИЕ
Образ дома всегда в той или иной степени от-
1. Дом ражает отношение человека с окружающим
пространством (равно как и сама архитекту-
ра жилища). В латиноамериканском художественном со-
знании образ дома приобретает особую значимость в силу
как «избытка» пространства, так и сложности «взаимоот-
ношений» жителей континента со средой.
240
Дом по сути своей есть антипод бескрайнего, хаотично-
го, алогичного пространства. Во времена конкисты воздви-
жение дома (форта, селения, города) знаменовало победу
над тем или иным сегментом девственного пространства, а
набеги «варварства», в каких бы ипостасях оно ни прояв-
лялось, в конечном счете были направлены на разрушение
жилища.
Гаучо, льянеро и прочие герои этого типа, слитые с хао-
тичным и бескрайним пространством, действуют вне жи-
лища; их пребывание в четырех стенах всегда оказывается
случайным и недолговременным. Им ни к чему обозначать
границу между собою и средой, их дом — само пространст-
во, где они перемещаются по дорогам, не ведущим никуда.
Хаотичная социальная жизнь с ее войнами и революция-
ми, как и порождающее ее хаотичное пространство, проти-
вопоставлена дому. Ветры перемен рушат дома и гонят лю-
дей из жилищ.
Образ дома многозначен и полифункционален. Прежде
всего он воплощает идею оседлости, которая в латиноаме-
риканской ментальности имеет особую значимость. Осед-
лость — это противостояние хаосу пространства, это одна
из побед над пространством — но не только. Дом становит-
ся символом ностальгического стремления героя (и писате-
ля) укорениться в своей среде, обрести точку опоры в
своем мире и тем самым хотя бы отчасти преодолеть траги-
ческую дисгармонию человека со своей средой. Возводя
дом, человек определяет свое местоположение в простран-
стве и обретает культурную почву. Лопе де Агирре из ро-
мана Отеро Сильвы осознал себя неотторжимой частью
американского мира, построив дом с каменным очагом
(216). Построение дома, таким образом, воспринимается
как духовное и сакральное действо, аналогичное акту
самоидентификации. Поэтому столь часто и с таким благо-
говением латиноамериканские писатели описывают (или
упоминают) процесс строительства дома (храма, села, го-
рода). Взглянем, например, на такое описание, где за буд-
ничными деталями скрываются глубокие смысловые плас-
ты: «Хорошо возводить дом. (...) Дом спокойно смотрит в
небо, и сверкает ли оно жгучим солнцем или низвергается
ливнем, здесь, на клочке земли, прочное строение выстоит
241
перед всеми невзгодами. (...) Сваи уходят на два метра в
землю. (...) Крыша — из тростника и соломы, стены из
расщепленной агавы. Вот и и готов их дом, защита от
ветра, от солнца, от дождя и колючего бессонного блеска
звезд» (Алегрия, III, 380—381). Обращают на себя внима-
ние следующие моменты. Важнейшая функция дома обо-
значена сразу и недвусмысленно: он защищает человека от
неба,— не от окружающего земного пространства, а имен-
но от агрессивного и угрожающего «верха». Дом ассоции-
рован с земным началом. «Клочок земли», на котором он
расположен, обозначает и определенную точку в простран-
стве, и точку опоры в «своем» мире, в «своей» культуре —
не случайно в этой связи возникает образ «прочного стро-
ения». Далее, столь же не случайно указаны материалы,
из которых сделан дом,— а это все материалы раститель-
ного происхождения, они произросли из-под земли, пита-
ясь «кровью земли» — водою. И наконец, ключевая де-
таль — сваи, уходящие в сакральное подземное простран-
ство. Это — корни дома, который тем самым уподобляется
дереву, вбирая многие значения этого важнейшего образа
(см. гл. II, р. III, 1).
Сравнительный анализ текстов показывает, что выделен-
ные мотивы в тех или иных вариациях встречаются и в про-
изведениях других латиноамериканских писателей; в част-
ности, весьма распространено уподобление дома дереву. Ос-
новываясь на этом уподоблении, Астуриас противопостав-
ляет «каменным городам», символам мертвой чужеродной
культуры,— «живые деревянные дома.., дома из стволов,
пускавших ростки, пока люди спали, пускавших ростки и
корни...» (X, 68). Отражая извечное стремление латиноаме-
риканского героя укорениться на своей земле, дом пускает
корни и как бы движется по направлению к сакральному
центру. Он перемещается либо в глубины земли, и тогда
герой чудесным образом «слышит, как всей тяжестью врас-
тают в родную землю дома» (Услар-Пьетри, IV, 75); либо —
в глубину сельвы — как жилище-вагон, катящийся к лесу,
в романе Роа Бастоса «Сын человеческий».
В образе дома ясно выражены пространственные дихо-
томии «низ» — «верх» и «внутреннее» — «наружное» (см.
гл. I, р. I, С, 5). Как отмечалось ранее, в латиноамерикан-
242
ском художественном мышлении внутреннее обычно не
мыслится противоположностью внешнего, хотя и воспри-
нимается средоточием сущности и тайны. Однако в образе
дома возникает двойная трактовка этой дихотомии. Внут-
реннее пространство деревенского дома не противостоит
наружному и соответствует модели разомкнутого про-
странства. Такой дом обозначает местоположение в мире,
дает точку опоры, привязывает к своей земле и культуре,
но никоим образом не изолирует героя.
Другой тип дома — чаще всего городского — отгоражи-
вает человека от окружающей среды и создает модель зам-
кнутого пространства. Внутреннее пространство дома
может приобретать сакральный, храмовый характер или
соответствовать замкнутому идиллическому локусу — как
в романе Лесамы Лимы «Рай». Но нередко такие дома-кре-
пости становится тюрьмой и символами отторженности че-
ловека от среды или разобщенности людей: «От домов веет
тайной затворничества — она тенью ложится на окрестные
улицы, на все селение» (Яньес, 20). В этом случае внутрен-
нее пространство дома враждебно наружному, оно изоли-
рует, угнетает и герой стремится «выйти» из дома: «Она
пресытилась одиночеством и начала ненавидеть этот ста-
рый дом. (...) — и вот уже глаза ее сами собой стали искать
выхода, лазейки» (Мальеа, 286). Но выбраться за пределы
замкнутого пространства дома в настоящий мир оказыва-
ется нелегко, а подчас и невозможно. Этот сюжет, напри-
мер, лежит в основе повести Фуэнтеса «Чистая совесть».
Можно сказать, что ее главным героем является «большой
каменный дом», «дом предков» (22), где живет семья Себа-
льосов, олицетворяющая фалып, условности, пороки, за-
блуждения и трагедии мексиканской аристократии. Дом
предков — это замкнутый самодостаточный мир, отгоро-
женный от внешнего мира «границей» — массивной две-
рью. Молодой Хайме Себальос пытается выйти из замкну-
того пространства в большой мир, разрушить сложившие-
ся устои, мораль. Но бунт его завершается поражением:
невидимая магнетическая сила дома сковывает его волю,
влечет его обратно, и юноша сдается. «Он направился об-
ратно в дом предков» (144) — это символическое возвра-
щение завершает повесть.
243
Дом обозначает место человека не только в пространст-
ве, но и во времени. Построение жилища становится свя-
щенным актом основания рода, созидания семейной
«эпохи первоначала», которая через землю и корневое
пространство сообщается с прошлым континента. Отпрыс-
ки семьи, ушедшие из дома, стремятся вернуться в его
стены на свидание с детством, с прошлым. Этот устойчи-
вый сюжет мировой литературы широко представлен и в
произведениях латиноамериканских писателей. Действи-
тельно, дом создает внутри себя особое темпоральное про-
странство (см. гл. I, р. I, А, 5), и в этом отношении он упо-
доблен другим сакральным локусам латиноамериканского
мира — пещере, реке, сельве. «Усесться вокруг этого
стола под покачивающейся круглой люстрой уже означало
приступить к воспоминаниям о прошлом» (Фуэнтес, II,
50—51); «Всякий раз входя в этот дом, Пелаес уносился в
прошлое. Жизнь словно поворачивала вспять» (Услар-
Пьетри, III, 142). Свидания с прошлым в темпоральном
пространстве дома превращаются в своего рода священно-
действия, во время которых происходит восстановление
утраченных ценностей или излечение больной души. Поэ-
тому тяготение к родному дому может приобретать маниа-
кальный характер — как, например, у героини повести
Мальеа «И не станет зелени»: оставшись в одиночестве,
опустошенная, Агата с безотчетным упорством каждый
день ездит в поселок своего детства и кружит вокруг давно
проданного родного дома, откуда много лет назад с таким
трудом вырвалась.
Образ дома дополняют и углубляют значения отдель-
ных элементов жилища.
Внутреннее пространство дома традиционно имеет свой
сакральный центр — очаг. В латиноамериканской литера-
туре универсальный мифообраз очага являет особую смыс-
лонаполненность. Это углубление в земле, обложенное
камнями, само по себе напоминает пещеру и, как пещера,
создает особое сакральное, храмовое пространство, по от-
ношению к которому интерьер дома выступает в ипостаси
наружного пространства. По словам Астуриаса, камни
очага «воплощали дом и семью, они были зобом земли-ба-
бушки» (III, 96). Напомним: пещеру Астуриас также назы-
244
вает «пастью земли» (III, 141). Семантика очага вбирает в
себя многие значения образов земли, пещеры, камня, а
кроме того, дерева, которое жгут в очаге. Эта семантичес-
кая связь ясно указана в «Маисовых людях» Астуриаса:
«Мария Канделария неподвижно смотрела в самую сердце-
вину очага, полного дров, углей, пламени и дыма. Дым —
от пламени, пламя — от дров, дрова — от дерева, дерево —
от земли, земля — от мечтанья» (198). Как всякий сак-
ральный локус латиноамериканского пространства, очаг
непосредственно связан с прошлым и способен возвращать
человека в эпоху первоначала: «Родной очаг — это память.
А память — единственная подлинность, и потому память и
есть наш очаг...» (Фуэнтес, V, 198). Весьма примечательна
сцена из «Превратностей метода» Карпентьера: живя в из-
гнании, в Париже, Мажордомша эксдиктатора утаскивала
со стройки кирпичи и «переделала плиту на мансарде в
креольский очаг, подтапливая его полешками... И начала
жить там, под шиферной крышей на географических ши-
ротах и во времени, принадлежавших другой части света и
другой эпохе» (299). Будучи воплощением дома, семьи,
земли, очаг также воспринимается символом своей куль-
туры и потому он способен как бы перенести человека во
времени и пространстве.
В европейском образе дома после очага самым важным
и семантически нагруженным элементом жилища являют-
ся стены. Английская поговорка «мой дом — моя кре-
пость» в сущности парадигматична для европейского со-
знания. Стены — не только средство защиты от воздейст-
вия враждебной природной среды и агрессии социума, но
также способ обособления, индивидуализации. Чем проч-
нее стены жилища, тем основательнее, устойчивее положе-
ние человека в мире. Кроме того, для европейца стены ста-
новятся символом предела, нормы. В латиноамериканском
художественном сознании с его тяготением к сверхпре-
дельности и опрокидыванию нормы стены нередко мыс-
лятся как чужеродная и враждебная реалия. Чаще стены
для латиноамериканского образа дома несущественны, ибо
«природный» человек не стремится отгородиться от окру-
жающего пространства, но крыша воспринимается именно
как защита от агрессии «верха», ассоциированного с чуже-
245
родной европейской культурой. Крыша над очагом — эти
два элемента, собственно, и создают жилище латиноамери-
канца. При описании войн и разрушений писатели часто
фиксируют внимание на горящих крышах, и в первую оче-
редь крыши сметают на своем пути яростные ураганы.
Очень ясно эта символика уничтожения жилища представ-
лена в «Маисовых людях» Астуриаса: «Войдя в кухню,
Гойо Йик убедился, что семья сбежала. Большим пальцем
ноги, потом руками он хотел найти неровные камни очага,
большие, словно каменный зоб (...)• Камней не было. И
крышу беглецы разобрали, над кухней висело небо. Гойо
Йик понял, что наверху чего-то важного нет, ощутив на
своих недужных плечах небесную тяжесть» (96). По логи-
ке вещей, ушедшей жене вовсе не обязательно убирать
камни очага, и уже тем более ни к чему разбирать крышу.
Эти поступки покажутся абсурдными, если не увидеть за
ними вполне осознанного символического действа разру-
шения дома.
Подпол, подвал дома упоминается довольно редко, но
когда этот образ возникает, то обычно приобретает симво-
лическое содержание. В своей статье о творчестве Карпен-
тьера В. Земсков выявил устойчивый мотив подвала в
«Веке Просвещения» и показал, что этот мотив символи-
чески обозначает подсознание, материально чувственное,
животное начало в человеке18. Несколько иная трактовка
подвала наблюдается у Фуэнтеса. Подпол, углубление в
земле под домом, представляет собой вариант пещеры, и
как всякое подземное пространство мыслится сакраль-
ным. Разберем с этой позиции примечательную сцену из
романа «Старый гринго» — рассказ «луноликой женщи-
ны» о ее знакомстве с Томасом Арройо. Она была замужем
за торговцем и жила, по ее словам, как «негодная кукла»,
не зная любви, не зная себя. Селение берут вильисты, рас-
стреливают торговца и тут же отступают под натиском фе-
дералов. Аройо несколько дней прячется в подвале дома
«луноликой женщины». Подвал, как и пещера, становит-
ся убежищем для героя, соотносимого с категорией «под-
линности» (см. гл. II, р. II, 2). Женщина, никогда не бы-
вавшая в подвале дома (то есть не соприкасавшаяся с под-
линной жизнью, с настоящей любовью), обостренным чу-
246
тьем — как и положено латиноамериканской героине —
различила идущий из подвала запах, который оказал на
нее мистически притягательное воздействие, и одновре-
менно она «уловила свой новый запах, какого до сих пор
не знала...» У нее появилась безотчетная уверенность, что
в подвале скрывается «что-то хорошее, какое-то сокрови-
ще» и его надо защитить и сохранить (225—229). После
ухода федералов она открыла вход в подвал и увидела Ар-
ройо,— который и подарил ей счастье любви. Подвал в
данном случае выступает в двойном значении: это, с одной
стороны,— подсознание героини, ее доселе наглухо закры-
тая чувственность; с другой,— нутро земли, «порождаю-
щее» латиноамериканского героя «подлинности».
Окна и двери жилища в мифологических представлени-
ях многих народов являются «опасными» элементами
дома19. Жилище призвано, насколько это возможно, огра-
дить человека от воздействия враждебных сил, но прозрач-
ные окна и открывающиеся двери нарушают защищенную
«границу» стен и крыши. Через эти проемы легко прони-
кает недобрый взгляд (сглаз), злые духи или то, что мекси-
канцы называют «аире»,— невидимые газы, насылающие
порчу, болезни и даже смерть20.
Эти фольклорные представления принципиально расхо-
дятся с устойчивыми интерпретациями образов двери и
окна в латиноамериканской литературе, персонажи кото-
рой чаще стремятся к единению со средой. Окна и двери
являются знаком открытости латиноамериканского дома;
они позволяют человеку существовать неотрывно от при-
родной среды. Такая трактовка отчетливо выражена в сти-
хотворении Карреры Андраде «Повседневная дружба»:
Окна, двери и слуховые окошки —
друзья, соучастники моих ежедневных побегов
из четырех стен, посланцы прозрачного мира,
бродящего солнечным зайчиком у меня по столу.
Окно — приглашение к дальнему плаванию
Окно — это река света, впадающего в небо.
Сколько несбывшихся грез
утонуло в ее прозрачной стремнине!
Дверь отдает мне честь, как часовой офицеру,
и выпускает в мир, щелкнув каблуками засовов...» (161)
247
Образ незапертой двери постоянно встречается в твор-
честве Г. Мистраль. «Незапертая дверь» (192) сливает
внутреннее пространство дома с наружным, природным, и
позволяет человеку постоянно сохранять связь со своей
природной средой. Дверь, собственно, и нужна дому толь-
ко открытая — о чем поэтесса говорит в стихотворении
«Двери»:
Дом с закрытыми дверями — плод, покрытый скорлупою;
дом не делится с дорогой
внутреннею теплотою;
двери учат нашу песню
от прохожих запираться;
к радости не приглашают,
выпустить ее боятся.
Молодыми не бывают
и старухами родятся (223).
В трактовках темы любви, как в зеркале, от-
2. Эрос ражаются особенности той или иной культу-
ры. Затрагивая эту поистине необъятную те-
му, центральную тему любой литературы, мы вынуждены
ограничиться лишь беглым указанием некоторых принци-
пиально важных особенностей латиноамериканского худо-
жественного воплощения любви.
Эрос лежит в самом основании латиноамериканской ис-
тории.
В романе «Арфа и тень» Карпентьер описал, как коро-
лева Изабелла Кастильская дарит Колумбу любовь неза-
долго до его отплытия в экспедицию. Предположение, что
испанская королева, ревностная католичка, и генуэзский
мореплаватель состояли в любовной связи, не только не
подтверждено никакими историческими фактами — оно
попросту абсурдно; и, однако, Карпентьер с его незауряд-
ной эрудицией использует такой неправдоподобный сю-
жет. Использует вопреки здравой логике — потому, что
чувствует в нем глубокую художественную потребность. В
романе «Райские псы» А. Поссе решительно «подправля-
ет» Карпентьера: «Пред ней, королевой, плоть его стала
недвижна. (Потому ошибается великий Алехо Карпентьер,
248
предполагая, будто существовала сексуальная связь, пол-
ноценная и свободная, между мореплавателем и его госпо-
жой (...). Но этого просто быть не могло. Абсолютно. В фи-
зическом плане робость плебея оказалась полной, тоталь-
ной. Но в то же время тотальной была и его физическая
раскрепощенность, потому и достиг он освобождения через
паноргазм)» (62). Как видно, корректировка эта только
лишний раз подтверждает бесспорность самого факта «но-
чи любви». По версии аргентинского писателя, Изабелла
кружится в легком танце вокруг лежащего Колумба, а тот,
чувствуя ее дыхание, «дыхание женщины-самки», испы-
тывает «интраоргазм» — когда «все обращается внутрь,
тьма сперматозоидов, бунтуя, выбрасывается в поток кро-
ви...»,— «хотя от прародителей наших ведется, что долж-
ны они стремиться наружу, отыскивая «другого» (61—62).
Как бы там ни было, но любовный акт состоялся, и Колумб
испытал «наслаждение неизмеримое» — оргазм, обращен-
ный вовнутрь его существа (то есть он, можно сказать,
«оплодотворил» самого себя). В романе Фуэнтеса «Христо-
фор Нерожденный» открытие Америки представляется ме-
тафорой приблизительно того же плана. К 500-летнему
юбилею открытия Америки супружеская чета зачинает на
берегу моря ребенка, которого назовут, в зависимости от
пола, либо Христофором, либо Изабеллой. Во время коиту-
са в сознании супругов постоянно всплывают образы вели-
кого мореплавателя и Изабеллы Католической, при этом
жена повторяет: «Дай мне Америку, Анхель; пусть при-
дет мой Мартин Фьерро, развернется моя пампа, дай мне
Верагуа, дай Маракайбо...» и т.д. и т.п. (16). Пребывание
зачатого ребенка в водах материнского чрева ассоциирова-
но с трансокеанским путешествием Колумба, его рождение
(на берегу Мексиканского залива) — с открытием Нового
Света.
Итак, получается, что любовный акт лежит в основа-
нии латиноамериканской истории. Невозможная с пози-
ций исторической достоверности любовная связь Изабел-
лы и Колумба для латиноамериканских писателей не
подлежит сомнению, ибо воспринимается символически
необходимой. Эта связь таит в себе множество важных
смыслов.
249
Любовь католической королевы и простолюдина еврей-
ского происхождения заключает в себе момент нарушения
непреложных постановлений, иначе говоря, момент пере-
ступления предела. Королева перешагивает предел, как бы
опускаясь «сверху» — «вниз»: отрешается от своего высо-
кого, освященного церковью сана и подчиняется зову
плоти, который ломает веками возводимые перегородки
норм поведения. Колумб переступает пределы, установлен-
ные плебею, и посягает на запретную сакральную область.
Любовная связь Колумба и Изабеллы становится одним
из выражений поэтики сверхнормативности. Нарушение
табу как со стороны королевы, так и со стороны морепла-
вателя подразумевает десакрализацию «священной зоны»:
профанная земная чувственность разрушает умозритель-
ные представления об «идеальной» «должной» любви.
Связь плебея и королевы ломает европейские нормы и ста-
новится провозвестницей новой концепции любви, кото-
рая утвердится в латиноамериканском художественном со-
знании.
В своем романе А. Поссе представляет эрос движущей
силой истории и прямо связывает открытие Америки с воз-
никновением и утверждением новой чувственности, кото-
рая противопоставляется средневековой духовной атмо-
сфере, когда «все вокруг было «идеальным», и «реаль-
ность не могла допустить в высокие категории своих цен-
ностей опасный омут человеческих инстинктов» (35).
Новая чувственность предстает в романе вовсе не как
изысканная ренессансная эротика, а трактуется вполне в
латиноамериканском духе, с использованием тех мифоло-
гем и мотивов, о которых речь пойдет далее. Эротика во-
площена как безудержная, беспредельная стихия, пере-
полняющая все сферы бытия: история движется в череде
ритуальных совокуплений (48); переплетаются «экономи-
ческие и эротические интересы» (115); изучаются «геогра-
фия вперемежку с эротикой» (40) и т.д. В русле поэтики
сверхнормативности создаются характеры Колумба и ко-
ролевской четы: «Фердинанд и Изабелла вихрем ворвались
в эпоху гнетущей тоски (...) Красивые, неистовые, всегда
готовые переступить последнюю черту» (36). Характерам
героев соответствует их необузданное эротическое влече-
250
ние — «страсть космического масштаба» (27). Примеча-
тельно, что королева предстает в ипостаси латиноамери-
канской героини — в образе женщины-самки с сопутству-
ющими мотивами резкого запаха и феноменального нюха:
«Как сообщают хроники, от принцессы стал исходить
сильный запах.., запах львицы, ждущей самца». Он «про-
никал наружу и манил стаи диких собак. Охваченные бе-
шеной похотью, они мчались сюда из полей Сеговии,
Авилы, Саламанки» (24). Изабелла обнюхивает Фердинан-
да «тревожно, как зверь, идущий по следу» (35) и обнару-
живает измену. (Сходный мотив уже фиксировался: см.
наст. гл. р. I, 2, б.)
Итак, грандиозное смещение нормы любви, перешаги-
вание предела в отношениях с женщиной (королевой) как
бы открывает Колумбу путь в Америку — путь в «священ-
ную зону» ее девственных пространств, покорение кото-
рых в дальнейшем будет осмысляться опять же в эротичес-
ких категориях — в образе изнасилования девственницы.
В тех же эротических категориях воспринимается процесс
интеграции героя в латиноамериканский мир, ибо процесс
этот метафорически представляется как вхождение в жен-
скую «плоть» природных реалий и сакральных локусов.
Будучи изначально связана с поэтикой сверхнорматив-
ности, латиноамериканская художественная концепция
эроса в полной мере соотносится с инаковостью, этой опор-
ной характеристикой латиноамериканского мира.
В своей статье о романе Гарсиа Маркеса «Любовь во
времена холеры» В. Земсков убедительно доказывает, что
в основе замысла романа лежит противопоставление двух
концепций любви — европейской и латиноамериканской,
а если говорить шире — «спор художественных сознаний,
мировоззрений, а значит также — систем концептуальнос-
ти, т.е. культур». По мысли автора статьи, Урбино и Фло-
рентино, ведущие спор за обладание женщиной, олицетво-
ряют различные типы духовной и культурной ориентации.
Доктор Урбино, европеист, исповедующий рационализм
позитивистского толка, живет в мире псевдоценностей,
мире неподлинном, прозаическом, отчужденном от при-
родных начал — и потому этот герой уподоблен попугаю.
Флорентино же, чей эволюционный, многогранный харак-
251
тер создан из различных трагикомических масок и куль-
турных напластований, существует в мире поэтическом, в
латиноамериканской чудесной реальности. Соединяясь в
любви «вопреки всякой обыденной логике», герои «отме-
няют окончательно прозаическую реальность как систему
бытия»24. Добавим к этому, что полноценная физическая
любовь двух глубоких старцев сама по себе становится от-
рицанием европейской нормы и ярчайшим воплощением
латиноамериканской поэтики сверхнормативности.
Многие обобщения В. Земскова в полной мере распро-
страняются и на другие произведения латиноамерикан-
ской литературы. Именно в соотношении с героем-«чужа-
ком» (к какому относится и Урбино) особенно ясно выяв-
ляется инаковость латиноамериканского эроса. «Подлин-
ная» любовь оказывается невозможна с «неподлинным»
героем, отторженным от основ латиноамериканского
бытия — невозможна вовсе не по причине антипатии к та-
кому герою, а в силу разницы чувствования. В упоминав-
шемся романе Б. Линча «Мистер Джеймс ищет черепа»
(см. наст, гл., р. II, 2) необузданная, первозданная, не
сдерживаемая барьерами регламентов любовь креолки
противопоставлена вежливой и осторожной симпатии анг-
личанина: их чувства несходны как живая плоть и скелет
(не случайно иностранец носит прозвище «костяной мис-
тер»). Герою «Потерянных следов» в соитии с Росарио,
«женщиной земли», дано вкусить такое наслаждение, ка-
кого он никогда не испытывал ни со своей женой, ни с лю-
бовницей. С особой остротой инаковость латиноамерикан-
ского эроса раскрыта в «Старом гринго» Фуэнтеса. В лю-
бовном единении с мексиканцем Арройо, «сыном молча-
ния», Гарриет невольно вспоминает своего далекого аме-
риканского жениха: «... и засмеялась, вдруг вспомнив Ди-
лейни и его щуплого сонного карлика, прикорнувшего на
редкой рыжей соломе...— а потом его вялые, холодные
конвульсии; Арройо же сам будто близнец своего фаллоса
и бурный поток: именно это означает его имя...» (195). Де-
тородный орган мексиканца напоминает Гарриет сосуд с
мескалем (маисовый водкой) и пару агуакатов: очевидна
связь образа с символикой земли, плода. Оппозиции двух
типов эроса устанавливаются вполне определенные: соло-
252
ма — и плод, карлик — и гигант, слабость — и сила, вя-
лость — бурление, холод — жар, застылость — стихия
струения; наконец, коль скоро мексиканец — «близнец
своего фаллоса», то есть неотрывен от плотской любви, то
американец, выходит, отчужден от нее. В соитии с Арройо
Гарриет испытывает наслаждение, какого больше не знала
и не узнает ни с кем. Мотив этот вообще характерен для
латиноамериканской трактовки любви и также является
одним из выражений поэтики сверхнормативности (это —
вариант конструкции «самый... в мире»). Мало того, аме-
риканка на миг приобщается к латиноамериканскому
миру и выступает в ипостаси женщины-зверя: «... и Гарри-
ет знала, что тот миг, который был, никогда больше не по-
вторится, и не потому, что она будет отвергать мужчин, а
потому что никогда не сможет пойти на то, на что пошла
только с Арройо: один невыносимо громкий стон, великий
крик зверя, который она не потерпела бы от себя больше
ни с кем, греховный вздох наслаждения, бросающий
вызов богу...» (252). «Подлинный» герой снимает внутрен-
ние барьеры и запреты женщины, высвобождает ее при-
родное естество. Но преображение совершается лишь на
краткий мир; полное слияние «чужака» с миром подлин-
ности невозможно. «Именно тогда, в тот миг, в объятиях
Арройо Гарриет уже ненавидела Арройо прежде всего за
это: она узнала этот мир, но не смогла стать его частью,
а он это знал и все же предлагал его ей, дал вкусить ей
от него, зная, что ничто не может соединить их навсег-
да...» (253).
Инаковость латиноамериканского эроса прежде всего
соотносится с естественным, природным началом, домини-
рующим в латиноамериканском мире и его обитателях. В
упомянутой статье В. Земсков очень верно определил
принципиальное расхождение традиционной европейской
концепции любви с той, что была предложена Гарсиа Мар-
кесом в его последнем романе. Она коренится в соотноше-
нии «верха» и «низа», иначе говоря, любви духовной и
плотской. Ученый пишет: «В европейской традиции траги-
ческий разрыв «верха» и «низа» всегда определял класси-
ческую линию развития культуры». И отмечает по поводу
романа Гарсиа Маркеса: «Так, если в высокой европейской
253
традиции идеальная любовь всегда безусловно предстает с
положительным знаком, а чисто плотская любовь — с от-
рицательным, то здесь классическая антиномия формиру-
ется иначе: любовь лишь идеальная, бестелесная — не
только положительное, но и отрицательное явление, а
любовь лишь телесная — не только отрицательна, но и по-
ложительна» И далее автор приходит к следующему вы-
воду: «Снятие антиномии «верха» и «низа» в полном взаи-
мопроникновении и единосущности идеального и матери-
ального, духа и плоти и составляет основу той художест-
венно-философской метафизики бытия и человека, кото-
рую предлагает Гарсиа Маркес. Она родственна изначаль-
ной эпической целостности сознания, соответствующей
эпохе «любви богов», и противостоит типу «расколотого»
сознания, формирующегося на основе христианской кон-
цептуальности в ходе распада изначального единства и
возникновения отчужденного, «расколотого» человека»22.
Этот вывод, сделанный на основе анализа одного рома-
на, опять-таки соотносится с особенностями латиноамери-
канской художественной концепции любви в целом. Дей-
ствительно, как представляется, ключевая особенность ла-
тиноамериканского инакового эроса в сравнении с евро-
пейским как раз и состоит не в разделении и противопо-
ставлении духовной и плотской любви, а в их соединении
за пределами традиционных норм. Мифообраз кентавра,
олицетворяющий слияние зверя и человека, «низа» и
«верха», автохтонного и европейского начал можно небез-
основательно представить и символом латиноамериканско-
го эроса.
Говоря о латиноамериканском эросе, мы, разумеется,
не имеем в виду романтическую литературу, в той или
иной мере вторичную, с ее заимствованной концепцией
любви. Речь в данном случае идет о лучших произведени-
ях латиноамериканской литературы XX в.
Так вот, при чтении этой литературы складывается впе-
чатление, будто в ней плотская любовь явно доминирует
над любовью духовной, «платонической», что дает воз-
можность утверждать, будто в ней много секса и мало
любви23. Казалось бы этот факт вполне сообразуется со
спецификой латиноамериканской трактовки дихотомии
254
«верх» — «низ». Однако не будем забывать, что латиноа-
мериканский «низ» — это вовсе не европейская инфер-
нальная низменность, противостоящая божественной про-
светленности; латиноамериканский «низ» мыслится сре-
доточием духовности, сущности, культурной самобытнос-
ти. Соответственно и плотская любовь в латиноамерикан-
ском художественном сознании выступает в большой мере
и как любовь духовная. «Внизу», на земле и в сакральных
подземных пространствах, герой обретает сущности и смыс-
лы; так же далека от чистой физиологии и плотская лю-
бовь, ибо она дает человеку знание о нем самом о его мире.
Характерная черта латиноамериканского эроса — его
метафорическая да и буквальная связь с природной сре-
дой, с пространством. Поистине неисчислимы в латиноа-
мериканской литературе любовные сцены, происходящие
на лоне природы, на земле, в поле, в лесу — среди корней,
под деревьями, в пещерах, на берегу моря. Символическое
значение этих сцен, аналогичных акту культурной само-
идентификации, неоднократно вскрывалось выше. Доста-
точно просмотреть примеры таких сцен, приводившиеся
на предыдущих страницах книги, чтобы ясно понять: соб-
ственно физиологические моменты в них всегда «притуше-
ны» и имеют самое второстепенное значение, и даже сопут-
ствующий мотив острого наслаждения сопряжен с моти-
вом преображения героя и воспринимается опять-таки в
духовном плане. Ключевым моментом этих, в сущности,
ритуальных совокуплений в разомкнутом пространстве
становится отношение человека с природной средой, кото-
рое воплощается в сумме взаимосвязанных мотивов.
Самый устойчивый из них — полное отождествление
женщины с природными реалиями латиноамериканского
мира, растворенными в героине в той же степени, в какой
она растворена в них (см. наст. гл. р. II, 7). Тем самым со-
итие предстает как момент проникновения героя в глубину
своего мира и слияние с его первоэлементами — землей,
водой, рекой, сельвой, луной, ночью.
В процессе слияния герой и героиня становятся едино-
сущностны, поэтому сам любовный акт может осмыслять-
ся в образе природного феномена: «Молодыми они были
друг для друга, как вода и сухая земля. Он жаждал ее не-
255
престанно, и она порой отдавалась ему прямо в поле, под
солнцем, как газель» (Алегрия, III, 27). Такие уподобле-
ния в особенности свойственны поэзии О. Паса:
Встретятся два тела
и порой — как волны
в океане ночи.
Встретятся два тела,
и порой как корни,
сросшиеся ночью. (...)
«Два тела»24
Связь латиноамериканского эроса с пространством ярко
проявляется и в мотиве путешествия, нередко сопутствую-
щем любовным сценам. Речь идет не только о тех случаях,
когда любовное соединение героев происходит во время их
путешествия. В любовном акте герою нередко чудится,
будто он перемещается в пространстве. Например: «Я
кладу ей руки на бедра, и тяжело дыша, с силой притяги-
ваю ее к себе, так что даже косточки хрустнули. И нас по-
глотили дремучие дебри, дебри, где лианами переплетают-
ся мускулы и нервы, сладость и боль, хрип и стон, где
древние, как сам человек, корни уходят в пропитанные со-
ками жизни недра...» (Алегрия, I, 147). В высшей степени
характерно, что герой мысленно переносится в дебри сель-
вы, в природный первозданный хаотичный мир; символич-
но и то, что перемещение направлено сверху вниз, к кор-
ням, а сакральные подземные недра, где обретаются сущ-
ности. Туда же, в глубины, совершает фантастическое пу-
тешествие герой рассказа Услара-Пьетри «Симеон Калама-
рис» во время любовного акта: «Мы летели обнявшись, с
высоты в бездонную пропасть. Руки мои скользили по ее
телу. Мы не могли больше говорить обычными словами, из
груди вырывались лишь стоны, вздохи, какие-то возгла-
сы. (...) Вместе с одеждой упали, провалились куда-то и
время, и жалкий пансион. Я погружался в глубины, в до-
лины. Открывались податливые врата, я спускался по
влажным переходам, и видел жилища птенцов, рты заро-
дышей. То проваливался в глубокий колодец, то взбирался
на холм. Пасти и клювы терзали мое тело. Морды, жирные
губы, зобы, челюсти, гребни... А я все спускался без
256
конца, без отдыха, все искал — чего? кого?» (177). Вполне
очевидно, что в этом фрагменте также создается образ пра-
исторической эпохи. Что ищет герой? — возможно, имен-
но то, чего ищут многие другие персонажи латиноамери-
канской литературы: мифическую точку первоначала вре-
мен, которая станет основой для постижения сущности
своего мира.
Герои европейской литературы во время любовного со-
ития обычно «взмывают», «летают», «парят». Герои лати-
ноамериканской литературы — «спускаются», «провали-
ваются», «падают», «рушатся», «погружаются». При этом
движение вниз почти всегда сопряжено с погружением в
прошлое. Действительно, в вышеприведенных сценах пу-
тешествия героев происходят не только в пространстве, но
и во времени. Сказанное относится вообще к латиноамери-
канскому эросу, важнейшей характеристикой которой
можно назвать его темпоральность. Сливаясь в любовном
объятье, герои переносятся в эпоху первоначала времен и
оказываются в центре (и центром) эмбрионального рожда-
ющегося природного мира. Как пишет Пас, «В любви,
«сбегаются времена / и возвращаются к началу дней» (I,
33). В любовном соитии извергается «самое первозданное и
сокровенное» (Отеро Сильва, 253), и люди тоже обраща-
ются в первозданное состояние: «Речь любовников обра-
щалась к своим исходным формам, к первозданным сло-
вам, к лепету, который предшествует поэзии...» (Карпен-
тьер, IV, 371—372). С образом первоначала времен, оче-
видно,' связан и постоянный мотив возникающего при со-
итии ритма. Появлению «ритма» обычно предшествует
«борьба тел» (Услар-Пьетри, IV, 61; Алегрия, III, 130; Гу-
иральдес, 46 и др.): как правило, ненастоящая, игровая,
она вместе с тем, как представляется, метафорически обо-
значает расчлененность бытия, первоначальный хаос.
«Борьба» прекращается, когда женщина сдается и доселе
беспорядочные движения тел обретают слаженность —
«ритм», единый, ровный, будто биение пульса» (Услар-
Пьетри, IV, 61), который знаменует преображение перво-
начального хаоса в космос — так «мир рождается, когда
двое целуются» (Пас, II, 108).
257
В любовном акте происходит преображение героя в пер.
вочеловека, а чаще — в зверя, ибо образ зверя полнее соот-
носится с природным миром и больше соответствует эпохе
первоначала времен. Главное же, он сочетается с модель-
ным образом героини — женщины-самки. Описание лю-
бовного акта в латиноамериканской литературе постоянно
сопровождается анималистической образностью. С ней
связан, очевидно, и мотив потери дара слова: те «хрипы»,
«вздохи», «стоны» (см. выше) или «пронзительные коша-
чьи вопли» (Гарсиа Маркес, V, 304, 313), которые издают
любовники, воспринимаются принадлежностью скорее
животного мира, нежели человеческого. Женщина-самка
возбуждает мужчину как зверя — запахом, а не видом, и
отдается ему по-звериному — на лоне природы, без предва-
рительных слов и объяснений, без ласк, а после короткой
напряженной борьбы. В повести Аргедаса «Любовь — все-
ленная» (обратим внимание на заглавие) совокупление
животных открыто соотносится с любовью индейцев: вско-
ре после впечатляющей сцены спаривания лошадей (389)
описываются сцены деревенского праздника, в том числе и
такая: «Два парня настигли девушек возле дома. Девушки
смеялись и визжали, а парни свистели и пофыркивали.
(...) И Сантьяго увидел, как парень, что стоял возле него,
задрал девушке платье, она сперва вроде бы оборонялась,
но вдруг застыла, замерла... До Сантьяго доносились
какие-то крики, свист, возгласы, словно это были не люди,
а птицы, которые пытались говорить человеческими голо-
сами» (405—406). Этот тип естественной, животной (в дан-
ном случае «птичьей») любви явно противополагается
любви белых хозяев. Отвратительная сцена пьяного груп-
пового секса не случайно происходит в замкнутом про-
странстве — в старой пекарне с «дверью на замке» (393).
Вернемся к соотношению плотской и духовной любви.
Нетрудно заметить, что «идеальная», «платоническая»
любовь в европейском понимании встречается чрезвычай-
но редко в современной латиноамериканской литературе.
Ее герой как бы и не способен любить «на расстоянии»,
удовлетворяясь общением и лицезрением,— он стремится
к физическому обладанию возлюбленной. Любовь не мыс-
лится таковой без соития. Однако настойчивое стремление
258
героя к обладанию женщиной по сути своей глубоко иде-
ально, ибо оно символически обозначает стремление к об-
ладанию «своим» миром, к интеграции со средой, к преоб-
ражению в первочеловека или зверя, к обретению точки
отсчета в эпохе первоначала, к постижению своей сущнос-
ти. Достижение этих устремлений, собственно, и рождает
то «сверхнормативное», ни с чем не сравнимое наслажде-
ние, в котором момент полового удовлетворения играет
второстепенную роль.
В латиноамериканской художественной концепции эро-
са фактически нет разделения любви на «высокую» и
«низкую», то есть «духовную» и «плотскую». Попытки
самих героев отделить секс от любви обречены на провал.
Характерен в этом смысле духовный опыт Мартина, героя
романа Сабато «О героях и могилах»: «Однако он (думал
Мартин), он-то разделил любовь на нечистую плоть и чис-
тейшее духовное чувство; на чистейшее чувство и отврати-
тельный грязный секс, от которого он должен отказать-
ся... (...) Но что же, о Господи, происходит с Алехандрой?
Какое двойственное, противоречивое чувство спутало те-
перь все его приемы защиты? Плоть внезапно явилась ему
в облике духа, и его любовь к Алехандре превращалась в
плоть, в каменную жажду ее тела, влажной, темной пеще-
ры принцессы-дракона» (120—121). Латиноамериканский
эрос не существует в отрыве от плоти, но при этом плот-
ская любовь полнится глубочайшей идеальностью. Обоб-
щая вышесказанное, отметим, что эта идеальность прояв-
ляется в духовной функциональной обусловленности плот-
ской любви. Важнейшая художественная функция латино-
американского эроса — интеграция человека в «свое» про-
странство, «свой» мир. Другая функция — гносеологичес-
кая: соитие становится средством интуитивного познания
природы и себя в ней. Наконец, третья функция латиноа-
мериканского эроса, связанная с предыдущими двумя —
культуростроительная: познавая, среду и себя, человек оп-
ределяет свою культурную принадлежность. Кроме того,
эрос становится актом приятия (или утверждения) особо-
го, латиноамериканского, типа любви — то есть любви
плотско-духовной, подразумевающей все те превращения
и «путешествия», о которых речь шла выше; а приятие
259
этого типа любви само собою подразумевает отказ от евро-
пейского эроса и противополагание себя ему в любовной
практике.
Речь пойдет, разумеется, не о
3. Песня, музыка, профессиональном, а исключи-
танец тельно о фольклорном искусстве,
которое со времен европейского
романтизма стало восприниматься как наиболее аутентич-
ное выражение «народного духа». Латиноамериканские
романтики не только переняли эту концепцию, но возвели
фольклор в ранг эстетического идеала и сделали народное
творчество своей излюбленной литературной темой. К это-
му их подвигал обостренный поиск национальных сущнос-
тей — о чем уже подробно говорилось при анализе образа
героя-этнотипа (см. наст. гл. р. II, 6). Действительно, в
произведениях романтическо-костумбристской эстетики
фольклор в различных его проявлениях стал одним из наи-
более предпочтительных объектов изображения, в силу
чего сюжет романа часто приобретал чисто условный ха-
рактер, выполняя роль связки между сценами нравов. Ла-
тиноамериканская проза XIX — начала XX в. буквально
переполнена цитациями фольклорных песен, описаниями
«контрапунтео» (состязаний певцов), детальными изобра-
жениями танцев, народных праздников, петушиных боев
и т.п. Все это подавалось в поверхностно-декоративист-
ском ключе. Одновременно в профессиональной поэзии
предпринимались подчас весьма успешные попытки «под-
ладиться» под фольклорную эстетику, заговорить голосом
народного певца (высочайшее достижение на этом пути —
поэма «Мартин Фьерро» X. Эрнандеса); но мы не будем
анализировать эту тенденцию, поскольку рассматриваем
не фольклорность как таковую, а фольклор в качестве ли-
тературной темы, представляющей ряд мифологических
интерпретаций.
Фольклорная тема была воспринята литературой реа-
листического направления, которая наследовала романти-
чески-костумбристскую тягу к местному колориту: эта
тема в той или иной степени сохранила свою значимость и
в современной латиноамериканской литературе. Можно
260
утверждать, что в ней сложились достаточно устойчивые
образы народной песни, музыки и хореографии и что эти
образы входят в художественный код, взаимодействуя с
другими его элементами.
Не стоит говорить о романтическом клише «песня —
душа» (народа, этнотипа), представленным в латиноамери-
канской литературе (современной в том числе) бесчислен-
ным количеством примеров. Не будем говорить и о столь
же клишированном и распространенном мотиве: «песня
(музыка) ранит душу» (потрясает, впечатляет, заворажи-
вает и т.п.). Обратимся к метафорическим связям народ-
ной песни и музыки с латиноамериканским пространством,
отметив предварительно, что связь темы фольклора с на-
циональным пространством традиционна и для европей-
ской литературы (достаточно вспомнить трактовку народ-
ной песни в русской литературе).
Во второй главе говорилось, что тишина, будучи наибо-
лее адекватным состоянием латиноамериканской среды,
вовсе не предполагает абсолютного безмолвия: она полнит-
ся «неслышными» голосами, зовами, «молчащей» музы-
кой. Свои мелодии напевают ветер, река, деревья, море, и
это звучащее мелодическое пространство не мыслится как
антипод тишине и молчанию, ибо слышна эта музыка тоже
носителю «подлинности». Песня, рожденная латиноаме-
риканским пространством, естественно, вбирает в себя
некоторые из его характеристик: это песня бескрайняя,
таинственная и первозданная. В контексте латиноамери-
канского художественного мышления образ звучащего
мелодического пространства обретает особую значимость.
Музыка волнует, завораживает, влечет человека — тем
самым, пение природы оказывается аналогичным мотиву
«зова» пространства. Музыка сообщает человеку нечто
важное — но сообщает не разуму, а чувству, поэтому вос-
приятие пения воды, ветра, моря и т.п. является одним из
способов интуитивного познания латиноамериканского
мира. Наконец, музыку пространства «перенимают» его
обитатели — то есть она мыслится как бы основой народ-
ной культуры.
Этот мотив очень широко распространен в латиноаме-
риканской литературе. Люди воспроизводят «песни, рож-
261
денные древесными соками» (Астуриас, X, 78); подарен-
ные природой: «Ты потому поешь, / что сельва ночная тебе
дала свои ритмы дикие» (Р. Педросо25); таящиеся во всех
реалиях, окружающих человека: «А из пенистых струй, из
дальнего поля, из огромных коровьих глаз, из рук Марги-
чи, из теплого навоза, из единого сердца земли рождались
новые прекрасные песни» (Алегрия, III, 93). Коль скоро
музыка рождается «вне» человека, в природе, а певец
лишь интуитивно улавливает и аранжирует ее, то пение
превращается в ритуальный акт единения с пространст-
вом, растворения в нем. Тем более, музыка исходит из сак-
ральных локусов (из «сердца» земли, сельвы) — соответст-
венно, ее воспроизведение мыслится способом достижения
сакрального центра. Эти мифологемы замечательно рас-
крыты в следующей сцене из романа Фуэнтеса «Смерть
Артемио Круса». Мулат Лунеро начинает петь: «Ритм его
околдовал. Мулат раскинул руки, прижимая ладони к
сырой земле и барабаня по ней пальцами, терся животом о
грязную землю и блаженная улыбка раздвигала щеки, ши-
рокие скулы (...) Чем слабее звучал его голос, тем сильнее
ощущал он землю, крепче прижимался к ней, будто овла-
девал ею... На него снизошло блаженство, на него снизош-
ло забвение...» (360—361). Пение становится прологом к
телесно-духовному акту соития с землей (см. гл. II, р. VII,
3); блаженство — сродни тому «паноргазму», о котором
писал А. Поссе (см. предыдущий раздел); забвение и бла-
женство рождаются не столько от плотских ощущений,
сколько от чувства единения с землею и достижения «свое-
го» сакрального центра.
Песня, этот голос земли, воспринимается и голосом
прошлого. Прочная связь темы фольклора с темой прошло-
го традиционна и для европейской литературы, но в лати-
ноамериканской она осуществляется преимущественно
через пространственные категории. Во многом это объяс-
нено тем, что креольский фольклор, как разъяснялось во
Введении,— не древнего происхождения. Старинная песня
мгновенно переносит человека в отдаленную эпоху. Кре-
ольская песня, исполняемая гаучо, льянеро и прочими
персонажами, уводит героя в прошлое через сакральные
локусы, где она «зарождается». Пространственные реалии
262
в этом случае становятся как бы посредниками между по-
ющим героем и прошлым.
Даже в тех случаях, когда речь идет о древних индей-
ских либо негритянских песнях, восхождение человека к
прошлому в сакральном акте пения происходит, как пра-
вило, при участии пространственных категорий. Взгля-
нем, к примеру, на стихотворение кубинца X. М. Поведы:
Древняя тахона
тьму дробит с налету
ревом исступленным
из десятков глоток,
эта песня мрака, эта боль земная,
этот зов далекий клонит нас все ниже,
треплет нас, швыряет, наземь повергая,
к тайнам древним ближе26.
Как видно, и здесь причащение к прошлому происходит
в телесном соприкосновении с землей. В другом фрагменте
стихотворения песня характеризуется как «голый вой зем-
ной» — то есть голос прошлого приравнивается к голосу
пространства.
Образ музыкального инструмента столь же устойчиво
ассоциируется с природными реалиями. Прежде всего — с
образом дерева, ведь в музыкальном инструменте «дере-
во—первооснова» (Р. Гирао)27. Именно дерево дает музы-
кальному инструменту жизненность, живую плоть; и пото-
му Гильен говорит о гитаре: «Таится в древесной плоти /
какое страдание?» (88). Но голос инструменту дает земля,
взрастившая дерево.
В романе Алегрии «В большом чуждом мире» пЪдроб-
нейшим образом описывается процесс изготовления флей-
ты. Не будем приводить это пространное описание цели-
ком, отметим лишь ключевые моменты. Деметрио выходит
из селения в поисках подходящей ветки. Очевидно, обыч-
ную ветку он мог отыскать и в деревне, но в данном случае
выход на лоно природы приобретает символическое значе-
ние. Изготовление инструмента начинается с «причаще-
ния» к пространству, и материал необходимо отыскать в
природной среде. К тому же, как мы увидим, сотворение
флейты превращается в акт священнодействия, который
263
не следует видеть «непосвященным». Итак, Деметрио на-
ходит нужную ветку и срезает ее ножом, «купленным не-
давно у Волшебника». Немаловажная деталь — ведь ге-
рой, получается, выступает в роли сказочного персонажа,
которому волшебник дал чудесный предмет или сакраль-
ное знание. Выстругав флейту, Деметрио вспоминает, что
не захватил с собой какой-нибудь «железки», чтобы про-
ткнуть отверстия (а как же нож?...). И тогда он идет к куз-
нецу. М. Элиаде, изучив мифологический образ кузнеца,
пришел к выводу: «Власть над огнем, а особенно магия ме-
таллов создали кузнецам повсюду репутацию опасных кол-
дунов»28. Кузнец из романа Алегрии, несомненно, человек
«посвященный», причастный к сакральному знанию. Так
в изготовлении флейты принимает участие еще один «вол-
шебник». Деметрио ужинает у кузнеца, но играть на флей-
те категорически отказывается. С наступлением темноты
Деметрио вышел из селения. Флейта должна звучать, как
голос пространства, поэтому герой и уходит от жилья. А
по пути он настраивается в лад с музыкой пространства:
«Он пересек маисовое поле, слушая хриплую и торжест-
венную мелодию сухих листьев, на которых играл
ветер...» Деметрио сел на землю и долго играл на флейте,
голос которой был «спокойным, как плодоносная земля,
как вечная жизнь, переходящая из колоса в семя...».
Счастье и покой нисходят на музыканта и на жителей де-
ревни. Когда Деметрио кончил играть, «тишина, напоен-
ная музыкой, опустилась на мир» (94—95).
Индейский музыкальный инструмент сумбаилью явля-
ется одним из центральных образов романа X. М. Аргедаса
«Глубокие реки». Музыкальный волчок сумбаилью высту-
пает как символ индейской культуры, но столь же харак-
терна связь этого инструмента с темой прошлого и с обра-
зом пространства: «Пение сумбаилью проникало в душу,
воскрешая в памяти образы рек, образы черных деревьев,
свисающих с обрывов» (86). Изготовление инструмента и
«игра» на нем также представляются священнодействием.
Символична и та деталь, что волчок крутится на земле: его
пение как бы передает голос земли, восприятие которого
доставляет герою «огромное счастье, свежее и чистое» (105).
264
Особую значимость и распространенность в латиноаме-
риканской литературе приобрел художественный образ ба-
рабана. Этот инструмент в силу понятных причин прежде
всего ассоциирован с негром и афроамериканской куль-
турой. В негритянских «душах гремят тамтамы»
(П. И. Вальдес), «в дробных ритмах негры изливают
скорбь свою» (X. Артель), и потому сам негр может осмыс-
ляться как «барабан, в живую плоть облаченный»
(М. Отеро Сильва)29. Однако образ барабана выходит за
рамки чисто культурного символа, поскольку, как и про-
чие музыкальные инструменты, он связан с художествен-
ным образом латиноамериканского пространства. Выше
говорилось об устойчивом мотиве «земля-барабан» (см.
гл. II, р. II, 1); с этим хтоническим мотивом, как представ-
ляется, непосредственно связан другой, столь же постоян-
ный — «зов барабана». Негр воспринимает звучание бара-
бана как мистический зов, которому он не в силах проти-
востоять. Этот сюжет воплощен в романе Гальегоса «Бед-
ный негр» (см. анализ в гл. II, р. IV, 2). Точно такой же
сюжет лежит в основе рассказа Услара-Пьетри «Пляски
под барабан». Негр-дезертир прячется в лесистых горах
неподалеку от родного селения. И вот однажды ночью он
слышит манящую дробь барабана. Иларио знает, что в се-
лении его схватит полицейский комиссар, а потом будет
порка и мучительная смерть, и, однако, понимая все это,
он не может противиться «зову» и спускается в селение:
«Ритмы бьются в его крови, в его зрачках. Прерывистое
дыхание, полуоткрытые губы, помутневшие глаза» (80).
Во время танца дезертира хватают полицейские. Обратим
внимание: поддаваясь зову, герой нарушает запреты со-
циума и совершает поступки в высшей степени свободного
человека (в романе Гальегоса негр мало того, что бежит из
барака, но и переступает расовые барьеры, совокупляясь с
белой женщиной). Это поступки не только свободного, но и
естественного, природного человека. Барабанная дробь
как бы раскрепощает героя и ведет его на свидание с жен-
щиной — то есть к обладанию «своим» миром. Сама мис-
тическая неодолимая сила барабанного зова указывает на
то, что исходит он от природы, от самой земли: это зов хто-
нический.
265
Барабанная дробь влечет негра к танцу. Для креоль-
ской и афроамериканской народной хореографии харак-
терны связь с пением и бытование парных танцев, восхо-
дящих к европейским салонным танцам XVI—XIX вв.30.
Парный танец — это, в сущности, эротика, выраженная
языком хореографии; в особенности же эротичны афроаме-
риканские песенно-танцевальные жанры (румба, самба,
малембе и др.). В латиноамериканской литературе этот
эротизм переосмыслен таким образом, что танец представ-
ляется либо прологом к любовному акту, либо — что
чаще — аналогом любовного акта: «Петлей меня оплетают
/ твои ноги вплетенные в пляс...» (Гильен, 35); «Хочу тебя
выпить залпом / залпом, как крепкий ром, / хочу тебя вы-
пить в танце / шальном!» (Гильен, 38). Апофеозом извест-
ного стихотворения «Румба» X. С. Тальета становится
сцена соития.
Как песня заставляет героев припадать к земле, так и
танец швыряет их на землю, и в любовном акте происхо-
дит единение героев с их почвой. Подобно священнодейст-
вию пения и игре на музыкальных инструментах, посред-
ством которого достигается полное слияние человека со
средой, танец также предстает как сакральный акт приоб-
щения к подлинности.
В Америке практика массовых
4. Жертвоприношение человеческих жертвоприноше-
ний существовала только у ац-
теков и, в гораздо меньших масштабах, у майа; что касает-
ся других индейских народов, в том числе инков, то они
практиковали человеческие жертвоприношения достаточ-
но редко, и то лишь в исключительных случаях. Книги
хронистов и записи конкистадоров показывают, какой
«культурный шок» испытали европейцы, столкнувшись с
человеческими жертвоприношениями. В европейском вос-
приятии эта ритуальная практика отныне соотносилась
главным образом с Америкой и с автохтонными индейски-
ми культурами; соответственно она входит и в латино-
американское художественное сознание — как некий от-
личительный признак, один из элементов культурной само-
бытности. Другая причина распространения этой темы ви-
266
дится во взаимодействии с европейской культурной тра-
дицией.
Тема жертвоприношения составляет одну из важнейших
констант европейской культуры, в особенности христиан-
ской ментальности. Идея Христовой жертвы была воспри-
нята латиноамериканцами вместе с католической религией.
Однако, как показывают литературные тексты, художест-
венные интерпретации страстей Господних и жертвоприно-
шения в целом в латиноамериканской литературе весьма от-
личаются от канонических религиозных интерпретаций.
Как и во многих других случаях, латиноамериканские пи-
сатели отталкиваются от европейских констант.
Программным в этом отношении можно считать роман
Роа Бастоса «Сын человеческий». Обратим внимание на
описание праздника страстной пятницы в селении Итапе
(25—26). «Жители Итапе справляли этот праздник на
свой, особый лад»,— отмечает писатель, как бы заранее
предупреждая читателя об инаковости латиноамерикан-
ской интерпретации страстей Господних. «... Обряд начи-
нался прямо с «семи слов», за которыми следовало снятие
с креста. Дрожащие скрюченные пальцы тянулись к рас-
пятому искупителю и чуть ли не срывали его с креста в
каком-то злобном нетерпении». Кощунственное «нетерпе-
ние» имеет глубокий смысл. Крест воспринимается двоя-
ко. С одной стороны,— это орудие казни; стремление же
отторгнуть мученика от креста таит в себе внутренний про-
тест против казни, а значит, и неприятие жертвы — по
крайней мере в том качестве, в каком это жертвоприноше-
ние принято трактовать. С другой стороны, распятие —
символ христианства, официальной церкви, так что сня-
тие с креста символически обозначает неприятие церков-
ных догматов. Эту мысль явно подчеркивает автор:
«Внутрь церкви Христа никогда не вносили. Толпа стояла
у паперти, а песнопения становились все громче, превра-
щаясь в угрожающие воинственные крики». Наконец, при
снятии с креста происходит пространственное перемеще-
ние фигуры богочеловека сверху вниз, с высоты распя-
тия — в руки людей, то есть как бы вочеловечивание боже-
ства в его приближении к земле. «Этот грубый, примитив-
ный обряд питался духом противоборства, духом коллек-
267
тивного бунта,— обобщает повествователь.— Казалось че-
ловеческое естество не желает мириться с запахом жер-
твенной крови...». Роа Бастос прямо указывает на то глав-
ное, в чем противостоят друг другу каноническое и народ-
ное религиозное мышление. Это ключевой момент — вос-
приятие жертвы. Как показывает дальнейшее развитие ро-
мана, народ (и писатель, говорящий его устами,) не отри-
цают жертвоприношения вообще — они не приемлют тот
смысл жертвоприношения, который воплощен в образе
Христа. «Возможно, простодушные жители Итапе не
могли постичь смысла этого таинства,— поясняет автор.—
Либо Христос — Бог, тогда он не мог умереть. Либо он —
человек, тогда его кровь пролилась на их головы напрасно,
не искупив ни единого греха, так как если жизнь и пере-
менилась, то только к худшему».
Писатель как бы невзначай определяет то, что состав-
ляет основу христианского понимания жертвы: искупле-
ние за грехи — если не свои, то чужие. И в том, и в другом
случае, жертвоприношение предстоит как род наказания,
покаяния и очищения. Именно эта концепция жертвопри-
ношения вызывает бессознательный протест жителей
Итапе и сознательное неприятие автора, который предла-
гает в романе свой вариант «страстей господних». Этот
сюжет подробно рассматривался ранее в связи с мифообра-
зом воды (см. гл. И, р. I, 1), поэтому отметим здесь лишь
то, что, несмотря на обилие аналогий с евангельским сю-
жетом, жертвоприношение Кристобаля Хары, спасшего
батальон от гибели, вовсе лишено мотивов искупления и
по сути своей глубоко полемично по отношению к канони-
ческому сюжету. Смысл мученической смерти Кристоба-
ля — не в расплате за грехи людские и не в очищении, а в
спасении конкретных людей, которым он доставил воду —
жизнепорождающую субстанцию. Жертвоприношение пред-
стает как акт жизнеутверждающий.
Концепция парагвайского писателя, как представляет-
ся, парадигматична для латиноамериканского художест-
венного сознания. Разумеется, в латиноамериканской ли-
тературе встречается и вполне традиционная христиан-
ская трактовка жертвоприношения, но если говорить о
самобытной, характерной для данной литературы интер-
268
претации мотива, то она проявляется в двух основных мо-
ментах: жертвоприношение соотносится с автохтонным
миром и предстает прежде всего в качестве строительного
ритуала, в то время как семантика искупления либо не
присутствует вовсе, либо отходит на второй план. Эти мо-
менты тесно взаимосвязаны, поскольку индейские жер-
твоприношения не имели искупительного смысла, а прак-
тиковались, главным образом, для того, чтобы «подпиты-
вать» богов магической энергией с целью увеличить их
влияние на человеческую жизнь31. Такой смысл имели и
массовые человеческие жертвоприношения у ацтеков, ко-
торые считали человеческую кровь божественной, маги-
ческой субстанцией, необходимой для поддержания жизни
богов и отсрочки неизбежной катастрофы эпохи Пятого
Солнца32. В древнем Перу практиковали обычай «удоб-
рять» поля кровью людей и животных.
Не стоит комментировать те сюжеты, в которых жер-
твоприношение имеет непосредственное отношение к ин-
дейской ритуальной практике. Возможно, о мотиве жер-
твоприношения вообще не стоило бы говорить, если бы в
латиноамериканской литературе он ограничивался только
такими «этнографическими» воплощениями; но этот
мотив представлен гораздо шире.
В своеобразной трактовке он ярко проявился еще в ро-
мантической литературе — в упоминавшихся историчес-
ких романах Э. Асеведо Диаса. Выше говорилось, что уру-
гвайский писатель воплощает этнотип посредством мифо-
образов кентавра и амазонки (см. наст, гл., р. II, 4, 7).
Привлекает внимание почти буквальное повторение в' раз-
личных произведениях писателя одной и той же сцены:
женщина («амазонка») защищает от пули своего возлюб-
ленного («кентавра») и умирает прямо на нем. В рассказе
«Бой в развалинах» «амазонка» Ката, спасшая повстан-
ческий отряд, смертельно раненная, с трудом добирается
до трупа сержанта, своего «дружка»: «Так они и остались
лежать крест-на-крест, в одной большой луже крови...»33.
Не вызывает сомнения, что эта сцена имеет символичес-
кий смысл. Она неизменно включает в себя два момента.
Первый: женщина спасает воина (или воинский отряд, как
в рассказе) ценой собственной жизни — то есть она прино-
269
сит себя в жертву (не случайно в вышеприведенной цитате
возникает образ креста). Второй: жертвоприношение неиз-
менно сопровождается телесным воссоединением «амазон-
ки» и «кентавра» (она умирает прямо на нем и ее кровь
смешивается с его кровью). В этой связи обращает на себя
внимание финал романа «Исмаэль» — беседа двух мона-
хов. «Почему всюду кровь? — спрашивает один; другой,
выражая идею автора, отвечает: «Видно, кровь — лучшее
удобрение, от нее плодоносит земля!»34. Воссоединение ок-
ровавленных тел, происходящее на грани жизни и смерти,
предстает как метафора акта совокупления и оплодотворе-
ния: так рождается новый этнос. Одновременно происхо-
дит воссоединение этнотипических персонажей с землей и
«удобрение» земли кровью. Жертвоприношение, тем са-
мым, трактуется как акт жизнетворения, акт созидатель-
ный и необходимый.
Сходная интерпретация наблюдается в ранней поэзии
модерниста Р. Хаймеса Фрейре с характерным для нее на-
вязчивым присутствием мотивов битвы, убиения, крови,
кровопролития. В эстетике боливийского поэта битва
(равно как и мифообраз варвара) выступает в самом «очи-
щенном», архетипическом образе: в ней нет правых и ви-
новатых, победителей и побежденных, целей и следст-
вий — она является спонтанным выражением и квинтэс-
сенцией Жизни. На это указывает и символика крови и
красного цвета, доминирующего в палитре. В фольклор-
ной традиции многих народов кровь и красный цвет сим-
волизирует жизненную силу. В художественном мышле-
нии Хаймеса Фрейре окровавление и окрашивание в крас-
ный цвет предстают как акт жизнетворящий, кульмина-
ция жизненного процесса. Коллективное жертвоприноше-
ние битвы трактуется как способ бытия и высшая ступень
самореализации варварского мира.
В поэзии Г. Мистраль окровавление метафорически обо-
значает поэтическое творчество. В данном случае на пер-
вый план выступает мотив самопожертвования: поэтесса
«выпускает кровь из своего сердца», чтобы одарить людей
песней:
«Вечерний час,— он кровью неизменно
окрашивает горы. (...)
270
Есть где-то сердце, чьею кровью вечер
вершину эту полил, как водою. (...)
Печальную одну и ту же песню
я запеваю в этот час несмело.
Не от моей ли крови
вершина заалела?
На сердце руку я кладу и слышу:
оно ушло из тела» («Вершина», 166).
Возможно, этот образ (повторенный и в других стихо-
творениях) ассоциирован с ритуальной практикой ацте-
ков, которые вырывали сердце из груди жертвы. Как бы
там ни было, самопожертвование опять же мыслится не
актом искупительным, а творческим, созидательным. На
это указывает и название стихотворения, метафорически
выражающее идею духовного восхождения человека в про-
цессе сотворения песни. Еще отчетливее жизнетворная
сущность жертвоприношения (окровавления) выражена в
стихотворении «Верую» (157):
Верую в сердце свое, я его выжимаю,
чтобы окрасить холсты этой жизни надеждой
в красный, в розовый цвет; и стала холстина
алой одеждой. (...)
В поэзии Мистраль, равно как в прозе Асеведо Диаса и
Роа Бастоса, обнаруживается еще одна особенность лати-
ноамериканской трактовки жертвоприношения: связь
этой темы с художественным образом латиноамериканско-
го пространства. Деревянного Христа, символ народной
концепции жертвенности, находят в «сердце сельвы», в
пещере, где жил прокаженный (Роа Бастос); кровавое «со-
итие» «амазонки» и «кентавра» происходит на земле,
среди бескрайних просторов пампы (Асеведо Диас); кровь,
выжимаемая из сердца, окрашивает вершины гор, как вер-
шины теокалли (Мистраль). Герой Астуриаса, разорив-
шийся пеон, жертвует собою, чтобы поднять бунт перво-
родного пространства против чужеродного («Ураган»);
Майари, героиня того же писателя, венчается с рекою,
уверовав, что жертва ее необходима для индейского вос-
стания («Зеленый папа»). Вот еще один примечательный
пример — из Гуиральдеса (речь в данном случае идет о
271
жертвенном животном). Герой вступает в единоборство со
свирепым быком, горя безрассудным желанием убить жи-
вотное (хотя никакой надобности в этом нет). Героем дви-
жут безотчетные древние инстинкты, которые возродило в
его душе само пространство пампы. Юноша, раненый, на-
стигает быка и совершает ритуальное убийство: «... я по-
грузил клинок по самую рукоять в шею быка. Горячая
струя крови, ударив, залила мне руку и штаны. Бык из
последних сил хотел вскочить, но тут же рухнул. Я сел
рядом и прижался к нему головой, словно малое дитя.
Прежде чем окончательно потерять сознание, я почувство-
вал, как мы оба замерли среди бескрайних просторов
пампы» (133—134). Акт жертвоприношения здесь сопря-
жен с ритуалом инициации, который в латиноамерикан-
ской литературе подразумевает приобщение человека к его
миру (см. наст, гл., р. I, 3). Казалось бы, бессмысленное
убийство быка имеет сокровенный смысл: в апофеозе тав-
ромахии происходит единение человека, животного и про-
странства, их породившего, и союз этот скрепляется жер-
твенной кровью животного, окропившей человека и
землю. Образ «малого дитяти» тоже не случаен: он выво-
дит к мотиву латиноамериканского «младенческого мира»
и к эпохе первоначала времен.
Следует оговорить, что в латиноамериканской литера-
туре, наряду с указанной, существует и другая, негатив-
ная трактовка ритуала жертвоприношения. Однако на-
звать эти тенденции противоположными не вполне право-
мерно, поскольку обе они изначально ассоциируют жер-
твоприношение с латиноамериканским автохтонным ми-
ром. Расхождение коренится в писательском отношении к
этому миру. Позитивистское неприятие варварства, естест-
венно, наложило отпечаток и на интерпретацию ритуала
жертвоприношения, этого порождения варварского мира.
Эта негативная концепция жертвоприношения впоследст-
вии так или иначе проявилась в теме диктатуры. Будучи
фатальным порождением мира варварства, диктатура осу-
ществляется в непрестанном кровопролитии, в цепочке
индивидуальных и массовых жертвоприношений. В рома-
не Кортасара «Экзамен» наступление диктатуры, метафо-
рически осмысленное в образе гибнущего города, названо
272
«тучным жертвоприношением» (244). В романах Услара-
Пьетри, Отеро Сильвы и А. Поссе о Лопе де Агирре сам ис-
торический материал навязывает образ варварских жерт-
воприношений: по мере продвижения отряда в глубь сель-
вы убийства подозреваемых в измене теряют всякую ос-
мысленность и становятся привычным ритуалом. Дикта-
тор, агент варварского мира, воплощение фатума, как бы
не властен над собою и потому также может осмысляться в
образе жертвы. Такое уподобление, например, постоянно
мелькает в «Осени Патриарха» Гарсиа Маркеса: «Он стал
добровольной жертвой и всю жизнь горел на медленном
огне чудовищного жертвенника» (268); «Весь его вид сви-
детельствовал, что он не властен над своей душой, что он
уподоблен жертвенному животному, идущему на закла-
ние» (94).
Как видно, в данной интерпретации тема жертвоприно-
шения смыкается с темой виоленсии (насилия), которая ста-
нет предметом рассмотрения следующего раздела главы.
В известной статье «Виоленсия в
5. Виоленсия современном испано-американском
романе» чилийский писатель Ари-
эль Дорфман пишет, что в Латинской Америке «насилие
сформировало особое космовидение, какое не встречается
больше нигде». И далее: «Виоленсия — самая интимная
сфера души латиноамериканца»35. Это суждение во многом
соответствует истине, и кроме того, оно полностью под-
тверждается знаменитой книгой О. Паса «Лабиринт одино-
чества».
Латиноамериканская виоленсия — сложнейший ком-
плекс, реализуемый на самых различных уровнях: социаль-
ном, коллективном, индивидуальном; на уровне фольклор-
ного сознания и художественного литературного сознания;
наконец, это и реальный феномен, и сумма психических ре-
акций, и совокупность фольклорных мотивов, и фольклор-
ный идеал (мачо), и литературная тема, и принцип сюжето-
строения, и тип героя, и модус его поведения. Мы очертим
лишь ту проблематику, которая имеет отношение к теме дан-
ной книги; однако по необходимости придется кратко ука-
зать на социальные корни этого феномена.
273
История Латинской Америки началась с насилия и наси-
лием же продолжалась. Только в Мексике и Центральном
Перу конкиста носила единовременный характер и закончи-
лась с падением империй инков и ацтеков; но в большинстве
других стран жестокие войны с индейцами продолжались
вплоть до XVIII в., а в Чили и в Аргентине — ив XIX в. Гро-
мадные территории континента колонистам приходилось за-
воевывать дважды: сначала у индейцев, а затем в тяжкой и
ожесточенной борьбе с дикой «необузданной» природой.
Самой варварской формой насилия стала беспрецедентная по
своему размаху американская работорговля. Войны за неза-
висимость не принесли континенту избавления от насилия:
молодые государства погрузились в полуторавековой крова-
вый хаос междоусобиц, переворотов и диктатур.
Этот жестокий опыт, при котором насилие было явлением
обыденным, нормой бытия и средством выживания, не мог
не сказаться на психологии латиноамериканца, а вместе с
ней — на коллективном сознании и в фольклоре. Двухсо-
тлетняя борьба за выживание формировала в фольклорной
среде иные, чем у испанца, этические принципы, моральные
установки и нормы общежития. Культ силы становится
одним из столпов коллективного сознания и переходит в
фольклор, выполняя при этом нормативно-этическую и вос-
питательную функцию. В традиционно «мужском» сообще-
стве, где женщина играла самую подчиненную роль, форми-
руется и соответствующий мужской идеал.
Само слово «виоленсия» в литературных текстах появ-
ляется достаточно редко (а в фольклорных не встречается
вовсе) и, однако, она так или иначе присутствует в подав-
ляющем большинстве крупных прозаических произведе-
ний, а некоторые, например, романы Варгаса Льосы «Зе-
леный дом», «Война конца света» — буквально переполне-
ны насилием. Попытаемся выделить важнейшие смысло-
вые компоненты этого художественно-мифологического
комплекса.
А. Дорфман очень точно указывает некоторые сущест-
венные отличия европейской художественной концепции
насилия от латиноамериканской. В западноевропейской
литературе, пишет он, насилие существует как бы вне пер-
сонажа и представляется в качестве выбора одной из ори-
274
ентаций. Обычно рефлексирующие положительные герои
европейской литературы приходят к отрицанию насилия.
В латиноамериканской литературе «виоленсия избирает
человека с момента рождения... Виоленсия — это среда,
куда помещен герой; если он откажется прибегать к наси-
лию, то его ждут либо смерть, либо бесчестие, либо потеря
контакта с окружающими. (...) Виоленсия становится до-
казательством существования человека36. Действительно,
у латиноамериканского героя нет той свободы ориентации
в мире насилия, какая даруется герою европейскому; он
ставится перед жестким выбором, который сформулирован
в романе Ортиса «Гуюнго»: «Порой законы сельвы застав-
ляют выбирать: убить, быть убитым или прослыть трусом»
(217). На самом деле третьего не дано, ибо ни один герой
латиноамериканской литературы, обладающий хоть кап-
лей человеческого достоинства, от вызова не уклонится.
Выбор, таким образом, сводится только к двум позициям:
убить или быть убитым.
Виоленсия предстает как нечто фатальное, и потому
она сопряжена с темой рока, а подчас и замещает ее. Это
характерное свойство латиноамериканского насилия с за-
мечательной глубиной раскрыто в «Хронике смерти, объ-
явленной заранее» Гарсиа Маркеса. Абсурдистский по ев-
ропейским меркам сюжет повести выглядит чуть ли не ре-
алистичным по латиноамериканским канонам. Напомним
вкратце этот сюжет. После первой брачной ночи муж отсы-
лает молодую жену в родительский дом, обнаружив, что
она не девственница. Под нажимом матери, женщина ука-
зывает на Сантьяго Насара как на виновника своего позо-
ра. Братья невесты оказываются перед выбором (вернее,
отсутствием такового), о котором говорилось выше. Бра-
тьям очень не хочется убивать Сантьяго и потому они при-
бегают к различного рода уловкам: ждут виновника не
там, где он обычно ходит, рассказывают всем направо и
налево о задуманной мести, надеясь, что люди предупре-
дят и полицию, и жертву... Все напрасно: убийство свер-
шается вопреки их усилиям и помимо их воли, свершает-
ся, потому что обязано произойти. Фатум не терпит аль-
тернативы. Весьма редкие и нетипичные попытки героев
латиноамериканской литературы противостоять насилию
275
или же уклониться от него терпят провал. Герой «Доньи
Барбары» Гальегоса Сантос Лусардо — цивилизатор, прин-
ципиальный противник виоленсии и варварства в своей
борьбе с варварским миром, можно сказать, победил во
всем, кроме одного: он не смог уклониться от насилия и
убил человека: «Все усилия, направленные на то... чтобы
подавить в своей крови тягу к насилию...— и, напротив,
выработать собственную линию поведения, свойственную
человеку цивилизованному, в ком инстинкты подчинены
дисциплине принципов — все, из чего состояла трудная и
упорная деятельность лучших лет его жизни, гибло те-
перь...» (266). «Теперь он не мог повернуть вспять» (267).
Дальнейшая цивилизаторская деятельность героя тоже
продолжится в русле насилия — на сей раз над прост-
ранством.
Важнейшая специфическая черта художественной кон-
цепции виоленсии проявляется в теснейшей связи насилия с
образом «своего» мира. Виоленсия и пространство объедине-
ны уже тем, что они сочетаются с мотивом рока: они фаталь-
но предопределяют судьбу героя. Главное же, виоленсия
есть прямое порождение латиноамериканского мира, что,
в сущности, отражено в клишированных выражениях типа
«закон сельвы», «закон пампы», «закон льяносов» и т.п.
«Закон насилия», устанавливаемый не людьми, а про-
странством, мыслится как некая «божественная» дан-
ность, нечто, уподобленное космической силе. Во многих
латиноамериканских романах наблюдается весьма харак-
терное развитие сюжета путешествия: по мере продвиже-
ния героев в глубь материка «накал» насилия возрастает.
Еще одна особенность виоленсии состоит в том, что она
выступает в качестве связующего звена между героем и
миром и мыслится как способ достижения гармоничного
равновесия героя со средой. Агрессия природы или социу-
ма порождает ответную агрессивную реакцию героя. Само
переступание границы латиноамериканского мира — есть
как бы вызов среде, за которым последует поединок с не-
избежным выбором: либо победить (насилием), либо уме-
реть (от насилия). Акт виоленсии, являясь ответом на
вызов среды, тем самым становится и средством установ-
ления контакта со средой. Очевидно, именно в этом ключе
276
следует интерпретировать одну не вполне понятную и, как
может показаться, ненужную сцену из «Потерянных сле-
дов» Карпентьера. Идиллическое бытие аркадийского по-
селения в сердце сельвы неожиданно нарушилось: некий
прокаженный, обитавший неподалеку от «города», попы-
тался изнасиловать девочку. Музыкант и Маркое, корен-
ной житель поселка, бросаются в погоню и настигают пре-
ступника. Маркое кричит музыканту: «Стреляй!»; тот
смотрит на преступника, молящего о помиловании — и не
находит в себе сил спустить курок. Тогда прокаженного
убивает Маркое. Музыкант уклонился от виоленсии — и
остался «чужаком» в мире подлинности, с которым вскоре
добровольно расстанется. Нажми он курок — и, возможно,
он бы не потерял Росарио, чьим мужем, кстати, станет
именно Маркое. Как видно, инициации посредством со-
ития с Девой Америки оказалось недостаточно для полной
интеграции в латиноамериканский мир; необходима еще
инициация насилием.
Действительно, как и всякий акт интеграции человека
с пространством, виоленсия обретает смысловую функцию
обряда инициации. Сантос Лусардо, совершив убийство,
почувствовал, «что стал другим человеком» (Гальегос, I,
267) — отныне и окружающие относятся к нему иначе —
как к «своему», а не «чужаку». Пелаес, герой Услара-
Пьетри, убив противника в первом бою, перерождается: «С
этого часа все стало по-другому» (III, 39); скромный крес-
тьянин начинает превращаться во всевластного диктатора.
Примечательная деталь из «Хроники...» Гарсиа Маркеса:
в день убийства Сантьяго Насаро повествователь с удивле-
нием чувствует в городе «запах крестильной купели» (14—
15). Крещение кровью в данном случае сродни обряду ини-
циации, которому будут подвержены все вольные и не-
вольные участники убийства.
Выделим еще одну специфическую черту латиноамери-
канской художественной трактовки насилия: его иррацио-
нализм. Хотя это свойство проявляется далеко не во всех
случаях, оно присуще виоленсии в той же степени, в какой
присуще року. Судьба действует «слепо», не сообразуясь с
логикой; так же и насилие часто не ищет поводов и осу-
ществляется спонтанно и беспричинно. Самый яркий при-
277
мер такого иррационального, беспричинного насилия
явлен в «Войне конца света» Варгаса Льосы — в истории
Жоана Большого. Негритянский мальчик, сын рабов, при-
шелся по душе сестре хозяина поместья, сеньорите Адели-
не, и она взяла его в господский дом и стала растцть, как
родного сына, окружив любовью и заботой. Прошли годы,
Жоан повзрослел, но по-прежнему пользовался привязан-
ностью добродетельной Аделиньи. Однажды, сопровождая
приемную мать в дальний монастырь, Жоан остановил ка-
дету. «Когда же синьорита Аделинья спросила, в чем дело,
Жоан Большой ударил ее по лицу с такой силой, что она
лишилась чувств, а потом... погнал лошадей на тот самый
холмик, куда ходил с хозяйкой любоваться закатом.
Там... он подверг свою госпожу изощренным издевательст-
вам: сорвал с нее платье и хохотал, глядя, как она пытает-
ся прикрыть наготу: гнал ее из стороны в сторону под гра-
дом камней, осыпая самыми мерзкими ругательствами...,
а потом вспорол ей живот кинжалом и глумился уже над
мертвой — отсек ей груди, отрубил голову, после чего, за-
дыхаясь, весь в поту, рухнул наземь рядом с трупом и за-
снул» (46—47).
Это, конечно,— крайний случай; но сама по себе бес-
причинная агрессивность персонажей встречается в лати-
ноамериканской прозе достаточно часто. Что за этим сто-
ит? Надо сказать, что подобного рода «изначальная» аг-
рессивность в высшей степени свойственна фольклорному
мужскому идеалу: «На своем буром коне / Я приехал изда-
лека, / за поясом у меня пистолет, / которым я подаю сове-
ты»37 и т.п. Однако соответствующую литературную кон-
станту вряд ли следует понимать лишь как сублимацию
фольклорного мотива. Она взаимодействует с другими эле-
ментами мифологической инфраструктуры и обретает до-
полнительные смысловые нюансы. Во-первых, беспричин-
ная агрессивность героя представляется одной из форм ин-
туитивного познания латиноамериканского мира. Виолен-
сия — это поиск героем контакта со средой и одновремен-
но акт самоидентификации: и то, и другое в латиноамери-
канской литературе происходит за пределами логики, в
некоем спонтанном духовном порыве. Чудовищную сцену
из романа Варгаса Льосы, очевидно, следует интерпрети-
278
ровать именно в этом ключе. После акта виоленсии Жоан
перемещается из замкнутого пространства господского
дома — в природную среду, куда все время стремился; из
господской игрушки он превращается в кангасейро (банди-
та), обретая тем самым свое истинное «я». Переход героя
от неподлинности к подлинности требует обряда инициа-
ции, каковым и становится акт виоленсии: расправившись
с Аделиньей, Жоан расправился со своим прошлым. Во-
вторых, иррационализм латиноамериканской виоленсии
соотносится с опорной характеристикой латиноамерикан-
ского мира — его хаотичностью, алогизмом, неупорядо-
ченностью. В этом смысле виоленсию можно понимать как
спонтанный, не вправленный в рамки здравого смысла
ответ на агрессивный «беспорядок» среды. Хаосу про-
странства латиноамериканский герой противопоставляет
деструктивную модель поведения, которая как бы уравно-
вешивает отношения человека и среды. Наконец, иррацио-
нализм латиноамериканской виоленсии можно с полным
на то основанием считать проявлением поэтики сверхнор-
мативности. Беспричинная агрессивность — это одна из
форм переступания через общепринятую цивилизацион-
ную норму и утверждение аномального, инакового способа
бытия. Кроме того, в виоленсии проявляется такая харак-
терная черта латиноамериканского героя, как одержи-
мость (см. гл. III, р. II, 1).
Условно выделим три взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих типа виоленсии: социальную, индивидуальную и
сексуальную (последняя, будучи формой индивидуальной
виоленсии, вместе с тем обладает особой семантикой и со-
ставляет ряд самостоятельных устойчивых сюжетов).
Главным агентом социального насилия является кауди-
льо (диктатор) или касик,— так сказать, местная, сель-
ская разновидность этого типового героя. О латиноамери-
канском антидиктаторском романе написано великое мно-
жество статей, книг и диссертаций, поэтому мы не станем
углубляться в эту проблематику, тем более, что образ дик-
татора неоднократно затрагивался и в данной работе в свя-
зи с другими темами и мотивами. Ограничимся нескольки-
ми общими замечаниями, существенными в контексте на-
шего исследования.
279
Обратим внимание на одну немаловажную деталь: яв-
ляясь негативным персонажем, диктатор вместе с тем не
выступает в образе героя-«чужака». Диктатор насилует
мир подлинности, распродает его «чужакам», угодничает
перед гринго, несет неисчислимые бедствия и страдания -—
но все же остается «своим», а не «чужим». Чем объяснить
этот парадокс? Сопоставительный анализ образов диктато-
ров приводит к убеждению, что эти герои не только связа-
ны с художественным образом латиноамериканского мира,
но и в определенной степени замещают его, вбирая в себя
некоторые из его важнейших характеристик. Необуздан-
ность, иррациональность, алогичность, свойственная дик-
татору, соответствует хаотичности и неупорядоченности
пространства, его породившего. В своем поведении дикта-
тор, можно сказать, воинственно сверхнормативен — слов-
но бы задался целью превзойти все мыслимые и немысли-
мые пределы (достаточно напомнить, как Патриарх Гарсиа
Маркеса подает к столу запеченного заговорщика). Дикта-
тору присущи и такие характеристики, как таинствен-
ность и первозданность: тот же Патриарх обладает «перво-
бытным инстинктом» (44), и сам он — «старше любого
смертного на земле, более древний, чем любое доистори-
ческое животное воды и суши» (27). Как видно, диктатор
укоренен в прошлом, он сам, получается, олицетворяет
мифическую эпоху первоначала времен. К тому же образ
диктатора соотносится с природными реалиями латиноа-
мериканского мира: камнем (Педро Парамо), ночью, кор-
нем (Глава Нации), с водой и даже с сакральным подзем-
ным пространством: диктаторская власть воспринимается
«... бурным потоком, который у нас на глазах вырвался из
первозданных глубин» (Гарсиа Маркес, VII, 107). Из всего
сказанного вытекает, что латиноамериканский дикта-
тор — герой амбивалентный: при всех своих отталкиваю-
щих чертах он соотносится с категориями «самобыт-
ность», «подлинность».
По сути дела виоленсия, осуществляемая тираном, анало-
гична «вызову» среды. Этот вызов порождает ответные мас-
совые формы виоленсии — мятежи, революции, войны, под-
час столь же хаотичные, беспорядочные и алогичные, как
тирания. Поэтому в социально ангажированных романах,
280
особенно прокоммунистической ориентации, писатели так
старательно навязывают коллективным актам протеста ор-
ганизованные формы, пытаясь дистанцироваться от лати-
ноамериканской иррациональной виоленсии.
Образ мачо, основного агента индивидуальной виолен-
сии, типологически схож с образом диктатора — поэтому
два типа героев легко совмещаются в одном лице. Дикта-
тор — это мачо, достигший вершин власти. Мачо (букваль-
но — «самец», переносное «настоящий мужчина») —
образ, укорененный в бытовом и фольклорном сознании
латиноамериканцев, совмещающий реальный прототип,
фольклорный идеал и тип литературного героя. В книге
«Лабиринт одиночества» О. Пас дал глубокую и всесторон-
нюю характеристику мачо как реального персонажа и ма-
чизма как психологического комплекса. Приведем не-
сколько выдержек: «Мачо,— пишет Пас,— воплощает в
себе мужское начало жизни... В нем сочетаются агрессив-
ность, неуспокоенность, непроницаемость, безоглядная
приверженность к насилию... Это сила, но лишенная вся-
кого признака порядка, это пристрастная власть, это лич-
ностная воля без тормозов и управления. Пристрастность
придает характеру элемент непредвиденности (...). Важ-
нейший атрибут мачо, сила, почти всегда проявляется как
способность ранить, разбить, уничтожить, унизить (...)•
Это власть, обособленная в своей мощи, не имеющая ни от-
ношений, ни связи с внешним миром. Это полная замкну-
тость, одиночество, пожирающее себя самое и все, к чему
оно не прикоснется»38. Обратим внимание, что в образе
мачо Пас выделяет черты, свойственные художественному
образу латиноамериканского мира в целом: хаотичность,
сверхнормативность, таинственность (в данной интерпре-
тации — замкнутость в своей сущности) и противопостав-
ленность «другим» (одиночество).
Мачо как фольклорному персонажу присущи культ
силы, агрессивность, самоутверждение, мужественность,
выносливость, презрение к смерти (и чужой, и своей) —
все эти черты воплощены суммой устойчивых фольклор-
ных мотивов, среди которых, бесспорно, главенствующее
положение занимает мотив самоутверждения. Коплас бра-
вадного содержания с клишированным зачином «я —
281
есть...» или «я — как...» получили широчайшее распро-
странение в креольском фольклоре: «Я — как речной ка-
мень: / не чувствую ни жары, ни холода; / я смерть держу
в цепях, / а дьявола — в кандалах»39.
Перемещение образа из фольклора в литературу всегда
сопровождается теми или иными изменениями, поскольку
речь идет о переходе из одной эстетической системы в
принципиально иную. Сохранив основные черты своего ха-
рактера, литературный герой-мачо получил ту глубину и
полифункциональность, какой у него не было и не могло
быть в фольклоре. В латиноамериканской литературе ма-
чо нередко выступает как герой символический, олице-
творяющий мужское начало латиноамериканского мира:
«... Мужчина-Мачо, полубог этих диких земель, не при-
знающий законов и не знающий удержу в насилии...» (Га-
льегос, III, 14). Очевидна связь этого литературного героя
с художественным образом латиноамериканского мира.
Поэтому он может выступать в качестве хтонического об-
раза — порождения земли. Герой-мачо сопрягается или
полностью сливается с другими типами героев — варва-
ром, дикарем, этнотипом, бестиальным человеком,— вот
только «чужаком» он в принципе быть не может. Кроме
того, в литературе мачо способен существовать в качестве
бесплотного образа — а именно, некоего «духа», готового
проявиться в мужчине в любую минуту. Нередко этот дух
осмысляется в образе «другого» человека, живущего в под-
сознании цивилизованного латиноамериканца. К примеру:
Маркое Варгас бросил оскорбительный взгляд на женщину
и,— отмечает Гальегос,— «не сам Маркое делал это, а си-
девший в нем другой человек, в любую минуту готовый к
схватке, создание варварского духа этой земли, существо,
называемое здесь мачо» (III, 218). Тот же мотив настойчи-
во акцентируется в романе Джардинелли: Рамиро, изнаси-
ловавший девочку, не может избавиться от ощущения,
будто чудовищные поступки совершает не он, а кто-то
«другой». Вполне очевидно, что в душах героев происхо-
дит сублимация «духа земли», «зова пространства», «го-
лоса прошлого»: подлинное (пусть и негативное, но все
равно подлинное) пробивается из глубины — наружу, раз-
рушая пристойные маски. Наконец, литературный герой-
282
мачо, в отличие от фольклорного,— персонаж амбивалент-
ный: столь же притягательный, сколь и отталкивающий,
источник опасности и объект любования.
Особая сфера проявлений мачо — отношения с жен-
ским полом. По этому поводу О. Пас пишет: «В мире, скро-
енном по мужской мерке, женщина остается лишь отраже-
нием воли и желания мужчины (...). Женщина воплощает
жизнетворную субстанцию, по сути своей безличную, и по-
тому она не имеет права на собственную жизнь. Стремле-
ние стать самой собою, госпожой своих желаний, страстей
или капризов воспринимается как нарушение ее естест-
ва»40. Социолог Бернадита Льянос интерпретирует эту мо-
дель отношений полов в мифологических терминах: «...
Мачизм устанавливает отношения полов в соответствии с
архетипической моделью, символизирующей сотворение
космоса посредством взаимодействия мужского и женско-
го начал. (...) Мужчина воплощает божество, позволяющее
женщине войти в священную область замкнутого про-
странства очага. Чтобы войти в эту мифическую зону, жен-
щина должна признать непререкаемую власть божества,
без которого она низвергнется в пучину мирского и про-
фанного, в пучину десакрализованной истории»41.
В креольском фольклоре мачистское отношение к жен-
щине проявляется в обширнейших сериях коплас, содер-
жащих мотивы женоненавистничества, сексуальной брава-
ды, похвальбы обилием любовниц, сопоставления женщи-
ны с вещью или животным и т.п.42.
Все эти фольклорные мотивы, так или иначе выражаю-
щие идею господства мужчины над женщиной, воплоти-
лись и в литературе при воссоздании характера мачо. Не-
редко они подаются в том же утрированном виде, что и в
фольклоре, тем самым демонстрируя стремление писателя
выделить «аутентичность» героя. В качестве примера
можно привести сцену из романа «Рисаральда» колумбий-
ского писателя Б. Ариаса Трухильо. Негр Хуанчо просит
своего друга уступить ему жену, однако тот не соглашает-
ся. Спор приводит к поединку на мачете. Хуанчо побежда-
ет, отрубает другу голову, поднимает ее за волосы и, глядя
в мертвые глаза, сочувственно говорит: «Какая жалость!
Ведь мой приятель был неплохим человеком. Но я его по-
283
бедил, потому что я — мачо». После чего идет к жене уби-
того и сообщает ей, что теперь она вдова, и он станет ее
новым хозяином. Женщина воспринимает известие с не-
возмутимым спокойствием и безропотно подчиняется но-
вому господину43. Эта сцена может показаться гротеск-
ной — однако в контексте поэтики романа она, одна из
многих подобных, вовсе не выглядит таковой.
Мужчина-господин, мужчина-бог — одно из воплоще-
ний героя-мачо. Другую ипостась мачо можно назвать сек-
суальным трикстером. Для него цель жизни сводится к
смене женщин, иначе говоря, к бесконечному архетипи-
ческому повторению акта победы над женщиной и овладе-
нию ее телом.
Персонажи подобного рода также восходят к фольклор-
ным моделям и во множестве встречаются в латиноамери-
канской литературе; иногда они становятся главными ге-
роями произведений. В центре лучшего панамского рома-
на — «Магический остров» Р. Синана стоит негр Чомпипе,
обладающий феноменальной половой потенцией вкупе с
необыкновенной хитростью и изворотливостью и вызываю-
щий явную симпатию автора. Вся жизнь Чомпипе, начи-
ная с отрочества, предстает как непрерывная череда лю-
бовных похождений, а проделки, на которые он пускается
для достижения очередной цели, поражают изощреннос-
тью. Но его приключения заканчиваются плачевно: друг
Чомпипе, чью жену тот соблазнил, из чувства мести опаил
его сонным зельем, затащил в церковь и привязал к алтар-
ному кресту, на котором Чомпипе и нашел свою смерть.
Такой же символический сюжетный ход использован в по-
вести «Курупи» Роа Бастоса. О ее герое, неуемном соврати-
теле женщин Мелитоне Икаса, автор говорит: «Возможно,
он не сознавал, что жесток, зол и коварен, как не сознает
своей разрушительной равнодушной мощи явление приро-
ды» (270). Свершая мщение за поруганную честь сестры,
братья Гойбуру привязывают распутника к распятию,
предварительно отодрав деревянную фигуру Христа и бро-
сив ее «в траву, как ненужный хлам» (294). Это — тот
самый крест, который стоит на холме возле деревни Итапе
и создает сакральный центр селения. Символика этого сю-
жета, как в первом, так и во втором случае, очевидна:
284
мачо, самец, распутник, «апостол» плотской любви и сек-
суальной свободы, заменяет на кресте христианского аске-
тического- бога и выступает в роли нового, латиноамери-
канского божества.
Ипостаси мачо-«хозяин» и мачо-«совратитель» как бы
объединяются в образе мачо-«насильника». Нетрудно за-
метить, что в латиноамериканской литературе сюжет из-
насилования женщины встречается намного чаще, чем в
европейской. Но дело не только в его распространенности,
а в том, что трактован он совершенно иначе. У европей-
ских писателей изнасилование обычно предстает как зло-
действо со стороны мужчины и тяжелая, подчас неперено-
симая психическая травма для женщины. Насильник не
может вызывать никаких симпатий автора. Акт изнасило-
вания, как правило, становится непреодолимым барьером
для дальнейшего общения участников драмы.
В латиноамериканской литературе этот сюжет часто
развивается по-другому. После попыток сопротивления,
подчас весьма условных (в отличие от европейской герои-
ни, которая будет сопротивляться до конца), женщина
сдается и покоряется мужчине-богу, и тот, не чувствуя за
собой никакого греха, вступает в законное владение своей
«священной областью». Самое примечательное, что акт из-
насилования не разъединяет, а наоборот, соединяет муж-
чину и женщину и нередко становится прологом совмест-
ной жизни, любви, основания семьи и рода (сюжет, немыс-
лимый для европейской литературы).
Примеров подобного рода можно найти в избытке. Пер-
вый Буэндиа, угрожая копьем, принуждает Урсулу к лю-
бовному акту — так происходит созидание рода, послед-
ний представитель которого опять-таки насилует свою ку-
зину и они становятся страстными любовниками (Гарсиа
Маркес, III). В «Зеленом доме» Варгаса Льосы сержант
Литума насилует Бонифацию, после чего они сочетаются
браком. Таким же образом будущий диктатор Пелаес заво-
дит себе семью: «Всякий раз, приехав в город, он старался
увидеть ее. (...) Наталья была замужем, имела двоих детей
(...) Как-то раз он двинулся за ней следом, заговорил,
вошел в дом и сразу же бросился на нее, как зверь. Ната-
лья не противилась. Словно покорилась неизбежному
285
року. Вскоре он увез ее вместе с детьми и поселил в не-
большом доме в Сан-Андресе» (Услар-Пьетри, III, 27—28).
Еще один показательный пример — из рассказа Рульфо
«Равнина в огне»: «Из тюрьмы я вышел три года назад.
(...) Посадили... главное за то, что взял я плохую привы-
чку — увозить девушек. Из этих вот девушек одна сейчас
со мной и живет, и сдается мне, нет на всей земле женщи-
ны добрей и лучше ее» (88).
Как видно, в латиноамериканской литературе изнаси-
лование предстает как космогонический акт. Корни этой
трактовки, очевидно, следует искать в эпохе конкисты и
колонизации, которые осмысляют в образе изнаслования
девственницы. Особо явственно эта семантика проступает
в сюжете изнасилования индианки белым. Изнасилование
женщины предстает как архетипическое воссоздание исто-
рии строительства латиноамериканской культуры и воз-
вращение в эпоху первоначального времени.
В заключение раздела отметим специфическую для ла-
тиноамериканской литературы устойчивую связь темы ви-
оленсии и образов диктатора и мачо с мотивом петушиного
боя и образом петуха.
Эта ассоциация восходит ко креольскому фольклору,
где существует обширный пласт коплас, посвященных пе-
тушиным боям, а фольклорный образ петуха прочно соот-
носится с мужчиной, мачо (часто исполнитель называет
себя петухом). Латиноамериканские писатели заимствова-
ли из фольклора традиционную связь мужчина-петух, ак-
центировали ее, дополнили символическими нюансами и
распространили на тему виоленсии и на образ диктатора
(которого в фольклоре, разумеется, нет). Известный арген-
тинский драматург С. де Секко, создав латиноамерикан-
ский парафраз мифа об Оресте и Клитемнестре, разворачи-
вает действие пьесы на петушином ринге, символизирую-
щем мир виоленсии (пьеса так и называется — «Петуши-
ный ринг»). С петушиным боем ассоциируется битва,
тюрьма (Услар-Пьетри, III, 145, 245). Особенно часто ак-
центируется связь образа петуха с героем-диктатором. Ла-
тиноамериканские тираны испытывают особую привязан-
ность к петушиным боям: таков Порфирио Диас, «хромой
тиран, любитель петушиных боев» (Фуэнтес, III, 364);
286
Патриарх Гарсиа Маркеса (именно наблюдая бой петухов,
он «первобытным инстинктом» почует заговор против
себя); таков и Пелаес Услара-Пьетри: «С давних пор, когда
еще жил в деревне, любил Пелаес петушиные бои. Зная
толк в бойцовых петухах, сам их растил, выхаживал, гото-
вил к бою. Ощущал какое-то инстинктивное влечение к
этим птицам...» (130). По плану заговорщиков Пелаеса
должны арестовать не где-нибудь, а именно в петушином
цирке, куда он приедет смотреть бои (137). «Инстинктив-
ная» любовь диктатора к петуху — это любовь к своему
первообразу, к своей сущности. Жизнь диктатора протека-
ет в ринге насилия, за пределы которого ему не дано вы-
рваться. Сам диктатор уподоблен бойцовому петуху, даже
чисто внешне: так, в «Осени Патриарха» настойчиво по-
вторяется деталь: шпора на сапоге тирана. И женщин дик-
татор «должен брать с налету, как петух» (Гарсиа Маркес,
VII, 34). Даже рафинированный карпентьеровский Глава
Нации практикует этот «петушиный» способ любви с нале-
ту: «Велев Мажордомиле Эльмире приготовить себе поход-
ный мундир... он, повинуясь внезапной прихоти, вдруг ов-
ладел ею, задрав юбки, когда она стояла нагнувшись над
низким мраморным камином...» (VI, 56).
Мачо-петух — единственное из бестиальных воплоще-
ний латиноамериканского героя, имеющее отчетливый не-
гативный смысл. В этом коренится принципиальное отли-
чие литературного мотива от сходного мотива в фолькло-
ре, где он обладает позитивной значимостью.
Смерть — самая актуальная, трав-
6. Смерть матическая и личностная проблема
человеческого бытия и сознания, и
потому решение ее предполагает особую множественность
индивидуальных стратегий. Соответственно и в литерату-
ре тема смерти выделяется разнообразием индивидуаль-
ных подходов, трактовок и художественных воплощений.
Вместе с тем, как, например, убедительно показывает кни-
га Ф. Арьеса44, поверх этой многоликой множественности
отчетливо просматриваются общие тенденции и законо-
мерности, обусловленные той или иной эпохой и — под-
черкнем особо — культурным контекстом.
287
Все предшествующие главы и разделы этой книги,
включая Пространство, Время и Природу, в сущности, со-
относятся с категорией «жизнь». Возможно, нам удалось
показать наличие особого восприятия жизни у латиноаме-
риканского художника, равно как и существование систе-
мы представлений о «своей», инаковой латиноамерикан-
ской жизни. Коли так, уместно предположить, что инако-
вая жизнь должна завершаться инаковой же смертью. Об-
ращаясь к этой необъятной и сложнейшей литературной
теме, мы ставим задачей выделить некоторые наиболее
общие и самые существенные моменты художественного
воплощения смерти в латиноамериканской литературе.
Один из этих моментов как раз и состоит в специфичес-
ком соотношении категорий «жизнь» и «смерть». Надо
признать, что композиция данной книги не отражает осо-
бенностей соотношения этих категорий в латиноамерикан-
ском художественном сознании — скорее, она соответству-
ет европейской традиции, в которой жизнь мыслится как
некий событийный ряд, а смерть предстает как одномо-
ментное событие, обрывающее жизненную протяженность.
Так и здесь описания множественных и различных мани-
фестаций жизни завершаются кратким финальным разде-
лом «Смерть». Далее, с известными оговорками, можно ут-
верждать, что в европейской литературе жизнь и смерть
противопоставлены или отделены сущностным барьером.
Смерть, как правило, подразумевает переход в качествен-
но иное состояние и в другую реальность и потому зачас-
тую осмысляется в образах, содержащих семантику пере-
мещения,— будь то «порог», «уход» или «отлет». Оппози-
ция «жизнь» — «смерть», вне всякого сомнения, составля-
ет одну из важнейших констант европейской художествен-
ной традиции, воплощаясь во множестве побочных и про-
изводных противопоставлений. В трактовке этой оппози-
ции могут заменяться плюсы на минусы (жизнь — наказа-
ние, смерть — благо), но сохраняется главное — сущност-
ное противопоставление двух категорий.
Разумеется, эта оппозиция, вкупе с сопутствующими
мотивами и традиционными решениями, присутствует и в
латиноамериканском художественном сознании. Вместе с
тем, многие произведения — особенно современной лите-
288
ратуры континента — предлагают иной тип взаимосвязи
категорий «жизнь» и «смерть». Речь, подчеркнем, идет
вовсе не об индивидуальных стратегиях, поскольку этот
тип связи выверяется на достаточно обильном материале
и, как будет показано ниже, прочно соотносится как с
фольклорными мотивами, так и с некоторыми ключевыми
элементами художественного кода латиноамериканской
литературы.
Как представляется, в латиноамериканской литера-
туре художественное решение европейской оппозиции
«жизнь» — «смерть» аналогично переосмыслению дихото-
мии «любовь плотская» — «любовь духовная», о чем гово-
рилось в разделе «Эрос» данной главы. Как в том, так и в
этом случае происходит снятие противоречия в процессе
взаимопроникновения и гармонизации разнополярных
начал. Этот сущностно латиноамериканский тип соотно-
шения жизни и смерти прекрасно выразил мексиканский
писатель А. Яньес в лапидарной формуле «...самая опас-
ная и пугающая форма жизни — смерть» (30).
s Вновь обратимся к повести Гарсиа Маркеса «История
одной смерти, о которой знали заранее»: думается, что в
интересующем нас аспекте это произведение парадигма-
тично для латиноамериканского художественного созна-
ния. Отметим прежде всего неточность перевода названия
повести: «anunciada» явно перекликается с евангельским
«Anuncion» (Благовещение), и в более адекватном перево-
де название звучало бы как «Хроника предвещанной смер-
ти». А коли так, то смерть изначально лишается негатив-
ного значения и переводится из бытового контекста в план
метафорический. Европейское прочтение повести от завяз-
ки к развязке, от причины к следствию, от жизни к смерти
на самом деле не имеет ничего общего с художественным
миром произведения, поскольку этого сюжета в нем попро-
сту нет. Создается иная (можно сказать, инаковая, сверх-
нормативная) ситуация, противостоящая рациональной
логике и нормативному сюжетному ходу «мотив — убийст-
во». Оно, убийство, объявляется до пояснения мотива,
объявляется заранее и принародно, все знают о его неиз-
бежности, все ждут его и как бы оказываются погружены
в предстоящую смерть. А кроме того, убийство оттягивает-
289
ся настолько, что из хронологического измерения перехо-
дит в иное, эпическое измерение, в вечное «всегда». Полу-
чается так, что присутствие смерти состоялось прежде
самого убийства, имеющего в данном контексте уже второ-
степенное значение. Поскольку событие смерти оказывает-
ся важнее факта смерти, то смерть воспринимается как
одно из состояний жизни. Действительно, она стоит вовсе
не за порогом жизни, а присутствует в ней самой, напол-
няя собой все ее формы. Вернемся к заглавию. Коль скоро
смерть имманентна жизни, то следует возвестить об этом.
«Благовест» происходит посредством иератического ритуа-
ла, культурного жеста, который и составляет истинный
метасюжет повести.
Примечательно, что эта художественная концепция
присутствует и в раннем творчестве писателя — как то по-
казывает недавно опубликованный рассказ «Третье смире-
ние». Только в нем идея нерасторжимости жизни и смерти
выражена , что называется «в лоб». Герой рассказа — это
«живой труп»: десятилетиями недвижно лежит в гробу, но
при этом растет, слышит, чувствует. Писатель тщательно
и нарочито стирает всякие различительные грани между
жизнью и смертью: как говорится в рассказе, это — «Про-
сто-напросто смерть заживо. Подлинная, действительная
смерть...»45
Такое ощущение вневременной слиянности двух косми-
ческих начал, жизни и смерти, было в высшей степени
присуще именно мифологическому сознанию, в том числе
автохтонным американским культурам. Так, например,
ацтекская богиня смерти Коатликуэ изображалась в обли-
ке беременной старухи. Такое мировидение отчасти сохра-
нилось и в современном латиноамериканском фольклоре,
воплотившись в некоторых праздниках и карнавалах
(самый яркий из них — знаменитый мексиканский День
Мертвых с его центральным персонажем калаверой, жи-
вым скелетом). Оно просматривается и в ряде фольклор-
ных мотивов, связанных с образом «живой смерти»: «Я со
смертью, жизнь спасая,/ как-то раз слюбился смело./ Я
теперь силен: косая/ от меня затяжелела.» (мексиканская
копла)46. Если учитывать повышенный мифологический
тонус латиноамериканской литературы, ее ориентирован-
290
ность на воссоздание архетипа, то нет ничего удивительно-
го, что писатели в той или иной степени опираются на
фольклорные и мифологические традиции при художест-
венной интерпретации смерти. Фольклорный образ «телес-
ной», «живой» смерти, способной терпеть весьма запаниб-
ратское отношение, нередко появляется в латиноамери-
канской литературе. Герой Чангмарина кормит смерть
«сочным омлетом» (1, 18); в романе Гарсиа Маркеса «Сто
лет одиночества» «...смерть была такой реальной, так по-
ходила на человека, что однажды даже попросила Амаран-
ту оказать ей любезность вдеть нитку в иголку» (223) и
т.п. Из креольского фольклора герой латиноамериканской
литературы в полной мере унаследовал также чувство по-
стоянного присутствия смерти рядом с собой, в своей
душе — чувство не беспокоящее, не завораживающее, а
скорее успокающее. Словно он, герой, сделал своим деви-
зом народную коплу: «Умирать живя привыкни / до того,
как смерть нагрянет, / только мертвый жив доныне, / а
живой в могилу канет.»47
Другая важная специфическая черта интерпретации
темы смерти в латиноамериканской литературе проявляет-
ся в аксиологическом соотношении жизни и смерти. Для
героев европейской литературы главной сферой проявле-
ния их личностных качеств, идейных позиций является,
естественно, жизнь — время действий, поступков. Конеч-
но, смерть героя также может стать поступком и носить
символический, знаковый характер, и все же такой мас-
штаб она обретает, как правило, лишь в ряду предшеству-
ющих деяний. Смерть редко мыслится цельным самозна-
чимым актом, поскольку самостояние героя происходит
все-таки в жизни. Такое отношение естественно вытекает
из противопоставления жизни — смерти как бытия — не-
бытию и событийной длительности — одномоментному со-
бытию. В любом случае, достаточно трудно представить
психически нормального героя европейской литературы,
который заявит, что для него не важно, как жить, а важ-
но, как умереть.
В латиноамериканской литературе такие заявления,
выраженные прямо либо косвенно, звучат постоянно.
«Главное в жизни Арройо не как жить, а как помереть»
291
(190) — эта мысль многократно акцентируется в «Старом
гринго» Фуэнтеса. Герой романа «Порт Лимон» объясняет
своему дяде:
«— Био — по-гречески жизнь, изучение жизни. Пони-
маете?
Рохас не ответил и только немного погодя сурово спро-
сил:
— А как же смерть? Ее не изучают?
— Как? Почему?
— Ее-то и надо бы изучать. А жизнь что! Жизнь и так
все проживают» (17—18).
Признание героя гватемальского писателя Л. Кардосы-
и-Арагона можно небезосновательно отнести ко многим ла-
тиноамериканским писателям и персонажам: «Я был чу-
десным образом рожден только для того, чтобы умереть. И
я осознал, что мы всегда думаем и заботимся о смерти куда
больше, нежели о рождении.» (II, 30). Ему вторит О. Пас:
«Смерть нас пленяет, Смерть нас привлекает.»48 Мотив ут-
верждения превосходства смерти над жизнью постоянно
звучит и в творчестве Борхеса, который любит воссозда-
вать именно смертный час героя. При этом переиначивает-
ся традиционное восприятие жизни как событийной дли-
тельности в противоположении одномоментному акту
смерти. В стихотворении «Напоминание о смерти полков-
ника Франсиско Борхеса» есть такие строки:
«Он видится мне конным той заветной
Порой, когда искал своей кончины;
Из всех часов, соткавших жизнь мужчины,
Пребудет этот, горький и победный.»49
Как видим, событие смерти обретает такую значимость,
что в сравнении с ним предшествующая жизнь выглядит
бессобытийной; час смерти растягивается в измерение веч-
ности, тогда как жизнь сжимается до мгновения. Столь
же ярко этот образ выражен в «Воображаемых стихах».
В приведенных строках Борхеса ясно обозначен еще
один мотив, широко распространенный в латиноамерикан-
ской литературе и в высшей степени характерный для ла-
тиноамериканской художественной концепции смерти.
Это мотив поиска героем своей смерти, нередко перерас-
292
тающий в самостоятельный сюжет. Подчеркнем: поиск не
смерти вообще, какую ищет отчаявшийся европеец, а
именно своей смерти.
Что стоит за этим многозначимым мотивом? И почему
смерть так завораживает латиноамериканца? Ясный ответ
на эти вопросы читается в строках Кардосы-и-Арагона,
герой которого на пути к жертвенному камню возглашает:
«Смерть освобождает меня, чтобы я развоплотился и по-
грузился в самого себя, отдался своей божественной сущ-
ности и овладел собою.» (II, 24—25). Действительно, мно-
жественные примеры показывают, что в латиноамерикан-
ской литературе смерть нередко трактуется как погруже-
ние героя в свою сущность, самооткрытие и самоутвержде-
ние. В креольском фольклоре доминирует концепция
смерти как самоутверждения, в полной мере присущая и
народному сознанию, ведь это — одна из основ мачистско-
го комплекса. Для истинного мачо «достойная смерть» под-
час значит куда больше, нежели деяния жизни; во всяком
случае смерть «недостойная» раз и навсегда перечеркнет всю
героику жизни. Так, Роа Бастос пишет о своем герое:
«Своей смертью Солано Лопес обрел несравненно больший
триумф, нежели триумф его победителей» (III, 31).
В литературе на первый план выходит трактовка смер-
ти как самопознания. В стихотворении Неруды есть такие
строки: «...Умирая, мы словно тонем в самих себе, / слов-
но захлебываемся в своем сердце, / словно с поверхности
кожи падаем в пропасть души» (I, 97). В этой метафоре от-
ношения жизни и смерти выражены в категориях «наруж-
ное» — «внутреннее». Действительно, латиноамерикан-
ская трактовка оппозиции «жизнь» — «смерть» в целом
аналогична художественному осмыслению этих катего-
рий. Как говорилось (см. гл. 1, р. 1, С, 5), в латиноамери-
канском художественном построении пространства «внут-
реннее» не противоречит «наружному», но оказывается
сущностнее, приближает героя к сокровенным смыслам.
Так и смерть, не будучи отрицанием жизни, единяясь с
ней, пропитывая ее, вместе с тем оказывается более значи-
мой, поскольку выводит героя «с поверхности» — в глуби-
ну своего «я», к сердцу, душе. И подобно тому, как герой
латиноамериканской литературы в своем пространствен-
293
ном опыте старается проникнуть в глубь материка, сопри-
коснуться с землей, войти в сакральное чрево земли, пеще-
ру, так и в своем жизненном опыте он тяготеет к смерти.
Именно это тяготение и рождает метафорический мотив
поиска своей смерти.
Обратимся к понятию «своей» смерти. В европейской
культурной традиции устоялось восприятие смерти как ве-
ликой уравнительной силы, которая в конечном итоге им-
ператора делает равным рабу. Смерть носит вселенский,
интегрирующий характер. Для европейского уха по мень-
шей мере странно звучали бы слова об особой, скажем,
«китайской» или «африканской» смерти. Понятие же
«своя» смерть относится только к индивидууму и подразу-
мевает личную стратегию при встрече с неизбежным.
В латиноамериканской литературе понятие «своя»
смерть довольно часто обретает иную, куда более широкую
смыслонаполненность. Проанализируем в этом аспекте мо-
дельный рассказ Борхеса «Юг».
Герою рассказа, Хуану Дальману, автор как бы предла-
гает на выбор два варианта смерти. Первый: случайная,
бесславная смерть в городской больнице. Войдя в свой го-
родской дом, Дальман «торопливо пошел вверх по лестни-
це» (значимая деталь — движение вверх) и поранился:
«Острое ребро створки недавно окрашенной двери, кото-
рую забыли закрыть, рассекло ему бровь». Обратим внима-
ние: причиной смерти становится глупая оплошность, чис-
тая случайность. Еще одна символичная деталь: в замкну-
том пространстве городского дома дверь обозначает грани-
цу; приоткрытая граница таит в себе смертельную угрозу.
Что и происходит: у Дальмана началось заражение крови
и много дней он провел в больнице на грани жизни и смер-
ти. Больница, где предстояло умереть герою, представляет
собою модель замкнутого пространства («Проснулся он...в
какой-то камере, похожей на колодец...») и в целом симво-
лизирует неприродное, цивилизованное пространство.
Дальман выжил, тем самым сделав свой выбор в пользу
иной смерти. После выздоровления герой направился на
юг Аргентины, в свое сельское поместье — наследство
предков. Из цивилизованного (по сути своей — западноев-
ропейского) пространства города Дальман перемещается в
294
латиноамериканское пространство, которое Борхес воссо-
здает в русле тех мотивов и мифологем, о которых говори-
лось в первой главе (девственность, таинственность, бес-
предельность, амбивалентность, темпоральность): «Чисто-
та земли не нарушалась ни селениями, ни иными призна-
ками присутствия человека. В пустынных просторах было
что-то близкое сердцу и какая-то тайна.На бескрайней
равнине порою виднелся лишь одинокий бык. Безлюдие
было полнейшим и словно бы даже враждебным, и Даль-
ману чудилось, что он путешествует в прошлое, а не толь-
ко на Юг». Сойдя на полустанке, путник направился в
сельскую таверну. Здесь подвыпивший пеон без всякой на
то причины начал задирать его. Впрочем, никакой причи-
ны и не требуется, ибо пеон выступает агентом латиноаме-
риканского мира, порождающего виоленсию. Хозяин та-
верны пытался предотвратить ссору, но, как и водится,
«примирительные слова лишь запутали ситуацию» (напо-
мним, что говорилось выше о попытках уклониться от вио-
ленсии). К ногам Дальмана падает кинжал: его бросил
«вдруг оживший старый гаучо, в котором Дальман видел
знак Юга (своего Юга)...» — первопредок, символ прошло-
го, пребывавший «вне времени, в вечности.» Герой прини-
мает вызов, хотя и понимает, что для него пресловутый
выбор, навязываемый «законом пампы», сводится уже к
одной-единственной позиции — быть убитым. В прозе Бор-
хеса нет случайного — и многозначна авторская ремарка:
из правил обращения с оружием герой знает лишь, что
«удары наносятся снизу вверх и точно меж ребер». Напо-
мним: дверь ударила его как бы сверху вниз, когда он под-
нимался по лестнице. «Подлинная» латиноамериканская
смерть придет снизу и поразит не голову, а сердце. Итак, с
кинжалом, зажатым в ладони, Дальман переступает порог
(движение по горизонтали и чуть вниз) и «выходит на рав-
нинный простор» — этими словами и завершается рассказ
(120—124). Смерть в поединке сам герой воспринимает
как способ интеграции с латиноамериканским миром.
Проясняется и смысл заглавия рассказа: юг символизиру-
ет латиноамериканский инаковый, природный мир — в
противопоставление северу (США и Европе) — миру урба-
нистическому, замкнутому.
295
Итак, к латиноамериканскому образу смерти оказыва-
ется приложимым основополагающее понятие инаковости.
Поиск героем «своей» смерти подразумевает именно «ла-
тиноамериканский тип смерти», сущностно отличный от
европейского. Соответственно, в оппозиции к понятию
«свое»возникает и образ «чужой» смерти — как, напри-
мер, в стихотворении Мистраль «Чужестранка»: «...Она
умрет средь нас однажды ночью / беззвучной смертью,
смертью чужестранной» (175).
Основные характеристики латиноамериканского худо-
жественного образа смерти выявляются в его тесном соот-
ношении с другими элементами художественного кода.
Отметим прежде всего связь с виоленсией: «латиноаме-
риканская смерть» носит преимущественно насильствен-
ный характер. «Настоящий мужчина в постели не умира-
ет!» (Ортис, 70) — эта формула мачистского комплекса из-
начально предрешает судьбу многих мужских персона-
жей. Сказанное вовсе не означает, будто всякий положи-
тельный герой непременно должен погибнуть, а в против-
ном случае он перестанет быть таковым. И все же в ма-
чистском комплексе присутствует представление об иде-
альной, образцовой смерти для мужчины, в противовес ко-
торой смерть от болезни либо от старости воспринимается
как несчастье, неудача, нечто ущербное и несостоявшееся.
Как многие другие, тема смерти обнаруживает устойчи-
вые связи с художественным образом латиноамериканско-
го пространства и сопутствующими природными образами.
Теллурический характер латиноамериканской литературы
проявляется и в интерпретации образа смерти: как пояс-
няет коста-риканский писатель М. Хименес, «близость
земли облегчает смерть»50. Вполне закономерно, что образ
«латиноамериканской смерти» в немалой степени склады-
вается под воздействием переосмысленной символики по-
хорон. Могила — это аналог пещеры; подземелье мыслит-
ся сакральным пространством, а всякое углубление в
землю — актом самопостижения; соответственно, переме-
щение умершего из наружного во внутреннее «корневое»
пространство метафорически означает возврат человека к
своим истокам, к земле, его «породившей». В то же время
обряд похорон нередко трактуется и как финальное обре-
296
тение героем «своей» земли — того, что у него отбирали
при жизни. Примечателен фрагмент из романа Алегрии
«Голодные собаки»: «И Маше нашел покой в роще, а не на
кладбище, которое называлось так лишь потому, что ле-
жало за каменной оградой, и церковь брала плату за упо-
кой души. Он нашел приют на необъятной земле, за кото-
рую так долго боролся, ведь на ней еще можно надеяться и
умирать. Наконец, и у него была своя земля» (257). В опи-
сании последнего упокоения бедняка-индейца вполне оче-
видно просматривается противопоставление «свое» —
«чужое» (подлинное — неподлинное), которое проецирует-
ся и на образ смерти. Смерть «чужая» сопряжена с пред-
ставлениями о замкнутом пространстве и норме: их мета-
форически обозначает каменная ограда — стена, предел.
Главным же знаком неподлинности является плата за упо-
кой души. «Латиноамериканская смерть» связана с обра-
зами «необъятной земли» (разомкнутого пространства) и
«своей земли».
В европейской традиции смерть ассоциирована с ночью,
тьмой, черным цветом. Эта связь в полной мере сохрани-
лась и в латиноамериканской литературе, но подверглась
смысловой корректировке. Коль скоро ночь мыслится зна-
ком латиноамериканского мира (см. гл. II, р. IV, 1), то, со-
ответственно, в этот же ассоциативный ряд входит и
смерть, соотнесенная с жизнью как ночь — с днем, внут-
реннее — с наружным. И подобно тому, как именно ночью
происходят важнейшие события в жизни персонажей, так
и смерть становится главным событием в жизни героя и
окончательно выявляет его характер. Темные цвета, доми-
нирующие в палитре латиноамериканской литературы,—
это цвета подземелья тайны и смерти. Однако если сельва
нередко окрашивается в черный цвет, то нет ничего удиви-
тельного, что смерть может позеленеть : «...у смерти зеле-
ный лик / и взгляд у смерти зеленый» (Неруда, I, 97). На-
помним, что зеленый — второй эмблематический цвет Ла-
тинской Америки, символ дикости, хаотичности и перво-
зданности.
Обладая вышеперечисленными характеристиками, «ла-
тиноамериканская смерть» способна воссоединять героя с
его культурой. Именно это свойство лежит в мотиве поис-
297
ка своей смерти. Оно придает «латиноамериканской смер-
ти» еще одну специфическую черту, которую уместно на-
звать интенционностью. В европейской литературе смерть
героя (если речь не идет о самопожертвовании либо само-
убийстве) происходит как результат старения, вмешатель-
ства высших сил или рокового стечения обстоятельств. В
латиноамериканском художественном образе смерти зако-
номерность (можно сказать и необходимость) доминирует
над случайностью, причем исходит эта закономерность не
извне, а изнутри человека. Суть этого отношения очень
точно выражена репликой персонажа Гарсиа Маркеса: «Ска-
жи ему,— улыбнулся полковник,— что человек умирает
не тогда, когда должен, а тогда, когда может» (V, 197).
«Должная» — то есть предначертанная судьбой — это «ев-
ропейская смерть», способная поразить человека в любой
момент. К латиноамериканскому герою смерть приходит в
зависимости от его возможности помереть, когда он сам до
этого «дозреет», достигнет определенного уровня самосто-
яния, чтобы полностью раскрыть себя в акте умирания.
Одна из статей А. Дорфмана озаглавлена: «Смерть как
акт воображения в романе «Сто лет одиночества». Это за-
мечательно глубокое определение, равно как многие поло-
жения статьи, в сущности, относятся не только к творчест-
ву колумбийского писателя, но и ко всей латиноамерикан-
ской художественной концепции смерти. Отмечая, что в
романе Гарсиа Маркеса смерть существует как бы парал-
лельно течению жизни и присутствует в ней самой, критик
заключает: «Умереть — означает превратиться в вымысел,
легендарное слово, сон». И далее: «Смерть предстает как
акт воображения между незнанием (жизнью) и знанием
(смертью). «Умереть» и «знать» — синонимы, которые в
конце книги окончательно сливаются. Смерть — это вос-
хождение ко всем измерениям истории, окончательный
рывок к полному знанию»51.
Действительно, «победный», по определению Борхеса,
час смерти становится высшей ступенью самопознания героя
латиноамериканской литературы. За ним последует воссо-
единение с землей, откуда он вышел, выявление его нетлен-
ной костной основы, воссоединение с первопредками и до-
стижение самой глуби прошлого,— корней, которые держат
и питают древо латиноамериканской культуры.
298
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показывает, что прямое
либо косвенное обращение писателя к индейской мифоло-
гии или креольскому фольклору — не есть то главное, что
определяет общий мифологический модус латиноамери-
канской литературы. Он создается за счет обширной и раз-
ветвленной сети взаимоустойчивых и взаимодополняющих
художественных констант, мифологем, устойчивых обра-
зов и постоянных мотивов, которые в совокупности и со-
ставляют латиноамериканский художественный образ
мира. По ходу исследования мы вынуждены были теорети-
чески отчленять их друг от друга и соединять в тематичес-
кие блоки, хотя, надо прямо признать, эта классификация
носит сугубо условный, инструментарный характер и не
имеет ничего общего с цельным, подвижным, живым орга-
низмом литературы. Впрочем, невольные повторы и непре-
станные внутренние отсылки к другим главам и разделам
сами по себе демонстрируют взаимосвязанность элементов
художественного кода, как бы перетекающих друг в друга.
Отдельные мотивы могут существовать и автономно, но и в
этом случае они опираются на обширную затекстовую це-
почку образных ассоциаций. Так, например, достаточно
писателю или поэту упомянуть образ корня — как к нему
подключается вся система пространственных и культуро-
логических представлений; достаточно изобразить любов-
ную сцену на лоне природы, как тут же происходит воссо-
единение и «замыкание» образов земли, зверя, «низа» с
мотивами интуитивного познания «своего» мира, инициа-
ции, восхождения к первоначалу времен и т.д. Нет сомне-
ния, что часто художник знает или хотя бы интуитивно
чувствует возникающие цепочки образных ассоциаций и
использует их, акцентируя тот или иной мотив.
Элементы художественного кода отражают важнейшие
особенности истории континента и типологии латиноаме-
риканской культуры. В отличие от «внешних», непосред-
ственных форм воссоздания мифа и «примитивного» со-
знания, которые во многом определялись европейской
культурой и менялись в зависимости от эпохи и от направ-
ления в литературе, мифологическая инфраструктура не
299
была подвержена радикальным преобразованиям. Она ме-
нялась не качественно, а количественно: расширялась сеть
составляющих ее элементов, усложнились принципы их
взаимодействия, постоянные мотивы и образы приобрета-
ли дополнительные смысловые нюансы, появлялись новые
варианты трактовок — то есть в целом шло ее неуклонное
обогащение. Не будем забывать, что эта сумма элементов
формировалась в литературе относительно незрелой, перед
которой стояла задача выработки своего художественного
языка. Будучи опорой и частью художественного языка,
уже возникшие и утвердившиеся устойчивые образы и мо-
тивы довольно прочно входили в художественное созна-
ние. Их кристаллизации и распространению в немалой
степени способствовали писатели «второго ряда», которые
подхватывали, клишировали и мифологизировали образы,
найденные новаторами. Эти константы впоследствии вос-
принимались как часть литературной традиции, что очень
хорошо видно на примере гаучистской или негристской
поэзии.
Обобщая проведенное исследование, попытаемся вкрат-
це выделить основные своеобразные черты мифологичес-
кой инфраструктуры латиноамериканской литературы.
Латиноамериканская мифосистема синтетична — то
есть сформирована из самых различных источников и на-
пластований. Первичный и самый значимый ее слой со-
ставляют те мифологемы, образы и оппозиции, которые
обозначились еще в памятниках конкисты: «чудо», «сверх-
нормативность», «хаотичность», «девственность», «рай» —
«ад», «добрый дикарь» — «варвар» и другие. В последую-
щие века литературного развития эти элементы не только
не ослабли, но, наоборот, укрепились и еще глубже вошли
в латиноамериканское художественное сознание. Такая со-
храняемость вплоть до современности этих, казалось бы,
анахроничных элементов, отразивших первичное воспри-
ятие европейцами Нового Света, объяснима тем, что эти
элементы восполняют те опорные мифологические кон-
станты, какие давало европейским литературам их анти-
чное и эпическое наследие. Таким образом, для латиноа-
мериканских писателей литературные памятники конкис-
ты играют роль «своего» эпоса, где они постоянно находят
300
мифологические модели, пригодные для воплощения, ос-
мысления или травестирования.
Другой обширный слой составляют элементы, восходя-
щие к мифологическим универсалиям — такие, как мифо-
образы воды, реки, дерева, земли, неба, солнца, луны и
другие. Их можно возвести к индейским мифологиям, но с
тем же успехом — отыскать их корни в любой другой ми-
фологической системе. По нашему убеждению, у этих эле-
ментов нет никакого конкретного культурного источника:
они распространены повсеместно и в мифологии, и в лите-
ратуре, и в фольклоре и являются архетипами человечес-
кого сознания и культуры. Специфика использования этих
мифообразов в латиноамериканской литературе состоит в
том, что художник всячески стремится выявить их архети-
пическое начало, придать им глубокую символическую
значимость, представить их именно в качестве мифологи-
ческих, а не чисто литературных образов. Это стремление
отвечает общей тенденции латиноамериканской литерату-
ры, тяготеющей к архетипичности. Миф и архетип не под-
вержены изменениям и воплощают устойчивость, а лите-
ратура, не имеющая собственной глубокой традиции, пы-
тается найти для самовыстраивания элементы устойчивос-
ти,— и обнаруживает их, так сказать, в повышении своего
мифологического «тонуса».
Многие элементы художественного кода латиноамери-
канской литературы восходят к образам и мотивам евро-
пейской литературы, которые в ином культурном контекс-
те подверглись различного рода перетолкованиям или час-
тичным смысловым изменениям (путешествие, сон, еда,
ветер, тишина, дом, песня и др.)- Ряд устойчивых художе-
ственных элементов коренится в индейской мифологии
(маис, камень, жертвоприношение) и^в креольском фольк-
лоре (мачо, петух). Наконец, некоторые мифообразы и ми-
фомотивы родились в лоне латиноамериканской культу-
ры, иногда — как самостоятельные «ответвления» других
элементов или в результате их полной переработки (вио-
ленсия, негр, барабан, запах, сельва, зной, пот и др.).
В мифологической инфраструктуре латиноамерикан-
ской литературы можно выделить три смысловых ядра,
куда стягиваются все цепочки мотивов. Главное из них —
301
художественный образ латиноамериканского пространст-
ва. Как было показано, почти все образы тяготеют к слия-
нию с пространством и меряются пространственной мер-
кою; в том числе и все проявления бытия латиноамерикан-
ского героя по сути дела воплощают его отношения с про-
странством: его жилище, фольклор, социальное поведе-
ние. В этой, если так можно выразиться, одержимости
пространством мы усматриваем сублимацию «родовой
травмы» латиноамериканской культуры (первичную отде-
ленность пришлого человека от земли его обитания) и
стремление писателя достигнуть полного слияния со сре-
дой, тем самым уловив свою культурную сущность. Другое
смысловое ядро составляют мотивы, связанные с темой
прошлого, а именно, первоначала времен, когда зарожда-
лись латиноамериканский мир и его обитатели. Туда, в
мифическую эпоху первоначала, ведут героя природные
реалии и пространственные локусы, туда он переносится
озарениями любви, сна, музыки и насилия. Обращенность
латиноамериканского писателя к первым дням творения
отражает его стремление обрести устойчивую точку отсче-
та в прошлом для выстраивания художественного образа
своего мира и опять-таки для своей культурной самоиден-
тификации. Третье смысловое ядро складывается вокруг
образа «естественного», «природного» человека — подлин-
ного героя латиноамериканской литературы. Европейские
примитивистские мифы нашли свою землю обетованную в
латиноамериканской культуре — и не только потому, что
в Америке жили невыдуманные «дикари», но и в силу оче-
видного антиевропейского содержания примитивистских
идеологем и мифологем. Эта полемичность по отношению
к европейской цивилизации как нельзя более соответство-
вала внутренней направленности и способу развития лати-
ноамериканской культуры (см. Введение). «Естествен-
ный», «природный» человек, живущий в первозданном
девственном пространстве в эпоху сотворения мира,— вот
«идеальная» конструкция, которая во многом определяет
содержание и функционирование художественного кода
латиноамериканской литературы.
Эта мифическая конструкция явно или в подтексте про-
тивополагается европейскому образу мира, как его воспри-
302
нимают латиноамериканские художники: цивилизован-
ный человек, живущий в современности и в замкнутом не-
природном пространстве. По нашим наблюдениям, внут-
ренний полемизм вообще не свойственен традиционным
мифосистемам, возникшим на основе древнего фольклор-
но-мифологического субстрата. Их элементы и категории
определяются «из самих себя», а не из отношений с инако-
выми категориями. Традиционные мифосистемы европей-
ских и азиатских литератур большей частью строятся из
чистых архетипов и внеоценочных образов. Совершенно
иная ситуация наблюдается в латиноамериканской лите-
ратуре. Многие ее мифообразы и мифомотивы (в том числе
почти все пространственные характеристики) содержат по-
лемический подтекст, а некоторые представляют собой на-
рочитые инверсии европейских констант. Полемизм тако-
го рода, с одной стороны, выявляет некоторую несамостоя-
тельность, несамородность элементов мифосистемы, а с
другой стороны, в нем состоит важнейшая характерологи-
ческая черта латиноамериканской литературы.
Еще одна существенная особенность проявляется в ам-
бивалентности многих латиноамериканских мифообразов,
которая обусловлена, в первую очередь, амбивалентностью
художественного образа латиноамериканского пространст-
ва. Такая двойственность в отношении к своему миру, со-
четающая восхищение и ужас, неодолимое влечение и чув-
ство фатального самоуничтожения, отражает первичную
отделенность пришельца от чужеродной среды, а также
противоречивое восприятие Америки европейцами.
Как представляется, мифологическая инфраструктура
латиноамериканской литературы, несмотря на ее многосо-
ставность и позднее формирование, отличается от тради-
ционных мифосистем западноевропейских литератур боль-
шей жесткостью и системностью. Это проявляется в том,
что отдельные мифомотивы в определенных трактовках
прослеживается у большого ряда писателей почти без из-
менений, и использование одного мотива часто неизбежно
подразумевает привлечение другого, с ним взаимосвязан-
ного, а то и целой цепочки образов; при том художествен-
ный код обладает сильным внутренним давлением и может
определять как наличие тех или иных мотивов, так и их
303
трактовки. Примеры таких взаимозависимостей не раз
были явлены в основной части работы. Отчасти именно эти
свойства придают многим произведениям ту внутреннюю
пульсацию архетипичности, какая во многом определяет
мифологический модус латиноамериканской литературы.
Возможно, эта особенность проистекает из внутреннего пи-
сательского ощущения несформированности художествен-
ного языка своей культуры. Выстраивание художественно-
го языка и происходит путем выделения устойчивых эле-
ментов и утверждения их архетипического качества. Чув-
ство неполноты художественного языка компенсируется
избытком мифологизма.
В этом, как представляется, состоит главная епецифи-
ческая черта функционирования мифологической инфра-
структуры латиноамериканской литературы. Мифосисте-
мы европейских литератур составляют базис художествен-
ного мышления; они — суть данность и заданность, как
почва, на которой выросло древо той или иной культуры.
Мифосистема латиноамериканской литературы — это не
столько данность, сколько результат формирования своего
художественного языка. Иначе говоря,— это процесс роста
древа культуры, которое само создает почву для своего
взрастания.
304
ПРИМЕЧАНИЯ
Примечания к Введению
1 См. напр. Ortiz Aponte S. Esoteria en la narrativa latino-
americana. Rio Piedras (Puerto Rico), 1977.
2 Гачев Г. Национальные образы мира. M., 1988.
3 История литератур Латинской Америки. Кн. 1. М., 1985.
Введение; часть 2, гл. 2, 6.
4 Земское В. Латиноамериканская литература как модель
культуры. Латинская Америка. 1991, № 7. С. 65.
5 Гирин Ю. К вопросу о латиноамериканской модели мира. Ла-
тинская Америка. 1993, № 9. С. 64, 65.
6 Keyserling H. Meditaciones suramericanas. Santiago de Chile,
1931. p. 156—157.
7 Boas G., Lovejoy A. A Documentary History of Primitivism
and Related Ideas in Antiquity. Baltimore, 1934. Boas G. Essays on
Primitivism and Related Ideas in the Middle Ages. Baltimore, 1948.
Levin H. The Myth of the Golden Age in the Renaissance. Indiana,
1969. Runge E. Primitivism and Related Ideas in Sturm und Drang
Littérature. Baltimore, 1946.
8 Ainsa F. Identidad cultural de Iberoamerica en su narrativa.
Madrid, 1986.
9 Paz O. El Laberinto de la soledad. Mexico, 1979.
10 Dorfman A. Imaginación y violencia en America. Santiago de
Chile, 1970.
11 Francovich G. Los mitos profundus de Bolivia. La Paz, 1980.
Примечания к первой главе
1 Доминго Фаустино Сармъенто. Серия «Литературные памят-
ники» Послесловие В. Земскова. М., 1988.
2 Подробнее см. Кофман А. Проблема «магического реализма»
в латиноамериканском романе.— В кн.: Современный роман.
Опыт исследования. М., 1990. С. 198—200.
3 Колумб X. Письма и дневники. М., 1961.
4 Элиаде М. Космос и история. М., 1987. С. 36.
5 Мораэс Р. Амазонская низменность. М., 1965. С. 35.
6 Fernandez de Oviedo у Valdes G. Historia general y natural de
las Indias. Asuncion del Paraguay, 1944—1945. T. 3, p. 252.
7 Honour H. The New Golden Land. European Images of America
from the Discovery to the Present Time. London, 1975. P. 84—118.
305
8 Земское В. Категории гармонии и дисгармонии в латиноаме-
риканском культурном процессе.— В кн.: Iberica Americans. Ме-
ханизмы культурообразования в Латинской Америке. М., 1994.
9 Элиаде М. Указ. соч. С. 43, 39, 43.
10 Ainsa F. Identidad cultural de Iberoamerica en su narrativa.
Madrid, 1986. PP. 441, 232.
il Элиаде M. Указ соч. С. 38.
12 Земское В. Новая Земля Алехо Карпентьера.— В кн.: Алехо
Карпентьер. Избранное. М., 1988.
13 Эррера Луке Ф. Луна доктора Фауста. М., 1989. С. 242.
14 Ainsa F. op. cit. P. 39.
15 Diez de Medina F. Nayjama. Madrid, 1971. P. 24.
16 Полыциков M. Структура «порогового» времени в художест-
венном сознании Латинской Америки.— В кн.: Iberica Ameri-
cans. Указ соч. С. 115.
17 Элиаде М. Указ соч. С. 58. \
18 Подробнее см. Кутеищикова В., Осповат Л. Новый латиноа-
мериканский роман. М., 1983. Гл. 1.
19 См. Мелетинскии Е. Поэтика мифа. М., 1976.
20 Мифы Народов Мира. М., 1980. Т. 1. С. 252, ст. 2.
21 Элиаде М. Указ соч. С. 88.
22 Мендоса Д. Ацтекский миф в романе К. Фуэнтеса «Смерть
Артемио Круса».— Латинская Америка. 1983, № 8.
23 См. Гирин Ю. Под знаком культуры. «Латинская Америка».
1989, № 10.
24 См. Осповат Л. Последний роман Алехо Карпентьера.— В
кн.: А. Карпентьер. Весна Священная. М., 1982.
25 Земское В. Габриэль Гарсиа Маркес. М., 1986. С. 135.
Примечания ко второй главе
1 Поэты Перу. М., 1982. С. 43.
2 Подробно анализ книги и понятия «протеизм» см. в кн.: Ис-
тория литератур Латинской Америки. Кн. 3, М., 1994. Р. 1, гл. 4.
3 Перевод названия главы в русском издании — «Боевое зада-
ние» — представляется неверным.
4 См. Кофман А. Испанская копла в Латинской Америке.— В
кн.: Искусство стран Латинской Америки. М., 1986. С. 46—50.
5 См. предисловие А. Кофмана к кн.: М. Джардинелли. Жар-
кая луна. М.Пуиг. Предательство Риты Хейворт. М., 1992. С. 14.
6 См. Фрезер Дж. Золотая Ветвь. М., 1980. Гл. 8. Афанасьев
А. Древо жизни. М., 1982. С. 186—214.
7 См. Кинжалов Р. Культура майа. Л., 1971. Séjourne L. Реп-
samiento у religion en el Mexico antiguo. Mexico, 1984.
306
8 Latorre M. La isla de los pâjaros y otros cuentos. La Habana,
1987. Pròlogo. P. 10.
9 Элиаде M. Космос и история. M., 1987. С. 43.
10 Там же. С. 38—42.
11 См. комментарии А. Науменко к кн.: Calderón de la Barca.
M., 1981. С. 598, 687—688.
12 Marzal Manuel M. El sincretismo iberoamericano. Lima, 1985.
P. 5—25.
13 Karsten R. The civilizacion of South American indians. New
York, 1926. Chapter 11. P. 329—376.
14 Боливар С. Избранные произведения. M., 1983. С. 110—112.
15 Карасев Л. О символах Достоевского. Вопросы философии.
1994, № 10.
16 Francovich G. Los mitos profundus de Bolivia. La Paz, 1980.
P. 18—19.
17 Lahourcade A.N. La creación del hombre en las grandes religio-
nes de America precolombina. Madrid, 1970. P. 157—158.
18 Karsten R. Op. cit. P. 339—345.
19 Francovich G. Op. cit. P. 27—29.
20 Diez de Medina F. Nayjama. Madrid, 1971. P. 106.
21 Мифы народов мира. M. 1980. т.1. С. 396—405.
22 См. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1980. Гл. 9, 10, 15, 28, 35.
23 См. Karsten R. Op. cit. Ch.lO. P. 299—328.
24 Поэзия Боливии. M., 1989. С. 122—123.
25 Там же. С. 107.
26 Karsten R. Op. cit. P. 320—326.
27 Lahourcade A.N. Op. cit. P. 162.
28 Morley S. La civilizacion maya. Mexico, 1946. T. 1. P. 484.
29 Мендоса Д. Ацтекский миф в романе К. Фуэнтеса «Смерть
Артемио Круса». Латинская Америка. 1983, № 8. С. 92.
30 См. История литератур Латинской Америки. Кн. 1. М., 1985.
Часть 2, гл. 1.
31 Лоуренс Д. Урсула Брэнгуэн.(Радуга). М., 1925. С. 239.
32 См. Церен Э. Лунный бог. М., 1976. Mollina-Tellez F. El ciclo
de la mitologia americana. Buenos Aires, 1944. P. 20. Kaarsten R.
Op. cit. P. 355.
33 См. История литератур Латинской Америки. Кн. 3. М., 1994.
С. 509—510, 370.
Примечания к третьей главе
1 См. Межиковская Т. Об ученом незнании. Латинская Амери-
ка. 1993, № 8.
307
2 См. Мелетинскии E. Поэтика мифа. М. 1976. Eliade M. Rites
and symbols of initiation: the mysteries of birth and rebirth. New
York, 1965. Gennep A. van. Les rites de passage. Paris, 1909.
3 Viana Javier de. Campo Montevideo, 1921. P. 114—116.
4 История литератур Латинской Америки. Кн. 3. M., 1994.
С. 347—350.
5 Ainsa F. Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa.
Madrid, 1986. P. 44.
6 Daltón R. Pobrecito poeta que era yo. San José, 1976. P. 257.
7 См. Земское В. Негристская поэзия антильских стран: исто-
ки, создатели, история.— В кн.: Художественное своеобразие ли-
тератур Латинской Америки. М., 1976.
8 Arevalo Martinez R. Obras escogidas. Guatemala, 1959. P. 264,
207, 35.
9 Асеведо Диас Э. Исмаэль. M., 1971. С. 35, 54.
10 См. Земское В. Указ соч.; Кофман А. Проблема «магического
реализма» в латиноамериканском романе.— В'кн.: Современный
роман. Опыт исследования. М., 1990.
11 История литератур Латинской Америки. Кн. 2. М., 1988.
Гл.9.
12 Там же. С. 411.
13 Zaldumbide G. Egloga tragica. Quito, 1957. P. 77.
14 См. Косвен M. Амазонки. История легенды. Советская Этно-
графия. 1947, № 2—3. Горбовскии А., Семенов Ю. Закрытые стра-
ницы истории.— В кн.: Мир приключений. М., 1984. Мордвин-
цев В. В поисках царства женщин или амазонки в Новом Свете.
Дидакт. 1993, № 1.
15 Асеведо Диас Э. Указ. соч. С. 144—147.
16 Acevedo Diaz E. Grito de Gloria. Montevideo, 1938. P. 328—
330.
17 Уругвайские рассказы. M., 1957. С. 13.
18 Земское В. Новая Земля Алехо Карпентьера.— В кн.: Алехо
Карпентьер. Избранное. М., 1988. С. 18—19.
19 Баибурин А. Семантика русской избы. М., 1989.
20 Kearney M. Los vientos de Ixtepej. Concepción del mundo y
estructura social de un pueblo zapoteco. Mexico, 1971. P. 70—77.
21 Земское В. Метаморфозы любви на рубеже тысячелетий: ла-
тиноамериканский вариант. Латинская Америка. 1990, № 10—
11. № 11. С. 107—108.
22 Там же. № 10. С. 39, 46.
23 См. выступление И. Тертерян на дискуссии «Опыт латиноа-
мериканского романа и мировая литература. » Латинская Амери-
ка. 1982, № 6. С. 56—57.
24 Поэзия Латинской Америки. Серия БВЛ. М., 1975.
С. 397—398.
308
25 Обнаженные ритмы. M., 1965. С. 145.
26 Там же. С. 150.
27 Там же. С. 140.
28 Элиаде М. Космос и история. М., 1987. С. 178.
29 Обнаженные ритмы. Указ соч. С. 183, 93, 77.
30 Vega С. El origen de las danzas folklóricas. Buenos Aires, 1956.
31 Kaarsten R. The civilization of South American Indians. New
York, 1926. Ch. 12. P. 377—413.
32 Leon Portiila M. La filosofia nahuatl. Mexico, 1956. P. 129—
135.
33 Уругвайские рассказы. Указ соч. С. 19.
34 Асеведо Диас Э. Исмаэль. Указ соч. С. 226.
35 Dorf man A. Imaginación у violencia en America. Santiago de
Chile, 1970. P. 9.
56 Ibid. P. 14.
37 Magis Carlos H. La lirica popular contemporanea. Espana. Mex-
ico. Argentina. Mexico, 1969. P. 184.
38 Paz О. El laberinto de la soledad. Mexico, 1979. P. 73—74.
39 Carrizo J. A. Antiguos cantos populäres argentinos. Buenos
Aires, 1926. № 5206.
40 Paz О. Op. cit. P. 32—33.
41 Llanos В. Machismo: mitificación de la experiencia social.—
En: Poetica de la población marginai: sensibilidades déterminantes.
Serie: Literature and Human Rights. № 2. Minneapolis, 1987.
P. 375—376.
42 См. Кофман A. Художественное своеобразие мексиканского
песенного лирического фольклора. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата филологических наук. М., 1980.
43 Arias Trujillo. Risaralda. Bogota, 1942. P. 20—21.
44 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.
45 Латинская Америка. 1996, № 1. С. 92.
46 Кофман А. Хосе Гвадалупе Посада и мексиканский карнавал
смерти. Декоративное Искусство. 1983, № 2. С. 29.
4? Там же.
4» Paz О. Op. cit. Р. 49.
49 Борхес X. Л. Коллекция. СПб., 1992. С. 370.
50 Jiménez M. El Jaul. San José, 1984.
51 Dorfman A. Op. cit. P. 145.
309
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Алегрия Сиро.
I. Золотая змея. М., 1970.
II. Голодные собаки. Там же.
III. В большом и чуждом мире. М., 1975.
Аргедас Хосе Мария.
I. Agua. Lima, 1935.
П. Yavar fiesta. Lima, 1941.
III. Глубокие реки. M., 1972.
IV. Todas las sangres. Buenos Aires, 1964.
V. Любовь-вселенная.— В кн.: Латиноамериканская повесть.
M., 1989. T. 1.
VI. Обычаи и обряды индейцев. Алма-Ата, 1989.
Астуриас Мигель Анхелъ.
I. Легенды Гватемалы. М., 1972.
П. Сеньор президент. М., 1968.
III. Маисовые люди. М., 1977. Серия «Мастера современной
прозы ».
IV. Ураган. Там же.
V. Зеленый Папа.— В кн.: Избранные произведения в двух
томах. М., 1988. Т. 1.
VI. Глаза погребенных. Там же. Т. 2.
VII. Maladrón. Buenos Aires, 1969.
Vili. Зеркало Лиды Саль. M., 1989.
Барба Хакоб, Порфирио. Los mejores versos. Buenos Aires,
1956.
Борхес Хорхе Луис. Проза разных лет М., 1984. Серия «Мас-
тера современной прозы».
Валъехо Сесар.
I.Черные герольды. М., 1966.
П. Вольфрам. М. —Л., 1932.
Варгас Льоса Марио.
I. Зеленый дом. М., 1971. Серия «Мастера современной
прозы ».
И. Город и псы. М., 1965.
III. Война конца света. М., 1987.
310
Гальегос Ромуло.
I. Донья Барбара. М., 1959.
П. Кантакларо. М., 1966.
III. Канайма. М., 1959.
IV. Бедный негр. М., 1964.
Гарсиа Маркес Габриэль.
I. Палая листва. М., 1972.
И. Полковнику никто не пишет. Там же.
III. Недобрый час. М., 1975.
IV. Рассказы.— В кн.: Избранные произведения. М., 1989.
V. Сто лет одиночества. Там же.
VI. Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире
и ее жестокосердной бабке. Там же.
VII. Осень патриарха. М., 1978.
VIII. История одной смерти, о которой знали заранее. Латин-
ская Америка. 1982, № 1, 2, 3.
IX. Amor en los tiempos de colera. La Habana, 1986.
Гильен Николас. Избранное. M., 1982.
Греифф Леон de. Los mejores versos. Buenos Aires, 1956.
Гуиральдес Рикардо. Дон Сегундо Сомбра. M., 1960.
Гутьеррес Хоакин. Пуэрто Лимон. М., 1970.
Дарио Рубен. Избранное. М., 1981.
Джардинелли Мемпо. Горячая луна. М., 1992.
Доносо Хосе. Похороненные мечты.— В кн.: Латиноамерикан-
ская повесть. М., 1989. Т. 1.
Икаса Хорхе. Уасипунго. М., 1976.
Kapdoca-u-Арагон Луис.
I. Poesia. Mexico, 1948.
И. Nuevo Mundo. Mexico, 1960.
Карпентьер Алехо.
I. Ecue-Yamba-O. La Habana, 1977.
И. Царство земное.— В кн.: Избранное M., 1988. Серия «Мас-
тера современной прозы».
III. Потерянные следы.— В кн.: Избранные произведения в
двух томах. М., 1974. Т. 1.
IV. Век просвещения.— В кн.: Избранное М., 1988. Серия
«Мастера современной прозы».
311
V. Концерт барокко. Там же.
VI. Превратности метода. М., 1978.
VII. Весна Священная. М., 1982.
VIII. Арфа и тень.— В кн.: Избранное. М., 1988. Серия «Мас-
тера современной прозы».
IX. Рассказы.— В кн.: Возвращение к истокам. М., 1989.
X. Эссе.— В кн.: Мы искали и нашли себя. М., 1984.
Каррера Андраде Хорхе. Инвентарь мира. М., 1977. Серия
«Библиотека латиноамериканской поэзии».
Кортасар Хулио.
I. Экзамен. М., 1990.
И. Другое небо. Рассказы. М., 1971.
III. Выигрыши. М., 1976. Серия" «мастера современной
прозы».
IV. Игра в классики. М., 1986.
Лара Хесус. Янакуна. М., 1958.
Линч Бенито. Мистер Джеймс ищет черепа. М., 1969.
Мальеа Эдуардо. Обида. (Избранное). Л., 1988.
Мистраль Габриэла. Стихи. М., 1959.
Неруда Пабло. Собрание сочинений в четырех томах. М.,
1978—1979.
I. Том 1. Стихотворения и поэмы.
И. Том 2. Стихотворения и поэмы.
III. Том 3. Всеобщая песнь.
IV. Избранная проза.
Ортис Адальберто. Гуюнго. М., 1988.
Отеро Сильва Мигель. Лопе де Агирре, Князь Свободы. М.,
1982. Серия «Мастера современной прозы».
Пас Октавио.
I. Libertad bajo palabra. Poemas 1935—1958. Mexico, 1960.
IL La centena. Poemas 1935—1968. Barcelona, 1969.
Поссе Абель. Райские псы. Иностранная литература. 1992,
№ 8—9.
Ривера Хосе Эустасио. Пучина. М., 1956.
Роа Бастос Аугусто.
312
I. Сын человеческий. M., 1967.
П. Курупи.— В кн.: Латиноамериканская повесть. М., 1988.
Т. 1.
III. Я, Верховный. М., 1979.
IV. El fiscal. Madrid, 1993.
Рулъфо Хуан. Равнина в огне. Педро Парамо. М., 1970.
Сабато Эрнесто. О героях и могилах. М., 1990.
Скорса Мануэль. Траурный марш по селению Ранкас. Гара-
бомбо-невидимка. Бессонный всадник. Сказание об Агапито Роб-
лесе. М., 1981.
Услар-Пъетри Артуро.
I. Las lanzas coloradas. Lima, 1958.
II. El camino de El Dorado. Buenos Aires, 1967.
III. Заупокойная месса. M., 1984.
IV. Дождь. Рассказы. M., 1988.
Фуэнтес Карлос.
I. Край безоблачной ясности. М., 1980.
II. Спокойная совесть.— В кн.: Избранное. М., 1983.
III. Смерть Артемио Круса. Там нее.
IV. Terra nostra. Barcelona, 1975.
V. Старый гринго.— В кн.: Латинская Америка. Литератур-
ный альманах. Вып.6. М., 1988.
VI. Сожженная вода.— В кн.: Мексиканская повесть. 80-е
годы. М., 1985.
VII. Cristobal Nonato. Mexico, 1987.
VIII. Constancia у otras novelas para virgenes. Madrid, 1989.
Чангмарин Карлос.
I. Песни Панамы. M., 1963.
П. Месть Тауро. М., 1964.
Янъес Агустин. Перед грозой. М., 1983.
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ад, инфернальная образно-стилевая доминанта 45, 47, 56, 75,
140—142, 161—162, 184—185, 300
амбивалентность 17, 22, 44—47, 75, 77, 82, 90, 109, 119—120,
161—165, 179—181, 283, 303
барокко 15, 32
беспредельность 37—38, 48, 51, 58, 60, 67, 68, 75, 78, 241, 295,
297
варварство — цивилизация 18, 28, 224—225
верх — низ 9, 59—62, 145, 152, 178—179, 180, 185, 217, 233,
238, 242—246, 254—259, 296
ветер, ураган 126—127, 183—186, 203, 241, 261, 301
виоленсия (насилие) 20, 77—79, 170, 177, 181 — 182, 211—212,
251, 273—287, 295—296, 301 вода 43, 50, 67, 75, 103, 105, 108,
110, 113—134, 149, 171, 181, 185, 219, 235, 236, 242, 253, 256,
269,301
время 80—107, 120—122, 125, 129, 146, 150, 186, 197—199,
256—258, 263
время интегрирующее 93—96
время историческое 84—87, 91, 93, 95, 129
время мифологическое 84, 87—91, 106, 129
время обратимое 86, 96—99, 197—199, 257—259
время остановленное 86, 91—93, 129, 213
время первотворения 39, 49, 81, 83, 87, 89, 97, 199, 100, 106,
116, 127, 129, 133, 156, 186, 191, 194, 204, 209, 211, 218, 220,
225, 238, 240, 244, 257—258, 372, 280, 302 .
гора 49, 55, 56, 60, 62, 92, 118, 144—146, 149, 215, 271, 272
граница 32, 48, 49—53, 57, 72, 73, 74, 131, 132, 190, 205, 210,
214, 244,295
девственность 40—42, 55, 68, 77—78, 109, 152, 237, 241, 251,
295, 300
день, свет 64, 86, 167—169, 181, 197—199, 297
дерево 9, 10, 13, 43, 60, 62, 63, 64, 96, 103, 110, 111, 118, 129,
134, 149, 150—161, 166, 185, 191, 200, 118, 227, 242, 245, 261,
262, 263, 264
314
дикарь, дикость 17, 37, 45, 76, 109, 164, 170, 198, 203, 223, 230,
235, 238—240, 282
диктатор 31, 73—74, 76—77, 79, 160—161, 235, 274, 280—281,
287
дом 60, 64, 65, 70, 79, 241—248, 301
дождь 13, 43, 50, 124—128, 181, 182
дорога 58—59, 61, 65, 66, 67, 68, 78, 144, 241 еда 199—202, 301
женское начало 40—41, 115, 116, 118, 123, 136—138, 139—140,
142, 148, 151, 158, 172, 176—178, 195—197, 235—240, 251,
283—286
жертвоприношение 122—123, 140, 185, 198, 266—273, 301
запах 124, 192—196, 197, 201, 236, 237, 247, 251, 258, 301
зверь, звериное начало 45, 101, 193, 195, 206, 208, 219—223,
237—238, 251, 253, 258—259, 282, 299
зеленый цвет 153, 154, 163—165, 176, 240, 297
земля 13, 60—62, 63, 64, 103—104, 114, 118, 127, 134—150, 159,
165, 176, 179, 181, 184—185, 195—196, 199, 200, 218, 236, 242,
245, 253, 256, 262, 266, 270,296,297,298
зной, пот 117, 156—157, 171, 177—178, 181—183, 278, 301
инаковость, иначение 16, 17, 18, 19, 27—31, 48, 50, 52, 65, 81,
92, 99, 106, 109, 135, 152, 190, 229, 233, 253—254, 279, 288, 290
инверсия 16, 59—62, 65, 167—175, 197, 219, 303
индеец, метис 85, 88, 92, 100, 103, 110, 112, 122, 137—138, 140,
141. 144—146, 147—148, 150, 154—155, 160, 166, 180, 197—198,
209, 211, 214, 220, 223, 224, 225—230, 233, 236, 263, 265—266,
267—269, 274, 286, 301
индихенизм 85, 89, 100, 113, 137, 167, 211,212,217
инициация 20, 123, 126—127, 130—131, 202—205, 272, 277—
278, 299
иррационализм 111, 171, 188—189, 194—195, 197, 218—219,
220—221, 228—230, 260, 278—279, 281, 298
камень 10, 13, 61, 63, 110, 118, 146—150, 191, 219, 245, 246,
280, 301
классицизм 15, 94
корень 63, 64, 96, 100, 104, 105, 129, 139, 153, 158—161, 185,
196, 242—243, 256, 281, 299
кости предков 104, 105—106, 157, 166, 167
315
луна 175—178, 236, 247, 256, 301
маис 10, 19, 165—167, 301
мачо, мачизм 20, 235, 240, 281—287, 293, 296, 301
межпространственность 72—74, 135—136, 201
модернизм испаноамериканский 18, 41, 94, 163—164, 175, 224,
270—271
море 49, 52, 68, 69, 132—134, 261
музыка, пение, танец 43, 128, 173, 260—266, 301
наружное — внутреннее 55, 58, 60, 62—65, 69, 83, 99, 129, 132,
137, 141, 153—154, 158—159, 166, 169, 175, 179, 186, 243, 245,
249, 293,296
небо 59—62, 63, 152, 159, 178—179, 185, 242, 245, 301
негр, мулат 88, 173, 195—196, 209, 224, 226, 228—229, 236,
263—265, 284, 301
Новый Свет — Старый Свет 16—17, 27, 30, 38, 86, 109, 181, 188,
190—191, 201, 216
норма 17, 33, 36, 37, 51, 87, 91, 188, 190, 207, 246, 250—252, 279
ночь, тьма 43, 64, 86, 167—176, 185, 194, 197—199, 236, 256,
265,281,297
парафраз художественный 15—16, 94
первозданность 38—40, 45, 48, 68, 81, 82, 89, 109, 128, 132, 152,
164, 170, 197, 206, 252, 256,280,281
пещера 9, 49, 50, 63, 65, ЮЗ, 137, 141—144, 149, 163, 191, 199,
203, 221, 244, 245, 246—247, 259, 294, 296
позитивизм 18, 172, 224, 273
примитивизм 18—19, 88, 112, 125, 170—171, 189, 225—226,
227—228, 302
природа, природность 36, 41, 43, 45, 67, 69, 77, 78, 88, 93, 104,
108—187, 171, 188, 211, 212—213, 227, 246, 253, 255, 258, 262,
264, 277
пространство 17, 20, 25—80, 80—83, 92, 93, 99, 101, 102, 136,
143, 146, 149, 173, 175, 176, 177, 178, 183—185, 187, 190—191,
198, 211, 233, 241—243, 255—257, 262—265, 271—272, 276—
279, 283, 294—296, 302
пространство замкнутое 68, 69—72, 183, 243—244, 294—295,
303
316
пространство разомкнутое 67—69, 132, 183—184, 255—256, 295,
297
протеизм 114—116, 171, 176, 253
прошлое 43, 44, 49, 50, 56, 57, 81, 82, 83, 89, 93, 94, 95, 96—108,
115, 118, 120—122, 125, 133, 143, 150, 194, 197—199, 244, 263,
280,283,295
прямота — кривизна 65—67, 83, 185—186
путешествие 31, 32, 43, 47—48, 49, 51—53, 54—55, 57—59, 74,
75—78, 79, 187—188, 190—192, 203, 204, 249, 256—257, 277,
295, 301
рай, Эдем, аркадийская стилевая доминанта 17, 20, 28, 39, 45,
54, 56, 70, 71, 117, 133, 184—185, 186, 216—218, 225, 235, 243,
277
река 10, 13, 38, 41, 49, 50, 51, 57—58, 68, 75, 76, 77, 119—121,
128—132, 149, 192, 196, 198, 204, 244, 256, 261, 272, 301
романтизм 15, 32, 39. 63, 175, 260, 261, 269—270
сакральный центр 48, 53—57, 60, 71, 79, 80, 83, 92, 126, 129,
132, 141, 143, 144, 153, 156,162,164,232, 243,245, 262,285
самоидентификация 14—15, 20, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 69, 76, 84,
88, 94, 97, 100, 113, 135, 155, 160, 170, 188, 179, 202—205, 219,
242,279
сверхнормативность 31—36, 51, 55, 75, 77, 109, 115, 152, 190,
206, 215, 216, 233,235, 250,253,259,279,280,282, 290,300
свое — чужое 25—26, 30—31, 35, 38, 39, 46, 48, 52, 53, 72, 73,
77, 79, 84, 87, 100, 109, 112, 121, 162, 210, 212, 214, 228—229,
280,297
сельва 19, 37, 38, 41, 47, 49, 55, 68, 75, 77, 118, 129, 144, 161 —
165, 171, 173, 197, 199, 227, 244, 262, 275, 301
смерть 51, 57, 60, 69, 131, 158, 167, 173, 275, 282, 288—298
солнце 60, 171, 179—181, 242, 301
сон 196—199, 301
таинственность, тайна 41—44, 48, 54, 55, 64, 71, 75, 77, 82, 104,
109, 112, 130, 133, 134, 156, 172, 174, 198, 206, 222, 226, 233,
234, 280, 282, 295
темпоральность 48—50, 57, 82, 101, 105, 109, 120—122, 125,
129, 143—144, 146, 150, 152, 156, 191, 206, 244, 256—257
тишина, молчание 43, 111—112, 171, 226, 234, 261, 301
317
фольклор, фольклоризм 6, 11—14, 21, 118—119, 124, 137, 174,
180, 196, 230—232, 233—234, 247, 260—261, 274, 278—279,
282—284, 286, 287, 291, 293, 301
хаотичность 36—38, 54, 58, 60, 65, 66, 67, 78. 81, 109, 116, 184,
186, 198, 206,207,233,241, 256,280,282,300
хроники конкисты 16, 17, 28, 37, 38, 42, 300
черный цвет 164, 165, 173—175, 297
чудо, чудесное 17, 32—34, 125, 169, 207, 215, 252, 300
чужак 47, 51, 56, 72—73, 84, 110, 139, 142, 162, 203, 209—215,
252—253, 277
эмбриональность 40, 48, 59, 115, 116, 226, 272
эрос 59, 60, 118—120, 127, 140—141, 143, 158, 167, 173, 176—
178, 191, 195—196, 222, 237—239, 248—260, 262, 266
318
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОБРАЗ МИРА
Андрей Федорович
КОФМАН
Оригинал-макет изготовлен
в компьютерном центре ИМЛИ им. А.М.Горького
Верстка Лавочкиной A.B.
ЛР № 020961 от 17.02.95 г.
Формат 60x84 Vie- Бумага офсетная. Гарнитура Шкл.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0. Тираж 500 экз.
Специализированное издательско-торговое предприятие
"НАСЛЕДИЕ"
121069, Москва, ул. Поварская, д. 25-а.