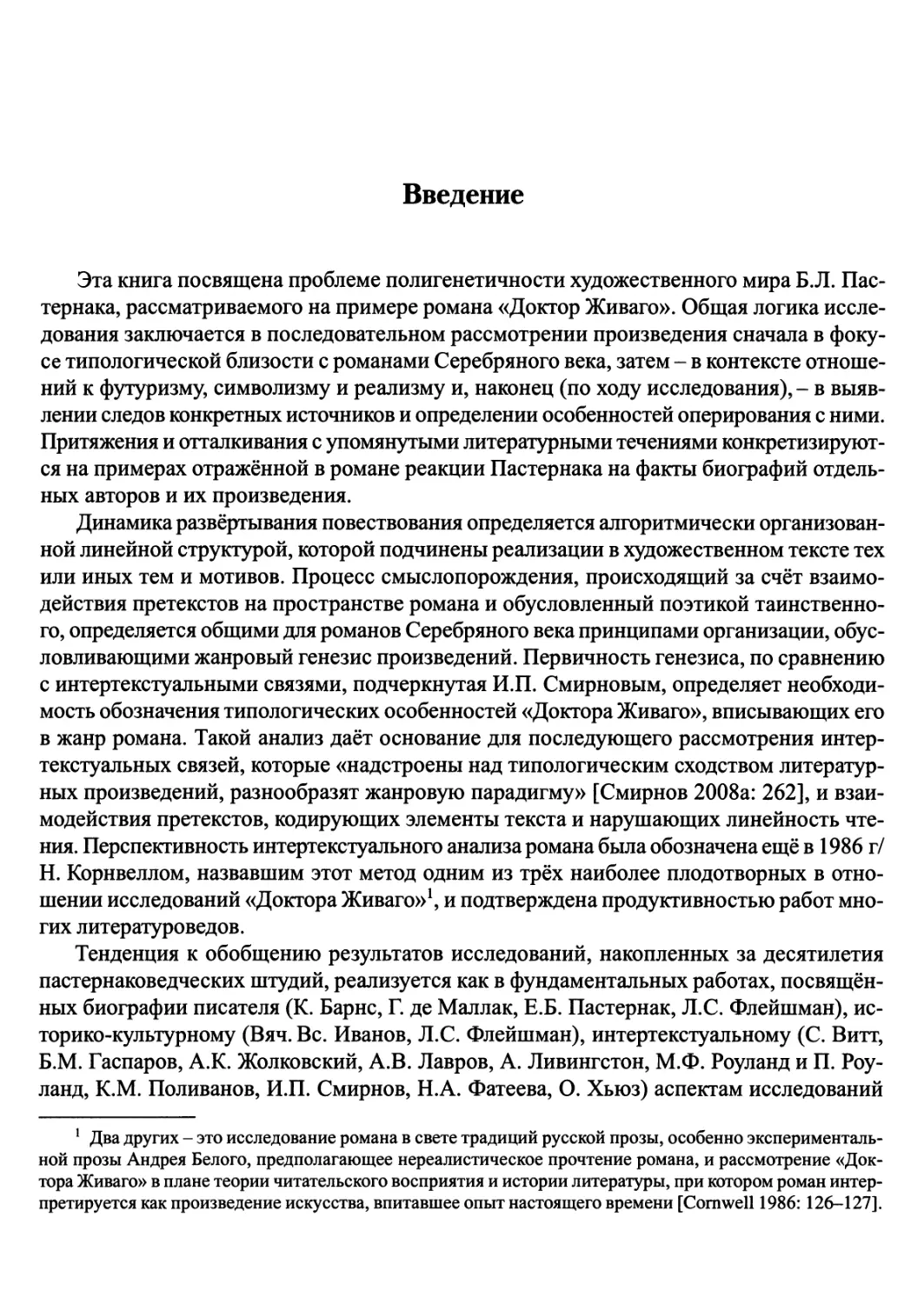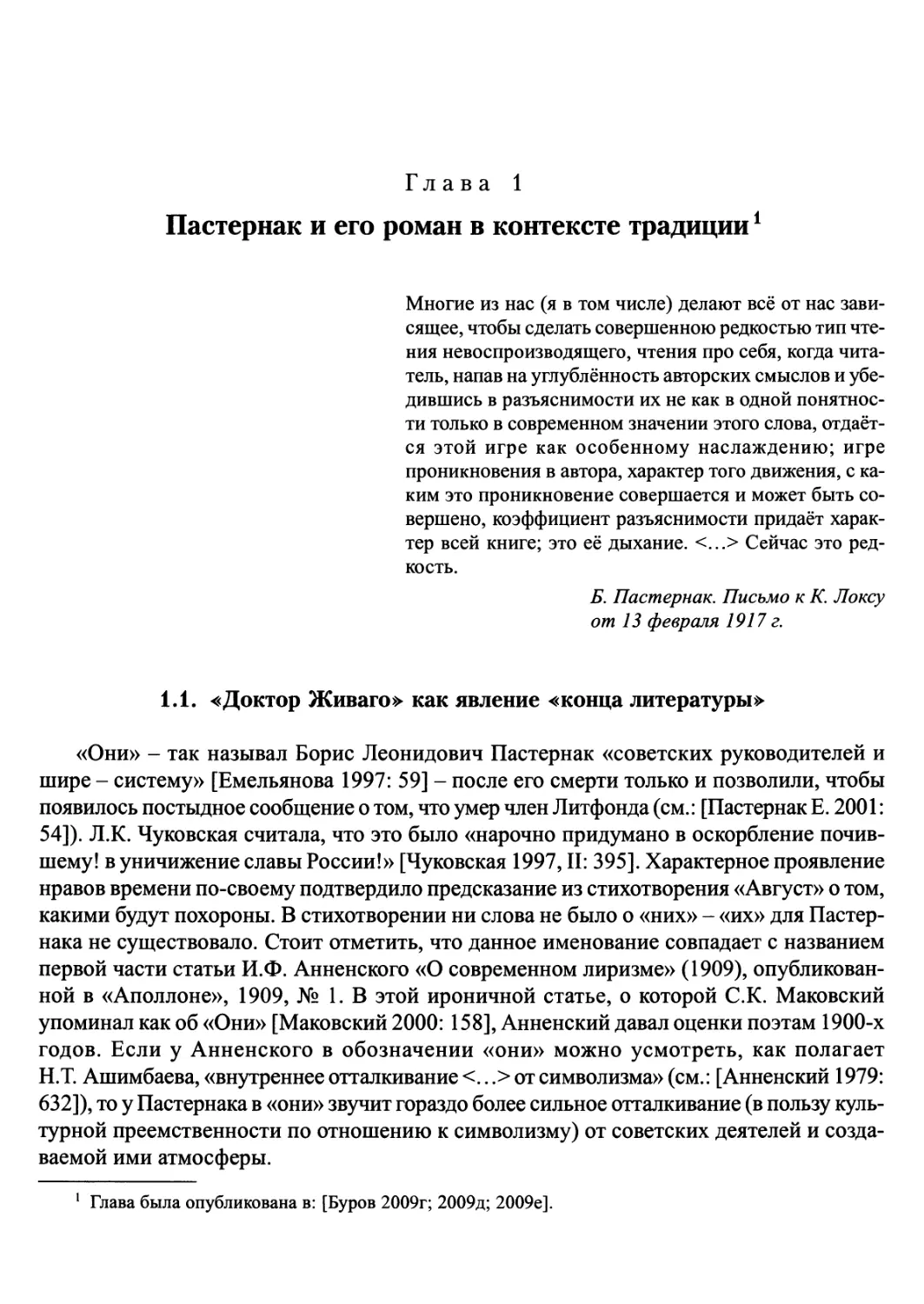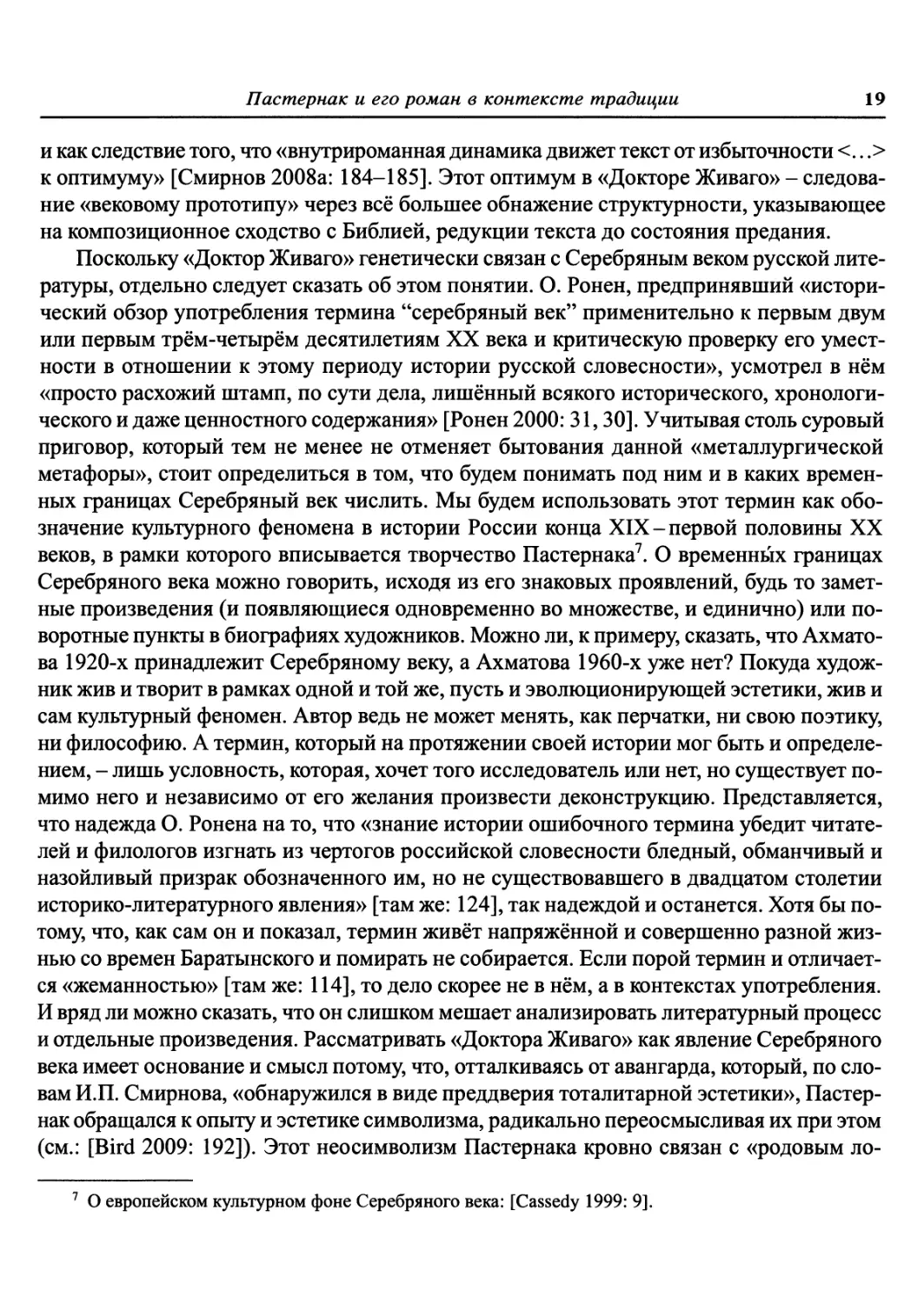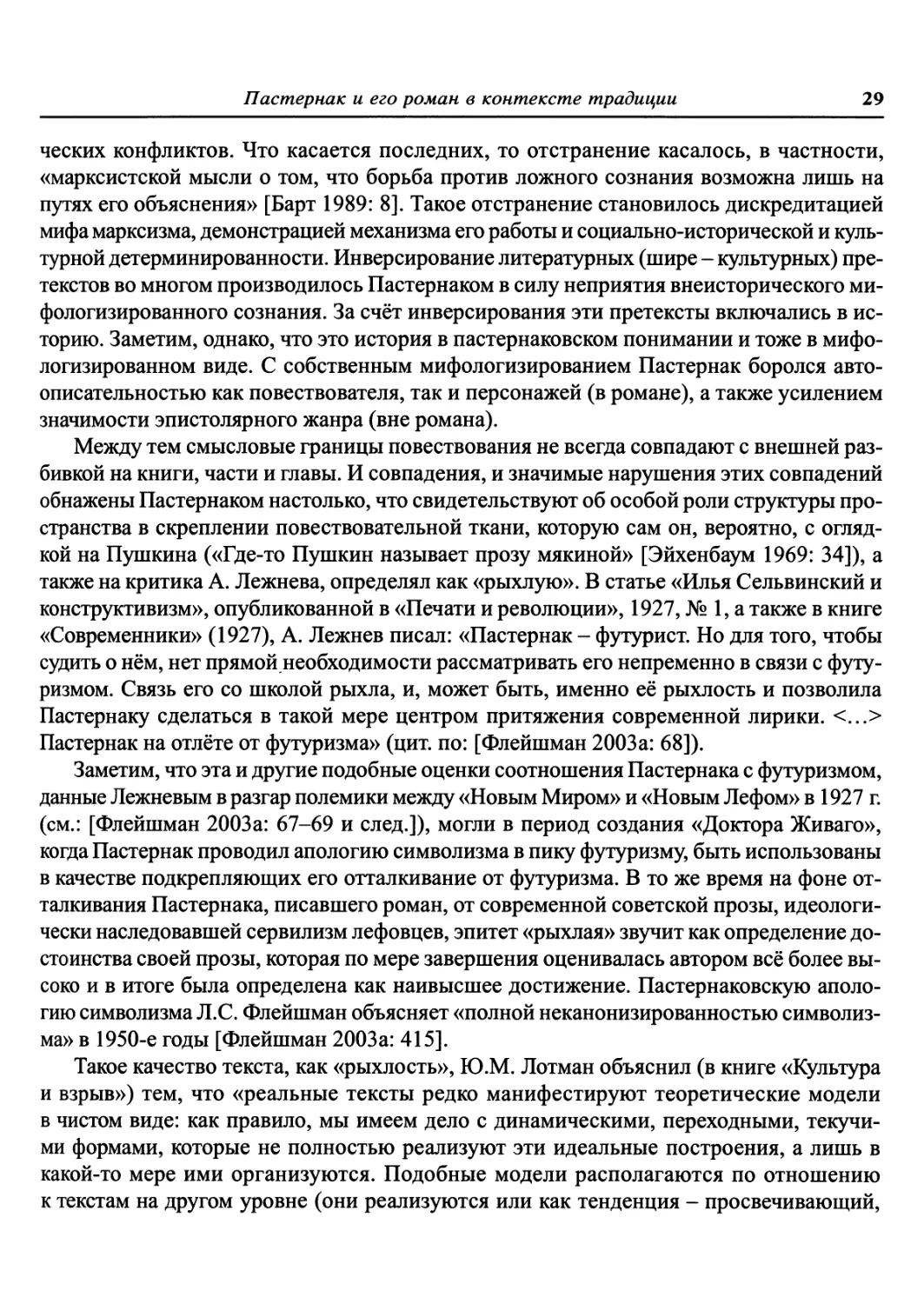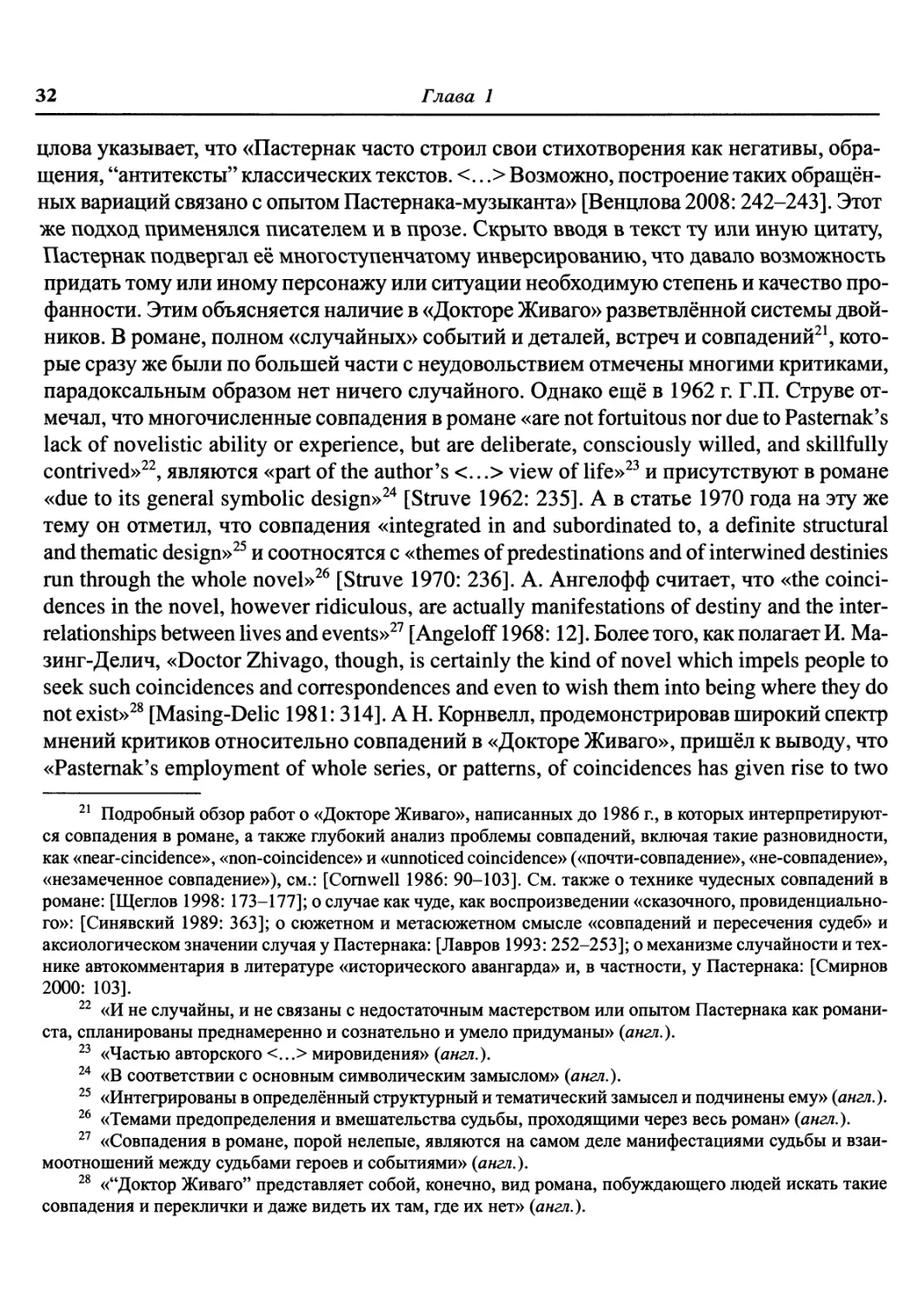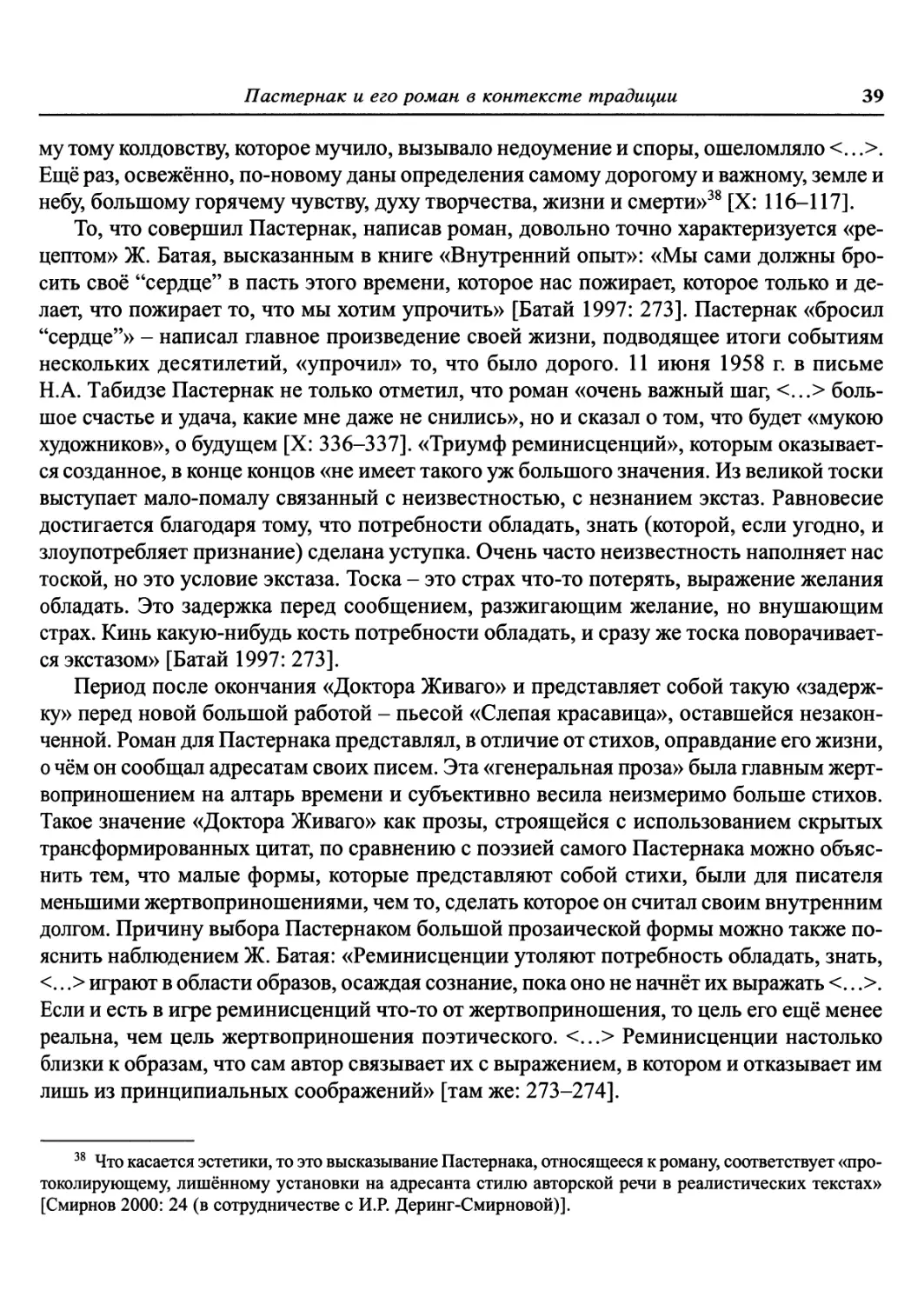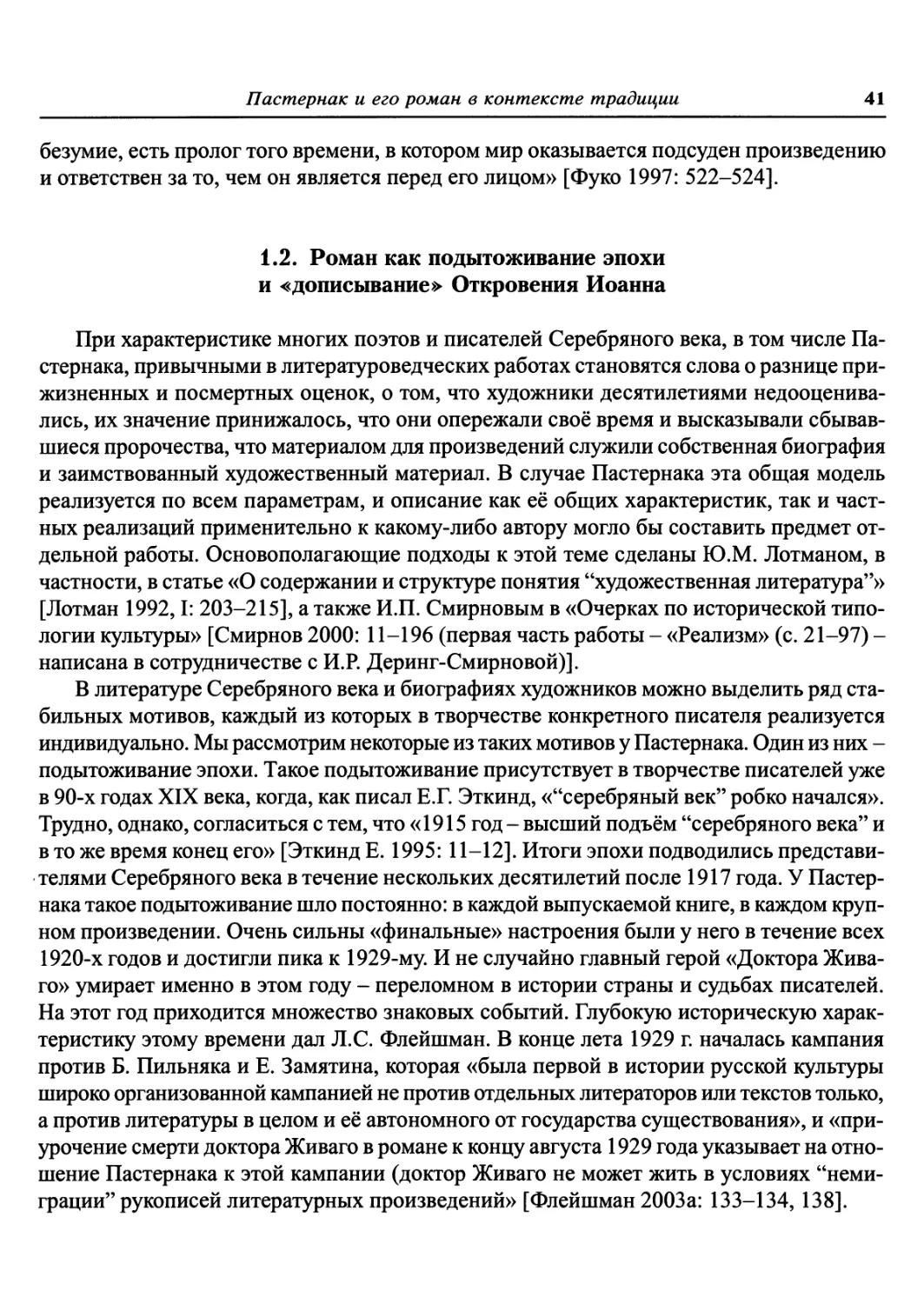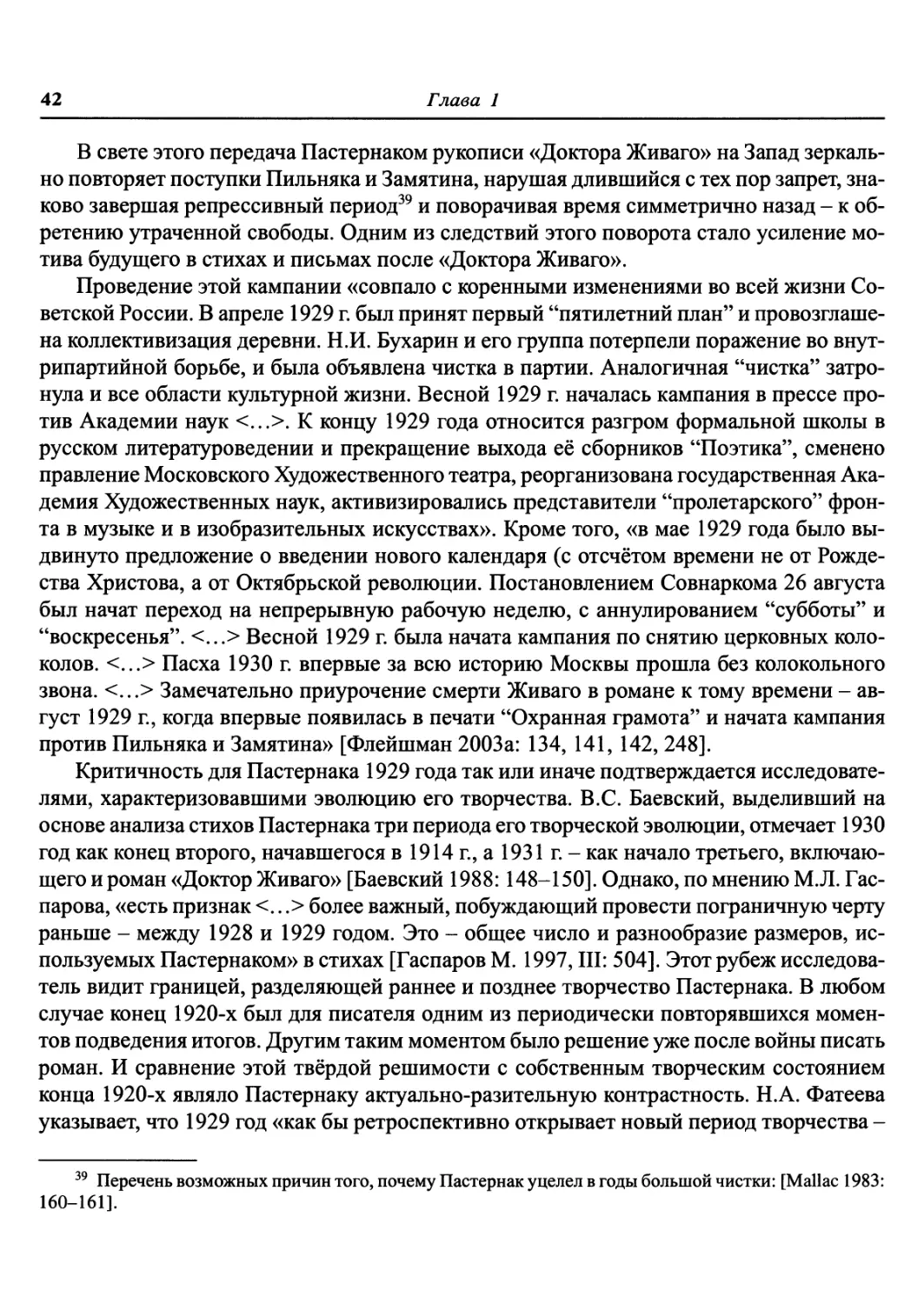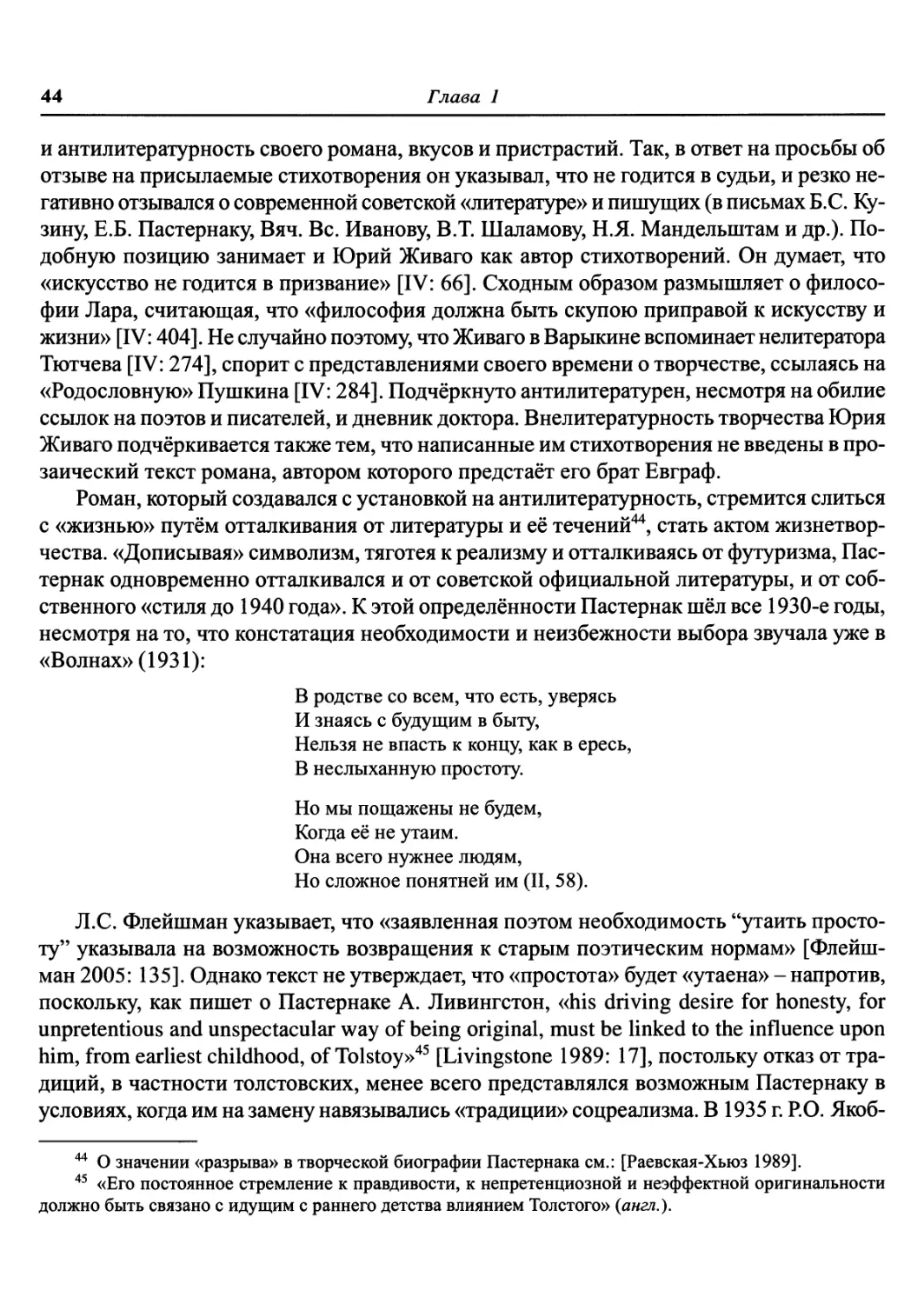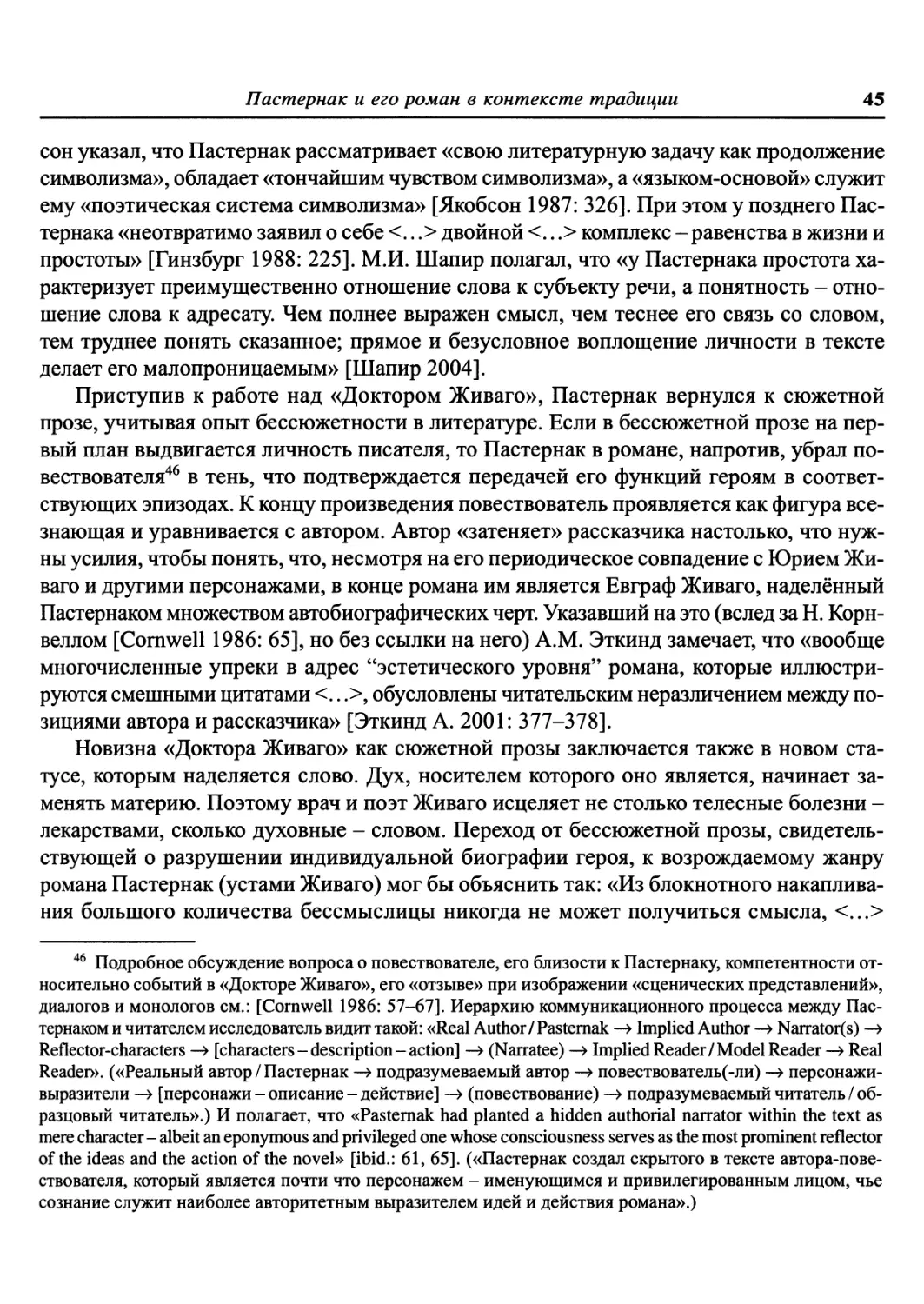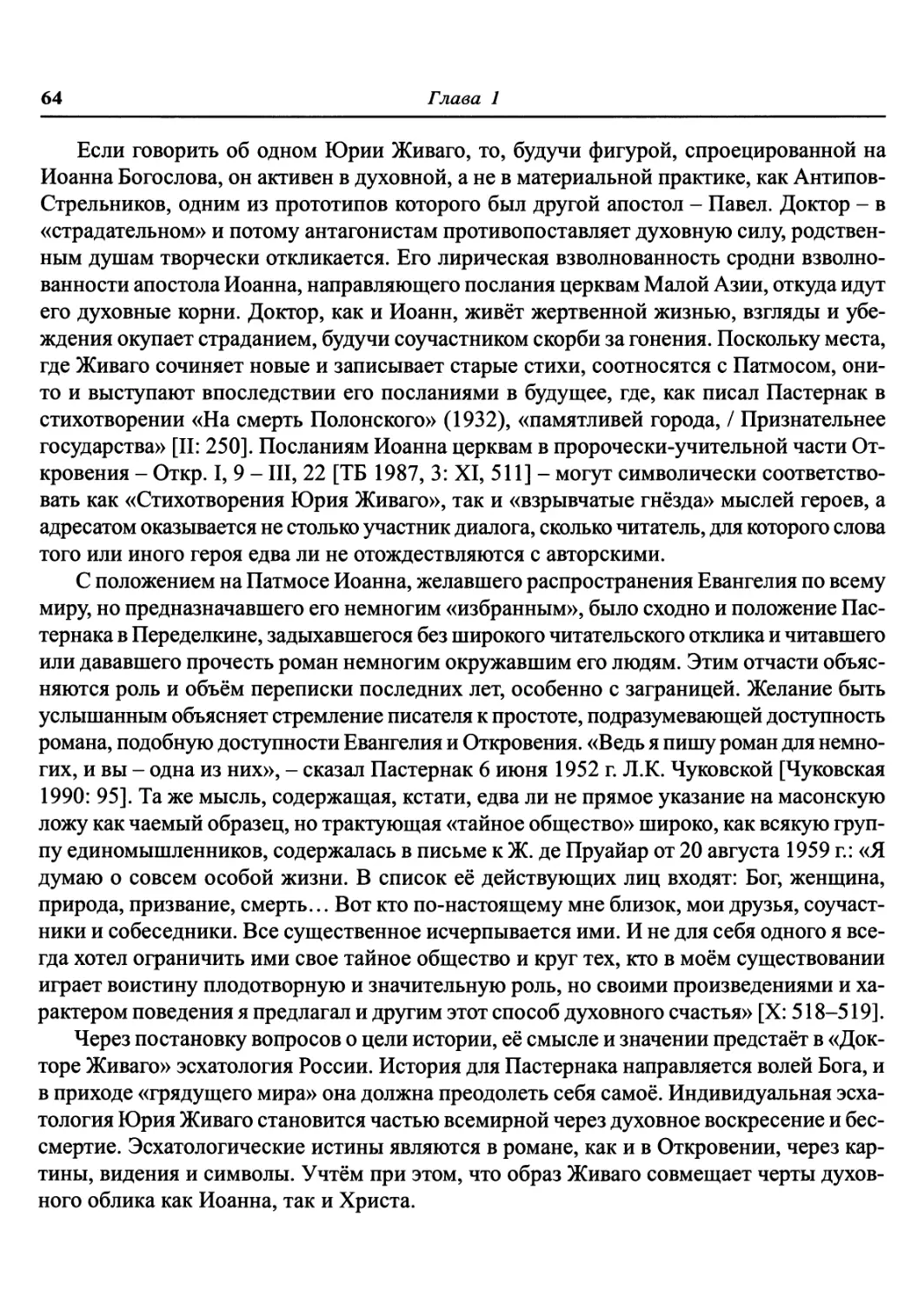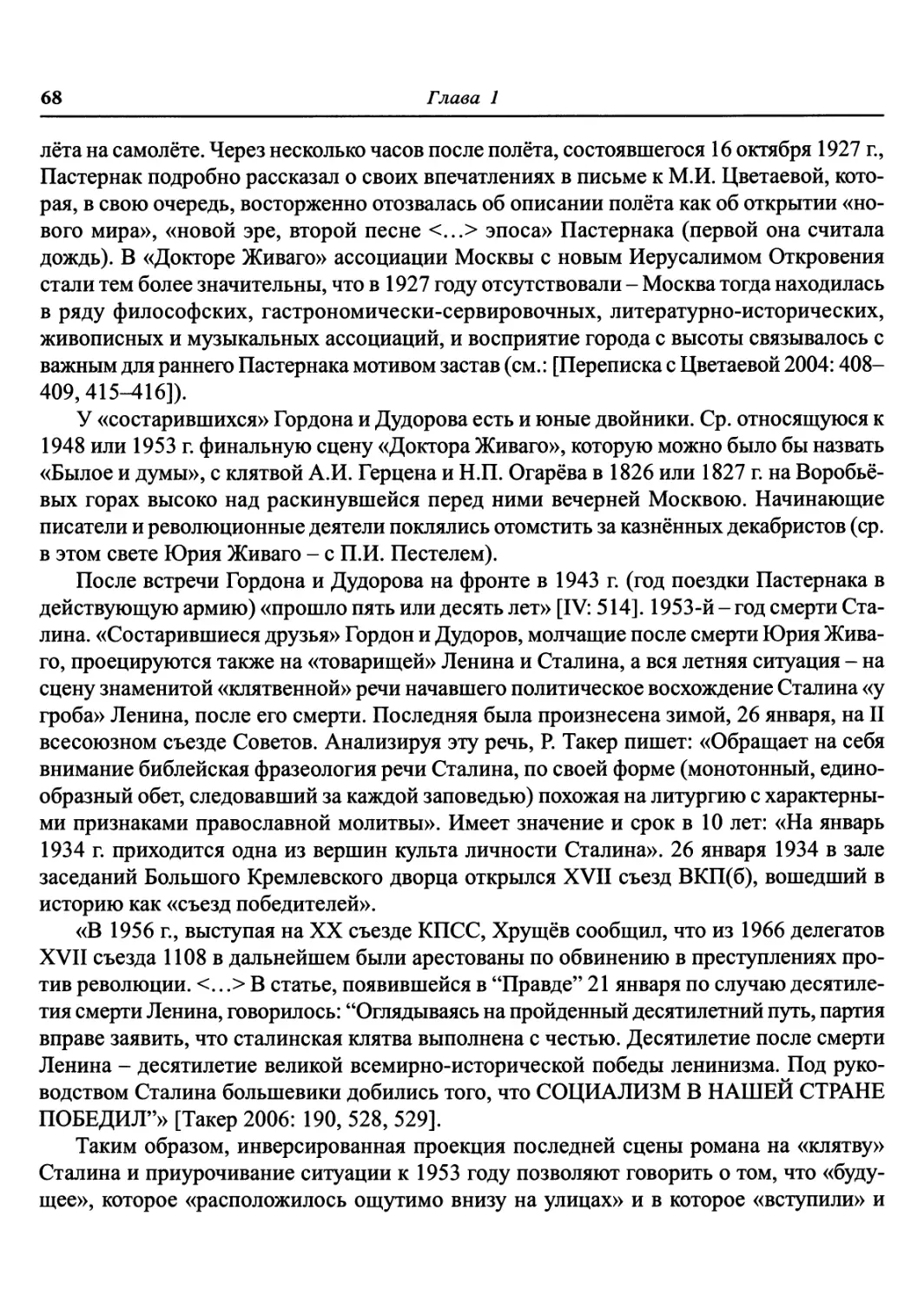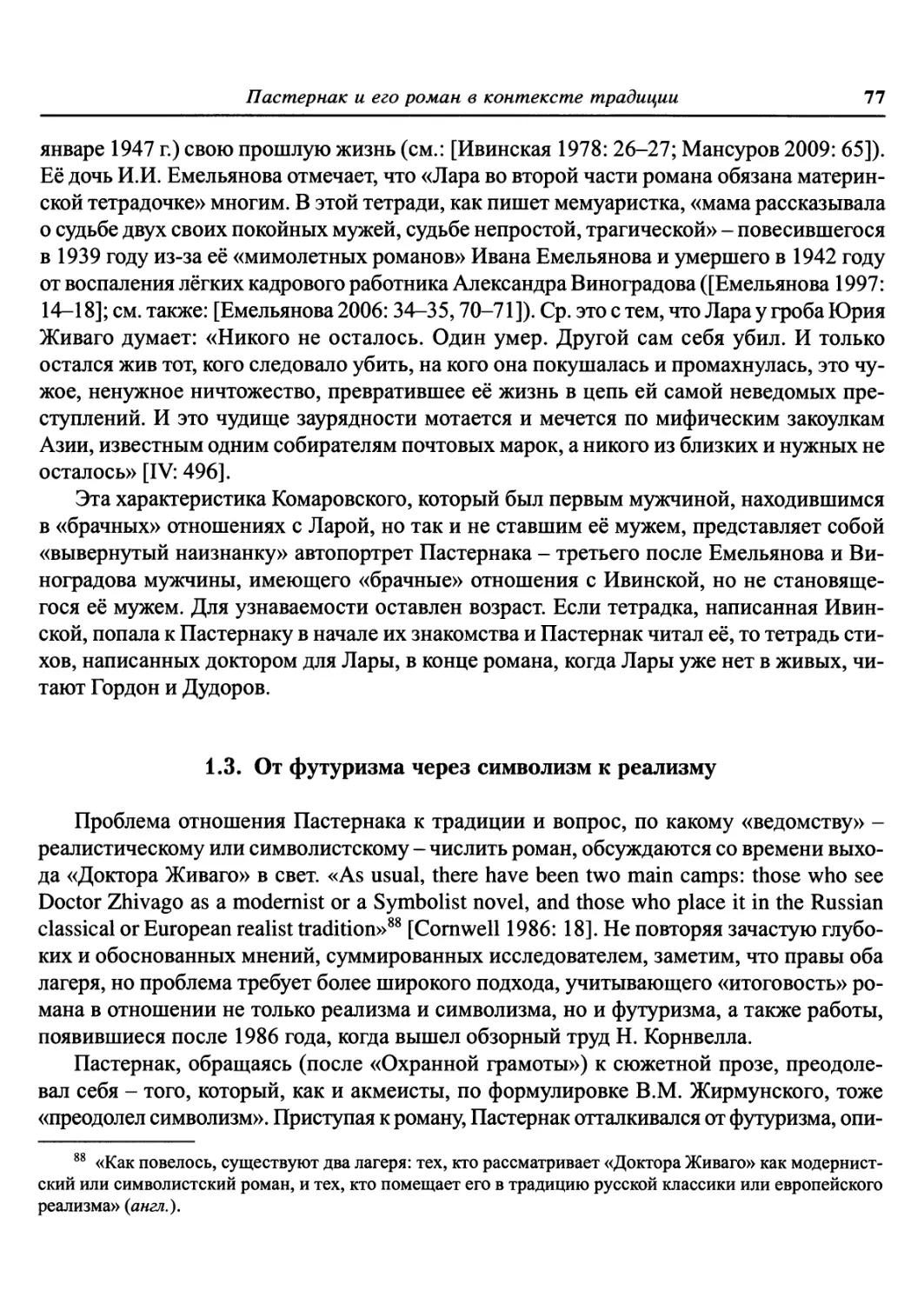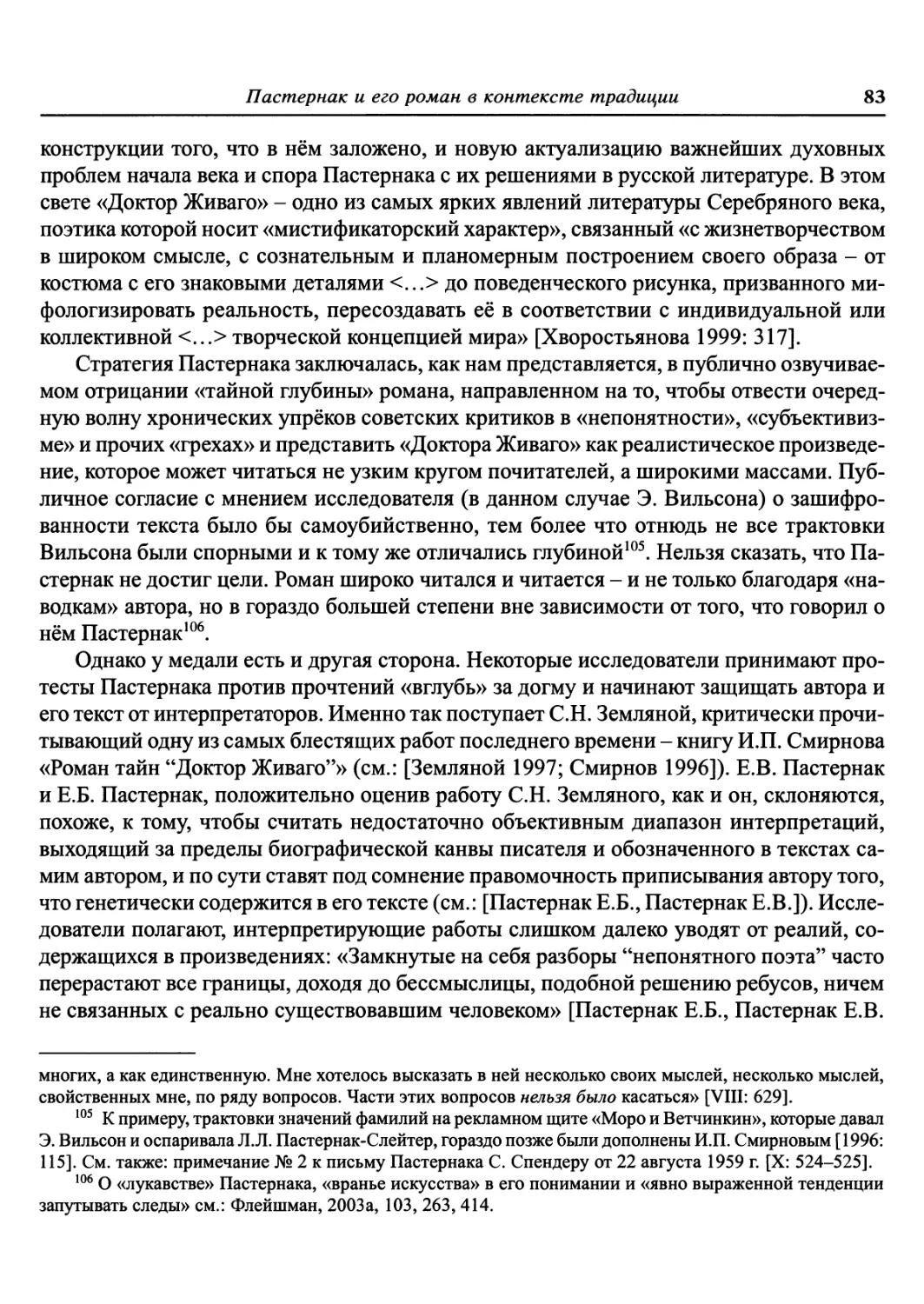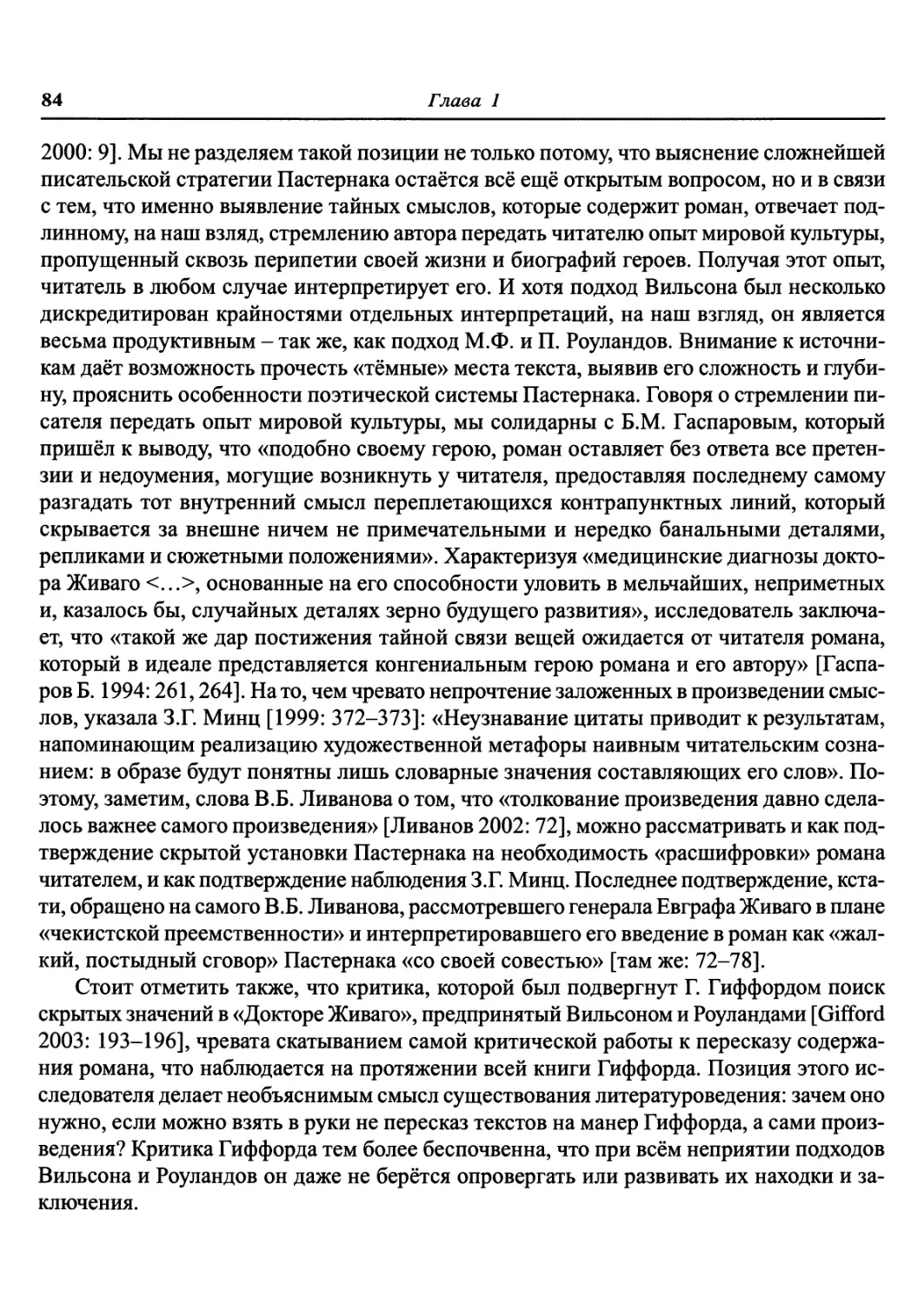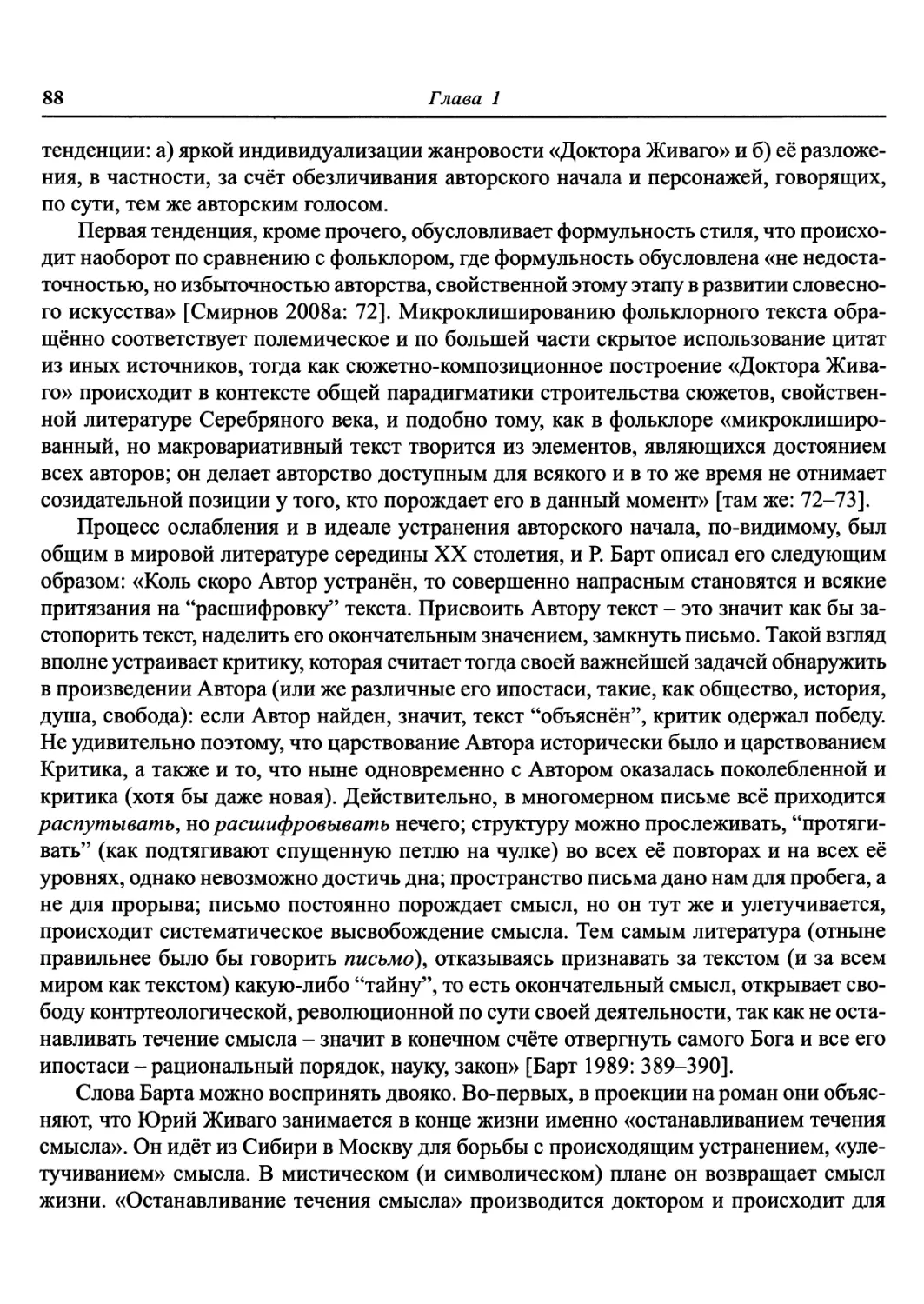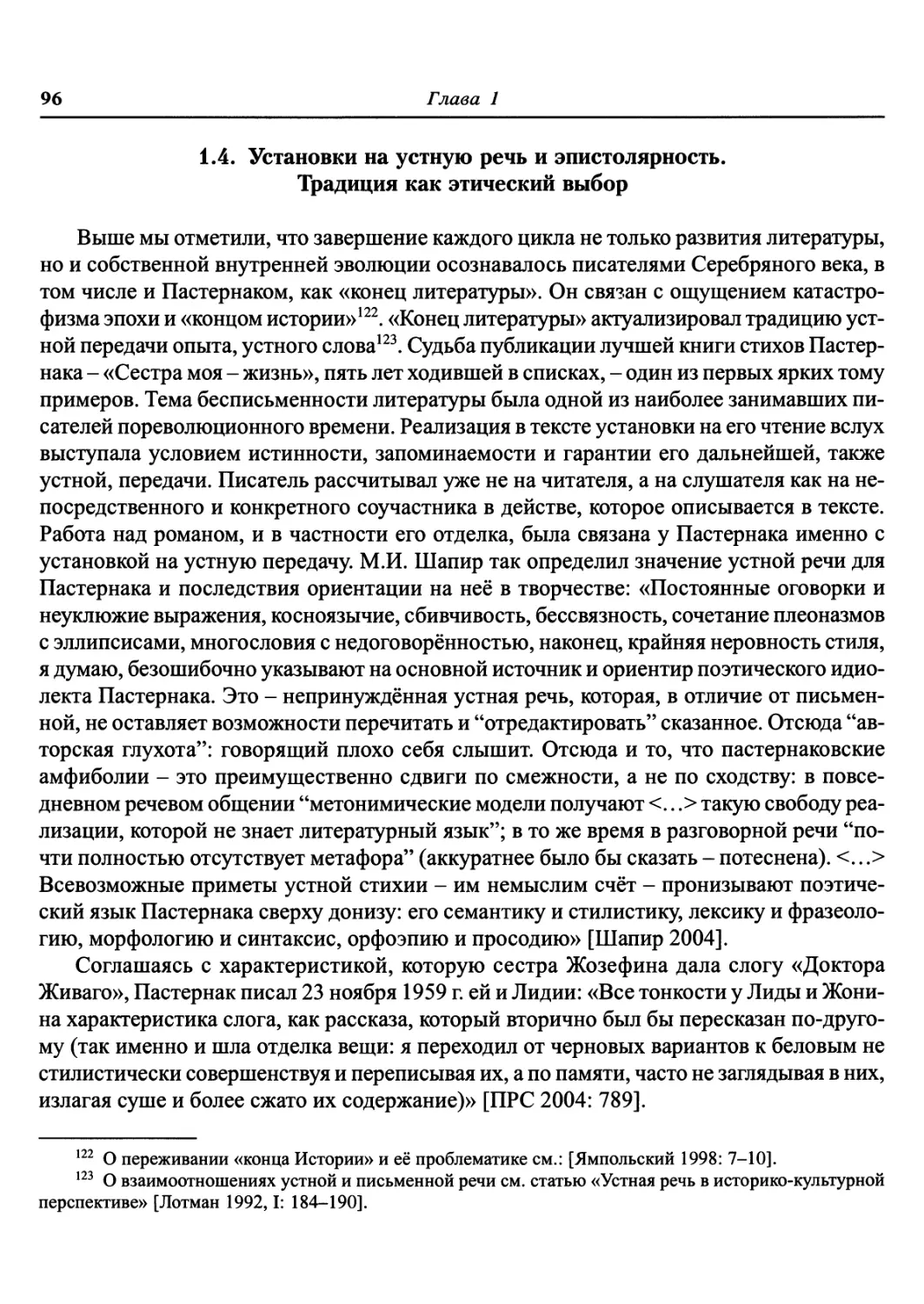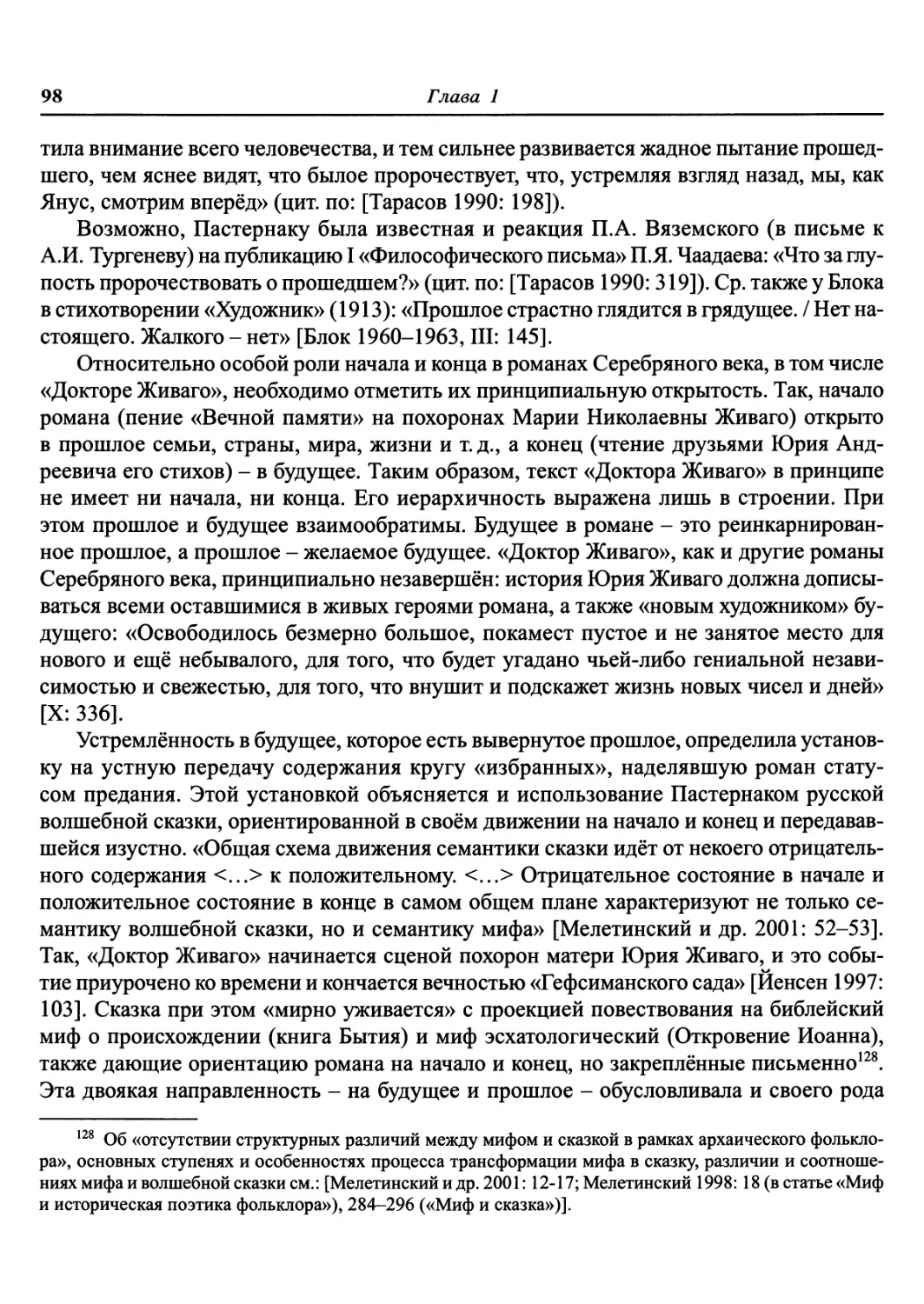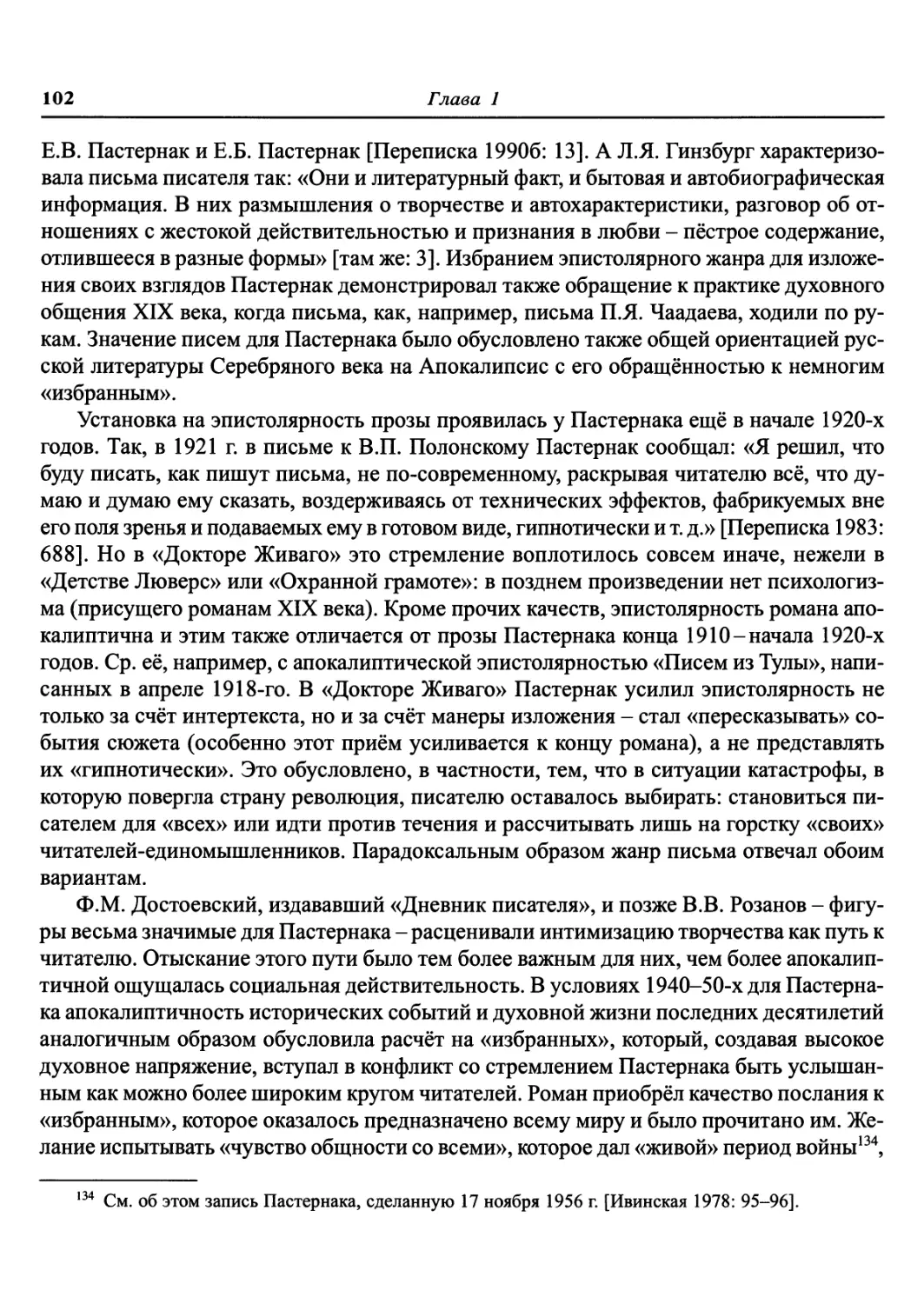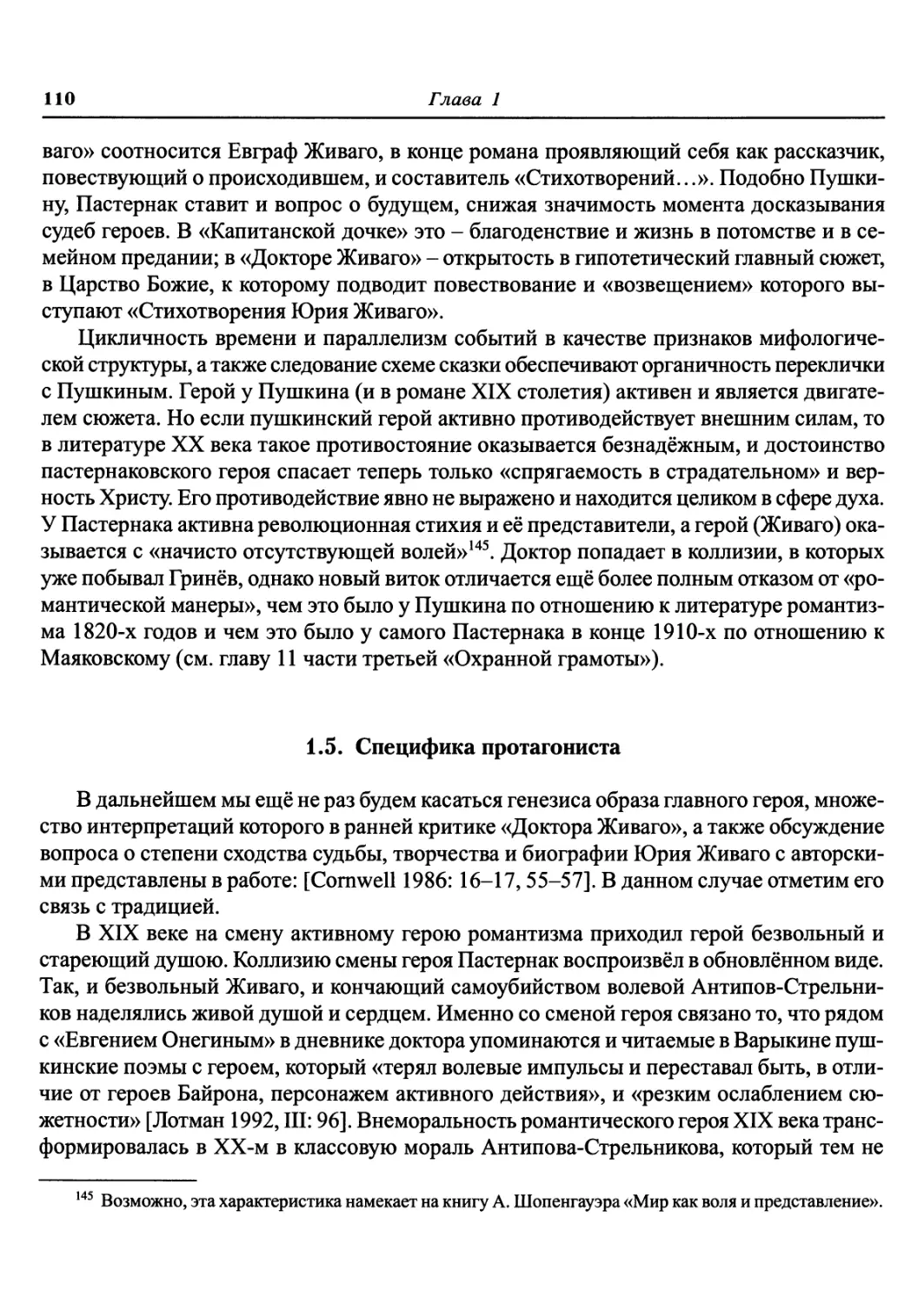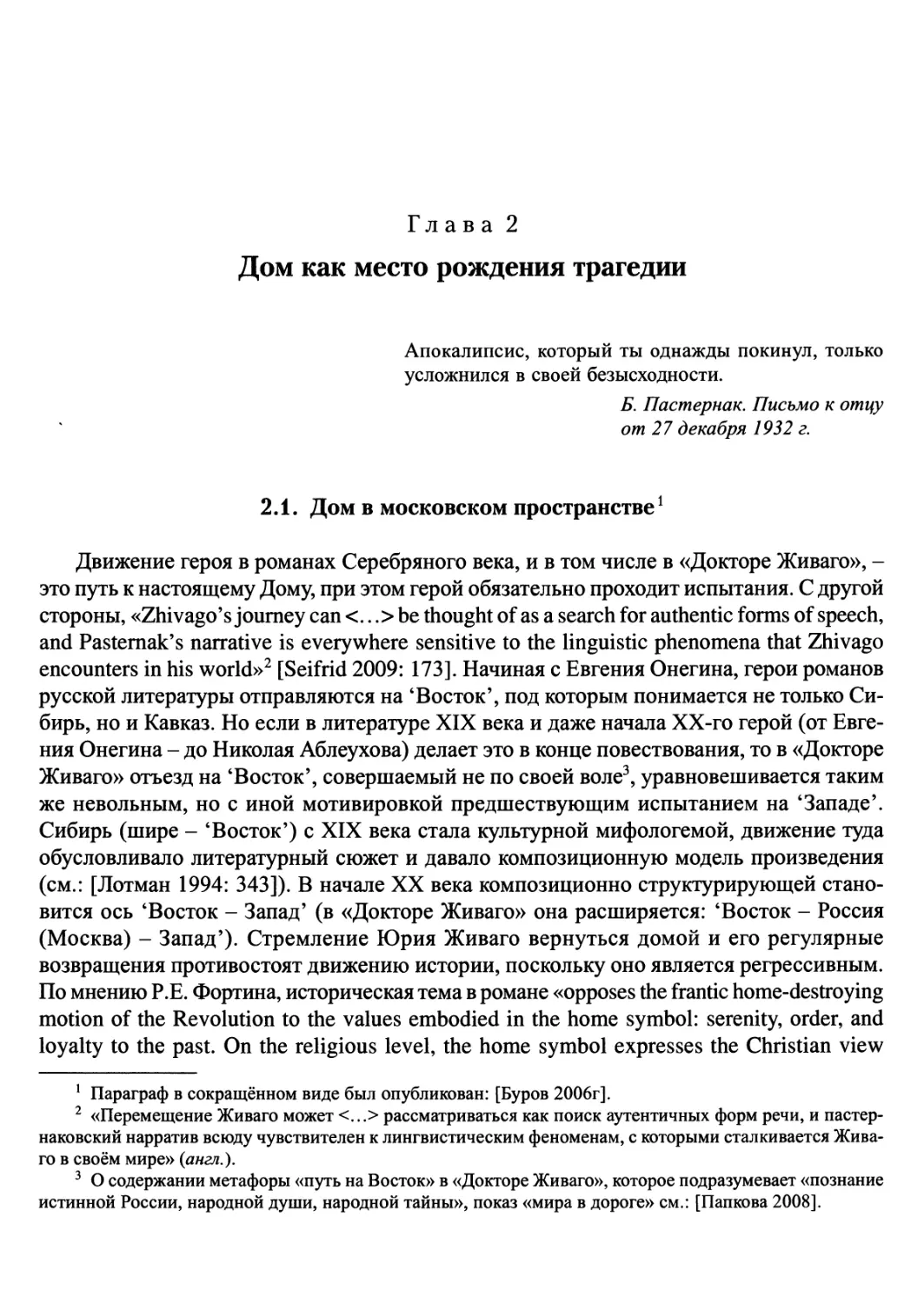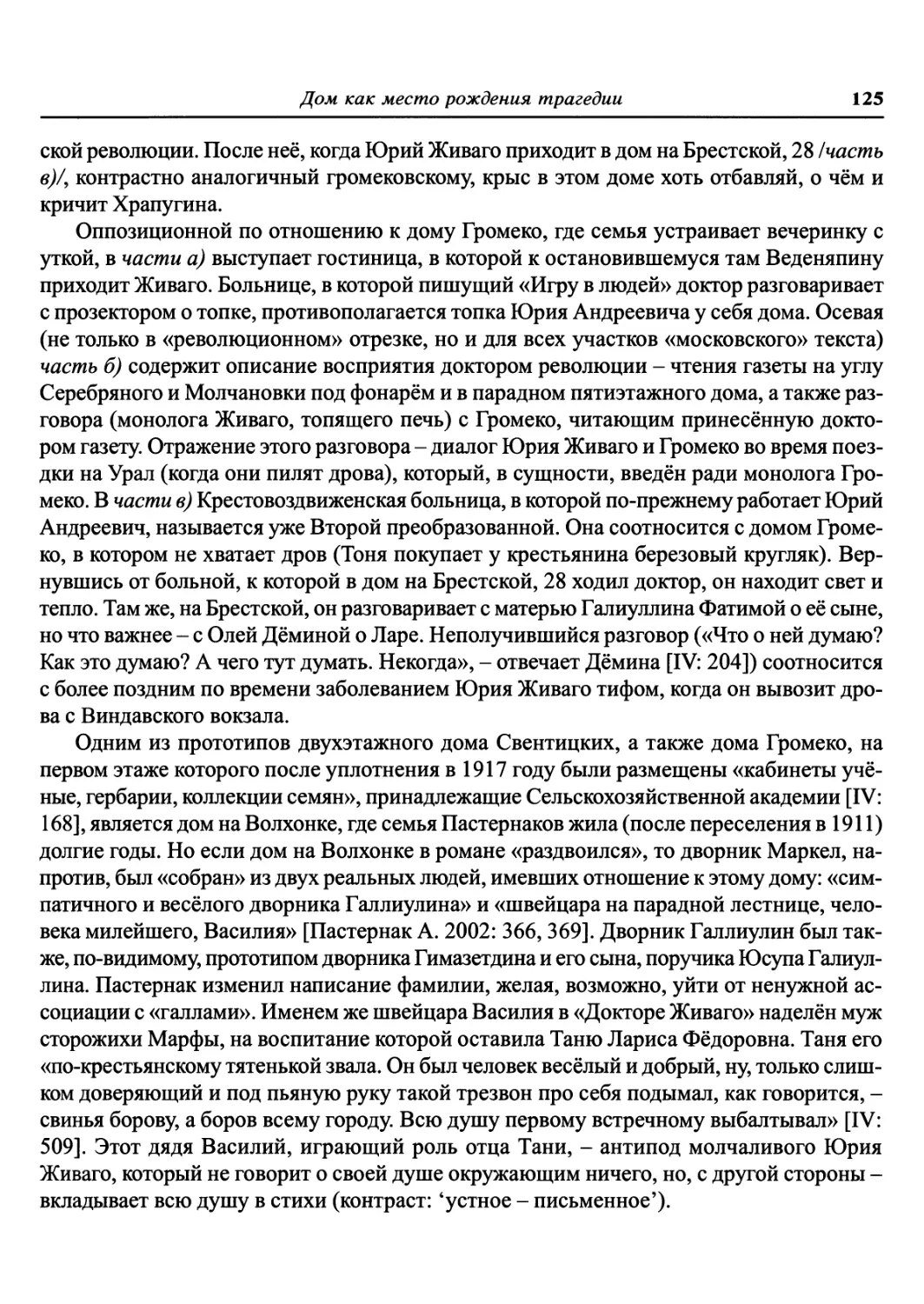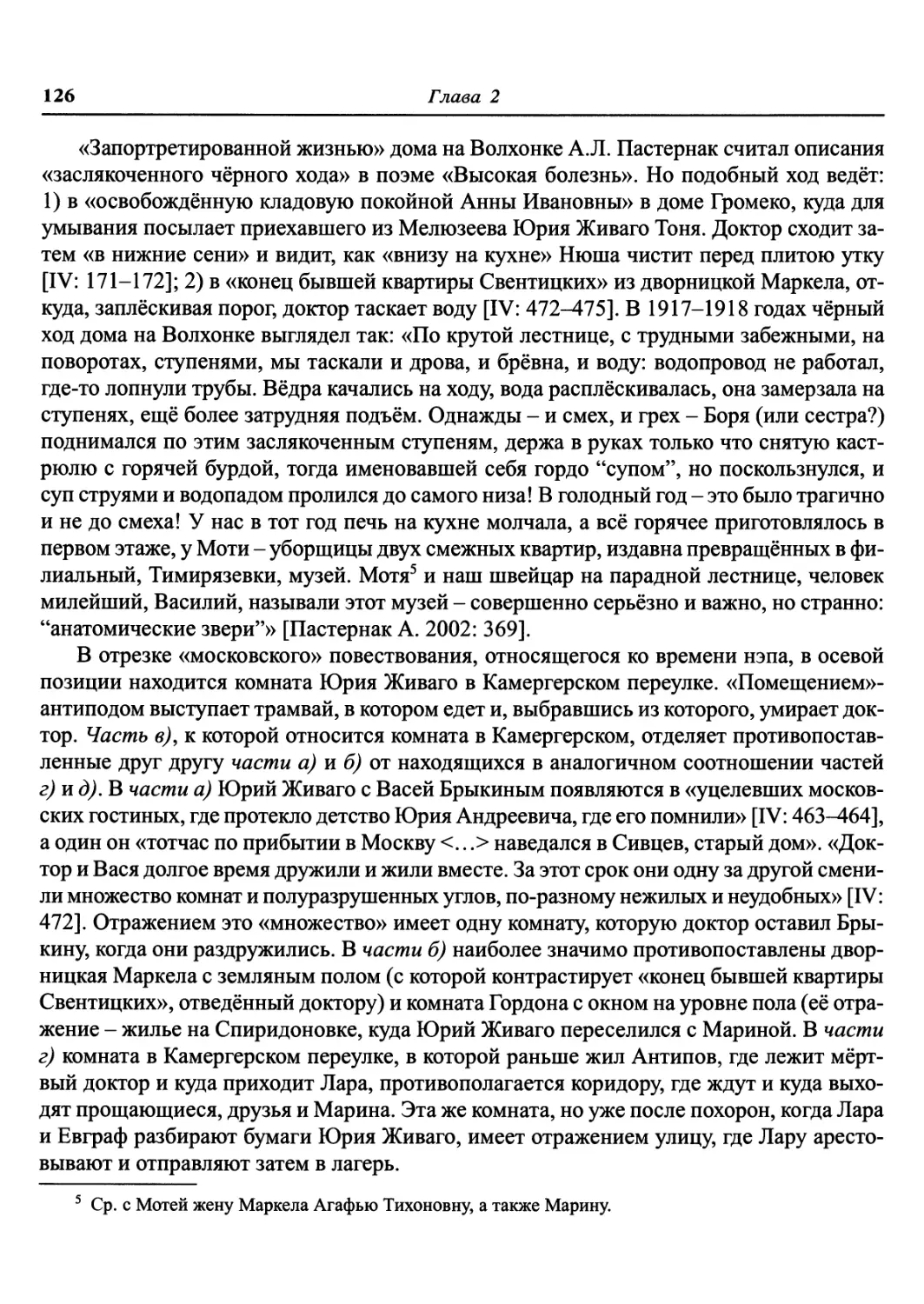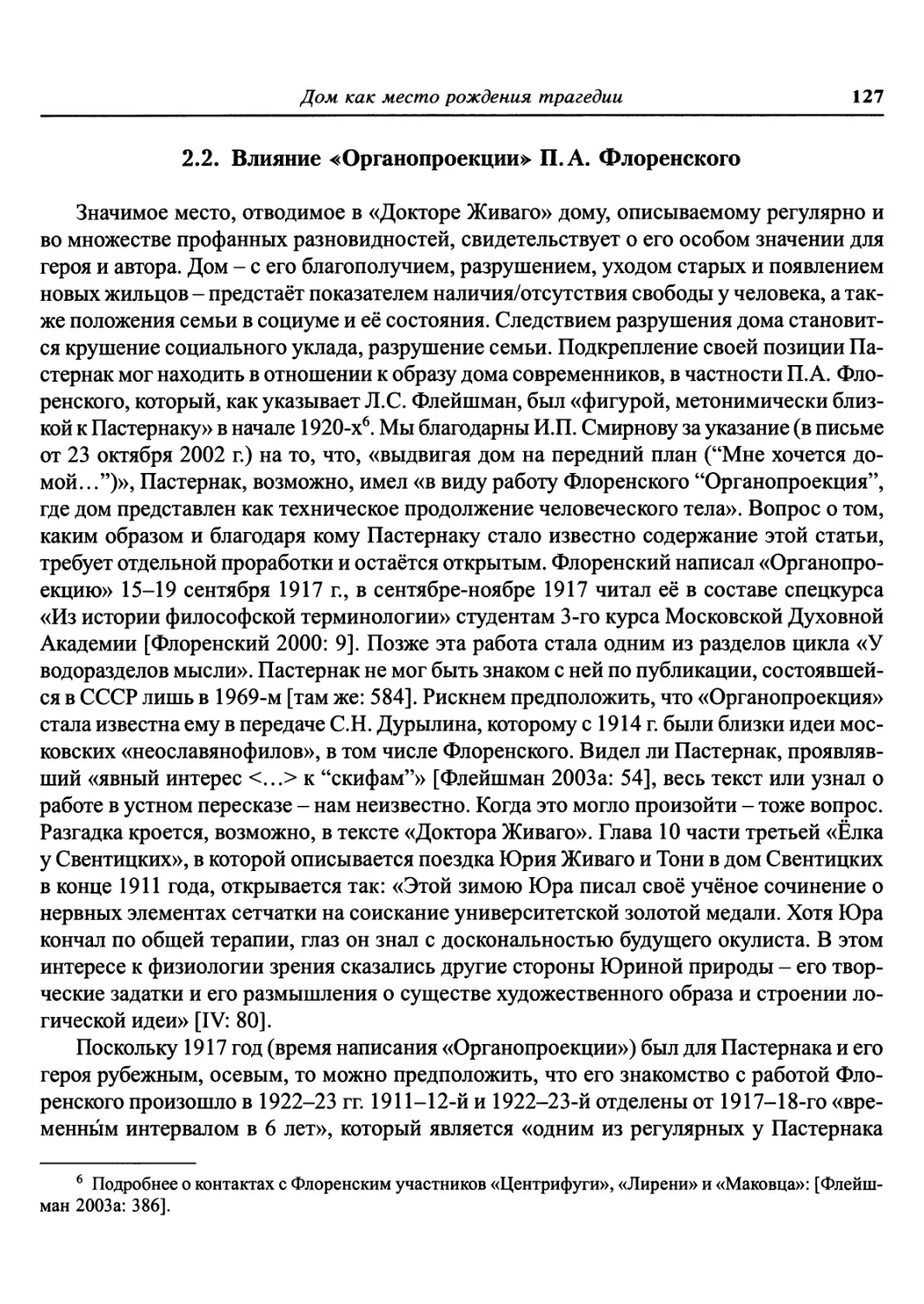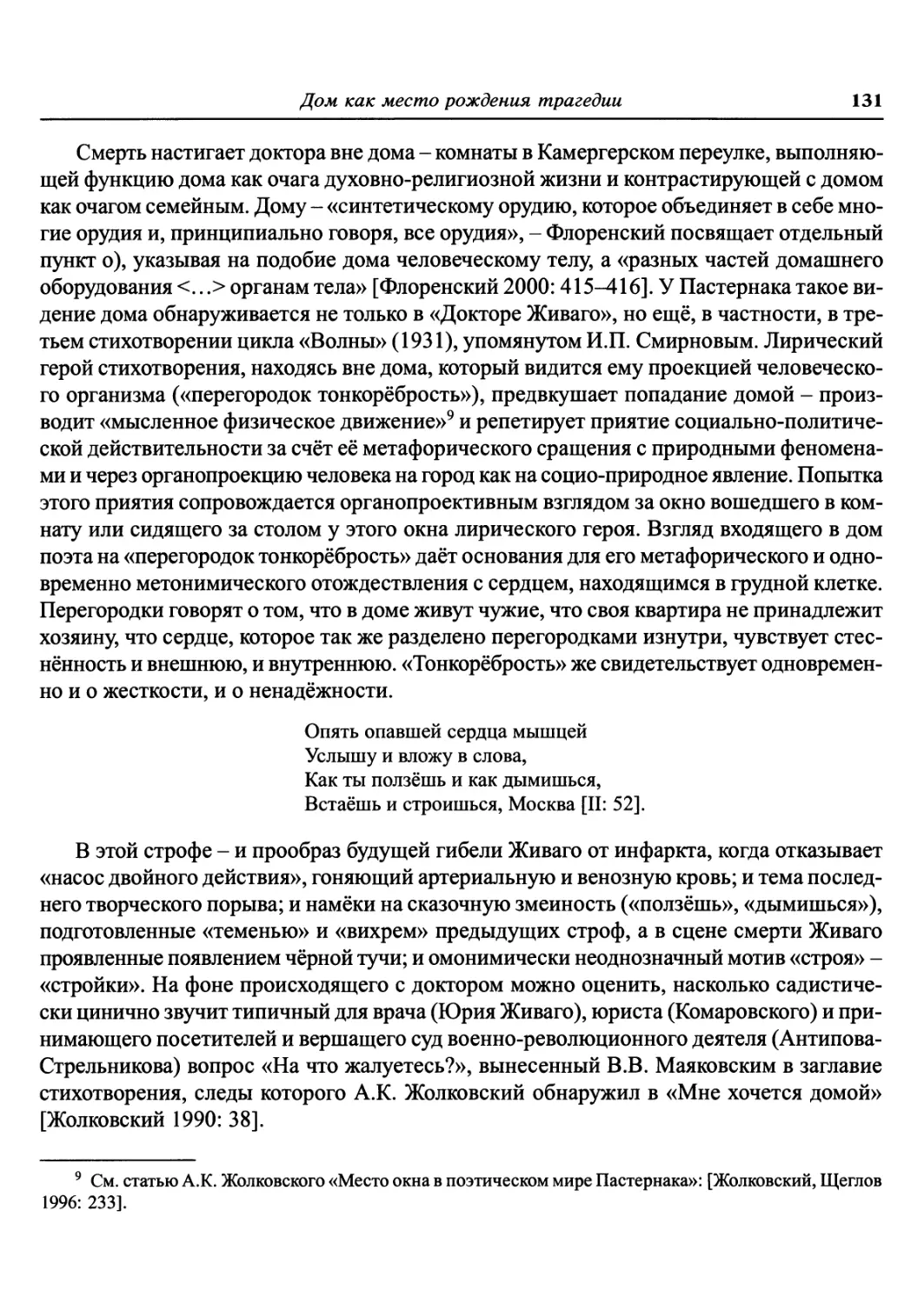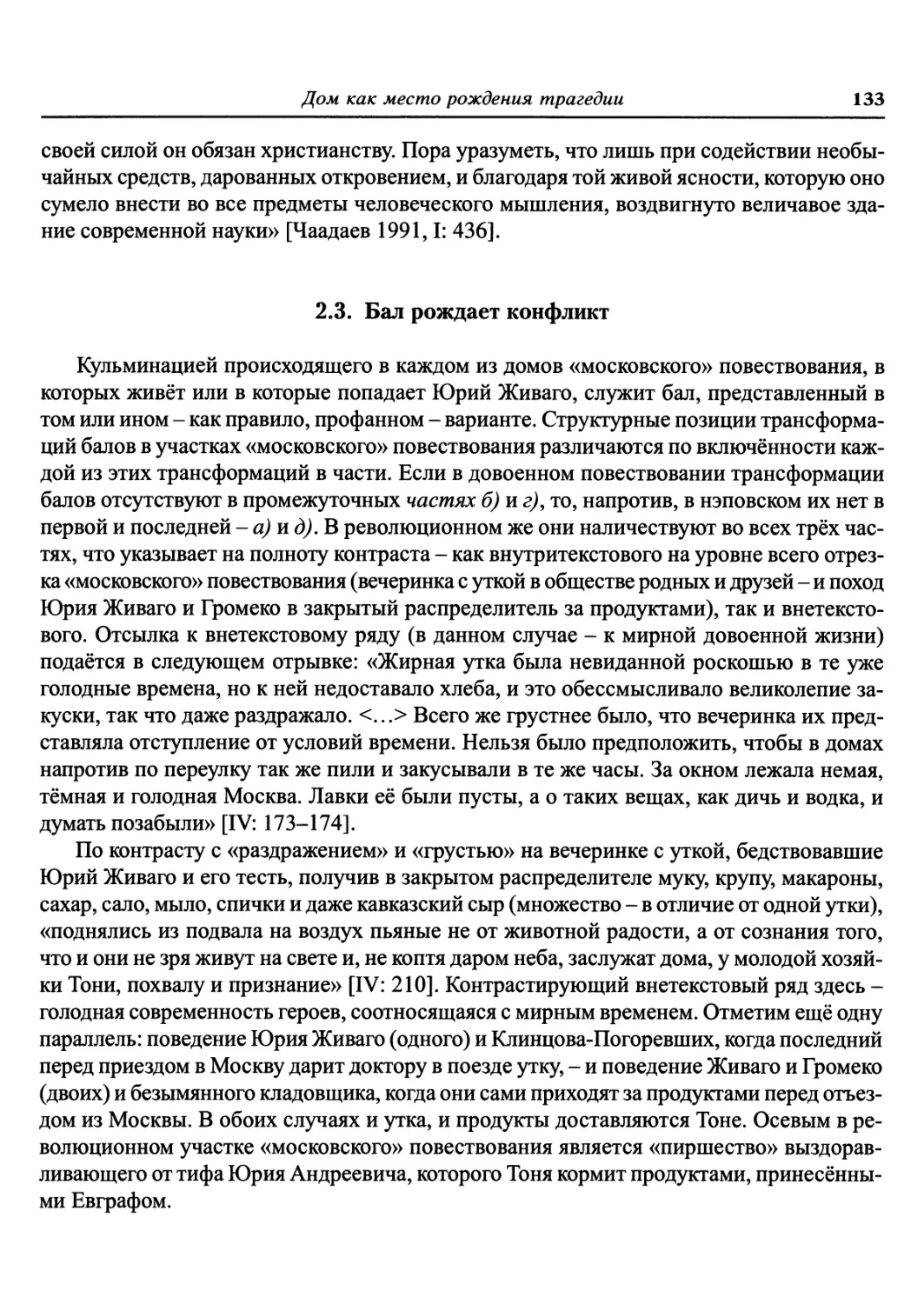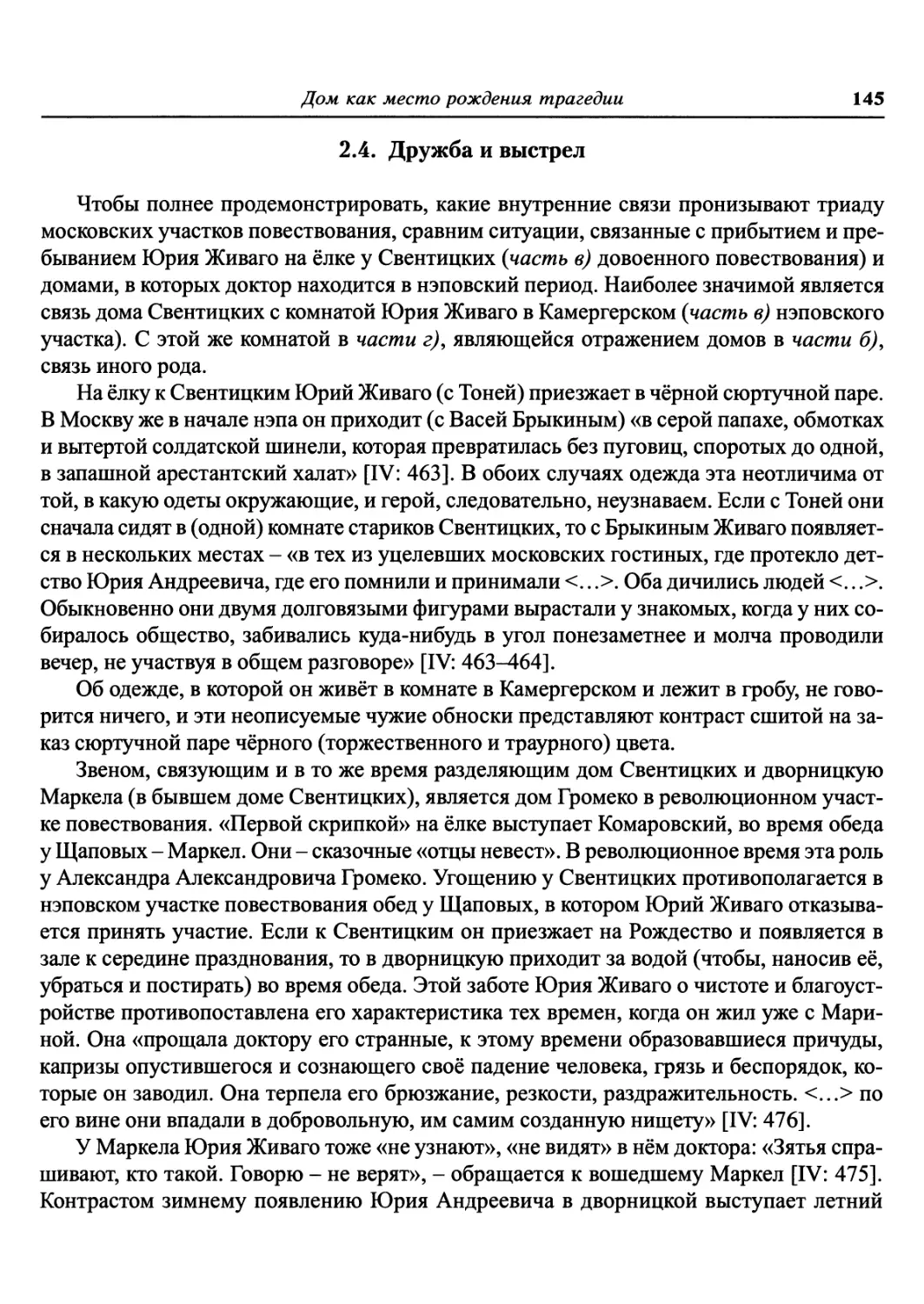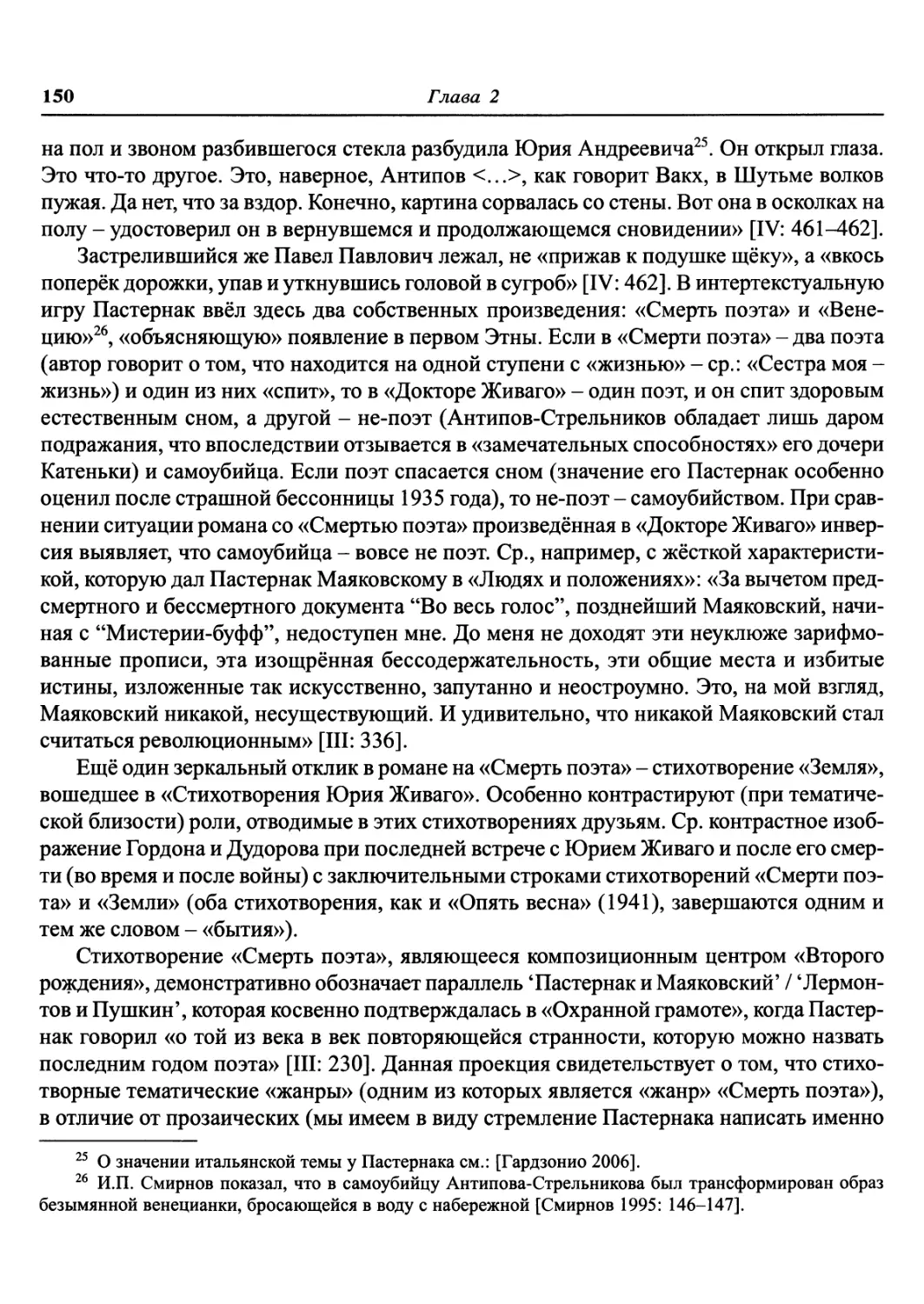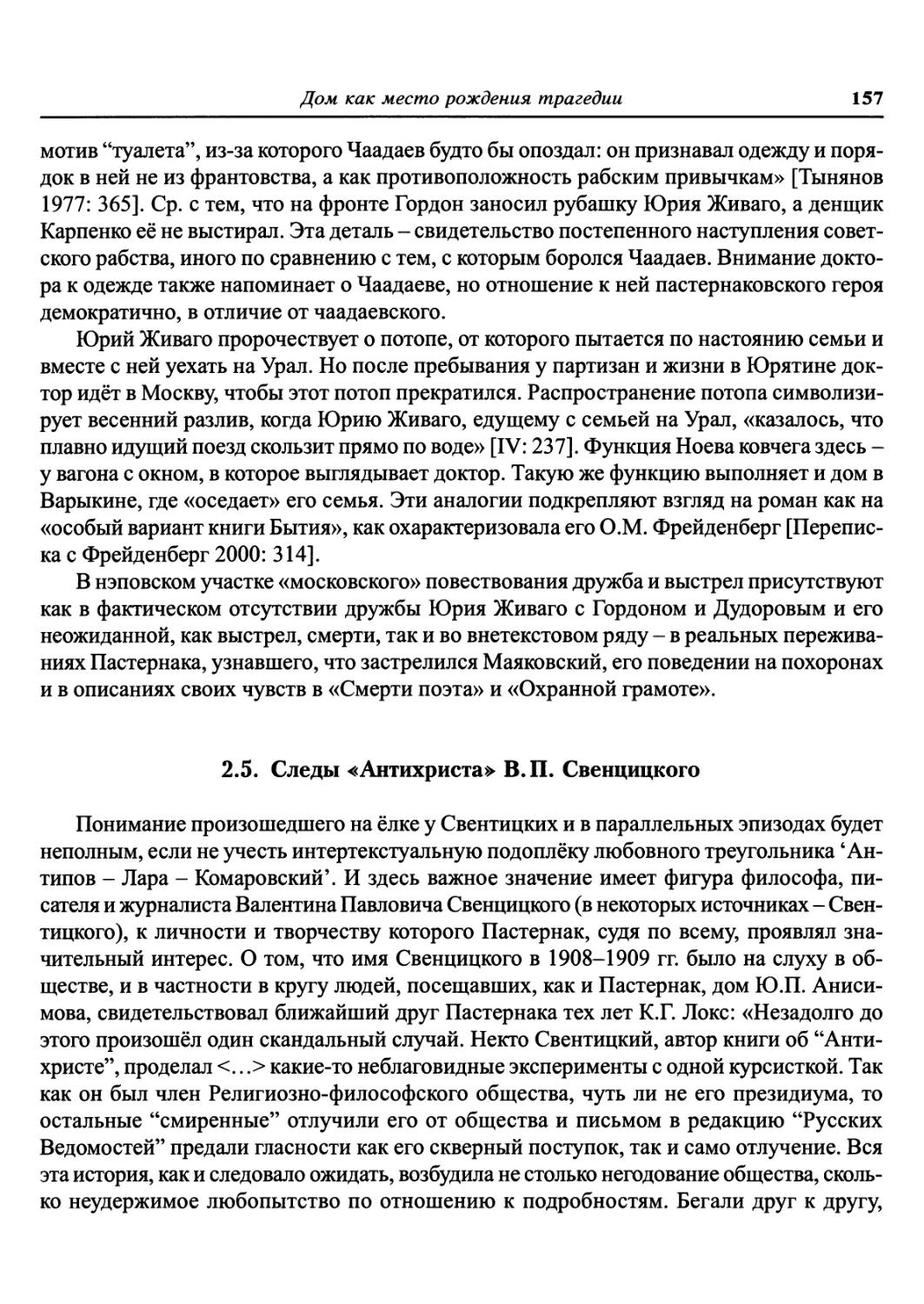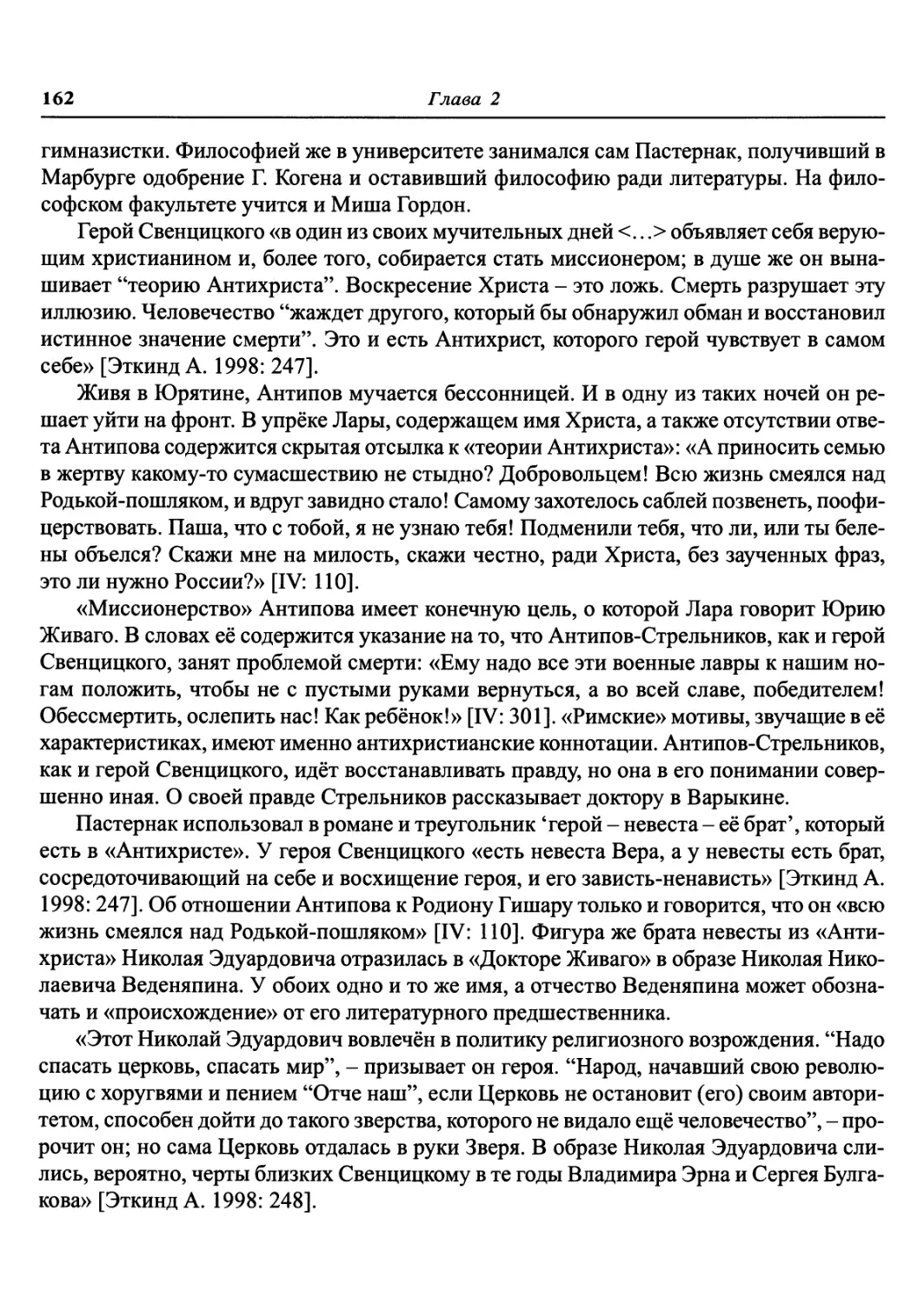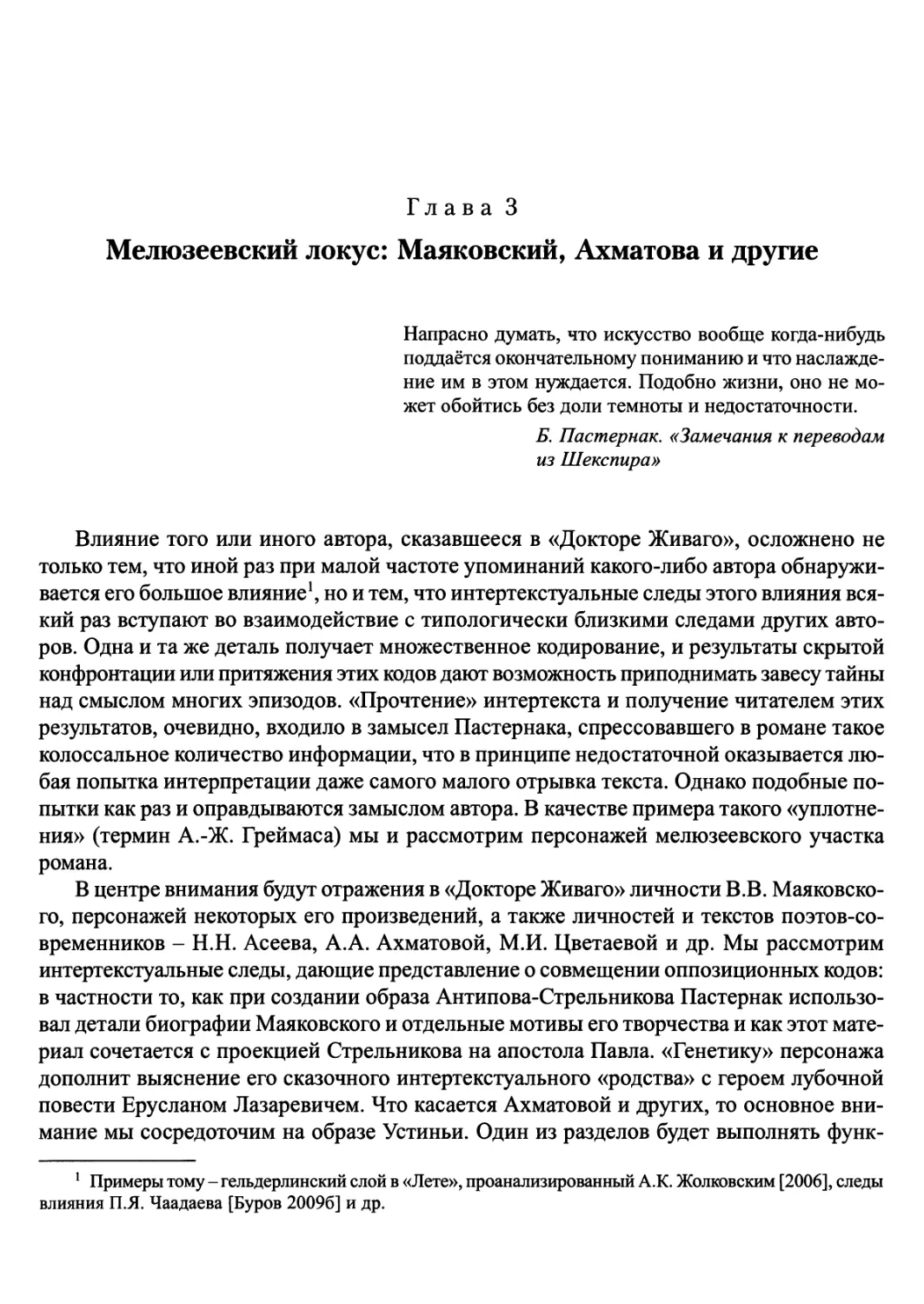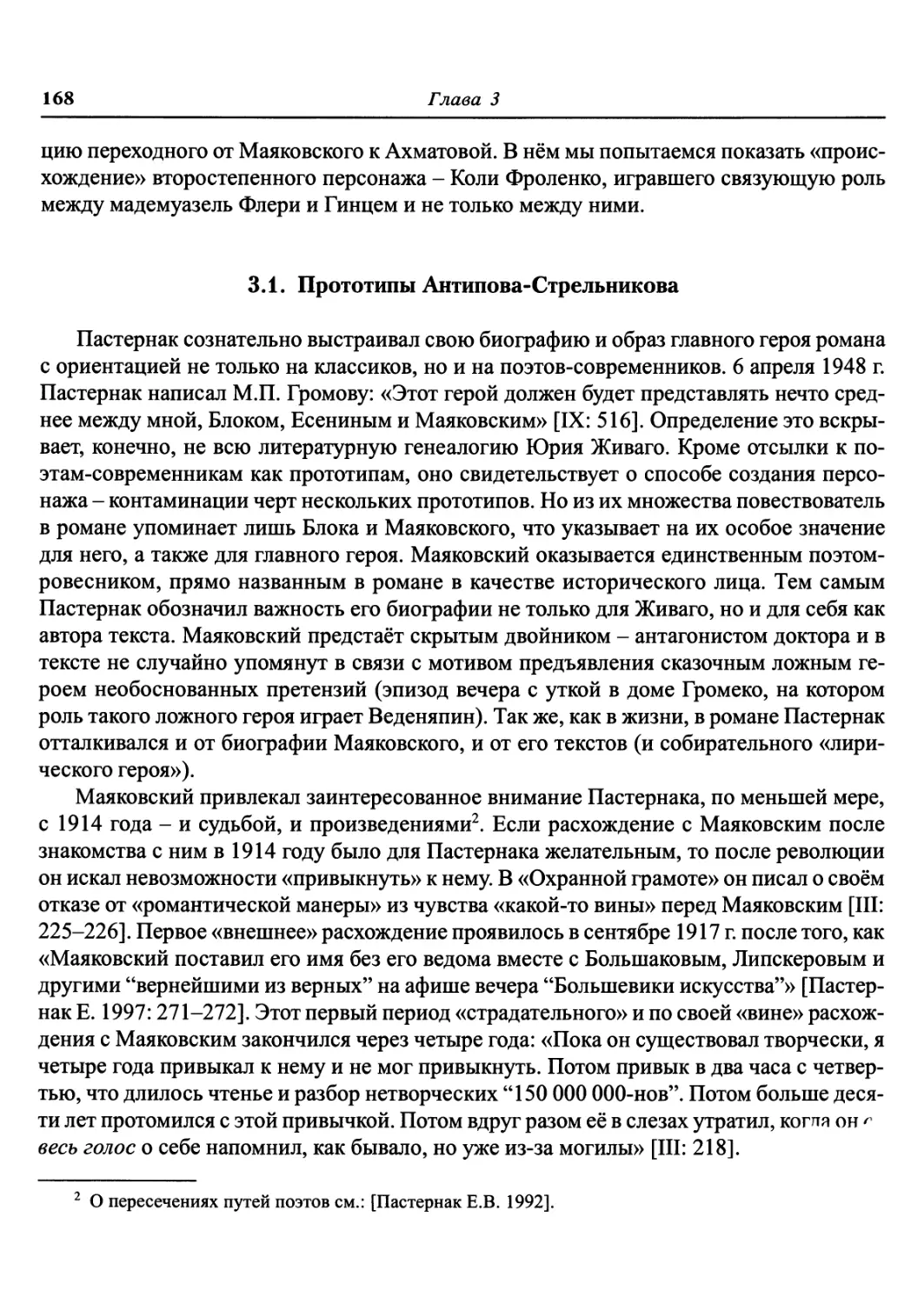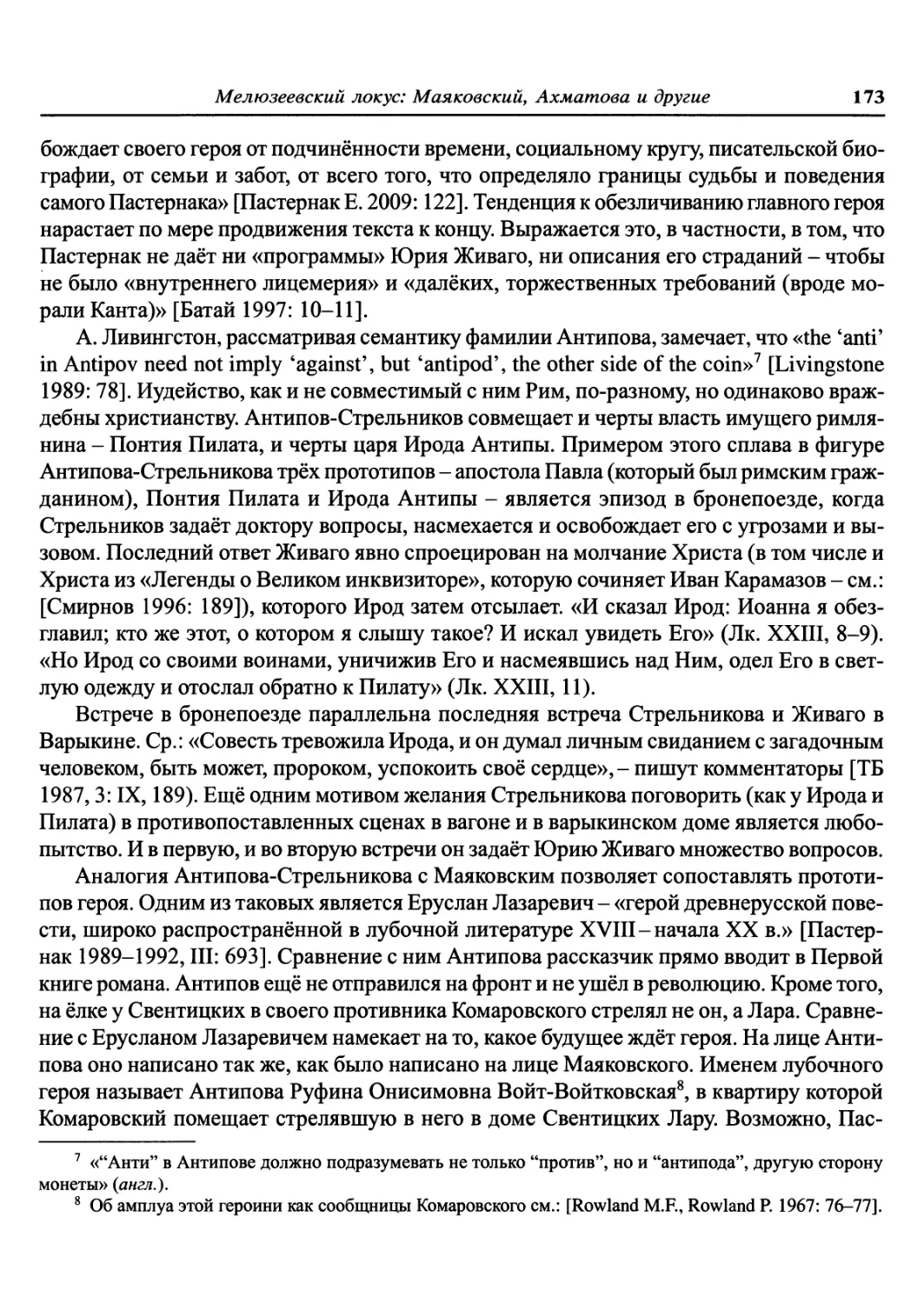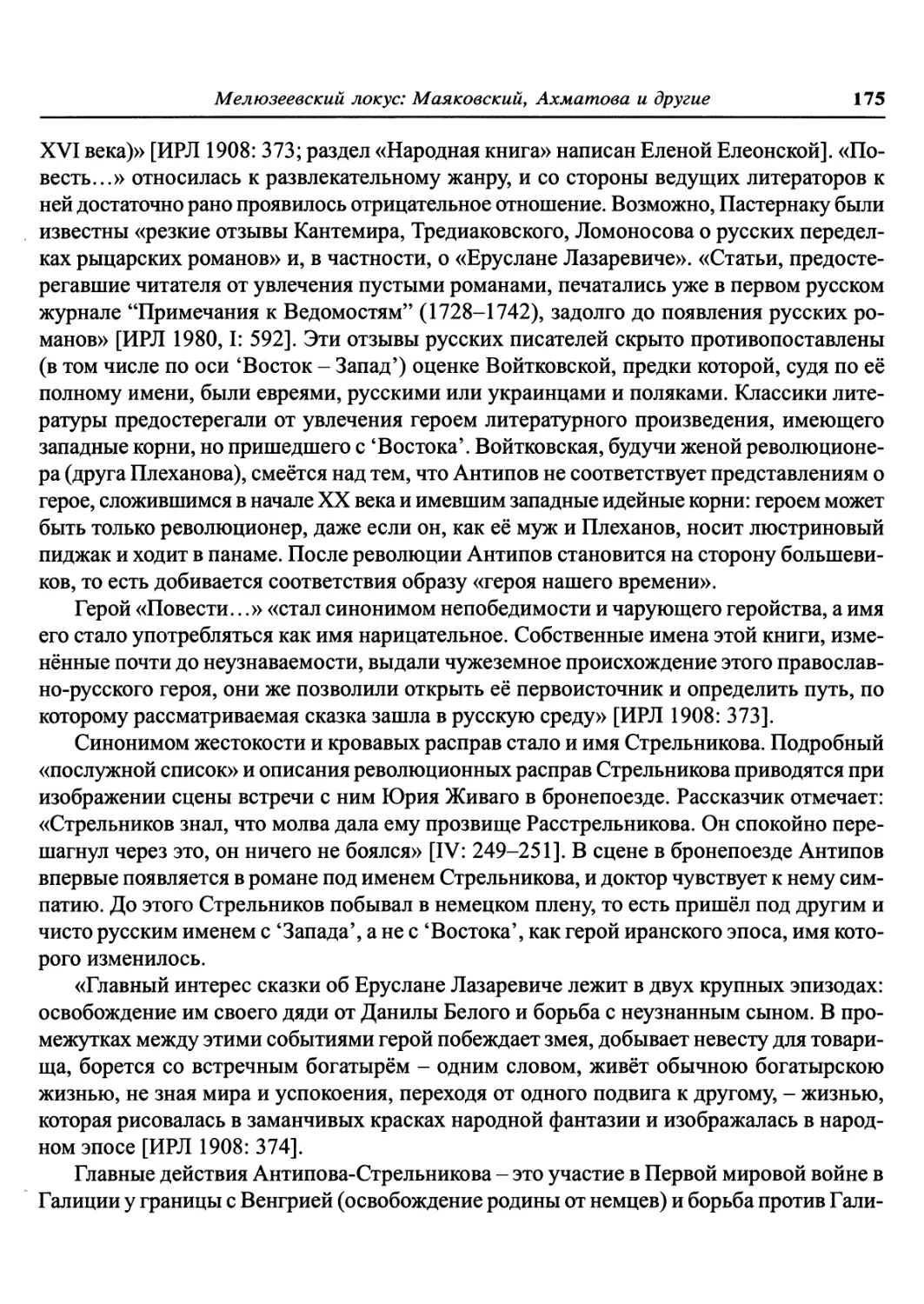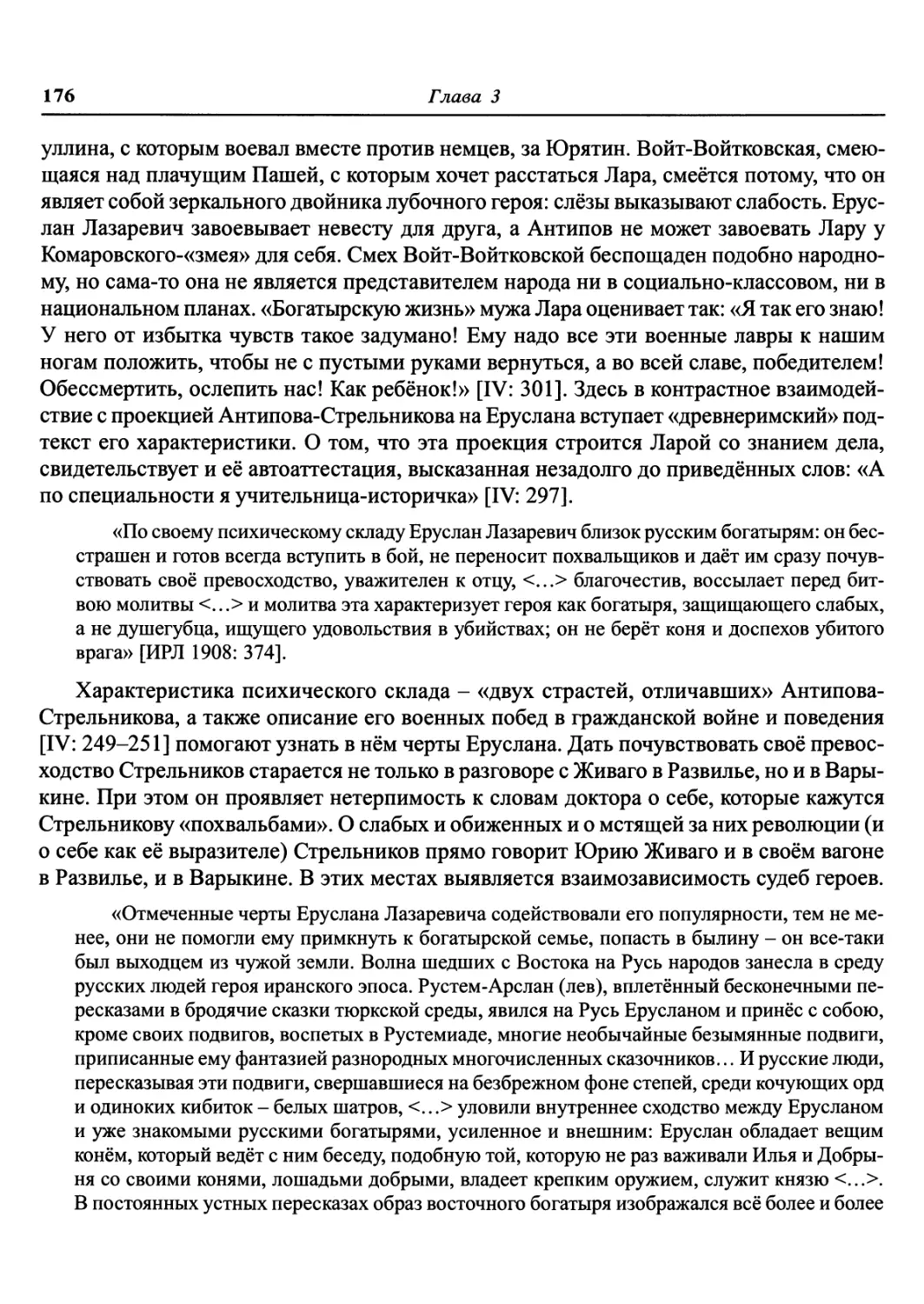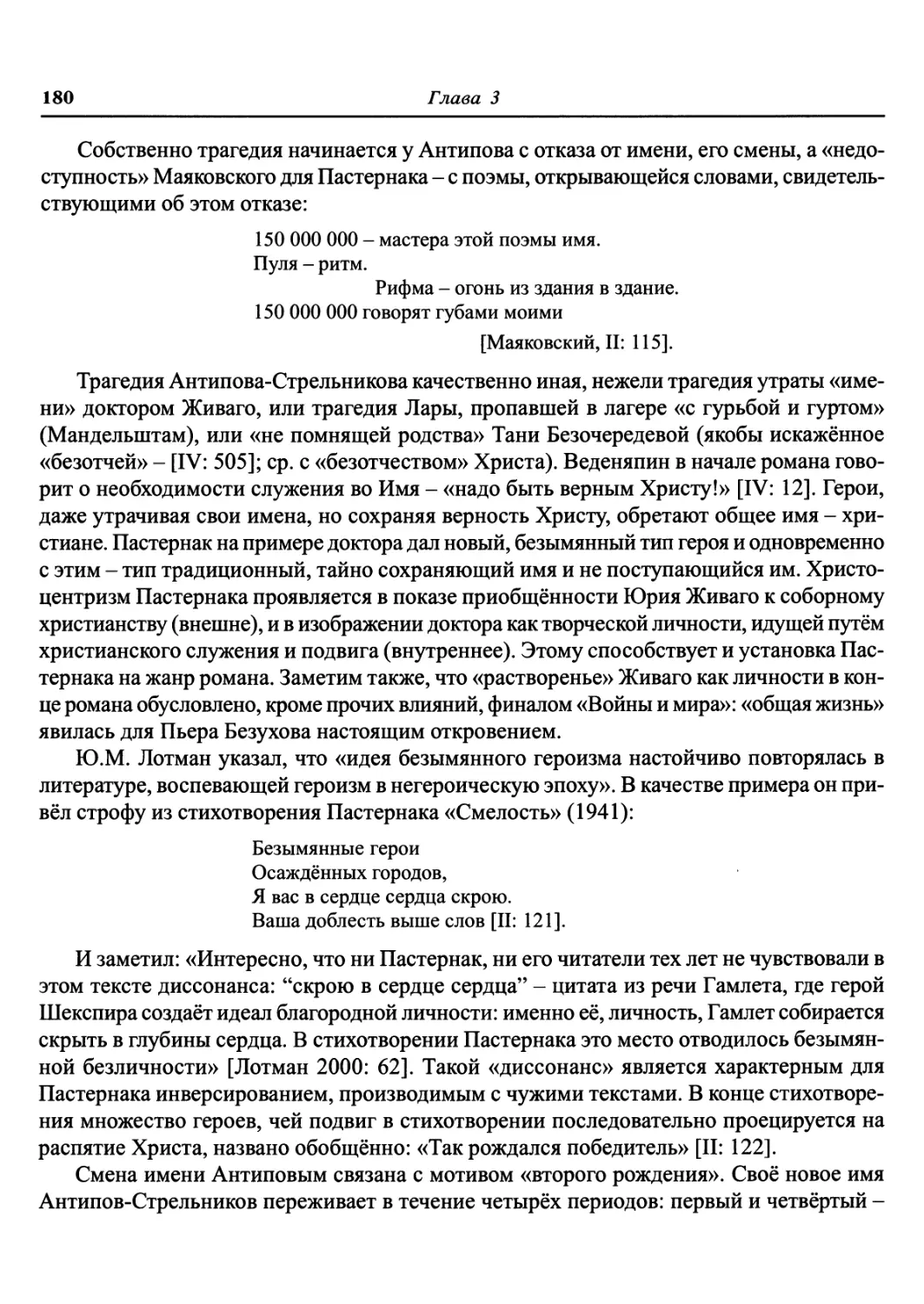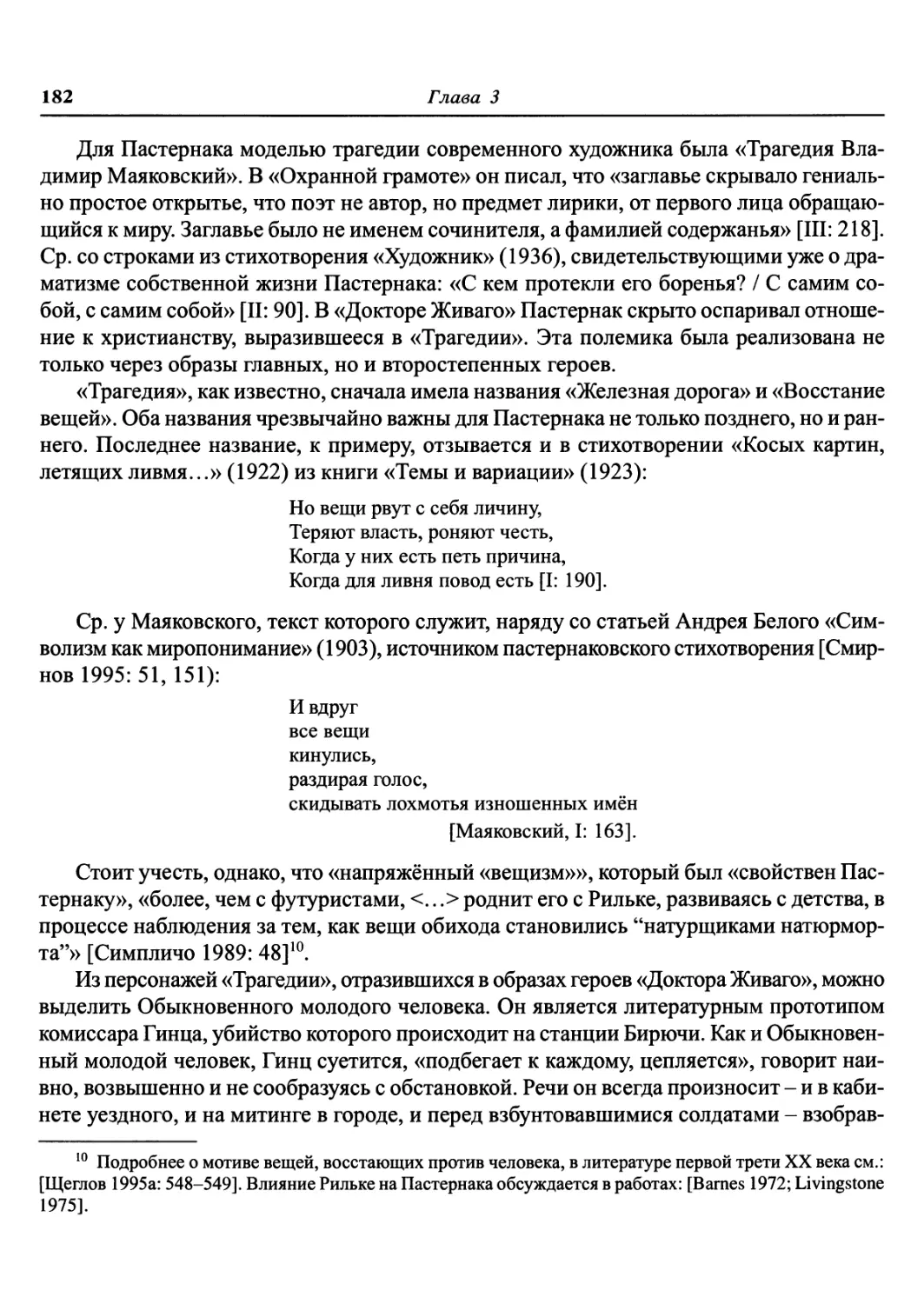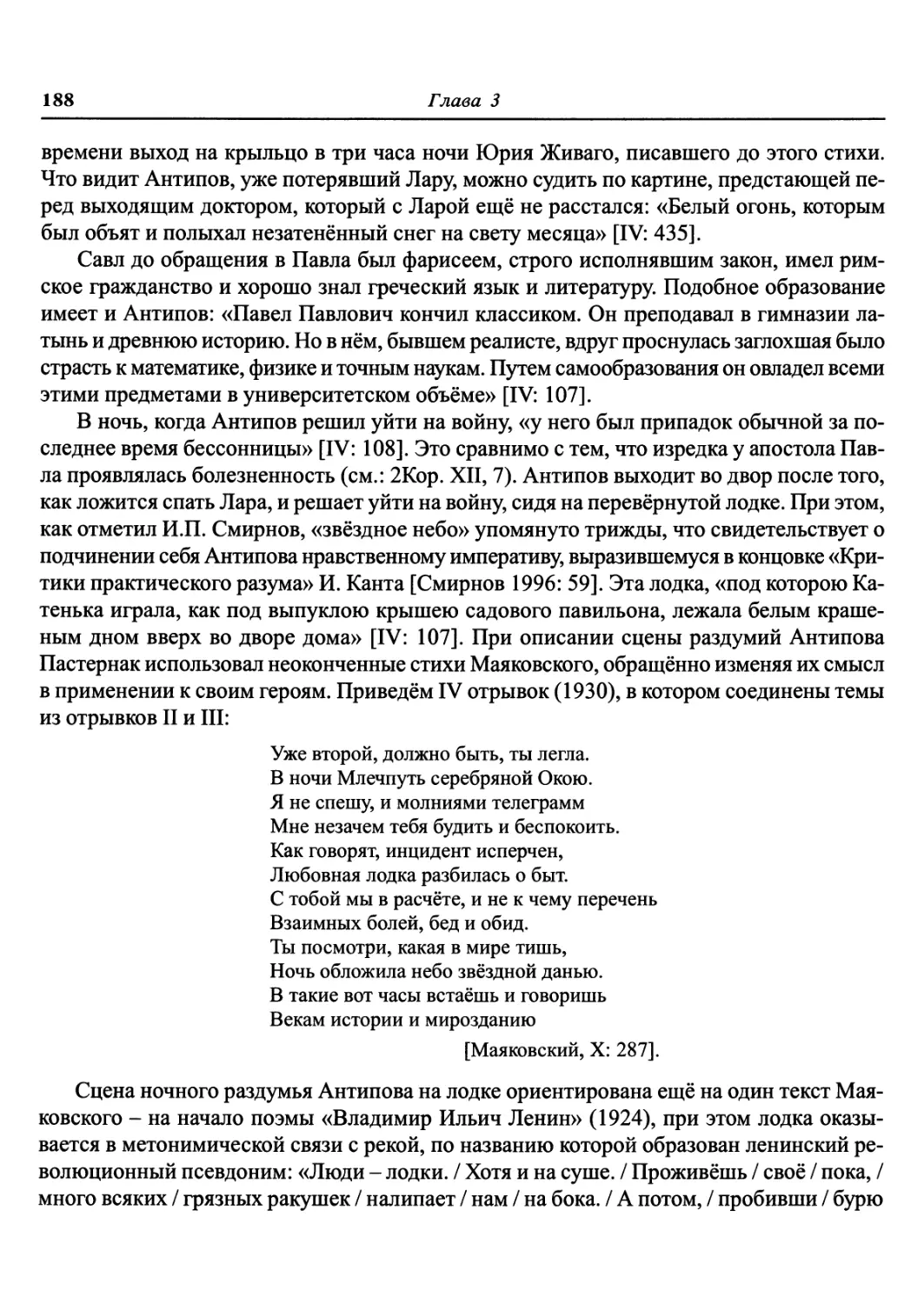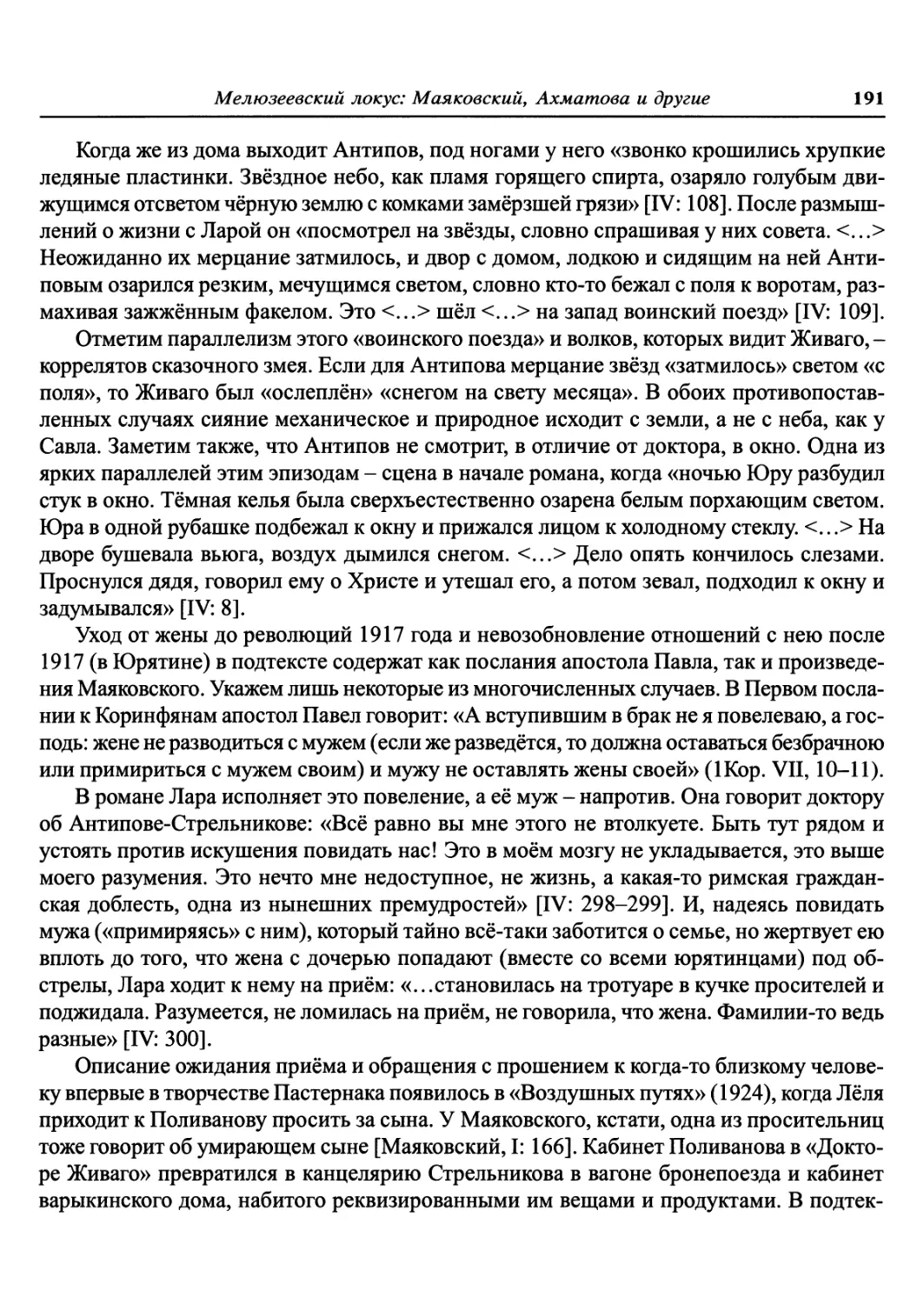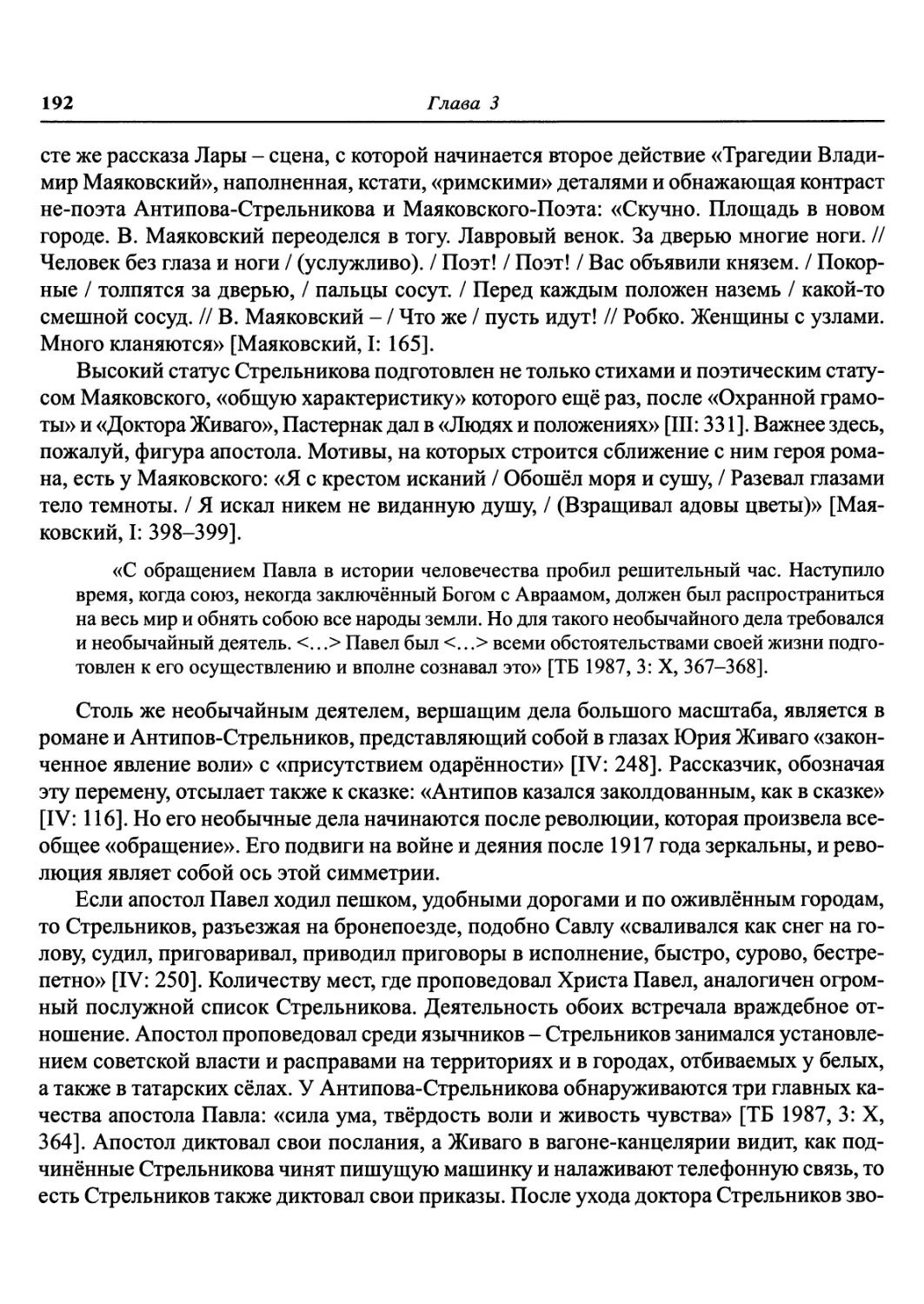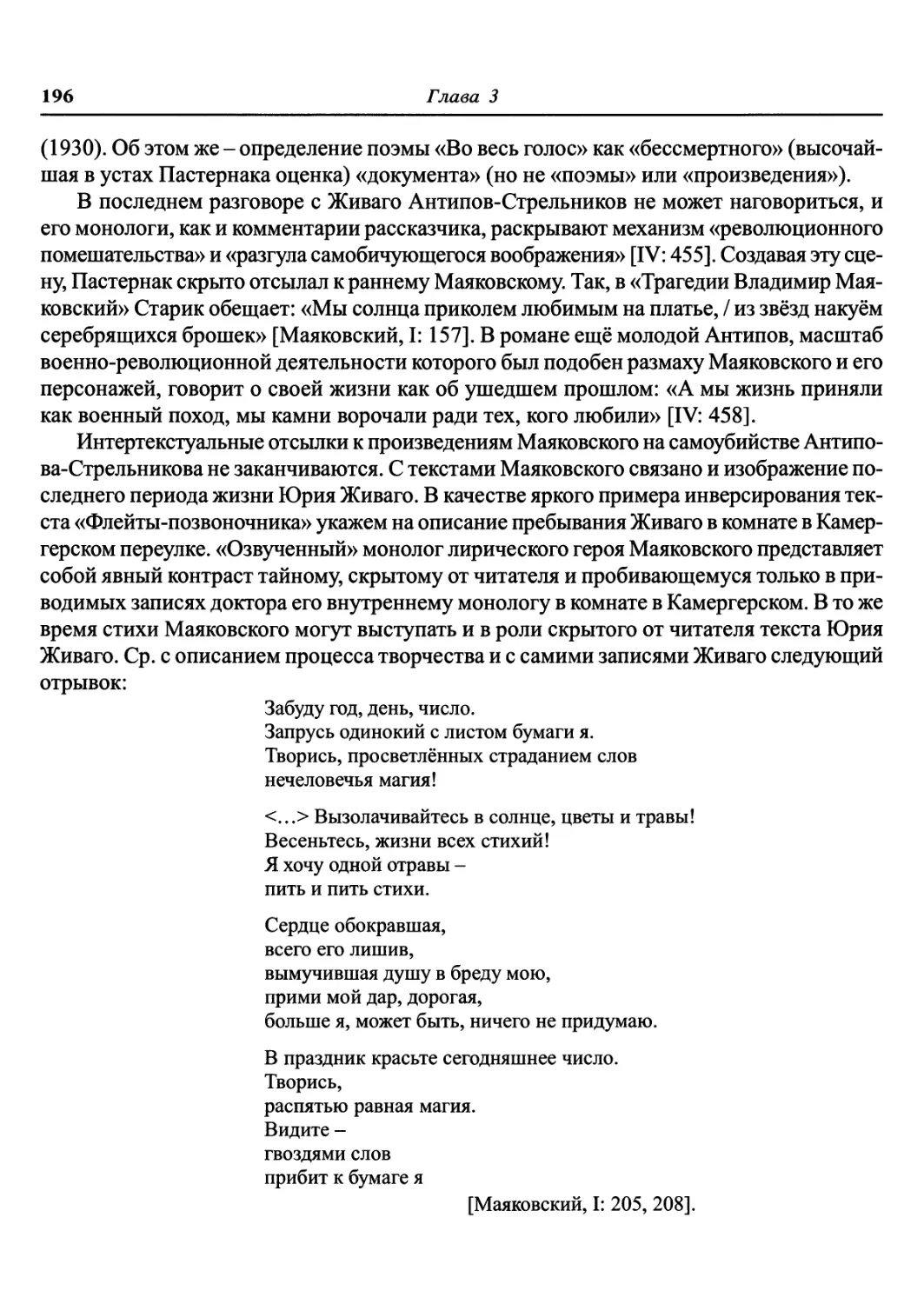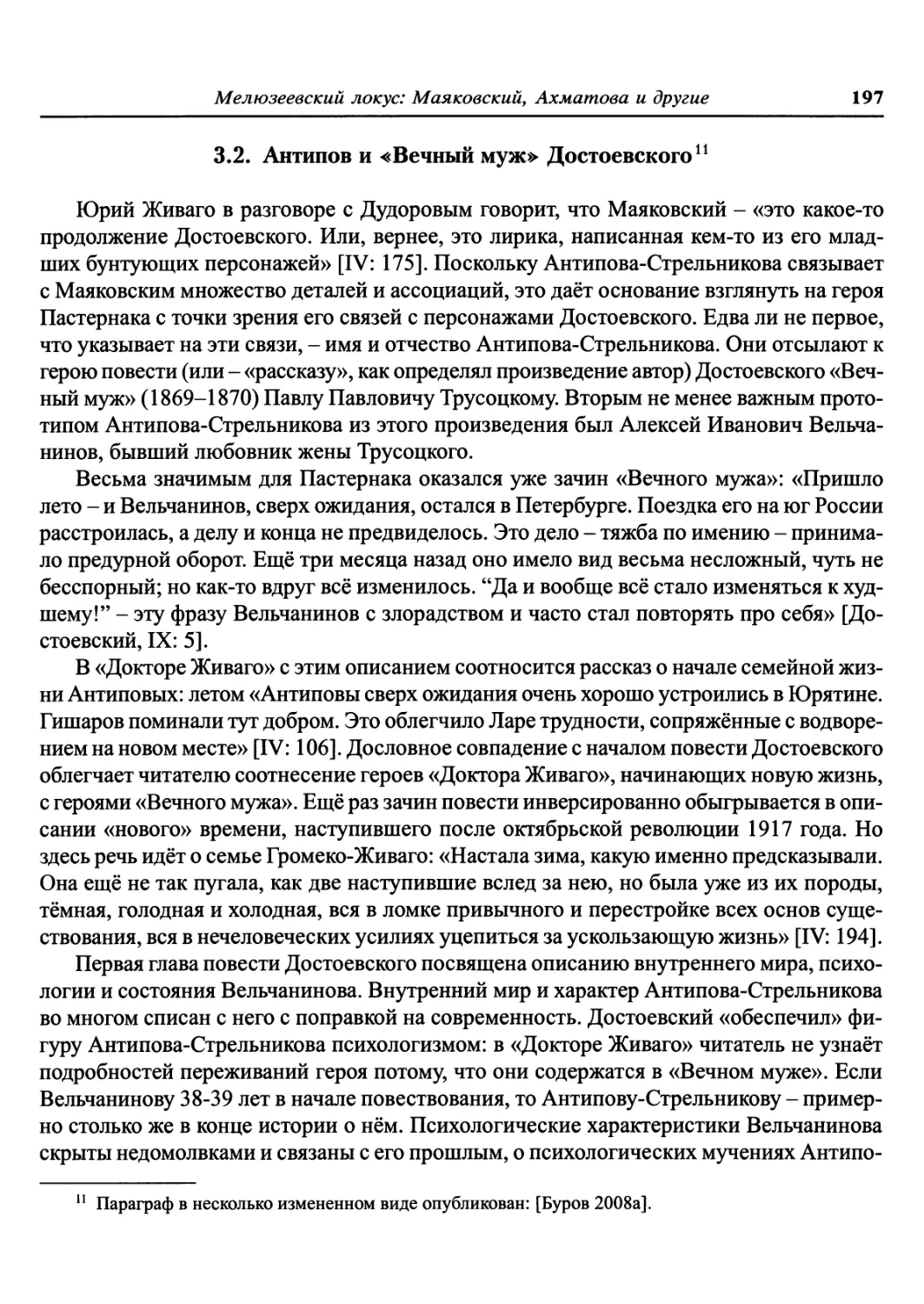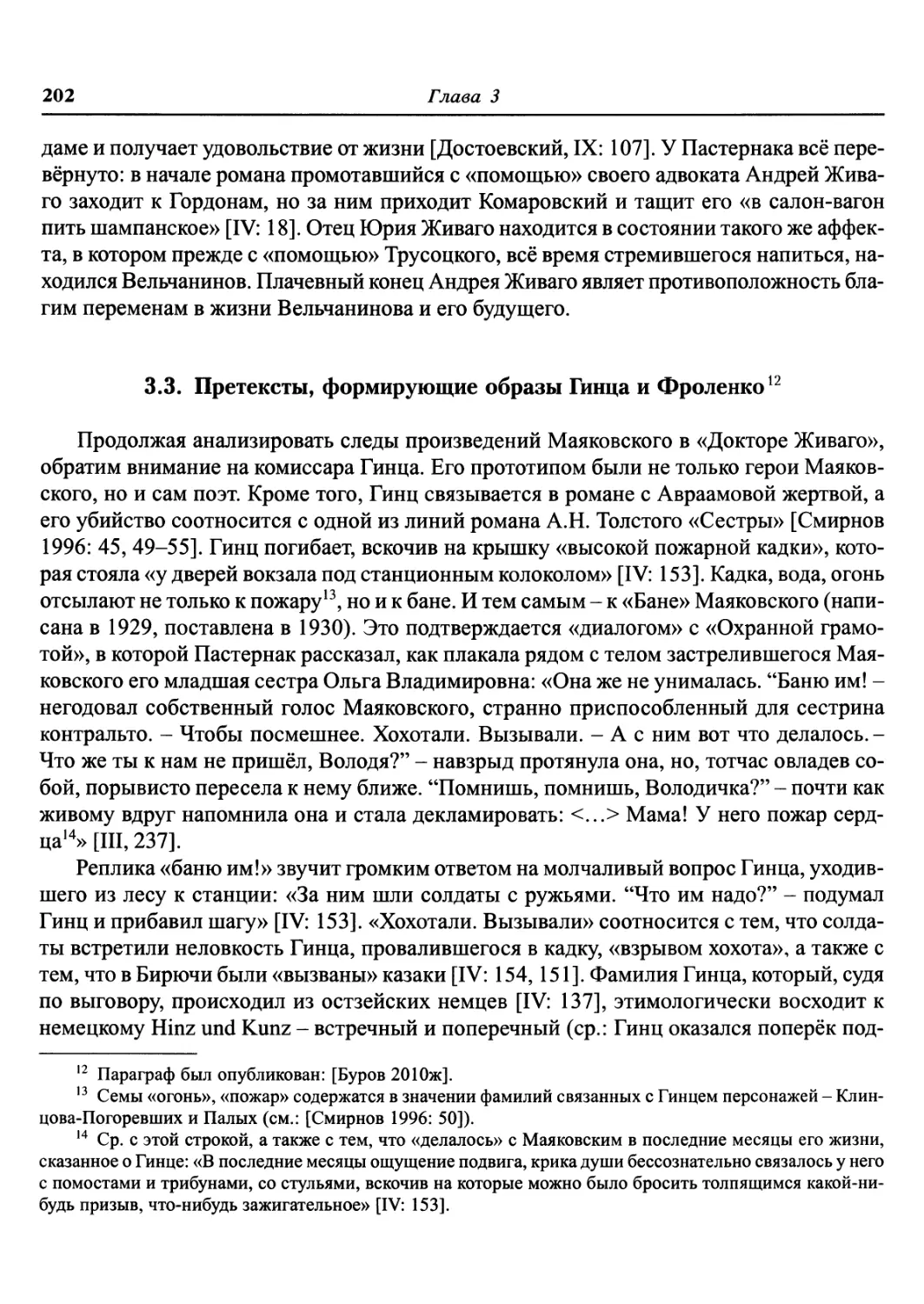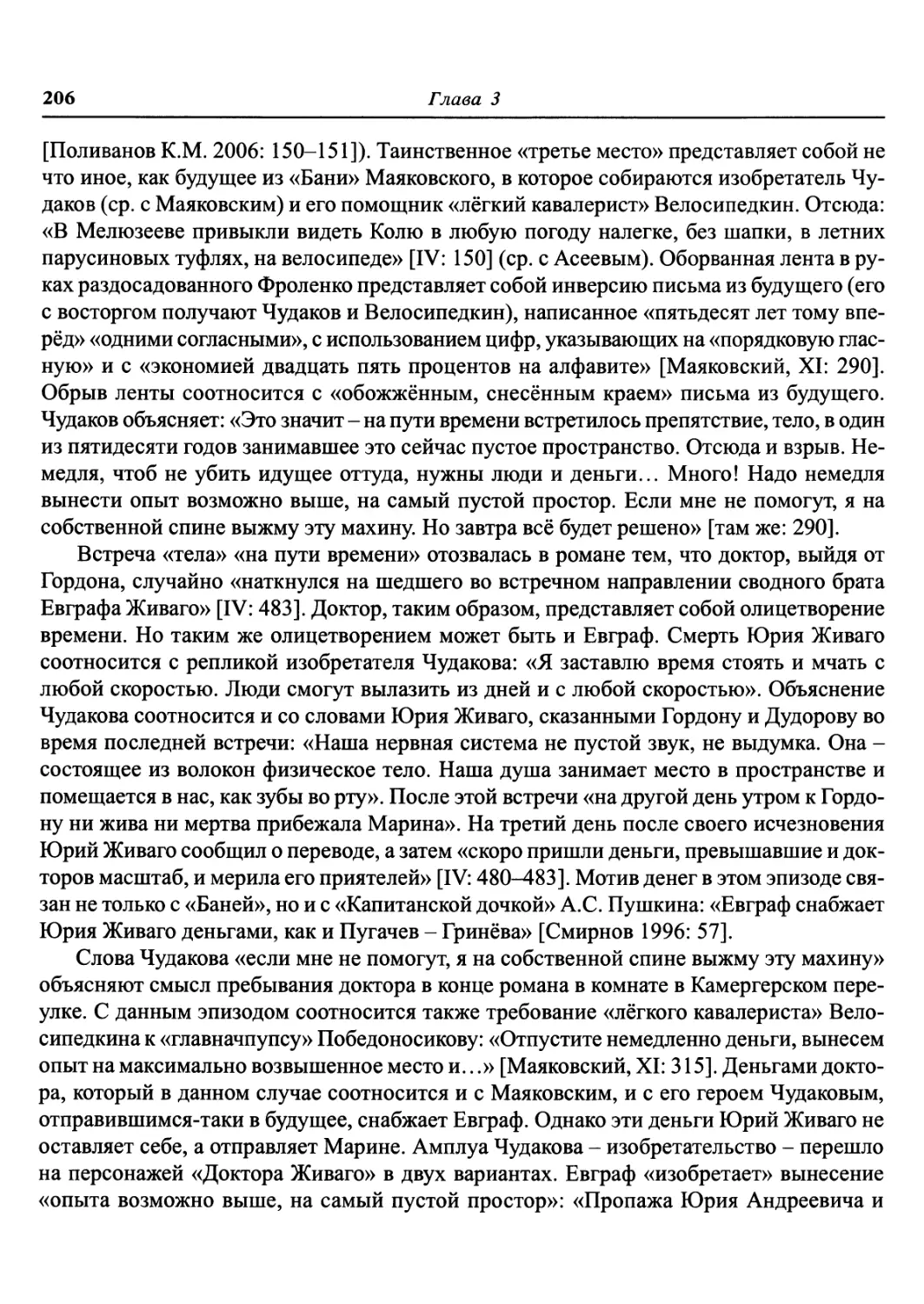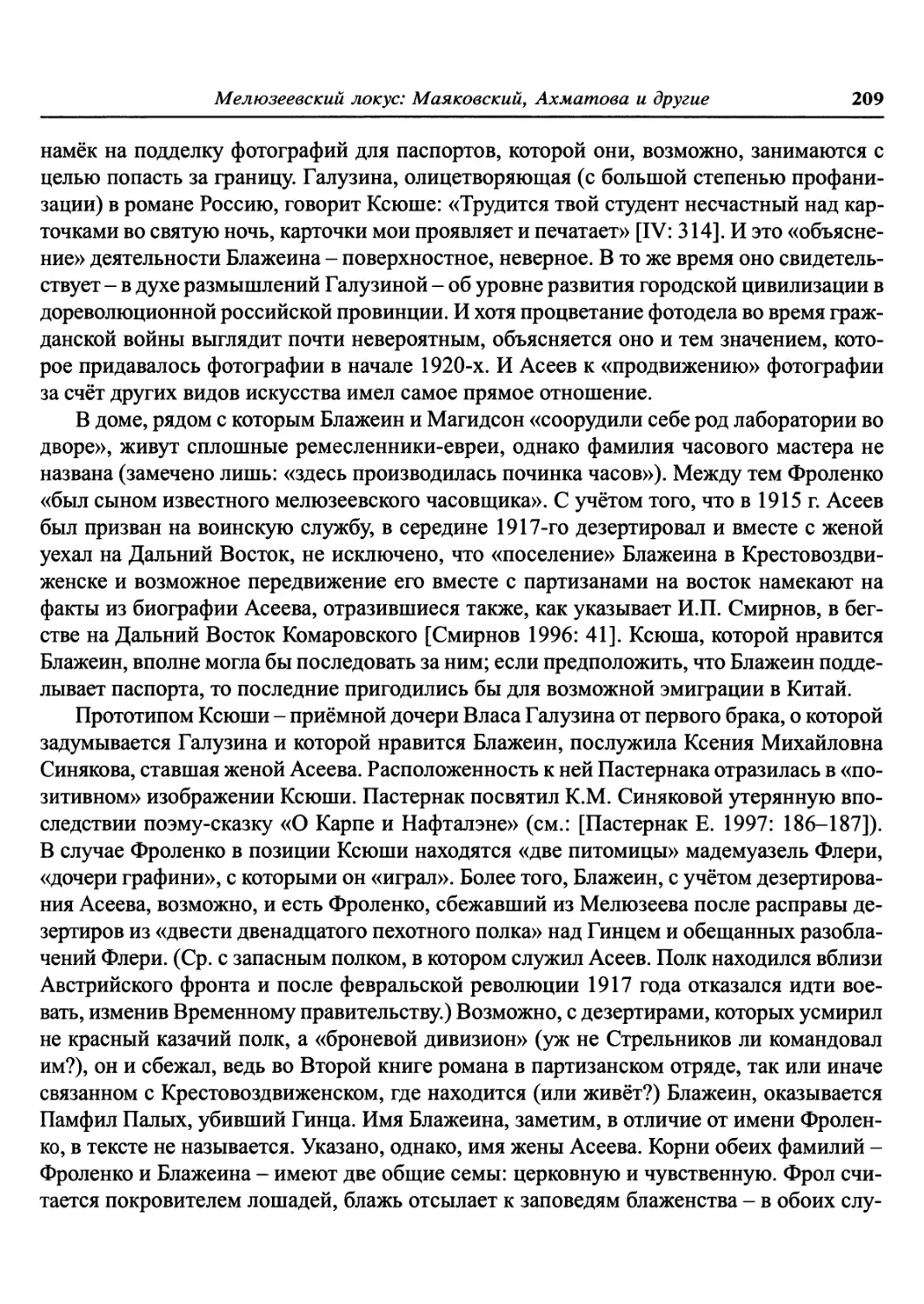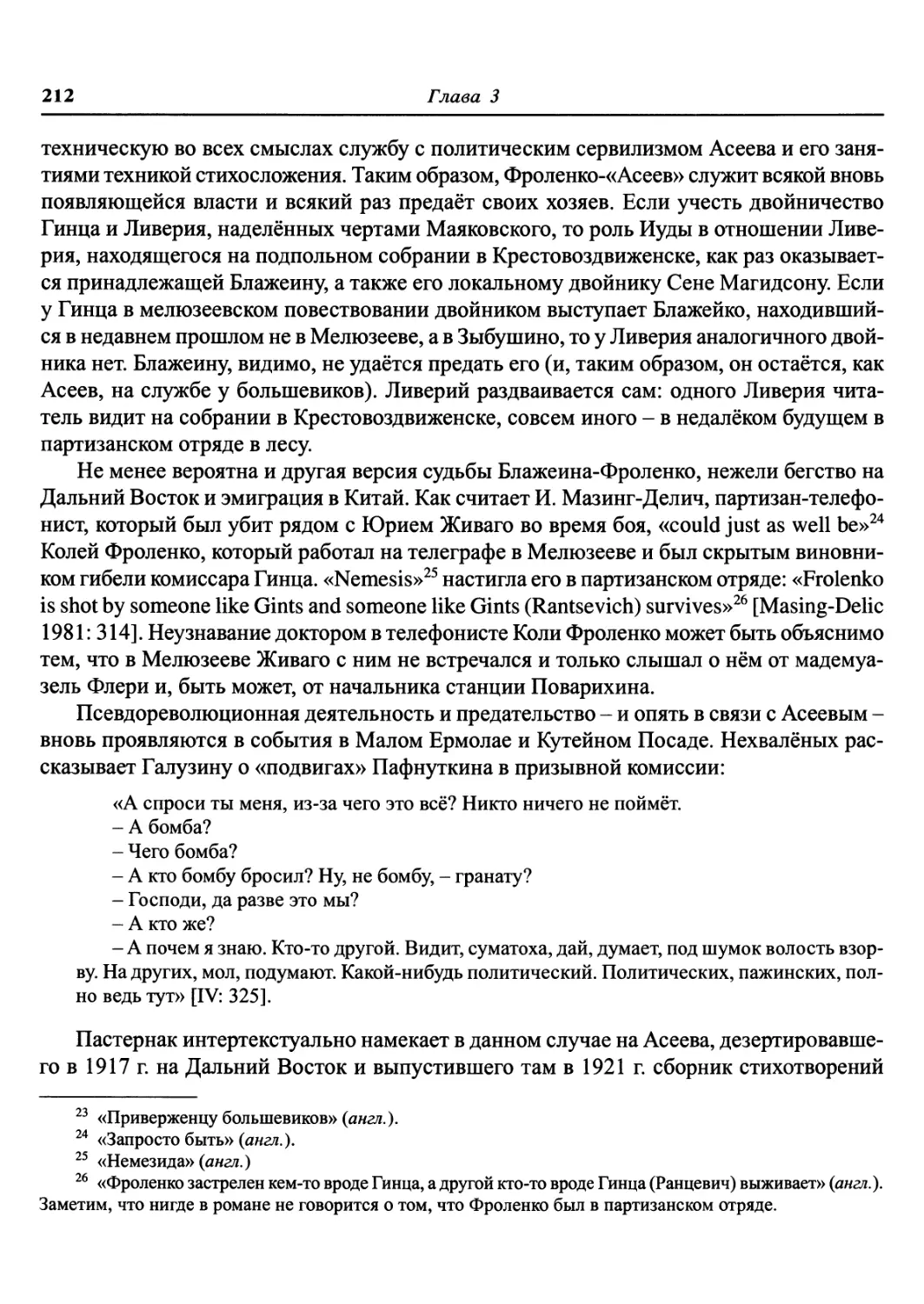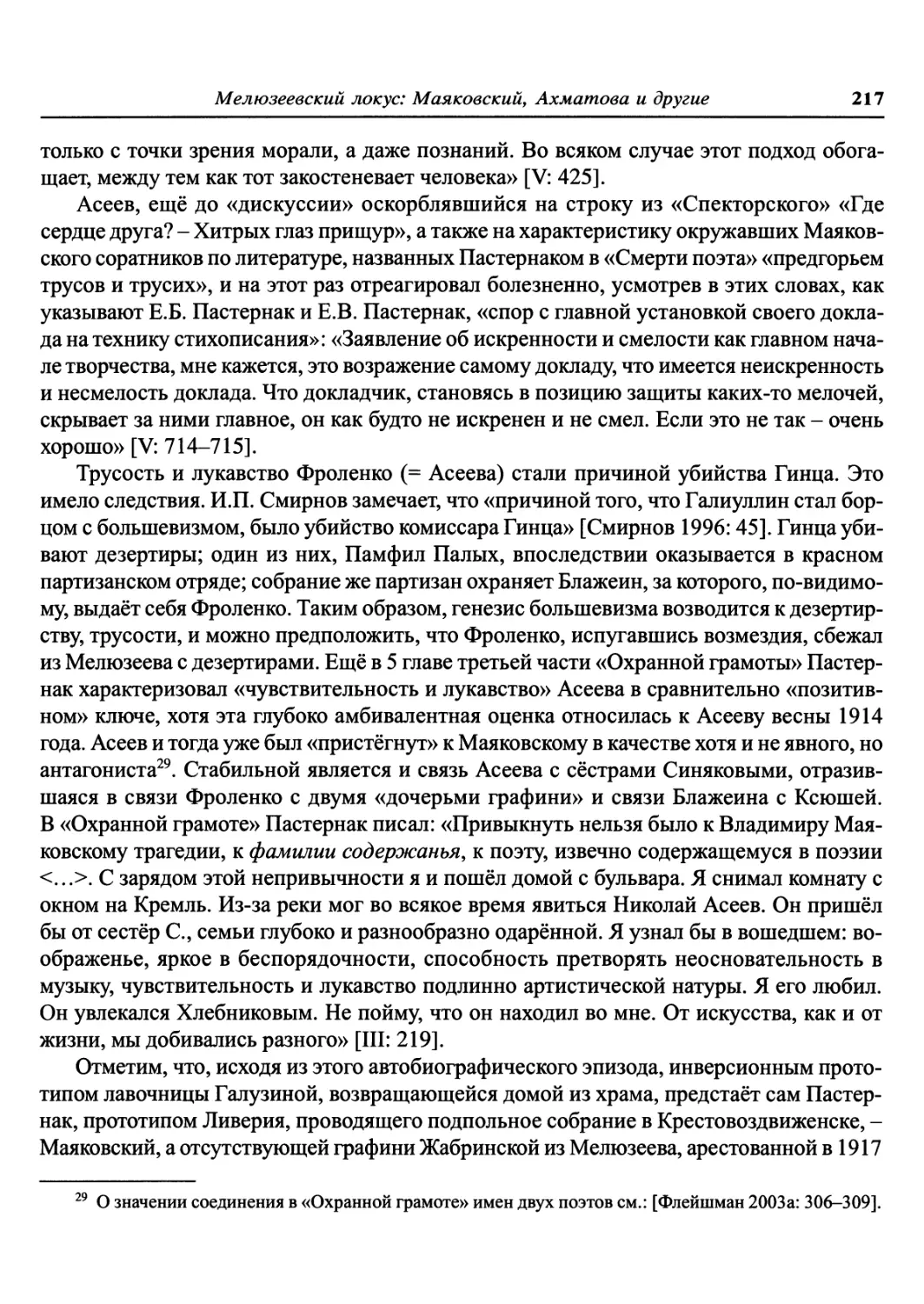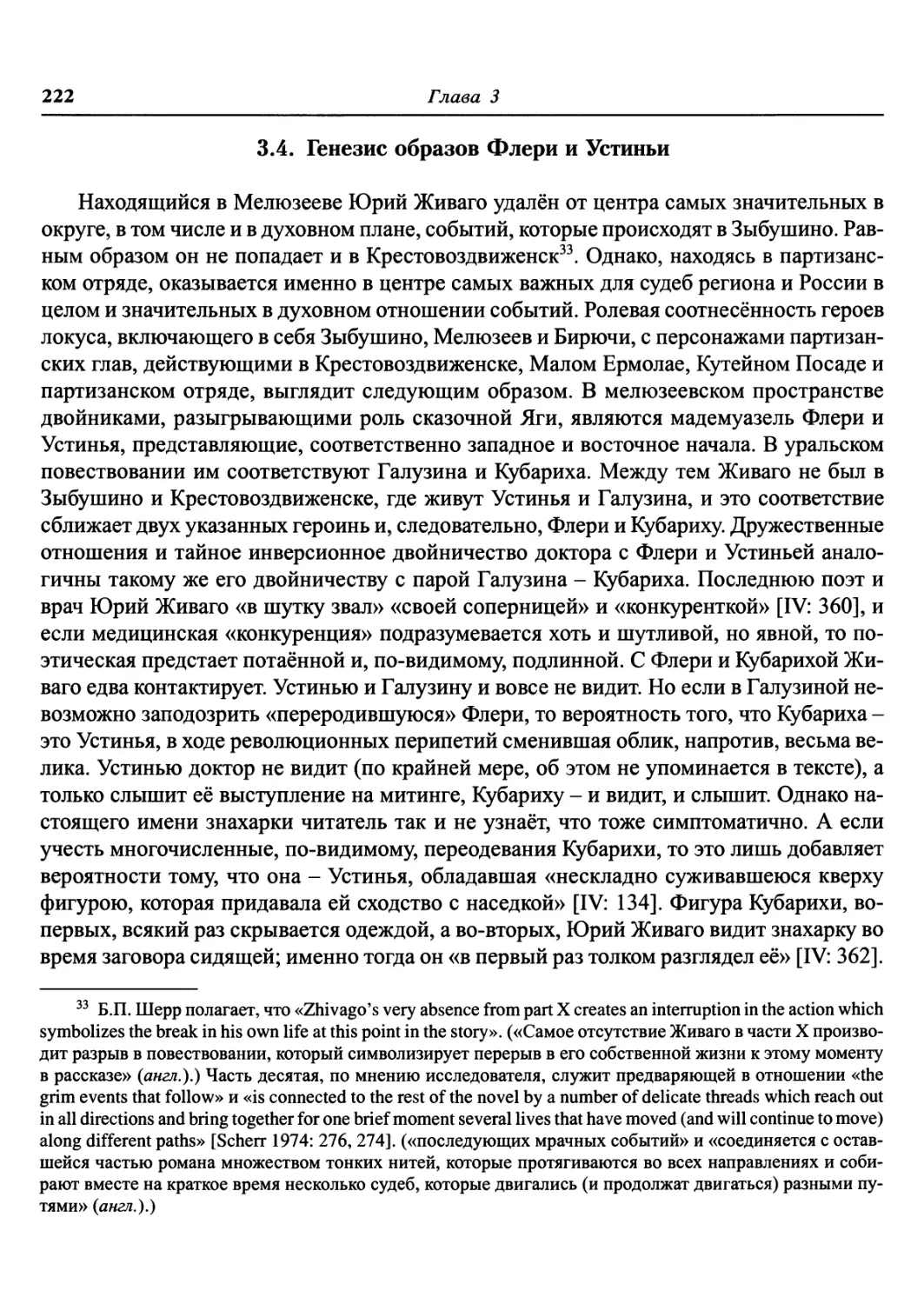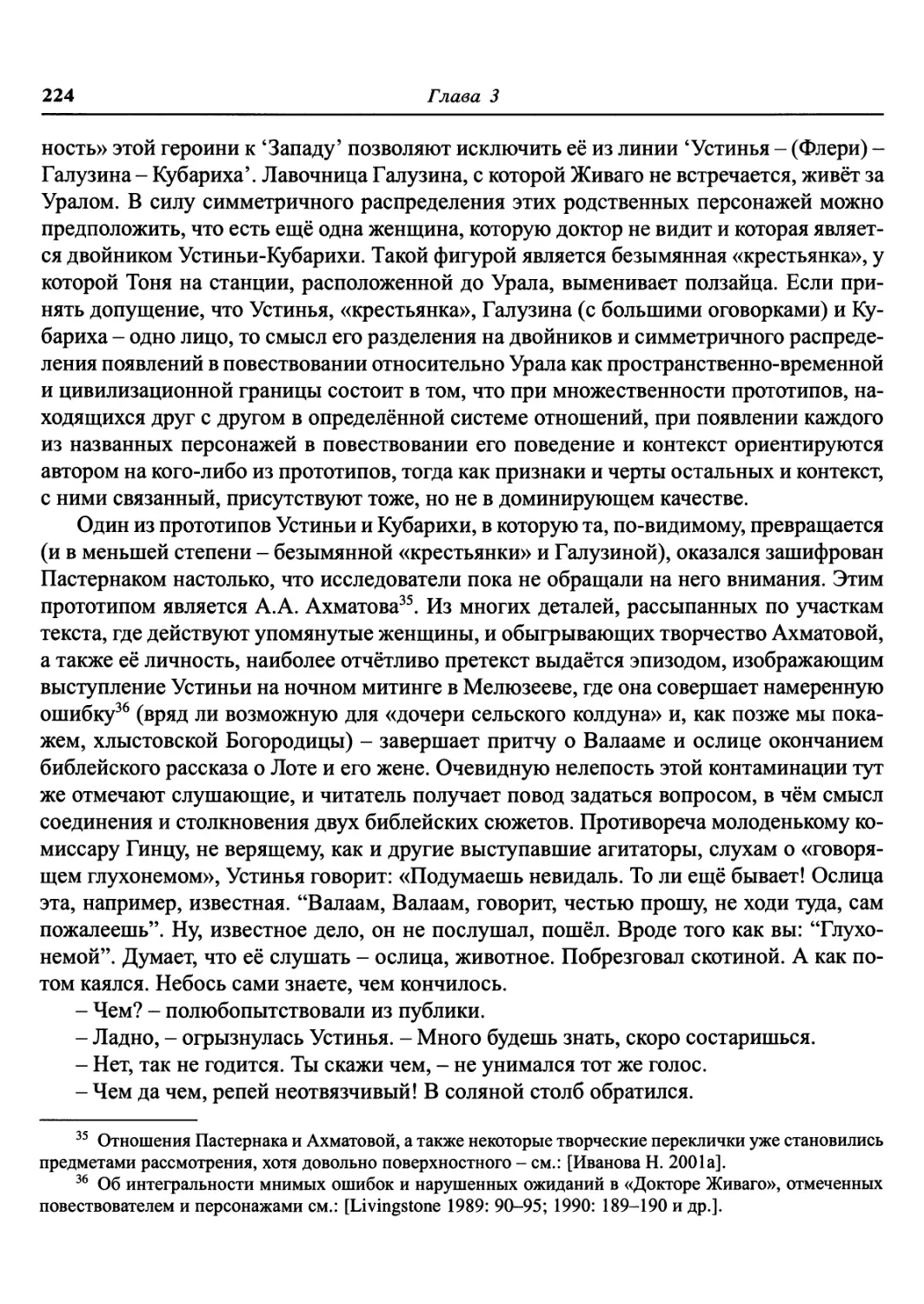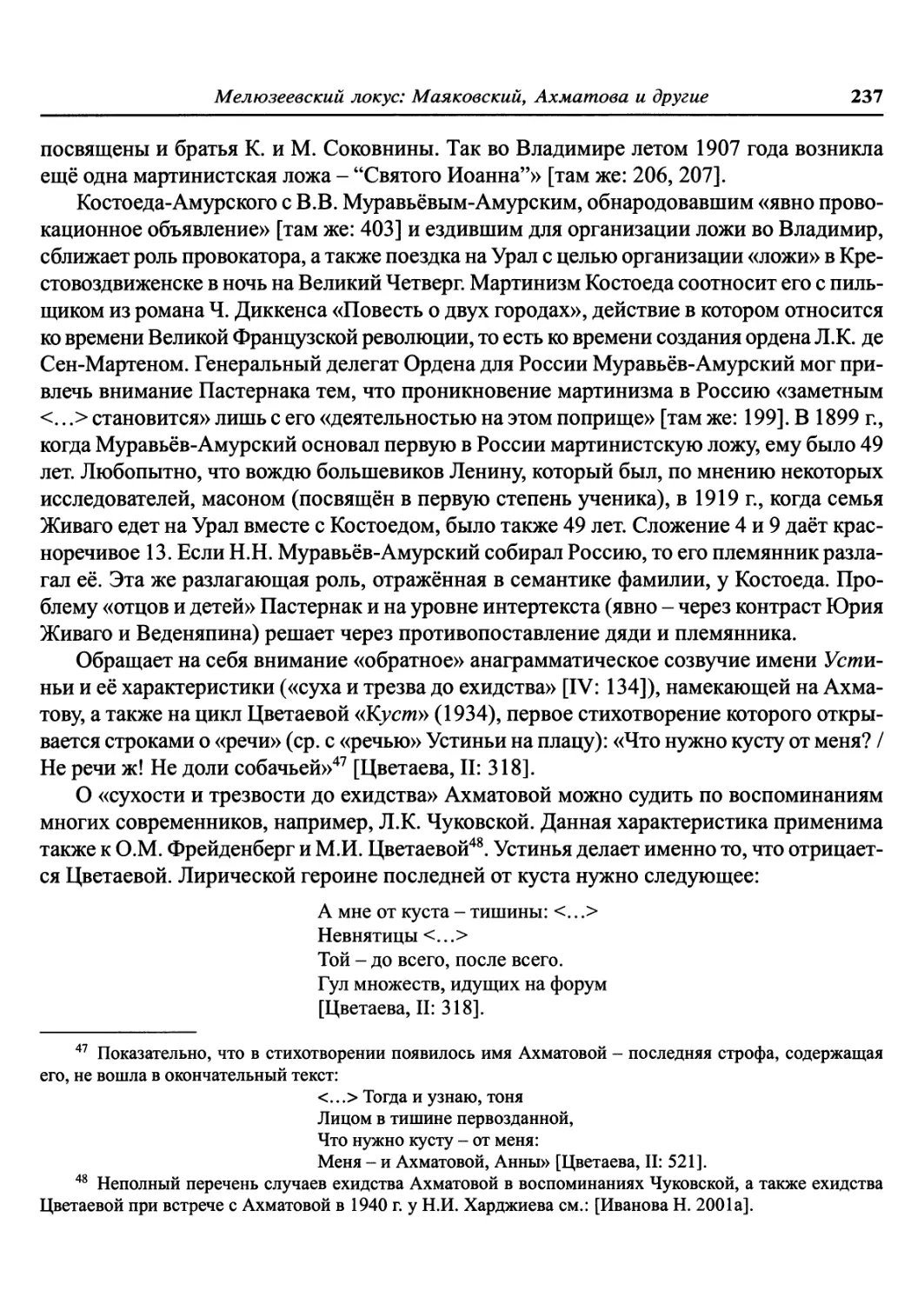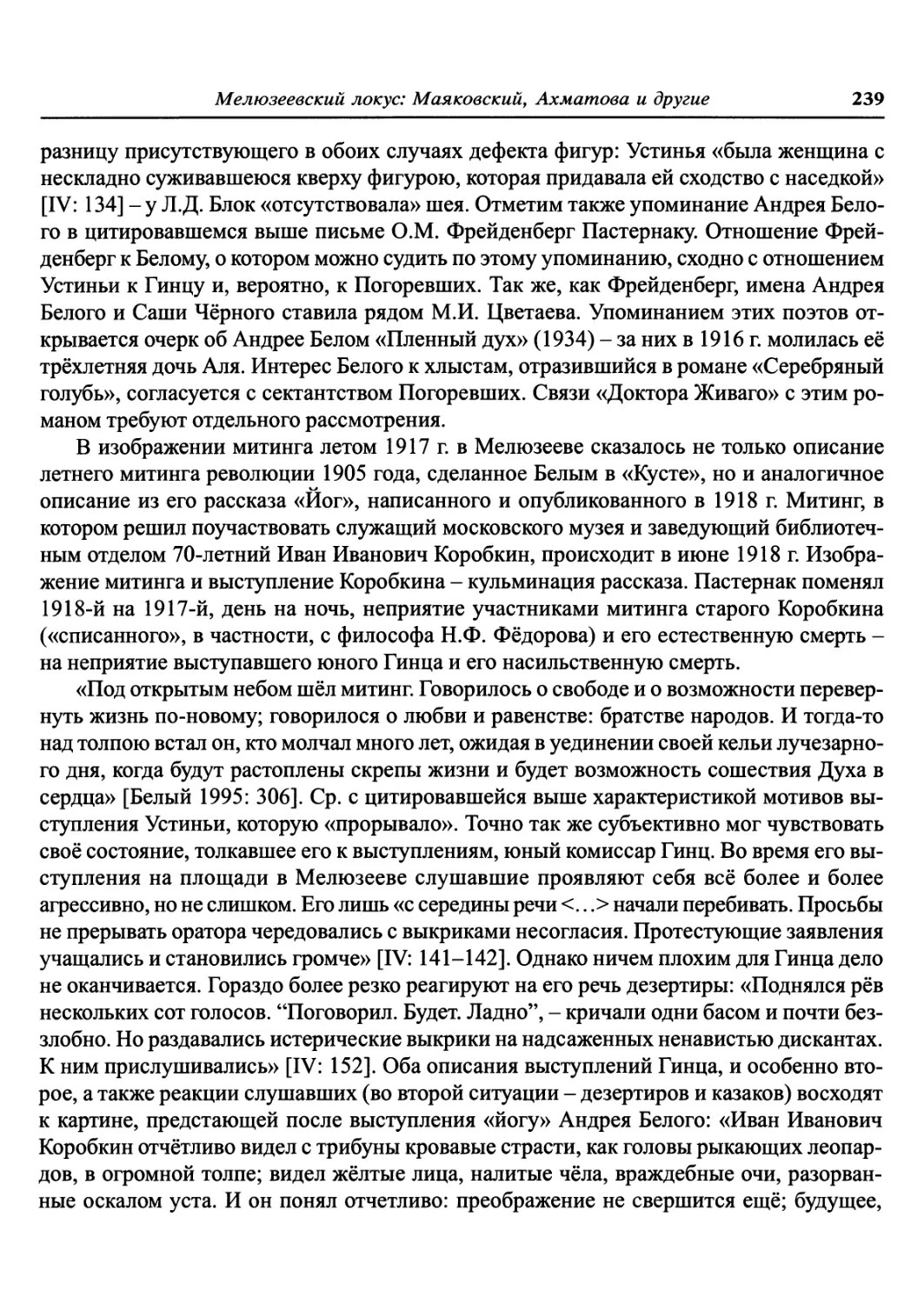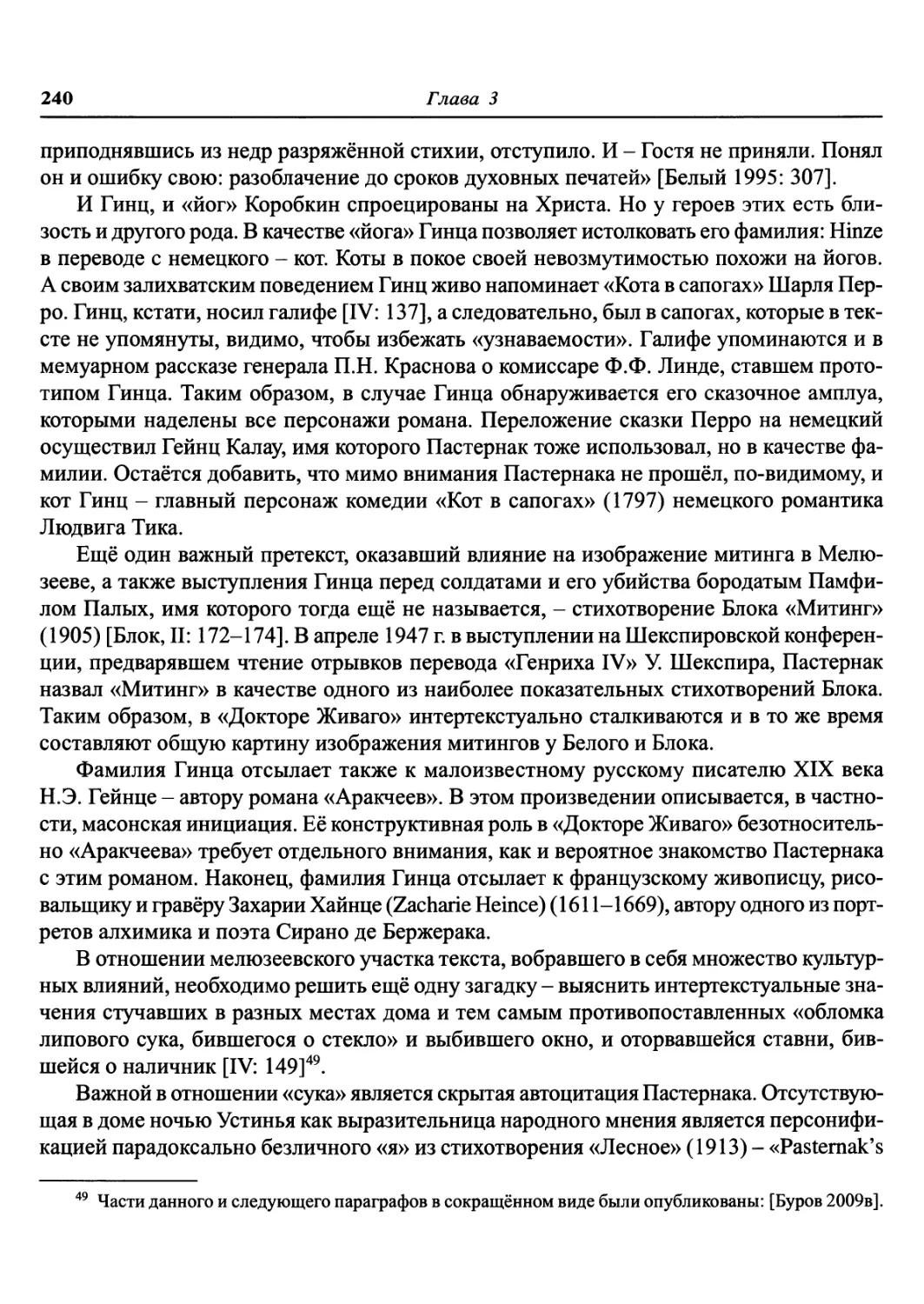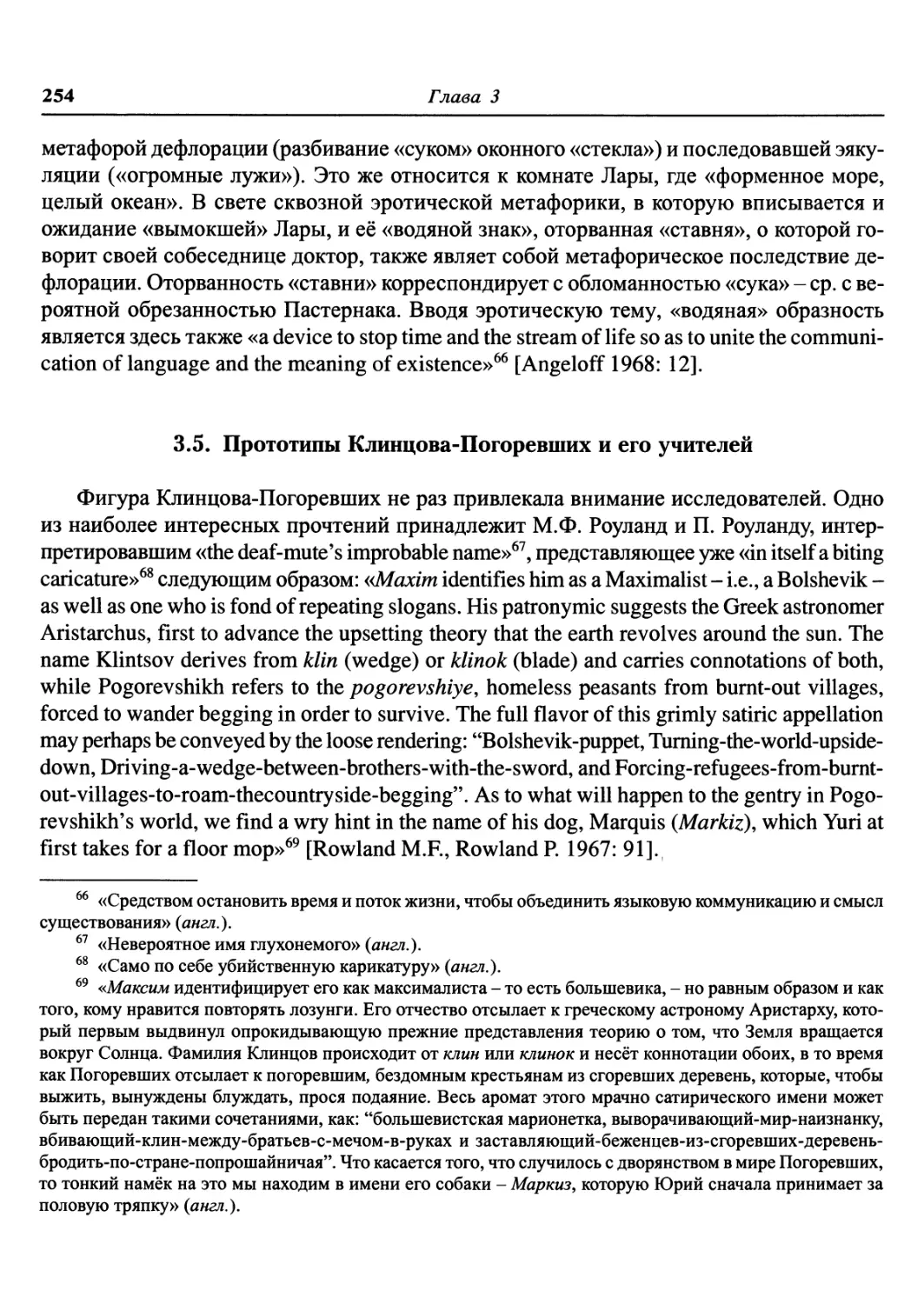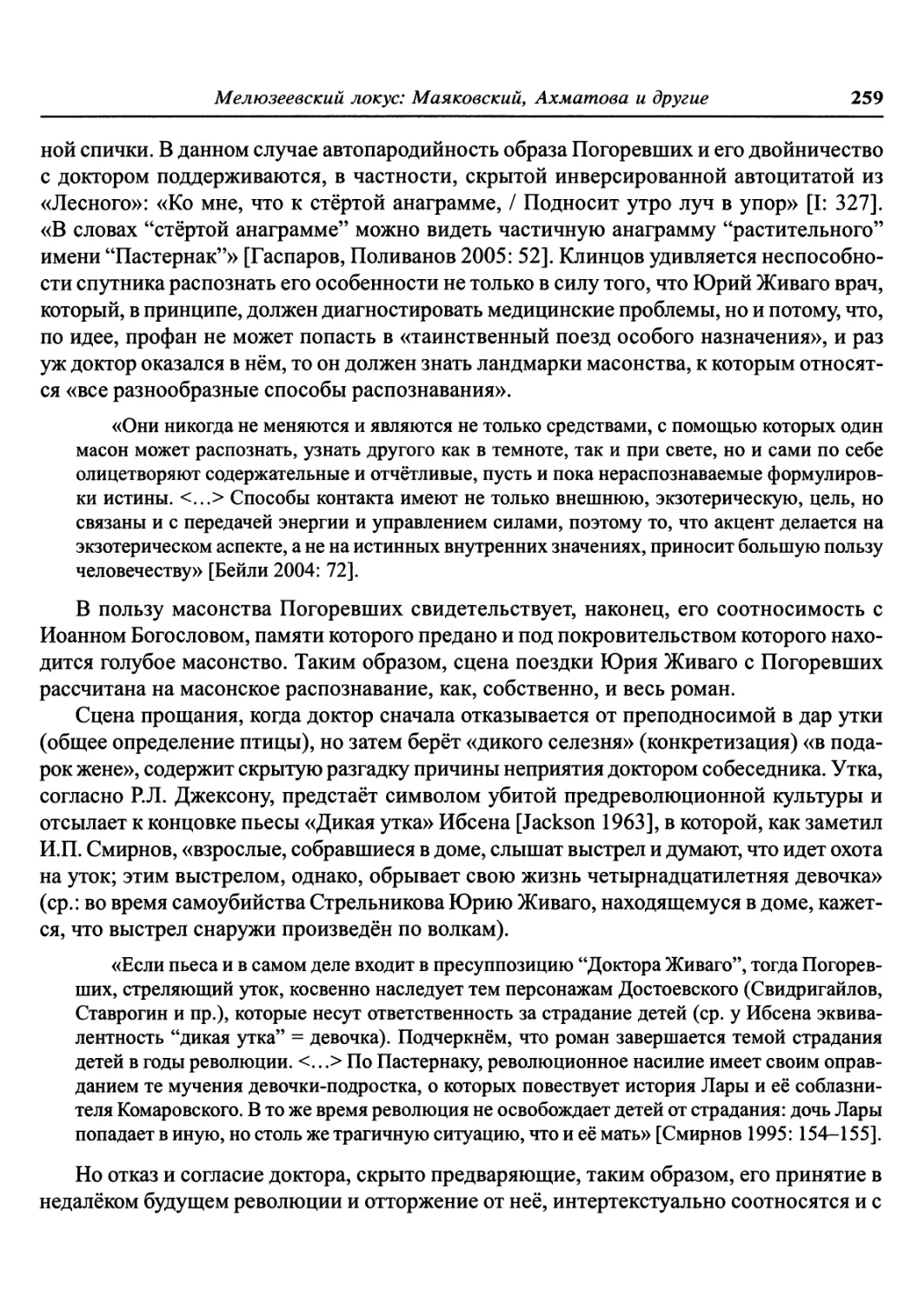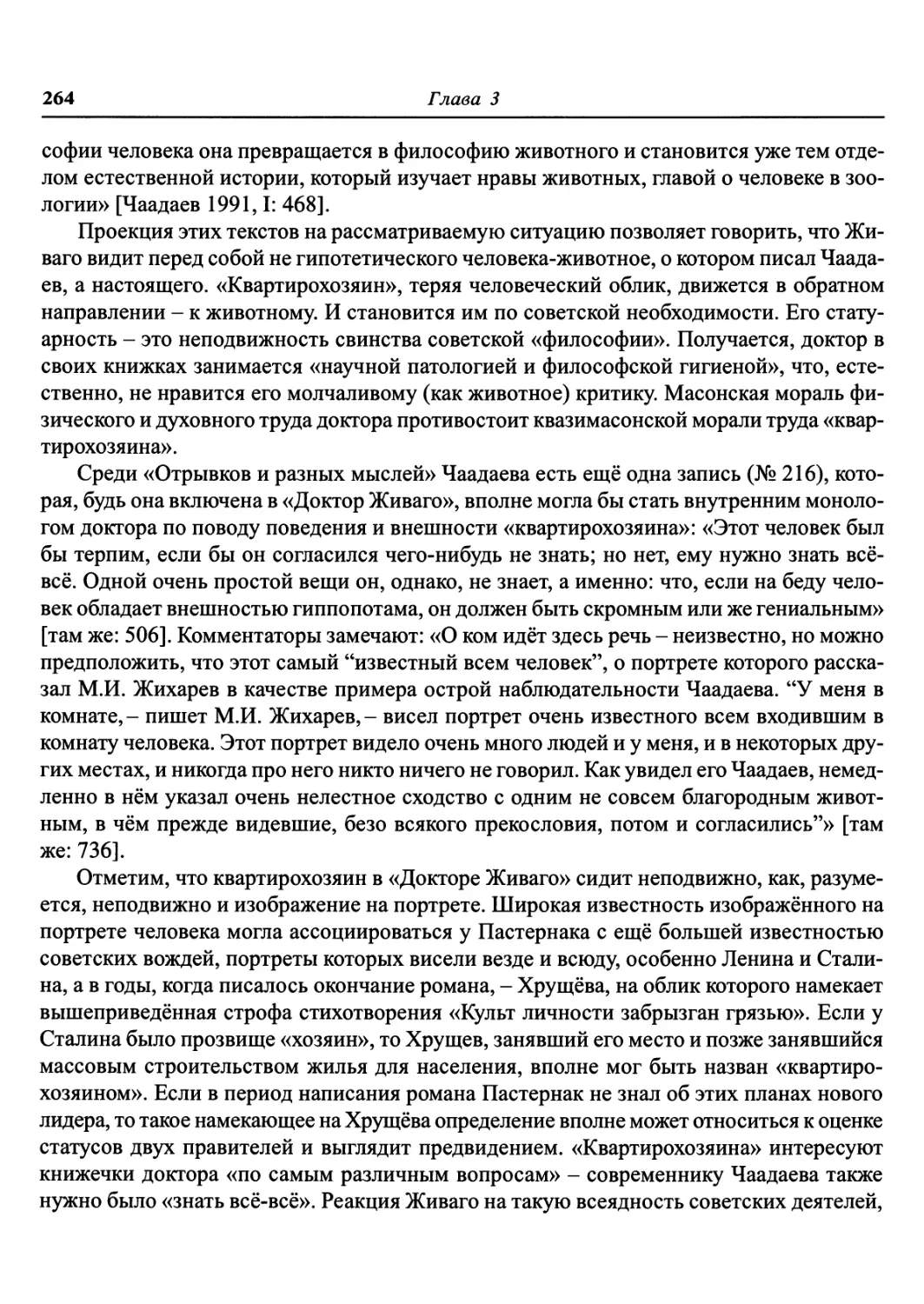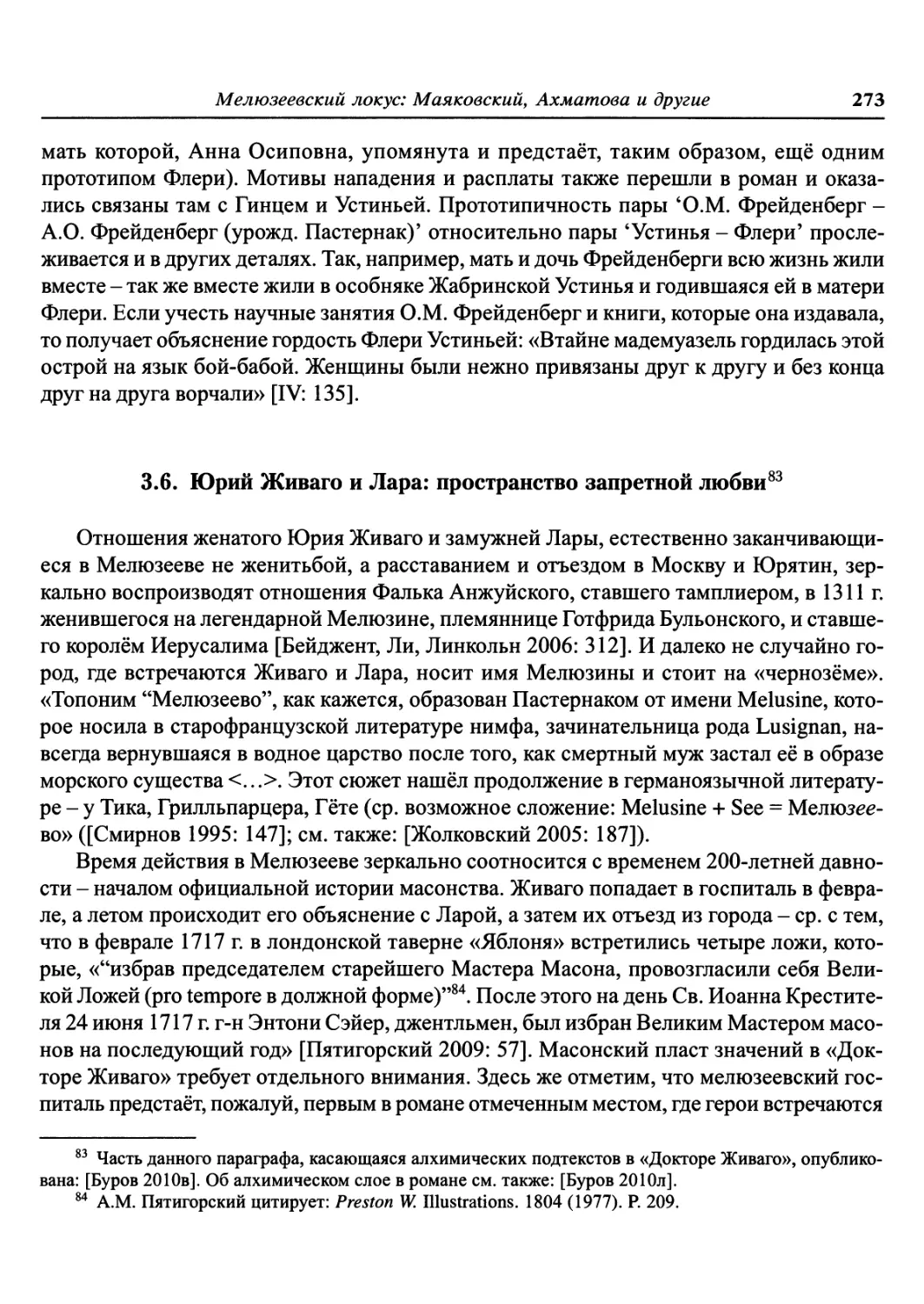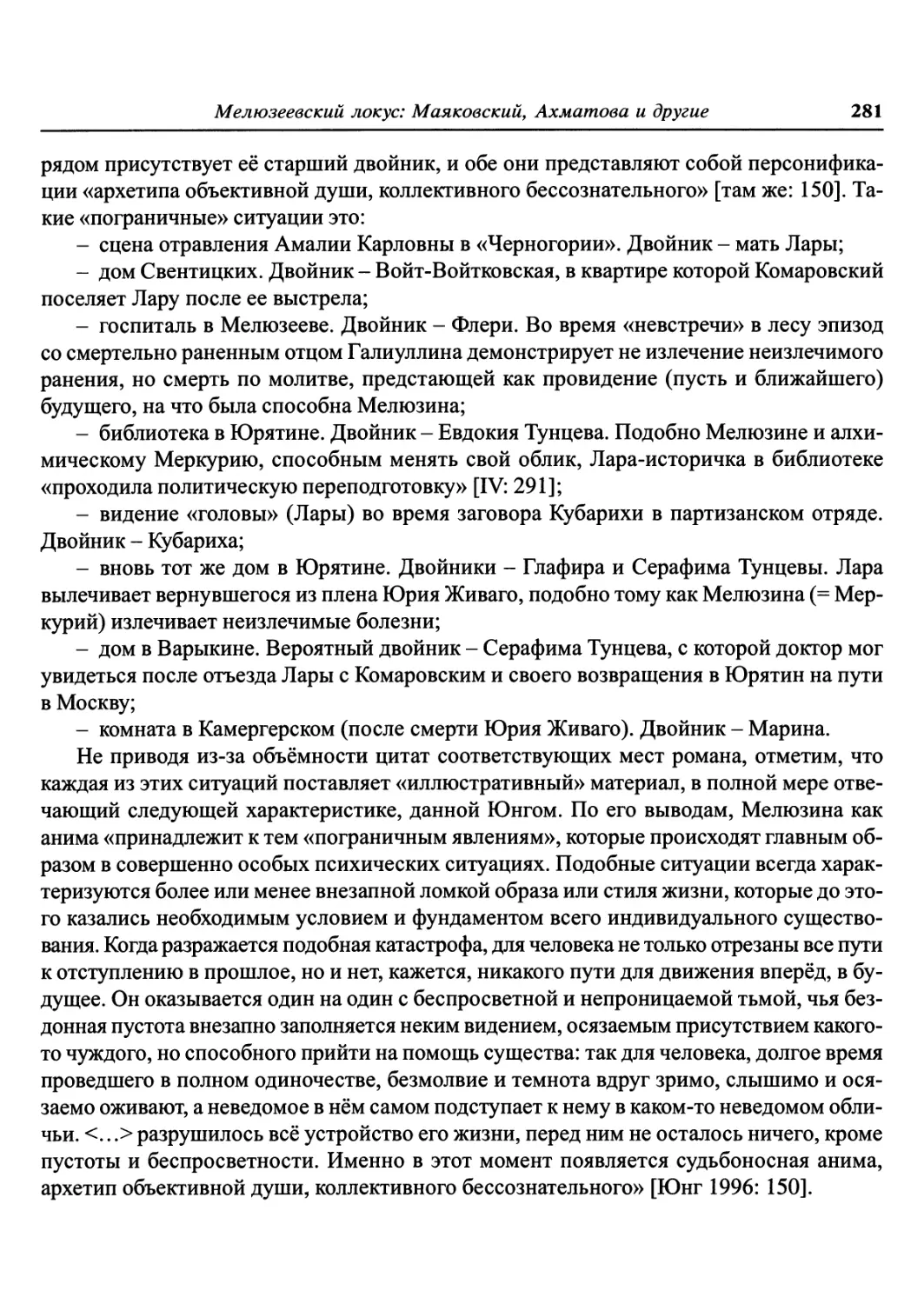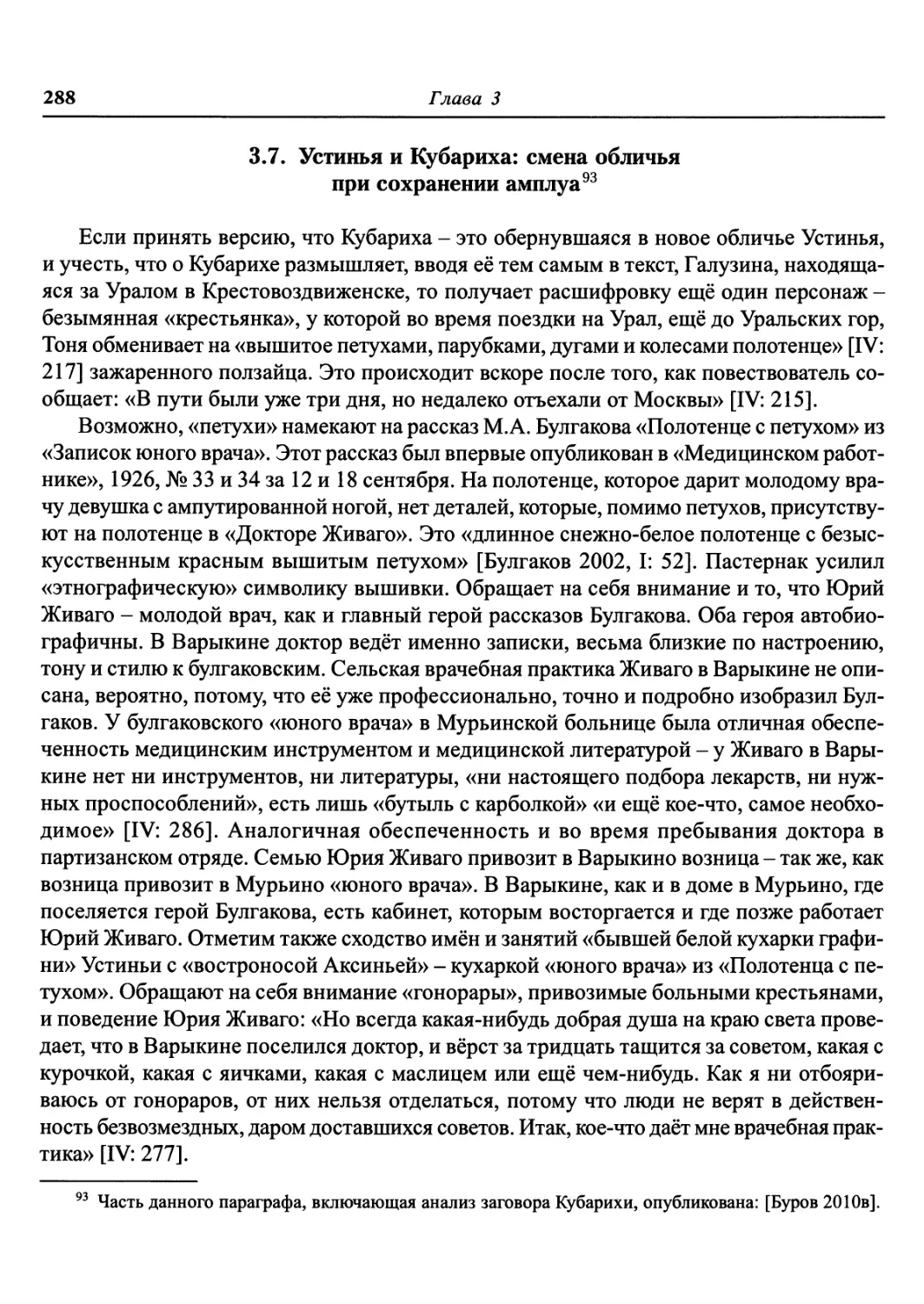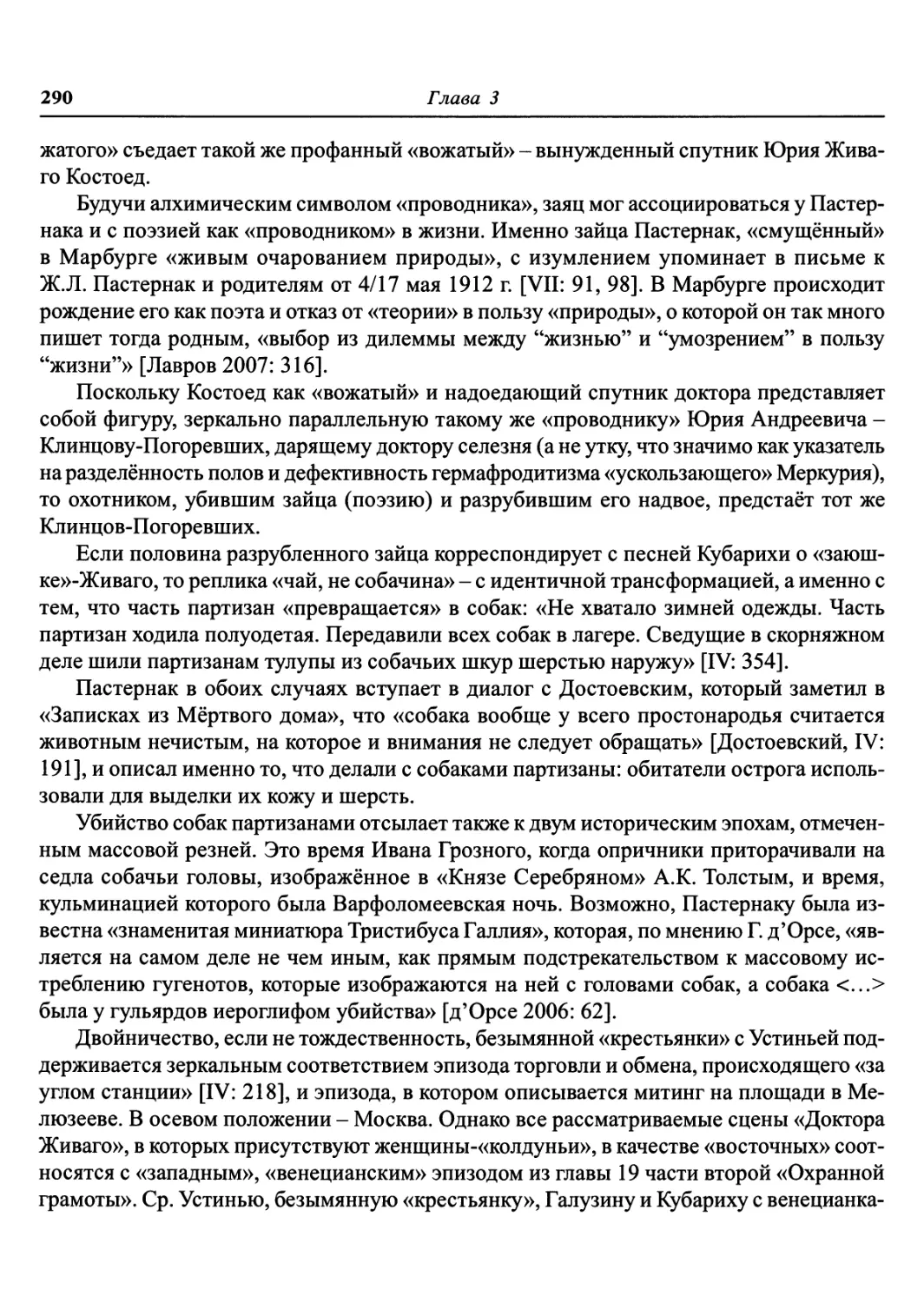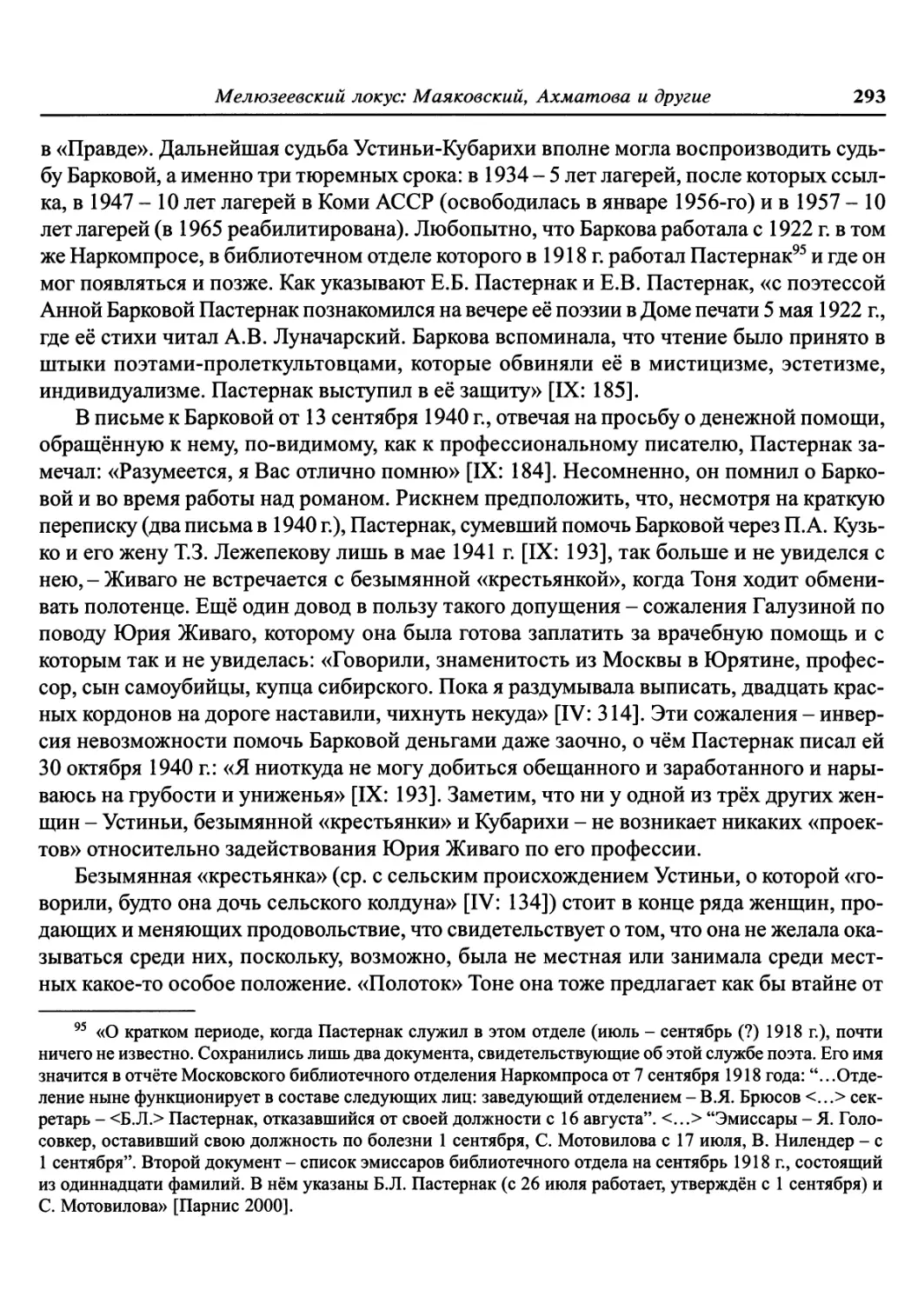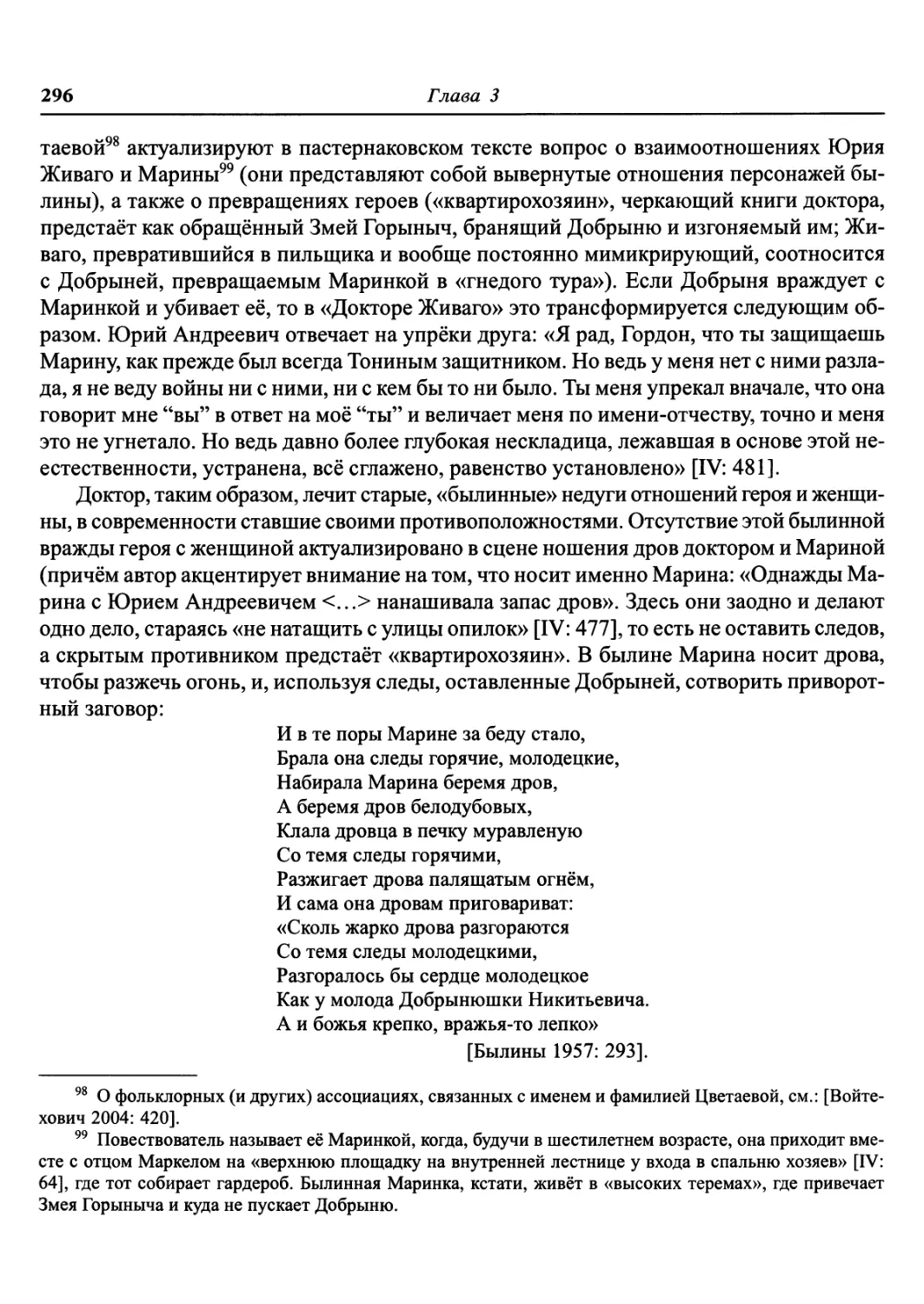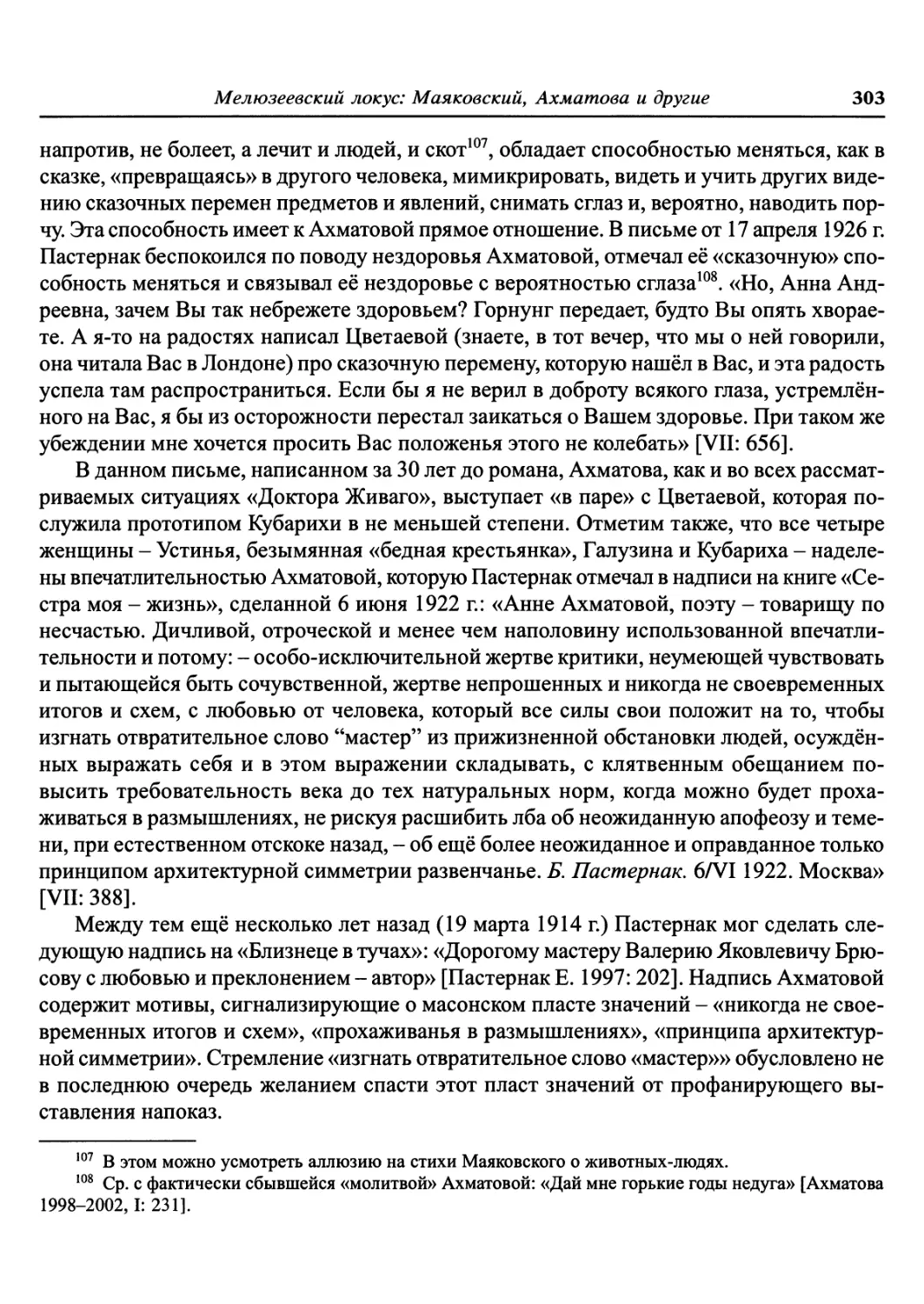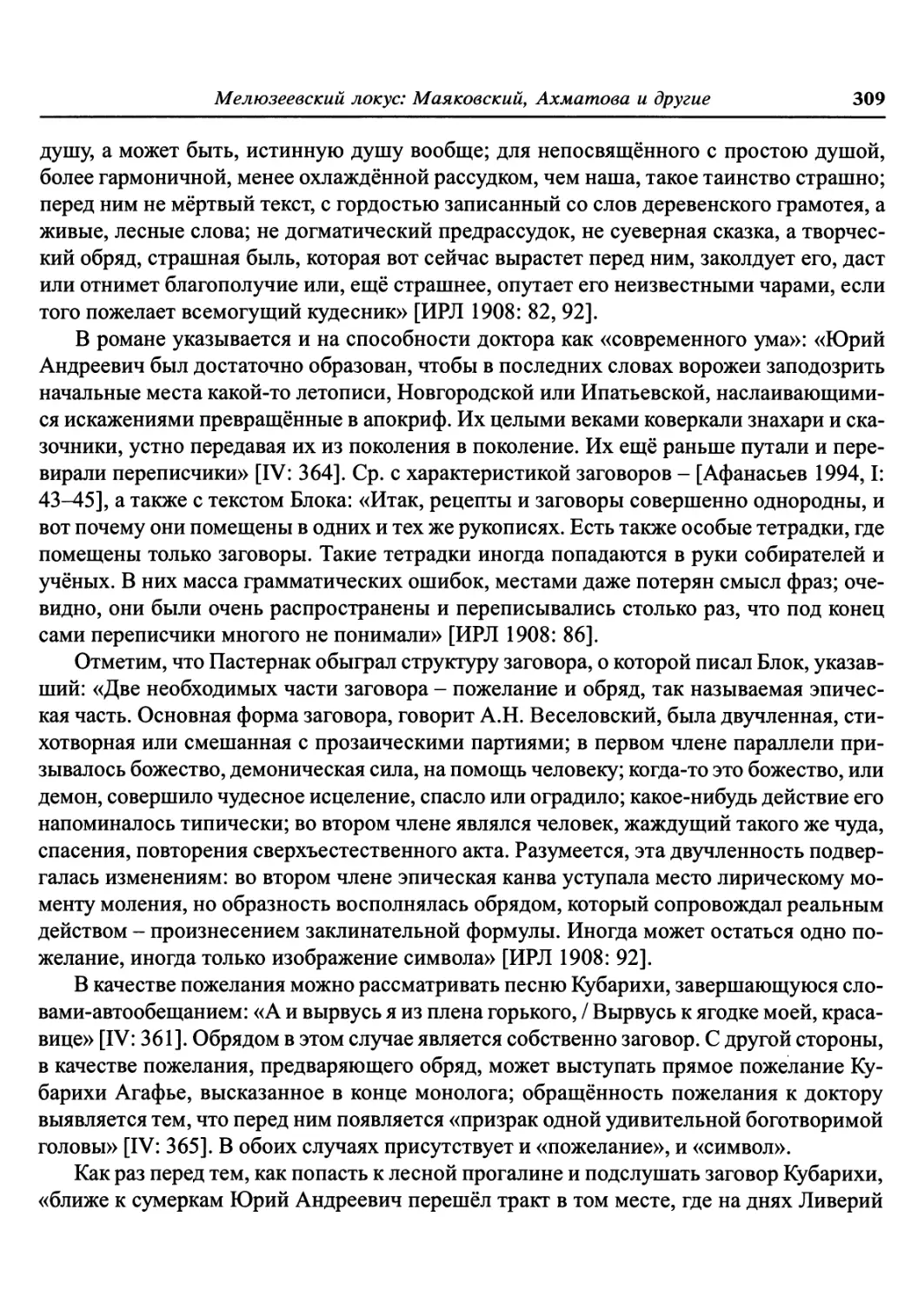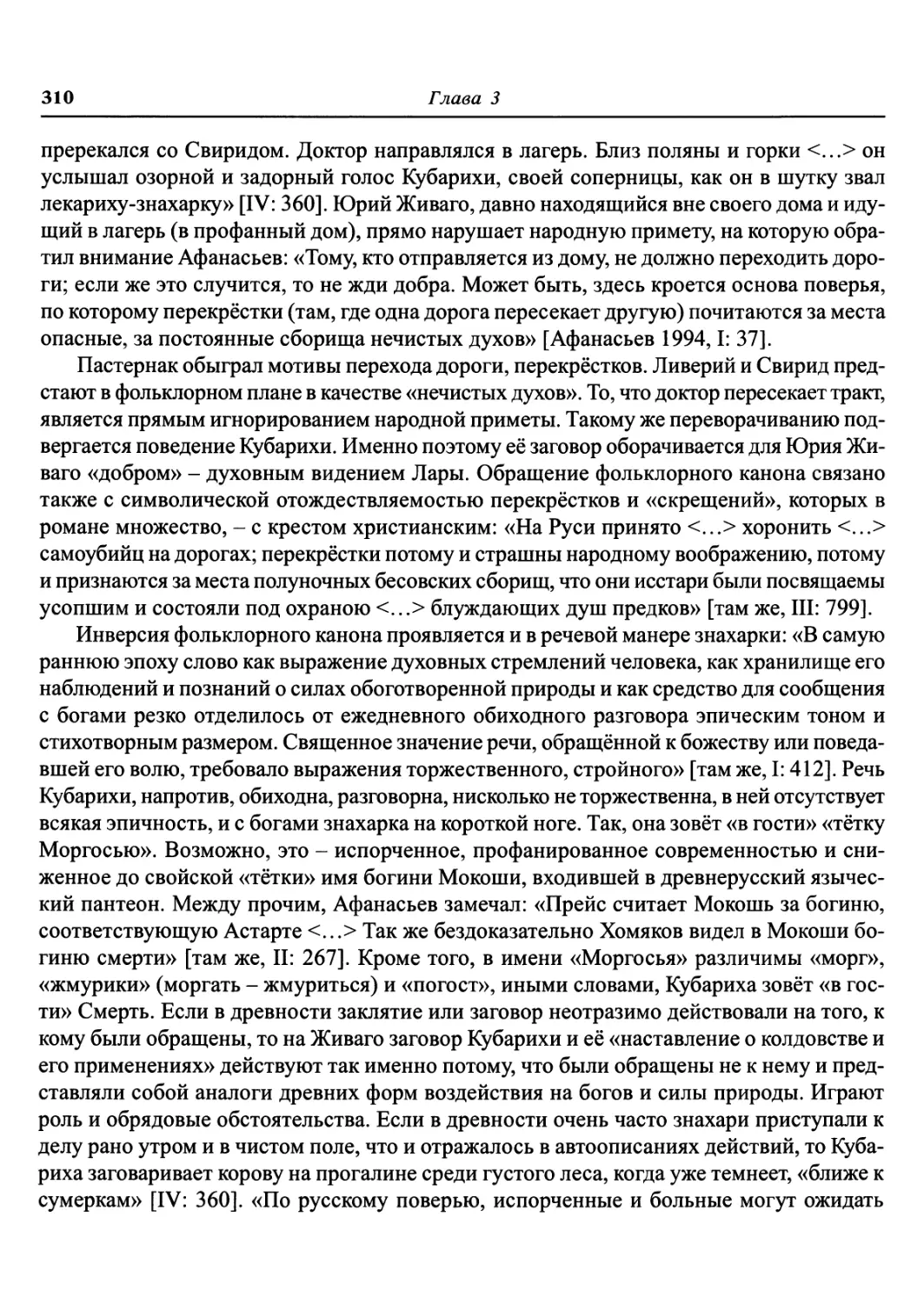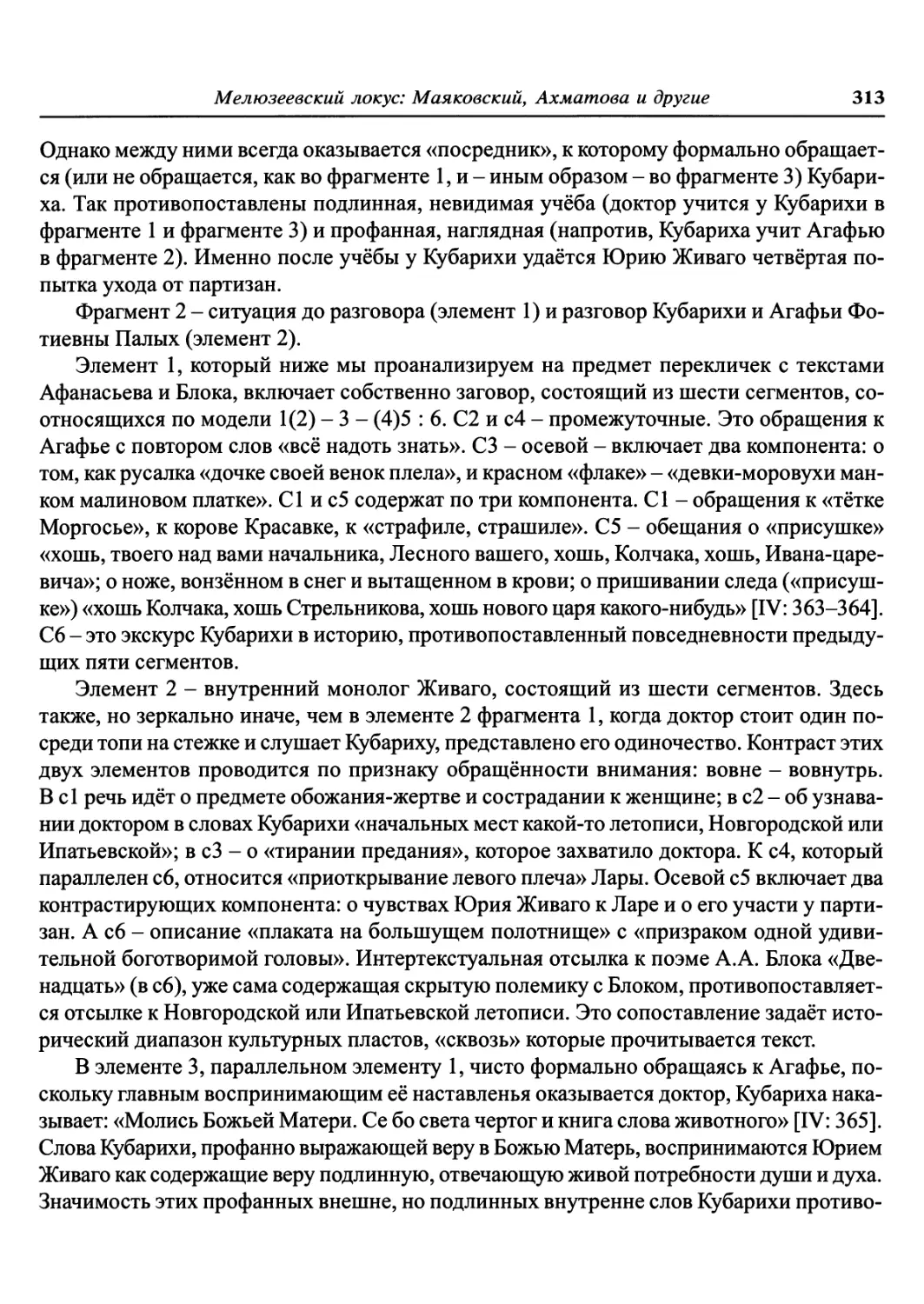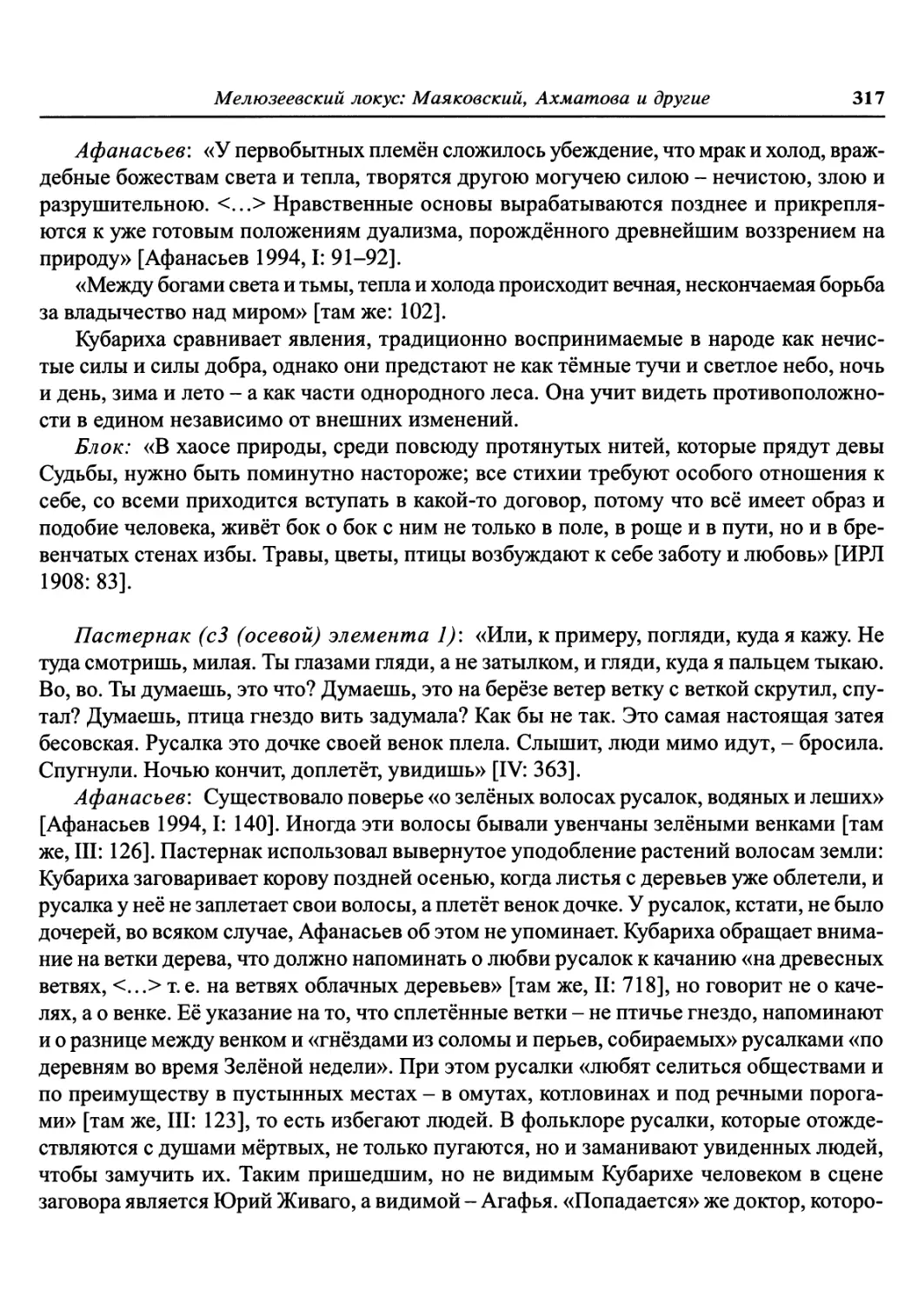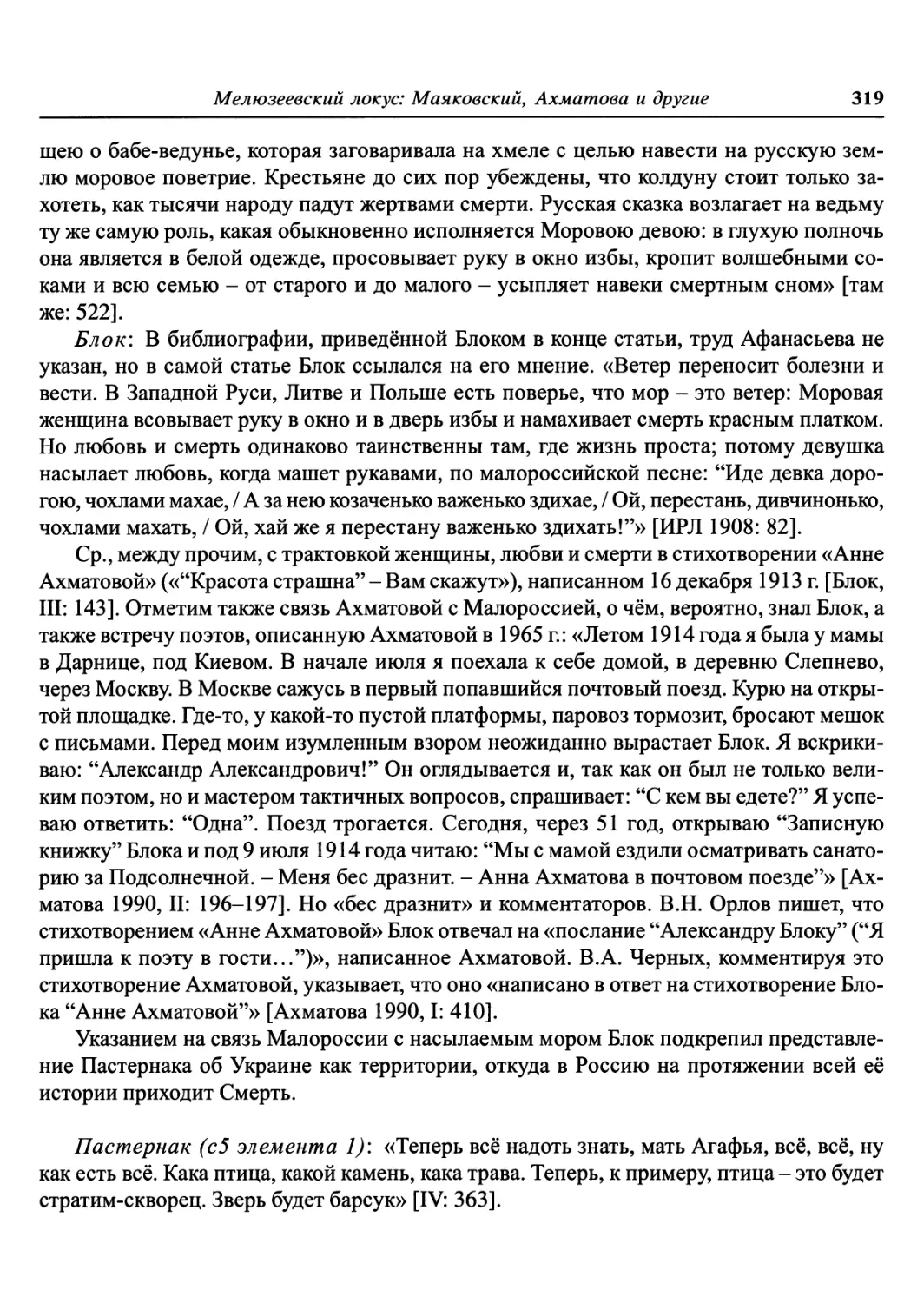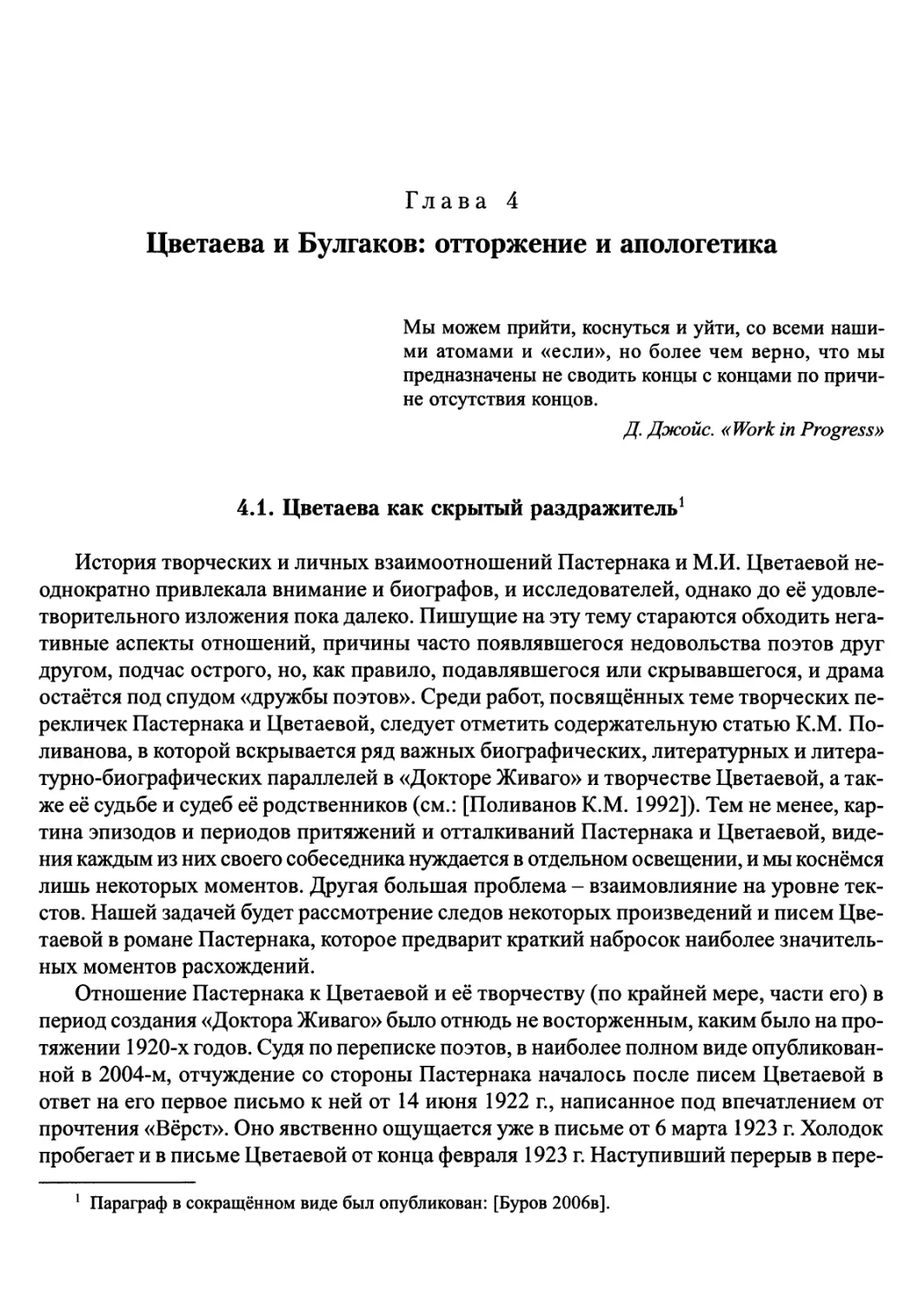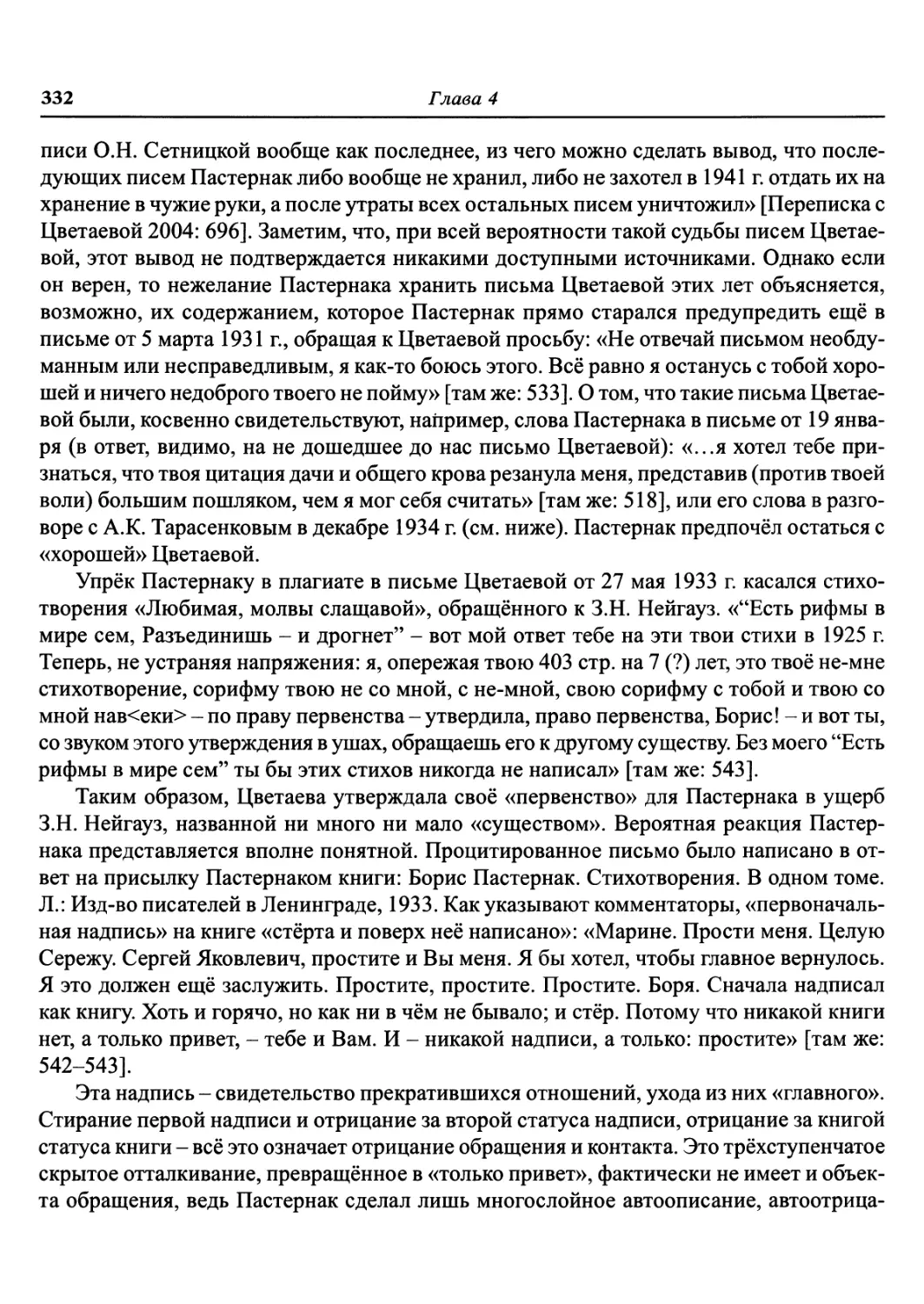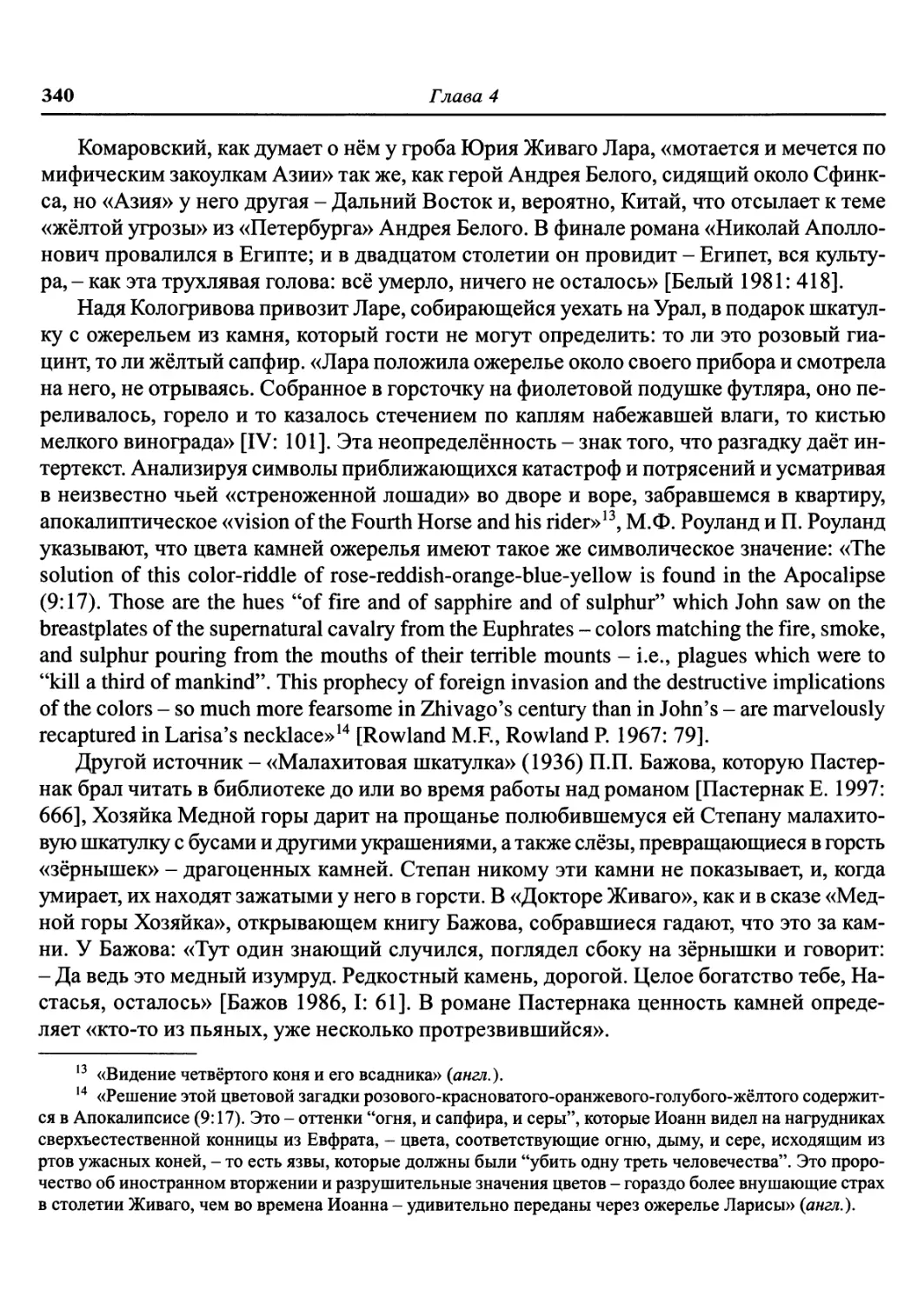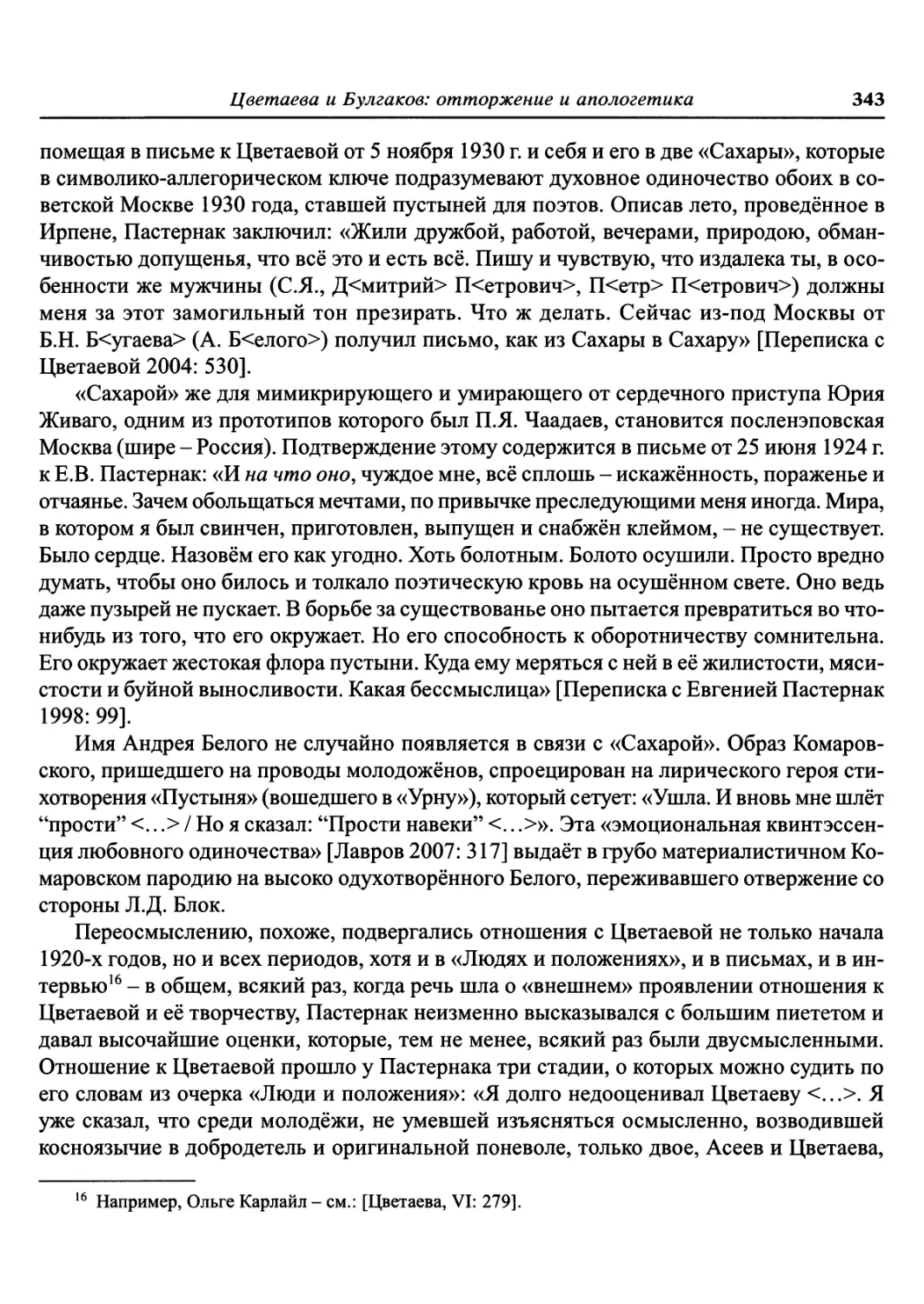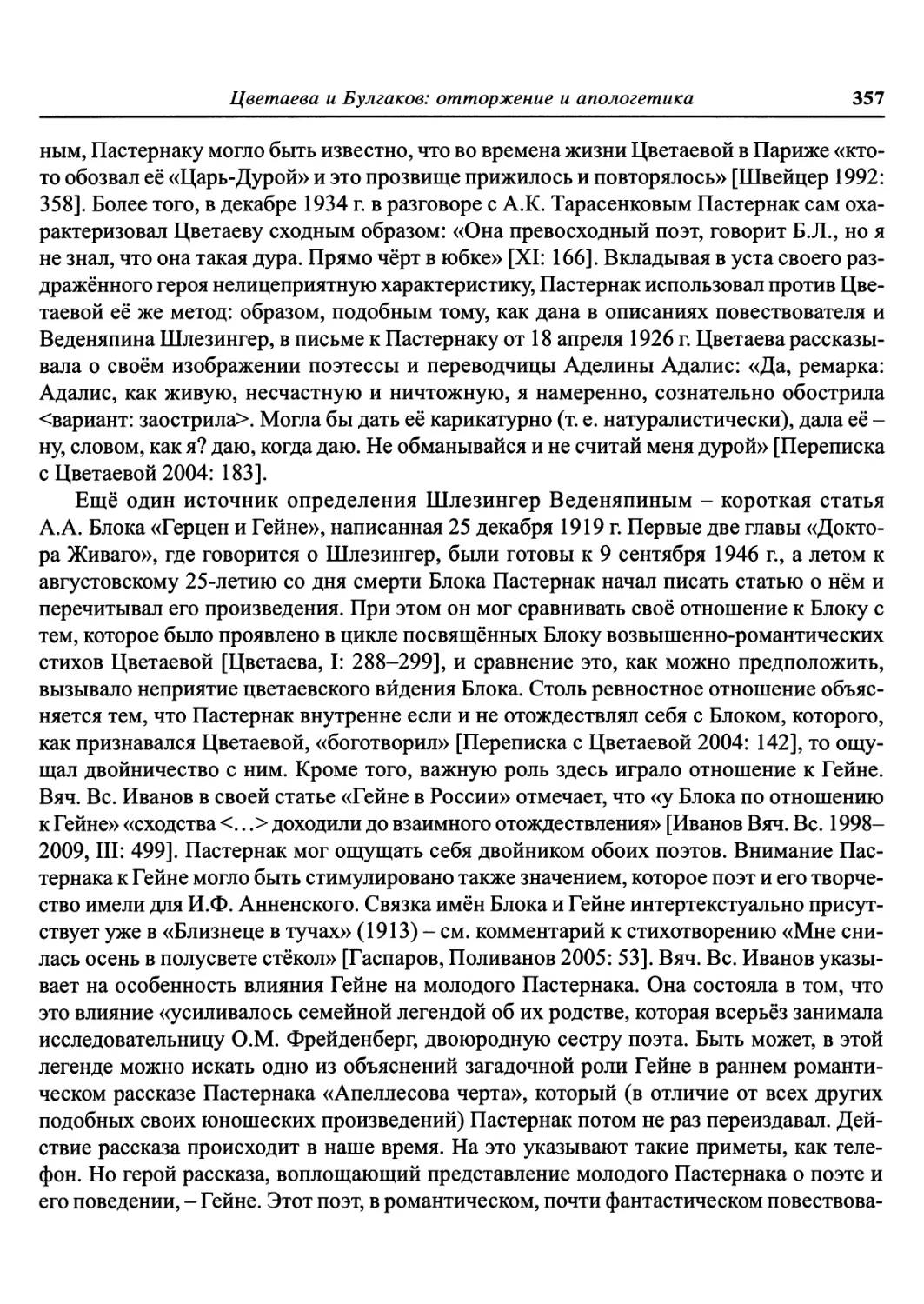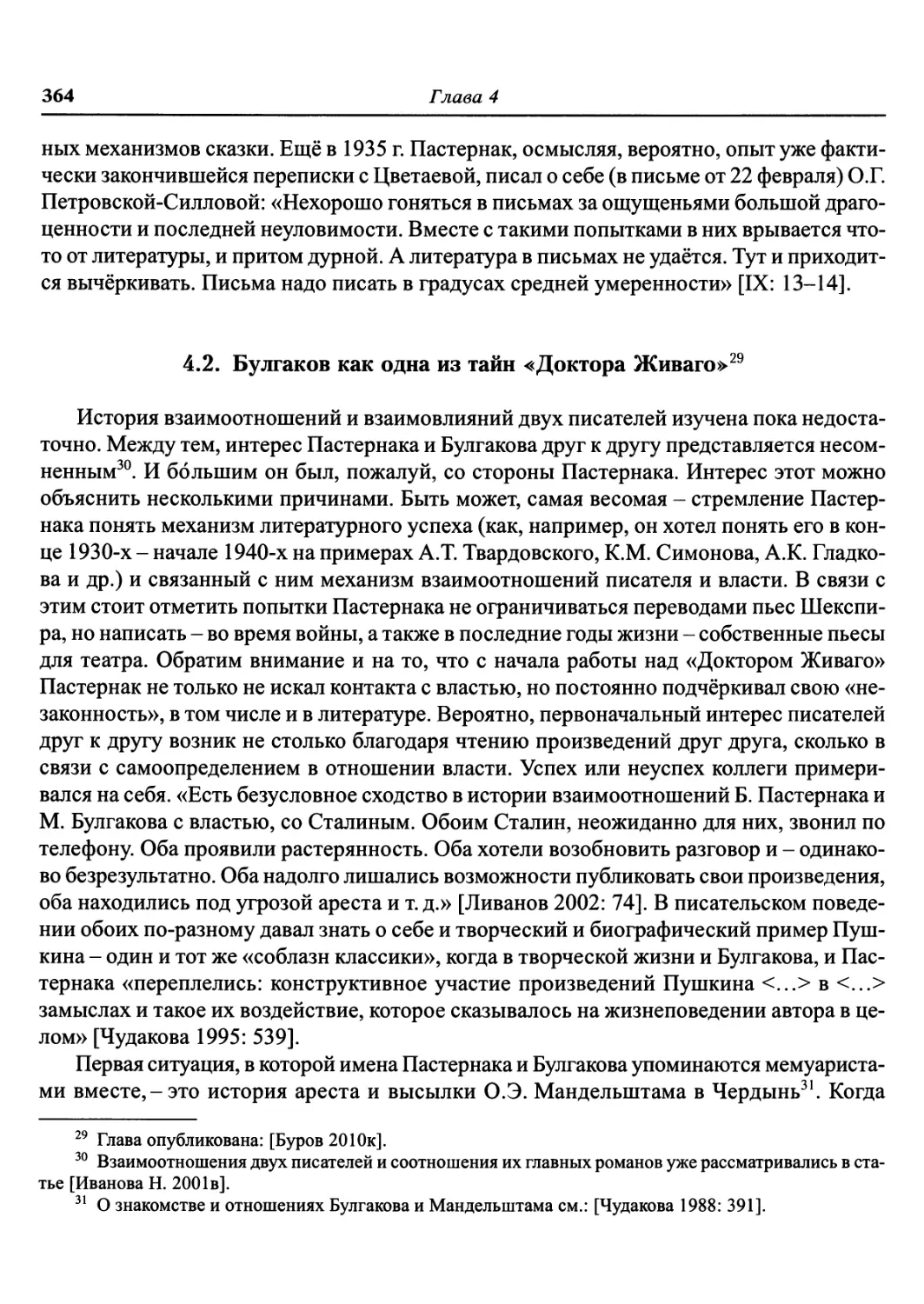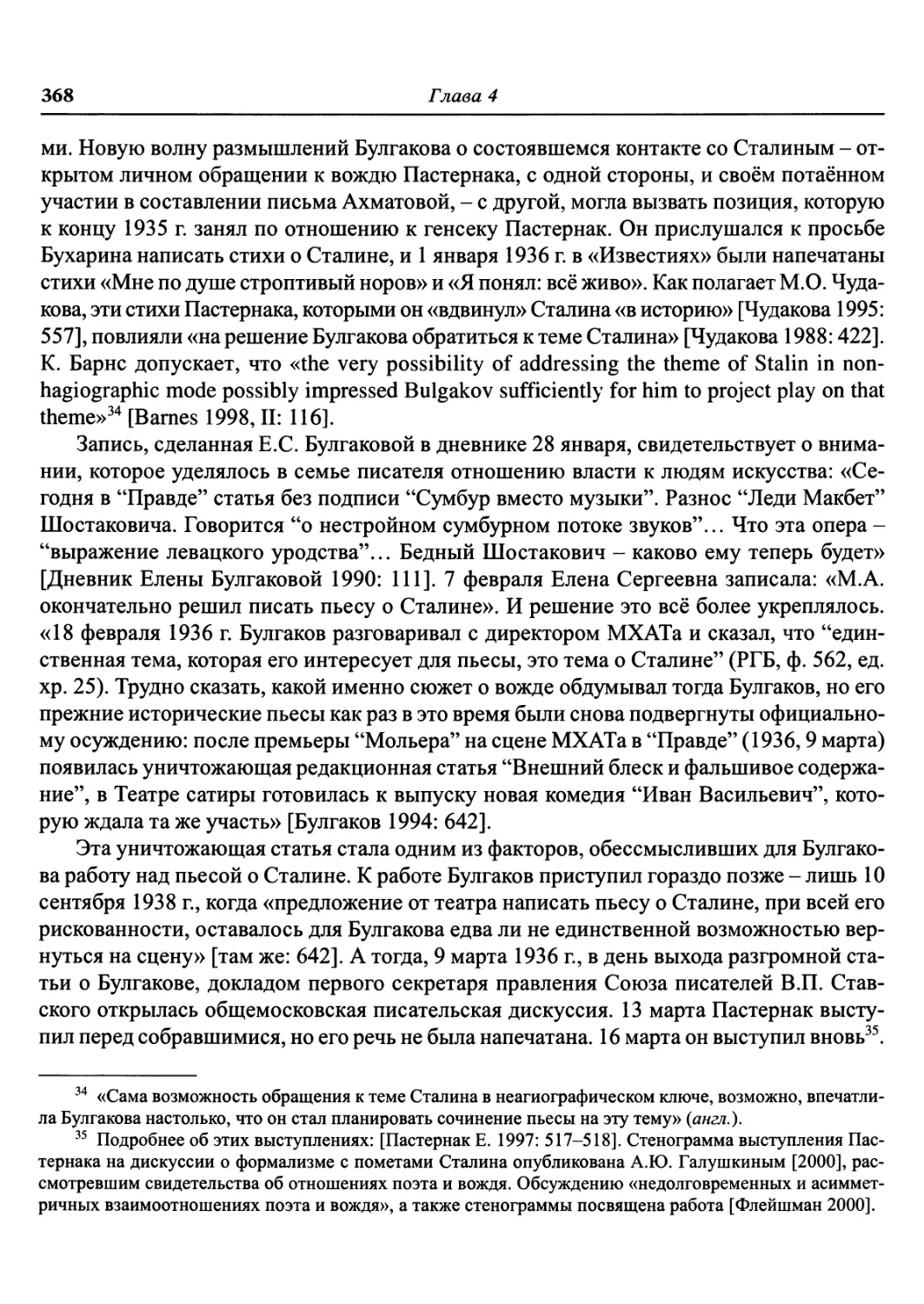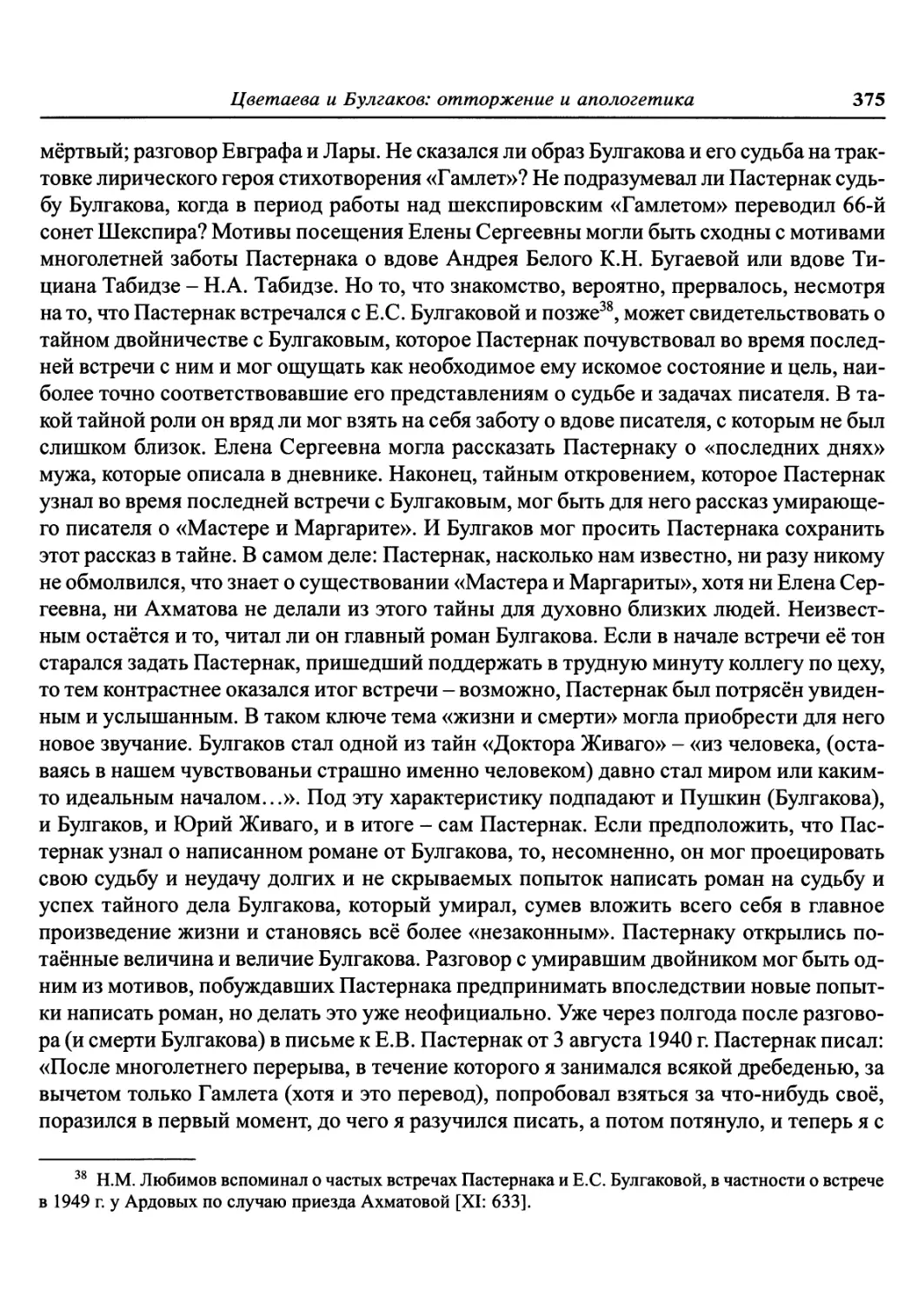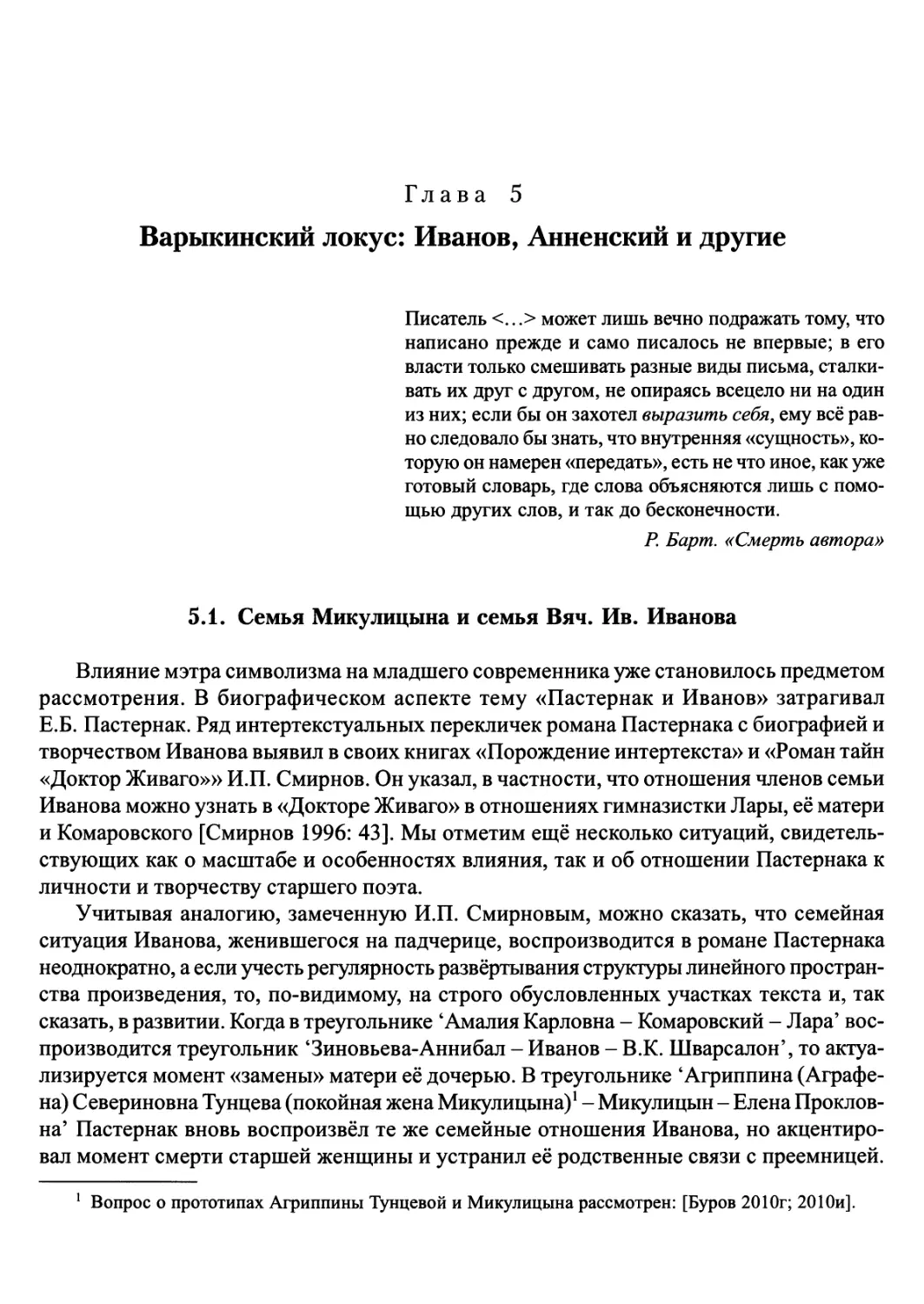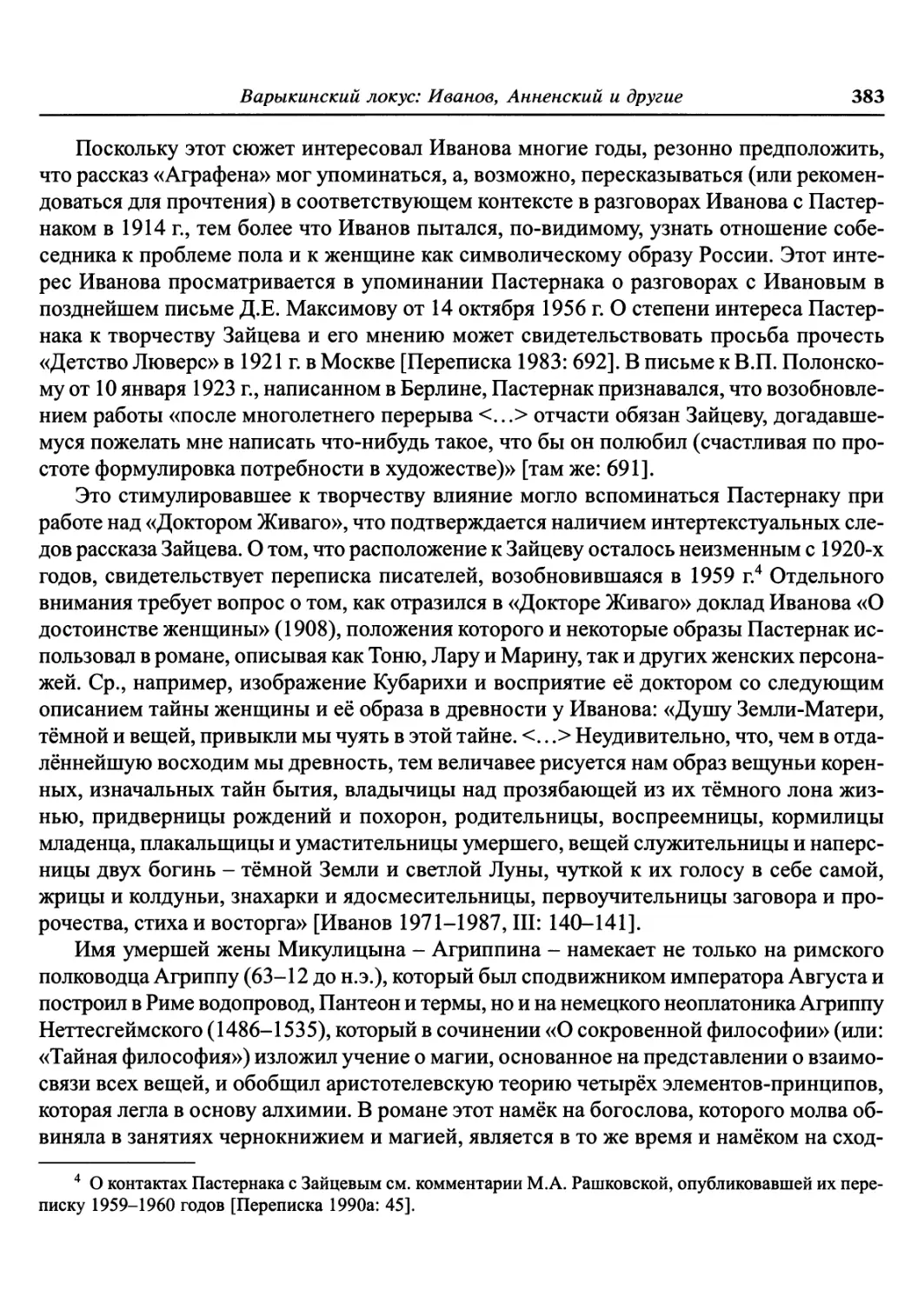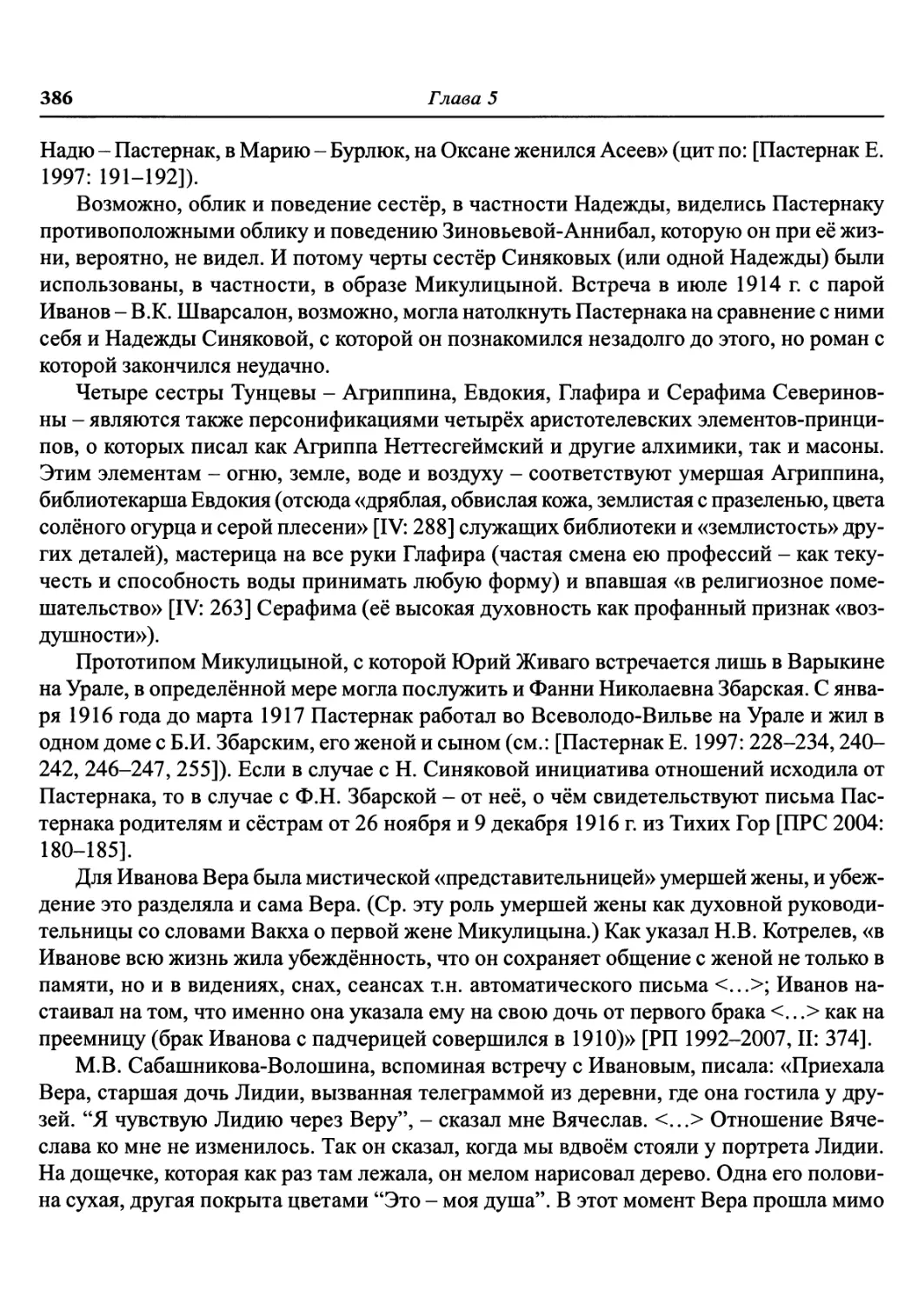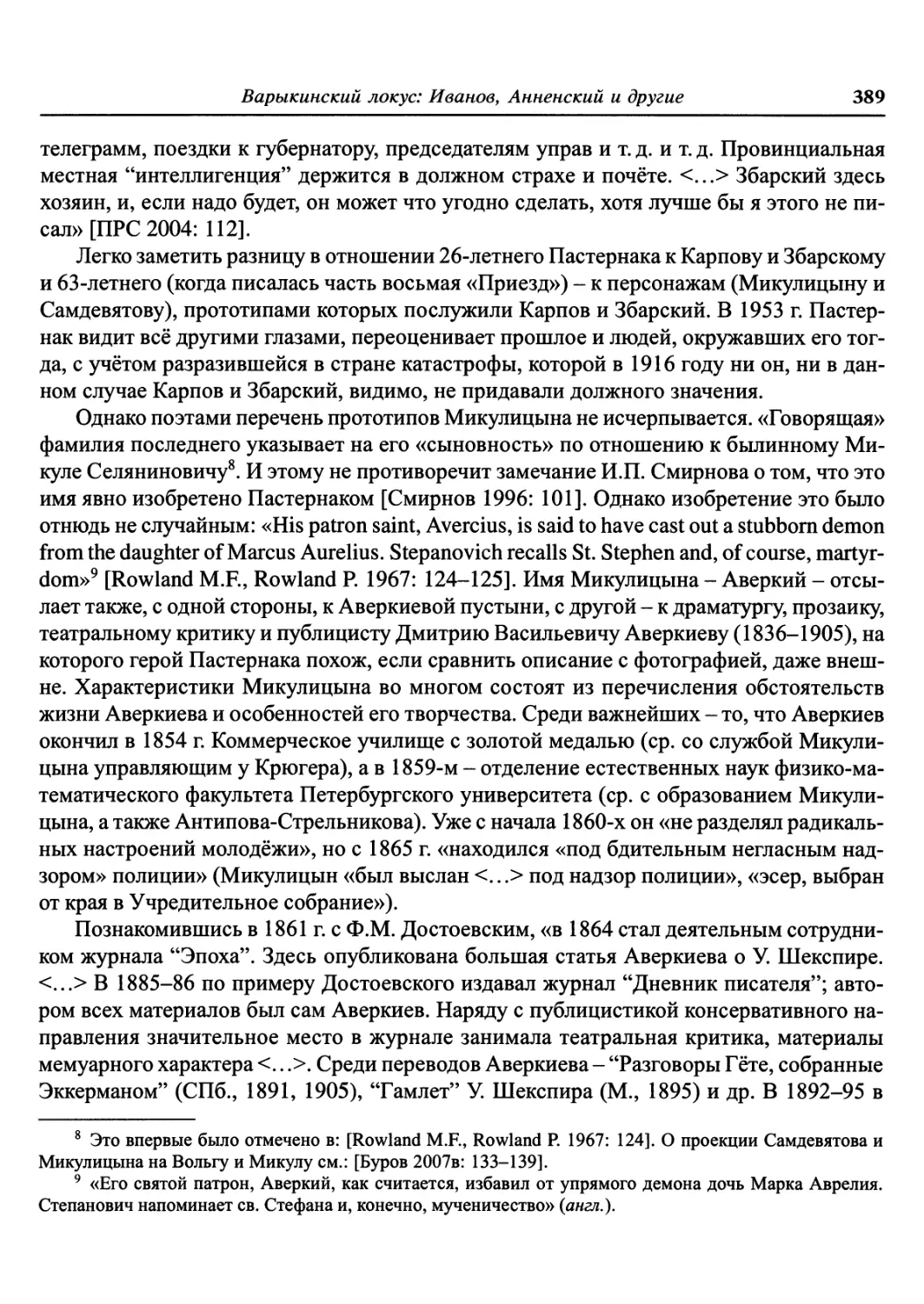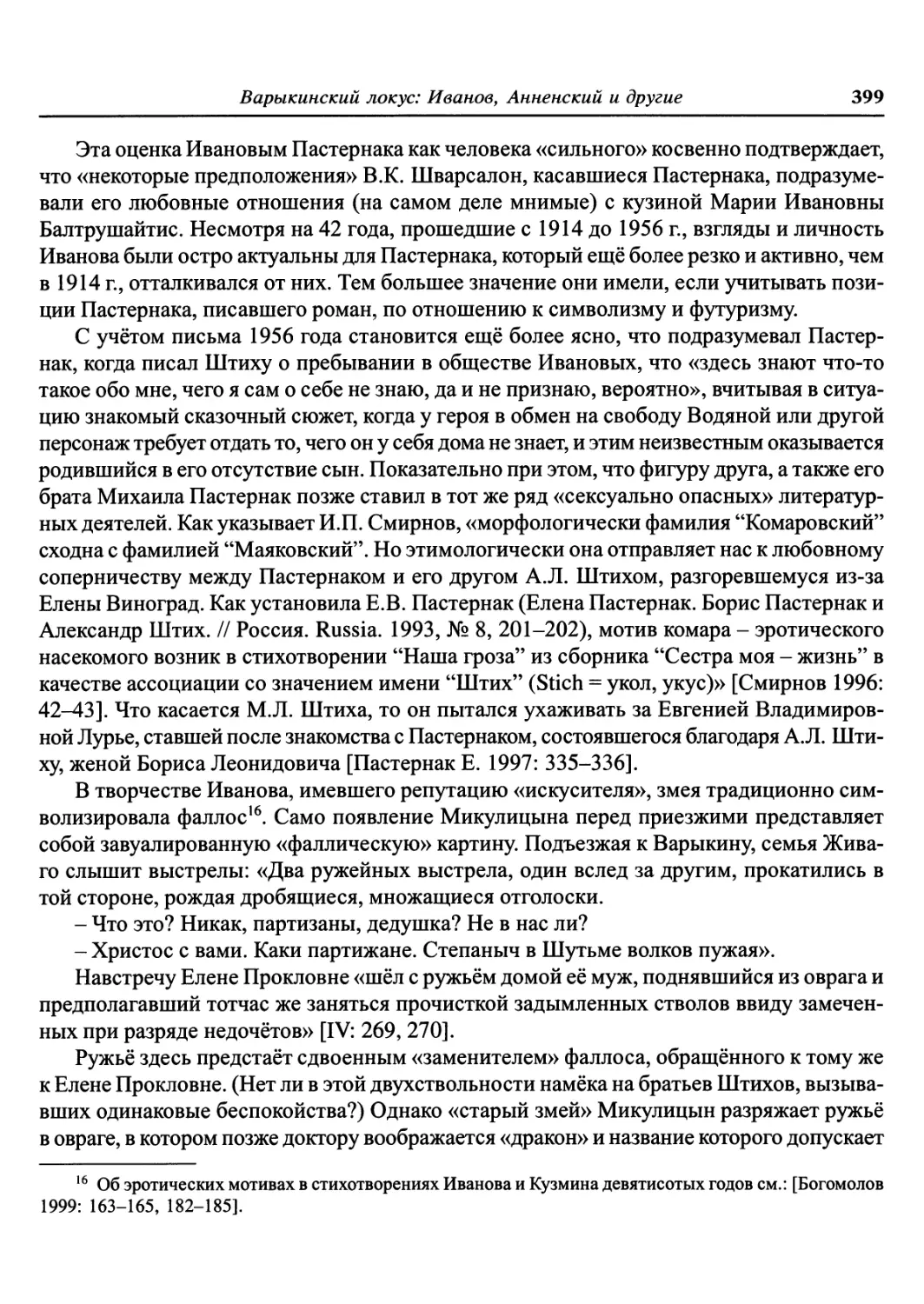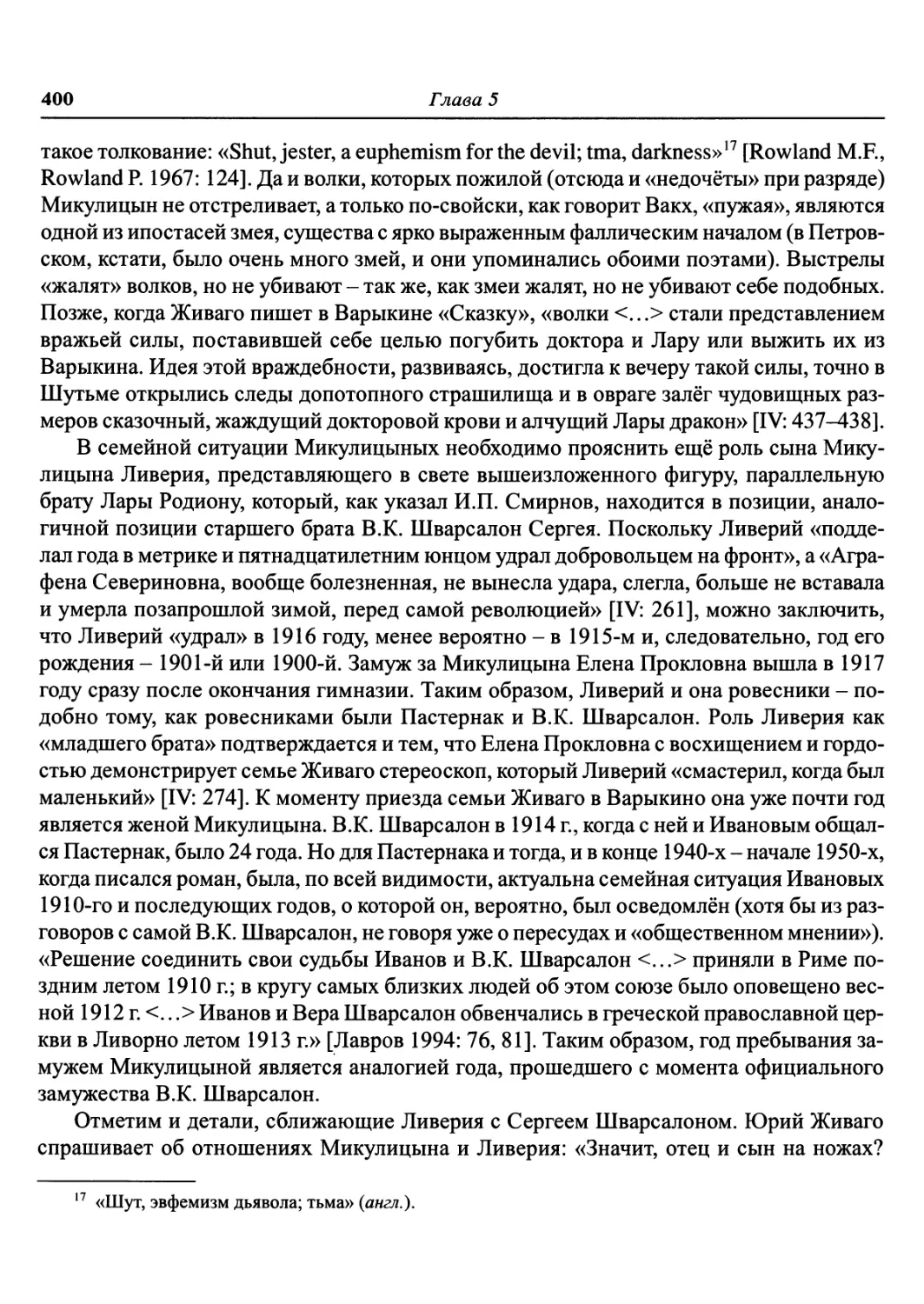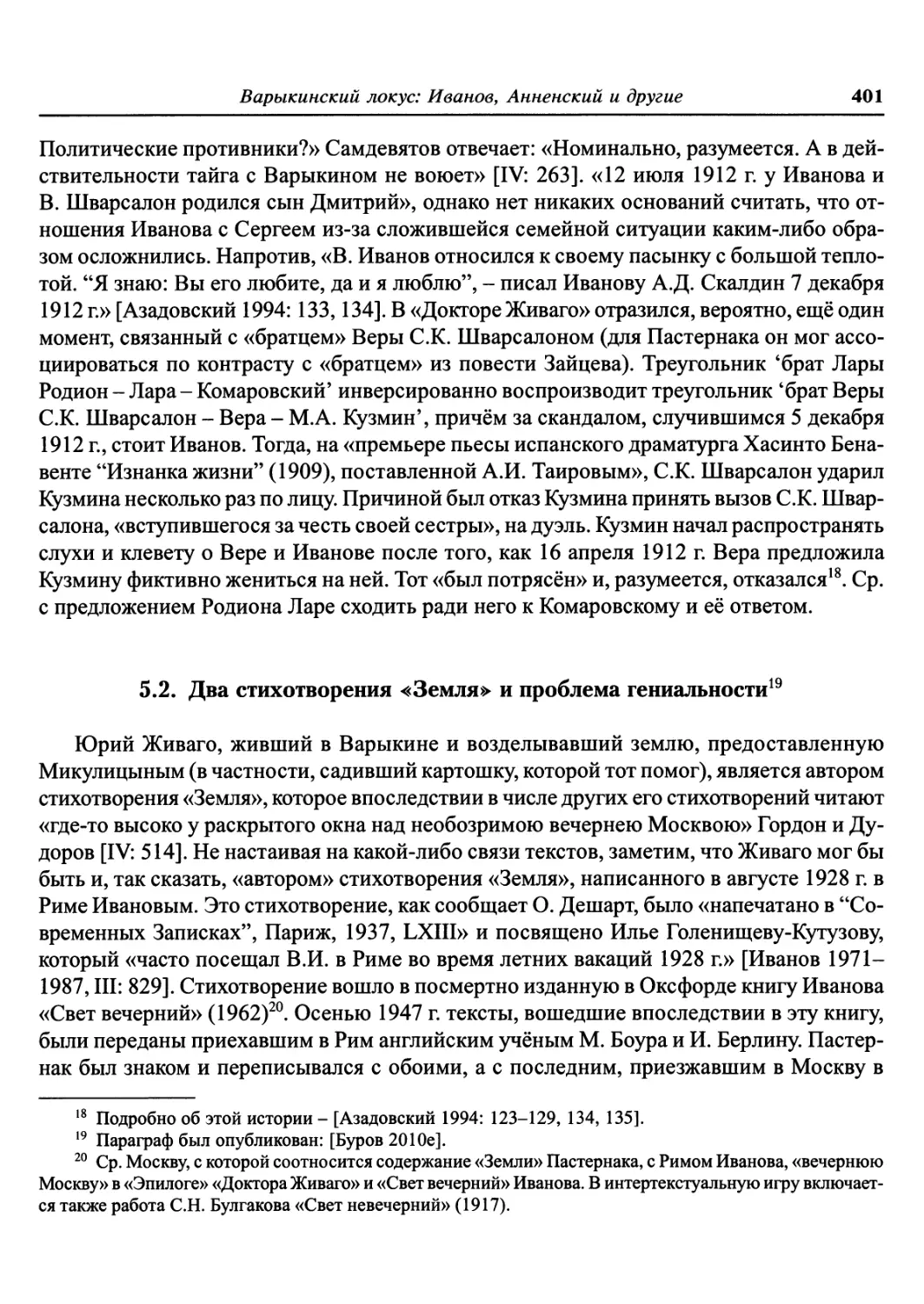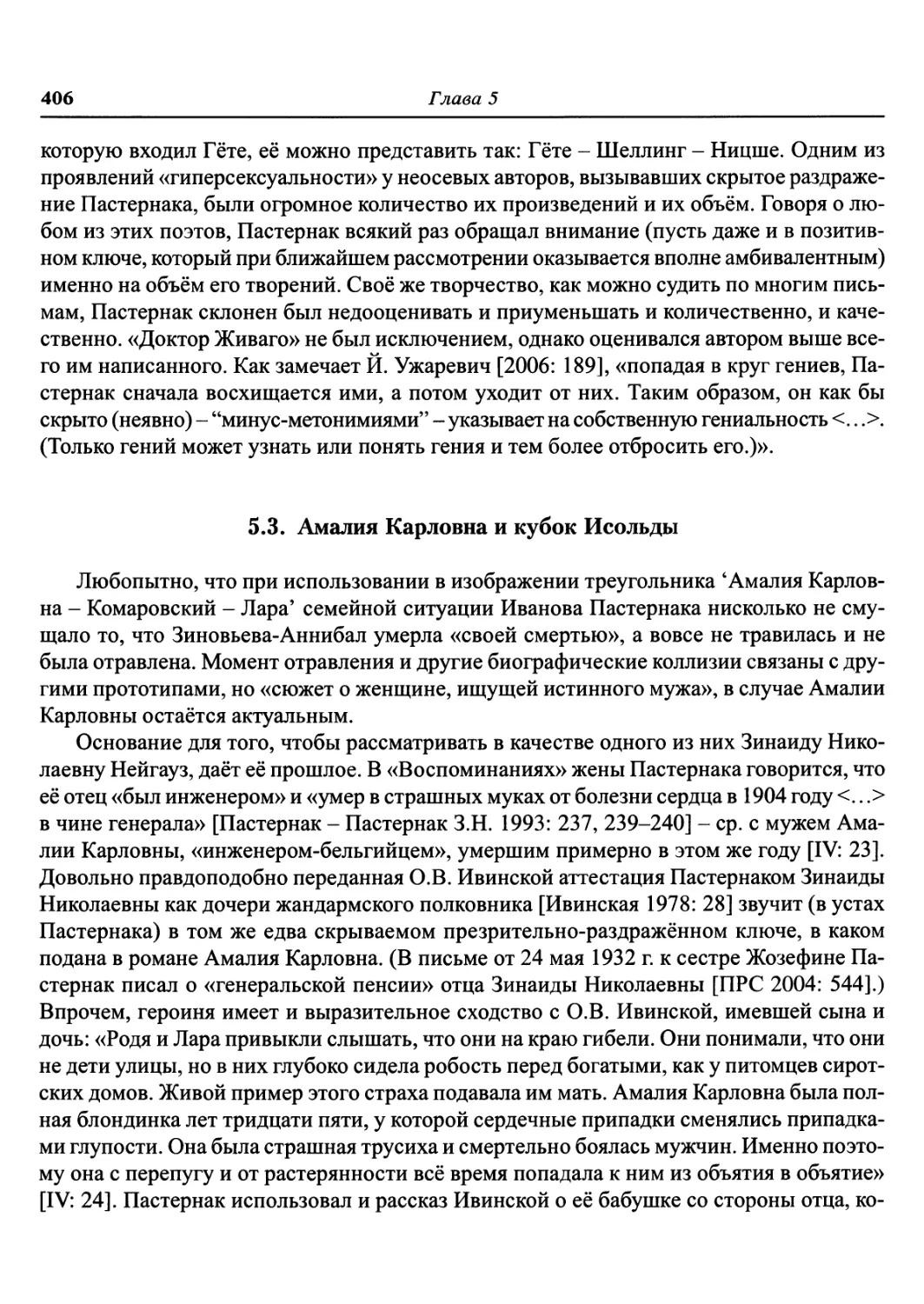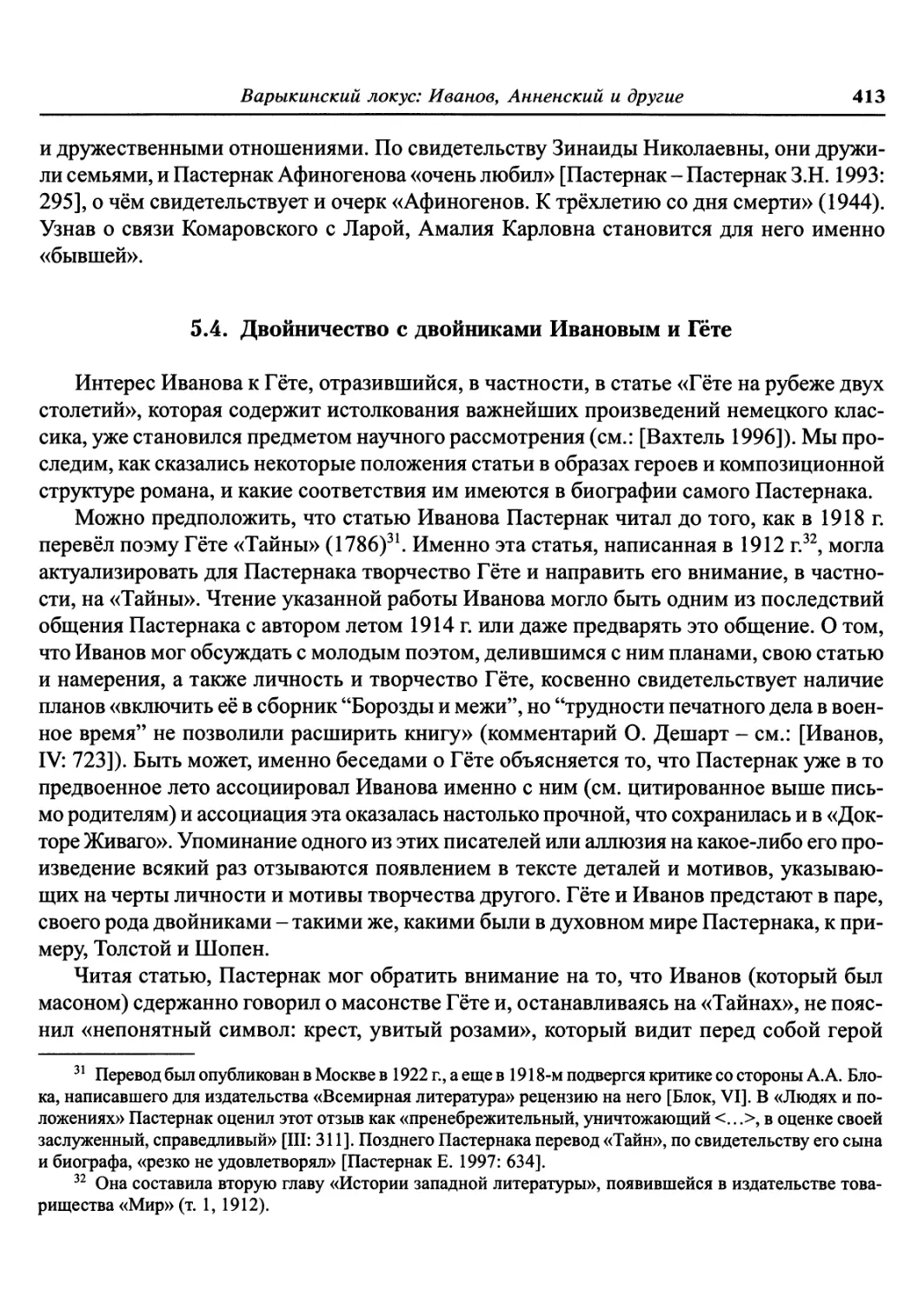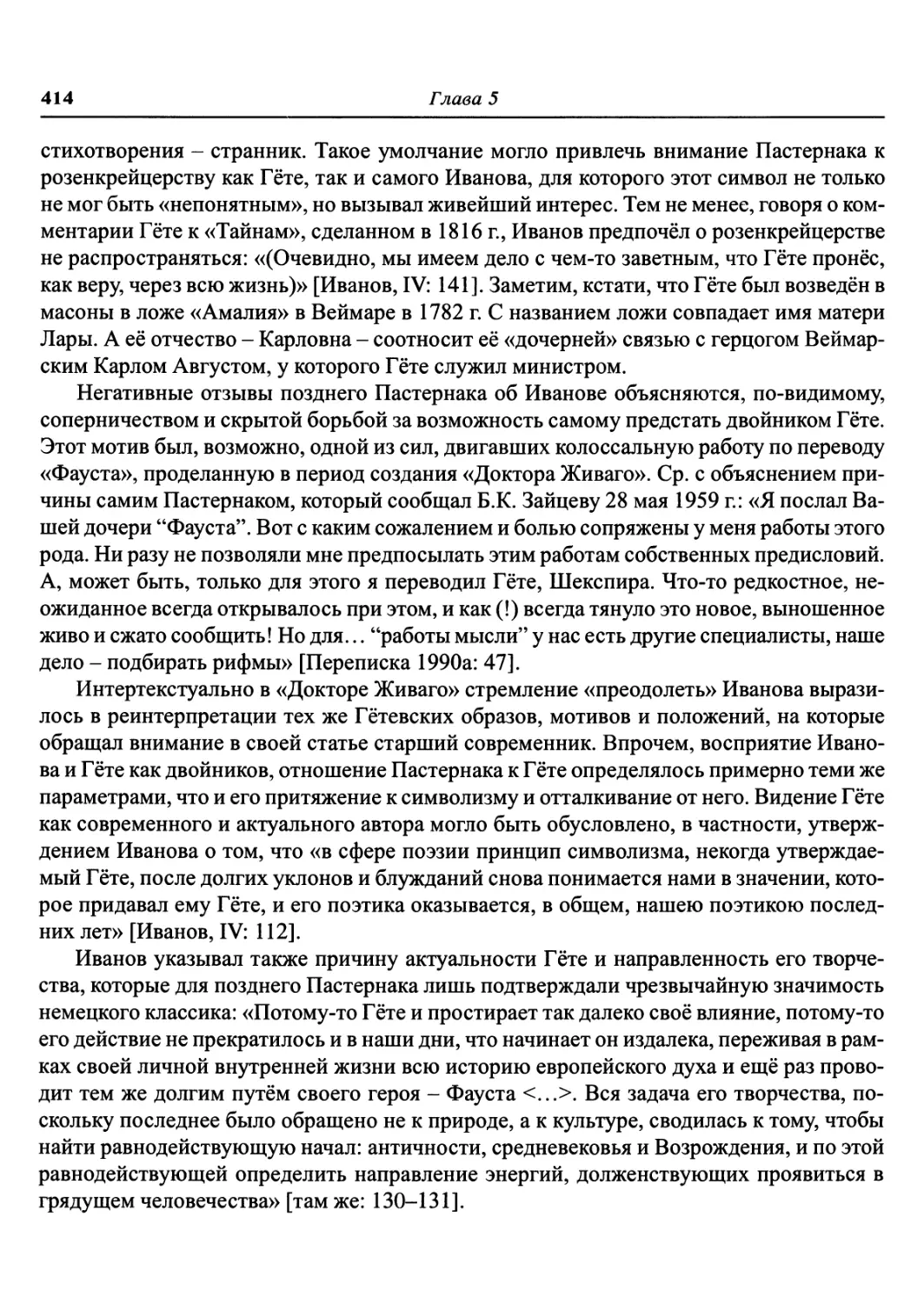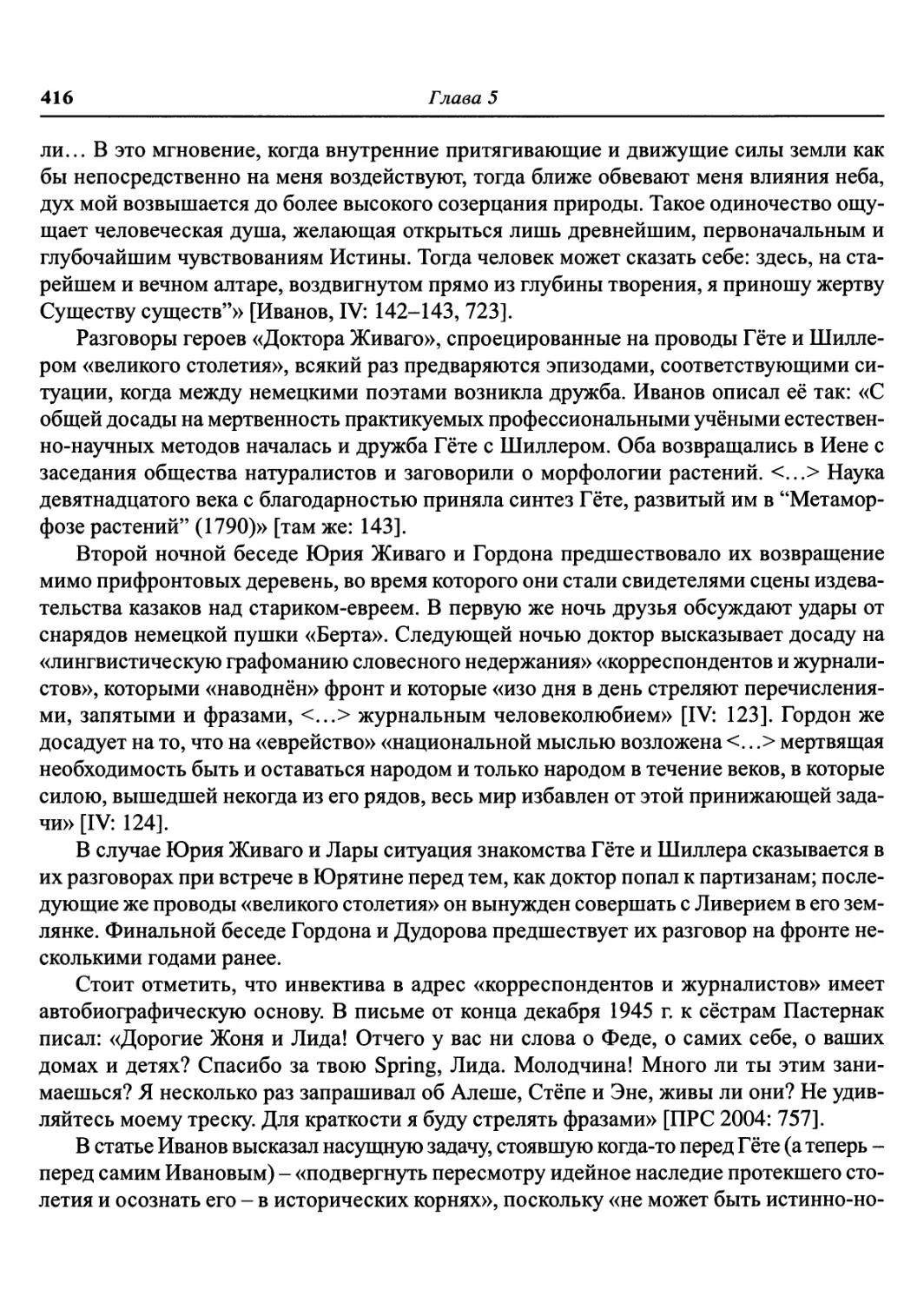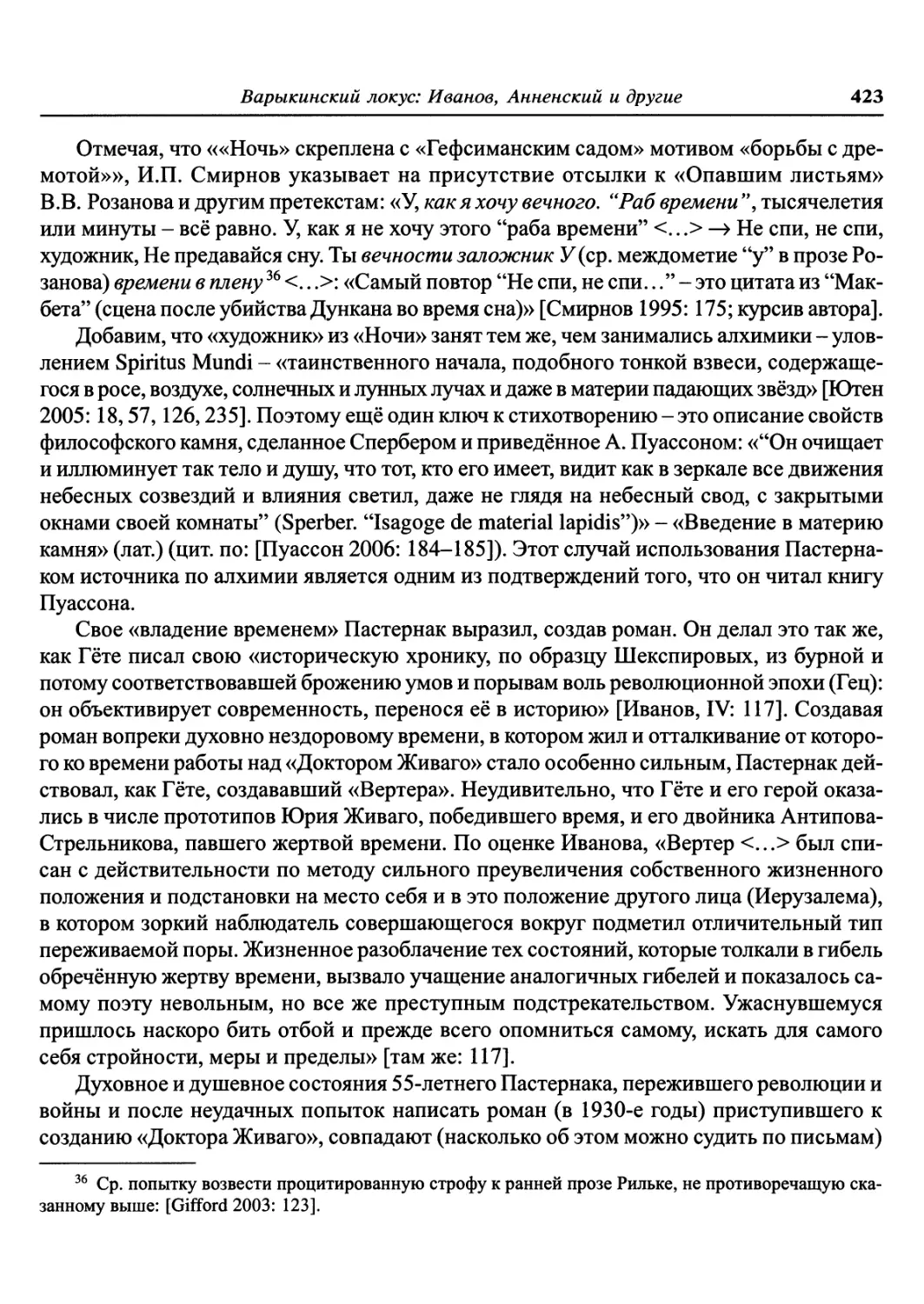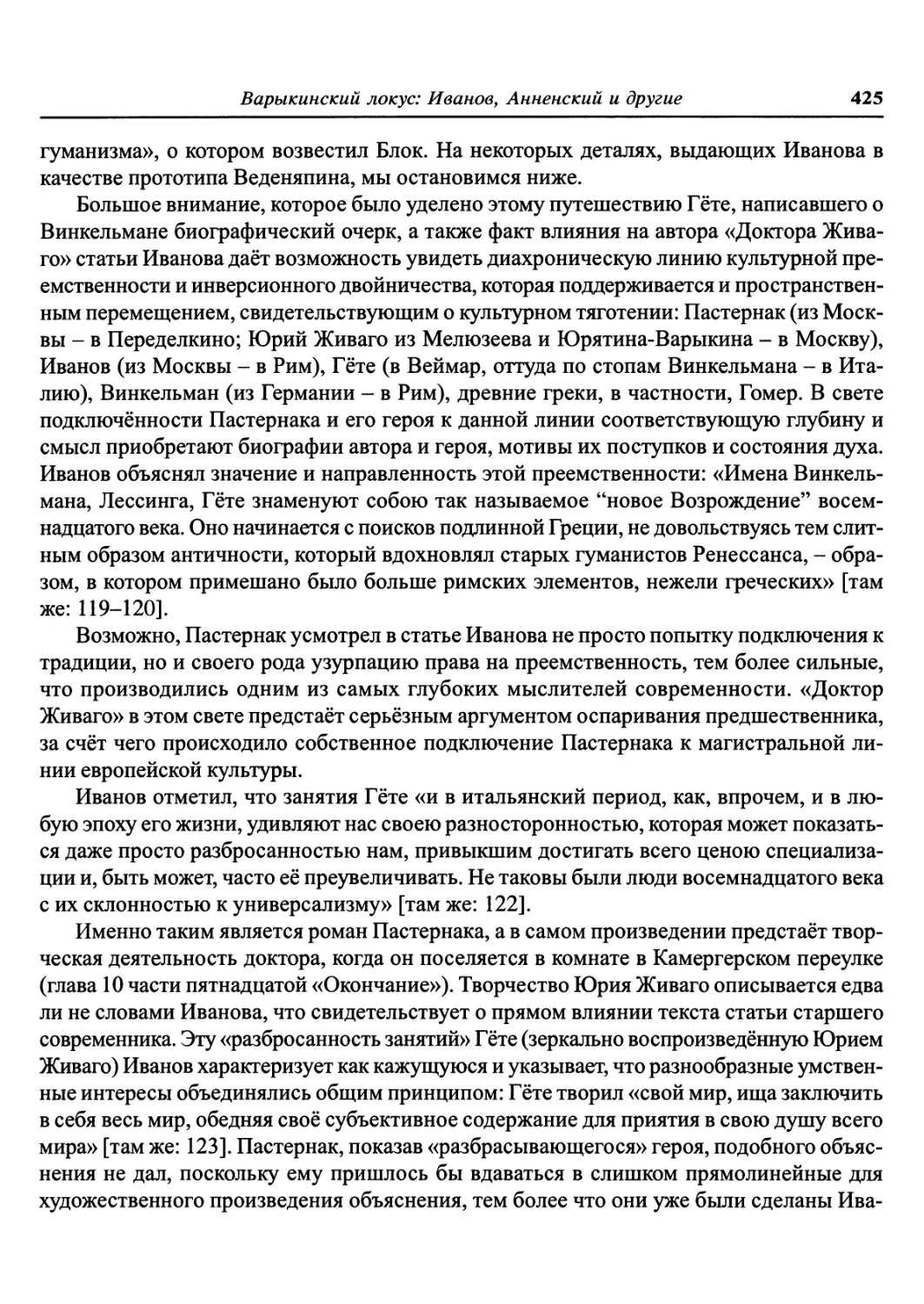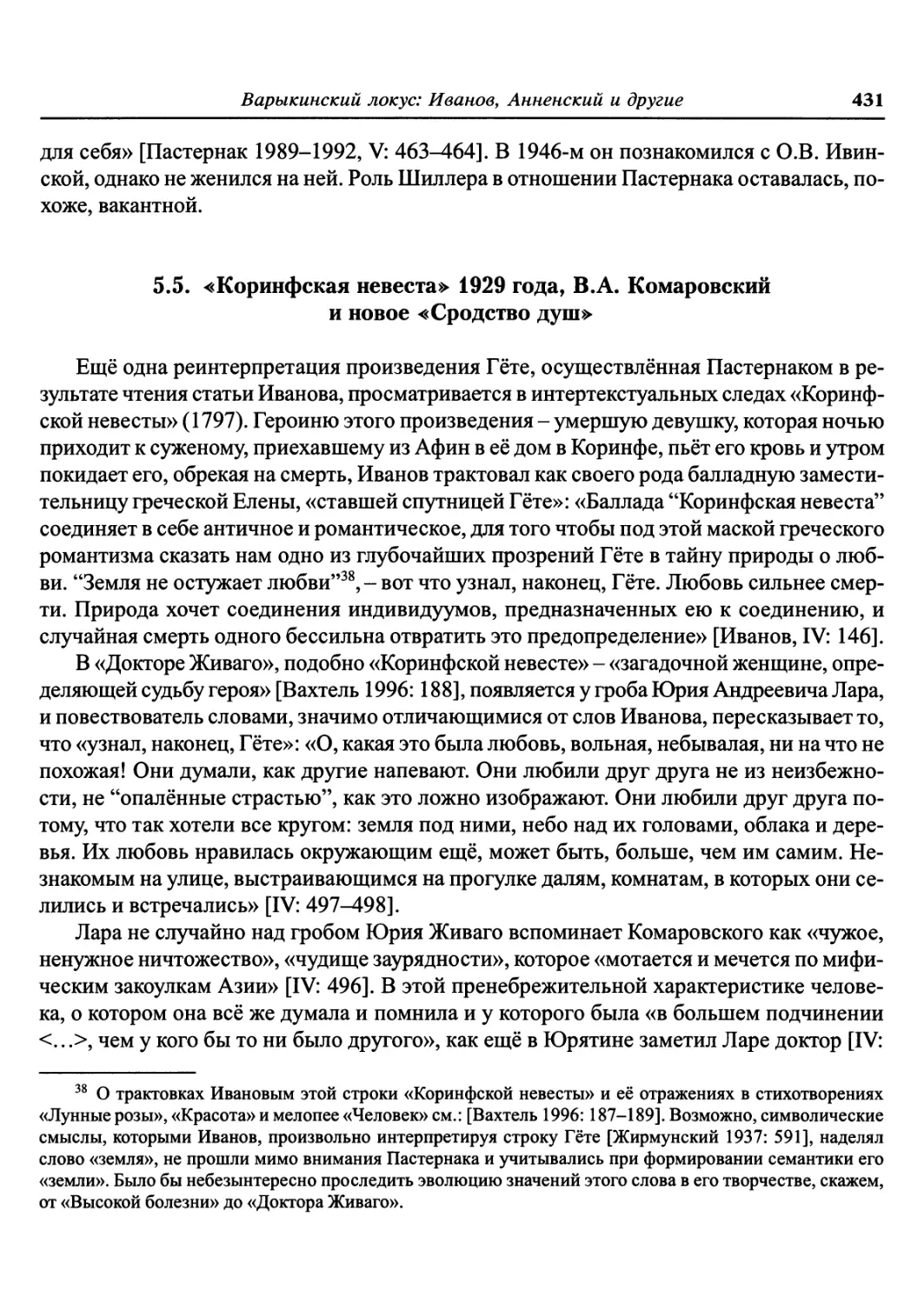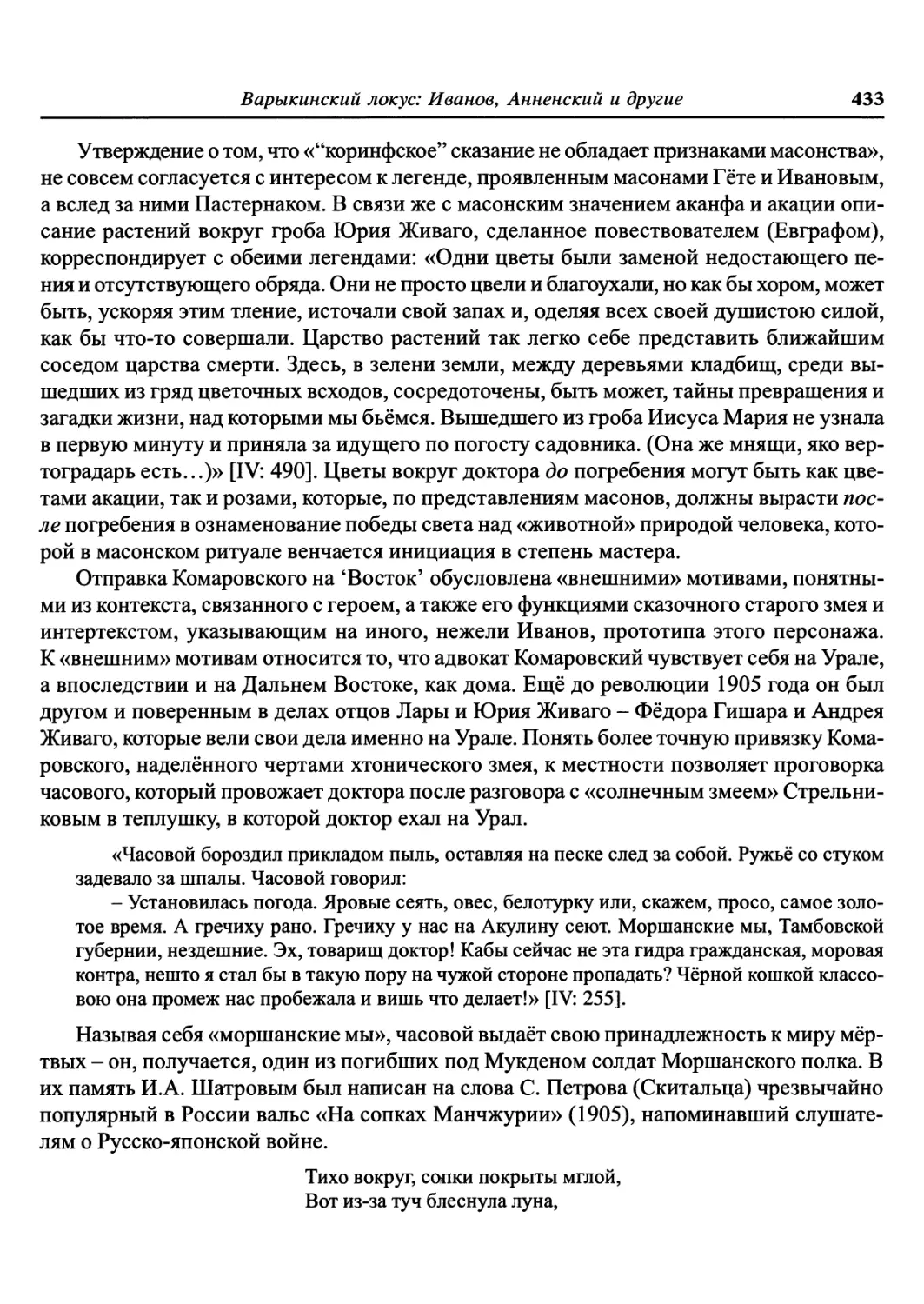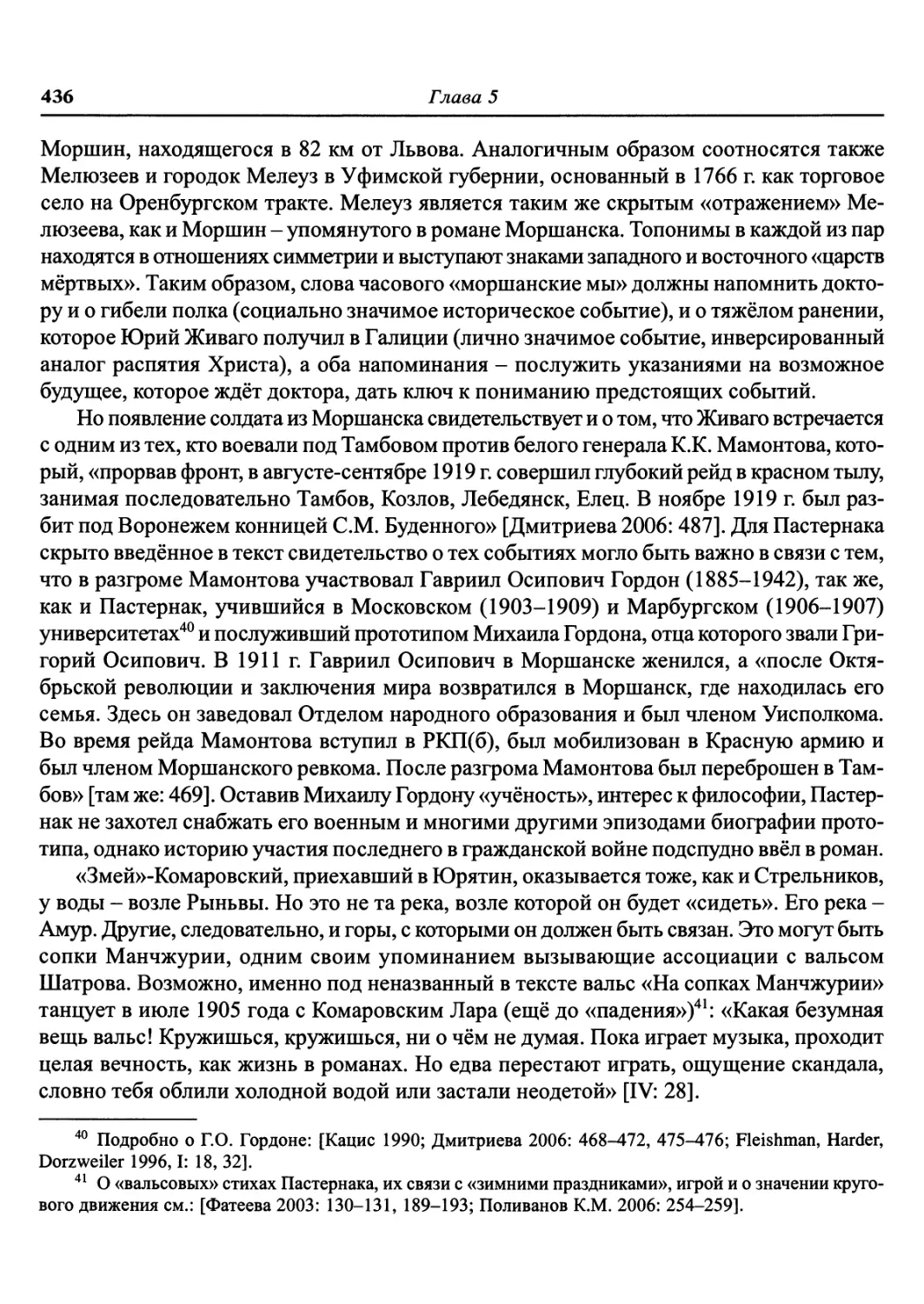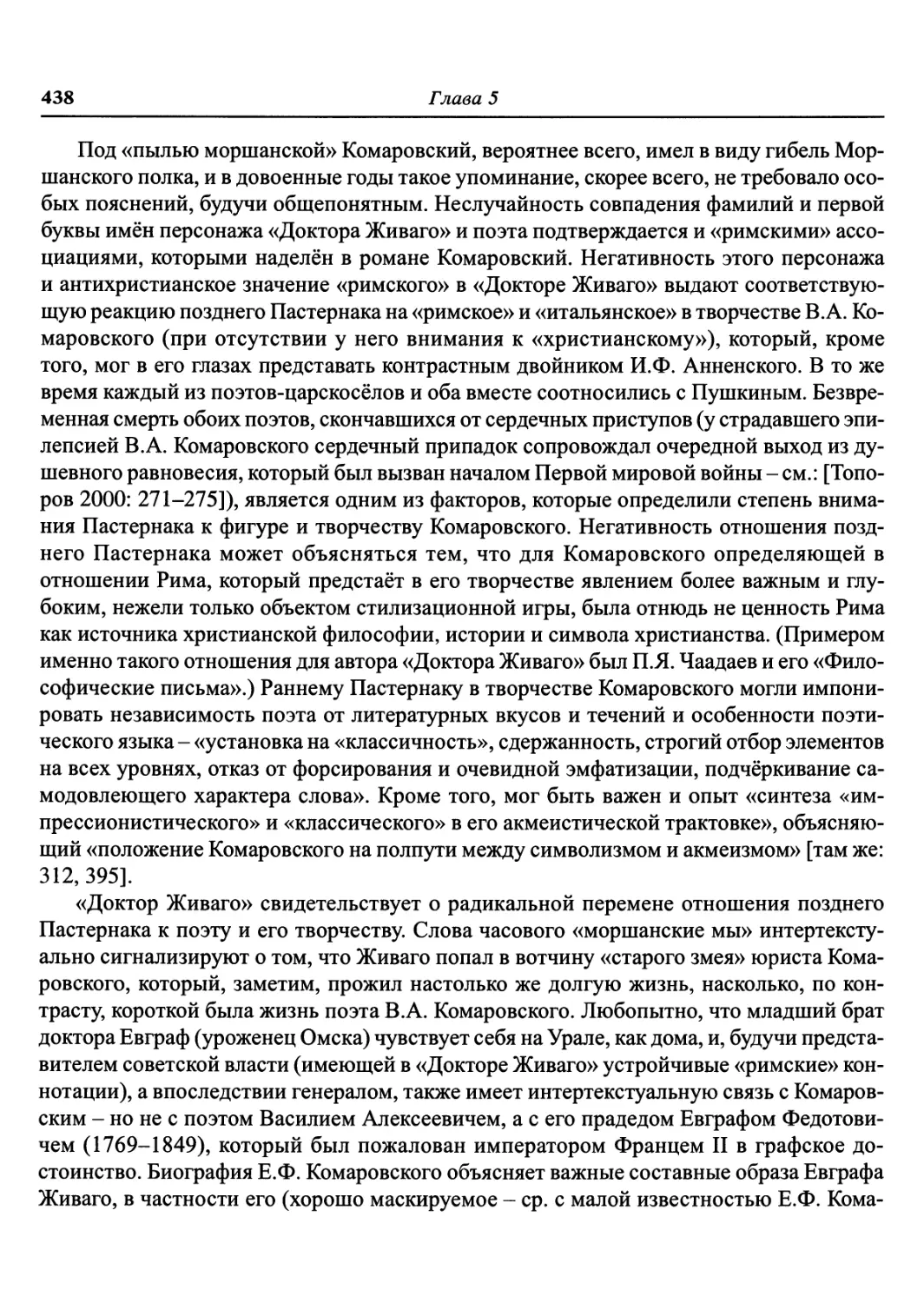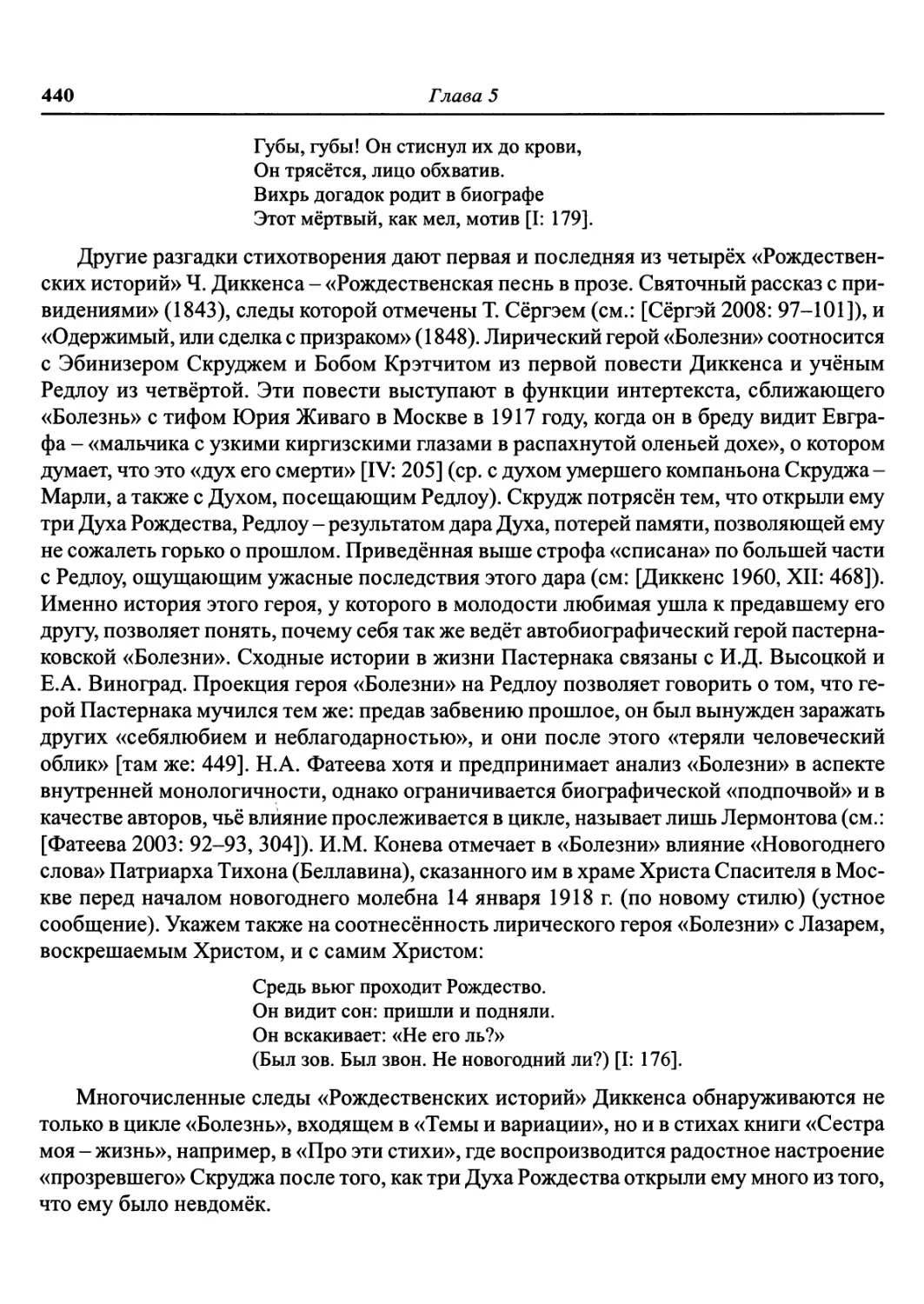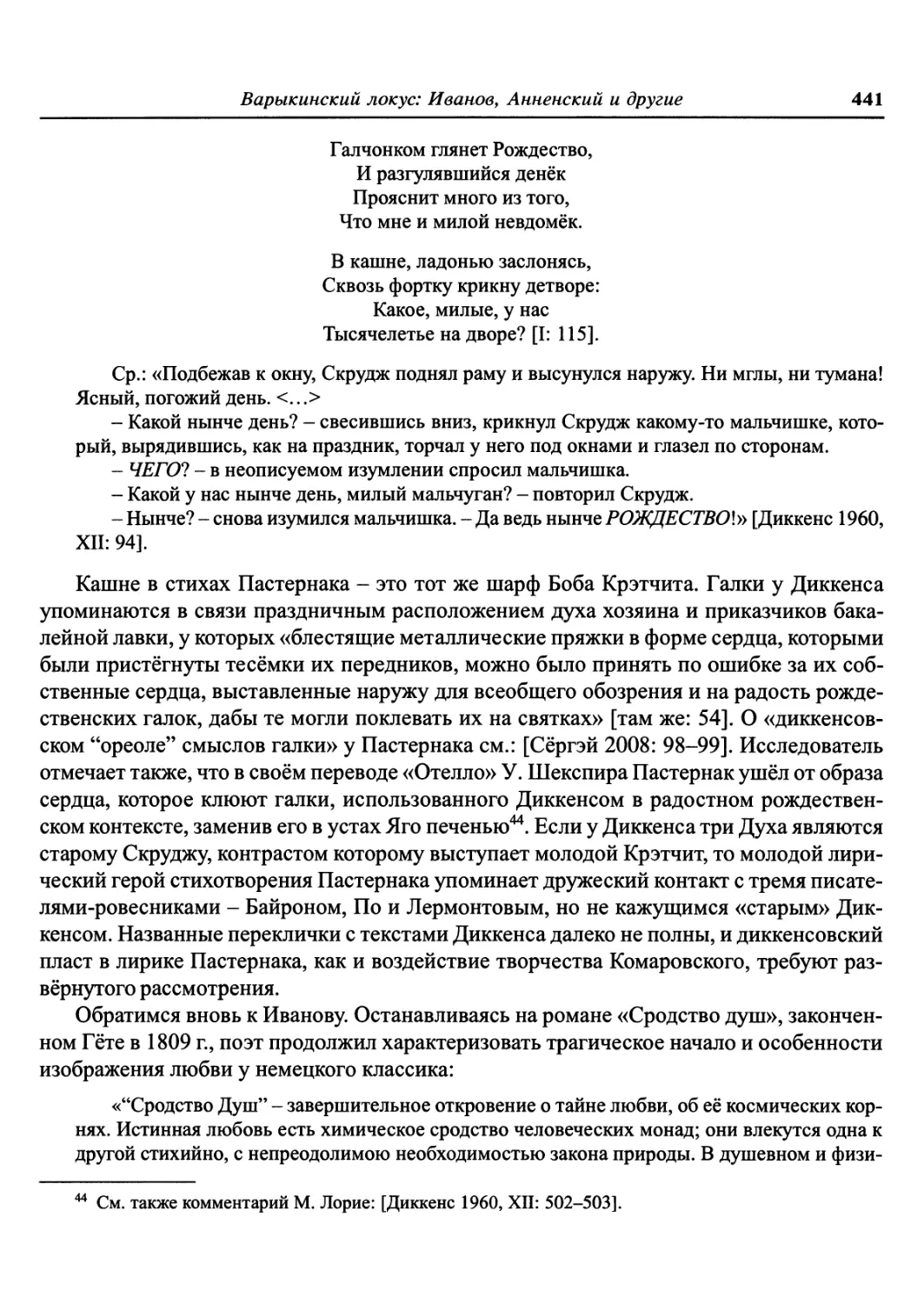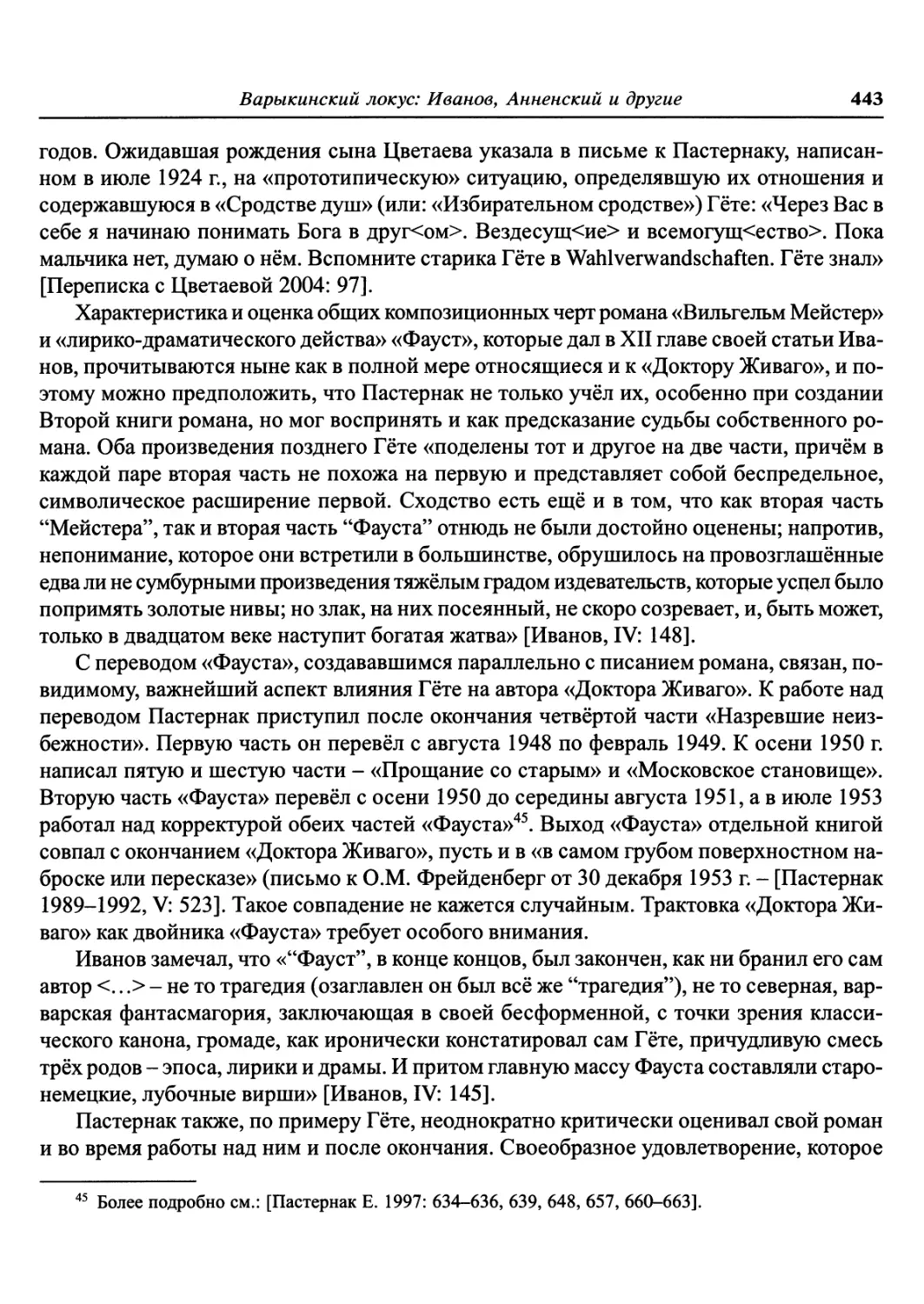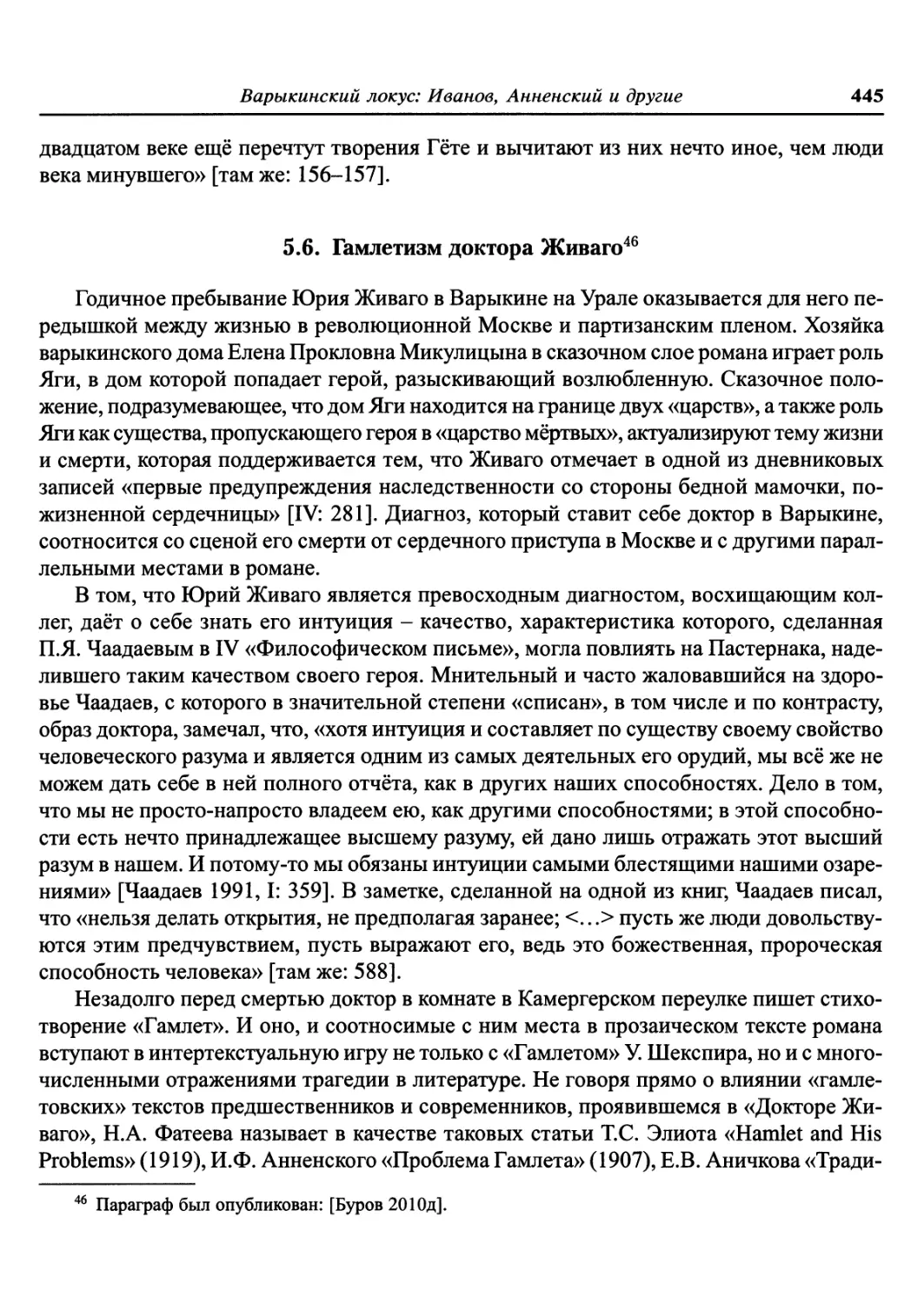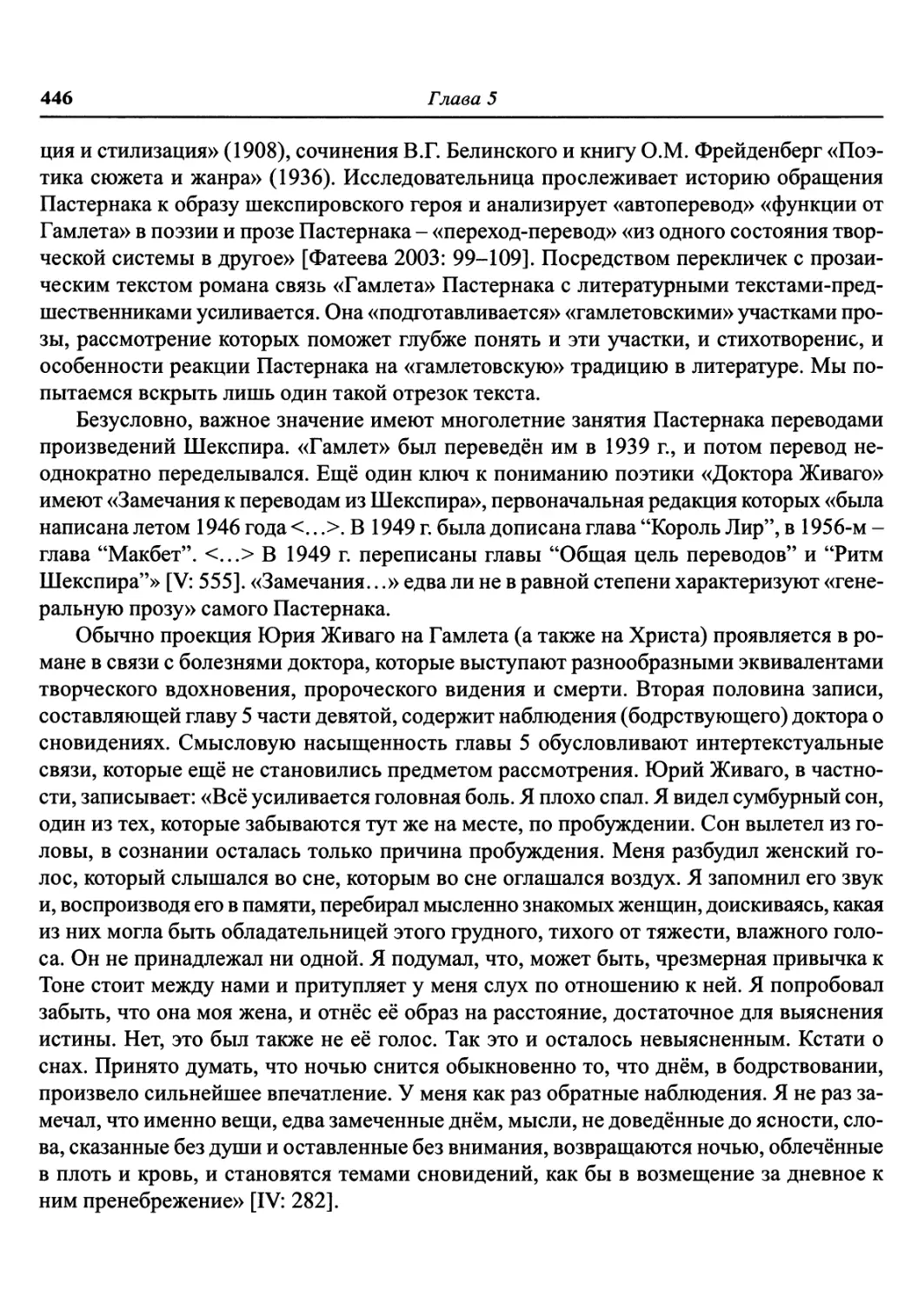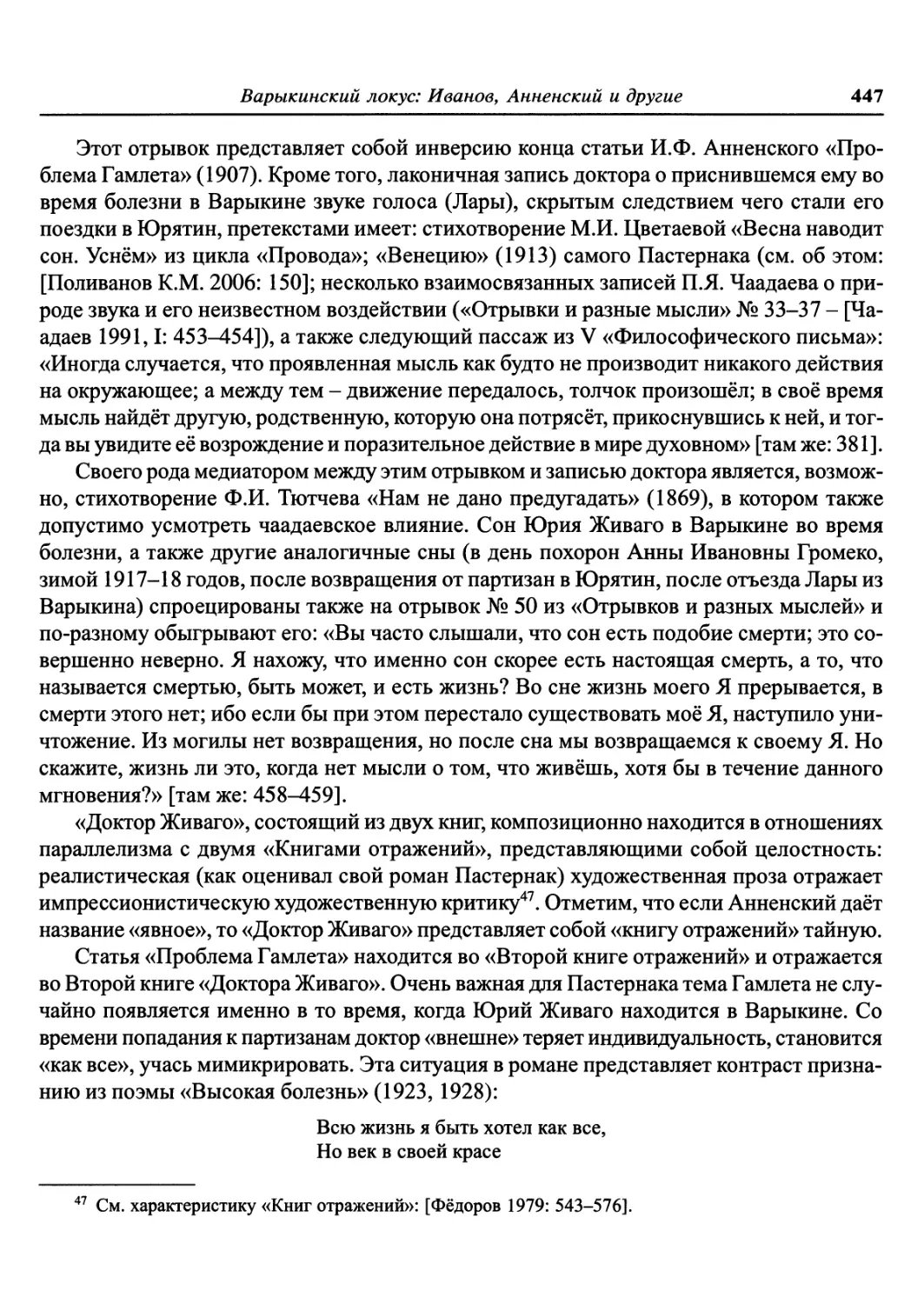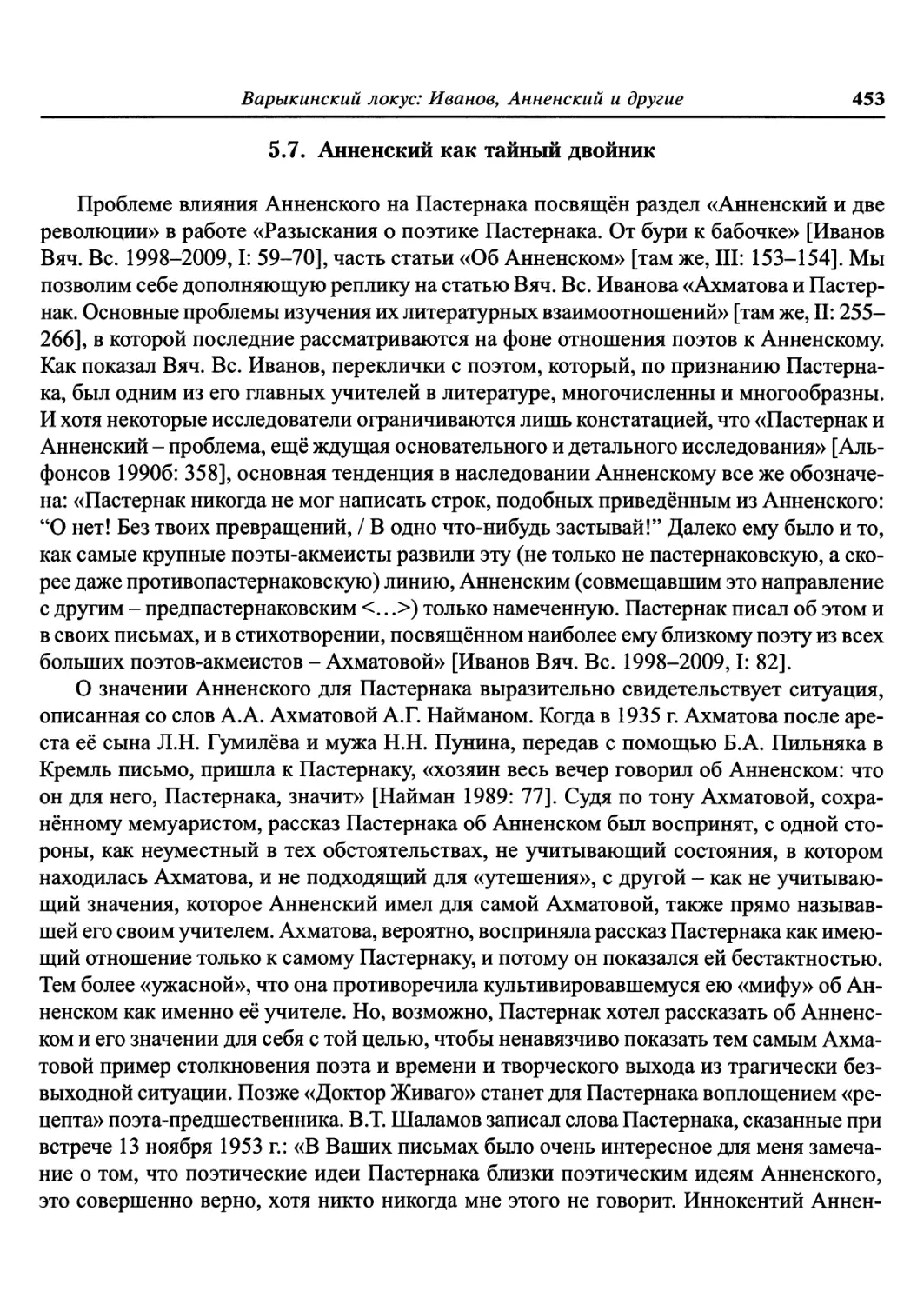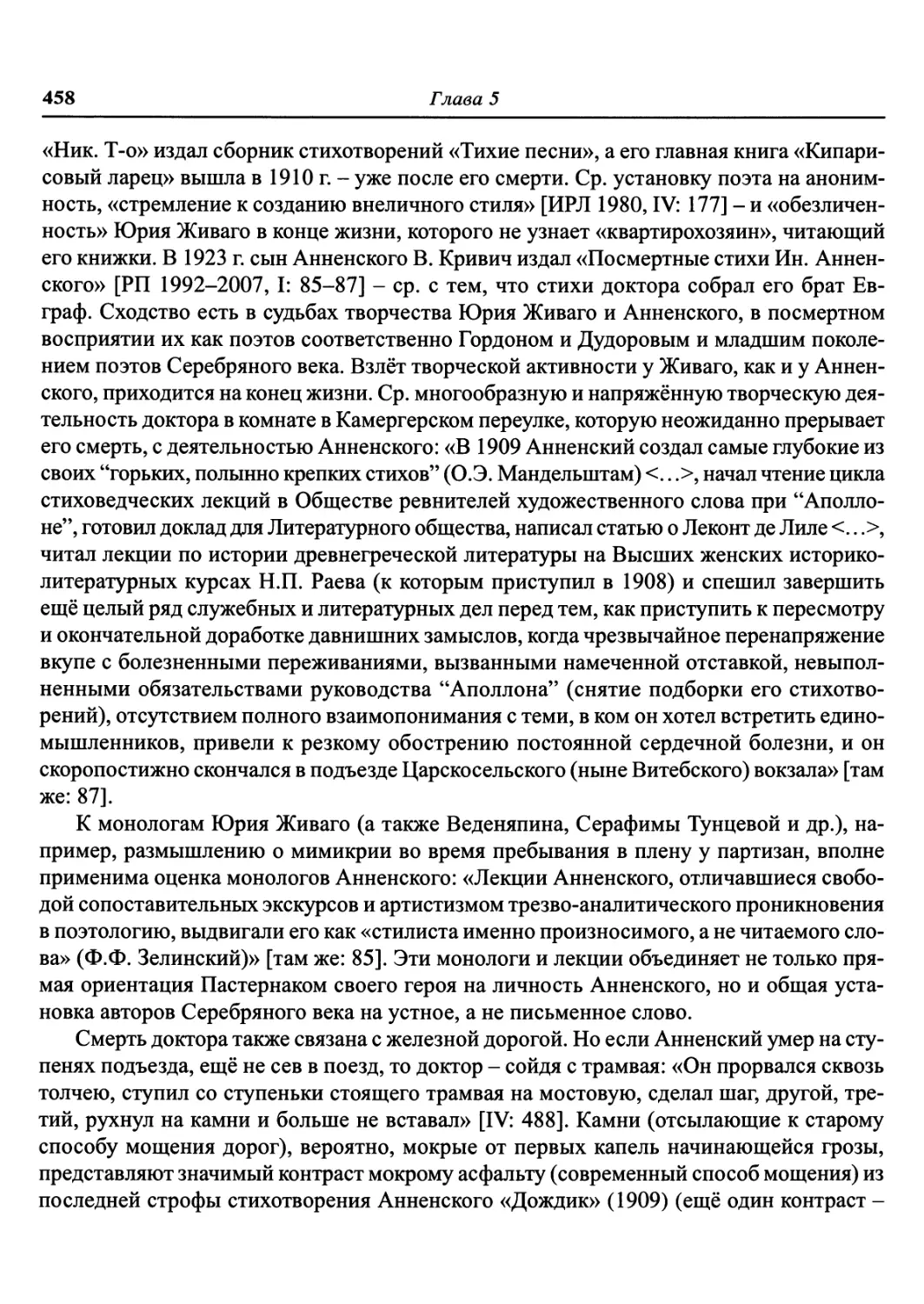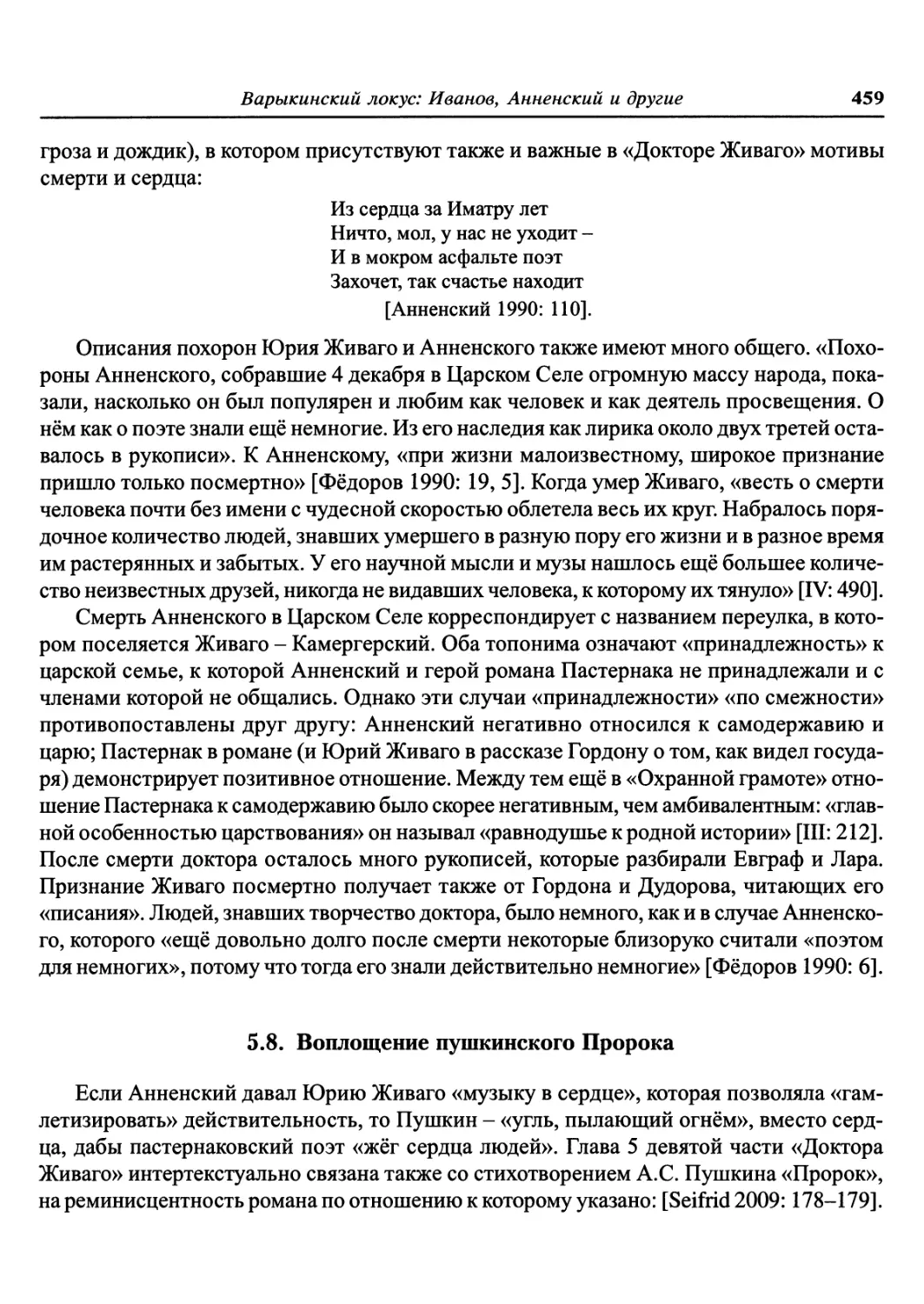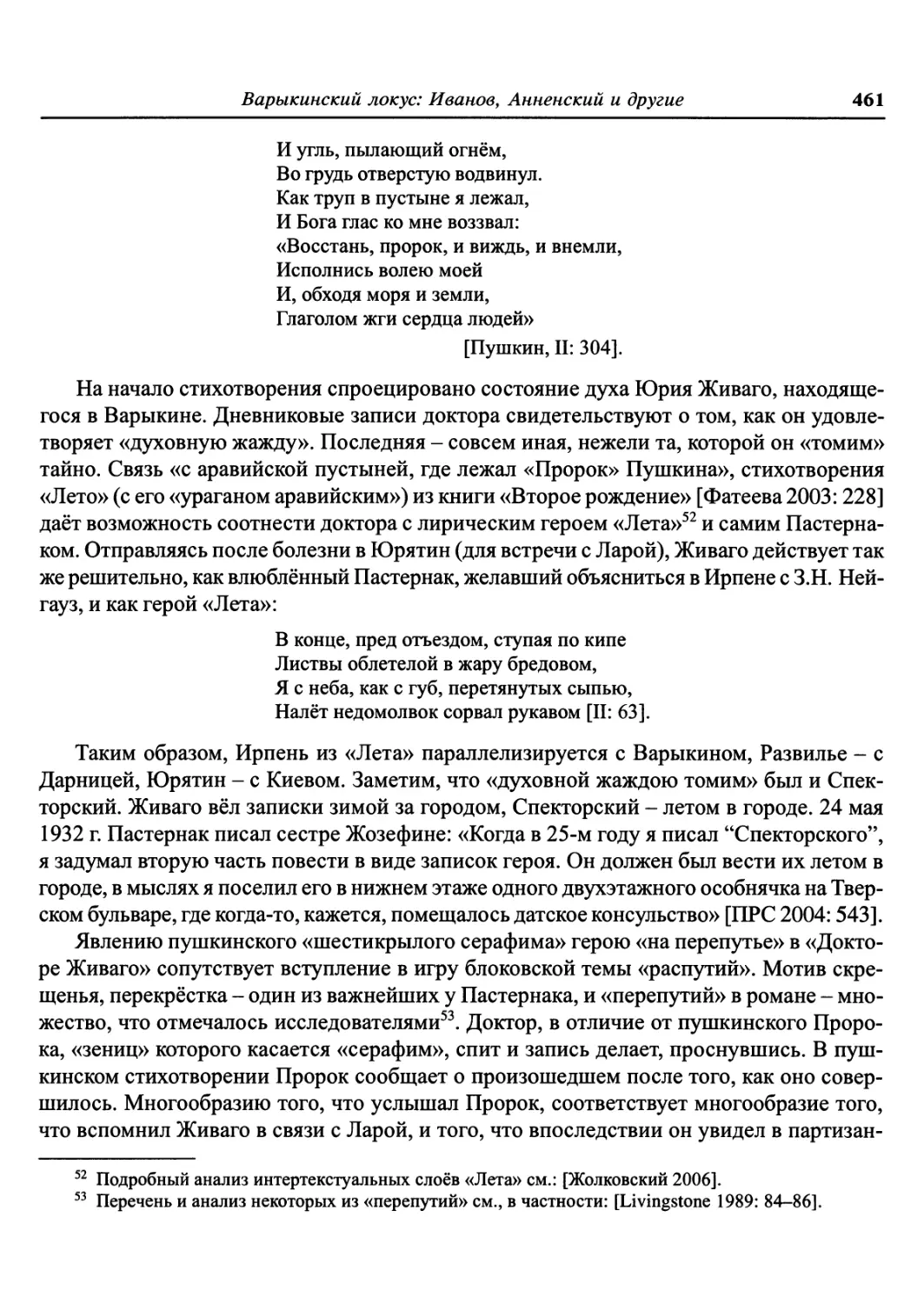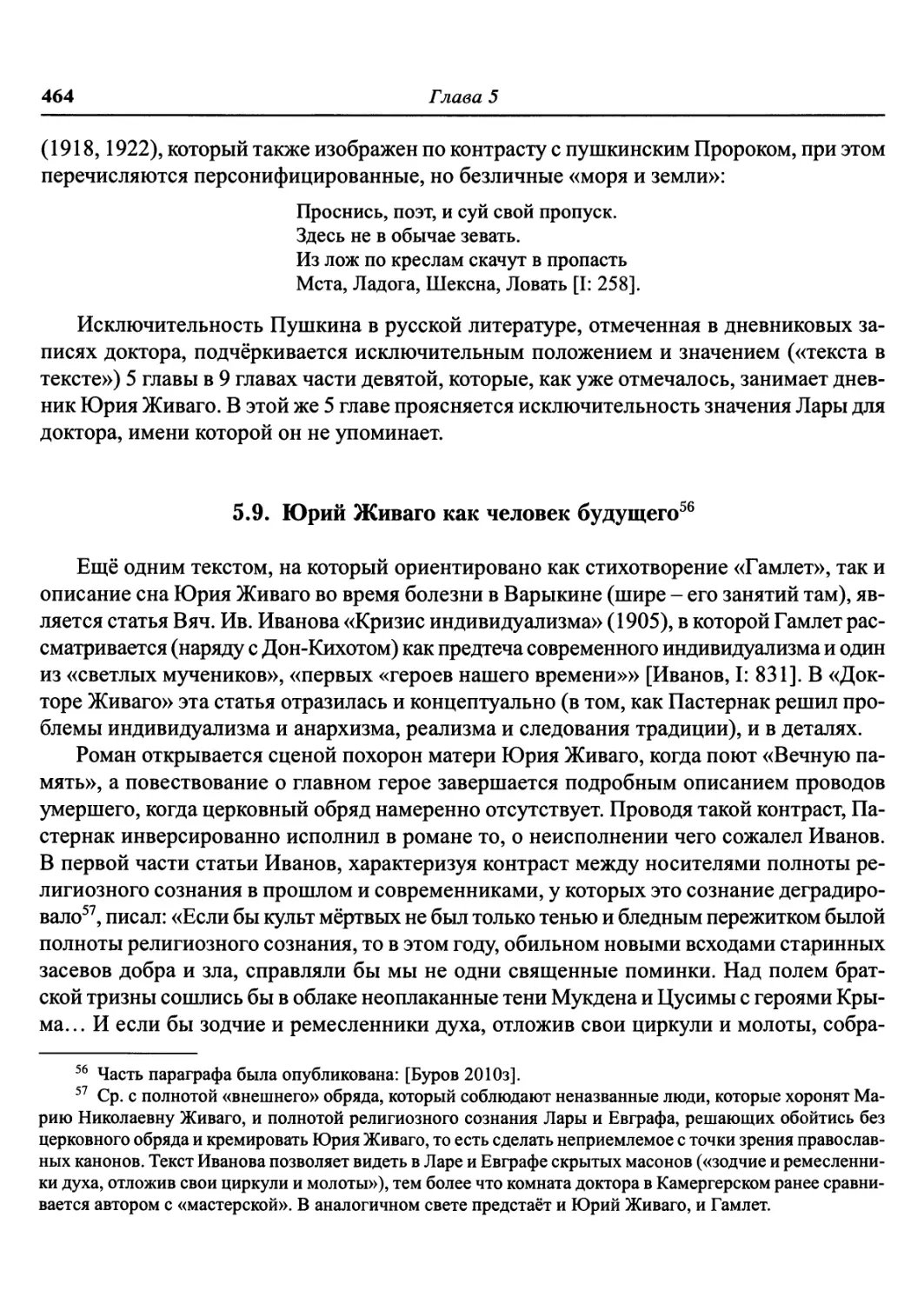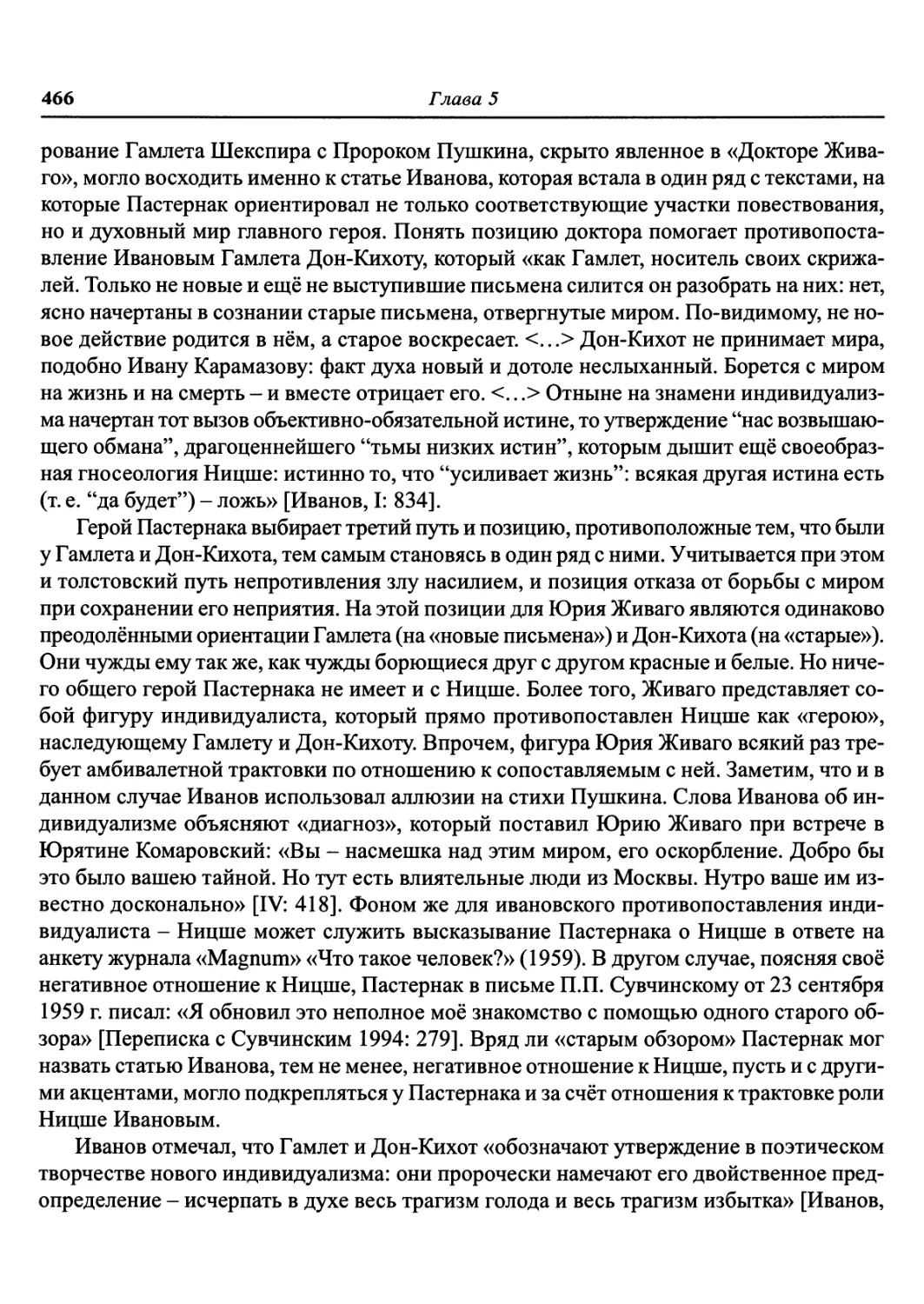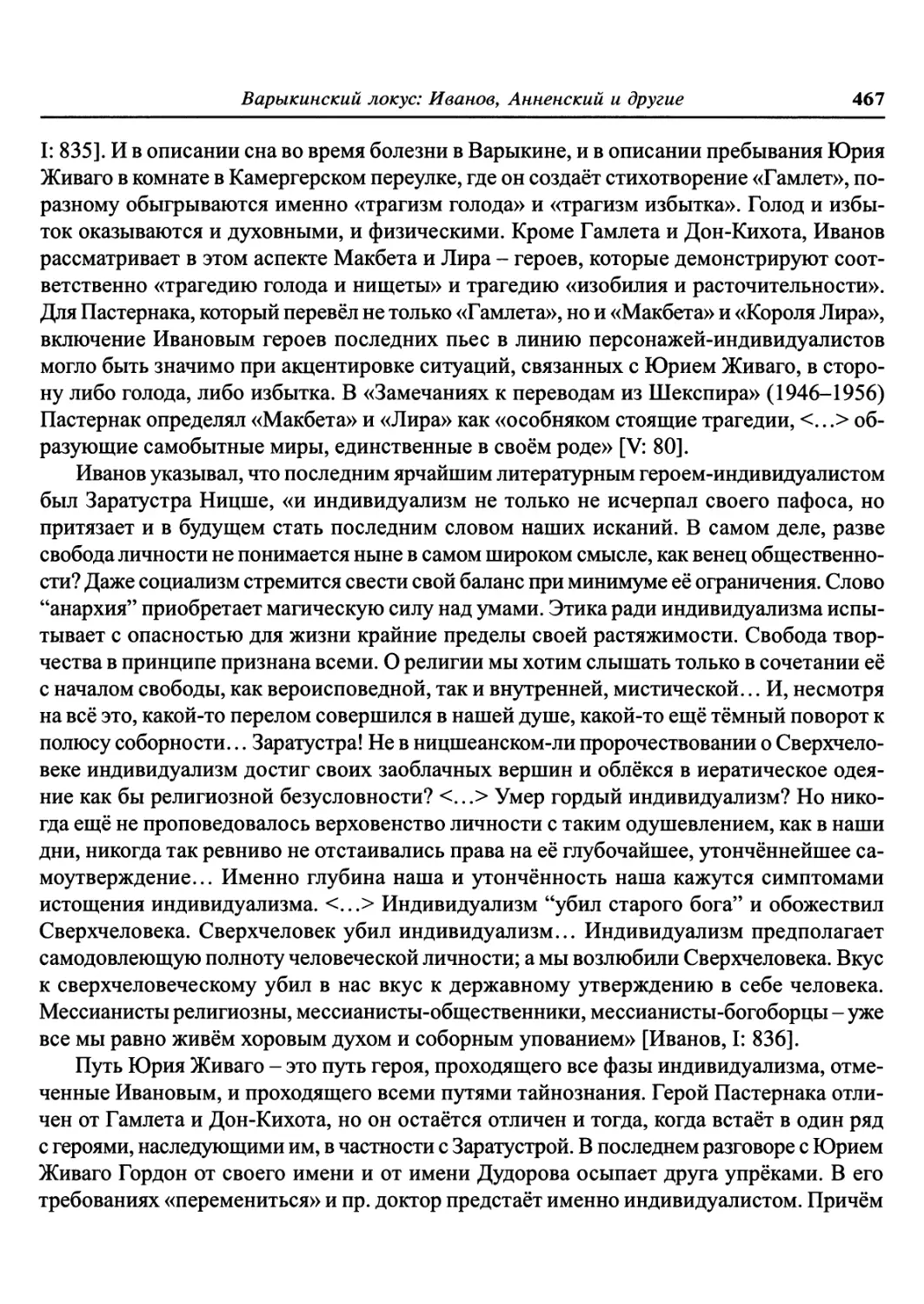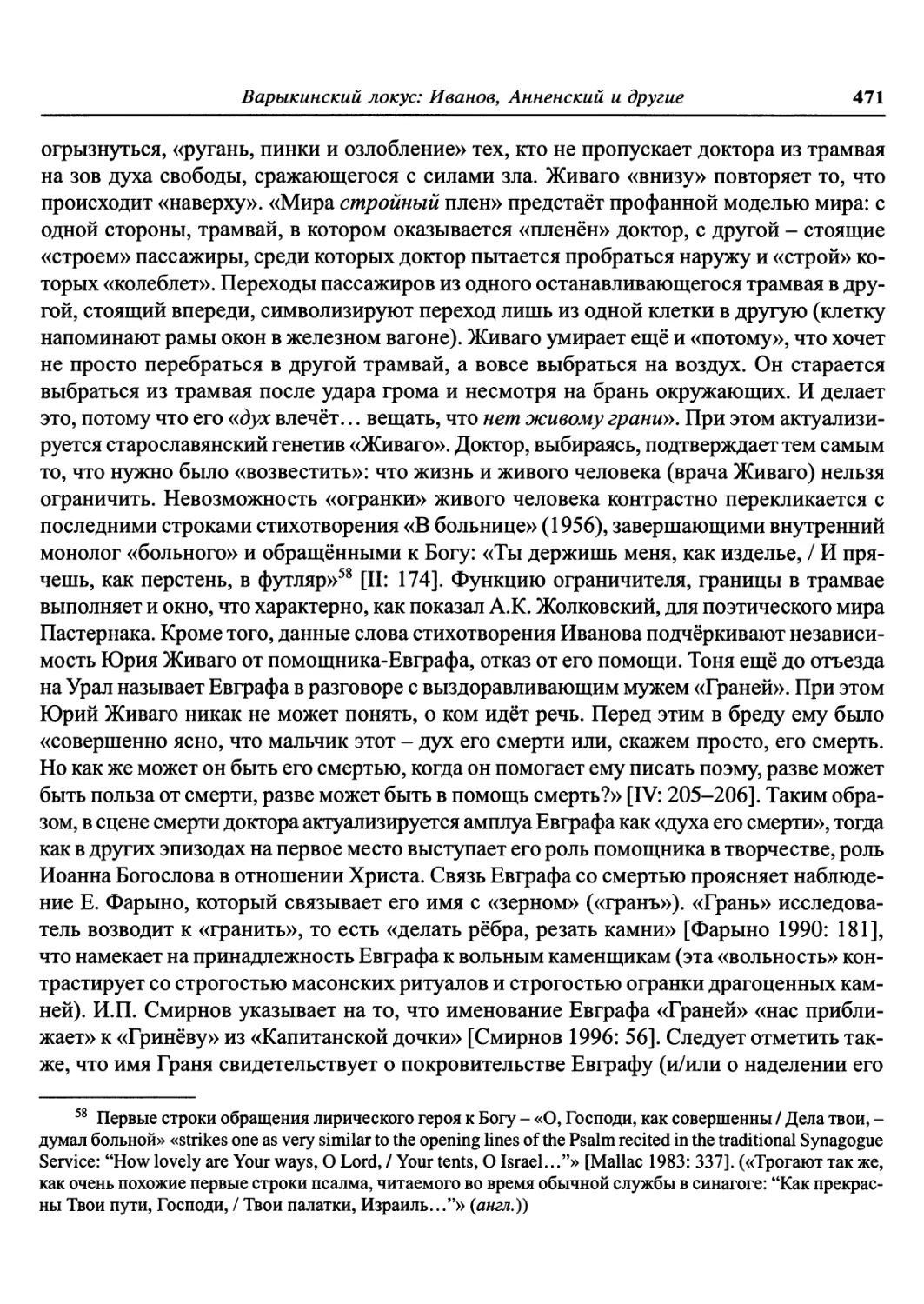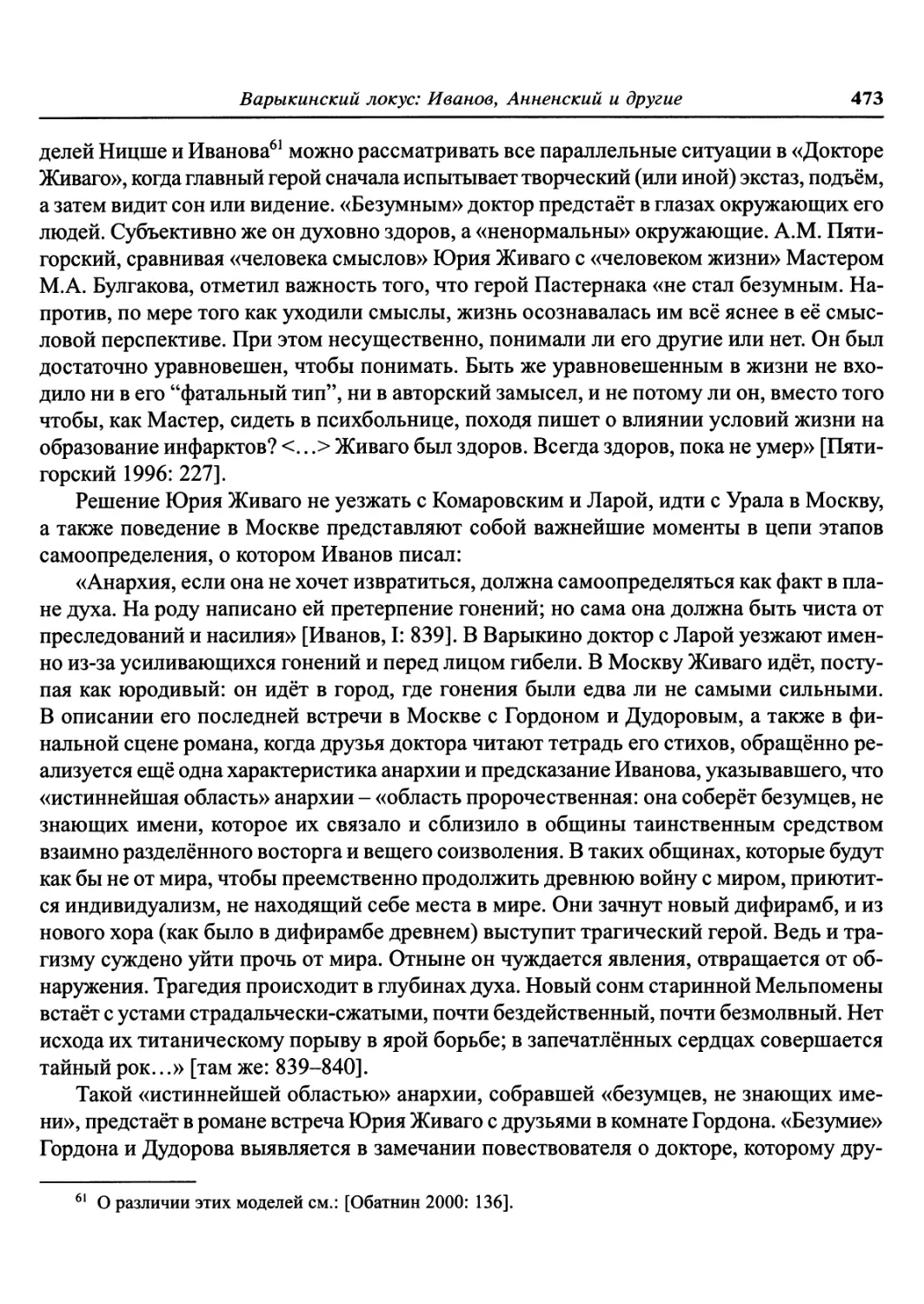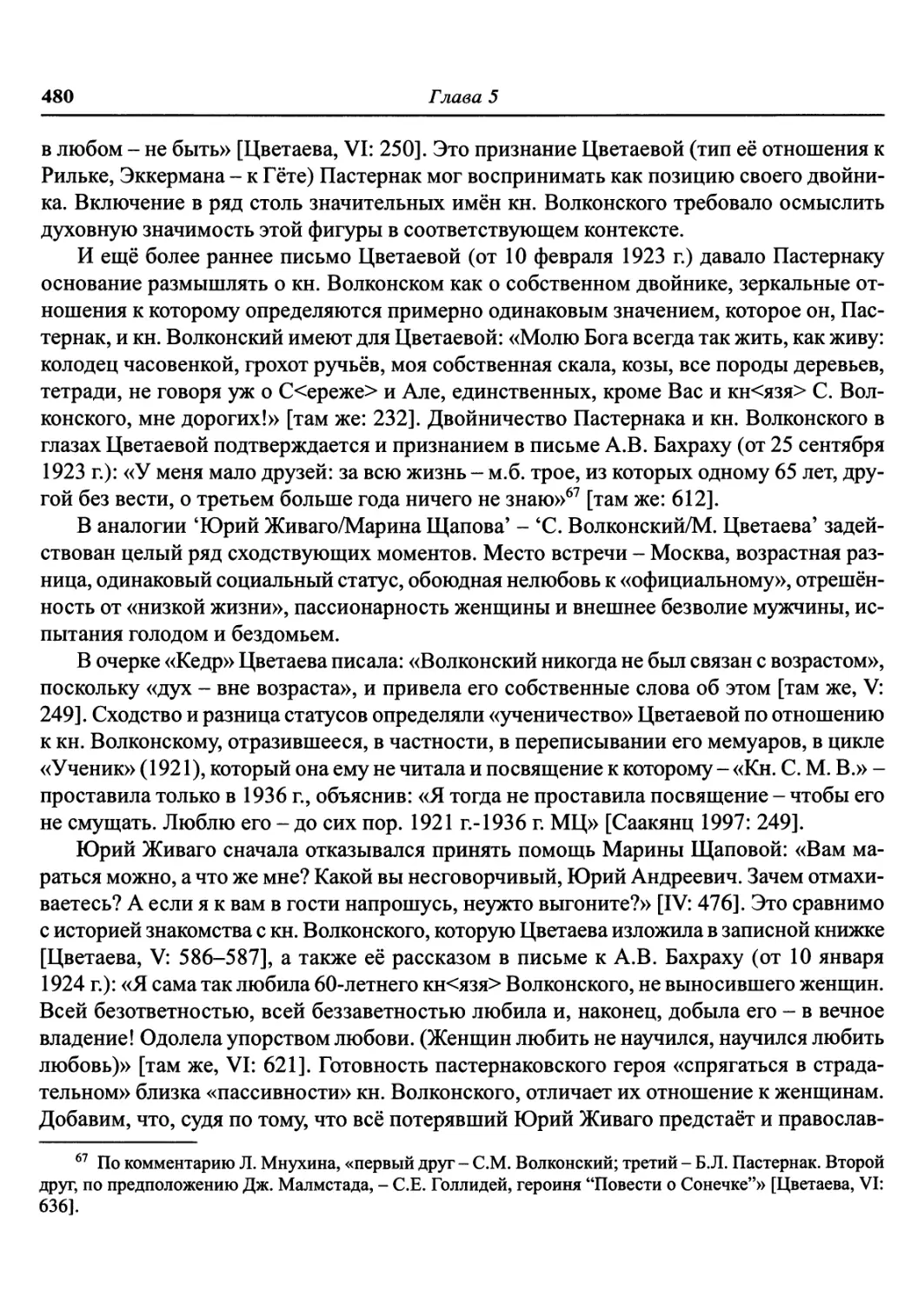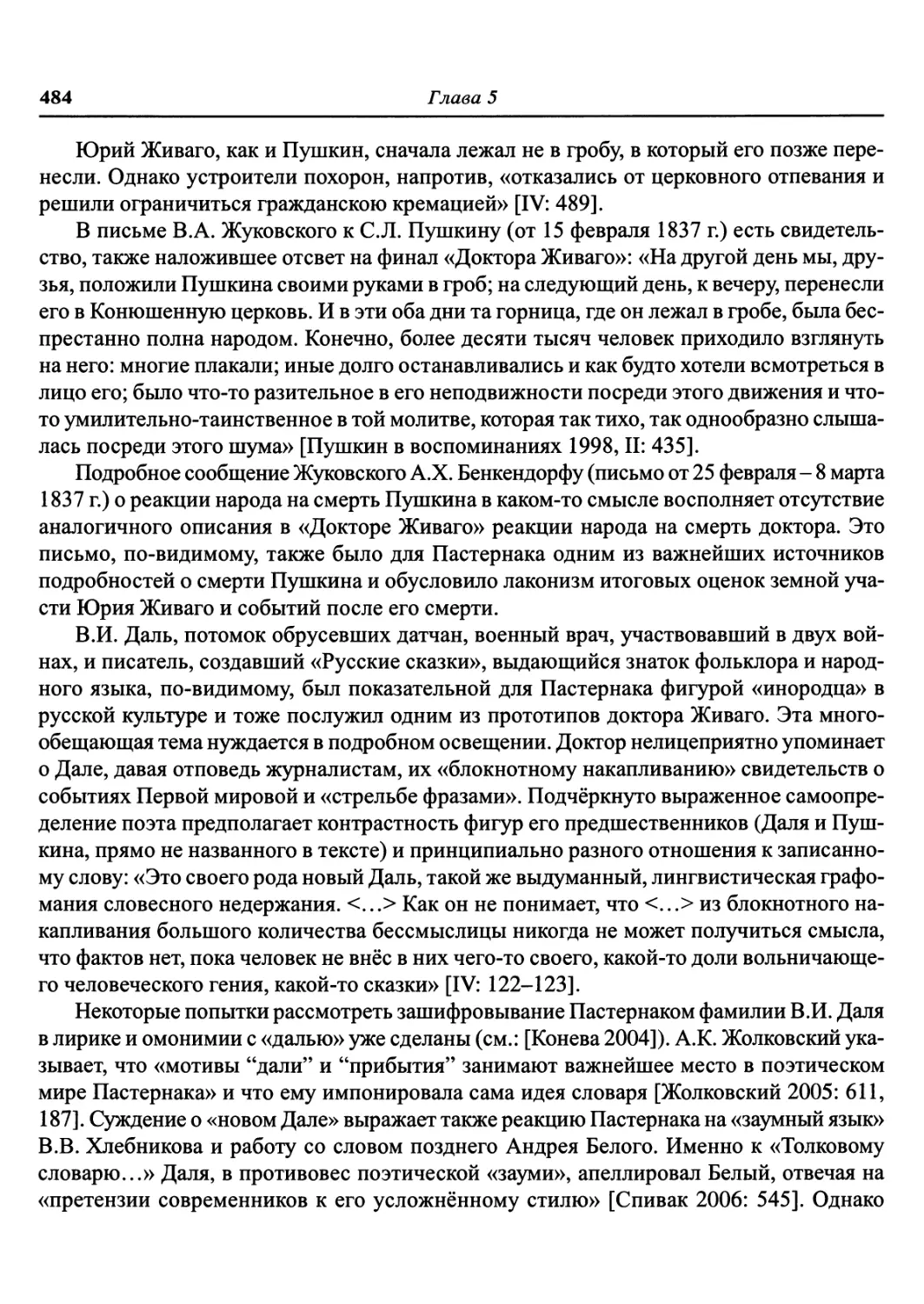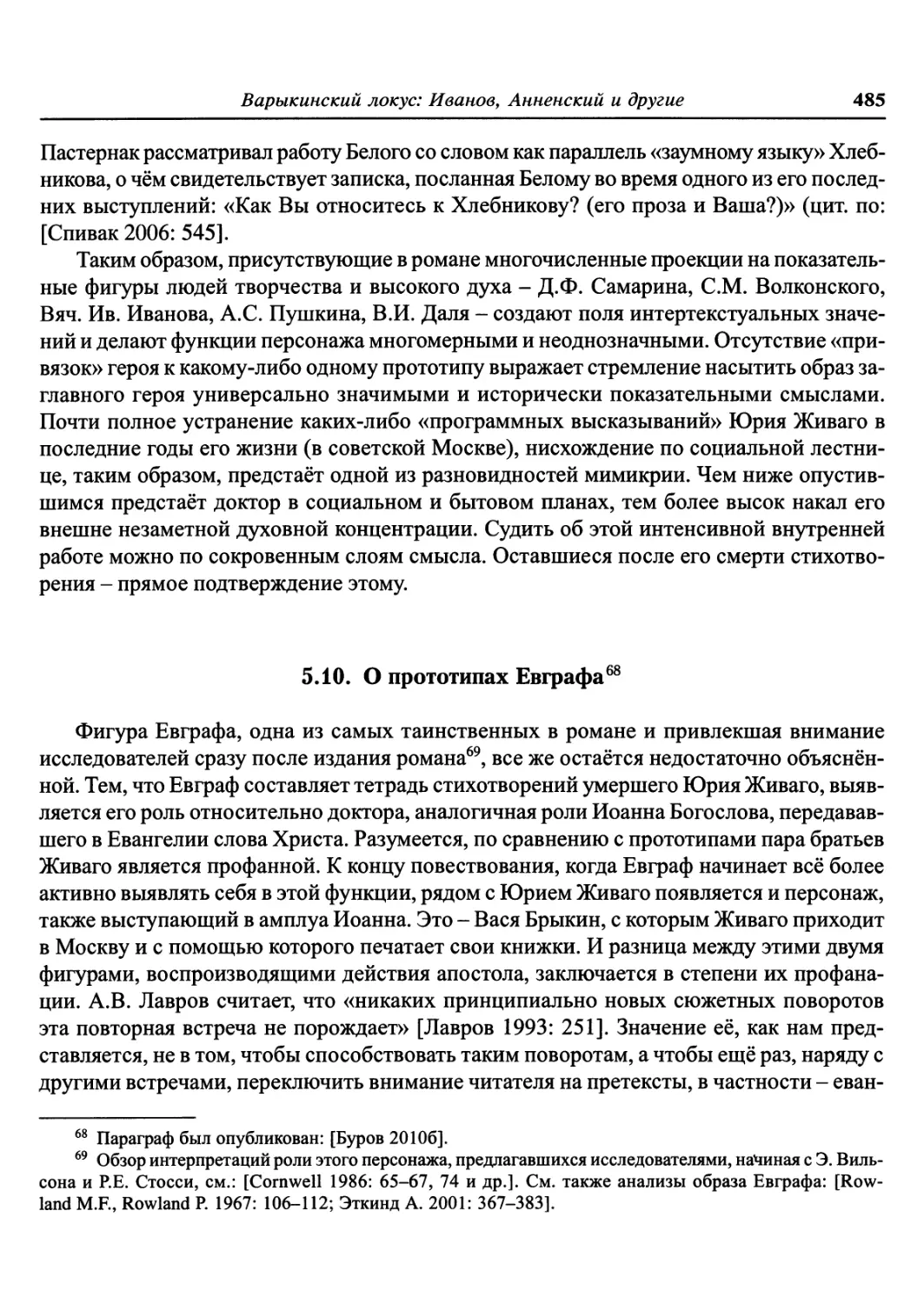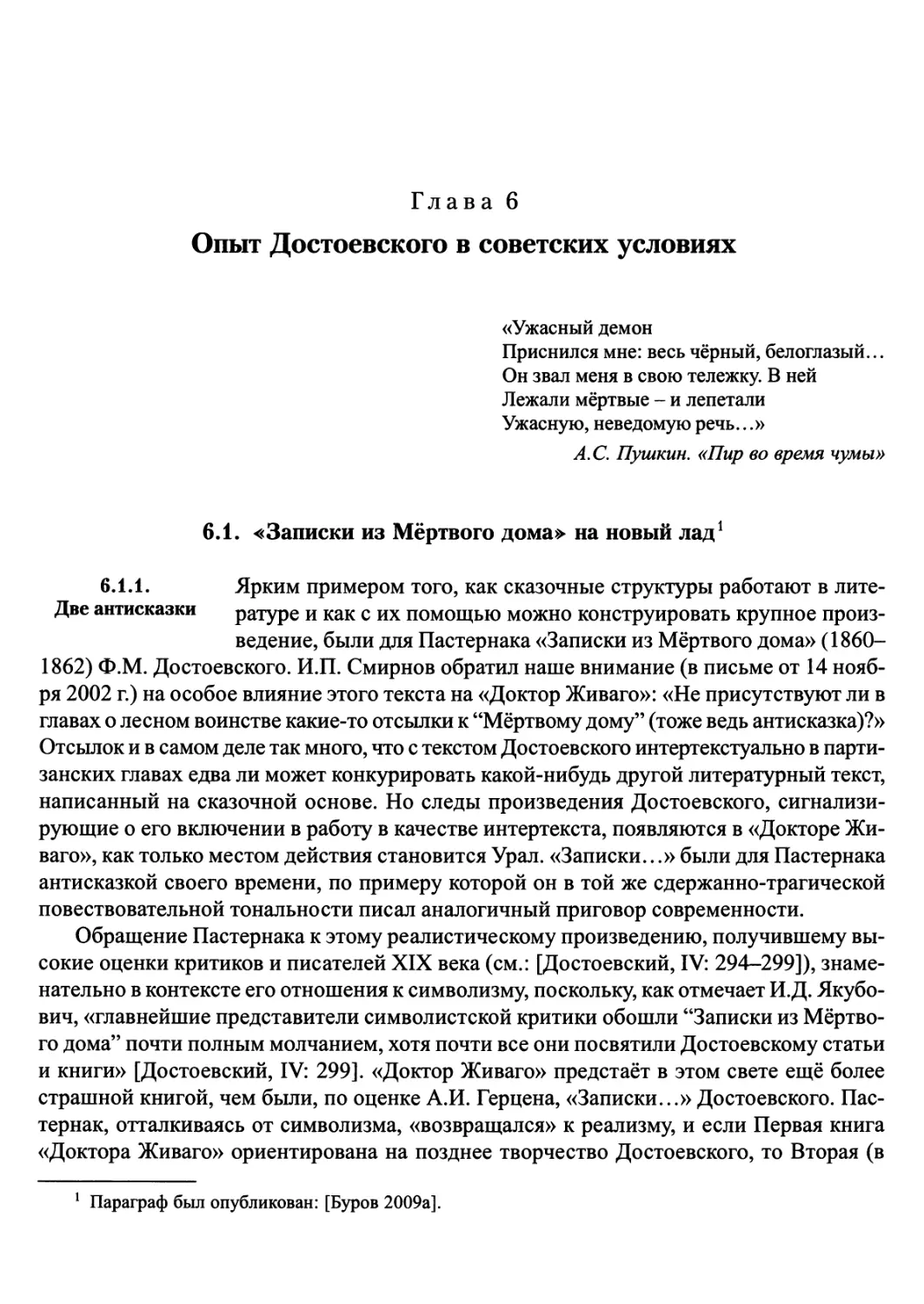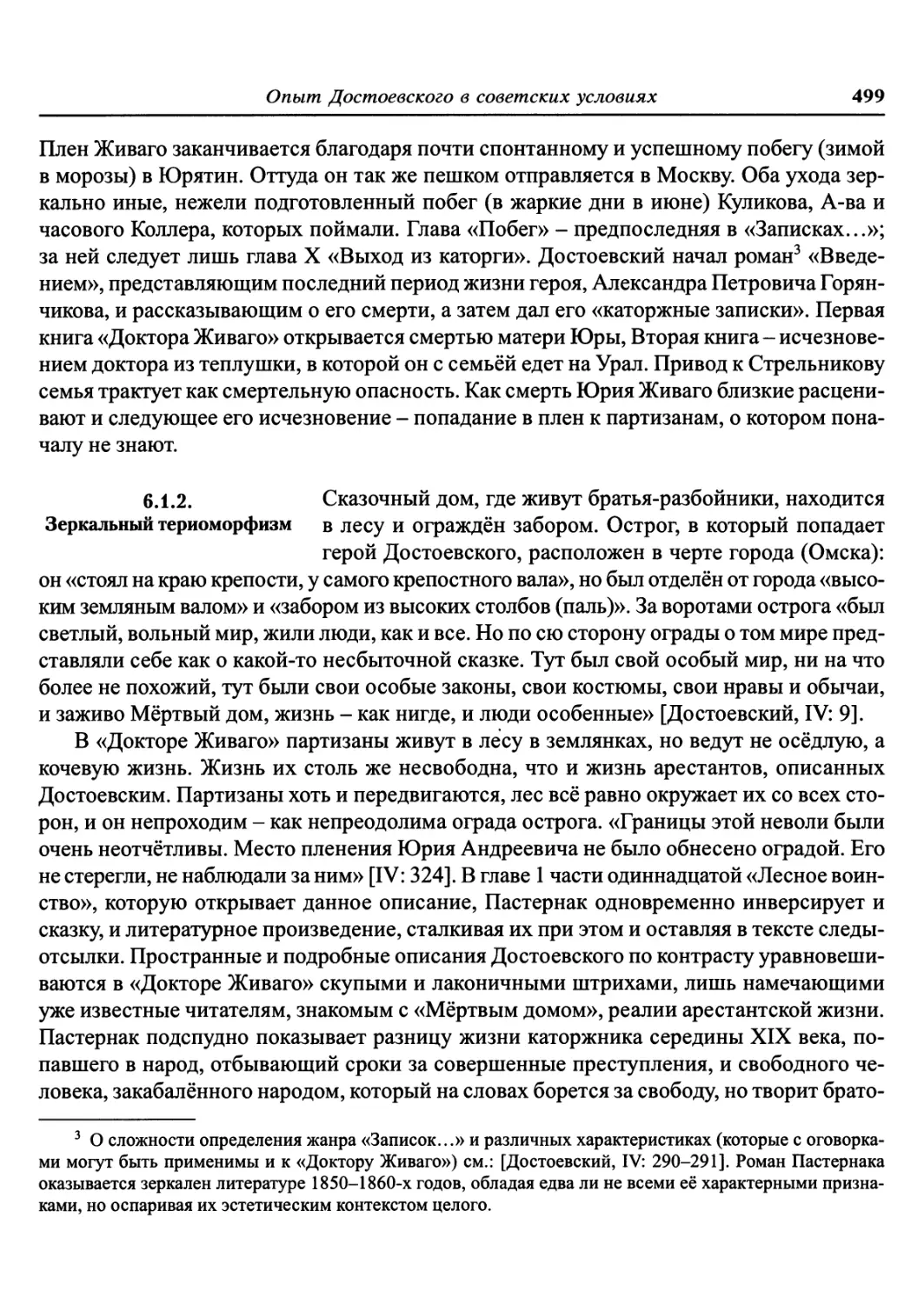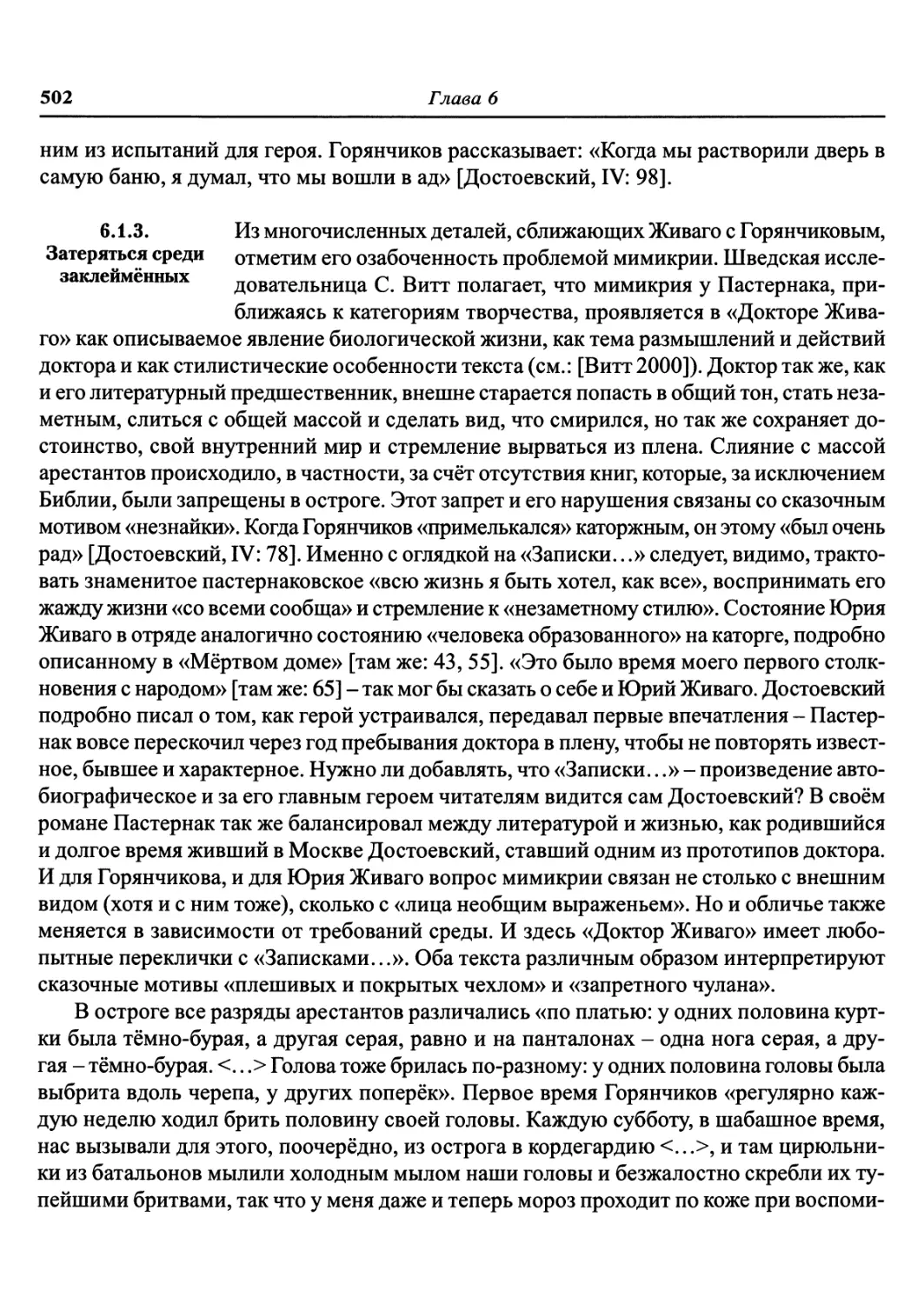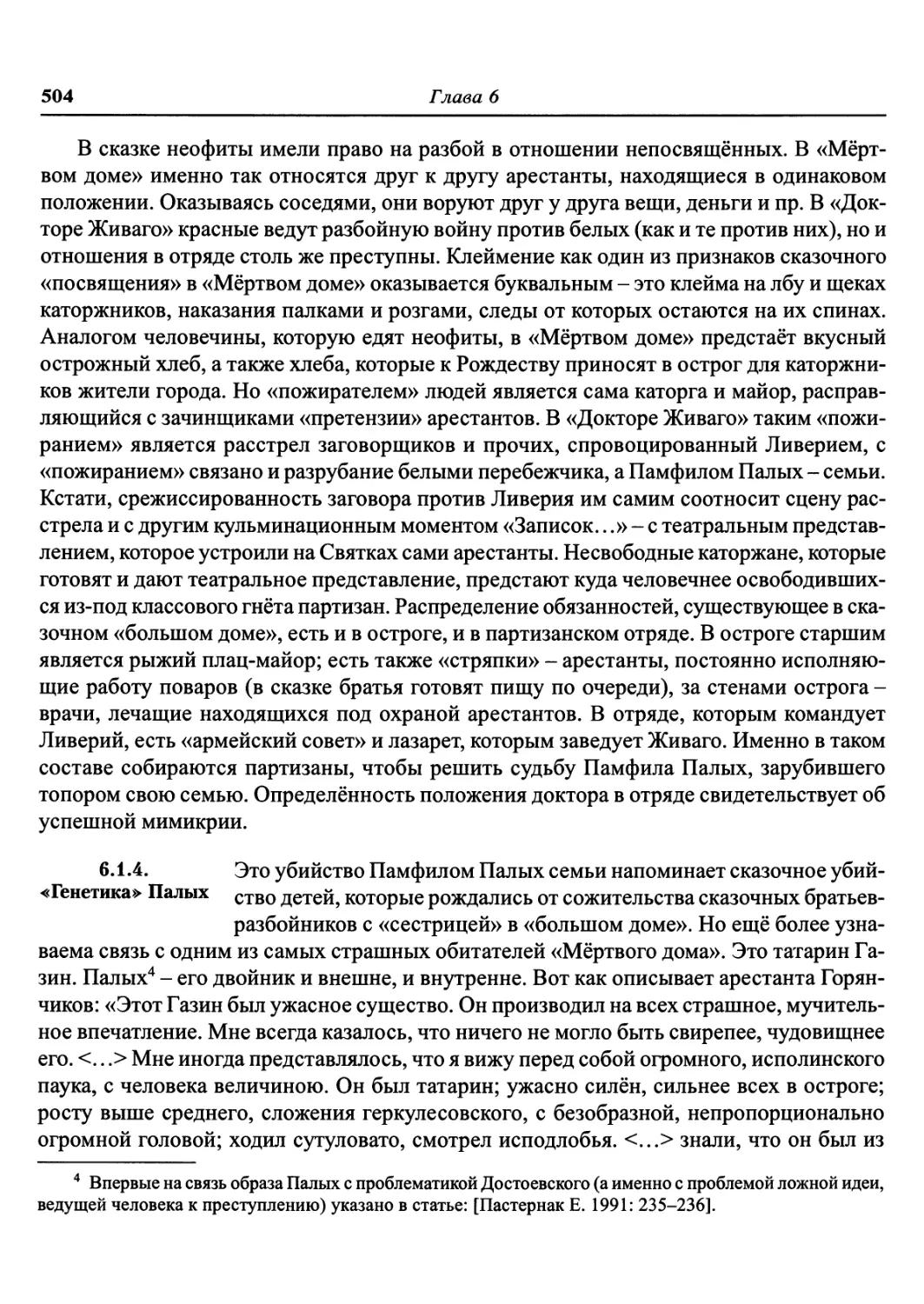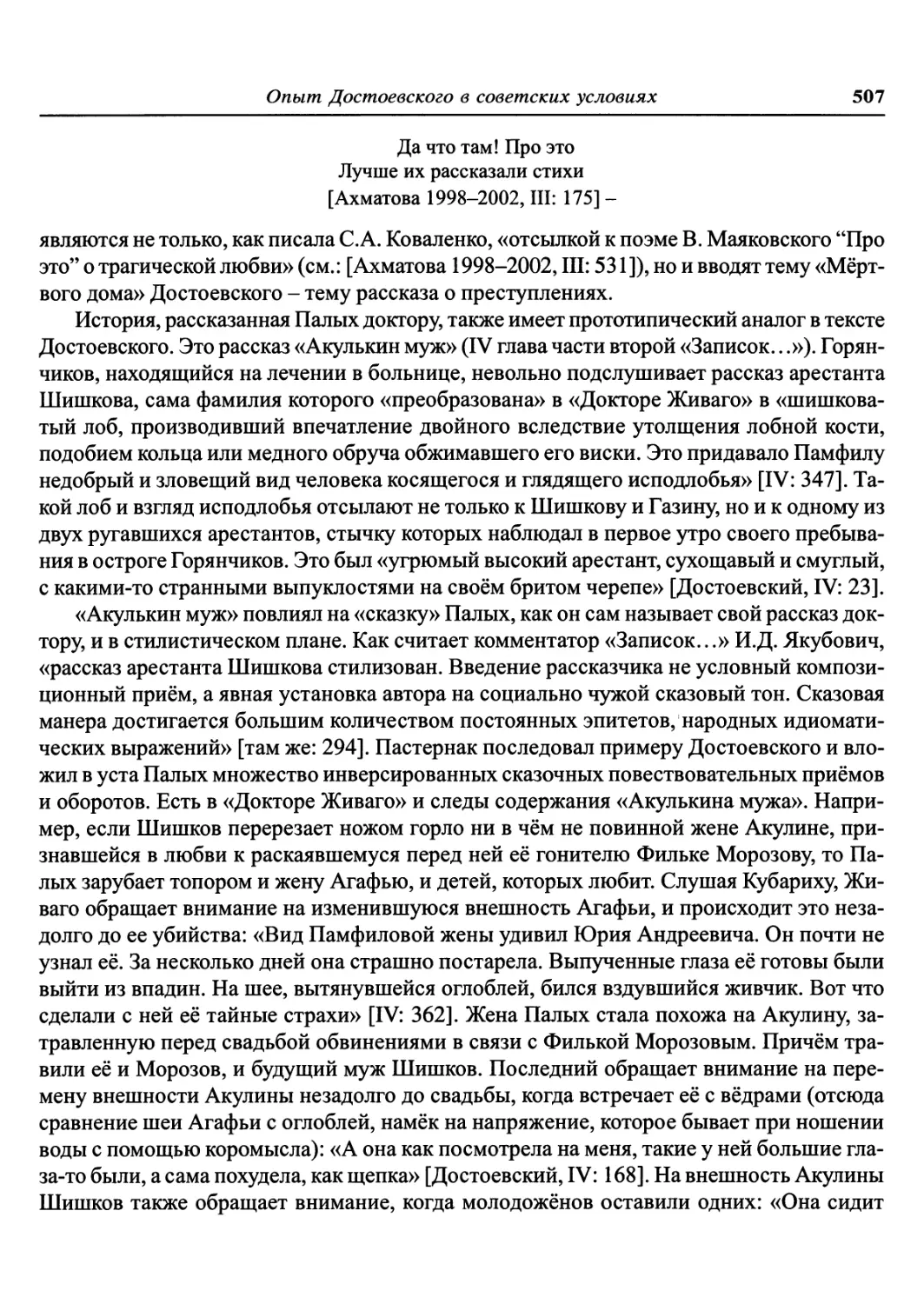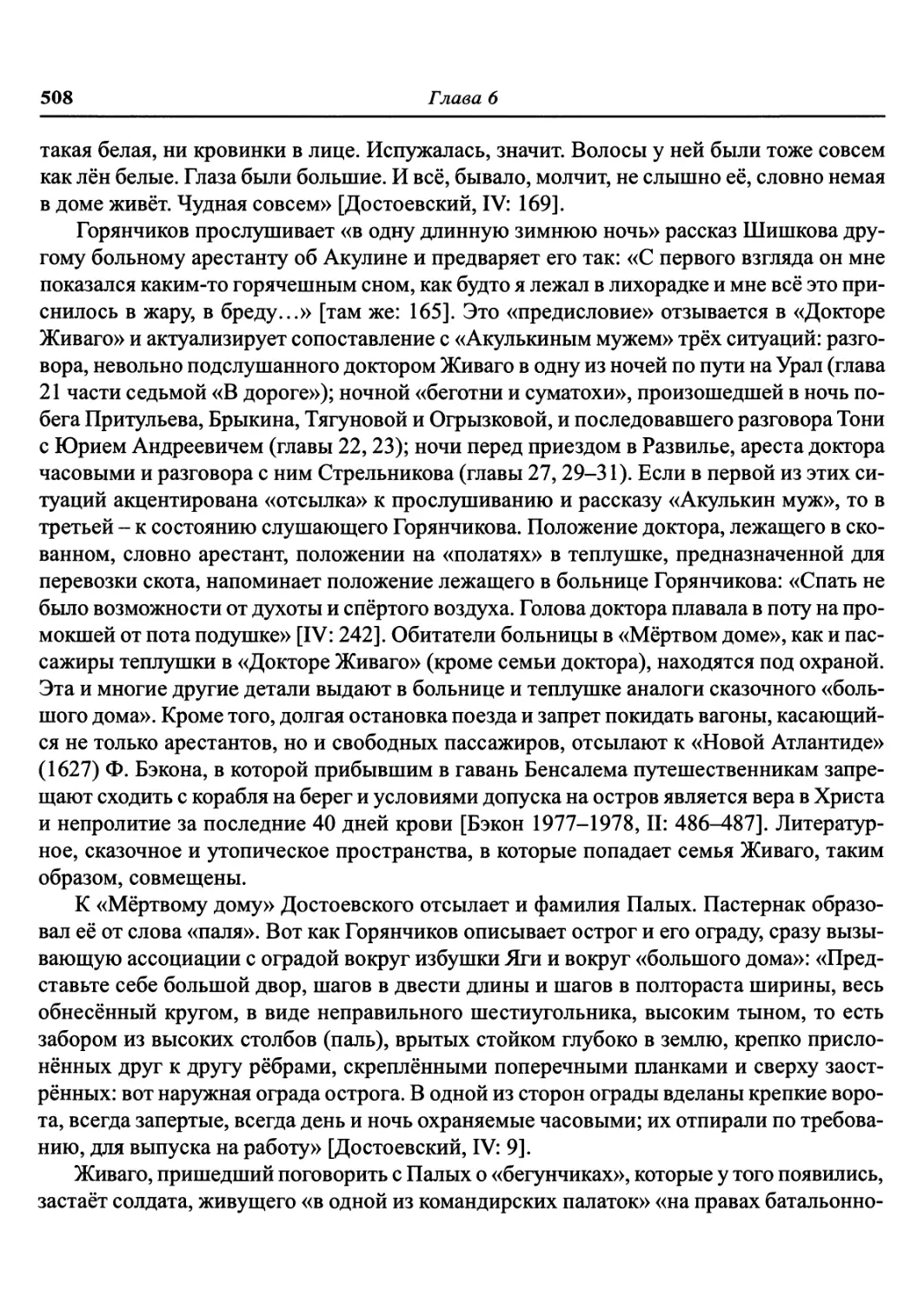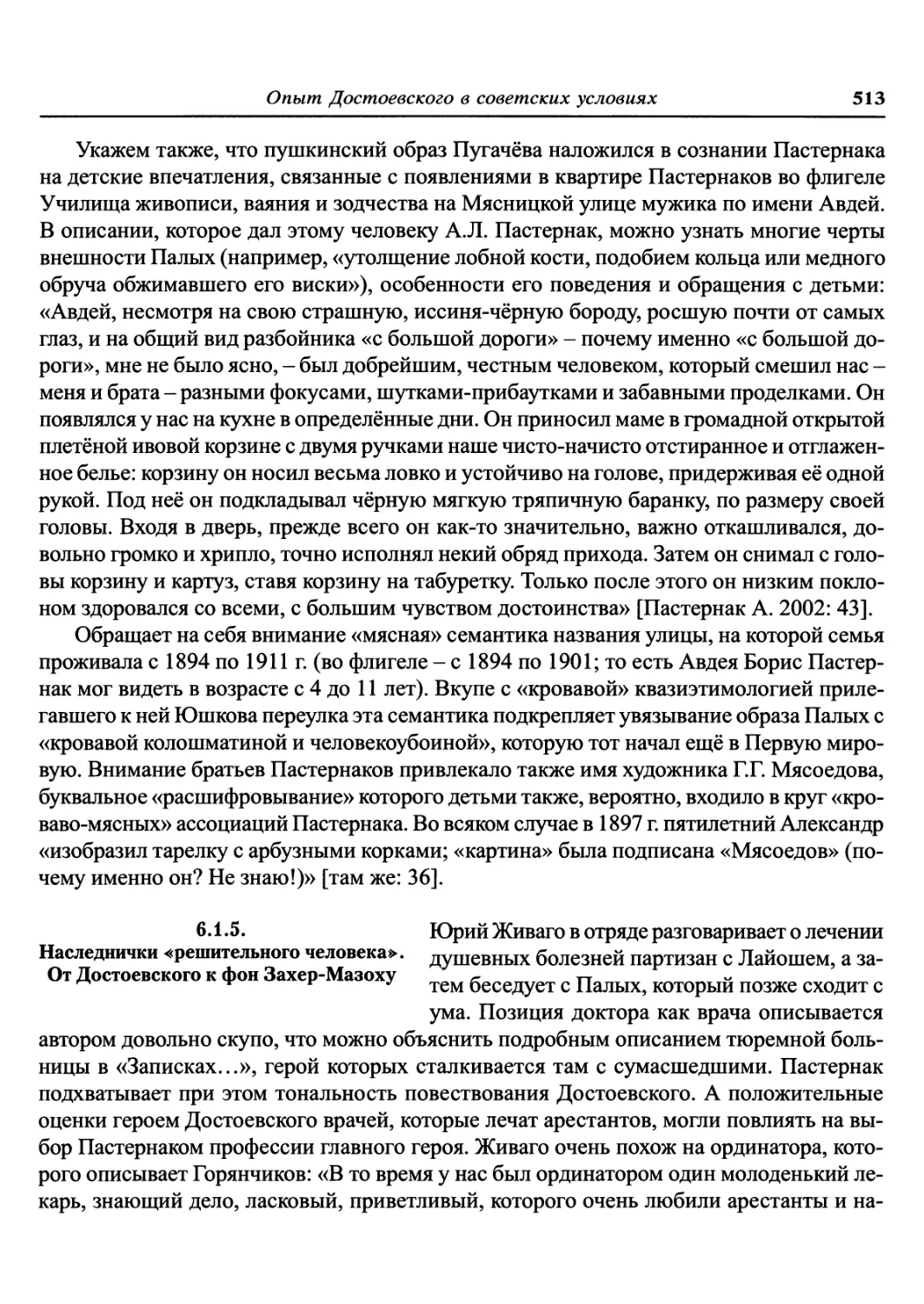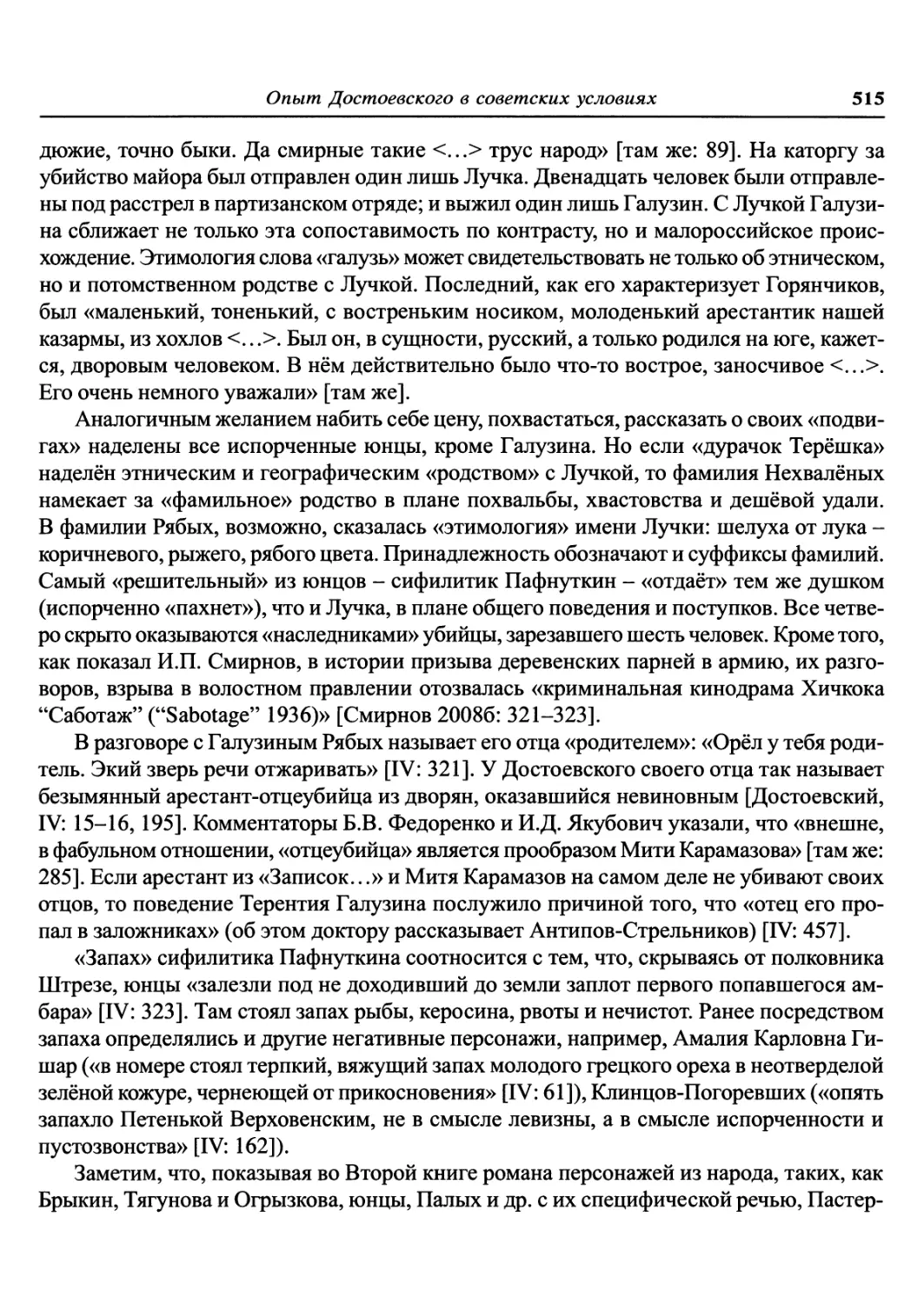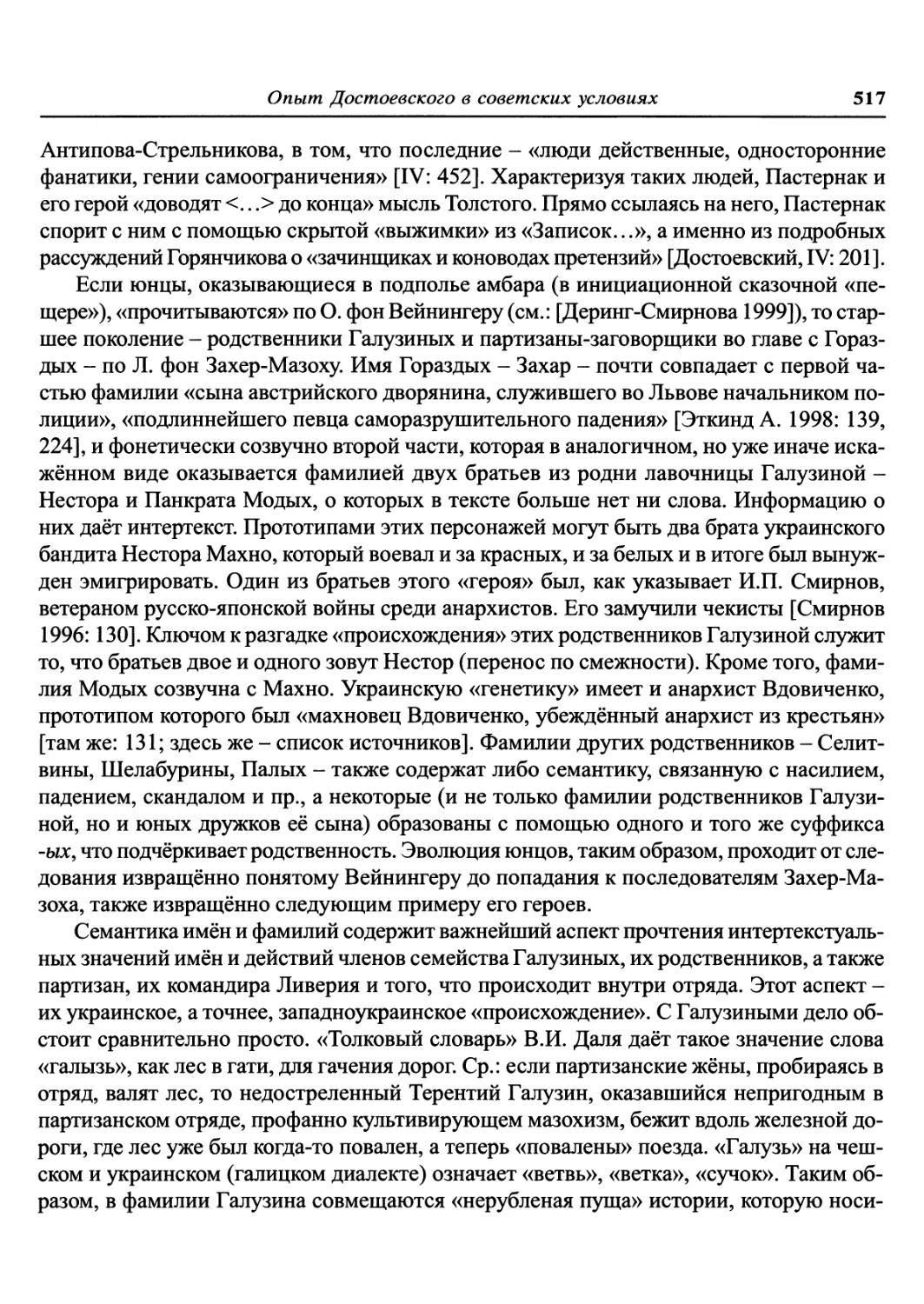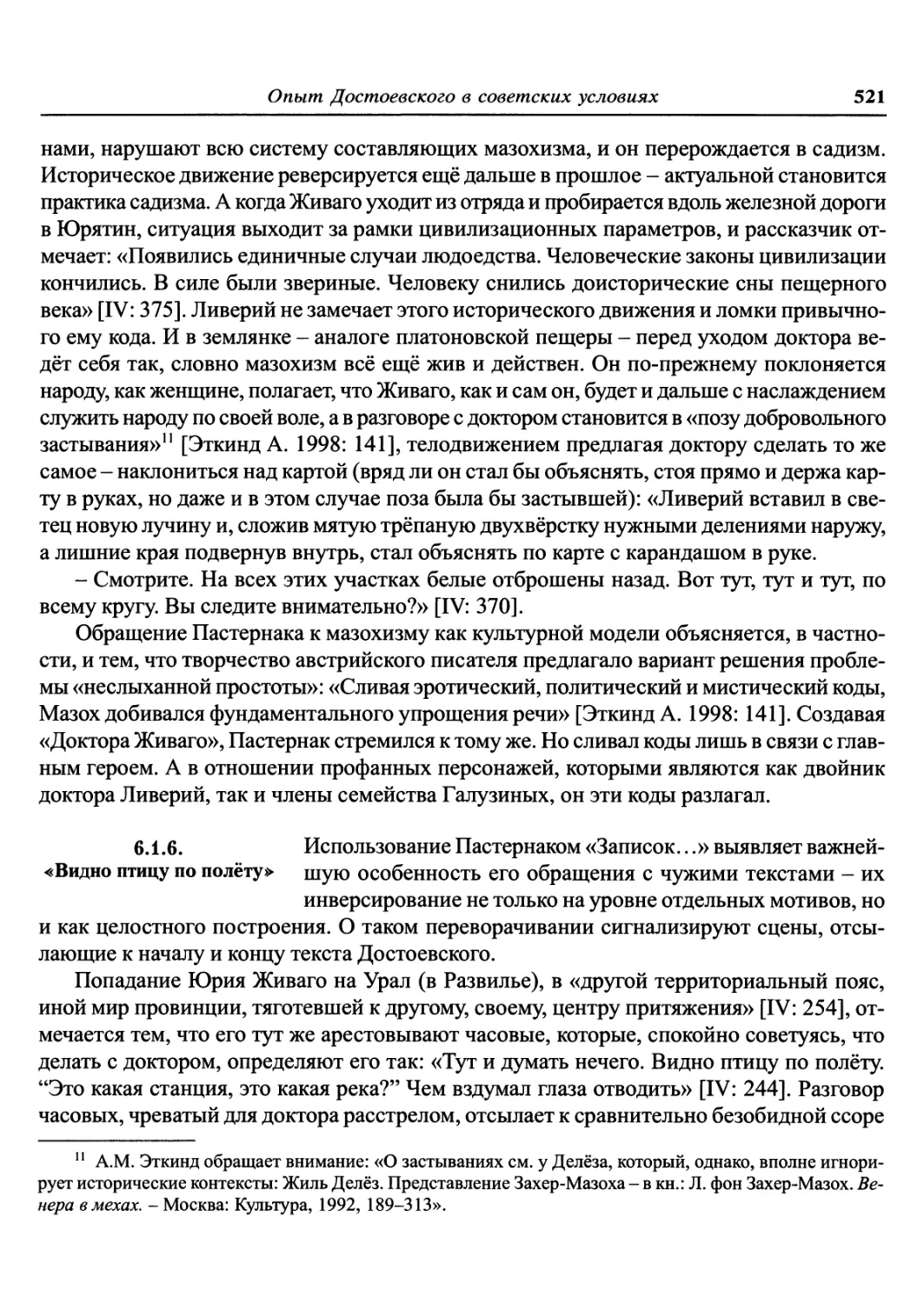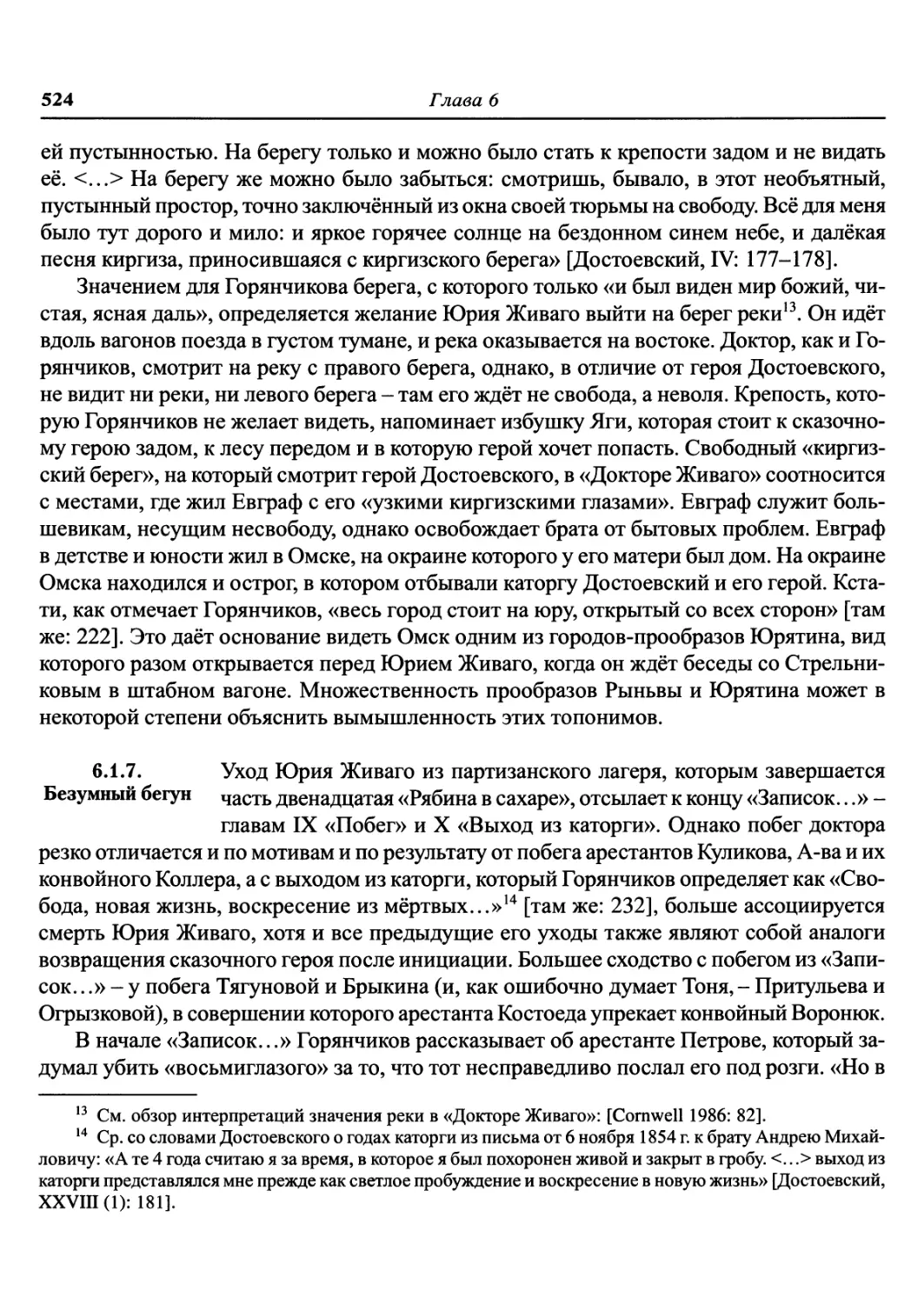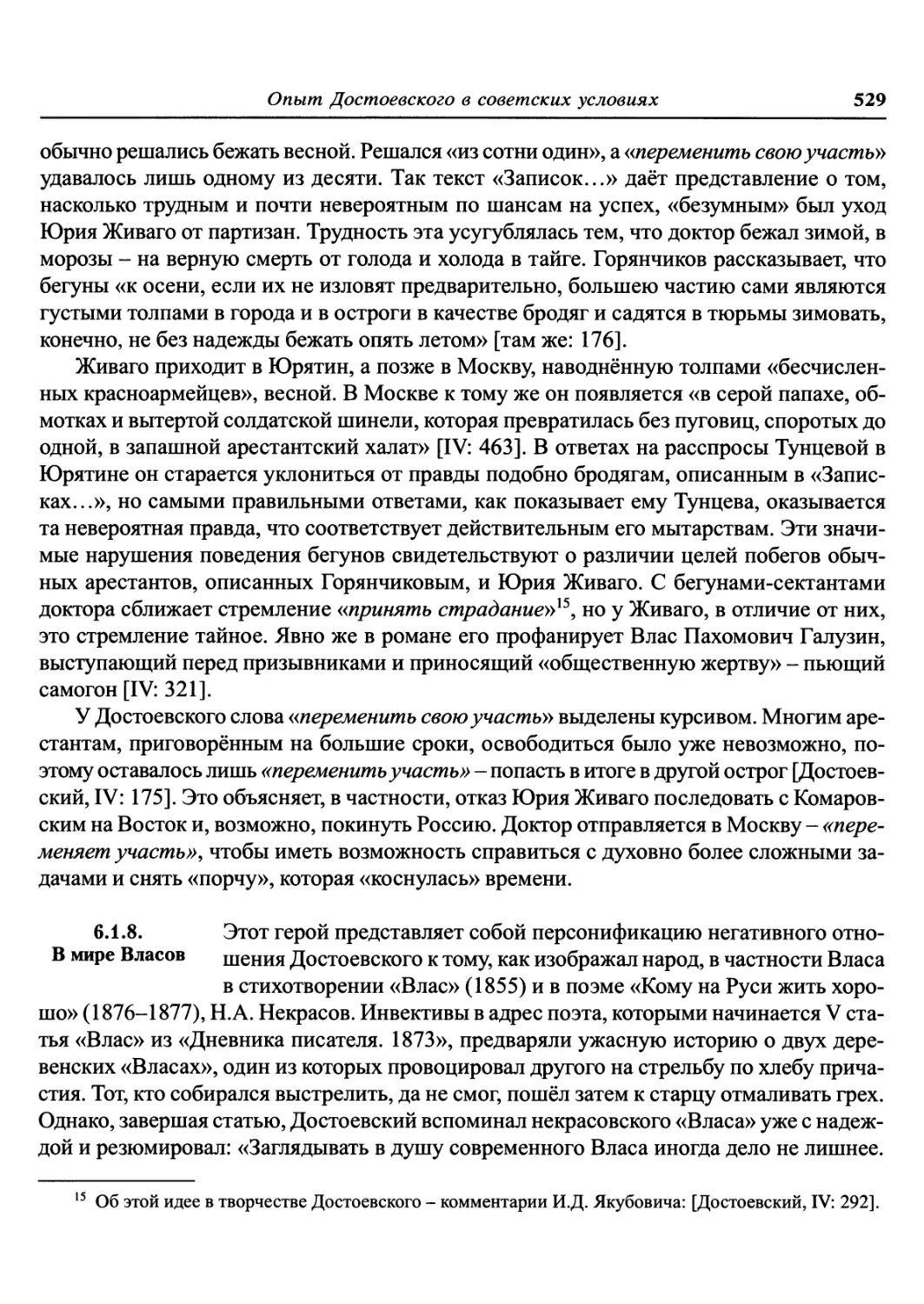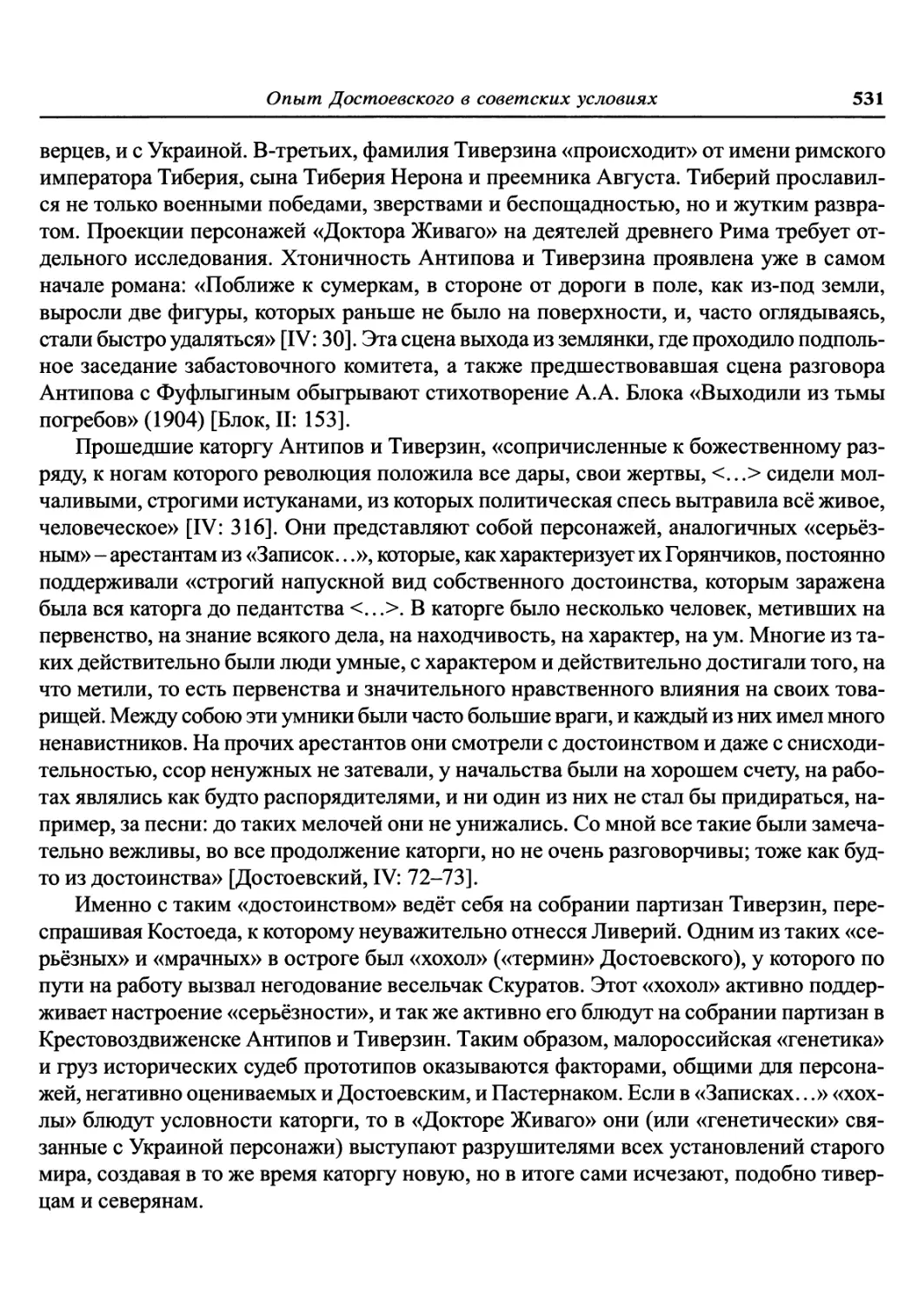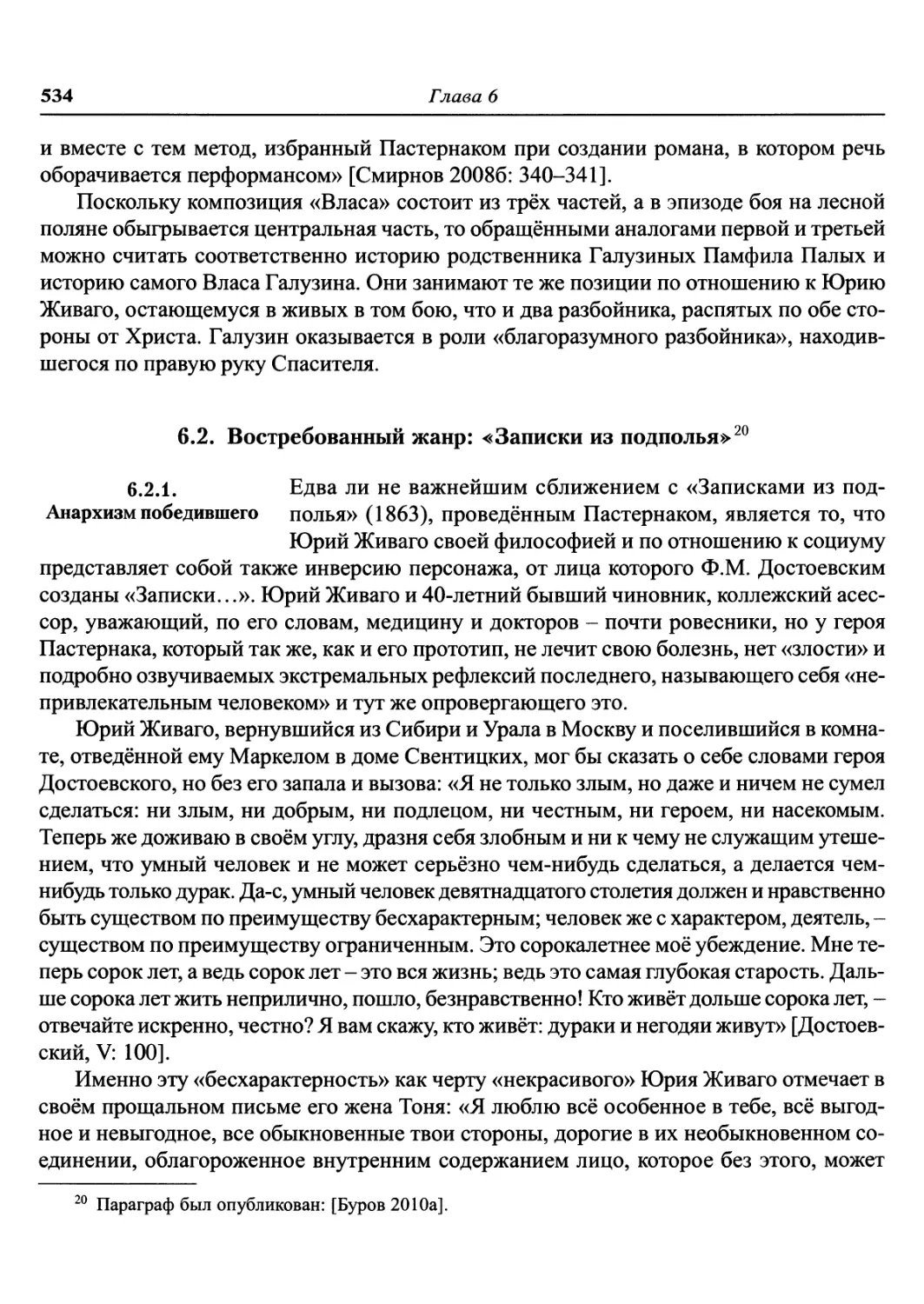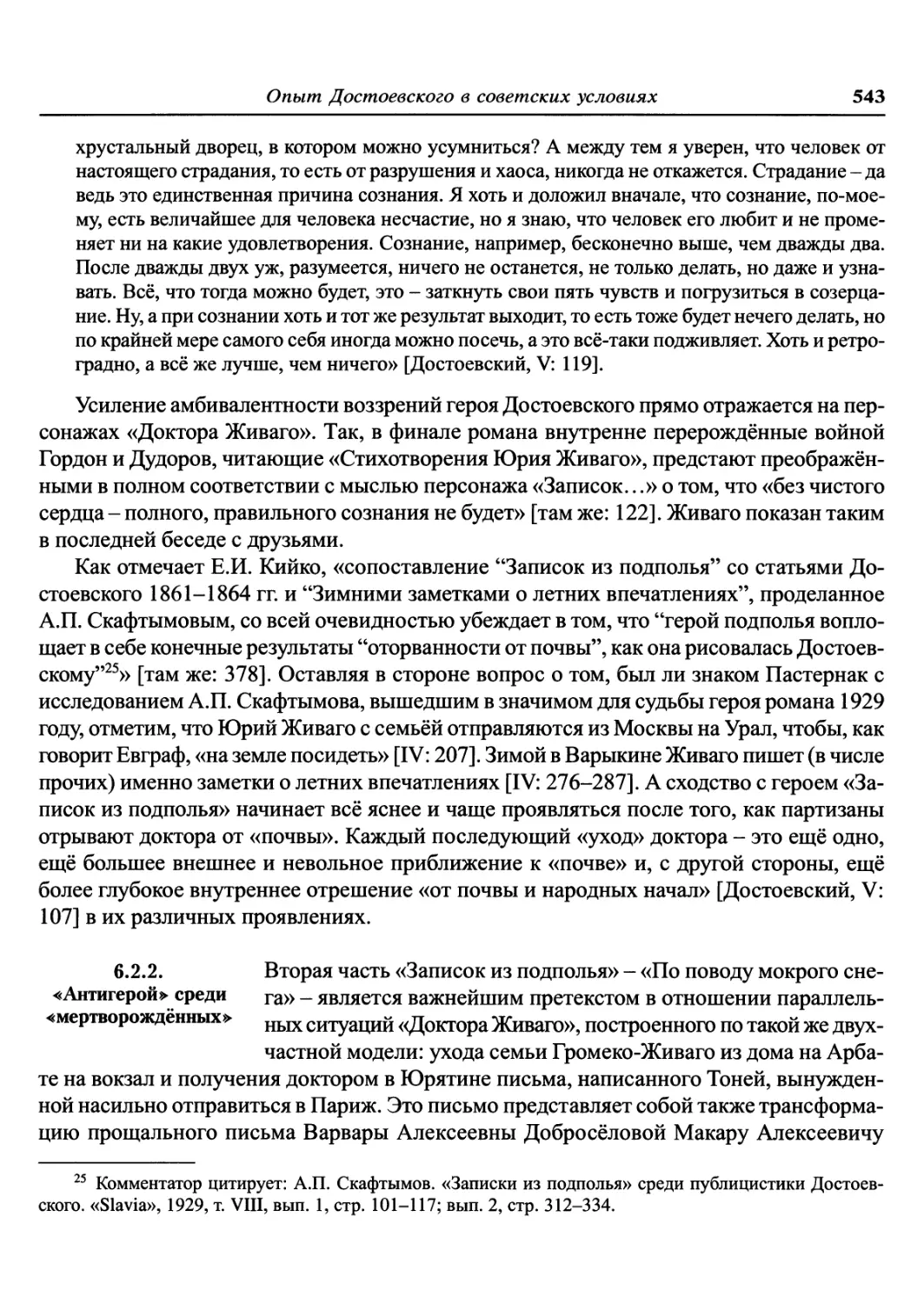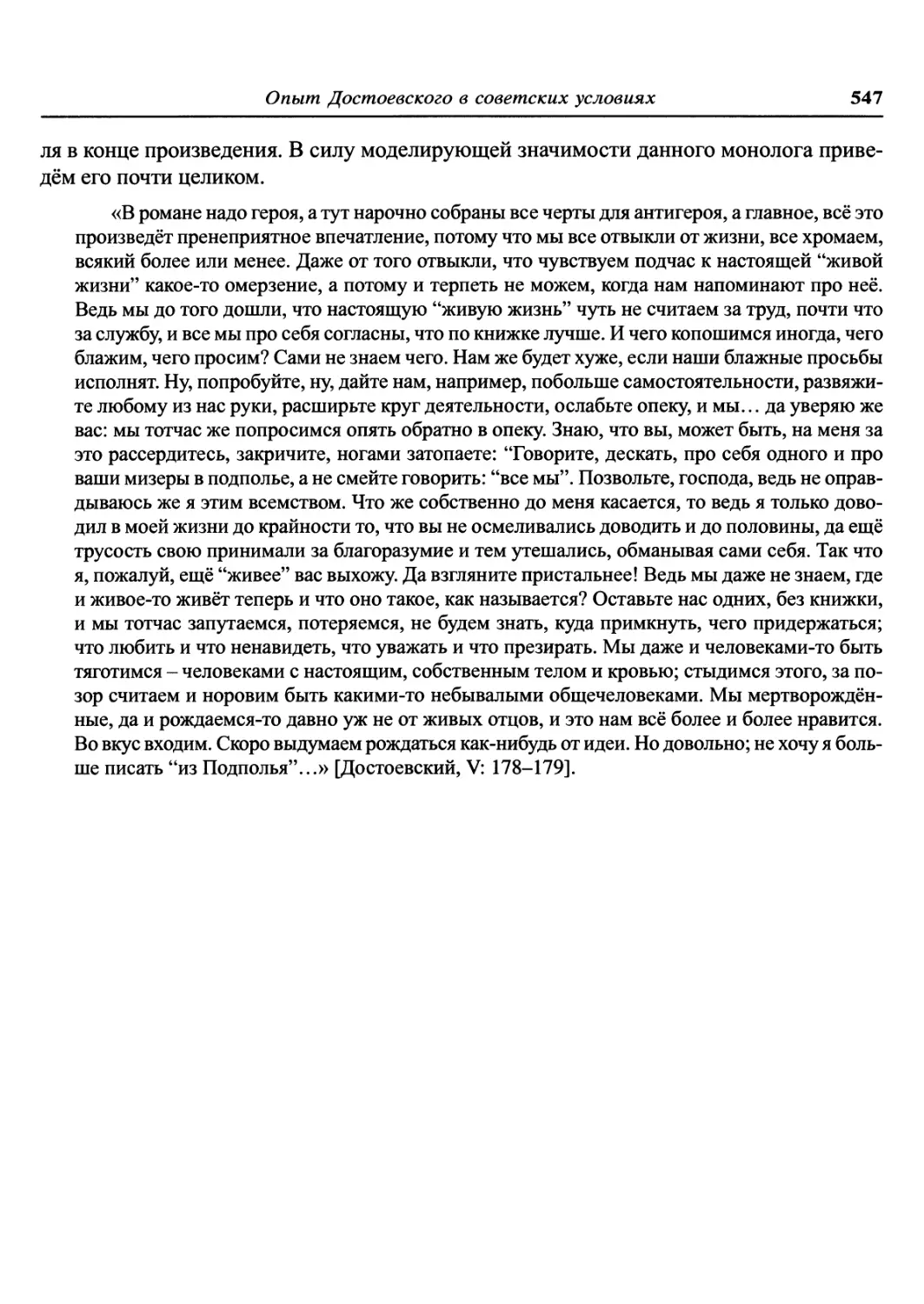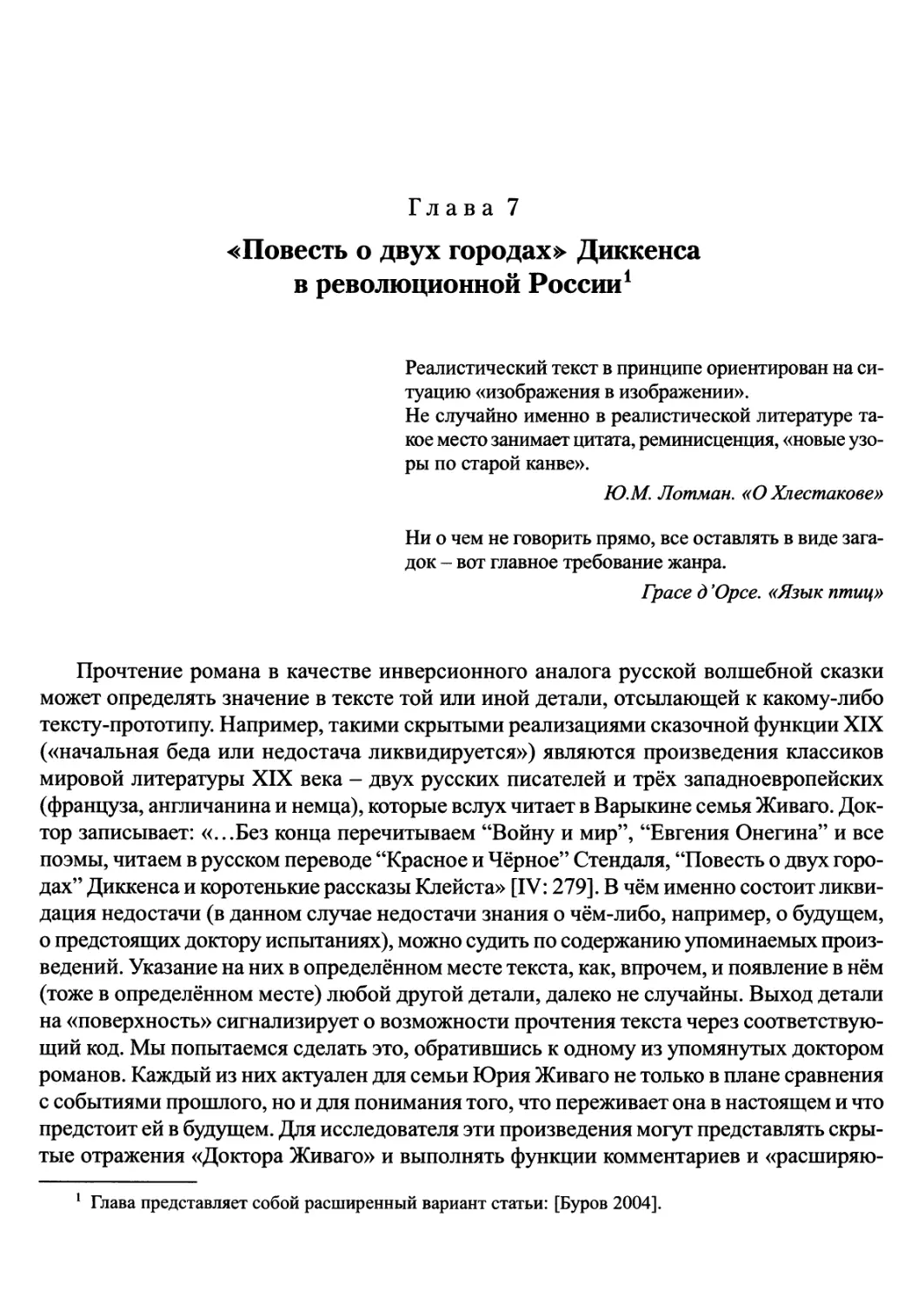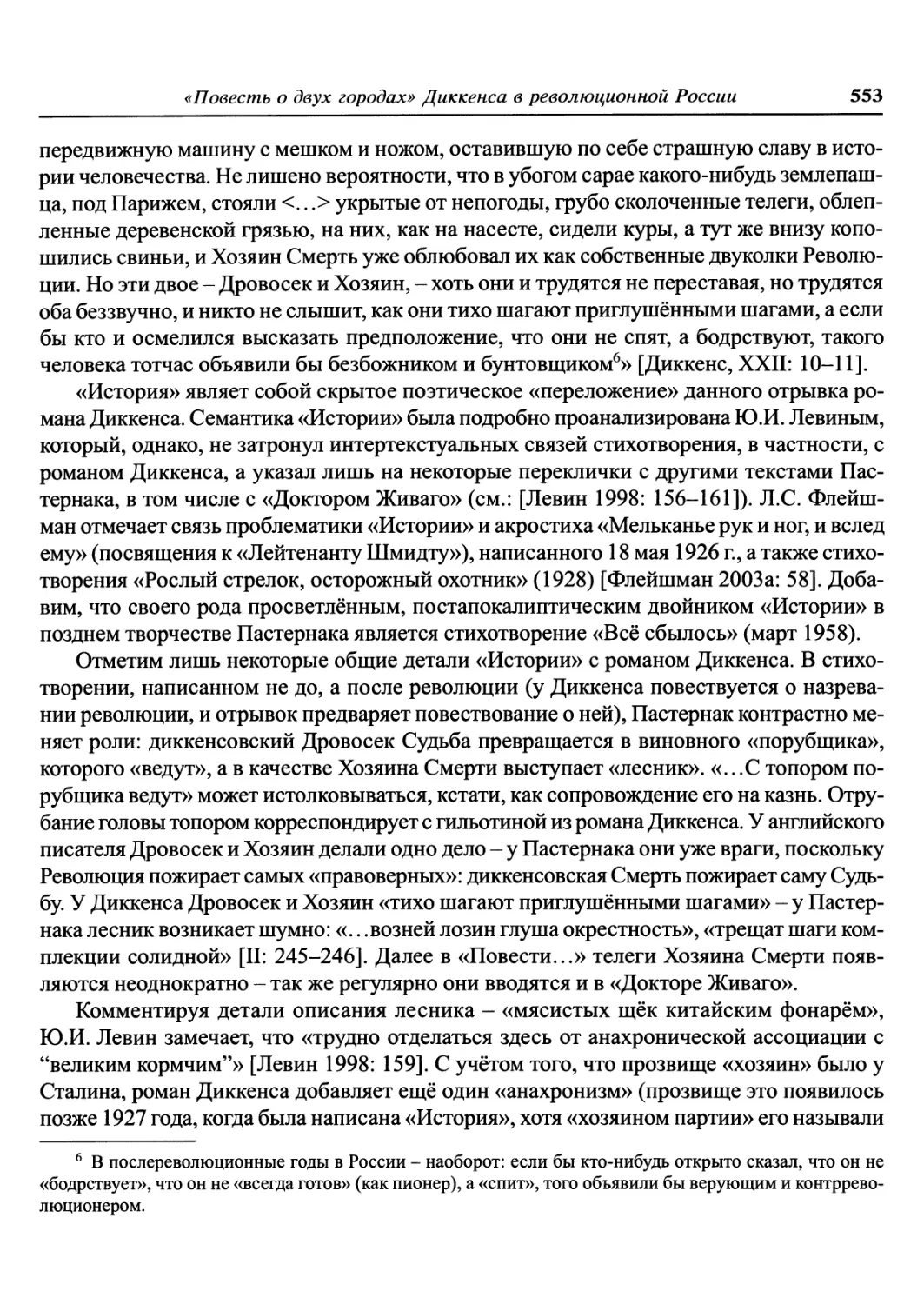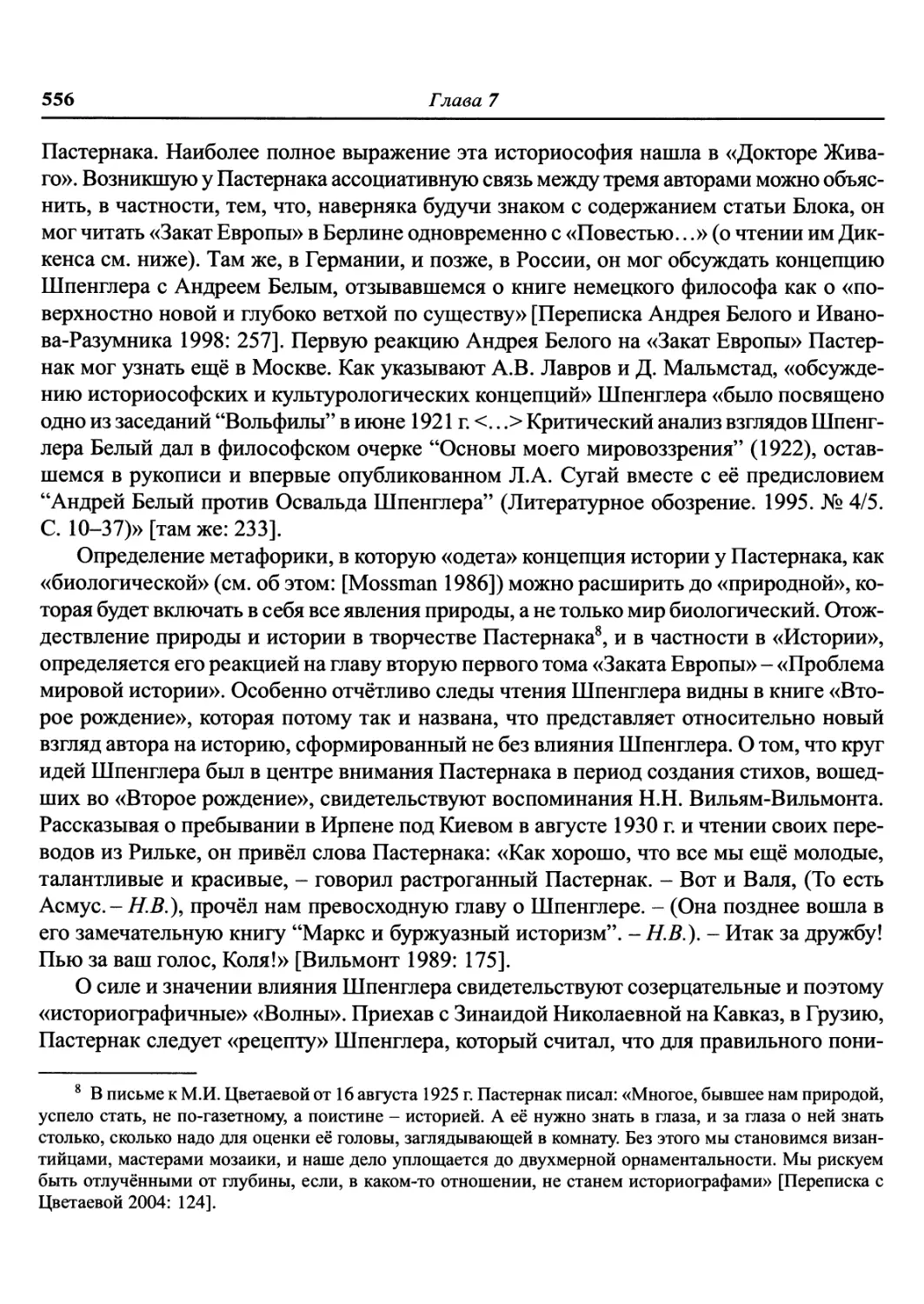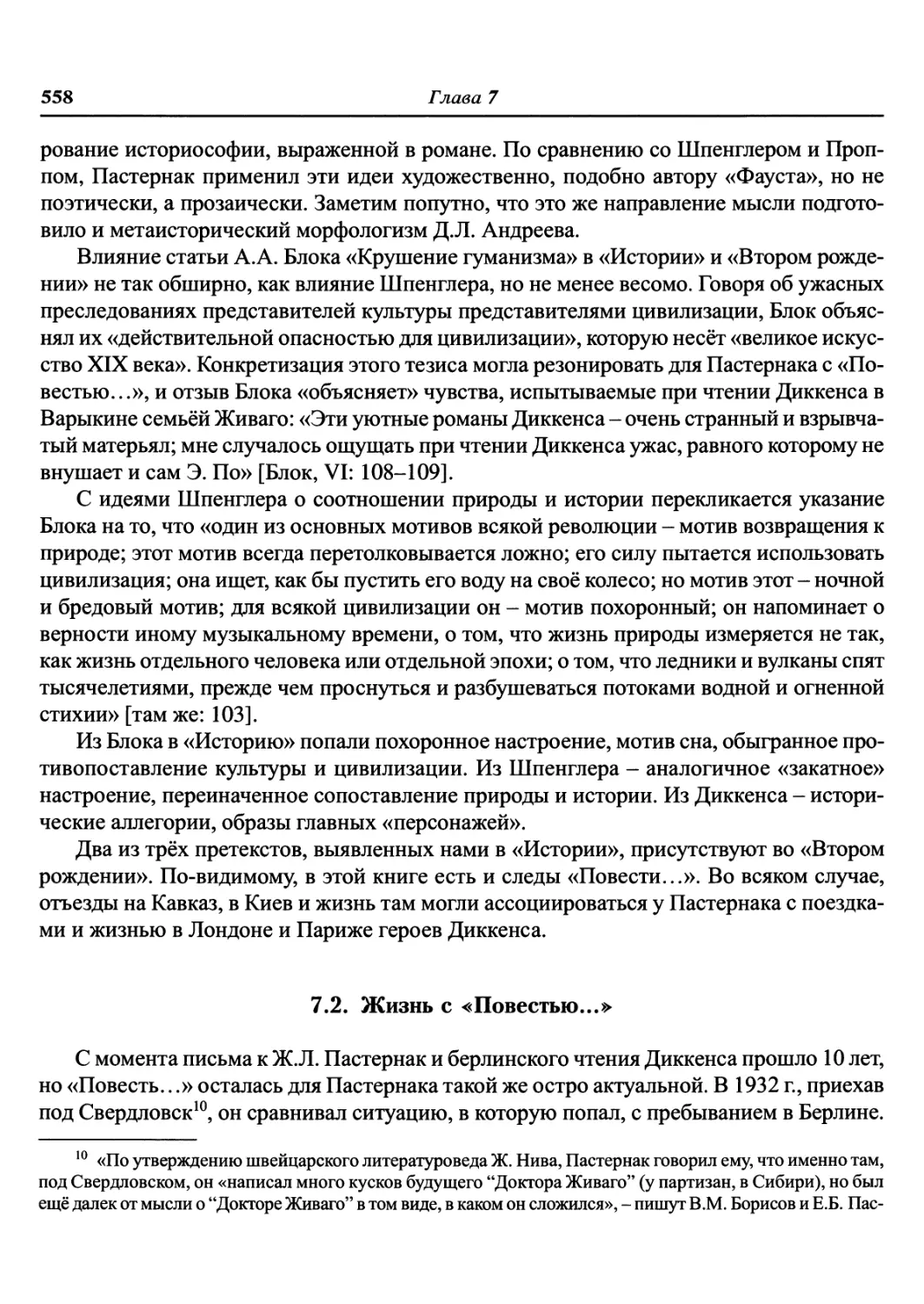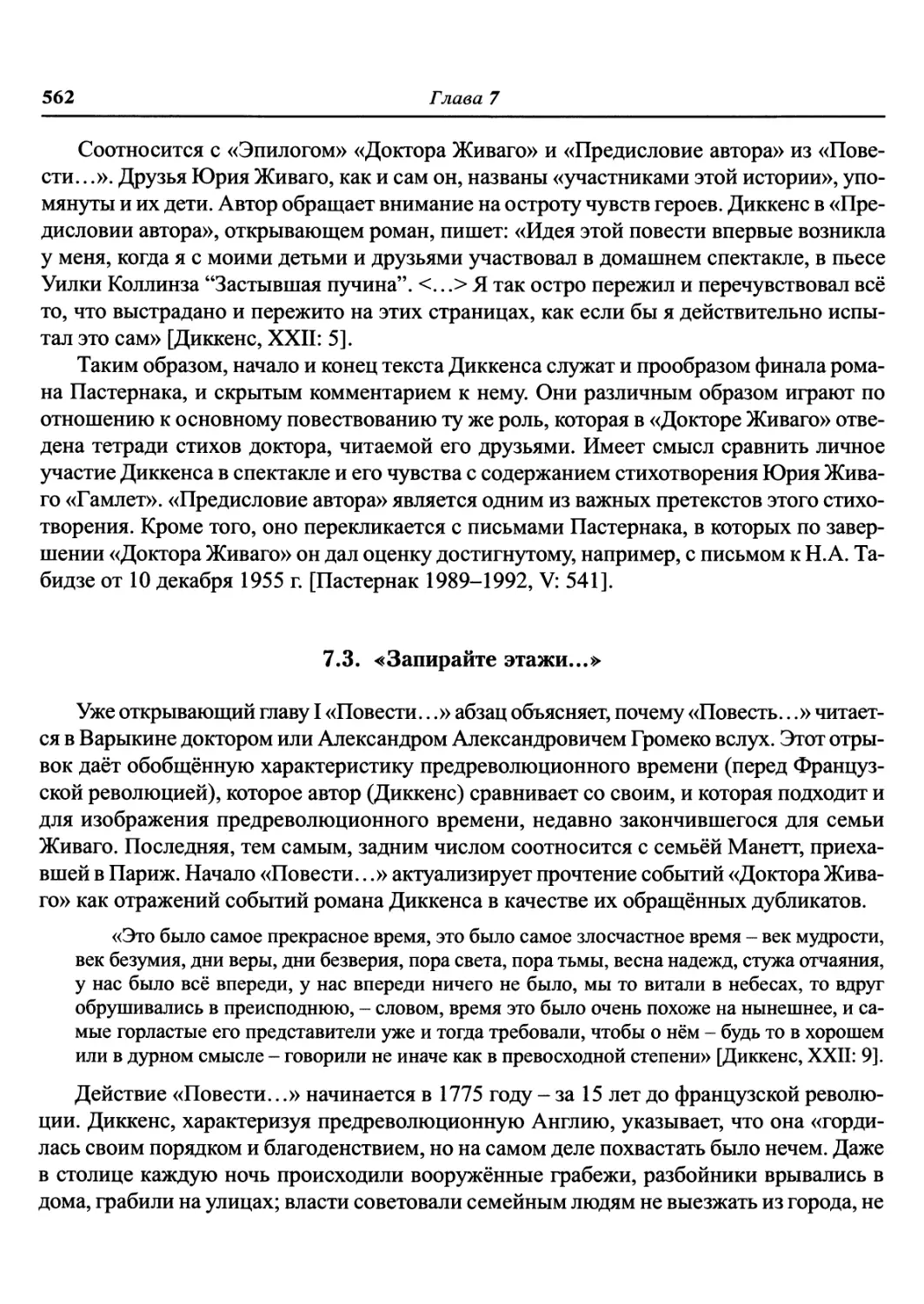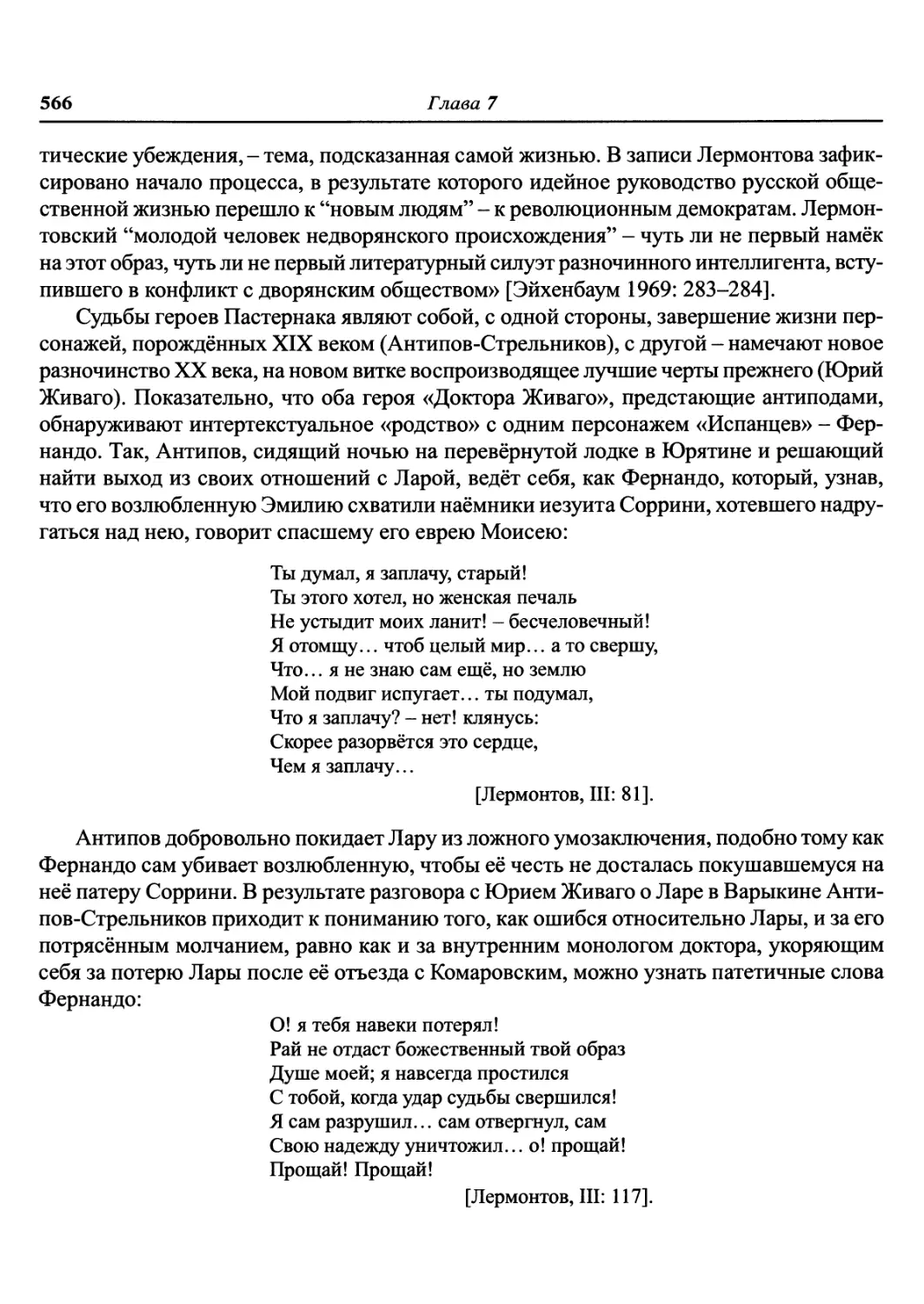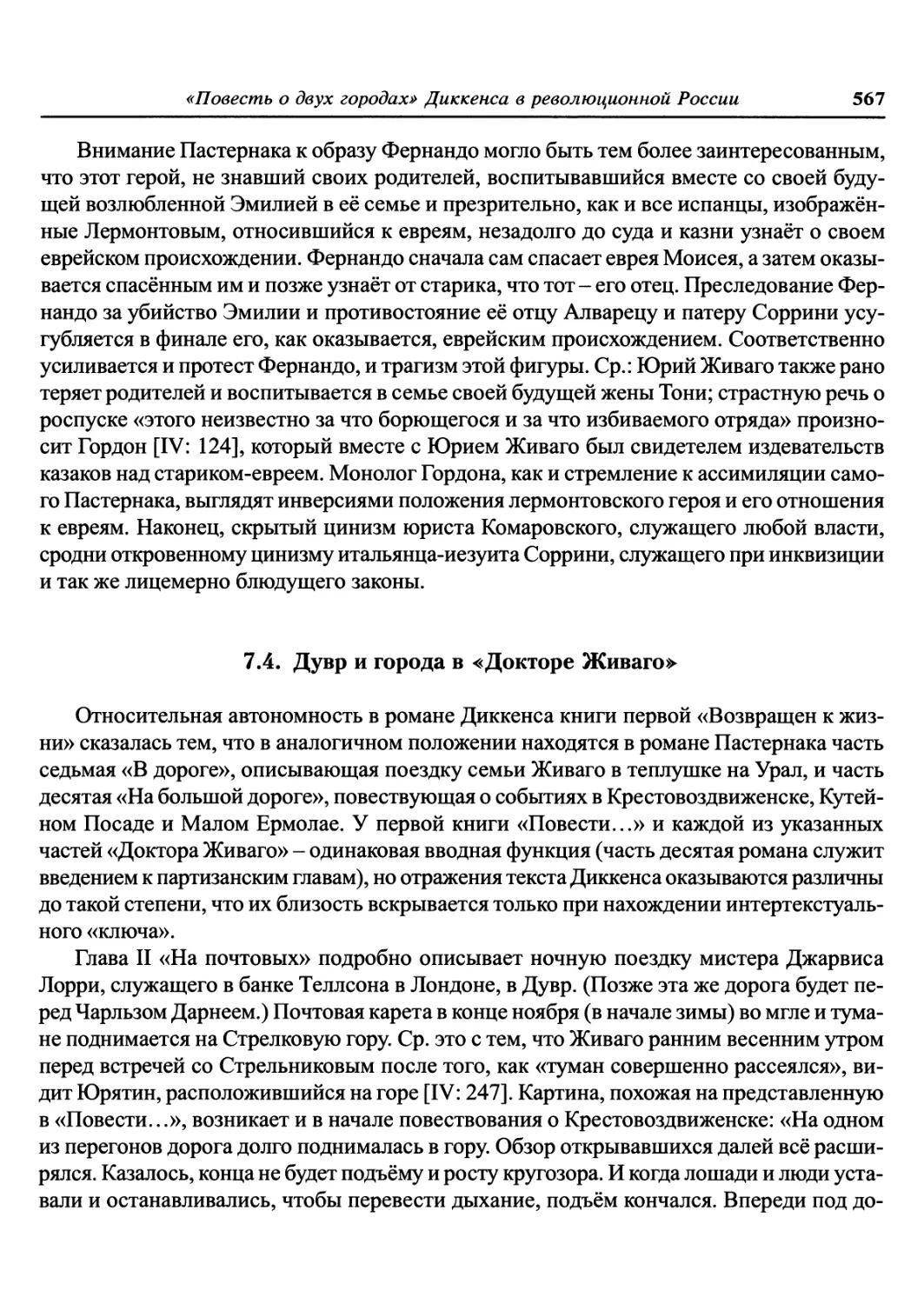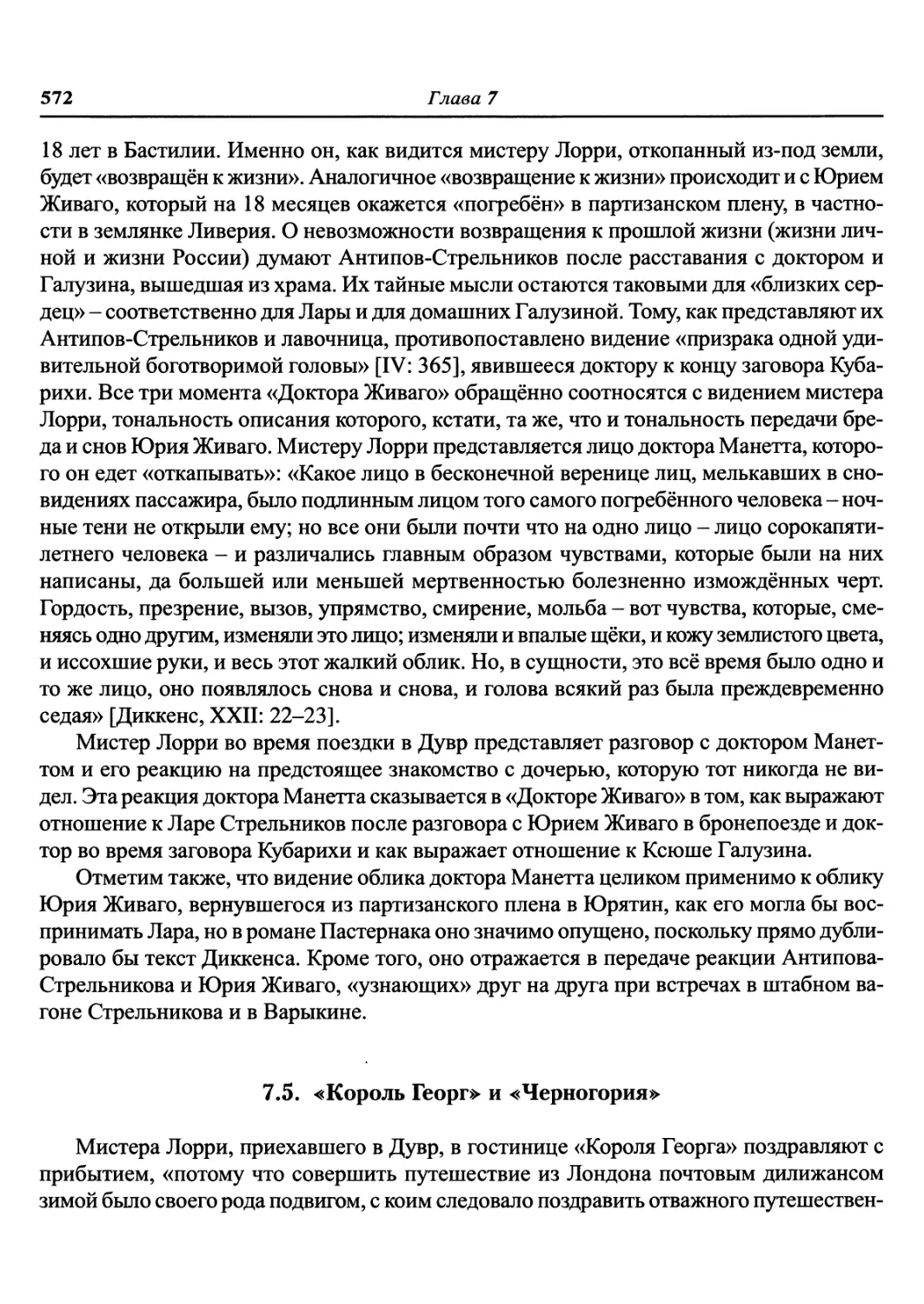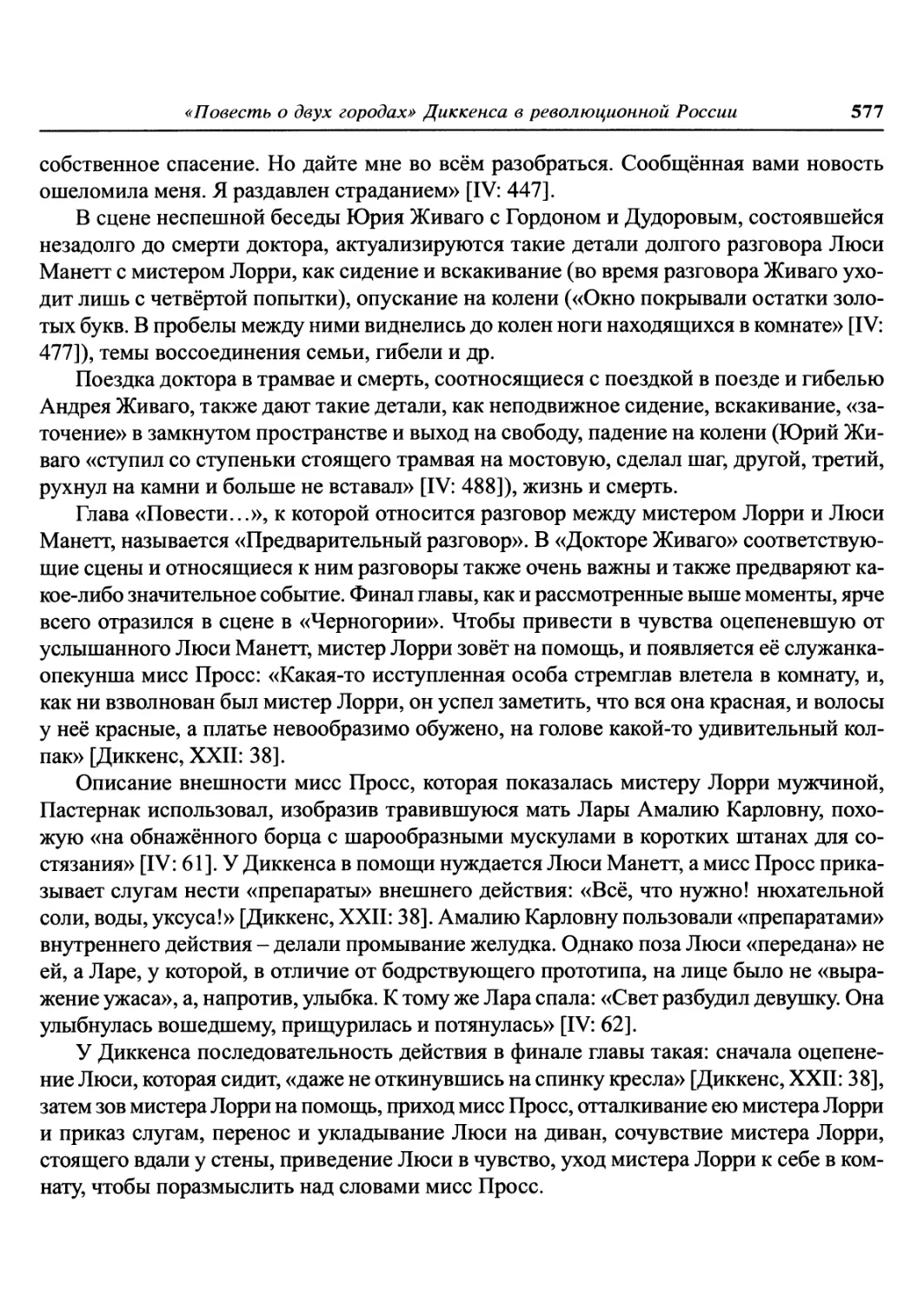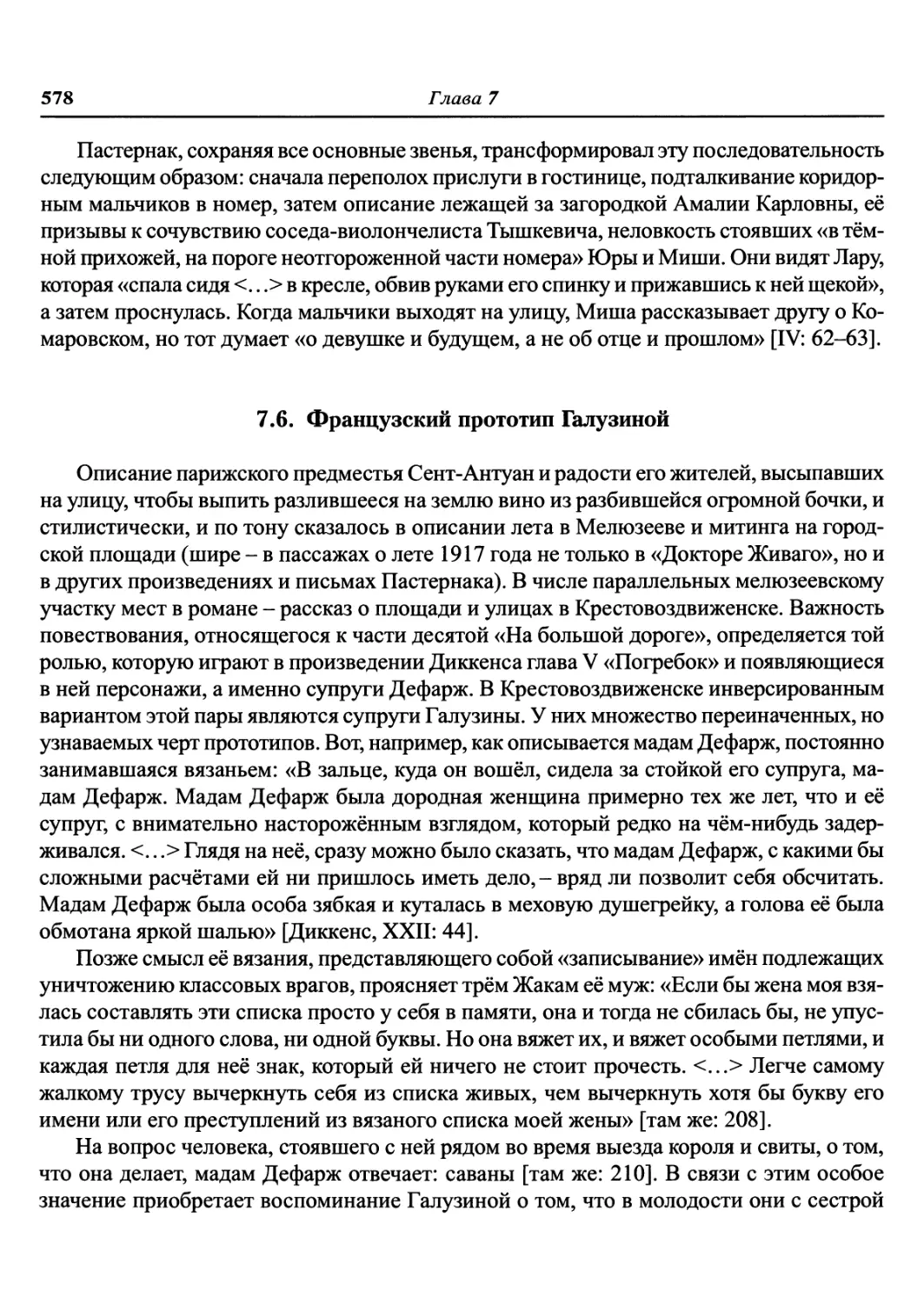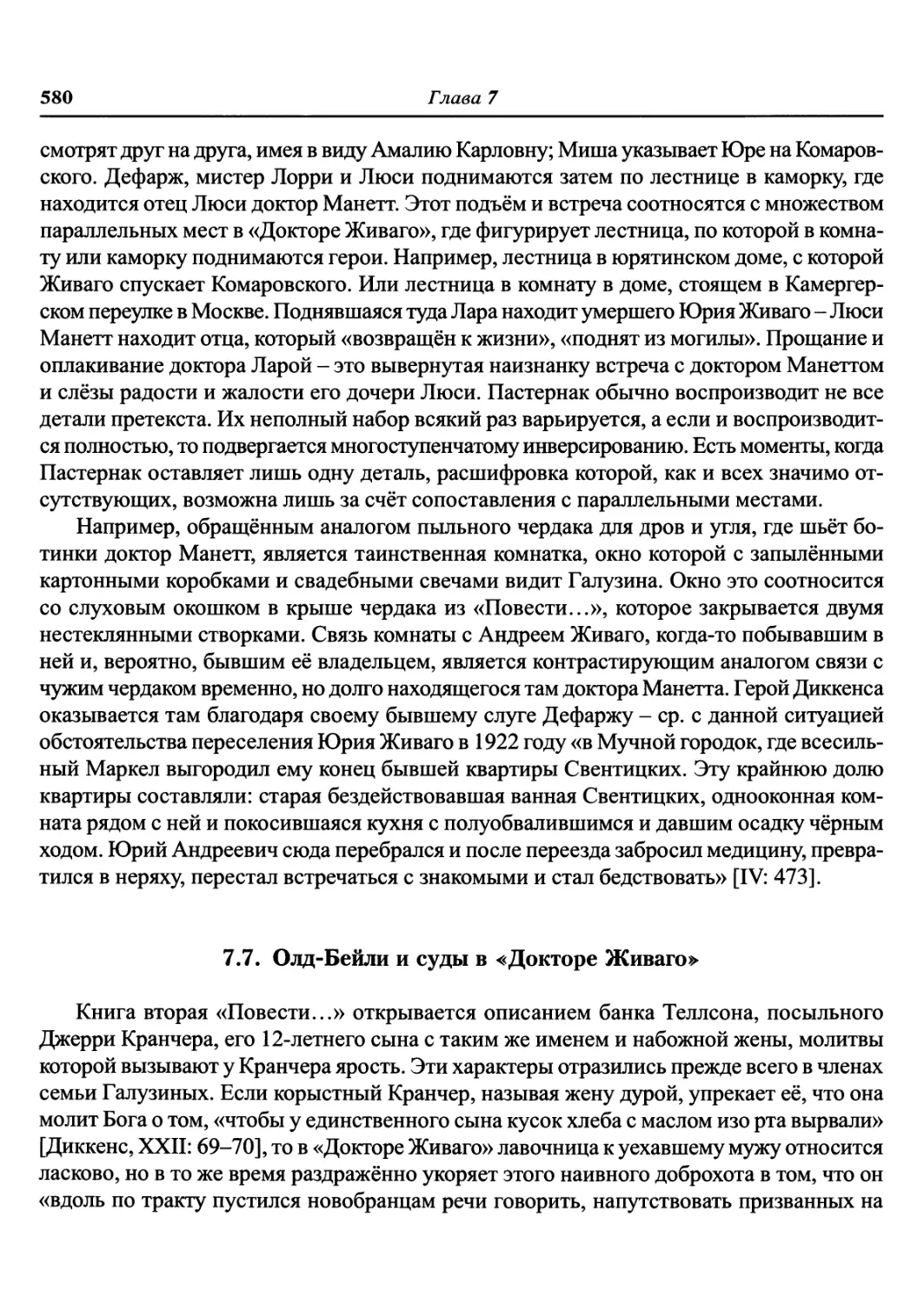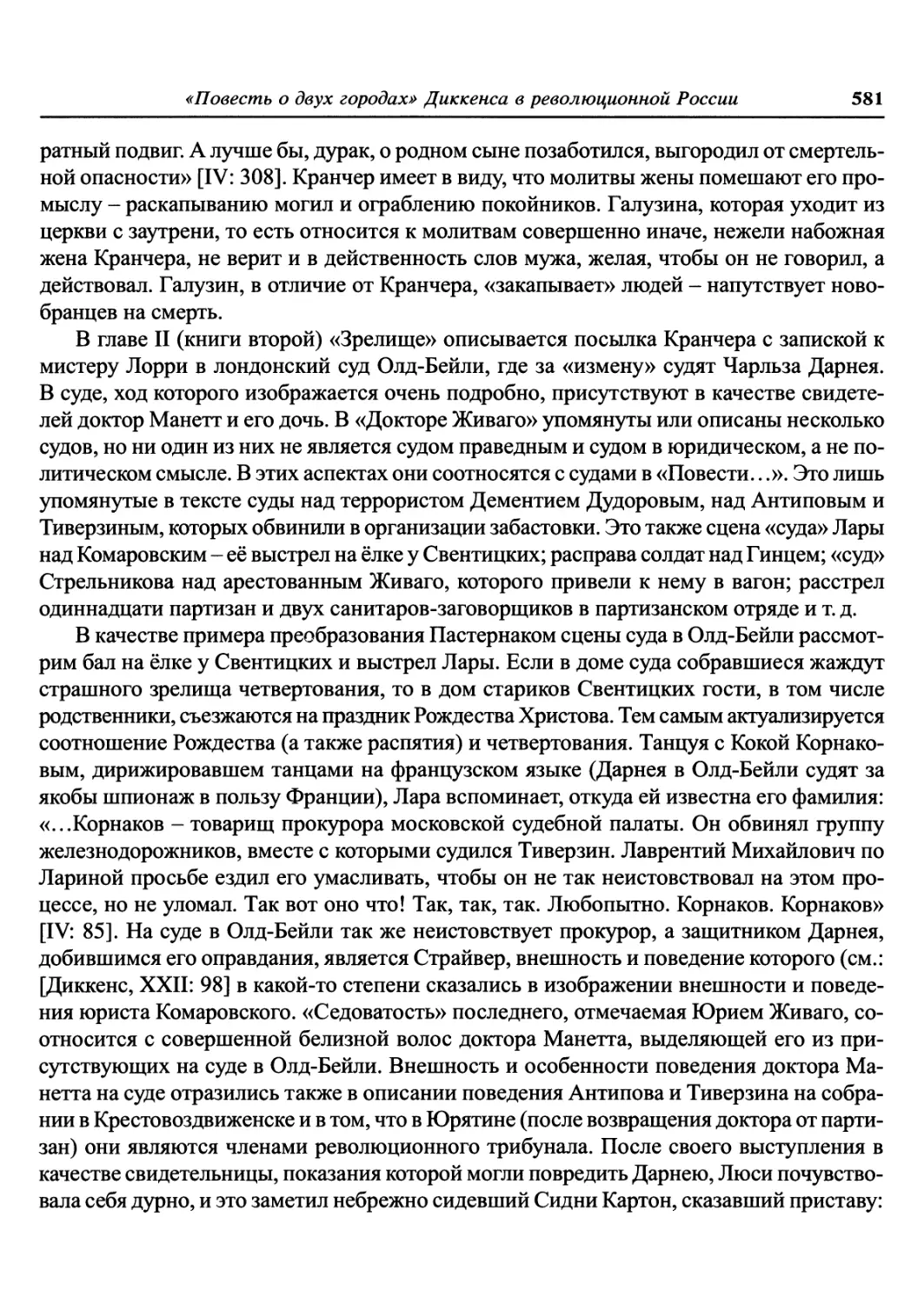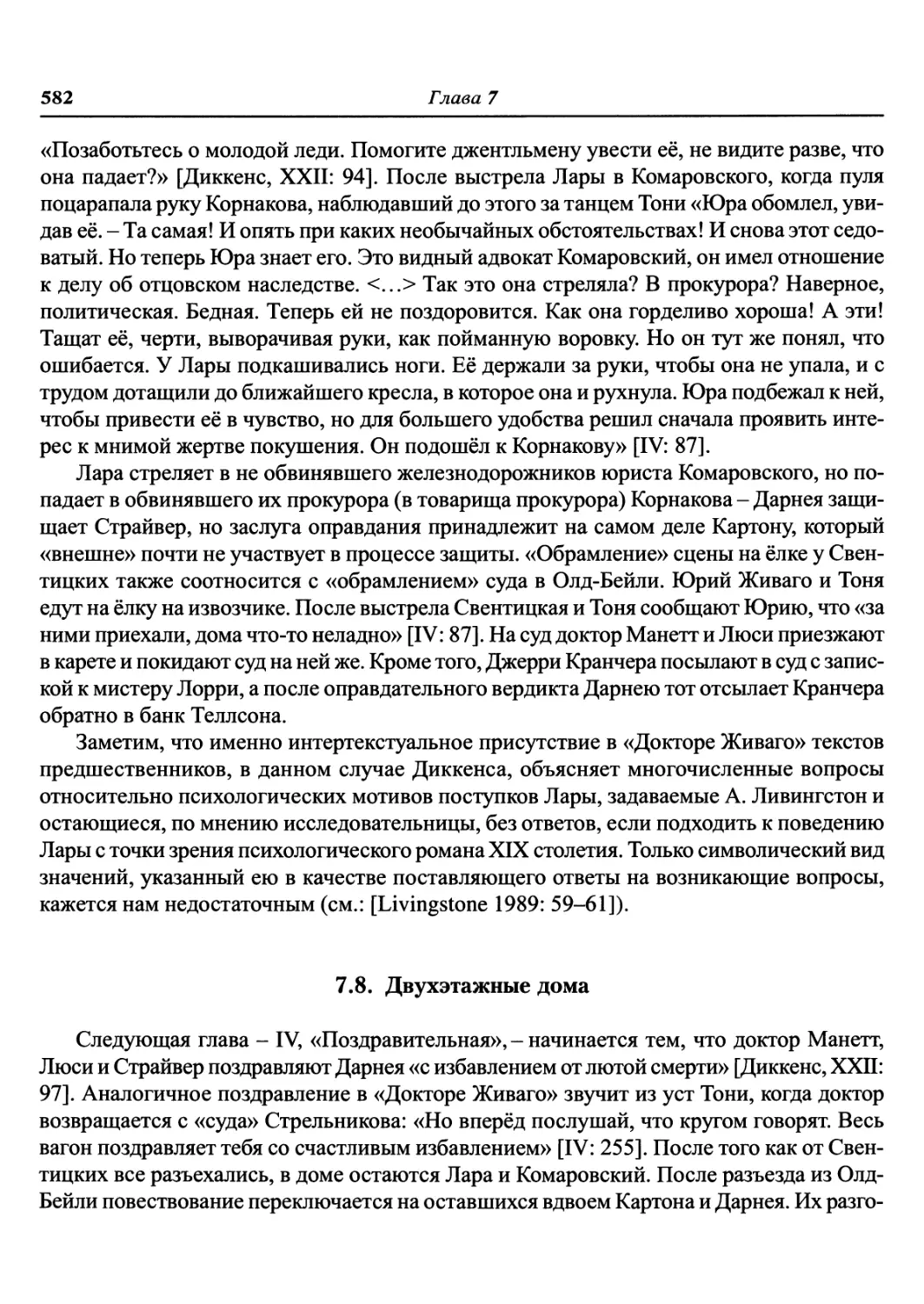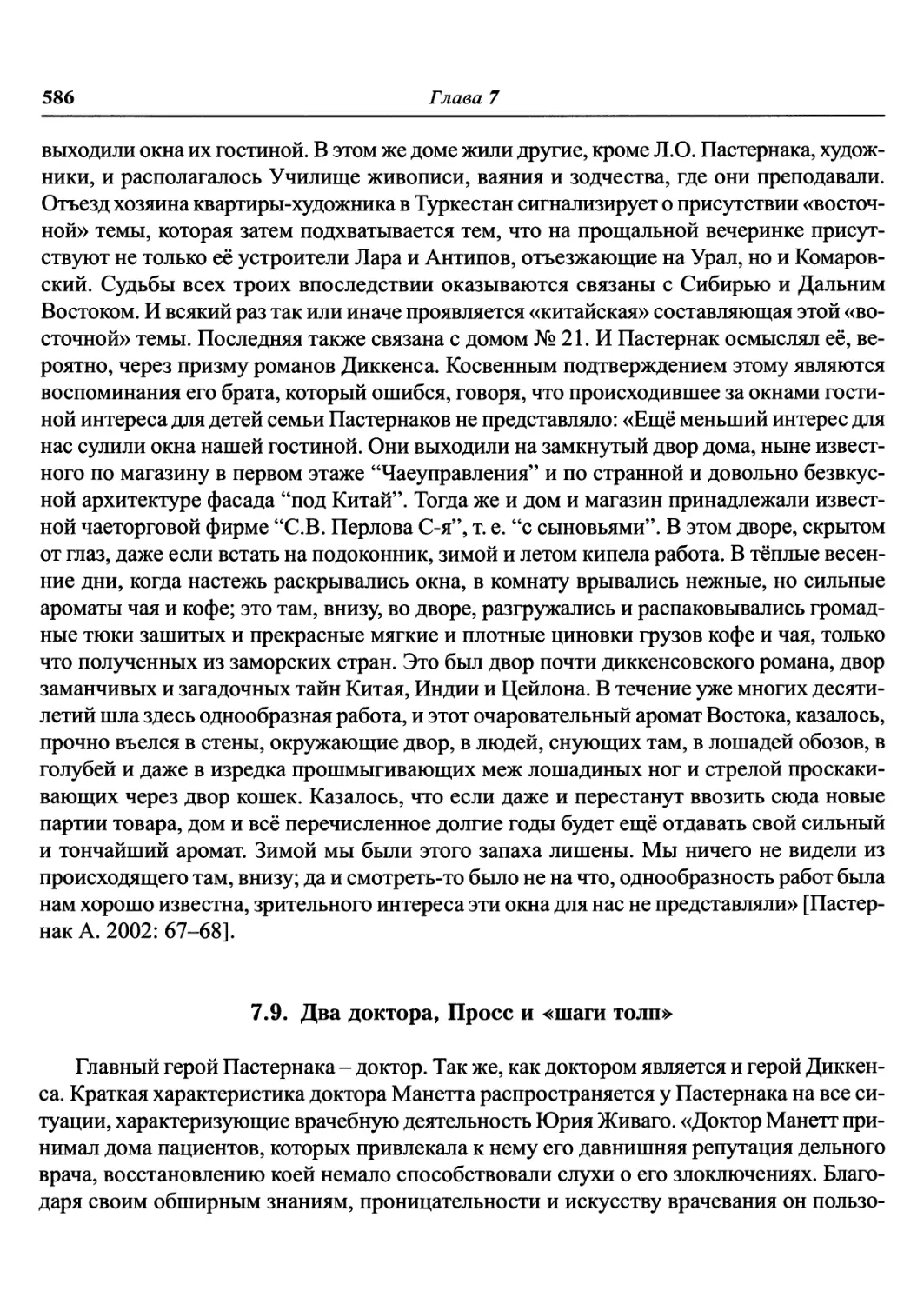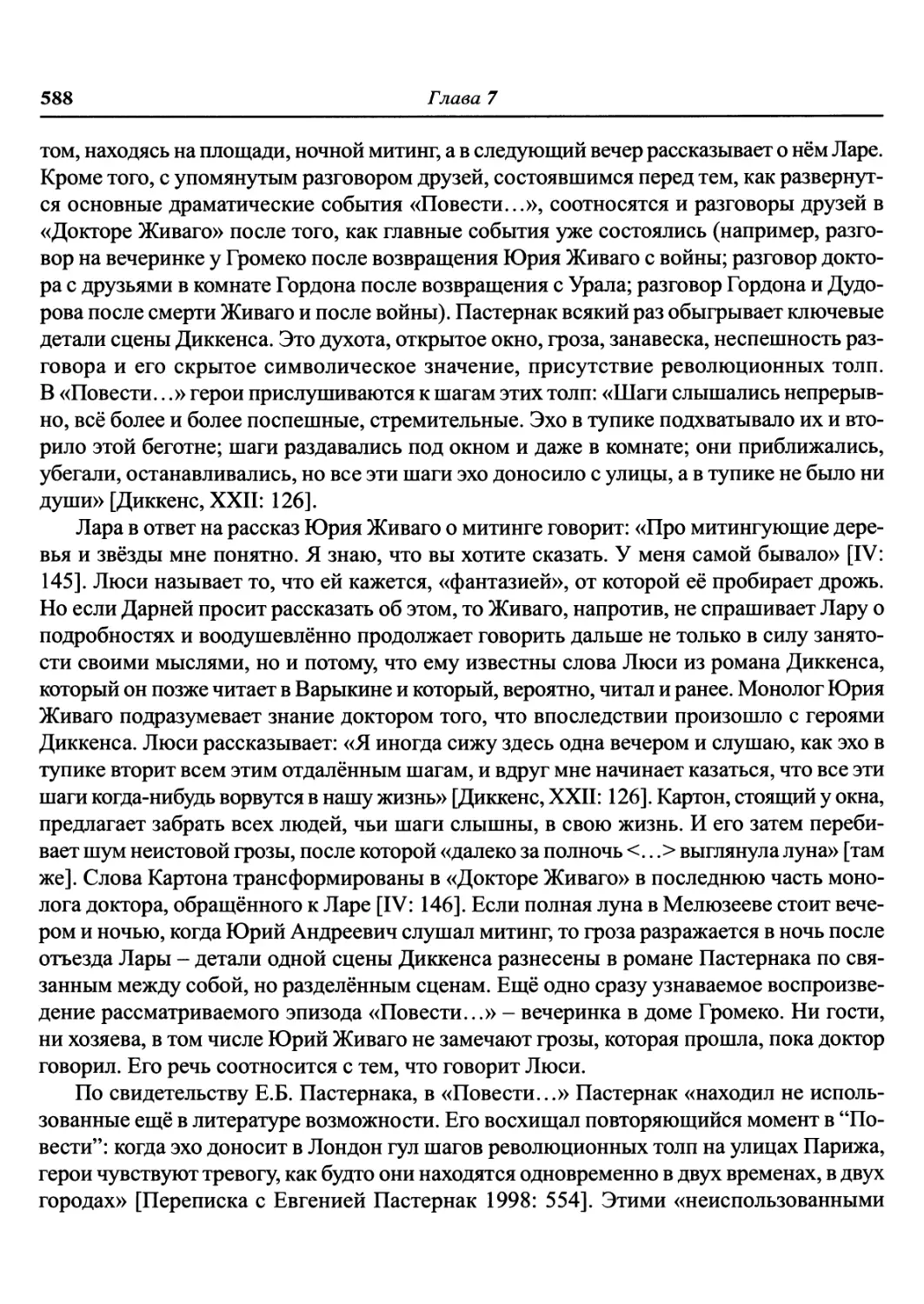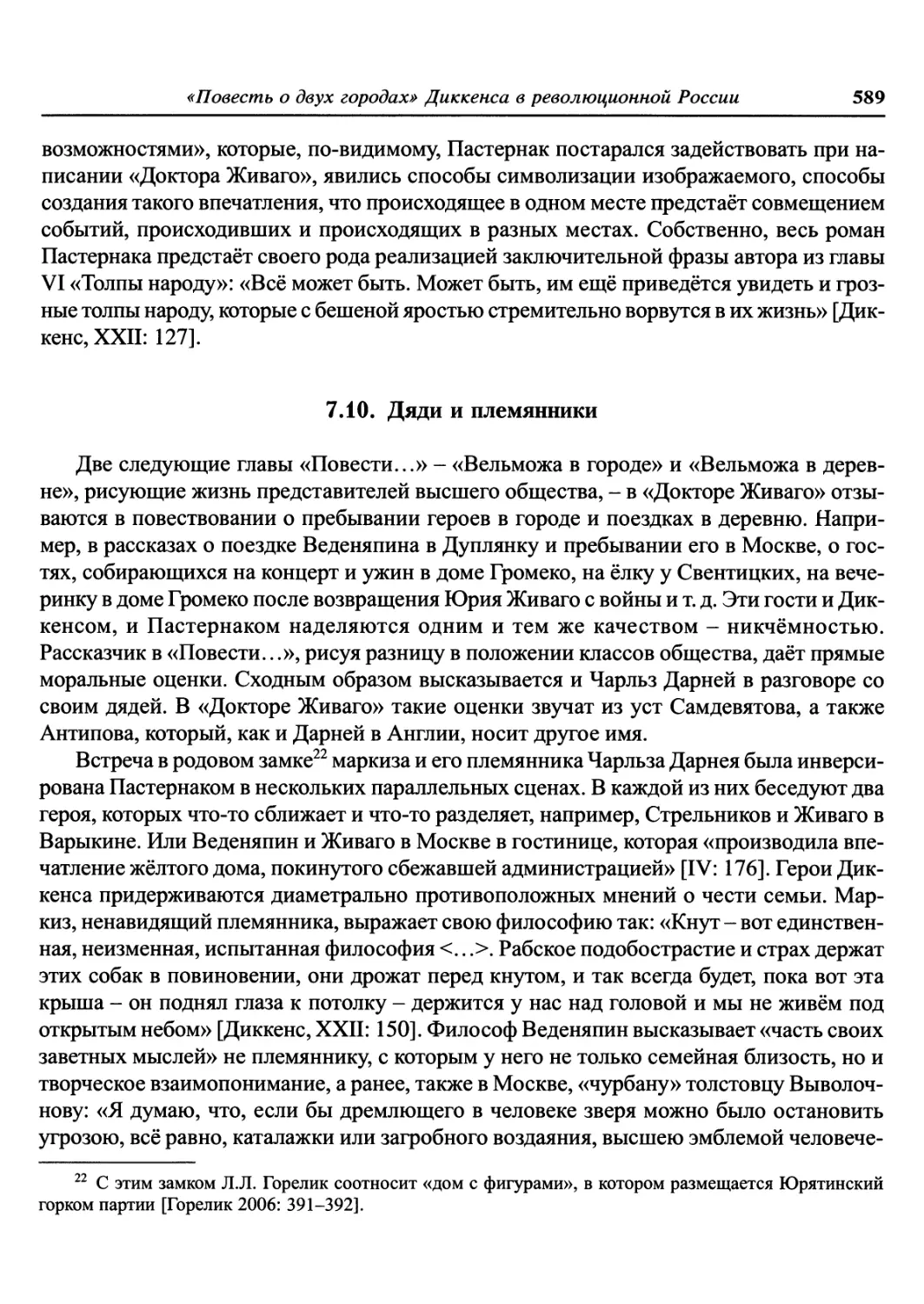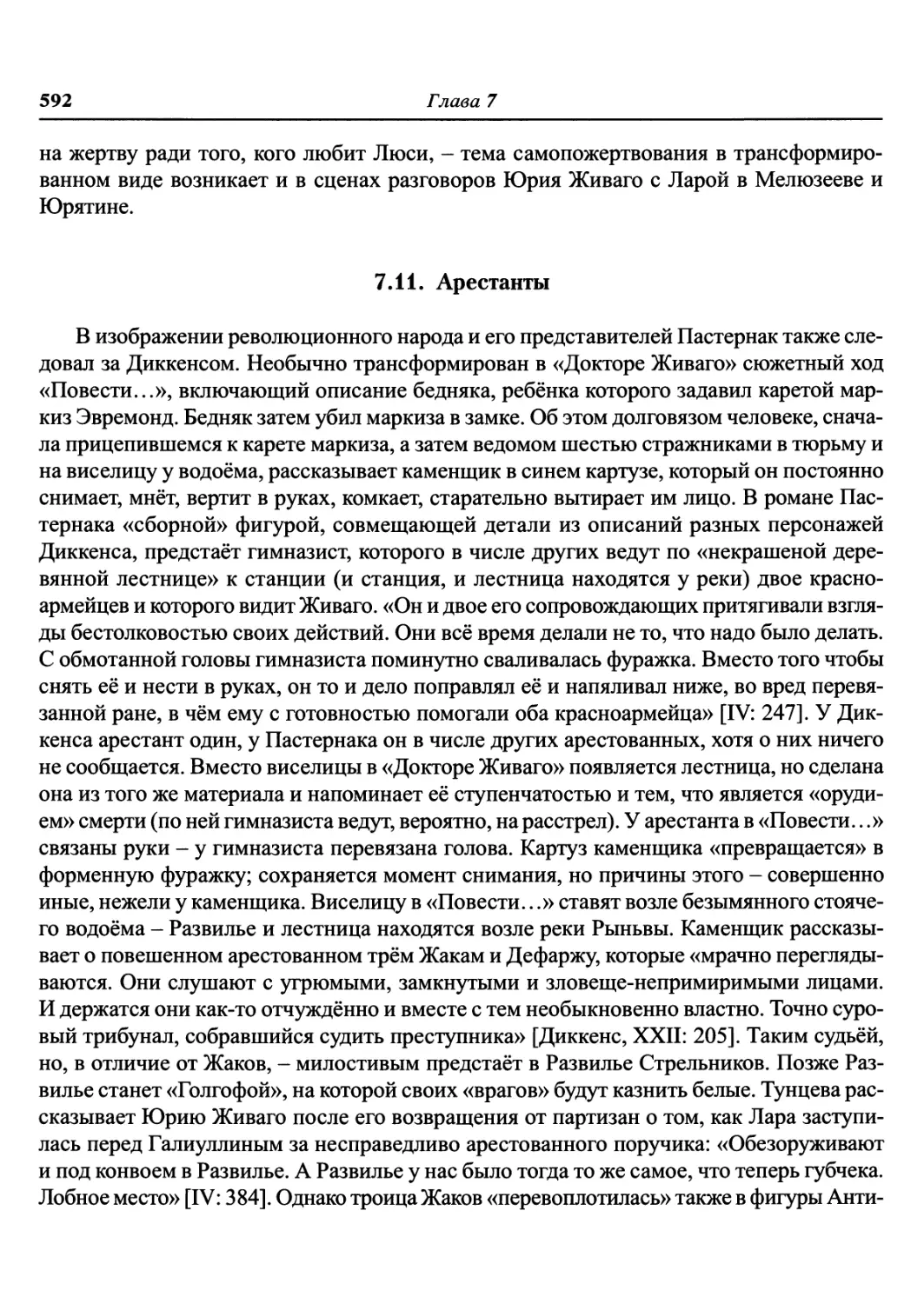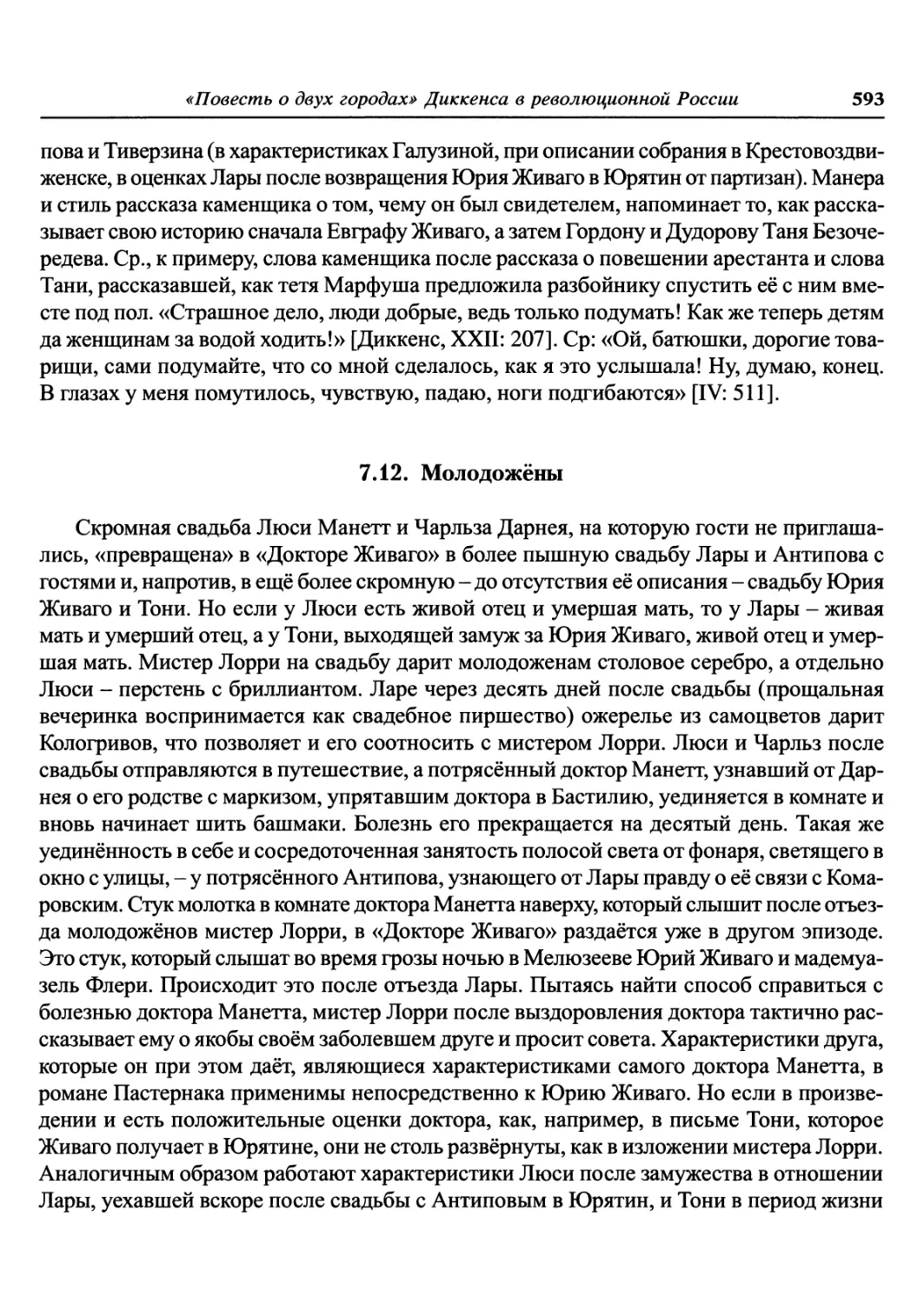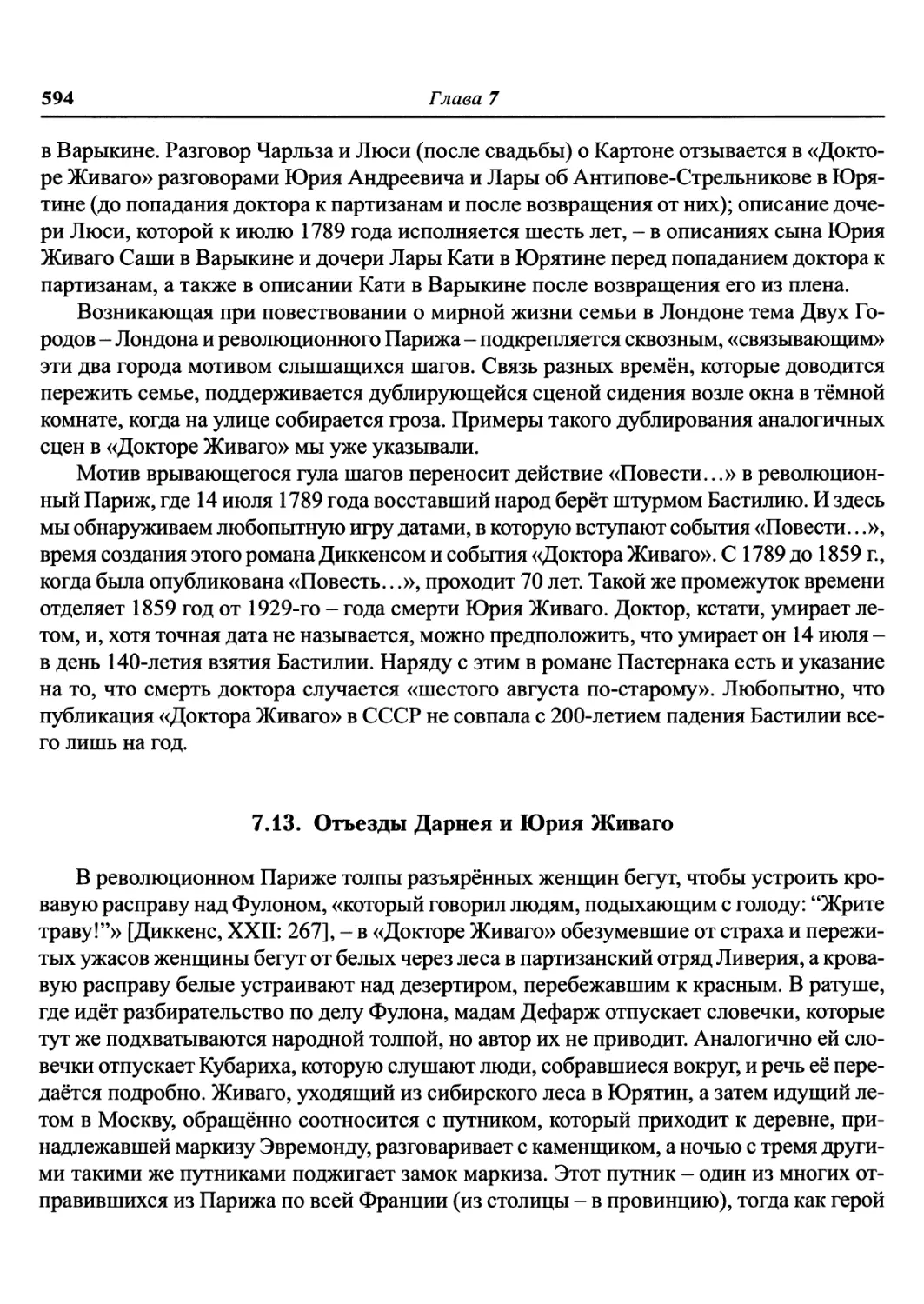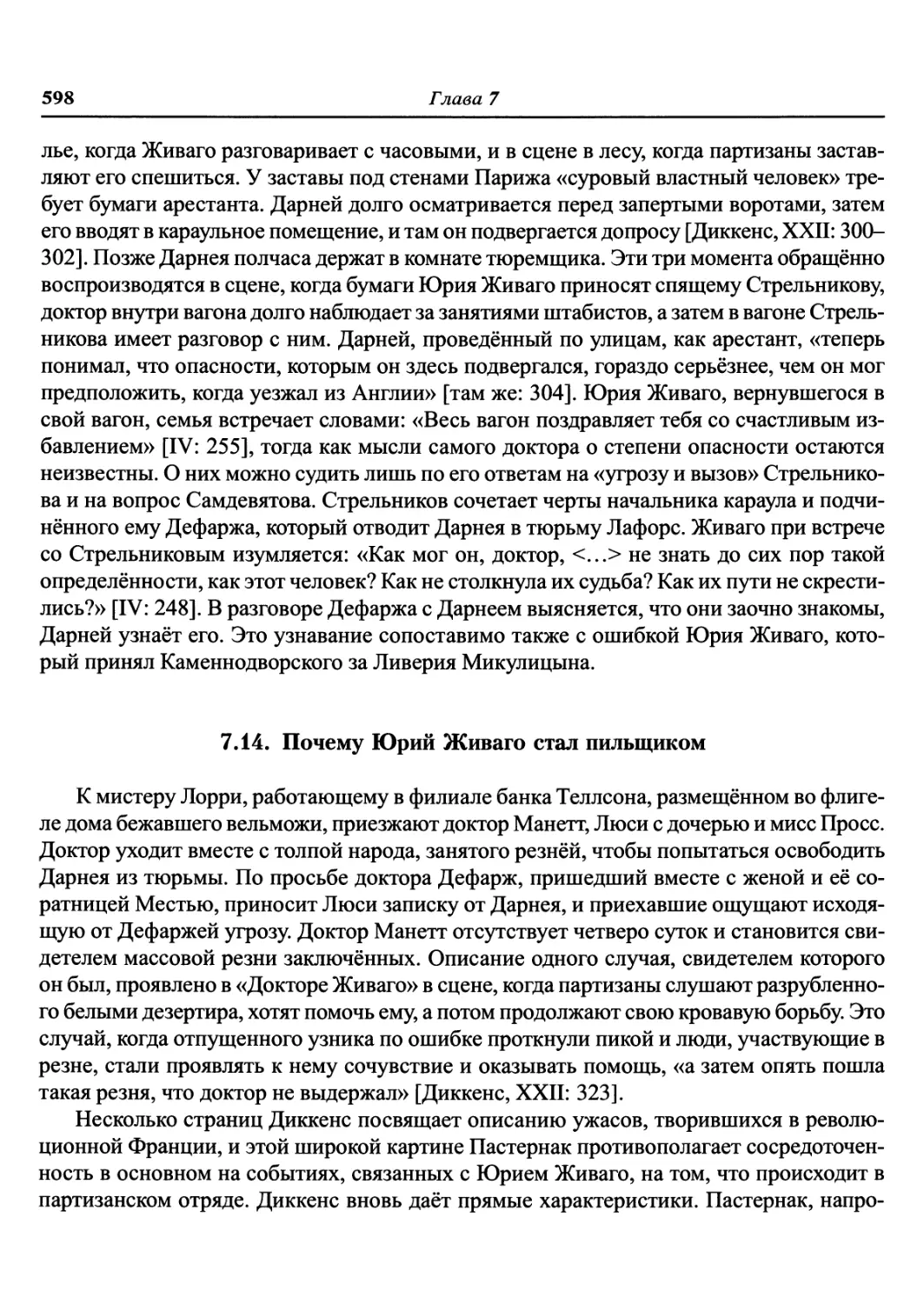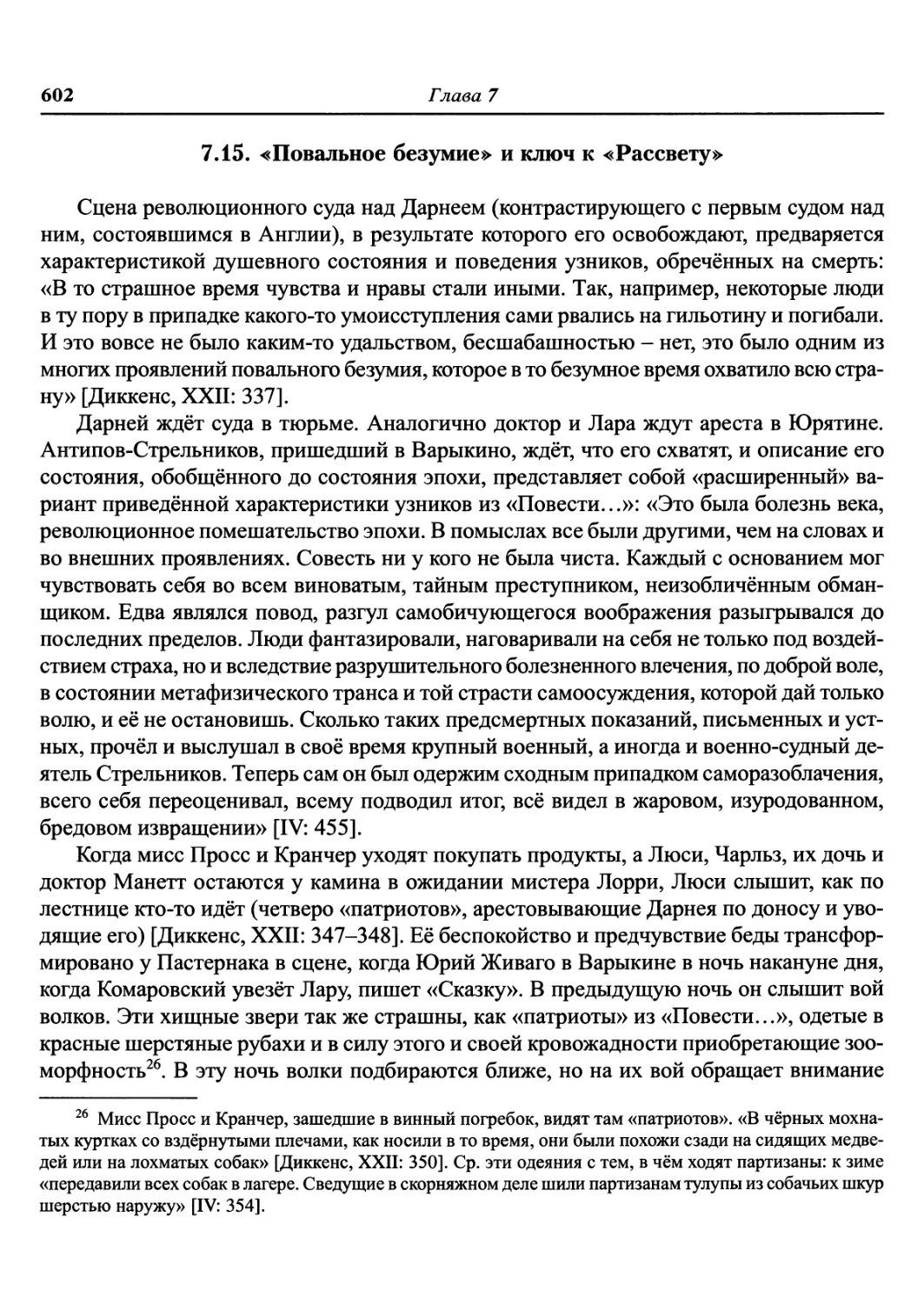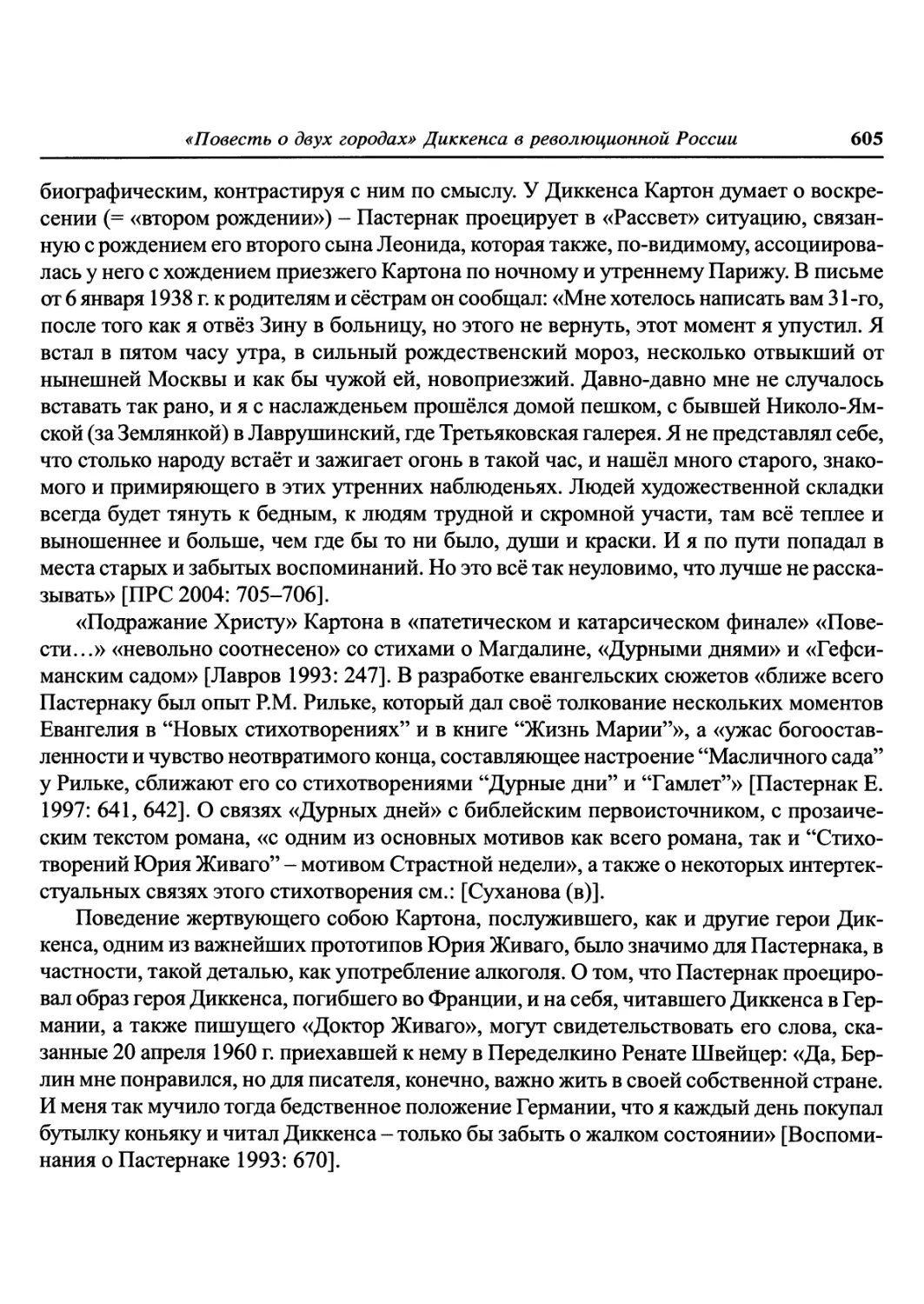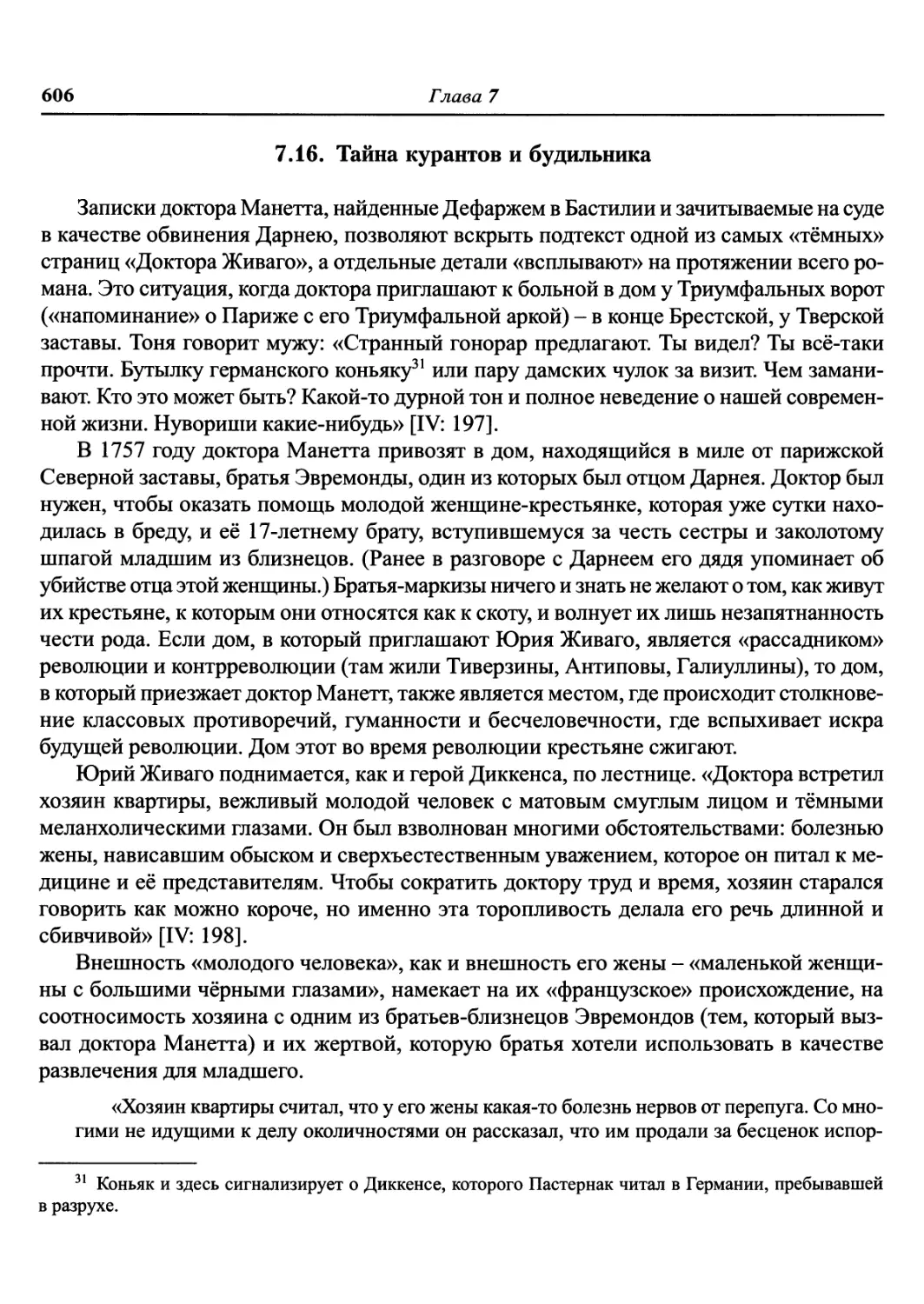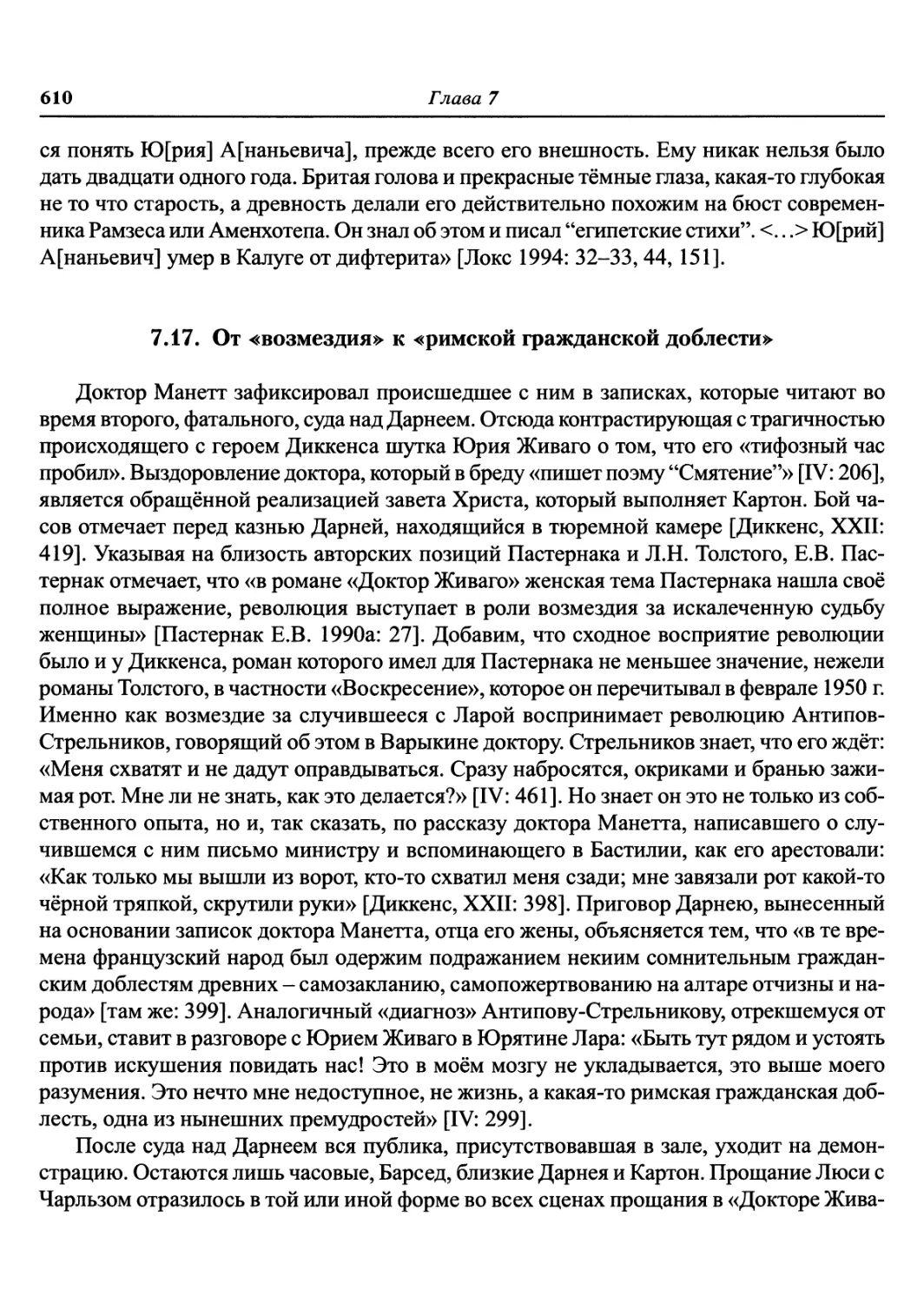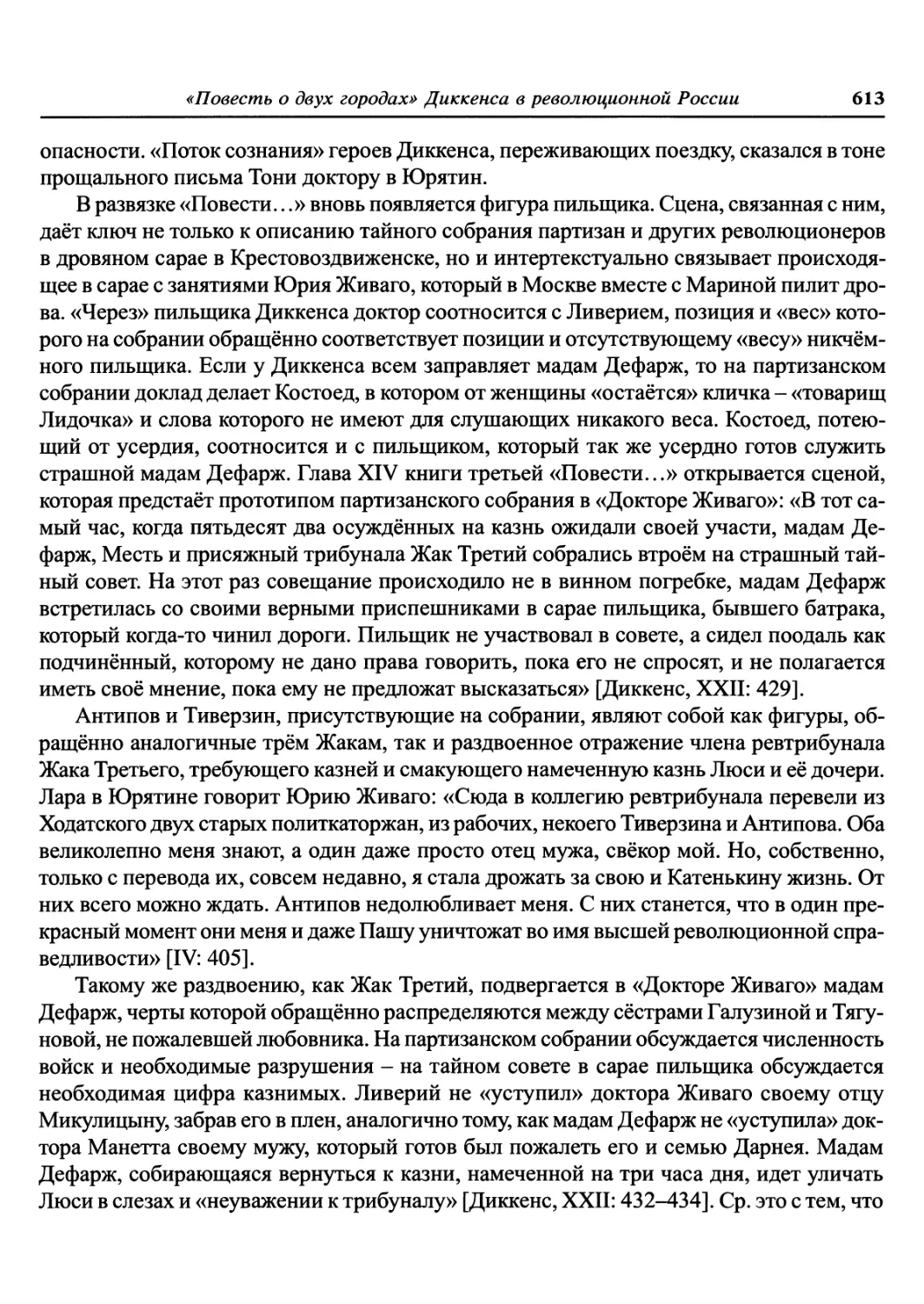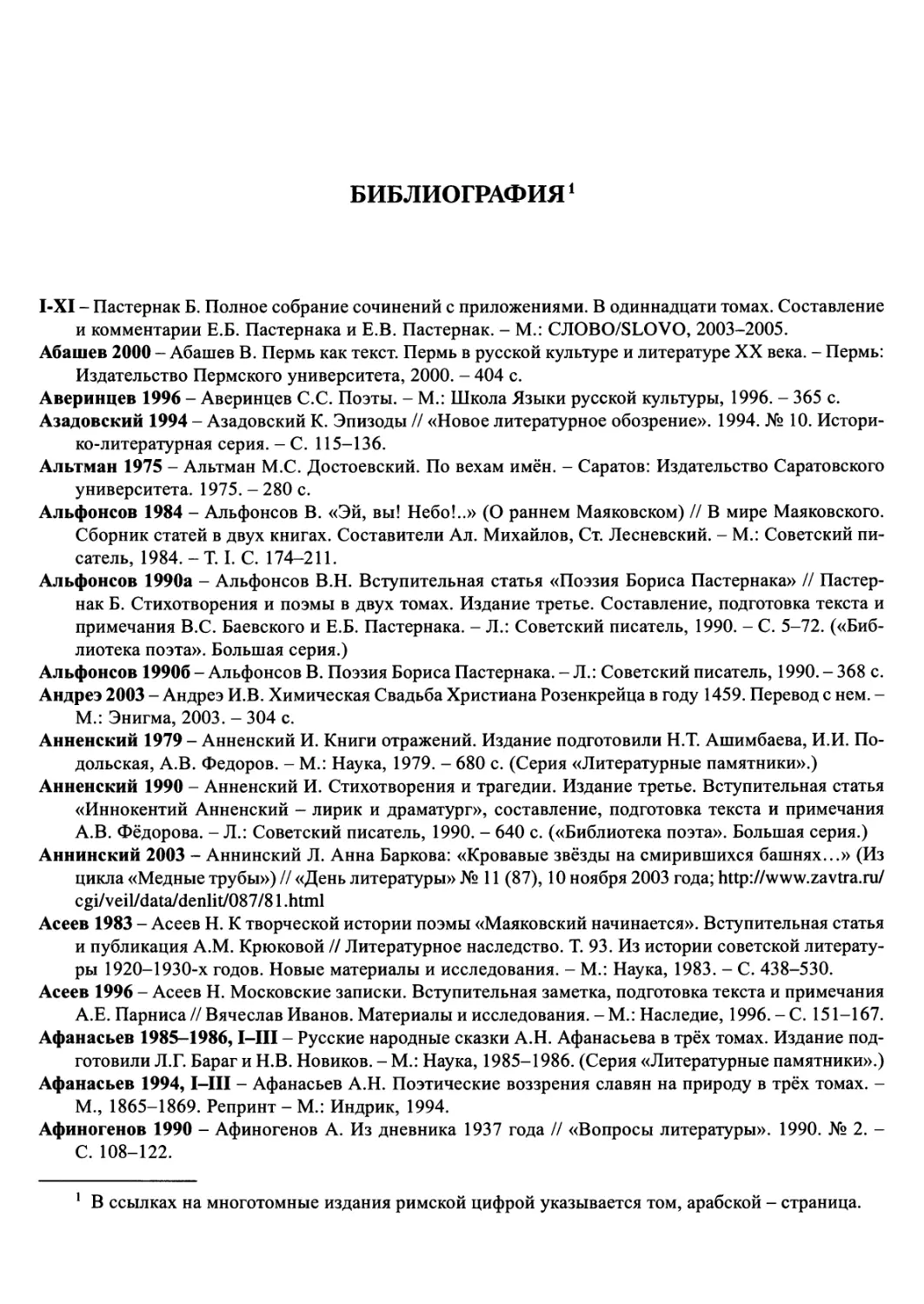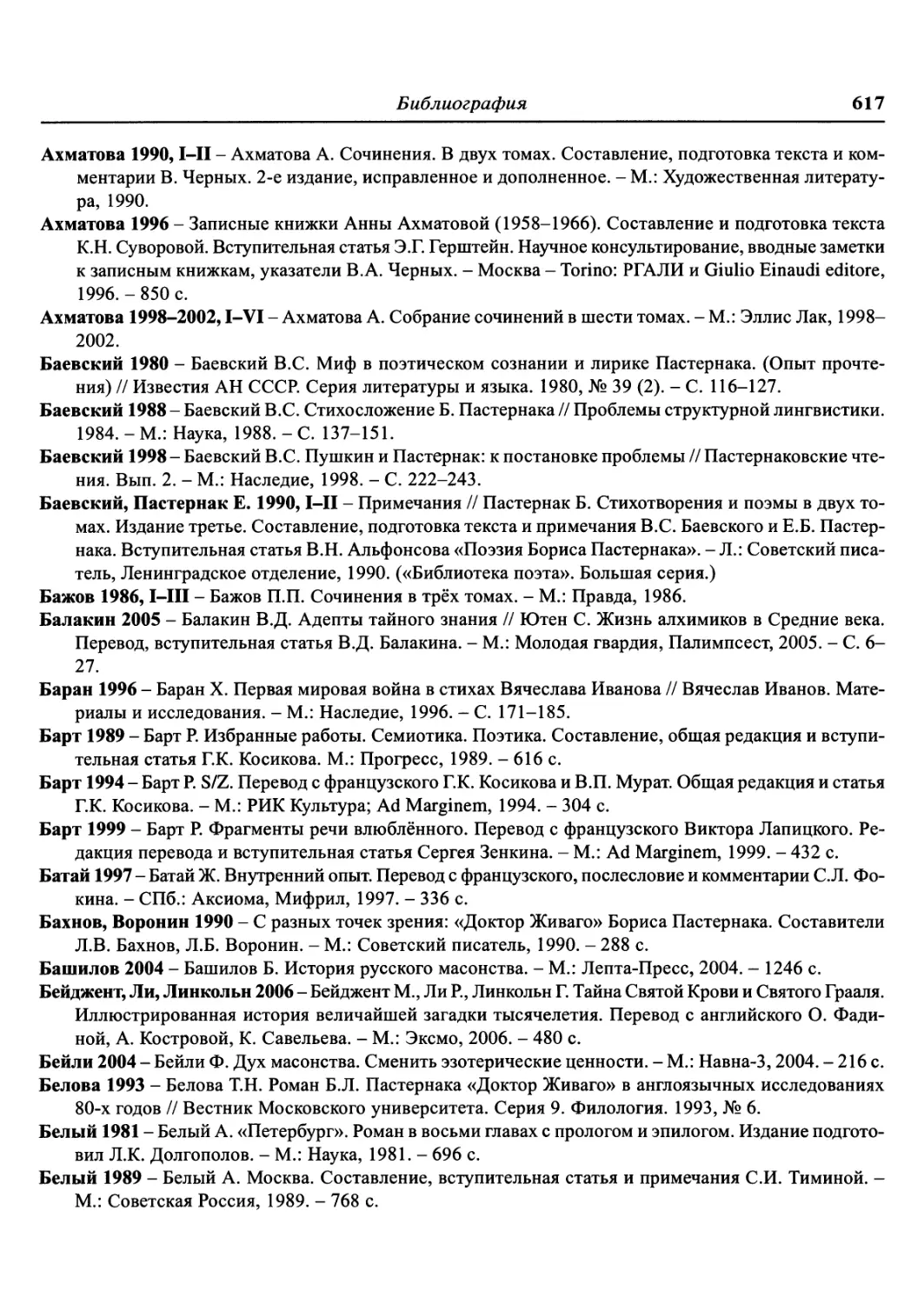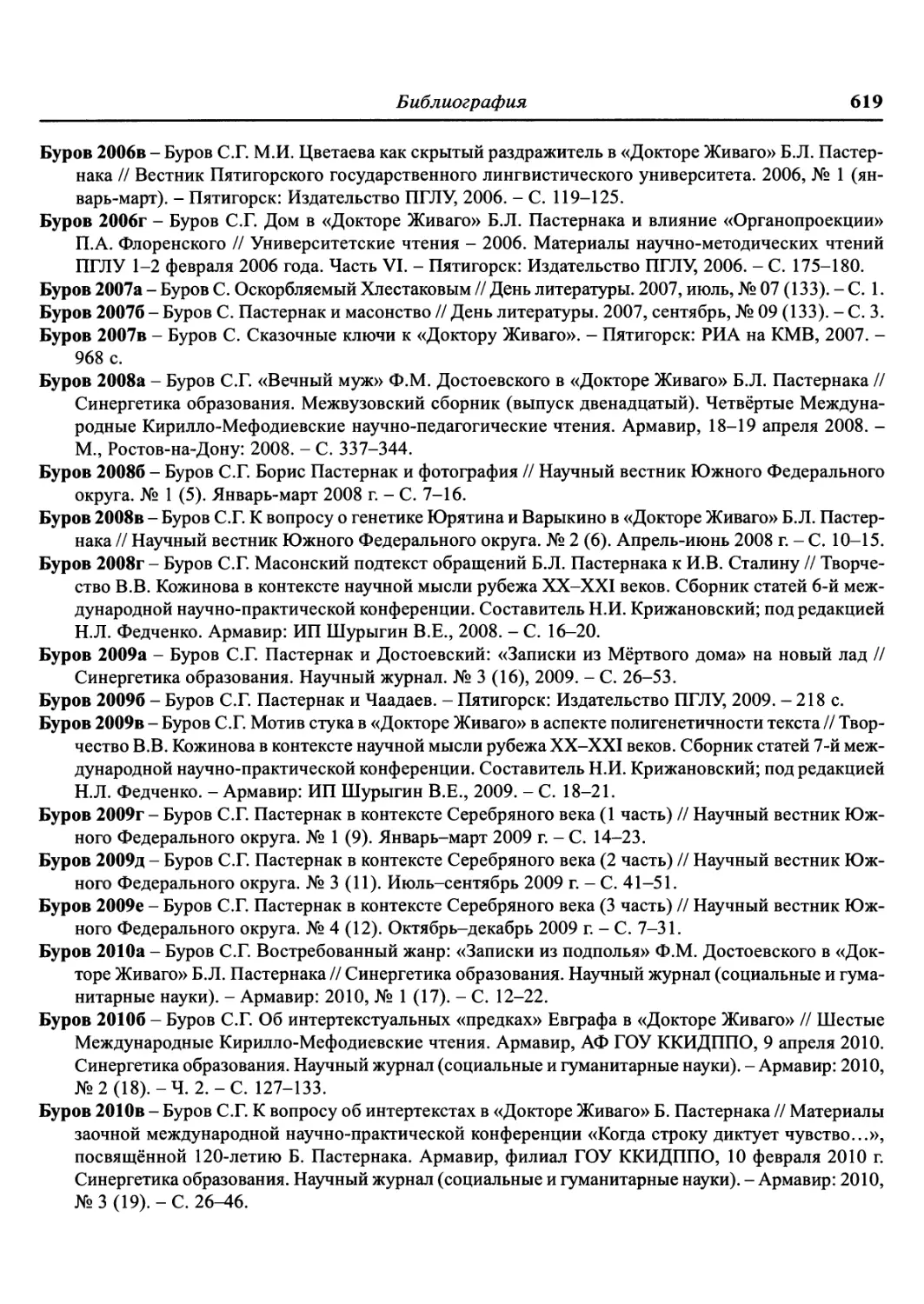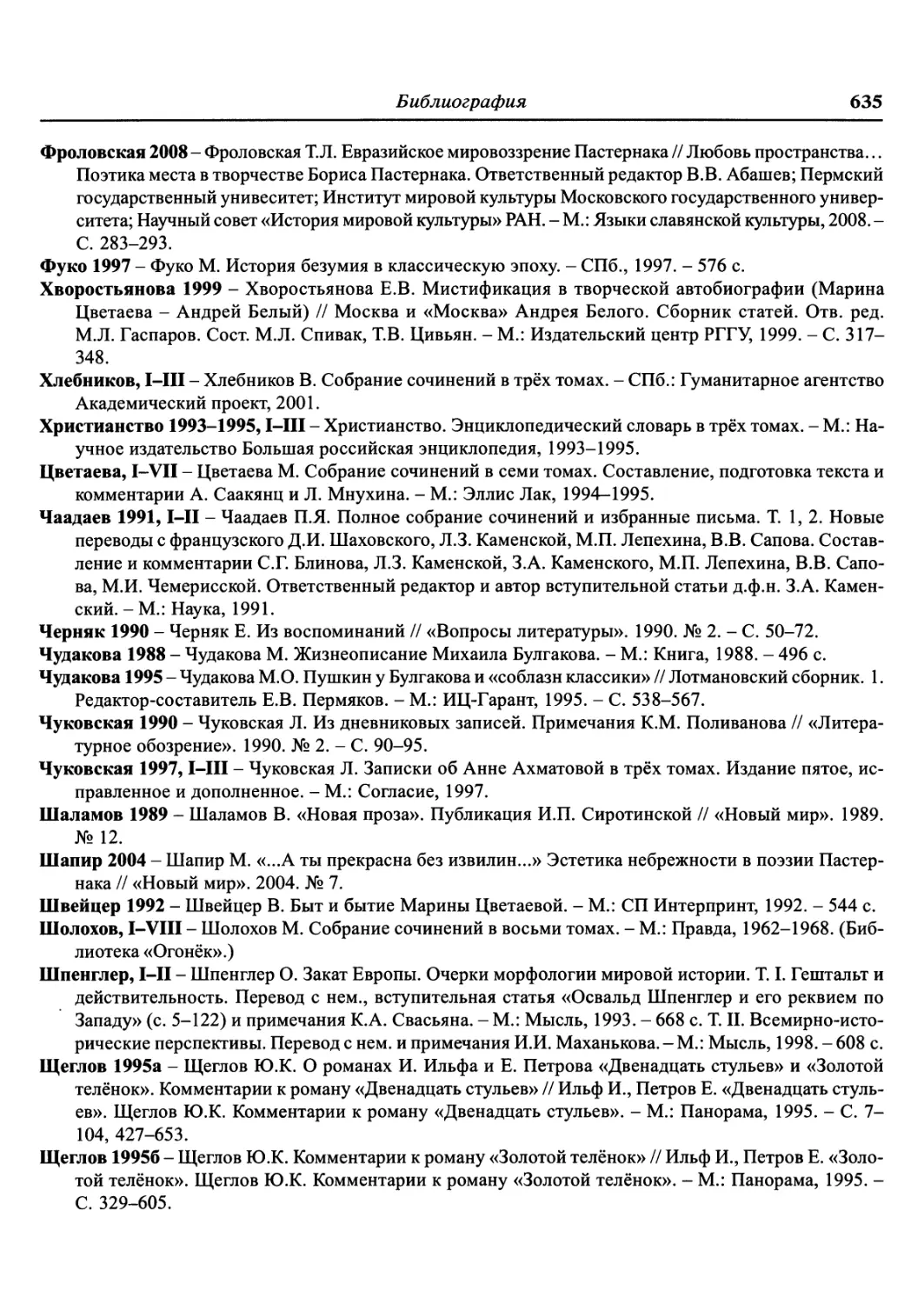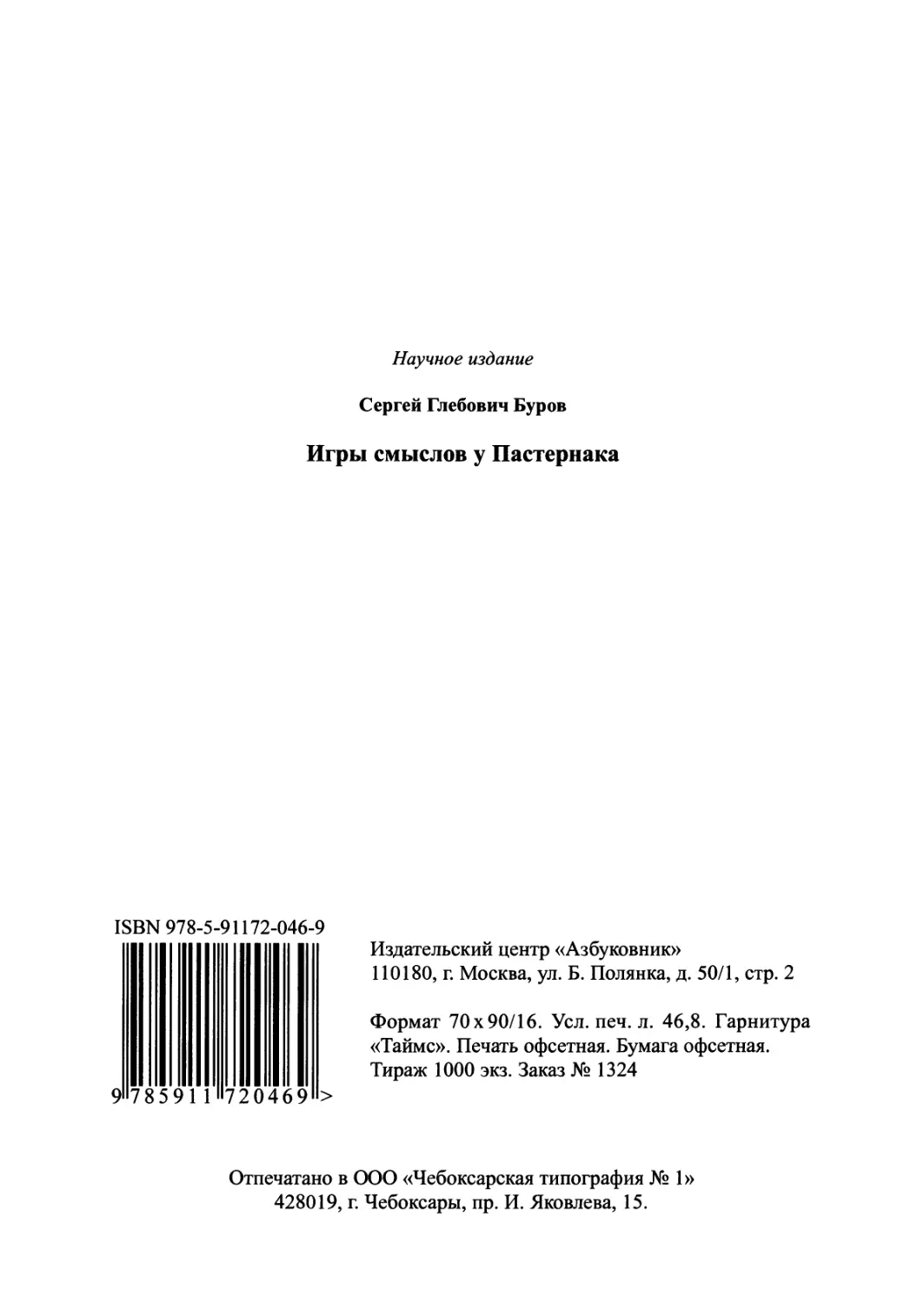Автор: Буров С.Г.
Теги: литература литературоведение история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран роман художественная литература
ISBN: 978-5-91172-046-9
Год: 2011
Текст
С. Г. Буров
Игры смыслов у Пастернака
Москва
2011
УДК 82(091)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Б91
Буров С. Г.
Б91 Игры смыслов у Пастернака. - М.: Издательский центр «Азбуковник», 2011.- 639 с.
ISBN 978-5-91172-046-9
В монографии рассматриваются интертекстуальные связи романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» с широким кругом произведений русской литературы XIX-XX веков и некоторыми произведениями зарубежной литературы. Автор анализирует полигенетичность персонажей и деталей романа и роль претекстов в организации произведения.
УДК 82(091)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
ISBN 978-5-91172-046-9
© С. Г. Буров, 2011
© Издательский центр «Азбуковник», 2011
Оглавление
Введение................................................................... 5
Глава 1. Пастернак и его роман в контексте традиции....................... 16
1.1. «Доктор Живаго» как явление «конца литературы».......................... 16
1.2. Роман как подытоживание эпохи и «дописывание» Откровения Иоанна...... 41
1.3. От футуризма через символизм к реализму.............................. 77
1.4. Установки на устную речь и эпистолярность. Традиция как этический выбор. 96
1.5. Специфика протагониста.................................................. 110
Глава 2. Дом как место рождения трагедии................................. 120
2.1. Дом в московском пространстве....................................... 120
2.2. Влияние «Органопроекции» П.А. Флоренского........................... 127
2.3. Бал рождает конфликт................................................ 133
2.4. Дружба и выстрел.................................................... 145
2.5. Следы «Антихриста» В.П. Свенцицкого................................. 157
Глава 3. Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие............... 167
3.1. Прототипы Антипова-Стрельникова..................................... 168
3.2. Антипов и «Вечный муж» Достоевского................................. 197
3.3. Претексты, формирующие образы Гинца и Фроленко...................... 202
3.4. Генетика образов Флери и Устиньи.................................... 222
3.5. Прототипы Клинцова-Погоревших и его учителей........................ 254
3.6. Юрий Живаго и Лара: пространство запретной любви.................... 273
3.7. Устинья и Кубариха: смена обличья при сохранении амплуа............. 288
Глава 4. Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика................... 327
4.1. Цветаева как скрытый раздражитель................................... 327
4.2. Булгаков как одна из тайн «Доктора Живаго».......................... 364
Глава 5. Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие................... 378
5.1. Семья Микулицына и семья Вяч. Ив. Иванова........................... 378
5.2. Два стихотворения «Земля» и проблема гениальности................... 401
5.3. Амалия Карловна и кубок Исольды..................................... 406
5.4. Двойничество с двойниками Ивановым и Гёте........................... 413
5.5. «Коринфская невеста» 1929 года, В.А. Комаровский и новое «Сродство душ». 431
5.6. Гамлетизм доктора Живаго............................................ 445
5.7. Анненский как тайный двойник........................................ 453
5.8. Воплощение пушкинского Пророка...................................... 459
5.9. Юрий Живаго как человек будущего.................................... 464
5.10. О прототипах Евграфа............................................... 485
4
Оглавление
Глава 6. Опыт Достоевского в советских условиях......................... 496
6.1. «Записки из Мертвого дома» на новый лад............................ 496
6.1.1. Две антисказки................................................ 496
6.1.2. Зеркальный териоморфизм....................................... 499
6.1.3. Затеряться среди заклеймённых................................. 502
6.1.4. «Генетика» Палых.............................................. 504
6.1.5. Наследнички «решительного человека». От Достоевского к Захер-Мазоху. 513
6.1.6. «Видно птицу по полёту»....................................... 521
6.1.7. Безумный бегун................................................ 524
6.1.8. В мире Власов................................................. 529
6.2. Востребованный жанр: «Записки из подполья»......................... 534
6.2.1. Анархизм победившего.......................................... 534
6.2.2. «Антигерой» среди «мертворождённых»........................... 543
Глава 7. «Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России....... 548
7.1. «История» как пролог к «Доктору Живаго»............................ 551
7.2. Жизнь с «Повестью...».............................................. 558
7.3. «Запирайте этажи...»............................................... 562
7.4. Дувр и города в «Докторе Живаго»................................... 567
7.5. «Король Георг» и «Черногория»...................................... 572
7.6. Французский прототип Галузиной..................................... 578
7.7. Олд-Бейли и суды в «Докторе Живаго»................................ 580
7.8. Двухэтажные дома................................................... 582
7.9. Два доктора, Просе и «шаги толп»................................... 586
7.10. Дяди и племянники................................................. 589
7.11. Арестанты......................................................... 592
7.12. Молодожёны........................................................ 593
7.13. Отъезды Дарнея и Юрия Живаго...................................... 594
7.14. Почему Юрий Живаго стал пильщиком................................. 598
7.15. «Повальное безумие» и ключ к «Рассвету»........................... 602
7.16. Тайна курантов и будильника....................................... 606
7.17. От «возмездия» к «римской гражданской доблести»................... 610
Библиография............................................................ 616
Введение
Эта книга посвящена проблеме полигенетичности художественного мира Б.Л. Пастернака, рассматриваемого на примере романа «Доктор Живаго». Общая логика исследования заключается в последовательном рассмотрении произведения сначала в фокусе типологической близости с романами Серебряного века, затем - в контексте отношений к футуризму, символизму и реализму и, наконец (по ходу исследования), - в выявлении следов конкретных источников и определении особенностей оперирования с ними. Притяжения и отталкивания с упомянутыми литературными течениями конкретизируются на примерах отражённой в романе реакции Пастернака на факты биографий отдельных авторов и их произведения.
Динамика развёртывания повествования определяется алгоритмически организованной линейной структурой, которой подчинены реализации в художественном тексте тех или иных тем и мотивов. Процесс смыслопорождения, происходящий за счёт взаимодействия претекстов на пространстве романа и обусловленный поэтикой таинственного, определяется общими для романов Серебряного века принципами организации, обусловливающими жанровый генезис произведений. Первичность генезиса, по сравнению с интертекстуальными связями, подчеркнутая И.П. Смирновым, определяет необходимость обозначения типологических особенностей «Доктора Живаго», вписывающих его в жанр романа. Такой анализ даёт основание для последующего рассмотрения интертекстуальных связей, которые «надстроены над типологическим сходством литературных произведений, разнообразят жанровую парадигму» [Смирнов 2008а: 262], и взаимодействия претекстов, кодирующих элементы текста и нарушающих линейность чтения. Перспективность интертекстуального анализа романа была обозначена ещё в 1986 г/ Н. Корнвеллом, назвавшим этот метод одним из трёх наиболее плодотворных в отношении исследований «Доктора Живаго»1, и подтверждена продуктивностью работ многих литературоведов.
Тенденция к обобщению результатов исследований, накопленных за десятилетия пастернаковедческих штудий, реализуется как в фундаментальных работах, посвящённых биографии писателя (К. Барнс, Г. де Маллак, Е.Б. Пастернак, Л.С. Флейшман), историко-культурному (Вяч. Вс. Иванов, Л.С. Флейшман), интертекстуальному (С. Витт, Б.М. Гаспаров, А.К. Жолковский, А.В. Лавров, А. Ливингстон, М.Ф. Роуланд и П. Роуланд, К.М. Поливанов, И.П. Смирнов, Н.А. Фатеева, О. Хьюз) аспектам исследований
1 Два других - это исследование романа в свете традиций русской прозы, особенно экспериментальной прозы Андрея Белого, предполагающее нереалистическое прочтение романа, и рассмотрение «Доктора Живаго» в плане теории читательского восприятия и истории литературы, при котором роман интерпретируется как произведение искусства, впитавшее опыт настоящего времени [Cornwell 1986: 126-127].
6
Введение
творчества Пастернака, так и в библиографиях и трудах, представляющих аналитические обзоры достижений исследователей в разных сферах пастернаковедения: [Белова 1993; Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В.; Поливанов К.М. 1993; Фатеева 2003; Cornwell 1986]. Библиография, посвященная творчеству Пастернака, огромна и стала отдельным предметом усилий исследователей. Так, «International Bibliography of Criticism» (1994) M. Сендича за период 1914-1990 насчитывает 1049 позиций [Sendich 1994], а библиография, собранная Э. Гребер и пока не опубликованная, - более 1600. Ещё один перечень публикаций о Пастернаке и его творчестве - [Указатель 1995]. По авторитетной оценке Е.Б. и Е.В. Пастернаков, «библиография написанного о Пастернаке уже превышает шестизначные цифры, выделить в ней существенное и сказать кратко об этом трудно» [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В.]. Первый подытоживающий обзор исследований творчества Пастернака был сделан в 1962 г. Т.П. Струве [Struve 1962], следующие - в 1972 г. Дж. В. Диком [Dyck 1972], во многом обновившим наблюдения Струве, и в 1986 Н. Корнвеллом [Cornwell 1986], который представил весь спектр мнений и интерпретаций, существовавших на то время. Мы не можем утверждать, что прочли всю критику, посвящённую роману, но и те несколько сотен работ, которые были доступны, производят впечатление необычайной (в том числе внутренней) противоречивости и содержат разнородные подходы, некоторые из которых явились актуальными для данного исследования. Противоречивостью отмечены и оценки перспектив пастернаковедения, которое за последние 20 лет, если не раньше, стало отдельной сферой литературоведения. Так, если ещё в 1961 г. Г.Е. Боуман, оценивая изученность «Доктора Живаго», посчитал, что «it is difficult to say anything new about Doctor Zhivago»2 (цит. no: [Brown 1982: 216]), то в 1981 г. Я. Лилли отметил, что «many facets have yet to be illuminated»3 [Lilly 1981: 250]. Последнее мнение за протекшие годы лишь приобрело в актуальности.
Поскольку «теория литературы изоморфна своему материалу» [Смирнов 2008а: 12] и критика лишь отражает внутренние противоречия «Доктора Живаго» и творчества Пастернака в целом, постольку в пастернаковедении было достаточно много конструктивных программ исследования романа. Существующие 12 стратегий классифицированы Н. Корнвеллом в 1986 г. в два класса - беллетристический и пост-беллетристиче-ский. Первый включает традиционные текстуальные, биографические, идеологические и оценочные прочтения. Второй - формалистически-структуралистские, аллегорические, в рамках теории восприятия и читательской реакции, интертекстуальные, деконструк-ционные, метатекстуальные, супра/интеркультурные и метакритические, во многом развивающие традиционные подходы [Cornwell 1986: 2-3]. Основной в данной работе избрана интертекстуальная стратегия. Другие использованы в качестве дополнительных. В частности, из метакритической категории особенно важным представляется «ап approach to a particular text through and across the prevailing spectrum of literary
2 «Трудно сказать что-то новое о Докторе Живаго» (англ.). Здесь и далее перевод наш. Выделения во всех цитатах принадлежат авторам, за исключением оговорённых случаев.
3 «Многие аспекты ещё не освещались» (англ.).
Введение
7
theory»4. Дискредитация теоретизирования привела к поискам выходов, одними из которых стали «медленное чтение» и «точечная интерпретация», практически реализованные Р. Бартом в работе «S/Z» и позже предложенные В. Каннингэмом [Canningham 2002: 150-156]. Данные методы (однако при учёте теории интертекста, разработанной И.П. Смирновым [1995]) были использованы в работе в применении к «Доктору Живаго». Это в полной мере соответствует тяготению ткани повествования и особенно «Эпилога» к «деконструкции» организующих роман культурных кодов, а с другой стороны -к спрессовыванию в единице текста целых систем, которые ранее требовали полного развёртывания. Попыткой приложения к роману крупноформатной идеи, оправдывающей данные подходы, в данной работе стал анализ ретроспективного кодирования повествования парадигматическими комплексами, характеризующими историческое развитие русской литературы. «Предельность» упомянутых двух методов, изоморфных «предельности» «Доктора Живаго» как текста, демонстрирующего неспособность структур развёртываться вновь и вновь в прежнем циклическом режиме, заключается в том, что исчерпывающий анализ в принципе невозможен, а тот, что произведён, становится невоспроизводимым, хотя и остаётся возможность пополнения результатов типологически близкими наблюдениями. Жанр исследования в свете такой «финальности» его объекта приобретает черты филологического комментария, что, с определённой точки зрения, может лишь подчёркивать вторичность литературоведческого дискурса относительно литературы. Однако противовесом этому низведению к подсобности может служить не только понимание того, что и сама литература фикциональна в отношении действительности, но и «олитературивание» литературоведения, которое особенно ярко проявилось в работах Р. Барта, Ж. Батая и др. и было доведено в некоторых трудах (например, К.А. Свасьяна о творчестве Ф. Ницше и О. Шпенглера [Свасьян 1990; 1993]) до стадии эстетизации самого литературоведческого письма.
«Доктор Живаго» представляет собой яркий пример постмодернистского художественного дискурса. Г. де Маллак определил его как произведение, написанное в ключе «а post-modernistic realism»5. В исследованиях романа вопрос о происхождении и специфике самобытности реалий является одним из самых актуальных. Этим определяется преимущественное внимание к категории интертекстуальности6, уделяемое в работе. Под интертекстуальностью в ней понимается «слагаемое широкого родового понятия, так сказать интер<...>альности, имеющего в виду, что смысл художественного произведения полностью или частично формируется посредством ссылки на иной текст, который отыскивается в творчестве того же автора, в смежном искусстве, в смежном дискурсе или в предшествующей литературе» [Смирнов 1995: 11].
4 «Подход к отдельному тексту сквозь и через посредство преобладающего спектра теории литературы» (англ.).
5 «Постмодернистского реализма» (англ.).
6 О проблемах определения теоретического статуса интертекстуальности как раздела поэтики, критике традиционной теории источников и условиях её приемлемости в интертекстуальном анализе см. [Пьеге-Гро 2008]. О критике теории источников см. также [Смирнов 1995: 11-12].
8
Введение
«Доктор Живаго» - благодатный объект для интертекстуального анализа, поскольку представляет собой произведение, в котором комбинируемые гетерогенные элементы связаны не только причинно-следственными и метафорическими, но по большей части метонимическими отношениями, что, как показал P.O. Якобсон, является важнейшей чертой поэтики Пастернака. Мотивировка интертекста метонимией обусловливает то, что «новый смысл возникает не в результате добавления каких-то элементов к образному строю текста, а по причине наличия между двумя текстами отношения смежности» [Пьеге-Гро 2008: 122]. Интертекстуальный анализ подразумевает прежде всего работу по опознанию источников и лишь затем - выяснение особенностей их трансформации в произведении, что позволяет выявить не только глубинные смыслы текста, но и условия его прочтения. Поиск источников ведётся «по тематической линии: писатель лимитирован в выборе претекстов принятым им тематическим заданием» [Смирнов 1995:44]. Многие претексты «Доктора Живаго» опознаны, но ещё больше остаётся пока вне сферы внимания литературоведов, например масонский и алхимический пласты в романе, требующие отдельных исследований. Мы попытались не только учесть многие из уже вскрытых источников, следы которых в произведении проанализированы исследователями, но и предпринять то же самое в отношении ещё не попадавших в поле внимания. При этом мы учитывали вывод И.П. Смирнова о том, что «всё многообразие диахронических интертекстуальных трансформаций не может быть охвачено лишь с помощью понятий метафоры и метонимии, как бы мы таковые ни интерпретировали - сообразно классической риторике или в духе P.O. Якобсона. Интертекстуальная риторика должна объединиться с теорией диахронии и подвергнуться расширению за счёт учёта таких отношений, которые прежде в её рамках не рассматривались. На выходе текст обретает тематическую автоидентичность относительно источников и одновременно становится в той или иной мере идентичным другим текстам, образующим вместе с ним какую-либо диахроническую систему. Литературное произведение вписано как минимум в две тематические парадигмы - в интертекстуальную и интрасистемную. Иначе говоря, оно открыто дважды: в проекции как на преинтертекст, так и на совокупность диахронически родственных текстов. Мы сможем уверенно эксплицировать трансформацию претекстов, совершаемую данным текстом, только в том случае, если убедимся, что её абстрактный механизм работает (пусть вариативно) как системопорождающий» [Смирнов 1995: 45-46].
Выявление ключевой роли интертекста для понимания романа невозможно без учёта того, что «Доктор Живаго» является текстом, в котором Пастернак «дописывал» незавершённые сюжеты своих более ранних произведений. Этот момент (вслед за И.П. Смирновым) акцентируют в своей работе С.А. Куликова и Л.Е. Герасимова, которые считают интратекстуальный дискурс Пастернака главным в романе [Куликова, Герасимова 2000: 125]. Нам представляется, однако, что при определении приоритетного метода Пастернака должны приниматься во внимание не только аллюзии на его ранние произведения, но и объём скрытой полемики с кем-либо, и картина способов организа
Введение
9
ции материала за счёт какого-либо кода, и многочисленные способы намекания и виды намёков на тексты и произведения других авторов, и, наконец, то, что Пастернак сам применял источниковедческий метод чтения произведений предшественников, в частности стихов А.А. Блока (последнее отмечено в работе [Смирнов 1995: 185]). В пастер-наковедении стало почти общим местом наблюдение, что творчество писателя имеет корни в множестве источников, спектр которых простирается от мифологии, народного творчества, литературы и философии - до музыки, живописи и кино. Написаны десятки работ, посвящённых проблемам, вписывающимся в эти направления, в том числе и избранные Куликовой и Герасимовой. Данное исследование может восполнить дефицит обобщающих трудов, в которых определялись бы «удельный вес» дискурсов Пастернака и диапазон средств и методов его интертекстуальной работы.
Значение интертекстуального анализа в применении к «Доктору Живаго» заключается в том, что он даёт возможность увидеть, как активизируются различные типы эстетик, как взаимодействуют коды, как вскрытие определённого пласта значений позволяет интерпретировать какую-либо деталь в контексте другого кода. Истолкование при этом превращается в комментарий. Или - иначе: полноценный комментарий становится невозможен без истолкования. Толкователь оказывается биографом, а тот, в свою очередь, должен стать дешифровщиком и рассказать об обстоятельствах обращения автора к тому или иному произведению. В работе мы сосредоточены на коннотациях, вторичных смыслах, которые являются следствием множественности кодирования текста. Интерпретировать ту или иную деталь или участок текста - значит понять, как реализуется эта множественность, отреагировать на заманчивость примера Р. Барта, который вслушивался в многоголосие текста. Что касается проблемы интертекстуальности, рассмотрению которой посвящены работы многих исследователей, в частности Б.М. Гаспарова, А.К. Жолковского, И.П. Смирнова, Н.А. Фатеевой, то мы будем исходить из того, что «сигналы интертекстуального отношения имеют двойную функцию - апеллятивную и экзегетическую: они призваны не только сдвинуть внимание реципиента с авторского слова на чужое, заимствуемое и трансформируемое (ведь они некая загадка <...>), но и возвести читателей на такой метауровень, находясь на котором те в принципе могут истолковать значение контакта между двумя текстами, дистанцированными друг от друга во времени. Коротко: в интертекстуальных сигналах (или эмфазах) писатель косвенно формирует своё понимание того, как и куда течёт историческое время» [Смирнов 2002].
Круг претекстов «Доктора Живаго» чрезвычайно широк. Его максимально возможный учёт, а также то, что у Пастернака практически нет явных цитат7, затрудняет анализ романа в том числе и тем, что связан с необходимостью описания источников, интертекстуальные следы которых обнаруживаются в романе. Вскрытие различных значений
7 Те цитаты, что присутствуют в романе, вводятся на уровне метатекста и с указанием автора (Пушкин, Тютчев, Шекспир и др.) с целью неявного ввода себя Пастернаком в историю и литературу.
10
Введение
какой-либо детали или участка текста размывает синтагматику работы, уводит в сторону и, в общем-то, разрушает последовательность анализа. Тем не менее, выявление максимума интертекстуальных связей позволяет выстроить костяк той роли, которую играет в романе тот или иной персонаж или деталь. Особенности романа определяются, в частности, тем, что Пастернак строил его с использованием моделей мифологических, сказочных, а также моделей предшествующей литературы, будь то сюжетные линии романов или традиционные темы. В исследовании предпринята попытка выявить особенности трансформаций этих моделей, рассматривая их манифестации в тексте и их взаимодействие с учётом композиционной структуры, исследованной в работе «Сказочные ключи к “Доктору Живаго”» (Пятигорск, 2007). Кроме того, проанализированы «составные» некоторых персонажей и ситуаций в литературном, автобиографическом, социальном контекстах. Выявление особенностей композиционной структуры «Доктора Живаго» было необходимо, поскольку нарушающий линейность, размывающий принципы организации повествования напор претекстов был столь велик, что Пастернак, в многочисленных попытках дать в произведениях (особенно в предваряющих «Доктор Живаго» попытках писать роман) широкую панораму исторических событий, неоднократно останавливался перед описаниями периодов информационных «взрывов» (Ю.М. Лотман), поскольку не мог найти способ вмещения их в повествовательное целое. Такими периодами, ломавшими организованное авторской волей описание предшествующих им времен и событий, было время революции 1917 года, перед невозможностью адекватного изображения которого Пастернак остановился в «Повести» (а в «Докторе Живаго» посвятил лишь изображение провинции в это время), и время с 1929 года до конца Великой Отечественной войны. В романе 1930-е годы вообще выпали из повествования, а войне посвящены лишь несколько главок, изображающих не её, а изменения, произошедшие с Гордоном и Дудоровым.
В принципе, каждое из отражений чужих текстов в «Докторе Живаго» может быть рассмотрено по «вертикали»: можно проследить, как многократно и многообразно использован в романе тот или иной мифологический сюжет, сказка, произведение литературы, собственная биография Пастернака или биографии других людей. Роман даёт яркие иллюстрации теоретического положения, гласящего, что обращение к претексту в творчестве писателя обязательно повторяется. Вообще подробное и последовательное рассмотрение связей «Доктора Живаго» лишь с каким-либо одним текстом потребовало бы (в оптимальном случае) интерпретации сквозь призму этого текста всего романа. И хотя такая работа чревата избыточностью, мы всё же предпринимаем несколько опытов такого рода, используя по мере необходимости и сил уже имеющиеся интерпретации, сделанные исследователями. Оправдание такой избыточности можно видеть, в частности, в том, что материал, который любая из задействованных в тексте чужих моделей в определённом перечне ситуаций организует, у Пастернака в каждом случае преобразовывается с учётом окружающего контекста, и результаты таких наложений моделей на текст романа всякий раз продуцируют новые смыслы. Их порождение и делает ро
Введение
11
ман уникальным явлением культуры. Избыточность многократного наложения на текст одной и той же модели и выявление её реализаций, а также, с другой стороны, исследование изоморфизма текстов вскрывают смысловой потенциал произведения, что уже было предпринято нами как при исследовании влияния на роман Пастернака моделей и мотивов русской волшебной сказки и посвящённых их исследованию трудов В .Я. Проппа в работе «Сказочные ключи к “Доктору Живаго”», так и при анализе следов, оставленных в романе творчеством и биографическим «текстом» П.Я. Чаадаева (в монографии «Пастернак и Чаадаев» [Пятигорск, 2009]). В идеале необходимо было бы составить исчерпывающий «каталог» всех манифестаций в «Докторе Живаго» той или иной использованной писателем модели, но получившаяся огромная работа была бы тогда аналитическим и принципиально неполноценным двойником «Доктора Живаго» - таким же, как и другие подобные двойники, стремящиеся исчерпать роман каждый в своей сфере. Данное исследование - шаг на пути к комплексному рассмотрению произведения с учётом многих вступающих в работу культурных моделей. Именно множественностью источников обусловлена фрагментарность и калейдоскопичность «Доктора Живаго» и его многомерность и многоголосость. Связанная с этим нелинейность компенсируется жесткостью линейного построения, в котором субтексты разных видов образуют группы, связанные отношениями параллелизма и контраста. Эти отношения обеспечивают дополнительные возможности перекличек и переходов от одного элемента текста к другому, связанному с ним пучком смыслов. Переклички поддерживаются и внутренним динамизмом повествования. Регулярность вступления в работу субтекстов обусловливает сюжетику, которая по необходимости подчиняется аналитическому подходу писателя к выстройке повествования. За композиционное же размещение субтекстов ответственна не только «эстетика», но и идейное задание, которое выполняет именно такая специфика выстройки романа.
Неизбежно возникающий во всяком исследовании интертекстуальности вопрос о границах этого понятия осложняется, если учесть, что её можно рассматривать «уже не как феномен, создаваемый письмом, но как продукт чтения. Проблема в данном случае заключается уже не в том, чтобы идентифицировать интертекст, а в том способе, каким он может или должен читаться: в этом случае интертекстуальность определяется через посредство актов чтения» [Косиков 2008: 56]. В данной работе использован в основном метод прочтения, объединяющий анализ присутствия в «Докторе Живаго» следов чужих произведений со вскрытием следов биографий их авторов, причём эти биографии составляют такой же текст жизни, как и события социально-исторические. Это объясняется тем, что в мире Пастернака текст литературы не только не отделён непроходимыми границами от текстов биографий их авторов и общего текста жизни, но, напротив, слит с ними. С учётом предварительно проанализированной композиционной структуры романа, позволяющей видеть его как систему параллелизмов и определять регулярность присутствия трансформируемых интертекстов, так сказать, на макроуровне, способ анализа следов чужих текстов в произведении используется в двух разновидно
12
Введение
стях: 1) их поиск в пространстве «Доктора Живаго», предполагающий проекцию романа на чужой текст, и здесь ключом служит понимание специфики пространственной структуры произведения, параллелизмы которой позволяют опознать чужое слово в его любой трансформации, и 2) наложение претекста на «Доктора Живаго», дающее возможность увидеть именно те участки текста, которые вступают в интертекстуальные отношения с чужим словом. Такие подходы позволяют избежать произвольности и одноразовости прочтений и уйти от «чтения как сугубо принудительной процедуры, когда интертекст становится формой террора», когда интертекст, по мысли М. Риффатера, -«это уже не то, что я свободно могу воспринимать, а то, что я обязан выискивать» (цит. по: [Пьеге-Гро 2008: 57]). Особенно таким «террором» грешат большие по объёму претексты. Выступающие в таком качестве романы входят в отношение когерентности с «Доктором Живаго», и потому мало кто берётся за выявление максимума связей крупных произведений. Предпринимая такие попытки, мы руководствовались принципом, что наилучшая интерпретация - та, что открывает путь новым толкованиям, а максимум выявленных связей увеличивает возможности толкований.
Для характеристики «Доктора Живаго» как интертекстуального романа лучше всего подходит образ палимпсеста, использованный Т. Де Квинси в «Suspiria de profundis», составляющих продолжение «Исповеди англичанина, любителя опиума»» при определении особенностей работы человеческого мозга: «Что такое мозг человеческий, как не дарованный нам природой палимпсест? Мой мозг - это палимпсест; твой, о читатель, -тоже. Потоки мыслей, образов, чувств непрестанно и невесомо, подобно свету, наслаивались на твоё сознание, и каждый новый слой, казалось, безвозвратно погребал под собой предыдущий. Однако в действительности ни один из них не исчезал бесследно. Если на каком-либо пергаменте, хранящемся среди прочих письменных свидетельств по архивам и библиотекам, легко обнаружить явную нелепость и несуразицу, что нередко происходит при гротескном смешении разнородных тем, не связанных между собой естественным образом, а поочередно заносившихся на один и тот же свиток по чистой прихоти случая, то на нашем собственном нерукотворном свитке памяти, на палимпсесте человеческого сознания, нет и не может быть ничего обрывочного или обособленного. Быстротечные события и мимолётные картинки жизни подчас и в самом деле выглядят несовместимыми и разрозненными, но основополагающие законы, кои сливают их в нерушимую гармонию и выстраивают вкруг изначально незыблемых средоточий, невзирая на всю пёструю разнородность привносимых действительностью явлений, не дозволят рушить величие, заключённое в единстве человеческой личности, не потерпят, чтобы что-либо возмутило его последний покой в минуту агонии, когда прошлое проходит перед нами в обратной последовательности, или в момент какого-либо другого конвульсивного содрогания» [Де Квинси 2000: 151-152].
Образ Де Квинси, для которого «палимпсест - это, в первую очередь, не метафора, представляющая работу памяти и забвения», а «предмет, носящий в высшей степени исторический характер» [Пьеге-Гро 2008: 200], содержит не только представление о
Введение
13
регрессивном движении к первоисточнику при считывании более старых слоёв текста, чему у Пастернака соответствует представление о движении истории в будущее как возврате к древности (о чём ниже); при этом в роли такого первотекста предстаёт, с одной стороны, Библия, композицию которой повторяет роман (уже - Евангелие, апокрифически тематизированное в «Стихотворениях Юрия Живаго», и Откровение Иоанна, предстающее как дух творчества, которое его «дописывает», и дух новой жизни после «конца истории»), с другой - «сангвиническое свинство жестоких, оспою изрытых Калигул» (IV, 13). Образ палимпсеста позволяет говорить и о возможной иерархии огромного количества претекстов, подобных иерархии воспоминаний, хранимых и теряемых памятью, которая, как и личность, характеризуется единством и непрерывностью. Вместе с тем интертекстуальность предстаёт и как «нечто совершенно чуждое истории литературы, ибо она полностью нарушает порядок следования произведений и разрывает отношения порождения и филиации между ними» [Пьеге-Гро 2008: 175]. Роман работает не только как хроника истории России первой половины XX века, но и как память об этой истории, в которой что-то теряется, что-то истолковывается иначе, нежели официально. С этим связаны, в частности, анахронизмы, отмечавшиеся исследователями и мемуаристами. Темпоральность письма Пастернака оказывается изоморфна темпоральное™ истории, и это является одним из важных показателей «итоговости» романа. «Доктор Живаго» так же хорошо «поддаётся генеалогическим методам исследования», как и палимпсест, который является «привилегированным образом интертекстуальности, ибо она тоже представляет собой работу по накоплению текстовых отложений; нередко она стимулирует такое прочтение и такую интерпретацию текста, когда главное заключается в обнаружении в нём скрытых следов иного текста. Этот образ не нейтрален, он отсылает к особой текстовой модели - такой модели текста, в которой он мыслится как нечто единое, а гетерогенность оказывается всего лишь обратной стороной глубинной гомогенности» [Пьеге-Гро 2008: 166-167].
Образ палимпсеста был близок и самому Пастернаку, о чём свидетельствует эпиграф из романа М. Пруста «В поисках утраченного времени» к книге стихов «Когда разгуляется»: «Un livre est un grand cimetiere ou sur la plupart des tombes on ne pent plus lire les noms effances»8 (II, 148). Именно «стёртостью имён» объясняется преимущественное отсутствие в романе упоминаний скрыто цитируемых авторов, с которыми он полемизирует, которых пародирует и которых «дописывает». «Стёршиеся имена» - это и счищаемые динамикой повествования слои истории, чужих текстов и биографий, литературных сочинений и фольклора, научных и алхимических трактатов и инициаций - от мифологических до масонских и розенкрейцерских. Интертекстуальность как скрытое цитирование предстаёт огромным количеством эпитафий, а роман/книга - кладбищем культуры, где выборочно работает лишь память. «Стёртость имён» сигнализирует о
8 «Книга - это большое кладбище, на многих плитах которого уже не прочесть стёршиеся имена» (франц.) •
14
Введение
«смерти автора» как показателе «конца литературы», что в романе буквализировано нарастанием безличности текста к концу повествования и приобретением текстом анонимности, которая аналогична анонимности первоисточника - Библии. Уничтожение произведения как литературы, его выход за пределы литературы оборачиваются приобретением им статуса несравненно более высокого. С другой стороны, представление о «Докторе Живаго» как многослойном интертекстуальном палимпсесте позволяет говорить о том, что введение новых слоёв и их трансформация Пастернаком являются поиском своего пространства в искусстве и истории среди исторического и культурного массивов прошлого и современности9. Интерпретируя претексты, Пастернак оказывается их комментатором, стимулируя соответствующее отношение и к своим текстам. Так размывается граница между художественным текстом и комментарием и между художественным текстом и действительностью, между научным исследованием и его объектом, текстом и жизнью (субъективный пример чего - данная работа). Высокий статус литературы, исторически сложившийся к началу XX века в России, в советское время (если не считать сервилистскую советскую литературу) парадоксальным образом стал ещё выше - О.Э. Мандельштам в 1934 г. говорил о том, насколько велико значение поэтического слова, если за него убивают [Мандельштам Н. 1989: 149]. Это означает, кроме прочего, что литуратура стала восприниматься на правах действительности, более того - в качестве явления, способного изменять её. Литература приобрела статус первичности по сравнению с действительностью. Не этим ли объясняется отношение большевиков к печатному слову, выразившееся, в частности, в репрессиях в отношении писателей, в затушёвывании имён репрессированных партийных лидеров и ликвидации страниц со статьями о них в уже отпечатанных томах энциклопедий, в запрете на публикации, в миллионных тиражах творений генсеков, в перманентном переписывании истории, в истории публикации «Доктора Живаго» на Западе10 и травле Пастернака? Интертекстуальность романа была ещё и «маскирующим покровом, косвенным способом выражения в условиях, когда речь несвободна, а к читателю невозможно обратиться напрямик» [Пьеге-Гро 2008: 144].
Критерием внутренней надёжности представления о «Докторе Живаго» как интертекстуальном палимпсесте служит его модификационный потенциал. Эта модель строения произведения может быть экстраполируема и на другие романы Серебряного века. Теоретически выводимый модификационный потенциал подсказан вариативностью пастернаковского понимания истории, отразившейся в «Докторе Живаго». Роман имеет одной из главных тем течение истории, но и сам, как показала полувековая история его присутствия в культуре, воздействует на историю. Ретроактивность «Доктор Живаго» заключается в том, что он возвращает тайное течение истории к цикличности, которая
9 См., например, анализ отрывка, в котором описывается поездка Юрия Живаго и Тони на ёлку к Свентицким и в котором присутствуют отсылки к «Фонарю» Г.Р. Державина, «Посланию Юдину» А.С. Пушкина и «Невскому проспекту» Н.В. Гоголя: [Matich 1999: 209-210].
10 О причинах энтузиазма, с которым был воспринят роман на Западе см.: [Hampshire 1978: 126-127].
Введение
15
явным образом усиливается по мере движения повествования к «Эпилогу» и в «абсолютном», мифологичном виде являет себя в «Стихотворениях Юрия Живаго». Надвигающееся будущее в романе тайно занято восстановлением ритуальных циклических действий в противовес явной усиливавшейся ритуальности советской жизни, являвшей собой ритуал навыворот.
«Доктор Живаго», как одно из «итоговых» произведений литературы Серебряного века, продолжает оказывать сильнейшее влияние на современную русскую литературу и является показательным примером столкновения характерных для модернизма художественных процессов ломки и сохранения традиции. Анализ творческой реализации результатов данного столкновения востребован, на наш взгляд, не только в силу сохраняющейся актуальности этих процессов, происходящих на новом витке в социальноисторической, идеологической и других сферах, но и потому, что эти результаты являют собой модель современного мировидения, предвосхищенного Пастернаком. «Доктор Живаго» опередил своё время не только в силу «технических средств», пущенных в ход в небывалой до тех пор концентрации и качественном составе, но и духовным зарядом, влияние которого в последовавшие после выхода романа десятилетия трудно переоценить. Вскрытие интертекстуальных составных произведения дает ключ к смысловым глубинам романа, которые иным образом - в силу его «таинственности» (И.П. Смирнов) - не «прочитываются».
Глава 1
Пастернак и его роман в контексте традиции1
Многие из нас (я в том числе) делают всё от нас зависящее, чтобы сделать совершенною редкостью тип чтения невоспроизводящего, чтения про себя, когда читатель, напав на углублённость авторских смыслов и убедившись в разъяснимости их не как в одной понятности только в современном значении этого слова, отдаётся этой игре как особенному наслаждению; игре проникновения в автора, характер того движения, с каким это проникновение совершается и может быть совершено, коэффициент разъяснимости придаёт характер всей книге; это её дыхание. <...> Сейчас это редкость.
Б. Пастернак. Письмо к К. Локсу от 13 февраля 1917 г.
1.1. «Доктор Живаго» как явление «конца литературы»
«Они» - так называл Борис Леонидович Пастернак «советских руководителей и шире - систему» [Емельянова 1997: 59] - после его смерти только и позволили, чтобы появилось постыдное сообщение о том, что умер член Литфонда (см.: [Пастернак Е. 2001: 54]). Л.К. Чуковская считала, что это было «нарочно придумано в оскорбление почившему! в уничижение славы России!» [Чуковская 1997, И: 395]. Характерное проявление нравов времени по-своему подтвердило предсказание из стихотворения «Август» о том, какими будут похороны. В стихотворении ни слова не было о «них» - «их» для Пастернака не существовало. Стоит отметить, что данное именование совпадает с названием первой части статьи И.Ф. Анненского «О современном лиризме» (1909), опубликованной в «Аполлоне», 1909, № 1. В этой ироничной статье, о которой С.К. Маковский упоминал как об «Они» [Маковский 2000: 158], Анненский давал оценки поэтам 1900-х годов. Если у Анненского в обозначении «они» можно усмотреть, как полагает Н.Т. Ашимбаева, «внутреннее отталкивание <.. .> от символизма» (см.: [Анненский 1979: 632]), то у Пастернака в «они» звучит гораздо более сильное отталкивание (в пользу культурной преемственности по отношению к символизму) от советских деятелей и создаваемой ими атмосферы.
1 Глава была опубликована в: [Буров 2009г; 2009д; 2009е].
Пастернак и его роман в контексте традиции
17
Официальная нереакция на смерть, стремление сделать похороны как можно более незаметными не были необычны для России ещё со времён Бенкендорфа, задавшего этот «инвариант» в отношении А.С. Пушкина, и свидетельствуют о месте, которое писатель занимает в духовной истории страны. До 1988 г., когда «Доктор Живаго» был, наконец, опубликован в Советском Союзе, в печати исключались даже упоминания о романе. Примерами тому - вступительные статьи А.Д. Синявского к однотомнику [Синявский 1965] и Д.С. Лихачёва к двухтомнику [Лихачёв 1985] произведений Пастернака, которые разделяют два десятилетия. Проницательная догадка об одной из самых весомых причин запрета романа на родине была высказана ещё в 1967 г. американскими исследователями: «In Yuri Zhivago, Boris Pasternak has created an authentic positive hero in the mainstream of Russian tradition. That current is still running strong in the Soviet Union today, though mostly underground and hence out of sight. There are probably millions of Russians now living who, if they had access to Pasternak’s novel, would immediately recognize and respond emotionally to the kenotic life and death of Yuri Andreevich. That is the real reason why Doctor Zhivago has not yet been published in the U.S.S.R. The Soviet hierarchy, with their literary henchmen, simply do not dare to expose the Russian people to so eloquent and moving a restatement of the Christian kenotic ideal»2 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 182].
В течение 30 лет подпольного существования «Доктор Живаго» стал неотъемлемой частью неофициальной культуры, что парадоксальным образом вполне соответствовало как нежеланию самого Пастернака быть частью официальной культуры (он не любил и самого слова «культура»), так и характерному для Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и для писателей Серебряного века стремлению выйти за пределы литературы, обозначить этим выходом «конец литературы». В том числе и поэтому «Доктор Живаго» можно считать произведением, подытоживающим жанр романа в литературе Серебряного века и в целом эпоху. Впрочем, многие из писателей, творивших в этот период, своим итоговым произведением обозначали как конец жанра (стремясь конденсировать и тем самым сохранить «память» всех жанров), так и «конец литературы» (используя в литературном произведении коды других видов искусства), выход за её рамки, что было отмечено А.Д. Синявским. И.П. Смирнов указывает, что «роман в качестве инолитературного минимума не только критикует и высмеивает канонические жанры, но и с вполне позитивным пафосом интегрирует в своём корпусе (пусть иллюстрацией послужит лирическая поэзия, которую Гессе вкрапливает в “Das Glasperlenspiel”3, а Пастернак в эпи
2 «В Юрии Живаго Борис Пастернак создал образ подлинно положительного героя, находящегося в русле традиции русской литературы. Эта традиция всё ещё сильна в Советском Союзе, хотя и остаётся в основном подпольной и скрытой. Вероятно, если бы миллионы живущих сейчас русских имели доступ к роману Пастернака, они немедленно признали бы его и эмоционально откликнулись на жертвенную жизнь и смерть Юрия Андреевича. Именно это настоящая причина того, почему «Доктор Живаго» всё ещё не опубликован в СССР. Советская верхушка со своими литературными прихвостнями просто не может осмелиться поставить русский народ перед новым, таким красноречивым и трогательным утверждением христианского жертвенного идеала» (англ.).
3 «Игре в бисер» (нем.).
18
Глава 1
лог “Доктора Живаго”, - оба автора идут в этом за Новалисом). <.. .> Роман готов в равной степени как компрометировать прочие жанры, так и спасать их, даруя им вторую жизнь» [Смирнов 2008а: 180].
Однако Пастернак шёл не только вслед за Новалисом, но и за Ф. Шлегелем, модернизировав их проекты романа будущего. Он не только поэтизировал прозу, но и сделал частью повествования стихи героя. «О том, что “совершенный роман” обязан включать в себя эпос (“поэзию природы”), писал Фридрих Шлегель (“Фрагменты”, 1797-99). Новалис противопоставлял в своих заметках (1798-1800) “прозаическому” роману Гёте “Годы учения Вильгельма Мейстера” проект такого романа, который будет “поэзией”, бесконечной в качестве изъявления Духа и отражения непредсказуемых случайностей, открываемых и программируемых уже рождением человека)» [Смирнов 2008а: 175].
Как полагает Т. Сейфрид, роман Пастернака «is not entirely unique in its strangeness, and may therefore alert us to the presence of a more widespread phenomenon in Russian literature of the mid-twentieth century that could be thought of as a particular kind of post scriptum to Russian modernism»4 [Seifrid 2009: 178].
Стремясь написать именно роман, Пастернак не только оживлял, но и отменял жанр романа, как делал то же самое и в отношении литературы в целом, а также философии и истории5. Выход за пределы всего вышеперечисленного продемонстрирован в «распадающемся» письме «Эпилога», написанного «ногами», как определял Пастернак в разговоре с А.Д. Синявским своё желательное письмо в будущем, и являющего пример самоупразднения литературы. Последнее подтверждается и многочисленными случаями отрицания Пастернаком современной литературы и неприятия позиции Маяковского: «больше поэтов - хороших и разных». Прагматика «плохого качества» «Эпилога» (как, в принципе, и всего романа, и «плохого» письма Пастернака, о котором он говорил на III пленуме правления Союза писателей в Минске в 1936 г.) заключается в том, какими видел Пастернак аудитории читателей, сферы хождения романа и особенности его воздействия. Многочисленные высказывания писателя на этот счёт содержатся как в его произведениях, так и в письмах и высказываниях, записанных мемуаристами. Тенденции, подводящие к «распадающемуся» «Эпилогу», можно определить как стремление к минималистичности; как упрощенчество, соответствующее примитивизации советского мира и всё более определяющейся социальной идентификации повествователя-Евграфа; как намеренную наивность в шиллеровском смысле6, парадоксально компенсированную стремлением избегать наивности; как стремление к спрессовыванию информации, разогреваемое колоссальным объёмом стоящей за автором культуры прошлого;
4 «Не совершенно уникален в своей странности и поэтому может предупредить нас о присутствии более распространённого феномена в русской литературе середины XX столетия, который может быть назван особой разновидностью постскриптума русского модернизма» (англ.).
5 См.: [Смирнов 2008а: 9-10]; там же - обзор работ по данной теме.
6 См. [Hampshire 1978: 127]. О «наивности» Пастернака по сравнению с толстовской см. [Gifford 2003: 77].
Пастернак и его роман в контексте традиции
19
и как следствие того, что «внутрироманная динамика движет текст от избыточности <.. .> к оптимуму» [Смирнов 2008а: 184-185]. Этот оптимум в «Докторе Живаго» - следование «вековому прототипу» через всё большее обнажение структурности, указывающее на композиционное сходство с Библией, редукции текста до состояния предания.
Поскольку «Доктор Живаго» генетически связан с Серебряным веком русской литературы, отдельно следует сказать об этом понятии. О. Ронен, предпринявший «исторический обзор употребления термина “серебряный век” применительно к первым двум или первым трём-четырём десятилетиям XX века и критическую проверку его уместности в отношении к этому периоду истории русской словесности», усмотрел в нём «просто расхожий штамп, по сути дела, лишённый всякого исторического, хронологического и даже ценностного содержания» [Ронен 2000: 31,30]. Учитывая столь суровый приговор, который тем не менее не отменяет бытования данной «металлургической метафоры», стоит определиться в том, что будем понимать под ним и в каких временных границах Серебряный век числить. Мы будем использовать этот термин как обозначение культурного феномена в истории России конца XIX-первой половины XX веков, в рамки которого вписывается творчество Пастернака7. О временных границах Серебряного века можно говорить, исходя из его знаковых проявлений, будь то заметные произведения (и появляющиеся одновременно во множестве, и единично) или поворотные пункты в биографиях художников. Можно ли, к примеру, сказать, что Ахматова 1920-х принадлежит Серебряному веку, а Ахматова 1960-х уже нет? Покуда художник жив и творит в рамках одной и той же, пусть и эволюционирующей эстетики, жив и сам культурный феномен. Автор ведь не может менять, как перчатки, ни свою поэтику, ни философию. А термин, который на протяжении своей истории мог быть и определением, - лишь условность, которая, хочет того исследователь или нет, но существует помимо него и независимо от его желания произвести деконструкцию. Представляется, что надежда О. Ронена на то, что «знание истории ошибочного термина убедит читателей и филологов изгнать из чертогов российской словесности бледный, обманчивый и назойливый призрак обозначенного им, но не существовавшего в двадцатом столетии историко-литературного явления» [там же: 124], так надеждой и останется. Хотя бы потому, что, как сам он и показал, термин живёт напряжённой и совершенно разной жизнью со времен Баратынского и помирать не собирается. Если порой термин и отличается «жеманностью» [там же: 114], то дело скорее не в нём, а в контекстах употребления. И вряд ли можно сказать, что он слишком мешает анализировать литературный процесс и отдельные произведения. Рассматривать «Доктора Живаго» как явление Серебряного века имеет основание и смысл потому, что, отталкиваясь от авангарда, который, по словам И.П. Смирнова, «обнаружился в виде преддверия тоталитарной эстетики», Пастернак обращался к опыту и эстетике символизма, радикально переосмысливая их при этом (см.: [Bird 2009: 192]). Этот неосимволизм Пастернака кровно связан с «родовым ло
7 О европейском культурном фоне Серебряного века: [Cassedy 1999: 9].
20
Глава 1
ном» символизма и, следовательно, с Серебряным веком как культурной ситуацией и феноменом. Заметим также, что «металлургичность» термина «Серебряный век» в применении к творчеству Пастернака имеет смысл ещё и потому, что этот термин стоит рассмотреть в свете ориентации автора «Доктора Живаго» на алхимию и учесть алхимическое значение серебра по отношению к золоту. То есть, если Серебряный век представал в этом случае как деградация Золотого века русской поэзии, то «Доктор Живаго» был для Пастернака, так сказать, возвратом к этому Золотому веку в будущем, работа над романом - аналогом алхимического продвижения к золоту, результату, который внешне представал тем большей деградацией (отсюда псевдосогласие Пастернака признать «Доктора Живаго» неудачей), тем менее зрелым металлом, чем более внутренне становился всё более полновесным8.
Необычайной смысловой насыщенностью обладают вообще все тексты Пастернака, и он уже в 1910-е годы «seems to have places particular importance on signs and their interpretations»9 [Mallac 1983:133], но степень этой насыщенности в «Докторе Живаго», пожалуй, самая высокая. В частности поэтому, по оценке Т.Л. Фроловской, «у Пастернака нет в романе ни одного случайного слова» [Фроловская 2008: 287]. Писатель достиг в романе того, о чём писал в письме к родителям от 17 июня 1926 г.: «Я выражу не всё, но очень много о себе, если скажу, что отличительная моя черта состоит во втягивании широт, и множеств, и отвлечённостей в свой личный, глухой круг; в интимизации когда-то - мира и теперь - истории, в ассимиляции собирательной, сыпучей бесконечности - себе» [ПРС 2004: 301].
В связи с этим нам представляется неверным заключение М.Ю. Лотмана о том, что «интертекстуальность в поэтике Пастернака не играет существенной роли» [Лотман М.Ю.: 91]. Дело обстоит как раз наоборот. «Доктор Живаго» - один из самых сложных вариантов модели, которую представляет собой Серебряный век как целостное явление культуры. Пастернак, с одной стороны, демонстративно возвращался к жанру романа, с другой - не только не мог не создавать модель романа Серебряного века в предельной стадии зрелости, но и явил едва ли не финальную её стадию, демонстрирующую разложение жанра и обнажение изношенных приёмов романного повествования и использованных культурных кодов. В этой стадии динамика повествования вступает в прямую зависимость от смыслового насыщения за счёт интертекстуальных связей, дают о себе знать тематические доминанты, связанные с советским миром10, и «умонастроение утопии» - «общий знаменатель, под который можно подвести и символизм, и футуризм, и общественную реальность послереволюционной России» [Аверинцев 1996:
8 Ср.: трансмутацию «золота» пушкинской эпохи в «серебро» у Ахматовой [Ронен 2000: 63].
9 «Придавал, похоже, особую важность знакам и их интерпретациям» (англ.).
10 Анализ таких доминант, которые «формируют жанровый облик романов и пронизывают многие стороны их фабулы, стиля, системы персонажей», предпринятый в отношении романов И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ю.К. Щегловым [1995а: 21-29], мог бы быть направлен и на «Доктора Живаго» и представлять собой отдельное исследование.
Пастернак и его роман в контексте традиции
21
216] - трансформируется в антиутопичность. Неслучайно, что уже после завершения романа Пастернак в письме к Н.А. Табидзе от 11 июня 1958 г. писал о конце всего советского периода и о новом художнике: «Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и ещё небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней» (X, 336).
Заметим, что одна из самых ранних поэтических параллелей к этой мысли содержится в стихотворении «Грозя измереньем четвёртым» (1909-1912), в котором поэт предсказывал свою судьбу:
Я чуял над собственным бредом Всплеск тайного многолепестья, Мой венчик, незрим и неведом, Шумел в запредельное вестью (II, 301).
Эти слова мог бы также произнести лежащий в гробу Юрий Живаго, окружённый цветами. Покойникам, которых хоронят по православному церковному обряду, кладут на лоб «венчик», однако доктор был сожжён в крематории, и Лара, стоя перед гробом, сожалела о том, что не был проведён церковный обряд.
Приведённые слова из письма - свидетельство чуткости к процессам, продвигающим смену периодов истории и культурных моделей. Но Пастернак, писавший «свой роман в эпоху распада реальности», не только подытоживал жанр, но и ввёл в него «новое измерение». Он «столкнул воз русского романа с мёртвой точки и повёл его <.. .> по направлению совершенно новому, ещё не нанесённому на карту» [Франк 1959]. Письмо от 11 июня 1958 г., убеждённость Юрия Живаго в том, что «смерти нет» (IV, 69), и другие подобные заявления являют собой констатацию разрушения алгоритмически повторяющихся циклов исторического времени и социальных ситуаций. Стремление к возрождению жанра романа обратной стороной как раз и имеет тенденцию к его разрушению. И то и другое происходит за счёт тяготения к полижанровости - к смешению жанров словесного творчества и разных видов романа. Жанровое самосознание «Доктора Живаго» позиционирует себя в противовес жанровой имитации современной Пастернаку советской литературы, а также в противовес жанровым представлениям предшествующих течений русской литературы, хотя и с различной степенью притяжения-отталкивания. Оппозитивность этих противовесов определяется их инобытийностью, главный признак которой - принадлежность к «враждующим» временам. Активно инобы-тиен и сам «Доктор Живаго», изначально исключённый автором из советского литературного процесса. Если выражаться в терминах П. Бурдьё, то Пастернак, приступая к роману, вступил не просто в конкурентную борьбу, но в войну с советской литературой
22
Глава 1
за распоряжение «символическим капиталом» культуры. Такая борьба «реконфигурирует социально признанную, установившуюся было иерархию эстетических ценностей» [Смирнов 2008а: 46]. Разнородные проявления полижанровости в своём движении (например, большая ориентация на волшебную сказку во Второй книге романа, на Библию, а также Апокалипсис в общей композиции целого, особенно выявляемой при переходе от прозаической части романа к стихотворной) накладываются, как в средневековой литературе, на время письма - время работы Пастернака над романом (и наоборот: время письма - на движение жанровых доминант). Стоит заметить, что ход соответствующих событий жизни писателя ещё не соотносился исследователями с ходом повествования, тем более что Пастернак отрицал «зрелищное понимание биографии» и дистанцировался от сходства со своим героем.
Значимое отсутствие в литературе (и в плане официального признания, и как позиция) отмечалось самим Пастернаком. Так, 21 апреля 1951 г. он писал Е.Д. Орловской: «Меня сейчас в литературе нет <...>, и меня давно уже не интересует, справедливо ли это или несправедливо. Эта сторона моей судьбы не трогает меня и в моём сознании не существует. Я роман пишу, мысленно видя его напечатанной книгой; но, когда именно его напечатают, через десять месяцев или через пятьдесят лет, мне неведомо и одинаково безразлично: промежуточные сроки для меня нулевого значения, их тоже не существует» [Пастернак 1989-1992, III: 669].
Это «отсутствие» в литературе влекло за собой соответствующую недоступность. Если с недоступностью текста «Доктора Живаго» для советского читателя до 1988 года всё ясно, то недоступность в плане читательского понимания тоже имеет две стороны. Это так называемая «непонятность», усиленно раздувавшаяся советскими литературными чиновниками, гонителями Пастернака типа А. Суркова, и «непонятность», которая, по сути, является читательской неспособностью адекватно прочесть Пастернака, вскрыть использованные им культурные коды11. Этому вскрытию посвящены многие работы, появившиеся как в России, так и за рубежом. И.В. Кондаков отмечает, что «опыт прочтения современниками романа <.. .> представляет собой одну из самых печальных страниц истории русской критической мысли. <.. .> Читатели и критики <.. .> как будто соревновались между собой в нарочитом непонимании романа» [Кондаков 1990].
В какой-то степени «непонятность» объясняется и тем, что «Доктор Живаго» намного опередил своё время, но можно рассматривать её и как советскую мифологему, появившуюся в результате долгого официального принижения творчества Пастернака и его места в русской литературе. Впрочем, ещё в 1959 г. было отмечено: «One cannot expect any common agreement about detailed interpretation of a novel as a complex as Pasternak’s
11 По определению P. Барта, «культурный код» - это «перспектива цитаций, мираж, сотканный из структур, осколки чего-то, что уже было читано, видено, совершено, пережито: код и есть след этого “уже”. Отсылая к написанному ранее, иначе говоря, к Книге (к книге культуры, жизни, жизни как культуры), он превращает текст в проспект этой книги» [Барт 1994: 32-33].
Пастернак и его роман в контексте традиции
23
chef d’oeuvre»12 [Steussy 1959: 184]. Развенчанию мифа о «непонятности» и «плохом качестве» романа посвятил несколько страниц своей книги «Роман тайн “Доктор Живаго”» И.П. Смирнов [1996: 7-9]. Претензии критики, упрекавшей Пастернака в проповедническом тоне, недостатках в построении сюжета и композиции, отсутствии мотивировки действий героев, стилистической монотонности и провальности «Доктора Живаго» как романа, а также положительные оценки проанализировал Н. Корнвелл [Cornwell 1986: 11-15,28-31 и др.]. Негативность восприятия романа, контрастировавшая с нею высокая оценка «Доктора Живаго» автором и предупреждение им упрёков также не прошли и мимо внимания отечественных исследователей (см.: [Смирнов 1996; Толстой И. 2009: 58-67 и др.]). Сам Пастернак, сообщая 18 апреля 1959 г. сестре Лидии, в частности, о критической статье Дж. Линдси в «Англо-Советском журнале», писал: «Он упрекает меня в неотчётливости характеров, отсутствии причинно-логической связи, необоснованности действий и событий. Допускаю, что его разочарование вполне искренно. И тут внезапно мне всё стало понятно, яснее, чем раньше. Помимо политического, поэтического, идеологического и другого значения, Д<окто>р Ж<иваго> - это вид новой прозы, полностью освобождённой и не замеченной Линдси с его грошовой мудростью именно своей особой новизной. Это те самые неопределённость, недостаток движения, интриги и плотности, которые Толстой ставил в вину чеховским драмам, тогда как то же самое безразличие к страстям, причинам и следствиям, прошлому и настоящему, та же склонность изображать драматически взаимодействующие группы людей, как живые пейзажи, и нисколько не более значительно, весомо и неподвижно, та же излюбленная манера смещать и стирать линии и границы в описаниях как раз была главной силой Чехова и его обаяния как рассказчика, что восхищало Толс<того> в ч<е-ховских> повестях. <...> Дело в <...> непроизвольной новизне духа и стиля, которая действует на простые сердца немудрёных читателей как их собственное сегодняшнее восприятие и не может затронуть самоуверенных специалистов вчерашнего дня с их испорченными и узкими предпочтениями» [ПРС 2004: 850-851].
Стремление Пастернака ввести в историю каждую «мелочь» сказалось в «Докторе Живаго» тем, что любая деталь прочитывается во множестве кодов, которые тем самым оказываются внутренне связаны. Желание изобразить «существованья ткань сквозную» стало творческим ответом писателя как на «конец литературы», так и на практику литературы официальной, разрешённой. Реализация этого желания подразумевала множественность способов кодирования текста, которая, в свою очередь, обусловливает множественность прочтений. Любое из таких прочтений заведомо не исчерпывает всю глубину последнего, но всё же хоть немного приоткрывает его тайны. Это и есть, вероятно, единственное оправдание литературоведческих работ о художественных произведениях. Попытки более или менее полно вскрыть роман с помощью кодов-ключей предполагают
12 «Нельзя ожидать какого-либо общего согласия в отношении подробной интерпретации романа, рассматриваемого в качестве единого комплекса, как пастернаковского шедевра» (англ.).
24
Глава 1
видение структуры линейного пространства текста как изоморфной, отражённой в романе линейной картины хода истории. Такая картина, в свою очередь, выступает противовесом контрастирующей с ней нелинейной и полифонической картине мира, показанного в романе. Структуру пространства мы попытались прояснить путём определения относительно изолированных участков текста [Буров 2007в]. Эта изолированность обусловливается параметрами пространства и времени. «The overall sense of the narrative structure of Doctor Zhivago is perhaps of an admixture of selected highlights and seeming irrelevancies. This feeling is at times both reinforced and yet complicated by spatio-temporal quirks and manoevrings»13 ([Cornwell 1986: 67]; здесь же - обсуждение пространственной модели романа в связи с передвижениями героев). Как показал Б.М. Гаспаров, линейное течение времени в «Докторе Живаго» преодолевается при помощи принципа музыкального контрапункта [Гаспаров Б. 1994: 243-244]. Предварительно предпринятая разбивка линейного пространства демонстрирует, как автор преодолевает линейность истории, так сказать, изнутри. «Горизонтальное» строение романа, система параллелизма позволяет прослеживать внутритекстовые переклички и составлять картину интертекстуальных связей. Что касается последних, то мы исходим из того, что «функция интертекстуального превращения не может быть раскрыта вне и помимо рассмотрения общего тематического задания, которому подчинено произведение» [Смирнов 1986: 207].
Композиционная структура романа, не раз становившаяся объектом внимания исследователей14, была проанализирована нами при изучении сказочной морфологии «Доктора Живаго», и роман был описан в качестве алгоритмической системы субтекстов [Буров 2006а; 20066; 2007в]. Субтекстом мы называем циклически организованное и обладающее чёткими границами сюжетное пространство15, локализация которого обусловлена работой определённого кода (или кодов) и его зависимостью от общего линейного повествования. Собственно, весь роман - это система алгоритмических циклов, каждый из которых являет собой очередной с чего-то начатый и чем-то законченный период жизни главного героя или его двойника-заместителя. Процесс последовательного развёртывания субтекстов обусловливается системой их соотношений, компози
13 «Общий смысл повествовательной структуры «Доктора Живаго» заключается, возможно, в сочетании основных выдвигаемых на первый план моментов и кажущихся неуместностей. Это впечатление временами усиливается и ещё более усложняется пространственно-временными играми и перестановками» (англ.).
14 Первое систематическое рассмотрение особенностей группировки тем и разделения «Доктора Живаго» на части и главы было предпринято в работе: [Scherr 1974]. Исследователь писал, что решением Пастернака «was to de vide the book into a series of sections, each of which persues its own themes or set of themes but is bound to the rest through symmetry, parallelism, and interlocking devices» [Scherr 1974: 274]. («Было разделить книгу на серии глав, каждая из которых проводит свои собственные темы или наборы тем, но связана с остальным текстом симметрией, параллелизмом и другими средствами взамосвязанно-сти» /англ./.) Обзор трудов по этой теме см.: [Cornwell 1986: 34-36]. Из исследований последнего времени следует упомянуть работу: [Суханова 2005].
15 О категории пространства в художественном мышлении Пастернака см.: [Любовь пространства 2008; Абашев 2000: 190-193].
Пастернак и его роман в контексте традиции
25
ционным алгоритмом романа. Этот процесс, в свою очередь, определяет линейную структуру пространства. Роль отдельного субтекста в системе соотношений с остальными проявляется при анализе их совокупности.
Приведём некоторые результаты, которые помогут точнее определить варианты реализации в романе того или иного претекста.
В «Докторе Живаго», состоящем из 17 частей, мы выделяем субтексты пяти видов16:
1. Пять Основных: Начальный, Западный, Восточный, Итоговый, «Стихотворения Юрия Живаго».
2. Три Московских: Довоенный, Революционный, Нэповский.
3. Четыре Промежуточных: Западный I, Западный II, Восточный I, Восточный II.
4. Двенадцать Переправ (I—XII).
5. «Стихотворения Юрия Живаго».
24 субтекста пяти видов соотносятся между собой следующим образом. Если восемь Основных и Московских противопоставить четырем Промежуточным, то соединять (и разделять) их будут 12 переправ. Восемь Основных и Московских и четыре Промежуточных в сумме составляют 12, что уравновешивается 12 Переправами. 23 прозаических субтекста противопоставляются 24-му - «Стихотворениям Юрия Живаго». Этот субтекст занимает особое место в романе и может быть также отнесён к Основным. Можно определить его и в группу Московских; в этом случае он будет значимо нарушать триаду прозаических субтекстов и противопоставляться им, как, впрочем, он противопоставляется любому субтексту любого вида. Находясь, как показала А. Юнг-грен [1982], в отношениях продуктивного конфликта с прозаической частью текста, «Стихотворения Юрия Живаго» создают асимметрию сюжетного пространства, перевешивая Вторую книгу романа в пользу реанимации разрушенной цикличности за счёт линейности. Каждый из пяти видов субтекстов имеет своё место в иерархической системе целого, определяемое композицией романа. Иерархичностью характеризуются и соотношения субтекстов внутри каждого вида. Композиция романа отражает динамику исторического цикла - смену постепенности разными типами взрывов17. Взрывы в «Докторе Живаго» приходятся на осевые субтексты, но центральным звеном внутренне симметричной группы субтекстов может выступать также стык двух смежных субтекстов или их частей (значимое отсутствие текста), соответствующий периоду постепенности.
Из возможных вариантов организации линейной структуры пространства, отличающихся принципами группировки субтекстов, мы выделим три, наиболее показательно демонстрирующих устройство романа. Все эти модели соотносятся как друг с другом, так и с внетекстовыми структурами.
Субтекстовая модель I. В первом приближении к роману явственно проявляется деление на прозаическую часть и «Стихотворения Юрия Живаго», которые находятся в зеркальном соотношении и тем самым свидетельствуют о принципе бинарного струк
16 См. подробно: [Буров 2007в]. Отметим тут же, что все названия субтекстов условны.
17 См. об этом работу Ю.М. Лотмана «Культура и взрыв» [Лотман 2000].
26
Глава 1
турирования, использованном в романе18. Прозаических субтекстов в романе - 23, а стихотворений в 24-м субтексте - 2519. Число 24 является осевым и сигнализирует о зеркальности соотношения стихов и прозы. Его наличие является признаком не только их противопоставленности, но и единства. На уровне романа как целостности Пастернак лишь обозначил наличие этой скрытой структуры, смысл которой заявлен лишь символикой удвоенного числа 12. (Семантика чисел представляет собой отдельную проблему и в задачи нашего анализа не входит.)
Субтекстовая модель II. Все субтексты «Доктора Живаго» распределены в VIII иерархически и зеркально структурированных групп, осевыми центрами которых являются Основные и Московские субтексты. Последние выступают отдельно, без «привязанных» к ним субтекстов, и располагаются между I (Начальной) и II (Западной), II и III, а также III (Восточной) и IV (Московской) группами. Отсутствие четвёртого осевого Московского (Послевоенного) субтекста между VII и VIII группами объясняется особой позицией субтекста «Стихотворения Юрия Живаго», который обладает функциями не только Основного, но и Московского, а также тем, что является отражением трёх Московских субтекстов прозаической части романа. Последняя представляет собой зеркально организованное целое с осью, которой выступает Московский Революционный субтекст. (Ниже мы приведём схему только этой модели и будем рассматривать интертекстуальные связи, опираясь именно на неё.)
Субтекстовая модель III. Если во второй модели в прозаической части «Доктора Живаго» осевыми предстают три Московских субтекста, то здесь - два: Западный и Восточный Основные. Они зеркальны между собой так же, как Начальный и Итоговый, как бы создающие рамку прозаического повествования. Их зеркальность в третьей модели отличается от зеркальности во второй, и различие это заключается в составе окружающих Переправ. Но и в этой модели «Стихотворения Юрия Живаго» выступают в функции противовеса всем четырём Основным субтекстам. Если во второй модели осевые субтексты соотносятся по принципу тернарности, то в третьей - по бинарному принципу. Однако значимое отсутствие текста, выступающего в функции оси между прозой и стихами, дискредитирует оба этих принципа (или же снимает их противопоставленность) на уровне всего текста «Доктора Живаго».
18 «То establish rapport with his reader, Pasternak developed a special metaphorical technique of ellipsis and juxtaposition. His theory seems to be that when two seemingly different but subtly related objects, events, or thoughts are starkly juxtaposed, a sort of chain reaction takes place. Their own interpenetration gradually permits the reader’s mind and reveals a previously unseen relationship» [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 7}. («Чтобы установить связь co своим читателем, Пастернак разработал особую метафорическую технику эллипсиса и противопоставления. Похоже, его теория предполагает, что когда два кажущихся различными, но едва различимо соотносящиеся объекты, события или идеи совершенно противоположны, то происходит своего рода цепная реакция. Их взаимопроникновение постепенно принимается читательским сознанием и открывает до сих пор не видимое взаимоотношение» (англ.).)
19 Заметим, что из 25 строк состоит песня Кубарихи, и это числовое совпадение указывает на духовную «родство» песни со «Стихотворениями Юрия Живаго», а Кубарихи - с доктором.
Пастернак и его роман в контексте традиции
27
Субтекстовая модель II
№ группы и субтекста Название субтекста Место в тексте
I 1. Переправа I отсутствует
2. Начальный Основной ч. 1-2
3. Переправа II отсутствует
II 4. Московский Довоенный ч. 3-4, гл. 1-4
III 5. Переправа III ч. 4, гл. 5-7, 9
6. Переправа IV ч. 4, гл. 8, 10-13
7. Промежуточный Западный I ч. 4, гл. 14, ч. 5, гл. 1-5
8. Западный Основной ч. 5, гл. 6-8
9. Промежуточный Западный II ч. 5, гл. 9-10
10. Переправа V ч. 5, гл. 11-13
11. Переправа VI ч. 5, гл. 14-16
IV 12. Московский Революционный ч. 6-7, гл. 1-7
V 13. Переправа VII ч. 7, гл. 8-26
14. Промежуточный Восточный I ч. 7, гл. 27-31, ч. 8-9
15. Переправа VIII ч. 9, гл. 16
16. Восточный Основной ч. 10-12
17. Переправа IX ч. 13, гл.2
18. Промежуточный Восточный II ч. 13-14
19. Переправа X ч. 15, гл. 2-4
VI 20. Московский Нэповский ч. 15, гл. 1, 5-17
VII 21. Переправа XI отсутствует
22. Итоговый Основной ч. 16
23. Переправа XII отсутствует
VIII 24. «Стихотворения Юрия Живаго» (Основной и Московский) ч. 17
28
Глава 1
О значении, которое имела для Пастернака композиция романа, можно судить хотя бы по оценкам произведений этого жанра, написанных современниками. Несмотря на то, что высказывание о романе Н.К. Чуковского «Юность» (1930) относится к 1930 году, видение Пастернаком того, каким должен быть роман, ко времени создания «Доктора Живаго» в главном не изменилось. В письме от 1 марта 1930 г. Пастернак отметил: «Но что удивительно и с чем Вас нужно поздравить, так это неожиданная зрелость Вашей прозы. Этим словом, немного не подходящим, я разумею тот композиционный тон, который является смыкающим током прозы, без которого всё в ней распадается и перестаёт служить и которым вы завидно легко овладели. <.. .> Уже и первая половина книги, трогающая достоинствами якобы только поэтического порядка, обязана действенностью своих изображений условьям, одной поэзией не дающимся. Они с полной ясностью начинают выступать с середины книги, когда описанье отходит на задний план, очищая место характерам, развитию интриги, развязкам и пр. Здесь, в сфере настоящей прозы, Вы достигли очень многого, и я на Вашем месте только не стал бы называть достигнутое романом, потому что лишь этот уровень, в ваши планы не входивший, замыслом не захвачен, да и захвачен быть не мог» [Письма 1990: 12].
Е.Б. Пастернак вспоминает: «Школьником, читая статью Маяковского, я спросил отца, с чего он начинает писать стихотворение: “Шаги, гуденье, ритм, главное слово, основная строка?” На что он ответил: “Нет, всё это ерунда, всё начинается с композиции, пока нет её пластического целого, ничто ещё не существует”» [Пастернак Е. 1997: 400]. Эти слова Пастернака без большой натяжки можно применить и к его прозе - «Доктору Живаго». Отсюда необходимость определить структурные контуры «пластического целого» и лишь затем приступить к анализу трансформаций какого-либо кода в романе. Заметим, что деление романа на 17 частей отнюдь не случайно. Оно отсылает к легенде о происхождении масонства в древние времена, а именно - во времена после Всемирного Потопа (ср. с созданием «Доктора Живаго» после революций и войн), когда, как передаёт эту романтизированную версию УК. Мак-Налти, «“семнадцать мудрецов построили семнадцать древних памятников” (включая египетские, римские и греческие)», и эти мудрецы (= франкмасоны) стали «строителями нового, божественного и совершенного мира» [Мак-Налти 2006: 46].
С учётом структуры художественного пространства мы рассмотрим особенности инверсирования в романе некоторых литературных произведений, фактов биографий писателей, культурных и других реалий. Логику этой операции И.П. Смирнов определил следующим образом: «Что касается инверсивного развёртывания текста, то здесь мы имеем дело с отрицанием данного и последующим снятием образовавшейся антитезы, то есть не с чем иным, как с триадой тезис/антитезис/синтез: (р —> q) & (р —> q) & ((р —> q) & (р —> q)» [Смирнов 1995: 134].
Инверсирование представляется основной процедурой, которая как метод работы с претекстами потребовалась Пастернаку для компрометации и апологетизирования претекстов, а также моделирования и остранения как культурных, так и социально-полити
Пастернак и его роман в контексте традиции
29
ческих конфликтов. Что касается последних, то отстранение касалось, в частности, «марксистской мысли о том, что борьба против ложного сознания возможна лишь на путях его объяснения» [Барт 1989: 8]. Такое отстранение становилось дискредитацией мифа марксизма, демонстрацией механизма его работы и социально-исторической и культурной детерминированности. Инверсирование литературных (шире - культурных) претекстов во многом производилось Пастернаком в силу неприятия внеисторического мифологизированного сознания. За счёт инверсирования эти претексты включались в историю. Заметим, однако, что это история в пастернаковском понимании и тоже в мифологизированном виде. С собственным мифологизированием Пастернак боролся авто-описательностью как повествователя, так и персонажей (в романе), а также усилением значимости эпистолярного жанра (вне романа).
Между тем смысловые границы повествования не всегда совпадают с внешней разбивкой на книги, части и главы. И совпадения, и значимые нарушения этих совпадений обнажены Пастернаком настолько, что свидетельствуют об особой роли структуры пространства в скреплении повествовательной ткани, которую сам он, вероятно, с оглядкой на Пушкина («Где-то Пушкин называет прозу мякиной» [Эйхенбаум 1969: 34]), а также на критика А. Лежнева, определял как «рыхлую». В статье «Илья Сельвинский и конструктивизм», опубликованной в «Печати и революции», 1927, № 1, а также в книге «Современники» (1927), А. Лежнев писал: «Пастернак - футурист. Но для того, чтобы судить о нём, нет прямой необходимости рассматривать его непременно в связи с футуризмом. Связь его со школой рыхла, и, может быть, именно её рыхлость и позволила Пастернаку сделаться в такой мере центром притяжения современной лирики. <...> Пастернак на отлёте от футуризма» (цит. по: [Флейшман 2003а: 68]).
Заметим, что эта и другие подобные оценки соотношения Пастернака с футуризмом, данные Лежневым в разгар полемики между «Новым Миром» и «Новым Лефом» в 1927 г. (см.: [Флейшман 2003а: 67-69 и след.]), могли в период создания «Доктора Живаго», когда Пастернак проводил апологию символизма в пику футуризму, быть использованы в качестве подкрепляющих его отталкивание от футуризма. В то же время на фоне отталкивания Пастернака, писавшего роман, от современной советской прозы, идеологически наследовавшей сервилизм лефовцев, эпитет «рыхлая» звучит как определение достоинства своей прозы, которая по мере завершения оценивалась автором всё более высоко и в итоге была определена как наивысшее достижение. Пастернаковскую апологию символизма Л.С. Флейшман объясняет «полной неканонизированностью символизма» в 1950-е годы [Флейшман 2003а: 415].
Такое качество текста, как «рыхлость», Ю.М. Лотман объяснил (в книге «Культура и взрыв») тем, что «реальные тексты редко манифестируют теоретические модели в чистом виде: как правило, мы имеем дело с динамическими, переходными, текучими формами, которые не полностью реализуют эти идеальные построения, а лишь в какой-то мере ими организуются. Подобные модели располагаются по отношению к текстам на другом уровне (они реализуются или как тенденция - просвечивающий,
30
Глава 1
но не сформулированный культурный код, - или в качестве метатекстов» [Лотман 2000:51].
«Доктор Живаго» представляет собой произведение, испытавшее «внутреннее функциональное воздействие» [Пастернак 1989-1992, V: 279] самых разнообразных культурных текстов как в отношении жанровом, так и хронологическом. И в этом плане роман представляет собой яркое явление в ряду «итоговых» произведений Серебряного века, несмотря на то, что был написан гораздо позже. Для читателя текст «Доктора Живаго» оказывается губкой-генератором чужих, внетекстовых структур. Их полное выявление - лишь потенциальная возможность, и потому любое исследование лишь намечает некоторые. Однако и локальные вскрытия текста дают основания для широких обобщений. О том, насколько необходимы эти вскрытия, ещё в 1922 г. писала М.И. Цветаева. В статье «Световой ливень» она отмечала: «Пастернак - это сплошное настежь: глаза, ноздри, уши, губы, руки. До него ничего не было. Все двери с петли: в Жизнь! И вместе с тем его более чем кого-либо нужно вскрыть. (Поэзия Умыслов.)» [Цветаева, V: 234].
Статичность структуры линейного пространства обманчива. «Горизонталь» «Доктора Живаго» имеет свою динамику, создаваемую взаимодействием кодов, участвующих в её организации. Динамично и взаимодействие их по «вертикали». Обе системы построения, «пересекаясь», дают крест. На метауровне коды, задействованные в романе, можно свести к трём взаимозависимым разрядам. Это составляющие своего рода парадигму коды мифологический, сказочный и литературный. Тексты, которые являют их, имеют свойственное только им соотношение устного и письменного бытования. Принцип «устное - письменное» создаёт и напряжённое равновесие между членами этой парадигмы. Осевым и внутренне «уравновешенным» в отношении этого принципа выступает сказочный код, который мы подробно рассмотрели в отдельной работе «Сказочные ключи к “Доктору Живаго”» [Буров 2007в]. О структуре двух других могут свидетельствовать слова самого Пастернака, 24 февраля 1946 г. писавшего о романе О.М. Фрейденберг: «Это... будет параллель двух культур или систем, и душу одной будут составлять преемственность и форма, а другой - новшество и откровение. А твои слова о бессмертии - в самую точку! Это - тема или главное настроение моей нынешней прозы» [Переписка 19906: 219].
В мифологическом коде для писателя было важным противопоставление мифа античного - библейскому; в рамках первого - противопоставление Греции Риму, в рамках второго - мифа ветхозаветного новозаветному. В литературном коде противопоставлялись литература русская и иностранная. Первая подразделялась на древнюю, XIX века и современную. Вторая - на литературу Возрождения, XIX века и современную. Деления эти, при всей их относительности, можно продолжать и дальше. Интертекстуальный анализ позволяет «прочитывать» главного героя как действующее лицо в сюжетах, обусловленных, в частности, библейским, сказочным, литературным кодами, и тем самым гипотетически определить тайный сюжет романа.
Пастернак и его роман в контексте традиции
31
Романы первой половины XX века, в том числе «Доктор Живаго», ярче произведений других жанров, относящихся к этому времени, отражают процесс смены типа сюжета. Новая эпоха давала свой, исторически актуальный тип сюжета, и писатели старались увязать его со старыми сюжетами, которые со временем застывали и клишировались. Такая сюжетная контаминация обусловливала фантасмагоризм повествования: событийный поток интенсифицировался, и старые сюжетные ходы оказывались усечёнными в той мере, в какой сохраняли возможность быть узнанными и в принципе восстановленными. Фантасмагоризм событий отражает и алгоритм движения кодов, которое разрешается тем или иным взрывом, открывающим новые возможности. Так, например, революция, нарушающая линейную последовательность жизненных событий, - явление и социального, и духовного взрыва для Юрия Живаго, который восторгается ею. Однако революцию не только принимает, но и сам является её «носителем» двойник - антагонист доктора - Антипов-Стрельников. Иной вид противостояния у Живаго и Комаровского, выступающего также антиподом Антипова-Стрельникова. Комаровский не содействует революции, но подстраивается, извлекает выгоду из ситуации и является человеком постепенности антихристианского плана. Антипов-Стрельников и Комаровский противопоставлены Живаго как социально активные двойники-антагонисты.
Таинственность создаётся, в частности, за счёт недосказанности или избыточности событий или судеб героев. Пастернак использовал в романе «характерную модернистскую инновацию» - «последовательный обрыв фабульных связей» [Жолковский 1994: 110]. Он передал фабульные функции кодам, участвующим в создании текста, забрав их у персонажей. Отсюда кажущаяся ненужность многих из них (и, соответственно, слабая исследованность их функций). По сравнению с протагонистом, в романе, по мнению Р.Е. Стосси, нет «not a single major character with convincing human traits sufficient to constitute a personality»20 [Steussy 1959: 184]. Наличие и количество этих якобы лишних персонажей объясняются тем, что на интертекстуальном уровне они оказываются отнюдь не избыточными, да и число их ограничено и обусловлено циклической периодичностью структуры художественного пространства. Фабульные функции переданы, в частности, волшебной сказке, структуры которой Пастернак смог теоретически увидеть благодаря работам В.Я. Проппа. И многие лишние персонажи становятся безусловно необходимыми в ситуациях, которые организуются сказочными схемами. Некоторую смазанность фабулы можно объяснить быстрой сменой кодирующих моделей. Несмотря на большую разработанность в романе какой-либо из них, фабульная роль тех, что остались в романе незадействованными, хотя и с трудом, но поддаётся реконструкции. Обрыв фабульных связей происходит, когда намеченный ход становится расшифровываемым, достаточным для того, чтобы указать читателю пути возможной реконструкции. М.Ю. Лотман полагает, что «в основе пастернаковской интертекстуальности лежит цитация. Цитация же основана на дейксисе - это отсылка» [Лотман М.Ю.: 91]. Т. Вен
20 «Нет ни одного крупного персонажа с убедительными человеческими чертами, достаточными, чтобы составлять личность» (англ.).
32
Глава 1
цлова указывает, что «Пастернак часто строил свои стихотворения как негативы, обращения, “антитексты” классических текстов. <.. .> Возможно, построение таких обращённых вариаций связано с опытом Пастернака-музыканта» [Венцлова 2008:242-243]. Этот же подход применялся писателем и в прозе. Скрыто вводя в текст ту или иную цитату, Пастернак подвергал её многоступенчатому инверсированию, что давало возможность придать тому или иному персонажу или ситуации необходимую степень и качество про-фанности. Этим объясняется наличие в «Докторе Живаго» разветвлённой системы двойников. В романе, полном «случайных» событий и деталей, встреч и совпадений21, которые сразу же были по большей части с неудовольствием отмечены многими критиками, парадоксальным образом нет ничего случайного. Однако ещё в 1962 г. Г.П. Струве отмечал, что многочисленные совпадения в романе «аге not fortuitous nor due to Pasternak’s lack of novelistic ability or experience, but are deliberate, consciously willed, and skillfully contrived»22, являются «part of the author’s <.. .> view of life»23 и присутствуют в романе «due to its general symbolic design»24 [Struve 1962: 235]. А в статье 1970 года на эту же тему он отметил, что совпадения «integrated in and subordinated to, a definite structural and thematic design»25 и соотносятся c «themes of predestinations and of interwined destinies run through the whole novel»26 [Struve 1970: 236]. А. Ангелофф считает, что «the coincidences in the novel, however ridiculous, are actually manifestations of destiny and the interrelationships between lives and events»27 [Angeloff 1968:12]. Более того, как полагает И. Ма-зинг-Делич, «Doctor Zhivago, though, is certainly the kind of novel which impels people to seek such coincidences and correspondences and even to wish them into being where they do not exist»28 [Masing-Delic 1981: 314]. A H. Корнвелл, продемонстрировав широкий спектр мнений критиков относительно совпадений в «Докторе Живаго», пришёл к выводу, что «Pasternak’s employment of whole series, or patterns, of coincidences has given rise to two
21 Подробный обзор работ о «Докторе Живаго», написанных до 1986 г., в которых интерпретируются совпадения в романе, а также глубокий анализ проблемы совпадений, включая такие разновидности, как «near-cincidence», «non-coincidence» и «unnoticed coincidence» («почти-совпадение», «не-совпадение», «незамеченное совпадение»), см.: [Cornwell 1986: 90-103]. См. также о технике чудесных совпадений в романе: [Щеглов 1998: 173-177]; о случае как чуде, как воспроизведении «сказочного, провиденциального»: [Синявский 1989: 363]; о сюжетном и метасюжетном смысле «совпадений и пересечения судеб» и аксиологическом значении случая у Пастернака: [Лавров 1993: 252-253]; о механизме случайности и технике автокомментария в литературе «исторического авангарда» и, в частности, у Пастернака: [Смирнов 2000: 103].
22 «И не случайны, и не связаны с недостаточным мастерством или опытом Пастернака как романиста, спланированы преднамеренно и сознательно и умело придуманы» (англ.).
23 «Частью авторского <...> мировидения» (англ.).
24 «В соответствии с основным символическим замыслом» (англ.).
25 «Интегрированы в определённый структурный и тематический замысел и подчинены ему» (англ.).
26 «Темами предопределения и вмешательства судьбы, проходящими через весь роман» (англ.).
27 «Совпадения в романе, порой нелепые, являются на самом деле манифестациями судьбы и взаимоотношений между судьбами героев и событиями» (англ.).
28 «“Доктор Живаго” представляет собой, конечно, вид романа, побуждающего людей искать такие совпадения и переклички и даже видеть их там, где их нет» (англ.).
Пастернак и его роман в контексте традиции
33
main reactions. Some see the device as, in a certain sense and in a particular setting, enhancing the lifelike quality of the novel; others see it as pointing to the underlying influence of metaphysical entities or factors, such as ‘providence’, ‘fate’, ‘destiny’ or ‘predestination’. These two reactions may even, for some commentators, not be mutually exclusive»29 [Cornwell 1986: 94].
Любая «случайность» - сигнал о введении нового смысла, принимающего участие в «общей лепке мира». Так проявляется «пастернаковская эстетика «отнесённости» героев и их любви к «общей картине»», и она «формулируется Пастернаком в противоположность романтической концепции исключительной страсти» [Жолковский 1994: 112, 329]. Вяч. Вс. Иванов вспоминает, что Пастернак «всегда настойчиво искал уподоблений и тут же делился найденными подобьями с присутствующими» и говорил: “Вы ведь знаете, по поводу романа иногда говорят, что в нём слишком много совпадений, что так на самом деле не бывает. А я так и живу”» [Иванов Вяч. Вс. 2009: 26, 28]. К неимоверным совпадениям предрасполагало и само время, изображённое в романе: «Anyone who has lived through wars and revolutions knows that in a human anthill on fire the number of extraordinary meetings, unbelievable coincidences, multiplies tremendously in comparison with periods of peace and everyday routine. One survives because one was five minutes late at a given address where everybody got arrested, or because one did not catch a train that was soon to be blown to pieces. Was that an accident, fate, or providence?»30 [Milosz 1977: 73].
Ю.К. Щеглов отметил, что «рядом с мотивами совпадения и случайной встречи, на которых обычно сосредоточивается внимание критиков, в «Докторе Живаго» на видном месте фигурирует другой мотив, не менее известный из авантюрно-мелодраматической литературы». Это «замаскированное (альтернативные эпитеты: “искажённое”, “деформированное”, “проглядывающее”) тождество» [Щеглов 1998: 178].
Образец новой эстетики и нового языка для Пастернака был в Евангелии, в том, что «Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна» (IV, 44). Комментируя это высказывание Веденяпина, М.Ф. Роуланд и П. Роуланд отмечают, что «the parable, as a matter of fact, seems to be the main literary vehicle by which the entire story of Zhivago is told»31 [Rowland M.F., Rowland P.
29 «Использование Пастернаком серий или шаблонов совпадений вызывает две реакции. Некоторые рассматривают это как средство (в определённом смысле и в специфическом назначении) усиления жизне-подобия романа; другие видят в этом основание для того, чтобы подчеркнуть влияние метафизических сущностей или факторов, таких, как “провидение”, “рок”, “судьба” или “предопределение”. Для некоторых комментаторов эти две реакции могут даже не быть взаимоисключаемыми» (англ.).
30 «Любой, кто пережил войны и революции, знает, что в горящем человеческом муравейнике происходят необычайные встречи, невероятные совпадения, количество которых чрезвычайное увеличивается в сравнении с временами мирного существования и ежедневной рутины. Кто-то остаётся в живых лишь потому, что на пять минут опоздал прийти в дом, где все были арестованы, или потому, что не успел сесть на поезд, который вскоре был разнесён на куски. Что это было - случайность, рок или провидение?» (англ.).
31 «Притча, по сути, оказывается основным литературным механизмом, посредством которого излагается вся история Живаго» (англ.).
34
Глава 1
1967: 12]. Притчевость романа отметил и Дж. В. Дик [Dyck 1972]. Именно в силу «символичности» и «значительности» жизни Пастернак после смерти Маяковского уходил в тень, не желая выпячивания себя в роли «первого поэта», и «заботился о незаметном стиле» [IV: 438]. Разница искомого «незаметного стиля» Пастернака и трескучего советского стиля эпохи проявлена в конце романа, когда уравненные социальной «незаметностью» Юрий Живаго и Вася Брыкин расходятся, в сущности, из-за того, что не находят общего языка: «Вася необычайно развился. Он стал говорить и думать совсем не так, как говорил и думал босой и волосатый мальчик на реке Пелге в Веретенниках. Очевидность, самодоказательность провозглашённых революцией истин всё более привлекала его. Не вполне понятная, образная речь доктора казалась ему голосом неправоты, осуждённой, сознающей свою слабость и потому уклончивой» [IV: 472-473].
Л.С. Флейшман отмечает: «Замечательно, как, ничего ещё не зная» о спорах по поводу многочисленных совпадений в романе «в эмигрантской прессе, сам Пастернак отвечал на аналогичные упреки западных читателей романа. Это стало предметом разговора его с американским славистом Р. Мэтлоу во время встречи обоих в Переделкино в июне 1959 года». И приводит слова Пастернака, сказанные собеседнику и впоследствии опубликованные им32: «In the nineteenth-century masters of the novel, Balzac, Stendhal,, Tolstoy, if you take away the characters and characterization, the imagery, description and so on, you still have left causality, the concept that an action has a consequence. Flaubert’s style is the ultimate, merciless verdict on this nineteenth-century causality. For me reality lies not there, but in the multiplicity of the universe, in the large number of possibilities, in a kind of spirit of freedom, a coincidence of impulses and inspirations (not religious inspiration, just inspiration - vdokhnovenie). Whatever happens, for example loss or destruction in nature or life, it is just one of many things that happen. There is always an enormous quantity of happenings. Nature is much richer in coincidences than is our imagination. If all these possibilities exist, reality must be the result of choice, of a choice deliberately made. Even in the novel, the totality of the work, the total conception, is important, not the details or the irrationality of the details. I have frequently been asked about the coincidences in the book, particularly by young people of fifteen or sixteen, from whom I get many letters. Of course I made the coincidences on purpose, that is life, just as I purposely did not fully characterize the people of the book for I wanted to get away from the idea of causality. The innovation of the book lies precisely in this conception of reality»33 (цит. по: [Флейшман 2009: 348]).
32 Matlaw R.E. «А Visit with Pasternak» // The Nation. 1959, September 12. P. 134.
33 «Если у таких мастеров романа девятнадцатого века, как Бальзак, Стендаль, Толстой, отбросить персонажей и характеристики, образность, описания и так далее, то остаётся причинность, представление о том, что действие имеет последствие. Стиль Флобера - беспощадный, окончательный приговор этой причинности девятнадцатого века. Для меня реальность располагается не в этом, но во множественности вселенной, в своего рода духе свободы, совпадении импульсов и вдохновений (не религиозного вдохновения, а просто - вдохновения). Всё, что случается, например, потеря или разрушение в природе или в жизни, - это лишь одна из многих случающихся вещей. Постоянно происходит огромное количество проис
Пастернак и его роман в контексте традиции
35
О перестройке языка Пастернака в ЗО-е годы P.O. Якобсон писал, что «романтический и эмоциональный в своём начале, он становится языком об эмоциях, и этот описательный аспект находит самое яркое выражение в прозе поэта» [Якобсон 1987: 328]. Возможно, статья «Заметки о прозе поэта Пастернака» (1935) теоретически помогла Пастернаку на пути к «неслыханной простоте», в поиске нового языка прозы. Эта нараставшая с начала 1930-х годов тенденция была сполна реализована лишь в «Докторе Живаго». Описательность, пересказ событий порождают ситуацию, когда читатель чувствует эмоциональность не героя, но автора текста, в своей посреднической роли создающего эффект присутствия и оказывающегося современником читателя. Размывание границы между речью персонажей и авторской, условность диалогов стали средствами, работающими на авторское начало в романе, усиливающееся к концу. Однако не всем читателям-современникам, даже весьма искушённым, это было по вкусу. А.С. Эфрон писала Пастернаку 28 ноября 1948 г.: «Почему так? Желание сказать главное о главном <...>, чтобы ничего лишнего, чтобы о сложном - просто? Но вот эта-то “простота” и усложняет всё настолько, что приходится проделывать весь твой путь а rebours, восстанавливая отброшенное тобой. Получается концентрат - судеб, эпох, страстей, вмешиваясь в которые читатель <...> вынужден добавлять ту влагу, которую ты отжал, усложнять то, что ты “упростил”» [Переписка с Эфрон 1989: 316].
Однако верные наблюдения дочери Цветаевой не учитывают, по меньшей мере, одной важной установки Пастернака - установки на создание текста, «дописывающего» Откровение. «Эстетика» закономерно оказывалась при этом подчинённой смысловой насыщенности, зашифрованное™. Если у раннего Пастернака наблюдается тенденция к «дематериализации прозы» (см.: [Фатеева 2003:121]), то поздний совершает действие противонаправленное. Начало этого процесса относится к 1935 году, когда Пастернак говорил А.К. Тарасенкову о прозе, которую тогда собирался писать: «Материал - наша современность. Я хочу добиться сжатости Пушкина. Хочу налить вещь свинцом фактов. Факты, факты. ..<...> Я понял недостатки “Охранной грамоты”. Хоть я и давал там динамическое определение искусства, но всю действительность ощущал только как материал для эстетики. Это плохо. Нужны факты жизни, ценные сами по себе» [Тарасенков 1990: 82].
А в «Охранной грамоте» (1930) в качестве образца, иллюстрирующего принципы построения текста, Пастернак назвал Библию: «Библия есть не только книга с твёрдым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и <...> таково всё вековеч
шествий. Природа гораздо богаче совпадениями, чем мы себе представляем. Если все эти возможности существуют, реальность должна быть результатом выбора, свободно сделанного выбора. Даже в романе важна целостность работы, общая концепция, а не детали или нелогичность частностей. Меня часто спрашивают о совпадениях в книге, особенно пятнадцати- или шестнадцатилетние молодые люди, от которых я получаю множество писем. Конечно, я вводил совпадения намеренно, чтобы показать, что это жизнь -так же, как я специально не давал полные характеристики людям в книге, потому что хотел уйти от идеи причинности. Новизна книги заключается именно в концепции реальности» (англ.).
36
Глава 1
ное34. <.. .> Оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие века» [III: 207].
И.А. Суханова основным интертекстуальным источником «Доктора Живаго» называет Четвероевангелие и полагает, что «текст романа построен по принципу тем и вариаций», при этом «огромную роль в его структуре играет частичное наложение текстовых семантических полей, взаимодействующих как друг с другом, так и с основными лейтмотивами произведения» [Суханова /г/]. Заметим также, что у Пастернака - антикаббали-стический подход к Священному Писанию: его определение подразумевает, что Библия -стопроцентно случайный текст, тогда как каббалисты исходили из того, что случайность в Писании нулевая. Любопытно, что после смерти Пастернака «книгой с твёрдым текстом» стали его собственные произведения, в частности «Доктор Живаго». С определением Библии как идеального текста в романе соотносится то, что главный герой «с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнёзд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать» [IV: 66]. Планы Юрия Живаго весьма близки характеристике «Фауста», содержащейся в письме Пастернака к М.К. Баранович от 9 августа 1953 г. [IX: 735-737].
«Ошеломляющее» нельзя предсказать. Его лишь можно позже, после того как оно произошло, описать, представив в книге по какой-либо системе или плану. Смены кодовой доминанты, нарушающей сюжетно-композиционный автоматизм, который задаётся цикличностью структуры художественного пространства романа, осуществляются по принципу, который Пастернак определил в качестве обобщения вслед за характеристикой Библии: «История культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причём этим известным, постоянным для всего ряда является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же, каждый раз новым - актуальный момент текущей культуры» [III: 207].
Через десять лет проблема цикличности виделась Пастернаку несколько иначе. В письме к Е.В. и Е.Б. Пастернакам он писал: «Однажды Ада Энгель выразила мысль, что процессы в природе подвигаются не линейно в арифметической прогрессии, а циклически, скачками с возвратами. Вероятно, так и есть, и 50 лет мне было 5 лет тому назад, а теперь те 45, которые тогда были пропущены» [IX: 177-178].
Хотя необходимость достижения «неслыханной простоты»35 тематически объективировалась для Пастернака в первой половине 1930-х, уже в начале 1920-х она была
34 И.П. Смирнов указывает, что это «пастернаковское определение культуры <...>- полемический ответ на сетование Фауста из “Русских ночей”» В.Ф. Одоевского «о нехватке подлинно авторитетного письменного источника, без которого среди творцов нет согласия и диалога: “Мы все похожи на людей, которые пришли в огромную библиотеку: кто читает одну книгу, кто другую... как понять друг друга?.. Если бы мы все читали одну и ту же книгу, тогда бы разговор был возможен”» ([Смирнов 2008а: 255]; автор цитирует: В.Ф. Одоевский. Сочинения в двух томах. - М., 1981. Т. 1. С. 202).
35 См. анализ этой темы: [Померанц 1990: 19-24]. По воспоминаниям Г. Руге, говоря о том, как прост роман, «Pasternak compared it to Grimmelshausen’s Simplizissimus, even to Uncle Tom's Cabin» [Ruge 1959: 101]. («Пастернак сравнил его с “Симплициссимусом” Гриммельсгаузена и даже с “Хижиной дяди Тома”»
Пастернак и его роман в контексте традиции
37
актуальна для него в связи с вопросом о самоопределении как художника. Направляющим толчком могла послужить «Переписка из двух углов» Вяч. Ив. Иванова и М.О. Гершензона, изданная С.М. Алянским отдельной книжкой (Петербург: «Алконост», 1921). Как указывает О. Дешарт, «через год “Переписка” была переиздана в Германии без изменений» [Иванов 1971-1987, III: 807]. Пастернаку вполне могло быть доступно одно из этих изданий, причём второе - в Германии, где Пастернак был с августа 1922 по март 1923 г. Проблема простоты обсуждается Ивановым в XI письме от 15 июля 1920 г. Поиск простоты Пастернаком, её достижение в «Докторе Живаго» через преодоление собственного усложнённого стиля и её противоположность толстовскому опрощению прямо соответствуют тому, что писал Гершензону Иванов: «Опроститься - вот магическое слово для интеллигенции нашей; в этой жажде сказывается вся её оторванность от корней. Ей мнится, что “опроститься” значит ощутить корень, пустить в землю корень. Таков был Лев Толстой, который должен закономерно привлекать вас. Иноприроден ему был Достоевский, закономерно вас отталкивающий. Этот “опрощения” не хотел; но то, что писал он о саде как панацее общежития, и о воспитании детей в великом саду грядущего, и о самом “заводе” в саду, есть духовно-правая и исторически правдивая не мечта, а программа общественного действия. Опрощение - измена, забвение, бегство, реакция трусливая и усталая. Несостоятельна мысль об опрощении в культурной жизни столь же, сколь в математике, которая знает только “упрощение”. Последнее есть приведение множественной сложности в более совершенную форму простоты как единства. Простота как верховное и увенчательное достижение есть преодоление незавершённости окончательным свершением, несовершенства - совершенством. К простоте вожделенной и достолюбезной путь идёт через сложность. Не выходом из данной среды или страны добывается она, но восхождением» [там же: 412].
Заметим, что последнее предложение (в цитате) могло послужить одним из мотивов решения Пастернака вернуться в 1923 г. из Германии в Россию. В целом же «Переписка из двух углов» не только в отмеченном, но и в других аспектах (которые будут указаны ниже) могла предстать для Пастернака своего рода программой собственного творческого развития до времени создания «Доктора Живаго», который стал «преодолением незавершённости» предшествующих попыток написать роман «окончательным свершением». «Упрощение», достигнутое к концу жизни Юрием Живаго, подчёркивается тем, что во время последней поездки в трамвае он оказывается уже неспособен решить «школьные задачи» [IV: 487].
Путь к простоте Пастернак видел через период «плохого» письма, о котором неоднократно писал своим корреспондентам. В 1930-е он высказывался и «официально», например, на III пленуме правления Союза писателей в Минске в 1936 г.36 Однако цель
(англ.).) Об упрощении и большей абстрактности поздней поэзии Пастернака по сравнению с ранней и преимуществах, по мнению исследовательницы, последней см.: [Livingstone 1978].
36 Возможно, выбор такого пути Пастернаком подкрепил заключительный отрывок VII «Философического письма» П.Я. Чаадаева, в котором мыслитель просил «читателя о снисхождении к слабости и даже
38
Глава 1
была косвенно сформулирована ещё в «Охранной грамоте»: «Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, своё обещанье сдержала. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Никогда, прикрывшись кличкой среды, не довольствовалась она сочинённым о ней сводным образом, но всегда отряжала к нам какое-нибудь из решительнейших своих исключений. Отчего же большинство ушло в облике сносной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличье, испугавшись жертв, которых традиция требует от детства. Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, - дело наших сердец, пока мы дети» [III: 151].
«Неслыханной простотой» было сохранение в советских условиях лица. Это, как в детстве, требовало любви, предмет которой исключителен. Начальным эпизодом зарождения любви, который, однако, «может быть реконструирован задним числом», Р. Барт считал восхищение, «по ходу которого влюблённый субъект оказывается «вос-хищен» (очарован и пленён) образом любимого объекта37 (на бытовом языке - “любовь с первого взгляда”, на учёном языке - “энаромация”)» [Барт 1999: 107]. Влюблённый Барта пишет: «Иногда меня воспламеняет в другом его соответствие великому культурному образцу (я словно вижу другого изображённым на полотне старого мастера)» [там же: 111]. Любопытно, что бартовская трактовка этимологии «тривиальности», синонима «простоты», высвечивает связь последней с одним из важнейших в «Докторе Живаго» мотивом «скрещений»: «trivialis: то, что встречается на всех перекрестках» [там же: 112]. Достаточно вспомнить «Зимнюю ночь», чтобы несомненной предстала и связь мотива «скрещенья» с любовью.
«Неслыханная простота» подразумевала поэтизацию обыденного. Как мотив, общий для русской литературы, поэтизация тривиального восходит к Г.Р. Державину и А.С. Пушкину. Так, например, Державин в «Снигире» (1800) показал, что подлинно величественным является обыденное. В случае Пастернака (и его героя) высокая ценность прозы жизни, «мелочей» была антиподом советского гигантизма, «планов громадья», обезличивания в обществе, литературе. Юрий Живаго, вернувшийся в Москву из Мелюзеева, обнаруживает, что «странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, своего мнения» [IV: 173]. Аналогичная более подробная авторская оценка звучит в параллельной сцене беседы доктора с друзьями после его возвращения из Сибири в Москву. Закончив роман, Пастернак оценивал своё новаторство не в сфере эстетики, а в самой важной для себя области - духовной. 10 декабря 1955 г. он писал Н.А. Табидзе: «Вы не можете себе представить, что при этом достигнуто! Найдены и даны имена все
неправильности слога» [Чаадаев 1991, I: 711-712]. Подробно об интертекстуальных связях «Доктора Живаго» с творчеством Чаадаева см.: [Буров 20096].
37 Ср. с первым отрывком стихов Пастернака «Из поэмы» (1916, 1928), который заканчивается:
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь Всю жизнь удаляется, а не длится Любовь, удивленья мгновенная дань? [I: 108].
Пастернак и его роман в контексте традиции
39
му тому колдовству, которое мучило, вызывало недоумение и споры, ошеломляло <.. .>. Ещё раз, освежённо, по-новому даны определения самому дорогому и важному, земле и небу, большому горячему чувству, духу творчества, жизни и смерти»38 [X: 116-117].
То, что совершил Пастернак, написав роман, довольно точно характеризуется «рецептом» Ж. Батая, высказанным в книге «Внутренний опыт»: «Мы сами должны бросить своё “сердце” в пасть этого времени, которое нас пожирает, которое только и делает, что пожирает то, что мы хотим упрочить» [Батай 1997: 273]. Пастернак «бросил “сердце”» - написал главное произведение своей жизни, подводящее итоги событиям нескольких десятилетий, «упрочил» то, что было дорого. 11 июня 1958 г. в письме Н.А. Табидзе Пастернак не только отметил, что роман «очень важный шаг, <...> большое счастье и удача, какие мне даже не снились», но и сказал о том, что будет «мукою художников», о будущем [X: 336-337]. «Триумф реминисценций», которым оказывается созданное, в конце концов «не имеет такого уж большого значения. Из великой тоски выступает мало-помалу связанный с неизвестностью, с незнанием экстаз. Равновесие достигается благодаря тому, что потребности обладать, знать (которой, если угодно, и злоупотребляет признание) сделана уступка. Очень часто неизвестность наполняет нас тоской, но это условие экстаза. Тоска - это страх что-то потерять, выражение желания обладать. Это задержка перед сообщением, разжигающим желание, но внушающим страх. Кинь какую-нибудь кость потребности обладать, и сразу же тоска поворачивается экстазом» [Батай 1997: 273].
Период после окончания «Доктора Живаго» и представляет собой такую «задержку» перед новой большой работой - пьесой «Слепая красавица», оставшейся незаконченной. Роман для Пастернака представлял, в отличие от стихов, оправдание его жизни, о чём он сообщал адресатам своих писем. Эта «генеральная проза» была главным жертвоприношением на алтарь времени и субъективно весила неизмеримо больше стихов. Такое значение «Доктора Живаго» как прозы, строящейся с использованием скрытых трансформированных цитат, по сравнению с поэзией самого Пастернака можно объяснить тем, что малые формы, которые представляют собой стихи, были для писателя меньшими жертвоприношениями, чем то, сделать которое он считал своим внутренним долгом. Причину выбора Пастернаком большой прозаической формы можно также пояснить наблюдением Ж. Батая: «Реминисценции утоляют потребность обладать, знать, <.. .> играют в области образов, осаждая сознание, пока оно не начнёт их выражать <.. .>. Если и есть в игре реминисценций что-то от жертвоприношения, то цель его ещё менее реальна, чем цель жертвоприношения поэтического. <...> Реминисценции настолько близки к образам, что сам автор связывает их с выражением, в котором и отказывает им лишь из принципиальных соображений» [там же: 273-274].
38 Что касается эстетики, то это высказывание Пастернака, относящееся к роману, соответствует «протоколирующему, лишённому установки на адресанта стилю авторской речи в реалистических текстах» [Смирнов 2000: 24 (в сотрудничестве с И.Р. Деринг-Смирновой)].
40
Глава 1
Создав главное произведение жизни и «дописав» тем самым Откровение, отказавшись при этом отличать «пораженье от победы», показав в качестве главного героя поэта, «безумствующего» в любви и творчестве, и завершив его стихами (свидетельствами и явлениями его «безумия») роман, Пастернак наглядно явил «конец литературы», прекращение искусства. Аналогичным образом в разгаре творческих работ умирает Живаго. Именно приближением этого обрыва объясняются «ухудшение качества» повествования по мере движения к концу, что отмечал сам автор, и незавершённость творческих трудов героя. Нарастает и тенденция отхода от классической литературы. Р. Барт описал её как реакцию «новых» романов: «называя события, ничего не говорить об их смысле» [Барт 1994: 95]. И с учётом всего этого «Доктор Живаго», ставший творческим пиком Пастернака, отдавшего его для печати на Запад, то есть совершившего по тем временам «безумный» по опасности поступок, показателен для культуры постмодернизма в целом. «Пастернак чётко представлял себе ту опасность, которой грозило ему издание романа за границей. Он сказал, провожая д’Анджело: “Этим я приглашаю вас посмотреть, как я встречу свою казнь”» ([Пастернак Е. 1997: 677]; см. также [Д’Анджело 2007]). «Пастернак себя называет “безумцем, говорящим правду”38а» [Флейшман 2009: 383]. С подобным всё нарастающим и достигающим предела «неразумием» ведёт себя в романе доктор, в конце концов ради творчества удаляющийся в комнату в Камергерском переулке. Характеризуя подобное «неразумие в современном мире, после Сада и Гойи», М. Фуко описал его значение следующим образом: «Безумие есть абсолютный обрыв творчества; оно образует конститутивный момент того уничтожения произведения, которое во времени служит основанием его истины; оно очерчивает его внешнюю оконечность, линию низвержения в пропасть, черту, за которой начинается пустота. <.. .> Безумие - это уже не пространство нерешимости, в котором дерзко просвечивала исконная истина произведения, а решение, после которого творчество прекращается окончательно и бесповоротно и навсегда уходит ввысь, недоступное истории. <.. .> Благодаря безумию творчество, казалось бы, без остатка растворённое в мире, обнаруживающее в нём свою бессмыслицу и принимающее сугубо патологические черты, по сути вовлекает в себя время этого мира, подчиняет его себе и ведёт вперёд; обрывая творчество, безумие обнажает пустоту, время безмолвия, безответный вопрос; оно вызывает тот непреодолимый разрыв, который заставляет мир задаться вопросом о самом себе. На него обращается всё непременное святотатство творческого акта, и время произведения, погрузившегося в пучину слабоумия, понуждает его испытывать чувство собственной вины. Отныне, впервые в истории западного мира, именно мир, через посредство безумия, становится виновным перед творчеством; он затребован произведением, обречён приноравливаться к его языку, принуждается им к исполнению задачи узнавания и исправления своих ошибок; перед ним стоит цель - передать разум этого неразумия и вернуть разум этому неразумию. <...> Миг, когда вместе рождаются и достигают свершения творчество и
38а
«Новое Русское Слово», 1959, 19 февраля, стр. 1
Пастернак и его роман в контексте традиции
41
безумие, есть пролог того времени, в котором мир оказывается подсуден произведению и ответствен за то, чем он является перед его лицом» [Фуко 1997: 522-524].
1.2. Роман как подытоживание эпохи и «дописывание» Откровения Иоанна
При характеристике многих поэтов и писателей Серебряного века, в том числе Пастернака, привычными в литературоведческих работах становятся слова о разнице прижизненных и посмертных оценок, о том, что художники десятилетиями недооценивались, их значение принижалось, что они опережали своё время и высказывали сбывавшиеся пророчества, что материалом для произведений служили собственная биография и заимствованный художественный материал. В случае Пастернака эта общая модель реализуется по всем параметрам, и описание как её общих характеристик, так и частных реализаций применительно к какому-либо автору могло бы составить предмет отдельной работы. Основополагающие подходы к этой теме сделаны Ю.М. Лотманом, в частности, в статье «О содержании и структуре понятия “художественная литература”» [Лотман 1992,1: 203-215], а также И.П. Смирновым в «Очерках по исторической типологии культуры» [Смирнов 2000: 11-196 (первая часть работы - «Реализм» (с. 21-97) -написана в сотрудничестве с И.Р. Деринг-Смирновой)].
В литературе Серебряного века и биографиях художников можно выделить ряд стабильных мотивов, каждый из которых в творчестве конкретного писателя реализуется индивидуально. Мы рассмотрим некоторые из таких мотивов у Пастернака. Один из них -подытоживание эпохи. Такое подытоживание присутствует в творчестве писателей уже в 90-х годах XIX века, когда, как писал Е.Г. Эткинд, «“серебряный век” робко начался». Трудно, однако, согласиться с тем, что «1915 год - высший подъём “серебряного века” и в то же время конец его» [Эткинд Е. 1995: 11-12]. Итоги эпохи подводились представителями Серебряного века в течение нескольких десятилетий после 1917 года. У Пастернака такое подытоживание шло постоянно: в каждой выпускаемой книге, в каждом крупном произведении. Очень сильны «финальные» настроения были у него в течение всех 1920-х годов и достигли пика к 1929-му. И не случайно главный герой «Доктора Живаго» умирает именно в этом году - переломном в истории страны и судьбах писателей. На этот год приходится множество знаковых событий. Глубокую историческую характеристику этому времени дал Л.С. Флейшман. В конце лета 1929 г. началась кампания против Б. Пильняка и Е. Замятина, которая «была первой в истории русской культуры широко организованной кампанией не против отдельных литераторов или текстов только, а против литературы в целом и её автономного от государства существования», и «приурочение смерти доктора Живаго в романе к концу августа 1929 года указывает на отношение Пастернака к этой кампании (доктор Живаго не может жить в условиях “неми-грации” рукописей литературных произведений» [Флейшман 2003а: 133-134, 138].
42
Глава 1
В свете этого передача Пастернаком рукописи «Доктора Живаго» на Запад зеркально повторяет поступки Пильняка и Замятина, нарушая длившийся с тех пор запрет, зна-ково завершая репрессивный период39 и поворачивая время симметрично назад - к обретению утраченной свободы. Одним из следствий этого поворота стало усиление мотива будущего в стихах и письмах после «Доктора Живаго».
Проведение этой кампании «совпало с коренными изменениями во всей жизни Советской России. В апреле 1929 г. был принят первый “пятилетний план” и провозглашена коллективизация деревни. Н.И. Бухарин и его группа потерпели поражение во внутрипартийной борьбе, и была объявлена чистка в партии. Аналогичная “чистка” затронула и все области культурной жизни. Весной 1929 г. началась кампания в прессе против Академии наук <...>. К концу 1929 года относится разгром формальной школы в русском литературоведении и прекращение выхода её сборников “Поэтика”, сменено правление Московского Художественного театра, реорганизована государственная Академия Художественных наук, активизировались представители “пролетарского” фронта в музыке и в изобразительных искусствах». Кроме того, «в мае 1929 года было выдвинуто предложение о введении нового календаря (с отсчётом времени не от Рождества Христова, а от Октябрьской революции. Постановлением Совнаркома 26 августа был начат переход на непрерывную рабочую неделю, с аннулированием “субботы” и “воскресенья”. <...> Весной 1929 г. была начата кампания по снятию церковных колоколов. <...> Пасха 1930 г. впервые за всю историю Москвы прошла без колокольного звона. <...> Замечательно приурочение смерти Живаго в романе к тому времени - август 1929 г., когда впервые появилась в печати “Охранная грамота” и начата кампания против Пильняка и Замятина» [Флейшман 2003а: 134, 141, 142, 248].
Критичность для Пастернака 1929 года так или иначе подтверждается исследователями, характеризовавшими эволюцию его творчества. В.С. Баевский, выделивший на основе анализа стихов Пастернака три периода его творческой эволюции, отмечает 1930 год как конец второго, начавшегося в 1914 г., а 1931 г. - как начало третьего, включающего и роман «Доктор Живаго» [Баевский 1988:148-150]. Однако, по мнению М.Л. Гаспарова, «есть признак <.. .> более важный, побуждающий провести пограничную черту раньше - между 1928 и 1929 годом. Это - общее число и разнообразие размеров, используемых Пастернаком» в стихах [Гаспаров М. 1997, III: 504]. Этот рубеж исследователь видит границей, разделяющей раннее и позднее творчество Пастернака. В любом случае конец 1920-х был для писателя одним из периодически повторявшихся моментов подведения итогов. Другим таким моментом было решение уже после войны писать роман. И сравнение этой твёрдой решимости с собственным творческим состоянием конца 1920-х являло Пастернаку актуально-разительную контрастность. Н.А. Фатеева указывает, что 1929 год «как бы ретроспективно открывает новый период творчества -
39 Перечень возможных причин того, почему Пастернак уцелел в годы большой чистки: [Mallac 1983: 160-161].
Пастернак и его роман в контексте традиции
43
<.. .> путь к роману “Доктор Живаго”» - при том, что «смерть Живаго в Москве 1929 г. хронологически прямо предшествует времени начала работы Пастернака над книгой “Второе рождение”» [Фатеева 2003: 57,142]. Называя так новый сборник стихотворений, Пастернак акцентировал мотив, кардинально важный как в плане творческой эволюции, а также в смысле биографическом, так и относительно мифологических архетипов40. Таким же итоговым, но в отношении всего предшествующего времени - дореволюционного, революционного и послереволюционного периодов - стал и «Доктор Живаго»41. Впрочем, исследователи отмечают и странности хронологии произведения42. Так, Т. Сейф-рид указывает: «The “harmony” of this novel with its “epoch” that Gasparov and others note obtains, however, only if we are talking about the early part of the century, roughly up until the late 1910s or early 1920s. If we take Pasternak’s novel as a summary of its times, its chronology is simply strange. The main events of the plot run from 1903-1929, then we are given a brief post-war epilogue. Conspicuously absent is any significant depiction of the 1930s or the war. Even if we take the novel as a retrospective account of the experiences of Pasternak’s generation, it is strangely truncated, its intellectual preoccupations conspicuously outdated (or at least unupdated), all of them pointing to an earlier, even pre-Soviet era»43 [Seifrid 2009: 180].
Попытки Пастернака вернуться в 1930-х к сюжетной прозе сопровождались у него, по оценке P.O. Якобсона, высказанной в ставшей уже классической статье «Заметки о прозе поэта Пастернака», «ростом автономности литературного призвания» [Якобсон 1987: 328]. Ещё в феврале 1928 года в ответе на анкету «Читатель и писатель» Пастернак отталкивался от звания писателя в советском понимании. В последующие годы анти-писательский пафос лишь усиливался, тематизируясь в переписке. Ко времени же начала работы над «Доктором Живаго» Пастернак уже прямо отмежёвывался от официальной советской литературы. Подобное отталкивание было не только у него, но и у О.Э. Мандельштама, М.А. Булгакова, А.А. Ахматовой, А.П. Платонова и др. Однако все они стремились не выпасть из литературы, найти путь к современникам. Особенность позиции Пастернака в том, что он прямо декларировал, по крайней мере в письмах, вне-
40 Архетипический субстрат в «Докторе Живаго» становился предметом исследования многих работ, но подходы к роману были определены уже в одной из первых: [Rowland M.F., Rowland Р. 1967].
41 Об авторской оценке романа и его итоговости см.: [Гаспаров Б. 1994: 242].
42 Попытка выстроить внутреннюю и внешнюю хронологию романа предпринята: [Jones 1979]. Обсуждение хронологии в связи с поездкой семьи Живаго на Урал см.: [Cornwell 1986: 67-68]. Обзор дискуссий о хронологии произведения см.: [Йенсен 2000: 165].
43 «“Созвучие” этого романа с его “эпохой”, отмечаемое Гаспаровым и другими, получается, только если мы будем говорить о начале века, примерно с конца 1910-х до начала 1920-х. Если же мы будем рассматривать роман Пастернака как сводку всей его эпохи, то его хронология выглядит просто странной. Основные события сюжета приходятся на 1903-1929 годы, а затем мы читает короткий эпилог, относящийся к послевоенному времени. Бросается в глаза отсутствие какого-либо значимого описания 1930-х годов или войны. Даже если мы будем воспринимать роман как ретроспективный счёт, выставляемый событиям, пришедшимся на долю поколения Пастернака, то он странным образом урезан; проблемы, вторыми он озабочен, заметно устарели (или, по меньшей мере, не осовременивались), и все они относятся к более ранней, досоветской эпохе» (англ.).
44
Глава 1
и антилитературность своего романа, вкусов и пристрастий. Так, в ответ на просьбы об отзыве на присылаемые стихотворения он указывал, что не годится в судьи, и резко негативно отзывался о современной советской «литературе» и пишущих (в письмах Б.С. Кузину, Е.Б. Пастернаку, Вяч. Вс. Иванову, В.Т. Шаламову, Н.Я. Мандельштам и др.). Подобную позицию занимает и Юрий Живаго как автор стихотворений. Он думает, что «искусство не годится в призвание» [IV: 66]. Сходным образом размышляет о философии Лара, считающая, что «философия должна быть скупою приправой к искусству и жизни» [IV: 404]. Не случайно поэтому, что Живаго в Барыкине вспоминает нелитератора Тютчева [IV: 274], спорит с представлениями своего времени о творчестве, ссылаясь на «Родословную» Пушкина [IV: 284]. Подчёркнуто антилитературен, несмотря на обилие ссылок на поэтов и писателей, и дневник доктора. Внелитературность творчества Юрия Живаго подчёркивается также тем, что написанные им стихотворения не введены в прозаический текст романа, автором которого предстаёт его брат Евграф.
Роман, который создавался с установкой на антилитературность, стремится слиться с «жизнью» путём отталкивания от литературы и её течений44, стать актом жизнетвор-чества. «Дописывая» символизм, тяготея к реализму и отталкиваясь от футуризма, Пастернак одновременно отталкивался и от советской официальной литературы, и от собственного «стиля до 1940 года». К этой определённости Пастернак шёл все 1930-е годы, несмотря на то, что констатация необходимости и неизбежности выбора звучала уже в «Волнах» (1931):
В родстве со всем, что есть, уверясь И знаясь с будущим в быту, Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту.
Но мы пощажены не будем, Когда её не утаим. Она всего нужнее людям, Но сложное понятней им (И, 58).
Л.С. Флейшман указывает, что «заявленная поэтом необходимость “утаить простоту” указывала на возможность возвращения к старым поэтическим нормам» [Флейшман 2005: 135]. Однако текст не утверждает, что «простота» будет «утаена» - напротив, поскольку, как пишет о Пастернаке А. Ливингстон, «his driving desire for honesty, for unpretentious and unspectacular way of being original, must be linked to the influence upon him, from earliest childhood, of Tolstoy»45 [Livingstone 1989: 17], постольку отказ от традиций, в частности толстовских, менее всего представлялся возможным Пастернаку в условиях, когда им на замену навязывались «традиции» соцреализма. В 1935 г. P.O. Якоб
44 О значении «разрыва» в творческой биографии Пастернака см.: [Раевская-Хьюз 1989].
45 «Его постоянное стремление к правдивости, к непретенциозной и неэффектной оригинальности должно быть связано с идущим с раннего детства влиянием Толстого» (англ.).
Пастернак и его роман в контексте традиции
45
сон указал, что Пастернак рассматривает «свою литературную задачу как продолжение символизма», обладает «тончайшим чувством символизма», а «языком-основой» служит ему «поэтическая система символизма» [Якобсон 1987: 326]. При этом у позднего Пастернака «неотвратимо заявил о себе <.. .> двойной <.. .> комплекс - равенства в жизни и простоты» [Гинзбург 1988: 225]. М.И. Шапир полагал, что «у Пастернака простота характеризует преимущественно отношение слова к субъекту речи, а понятность - отношение слова к адресату. Чем полнее выражен смысл, чем теснее его связь со словом, тем труднее понять сказанное; прямое и безусловное воплощение личности в тексте делает его малопроницаемым» [Шапир 2004].
Приступив к работе над «Доктором Живаго», Пастернак вернулся к сюжетной прозе, учитывая опыт бессюжетности в литературе. Если в бессюжетной прозе на первый план выдвигается личность писателя, то Пастернак в романе, напротив, убрал повествователя46 в тень, что подтверждается передачей его функций героям в соответствующих эпизодах. К концу произведения повествователь проявляется как фигура всезнающая и уравнивается с автором. Автор «затеняет» рассказчика настолько, что нужны усилия, чтобы понять, что, несмотря на его периодическое совпадение с Юрием Живаго и другими персонажами, в конце романа им является Евграф Живаго, наделённый Пастернаком множеством автобиографических черт. Указавший на это (вслед за Н. Корнвеллом [Cornwell 1986: 65], но без ссылки на него) А.М. Эткинд замечает, что «вообще многочисленные упреки в адрес “эстетического уровня” романа, которые иллюстрируются смешными цитатами <...>, обусловлены читательским неразличением между позициями автора и рассказчика» [Эткинд А. 2001: 377-378].
Новизна «Доктора Живаго» как сюжетной прозы заключается также в новом статусе, которым наделяется слово. Дух, носителем которого оно является, начинает заменять материю. Поэтому врач и поэт Живаго исцеляет не столько телесные болезни -лекарствами, сколько духовные - словом. Переход от бессюжетной прозы, свидетельствующей о разрушении индивидуальной биографии героя, к возрождаемому жанру романа Пастернак (устами Живаго) мог бы объяснить так: «Из блокнотного накапливания большого количества бессмыслицы никогда не может получиться смысла, <...>
46 Подробное обсуждение вопроса о повествователе, его близости к Пастернаку, компетентности относительно событий в «Докторе Живаго», его «отзыве» при изображении «сценических представлений», диалогов и монологов см.: [Cornwell 1986: 57-67]. Иерархию коммуникационного процесса между Пастернаком и читателем исследователь видит такой: «Real Author/Pasternak —> Implied Author —> Narrator(s) —> Reflector-characters —> [characters - description - action] —> (Narratee) —> Implied Reader/Model Reader —> Real Reader». («Реальный автор I Пастернак —> подразумеваемый автор —> повествователь(-ли) —> персонажи-выразители —> [персонажи - описание - действие] —> (повествование) —> подразумеваемый читатель / образцовый читатель».) И полагает, что «Pasternak had planted a hidden authorial narrator within the text as mere character - albeit an eponymous and privileged one whose consciousness serves as the most prominent reflector of the ideas and the action of the novel» [ibid.: 61, 65]. («Пастернак создал скрытого в тексте автора-повествователя, который является почти что персонажем - именующимся и привилегированным лицом, чье сознание служит наиболее авторитетным выразителем идей и действия романа».)
46
Глава 1
фактов нет, пока человек не внёс в них чего-то своего, какой-то доли вольничающего человеческого гения, какой-то сказки»47 [IV: 123].
Эволюционный процесс в искусстве и, в частности, переход Пастернака «от усложнённости стиля в начале творческого пути к «классической» простоте в конце» Ю.М. Лотман описал (в статье «Риторика») формулой: «переход от риторической ориентации к стилистической» [Лотман 1992,1:182]. В таком ракурсе особенность «Доктора Живаго» можно определить как скрываемую от внимания читателя наполненность чужими текстами, пропущенными через организующее авторское начало. Последнее обусловливает удивительно выдержанный стиль при видимости его эстетического «распада». По-видимому, это было обусловлено тем, что стремление Пастернака написать сюжетную вещь включало противоборство с установками левой литературы на разложение письма. В автобиографическом очерке «Люди и положения» (весна 1956 -ноябрь 1957) он выразил свою позицию наиболее категорично: «Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не всё мне нравится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, засорённый и неровный слог» [III: 327].
Л.С. Флейшман отмечает «лукавство» этой позиции Пастернака. Говоря о том, что «переделка» ранних книг для сборника 1929 года «Поверх барьеров» «призвана была не “скрыть”, а, наоборот, - открыть их современному читателю», исследователь указывает, что «уже в силу этого перенесение патетических авторских формулировок 1956 года типа “Я не люблю своего стиля до 1940 года”, с прокламированием стилистической “простоты”, элементарности, отказа от манерности, на поэтические эксперименты 1920-х годов представляется <...> неоправданным» [Флейшман 2003а: 103]. Заметим, кстати, что, написав «Доктор Живаго», Пастернак продемонстрировал особенности своего приятия второй «половины Маяковского»: роман стал воплощением мечты последнего. Как свидетельствовал P.O. Якобсон, Маяковский любил «постоянно ставить себе новые трудности» и «многие годы вынашивал идею написать роман: он даже подбирал для него названия - сначала “Две сестры”, потом “Дюжина женщин”» [Якобсон 1987: 331].
Воскрешая роман и полагая, что только большая сюжетная проза оправдывает его как писателя48, Пастернак стремился воспользоваться всеми возможностями жанра по впитыванию культурной толщи и создавал своего рода метапрозу. Т. Сейфрид полагает, что «Доктор Живаго» - это «а modernist Kunstlerroman focused on questions of language»49, и он «only portrays the modernist search for authentic voice; it does not or perhaps cannot produce or utter or approximate it the way Pasternak does in the early prose of, say, Detstvo
47 Эти слова Юрия Живаго - намёк автора на «сказочную» организацию романа.
48 Впрочем, Пастернак возрождал не только прозу, но и - аналогичными средствами - поэзию. О Юрии Живаго, пишущем в Барыкине стихи, сказано: «Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушённой, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы» [IV: 438].
49 «Модернистский Роман искусства, сосредоточенный на вопросах языка» (англ., нем.).
Пастернак и его роман в контексте традиции
47
Liuvers or the poems of Sestra moia - zhizn’»5Q [Seifrid 2009: 173, 181]. Об остром интересе Пастернака к способности текста вмещать «огромные области» разнообразной информации свидетельствуют его высказывания о «Фаусте» в письме от 9 августа 1953 г., обращённом к М.К. Баранович [IX: 735-737]. Сюжет своего романа Пастернак видел «тяжёлым, печальным и подробно разработанным, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского» (письмо к О.М. Фрейденберг, написанное 13 октября 1946 г.) [IX: 472]. Огромное количество информации, «замуровываемое» в «Докторе Живаго», требует пристального и медленного чтения, остановок, расшифровки, однако жанр романа требует достаточно быстрого продвижения читателя. «Доктор Живаго» мимикрически соответствует обоим способам чтения50 51. При этом чем ближе к концу, тем явственнее проступают признаки «распада» текста, разрушения сюжетности. Ответом на эту деструкцию, которая на новом витке воспроизводит «конец литературы» и невозможность сюжетной прозы, преодолённые когда-то Пастернаком, оказываются «Стихотворения Юрия Живаго», функционально выступающие в роли нового мифа, дающего новый сюжет. По ходу повествования сакральное с «переднего» плана уходит «вглубь», остаётся лишь профанный план происходящего. «Внешне» части пятнадцатая и шестнадцатая - «Окончание» и «Эпилог» - предстают образцом «распада» литературы52, и не случайно именно они больше всего не нравились некоторым современникам Пастернака, читавшим роман исходя из категорий эстетики, но не этики и расчёта с историей. Вместе с тем усиление по мере приближения к концу «Доктора Живаго» «простоты» и множественности прочтений текста является результатом интерференции кодов [Барт 1994: 15]. Тенденция к неразрешимости, колоссальной множественности и создаёт «простую» поверхность текста.
Кстати, именно постепенным усилением профанности изображаемого объясняется неудовлетворительность кинематографических трактовок романа53. Самая известная из них - «Доктор Живаго» режиссера Д. Лина (1965). Лента фальшива как в отношении «фактуры» изображаемого, так и по духу. Не сумев толком прочесть даже «внешний» текст, создатели тем более не смогли добраться и до глубинных смыслов. Фильм не спасают и «тонкие структурные наблюдения», заключающиеся в том, что сценарист Р. Болд делает рассказчиком Евграфа - слишком уж мало таких «наблюдений» и много непростительных ляпов. Как указывает А.М. Эткинд, Болда по тексту «Доктора Живаго» консультировала баронесса М.И. Будберг. Исследователь называет её «самым осведомлён
50 «Только изображает модернистский поиск аутентичного голоса; но не ведёт этот поиск или, возможно, не может вести, выражать или приближаться к нему так, как происходило в ранней прозе Пастернака, скажем, в “Детстве Люверс” или стихах “Сестры моей - жизни”» (англ.).
51 Об их разнице см.: [Барт 1989: 470].
52 Возможно, это связано с их «кинематографичностью». «Шестнадцатичастную композицию текста, если не считать стихотворного приложения к нему», И.П. Смирнов связывает с «темпом проецирования ранних лент на экран, составлявшим 16 кадров в секунду» [Смирнов 2009: 296].
53 Об отличии романов и их экранизаций, в частности «Доктора Живаго», см. [Вестстейн 2008: 295-296].
48
Глава 1
ным из читателей Пастернака» [Эткинд А. 2001: 380]. Однако описание того, чем интересовалась и о чём говорила баронесса при посещении Пастернака в последний год его жизни, позволяет в этом усомниться. О.В. Ивинская вспоминала об «интервью», которое приехали брать у Пастернака М.И. Будберг и её спутница: «Боря был чрезвычайно любезен, галантен, говорил об Уэллсе, Горьком, вообще о литературе. Баронесса, не обратив ни малейшего внимания на “гвоздь” усилий Б. Л. - книги Горького и Уэллса, с лихвой воздавала должное паюсной икре. Где-то между этим делом и потоками Бориного красноречия дамы задавали какие-то, как нам казалось, совершенно нелепые вопросы. Например, “Какое варенье вы любите?” или “Галстуки каких расцветок вы предпочитаете носить?”. Б. Л. воспринимал эти вопросы как явно шуточные, отвечал смехом, пытался перевести разговор на более серьёзные, главным образом литературные темы. Когда наши гости ушли, я робко предположила, что вопросы задавались всерьёз. Боря замахал руками и высмеял меня, не уловившую по невежеству европейский юмор разговора. Как он был сконфужен, когда спустя примерно месяц прибыли английские и американские газеты! В них сообщалось, что лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак предпочитает клубничное варенье, носит пёстрые галстуки и не прикасается к чёрной икре» [Ивинская 1978: 64].
В условиях катастрофизма эпохи, вызвавшего «прочтение» писателями своего времени как являющего и «конец литературы», и «конец истории», ответом социальной и пр. ломке и нарождающимся советским мифам было выдвижение мифологического же противовеса. Далеко не старые писатели начинали подводить итоги. И делали это неоднократно. Таким «последним» произведением эпохи и был, по всей видимости, для Пастернака его мифологизирующий метароман54. Одними из первых в пастернаковеде-нии на мифологичность, точнее, на «мифофоричность» «Доктора Живаго» указали в своей книге М.Ф. Роуланд и П. Роуланд: «In view of the preponderance of the mythic element in Zhivago, we might call Pasternak’s method mythophoric (myth-bearing). This mythophoric element in a modem work performs a dual function: it carries us back to ancient myths and, in turn, brings those myths down to the present day»55 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 13].
«Доктор Живаго» стал и реквиемом эпохе, и в то же время её воскрешением, радостным утверждением бессмертия искусства. Роман - реализация страстного желания Пастернака всё договаривать до конца и парадоксальным образом сплошная тайнопись, нуждающаяся в расшифровке в будущем. Д. Бетеа связывает итоговость произведения со стремлением Пастернака найти свою судьбу, «постепенно продумать <.. .> и вынести на свет» «книгу жизни» [Бетеа 1993: 378, 379]. И уже в начале романа рассказчик, не
54 Перечень предпосылок мифологического мышления как мышления архаического см.: [Мелетин-ский 1998: 12, 421]. О мифопоэтическом страте в лирике Пастернака см.: [Баевский 1980].
55 «С учётом преобладания мифологической составной в “Живаго”, мы можем назвать метод Пастернака мифофорическим (мифонесущим). Эта мифофорическая составная в современных произведениях искусства выполняет двойную функцию: она отправляет нас к древним мифам и, с другой стороны, приспосабливает эти мифы к нашему времени» (англ.).
Пастернак и его роман в контексте традиции
49
сливаясь ни с автором, ни с протагонистом, парадоксально объективирует идею произведения, авторство которого, тем не менее, может быть приписано всем троим через сознание героя: Юрий Живаго «ещё с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнёзд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать. Но для такой книги он был ещё слишком молод, и вот он отделывался вместо неё писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине» [IV: 66-67].
Отметим попутно намёк на художника А.А. Иванова и его картину «Явление Христа народу», которую он писал 20 лет (1837-1857). Автобиографизм приведённой цитаты выявляет выдержка из письма Пастернака родителям, написанного 30 апреля 1916 г. из Всеволодо-Вильвы (ср. также с работой Юрия Живаго в Камергерском переулке): «Я буду думать о том, чтобы осуществлять себя так, как сам я себе это подсказываю. Сейчас вовсе не время для живых обобщений, а современные частности таковы, что на них вообще не стоит останавливаться. Сейчас во всех сферах творчества нужно писать только этюды, для себя, с технической целью и рядом с этим накоплять такой опыт, который лишён печати эфемерности и случайности. А когда наступит время...» [ПРС 2004:146].
Внутренний перелом у Пастернака, совершившийся к концу 1945 года, когда, как написал он 23 декабря О.М. Фрейденберг, он «вдруг стал страшно свободен» [Пастернак 1989-1992, V: 438], можно истолковать как кардинальную смену ракурса, в котором он видел закончившуюся эпоху Серебряного века, полную апокалиптических настроений и предчувствий, и будущее - в частности, своё будущее в литературе. В порыве отталкивания от страшного и мешающего груза настоящего и прошлого и создавался «Доктор Живаго». Пастернак делал примерно то же, что М. Пруст, писавший «В поисках утраченного времени», но с той разницей, что восстанавливал не только картину своей жизни, но и картину целой эпохи56. Быть может, поэтому главный герой намеренно был лишён автобиографических черт - «сделан» врачом (что отнюдь не отменяло наделения его автобиографическими чертами). «Доктор Живаго» - воплощение желания Пастернака найти «утраченное время» страны, обратив своё будущее в её прошлое, творчески пережив это будущее. Заметим, что Пастернак, начавший писать роман, в точности повторил и стал воплощать слова М.И. Цветаевой из письма к нему от 11 (нового) февраля 1923 г.: «А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего станет не нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны» [Переписка с Цветаевой 2004: 40].
В начале романа звучит программный монолог дяди Юрия Живаго священника-расстриги Николая Веденяпина57, позволяющий понять, с помощью чего можно будет вер
56 Подробно об истории создания романа см.: Борисов, Пастернак Е., 1988.
57 С. Хэмпшир указывает на близость монологов о христианстве произведениям раннего Гегеля: «There are several long passages that read like a memory of the early writings of Hegel, particularly two in which Pasternak repeats Hegel’s account of the historical role of Christianity in creating a modem man, who need no longer be
50
Глава 1
нуть «утраченное время»: «Всякая стадность - прибежище неодарённости, всё равно, верность ли это Соловьёву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит её недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу!» [IV: 12].
Противопоставление Христа (и трактованного в гегельянском изводе христианства) трём наиболее влиятельным мыслителям XIX - начала XX веков ставит вопрос о значении их учений и об исторических фигурах, продемонстрировавших верность им, от которых Пастернак тем самым отталкивался. Не менее важны и прототипы Веденяпина как носителя нового сознания. Следование идеям В.С. Соловьёва было жизненным путём и новой фазой христианства, в частности, для Андрея Белого. Образ Веденяпина впитал в себя, в частности, черты его биографии, а фамилия позаимствована Пастернаком из романа «Москва». В качестве прототипов этого персонажа А.В. Лавров называет также Л.И. Поливанова, С.Н. Булгакова, С.Н. Дурылина, Н.Н. Фиолетова, В.П. Свенциц-кого, В.С. Соловьёва, Г.А. Рачинского [Лавров 19926: 97-99; 2007: 323-332]. М.Ф. Роуланд и П. Роуланд отметили в образе Веденяпина черты Н.А. Бердяева [Rowland M.R, RowlandP. 1967:22-23],Г. деМаллак-А.Н. Скрябина[Mallac 1983: 36-37]. И.П. Смирнов указывает на то, что прообразом Веденяпина был также член ЦК партии эсеров Михаил Веденяпин, который проходил по московскому политическому процессу 1922 года [Смирнов 1995: 149]. Немецкий философ поставлен в осевой позиции в числе трёх повлиявших на духовный климат эпохи столпов мысли, от которых отталкивается герой Пастернака. Упоминание И. Канта отмечает не только направление мировой философии, но и напоминает о неокантианстве раннего Пастернака, которое преодолевает поздний.
Кроме названных, прототипом и Веденяпина, и Юрия Живаго является Вяч. Ив. Иванов. В «Переписке из двух углов» его первое письмо к М.О. Гершензону и ответное последнего содержат обсуждение проблемы бессмертия, о котором говорит Веденяпин и которое обретает Живаго. Средством его достижения Иванов видел «нисхождение», которого «не может быть <...> без вольного приятия» (письмо от 17 июня 1920 г.). Таким «нисхождением» отмечены последние годы жизни Юрия Живаго в Москве, тогда как отъезд Веденяпина за границу корреспондирует с отъездом Иванова. Мироощущение доктора в этот период, отражающееся в его действиях и бездействии, напоминает мироощущение Гершензона, о котором он писал в ответ Иванову (и продолжал тему в следующем своём письме): «В последнее время мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжёлая, слишком душная одежда, все умственные достояния человечества,
either master or slave» [Hampshire 1978: 129]. («Есть несколько длинных отрывков, которые при чтении напоминают ранние сочинения Гегеля, особенно два таких пассажа, в которых Пастернак повторяет гегелевское объяснение исторической роли христианства в формировании современного человека, не нуждающегося больше в том, чтобы быть хозяином или рабом» (англ.).)
Пастернак и его роман в контексте традиции
51
всё накопленное веками и закреплённое богатство постижений, знаний и ценностей. Это чувство давно мутило мне душу подчас, но ненадолго, а теперь оно стало во мне постоянным. Мне кажется: какое бы счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как первый человек, лёгким и радостным, и вольно выпрямить и поднять к небу обнажённые руки, помня из прошлого только одно: как было тяжело и душно в тех одеждах, и как легко без них. Почему это чувство окрепло во мне, я не знаю. Может быть, мы не тяготились пышными ризами до тех пор, пока они были целы и красивы на нас и удобно облегали тело; когда же, в эти годы, они изорвались и повисли клочьями, хочется вовсе сорвать их и отбросить прочь» [Иванов 1971-1987, III: 385].
Возвращаясь в 1922 г. в Москву в солдатской шинели без пуговиц и постепенно опускаясь, Юрий Живаго буквально реализует чувство Гершензона и его метафору о «ризах». А Лара, находящаяся возле гроба доктора в комнате в Камергерском переулке, испытывает то облегчение, которого жаждал Гершензон, признававшийся в IV письме: «Я не сужу культуры, я только свидетельствую: мне душно в ней. Мне мерещится, как Руссо, какое-то блаженное состояние - полной свободы и ненагруженности духа, райской беспечности. Я знаю слишком много, и этот груз меня тяготит» [Иванов 1971-1987, III: 388].
После тяжёлых испытаний и смерти доктора Лара обретает рядом с его телом то же «чувство высшей и краеугольной беззаботности» [IV: 15], которым была пронизана жизнь до революций и войн, но чувство, преодолевшее страшный опыт истории: «И она ощутила волну гордости и облегчения, как всегда с ней бывало при мысли о Юрии и в недолгие промежутки жизни вблизи его. Веяние свободы и беззаботности, всегда исходившее от него, и сейчас охватило её» [IV: 496].
Но ещё раньше, в Юрятине, Лара говорила доктору, переворачивая слова из процитированного II письма (её слова почти совпадают с ним по времени), воспроизводя эмоции и мироощущение Гершензона, констатируя как свершившееся то, к чему в тоске устремлялся собеседник Иванова, и обрисовывая ситуацию и внутренние состояния, в которых находились переписывавшиеся мыслители-прототипы: «Мне ли, слабой женщине, объяснять тебе, такому умному, что делается сейчас с жизнью вообще, с человеческой жизнью в России и почему рушатся семьи, в том числе твоя и моя? Ах, как будто дело в людях, в сходстве и несходстве характеров, в любви и нелюбви. Всё производное, налаженное, всё относящееся к обиходу, человеческому гнезду и порядку - всё это пошло прахом вместе с переворотом всего общества и его переустройством. Всё бытовое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, неприложенная сила голой, до нитки обобранной душевности, для которой ничего не изменилось, потому что она во все времена зябла, дрожала и тянулась к ближайшей рядом, такой же обнажённой и одинокой. Мы с тобой как два первых человека - Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой последнее воспоминание обо всём том неисчислимо великом, что натворено на свете за мно
52
Глава 1
гие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим, и любим, и плачем, и держимся друг за друга и друг к другу льнём» [IV: 399-400].
Далее в IV и V письмах Гершензон и Иванов обсуждали значение открытий Канта и их судьбу. И Иванов, противопоставляя культуре веру, в итоге констатировал то, что в «Докторе Живаго» прозвучало как апология Христа: «Итак, от факта веры нашей в абсолютное, что не есть уже культура, зависит свобода внутренняя - она же сама жизнь -или наше внутреннее рабствование перед культурою, давно безбожною в принципе, ибо замкнувшею человека (как это окончательно провозгласил Кант) в нём самом. Верою одной, т.е. принципиальным отречением от грехопадения культуры, преодолевается столь живо ощущаемый вами её “соблазн”. <...> Жить в Боге значит уже не жить всецело в относительной человеческой культуре, но некоею частью существа вырастать из неё наружу, на волю. Жизнь в Боге - воистину жизнь, т.е. движение; это духовное возрастание, лестница небесная, нагорный путь. Довольно выйти в дорогу, найти тропу; остальное приложится само собой <...> Без веры в Бога человечество не обретёт утерянной свежести. Напрасно сбрасывать с себя устарелые одежды, нужно скинуть ветхого Адама» [Иванов 1971-1987, III: 391].
Так же, как Пастернак (в монологе Веденяпина) пошёл дальше Иванова и Гершензона, Юрий Живаго идёт дальше своего дяди - к «совпадению» с Христом, противопоставленным трём названным Веденяпиным властителям дум, к повторению пути Христа и «второму пришествию». Пастернак и его протагонист отталкиваются от «учителей», чтобы идти дальше. Монолог Веденяпина, прозвучавший в романе, написанном в стране воинствующего атеизма, возвращает религиозному обращению первоначальный, буквальный смысл. Веденяпин возвращается к Христу после больших духовных исканий, в том числе в лоне церкви. Его обращение, становящееся «вторым рождением», представляет уход от церковной жизни в свет. Живаго в конце жизни уходит из социума в комнату в Камергерском переулке, где в одиночестве и изоляции (ср. с монашеством) ведёт интенсивную духовную жизнь, «совпадает» с Христом в Гефсиманском саду. Примером того, как происходило «порывание» с «верностью» кому-либо, кроме Христа, может служить отношение Пастернака к символизму, к «верным» идеям В.С. Соловьёва А.А. Блоку и Андрею Белому, которых он очень ценил и символизм которых подвергал переоценке (см.: [Клинг 2002]).
В романе Пастернак не избегал обнажать его признаки как конгломерата огромного количества культурных, политических и др. моделей, поскольку искусство, посредством которого они спаяны, в итоге переводит количество в качество. Выявляющаяся по ходу повествования его эстетическая неоднородность, многоплановость - также характерная черта произведений литературы Серебряного века. Оправданность она получала, лишь будучи объединена главной темой, которую Пастернак обозначил в письме к О.М. Фрей-денберг от 24 февраля 1946 г.: «А твои слова о бессмертии - в самую точку! Это - тема или главное настроение моей нынешней прозы. Я пишу её слишком разбросанно, не по-писательски, точно и не пишу» [Переписка 19906: 219].
Пастернак и его роман в контексте традиции
53
Возможно, этот трансэстетизм «Доктора Живаго» и является главной причиной его пресловутого «невосприятия». Свою роль сыграло и то, что в романе утверждались ценности не просто альтернативные тем, что насаждались в обществе, но иные и по сравнению с теми, которые противостояли насаждавшимся. Позицию Пастернака и его героя можно было бы назвать «над схваткой», если бы не их анархическое отстранение от внимания к политике вообще. Этот аполитизм, при отмечаемых, тем не менее, Пастернаком симпатиях и антипатиях, похоже, был одной из главных причин, вызывавших неприятие «Доктора Живаго» советскими чиновниками. Например, некоему Б. Леонтьеву, работавшему в «Литературной газете», было поручено официально «открыть глаза» насчёт Пастернака ирландскому писателю Ш.О. Кейси. И Леонтьев «открывал»: «Между тем Б. Пастернак в своём романе “Доктор Живаго” <.. .> совсем не занимается критикой или анализом нашей действительности хотя бы в пределах последних 30 лет. Ему просто нет дела до этой действительности, он её не замечает, он ею не интересуется, он - в стороне от жизни» [Документы 2001:230]. Ещё одной причиной было то, что «Доктор Живаго» не вписывался в эстетику соцреализма, как её тогда понимали.
Пастернак стремился показать жизнь героев во Христе, мало похожую на традиционное обрядовое православие. В статье «Борис Пастернак и христианство» Л.С. Флейшман пишет, что обращение писателя к христианской теме было лишь эпизодом, который «был локализован в биографии Пастернака определёнными хронологическими границами и был вызван конкретной социально-культурной ситуацией, с одной стороны, и конкретными идеологическими и художественными задачами автора - с другой» [Флейшман 2006: 742]. Другие исследователи полагают значение христианства для Пастернака более весомым. Т.Ф. Роджерс считает, что роман «endorses the revolution by associating it with Christian symbolism»58 и содержит «positive, mystical association of the revolution with Christ’s passion and death»59 [Rogers 1974: 384-387]. П.А. Бодин, рассматривавший христианскую иконографию в «Стихотворениях Юрия Живаго», полагает, что Пастернак защищал важность христианства для европейской цивилизации и апологетизиро-вал его как систему моральных ценностей (см.: [Bodin 1976а; 1976b]). Г. де Маллак считает, однако, что Пастернак развивал «а definitely non-denominational and eclectic approach to religious values during his later years»60 [Mallac 1983: 367]. Христианство Пастернака -это скорее христианство четвёртого Евангелия и Откровения Иоанна Богослова, о котором много говорили и писали символисты и религиозные философы, или, с другой стороны, - тайное сектантство. Такая установка не исключает и того, что, как пишет Н.Б. Иванова, роман «подводит итоги русского романа XIX века с его уходящей поэзией «дворянских гнезд» и усадеб, красотой деревенской природы, чистотой и жертвенностью героинь, мучительной рефлексией и трагической судьбой героев, а герой его
58 «Оправдывает революцию, наделяя её христианской символикой» (англ.).
59 «Позитивную, мистическую ассоциацию революции со страстями и смертью Христа» (англ.).
60 «Отчётливо несектантский и эклектический подход к религиозным ценностям в последние годы
54
Глава 1
замыкает собою длинный ряд героев Лермонтова, Тургенева, Толстого и Достоевского» [Бахнов, Воронин 1990: 193-194].
Анализ композиционной структуры, художественного пространства в «Докторе Живаго» (см.: [Буров 2007в: 20-93]), интертекстуальных связей и свидетельства самого автора показывают, что он стремился подытожить не XIX век, но всю историю России -с древнейших времён до обозримого будущего, включающего советскую эпоху, которая закончилась лишь в 1991-м. В «Докторе Живаго», как и в других романах Серебряного века, предпринимается попытка смоделировать будущее, сделав его элементом структуры, описывающей уже известные события. Будущее видится частью уже известной истории. Для Пастернака были ясны потенциальные возможности n-ного количества будущих лет и безразлично их количество. Подобно М. Прусту, которого Пастернак вновь перечитывал уже после окончания работы над романом, время своей жизни и жизни страны и эпохи он стремился «перевести» в художественное время. А каким становилось в романе последнее - это было уже во власти художника. Проницательно реагировала на этот процесс, почувствовав его в романе, О.М. Фрейденберг, написавшая Пастернаку: «Но, знаешь, последнее впечатление, когда закрываешь книгу, страшное для меня. Мне представляется, что ты боишься смерти и что этим всё объясняется -твоя страстная бессмертность, которую ты строишь как кровное своё дело» [Переписка 19906: 251].
Пастернак начал ответное письмо, реагируя на эти слова: «Как поразительно ты мне написала! <...> Так это дошло до тебя?! Это не страх смерти, а сознание безрезультатности наилучших намерений и достижений и наилучших ручательств и вытекающее из этого стремление избегать наивности и идти по правильной дороге, с тем чтобы если уже чему-нибудь пропадать, то чтоб погибало безошибочное, чтобы оно гибло не по вине твоей ошибки» [там же: 251-252].
Приступая к созданию романа, Пастернак сделал нравственный выбор, и это позволило ему стать «страшно свободным» [там же: 218], а позже - закончить «Доктора Живаго», в отличие от предыдущих попыток написать именно роман. «Страстная бессмертность» подразумевала стремление понять будущее и вырваться в него из настоящего. «Ныне существует лишь одно средство ускользнуть от отчуждения, порождаемого современным обществом, - бегство вперёд», - констатировал через 13 лет после смерти Пастернака и независимо от него Р. Барт [1989: 495]. Пастернак намного опередил движение европейской мысли и, описав эпоху в жизни страны, пришедшуюся на его жизнь, следующую эпоху предназначил новому художнику, для которого оставил лишь «безошибочное». Кажущееся невнимание писателя к «эстетике» текста на деле было грандиозной попыткой показать живое «плетенье мелких нервов» - множества «эстетик». Но подчинено это было нравственной задаче донести до читателя ценности духовные. В конце романа показаны Гордон и Дудоров, дожившие до времени, природа которого соответствует апокалиптическому Царству Божиему на земле. Пастернак достиг романом того, что «всё распутано, всё названо просто, прозрачно, печально» [Пастернак 1989-
Пастернак и его роман в контексте традиции
55
1992, V: 541]. Провидение светлого будущего в финалах романов, ориентированного на последние главы Откровения, имеет свою традицию в русской литературе: от сна Раскольникова до чтения писаний Сковороды Николаем Аблеуховым и обретения вечного покоя Мастером и Маргаритой. И «Доктор Живаго» - чрезвычайно значимое звено в этой традиции и едва ли не последний роман в русской литературе XX века, строившийся и как «биороман, отстаивающий ценность родовой жизни и завершающийся деторождением - генерированием не знака, а тела», и в то же время как «апокалиптический роман, в котором означивание уничтожает наличный референтный мир», что согласуется с тем, что «если роман и концентрируется на современности, то только для того, чтобы изобразить её преходящей, деактуализируемой, отсылаемой в социокультурный архив», и с тем, что «роман пишется из будущего, финализирующего и вытесняющего собой современность» [Смирнов 2008а: 182-184]. Так показывается не только уничтожение культурной продуктивности эпохи, но и её самой.
По-видимому, первым «Доктора Живаго» как версию Апокалипсиса истолковал Ф. Кермоуд61 [Kermode 1962]. В своей вышедшей через несколько лет книге исследователь предпринял рассмотрение романов XX века как версий Апокалипсиса, отметив значение Нового Завета, в частности Откровения Иоанна Богослова, и выделив свойственные этим романам, в том числе и «Доктору Живаго», «apocalyptic types - empire, decadence and renovation, progress and catastrophe»62, которые «are fed by history and underlie our ways of making sense of the world from where we stand, in the middest»63 [Kermode 1966: 29J64. Основополагающие для идейной структуры романа аллегории и скрытые значения первых страниц «Доктора Живаго» рассмотрены методом «close reading»65 в статье и книге А. Ливингстон [Livingstone 1967; 1989]. Но, пожалуй, самым последовательным прочтением романа как версии Апокалипсиса стала книга М.Ф. Роуланд и П. Роуланда [Rowland М.Е, Rowland Р. 1967], которая, как резюмировал М. Сендич, является «ап attempt to explicate deeper levels of meaning in Doctor Zhivago, centering on the novel’s artistic qualities - its mythological, allegorical, folkloristic, symbolic, and apocalyptic components. Sees character names as charactonyms and translates “meaningful” place and street names (“Flower Town” and “Gentleman-in-waiting Street”, for example). Seeks to relate poems to the novel’s prose. Explain Zhivago’s “actions from the last days in Varykino to the last days in Moscow” as a “well-established kenotic ideal”. Concludes that Doctor Zhivago is “an
61 Оценку этой и других его трактовок см.: [Cornwell 1986: 120-123]. Апокалиптическому аспекту русских романов Серебряного века посвящена работа: [Bethea 1989]. Некоторые апокалиптические аллегории в «Докторе Живаго» отмечены также в: [Буров 1992].
62 «Апокалиптические модели - империю, декаданс и возрождение, прогресс и катастрофу» (англ.).
63 «Которые питает история и которые лежат в основе нашего осмысления мира из той точки, где мы находимся, из центра» (англ.).
64 Подробнее о концепции Ф. Кермоуда в применении к роману Пастернака см.: [Cornwell 1986: 120— 123].
65 «Пристального чтения» (англ.).
56
Глава 1
apocalyptic poem in the form of a novel” and that it shows “the power of great art to overcome death”»66 [Sendich 1994: 182].
Несмотря на такие недостатки, как неиспользование биографического контекста, недостаточный учёт уже имевшейся к 1967 г. большой литературы о Пастернаке, абсолютизацию одного из кодов (апокалиптического), организующих структуру «Доктора Живаго», глубокая книга М.Ф. Роуланд и П. Роуланда (явно недооценённая Н. Корнвеллом и другими литературоведами) и по сей день является работой, не утратившей значения. Апокалиптическое видение Пастернаком изображённых исторических событий отметил также Т.Ф. Роджерс [Rogers 1974].
Опровергающее инверсирование, с одной стороны, и апологетическое «дописывание» - с другой, проявляются в «Докторе Живаго» по отношению ко всем использованным кодам. В их числе и апокалиптический, который был особенно важен для символистов, что, конечно, принималось во внимание Пастернаком. Например, Андрей Белый в дневниковых заметках 1899 года относил Апокалипсис к произведениям, которые «относятся к наиболее глубокому роду поэзии» и «полны бессознательным символизмом». В них «истинная религия и истинная поэзия совпадают» (цит. по: [Лавров 19956: 58]). Если в период создания книги «Сестра моя - жизнь» (1917) Откровение было для Пастернака «языком», которым описывался мир, то в «Докторе Живаго» оно организует текст на сюжетно-фабульном, композиционном, мотивном и других уровнях. По оценке М.Ф. Роуланд и П. Роуланда, «for the parallels between Zhivago and the New Testament Apocalypse constitute one of those “organizing centers” around which, Pasternak stated, his book was constructed»67. Роман был задуман и написан как фабульное продолжение Откровения Иоанна и представляет собой «ап apocaliptic poem in the form of a novel»68 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 16,200]. Это было связано co стремлением Пастернака осмыслить истоки происходящих катастрофических процессов и найти творческий выход. В книге «Культура и взрыв» Ю.М. Лотман указал, что «в момент взрыва эсхатологические идеи, такие, как утверждение близости Страшного Суда, всемирной революции <.. .> знаменательны не тем, что порождают “последний и решительный бой”, за которым должно воспоследовать царство Божие на земле, а тем, что вызывают неслыханное напряжение народных сил и вносят динамику в неподвижные, казалось бы, пласты истории» [Лотман 2000: 26].
66 «Попыткой эксплицировать более глубокие уровни значений в Докторе Живаго, концентрируясь на художественных качествах романа - его мифологической, аллегорической, фольклорной, символической и апокалиптической составляющих. Рассматривает имена персонажей как “говорящие” имена и переводит “смысловые” названия мест и улиц (например, “Мучной городок” и “Камергерский переулок”). Определяет соответствие стихов прозаическим местам романа. Объясняет “действия Живаго с последних дней в Барыкине до последних дней в Москве” как “воплощение жертвенного идеала”. Приходит к выводу, что “Доктор Живаго” является “апокалиптической поэмой в форме романа” и демонстрирует “силу великого искусства в преодолении смерти”» (англ.).
67 «Что касается параллелей между Живаго и новозаветным Апокалипсисом, то они составляют один из тех “организующих центров”, вокруг которых, как утверждал Пастернак, построена его книга» (англ.).
68 «Апокалиптическую поэму в форме романа» (англ.).
Пастернак и его роман в контексте традиции
57
Любопытно сравнить, как Пастернак воспринимал Откровение Иоанна в 1920-х и в период создания «Доктора Живаго». О том, как эволюционировало восприятие и понимание Пастернаком Апокалипсиса, можно судить по его словам, записанным в 1944 г. Вяч. Вс. Ивановым: «...Я вспомнил разговор в Берлине с Андреем Белым и Ходасевичем на ту же тему. Я говорил Белому: как вы, замечательный, подлинный художник, уважаете историю, принимаете её, тогда как история для художника не должна существовать? Он должен понимать современность как огород, на котором он и разводит все овощи. Ходасевич и Белый говорили мне, что я не понимаю Апокалипсиса, что это -поразительное откровение...» [Иванов Вяч. Вс. 1988: 363]. В более поздней работе мемуарист передаёт рассказ писателя так: «По словам Пастернака, он тогда говорил самому Белому, что не понимает его отношения к современности. Пастернак убеждал его, что всякий большой художник - Белого он считал таким - знает, что его время - это “тот огород”, который он возделывает. А зачем тогда заниматься не этим временем, а Апокалипсисом? Пастернак вспоминал об этом старом разговоре к концу второй мировой войны, когда ему самому стало казаться, что “Апокалипсис стал улицей” (об этом он говорил на одном из своих больших поэтических вечеров в середине сороковых годов), что граница нашего времени и другого, вне временного ряда основных событий стирается. Это ощущение, согласно первоначальному замыслу романа “Доктор Живаго”, должно было стать его главным содержанием, в написанном позже тексте оно выражено в философии Николая Николаевича, дяди главного героя, и в поэзии последнего, больше всего в стихах о Христе:
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты» [Иванов Вяч. Вс. 2008: 13-14].
Рассказ Пастернака, относящийся к 1944 году, свидетельствует, в частности, о том, что Откровение Иоанна продолжало находиться в центре внимания писателя на протяжении всех лет, прошедших со времени берлинского разговора, и ко времени начала работы над романом «слилось» с современностью. В «Докторе Живаго» он объективирует «апокалиптичные страхи», и разница с пониманием Апокалипсиса (и истории), проявленным в 1920-х, состоит в том, что любой «разведённый овощ» становится «буквальным» манифестантом «поразительного откровения». Ещё в 1926 г. в письме от 25 марта к М.И. Цветаевой Пастернак подробно писал о «никем никогда по-настоящему не обсуждённом откровении объективности» [Письма 1926 года, 1990: 53]. В «Докторе Живаго» он не только обсуждал это откровение (см., например, слова Юрия Живаго в разговоре с Ливерием), представлял его в поразительных описаниях природы и духовного мира героев, но и следовал ему в структурном плане. При этом Пастернак последовательно изображал историю России первой половины века и людей этого времени -носителей апокалиптического сознания.
«Революционная эпоха в целом представлена Пастернаком в “Докторе Живаго” как апокалиптическая <...>. Описанные в романе выстрелы разделяются интервалом в шесть лет: 1905 (пальба на московских улицах) - 1911 (покушение Лары на Корнакова) - 1917
58
Глава 1
(выстрел Памфила Палых в комиссара Временного правительства). Эта периодичность образует апокалиптическое число “666” (если считать от последнего года XIX в.); ср. шестилетние интервалы в “Охранной грамоте” и “Спекторском”69. Шестилетний промежуток между событиями в “Спекторском” <...> совпадает с членением времени в “Падучей стремнине” Игоря Северянина <...>. Но в “Спекторском” число “6” ещё не мультиплицировано и не вовлечено в семантическое поле, образованное понятиями “выстрелов”, “смерти”, “суда”, как это имеет место в “Докторе Живаго”. Апокалиптическое восприятие революции берёт начало у Пастернака в “Высокой болезни”. Выступление Ленина на IX съезде Советов интертекстуально связывается здесь с “Краткой повестью об антихристе” Вл. Соловьёва» [Смирнов 1995: 155-156].
Богооткровенна для Пастернака - жизнь, история же - апокалиптична. В разговоре с Ларой Юрий Живаго отмечает момент их гармонии: «Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь-матушка, не стоится ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И не то чтоб говорили одни только люди. Сошлись и беседуют звёзды и деревья, философствуют ночные цветы, и митингуют каменные здания. Что-то евангельское... Как во времена апостолов. Помните, у Павла? “Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования”» [IV: 145]. При первом известии о революции доктор восторгается тем, что «это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к её ходу» [IV: 194].
Данные слова доктора выдают одного из его прототипов - В.С. Печерина (1807-1885), который писал в своих «Замогильных записках» о революции 1830 года во Франции: «Вдруг блеснула молния, раздался громовой удар, разразилась гроза июльской революции... Воздух освежел, всё проснулось, даже и казённые студенты. Да и как ещё проснулись!.. Начали говорить новым, дотоле неслыханным языком: о свободе, о правах человека и пр., и пр.» (цит. по: [Башилов 2004: 917])70.
«Доктор Живаго» представляет собой символико-аллегорическую версию Апокалипсиса. По ходу повествования фигура рассказчика становится всё более значительной, а изображаемое историческое время всё более «сжимается», и в одном отрезке времени с 1917 до 1929 (года смерти Юрия Живаго) содержатся уже приметы и реалии всего советского периода - не только до времени окончания романа, но и неопределённого отрезка будущего времени. Советский период Пастернак ввёл в роман как завершённое циклическое целое. Открыто на этот счёт он высказывался в письмах (см., например, письмо Н.А. Табидзе от 11 июня 1958 г. - [Пастернак 1989-1992, V: 562]). «Сжатие»
69 См. о них: [Флейшман 2003а: 256].
70 Пастернак мог быть знаком с первым изданием автобиографии русского католика, подготовленным М.О. Гершензоном и снабжённым вступительной статьей Л.Б. Каменева: Печерин В.С. Замогильные записки. - Калинин: кооперативное издательство «Мир», 1932. 190 с. О Печерине Пастернак мог также читать книги: Гершензон М.О. Жизнь В.С. Печерина. - М., 1910; Штрайх С. В. С. Печерин за границей в 1833-1835 гг. // Русское прошлое: Исторический сборник. - Пг., 1923.
Пастернак и его роман в контексте традиции
59
времени заканчивается в романе вечностью мифа (часть шестнадцатая, глава 5). Отражается это и на пространственной структуре, разрешающейся в дисконтинуум. Единственной «перспективой» оказываются при этом время и пространство «нового неба и новой земли», «наступающие» в конце романа, когда состарившиеся друзья, сидя «где-то высоко у раскрытого окна над необозримою вечернею Москвою», читают «составленную Евграфом тетрадь Юрьевых писаний» [IV: 514]. Это чтение представляет собой также инверсированный аналог сказочной коллективной трапезы, завершающей обряд инициации. Данный мотив часто появляется в концовке сказки [Смирнов 1981: 86]. Чтение ассоциируется и со сказочным свадебным пиром, причём «молодожёнов» поставляет пласт апокалиптический - это Христос второго пришествия и его Церковь.
О важности Откровения Иоанна для Пастернака свидетельствует то, что одним из предположительных названий романа было «Смерти не будет», а эпиграфом - 4-й стих XXI главы Откровения: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже: ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (см.: [Борисов, Пастернак Е. 1988: 224]). Задачей подлинного искусства, как считает Юрий Живаго (и, вероятно, сам Пастернак, писавший роман), является «дописывание» Откровения. Доктору «было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство -то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает» [IV: 91].
Таким искусством для Юрия Живаго являются его стихи. Для Евграфа, как «автора» жизнеописания брата, именно этот труд является «дописыванием» «Стихотворений Юрия Живаго». Для Пастернака «дописывающим» Откровение был собственно роман. Если учесть, что «Стихотворения Юрия Живаго» поставлены Евграфом после жизнеописания брата, то есть «дописывают» его, то «Стихотворения...» предстанут ключом к восприятию апокалиптической символики прозаического повествования, рождаясь из двух книг прозы как фабула и фундамент гипотетического нового рассказа, «.. .ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откр. XXI, 1). С другой стороны, будучи в позиции «источника», благодаря которому появилось жизнеописание доктора, сделанное Евграфом, «Стихотворения...» оказываются в осевой позиции, которая определяет необходимость «противовеса» для прозаической части. Этим противовесом и должен стать новый, ещё не написанный рассказ, который обязательно должен появиться в будущем. В позиции же контрастного продолжения прозы «Стихотворения...» выступают свидетельством победы героя над смертью, выхода в «жизнь вечную». И.П. Смирнов считает, что «“Доктор Живаго” может быть осмыслен как попытка автора создать новый агиографический текст о человеке, который мог бы стать святым, но не сделался им ввиду упадка сакральности. Роман Пастернака восстанавливает сюжетную схему, лежащую в основе житийной литературы». Но доктор «лишь квазисакральный герой <.. .> Его святость не доподлинна» [Смирнов 2002].
Учитывая признание Пастернака в том, что «всё своё богословие он вычитал у Чехова» [Пастернак Е. 1997: 615], можно заметить, что любая попытка подвести Юрия
60
Глава 1
Живаго под знаменатель какой-либо духовной (религиозной) системы даст недостаточный результат. В каждом частном случае доктор при жизни неизбежно окажется квазигероем. Он как сказочный герой - «пограничная личность, не смешивающаяся ни с одним из миров, в которые она попадает» [Смирнов 1981: 21]. Героем же настоящим (тайным и потому сакральным) - и сразу во всех системах - он становится после смерти, свидетельством чего предстают его стихи.
Апокалиптичность «Доктора Живаго» поддерживается очевидным влиянием блоковской идеи возмездия и ненависти к «теориям прогресса», отразившимся и в построении романа как демонстрации смены трёх поколений семьи Живаго. Р.Л. Джексон пришёл к заключению, что концепция поэмы «Возмездие» «is suggestive of a basic creative idea underlying Doctor Zhivago: the portrayal of the Russian revolution - the painful drama of Russian progress - in terms of an organic life process in which continuity is not lost, but retranslated in new links of life. Yury Zhivago is at the center of Pasternak’s work; but at its outermost limits - and these are the limits of the epoch depicted - are two other Zhivagos: Yury’s father, on the one hand, and his daughter Tanya, on the other. In a religious-ethical sense, the dramas of these three generations constitute a single completed cycle - a cycle of sin, suffering, and redemption»71 [Jackson 1978: 148].
Эти особенности строения романа помогают лучше понять позицию Пастернака, которая истолковывается иной раз не совсем корректно. Так, А.М. Эткинд полагает, что в «замыкании истории», которое «другими авторами» «воспринималось трагически», «Пастернак находит <...> источник пафоса и нечто вроде всеобъясняющей доктрины. В начале романа нам сказано, что большое искусство - то, которое дописывает Апокалипсис; в конце говорится, что вот теперь на деле осуществилось как раз это искусство. Но если советскую жизнь можно было принять за конец истории, то на царствие Божие она меньше всего похожа. Придя к этой точке, автор становится столь же невнятным, как в других своих разговорах на сходные темы. Берлин жаловался на собственное непонимание; Сталин повесил трубку» [Эткинд А. 2001: 383].
Заметим, что «жизнь» в понимании Юрия Живаго (и Пастернака) - отнюдь не «советская жизнь». И когда в конце повествования Гордон говорит Дудорову о том, что «всё переносное стало буквальным», речь идёт всё о той же «жизни», хотя и пришедшейся на советский период. В романе «дописываемым» назван не Апокалипсис, а Откровение Иоанна, что для Пастернака было существенно. «Большим искусством» для писателя была проза. Автором прозаической части «Доктора Живаго» является Евграф. В таком
71 «Является определяющей для идеи творчества, лежащей в основе Доктора Живаго: изображение русской революции - болезненная драма российского развития - в условиях органичного процесса жизни, в котором непрерывность не утрачена, но переведена в новые жизненные связи. Юрий Живаго - в центре пастернаковского произведения; но наиболее отдалёнными от него - и это в то же время крайние пределы изображаемой эпохи - находятся двое Живаго: отец Юрия, с одной стороны, и его дочь Таня - с другой. В религиозно-этическом смысле драмы этих трёх поколений составляют один замкнутый круг -круг греха, страдания и искупления» (англ.).
Пастернак и его роман в контексте традиции
61
случае, как мы отметили выше, «дописывающими» эту прозу оказываются «Стихотворения Юрия Живаго». Однако, по логике происходящего в романе, стихи написаны доктором раньше, чем Евграф создал жизнеописание брата, ради них (и не только), в об-щем-то, и написанное. В таком ракурсе получается, что «Стихотворения...» «дописывают» Откровение Иоанна, а проза Евграфа «дописывает» «Стихотворения...», являющиеся для Евграфа тем, чем для его брата выступало Откровение. Читательский переход, а также переход Евграфа от законченной прозы, от конца буквально рассказанной истории (истории как рассказа, а не как хода веков) к «Стихотворениям Юрия Живаго» и является аналогом перехода в Царствие Божие. В конце романа Гордон говорит о буквальном воплощении в жизни не искусства вообще, а конкретных стихов Блока как одного из «пророков» Серебряного века. Гордон развивает и подытоживает здесь тему, звучавшую ранее в разговоре Веденяпина с толстовцем Выволочновым: «In Part 2, Vedenyapin told his Tolstoyan visitor that the main thing is not what Christ said but the fact that he spoke in parables. The two remarks point to the same thing are gathered up in this penultimate stanza. Christ is seen as the bearer of symbolism itself. It is for this that he sacrifices his life - for the fragile, shared awareness that makes it possible to speak in parables. This new emphasis is a vital part of Vedenyapin’s ‘new understanding of Christianity’ and of the message of Doctor Zhivago»72 [Livingstone 1989: 114].
Пастернак, помещая после жизнеописания Юрия Живаго, созданного Евграфом, стихи доктора, проводит тем самым идею или, если угодно, ощущение буквального воплощения Живаго в стихах, воскрешает его, что соответствует евангельским представлениям о Царствии Божием. К этому подводит и повествование Евграфа. Среди подсказок, оставленных для читателя, - заключительная фраза прозаической части: о том, что «книжка» в руках друзей доктора «знала всё это и давала их чувствам поддержку и подтверждение» [IV: 514]. Так что вряд ли можно говорить здесь о какой-либо «невнятице» со стороны Пастернака. А.М. Эткинд, смешивая планы автора (Пастернака) и его персонажей, «прочитывает» то ли Евграфа, то ли самого Бориса Леонидовича со стороны их «советскости», проецирует «советскую жизнь» на Апокалипсис, однако не «читает» ни героя, ни автора в ключе Откровения.
Непосредственно на Иоанна Богослова ссылается Юрий Живаго, утешающий Анну Ивановну Громеко: «Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. Смерти не будет, потому что прежнее прошло. Это почти как: смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная» [IV: 69].
72 «Во второй части романа Веденяпин говорит своему посетителю-толстовцу, что главное - не то, что говорил Христос, а тот факт, что он говорил притчами. Два пояснения к этой мысли содержатся в предпоследней строфе (Стихотворения “Гефсиманский сад”. - С. Б.). Христос видится носителем символизма как такового. Вот ради чего он жертвует своей жизнью - ради хрупкого, разделённого другими сознания, которое делает возможным говорить притчами. Этот новый акцент - важнейшая часть веденя-пинского “нового понимания христианства” и смысла “Доктора Живаго”» (англ.).
62
Глава 1
Ссылка эта любопытна и тем, что Апокалипсис, завершающий Новый Завет, представляет собой утешительную книгу, дающую надежду. В этой же роли в конце романа предстают завершающие его «Стихотворения Юрия Живаго». В контексте творчества Пастернака такую роль выполняет «Доктор Живаго».
Необходимо отметить ориентацию романа на Апокалипсис в жанровом отношении. В древности апокалипсисы как жанровая форма появлялись в условиях гонений и повсеместных преследований христиан, которые давали большое количество мучеников. Особым наказанием при этом было изгнание [ТБ 1987,3: XI, 509]. Вряд ли есть необходимость напоминать о яростном антихристианстве послереволюционного времени, включая время создания романа, о многочисленности жертв, о трагизме судьбы самого Пастернака и его травле, в ходе которой советские писатели обращались «к правительству с просьбой о лишении предателя Б. Пастернака советского гражданства» [Бахнов, Воронин 1990: 105], то есть об изгнании. Мотивы гонений, преследований, изгнания являются определяющими в общей картине передвижений главного героя романа. Юрий Живаго попадает на Первую мировую войну и к партизанам против своей воли, а на Урал - по желанию родных. Жанровая близость с Откровением поддерживается ролью Евграфа - аналогичной роли Иоанна Богослова по отношению к Христу73. Сказочность Евграфа проявляется в том, что, присутствуя на похоронах (обращённый аналог свадебного пира) брата, он предстаёт в конце повествования в роли рассказчика сказки, завершающего её формулой «И я там был, мед-пиво пил...». Евграф пишет жизнеописание доктора, составляет тетрадь его стихов. Брат Юрия Живаго «анахронистичен <...>. В функции Евграфа входит включение пастернаковского романа в жанровую традицию, в круг рассказов о тайне рождения (авторефлексии). Тайный роман Пастернака завершается объявлением о своей принадлежности жанру. Собственно, жанровость романа и является тем, что скрыто в Евграфе» [Смирнов 1996: 57].
Однако с фигурой Иоанна Богослова соотносится не только Евграф, но и сам Юрий Андреевич. Апеллирование к авторитету Иоанна и введение тем творчества, бессмертия и др. уже в начале романа даёт повод рассматривать доктора именно как героя, спроецированного на автора Откровения. Юрий Живаго, так сказать, продолжает дело апостола по отношению к Христу74. Об этом же сигнализирует и символика деталей, участвующих в создании образа протагониста, в том числе биографических. Аналогичные детали обнаруживаются и в биографии самого Пастернака. Таким образом, Иоанн Богослов выступает общим прототипом для оппозиционных фигур главного героя Юрия Живаго и рас
73 Эта позиция Евграфа поддерживается значениями, содержащимися в его имени - см.: [Фарыно 1990: 156; Смирнов 1996: 56].
74 Переводчик «Доктора Живаго» на английский М. Хэйуорд полагал (вызвав несогласие многих интерпретаторов), что «Zhivago is not a Jesus-like figure. He is more like an apostle, one of those disciples who could not keep awake during the vigil of Gethsemane, referred to in the last poem at the end of the novel» [Hayward 1958: 43]. («Живаго не является фигурой, подобной Иисусу. Он больше похож на апостола, одного из тех учеников, которые не смогли бодрствовать во время Гефсиманской молитвы, к которой отсылает последнее стихотворение в конце романа» (англ.).)
Пастернак и его роман в контексте традиции 63
сказчика Евграфа, а также автора. Так, Иоанн Богослов пишет Откровение на острове Патмос, куда на рудники «он был сослан Домицианом за свидетельство об Иисусе Христе» [ТБ 1987, 3: XI, 53], Живаго записывает свои стихотворения в Барыкине, куда попадает в силу обстоятельств (Варыкино находится на Урале, где так же, как и на Патмосе, есть рудники), а также в комнате в Камергерском переулке: «In his last days Zhivago, like St. John, looks at his city in the spirit from a high place - the upper room to which Evgraf takes him. The city he sees from his window also dazzles him, not with the jewels and radiance which dazzled John but with the hot sunlight blazing on rooftops and asphalt pavements and flashing in reflections from nearby windows»75 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 187].
Вообще, с Патмосом сравнимы все места, где доктор, а также сам Пастернак, уединяется и занимается творчеством. Одно из них - Чистополь на Урале, где Пастернак жил и плодотворно работал в эвакуации. Как замечает Г. де Маллак, «it is clear that both Chistopol - whose run-of-the-mill life he believed provided “the best atmosphere for work” -and his rural retreat in Peredelkino blended in Pasternak’s mind, being elaborated in his novel as Zhivago’s artistic refuge, Varykino»76 [Mallac 1983: 167-168].
Евграф пишет жизнеописание брата, вероятно, также в изоляции (не в его ли комнате сидят в финале романа состарившиеся Гордон и Дудоров, читающие «тетрадь Юрьевых писаний»?). Пастернак в Переделкине (в добровольно-вынужденной изоляции от официальной литературы и так называемой «общественной жизни») создал «книгу слишком страшную, слишком единственную», которую «нельзя было писать иначе, её надо было составить как опись или нотариальный акт» [Переписка с Сувчинским 1994: 227; письмо от 10 мая 1958 г.).
Пастернак перечислил, назвал всё «по-новому» и в то же время как свидетель. Опыт Пастернака (а также автобиографических героев Юрия Живаго и Евграфа), как и опыт Иоанна, значителен настолько, что он чувствовал себя не вправе не передать его. В письме к Н.А. Табидзе от 21 августа 1957 г. Пастернак сообщил о написанном накануне письме к секретарю МГК КПСС и одновременно секретарю Союза писателей Д.А. Поликарпову и привел его текст: «Я написал то, что думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может быть ошибка, что я не утаил его от других. <.. .> я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он-то оказался сильнее моих мечтаний, сила же даётся свыше» [Пастернак 1989-1992, V: 550].
Судьба автора и его героев, как и апостола, - это судьба верующего человека, отстаивающего органическую непрерывность истории и имеющего надежду.
75 «В последние дни жизни Живаго, как святой Иоанн, смотрит на свой город, пребывая “в духе”, с высокого места - из комнаты в верхнем этаже, которую снял ему Евграф. Город, который он видит из окна, так же ослепляет его, но не драгоценностями и великолепием, которые ослепляли Иоанна, но солнечным жаром на крышах и асфальте тротуаров и вспышками отражений из ближайших окон» (англ.).
76 «Ясно, что оба места - Чистополь, обыденная жизнь которого, как он считал, обеспечивает “наилучшую атмосферу для работы”, и его сельское убежище в Переделкине смешались в сознании Пастернака и превратились в место бегства Живаго-поэта - Варыкино» (англ.).
64
Глава 1
Если говорить об одном Юрии Живаго, то, будучи фигурой, спроецированной на Иоанна Богослова, он активен в духовной, а не в материальной практике, как Антипов-Стрельников, одним из прототипов которого был другой апостол - Павел. Доктор - в «страдательном» и потому антагонистам противопоставляет духовную силу, родственным душам творчески откликается. Его лирическая взволнованность сродни взволнованности апостола Иоанна, направляющего послания церквам Малой Азии, откуда идут его духовные корни. Доктор, как и Иоанн, живёт жертвенной жизнью, взгляды и убеждения окупает страданием, будучи соучастником скорби за гонения. Поскольку места, где Живаго сочиняет новые и записывает старые стихи, соотносятся с Патмосом, они-то и выступают впоследствии его посланиями в будущее, где, как писал Пастернак в стихотворении «На смерть Полонского» (1932), «памятливей города, / Признательнее государства» [II: 250]. Посланиям Иоанна церквам в пророчески-учительной части Откровения - Откр. I, 9 - III, 22 [ТБ 1987, 3: XI, 511] - могут символически соответствовать как «Стихотворения Юрия Живаго», так и «взрывчатые гнёзда» мыслей героев, а адресатом оказывается не столько участник диалога, сколько читатель, для которого слова того или иного героя едва ли не отождествляются с авторскими.
С положением на Патмосе Иоанна, желавшего распространения Евангелия по всему миру, но предназначавшего его немногим «избранным», было сходно и положение Пастернака в Переделкине, задыхавшегося без широкого читательского отклика и читавшего или дававшего прочесть роман немногим окружавшим его людям. Этим отчасти объясняются роль и объём переписки последних лет, особенно с заграницей. Желание быть услышанным объясняет стремление писателя к простоте, подразумевающей доступность романа, подобную доступности Евангелия и Откровения. «Ведь я пишу роман для немногих, и вы - одна из них», - сказал Пастернак 6 июня 1952 г. Л.К. Чуковской [Чуковская 1990: 95]. Та же мысль, содержащая, кстати, едва ли не прямое указание на масонскую ложу как чаемый образец, но трактующая «тайное общество» широко, как всякую группу единомышленников, содержалась в письме к Ж. де Пруайар от 20 августа 1959 г.: «Я думаю о совсем особой жизни. В список её действующих лиц входят: Бог, женщина, природа, призвание, смерть... Вот кто по-настоящему мне близок, мои друзья, соучастники и собеседники. Все существенное исчерпывается ими. И не для себя одного я всегда хотел ограничить ими свое тайное общество и круг тех, кто в моём существовании играет воистину плодотворную и значительную роль, но своими произведениями и характером поведения я предлагал и другим этот способ духовного счастья» [X: 518-519].
Через постановку вопросов о цели истории, её смысле и значении предстаёт в «Докторе Живаго» эсхатология России. История для Пастернака направляется волей Бога, и в приходе «грядущего мира» она должна преодолеть себя самоё. Индивидуальная эсхатология Юрия Живаго становится частью всемирной через духовное воскресение и бессмертие. Эсхатологические истины являются в романе, как и в Откровении, через картины, видения и символы. Учтём при этом, что образ Живаго совмещает черты духовного облика как Иоанна, так и Христа.
Пастернак и его роман в контексте традиции
65
В апокалиптико-эсхатологической части Откровения (Откр. IV-XXII, 5) выделяются пять порядков явлений, представляющих эсхатологию мира [ТБ 1987, 3: XI, 512] (ср. с тем, что в «Докторе Живаго» пять Основных субтекстов). Каждый из них содержит описания того, как происходит суд над миром. Для Пастернака и его героев Юрия Живаго и Евграфа Россия - индикатор мировых событий. Суд над миром идёт через эсхатологию России. Из того, что события истории проходят при свидетельстве Юрия Живаго и Евграфа, символически следует, что именно они «достойны раскрыть» Книгу Жизни и «снять печати ея» (Откр. V, 2), подобно тому как это делает Агнец. В данном случае на первый план выдвигается символическое отождествление и Юрия Живаго, и Евграфа с Христом и «прочтение» жизни каждого из героев как пути, повторяющего путь Господа. По мнению Д. Бетеа, Юрий Живаго олицетворяет «новую эру свободной христианской личности» [Bethea 1989: 251-268]. С этим связана и духовная собранность, напряжённость в моменты творчества, понимание искусства как откровения и чувство «победившего художника», которые доктор являет в «Стихотворениях Юрия Живаго», Евграф - в своей деятельности по отношению к брату и его жизни и творчеству, а Пастернак - в романе, в письмах, в быту.
После революции исполняется то, о чём говорит Живаго друзьям по возвращении в Москву из Мелюзеева на вечеринке в доме Громеко. Картины военных и революционных разрушений, распада всяческих норм, голода, разрухи, смерти можно рассматривать в качестве проекций снятия печатей Книги. Происходящее оценивает Антипов-Стрельников в разговоре с Живаго в Развилье: «Сейчас Страшный суд на земле, милостивый государь, существа из Апокалипсиса с мечами и крылатые звери, а не вполне сочувствующие и лояльные доктора» [IV: 251-252]. В уста Стрельникова вкладывается фразеология Ленина («милостивый государь»), и в черновых редакциях Пастернак связывал мысли о Ленине с антагонистом Юрия Живаго. То, что Стрельников предстаёт в данном случае в роли профанного Иоанна Богослова, даёт возможность говорить об интертекстуальном контрастном соотнесении Ленина с апостолом-автором Апокалипсиса. «Буквальная» же, церковно ориентированная трактовка этого обращения даёт аналогию Живаго с Христом.
В конце Откровения Иоанна Книга Жизни оказывается открытой. Прямая аналогия этому в романе - сцена, когда Гордон и Дудоров перелистывают «составленную Евграфом тетрадь Юрьевых писаний» [IV: 514]. Сбывается предсказание, что «времени уже не будет» (Откр. X, 6). Так ориентация на Апокалипсис сочетается с использованием приёма полной остановки времени. Ср. с обобщённой характеристикой русской песни в сцене, когда Кубариха поёт в партизанском отряде: «Это безумная попытка словами остановить время» [IV: 360]. Эту остановку предваряют ускорение и сгущение событий в Эпилоге. В начале же романа, как это и проявлено в «Докторе Живаго», «фиксация времени <.. .> нередко передаётся употреблением формы несовершенного вида прошедшего времени (в глаголах речи)» [Успенский 1995: 185-187]. Добавим, что мир воспри
66
Глава 1
нимался, как книга в эпоху барокко. У Пастернака, попав в текст, образ книги стал одной из сюжетных тем.
Апокалиптические события продолжаются и после смерти Юрия Живаго - до конца Великой Отечественной войны, когда «просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но всё равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание» [IV: 514]. После войны описанному в конце Откровения Царству Божиему, на которое спроецирована ситуация чтения друзьями «писаний» Живаго, противопоставлено профанное, антихристианское «царство кесаря».
Стоит сравнить то, как подаётся исчезновение времени в конце «Доктора Живаго», с тем, как оно воспринималось в начале 1920-х. Например, О.Э. Мандельштам в статье «Конец романа» писал, что «чувство времени составляло основной тон самочувствия европейского романа», «композиционной мерой» которого была «человеческая биография». «Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, немыслим без интереса к отдельной человеческой судьбе, фабуле и всему, что ей сопутствует» [Мандельштам 1990, II: 204].
Гордон и Дудоров в конце повествования оказываются интересны и значительны лишь тем, что могут соотноситься с давно умершим главным героем. Друзья доктора являются лишь «отголоском» его уже состоявшейся биографии. Самостоятельно «тематическим стержнем романа» они быть не могут, и «чувство времени» у них отсутствует. Более того, отмечая их постоянное появление в романе парой, напоминающей Розенкранца и Гильденстерна, А. Ливингстон обращает внимание на то, что они - «men who change with changing circumstances, always assimilating to some external model, never being themselves - mimic in the bad sense. <.. .> just any two men, with necessary names»77 [Livingstone 1989: 83, 84].
«Однако не мог же он сказать им: “Дорогие друзья, о, как безнадёжно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имён и авторитетов! Единственно живое и яркое в вас то, что вы жили в одно время со мной и меня знали”. Но что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания! И, чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал» [IV: 478].
Такое отношение Живаго к друзьям позволяет говорить о возможности его инверсионного соотношения с Н.В. Гоголем, «одним из наиболее напряжённых противоречий <...> личности» которого «было одновременное сознание собственного величия и ничтожества. <.. .> Он деспотически помыкал своими друзьями, требуя, чтобы они освободили его от житейских забот и расходов и вообще всячески лелеяли его, накладывал на них покаяния и епитимьи и умер, требуя подать ему лестницу на небо. <.. .> Он сурово отчитывал их, требовал благодарности за то, что живёт среди них, и ожидал, что они
77 «Люди, которые изменяются вместе с изменяющимися обстоятельствами, всегда уподобляясь каким-то внешним моделям, никогда не оставаясь самими собой - подражателями в плохом смысле. <...> всего лишь какие-то два человека, снабжённые необходимыми именами» (англ.).
Пастернак и его роман в контексте традиции
67
будут перечитывать, переписывать и передавать друг другу его письма» [Жолковский 1994: 73-74, 318).
Апокалиптическая аллегорика и символика в «Докторе Живаго» ярко прослеживается в функции города (Москвы), который Юрий Живаго называет «единственным вдохновителем воистину современного нового искусства» [IV: 485]. В то же время Москва предстаёт и центром катастрофических социальных потрясений78. В Откровении (глава XVII) идёт суд над великим городом, расположенным на семи горах, который Иоанн Богослов называет «великой блудницей». Заметим, что в «Стихах о Москве» М.И. Цветаева определяла город как «семихолмие», «нерукотворный град». В «Докторе Живаго» Москва предстаёт как новый Иерусалим, в который входят «избранные». Гордон и Дудоров сидят «где-то высоко у раскрытого окна над необозримою вечернею Москвою. <...> И Москва внизу и вдали, родной город автора и половины того, что с ним случилось, Москва казалась им сейчас не местом этих происшествий, но главной героиней длинной повести, к концу которой они подошли, с тетрадью в руках, в этот вечер» [IV: 514]. Ср. это описание с отрывком, подтверждающим текстуальную близость заключительной части «Эпилога» (часть шестнадцатая, глава 5) (а шире - всей прозаической части «Доктора Живаго») с XXI главой Откровения: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр. XXI, 1-2).
Явное выведение кода на «поверхность» текста проявляется в стремлении отождествить повествовательную «фактуру» «Доктора Живаго» с «фактурой» Откровения. Пастернак сделал это в конце произведения, что дает усиленную проекцию на Откровение всего предшествующего текста. Этическая программа автора сливается с эстетической. Текст романа оказывается «дописывающим» «большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна» [IV: 91], дух романа - тождественным духу Откровения. «Стихотворения Юрия Живаго» и «Эпилог» дают перспективу воспоминания, обращённую на предыдущее повествование. При этом «Эпилог» скрепляет «порвавшуюся связь времен», а «Стихотворения...» объединяют их духом Откровения. Они распахнуты из будущего и спасительно действуют на читающих героев. Живаго прошёл «конец времён» с надеждой на будущее, «достигая» его стихами. Тетрадь в руках друзей - это предстоящее и сбывающееся будущее. Москва для них предстаёт в свете творчества друга. Место, где сидят Гордон и Дудоров, не названо. Можно предположить, однако, что панорамный вид города мог открываться им из окон квартиры Пастернака в Лаврушинском переулке. Кроме того, своим лаконизмом и ориентацией на Откровение описание Москвы в финале романа контрастно отличается от подробного описания картины города, который Пастернак увидел с высоты во время первого в своей жизни по
78 О центральной позиции Москвы в различных сценах романа см.: [Scherr 1974; Lilly 1981]. Урбанистическому аспекту «Стихотворений Юрия Живаго» некоторое внимание уделено в [Gifford 2003: 198-213].
68
Глава 1
лёта на самолёте. Через несколько часов после полёта, состоявшегося 16 октября 1927 г., Пастернак подробно рассказал о своих впечатлениях в письме к М.И. Цветаевой, которая, в свою очередь, восторженно отозвалась об описании полёта как об открытии «нового мира», «новой эре, второй песне <...> эпоса» Пастернака (первой она считала дождь). В «Докторе Живаго» ассоциации Москвы с новым Иерусалимом Откровения стали тем более значительны, что в 1927 году отсутствовали - Москва тогда находилась в ряду философских, гастрономически-сервировочных, литературно-исторических, живописных и музыкальных ассоциаций, и восприятие города с высоты связывалось с важным для раннего Пастернака мотивом застав (см.: [Переписка с Цветаевой 2004:408-409,415-416]).
У «состарившихся» Гордона и Дудорова есть и юные двойники. Ср. относящуюся к 1948 или 1953 г. финальную сцену «Доктора Живаго», которую можно было бы назвать «Былое и думы», с клятвой А.И. Герцена и Н.П. Огарёва в 1826 или 1827 г. на Воробьёвых горах высоко над раскинувшейся перед ними вечерней Москвою. Начинающие писатели и революционные деятели поклялись отомстить за казнённых декабристов (ср. в этом свете Юрия Живаго - с П.И. Пестелем).
После встречи Гордона и Дудорова на фронте в 1943 г. (год поездки Пастернака в действующую армию) «прошло пять или десять лет» [IV: 514]. 1953-й-год смерти Сталина. «Состарившиеся друзья» Гордон и Дудоров, молчащие после смерти Юрия Живаго, проецируются также на «товарищей» Ленина и Сталина, а вся летняя ситуация - на сцену знаменитой «клятвенной» речи начавшего политическое восхождение Сталина «у гроба» Ленина, после его смерти. Последняя была произнесена зимой, 26 января, на II всесоюзном съезде Советов. Анализируя эту речь, Р. Такер пишет: «Обращает на себя внимание библейская фразеология речи Сталина, по своей форме (монотонный, единообразный обет, следовавший за каждой заповедью) похожая на литургию с характерными признаками православной молитвы». Имеет значение и срок в 10 лет: «На январь 1934 г. приходится одна из вершин культа личности Сталина». 26 января 1934 в зале заседаний Большого Кремлевского дворца открылся XVII съезд ВКП(б), вошедший в историю как «съезд победителей».
«В 1956 г., выступая на XX съезде КПСС, Хрущёв сообщил, что из 1966 делегатов XVII съезда 1108 в дальнейшем были арестованы по обвинению в преступлениях против революции. <.. .> В статье, появившейся в “Правде” 21 января по случаю десятилетия смерти Ленина, говорилось: “Оглядываясь на пройденный десятилетний путь, партия вправе заявить, что сталинская клятва выполнена с честью. Десятилетие после смерти Ленина - десятилетие великой всемирно-исторической победы ленинизма. Под руководством Сталина большевики добились того, что СОЦИАЛИЗМ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПОБЕДИЛ”» [Такер 2006: 190, 528, 529].
Таким образом, инверсированная проекция последней сцены романа на «клятву» Сталина и приурочивание ситуации к 1953 году позволяют говорить о том, что «будущее», которое «расположилось ощутимо внизу на улицах» и в которое «вступили» и
Пастернак и его роман в контексте традиции
69
«находятся» Гордон и Дудоров [IV: 514] - это «будущее» после окончания социализма. Москва же названа «святым городом», что не только соотносит её с Иерусалимом Откровения Иоанна Богослова, но и корреспондирует с литургически-молитвенной формой «клятвы» Сталина, контрастирующей с её содержанием.
Заметим, что повествователь не указывает, на какой улице находится комната, в которой встречаются Гордон и Дудоров. Все, что о ней сообщается, это - «где-то высоко <...> над необозримою вечернею Москвою» [IV: 514]. Вряд ли это комната Гордона на Малой Бронной, где в 1929 г. Гордон, Дудоров и Живаго встречались втроём в последний раз. От этой комнаты остались, так сказать, лишь двое из трёх персонажей, в ней присутствовавших. С большей вероятностью это может быть комната в Камергерском переулке, в которой жили Антипов, Живаго и в которой бывала «связывающая» их Лара (тоже, как и в предыдущем случае, трое персонажей, один из которых находится в осевой позиции). Комната, в которой находятся Гордон и Дудоров, так же как и комната в Камергерском, находится высоко, но вид из двух (а не одного) окон последней - «на противоположные театру крыши» [IV: 484], то есть необозримой панорамы города нет. Таким образом, можно заключить, что эта комната - нечто среднее между двумя упомянутыми. И если раскрытое окно и панорамный вид на город напоминают о клятве Герцена и Огарёва, то сходство с комнатами на Малой Бронной и в Камергерском - о количестве встречавшихся там, которое отсылает к незавершённым драматическим сценам «Исповедь лишнего человека»79 Огарёва, содержащим важнейший в «Докторе Живаго» образ горящей на столе свечи80 (связан с комнатой в Камергерском переулке). Ср. каждую из комнат со строками:
Я помню комнату аршинов пять,
Кровать, да стул, да стол с свечою сальной... И тут втроём мы, дети декабристов И мира нового ученики, ученики Фурье и Сен-Симона. Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью, Основою положим социализм. И, чтоб достичь священной нашей цели, Мы общество должны составить втайне...
(Цит. по: [Башилов 2004: 1058]).
Отмеченная аналогия осложнена тем, что Гордон и Дудоров, читающие стихи Юрия Живаго в последней сцене романа, а также в эпизоде осыпания упрёками друга в комнате Гордона незадолго до смерти доктора, спроецированы на две пары прототипов (с различной степенью инверсированности и профанирования): Маркса и Энгельса, а так
79 Это произведение по цензурным соображениям было исключено из собрания стихотворений Огарёва (под редакцией М.О. Гершензона), вышедшего в Москве в 1904 г. «Исповедь лишнего человека» была впервые опубликована в России в московском журнале «Русская Мысль», 1904, № 8.
80 Этот образ рассмотрен в: [Фатеева 2007: 211-213].
70
Глава 1
же самого Пастернака и Цветаеву. Друзья доктора (в последней сцене, кстати, упоминаются и их дети) предстают такими же неогегельянцами, о которых Пастернак писал Цветаевой в письме от 4 марта 1926 г.: «У меня столько веры в то, что динамит можно подарить бедным родственникам и что эту часть симфонии уже отстучали!81 Она называется эроикой ведь не только по обилию ударных, заполонивших первую часть! Марина, мы будем неогегельянцами, какими были молодые Энгельс и Маркс, мы ещё с Вами будем обрушиваться на коммунистов с упрёками в малодушье и пессимизме, мы или те из молодых, которым будем радоваться, как своей поросли, и которые будут жить и дружить с нами» [Переписка с Цветаевой 2004: 142].
Сравнение с симфонией отсылает не только к эпохальным «Симфониям» Андрея Белого82, но и, конечно, к первой части «Allegro con brio» 3-й симфонии «Eroica» (op. 55 in Е-flat Major) Л. ван Бетховена. Вновь начала веков оказываются в созвучии, и 1920-е проецируются на 1820-е. Перекличка с ситуацией двадцатых годов XIX века осложняется также аналогичной перекличкой с противопоставленной ей ситуацией двадцатых годов ХХ-го, где прототипами Гордона и Дудорова представали сам Пастернак и О.Э. Мандельштам83. Зимой 1924 года Пастернак и Мандельштам с женой встретились вечером или ночью в очереди к гробу Ленина «и простояли много часов втроём <.. .> где-то возле Большого театра» [Мандельштам Н. 1990: 171]. Сцена чтения Гордоном и Дудоровым стихов умершего Живаго является обыгрыванием сцены, в которой Сталин (и другие руководители) произносит речь перед мёртвым Лениным84. Как пишут комментаторы А.Д. Михайлов и П.М. Нерлер, строка «И клятвы крупные до слёз» из стихотворения Мандельштама «1 января 1924», «возможно, аллюзия из речи Сталина над гробом Ленина» [Мандельштам 1990,1: 499]. Добавим, что Мандельштам, глядя на похороны Ленина и клятвы Сталина и других деятелей, по-видимому, сравнивал эту сцену как раз с клятвой Герцена и Огарёва. «1 января 1924» было, как сообщают А.Д. Михайлов и
81 Ср. с тем, что «Стихотворения Юрия Живаго» оказались в руках «бедных родственников» доктора по духу - Гордона и Дудорова.
82 О сравнении симфоний, о которых говорит Веденяпин, с «Симфониями» А. Белого: [Гаспаров Б. 1994: 243].
83 О «пересечении биографий» поэтов см.: [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В. 1979-1981].
84 Вероятно, первым фигуру Ленина как одного из прототипов Юрия Живаго (другие названные исследователем - Л.О. Пастернак, Д. Самарин и герой толстовского «Воскресения» князь Нехлюдов) предложил рассматривать Р. Пэйн: «That Lenin should be among the influences which went to form Doctor Zhivago is one of the many ironies connected with the novel, but it is not the most surprising. In the last days of his life Pasternak wrote that he had three times observed an ephiphany, a godlike light shining from a human face. He had seen this light in Samarin and Lenin, and he became aware of it in the person of Prince Nekhludov. In the figure of Doctor Zhivago all three ephiphanies were curiously reconciled» [Payne 1963: 171-172]. («То, что Ленин должен быть среди фигур, влияние которых сказалось при создании “Доктора Живаго” - один из многих поводов для иронии, связанных с романом, но не самый удивительный. В последние дни своей жизни Пастернак писал, что три раза был свидетелем “богоявления”, божественного сияния человеческого лица. Он видел такое сияние у Самарина и Ленина и был уверен, что оно было у князя Нехлюдова. В фигуре доктора Живаго все эти три “богоявления” были странным образом объединены» (англ.).)
Пастернак и его роман в контексте традиции
71
П.М. Нерлер, «написано в январе 1924 г. в Киеве, где поэт с женой встречали Новый год <...>. По всей вероятности, завершено в конце месяца, уже в Москве, после смерти и похорон В.И. Ленина» [Мандельштам 1990,1:498]. Похоронную очередь и происходившее Мандельштам описал в очерке «Прибой у гроба» (1924), который, как и сцена смерти и прощания с Пушкиным, изображённая многими мемуаристами, отразился в характеристиках происходившего в комнате в Камергерском переулке, где лежал умерший доктор. Например, ср. с текстом Мандельштама лишь один участок текста романа.
В «Докторе Живаго»: Лара «медленно положила на тело три широких креста и приложилась к холодному лбу и рукам. Она прошла мимо ощущения, что похолодевший лоб как бы уменьшился, как сжатая в кулачок рука, ей удалось этого не заметить» [IV: 497].
В «Прибое у гроба»: «Три чёрных ленты спадают к ногам толпы. Там, в электрическом пожаре, окружённый ёлками, омываемый вечно-свежими волнами толпы, лежит он, перегоревший, чей лоб был воспалён ещё три дня назад. ..<...> И мёртвый - он самый живой, омытый жизнью, жизнью остудивший свой воспалённый лоб» [Мандельштам 1993-1997, II: 406-407]. Описание лба умершего Юрия Живаго не только отсылает к тексту Мандельштама, но и представляет контраст строкам из поэмы В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (1924): «Рассияют головою венчик, / я тревожусь, / не закрыли чтоб / настоящий, / мудрый, / человечий / ленинский / огромный лоб» [Маяковский, VI: 234].
Укажем также, что Лара, которая «замерла и несколько мгновений не говорила, не думала и не плакала, покрыв середину гроба, цветов и тела собою, головою, грудью, душою и своими руками, большими, как душа» [IV: 497], ведёт себя и в этой сцене и ранее, когда находит у себя дома вернувшегося от партизан доктора, подобно не только Магдалине, но и Наталье Николаевне Пушкиной. Как вспоминал секундант Пушкина К.К. Данзас (запись А. Амосова), «госпожа Пушкина возвратилась в кабинет в самую минуту его смерти. ..<...> Увидя умирающего мужа, она бросилась к нему и упала перед ним на колени; густые тёмно-русые букли в беспорядке рассыпались у ней по плечам. С глубоким отчаянием она протянула руки к Пушкину, толкала его и, рыдая, вскрикивала: “Пушкин, Пушкин, ты жив?!” Картина была разрывающая душу...» [Пушкин в воспоминаниях 1998, II: 409].
Финальная сцена чтения Гордоном и Дудоровым тетради стихов Юрия Живаго обыгрывает ещё один текст Мандельштама. Это последние строки короткого очерка «Борис Пастернак» (1922-1923), напечатанного в 1923 г. в № 6 (февраль) журнала «Россия» и посвящённого книге «Сестра моя - жизнь»: «Конечно, Герцен и Огарёв, когда стояли на Воробьёвых горах мальчиками, испытывали физиологически священный восторг пространства и птичьего полёта. Поэзия Пастернака рассказала нам об этих минутах - это блестящая “Нике”, перемещённая с Акрополя на Воробьёвы горы» [Мандельштам 1993— 1997, II: 302].
Заметим, что Мандельштам сравнивает поэзию Пастернака («Сестру мою - жизнь») с древнегреческой богиней победы - Гордон и Дудоров читают «Стихотворения Юрия
72
Глава 1
Живаго» после победы в Великой Отечественной войне. Соотнесённость «Стихотворений Юрия Живаго» с книгой «Сестра моя - жизнь» позволяет говорить не только о том, что Пастернак сделал героя романа автором книги стихов, аналогичной лучшей собственной книге стихов, но и о том, что дал повод сравнивать две своих вершинных книги -«Сестру мою - жизнь» и роман («Стихотворения Юрия Живаго» в системе произведения). С учётом того, что реверс истории в видении Пастернака был связан, с одной стороны, с антихристианской сущностью советского времени, а с другой - полемикой с символистами и футуристами, соотнесение Мандельштамом Воробьёвых гор с Акрополем подтверждало соответственно ориентацию послевоенной современности на всё более отдалённые времена (уже не на антихристианский древний Рим, но на высококультурную древнюю Грецию) и позволяло Пастернаку, завершавшему роман, скрыто указать на союзника в полемике как с символизмом, так и футуризмом - на Мандельштама. Это союзничество тем более важно, что, хотя Пастернак приветствовал то, что Мандельштам писал о нём в статьях 1920-х годов85, на протяжении 1930-х особой духовной близости между поэтами не было. По-видимому, в период окончания работы над романом Пастернак вновь высоко оценил значение творчества Мандельштама. Скрытая солидаризация с ним идёт параллельно с такой же скрытой в интертексте высокой оценкой другого акмеиста - Н.С. Гумилёва.
Пастернаку и в 1920-е, и в 1950-е годы, очевидно, были близки мысли, которые высказывал о символизме и футуризме Мандельштам. Так, в статье «Буря и натиск» (1922— 1923) (в которой, заметим, содержатся высокие оценки творчества Пастернака, и последний это, скорее всего, оценил) Мандельштам писал о Вяч. Ив. Иванове - поэте чрезвычайно значимом для Пастернака на протяжении жизни: «Ощущение прошлого как будущего роднит его с Хлебниковым» [Мандельштам 1993-1997, II: 292]. Вопросы о связи инверсионного видения истории Пастернаком с аналогичным видением Иванова и об амбивалентности оценок Пастернаком символизма и футуризма нуждаются в отдельном рассмотрении. Переломом в ориентации послереволюционной истории России на «негатив» древнего Рима стала война, после которой эта ориентация перешла на «позитив» древней Греции. Такое видение подтверждается неоднократными высказываниями Пастернака о значении войны и словами Гордона и Дудорова, разговаривающих на фронте ранним утром возле реки Зуши [IV: 503-504]. В разговоре после рассказа Тани Безочередевой Гордон роняет фразу: «Так Греция стала Римом» [IV: 513] - вновь отмечает момент перелома, который в финальной сцене на интертекстуальном уровне получает обратную направленность и мог бы звучать примерно так: «наконец Рим вновь может стать Грецией».
85 В письме от начала ноября 1924 г. Пастернак писал Мандельштаму: «Милый мой, я ничего не понимаю! Что хорошего нашли Вы во мне! Кто внушал и подсказывал Вам статьи вроде “Российских” или той, что в “Русском искусстве”. На что Вы польстились? Да мне ведь и в жизнь не написать книжки, подобной “Камню”! И как давно всё это сделано, и сколько там, в тиши и без шума, понаоткрыто америк» [VII: 540]. Комментаторы указывают, что «имеются в виду статьи “Vulgata. Заметки о поэзии” (“Русское искусство”, 1923, кн. 2-3) и “Борис Пастернак” (“Россия”, 1923, № 6)» [VII: 541].
Пастернак и его роман в контексте традиции
73
Местонахождение Гордона и Дудорова можно сравнить также с Наполеоном на Воробьёвых горах. С Наполеоном Пастернак сравнивал М.И. Цветаеву, преклонявшуюся перед фигурой французского императора, в 16 лет вставившую его портрет в киот и писавшую стихи о нём и о Москве. Например, в разговоре с З.А. Маслениковой в 1958 г. Пастернак рассказал: «Цветаева была похожа на Наполеона: круглое решительное лицо с правильными чертами. Все её поступки, жесты, движения были целесообразны. Так она была воспитана: каждый её час должен был быть занят определённым делом» [Мас-леникова 1995: 67]. Ср., кстати, эту характеристику с описанием Стрельникова, «прямыми, стремительными шагами» вошедшего в помещение, где его дожидался арестованный Юрий Живаго [IV: 248]. Финальная сцена романа скрыто пародирует как Наполеона над Москвой, так и Цветаеву, его романтизировавшую, а также представляет скрытый контраст стихотворениям «Воробьёвы горы» и «У себя дома». В 1917 г. Пастернак возвращался от Е. Виноград из Тамбовской губернии кружным путём и, вероятно, доехал до Киева. (Пастернак мог обратить внимание на то, что «1 января 1924» Мандельштам написал зимой в Киеве, и ассоциативно соотнести это по контрасту со своей летней поездкой.) «У себя дома» контрастно перекликается также с вышеприведённым описанием прощания Лары с мёртвым Юрием Живаго.
Пастернак сделал последнюю сцену романа насыщенно символичной и аллегорической, оставив скрытые отсылки не только к чужим текстам, но и актуализировав ключевые моменты своего. «Читавшие перекидывались замечаниями и предавались размышлениям. К середине чтения стемнело, им стало трудно разбирать печать, пришлось зажечь лампу» [IV: 514]. «Серединой» романа является конец Первой и начало Второй книги: приезд из Москвы на Урал, перелом в жизни героев, начало революционной эпохи, начало самых трудных испытаний. («Серединой» можно считать и переход от прозы к «Стихотворениям Юрия Живаго».) «Серединой» Библии является конец Ветхого и начало Нового Заветов. Помогающая дочитать лампа, выступающая коррелятом свечи, сразу отмечает связь образа свечи с «серединой» и актуализирует сюжетные ситуации, в которых она появляется. Ситуациям этим придаётся окончательная завершённость, и читатель вводится в переживание духовного откровения вместе с героями. «Неразборчивость» читаемого текста - значимый признак, отсылающий к священным (библейским) и сказочным текстам. Тема неразборчивости текста (или картины, стоящей перед глазами) возникает в романе всякий раз, когда герой (или герои, как Гордон и Дудоров) испытывает состояние откровения, потрясения. При этом очерёдность пребывания в состоянии откровения и процесса чтения всякий раз имеют особое значение. Приведём лишь один пример, когда Живаго, вернувшийся от партизан в Юрятин, читает вторую половину записки Лары. Чтение второй половины становится, так сказать, возможным только после того, как доктор испытывает состояние откровения, но не раньше: «Он вынул из кармана её смятую записку. Он извлёк её в перевёрнутом виде, не в том, в каком читал прежде, и только теперь установил, что листок исписан и с нижней стороны.
74
Глава 1
Разгладив скомканную бумажку, он при пляшущем свете топящейся печки прочёл: <.. .>. Конец фразы стёрся и был неразборчив» [IV: 389].
Лара обрывает записку: «Наговоримся с глазу на глаз» [IV: 389]. Таким образом, при соотнесении записки с Откровением Иоанна она выглядит как повествование, продолжение которого ещё не написано или не рассказано. «Конец фразы» стирает ведь, уходя стричься и бриться, сам доктор. Следовательно, он должен «дописать» то, что предстоит ему в отношениях с Ларой. Ср. это с тем, что Гордон и Дудоров могут дочитать стихи Живаго и без света, поскольку половину их они «знали наизусть» [IV: 514]. Оборванная на полуслове записка, которую продолжит разговор; Откровение Иоанна, которое должно, по мысли Живаго, «дописываться» современным искусством; стихи доктора, которые без света дочитают его друзья, - всякий раз представляют собой лишь «половину» всего Текста. Вторую «половину» предстоит написать и/или прочитать. Ср. это с тем, что стихотворения, составившие книгу «Темы и вариации», Пастернак писал на оборотной стороне рукописи «Сестры моей - жизни». Аналогичен и момент перехода от первой половины Текста ко второй; «серединой» «Доктора Живаго» при этом является значимое отсутствие текста после окончания прозаической части и перед началом «Стихотворений Юрия Живаго». Но в качестве «середины» можно рассматривать и «Стихотворения...», после которых должно следовать новое повествование, вторая «половина» Текста. Если же учесть ориентацию структуры «Доктора Живаго», состоящего из двух книг прозы плюс «Стихотворения...», на структуру Библии, то «Стихотворения...» предстают в позиции Третьего Завета. Кроме упоминаний в прозаическом тексте романа, о «Стихотворениях...» (за исключением «Сказки») ничего не говорится. Они явлены Ларе и Евграфу, затем друзьям Юрия Андреевича и, наконец, читателю романа подобно и Откровению, завершающему Библию, и гипотетическому Третьему Завету, о котором, по мнению Вяч. Ив. Иванова, говорить мы не вправе, «и действие Духа Утешителя будет, по определённому обету Еван<гелия>, только напоминанием и разъяснением того, что сказал Христос» [Иванов 2008: 74]. Здесь стоит заметить, что Живаго проявляет себя как утешитель и в начале романа - в сцене с заболевшей Анной Ивановной, и в конце - в беседе с друзьями.
Как и роман в целом, «Стихотворения Юрия Живаго» оказываются не только в руках Гордона и Дудорова, но и в руках самого читателя и дают «чувствам поддержку и подтверждение» [IV: 514]. Автор создал эффект собственного духовного присутствия, которое материально подкрепляет роман в руках читающего - «бессмертья, быть может, последний залог» [II: 63]. «Избранность» двух друзей Юрия Живаго объясняется тем, что они тоже прошли испытания (о которых рассказывали друг другу). В качестве комментария, поясняющего метаморфозу, произошедшую с ними со времени последней встречи с доктором до момента чтения его «писаний», могут служить мысли главного героя «Повести» (1929): «Как велико и неизгладимо должно быть униженье человека,-думал Сережа, - чтобы, наперёд отождествив все новые нечаянности с прошедшим, он
Пастернак и его роман в контексте традиции
75
дорос до потребности в земле, новой с самого основанья и ничем не похожей на ту, на которой его так обидели или поразили!» [III: 117].
Реальность исторической действительности, христианской культуры, представляемая романом, подытоживается «Эпилогом», представляющим эсхатологическую перспективу вечной жизни. «Стихотворения Юрия Живаго» предстают откровением действительности под знаком вечности. Символичность статической сцены чтения Гордоном и Дудоровы стихов доктора сталкивается с её реалистичностью, которую можно усмотреть в фотографичности изображённого.
«Фотография - одно из важнейших изобретений реалистической эпохи. Возникновение фотоискусства именно в тот период объясняется, во-первых, тем, что фотография не создаёт “второй” действительности (коль скоро она не способна заглянуть в жизнь абстрактных идей, в область сна и т. п.) и зиждется на эффекте личного присутствия фотографа там, где фиксируется некоторое событие или предмет» [Смирнов 2000: 54 (в сотрудничестве с И.Р. Деринг-Смирновой)].
На этом фоне показательным представляется то, что одним из источников оптимистического монолога Юрия Живаго во время последней встречи с друзьями и такого же оптимистического финала романа является характеристика поэзии самого Пастернака (в частности, сборника «Земной простор»), которую дал в своей работе «The Heritage of Symbolism» (1943) английский литературовед С.М. Боура. Как указала П. Дэвидсон, «various points made by Bowra about the strengths and direction of Pasternak’s creative work may well have encouraged his work on the novel. For example, Bowra’s comment in his 1945 review of Earthly Expanse about the link between Pasternak’s poems on war and his faith in the advent of a new and better life could be applied to the development of Pasternak’s novel through to its epilogue: “But behind these contemporary topics we can still discern his old dynamic view of life, his trust in the Russia mission and in the advent of a new, vigorous life, and the book rightly closes with some noble verses in which, with coming of spring, he sees life returning to a half-dead world and foretells a future full of beauty and romance”»86 [Davidson 2009: 59].
Заключительная сцена «Доктора Живаго» является сбывающимся предсказанием Юрия Живаго друзьям, прозвучавшим во время их последней встречи: «Мне кажется, всё уладится. И довольно скоро. Вы увидите. Нет, ей-богу. Все идёт к лучшему. Мне невероятно, до страсти хочется жить, а жить ведь значит всегда порываться вперёд, к высшему, к совершенству и достигать его» [IV: 481]. Это предсказание - отнюдь не «ни
86 «Разнообразные наблюдения Боуры над усилиями и направлением творчества Пастернака могли значительно поощрить его работу над романом. Например, комментарий Боуры, сделанный в 1945 г. в его обзоре книги “Земной простор”, о связи стихотворений Пастернака о войне с его верой в наступление новой и лучшей жизни может быть применим к ходу всего романа Пастернака вплоть до эпилога: “Но, кроме этих современных тем, мы можем ещё различить его старое динамическое видение жизни, его веру в миссию России и наступление новой, энергичной жизни, и книга бодро завершается несколькими замечательными стихотворениями, в которых вместе с приходом весны он видит возвращение жизни в полумёртвый мир и предсказывает будущее, полное красоты и романтики”» (англ.).
76
Глава 1
чего не значащие и жалкие в своей банальности реплики, которые, казалось бы, наглядно подтверждают правоту <...> обвинителей» доктора [Гаспаров Б. 1994: 260], но слова, скрытый смысл которых Гордон и Дудоров просто не понимают. Данный вынужденный ответ Юрия Живаго представляет собой «оптимистическое» отражение его эсхатологической речи, произнесённой, несмотря на невнимание собравшихся, на вечеринке в доме Громеко после приезда из Мелюзеева в Москву. Обратим внимание и на то, что Гордон и Дудоров сидят «тихим летним вечером» уже как бы на исходе того дня, что отразился в последних записях Живаго: «Я живу на людном городском перекрёстке. Летняя, ослепляемая солнцем Москва, накаляясь асфальтами дворов, разбрасывая зайчики оконницами верхних помещений и дыша цветением туч и бульваров, вертится вокруг меня, и кружит мне голову, и хочет, чтобы я во славу ей кружил голову другим. Для этой цели она воспитала меня и отдала мне в руки искусство» [IV: 486].
Монолог героя зеркально соотносится с XVIII главой Откровения, а также со стихотворением А.А. Блока «Голос из хора» (1910-1914). Ср. оптимизм доктора со строками Блока «О, если б знали вы, друзья, / Холод и мрак грядущих дней» [Блок 1960-1963, III: 62]. Обращение к «детям» в последней строфе (они же «друзья» в первой) соотносит это стихотворение с разговором Гордона и Дудорова после смерти Живаго над вечерней Москвой в финале романа. Эти две скрытые отсылки к тексту Блока87 определяют «освещаемое» им пространство текста «Доктора Живаго».
Москва в романе инверсированно предстаёт и как новый Иерусалим, и в свете доктрины о Третьем Риме, которая, как писал Н.А. Бердяев, была «идеологическим базисом образования московского царства. Царство собиралось и оформлялось под символикой мессианской идеи. Искание царства, истинного царства, характерно для русского народа на протяжении всей его истории. Принадлежность к русскому царству определилась исповеданием истинной, православной веры. Совершенно так же и принадлежность к советской России, к русскому коммунистическому царству будет определяться исповеданием ортодоксально-коммунистической веры» [Бердяев 1990: 9].
Скрытый мессианизм Юрия Живаго, для которого стихи были средством прорыва в запредельное, и та Москва, сидя над которой Гордон и Дудоров «перелистывают составленную Евграфом тетрадь Юрьевых писаний», Москва их друга, противопоставляются именно этому коммунистическому мессианизму и Москве как городу, «упоённому кровью святых и свидетелей Иисусовых» (Откр. XVII, 6). Содержимое «тетради» - «Стихотворения Юрия Живаго» - оказывается искусством, «дописывающим» Откровение Иоанна.
«Стихотворения Юрия Живаго», очевидно, именно та тетрадь стихов, которые просит записать доктора Лара. Они представляют собой контрастирующий аналог «тетрадочки», в которой вскоре после знакомства с Пастернаком О.В. Ивинская описала (в
87 О языковом строе «Голоса из хора» см.: [Якобсон 1987: 266-270]. Об актуализации фигуры Блока для Пастернака (в частности, в начале работы над романом) благодаря работе С.М. Боуры «The Heritage of Symbolism» см.: [Davidson 2009: 54-55].
Пастернак и его роман в контексте традиции
77
январе 1947 г.) свою прошлую жизнь (см.: [Ивинская 1978: 26-27; Мансуров 2009: 65]). Её дочь И.И. Емельянова отмечает, что «Лара во второй части романа обязана материнской тетрадочке» многим. В этой тетради, как пишет мемуаристка, «мама рассказывала о судьбе двух своих покойных мужей, судьбе непростой, трагической» - повесившегося в 1939 году из-за её «мимолетных романов» Ивана Емельянова и умершего в 1942 году от воспаления лёгких кадрового работника Александра Виноградова ([Емельянова 1997: 14-18]; см. также: [Емельянова 2006: 34—35,70-71]). Ср. это с тем, что Лара у гроба Юрия Живаго думает: «Никого не осталось. Один умер. Другой сам себя убил. И только остался жив тот, кого следовало убить, на кого она покушалась и промахнулась, это чужое, ненужное ничтожество, превратившее её жизнь в цепь ей самой неведомых преступлений. И это чудище заурядности мотается и мечется по мифическим закоулкам Азии, известным одним собирателям почтовых марок, а никого из близких и нужных не осталось» [IV: 496].
Эта характеристика Комаровского, который был первым мужчиной, находившимся в «брачных» отношениях с Ларой, но так и не ставшим её мужем, представляет собой «вывернутый наизнанку» автопортрет Пастернака - третьего после Емельянова и Виноградова мужчины, имеющего «брачные» отношения с Ивинской, но не становящегося её мужем. Для узнаваемости оставлен возраст. Если тетрадка, написанная Ивинской, попала к Пастернаку в начале их знакомства и Пастернак читал её, то тетрадь стихов, написанных доктором для Лары, в конце романа, когда Лары уже нет в живых, читают Гордон и Дудоров.
1.3. От футуризма через символизм к реализму
Проблема отношения Пастернака к традиции и вопрос, по какому «ведомству» -реалистическому или символистскому - числить роман, обсуждаются со времени выхода «Доктора Живаго» в свет. «As usual, there have been two main camps: those who see Doctor Zhivago as a modernist or a Symbolist novel, and those who place it in the Russian classical or European realist tradition»88 [Cornwell 1986: 18]. He повторяя зачастую глубоких и обоснованных мнений, суммированных исследователем, заметим, что правы оба лагеря, но проблема требует более широкого подхода, учитывающего «итоговость» романа в отношении не только реализма и символизма, но и футуризма, а также работы, появившиеся после 1986 года, когда вышел обзорный труд Н. Корнвелла.
Пастернак, обращаясь (после «Охранной грамоты») к сюжетной прозе, преодолевал себя - того, который, как и акмеисты, по формулировке В.М. Жирмунского, тоже «преодолел символизм». Приступая к роману, Пастернак отталкивался от футуризма, опи
88 «Как повелось, существуют два лагеря: тех, кто рассматривает «Доктора Живаго» как модернистский или символистский роман, и тех, кто помещает его в традицию русской классики или европейского реализма» (англ.).
78
Глава 1
рался на опыт символистского романа и стремился к реализму89. Эстетические тяготения писателя достаточно подробно и глубоко исследованы90, однако их соотношения всё ещё нуждаются в комплексном осмыслении. Позиция Пастернака объясняется не только канонизированностью футуристов и неканонизированностью символистов в литературной ситуации 1950-х, но и логикой внутреннего пути Пастернака, которая определяется сменой циклов его отталкивания от одних культурных моделей и апологии других. «Позднейшее отношение Пастернака к футуризму» Л.С. Флейшман определяет так: «несходство растёт, а болезненность сближения обостряется» [Флейшман 2003а: 417]. Говоря об отношении Пастернака к символизму, В.Н. Альфонсов полагает, что «и в ранний период, и особенно позже Пастернак недоверчиво относился к символизму как теоретически обоснованному миропониманию» и что «с символизмом Пастернак соприкасается не системой отвлечённых построений, а определёнными свойствами своей натуры» [Альфонсов 1990а: 14-15]. Отношение к символизму у позднего Пастернака в сравнении с ранним осталось, в принципе, прежним. А.В. Лавров отмечает «тяготение Пастернака «мусагетовской» поры к осмыслению символизма как религиозной системы» [Лавров 2007: 314]. Вяч. Вс. Иванов указывает, что «для Пастернака <.. .> его собственная эстетика мыслилась как особого рода символистское учение» [Иванов Вяч. Вс. 1998— 2009, II: 261]. Е.Б. Пастернак отмечает, что в начальный период работы над романом Пастернак «с особой болью переживал распад и “закономерное перерождение” когда-то большого целого - мира общеевропейского символизма, частью которого сознавал и себя, и не щадил “несостоятельные его стороны”» [Пастернак Е. 1999: 236]. Тем не менее сразу после выхода произведения было отмечено «the novel’s kinship with the symbolist movement»91 [Steussy 1959: 184”. И. Мазинг-Делич, помещая «Доктора Живаго» «in the tradition of the modernist novel»92, рассматривает его как произведение, «“symbolistic” quality»93 которого «cannot be overestimated»94 [Masing-Delic 1979: 31; 1981: 300].
«Doctor Zhivago is a religious-philosophical novel which presents its ideas (world view) through a variety of symbolistic devices, such as symbolic action, the introduction of symbolic objects, allusions to well-known religious symbolism and others. There are episodes in the novel which are inexplicable if not seen as symbolic to the smallest detail»95 [Masing-Delic 1981:300].
89 О «постоянной конкуренции» «дискурсов реалистической литературы и символистского романа» в «Докторе Живаго» см.: [Куликова, Герасимова 2000: 138-139 и др.]. О полемике Пастернака с футуризмом и апологии символизма в «Людях и положениях» см.: [Флейшман 2003а: 415-417].
90 См., к примеру, главу II «Art and Reality» («Искусство и реальность») в книге: [Hughes О. 1974: 42-77].
91 «Родство романа с символистским движением» (англ.).
92 «В традицию модернистского романа» (англ.).
93 «“Символистское” качество» (англ.).
94 «Нельзя переоценить» (««гл.).
95 «“Доктор Живаго” - это религиозно-философский роман, который представляет свои идеи (видение мира) посредством разнообразия символистских средств, таких, как символическое действие, ввод
Пастернак и его роман в контексте традиции
79
К символизму и опыту решения им «вечных» проблем «возвращались» и другие писатели, проходившие типологически сходный с пастернаковским путь внутреннего развития, например, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, обращавшиеся к творчеству И.Ф. Анненского, А.А. Блока, А. Белого. Неосимволизм «Доктора Живаго» проявляется, в частности, в том, что повествование подхватывает сосредоточенность символистских текстов на начальной фазе пути и апокалиптическом конце, но в гораздо большей мере интересуется тем, как герой этот путь проходит. «Начальная пора» жизни Юрия Живаго изображается автором подчёркнуто реалистично. А символичность постепенно усиливается по мере продвижения к концу. Нарастает и апокалиптичность изображаемых событий, в чём сказывается усиление ориентации текста на Откровение Иоанна. Эта закономерность общая для литературы Серебряного века, однако в постсимволистской Апокалипсис становится кодом не финала романов, как, например, «Петербурга» А. Белого или «Мелкого беса» Ф.К. Сологуба, но значительной части повествования (в случае «Доктора Живаго» - особенно Второй книги)96. «Сближение» Пастернака (особенно к концу романа) с символизмом инверсионное. Это подтверждается и программным положением, выраженным в стихотворении «Быть знаменитым некрасиво» (1956): «Но пораженья от победы / Ты сам не должен отличать» [II: 150]. Эти строки, обыгрывающие (как и заключительные строки стихотворения «Рассвет») идею С. Кьеркегора об антагонистичности индивида и масс, которые не способны стать для личности источником творчества97, представляют собой «перевёрнутую» поведенческую установку старших символистов - З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсова, подразумевающую, что социальный успех не имеет преимущества перед социальным поражением. Пастернак с его антилитературной позицией в данном случае становился символичнее самих символистов: в этой установке он исключал социальный аспект, более актуальный для советской литературы 1940-50-х, чем для литературы начала века, на первый план выводя аспект творческий. То есть речь в приведённых строках идёт о творчестве, а не о социальном успехе или поражении. Выступая в «Докторе Живаго», а также в переписке апологетом символизма, «дописывающим» его, Пастернак боролся тем самым с «десимволизирующей ориентацией культуры в целом»98. Впрочем, актуальной для него была и борьба с тотальной советской мифологизацией жизни, символизировавшей действительность на свой манер. В письме к Б.К. Зайцеву от 22 апреля 1959 г. Пастернак так обозначал свою принадлежность «школе»: «Кухня Вашей школы была кухнею времени расцвета Художественного театра, Блока, послечеховского символизма. Рецептура была
символических объектов, аллюзий на известный религиозный символизм, и других. В романе есть эпизоды, которые необъяснимы, если не видеть символики за мельчайшими деталями» (англ.).
96 См. об апокалиптичности «Доктора Живаго» и «Чевенгура» А.П. Платонова: [Livingstone 1990: 199-200].
97 Подробно об этом см.: [Jackson 1978: 146-147].
98 О «символизирующем и десимволизирующем чтении текстов» см. статью Ю.М. Лотмана «Символ в системе культуры» [Лотман 1992,1: 193].
80
Глава 1
почти пушкинская, я Вам сейчас это докажу. В пушкинской рецептуре, по-моему, было три части, одна меняющаяся (первая) и две неизменных. Его эстетику, кажется мне, составляли: 1) время (его время, его прижизненная современность), 2) быстрота восприятия и передачи, 3) присутствие всепроникающего, всё загрунтовывающего верования, постоянство одухотворения. Обязательность этих трёх слагаемых, с той разницей, что пушкинскую современность заменила действительность других, новых сроков, повторило поразительное русское искусство довоенного десятилетия. Когда в моём скромном случае говорят - анимизм, мистика, думают, что я служу какому-то догмату, которому боюсь изменить. А в ответ на эти обвинения в идеализме я должен был бы признаваться: “Я готовлю на этом масле. Искусство иного состава, по-моему, тяжело и несъедобно”» [Переписка 1990а: 46].
Вопрос о символизме" стоял для Пастернака, стремившегося написать реалистический роман, достаточно остро не только во время работы над «Доктором Живаго», но и после его завершения, когда он стал с интересом прислушиваться к звучавшим оценкам. Как свидетельствовала О.В. Ивинская, Бориса Леонидовича «раздражал поток статей, бесчисленные догадки (главным образом - совершенно нелепые) относительно прототипов и чаще всего относительно символики романа» [Ивинская 1978: 327]. В качестве примеров протеста Пастернака против попыток аллегорического и символического прочтений романа и расшифровки его тайнописи Ивинская привела обширные цитаты из писем Пастернака к Р. Швейцер от 14 мая и Ж. де Пруайар от 20 мая 1959 г. Интересен в этом плане разговор Пастернака с 3. А. Маслениковой, состоявшийся 30 июля 1959 г. и записанный ею. Показательно, что Пастернак ушёл от прямого ответа на заданный вопрос, что отметила и сама Масленикова. Он как бы протестовал против «символического» прочтения романа американским критиком Эдмундом Вильсоном, опубликовавшим в 1958 и 1959 гг. статьи «Doctor Life and His Guardian Angel» и «Legend and Symbol in ‘Doctor Zhivago’»99 100 [Wilson 1958; 1959]101. Но в «протесте» этом можно усмотреть и восхищение проницательностью критика. Удовлетворённость разбором Вильсона чувствуется и в словах о критике в письме к сестре Лидии от 1 февраля 1960 г.: «Я боялся, что в споре с Уилсоном ты будешь недостаточно вежлива. Но прости мне напрасные опасения: твои доказательства - образец вежливости и изящества» [ПРС 2004: 861]. Вильсон впервые выдвинул подход к пастернаковскому тексту, предусматривавший «поиски зашифрованных “подтекстов”, скрытых смыслов и намёков» [Флейшман
99 О концепции символа и его отличии от образа у Пастернака; его подходе к символу и требовании не рассматривать символ в отрыве от целого романа; универсальных символах, использованных в «Докторе Живаго»; пастернаковской концепции людей как символов в связи с использованием «говорящих» имён в традиции от Фонвизина до Достоевского и в традиции введения имён, соотносимых с локусами, -от Некрасова до Горького - см.: [Rowland М.Е, Rowland Р. 1967: 7-11]. О «говорящих» заглавиях, фамилиях и именах в художественном мире Пастернака см. также: [Фатеева 2003: 220-233].
100 «Доктор Жизнь и его Ангел-хранитель» и «Легенда и символ в “Докторе Живаго”» (англ.).
101 Э. Вильсон работал совместно с Барбарой Деминг и Евгенией Лехович. Подробно об этих авторах, а также о содержании и резонансе статей см: [Cornwell 1986: 72-73; Флейшман 2009: 229-240].
Пастернак и его роман в контексте традиции
81
2009: 234]. Пастернак же не столько опровергал расшифровки тех или иных деталей, сколько расширял их за счёт «реалистического» материала. Он ушёл от прямого ответа Маслениковой, потому что критик проник в тайные пласты содержания102, которые и должны таковыми оставаться, поскольку «мысль изречённая есть ложь».
«- Вот что меня интересует, Борис Леонидович: может ли автор в суждении о своей работе встретить что-то новое для него и правильное?
- О, истолковывают по-разному, углубляются, находят символы. Вот есть такой критик Уильсон, он во всём видит символы, даже в именах собственных. Например, какие-то эпизоды происходят на углу Молчановки и Серебряного переулка. Я выбрал это место потому, что в восемнадцатом году там бывал, там жила одна моя знакомая, дочь В.А. Серова, она уже умерла, все Серовы рано умирали от врождённого порока сердца. Я там и того ограбленного, избитого человека встретил. А Уильсон решил, что этими названиями я хотел сказать, что действие происходит между серебряным временем и периодом молчания русской литературы. Или вывеска “Моро и Ветчинкин”. Моро я взял потому, что тогда в России было много французов-предпринимателей. Так он произвёл Моро от русского “мор” и французского la mort, а Ветчинкина - призовите на помощь свой английский - расшифровал так: ветчина - ham, ветчинка - hamlet (Hamlet).
Я смеюсь и говорю:
- Ему бы следователем быть, но какое это имеет отношение к литературе? Но вы не ответили на мой вопрос.
И опять он уходит куда-то в сторону и прямо не отвечает» [Масленикова 1995: 235-236].
О подобном разговоре вспоминают и родственники писателя: «Нам вспоминается, как, рассказывая нам летом 1959, иронизировал он над лингвистической расшифровкой Уилсона вывески “Моро и Ветчинкин”, как смеялся тому, что таинственный перекресток Серебряного переулка и Молчановки читался Уилсоном как пересечение Серебряного века русской литературы с советской “молчановкой”» [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В.].
Особенности недовольства Пастернака критиками заключаются, как нам кажется, не столько в том, что он был недоволен символическим или аллегорическим прочтением103, ведь возможность такого прочтения подразумевается в признании Пастернаком того, что роман написан с «примесью философии и религиозного символизма» [Переписка с Сувчинским 1994: 272]. Позиция Пастернака, давшего в письме эту характеристику, довольно неожиданна, если применить к ней наблюдение А.М. Пятигорского [ 1996: 219]: «Роман Пастернака, если смотреть на него не с авторской и не с внутренней точки зрения, а с точки зрения постороннего наблюдателя, покажется сделанным слегка в духе религиозного символизма». Эта посторонность по отношению к роману, к себе как автору - важный фактор поведения Пастернака в последние годы жизни (после издания
102 Одной из первых (если не первой), кто обратил внимание на таинственность пишущегося Пастернаком, была М.И. Цветаева, заметившая в статье «Световой ливень» (1922): «Пастернак живёт не в слове, как дерево - не явственностью листвы, а корнем (тайной)» [Цветаева 1994-1995, V: 232].
103 В качестве мифологической и культурной аллегории российской истории до и после 1917 года «Доктор Живаго» был прочитан Р.Е. Стосси [Steussy 1959].
82
Глава 1
«Доктора Живаго»). Недовольство, переносимое Борисом Леонидовичем, как это было ему свойственно, на себя, а не на критиков, вызвано недостаточно глубокой и не тотальной расшифровкой ими всего заложенного автором в романе. 11 сентября 1959 г. Пастернак писал П.П. Сувчинскому: «Меня беспокоит своей неловкостью моя судьба, моё положение в далёком мире. Неравновесие между сделанным и отражённым в обсуждениях и толкованиях угнетает меня своей несоразмерностью. Моя связь с далёкими сердцами и душами, моя жизнь в них представляются мне чем-то вроде смеси или раствора. Твёрдое вещество, каким мне кажется, предположим, написанное мною, я склонил развести в огромном количестве написанного и пишущегося обо мне. Чем больше таких разборов, тем раствор жиже. Он и так уже позорно слаб. Это не моя вина, но я послужил этому предлогом» [Переписка с Сувчинским 1994: 271, 272].
Заметим, что к такой расшифровке стремится, собственно, всякий, кто пишет о Пастернаке, и, вероятно, следует учитывать установку автора, касающуюся и критиков, -установку на то, что «пораженья от победы» пишущий «сам не должен отличать». Исследование какого-либо узкого аспекта текста априори не может претендовать на полноту истолкования текста, а если учесть, что «Доктор Живаго» полигенетичен, то неудовлетворённость может вызывать практически любая работа о романе. Одним из подтверждений может служить оценка книги М.Ф. Роуланд и П. Роуландом [Rowland M.F., Rowland Р. 1967], попытавшимися рассмотреть «Доктора Живаго» как аллегорическую версию Апокалипсиса. Б.М. Гаспаров считает, что подобные попытки и «приводят к слишком однолинейному и потому обеднённому пониманию его смысла». И более того -что «аллегорическое истолкование «Доктора Живаго» означает, в сущности, лишь ещё одну разновидность непризнания за ним статуса полноправного эпического произведения» [Гаспаров Б. 1994: 242]. Но, быть может, как раз благодаря создающейся с годами «критической массе» таких работ и будут рождаться исследования, авторы которых, оперируя прочтениями предшественников, сложат генетическую картину текста, более или менее приближающуюся к истинной?
Протест Пастернака против аллегорических и символических прочтений объясняется, возможно, и его нежеланием, чтобы исследователь объективировал для читателей и тем самым неизбежно профанировал тайные слои романа, его мистику и провиденциаль-ность, в склонности и тяге к которым «с малых лет» Пастернак признавался в «Людях и положениях» [III: 305]. Рассуждения и доводы на эту тему с примерами из жизни брата во времена его юности привёл в своих «Воспоминаниях» А.Л. Пастернак [2002: 253-257]. Раскрывая символику, критики тем самым и производили десимволизацию, с которой боролся, создавая роман, Пастернак. В то же время намеренная и невынужденная зашифрованность «Доктора Живаго», скрываемая автором, в отличие от не скрывавшейся им вынужденной зашифрованности «Охранной грамоты»104, предполагает будущие ре
104 В письме к Дж. Риви от 20 ноября 1932 г. Пастернак отмечал исключительную важность того, чтобы «Охранная грамота» - книга, имевшая для него такую же значимость в 1930-е, какую имел «Доктор Живаго» в годы после его создания - была переведена и отмечал: «Эту книгу я писал не как одну из
Пастернак и его роман в контексте традиции
83
конструкции того, что в нём заложено, и новую актуализацию важнейших духовных проблем начала века и спора Пастернака с их решениями в русской литературе. В этом свете «Доктор Живаго» - одно из самых ярких явлений литературы Серебряного века, поэтика которой носит «мистификаторский характер», связанный «с жизнетворчеством в широком смысле, с сознательным и планомерным построением своего образа - от костюма с его знаковыми деталями <...> до поведенческого рисунка, призванного мифологизировать реальность, пересоздавать её в соответствии с индивидуальной или коллективной <...> творческой концепцией мира» [Хворостьянова 1999: 317].
Стратегия Пастернака заключалась, как нам представляется, в публично озвучиваемом отрицании «тайной глубины» романа, направленном на то, чтобы отвести очередную волну хронических упрёков советских критиков в «непонятности», «субъективизме» и прочих «грехах» и представить «Доктора Живаго» как реалистическое произведение, которое может читаться не узким кругом почитателей, а широкими массами. Публичное согласие с мнением исследователя (в данном случае Э. Вильсона) о зашифрованное™ текста было бы самоубийственно, тем более что отнюдь не все трактовки Вильсона были спорными и к тому же отличались глубиной105. Нельзя сказать, что Пастернак не достиг цели. Роман широко читался и читается - и не только благодаря «наводкам» автора, но в гораздо большей степени вне зависимости от того, что говорил о нём Пастернак106.
Однако у медали есть и другая сторона. Некоторые исследователи принимают протесты Пастернака против прочтений «вглубь» за догму и начинают защищать автора и его текст от интерпретаторов. Именно так поступает С.Н. Земляной, критически прочитывающий одну из самых блестящих работ последнего времени - книгу И.П. Смирнова «Роман тайн “Доктор Живаго”» (см.: [Земляной 1997; Смирнов 1996]). Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернак, положительно оценив работу С.Н. Земляного, как и он, склоняются, похоже, к тому, чтобы считать недостаточно объективным диапазон интерпретаций, выходящий за пределы биографической канвы писателя и обозначенного в текстах самим автором, и по сути ставят под сомнение правомочность приписывания автору того, что генетически содержится в его тексте (см.: [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В.]). Исследователи полагают, интерпретирующие работы слишком далеко уводят от реалий, содержащихся в произведениях: «Замкнутые на себя разборы “непонятного поэта” часто перерастают все границы, доходя до бессмыслицы, подобной решению ребусов, ничем не связанных с реально существовавшим человеком» [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В.
многих, а как единственную. Мне хотелось высказать в ней несколько своих мыслей, несколько мыслей, свойственных мне, по ряду вопросов. Части этих вопросов нельзя было касаться» [VIII: 629].
105 К примеру, трактовки значений фамилий на рекламном щите «Моро и Ветчинкин», которые давал Э. Вильсон и оспаривала Л.Л. Пастернак-Слейтер, гораздо позже были дополнены И.П. Смирновым [1996: 115]. См. также: примечание № 2 к письму Пастернака С. Спендеру от 22 августа 1959 г. [X: 524-525].
106 О «лукавстве» Пастернака, «вранье искусства» в его понимании и «явно выраженной тенденции запутывать следы» см.: Флейшман, 2003а, 103, 263, 414.
84
Глава 1
2000: 9]. Мы не разделяем такой позиции не только потому, что выяснение сложнейшей писательской стратегии Пастернака остаётся всё ещё открытым вопросом, но и в связи с тем, что именно выявление тайных смыслов, которые содержит роман, отвечает подлинному, на наш взляд, стремлению автора передать читателю опыт мировой культуры, пропущенный сквозь перипетии своей жизни и биографий героев. Получая этот опыт, читатель в любом случае интерпретирует его. И хотя подход Вильсона был несколько дискредитирован крайностями отдельных интерпретаций, на наш взгляд, он является весьма продуктивным - так же, как подход М.Ф. и П. Роуландов. Внимание к источникам даёт возможность прочесть «тёмные» места текста, выявив его сложность и глубину, прояснить особенности поэтической системы Пастернака. Говоря о стремлении писателя передать опыт мировой культуры, мы солидарны с Б.М. Гаспаровым, который пришёл к выводу, что «подобно своему герою, роман оставляет без ответа все претензии и недоумения, могущие возникнуть у читателя, предоставляя последнему самому разгадать тот внутренний смысл переплетающихся контрапунктных линий, который скрывается за внешне ничем не примечательными и нередко банальными деталями, репликами и сюжетными положениями». Характеризуя «медицинские диагнозы доктора Живаго <...>, основанные на его способности уловить в мельчайших, неприметных и, казалось бы, случайных деталях зерно будущего развития», исследователь заключает, что «такой же дар постижения тайной связи вещей ожидается от читателя романа, который в идеале представляется конгениальным герою романа и его автору» [Гаспаров Б. 1994:261,264]. На то, чем чревато непрочтение заложенных в произведении смыслов, указала З.Г. Минц [1999: 372-373]: «Неузнавание цитаты приводит к результатам, напоминающим реализацию художественной метафоры наивным читательским сознанием: в образе будут понятны лишь словарные значения составляющих его слов». Поэтому, заметим, слова В.Б. Ливанова о том, что «толкование произведения давно сделалось важнее самого произведения» [Ливанов 2002: 72], можно рассматривать и как подтверждение скрытой установки Пастернака на необходимость «расшифровки» романа читателем, и как подтверждение наблюдения З.Г. Минц. Последнее подтверждение, кстати, обращено на самого В.Б. Ливанова, рассмотревшего генерала Евграфа Живаго в плане «чекистской преемственности» и интерпретировавшего его введение в роман как «жалкий, постыдный сговор» Пастернака «со своей совестью» [там же: 72-78].
Стоит отметить также, что критика, которой был подвергнут Г. Гиффордом поиск скрытых значений в «Докторе Живаго», предпринятый Вильсоном и Роуландами [Gifford 2003: 193-196], чревата скатыванием самой критической работы к пересказу содержания романа, что наблюдается на протяжении всей книги Гиффорда. Позиция этого исследователя делает необъяснимым смысл существования литературоведения: зачем оно нужно, если можно взять в руки не пересказ текстов на манер Гиффорда, а сами произведения? Критика Гиффорда тем более беспочвенна, что при всём неприятии подходов Вильсона и Роуландов он даже не берётся опровергать или развивать их находки и заключения.
Пастернак и его роман в контексте традиции
85
Поздний Пастернак делал то, о чём говорил ранний, отрицая при этом себя раннего хотя бы по причине того, что уже тогда, в молодости, по мнению позднего, надо было творить, а не рассуждать о творчестве. Выходит, то, что говорил поздний Пастернак, преследует иные цели, нежели цель направить читателя-интерпретатора по правильному пути. Иные ещё и потому, что тот может и сам найти верный путь. Тогда надо внимательнее прочесть, что говорил ранний. Не такого ли читателя-интерпретатора (каким и предстаёт посредством своей книги И.П. Смирнов) имел в виду Пастернак, когда писал К.Г. Локсу 13 февраля 1917 г. (слова, сочувственно цитируемые Е.Б. Пастернаком): «Многие из нас (я в том числе) делают всё от нас зависящее, чтобы сделать совершенною редкостью тип чтения невоспроизводящего, чтения про себя, когда читатель, напав на углублённость авторских смыслов и убедившись в разъяснимости их не как в одной понятности только в современном значении этого слова, отдаётся этой игре как особому наслаждению; игре проникновения в автора, характер того движения, с каким это проникновение совершается и может быть совершено, коэффициент разъяснимости придаёт характер всей книге; это её дыхание. Таков, в идеале, Баратынский. Но не Языков, конечно. Это составляло сущность Коневского. Сейчас это редкость» [VII: 332].
Пастернак, создавший «Доктора Живаго», таких слов никогда бы не сказал: это был бы карт-бланш для профанации текста, неизбежной при интерпретации текста вообще, но тем более усугублённой, что она прозвучала бы в конце 1950-х и была бы наперёд «визирована» автором. «Время моё ещё не пришло», - почти точно повторял Пастернак в письме к О.М. Фрейденберг от 31 декабря 1953 г. слова Христа (Ин. 7; 6, 8). То, что поздний Пастернак воплощал «рецепты», изложенные ранним, можно подтвердить мнением А.М. Пятигорского, который пришёл к заключению, что Юрий Живаго, герой-протагонист, был «человеком смыслов» [Пятигорский 1996: 227]. Следовательно, был расчёт на читателя, способного и желающего толковать эти передаваемые автором тайные смыслы. Заметим также, что ещё в 1931 г. (в письме к родителям и сёстрам от 8 марта) Пастернак давал следующую автохарактеристику: «Жить значит для меня значить, а не существовать» [ПРС 2004: 512].
Заочная (псевдо)конфронтация Пастернака с Вильсоном107 имеет ещё одно важное значение - она является практической демонстрацией того, что девять лет спустя Р. Барт назвал «Смертью автора», подтвердив в своей статье положение вещей и рассмотрев его подоплёку. Если в начале 1930-х Пастернак очень остро переживал вынужденную потерю авторского голоса в искусстве и так или иначе отмечал желаемость возврата к
107 Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак пишут: «Стифен Спендер просил также Пастернака высказаться по поводу статьи Уилсона и получил от него письмо, где, избегая прямой полемики, Борис Пастернак излагал своё понимание новейшей литературы, того, как это отразилось в “Докторе Живаго” и какие намерения им владели в процессе работы. Три письма Пастернака к Ст. Спендеру были опубликованы в журнале “Encounter” летом 1960 года» [ПРС 2004: 863]. Пастернак писал Ст. Спендеру 22 августа 1959 г.: «Что касается Эдмунда Уилсона, то я должен лишь выразить ему благодарность и признательность. Каждый критик вправе толковать своё впечатление от произведения искусства так, как ему хочется или как он привык» [X: 521].
86
Глава 1
нему108, «возобновления индивидуальной повести», то в период работы над «Доктором Живаго», когда невозможность психологического повествования стала свершившимся фактом, и особенно к концу этой работы, напротив, потеря авторства стала желательна так же, как обретение искусства исполнительства109. В то же время невозможность авторства компенсировалась передачей авторского начала природе110. Если в начале работы над «Доктором Живаго» Пастернак вёл повествование, устраивая устные читки перед слушателями, ради описания эпохи, передачи опыта, то в конце работы над романом повествование сосредоточилось как бы на самом себе, для Пастернака стало важно завершение и, таким образом, рождение произведения в жанре романа111. Здесь-то и произошла постепенно «смерть автора». Тенденция к ослаблению и устранению авторского начала - важнейшая характеристика поэтики позднего Пастернака. Исполнитель
108 Например, в стихотворении из книги «Второе рождение» «Окно, пюпитр и, как овраги эхом» (1931):
Окно, пюпитр и, как овраги эхом, -
Полны ковры всем игранным. В них есть Невысказанность. Здесь могло с успехом Сквозь исполненье авторство процвесть [II: 67].
Эта ностальгия Пастернака по авторству не только относится к Г.Г. Нейгаузу-исполнителю, но и представляет собой автокоммуникацию.
109 См., например, 4-й отрывок стихотворения «Вакханалия» (1957), написанного в связи с постановкой во МХАТе весной 1957 г. трагедии Ф. Шиллера «Мария Стюарт». Стихотворение обращено к А.К. Тарасовой, сыгравшей главную роль. В 4-м отрывке, в частности в строфе «Сколько надо отваги, / Чтоб играть на века, / Как играют овраги, / Как играет река» [II: 183] Пастернак инверсировал слова Вяч. Ив. Иванова из письма VII от 4 июля 1920 г. к М.О. Гершензону, вошедшего в «Переписку из двух углов»: «В ваших словах столько отчаяния, а между строк, во внутреннем тонусе и ритме слов, как и в свойственной вам жизненности действия, столько молодой бодрости, столько жажды испытать ещё не изведанное, побродить по неслеженным тропам, доверчиво приникнуть к живой природе, столько тоски по игре и отваге и непочатым дарам щедрой земли, - tant de desir, enfin, de faire un peu 1’ecole buissonniere, - что, кажется, мой милый доктор Фауст, в новом перевоплощении, где не вовсе покинула вас и прежняя суетливая забота, Мефистофелю не нужно было бы при взгляде на вас сразу же терять всякую надежду на успех <...>. Может быть, последнее из Фаустовых обольщений должно было бы стать для вас первым: каналы, и Новый свет, и иллюзия свободной земли для освобождённого народа» [Иванов 1971-1987, III: 395]. Пастернак, который перевёл и «Марию Стюарт» Шиллера, и «Фауста», мог припомнить это письмо не только в силу «смежности» упомянутых произведений в его сознании, но и потому, что постановка как явление искусства могла ассоциироваться со словами Иванова о сущности культуры как «живой, вечной памяти, не умирающей в тех, кто приобщается этим посвящениям» [там же].
110 См., к примеру, первую строфу перевода (1933) стихотворения Т. Табидзе «Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут» (1929):
Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнёт - и с места сдышит, И заживо схоронит. Вот что стих [VI: 462].
См. также стихотворение «Заморозки» (1956) из книги «Когда разгуляется».
111 Жанровой специфике романа посвящена большая литература. Некоторые жанровые характеристики «Доктора Живаго», а также обзоры трактовок формы и жанра романа см.: [Кожевникова 1998; Куликова, Герасимова 2000: 123-125; Маркович 1996: 161-162; Livingstone 1989: 5-6; Seifrid 2009: 173].
Пастернак и его роман в контексте традиции
87
ство (устные читки романа и, с другой стороны, выступления перед аудиториями с читками стихов и переводов) как идеал для него (не в последнюю очередь по причине получаемого «удовольствия от текста») связывалось с ролью фольклорного певца-сказителя - посредника между миром и слушателями, и это играет большую роль в отношении сказочного начала в «Докторе Живаго» и голоса повествователя в нём. «Если бы можно было вообразить себе эстетику текстового удовольствия, в неё следовало бы включить письмо вслух» [Барт 1989: 517]. Последнее понятие, подробно рассмотренное Бартом, вполне применимо к читкам Пастернака. Естественно, что авторское начало, как оно традиционно понималось, а также любые попытки критических толкований текста становились при этом совершенно излишними и, более того, неуместными, как неуместны они были бы со стороны слушателей сказки, былины или песни. Таким образом, по мере продвижения романа к концу и усиливавшейся советизации изображавшегося мира авторское начало размывалось всё больше, дойдя в «Эпилоге» почти до исчезновения, определяющего начало распада текста. Установка Пастернака на устное бытование романа выворачивает наизнанку фольклорную ситуацию, поскольку авторство и письменное существование литературы давно стали основополагающими категориями творчества и поскольку в фольклоре каждый - автор, а во время читок романа автора авторство распределялось между слушателями. Читатель при этом как бы вообще не брался в расчёт Пастернаком хотя бы потому, что писатель не надеялся на то, что роман будет напечатан, о чём не раз указывал в письмах. Такой неестественный конец авторства, отражающий деградацию истории, означал, что текст не может существовать без устного участия автора в его явлении.
С тенденцией к ослаблению авторского начала в «Докторе Живаго» напрямую связана интертекстуальная многослойность произведения, его смысловая работа, организованная по принципу палимпсеста. Если текст приобретал черты анонимного, это означало, что он приобретал статус рукописи догуттенберговой эпохи. Переписчик в средневековой литературе попадал в ситуацию, сближавшую его с автором, и зачастую он настолько «не уважал» авторское начало, что становился соавтором, вносил в текст «исправления», актуализировавшие его для аудитории. В роли такого переписчика может выступать в отношении творчества Юрия Живаго его брат Евграф, «содержание» имени которого включает его оценку как «поновителя» рукописей. Признаки средневекового индивидуально-коллективного авторства проявляются и в признаниях самого доктора: «Я чувствую за них за всех, / Как будто побывал в их шкуре» [IV: 540]. Каждый персонаж романа своим голосом участвует в тексте как один из его соавторов, и эту полифонию объединяет единое, но неявное авторское начало. Так обеспечивается ещё одно качество «Доктора Живаго», сближающее его со средневековыми текстами, - анонимность, которая связана с принадлежностью текста множеству авторов. Это «обезличивающее» начало отмечает тяготение романа к эпопее (как называл произведение сам Пастернак). Однако авторское начало выполняет и характерную для постмодернизма функцию обесценивания множества голосов участников. Таким образом, работают две
88
Глава 1
тенденции: а) яркой индивидуализации жанровости «Доктора Живаго» и б) её разложения, в частности, за счёт обезличивания авторского начала и персонажей, говорящих, по сути, тем же авторским голосом.
Первая тенденция, кроме прочего, обусловливает формульность стиля, что происходит наоборот по сравнению с фольклором, где формульность обусловлена «не недостаточностью, но избыточностью авторства, свойственной этому этапу в развитии словесного искусства» [Смирнов 2008а: 72]. Микроклишированию фольклорного текста обра-щённо соответствует полемическое и по большей части скрытое использование цитат из иных источников, тогда как сюжетно-композиционное построение «Доктора Живаго» происходит в контексте общей парадигматики строительства сюжетов, свойственной литературе Серебряного века, и подобно тому, как в фольклоре «микроклиширо-ванный, но макровариативный текст творится из элементов, являющихся достоянием всех авторов; он делает авторство доступным для всякого и в то же время не отнимает созидательной позиции у того, кто порождает его в данный момент» [там же: 72-73].
Процесс ослабления и в идеале устранения авторского начала, по-видимому, был общим в мировой литературе середины XX столетия, и Р. Барт описал его следующим образом: «Коль скоро Автор устранён, то совершенно напрасным становятся и всякие притязания на “расшифровку” текста. Присвоить Автору текст - это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо. Такой взгляд вполне устраивает критику, которая считает тогда своей важнейшей задачей обнаружить в произведении Автора (или же различные его ипостаси, такие, как общество, история, душа, свобода): если Автор найден, значит, текст “объяснён”, критик одержал победу. Не удивительно поэтому, что царствование Автора исторически было и царствованием Критика, а также и то, что ныне одновременно с Автором оказалась поколебленной и критика (хотя бы даже новая). Действительно, в многомерном письме всё приходится распутывать, но расшифровывать нечего; структуру можно прослеживать, “протягивать” (как подтягивают спущенную петлю на чулке) во всех её повторах и на всех её уровнях, однако невозможно достичь дна; пространство письма дано нам для пробега, а не для прорыва; письмо постоянно порождает смысл, но он тут же и улетучивается, происходит систематическое высвобождение смысла. Тем самым литература (отныне правильнее было бы говорить письмо), отказываясь признавать за текстом (и за всем миром как текстом) какую-либо “тайну”, то есть окончательный смысл, открывает свободу контртеологической, революционной по сути своей деятельности, так как не останавливать течение смысла - значит в конечном счёте отвергнуть самого Бога и все его ипостаси - рациональный порядок, науку, закон» [Барт 1989: 389-390].
Слова Барта можно воспринять двояко. Во-первых, в проекции на роман они объясняют, что Юрий Живаго занимается в конце жизни именно «останавливанием течения смысла». Он идёт из Сибири в Москву для борьбы с происходящим устранением, «улетучиванием» смысла. В мистическом (и символическом) плане он возвращает смысл жизни. «Останавливание течения смысла» производится доктором и происходит для
Пастернак и его роман в контексте традиции
89
читателя в «Стихотворениях Юрия Живаго», контрастирующих с прозой. «Стихотворения...», однако, открывают свободу не «контртеологической», а протеологической, но также «революционной по сути своей деятельности» - ведь доктор попадает в антирелигиозный мир советского государства, в котором идеология претендовала на функции религии. Во-вторых, текст Барта по-прежнему актуален в отношении не только автора, но и исследователя, «критика». Поскольку «Доктор Живаго» как интердискурсивный роман (см.: [Куликова, Герасимова 2000:139 и др.]) представляет собой именно «многомерное письмо», он и поныне нуждается в «распутывании», многочисленные попытки которого уже предпринимались исследователями, но вряд ли могут быть признаны достаточными. Однако, интра- и интертекстуальная «расшифровка» представляется нам не исключающимся, а следующим после «распутывания» интердискурсивной структуры этапом работы с текстом, что, кстати, зеркально отражает тенденцию устранения из текста авторского начала. Кроме того, обращение к тексту всё же предполагает знание о принадлежности его Пастернаку-автору. Таким образом, «расшифровка» текста позволит добиться понимания уже не смысла построения в целом, не понимания структуры (именно тут необходимо «распутывание»), но смысла деталей. Интертекстуальный анализ позволяет показать, какие смыслы выбрасывались из мира, изображённого Пастернаком, как шёл процесс обеднения культуры и самой жизни. Однако писателем, его героем эти смыслы не выбрасывались, но погружались в текст, скрывались и мимикрировали в нём с расчётом на читателя, который в будущем взялся бы их вскрыть. Многослойный роман, вобравший в себя культуру не только своей эпохи, но и других, очевидно, сознательно задумывался Пастернаком как «замурованные тексты» (Х.Л. Борхес), как произведение, по словам самого Пастернака, насквозь «цитатное», где узнаются (или не узнаются) голоса участвующих текстов. Такого читателя Барт видел следующим образом: «Читатель - это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своём, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель - это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст» [Барт 1989: 390].
У Пастернака можно заметить две стратегии утаивания: внешнюю - через отрицание символичности, внутреннюю - через устранение большей части намёков на источники текста и «редукции претекстов до их простейших семантических составляющих» [Смирнов 1995:45]. Разумеется, перечнем задействованных источников смысл повествования не исчерпывается. Главное - та система, в которую они помещаются и, вступая во взаимодействие, порождают новые смыслы. В 1920-е годы (в письме к М.И. Цветаевой от 11 апреля 1926 г.) о вскрытии источников текста Пастернак отзывался так: «М<ежду> пр<очим>, и Ахматова, отнюдь не футуристка и не только допускающая заимствованья, а, по-видимому, в изучении поэта видящая только исследованье его источников, - и та согласна со мной, что убежденье, будто на улицу надо выходить Тютчевым, чтобы воспринимать зелень, не может быть моралью артиста» [Переписка с Цветаевой 2004:174].
90
Глава 1
В 1950-е, во время работы над романом, Пастернак так определял (в письме к О.М. Фрейденберг от 16 апреля 1954 г.) удельный вес вошедших в него стихотворений (что вполне обратимо на «вращение» чужих текстов в смысловой системе «Доктора Живаго»): «Главное, конечно, не в них (стихотворениях. - С. Б.), а в прозе, в “системе”, которой они вращаются и к которой тяготеют» [Переписка 19906: 284]. Сочетанием прозы и стихов обусловлена оригинальность романа, о которой Г. Гиффорд пишет: «The singularity of Doctor Zhivago lies above all in its form. <.. .> no Russian novelist had found it necessary to follow up the prose narrative with poetry»112 [Gifford 2003: 182].
О том, чего достиг Пастернак, написав «Доктора Живаго», можно судить по тому, что, приступая к роману, он определил своё будущее произведение как преодолевающее футуризм и «дописывающее» символизм. Целью был для него «возврат» через голову символизма к реализму XIX века, письмо в духе «символического реализма», как определил метод Пастернака Г.П. Струве. В письме И.С. Буркову от 28 декабря 1945 г. он отмечал: «Я не могу избавиться от огорчения и досады по поводу незавершённости, изломанности, ненужной сложности и малозначительности моей собственной, Маяковского и Андрея Белого. У Есенина этих грехов гораздо меньше, и совершенно ещё не подвержен этому позднейшему распаду поразительный мир Блока. Это закономерное перерожденье большого живого целого, часть которого я составляю, и зачем мне щадить несостоятельные его стороны, когда я, с<лава> Б<огу>, ещё жив и недописанное будущее общеевропейского символизма обещает мне гораздо больше, чем успел он дать в прошлом, до исторических сдвигов, случившихся во всём мире» [IX: 437].
А в письме к сёстрам, написанном примерно в те же дни - в конце декабря 1945 г., Пастернак дал развёрнутую характеристику своей целеустановки. Высказывая недовольство включением в книгу переводов его ранних прозаических вещей, Пастернак говорил, что «хотел бы забыть» их, поскольку «это аномалия в развитии художественных судеб и деятельностей нашего времени, даже и на Западе, не только у нас. Все теченья после символистов взорвались и остались в сознании яркою и, может, пустой и неглубокой загадкой. Последним творческим субъектом даже и последующих направлений остались Рильки и Прусты, точно они ещё живы и это они опускались, и портились, и умолкали, и ещё исправятся и запишут. Что это сознают объединенья вроде персоналистов, в этом их заслуга. Это же сознание живёт во мне. Вот что у меня намечено. Я хотел бы, чтобы во мне сказалось всё, что у меня есть от их породы, чтобы как их продолженье я бы заполнил образовавшийся после них двадцатилетний прорыв и договорил недосказанное и устранил бы недомолвки. А главное, я хотел бы, как сделали бы они, если бы они были мною, то есть немного реалистичнее, но именно от этого, общего у нас лица, рассказать главные происшествия, в особенности у нас, в прозе, гораздо более простой и открытой, чем я это делал до сих пор. Я за это принялся, но это настолько в
112 «Оригинальность «Доктора Живаго» заключается прежде всего в его форме. <...> ни один русский романист не считал необходимым сопровождать прозаическое повествование стихами» (англ.).
Пастернак и его роман в контексте традиции
91
стороне от того, что у нас хотят и привыкли видеть, что это трудно писать усидчиво и регулярно» [ПРС 2004: 762-763].
Создав «Доктор Живаго» и «дописав» тем самым символизм, Пастернак в дальнейшем творчески ориентировался не на сменившие его течения, а на реализм XIX столетия - начал писать пьесу «Слепая красавица». В этом произведении реализм Пастернака стал ещё более символистичным, нежели в романе. Именно о таком искусстве он думал ещё в 1930-е. Так, например, в письме от 25 апреля 1936 г. к сестре Лидии Пастернак писал о переводах и перспективах: «Смысл этих конфузно никчёмных переводов в том, что какие-то Бовари и Домби обязательно будут, потому что их только и осталось написать, больше делать нечего: потому что была революция, и, как только человек получит свободу чуть-чуть от неё отвлечься, чтобы всецело её вспомнить и о ней подумать, - чему тогда и явиться, как не большому реалистическому искусству. И если буду я жив, жить я буду уже в нём» [там же: 669-670].
Тяготение к реализму и стремление «дописать» символизм, выраженное, в частности, через отталкивание от футуризма и инверсированное использование опыта как символистов, так и предшествовавших им реалистов XIX века, проявляются в том, что текст обретает не явное, как у символистов, символическое значение, а тайное, содержащееся в нём не только в силу символической природы языка, но и как результат преодоления и в то же время продолжения символизма. Нельзя сбрасывать со счетов и отталкивание Пастернака в своей реалистической манере от так называемого «социалистического реализма». В одной из застольных бесед в конце 1950-х он поднял тост с благодарностью Советскому государству и говорил Г. Руге и присутствовавшим: «I have not become a socialist realist, <.. .> no, certainly not a socialist realist. But I have become a realist, and for that I am grateful»113 [Ruge 1959: 101]. Д.М. Сегал замечает, что «реализм для Пастернака - это не слепое копирование картинок жизни, а создание такой системы поэтической речи, которая функционировала бы подобно жизни. Поэтому для Пастернака принципиально важно настаивать на том, что его поэтическая семантика реалистична» [Сегал 2006: 661].
Всем этим определяются особенности цитации в романе. Поскольку «Доктор Живаго» представляет собой сплошную шифровку (или: сплошное поле явных и скрытых цитат), а ключами к шифрам романа являются тексты - мифологические, художественные, научные и пр., способные отмыкать тот или иной шифр, постольку функция исследователя сводится к тому, чтобы продемонстрировать, как эти ключи действуют, склеить мозаику расшифровок в убедительное прочтение. И явные, и скрытые цитаты «могут выполнять роль “культурных символов”», и «отличие цитаты от других разновидностей “чужого слова” (как и вообще от “нецитаты”) не столько генетическое, сколько функциональное» [Минц 1999: 362]. Заметим, однако, что именно «генетика» используемых Пастернаком цитат определяет их функциональное значение в тексте романа. Языком
1,3 «Я не стал социалистическим реалистом, <...> нет, конечно, не социалистический реалист. Но я стал реалистом, и за это я благодарен» (англ.).
92
Глава 1
Пастернака становится язык текстов, которые он комбинирует, пытаясь показать, «как предмет сечёт предмет»: «What we encounter in Zhivago is a description and not a reproduction of <.. .> language is significant»114 [Seifrid 2009: 176]. Ни один критик к такой тотальной расшифровке оказывается не способен. Да и сама она предстаёт, с одной стороны, недостаточной, с другой - избыточной, как всякая интерпретация в сравнении с самим текстом. Дело осложняется и тем, что Пастернак, вводя скрытую цитату, призванную интерпретировать то или иное явление, соответственно трансформировал её. И сама трансформация свидетельствовала об интерпретации им этой цитаты и скрывала последнюю от читателя. По мнению И.П. Смирнова, высказывания писателя, в которых он отрицает какую-либо таинственность той или иной детали романа, «являют собой средство защиты, призванное обеспечить длительную информационную значимость текста, его неуязвимость для разгадывания. Они заранее обесценивают всякую попытку демаскировать утаённый автором смысл по принципу “здесь и понимать нечего”» [Смирнов 1996: 141].
«Дописывание» Пастернаком символизма объясняется типологическим сходством символизма и периода, который И.П. Смирнов называет «нашей современностью». Это сходство в том, что оба они - «вторичные стили», то есть те, которые «отождествляют фактическую реальность с семантическим универсумом, т. е. сообщают ей черты текста, членят её на план выражения и план содержания, на наблюдаемую и умопостигаемую области, тогда как все «первичные» художественные системы, наоборот, понимают мир смыслов как продолжение фактической действительности, сливают воедино изображение с изображаемым, придают знакам референциальный статус» [Смирнов 2000: 22 (в сотрудничестве с И.Р. Деринг-Смирновой)].
Символизм для Пастернака, ощущавшего себя в «нашей современности», представлялся осевым явлением, относительно которого по хронологической линии симметрично располагались оппозиционные ему и «нашей современности» и контрастирующие по отношению друг к другу реализм и постсимволизм. Быть может, именно в силу того, что Пастернак ощущал трудность отделения себя от футуризма (и тем настойчивее подчёркивал своё отталкивание от него), гораздо ближе оказался ему реализм, подготовивший символизм, а не развенчивавший его, как футуризм.
К изживанию постсимволизма Пастернак подошёл в конце 1930-начале 1940-х годов. Поиском нового языка, стиля, приходящего на смену постсимволизму, объясняется его стремление к «неслыханной простоте». Чтобы достичь её, в «Докторе Живаго» Пастернак синтезировал все три явления: реализм, символизм и постсимволизм, посредством этого решая задачу по «дописыванию» символизма. Отсюда противонаправленные тенденции, которые просматриваются в романе. Пастернак оказался хорошим учеником символистов, в полной мере использовав их «постоянную установку» на «синте
114 «То, с чем мы сталкиваемся в «Живаго», - это описание, и значимым является <...> отнюдь не воспроизводство языка» (англ.).
Пастернак и его роман в контексте традиции
93
зирующее освоение разнообразных культурных традиций и на их организующую роль» [Минц 1999: 364]. Подробные характеристики, которые И.П. Смирнов в «Очерках по исторической типологии культуры» дал «первичному» и «вторичному» стилям115, и составляют суть этих тенденций.
Это, с одной стороны, повествование посредством скрытых цитат; обнажение ключей к ним; сплошное множественное кодирование текста; восприятие «своего как чужого»116; «антропоморфная модель мира»; «возведение природы в ранг культуры»; использование «категорий пространства, времени, причинности, материальности» как «агентов, участвующих в развёртывании сюжета на правах действующих лиц»; круг возможностей персонажа, который целиком определяется временем; показ героя, который внешне, активно не сопротивляется обстоятельствам и среде, надевает личину, предстаёт гением-безумцем и пр.
С другой - стремление устранить узнаваемость этих скрытых цитат и использованных кодов; «реализм»; «простота»; антропоцентрическая модель мира; трактовка культуры как натуроморфного образования; «категории пространства, времени, причинности, материальности», которые «обретают то или иное значение только в том случае, если они имеют функциональную зависимость от человека, который перекраивает и покоряет пространство»; показ главного героя как объекта и как субъекта познания; «протоколирующий, лишённый установки на адресанта стиль авторской речи» и пр.
«Примесь философии и религиозного символизма» в романе, роль и место «Стихотворений Юрия Живаго» в общей конструкции свидетельствуют, что Пастернак переосмыслял символистскую идею отождествления искусства и действительности совершенно иначе, нежели, например, в «Охранной грамоте», описывая свой отказ от романтического мировосприятия117. Модель отношения к символизму, аналогичная собственной, «вчитывалась» Пастернаком и в генезис творчески близких ему современников. Например, в «Людях и положениях» он характеризовал М.И. Цветаеву: «За вычетом Анненского и Блока и с некоторыми ограничениями Андрея Белого, ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли все остальные символисты, вместе взятые. Там, где их словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась над трудностями настоящего творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском» [III: 338-339].
В «Докторе Живаго» он «обновлял» символизм, проводя мысль, что самой подлинной является действительность, себя преодолевшая, то есть ставшая искусством, в то
115 См.: [Смирнов 2000: 22-48 (в сотрудничестве с И.Р. Деринг-Смирновой)].
116 Лара объективирует эту тему в словах, обращённых к Юрию Живаго после его возвращения от партизан: «И мы с тобой последнее воспоминание обо всём том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим, и любим, и плачем, и держимся друг за друга и друг к другу льнём» [IV: 400].
1,7 О генетике пастернаковского неприятия романтизма см.: [Парамонов 1991].
94
Глава 1
время как считающаяся настоящей, неотменимой - на самом деле призрачна: «.. .Всё на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятельность человека должны заключать элемент бесконечности, придающий явлению определённость, характер» [III: 306].
В романе символы наполняются «реальным», «буквальным» содержанием, приобретают «реалистический» вес и оказываются, так сказать, сверхфутуристическими. При этом общая символическая система произведения размывается, и символы становятся относительно автономными. Синтез триады стилей в произведении предстаёт продуктивной «тяжбой борющихся качеств», любое из которых инверсировалось Пастернаком с позиции «нашего времени». Каждый из стилей в чём-то проигрывал, но и приобретал за счёт других. В том числе и поэтому Н. Корнвелл, проанализировав попытки многих исследователей рассматривать «Доктора Живаго» как целостную систему символов, пришёл к выводу, что «large-scale symbolic system in relation to Doctor Zhivago may appear to cause more difficulties than they can be seen to resolve. The grand symbolic design, the correspondence between the inner poetry of Pasternak and the outer form of his novel may be hard, if not impossible, to distinguish»118. На этом основании он предпочёл рассматривать роман лишь в аспекте символического моделирования и работы отдельных символов: «If we leave aside the search for an overall symbolic system and return to the arrangement within the texture of the novel of what we might take to be isolated symbols and recurrent imagery, we may prefer, to a symbolic ‘system’ with its all-embracing overtones, the concept of symbolic patterning. This would be more limited in scope but identifiable in the text and incontrovertibly within the poetic register of the novel»119 [Cornwell 1986: 82-83].
Когда в 1910 г. Андрей Белый, делая в Религиозно-философском обществе доклад «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой», «утверждал неизбежность искусства религиозного» [Пастернак Е. 1997: 113], Пастернак слушал его так, что привлёк внимание К.Г. Локса, даже находясь позади него. В «Повести об одном десятилетии» Локс писал: «Я слушал, стоя в проходе и чувствуя, что возле меня кто-то не безразличный мне. Оглянувшись, я прежде всего увидел глаза. Это было очень странно, но в этот момент я увидел только глаза стоявшего возле меня. В них была какая-то радостная и восторженная свежесть. Что-то дикое, детское и ликующее» [Локс 1994: 55].
О религиозном искусстве рассуждал не только Андрей Белый. Искусство как теургия не только осмыслялось теоретически в работах, например, Вяч. Ив. Иванова,
118 «Крупномасштабная символическая система в применении к “Доктору Живаго” может вызвать гораздо более серьёзные трудности, чем те, что могут показаться разрешимыми. Внушительная символическая конструкция, соотношение между внутренней поэтичностью Пастернака и внешней формой его романа может быть трудно, если не невозможно, определить» (англ.).
119 «Если мы отбросим поиск всеобъемлющей символической системы и обратимся к устройству ткани романа, которая состоит из отдельных символов и периодически появляющихся образов, то символической “системе” с её всеобъемлющими обертонами мы можем предпочесть концепт символического моделирования. Это может быть более ограниченным по масштабу, но идентифицируемым в тексте и не расходящимся с поэтическим регистром романа» (англ.).
Пастернак и его роман в контексте традиции
95
Н.А. Бердяева, такое искусство художники стремились создавать практически. «...The Symbolists had equally fully presented a view of literature as ‘theurgic’ - that is, as magically effective, creating or affirming links with a divine truth and leading to a transformation of the world through mystical forces»120 [Livingstone 1989: 23].
Но если символисты теоретически обосновывали возможность творчества-теургии, но были недовольны тем, что получается, то Пастернак о теургии не теоретизировал, но создавал «Доктор Живаго» как произведение именно теургическое. Это утверждение не только не противоречит тому, что это в то же время и роман реалистический, но, более того, развивает мнение А. Ливингстон о том, что «Pasternak had no inclination to repeat that either. His desire was to name what was ‘as yet unnamed and new’»121 [Livingstone 1989: 23]. В таком качестве роман являет читателю буквальность воплощения в жизни мифа, сказки, литературы. Именно о такой буквальности в «Эпилоге» говорит Дудорову Гордон: «Возьми ты это блоковское “Мы, дети страшных лет России”, и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детища, интеллигенция, и страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалиптичны, а это разные вещи. А теперь всё переносное стало буквальным, и дети - дети, и страхи страшны, вот в чём разница» [IV: 513].
Таким образом, следующая строка блоковского стихотворения - «Забыть не в силах ничего» - тоже должна читаться буквально, что объясняет причину «перенасыщенности» романа «деталями». Но разница в том, что герои Пастернака, не произнося эту строку, но тайно напоминая её читателю, воспринимают и отмечают её для читателя и в качестве императива: в смысле «нельзя забыть ничего». В частности, в этом заключаются неосимволический реализм и реалистический футуризм Пастернака. Можно отметить и обращённость ориентации «Доктора Живаго»: отталкивание автора от постсимволизма, к которому он принадлежал, - через апологию (трансформируемого) символизма -к реализму. Роман в таком ракурсе предстаёт реалистической прозой будущего, которая, впитав достижения предыдущих школ, футуристически отражает прошлое на всех языках культуры. Характеристики, которые даёт реализму и символизму в «Очерках по исторической типологии культуры» И.П. Смирнов, в применении к «Доктору Живаго» демонстрируют, что оба эти культурных кода являются важнейшими ключами к его интертекстуальному прочтению.
120 «...Символисты исчерпывающе представили взгляд на литературу как явление “теургическое”, то есть магически действенное и тем самым создающее или подтверждающее связи с божественной истиной и ведущее к преображению мира посредством мистических сил» (англ.).
121 «Пастернак не был склонен повторять ни то, ни другое. Его желанием было дать имена тому, что “ещё не названо и ново”» (англ.).
96
Глава 1
1.4. Установки на устную речь и эпистолярность. Традиция как этический выбор
Выше мы отметили, что завершение каждого цикла не только развития литературы, но и собственной внутренней эволюции осознавалось писателями Серебряного века, в том числе и Пастернаком, как «конец литературы». Он связан с ощущением катастрофизма эпохи и «концом истории»122. «Конец литературы» актуализировал традицию устной передачи опыта, устного слова123. Судьба публикации лучшей книги стихов Пастернака - «Сестра моя - жизнь», пять лет ходившей в списках, - один из первых ярких тому примеров. Тема бесписьменности литературы была одной из наиболее занимавших писателей пореволюционного времени. Реализация в тексте установки на его чтение вслух выступала условием истинности, запоминаемости и гарантии его дальнейшей, также устной, передачи. Писатель рассчитывал уже не на читателя, а на слушателя как на непосредственного и конкретного соучастника в действе, которое описывается в тексте. Работа над романом, и в частности его отделка, была связана у Пастернака именно с установкой на устную передачу. М.И. Шапир так определил значение устной речи для Пастернака и последствия ориентации на неё в творчестве: «Постоянные оговорки и неуклюжие выражения, косноязычие, сбивчивость, бессвязность, сочетание плеоназмов с эллипсисами, многословия с недоговорённостью, наконец, крайняя неровность стиля, я думаю, безошибочно указывают на основной источник и ориентир поэтического идиолекта Пастернака. Это - непринуждённая устная речь, которая, в отличие от письменной, не оставляет возможности перечитать и “отредактировать” сказанное. Отсюда “авторская глухота”: говорящий плохо себя слышит. Отсюда и то, что пастернаковские амфиболии - это преимущественно сдвиги по смежности, а не по сходству: в повседневном речевом общении “метонимические модели получают <.. .> такую свободу реализации, которой не знает литературный язык”; в то же время в разговорной речи “почти полностью отсутствует метафора” (аккуратнее было бы сказать - потеснена). <.. .> Всевозможные приметы устной стихии - им немыслим счёт - пронизывают поэтический язык Пастернака сверху донизу: его семантику и стилистику, лексику и фразеологию, морфологию и синтаксис, орфоэпию и просодию» [Шапир 2004].
Соглашаясь с характеристикой, которую сестра Жозефина дала слогу «Доктора Живаго», Пастернак писал 23 ноября 1959 г. ей и Лидии: «Все тонкости у Лиды и Жони-на характеристика слога, как рассказа, который вторично был бы пересказан по-другому (так именно и шла отделка вещи: я переходил от черновых вариантов к беловым не стилистически совершенствуя и переписывая их, а по памяти, часто не заглядывая в них, излагая суше и более сжато их содержание)» [ПРС 2004: 789].
122 О переживании «конца Истории» и её проблематике см.: [Ямпольский 1998: 7-10].
123 О взаимоотношениях устной и письменной речи см. статью «Устная речь в историко-культурной перспективе» [Лотман 1992,1: 184-190].
Пастернак и его роман в контексте традиции
97
Расчёт на герметичность текста, на обращённость его к кругу «избранных» читателей был также общим для писателей Серебряного века. В советское время он получил дополнительную акцентировку. Однако в любом случае воспроизводилась ситуация времен первохристианства. Это почувствовали уже первые читатели. «Some Orthodox theologians have found Pasternak’s views eccentric. But the Cistercian monk Thomas Merton called him a primitive Christian, ‘a naturally Christian spirit’»124 [Livingstone 1989: 16]. О том, что для Пастернака это имело первостепенную важность, можно судить по присутствию в романе оппозиции ‘христианство - Рим’125. Пастернак, как свидетельствовала Л.К. Чуковская, называл своих слушателей «особым племенем», по-видимому, подразумевая при этом ситуацию общения Христа и апостолов. Такой проекцией объясняются и многочисленные чтения Пастернаком ещё не только не оконченного, но и едва лишь начатого романа, и его желание быть не столько прочитанным, сколько услышанным. Установкой на устную передачу, на чтение-рассказывание и на непосредственное воздействие на слушателей объясняется то, что в письменном виде «Доктор Живаго» для некоторых современников терял в «качестве»126. Но, читаемый «глазами», роман приобретал в игре культурными смыслами. Как показал в статье «О моделирующем значении понятий «конца» и «начала» в художественных текстах» Ю.М. Лотман [2000: 427-430], в модернизме конца XIX - начала XX века особое значение имел конец. В «Докторе Живаго», не только учитывающем опыт символистского романа, но и продолжающем его, важное значение конца проявилось воспроизводством апокалиптической фабулы и переменой ориентации на время. Если литература символизма, как явление письменной культуры, ориентирована на прошлое, то «Доктор Живаго» - на будущее, но обращённое «назад», в глубины истории, и потому представляющее собой прошлое навыворот. В романе, таким образом, реализована идея, которую Пастернак выразил ещё в ранней редакции «Высокой болезни»:
Однажды Гегель ненароком И, вероятно, наугад Назвал историка пророком, Предсказывающим назад [I: 410].
Заметим, что ссылка поэта на Гегеля довольно «коварна»: слова, которые приписаны ему, принадлежат Г. Гейне, который пошутил однажды, что «историк - это пророк прошлого». Гейне, имя которого легко подставляется в строфу вместо имени Гегеля, предстаёт в данном случае скрытым двойником последнего127. В интертекстуальном плане строфа ориентирована также на известные слова А.И. Герцена: «История погло
124 «Некоторые православные теологи нашли взгляды Пастернака эксцентричными. Но цистерцианский монах Томас Мертон назвал его первохристианином, имеющим “истинно христианский дух”» (англ.).
125 Её анализ в связи с еврейской темой в романе см.: [Сегал 2006: 711-714].
126 Например, для А.К. Гладкова - см.: [Гладков 2002: 217-226].
127 О влиянии Гейне на молодого Пастернака см.: [Иванов Вяч. Вс. 1998-2009, III: 501 (статья «Гейне в России»)].
98
Глава 1
тила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное пытание прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, мы, как Янус, смотрим вперёд» (цит. по: [Тарасов 1990: 198]).
Возможно, Пастернаку была известная и реакция П.А. Вяземского (в письме к А.И. Тургеневу) на публикацию I «Философического письма» П.Я. Чаадаева: «Что за глупость пророчествовать о прошедшем?» (цит. по: [Тарасов 1990: 319]). Ср. также у Блока в стихотворении «Художник» (1913): «Прошлое страстно глядится в грядущее. / Нет настоящего. Жалкого - нет» [Блок 1960-1963, III: 145].
Относительно особой роли начала и конца в романах Серебряного века, в том числе «Докторе Живаго», необходимо отметить их принципиальную открытость. Так, начало романа (пение «Вечной памяти» на похоронах Марии Николаевны Живаго) открыто в прошлое семьи, страны, мира, жизни и т.д., а конец (чтение друзьями Юрия Андреевича его стихов) - в будущее. Таким образом, текст «Доктора Живаго» в принципе не имеет ни начала, ни конца. Его иерархичность выражена лишь в строении. При этом прошлое и будущее взаимообратимы. Будущее в романе - это реинкарнированное прошлое, а прошлое - желаемое будущее. «Доктор Живаго», как и другие романы Серебряного века, принципиально незавершён: история Юрия Живаго должна дописываться всеми оставшимися в живых героями романа, а также «новым художником» будущего: «Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и ещё небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней» [X: 336].
Устремлённость в будущее, которое есть вывернутое прошлое, определила установку на устную передачу содержания кругу «избранных», наделявшую роман статусом предания. Этой установкой объясняется и использование Пастернаком русской волшебной сказки, ориентированной в своём движении на начало и конец и передававшейся изустно. «Общая схема движения семантики сказки идёт от некоего отрицательного содержания <...> к положительному. <...> Отрицательное состояние в начале и положительное состояние в конце в самом общем плане характеризуют не только семантику волшебной сказки, но и семантику мифа» [Мелетинский и др. 2001: 52-53]. Так, «Доктор Живаго» начинается сценой похорон матери Юрия Живаго, и это событие приурочено ко времени и кончается вечностью «Гефсиманского сада» [Йенсен 1997: 103]. Сказка при этом «мирно уживается» с проекцией повествования на библейский миф о происхождении (книга Бытия) и миф эсхатологический (Откровение Иоанна), также дающие ориентацию романа на начало и конец, но закреплённые письменно128. Эта двоякая направленность - на будущее и прошлое - обусловливала и своего рода
128 Об «отсутствии структурных различий между мифом и сказкой в рамках архаического фольклора», основных ступенях и особенностях процесса трансформации мифа в сказку, различии и соотношениях мифа и волшебной сказки см.: [Мелетинский и др. 2001:12-17; Мелетинский 1998: 18 (в статье «Миф и историческая поэтика фольклора»), 284-296 («Миф и сказка»)].
Пастернак и его роман в контексте традиции 99
борьбу «старомодности» и «модернизма», на которые обращали внимание многие критики129, а также стремление к прекращению письма и «завершению литературы» и противоположную тенденцию закрепления духовного опыта именно в письменной форме. Отметим вновь, что использование Пастернаком любого кода - библейского, сказочного, литературного - предполагало его инверсирование.
Начав писать роман, Пастернак признавался в письме к Н.А. Табидзе от 4 декабря 1946 г.: «Я всё время не могу избавиться от ощущения действительности как попранной сказки» [IX: 480]. Действительность как миф, сказка, литература навыворот предполагала необходимость восстановления их подлинности. Этим тайно и был занят автор и его герой. Как указал в статье «Миф и двадцатый век» Е.М. Мелетинский, «в мифоло-гизме писателей, прямо обращающихся к традиционным мифам, обнаруживается в той или иной степени переворачивание мифа, его хотя бы частичное превращение в антимиф» [Мелетинский 1998:426]. Поскольку таким «переворачиванием» был занят советский режим, Пастернак в качестве противоядия использовал в романе «переворачивание» альтернативное. Его обращение (и, например, значимое необращение Юрия Живаго к Кубарихе, но учёба у неё) за «помощью» к архаическому сознанию, изгоняющему случайность, связано со стремлением найти противоядие от аналогичного насильственного изгнания «случайностей» в сознании «нового» советского человека. Кроме того, оно представляет собой подспудное выполнение «завета» Блока, написавшего в поэме «Возмездие» (1918): «Сотри случайные черты, - / И ты увидишь: мир прекрасен» [Блок 1960-1963, III: 301]. Едва ли Пастернак мог воспринимать эти строки как установку «тоталитарного проекта», как оценивает их современный исследователь (см.: [Эт-кинд А. 2001: 330-331]). В «Докторе Живаго» интертекстуальный спор с Блоком возникает не раз, и Блок предстаёт и союзником, и оппонентом: А.М. Эткинд отмечает смену отношения Юрия Живаго к Блоку по ходу повествования от «поклонения» ему в начале романа к «окончательному дистанцированию» в конце [там же: 334-335]. Заметим, однако, что более-менее полной картины интертекстуальных проявлений творчества Блока в «Докторе Живаго» пока нет.
На «поверхности» текста появляется, как правило, лишь профанируемый архаизм (даже в зашифрованном виде, как заговор Кубарихи, он играет роль интертекстуальной отсылки), а подлинный организует структуры текста, что соотносится с жизненной установкой Пастернака и его героя на мимикрию и «незаметность»130. «His search for ап un-noticeable style was a reaction not only to the over-noticeable style of the age but also to his own youthful abundances»131 [Livingstone 1989: 12]. Примером профанизации архаичности служит партизанский вожак Ливерий, мыслящий штампами и не допускающий ни
129 Рассмотрение этих оценок предпринято в книге: [Cornwell 1986: 18-20].
130 О проблеме мимикрии в «Докторе Живаго» см.: [Livingstone 1989: 79-84; Витт 2000; Трубецкая 2008].
131 «Его поиск незаметного стиля был реакцией не только на сверхзаметный стиль века, но и на собственные юношеские излишества» (англ.).
100
Глава 1
чего «лишнего»132. Он также ведёт тайную жизнь - партизанит в лесу, переходя с места на место, пытается учить доктора и «не слышит» его резких отповедей. Его таинственность профанна по сравнению с той тайной, которую носит в себе Юрий Живаго. Иным образом, нежели в сознании Ливерия, отсутствуют случайности во внутреннем мире другого двойника доктора - Антипова-Стрельникова: «Он мыслил незаурядно ясно и правильно. <...> Но для деятельности учёного, пролагающего новые пути, его уму недоставало дара нечаянности, силы, непредвиденными открытиями нарушающей бесплодную стройность пустого предвидения. А для того чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные и которое велико тем, что делает малое. <...> Он считал жизнь огромным ристалищем, на котором, честно соблюдая правила, люди состязаются в достижении совершенства» [IV: 250-251].
Заметим, что слова о несостоятельности Антипова-Стрельникова как учёного опираются на аргументацию П.Я. Чаадаева. Говоря в IV «Философическом письме» о Ньютоне, он полемически спрашивал: «Я Вас спрашиваю, рождалась ли когда-либо мысль подобного масштаба в разуме безбожном? Истина столь величественная дана ли была когда-либо миру разумом неверующим? <.. .> Повторю ещё раз: видано ли, чтобы человек, не говорю уж атеист, но хотя бы только равнодушный к религии, раздвинул, как он, границы науки за пределы, ей, казалось, предназначенные?» [Чаадаев 1991,1: 371].
Вообще в романе можно увидеть три вида профанизации, определяемых по отношению к Юрию Живаго: позитивный (Кубариха), негативный (Ливерий) и амбивалентный (Антипов-Стрельников). (Всякий раз оговаривать это кажется излишним.)
По мере написания «Доктора Живаго» Пастернак осуществлял в жизни логику собственного текста. Любопытно было бы проследить хронологию устраивавшихся Пастернаком читок романа, их прекращения и объявляемого (по крайней мере, в письмах) отказа от контактов с желающими видеть его с тем, как сначала вынужденно, а потом намеренно «прячется» Юрий Живаго, в конце своей «видимой» жизни прямо объявляющий друзьям о своём желании уйти от них [IV: 480-482]. В стихотворении «Быть знаменитым некрасиво» (1956) необходимость ухода звучит императивно:
И окунаться в неизвестность, И прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не видать ни зги [II: 150].
Текст романа, обладающий высокой степенью автометаописательности, по мере порождения начинает программировать поведение автора. Если вначале автор был явным двойником своего героя, который благодаря ему постепенно обретал «плоть и
132 Деятели из отдела культуры ЦК КПСС «вычитывали» в образе Ливерия лишь лежащую на поверхности профанизацию революционной современности, характеризуя его так: «глупый и пустой самоуверенный мальчишка-авантюрист» [Документы 2001: 69].
Пастернак и его роман в контексте традиции
101
кровь», то к моменту завершения «Доктора Живаго» Пастернак стал тайным двойником доктора, а судьба последнего - программой поведения автора. О начале этого процесса «переселения души» Пастернак писал 13 октября 1946 г. О.М. Фрейденберг: «Я не протяну и года, если в течение его не будет жить и расти это моё перевоплощение, в которое с почти физической определённостью переселились какие-то мои внутренности и частицы нервов» [IX: 473].
М. Окутюрье отмечает парадоксальность ситуации, «когда судьба героя завершается не в рамках произведения, а в жизни его двойника-автора; вместо того чтобы герой исполнял волю автора, сам автор становится орудием своего героя, живым осуществлением той идеи, которая была в герое заложена. Удивительный и <.. .> беспрецедентный обмен ролями между автором и героем, совершающийся в стихотворении “Гамлет”, как бы включает поступок в самый текст в качестве его полноценного, незаменимого компонента. В этом <.. .> уникальность “Доктора Живаго” в мировой литературе как единственного в своём роде представителя нового жанра, который можно было бы назвать жанром романа-поступка» [Окутюрье 1994: 25].
Структура поведения, как и структура биографии писателя, предстающие явлениями «однопорядковыми его литературному творчеству» [Флейшман 2003а: 416], служат, таким образом, не менее важным «материалом» для аналитической реконструкции его внутреннего мира.
Установка на бесписьменное бытование литературы, на устное слово тесно связана с возрастанием роли эпистолярного жанра и приобретением прозой его свойств. Если в XIX веке печатное слово было обращено от государства к обществу, а письменное от одного частного лица к другому (см.: [Лотман 1994: 49], то в 1920-30-е годы в связи с усилением идеологического контроля и подавлением свободного выражения мыслей в литературе возникает не только тенденция устного бытования литературы, но и происходит «возврат» к частной переписке. Удельный вес и значение эпистолярного жанра в жизни и творчестве многих писателей, и в частности Пастернака, резко возросли. Но если для таких авторов, как, скажем, В.В. Розанов, письма противополагались печатному слову и, тем не менее, оказывались в печати, то в условиях советского времени, когда произведения писались в стол, как, например, в случае Вяч. Ив. Иванова, они представали зачастую единственным средством свободного выражения, хотя бы и адресованного писателем самому себе133. И в этом главное отличие от ситуации XIX века. Общим свойством, отмечающим эпистолярный жанр многих писателей как до революции, так и после неё, является наличие в письмах автохарактеристик и оценок своего творчества.
«Письма Пастернака представляют собой литературное воплощение его жизни и времени, не менее важное, чем его стихи и проза». Они «оказываются основным материалом для его биографии и в более широком плане, чем традиционно понимаемая переписка, представляют собой реальную жизнь эпохи», - оценивают этот жанр
133 О проблеме автокоммуникации в творчестве Пастернака см.: [Фатеева 2003: 81-97].
102
Глава 1
Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернак [Переписка 19906: 13]. А Л.Я. Гинзбург характеризовала письма писателя так: «Они и литературный факт, и бытовая и автобиографическая информация. В них размышления о творчестве и автохарактеристики, разговор об отношениях с жестокой действительностью и признания в любви - пёстрое содержание, отлившееся в разные формы» [там же: 3]. Избранием эпистолярного жанра для изложения своих взглядов Пастернак демонстрировал также обращение к практике духовного общения XIX века, когда письма, как, например, письма П.Я. Чаадаева, ходили по рукам. Значение писем для Пастернака было обусловлено также общей ориентацией русской литературы Серебряного века на Апокалипсис с его обращённостью к немногим «избранным».
Установка на эпистолярность прозы проявилась у Пастернака ещё в начале 1920-х годов. Так, в 1921 г. в письме к В.П. Полонскому Пастернак сообщал: «Я решил, что буду писать, как пишут письма, не по-современному, раскрывая читателю всё, что думаю и думаю ему сказать, воздерживаясь от технических эффектов, фабрикуемых вне его поля зренья и подаваемых ему в готовом виде, гипнотически и т. д.» [Переписка 1983: 688]. Но в «Докторе Живаго» это стремление воплотилось совсем иначе, нежели в «Детстве Люверс» или «Охранной грамоте»: в позднем произведении нет психологизма (присущего романам XIX века). Кроме прочих качеств, эпистолярность романа апокалиптична и этим также отличается от прозы Пастернака конца 1910-начала 1920-х годов. Ср. её, например, с апокалиптической эпистолярностью «Писем из Тулы», написанных в апреле 1918-го. В «Докторе Живаго» Пастернак усилил эпистолярность не только за счёт интертекста, но и за счёт манеры изложения - стал «пересказывать» события сюжета (особенно этот приём усиливается к концу романа), а не представлять их «гипнотически». Это обусловлено, в частности, тем, что в ситуации катастрофы, в которую повергла страну революция, писателю оставалось выбирать: становиться писателем для «всех» или идти против течения и рассчитывать лишь на горстку «своих» читателей-единомышленников. Парадоксальным образом жанр письма отвечал обоим вариантам.
Ф.М. Достоевский, издававший «Дневник писателя», и позже В.В. Розанов - фигуры весьма значимые для Пастернака - расценивали интимизацию творчества как путь к читателю. Отыскание этого пути было тем более важным для них, чем более апокалиптичной ощущалась социальная действительность. В условиях 1940-50-х для Пастернака апокалиптичность исторических событий и духовной жизни последних десятилетий аналогичным образом обусловила расчёт на «избранных», который, создавая высокое духовное напряжение, вступал в конфликт со стремлением Пастернака быть услышанным как можно более широким кругом читателей. Роман приобрёл качество послания к «избранным», которое оказалось предназначено всему миру и было прочитано им. Желание испытывать «чувство общности со всеми», которое дал «живой» период войны134,
134
См. об этом запись Пастернака, сделанную 17 ноября 1956 г. [Ивинская 1978: 95-96].
Пастернак и его роман в контексте традиции
103
и обусловленная политической ситуацией невозможность этого подвигали писателя к творческому преодолению усугублявшегося разрыва между его представлением о личности в истории и официально навязываемыми обществу идеалами. 29 июня 1948 г. он писал О.М. Фрейденберг: «Я не знаю, осталось ли ещё на свете искусство и что оно значит ещё. Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и моё сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое своё письмо им, в двух книгах» [Переписка 19906: 246].
И, конечно, одним из главных факторов, обусловивших интимизацию, эпистолярность и апокалиптичность повествования, была любовь Пастернака к О.В. Ивинской135. Письма Пастернака к ней - яркие свидетельства той пронзительной боли, ощущения «конца времен», «предельности» существования, которые были важнейшими движущими силами при создании романа (см.: [Ивинская 1978: 391-409; Мансуров 2009]). Впрочем, эпистолярный жанр у Пастернака выполнял и прагматическую функцию, связанную с особенностями творческого процесса. В частности, как показал Б.М. Гаспаров, письма Пастернака, как и его монологи, играли роль «черновых набросков» и «черновых версий», которые отсеивались в ходе работы над произведениями, в частности «Доктором Живаго» [Гаспаров Б. 1992а].
К тому времени, когда Пастернак начал писать «Доктор Живаго», жанр романа, как он понимался в литературе Серебряного века, если и не умер, то существовал лишь в таких редчайших и тайных исключениях, как «Мастер и Маргарита» или «Чевенгур». О невозможности для Пастернака создать произведение в жанре романа свидетельствует как бессюжетная «Охранная грамота», так и неудачные попытки написать роман в 1930-е годы. Одни читатели-современники, например, А.С. Эфрон (см. её письмо Пастернаку от 28 ноября 1948 г.), отмечавшие, что в «Докторе Живаго» множество «неувязок», не хватает «психологии» [Переписка с Эфрон 1989: 315-326; Бахнов, Воронин 1990: 139— 145], исходили из того, что роман как жанр жив и, вероятно, не учитывали, что «Доктор Живаго» - это не обычная попытка работать в традиционном жанре реалистического романа XIX века, но воскрешение жанра, впитавшего опыт символизма, нравственный поступок. А. Ливингстон поясняет это тем, что «inner causality, or motivation, is a feature of the traditional novel which Pasternak wished to replace with something else and which is in fact conspicuously absent from Zhivago»136 [Livingstone 1989: 59]. Другие, такие, как B.T. Шаламов, уже после смерти Пастернака, по-видимому, допускали, что он мог не заметить смерти романа, раз взялся писать в этом жанре, и выносили свои приговоры: «Бог умер. Почему же искусство должно жить? Искусство умерло тоже, и никакие силы в мире не воскресят толстовский роман. Художественный крах “Доктора Живаго” - это крах жанра. Жанр просто умер» [Шаламов 1989: 60].
135 См. об этом и других слагаемых, без которых роман не появился бы: [Fleishman 1990: 211-300].
136 «Внутренняя причинность или мотивация - черта традиционного романа, которую Пастернак хотел заместить чем-то другим и которая фактически и заметно исчезла из “Живаго”» (англ.).
104
Глава 1
Однако Пастернак считал свой роман удачей, «какая не снилась». Один из факторов, позволивших ему добиться успеха, - следование традиции и, в частности, романисту Пушкину. Ещё с начала 1920-х годов Пастернак стремился «совпасть» с ним137, о чём прямо свидетельствовал сам в ответах на анкету «Наши современные писатели о классиках» (1927), отмечая, что нынешнее понимание Пушкина у него «расширилось, и в него вошли элементы нравственного характера» [V: 216]. Возможно, в этом самоопределении - выборе Пушкина как образца; традиции138 - как противовеса послереволюционной современности - Пастернаку помогла своей созвучностью статья Б.М. Эйхенбаума «Проблемы поэтики Пушкина» (1921), в начале которой литературовед отмечал, что: «Всех тревожит вопрос: после всего пережитого в жизни и в искусстве жив ли Пушкин? И если да, то каким стал он для нас? Отошли ли мы так далеко, что уже плохо различаем его, или расстояние, нас от него отделяющее, есть то самое, которое нужно, чтобы окинуть взглядом целое, не теряя деталей? То самое, которое нужно художнику для построения формы?» [Эйхенбаум 1969: 23].
На эти строки, переосмысляя их, Пастернак откликнулся в «Высокой болезни» (1923, 1928):
Теперь из некоторой дали Не видишь пошлых мелочей. Забылся трафарет речей, И время сгладило детали, А мелочи преобладали [I: 257].
В конце статьи Эйхенбаум указывал на то, что «Пушкин наконец становится нашей настоящей, несомненной, чуть ли не единственной традицией. <...> Отдалённость, которую почувствовали мы от Пушкина, пройдя сквозь символизм и вместе с футуризмом очутившись в хаосе революции, есть отдалённость та самая, которая нужна для нашего восприятия» [Эйхенбаум 1969: 34].
Ср.: в поэме «Девятьсот пятый год» (1925-1926):
Повесть наших отцов, Точно повесть Из века Стюартов, Отдалённей, чем Пушкин, И видится, Точно во сне [I: 264].
137 По наблюдениям Л.Я. Гинзбург, Пушкин «был последний великий писатель, который мыслил жанровыми категориями». О том, что жанр может выступать в виде текста, см. в работе Ю.М. Лотмана «Культура и взрыв» [Лотман 2000: 102]. О «характерности» для Пастернака «пушкинской автопроекции» см.: [Жолковский 2006: 248 и сл.].
138 О значении традиции для Пастернака писалось неоднократно. См., например: [Вигилянская 2008: 271-272 и сл.].
Пастернак и его роман в контексте традиции
105
В ответах на анкету Пастернак прямо говорил о влиянии на него Пушкина и о том, что «в настоящее время менее, чем когда-либо, есть основание удаляться от пушкинской эстетики» (V, 216). Статья Эйхенбаума, труды которого, «надо думать, особенно ценились Пастернаком» [Смирнов 1995: 183], могла быть для писателя тем актуальнее, что именно в начале 1920-х (уже после «Детства Люверс») он напряжённо искал новые пути в прозе. В ответах на анкету он публично озвучил свою ориентацию на пушкинскую эстетику, что подразумевало для него соответствующее, если ещё не произошедшее, то желаемое и долженствующее произойти изменение манеры письма. С начала 1920-х все попытки писать прозу всё теснее были связаны у Пастернака со стремлением в новых условиях и на новом материале повторить «в восхищённом воспроизведенье образца» [III: 210] трудный путь Пушкина в прозе.
«К тридцатым годам лирическое творчество Пушкина ослабевает. Медленно совершается переход к прозе. “Евгений Онегин” подготовил этот переход. Здесь - альбом лирики, здесь же - начало сюжетных построений, которые не нуждаются в стихе» [Эйхенбаум 1969: 26].
Подобный процесс - переход от лирической поэзии к поэмам во второй половине 1920-х и попытки с начала 1930-х создать роман - можно наблюдать и в творчестве Пастернака. Для перехода от романа в стихах к прозе показательны высказывания автора о прозаической «Повести», являющейся сюжетным «звеном» «Спекторского», в письме к П.Н. Медведеву от 28 января 1929 г. [VIII: 286] и в ответе на анкету «Писатели о себе» (1929) [V: 223-224]. Демонстративность определения себя как последователя Пушкина была вызвана не только протестом против тенденций в советской литературе и переосмыслением старого футуристического призыва «сбросить Пушкина с парохода современности», но и «исправлением» слов Эйхенбаума о современных писателях, работавших в ключе «нового классицизма», который возник «из недр символизма» [Эйхенбаум 1969: 25]. Назвав Кузмина, Ахматову и Мандельштама, Эйхенбаум о Пастернаке не упомянул. Тем ревностнее Борис Леонидович постарался следовать приведённым Эйхенбаумом пушкинским рекомендациям, выраженным в письмах к А.А. Бестужеву, которые были написаны в конце мая - начале июня и 30 ноября 1825 г. из Михайловского в Петербург: «Полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами -это хорошо для поэмы байронической. Роман требует болтовни^ высказывай всё начисто», «возьмись-ка за целый роман - и пиши его со всею свободой разговора или письма» [Пушкин 1977-1979, X: 115-116, 149].
Отзвуки пушкинского обращения к коллеге по цеху слышны в письме Пастернака к Мандельштаму о книге «Шум времени», написанном 16 августа 1925 г. (ровно через 100 лет после писем Пушкина, которые зеркально соотносятся между собой по месяцам написания относительно «осевого» августовского письма Пастернака): «Я её перечёл только что, переехав на дачу, в лесу, то есть в условиях, действующих убийственно и разоблачающе на всякое искусство, не в последней степени совершенное. Отчего Вы не пишете большого романа? Вам он уже удался. Надо его только написать. Что моё мне
106
Глава 1
ние не одиноко и не оригинально, я знаю по собственному опыту, то есть так же, как я, судят о вашей прозе и другие, между прочим, Бобров. Ваш в этом отношении шире, и тем большим повтореньем слышанных похвал и благодарностей покажется Вам мой отзыв» [VII: 574].
Пушкин писал из Михайловского в Петербург (в столицу) - Пастернак из Москвы (столицы) в Ленинград, отмечая временное пребывание адресата в Луге. При этом книгу Мандельштама он читал и сформировал мнение о ней, переданное в письме, вне столицы, как Пушкин. Пастернак ровно через 100 лет повторил совет Пушкина, не назвав предшественника прямо. Что касается «собственного опыта», то это, кроме прочего, опыт влияния Пушкина, но уже не на Бестужева, а на самого Пастернака. Или иначе: опыт прозаической работы Пастернака, «совпавшего» с Пушкиным. О романе он продолжал говорить с Мандельштамом, когда в ноябре 1933 г. тот с женой поселился в квартире в Фурмановом переулке (см.: [Мандельштам Н. 1990: 283]). Бывшее название этого переулка - Нащокинский (по имени друга Пушкина П.В. Нащокина) - ситуативно актуализировало для Пастернака эпизод собственной биографии (Пастернак жил в Нащокин-ском переулке, д. 6, кв. 16, в 1917 г. [Пастернак Е. 1997: 278]) и писательский пример Пушкина, который был для него по-прежнему - и до конца жизни - чрезвычайно значим. Следование рекомендации классика с начала 1920-х и во все последующие десятилетия виделось единственным продуктивным выходом из ситуации, в которую попала литература. Это давало основание для внутреннего отождествления себя как поэта, перешедшего к писанию прозы, с Пушкиным и объясняет стойкое желание Пастернака написать именно прозу в жанре романа. Такое стремление было созвучно мысли Эйхенбаума о Пушкине как «не начале, а конце длинного пути, пройденного русской поэзией XVIII века», как о «завершителе, а не зачинателе» [Эйхенбаум 1969:24]. Пастернак тоже чувствовал себя «завершителем», который, с одной стороны, становился таковым поневоле139, с другой - должен был подытожить путь русской литературы XIX - начала XX века. И сделать последнее «в восхищённом воспроизведеньи образца», которым он видел Пушкина, было тем труднее, заманчивее и нравственно необходимее, что современность этому не способствовала и что Пушкин (и в оценке Эйхенбаума, и независимо от неё) находился на недосягаемой высоте.
«Пушкин создал высокий, классический в своей уравновешенности и кажущейся лёгкости канон. У него не было и не могло быть последователей, потому что каноном искусство жить не может. <...> Интерес к сюжетным построениям привёл Пушкина к прозе, а высокий стихотворный опыт сделал её сжатой и простой. <.. .> Пушкин и в прозе не имеет последователей» [там же: 24, 32].
139 Ср.: в «Высокой болезни» -
Мы были музыкой во льду. Я говорю про всю среду, С которой я имел в виду Сойти со сцены и сойду [I: 255-256].
Пастернак и его роман в контексте традиции
107
Пастернак открыто провозгласил себя таким последователем, и именно трудностью создания нового «классического канона» объясняются сопряжённые со стремлением к простоте неоднократные не удовлетворявшие его попытки создать роман. К этим трудностям добавлялось ещё одно пушкинское требование к прозе: «мыслей и мыслей - без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое» («О прозе»), на которое, кстати, обратил внимание при анализе соотношения пушкинской прозы и стихов Эйхенбаум. И это требование было, пожалуй, труднейшим. Так, например, в письме к отцу от 26 марта 1930 г. Пастернак рассказывал: «Я много работаю сейчас, но очень медленно и трудно. Чем дальше, тем труднее мне определить, что это, собственно, такое, философия ли, искусство ли или что-нибудь другое. Но в художественном письме не требуют от себя мыслей, доведённых до точности формулы, а в контексте, где уместны формулы, не добиваются живости художественных изображений. Я же подчиняю себя и этим требованьям, и многим другим, что чудовищно замедляет работу и отражается на заработке» [ПРС 2004: 480].
Такое же требование - «мыслей и мыслей» - предъявляет себе молодой Юрий Живаго, который «ещё с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнёзд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать. Но для такой книги он был ещё слишком молод, и вот он отделывался вместо неё писанием стихов» [IV: 66-67].
Написанный роман, по-видимому, представал для автора желанным воплощением всех требований, налагавшихся им на себя, и потому оценивался (во многих письмах последних лет) весьма высоко. Например, в письме к Л.Л., Ж.Л. и Ф.К. Пастернакам от 14 августа 1956 г. Борис Леонидович писал: «Это большой труд, книга огромного, векового значения, судьбы которой нельзя подчинять моей судьбе и вопросам моего благополучия, но существование которой и выход в свет, где это возможно, важнее и дороже моего собственного существования» [ПРС 2004: 778]. В письме к Ж.Л. Пастернак от 22 августа 1958 г.: «Это произведение настолько выше меня, выше моих сил, выше того, чем я привык себя знать» [ПРС 2004: 830]. Эти оценки звучат самоотчётом с оглядкой на Пушкина. Преемственность Пастернака по отношению к Пушкину-романисту особенно выразительна при сравнении «Доктора Живаго» с «Капитанской дочкой». Остановимся на некоторых деталях, показательных для интертекстуальной работы Пастернака, немного подробнее.
В 1927 г. Пастернак говорил о том, что «в настоящее время менее, чем когда-либо, есть основание удаляться от пушкинской эстетики» и что понимание Пушкина у него «расширилось и в него вошли элементы нравственного характера» [V: 216]. В период создания «Доктора Живаго» эти взаимосвязанные тенденции стали определяющими как в отношении поэзии, так и прозы. С «нравственным характером» понимания Пушкина, произведения которого Пастернак называл «совершенно бессмертными, божественными текстами», сочеталось внимание к проблемам реалистического письма, поиск «неслыханной простоты». Не меньшее значение имела для Пастернака (как и для
108
Глава 1
Булгакова, Мандельштама, Ахматовой) биография Пушкина, его писательское поведение140.
«Капитанская дочка» была в отношении «Доктора Живаго» (особенно послереволюционных событий Первой книги и всей Второй) одним из текстов, задававших не только нравственный тон, но и трёхчастную сюжетно-композиционную модель (‘преступление - ссылка в Сибирь (на Урал) - воскресение’) и идейную структуру, развиваемые романом XIX века141 (а в модифицированном виде - и мифологизирующим романом Серебряного века). Отметим также сходство (и значимую разницу) главных героев (и Гринёв, и Живаго - «отщепенцы», оказывающиеся вне своего класса), исторического фона (пугачёвщина и гражданская война на Урале), параллелизм биографий писателей (Пушкина в период создания «Капитанской дочки» и «Истории Пугачёва» и Пастернака во время создания «Доктора Живаго»). Кроме того, являясь одним из произведений русской литературы, построенных с использованием схем волшебной сказки, «Капитанская дочка» была для Пастернака образцом искусства, установки которого были ему чрезвычайно близки142. В.С. Баевский при постановке проблемы «Пушкин и Пастернак» не упоминает о названных пушкинских текстах. Исследователь полагает, что «два больших романа, в которых стихи сочетаются с прозой: “Спекторский” плюс “Повесть” и “Доктор Живаго” <.. .> при всём их своеобразии восходят к “Евгению Онегину”» [Баевский 1998: 241]. Но «Евгений Онегин» - далеко не единственное пушкинское произведение, не говоря о текстах других авторов, к которым восходит «Доктор Живаго». И определение приоритетных в отношении влияния на Пастернака текстов возможно будет лишь после того, как будут хотя бы в общих чертах определены их перечень и значения в организации пастернаковского повествования. Заметим попутно, что «Доктор Живаго» как текст, содержащий прозу и стихи, является отражением «Спекторского» и «Повести», и эта зеркальность, несомненно, учитывалась Пастернаком, когда он решал (ещё в начале работы) снабдить роман стихами главного героя.
У Пушкина первая часть сюжетной схемы мотивируется преступлением только в первоначальном варианте: Шванвича ссылают в уральский гарнизон за буйство. (Гринёв
140 Подробно о «соблазне классики» как «социопсихологическом и социокультурном явлении 30-х годов» см.: [Чудакова 1995].
141 При написании этого раздела мы опирались на статьи Ю.М. Лотмана «Идейная структура “Капитанской дочки”» и «Сюжетное пространство русского романа XIX столетия» [Лотман 1992, II: 416-429; III: 91-106]. О соотношении сюжетно-композиционных схем «Капитанской дочки» и «Доктора Живаго» см.: [Буров 1995].
142 Сказочной генетике «Капитанской дочки» посвящена одна из глав («Судьба архаичных жанров в литературе позднейшего времени: от сказки к роману») работы И.П. Смирнова «Диахронические трансформации литературных жанров и мотивов». Список источников, в которых указывалось «на сказочность некоторых сюжетных узлов “Капитанской дочки”», а также на симметричное строение пушкинского романа см.: [Смирнов 1981: 107, 110,111]. Уральский топос в «Докторе Живаго» исследован в работе: [Аба-шеев 2000]; см. также сборник статей, посвящённых уральской тематике в творчестве Пастернака: [Любовь пространства 2008].
Пастернак и его роман в контексте традиции
109
же, отправляющийся на службу, едет на Урал добровольно143.) Вторая включает развитие событий вокруг Оренбурга и Белогорской крепости. В переработанной для цензуры редакции 11-й главы Гринёва, отправившегося в Белогорскую крепость, хватают пугачёвцы. В третьей части схемы, (организующей сюжетное пространство не только «Капитанской дочки», но и всего классического романа XIX века), по первоначальным планам Пушкина, отец Шванвича, передавшего Пугачёву крепость и ставшего его сообщником, привозил сына в Петербург. И Орлов выпрашивал у императрицы прощение. В окончательном варианте о милости к Гринёву просит приехавшая в Петербург Маша Миронова.
Во Второй книге романа Юрий Живаго приезжает из Москвы на Урал, затем попадает к партизанам, уходит от них к Ларе и пешком возвращается в Москву. Осевая часть модели ‘Москва-Урал-Москва’ включает«матрёшку»-отражение ‘Юрятин(Варыкино) -партизаны - Юрятин (Варыкино)’. Центром обеих моделей оказывается партизанский отряд. Аналогично пушкинскому треугольнику ‘Оренбург - Белогорская крепость -пугачёвцы’ в «Докторе Живаго» введен треугольник ‘Юрятин - Варыкино - партизаны’ (до попадания доктора в плен и после возвращения). Ролью Пугачёва наделён Ливерий Микулицын. Однако Пастернак, в отличие от Пушкина, депоэтизировал исторический фон - гражданскую войну и партизанщину, даже несмотря на то, что повествование о герое, попавшем к «лесным братьям» (по Проппу - сказочным разбойникам в лесном доме), ориентируется на фольклор и сказку с их непроницаемостью для внетекстовых рядов. Для Пастернака занятые социальной борьбой превращают жизнь в «поруганную сказку», и противостоит им не только Юрий Живаго, но и его тайный учитель Кубариха (сопоставимая, возможно, с «полубаснословной Гугнихой», упоминающейся в «Истории Пугачёва»).
Урал прочно ассоциировался у Пастернака с местами пугачёвского восстания, внимание к которым проявлял Пушкин, ездивший по ним в сентябре 1833 г. В «Докторе Живаго» сказались и впечатления от собственных поездок писателя в 1916-17, 1932 и 1941-43 гг., а также чтение книг по этнографии и фольклору. Так, в описании поездки в марте 1917 года из Тихих Гор, введённом в очерк «Люди и положения» [III: 328-329], узнаются детали путешествия Гринёва к месту назначения, когда его застаёт буран. Пастернак не столько старается провести здесь аналогию, сколько создаёт картину с пушкинской атмосферой и контрастирующими деталями.
Эпилог «Доктора Живаго» так же, как и послесловие Издателя в «Капитанской Дочке», создаёт систему «текст в тексте». В романе Пастернака она осложнена тем, что такую же функцию выполняют и «Стихотворения Юрия Живаго», с которыми прозаический текст находится в отношениях взаимовключения144. С Издателем в «Докторе Жи
143 О близости начала «Капитанской дочки» с началом волшебной сказки (на которую ориентирован «Доктор Живаго») см.: [Смирнов 1981: 78].
144 Анализ состава «Стихотворений Юрия Живаго», отдельных стихотворений и перекличек с прозаическим текстом романа см.: [Rowland M.F., Rowland Р. 1967: 57-65; Livingstone 1989: 103-114]. Обсуждение литературы по этому вопросу: [Cornwell 1986: 36-37].
110
Глава 1
ваго» соотносится Евграф Живаго, в конце романа проявляющий себя как рассказчик, повествующий о происходившем, и составитель «Стихотворений..Подобно Пушкину, Пастернак ставит и вопрос о будущем, снижая значимость момента досказывания судеб героев. В «Капитанской дочке» это - благоденствие и жизнь в потомстве и в семейном предании; в «Докторе Живаго» - открытость в гипотетический главный сюжет, в Царство Божие, к которому подводит повествование и «возвещением» которого выступают «Стихотворения Юрия Живаго».
Цикличность времени и параллелизм событий в качестве признаков мифологической структуры, а также следование схеме сказки обеспечивают органичность переклички с Пушкиным. Герой у Пушкина (и в романе XIX столетия) активен и является двигателем сюжета. Но если пушкинский герой активно противодействует внешним силам, то в литературе XX века такое противостояние оказывается безнадёжным, и достоинство пастернаковского героя спасает теперь только «спрягаемость в страдательном» и верность Христу. Его противодействие явно не выражено и находится целиком в сфере духа. У Пастернака активна революционная стихия и её представители, а герой (Живаго) оказывается с «начисто отсутствующей волей»145. Доктор попадает в коллизии, в которых уже побывал Гринёв, однако новый виток отличается ещё более полным отказом от «романтической манеры», чем это было у Пушкина по отношению к литературе романтизма 1820-х годов и чем это было у самого Пастернака в конце 1910-х по отношению к Маяковскому (см. главу 11 части третьей «Охранной грамоты»).
1.5. Специфика протагониста
В дальнейшем мы ещё не раз будем касаться генезиса образа главного героя, множество интерпретаций которого в ранней критике «Доктора Живаго», а также обсуждение вопроса о степени сходства судьбы, творчества и биографии Юрия Живаго с авторскими представлены в работе: [Cornwell 1986: 16-17, 55-57]. В данном случае отметим его связь с традицией.
В XIX веке на смену активному герою романтизма приходил герой безвольный и стареющий душою. Коллизию смены героя Пастернак воспроизвёл в обновлённом виде. Так, и безвольный Живаго, и кончающий самоубийством волевой Антипов-Стрельников наделялись живой душой и сердцем. Именно со сменой героя связано то, что рядом с «Евгением Онегиным» в дневнике доктора упоминаются и читаемые в Варыкине пушкинские поэмы с героем, который «терял волевые импульсы и переставал быть, в отличие от героев Байрона, персонажем активного действия», и «резким ослаблением сюжетности» [Лотман 1992, III: 96]. Внеморальность романтического героя XIX века трансформировалась в ХХ-м в классовую мораль Антипова-Стрельникова, который тем не
145 Возможно, эта характеристика намекает на книгу А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление».
Пастернак и его роман в контексте традиции
111
менее, в отличие от Ливерия, может, подобно Пугачёву в разговорах с Гринёвым (гл. VII, XI), выйти за рамки своей классовой правды и при встречах с доктором146 поступает противно тому, как поступил бы ограниченный герой-фанатик.
Сходство и отличие Юрия Живаго по отношению к героям литературы XIX века проявляется и в том, что он тоже «маленький человек», но совсем другой, чем в прошлом веке. Амплуа «маленького человека» и «лишнего человека» работает лишь в отношении социума. Тем выше в личностном плане оказывается его трагедия. После возвращения в Москву он не уезжает за границу к семье: это было бы бегством от миссии быть «лишним человеком», которая в XX веке, по сравнению с прошлым столетием, оказывается высокой147. «“Лишний человек” - фигура, излюбленная романом, - подлежит либо устранению из изображаемой реальности <...>, либо слиянию с обществом» [Смирнов 2008а: 185]. Живаго устраняется через преждевременную смерть, но перед этим сливается с советским обществом, мимикрируя. Таким образом, роман реализует оба варианта судьбы «лишнего человека». Через двойников - Антипова-Стрельникова, воплощающего ролевые действия героя, и Живаго, сохраняющего статусное амплуа148, - в романе представлены обе проблемы романа XIX века: изменения социальной действительности и преображения духовного облика героя. Приговор первой как ответ на «принудительность сопереживания» (Ю.К. Щеглов) звучит, в частности, в словах Юрия Живаго, обращённых к Ливерию [IV: 337]. Соответственно, к духовному преображению даёт толчок «учитель жизни», которого доктор встречает на Урале, - Кубариха. С духовной встречи с ней и начинается один из многих параллельных микросюжетов возрождения Живаго.
Роль демонического героя-«губителя» принадлежит в романе Комаровскому. При-шлостью со стороны, которая является отличительной чертой противопоставленного ему героя-«спасителя», наделяются Живаго и Антипов-Стрельников. Оба они по отношению к Ларе (России) выступают как пришлые «спасители» - ложный и подлинный. Например, у Стрельникова эта черта проявляется в том, что на бронепоезде он обрушивается на врага в самых неожиданных местах на огромной территории. Пришлость Живаго актуализируется всякий раз, когда он попадает в новое место, в частности, в Юрятин.
В юрятинской библиотеке доктор так и не подошёл к Ларе и лишь в один из следующих приездов в город «неожиданно отменил все планы и пошёл разыскивать Антипову» [IV: 292]. Этот момент также соотносится с «Капитанской дочкой», но опосредованно - через «Заблудившийся трамвай» Н.С. Гумилёва (реминисценции из которого вновь появляются в эпизоде последней поездки героя в трамвае - см.: [Смирнов 1995: 150]) и рецензию С.П. Боброва на сборник «Огненный столп» (1921), в который вошло стихо
146 О сопоставлении пар ‘Юрий Живаго - Антипов-Стрельников’ и ‘Гринёв - Пугачёв’ см.: [Livingstone 1989: 77].
147 Ср. с ещё одним объяснением возвращения доктора в Москву: «Zhivago’s rejection of both Tonia and Lara can only be explained by his emotional attachment to Moscow» [Lilly 1981: 248]. («Отказ Живаго и от Тони, и от Лары может быть объяснён только его эмоциональной привязанностью к Москве».)
148 О роли и статусе героев в романах см.: [Смирнов 2008а: 181].
112
Глава 1
творение. В этой рецензии, опубликованной в журнале «Красная новь», 1922, № 3 (7), источником имени «“Машенька” в сочетании со строфой, имеющейся уже в первом варианте, - “Знаю, борясь со смертной тоскою, / Ты повторяла одно - вернись! / Я же с напудренною косою / Шёл представляться Императрикс”» Бобров назвал «Капитанскую дочку» [Тименчик 1987: 140, 143]. Возможно, Пастернак читал рецензию бывшего соратника по «Центрифуге». Добавим, что мотив обезглавливания, общий для «Капитанской дочки» и «Заблудившегося трамвая», хорошо сочетается с приходом Юрия Живаго к Ларе, прочитываемым в сказочном плане как приход героя «своею волею» к Яге, обезглавливающей пришельцев (см. подробно: [Буров 2007в]). Но если Яга в сказке бурно реагирует на приход героя, то «опешившая» от его появления возле её дома Лара - напротив: «Постоянно верная своей естественности, она ни одним возгласом не выдала, как она изумлена и озадачена. У неё только вырвалось: - Живаго!» [IV: 293]. Яга затем спрашивает о цели поездки - Лара же знает о цели пребывания на Урале Юрия Живаго, но спрашивает о мотивах прихода/неприхода к ней, и упоминание ветра является скрытым указанием на важность запаха для Яги: «Лучше скажите, каким вас ветром занесло? Больше года тут, и всё не могли собраться, удосужиться?» [IV: 293]. Если Яга чует запах живого героя, то Лара знает о приезде Живаго по слухам. Затем следует разговор Лары с Юрием Андреевичем, тогда как герой с Ягой не говорит, а сразу требует поесть. Речь о еде Лара заводит между прочим и в середине разговора, происходящего уже в доме. И формально с предложением отобедать Лара обращается не к Юрию Живаго, а к дочери (ср. с тем, что в сказке именно герой требует поесть у Яги), но отвечает ей уже доктор. Лара говорит Катеньке:
«- Ну, ступай к себе. Вот уговорю дядю к обеду остаться, выну кашу из духовой и позову тебя.
- Спасибо, но вынужден отказаться. У нас вследствие моих наездов в город стали в шесть обедать. Я привык не опаздывать, а езды три часа с чем-то, если не все четыре. Потому-то я к вам так рано, - простите, - и скоро подымусь.
- Только полчаса ещё.
- С удовольствием» [IV: 298].
Обед не описывается, как пропускается в тексте и описание развития отношений Юрия Живаго и Лары. Характерно, что «приобщившись» к «еде мёртвых», обращённым аналогом которой являет пища, предложенная доктору Ларой-«Ягой», Юрий Андреевич не может есть дома в Барыкине - его поведение напоминает поведение человека, узнавшего о чьей-то смерти: «Неведение домашних, их привычная приветливость убивали его. В разгаре общей беседы он вдруг вспоминал о своей вине, цепенел и переставал слышать что-либо кругом и понимать. Если это случалось за столом, проглоченный кусок застревал в горле у него, он откладывал ложку в сторону, отодвигал тарелку. Слёзы душили его. “Что с тобой? - недоумевала Тоня. - Ты, наверное, узнал в городе что-нибудь нехорошее? Кого-нибудь посадили? Или расстреляли? Скажи мне. Не бойся меня расстроить. Тебе будет легче”» [IV: 301-302].
Пастернак и его роман в контексте традиции
113
Если в сказке превращение героя, пропускаемого Ягой в «царство мёртвых», в «дух», было субститутом превращения в животное, то Живаго превращается в «дух» «при допущении, что он ещё раз увидит Антипову» после того, как решает расстаться с ней, а затем решает ещё раз проститься. Он представляет Лару, и у него «дух захватывает!», а затем он «обнял коня за шею», как бы сливаясь с ним (аналог превращения в животное), и конь «полетел»: «На плавном полёте галопа, в промежутке между редкими, еле заметными прикосновениями коня к земле, которая всё время отрывалась от его копыт и отлетала назад, Юрий Андреевич, кроме ударов сердца, бушевавшего от радости, слышал какие-то крики, которые, как он думал, мерещились ему» [IV: 304]. Так Лара-«Яга» пропускает Живаго в «царство мёртвых» - к останавливающим доктора партизанам.
Для Пастернака самым важным было дать героя как свидетеля времени, повторяющего путь страданий Христа. Однако, несмотря на эпичность повествования - совсем иную, нежели, например, у Л.Н. Толстого, которым Пастернак «втайне мерял замысел» [Толстой И. 2009: 11], - психологические «взрывчатые гнёзда» всё же есть, например, прощальное письмо Тони. Но этот психологизм также отличается от традиционного психологизма литературы XIX века.
Главный герой произведения духовно пребывает в сфере сакрального, и читатель может «прорваться» в этот скрытый план, лишь расшифровав «внешние» знаки (текст), использовав их как ключи к «внутреннему». В момент смерти Юрий Живаго физически переходит как раз в эту невидимую сферу - план бессмертия, Царства Божьего. При этом доктор - не только отверженный миром, но и отвергающий его. И наоборот: не только приемлющий мир, но и совпавший с ним. Его реинтеграция в мир посредством стихов возможна только из состояния бессмертия. Живаго, вернувшийся из Сибири и Урала в Москву, сознательно уничтожает свою социальную биографию, уходит со «сцены», не желая участвовать в разыгрываемом «спектакле» даже в роли духовного оппозиционера. По мысли Т. Адорно, «индивид в романе XX века подвергает себя самоликвидации, чем обусловливается распад того единства, в каковом прежде находились изображение и изображаемое» [Смирнов 2008а: 176]. В «Докторе Живаго», напротив, распад мира, в котором жил главный герой, обусловливает распад личности: доктор опускается, но его христианская жертвенность предстаёт свидетельством его победы над миром.
Пастернак показывал героя, который действует противоположным образом, нежели, скажем, Андрей Белый, выпускавший в 1920-х и в начале 1930-х автобиографические произведения и продавший свой архив в Гослитмузей В.Д. Бонч-Бруевичу. Поведение доктора значимо отличается также от поведения М.А. Кузмина, также продавшего архив (см.: [Богомолов, Шумихин 2000: 5-19]). Доктор, однако, как и Кузмин, уходит в «тень» и прекращает «внешнюю» духовную жизнь. Старшие современники скорее всего осознавали, что их творения могут быть использованы против упомянутых в них людей, и тем не менее публиковали их и продавали в составе архива. Герой Пастернака печатает в Москве книжки о своих взглядах, а не о людях, с которыми встречался. Возможно, именно отталкиванием от такого «публичного» метода работы Андрея Белого и
114
Глава 1
Кузмина в какой-то мере объясняется позиция самого Пастернака, отразившаяся в одной из строф «программного» стихотворения «Быть знаменитым некрасиво» (1956):
И надо оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг, Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях [II: 150].
Андрей Белый и Кузмин старались не оставлять «пробелов» именно среди бумаг, в которых описывали - также без «пробелов» - свою «судьбу», что могло фатально отражаться на судьбах упоминаемых ими людей. Исходя из этого, можно предположить, что стихотворение приобретает не только характер заочного спора со старшими современниками, но и черты трагизма, которых, кажется, исследователи в нём пока не видели. Таким образом, социальный «прагматизм» Пастернака включал в себя в обращённом виде мотивы поведения Кузмина, духовная жизнь которого уходила всё более «вглубь» (по мере усиления людоедства советской власти), и Андрея Белого, творившего с высочайшей самоотдачей, но без оглядки на последствия, которые могут сказаться на судьбах ближних.
Пастернак сделал своего героя врачом и писателем по «рецепту» М.Ю. Лермонтова149, сравнившего в предисловии к «Герою нашего времени» писателя с врачом, прописывающим «горькие лекарства, едкие истины» [Лермонтов 1981, IV: 184]. Скрытое подключение к тексту «Доктора Живаго» этого предисловия позволяло проецировать на читателей романа обращение Лермонтова к своим современникам - читателям «Героя нашего времени». Роман Пастернака оказывается, таким образом, в инверсионных отношениях с романом Лермонтова. Если Лермонтов показывал начало биографии героя, которому предстоит окунуться в гущу жизни и познать её зло, то Пастернак демонстрировал, как жизнь окунает героя во зло, как при этом происходит разрушение биографии и, более того, как сам герой отказывается от биографии социально дозволенной, «внешней», но выстраивает биографию «внутреннюю», тайную. Если врач был «одной из центральных фигур художественных текстов» реализма [Смирнов 2000: 63 (в сотрудничестве с И.Р. Деринг-Смирновой]), то поэт, писатель имели тот же статус в символизме. Весьма значимы для Пастернака были и фигуры писателей-врачей В.И. Даля, и А.П. Чехова150, и М.А. Булгакова. Так, на слова Ж. де Пруайар, назвавшей Чехова в ответ на вопрос Пастернака, влияние какого прозаика можно усмотреть в «Докторе Живаго»,
149 Кроме того, как считает Р. Пэйн, при выборе Пастернаком профессии героя сказалось влияние отца: «Leonid Pasternak had indeed studied medicine at the University of Moscow, and had thought seriously of becoming doctor. Sometimes, too, he would speak regretfully about his chosen occupation, saying he would have been of greater service to the world if he had been a doctor» [Payne 1963: 172]. («Леонид Пастернак в самом деле изучал медицину в Московском университете и серьёзно намеревался стать врачом. Также иногда он с сожалением мог говорить о выбранном занятии, замечая, что сослужил бы лучшую службу миру, если бы был врачом» (англ.).)
150 Соотношение «Доктора Живаго» с произведениями Чехова и Ибсена рассмотрено в: [Jackson 1963].
Пастернак и его роман в контексте традиции
115
писатель отреагировал следующим образом: «“Молодец! Вы правильно отгадали”, -вскричал Пастернак и рассказал нам, как он перечитывал Чехова, когда начинал писать свой роман. Сын лучших чеховских героев, Живаго обладал всеми их достоинствами и недостатками. В силу этой преемственности, а также из почтения к Чехову Пастернак сделал своего героя врачом» [Письма к де Пруайар 1992: 129].
Значение заглавия романа М.Ф. Роуланд и П. Роуланд определили так: «The title of the novel - Doctor Zhivago - is a conspicuous signpost pointing us to an overarching parable which draws all the others together. We might think of the whole work as a parable of a physician and his patient»151 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 12].
Возможно, на выбор профессии для поэта Юрия Живаго повлияло также определение «художника», данное О.Э. Мандельштамом в начале 1930-х: «Художник по своей природе - врач, целитель. Но если он никого не врачует, то кому и на что он нужен?» [Мандельштам 1993-1997, III: 384]. Как полагала Н.Я. Мандельштам, в этой «беглой записи периода работы над “Путешествием в Армению”» поэт «выразил свои сомнения в действенности искусства» [Мандельштам Н. 1990: 359]. Ср. с тем, что, «как ни велика была его тяга к искусству и истории, Юра не затруднялся выбором поприща. Он считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может быть профессией прирождённая весёлость или склонность к меланхолии» [IV: 66]. Трактовка Мандельштама могла привлечь внимание Пастернака ещё и потому, что касалась ключевого для Пастернака понятия «художника» и самоопределения относительно традиции, в частности Пушкина и Лермонтова, и современности. Самоопределение это вырабатывалось, таким образом, в скрытом споре с Мандельштамом. Биографическим моментом, подтолкнувшим Пастернака к осмыслению двойничества с Лермонтовым, могло послужить падение с лошади в 13-летнем возрасте (Лермонтов после падения тоже остался хромым), символическое значение которого и связь с мотивом «второго рождения» проанализированы в: [Флейшман 2003а: 409-413; Гаспаров Б. 1995]. Профессия Юрия Живаго имеет немаловажное значение и для прояснения его деятельности и поведения как ориентированных на масонские. Символ медицины - змея, обвивающая чашу и дающая яд, - напоминает об Уроборосе - змее, кусающей свой хвост, которая в масонской традиции считается древним гностическим символом бесконечности, символом вселенского гносиса и непрекращающегося поиска Истины.
Цель спасения жизни, перерождения, с которой доктор идёт в Москву из Сибири, предполагает творчество как средство, с помощью которого она достигается. Перед читателем оно явлено в «Стихотворениях Юрия Живаго» в качестве духовного воплощения умершего героя, и язык «Стихотворений...» тем более резко контрастирует с предшествовавшей прозой, чем более клишированной и стёрто-безликой в своём стремлении мимикрировать под «стиль эпохи» она становится по мере продвижения доктора в
151 «Заглавие романа - “Доктор Живаго” - привлекающий внимание указатель, который отсылает нас к притче, которая, как свод, стягивает вместе всех остальных. Мы можем рассматривать и всё произведение как притчу о враче и его пациенте» (англ.)-
116
Глава 1
советском «царстве мёртвых». Приобретение прозой этих качеств, сопровождаемое постепенным ослаблением и устранением индивидуального авторского начала, объясняется также нежеланием Пастернака учитывать «идеологию текста» (Р. Барт) советской эпохи, начало которой в искусстве было настолько же ярким, насколько выхолощенным -продолжение, начиная с середины 1920-х. Он отталкивался и от яркости, и от безликости. Не желая подчиняться давлению «стиля эпохи» и говорить на её языке, он собственным жертвенным примером показывал оскудение и гибель языка, внешнюю непродуктивность и даже безобразность текста (отсюда многочисленные упрёки в несовершенствах). В то же время этот «негативизм» имеет мимикрическую природу: с одной стороны, в его недрах вызревает язык «Стихотворений Юрия Живаго», с другой - усиливающееся «последовательное самоистощение» (Р. Барт) текста своей оборотной стороной имеет всё большую конденсацию истории и культуры в единице текста. Тайная задача, которую ставил перед собой Живаго (и Пастернак - перед своим героем и перед собой), определяется не только «удовольствием от текста», которое получали герой и автор, стремившийся передать это удовольствие читателю, но достижением апокалиптического «нового неба и новой земли», где оказываются как читающие «Стихотворения Юрия Живаго» Гордон и Дудоров, так и сам читатель, держащий роман в руках.
Состоит эта «задача в том, чтобы путём трансмутации (а не одной только трансформации) добиться нового философского состояния языковой материи - состояния доныне невиданного, подобного тому, в каком пребывает расплавленный металл, состояния, ничего не ведающего о собственном происхождении, изъятого из какой бы то ни было коммуникации; такое состояние есть сама стихия языка, а не тот или иной конкретный язык, пусть даже сдвинутый с привычного места, передразненный, осмеянный» [Барт 1989: 486].
По мере движения сюжета Юрий Живаго как главный герой определяет его «внешне» всё меньше, но тайно - всё больше. В социальном плане он всё сильнее «спрягается в страдательном» [Пастернак 1989-1992, V: 69], в духовном - достигает вершин. «Доктор Живаго» предстаёт произведением об эволюции ценности индивидуального начала в человеке: разрушения этой ценности в социальном плане и возрастания в духовном. О том, почему происходит социальное умаление человека, «схождение на нет» героя, говорит в романе Лара: с началом войны «главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической - потом революционной» [IV: 401].
Когда слово девальвируется, задачей протагониста становится сохранение культурного опыта, памяти, истории. Однако этим занимается Евграф, а Юрий Живаго выступает преемником и продолжателем культурной традиции, очередным звеном в цепи этой преемственности. Если внешняя эволюция героя иллюстрируется его движением в различных социальных средах, то внутренняя - движением в духовном пространстве. В
Пастернак и его роман в контексте традиции
117
романе показательными в этом отношении являются восприятие и оценка доктора «необычайно развившимся» Васей Брыкиным [IV: 472-473]. Пастернак трансформировал в романе художественно-жизненный стереотип, который сложился в литературе XIX века, когда мужчина воплощал социально-типичные недостатки, а женщина общественный идеал (см.: [Лотман 1994: 64]). Старое общество разрушалось, но и в новом герой оказывался носителем тех же по определению, но других по сути социально-типичных недостатков. В обоих случаях Пастернак противопоставил двум социальным идеалам один духовный - религиозно-творческий. Живаго не ставит, подобно героям литературы XIX века, вопросы о том, как изменить окружающую жизнь. Напротив, те, кто занят этим, вызывают у него неприятие (беседа с Клинцовым-Погоревших, разговоры с Антиповым-Стрельниковым в бронепоезде и в варыкинском доме) и раздражение (разговоры с Ли-верием после попадания в отряд и перед уходом из него). Апокалипсису истории Пастернак и его герой противопоставляют творческое откровение.
В романах Серебряного века герой часто - художник (писатель, поэт, философ), юродивый, пророк, неузнанный мессия, безумец. Христианское или, вернее, неохристи-анское начало в нём - главное. Эпизоды его биографии можно прочитывать как инверсированные реализации житийных сюжетов, поскольку, кроме прочих культурных моделей, биография строится по схеме агиографической (см.: [Лотман 1994: 305,313]). Протагонист в то же время - персонаж автобиографический. Все эти характеристики можно в полной мере отнести и к Юрию Живаго, на примере которого Пастернак демонстрировал необратимое разрушение социальной, но не духовной биографии героя. (К концу Серебряного века разрушение нормы приняло массовый характер [см.: Жолковский 1994: 59]). Так он исполнял своё желание, о котором ещё в 1926 г. писал М.И. Цветаевой. Уже тогда Пастернак чувствовал необходимость «вернуть истории поколенье, видимо отпавшее от неё и в котором находимся я и ты»152 [Пастернак 1989-1992, V: 190]. Задачи, которые ставил себе Пастернак, приступая к работе над романом, были уже гораздо более широки - вернуть истории её самоё153. Об этом задним числом (1 июля 1958 г.) он писал Вяч. Вс. Иванову: «Это - переворот, это - принятие решения, это было желание начать договаривать всё до конца в духе былой безусловности, на её широчайших основаниях. <...> роман я стал, хотя бы в намерении, писать в размере мировом» [X: 350].
Пастернак сделал Юрия Живаго «лишним» человеком, продолжив плеяду подобных героев литературы XIX и начала XX веков. Он, как и другие писатели Серебряного века, «реабилитирует слабого «лишнего» человека и романтического мечтателя, позволяя ему овладеть традиционной в русской литературе сильной женщиной» [Жолковский 1994: 162].
152 Ср.: в стихотворении «Нас мало. Нас может быть трое» (1921): «Мы были людьми, мы эпохи» [I: 189].
153 Как сказал И.П. Смирнову А.М. Пятигорский, «история имеет всегда (т. е. не исторически) содержанием неисторию» (см.: [Смирнов 1997: 18]).
118
Глава 1
Критики давали диаметрально противоположные оценки «Доктора Живаго» как романа о «лишнем» человеке (см.: [Бахнов, Воронин 1990: 214, 235]). Но роман был не первым произведением, где Пастернак представлял образец «лишнего» человека. Ещё в «Спекторском» (1925-1931) о заглавном персонаже там сказано: «Я б за героя не дал ничего» [II: 8]. По завершении этого романа в стихах Пастернак сообщал О.М. Фрей-денберг: «Написал я своего Медного Всадника, Оля, - скромного, серого, но цельного и, кажется, настоящего. Вероятно, он не увидит света» [VIII: 458]. Как отметил Р.Л. Джексон, «yet like Pushkin, Pasternak acknowledges the historical inevitability of the power crushing his hero»154 [Jackson 1978: 138]. Во время работы над «Доктором Живаго» Пастернак также не надеялся, что роман будет напечатан, о чём не раз писал своим корреспондентам. Слабости Юрия Живаго, в частности, безволие, оказываются его достоинствами, о чём прямо пишет доктору его жена Тоня [IV: 413-414]. Пастернак использовал и классический треугольник: ‘Слабый Человек Культуры - Русская Красавица - Мудрый Человек из Народа’155. Амплуа Русской Красавицы - у трёх сильных женщин: Тони, Лары (у неё осевая, центральная позиция) и Марины. Что касается красоты, то о внешности Тони не говорится ничего, обращается лишь внимание на её одежду (внешнее). Красота Лары - и физическая, и духовная. Отличительной же чертой Марины является её голос (внутреннее). В романах Серебряного века главный герой, как правило, пассивен. Активной становится женщина. Она вместе с ним выходит к историческому творчеству. Мудрый Человек из Народа представлен как мужчинами (например, Самдевятов), так и женщинами (Кубариха, Глафира Тунцева).
Идея о том, что в восприятии мира женщина равна поэту, реализуется в русской литературе ещё со времен Пушкина. И потому можно говорить о том, что действительность, представленная в романе, увидена взглядом мужчины, «спрягающегося в страдательном»156. Этим, а также ориентацией на житийную литературу объясняется то, что «Доктор Живаго» начинается с детства героя и читателю демонстрируются все силы, участвующие в его духовном формировании. Ю.М. Лотман отметил в работе «Культура и взрыв» «принципиальную женственность позиции Пастернака», и указал, что «женственность его поэзии проявляется даже не в сюжетности, а в принципиальной отзывчивости и “страдательности”. Эта поэзия не берёт, не властвует, не навязывается, а отдаётся - стихийному, сверхличностному <.. .>. Пастернак вбирает мир в себя. <.. .> Пастернак, как доктор Живаго, всегда постоянен потому, что всегда растворяется в «чужом»» [Лотман 2000: 99-100]. Пассивности главного героя противополагается активность женщин. Это положение характерно для всего творчества Пастернака. Например, в стихотворении «Весеннею порою льда» (1931) он писал, обнаруживая лирического героя как «лишнего» Слабого Человека Культуры, отдающего активную роль женственной «революцьонной воле»:
154 «Как и Пушкин, Пастернак признавал историческую неизбежность власти, сокрушающей его героя» (англ.).
155 Об этом треугольнике см.: [Эткинд А. 1998: 503].
156 О разнице мужского и женского взглядов см.: [Лотман 1994: 73-74].
Пастернак и его роман в контексте традиции
119
И так как с малых детских лет Я ранен женской долей И след поэта - только след Её путей, не боле, И так как я лишь ей задет И ей у нас раздолье, То весь я рад сойти на нет В революцьонной воле [II: 423].
Примерами активности женщин в романе могут служить отъезды в Юрятин семей Антиповых и Громеко-Живаго. Если в XIX веке обычно жена следовала в Сибирь за сосланным мужем [Лотман 1994: 352], то ни Антипова, ни Юрия Живаго на Урал не ссылают. Ехать в Юрятин - инициатива Лары, о чём признается доктору в Барыкине её муж Антипов-Стрельников, который «оказался неисправимым столичным жителем» [IV: 107]. Доктор попадает на Урал по инициативе Тони, советовавшейся с Евграфом, и поддержавшего её Александра Александровича Громеко. Сам же «Юрий Андреевич был против поездки» [IV: 208].
Если герои Гоголя, Толстого, Достоевского не вызывали подражаний в жизни, поскольку воспринимались как типажи, характерные для своего времени [Лотман 1994: 184], то Живаго (персонаж литературы Серебряного века) дал программу жизненного поведения на будущее. В дневниковых записях он противопоставляет этих писателей, переживших религиозный переворот, Пушкину и Чехову. Е.В. Пастернак пишет, что примеру доктора «неожиданно последовали мальчики и девочки 1970-х годов, отказавшиеся от удобств и благ, которые даёт образование и научная карьера, чтобы избежать вмененного в обязанность криводушия и жить не по лжи, ушедшие в сторожа, в дворники, лифтеры и водопроводчики, чтобы в свободное от работы время заниматься историей, наукой, богословием или литературой» [Пастернак Е.В. 1990а: 29].
Юрий Живаго - герой, проживающий три эпохи (дореволюционную, революционную и послереволюционную), принадлежащий к каждой из них, но в то же время не принадлежащий никакой. Он выражает не правду времени, а правду истории, связанной с именем Христа. Несмотря на следование традиции, Пастернак сделал нетипич-ность героев качеством принципиально важным, о чём свидетельствуют слова Живаго: «Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он не показателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия достигнута им» [IV: 295].
Если в Первой книге доктор нетипичен для своего класса, то во Второй - для страны. В контексте же всего романа - для мира вообще. Это подтверждает характеристика, которую даёт доктору Комаровский, несмотря на своё негативное амплуа, знающий и тонко чувствующий духовную суть и тайну собеседника: «Вы - насмешка над этим миром, его оскорбление» [IV: 418].
Глава 2
Дом как место рождения трагедии
Апокалипсис, который ты однажды покинул, только усложнился в своей безысходности.
Б. Пастернак. Письмо к отцу от 27 декабря 1932 г.
2.1. Дом в московском пространстве
Движение героя в романах Серебряного века, и в том числе в «Докторе Живаго», -это путь к настоящему Дому, при этом герой обязательно проходит испытания. С другой стороны, «Zhivago’s journey can <.. .> be thought of as a search for authentic forms of speech, and Pasternak’s narrative is everywhere sensitive to the linguistic phenomena that Zhivago encounters in his world»1 2 [Seifrid 2009: 173]. Начиная с Евгения Онегина, герои романов русской литературы отправляются на ‘Восток’, под которым понимается не только Сибирь, но и Кавказ. Но если в литературе XIX века и даже начала ХХ-го герой (от Евгения Онегина - до Николая Аблеухова) делает это в конце повествования, то в «Докторе Живаго» отъезд на ‘Восток’, совершаемый не по своей воле3, уравновешивается таким же невольным, но с иной мотивировкой предшествующим испытанием на ‘Западе’. Сибирь (шире - ‘Восток’) с XIX века стала культурной мифологемой, движение туда обусловливало литературный сюжет и давало композиционную модель произведения (см.: [Лотман 1994: 343]). В начале XX века композиционно структурирующей становится ось ‘Восток - Запад’ (в «Докторе Живаго» она расширяется: ‘Восток - Россия (Москва) - Запад’). Стремление Юрия Живаго вернуться домой и его регулярные возвращения противостоят движению истории, поскольку оно является регрессивным. По мнению Р.Е. Фортина, историческая тема в романе «opposes the frantic home-destroying motion of the Revolution to the values embodied in the home symbol: serenity, order, and loyalty to the past. On the religious level, the home symbol expresses the Christian view
1 Параграф в сокращённом виде был опубликован: [Буров 2006г].
2 «Перемещение Живаго может <...> рассматриваться как поиск аутентичных форм речи, и пастернаковский нарратив всюду чувствителен к лингвистическим феноменам, с которыми сталкивается Живаго в своём мире» (англ.).
3 О содержании метафоры «путь на Восток» в «Докторе Живаго», которое подразумевает «познание истинной России, народной души, народной тайны», показ «мира в дороге» см.: [Папкова 2008].
Дом как место рождения трагедии
121
of man “at home in history” and at home even in death in a cosmic process paternally ordered by God. Finally art is a homecoming in that it is return to the primordial archetypes, restoring one’s contact with the intimations of the sacred experienced in childhood»4 [Fortin 1974: 205].
В романе Пастернака дом главного героя находится в Москве и контрастирует с другими домами, в которых живёт или в которые попадает Живаго. Но если в довоенное время Юрий Андреевич живёт в доме своих дальних родственников Громеко, появляется на ёлке в доме Свентицких; летом 1917 г. приезжает в дом Громеко из Мелюзеева (с ‘Запада’); то весной 1922-го он возвращается в Москву из Юрятина (с ‘Востока’), но поселяется, где придётся, - в бывшем доме Свентицких, на Спиридоновке, в Камергерском переулке. Каждое новое возвращение доктора в Москву выявляет всё более полную потерю им дома, который к тому же ему не принадлежал. Своего дома у него не было изначально, но сам Живаго своим домом считает дом Громеко. Размышления его во время возвращения в Москву летом 1917 года свидетельствуют не только о значении этого дома для доктора, но о значении Дома с большой буквы вообще - всех домов в романе: «Три года перемен, неизвестности, переходов, война, революция, потрясения, обстрелы, сцены гибели, сцены смерти, взорванные мосты, разрушения, пожары - всё это вдруг превратилось в огромное пустое место, лишённое содержания. Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение в поезде к дому, который цел и есть ещё на свете и где дорог каждый камушек. Вот что было жизнью, вот что было переживанием, вот за чем гонялись искатели приключений, вот что имело в виду искусство - приезд к родным, возвращение к себе, возобновление существования» [IV: 163-164].
Дом Громеко до войны и бывший дом Свентицких в начале нэпа контрастно соотносятся друг с другом. Осевую роль играет дом Громеко в 1917-18 годах. Три отрезка «московского» повествования иллюстрируют переходы от состояния мира к войне (довоенная жизнь), от империалистической войны - к гражданской (ось - революционный 1917-й), от войны - к миру (нэп). В каждом из этих отрезков имеется смысловой комплекс, включающий в различных вариантах мотивы больницы, творчества и болезни (смерти). Тенденция, с которой представляется очередная конфигурация, выражается в том, что Живаго переходит от врачевания недугов физических к исцелению духовных, он также сам болеет и выздоравливает. В довоенном повествовании это болезнь героя в утро похорон Анны Ивановны Громеко, его творчество и работа в больнице. В периоды до и после октябрьской революции 1917 года - творчество во время работы в Кресто-
4 «Противопоставляет ужасное и разрушительное для домашней жизни движение революции ценностям, воплощённым в символе дома: спокойствию, порядку и верности прошлому. На религиозном уровне символ дома выражает христианский взгляд на человека, находящегося “дома в истории”, дома даже в смерти, в космическом процессе, отечески упорядоченном Богом. В конечном счёте искусство - это возвращение домой, если под этим подразумевать возвращение к исконным архетипам, восстановление связи с чувством священного, испытанным в детстве» (англ.).
122
Глава 2
Воздвиженской больнице и тиф. В период жизни в Москве после возвращения с Урала -творчество до поселения в комнату в бывшем доме Свентицких, творчество в комнате в Камергерском переулке, первая поездка на работу в Боткинскую больницу и смерть при выходе из трамвая. Работа в больницах являет собой программу поведения героя в социуме (в тех или иных условиях), творчество - программу духовного действия. Ценность обеих проявляется по мере приближения к христианскому идеалу. Отсюда насыщенность повествования, где описывается творчество, евангельскими мотивами (в зеркально обратной последовательности): распятия - в период нэпа и после; трёх суток между положением во гроб и воскресением - в 1917-18-м; воскресения - в довоенное время. Завершается каждый из трёх смысловых комплексов все более тяжёлой болезнью (зимой 1911-12 годов - простудой, зимой 1917-18-го-тифом, летом 1929-го-ин-фарктом и смертью).
В каждом из рассматриваемых отрезков «московского» повествования - несколько домов, но есть и «главные», где происходят кульминационные события. Это дом Свентицких в 1911-12-м; дом Громеко в 1917-18-м; комната в Камергерском переулке в 1929 году. Эта весомость определяется при рассмотрении того, где происходит действие в каждом из отрезков.
Картину эволюции (постепенной социальной деградации) Юрия Живаго, подобную той, что проявляется при рассмотрении отношения героя к домам, можно наблюдать и при анализе других общих для «московского» повествования тем, в частности, темы бала. Пастернак, вводя её, трансформировал кульминационный сюжетный ход русских романов не только XIX века от Пушкина до Толстого, но и начала ХХ-го. Выстрел Лары на ёлке у Свентицких актуализирует кульминационность бала в контексте дворянской культуры и чуждость и враждебность этой культуре революционных настроений нового, XX века. По три разновидности трансформации данного сюжетного хода присутствуют в каждом отрезке «московского» повествования. Полнота представленности каждой в тексте к концу романа убывает: если о концерте в доме Громеко повествуется во всех подробностях, то тема приёма пищи как входящая в комплекс бала в нэповском отрезке текста проявлена лишь в следующем описании происходившего с Мариной, сидевшей в коридоре возле комнаты в Камергерском, где на «цветаевском» обеденном/письмен-ном столе лежал мёртвый Живаго: «Сюда приносили ей покормить Клаву, и приводили Капу с малолетней нянею, и уносили, и уводили» [IV: 491]. Поскольку действие происходит после смерти доктора, сцену можно рассматривать как зеркальный аналог концерта в доме Громеко.
Если ход повествования всё больше приближает читателя к современности, то в интертекстуальном плане вводимые темы всё больше архаизируются. Современность тем самым ставится под знак профанного, а всё более дальняя история - под знак священного.
Дома, в которых происходит действие в отрезках «московского» повествования, можно представить следующим образом.
Дом как место рождения трагедии
123
Место действия и обстоятельства (трансформации бала) Дом и комната
Довоенный период времени в романе
а) - дом Громеко (концерт и ужин) - номер в «Черногории» - дом Громеко - комната в Камергерском
б) - дом Кологривовых - квартира Комаровского - комната в Камергерском
в) - дом Свентицких (ёлка) - дом Свентицких
г) - дом Громеко - монастырский двор у кладбища
д) - комната Войт-Войтковской - комната художника (проводы) - комната Войт-Войтковской - комната художника
Революционны й период
а) - часть дома Громеко (вечеринка) - Сельскохозяйственная академия - часть дома Громеко - часть дома Громеко - гостиница Веденяпина - больница - часть дома Громеко
б) - часть дома Громеко (болезнь Юрия Живаго) - часть дома Громеко
в) - часть дома Громеко (поход за продуктами) - больница - часть дома Громеко - часть дома Громеко - Брестская, 28 (комната больной) - Брестская, 28 - часть дома Громеко
Нэповский период
а) - пребывание в гостях - бывший дом Громеко - снимаемые углы - комната для Брыкина
б) - комната Юрия Живаго в бывшем доме Свентицких - дворницкая Маркела (обед) - кабинет квартирохозяина - комната Гордона на Малой Бронной - дворницкая Маркела - комната в бывшем доме Свентицких - Спиридоновка - комната Гордона на Малой Бронной
124
Глава 2
в) - комната в Камергерском - комната в Камергерском - трамвай
г) - коридор в Камергерском - комната и коридор в Камергерском (Марина кормит Клаву) - комната в Камергерском - коридор в Камергерском - комната и коридор в Камергерском
д) - комната в Камергерском - на улице
Ужин после вечера камерной музыки, относящийся к 1906 году, - самый роскошный в романе в отношении «земной пищи»; действие на ёлке у Свентицких (1911/12) происходит в новогоднюю ночь (Юрий Живаго не знаком с Ларой, но знает её; Тоня танцует и как бы «отсутствует»). К осени 1917 года относится изображение вечеринки у Громеко (Живаго знает всех, а Тоня - хозяйка). В 1922-м в дворницкую Маркела доктор приходит во время обеда (Живаго не знаком с Мариной, хотя и знает её; Тоня отсутствует), а в 1929 году комната в Камергерском становится для доктора «пиршественным залом духа» [IV: 484].
В повествовании, относящемся к довоенному времени, действие в доме Свентицких относится к осевой части в). Лара на ёлке стреляет в Комаровского, а в это время в доме Громеко умирает Анна Ивановна. Дом Громеко фигурирует в частях а), где повествуется о жизни Юрия Живаго в семье Громеко, иг), в которой описывается болезнь Юрия Живаго и похороны Анны Ивановны. В части а) с домом Громеко контрастирует комната в Камергерском, в окне которой Юрий Андреевич, проезжающий мимо, видит горящую свечу, а в части г) - монастырский двор у кладбища, мимо которого Юрий Живаго идёт с похорон Анны Ивановны. В обоих случаях доктор находится не внутри, а снаружи. Вся часть б) посвящена Ларе, и здесь три дома: Кологривовых, Комаровского и Антипова. Зеркальный противовес им - в части д): комната у Войт-Войтковской, которую после покушения снимает для Лары Комаровский, и зеркальная ей комната художника, снятая Кологривовым, в которой Лара поселяется после венчания с Антиповым. Осевым между частями б) и д) выступает дом Свентицких, где Лара стреляет в Комаровского.
Во всех трёх частях отрезка «московского» повествования, относящегося к революционным 1917-18 годам, присутствует дом Громеко. Однако приехавший с войны из Мелюзеева Юрий Живаго узнаёт, что «часть низа отдали Сельскохозяйственной академии» и семья занимает уже не весь дом, а верхнюю его часть. Тоня опасается: «У них тут кабинеты учёные, гербарии, коллекции семян. Не развели бы крыс. Всё-таки зерно. Но пока содержат комнаты в опрятности» [IV: 168]. Заметим, что причастность Сельскохозяйственной академии к земле, земляным работам является признаком хтонизма ещё не вторгшегося мира будущего. Крысы - один из коррелятов Комаровского, знак присутствия или его самого, или его духа. «Части низа» дома семья лишается до октябрь
Дом как место рождения трагедии
125
ской революции. После неё, когда Юрий Живаго приходит в дом на Брестской, 28 /часть в)/, контрастно аналогичный громековскому, крыс в этом доме хоть отбавляй, о чём и кричит Храпугина.
Оппозиционной по отношению к дому Громеко, где семья устраивает вечеринку с уткой, в части а) выступает гостиница, в которой к остановившемуся там Веденяпину приходит Живаго. Больнице, в которой пишущий «Игру в людей» доктор разговаривает с прозектором о топке, противополагается топка Юрия Андреевича у себя дома. Осевая (не только в «революционном» отрезке, но и для всех участков «московского» текста) часть б) содержит описание восприятия доктором революции - чтения газеты на углу Серебряного и Молчановки под фонарём и в парадном пятиэтажного дома, а также разговора (монолога Живаго, топящего печь) с Громеко, читающим принесённую доктором газету. Отражение этого разговора - диалог Юрия Живаго и Громеко во время поездки на Урал (когда они пилят дрова), который, в сущности, введён ради монолога Громеко. В части в) Крестовоздвиженская больница, в которой по-прежнему работает Юрий Андреевич, называется уже Второй преобразованной. Она соотносится с домом Громеко, в котором не хватает дров (Тоня покупает у крестьянина березовый кругляк). Вернувшись от больной, к которой в дом на Брестской, 28 ходил доктор, он находит свет и тепло. Там же, на Брестской, он разговаривает с матерью Галиуллина Фатимой о её сыне, но что важнее - с Олей Дёминой о Ларе. Неполучившийся разговор («Что о ней думаю? Как это думаю? А чего тут думать. Некогда», - отвечает Дёмина [IV: 204]) соотносится с более поздним по времени заболеванием Юрия Живаго тифом, когда он вывозит дрова с Виндавского вокзала.
Одним из прототипов двухэтажного дома Свентицких, а также дома Громеко, на первом этаже которого после уплотнения в 1917 году были размещены «кабинеты учёные, гербарии, коллекции семян», принадлежащие Сельскохозяйственной академии [IV: 168], является дом на Волхонке, где семья Пастернаков жила (после переселения в 1911) долгие годы. Но если дом на Волхонке в романе «раздвоился», то дворник Маркел, напротив, был «собран» из двух реальных людей, имевших отношение к этому дому: «симпатичного и весёлого дворника Галлиулина» и «швейцара на парадной лестнице, человека милейшего, Василия» [Пастернак А. 2002: 366, 369]. Дворник Галлиулин был также, по-видимому, прототипом дворника Гимазетдина и его сына, поручика Юсупа Галиуллина. Пастернак изменил написание фамилии, желая, возможно, уйти от ненужной ассоциации с «галлами». Именем же швейцара Василия в «Докторе Живаго» наделён муж сторожихи Марфы, на воспитание которой оставила Таню Лариса Фёдоровна. Таня его «по-крестьянскому тятенькой звала. Он был человек весёлый и добрый, ну, только слишком доверяющий и под пьяную руку такой трезвон про себя подымал, как говорится, -свинья борову, а боров всему городу. Всю душу первому встречному выбалтывал» [IV: 509]. Этот дядя Василий, играющий роль отца Тани, - антипод молчаливого Юрия Живаго, который не говорит о своей душе окружающим ничего, но, с другой стороны -вкладывает всю душу в стихи (контраст: ‘устное - письменное’).
126
Глава 2
«Запортретированной жизнью» дома на Волхонке А.Л. Пастернак считал описания «заслякоченного чёрного хода» в поэме «Высокая болезнь». Но подобный ход ведёт: 1) в «освобождённую кладовую покойной Анны Ивановны» в доме Громеко, куда для умывания посылает приехавшего из Мелюзеева Юрия Живаго Тоня. Доктор сходит затем «в нижние сени» и видит, как «внизу на кухне» Нюша чистит перед плитою утку [IV: 171-172]; 2) в «конец бывшей квартиры Свентицких» из дворницкой Маркела, откуда, заплёскивая порог, доктор таскает воду [IV: 472-475]. В 1917-1918 годах чёрный ход дома на Волхонке выглядел так: «По крутой лестнице, с трудными забежными, на поворотах, ступенями, мы таскали и дрова, и брёвна, и воду: водопровод не работал, где-то лопнули трубы. Вёдра качались на ходу, вода расплёскивалась, она замерзала на ступенях, ещё более затрудняя подъём. Однажды - и смех, и грех - Боря (или сестра?) поднимался по этим заслякоченным ступеням, держа в руках только что снятую кастрюлю с горячей бурдой, тогда именовавшей себя гордо “супом”, но поскользнулся, и суп струями и водопадом пролился до самого низа! В голодный год - это было трагично и не до смеха! У нас в тот год печь на кухне молчала, а всё горячее приготовлялось в первом этаже, у Моти - уборщицы двух смежных квартир, издавна превращённых в филиальный, Тимирязевки, музей. Мотя5 и наш швейцар на парадной лестнице, человек милейший, Василий, называли этот музей - совершенно серьёзно и важно, но странно: “анатомические звери”» [Пастернак А. 2002: 369].
В отрезке «московского» повествования, относящегося ко времени нэпа, в осевой позиции находится комната Юрия Живаго в Камергерском переулке. «Помещением»-антиподом выступает трамвай, в котором едет и, выбравшись из которого, умирает доктор. Часть в), к которой относится комната в Камергерском, отделяет противопоставленные друг другу части а) и б) от находящихся в аналогичном соотношении частей г) и д). В части а) Юрий Живаго с Васей Брыкиным появляются в «уцелевших московских гостиных, где протекло детство Юрия Андреевича, где его помнили» [IV: 463-464], а один он «тотчас по прибытии в Москву <.. .> наведался в Сивцев, старый дом». «Доктор и Вася долгое время дружили и жили вместе. За этот срок они одну за другой сменили множество комнат и полуразрушенных углов, по-разному нежилых и неудобных» [IV: 472]. Отражением это «множество» имеет одну комнату, которую доктор оставил Брыкину, когда они раздружились. В части б) наиболее значимо противопоставлены дворницкая Маркела с земляным полом (с которой контрастирует «конец бывшей квартиры Свентицких», отведённый доктору) и комната Гордона с окном на уровне пола (её отражение - жилье на Спиридоновке, куда Юрий Живаго переселился с Мариной. В части г) комната в Камергерском переулке, в которой раньше жил Антипов, где лежит мёртвый доктор и куда приходит Лара, противополагается коридору, где ждут и куда выходят прощающиеся, друзья и Марина. Эта же комната, но уже после похорон, когда Лара и Евграф разбирают бумаги Юрия Живаго, имеет отражением улицу, где Лару арестовывают и отправляют затем в лагерь.
5 Ср. с Мотей жену Маркела Агафью Тихоновну, а также Марину.
Дом как место рождения трагедии
127
2.2. Влияние «Органопроекции» П.А. Флоренского
Значимое место, отводимое в «Докторе Живаго» дому, описываемому регулярно и во множестве профанных разновидностей, свидетельствует о его особом значении для героя и автора. Дом - с его благополучием, разрушением, уходом старых и появлением новых жильцов - предстаёт показателем наличия/отсутствия свободы у человека, а также положения семьи в социуме и её состояния. Следствием разрушения дома становится крушение социального уклада, разрушение семьи. Подкрепление своей позиции Пастернак мог находить в отношении к образу дома современников, в частности П.А. Флоренского, который, как указывает Л.С. Флейшман, был «фигурой, метонимически близкой к Пастернаку» в начале 1920-х6. Мы благодарны И.П. Смирнову за указание (в письме от 23 октября 2002 г.) на то, что, «выдвигая дом на передний план (“Мне хочется домой...”)», Пастернак, возможно, имел «в виду работу Флоренского “Органопроекция”, где дом представлен как техническое продолжение человеческого тела». Вопрос о том, каким образом и благодаря кому Пастернаку стало известно содержание этой статьи, требует отдельной проработки и остаётся открытым. Флоренский написал «Органопроекцию» 15-19 сентября 1917 г., в сентябре-ноябре 1917 читал её в составе спецкурса «Из истории философской терминологии» студентам 3-го курса Московской Духовной Академии [Флоренский 2000: 9]. Позже эта работа стала одним из разделов цикла «У водоразделов мысли». Пастернак не мог быть знаком с ней по публикации, состоявшейся в СССР лишь в 1969-м [там же: 584]. Рискнем предположить, что «Органопроекция» стала известна ему в передаче С.Н. Дурылина, которому с 1914 г. были близки идеи московских «неославянофилов», в том числе Флоренского. Видел ли Пастернак, проявлявший «явный интерес <...> к “скифам”» [Флейшман 2003а: 54], весь текст или узнал о работе в устном пересказе - нам неизвестно. Когда это могло произойти - тоже вопрос. Разгадка кроется, возможно, в тексте «Доктора Живаго». Глава 10 части третьей «Ёлка у Свентицких», в которой описывается поездка Юрия Живаго и Тони в дом Свентицких в конце 1911 года, открывается так: «Этой зимою Юра писал своё учёное сочинение о нервных элементах сетчатки на соискание университетской золотой медали. Хотя Юра кончал по общей терапии, глаз он знал с доскональностью будущего окулиста. В этом интересе к физиологии зрения сказались другие стороны Юриной природы - его творческие задатки и его размышления о существе художественного образа и строении логической идеи» [IV: 80].
Поскольку 1917 год (время написания «Органопроекции») был для Пастернака и его героя рубежным, осевым, то можно предположить, что его знакомство с работой Флоренского произошло в 1922-23 гг. 1911-12-й и 1922-23-й отделены от 1917-18-го «временным интервалом в 6 лет», который является «одним из регулярных у Пастернака
6 Подробнее о контактах с Флоренским участников «Центрифуги», «Лирени» и «Маковца»: [Флейшман 2003а: 386].
128
Глава 2
мотивов» [Флейшман 2003а: 226]. В пользу 1922-23 годов говорит и то, что именно осенью 1922 г. в Москве, «пустив» своего спутника Васю Брыкина учиться, доктор начинает писать и с помощью Брыкина печатать «книжки выпуском в немного экземпляров» [IV: 471], своей тематикой и широтой интересов подозрительно похожие на труды Флоренского: «Книжки содержали философию Юрия Андреевича, изложение его медицинских взглядов, его определения здоровья и нездоровья, мысли о трансформизме и эволюции, о личности как биологической основе организма, соображения Юрия Андреевича об истории и религии, близкие дядиным и Симушкиным, очерки пугачёвских мест, где побывал доктор, стихи Юрия Андреевича и рассказы» [IV: 472].
Обратимся к первой цитате. Юрий Живаго идёт от духовных структур - к материальным. Флоренский возводил технику к физиологии, к морфологии тела и уделил глазу и оптическим средам едва ли не наибольшее внимание, посвятив им пункты з), и), i) раздела V «Органопроекции» [Флоренский 2000: 410-412]. Инверсированию в «Докторе Живаго» подверглась не только направленность интересов, но и статус познающего, время и способ появления идей: Юрий Живаго - студент мирского Московского университета, перед войной пишущий своё не публикуемое впоследствии сочинение, тогда как Флоренский - лектор Московской Духовной Академии, читающий свою работу, которую невозможно опубликовать, вслух после войны. С неменьшей вероятностью «перевёрнутым» прототипом Живаго, как указал М.К. Поливанов [Воспоминания о Пастернаке 1993: 504], может считаться С.Н. Дурылин, к 1917 г. уже имевший достаточную известность как автор книг по религиозной проблематике и в том же году принявший сан священника (см.: [Переписка с Дурылиным 1990]). Проблема интеллектуального влияния Дурылина на Пастернака ещё ждёт исследователей. Интерес доктора к физиологии зрения приводит его впоследствии к вопросу мимикрии. Этот генезис духовного поиска героя даёт основание говорить, что среди философских влияний, испытанных Пастернаком, не последнее место принадлежит идеям Флоренского7. Вопрос об этом влиянии уместен не только в отношении «Доктора Живаго» (особенно интересна здесь фигура Ливерия Микулицына, который в детстве «смастерил» стереоскоп и с помощью «самодельного объектива» снимал «виды Урала, двойные, стереоскопические» [IV: 274]), но и более ранних произведений Пастернака, в частности «Спекторского», «центральный герой» которого «окружён “оптической” терминологией и мотивирует игру на визуальных эффектах (в том числе колористических)» [Флейшман 2003а: 173] и «Охранной грамоты».
Следует отметить также влияние на Пастернака И.В. Гёте - вероятно, не только прямое, но и опосредованное статьей Вяч. Ив. Иванова «Гёте на рубеже двух столетий» (1912). С немецким мыслителем Юрия Живаго сближают естественнонаучные интересы и, в частности, в сфере оптики. Иванов отметил, что «главнейшим <...> своим
7 О влиянии идей Каппа на технософию Флоренского и критике органопроективной теории, на которую Флоренский не обратил внимания см.: [Смирнов 2009: 17].
Дом как место рождения трагедии
129
естественнонаучным открытием - больше того, откровением - и вместе главнейшею своей заслугой вообще сам Гёте считал своё учение о цветах (“Farben-Lehre”), принцип которого изложен впервые в 1791-92 годах в Исследованиях по Оптике» [Иванов 1971— 1987, IV: 144].
Юрий Живаго ещё во время учёбы в университете проявлял интерес к «физиологии зрения», писал аналогичное гётевскому «учёное сочинение о нервных элементах сетчатки на соискание университетской золотой медали», а «глаз знал с доскональностью будущего окулиста» [IV: 80]. Позже, во время пребывания в партизанском плену, проблема зрения становится актуальна для Живаго в связи с проблемой мимикрии. Партизанский начальник Ливерий, отлично разбирающийся в оптике, выступает профанным двойником доктора, который размышляет «о мимикрии, о подражательной и предохранительной окраске» [IV: 344] после того, как с корой сосны «слилась» севшая на неё бабочка. Данный эпизод включает в себя также аллюзию на размышления В.В. Розанова (в «Апокалипсисе нашего времени») о космогоническом, а не физиологическом объяснении превращения гусеницы в куколку, а затем в мотылька и о проекции этого процесса на библейскую и египетскую символику [Розанов 1990: 408-410,432-436]. Размышления эти резонируют в тексте романа и позже. Вернувшись в Москву, Юрий Живаго удаляется в комнату в Камергерском, где внутренне преображается, ведя одинокое существование, а затем покидает комнату и умирает, вырываясь из толпы в вагоне трамвая. Тем самым доктор точно воспроизводит превращение гусеницы в куколку и куколки - в бабочку. Последняя, как отмечал Розанов, «копается в цветах» - ср.: Юрия Живаго после смерти окружают благоухающие цветы. Внимание доктора к оптике и мимикрии смыкается с вопросом о его способности наблюдения8 и тайновидения. Пастернак, кстати, обладал профессиональными знаниями в оптике, о чём свидетельствует разговор писателя с М. Левиным, состоявшийся весной 1956 г. [Воспоминания о Пастернаке 1993: 359-360], и тем внимательнее он мог отнестись к соответствующим высказываниям Иванова о Гёте.
«Оптические» идеи Флоренского могли сказаться также на внутреннем структурировании романа, принципах членения его художественной ткани. Так, структуру пространства в «Докторе Живаго» можно сравнить со следующим пассажем: «Оптический образ, даваемый хрусталиком в зрительном аппарате, дробится, как известно, на отдельные, далее уже невидимые, непротяжённые для сознания элементы, каждый соответствующий одному нервному окончанию. Другими словами, картина мира представляется точечной, как бы сложенной из мозаики» [Флоренский 2000: 411].
За пунктами, касающимися проблем зрения, у Флоренского следует рассмотрение технических проекций голосового аппарата - пункт к). Ими предстают, с одной стороны - духовые музыкальные инструменты, с другой - телефон, «причём провода соответствуют нервам, передающим артикуляционную информацию» [там же: 412]. Далее следует большой пункт л) о нервной системе, сравниваемой с «распределительной дос
8 Подробно об этом: [Matich 1999].
130
Глава 2
кой по преимуществу - центральной телеграфной или, ещё лучше, телефонной станцией», и краткий пункт м’) о сердце: «Сердце с его желудочками и клапанами проецируется в технике насосом двойного действия, всасывающим и нагнетающим одновременно. Гарвей. А, кроме того, есть такая тонкая нить, идущая от сердца к часам, ритмически выстукивающим время» [Флоренский 2000: 412-414].
В «Докторе Живаго» идеи, высказанные на этих страницах, нашли отражение в нескольких почти подряд следующих главах (в частности, 6, 7, 12) части пятнадцатой «Окончание». Например, в описании профессии Марины, которая к моменту встречи с Юрием Живаго работает «на главном телеграфе телеграфисткою <...>, по-иностранно-му понимает» [IV: 475], и её особенного голоса. В разговоре с Гордоном и Дудоровым доктор произносит речь о недопустимости насилия над нервной системой и связанных с этим инфарктах, едва ли не прямо цитируя «Органопроекцию», которая, таким образом, предстаёт скрытым развёрнутым изложением его мироощущения, научных, социальных, политических и др. взглядов. Пункт л) о нервной системе, которую Флоренский сравнивает с электрическими приборами, проводкой, телеграфной и телефонной станцией, оказывается важнейшим для понимания романа в целом. Поскольку «радиотелеграф соответствует органам восприятия нашей чувствительности» [Флоренский 2000:414], то уход доктора от Марины можно трактовать как отказ от дальнейшего приятия окружающей действительности. Этот отказ, как и стремление Юрия Живаго выбраться из переполненного трамвая, в котором пассажир обычно покупает билет, обнаруживают интертекстуальное родство со стихотворением М.И. Цветаевой «О слёзы на глазах!» (1939) (8-е в цикле «Март»), в котором радикальный отказ «жить в Бедламе нелюдей» сопровождается карамазовским желанием «Творцу вернуть билет». Здесь же -«чёрная гора, / Затмившая весь свет», ставшая прообразом «черно-лиловой тучи», подымавшейся над вагоном, в котором ехал Живаго [Цветаева, II: 360]. Безликая масса пассажиров этого трамвая соотносится с такими же безликими («ни черт, ни лиц, / Ни лет») пассажирами метро из другого стихотворения Цветаевой - «Читатели газет» (1935). Оба текста Цветаевой могут (с некоторыми оговорками) восприниматься как внутренние монологи едущего Юрия Живаго. Когда же доктор вновь попадает в социальную среду, отправляясь на работу в больницу, то в отсутствие Марины, игравшей роль посредника-ретранслятора, прямой контакт с социумом становится убийственным. Смерть Живаго от сердечного приступа при выходе из трамвая, в котором он задыхался (ср. работу сердца и дыхание с «насосом двойного действия») и в котором «то под полом вагона или на его крыше портилась изоляция, происходило короткое замыкание, и с треском что-то перегорало» [IV: 486], оказывается смертью времени - и в духовном, и в социально-политическом, и в апокалиптическом смыслах. Электропроводка и здесь символически свидетельствует о состоянии нервной системы, предвещая инфаркт. Несколько шагов, которые доктор сделал, выйдя из плотного строя агрессивных пассажиров, и последние удары его сердца напоминают о последних «шагах» выходящих из строя часов, упомянутых Флоренским.
Дом как место рождения трагедии
131
Смерть настигает доктора вне дома - комнаты в Камергерском переулке, выполняющей функцию дома как очага духовно-религиозной жизни и контрастирующей с домом как очагом семейным. Дому - «синтетическому орудию, которое объединяет в себе многие орудия и, принципиально говоря, все орудия», - Флоренский посвящает отдельный пункт о), указывая на подобие дома человеческому телу, а «разных частей домашнего оборудования <.. .> органам тела» [Флоренский 2000:415-416]. У Пастернака такое видение дома обнаруживается не только в «Докторе Живаго», но ещё, в частности, в третьем стихотворении цикла «Волны» (1931), упомянутом И.П. Смирновым. Лирический герой стихотворения, находясь вне дома, который видится ему проекцией человеческого организма («перегородок тонкорёбрость»), предвкушает попадание домой - производит «мысленное физическое движение»9 и репетирует приятие социально-политической действительности за счёт её метафорического сращения с природными феноменами и через органопроекцию человека на город как на социо-природное явление. Попытка этого приятия сопровождается органопроективным взглядом за окно вошедшего в комнату или сидящего за столом у этого окна лирического героя. Взгляд входящего в дом поэта на «перегородок тонкорёбрость» даёт основания для его метафорического и одновременно метонимического отождествления с сердцем, находящимся в грудной клетке. Перегородки говорят о том, что в доме живут чужие, что своя квартира не принадлежит хозяину, что сердце, которое так же разделено перегородками изнутри, чувствует стеснённость и внешнюю, и внутреннюю. «Тонкорёбрость» же свидетельствует одновременно и о жесткости, и о ненадёжности.
Опять опавшей сердца мышцей Услышу и вложу в слова, Как ты ползёшь и как дымишься, Встаёшь и строишься, Москва [II: 52].
В этой строфе - и прообраз будущей гибели Живаго от инфаркта, когда отказывает «насос двойного действия», гоняющий артериальную и венозную кровь; и тема последнего творческого порыва; и намёки на сказочную змеиность («ползёшь», «дымишься»), подготовленные «теменью» и «вихрем» предыдущих строф, а в сцене смерти Живаго проявленные появлением чёрной тучи; и омонимически неоднозначный мотив «строя» -«стройки». На фоне происходящего с доктором можно оценить, насколько садистически цинично звучит типичный для врача (Юрия Живаго), юриста (Комаровского) и принимающего посетителей и вершащего суд военно-революционного деятеля (Антипова-Стрельникова) вопрос «На что жалуетесь?», вынесенный В.В. Маяковским в заглавие стихотворения, следы которого А.К. Жолковский обнаружил в «Мне хочется домой» [Жолковский 1990: 38].
9 См. статью А.К. Жолковского «Место окна в поэтическом мире Пастернака»: [Жолковский, Щеглов 1996: 233].
132
Глава 2
Сердце - это ещё и символ Христа. И смерть сердца - смерть Бога в человеке, контрастирующая в «Докторе Живаго» с ницшевским «Бог умер». Но если в «Мне хочется домой» дом ещё не имел коннотаций храма, отмеченных Флоренским, то в романе было актуализировано именно это. Движение доктора от дома к дому демонстрирует динамику одновременного омертвения и разрушения дома и его тайного превращения в храм.
«Нередко говорилось, что храм, как дом Божий, строится именно как дом, по образцу дома, - писал Флоренский. - Но это, с точки зрения новейшей, сакральной теории культуры, ложное обращение, востину поставление быка после плуга. Храм есть тип дома, а не дом - храма, и самый дом есть дом постольку, поскольку и он все же есть род храма. Ту же трёхчастность видим, далее, и в христианстве - притвор, храм, алтарь, и в ламаизме, и т. д. Короче, эта трёхчастность есть норма храма. И теперь, обращаясь к толкователям храмовой символики, как древним, так и новым, мы видим, что в этой трёхчастности усматривается ими изображение трёх моментов человеческого существа -тела, души и духа, или, если угодно, тела физического, тела астрального и тела духовного» [Флоренский 2000: 416-417].
Появление скрытых отсылок к «Органопроекции» в начале и в конце текста романа указывает на его «окольцовывание» антроподицеей Флоренского, знание которой оказалось чрезвычайно актуальным для Пастернака и его героя в условиях тоталитаризма. И необходимым для творения антроподицеи собственной10. Говоря о значении органопроекции, Флоренский отмечал, что «мысль сопоставить органы и орудия уже содержится с самого начала в общем клубке телеологических размышлений и, даже неявная, образует нерв телеологического доказательства бытия Божия» [там же: 404].
Что касается теодицей автора и героя, то вся теодицея Юрия Живаго созидаётся тайно, и представление о ней можно получить, лишь «разгадывая» роман. О теодицее Пастернака более явным образом, нежели другие тексты, свидетельствуют его письма. Так, например, важное признание, резюмирующее письмо от 13 октября 1946 г. к О.М. Фрей-денберг, указывает на то, что «Органопроекция» была важнейшей составной философии творчества Пастернака, его художественной эстетики и в то же время опорой для творения собственной теодицеи: «Атмосфера вещи - моё христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным. Это всё так важно, и краска так впопад ложится в задуманные очертания, что я не протяну и года, если в течение его не будет жить и расти это моё перевоплощение, в которое с почти физической определённостью переселились какие-то мои внутренности и частицы нервов» [Пастернак 1989-1992, V: 454].
Заметим, что данное определение основывается не только на идеях Флоренского, но и на оценке роли христианства в развитии человеческой мысли, которую дал в VIII «Философическом письме» П.Я. Чаадаев: «Пора современному разуму признать, что всей
10 Об антроподицее и теодицее Флоренского см. статью игумена Андроника (А.С. Трубачёва): [Флоренский 2000: 5-9].
Дом как место рождения трагедии
133
своей силой он обязан христианству. Пора уразуметь, что лишь при содействии необычайных средств, дарованных откровением, и благодаря той живой ясности, которую оно сумело внести во все предметы человеческого мышления, воздвигнуто величавое здание современной науки» [Чаадаев 1991,1: 436].
2.3. Бал рождает конфликт
Кульминацией происходящего в каждом из домов «московского» повествования, в которых живёт или в которые попадает Юрий Живаго, служит бал, представленный в том или ином - как правило, профанном - варианте. Структурные позиции трансформаций балов в участках «московского» повествования различаются по включённости каждой из этих трансформаций в части. Если в довоенном повествовании трансформации балов отсутствуют в промежуточных частях б) п г), то, напротив, в нэповском их нет в первой и последней - а) и д). В революционном же они наличествуют во всех трёх частях, что указывает на полноту контраста - как внутритекстового на уровне всего отрезка «московского» повествования (вечеринка с уткой в обществе родных и друзей - и поход Юрия Живаго и Громеко в закрытый распределитель за продуктами), так и внетекстового. Отсылка к внетекстовому ряду (в данном случае - к мирной довоенной жизни) подаётся в следующем отрывке: «Жирная утка была невиданной роскошью в те уже голодные времена, но к ней недоставало хлеба, и это обессмысливало великолепие закуски, так что даже раздражало. <.. .> Всего же грустнее было, что вечеринка их представляла отступление от условий времени. Нельзя было предположить, чтобы в домах напротив по переулку так же пили и закусывали в те же часы. За окном лежала немая, тёмная и голодная Москва. Лавки её были пусты, а о таких вещах, как дичь и водка, и думать позабыли» [IV: 173-174].
По контрасту с «раздражением» и «грустью» на вечеринке с уткой, бедствовавшие Юрий Живаго и его тесть, получив в закрытом распределителе муку, крупу, макароны, сахар, сало, мыло, спички и даже кавказский сыр (множество - в отличие от одной утки), «поднялись из подвала на воздух пьяные не от животной радости, а от сознания того, что и они не зря живут на свете и, не коптя даром неба, заслужат дома, у молодой хозяйки Тони, похвалу и признание» [IV: 210]. Контрастирующий внетекстовый ряд здесь -голодная современность героев, соотносящаяся с мирным временем. Отметим ещё одну параллель: поведение Юрия Живаго (одного) и Клинцова-Погоревших, когда последний перед приездом в Москву дарит доктору в поезде утку, - и поведение Живаго и Громеко (двоих) и безымянного кладовщика, когда они сами приходят за продуктами перед отъездом из Москвы. В обоих случаях и утка, и продукты доставляются Тоне. Осевым в революционном участке «московского» повествования является «пиршество» выздоравливающего от тифа Юрия Андреевича, которого Тоня кормит продуктами, принесёнными Евграфом.
134
Глава 2
Каждая из неосевых трансформаций балов, включённых в части довоенного и нэповского участков текста, раздваивается: концерту в доме Громеко противополагается сцена, когда Юрий Живаго в номере «Черногории» видит Лару и Комаровского; комнате у Войт-Войтковской, где болеет Лара, - проводы, которые устраиваются Ларой и Антиповым в доме художника (проводы «заменяют» свадебный пир, который в романе не изображается); комната в бывшем доме Свентицких, где живёт доктор, - дворницкой Маркела; коридор перед комнатой в Камергерском - самой комнате, где лежит мёртвый Живаго. Взаимоотражаются и объединены едиными темами «внешние» части этих раздвоенных вариантов балов (дом Громеко и дом художника - тема творчества; комната Юрия Живаго в бывшем доме Свентицких, находящаяся в запущенном состоянии, и комната в Камергерском, где он лежит мёртвый, - тема смерти) и «внутренние» (попытка самоубийства Амалии Карловны и болезнь Лары - тема смерти; обед семьи Щаповых в дворницкой и кормление Мариной Клавы в коридоре в Камергерском - тема пира). Если в довоенном участке повествования «внутренние» части объединены, кроме прочего, темой «после бала» (важна здесь и аллюзия на рассказ Л.Н. Толстого), то в нэповском «внешние» - темой «перед балом». Но и в каждой, конечно, наличествует та или иная трансформация бала.
Значимый контраст проявляется и при сравнении домов, занимающих структурные позиции со слабо выраженным параллелизмом. Например, отражением домашнего концерта, устроенного в доме Громеко, можно рассматривать семейный обед Щаповых. Объединяет их не только тема пира (у Громеко готовятся есть, у Щаповых - «за длинным столом ели с аппетитом, так что за ушами трещало, жевали и чавкали» [IV: 474]), но и музыки, бала: у Громеко слушают «новую скрипичную сонату одного начинающего из школы Танеева и трио Чайковского» [IV: 55], а у Щаповых внимание Юрия Живаго привлекает «певучий чистый голос большой высоты и силы», которым обладает Марина; здесь же говорится, что из неё «могла бы выйти певица» [IV: 476]. Все это присутствует и на ёлке у Свентицких в довоенном участке текста.
И всё же важнейшие трансформации бала содержатся в осевых частях «московского» повествования. Это ёлка у Свентицких, болезнь Юрия Живаго после революции и творчество в Камергерском. Прежде чем рассмотреть какую-либо из них, необходимо отметить несколько тем и мотивов, которые подсказывает русская волшебная сказка. Герой в сказке обычно, пройдя испытание, приходит на пир (часто - на свадьбу суженой), стоит в стороне или оказывается невидимым, остаётся неузнанным и подаёт невесте какой-нибудь знак. Мотивы эти присутствуют во всех, а не только в осевых частях рассматриваемых участков повествования. Однако рассмотрение всех случаев заняло бы слишком много места. Когда (в довоенном участке повествования) Юрий Живаго, одетый в чёрную сюртучную пару, и Тоня приезжают на Рождественскую ёлку к своим дяде и тёте Свентицким, которые «их помнили маленькими», то они, «не заходя в зал, <.. .> прошли к хозяевам на зады квартиры» и «полвечера проторчали с Жоржем и стариками за их ёлочными кулисами» [IV: 83-84]. Таким образом, Юрия Живаго никто из
Дом как место рождения трагедии
135
гостей не видит и «не узнаёт». Но даже когда он появляется среди гостей, его «не видят» все равно: «Юра стоял в рассеянности посреди зала и смотрел на Тоню, танцевавшую с кем-то незнакомым. Проплывая мимо Юры, Тоня движением ноги откидывала небольшой трен слишком длинного атласного платья и, плеснув им, как рыбка, скрывалась в толпе танцующих» [IV: 85].
Автор создал ситуацию, зеркально обратную сказочной: Юрий Живаго стоит «посреди» зала, а не в стороне, и «скрывается» не он, а Тоня, которая должна быть на виду. Именно Тоня подаёт ему, как в сказке, условный знак, когда во время танца «мимоходом пожимает ему руку» (касается) и оставляет у него в ладони крошечный батистовый платок. (Контрастирующий со сказочным условным знаком, но напоминающий его знак (прикосновение) имеется во всех участках «московского» повествования). Для танцующих Живаго «невидим». Но есть и другая «невидимость», совмещённая с неузнаванием. Когда Лара, выстрелив, ранила товарища прокурора московской судебной палаты Бориса Корнакова (он, однако, назван «мнимой жертвой покушения»), жена последнего ищет не просто врача, но конкретно доктора Дрокова: «Говорили, что здесь в гостях доктор Дроков. Да, но где же он, где он?» [IV: 86]. Никто не обращает на Юрия Живаго внимания и словно не знает, что он без пяти минут врач. Он сам предлагает Корнакову помощь, но она, в общем-то, не нужна, то есть Живаго вновь остаётся «неузнан» и «невидим».
Когда в пореволюционной Москве он заболевает тифом, сказочный план потесняет-ся апокрифическим евангельским: доктор грезит о том, как «он пишет поэму не о воскресении и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и другим. Он пишет поэму “Смятение”. <...> И две рифмованные строчки преследовали его:
Рады коснуться и Надо проснуться.
Рады коснуться и ад, и распад, и разложение, и смерть, и, однако, вместе с ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И - надо проснуться. Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть» [IV: 206].
Но вышеназванные сказочные мотивы всё же остаются. «Невидимость» имеет аналогией спуск Христа в ад - миф, представляющий «the pattern of Yura Zhivago’s adult life»11, восходящий к апокрифическому Евангелию от Никодима [Rowland М.Е, Rowland Р. 1967: 34-35,104-105] и проявляющийся на протяжении всего повествования, начиная с молитвы маленького Юры в овраге и заканчивая кремацией. «Суженая» явлена как «и весна, и Магдалина, и жизнь», а условным знаком остаётся прикосновение - «рады коснуться». Одиночество Живаго - его беспамятство во время болезни и, с другой стороны, аналог одиночества Христа после снятия с креста, когда «в течение трёх дней буря чёрной червивой земли осаждает, штурмует бессмертное воплощение любви» [IV: 206]. На одиночество Христа в Гефсиманском саду проецируется жизнь Юрия Живаго в ком
11 «Модель взрослой жизни Юры Живаго» (англ.).
136
Глава 2
нате в Камергерском переулке. Если перед ёлкой у Свентицких «Юра вспоминал, что приближаются сроки конкурса и надо торопиться с сочинением», (ранее говорится, что «этой зимою Юра писал своё ученое сочинение о нервных элементах сетчатки на соискание университетской золотой медали» [IV: 80]), иными словами, испытание ещё предстоит (как, впрочем, все испытания), то в Камергерском он оказывается уже после всех испытаний. Это объясняет, почему во время болезни (в революционном участке повествования) он грезит «не о воскресении и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и другим»: это - испытание на победу жизни над смертью.
Биографической параллелью видения Юрия Живаго в тифозном бреду является «сновиденье о войне», приснившееся Пастернаку в Марбурге после объяснения с И. Высоцкой, поездки во Франкфурт к О. Фрейденберг, разбора своего «урока» по Канту у Г. Когена и перед решающим разговором с последним и решением оставить философию. Отметим розенкрейцерские коннотации этого сновидения, описанного в «Охранной грамоте», чрезвычайно важные в отношении будущего творчества Пастернака и, в частности, в отношении восприятия войн Юрием Живаго12. Пребывание в Марбурге, по-видимому, способствовало тому, чтобы впоследствии проецировать на события 300-летней давности культурный расцвет в России, растоптанный революциями и войнами.
«Мне снилось пустынное поле, и что-то подсказывало, что это - Марбург в осаде. Мимо проходили, гуськом подталкивая тачки, бледные долговязые Неттельбеки. Был какой-то тёмный час дня, какого не бывает на свете. Сон был во фридерицианском стиле, с шанцами и земляными укрепленьями. На батарейных высотах чуть отличимо рисовались люди с подзорными трубами. Их с физической осязательностью обнимала тишина, какой не бывает на свете. Она рыхлою земляною вьюгой пульсировала в воздухе и не стояла, а совершалась. Точно её всё время подкидывали с лопат. Это было самое грустное сновиденье из всех, какие мне когда-либо являлись. Вероятно, я плакал во сне. Во мне глубоко сидела история с В-ой. У меня было здоровое сердце. Оно хорошо работало. Работая ночью, оно подцепляло
12 Подробно о розенкрейцерском движении и Тридцатилетней войне см.: [Йейтс 1999]. И.П. Смирнов указывает, что «описание сна о грядущей войне также коренится в творчестве Достоевского - в “Подростке”. Как и в “Охранной грамоте”, сон, увиденный Версиловым, случается в “маленьком немецком городке” (Достоевский, XIII, 374); приурочивается не к ночи, а к дневному времени (“...я всю ночь был в дороге [...] и заснул после обеда, в четыре часа пополудни” /Достоевский, XIII, 375/); сопровождается слезами, которые герой обнаруживает после пробуждения (“...всё это я как будто ещё видел, когда проснулся и раскрыл глаза, буквально омоченные слезами” (Ibid)), и связывается с войной, угрожающей Европе [...]. Интратекстуальная когерентность в “Охранной грамоте” - это в то же самое время сопоставимость источников, на которые ориентированы связанные между собой (темой сна) отрывки пастернаковской прозы» [Смирнов 1995: 145]. Позже марбургское сновидение отозвалось в стихотворении «Дурной сон» (1914), в котором Пастернак «described, with some details of military action, the “blizzard” raging over the country (this poem is very probably an elaboration of a nightmare about the impending cataclysm that Pasternak had in Marburg in 1912 - a truly astonishing premonition)» [Mallac 1983: 87]. («Описал, использовав несколько деталей военных действий, “снежную бурю”, бушующую над страной (это стихотворение, весьма возможно, является переработкой кошмарного сна о нависшей беде, который Пастернак видел в Марбурге в 1912 году» (англ.).)
Дом как место рождения трагедии
137
случайнейшие и самые бросовые из впечатлений дня. И вот оно задело за экзерцирплац, и его толчка было достаточно, чтобы механизм учебного поля пришёл в движение и само сновиденье, на своём круглом ходу, тихо пробило: “Я - сновиденье о войне”. Я не знаю, зачем я направлялся в город, но с такой тяжестью в душе, точно и голова у меня была набита землей для каких-то фортификационных целей» [III: 190-191].
Напомним, что тифозному бреду Юрия Живаго предшествует его попадание в дом к больной «в конце Брестской, близ Тверской заставы», где девочкой бывала Лара, с которой он расстался летом после объяснения в Мелюзееве. В этом доме во время появления там доктора проводит обход «военная комиссия, проверявшая разрешения на хранение оружия и изымавшая неразрешённое» [IV: 198]. Одна война, Тридцатилетняя, (пророчески снившаяся Пастернаку в Марбурге), уже была, другая (гражданская) доктору ещё предстояла13. «Какой-то тёмный час дня, какого не бывает на свете», отзывается также в описании мрака на душе у Юрия Живаго перед расставанием с Ларой в Барыкине: «Хотя был ещё день и совсем светло, у доктора было такое чувство, точно он поздним вечером стоит в тёмном дремучем лесу своей жизни. Такой мрак был у него на душе, так ему было печально. И молодой месяц предвестием разлуки, образом одиночества почти на уровне его лица горел перед ним» [IV: 442].
Что касается прихода героя на пир, то в интертекстуальном плане Пастернак показал его не столько через сказочные или евангельские коннотации, которые также присутствуют, сколько через литературный код - за счёт использования стихотворения Г.Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779). Ключ к тому, каким образом реализуется в ситуации болезни Юрия Живаго в Москве тема пира, также даёт описание комнаты в Камергерском переулке. Повествователь сообщает, что «жилая комната доктора была пиршественным залом духа, чуланом безумств, кладовой откровений» [IV: 484]. (Ср. со строкой приводимого ниже стихотворения: «Где пиршеств раздавались клики».) Однако текст Державина в большей мере был использован Пастернаком при описании происходящего в комнате после смерти Юрия Живаго, чем при жизни. Особенно сильно сказались в «Докторе Живаго» две строфы текста Державина, где поэт (его лирический герой) риторически обращается к умершему князю (это обращение можно считать и автокоммуникацией):
Сын роскоши, прохлад и нег, Куда, Мещерский! ты сокрылся? Оставил ты сей жизни брег, К брегам ты мёртвых удалился; Здесь персть твоя, а духа нет.
13 О семантическом комплексе в творчестве Пастернака, включающем мотивы крепости, осаждённой врагом, радикального перелома в жизни, связанного с потерей любимой, одиночества, творчества, см.: [Лотман М.Ю.: 134-142 и др.]. О значении Марбурга в творчестве Пастернака см.: [Fleishman, Harder, Dorzweiler 1996; Марбург 2001].
138
Глава 2
Где ж он? - Он там. - Где там? - Не знаем.
Мы только плачем и взываем:
«О, горе нам, рождённым в свет!»
Утехи, радость и любовь Где купно с здравием блистали, У всех там цепенеет кровь И дух мятётся от печали.
Где стол был яств, там гроб стоит;
Где пиршеств раздавались лики, Надгробные там воют клики И бледна смерть на всех глядит
[Державин 1985: 29-30].
Пастернак использовал текст Державина сюжетно. Пир у Державина связан со столом: «Где стол был яств, там гроб стоит». На столе же стоит гроб с телом Юрия Живаго. Комментаторы романа указывают, что это - намёк на строки «Вас положат на обеденный, / А меня - на письменный» из стихотворения М.И. Цветаевой «Квиты: вами я объедена. ..» [Пастернак 1989-1992, III: 710]. Державинская строка была использована также А.С. Пушкиным: она стоит эпиграфом к 4-й главе повести «Дубровский». Отметим также автопереклички со стихотворением «Пиры» (1913, 1928) из раздела «Начальная пора», включённого в «Поверх барьеров» (1929), стихотворением «Лето» (1930) из «Второго рождения» (1932) и, вероятно, прямое влияние «Поэтики сюжета и жанра» О.М. Фрейденберг, писавшей: «Как персонификация земли и плодородия, “покойник” находится на столе, на том самом столе, где лежит еда, хлеб и вино, на столе, за которым едят; когда же его зарывают в землю, над его телом ставят стол и едят за ним, повторяя оживание умершего» [Фрейденберг 1997: 86].
С державинской строкой «Надгробные там воют клики» напрямую соотносятся неистовая реакция «ополоумевшей от страшной новости» Марины, которая «долгое время была сама не своя, валялась на полу, колотясь головой о край длинного ларя с сиденьем и спинкою» [IV: 490], и совершенно иное оплакивание Юрия Живаго Ларой: «Её всю сотрясали сдерживаемые рыдания. Пока она могла, она им сопротивлялась, но вдруг это становилось выше её сил, слёзы прорывались у неё» [IV: 497]. Строка «Сын роскоши, прохлад и нег» в прямом, а не обращённом применении к Юрию Живаго звучит иронично, и это придаёт больший трагизм жизни героя. Возникает ирония и при сравнении доктора с «действительным тайным советником кн. Александром Ивановичем Мещерским, главным судьей таможенной канцелярии», который вёл «жизнь весёлую и даже роскошную» [Державин 1985: 319, 386]. Заметим также, что от времени смерти Юрия Живаго - 1929 года - стихотворение Державина отделяет круглая цифра - 150 лет. «Невидимость» и «неузнанность» доктора также контрастно «распределены» на двоих - Марину и Лару. Уже после того как тело Юрия Живаго переносят в комнату,
Дом как место рождения трагедии
139
Марина остаётся сидеть возле длинного ларя, на который его сначала положили: «Она по-прежнему была невменяема, ничего не говорила и себя не помнила. Здесь просидела она остаток вчерашнего дня и ночь, никуда не отлучаясь» [IV: 491]. То есть она не видит Юрия Живаго и ни на кого не обращает внимания (не узнаёт). Поведение Марины очень похоже на поведение Тони у гроба матери, что является одним из поводов сравнивать общие и контрастирующие черты у Юрия Живаго и Анны Ивановны Громеко. Лара же рассказывает Евграфу: «Иду по старой Москве, половины не узнаю - забыла. <...> и вдруг что-то до ужаса, до крайности знакомое - Камергерский. <.. .> Я была как громом сражена, дверь с улицы настежь, в комнате люди, гроб, в гробу покойник. Какой покойник? Вхожу, подхожу, я думала, - с ума сошла, грежу, но ведь вы были всему свидетелем» [IV: 493].
Лара не узнаёт половины Москвы, но узнаёт связанный с Антиповым Камергерский. И - по контрасту со сказочной героиней - сразу узнаёт «суженого». «Невидимость» Юрия Живаго для неё проявляется, в частности, когда она «медленно положила на тело три широких креста и приложилась к холодному лбу и рукам. Она прошла мимо ощущения, что похолодевший лоб как бы уменьшился, как сжатая в кулачок рука, ей удалось этого не заметить» [IV: 497].
Присутствует здесь и тема подаваемого невестой знака, связывающая в замкнутый круг нэповский участок «московского» повествования с революционным и в больше степени - с довоенным: «И она стала напрягать память, чтобы восстановить тот рождественский разговор с Пашенькой, но ничего не могла припомнить, кроме свечки, горевшей на подоконнике, и протаявшего около неё кружка в ледяной коре стекла. Могла ли она подумать, что лежавший тут на столе умерший видел этот глазок проездом с улицы и обратил на свечу внимание? Что с этого увиденного снаружи пламени - “Свеча горела на столе, свеча горела” - пошло в его жизни его предназначение?» [IV: 496].
Говоря о многократном кодировании ключевой, «итоговой» сцены романа, необходимо указать ещё один литературный претекст - финал статьи «Слово и культура» (1921) О.Э. Мандельштама, применимый в отношении Юрия Живаго как характеристика его творчества и поэтического своеобразия: «Ныне происходит как бы явление глоссолалии. В священном исступлении поэты говорят на языке всех времён, всех культур. Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так и дверь старого мира настежь распахнута перед толпой14. Внезапно всё стало достоянием общим. Идите и берите. Всё доступно: все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков. В глоссолалии самое поразительное, что говорящий не знает языка, на котором говорит. Он говорит на совершенно неизвестном языке. И всем и ему кажется, что он
14 Ср.: «Потрясённые известием о его смерти друзья вбежали с парадного в настежь раскрытую квартиру». Лара рассказывает: «Я была как громом сражена, дверь с улицы настежь, в комнате люди, гроб, в гробу покойник». После прощания Лара «не слышала, как Евграф Живаго отворил дверь в комнату и в неё хлынула толпа из коридора» [IV: 490, 493, 495].
140
Глава 2
говорит по-гречески или по-халдейски. Нечто совершенно обратное эрудиции. Современная поэзия, при всей своей сложности и внутренней изощрённости, наивна: Ecoutez la chanson grise... Синтетический поэт современности представляется мне не Верхар-ном, а каким-то Верленом культуры. Для него вся сложность старого мира - та же пушкинская цевница. В нём поют идеи, научные системы, государственные теории так же точно, как в его предшественниках пели соловьи и розы15. Говорят, что причина революции - голод в междупланетных пространствах. Нужно рассыпать пшеницу по эфиру. Классическая поэзия - поэзия революции» [Мандельштам 1993-1997,1: 216].
Чтобы оценить особенности балов и их вариантов в «Докторе Живаго», следует обратить внимание на то, какие изменения, по сравнению с балами, описанными в литературе XIX века, появились в произведениях начала ХХ-го16. Общественная жизнь XIX века состояла в основном из трёх контрастирующих частей: дома, службы и бала [Лотман 1994: 91]. Место, где проходил бал, было местом, где концентрировалась общественная жизнь. Отсюда и его кульминационная роль в литературных произведениях. На балу, где собирались герои, проявлялся конфликт. В литературе Серебряного века бал стал местом, где наиболее остро выявлялось неблагополучие эпохи, распад человеческих отношений.
Например, в «Петербурге» Андрея Белого на балу у Софьи Петровны Лихутиной сенатор Аблеухов узнаёт, что под маской красного домино, символизирующего революцию, скрывается его сын. В «Мелком бесе» Ф.К. Сологуба также происходит разоблачение: Передонов узнаёт в гейше переодетого Сашу Пыльникова, бал заканчивается пожаром, а позже происходит убийство. Поскольку бал ритуализован, то любое нарушение его является показателем нарушения культурной парадигмы. Таким деструктивным моментом на ёлке у Свентицких оказывается выстрел Лары. Однако есть и не столь явный признак «неблагополучия» бала: старики Свентицкие, а с ними и Юрий Живаго с Тоней полвечера сидят в отдалённой комнате, а не ведут, как было принято, разговоры с гостями. Нарушена также структура и последовательность танцев. Юрий Живаго и Тоня приезжают довольно поздно (на что обращает внимание племянник Свентицких Жорж), когда Кока Корнаков уже начинал руководить танцами. Он несколько раз танцует вальс с Ларой. Между тем вальс обычно был вторым танцем бала. Во второй половине бала (после чая с птифурами) вальс танцует уже Тоня, и её партнер - «незнакомый кавалер». Третьим - центральным танцем - была мазурка, но Тоня, как явствует из её движений, танцует вальс. Этот танец - третий из тех, что изображаются в романе17. Во время танца
15 Ср: Юрий Живаго незадолго до смерти записывает: «Беспорядочное перечисление вещей и понятий, с виду несовместимых и поставленных рядом как бы произвольно, у символистов, Блока, Верхарна и Уитмена совсем не стилистическая прихоть. Это новый строй впечатлений, подмеченный в жизни и списанный с натуры» [IV: 485].
16 Эта проблема уже была предметом рассмотрения исследователей. См., в частности, статью Ю.К. Щеглова «Из поэтики Чехова (“Анна на шее”)» - в книге: [Жолковский, Щеглов 1996: 176-186].
17 О композиции бала см.: [Лотман 1994: 100].
Дом как место рождения трагедии
141
происходит молчаливое, но выразительное «объяснение» Тони с Юрием Живаго (а не наоборот), т. е. традиция нарушена и здесь. Пара ‘Тоня - «незнакомый кавалер»’ соотносится с парой ‘Лара - Корнаков’. Ещё одно нарушение - «офранцуженность» бала, в частности, танцев. Это акцентирует все тот же Корнаков, который «дирижировал танцами и во всё горло орал с одного конца зала на другой: “Grand rond! Chaine chinoise!” - и всё делалось по его слову. “Une valse s’il vous plait!” - горланил он тапёру и в голове первого тура вёл свою даму a trois temps, a deux temps, все замедляя и суживая разбег до еле заметного переступания на одном месте, которое уже не было вальсом, а только его замирающим отголоском» [IV: 82-83].
Здесь впервые вводится «китайская» тема, которая по ходу повествования будет всё больше связываться с Комаровским. «Офранцуженность» выступает синонимом опошленности бала, потому что английское влияние привело к отказу от танцев [Лотман 1994: 97]. Деградацию бала подтверждает и отсутствие такого обязательного в XIX явления, как противостоящая ему попойка холостяков, поскольку, хотя бал устраивается не ради помолвки Юрия и Тони, доктор всё же - накануне женитьбы. К тому же Юрий Живаго и Лара как главные герои романа, присутствующие здесь, принадлежат к разным классам и не только не танцуют, но и не знакомы друг с другом. Лара пришла на бал незваной, и, «хотя она была одета не по-бальному и никого тут не знала, она то давала безвольно, как во сне, кружить себя Коке Корнакову, то, как в воду опущенная, без дела слонялась кругом по залу» [IV: 84].
Корнакова-старшего Пастернак наделил своим именем. Что касается Корнакова-младшего, то прототипом его послужил Жорж Курлов, имя которого передано автором сыну Свентицких. И. Высоцкой «запомнилось, что однажды она была приглашена» вместе с Пастернаком «на вечеринку, где был, в частности, его одноклассник по гимназии Жорж Курлов, «светский болван», как она его называла, который прекрасно танцевал. Она связывала этот вечер с главой «Ёлка у Свентицких» романа «Доктор Живаго», оговариваясь при этом, что на той вечеринке заведомо никто ни в кого не стрелял» [Пастернак Е. 1997: 67]. Е.Б. Пастернак отмечает также, что «вероятно, на описании ёлки у Свентицких в романе «Доктор Живаго» сказались впечатления ёлок у Серовых» [там же: 35]. Имя Корнакова-младшего - Кока (нарицательное имя «сынка») - намекает, вероятно, как на героя романа Андрея Белого «Котик Летаев», так и на самого Андрея Белого, танцы и жестикуляция которого описаны мемуаристами, например, М.И. Цветаевой в очерке «Пленный дух» [Цветаева 1994-1995, IV: 237, 267]. Пастернак, находившийся в Германии с августа 1922 по март 1923 г., также мог видеть Андрея Белого танцующим (но не вальс, а фокстрот) в Берлине, где они встречались и где Белый был с ноября 1921 по октябрь 1923 г. Ещё один подтекст событий на ёлке у Свентицких - сцена бала из «Анны Карениной» Л.Н. Толстого [1985: 93-98]. Кока Корнаков, распоряжающийся ходом танцев, являет собой фигуру, представляющую опошленное отражение Егорушки Корсунского, делающего то же самое. В качестве узнаваемой детали Пастернак оставил созвучие фамилии Корнакова с фамилиями Курлова и Корсунского. Бал у
142
Глава 2
Толстого - естественная кульминация в развитии отношений всех сталкивающихся здесь героев. Ср. также Лару и Тоню с Кити; Юрия Живаго и Тоню, а также Юрия Живаго и Лару - с Вронским и Анной.
Главное же разрушение бала и столкновение новой жизни со старой - выстрел Лары в Комаровского, после которого Юрий Живаго подумал, что она, «наверное, политическая». Пастернак использовал бал литературы прошлого века в качестве готовой модели кульминации сюжета и показал её разрушение (далее эта модель бала многообразно трансформируется). С другой стороны, деградировавшему балу он отвёл роль завязки (по пути к Свентицким предназначение Юрия Живаго только начинается). Основные события - впереди. Жизнь и творчество доктора в одиночестве в комнате в Камергерском переулке, проецируемое на пребывание Христа в Гефсиманском саду, - это кульминация нового сюжета, который даёт послереволюционная и послевоенная жизнь. (Пастернак всегда акцентировал внимание на том, что хочет написать, пишет, уже написал именно роман: для него была чрезвычайно важна дальнейшая жизнь жанра.) Деградирующему балу XIX века, в котором участвует множество людей, противопоставлено «пиршество» духа одинокого человека и его смерть, оборачивающаяся бессмертием. Заметим, что отражением неудавшегося разговора Лары и Антипова в ночь на Рождество в комнате в Камергерском перед ёлкой у Свентицких и выстрелом в Комаровского является разговор Евграфа и Лары возле гроба Юрия Живаго после смерти доктора в той же комнате в Камергерском. Над гробом Лара, как и перед выстрелом в разговоре с Антиповым, думает о Комаровском, но, в отличие от той ситуации, рассказчик передает её мысли.
Соединение мотивов зимнего праздника и нечаянной смерти характерно и для позднего, и для раннего Пастернака. Так, оно присутствует уже в стихотворении «Зима» (1913, 1928):
Значит - в «море волнуется»? В повесть, Завивающуюся жгутом, Где вступают в черёд, не готовясь?
Значит - в жизнь? Значит - в повесть о том, Как нечаян конец? <...> [I: 69].
В редакции 1913 года приведённого текста не было. Предстоящая жизнь, в которую вводит игра во время праздника в мирное время, для Пастернака в 1928 году (Юрий Живаго умирает в 1929-м) - это «повесть о том, как нечаян конец». Ср. эту игру в «море волнуется» с «морскими» признаками смерти во время бреда больного тифом доктора: «Он всегда хотел написать, как в течение трёх дней буря чёрной червивой земли осаждает, штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями, точь-в-точь как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя. Как три дня бушует, наступает и отступает чёрная земная буря» [IV: 206]. Ср. также с образами моря в стихотворении «Разлука», в котором есть переклички с поэмой
Дом как место рождения трагедии
143
М.И. Цветаевой «С моря» (1926), а также словами из её письма к Пастернаку от 15 июля 1927 г.: «Меня и прибивает к тебе, как доску к берегу...» [Цветаева 1994-1995, VI: 272].
Конфликт, местом разрешения которого служит дом Свентицких, во многом объясняется пространством, где происходит действие, и интертекстуальными значениями, которыми наделяются части этого пространства. Дом разделён на три части. Первые две противопоставлены друг другу. Первая, с отчётливо христианскими коннотациями, - зал, где в ночь на Рождество стоит «жарко дышащая ёлка, опоясанная в несколько рядов струящимся сиянием» [IV: 82]. Вторая часть напоминает об антихристианском Риме. Действие происходит «в трёхстенной помпейской гостиной, которая была продолжением зала и отделялась от него тяжёлою плотною занавесью на больших бронзовых кольцах. На рассвете ужинали всем обществом. <...> С Комаровским за одним столом в карты играло ещё три человека» [IV: 82, 84]. Карточная игра для XIX века представляла собой центр мифообразования эпохи [Лотман 1994: 136]. Через ассоциации с Римом обозначался дух эпохи, отнимавший свободу, исключавший и опошлявший случайность. Дух этот характеризовал в разговорах с Воскобойниковым и Выволочновым Веденяпин. Лара разрушает «римские добродетели» несовместимыми с ними танцами (см.: [Лотман 1994: 366] и выстрелом. Для носителей этих добродетелей бытовое поведение должно строиться на основании текстов героического поведения. Именно так - «благородно» -и ведёт себя после покушения на него Комаровский, устраивая Лару к Войт-Войтковской, отводя от неё судебные преследования, не напоминая о себе и даже не показываясь. Иначе, но тоже по-римски «благородно» ведёт себя и Антипов, уходящий на войну. Позже Лара в разговоре с Юрием Живаго в Юрятине возмущается (по другому поводу) его «римской гражданской доблестью» [IV: 299]. Так в романе развенчиваются и старые, и новые «римские добродетели». Третья часть дома Свентицких - «зады квартиры», где «Юра и Тоня полвечера проторчали с Жоржем и стариками за их ёлочными кулисами» [IV: 83-84].
Вероятно, именно здесь Юрий Живаго с помощью Маркела поселяется после возвращения с Урала. Если ёлка у Свентицких ориентирована на бал как явление дворянской культуры XIX века и, в частности, на балы в изображении Л.Н. Толстого, то «роман в двадцати вёдрах» - дружба с Мариной, - представляющий собой кульминацию пребывания Живаго в доме Маркела (бывшем доме Свентицких), отсылает к культуре разночинцев - роману Ф.М. Достоевского «Бедные люди» (1845). В таком определении «романа» иронически обыгрывается (в том числе и за счёт омонимии) ставшая жанровым штампом сюжетная ситуация не только «Бедных людей», но и вообще литературы XIX века. В «Докторе Живаго» разночинство персонажей буквально и противоположно тому, что было во времена Достоевского. Если в «Бедных людях» герои принадлежат к одному классу «униженных и оскорблённых», то в «Докторе Живаго» - к различным классам, один из которых якобы победил другой, что, однако, делает их по-новому «бедными», «униженными и оскорблёнными». Инверсионное сходство проявляется и в том, что герои Пастернака, как и действующие лица произведений Достоевского, - «юроди
144
Глава 2
вые». Так, Живаго говорит Гордону о Марине: «Ты меня упрекал вначале, что она говорит мне “вы” в ответ на моё “ты” и величает меня по имени-отчеству, точно и меня это не угнетало. Но ведь давно более глубокая нескладица, лежавшая в основе этой неестественности, устранена, все сглажено, равенство установлено» [IV: 481].
Несмотря на то, что «новый» роман заканчивается буквальным разночинством, социальной деградацией и исторической регрессией, в личностном плане он демонстрирует «позитив»: от взрывающегося выстрелом деградировавшего дворянского бала -к полному христианского самопожертвования разночинскому «роману в двадцати вёдрах». Новое разночинство действует в новой исторической модели развития русского общества, модели, которая движется не к революции, а от неё. Этому процессу зеркального порождения структур сопутствует смена кодовых доминант, исторически обратная тому, как в романе за революциями (в трёх участках «московского» повествования) следуют войны - Первая мировая, гражданская, Вторая мировая. Если в довоенном участке повествования кодовой доминантой текста является русский роман XIX - начала XX веков, то в революционном и далее ею становится русская сказка, а в нэповском - Евангелие. Тайная работа этих доминант в тексте, отражающаяся в эволюции личности Юрия Живаго, в качестве противодействующего начала имеет работу того же кода, но вывернутого наизнанку, профанного. Эта работа сказывается в показываемой деградации общества. Профанные коды включаются при изображении официально узаконенного времени. Будущее обращается прошлым, но для доктора оно устремляется к началу современной истории - к Христу, а для социума оказывается дохристианским язычеством, отбрасыванием в дикость, которая по своей отдаляемости в глубины прошлого оказывается равна квадрату временного расстояния от Христа до современности. Юрий Живаго «продолжает» историю за счёт того, что его подлинно новое христианство, «дописывающее» христианство Иоанна Богослова и остро современное за счёт актуализации древних мифологических корней, противостоит псевдоновому антихристианскому мифу современности, воспроизводящему старые, давно отжившие догмы. «Стихотворения Юрия Живаго» при этом оказываются книгой, «дописывающей» Откровение Иоанна, -по контрасту с тем, что ранний Пастернак (в частности, в стихотворении «Степь» из книги «Сестра моя - жизнь») рассматривал творчество как «комментарий» к Ветхому Завету (см.: [Кацис 1999]).
Бывший дом Свентицких в нэповское время также включает три части. Первые две противопоставлены друг другу. В «старой дворницкой с земляным полом, проведённою водой и огромной русской печью во всё помещение» живет Маркел с семьёй, а в «конце бывшей квартиры Свентицких», где были «старая бездействовавшая ванная Свентицких, однооконная комната рядом с ней и покосившаяся кухня с полуобвалившимся и давшим осадку чёрным ходом» [IV: 472-473], обитает Юрий Живаго. О третьей части дома, которую составляют все остальные помещёния, ничего не говорится. Именно в этой части, по всей видимости, проходил рождественский бал.
Дом как место рождения трагедии
145
2.4. Дружба и выстрел
Чтобы полнее продемонстрировать, какие внутренние связи пронизывают триаду московских участков повествования, сравним ситуации, связанные с прибытием и пребыванием Юрия Живаго на ёлке у Свентицких (часть в) довоенного повествования) и домами, в которых доктор находится в нэповский период. Наиболее значимой является связь дома Свентицких с комнатой Юрия Живаго в Камергерском (часть в) нэповского участка). С этой же комнатой в части г), являющейся отражением домов в части б), связь иного рода.
На ёлку к Свентицким Юрий Живаго (с Тоней) приезжает в чёрной сюртучной паре. В Москву же в начале нэпа он приходит (с Васей Брыкиным) «в серой папахе, обмотках и вытертой солдатской шинели, которая превратилась без пуговиц, споротых до одной, в запашной арестантский халат» [IV: 463]. В обоих случаях одежда эта неотличима от той, в какую одеты окружающие, и герой, следовательно, неузнаваем. Если с Тоней они сначала сидят в (одной) комнате стариков Свентицких, то с Брыкиным Живаго появляется в нескольких местах - «в тех из уцелевших московских гостиных, где протекло детство Юрия Андреевича, где его помнили и принимали <...>. Оба дичились людей <...>. Обыкновенно они двумя долговязыми фигурами вырастали у знакомых, когда у них собиралось общество, забивались куда-нибудь в угол понезаметнее и молча проводили вечер, не участвуя в общем разговоре» [IV: 463-464].
Об одежде, в которой он живёт в комнате в Камергерском и лежит в гробу, не говорится ничего, и эти неописуемые чужие обноски представляют контраст сшитой на заказ сюртучной паре чёрного (торжественного и траурного) цвета.
Звеном, связующим и в то же время разделяющим дом Свентицких и дворницкую Маркела (в бывшем доме Свентицких), является дом Громеко в революционном участке повествования. «Первой скрипкой» на ёлке выступает Комаровский, во время обеда у Щаповых - Маркел. Они - сказочные «отцы невест». В революционное время эта роль у Александра Александровича Громеко. Угощению у Свентицких противополагается в нэповском участке повествования обед у Щаповых, в котором Юрий Живаго отказывается принять участие. Если к Свентицким он приезжает на Рождество и появляется в зале к середине празднования, то в дворницкую приходит за водой (чтобы, наносив её, убраться и постирать) во время обеда. Этой заботе Юрия Живаго о чистоте и благоустройстве противопоставлена его характеристика тех времен, когда он жил уже с Мариной. Она «прощала доктору его странные, к этому времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего своё падение человека, грязь и беспорядок, которые он заводил. Она терпела его брюзжание, резкости, раздражительность. <...> по его вине они впадали в добровольную, им самим созданную нищету» [IV: 476].
У Маркела Юрия Живаго тоже «не узнают», «не видят» в нём доктора: «Зятья спрашивают, кто такой. Говорю - не верят», - обращается к вошедшему Маркел [IV: 475]. Контрастом зимнему появлению Юрия Андреевича в дворницкой выступает летний
146
Глава 2
приход его с Мариной и детьми (всей семьей) к Гордону, где Гордон и Дудоров не догадываются, о чём думает их друг, «не узнают» его. Доктору же, напротив, «насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их рассуждений» [IV: 474]. Иное «неузнавание» - презрительное - у «образованного», в отличие от Маркела и зятьев, «квартирохозяина», «оскорбительно погружённого в какое-то чтение и не удостаивавшего пильщика и пилыцицу даже взглядом»18. В кабинет к нему Юрий Живаго и Марина носят дрова, и доктор видит, что «эта свинья <...> размечает <...> карандашом так яростно <.. .> книжечки Юрия Андреевича в Васином раннем вхутемасовском издании» [IV: 477].
Во время выстрела Лары на ёлке у Свентицких Тоня танцует с «неизвестным кавалером», то есть как бы отсутствует. Одиночество Юрия Живаго здесь и в комнате в Камергерском, куда он удаляется от Марины по своей воле, - совершенно разное. Шестилетняя Маринка в довоенное время находится, по всей видимости, в доме Громеко -отсутствует ещё, тогда как Тоня в нэповском отсутствует уже. Это отмечает Маркел: «Что на Тоньку смотреть. Тоньки ровно как бы нету. За неё никакой закон не заступится» [IV: 476]. Во время обеда в дворницкой у Маркела Марина ведёт себя активно, защищая Юрия Живаго, но ещё не связана с ним незарегистрированным браком, тогда как Тоня на ёлке у Свентицких ещё не законная жена Юрия. Защита доктора Мариной перед родными сопоставима с кульминационным моментом праздника у Свентицких - выстрелом Лары. Защита Марины - перелом в жизни Юрия Живаго, подобный перелому, отмеченному выстрелом Лары. «С этого воскресного водоношения и завязалась дружба доктора с Мариною» [IV: 476]. Но главный контраст выстрелу представляет откровение творчества, творческий прорыв, испытанные доктором в комнате в Камергерском, в осевой части нэповского субтекста.
Выстрел19 и дружба связываются с двумя любимыми женщинами - Ларой и Мариной (Тоня как жена соответственно будущая и бывшая в обоих случаях по-разному отсутствует) - и знаменуют «второе рождение» героя. Выстрел и дружба находятся в противопоставленных друг другу участках повествования (расположение в частях, различных по структурной роли в этих участках, в данном случае не столь важно) и различным образом «невидимы» героем. Так, во время выстрела Лары в Комаровского Юрий Живаго был занят запахом Тониного платка и своими чувствами к ней. Он не видел Лару и только после того, как услышал выстрел, «обомлел, увидав» её [IV: 86]. Сближение же с Мариной «было романом в двадцати вёдрах, как бывают романы в двадцати главах или двадцати письмах» [IV: 476], то есть длительным и как бы незаметным. (С другой стороны, доктор мог назвать так своё единственное водоношение, и тогда сближение
18 Ср. с тем, что Гордон и Дудоров, принадлежавшие «к хорошему профессорскому кругу», напротив, участие проявляют активно, убеждая Юрия Живаго в необходимости «пробудиться от сна и лени, воспрянуть, разобраться <...> в окружающем» и не давая ему уйти [IV: 480, 481].
19 О мотиве выстрела в романе в связи с произведениями Достоевского и Пушкина см.: [Фатеева 2007: 210].
Дом как место рождения трагедии
147
их оказывается быстрым.) Сравнение «романа» героев с литературой даёт «заочность», не-видимость. Кроме того, внимание Юрия Живаго привлекает не внешность Марины (внешнее), а её голос (внутреннее), который «не сливался с Мариною, а мыслился отдельно от неё» [IV: 476].
Выстрел и дружба связываются в романе и с двумя мужчинами - Живаго и Антиповым-Стрельниковым, и пара эта оказывается симметрична двум аналогично противопоставленным друг другу относительно Лары женщинам. Если зеркальность Тони и Марины определяется при анализе довоенного и нэповского участков повествования (осевой - революционный, в котором Лара отсутствует), то зеркальность Живаго и Антипова-Стрельникова - в участках повествования, которые предшествуют и следуют за текстом, описывающим «инициационные» испытания доктора в партизанском отряде (в этом участке тексте, занимающем осевую позицию, Лара также отсутствует). В случае Живаго и Стрельникова сначала (до попадания доктора в плен) проходит тема дружбы, затем (после возвращения) - выстрела. И дружба, и выстрел также оказываются не-видимы-ми: о дружбе нигде прямо не говорится, хотя и имеются намёки (ниже мы рассмотрим их), а в момент самоубийства Стрельникова доктор спит и не просыпается от выстрела.
Допущение, что Живаго и Антипова-Стрельникова связывают дружеские отношения, может вызвать недоумение: слишком уж разные герои и их отношение к жизни. Точнее их было бы определить как дружбу-вражду двойников, которая представляет собой трагически противоречивую духовную близость («притяжение» к Ларе, символизирующей Россию) и в то же время отталкивание (социальный план). В каждой из двух пар эпизодов, в которых есть косвенные свидетельства о дружбе-вражде героев, а в Карандашной рукописи и прямое указание на неё, присутствует мотив «скрещёний» («судеб, событий»).
Первый эпизод, вводящий тему дружбы-вражды, относится ещё к повествованию о Мелюзееве и Барыкине. В разговоре в прачечной, где Лара гладит, Юрий Андреевич говорит ей: «Что бы я дал за то <...>, чтобы какой-нибудь близкий вам человек, ваш друг или муж (самое лучшее, если бы это был военный) взял меня за руку и попросил не беспокоиться о вашей участи и не утруждать вас своим вниманием. А я вырвал бы руку, размахнулся и... Ах, я забылся! Простите, пожалуйста» [IV: 146].
После этого Лара, остановившись «в нескольких шагах от доктора позади него», просит его выйти. Зеркально обратная сцена возникает при встрече героев в Барыкине. Стрельников хватает Живаго за руки, прося: «Только не уходите. Не оставляйте меня одного. Я скоро сам уйду. Подумайте, шесть лет разлуки, шесть лет немыслимой выдержки. Но мне казалось - ещё не вся свобода завоёвана. Вот я её сначала добуду, и тогда я весь принадлежу им, мои руки развязаны» [IV: 461].
В обоих эпизодах нет рукопожатий. Это - касания или хватания, зеркально обратные прикосновениям Тони к Юрию Живаго на ёлке у Свентицких, а также Марины и Лары к мёртвому Юрию Андреевичу соответственно в коридоре и комнате в Камергерском. Голосящая «Марина уцепилась за тело, и её нельзя было оторвать от него, чтобы
148
Глава 2
перенести покойника» [IV: 490]. Лара «замерла и несколько мгновений не говорила, не думала и не плакала, покрыв середину гроба, цветов и тела собою, головою, грудью, душою и своими руками, большими, как душа» [IV: 497].
Отношениям Юрия Живаго и Лары в Мелюзееве противопоставлена разлука, когда доктор находится в партизанском плену. И потому, несмотря на очевидность вышеприведённой параллели, главным отражением встречи Живаго и Антипова-Стрельникова в Барыкине является встреча в бронепоезде. Эти две сцены являются первой парой эпизодов, рисующих дружбу-вражду героев. В бронепоезде задержанный Юрий Андреевич, знающий, что встретится сейчас со Стрельниковым, увидев его, удивляется про себя: «Как мог он, доктор, среди такой бездны неопределённых знакомств, не знать до сих пор такой определённости, как этот человек? Как не столкнула их жизнь? Как их пути не скрестились?»20 [IV: 248].
В Барыкине Юрий Живаго, не знающий, кто придёт, но к появлению незнакомца готовый, напротив, пытается вспомнить и вспоминает (тоже про себя), кто такой пришедший: «“Кого вам?” вырвалось у доктора с бессознательностью, ни к чему не обязывавшей, и, когда ответа не последовало, Юрий Андреевич этому не удивился. <.. .> “Кто это? Кто это?” - мучительно перебирал в памяти Юрий Андреевич. “Господи твоя воля, где я его раз уже видел? Возможно ли? Жаркое майское утро21 незапамятно какого года. Железнодорожная станция Развилье. Не предвещающий добра вагон комиссара. Ясность понятий, прямолинейность, суровость принципов, правота, правота, правота. Стрельников!”» [IV: 454].
Вторая пара эпизодов содержит два «комплекта» характеристик, каждый из которых включает развёрнутую и краткую. Развёрнутые характеристики негативного плана Живаго даёт Стрельникову в разговоре с Ларой в Юрятине. На откровенность Лары о том, что Стрельников её муж, доктор говорит: «Я не поражён и подготовлен. Я слышал эту басню и считаю её вздорной. Оттого-то я и забылся до такой степени, что со всей свободой и неосторожностью говорил с вами о нём, точно этих толков не существует. Но эти слухи бессмыслица. Я видел этого человека. Как могут вас связывать с ним? Что между вами общего?» [IV: 298].
Однако после возвращения от партизан Живаго в разговоре с Ларой в Юрятине даёт её мужу такую же развёрнутую позитивную характеристику (контрастно соотносящуюся и с неосмотрительной речью доктора в Мелюзееве): «Мне кажется, сильно, смертельно, со страстью я могу ревновать только к низшему, далекому. Соперничество с высшим вызывает у меня совсем другие чувства. Если бы близкий по духу и пользующийся моей любовью человек полюбил ту же женщину, что и я, у меня было бы чувство пе
20 Противоположный вариант существует в черновиках романа. В Карандашной рукописи (часть седьмая) задержанного Юрия Живаго, едущего на Урал, «спасло то, что военкомом оказался его старый товарищ по гимназии, который узнал его и на несколько перегонов облегчил ему дальнейшее передвижение» [IV: 605].
21 Вероятно, утро Пасхи, на которую спроецирована встреча Живаго и Стрельникова в Развилье.
Дом как место рождения трагедии
149
чального братства с ним, а не спора и тяжбы. Я бы, конечно, ни минуты не мог делиться с ним предметом моего обожания. Но я бы отступил с чувством совсем другого страдания, чем ревность, не таким дымящимся и кровавым. То же самое случилось бы у меня при столкновении с художником, который покорил бы меня превосходством своих сил в сходных со мною работах. Я, наверное, отказался бы от своих поисков, повторяющих его попытки, победившие меня»22 [IV: 396].
Подытоживает Юрий Живаго эти мысли подобно тому, как делает это во время первого разговора, до своего плена и с соответствующей сменой знака:
«- Расскажи мне побольше о муже. “Мы в книге рока на одной строке”, - как говорит Шекспир.
- Откуда это?
- Из “Ромео и Джульетты”» [IV: 398].
Встреча в штабном вагоне Стрельникова заканчивается тем, что доктор остаётся жив. Встреча в Барыкине - самоубийством Павла Павловича. Отметим контраст этого самоубийства и выстрела Лары в Комаровского. Во время обоих выстрелов Живаго различным образом отсутствует, находясь рядом. Он является свидетелем выстрела Лары, после которого Комаровский остаётся невредим. Но доктор не реагирует на выстрел и реальное самоубийство Стрельникова.
Одним из прототипов как Комаровского, так и Антипова-Стрельникова был В.В. Маяковский. Как уже неоднократно указывалось исследователями, самоубийство Стрельникова отсылает к его гибели, отразившейся в стихотворении Пастернака «Смерть поэта». Эти стихи из книги «Второе рождение» вступают в перекличку с прозой «Доктора Живаго». Роман для Пастернака был ещё одним «вторым рождением», о чём свидетельствует негативное отношение Пастернака ко всей своей прозе, написанной до него23. И в романе, и в стихотворении есть дружба-вражда24 и выстрел. А также множество других параллелей: узнавание о случившейся смерти, сон. Есть и отсылка к Италии. Если самоубийственный выстрел Маяковского «подобен Этне» и сам Маяковский «спал» сном смерти, то в романе все перевёрнуто. По-настоящему здоровым (что подчёркивается) сном, а не сном смерти спит Живаго. Он заснул после долгой бессонницы и разговора со Стрельниковым и, просыпаясь, «чувствовал подкрепляющую силу своего здорового сна и с наслаждением засыпал снова. Во второй половине ночи ему стали являться короткие, быстро сменяющиеся сновидения из времён детства <...>. Так, например, висевшая во сне на стене мамина акварель итальянского взморья вдруг оборвалась, упала
22 Ср. с отказом молодого Пастернака от музыки, философии, сомнениями относительно своего поэтического поприща после знакомства со стихами Маяковского, о которых он рассказал в «Охранной грамоте» и «Людях и положениях».
23 Об альтернативности «второго рождения» выстрелу и поэтической судьбе Маяковского см.: [Раевская-Хьюз 1989].
24 В «Смерти поэта» лирический герой нигде не называет себя другом. Напротив, он отделяет себя от друзей умершего.
150
Глава 2
на пол и звоном разбившегося стекла разбудила Юрия Андреевича25. Он открыл глаза. Это что-то другое. Это, наверное, Антипов <...>, как говорит Вакх, в Шутьме волков пужая. Да нет, что за вздор. Конечно, картина сорвалась со стены. Вот она в осколках на полу - удостоверил он в вернувшемся и продолжающемся сновидении» [IV: 461-462].
Застрелившийся же Павел Павлович лежал, не «прижав к подушке щёку», а «вкось поперёк дорожки, упав и уткнувшись головой в сугроб» [IV: 462]. В интертекстуальную игру Пастернак ввёл здесь два собственных произведения: «Смерть поэта» и «Венецию»26, «объясняющую» появление в первом Этны. Если в «Смерти поэта» - два поэта (автор говорит о том, что находится на одной ступени с «жизнью» - ср.: «Сестра моя -жизнь») и один из них «спит», то в «Докторе Живаго» - один поэт, и он спит здоровым естественным сном, а другой - не-поэт (Антипов-Стрельников обладает лишь даром подражания, что впоследствии отзывается в «замечательных способностях» его дочери Катеньки) и самоубийца. Если поэт спасается сном (значение его Пастернак особенно оценил после страшной бессонницы 1935 года), то не-поэт - самоубийством. При сравнении ситуации романа со «Смертью поэта» произведённая в «Докторе Живаго» инверсия выявляет, что самоубийца - вовсе не поэт. Ср., например, с жёсткой характеристикой, которую дал Пастернак Маяковскому в «Людях и положениях»: «За вычетом предсмертного и бессмертного документа “Во весь голос”, позднейший Маяковский, начиная с “Мистерии-буфф”, недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощрённая бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным» [III: 336].
Ещё один зеркальный отклик в романе на «Смерть поэта» - стихотворение «Земля», вошедшее в «Стихотворения Юрия Живаго». Особенно контрастируют (при тематической близости) роли, отводимые в этих стихотворениях друзьям. Ср. контрастное изображение Гордона и Дудорова при последней встрече с Юрием Живаго и после его смерти (во время и после войны) с заключительными строками стихотворений «Смерти поэта» и «Земли» (оба стихотворения, как и «Опять весна» (1941), завершаются одним и тем же словом - «бытия»).
Стихотворение «Смерть поэта», являющееся композиционным центром «Второго рождения», демонстративно обозначает параллель ‘Пастернак и Маяковский’ / ‘Лермонтов и Пушкин’, которая косвенно подтверждалась в «Охранной грамоте», когда Пастернак говорил «о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта» [III: 230]. Данная проекция свидетельствует о том, что стихотворные тематические «жанры» (одним из которых является «жанр» «Смерть поэта»), в отличие от прозаических (мы имеем в виду стремление Пастернака написать именно
25 О значении итальянской темы у Пастернака см.: [Гардзонио 2006].
26 И.П. Смирнов показал, что в самоубийцу Антипова-Стрельникова был трансформирован образ безымянной венецианки, бросающейся в воду с набережной [Смирнов 1995: 146-147].
Дом как место рождения трагедии
151
роман), к началу 1930-х (после смерти Блока, Гумилёва, Есенина, Маяковского) отстоялись настолько, что позволяли прямое сопоставление современности с ситуацией эпохи Пушкина и Лермонтова. Проекция подтверждает и роль Маяковского как «первого поэта эпохи», что было значимо для Пастернака, читавшего статьи Цветаевой о себе и Маяковском. Цветаева уточняла в них «табель о рангах». Лермонтовский шедевр на смерть Пушкина можно рассматривать и как пророческую авторефлексию (поэт пишет не только о другом поэте, но и о себе самом). Ориентация на Лермонтова в «Стихотворениях Юрия Живаго» (а не только в «Смерти поэта») подтверждается интертекстуальной отсылкой к нему в «Земле», где речь идёт о призвании поэта. Менее явно просматривается параллель ‘Пастернак и Маяковский’ / ‘Блок и Коммиссаржевская’, к чему даёт основание перекличка «Смерти поэта» со строками стихотворения А.А. Блока «На смерть Коммиссаржевской» (февраль 1910):
Не верили. Не ждали. Точно
Не таял снег, не веял май.
Не верили. А голос юный Нам пел и плакал о весне
[Блок 1960-1963, III: 190].
В «Охранной грамоте» так же, как Лара над умершим Юрием Андреевичем, плачет над Маяковским его сестра Ольга Владимировна. А в роли Евграфа Живаго оказывается сам Пастернак. Если продолжить сравнения, то комнатой доктора в Камергерском переулке предстаёт комната Лили Брик в Гендриковом, рама в этой комнате - злополучной рамой в трамвае, в котором ехал Живаго, а сам трамвай - «медленно взбирающимся на Швивую горку» [III: 235]. В момент смерти Маяковского Л.Ю. Брик находилась в Лондоне, как Тоня в момент смерти Живаго в Париже. Выделенность сестры Маяковского и Пастернака из массы прощающихся с Маяковским отразилась в романе в выделенно-сти Лары и Евграфа у гроба Юрия Андреевича: «И было два человека в людском наплыве, мужчина и женщина, из всех выделявшиеся. Они не напрашивались на большую близость к умершему <...>. Они не тягались горем с Мариною, её дочерьми и приятелями покойного <.. .>. У этих двух не было никаких притязаний, но какие-то свои, совсем особые права на скончавшегося. Этих непонятных и негласных полномочий, которыми оба каким-то образом были облечены, никто не касался, никто не оспаривал» [IV: 491].
Всё сказанное в 14 главе третьей части «Охранной грамоты» о Маяковском и о «последнем годе поэта» относится к самому Пастернаку и герою его романа с поразительной точностью, но обращённо. По выстраивающейся логике Пушкину оказывается аналогичен уже не Маяковский, а Пастернак (и Живаго). В связи с аналогией ‘Пушкин -Пастернак’ можно указать на «прогноз» Мандельштама из статьи «Буря и натиск» (1923) о том, что «своего Пушкина ждёт Пастернак» [Мандельштам 1990, II: 291]. Роль Пушкина, как видно, Мандельштам отводит здесь себе, целомудренно умалчивая об этом. После блоковского обращения к Пушкину, прозвучавшего в стихотворении «Пушкин
152
Глава 2
скому дому» (11 февраля 1921) - «Дай нам руку в непогоду, / Помоги в немой борьбе!» [Блок 1960-1963, III: 377] - Пушкин становится нравственным и эстетическим ориентиром не только для Пастернака, но и для Маяковского, Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Платонова, Булгакова... Герой Пастернака «поёт» тайную свободу и вослед Пушкину, и вослед Блоку. Соотнесение с Лермонтовым возникает, но эту роль Пастернак отводит для художника будущего: «Огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и незанятое место для нового и ещё небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней» [Пастернак 1989-1992, V: 562].
Если Антипов-Стрельников кончает с собой, как Маяковский, то Живаго после смерти лежит, как Маяковский. Описание же творчества доктора в комнате в Камергерском перед смертью (спроецированное на молитву Христа в Гефсиманском саду27) в своей прозаической сюжетной развёрнутости является переложением строфы из поэмы «Флейта-позвоночник» (1915):
Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я, Творись, просветлённых страданием слов нечеловечья магия!
[Маяковский, I: 205].
Интертекстуальные связи мотивов дружбы и выстрела не ограничиваются скрытой автоцитацией («Смерти поэта»). Мотивы эти вступают также в сложные соотношения со стихотворением О.Э. Мандельштама «К немецкой речи», написанным 8-12 августа 1932 г. и посвящённым Б.С. Кузину. У Мандельштама дружба сравнивается с выстрелом, то есть тоже противопоставлена ему: «Когда я спал без облика и склада, / Я дружбой был, как выстрелом, разбужен» [Мандельштам 1995: 222]. Первую из этих строк А.Г. Мец комментирует так: «Подразумевается период поэтической «немоты» (1925— 1929), из которого поэта вывела дружба с Кузиным» (см.: [Мандельштам 1995: 592]. В «Комментарии к стихам 1930-1937 гг.» Н.Я. Мандельштам толковала строку иным образом: «Посвящение Кузину было для него неожиданностью - ему стихи отчаянно не понравились, он ворчал на них целый вечер, и О.М. развлечения ради посвятил их ему. «Я дружбой был, как выстрелом, разбужен» может быть отнесено и к Кузину и - в большей степени - к немецкой поэзии, самой близкой для О.М. Я говорю о лирике» (см.: [Мандельштам 1990: 225-226]).
Можно также рассматривать эту строку в качестве полемического отклика на уже цитированные строки из «Смерти поэта». «Спящим» Мандельштам делает себя, поэта, и поэтическая «немота» (ср. у Пастернака: «Спал и, оттрепетав, был тих / Красивый,
27 О связи стихотворений Юрия Живаго «Гефсиманский сад» и «Дурные дни» с произведениями живописи см.: [Суханова (б); (в)].
Дом как место рождения трагедии
153
двадцатидвухлетний»), тождественная сну, оказывается равной смерти. У Мандельштама же сон этот «без облика и склада», и это может значить, что «спящий» (ср. игру смыслами этого слова у Мандельштама и Пастернака) поэт не врезается «вновь и вновь с наскоку / В разряд преданий молодых». Поэту (Маяковскому), совершающему самоубийство, Мандельштам отказывает в месте в истории. Так он полемизировал с тем, что в «Смерти поэта» выпавшего из истории Маяковского вводит в неё именно самоубийство: «Ты в них врезался тем заметней, / Что их одним прыжком достиг». Любопытно, что в романе Пастернак пришёл к тому же выводу, что и Мандельштам в 1932 г., и продемонстрировал этот вывод, изобразив судьбы и дружбу-вражду героев-двойников. Показательным на этом фоне выглядит самоубийственный, по оценке Пастернака, поступок самого Мандельштама, написавшего и читавшего, в числе других, Пастернаку «Мы живём, под собою не чуя страны»28.
Мандельштам поверял свою поэтическую судьбу по судьбам поэтов-современников, и часто реакция его носила характер отталкивания. Косвенную оценку самоубийства Маяковского, от которого стихотворение «К немецкой речи» отделяют два с лишним года, можно усмотреть в первой строфе и особенно - в первой строке, которая обобщает самоубийственные задатки любого поэта:
Себя губя, себе противореча, Как моль летит на огонёк полночный, Мне хочется уйти из нашей речи За всё, чем я обязан ей бессрочно [Мандельштам 1995: 221].
Ср. сюжет этой строфы с приходом «на огонёк» в Варыкино Стрельникова и его уходом из жизни. Действия героя Пастернака предстают прозаической инверсией строк Мандельштама.
Интересно сопоставить также угрозы Стрельникова доктору при встрече с ним в бронепоезде и строки стихотворения Мандельштама «Квартира тиха, как бумага» (ноябрь 1933): «Жены и детей содержатель / Такую ухлопает моль». Антипов-Стрельников, покинувший жену и дочь и оставивший их без содержания, при встрече с Живаго в бронепоезде проявляет свою огненную, революционную природу, тогда как доктор именно сам «летит на огонёк» - на рассвете выходит из вагона и попадается часовым, давая повод заподозрить в нём шпиона. Объяснение рыбака Юрию Андреевичу также содержит намёк на «ухлопывание» моли: «Они лавят, лавят одного. Ну, думают, -ты. Думают, вот он, злодей рабочей власти, - поймали. Ошибка» [IV: 244]. Если в бронепоезд доктора приводят принудительно, то в Варыкино Стрельников приходит по собственной воле, притом, что за ним гоняются, как за молью, чтобы «ухлопать». Живаго совсем иначе, нежели муж Лары, не содержит своих жену и детей, уехавших в Па
28
О реакции Пастернака см.: [Флейшман 2005: 185-187].
154
Глава 2
риж29, и не собирается «ухлопывать» пришедшего. Здесь, как и в угрозах, а не действиях Стрельникова в бронепоезде, сказывается модальность глагола в строке Мандельштама. У Тони, кстати, по приезде семьи на станцию Торфяную (название которой выдаёт потенциальную связь с огнём) «в уме была составлена фраза: “Мне не верилось, что мы доедем невредимыми. Он мог, понимаешь ли, твой Стрельников, свеликодушничать перед тобой и отпустить тебя, а сюда дать телеграфное распоряжение, чтобы всех нас задержали при высадке. Не верю я, милый мой, в их благородство. Всё только показное”. Вместо этих заготовленных слов она сказала другое» [IV: 265]. Эта мысль Тони лишь подчёркивает следование Пастернака модальности, заданной у Мандельштама, и вводит тему двуличия советских начальников и обывателей, также присутствующую у него.
Мандельштам отталкивался не только от способа Маяковского сводить счёты с жизнью, но и способа Пастернака видеть «жизнь, действительность и быль», как этот способ мог прочитываться им во «Втором рождении». Вероятно, выяснение и утверждение, что такое жизнь и смерть поэта, и скрытая полемика с Пастернаком заставили Мандельштама отбросить эпиграф из «Дифирамбов» Клейста, стоявший в сонете «Христиан Клейст» (этот сонет был первоначальной редакцией «К немецкой речи»): «“Друг! Не упусти (в суете) самоё жизнь. Ибо годы летят И сок винограда Недолго ещё будет нас горячить”. Э.-Х. фон Клейст» (см.: [Мандельштам 1995: 591]). У Клейста речь идёт не о жизни и смерти. Быть может, именно стихи Пастернака повернули работу Мандельштама по совсем другому направлению, и в итоге, несмотря на то, что тема Германии осталась, имя Клейста вообще исчезло из стихотворения. Н.Я. Мандельштам отметила, что «в стихах была строчка с именем Христиана Клейста (заменено: “у чуждого семейства”)» (см.: [Мандельштам 1990: 226]). Во всяком случае, «складная» смерть30 Клейста, поэта, в окончательном варианте преобразовалась в «Пока я спал без облика и склада». В этой и следующей строках есть всё, что было в «Смерти поэта» и будет позже в «Докторе Живаго», - выстрел, дружба и сон. И необычное сравнение дружбы с выстрелом, от которого поэт просыпается, а не кончает жизнь самоубийством, соединяет и размежёвывает два мотива так, как Пастернак показал в романе, поменяв реакцию спящего поэта (Живаго просыпается, но снова засыпает от выстрела Антипова-Стрельникова) и разведя двойников (друзей-врагов) к разным окнам, чтобы они смотрели в разные стороны. В «Докторе Живаго», как и у Мандельштама, тоже двое мужчин и также один из них поэт, а другой - не-поэт31.
29 О том, что Стрельников проявляет «тайную заботу» о жене и дочери, читатель узнаёт лишь со слов Лары, сказанных доктору при первой встрече в Юрятине [IV: 298]. Забота Юрия Живаго о Тоне и детях также тайная. Она осуществляется через Евграфа, который «дал брату слово, что с неустойчивым положением его семьи в Париже так или иначе будет покончено» [IV: 484].
30 См.: И прямо со страницы альманаха
Он в бой сошёл и умер так же складно,
Как пел рябину с кружкой мозельвейна [Мандельштам 1995: 485].
31 Подробнее о реакции Пастернака на самоубийство Маяковского см.: [Буров 20Юж].
Дом как место рождения трагедии
155
Связь дружбы и выстрела проявляется в каждом из трёх участков московского повествования. Но если в довоенном её можно проанализировать, рассматривая сюжетную кульминацию романов XIX - начала XX веков - бал, то в революционном такой кульминацией предстаёт вечеринка в тесном кругу родных и друзей, а в нэповском - индивидуальное творчество, места которому в социуме нет. Так в каждом из периодов времени показывается столкновение социальных противоречий. И всякий раз Живаго так или иначе пребывает в одиночестве.
В довоенное время дружат (дружба, перерастающая в любовь) Юрий Живаго и Тоня, Антипов и Лара. Во время выстрела Лары в доме Свентицких Антипова там нет вообще, а Тоня танцует («отсутствует») и появляется лишь вместе со Свентицкой, чтобы сообщить Юрию, что за ними приехали.
В 1917 г. в доме Громеко рядом с Юрием Живаго - Тоня (дружба, переросшая в любовь), вокруг - родственники и друзья. Вместо выстрела здесь - такой же неожиданный и потрясающий, как он, пророческий монолог доктора о том, что «море крови подступит к каждому и зальёт отсиживающихся, окопавшихся. Революция и есть это наводнение. <.. .> Я тоже думаю, что России суждено стать первым за существование мира царством социализма <...>. Наставший порядок обступит нас с привычностью леса на горизонте или облаков над головой. Он окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого» [IV: 180-181].
Живаго ссылается («тоже думаю») на присутствующего среди гостей Веденяпина, у которого он побывал до этого в гостинице. Их первая встреча наедине контрастна вечеринке в доме Громеко в присутствии гостей. Все герои распределены на четыре пары: это Гордон, рассказывающий Юрию Андреевичу о Дудорове, и Дудоров, обращающийся к Живаго, с одной стороны; Александр Александрович Громеко, спорящий с Веденя-пиным, и Шура Шлезингер, обращающаяся к Гогочке и ко всем присутствующим, - с другой. Речь Юрия Живаго, обращённая ко всем, находится вне этой системы, особняком и представляет противовес всем предшествующим разговорам. Это единственная речь доктора в романе, обращённая ко многим слушателям, а не к одному. В довоенное время он произносит монолог, сидя рядом с больной Анной Ивановной, а в нэповское говорит о будущем Гордону и Дудорову. Оба эти монолога - «позитивного» плана, в отличие от речи в 1917 году, и находятся они в некульминационных отрезках текста. На вечеринке в доме Громеко Живаго пророчествует о будущем, и предсказанное им сбывается. Эта речь - инверсия речи Христа перед учениками в XXIV главе Евангелия от Матфея. Ранее Анне Ивановне он говорит, ссылаясь на Иоанна Богослова, о том, что «смерти не будет»32, а перед своей смертью Гордону и Дудорову - о том, что «всё уладится. И довольно скоро. Вы увидите. Нет, ей-богу. Всё идёт к лучшему. Мне невероят
32 Смысл утешительных слов Юрия Живаго, обращённых к Анне Ивановне, совпадает также с идеей Гермеса Трисмегиста, который «говорит в Поймандре, что на свете ничто не умирает и всё только видоизменяется» [Пуассон 2006: 103].
156
Глава 2
но, до страсти хочется жить, а жить ведь значит всегда порываться вперёд, к высшему, к совершенству и достигать его» [IV: 481].
Во всех трёх ситуациях Живаго одинок и чувствует благожелательное отношение окружающих. Например, на вечеринке с уткой «он видел проявления общей любви к нему, но не мог отогнать печали, от которой был сам не свой» [IV: 181]. Ещё одним аналогом выстрела на вечеринке в доме Громеко в 1917 году, кроме речи доктора, можно считать раскат грома, когда уходят гости.
Отметим также, что речь Юрия Живаго выдаёт одного из его прототипов, а именно П.Я. Чаадаева, который в VII «Философическом письме» писал: «В наши дни силы высшего общества так возросли, его действие на остальную часть человеческого рода так расширилось, что вскоре мы будем увлечены всемирным вихрем, и телом и духом, это несомненно: нам никак не удастся долго ещё пробыть в нашем одиночестве» [Чаадаев 1991,1: 433-434].
Если под «высшим обществом» масон Чаадаев подразумевал масонов, это проливает соответствующий свет как на видение Пастернаком масонства в качестве одной из скрытых «составных» своего героя, так и, следовательно, на видение автором и героем тайных движущих сил революции33. Ср. также чаадаевский текст с речью доктора в разговоре с Ларой в Мелюзееве: «В эти дни так тянет жить честно и производительно! Так хочется быть частью общего одушевления!» [IV: 146].
Речь Юрия Живаго являет солидарность и содержит скрытую полемику ещё с одним чаадаевским текстом. Слова доктора о народе и «наставшем порядке», который «окружит нас отовсюду», являют собой инверсирование рассуждений Чаадаева о толпе и рабстве из II «Философического письма»: «Естественно, что всякий, кто отдаётся с жаром своим верованиям, наткнётся среди этой толпы, которую никогда ничего не потрясало, на препятствия и возражения. Вам придётся себе всё создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами. И это буквально так. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающую вас атмосферу? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нём все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о неё мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели» [Чаадаев 1991,1: 346].
Слова Чаадаева о «бороздах» отозвались в следующем за монологом Юрия Живаго описании дождливого утра, которое увидели, выходя в «тёмный переулок» (ср.: «бессильные выйти из него») гости и домочадцы: «Прокатился гром, будто плугом провели борозду через всё небо, и всё стихло» [IV: 181]. Ю.Н. Тынянов заметил, что «в свете чаадаевских мыслей о рабстве другое значение приобретает облюбованный выдумкой
33
Некоторые наблюдения об отношении Пастернака к масонству см.: [Буров 20076; 2008г].
Дом как место рождения трагедии
157
мотив “туалета”, из-за которого Чаадаев будто бы опоздал: он признавал одежду и порядок в ней не из франтовства, а как противоположность рабским привычкам» [Тынянов 1977: 365]. Ср. с тем, что на фронте Гордон заносил рубашку Юрия Живаго, а денщик Карпенко её не выстирал. Эта деталь - свидетельство постепенного наступления советского рабства, иного по сравнению с тем, с которым боролся Чаадаев. Внимание доктора к одежде также напоминает о Чаадаеве, но отношение к ней пастернаковского героя демократично, в отличие от чаадаевского.
Юрий Живаго пророчествует о потопе, от которого пытается по настоянию семьи и вместе с ней уехать на Урал. Но после пребывания у партизан и жизни в Юрятине доктор идёт в Москву, чтобы этот потоп прекратился. Распространение потопа символизирует весенний разлив, когда Юрию Живаго, едущему с семьей на Урал, «казалось, что плавно идущий поезд скользит прямо по воде» [IV: 237]. Функция Ноева ковчега здесь -у вагона с окном, в которое выглядывает доктор. Такую же функцию выполняет и дом в Варыкине, где «оседает» его семья. Эти аналогии подкрепляют взгляд на роман как на «особый вариант книги Бытия», как охарактеризовала его О.М. Фрейденберг [Переписка с Фрейденберг 2000: 314].
В нэповском участке «московского» повествования дружба и выстрел присутствуют как в фактическом отсутствии дружбы Юрия Живаго с Гордоном и Дудоровым и его неожиданной, как выстрел, смерти, так и во внетекстовом ряду - в реальных переживаниях Пастернака, узнавшего, что застрелился Маяковский, его поведении на похоронах и в описаниях своих чувств в «Смерти поэта» и «Охранной грамоте».
2.5. Следы «Антихриста» В.П. Свенцицкого
Понимание произошедшего на ёлке у Свентицких и в параллельных эпизодах будет неполным, если не учесть интертекстуальную подоплёку любовного треугольника ‘Антипов - Лара - Комаровский’. И здесь важное значение имеет фигура философа, писателя и журналиста Валентина Павловича Свенцицкого (в некоторых источниках - Свен-тицкого), к личности и творчеству которого Пастернак, судя по всему, проявлял значительный интерес. О том, что имя Свенцицкого в 1908-1909 гг. было на слуху в обществе, и в частности в кругу людей, посещавших, как и Пастернак, дом Ю.П. Анисимова, свидетельствовал ближайший друг Пастернака тех лет К.Г. Локс: «Незадолго до этого произошёл один скандальный случай. Некто Свентицкий, автор книги об “Антихристе”, проделал <.. .> какие-то неблаговидные эксперименты с одной курсисткой. Так как он был член Религиозно-философского общества, чуть ли не его президиума, то остальные “смиренные” отлучили его от общества и письмом в редакцию “Русских Ведомостей” предали гласности как его скверный поступок, так и само отлучение. Вся эта история, как и следовало ожидать, возбудила не столько негодование общества, сколько неудержимое любопытство по отношению к подробностям. Бегали друг к другу,
158
Глава 2
узнавали, облизывались - словом, всё было в высшей степени омерзительно» [Локс 1994: 46-47].
Хозяева дома - Фелицата Семеновна, её муж Пьер и их сын Жорж, имена которых «говорят» не только своей этимологией, но и «офранцуженностью» (отец и сын), «рим-скостью» (мать) и «славянскостью» (фамилия) получили свою фамилию «по ассоциации с ним» [Лавров 2007: 330-331]. Своего рода сводку характеристик Свенцицкого современниками даёт в своей книге «Хлыст. Секты, литература и революция» А.М. Эт-кинд. Он рассматривает не только общественную и журналистскую деятельность, но также и личность Свенцицкого, его идеи, общественно-религиозную деятельность и роман «Антихрист» [Эткинд А. 1998: 244-254].
Старики Свентицкие и их сын, сидящие во время бала во внутренних комнатах за расписыванием номерков и карточек - мирные обыватели и представляют собой зеркальную противоположность резко неординарной даже для Серебряного века фигуре Свенцицкого, который «вместе с Булгаковым создал Московское религиозно-философское общество и вместе с Эрном - более воинственное “Христианское братство борьбы”» [там же: 244]. Однако использование Пастернаком фамилии Свенцицкого применительно к хозяевам дома - лишь первый ход, который он сделал скорее «для отвода глаз»: между героями и прототипом настолько мало сходства, что читатель может сразу остановить ассоциации, понимая, что сопоставление результатов не принесёт. Значение этого художественного решения в том, что оно сигнализирует о включении кода, с помощью которого, как выясняется, могли или ещё будут «прочитываться» те или иные персонажи и события. Известные факты, связанные со Свенцицким, Пастернак «распределил» едва ли не на всех главных персонажей романа, особенно - на Комаровского, Антипова-Стрельникова, Юрия Живаго, Веденяпина, Гордона, Лару и Марину.
Согласно одной из радикальных идей Свенцицкого, «мука и грех, в частности сексуальный грех, есть единственный путь к спасению». И «превознесение аскетизма сочеталось» у него «с апологией искушения» [там же: 245]. «Искусителем» в «Докторе Живаго» выступает Комаровский, в которого стреляет Лара, а «аскетом» - Антипов, которого товарищи звали «Степанида» и «Красная девица» [IV: 98]. На проводах Лары и Антипова в Юрятин Комаровский называет их «молодыми друзьями» и жалуется, что «осиротеет» [IV: 99]. Ср. эти детали с характеристикой Свенцицкого: «В своё время, писал Колокол, этот аскетического вида юноша собирал на своих рефератах толпы молодёжи. Потом в Свенцицкого стреляли, квартира его была полна курсисток, они кончали с собой, и потому от Свенцицкого отреклись даже его бывшие друзья» [Эткинд А. 1998: 246].
Аскетичность молодого Свенцицкого Пастернак использовал также при описании Антипова-Стрельникова, который ко времени встречи с Живаго в бронепоезде представлял уже «законченное явление воли. Он до такой степени был тем, чем хотел быть, что и всё на нём и в нём неизбежно казалось образцовым. И его соразмерно построенная и красиво поставленная голова, и стремительность его шага, и его длинные ноги в высо
Дом как место рождения трагедии
159
ких сапогах, может быть грязных, но казавшихся начищенными, и его гимнастёрка серого сукна, может быть, мятая, но производившая впечатление глаженой, полотняной» [IV: 248]. Собирал Антипов и «толпы молодежи» - когда преподавал в гимназии. Об этом рассказывает приезжим гостям жена Микулицына Елена Прокловна: «Великолепный математик был у нас в Юрятине. В двух гимназиях преподавал, в мужской и у нас. Как объяснял, как объяснял! Как бог! Бывало, все разжует и в рот положит. Антипов. На здешней учительнице был женат. Девочки были без ума от него, все в него влюблялись» [IV: 274].
А.М. Эткинд указывает на мнение Ф.А. Степуна, высказанное им в книге «Бывшее и несбывшееся»: «Женщины сходили по Свенцицкому с ума. Они его и погубили» [Эткинд А. 1998: 246; Степун 1994: 202]. И если «от Свенцицкого отреклись даже его бывшие друзья», то от Стрельникова - свои же красные. Павел Павлович рассказывает доктору в Барыкине: «Меня должны были привлечь к военному суду по ложному оговору. Его исход легко было предугадать. Я не знал никакой вины за собой. У меня явилась надежда оправдаться и отстоять своё доброе имя в будущем, при лучших обстоятельствах. Я решил исчезнуть с поля зрения заблаговременно, до ареста и в промежутке скрываться, скитаться, отшельничать. Может, я спасся бы в конце концов. Меня подвёл втершийся в моё доверие молодой проходимец» [IV: 456].
Что касается Юрия Живаго, то не друзья отрекаются от него (они лишь упрекают доктора), а он готов отречься от них, «однако не мог же он сказать им: “Дорогие друзья, о, как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имён и авторитетов! Единственно живое и яркое в вас - это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали”. Но что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания! И чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал» [IV: 478].
Эти слова доктора, которые многими современниками и критиками истолковывались как показатель непомерной гордыни Пастернака, отсылают, между тем, к словам Иисуса о Марии, помазавшей Его ноги миром: «Иисус же сказал: оставьте её; она сберегла это на день погребения Моего; Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня - не всегда» (Ин. XII, 7-8).
Прототипом одного из друзей Юрия Живаго - еврея Михаила Гордона - был новый (после выхода в свет в 1908 г. романа «Антихрист») товарищ Свенцицкого - старообрядческий епископ Михаил. Героя Пастернака сближает с ним происхождение, принадлежность к неофициальному православию и репрессированность: «Павел Семёнов, сын еврея-кантониста, стал архимандритом Михаилом и профессором Петербургской Духовной Академии, а потом принял участие в обновленческом кружке 32-х священников-радикалов, вскоре подвергшихся репрессиям» [Эткинд А. 1998:249]. Ср. с тем, что Гордон побывал в лагере, о чём рассказывает во время войны дважды сидевшему Дудорову. Причину ареста и заключения он при этом не называет, но читателю известно, что на Гордона большое влияние оказало учение священника-расстриги и радикала Веденяпи-
160
Глава 2
на: «Миша Гордон избрал своей специальностью философию. На своём факультете он слушал лекции по богословию и даже подумывал о переходе впоследствии в духовную академию. Юру дядино влияние двигало вперёд и освобождало, а Мишу - сковывало. Юра понимал, какую роль в крайностях Мишиных увлечений играет его происхождение» [IV: 67].
Контраст молодому Свенцицкому (и Антипову-Стрельникову) представляет Комаровский, в котором меньше всего аскетизма. Однако Свенцицкий, как пишет А.М. Эткинд, ссылающийся на его однокашника и друга Марка Вишняка, «сумел “соблазнить трёх молодых подруг, интеллигентных и привлекательных”; все трое родили ему дочек, причём “как были, так и остались близкими подругами”» [Эткинд А. 1998: 246].
Ни рефератов, ни лекций Комаровский нигде не читал и не преподавал. Он не собирал «толпы молодёжи», и в «роскошной холостецкой квартире» его жила только экономка Эмма Эрнестовна. Комаровский «не терпел в квартире присутствия гостей и посетительниц, не совместимых с её безмятежным стародевическим миром. У них царил покой монашеской обители - шторы опущены, ни пылинки, ни пятнышка, как в операционной» [IV: 45-46]. Однако так же, как и в Свенцицкого, в Комаровского стреляет курсистка - соблазненная им Лара, которая никого ему не рожает. О том, что Лара училась на курсах, можно заключить по тому, что «Паша и Лара оба кончили, оба одинаково блестяще» [IV: 98]. Кроме того, в стихотворении «Белая ночь» есть строки, которые могут быть отнесены к Ларе: «Дочь степной небогатой помещицы, / Ты - на курсах, ты родом из Курска»34 [IV: 518]. Аналогом тому, что курсистки «кончали с собой», является странная болезнь Лары, появившаяся после выстрела и названная «нервной горячкой». На квартиру Войт-Войтковской её перевезли «в лихорадочном жару и полуобморочном состоянии». Отсылка к теме соблазнения содержится в характеристике отношения к Ларе Войт-Войтковской: «Руфина Онисимовна с первого взгляда невзлюбила свою больную квартирантку. Она считала Лару злостной симулянткой. Припадки Лариного бреда казались Руфине Онисимовне сплошным притворством. Руфина Онисимовна готова была побожиться, что Лара разыгрывает помешанную Маргариту в темнице» [IV: 94].
Что же касается «отречения друзей», то их у Комаровского и не было, и в конце романа Лара характеризует Комаровского как «чужое, ненужное ничтожество <...>, чудище заурядности» [IV: 496]. Пастернак полемизировал, таким образом, с сюжетным ходом литературы начала XX века, когда «героини умирают потому, что любят, и погибают, не сопротивляясь» [Эткинд А. 1998: 247].
Ещё одна черта сближает Свенцицкого с Антиповым-Стрельниковым и создаёт контраст с Комаровским: Свенцицкий - «изощрённый столичный интеллектуал» [Эткинд А. 1998: 246]. Приехав в Юрятин, «Павел Павлович оказался неисправимым столичным жителем. <.. .> Павел Павлович кончил классиком. Он преподавал в гимназии латынь и
34 Анализ этого стихотворения см.: [Rowland M.F., Rowland Р. 1967: 63-64].
Дом как место рождения трагедии
161
древнюю историю. Но в нём, бывшем реалисте, вдруг проснулась заглохшая было страсть к математике, физике и точным наукам. Путём самообразования он овладел всеми этими предметами в университетском объёме». Все гости Антиповых, «с точки зрения Павла Павловича, были набитые дураки и дуры» [IV: 107-108].
Интеллекта же Комаровского хватает лишь на то, чтобы тащить отца Юрия Живаго «в салон-вагон пить шампанское. <...> Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение клиента в каком-то отношении ему на руку» [IV: 18]. Или добиться прекращения дела о покушении Лары.
А.М. Эткинд противопоставляет Свенцицкого Г.Е. Распутину. С последним в плане неинтеллектуальности и развратности можно сравнить Комаровского. Изгнание Свенцицкого и убийство Распутина, которые характеризуются исследователем как «высшая степень наказания», меняются местами у героев Пастернака и профанируются: Комаровский оказывается в ненастоящем изгнании, а Антипов-Стрельников - самоубийцей.
«Такие люди, как Свенцицкий, были готовы к самопожертвованию; на деле жертвой оказывался кто-то другой рядом с ними. В этом сюжет романа Свенцицкого “Антихрист”: герой подрывает основы, но убитой оказывается его невеста» [Эткинд А. 1998: 247].
Достаточно сравнить это описание с автохарактеристикой Стрельникова в его разговоре с Живаго в Барыкине, чтобы сделать вывод: в своём романе Пастернак одновременно и следовал сюжетной канве «Антихриста», выводя на сцену Антипова-Стрельникова, и спорил со Свенцицким по вопросу о главном герое, противопоставляя Стрельникову Живаго. Однако слова, которые Пастернак вложил в уста Стрельникова, подошли бы, вероятно, и лично Свенцицкому с его трагической судьбой: «А мы жизнь приняли, как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы их волоском не обидели, потому что оказались ещё большими мучениками, чем они» [IV: 458].
«Герой-рассказчик «Антихриста» недавно окончил университет, работает на кафедре истории философии и “не лишен популярности” в качестве “писателя-проповедника”»35 [Эткинд А. 1998: 247].
Если со Свенцицким Юрия Живаго можно сравнивать лишь в отношении последних лет жизни и смерти, то с героем «Антихриста» - с самого начала взрослой жизни. С последним амбивалентно соотносится как доктор, так и Антипов-Стрельников. Так, закончивший университет Живаго работает в больнице, где им восхищаются как диагностом, и занимается творчеством (прозу он пишет днём, например, «Игру в людей», а стихи - ночью: «Сказку» в Барыкине). Творчество контрастирует с точными науками, которые самостоятельно по ночам осваивает Антипов, днём преподающий латынь и древнюю историю. Антипов тоже окончил университет, и им восхищались в Юрятине
35 А.М. Эткинд цитирует издание: Свенцицкий Вал. Антихрист. Записки странного человека. - СПб., 1908.
162
Глава 2
гимназистки. Философией же в университете занимался сам Пастернак, получивший в Марбурге одобрение Г. Когена и оставивший философию ради литературы. На философском факультете учится и Миша Гордон.
Герой Свенцицкого «в один из своих мучительных дней <.. .> объявляет себя верующим христианином и, более того, собирается стать миссионером; в душе же он вынашивает “теорию Антихриста”. Воскресение Христа - это ложь. Смерть разрушает эту иллюзию. Человечество “жаждет другого, который бы обнаружил обман и восстановил истинное значение смерти”. Это и есть Антихрист, которого герой чувствует в самом себе» [Эткинд А. 1998: 247].
Живя в Юрятине, Антипов мучается бессонницей. И в одну из таких ночей он решает уйти на фронт. В упрёке Лары, содержащем имя Христа, а также отсутствии ответа Антипова содержится скрытая отсылка к «теории Антихриста»: «А приносить семью в жертву какому-то сумасшествию не стыдно? Добровольцем! Всю жизнь смеялся над Родькой-пошляком, и вдруг завидно стало! Самому захотелось саблей позвенеть, поофи-церствовать. Паша, что с тобой, я не узнаю тебя! Подменили тебя, что ли, или ты белены объелся? Скажи мне на милость, скажи честно, ради Христа, без заученных фраз, это ли нужно России?» [IV: 110].
«Миссионерство» Антипова имеет конечную цель, о которой Лара говорит Юрию Живаго. В словах её содержится указание на то, что Антипов-Стрельников, как и герой Свенцицкого, занят проблемой смерти: «Ему надо все эти военные лавры к нашим ногам положить, чтобы не с пустыми руками вернуться, а во всей славе, победителем! Обессмертить, ослепить нас! Как ребёнок!» [IV: 301]. «Римские» мотивы, звучащие в её характеристиках, имеют именно антихристианские коннотации. Антипов-Стрельников, как и герой Свенцицкого, идёт восстанавливать правду, но она в его понимании совершенно иная. О своей правде Стрельников рассказывает доктору в Барыкине.
Пастернак использовал в романе и треугольник ‘герой - невеста - её брат’, который есть в «Антихристе». У героя Свенцицкого «есть невеста Вера, а у невесты есть брат, сосредоточивающий на себе и восхищение героя, и его зависть-ненависть» [Эткинд А. 1998: 247]. Об отношении Антипова к Родиону Гишару только и говорится, что он «всю жизнь смеялся над Родькой-пошляком» [IV: 110]. Фигура же брата невесты из «Антихриста» Николая Эдуардовича отразилась в «Докторе Живаго» в образе Николая Николаевича Веденяпина. У обоих одно и то же имя, а отчество Веденяпина может обозначать и «происхождение» от его литературного предшественника.
«Этот Николай Эдуардович вовлечён в политику религиозного возрождения. “Надо спасать церковь, спасать мир”, - призывает он героя. “Народ, начавший свою революцию с хоругвями и пением “Отче наш”, если Церковь не остановит (его) своим авторитетом, способен дойти до такого зверства, которого не видало ещё человечество”, - пророчит он; но сама Церковь отдалась в руки Зверя. В образе Николая Эдуардовича слились, вероятно, черты близких Свенцицкому в те годы Владимира Эрна и Сергея Булгакова» [Эткинд А. 1998: 248].
Дом как место рождения трагедии
163
В «Докторе Живаго» Веденяпин никого ни к чему не призывает, он лишь «вообще» говорит о том, что «надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу» [IV: 12]. Описываемая народная демонстрация во время революции 1905 года проходит без участия Церкви, без хоругвей и пения «Отче наш», а по инициативе нескольких революционных организаций и под пение «Варшавянки», «Вы жертвою пали» и «Марсельезы». Ведепяпин говорит толстовцу Выволочнову: «Я думаю, что, если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, всё равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник» [IV: 43].
Веденяпин говорит о Христе и Евангелии, но никак не о Церкви. Пастернак тем самым солидаризуется со Свенцицким в определении роли Церкви накануне революции, но не акцентирует на этом внимание, исходя из знания о том, каким гонениям впоследствии подверглась Церковь. Народ, изображённый в романе Пастернака, доходит до тех зверств, о которых говорится в «Антихристе», и даже больше - до звериного состояния. Все это подытоживается в описании того, что чувствовал Юрий Живаго в конце пребывания у партизан и во время своего пешего перехода в Юрятин: «Доктор вспомнил недавно минувшую осень, расстрел мятежников, детоубийство и женоубийство Палых, кровавую колошматину и человекоубоину, которой не предвиделось конца. Изуверства белых и красных соперничали по жестокости, попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу и бросалась в голову, ею заплывали глаза. Это было совсем не нытье, это было нечто совсем другое. <...> Это время оправдало старинное изречение: человек человеку волк. Путник при виде путника сворачивал в сторону, встречный убивал встречного, чтобы не быть убитым. Появились единичные случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пещерного века» [IV: 369, 375].
Однако общие с Николаем Эдуардовичем черты есть и у Живаго. Если то, что хочет создать герой Свенцицкого, «представляется ему в образе катакомб первых христиан» [Эткинд А. 1998: 248], то Юрий Андреевич в комнате в Камергерском ведёт жизнь отшельника, первохристианина, но живёт, по контрасту, наверху: «Комната обращена была на юг. Она двумя окнами выходила на противоположные театру крыши» [IV: 484]. Тема первохристиан возникает также и в монологе Гордона о евреях: «Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас» [IV: 124]. Позиция Гордона, желающего евреям блага, вполне согласуется в намерениях с позицией Свенцицкого, отражённой на страницах газеты «Новая земля», но способы достижения этого блага противоположны. У Гордона это благо духовное, у Свенцицкого, выступавшего в «Новой земле» в качестве «ведущего идеолога и публициста» - социально-конфессиональное: «Ясную позицию голгофские христиане заняли по отношению к делу Бейлиса. “Гнус
164
Глава 2
ная сказка”, - так писала “Новая земля” об обвинениях евреев в ритуальных убийствах. Выступала она и против черты оседлости» [Эткинд А. 1998: 254].
Цель героя Свенцицкого - «“неопределённая сила, неуловимая, всё что-то плетущая”, которая “разом явит себя миру”. Внутри не созданной ещё религиозной организации надо сразу же образовывать тайный религиозный центр, который будет, в ожидании Антихриста, создавать новые катакомбы. Тут герой знакомится с крестьянкой Марфой: “крепкое тело, здоровое, стихийное, некультурное”. Утончённая Вера и её организованный брат забыты. Рассказчик привозит Марфу из деревни, делает её своей служанкой и любовницей. Она живёт у него месяц, и всё это время они не выходят из дому, живя “сплошным кошмаром, безумием, каким-то вихрем дьявольским”. И, действительно, герою является в мистическом, весьма необычном видении сам Дьявол <.. .>. Возможно, что в этом образе сказались слухи о Владимире Соловьёве» [Эткинд А. 1998: 248].
Пастернак использовал детали из «Антихриста» зеркально. Так, Юрий Живаго и не думает о том, чтобы создавать какую-либо религиозную организацию, а внутри её -«тайный религиозный центр». Вместо крестьянки Марфы в «Докторе Живаго» вводится всегда жившая в столице Марина Щапова, с которой Юрий Андреевич не знакомится, поскольку знал её с детства. Претекст, связывающий двух героинь, - Евангелие (Марфа и Мария). И Пастернак «выбирает» героиню с «благой частью». Маркел упрекает Юрия Живаго: «Не надо было в Сибирь драть, дом в опасный час бросать» [IV: 475], что свидетельствует об отсутствии каких-либо, даже временных, связей Марины с деревней. Но её «низкое» происхождение сохраняется. При этом доктор возражает против того, чтобы она выполняла для него работу служанки: «Не надо. Никогда я не соглашусь, чтобы Марина для меня маралась, пачкалась. Какая она мне чернорабочая? Обойдусь и сам» [IV: 476]. Отношения их характеризуются как «дружба», и Марина становится не любовницей, а «третьей, не зарегистрированной в загсе женою Юрия Андреевича, при неразведённой первой» [IV: 476]. И если у Свенцицкого Марфа живёт у героя месяц, то у Пастернака персонажи живут вместе семь лет и ни разу не показаны внутри своего дома. Напротив, они ходили «по дворам на заработки» и «пилили дрова проживающим в разных этажах квартирантам» [IV: 476-477]. Наконец, если герою «Антихриста» является «сам Дьявол», то Юрий Живаго повторяет путь Христа.
В «Антихристе» «Марфа уходит, Вера возвращается. На следующий день её убивают в уличных беспорядках. “Ура Антихристу”, - кричит герой и едет в публичный дом. Роман заканчивается на этой самоубийственной ноте» [Эткинд А. 1998:249]. Живаго тоже едет, но только в больницу на работу, и поездка его заканчивается, в отличие от персонажа Свенцицкого, смертью. Окончательный уход Марфы Пастернак превратил во временные уходы Марины: когда Евграф и Лара «входили в комнату, где находился гроб, все, кто сидел, стоял или двигался в ней, не исключая Марины, без возражения, как по уговору, очищали помещение, сторонились, поднимались с расставленных вдоль стен стульев и табуретов и, теснясь, выходили в коридор и переднюю, а мужчина и женщина оставались одни за притворенными дверьми» [IV: 491].
Дом как место рождения трагедии
165
Возвращение же Лары происходит после смерти Юрия Живаго, а не при жизни, как у Марфы из романа Свенцицкого. О том, как приехала в Москву, Лара рассказывает Евграфу. Гибель героини Пастернак так же, как и Свенцицкий, связал с социальными обстоятельствами, но изменил их в меру изменения исторической обстановки и времени действия в романе. После похорон и ещё одного важного разговора с Евграфом Лара «однажды <...> ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, её арестовали в те дни на улице и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей севера» [IV: 499]. Если «номер» можно истолковать как число Антихриста 666 (это имя Пастернак скрыл «безымянностью» тавтологичного своей концлагерной бесконечностью номера), которым метили, по мысли Пастернака, невинных и праведных, то «списки» можно связать с Книгой Жизни, с которой снимает печати Агнец. Ср.: «И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» (Откр. VII, 4). В этой же главе Откровения находятся слова «и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. VII, 17), перекликающиеся со стихом 4 из XXI главы, использованным Пастернаком на ранней стадии работы в качестве эпиграфа36.
Влияние «Антихриста» на «Доктор Живаго» не ограничивается персонажами, но и проявляется в особенностях ткани повествования. Пастернак использовал то, что в романе Свенцицкого «профессиональные философские рассуждения чередуются с необыкновенно искренними и даже циничными признаниями героя», которому автор придал «свою профессию и формальные черты биографии» [Эткинд А. 1998: 247]. Однако от цинизма и чистой философии Пастернак уходил. Отношение к последней даже озвучивается Ларой: «Я не люблю сочинений, посвященных целиком философии. По-моему, философия должна быть скупою приправой к искусству и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как есть один хрен» [IV: 404].
Пастернак, не ставя под сомнение искренность мыслей, а не признаний, и не одного героя, а многих, напротив, не стал делать Юрия Живаго профессиональным писателем, каким был сам, и явно не наделил его чертами своей биографии. Рассуждения героев представляют собой не философские экстракты, а «скрытые взрывчатые гнёзда <...> самого ошеломляющего из того», что они успели «увидать и передумать» [IV: 66].
Необходимо отметить и зеркальные параллели в судьбе Живаго и Свенцицкого. С вынужденным отъездом доктора на Урал и пребыванием в Юрятине, Барыкине и в Сибири у партизан (на ‘Востоке’) соотносимо добровольное путешествие Свенцицкого (около 1915 года) «по Кавказу в поисках религиозных и политических единомышленников; об этом опыте, кажется, не вполне удачном, он рассказал в книге Граждане неба» [Эткинд А. 1998:254]. Кавказ -тоже вариант ‘Востока’. Путешествие Живаго обращённо соотносится с поездкой Свенцицкого, а осью симметрии выступает октябрьская рево
36 О первоначальных названиях романа и эпиграфах к нему см. комментарии: [IV: 645].
166
Глава 2
люция 1917 года. После неё Свенцицкий «принял священнический сан и в 1920-е годы служил в Москве в церкви на Варварке. В 1928 году он принял участие в движении протеста против сотрудничества церкви с коммунистической властью. “Я отделился от митрополита Сергия и увёл свою паству из лона Православной Церкви”, - писал он об этом позже. В 1929 году Свенцицкий был арестован и через два года умер в заключении» [Эткинд А. 1998: 254].
Живаго возвращается в Москву в 1922 году, и в описаниях его поведения и жизни появляется всё больше скрытых отсылок к Евангелию. Христианство Свенцицкого -внешнее, официальное, а христианство героя Пастернака - внутреннее, тайное. Если Свенцицкий проявляет себя протестом внешним, то Живаго - внутренней инаковостью. Но оба отходят от ортодоксального православия. Но если Свенцицкий возвращается к нему в конце жизни в 1931 году (см.: [Эткинд А. 1998: 254]), то с особенностями (интерконфессионального) христианства доктора друзья (и читатель) знакомятся после его смерти, читая «Стихотворения Юрия Живаго». Даты ареста Свенцицкого и смерти Юрия Живаго совпадают также не случайно.
Глава 3
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
Напрасно думать, что искусство вообще когда-нибудь поддаётся окончательному пониманию и что наслаждение им в этом нуждается. Подобно жизни, оно не может обойтись без доли темноты и недостаточности.
Б. Пастернак. «Замечания к переводам из Шекспира»
Влияние того или иного автора, сказавшееся в «Докторе Живаго», осложнено не только тем, что иной раз при малой частоте упоминаний какого-либо автора обнаруживается его большое влияние1, но и тем, что интертекстуальные следы этого влияния всякий раз вступают во взаимодействие с типологически близкими следами других авторов. Одна и та же деталь получает множественное кодирование, и результаты скрытой конфронтации или притяжения этих кодов дают возможность приподнимать завесу тайны над смыслом многих эпизодов. «Прочтение» интертекста и получение читателем этих результатов, очевидно, входило в замысел Пастернака, спрессовавшего в романе такое колоссальное количество информации, что в принципе недостаточной оказывается любая попытка интерпретации даже самого малого отрывка текста. Однако подобные попытки как раз и оправдываются замыслом автора. В качестве примера такого «уплотнения» (термин А.-Ж. Греймаса) мы и рассмотрим персонажей мелюзеевского участка романа.
В центре внимания будут отражения в «Докторе Живаго» личности В.В. Маяковского, персонажей некоторых его произведений, а также личностей и текстов поэтов-современников - Н.Н. Асеева, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой и др. Мы рассмотрим интертекстуальные следы, дающие представление о совмещении оппозиционных кодов: в частности то, как при создании образа Антипова-Стрельникова Пастернак использовал детали биографии Маяковского и отдельные мотивы его творчества и как этот материал сочетается с проекцией Стрельникова на апостола Павла. «Генетику» персонажа дополнит выяснение его сказочного интертекстуального «родства» с героем лубочной повести Ерусланом Лазаревичем. Что касается Ахматовой и других, то основное внимание мы сосредоточим на образе Устиньи. Один из разделов будет выполнять функ
1 Примеры тому - гельдерлинский слой в «Лете», проанализированный А.К. Жолковским [2006], следы влияния П.Я. Чаадаева [Буров 20096] и др.
168
Глава 3
цию переходного от Маяковского к Ахматовой. В нём мы попытаемся показать «происхождение» второстепенного персонажа - Коли Фроленко, игравшего связующую роль между мадемуазель Флери и Гинцем и не только между ними.
3.1. Прототипы Антипова-Стрельникова
Пастернак сознательно выстраивал свою биографию и образ главного героя романа с ориентацией не только на классиков, но и на поэтов-современников. 6 апреля 1948 г. Пастернак написал М.П. Громову: «Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским» [IX: 516]. Определение это вскрывает, конечно, не всю литературную генеалогию Юрия Живаго. Кроме отсылки к поэтам-современникам как прототипам, оно свидетельствует о способе создания персонажа - контаминации черт нескольких прототипов. Но из их множества повествователь в романе упоминает лишь Блока и Маяковского, что указывает на их особое значение для него, а также для главного героя. Маяковский оказывается единственным поэтом-ровесником, прямо названным в романе в качестве исторического лица. Тем самым Пастернак обозначил важность его биографии не только для Живаго, но и для себя как автора текста. Маяковский предстаёт скрытым двойником - антагонистом доктора и в тексте не случайно упомянут в связи с мотивом предъявления сказочным ложным героем необоснованных претензий (эпизод вечера с уткой в доме Громеко, на котором роль такого ложного героя играет Веденяпин). Так же, как в жизни, в романе Пастернак отталкивался и от биографии Маяковского, и от его текстов (и собирательного «лирического героя»).
Маяковский привлекал заинтересованное внимание Пастернака, по меньшей мере, с 1914 года - и судьбой, и произведениями2. Если расхождение с Маяковским после знакомства с ним в 1914 году было для Пастернака желательным, то после революции он искал невозможности «привыкнуть» к нему. В «Охранной грамоте» он писал о своём отказе от «романтической манеры» из чувства «какой-то вины» перед Маяковским [III: 225-226]. Первое «внешнее» расхождение проявилось в сентябре 1917 г. после того, как «Маяковский поставил его имя без его ведома вместе с Большаковым, Липскеровым и другими “вернейшими из верных” на афише вечера “Большевики искусства”» [Пастернак Е. 1997:271-272]. Этот первый период «страдательного» и по своей «вине» расхождения с Маяковским закончился через четыре года: «Пока он существовал творчески, я четыре года привыкал к нему и не мог привыкнуть. Потом привык в два часа с четвертью, что длилось чтенье и разбор нетворческих “150 000 000-нов”. Потом больше десяти лет протомился с этой привычкой. Потом вдруг разом её в слезах утратил, копта он весь голос о себе напомнил, как бывало, но уже из-за могилы» [III: 218].
2
О пересечениях путей поэтов см.: [Пастернак Е.В. 1992].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
169
Заметим, что Дудоров на вечеринке в доме Громеко хочет говорить с Юрием Живаго именно о тех произведениях, которыми Маяковский «напоминал» о себе Пастернаку в эти четыре года - «Войне и мире», «Флейте-позвоночнике» и «Человеке». Между тем в «Охранной грамоте» первым в числе поэм названо «Облако в штанах», не упомянутое Дудоровым. О чтении же «Флейты-позвоночника» Дудоров переспрашивает друга дважды, что сигнализирует о каком-то особом отношении Дудорова к этому произведению. Как полагают, касаясь этой сцены, М.Ф. Роуланд и П. Роуланд, «Dudorov (duda, dudka, pipe, flute) is equally appropriate, recalling the familiar adage about person who is merely a pipe on which others play a tune»3 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 40].
Невозможность найти взаимопонимание после революции Пастернак, по обыкновению, тоже ставил в вину себе. 4 апреля 1928 г. он писал Маяковскому: «Может быть, я виноват перед Вами своими границами, нехваткой воли. Может быть, зная, кто Вы, как это знаю я, я должен был бы горячее и деятельнее любить Вас и освободить против Вашей воли от этой призрачной и полуобморочной роли вождя несуществующего отряда на приснившейся позиции»4 [VIII: 198].
В «Охранной грамоте» жизнь Маяковского трактуется как переломленная на две части. Рубежом названа поэма «150 000 000». Для Пастернака схематизм в отношении живой жизни всегда бинарен. Третья составная всегда является выходом из «зла посредственности». И эта составная указана: «За вычетом предсмертного и бессмертного документа “Во весь голос”, позднейший Маяковский, начиная с “Мистерии-буфф”, недоступен мне» [III: 336]. Пастернак называет «Во весь голос» «документом», обозначая и подчёркивая тем самым его «происхождение». Его внимание к этой последней поэме Маяковского могло быть привлечено и тем, что её название цитирует былинное выражение, которым описывался Соловей-разбойник [Смирнов 1981: 36,56]. Поэтому соловей в «Докторе Живаго» может ассоциироваться не только с былинами, но и со смертью Маяковского (попадание доктора в плен к партизанам его близкие воспринимают как его гибель). Обе половины жизни Маяковского, которого признавали первым поэтом поколения не только Пастернак, но и другие поэты-современники, для Пастернака были цельны каждая по-своему: первая - как творческая, непредсказуемая, с «бездонной одухотворённостью» [III: 218], продолжавшаяся «четыре» года (числовая символика говорит здесь о преодолении тернарности и выходе на новый «виток» или цикл); вторая, длившаяся «больше десяти лет» [III: 218] (удвоенное число «полноты»; чётность), -«пропагандистским усердием, внедрением себя и товарищей силой в общественном сознании, компанейством, артелыциной, подчинением голосу злободневности» [III: 335].
Тема самоубийства - одна из тех, по которым идёт спор в «Докторе Живаго», - постоянно звучит в ранних произведениях Маяковского и, пожалуй, наиболее отчётливо
3 «Дудоров (дуда, дудка, трубка, флейта) как раз подходит, напоминая известную пословицу о человеке, который был просто трубой, на которой другие играют мелодию» (англ.).
4 Ср. эту характеристику с описанием атаки, в которую «шёл со своими солдатами» Антипов [IV: 113-114].
170
Глава 3
выражена в известных строках «Флейты-позвоночника» (1915): «Всё чаще думаю -/ не поставить ли лучше / точку пули в своём конце» [Маяковский, X: 199]. Строки эти, как и неудавшаяся попытка самоубийства Маяковского в 1916 году, вряд ли могли не вспоминаться Пастернаку после смерти «глашатая-главаря». 29 апреля 1930 г. Л.Ю. Брик писала Е.Ю. Каган: «Володя все 15 лет говорил о самоубийстве. Причины у него не было никакой - был пустяшный повод, невероятное переутомление и всегдашний револьвер на столе» [Маяковский в переписке 1996: 430]. Та же тема звучит в воспоминаниях Л.Ю. Брик: «Всегдашние разговоры Маяковского о самоубийстве! Это был террор. В 16-м году рано утром меня разбудил телефонный звонок. Глухой тихий голос Маяковского: “Я стреляюсь. Прощай, Лилик”. <...> Мысль о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского, и, как каждая хроническая болезнь, она обострялась при неблагоприятных условиях» (цит. по: [Маяковский в переписке 1996: 430]).
И факты биографии (попытки самоубийства - неудачная и удавшаяся), и мотив творчества Маяковского совмещены в самоубийстве Антипова-Стрельникова. Но черты личности и характера Маяковского проявились не только в образе двойника доктора, но и в образе самого Юрия Живаго, например, отмечаемое Тоней безволье. Маяковский «в большей степени, чем остальные люди, был весь в явленье. <...> пружиной его беззастенчивости была дикая застенчивость, а под его притворной волей крылось феноменально мнительное и склонное к беспричинной угрюмости безволье. Таким же обманчивым был механизм его жёлтой кофты» [III: 215-216].
Антипов-Стрельников наделён не только чертами Маяковского, но и апостола Павла, причём на последнего оказывается спроецирован и Маяковский. Мы проследим некоторые детали «жизнеописания» персонажа, останавливаясь на ключевых моментах жития апостола. Регулярное использование его фигуры в качестве прототипа Антипова-Стрельникова свидетельствует о важности для Пастернака написать роман сквозь призму Нового Завета и, в частности, начального периода истории христианства, которое выступает противовесом Риму. Тема Рима возникает в романе в противопоставлении теме христианства не только в плане мифологического кода, но и литературного (через отталкивание раннего Пастернака от «романтической манеры» Маяковского, а позднего - от футуризма).
Образ апостола Павла оказался важен и для раннего Маяковского, создававшего новаторские поэмы, главный герой которых автобиографичен, и для позднего Пастернака, работавшего над таким же, но иным образом новаторски «плохим» «Доктором Живаго», который Д.С. Лихачёв назвал «родом автобиографии самого Пастернака» [Лихачёв 1989: 34]. Разница в том, что Маяковский в 1910-е годы (и не только) был занят разбрасыванием камней, а Пастернак в 1940-50-е - собиранием. «Доктор Живаго» -собирание по камешку культуры, удавшаяся реализация новой творческой эстетики. Пастернак, создавая роман, учитывал использование Маяковским образа апостола в описании самоопределения героя. Так, например, поэма «Облако в штанах» первоначально называлась «Тринадцатый апостол», а герой говорил о себе: «Я, воспевающий
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
171
машину и Англию, / может быть, просто / в самом обыкновенном евангелии / тринадцатый апостол» [Маяковский, I: 190]. Этот учёт проявился в ориентации автобиографического героя на Христа и противопоставлении доктора - Антипову-Стрельникову, являющему собой инверсированное «перевоплощение» апостола, Маяковского и его лирического героя.
Сравнение России с Римской империей было достаточно традиционным уже ко времени революции (вспомним хотя бы «Анну Каренину»). Но актуальным это сравнение оказывается и после 1917 года. Тема Рима вводится уже в начале «Доктора Живаго» -в разговоре Веденяпина с Воскобойниковым, в его записях после разговора с толстовцем Выволочновым. Кстати, фамилию этого персонажа, а также контраст его представлений и апологетики Христа, высказываемой Веденяпиным, Пастернак произвёл от строк поэмы Маяковского «Война и мир» (1915-1916): «Выволакивайте забившихся под Евангелие Толстых! / За ногу худую! / По камню бородой!» [Маяковский, I: 219]. Реакция Веденяпина на Выволочнова - «страшное раздражение» [IV: 44] - является, по-видимому, закамуфлированной реакцией позднего Пастернака на футуризм и Маяковского.
Наступившие после революции времена актуализировали противопоставление Рима и христианства. Вторая книга «Доктора Живаго» охватывает послереволюционный период, характерный воинствующим антихристианством, которое было формой религиозной борьбы, вывернуто повторяющей путь апостольского служения. (Заметим, что Антипов после своего перерождения в Стрельникова появляется в самом конце Первой книги, то есть уже после революции.) Пастернак описал этот период как завершённый не только в «Докторе Живаго», но и в письмах. В романе он старался выяснить причины и природу переворота, его ход, показать потерю им динамики, внутренний конец и последствия.
«Генетика» отца и сына Антиповых интересна не менее, чем «происхождение» Галузиных или Тиверзина, которое выдают, в частности, их имена. «One might even argue that there is an echo in Zhivago of Pavel Florenskii’s emphatically religious doctrine of names, according to which referents enjoy such a bond with their signifiers that the essence of a person is determined by the name given him or her at birth (see for example his Imend)»5 [Seifrid 2009: 177].
Остановимся на фигуре сына. Прежде всего обращает на себя внимание тавтология его имени и отчества - Павел Павлович. Прежде всего, она объясняется темой «отцы и дети»: отец Антипова - старый революционер. Кроме того, Павлом - именем покончившего с собой в 1937 г. в ожидании ареста Паоло Яшвили - Пастернак хотел назвать своего второго сына, о чём сообщал в письме Н.А. Табидзе, написанном в начале ноября 1938 г. [IX: 141-142]. Павлом Павловичем также зовут героя повести Достоевского «Вечный
5 «Кто-то может даже сказать, что в Живаго слышится эхо вполне религиозного учения Павла Флоренского об именах, согласно которому означающие обладают такой связью с означаемыми, что сущность человека определена именем, даваемым ему при рождении (см., к примеру, его Имена)» (англ.).
172
Глава 3
муж» (1869-1870) Трусоцкого. Напрашивается и сравнение с тавтологичными именем и отчеством Маяковского. Зеркальность имён и отчеств Антипова и Маяковского поддерживается и этимологией имён: греческой - Павла (греч. ПосиХос; как передача лат. Paulus, «малый» [Мифы 1994, II: 272]), славянской - Владимира («владеющий миром»). Важнейшим признаком, позволяющим говорить об инверсионном соотношении Антипова-Стрельникова и апостола Павла, является смена имени: Антипова - на Стрельникова, как Савла - на Павла. Отметим также противопоставленность фамилии Антипова - его же имени и отчеству. Если имя и отчество напоминают об апостоле и содержат тему сыновности по отношению к нему, то фамилия отсылает к царю Ироду Антипе. То, что Павел Павлович - Антипов, даёт основание для сравнения с Иродом Антипой и его отца. Мучительная смерть Антипова-Стрельникова напоминает также о мученике Антипе из Пергама, о котором в своём послании к Пергамской церкви говорит Иоанн Богослов (Откр. II, 12-13).
Однако у отца и сына Антиповых есть и другая «генетика». Фамилия напоминает также об их «происхождении» от Антипки беспятого, как русский народ называл чёрта. В Малороссии же у слова «антипка» есть ещё одно значение - дикорастущая вишня. Так выявляется связь отца и сына Антиповых с пролитой кровью, на которую похож сок вишни. Их готовность проливать кровь и кровавые дела связаны с их вероятным украинским происхождением, о котором свидетельствует этимология фамилии. Наличие интертекстуальных значений фамилии, имени и отчества не только Антипова-Стрельникова, но и вообще всех героев романа указывает на них как на сказочных персонажей: имя героя сказки, «как правило, небезразлично к тому, какие акции он совершает. Оно либо содержит те признаки, которые обыгрываются в сюжетном действии, либо номинация происходит вслед за описанием какого-либо эпизода, смысл которого фиксируется в имени и затем как бы в свёрнутом виде продолжает своё существование в сюжете» [Новик 2001: 128]. Пастернак переворачивает это сказочное положение: поступки героев запрограммированы исторической памятью их фамилий. Если говорить, в частности, о значении украинского «происхождения» некоторых персонажей «Доктора Живаго», то все такие фигуры оказываются деятелями революции, носителями кровавой смуты, корни которой уходят во времена Киевской Руси и междоусобицы. Однако все имена собственные в романе постепенно, на фоне усиливающегося социального обезличивания, утрачивают силу. У Пастернака прослеживаются по меньшей мере две тенденции: 1) к полному исчезновению имени (умирающий Юрий Живаго - безымянный для окружающих; имя Лары теряется «в безымянных списках» и т. д.); 2) к образованию новых имён за счёт искажения слов из сферы быта (Безочередева). Обратная проекция потери имени даёт уничтожение смысла поступков и жизни, что в случаях главных героев «Доктора Живаго» компенсируется их приобщённостью (или усиливается удалённостью) в отношении Христа6. Это согласуется с тем, что «с течением повествования автор осво
6 Подробно об утрате имен в европейских романах середины XX века: [Барт 1994: 113, 235].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
173
бождает своего героя от подчинённости времени, социальному кругу, писательской биографии, от семьи и забот, от всего того, что определяло границы судьбы и поведения самого Пастернака» [Пастернак Е. 2009:122]. Тенденция к обезличиванию главного героя нарастает по мере продвижения текста к концу. Выражается это, в частности, в том, что Пастернак не даёт ни «программы» Юрия Живаго, ни описания его страданий - чтобы не было «внутреннего лицемерия» и «далёких, торжественных требований (вроде морали Канта)» [Батай 1997: 10-11].
А. Ливингстон, рассматривая семантику фамилии Антипова, замечает, что «the ‘anti’ in Antipov need not imply ‘against’, but ‘antipod’, the other side of the coin»7 [Livingstone 1989: 78]. Иудейство, как и не совместимый с ним Рим, по-разному, но одинаково враждебны христианству. Антипов-Стрельников совмещает и черты власть имущего римлянина - Понтия Пилата, и черты царя Ирода Антипы. Примером этого сплава в фигуре Антипова-Стрельникова трёх прототипов - апостола Павла (который был римским гражданином), Понтия Пилата и Ирода Антипы - является эпизод в бронепоезде, когда Стрельников задаёт доктору вопросы, насмехается и освобождает его с угрозами и вызовом. Последний ответ Живаго явно спроецирован на молчание Христа (в том числе и Христа из «Легенды о Великом инквизиторе», которую сочиняет Иван Карамазов - см.: [Смирнов 1996: 189]), которого Ирод затем отсылает. «И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил; кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть Его» (Лк. XXIII, 8-9). «Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату» (Лк. XXIII, 11).
Встрече в бронепоезде параллельна последняя встреча Стрельникова и Живаго в Барыкине. Ср.: «Совесть тревожила Ирода, и он думал личным свиданием с загадочным человеком, быть может, пророком, успокоить своё сердце», - пишут комментаторы [ТБ 1987,3: IX, 189). Ещё одним мотивом желания Стрельникова поговорить (как у Ирода и Пилата) в противопоставленных сценах в вагоне и в варыкинском доме является любопытство. И в первую, и во вторую встречи он задаёт Юрию Живаго множество вопросов.
Аналогия Антипова-Стрельникова с Маяковским позволяет сопоставлять прототипов героя. Одним из таковых является Еруслан Лазаревич - «герой древнерусской повести, широко распространённой в лубочной литературе XVIII-начала XX в.» [Пастернак 1989-1992, III: 693]. Сравнение с ним Антипова рассказчик прямо вводит в Первой книге романа. Антипов ещё не отправился на фронт и не ушёл в революцию. Кроме того, на ёлке у Свентицких в своего противника Комаровского стрелял не он, а Лара. Сравнение с Ерусланом Лазаревичем намекает на то, какое будущее ждёт героя. На лице Антипова оно написано так же, как было написано на лице Маяковского. Именем лубочного героя называет Антипова Руфина Онисимовна Войт-Войтковская8, в квартиру которой Комаровский помещает стрелявшую в него в доме Свентицких Лару. Возможно, Пас
7 «“Анти” в Антипове должно подразумевать не только “против”, но и “антипода”, другую сторону монеты» (англ.).
8 Об амплуа этой героини как сообщницы Комаровского см.: [Rowland М.Е, Rowland Р. 1967: 76-77].
174
Глава 3
тернак изобразил здесь квартиру в доме на Арбате, в которой в детстве и юности жил Андрей Белый. Ниже этажом жила семья М.С. Соловьёва - брата знаменитого философа. «Пошли душераздирающие сцены, одна невыносимее другой. Войтковская <.. .> при виде заплаканного Паши кидалась из коридора на свою половину, валилась на диван и хохотала до колик, приговаривая: “Ой, не могу, ой, не могу! Вот это можно сказать действительно... Ха-ха-ха! Богатырь! Ха-ха-ха! Еруслан Лазаревич!”» [IV: 96-97].
Имя Войт-Войтковской отсылает к ветхозаветной язычнице Руфи, которая может считаться одною из прародительниц Иисуса Христа. Войт-Войтковская своим смехом, цинизмом и отношением к душевным проблемам скрыто оказывает на Антипова решающее влияние, обращённо аналогичное тому, которое оказывал на Онисима, в позиции духовной дочери которого предстаёт Войт-Войтковская, апостол Павел. Как сообщает Библейская энциклопедия, Онисим (полезный) (Филим. X) - Фригиянин из города Колосс, раб Филимона, бежавший от господина своего и обращённый святым апостолом Павлом в Риме к вере во Христа. В послании к Колоссянам апостол Павел называет его верным и возлюблённым братом (Кол. IV, 9). Впоследствии, по преданию, Онисим был епископом в Ефесе после Тимофея, а скончался мученически в царствование Траяна в Риме. Святой Игнатий Богоносец упоминает об Онисиме в своём послании к Ефесянам. Память его 15 февраля.
Войт-Войтковская (войт - гетман) наделена фамилией, представляющей собой аналог фамилии Е.К. Брешко-Брешковской (1844-1934), которую называли «бабушкой русской революции». Детство и юность её прошли в Черниговской губернии на Украине, а в 1917 г. она была избрана членом Учредительного Собрания по Черниговскому избирательному округу. Связь Брешко-Брешковской с Украиной могла свидетельствовать для Пастернака о глубинных источниках революционной закваски этой известной деятельницы партии эсеров. «Инженер заводов в Тихих Горах, позже известный биохимик Б.И. Збарский познакомил Пастернаков с Брешковской; Л.О. Пастернак рисовал ее портрет в 1917 г.» [III: 611].
Таким образом, расшифровки имён Войт-Войтковской дают картину движения от ветхозаветной древности (имя) - через христианство (отчество) - к современности (фамилия). С учётом инверсирования смысла, стоящего за именами, Войт-Войтковская предстаёт зловещей антихристианской фигурой. Смех Войт-Войтковской - персонажа с отчётливо, к тому же, выраженной принадлежностью к сказочному «царству мёртвых», с которым ассоциируется в «Докторе Живаго» мир революции, - объясняется не только самой поверхностной причиной: плачем молодого человека. Скрытые мотивы обусловлены историей появления в России «Повести о Еруслане Лазаревиче», её литературной спецификой и содержанием. Заметим, что в начале XX века «Повесть...» определялась как сказка, и, видимо, именно так её воспринимал и Пастернак, учитывавший и социальное бытование этого текста.
«В ряду сказок, образовавших народную книгу, особенно выдаётся сказка об Еруслане Лазаревиче, занесённая в рукопись уже в самом начале XVII века (если не в конце
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
175
XVI века)» [ИРЛ 1908: 373; раздел «Народная книга» написан Еленой Елеонской]. «Повесть...» относилась к развлекательному жанру, и со стороны ведущих литераторов к ней достаточно рано проявилось отрицательное отношение. Возможно, Пастернаку были известны «резкие отзывы Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова о русских переделках рыцарских романов» и, в частности, о «Еруслане Лазаревиче». «Статьи, предостерегавшие читателя от увлечения пустыми романами, печатались уже в первом русском журнале “Примечания к Ведомостям” (1728-1742), задолго до появления русских романов» [ИРЛ 1980,1: 592]. Эти отзывы русских писателей скрыто противопоставлены (в том числе по оси ‘Восток - Запад’) оценке Войтковской, предки которой, судя по её полному имени, были евреями, русскими или украинцами и поляками. Классики литературы предостерегали от увлечения героем литературного произведения, имеющего западные корни, но пришедшего с ‘Востока’. Войтковская, будучи женой революционера (друга Плеханова), смеётся над тем, что Антипов не соответствует представлениям о герое, сложившимся в начале XX века и имевшим западные идейные корни: героем может быть только революционер, даже если он, как её муж и Плеханов, носит люстриновый пиджак и ходит в панаме. После революции Антипов становится на сторону большевиков, то есть добивается соответствия образу «героя нашего времени».
Герой «Повести...» «стал синонимом непобедимости и чарующего геройства, а имя его стало употребляться как имя нарицательное. Собственные имена этой книги, изменённые почти до неузнаваемости, выдали чужеземное происхождение этого православно-русского героя, они же позволили открыть её первоисточник и определить путь, по которому рассматриваемая сказка зашла в русскую среду» [ИРЛ 1908: 373].
Синонимом жестокости и кровавых расправ стало и имя Стрельникова. Подробный «послужной список» и описания революционных расправ Стрельникова приводятся при изображении сцены встречи с ним Юрия Живаго в бронепоезде. Рассказчик отмечает: «Стрельников знал, что молва дала ему прозвище Расстрельникова. Он спокойно перешагнул через это, он ничего не боялся» [IV: 249-251]. В сцене в бронепоезде Антипов впервые появляется в романе под именем Стрельникова, и доктор чувствует к нему симпатию. До этого Стрельников побывал в немецком плену, то есть пришёл под другим и чисто русским именем с ‘Запада’, а не с ‘Востока’, как герой иранского эпоса, имя которого изменилось.
«Главный интерес сказки об Еруслане Лазаревиче лежит в двух крупных эпизодах: освобождение им своего дяди от Данилы Белого и борьба с неузнанным сыном. В промежутках между этими событиями герой побеждает змея, добывает невесту для товарища, борется со встречным богатырём - одним словом, живёт обычною богатырскою жизнью, не зная мира и успокоения, переходя от одного подвига к другому, - жизнью, которая рисовалась в заманчивых красках народной фантазии и изображалась в народном эпосе [ИРЛ 1908: 374].
Главные действия Антипова-Стрельникова - это участие в Первой мировой войне в Галиции у границы с Венгрией (освобождение родины от немцев) и борьба против Гали
176
Глава 3
уллина, с которым воевал вместе против немцев, за Юрятин. Войт-Войтковская, смеющаяся над плачущим Пашей, с которым хочет расстаться Лара, смеётся потому, что он являет собой зеркального двойника лубочного героя: слёзы выказывают слабость. Ерус-лан Лазаревич завоевывает невесту для друга, а Антипов не может завоевать Лару у Комаровского-«змея» для себя. Смех Войт-Войтковской беспощаден подобно народному, но сама-то она не является представителем народа ни в социально-классовом, ни в национальном планах. «Богатырскую жизнь» мужа Лара оценивает так: «Я так его знаю! У него от избытка чувств такое задумано! Ему надо все эти военные лавры к нашим ногам положить, чтобы не с пустыми руками вернуться, а во всей славе, победителем! Обессмертить, ослепить нас! Как ребёнок!» [IV: 301]. Здесь в контрастное взаимодействие с проекцией Антипова-Стрельникова на Еруслана вступает «древнеримский» подтекст его характеристики. О том, что эта проекция строится Ларой со знанием дела, свидетельствует и её автоаттестация, высказанная незадолго до приведённых слов: «А по специальности я учительница-историчка» [IV: 297].
«По своему психическому складу Еруслан Лазаревич близок русским богатырям: он бесстрашен и готов всегда вступить в бой, не переносит похвалыциков и даёт им сразу почувствовать своё превосходство, уважителен к отцу, <...> благочестив, воссылает перед битвою молитвы <...> и молитва эта характеризует героя как богатыря, защищающего слабых, а не душегубца, ищущего удовольствия в убийствах; он не берёт коня и доспехов убитого врага» [ИРЛ 1908: 374].
Характеристика психического склада - «двух страстей, отличавших» Антипова-Стрельникова, а также описание его военных побед в гражданской войне и поведения [IV: 249-251] помогают узнать в нём черты Еруслана. Дать почувствовать своё превосходство Стрельников старается не только в разговоре с Живаго в Развилье, но и в Барыкине. При этом он проявляет нетерпимость к словам доктора о себе, которые кажутся Стрельникову «похвальбами». О слабых и обиженных и о мстящей за них революции (и о себе как её выразителе) Стрельников прямо говорит Юрию Живаго и в своём вагоне в Развилье, и в Барыкине. В этих местах выявляется взаимозависимость судеб героев.
«Отмеченные черты Еруслана Лазаревича содействовали его популярности, тем не менее, они не помогли ему примкнуть к богатырской семье, попасть в былину - он все-таки был выходцем из чужой земли. Волна шедших с Востока на Русь народов занесла в среду русских людей героя иранского эпоса. Рустем-Арслан (лев), вплетённый бесконечными пересказами в бродячие сказки тюркской среды, явился на Русь Ерусланом и принёс с собою, кроме своих подвигов, воспетых в Рустемиаде, многие необычайные безымянные подвиги, приписанные ему фантазией разнородных многочисленных сказочников... И русские люди, пересказывая эти подвиги, свершавшиеся на безбрежном фоне степей, среди кочующих орд и одиноких кибиток - белых шатров, с.. .> уловили внутреннее сходство между Ерусланом и уже знакомыми русскими богатырями, усиленное и внешним: Еруслан обладает вещим конём, который ведёт с ним беседу, подобную той, которую не раз важивали Илья и Добры-ня со своими конями, лошадьми добрыми, владеет крепким оружием, служит князю <...>. В постоянных устных пересказах образ восточного богатыря изображался всё более и более
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
177
похожим на привычную фигуру богатыря свято-русского, которая отчётливо рисовалась фантазии русского народа. Типу героя обязана сказка и создавшаяся из неё книга своею привлекательностью и быстрым распространением в увеличивающейся с годами грамотной народной среде» [ИРЛ 1908: 375].
Но поведение мстителя-математика Антипова-Стрельникова и пассивного Живаго «запрограммировано» не только «Повестью о Еруслане Лазаревиче, но и «Записками из подполья» Ф.М. Достоевского, герой которых рассуждает: «Ведь у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя постоять, - как это, например, делается? Ведь их как обхватит, положим, чувство мести, так уж ничего больше во всём их существе на это время и не останется, кроме этого чувства. Такой господин так и прёт прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает. (Кстати: перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятели, искренно пасуют. Для них стена - не отвод, как, например, для нас, людей думающих, а следственно, ничего не делающих; не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всею искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое... <...> Невозможность - значит, каменная стена? Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика» [Достоевский, V: 103-104, 105].
О популярности в Юрятине москвича Антипова говорит Микулицына: «Великолепный математик был у нас в Юрятине. <.. .> Как объяснял, как объяснял! Как бог! <.. .> Девочки были без ума от него, все в него влюблялись» [IV: 275]. Среди воюющих с белыми большевиков Антипов-Стрельников занимает особую позицию: он не соприкасается ни со старыми большевиками (своим отцом и Тиверзиным), ни с Ливерием и его партизанами. Трое партизан во главе с начальником связи Ливерия Каменнодворским, останавливающих Юрия Живаго, инверсированно «списаны» с трёх былинных богатырей Древней Руси. А внутреннее сходство проявляется в родстве сына и отца Антиповых, которое ими скрывается, и принадлежностью к лагерю красных.
Профанная былинность подручных Ливерия и его самого не случайна. Испытания доктора в Сибири, обращённо ориентированные на подвиги былинных героев, необходимы хотя бы затем, чтобы показать значение духовного подвига Живаго в отношении всей страны в её огромной протяжённости, ведь «былина оценивает раздельность пространственных участков как отклонение от нормы и ликвидирует эту размежёванность локусов, сообщая тем самым пространству цельность и непрерывность». Задача доктора - выжить в партизанском отряде, представляющем собой царство смерти, - определяется тем, что «былина сосредоточена не на жизни после смерти, но на ничем не отменяемой продолжаемости жизненного процесса» [Смирнов 2008а: 74, 75]. В контакте с партизанами как представителями инобытийного амбивалентно проявляется то, что «инобытийное в былине не что иное, как инонациональное» [там же: 76]: партизаны -противники Живаго, но он с ними не борется; они той же национальности, но доктор
178
Глава 3
говорит «на другом языке» (инонациональность Живаго скрыто присутствует за счёт автобиографичности этого персонажа по отношению к Пастернаку); красные партизаны воюют с белыми частями армии Колчака, состоящей из людей той же национальности. Партизанский командир Ливерий - главный представитель этого «царства мёртвых», в частности, потому, что сын в былине сопричастен матери, а мать Ливерия «не вынесла удара, слегла, больше не вставала и умерла» после того, как сын «подделал года в метрике и пятнадцатилетним юнцом удрал на фронт» [IV: 261], то есть приобщился другому «царству мёртвых», нежели партизанское, наследующее первому. Былинная сопричастность Ливерия матери - это его вина в её смерти. Он и «расходует» себя как антагонист героя в былине: нюхает кокаин, стремится продолжать гражданскую войну, невзирая ни на какие жертвы. Историческая достоверность событий этой войны и подобных отрядов соответствует историзованным реалиям былин.
Тюркское происхождение «Повести о Еруслане Лазаревиче», и в частности имени заглавного героя, отразилось в разговоре двух безымянных местных жителей на уральском разъезде. Они обсуждают имя того, на кого Стрельников «побежал», называя татарина Галиуллина атаманом Галеевым, князем Галилеевым и Али Курбаном9 [IV: 235]. Тюркское происхождение имени Еруслана соотносится с именем противника Стрельникова и интертекстуально подкрепляется событиями современной истории. Если подвиги Еруслан совершает «на безбрежном фоне степей, среди кочующих орд и одиноких кибиток - белых шатров», то в романе борьба Стрельникова и Галиуллина обсуждается на железнодорожном разъезде при приближении к горнозаводскому краю, причём место характеризуется «ширью и открытостью» [IV: 234], а собеседники - безымянные местные жители. Поезд, в котором едет семья доктора, а также самая разнообразная публика (ср. с кибитками и ордами) не движется, а стоит.
«Но не одни только подвиги да приключения различных героев занимали грамотную народную среду, интерес возбуждали и такие произведения, в которых заключались шутка или насмешка. Меткое словцо, складно сказанное присловье, хитрая притча - всё это ценилось народом, ему нравилось всегда поднять кого-нибудь насмех. В живой древне-русской речи немало встречалось таких оборотов и оттенков, которые свидетельствовали о юмористических и сатирических склонностях народа; немало их рассыпано по сказкам и песням, немало вошло в текст перерабатываемых книжных произведений. Бова и Еруслан не лезут в карман за словом, оно, краткое и выразительное, всегда у них на языке. <.. .> Смеются читатели над событиями из частной жизни, смеются они и над общественными явлениями, особенно такими, которые задевают их, отражаются на домашнем обиходе» [ИРЛ 1908: 376].
Антипов-Стрельников совершает подвиги, но Живаго обманывается в ожиданиях. Позже он рассказывает Ларе: «Я ждал встретить карателя-солдафона или революционного маньяка-душителя и не нашёл ни того, ни другого. Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нём.
9 О значении этих имен см.: [Смирнов 1996: 44-48].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
179
Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он не показателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия достигнута им» [IV: 295].
Живаго встречает Стрельникова-насмешника, о чём и говорит ему: «К чему этот насмешливый тон? <...> Вы продолжаете издеваться?» [IV: 251]. Антипов-Стрельников, оценивший «урок» далёкой от народа беспощадной насмешницы Войт-Войтковской, при этом «читает мораль», снабжённую «метким словцом» и по демагогическому заряду и обращению к собеседнику напоминающую «афоризмы» Ленина: «Сейчас страшный суд на земле, милостивый государь, существа из Апокалипсиса с мечами и крылатые звери, а не вполне сочувствующие и лояльные доктора» [IV: 251-252]. Афористична и речь Стрельникова в последнем разговоре с Юрием Живаго в Барыкине. Чем ближе к моменту самоубийства, тем речи Стрельникова становятся всё менее насмешливыми и более выразительными. Смех своими речами и «меткими словцами» Антипов вызывал лишь в детстве, и это можно сопоставить с тем, что к началу XX века «Повесть...» окончательно стала произведением лубочной литературы и образованная публика уже вряд ли могла смеяться шуткам, отпускаемым Ерусланом Лазаревичем. В юности «Патуля был смешлив до слёз и очень наблюдателен». На демонстрации «он все время шёл и забавлял её (Марфу Гавриловну Тиверзину. - С. Б.\ с большим искусством изображая последнего оратора». Дома Тиверзина просит повторить: «А этот, речистый, как ты его, Пашенька? Покажи, милый, покажи. Ой, помру, ой, помру! Ни дать ни взять как вылитый. Тру-ру-ру-ру-ру. Ах ты зуда-жужелица, конская строка!» [IV: 39]. Дар подражания был унаследован дочерью Антипова Катей.
Описание Антипова в детстве выдаёт в качестве одного из его прототипов мужа М.И. Цветаевой С.Я. Эфрона. Их дочь Ариадна Сергеевна рассказывала: «Вот детские фотографии Сергея Яковлевича. На одной, в группе, ему лет 14, те же большие глаза, лицо немного болезненного и не очень весёлого подростка. А во второй группе он уже в гимназической форме, в фуражке, здесь он на вид очень смешливый: тетка рассказывала, что он вечно смеялся, как колокольчик» [Лосская 1992: 43].
В том, что Антипов-Стрельников наделён даром подражания и держит слово, отпуская Юрия Живаго, проявляются также черты С.Я. Эфрона - артистизм и рыцарственность. А.С. Эфрон рассказывала: «Это была артистическая натура, у него были большие способности, он был человек тонкий, благородный. Физически он не был сильным, часто болел, но у него были рыцарские рефлексы» [там же: 46].
Иной артистизм и способность подражания были у Л.О. Пастернака. Отец Бориса Леонидовича был, как пишут Е.Б. и Е.В. Пастернаки, «мечтателен и мягок, добр и альтруистичен, вероятно, излишне медлителен и неуверен во всём, что не касалось его работы, скромен, застенчив и не любил быть в центре внимания. Кроме того, он обладал удивительным чувством юмора и способностью подражания: наблюдать и зарисовывать было для него естественной потребностью, подобно сну и дыханию» [ПРС 2004: 12].
180
Глава 3
Собственно трагедия начинается у Антипова с отказа от имени, его смены, а «недоступность» Маяковского для Пастернака - с поэмы, открывающейся словами, свидетельствующими об этом отказе:
150 000 000 - мастера этой поэмы имя.
Пуля - ритм.
Рифма - огонь из здания в здание. 150 000 000 говорят губами моими
[Маяковский, II: 115].
Трагедия Антипова-Стрельникова качественно иная, нежели трагедия утраты «имени» доктором Живаго, или трагедия Лары, пропавшей в лагере «с гурьбой и гуртом» (Мандельштам), или «не помнящей родства» Тани Безочередевой (якобы искажённое «безотчей» - [IV: 505]; ср. с «безотчеством» Христа). Веденяпин в начале романа говорит о необходимости служения во Имя - «надо быть верным Христу!» [IV: 12]. Герои, даже утрачивая свои имена, но сохраняя верность Христу, обретают общее имя - христиане. Пастернак на примере доктора дал новый, безымянный тип героя и одновременно с этим - тип традиционный, тайно сохраняющий имя и не поступающийся им. Христо-центризм Пастернака проявляется в показе приобщённости Юрия Живаго к соборному христианству (внешне), и в изображении доктора как творческой личности, идущей путём христианского служения и подвига (внутреннее). Этому способствует и установка Пастернака на жанр романа. Заметим также, что «растворенье» Живаго как личности в конце романа обусловлено, кроме прочих влияний, финалом «Войны и мира»: «общая жизнь» явилась для Пьера Безухова настоящим откровением.
Ю.М. Лотман указал, что «идея безымянного героизма настойчиво повторялась в литературе, воспевающей героизм в негероическую эпоху». В качестве примера он привёл строфу из стихотворения Пастернака «Смелость» (1941):
Безымянные герои Осаждённых городов, Я вас в сердце сердца скрою. Ваша доблесть выше слов [II: 121].
И заметил: «Интересно, что ни Пастернак, ни его читатели тех лет не чувствовали в этом тексте диссонанса: “скрою в сердце сердца” - цитата из речи Гамлета, где герой Шекспира создаёт идеал благородной личности: именно её, личность, Гамлет собирается скрыть в глубины сердца. В стихотворении Пастернака это место отводилось безымянной безличности» [Лотман 2000: 62]. Такой «диссонанс» является характерным для Пастернака инверсированием, производимым с чужими текстами. В конце стихотворения множество героев, чей подвиг в стихотворении последовательно проецируется на распятие Христа, названо обобщённо: «Так рождался победитель» [II: 122].
Смена имени Антиповым связана с мотивом «второго рождения». Своё новое имя Антипов-Стрельников переживает в течение четырёх периодов: первый и четвёртый -
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
181
«внутренне», второй и третий - «внешне». Это следующие друг за другом временные промежутки: с детства до свадьбы, с брачной ночи до ухода на войну, с момента решения уйти на войну до появления под именем Стрельникова, с момента окончания разговора с Юрием Живаго в бронепоезде до самоубийства. Мотив «второго рождения» был очень важным для Пастернака. Но переломами изобиловала и жизнь Маяковского. Проявления мотива в случае Антипова-Стрельникова подкрепляются его соотнесением с апостолом Павлом. Последний, возможно, был женат («у иудеев рано вступали в брак» [ТБ 1987, 3: X, 365; там же - доводы «за» и «против»]) и с 40 по 44 год провёл в семье уже после обращения, то есть перемены веры и имени. Антипов (рассказчик подчёркивает его юный возраст при женитьбе: «студент Антипов, «Степанида» и «Красная девица», как звали его товарищи» [IV: 98]) живёт с семьёй почти столько же: от свадебной ночи летом 1912 года до ухода на войну зимой 1915-16-го. Внутренний переворот у него совершается позже, и читателю об этом ничего не сообщается (обращение Савла для окружавших апостола сподвижников было таинственно). Неожиданный уход на войну, напоминающий попытки Маяковского и самого Пастернака (последняя описана в «Охранной грамоте» - [III: 224]), является внешним следствием первого перелома в душе Антипова в свадебную ночь, когда «утром он встал другим человеком, почти удивляясь, что его зовут по-прежнему» [IV: 98]. Соответственно названа и глава: «Назревшие неизбежности». Решение Антипова уйти на фронт, если рассматривать его как аналог обращения Савла, объясняется тем, что «болезненное чувство своего бессилия в делании добра было <.. .> отрицательной инстанцией в подготовлении того перелома, какой совершился с Павлом на пути в Дамаск. Напрасно он старался насытить свою искавшую праведности душу напряжением своей деятельности, направленной на защиту закона: ему не удалось потушить в себе точившую его сердце мысль о том, что с законом спасения не достигнешь» [ТБ 1987, 3: X, 366].
Отражением отъезда Антипова на войну является его появление (прибытие в броне-поезде в Развилье) под именем Стрельникова. Если на войну Антипов отправляется на ‘Запад’, то, вернувшись из германского плена, объявляется под именем Стрельникова на ‘Востоке’. И объявляется тоже посредством внешних проявлений. В Барыкине вновь, как следствие действий под именем Стрельникова, наступает перелом внутренний, и зеркальная структура, таким образом, замыкается. Её удвоенная бинарность оказывается чревата самоубийством (в том числе и из-за невозможности вновь стать Антиповым), не даёт возможности выхода. Именно мысль о самоубийстве, которую Антипов с отвращением (свойственным, скорее, не Маяковскому, а Пастернаку) отталкивает, обусловила его решение идти на войну. Если здесь Антипов отрицает самоубийство, то в Барыкине отрицает это отрицание. Внутренние переломы связаны с личными разговорами Антипова-Стрельникова с Ларой и Юрием Живаго, а не социальными действиями -участием в войнах. Каждое из четырёх «вторых рождений» Антипова-Стрельникова содержит по-разному интерпретированные отношения Савл-Павел - Христос. Эти же «прототипы» - в творчестве Маяковского.
182
Глава 3
Для Пастернака моделью трагедии современного художника была «Трагедия Владимир Маяковский». В «Охранной грамоте» он писал, что «заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но предмет лирики, от первого лица обращающийся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья» [III: 218]. Ср. со строками из стихотворения «Художник» (1936), свидетельствующими уже о драматизме собственной жизни Пастернака: «С кем протекли его боренья? / С самим собой, с самим собой» [II: 90]. В «Докторе Живаго» Пастернак скрыто оспаривал отношение к христианству, выразившееся в «Трагедии». Эта полемика была реализована не только через образы главных, но и второстепенных героев.
«Трагедия», как известно, сначала имела названия «Железная дорога» и «Восстание вещей». Оба названия чрезвычайно важны для Пастернака не только позднего, но и раннего. Последнее название, к примеру, отзывается и в стихотворении «Косых картин, летящих ливмя...» (1922) из книги «Темы и вариации» (1923):
Но вещи рвут с себя личину, Теряют власть, роняют честь, Когда у них есть петь причина, Когда для ливня повод есть [I: 190].
Ср. у Маяковского, текст которого служит, наряду со статьей Андрея Белого «Символизм как миропонимание» (1903), источником пастернаковского стихотворения [Смирнов 1995: 51, 151):
И вдруг
все вещи кинулись, раздирая голос, скидывать лохмотья изношенных имён [Маяковский, I: 163].
Стоит учесть, однако, что «напряжённый «вещизм»», который был «свойствен Пастернаку», «более, чем с футуристами, <.. .> роднит его с Рильке, развиваясь с детства, в процессе наблюдения за тем, как вещи обихода становились “натурщиками натюрморта”» [Симпличо 1989: 48]10.
Из персонажей «Трагедии», отразившихся в образах героев «Доктора Живаго», можно выделить Обыкновенного молодого человека. Он является литературным прототипом комиссара Гинца, убийство которого происходит на станции Бирючи. Как и Обыкновенный молодой человек, Гинц суетится, «подбегает к каждому, цепляется», говорит наивно, возвышенно и не сообразуясь с обстановкой. Речи он всегда произносит - и в кабинете уездного, и на митинге в городе, и перед взбунтовавшимися солдатами - взобрав
10 Подробнее о мотиве вещей, восстающих против человека, в литературе первой трети XX века см.: [Щеглов 1995а: 548-549]. Влияние Рильке на Пастернака обсуждается в работах: [Barnes 1972; Livingstone 1975].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
183
шись на возвышение. И даже для того, чтобы обратиться к догоняющим его преследователям, вскакивает на «высокую пожарную кадку», где его, когда он проваливается, убивают. У Маяковского после длинного и такого же, как у Гинца, наивно-бесполезного монолога Обыкновенного молодого человека следуют реплики:
Человек без уха
Молодой человек, встань на коробочку!
Из толпы
Лучше на бочку!
Человек без уха
А то вас совсем не видно!
[Маяковский, I: 160-161].
В ремарках у Маяковского: «Обыкновенного молодого человека обступают со всех сторон», вокруг «Тревога. Гудки», в цензурном экземпляре: «За сценой слышен гудок автомобиля». В «Докторе Живаго» читаем: «Вы должны исчезнуть как-нибудь незаметно, - говорили Гинцу казачьи офицеры. - У переезда ваша машина. Мы пошлём сказать, чтобы её подвели ближе. Уходите скорее» [IV: 153]. Ранее говорится, что вокруг Гинца «сборище было слишком многочисленно» [IV: 152], пришедшие на усмирение взбунтовавшихся солдат казаки побратались с ними, и обстановка была тревожной. Последняя реплика Обыкновенного молодого человека: «Милые! Не лейте кровь! / Дорогие, / не надо костра!» После неё в беловом варианте следуют ремарки: «Тревога выросла. Выстрелы и т. д.»; в цензурном экземпляре: «Тревога за сценой растёт. Выстрел. Ещё два выстрела один за другим». Этой реплике и ремаркам соответствует происходящее в «Докторе Живаго»: «Надо крикнуть им: “Братцы, опомнитесь, какой я шпион?” -подумал он. - Что-нибудь отрезвляющее, сердечное, что бы их остановило». Но, вскочив на бочку, Гинц проваливается. «Солдаты встретили эту неловкость взрывом хохота, и первый спереди выстрелом в шею убил наповал несчастного, а остальные бросились штыками докалывать мёртвого» [IV: 153-154].
Гинц выступает как пародия на революционного деятеля и, исходя из этого, может рассматриваться как фигура, оппозиционная деятелю настоящему - Антипову-Стрельникову, который не тратит лишних слов, а действует «быстро, сурово, бестрепетно» [IV: 250].
Прообразом Антипова-Стрельникова в «Трагедии» является Поэт. Однако герой Пастернака - по контрасту - совсем не поэтичен. Причастность к поэзии передаётся его антиподу - Юрию Живаго. Но аналогий с Поэтом у Антипова-Стрельникова, несомненно, больше. Одна из самых ярких просматривается в следующем. «Во втором действии между Поэтом и Нищими возникает конфликт, но в то же время Нищие группируются вокруг Поэта, они и Поэт дополняют друг друга» [Альфонсов 1984: 181]. Подобный
184
Глава 3
конфликт возникает (во Второй книге романа) у Антипова-Стрельникова с революционной властью, которая «должна была привлечь» его «к военному суду по ложному оговору» [IV: 456]. Единство Антипова-Стрельникова и советской власти такое же, как у Поэта и Нищих, «но ради единства Поэт в чём-то неволит себя. Он “разницу стёр между лицами своих и чужих”» [Альфонсов 1984: 184]. Антипов-Стрельников, как и Поэт, «взводит на «костёр» и свою подругу» (см. «Про это» и др.), идёт из постылого прошлого в светлое будущее через богоборчество: внутреннее - «в такой страсти, которая внутренне подобна Страстям и новизна которой внутренне подобна новому обетованью» [III: 216], и внешнее - осуществляя свою «мысль стать когда-нибудь судьёй между жизнью и коверкающими её тёмными началами, выйти на её защиту и отомстить за неё» [IV: 251].
Гинц, желающий усмирить взбунтовавшихся, представляет собой инверсионную пародию на ещё одного Самого обыкновенного человека, который появляется у Маяковского в явлении шестнадцатом действия второго «Мистерии-Буфф» (1918) и представляет собой вечного бунтаря. Нечистые принимают Человека за шествующего по водам Христа и преграждают «проходимцу» дорогу. Так же отрезают путь с вырубок и Гинцу. Этот герой Маяковского, желающий «взлезть» повыше для «проповеди нагорной», называет себя «дровосеком дремучего леса мыслей» [Маяковский, II: 211] - ср. с вырубками, на которых обосновались дезертиры, убивающие Гинца, всё время стремившегося выступить с возвышения. Выступление Гинца перед солдатами вызывает у последних недовольство и ярость. Гинц проваливается в бочку с водой подобно тому, как исчезает с палубы Человек Маяковского. Преследовавшие его солдаты «встретили эту неловкость взрывом хохота». Гинца убивает выстрелом ещё не называемый в тексте Палых, «а остальные бросились штыками докалывать мёртвого» [IV: 154]. У Маяковского Человек призывает:
Ко мне -кто всадил спокойно нож и пошёл от вражьего тела с песнею!
А нечистые затем спрашивают хором:
Не смеётся ли этот над нищими?
Где они?
Дразнишь какими странищами?
[Маяковский, II: 212-213].
Этот момент Пастернак обыграл и в сцене неудачного выступления Гинца, и в сцене его убийства, когда он вновь попытался выступить. Текст Маяковского даёт дополнительные поводы рассматривать Гинца в качестве профанного двойника Живаго. Герой Маяковского назван «каменотесом сердец булыжников». О. Ронен указывает, что это «образ, восходящий к песне франкмасонов» [Ронен 1997: 397]. Юрий Живаго умирает от сердечного приступа или разрыва сердца (ср. с тесанием), упав на камни мостовой,
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
185
что намекает и на деяния контрастирующего с ним персонажа Маяковского, и на скрытую масонскую работу самого доктора.
Четыре периода жизни Антипова-Стрельникова являются инверсиями такого же количества периодов жизни апостола: один до обращения и три после. «Обращение Павла совершилось, вероятно, на 30-м году его жизни. Апостольская деятельность продолжалась также около 30 лет. Она разделяется на три периода: а) время приготовления - около 7 лет; б) собственно апостольская деятельность, или его три великие миссионерские путешествия, обнимающие собой время около 14-ти лет, и в) время его заключения в узы <.. .> всего около 5 лет» [ТБ 1987, 3: X, 370]. История обращения изложена в Деян., IX; IKop, IX, 16, 17. Спроецирован на апостола и возраст Живаго: когда он приходит в Москву весной 1922 года, ему именно 30 лет.
Внимание Пастернака наверняка привлекала зеркальность периодов жизни Павла. Обращённое сходство биографий Антипова-Стрельникова и апостола прослеживается в следующих деталях. «Когда иудейские мальчики достигали 12-летнего возраста, их обыкновенно в первый раз брали в Иерусалим на один из главнейших праздников: они становились с этих пор <...> “сынами закона”. Так было, вероятно, и с Павлом. Но он остался в Иерусалиме после этого на жительство, как кажется, у родственников, чтобы там вступить в раввинскую школу (ср. Деян. XXIII, 16)» [ТБ 1987, 3: X, 364]. Ср. с тем, что после ареста отца и отправки матери, заболевшей брюшным тифом, в больницу Пашу Антипова, (который при описании его устройства с Ларой в Юрятине после свадьбы «оказался неисправимым столичным жителем» [IV: 107], взяли к себе Тиверзины. У них он жил, как у родных (в том числе «родных» по участию в революции). В 1905 г. его берёт на демонстрацию Марфа Гавриловна Тиверзина. Аналогией раввинской школе Савла, зарабатывавшего на жизнь изготовлением палаток (Деян. XVIII, 3), является реальное училище, в котором учился Антипов. Но если Савл сначала приезжает в Иерусалим и затем вступает в раввинскую школу, то живущий в столице Паша Антипов идёт на демонстрацию, уже будучи учащимся реального училища. Маяковскому, родившемуся в 1893 г., в 1905-м было как раз 12 лет, а в 1917 - 24 года. Отца Антипова арестовывают до демонстрации, а Маяковский теряет отца в 13 лет. Пастернак в 13 лет упал с лошади. Сцена разгона демонстрации автобиографическая: Пастернаку, когда он попал в толпу, которую гнали казаки, было 15. В первый раз описание разгона появляется в «Трёх главах из повести» (1922). Тема палаток звучит в стихотворении Пастернака «Маяковскому» («Вы заняты нашим балансом») (1922), которое, кстати, перекликается с прощальным стихотворением М.И. Цветаевой «Никто ничего не отнял» (1916), обращённым к О.Э. Мандельштаму [Цветаева, I: 252].
Если юность апостола воспроизводится в «Докторе Живаго» один раз, то видение Савла на пути в Дамаск, после которого он ослеп на три дня, - по четыре раза: и в случае Антипова-Стрельникова, и в случае Живаго.
«Три раза об обращении Павла говорится в книге Деяний (IX, 1-22; XXII, 3-16 и XXVI, 9-20), и везде в этих местах можно находить указания на то, что и спутники апо
186
Глава 3
стола Павла, действительно, заметили нечто таинственное, что совершалось собственно с Павлом, и что это таинственное в известной степени совершалось чувственно, было доступно для восприятия. Они не видели лица, которое говорило с Павлом, говорится в книге Деяний (IX, 7), а видели сияние, которое было ярче полуденного света (XX, 9; XXVI, 13); они не слышали ясно слов, сказанных Павлу (XXII, 9), но звуки голоса слышали (IX, 7). Из этого во всяком случае следует вывести такое заключение, что “явление при Дамаске” было объективным, внешним» [ТБ 1987, 3: X, 366].
Ситуации, связанные с героями-антиподами Антиповым-Стрельниковым и Юрием Живаго, зеркальны друг другу. Первая - перерождение Антипова после свадьбы в брачную ночь (здесь же присутствует и мотив перемены имени: «Когда все разошлись и они остались одни, Паше стало не по себе от внезапно наступившей тишины. На дворе против Лариного окна горел фонарь на столбе, и, как ни занавешивалась Лара, узкая, как распиленная доска, полоса света проникала сквозь промежуток разошедшихся занавесок. Эта светлая полоса не давала Паше покою, словно кто-то за ними подсматривал. Паша с ужасом обнаруживал, что этим фонарём он занят больше, чем собою, Ларою и своей любовью к ней. <.. .> В жизни Антипова не было перемены разительнее и внезапнее этой ночи. Утром он встал другим человеком, почти удивляясь, что его зовут по-прежнему» [IV: 98].
В случае Юрия Живаго это ситуация перед поездкой на ёлку к Свентицким с Тоней до свадьбы, и акцент в ней делается на Тоне: «Юра и Тоня зашли за гардину в глубокую оконную нишу посмотреть, какая погода. Когда они вышли из ниши, оба полотнища тюлевой занавеси пристали к необношенной материи их новых платьев. Легкая льнущая ткань несколько шагов проволоклась за Тонею, как подвенечная фата за невестой. Все рассмеялись, так одновременно без слов всем в спальне бросилось в глаза это сходство» [IV: 81].
Антипов, переродившийся в Стрельникова, в отрочестве «был смешлив до слёз и очень наблюдателен. Он с большим сходством и комизмом передразнивал всё, что видел и слышал» [IV: 36], обладал «мягким и податливым» характером [IV: 51], был «чист и неискушён» [IV: 79]. После разговора с Ларой брачной ночью и в годы жизни с ней Антипов становится горд и высокомерен (по отношению к коллегам по гимназии), а в разговоре с Юрием Живаго в бронепоезде тон его становится насмешливым, издевательским и вызывающим - характерным тоном Маяковского. Ср. с трагическим шутовством Поэта из «Трагедии Владимир Маяковский».
Видение, возникающее перед Антиповым во второй раз и представляющее собой перевёрнутый аналог видения Савла, относится к ночи, когда он, сидя на лодке, решает уйти на Первую мировую войну. Сначала он увидел, как «звёздное небо, как пламя горящего спирта, озаряло голубым движущимся отсветом чёрную землю», затем «посмотрел на звёзды, словно спрашивая у них совета. <...> Неожиданно их мерцание затмилось, и двор с домом, лодкою и сидящим на ней Антиповым озарился резким, мечущимся светом, словно кто-то бежал с поля к воротам, размахивая зажжённым факелом. Это <.. .> шёл <...> на запад воинский поезд» [IV: 108-109].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
187
Параллельная ей сцена изображает Юрия Живаго, вернувшегося из партизанского плена (с гражданской войны) и незадолго до расставания с Ларой выходящего в Барыкине ночью на крыльцо. «Ответ» звёзд Антипову, по-видимому, подразумевавшийся Пастернаком, содержится в стихотворении А.А. Блока «Ночь. Город угомонился» (1906), на которое спроецирована сцена:
Ночь. Город угомонился.
За большим окном
Тихо и торжественно.
Как будто человек умирает.
Но там стоит просто грустный, Растроенный неудачей, С открытым воротом, И смотрит на звёзды.
«Звёзды, звёзды,
Расскажите причину грусти!»
И на звёзды смотрит.
«Звёзды, звёзды,
Откуда такая тоска?»
И звёзды рассказывают.
Всё рассказывают звёзды
[Блок 1960-1963,11: 196].
Ср. с этим стихотворением также утверждение Маяковского [1955-1961, X: 281]: «Мой стих дойдёт / через хребты веков <...>/ и не как свет умерших звёзд доходит».
В третий раз видение перед Антиповым - яркий свет, который возник, вероятно, от взрывов «двух немецких шестнадцатидюймовых снарядов» позади (а не впереди, как видение перед Савлом) Антипова, а «чёрные столбы земли и дыма скрыли всё последующее» [IV: 114] от наблюдавшего Галиуллина. «Гибели» Антипова параллельна болезнь (аналогичная смерти) Юрия Живаго в Москве после революции.
В четвёртый раз в связи с Антиповым-Стрельниковым видение Савла и вовсе не проявлено. Или - присутствует в скрытой форме. После разговора с доктором в Барыкине Стрельников стреляется во второй половине ночи, сойдя с крыльца. (Этот выход соотносится со второй ситуацией, когда Антипов решает уйти на войну. Но если тогда он ещё не потерял и готов был потерять Лару, чтобы потом вернуться к ней победителем, то теперь уже потерял и не может вернуть её). Пастернак значимо изменил место самоубийства: если Маяковский стреляется в замкнутом помещении, то Стрельников -выйдя из дома. Н.М. Любимов писал, что Пастернак, «как человек, как бывший друг Маяковского, <...> конечно, с содроганием думал о выстреле в тесной комнатке» [XI: 627-628]. Параллель ночному выходу Стрельникова в Барыкине - предшествующий по
188
Глава 3
времени выход на крыльцо в три часа ночи Юрия Живаго, писавшего до этого стихи. Что видит Антипов, уже потерявший Лару, можно судить по картине, предстающей перед выходящим доктором, который с Ларой ещё не расстался: «Белый огонь, которым был объят и полыхал незатенённый снег на свету месяца» [IV: 435].
Савл до обращения в Павла был фарисеем, строго исполнявшим закон, имел римское гражданство и хорошо знал греческий язык и литературу. Подобное образование имеет и Антипов: «Павел Павлович кончил классиком. Он преподавал в гимназии латынь и древнюю историю. Но в нём, бывшем реалисте, вдруг проснулась заглохшая было страсть к математике, физике и точным наукам. Путем самообразования он овладел всеми этими предметами в университетском объёме» [IV: 107].
В ночь, когда Антипов решил уйти на войну, «у него был припадок обычной за последнее время бессонницы» [IV: 108]. Это сравнимо с тем, что изредка у апостола Павла проявлялась болезненность (см.: 2Кор. XII, 7). Антипов выходит во двор после того, как ложится спать Лара, и решает уйти на войну, сидя на перевёрнутой лодке. При этом, как отметил И.П. Смирнов, «звёздное небо» упомянуто трижды, что свидетельствует о подчинении себя Антипова нравственному императиву, выразившемуся в концовке «Критики практического разума» И. Канта [Смирнов 1996: 59]. Эта лодка, «под которою Катенька играла, как под выпуклою крышею садового павильона, лежала белым крашеным дном вверх во дворе дома» [IV: 107]. При описании сцены раздумий Антипова Пастернак использовал неоконченные стихи Маяковского, обращённо изменяя их смысл в применении к своим героям. Приведём IV отрывок (1930), в котором соединены темы из отрывков II и III:
Уже второй, должно быть, ты легла. В ночи Млечпуть серебряной Окою. Я не спешу, и молниями телеграмм Мне незачем тебя будить и беспокоить. Как говорят, инцидент исперчен, Любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчёте, и не к чему перечень Взаимных болей, бед и обид.
Ты посмотри, какая в мире тишь, Ночь обложила небо звёздной данью. В такие вот часы встаёшь и говоришь Векам истории и мирозданию
[Маяковский, X: 287].
Сцена ночного раздумья Антипова на лодке ориентирована ещё на один текст Маяковского - на начало поэмы «Владимир Ильич Ленин» (1924), при этом лодка оказывается в метонимической связи с рекой, по названию которой образован ленинский революционный псевдоним: «Люди - лодки. / Хотя и на суше. / Проживёшь / своё / пока, / много всяких / грязных ракушек / налипает / нам / на бока. / А потом, / пробивши / бурю
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
189
разозлённую, / сядешь, / чтоб солнца близ, / и счищаешь / водорослей / бороду зелёную / и медуз малиновую слизь. / Я / себя / под Лениным чищу, / чтобы плыть / в революцию дальше. / Я боюсь / этих строчек тыщи, / Как мальчишкой / боишься фальши» [Маяковский, VI: 234].
Уход на войну связан у Антипова с отношениями с Ларой (не с «бытом», а с духом), о которой он произносит внутренний монолог: «Разве он не понимает, что она любит не его, а свою благородную задачу по отношению к нему, свой олицетворённый подвиг? <...> Хуже всего то, что он по сей день любит её с прежней силой. Она умопомрачительно хороша. А может быть, и у него это не любовь, а благодарная растерянность перед её красотой и великодушием? Фу ты, разберись-ка в этом! Тут сам чёрт ногу сломит. Так что же в таком случае делать? Освободить Лару и Катеньку от этой подделки? Это даже важнее, чем освободиться самому. Да, но как? Развестись? Утопиться? “Фу, какая гадость, - возмутился он. - Ведь я никогда не пойду на это. Тогда зачем называть эти эффектные мерзости хотя бы в мыслях?”» [IV: 109].
Уход и отношение Антипова (заметим, что он сразу не сообщает Ларе о своём решении уйти на войну) - прозаическая инверсия строк Маяковского из поэмы «Во весь голос»: «Я, ассенизатор / и водовоз, / революцией / мобилизованный и призванный, / ушёл на фронт / из барских садоводств / поэзии - / бабы капризной. / Засадила садик мило, / дочка, / дачка, / водь / и гладь - / сама садик я садила, / сама буду поливать» [Маяковский, X: 280]. Классово акцентированный «ассенизатор и водовоз», уходящий из «барских садоводств», находит соответствие в «слишком непростых отношениях» Антипова с Ларой - персонификацией поэзии у Пастернака: «Он остерегался, как бы в невиннейшем его замечании не послышался ей какой-нибудь мнимо затаённый упрёк в том, например, что она белой, а он - чёрной кости» [IV: 108].
Неспособность и отказ Антипова «разбираться» в своих чувствах к Ларе и её чувствах к нему перекликается с I отрывком «Неоконченного» Маяковского: «Любит? Не любит? Я руки ломаю / и пальцы / разбрасываю, разломавши, / так рвут, загадав, и пускают / по маю / венчики встречных ромашек. / Пускай седины обнаруживает стрижка и бритьё, / Пусть серебро годов вызванивает / уймою, / надеюсь, верую, вовеки не придёт / ко мне позорное благоразумие» [Маяковский, X: 286]. А решение «освободить Лару и Катеньку от этой подделки» - с «Флейтой-позвоночником»: «Любовь мою, / как апостол во время оно, / по тысяче тысяч разнесу дорог. / Тебе в веках уготована корона, / а в короне слова мои - / радугой судорог» [там же, I: 206].
Отметим, что из «Стихотворений Юрия Живаго» Пастернак исключил стихотворения «Нежность» (1950), «Бессонница» (1953) и «Под открытым небом» (1953), в которых присутствуют мотивы «Неоконченного» Маяковского. Исключены они, вероятно, потому, что соотносятся (особенно «Бессонница») в прозаическом тексте романа с Антиповым-Стрельниковым, а не с Юрием Живаго - автором стихов. Пастернак последовательно обрисовывает Антипова-Стрельникова как героя, не имеющего отношения к поэзии. Не случайно поэтому, что интерес к точным наукам отмечается у Антипова рас
190
Глава 3
сказчиком как раз перед решением героя уйти на войну. Но даже если бы оказалось, что три исключённых стихотворения написал Антипов, и они были бы введены в текст романа, то, по логике происходящего, это не соответствовало бы внутреннему состоянию Антипова после рассказов Лары в свадебную ночь о своей прошлой жизни и отношениях с Комаровским. Ср. Антипова с героем рассказа Л.Н. Толстого «После бала», у которого после «перерождения» «любовь пошла на убыль». Симметрия частей, описывающих то, что происходит с «переродившимся» героем, у Пастернака вслед за Толстым отражает их (частей) «тематическую противопоставленность» [Жолковский 1994: 87].
Со стихотворением «Под открытым небом» соотнесена Лара до «грехопадения» (часть вторая, глава 4): «Свой рост и положение в постели Лара ощущала сейчас двумя точками - выступом левого плеча и большим пальцем правой ноги. Это были плечо и нога, а всё остальное - более или менее она сама, её душа или сущность, стройно вложенная в очертания и отзывчиво рвущаяся в будущее» [IV: 28]. Ср. с тем, что Пастернак писал З.Н. Нейгауз 14 мая 1931 г.: «Ты родилась девочкою большой жизни, и когда судьба это связала, назначенье стало игрой, ты играла в то, чем немыслимо было жить во всем объёме: ты кокетничала, восхищала, и - я никого не хочу обижать - все твои летние обожатели были игрушками, а игрушек должно быть много (кукольные сервизы, избы, кремли, карликовый скот в сухом искусственном мху). Но твоя подоплёка восторжествовала. Ты жива сейчас во весь рост. Только отсюда нет возврата назад. Из твоего полного раскрытья, из пробужденья, а вовсе не из позора пересудов и семейных осложнений, будто бы непоправимых» [Письма к З.Н. Нейгауз 1993: 33].
Этот пассаж, в котором женщина сближается с девочкой, даёт основания сближать судьбу Лары и судьбу её дочери Кати, об играх которой в Барыкине Лара разговаривает с Юрием Живаго, предлагающим Кате «старые Ливериевы игрушки» [IV: 430].
Трансформации произведения Маяковского в рассматриваемой сцене «Доктора Живаго», относящейся ко времени до ухода Антипова на Первую мировую войну и до революций 1917 года, противопоставлена ещё одна обращённая реализация этого же текста - когда Юрий Живаго живёт с Ларой в Барыкине после революций (у которых здесь осевая функция) и ухода с гражданской войны. В час ночи (ср.: «уже второй, должно быть, ты легла») Лара засыпает, и доктор пишет стихи. Затем он в три часа ночи (ср. с замечанием: Антипов «знал, что проваляется ещё так без сна часа три-четыре») «прошёл в соседнюю неосвещённую комнату, чтобы из неё посмотреть в окно. За те часы, что он провёл за писанием, стёкла успели сильно заиндеветь, через них нельзя было ничего разглядеть» [IV: 435]. Из-за невозможности «ничего разглядеть» Живаго выходит на крыльцо, сойдя с которого, несколькими днями позже совершает самоубийство Антипов.
«Белый огонь, которым был объят и полыхал незатенённый снег на свету месяца, ослепил его. Вначале он не мог ни во что вглядеться и ничего не увидел. Но через минуту расслышал ослабленное расстоянием протяжное, утробно скулящее завывание и тогда заметил на краю поляны за оврагом четыре вытянутых тени размером не больше маленькой чёрточки» [IV: 435].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
191
Когда же из дома выходит Антипов, под ногами у него «звонко крошились хрупкие ледяные пластинки. Звёздное небо, как пламя горящего спирта, озаряло голубым движущимся отсветом чёрную землю с комками замёрзшей грязи» [IV: 108]. После размышлений о жизни с Ларой он «посмотрел на звёзды, словно спрашивая у них совета. <.. .> Неожиданно их мерцание затмилось, и двор с домом, лодкою и сидящим на ней Антиповым озарился резким, мечущимся светом, словно кто-то бежал с поля к воротам, размахивая зажжённым факелом. Это <...> шёл <...> на запад воинский поезд» [IV: 109].
Отметим параллелизм этого «воинского поезда» и волков, которых видит Живаго, -коррелятов сказочного змея. Если для Антипова мерцание звёзд «затмилось» светом «с поля», то Живаго был «ослеплён» «снегом на свету месяца». В обоих противопоставленных случаях сияние механическое и природное исходит с земли, а не с неба, как у Савла. Заметим также, что Антипов не смотрит, в отличие от доктора, в окно. Одна из ярких параллелей этим эпизодам - сцена в начале романа, когда «ночью Юру разбудил стук в окно. Тёмная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу. <.. .> На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. <...> Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался» [IV: 8].
Уход от жены до революций 1917 года и невозобновление отношений с нею после 1917 (в Юрятине) в подтексте содержат как послания апостола Павла, так и произведения Маяковского. Укажем лишь некоторые из многочисленных случаев. В Первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит: «А вступившим в брак не я повелеваю, а господь: жене не разводиться с мужем (если же разведётся, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим) и мужу не оставлять жены своей» (IKop. VII, 10-11).
В романе Лара исполняет это повеление, а её муж - напротив. Она говорит доктору об Антипове-Стрельникове: «Всё равно вы мне этого не втолкуете. Быть тут рядом и устоять против искушения повидать нас! Это в моём мозгу не укладывается, это выше моего разумения. Это нечто мне недоступное, не жизнь, а какая-то римская гражданская доблесть, одна из нынешних премудростей» [IV: 298-299]. И, надеясь повидать мужа («примиряясь» с ним), который тайно всё-таки заботится о семье, но жертвует ею вплоть до того, что жена с дочерью попадают (вместе со всеми юрятинцами) под обстрелы, Лара ходит к нему на приём: «.. .становилась на тротуаре в кучке просителей и поджидала. Разумеется, не ломилась на приём, не говорила, что жена. Фамилии-то ведь разные» [IV: 300].
Описание ожидания приёма и обращения с прошением к когда-то близкому человеку впервые в творчестве Пастернака появилось в «Воздушных путях» (1924), когда Лёля приходит к Поливанову просить за сына. У Маяковского, кстати, одна из просительниц тоже говорит об умирающем сыне [Маяковский, I: 166]. Кабинет Поливанова в «Докторе Живаго» превратился в канцелярию Стрельникова в вагоне бронепоезда и кабинет варыкинского дома, набитого реквизированными им вещами и продуктами. В подтек
192
Глава 3
сте же рассказа Лары - сцена, с которой начинается второе действие «Трагедии Владимир Маяковский», наполненная, кстати, «римскими» деталями и обнажающая контраст не-поэта Антипова-Стрельникова и Маяковского-Поэта: «Скучно. Площадь в новом городе. В. Маяковский переоделся в тогу. Лавровый венок. За дверью многие ноги. // Человек без глаза и ноги / (услужливо). / Поэт! / Поэт! / Вас объявили князем. / Покорные / толпятся за дверью, / пальцы сосут. / Перед каждым положен наземь / какой-то смешной сосуд. // В. Маяковский - / Что же / пусть идут! // Робко. Женщины с узлами. Много кланяются» [Маяковский, I: 165].
Высокий статус Стрельникова подготовлен не только стихами и поэтическим статусом Маяковского, «общую характеристику» которого ещё раз, после «Охранной грамоты» и «Доктора Живаго», Пастернак дал в «Людях и положениях» [III: 331]. Важнее здесь, пожалуй, фигура апостола. Мотивы, на которых строится сближение с ним героя романа, есть у Маяковского: «Я с крестом исканий / Обошёл моря и сушу, / Разевал глазами тело темноты. / Я искал никем не виданную душу, / (Взращивал адовы цветы)» [Маяковский, I: 398-399].
«С обращением Павла в истории человечества пробил решительный час. Наступило время, когда союз, некогда заключённый Богом с Авраамом, должен был распространиться на весь мир и обнять собою все народы земли. Но для такого необычайного дела требовался и необычайный деятель. <.. .> Павел был <.. .> всеми обстоятельствами своей жизни подготовлен к его осуществлению и вполне сознавал это» [ТБ 1987, 3: X, 367-368].
Столь же необычайным деятелем, вершащим дела большого масштаба, является в романе и Антипов-Стрельников, представляющий собой в глазах Юрия Живаго «законченное явление воли» с «присутствием одарённости» [IV: 248]. Рассказчик, обозначая эту перемену, отсылает также к сказке: «Антипов казался заколдованным, как в сказке» [IV: 116]. Но его необычные дела начинаются после революции, которая произвела всеобщее «обращение». Его подвиги на войне и деяния после 1917 года зеркальны, и революция являет собой ось этой симметрии.
Если апостол Павел ходил пешком, удобными дорогами и по оживлённым городам, то Стрельников, разъезжая на бронепоезде, подобно Савлу «сваливался как снег на голову, судил, приговаривал, приводил приговоры в исполнение, быстро, сурово, бестрепетно» [IV: 250]. Количеству мест, где проповедовал Христа Павел, аналогичен огромный послужной список Стрельникова. Деятельность обоих встречала враждебное отношение. Апостол проповедовал среди язычников - Стрельников занимался установлением советской власти и расправами на территориях и в городах, отбиваемых у белых, а также в татарских сёлах. У Антипова-Стрельникова обнаруживаются три главных качества апостола Павла: «сила ума, твёрдость воли и живость чувства» [ТБ 1987, 3: X, 364]. Апостол диктовал свои послания, а Живаго в вагоне-канцелярии видит, как подчинённые Стрельникова чинят пишущую машинку и налаживают телефонную связь, то есть Стрельников также диктовал свои приказы. После ухода доктора Стрельников зво-
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
193
нит по телефону, беспокоясь об арестованном раненом гимназисте, являющегося фигурой, профанно воспроизводящей шествие Христа на казнь.
После обращения, «умерев» для закона, Савл очень быстро, в течение трёх дней, «пережил в себе смерть ветхого человека и воскресение нового» [ТБ 1987, 3: X, 368]. Антипова засыпает землёй. Но что происходит с ним после этого - для читателя остаётся неизвестным (ср. с неизвестностью того, что было с Христом со времени положения во гроб до воскресения; «ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» /Мф. XII, 40/). Интертекстуальный ключ содержится в параллельном по отношению к «гибели» Антипова (до революции) описании тифозного бреда Юрия Живаго в Москве (после революции), также спроецированного на Евангелие от Матфея: «Он всегда хотел написать, как в течение трёх дней буря чёрной червивой земли осаждает, штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями, точь-в-точь как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя. Как три дня бушует, наступает и отступает чёрная земная буря» [IV: 206]. Ср. эти «комья» с «комками замёрзшей грязи» [IV: 108] под ногами Антипова в ночь, когда он решает уйти на войну. А также со сценой его самоубийства: «Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокши в луже натекшей крови» [IV: 462].
«Гибель» Антипова представляет обращённый аналог распятия: если крест за спиной Христа, то «австрийская щель» - перед Антиповым [IV: 114]. Галиуллин думает, что обманывает Лару, говоря о том, что Антипов в плену, но оказывается, что он говорит истину. Аналогичным образом «погибает» Живаго, заболевающий тифом. В бреду ему кажется, что он пишет, «и только иногда мешает один мальчик с узкими киргизскими глазами в распахнутой оленьей дохе, какие носят в Сибири или на Урале. Совершенно ясно, что мальчик этот - дух его смерти или, скажем просто, его смерть. Но как же может он быть его смертью, когда он помогает ему писать поэму, разве может быть польза от смерти, разве может быть в помощь смерть? Он пишет поэму не о воскресении и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и другим. Он пишет поэму “Смятение”» [IV: 205-206].
«Австрийская щель» и «узкие киргизские глаза» имеют общие признаки - узость, горизонтальность, но противопоставляются по линиям ‘Запад - Восток’ и ‘единичное -множественное’. Любопытно, что Евграф, не названный по имени, то мешает Юрию Андреевичу писать, то помогает. Если Антипов, не пишущий даже Ларе, «погибает» до революции, то Живаго, пишущий (хоть и в бреду) поэму, - после неё. «Австрийская щель» и взрывы «двух немецких шестнадцатидюймовых снарядов» перед наблюдавшим за атакой Галиуллиным дают горизонтальную (впереди Антипова) и вертикальную (за его спиной) координаты - крест. Разноголосица «австрийской щели» и «немецких <...> снарядов» объясняется, вероятно, проекцией ситуации на распятие Христа и тем, что распинают Христа с подачи иудеев римляне. Отметим здесь и числовую символику: два шестнадцатидюймовых снаряда в цифрах можно обозначить как 2х(2х2х2х2). Не
194
Глава 3
пишущий Антипов, таким образом, спроецирован на распинаемого Христа. А пишущий (в бреду) Живаго - на апостола Павла, диктовавшего послания. Это не исключает ориентации фигуры доктора на Христа, что подтверждается ролью при нём Евграфа, который оказывается автором жизнеописания Юрия Андреевича и находится в позиции апостола Иоанна. У доктора «был бред две недели с перерывами» [IV: 205], то есть 14 дней. Ср. это с тем, что «православная Церковь принимает в своём каноне 14 посланий Апостола Павла» [ТБ 1987, 3: X, 385].
Доктору «грезилось, что на его письменный стол Тоня поставила две Садовые, слева Садовую Каретную, а справа Садовую Триумфальную, и придвинула близко к ним его настольную лампу, жаркую, вникающую, оранжевую» [IV: 205].
Улицы «слева» и «справа» (ср. с «чёрными столбами земли и дыма» от взрывов двух снарядов в сцене «гибели» Антипова) уходят назад, когда Живаго, возвращающийся с дровами домой с Виндавского вокзала, «по бесконечной Мещанской конвоировал возчика и клячу, тащившую это нежданное богатство» [IV: 205]. Мещанская, таким образом, находится перед ним, как и лампа, когда он болеет (ср. со сценой «гибели» Антипова). Названия улиц выступают здесь знаками присутствия темы Рима (чем включается в работу идеологема ‘Москва - Третий Рим’) и противостоящей ей темы христианства. Апостола Павла казнили в Риме, который впоследствии из города императоров, отмечавших свои триумфы торжественным въездом на колесницах с возчиком («каретах»), стал городом триумфа христианства (Садовая предстаёт «напоминанием» о Гефсиманском саде). Если Антипова скрывают «чёрные столбы земли», то Христа в поэме Юрия Живаго осаждает «буря чёрной червивой земли <.. .> точь-в-точь как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя» [IV: 206]. Черви - «образ угрозы и первому рождению и “второму” рождению - воскресению» [Топоров 1995: 622]. В рассматриваемых сценах, связанных с Антиповым и Живаго, происходит следующее: Антипов, спроецированный на Христа, распятого (по отношению к Риму) на ‘Востоке’, «погибает» (по отношению к Москве) на ‘Западе’, а Живаго, ориентированный на апостола Павла, убиенного по отношению к Иерусалиму на ‘Западе’, «погибает» в Москве, указывая тем самым, что Москва - Третий Рим. Пастернак подтвердил этим и вывод, высказанный в стихотворении «Весеннею порою льда» (1932) из «Второго рождения»: «Уходит с Запада душа, / Ей нечего там делать» [II: 88].
Бегству апостола из Дамаска, где он проповедовал (Деян. IX, 24-25), аналогичен период, когда Стрельников скрывался от привлечения «к военному суду по ложному оговору» [IV: 456]. Угроза жизни героя есть и в «Трагедии Владимир Маяковский»: «В. Маяковский - / Господа! / Послушайте, - / я не могу! / Вам хорошо, / а мне с болью-то как? // Угрозы: / Ты поговори ещё там! / Мы из тебя сделаем рагу, / как из кролика!» [Маяковский, I: 169]. Два года Павел проводит в заключении в Кесарии, два года - в Риме. Стрельникова не арестовывают, но он сам рассказывает доктору, как это происходит: «Меня схватят и не дадут оправдываться. Сразу набросятся, окриками и бранью зажимая рот. Мне ли не знать, как это делается?» [IV: 461]. Это сравнимо с преследова
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
195
ниями христиан Савлом. О контрастной аналогичности самоубийства безутешного Антипова-Стрельникова, лежавшего «в нескольких шагах от крыльца, вкось поперёк дорожки, упав и уткнувшись головой в сугроб» [IV: 462], мученической кончине христиан и апостола Павла, который перед смертью мог утешаться тем, что Евангелие распространено по всему миру, свидетельствуют слова Пастернака о Маяковском и о поэтах-современниках в «Людях и положениях»: «Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие. <.. .> Но все они мучились неописуемо, мучились в той степени, когда чувство тоски уже является душевной болезнью. И помимо их таланта и светлой памяти участливо склонимся также перед их страданием» [III: 331-332].
Самоосуждение Маяковского соотносится со словами апостола о том, что человек не может оправдаться (спастись) собственными силами и путь оправдания - вера в Христа. Стрельникова, в отличие от апостола, не арестовывают, как не арестовывают и Маяковского, лирический герой которого признается, что жил, «становясь / на горло / собственной песне» [Маяковский, X: 280-281]. Если Стрельников предполагает, что на него в будущем (такие же, как он в прошлом) «набросятся, окриками и бранью зажимая рот», то Маяковский (вновь «во весь голос») говорит, как об уже не раз совершавшемся, о том, что вновь становится «на горло собственной песне». В последнем разговоре с доктором его двойник - Стрельников, вновь ставший Антиповым и понимающий, что он банкрот. Живаго в отношении своего двойника - в той же позиции, что Пастернак по отношению к Маяковскому. Психологическим комментарием к тому «страшному, неотменимому решению, с которым Стрельникову не хотелось оставаться одному и исполнение которого он откладывал, насколько возможно, болтовнею с доктором и его обществом» [IV: 455], можно считать слова Пастернака о Маяковском из очерка «Люди и положения»: «Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нестерпимой этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающейся жизнью ожидания» [III: 331].
Разговор Антипова-Стрельникова с Живаго в Барыкине служит лишь катализатором решения «поставить <...> точку пули». Это также и решение самого Пастернака «поставить точку» в истории героя. Самоубийство Антипова являет профанацию идеи «второго рождения», столь важной для Пастернака. Для него осудивший себя Маяковский, вероятно, был напоминанием о том раннем Маяковском, был поэтом, который возвращался к себе подлинному, был Маяковским, захотевшим «второго рождения». Трагедия в том и заключалась, что оно оказалось для него смертью. Однако Пастернак воспринимал Маяковского не только как фигуру трагическую, но и как «победившего художника». О его «победе» он недвусмысленно сказал ещё в стихотворении «Смерть поэта»
196
Глава 3
(1930). Об этом же - определение поэмы «Во весь голос» как «бессмертного» (высочайшая в устах Пастернака оценка) «документа» (но не «поэмы» или «произведения»).
В последнем разговоре с Живаго Антипов-Стрельников не может наговориться, и его монологи, как и комментарии рассказчика, раскрывают механизм «революционного помешательства» и «разгула самобичующегося воображения» [IV: 455]. Создавая эту сцену, Пастернак скрыто отсылал к раннему Маяковскому. Так, в «Трагедии Владимир Маяковский» Старик обещает: «Мы солнца приколем любимым на платье, / из звёзд накуём серебрящихся брошек» [Маяковский, I: 157]. В романе ещё молодой Антипов, масштаб военно-революционной деятельности которого был подобен размаху Маяковского и его персонажей, говорит о своей жизни как об ушедшем прошлом: «А мы жизнь приняли как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили» [IV: 458].
Интертекстуальные отсылки к произведениям Маяковского на самоубийстве Антипова-Стрельникова не заканчиваются. С текстами Маяковского связано и изображение последнего периода жизни Юрия Живаго. В качестве яркого примера инверсирования текста «Флейты-позвоночника» укажем на описание пребывания Живаго в комнате в Камергерском переулке. «Озвученный» монолог лирического героя Маяковского представляет собой явный контраст тайному, скрытому от читателя и пробивающемуся только в приводимых записях доктора его внутреннему монологу в комнате в Камергерском. В то же время стихи Маяковского могут выступать и в роли скрытого от читателя текста Юрия Живаго. Ср. с описанием процесса творчества и с самими записями Живаго следующий отрывок:
Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я.
Творись, просветлённых страданием слов нечеловечья магия!
<...> Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы! Весеньтесь, жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы -пить и пить стихи.
Сердце обокравшая, всего его лишив, вымучившая душу в бреду мою, прими мой дар, дорогая, больше я, может быть, ничего не придумаю.
В праздник красьте сегодняшнее число.
Творись, распятью равная магия.
Видите -
гвоздями слов прибит к бумаге я
[Маяковский, I: 205, 208].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
197
3.2. Антипов и «Вечный муж» Достоевского11
Юрий Живаго в разговоре с Дудоровым говорит, что Маяковский - «это какое-то продолжение Достоевского. Или, вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей» [IV: 175]. Поскольку Антипова-Стрельникова связывает с Маяковским множество деталей и ассоциаций, это даёт основание взглянуть на героя Пастернака с точки зрения его связей с персонажами Достоевского. Едва ли не первое, что указывает на эти связи, - имя и отчество Антипова-Стрельникова. Они отсылают к герою повести (или - «рассказу», как определял произведение автор) Достоевского «Вечный муж» (1869-1870) Павлу Павловичу Трусоцкому. Вторым не менее важным прототипом Антипова-Стрельникова из этого произведения был Алексей Иванович Вельча-нинов, бывший любовник жены Трусоцкого.
Весьма значимым для Пастернака оказался уже зачин «Вечного мужа»: «Пришло лето - и Вельчанинов, сверх ожидания, остался в Петербурге. Поездка его на юг России расстроилась, а делу и конца не предвиделось. Это дело - тяжба по имению - принимало предурной оборот. Ещё три месяца назад оно имело вид весьма несложный, чуть не бесспорный; но как-то вдруг всё изменилось. “Да и вообще всё стало изменяться к худшему!” - эту фразу Вельчанинов с злорадством и часто стал повторять про себя» [Достоевский, IX: 5].
В «Докторе Живаго» с этим описанием соотносится рассказ о начале семейной жизни Антиповых: летом «Антиповы сверх ожидания очень хорошо устроились в Юрятине. Гишаров поминали тут добром. Это облегчило Ларе трудности, сопряжённые с водворением на новом месте» [IV: 106]. Дословное совпадение с началом повести Достоевского облегчает читателю соотнесение героев «Доктора Живаго», начинающих новую жизнь, с героями «Вечного мужа». Ещё раз зачин повести инверсированно обыгрывается в описании «нового» времени, наступившего после октябрьской революции 1917 года. Но здесь речь идёт о семье Громеко-Живаго: «Настала зима, какую именно предсказывали. Она ещё не так пугала, как две наступившие вслед за нею, но была уже из их породы, тёмная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и перестройке всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уцепиться за ускользающую жизнь» [IV: 194].
Первая глава повести Достоевского посвящена описанию внутреннего мира, психологии и состояния Вельчанинова. Внутренний мир и характер Антипова-Стрельникова во многом списан с него с поправкой на современность. Достоевский «обеспечил» фигуру Антипова-Стрельникова психологизмом: в «Докторе Живаго» читатель не узнаёт подробностей переживаний героя потому, что они содержатся в «Вечном муже». Если Вельчанинову 38-39 лет в начале повествования, то Антипову-Стрельникову - примерно столько же в конце истории о нём. Психологические характеристики Вельчанинова скрыты недомолвками и связаны с его прошлым, о психологических мучениях Антипо
11 Параграф в несколько измененном виде опубликован: [Буров 2008а].
198
Глава 3
ва-Стрельникова можно судить лишь по «внешней» канве рассказа о нём. Вельчанинов «бился теперь с какими-то причинами высшими, о которых прежде и не задумался бы. В сознании своём и по совести он называл высшими все “причины”, над которыми, к удивлению своему, никак не мог про себя засмеяться, чего до сих пор ещё не бывало, -про себя, разумеется; о, в обществе дело другое!» [Достоевский, IX: 6]. Именно о таких «высших» причинах задумывается Антипов, решающий в итоге уйти на фронт. Однако в его случае эти «высшие» причины подобны тем, что осмеиваются Достоевским в лице «младших» персонажей типа Предпосылова и Лобова. В Юрятине Антипов, раньше любивший смеяться, лишь раздражается по поводу нравов и поведения окружающих, и его настроение очень похоже на ипохондрию, которая одолевает Вельчанинова. Антипов после свадьбы «превращается» в героя Достоевского, который страдает бессонницей, становится «мнителен во всём, и в важном и в мелочах» и которому доктор говорит, «что факт изменения и даже раздвоения мыслей и ощущений по ночам во время бессонницы и вообще по ночам есть факт всеобщий между людьми, “сильно мыслящими и сильно чувствующими”, что убеждения всей жизни иногда внезапно менялись под меланхолическим влиянием ночи и бессонницы; вдруг ни с того ни с сего самые роковые решения предпринимались; но что, конечно, всё до известной меры и если, наконец, субъект уже слишком ощущает на себе эту раздвоимость, так что дело доходит до страдания, то, бесспорно, это признак, что уже образовалась болезнь; а стало быть, надо немедленно что-нибудь предпринять. Лучше же всего изменить радикально образ жизни, изменить диету или даже предпринять путешествие. Полезно, конечно, слабительное. Вельчанинов дальше слушать не стал; но болезнь была ему совершенно доказана» [Достоевский, IX: 7].
Именно этим советам и внимает Антипов - принимает радикальное решение уйти на фронт, что подразумевает и изменение диеты, и путешествие. Если Вельчанинов всё чаще вспоминает со злостью и насмешкой «иные происшествия из его прошедшей и давно прошедшей жизни» [Достоевский, IX: 7], то Антипов находится в подобном душевном состоянии, живя с семьей, а вспоминает о ней гораздо позже - в Развилье и в Барыкине - с ностальгией и безо всякой злости и насмешки. «И не в одних приговорах его ума было дело: своему мрачному, одиночному и больному уму он бы и не поверил; но доходило до проклятий и чуть ли не до слёз, если и не наружных, так внутренних» [Достоевский, IX: 8].
Отношение Антипова к юрятинскому обществу представляет собой трансформированное отношение к свету Вельчанинова. Но если Вельчанинов испытывает муки совести по поводу личных грехов, то Антипов-Стрельников - по поводу социальных, отразившихся на Ларе. Вельчанинов вспоминает, как распустил слух, «будто бы учительша от меня подарки принимала» [Достоевский, IX: 9]. Лара преподаёт в женской гимназии именно с момента начала жизни с Антиповым в Юрятине. Вельчанинов презирает жизнь в Петербурге, людей, живущих там, но назло себе решает никуда не уезжать. Антипов решает уйти на фронт вне всякой связи со своими оценками жителей города. Если Вель-
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
199
чанинов припоминает прошлое, в котором напакостил, то Антипов, уходя на фронт и в революцию, собирается исправить причины бывшей социальной несправедливости, а в Барыкине понимает крах своей попытки.
Когда Трусоцкий в первый раз приходит ночью к Вельчанинову, они разговаривают об умершей жене первого Наталье Васильевне. Вельчанинов подспудно ждал прихода мужа бывшей своей любовницы, которая, как оказывается, недавно умерла. Антипов-Стрельников приходит вечером в Варыкино, где после отъезда Лары с Комаровским живёт в одиночестве Юрий Живаго, который никогда не был его другом, но жил с его женой. Но Антипов-Стрельников знает доктора и разговаривает с ним о Ларе. Он разговорчив, как и Трусоцкий, но это - совершенно иная разговорчивость. Пастернак вслед за Достоевским отмечает разговорчивость своего героя. Трусоцкий рассказывает, что после отъезда Вельчанинова они с женой вспоминали о нём. В романе Пастернака доктор с Ларой в Юрятине вспоминают Антипова-Стрельникова, а в Барыкине Живаго с Антиповым-Стрельниковым - Лару. Вельчанинов был любовником жены Трусоцкого девять лет назад в течение года, а Степан Михайлович Багаутов - в течение пяти лет, и Трусоцкий называет его «шестилетним другом». Стрельников в разговоре с доктором в Барыкине, стараясь удержать его, чтобы расспросить о Ларе, называет ту же цифру: «Только не уходите. Не оставляйте меня одного. Я скоро сам уйду. Подумайте, шесть лет разлуки, шесть лет немыслимой выдержки» [IV: 461]. Пастернак инверсирует треугольник Достоевского ‘жена, муж и любовник’. Если Трусоцкий приходит к Вельчанинову пьяный, то у Пастернака разведённый спирт пьёт после расставания с Ларой доктор и прекращает это за три дня до прихода Стрельникова. Плохой сон Живаго аналогичен плохому сну Вельчанинова. Пробуждение последнего наутро после визита Трусоцкого отразилось в том, как описано пробуждение доктора наутро после ночного разговора со Стрельниковым. В памяти Вельчанинова воскресает история любви к Наталье Васильевне. После расставания с нею и отъезда из города Т. он переоценил свои чувства и вспоминал о ней уже «с ненавистью». Юрий Живаго расстаётся с Ларой вынужденно, и чувства к ней лишь усиливаются. Заметим, что подробный внешний и психологический портрет Натальи Васильевны [Достоевский, IX: 26-27] мог соотноситься у Пастернака с внешностью и поведением М.И. Цветаевой, также послужившей одним из прототипов Лары. Антипов-Стрельников показан Пастернаком как противоположность типа «вечного мужа», выведенного Достоевским [Достоевский, IX: 27]. Но Антипов так же резко изменился в ночь решения уйти на войну и в ночь разговора с Юрием Живаго в Барыкине, как Трусоцкий изменился после смерти жены. Особенно тщательно и последовательно Пастернак инверсировал в романе описание семейной жизни Трусоцких. Эта страница текста Достоевского выразительней всего сказалась в повествовании о жизни Антипова и Лары в Юрятине, их характерах, поведении и менее явно -в рассказе о зимней жизни и чтениях семьи Живаго в Барыкине. В частности, семья доктора читает «Повесть о двух городах» Диккенса. Среди всего, что читалось по вечерам у Трусоцких, Диккенс - единственное названное имя читаемых писателей. В пись
200
Глава 3
ме к брошенному и уехавшему в Петербург Вельчанинову Наталья Васильевна опровергла, что беременна, и тот поверил - Юрий Андреевич сам догадывается о второй беременности Тони и не распознаёт беременность Лары. Рассказ Трусоцкого о времени рождения Лизы после отъезда Вельчанинова завершается словами: «И если бы вы только знали, как покойница...» [Достоевский, IX: 33]. После этого ошеломлённый Вельчанинов просит показать ему его дочь. В «Докторе Живаго» такое же ошеломляющее действие производят на Стрельникова слова Живаго: «Я знаю, как она была дорога вам. Но простите, имеете ли вы представление, как она вас любила? <...> представляете ли вы себе, до какой степени вы были ей дороги, дороже всех на свете?» [IV: 456]. Появление Лизы, её поведение, взгляд, приветствие - «на английский манер слегка наклониться и протянуть гостю руку», отношение к гостю и чувства последнего [Достоевский, IX: 33] Пастернак трансформировал при описании Кати, появляющейся в комнате во время визита Юрия Живаго к Ларе в Юрятине и делающей книксен, а также доктора, реагирующего репликой: «Вы в Мелюзееве карточку показывали. Как выросла и изменилась!» [IV: 297]. У обеих девочек одинаковый возраст - восемь лет. Вельчанинов узнаёт, что у него есть дочь, и видит её впервые - Живаго видел дочь Лары и Антипова на снимке. Трусоцкий рассказывает Вельчанинову о Лизе, тот забирает дочь, отвозит её в дружественное семейство Погорельцевых и рассказывает историю Клавдии Петровне. Пого-рельцевы заботятся о Лизе, но она заболевает и умирает. В «Докторе Живаго» эта схема отношений преобразована таким образом, что Таня Безочередева рассказывает о себе сначала Евграфу, а потом о себе и о разговоре с Евграфом - Гордону и Дудорову; Евграф обещает принять участие в её судьбе, что, вероятно, и делает после войны.
Сразу три широко развёрнутых сцены из «Вечного мужа», когда Трусоцкий ночами является к Вельчанинову и они разговаривают, впитала в себя сравнительно краткая сцена последнего разговора Живаго и Стрельникова в Барыкине. В главе VII «Муж и любовник целуются» Трусоцкий, пришедший к Вельчанинову во второй раз, рассказывает, как нашёл после смерти Натальи Васильевны письма от любовников, указывает на свои рога, просит Вельчанинова выпить с ним, хватает его руку и целует её, а затем просит поцеловать его. Живаго и Стрельников при разговоре не пьют, но за три дня до прихода Стрельникова доктор пьёт в течение нескольких дней. Юрий Андреевич хочет спать, а гость желает проговорить, «сколько вы будете в состоянии, со всею роскошью, ночь напролёт, при горящих свечах», затем ловит его руки и прижимает их к груди, прося не уходить и не оставлять его одного [IV: 457,461]. После ухода Павла Павловича Вельчанинов с облегчением ложится спать, и это описано кратко. Доктор также ложится спать с облегчением: «Наконец-то он выспится по-настоящему» [IV: 461], но подробно описывается его сон. При встрече на следующую ночь Вельчанинов оставляет Трусоцкого ночевать в своей комнате на диване и, гневаясь по поводу того, что тот не едет к больной Лизе, выбрасывает тому постельные принадлежности. В «Докторе Живаго», напротив, нет никакого напряжения: «Стрельников остался ночевать у него. Юрий Андреевич уложил его спать в соседней комнате» [IV: 461]. Проснувшись ночью, Вельчанинов,
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
201
испугавшись, дважды окликает Трусоцкого: «Это вы, Павел Павлович?» Наутро тот исчезает и не едет к умирающей Лизе. Вновь подобным образом Трусоцкого, разговаривающего возле вокзала с Вельчаниновым, окликает в конце рассказа его новая жена и её любовник, зовущие его в отправляющийся поезд [Достоевский, IX: 57,111-112]. В «Докторе Живаго» проснувшийся доктор окликает Стрельникова, который ночью покончил с собой: «Павел Павлович! Никакого ответа. “Спит ещё, значит. Крепко спит, однако”» [IV: 462]. Третья ночь, проведённая Вельчаниновым и Трусоцким вместе, заканчивается попыткой Трусоцкого зарезать Вельчанинова бритвой. Вельчанинову снятся кричащие люди, и «его брало сомнение: “Но если б это был не бред, то возможно ли, чтоб такой крик не разбудил до сих пор Павла Павловича? Ведь вот он спит же вот тут на диване?”» [Достоевский, IX: 98]. После покушения Трусоцкого Вельчанинов анализирует подлинные причины его приезда в Петербург. Их психологическая сложность контрастирует со сравнительной простотой причин прихода Антипова-Стрельникова в Варыкино. Прямо обращённые к Трусоцкому слова из внутреннего монолога Вельчанинова о том, что «природа не любит уродов и добивает их “естественными решеньями”» [Достоевский, IX: 103], могут контрастно соотноситься с возможными и отсутствующими в тексте мыслями Юрия Живаго после самоубийства Антипова-Стрельникова.
Попытка Трусоцкого начать новую жизнь и жениться на 15-летней Наде Захлебини-ной сопровождается дарением ей бриллиантового браслета, который она не хочет принимать и в итоге возвращает через Вельчанинова. В момент дарения браслет идёт по рукам, всё семейство Захлебининых его рассматривает. Возможно, с этим браслетом соотносится в романе Пастернака ожерелье из розовых гиацинтов или жёлтых сапфиров, которое дарит Ларе на свадьбу Кологривов и которое лежит на столе - его не трогают. От бедных Захлебининых до богатого Кологривова общество проходит, так сказать, полный цикл развития и созревания. История будущего жениха Нади Александра Лобова, который приходит объясняться с Трусоцким в квартиру Вельчанинова, некоторыми деталями (воспитание, служба на железной дороге, презрение к общественным нормам) сказывается в истории и поведении Коли Фроленко из Мелюзеева. Трусоцкий уезжает и через Лобова передаёт Вельчанинову конверт с найденным им письмом Натальи Васильевны, в котором, в отличие от письма, когда-то отправленного Вельчанинову, она писала, что ждёт от него ребёнка. В «Докторе Живаго» этому письму зеркально аналогично прощальное письмо Тони, переданное доктору в Юрятине Глафирой Тунцевой. Тоня пишет в нём, в частности, о рождении дочери. Если Наталья Васильевна желала избавиться от Вельчанинова, то Тоня, напротив, пишет Юрию Живаго о своей любви к нему.
В заключительной главе «Вечного мужа» перед читателем предстаёт «образумившийся» Вельчанинов, с которым через два года после описанных событий произошли «выгодные и здравые перемены к лучшему» - и нравственно, и физически. Он ценит теперь своё положение, достаток и знает, «что этих последних денег своих не промотает “как дурак”, как промотал свои первые два состояния, и что ему хватит на всю жизнь». Вельчанинов едет «на комфортном месте в вагоне первого класса» к знакомой
202
Глава 3
даме и получает удовольствие от жизни [Достоевский, IX: 107]. У Пастернака всё перевёрнуто: в начале романа промотавшийся с «помощью» своего адвоката Андрей Живаго заходит к Гордонам, но за ним приходит Комаровский и тащит его «в салон-вагон пить шампанское» [IV: 18]. Отец Юрия Живаго находится в состоянии такого же аффекта, в котором прежде с «помощью» Трусоцкого, всё время стремившегося напиться, находился Вельчанинов. Плачевный конец Андрея Живаго являет противоположность благим переменам в жизни Вельчанинова и его будущего.
3.3. Претексты, формирующие образы Гинца и Фроленко12
Продолжая анализировать следы произведений Маяковского в «Докторе Живаго», обратим внимание на комиссара Гинца. Его прототипом были не только герои Маяковского, но и сам поэт. Кроме того, Гинц связывается в романе с Авраамовой жертвой, а его убийство соотносится с одной из линий романа А.Н. Толстого «Сестры» [Смирнов 1996: 45, 49-55]. Гинц погибает, вскочив на крышку «высокой пожарной кадки», которая стояла «у дверей вокзала под станционным колоколом» [IV: 153]. Кадка, вода, огонь отсылают не только к пожару13, но и к бане. И тем самым - к «Бане» Маяковского (написана в 1929, поставлена в 1930). Это подтверждается «диалогом» с «Охранной грамотой», в которой Пастернак рассказал, как плакала рядом с телом застрелившегося Маяковского его младшая сестра Ольга Владимировна: «Она же не унималась. “Баню им! -негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контральто. - Чтобы посмешнее. Хохотали. Вызывали. - А с ним вот что делалось. -Что же ты к нам не пришёл, Володя?” - навзрыд протянула она, но, тотчас овладев собой, порывисто пересела к нему ближе. “Помнишь, помнишь, Володичка?” - почти как живому вдруг напомнила она и стала декламировать: <...> Мама! У него пожар сердца14» [III, 237].
Реплика «баню им!» звучит громким ответом на молчаливый вопрос Гинца, уходившего из лесу к станции: «За ним шли солдаты с ружьями. “Что им надо?” - подумал Гинц и прибавил шагу» [IV: 153]. «Хохотали. Вызывали» соотносится с тем, что солдаты встретили неловкость Гинца, провалившегося в кадку, «взрывом хохота», а также с тем, что в Бирючи были «вызваны» казаки [IV: 154, 151]. Фамилия Гинца, который, судя по выговору, происходил из остзейских немцев [IV: 137], этимологически восходит к немецкому Hinz und Kunz - встречный и поперечный (ср.: Гинц оказался поперёк под
12 Параграф был опубликован: [Буров 20Юж].
13 Семы «огонь», «пожар» содержатся в значении фамилий связанных с Гинцем персонажей - Клин-цова-Погоревших и Палых (см.: [Смирнов 1996: 50]).
14 Ср. с этой строкой, а также с тем, что «делалось» с Маяковским в последние месяцы его жизни, сказанное о Гинце: «В последние месяцы ощущение подвига, крика души бессознательно связалось у него с помостами и трибунами, со стульями, вскочив на которые можно было бросить толпящимся какой-нибудь призыв, что-нибудь зажигательное» [IV: 153].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
203
вернувшейся ему «пожарной кадки»)15. Такие же качества юного комиссара как болтливость и фразерство намекают на главного персонажа «Бани» - матёрого советского служащего Победоносикова, своего рода Гинца, постаревшего на 12 лет. Бездарная гибель юного комиссара соотносится с фиаско Победоносикова, которого не взяли в будущее.
Интертекстуальное родство Гинца с Маяковским позволяет решить вопрос о прототипе бирючевского телеграфиста Коли Фроленко, которого считали «косвенным виновником солдатских волнений на станции». Как мы выяснили выше, в сказочном плане Фроленко является скрытым антагонистом Гинца (явный антагонист комиссара - взбунтовавшиеся солдаты, в частности, неназванный Палых, а явный антагонист Фроленко -казаки, едущие усмирять дезертиров). Поскольку Гинц - профанный двойник Юрия Живаго, постольку Фроленко скрыто враждебен и доктору. Неслучайно Фроленко не выполняет распоряжение Флери, выступающей помощником доктора, посадить его в поезд.
Отметим в связи с этим анаграмматическую зеркальность фамилий Фроленко и Флери, сигнализирующую о сходстве (Фрол - это искажённое Флор) и противопоставлении персонажей, в частности по их происхождению. Фроленко, по-видимому, из Украины, Флери - из Швейцарии. Связь с Украиной (Мелюзеев); «особая манера речи», связанная с работой на железнодорожном телеграфе и слежением «сразу за действием нескольких механизмов»; мысль о машинисте, который привёз-таки казаков «У, дрянь вонючая, древесный клоп!», отсылающая к «Клопу» (1929) Маяковского, и многие другие детали выдают прототипа Фроленко - ближайшего сподвижника и последователя Маяковского и бывшего друга Пастернака и его соратника по «Центрифуге» Н. Асеева, которого Пастернак неизменно называл Колей, - так же в романе именуется Фроленко. Впервые указав на Асеева как прототипа Фроленко, И.П. Смирнов отметил «утопическое» происхождение персонажа (его сходство с жителями «Солнечного города» Ямбу-ла) и указал на то, что «Коля представляет собой <.. .> пастернаковскую пародию на Руссо и его теорию воспитания» [Смирнов 1996: 90-91].
Асеев был биографически связан с Харьковской губернией, где жили сёстры Синяковы; занимался подсчётами в области стихосложения и резко выступал против Пастернака в конце 1920-начале 1930-х годов, в частности на «творческой дискуссии» в Московском отделении Всероссийского союза советских писателей в декабре 1931 г.16 Асеев, как указывают Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак, выступил там с докладом «Сегодняшний день советской поэзии». «Разговор о проблематике соцстроительства, - говорил Асеев, - должен включать «круг так называемых «вечных» тем <...> освещён
15 Ср. присутствие «банно-водяного», «огнестрельного» мотивов, а также мотива «поперечности» в сцене обнаружения доктором Живаго застрелившегося Антипова-Стрельникова, одним из прототипов которого также был Маяковский: «Юрий Андреевич развёл огонь в плите, взял ведро и пошёл к колодцу за водою. В нескольких шагах от крыльца, вкось поперёк дорожки, упав и уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Павлович» [IV: 462].
16 Подробно о «дискуссии» см.: [Асеев 1983: 521-522; Флейшман 2005: 67-75].
204
Глава 3
ный новым светом трудовых человеческих взаимоотношений». Решающим моментом этой задачи он считал выработку соответствующего стихотворного языка, который объединит представления «о семантике, словаре, словосочетании, фонетике, ритмическом строении синтаксиса, рифме и т. д.» Предупреждая, что «самовлюблённость в свой “личный” творческий метод» может привести «на тёмные задворки недовольства, бессознательности, а иногда и прямой враждебности соцстроительству», Асеев открыто метил в Пастернака и повторял штампованные обвинения критики» [V: 714].
Наиболее «тёмной» в описаниях Фроленко представляется его «телеграфная» речь и, в частности, его ответы мадемуазель Флери. «Ответвлением железнодорожного телефона некоторые дома в городе были соединены со станцией. Управление веткой находилось в Колиных руках в аппаратной вокзала. Там у него работы было по горло: железнодорожный телеграф, телефон, а иногда, в моменты недолгих отлучек начальника станции Поварихина, также и сигнализация и блокировка, приборы к которым тоже помещались в аппаратной. Необходимость следить сразу за действием нескольких механизмов выработала у Коли особую манеру речи, тёмную, отрывистую и полную загадок17, к которой Коля прибегал, когда не желал кому-нибудь отвечать или не хотел вступать с кем-нибудь в разговоры. Передавали, что он слишком широко пользовался этим правом в день беспорядков» [IV: 150].
Уже после убийства Гинца «мадемуазель звонила Коле по телефону, чтобы он устроил доктора в поезде поудобнее, угрожая в противном случае неприятными для Коли разоблачениями. Отвечая мадемуазель, Коля, по обыкновению, вёл какой-то другой телефонный разговор и, судя по десятичным дробям, пестрившим его речь, передавал в третье место по телеграфу что-то шифрованное. - Псков, комосев, слушаешь меня? Каких бунтовщиков? Какую руку? Да что вы, мамзель? Враньё, хиромантия. Отстаньте, положите трубку, вы мне мешаете. Псков, комосев, Псков. Тридцать шесть запятая ноль ноль пятнадцать. Ах, чтоб вас собаки18 съели, обрыв ленты. А? А? Не слышу. Это опять вы, мамзель? Я вам сказал русским языком, нельзя, не могу. Обратитесь к Поварихину. Враньё, хиромантия. Тридцать шесть... а, чёрт... отстаньте, не мешайте, мамзель» [IV: 154].
В указании на чрезвычайную занятость Фроленко («у него работы было по горло»), возможно, содержится иронический намёк на занятость Асеева как советского литературного чиновника. О его всё повышавшемся в конце 1920- начале 1930-х годов статусе свидетельствует хотя бы то, что в период подготовки Первого съезда советских писателей Асеев принадлежал «к верхушке Оргкомитета (он единственным из поэтов вошёл в комиссию по приёму в Союз писателей). С мартовского пленума Оргкомитета (1933) он выступал в качестве бесспорного лидера вновь сплотившейся «лефовской» группы -наиболее активного из существовавших тогда поэтических содружеств» [Флейшман
17 Ср. с нечёткой и плохо связной (возможно, из-за некачественной записи стенографисток) речью Асеева во время «дискуссии» 1931 года.
18 Маяковский обычно подписывался в письмах к Л.Ю. Брик: «Щен». Или рисовал вместо подписи щенка - см.: [Янгфельдт 1991]. Ср.: «Вот так я сделался собакой» [Маяковский, I: 88].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
205
2005: 215]. Слова, обозначающие передаваемые Фроленко цифры, могут намекать не только на стиховедческие подсчёты Асеева, но и на возраст Маяковского, не дожившего до 37 лет; «нельзя», относящееся к нежеланию Фроленко «устроить доктора в поезде поудобнее», - на нежелание Асеева признавать позицию Пастернака в современной поэзии имеющей право на существование; фамилия начальника станции Поварихина - на Поварскую улицу, где в доме № 52 помещался и находится до сих пор Союз писателей.
Фигура Фроленко впитала в себя, по-видимому, и характеристики, которые дал Асееву в двух своих статьях - «Литературная Москва» (1922) и «Буря и натиск» (1922-1923) -О.Э. Мандельштам: «Если в стихах Маяковского выражено стремление к общедоступности, то в стихах Асеева сказался организационный пафос нашей эпохи. Блестящая рассудочная образность его языка производит впечатление чего-то свежемобилизован-ного19. По существу, между табакерочной поэзией восемнадцатого века и машинной поэзией двадцатого века Асеева нет никакой разницы. Рационализм сентиментальный и рационализм организационный. Чисто рационалистическая, машинная, электромеханическая, радиоактивная и вообще технологическая поэзия невозможна по одной причине, которая должна быть близка и поэту и механику: рационалистическая, машинная поэзия не накапливает энергию, не даёт её приращенья, как естественная иррациональная поэзия, а только тратит, только расходует её. Разряд равен заводу. На сколько заверчено, на столько и раскручивается. Пружина не может отдать больше, чем ей об этом заранее известно. Вот почему рационалистическая поэзия Асеева не рациональна, бесплодна и беспола. Машина живёт глубокой и одухотворённой жизнью, но семени от машины не существует» [Мандельштам 1993-1997, II: 259].
«Совершенно в стороне от Маяковского стоит Асеев. Он создал словарь квалифицированного техника. Это поэт-инженер, специалист, организатор труда. На Западе таковые, то есть инженеры, радиотехники, изобретатели машин, поэтически безмолвствуют или читают Франсуа Коппе. Для Асеева характерно, что машина как целесообразный снаряд кладётся им в основу стиха, вовсе не говорящего о машине. Смыкание и размыкание лирического тока даёт впечатление быстрого перегорания и сильного эмоционального разряда. Асеев исключительно лиричен и трезв в отношении к слову. Он никогда не поэтизирует, а просто прокладывает лирический ток, как хороший монтёр, пользуясь нужным материалом» [там же: 297].
Работа Фроленко на телеграфе контрастно соотносит этого героя с работающей на телеграфе Мариной Щаповой. Профессия выдаёт такую же контрастную связь с прототипом - М.И. Цветаевой, обращавшей к Пастернаку «телеграфный» цикл «Провода» (см.:
19 Ср. с мобилизованностью красными партизанами студента Блаженна, который вместо того, чтобы ухаживать за Ксюшей, стоит на часах, но делает вид, что при красном свете печатает фотографии. Завершающие цитату слова Мандельштама о том, что «семени от машины не существует», могут прочитываться и как программа совместной жизни в будущем Блаженна и Ксюши, и как сбывшееся провидение относительно поэтической судьбы Асеева и его совместной жизни с Ксенией Михайловной Синяковой (у супругов не было детей). О К.М. Синяковой как протипе Ксюши - ниже.
206
Глава 3
[Поливанов К.М. 2006: 150-151]). Таинственное «третье место» представляет собой не что иное, как будущее из «Бани» Маяковского, в которое собираются изобретатель Чудаков (ср. с Маяковским) и его помощник «лёгкий кавалерист» Велосипедкин. Отсюда: «В Мелюзееве привыкли видеть Колю в любую погоду налегке, без шапки, в летних парусиновых туфлях, на велосипеде» [IV: 150] (ср. с Асеевым). Оборванная лента в руках раздосадованного Фроленко представляет собой инверсию письма из будущего (его с восторгом получают Чудаков и Велосипедкин), написанное «пятьдесят лет тому вперёд» «одними согласными», с использованием цифр, указывающих на «порядковую гласную» и с «экономией двадцать пять процентов на алфавите» [Маяковский, XI: 290]. Обрыв ленты соотносится с «обожжённым, снесённым краем» письма из будущего. Чудаков объясняет: «Это значит - на пути времени встретилось препятствие, тело, в один из пятидесяти годов занимавшее это сейчас пустое пространство. Отсюда и взрыв. Немедля, чтоб не убить идущее оттуда, нужны люди и деньги... Много! Надо немедля вынести опыт возможно выше, на самый пустой простор. Если мне не помогут, я на собственной спине выжму эту махину. Но завтра всё будет решено» [там же: 290].
Встреча «тела» «на пути времени» отозвалась в романе тем, что доктор, выйдя от Гордона, случайно «наткнулся на шедшего во встречном направлении сводного брата Евграфа Живаго» [IV: 483]. Доктор, таким образом, представляет собой олицетворение времени. Но таким же олицетворением может быть и Евграф. Смерть Юрия Живаго соотносится с репликой изобретателя Чудакова: «Я заставлю время стоять и мчать с любой скоростью. Люди смогут вылазить из дней и с любой скоростью». Объяснение Чудакова соотносится и со словами Юрия Живаго, сказанными Гордону и Дудорову во время последней встречи: «Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она -состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту». После этой встречи «на другой день утром к Гордону ни жива ни мертва прибежала Марина». На третий день после своего исчезновения Юрий Живаго сообщил о переводе, а затем «скоро пришли деньги, превышавшие и докторов масштаб, и мерила его приятелей» [IV: 480-483]. Мотив денег в этом эпизоде связан не только с «Баней», но и с «Капитанской дочкой» А.С. Пушкина: «Евграф снабжает Юрия Живаго деньгами, как и Пугачев - Гринёва» [Смирнов 1996: 57].
Слова Чудакова «если мне не помогут, я на собственной спине выжму эту махину» объясняют смысл пребывания доктора в конце романа в комнате в Камергерском переулке. С данным эпизодом соотносится также требование «лёгкого кавалериста» Вело-сипедкина к «главначпупсу» Победоносикову: «Отпустите немедленно деньги, вынесем опыт на максимально возвышенное место и...» [Маяковский, XI: 315]. Деньгами доктора, который в данном случае соотносится и с Маяковским, и с его героем Чудаковым, отправившимся-таки в будущее, снабжает Евграф. Однако эти деньги Юрий Живаго не оставляет себе, а отправляет Марине. Амплуа Чудакова - изобретательство - перешло на персонажей «Доктора Живаго» в двух вариантах. Евграф «изобретает» вынесение «опыта возможно выше, на самый пустой простор»: «Пропажа Юрия Андреевича и
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
207
пребывание в скрытности были мыслью Евграфа, его изобретением» [IV: 484]. Он же обеспечивает это материально - «на собственной спине выжимает эту махину». Живаго поднимается и пребывает в комнате в Камергерском переулке и «возносится» творчески, он материально обеспечивает будущее Марины и детей и «выжимает <...> махину» будущего в духовном смысле. «Опыт», который ставит Живаго (и вместе с ним Пастернак) - это опыт по проникновению в будущее, доставке из него стихов («Стихотворения Юрия Живаго» как подтверждение) и доставке в своё время самого будущего (собственно роман). Это также и опыт по доставке в будущее и стихов, и романа.
Ещё одна инверсия письма из будущего - телеграфная штабная переписка белых, сжигаемая начальником связи партизанского отряда Каменнодворским. Юрий Живаго «подошёл к костру Каменнодворского.
- Делопроизводство уничтожаете? До сих пор не сожгли?
- Куда там! Этого добра ещё надолго хватит.
Доктор носком сапога спихнул и разрознил одну из сваленных куч. Это была телеграфная штабная переписка белых. <.. .> Это было неинтересное собрание прошлогодних шифрованных сводок в невразумительных сокращениях <.. .> Он разгрёб ногой другую кучку. Из неё расползлись врозь протоколы старых партизанских собраний» [IV: 342].
Фамилия Каменнодворский отсылает к соратнику Маяковского по футуризму В.В. Каменскому. Изменение фамилии на -дворский отмечает принадлежность к «двору» Маяковского. Роли Каменского при Маяковском и Каменнодворского при Ливерии профанируют положение апостола Петра («камня») при Христе, а также роль Ильи Муромца по отношению к Святогору и киевскому князю Владимиру. Поскольку с Маяковским соотносится партизанский начальник Ливерий, то весь контекст, связанный с этим персонажем, создаёт картину скрытого отношения Пастернака к Маяковскому. Один и тот же интертекст («Баня» Маяковского), в котором «прочитываются» Фроленко и Каменнодворский, обусловливает их близость. Таким образом, получает конкретное наполнение список «трусов» рядом с «Этной»-Маяковским. Однако прототипом Каменнодворского был не только Каменский, но и Асеев, на что намекает должность партизана, его роль в пленении Юрия Живаго, сжигание «телеграфной штабной переписки белых».
В приведённой сцене «Доктора Живаго» - множество писем, а не одно, как в «Бане», вид их «обожжённых, снесённых краёв» подразумевается в силу действий доктора. В будущее устремлены и белые, и красные. Но туда не доходят, сгорая в огне, невразумительные послания ни тех, ни других. Пастернак инверсировал количество, направленность писем и нейтрализовал политическую ангажированность, присутствовавшую у Маяковского. Разгребая переписку и протоколы, доктор надеется встретить имя Ран-цевича, но не встречает и читает о безымянной учительнице села Игнатодворцы. Оба упомянутых персонажа аналогичны «препятствию, телу», встретившемуся на пути письма в «Бане». Судя по контексту в приведённой цитате из «Бани», можно предположить, что жизни Ранцевича и учительницы закончились трагически. Фосфорическая женщина из будущего во время подготовки машины к переносу в 2030 год предупреждает: «То
208
Глава 3
варищ Велосипедкин! Следите за манометром дисциплины. Отклонившихся срежет и снесёт» [Маяковский, XI: 337]. «Срезанная» учительница - свидетельство того (от противного), чему станут обучать детей и каковы будут люди будущего. Поскольку у Маяковского Фосфорическая женщина раздаёт указания относительно путешествия сквозь время, то можно предположить, что в реплике содержится отсылка к заключительным строкам стихотворения О.Э. Мандельштама «Нашедший подкову» (1923): «Время срезает меня, как монету, / И мне уж не хватает меня самого» [Мандельштам 1993-1997, II: 45]. У Маяковского герои устремляются в будущее, но остаются в настоящем и прошлом (а с точки зрения сегодняшнего дня - в забвении), тогда как лирический герой Мандельштама, определяя себя как остающегося в прошлом, в историческом времени, парадоксальным образом оказывается в будущем (становясь актуальным в настоящем), преодолевая, таким образом, время. Возможно, Маяковский чувствовал этот потенциал в стихах Мандельштама20.
Фроленко и те, кому он передаёт шифрованные сообщения, - с одной стороны, белые с их перепиской и красные с протоколами - с другой, являются ответом Пастернака на то светлое советское будущее, к которому стремился в «Бане» Маяковский. В этом произведении «главначпупс» Победоносиков тащит с собой в будущее «вагонетку с перевязанными кипами бумаг» [Маяковский, XI: 341], но так и не попадает туда. С учётом проекции Фроленко на Асеева, адресатом шифровок Фроленко могут быть те, кто был заинтересован в смерти Маяковского. Связь с ними Асеева, на которую Пастернак таким образом намекнул, обусловила отношение Пастернака к тому, кто вместо «сердца друга» оставил «хитрых глаз прищур». Ср. такое возможное видение ситуации Пастернаком в «Докторе Живаго» со следующим мнением Асеева, которое Л.С. Флейшман интерпретирует так: «Интересно сопоставить интерпретацию смерти Маяковского у Пастернака с интерпретацией, предложенной Асеевым. В отличие от “Охранной грамоты”, Асеев не только полностью исключал “добровольную” природу гибели поэта, но и с самого начала настаивал на криминальной подоплёке происшествия, в своей неопубликованной “Поэме о ГПУ” намекая на некое “чёрное дело”. См. статью А.М. Крюковой» [Флейшман 2005: 21-22; Асеев 1983: 441-442].
Параллельное и совершенно разное обыгрывание в Первой и во Второй книгах «Доктора Живаго» «Бани» позволяет различить во Второй книге двойника Фроленко. Это студент Блажеин, который вместе с ретушёром Сеней Магидсоном делают вид, что печатают при красном фонаре фотографии, а на самом деле «пожирают глазами пространство», сторожа собрание партизан в дровяном сарае. Оба названы «молодыми помощниками фотографов» [IV: 310]. Ср. у Маяковского в «Стихах о советском паспорте» (1929): «Глазами / доброго дядю выев, / не переставая / кланяться, / берут, / как будто берут чаевые, / паспорт / американца» [Маяковский, X: 69]. Если допустить влияние этих строк, то за «пожиранием глазами пространства» Блаженным и Магидсоном можно усмотреть
20
Об интертекстах «из прошлого» в стихах позднего Мандельштама: [Буров 1991].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
209
намёк на подделку фотографий для паспортов, которой они, возможно, занимаются с целью попасть за границу. Галузина, олицетворяющая (с большой степенью профани-зации) в романе Россию, говорит Ксюше: «Трудится твой студент несчастный над карточками во святую ночь, карточки мои проявляет и печатает» [IV: 314]. И это «объяснение» деятельности Блаженна - поверхностное, неверное. В то же время оно свидетельствует - в духе размышлений Галузиной - об уровне развития городской цивилизации в дореволюционной российской провинции. И хотя процветание фотодела во время гражданской войны выглядит почти невероятным, объясняется оно и тем значением, которое придавалось фотографии в начале 1920-х. И Асеев к «продвижению» фотографии за счёт других видов искусства имел самое прямое отношение.
В доме, рядом с которым Блажеин и Магидсон «соорудили себе род лаборатории во дворе», живут сплошные ремесленники-евреи, однако фамилия часового мастера не названа (замечено лишь: «здесь производилась починка часов»). Между тем Фроленко «был сыном известного мелюзеевского часовщика». С учётом того, что в 1915 г. Асеев был призван на воинскую службу, в середине 1917-го дезертировал и вместе с женой уехал на Дальний Восток, не исключено, что «поселение» Блаженна в Крестовоздви-женске и возможное передвижение его вместе с партизанами на восток намекают на факты из биографии Асеева, отразившиеся также, как указывает И.П. Смирнов, в бегстве на Дальний Восток Комаровского [Смирнов 1996: 41]. Ксюша, которой нравится Блажеин, вполне могла бы последовать за ним; если предположить, что Блажеин подделывает паспорта, то последние пригодились бы для возможной эмиграции в Китай.
Прототипом Ксюши - приёмной дочери Власа Галузина от первого брака, о которой задумывается Галузина и которой нравится Блажеин, послужила Ксения Михайловна Синякова, ставшая женой Асеева. Расположенность к ней Пастернака отразилась в «позитивном» изображении Ксюши. Пастернак посвятил К.М. Синяковой утерянную впоследствии поэму-сказку «О Карпе и Нафталэне» (см.: [Пастернак Е. 1997: 186-187]). В случае Фроленко в позиции Ксюши находятся «две питомицы» мадемуазель Флери, «дочери графини», с которыми он «играл». Более того, Блажеин, с учётом дезертирования Асеева, возможно, и есть Фроленко, сбежавший из Мелюзеева после расправы дезертиров из «двести двенадцатого пехотного полка» над Гинцем и обещанных разоблачений Флери. (Ср. с запасным полком, в котором служил Асеев. Полк находился вблизи Австрийского фронта и после февральской революции 1917 года отказался идти воевать, изменив Временному правительству.) Возможно, с дезертирами, которых усмирил не красный казачий полк, а «броневой дивизион» (уж не Стрельников ли командовал им?), он и сбежал, ведь во Второй книге романа в партизанском отряде, так или иначе связанном с Крестовоздвиженском, где находится (или живёт?) Блажеин, оказывается Памфил Палых, убивший Гинца. Имя Блаженна, заметим, в отличие от имени Фроленко, в тексте не называется. Указано, однако, имя жены Асеева. Корни обеих фамилий -Фроленко и Блаженна - имеют две общие семы: церковную и чувственную. Фрол считается покровителем лошадей, блажь отсылает к заповедям блаженства - в обоих слу
210
Глава 3
чаях присутствует момент профанирующего снижения. Фрол происходит (с учётом русского искажения) от латинского «цветок», Блажеин соотносится с блаженством от обоняния цветка. С учётом поступков этих персонажей, инверсионно извращающих семантику имён, «запах» от них является вонью. Тождественная семантика фамилии Флери лишь подчёркивает противопоставленность персонажей. На значении скрытого «родства» мадемуазель с сурдопедагогом Виктором Ивановичем Флери (1800-1856) мы остановимся позже.
Связь Фрола с лошадьми актуализирует ассоциирование в творчестве Пастернака Маяковского и лошадей. Ср. у Маяковского - «Хорошее отношение к лошадям» (1918): «Деточка, / все мы немножко лошади, / каждый из нас по-своему лошадь» [Маяковский, II: 11]. Фамилия Фроленко с учётом этого сигнализирует как о «происхождении» Асеева от Маяковского, так и о «покровительстве» последнему после его смерти. «Лошади-ность» Маяковского и фамилия Каменнодворского дают возможность увидеть, как поздний Пастернак оценивал отношение Маяковского к соратникам по футуризму, в частности к К.А. Большакову. Подробно отношения трёх поэтов проанализированы Л.С. Флей-шманом [2003а]. В «Весенней распутице» всадник «тащился <...> верхом», и это резкое снижение темпа езды по сравнению со скачкой в «Балладе» объясняется, возможно, желанием устранить намёки на отношение Маяковского к Большакову, присутствовавшие в обеих редакциях «Баллады» (1916 и 1928), и на своё отношение к двум поэтам, которых во времена написания «Баллады» и позже Пастернак считал истинными футуристами. На перекличку «Весенней распутицы» и соответствующего прозаического места в романе с «Балладой» указывают комментаторы [IV: 448]. В «Балладе» (1928):
Бряцал мундштук закушенный, Врывалась в ночь лука, Конь оглушал заушиной Раскаты большака [I: 100].
В редакции 1916 года были «оскрётки большака» - «осколки, обломки камня, которыми мостят дороги» [I: 559]. Ср. с семантикой фамилии Каменнодворский (двор, мощёный камнем). Прочтение строфы получается таким: по-лошадиному грубый Маяковский неблагодарно «оглушает заушиной» Большакова, мостившего дорогу футуризму и самому Маяковскому. Самдевятов обращает внимание Юрия Живаго на Сибирский тракт (мощённый камнем), называя его «плацдармом партизанщины нынешней» [IV: 258]. В «Весенней распутице», несмотря на то, что всадник едет «распутицей в бору глухом», присутствуют и камни - «крошились камни о кремни» [IV: 520], то есть, возможно, часть пути доктор едет по тракту. Если в 1916 и 1928 Пастернак оценивал отношение Маяковского к Большакову как «оглушение заушиной», то во времена работы над «Доктором Живаго» видел его как «крошение камней о кремни». Данную строку можно истолковать и как отношение позднего Пастернака (всадника = поэта Юрия Живаго) к (обоим) футуристам.
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
211
Смысл инверсии блаженств, заключённой в фамилиях Фроленко и Блаженна, состоит в том, что их внутренние перерождения являются всякий раз лишь ещё большим моральным падением. Девять блаженств упоминаются в романе в связи с внутренним перерождением Лары, стремящейся начать после «падения» новую жизнь. В церкви она слушает, как «отбарабанил» девять блаженств псаломщик Пров Афанасьевич Соколов [IV: 50-51].
На Асеева как прототипа Блаженна указывает и занятие студента. (Кстати, в биографиях Асеева указывается лишь, что он «учился», но не «окончил».) В печатании Блаженным фотографий при красном свете (цвет революции) и охране собрания красных партизан можно усмотреть негативный экивок Пастернака в сторону теории социального заказа, предполагавшей, в частности, как указывает Л.С. Флейшман, «отрицание Рембрандта и Рафаэля21 ради фотографии»; теорию эту выдвинул впервые в 1922 г. в «Печати и революции» именно Асеев ([Флейшман 20036:32]; см. также: [Fleishman 1990: 146]). Красный цвет отсылает также к деревне Красная Поляна Харьковской губернии, где жили сёстры Синяковы и где бывали Асеев и Пастернак. Борис Леонидович приезжал туда к Надежде Синяковой и провёл в деревне первые три недели июля 1915 г.22
Если Фроленко становится Блаженным, то своей новой фамилией выдает прежнюю принадлежность секте Блажейко. Какова же могла быть его роль в этой секте? Если в отношении Блажейко, бывшего, по-видимому, хлыстовским «Христом», роль Иоанна Богослова выполнял Клинцов-Погоревших, то в отношении другого профанного Христа - Гинца - эта функция была у Галиуллина. Гинца убивают из-за Фроленко, и Флери, прямо называя его, не хочет разговаривать «со всяких убийц и маленький Иуда-предатель» [IV: 154]. Однако в отношении мукомола Блажейко, «независимая Зыбушинская республика» которого существовала две недели [IV: 132], место Иуды занято неизвестно кем - читатель ничего об этом не узнает. Вопрос проясняет лишь «крестовоздвижен-ское» повествование, да и то лишь с помощью вышеназванной косвенной детали - фамилии Блаженна, окончание которой означает принадлежность: Иудой в отношении «Христа»-Блажейко был, как и в отношении Гинца, Фроленко. О гибели Блажейко можно заключить на основании рассказа о кратковременном существовании объявленного им «тысячелетнего зыбушинского царства» [IV: 133]. Республика опиралась на тех же дезертиров, что убили Гинца. Получается, что Фроленко сначала предаёт Блажейко и дезертиров, которых выбила из Зыбушина «верная Временному правительству часть» [IV: 133], а затем - представителя Временного правительства комиссара Гинца - тем же дезертирам. Двойное предательство даёт этому «Bolsheviks’ man»23 [Rowland М.Е, Rowland Р. 1967: 86] возможность не только успешно избежать возмездия или наказания, но и оказаться за Уралом, в Крестовоздвиженске, и, более того, быть на службе (ответственной, но малопочтенной) у красных городских подпольщиков и партизан. Ср. эту его чисто
21 О значении Рафаэля для Пастернака см.: [Смирнов 1996: 68-85].
22 Об отношениях Пастернака с Н. Синяковой см.: [Пастернак Е. 1997: 212-213, 217-222, 291-292].
212
Глава 3
техническую во всех смыслах службу с политическим сервилизмом Асеева и его занятиями техникой стихосложения. Таким образом, Фроленко-«Асеев» служит всякой вновь появляющейся власти и всякий раз предаёт своих хозяев. Если учесть двойничество Гинца и Ливерия, наделённых чертами Маяковского, то роль Иуды в отношении Ливе-рия, находящегося на подпольном собрании в Крестовоздвиженске, как раз оказывается принадлежащей Блажеину, а также его локальному двойнику Сене Магидсону. Если у Гинца в мелюзеевском повествовании двойником выступает Блажейко, находившийся в недавнем прошлом не в Мелюзееве, а в Зыбушино, то у Ливерия аналогичного двойника нет. Блажеину, видимо, не удаётся предать его (и, таким образом, он остаётся, как Асеев, на службе у большевиков). Ливерий раздваивается сам: одного Ливерия читатель видит на собрании в Крестовоздвиженске, совсем иного - в недалёком будущем в партизанском отряде в лесу.
Не менее вероятна и другая версия судьбы Блажеина-Фроленко, нежели бегство на Дальний Восток и эмиграция в Китай. Как считает И. Мазинг-Делич, партизан-телефонист, который был убит рядом с Юрием Живаго во время боя, «could just as well be»23 24 Колей Фроленко, который работал на телеграфе в Мелюзееве и был скрытым виновником гибели комиссара Гинца. «Nemesis»25 настигла его в партизанском отряде: «Frolenko is shot by someone like Gints and someone like Gints (Rantsevich) survives»26 [Masing-Delic 1981: 314]. Неузнавание доктором в телефонисте Коли Фроленко может быть объяснимо тем, что в Мелюзееве Живаго с ним не встречался и только слышал о нём от мадемуазель Флери и, быть может, от начальника станции Поварихина.
Псевдореволюционная деятельность и предательство - и опять в связи с Асеевым -вновь проявляются в события в Малом Ермолае и Кутейном Посаде. Нехвалёных рассказывает Галузину о «подвигах» Пафнуткина в призывной комиссии:
«А спроси ты меня, из-за чего это всё? Никто ничего не поймёт.
- А бомба?
- Чего бомба?
- А кто бомбу бросил? Ну, не бомбу, - гранату?
- Господи, да разве это мы?
- А кто же?
- А почем я знаю. Кто-то другой. Видит, суматоха, дай, думает, под шумок волость взорву. На других, мол, подумают. Какой-нибудь политический. Политических, пажинских, полно ведь тут» [IV: 325].
Пастернак интертекстуально намекает в данном случае на Асеева, дезертировавшего в 1917 г. на Дальний Восток и выпустившего там в 1921 г. сборник стихотворений
23 «Приверженцу большевиков» (англ.).
24 «Запросто быть» (англ.).
25 «Немезида» (««гл.)
26 «Фроленко застрелен кем-то вроде Гинца, а другой кто-то вроде Гинца (Ранцевич) выживает» (англ.). Заметим, что нигде в романе не говорится о том, что Фроленко был в партизанском отряде.
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
213
«Бомба» (1921), почти весь тираж которого был уничтожен. В обращении «К современникам», которым открывался сборник, Пастернак был назван наряду с В. Хлебниковым, В. Маяковским и Д. Бурлюком в числе самых выдающихся поэтов современности [Асеев 1983: 439,450, 517] и тем самым связывался с «Бомбой». Обыгрывание Пастернаком в романе названия этого сборника - подтверждение его отрицательной реакции как на направленность творчества Асеева, так и на связывание последним имени Пастернака со своими «футуристическими» приоритетами. Отсылка к «политическим, па-жинским» соотносится как с политическими переменами в жизни Асеева, уехавшего на Дальний Восток с женой, так и, получается, с сексуальными - Гошка Рябых «в Пажин-ске разговлялся».
Если о вероятном еврейском происхождении Коли Фроленко, мимикрировавшего под украинца, свидетельствует профессия его отца, то на аналогичное еврейство мимикрировавшего под русского студента Блаженна указывает его близость к евреям, работа с ними и пренебрежение русской Ксюшей. Блажеин, вероятно, и живёт в том же доме, что и евреи. Двухэтажный дом «состоял из четырёх квартир. В них было два входа, по обоим углам фасада. Левую половину низа занимал аптекарский магазин Залкинда, правую - контора нотариуса. Над аптекарским магазином проживал старый многосемейный дамский портной Шмулевич. Против портного, над нотариусом, ютилось много квартирантов, о профессиях которых говорили покрывавшие всю входную дверь вывески и таблички. Здесь производилась починка часов и принимал свои заказы сапожник. Здесь держали фотографию компаньоны Жук и Штродах, здесь помещалась гравировальня Каминского. <...> “Сбились всем кагалом, - подумала Галузина, проходя мимо серого дома. - Притон нищеты и грязи”. Но тут же она рассудила, что не прав Влас Пахомович в своем юдофобстве. Не велика спица в колеснице эти люди, чтобы что-то значить в судьбах державы. Впрочем, спроси старика Шмулевича, отчего непорядок и смута, изогнётся, скривит рожу и скажет, осклабившись: “Лейбочкины штучки”» [IV: 310-311].
Мысли Галузиной о доме с вывесками, на которых написаны имена евреев-предпринимателей, вызывают у лавочницы мимолётный антисемитизм, тут же опровергаемый доводами. Но антисемитизм этот оказывается ещё более сомнительным в силу того, что фамилия самой Галузиной происходит не только от украинского «галузь», но и от «га-лут» (на иврите) - рассеяние, что прямо соотносится с судьбой всей её семьи, процветавшей до революции и рассыпавшейся после неё. «Галузь» на чешском и украинском (галицком диалекте) означает «ветвь», «ветка», «сучок». «Ветка» метонимически соотносится с «цветком». Весеннее хождение Галузиной в ночь на Великий Четверг символично даже на уровне этимологии фамилии. Апогей Страстей Христовых как высшее «цветение» духа Спасителя даёт начало еврейскому/русскому рассеянию. Чешский вариант значения и соотнесение с «цветком» указывают на прототипа Галузиной -М.И. Цветаеву, о чём позже мы скажем подробнее, как и о других аспектах семантики фамилии Галузиных (в связи с сыном лавочницы Терентием). Семья Галузиной рассыпалась так же, как семья Цветаевой.
214
Глава 3
Как указывает Л.С. Флейшман, «the idea of the organic unity of culture <...> must be set against the theme of disintegration of family bonds, a central motif in Boris Pasternak’s works»27 [Fleishman 1990: 20]. Пастернак в рассуждениях лавочницы «продолжает» Андрея Белого, реагируя на услышанный в исполнении автора фрагмент романа «Маски», вошедший в трилогию «Москва», и воспроизводя в психологическом состоянии Галузиной состояние Белого:
«Фрол: Детородство: “Плуги, сохи, Мотыки, железные вёдра!” - на синем на всём. И - “Какухо: Бюро похоронных процессий” - серебряным: в чёрном.
“Синебов: Телятина” - с изображеньем быка. - “Нафталинник: Кондитер” и “Слишкэс: Настройщик” - и - “Гомеопат: Клеопат” - и - “Оптическое заведение Шмуля Леровича”
Вывески!» [Белый 1989: 416].
Шмулевич явно соотносится со Шмулем Леровичем, а «оптическое заведение» последнего с фотографией, которую держали Жук и Штродах. Текст Белого позволяет также предположить, что в том же доме на площади Крестовоздвиженска обитает и (тоже еврей) гомеопат Стыдобский, безрезультатно пользовавший Галузину. Вывески в «Докторе Живаго» увидены глазами повествователя, «совпавшего» с Галузиной - пародийным и инверсированным двойником Пастернака. Двойничество же Пастернака с Андреем Белым и отталкивание от него в период работы над романом позволяют увидеть в уравновешенной и рассудительной Галузиной аналогичную пародию на старшего современника.
Читавшийся Белым фрагмент включал также антисемитские пассажи о Пэхе, Семёне Гузике и его семействе, в которых звучала тема заговора, в «Докторе Живаго» мелькнувшая в ответе Шмулевича, который припомнила Галузина. У Белого эта тема звучала более громко и не в первый раз, что Пастернак, пристально следивший за творчеством Белого, не мог не заметить. П.Н. Зайцев записал в своём дневнике: «Бор<ис> Ник<олаевич> читал нам отрывки из “Москвы”, из 2-й главы. И вот странно: у меня невольно возникло чувство неловкости, когда подошло место о Семёне Гузике и Пэхе. Кажется, то же испытывал в этом месте и Бор<ис> Ник<олаевич>. Это возникло мгновенно и - непроизвольно. Почувствовал эту нашу неловкость и Борис Леонидович. А ведь оба мы - и Б<орис> Н<иколаевич>, и я - любили его. И Борис Леонидович это знал так же, как мы сами. И всё-таки... И вот уже - психологические ножницы... А ведь Пэх и Семён Гузик никак не соотносимы с Борисом Леонидовичем, ну, совершенно никак...» (цит. по: [Спивак 2006: 329]). Для Пастернака с учётом его отталкивания от еврейства антисемитизм Белого был глубоко амбивалентен.
«Евреи в романе “Москва” оказываются причастны ко всему катастрофическому в русской и мировой истории, в частности к злодействам Мандро и разнообразным попыткам отнять у Коробкина открытие. Империалистический заговор плавно перетекает в заговор мирового масонства, а в основе его обнаруживается тайный заговор мирового еврейства: рус
27 «Идея органического единства культуры <...> должна быть противопоставлена теме разрушения семейных связей - центральному мотиву произведений Бориса Пастернака» (англ.).
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
215
ского и немецкого, французского и американского... Во всех случаях евреи действуют не открыто, а через подставных лиц: через князя Львова и через злодея Мандро, через Застой-Копыто и врачей лечебницы, в которой держат Коробкина... Антисемитский пассаж в романе “Москва” можно рассматривать как рецидив прежней юдофобии эпохи символизма. Претензии к еврейству и даже сами пугающие образы еврейства в “Москве” те же, что и в статье “Штепелёванная культура”, снискавшей Белому печальную известность в 1909 году. Переклички романа со статьей очевидны, особенно в той её части, где Белый обильно цитирует, пересказывает, расхваливает и пропагандирует “знаменитую” антисемитскую статью “Эстрада”, написанную Э.К. Метнером и опубликованную под псевдонимом “Вольфинг”» [Спивак 2006: 332-333].
Вернёмся, однако, к Фроленко. Его вопрос «какую руку?», задаваемый в ответ мадемуазель Флери на её угрозу разоблачения, отсылает, во-первых, к работе «Хиромантия, или тайна руки» знаменитого хироманта-астролога И.М. Кожуховского, изданной в 1913 г. Поскольку Фроленко дважды отмахивается от Флери: «Враньё, хиромантия», можно предположить, что она призывала его посмотреть на свои линии жизни, судьбы и сердца или, зная их, предсказывала ему будущее. Во-вторых, к заключительному слову Асеева на упомянутой «творческой дискуссии» 1931 года, относящемуся к Пастернаку: «Не покажется ли ему сейчас, что здесь опять какое-то желание его деклассировать, желание нанести неприятность, когда здесь идёт разговор о борьбе за Пастернака, когда идёт разговор <о том, чтобы> отвоевать его от того, что считается поиском случайных вещей, отвоевать к главной теме, которая поставлена в центр доклада, чтоб он не почувствовал себя отчуждённым, чтобы не подчинялся мании, что следит «хитрый глаз прищура», когда он идёт по улице28, т.к. это опасная штука это начало ощущения боязни, что тебя предаёт стоящая рядом рука, что голос, который поднят в защиту тебя, является голосом уже нападающим» [Асеев 1983: 522].
Подчёркнутые нами корявые слова Асеева могут выступать в роли испорченных русских слов француженки Флери, прозвучавших в адрес Фроленко, но оставшихся вне текста. Ответ Фроленко - «Да что вы, мамзель?» - вполне соответствует этим словам. Пренебрежительное отношение Фроленко к Флери, телефонного разговора с которой он желает избежать, сравнимо с пренебрежительным отношением Асеева к следующим словам Пастернака, сказанным в выступлении на той же «творческой дискуссии» после доклада Асеева: «Тут нужно быть точным в искусстве и ещё более точным в поэзии, а рядом с этим - разговор о рифме. Тут шёл разговор об этом. У начинающего молодого человека нет техники, он впервые нащупывает средства выразительности в искусстве. Он всё равно будет нащупывать и на рифме. В молодости человек может выразиться весь целиком в поступке, в разговоре по телефону, в ошибке. Как раз в эту пору возможна та острота, которая у формалистов остаётся вообще в виде пережитков детства, которые не меняются на протяжении всей жизни» [V: 425].
28 Ср. с ездящим на велосипеде Фроленко и Велосипедкиным из «Бани».
216
Глава 3
Возможно, Пастернак подразумевал здесь свой разговор по телефону с Маяковским, состоявшийся в 1917 г. «до корниловского мятежа». Он описал этот разговор-«перепал-ку» в «Охранной грамоте» (12 глава части третьей) - [III: 228]. Разговор Флери и Фроленко тоже, кстати, является перепалкой.
Асеев отреагировал на выступление коллеги следующим образом: «У Пастернака нет классового подхода, он говорит о какой-то двигательной силе поэтической практики <.. .> Б.Л. в одном своём выступлении говорил о том, что это нечто даже необъяснимое. Он приводил прекрасные примеры иллюстративные и говорит, что это звонок по телефону в молодости неожиданного. Он говорит, что это ведь стихи, написанные без черновиков. Но и письмо, и звонок по телефону предполагают техническое знакомство с обработкой своего почерка, и разговор по телефону может быть нудным и скучным, и может быть, в результате темперамента плюс умения разумно, чувственно преподнести его до такой степени важности, что в результате этих, опять-таки составных частей, становятся решающим и важным этот звонок по телефону и это письмо» [V: 715].
Оскорбительная мысль Фроленко в адрес машиниста приобретает особое значение, если предположить, что интертекстуально в роли машиниста представлен Маяковский. Предположение это поддерживается несоизмеримыми статусами телеграфиста Фроленко и машиниста на железной дороге, который был подобен (в глазах Пастернака) статусам Асеева и Маяковского в футуризме и современной поэзии вообще. Самомнения Фроленко и Асеева при этом сходны. Символическое отождествление поэзии с железной дорогой и соотношение машиниста (Маяковского) и телеграфиста (Асеева) поддерживается, в частности, афористической строкой из стихотворения Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926): «Поэзия/-вся! - /ездав незнаемое» [Маяковский, VII: 121]. Ср. также с этой фразой езду Фроленко по знакомому городу Мелюзееву на велосипеде по одним и тем же улицам и, вероятно, маршрутам.
Таким образом, негативная роль Асеева в отношении поэтической и человеческой судьбы Маяковского предстаёт не только через пару ‘Фроленко - Гинц’, но и через пару ‘Фроленко - машинист’, тогда как через перепалку Фроленко и Флери обыгрываются пара ‘Асеев - Пастернак’. Телефонный разговор с Флери является для Фроленко таким же «нудным и скучным», каким была для Асеева приверженность Пастернака к «вечным» темам. Тем более что Пастернак говорил на эти темы более чем убедительно. Как писал А.Е. Кручёных Г.В. Бебутову 11 декабря 1931 г., Пастернак «говорил хорошо, но “под знаком вечности” о самом высоком и загадочном - искусстве, но говорил страстно, искренне, “аж побледнел весь”» (цит. по: [V: 714]).
Ещё две причины нежелания Фроленко вести разговор с Флери и отвечать ей - трусость и лукавство - также восходят к полемике Пастернака и Асеева на «творческой дискуссии». Пастернак, желавший увести её ход с «пути инерции», «ложного пути», заданного Асеевым, говорил: «Линия всех этих обсуждений идёт по направлению давно известному, ничего нового не даёт, а между тем быть смелым и искренним нужно не
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
217
только с точки зрения морали, а даже познаний. Во всяком случае этот подход обогащает, между тем как тот закостеневает человека» [V: 425].
Асеев, ещё до «дискуссии» оскорблявшийся на строку из «Спекторского» «Где сердце друга? - Хитрых глаз прищур», а также на характеристику окружавших Маяковского соратников по литературе, названных Пастернаком в «Смерти поэта» «предгорьем трусов и трусих», и на этот раз отреагировал болезненно, усмотрев в этих словах, как указывают Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак, «спор с главной установкой своего доклада на технику стихописания»: «Заявление об искренности и смелости как главном начале творчества, мне кажется, это возражение самому докладу, что имеется неискренность и несмелость доклада. Что докладчик, становясь в позицию защиты каких-то мелочей, скрывает за ними главное, он как будто не искренен и не смел. Если это не так - очень хорошо» [V: 714-715].
Трусость и лукавство Фроленко (= Асеева) стали причиной убийства Гинца. Это имело следствия. И.П. Смирнов замечает, что «причиной того, что Галиуллин стал борцом с большевизмом, было убийство комиссара Гинца» [Смирнов 1996:45]. Гинца убивают дезертиры; один из них, Памфил Палых, впоследствии оказывается в красном партизанском отряде; собрание же партизан охраняет Блажеин, за которого, по-видимо-му, выдаёт себя Фроленко. Таким образом, генезис большевизма возводится к дезертирству, трусости, и можно предположить, что Фроленко, испугавшись возмездия, сбежал из Мелюзеева с дезертирами. Ещё в 5 главе третьей части «Охранной грамоты» Пастернак характеризовал «чувствительность и лукавство» Асеева в сравнительно «позитивном» ключе, хотя эта глубоко амбивалентная оценка относилась к Асееву весны 1914 года. Асеев и тогда уже был «пристёгнут» к Маяковскому в качестве хотя и не явного, но антагониста29. Стабильной является и связь Асеева с сёстрами Синяковыми, отразившаяся в связи Фроленко с двумя «дочерьми графини» и связи Блаженна с Ксюшей. В «Охранной грамоте» Пастернак писал: «Привыкнуть нельзя было к Владимиру Маяковскому трагедии, к фамилии содержанья, к поэту, извечно содержащемуся в поэзии <...>. С зарядом этой непривычности я и пошёл домой с бульвара. Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Асеев. Он пришёл бы от сестёр С., семьи глубоко и разнообразно одарённой. Я узнал бы в вошедшем: воображенье, яркое в беспорядочности, способность претворять неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинно артистической натуры. Я его любил. Он увлекался Хлебниковым. Не пойму, что он находил во мне. От искусства, как и от жизни, мы добивались разного» [III: 219].
Отметим, что, исходя из этого автобиографического эпизода, инверсионным прототипом лавочницы Галузиной, возвращающейся домой из храма, предстаёт сам Пастернак, прототипом Ливерия, проводящего подпольное собрание в Крестовоздвиженске, -Маяковский, а отсутствующей графини Жабринской из Мелюзеева, арестованной в 1917
29 О значении соединения в «Охранной грамоте» имен двух поэтов см.: [Флейшман 2003а: 306-309].
218
Глава 3
году в Петербурге, и отсутствующей (вероятно, умершей) матери Ксюши - мать сестёр Синяковых. (См. ниже иную версию о прототипе графини Жабринской.) Не Ксюшиной ли семье принадлежал дом в Юрятине, в котором жила Лара? О родителях сестёр Л.Ю. Брик говорила, что «отец у них был черносотенец, а мать человек передовой и безбожница» (цит. по: [Пастернак Е. 1997: 191]) - ср. эту аттестацию отца с рассуждениями о евреях Галузиной.
Интертекстуально связан с полемикой на «дискуссии» и вопрос о причинах поведения Фроленко, а именно вопрос о его происхождении из ремесленной среды, плохом, если не отсутствующем, воспитании и наносном образовании. О них читателю собща-ется следующее: «Коля был сыном известного мелюзеевского часовщика. В Мелюзееве его знали с пеленок. Мальчиком он гостил у кого-то из раздольненской дворни и играл под наблюдением мадемуазель с двумя её питомицами, дочерьми графини. Мадемуазель хорошо знала Колю. Тогда же он стал немного понимать по-французски30» [IV: 150].
Асеев, родившийся в 1889 г. в Льгове Курской губернии, был сыном страхового агента, по другим сведениям - агронома, окончил в 1907-м Курское реальное училище, учился в 1908-1910 гг. в Московском коммерческом институте. Профанность «филологического образования» Фроленко, у которого отношение к слову было «техническим», соотносима с тем, что Асеев после учёбы в Московском коммерческом институте стал вольнослушателем Московского университета (на историко-филологическом факультете), а также учился в Харьковском университете. «Мемуаристы подчёркивают провинциальность Асеева» [Поливанов К.М. 2006: 23] - так же провинциальны Фроленко и Блажеин.
Ухудшающееся отношение всё более советизирующегося Асеева Пастернак, конечно, ощущал, однако внешне стремился сохранить товарищеские отношения, о чём свидетельствуют как его редкие письма к Асееву, так и заинтересованное внимание к бывшему другу в разговорах с собеседниками. Внутренняя неприемлемость Асеева для Пастернака нарастала и сформировалась к концу 1920-х, а ко времени работы над «Доктором Живаго» стала и вовсе абсолютной. Чуждость Пастернаку не только Асеева, но и Маяковского на расстоянии проницательно почувствовала и М.И. Цветаева, писавшая Л.О. Пастернаку 5 февраля 1928 г. о Борисе Леонидовиче: «По последним его письмам вижу, что он очень одинок в своём труде. Похвалы большинства ведь относятся к теме 1905 года, то есть нечто вроде похвальных листов за благонравие. Маяковский и Асеев? Не знаю последнего, но - люди не его толка, не его воспитания, а главное - не его духа. Хотелось бы даже сказать - не его века, ибо сам-то Борис - не 20-го!» [Цветаева 1994-1995, VI: 296].
О том, насколько неприемлемыми для Асеева были происхождение, воспитание и образование Пастернака, говорившего в своём первом выступлении на «дискуссии» 10
30 О «тайной насмешке Пастернака, вменяющего Коле дурное владение французским» см.: [Смирнов 1996: 91-92].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
219
декабря 1931 года, «что совершенно ясно, что есть у меня преемственность, которая должна быть сохранена» (V, 426), можно судить по последовавшей реакции бывшего друга. Изложенные далее Пастернаком представления об искусстве как явлении «наиболее загадочном из того, что нам осталось от старого времени», о росте и развитии художника, доверяющего искусству как «области чрезвычайно загадочной», добавили Асееву оснований для того, чтобы перевести, как замечают комментаторы, «разговор на идеологический язык»: «Я не хочу распинать Пастернака, делать его установки более реакционными, - что также имеется у него, - с которыми он боится расстаться, потому что они заквашены его молодостью, детством, и фундамент его культуры, который кажется непреодолимым, который отдавать ему кажется незачем» (цит. по: [V: 715]).
«Литературная газета», опубликовавшая 18 декабря 1931 г. отчёт о дискуссии, обобщила ситуацию в том же идеологическом русле: «Н. Асеев подчёркивает, что опасность инерционного философского состояния Б. Пастернака усугубляется тем, что в сферу его творческого влияния попадают новые подрастающие кадры поэтической молодежи» (цит. по: [V: 715]).
Заметим, что если в начале 1930-х Пастернак открыто декларировал «загадочность» искусства, то во время работы над «Доктором Живаго» и особенно в последующий период предпочитал «лукаво» отрицать его таинственность. Отсюда негативный подтекст описаний Фроленко и его «особой манеры речи, тёмной, отрывистой и полной загадок», которая лишь профанирует таинственность настоящую. Пастернак не мог не обратить внимания на идеологизацию вопроса о преемственности в культуре и на вульгаризацию его слов об отношении к искусству. В своём втором выступлении на «дискуссии» 13 декабря он вновь вернулся к теме ремесла, которую выдвигал на первый план обсуждения Асеев: «Всё время происходят разговоры о ремесле. Значит ли это, что фатальным образом на свет рождаются ремесленники и гении? Нет - это предмет самовоспитания. Некоторые люди идут по неправильному пути, ошибаются, не хотят производить усилий, и тогда происходит несчастье. Разговор о технике стиха есть разговор о технике несчастья31» [V: 428].
Асеев вновь усмотрел в словах Пастернака неприятие его доклада и отреагировал так: «Все эти мысли, которые были изложены в докладе, сталкиваются с некоторой стеной <.. .> Таковы - невнимание, некультурность в отношении вопросов технологии или сознательное сбрасывание их со счетов в силу такого врастания в методы своего творчества и непризнания возможности разговора о них, как у Б.Л., который поэтому не случайно сейчас же ставит вопрос о гении и посредственности. Что это значит? То, что
31 Ср. с тем, что несчастье с Гинцем произошло из-за техники: Фроленко «отказал Галиуллину», который мог бы спасти Гинца от необдуманных действий, «в вызове Гинца под тем предлогом, что линия у него занята передачей сигналов идущему к Бирючам поезду, а сам в это время всеми правдами и неправдами задерживал на соседнем разъезде этот поезд, который вёз в Бирючи вызванных казаков» [IV: 151].
220
Глава 3
для гениальности, одарённости никакая мерка вообще не подходит. Посредственность пусть выбирает рифму, а гениальность сама по себе постоит и сама сделает, не о чем разговаривать32. А между тем как раз для Пастернака чрезвычайно опасна, чрезвычайно губительна оказалась на практике шестилетней нашей размолвки именно такая установка. А размолвка <...> шла по линии постоянных споров о том, что мы всё время думали и продолжали утверждать, что разговор о стихе есть разговор о мастерстве, а Борис Леонидович предполагал, что вопрос о поэзии, о стихе - вопрос гениальности и удачи» (цит. по: [V: 717-718]).
Отметим, что подход к проблеме искусства Пастернака настолько опередил и его время, и будущее, что его не решился применить даже А.-Ж. Греймас, наметивший конституирующие особенности семантики как научной дисциплины и обосновывавший свою позицию аргументами, близкими к асеевским: «Мы видим <...>, что объяснение эстетических фактов в настоящее время в большей степени даётся на уровне способности восприятия произведения искусства, а не на уровне исследования феномена гения или воображения. В конечном итоге подобный подход даже в том случае, если он носит временный характер, в историческую эпоху, подобную нашей, представляется полезным, поскольку трудно представить себе другие критерии соответствия, которые были бы приемлемы для всех» [Греймас 2004: 11].
К пастернаковскому же противопоставлению естественности в искусстве - искусственности и его спору с Асеевым применима следующая характеристика: «В искусственных означающих совокупностях дискретные элементы даны как бы a priori, тогда как в естественных означающих совокупностях составляющие их дискретные конститутивные элементы обнаруживаются лишь a posteriori» [там же: 15].
Те же упрёки в адрес Пастернака, но с иными акцентами и в ещё более резком звучании содержались в докладе Асеева 13 мая 1934 года. «Доклад был устроен в рамках подготовки к созываемому в Москве всесоюзному совещанию поэтов» и содержал «наиболее резкий к тому моменту публичный выпад Асеева против Пастернака за всю историю их отношений» ([Флейшман 2005: 216]; о выступлении Пастернака - [там же: 220-223]). Однако для Пастернака в период создания «Доктора Живаго» и, в частности, при работе над частью пятой «Прощанье со старым», включающей эпизод с Фроленко, по-видимому, большее значение имела полемика 1931 года, о чём и свидетельствуют её следы в тексте романа. И.П. Смирнов предполагает также вероятность того, что выведение фигуры Фроленко было реакцией Пастернака на незаконченную и неопубликованную статью Асеева «Вырождение двусмыслицы», направленную против Пастернака: «Был ли двуязыкий Коля Фроленко местью Пастернака Асееву, требовавшему от него, по сути, двуличия?» [Смирнов 1996: 92; Асеев 1983: 524]. Неизвестно, читал ли Пастер
32 См. анализ противопоставления Асеевым «гениальности» и «посредственности» в связи со словами Пастернака «у нас диктатура пролетариата, но не диктатура посредственностей»: [Флейшман 2005: 74].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
221
нак эту статью, которая в ещё более резкой форме повторяла его выпады на «дискуссии» 1931 года, но «месть», а точнее - разоблачение Асеева в ответ на его поведение в те годы в целом и на выступление в «дискуссии» 1931 года в частности - присутствует в «Докторе Живаго» несомненно.
Если Блажеин - это и в самом деле «переродившийся» Фроленко, то объясняется и другой аспект происхождения фамилии Блаженна, имя которого автор не упоминает, дабы не выдать тем самым читателю Фроленко. Последний взял себе новую фамилию, произведя её от фамилии сектанта Блажейко, о котором идёт речь в мелюзеевском повествовании. Кроме отмеченной связи с заповедями блаженства, фамилии обоих персонажей имеют и другой источник - стихотворение А.С. Пушкина «Андрей Шенье» (1825). Этот текст, давший, заметим, название пьесе М.А. Булгакова «Блаженство» (1934), свидетельствует, что и Пастернак, как и Булгаков, солидаризировался с размышлениями Пушкина о Французской революции, отражёнными в стихотворении, проецируя стихи поэта на своё время (и наоборот - своё время на этот текст), но делал это иным образом, чем современник (о взаимоотношениях писателей и булгаковском пласте в «Докторе Живаго» см. ниже).
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство, И мы воскликнули: Блаженство!
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Но ты, священная свобода, Богиня чистая, нет, не виновна ты, В порывах буйной слепоты, В презренном бешенстве народа, Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд Завешен пеленой кровавой:
Но ты придёшь опять со мщением и славой, -И вновь твои враги падут
[Пушкин, II: 232].
Местечку Зыбушино, «административно подчинённом Мелюзееву, но во всех отношениях его обогнавшему», посвящена вся 3 глава части пятой «Прощанье со старым» [IV: 132], что свидетельствует о важности Зыбушино и связанных с ним персонажей. «Перерождение» одного из них - Фроленко - заставляет присмотреться и к другим.
222
Глава 3
3.4. Генезис образов Флери и Устиньи
Находящийся в Мелюзееве Юрий Живаго удалён от центра самых значительных в округе, в том числе и в духовном плане, событий, которые происходят в Зыбушино. Равным образом он не попадает и в Крестовоздвиженск33. Однако, находясь в партизанском отряде, оказывается именно в центре самых важных для судеб региона и России в целом и значительных в духовном отношении событий. Ролевая соотнесённость героев локуса, включающего в себя Зыбушино, Мелюзеев и Бирючи, с персонажами партизанских глав, действующими в Крестовоздвиженске, Малом Ермолае, Кутейном Посаде и партизанском отряде, выглядит следующим образом. В мелюзеевском пространстве двойниками, разыгрывающими роль сказочной Яги, являются мадемуазель Флери и Устинья, представляющие, соответственно западное и восточное начала. В уральском повествовании им соответствуют Галузина и Кубариха. Между тем Живаго не был в Зыбушино и Крестовоздвиженске, где живут Устинья и Галузина, и это соответствие сближает двух указанных героинь и, следовательно, Флери и Кубариху. Дружественные отношения и тайное инверсионное двойничество доктора с Флери и Устиньей аналогичны такому же его двойничеству с парой Галузина - Кубариха. Последнюю поэт и врач Юрий Живаго «в шутку звал» «своей соперницей» и «конкуренткой» [IV: 360], и если медицинская «конкуренция» подразумевается хоть и шутливой, но явной, то поэтическая предстает потаённой и, по-видимому, подлинной. С Флери и Кубарихой Живаго едва контактирует. Устинью и Галузину и вовсе не видит. Но если в Галузиной невозможно заподозрить «переродившуюся» Флери, то вероятность того, что Кубариха -это Устинья, в ходе революционных перипетий сменившая облик, напротив, весьма велика. Устинью доктор не видит (по крайней мере, об этом не упоминается в тексте), а только слышит её выступление на митинге, Кубариху - и видит, и слышит. Однако настоящего имени знахарки читатель так и не узнаёт, что тоже симптоматично. А если учесть многочисленные, по-видимому, переодевания Кубарихи, то это лишь добавляет вероятности тому, что она - Устинья, обладавшая «нескладно суживавшеюся кверху фигурою, которая придавала ей сходство с наседкой» [IV: 134]. Фигура Кубарихи, во-первых, всякий раз скрывается одеждой, а во-вторых, Юрий Живаго видит знахарку во время заговора сидящей; именно тогда он «в первый раз толком разглядел её» [IV: 362].
33 Б.П. Шерр полагает, что «Zhivago’s very absence from part X creates an interruption in the action which symbolizes the break in his own life at this point in the story». («Самое отсутствие Живаго в части X производит разрыв в повествовании, который символизирует перерыв в его собственной жизни к этому моменту в рассказе» (англ.).) Часть десятая, по мнению исследователя, служит предваряющей в отношении «the grim events that follow» и «is connected to the rest of the novel by a number of delicate threads which reach out in all directions and bring together for one brief moment several lives that have moved (and will continue to move) along different paths» [Scherr 1974: 276, 274]. («последующих мрачных событий» и «соединяется с оставшейся частью романа множеством тонких нитей, которые протягиваются во всех направлениях и собирают вместе на краткое время несколько судеб, которые двигались (и продолжат двигаться) разными путями» (англ.).)
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
223
Кубариха вводится в повествование так же исподволь (о ней размышляет Галузина), как Устинья (первое упоминание о которой появляется в связи с рассказом о Флери).
«Устинья была суха и трезва до ехидства, но с этой рассудительностью сочетала фантазию, необузданную по части суеверий. Устинья знала множество народных заговоров и не ступала шагу, не зачуравшись от огня в печи и не зашептав замочной скважины от нечистой силы при уходе из дому. Она была родом зыбушинская. Говорили, что она дочь сельского колдуна. Устинья могла молчать годами, но до первого приступа, пока её не прорывало. Тут уж нельзя было её остановить. Её страстью было вступаться за правду» [IV: 134-135].
Один из ключей к образу Устиньи дает её имя - русифицированный вариант латинского слова «справедливая». Святой покровительницей является мученица Иустина Антиохийская (убита в 304 г.; день памяти - 26 сентября). По преданию, святая дева Иустина посвятила себя Богу и проповедовала слово Божие. Она подвергалась насмешкам и гонениям, но с кротостью взирала на своих хулителей. Святую деву обрекли на заточение, а затем подвергли пыткам. Но вера её была настолько крепкой, что Иустина вытерпела все мучения и лишь благодарила Бога за то, что он обрек её на телесные страдания, помогая очистить душу. Язычники подвергли святую Иустину Антиохийскую жестоким мучениям и убили. Её останки были найдены христианами и преданы земле. На этом месте спустя несколько лет была воздвигнута часовня в честь неё. То же имя носит ещё одна мученица - Иустина Ломбардская (убита в III в., день памяти - 7 октября).
Характеристика Устиньи вполне применима к поведению и образу мыслей Кубари-хи. Последняя сходным образом насмешливо и рассудительно разговаривает с Агафьей Палых, как толкует и применяет в отношении всего окружающего народные заговоры, и её так же, как Устинью, «прорывает», когда она касается темы красных и белых. Связь Кубарихи с коровами позволяет предположить, что именно ещё не уехавшая из госпиталя Устинья оказывается той успокаивающей корову не названной хозяйкой, голос которой слышит высунувшийся в окно мелюзеевского особняка Юрий Живаго: «Но-но, не балуй, тпрусеня, я те дам, дьявол, бодаться, - шепотом уламывала её хозяйка, но корова то сердито мотала головой из стороны в сторону, то, вытянув шею, мычала надрывно и жалобно» [IV: 140].
Контраст поведения мелюзеевской коровы и той, что принадлежала Агафье Палых, подтверждает тождественность не видимых, но слышимых доктору Устиньи и Кубарихи. То, что корова - знак «скотьей лекарки», вопросительно предположила А. Ливингстон, не опознав, однако, Устиньи в безымянной мелюзеевской хозяйке и в Кубарихе: «Looking out of the window in Melyuzeev, Zhivago hears a woman soothing a newly bought cow (a herald of Kubarikha?)»34 [Livingstone 1989: 90].
Флери исчезает из повествования с отъездом Юрия Живаго из Мелюзеева и вновь появляется лишь в эпизоде смерти доктора в Москве. Этот факт, а также «принадлеж
34 «Выглядывая в окно в Мелюзееве, Живаго слушает женшину, успокаивающую недавно купленную корову (эмблему Кубарихи?)» (англ.).
224
Глава 3
ность» этой героини к ‘Западу’ позволяют исключить её из линии ‘Устинья - (Флери) -Галузина - Кубариха’. Лавочница Галузина, с которой Живаго не встречается, живёт за Уралом. В силу симметричного распределения этих родственных персонажей можно предположить, что есть ещё одна женщина, которую доктор не видит и которая является двойником Устиньи-Кубарихи. Такой фигурой является безымянная «крестьянка», у которой Тоня на станции, расположенной до Урала, выменивает ползайца. Если принять допущение, что Устинья, «крестьянка», Галузина (с большими оговорками) и Кубариха - одно лицо, то смысл его разделения на двойников и симметричного распределения появлений в повествовании относительно Урала как пространственно-временной и цивилизационной границы состоит в том, что при множественности прототипов, находящихся друг с другом в определённой системе отношений, при появлении каждого из названных персонажей в повествовании его поведение и контекст ориентируются автором на кого-либо из прототипов, тогда как признаки и черты остальных и контекст, с ними связанный, присутствуют тоже, но не в доминирующем качестве.
Один из прототипов Устиньи и Кубарихи, в которую та, по-видимому, превращается (и в меньшей степени - безымянной «крестьянки» и Галузиной), оказался зашифрован Пастернаком настолько, что исследователи пока не обращали на него внимания. Этим прототипом является А.А. Ахматова35. Из многих деталей, рассыпанных по участкам текста, где действуют упомянутые женщины, и обыгрывающих творчество Ахматовой, а также её личность, наиболее отчётливо претекст выдаётся эпизодом, изображающим выступление Устиньи на ночном митинге в Мелюзееве, где она совершает намеренную ошибку36 (вряд ли возможную для «дочери сельского колдуна» и, как позже мы покажем, хлыстовской Богородицы) - завершает притчу о Валааме и ослице окончанием библейского рассказа о Лоте и его жене. Очевидную нелепость этой контаминации тут же отмечают слушающие, и читатель получает повод задаться вопросом, в чём смысл соединения и столкновения двух библейских сюжетов. Противореча молоденькому комиссару Гинцу, не верящему, как и другие выступавшие агитаторы, слухам о «говорящем глухонемом», Устинья говорит: «Подумаешь невидаль. То ли ещё бывает! Ослица эта, например, известная. “Валаам, Валаам, говорит, честью прошу, не ходи туда, сам пожалеешь”. Ну, известное дело, он не послушал, пошёл. Вроде того как вы: “Глухонемой”. Думает, что её слушать - ослица, животное. Побрезговал скотиной. А как потом каялся. Небось сами знаете, чем кончилось.
- Чем? - полюбопытствовали из публики.
- Ладно, - огрызнулась Устинья. - Много будешь знать, скоро состаришься.
- Нет, так не годится. Ты скажи чем, - не унимался тот же голос.
- Чем да чем, репей неотвязчивый! В соляной столб обратился.
35 Отношения Пастернака и Ахматовой, а также некоторые творческие переклички уже становились предметами рассмотрения, хотя довольно поверхностного - см.: [Иванова Н. 2001а].
36 Об интегральности мнимых ошибок и нарушенных ожиданий в «Докторе Живаго», отмеченных повествователем и персонажами см.: [Livingstone 1989: 90-95; 1990: 189-190 и др.].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
225
- Шалишь, кума! Это Лот. Лотова жена, - раздались выкрики.
Все засмеялись. Председатель призвал собрание к порядку. Доктор пошёл спать» [IV: 142].
Пастернак здесь вводит прямую отсылку к стихотворению Ахматовой «Лотова жена» (1924). Своего рода упрекающим ответом на него в своё время стало стихотворение «Анне Ахматовой» (1929), в первоначальной редации посланное Ахматовой для «санкции на печатанье»37 в письме от 6 марта 1929 г. [VIII: 302] и содержавшее, как указывает Л.С. Флейшман, «полемику - с “Лотовой женой”, последним (не считая перепечаток) выступлением Ахматовой в прессе (1924) <.. .> перед периодом длительного молчания. (Тогда же ею вынашивалась идея эмиграции <...>). <...> Полемическая цель обращения Пастернака состояла при этом в переадресации “оглядки” с “Содома” на Петербург “ваших первых книг”, на эпоху “бражников и блудниц” <...>. Но внешне этот призыв оказывался в перекличке с упрёками критиков 20-х годов, обвинявших поэзию Ахматовой в застое, в самоповторениях <...>, и обидный смысл декларируемого Пастернаком предпочтения должен был быть для Ахматовой яснее и острее, чем мог подозревать Пастернак. От читателей же он, по-видимому, и вовсе ускользал. <...> Наличие скрытых полемических намёков заставляет отвергнуть традиционное толкование пастернаковского стихотворения “Анне Ахматовой” и встречного ахматовского стихотворения 1936 года “Он, сам себя сравнивший с конским глазом” как бесхитростного взаимного обмена комплиментарно-панегирическими характеристиками» ([Флейшман 2003а: 125— 129]; там же - подробнее об этой скрытой полемике).
Рассматриваемый эпизод выступления Устиньи являет собой продолжение или, точнее, второй раунд этой полемики, смысл которого заключается в противопоставлении истории Лотовой жены повествованию о Валааме, который был позван моавитянами проклясть народ Израиля и, упорствуя в решении прийти к ним, бил ослицу, видевшую Ангела Господня, «ставшего на дороге с обнажённым мечом в руке» (Числа, XXII), а потом пошёл по повелению Ангела дальше, к Валаку, и трижды благословил Израиль вместо того, чтобы проклясть его. Ссылка Устиньи на эту легенду представляет собой иносказание о выступавшем перед нею на митинге комиссаре Гинце, который в последующие дни не послушал уездного и Галиуллина, пытавшихся отговорить его от рискованного агитационного похода к дезертирам из двести двенадцатого полка, и вместо того чтобы утихомирить их, напротив, лишь разозлил.
Гинц подобно Валааму, бившему ослицу, «шпыняет» Устинью на митинге. Аналогичным образом «шпынял» Ахматову Маяковский. Как указывают Е.Б. Пастернак и
37 Как отмечает Н.Б. Иванова, «послав текст, он трижды просит её о разрешении на публикацию. Ахматова молчит и откликается в конце концов лишь телеграммой с указанием причины молчания - болезни. <...> явная затяжка с ответом вызвана у Ахматовой противопоставлением в пастернаковском стихотворении Ахматовой ранней (с положительной оценкой) Ахматовой более поздней (с отрицанием “не”), т. е. того самого периода, когда после публикации “Новогоднего” и “Лотовой жены” в “Русском современнике” (1924, № 1) последовало, как считала Ахматова, первое (тогда - негласное) распоряжение ЦК о запрете на её стихи» [Иванова Н. 2001а].
226
Глава 3
Е.В. Пастернак, «на вечере “чистки поэтов” в Политехническом музее (19 янв. 1922) причислил Ахматову к “последышам рухнувшего строя, никчёмным, жалким и смешным анахронизмам”»38 [VII: 388]. Поскольку Устинья, сравнивая Погоревших с валаамовой ослицей, «воспроизводит слова Федора Павловича Карамазова, сказанные им Алёше: “- У нас валаамова ослица заговорила, да как говорит-то, как говорит! Валаамовою ослицей оказался лакей Смердяков” (Достоевский, XIV, 114)» [Смирнов 1996:141], постольку персонажи «Доктора Живаго» и их прототипы Ахматова и Маяковский оказываются через посредство библейской легенды инверсионно спроецированы на героев «Братьев Карамазовых». Невинно убиенный комиссар Гинц - на Алёшу, а футурист Клинцов-Погоревших - на Смердякова. Спутник доктора представляет собой автопародию Пастернака; его связь с футуризмом и анархизмом подробно проанализирована: [Смирнов 1996: 141-153]. Вторая часть фамилии героя намекает также на «погоревших» символистов - представителей «эпохи утопий», которая «восстановила и возвела в абсолют старый романтический принцип, согласно которому поэт обязан не выходить из экстаза двадцать четыре часа в сутки, на глазах у всех горя и сгорая, как неугасимая свеча» [Аверинцев 1996:217]. Ср. также этот принцип со словами Лары, сказанными доктору, который ночью занят творчеством в Варыкине: «А ты всё горишь и теплишься, свечечка моя ярая!» [IV: 436]. Заметим, что при пародировании Пастернак не воспроизводил текст источника, но отсылал к нему, возводя его в ранг действительности. Такое устранение текста источника служит расширению задач и целей пародирования и объясняется, в частности, конкуренцией интертекстов в любом участке повествования, приводящей к максимально возможному вытеснению отсылок к конкретному пародируемому тексту. Мера этого вытеснения обратно пропорциональна степени значимости претекста.
Одна из узнаваемых в Устинье особенностей поведения Ахматовой (как и других прототипов) - язвительность и, с другой стороны - молчаливость. Эта особенность отмечалась современниками, в частности Н.Я. Мандельштам, и, разумеется, не могла остаться незамеченной Пастернаком. Вспоминая о встречах в Москве в середине 1930-х, жена поэта писала: «Когда она приезжала к нам в Москву, мы часто оказывались вчетвером: мы двое, она и Пастернак. <...> В дебри мужского разговора А.А. не вмешивалась, а была приветливой хозяйкой, шутила, улыбалась. Мы даже представить себе не могли силы её ума и язвительности речи. Об этом, вероятно, знали только мужья, с которыми она расходилась, когда с утра до ночи лился “поток доказательств несравненной моей правоты”» [Мандельштам Н. 2008: 125-126].
«Приклеенный» Устиньей к легенде о Валааме конец истории о Лотовой жене - её иносказание-пророчество о готовящейся к отъезду на Урал Ларе (ср. с Ахматовой, готовившейся эмигрировать на Запад), которая не должна оборачиваться и возвращаться, иначе окаменеет, а также иносказание о своём предстоящем уходе (Флери безуспешно ожидает возвращения Устиньи, которая исчезла из Мелюзеева, по-видимому, навсегда, как и
38 Комментаторы указывают источник этих слов: Фурманов Д.А. Собр. соч. 1960-1961. Т. 3. С. 280.
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
227
Клинцов-Погоревших). Лотова жена в стихотворении оглядывается «на площадь, где пела» - ср.: Устинья находится на площади и так или иначе осматривается кругом и оглядывается, обращаясь во время выступления к собравшимся. Её неожиданная ссылка на Лотову жену свидетельствует о том, что присутствующим подаётся знак: этот город постигнет участь Содома. После выступления Устиньи на площади читатель с этой героиней больше не встречается. Если Лотова жена библейской легенды и ахматовского стихотворения оглядывается, не послушав двух Ангелов, то Устинья уходит, а Лара уезжает, и обе не возвращаются, что и представляет собой не только инверсию священного текста (хотя присутствует аналог наказания Содома и Гоморры - разразившаяся буря), но и скрытую полемику Пастернака с Ахматовой. Именно знанием данного библейского сюжета объясняется уверенное ожидание возвращения Лары, которое выказывают мадемуазель Флери и Юрий Живаго. И Устинья, и Лара обманывают ожидания Флери и доктора. Лотова жена не смогла уйти, поскольку вернулась взглядом. Ахматова осталась в СССР, и её относительное молчание после «Лотовой жены» могло быть истолковано Пастернаком как «совпадение» с героиней, превращение в «столб из соли». Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак пишут, что «библейский образ женщины, обратившийся в соляной столб, будучи не в силах расстаться со своим прошлым, выражал тоску Ахматовой, которая была не в состоянии принять новые условия жизни. Не соглашаясь с безысходностью этой позиции, Пастернак хотел вселить в неё уверенность в своих силах» [1:501].
Если в «Анне Ахматовой» (1929) Пастернак полемизировал с Ахматовой, противопоставляя «Лотовой жене» «первые книги», то в «Докторе Живаго», показывая не вернувшихся Устинью и Лару, дополнял старую полемику указанием на тождественность Ахматовой её же «Лотовой жене» и противопоставлением ей уехавшей Цветаевой, которая стала одним из прототипов Устиньи и в большей степени Лары (о значении этого противопоставления - ниже).
Ассоциирование Мелюзеева с Содомом поддерживается также скрытым автоцитированием: сцена докалывания штыками застреленного Гинца представляет собой «переписанный» отрывок из «Высокой болезни»:
Уместно ль песнью звать содом, Усвоенный с трудом Землёй, бросавшейся от книг На пики и на штык [I: 252].
Разразившиеся в Мелюзееве, а позже в Москве грозы являются «заместительницами» Лары-«Цветаевой», писавшей Пастернаку 4 марта 1928 г. о своей способности разрушать семьи: «Никому из твоих и моих ничего не грозит, не п. ч. я не гроза, а п. ч. моя гроза, я, гроза, семей - чужих и моих - иду мимо, эти поля миную, разражаюсь не так и не здесь» [Переписка с Цветаевой 2004: 474]. Невернувшаяся Лара поступила противоположно тому, как поступила обернувшаяся назад на Содом Лотова жена, тогда как Цветаева, вернувшаяся в СССР и по меньшей мере с начала 1920-х годов обозначавшая
228
Глава 3
советскую Россию как «тот свет» (см., к примеру, её письма от 10 (нового) февраля 1923 г. и от 4 марта 1928 г.), повторила судьбу Лотовой жены. Ассоциативная связь Цветаевой с Содомом подкреплялась для Пастернака её романом с С.Я. Парнок в 1914-1916 гг. Реакция Пастернака на эти отношения выражена в его письме к Цветаевой от 19 мая 1926 г. [Переписка с Цветаевой 2004: 199-200].
Смысл контаминации двух сюжетов заключается также в интертекстуальном уравнивании неудач обоих поэтов - Маяковского и Ахматовой - при явном неприятии Маяковского (речь Устиньи, направленная против Гинца) и скрытом и неожиданном - Ахматовой (одно из значений неожиданного для слушателей введения Устиньей ссылки на судьбу Лотовой жены): Гинц не послушал уездного и Галиуллина, пошёл к солдатам и погиб, провалившись в «пожарную кадку» с водой, - намёк на «Баню» Маяковского; Ахматова хотела эмигрировать, но осталась и превратилась, по-видимому, в глазах Пастернака в героиню своего стихотворения «Лотова жена».
Однако такое видение оказывается лишь составной и подчинённой частью более широкого ассоциативного контекста: ведь отмеченное скрытое противопоставление замыкается на безусловно положительном персонаже - Устинье, чья позиция против большевиков и меньшевиков, обозначенная в её речи, несомненно, импонировала Пастернаку и представляла собой «третий путь». Противопоставление Ахматовой и Маяковского - поэтов противоположных и в плане признанности, и по взаимоотношениям с властью - было актуально для Пастернака, по-видимому, с начала 1920-х годов, когда против Ахматовой выступил не только Маяковский, но и критики В. Чудовский («Начала», 1921, № 1) и К. Чуковский (статья «Ахматова и Маяковский» /1921/). Если в 1920-е Пастернак «отстаивает Ахматову от современной критики» [VII: 388], то в рассматриваемом эпизоде «Доктора Живаго» такое отстаивание выразилось в придании образу Устиньи гораздо более глубокого значения, нежели то, которое он получал в системе противопоставления «жизненных» реализаций двух библейских сюжетов. Многослойность (или - многоуровневость) образа Устиньи в мелюзеевском повествовании проявлена не только в том, что скрытая полемика с Маяковским и Ахматовой (противопоставленные Гинц и Устинья) стала лишь частью повествования, связанного с «позитивной» Устиньей, и потому, следовательно, Пастернаку была ближе позиция Ахматовой. Многослойность даёт о себе знать и в том, что в последующем повествовании Устинья оказывается также «отброшенной» (однако появится ещё в романе в новой личине): в доме во время грозы остаётся лишь Флери - двойник Юрия Живаго, но двойник Флери - Устинья -отсутствует. Невозвращение Лары, которой доктор рассказал о митинге с участием Устиньи, - иное, чем невозвращение последней, но исчезновения обеих женщин по-разному контрастируют с возвращением взглядом ахматовской «Лотовой жены». Впрочем, «отброшенными» могут считаться не Устинья и Лара, а Флери и доктор, оставшиеся в Ме-люзееве-«Содоме», поскольку Флери знала Устинью и её взгляды очень хорошо, а Живаго слышал речь Устиньи, но, вероятно, не «прочитал» намёка, содержавшегося в упоминании Лотовой жены. Так же, как Маяковскому, Пастернак предпочёл Ахматову, так
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
229
в данном случае Ахматовой он предпочёл Цветаеву, согласившись, по-видимому, с констатацией, прозвучавшей в письме последней к нему от июля 1924 г.: «То, от чего так неум<ело>, так по-детски, по-женски страдала А<хмато>ва, <...> мною перешагнуто. Мои стихи напишете - Вы» [Переписка с Цветаевой 2004: 97]. О своих приоритетах Пастернак рассказывал Цветаевой 20 апреля 1926 г.: «Мне понадобилось написать Волошину и Ахматовой. Два запечатанных конверта скоро легли в сторону. Меня потянуло поговорить с тобой, и тут я измерил разницу. Точно ветер пробежал по волосам. Мне именно стало невмоготу писать тебе, а захотелось выйти взглянуть, что сделалось с воздухом и небом, чуть только поэт назвал поэта» [там же: 185]. Переоценка Ахматовой (и, соответственно, самой Цветаевой) последовала очень скоро - в письме от 18 сентября 1927 г. (см.: [там же: 384]). Разумеется, говоря об этих предпочтениях, мы лишь персонализируем подтексты, относящиеся к разбираемому эпизоду. Тем не менее определяющая роль Цветаевой здесь буквальна: именно она даёт имя пастернаковской героине -Устинье.
Интертекстуальная связь имени Устиньи с Ахматовой обеспечивается стихотворением Цветаевой из цикла «Ахматовой» (19 июня - 2 июля 1916) - «Златоустой Анне -всея Руси», девятым по счёту. Стихотворение открывается и замыкается одной и той же строкой.
Златоустой Анне - всея Руси Искупительному глаголу, -Ветер, голос мой донеси И вот этот мой вздох тяжёлый.
Расскажи, сгорающий небосклон, Про глаза, что черны от боли, И про тихий земной поклон Посреди золотого поля
[Цветаева, I: 308].
Пастернак не только перенёс качество «златоустости» в имя и поведение Устиньи, но и в последующих «перевоплощениях» этой героини использовал в качестве сигнализатора цветаевского текста и тождественности безымянной «крестьянки» и Кубарихи с Устиньей образ «глаз, что черны от боли», который в изменённом виде был соотнесён Цветаевой с иконой в последней строке десятого стихотворения этого же цикла «Ахматовой» - «У тонкой проволоки над волной овсов»: «Тебе одной ночами кладу поклоны, / И все твоими глазами глядят иконы!» [Цветаева, I: 309]. Образ глаз появляется и в последней строфе четвёртого стихотворения из цикла «Бессонница» (8 апреля - 23 декабря 1916; 11-е - май 1921) - «После бессонной ночи слабеет тело» (19 июля 1916): «Только одно темнеет у нас - глаза» [там же: 283]. Интертекстуальное «родство» с Цветаевой и Ахматовой лавочницы Галузиной также допускает применение к ней этого образа, но проводится за счёт иных аллюзий (цветаевский контекст в отношении Галузиной и ряда
230
Глава 3
других персонажей мы рассмотрим ниже). Цикл «Бессонница» был написан практически одновременно с циклом «Ахматовой» и «распространён» (термин А.-Ж. Греймаса) большей частью именно на Галузину. Отметим, что все циклы Цветаевой (назовём ещё и «Стихи к Блоку»), распределённые Пастернаком в качестве интертекстуальных доминант на упомянутых женщин, написаны Цветаевой в основном в 1916 г.
Речь Устиньи выдаёт ещё одного прототипа героини - О.М. Фрейденберг, которая 2 марта 1910 г. описывала увлечённому ею тогда Пастернаку своё возвращение в поезде из Москвы: «А ночью случилось нечто в твоём духе: одна девица, всё время сосредоточенно молчавшая, вдруг заговорила... о синопском сражении!! Воображаю, если б на моём месте лежал ты! Конечно, ты ответил бы ей тирадой о преимуществе венской мебели над мягкой, а она продекламировала бы что-нибудь из Андрея Белого или Саши Чёрного... что это была бы за прелесть! <.. .> Сегодня началась пытка: надо передавать свои впечатления. Стараюсь издавать дикие звуки или просто мычать. Но в мою невменяемость никто не верит, даже после того, как я клятвенно уверяю, что провела пять дней под одной кровлей с тобой... находятся даже люди - и это не выдумка - которые... что бы ты думал?., верят в твою нормальность! Когда у меня спрашивают: “А как вам понравилась Третьяковская галлерея?”- я отвечаю кратко: “Я была там с Борей”...» [Переписка с Фрейденберг 2000: 22].
Поскольку Устинья свою речь обращает к Гинцу, это выдаёт в нём персонаж, представляющий собой пародию Пастернака на себя времён словоохотливости и романтической влюблённости в двоюродную сестру. Прототипичность Фрейденберг и Пастернака в отношении Устиньи и Гинца выглядит ещё более убедительной, если учесть, что «лейтмотивом их встреч в 1910 году служат устные и письменные монологи Пастернака -импульсивные, бесконечно растекающиеся, одновременно многозначительные и косноязычные». В письме от 10 марта 1910 г. «Фрейденберг нарисовала шутливо-пародийную картину этого пастернаковского “говорения”» [Гаспаров Б. 19926: 369]. Слова двоюродной сестры, очевидно, глубоко задели Пастернака и запали ему в память. Если в 1910 г. Фрейденберг пародировала Пастернака шутливо, то через четыре десятилетия он ответил ей пародией скрытой и столь же язвительной, не пощадив при этом и себя, - наделил собственным романтическим «говорением» комиссара Гинца и его двойника - защищаемого Устиньей глухонемого Клинцова-Погоревших. Происхождение романтика Гинца из остзейских немцев может, кроме прочего, намекать на увлечение Пастернака немецкими авторами, в частности Е.П. Якобсеном, роман которого «Нильс Люне» он давал читать (на немецком) Фрейденберг. Автопародийность образа Гинца поясняет и роль, которую сыграл в гибели Гинца Коля Фроленко, прототипом которого был Н. Асеев. Эта роль определяется скрытой враждебностью Асеева к Пастернаку во времена «начальной поры». Явно она проявилась в конце 1920-х - начале 1930-х.
В свете переоценки прошлого, которую Пастернак предпринял в «Докторе Живаго», отношение к двоюродной сестре предстаёт не столь безоблачным, как об этом можно судить по их переписке. Пастернак читал научные труды Фрейденберг, которые она
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
231
ему присылала, и отзывался восторженно. Но единомышленником считал, по-видимому, оппонировавшего ей В.Я. Проппа, о работах которого, насколько нам известно, публичных отзывов не оставил и знаком с которым не был. Широкое использование работ Проппа в «Докторе Живаго» предстаёт значимым выбором. Эти труды о русской волшебной сказке могли видеться Пастернаку перевёрнутой сказкой, противостоящей «сказкам» советской науки. Фрейденберг при этом оказывается в такой же позиции, подобной той, в какую помещена переоценённая Цветаева. Пародированию подверглись не только её характер, учёность и учёные занятия, но, по-видимому, даже её душевные качества, мотивы поведения и фигура (см. цитировавшееся выше описание Устиньи). Б.М. Гаспаров отмечает, что центральной темой переписки Пастернака и Фрейденберг 1910 года, «которая, несомненно, служила продолжением устного общения», «является мучительная попытка выразить нечто лежащее за пределами языковых возможностей и потому выражению не поддающееся. Эта погоня за ускользающей “сущностью” происходит в виде бесконечных напряжённых попыток, каждая из которых, после того как проходит творческое усилие, оказывается неудачей» [Гаспаров Б. 19926: 370]. Гинц, Клинцов-Погоревших и общавшаяся с ними Устинья, наделённые пародированными чертами молодых автора и его корреспондентки, в романе предстают профанными двойниками Юрия Живаго и Лары, которым и удаётся «выразить нечто лежащее за пределами языковых возможностей и потому выражению не поддающееся». Таким образом, появляется основание рассматривать О.М. Фрейденберг и в качестве одного из прототипов Лары.
Предпочтение Проппа Ольге Михайловне Фрейденберг, которое, по-видимому, отдавал Пастернак, объясняется не только личным незнакомством с Проппом, но и негативным отношением к Проппу Фрейденберг, ни разу не упомянувшей о коллеге и его работах в своей диссертации - книге «Поэтика сюжета и жанра»39 (1936) и уже на первых страницах заявившей, отдавая дань советской идеологической конъюктуре, о необходимости борьбы с формализмом [Фрейденберг 1997: 10-11]. Играл роль и (разумеется, субъективно определяемый) вес Проппа и Фрейденберг как учёных40. А вот как, объясняя свою оценку, характеризовал Пастернак научные труды двоюродной сестры. В письме к родителям и сёстрам от 3 мая 1929 г. он писал: «Оля здесь была, как вы уже знаете. Страшно ей обрадовался. Умный, глубокий, хороший человек, несомненно талантливый, и - однако с недостатком, который я давно уже перестал понимать. И так как я не моралист, то меня эта удивлённость своею ролью смущает не со стороны житейски душевной, а тем, что она вредно отражается на её трудах, то есть на том, ради чего она
39 Влияние этой книги на Пастернака, отразившееся в «Докторе Живаго», - отдельная перспективная тема.
40 На значении работ Проппа для Пастернака, их влиянии, проявившемся в романе, и его внимании к русской формальной школе в литературоведении мы уже имели возможность остановиться (см.: [Буров 2007в]). Отношение Пастернака к формальной школе обсуждается также в: [Depretto 2006]; там же - литература вопроса.
232
Глава 3
отказалась от жизни, не отказавшись от самого пустого и малоценного в ней. Я заметил, что самого существенного в своих исследованиях, то есть того, что могло бы составить её собственную мысль, она до конца не додумала, потому что всякий раз это становилось гордостью близких в тот момент, когда, по Евангелию, близкие перестают и должны перестать существовать» [ПРС 2004: 435-436].
Качество «златоустости» в отношении всех четырёх героинь «распространено» на соответствующие пространства текста, а именно - на отрывки, где описываются и передаются монологи персонажей, в том числе внутренние: выступление Устиньи на митинге в Мелюзееве; речь неизвестной «крестьянки» в разговоре с Тоней; размышления Галузиной; песня, наставления и заговор Кубарихи. «Златоустостью» навыворот наделены также связанные с четырьмя женщинами персонажи-мужчины, явно или тайно выступающие в роли их мужей: Клинцов-Погоревших «пророчествует»; Костоед-«то-варищ Лидочка» делает доклад; Влас Галузин произносит напутственные и патриотические речи; Ливерий - нравоучительные монологи. Цветаевский претекст обеспечивает на интертекстуальном уровне более или менее сильную скрытую контрастную связь между всеми перечисленными героинями, с одной стороны, и персонажами-мужчинами - с другой. Контрастные связи, в том числе перекрестные, соотносят также друг с другом всех женщин и мужчин. Так, например, связь между разнесёнными по разным книгам романа Устиньей и Ливерием, воспроизводящая противопоставленность Ахматовой и Маяковского и обусловленная ею, базируется все на том же качестве «златоустости». Живаго думает о разглагольствованиях партизанского начальника: «“Завёл шарманку, дьявол! Заработал языком! Как ему не стыдно столько лет пережёвывать одну и ту же жвачку?” - вздыхал про себя и негодовал Юрий Андреевич. “Заслушался себя, златоуст, кокаинист41 несчастный. Ночь ему ни в ночь, ни сна, ни житья с ним, проклятым. О, как я его ненавижу! Видит бог, я когда-нибудь убью его. <.. .> А этот всё ораторствует, не унимается, ненавистное, бесчувственное животное!42 О, я когда-нибудь не выдержу и убью его, убью его”» [IV: 336].
Определение Ливерия «златоустом» является (обличительной со стороны Пастернака) инверсией автохарактеристики героя поэмы В. Маяковского «Облако в штанах» (1914-1915): «Я, / златоустейший, / чьё каждое слово / душу новородит, / и именинит тело, / говорю вам: / мельчайшая пылинка живого / ценней всего, что я сделаю и сделал!» [Маяковский, I: 183]. Кроме отсылки к собственно Иоанну Златоусту, такое именование Ливерия может также соотносить его с неживым предметом - книгой, а именно компилятивным сборником времен Древней Руси «Златоустом», имевшим устойчивое содержание и отличавшимся назидательным проповедничеством. Таким образом,
41 О наркоманстве Ливерия и значении его называния именем Иоанна Златоуста см.: [Смирнов 1996: 150].
42 Возможно, данное определение содержит реакцию Пастернака на стихотворные самоотождест-вления Маяковского с животными: «Вот так я сделался собакой» (1915), «Хорошее отношение к лошадям» (1918).
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
233
молодой Ливерий представляет собой книжного человека, назидательно изрекающего давно избитые истины и глубоко несовременного. Но «книга» в отношении Ливерия имеет и другое, алхимическое значение. «Слово livre (книга), происходящее от латинского liber, имеет греческий эквивалент, используемый в Философии: древнее Xiffypot;, liberos, или также XijSpot;, libros; то и другое означает: влажный от росы (humide de rosee) и тёмный (obscur). Очевидна связь их с существительным Хс^о<;, libos - капля жидкости, или, согласно словарям древних грамматиков, - священный пирог» [Канселье 2002: 114].
Мысли доктора о «пережёвывании жвачки» Ливерием перекликаются с пассажем о Маяковском в «Людях и положениях»: «Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силою в общественном сознании, компанейства, артель-щины, подчинения голосу злободневности. <.. .> За вычетом предсмертного и бессмертного документа “Во весь голос”, позднейший Маяковский, начиная с “Мистерии-буфф”, недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощрённая бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным» [III: 335-336].
Называние партизанского начальника «кокаинистом» не случайно. Известно, что Маяковский нюхал кокаин. В данном отрывке текста отразились также соответствующие строки из блатной песни (или, по другой версии, - русского романса) на слова и музыку неизвестных авторов, проецирование которых на Ливерия-«Маяковского» создаёт намёк на его женский статус (Ливерий и ведёт себя в отношении Живаго пассивно, кокетливо и скрытно, как женщина) и, следовательно, гомосексуальные наклонности и персонажа, и поэта, подробности личной жизни которого были Пастернаку известны:
Губ твоих накрашенных малина, В кольцах пальцы ласковой руки. От бессонницы, от кокаина Под глазами тёмные круги.
Зубки твои в чувственном оскале, Тонкая изломанная бровь.
Слишком многие тебя ласкали, Чтоб мужскую знала ты любовь.
Припев'. А муж твой далёко в море Ждёт от тебя привета, В далёком суровом дозоре Шепчет он: - Где ты?
У любви порочной ты во власти, И тогда, послушны и легки, Цепенеют в пароксизме страсти Пальчики изнеженной руки.
234
Глава 3
Офицеров знала ты немало -Кортики, погоны, ордена; О такой ты жизни и мечтала, Трижды развращённая жена. Отошли в небытие притоны Лёгких девок в наши времена, Но следует велению закона Чья-нибудь хорошая жена.
Слова «под глазами тёмные круги» перекликаются с приведёнными выше цветаевскими строками, относящимися к Ахматовой, но составляют им смысловую противоположность, в том числе по линии «порочность - святость». Двойничество Ливерия с Клинцовым-Погоревших, действующим в окрестностях Мелюзеева-«Содома», поддерживает смысл, привносимый блатным текстом. Любопытно, что в дореволюционное время кокаин считался средством не только от простуды, невралгии, головной боли, но и от бессонницы - ср. с бодрствующим после приёма кокаина Ливерием, который не даёт спать Юрию Живаго.
Место Клинцова-Погоревших при мукомоле Блажейко при Ливерии, который являет собой «а kind of narrative substitution or transformation of the deaf-mute»43 [Witt 2009: 162], во время собрания в Крестовоздвиженске занимает «товарищ Лидочка», в которого превратился бывший трудовик-кооператор Костоед. Каждая из пар персонажей профанирует фигуры Иоанна Богослова и Христа. Если Клинцов-Погоревших назван в тексте по имени и отчеству, то имя и отчество кооператора Костоеда-Амурского, напротив, не называются, и от него, так сказать, остаётся сначала только первая часть фамилии, смахивающая на кличку, а затем она заменяется настоящей кличкой, да ещё с переменой пола - «товарищ Лидочка». С обоими - Клинцовым-Погоревших и Костоедом-Амурс-ким - доктор разговаривает во время зеркально соотносящихся поездок: по направлению с ‘Запада’ - к Москве и от Москвы - на ‘Восток’. Разъезды двойников выдают в них ещё и персонажей, профанирующих апостола Павла. Так, в Мелюзееве Живаго говорит Ларе, что он «ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище <...> И не то, чтобы говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звёзды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания». Такое состояние России напоминает доктору «что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? “Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования”» [IV: 145]. Клинцов-Погоревших, который, как и все глухонемые, разговаривает жестами, ведёт себя соответствующе: «Утверждали, будто это глухонемой от рождения, под влиянием вдохновения обретающий дар слова и по истечении озарения его снова теряющий» [IV: 133]. В присутствии Живаго Клинцов-Погоревших лишь при полном освещении буквально начинает говорить на русском языке с помощью языка как органа, а также «пророчествовать». И если у доктора он ассоциируется с Петенькой Верховенским из
43 «Вариант повествовательного замещения или трансформации глухонемого» (англ.).
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
235
«Бесов»44, то другой спутник доктора Костоед, о котором повествователь сообщает, что «никто не помнил, чтобы в прежние времена он когда-либо был лыс и бородат. Но, может быть, всё это было накладное?» [IV: 317-318], представляет собой пародию на главного из этих «бесов» - Ленина, лысина и борода которого стали основными деталями советских канонических изображений вождя (ср. с малоизвестной фотографией, на которой безбородый Ленин в кепке замаскирован под рабочего). Изменение внешности как показатель лживой мимикрии Ленина во времена неуспехов революции было показано Пастернаком ещё в поэме «Девятьсот пятый год» (1925-1926). Как указал Р. Пэйн, в строках заключительной главы «Москва в декабре» «В свете зарева / Наспех / у Прохорова на кухне / Двое бороды бреют» [I: 287] «the reference is to Lenin and Voronsky, who had entered Moscow secretly early in December»45 [Payne 1963: 46]. Советская цензура этого намёка не увидела, как позже не увидели черты Ленина в Костоеде ни читатели, ни исследователи. Цензура оказалась слепа и в отношении «Охранной грамоты», в которой чертами Ленина наделён Конрад Марбургский: «The celebration of Saint Elizabeth comes strangely from a poet writing in communist Russia in the late twenties, but the last paragraph provides the clue to his motive. Here Pasternak is speaking quetly, with full voice, against the demands of dictatorship. The face of Conrad of Marburg gives place to the face of Lenin, or any communist dictator»46 [ibid.: 59].
Есть ещё два прототипа, от которых Костоед-Амурский «унаследовал» как вторую часть фамилии, так и (по контрасту) свою роль разрушителя мирной жизни в Сибири. Первый прототип - выдающийся военный и государственный деятель, генерал-губернатор Восточной Сибири (1847-1861) граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский (1809-1881). Первая часть фамилии «Костоед» содержит не только коннотации мира мёртвых (Яга - живой мертвец, съедающий пришельцев), но и связанного с ними мира животных. Фамилия Муравьёва даёт «муравьёв», которые поедают трупы, кости. Но муравьи заняты естественным и полезным делом - как и Муравьёв-Амурский, тогда как «Костоед», заменяя уже умершего «Муравьёва», предстаёт гложущим его кости - уничтожает его благие дела. Таким образом, Костоед расшифровывается как «поедающий Муравьёва», антипод графа. Одинаковая вторая часть фамилии определяет место этого
44 И.П. Смирнов отметил интертекстуальную близость слов доктора о ночном митинге роману Андрея Белого «Серебряный голубь», параллель между Клинцовым-Погоревших и Смердяковым («заговорившая ослица») и, рассмотрев особенности трансформации слов бакунинца Петра Степановича Верховенского в доводах Клинцова-Погоревших, указал, что «интертекстуальная связь с “Бесами” находит по мере развёртывания пастернаковского романа продолжение в описании отца и сына Микулицыных, которые параллельны старшему и младшему Верховенским» [Смирнов 1995: 152, 57-60, 159]. См. также: [Masing-Delic 1979].
45 «Подразумеваются Ленин и Воронский, тайно приехавшие в Москву в начале декабря» (англ.).
46 «Празднование дня Святой Елизаветы странным образом исходит от поэта, пишущего в коммунистической России конца двадцатых годов, но последний параграф даёт ключ к этому мотиву. В нём Пастернак спокойно и в полный голос выступает против требований диктатуры. За лицом Конрада Марбургского видится лицо Ленина или другого коммунистического диктатора» (англ.).
236
Глава 3
«поедания». Чтобы вполне оценить деструктивную роль Костоеда-Амурского как посланника «Центрального комитета», необходимо учесть контраст его миссии, задач, которые он ставит перед партизанами, и достижений с миссией, задачами и достижениями Муравьёва-Амурского. По данным Большой Русской Биографической Энциклопедии (ссылающейся на Военную энциклопедию), в истории расширения русских владений в Сибири Муравьёв-Амурский сыграл видную роль: «В 1847 г. Муравьёв был назначен иркутским и енисейским генерал-губернатором и командующим войсками Восточной Сибири, а вслед за тем и и. д. генерал-губернатора Восточной Сибири и в 1849 году произведён в генерал-лейтенанты. Появление Муравьёва в Сибири, по рассказам современников, было как гром, который прогремел после нависшей мрачной тучи над Сибирью и очистил воздух. Муравьёв по своей честной натуре круто положил конец всем хищениям и злоупотреблениям. С неутомимой энергией он принялся за управление, и не было ни одной области управления, на которую Муравьёв не обратил бы внимания и которую не попробовал бы поставить согласно своим убеждениям. Объехав край, побывав в Камчатке, Охотске, в портах Петропавловском и Аяне и вернувшись через Якутск в Иркутск, Муравьёв понял, что без присоединения бассейна р. Амура развитие Восточной Сибири немыслимо, и с тех пор его заветной мечтой стало исследование устьев р. Амура, Сахалина и Камчатки. К этой цели Муравьёв шёл неуклонно, и никакие препятствия и интриги из Санкт-Петербурга его не останавливали и не ослабляли его энергии. Задуманные им исследования привели к блестящим результатам: <.. .> благодаря личному его участию 16 мая 1858 г. был заключён знаменитый Айгунский договор, передавший в наши руки весь Амурский и Уссурийский край. Такая многосторонняя и полезная деятельность достойным образом была оценена: в 1856 году Муравьёв получил орден святого Александра Невского, алмазами украшенный; в 1857 году был назначен генерал-адъютантом к Его Императорскому Величеству; в 1858 году произведён в генералы от инфантерии и возведён в графское достоинство с прибавлением к фамилии названия “Амурский”».
Второй прототип - брат министра юстиции и племянник Н.Н. Муравьёва-Амурского, основатель первой в России мартинистской ложи (1899) полковник граф Валериан Валерианович Муравьёв-Амурский (1850-1908). «Ещё будучи военным атташе во Франции, он увлёкся оккультизмом и около 1895 года был принят в орден самим Папюсом». Основанная В.В. Муравьёвым-Амурским ложа подчинялась Верховному совету ордена в Париже - «Аполлония» [Брачев 20076: 199]. «В январе 1906годаВ.В. Муравьёв-Амурский опубликовал в газетах (“Русское слово”, “Русские ведомости”) объявления о вызове им лиц, желающих вступить в масонские ложи, и получил в ответ на своё приглашение 63 письма. В числе отозвавшихся был и внук масона александровского времени (ложа “Соединённых друзей”) из города Владимира Петр Михайлович Казначеев. <.. .> В 1907 году В.В. Муравьёв и его ближайший помощник М.К. Исаев лично прибывают во Владимир с целью посвящения в мартинисты как самого П.М. Казначеева, так и его сына Дмитрия, а также жены и дочери Петра Михайловича. Одновременно в мартинисты были
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
237
посвящены и братья К. и М. Соковнины. Так во Владимире летом 1907 года возникла ещё одна мартинистская ложа - “Святого Иоанна”» [там же: 206, 207].
Костоеда-Амурского с В.В. Муравьёвым-Амурским, обнародовавшим «явно провокационное объявление» [там же: 403] и ездившим для организации ложи во Владимир, сближает роль провокатора, а также поездка на Урал с целью организации «ложи» в Крестовоздвиженске в ночь на Великий Четверг. Мартинизм Костоеда соотносит его с пильщиком из романа Ч. Диккенса «Повесть о двух городах», действие в котором относится ко времени Великой Французской революции, то есть ко времени создания ордена Л.К. де Сен-Мартеном. Генеральный делегат Ордена для России Муравьёв-Амурский мог привлечь внимание Пастернака тем, что проникновение мартинизма в Россию «заметным <.. .> становится» лишь с его «деятельностью на этом поприще» [там же: 199]. В 1899 г., когда Муравьёв-Амурский основал первую в России мартинистскую ложу, ему было 49 лет. Любопытно, что вождю большевиков Ленину, который был, по мнению некоторых исследователей, масоном (посвящён в первую степень ученика), в 1919 г., когда семья Живаго едет на Урал вместе с Костоедом, было также 49 лет. Сложение 4 и 9 даёт красноречивое 13. Если Н.Н. Муравьёв-Амурский собирал Россию, то его племянник разлагал её. Эта же разлагающая роль, отражённая в семантике фамилии, у Костоеда. Проблему «отцов и детей» Пастернак и на уровне интертекста (явно - через контраст Юрия Живаго и Веденяпина) решает через противопоставление дяди и племянника.
Обращает на себя внимание «обратное» анаграмматическое созвучие имени Устиньи и её характеристики («суха и трезва до ехидства» [IV: 134]), намекающей на Ахматову, а также на цикл Цветаевой «Куст» (1934), первое стихотворение которого открывается строками о «речи» (ср. с «речью» Устиньи на плацу): «Что нужно кусту от меня? / Не речи ж! Не доли собачьей»47 [Цветаева, II: 318].
О «сухости и трезвости до ехидства» Ахматовой можно судить по воспоминаниям многих современников, например, Л.К. Чуковской. Данная характеристика применима также к О.М. Фрейденберг и М.И. Цветаевой48. Устинья делает именно то, что отрицается Цветаевой. Лирической героине последней от куста нужно следующее:
А мне от куста - тишины: <.. .>
Невнятицы <...>
Той - до всего, после всего. Гул множеств, идущих на форум [Цветаева, II: 318].
47 Показательно, что в стихотворении появилось имя Ахматовой - последняя строфа, содержащая его, не вошла в окончательный текст:
с.. .> Тогда и узнаю, тоня
Лицом в тишине первозданной, Что нужно кусту - от меня: Меня - и Ахматовой, Анны» [Цветаева, II: 521].
48 Неполный перечень случаев ехидства Ахматовой в воспоминаниях Чуковской, а также ехидства Цветаевой при встрече с Ахматовой в 1940 г. у Н.И. Харджиева см.: [Иванова Н. 2001а].
238
Глава 3
Последняя строка подразумевает как раз митинги революционного времени. В одном из таких и участвует Устинья. Мотивы её выступлений повествователь объясняет следующим образом: «Устинья могла молчать годами, но до первого приступа, пока её не прорывало. Тут уж нельзя было её остановить. Её страстью было вступаться за правду» [IV: 135]. Данная предварительная характеристика, а также собственно монолог Устиньи на митинге поданы в тексте с точки зрения внешнего наблюдателя и тем самым являются инверсией внутреннего монолога лирической героини Цветаевой, завершающей свою речь следующим образом:
Да вот и сейчас, словарю Придавши бессмертную силу, -Да разве я то говорю, Что знала, пока не раскрыла
Рта, знала ещё на черте Губ, той - за которой осколки... И снова, во всей полноте Знать буду, как только умолкну [Цветаева, II: 318].
Этот внутренний монолог вполне могла бы произнести про себя Устинья, получившая в романе своё имя по «принадлежности» к «Кусту» и к устам Цветаевой.
Однако этим «Кустом» дело не ограничивается. В тексте присутствуют детали, указывающие на ещё один не менее важный претекст - одноимённый рассказ Андрея Белого, написанный, как сообщает комментатор, в конце мая 1906 г. «в разгар сложных, мучительных отношений с Л.Д. Блок и А.А. Блоком и напечатанный в журнале “Золотое Руно”, 1906, № 7-9». Герой рассказа Иванушка-дурачок, как выясняется к концу текста, - сумасшедший Иван Иванович. Однажды из окна психиатрической лечебницы, где он находится и где лишь временами проясняется его сознание, он наблюдает манифестацию на площади перед окном - ср. с тем, что доктор, находящийся в Мелюзеевской больнице на излечении и уже выздоровевший, не столько наблюдает, сколько слушает митинг, идущий «на противоположной стороне площади». Живаго слушает митинг, присев «на лавочку у ворот пожарной части» [IV: 141], а перед этим он, подобно герою Белого, бред которого связан с «Огородниковой дочкой», «высунулся в окно, выходившее в соседний двор», и слушал, как «где-то, где начинались огороды, поливали огурцы на грядках» и т. д. [IV: 140]. Иванушка-дурачок Белого - герой автобиографический, что подтверждается негативной реакцией на рассказ со стороны Л.Д. Блок, вычитавшей в нём житейскую основу. Его поведение в отношении куста-соперника весьма напоминает поведение как Гинца, так и Клинцова-Погоревших, что позволяет предположить, что одним из прототипов этих персонажей был Андрей Белый и оба являются скрытой пародией на него. Устинья же, опровергающая Гинца и тайно связанная с Погоревших, предстаёт персонажем, вобравшим в себя черты Л.Д. Блок. Ср., в частности, значимую
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
239
разницу присутствующего в обоих случаях дефекта фигур: Устинья «была женщина с нескладно суживавшеюся кверху фигурою, которая придавала ей сходство с наседкой» [IV: 134] - у Л.Д. Блок «отсутствовала» шея. Отметим также упоминание Андрея Белого в цитировавшемся выше письме О.М. Фрейденберг Пастернаку. Отношение Фрейденберг к Белому, о котором можно судить по этому упоминанию, сходно с отношением Устиньи к Гинцу и, вероятно, к Погоревших. Так же, как Фрейденберг, имена Андрея Белого и Саши Чёрного ставила рядом М.И. Цветаева. Упоминанием этих поэтов открывается очерк об Андрее Белом «Пленный дух» (1934) - за них в 1916 г. молилась её трёхлетняя дочь Аля. Интерес Белого к хлыстам, отразившийся в романе «Серебряный голубь», согласуется с сектантством Погоревших. Связи «Доктора Живаго» с этим романом требуют отдельного рассмотрения.
В изображении митинга летом 1917 г. в Мелюзееве сказалось не только описание летнего митинга революции 1905 года, сделанное Белым в «Кусте», но и аналогичное описание из его рассказа «Йог», написанного и опубликованного в 1918 г. Митинг, в котором решил поучаствовать служащий московского музея и заведующий библиотечным отделом 70-летний Иван Иванович Коробкин, происходит в июне 1918 г. Изображение митинга и выступление Коробкина - кульминация рассказа. Пастернак поменял 1918-й на 1917-й, день на ночь, неприятие участниками митинга старого Коробкина («списанного», в частности, с философа Н.Ф. Фёдорова) и его естественную смерть -на неприятие выступавшего юного Гинца и его насильственную смерть.
«Под открытым небом шёл митинг. Говорилось о свободе и о возможности перевернуть жизнь по-новому; говорилося о любви и равенстве: братстве народов. И тогда-то над толпою встал он, кто молчал много лет, ожидая в уединении своей кельи лучезарного дня, когда будут растоплены скрепы жизни и будет возможность сошествия Духа в сердца» [Белый 1995: 306]. Ср. с цитировавшейся выше характеристикой мотивов выступления Устиньи, которую «прорывало». Точно так же субъективно мог чувствовать своё состояние, толкавшее его к выступлениям, юный комиссар Гинц. Во время его выступления на площади в Мелюзееве слушавшие проявляют себя всё более и более агрессивно, но не слишком. Его лишь «с середины речи <.. .> начали перебивать. Просьбы не прерывать оратора чередовались с выкриками несогласия. Протестующие заявления учащались и становились громче» [IV: 141-142]. Однако ничем плохим для Гинца дело не оканчивается. Гораздо более резко реагируют на его речь дезертиры: «Поднялся рёв нескольких сот голосов. “Поговорил. Будет. Ладно”, - кричали одни басом и почти беззлобно. Но раздавались истерические выкрики на надсаженных ненавистью дискантах. К ним прислушивались» [IV: 152]. Оба описания выступлений Гинца, и особенно второе, а также реакции слушавших (во второй ситуации - дезертиров и казаков) восходят к картине, предстающей после выступления «йогу» Андрея Белого: «Иван Иванович Коробкин отчётливо видел с трибуны кровавые страсти, как головы рыкающих леопардов, в огромной толпе; видел жёлтые лица, налитые чёла, враждебные очи, разорванные оскалом уста. И он понял отчетливо: преображение не свершится ещё; будущее,
240
Глава 3
приподнявшись из недр разряжённой стихии, отступило. И - Гостя не приняли. Понял он и ошибку свою: разоблачение до сроков духовных печатей» [Белый 1995: 307].
И Гинц, и «йог» Коробкин спроецированы на Христа. Но у героев этих есть близость и другого рода. В качестве «йога» Гинца позволяет истолковать его фамилия: Hinze в переводе с немецкого - кот. Коты в покое своей невозмутимостью похожи на йогов. А своим залихватским поведением Гинц живо напоминает «Кота в сапогах» Шарля Перро. Гинц, кстати, носил галифе [IV: 137], а следовательно, был в сапогах, которые в тексте не упомянуты, видимо, чтобы избежать «узнаваемости». Галифе упоминаются и в мемуарном рассказе генерала П.Н. Краснова о комиссаре Ф.Ф. Линде, ставшем прототипом Гинца. Таким образом, в случае Гинца обнаруживается его сказочное амплуа, которыми наделены все персонажи романа. Переложение сказки Перро на немецкий осуществил Гейнц Калау, имя которого Пастернак тоже использовал, но в качестве фамилии. Остаётся добавить, что мимо внимания Пастернака не прошёл, по-видимому, и кот Гинц - главный персонаж комедии «Кот в сапогах» (1797) немецкого романтика Людвига Тика.
Ещё один важный претекст, оказавший влияние на изображение митинга в Мелюзееве, а также выступления Гинца перед солдатами и его убийства бородатым Памфи-лом Палых, имя которого тогда ещё не называется, - стихотворение Блока «Митинг» (1905) [Блок, II: 172-174]. В апреле 1947 г. в выступлении на Шекспировской конференции, предварявшем чтение отрывков перевода «Генриха IV» У. Шекспира, Пастернак назвал «Митинг» в качестве одного из наиболее показательных стихотворений Блока. Таким образом, в «Докторе Живаго» интертекстуально сталкиваются и в то же время составляют общую картину изображения митингов у Белого и Блока.
Фамилия Гинца отсылает также к малоизвестному русскому писателю XIX века Н.Э. Гейнце - автору романа «Аракчеев». В этом произведении описывается, в частности, масонская инициация. Её конструктивная роль в «Докторе Живаго» безотносительно «Аракчеева» требует отдельного внимания, как и вероятное знакомство Пастернака с этим романом. Наконец, фамилия Гинца отсылает к французскому живописцу, рисовальщику и гравёру Захарии Хайнце (Zacharie Heince) (1611-1669), автору одного из портретов алхимика и поэта Сирано де Бержерака.
В отношении мелюзеевского участка текста, вобравшего в себя множество культурных влияний, необходимо решить ещё одну загадку - выяснить интертекстуальные значения стучавших в разных местах дома и тем самым противопоставленных «обломка липового сука, бившегося о стекло» и выбившего окно, и оторвавшейся ставни, бившейся о наличник [IV: 149]49.
Важной в отношении «сука» является скрытая автоцитация Пастернака. Отсутствующая в доме ночью Устинья как выразительница народного мнения является персонификацией парадоксально безличного «я» из стихотворения «Лесное» (1913) - «Pasternak’s
49 Части данного и следующего параграфов в сокращённом виде были опубликованы: [Буров 2009в].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
241
virtually first poetic declaration»50 [Witt 2009: 157], вошедшего в книгу «Близнец в тучах» (1913) и не включённого автором в переиздание при переработке стихов этой книги в 1928 году. Слово «сук» отсутствует в тексте «Лесного», однако есть в варианте:
О лес, ты притча во языцех, Я твой язык из языков Я не могу не < > Намеками твоих суков [I: 543].
В своей работе «“Природа” в “Докторе Живаго”» С. Витт подробно проанализировала «Лесное» и, в частности, рассмотрела влияние, которое оказало на этот текст и на «Доктор Живаго» стихотворение Ф.И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа» (1836), отметила мотивы «Лесного», отразившиеся в романе, и указала на их сопряжение с аллюзиями на статью В.С. Соловьёва «Общий смысл искусства» (1890) и стихотворение Н.С. Гумилёва «Шестое чувство» [Витт 2008; Witt 2009]. М.Л. Гаспаров и К.М. Поливанов, написавшие подробный комментарий к стихотворению [Гаспаров, Поливанов 2005: 50-53], указывают, что «лесной пейзаж выдержан в стиле И. Коневского (“Дебри” и др.), продолжателем которого Н. Асеев объявил Пастернака в предисловии к “Близнецу в тучах”. Он контрастирует с городским фоном большинства дальнейших стихотворений» сборника. Возможно, непереработка и невключение «Лесного» в состав «Начальной поры» объясняются, в частности, реакцией на мнение Асеева и заявленную им литературную генеалогию Пастернака. И.М. Конева полагает, что «текст пастернаковского стихотворения - это ответ-вызов сразу на два стихотворения Е.А. Баратынского: “На посев леса” (1843) и “Здравствуй, отрок сладкогласный!” (1842)» (устное сообщение). Мы попытаемся развить некоторые наблюдения С. Витт.
Во время ночной бури «сук» ведёт себя «ехидно»: вследствие того, что он разбивает стекло, «на полу огромные лужи, и то же самое в комнате, оставшейся от Лары, море, форменное море, целый океан» [IV: 149]. «Ехидство» заключается в том, что Ахматова вызвала разлив стихов у Цветаевой, разлив океана чувств, нашедший выход в цикле «Ахматовой» и других посвящённых ей стихотворениях. Аналогичный разлив вызвал у Цветаевой и Пастернак.
Впервые на связь Лары с мотивом моря указал в статье «Doctor Life and His Guardian Angel»51 (1958) Э. Вильсон: «А mythological Larisa is supposed to have been the wife of Poseidon, and Pasternak’s Larisa is associated with the sea by Zhivago - for reasons which, however, I have not grasped»52 (цит. по: [Флейшман 2009: 232]). В следующей своей работе - «Legend and Symbol in ‘Doctor Zhivago’»53 (1959) критик отметил семантику име
50 «Фактически первой поэтической декларации Пастернака» (англ.).
51 «Доктор Жизнь и его ангел-хранитель» (англ.).
52 «Мифологическая Лариса, как считается, была женой Посейдона, и пастернаковская Лариса ассоциируется Живаго с морем - по причинам, которые, однако, я не улавливаю» (англ.).
53 «Легенда и символ в «Докторе Живаго»» (англ.).
242
Глава 3
ни Ларисы - «чайка» и пришёл «к заключению, что мотив моря (и производные от него -волна, ветер и т. п.) играет центральную роль во всей структуре текста» [там же: 234], с чем был не согласен Г.П. Струве [Struve 1962:245,250]. «Морская» тематика у Цветаевой и Пастернака рассматривалась также: [Топоров 1995: 575-622]. Однако ни в одном из случаев связь мотива моря у Пастернака с творчеством Цветаевой не отмечалась. «Форменное море, целый океан» в комнате уехавшей Лары отсылают не только к поэме Цветаевой «С моря» (1926), но и к пушкинскому «К морю» (1824), о котором она писала в очерке «Мой Пушкин» [Цветаева, V: 83-91]. «С моря», как указывают комментаторы, была написана как поэтическое письмо к Пастернаку и имела первоначальное название «Вместо письма» [там же, III: 782]. В письме к Пастернаку от 23 мая 1926 г. Цветаева называла поэму «вещью о тебе и мне» [Переписка с Цветаевой 2004: 217, 612]. «Ехидство» ещё и в том, что Юрий Живаго не «прочитывает» это «форменное море, целый океан», появившиеся вместо Лары или «вместо письма». Он не понял, что Лара прислала ему дар, подобный дару Цветаевой Пастернаку:
Но припасла тебе напоследки Дар, на котором строй: Море роднит с Москвой, Советороссию - с Океаном. Республиканцу - рукой шуана -Сам Океан-Велик Шлёт. Нацепи на шлык
[Цветаева, III: 113].
Однако о противоположном - о понимании и приятии дара - свидетельствует то, что Живаго уезжает в Москву из Мелюзеева сразу после грозы, которая также является нераспознанной доктором «заместительницей» Лары-(Цветаевой), любовь к которой он вынужден прятать. И в Москву же он уходит после прощания с Ларой в Барыкине, где пишет «Разлуку», которая также имеет связи с поэмой «С моря» (см.: [Поливанов К.М. 1992: 56-57; 2006: 157-159]) и содержит весьма значимый в алхимии образ навигации/ кораблекрушения54. Уезжая и уходя в Москву, Живаго «строит на даре» Лары-(Цветае-вой). Пастернак, намекая вводом упомянутых деталей на претексты, скрыто предлагает читателю те же «Выходы из - / Зримости», констатацией которых оканчивается поэма [Цветаева, III: 113].
54 Так, нормандский адепт XV века Николя Валуа писал: «Мудрецы называют всё своё делание морем и говорят, что тело сводится к воде, из которой оно первоначально состояло, и оная называется водой моря, поскольку это воистину то самое море, в котором многие мудрецы, совершая плавание, потерпели кораблекрушение, не имея той путеводной звезды, которая постоянно сопутствует однажды познавшим её. Это та самая звезда, которая указывала путь волхвам при рождении сына Божьего, и она же даёт нам возможность узреть рождение сего юного царя» (цит. по: [Ютен 2005: 106]). Стоит добавить, что если стихотворение «Разлука» и связанное с ним «Свидание» стоят 16-м и 17-м в «Стихотворениях Юрия Живаго», то «Рождественская звезда» следует сразу же за ними и, таким образом, «указывает путь» герою к повторению жертвы Христа. Анализ этого стихотворения см.: [Лепахин 1988; Суханова (а)].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
243
В разгар переписки, одним из предметов которой была откладывавшаяся встреча, Цветаева писала 31 мая 1927 г. о славе, читательской любви и грозах: «Но, чтобы вернуться к славе, - моих книг в России нет и поэтому поэта нет. Не Маяковского же им любить - служебного, не Асеева - бездушного, не тебя - подсущного, когда они и суще-го-то не видят, конечно, Борис, меня - с моими перебоями, перемежениями сокровения и откровений. Меня, Борис, - молнию, ту синюю, вчерашнюю, бившуюся в мои окна в 2 часа ночи. Люблю её! О - как больше луны! <...> Итак - и вот - Лондон в Медоне, дымная желтизна, потемнение <.. .> После двух ночей гроз - синих!! - утро тумана».
И ещё - в середине августа 1927 г.: «У тебя - миросозерцание, у меня - мироощущение или - толкование, ряд молний, связанных только моей общей <ночью?>» [Переписка с Цветаевой 2004: 348, 379].
Цветаева сравнивала утренний Мёдон с Лондоном, где находилась по приглашению Д.П. Святополка-Мирского с 10 по 25 апреля 1926 г. Для Пастернака Лондон был связан с именем Ч. Диккенса, с атмосферой «Рождественских историй» - см. развёрнутый отзыв в письме к Цветаевой от 19 марта 1926 года [там же: 146-147]. И некоторые темы, звучавшие в письмах Цветаевой, Пастернак воспринимал сквозь диккенсовскую призму - см. письмо Пастернака от 27 мая 1927 г. [там же: 345]. Синие молнии и грозы, о которых писала Цветаева, напоминали Пастернаку и о финале посвящённой ему «поэмы «Молодец» - совместном полёте героев в мир иной» (комментарии - [там же: 609]. В письме к Пастернаку от 22 мая 1926 г. Цветаева поясняла: «Что они будут делать в огнь-синь? Лететь в него вечно. Никакого сатанизма» [там же: 206]. Замещение возвращающейся Лары грозой - это и реализация рекомендации Цветаевой о том, как надо давать героя, однако направленная на саму Цветаеву. Оценивая первую часть поэмы «Лейтенант Шмидт», она писала 1 июля 1926 г.: «Прекрасна Стихия. И естественно почему. Здесь действуют большие вещи, а не маленький человек. Прекрасна марсельеза. Прекрасно всё, где его нет. Поэма несётся мимо Шмидта, он - тормоз. Письма - сплошная жалость. Зачем они тебе понадобились? Пиши я, я бы провалила их на самое дно памяти, завалила, застроила бы. Почему ты не дал Шмидта “сто слепящих фотографий”, не дающих разглядеть - что? - да уныние этого лица! Зачем тебе понадобился подстрочник? Дай ты Шмидта в действии - просто ряд сцен - ты бы поднял его над действительностью, гнездящейся в его словесности» [там же: 239].
К.М. Поливанов указывает, что дождь в лирике Цветаевой является «формой замены реального контакта <...>. Например, в стихотворении 1923 года (обращённом, видимо, к Пастернаку) “Строительница струн - приструню...” <.. .>. Сходный мотив присутствует и в стихотворении 1926 года “Русской ржи от меня поклон...”» [Поливанов К.М. 2006: 151].
Связь Устиньи с лесом не только неслучайна, но и неразрывна. Её «я» легко совмещается с безличным «я» «Лесного». В общине Блажейко, обосновавшейся среди лесов в Зыбушино, она является, вероятно, хлыстовской Богородицей - в соответствии с по
244
Глава 3
следней строфой стихотворения Цветаевой «На базаре кричал народ» (27 июня 1916), обращённого к Ахматовой:
Помолись за меня, краса Грустная и бесовская, Как поставят тебя леса Богородицей хлыстовскою [Цветаева, I: 307].
По общине Блажейко Устинья связана с охотившимся в тех же лесах вокруг Зыбушино Клинцовым-Погоревших, который (если допустить, что Устинья и безымянная «крестьянка», у которой Тоня выменивает ползайца и у которой муж охотник, - одно лицо) является её мужем или человеком, выступающим в его роли. Однако в Зыбушино хлыстовским «Христом» был Блажейко, а Клинцов-Погоревших находился при нём в роли Иоанна Богослова. Видимо, после того как Блажейко «благодаря» «Иуде»-Фроленко не стало, Клинцов-Погоревших совместил обе роли и даже признался Юрию Живаго, что именно он был там «главным»: «Погоревших сказал, что Блажейко был для него поводом, а Зыбушино безразличной точкой приложения собственных идей» [IV: 162— 163]. С ролью апостола-провозвестника будущего хорошо согласуется то, что Погоревших представляет собой «собирательный образ футуриста» [Смирнов 1996: 142]. Он был «глухонемым от рождения, под влиянием вдохновения обретающим дар слова и по истечении озарения его снова теряющим», и «привык разговаривать только при полном освещении» [IV: 133,159]. Эта характеристика соотносит его с апостолами, на которых произошло сошествие Святого Духа, после чего они получили способность проповедовать христианство на незнакомых языках. Однако «Христос»-Блажейко воспринимался несерьёзно самим «Иоанном»-Погоревших. Идеи «глухонемого» состоят, по-видимому, в профанации как подлинности современной истории, так и подлинности её евангельского прототипа. Апокалиптическая тема конца света в вывернутом наизнанку виде предстаёт «программной» установкой Погоревших, составляющей главное содержание его встречи с доктором: «Погоревших невозмутимым тоном оракула предсказывал гибельные потрясения на ближайшее время» и на возражения Юрия Живаго по поводу несвоевременности «рискованных экспериментов среди нашего хаоса и развала» говорил, что «эти разрушения - закономерная и предварительная часть более широкого созидательного плана. Общество развалилось ещё недостаточно. Надо, чтобы оно распалось до конца, и тогда настоящая революционная власть по частям соберёт его на совершенно других основаниях» [IV: 163].
Погоревших (как и Брыкин, и Ливерий) совершенно серьёзно относится к тому, что говорит, и его экспериментальное сектантское «зыбушинское царство» (пародия на Царство Божие) представляется ему не той «революционной властью», которая желательна. Внутреннее возмущение доктора («Юрию Андреевичу стало не по себе. Он вышел в коридор» [IV: 163]) можно объяснить наблюдением Ю.М. Лотмана, высказанным в ста
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
245
тье «Символ в системе культуры»: «Сакральная сфера всегда консервативнее профани-ческой» [Лотман 1992,1: 192].
С двойником же Клинцова-Погоревших Ливерием Устинью - так же контрастно, но иным образом - связывает не только общее качество «златоустости», но и принадлежность к лесу: Кубариха объявляется у партизан, когда отряд находится в непроходимой тайге. К тому же партийно-революционный псевдоним Ливерия, командующего «Лесными братьями», - «товарищ Лесных» [IV: 262]. «Чертовка Устинья», ушедшая накануне грозы «куда-то в гости», выступает в романе в том же амплуа связанной с лесом сказочной Яги, что и другие рассматриваемые персонажи-женщины. Именно поэтому её «понесла нелёгкая» «к чужим», которыми для Флери - ещё одной «Яги», которой принадлежат эти размышления [IV: 147], могут выступать зыбушинские сектанты, с которыми Устинья связана. Стук воспринимается Флери в этом же инфернальном, дьявольском ключе в силу возможной связи с Устиньей: «Тоже носит чёрт в такую погоду. А может быть, это Устинья?» [IV: 147]. Поскольку Юрий Живаго и Флери, отперев двери, никого за ними не обнаруживают, Устинья не возвращается, а Лара, к которой доктор испытывает чувства, уехала, постольку можно говорить о том, что Устинья играет навыворот роль «этнографической» куколки Устиньи, которая, как верили в народе, способна удержать жениха. Эту нарядную куклу девчата (в частности, в Вятской и Вологодской губерниях) мастерили из соломы. Это была не игрушка, а знаковая кукла, вроде чёрной меты. Устинья предназначалась для парня, который загулялся с невестой, а жениться не хочет. Куколку подбрасывали такому парню на порог. Одним и тем же амплуа Яги с разницей, которая определяется национально-религиозной принадлежностью Устиньи и Флери, объясняется то, что «женщины были нежно привязаны друг к другу и без конца друг на друга ворчали» [IV: 135].
Как полагает О. Хьюз, «ап early poem «Лесное» («Sylvan», 1913) is developed around the juxtaposition of the muteness of nature (a forest) and a power of speech of the poet: he speaks for nature»55 [Hughes O. 1974: 51]. По мнению М.Л. Гаспарова и К.М. Поливанова, «Лесное» «говорит: поэзия есть голос земной стихии» [Гаспарпов, Поливанов 2005: 29]. Жившие в лесах украинского Полесья Устинья и Клинцов-Погоревших персонифицируют этот голос и представляют собой две автопародии Пастернака, переосмыслявшего и в 1928 г. во время переработки «Близнеца в тучах», и во время работы над «Доктором Живаго» своё понимание поэта как голоса народной и природной стихий. Иного рода переосмысление и автопародирование просматривается в образах также обитающих в лесу двойников Устиньи и Клинцова-Погоревших - Кубарихе и Ливерии («товарище Лесных»). У персонажей-мужчин на связь с лесом указывают фамилии. Про обоих идут слухи, которые «подхвачены городами»56 и распространению которых способствуют (Устинья) или, напротив, препятствуют путём развенчания (Кубариха) жен
55 «Раннее стихотворение “Лесное” (1913) разворачивается вокруг противопоставления безмолвия природы (леса) и силы речи поэта: он говорит за природу» (англ.).
56 О значении противопоставления города и леса см.: [Гаспаров, Поливанов 2005: 51].
246
Глава 3
щины. Отталкивание позднего Пастернака от своего же понимания поэта как голоса народной и природной стихий в «Докторе Живаго» проявлено и в том, что Живаго внутренне отталкивается от Клинцова-Погоревших и уходит из леса, в котором командует Ливерий. Это происходит после разговоров с тем и другим. Отталкивание происходит не только от содержания, которое излагают доктору чрезвычайно словоохотливые Клинцов-Погоревших и Ливерий, взявший себе фамилию Лесных, но и от внутренних причин их словесного дара - глухоты и немоты. Про первого «утверждали, будто это глухонемой от рождения, под влиянием вдохновения обретающий дар слова и по истечении озарения его снова теряющий» [IV: 133]. «Словоговорение» второго, аналогичное недержанию речи мелюзеевских героев, и его глухота к доводам собеседника объясняются действием кокаина и иллюстрируются революционной убежденностью. В столкновениях мало говорящего или молчащего доктора с болтливыми персонажами всякий раз проясняются «тайны тех, кто - тайно немы» [I: 330], - и самого Юрия Живаго, и профанирующих его молчание двойников57. «Дар слова» Клинцова-Погоревших объясняется, возможно, тем, что «вдохновляет» его Устинья. В этом сказывается «тайна чар» «дочери сельского колдуна» - ср. у А.А. Ахматовой: «Я научила женщин говорить... / Но, Боже, как их замолчать заставить?!» [Ахматова 1998-2002, II (1): 199]. Однако объяснение, которое Живаго получает от Клинцова-Погоревших, не связано с Устиньей, как не связан с Кубарихой, способной «присушить» к Агафье «твоего над вами начальника, Лесного вашего», «словесный дар» Ливерия. Живаго, по-видимому, сам понимает зависимость Клинцова-Погоревших от Устиньи и Ливерия от Кубарихи, и понимание это, а также двойничество с женщинами вновь подтверждается текстом «Лесного», отзывающимся в сцене, когда доктор, «остерегаясь оступиться в болото, <...> в потёмках медленно пробирался по стёжке, огибавшей топкую полянку перед рябиной» [IV: 360]:
Но, мхи пугливо попирая, Разгадываю тайну чар: Я - речь безгласного их края, Я - их лесного слова дар. <.. .> Блуждающий - я твой глагол [I: 327].
С. Витт указывает на «Silentium!» Тютчева как на претекст, на основе которого Пастернак проводит противопоставление «бездарно-возвышенного, беспросветного человеческого словоговорения» и «кажущегося безмолвия природы, <...> каторжного беззвучия долгого, упорного труда» [Witt 2009: 161-162]. В Мелюзееве у доктора есть ещё один чрезвычайно разговорчивый двойник - комиссар Гинц. После посещения уездного, где Гинц произносил зажигательную речь о том, как будет усмирять дезертиров, доктор (= повествователь) реагирует аналогично тому, как после выслушивания Клинцова-Погоревших и Ливерия: «Юрий Андреевич всё время порывался встать и уйти. Наив
57 О значении различных случаев «словесного недержания» персонажей и «шалых выкриков и требований» советской власти, осуждаемых доктором, см.: [Seifrid 2009: 173].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
247
ность комиссара конфузила его. Но немногим выше была и лукавая искушённость уездного и его помощника, двух насмешливых и скрытых проныр. Эта глупость и хитрость друг друга стоили. И всё это извергалось потоком слов, лишнее, несуществующее, без чего сама жизнь так жаждет обойтись. О, как хочется иногда из бездарно-возвышенного, беспросветного человеческого словоговорения в кажущееся безмолвие природы, в каторжное беззвучие долгого, упорного труда, в бессловесность крепкого сна, истинной музыки и немеющего от полноты души тихого сердечного прикосновения!» [IV: 138-139]. «Неутомимой, притворно-вздорной говорливостью» наделена в романе и Елена Прокловна Микулицына [IV: 273].
Отметим ещё несколько деталей, выдающих связь образа Устиньи и «духа леса» -«я» из «Лесного». Это упоминание Устиньей «соляного столба», в который обратилась Лотова жена, контрастирующего с заключительной строкой стихотворения: «Я - столп дремучих диалектов». Это «чернозём», на котором стоял Мелюзеев и леса, его окружавшие, и «чернолесье» стихотворения, которое исследователи соотносят с германским Шварцвальдом [Гаспаров, Поливанов 2005: 51]. Таким образом проводится отталкивание от немецкого романтизма. На это же отталкивание работают германское происхождение Гинца и обучение Клинцова-Погоревших в школе Гартмана, объясняющее его «дар слова».
Поскольку «Лесное» в 1928 г. переработке не подвергалось и автор, как указывают Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак, «перенёс в новую редакцию “Эдема” некоторые черты “лесного”, “ботанического” восприятия первозданного мира (“ствольный строй”, “лиственный покров”)» [I: 543], то на фоне роли Фроленко в мелюзеевском повествовании приобретает особое значение снятие посвящения Н. Асееву в переработанном тексте «Эдема» (1913) - в стихотворении «Когда за лиры лабиринт» (1928). Не только в период создания «Доктора Живаго», но уже и в конце 1920-х всякое связывание имени Асеева с комплексом тем, присутствующих в «Лесном» и «Эдеме», Пастернаку могло представляться неуместным и даже кощунственным.
Ещё одним скрытым автоцитируемым текстом, связанным с «суком, бившимся о стекло» и выбившим «окно», является книга «Сестра моя - жизнь», в частности, стихотворения «Плачущий сад», «Зеркало», «Девочка», «Ты в ветре, веткой пробующем», «Дождь»58, «Определение души», «Душная ночь», где имеются и мокрый «сад», и прошедшая «буря», и «сук» (и/или «ветка»), бьющийся в окно и/или (не)разбивающий «стекло», и «сухое», и «липа», и «ветер» и т. д.59 Отметим, что время написания «Сест
58 Прямым отзывом на это стихотворение является цветаевское «Нет, правды не оспаривай» (1923), посланное Пастернаку в начале 1924 г. в составе подборки из 28 стихотворений [Переписка с Цветаевой 2004: 55].
59 «Водяная» образность Пастернака неоднократно становилась предметом внимания исследователей - см.: [Angeloff 1968; Франк 1990]. Сочетающиеся в мелюзеевском повествовании образы воды, дождя, ветра, запаха лип и их появление в других участках романа, а также интерпретации других пастерна-коведов проанализированы: [Cornwell 1986: 83-86].
248
Глава 3
ры моей - жизни» совпадает со временем действия в рассматриваемом участке «Доктора Живаго»60.
И.П. Смирнов указывает на «формальное сходство фамилий “ГинцЕ” - “ЛиндЕ”» и связь с мотивом «липы» [Смирнов 1996: 50], а также на связь высказывания Устиньи в адрес Гинца «А глухонемым и без вас глаза кололи» [IV: 142] со стихотворным эпосом Н. Ленау «Альбигойцы», рассказывающем о подавлении движения катаров. Последним, как указывает И.П. Смирнов, выкалывали глаза и наносили другие увечья. То, что липовый сук обломан, намекает на это членовредительство и отсылает также к стихам Ленау «Am Brunnen steht sie noch, die Linde». «У Ленау липа, растущая около колодца <...>, хранит в себе (тотемистическую) память об исчезнувшей (забитой камнями) женщине» [Смирнов 1996: 94]. Таким образом, интертекст сообщает возможную судьбу Устиньи -её может постичь участь катаров или участь забитой камнями женщины. Фамилия прототипа Гинца - «комиссара Юго-Западного фронта Ф.Ф. Линде» [IV: 679-680] - связана с мотивом «липы» и благодаря этимологии фамилии К. Линнея: «With regards to Pasternak’s interest in meaningful or “telling” names it is possible that he was aware of the botanical significance of Linnaeus’s name: it was taken by his father, the country priest, from the old linden tree (Swedish: lind; German: Linde) which grew in front of the family’s house»61 [Witt 2009: 171-172].
Производящая наряду с «суком» стук оторванная или оторвавшаяся «ставня» отсылает к нескольким источникам с разной степенью интертекстуальной «пропитываемости» и представляет выразительный пример множественного кодирования текста даже на самых «мелких» структурных уровнях. В данном случае, как и во множестве других, текст представляет собой палимпсест, который, «по словам Мишеля Шарля, ещё и герменевтическая модель: «Под текстом находится другой текст, выражающий смысл первого». Но этот другой текст может снова проявиться только с течением времени, и именно под действием времени открывается тот или иной смысл настоящего. В палимпсесте совмещаются неизменность первоначала, содержащего исходный смысл, и разнообразие, которое несёт записанная на нём история (см.: Michel Charles, Introduction а Г etude des textes.-Paris: Seuil, 1995)» [Пьеге-Гро 2008: 200].
О причине стука Живаго говорит: «По-видимому, это ветер» [IV: 149]. Сближая оба стука как тождественные и описывая другие многочисленные случаи стука в романе, Б.М. Гаспаров замечает: «И вновь нам ничего не сообщается о том, какая ассоциативная связь могла возникнуть в сознании доктора, оставшись скрытой за тривиальной репликой. Однако сопоставление с <...> начальной сценой романа вносит в подтекст
60 Подробно о соотношении романа и «Сестры моей - жизни» см.: [Пастернак Е.В. 19906; Rowland М.Е, Rowland Р. 1967: 58-60 и др.].
61 «С учётом интереса Пастернака к значащим или “говорящим” именам, возможно, он знал о ботаническом значении фамилии Линнея: эту фамилию взял его отец, сельский священник, образовавший его от названия старой липы (шведский: lind; немецкий: Linde), которая росла перед домом, где жила семья» (англ.).
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
249
этого эпизода значение стука (на фоне бури) как мистического сигнала и связь его с темой смерти. Следует также заметить, что общераспространённым смыслом данного образа (стук невидимого путника) и в мифологии, и в художественной литературе является посещение дома ангелом смерти» [Гаспаров Б. 1994: 255]. А.К. Жолковский указывает на параллели рассматриваемой ситуации со стихотворениями «Ты в ветре...», «Дик приём был...», «Из суеверья» из «Сестры моей - жизни» и возводит их к ветхозаветной Песни Песней (ПП IV, 12; V, 1,2, 4), где «Невеста <...> предстаёт запертой на замок, который Жених пытается открыть, сначала безуспешно» [Жолковский 2005:183-184]. На автоцитирование Пастернака обращает внимание и И.П. Смирнов, отмечая перенос в эпизод стука, обманутого ожидания Юрия Живаго и невернувшейся Лары венецианской темы из «Охранной грамоты», поддержанной интертекстуальным содержанием топонима «Мелюзеев» (об этом - далее) и его имплицитной связью с морем [Смирнов 1995: 146-147].
Что касается реплики доктора, то она отсылает к сквозному образу ветра, открывающего поэму «Двенадцать» - «Ветер, ветер -/ На всём Божьем свете!» [Блок, III: 347] -и являющегося парафразом на знаменитую революционную песню «Вихри враждебные веют над нами». Ещё одна, менее явная, отсылка - к уже упоминавшему стихотворению Цветаевой «Златоустой Анне - всея Руси».
Следующий источник образа - «Просцениум - две тени» - из незавершённой трагедии «Энума Элиш» (1942-1966) Ахматовой:
Мир не видел такой нищеты, Существа он не видел бесправней, Даже ветер со мной на ты, Там, за той оборвавшейся ставней [Ахматова 1998-2002, III: 355-357].
Далее - рассказ М.А. Шолохова «Двухмужняя» (1925). Он повлиял как на описание сада, общей летней атмосферы Мелюзеева, так и на рассказ о грозе и Ларе и расстановку персонажей [Шолохов, I: 198-212]. Героиня Шолохова Анна, будто оторванная революционной бурей ставня, мечется между вернувшимся в гражданской войны нелюбимым мужем Александром, о котором поначалу говорилось, что «помер в Турции», и вступившим в колхоз Арсением Андреевичем Клюквиным (у Юрия Живаго - то же отчество). Кроме того, что Анна - значимое в мелюзеевском контексте имя, рассказ задаёт версию отношений Лары, у которой муж тоже якобы погиб, и доктора. Однако Пастернак усложнил шолоховскую конструкцию, и сохраняя, и нарушая её: Лара ещё не любит, но позже полюбит Юрия Живаго; она уезжает не к мужу, который считается погибшим, но домой, где жила с ним, а позже, несмотря на любовь к Юрию Андреевичу, продолжает любить Антипова. В «Докторе Живаго» начисто устранены крестьянский быт «от сохи», крестьянское происхождение и «косые замашки», которыми щедро наделены шолоховские персонажи.
250
Глава 3
Следующий претекст сказывается в описании происходящего в доме во время ночной грозы. Кроме того, что ставни - характерная деталь романов Ч. Диккенса, в «Докторе Живаго» интертекстуально присутствуют главы XXII-XXXI романа «Приключения Оливера Твиста», повествующие о ночной краже со взломом и её последствиях, в частности - о ночном обследовании ставня. Выявление многочисленных связей романа Пастернака с этим произведением требует отдельного исследования. Из множества деталей в «Докторе Живаго», отсылающих к роману Диккенса, назовём лишь некоторые. Это наличие доктора (ср. с доктором Лосберном); называние Устиньи «чертовкой», намекающее на Чертей, из которого был констебль; ночное беспокойство Флери и Юрия Живаго, соотносимое с тем, что двое видят в доме ночью воров; убийство Гинца в бочке, в которую он угодил, как трансформация ранения Оливера Твиста, якобы имевшего отношение к разбойникам и брошенного в канаву; освещение свечой. Рассказ о Гинце, точнее, о событиях, совершавшихся после его убийства, введён «на опережение», до последовательного изложения трагически завершившихся событий - в эпизод происходящего в доме во время ночной грозы. Итоги бесчинств подводит Флери, и читатель узнаёт о них из её размышлений. Бегство Галиуллина соотносится с бегством ночных грабителей в изложении Тоби Крекита. Если в «Докторе Живаго», услышав стук, ожидают увидеть Лару, то у Диккенса, открыв дверь на стук, видят раненого Оливера Твиста, подстреленного мистером Джайлсом, которому светил Бритлс. Флери - инверсия последнего, но сотносится также с миссис Мэйли. Ср. также поправку Оливера с выздоровлением Юрия Живаго в доме Лары после возвращения из партизанского плена.
Ряд интертекстуальных связей оторванная «ставня» имеет с «Героем нашего времени» М.Ю. Лермонтова (часть «Фаталист»). Печорин решает вслед за «фаталистом» Ву-личем, которого зарубил пьяный казак, испытать, подобно ему, свою судьбу и бросается на этого казака-преступника, находящегося за мешающими увидеть его ставнями. Ср. также Флери, которая, услышав ночью стук, «в испуге присела на кровати» [IV: 147], со старухой, сидевшей возле хаты, в «Фаталисте».
«Убийца заперся в пустой хате в конце станицы. <...> Суматоха была страшная. Вот, наконец, мы пришли, смотрим: вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою; женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди них бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотись на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Её губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие? Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отважился броситься первым. <...>
- Ах ты окаянный! - кричал есаул: - что ты, над нами смеешься, что ли? Али думаешь, что мы с тобой не совладаем?
Он стал стучать в дверь изо всей силы: я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него.
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
251
Я схватил его за руки; казаки ворвались, и не прошло трёх минут, как преступник был уж связан и отведён под конвоем. Народ разошёлся. Офицеры меня поздравляли - точно, было с чем! После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убеждён ли он в чём или нет?., и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!.. Я люблю сомневаться во всём: это расположение ума не мешает решительности характера - напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится - а смерти не минуешь!» [Лермонтов, IV: 312-313].
Выстрелы у Диккенса и у Лермонтова - узнаваемая деталь, помогающая опознать ещё двух прототипов «тоненького и стройного, совсем ещё не оперившегося юноши» Гинца [IV: 137], застреленного Памфилом Палых. Это раненный в руку Оливер Твист и Печорин, бросающийся на казака и так же случайно остающийся в живых, как случайно погибает Гинц. Некоторые черты Печорина узнаются также в Галиуллине и, кроме того, прямо названы в качестве характеристики безымянного уездного. Разумеется, наличие у Гинца нескольких литературных прототипов не исключает того, что в основу рассказа о его убийстве положено, как указывают комментаторы, «свидетельство казачьего генерала (будущего донского атамана) П.Н. Краснова (1869-1947) об убийстве солдатами 3-й пехотной дивизии комиссара Юго-Западного фронта Ф.Ф. Линде, происшедшем 25 августа 1917 г. в селении Духче» [Пастернак 1989-1992, III: 696].
По наблюдению И.М. Коневой (устное сообщение), ещё одним текстом, повлиявшим на разбираемый эпизод стука, послужило стихотворение Э.А. По «Ворон» (1845)62. Первые строки «Ворона» «объясняют», чем занимался Юрий Живаго до того, как его разбудил стук:
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, Over many a quaint and curious volume of forgotten lore63.
Лирический герой Э. По мучительно страдает по «утраченной Линор», и это объясняет состояние Живаго, переживания которого относительно уехавшей Лары, чье имя
62 «Еще в 13-м году» Пастернак «самоучкой знакомился в оригинале с Китсом и Колриджем, Суинберном и По и другими» [ПРС 2004: 668]. Пастернак писал Цветаевой 19 марта 1926 г.: «Лет тринадцать или больше назад я бредил Англией и, служа воспитателем (гувернёром, подумай! В богатой немецкой купеческой семье), откладывал деньги для поездки в Лондон. Т. е. “гувернёром” я заделался именно ради Лондона. Тогда (как вспомнишь, как это всё было неумело, глупо!) я читал англичанке-учительнице за плату курс русской истории литературы, которую она очень любила, а я знал не больше, чем теперь. Однажды она мне прочла Эдгара По в оригинале. Восхищенью моему не было конца. <.. .> Это всё было в те времена, которые описаны в первых страницах Бытия, т. е. когда я служил молодым Гегелем в немецкой семье, читал свободно по-французски» [VII: 616]. Англичанка-учительница стала прототипом датчанки Анны Арильд из «Повести» (1929) и учительницы истории Лары, с которыми объясняются главные герои - Сергей Спекторский и Юрий Живаго.
63 Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий, Задремал я над страницей фолианта одного (англ.).
Здесь и далее стихотворение цитируется в переводе М.А. Зенкевича (1946).
252
Глава 3
созвучно имени героини По, в тексте отсутствуют. Из стихотворения в «Доктор Живаго» перешли полночный час, «смутный ужас» и «испуг», открывание дверей, отсутствие за ними стучавшего (-шей), закрывание, повторный стук. Если доктор и Флери слышат стук до того, как открывают двери, то герой Э. По - после того, как закрывает их.
Back into the chamber turning, all my soul within me burning, Soon again I heard a tapping somewhat louder than before. «Surely», said I, «surely that is something at my window lattice; Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore -Let my heart be still a moment and this mystery explore»; -«Tis the wind and nothing more!»64.
Последняя строка почти без изменений перешла в роман Пастернака: «По-видимому, это ветер, - сказал доктор» [IV: 149]. Герой Э. По открывает ставню («Open here I flung the shutter»), и вслед за ним именно Юрий Живаго, а не Флери обнаруживает: «А тут ставня оторвалась и бьётся о наличник. Видите? Вот и всё объяснение» [IV: 149]. Последнее предложение - перевод рефрена «and nothing тоге», завершающего первые 6 из 7 (кроме 2-й) строф 18-строфного стихотворения. Данные случаи - далеко не единственные примеры «парадигматического шифра - подстановки знаков одного типа на место другого» [Смирнов 1996:23], которым пользовался Пастернак. Ср. также мудрую мадемуазель Флери, способствовавшую бегству Галиуллина, стремившуюся предотвратить убийство Гинца, с Афиной Палладой, на бюст которой садится ворон в стихотворении Э. По и которая в Древней Греции считалась покровительницей войны и мудрости. Из головы Флери мудрость рождается так же, как Афина из головы Зевса, а «Ворон» и бюст (голова) Афины - из головы Э. По.
В рассматриваемом эпизоде «Доктора Живаго» К. Эванс-Ромейн увидела параллели с «романом, написанном на исходе английского романтизма, завоевавшем большую популярность и прочно вошедшем в круг отроческого чтения» - «Грозовым перевалом» (1847) Э. Бронте. «Пастернак безусловно читал роман по-английски, русский перевод появился в 1956 году» [Эванс-Ромейн 2008: 568, 575]. Исследовательница указывает на общность таких мотивов и деталей, как «гроза во тьме; свеча; наступающий рассвет (грань ночи и утра); женщина, что стучится и не может войти в дом (пересечь порог); ветка, вламывающаяся в окно. Несбывшееся желание Живаго о встрече с Ларой следует за его “необъяснением в любви” в той же главе». Отмечаются также темы «роковой любовной страсти, сиротства, отшельничества», внешности, имён (Кэтрин у Бронте и дочь Лары Катенька); мотивы «запрещённой комнаты», стихии, рвущейся «в до
64 В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери И услышал стук такой же, но отчетливей того.
«Это тот же стук недавний, - я сказал, - в окно за ставней,
Ветер воет неспроста в ней у окошка моего, Это ветер стукнул ставней у окошка моего, Ветер - больше ничего (англ.).
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
253
машнее пространство», задутой свечи; символ «ветки-девочки, пересекающий границу «природного» и «домашнего» миров»; действие «на границе сна и яви, мечты и реальности» и др. Указывая на «связь Пастернака с романтической словесностью65, в частности с английским романом, в котором важны темы судьбы и разделённости героев, а особая роль отведена “сказочным” мотивам (ночное появление призрака, неуверенность героев в произошедшем)» [там же: 569-574], исследовательница, однако, не придает особого значения переосмыслению, которому Пастернак последовательно подвергает романтический претекст, инверсируя названные детали и мотивы на реалистический лад.
Атмосферу страха в эпизоде поддерживают не только ассоциации с «Вороном» Э. По, но и с рассказом И.С. Тургенева «Стук... стук... стук!..» (1870), относящимся к произведениям, «ставящим под сомнение наличие тайного бытия, компрометирующим тайну» ([Смирнов 1996: 29]; см. там же - анализ криптосемантики рассказа).
Необходимо также выяснение возможного влияния на «Доктор Живаго» «Записок юного врача» М.А. Булгакова, которые публиковались в 1925-1927 гг., но частично написаны были в 1921-м. Живаго просыпается от ночного стука так же, как герой рассказа «Крещение поворотом», опубликованного в «Медицинском работнике», 1925, №41 и 42 за 25 октября и 2 ноября. В романе Пастернака стук слышат Флери и доктор. Флери пугается, предполагает, но потом отвергает предположение, что вернулась ушедшая в гости Устинья, затем поднимается по лестнице за доктором. Флери и Живаго соотносятся с булгаковским «юным врачом», а Флери и Устинья - со стучащей Аксиньей, которая в рассказах Булгакова появляется в амплуа сиделки, кухарки и уборщицы при докторской квартире. Квартира, два этажа которой соединены лестницей, в рассказе Булгакова располагается отдельно от больницы - Живаго и Флери живут в двухэтажном доме, который одновременно служит госпиталем.
«Не позже чем через полчаса я вдруг проснулся, словно кто-то дёрнул меня, сел и, испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться. Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими. В квартиру стучали. Стук замолк, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-то, скрипя, поднялся по лестнице, тихонько прошёл в кабинет и постучался в спальню.
- Кто там?
- Это я, - ответил мне почтительный шепот, я, Аксинья, сиделка» [Булгаков 2002,1: 62].
Флери рассказывает доктору, что «в буфетной выбито окно обломком липового сука, бившегося о стекло, и на полу огромные лужи, и то же самое в комнате, оставшейся от Лары, море, форменное море, целый океан» [IV: 149] - ср.: «and nothing тоге». И.М. Конева полагает, что выбивание «обломком липового сука» окна «в буфетной», где за неделю до отъезда Лара гладила бельё и прожгла кофточку (вероятно, на груди) и где проходило объяснение с нею доктора, является иносказанием страсти Юрия Живаго к Ларе,
65 Вопрос о связях Пастернака с немецким и английским романтизмом поднимался в работах: [Evans-Romain 1997: 68-69, 190-198; France 1990: 315-325].
254
Глава 3
метафорой дефлорации (разбивание «суком» оконного «стекла») и последовавшей эякуляции («огромные лужи»). Это же относится к комнате Лары, где «форменное море, целый океан». В свете сквозной эротической метафорики, в которую вписывается и ожидание «вымокшей» Лары, и её «водяной знак», оторванная «ставня», о которой говорит своей собеседнице доктор, также являет собой метафорическое последствие дефлорации. Оторванность «ставни» корреспондирует с обломанностью «сука» - ср. с вероятной обрезанностью Пастернака. Вводя эротическую тему, «водяная» образность является здесь также «а device to stop time and the stream of life so as to unite the communication of language and the meaning of existence»66 [Angeloff 1968: 12].
3.5. Прототипы Клинцова-Погоревших и его учителей
Фигура Клинцова-Погоревших не раз привлекала внимание исследователей. Одно из наиболее интересных прочтений принадлежит М.Ф. Роуланд и П. Роуланду, интерпретировавшим «the deaf-mute’s improbable name»67, представляющее уже «in itself a biting caricature»68 следующим образом: «Maxim identifies him as a Maximalist - i.e., a Bolshevik -as well as one who is fond of repeating slogans. His patronymic suggests the Greek astronomer Aristarchus, first to advance the upsetting theory that the earth revolves around the sun. The name Klintsov derives from klin (wedge) or klinok (blade) and carries connotations of both, while Pogorevshikh refers to the pogorevshiye, homeless peasants from burnt-out villages, forced to wander begging in order to survive. The full flavor of this grimly satiric appellation may perhaps be conveyed by the loose rendering: “Bolshevik-puppet, Tuming-the-world-upsidedown, Driving-a-wedge-between-brothers-with-the-sword, and Forcing-refugees-from-bumt-out-villages-to-roam-thecountryside-begging”. As to what will happen to the gentry in Pogorevshikh’s world, we find a wry hint in the name of his dog, Marquis (Markiz), which Yuri at first takes for a floor mop»69 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 91].
66 «Средством остановить время и поток жизни, чтобы объединить языковую коммуникацию и смысл существования» (англ.).
67 «Невероятное имя глухонемого» (англ.).
68 «Само по себе убийственную карикатуру» (англ.).
69 «Максим идентифицирует его как максималиста - то есть большевика, - но равным образом и как того, кому нравится повторять лозунги. Его отчество отсылает к греческому астроному Аристарху, который первым выдвинул опрокидывающую прежние представления теорию о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Фамилия Клинцов происходит от клин или клинок и несёт коннотации обоих, в то время как Погоревших отсылает к погоревшим, бездомным крестьянам из сгоревших деревень, которые, чтобы выжить, вынуждены блуждать, прося подаяние. Весь аромат этого мрачно сатирического имени может быть передан такими сочетаниями, как: “большевистская марионетка, выворачивающий-мир-наизнанку, вбивающий-клин-между-братьев-с-мечом-в-руках и заставляющий-беженцев-из-сгоревших-деревень-бродить-по-стране-попрошайничая”. Что касается того, что случилось с дворянством в мире Погоревших, то тонкий намёк на это мы находим в имени его собаки - Маркиз, которую Юрий сначала принимает за половую тряпку» (англ.).
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
255
Однако такая трактовка представляется недостаточной, поскольку не учитывает многих пластов смыслов, в том числе биографического. Биографически связаны с украинским Полесьем были двое из прототипов охотника Клинцова-Погоревших. Первый -поэт Д.В. Петровский, который, как указывает К.М. Поливанов, в начале 1920 года «жил <...> в селе Дроздовицы Черниговской губернии на Украине» [Письма 1990: 6-9] и помогал Пастернаку продуктовыми посылками, что в голодное время могло восприниматься как явление инфернально-хтоническое (ср. с дарением селезня доктору и восторгом Тони; подробнее о Петровском - ниже). Второй - К.Г. Локс, проводивший летние каникулы в Клинцах - посаде Сурожского уезда Черниговской губернии70. И в Дроздовицах, и в Клинцах говорят на «дремучих диалектах» русского языка. Двойничество Клинцова-Погоревших с Юрием Живаго определялось также и тем, что Погоревших наделён и чертами К.А. Большакова71 и, возможно, М.А. Волошина. Кроме того, как пишет Л.С. Флейшман, в семье Пастернака в 1920-е годы «пренебрежительный термин» «Полесье» «был эвфемистическим синонимом затхлого провинциального еврейства» и употреблялся по отношению к обитателям квартиры № 9 на Волхонке, 14 - Фришманам и Адельсонам, вместе с которыми были вынуждены жить Пастернаки, беспокоившиеся «о том, как оградить ребёнка от искажений языка, свойственного местечковой речи» [Флейшман 2006а: 553].
С поэтом Д.В. Петровским Пастернак дружил в 1910-е и 1920-е годы. С. Витт отмечает влияние, которое оказали на формирование образа леса в «Лесном» стихи Ш. Бодлера, в частности, сонет «Correspondences», а также статьи Вяч. Ив. Иванова «Две стихии в современном символизме» и «О весёлом ремесле и умном веселии». Весной 1914 г. Пастернак читал Петровскому Бодлера и Верлена, и «Лесное», несомненно, ассоциировалось у Пастернака с личностью друга, который подарил ему в память о том чтении томики двух французских поэтов [Витт 2008: 183-184].
С Клинцовым-Погоревших Петровского, помогавшего Пастернаку посылками в трудные времена, сближает внешность и, возможно, интерес к анархизму. Погоревших «был белокурый юноша, наверное, очень высокого роста, судя по его длинным рукам и ногам. Они слишком легко ходили у него на сгибах, как плохо скреплённые составные части складных предметов. <...> Отличительными чертами этой личности были крайняя разговорчивость и подвижность. Неизвестный любил поговорить, причём главным для него было не общение и обмен мыслей, а самая деятельность речи, произнесение слов и издавание звуков» [IV: 157, 161].
А вот как описала Петровского Е.Б. Черняк: «Петровский - неистовый поэт и человек. В гражданскую войну он примыкал к анархистам. Говорили - убил помещика, кажется, своего же дядю. Был долговяз, и создавалось такое впечатление, будто ноги и руки у него некрепко прикреплены к туловищу, как у деревянного паяца, которого дёргают за
70 См. подробно: [Смирнов 1996: 147-148; Локс 1994: 84, 86].
71 О Пастернаке и Большакове см.: [Флейшман 2003а: 430-443; Смирнов 1996: 39].
256
Глава 3
веревочку. Стихи у него были иногда хорошие, но в некотором отношении он был графоман» [Черняк 1990: 51].
О помощи Петровского известно из писем к нему Пастернака. В начале 1920 года Петровский, как указывает К.М. Поливанов, «жил <...> в селе Дроздовицы Черниговской губернии на Украине» [Письма 1990: 6-9]. 6 апреля 1920 г. Пастернак писал: «Пол-Москвы живёт почтовыми посылками из краёв, подобных Вашим. <.. .> Посылайте исподволь продовольствие <.. .>. Красноармейцы имеют право посылать всякие продукты, обыкновенные смертные - одни сухари, но и это тут - величайшее благо» [там же: 6].
Данное противопоставление обильной продуктами Украины и имеющего право посылать их красноармейца - голодной Москве и поэту в романе окажется вывернутым: доктор не хочет брать у своего спутника, который, как и Петровский, вырос на Украине, жирного селезня, хотя в Москве оказывается голодно. Сходны и семейные ситуации Погоревших и Петровского. У родителей Погоревших «в одной из прифронтовых местностей было порядочное имение. Там молодой человек и вырос. Его родители были с дядей всю жизнь на ножах <...>. Сам он по своим убеждениям в дядю <...>- экстремист-максималист во всём: в вопросах жизни, политики и искусства» [IV: 161-162].
В романе Украина и связанное с ней обилие имеет инфернальный, хтонический оттенок. Именно она «поставляет» сначала ленивого денщика Карпенко, затем анархиста Погоревших, конвойного Воронюка, безымянного рыжего матроса-революционера, едущего в том же поезде, что и семья Живаго, на Урал. Именно в голодные 1920-21 годы складывается у Пастернака представление об Украине как о «мире ином», сказочной «стране обилия». Но если тогда оттуда приходили жизненно важные продукты, то в «Докторе Живаго» Украина является «страной мёртвых», из которой, как говорит доктору Лара, «пришла неправда на русскую землю» [IV: 401]. В 1920 г. Пастернак, ещё шутя, писал о «грехе» пребывания в этой «стране мёртвых»: «Был тут Петников. Он тоже, есть грех, из Ламанчи»72. В позднем переосмыслении Петровский, при всей благодарности ему за давнюю помощь, вероятно, представлялся Пастернаку духовным мертвецом, одним из тех, на ком стала держаться «неправда».
Такой же «страной обилия», как Украина, и таким же помощником, как Петровский для Пастернака в 1920-1921 гг., становятся для Юрия Живаго Урал и Самдевятов. Общее у Самдевятова с Петровским - лишь функция сказочного помощника. Отметим ещё одну деталь, связанную с Петровским: «уплотнение» в доме, о котором Тоня рассказывает мужу, приехавшему из Мелюзеева и только что разговаривавшему с Погоревших, является отзвуком «уплотнения» квартиры Пастернаков, о котором поэт писал Петровскому 6 апреля 1920 г. [Письма 1990: 6].
Инфернальность, которой наделяется Украина, объясняется не только переосмыслением Пастернаком в 1950-е значения продуктовых посылок Петровского и его лично-
72 Петников был из Харькова. К.М. Поливанов сообщает, что Пастернак печатался в издававшихся Петниковым в этом городе в 1919 г. журнале «Пути творчества» и альманахе «Сборник нового искусства» [Письма 1990: 7, 8].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
257
сти, но и переосмыслением своего пребывания в Киеве и в Ирпене в начале 1930-х -участия в «пире Платона во время чумы». Если в 1930-х принимал роль участника этого «пира», то в 1950-х отстранялся и от «чумы», и от «пира».
Возможно, в описании разговорчивости Погоревших проявилось негативное отношение позднего Пастернака к стихам Петровского, которые даже в 1935 году поэт воспринимал ещё положительно, что подтверждается записью А.К. Тарасенкова: «Стихи Д. Петровского Б.Л. слушал очень внимательно и с удовольствием. Когда Петровский говорил, что его стихи и он сам, может быть, недостойны внимания собравшихся, то Б.Л. широко заулыбался, начал хлопать и кричать: “Достоин, достоин!..” Во время чтения Б.Л. много и не раз аплодировал. Когда начались прения - ушёл» [Тарасенков 1990: 82].
Стоит сравнить описанную реакцию Пастернака с поведением Погоревших в ответ на согласие Юрия Живаго принять селезня, который «is an ominous gift: an emblem of what they may expect in the new world»73 [Rowland M.E, Rowland P. 1967:92]: «Жене! Жене! В подарок жене, - радостно повторял Погоревших, точно слышал это слово впервые, и стал дергаться всем телом и хохотать так, что выскочивший Маркиз принял участие в его радости» [IV: 164].
Эта эмоциональность персонажа является ещё одной из шаржированных черт самого Пастернака, вдобавок к уже отмеченным И.П. Смирновым, который показал, что, «изображая Клинцова-Погоревших, Пастернак рассчитывался и со своим анархо-футуристическим прошлым» [Смирнов 1996: 146-149]. Любезность Погоревших при расставании контрастирует с поведением Петровского на пленуме правления Союза советских писателей в феврале 1937 г. В длинном выступлении он, как пишет К.М. Поливанов, «связывал последние стихи Пастернака (опубликованные в «Новом мире» в 1936 г.) с «заговором» Зиновьева, Каменева и Бухарина» [Письма 1990: 5].
Необходимо отметить ещё одну интертекстуальную составную образа Клинцова-Погоревших, благодаря которой в этом персонаже конденсируются столь разнородные планы. Обратим внимание на его фигуру, манеру двигаться и на то, сколько внимания в сцене уделяется «ручной азбуке глухонемых».
«Это был белокурый юноша, наверное, очень высокого роста, судя по его длинным рукам и ногам. Они слишком легко ходили у него на сгибах, как плохо скреплённые части складных предметов. <...> Отличительными чертами этой личности были крайняя разговорчивость и подвижность. Неизвестный любил поговорить, причём главным для него было не общение и обмен мыслей, а самая деятельность речи, произнесение слов и издавание звуков. Разговаривая, он как на пружинах подскакивал на диване, оглушительно и беспричинно хохотал, быстро-быстро потирал от удовольствия руки, а когда и этого оказывалось недостаточно для выражения его восторга, бил себя ладонями по коленкам, смеясь до слёз» [IV: 157, 161].
73
«Является зловещим подарком: эмблемой того, что они могут ожидать в новом мире» (англ.)-
258
Глава 3
Клинцов-Погоревших напоминает... журавля, на что указывает и первая часть его фамилии, происходящая не только от словосочетания «клин леса», но и «журавлиный клин». Это сходство, а также знание и умение (но отказ на практике) пользоваться азбукой глухонемых, которую он демонстрирует доктору, отсылают к статье А.В. Амфитеатрова (1862-1938) «Моё масонство», опубликованной в рижской эмигрантской газете «Сегодня» от 6 июля 1930 г. В отличавшейся, по оценке С.П. Мельгунова, «большой развязностью» статье Амфитеатров изложил причины своего вступления в Орден. (Подобной развязностью отмечено поведение Клинцова-Погоревших.) Как сообщает С.П. Карпачёв, в статье Амфитеатрова, которая «неоднократно подвергалась анализу исследователями масонской проблематики»74, «было выделено влияние М.М. Ковалевского (он меня “перемасонил”): стремление к защите Орденом в случае преследования со стороны царского режима за свою общественно-политическую деятельность, романтический интерес, расчёты революционно-политической тактики». Мастер стула Амфитеатров отрицал «необходимость обряда, насмешливо называя его “журавлиными танцами и азбукой для глухонемых”», хотя и считал его в ряде случаев «серьёзно-ответственным» [Карпачёв 2003: 54]. Интертекстуальная отсылка к статье Амфитеатрова может свидетельствовать о знакомстве Пастернака с изданием, в котором она вышла. Со статьей соотносится также излагаемая Клинцовым доктору революционно-политическая тактика: «Это наивно, - говорил Погоревших. - То, что вы зовёте развалом, такое же нормальное явление, как хвалёный ваш и излюбленный порядок. Эти разрушения - закономерная и предварительная часть более широкого созидательного плана. Общество развалилось ещё недостаточно. Надо, чтобы оно распалось до конца, и тогда настоящая революционная власть по частям соберёт его на совершенно других основаниях» [IV: 163].
Однако эта позиция опирается ещё на один, более значительный источник - масонские диалоги Г.Э. Лессинга (1729-1781), имевшего «замысел создать “гуманное” общество на руинах истории, разрушенной в результате деятельности классов и наций» [Мо-рамарко 1990: 231]. На масонство Клинцова-Погоревших указывают и им же объясняются многие детали эпизода поездки Юрия Живаго в «расписанием не предусмотренном поезде». Это сам «таинственный поезд особого назначения»; свеча, которой освещается купе Клинцова, - при том, что «зажжение свечи - открытие новой ложи» [Карпачев 2003: 175]; ученичество у Гартмана (Ф. Хартманна); философия, которая «наполовину состояла из положений анархизма» и, следовательно, была связана с масонством и розенкрейцерством; разрушительно-созидательная революционная фразеология. Показательным выглядит удивление Клинцова тому, что доктор не распознал в нём глухого: «Уловив вопрошающий взгляд Живаго, он воскликнул: - Как? Разве вы ничего не заметили? Я думал, вы догадались о моём недостатке» [IV: 162].
Живаго проявляет неспособность распознавания и ранее, когда в ночной темноте спрашивает попутчика, не закрыть ли окно, и добивается ответа лишь при свете зажжён
74 С.П. Карпачёв ссылается на: Старцев В.И. Масонство в России // За кулисами видимой власти. М., 1984. С. 51-140; Серков А.И. История русского масонства. 1845-1945. СПб., 1997. С. 62-64.
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
259
ной спички. В данном случае автопародийность образа Погоревших и его двойничество с доктором поддерживаются, в частности, скрытой инверсированной автоцитатой из «Лесного»: «Ко мне, что к стёртой анаграмме, / Подносит утро луч в упор» [I: 327]. «В словах “стёртой анаграмме” можно видеть частичную анаграмму “растительного” имени “Пастернак”» [Гаспаров, Поливанов 2005: 52]. Клинцов удивляется неспособности спутника распознать его особенности не только в силу того, что Юрий Живаго врач, который, в принципе, должен диагностировать медицинские проблемы, но и потому, что, по идее, профан не может попасть в «таинственный поезд особого назначения», и раз уж доктор оказался в нём, то он должен знать ландмарки масонства, к которым относятся «все разнообразные способы распознавания».
«Они никогда не меняются и являются не только средствами, с помощью которых один масон может распознать, узнать другого как в темноте, так и при свете, но и сами по себе олицетворяют содержательные и отчётливые, пусть и пока нераспознаваемые формулировки истины. <...> Способы контакта имеют не только внешнюю, экзотерическую, цель, но связаны и с передачей энергии и управлением силами, поэтому то, что акцент делается на экзотерическом аспекте, а не на истинных внутренних значениях, приносит большую пользу человечеству» [Бейли 2004: 72].
В пользу масонства Погоревших свидетельствует, наконец, его соотносимость с Иоанном Богословом, памяти которого предано и под покровительством которого находится голубое масонство. Таким образом, сцена поездки Юрия Живаго с Погоревших рассчитана на масонское распознавание, как, собственно, и весь роман.
Сцена прощания, когда доктор сначала отказывается от преподносимой в дар утки (общее определение птицы), но затем берёт «дикого селезня» (конкретизация) «в подарок жене», содержит скрытую разгадку причины неприятия доктором собеседника. Утка, согласно Р.Л. Джексону, предстаёт символом убитой предреволюционной культуры и отсылает к концовке пьесы «Дикая утка» Ибсена [Jackson 1963], в которой, как заметил И.П. Смирнов, «взрослые, собравшиеся в доме, слышат выстрел и думают, что идет охота на уток; этим выстрелом, однако, обрывает свою жизнь четырнадцатилетняя девочка» (ср.: во время самоубийства Стрельникова Юрию Живаго, находящемуся в доме, кажется, что выстрел снаружи произведён по волкам).
«Если пьеса и в самом деле входит в пресуппозицию “Доктора Живаго”, тогда Погоревших, стреляющий уток, косвенно наследует тем персонажам Достоевского (Свидригайлов, Ставрогин и пр.), которые несут ответственность за страдание детей (ср. у Ибсена эквивалентность “дикая утка” = девочка). Подчеркнём, что роман завершается темой страдания детей в годы революции. <.. .> По Пастернаку, революционное насилие имеет своим оправданием те мучения девочки-подростка, о которых повествует история Лары и её соблазнителя Комаровского. В то же время революция не освобождает детей от страдания: дочь Лары попадает в иную, но столь же трагичную ситуацию, что и её мать» [Смирнов 1995:154-155].
Но отказ и согласие доктора, скрыто предваряющие, таким образом, его принятие в недалёком будущем революции и отторжение от неё, интертекстуально соотносятся и с
260
Глава 3
«Закатом Европы» О. Шпенглера. Характеризуя противопоставленность «мира как свершения» и «мира как истории», немецкий мыслитель приводит пример вторжения одной картины мира в другую: «Мы воспринимаем “кусок дичи” как одушевлённое существо и сразу же вслед за этим как продукт питания» [Шпенглер, I: 314]. Отказываясь отубм-той утки, Живаго отказывается от приятия мира Погоревших как «мира свершения», а принимая этот «продукт питания» «в подарок жене», выражает тем самым свою приверженность к принятию «мира как истории». Тоня, кстати, и воспринимает привезённое как «продукт питания» (и даже больше - находит ему выражение в денежном эквиваленте), последовательно переходя от обобщённого определения его как птицы к узнаванию в нём утки и, наконец, селезня: «Что это у тебя из свёртка высовывается? Птичий клюв, голова утиная. Какая красота! Дикий селезень! Откуда? Глазам своим не верю! По нынешним временам это целое состояние!» [IV: 169].
Согласие доктора взять селезня для жены обладает направленностью, свойственной «миру как истории», и передача подарка станет частью направленной истории последнего, а также частью истории, произошедшей с Живаго. Шпенглеровское противопоставление двух картин мира всякий раз оказывается в основании отношений двух сталкивающихся в «Докторе Живаго» героев (Погоревших и Живаго; Антипова-Стрельникова и Живаго; Ливерия и Живаго), каждый из которых являет собой одно из «предельно крайних двух начал»: «Мир как свершение <.. .> отличается от мира как истории <...>. К первому устремлён испытующий взор деятельного человека, государственного мужа и полководца, ко второму - созерцательный взор историка и поэта. В первый вторгаются практически, страдая и действуя; второй подчинён хронологии как великому символу непреложно минувшего» [Шпенглер, I: 314].
В пользу предположения о том, что одним из прототипов Погоревших был М.А. Волошин, говорит то, что Пастернак устранил внешнюю узнаваемость последнего в персонаже, но в то же время сохранил её, наделив героя именем поэта - Максим, которое представляет «детский», «домашний» и русифицированный вариант «римского императорского» имени Максимилиан и имени одного из вождей Великой французской революции Максимилиана Робеспьера. Последняя связь дополняется тем, что «squealing pronunciation of the vovel u in the French manner»75 Погоревших является «evocation of French Revolution»76 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 89]. Перед тем как спутник доктора дарит ему селезня, тот видит подмосковный пейзаж: «Отлогая поляна широким бугром уходила вдаль, подымаясь из оврага. <...> Против поляны за хвостом идущего поезда вполнеба стояла огромная черно-лиловая туча. Из-за неё выбивались лучи солнца, расходясь колесом во все стороны» [IV: 164]. То, что видит Живаго, напоминает акварели Волошина. И может быть описанием того, что было изображено на акварели, подаренной поэтом Пастернаку и утраченной последним во время войны. Обращает на себя
75 «Подвывающее произношение гласной ‘и’ на французский манер» (англ.).
76 «Воскрешением Французской революции» (англ.).
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
261
внимание и последовательность: сначала доктор видит пейзаж, затем получает в дар селезня - Пастернак получил в дар акварель, затем утратил её (скорее всего, пейзаж).
На Волошина как прототипа указывают и два последующих появления Погоревших в романе. Сначала - когда безымянная женщина, выменивающая у Тони полотенце на ползайца, упоминает о своём муже-охотнике. Во второй раз шансы узнать Клинцова-Погоревших в безымянном «квартирохозяине», которому Юрий Живаго и Марина пилят и носят дрова (делают «человеческую», но, вероятно, по мнению «квартирохозяина», «низкую» работу), тоже невелики, но всё же есть. В сказках способность превращаться в животных - признак принадлежности «иному миру», и «квартирохозяин» как животное не удостаивает «пильщика и пилыцицу даже взглядом. <.. .> “К чему эта свинья так прикована? - полюбопытствовал доктор. - Что размечает он карандашом так яростно?” <...>» [IV: 477]. Именование «квартирохозяина» «свиньёй» отсылает к притче из Евангелия от Луки о бесах, вселившихся в стадо свиней (Лк. VIII, 32-35), которую в качестве эпиграфа к роману «Бесы» использовал Ф.М. Достоевский. Данный случай одновременной скрытой отсылки к Евангелию и «Бесам» - ещё одно подтверждение версии К.Ю. Постоутенко и И.П. Смирнова о том, что Пастернак был знаком со стихотворением М.А. Волошина «Русь глухонемая» (1918) [Смирнов 1996:142]. «Квартирохозяин»-«сви-нья», представляющий «стоявших близко к правительству людей науки и искусства», напоминает «духа глухонемого» из стихотворения Волошина, тем более что книжку Юрия Живаго он читает молча и как бы не слыша входящих «пильщика и пилыцицы» [IV: 477]. Доктор ведёт себя противоположно тому, как в «Руси глухонемой» ведёт себя Христос, изгоняющий «духа глухонемого» из «отрока бесноватого». Добавим, что строчки
<...> Бес,
Украв твой разум и свободу, Тебя кидает в огнь и в воду, О камни бьёт и гонит в лес [Волошин 1995: 221]
аллегорически соответствуют испытаниям, которые прошёл Юрий Живаго. К тому же, умирая при выходе из трамвая, доктор падает на камни. Та же евангельская притча с оглядкой на Достоевского использована Волошиным в стихотворении «Петроград (1917)» (1917), также содержащем мотив биения о камни. Действия «квартирохозяина»-«свиньи» («размечает карандашом так яростно»), за которыми доктор наблюдает, «обходя с дровами письменный стол», инверсированно соотносятся с ещё одним стихотворением Волошина - «Демоны глухонемые» (1917), в частности с первой строфой:
Они проходят по земле, Слепые и глухонемые, И чертят знаки огневые В распахивающейся мгле [Волошин 1995: 220].
262
Глава 3
Несомненной представляется связь отмеченных стихотворений Волошина с «демонами глухонемыми» из стихотворения Ф.И. Тютчева «Ночное небо так угрюмо». Ассоциирование спутника Юрия Живаго с тютчевским образом глухонемого, замеченное И.П. Смирновым [1996: 142], подкрепляется «распространением» всего стихотворения на мизансцену троекратного зажигания доктором спичек в темноте купе.
Вероятнее всего, «квартирохозяином» является именно «глухонемой» Клинцов-Погоревших, который стал советским «человеком науки и искусства». Связь его прототипа - Д. Петровского - с Украиной, «стратегическим продуктом» которой является пресловутое сало, объясняет именование «квартирохозяина» «свиньей». Персонаж романа («стратег» революции) метафорически превращён в то, что являлось ценностью для его прототипа. С учётом текстов Достоевского и Волошина, можно сделать вывод, что именно в таких «свиней» вселились бесы из евангельской притчи, именно их имели в виду Достоевский и Волошин. Украина с ее культом сала предстаёт местом, откуда распространяется зараза бесовщины. «Квартирохозяин» сидит неподвижно, и по движениям читатель не может опознать в нём бывшего спутника Юрия Живаго. Выдаёт же его яростное несогласие с мыслями доктора, которое представляет собой отражение «невозмутимого тона оракула» и «авторитетного спокойствия, с каким цедил свои предсказания» в поезде Клинцов-Погоревших [IV: 163]. Так же сходно и в то же время значимо различно и поведение Живаго в поезде и в квартире. Обозначена и связь с животным: если Клинцов-Погоревших дарит попутчику дикого селезня, то «квартирохозяин» представляет собой домашнюю «свинью», разбирающую бисер духовных даров Юрия Живаго.
Закамуфлированную тему романа об украинском происхождении советской власти, представляющей собой бесовщину, которая проявляется по-свински, может подкрепить, в частности, стихотворение «Культ личности забрызган грязью» (1956), поводом к написанию которого было самоубийство А.А. Фадеева. Главной физиономией в газетах была принадлежащая выходцу из Украины первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущёву, которого обычно окружали соратники с соответствующим обличьем и нравами. Если в романе отношение Юрия Живаго к советскому свинству не описывается подробно, то в этом стихотворении, которое Пастернак не включал в сборники, авторский голос звучит очень эмоционально:
И каждый день приносит тупо, Так что и вправду невтерпёж, Фотографические группы77 Одних свиноподобных рож [II: 280].
В обоих случаях - и в романе, и в стихотворении - Пастернак внешне «снимает» национальную тему из-за её щепетильности, но в подтексте она остаётся.
Значим также контраст чрезвычайной подвижности Клинцова-Погоревших и стату-арности «прикованного» к чтению «квартирохозяина». Если первый был «голосом» леса,
77 Об отношении Пастернака к фотографии см.: [Буров 20086].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
263
то второй неподвижен, как бревно, и пользуется дровами, напиленными доктором и Мариной. Так вновь в «Докторе Живаго» обыгрывается «Лесное». То, что доктор воспринимает «квартирохозяина» сквозь призму стихов Волошина, который был масоном, позволяет говорить о масонстве Юрия Живаго. В восприятии доктора с внешностью Волошина (а также Бальмонта) имеет сходство внешность Самдевятова. В Барыкине Живаго записывает свои мысли о Самдевятове, который своим поведением напоминает Волошина в послереволюционные времена. Любопытно, что Самдевятов, в частности, «разбирает и толкует “Бесов” Достоевского и Коммунистический Манифест одинаково увлекательно» [IV: 277-278] - тексты, из которых, по крайней мере, первый привлекал пристальное внимание Волошина, обозначавшего свою позицию «над схваткой». Так можно объяснить «загадочную природу» Самдевятова - «этого советского хозяйственника, так до конца и не раскрываемую в романе» [Щеглов 1998: 192]. Рассказ Самдевятова доктору об отце и сыне Микулицыных и внимание к «Бесам» намекают на возможность прочтения Микулицына и Ливерия как отца и сына Верховенских из «Бесов»78. Когда Живаго сталкивается в поезде с Клинцовым-Погоревших, рассказчик отмечает: «Опять запахло Петенькой Верховенским, не в смысле левизны, а в смысле испорченности и пустозвонства» [IV: 162]. «Опять» отсылает к предыдущему «воплощению» П. Верховенского - комиссару Гинцу. Тема «отцов и детей» из «Бесов» неоднократно появляется в «Докторе Живаго» в почти неузнаваемо преобразованном виде и создаёт внутреннюю связь между далеко разнесёнными персонажами. Динамика этого появления определяется наследованием от отца к сыну всё более негативных, «бесовских» черт и признаков.
Поскольку книжки, которые доктор писал по возвращении в Москву, «содержали философию Юрия Андреевича» [IV: 472], то рьяно читающий их «квартирохозяин-свинья» выдаёт в себе философа. Этот факт, а также животность заматеревшего Клинцова-Погоревших и указание на то, что Живаго - философ, позволяют расшифровать философию его оппонента. Ключом к расшифровке являются два фрагмента П.Я. Чаадаева, вошедшие в «Отрывки и разные мысли» - № 100 и 101: «100. Человек родится так же, как и другие животные; он отличается от них только организацией, свойственной ему одному и благодаря которой он составляет особый вид в животном царстве. Это, конечно, ещё не человек разумный, т. е. человек образованный - особое существо, которому нет места в природе. Когда пишут трактаты о человеческом разумении, стараются объяснить себе, как человек-животное становится существом разумным. Здесь заблуждение и неясность. Человек-животное становится человеком разумным - это так, но не по необходимости, а случайно. 101. Гипотеза о человеке-животном - говорю: гипотеза, ибо такого человека никто никогда не видел, ибо он, родившись среди себе подобных, ни минуты не может оставаться таким, каким явился на свет, - гипотеза эта, повторяю, очень полезна для научной патологии и для философической гигиены. Но что делать с ней философии в настоящем смысле слова? Когда философия этим занимается, то из фило-
78 Подробно эти параллели исследованы в работе: [Masing-Delic 1979].
264
Глава 3
Софии человека она превращается в философию животного и становится уже тем отделом естественной истории, который изучает нравы животных, главой о человеке в зоологии» [Чаадаев 1991,1: 468].
Проекция этих текстов на рассматриваемую ситуацию позволяет говорить, что Живаго видит перед собой не гипотетического человека-животное, о котором писал Чаадаев, а настоящего. «Квартирохозяин», теряя человеческий облик, движется в обратном направлении - к животному. И становится им по советской необходимости. Его стату-арность - это неподвижность свинства советской «философии». Получается, доктор в своих книжках занимается «научной патологией и философской гигиеной», что, естественно, не нравится его молчаливому (как животное) критику. Масонская мораль физического и духовного труда доктора противостоит квазимасонской морали труда «квартирохозяина».
Среди «Отрывков и разных мыслей» Чаадаева есть ещё одна запись (№ 216), которая, будь она включена в «Доктор Живаго», вполне могла бы стать внутренним монологом доктора по поводу поведения и внешности «квартирохозяина»: «Этот человек был бы терпим, если бы он согласился чего-нибудь не знать; но нет, ему нужно знать всё-всё. Одной очень простой вещи он, однако, не знает, а именно: что, если на беду человек обладает внешностью гиппопотама, он должен быть скромным или же гениальным» [там же: 506]. Комментаторы замечают: «О ком идёт здесь речь - неизвестно, но можно предположить, что этот самый “известный всем человек”, о портрете которого рассказал М.И. Жихарев в качестве примера острой наблюдательности Чаадаева. “У меня в комнате, - пишет М.И. Жихарев, - висел портрет очень известного всем входившим в комнату человека. Этот портрет видело очень много людей и у меня, и в некоторых других местах, и никогда про него никто ничего не говорил. Как увидел его Чаадаев, немедленно в нём указал очень нелестное сходство с одним не совсем благородным животным, в чём прежде видевшие, безо всякого прекословия, потом и согласились”» [там же: 736].
Отметим, что квартирохозяин в «Докторе Живаго» сидит неподвижно, как, разумеется, неподвижно и изображение на портрете. Широкая известность изображённого на портрете человека могла ассоциироваться у Пастернака с ещё большей известностью советских вождей, портреты которых висели везде и всюду, особенно Ленина и Сталина, а в годы, когда писалось окончание романа, - Хрущёва, на облик которого намекает вышеприведённая строфа стихотворения «Культ личности забрызган грязью». Если у Сталина было прозвище «хозяин», то Хрущев, занявший его место и позже занявшийся массовым строительством жилья для населения, вполне мог быть назван «квартирохозяином». Если в период написания романа Пастернак не знал об этих планах нового лидера, то такое намекающее на Хрущёва определение вполне может относиться к оценке статусов двух правителей и выглядит предвидением. «Квартирохозяина» интересуют книжечки доктора «по самым различным вопросам» - современнику Чаадаева также нужно было «знать всё-всё». Реакция Живаго на такую всеядность советских деятелей,
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
265
оказывавшуюся, как правило, профанацией и дилетантизмом, судя по нелестному эпитету, также полностью адекватна реакции Чаадаева.
Фигуру Клинцова-Погоревших во многом объясняют не только личности, которые были его прототипами, но упомянутые повествователем учителя «глухонемого». В комментарии к немецкому изданию романа Пастернака79 и расширенных выдержках из комментария к нему, опубликованных в стэнфордском сборнике «В кругу Живаго», Р. фон Майдель и М. Безродный указали, что прототипами Гартмана и Остроградского - учителей глухонемого Клинцова-Погоревших, с которым Юрий Живаго беседует в 1917 г. в вагоне поезда по пути из Мелюзеева в Москву, были Александр Фёдорович Остроградский (1853-1907) - «известный директор училища глухонемых в конце XIX - начале XX в.», а также марбургский учитель Пастернака, философ Н. Гартман (Гартманн) и «профессор Артур Гартман (Arthur Hartmann, 1849-1931), выдающийся отоларинголог, с 1877 г. выступавший в печати также по проблемам глухонемоты» [Майдель, Безродный 2000: 236]. Прототипичность А.Ф. Остроградского и Н. Гартманна отметил также И.П. Смирнов [1996: 147].
Профанирование христианства Клинцовым-Погоревших определяется не только его революционностью, достоевщиной и футуристичностью, но и тем, что ему преподали его учителя: «Погоревших был феноменально способным воспитанником школы Гартмана или Остроградского» [IV: 162]. В одной из работ мы уже отмечали связь Клинцова-Погоревших с «Ягой»-Устиньей [Буров 2007в]. Поскольку двойником последней была француженка мадемуазель Флери, то её функции сказочной «Яги», тождественные функциям «колдуна», позволяют предположить, что её нахождение в мелюзеевском госпитале связано не только с явно обозначенной повествователем её ролью воспитательницы графининых дочерей, но и каким-то образом - с лечением. Ответ на вопрос, кого же она может лечить, дает её фамилия. Мадемуазель состоит, так сказать, в интертекстуальном родстве с сурдопедагогом Виктором Ивановичем Флери (1800-1856), который, по данным Всемирного биографического энциклопедического словаря, был автором первых трудов по сурдопедагогике в России и осуществил первый опыт подсчёта количества глухих в стране. В своих работах он доказывал возможность и эффективность раннего обучения глухих с использованием мимики и различных форм речи (устной, дактиль-ной, письменной). Всеми перечисленными формами речи владеет Клинцов-Погоревших, показывающий Юрию Живаго «ручную азбуку глухонемых» и разговаривающий с ним «не по слуху, а на глаз» [IV: 162]. Возможно, именно учёбой по методике В.И. Флери объясняется альтернативность указания на главу школы - «Гартмана или Остроградского». Так утаиваются сказочные функции Флери как «Яги» и расширяется круг «учителей» Клинцова-Погревших. Последнее происходит также за счёт «сдвигов», выявляющихся при идентификации прототипов этого персонажа. Менее вероятным представляется аналогичное «родство» мадемуазель Флери с ярым антихристианином бельгийским
79 Pasternak В. Doktor Shiwago. Ubers, von Th. Reschke. Dusseldorf; Zurich: Artemis & Winkler, 1997.
266
Глава 3
масоном Флери. Пастернак мог знать о нём из «Послания о масонстве» от 15/28 августа 1932 г. председателя архиерейского собора Русской православной церкви за границей митрополита Антония, который отмечал, в частности: «В 1881 г. бельгийский масон Флери писал: “Долой распятого! Ты, который вот уже 18 веков держишь мир под твоим ярмом! Твое царство кончено! Не нужен бог!”» (цит. по: [Брачев 20076: 79]).
Марбургский философ Н. Гартман, к которому обращён нелицеприятный акростих Пастернака «Гляди - он доктор философии», предстаёт в романе в позиции главы школы. Кстати, не в противовес ли ему Пастернак «сделал» доктором своего героя, у «научной мысли и музы» которого после его смерти нашлось большое «количество неизвестных друзей» [IV: 490]? Но ведь признанным главой неокантианской философской школы в Марбурге был Г. Коген80. Интертекстуальное «родство» Погоревших с Когеном выдаёт способность первого разговаривать лишь при свете, причём Живаго и его собеседник находятся в движущемся поезде. Эта особенность Погоревших значимо контрастирует со способностью Когена (описанной в «Охранной грамоте») разговаривать не во время ходьбы, а только при остановках, на что обратил внимание Л.С. Флейшман. Погоревших для беседы нуждается в том, чтобы видеть, Коген - чтобы стоять. В «Охранной грамоте» «автор и Коген объединены в “ходьбе”. Но в этом диалоге автора и Когена по законам “искусства” ведёт себя “автор”, а Коген (в отличие от него) на ходу молчит и роняет слова только при остановках» [Флейшман 2003а: 269].
Подобно подмене Когена Гартманом за названным Остроградским может стоять не названный В.И. Флери. Однако, указывая на Гартмана как на учителя Погоревших, Пастернак намекал не только на философа Н. Гартмана, в котором, «поначалу очарованный высокой эрудицией профессора, Пастернак через неделю увидел <.. .> “обидчивого и подозрительного человека” (письмо отцу 22 июня 1912)» [II: 476], и А. Гартмана, но и на их однофамильцев. Пастернак мог иметь в виду известного немецкого врача, писателя, путешественника и теософа, основателя ордена эзотерического розенкрейцерства Франца Хартманна (1838-1912), внимание к работам которого у него могло проявиться наряду с интересом к теософии и трудам Е.П. Блаватской. Не претендуя на анализ влияния творчества Хартманна на Пастернака, отметим лишь, что биография врача, поэта и тайновидца Юрия Живаго, профанным двойником которого выступает Клинцов-Погоревших, обнаруживает много параллелей с биографией этого видного оккультиста. Возможно, образ Живаго создан с учётом немецкой этимологии фамилии Хартманна (hart - твердый, суровый, непреклонный; Mann - мужчина, человек). Мы отметим лишь некоторые факты из жизни Хартманна, почерпнув их из статьи Б.М. Цыркова (см.: Теософия в России), с которыми довольно близко соотносятся соответствующие факты из жизни героя Пастернака.
В юности Хартманн «пытался сочинять стихи и даже написал пьесу для театра» -Юрий Живаго начинает сочинять стихи во время учёбы в университете и делает это до
80 О негативных впечатлениях Пастернака от Н. Гартмана и их причинах, а также о пересмотре последним когеновского учения см.: [Fleishman, Harder, Dorzweiler 1996,1: 83-86].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
267
конца жизни. Хартманн «по окончании учёбы устроился работать помощником аптекаря. Однако вскоре обнаружил, что лекарственные препараты, которые он продаёт, зачастую приносят пациентам больше вреда, чем пользы, и, разочарованный, ушёл с работы. Сменив ещё несколько занятий, он записался в возрасте 21 года добровольцем в 1-й Артиллерийский Баварский полк (Мюнхен); принял участие в войне 1859 г. между Австрией и Италией» (Теософия в России).
Заметим, что Живаго после окончания университета работает в больнице и почти в том же возрасте, что и Хартманн (в 1914 г. доктору, родившемуся в 1892-м, было 22 года), призывается в армию и отправляется на войну. Эти факты в биографии доктора соотносятся и с дальнейшими событиями в жизни Хартманна. «После заключения мира Франц начал изучать медицину в Мюнхенском университете; в 1862 г. успешно сдал экзамены на государственного фармацевта и продолжил обучение, в 1865 г. получил учёные степени - доктор медицины и магистр фармакологии» и отправился в Америку. В 1867-м он «принял американское гражданство и вскоре приобрёл хорошо оплачиваемую практику, в основном - по глазным болезням» (Теософия в России). Ср. это с тем, что Живаго «кончал по общей терапии» и ко времени завершения учёбы знал глаз «с доскональностью будущего окулиста» [IV: 80].
Хартманна, который прекрасно адаптировался во всех многочисленных социальных и религиозных средах, в которые попадал, обуревала страсть к путешествиям. Вынужденные перемещения Живаго в какой-то степени напоминают о многочисленных путешествиях Хартманна. Можно увидеть сходство в поездке Живаго с семьёй в Варыкино, его занятиями и лечебной практикой, а затем попаданием в плен к партизанам и жизни в лесу с тем, что в 1873 г. Хартманн уехал «в Техас и за пять лет пережил немало приключений, оказывая помощь людям самого разного рода и звания в самых разных, порою весьма экзотических местах. Он купил участок земли и женился, но уже спустя семь месяцев овдовел. Будучи в Колорадо, он провёл множество любопытных спиритических экспериментов и даже смог исцелиться от давнего недуга, вызванного неудачной вакцинацией в раннем детстве. Став свидетелем нескольких поистине удивительных феноменов, Хартманн окончательно освободился от своего материалистического скептицизма» (Теософия в России).
После прочтения книги А.П. Синнетта «Оккультный Мир» и переписки с полковником Генри С. Олькоттом Хартманн в 1882 г. вступил в Теософическое Общество. За чтением трудов Е.П. Блаватской последовала поездка в Японию, Китай, а затем в Индию. В Адьяре, где «Е.П. Блаватская приветствовала его «в моём [его] будущем доме», перед Хартманном открылась новая, гораздо более содержательная жизненная перспектива. В Адьяре он пробыл до 31 марта 1885 г., после чего отплыл в Европу вместе с Е.П. Блаватской, мисс Мери Флинн и Боваджи» (Теософия в России).
Отметим, что одним из прототипов Кубарихи, оказавшей решающее влияние на Живаго, была Блаватская. От партизан доктор возвращается в Юрятин, затем в Москву. В Юрятине он, в частности, читает «общую патологию и несколько необязательных
268
Глава 3
предметов» на «ускоренных медико-хирургических курсах имени Розы Люксембург» [IV: 403], а в Москве издаёт «маленькие книжки в один лист по самым различным вопросам» [IV: 471]. Ср. эти сведения с тем, что в 1888 г. Хартманн «уехал в США, где некоторое время читал лекции, посетив в марте-апреле того же года Нью-Йорк, Филадельфию и другие города, после чего вернулся к себе на родину. В 1893 году Хартманн взялся за издание немецкого теософического ежемесячного журнала под названием “Lotus-bluthen”. Журнал издавался на протяжении восьми лет (1893-1900 гг., шестнадцать томов), после чего возобновлялся под новым названием - “Neue Lotusbluthen” (1908— 1912 гг., пять томов)» (Теософия в России).
Таким образом, доктор Живаго оказывается автором множества книг и статей, как и доктор Хартманн. Заметим попутно, что «маленькие книжки» Юрия Андреевича напоминают главки большой книги князя С.М. Волконского «Быт и бытие» (1924), а по широте тематики также труды П.А. Флоренского. События жизни Юрия Живаго, его поведение, занятия (особенно врачебные) и книги, названия которых читателю не сообщаются, в свете трудов Хартманна приобретают оккультный смысл, и задачей читателя становится расшифровка их подлинных значений.
Первой книгой Хартманна «по оккультизму была «Магия, Чёрная и Белая» («Magic, White and Black»), второй - «Жизнь Парацельса и сущность его учений» («The Life of Paracelsus and the Substance of his Teachings»). За нею последовало «Приключение среди розенкрейцеров», прорецензированное самой Е.П. Блаватской на страницах «Lucifer». После этого из-под пера Хартманна выходит одна из самых замечательных его работ -«Тайные символы розенкрейцеров XVI и XVII столетий» (это издание называют иногда «Космология, или Универсальная наука», поскольку именно эти слова стоят в начале полного названия книги) - английский перевод очень редкого трактата германских розенкрейцеров, существующий отчасти в печатной форме, отчасти - в виде уникальной рукописи. В нём собраны символы духовной структуры Вселенной. Следующей опубликованной работой стала «Жизнь Иеошуа, Пророка из Назарета», описывающая психические и духовные процессы, происходящие в каждом, кто следует по пути посвящения. Вскоре после этого вышли в свет «Принципы астрологической геомантии» и «В Пронаосе Храма Мудрости». За ними последовала «Жизнь и учения Якоба Бёме». В книге «Оккультная наука в медицине» автор стремится привлечь внимание тех, кто избрал для себя профессию медика, к высшим аспектам медицинской науки и к позабытым оккультным ценностям прошлого, опираясь в своих выводах на авторитет Парацельса. Эта маленькая книга имеет выдающуюся ценность, в особенности для тех, кто призван помогать людям и исцелять их. «Среди гномов» - сатира на тех, кто отрицает всё «сверхъестественное». «Погребённые заживо» - книга о преждевременных захоронениях и о способах их избежать» (Теософия в России). Хартманн занимался также корректурой немецкого перевода «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской, выполненного Робертом Фрёбе, и написал вступительную статью. Стоит упомянуть и его брошюру «Символы розенкрейцерства».
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
269
Учёба мелюзеевского уроженца Клинцова-Погоревших у Гартмана, за именем которого маячит Франц Хартманн, указывает на оккультную атмосферу Мелюзеева. Ниже мы отметим алхимические аллюзии, которые вызывает этот топоним.
Перевод с немецкого фамилии Хартманна вызывает ассоциации с другим «умом» противоположного Хартманну позитивистского склада - поэтом К.К. Случевским (1837— 1904), который в 1865 г. получил в Гейдельбергском университете степень доктора философии. По свидетельству С.К. Маковского, вспоминавшего старшего современника в книге «На Парнасе “Серебряного века”» (1962), Случевский «сам <.. .> где-то называет свой ум “несокрушимым”» [Маковский 2000: 308]. Осенью 1917-го (перед октябрьской революцией) Живаго около часа беседует дома о Гегеле и Бенедетто Кроче с рекомендованным ему печником - доктором философии Гейдельбергского университета. Являя собой иллюстрацию к известной басне И.А. Крылова «Щука и Кот» (1813), занятие почтенного философа намекает в то же время на широкие познания Случевского «в области позитивных наук» [там же: 307-308]. Другими прототипами доктора философии могут быть топивший печь А. Блок, который, по свидетельству мемуаристки, «говаривал, что “работа везде одна - что печку сложить, что стихи написать”» [Книпович 1987: 6], и сам Пастернак, любившим топить печь. Жизнь и творчество Юрия Живаго обнаруживают много общих черт с биографией и творчеством Случевского. Представление о том, как Пастернак ценил этого поэта, может дать его разговор с сыном, состоявшийся после войны (см.: [Пастернак Е. 1991: 232-233]). Влияние Случевского на Пастернака, как и значение разговора доктора с безымянным профессором об актуальных для них в 1917 году философах, могли бы стать предметами отдельных работ.
Не случайно и точное указание на университет, где преподавал профессор. Оно отсылает к цитадели розенкрейцерства, с разгрома которой в начале 1920-х годов XVII века началась Тридцатилетняя война. Новая профессия доктора философии свидетельствует о нем как о духовном наследнике розенкрейцеров и масоне. Строительство печей, а не храмов в данном случае указывает на всё большую ориентацию на древность: «В средние века масоны были строителями сводов, которые на латыни назывались “fornix”, а на французском “four”: сначала слово “four”, или “фриз” (frise), применялось для обозначения того плоского камня, который мы сейчас называем архитравом и который соединяет два пилона или две колонны, напоминая тот камень, на котором поджаривались (frire) лепешки» [д’Орсе 2006: 53].
Под именем Гартмана в «Докторе Живаго» может подразумеваться также философ Эдуард фон Гартман, автор теории всеодушевлённости (панпсихизма) и бессознательного («Философия бессознательного», 1869), которого подвергал критике Ф. Ницше в работе «О пользе и неудобствах истории для жизни» - второй части «Несвоевременных размышлений». С философией Гартмана Пастернак познакомился в университетские годы [Fleishman 1990: 30]. Он мог читать указанную книгу Гартмана и читал работу Ницше на немецком (по-видимому, задолго до создания романа), о чём писал П.П. Сув-чинскому 26 сентября 1959 г. [Переписка с Сувчинским 1994: 279].
270
Глава 3
Ещё одним прототипом, чья деятельность оказывалась отмеченной на фоне глухонемоты Клинцова-Погоревших, мог быть Фома Александрович Гартман (1885-1956), который стал известен в 1907 г. благодаря своей музыке к балету «Аленький цветочек», поставленному Н. Легатом в Мариинском театре. Другими поводами, которые могли привлечь внимание профессионально занимавшегося музыкой Пастернака81 к личности Ф.А. Гартмана, могли стать музыка последнего к опере «Жёлтый звук» (1912), задуманной В. Кандинским, и опубликованная в журнале «Синий всадник» (был основан в 1911 г. в Мюнхене) статья «Об анархии в музыке». На фоне увлечения Пастернака футуризмом и пристального внимания к анархизму такое предположение не кажется неоправданным.
Наконец, имя Гартмана может отсылать к соратнику С.М. Степняк-Кравчинского и Н.А. Морозова по «Народной воле» Льву Николаевичу Гартману, неудачно пытавшемуся 19 ноября 1879 г. взорвать поезд, в котором ехал в Москву с юга император Александр II с семьей. Покушение было устроено под Москвой на Московско-Курской железной дороге. Гартман и С.Л. Перовская скрылись от преследований полиции в Весье-гонск, потом Гартман бежал на Запад. Обратим внимание на то, что Живаго едет с учеником Гартмана Клинцовым-Погоревших в Москву в «каком-то <...> расписанием не предусмотренном поезде»: «Таинственный поезд был особого назначения и шёл довольно быстро, с короткими остановками, под какой-то охраной» [IV: 157]. Многочисленные указания повествователя на неизвестность и таинственность сигнализируют о наличии интертекста. Революционный экстремизм собеседника доктора выдаёт в нём ученика террориста Гартмана, а известность последнего в связи с покушением на императора интертекстуально «объясняет» специфику поезда. Поскольку действие относится к 1917 году, то поезд, в который попадает доктор, может соотноситься с поездом Николая II, уже описывавшимся Пастернаком в «Высокой болезни», а также с поездом, в котором тайно приехал в Россию Ленин.
У состава, в который сел Живаго, были ещё два прототипа. Первый - поезд, в котором Пастернак в 1912 г. возвращался после проводов сестёр Высоцких из Берлина в Марбург. Поездка была описана в «Охранной грамоте». Одним из пассажиров, ехавших рядом с ним, был «чиновник лесного департамента с ягдташем через плечо и ружьём на дне вещевой сетки» [III: 182]. Клинцов-Погоревших был с собакой, как и тот лесник. Второй - поезд, в котором 28 сентября 1926 г. возвращались из Германии Евгения Владимировна Пастернак и Женя. Как сообщает Е.Б. Пастернак, отец «выехал к ним навстречу в Можайск, и до Москвы они ехали вместе» [ПРС 2004: 322]. Пастернак писал родителям и сёстрам 4 октября 1926 г.: «Я очень много испытал и пережил, когда на переломе дня, начавшегося с шести часов утра и на первую половину проведённого в дрянном вагоне Можайского поезда, вошёл в сказочно чистый, тёплый и комфортабельный “международный”. Не стану описывать чувств, волнообразной сменой прокатывав-
81 Подробно о значении музыки в жизни и творчестве Пастернака см.: [Кац 1990].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
271
шихся в это холодное осеннее утро за потным окном безукоризненного купе, кругом наглухо обложенного небрежной поэзией Общества спальных вагонов» [там же: 323].
Теперь вновь обратим внимание на мадемуазель Флери, которая «хозяйничает» в госпитале с давних времен и оказывается, таким образом, если не учителем Клинцова-Погоревших, то, по крайней мере, свидетелем того, как его учил и лечил ее интертекстуальный «отец» В.И. Флери. Мадемуазель и сама представляет собой загадку. Кроме того, что её можно рассматривать в качестве «дочери» упомянутого сурдопедагога, Флери соотносится с ним и в роли зеркального двойника: меняется пол; сохраняется возраст; исправление дикции, которым был занят Флери, меняется на невнятное бормотание, глотание окончаний слов ломаной русской речи.
Кроме В.И. Флери, прототипом француженки была гувернантка Иды Высоцкой. Об отношениях с Идой и о «старухе француженке, не чаявшей в ней души», Пастернак писал в «Охранной грамоте» [III: 176]. Образ Иды и воспоминания об отношениях с ней занимали Пастернака в конце 1920-х - начале 1930-х годов82. По свидетельству Е.Б. Пастернака, «Ида считала, что в мадемуазель Флери из “Доктора Живаго” отразились многие черты её гувернантки, которая была родом из Швейцарии» [Пастернак Е. 1997: 88-89]. «Француженкой» Флери предстаёт в Мелюзееве, а «швейцарской подданной» - в Москве, когда обгоняет умершего Живаго [IV: 489]. В Мелюзееве «француженку» в ней выдаёт и то, что значение Распутина, имя которого, вероятно, произносилось в выступлениях на площади, она определяет через фигуру, функционально аналогичную старцу в его отношении к царю - через министра иностранных дел Франции Аристида Бриана, политический вес которого был стабильно велик в международной политике того времени. Имя министра должно было быть хорошо знакомо как выступавшим на площади Мелюзеева, так и слушателям. Называние Распутина «царским Брианом» звучит как негативное определение, сделанное как бы про себя при передразнивании выступления Устиньи: «Распу! Распу! Сарскбрийан! Зыбуш! Глюконемой! Измен! Измен!» [IV: 135]. Чего стоит эта негативность наряду с «защитой» «глухонемого», вскрывается в результате последующего знакомства читателя с Клинцовым-Погоревших. Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак предлагают иную версию слов Флери «Сарск брийан!»: «Чтобы восстановить смысл слов мадемуазель Флери, которыми она передавала основные темы выступлений Устиньи, надо понять, что она, как раньше было сказано автором, проглатывала “окончанья русских слов на французский лад”. Соответственно, это: “Распутин! Царские брильянты! Зыбушино! Глухонемой! Измена!”» [IV: 678].
Гувернантка присутствовала на занятиях Пастернака с Идой, которые проходили весной 1908 года. В первый раз премьер-министром Франции Бриан (1862-1932) стал в 1909 г., и в памяти Пастернака эти две даты могли сближаться или совпадать. По данным Большой советской энциклопедии, этот пост Бриан занимал 11 раз (в 1909-1911, 1913, 1915-1917, 1921 годах - январе 1922-го). А министром иностранных дел он был
82 Подробнее об этом см.: [Буров 2008в].
272
Глава 3
17 раз (в 1915-1917, 1921-1922, 1925-1931 гг.). Определение Распутина, которое даёт Флери, подразумевает, в частности, позицию Бриана по отношению к социалистическому движению, давним участником которого он был: в 1906 г. Бриан вошёл в буржуазное правительство, за что был исключен из Социалистической партии. Однако затем Бриан примкнул к группе «независимых социалистов». По профессии он был адвокатом, что также значимо в контексте «Доктора Живаго». Накануне и во время Первой мировой войны в 1914-1918 гг. проводил курс на укрепление Антанты. Позже, как указывает БСЭ, империалистическую политику Бриан прикрывал пацифистскими фразами и снискал на Западе репутацию «миротворца». В 1925-1931 гг. он выступал за «примирение» Советского Союза с Германией. Бриан был одним из инициаторов Локарнской конференции 1925 года, пакта Келлога - Бриана 1928 года (об отказе от войны как орудия национальной политики) и проекта создания блока «Пан-Европа». Однако система союзов в Европе была непрочной, росла опасность со стороны Германии, ив 1931 г. Бриан предпринял шаги к заключению франко-советского договора о ненападении. Для Пастернака столь долгая и успешная политическая жизнь дипломата-адвоката, охватывавшая огромный период, во время которого в России и мире происходила радикальная ломка всего и вся, могла быть примером политической «непотопляемости», какой он в политически ослабленном варианте наделил в романе адвоката Комаровского.
Если учесть, что Флери является двойником Устиньи, которая позже оспаривает выступление комиссара Гинца, то можно предположить, что её передразнивание также адресовано оставшемуся неназванным и, возможно, известному ей по голосу Гинцу. Ведь именно к нему могла обращаться Устинья. В таком случае удвоенное «Распу!» может означать не только передразнивание, но и интонационно допустимое возмущённое определение выступавшего. А это, в свою очередь, подтверждает версию о том, что комиссар Гинц является локальным двойником Юрия Живаго. Такое возмущённое называние Гинца Распутиным и двойничество с автобиографическим главным героем романа основаны на прототипической ситуации, относящейся к 11-13 октября 1932 г. В эти дни Пастернак, приехавший на четыре дня в Ленинград, выступал на авторских вечерах и большую часть заплаченных ему денег передал для А. А. Ахматовой, которая болела и была без средств. В письме от 27 декабря 1932 г. он писал отцу: «Ты неправильно представляешь меня, если думаешь, что я победителем выхожу на сцену, Могилевским или Собиновым, нет: я Жонею выхожу на сцену к полуторатысячной Гос. Капелле сплошь близких людей (Распутина это тёте Асе напомнило) и, если бы они стали нападать, я бы не защищался. Денег не было тогда, и мне в Ленинград нужно было. А когда со мной расплатились в Ленинграде за Ленинград и Москву, я вдруг узнал, что опасно больна и совершенно, совершенно без средств Анна Ахматова, и 500 рублей, которые должен был привезть (но кое-что сверх этой суммы осталось), не без труда упросил принять её близких» [ПРС 2004: 566].
В описанной ситуации одновременно присутствуют прототипы Гинца (Пастернак оказывается аналогичен Распутину) и Устиньи (Ахматова и косвенно О.М. Фрейденберг,
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
273
мать которой, Анна Осиповна, упомянута и предстаёт, таким образом, ещё одним прототипом Флери). Мотивы нападения и расплаты также перешли в роман и оказались связаны там с Гинцем и Устиньей. Прототипичность пары ‘О.М. Фрейденберг -А.О. Фрейденберг (урожд. Пастернак)’ относительно пары ‘Устинья - Флери’ прослеживается и в других деталях. Так, например, мать и дочь Фрейденберги всю жизнь жили вместе - так же вместе жили в особняке Жабринской Устинья и годившаяся ей в матери Флери. Если учесть научные занятия О.М. Фрейденберг и книги, которые она издавала, то получает объяснение гордость Флери Устиньей: «Втайне мадемуазель гордилась этой острой на язык бой-бабой. Женщины были нежно привязаны друг к другу и без конца друг на друга ворчали» [IV: 135].
3.6. Юрий Живаго и Лара: пространство запретной любви83
Отношения женатого Юрия Живаго и замужней Лары, естественно заканчивающиеся в Мелюзееве не женитьбой, а расставанием и отъездом в Москву и Юрятин, зеркально воспроизводят отношения Фалька Анжуйского, ставшего тамплиером, в 1311 г. женившегося на легендарной Мелюзине, племяннице Готфрида Бульонского, и ставшего королём Иерусалима [Бейджент, Ли, Линкольн 2006: 312]. И далеко не случайно город, где встречаются Живаго и Лара, носит имя Мелюзины и стоит на «чернозёме». «Топоним “Мелюзеево”, как кажется, образован Пастернаком от имени Melusine, которое носила в старофранцузской литературе нимфа, зачинательница рода Lusignan, навсегда вернувшаяся в водное царство после того, как смертный муж застал её в образе морского существа <...>. Этот сюжет нашёл продолжение в германоязычной литературе - у Тика, Грилльпарцера, Гёте (ср. возможное сложение: Melusine + See = Мелюзеево» ([Смирнов 1995: 147]; см. также: [Жолковский 2005: 187]).
Время действия в Мелюзееве зеркально соотносится с временем 200-летней давности - началом официальной истории масонства. Живаго попадает в госпиталь в феврале, а летом происходит его объяснение с Ларой, а затем их отъезд из города - ср. с тем, что в феврале 1717 г. в лондонской таверне «Яблоня» встретились четыре ложи, которые, «“избрав председателем старейшего Мастера Масона, провозгласили себя Великой Ложей (pro tempore в должной форме)”84. После этого на день Св. Иоанна Крестителя 24 июня 1717 г. г-н Энтони Сэйер, джентльмен, был избран Великим Мастером масонов на последующий год» [Пятигорский 2009: 57]. Масонский пласт значений в «Докторе Живаго» требует отдельного внимания. Здесь же отметим, что мелюзеевский госпиталь предстаёт, пожалуй, первым в романе отмеченным местом, где герои встречаются
83 Часть данного параграфа, касающаяся алхимических подтекстов в «Докторе Живаго», опубликована: [Буров 2010в]. Об алхимическом слое в романе см. также: [Буров 2010л].
84 А.М. Пятигорский цитирует: Preston W Illustrations. 1804 (1977). Р. 209.
274
Глава 3
и работают, что даёт основание видеть в нём аналог ложи, в которой масоны проводят свои «работы»: «Ложа не существует как ложа, не будучи местом встречи; а встреча, когда она происходит в любом доме, квартире или комнате, становится ложей» [Пятигорский 2009: 59]. Отметим попутно, что отношение Живаго, Лары и Галиуллина к работам и службе в Мелюзееве «как к развлечению на открытом воздухе, как к игре в горелки», кроме того, что соотносится с масонством как своего рода игрой, отсылает к стихотворению М.А. Кузмина «Десятый удар» из цикла «Форель разбивает лёд», входящего в одноимённую книгу (1929), которую Пастернак читал в конце 1929 или начале 1930 г.:
Чередованье милых развлечений Бывает иногда скучнее службы. Прийти на помощь может только случай, Но случая не приманишь, как Жучку
[Кузмин 1996: 542].
Ср. также намерение Юрия Андреевича объясниться с Ларой после Тониного письма, отмену намерения и его исполнение - со «случаем», который описывается в стихотворении. Героя Кузмина ведёт в «обычную мещанскую квартирку» «некий человек» -доктора направляет в комнату к Ларе мадемуазель Флери, но Живаго приходит к Ларе в буфетную на следующий день. Ср. предназначение и обстановку буфетной с предназначением и обстановкой «квартирки». Мелюзеев, куда попадает после ранения Живаго, судя по всему, находится не очень далеко от Карпат, к тому же доктор рассказывал Гордону о том, как видел в Карпатах императора. Тема Карпат звучит также во «Втором ударе»85 86: «Я - смертный брат твой. Помнишь, там, в Карпатах?» [Кузмин 1996: 544]. Лара в буфетной гладит чистое бельё - Живаго оказывается тяжело ранен после того, как выяснилось, что денщик Карпенко, готовящий пищу, не выстирал рубашку Гордона. «Проныра» Карпенко, как и Карпаты, где доктор видел впоследствии расстрелянного императора и где был ранен, связаны с темой смерти. Таким образом, Украина ещё раз предстаёт страной смерти.
Не менее значительным кодом, организующим мелюзеевское повествование, является алхимический, в отношении которого масонский выступает в качестве преемственного. В дополнение к наблюдению И.П. Смирнова можно указать, что название города указывает на «чёрную» фазу Великого Делания, производимого «от мёртвого бескачественного черноцвета (рхХбмлои) к высококачественному златоцвету (xpuaaviov). От крайнего унижения к наивысшей славе»*6 [Рабинович 1979: 335]. Название города отсылает как к названиям французских селений Мелуази и
85 Об источниках и подтекстах этого стихотворения, среди которых - «Страшная месть» (1832) Н.В. Гоголя и стихотворение А.А. Блока «Было то в тёмных Карпатах» (1913) - см.: [Лавров 1992а; Богомолов 1999: 176].
86 Исследователь цитирует: Аверинцев С. С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: искусство и культура. М., 1973.
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
275
Малое87, так и к имени змеедевы Мелюзины, отождествлявшейся у алхимиков с Лилит и подменявшей Марию Магдалину. Оно отсылает к средневековой легенде, с которой Пастернак мог быть знаком, в частности, по трудам Парацельса, а также по работам К.Г. Юнга, анализировавшего как творения великого врача и алхимика, так и образ Мелюзины в работах «Дух Меркурий», «Парацельс как духовное явление», «Психология и алхимия»88. Вероятность знакомства Пастернака с алхимическими трактатами и работами об алхимии - тема, требующая отдельного внимания. Сейчас же отметим, что Мелюзина, изображавшаяся, в частности, в рассмотренном Юнгом трактате Елеазара «Uraltes chymisches Werk» (1760) двухголовой, соотносится и с обитающей в Мелюзееве парой ‘Флери - Устинья’, и с двумя дочерьми бывшей владелицы особняка графини Жабринской, которых воспитывала Флери, и с сёстрами Цветаевыми, о детстве которых Пастернак мог прочитать в очерке Цветаевой «Хлыстовки» (1934). Нераздельность и двойничество Флери и Устиньи определяется фразой: «Женщины были нежно привязаны друг к другу и без конца друг на друга ворчали» [IV: 135].
Отметим, кстати, поразительное профанное совпадение, которое вряд ли могло ускользнуть от внимания Пастернака: название трактата Елеазара и то, что во время пребывания на Урале во Всеволодо-Вильве он работал на Уральских химических заводах, принадлежавших З.Г. Резвой. Профанность переноса немецкого названия алхимического теоретического трактата в плоскость русской промышленной практики подобна той, что была произведена с фамилией владелицы заводов. Комментаторы указывают, что «вдова Саввы Тимофеевича Морозова Зинаида Григорьевна, во втором браке Рейнбот, во время войны переменила немецкую фамилию на русскую и стала З.Г. Резвой» [VII: 214]. «Алхимический» интерес Пастернака к названию заводов, которые могли восприниматься им как своего рода продолжение дела алхимиков в XX веке, сказался, возможно,
87 Г. д’Орсе усматривал в этих топонимах след славы певца Езуса (Атиса) и отметил, что «все надписи, которые имеют отношение к этому божеству, сводятся к значению слова “мелос”, которое можно переводить как “яблоко”, “песня”, “руно”, а также вообще всё самое лучшее» [д’Орсе 2006: 189].
88 Остаётся открытым вопрос, какие из вариантов этих текстов были доступны Пастернаку и были ли эти работы доступны вообще. «Дух Меркурий» поначалу представлял собой «доклад, прочитанный на двух собраниях общества “Эранос” в Асконе (1942) и опубликованный в ежегоднике этого общества за 1942 г. (Zurich, 1943). В переработанном и расширенном виде в: Symbolik des Geistes. Studien uber psychische Phanomenologie. - Zurich, 1948» [Юнг 1996: 7]. «Парацельс как духовное явление» - «доклад, прочитанный 5 октября 1941 г. в Айнзидельне по поводу 400-летия со дня смерти Парацельса. В переработанном и расширенном виде (вместе с работой “Парацельс как врач”) в: Paracelsica. Zwei Vbrlesungen uber den Arzt und Philosophen Theophrastus (Zurich, 1942)» [там же: 71]. «Психология и алхимия» была опубликована в 1944 г. в Цюрихе. Второе, пересмотренное издание вышло в 1952 г. В основу этой работы легли доклады, сделанные в 1935 и 1936 гг. на вилле Эранос в Асконе - «Символизм снов и процессы индивидуации» (Traumsymbole des Individuationprozesses. Eranos-Jahrbuch, 1935) и «Идея спасения в алхимии» (Die Erlosungsvorstellungen in der Alchemie. Eranos-Jahrbuch, 1936) [Юнг 2008: 7]. Точно такая же трудность заключается в определении того, какие работы Парацельса, а также других алхимиков, мог читать Пастернак и в каких изданиях. Биографии, написанные К. Барнсом, Г. Гиффордом, Г. де Маллаком, Е.Б. Пастернаком и др., и известные нам труды пастернаковедов таких сведений не дают. Творение Д. Быкова [2005] мы в расчёт не берём; подробнее об этой «биографии» Пастернака: [Буров 2007а].
276
Глава 3
в его желании обратить на их название внимание своих корреспондентов. Несколько писем родителям (от 30 апреля, 29 мая 1916 г.) и С.П. Боброву (24-25 июня 1916 г.) написано на бланках с грифом: «Контора и имения Уральских заводов ея превосходительства Зинаиды Григорьевны Резвой. Продажа уксусно-кислой извести, ацетона, спирта древесного разных градусов, хлороформа и древ. угля. Всеволодо-Вильва» [VII: 240].
Алхимические ассоциации могли возникать у Пастернака и в связи с интересом к мистикам и алхимикам в футуристической среде. Так, в письме к Боброву от 27 апреля 1916 г. он обсуждал Второй сборник «Центрифуги», в котором была статья Боброва «Слова у Якоба Бёме», написанная по поводу выхода в 1914 г. перевода книги «Аврора, или Утренняя звезда в восхождении», с которой Пастернак, судя по письму, был знаком [Переписка с Бобровым 1996].
Как указал Юнг, фигуры, подобные Мелюзине, появляются во сне героя, но Юрий Живаго, напротив, не спит в день возвращения Лары в Мелюзеев из поездки, когда он думает о ней. Такие фигуры «кружат голову одинокому страннику и сбивают его с пути» [Юнг 2008: 76]; похожее состояние охватывает доктора, когда он наблюдает за ночным садом, а на следующий вечер разговаривает с Ларой. Позже мотив «кружения головы» появится в одной из записей доктора, сделанных в Камергерском переулке, и будет касаться Москвы [IV: 486]. Но «кружение головы» у Пастернака всякий раз оказывается положительным результатом единения героя с миром и свидетельствует о наполненности его души любовью. Юнг отмечает тождественность Мелюзины аниме на иллюстрации в «Mutus Liber» (1702) [Юнг 2008:275] и Меркурию в «Ripley Scrowle» (манускрипт, 1588): «В “Свитке” Рипли Меркурий предстаёт как змея, в облике Мелюзины спускающаяся с верхушки Философского древа (Древа познания). Дерево означает развитие, фазы процесса трансформации, а его плоды либо цветы обозначают завершение делания» [Юнг 2009: 270; 2008: 445]. Связь Мелюзины с этим «древом тайной философии» [Юнг 1996: 58] объясняет присутствие «липового сука» в буфетной, а связь Мелюзеева и Мелюзины как существа водного с «чёрной» фазой Великого Делания - наличие «огромных луж» там же и «в комнате, оставшейся от Лары» [IV: 149]. К «чёрной» фазе вода имеет прямое отношение. Важно также, что все три женщины, которых любит Юрий Живаго,-Тоня, Лара и Марина - являются в алхимическом плане персонификациями духа Меркурия, который «обладает многочисленными, мягко выражаясь, связями с тёмной стороной, <...> сам отчасти змеевидная демоница, Лилит или Мелюзина» и «не только причастен Св. Духу, но, как утверждает алхимия, по сути, ему тождествен. Нам остаётся лишь смириться с этим шокирующим парадоксом» [Юнг 1996: 58].
Так алхимические значения объясняют вдохновенность Юрия Живаго и чувства, которые вызывает у него Лара. Юнг указывает также, что «аналогичные соблазнительные девы появляются в начале nekyia Полифила» и что «Мелюзина Парацельса - это несколько иная фигура подобного типа» [Юнг 2008: 76]. «Nsxuioc - от vsxut; (труп) - название одиннадцатой книги “Одиссеи” - это жертвоприношение мёртвому, чтобы вызвать его из Аида. Nekyia, следовательно, это удобное обозначение для “сошествия в
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
277
Аид”, удаления в страну мёртвых <...>. Типичными примерами являются “Божественная комедия”, классическая Вальпургиева ночь в “Фаусте”, апокрифические легенды о сошествии Христа в ад и т. п.» [Юнг 2008: 471].
Таким образом, можно говорить о том, что именно из Мелюзеева, после встречи с Ларой в 1917 году, начинается «сошествие» Юрия Живаго «в ад» советского времени -ради спасения Лары-«души»-России. «В христианской проекции descendus spiritus sancti ограничивается живым телом Избранного, человека и Бога одновременно, тогда как в алхимии нисхождение осуществляется прямо в мрак неживой материи, чья низшая область, согласно неопифагорейским воззрениям, находится под властью зла. Зло и материя вместе составляют Диаду, дуализм. Это сущность женской природы, anima mundi, женская Физис, которая жаждет объятий Единого, Монады, доброй и совершенной. Юстиниановский гностик описывает её как Эдем, полудеву, полузмею. Она мстительно состязается с пневмой, ибо в образе демиурга, второй формы Бога, он вероломно покинул её. Она - «божественная душа, заключённая в стихиях», спасти её - задача алхимии» [там же: 316]. «Алхимия переносит мотив Эдема на Меркурия, который также представляется как дева сверху, со змеиным хвостом вместо ног. Таково происхождение Мелюзины у Парацельса» [там же: 502].
Стоит заметить, что «Доктор Живаго» благодаря своей тотальной зашифрованно-сти предстаёт аналогом упомянутой «Немой книги», опубликованной в Ла Рошели в 1677 г. В 1948 г. роман Пастернака имел подзаголовок «Картины полувекового обихода», а Юрий Живаго в молодости мечтал «о прозе, о книге жизнеописаний <...>, но отделывался вместо неё писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине» [IV: 66-67]. Ср: в «Mutus Liber» «алхимическое делание было изображено на серии из 15 листов» [Руб 2007: 121]. Жизнь Юрия Живаго охватывает 15 частей романа, чем напрямую соотнесена с Великим Деланием. (16-я - «Эпилог», а 17-я - «Стихотворения Юрия Живаго».)
Легендарный образ Мелюзины с учётом толкований Парацельса Юнг передаёт следующим образом: «Мелюзина - фея вод с рыбьим или змеиным хвостом. В старофранцузском сказании она “mere Lusine”, родоначальница графов де Люзиньян. Однажды её супруг застал её врасплох и увидел рыбий хвост, который она должна была носить не всегда, а лишь по субботам, т. е. в Сатурнов день. После этого Мелюзине пришлось исчезнуть, вернувшись в водное царство, ибо тайна её была раскрыта. Время от времени она возвращалась, но появление её всегда оказывалось недобрым предзнаменованием» [Юнг 1996: 107].
Множество деталей и образов в мелюзеевском локусе тем или иным образом корреспондирует с легендой. Так, ночью доктор, высунувшись в окно, слышит множество разнообразных звуков воды, чем Мелюзеев напоминает водяное царство: «Ночь была полна тихих, таинственных звуков. Рядом в коридоре капала вода из рукомойника, мерно, с оттяжкою. Где-то за окном шептались. Где-то, где начинались огороды, поливали огурцы на грядках, переливая воду из ведра в ведро, и гремели цепью, набирая её из
278
Глава 3
колодца. <.. .> Всё кругом бродило, росло и всходило на волшебных дрожжах существования. Восхищение жизнью, как тихий ветер, широкой волной шло не разбирая куда по земле и городу, через стены и заборы, через древесину и тело, охватывая трепетом всё по дороге» [IV: 140].
Старофранцузское происхождение легенды сказывается в присутствии в Мелюзееве старой гувернантки Флери, именование которой «мадемуазель» выдаёт в ней деву, а возраст намекает на древность легенды. Действие происходит в бывшем особняке графини Жабринской, чья «водяная» фамилия так же намекает на то, что она жительница водяного царства, как титул - на вероятное родство с графами Люзиньян. Её связь с Францией подкрепляется и тем, что для воспитания своих дочерей она некогда выписала француженку Флери. С местонахождением во Франции, «морской» этимологией имени Марины Цветаевой, её поэмой «С моря» и циклом «Хвала Афродите» резонирует «происхождение» французской феи вод Мелюзины, которая «близко родственна Моргане, “Морерождённой”, чей античный, восточный аналог - “Пенорождённая” Афродита» [Юнг 1996: 155]. Так синтезируются в глубинах «Доктора Живаго» алхимический, литературный и биографический коды.
Лара при всяком появлении в романе, подобно нимфической Мелюзине, оказывается тем или иным образом связана с водой. Юрий Живаго, не будучи, в отличие от мужа Мелюзины, супругом Лары, застает её, как тот, своим разговором и вырвавшимся признанием врасплох, и в словах его фигурирует «какой-нибудь близкий вам человек, ваш друг или муж» [IV: 146]. Лара же ездит не только из Мелюзеева в Раздольное, но ездит постоянно на протяжении всего романа, возвращаясь то в Москву, то в Юрятин. Из Мелюзеева она отправляется как раз через Москву в Юрятин - на Урал, в «тридевятое царство», мысли о котором и перехватывает доктор в её взгляде: «И вот среди охватившей всех радости я встречаю ваш загадочно невесёлый взгляд, блуждающий неведомо где, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве» [IV: 146]. Юрятин предстаёт здесь не только водяным царством, в которое возвращается Мелюзина-Лара, то и формульным определением из русских волшебных сказок, в которых в этой функции также может выступать водяное царство. Если супруг Мелюзины, застав её врасплох, увидел рыбий хвост, то из-за доктора Лара прожигает утюгом кофточку. Дыра при надевании кофточки обнажала бы грудь - верхнюю половину тела, а не нижнюю, которая обнажилась у Мелюзины. Форма прожженного места может напоминать как голову, так и хвост рыбы. Именно после «объяснения» с доктором, но не сразу, а через неделю (чем отмечается значимое отличие от легенды) Ларе «пришлось исчезнуть». Заставание Лары врасплох могло заключаться и в том, что не она, а доктор неожиданно для Лары проявляет в разговоре долженствующий быть свойственным ей «мелюзинов (т. е. водяной) формообразующий принцип, под которым можно понимать бессознательные силы воображения» [Юнг 1996: 109]: под конец встречи вдохновенность «морем жизни» и любовью вылились в то, что Живаго «очертя голову <.. .> понёс Бог знает что» [IV: 146] - неявно признался в любви. Доктор и Флери обманулись в своих ожиданиях её возвращения
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
279
грозовой ночью, и это подтверждает и в то же время рознится с легендой о Мелюзине, которая исчезала и возвращалась. В их ожиданиях Лара предстаёт мокрой и меняющей одежду, дабы ни супруг и ни граф Юрий Живаго не опознал в ней представительницу царства нимф, как сделал это муж Мелюзины: «Они были уверены, что отворят парадное и в дом войдёт так хорошо известная им женщина, до нитки вымокшая и иззябшая, которую они засыплют расспросами, пока она будет отряхиваться. А потом она придёт, переодевшись, сушиться у вчерашнего неостывшего жара в печи на кухне и будет им рассказывать о своих бесчисленных злоключениях, поправлять волосы и смеяться» [IV: 149-150]. Но Лара и не может вернуться - это противоречило бы способности Мелюзины вызывать бури. Итоговым подтверждением принадлежности Лары к водяному царству, которым предстаёт как Мелюзеев, так и Юрятин, куда она уехала, становится «водяной знак»: «Они были так уверены в этом, что, когда они заперли дверь, след этой уверенности остался за утлом дома на улице, в виде водяного знака этой женщины или её образа, который продолжал им мерещиться за поворотом» [IV: 150].
В качестве «недоброго предзнаменования», связанного всегда с появлением Мелюзины, в «Докторе Живаго» всякий раз предстают, напротив, своего рода «последствия» встречи доктора с Ларой - отправки на очередные инициационные испытания.
Стоит заметить, что Пастернак не создаёт, как полагает В.С. Франк, всякий раз новый миф [Франк 1990: 73] - он оживляет уже существующие. Его «твёрдая мифология» -это инверсированные сюжеты и образы в данном случае мифов и легенд, опознание которых в тексте и составляет одну из главных трудностей для исследователя. Именно так писатель поступал с «твёрдой» структурой русской волшебной сказки, модели которой предложил в своих книгах В.Я. Пропп (см. об этом: [Буров 2006а; 20066; 2007в]).
Согласно Парацельсу в трактовке Юнга, у Мелюзин «нет гениталий - обстоятельство, характеризующее их как существа райские, ибо в раю у Адама с Евой тоже не было ещё гениталий. Более того, рай находился тогда под водой - и “он все ещё там”. Когда дьявол “проскользнул” в ветви райского древа, оно “омрачилось”, и Ева была совращена “адским василиском” (Basilisco infemali). Адам с Евой “наглядеться не могли” на змия и в результате сделались “монстрами”, т. е. этот их недогляд со змием наградил их гениталиями. Мелюзины же остались, как существа водные, в изначальном райском состоянии и продолжают жить в человеческой крови. Коль скоро кровь - первобытный символ души, Мелюзина поддаётся истолкованию как некий “дух” (“привидение”), во всяком случае - какое-то психическое явление. Это толкование подтверждается в комментарии Дорна, где говорится, что Мелюзина есть “visio in mente apparens”, т. e. появляющееся в мыслях видение. <...> Парацельсова Мелюзина предстаёт вариантом serpens mercurialis, изображавшегося, помимо прочего, и в виде девы-змеи» [Юнг 1996: 110-Ш]89.
Именно отсутствием гениталий у Мелюзин может объясняться реакция Лары на признание Юрия Живаго в любви - её чувства вполне объяснимы «райским состоянием»
89 Юнг ссылается на: Philisophia ad Athenienses Парацельса и Liber Azoth.
280
Глава 3
не только её самой, но и Мелюзеева в целом. На аналогию доктора и Лары с Адамом и Евой, находящихся в райском саду, наталкивает и наличие сада, находящегося за особняком-госпиталем графини Жабринской. Позже, в Юрятине, эта аналогия будет прямо высказана самой Ларой: «Мы с тобой как два первых человека, Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце его» [IV: 400].
Образ Лары как serpens mercurialis объясняет догадку доктора о подсознательной подчинённости Лары «змею»-Комаровскому, высказанную ей в Юрятине: «Так ли хорошо ты себя знаешь? Человеческая, в особенности женская природа так темна и проти-речива! Каким-то уголком своего отвращения ты, может быть, в большем подчинении у него, чем у кого бы то ни было другого, кого ты любишь по доброй воле, без принуждения» [IV: 398].
После отъезда из Мелюзеева (а также из Барыкина с Комаровским) Лара, подобно Мелюзине, остаётся жить «в крови» Юрия Живаго. Как «появляющееся в мыслях видение» она возникает в виде «водяного знака» в полном соответствии с тем, что «Мелюзина - существо, стоящее между водным царством и человеческим миром» [Юнг 1996: 134]. Ещё одно «алхимическое» видение Лары посетит доктора в плену в партизанском отряде и тоже во время дождя: «И опять у Юрия Андреевича стало мутиться в глазах и голове. Всё поплыло перед ним. В это время вместо ожидаемого снега начал накрапывать дождь. Как перекинутый над городской улицей от дома к дому плакат на большущем полотнище, протянулся в воздухе с одной стороны лесной прогалины на другую расплывчатый, во много раз увеличенный призрак одной удивительной боготворимой головы. И голова плакала, а усилившийся дождь целовал и поливал её» [IV: 365].
Сопоставляя это описание с характеристикой Мелюзины, которую дал Юнг, нельзя не поразиться семантическому совпадению художественного текста с научным. Художественный в данном случае предстаёт практическим «перевоплощением» теоретического, выступающего своего рода предваряющим комментарием. Такая реализация в тексте «Доктора Живаго» представлений Парацельса, воспринятых сквозь призму Юнга, наводит на мысль, что текст работы психоаналитика «Парацельс как духовное явление» был Пастернаку всё же знаком. Мелюзина Парацельса в трактовке Юнга - «вовсе не какая-нибудь аллегорическая химера или пустая метафора: она обладает особой психической реальностью “привидения”, каковое по самой природе своей есть психически обусловленное видение, но вместе с тем, в силу присущей душе способности к имаги-нативной реализации, - и отчётливая объективная сущность наподобие сновидения, на время обратившегося в реальность. Фигура Мелюзины превосходно подходит для этой цели» [Юнг 1996: 149].
Подобно Мелюзине, которая «поднимается из своего водного царства и принимает “человеческий облик”, по возможности вполне конкретный» [там же: 152], Лара появляется в жизни Юрия Живаго в «пограничных» ситуациях, в моменты ломки личной судьбы и/или социального порядка и всего, что он обусловливает. При этом всякий раз
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
281
рядом присутствует её старший двойник, и обе они представляют собой персонификации «архетипа объективной души, коллективного бессознательного» [там же: 150]. Такие «пограничные» ситуации это:
- сцена отравления Амалии Карловны в «Черногории». Двойник - мать Лары;
- дом Свентицких. Двойник - Войт-Войтковская, в квартире которой Комаровский поселяет Лару после ее выстрела;
- госпиталь в Мелюзееве. Двойник - Флери. Во время «невстречи» в лесу эпизод со смертельно раненным отцом Галиуллина демонстрирует не излечение неизлечимого ранения, но смерть по молитве, предстающей как провидение (пусть и ближайшего) будущего, на что была способна Мелюзина;
- библиотека в Юрятине. Двойник - Евдокия Тунцева. Подобно Мелюзине и алхимическому Меркурию, способным менять свой облик, Лара-историчка в библиотеке «проходила политическую переподготовку» [IV: 291];
- видение «головы» (Лары) во время заговора Кубарихи в партизанском отряде. Двойник - Кубариха;
- вновь тот же дом в Юрятине. Двойники - Глафира и Серафима Тунцевы. Лара вылечивает вернувшегося из плена Юрия Живаго, подобно тому как Мелюзина (= Меркурий) излечивает неизлечимые болезни;
- дом в Барыкине. Вероятный двойник - Серафима Тунцева, с которой доктор мог увидеться после отъезда Лары с Комаровским и своего возвращения в Юрятин на пути в Москву;
- комната в Камергерском (после смерти Юрия Живаго). Двойник - Марина.
Не приводя из-за объёмности цитат соответствующих мест романа, отметим, что каждая из этих ситуаций поставляет «иллюстративный» материал, в полной мере отвечающий следующей характеристике, данной Юнгом. По его выводам, Мелюзина как анима «принадлежит к тем «пограничным явлениям», которые происходят главным образом в совершенно особых психических ситуациях. Подобные ситуации всегда характеризуются более или менее внезапной ломкой образа или стиля жизни, которые до этого казались необходимым условием и фундаментом всего индивидуального существования. Когда разражается подобная катастрофа, для человека не только отрезаны все пути к отступлению в прошлое, но и нет, кажется, никакого пути для движения вперёд, в будущее. Он оказывается один на один с беспросветной и непроницаемой тьмой, чья бездонная пустота внезапно заполняется неким видением, осязаемым присутствием какого-то чуждого, но способного прийти на помощь существа: так для человека, долгое время проведшего в полном одиночестве, безмолвие и темнота вдруг зримо, слышимо и осязаемо оживают, а неведомое в нём самом подступает к нему в каком-то неведомом обли-чьи. <.. .> разрушилось всё устройство его жизни, перед ним не осталось ничего, кроме пустоты и беспросветности. Именно в этот момент появляется судьбоносная анима, архетип объективной души, коллективного бессознательного» [Юнг 1996: 150].
282
Глава 3
В каждой из указанных ситуаций вскоре вслед за появлением Лары следует её исчезновение, что также является общей с Мелюзиной чертой. Живаго при этом испытывает противоречивое чувство притяжения-отталкивания, отразившееся в его стихах:
Но как ни сковывает ночь Меня кольцом тоскливым, Сильней на свете тяга прочь, И манит страсть к разрывам [IV: 522].
В нескольких ситуациях исчезновение Лары и это чувство Юрия Живаго связано с представителем и властителем «водного царства» - Комаровским. Доктора всякий раз после исчезновения Лары охватывает поэтический настрой, связанный с нею. В Барыкине он и вовсе пишет новые и дописывает старые стихи. А после смерти доктора и исчезновения Лары в одном из концлагерей «Стихотворения Юрия Живаго» появляются перед читателем. Значение таких исчезновений Мелюзины и противоречивых чувств адепта объясняет следующим образом: «Мелюзина, обманчивая Шакти, должна вернуться в водное царство, иначе работа не достигнет своей цели. Ей больше не следует маячить перед адептом, соблазняя его своими жестами, она должна обратиться в то, чем и всегда-то была: в часть его целостности90. В качестве таковой Мелюзина должна возникнуть перед его внутренним взором <...>. Это ведёт к соединению сознания и бессознательного, соединению, которое всегда было налицо бессознательно, но всегда отрицалось односторонней установкой сознания. Благодаря этому союзу возникает целостность, которую интроспективная философия и мудрость всех времен и народов обозначала символами, именами и понятиями, чья множественность поистине неисчерпаема. “Mille nomina” заслоняет от нас тот факт, что эта conjunctio уже не подразумевает нечто дискурсивное; это попросту непередаваемое переживание, к самой природе которого относится чувство непоколебимой вековечности и вневременное™91» [Юнг 1996: 154].
Необходимо назвать ещё несколько источников, оказавших влияние на общую атмосферу мелюзеевского повествования. Некоторые детали последнего отсылают к «Незнакомке» (1906) А.А. Блока: вечернее время, провинциальность, не «гуляющие с дамами», а выступающие на митинге «испытанные остряки» Гинц и Устинья, а также острящие слушатели. Ср. также «Девичий стан, шелками схваченный, / В туманном
90 Сноска Юнга: «Кажущееся противоречие между двумя задачами: отвергнуть gesta Melosynes и в то же время ассимилировать аниму - объясняется тем, что gesta имеют место в состоянии одержимости анимой, отчего им и надлежит воспротивиться. В результате анима оттесняется во внутренний мир, где она функционирует как система, осуществляющая посредничество между Я и бессознательным, так же как персона посредничает между Я и окружающим миром» [Юнг 1996: 154].
91 Именно такое чувство Юрия Живаго объективизируется Пастернаком при описании состояния доктора, в котором он оказался в результате переживания заговора Кубарихи. В характеристике же, данной ей Галузиной, скрыто присутствует «mille nomina»: «А у неё больше имён, чем юбок. <...> И ещё прозвищ с десяток» [IV: 314].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
283
движется окне» - с Ларой и, по контрасту - с фигурой Устиньи. У Блока «Незнакомка» «садится у окна» [Блок, II: 186) - у Пастернака из окна в соседний двор Юрий Живаго слушает и наблюдает ночной митинг на площади.
Однако более сильное, пожалуй, влияние на мелюзеевское повествование оказала «русская идиллия» Я.П. Полонского «Хуторки» (1895), где присутствуют «два соседних хуторка» (ср. с Зыбушиным и Бирючами), сад, запахи, оторванная ставня и выбитое стекло, уехавшая и невозвращающаяся женщина, измена её мужа (в «Докторе Живаго», напротив, Лара не изменяет мужу с доктором), ночное освещение спичкой (свеча в романе Пастернака), лето, луна, внучка, грешащая по ночам с «кацапом» (что вступает в противоречие с обозначением «русская идиллия», данным Полонским, и соответствует местонахождению Мелюзеева на Украине), старуха, остающаяся дома одна, «разгулявшиеся ветры», ожидание возвращения жены «кацапа», ночного стука в ворота и страх. Стихотворение Полонского инверсировано на всё пространство мелюзеевского текста и объясняет, кроме перечисленного, такие, к примеру, детали, как поведение мадемуазель Флери в отношении Юрия Живаго и Лары и её «несказанное» удивление вопросом доктора о том, как пройти к Антиповой [IV: 134,139]. В силу малоизвестное™ этого текста и его важности в отношении мелюзеевского локуса приведём его полностью, несмотря на его объём.
Там, в желтеющем просторе Колыхающихся нив, Где в саду румяной сливы Золотой сквозит налив;
Там, где вдоль холмистой балки Сохнет русло ручейка, Никнут, крытые соломой, Два соседних хуторка.
Оба в зной степного лета
От ключей недалеки, Оба день и ночь друг друга Наблюдают хуторки.
Знают все: что у соседа В огороде зацвело, Почему оторван ставень Или выбито стекло;
Почему с утра так рано Потянуло кизяком, Пахнет луком, пахнет мёдом Или сдобным пирогом...
«Куманёк! У вас с крылечка Чёрный кот из-за бадьи Жадно смотрит, как у клети Копошатся воробьи...»
«А у вас сегодня ворон Хрипло каркал на трубе, -Всё ль у вас благополучно? Все ли здравствуют в избе?»
«Ничего... Жену спровадил Наш хозяин, говорят, Далеко послал за Волгу Навестить своих ребят».
«Не беда, кацап он ражий; Вон он вышел на крыльцо, Подбоченился, понурил Загорелое лицо».
«А у вас хозяйки внучка
За цветами в огород Побежала и, босая, Села - песенку поёт...
284
Глава 3
Завтра бабушка лампадку Перед образом зажжёт, А она цветы да ленты В косу чёрную вплетёт...» Лето целое ни разу Не подумал он о том, Чтоб к окну приладить ставень Иль заткнуть стекло тряпьём.
«Вон кацап пошёл к арбузам На зелёную бахчу, Поднял дыню и - глазами Провожает саранчу. Так зачем же занавеска? Аль кацап, хоть и женат, Позабыл семью и бога И боится - подглядят.
Ишь несётся! нет конца ей... Помутила небеса; Но не села к нам, не съела Ни пшеницы, ни овса...» Вот другой глаза таращит (Он, старик, дремал весь день) И в потёмках видит: кто-то Перелез через плетень.
«Значит, всё благополучно?» «Слава богу, куманёк!..» -Так они ведут беседу С бугорка на бугорок... И за грядами, где бурый Хмель оборван и повис, У скамьи сошлись две тени И любовно обнялись.
Но проходит лето, - к югу За дождём летят грачи; Опустели огороды, Обезлюдели бахчи... Хуторок не скоро понял: «Что за чёрт!., одни!., впотьмах!. Подошли - скрипит ступенька... Спичка чиркнула в сенях...
Воротилась ли к кацапу Беспокойная жена? Не видать... Денёк был серый, Ночь дождлива и бурна. Эге-ге! Дивчину вашу Не сберёг и домовой... Вот каков наш астраханец! И добро бы холостой!
Сквозь заплаканные окна Тускло светят огоньки... И, взъерошенные бурей, Приуныли хуторки. «Ах, грехи, грехи!» И утром Проболтался хуторок... Ахнув, бросила старушка Недовязанный чулок.
Да и на сердце неладно... Что-то втайне их мутит, Недовольны чем-то, - каждый Подозрительно молчит. Видит, - внучка в новых бусах, И с нечёсаной косой... «Ах, такая ты, сякая! Что ты сделала с собой!..»
Вот глядит один и видит Ночью красное пятно... Пригляделся, - у кацапа Занавешено окно. Внучка вспыхнула, бормочет: «Я ли первая грешна!..» -То-то будет ад кромешный, Как воротится жена!..
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
285
Хуторки видали виды, Так дождит, что слышен гомон
Знают, правдой дорожа, Что такой любви с похмелья Землю роющих ключей;
Недалеко до ножа. Так тоскливо, что уж лучше Внучки дома не ищи;
И глядят уже сердито Тут всю ночь одна старуха
Друг на друга хуторки, Старикам такие шашни, Дрогнет лежа на печи.
Очевидно, не с руки... Хуторки дрожат и жмутся, Внемля гулу голосов,
Иногда, назло им, ночью Вою, свисту, бормотанью
Тут такая тишина, Так ярка в холодном небе Разгулявшихся ветров.
Одинокая луна; Чу! не ведьма ли промчалась, Ухватись за помело?
Так роса блестит на серых Что-то шаркнуло по кровле...
Паутинках лебеды, Что и ночью ясно видны Клок соломы унесло.
Им знакомые следы. Не бесов ли стая скачет, Не телега ли стучит?
И не только вдоль тропинки Не жена ли из-за Волги
Слышен шелест резвых ног, Видно, чья перебегает К другу милому спешит?
Тень с порога на порог... Хуторки не спят - и в страхе Чутко слушают впотьмах,
Иногда ж, назло им, тучи Не слыхать ли ночью крика
Так туманят глушь степей, Или стука в воротах?!
Что касается автоцитации в отношении мелюзеевского повествования, то отдельного внимания требует сравнение описания города, ночного митинга, собравшихся на площади, Юрия Живаго, Устиньи (а также всех вышеупомянутых женщин) с 19 главой части второй «Охранной грамоты», в которой описывается вечерний концерт на пьяцце в Венеции накануне отъезда Пастернака из города [III: 208-209].
Заметим, что интертексты, дающие знать о себе в мелюзеевском участке, конфликтуют между собой в силу принадлежности к литературе романтизма и реализма, а также к национальным литературам. Весь мелюзеевский отрезок производит впечатление подготовки к эпизоду ночной бури, однако подготовка события (ожидаемое возвращение Лары) разрешается его непоявлением, ожидание нарушается. Кроме того, что таким образом автор демонстрирует непредсказуемость жизни, Ларе, а также Устинье нельзя остаться в Мелюзееве или вернуться туда. Одна из главных причин - эротического свойства: занятие Клинцовым-Погоревших места хлыстовского «Христа»-Блажей-ко создаёт кощунственность (для сектантов) связи с ним хлыстовской «Богородицы»-Устиньи; пример Содома, актуализированный в отношении Мелюзеева, обусловливает невозможность повторения Устиньей и Ларой «оглядки» Лотовой жены; и, наконец, для
286
Глава 3
Лары возвращение означает неизбежность любовной связи с Юрием Живаго, для неё в этом пространстве запретной. Запрет возврата распространяется, таким образом, на всё мелюзеевское пространство и тем самым обусловливает его таинственность, которая усугубляется множеством включённых в работу интертекстуальных связей. Исчезновения Устиньи и Лары, по сути, представляют собой побеги и парадоксальным образом являются показателем их заинтересованности в том, чтобы остаться в Мелюзееве, и обусловливают их появление в дальнейшем и контакты с Живаго.
Лара спасается от непредвиденной любви к Юрию Андреевичу в дождь, и её отправка не описывается. Пастернак скрыто спроецировал её отъезд на стихотворение Цветаевой «Побег», посланное в письме от начала 1924 г., в числе 28 стихотворений, обращённых, по её словам, «непосредственно к Вам, в упор» [Переписка с Цветаевой 2004: 90]. Именно цветаевское стихотворение и должно было «заменить» отсутствующее в романе описание отбытия Лары. Параллельная данному отъезду Лары и по контрасту с ним подробно описываемая сцена её отъезда с Комаровским из Барыкина через стихотворение «Разлука» прямо отсылает к претексту: «Её отъезд был как побег» [IV: 534]. Название же этого стихотворения совпадает с названием сборника Цветаевой, который вышел в Берлине в 1922 г. ещё до приезда туда автора. Цветаева выпустила две «крохотные книжечки» - «Стихи к Блоку» и «Разлуку», «просто чтобы окупить дорогу» [Переписка с Цветаевой 2004: 16]. Как указывают комментаторы, «на сб. “Разлука”, посланном Пастернаку, есть дарственная надпись: “Борису Пастернаку - навстречу! Марина Цветаева. Берлин 10 нов. июля 1922 г.”» [там же: 574]. Уехавшая Цветаева, пославшая книжку обратно в Москву «навстречу», в «Докторе Живаго» инверсирована в поэта-мужчину, пишущего в Барыкине не сборник, но одно стихотворение и не посылающего его вслед Ларе, увозимой обеспечившим поездку Комаровским. Ливень в Мелюзееве, нео-правдавшееся ожидание возвращения Лары отсылают к стихотворению «Письмо», вторая строфа которого содержит ещё одно объяснение «огромных луж» в буфетной и «целого океана» в комнате Лары:
И если гром у нас - на крышах, Дождь - в доме, ливень - сплошь -Так это ты письмо мне пишешь, Которого не шлёшь [Переписка с Цветаевой 2004: 86].
Стук, который слышат Живаго и Флери, и ливень, проникший внутрь комнат, являют собой выворачивание отрывка из письма Цветаевой от 10 нов. февраля 1923 г.: «Без оклика - никогда не напишу. Писать - входить без стуку. Мой же дом всегда на полдороге к Вам. Когда бы Вы ни писали, знайте, что Ваша мысль - всегда в ответ. Где уж тут: стук в дверь: раз навсегда сорвана!» [там же: 38].
Спуск доктора «со свечой навстречу» Флери, ожидание (несостоявшейся) встречи с Ларой в бывшем особняке, превращённом в госпиталь и ставшем временным домом для
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
287
Лары и выздоровевшего доктора, связь ожидаемого появления Лары с грозой отсылают к отрывку из письма Пастернака Цветаевой от 20 апреля 1926 г., влияние которого прослеживается в стихотворении «Попытке комнаты»92, которое, в свою очередь, могло вспоминаться Пастернаку во время работы над романом: «В противоположность твоим сновиденьям я видел тебя в счастливом, сквозном, бесконечном сне. В противоположность моим обычным, сон был молодой, спокойный, безболезненно перешедший в пробужденье. Это было на днях. Это был последний день, что я называл себе и тебе счастьем. Мне снилось начало лета в городе, светлая, безгрешная гостиница без клопов и быта, а может быть, и подобье особняка, где я служил. Там внизу были как раз такие коридоры. Мне сказали, что меня спрашивают. С чувством, что это ты, я легко пробежал по взволнованным светом пролётам и скатился по лестнице. Действительно в чём-то дорожном, в дымке решительности, но не внезапной, а крылатой, планирующей, стояла ты точь-в-точь так, как я к тебе бежал. Кем ты была? Беглым обликом всего, что в переломное мгновенье чувства доводит женщину на твоей руке до размеров физической несовместимости с человеческим ростом, точно это не человек, а небо в прелести всех плывших когда-либо над тобой облаков. <.. .> Ты была громадным поэтом в поле большого влюблённого обожанья, то есть предельной человечностью стихии, не среди людей или в человеческом словоупотребленьи (“стихийность”), а у себя на месте» [VII: 661].
Если в мелюзеевском госпитале детали из письма собраны вместе, то в дальнейшем они оказываются разбросаны: в ситуации встречи Юрия Живаго с Веденяпиным в гостинице, которая «производила впечатление жёлтого дома», при этом «мелкой водяной пылью моросил дождик» [IV: 176], и в сцене вечеринки в доме Громеко, когда ночью проходит незамеченной гроза.
Стоит отметить также любопытное зеркальное совпадение. «Стихотворения Юрия Живаго» включают 25 стихотворений. Ещё три стихотворения - «Нежность», «Бессонница» и «Под открытым небом», которые Пастернак предполагал ввести в тетрадь доктора, он исключил из неё. Как указывают комментаторы, «в тексте романа Юрий Живаго пишет эти стихи (Последние два. - С. Б.} ночью; глядя на спящую Лару» [IV: 470]. «Нежность» также соотносилось с Ларой и, таким образом, с Цветаевой (что не исключает отмеченных ранее перекличек с Маяковским). Подборка, посланная Пастернаку Цветаевой, включала также 25 стихотворений, которые после прозаической «передышки» были дополнены ещё тремя - «Магдалиной», «Побегом» и «Брожу - не дом же плотничать». Все три были задействованы в «Докторе Живаго» в качестве интертекстов. Последнее - в связи с Галузиной. Таким образом, можно предположить, что «Стихотворения Юрия Живаго» явились «ответом» Пастернака к тому времени уже ушедшей из жизни Цветаевой, тем более что перед читателем стихи появляются уже после смерти написавшего их поэта.
92 См. об этом: [Поливанов К.М. 2006: 160-163; VII: 664, комментарий № 6].
288
Глава 3
3.7. Устинья и Кубариха: смена обличья при сохранении амплуа93
Если принять версию, что Кубариха - это обернувшаяся в новое обличье Устинья, и учесть, что о Кубарихе размышляет, вводя её тем самым в текст, Галузина, находящаяся за Уралом в Крестовоздвиженске, то получает расшифровку ещё один персонаж -безымянная «крестьянка», у которой во время поездки на Урал, ещё до Уральских гор, Тоня обменивает на «вышитое петухами, парубками, дугами и колесами полотенце» [IV: 217] зажаренного ползайца. Это происходит вскоре после того, как повествователь сообщает: «В пути были уже три дня, но недалеко отъехали от Москвы» [IV: 215].
Возможно, «петухи» намекают на рассказ М. А. Булгакова «Полотенце с петухом» из «Записок юного врача». Этот рассказ был впервые опубликован в «Медицинском работнике», 1926, № 33 и 34 за 12 и 18 сентября. На полотенце, которое дарит молодому врачу девушка с ампутированной ногой, нет деталей, которые, помимо петухов, присутствуют на полотенце в «Докторе Живаго». Это «длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом» [Булгаков 2002, I: 52]. Пастернак усилил «этнографическую» символику вышивки. Обращает на себя внимание и то, что Юрий Живаго - молодой врач, как и главный герой рассказов Булгакова. Оба героя автобиографичны. В Барыкине доктор ведёт именно записки, весьма близкие по настроению, тону и стилю к булгаковским. Сельская врачебная практика Живаго в Барыкине не описана, вероятно, потому, что её уже профессионально, точно и подробно изобразил Булгаков. У булгаковского «юного врача» в Мурьинской больнице была отличная обеспеченность медицинским инструментом и медицинской литературой - у Живаго в Барыкине нет ни инструментов, ни литературы, «ни настоящего подбора лекарств, ни нужных проспособлений», есть лишь «бутыль с карболкой» «и ещё кое-что, самое необходимое» [IV: 286]. Аналогичная обеспеченность и во время пребывания доктора в партизанском отряде. Семью Юрия Живаго привозит в Варыкино возница - так же, как возница привозит в Мурьино «юного врача». В Барыкине, как и в доме в Мурьино, где поселяется герой Булгакова, есть кабинет, которым восторгается и где позже работает Юрий Живаго. Отметим также сходство имён и занятий «бывшей белой кухарки графини» Устиньи с «востроносой Аксиньей» - кухаркой «юного врача» из «Полотенца с петухом». Обращают на себя внимание «гонорары», привозимые больными крестьянами, и поведение Юрия Живаго: «Но всегда какая-нибудь добрая душа на краю света проведает, что в Барыкине поселился доктор, и вёрст за тридцать тащится за советом, какая с курочкой, какая с яичками, какая с маслицем или ещё чем-нибудь. Как я ни отбояриваюсь от гонораров, от них нельзя отделаться, потому что люди не верят в действенность безвозмездных, даром доставшихся советов. Итак, кое-что даёт мне врачебная практика» [IV: 277].
93
Часть данного параграфа, включающая анализ заговора Кубарихи, опубликована: [Буров 201 Ов].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
289
Эти «гонорары» отсылают к рассказу «Звёздная сыпь», в котором в благодарность за необнаруженный сифилис женщина приносит «юному врачу» «два фунта масла и два десятка яиц». Герой записывает: «И после страшного боя я ни масла, ни яиц не взял. И очень этим гордился вследствие юности» [Булгаков 2002,1: 92]. Ср. с этой женщиной, муж которой болел сифилисом, но не принял мер к лечению, жену Памфила Палых Агафью. Эта соотносимость открывает возможную причину «бегунчиков» Памфила Палых, его «сознательности», ценимой красными, и убийства им семьи - последствия сифилиса.
Живаго при обмене полотенца на ползайца не присутствует и женщины не видит, иначе он мог бы узнать в ней Устинью, а в интертекстуальном плане - Аксинью и бывшую пациентку булгаковского «юного врача». Женщина эта так же «дерзко» и своеобычно вступает в разговор с Тоней, как выступает на митинге в Мелюзееве Устинья. Связь этой безымянной женщины, а точнее тождество, с Кубарихой обнаруживается благодаря тому, что солдатка поёт «какую-то старинную русскую песню» про «заюшку» - томящегося в плену «солдата-ратничка», что прямо соотносится с пленным Юрием Живаго, вынужденным участвовать в боях. «В конце ряда стояла женщина в чёрном платке с пунцовыми разводами. Она заметила полотенце с вышивкой. Её дерзкие глаза разгорелись. <...>- Отдай, говорю, полотенце за полоток. Ты что глядишь? Чай, не собачина. Муж у меня охотник. Заяц это, заяц» [IV: 218].
Внешность женщины соотносится со строками стихотворения А.А. Блока «Россия» (18 октября 1908): «Да плат узорный до бровей...», «Мгновенный взор из-под платка» [Блок, III: 254-255]. Чёрный платок, белое лицо женщины, пунцовые разводы на платке, а также тёмная одежда Тони, белое полотенце, красные «петухи, парубки, дуги и колеса» - это два варианта цветов, обозначающих три главные фазы Великого Делания алхимиков. Те же цвета даёт обстановка и облик представителей новой власти - матросов: чёрный цвет одежды местных жителей, приезжих и матросов, белый цвет снега и лиц, красный цвет флагов и звёзд на бескозырках. Взаимная заинтересованность женщины и Тони в обмене объясняется тем, что для женщины важен переход от «белой» фазы Великого Делания к «красной», символизируемый цветами полотенца. Для Тони важен этот же переход, но не на символическом, а на материальном уровне - обычно белый зимой заяц в данном случае ободран и являет красный цвет мяса (но поскольку он зажарен - коричневый). Кроме того, белый заяц в алхимии «символизирует сверхъестественного проводника, пришедшего на помощь алхимику, спускавшемуся в недра земли» [Ютен 2005: 216]. Заяц - «это “ускользающий” Меркурий в роли вожатого (оВтпчх;)» [Юнг 1996: 10]. Его разрубленность пополам указывает на дефективность его гермафродитизма как Меркурия, изжаренность - готовность его как «алхимического» продукта, однако то, что он зажарен (на открытом воздухе), а не сварен (в кастрюле, тождественной герметичному алюделю), свидетельствует о его профанности, выказывающей профанность того «храма», к которому направляется доктор, а также то, какого рода инициация и «философский камень» его ждут. Неслучайно поэтому, что зайца-«во
290
Глава 3
жатого» съедает такой же профанный «вожатый» - вынужденный спутник Юрия Живаго Костоед.
Будучи алхимическим символом «проводника», заяц мог ассоциироваться у Пастернака и с поэзией как «проводником» в жизни. Именно зайца Пастернак, «смущённый» в Марбурге «живым очарованием природы», с изумлением упоминает в письме к Ж.Л. Пастернак и родителям от 4/17 мая 1912 г. [VII: 91, 98]. В Марбурге происходит рождение его как поэта и отказ от «теории» в пользу «природы», о которой он так много пишет тогда родным, «выбор из дилеммы между “жизнью” и “умозрением” в пользу “жизни”» [Лавров 2007: 316].
Поскольку Костоед как «вожатый» и надоедающий спутник доктора представляет собой фигуру, зеркально параллельную такому же «проводнику» Юрия Андреевича -Клинцову-Погоревших, дарящему доктору селезня (а не утку, что значимо как указатель на разделённость полов и дефективность гермафродитизма «ускользающего» Меркурия), то охотником, убившим зайца (поэзию) и разрубившим его надвое, предстаёт тот же Клинцов-Погоревших.
Если половина разрубленного зайца корреспондирует с песней Кубарихи о «заюш-ке»-Живаго, то реплика «чай, не собачина» - с идентичной трансформацией, а именно с тем, что часть партизан «превращается» в собак: «Не хватало зимней одежды. Часть партизан ходила полуодетая. Передавили всех собак в лагере. Сведущие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих шкур шерстью наружу» [IV: 354].
Пастернак в обоих случаях вступает в диалог с Достоевским, который заметил в «Записках из Мёртвого дома», что «собака вообще у всего простонародья считается животным нечистым, на которое и внимания не следует обращать» [Достоевский, IV: 191], и описал именно то, что делали с собаками партизаны: обитатели острога использовали для выделки их кожу и шерсть.
Убийство собак партизанами отсылает также к двум историческим эпохам, отмеченным массовой резней. Это время Ивана Грозного, когда опричники приторачивали на седла собачьи головы, изображённое в «Князе Серебряном» А.К. Толстым, и время, кульминацией которого была Варфоломеевская ночь. Возможно, Пастернаку была известна «знаменитая миниатюра Тристибуса Галлия», которая, по мнению Г. д’Орсе, «является на самом деле не чем иным, как прямым подстрекательством к массовому истреблению гугенотов, которые изображаются на ней с головами собак, а собака <...> была у гульярдов иероглифом убийства» [д’Орсе 2006: 62].
Двойничество, если не тождественность, безымянной «крестьянки» с Устиньей поддерживается зеркальным соответствием эпизода торговли и обмена, происходящего «за углом станции» [IV: 218], и эпизода, в котором описывается митинг на площади в Мелюзееве. В осевом положении - Москва. Однако все рассматриваемые сцены «Доктора Живаго», в которых присутствуют женщины-«колдуньи», в качестве «восточных» соотносятся с «западным», «венецианским» эпизодом из главы 19 части второй «Охранной грамоты». Ср. Устинью, безымянную «крестьянку», Галузину и Кубариху с венецианка
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
291
ми на пьяцце: «Среди гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем сеявшие обольщение. Они оборачивались на ходу, точно с тем, чтобы оттолкнуть и уничтожить. Вызывающе изгибая стан, они быстро скрывались под портиками. Когда они оглядывались, на вас уставлялось смертельно насурмлённое лицо чёрного венецианского платка. Их быстрая походка в темпе allegro irato страно сответствовала чёрному дрожанью иллюминации в белых царапинах алмазных огоньков» [III: 208-209].
Указанные четыре сцены расширяют количество изображений Венеции в творчестве Пастернака, в частности - в «Докторе Живаго», отмеченных Вяч. Вс. Ивановым и И.П. Смирновым (см.: [Смирнов 1995: 146-147]). К таким сценам можно отнести и стук в окно, который маленький Юра слышит ночью после похорон матери [IV: 8].
Однако, кроме ассоциаций с блоковским олицетворением России, а также «направленной на мужчин женской агрессивности» Настасьи Филипповны из «Идиота» Ф.М. Достоевского [Смирнов 1995: 39^40,43], описание одежды и лица безымянной «крестьянки» отсылает к одежде и лицу поэта из Иваново-Вознесенска Анны Александровны Барковой (1901-1976), которая, таким образом, является ещё одним, кроме Ахматовой, и противопоставленным последней прототипом рассматриваемых героинь «Доктора Живаго», и в особенности безымянной женщины. Внешность Барковой ко времени её литературного дебюта в 1918 г. подверглась таким же преображениям, как внешность Устиньи, превратившейся в безымянную «крестьянку», а затем в Кубариху. Приведём отрывок из очерка Л.А. Аннинского о Барковой, некоторые детали описания которой соотносятся с рассматриваемыми женскими персонажами «Доктора Живаго».
«Её имя, сверкнувшее на небосклоне молодой советской поэзии, потом выжженное оттуда калёным железом и лишь после её смерти возвращённое в литературу, собственно, -имя сразу связалось с Ахматовой, и это понятно уже хотя бы потому, что эта Анна оказалась воспринята именно как антипод той Анны. Но фамилия! Не дьявольская ли шутка - получить фамилию знаменитого охальника XVIII века, автора и героя чуть не всех скабрезностей русской лирики, не имея с ним ничего общего!» [Аннинский 2003].
Ср., кстати, с тем, что «непристойные куплеты о дуре Сететюрихе» «в Крестовоздвиженске пелись», как подозревала Галузина, «с намёком на неё» [IV: 312], хотя на самом деле к ней не относились. Так косвенно обозначается ложная связь Барковой как прототипа женщин из «Доктора Живаго», в данном случае Галузиной, с И.С. Барковым. Лавочница, вернувшись домой, упоминает в разговоре с Ксюшей о Кубарихе, которая до того, как петь о «заюшке», «с крикливым подвизгиванием выводила что-то весёлое, разухабистое, наверное, какие-то частушки» [IV: 360] - возможно, те же скабрезные куплеты о Сентетюрихе. Заметим, что интертекстуальные намёки на Баркову и Баркова нисколько не конфликтуют с тем, что «в опубликованных текстах “Сентетюрихи”, цитируемых Пастернаком по книге В.П. Бирюкова “Дореволюционный фольклор на Урале” (Свердловск, 1936, с. 85), нет ничего непристойного», а также и с тем, что «их “скабрезные” варианты, возможно, приходилось слышать Пастернаку во время неоднократных поездок на Урал» [Пастернак 1989-1992, III: 703]. С одеждой безымянной «кре
292
Глава 3
стьянки» и Кубарихи, их «древнерусскостью» и «оборотничеством» сотносятся одежда, внешность (особенно платок, глаза), псевдоним и социальное автопозиционирование Барковой, которая в 1917 г. «оставляет гимназию. Поступает репортёром-хроникёром в местную газету “Рабочий край”. Берёт псевдоним “Калика Перехожая” и - преображается: курносая огненнокудрая гимназистка облачается в длинную чёрную рабочую юбку и в длинную же кофту... Не исключено, что эти пелены должны скомпенсировать малый рост, но главный их смысл - знаковый: отныне она пролетарка. Голова покрыта чёрным платом с яркими цветами, из-под плата сверлят мир глубоко сидящие острые глаза, сзади струится длинная медно-рыжая коса... Газете, в которой она проходит рабочее крещение, суждено прогреметь на всю Россию. В 1918 году её редактирует Во-ронский» [Аннинский 2003].
Крут контактов Барковой, приехавшей в 1922 г. в Москву, частично тот же, что у Пастернака. И наиболее значимые в этом отношении фигуры - А.К. Воронский и А.В. Лу-од начарскии .
«Нарком просвещения Луначарский, приехавший в Иваново-Вознесенск смотреть кадры, очарован. “Я нисколько не рискую, говоря, что у товарища Барковой большое будущее”. Больше: он “вполне допускает”, что товарищ Баркова “сделается лучшей русской поэтессой за всё пройденное время русской литературы”. <.. .> Сами пролеткультовцы мгновенно чувствуют, что в их расчисленное созвездие летит противозаконная комета. Едва нарком отводит её в Дом Журналистов, чтобы продемонстрировать московским экспертам, как сыплются искры. В защиту выступает только Пастернак. “А Малашкины, Малышкины, Зоревые, Огневые (фамилий уж не помню, - не без издевки заметит Баркова пол века спустя) усердно громят...”. Что же ей клеят? Чертовщину, мистику, декаданс, анархизм, бандитизм. Патологию. Вообще даже не определишь... “Любопытный и жуткий образец... ущемлённой девицы”. “Ахматова в спецовке”. Последнее, как сказал бы Блок, небезынтересно. Блок тоже что-то чует, записывает в дневнике: “стихи Барковой из Иваново-Вознесенска. Два небезынтересных”. Баркова отвечает, роняя в одном из писем: “Блочки, Ахматочки” Ходит даже такое: “Россия раскололась на Ахматовых и Барковых”. Сцеп по противоположности, раскол по сцепу. <.. .> в 1922 году нарком просвещения устраивает ей переезд из Иванова в Москву. Он оформляет её своим личным секретарем и поселяет в своей квартире. В Кремле. Пара лет, проведённых Барковой в секретариате Наркомпроса, - неповторимая школа. Школа психологическая: “по одному взгляду на человека решить, можно ли пускать его к Луначарскому”» [Аннинский 2003].
В том же 1922-м вышла первая и единственная книга стихов Барковой - «Женщина» - с восторженным предисловием Луначарского. Устинья, «пробирающаяся» среди людей, чтобы выступить на митинге в Мелюзееве, трижды названа «женщиной». Так же постоянно определяются безымянная «крестьянка», обменивающая Тоне ползайца, Галузина и Кубариха. Чтобы послушать Кубариху, Юрий Живаго так же, как Устинья, «пробирается по стёжке» среди деревьев [IV: 360]. С 1924 по 1929 год Баркова работала
94 О взаимоотношениях и контактах Пастернака с последними см.: Флейшман, 2003а; 2005.
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
293
в «Правде». Дальнейшая судьба Устиньи-Кубарихи вполне могла воспроизводить судьбу Барковой, а именно три тюремных срока: в 1934 - 5 лет лагерей, после которых ссылка, в 1947 - 10 лет лагерей в Коми АССР (освободилась в январе 1956-го) и в 1957 - 10 лет лагерей (в 1965 реабилитирована). Любопытно, что Баркова работала с 1922 г. в том же Наркомпросе, в библиотечном отделе которого в 1918 г. работал Пастернак95 и где он мог появляться и позже. Как указывают Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак, «с поэтессой Анной Барковой Пастернак познакомился на вечере её поэзии в Доме печати 5 мая 1922 г., где её стихи читал А.В. Луначарский. Баркова вспоминала, что чтение было принято в штыки поэтами-пролеткультовцами, которые обвиняли её в мистицизме, эстетизме, индивидуализме. Пастернак выступил в её защиту» [IX: 185].
В письме к Барковой от 13 сентября 1940 г., отвечая на просьбу о денежной помощи, обращённую к нему, по-видимому, как к профессиональному писателю, Пастернак замечал: «Разумеется, я Вас отлично помню» [IX: 184]. Несомненно, он помнил о Барковой и во время работы над романом. Рискнем предположить, что, несмотря на краткую переписку (два письма в 1940 г.), Пастернак, сумевший помочь Барковой через П.А. Кузь-ко и его жену Т.З. Лежепекову лишь в мае 1941 г. [IX: 193], так больше и не увиделся с нею, - Живаго не встречается с безымянной «крестьянкой», когда Тоня ходит обменивать полотенце. Ещё один довод в пользу такого допущения - сожаления Галузиной по поводу Юрия Живаго, которому она была готова заплатить за врачебную помощь и с которым так и не увиделась: «Говорили, знаменитость из Москвы в Юрятине, профессор, сын самоубийцы, купца сибирского. Пока я раздумывала выписать, двадцать красных кордонов на дороге наставили, чихнуть некуда» [IV: 314]. Эти сожаления - инверсия невозможности помочь Барковой деньгами даже заочно, о чём Пастернак писал ей 30 октября 1940 г.: «Я ниоткуда не могу добиться обещанного и заработанного и нарываюсь на грубости и униженья» [IX: 193]. Заметим, что ни у одной из трёх других женщин - Устиньи, безымянной «крестьянки» и Кубарихи - не возникает никаких «проектов» относительно задействования Юрия Живаго по его профессии.
Безымянная «крестьянка» (ср. с сельским происхождением Устиньи, о которой «говорили, будто она дочь сельского колдуна» [IV: 134]) стоит в конце ряда женщин, продающих и меняющих продовольствие, что свидетельствует о том, что она не желала оказываться среди них, поскольку, возможно, была не местная или занимала среди местных какое-то особое положение. «Полоток» Тоне она тоже предлагает как бы втайне от
95 «О кратком периоде, когда Пастернак служил в этом отделе (июль - сентябрь (?) 1918 г.), почти ничего не известно. Сохранились лишь два документа, свидетельствующие об этой службе поэта. Его имя значится в отчёте Московского библиотечного отделения Наркомпроса от 7 сентября 1918 года: “.. .Отделение ныне функционирует в составе следующих лиц: заведующий отделением - В.Я. Брюсов <...> секретарь - <Б.Л.> Пастернак, отказавшийся от своей должности с 16 августа”. <...> “Эмиссары - Я. Голо-совкер, оставивший свою должность по болезни 1 сентября, С. Мотовилова с 17 июля, В. Нилендер - с 1 сентября”. Второй документ - список эмиссаров библиотечного отдела на сентябрь 1918г., состоящий из одиннадцати фамилий. В нём указаны Б.Л. Пастернак (с 26 июля работает, утверждён с 1 сентября) и С. Мотовилова» [Парнис 2000].
294
Глава 3
окружающих. То, что Тоня путает или не различает слова - полоток96 (ползайца) и платок, ещё раз обращает внимание читателя на обе значимые детали, но смысл их сотне-сения так и остаётся неразъяснённым, что усугубляется почти тайным обменом. То, что ни у одной из крестьянок нет подобной еды, в тексте объясняется тем, что муж женщины - охотник. Однако остаётся вопрос о приготовлении. И он даёт ещё одну деталь, подтверждающую тождественность безымянной «крестьянки» и Устиньи, которая названа «бывшей белой кухаркой графини» Жабринской [IV: 134]. Тема охоты в мелю-зеевском участке текста связана с Клинцовым-Погоревших, который вручает Юрию Живаго, но для подарка его жене то ли утку, то ли селезня. Эта двоякая амбивалентность соотносится с такой же амбивалентностью вручённой Тоне половины зажаренного зайца, скрыто тождественного будущему «заюшке» - Юрию Живаго, «поделённому» с партизанами и «поделённому» с Ларой. Если из мужей женщин, собравшихся на станции, никто, кроме мужа безымянной крестьянки, не охотился, и никто, кроме неё, не умел приготовить жаркое из зайца, то это говорит об особом статусе супругов в селах округи. Получается также, что охотником этим может быть тот же Клинцов-Погоревших. Такой статус супругов, следовательно, идентичен положению Устиньи и Клинцова-Погоревших в Мелюзееве и Зыбушино. Значит, и там он, заместив после конца Зыбушинской республики «Христа»-Блажейко и приняв на себя его роль, был её мужем. Эти функции хлыстовских Христа и Богородицы сответствующим образом характеризуют деятельность обоих, на тот момент находящихся между Москвой и Уралом. Устинья и Клинцов-Погоревших (следовательно, «крестьянка» и её муж) являются выразителями двух противоположных способов создания революционной ситуации и порождения революции: обусловленного городской, «западной» культурой - и культурой народной, «восточной». На «богородичность» «крестьянки» указывают такие детали, как её страстное желание иметь полотенце с вышивкой (такими «сопровождали» иконы), её «лик» в «чёрном платке с пунцовыми разводами», а также словесный намёк на оклад иконы, который заполучила «крестьянка», тогда как Тоня завладела, сама того не зная, второй половиной мужа-«заюшки». При этом сохраняется и обоюдонаправленность «наклада» и «барыша»: «Мена состоялась. Каждой стороне казалось, что она в великом барыше, а противная в таком же большом накладе. Антонине Александровне было стыдно так нечестно объегоривать бедную крестьянку. Та же, довольная сделкой, поспешила скорее прочь от греха и, кликнув расторговавшуюся соседку, зашагала вместе с нею домой по протоптанной в снегу, вдаль уводившей стёжке» [IV: 218-219]. На симметрию обмена работает также разрубленность зайца на две части и разделённость иконы на лик и оклад, на Христа и Богородицу. «Позитивность» произведённого обмена являет собой контраст обмену, описанному в «Высокой болезни»:
Мы были музыкою чашек Ушедших кушать чай во тьму
96 По-видимому, это слово Пастернак слышал во времена своего пребывания на Урале.
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
295
Глухих лесов, косых замашек И тайн, не льстящих никому [I: 256].
Таким образом, если высказанные предположения верны, можно выстроить «линию жизни» Устиньи. Сначала она - «дочь сельского колдуна» в Зыбушино, «белая кухарка графини» в Мелюзееве. Затем безымянная «бедная крестьянка», живущая с мужем-охотником, встречающаяся Тоне на неизвестной станции между Москвой и Уралом. Далее, если допускать, что, отправившись за Урал, Устинья зовётся Кубарихой, Медведихой, Злыдарихой и имеет «ещё прозвищ с десяток» [IV: 314], она оказывается в Кежемской тюрьме - уже в Зауралье. Об этом читатель узнаёт от Галузиной. Наконец, под видом солдатки-лекарки Кубарихи она объявляется в партизанском отряде. Клинцов-Погоревших «теряется» до Урала и в итоге оказывается в Москве, соответствуя своему пониманию революции как явлению, происходящему в центре России и производному от западно-ориентированной культуры. Устинья-Кубариха, напротив, движется с волной революции, которая продвигается от Москвы на «Восток». В том же центре событий, на этой же волне - в партизанском отряде - оказывается Живаго.
Если исходить из того, что с Клинцовым-Погоревших Устинья рассталась перед Уралом навсегда, остаётся нерешённым вопрос о прототипе хозяйки, супруги «квартирохозяина» в Москве, которому Юрий Живаго и Марина носят дрова и которая получает плату от них вместо него. Если предположить, что Ксюша не осталась со студентом Блаженным (он же Фроленко), предположительно бежавшим на Дальний Восток или убитым в партизанском отряде, то это могла быть она. С доктором она до момента ношения им дров не встречалась, поэтому узнать его не могла. Поскольку прототипом Ксюши была, возможно, К.М. Синякова (Асеева), то на упомянутую безымянную хозяйку должны были перейти некоторые её черты. Однако никаких деталей, кроме расплаты с Юрием Живаго и Мариной, в тексте нет. Это объясняется, возможно, тем, что для Пастернака было важно зафиксировать отношение к доктору и Марине, исходящее от «квартирохозяина», «оскорбительно погружённого в какое-то чтение и не удостаивавшего пильщика и пилыцицу даже взглядом» [IV: 477]. Эта деталь выдаёт в также не названном персонаже - Асеева, ревностно читавшего произведения Пастернака до конца своих дней97, но относившегося к нему, как не названный Клинцов-Погоревших -к Юрию Живаго, которого он мог бы узнать, если бы «удостоил взглядом». Впрочем, эта деталь в образе «квартирохозяина», пожалуй, единственная, отсылающая к Асееву. В гораздо большей степени в тексте присутствуют намёки на других поэтов и идеи.
Важным претекстом сцены ношения дров доктором и Мариной является былина «Добрыня и Маринка», смысл которой, по мнению Б.Н. Путилова, «состоит в столкновении Добрыни как носителя народной культуры, высокой морали с Маринкой, воплощающей враждебные народу силы и чуждую мораль» [Былины 1957: 468]. Интертекстуальная связь с этой былиной, а также проекция на отношения с М.И. Цве
97
Перед смертью Асеев просил Л.А. Озерова прочесть ему «Спекторского» [Асеев 1983: 522-523].
296
Глава 3
таевой98 актуализируют в пастернаковском тексте вопрос о взаимоотношениях Юрия Живаго и Марины99 (они представляют собой вывернутые отношения персонажей былины), а также о превращениях героев («квартирохозяин», черкающий книги доктора, предстаёт как обращённый Змей Горыныч, бранящий Добрыню и изгоняемый им; Живаго, превратившийся в пильщика и вообще постоянно мимикрирующий, соотносится с Добрыней, превращаемым Маринкой в «гнедого тура»). Если Добрыня враждует с Маринкой и убивает её, то в «Докторе Живаго» это трансформируется следующим образом. Юрий Андреевич отвечает на упрёки друга: «Я рад, Гордон, что ты защищаешь Марину, как прежде был всегда Тониным защитником. Но ведь у меня нет с ними разлада, я не веду войны ни с ними, ни с кем бы то ни было. Ты меня упрекал вначале, что она говорит мне “вы” в ответ на моё “ты” и величает меня по имени-отчеству, точно и меня это не угнетало. Но ведь давно более глубокая нескладица, лежавшая в основе этой неестественности, устранена, всё сглажено, равенство установлено» [IV: 481].
Доктор, таким образом, лечит старые, «былинные» недуги отношений героя и женщины, в современности ставшие своими противоположностями. Отсутствие этой былинной вражды героя с женщиной актуализировано в сцене ношения дров доктором и Мариной (причём автор акцентирует внимание на том, что носит именно Марина: «Однажды Марина с Юрием Андреевичем <...> нанашивала запас дров». Здесь они заодно и делают одно дело, стараясь «не натащить с улицы опилок» [IV: 477], то есть не оставить следов, а скрытым противником предстаёт «квартирохозяин». В былине Марина носит дрова, чтобы разжечь огонь, и, используя следы, оставленные Добрыней, сотворить приворотный заговор:
И в те поры Марине за беду стало, Брала она следы горячие, молодецкие, Набирала Марина беремя дров, А беремя дров белодубовых, Клала дровца в печку муравленую Со темя следы горячими, Разжигает дрова палящатым огнём, И сама она дровам приговариват: «Сколь жарко дрова разгораются Со темя следы молодецкими, Разгоралось бы сердце молодецкое Как у молода Добрынюшки Никитьевича. А и божья крепко, вражья-то лепко»
[Былины 1957: 293].
98 О фольклорных (и других) ассоциациях, связанных с именем и фамилией Цветаевой, см.: [Войте-хович 2004: 420].
99 Повествователь называет её Маринкой, когда, будучи в шестилетнем возрасте, она приходит вместе с отцом Маркелом на «верхнюю площадку на внутренней лестнице у входа в спальню хозяев» [IV: 64], где тот собирает гардероб. Былинная Маринка, кстати, живёт в «высоких теремах», где привечает Змея Горыныча и куда не пускает Добрыню.
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
297
Поскольку действие в «Добрыне и Маринке» происходит «в стольном городе во Киеве» [Былины 1957: 292], постольку Москва в «Докторе Живаго» выступает скрытым антиподом этого города. В Москве завершается та история, что берёт начало в Кие-ве-«ином мире». Чтобы актуализировались древние оси ‘Москва - Киев - Иерусалим’ и ‘Москва - Византия - Рим’ (идея ‘Москва - Третий Рим’), Юрий Живаго должен был пройти испытания по линии ‘Запад - Россия (Москва) - Восток’.
Ориентация текста на былину свидетельствует о том, что даже пространство Москвы, куда стремился и пришёл доктор, дифференцировано на конкурирующие между собой [Смирнов 1981; 1997] пространства былинное и сказочное. Живаго и здесь продолжает ранее начатое движение с периферии к центру, только раньше от двигался из Сибири в Юрятин и далее в Москву, теперь же тайной целью его становится комната в Камергерском в самом центре Москвы. Исследователи уже отмечали связь смертей Маяковского и Юрия Живаго «с топографией центра Москвы» (см.: [Фатеева 2003: 56-57]). Выяснение того, какое значение имеет символичность топографических названий (в том числе и связанных с Маяковским) по отношению к судьбе главного героя, могло бы стать предметом отдельного рассмотрения.
Роль Кубарихи в партизанском отряде аналогична роли Устиньи как хлыстовской Богородицы в «тысячелетнем зыбушинском царстве», что ещё раз подтверждает: они, а также безымянная «крестьянка» - один и тот же человек. Поддерживается это и значением имени Кубарихи, образ которой неоднократно привлекал внимание исследователей100. Толковый словарь В.И. Даля даёт следующие смыслы слова «кубарь»: «волчёк; пустой шар на ножке, с дырою в боку, который дети спускают для потехи; употребляется и для физических опытов; зовут кубарём и глухую вертушку, погоняемую плёткою; пустой же кубарь зовут волчком, а пускаемое из рук веретенце с кружком: вертушкою, юлою, дзыгою».
Момент «верчения», таким образом, отсылает к хлыстам. Кроме того, Кубариха, рассказывая о превращениях и приворотах, учит Агафью (и одновременно Юрия Живаго) видеть «обратные стороны», изнанку вещей и явлений, что, кстати, служит для читателя сигналом к тому, как именно надо воспринимать не только её, но и других персонажей. Ещё один возможный источник имени Кубарихи - стихотворение А.С. Пушкина «Городок» (1815), в котором есть строки:
В трагическом смятенье, Пленённые цари, Забыв войну, сраженья, Играют в кубари...
[Пушкин, I: 88].
Прямая отсылка к этому тексту содержится в размышлениях доктора в Барыкине о ранних стихах Пушкина. Ср. также жизнь доктора в Барыкине с описаниями из «Город
100 См. обзор интерпретаций: [Cornwell 1986: 80].
298
Глава 3
ка». Ж. Женетт в работе «Палимпсесты» (1982) определяет такую метатекстуальность как отношение комментирования, «связывающее текст с другим текстом, о котором говорит первый текст; при этом, однако, тот не обязательно цитируется (упоминается) или даже называется... По самой своей сути это связь критического типа» (цит. по: [Коси-ков 2008: 54]; перевод Г.К. Косикова).
И.П. Смирнов связывает образ знахарки, одним из прозвищ которой было Медведиха, с «гротескно-пасторальным кинопримитивом» режиссера А.И. Медведкина - фильмом «Чудесница» (1936), в котором также есть сцена заговаривания коровы [Смирнов 20086: 335].
Наконец, имя Кубарихи имеет масонские эзотерические коннотации, которые не только не противоречат хлыстовским, но и имеют с ними много общего101. Масоны работают над приведением дикого камня - символа греховного человека - в совершенную кубическую форму. Ср. с этим камнем «гранитные глыбы», похожие «на плоские отёсанные плиты доисторических дольменов», возле которых был произведён расстрел 13-ти партизан, в числе которых были анархисты [IV: 351-352]. Из 13 спасся лишь один - Галузин, предстающий позже в роли Иуды в отношении Стрельникова. Роль Христа играет во время расстрела анархист Вдовиченко-Чёрное знамя, одним из прототипов которого был М.А. Бакунин [Смирнов 1996: 131-132], имевший патент на 32-ю масонскую степень ДПШР «Великого Востока Италии» и бывший «не только автором известного “Катехизиса революционера”, но и “Современного катехизиса франкмасонства”, где обосновывал революционную сущность вольного каменщичества» [Брачев 2007а: 62].
Говоря о соотношении между кубом и треугольником (ср. с «треугольными елями», обступавшими полянку, где находилась Кубариха), Ф. Бейли указывает, что «божественная троичность духа стремится выразить себя через кватернер материи, через низшую природу. Этот кватернер символизирует четыре царства природы, находящие свой синтез, завершение в человеческом царстве. Функция этого кватернера, или куба, - выразить качество Божественности. Стало быть, человека, куб, можно лицезреть в его четверичной природе (физической, жизненной, эмоциональной и ментальной), а деятельность его направлена на то, чтобы раскрыть внутреннее духовное «Я», чьи качества - три высших аспекта: воля, или сила, любовь, или мудрость, и духовный интеллект» [Бейли 2004: 83].
Куб соотносится и с крестом, что указывает на роль Кубарихи по отношению к Юрию Живаго как посвящающей в таинство Распятия. А.Э. Уайт даёт следующее толкование куба, позволяющее прочесть глубинные смыслы «посвящения», которое проходит доктор, слушая Кубариху: «Крест с Голгофы складывается в двойной куб, и этот куб может раскрыться только как крест. В науке мистиков из этого факта вырастает многозначительная символика, которая имеет и свои масонские аналогии <...>. Алтарь каждого христианского храма являет собой двойной куб, положенный набок, и такой может раскрыться в горизонтально лежащий крест, что повторяет положение креста на Голгофе, когда, согласно
101
На это многократно намекает и прямо указывал в своем романе «Масоны» А.Ф. Писемский.
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
299
традиции, на него прибивали Христа. Священная жертва мессы, помещаемая на алтарь, суть памятник этого Божественного события. На подобном алтаре душа каждого человека предлагает себя Господу в ответ на Его призыв. Но, с другой стороны, алтарь может представлять собой вселенную, и все, что следует класть на него, означает имманентность Божества творению. Когда кубический алтарь универсума открывается как космический крест, Бог имманентный становится Богом явленным. В плане микрокосма куб представляет человеческое тело с божественной природой, спрятанной внутри. Раскрытием этого куба является переход из пассивного состояния в активное, что манифестирует божество распятием зла внутри нас. Любой правильно организованный масонский храм представляет собой прямоугольник, положенный набок. Мы знаем, что он репрезентирует универсум и та священная работа, которая совершается внутри, соответствует Божественной работе в космосе. Тот же куб выступает в качестве символа цеховых степеней, раскрываясь в высших христианских степенях как Крест Христов» [Уайт 2003: 314].
Универсальность обряда инициации (а Юрий Живаго проходит именно инициацию -профанную у партизан и подлинную у Кубарихи) соответствует универсальности охвата действия первых трёх степеней масонского посвящения. С этим связана «всеядность» Кубарихи, смешивающей воедино обрывки знаний из разных сфер жизни, дающей слушателям темы для духовного познания космической драмы смерти и воскресения, соединяющей разум, интуицию и традицию.
И Устинья, и Кубариха высказываются против двух противоборствующих сторон, не делая разницы между ними: первая - против большевиков и меньшевиков, вторая -красных и белых. Юрий Живаго, практически не контактируя с ними и только слушая обеих, учится у них прозревать за внешним миром мир иной. Кубариха, как и Устинья, обладает чертами Ахматовой, отмеченными в цветаевском цикле «Ахматовой». Ср: «глаза, что черны от боли» из стихотворения «Златоустой Анне - вся Руси», внутренний трагический облик Ахматовой, отражавшийся в её лице, и её отношение к одежде - с глазами, внутренним обликом и отношением к одежде Кубарихи: «Она была в неизменной английской своей пилотке и гороховой интервентской шинели с небрежно отогнутыми отворотами. Впрочем, высокомерными чертами глухой страстности, молодо вычернившей глаза и брови этой немолодой женщины, на лице её было написано, до чего ей все равно, в чём и без чего ей быть» [IV: 362].
Кубариха тайно занимается тем, о чём прямо относительно Ахматовой говорится в начале стихотворения Цветаевой из того же цикла - «Ты, срывающая покров» (26 июня 1916):
Ты, срывающая покров С катафалков и с колыбелей, Разъярительница ветров, Насылательница метелей, Лихорадок, стихов и войн, Чернокнижница! - Крепостница! [Цветаева, I: 307].
300
Глава 3
Все четыре женщины (или: Устинья в трёх лицах и Галузина) и места, где они появляются, в той или степени соотносятся также с мемуарным очерком Цветаевой «Хлыстовки» (1934). Ср., например, описание дома и сада Жабринских в Мелюзееве с «ихним гнездом хлыстовским» (домом и садом хлыстовок) в Тарусе [Цветаева, V: 92-93]. Рассмотрение мелюзеевского повествования сквозь призму очерка Цветаевой позволяет найти объяснение многим деталям. Так, например, две дочери графини, которых Флери обучала французскому, соответствуют двум сёстрам Цветаевым - Марине и Асе, у которых была няня Августа Ивановна. Однако Жабринская, арестованная в 1917 г. в Петербурге, имела, конечно, и других прототипов, кроме матери сестёр Цветаевых Марии Александровны Мейн, умершей в 1906 г. Внимание привлекает также интертекстуальная «родственная» связь юного и восторженного Гинца с «чуть-чуть остзейским» выговором с дедушкой Цветаевой по материнской линии, который охарактеризован как «чинный остзейский немец». «Графинин сад» также контрастирует с садом из стихотворения «За обрывками редкого сада» (1913), вошедшего в книгу «Близнец в тучах». Но мелюзеевский особняк, превращённый в госпиталь, и окружающий его старый парк -это ещё и имение Самариных Измалково под Москвой102.
Ещё одной отсылкой к Ахматовой, а точнее - уже к её стихотворению «Борис Пастернак» (19 января 1936), написанному «в ответ» на пастернаковское «Анне Ахматовой» (1929), в связанном с Кубарихой повествовании является одна, на первый взгляд, незначительная деталь - это описание того, как Юрий Живаго, послушав, как «бушует», разговаривая со Свиридом, Ливерий, подходит к Кубарихе перед тем, как она запела песню о «заюшке» - значимо контрастирующую с радельными песнями хлыстов. Здесь же - и отсылка к «хлыстовке»-Цветаевой103: упоминание её любимой рябины, присутствующей во многих стихотворениях.
Интертекстуальную близость пространственно и по времени года смежных мест, где находится рябина, ягоды которой поздней осенью клюют птицы, где в «ужасную» погоду разговаривает с Ливерием Свирид и где растут «высокие, как горы, треугольные ели», рядом с которыми заговаривает корову Кубариха, определяет, в частности, стихотворение В.В. Хлебникова «Там, где жили свиристели» (март 1908):
Там, где жили свиристели, Где качались тихо ели, Пролетели, улетели Стая легких времирей. Где шумели тихо ели, Где поюны крик пропели,
102 Подробно об имении, интересе Пастернака к Д.Ф. Самарину и сходстве биографий Юрия Живаго и Самарина см.: [Поливанов К.М 2006: 43-45 и др.].
103 В письме к Пастернаку от 14 июля 1925 г. Цветаева, рассказывая о своём отношении к быту, писала: «Во мне протестантский долг, перед которым моя католическая - нет! моя хлыстовская любовь (к тебе) -пустяк» [Переписка с Цветаевой 2004: 119].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
301
Пролетели, улетели Стая лёгких времирей. В беспорядке диком теней, Где, как морок старых дней, Закружились, зазвенели Стая лёгких времирей. Стая лёгких времирей! Ты поюнна и вабна Душу ты пьянишь, как струны, В сердце входишь, как волна! Ну же, звонкие поюны, Славу легких времирей!
[Хлебников, I: 75-76].
Пастернак произвёл футуристическое разложение «свиристели» на «Свири-д» и «ели». Любопытно также значимое отсутствие в перечне птиц, клюющих ягоды рябины, обычных поздней осенью и зимой снегирей, от которых Хлебников произвёл «времирей». Ср. также воздействие на Юрия Живаго Кубарихи и вызванный благодаря ей образ Лары, на который доктор также соответствующе реагирует, со строками «Душу ты пьянишь, как струны, / В сердце входишь, как волна!». Треугольность напоминающих пирамиды елей и имя Кубарихи представляют собой обыгрывание кубизма как живописи будущего: футуристичными оказываются природа и «древность» учения знахарки.
Переход Кубарихи к песне «о заюшке» сигнализирует о приближении к ней Юрия Живаго и аналогичной разнице его состояний: «Тогда Кубариха запела по-другому, про себя и вполголоса, считая себя в полном одиночестве. Остерегаясь оступиться в болото, Юрий Андреевич в потёмках медленно пробирался по стёжке, огибавшей топкую полянку перед рябиной, и остановился как вкопанный. Кубариха пела какую-то старинную русскую песню» [IV: 360].
Так Пастернак отреагировал на посвященное ему стихотворение Ахматовой «Борис Пастернак»:
Звенит, гремит, скрежещет, бьёт прибоем И вдруг притихнет, - это значит, он Пугливо пробирается по хвоям, Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон [Ахматова 1998-2002,1: 426].
Как записала со слов Ахматовой Л.К. Чуковская, Пастернак просил Анну Андреевну изменить строку «Чтоб не спугнуть лягушки чуткий сон», которая была в первоначальном варианте текста104: «Она рассказала, что Борис Леонидович в её стихотворении, посвящённом ему, был недоволен строкой: «Чтоб не спугнуть лягушки чуткий сон».
104 Н.Б. Иванова позволяет себе оценить: «Лягушка была всё-таки лучше» [Иванова Н. 2001а].
302
Глава 3
Лягушка ему не понравилась» [Чуковская 1997,1: 18]. Впрочем, неудовлетворённость стихотворением была и у самой Ахматовой. Чуковская вспоминала, что, прочитав 6 марта 1940 г. ей стихотворение «Маяковский в 1913 году», Ахматова спросила: «Правда, это непохоже на мои стихи Пастернаку? Нисколько? Я рада, если так» [там же, II: 456-457]. Предпочтение «ясного» в своём отношении к ней Маяковского уже в 1940 г. выдавало неоднозначность отношения к Пастернаку, о котором Ахматова говорила: «Меня он любит, главным образом, за то, что я посвятила ему стихи, и за то, что я люблю его поэзию» [там же, I: 104]. Амбивалентность стихотворения «Борис Пастернак» становится особенно явной в заключении: «И вся земля была его наследством, / А он её со всеми разделил» [Ахматова 1998-2002,1: 427]. Эти строки звучат двусмысленно. Указывая на достоинство поэзии Пастернака, они в то же время содержат упрёк ему, который становится особенно ощутим на фоне участия Пастернака в писательских «дискуссиях» середины 1930-х, того места, которое ему стали отводить в официальной советской табели о рангах, лирического спада в его творчестве и ухода в переводы. И если неоднозначное отношение Ахматовой к Пастернаку в последующие годы склонялось к неприятию его поведения и романа, то отношение Пастернака, судя по выявленному в «Докторе Живаго» интертекстуальному предпочтению Ахматовой Маяковскому, имело тенденцию противоположную. Впрочем, это отношение подобно восприятию главным героем романа Кубарихи, которую доктор «в шутку звал» «своей соперницей» и «конкуренткой»105 [IV: 360]. Если явно здесь подразумевается «конкуренция» в медицине, то скрыто - в поэзии. Без большой натяжки можно, по-видимому, утверждать, что наличие/отсутствие контакта между Юрием Живаго и Устиньей-Кубарихой в Мелюзееве и в партизанском отряде то же самое, что между Пастернаком и Ахматовой.
Однако к Ахматовой имеет отношение и медицина. Едва ли не все дошедшие до нас письма Пастернака к Ахматовой, особенно 1920-х годов, проникнуты заботой о её здоровье106. В «Докторе Живаго», однако, эта забота инверсирована и проявлена лишь в случаях Галузиной и Кубарихи. Так, Галузина обеспокоена состоянием своего здоровья и в связи с этим высказывает Ксюше свои мнения о врачах, среди которых есть и Юрий Живаго, которого ей так и не удалось «выписать» (глава 5 части десятой). Кубариха,
105 Ср. с реакцией Пастернака на сетования Ахматовой во время их последней встречи на дне рождения Вяч. Вс. Иванова 21 августа 1959 г. Как вспоминает Вяч. Вс. Иванов, «Ахматова рассказала, что у неё попросили стихи для “Правды”, она послала “Летний сад”, но оказалось, что для газеты не подошло. Она прочитала: “Я к розам хочу...”. Пастернак в ответ прогудел: “Ну, вы бы ещё захотели, чтобы “Правда” вышла с оборочками”». См. также статью «Ахматова и Пастернак. Основные проблемы изучения их литературных взаимоотношений» - [Иванов Вяч. Вс. 1998-2009, II: 255-266].
106 К примеру, в письме от 28 июля 1940 г. о вышедшей книге Ахматовой Пастернак, упоминая о своём пребывании в больнице, тут же интересовался здоровьем Ахматовой: «Когда она вышла, я лежал в больнице (у меня было воспаление спинного нерва) <.. .>. После упоминания о больнице необходимо сказать, что я давно так замечательно себя не чувствовал, как этим летом. Если бы Вы почтили меня открыткой, сообщите, пожалуйста, как Ваши дела и здоровье» [IX: 181]. В телеграмме от 24 июня 1958 г., поздравляя Ахматову с днём рождения, Пастернак, в частности, писал: «Живу мыслью о Вашей бодрости и здоровье» [X: 341].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие 303
напротив, не болеет, а лечит и людей, и скот107, обладает способностью меняться, как в сказке, «превращаясь» в другого человека, мимикрировать, видеть и учить других видению сказочных перемен предметов и явлений, снимать сглаз и, вероятно, наводить порчу. Эта способность имеет к Ахматовой прямое отношение. В письме от 17 апреля 1926 г. Пастернак беспокоился по поводу нездоровья Ахматовой, отмечал её «сказочную» способность меняться и связывал её нездоровье с вероятностью сглаза108. «Но, Анна Андреевна, зачем Вы так небрежете здоровьем? Горнунг передает, будто Вы опять хвораете. А я-то на радостях написал Цветаевой (знаете, в тот вечер, что мы о ней говорили, она читала Вас в Лондоне) про сказочную перемену, которую нашёл в Вас, и эта радость успела там распространиться. Если бы я не верил в доброту всякого глаза, устремлённого на Вас, я бы из осторожности перестал заикаться о Вашем здоровье. При таком же убеждении мне хочется просить Вас положенья этого не колебать» [VII: 656].
В данном письме, написанном за 30 лет до романа, Ахматова, как и во всех рассматриваемых ситуациях «Доктора Живаго», выступает «в паре» с Цветаевой, которая послужила прототипом Кубарихи в не меньшей степени. Отметим также, что все четыре женщины - Устинья, безымянная «бедная крестьянка», Галузина и Кубариха - наделены впечатлительностью Ахматовой, которую Пастернак отмечал в надписи на книге «Сестра моя - жизнь», сделанной 6 июня 1922 г.: «Анне Ахматовой, поэту - товарищу по несчастью. Дичливой, отроческой и менее чем наполовину использованной впечатлительности и потому: - особо-исключительной жертве критики, неумеющей чувствовать и пытающейся быть сочувственной, жертве непрошенных и никогда не своевременных итогов и схем, с любовью от человека, который все силы свои положит на то, чтобы изгнать отвратительное слово “мастер” из прижизненной обстановки людей, осуждённых выражать себя и в этом выражении складывать, с клятвенным обещанием повысить требовательность века до тех натуральных норм, когда можно будет прохаживаться в размышлениях, не рискуя расшибить лба об неожиданную апофеозу и темени, при естественном отскоке назад, - об ещё более неожиданное и оправданное только принципом архитектурной симметрии развенчанье. Б. Пастернак. 6/VI 1922. Москва» [VII: 388].
Между тем ещё несколько лет назад (19 марта 1914 г.) Пастернак мог сделать следующую надпись на «Близнеце в тучах»: «Дорогому мастеру Валерию Яковлевичу Брюсову с любовью и преклонением - автор» [Пастернак Е. 1997:202]. Надпись Ахматовой содержит мотивы, сигнализирующие о масонском пласте значений - «никогда не своевременных итогов и схем», «прохаживанья в размышлениях», «принципа архитектурной симметрии». Стремление «изгнать отвратительное слово «мастер»» обусловлено не в последнюю очередь желанием спасти этот пласт значений от профанирующего выставления напоказ.
107 В этом можно усмотреть аллюзию на стихи Маяковского о животных-людях.
108 Ср. с фактически сбывшейся «молитвой» Ахматовой: «Дай мне горькие годы недуга» [Ахматова 1998-2002,1: 231].
304
Глава 3
Если «менее чем наполовину использованной впечатлительностью» в 1922 г. Пастернак характеризовал Ахматову, то в «Докторе Живаго» он произвёл, по меньшей мере, двойное удвоение этой впечатлительности, представив одну героиню в четырёх (если считать двойником Устиньи и Галузину) «перевоплощениях». Проведено в романе и «неожиданное и оправданное только принципом архитектурной симметрии развенчанье» - симметрично располагаются не только образы женщин, но и «сопровождающие», или выступающие в паре с ними, образы мужчин, которые представляют собой автопародии Пастернака, отталкивавшегося от своих кратковременных увлечений молодых лет: Клинцов-Погоревших профанирует интерес молодого Пастернака к анархизму и энтузиазм, вызванный революцией; Гинц - германо- и народофильство; Ливерий - поглощённость собой и веру в социальные преобразования, эпизодически появлявшуюся в начале 1930-х; «квартирохозяин» - налаженный быт и творчество. Развенчание на интертекстуальном уровне прототипов-женщин происходит в более, так сказать, щадящем режиме, чем развенчание прототипов-мужчин, и различается в обусловленности временем повествования - до октября 1917 года и после него.
Свидетельством тому, что все поэты-современники Пастернака, о которых выше шла речь - Маяковский, Асеев, Ахматова, Цветаева, Блок, Белый и др., находились в единой сфере самого пристального внимания Пастернака не только в период создания «Доктора Живаго», когда их личности и творчество были подвергнуты инверсирующей переоценке, но и в начале 1920-х годов, когда отношение к ним различалось лишь степенью творческой близости, могут служить, в частности, слова из письма Пастернака к Цветаевой от 14 июня 1922 г.109 Эти же слова отражают только что окончившееся формирование у Пастернака важного этапа видения особого места Цветаевой в ряду остальных поэтов: «Отчего, идучи со мною по Плющихе, не сказали мне Вы, слово в слово, следующего. “Б.Л., мне думается, Вы поэт, а следовательно, Вам почти не приходится восхищаться современниками. Может быть у Вас на памяти один такой случай (ранний Маяковский), все же остальные, даже и Блок, и Ахматова, и безукоризненно изумительный Асеев, только виды душевного довольства, удовлетворённости, почти что - нравственные оценки - признанье душевной порядочности, - и только. Я, думается мне, тоже поэт, Б.Л., и знаю по себе, как тяжко то, что так резко разнятся эти два разряда. Вот если Вы хотите пережить такое восхищенье, бурное восхищенье читателя на миг и почитателя на весь век свой, примите к сведенью, Борис Леонидович, а также передайте это и друзьям нашим, Асееву, Ахматовой и тени Блока, что случай восхититься так выдался на днях; и кстати: не говорите мне таким глупым голосом, будто это нивесть что такое, о приятии одной книжки Маяковским; Вы, как о бестактности, будете потом об этом жалеть. Если хотите принять душевную соленогромовую ванну - прочтите “Вёрсты”. Это -вёрсты поэзии. Говорят, их написала я”» [VII: 389-390].
109 С Барковой Пастернак познакомился лишь месяц назад, 5 мая, и она, скорее всего, была неизвестна Цветаевой.
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
305
К интертекстуальному обыгрыванию в рассматриваемых ситуациях «Доктора Живаго» личности и произведений каждого из названных поэтов следует добавить аналогичное инверсирование Пастернаком собственных текстов и эпизодов биографии. Некоторые из таких случаев мы рассмотрели.
Образ Кубарихи и её действия требуют отдельного внимания, в том числе и как яркий пример ориентации романа на народное творчество, причём немалую роль сыграли здесь работы о последнем, которые читал Пастернак. Подслушивание доктором песен, заговора, который произносит над коровой знахарка Кубариха, её поучений Агафье Палых, а также «встреча» Живаго перед уходом из партизанского отряда с рябиной становятся двумя моментами, решающими для «обратного» переключения ориентации текста романа с волшебной сказки вновь на былину, как это было до попадания доктора в плен к красным партизанам (либо иначе: с мифа - на сказку, а затем на былину), чем восстанавливается ориентация повествования на нормальный ход истории. В отличие от предыдущего пребывания в былинном пространстве (до попадания к партизанам), Живаго больше не обманывается и не допускает крупных ошибок в понимании происходящего и поведении110, он теперь научился учиться. Если «встреча» с рябиной кратка, то «не-встреча» с Кубарихой распадается на описания того, что знахарка делает: выводит весёлые, разухабистые частушки, поёт лирическую солдатскую песню и произносит заговор над коровой Агафьи Палых, перерастающий в поучение последней. Каждое из этих явлений фольклора вносит свою лепту в формирование того состояния «воина» Юрия Живаго, в котором он духовно совпадает с солдаткой Кубарихой и уходит из плена к семье и Ларе. Это совпадение обусловлено «метонимичностью» обоих в отношении настоящих воинов. Знахарка исполняет свои «произведения» в последовательности, обратной той, в которой они появлялись исторически, и тем самым учит Живаго правильному пониманию внутренней эволюции времени. Первыми доктор слышит частушки, и этому есть объяснение: «Серьёзная неудовлетворённость героини лирической песни браком оборачивается в частушке половой распущенностью, промискуитетом <...>. Частушка удерживает в себе даже дофольклорную архаику, например, культ рода, доводя его, впрочем, до абсурда» [Смирнов 1997: 33]. Затем следует «старинная русская песня», причём поётся она не от лица лирической героини, но от лица бегущего солдата, словно произносит её не Кубариха, а Живаго, который, следовательно, должен бежать, чтобы «совпасть» с исполнительницей (солдатом как героем песни). Для доктора значение того, что он услышал эту песню, состоит в том, что он учится правильно воспринимать историю, и в нём начинает созревать решение уйти. И.П. Смирнов отмечает: «Не излагаемая рассказчиком, переживаемая в момент исполнения песни история в фольклорной лирике не отчуждена от себя. История в этом жанре не нуждается в историке. В песенных текстах история предстаёт не как то, что было или будет, но как то, что есть, как присутствие. <.. .> В песне зачинается революционное сознание, которое, достигнув зрелости,
110 О правилах поведения сказочного героя см.: [Мелетинский и др. 2001: 51-52].
306
Глава 3
будет с эмфазой возвращаться к песне, к своему эстетическому истоку. Фактическая история вырастает из эстетики, из автономизации воображаемого. Песня не случайно исходит по преимуществу из женской и разбойной среды <.. .> В актуализации истории, революционности заинтересованы лица, не обладающие властью над культурой, дискриминируемые ею по половому признаку или предпочитающие участию в её власти самовластие, т. е. выбирающие, если верить Канту, Зло» [Смирнов 1997: 32].
Не случайно Пастернак написал песню-стилизацию, а не ввёл в текст романа настоящую фольклорную песню. Помещённая внутрь романа, эта песня теряет свою автономию за счёт того, что выдаётся за аутентичную. Авторство, приписанное солдатке, объясняется желанием соотнести революционное значение её песни для слушающего её доктора с таким же революционным значением для читателя стихов Юрия Живаго, составивших часть семнадцатую. И та, и другая революционности противостоят революционности в советском понимании. В древности песня имела то же могущество, что и заговор. Ср. авторское отступление в «Докторе Живаго» о русской песне: «Русская песня как вода в запруде. <.. .> Это безумная попытка словами остановить время» [IV: 360] - с характеристикой значения песни в древности, которую дал Афанасьев: «Как вой зимних вьюг мертвит и усыпляет природу и как оживляют-пробуждают её звуки весенней грозы, так ту же силу получила и человеческая песня; как шумная гроза проливает кровь-дождь и как вихри, рассеивая облака, останавливают дождевые потоки, так и вещее слово может то растравлять раны, то заживлять их и останавливать текущую кровь» [Афанасьев 1994,1: 424-425].
Заговор Кубарихи довершает демонстрацию для доктора обратного хода истории, вывернутости мира, в котором он находится, окончательно прекращает ложную, обращённую дифференциацию мифа и подводит Живаго к желанию не оставаться жалким членом крестьянского войска, которого всё равно ждёт смерть, но стать тайным властителем космоса. В вывернутом мире доктор ощущает себя двойником Кубарихи. Внешне он противоположен ей по половому признаку и по принадлежности к «этажам» культуры. Тайно он становится таким же борцом с дискриминирующим его бес- и антикуль-турьем революции, как знахарка, и выбирает Зло, которое будет тайно нести партизанам и безбожной власти. Так срабатывает другое имя солдатки - Злыдариха, то есть «дарящая зло». Для Юрия Живаго языческие боги и мифические существа, к которым обращается Кубариха, возвращаются с демонологического уровня, на который были «опущены» в древних летописях. В трактовке знахарки эти существа, а также их приметы и оставляемые ими знаки проясняют настоящую природу происходящего и действующих лиц. Доктор учится у неё видеть обращённую природу действительности и соответственно себя вести.
В структуре линейного пространства «Доктора Живаго» заговор находится на очень «мелком» уровне, но тем большее тайное значение он имеет. Сегменты текста, включающего заговор, соотносятся по модели 1 (2) - 3 - (4) 5 : 6. Смысл, порождаемый соотношением её составных, можно прояснить, вскрыв значение упоминаемых Кубарихой
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
307
фольклорных персонажей, явлений и действий. В этом помогают источники, которыми пользовался Пастернак. Как указывают комментаторы романа, «источником монолога Кубарихи послужили Б. Пастернаку сведения, почерпнутые из книги: Афанасьев А.Н. «Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов». Ч. I—III. М., 1865-1869. Выписки из этой книги сохранились (по-видимому, частично) среди подготовительных материалов к роману» [Пастернак 1989-1992, III: 707]. К сожалению, выписки эти не опубликованы. Не указано и то, с каких страниц труда А.Н. Афанасьева они сделаны. Между тем понимание значения заговора Кубарихи в плане инициации Юрия Живаго в партизанском отряде и того, чему именно учит его Кубариха как Яга, проявляющая свою тайную власть, важно для понимания романа как инверсии русской волшебной сказки в целом. Исходя из этого, мы проследим по трёхтомнику Афанасьева, какие функции выполняют упоминаемые Кубарихой персонажи и реалии. И учтём при этом, что речь Кубарихи, награждающей доктора сказочным «метафорическим даром прозревать сокрытое», - «это речь намекающая и обманывающая; она имеет скрытое значение, прямо противоположное непосредственно воспринимаемому» [Смирнов 1981: 54, 37], на что, впрочем, она сама указывает Агафье.
Труд Афанасьева был не единственным источником, использованным при написании заговора. Едва ли не большую роль сыграла статья А.А. Блока «Поэзия заговоров и заклинаний», написанная в октябре 1906 г. для тома «Народная словесность» под редакцией Е.В. Аничкова111. Том вышел в 1908 г. в составе «Истории русской литературы» под редакцией Е.В. Аничкова, А.К. Бороздина и Д.Н. Овсянико-Куликовского и был использован Пастернаком при работе над романом [IV: 650].
И трёхтомник Афанасьева, и статья Блока послужили Пастернаку не только источниками материала для заговора Кубарихи, но и представляют собой скрытый комментарий к нему, особенно это касается отношений человека с природой в древности. Отношение христианского духовенства и властей к колдунам и знахарям в давние времена, рассматривавшееся Афанасьевым, а позже Блоком, позволяло Пастернаку определить, в частности, суть противостояния Кубарихи и Ливерия, а поскольку Живаго учится у Кубарихи, то и древние основы оппозиционности доктора новой власти. Пастернак искал наиболее убедительное решение проблемы современного (до революции) противостояния интеллигенции и народа, которое остро чувствовал Блок, отразивший это в статье. Революция нашла для данной проблемы своё решение, Пастернак - своё, кардинально иное. Ниже мы покажем, что именно заинтересовало писателя у Афанасьева и Блока и что означают отражённые в тексте заговора Кубарихи имена и реалии.
111 Отмечаемый Вяч. Вс. Ивановым (в тезисах «О взаимоотношении символизма, предсимволизма и постсимволизма в русской литературе и культуре конца XIX - начала XX века») «параллелизм исследований фольклора (уже у Блока-студента) и его преображения в искусстве» [Иванов Вяч. Вс. 1998-2009, II: 122], вероятно, сказался в особенностях восприятия фольклора и его преображения в творчестве Пастер-
308
Глава 3
Прежде всего для него были важны трактовки заговоров, а также знахарей и колдунов, которые давали Афанасьев и Блок. Например: «Мирясь с тайнами окружающего мира, народ признаёт за отдельными людьми вещее знание этих тайн. Это - колдуны, кудесники, знахари, ведуны, ворожеи, ведьмы; их почитают и боятся за то, что они находятся в неразрывном договоре с тёмной силой, знают слово, сущность вещей, понимают, как обратить эти вещи на вред или на пользу, и потому отделены от простых людей недоступной чертой. <...> Знахарь живёт одиноко. У него есть особые приметы: мутный взор, свинцово-серое лицо, сросшиеся брови» [ИРЛ 1908: 84-85].
Пастернак, по всей видимости, руководствовался материалами Афанасьева и Блока при создании образа знахарки. При описании отношения Юрия Живаго к услышанному он использовал и собственные наблюдения. Так, впечатление, которое производит на доктора Кубариха, имеет биографическую основу. Оно подобно тому «волшебству» обращения с пространством и временем, о котором Пастернак писал 4 марта 1929 г. собирательнице и исполнительнице северного фольклора О.Э. Озаровской. В письме Пастернак вспоминал о совместном вечере О.Э. Озаровской и М.Д. Кривополеновой в Политехническом музее в 1915 году. Этот вечер был для поэта «столкновеньем с искусством в его цельной неожиданности» [Переписка 1983: 736], и многие детали сцены лесного заговора Кубарихи являются деталями сцены вечера в людной аудитории. Некоторые из деталей были в романе инверсированы.
В романе рассказчик, «совпадающий» с доктором, задаёт вопросы, но прямо не отвечает: «Отчего же тирания предания так захватила его? Отчего к невразумительному вздору, к бессмыслице небылицы отнёсся он так, точно это были положения реальные» [IV: 365]. Афанасьев указывает, что, «как скоро позабыты или изменены формулы, заклятие недействительно» [Афанасьев 1994,1:44-45]. Понимает ли то, что говорит, сама Кубариха, рассказчик оставляет под вопросом. Если не понимает, то заговор не будет действовать, и скот партизан обречён на смерть от сибирской язвы, а сами они на гибель. Доктор, слушая заговор, в итоге называет услышанное «бессмыслицей небылицы», что свидетельствует: смысл произносимого Кубарихе недоступен. Однако песня и заговор, составляющие целое, действуют на Юрия Живаго, и это указывает на их подлинность и, следовательно, понимание их знахаркой. Доктор узнает некоторые из первоисточников, следовательно, понимает смысл. Если же допустить, что заговор для него все-таки «бессмыслица небылицы», то он должен был бы оказаться недействительным. Однако заговор действует. Но вовсе не потому, что доктор правильно расшифровывает его, но ещё и потому, что заговор адресуется не ему, а корове и жене Палых.
Объяснения того, что «видит» Живаго, ответами на самом деле не являются, хотя и занимают их позицию. Рассказчик при этом учитывает объясняющий «ответ», который дал Блок: «Современному уму всякое заклинание должно казаться порождением народной темноты: во всех своих частях оно для него нелепо и странно. <...> Для нас, не посвящённых в простое таинство души заклинателя, в его власть над словом, превращающую слово в дело, это может быть смешно только потому, что мы забыли народную
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
309
душу, а может быть, истинную душу вообще; для непосвящённого с простою душой, более гармоничной, менее охлаждённой рассудком, чем наша, такое таинство страшно; перед ним не мёртвый текст, с гордостью записанный со слов деревенского грамотея, а живые, лесные слова; не догматический предрассудок, не суеверная сказка, а творческий обряд, страшная быль, которая вот сейчас вырастет перед ним, заколдует его, даст или отнимет благополучие или, ещё страшнее, опутает его неизвестными чарами, если того пожелает всемогущий кудесник» [ИРЛ 1908: 82, 92].
В романе указывается и на способности доктора как «современного ума»: «Юрий Андреевич был достаточно образован, чтобы в последних словах ворожеи заподозрить начальные места какой-то летописи, Новгородской или Ипатьевской, наслаивающимися искажениями превращённые в апокриф. Их целыми веками коверкали знахари и сказочники, устно передавая их из поколения в поколение. Их ещё раньше путали и перевирали переписчики» [IV: 364]. Ср. с характеристикой заговоров - [Афанасьев 1994,1: 43-45], а также с текстом Блока: «Итак, рецепты и заговоры совершенно однородны, и вот почему они помещены в одних и тех же рукописях. Есть также особые тетрадки, где помещены только заговоры. Такие тетрадки иногда попадаются в руки собирателей и учёных. В них масса грамматических ошибок, местами даже потерян смысл фраз; очевидно, они были очень распространены и переписывались столько раз, что под конец сами переписчики многого не понимали» [ИРЛ 1908: 86].
Отметим, что Пастернак обыграл структуру заговора, о которой писал Блок, указавший: «Две необходимых части заговора - пожелание и обряд, так называемая эпическая часть. Основная форма заговора, говорит А.Н. Веселовский, была двучленная, стихотворная или смешанная с прозаическими партиями; в первом члене параллели призывалось божество, демоническая сила, на помощь человеку; когда-то это божество, или демон, совершило чудесное исцеление, спасло или оградило; какое-нибудь действие его напоминалось типически; во втором члене являлся человек, жаждущий такого же чуда, спасения, повторения сверхъестественного акта. Разумеется, эта двучленность подвергалась изменениям: во втором члене эпическая канва уступала место лирическому моменту моления, но образность восполнялась обрядом, который сопровождал реальным действом - произнесением заклинательной формулы. Иногда может остаться одно пожелание, иногда только изображение символа» [ИРЛ 1908: 92].
В качестве пожелания можно рассматривать песню Кубарихи, завершающуюся сло-вами-автообещанием: «А и вырвусь я из плена горького, / Вырвусь к ягодке моей, красавице» [IV: 361]. Обрядом в этом случае является собственно заговор. С другой стороны, в качестве пожелания, предваряющего обряд, может выступать прямое пожелание Кубарихи Агафье, высказанное в конце монолога; обращённость пожелания к доктору выявляется тем, что перед ним появляется «призрак одной удивительной боготворимой головы» [IV: 365]. В обоих случаях присутствует и «пожелание», и «символ».
Как раз перед тем, как попасть к лесной прогалине и подслушать заговор Кубарихи, «ближе к сумеркам Юрий Андреевич перешёл тракт в том месте, где на днях Ливерий
310
Глава 3
пререкался со Свиридом. Доктор направлялся в лагерь. Близ поляны и горки <...> он услышал озорной и задорный голос Кубарихи, своей соперницы, как он в шутку звал лекариху-знахарку» [IV: 360]. Юрий Живаго, давно находящийся вне своего дома и идущий в лагерь (в профанный дом), прямо нарушает народную примету, на которую обратил внимание Афанасьев: «Тому, кто отправляется из дому, не должно переходить дороги; если же это случится, то не жди добра. Может быть, здесь кроется основа поверья, по которому перекрёстки (там, где одна дорога пересекает другую) почитаются за места опасные, за постоянные сборища нечистых духов» [Афанасьев 1994,1: 37].
Пастернак обыграл мотивы перехода дороги, перекрёстков. Ливерий и Свирид предстают в фольклорном плане в качестве «нечистых духов». То, что доктор пересекает тракт, является прямым игнорированием народной приметы. Такому же переворачиванию подвергается поведение Кубарихи. Именно поэтому её заговор оборачивается для Юрия Живаго «добром» - духовным видением Лары. Обращение фольклорного канона связано также с символической отождествляемостью перекрёстков и «скрещений», которых в романе множество, - с крестом христианским: «На Руси принято <...> хоронить <...> самоубийц на дорогах; перекрёстки потому и страшны народному воображению, потому и признаются за места полуночных бесовских сборищ, что они исстари были посвящаемы усопшим и состояли под охраною <.. .> блуждающих душ предков» [там же, III: 799].
Инверсия фольклорного канона проявляется и в речевой манере знахарки: «В самую раннюю эпоху слово как выражение духовных стремлений человека, как хранилище его наблюдений и познаний о силах обоготворенной природы и как средство для сообщения с богами резко отделилось от ежедневного обиходного разговора эпическим тоном и стихотворным размером. Священное значение речи, обращённой к божеству или поведавшей его волю, требовало выражения торжественного, стройного» [там же, 1:412]. Речь Кубарихи, напротив, обиходна, разговорна, нисколько не торжественна, в ней отсутствует всякая эпичность, и с богами знахарка на короткой ноге. Так, она зовёт «в гости» «тётку Моргосью». Возможно, это - испорченное, профанированное современностью и сниженное до свойской «тётки» имя богини Мокоши, входившей в древнерусский языческий пантеон. Между прочим, Афанасьев замечал: «Прейс считает Мокошь за богиню, соответствующую Астарте <...> Так же бездоказательно Хомяков видел в Мокоши богиню смерти» [там же, II: 267]. Кроме того, в имени «Моргосья» различимы «морг», «жмурики» (моргать - жмуриться) и «погост», иными словами, Кубариха зовёт «в гости» Смерть. Если в древности заклятие или заговор неотразимо действовали на того, к кому были обращены, то на Живаго заговор Кубарихи и её «наставление о колдовстве и его применениях» действуют так именно потому, что были обращены не к нему и представляли собой аналоги древних форм воздействия на богов и силы природы. Играют роль и обрядовые обстоятельства. Если в древности очень часто знахари приступали к делу рано утром и в чистом поле, что и отражалось в автоописаниях действий, то Кубариха заговаривает корову на прогалине среди густого леса, когда уже темнеет, «ближе к сумеркам» [IV: 360]. «По русскому поверью, испорченные и больные могут ожидать
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
311
помощи не иначе, как с той стороны, откуда восходит красное солнышко: там сокрыта сила могучая, которая может противостоять всякой порче» [Афанасьев 1994,1: 416].
Доктор вскоре после того, как подслушивает Кубариху, уходит на ‘Запад’, в Юрятин, а затем далее - в Москву, тем самым являя собой указанную силу. Отправляться на ‘Восток’, как предлагает Комаровский, он категорически отказывается. С ‘Западом’ в древности связывалась идея ада [там же, III: 25], и потому уход Юрия Живаго на ‘Запад’ символически соответствует апокрифическому спуску в ад Христа. Доктор уходит в сторону Уральских гор, славящихся своими рудными запасами, и в день перед его решением «стояли трескучие морозы» [IV: 368]: «Из железных гор прилетают зимою Морозы, и сюда скрываются они на лето; вообще вьюги и морозы, по народному поверью, происходят от выхождения нечистой силы из адских вертепов. Отсюда же прилетают <...> коровий мор и другие болезни, обыкновенные спутницы и помощницы смерти» [Афанасьев 1994, III: 28].
Кубариха говорит «ступай» Агафье, но из лагеря уходит вскоре Живаго, а Агафью убивает муж. Заметим, что убийца Памфил Палых - бывший солдат. «Солдаткой» же, то есть вдовой убитого солдата, названа в романе Кубариха. Так зеркально сказывается «чародейная сила» слова, в которую верили «первобытные племена» [там же, 1:427] и в которую верила знахарка. Если в первые века христианства на Руси восстания против христиан «делались по наущению волхвов и кудесников», а христианство с «неприязнью и суровостью отнеслось к музыке, песням, пляскам и ряженью <...>, справедливо видело в них не одну простую забаву, но языческий обряд» [там же: 339], то Кубариха, обращённо используя языческие каноны, неявно учит Юрия Живаго христианскому «восстанию» против новых язычников - молчаливому уходу из партизанского лагеря. Заговор Кубарихи и уход доктора приурочены соответственно к зимнему солнцевороту и Рождеству: «Когда наступали самые короткие дни и самые длинные ночи в году, древний человек думал, что Зима победила солнце, что оно одряхлело, утратило свою лучезарность и готовится умереть, т. е. погаснуть. Но торжество злых сил продолжается не далее 12-го декабря - день, в который солнце поворачивается на лето и который поэтому слывёт в народе поворотом, поворотником и солоноворотом. <...> После зимнего поворота солнце мало по малу начинает брать верх над демонами мрака <...>. В этом переходе от постепенной утраты к постепенному возрастанию светоносной силы солнца предки наши видели его возрождение или воскресение <...>. Так как около того же времени христианские правила установили праздновать Рождество Спасителя, называемого в церковных песнях “праведным солнцем, пришедшим с востока”, то древлеязы-ческий праздник рождающемуся солнцу и был приурочен к рождественским Святкам» [там же, III: 730-732].
Интертекстуальный анализ даже одного участка текста (заговора) показывает, что текст способен эманировать огромный пласт языческих представлений древних славян, причем не только восточных, но зачастую западных и южных. Пастернак ввёл «сигнальные» детали этого пласта методом инверсирования. Таким же образом он воспроизвёл
312
Глава 3
целую историческую ситуацию борьбы нововведённого христианства с древним язычеством: современным деятелям типа Ливерия, которые являются новыми язычниками, выворачивающими наизнанку христианство и борющимися с ним, противопоставлены «неграмотные бабы» [IV: 336], в частности Кубариха, которые за внешней «бредовой вязью» [IV: 363] профанированного язычества тайно несут живое слово вечно нового христианства; символизму Блока скрыто противопоставлен «магический реализм» того, что происходит во время заговора с Юрием Живаго.
Заговор Кубарихи как кульминация «поруганной сказки», в которую попал доктор, актуализирует его общее отталкивание от романтического мировосприятия, вновь акцентирует его «реалистические» предпочтения и обозначает позицию Пастернака по отношению к триаде ‘постсимволизм - символизм - реализм’. Сказка выступает здесь важнейшим средством, за счёт которого обеспечивается приоритетность реализма как для героя, так и для автора. В конце заговора перед доктором возникает «магически реальное» видение головы. Как пишет И.П. Смирнов, «реалистический текст всегда показывает актуализацию иновозможности. В этом освещении его персонажи зеркально подобны центральным персонажам волшебной сказки, которые также проходят через серию испытаний; сказочные испытания, однако, завершаются актуализацией невозможности, а не иновозможности (такого рода отрицательное соответствие иногда тематизируется реализмом - ср. мотив подменённого Ивана-Царевича в Бесах Достоевского); иначе говоря, в сказке герой актуализирует ту возможность, которой ему недоставало; в реалистическом же повествовании герой воплощает в жизнь потенцию, прямо противоположную той, которой он обладает» [Смирнов 2000: 65-66 {в сотрудничестве с И.Р. Деринг-Смирновой)].
Проведённое нами рассмотрение линейной структуры «Доктора Живаго»112 позволило определить следующие условно названные семь композиционных уровней романа: книги - субтексты - части - блоки - фрагменты - элементы - сегменты. Заговор Кубарихи располагается в Восточном Основном субтексте, охватывающем партизанские главы романа (с части 10 до части 12 включительно). Данный субтекст состоит из пяти частей, подразделяющихся на блоки. Заговор является вторым, осевым, блоком части д):
часть д) новое стойбище (капище, Кубариха, рябина) (ч. 12, гл. 1-9):
блок 1. (5 фрагментов) капище (гл. 1-5)',
блок 2. (3 фрагмента) Кубариха (гл. 6-7)',
блок 3. (5 фрагментов) рябина (модель 1(2) -3- (4)5) (гл. 8-9).
Все 3 фрагмента осевого блока 2 «посвящены» Кубарихе, выполняющей роль лесного учителя и в то же время сказочного помощника по отношению к Живаго. Кубариха не знает о присутствии доктора, который в шутку звал её соперницей. О том, что знахарка знает доктора или что-нибудь о нём, а также когда-либо видит его, не сообщается. Поток информации во всех трёх фрагментах однонаправлен: от Кубарихи - к доктору.
112
См. подробно: [Буров 2007в].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
313
Однако между ними всегда оказывается «посредник», к которому формально обращается (или не обращается, как во фрагменте 1, и - иным образом - во фрагменте 3) Кубариха. Так противопоставлены подлинная, невидимая учёба (доктор учится у Кубарихи в фрагменте 1 и фрагменте 3) и профанная, наглядная (напротив, Кубариха учит Агафью в фрагменте 2). Именно после учёбы у Кубарихи удаётся Юрию Живаго четвёртая попытка ухода от партизан.
Фрагмент 2 - ситуация до разговора (элемент 1) и разговор Кубарихи и Агафьи Фо-тиевны Палых (элемент 2).
Элемент 1, который ниже мы проанализируем на предмет перекличек с текстами Афанасьева и Блока, включает собственно заговор, состоящий из шести сегментов, соотносящихся по модели 1(2) - 3 - (4)5 : 6. С2 и с4 - промежуточные. Это обращения к Агафье с повтором слов «всё надоть знать». СЗ - осевой - включает два компонента: о том, как русалка «дочке своей венок плела», и красном «флаке» - «девки-моровухи манком малиновом платке». С1 и с5 содержат по три компонента. С1 - обращения к «тётке Моргосье», к корове Красавке, к «страфиле, страшиле». С5 - обещания о «присушке» «хошь, твоего над вами начальника, Лесного вашего, хошь, Колчака, хошь, Ивана-царевича»; о ноже, вонзённом в снег и вытащенном в крови; о пришивании следа («присушке») «хошь Колчака, хошь Стрельникова, хошь нового царя какого-нибудь» [IV: 363-364]. С6 - это экскурс Кубарихи в историю, противопоставленный повседневности предыдущих пяти сегментов.
Элемент 2 - внутренний монолог Живаго, состоящий из шести сегментов. Здесь также, но зеркально иначе, чем в элементе 2 фрагмента 1, когда доктор стоит один посреди топи на стежке и слушает Кубариху, представлено его одиночество. Контраст этих двух элементов проводится по признаку обращённости внимания: вовне - вовнутрь. В cl речь идёт о предмете обожания-жертве и сострадании к женщине; в с2 - об узнавании доктором в словах Кубарихи «начальных мест какой-то летописи, Новгородской или Ипатьевской»; в сЗ - о «тирании предания», которое захватило доктора. К с4, который параллелен сб, относится «приоткрывание левого плеча» Лары. Осевой с5 включает два контрастирующих компонента: о чувствах Юрия Живаго к Ларе и о его участи у партизан. А сб - описание «плаката на большущем полотнище» с «призраком одной удивительной боготворимой головы». Интертекстуальная отсылка к поэме А.А. Блока «Двенадцать» (в сб), уже сама содержащая скрытую полемику с Блоком, противопоставляется отсылке к Новгородской или Ипатьевской летописи. Это сопоставление задаёт исторический диапазон культурных пластов, «сквозь» которые прочитывается текст.
В элементе 3, параллельном элементу 1, чисто формально обращаясь к Агафье, поскольку главным воспринимающим её наставленья оказывается доктор, Кубариха наказывает: «Молись Божьей Матери. Се бо света чертог и книга слова животного» [IV: 365]. Слова Кубарихи, профанно выражающей веру в Божью Матерь, воспринимаются Юрием Живаго как содержащие веру подлинную, отвечающую живой потребности души и духа. Значимость этих профанных внешне, но подлинных внутренне слов Кубарихи противо
314
Глава 3
поставляется значимости для доктора текста 90 псалма в «печатном виде и во всей своей славянской подлинности», который он находит на груди «убитого» им Ранцевича. Элемент 3 включает три сегмента: cl и сЗ - обращения к Агафье, осевой с2 - о себе: «Корову твою отчитала я - выздоровеет».
При параллельном чтении Пастернака (заговора Кубарихи), Афанасьева и Блока обнаруживаются множественные переклички. Ниже мы рассмотрим сегменты элемента 1, а также элемент 3.
Пастернак (с! элемента 1): «Тётка Моргосья, приди к нам в гости. Овторник-середу, сыми порчу-вереду. Сойди восца с коровья сосца. Стой смирно, Красавка, не переверни лавку. Стой горой, дой рекой. Страфила, страшила, слупи наскрозь, струп ше-лудовый в крапиву брось. Крепко, что царско, слово знахарско» [IV: 363].
Афанасьев. «Поэтические воззрения славян на природу» '. «В образе коровы издревле олицетворялась чёрная молниеносная туча, а с этою последнею были нераздельны представления нечистой силы и смерти» [Афанасьев 1994, III: 524].
Ср.: «В Сибири разводили какую-то одну премированную швейцарскую породу. Почти все в одну масть, чёрные с белыми подпалинами, коровы не меньше людей были измучены» [IV: 361].
Заметим, что именно швейцарской подданной оказывается ещё одна «Яга» в романе - мадемуазель Флери.
«Коровья Смерть нередко принимает на себя образ чёрной собаки или коровы и, разгуливая между стадами, заражает скот. У нас её называют Морною коровою. <.. .> У словенцов чума рогатого скота олицетворяется пёстрым телёнком: своим мычанием этот оборотень умерщвляет коров и овец» [Афанасьев 1994, III: 115].
«Как небесные стада теряют молоко и иссыхают от ударов молнии, так точно от взгляда ведьмы пропадает молоко в грудях матери и чахнет её ребёнок; сглазу приписываются и болезни домашнего скота» [там же: 522].
В романе, напротив, «Яга»-Кубариха лечит, хотя Свирид упрямо называет её «ба-бой-ветренянкой», то есть насылающей моровое поветрие, ветряную оспу или чуму. Во время заговора Кубарихи в небе «громоздились друг на друга снеговые чёрно-белые облака над лесною прогалиной» [IV: 361]. На прогалине теснился скот, а Кубариха отчитывала принадлежащую Агафье корову Красаву, которую даже по имени нельзя отличить от других - ср.: «Иногда для отвращения заразы крестьяне свечеру загоняют весь деревенский скот на один двор, запирают ворота и караулят до утра, а с рассветом начинают разбирать коров; если бы при этом оказалась лишняя, неизвестно кому принадлежащая корова, то её принимают за Коровью Смерть, взваливают на поленницу и сожи-гают живьём» [Афанасьев 1994, III: 523].
Имя Кубарихи напоминает слово «кубарем» и содержит, следовательно, семантику падения, «падежа» (скота). Также оно, возможно, включает в себя древнее именование «ба-сиха» («от басить - говорить») - «лекарка, женщина знающая заговоры» [там же, I: 408].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
315
«Предохранительную силу» от «пагубных замыслов ведунов и ведьм <.. .> даёт поверье <.. .> и жгучим травам, какова напр. крапива. <.. .> Накануне Иванова дня крестьяне собирают крапиву и кладут на окнах и порогах домов, чтобы удалить от себя ведьм, леших и нечистых духов. <.. .> Корову, у которой опухнет вымя, немцы лечат веником, связанным на Рождественские святки; этот же веник кладут на пороге хлева, когда выгоняют свои стада в поле» [там же, III: 497-498].
Опять-таки в «Докторе Живаго» порчу снимает сама ведьма (Кубариха), т.е. обычай выворачивается наизнанку. «Восца», которую она сводит с вымени коровы, является, по-видимому, «следом», оставленным «сложенными накрест восковыми свечами», которыми «прогоняют ведьм от коровников и конюшен» [там же: 499], т. е. свечами должны, как это следовало бы по обычаю, прогонять Кубариху, но в романе, напротив, это делает она, а «восца» появляется в качестве признака болезни (сибирской язвы). Крапива, в которую «Страфила, страшила» бросит «струп шелудовый», должна сжечь «восцу». Такие же свечи, но использованные для венчания, упоминались в связи с другой «Ягой» - Галузиной, и связаны они с отцом Юрия Живаго. Там же были букетики (представляющие аналог крестьянских веников из обряда отваживания ведьм), а также воск: «На выставке маленького тусклого оконца годами пылилось несколько картонных коробок с парными, убранными лентами и букетиками, свадебными свечами. За оконцем в пустой комнатке без мебели и почти без признаков товара, если не считать нескольких наложенных один на другой вощаных кругов, совершались тысячные сделки на мастику, воск и свечи неведомыми доверенными неведомо где проживавшего свечного миллионера» [IV: 309].
Кто такой «Страфила, страшила»? «В сербских приповедках, собранных В. Караджичем, Соломон поймал два страуса и не кормил их несколько дней, чтобы они хорошенько проголодались; затем привязал им за ноги большую корзину, сел в неё и поднял вверх на длинном рожне жареного ягнёнка. Птицы, желая схватить мясо, взмахнули крыльями и летели всё выше и выше - до тех пор, пока Соломон не ткнул рожном в небесный свод; тогда он повернул рожон вниз, и птицы опустились на землю. Название “Ног-птица” из переводных рукописей перешло в уста русского народа, и в наших сказках явилась птица Ногай, с которою совершенно тождественна Стратим или Страфил-птица стиха о голубиной книге (греч. (icpoucpot; - страус)113. Об этой последней духовный стих выражается так: «Стратим-птица всем птицам мати. / Живет Стратим-птица на океане-море (= на небе) / И детей производит на океане-море, / По божьему всё повелению. / Стратим-птица вострепенётся - / Океан-море восколыхнётся; / Топит она корабли гостиные / С товарами драгоценными». Итак, как скоро встрепенётся эта птица, от удара её могучих крыльев рождаются ветры и подымается буря» [Афанасьев 1994,1: 505-506]. У Афанасьева есть и толкование «страшилы»: «У славян домовые духи, производящие по ночам возню и стук, называются: <...> серб, страшило <...>; они показыва
113 Заметим попутно, что имя Стратим носит вымышленный персонаж в «Трагедии об Иуде Искариотском» (1908) А.М. Ремизова.
316
Глава 3
ются то лёгкими, воздушными привидениями, то принимают вид различных животных. Заметим, что и души усопших не только боготворились как существа добрые и дружелюбные; но ещё, сверх того, представлялись страшными привидениями, пугающими живых людей, насылающими на них беды и несчастия» [там же, II: 99].
О «замке», который должен замыкать заговор, Афанасьев пишет: «Когда древние молебные воззвания перешли в заклятия, чародейная сила их была признана именно за тем поэтическим словом, за теми пластическими выражениями, которые исстари почитались за внушение самих богов, за их священное откровение вещим избранникам: прорицателям и поэтам. Заговоры обыкновенно заканчиваются этими формулами: “слово моё крепко!” - “слово моё не прейдёт во век!” - “будьте слова мои крепки и лепки, тверже камня, лепче клею и серы, сольчей соли, вострей меча-самосека, крепче булата; что задумано, то исполнится!”» [там же, I: 420-421].
Блок «Поэзия заговоров и заклинаний»: Из заговаривания коровы, приводимого Блоком, Пастернак использовал лишь фрагмент: «Стой горой, а дой рекой» [ИРЛ 1908: 98].
«Часто, но далеко не всегда заговор кончается замыканием; в русских заклинаниях оно встречается чаще, чем в иностранных. Есть готовые формы для него: “слово моё крепко”, “замок моим словам”, “как у замков смычи крепки, так мои слова метки”, или просто еврейское: аминь. Ключом и замком замыкаются враждебные силы» [там же: 93].
Обращение знахаря к природе «напоминает молитву, но не тождественно с нею. В молитве обращаются к известному лицу - подателю благодати. В молитвенной формуле вся сила сосредоточивается на упоминании имени и свойства этого лица. В закли-нательной формуле, наоборот, весь интерес сосредоточен на выражении желания. Имена божеств, упоминаемые в ней, изменяются, но сама формула остаётся неизменной; так, например, у старообрядцев сохранилось много “двоеверных” заговоров, где упоминаются архангелы, святые, пророки; но имена их расположены на полустёртой канве языческой мифологии, и сами заговоры сходны вплоть до отдельных выражений с чисто языческими заклинательными формулами и молитвами» [там же: 89].
Собственно заговор Кубарихи краток и заканчивается в самом начале её монолога типичной формулой «Крепко, что царско, слово знахарско». Дальше следует «целое наставление о колдовстве и его применениях» [IV: 363]. Но поскольку это «наставление» может восприниматься как часть заговора, то вопрос о «замке» решается в зависимости от системы отсчёта. «Замком» предстаёт также христианский, а не языческий наказ Агафье молиться Божьей Матери, завершающий заговор. Если же учесть указания Афанасьева о заговоре как «поэтическом слове», то функцию «замка» может обращённо выполнять песня Кубарихи, звучащая перед заговором, а не после него.
Пастернак (с2 (промежуточный) элемента 1): «Всё надоть знать, Агафьюшка, отказы, наказы, слово обежное, слово обережное. Ты вот смотришь и думаешь -лес. А это нечистая сила с ангельским воинством сошлась, рубятся, вот что ваши с баса-лыжскими» [IV: 363].
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
317
Афанасьев'. «У первобытных племён сложилось убеждение, что мрак и холод, враждебные божествам света и тепла, творятся другою могучею силою - нечистою, злою и разрушительною. <...> Нравственные основы вырабатываются позднее и прикрепляются к уже готовым положениям дуализма, порождённого древнейшим воззрением на природу» [Афанасьев 1994,1: 91-92].
«Между богами света и тьмы, тепла и холода происходит вечная, нескончаемая борьба за владычество над миром» [там же: 102].
Кубариха сравнивает явления, традиционно воспринимаемые в народе как нечистые силы и силы добра, однако они предстают не как тёмные тучи и светлое небо, ночь и день, зима и лето - а как части однородного леса. Она учит видеть противоположности в едином независимо от внешних изменений.
Блок: «В хаосе природы, среди повсюду протянутых нитей, которые прядут девы Судьбы, нужно быть поминутно настороже; все стихии требуют особого отношения к себе, со всеми приходится вступать в какой-то договор, потому что всё имеет образ и подобие человека, живёт бок о бок с ним не только в поле, в роще и в пути, но и в бревенчатых стенах избы. Травы, цветы, птицы возбуждают к себе заботу и любовь» [ИРЛ 1908: 83].
Пастернак (сЗ (осевой) элемента 1)'. «Или, к примеру, погляди, куда я кажу. Не туда смотришь, милая. Ты глазами гляди, а не затылком, и гляди, куда я пальцем тыкаю. Во, во. Ты думаешь, это что? Думаешь, это на берёзе ветер ветку с веткой скрутил, спутал? Думаешь, птица гнездо вить задумала? Как бы не так. Это самая настоящая затея бесовская. Русалка это дочке своей венок плела. Слышит, люди мимо идут, - бросила. Спугнули. Ночью кончит, доплетёт, увидишь» [IV: 363].
Афанасьев'. Существовало поверье «о зелёных волосах русалок, водяных и леших» [Афанасьев 1994,1: 140]. Иногда эти волосы бывали увенчаны зелёными венками [там же, III: 126]. Пастернак использовал вывернутое уподобление растений волосам земли: Кубариха заговаривает корову поздней осенью, когда листья с деревьев уже облетели, и русалка у неё не заплетает свои волосы, а плетёт венок дочке. У русалок, кстати, не было дочерей, во всяком случае, Афанасьев об этом не упоминает. Кубариха обращает внимание на ветки дерева, что должно напоминать о любви русалок к качанию «на древесных ветвях, <...> т. е. на ветвях облачных деревьев» [там же, II: 718], но говорит не о качелях, а о венке. Её указание на то, что сплетённые ветки - не птичье гнездо, напоминают и о разнице между венком и «гнёздами из соломы и перьев, собираемых» русалками «по деревням во время Зелёной недели». При этом русалки «любят селиться обществами и по преимуществу в пустынных местах - в омутах, котловинах и под речными порогами» [там же, III: 123], то есть избегают людей. В фольклоре русалки, которые отождествляются с душами мёртвых, не только пугаются, но и заманивают увиденных людей, чтобы замучить их. Таким пришедшим, но не видимым Кубарихе человеком в сцене заговора является Юрий Живаго, а видимой - Агафья. «Попадается» же доктор, которо
318
Глава 3
го «захватывает» предание. Плетение венка соответствует обычным занятиям фольклорных русалок, которые «ткут (вьют, плетут) облачные покровы и полощут их в дождевых источниках» [Афанасьев 1994, III: 144]. О русалке напоминает и такая деталь, как начинающий накрапывать «вместо ожидаемого снега» дождь, который затем усиливается [IV: 365]: «С распущенных волос русалок беспрерывно сочится вода, т. е. по первоначальному значению - с густых прядей её облачной косы льются дождевые потоки» [Афанасьев 1994, III: 127]. Появление русалок в фольклоре связывают с приходом весны, Троицкой неделей, тогда как «на всё время холодной и суровой зимы» они исчезают; Кубариха же рассказывает о русалке, несмотря на приближающуюся зиму, а её исчезновение объясняет совсем другой причиной. Впрочем, фольклорные русалки «остаются в этом (земном) мире до глубокой осени» [там же: 140], и исчезновение знахаркиной русалки может объясняться не только тем, что её спугнули, но и ожидаемым снегом. Упоминание русалки в монологе Кубарихи, произносимом поздней осенью, появляется также в связи с болезнью коровы, и крапива здесь служит средством против русалки: «В день Агрипины-купальницы крестьяне собирают крапиву, шиповник и другие колючие растения в кучу, которая служит заменою горящего костра; через эту кучу скачут сами и переводят рогатый скот, чтобы воспрепятствовать ведьмам, лешим, русалкам и нечистым духам доить у коров молоко, которое после такого доенья совсем высыхает (пропадает) в их сосцах» [там же: 486].
В связи с коровой упоминается и берёза: у чехов есть поверье, что «как берёза даёт весной сладкий сок, так и коровы станут давать вкусное молоко» [там же, II: 390].
Блок'. «Некоторые заговоры нужно произносить под связанными ветвями берёзки, над следом» [ИРЛ 1908: 88].
Пастернак (с4 (промежуточный) элемента 1)'. «Или опять это ваше знамя красное. Ты что думаешь? Думаешь, это флак? Ан вот видишь, совсем оно не флак, а это девки-моровухи манкой малиновый платок, манкой, говорю, а отчего манкой? Молодым ребятам платком махать-подмигивать, молодых ребят манить на убой, на смерть, насылать мор. А вы поверили - флак, сходись ко мне всех стран пролета и беднота» [IV: 363].
Афанасьев'. «В Литве чуму и вообще всякую повальную болезнь называют Моровою девою; показываясь в деревне, она обходит дома, просовывает руку в окно или дверь и махает красным платком, навевая на хозяев и домочадцев смертельную заразу. При её появлении жители запираются в своих избах, не открывают ни окон, ни дверей, и только совершенный недостаток припасов и голод заставляют их нарушать эту предосторожность. <.. .> По своему стихийному характеру богиня смерти и Чума роднятся в преданиях литовцев с облачной женою - лаумой, о которой уверяют, что она рядится в различные одежды: <.. .> если она показывается в красном платье - это предвещает жестокую войну, убийства и пролитие крови» [Афанасьев 1994, III: 109-110].
«Что ведьмы были обвиняемы в распространении повальных, заразительных болезней, это засвидетельствовано грамотою царя Михаила Фёдоровича, упоминаю
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
319
щею о бабе-ведунье, которая заговаривала на хмеле с целью навести на русскую землю моровое поветрие. Крестьяне до сих пор убеждены, что колдуну стоит только захотеть, как тысячи народу падут жертвами смерти. Русская сказка возлагает на ведьму ту же самую роль, какая обыкновенно исполняется Моровою девою: в глухую полночь она является в белой одежде, просовывает руку в окно избы, кропит волшебными соками и всю семью - от старого и до малого - усыпляет навеки смертным сном» [там же: 522].
Блок-. В библиографии, приведённой Блоком в конце статьи, труд Афанасьева не указан, но в самой статье Блок ссылался на его мнение. «Ветер переносит болезни и вести. В Западной Руси, Литве и Польше есть поверье, что мор - это ветер: Моровая женщина всовывает руку в окно и в дверь избы и намахивает смерть красным платком. Но любовь и смерть одинаково таинственны там, где жизнь проста; потому девушка насылает любовь, когда машет рукавами, по малороссийской песне: “Иде девка дорогою, чохлами махае, / А за нею козаченько важенько здихае, / Ой, перестань, дивчинонько, чохлами махать, / Ой, хай же я перестану важенько здихать!”» [ИРЛ 1908: 82].
Ср., между прочим, с трактовкой женщины, любви и смерти в стихотворении «Анне Ахматовой» («“Красотастрашна”-Вамскажут»), написанном 16 декабря 1913 г. [Блок, III: 143]. Отметим также связь Ахматовой с Малороссией, о чём, вероятно, знал Блок, а также встречу поэтов, описанную Ахматовой в 1965 г.: «Летом 1914 года я была у мамы в Дарнице, под Киевом. В начале июля я поехала к себе домой, в деревню Слепнево, через Москву. В Москве сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то, у какой-то пустой платформы, паровоз тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором неожиданно вырастает Блок. Я вскрикиваю: “Александр Александрович!” Он оглядывается и, так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, спрашивает: “С кем вы едете?” Я успеваю ответить: “Одна”. Поезд трогается. Сегодня, через 51 год, открываю “Записную книжку” Блока и под 9 июля 1914 года читаю: “Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной. - Меня бес дразнит. - Анна Ахматова в почтовом поезде”» [Ахматова 1990, И: 196-197]. Но «бес дразнит» и комментаторов. В.Н. Орлов пишет, что стихотворением «Анне Ахматовой» Блок отвечал на «послание “Александру Блоку” (“Я пришла к поэту в гости...”)», написанное Ахматовой. В.А. Черных, комментируя это стихотворение Ахматовой, указывает, что оно «написано в ответ на стихотворение Блока “Анне Ахматовой”» [Ахматова 1990,1: 410].
Указанием на связь Малороссии с насылаемым мором Блок подкрепил представление Пастернака об Украине как территории, откуда в Россию на протяжении всей её истории приходит Смерть.
Пастернак (с5 элемента 1): «Теперь всё надоть знать, мать Агафья, всё, всё, ну как есть всё. Кака птица, какой камень, кака трава. Теперь, к примеру, птица - это будет стратим-скворец. Зверь будет барсук» [IV: 363].
320
Глава 3
Скворец относится к таким диким животным, которых приручают - держат в клетках [Гура 1997: 41]. Напротив, «домашний» Юрий Живаго (поэт как певчая птица) пребывает в плену у «диких» партизан, «лесных братьев» и их начальника «товарища Лесных», где «границы <.. .> неволи были очень неотчётливы. Место пленения Юрия Андреевича не было обнесено оградой. Его не стерегли, не наблюдали за ним» [IV: 327]. Кубариха называет скворца в качестве птицы, у которой доктору надо учиться - учиться «улетать» на свободу. В противопоставление чистых и нечистых животных скворец вовлекался спорадически, да и то лишь «в отдельных локальных традициях» [Гура 1997: 528]. У болгар он даже входил в класс гадов [там же: 274] - здесь очевидна прямая связь с миром мёртвых. Так же двойственны и все птицы [IV: 351], которые кормятся от рябины, рядом с которой сидит Кубариха. Поскольку «отлёт тех или иных птиц нередко связывается с наступлением осени» [Гура 1997: 530], а Кубариха поздней осенью указывает на перелётную птицу скворца, это является ещё одним подтверждением того, что она учит доктора «улетать».
В «народной классификации животных» барсук относился к таким, в которых смешивались или не различались разные виды животных: считалось, что «барсук имеет собачью морду» [там же: 21]. Здесь налицо разница внешнего вида и сущности: принимается за одного, но на самом деле является другим; на самом деле известно кто, но «внешне» считается другим. Упоминание Кубарихой барсука являет для Живаго пример мимикрии. Поскольку названия животных, в том числе барсука, используются в топонимии [там же: 23], то двойственность этого животного очень важна для понимания амбивалетного значения тех территорий и мест, куда идёт из лагеря доктор. Мимикрии он может поучиться у барсука и в том плане, что его можно спутать с другими животными, поскольку, например, в польских диалектах встречаются общие названия у барсука и ежа. К тому же в данном случае на барсука переходит такое качество ежа, как неуязвимость. Но барсука могут определять и как собаку, то есть гибридность его расширяется. При этом барсук, в отличие от ежа, на Житомирщине, например, считался животным, которого есть нельзя [там же: 34, 36, 38, 259] - ср. со словами «пощады» Маркела, обращёнными к «несъедобному» в социальном плане Юрию Живаго: «Эх ты, как и серчать на тебя, курицыно отродье» [IV: 475]. В Тамбовской области барсук, имеющий хтоническую природу, сближается по названию со светлячком («бурсук») [Гура 1997: 502] - ср. со светоносной сущностью Христа, пришедшего в этот мир. В народных представлениях признак пола у барсука не выражен [там же: 44] - это важно в отношении Живаго в том плане, что по мере дальнейшего повествования доктор всё больше проецируется на фигуру Христа, т. е. удаляется от «мира», а признак пола не «исчезает», как во время пребывания у партизан, а, наоборот, проявляется всё больше: доктор начинает жить с Мариной, и у них рождаются двое детей. Ещё одна деталь внешней двойственности барсука: «по поверью мазовецких поляков», у него - «два носа» [там же: 45]. У сербов есть поверье, что «медведь не трогает барсуков, а барсуки не боятся медведя», поскольку происходят от него [там же: 55, 57] - Живаго уходит от партизан зимой и с
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
321
медведями, спящими в берлогах, столкнуться не может, однако его путешествие характеризуется в проекции на мир звериный: «Это время оправдало старинное изречение: человек человеку волк. Путник при виде путника сворачивал в сторону, встречный убивал встречного, чтобы не быть убитым. Появились единичные случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пещерного века» [IV: 375].
Юрий Живаго добирается невредимым ещё и потому, что он вышел из «звериного» мира партизан и сам для других похож на «зверя». Указание Кубарихи на барсука и последовавший уход доктора из лагеря взаимосвязаны: сербы верят, что «барсук дважды пробуждается в течение зимы - на св. Андрея (30.XI / 13.XII) и на Богоявление (6/19.1)» [Гура 1997: 67]. Притом, что в народном сознании «образы зверей в наибольшей степени индивидуализированы <...>, общность функций и символических признаков наблюдается лишь в подгруппе пушных зверей, основу которых составляют животные семейства куньих», в том числе барсук. Появление его в заговоре Кубарихи важно в качестве указания доктору на способ передвижения в сочетании с местом постоянного пребывания [там же: 121]. Юрию Живаго удаётся добраться до Юрятина, а потом до Москвы невредимым - так проявляется сближение барсука с ежом. «Символика куньих <...> обнаруживает инвариантный набор характеристик», в числе которых взаимопересе-кающиеся названия, нахождение животного «у корней райского дерева», «отнесённость к подземному миру», представленность в виде животного души умершего, наделение животных цветовой символикой, «глубокое родство с гадами». Барсук «роет глубокие норы и проводит в них значительную часть жизни. В польском Подлясье уход барсуков на зиму в землю связывают с днём Покрова Богородицы (1/14.Х) <...>. В славянских диалектах в названиях барсука широко представлен корень *jazv-: праслав. *jazvb, *jazvbCb толкуется как “живущий в норе”» [там же: 199-201, 205] - ср. с уходом Юрия Живаго из лагеря после того, как он вышел из землянки Ливерия. Как и с русалкой, с барсуком связан мотив ткачества. «Так, в польской загадке челнок загадывается, как снующий туда-сюда барсук» [там же: 223]. Таким образом, упоминания Кубарихой русалки и барсука оказываются внутренне связаны, тем более что «многие действия по отношению к скоту или, реже, к людям являются общими у пушных зверей и демонических существ» [там же: 254]. В Белоруссии ласку считали «защитницей коровы от ведьм».
«Сходная защитная функция у барсука применительно к коню: в Пермской губ. Полоски барсучьей шкурки пришивают на переносье конской узды, чтобы уберечь лошадь от порчи и сглаза <...>. Правда, у поляков с использованием кожи барсука в конской сбруе связаны иные представления: кто делает для хомутов подкладку из барсучьей шкуры, у того кони ленивы» [там же: 233].
Барсук находится на периферии комплекса народных представлений о куньих - аналогично и доктор, особенно после возвращения от партизан, уходит на «периферию» социума.
322
Глава 3
Афанасьев', Настоящий момент Кубариха, по всей видимости, истолковывает как время окончания зимы и начала поворота солнца к лету, а шире - как время кончины мира: «Весеннее пробуждение бога-громовника, рушителя старого, греховного царства зимы и творца новой, благословенной жизни, соединяется с мыслию о кончине мира, страшном суде и водворении на обновлённой земле вечного счастия и правды» [Афанасьев 1994, И: 446].
«На древнем поэтическом языке травы, кустарники и деревья назывались волосами земли. <.. .> Первобытные племена сравнивали широкие пространства суши с исполинским телом, в твёрдых скалах и камнях видели её кости» [там же, I: 139].
«По русскому поверью, нечистая сила вылетает из ада в образе птиц» [там же: 529].
В виде чёрных птиц, особенно ворон, народ представлял смертельные болезни и считал их вестниками беды. Непонятная для современного человека птица Стратим отождествляется Кубарихой с хорошо знакомым скворцом. В называемых ею представителях растительного и животного мира важна такая характеристика, как обманчивая двойственность - по принадлежности к разным мирам и по внешности. Кубариха, указывая на конкретных животных, учит Юрия Живаго мимикрии.
Блок'. Блок замечает, что в народных травниках «рядом с <...> домашними, обиходными известиями есть сведения о каких-то исполинских существах, внушающих к себе уважение своей величиной и отдалённостью: вся земля покоится на китах. Где-то обитают огромные Индрик-зверь и Стратим-птица. <...> Чаще всего возникают вопросы, откуда что пошло, что естественно в быту, проникнутом идеями рода, говорит А.Н. Веселовский. На эти вопросы отвечают бесчисленные legendes des origines - рассказы о происхождении» [ИРЛ 1908: 84].
Пастернак (сб элемента 1)'. «Теперь, к примеру, вздумаешь с кем полюбавиться, только скажи. Я тебе кого хошь присушу. Хошь, твоего над вами начальника, Лесного вашего, хошь, Колчака, хошь, Ивана-царевича. Думаешь, хвастаю, вру? А вот и не вру. Ну, смотри, слушай. Придёт зима, пойдёт метелица в поле вихри толпить, кружить стол-бунки. И я тебе в тот столб снеговой, в тот снеговорот нож залукну, вгоню нож в снег по самый черенок и весь красный в крови из снега выну. Что, видала? Ага? А думала, вру. А откеда, скажи, из завирухи буранной кровь? Ветер ведь это, воздух, снеговая пыль. А то-то и есть, кума, не ветер это буран, а разведёнка-оборотёнка детёныша-ведьмёноч-ка своего потеряла, ищет в поле, плачет, не может найтить. И в неё мой нож угодит. Оттого кровь. И я тебе тем ножом чей хошь след выну, вырежу и шёлком к подолу пришью. И пойдёт хошь Колчак, хошь Стрельников, хошь новый царь какой-нибудь по пятам за тобой, куда ты, туда и он. А ты думала - вру, думала - сходись ко мне всех стран босота и пролета. Или тоже, например, теперь камни с неба падают» [IV: 364].
Афанасьев'. «По стародавнему верованию колдун может творить чары «на след»; «повредить или уничтожить след» означало метафорически отнять у человека возможность движения, сбить его с ног, заставить слечь в постель. И на Руси, и в Германии
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
323
чара эта совершается одинаково: колдун снимает широким ножом след своего противника, т. е. вырезывает землю или дерн, на котором стояла его нога, и вырезанный ком сжигает в печи или вешает в дымовой трубе: как сохнет дерн и земля, так высохнет-исчахнет и тот несчастный, на чей след творится чара <...>. Литовцы вынутый след зарывали на кладбище и верили, что человек ради этого должен умереть в скором времени, т. е. отправиться по своему следу в жилище усопших» [Афанасьев 1994,1: 38].
Манипуляции со следом, которые предлагает Кубариха, как видно, совершенно отличны от традиционных.
«На Украине верят: если окропить нож св. водою (метафора дождя) и бросить в вихрь, поднятый дьявольской пляскою, то нож упадёт на землю, обагрённый кровью нечистого, т. е. молния поразит демона-тучу» [там же: 261].
Отметим, что Пастернак обратил внимание на это поверье, но опустил указание на его украинское происхождение. Так постепенно Украина предстаёт в качестве древнего и тайного источника кровавых обрядов. При том, что Агафья не просит Кубариху привораживать к ней мужа, который и так «душой по нас сохнет» [IV: 362], «солдатка» все равно называет тех, кого может присушить. Все названные, принадлежащие попарно к противоборствующим «лагерям», оказываются, с учётом фольклорного канона, противниками Кубарихи.
Указывая, что буран на самом деле - это «разведёнка-оборотёнка», Кубариха переворачивает обычное для сказок оборотничество - в сказках в облике оборотня часто бывает добрый молодец, который может совершать целый ряд превращений.
«По народным поверьям, занесённым во многие сказки, превращение совершается набрасыванием на себя шкуры или кожи того животного, наружный вид которого желают воспринять; снятие этой шкуры влечёт за собою восстановление первоначального образа» [Афанасьев 1994,1: 792].
Таким образом, Кубариха и здесь учит Юрия Живаго оборотничеству-мимикрии. Ср. текст монолога знахарки, относящийся к «разведёнке-оборотёнке», с догадками доктора о судьбе Тони и детей перед уходом от партизан: «Вот Тоня идёт полем во вьюгу с Шурочкой на руках. <...> О, лучше не задавать себе этих вопросов, лучше не думать, лучше не вникать» [IV: 371]. (Даже когда у Юрия Живаго возникают отношения с Мариной, указывается, что Тоня - неразведённая жена [IV: 476].) Так же зеркально соотносятся видение Тони, предстающее доктору в лагере, и то, как себе представляет отношение Юрия Живаго Тоня, написавшая прощальное письмо: «Ты как-то превратно, недобрыми глазами смотришь на меня, ты видишь меня искажённо, как в кривом зеркале» [IV: 413]. Доктор получает письмо в Юрятине и «видит» уже Тоню глазами «сказочными» в том смысле, что он теперь умеет жить по законам «поруганной сказки», которую ему предстоить победить.
Оборотнями в древности представляли «духов, облекающихся в облачные одежды» [Афанасьев 1994, II: 333]. «Оборотень признаётся нашими поселянами задушу младенца, умершего некрещёным, или за душу чародея и вероотступника, осуждённую вечно
324
Глава 3
блуждать и не ведать покоя. Оборотень обыкновенно показывается в сумерки и ночью» [Афанасьев 1994, III: 302].
Кубариха учит Юрия Живаго видеть тех, кто является оборотнем, и уметь самому притворяться им. Незадолго до сцены заговора замечается, что «передавили всех собак в лагере. Сведущие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих шкур шерстью наружу» [IV: 354] - ср.: «Созерцая в полёте грозовых туч толпы оборотней, т. е. демонов, облачившихся в животные шкуры, и переводя это воззрение в символический обряд, предки наши допустили в своих религиозных воззрениях участие окрутников <...>. “Окрутниками” называются все замаскированные, наряженные по-святочному, одетые в мохнатые шкуры или вывороченные тулупы от слова “крутить”, которое от первоначального значения “завивать, плести” перешло к определению понятий “одевать, наряжать” (окрута - женское нарядное платье и вообще одежда, окрутить - одеть, окру-чаться и окрутиться - наряжаться, маскироваться, и в этом смысле явилось синонимом глаголам: облача(и)ть и оборотить (обворотить) точно так же, как слово “окрута” (одежда) тождественно по значению со словом “облако” (облачение). Очевидно, что и колдуны, и ведьмы, по своей тесной связи с облачным миром, должны были усвоить себе чудесную способность превращений» [Афанасьев 1994, III: 526].
Доктор уходит из лагеря, видимо, в собачьей шубе, но в Юрятин приходит уже «в выменянных короткорукавных обносках с чужого плеча, не гревших его» [IV: 354].
Блок: «В этом ветре, который крутится на дорогах, завивая снежные столбы, водится нечистая сила. Человек, застигнутый вихрем в дороге, садится, крестясь, на землю. В вихревых столбах ведьмы и черти устраивают поганыя пляски и свадьбы; их можно разогнать, если бросить нож в середину вихря: он втыкается в землю, и поднявший его увидит, что нож окровавлен. Такой нож, “окровавленный вихрем”, необходим для чар и заклятий любви, его широким лезвеем осторожно вырезают следы, оставленные молодицей на снегу. Так, обходя круг сказаний о вихре, мы видим, что в зачарованном кольце жизни народной души, которая до сих пор осталась первобытной, необычайно близко стоят мор, смерть, любовь - тёмные, дьявольские силы» [ИРЛ 1908: 82-83].
Ср. со словами о следах «молодицы на снегу» отрывок из стихотворения «Русь» (24 сентября 1906): «Где буйно заметает вьюга / До крыши - утлое жильё / И девушка на злого друга / Под снегом точит лезвиё» [Блок, II: 106]. С рассуждениями о «дьявольских силах» перекликаются строки из главы 10 поэмы «Двенадцать»: «Снег воронкой завился, / Снег столбушкой поднялся...» [там же, III: 356], которые также сказались в тексте заговора Кубарихи. Блок оставляет явные намёки на сказку, интонации которой, как показали в статье «Игровые мотивы в поэме «Двенадцать»» Ю.М. Лотман и Б.М. Гаспаров, прорываются в структуре произведения [Лотман 2002: 723]. Эти намёки нужны Блоку, чтобы полнее изобразить происходящее. Он идёт от сказки к литературе. Пастернак, напротив, устами Кубарихи обращает внимание читателя на сказочность обыденных вещей, уводя от литературы, намёки на которую (на Блока) остаются скрытыми.
Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие
325
Пастернак (элемент 3): «Ступай, - говорила ворожея Агафье, - корову твою отчитала я, - выздоровеет. Молись Божьей Матери. Се бо света чертог и книга слова животного» [IV: 365].
Слова, завершающие заговор Кубарихи, перекликаются с последней строфой последнего (пятого) стихотворения из цикла «На поле Куликовом» А.А. Блока [III: 253]:
Не может сердце жить покоем, Недаром тучи собрались. Доспех тяжёл, как перед боем. Теперь твой час настал. - Молись!
«Опять над полем Куликовым» написано 23 декабря 1908, то есть «привязано» к празднику Рождества Христова (по старому стилю). Подтекстом всего заговора Кубарихи оказывается, таким образом, весь цикл Блока. Комментаторы отмечают, что последние слова Кубарихи - «из службы на Рождество Пресвятой Богородицы (стихиры на “Господи воззвах” на Великой вечерне)» [IV: 706-707].
Афанасьев: «В эпоху христианскую <.. .> древнейшие воззвания к стихийным божествам подновляются приставкою имён Спасителя, Богородицы, апостолов и разных угодников; в народные заговоры проникает примесь воззрений, принадлежащих новому вероучению, и сливается воедино с языческими представлениями о могучих силах природы <...> Многие заговоры до такой степени были подновлены, что вошли в состав требников (сербских и русских) XV-XVII столетий под именем молитв. Знахари нередко соединяют произнесение заговоров с христианскими молитвами» [Афанасьев 1994,1: 419-420].
Кубариха изгоняет болезнь не при содействии языческого бога-громовника, как это делали древние знахари, а при содействии Божьей Матери. Притом, что «Чума может оборачиваться <...> коровою» [там же, III: 105], становится понятно, что Кубариха изгоняет не просто болезнь, но смерть. Она действует в роли ведьмы амбивалентно: не только насылает смерть на партизан, но и отгоняет смерть от Юрия Живаго. И сама являет для доктора не воплощение смерти, а, напротив, тайное воплощение жизни. И вновь Афанасьев показывает «происхождение» Смерти: «В малорусской сказке Смерть олицетворяется в женском образе: “на дорози в болоти сидить баба и просить царевича, щоб вин jnjn витяг з болота. Що стаине царевич пидъщзжати, то кинь так харапудицця: хропе да cone, та низдрями паше... (Наконец) царевич витяг ту бабу з’ болота. От баба та и каже царевичу: “Я - не баба, я - Смерть!” Замахнулась на него - и в ту же минуту царевич пал бездыханный” <...>» [там же: 807].
Сцена «невстречи» доктора с Кубарихой являет собой обращённое преломление этой сказки.
Блок. «По словам Е.В. Аничкова, “в народном сознании заклинание и молитва хотя и сосуществуют, но довольно отчётливо различаются”. <.. .> Как бы то ни было, заклинания и молитвы часто неразделимы» [ИРЛ 1908: 89-90].
326
Глава 3
«Заговор - не рецепт, а заповедь - не догматический и положительный совет врача, проповедника, священника, а таинственное указание самой природы, как поступать, чтобы достигнуть цели; это желание достигать не так назойливо, серо и торопливо, как наше желание вылечиться от зубной боли, от жабы, от ячменя; для простого человека оно торжественно, ярко и очистительно; это - обрядовое желание» [ИРЛ 1908: 94].
Блок далее писал о достоинствах «народной души» и поэзии по сравнению с «нашей». И его наблюдения очень важны для понимания проблемы народности в связи с поэзией Живаго и его личностью как личностью поэта.
Глава 4
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
Мы можем прийти, коснуться и уйти, со всеми нашими атомами и «если», но более чем верно, что мы предназначены не сводить концы с концами по причине отсутствия концов.
Д. Джойс. «Work in Progress»
4.1. Цветаева как скрытый раздражитель
История творческих и личных взаимоотношений Пастернака и М.И. Цветаевой неоднократно привлекала внимание и биографов, и исследователей, однако до её удовлетворительного изложения пока далеко. Пишущие на эту тему стараются обходить негативные аспекты отношений, причины часто появлявшегося недовольства поэтов друг другом, подчас острого, но, как правило, подавлявшегося или скрывавшегося, и драма остаётся под спудом «дружбы поэтов». Среди работ, посвящённых теме творческих перекличек Пастернака и Цветаевой, следует отметить содержательную статью К.М. Поливанова, в которой вскрывается ряд важных биографических, литературных и литературно-биографических параллелей в «Докторе Живаго» и творчестве Цветаевой, а также её судьбе и судеб её родственников (см.: [Поливанов К.М. 1992]). Тем не менее, картина эпизодов и периодов притяжений и отталкиваний Пастернака и Цветаевой, видения каждым из них своего собеседника нуждается в отдельном освещении, и мы коснёмся лишь некоторых моментов. Другая большая проблема - взаимовлияние на уровне текстов. Нашей задачей будет рассмотрение следов некоторых произведений и писем Цветаевой в романе Пастернака, которое предварит краткий набросок наиболее значительных моментов расхождений.
Отношение Пастернака к Цветаевой и её творчеству (по крайней мере, части его) в период создания «Доктора Живаго» было отнюдь не восторженным, каким было на протяжении 1920-х годов. Судя по переписке поэтов, в наиболее полном виде опубликованной в 2004-м, отчуждение со стороны Пастернака началось после писем Цветаевой в ответ на его первое письмо к ней от 14 июня 1922 г., написанное под впечатлением от прочтения «Вёрст». Оно явственно ощущается уже в письме от 6 марта 1923 г. Холодок пробегает и в письме Цветаевой от конца февраля 1923 г. Наступивший перерыв в пере-
1 Параграф в сокращённом виде был опубликован: [Буров 2006в].
328
Глава 4
писке длился с марта 1923 до января 1924 г. Затем, несмотря на её возобновление, письма Пастернака довольно редки и имеют оттенок вынужденности. Лишь с марта 1926 переписка становилась всё более интенсивной и в мае и июне достигла пика2. Следующий этап «разминовения» начался после того, как Цветаева романтически-эгоистично отодвинула Пастернака от переписки с Р.М. Рильке, с которым он же её заочно и познакомил, а в письме от 1 июля и последующих (от 4 августа и от сентября) категорично раскритиковала первую часть поэмы «Лейтенант Шмидт», опубликованную в № 8-9 журнала «Новый мир». Реакцию Пастернака резюмировали снятие с поэмы посвящения Цветаевой и его просьба в письме от 30 июля (повторенная и в письме от 31 июля): «В планы моей воли входит не писать тебе и ухватиться за твою невозможность писать мне как за обещанье не писать. <.. .> Не пиши мне, прошу тебя, и не жди от меня писем» [Переписка с Цветаевой 2004: 260, 262]. Позже, после прочтения всей поэмы «Лейтенант Шмидт», Цветаева изменила мнение о ней, но её письма, содержавшие одобрительные оценки, в частности, письмо от 31 мая - 15 июля 1927 г., глубокой и почти не проявленной прошлогодней реакции Пастернака, усугубленной поведением Цветаевой в отношении его и Рильке, в общем-то, не исправили. «Ты несколько раз думала писать о Шмидте, а теперь - даже и статью. Прости, что не успел вовремя тебя остановить, хотя ещё есть время. Ни мне, никак, Марина! Прошу тебя! <.. .> Статью, разбор! Да ведь это Сизифов труд и вдесятеро нарымистее исходного Нарыма. И кому это надо? Тебе? Мне?» - с досадой писал Пастернак 27 июля 1927 г. [там же: 367].
Молчание Пастернака длилось до 3 февраля 1927 г., когда он откликнулся на известие о смерти Рильке. Глубина расхождения поэтов проявилась, в частности, и в том, что Цветаева переадресовала «Попытку комнаты». В письме от 9 февраля 1927 г., продолжая говорить о смерти Рильке, она сообщила: «Очень важная вещь, Борис, о которой давно хочу сказать. Стих о тебе и мне - начало лета - оказался стихом о нём и мне, КАЖДАЯ СТРОКА» [там же: 285]. В ответном письме от 22 февраля 1927 г. Пастернак возражал3 (и развёрнуто аргументировал своё вйдение духовных связей в треугольнике, включавшем его, Цветаеву и Рильке): «Но “Попытка” страшно связана со мною. Ты не возмущайся, пожалуйста: я ни хочу, ни не хочу твоего посвященья». Понимание того, что оба балансируют на грани конфликта, взаимных признаний в неприятии обусловило просьбу Пастернака: «Напиши мне, что письмо не раздражило тебя» [там же: 314,315].
Случай, сходный с тем, что был в 1926 г. в отношении Цветаевой к Пастернаку и Рильке, произошёл и в 1927-м. На этот раз Цветаева попыталась ревниво отстранить Пастернака от литературного критика князя Д.П. Святополка-Мирского, попросив Пастернака 9 февраля 1927 г. прислать письмо к нему открытым, «чтобы научить критика-иерархии и князя - вежливости» [там же: 291]. Письмо Пастернака к Святополку-Мир-скому от 10 мая 1927 г. вызвало не столько шутливую, сколько саркастическую и едва ли
2 Об отношениях двух поэтов и взаимовлияниях см., в частности: [Бродский 1995].
3 Обусловленность «Попытки комнаты» перепиской с Пастернаком подтверждают и исследования: [Поливанов К.М. 2006: 160-165].
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
329
не издевательскую реакцию Цветаевой в письме к Пастернаку от второй половины мая 1927 года. Пастернак на этот раз ответил настолько мягко, насколько, по контрасту, взрывной могла бы быть его адекватная реакция: «Спасибо за журьбу по поводу письма к Св<ятополку>-М<ирскому>. Шутливость его дошла до меня. Может быть, и правда наделал глупостей» [там же: 346]. В письме от 19 июня 1927 г. он продолжил говорить о «посредничестве» Цветаевой в его отношениях с критиком: «Написал отсюда С<вято-полку>-М<ирскому>, воспользовавшись данным адресом. Дал также и свой. Честное слово, я не понимаю твоих замечаний по этому поводу, даже как шуточных. Зимой я принял это без рассужденья, как твою волю. Теперь ты, видно, отказалась от такого порядка. Зачем же ты подтруниваешь над собою и мной?» [там же: 354].
Назревавший перелом, после которого расхождение стало усугубляющимся и в итоге необратимым, произошёл в августе 1927 года, когда в ответ на письмо Пастернака от 7-8 августа, содержавшее, в частности, оценку «Дуинезских элегий» Р.М. Рильке и констатацию того, что Рильке «стал истории на плечи и так сверхчеловечески свободен» [там же: 379], Цветаева в середине августа ответила: «У тебя, Борис, есть идеи и идеалы. В этом краю я не князь. / У меня есть мысли и уверенност<ь> <вариант: утверждениях Короче говоря, у тебя -миросозерцание, у меня - мироощущение <.. .> не люблю (дела нет!) ничего, кроме природы <.. .>. Ни истории, ни культуры, ни искусства, ничего в голом виде, верней не могущего быть в голом виде. Во многом я тебе не собеседник, и тебе будет скучно и мне, ты найдешь <вариант: назовешь> меня глухой, а я тебя - ограниченным. Там, где для тебя гор<ы> - история, для меня не существует и вопроса. Ряд вещей в моей жизни не значится. Например, история. Какая история Жанны д’Арк? Но ведь это же - эпос. А кажется, есть\ Для тебя - история, для меня - эпос. “Вскочить истории на плечи” (ты о Рильке), т.о. перебороть, превысить её. Вскочить эпосу на плечи не скажешь: ВОЙТИ в эпос - как в поле ржи. Объясни же мне: когда есть эпос, зачем и чем может быть в твоей жизни история? Почему такая забота о ней? Какое тебе, вечному, дело до века, в к<отором> ты рождён (соврем<енности>). “Историзм” - что это значит?» [там же: 379-380].
Данный черновой фрагмент письма опубликован по записи в тетради. Само же письмо могло быть ещё более резким4. Такими были и предыдущие. Письмо от 8 сентября 1927 г. Пастернак начал словами, свидетельствующими о непредсказуемости возможных обид Цветаевой: «Дорогая Марина! Не значит ли что-нибудь твоё молчание? Может быть, ты почему-либо недовольна мной? Перебираю и не нахожу, что бы я мог сказать или сделать такого, что могло бы тебя огорчить. Когда же перехожу к фантастическим, с трудом мыслящимся немыслимостям, то, как ты сама знаешь, этой области нет границ. <.. .> Чем бы ты ни была задета, бесконечно ли большой оплошностью или бесконечно малой, умоляю тебя, опомнись и прости меня» [там же: 381].
4 Нет всё же однозначной уверенности, что оно было отправлено и Пастернак получил его. В письме от 18 сентября он упоминает «последние наши письма» [Переписка с Цветаевой 2004: 383], однако неясно, подразумевается ли в их числе письмо Цветаевой от середины августа.
330
Глава 4
Через 10 дней в письме от 18 сентября 1927 г. Пастернак фактически обозначил произошедшее к тому времени переосмысление значения Цветаевой для него. Он вспомнил своё письмо от 20 апреля 1926 г., в котором отмечал разницу в значении для него Цветаевой, с одной стороны, и Волошина и Ахматовой - с другой, и признался, говоря о «крайностях самосознанья»: «То, что ты написала о нашей “дружбе”, конечно, неправда. Ты все прекрасно знаешь и только дразнишь меня. Это опять одна из крайностей самосознанья. Но раз подпал ей и я. Это когда я поставил в пару (в одном письме к тебе) Ахматову с Волошиным. Ты сама знаешь, что по отношенью к ней это было низостью. Я не знаю зачем, т. е. как, это сделал. Ты не остановила меня потому, что поняла, что это такое, я же настолько неловок и глуп, что каждую твою холодность к другому слышу собственной кожей» [Переписка с Цветаевой 2004: 384].
Именно эта «холодность к другому» Цветаевой была, по-видимому, одним из самых ощутимых факторов, отталкивавших от неё Пастернака. В том же письме он рассказал о чувствах, которые вызвало у него отношение Цветаевой к её бывшему возлюбленному К.Б. Родзевичу, выраженное в её письме от 29 августа 1927 г.5: «Последние наши письма как-то не наши. Я говорю о твоих. Вероятно, таковы же и мои. В предпоследнем меня огорчил играющий тон в отношении героя “П<оэмы> Конца”. Давно как-то ты мне писала о своей “ненависти”. Сейчас ты скажешь, что твоя манера думать о людях такова именно и если это мне не понравилось, то это - моё дело. Да и что вообще ты такова и т. д. Но т<ак> как кому и знать лучше твоего, к чему сводятся корни так называемого “характера”, то долго тут говорить не придётся. Вся суть, конечно, в волевых оттенках самопознанья, в их выборе. Может быть, всё это ещё сложнее, чем я думаю, т. е. то, что мне кажется, природою в свою очередь ещё сложено вдвое, но мне кажется, что ревновать тебя я могу только к тебе же, и мне было бы по-настоящему хорошо, если бы ты о нем не написала так бессердечно. Однажды это было и с какими-то твоими словами о Р<ильке>. Это трудно сказать в двух словах, но, быть может, ты всё поймёшь и с них. На меня веет от тебя холодом, и вызывает чувство, похожее на ревность, всякое проявленье добровольно бесплодного самопознанья с твоей стороны. Но теперь ты рассвирепеешь за стиль, т. е. за то, что от этой психологии пахнет ладаном. -» [там же: 383].
Заметим, что данный отрывок позволяет увидеть в К.Б. Родзевиче, о котором идёт речь, одного из прототипов Антипова-Стрельникова, в Цветаевой же - прототип Лары и носителя некоторых черт Комаровского. Юрий Живаго говорит Ларе: «Мне кажется, сильно, смертельно, со страстью я могу ревновать только к низшему, далекому. Соперничество с высшим вызывает у меня совсем другие чувства. Если бы близкий по духу и пользующийся моей любовью человек полюбил ту же женщину, что и я, у меня было бы чувство печального братства с ним, а не спора и тяжбы. Я бы, конечно, ни минуты не мог делиться с ним предметом моего обожания. Но я бы отступил с чувством совсем другого страдания, чем ревность, не таким дымящимся и кровавым. То же самое случи
5 От этого письма сохранился лишь фрагмент в тетради Цветаевой.
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
331
лось бы у меня при столкновении с художником, который покорил бы меня превосходством своих сил в сходных со мною работах. Я, наверное, отказался бы от своих поисков, повторяющих его попытки, победившие меня» [IV: 396].
Сослагательное наклонение позволяет предположить, что в период создания «Доктора Живаго» Пастернак не считал Цветаеву таким художником. Другим прототипом Антипова-Стрельникова является, наряду с К.Б. Родзевичем, С.Я. Эфрон. Юрий Живаго говорит Ларе о себе и нём словами из «Ромео и Джульетты»: «Мы в книге рока на одной строке» [IV: 398] - ср. со словами Цветаевой в письме к Пастернаку от конца октября 1927 г. о нём и С.Я. Эфроне: «Всё равно вы судьбой связаны» [Переписка с Цветаевой 2004: 423]. Заметим также, что слова Живаго о ревности воспроизводят ситуацию отношений Пастернака с Г.Г. Нейгаузом, и прототипом Лары предстаёт Зинаида Николаевна.
И всё же в оставшиеся месяцы 1927 года переписка выровнялась, стала более регулярной, однако уже с середины января 1928-го письма стали более редкими, а в письме, посланном в июне6, Цветаева с горечью констатировала: «Б<орис>, наши нынешние письма - письма людей отчаявшихся: примирившихся. Сначала были сроки, имена городов - хотя бы - в 1922 г. - 1925 г.! Из нашей переписки исчезли сроки, нам стало стыдно - что? - просто - врать. Ты ведь отлично знаешь - то, что я отлично знаю. Со сроками исчезла срочность (не наоборот!), дозарезность друг в друге. Мы ничего не ждём. О Б<орис>, Б<орис>, это так. Мы просто живём, а то (мы!) - сбоку. Нет, быв впереди, стало - вокруг, растворилось. Ты мне (я - тебе) постепенно стал просто другом, которому я жалуюсь: больно - залижи. (Раньше: - больно - выжги!)» [там же: 491].
Цветаева была права: в 1928 г. между письмами были уже многомесячные перерывы, а в 1929, 1930 и 1931-м поэты обменялись лишь несколькими посланиями. Переписка сошла почти на нет. Причин этому много, и они требуют отдельного рассмотрения. Отметим лишь, что сильнейшими поводами для охлаждения со стороны Цветаевой послужили женитьба Пастернака на З.Н. Нейгауз и сборник «Второе рождение». В письме о нём от 27 мая 1933 г. Цветаева упрекала Пастернака в плагиате, снятии посвящения А.И. Цветаевой с «Высокой болезни», снятии акростиха, посвящённого ей, о строках же заключительного стихотворения книги - «Уходит с запада душа - / Ей нечего там делать» -писала: «Эти ст<роки> я давно уже (в журнале? Слышу как личное оскорбление, отречение. И ты так <тяжко?> можешь меня оскорбить и от меня отречься» [там же: 543-547]. Реакция Пастернака на эти обвинения неизвестна, но прекращение дальнейшей переписки объясняется, видимо, этой реакцией, усиленной, к тому же, отношением Цветаевой к его браку. О том, сколь велика была ставка Цветаевой на Пастернака вплоть до перемены в его семейной жизни, свидетельствует её письмо от 31 декабря 1929 г.
Комментаторы указывают, что, «согласно Тетради О.Н. Сетницкой, всего за 1931 г. было два письма Цветаевой; второе из них (от 18 марта. - С.Б.) обозначено в Машино
6 Опубликован лишь фрагмент этого письма, сохранившийся в тетради выписок Цветаевой.
332
Глава 4
писи О.Н. Сетницкой вообще как последнее, из чего можно сделать вывод, что последующих писем Пастернак либо вообще не хранил, либо не захотел в 1941 г. отдать их на хранение в чужие руки, а после утраты всех остальных писем уничтожил» [Переписка с Цветаевой 2004: 696]. Заметим, что, при всей вероятности такой судьбы писем Цветаевой, этот вывод не подтверждается никакими доступными источниками. Однако если он верен, то нежелание Пастернака хранить письма Цветаевой этих лет объясняется, возможно, их содержанием, которое Пастернак прямо старался предупредить ещё в письме от 5 марта 1931 г., обращая к Цветаевой просьбу: «Не отвечай письмом необдуманным или несправедливым, я как-то боюсь этого. Всё равно я останусь с тобой хорошей и ничего недоброго твоего не пойму» [там же: 533]. О том, что такие письма Цветаевой были, косвенно свидетельствуют, например, слова Пастернака в письме от 19 января (в ответ, видимо, на не дошедшее до нас письмо Цветаевой): «...я хотел тебе признаться, что твоя цитация дачи и общего крова резанула меня, представив (против твоей воли) большим пошляком, чем я мог себя считать» [там же: 518], или его слова в разговоре с А.К. Тарасенковым в декабре 1934 г. (см. ниже). Пастернак предпочёл остаться с «хорошей» Цветаевой.
Упрёк Пастернаку в плагиате в письме Цветаевой от 27 мая 1933 г. касался стихотворения «Любимая, молвы слащавой», обращённого к З.Н. Нейгауз. «“Есть рифмы в мире сем, Разъединишь - и дрогнет” - вот мой ответ тебе на эти твои стихи в 1925 г. Теперь, не устраняя напряжения: я, опережая твою 403 стр. на 7 (?) лет, это твоё не-мне стихотворение, сорифму твою не со мной, с не-мной, свою сорифму с тобой и твою со мной нав<еки> - по праву первенства - утвердила, право первенства, Борис! - и вот ты, со звуком этого утверждения в ушах, обращаешь его к другому существу. Без моего “Есть рифмы в мире сем” ты бы этих стихов никогда не написал» [там же: 543].
Таким образом, Цветаева утверждала своё «первенство» для Пастернака в ущерб З.Н. Нейгауз, названной ни много ни мало «существом». Вероятная реакция Пастернака представляется вполне понятной. Процитированное письмо было написано в ответ на присылку Пастернаком книги: Борис Пастернак. Стихотворения. В одном томе. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1933. Как указывают комментаторы, «первоначальная надпись» на книге «стёрта и поверх неё написано»: «Марине. Прости меня. Целую Сережу. Сергей Яковлевич, простите и Вы меня. Я бы хотел, чтобы главное вернулось. Я это должен ещё заслужить. Простите, простите. Простите. Боря. Сначала надписал как книгу. Хоть и горячо, но как ни в чём не бывало; и стёр. Потому что никакой книги нет, а только привет, - тебе и Вам. И - никакой надписи, а только: простите» [там же: 542-543].
Эта надпись - свидетельство прекратившихся отношений, ухода из них «главного». Стирание первой надписи и отрицание за второй статуса надписи, отрицание за книгой статуса книги - всё это означает отрицание обращения и контакта. Это трёхступенчатое скрытое отталкивание, превращённое в «только привет», фактически не имеет и объекта обращения, ведь Пастернак сделал лишь многослойное автоописание, автоотрица
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
333
ние и тем самым произвёл самоустранение из отношений с Цветаевой, помещённой за счёт обращения и к С.Я. Эфрону в контекст её замужества и контекст своей дружбы с ним в её присутствии, но не поэзии.
Последнее дошедшее до нас письмо Цветаевой, написанное в марте 1936 г. и содержавшее реакцию на выступление Пастернака на Минском пленуме правления Союза писателей СССР в феврале, осталось, возможно, без ответа. Это письмо - яркое свидетельство окончательного расхождения поэтов, свидетельство принципиального отказа Цветаевой учитывать историческую специфику ситуации, в которой оказался тогда Пастернак, учитывать его историзм и стратегию поведения7. В «Людях и положениях» Пастернак писал, что «победить» его «успела ещё прежняя, преемственная Цветаева, до перерождения» [III: 338]. Вероятно, под «перерождением» Пастернак подразумевал отказ Цветаевой от исторического вйдения действительности в пользу романтизма и романтики. «Не поддавайся живущей в тебе романтике. Это плохо, а не хорошо», - писал ей Пастернак ещё в 1926 г. (письмо от 20 апреля). А в разгар переписки, (в письме от 5-7 июня 1926 г.) мягко указывал Цветаевой на «ошибки <...> творческой философии. проскользнувшие в последних письмах» [Переписка с Цветаевой 2004: 223]. В 1929 г. (в письме от 3 января) Пастернак расценивал романтизм как облегчение задачи художника и в противовес ему полагал «дух, который, страдая и деформируясь, подымает <...>материальную тяжесть» [там же: 500]. А в письме от 12 мая, оговаривая неизбежность расхождения с оценками Цветаевой, определял романтизм так: «И вот (ты сейчас оскорбишься) всю дугу, от бездарности через пустоцвет (момент высшего подъёма) ведущую к бесплодию, я называю для простоты романтизмом - и меня не пугает, что мы разойдёмся с тобой в терминологии» [там же: 504].
Творческое и личное расхождение, однако, было гораздо более глубоким. Оно стало необратимым после женитьбы Пастернака на З.Н. Нейгауз и стихов «Второго рождения». Парижская «невстреча» 1935 года окончательно оформила это «разминовение». Вероятно, именно нежеланием Цветаевой видеть вещи исторически и реалистично объясняется реакция Пастернака на её поведение и слова во время проводов в эвакуацию. Происходившее описал В. Боков, приехавший с Пастернаком для проводов Цветаевой на речной вокзал: «Люди лихорадочно грузили свои вещи, везли на пароход, толкались. Мешали друг другу. Как затравленная птица в клетке, Марина поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, её глаза ещё больше страдали.
- Боря! - не вытерпела она. - Ничего же у вас не изменилось! Это же 1914 год! Первая мировая.
- Марина! - прервал Борис Леонидович. - Ты что-нибудь взяла в дорогу покушать?
Она удивилась вопросу:
- А разве на пароходе не будет буфета?
- С ума сошла. Какой буфет! - почти вспылил Пастернак.
7 Подробный анализ той ситуации см.: [Флейшман 2005: 411—442].
334
Глава 4
Я знал, что тут, поблизости, есть гастроном. Пошли вместе с Борисом Леонидовичем. Сколько могли унести в руках, столько купили бутербродов с колбасой и сыром» [XI: 362].
Скрытой переоценке в годы создания «Доктора Живаго» подвергались не только отношения с Цветаевой и её творчество, но и фигуры других деятелей культуры, творчество которых ранее оценивалось Пастернаком весьма высоко. На это указывает, в частности, объективирование завершившегося глубокого процесса переосмысления, выраженное в письме от 17 декабря 1953 г. к М.В. Юдиной: «Дело в том, что в каких-то отношениях я очень изменился. Летом в меня вошло что-то новое, категорическое, ускоренное и недоброе, больше - раздражённое. <.. .> Мне думалось, отчего одному так легко, беспоследственно легко и безнаказанно порхается, когда другой такою тяжкою душевною ценой оплачивает каждый шаг в жизни. <.. .> я со многими поссорился» [IX: 765].
Процесс переоценки продолжался и после создания романа. Так, сравнивая очерк «Люди и положения» с «Охранной грамотой», Г. де Маллак замечает, что «whereas the earlier volume mingles a description of the origins of Pasternak’s poetry with broader aesthetic and cultural considerations, the later text is almost exclusively a discussion and reevaluation of those artists who influenced Pasternak»8 [Mallac 1983: 252].
Выяснить особенности отношения Пастернака к Цветаевой после её смерти помогают не только его прямые высказывания в письмах, стихотворении «Памяти Марины Цветаевой», очерке «Люди и положения», не только свидетельства мемуаристов, но и интертекстуальный анализ некоторых эпизодов «Доктора Живаго».
В книге Второй романа есть несколько второстепенных персонажей, которые, на первый взгляд, не играют особой роли в повествовании. С некоторыми из них, в частности, с семейством Галузиных, главный герой даже не встречается. Однако изображению членов этого семейства - лавочницы Ольги Ниловны, её мужа Власа Пахомовича и их сына Терентия - в романе отведено довольно много места - часть десятая «На большой дороге». И это свидетельствует о значении, которое придавал упомянутым героям автор. Наиболее безыскусно о «лишних» персонажах «Доктора Живаго» отозвалась одна из первых читательниц произведения, дочь О.В. Ивинской Ирина Емельянова, которой было, похоже, не слишком интересно узнавать «про всех этих Палых и Гораздых» [Емельянова 1997: 90]. Позже мнение об «излишествах» в романе и его эстетических «недостатках» звучало неоднократно. Так, например, Р. Пэйн расценил его как «the work of а poet untrained in the disciplines of novel writing»9 [Payne 1963: 142]. И.П. Смирнов полагает, что «за агрессией, направленной против внешних особенностей романа, маячит страх перед работой с его смыслом» [Смирнов 1996: 8]. Мы попытаемся разобраться, зачем Пастернаку «понадобилась» мать семейства - лавочница Галузина. Ответ на по
8 «Тогда как в более раннем произведении описание происхождения поэзии Пастернака связывается с более широкими эстетическими и культурными установками, позднейший текст представляет собой почти исключительно полемику и переоценку тех художников, которые влияли на Пастернака» (англ.).
9 «Произведение поэта, не искушённого в мастерстве создания романа» (англ.).
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
335
добные вопросы предполагает, в оптимальном случае, анализ конструкции «Доктора Живаго», соотношений структур и функций персонажей. Наша задача здесь минимальная - не доказательство жесткой обусловленности присутствия персонажа в романе композицией произведения, а также разного рода интертекстуальными пластами (например, евангельскими, сказочными, литературными) - для этого необходимо было бы предварительно описать работу самих этих пластов, а демонстрация полигенетичности героини (пусть и не исчерпывающая), которая объясняет её «нужность» в романе. Сходство этой героини с Цветаевой играет в понимании образа лавочницы и отношения Пастернака к Цветаевой далеко не последнюю роль.
Первое в разгадке образа Галузиной - причины, по которым Пастернак показал героиню, с которой, как и с её мужем Власом, главный герой романа ни разу не встречается, а если бы и встретился, то испытал бы, вероятно, отталкивание, как от их сынка Терентия, об иудином предательстве которого доктору рассказал в Барыкине Антипов-Стрельников. Причины эти - в скрытом отношении Пастернака к прототипам членов этого семейства - семье Цветаевой. Оставляя в стороне вопрос об узнаваемости во Власе Галузине С.Я. Эфрона, а в Терентии - Г.С. Эфрона, мы рассмотрим, как в «Докторе Живаго» отражается факт переосмысления Пастернаком своего отношения к Цветаевой, сформировавшегося в 1920-е годы. Это отталкивание, о существовании которого мы можем судить на основе анализа «Доктора Живаго» лишь гипотетически, вписывалось, по-видимому, в то повторное отталкивание от существующего режима и сопутствующих ему нравов, которое появилось у Пастернака после войны и о котором он писал 11 февраля 1956 г.: «Когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после такой щедрости исторической стихии повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и тёмных довоенных годов, я испытал во второй (после 36 года) раз чувство потрясённого отталкивания от установившихся порядков, ещё более сильное и категорическое, чем в первый раз. <.. .> Это очень важно в отношении формирования моих взглядов и их истинной природы» (цит. по: [Ивинская 1978: 96]).
Зная о причинах, позволивших семье Цветаевой вернуться в СССР, Пастернак не мог не включать своё отношение к этим причинам в переосмысление отношения к Цветаевой. Отталкивание, начавшееся едва ли не сразу после её первых писем, несколько раз перемежавшееся периодами духовной близости и творческого притяжения, достигло пика, вероятно, в Париже в 1935 году и во время проводов в эвакуацию было стабильным.
Ещё в самом начале переписки догадки Цветаевой о Пастернаке вызывали в нём неприятие. В ответ он писал 6 марта 1923 г.: «Темы “первый поэт за жизнь”, “Пастернак” и пр. я навсегда хотел бы устранить из нашей переписки. Извините за неучтивость. Многое, несмотря на душевно-родственные мне нотабены, препровождено у Вас не по принадлежности. Будьте же милостивее впредь. Ведь читать это - больно. За одно благодарю страшно. За позволенье думать, что, обращаясь к Вам, Вам же и отвечаю. Это
336
Глава 4
подарок. С этой надеждой я не расстанусь. Но вы забыли, может быть? Это у Вас в первом письме. “Когда бы Вы ни писали, знайте, что Ваша мысль - всегда в ответ”» [Переписка с Цветаевой 2004: 45].
Эти слова являют собой смысловую основу для будущего (инверсионного) «расчёта» с Цветаевой в «Докторе Живаго». Всё процитированное письмо Пастернака - знак сохранения автономности, отталкивание от предсказаний его будущего, от оценок его жизни, старости, знак произошедшего (первого в истории взаимоотношений) скрытого охлаждения. И Цветаева это почувствовала: «Ни от одного слова не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать, - написала она в письме от 9 марта 1923 г. - <.. .> Ваша изящная передача... И виду не подав! - Теряюсь. - “За позволенье думать, что, обращаясь к Вам, Вам же отвечаю...” И ещё не забыла ли я? Нет, не забыла, если я забуду, мысль моя к Вам - не забудет. <.. .> Вам не только моя оценка тяжела, но и моё отношение, Вы ещё не понимаете, что Вы - одаривающий. <...> Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите, - и страх, что, поверив, отшатнётесь» [там же: 51]. Последний «страх» был оправдан, но этому первому отталкиванию Пастернак не дал разрастись, поначалу изменив тон писем в сторону светскости и, по-видимому, загнав неприятие глубоко внутрь.
Чтобы наше рассмотрение было более удовлетворительным, мы обратим внимание и на двойника Галузиной из Первой книги «Доктора Живаго» - Шуру Шлезингер, одним из прототипов которой также была Цветаева.
Итак, образ лавочницы Галузиной представляет собой тайную пародию на поэта -Цветаеву. Сцена весеннего хождения Галузиной ночью по городу «в два-три конца от угла монастыря до угла площади» [IV: 308] - это переосмысление отрывка письма Цветаевой из Мокропсов (Чехия) в Берлин10, где тогда находился Пастернак11. В письме от «10-го нового февраля 1923 г.» (то есть почти весной) описывается осень: «Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот, ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперёд по тёмной платформе -далеко! И было одно место - фонарный столб - без света, сюда я вызывала Вас. - “Пастернак!” И долгие беседы бок о бок - бродячие. <.. .> Я не скажу, что Вы мне необходимы, Вы в моей жизни необходим, куда бы я ни думала, фонарь сам встанет. Я выкол-дую фонарь. Тогда, осенью, я совсем не смущалась, что всё это без Вашего ведома и соизволения. Я не волей своей вызывала Вас, если “хочешь” - можно (и должно!) расхотеть, хотенье - вздор. Что-то во мне хотело. Да Вашу душу вызвать легко: её никогда
10 Сцена хождения Галузиной по предрассветному городу является также новой, прозаической версией 1-й главы «Спекторского». Одним из прототипов Марии Ильиной послужила Цветаева (комментарий - [II: 376-377; Поливанов К.М. 2006: 154-155]).
11 Пастернак выехал из Москвы с женой 11 августа 1922 г. сначала в Петроград, а оттуда 17 августа отправился в Германию. Обратно в Москву он вместе с беременной Евгенией Владимировной уехал 21 марта 1923 г.
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
337
нет дома! “На вокзал” и “к Пастернаку” было тождественно. Я не на вокзал шла, а к Вам. И поймите: никогда, нигде, вне этой асфальтовой версты. Уходя со станции, верней: садясь в поезд - я просто расставалась: здраво и трезво. Вас я с собой в жизнь не брала. И никогда нарочно не шла. Когда прекратились (необходимые) поездки в Прагу, кончились и вы» [Цветаева, VI: 229-230].
Ср. также мужа Галузиной, уехавшего провожать новобранцев и посаженного в тюрьму или расстрелянного, с С.Я. Эфроном, участвовавшим в гражданской войне и вернувшимся с неё. Когда Цветаева жила в Мокропсах, Сергей Яковлевич уезжал в Прагу, где учился в университете. Если учесть пристальный интерес Цветаевой в начале 1920-х к фольклору, сказавшийся в создававшихся тогда поэмах-сказках, а также то, что сказочная Яга и колдун тождественны, то наскакивающие друг на друга мысли и рассуждения «Яги»-Галузиной соотносятся с «выколдовыванием» Цветаевой, писавшей Пастернаку страстные, экспрессивные письма с множеством рассуждений. Фонарный столб без света, о котором идёт речь в письме, в «Докторе Живаго» оказался «превращён» в горящий фонарь на столбе и «светлую полосу» света, которые в ночь после свадьбы «занимают» Пашу, слушающего признания Лары. Тот же перечень значимых деталей присутствует в письме Цветаевой из Мокропсов в Берлин от «9 нов<ого> марта 1923 г.», в котором она пишет о намеченной встрече с Пастернаком в Веймаре: «А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду жить этим все два года напролёт. И если за эти годы умру (не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась чёрной просёлочной дорогой (ходила справляться о визе у только что ездивших) - шла ощупью: грязь, ямы, тёмные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас, нет, не о Вас, о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, - ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды вёрст пройдут, пока мы встретимся! (Простите за такой взрыв правды, пишу, как перед смертью)» [там же: 238]. Часть письма, в которую вошёл данный отрывок, Цветаева завершила так: «Завтра утром допишу. Сейчас больше трёх, и Вы давно спите. Я с Вами всю ночь говорила сонным» [там же: 240] - ср. с тем, что Галузина идёт из монастырской церкви в час ночи с четвертью и ходит по городу, размышляя довольно продолжительное время - примерно до момента, обозначенного Цветаевой.
Косвенным подтверждением аллюзии именно на тексты Цветаевой могут служить довольно странные слова Комаровского на проводах Лары и Антипова на Урал, состоявшихся через десять дней после свадьбы: «На вечеринку с молодою компанией в виде исключения был допущен Комаровский. В конце вечера он хотел сказать, что осиротеет после отъезда своих молодых друзей, что Москва станет для него пустынею, Сахарой, но так расчувствовался, что всхлипнул и должен был повторить прерванную от волнения фразу снова. Он просил Антиповых позволения переписываться с ними и наведаться к ним в Юрятин, место их нового жительства, если он не выдержит разлуки.
- Это совершенно лишнее, громко и невнимательно отозвалась Лара. - И вообще всё это ни к чему - переписываться, Сахара и тому подобное. А приезжать туда и не
338
Глава 4
думайте. Бог даст, без нас уцелеете, не такая мы редкость, не правда ли, Паша? Авось найдётся вашим молодым друзьям замена» [IV: 99-100].
Произнесение Комаровским дважды одной и той же фразы с упоминанием «Сахары», подчёркнутое невнимание Лары, которая вновь, в третий раз, произносит это слово, свидетельствуют о наличии здесь какой-то загадки, на которую рассказчик исподволь, но настойчиво указывает. Попробуем разгадать подоплёку утопичной речи и поведения Комаровского.
«Сахара» в его устах намекает на место пребывания пушкинского Пророка из одноименного стихотворения. Проекция «страданий» Комаровского, его чувств и прочих деталей на пушкинский текст демонстрирует, по контрасту, меру его низости. Ещё один подтекст сетований этого персонажа, относящийся к пушкинской эпохе, - письмо П.Я. Чаадаева к М.А. Дмитриеву от 29 октября 1850 г. Лара с помощью Кологривова поселяется в квартире у Смоленского рынка, которую «готов был передать <.. .> в хорошие руки» [IV: 95] художник, уехавший на два года в Туркестан, и уезжает оттуда вместе с Антиповым на ‘Восток’ - в Юрятин.
В 1867 г. в Туркестан, где в то время шли боевые действия, отправился известный художник-баталист В.В. Верещагин (1842-1904). В 1868-м он в составе небольшого русского гарнизона оборонял от войск бухарского эмира цитадель Самаркандской крепости. В 1869-1870 гг. Верещагин вновь путешествовал по Туркестану. В результате этих опасных путешествий художник создал большую серию рисунков и живописных этюдов с натуры, которые использовал для создания Туркестанской серии картин, включавшей 13 картин, 81 этюд и 133 рисунка и показанной на выставке Верещагина в Лондоне в 1873 г.
Однако у безымянного художника, сдавшего Ларе квартиру, есть ещё один прототип, и эта связь обнаруживает, что Лара в данном случае «списана» с Цветаевой. Присутствуют также мотивы платы за квартиру и грядущей войны. В. Лосская приводит рассказ А.С. Эфрон о жизни Цветаевой в Москве в период перед эвакуацией в Елабугу: «Затем Цветаева жила у родственников отца. Без конца хлопотали о комнате. Союз писателей хлопотал. Наконец инспектор Литфонда, милейший человек, помог. Он нашёл комнату на Покровском бульваре в семье какого-то полярника, который уезжал в экспедицию и имел право сдать свою комнату на три года, с правом вернуться в свою квартиру. Надо было внести плату за три года вперёд, это стоило огромных денег, всё, что было тогда, книги, вещи, она распродала, чтобы внести эту сумму. А их вносить-то не надо было, так как нагрянула война. Поэтому у неё в эвакуации не было никаких денежных запасов. Из этой комнаты на Покровском бульваре она и эвакуировалась» [Лосская 1992: 242-243].
Там же, у Смоленского рынка, жил и корреспондент Чаадаева, уехавший также на Восток - в Симбирскую губернию, куда и писал ему, посылая свой «нескромный подарок» - портрет, Петр Яковлевич. Ср. сетования Комаровского со следующим пассажем: «День ото дня мир для меня скудеет и пустеет; Москва стала для меня тот же Симбирск.
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
339
Многие из чтимых мною отошли в лучший мир, другие не живут более в Москве. Грустна утрата неставших, грустна и разлука с живыми, но тем отраднее дружеское приветствие, посетившее нас издалека. Скажите, зачем люди, друг другу потребные, не живут в одном месте, зачем мы должны скитаться между существами, нам ни к чему не нужными и которым и мы ни на что не надобны; почему мы лишены удовольствия делить мысли с теми, которые и сами нашли бы, может быть, некоторое удовольствие общить с нами свои чувства? Прекрасен божий мир, мир, послушный богу; но мир, созданный своеволием человека и во всем богу непослушный, право никуда не годится. Что тут, например, хорошего, что вы живёте в какой-то Симбирской губернии, а я всё-таки на Басманной? Не гораздо ли лучше было, если б вы по-прежнему жили у Смоленского рынка, хотя и это уже было от меня довольно далеко? <.. .> и потому не имею в настоящее время живейшего желания, как видеть вас опять на Смоленском рынке, вот моя утопия» [Чаадаев 1991, II: 246-247].
Сожаления Чаадаева, пародийно трансформированные в ламентациях Комаровского, создают связь последних с внутренним монологом Лары над гробом Юрия Живаго: «Она думала: “Никого не осталось. Один умер. Другой сам себя убил. И только остался жив тот, кого следовало убить, на кого она покушалась, но промахнулась, это чужое, ненужное ничтожество, превратившее её жизнь в цепь ей самой неведомых преступлений. И это чудище заурядности мотается и мечется по мифическим закоулкам Азии, известным одним собирателям почтовых марок, а никого из близких и нужных не осталось”» [IV: 496].
В данном случае на личность Чаадаева проецируется как Лара, так и Комаровский, о котором она думает. Это презрение Лары к Комаровскому, пожалуй, наиболее острый случай скрытого негативного отношения Пастернака к личности Чаадаева, пережившего многих своих современников, в частности Пушкина, и откровенно выказывавшего тщеславие. В целом же, судя по многочисленным другим интертекстуальным следам личности и творчества Чаадаева в «Докторе Живаго», отношение к религиозному философу и его творениям у Пастернака было исключительно позитивным12. Мотив подарка (посылка Чаадаевым Дмитриеву своего портрета, подобный которому уже дарился его дяде - поэту И.И. Дмитриеву) также не остался без внимания, но Пастернак связал его с апокалиптическими предчувствиями и уральской темой.
Поселение Лары с помощью Кологривова (а не Комаровского) имеет, как выяснил И.П. Смирнов, и кинопретекст - «За счастьем» (1917) Е.Ф. Бауэра. На этом источнике базируются отношения в любовном треугольнике ‘Лара - Амалия Карловна - Комаровский’, а также места действия, в частности, мастерская художника, которая «в ранних редакциях романа <.. .> описана с множеством подробностей, которые делают её подобной кинопавильону, не перестающему быть ярко освещённым ни днем, ни ночью» [Смирнов 2009: 330].
12 Подробно о влиянии Чаадаева на Пастернак и следах произведений мыслителя в «Докторе Живаго» см.: [Буров 20096].
340
Глава 4
Комаровский, как думает о нём у гроба Юрия Живаго Лара, «мотается и мечется по мифическим закоулкам Азии» так же, как герой Андрея Белого, сидящий около Сфинкса, но «Азия» у него другая - Дальний Восток и, вероятно, Китай, что отсылает к теме «жёлтой угрозы» из «Петербурга» Андрея Белого. В финале романа «Николай Аполлонович провалился в Египте; и в двадцатом столетии он провидит - Египет, вся культура,- как эта трухлявая голова: всё умерло, ничего не осталось» [Белый 1981: 418].
Надя Кологривова привозит Ларе, собирающейся уехать на Урал, в подарок шкатулку с ожерельем из камня, который гости не могут определить: то ли это розовый гиацинт, то ли жёлтый сапфир. «Лара положила ожерелье около своего прибора и смотрела на него, не отрываясь. Собранное в горсточку на фиолетовой подушке футляра, оно переливалось, горело и то казалось стечением по каплям набежавшей влаги, то кистью мелкого винограда» [IV: 101]. Эта неопределённость - знак того, что разгадку даёт интертекст. Анализируя символы приближающихся катастроф и потрясений и усматривая в неизвестно чьей «стреноженной лошади» во дворе и воре, забравшемся в квартиру, апокалиптическое «vision of the Fourth Horse and his rider»13, М.Ф. Роуланд и П. Роуланд указывают, что цвета камней ожерелья имеют такое же символическое значение: «The solution of this color-riddle of rose-reddish-orange-blue-yellow is found in the Apocalipse (9:17). Those are the hues “of fire and of sapphire and of sulphur” which John saw on the breastplates of the supernatural cavalry from the Euphrates - colors matching the fire, smoke, and sulphur pouring from the mouths of their terrible mounts - i.e., plagues which were to “kill a third of mankind”. This prophecy of foreign invasion and the destructive implications of the colors - so much more fearsome in Zhivago’s century than in John’s - are marvelously recaptured in Larisa’s necklace»14 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 79].
Другой источник - «Малахитовая шкатулка» (1936) П.П. Бажова, которую Пастернак брал читать в библиотеке до или во время работы над романом [Пастернак Е. 1997: 666], Хозяйка Медной горы дарит на прощанье полюбившемуся ей Степану малахитовую шкатулку с бусами и другими украшениями, а также слёзы, превращающиеся в горсть «зёрнышек» - драгоценных камней. Степан никому эти камни не показывает, и, когда умирает, их находят зажатыми у него в горсти. В «Докторе Живаго», как и в сказе «Медной горы Хозяйка», открывающем книгу Бажова, собравшиеся гадают, что это за камни. У Бажова: «Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зёрнышки и говорит: - Да ведь это медный изумруд. Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось» [Бажов 1986,1: 61]. В романе Пастернака ценность камней определяет «кто-то из пьяных, уже несколько протрезвившийся».
13 «Видение четвёртого коня и его всадника» (англ.).
14 «Решение этой цветовой загадки розового-красноватого-оранжевого-голубого-жёлтого содержится в Апокалипсисе (9:17). Это - оттенки “огня, и сапфира, и серы”, которые Иоанн видел на нагрудниках сверхъестественной конницы из Евфрата, - цвета, соответствующие огню, дыму, и сере, исходящим из ртов ужасных коней, - то есть язвы, которые должны были “убить одну треть человечества”. Это пророчество об иностранном вторжении и разрушительные значения цветов - гораздо более внушающие страх в столетии Живаго, чем во времена Иоанна - удивительно переданы через ожерелье Ларисы» (англ.).
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
341
Вдова Степана Настасья пытается надевать украшения из шкатулки, но не может их носить (ср. с Ларой, которая не надевает ожерелье, а только любуется им), в отличие от дочери Танюшки, которая и становится их настоящей владелицей. Вор, забравшийся в квартиру Лары в ночь после вечеринки, но не заметивший лежавшего на виду драгоценного ожерелья, также «забрался» в «Доктор Живаго» из книги Бажова - на этот раз сказа «Малахитовая шкатулка», в котором «мужик незнакомый, с топором» пытается напасть на Танюшку и забрать шкатулку, но, ослеплённый видом дочери умершего Степана, отказывается от своих намерений. Вор увидел Танюшку, надевшую украшения из шкатулки, «сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит: - Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! - а сам глаза трёт. <.. .> Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход -выбежала через окошко и к суседям». После того, как вора отпустили, не сочтя виновным, Настасья «зарыла шкатулку в голбец» [Бажов 1986,1: 65-66].
Позже в семью Настасьи пришла странница - вероятно, сама Хозяйка Медной горы, которая обучила Танюшку (своего молодого двойника) рукоделью. В «Докторе Живаго» эти события обыгрываются подробно в конце романа - в тексте, относящемся к дочери умершего Юрия Живаго (ср. со Степаном) Тани Безочередевой и её рассказу о своей жизни «на другом конце Сибири» [IV: 508-513]. Имя героини - один из явных знаков интертекстуального родства с героиней Бажова, жившей на Урале, то есть на противоположном конце Сибири. Роль Настасьи исполняет тётя Марфуша, вора - разбойник, «чужой мужик, чёрный и страшный». Последний сначала «топором зарубил» мужа Марфы Василия Афанасьевича, которого выманила в отъезд «странница» (ср. со странницей у Бажова), а затем, будучи заперт в тёмном (ср. с ослеплённостью вора у Бажова) подполе, куда Марфа послала его за якобы лежащими там деньгами (ср. со шкатулкой, которую Настасья спрятала после посещения вора), убивает там взятого с собой сына Марфы Петеньку, тогда как Таню брать туда отказывается (ср. с запертостью Танюшки в доме с ослепшим вором, который так никого и не убил). Разбойника потом бросают под поезд красноармейцы (у Бажова вора отпускают). Выше мы указывали на то, что в данном сюжетном эпизоде «Доктора Живаго» сказалось влияние «Капитанской дочки». Апокалиптический и бажовский подтексты, таким образом, совмещаются с пушкинским. Регулярность интертекстуального обыгрывания сказов Бажова в романе выдаёт внутреннюю связь событий, связанных с Таней Безочередевой, и того, что происходило на вечеринке, устроенной её матерью и Антиповым на квартире у Смоленского рынка, а также в ночь после неё.
Другими источниками образа ожерелья являются, как отмечалось выше, «Вечный муж» Ф.М. Достоевского и, как показал И.П. Смирнов, фильм Я. А. Протазанова «Человек из ресторана» (1927), где «Карасёв, надеясь подкупить Натали, посылает ей дорогое колье. <.. .> Натали вынимает колье из футляра. Как и все остальные пересечения с кинематографическим “Человеком из ресторана”, мотив ожерелья не имеет в “Докторе
342
Глава 4
Живаго” сюжетных продолжений15, если не считать того, что оно могло быть украдено (“киноплагиат” Пастернака подтверждается рассказом о воровстве, которое разыгрывается в полутьме, словно бы Лара, увидевшая грабителя, находилась в зале для просмотра фильмов)» [Смирнов 20086: 345-346].
Вернёмся, однако, к ассоциациям, связанным с Цветаевой. Слова Лары, отмахивающейся от сетований Комаровского, можно трактовать как скрытую реакцию Пастернака 1950-х годов на обращённое к нему стихотворение «Сахара» и письма Цветаевой начала 1920-х, как переосмысление вообще всех отношений с ней и значения переписки, начавшейся в 1922 г. Упоминание Комаровским (появляющимся до отъезда «молодых друзей») «Сахары» и тем самым скрытое вложение в его уста текста стихотворения, его волнение и сентименты («так расчувствовался») выдают в этом не слишком приятном герое раздражённую пародию на кипевшую страстями Цветаеву, написавшую 3 июля 1923 г. (вскоре после отъезда Пастернака с беременной женой из Германии обратно в Россию) «Сахару». Расшифровать значение «Сахары» Комаровского не смогла даже такая чуткая читательница «Доктора Живаго», как дочь Цветаевой А.С. Эфрон, обратившая внимание (в письме от 28 ноября 1948 г.) лишь на психологический аспект появления Комаровского на вечеринке (см.: [Переписка с Эфрон 1989: 317-318]). Несомненно, «Сахару» Цветаевой Пастернак хорошо помнил, в частности, потому, что, как указывает биограф Цветаевой, в 1923 г. он «напечатал на родине четыре стихотворения Цветаевой. В сборнике “Московские поэты” (Великий Устюг) он поместил стихи, прямо обращённые к нему: “В час, когда мой милый брат...” и “Брожу - не дом же плотничать.. .”. Два других (“Занавес” и “Сахара” - последнее также обращено к нему) удалось отдать в третий номер сборника “Русский современник” (Л.; М.)» [Саакянц 1997: 392].
Адресованность стихов Цветаевой непосредственно к Пастернаку, вероятно, была для него во время работы над романом дополнительным стимулом к тому, чтобы, подвергая стихи инверсированию, делать их тайным ответом автору. Но более сильным поводом к такой, казалось бы, запоздалой реакции было содержание упомянутых письма, стихов, а также других первых писем Цветаевой, написанных Пастернаку после получения в 1922 г. книги «Сестра моя - жизнь». Скрытое негативное обыгрывание «Сахары» в «Докторе Живаго» является контрастом восторга, с которым Пастернак оценивал стихотворение в момент знакомства с ним. В письме к Е.В. Пастернак от 19 мая 1924 г. он писал: «Получил от Цветаевой стихи. Ах, какие стихи, Женя! Вильям, Дмитрий <Пет-ровский> и др. без ума от них. Помнишь, как я тебе и Шуре “Вёрсты” читал? Они изумительны, я их в “Современник” отдал, наверное, Коля Вильям о ней статью в журнале даст» [Переписка с Евгенией Пастернак 1998: 40].
«Сахара» в устах Комаровского выдаёт в этом персонаже и автопародию Пастернака. Цветаевским образом он воспользовался применительно к себе и Андрею Белому,
15 На наш взгляд, сюжетным продолжением служат обыгрывания «Малахитовой шкатулки» в рассказе о Тане Безочередевой.
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
343
помещая в письме к Цветаевой от 5 ноября 1930 г. и себя и его в две «Сахары», которые в символико-аллегорическом ключе подразумевают духовное одиночество обоих в советской Москве 1930 года, ставшей пустыней для поэтов. Описав лето, проведённое в Ирпене, Пастернак заключил: «Жили дружбой, работой, вечерами, природою, обманчивостью допущенья, что всё это и есть всё. Пишу и чувствую, что издалека ты, в особенности же мужчины (С.Я., Д<митрий> П<етрович>, П<етр> П<етрович>) должны меня за этот замогильный тон презирать. Что ж делать. Сейчас из-под Москвы от Б.Н. Б<угаева> (А. Б<елого>) получил письмо, как из Сахары в Сахару» [Переписка с Цветаевой 2004: 530].
«Сахарой» же для мимикрирующего и умирающего от сердечного приступа Юрия Живаго, одним из прототипов которого был П.Я. Чаадаев, становится посленэповская Москва (шире - Россия). Подтверждение этому содержится в письме от 25 июня 1924 г. к Е.В. Пастернак: «И на что оно, чуждое мне, всё сплошь - искажённость, пораженье и отчаянье. Зачем обольщаться мечтами, по привычке преследующими меня иногда. Мира, в котором я был свинчен, приготовлен, выпущен и снабжён клеймом, - не существует. Было сердце. Назовём его как угодно. Хоть болотным. Болото осушили. Просто вредно думать, чтобы оно билось и толкало поэтическую кровь на осушённом свете. Оно ведь даже пузырей не пускает. В борьбе за существованье оно пытается превратиться во что-нибудь из того, что его окружает. Но его способность к оборотничеству сомнительна. Его окружает жестокая флора пустыни. Куда ему меряться с ней в её жилистости, мясистости и буйной выносливости. Какая бессмыслица» [Переписка с Евгенией Пастернак 1998: 99].
Имя Андрея Белого не случайно появляется в связи с «Сахарой». Образ Комаровского, пришедшего на проводы молодожёнов, спроецирован на лирического героя стихотворения «Пустыня» (вошедшего в «Урну»), который сетует: «Ушла. И вновь мне шлёт “прости” <...>/ Но я сказал: “Прости навеки” <.. .>». Эта «эмоциональная квинтэссенция любовного одиночества» [Лавров 2007: 317] выдаёт в грубо материалистичном Комаровском пародию на высоко одухотворённого Белого, переживавшего отвержение со стороны Л.Д. Блок.
Переосмыслению, похоже, подвергались отношения с Цветаевой не только начала 1920-х годов, но и всех периодов, хотя и в «Людях и положениях», и в письмах, и в интервью16 - в общем, всякий раз, когда речь шла о «внешнем» проявлении отношения к Цветаевой и её творчеству, Пастернак неизменно высказывался с большим пиететом и давал высочайшие оценки, которые, тем не менее, всякий раз были двусмысленными. Отношение к Цветаевой прошло у Пастернака три стадии, о которых можно судить по его словам из очерка «Люди и положения»: «Я долго недооценивал Цветаеву <...>. Я уже сказал, что среди молодёжи, не умевшей изъясняться осмысленно, возводившей косноязычие в добродетель и оригинальной поневоле, только двое, Асеев и Цветаева,
16 Например, Ольге Карлайл - см.: [Цветаева, VI: 279].
344
Глава 4
выражались по-человечески и писали классическим языком и стилем. И вдруг оба отказались от своего умения. Асеева прельстил пример Хлебникова. С Цветаевой произошли собственные внутренние перемены. Но победить меня успела ещё прежняя, преемственная Цветаева, до перерождения» [III: 338].
Если первой стадией является недооценка, «непрочтение», а второй - высочайшая оценка, плодотворное общение в течение долгого времени, то третьей, на которую Пастернак лишь смутно намекает, - время после «перерождения» Цветаевой, когда он произвёл переоценку, о которой предпочитал не говорить, но которая отразилась как в тональности рассказа о Цветаевой в «Людях и положениях», так и в интертекстуальных слоях «Доктора Живаго». Рассказ о третьей стадии Пастернак заменял обычно рассказом о второй. Тем интереснее оказываются скрытые свидетельства переоценки личности и творчества близкого когда-то поэта.
В том же письме от «10-го нового февраля 1923 г.» Цветаева заявляла: «Пастернак, я читаю в Вас, но я, как Вы, не знаю Вашей последней страницы. - Брезжится, впрочем, монастырь» [Цветаева, VI: 230]. Галузина в «Докторе Живаго» идёт «с едва начавшейся заутрени» из монастыря, пробыв там, по-видимому, совсем недолго. Сказочную Ягу, которая является мертвецом и представителем «царства мёртвых», напоминает в ней походка, выдающая «мертвеца», но в то же время напоминающая вышедшего из гроба воскресшего Христа: «Она шла неровною походкою17, то разбегаясь, то останавливаясь, в накинутом на голову платке и расстёгнутой шубе. Ей стало нехорошо в духоте церкви, и она вышла на воздух» [IV: 307].
Уход из церкви, хождение по городу и размышления Галузиной параллельны и контрастируют в романе (в том числе и в плане инверсирования сказочных и евангельских мотивов) с уходом от толпы провожающих и размышлениями Юрия Живаго, участвовавшего в похоронах Анны Ивановны Громеко: «Юра шёл один, быстрой ходьбой опережая остальных, изредка останавливаясь и их поджидая» [IV: 91]. Упомянутое письмо Цветаевой, а также письма от «29-го нов<ого> июня 1922 г.» в Москву из Берлина, от «19-го нов<ого> ноября 1922 г.» из Мокропсов в Берлин дают биографическую основу ситуаций: воспоминание о встрече с Пастернаком на кладбище Девичьего монастыря в Москве на похоронах Татьяны Фёдоровны Скрябиной «11-го (по-старому) апреля 1922 г.» [Цветаева, VI: 223, 224, 232]. «Теперь самое главное: стоим у могилы. Руки на рукаве уже нет. Чувствую - как всегда в первую секундочку после расставания - что Вы рядом, отступив на шаг. Задумываюсь о Т<атьяне> Ф<ёдоровне> - Её последний земной воздух. - И - толчком: чувство прерванности, не додумываю, ибо занята Т<атьяной> Ф<ё-доровной> - допроводить её! И, когда оглядываюсь, Вас уже нет: исчезновение. Это моё последнее видение Вас. Ровно через месяц - день в день - я уехала» [там же: 224].
17 Возможно, хождение Галузиной по городу перекликается с «двойчаткой» О.Э. Мандельштама «К пустой земле невольно припадая» и «Есть женщины, сырой земле родные» (4 мая 1937 г.) [Мандельштам 1995: 287-288]. Некоторые интертекстуальные связи этих стихотворений проанализированы в: [Буров 1991].
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
345
К.М. Поливанов указывает на параллель встречи Пастернака и Цветаевой на этих похоронах и встречи Юрия Живаго и Лары в день смерти Анны Ивановны Громеко [Поливанов К.М. 1992: 53]. Можно предположить, что в «сказочном» прочтении этого «самого главного» впечатления Цветаевой Пастернак, создававший роман и ещё с конца 1910-х годов отказавшийся от романтизации жизни, мог усмотреть отождествление себя с закапываемым мертвецом (-женщиной). Впрочем, протест против такого взгляда Цветаевой, мог подспудно сформироваться не в конце 1940-х - начале 1950-х, а ещё тогда, в начале 1920-х, сразу же после получения вышеприведенного и других писем. Тем более, что Цветаева шла ещё дальше, педалируя тему сообщения мира живых и «царства мёртвых»: «Мой любимый вид общения - потусторонний: сон: видеть во сне. А второе - переписка. Письмо как некий вид потустороннего общения менее совершенно, нежели сон, но законы те же» [Цветаева, VI: 225]. При этом Пастернак, где бы он ни находился - в Москве, в Берлине или вновь в Москве - неизменно оказывался в позиции мертвеца или в позиции амбивалентной. «Теперь слушайте очень внимательно: я знала очень многих поэтов, встречала, сидела, говорила и, расставаясь, более или менее знала (догадывалась) - жизнь каждого из них, когда меня нет. Ну, пишет, ну, ходит, ну (в Москве) идёт за пайком, ну, (в Берлине) идёт в кафе и т. д. А с Вами - удивительная вещь: я не мыслю себе Вашего дня. <.. .> Вы у меня в жизни не умещаетесь, очевидно - простите за смелость! - Вы в ней не <варианты: 1. Вы не в ней 2. Вы в ней>18 живёте. Вас нужно искать, следить где-то ещё. <.. .> Вы точно вместо себя посылаете в жизнь свою тень, давая ей все полномочия» [там же: 226].
С отправкой в «царство мёртвых» ассоциировался у Цветаевой и предстоящий отъезд Пастернака из Берлина обратно в Россию. На фоне того, что Пастернак хорошо знал поэмы-сказки Цветаевой, знал о её увлечении народным творчеством, эти ассоциации в 1940-1950-е годы могли вызывать тем большую ответную реакцию протеста против как метода использования фольклора, так и результатов, особенно с учётом того, что он внимательно читал Проппа. Прямое указание Цветаевой на то, что место назначения является «царством мёртвых», Пастернак во времена создания романа мог воспринимать как профанацию тайн сказки. Аналогичное отношение, тем более после чтения Проппа, могло сложиться у него к квазифольклорным поэмам-сказкам Цветаевой «Царь-девица» (1920), «Переулочки» (1922) и «Молодец» (1922)19. К тому же последнюю поэму - об упыре - Цветаева посвятила Пастернаку. Интонации Цветаевой можно узнать в интонациях всех персонажей «Доктора Живаго», наделённых функциями сказочной Яги. Ср., например, обращение к Юрию Живаго, приехавшему с семьей в Варыкино, «Яги»-Микулицыной со следующим отрывком из письма Цветаевой: «А теперь, Пастернак, просьба: не уезжайте в Россию, не повидавшись со мной. Россия для меня - un grand
18 «Вариант 1 написан над основным текстом (выделен курсивом), вариант 2 - под основным текстом» [Цветаева, VI: 226; примечание издателей].
19 Обстоятельный анализ инверсированных следов этих поэм в «Докторе Живаго» мог бы дать интересные результаты.
346
Глава 4
peutetre20, почти тот-свет. Уезжай вы в Гваделупу, к змеям, к прокажённым, я бы не окликнула. Но: в Россию - окликаю. - Итак, Пастернак, предупредите, я приеду. Внешне - по делам, честно - к Вам: по Вашу душу: проститься. Вы уже однажды так исчезли - на Дев<ичьем> Поле, на кладбище: изъяли себя из. Вас просто не стало. <...> Я вообще сомневаюсь в Вашем существовании, но мыслится мне оно слишком похоже на сон по той беззаветности (освежите первичность слова!), по той несомненности, по той слепоте, которая у меня к Вам. <.. .> Не отъезда я вашего боюсь, а исчезновения» [Цветаева, VI: 232].
Добавим, что на «прочтение» Цветаевой отъезда Пастернака в Москву как отправки в «царство мёртвых» и тем более ассоциирование его с мертвецом у Пастернака в период создания романа могло накладываться знание трагической судьбы самой Цветаевой - её отъезда из Парижа в Москву, а оттуда - на Урал, где она покончила с собой.
Галузина не знает Юрия Живаго (она лишь слышала о нём), который, в то время как она ходит по городу, попадаёт в «гроб» - на «инициацию» к партизанам. Однако Галузина объясняет невозможность встречи иной причиной: «Пока я раздумывала выписать, двадцать красных кордонов по дороге наставили, чихнуть некуда» [IV: 314]. Ср. с объяснением Цветаевой причин невозможности приезда из Чехии в Германию для встречи с Пастернаком (в письме от «9-го нов<ого> марта 1923 г.» из Мокропсов): «Я не приеду, -у меня советский паспорт, и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине, и нет связей, чтобы это осилить. <.. .> Если бы Вы написали раньше и если бы я знала, что Вы так скоро едете... <...> у меня ничего нет, кроме моего рвения к Вам, это не поможет. Я всё ждала Вашего письма, я не смела действовать без Вашего разрешения, я не знала, нужна Вам или нет. Я просто опустила руки. (Пишу вам в весёлой предсмертной лихорадке.) Теперь знаю, но поздно» [Цветаева, VI: 237-238].
За этим письмом Цветаевой последовало временное прекращение переписки, и были созданы стихи, обращённые к Пастернаку. «В час, когда мой милый брат» может прочитываться в применении к «Доктору Живаго» в качестве внетекстового монолога Лары, оплакивающей пропавшего Юрия Андреевича. «Брожу - не дом же плотничать» - ещё один источник деталей, вошедших в сцену хождения Галузиной и параллельные ей ситуации. В этом стихотворении, как и в письме, присутствует «фонарь». Завершается оно строфой
Такая власть над сбивчивым
Числом у лиры любящей, Что на тебя, небывший мой, Оглядываюсь - в будущее [Цветаева, II: 234].
Ответ Пастернака, реверсировавшего в романе историю, на это обращение мог бы звучать так: «Не оглядываюсь и смотрю вперёд - в прошлое». На именования «мертвец
20
«Большая загадка, неопределённость (фр.)» [Цветаева, VI: 232; перевод издателей).
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
347
настойчивый» и «небывший мой» Пастернак мог бы ответить: «небудущий твой» и ответил в 1956-м императивом: «Но быть живым, живым и только, / Живым и только до конца» [II: 150]. Фраза лирической героини «не дом же плотничать» трансформировалась в «Докторе Живаго» в ностальгические воспоминания Галузиной о «видных статных, авантажных» «плотничьих десятниках», ходивших к её отцу [IV: 308].
«Сахара» Цветаевой, если бы её произнёс Комаровский, звучала бы издевательски и представляла бы, если учесть предыдущие «заслуги» Комаровского, глумление над отъезжающими «молодыми друзьями». Реакция Лары на слова «расчувствовавшегося» бывшего любовника - это реакция самого Пастернака, пишущего роман, на эпистолярные чувства Цветаевой времён переписки с нею в 1922-1923 и в последующие годы.
В устах Галузиной «Сахара» Цветаевой могла бы подразумевать попавшего к партизанам - в «надёжный гроб» - доктора Живаго, «ездившего» к Ларе [Цветаева, II: 207-208]. Юрий Андреевич оказывается в плену, когда его жена беременна, - Пастернак уезжал из Германии в Россию, когда беременной была Евгения Владимировна. Так различные тексты Цветаевой одного периода интертекстуально обеспечивают различными составными различные участки текста романа, создавая их скрытую взаимосвязь, выступая жизненной и литературной основой для этой взаимосвязи.
«Доктор Живаго» как итоговое произведение Пастернака заключает в себе глубоко скрытую реакцию на «явный» тесный контакт поэтов в первой половине 1920-х. В первых же письмах к Пастернаку в Москву и в Берлин Цветаева давала ему - его «Гению» -определяющие характеристики. В романе Пастернак ещё раз, но скрыто, нежели в переписке 1920-х, реагировал на них. Но реагировал кардинально иначе, нежели тогда. Будь Пастернак в Москве, или в Берлине, или снова в Москве - любое место, где он находился, в трактовке Цветаевой представало местом «как на том свете», «царством мёртвых», где он «исчезал», а любимым видом общения был - «потусторонний». Пастернак в «Докторе Живаго» отвечал на этот вид общения - аналогичным: он как будто согласился, что находится в (советском) «мире мёртвых», и, оставаясь живым, писал роман для живых. С другой стороны, адресуя роман в качестве отдаваемого «долга» Цветаевой, отцу, Рильке, Пастернак писал его из мира живых в «царство мёртвых», оперируя в «явном» тексте скрытыми инверсиями.
И встречи, и невстречи (заменяемые перепиской) Пастернака и Цветаевой можно было бы назвать историей «невстреч», что вполне соответствует заявлению Цветаевой (в письме от «19-го нов<ого> ноября 1922 г.» Пастернаку в Берлин): «Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой: тогда встреча - над. - Закинутые лбы!» [Цветаева, VI: 226]. Пастернак отвечал в романе тем же: Юрий Живаго никогда не встречается с Галузиной и только слышит о ней от её сестры Пелагеи Тягуновой в Пажинске; Комаровский же для него «не существует», доктор даже при встрече в Юрятине не считает, что познакомился с ним, о чём и заявляет ему в глаза; страдающая болезнями Галузина так и не встречается с доктором, зато проходит под монастырской аркой, при взгляде на которую нужно было «закинуть лоб»:
348
Глава 4
дорога, идущая через Крестовоздвиженск, «ещё раз захватывала край монастырского владения на главной площади, куда растворялись железные, крашенные в зелёную краску монастырские ворота. Вратную икону на арке входа полувенком обрамляла надпись золотом: “Радуйся живоносный кресте, благочестия непобедимая победа”» [IV: 306].
Встреча с Тягуновой и её рассказ, дополненный позже рассказом Брыкина о жизни в Веретенниках, во многом объясняют введение в роман «the problematic Part 10»21 [Corn-well 1986:70], события которой не связаны с Юрием Живаго. Но если о Галузиной, членах её семьи, их судьбе, о Крестовоздвиженске и, возможно, о Кубарихе доктор узнаёт от Тягуновой22, то о собрании большевиков в этом городе он мог слышать лишь от Ливерия. Однако тот не может претендовать на роль повествователя в «Докторе Живаго». Поскольку же последняя в конце романа явно отдана Евграфу, можно допустить, что он присутствовал на собрании (возможно, инкогнито) и впоследствии мог рассказать о происходившем там брату, который знал и Костоеда, и Ливерия, и Вдовиченко. Вероятность такого присутствия Евграфа вполне вписывается в его таинственные дела на Урале. Впрочем, знал доктор или нет о происходившем на собрании партизан, это никак не влияет на решение вопроса о повествователе в 10-й части. Кроме как тайным присутствием Евграфа на собрании или чтением Юрием Живаго сжигаемых Каменнодворским старых протоколов партизанских собраний, ничем иным знание повествователя о происходившем там не объяснимо.
Пока Галузина «раздумывала выписать» доктора, «двадцать красных кордонов на дороге наставили», и он попал в плен к партизанам - пока Цветаева раздумывала о поездке из Мокропсов в Берлин для встречи с приехавшим Пастернаком, он был вынужден уехать в Россию. В письме от 9 нового марта 1923 г. о невозможности поездки содержится и мотив желания увидеть, в романе инверсированный в намерение «выписать», и объяснение любви Галузиной к лиловому цвету: «С получения ваших “Тем и Вариаций” - нет, раньше, с известия о Вашем приезде, я сказала: я его увижу. С вашей лиловой книжечки это ожило, превратилось в явь (кровь), я принялась за большую книгу прозы (переписку!), рассчитав окончание её на середину апреля» [Переписка с Цветаевой 2004: 49].
Комментаторы указывают на то, что «о своей любви к лиловому цвету, “цвету парм-ских фиалок”, Пастернак писал Жаклин де Пруайар 2 августа 1959 года» [IV: 696], и, таким образом, Галузина предстаёт инверсированной автопародией, а не только пародией на Цветаеву, корень фамилии которой - «цвет» - упомянут в трёх соответствующих предложениях девять (!) раз. Поскольку, по наблюдениям комментаторов, лиловый цвет, который любила Галузина, отсылает и к статье А.А. Блока «О современном состоянии русского символизма» (1910), то лавочница оказывается также сатирически заземлённым вариантом как Прекрасной Дамы, так и женщины как воплощения Руси
21 «Проблематичную Часть 10» (англ.).
22 См. обсуждение этой темы, а также особенностей 10 части и связи с нею стихотворения «На Страстной»: [Cornwell 1986: 78-79].
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
349
(«О, Русь моя, жена моя!»). О предполагавшейся встрече Пастернак и Цветаева писали друг другу несколько лет, но уже в середине июня 1926 г. Цветаева сделала признание, подтвердившее намерение встретиться, но перечеркнувшее его: «Борис, никогда я ещё ни одной встрече так не ужасалась, как нашей: я не вижу места свершения её» [Переписка с Цветаевой 2004:229]. Для Галузиной, потерявшей время, встреча с доктором так же нереальна, и она теряет близких (мужа и сына) так же, как Цветаева, писавшая в цитированном выше письме от 9 нового марта 1923 г.: «Моя судьба - потеря» [там же: 50].
Однако скрытая полемика с Цветаевой распространяется не только на сцены, связанные с Галузиной и Комаровским. Её письма 1922-1923 гг. резонируют и в других местах романа, давая ключ к значению деталей, которые рассказчик (и автор) оставляет зачастую без комментариев. Например, в письме от «10-го нового февраля 1923 г.» Цветаева дала творчеству Пастернака характеристику, которая для него во времена создания романа могла звучать хотя бы и очень верной, но ставшей тайной, запрещённой к оглашению: «Пастернак есть тайный шифр. Вы - сплошь шифрованы, вы безнадежны для “публики”. Вы - царская перекличка, или полководческая. Вы переписка Пастернака с его Гением. (Что тут делать третьему, когда всё дело: вскрыв - скрыть!) Если Вас будут любить, то из страха: одни, боясь “отстать”, другие, зорчайшие, - чуя. Но знать... Да и я Вас не знаю, никогда не осмелюсь, потому что и Пастернак часто сам не знает, Пастернак пишет буквы, а потом - в прорыве ночного прозрения - на секунду осознает, чтобы утром опять забыть. А есть другой мир, где Ваша тайнопись - детская пропись. Горние Вас читают шутя. Закиньте выше голову - выше! - Там Ваш “Политехнический зал”» [Цветаева, VI: 231].
Отметим лишь две сцены, в которых скрыто пародируется такое (чрезвычайно проницательное) понимание тайны. (Цветаева была, вероятно, первой, кто высказал мысль о том, что поэтика Пастернака - поэтика таинственного.) Это описание работы телеграфиста Коли Фроленко в Мелюзееве и сжигание «штабной переписки белых» начальником связи партизан Каменнодворским. «Тайные» шифровки и ответы Фроленко и его собеседников, включая Флери, а также телеграфная переписка белых и, надо полагать, аналогичная переписка красных - различные виды профанации тайной связи и тайной передачи знания. Кажется, Пастернака могло коробить стремление Цветаевой назвать своими именами вещи таинственные и по определению не подлежащие огласке (хотя бы потому, что «мысль изречённая есть ложь»). Какими бы верными ни были её форму-лятивные определения, они уничтожали тайну, а потому представали кощунством. В 1950-е вызывать неприятие Пастернака могли и многочисленные «пророчества» Цветаевой на его счёт. Однако некоторые он передал на «вооружение» своему герою. Например, «если Вас будут любить, то из страха: одни, боясь “отстать”, другие, зорчайшие, - чуя» было трансформировано в романе в заключительную реплику речи Юрия Живаго перед гостями, собравшимися в доме Громеко на ужин с уткой: «Он видел проявления общей любви к нему, но не мог отогнать печали, от которой был сам не свой. И вот он сказал: - Спасибо, спасибо. Я вижу ваши чувства. Я их не заслуживаю. Но не
350
Глава 4
надо любить так запасливо и торопливо, как бы из страха, не пришлось бы потом полюбить ещё сильней» [IV: 181].
Эти слова доктора вполне можно прочесть и как ответ Пастернака из 1950-х на разлив чувств Цветаевой в письмах 1922-1923 годов. Кроме того, слова Юрия Андреевича представляют собой инверсированный парафраз завершающего абзаца из «Дневника чудака» Андрея Белого: «Полюбите нас чёрными: не тогда, когда в будущем выявим мы на поверхность земли великолепные храмы культуры: полюбите нас в - катакомбах, в бесформенности, воспринимающих не культуру и стили, <.. .> но созерцающих без единого слова Видение Бога Живого, сходящее к нам» (Андрей Белый. Дневник чудака. Отрывок из повести // Наш путь. 1918. № 2, с. 10 - цит. по: [Кацис 1998: 276]).
Такое отношение Пастернака к тексту старшего современника свидетельствует, в частности, о том, что Юрий Живаго тайно «совпадает» с Андреем Белым, является его позитивным двойником, продолжающим его дело и противопоставленным Маяковскому, отношение к которому пытается узнать у доктора Дудоров. В описании вечеринки в доме Громеко скрыто инверсируется стихотворение М.Ю. Лермонтова «На буйном пиршестве задумчив он сидел» (1839). Но отразились здесь и впечатления Пастернака от вечера поэтов, состоявшегося в 20-х числах января 1918 г. в доме Цетлиных на Поварской. Пастернак описал этот вечер в «Охранной грамоте» [III: 228-229]. Там он наблюдал реакцию Андрея Белого на чтение Маяковским поэмы «Человек». Там же присутствовала Цветаева. Позитивное скрытое «отождествление» Живаго с Белым было для Пастернака чрезвычайно значимым. Ещё 22 февраля 1935 г. он писал О.Г. Петровской-Силло-вой: «Когда, как кажется, я напоминаю К.Н. Бугаевой Андрея Белого, дело не в ней, и в нём, и не во мне, - это частность. А в том, что это с нами со всеми, что такова огромная односемейная жизнь человечества, что я всегда это знал и для того жил» [IX: 14].
Появление интертекстуальной отсылки к Цветаевой даёт повод пристальнее взглянуть на окружение доктора на вечеринке. И оказывается, что одна из слушающих его -явившаяся «поздно ночью почти перед уходом гостей» Шура Шлезингер - персонаж, представляющий собой ещё одну, быть может, самую сильную в романе пародию на Цветаеву. Важный пласт значений, скрытых за этой фамилией, связан с её этимологией23. Он свидетельствует о желании Пастернака указать на скрытую революционность, а не на явную контрреволюционность Цветаевой, культивировавшуюся ею самой. Возможно, это стремление у позднего Пастернака поддерживалось знанием о том, чем занимался за границей С.Я. Эфрон и за какие «заслуги» ему и семье было разрешено вернуться. Фамилия Шлезингер происходит от названия исторической славянской области в верхнем и среднем течении Одера - Силезии (по-немецки - Schlesien), которая в 1526 г. перешла под власть Габсбургов, а в ходе Силезских войн 1740-42 и 1744-45 гг. была большей частью захвачена Пруссией. Снабжая героиню, прототипом которой была Цве
23 Мы признательны И.П. Смирнову, который обратил на это наше внимание (в письме от 14 ноября 2002 года): «А почему, собственно, Цветаева называется «Шлезингер»? От «Schlesien»?»
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
351
таева, фамилией Шлезингер, Пастернак намекал на немецкое происхождение со стороны матери и восторженно-романтическое германофильство Марины Ивановны (см. об этом: [Швейцер 1992: 445—454]), которая в детстве воспитывалась в пансионе во Фрейбурге (Шварцвальд). «“Во мне много душ. Но главная моя душа - германская” - в этом убеждении Цветаева прожила жизнь» [там же: 51]. Для Пастернака подобный романтизм, от которого он отказался ещё в конце 1910-х годов, был неприемлем - тем более в период создания «Доктора Живаго».
Ещё одним прототипом могла быть не названная по имени революционерка, о появлениях которой в 1905 г. в доме Пастернаков вспоминал А.Л. Пастернак: «Одна мамина очень давняя знакомая, довольно близкий семье человек, которую, сколько я помню, отец называл “суфражисткой” за её независимый, мужественный вид, оказалась теперь со-циал-демократкой, на какой-то серьёзной партийной подпольной работе по распространению среди студентов и рабочих листовок и прокламаций. <.. .> Но бедная суфражистка в конце концов всё же попалась: её завлекли в спровоцированную засаду, арестовали и выслали в “места не столь отдаленные”» [Пастернак А. 2002: 213-215]. Судьба Шлезингер, о которой в романе ничего не говорится, вполне могла оказаться подобной судьбе этой женщины.
С другой стороны, в фамилии Шлезингер Пастернак зашифровал как духовное происхождение революционно настроенной героини (от силезских ткачей, поднимавших восстания в 1793 и 1844 гг.), так и её возможное будущее, которое могло состоять в её участии в антигерманских Силезских восстаниях 1919,1920 и 1921 гг., которые имели целью воссоединение с Польшей. (Участвовать в последних трёх могла, в принципе, и «суфражистка», о которой вспоминал А.Л. Пастернак.) В последнем случае немецкая этимология фамилии вступает в противоречие с вероятными бунтарскими действиями на стороне поляков. А неудачи всех восстаний свидетельствуют о профанной революционности таких деятелей, как Шлезингер. Кстати, вернувшийся в начале 1922 г. в Москву доктор со Шлезингер не встречался - вероятно, потому, что её там уже не было.
Восстание 1844 года нашло отражение в литературе, живописи и политической мысли. Внимание Пастернака к данному событию могли привлечь знаменитое стихотворение «Силезские ткачи» (1844) Генриха Гейне и драма Герхарта Гауптмана «Ткачи» (1892). На последнюю Пастернак мог обратить внимание ещё в 1912 г., когда Гауптман получил за неё Нобелевскую премию. Стоит указать также на эпохальную для критического реализма картину Карла Вильгельма Хюбнера «Силезские ткачи» (1844), про которую Ф. Энгельс сказал, что она «сделала гораздо больше для социалистической агитации, чем это могла бы сделать сотня памфлетов». К. Маркс, работавший тогда в газете «Форвертс!», оценил восстание как признак пробуждения у рабочих сознания своей классовой противоположности капиталистам. На фоне того, что произошло с Россией, это знаковое событие могло иметь для Пастернака известный вес.
Несколько значений, каждое из которых высвечивает определённый аспект личности героини в прошлом, настоящем или будущем, привносит и вторая часть фамилии:
352
Глава 4
-гер. По-немецки это может читаться в трёх вариантах, отсылающих соответственно к прошлому, настоящему и будущему. Ger - метательное копьё у древних германцев; и Шлезингер предстаёт как древнегерманская защитница Силезии (от поляков), что с её стороны являлось бы исторической несправедливостью. Hin und her - туда и сюда, взад и вперёд; в данном случае акцентируется суетливость, поверхностность персонажа в настоящем (именно такой Шлезингер и изображается). Herr может прочитываться в широком смысловом спектре. Во-первых, как хозяин, господин, повелитель (в данном случае Силезии). Поскольку гипотетически Шлезингер может в будущем - в 1919,1920 и 1921 годах по отношению к 1917 году, когда она в последний раз видится с Юрием Живаго, - поднимать в Силезии восстания, её действия противоречат значению «повелитель Силезии», но соответствуют значению «руководитель восстания». Во-вторых, как Бог или Христос. Здесь обыгрывается стремление Шлезингер всем и вся руководить и во всё вмешиваться, а её «страдательность» выглядит как пародия на Христа. В-третьих, как мужчина. В данном случае актуализируется мужеподобие героини, отмеченное и в тексте: «Шура Шлезингер была высокая худощавая женщина с правильными чертами немного мужского лица, которым она несколько напоминала государя, особенно в своей серой каракулевой шапке набекрень» [IV: 55-56]. Пастернак скрыто обыгрывает здесь имя героини: по-немецки Schur - стрижка овец, шерсть, получаемая при стрижке овец, а также: j-m einen Schur tun - огорчить кого-либо, доставить кому-либо неприятность; etw. j-m zum Schur tun - делать что-либо кому-либо назло (в пику). У имени есть омонимы и другого плана. В Толковом словаре В.И. Даля «шура» - это вязкая, чистая глина, которою забивают гати и плотины. Созвучие со словом «щур» (предок, домовой) намекает на увлечения Цветаевой фольклором и «древнерусской» тематикой. Указание же на сходство с государем - на апологетическое отношение Цветаевой к Николаю II и его семье, выразившееся в создании «Поэмы о царской семье» (1929-1936) (от которой сохранились лишь фрагменты). Пастернак, скорее всего, знал об этом отношении и мог знать о работе над поэмой.
На вечеринку в дом Громеко Шлезингер «прямо с какого-то рабочего собрания пришла в жакетке и рабочем картузе, решительными шагами вошла в комнату и, по очереди здороваясь со всеми за руку, тут же на ходу предалась упрёкам и обвинениям» [IV: 179]. Ср. с не внешней, но внутренней мужеподобностью Цветаевой, предававшейся не только в отношении Пастернака, но и многих других своих корреспондентов «упрёкам и обвиненьям», описание из очерка «Люди и положения»: «Цветаева была женщиной с деятельной мужскою душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определённости, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех» [III: 340].
Поведение Шлезингер, манера её общения, смысл того, что она говорит, и пр. представляют собой инверсированные трансформации всего, что связывалось в памяти Пастернака в 1940-1950-е годы с Цветаевой пореволюционного времени: это, в частности, романтический энтузиазм - «и всё это при зорком, холодном (пожалуй, даже Вольтеров-
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
353
ско-циничном) уме», как писал М.А. Волошину в 1923 г. С.Я. Эфрон (цит. по: [Саакянц 1997: 374], чтение «гражданских» стихов и «Царь-Девицы» на вечере 11 декабря 1920 г. в Политехническом музее24, стремление «прикоснуться к земле» [IV: 180] и пр. В частности, момент встречи Шлезингер с вернувшимся с войны доктором представляет собой пародию на реакцию Цветаевой в письмах, отправленных в ответ на письмо Пастернака из Москвы в Берлин, и чтение ею «Сестры моей - жизни», а также на постоянный мотив её писем Пастернаку из Мокропсов в Берлин - желание встретиться, которое лишь со страстью высказывалось, но так и не воплотилось: «Здравствуй, Тоня. Здравствуй, Санечка. Всё-таки свинство, согласитесь. Отовсюду слышу, приехал, об этом вся Москва говорит, а от вас узнаю последнею. Ну да чёрт с вами. Видно, не заслужила. Где он, долгожданный? Дайте пройду. Обступили стеной. Ну, здравствуй! Молодец, молодец. Читала. Ничего не понимаю, но гениально. Это сразу видно. Здравствуйте, Николай Николаевич. Сейчас я вернусь к тебе, Юрочка. У меня с тобой большой, особый разговор. Здравствуйте, молодые люди. А, и ты тут, Гогочка? Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да? <...>- А вы тут пьёте и закусываете? Сейчас я догоню вас» [IV: 179].
Пастернак пародировал здесь не только реакцию Цветаевой на «Сестру мою - жизнь», но также посвящение ему поэмы-сказки «Молодец». Называя Юрия Живаго «молодец», что омографично «молодцу», то есть упырю (Шлезингер могла не только повторить одно и то же слово, но и обратиться к доктору с оценкой: «Молодец, молодец»), Шлезингер проявляет себя как «Яга»: с одной стороны, оценивающая доктора, вернувшегося с «инициации» (с войны), с другой - пропускающая его дальше в «царство мёртвых». Пародирование личности Цветаевой и всего, что с ней связано, призвано, в частности, продемонстрировать профанность «Яги»-Шлезингер, а следовательно, и профан-ность «инициаций» доктора: той, что он прошёл, и той, которую ему предстоит пройти в рамках текста, находящегося в «сфере влияния» «Яги»-Шлезингер. Пастернак пародировал также собственный восторг стихами и поэмами Цветаевой, выразившийся, в частности, в письме от 5 ноября 1930 г., в котором он оценивал перевод «Молодца» на французский, сделанный Цветаевой: «Итак, поздравляю, поздравляю, поздравляю. Ты молодчина из молодчин, под тобой земля, над тобой небо, крутом воздух, ты реальна, ты электрический неизменный заряд, не всё обман, не всё басня» [Переписка с Цветаевой 2004: 529].
Как отмечает Е.В. Хворостьянова, Пастернак был единственным из современников Цветаевой, которому открылся «мистификаторский характер её творческого поведения», и он постоянно, несмотря на настойчивость Цветаевой, уходил от обсуждения «Молодца», одним из текстов-источников которого был «Серебряный голубь» Андрея Белого. Пастернак «около десяти лет кропотливо работал с текстами Белого и, подобно Цветаевой, отстаивал свою творческую независимость. <.. .> Подарок-посвящение, может быть, и помимо намерений дарителя, оказался “с двойным дном”, поскольку обнаруживал
24 В письме от «29-го нов<ого> июня 1922 г.» Цветаева напоминала Пастернаку о встрече с ним на этом вечере [Цветаева, VI: 223].
354
Глава 4
тайну творческой лаборатории самого Пастернака» [Хворостьянова 1999:342]. Раздражение могла вызывать также «претензия» Цветаевой на понимание и творческую интерпретацию произведений Белого, на его тайное «переписывание» на новый лад, сопровождаемое стремлением сделать Пастернака союзником. Пастернак не захотел отзываться и тем самым подтверждать такой приоритет Цветаевой и целомудренность подобной «переработки»25.
В «Докторе Живаго» ответ на «Молодца» всё же появился, но был совсем не таким, какой могла бы ожидать Цветаева. Узнав от неё о посвящении ему квазифольклорной сказки об упыре, Пастернак явно отталкивался от такой чести, хотя и в максимально смягчённой форме. Если вариант «молодец, молодец» предполагает взаимоуничтоже-ние этих определений за счёт их тавтологичности, то «молодец, молодец» - переворачивание смысла за счёт того, что цветаевский молодец - упырь, мертвец, а потому восторженная оценка Шурой Шлезингер его деяний вызывает на интертекстуальном уровне авторское неприятие, передаваемое читателю. В письме от 4 января 1926 г., третья часть которого посвящена разбору «Молодца», Пастернак, в частности, писал, предчувствуя отталкивание от поэмы, её героя и автора (которое тайно проявится в «Докторе Живаго» десятилетия спустя): «Спасибо, спасибо, спасибо. Большая радость, большая честь, большая поддержка. Большое Горе: если Вы о посвященье не пожалели, то пожалеете. Годы разведут нас в разные стороны, и я от Вас услышу свои же слова, серые, нехорошие, когда их тебе о себе самом возвращают, как открытье. Так будет, потому что -скользнуло предчувствие. <.. .> За сказку не могу словами сказать, как благодарен. Я её не стою, не стоил, не буду, не могу никогда стоить. Но это ничего. Нестоящее - принцип строенья материи, сыпучий, атомистический мир, в котором и я живу, вслед за Вами» [Переписка с Цветаевой 2004: 130, 133].
Цветаева, очевидно, проецировала отношения Маруси с упырём на свои отношения с Пастернаком, когда писала, посылая поэму и рассказывая о ней в письме от 26 мая 1925 г.: «Борис, а нам с тобой не жить» [там же: 110]. См. также пассаж на эту же тему в письме от 27 марта 1926 г. [там же: 159].
Однако и в середине 1920-х, и в 1950-е тайное неприятие «сказочных» поэм Цветаевой, сквозившее наряду с явно высказываемыми Пастернаком положительными характеристиками, сказывалось в отстранённости от предмета разбора. Это неприятие проскальзывает и в разборе «Молодца» в письме к Цветаевой от 4 января 1926 г., и в рассказе о Цветаевой в «Людях и положениях»: «Теперь о сказке. Настоящая сказка, несмотря на то, что менее кондовая, уставная, чем “Царь-Девица”, более своя, более прихотливая. Но все отходы от торной сказочности утверждены, даже самые причудливые» [там же: 131]; «Кроме немногого известного, она написала большое количество неизвестных у нас вещей, огромные бурные произведения, одни в стиле русских народных сказок, другие на мотивы общеизвестных исторических преданий и мифов» [III: 340].
25
О связях текстов Пастернака с текстами Белого см.: [Смирнов 1986; Лавров 2007: 306-332].
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
355
Отстранённость создаёт двусмысленность, которая в 1920-е годы для Пастернака соотносилась с оппозицией ‘природа - история’. Об этой оппозиции и задаче стать историографом (по-видимому, с оглядкой на Пушкина) Пастернак подробно писал Цветаевой в письме от 16 августа 1925 г. [Переписка с Цветаевой 2004: 124].
Наконец, ещё одна значимая фигура, к которой пародийно отсылает фамилия Шлезингер,- это немецкий поэт-мистик Ангелус Силезиус (1624-1677), которого высоко ценил, в частности, Р.М. Рильке.
Поводом для раздражения позднему Пастернаку послужила также статья Цветаевой о книге «Сестра моя - жизнь» - «Световой ливень» (1922), в которой, по оценке Бориса Леонидовича, она о нём «сказала, как никто» [там же: 178]. Речь Шлезингер выдержана в том же стиле, которым написана эта статья, а манера обращения к присутствующим воспроизводит манеру разговора с читателем и Пастернаком Цветаевой и особенности характеристик, которые она даёт книге и её темам, в частности, теме дождя. Финальная сцена вечеринки в доме Громеко являет собой развёрнутую зашифровку названия статьи Цветаевой и заодно и скрытую оценочную реакцию позднего Пастернака на эту статью. Раздражение портретом, который нарисовала Цветаева («что-то в лице зараз и от араба и от его коня: насторожённость, вслушивание»), было у Пастернака, по-видимо-му, столь сильным, что он от него даже устал. Между тем этот «мифопоэтический образ» Пастернака [Жолковский 2006: 248] отнюдь не был изобретён Цветаевой. Он восходит к словам Н.В. Гоголя о Н.М. Языкове, приведённым кн. Д.П. Святополком-Мир-ским в его «Истории русской литературы с древнейших времен по 1925 год» (1927): «Гоголь, чьим любимым поэтом был Языков, сказал о нём, играя словом “язык” и его фамилией: “Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким конём своим, да ещё как бы хвастается своей властью”» [Святополк-Мирский 2007: 179].
С характеристикой, которую дала Пастернаку Цветаева, контрастирует как состояние и внешний вид всех гостей, так и состояние Юрия Живаго, а прошедшая ночью гроза и рассвет - с грозами, «Душной ночью» и «Ещё более душным рассветом»26 из «Сестры моей - жизни»: «Гости расходились. У всех от усталости были вытянувшиеся лица. Зевота смыкала и размыкала им челюсти, делая их похожими на лошадей. Прощаясь, отдёрнули оконную занавесь. Распахнули окно. Показался желтоватый рассвет, мокрое небо в грязных, землисто-гороховых тучах.
- А ведь, видно, гроза была, пока мы пустословили, - сказал кто-то.
- Меня дорогой к вам дождь захватил. Насилу добежала, - подтвердила Шура Шлезингер. <...>
- Как поздно, - сказал Юрий Андреевич. - Пойдём спать. Изо всех людей на свете я люблю только тебя и папу» [IV: 181].
Шлезингер отвечает на реплику после окончания дождя и вечеринки ранним утром, изображение которого являет собой скрытое опровержение «светового» восприя
26 В «Световом ливне» Цветаева обращала внимание на это стихотворение [Цветаева, V: 237].
356
Глава 4
тия Цветаевой революции и дождей, бушующих в стихах «Сестры моей - жизни». Ср.: «- “Сестра моя Жизнь”! - Первое моё движение, стерпев её всю: от первого удара до последнего - руки настежь: так, чтоб все суставы хрустнули. Я попала под неё, как под ливень.
- Ливень: всё небо на голову, отвесом: ливень впрямь, ливень вкось, - сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых, - ты ни при чём: раз уж попал - расти!
- Световой ливень» [Цветаева, V: 233].
Появление Шлезингер на вечеринке и её встреча с Юрием Живаго - вторая часть пародии на Цветаеву и на «невстречу» с ней Пастернака. Первая же - это характеристики Шлезингер, относящиеся к довоенному времени.
Заметим, что вечер камерной музыки в доме Громеко в Москве, возможно, представляет собой пародию на приёмные «вторники» в петербургском доме художника К.Е. Маковского27, жена которого Юлия Павловна была в дружеских отношениях с пианистом, композитором и дирижером А.Г. Рубинштейном, ученицей которого была Р. Кауфман (Р.И. Пастернак). Пародирование может представлять собой своеобразную месть за то, что сын художника С.К. Маковский, семейную ситуацию которого Пастернак мог сравнивать со своей, в статье «Художественные итоги» («Аполлон», 1910, № 7 /апрель/), оценивая сезон выставок, назвал Л.О. Пастернака «заурядно способным живописцем» и, определив его как входящего в группу «художников компромисса», вынес безапелляционный приговор: «Это грузный балласт Союза, придающий выставке отпечаток отсталости, скучного (отчасти передвижнического) шаблона» [Маковский 2000: 585,593].
Бурная реакция на «эту дуру Шлезингер» Веденяпина, отмечающего после её визита фальшивость произведений (в том числе и «Фауста»), в которых действуют «духи планет, голоса четырёх стихий и прочая и прочая», и излагающего свои «программные» мысли, а также почти страница текста, посвящённая Шлезингер как явно второстепенному персонажу, не влияющему на дальнейшее повествование, свидетельствует о значении, которое Пастернак придавал её появлению в романе. Протест Веденяпина против гётеанского текста, читаемого гётеанкой Шлезингер, имеет в своём основании протест позднего Пастернака против подобных произведений гётеанки Цветаевой, которая к тому же в письме от 5-8 июля 1924 г. определила самого Пастернака как стихийного духа: «И так как до сих пор на меня не влиял ни один поэт, думаю, что ты больше, чем поэт, - стихия, Elementargeist, коим я так подвержена» [Переписка с Цветаевой 2004: 99]. Раздражение Веденяпина, а также страница характеристик, данных рассказчиком, -наиболее полное отражение реакции Пастернака, подводившего в романе итоги, на внешний и внутренний облик Цветаевой, который подвергся «сказочной» переоценке в диапазоне от довоенных 1900-х годов - до предвоенных 1930-х, когда Цветаева вернулась в СССР. Так проявились «обидчивость и даже злопамятство» Пастернака, которые отмечал Н.Н. Вильмонт [1989: 11]. Судя по определению, данному Шлезингер Веденяпи-
27
Описание этих «вторников» с перечислением гостей см.: [Маковский 2000: 49-50].
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
357
ным, Пастернаку могло быть известно, что во времена жизни Цветаевой в Париже «кто-то обозвал её «Царь-Дурой» и это прозвище прижилось и повторялось» [Швейцер 1992: 358]. Более того, в декабре 1934 г. в разговоре с А.К. Тарасенковым Пастернак сам охарактеризовал Цветаеву сходным образом: «Она превосходный поэт, говорит Б.Л., но я не знал, что она такая дура. Прямо чёрт в юбке» [XI: 166]. Вкладывая в уста своего раздражённого героя нелицеприятную характеристику, Пастернак использовал против Цветаевой её же метод: образом, подобным тому, как дана в описаниях повествователя и Веденяпина Шлезингер, в письме к Пастернаку от 18 апреля 1926 г. Цветаева рассказывала о своём изображении поэтессы и переводчицы Аделины Адалис: «Да, ремарка: Адалис, как живую, несчастную и ничтожную, я намеренно, сознательно обострила <вариант: заострила>. Могла бы дать её карикатурно (т. е. натуралистически), дала её -ну, словом, как я? даю, когда даю. Не обманывайся и не считай меня дурой» [Переписка с Цветаевой 2004: 183].
Ещё один источник определения Шлезингер Веденяпиным - короткая статья А.А. Блока «Герцен и Гейне», написанная 25 декабря 1919 г. Первые две главы «Доктора Живаго», где говорится о Шлезингер, были готовы к 9 сентября 1946 г., а летом к августовскому 25-летию со дня смерти Блока Пастернак начал писать статью о нём и перечитывал его произведения. При этом он мог сравнивать своё отношение к Блоку с тем, которое было проявлено в цикле посвящённых Блоку возвышенно-романтических стихов Цветаевой [Цветаева, I: 288-299], и сравнение это, как можно предположить, вызывало неприятие цветаевского вйдения Блока. Столь ревностное отношение объясняется тем, что Пастернак внутренне если и не отождествлял себя с Блоком, которого, как признавался Цветаевой, «боготворил» [Переписка с Цветаевой 2004: 142], то ощущал двойничество с ним. Кроме того, важную роль здесь играло отношение к Гейне. Вяч. Вс. Иванов в своей статье «Гейне в России» отмечает, что «у Блока по отношению к Гейне» «сходства <.. .> доходили до взаимного отождествления» [Иванов Вяч. Вс. 1998-2009, III: 499]. Пастернак мог ощущать себя двойником обоих поэтов. Внимание Пастернака к Гейне могло быть стимулировано также значением, которое поэт и его творчество имели для И.Ф. Анненского. Связка имён Блока и Гейне интертекстуально присутствует уже в «Близнеце в тучах» (1913) - см. комментарий к стихотворению «Мне снилась осень в полусвете стёкол» [Гаспаров, Поливанов 2005: 53]. Вяч. Вс. Иванов указывает на особенность влияния Гейне на молодого Пастернака. Она состояла в том, что это влияние «усиливалось семейной легендой об их родстве, которая всерьёз занимала исследовательницу О.М. Фрейденберг, двоюродную сестру поэта. Быть может, в этой легенде можно искать одно из объяснений загадочной роли Гейне в раннем романтическом рассказе Пастернака «Апеллесова черта», который (в отличие от всех других подобных своих юношеских произведений) Пастернак потом не раз переиздавал. Действие рассказа происходит в наше время. На это указывают такие приметы, как телефон. Но герой рассказа, воплощающий представление молодого Пастернака о поэте и его поведении, - Гейне. Этот поэт, в романтическом, почти фантастическом повествова
358
Глава 4
нии перенесённый в начало XX в., может быть и двойником автора или самим автором» [Иванов Вяч. Вс. 1998-2009, III: 501].
Однако Вяч. Вс. Иванов не пишет, испытывал ли это влияние Пастернак «поздний». Между тем можно с большой степенью уверенности говорить о том, что в 1932 г. Пастернак сравнивал своё положение как поэта в России с положением Гейне в Германии. В письме от 11 февраля 1932 г. к сестре Жозефине Пастернак писал: «Извечная жестокость несчастной России: когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасётся с глаз её. Он как бы попадает перед ней на римскую арену, обязанный ей зрелищем за её любовь. И если от этого не спасся никто, что же сказать мне, любовь к которому затруднена так чрезвычайно, как любовь Германии к Heine» [ПРС 2004: 532].
Образ поэта Гейне опосредованно через статью Блока «О иудаизме Гейне» сказался, в частности, и в программном стихотворении второй половины 1930-х «Художник» (зима 1936). Определение поэта как «артиста в силе», являющееся также автохарактеристикой, представляет собой блоковское определение Гейне. В другой статье - «Гейне в России» - Блок отметил, что Гейне «был артистом прежде всего», что «артист - вагнеровский термин», а Гейне - «неистовствующий, сгорающий в том же огне будущего», что и Вагнер [Блок, VI: 128,96]. Говоря о крушении гуманизма, поэт писал, что ощущает работу рас и что «их общая цель - не этический человек, не политический, не гуманный, а человек Артист» [там же: 126]. Первая строфа автобиографического «Художника», героем которого в то же время могут быть Блок, Гейне и Пушкин, содержит аллюзию («И собственных стыдится книг») на стихотворение Блока «Друзьям» (24 июля 1908) (строки «Молчите, проклятые книги! Я вас не писал никогда!»). Финал стихотворения («Он жаждал воли и покоя») - отсылает к пушкинскому «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834) (строка «На свете счастья нет, но есть покой и воля») и лермонтовскому «Выхожу один я на дорогу» (1841) («Я ищу свободы и покоя»). Автобиографизм термина «артист» был связан и со сравнением себя с отцом, который в первые годы по приезде в Москву в 1889 г. сотрудничал в журнале «Артист». Комплекты этого журнала хранились у Пастернака, и в письме к отцу от 6 января 1938 г., рассказывая о разделении имущества «между Переделкином» и новой квартирой в Лаврушинском, перечень «разновременных свидетельств почти что шестидесятилетнего существования» он начинал «с комплектов «Артиста», снова в порядке прошедших» перед ним [ПРС 2004: 704-705, 707]. Отец всю жизнь был для Пастернака образцом «артиста в силе», и автобиографизм «Художника» строится на неявном противопоставлении судьбы «прячущегося от взоров» и стыдящегося собственных книг сына-писателя - «завидно достойной, честной, реальной, до последней одухотворённости отмеченной талантом, удачами, счастливой плодотворностью» судьбе отца-художника [там же: 705]. О том, что значило для Пастернака понятие «артистизма», свидетельствует его признание, сделанное в письме к Цветаевой от 25 марта 1926 г.: «...тут если не моё богословье, то целый том, не поднять» [Переписка с Цветаевой 2004: 150].
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
359
56-летний Пастернак, начавший писать главное произведение жизни, проецировал своё положение не только на Блока, но и на положение Гейне в старости, как его описывал А.И. Герцен, «драгоценные», «умные и печальные слова» которого привёл в своей статье «Гейне в России» Блок, резюмировавший: «Бедному Гейне, как никому, кажется, повезло на дураков - сам он их себе накликал. До самых последних лет поток человеческой глупости, в частности - русско-еврейской, не перестаёт бушевать вокруг имени умнейшего из евреев XIX столетия» [Блок, VI: 143].
Если исходить из вероятности такой проекции, то слова Блока могли вызвать у Пастернака подстановку в них вместо Гейне самого Блока и себя, то Цветаева с её стихами, имеющими слабое отношение к Блоку «орлиной трезвости», как его понимал Пастернак, могла быть увидена в соответствующей позиции. Разница своего и цветаевского восприятия Блока не могла не ощущаться Пастернаком, и отношение Цветаевой, которою он в 1920-е годы (в письме от 25 марта 1926 г.) также восхищался как «большим, дьявольски большим артистом» [Переписка с Цветаевой 2004: 149], вызывало, по-видимому, внутренний протест. При этом не столь важно, знал Пастернак весь цикл или его часть. Восемь первых стихотворений были написаны в апреле-мае 1916 г. и подарены Блоку, девятое, осевое - в мае 1920-го, а восемь последних после смерти Блока - в августе (10-14) и ноябре-декабре (15-17) 1921-го.
Проецируя себя на Гейне, опосредованного Блоком, Пастернак, создававший образ Шлезингер, мог вспоминать о Цветаевой ещё и в связи с её острой реакцией на женитьбу Бориса Леонидовича на Зинаиде Николаевне Нейгауз. Отношения с Зинаидой Николаевной теперь, в 1946-м, испортились аналогичным образом из-за его романа с О.В. Ивинской (сама З.Н. в воспоминаниях объясняла это своими переживаниями после смерти сына Адика). Роман этот развивался как раз в период создания первых двух глав «Доктора Живаго». В контексте перипетий личной жизни, отношения к христианству, проецирования себя на Гейне и Блока, размышлений о бессмертии и мотивов, приведших (позже) к написанию стихотворения «Перемена» (1956) и, наконец, ввиду изменения своего отношения к Цветаевой для Пастернака весьма значимой могла оказаться блоковская характеристика Гейне, высказанная в статье «О иудаизме у Гейне. (По поводу доклада А.Л. Волынского)» (27 декабря 1919 /- январь 1921/): «Я не знаю, простятся ли Гейне все его измены, всё то непостижимое скопление непримиримых противоречий, которое он носил всю жизнь в своей душе и которое делает его странно-живым для нашего времени. Он принадлежит к тем, кто заслужил бессмертие или по крайней мере столетнюю память проклятием, тяготевшим над всей его жизнью. Не знаю и скорей сомневаюсь, что подобное бессмертие равноценно гётевскому и шиллеровскому бессмертию. Я твёрдо знаю только, что ряд измен, проистекающих не от бедности и убожества, а от величайшей полноты, не от оскудения жизни, а от чрезмерного накопления жизненных сил, которые рвут душу на части, - совершил Гейне» [Блок, VI: 147-148].
Пастернак «не отдал» Цветаевой не только Блока, но и Гейне, который «много для неё значил» и «особенно сильно воздействие и пример сатирических текстов» которого
360
Глава 4
«сказались в её “Крысолове”» [Иванов Вяч. Вс. 1998-2009, III: 503]. «Внешне» же, отметим это вновь, отношение к Цветаевой и её оценка остались у Пастернака неизменными: он и после войны читал на своих поэтических вечерах стихотворение «Памяти Марины Цветаевой», написанное «по побуждению Алексея Крученых 25 и 26 декабря 1943 г. в Москве» [II: 420]. Однако даже в последнем замечании Пастернака можно также усмотреть внутреннее «отстранение» от Цветаевой, которое в «Докторе Живаго» проявилось хотя и скрыто, но довольно ощутимо.
В образе Галузиной связанность имён Цветаевой и Блока отразилась наличием интертекстуальных отсылок не только к прозе Блока, но и к его стихам. Так, в размышлениях Галузиной о «чужой душе» её падчерицы Ксюши и «мужской душе» мужа [IV: 308] обыгрываются слова из стихотворения Блока «О, Русь моя! Жена моя!» - первого в цикле «На поле Куликовом» [Блок, III: 249]. Эти «души» оказываются в обращённом виде душой лирического героя стихотворения (и самого Блока). Галузина же и Ксюша являют собой персонификации России старой и новой. Изображая этих героинь, Пастернак отреагировал на решение Блоком важнейшей для обоих темы. Образ Галузиной - это и «заземление» блоковских образов Прекрасной Дамы и Руси-жены, и пародия на Цветаеву, воспевшую Блока. Лавочница, вернувшаяся домой в тёмные и душные комнаты, напоминает Ягу в её избушке, что согласуется с тем, что предметом любви героини «Молодца» Цветаева делает упыря. Ситуация хождения Галузиной по тёмному и душному весеннему городу соотносится с её возвращением в духоту тёмного дома, которое является скрытой инверсией стихотворения Блока «Тёмно в комнатах и душно» (11 декабря 1901) [Блок, I: 145]: «Окна комнаты выходили в сад. Теперь, ночью, нагромождения теней перед окном внутри и за окном снаружи почти повторяли друг друга. Обвисавшие мешки оконных драпировок были почти как обвисающие мешки деревьев на дворе, голых и чёрных, с неясными очертаниями. Тафтяную ночную тьму кончавшейся зимы в саду согревал пробившийся сквозь землю чёрно-лиловый жар надвинувшейся весны. В комнате приблизительно в такое же сочетание вступали два сходных начала, и пыльную духоту плохо выбитых занавесей смягчал и скрашивал тёмно-фиолетовый жар приближающегося праздника» [IV: 312].
Данное описание - новая трансформация понятия «чёрной весны», впервые появившегося у Пастернака в стихотворении «Февраль. Достать чернил и плакать», которым он, как отмечает Е.Б. Пастернак, «открывал свои стихотворные сборники». Это понятие «взято из стихотворения Иннокентия Анненского 1909 года». Анненского же Пастернаку «открыл» К.Г. Локс [Пастернак Е. 1997: 102-103]. Дом Галузиной соотносится с домом и садом графини Жабринской в Мелюзееве, где Живаго находится в конце весны -начале лета.
На месте лирического героя (поэта) оказывается лавочница, связь образа которой с творчеством Блока отметили (по другому поводу) комментаторы романа [IV: 696-697]. Скрытые аллюзии на творчество обоих вводятся в евангельском контексте и, кроме того, выявляют «боренья» Пастернака «с самим собой» начинающим. Образ Галузиной связан
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
361
не только с прозаическим переложением стихов Блока, но и является скрытой автопародией Пастернака (с переменой пола и пр.), напоминавшего ею о своём раннем сборнике «Близнец в тучах» (1913). В основу книги «был положен цикл, названный автором “Близнец за тучею”. <.. .> По позднейшему свидетельству автора, на создание цикла повлияло стихотворение Блока “Тёмно в комнатах и душно...” из “Стихов о Прекрасной Даме” (1904). В Собрании сочинений Блока (Берлин: Алконост, 1923. Т. 1. С. 103), принадлежавшем Пастернаку, это стихотворение сопровождается записями: “Фон к ‘Сердцам и спутникам’” и “Отсюда пошёл ‘Близнец в тучах’”» [Баевский, Пастернак Е. 1990, II: ЗЗО]28.
Ранний уход Галузиной из церкви представляет собой инверсирование строк «Ты вышла из церкви так рано, / Твой чистый хорал не допет» из стихотворения «Грусть моя, как пленная сербка» (1913), вошедшее в «Близнец в тучах». То, что «заглавный образ подсказан событиями Балканских войн (Сербия и др. против Турции, октябрь 1912 - май 1913; Сербия и др. против Болгарии, июнь-август 1913)», а также «возможные побочные ассоциации: “Славянская женственность” Вяч. Иванова (“Как речь славянская лелеет Усладу жён!..”)» [Гаспаров, Поливанов 2005: 75] объясняет значение украинизированной (славянизированной) этимологии фамилии лавочницы («галузь» - «ветвь»): Галузина- собирательный образ всех страдающих славянских женщин. Он занимал Пастернака и после окончания романа. Так, в письме к Дж. Фельтринелли от 4 апреля 1959 г. он признавался, что собирается написать, в частности, «поэму в стихах, посвящённую любви к свободе, олицетворённой в героине сербке (инстинктивная, страстная жажда независимости, горы, море, мир Адриатики несколько в стиле Мериме» [I: 545; X: 455].
28 Разбор интертекстуальных связей стихотворения «Сердца и спутники» с упомянутым стихотворением Блока, а также с «Близнецами» Ф.И. Тютчева и очерком В.Я. Брюсова «Ф.И. Тютчев: критико-биографический очерк» см.: [Вроон 1998: 341-350]. Подробный комментарий к стихотворению см.: [Гаспаров, Поливанов 2005: 131-133; Поливанов К.М. 2008: 561-562]. О «близнечном мифе» у Пастернака см. также: [Флейшман 2003а: 411]. На «Близнецов» Тютчева скрыто спроецированы как судьбы Галузиной и Юрия Живаго, так и Юрия Живаго и Антипова-Стрельникова. Тютчева Пастернак читал не только во время создания стихов, составивших его первую книгу, но и за год до переделки двух первых книг. Находясь летом 1927 г. на даче в деревне Мутовки, Пастернак писал 19 июня М.И. Цветаевой: «Нашёл вновь, что Тютчев выдерживает, как всегда, предельное испытанье сырого зелёного соседства, облюбовал урок: сходить в Мураново, Тютчевское именье в 8-ми верстах отсюда, и о прогулке написать» [Переписка с Цветаевой 2004: 352]. 29 июня 1928 г. он сообщал Цветаевой: «Перерабатываю для переизданья две первые книги, избавляю их, как могу, от символического хлама (не Белого, не Блока - это люди простые), от архаизма и гороскопии тех времен» [там же: 492]. В данном случае Пастернак, скорее всего, имеет в виду избавление стихов от следов прямо не названного влияния Вяч. Ив. Иванова. Так, по наблюдению И.М. Коневой (устное сообщение), стихотворение «Сердца и спутники» являет собой скрытую полемику со стихотворением Иванова «Зодчий» («Я башню безумную зижду», 1906), вошедшем в составе цикла «Эрос» в «Книгу Лирики» (1907) и в составе книги третьей «Эрос» в «Сог Ardens» [Иванов 1971-1987, II: 380, 743]. На «Зодчего» как «метрический образец» «Сердец и спутников» и мену Пастернаком «вертикального измерения пространства на горизонтальное» указывают М.Л. Гаспаров и К.М. Поливанов [2005:131]. Невключение циклообразующего стихотворения «Сердца и спутники» и связанных с ним стихотворений в «Поверх барьеров» (1929) объясняется, вероятно, невозможностью избежать «гороскопии» и полемической соотнесённости с упомянутым и другими текстами Иванова.
362
Глава 4
Таким образом, на интертекстуальном уровне образ Галузиной выражает отталкивание Пастернака одновременно от Цветаевой и её истолкований поэзии Блока и фольклора; от Блока и его символически возвышенного представления о России; от себя времён ученичества у символистов, первых книг, в частности «Близнеца в тучах», и апологетического восприятия Цветаевой.
После знакомства Пастернака с пропповским анализом таинственного в сказке слова Цветаевой о тайне - «начинаю догадываться о какой-то Вашей тайне. Тайнах» [Цветаева, VI: 233] - могли вспоминаться ему как легковесная претензия на знание, как про-фанирование тайн подлинных и исторически реалистичных. Отталкивание от Цветаевой было, вероятно, тем сильнее, что она была очень проницательна, и некоторые её заключения Пастернак воплотил буквально, о чём свидетельствует как факт создания романа, так и переписка времён работы над ним. Так, в письме из Мокропсов в Берлин от «11-го нов<ого> февраля 1923 г.» Цветаева предсказывала-рекомендовала: «А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего не станет нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Ведь Ваше “тяжело” - только оттого, что Вы пытаетесь: вместить в людей, втиснуть в стихи. Разве Вы не понимаете, что это безнадёжно, что Вы не протратитесь. (Ваша тайная страсть: протратиться до нитки!) - Слушайте, Пастернак, здраво и трезво: в этом веке Вам дана только одна жизнь, столько-то лет - хоть восемьдесят, но мало. (Не для накопления, а для протраты.) Вы не израсходуетесь, но вы задохнётесь. Пена вдохновения превратится в пену бешенства. Вам надо отвод', ежедневный, чуть ли не ежечасный. И очень простой: тетрадь» [там же: 234].
О том, что эти слова Цветаевой были актуальны для Пастернака при работе над романом, могут свидетельствовать, в частности, его письма О.М. Фрейденберг. 23 декабря 1945 г. Пастернак писал ей: «В моей жизни сейчас больше нет никакой грыжи, никакого ущемленья. Я вдруг стал страшно свободен. Вокруг меня всё страшно своё». И ниже приписал: «Куча новостей. Но это тебе расскажет Чечельницкая» [Переписка 19906:218]. Ранее, в письме от 21 июня 1945 г., он сообщал о посещёнии Г.Я. Чечельницкой следующее: «Я стал рассказывать Чечельницкой о смерти папы, о Рильке, о повесившейся в эвакуации Марине и так разволновался, что мне захватило дыхание и я не смог говорить» [там же: 215]. Признавшись, что «вдруг стал страшно свободен», Пастернак, вероятно, припомнил источник этих слов (письмо Цветаевой) и, по ассоциации, вспомнил о Чечельницкой, которой рассказывал о Цветаевой. 1 февраля 1946 г. он уже сообщал Фрейденберг: «Я начал большую прозу, в которую хочу вложить самое главное, из-за чего у меня “сыр-бор” в жизни загорелся» [там же: 219].
Так в «Докторе Живаго» произошла «потусторонняя» встреча-общение с Цветаевой, писавшей: «Только трудно, трудно и трудно мне будет встретиться с Вами в живых, при моём безукоризненном голосе, столь рыцарски-ревнивом к моему всяческому достоинству. Пастернак, я в жизни - волей стиха - пропустила большую встречу с Блоком (встретились бы - не умер, сама 20-ти лет - легкомысленно наколдовала: - “И руками не потя
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
363
нусь” <...>. Сумейте, наконец, быть тем, кому это нужно слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим (читайте внимательно!!!), чтобы сквозь Вас - как сквозь Бога - ПРОРВОЙ!» [Цветаева, VI: 236]. Галузина также «пропустила» встречу с Юрием Живаго, попавшим, пока она «раздумывала выписать» его [IV: 314], в «царство мёртвых» - к партизанам. Скрытая аналогичность доктора Блоку подтверждается обилием блоковских мотивов, присутствующих в тексте, относящемся к Галузиной.
Пастернак выполнил - но не в жизни, а в романе - ещё одно пожелание Цветаевой: «Ещё, Пастернак, я хочу, чтобы Вас не схоронили, а сожгли» [Цветаева, VI: 230]. Он «сжёг» главного героя - Живаго «сгорел» в творчестве, а после смерти был кремирован. Не случайно в его фамилии анаграммирован глагол «сжигать». Цветаева, впрочем, видела таким и свой конец. Рассказывая Пастернаку в письме от 6 апреля 1926 г. о своих фотографиях, она писала: «У меня есть <пропуск одного слова> - одна за жизнь, её сожгут вместе со мною (п.ч. меня сожгут, зарывать себя не дам!)» [Переписка с Цветаевой 2004: 166].
В последнем письме из Мокропсов в Берлин от «9-го нов<ого> марта 1923 г.» (перед отъездом Пастернака в Москву) Цветаева поняла, какое чувство появилось у Пастернака, и рассказала ему об этом. Во времена, когда Пастернак создавал роман, это чувство и отношение стали едва ли не доминирующими при изображении персонажей, в которых были тайно инверсированы черты Цветаевой. «Вы не бойтесь. Это одно такое письмо. Я ведь не глупей стала - и не нищей, оттого что Вами захлебнулась. Вам не только моя оценка тяжела, но и моё отношение, вы ещё не понимаете, что Вы - одаривающий. <.. .> Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите, - страх, что поверив, отшатнётесь» [Цветаева, VI: 239-240].
«Тяжесть» от оценок и отношения Цветаевой, выраженных, в частности, в её письмах 1922-1923 годов, у Пастернака, который и в самом деле внутренне «отшатнулся», проявилась позже - с конца 1920-х. Касаясь «невстречи» Цветаевой с Пастернаком в Париже в 1935 г., В. Швейцер осторожно предполагает: «Не исключено, что Пастернака уже перестало восхищать то, что пишет Цветаева; эволюция его собственного творчества уводила его в другую сторону» [Швейцер 1992: 371]. Подробно об этой «невстрече» как «переломном моменте в истории их многолетних отношений “поверх барьеров”» и «непроща-нии» см.: [Флейшман 2005:345-352]; о поездке Пастернака см. также: [Mallac 1983:147— 151]. Особенно отталкивание усилилось, когда Пастернак писал роман. Самой весомой причиной был, видимо, сам факт озвучивания Цветаевой того, что озвучиванию не подлежало. Пастернак и оправдал, и не оправдал её «страхи» - опроверг их скрытым проявлением и «внешней» неотмеченностью в «Докторе Живаго» отношения к самой Цветаевой и её творчеству. (Тогда как, например, имена Блока и Маяковского в тексте присутствуют.) Он «поверил» - и вывел персонажей с чертами Цветаевой, профанирующих предмет этой веры, использовал некоторые ключевые образы и мотивы её творчества, а некоторые её «пролегомены» воплотил лично без всяких романтических страстей. Он «отшатнулся» - от неумеренных страстей, от озвучивания тайны, от профанации тай
364
Глава 4
ных механизмов сказки. Ещё в 1935 г. Пастернак, осмысляя, вероятно, опыт уже фактически закончившейся переписки с Цветаевой, писал о себе (в письме от 22 февраля) О.Г. Петровской-Силловой: «Нехорошо гоняться в письмах за ощущеньями большой драгоценности и последней неуловимости. Вместе с такими попытками в них врывается что-то от литературы, и притом дурной. А литература в письмах не удаётся. Тут и приходится вычёркивать. Письма надо писать в градусах средней умеренности» [IX: 13-14].
4.2. Булгаков как одна из тайн «Доктора Живаго»29
История взаимоотношений и взаимовлияний двух писателей изучена пока недостаточно. Между тем, интерес Пастернака и Булгакова друг к другу представляется несомненным30. И большим он был, пожалуй, со стороны Пастернака. Интерес этот можно объяснить несколькими причинами. Быть может, самая весомая - стремление Пастернака понять механизм литературного успеха (как, например, он хотел понять его в конце 1930-х - начале 1940-х на примерах А.Т. Твардовского, К.М. Симонова, А.К. Гладкова и др.) и связанный с ним механизм взаимоотношений писателя и власти. В связи с этим стоит отметить попытки Пастернака не ограничиваться переводами пьес Шекспира, но написать - во время войны, а также в последние годы жизни - собственные пьесы для театра. Обратим внимание и на то, что с начала работы над «Доктором Живаго» Пастернак не только не искал контакта с властью, но постоянно подчёркивал свою «незаконность», в том числе и в литературе. Вероятно, первоначальный интерес писателей друг к другу возник не столько благодаря чтению произведений друг друга, сколько в связи с самоопределением в отношении власти. Успех или неуспех коллеги примеривался на себя. «Есть безусловное сходство в истории взаимоотношений Б. Пастернака и М. Булгакова с властью, со Сталиным. Обоим Сталин, неожиданно для них, звонил по телефону. Оба проявили растерянность. Оба хотели возобновить разговор и - одинаково безрезультатно. Оба надолго лишались возможности публиковать свои произведения, оба находились под угрозой ареста и т. д.» [Ливанов 2002: 74]. В писательском поведении обоих по-разному давал знать о себе и творческий и биографический пример Пушкина - один и тот же «соблазн классики», когда в творческой жизни и Булгакова, и Пастернака «переплелись: конструктивное участие произведений Пушкина <...> в <...> замыслах и такое их воздействие, которое сказывалось на жизнеповедении автора в целом» [Чудакова 1995: 539].
Первая ситуация, в которой имена Пастернака и Булгакова упоминаются мемуаристами вместе,-это история ареста и высылки О.Э. Мандельштама в Чердынь31. Когда
29 Глава опубликована: [Буров 20Юк].
30 Взаимоотношения двух писателей и соотношения их главных романов уже рассматривались в статье [Иванова Н. 2001 в].
31 О знакомстве и отношениях Булгакова и Мандельштама см.: [Чудакова 1988: 391].
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
365
1 июня 1934 г. Мандельштам с женой должны были отправиться туда, А.А. Ахматова, собиравшая для них деньги, пришла к Булгаковым, Елена Сергеевна, по словам Ахматовой, «сунула» ей «в руку всё содержимое своей сумочки». Как замечает М.О. Чудакова, «неизвестно, знал ли тогда Булгаков об обстоятельствах того, что происходило с Мандельштамом, знал ли уже о звонке Сталина Пастернаку. Если предположить, что знал, - это могло бы ещё раз всколыхнуть в нём иллюзорные надежды, побудившие его вскоре к новым поискам связи всё с тем же человеком» [там же: 397]. Быть может, именно тогда Булгаков узнал в пересказе Ахматовой о разговоре Сталина с Пастернаком. Ещё раз такая возможность появилась несколько месяцев спустя. К тому времени ссылка в Чердынь была заменена Мандельштаму на поселение в Воронеже. 17 ноября 1934 г. Е.С. Булгакова записала: «Вечером приехала Ахматова. Её привёз Пильняк из Ленинграда на своей машине. Рассказывала о горькой участи Мандельштама. Говорили о Пастернаке» [Дневник Елены Булгаковой 1990: 78]. М.О. Чудакова полагает, что последнюю фразу «можно прочесть только как краткую запись - для памяти - рассказа Ахматовой о телефонном звонке Сталина Пастернаку. Скорее всего, именно из уст Ахматовой Булгаков узнал подробности разговора; он, несомненно, отнёсся к ним с напряжённым вниманием. Мы предполагаем, что слова, сказанные о Мандельштаме: “Но ведь он же мастер, мастер32?”, - могли повлиять на выбор именования главного героя романа и последующий выбор заглавия» [Чудакова 1988: 408—411]. И это (в данном случае косвенное) влияние Пастернака на Булгакова - не единственное. Ниже мы укажем ещё одну ситуацию.
Когда состоялось знакомство Пастернака и Булгакова - неизвестно. Во всяком случае одна из немногих (если не первая) личных встреч состоялась в апреле 1935 г. на именинах жены К.А. Тренёва. По поведению Пастернака, описанному мемуаристкой, можно судить, как ценил он Булгакова. 8 апреля 1935 г. Е.С. Булгакова записала: «Вечером зашёл Вересаев. М.А. говорил с ним о предложении Ермолинского инсценировать для кино будущего “Пушкина”. Вересаев сказал: “Я уже причалил свою ладью к вашему берегу. Делайте, как вы находите лучшим”. По-видимому, старику было приятно. Он только спросил, знает ли сценарист, что пьеса без Пушкина. Потом он ушёл наверх к Тренёву, где справлялись именины жены Тренёва. А через пять минут появился Тренёв и нас попросил придти к ним. М.А. побрился, выкупался, и мы пошли. Там была тьма малознакомого народа. Длинный, составленный стол с горшком цветов посредине, покрытый холодными закусками и бутылками. Хозяйка рассаживала гостей. Потом приехала цыганка Христофорова, пела. Пела ещё какая-то тощая дама с безумными глазами. Две гитары. Какой-то цыган Миша, гитарист. Шумно. Пастернак с особенным каким-то придыханием читал свои переводные стихи, с грузинского. После первого тоста
32 О контекстах использования этого слова в 1930-е годы и его значениях в устах Пастернака и Булгакова см.: [Кацис 1998: 267-287; Ронен 1997]. О лозунге «мастерства», резонансе и трактовках разговора Сталина с Пастернаком и их отношении к термину «мастер» см., в частности: [Флейшман 2005: 193— 194, 228-229, 233; Герштейн 1998: 330-338; Пятигорский 1996: 228; Ливанов 2002: 48-49; Ruge 1959: 72-73].
366
Глава 4
за хозяйку Пастернак объявил: “Я хочу выпить за Булгакова!” Хозяйка: “Нет, нет! Сейчас мы выпьем за Викентия Викентьевича, а потом за Булгакова!” - “Нет, я хочу за Булгакова! Вересаев, конечно, очень большой человек, но он - законное явление. А Булгаков - незаконное!”» [Дневник Елены Булгаковой 1990: 91].
Тост Пастернака выводил бытовую ситуацию на уровень общественно-политической, помещал её в контекст отношений художника и власти, что не мог не оценить Булгаков. Стоит упомянуть, что аналогичное предложение поднять тост, но уже за отсутствующего Мандельштама, сосланного в Воронеж, Пастернак произнёс на заключительном банкете III пленума правления Союза писателей в Минске в феврале 1936 г. Н.Е. Штемпель рассказывала Е.Б. Пастернаку, как шокировало присутствовавших там писателей это предложение [Пастернак Е. 1997: 513].
В записи об этих именинах, сделанной гораздо позже, в 1968 г., Е.С. Булгакова вместо Вересаева называет известного хирурга Николая Ниловича Бурденко и добавляет при описании Пастернака некоторые детали, характеризующие его отношение к Булгакову, отсутствовавшие в записи 1935 года: «Наконец, хозяйка стала приглашать к столу, составленному из нескольких столов и столиков; она юлила больше всего вокруг Бурденко; усадила его на генеральское место, а сама стала за его спиной, положив руки ему на плечи и сияя от счастья. Пастернак поднялся и сказал, что хочет произнести первый тост. - Да, да!! - в восторге кричала хозяйка, Лариса Ивановна. Пастернак начал говорить на большой высоте: что человек этот, за кого он хочет выпить, такой необычайный (да, да!!), такой талантливый, гениальный (да, да!!), что большое счастье знать, что он живёт рядом с нами, в наше время (да, да!!) и т. д. и т. д. Всё время речь его прерывается восклицаниями Ларисы Ивановны с каким-то уже придыханием от волнения. И, наконец, Пастернак, доведя до высшей ноты, говорит: “Я предлагаю выпить за здоровье Михаила Афанасьевича Булгакова!”
- Нет, нет!!!! - взвизгивает хозяйка. - Мы должны выпить за здоровье Егора Нилы-ча Бурденко! (может быть, я путаю имя, отчество).
- Ну, конечно, конечно, мы выпьем потом и за Егора Нилыча, - спокойно говорит Пастернак, - но Егор Нилыч - явление законное, а Булгаков - незаконное!» [Дневник Елены Булгаковой 1990: 312].
Ещё один повод интересоваться друг другом Пастернаку и Булгакову мог представиться осенью того же года. Булгаков мог расспрашивать Ахматову о взаимоотношениях Пастернака и Сталина и о действиях, предпринятых Пастернаком в связи с судьбой Л.Н. Гумилёва и Н.П. Пунина, арестованных 28 октября 1935 г. и вскоре освобождённых как благодаря письму Сталину, написанному Ахматовой, так и письму Пастернака, за что тот вновь благодарил генсека письмом [Пастернак Е. 1997:489]. «Развитием мыслей, высказанных в письме, стало написанное в то же время стихотворение “Мне по душе строптивый норов”. Вторая его часть была посвящена кремлевскому горцу. <.. .> Лев Горнунг отметил у себя в дневнике, что как-то в середине 30-х годов встретился с Пастернаком на улице и тот рассказывал о сделанном ему предложении написать поэму
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
367
о Сталине, подобно тому, как Маяковский писал о Ленине. Отголоски этого разговора, страшно испугавшего Пастернака, слышны в его записке 1956 года. Единственное, чем мог Пастернак удовлетворить просьбу Бухарина, - это оформить своё понимание сущности исторического героя в небольшом стихотворении. <.. .> Пастернак чувствовал себя обязанным Бухарину за его доверие, за помощь в заступничестве за Мандельштама и, может быть, в освобождении Пунина и Гумилёва» [Пастернак Е. 1997: 507].
Булгакову могли быть интересны действия Пастернака не только как актуальный для него пример обращения художника к властителю, но ещё и потому, что сам он в деле освобождения сыграл не менее важную роль. Подавать Сталину письмо с просьбой об освобождении арестованных мужа Н.Н. Пунина и сына Л.Н. Гумилёва Ахматова приехала в Москву 30 октября. Она одновременно обратилась к Пастернаку, к Булгакову33, а также к Б. А. Пильняку, который, как вспоминала З.Н. Пастернак, «усиленно уговаривал» её мужа «написать письмо Сталину. Были большие споры, Пильняк утверждал, что письмо Пастернака будет более действенным, чем его» [Пастернак - Пастернак З.Н. 1993: 288]. Письмо Сталину через башню Кутафью Ахматовой помогли доставить «с чрезвычайной скоростью - знаменитые в то время писатели - Лидия Сейфуллина и <.. .> Борис Пильняк» [Чуковская 1997,1: 17].
31 октября, «по устным рассказам Елены Сергеевны, Булгаков предложил Ахматовой письмо, составленное при его помощи и уже перепечатанное на машинке, переписать от руки - так, по его мнению, приличествует поэту. Когда Ахматова пришла к ним 4-го ноября с телеграммой в руках от мужа и сына, свидетельствующей об успехе письма (“Я счастлива за Ахматову”, - записала Елена Сергеевна), Булгаков связывал этот успех и со своими советами» [Чудакова 1988: 422].
Знали ли Пастернак и Булгаков, что хлопочут параллельно и что оказались в плане участия в составлении письма Ахматовой в одинаковой позиции? Если знали, то это могло обострять их интерес друг к другу. Впрочем, главное внимание, конечно, было обращено на исход дела. Как вспоминала З.Н. Пастернак, на следующее утро после того, как Пастернак отнёс в кремлевскую будку своё письмо, по телефону сообщили, что Пунин освобождён. Ахматову, спавшую до обеда, Пастернаки уговорили ехать в Ленинград в этот же день, «достали ей билет и проводили на вокзал» [Пастернак - Пастернак З.Н. 1993: 289]. На основании этих воспоминаний можно сделать вывод, что Ахматова после известия об освобождении мужа уехала, не увидевшись с Булгаковым. Этому, однако, противоречат рассказы Е.С. Булгаковой. Кроме того, как вспоминала Э.Г. Герштейн, разрешение ситуации было отмечено «ликованием» и «торжеством с гостями» в квартире Пильняка [Герштейн 1998: 217-219].
Прямые обращения Пастернака к Сталину и их результативность могли наводить Булгакова на сравнения с аналогичными собственными обращениями и их последствия
33 Подробно об аресте и освобождении Н.Н. Пунина и Л.Н. Гумилёва и логике поведения Пастернака см.: [Флейшман 2005: 371-383 и др.]. Исследователь не учитывает, однако, участие Булгакова в составлении письма Ахматовой к Сталину.
368
Глава 4
ми. Новую волну размышлений Булгакова о состоявшемся контакте со Сталиным - открытом личном обращении к вождю Пастернака, с одной стороны, и своём потаённом участии в составлении письма Ахматовой, - с другой, могла вызвать позиция, которую к концу 1935 г. занял по отношению к генсеку Пастернак. Он прислушался к просьбе Бухарина написать стихи о Сталине, и 1 января 1936 г. в «Известиях» были напечатаны стихи «Мне по душе строптивый норов» и «Я понял: всё живо». Как полагает М.О. Чудакова, эти стихи Пастернака, которыми он «вдвинул» Сталина «в историю» [Чудакова 1995: 557], повлияли «на решение Булгакова обратиться к теме Сталина» [Чудакова 1988:422]. К. Барнс допускает, что «the very possibility of addressing the theme of Stalin in non-hagiographic mode possibly impressed Bulgakov sufficiently for him to project play on that theme»34 [Barnes 1998, II: 116].
Запись, сделанная Е.С. Булгаковой в дневнике 28 января, свидетельствует о внимании, которое уделялось в семье писателя отношению власти к людям искусства: «Сегодня в “Правде” статья без подписи “Сумбур вместо музыки”. Разнос “Леди Макбет” Шостаковича. Говорится “о нестройном сумбурном потоке звуков”... Что эта опера -“выражение левацкого уродства”... Бедный Шостакович - каково ему теперь будет» [Дневник Елены Булгаковой 1990: 111]. 7 февраля Елена Сергеевна записала: «М.А. окончательно решил писать пьесу о Сталине». И решение это всё более укреплялось. «18 февраля 1936 г. Булгаков разговаривал с директором МХАТа и сказал, что “единственная тема, которая его интересует для пьесы, это тема о Сталине” (РГБ, ф. 562, ед. хр. 25). Трудно сказать, какой именно сюжет о вожде обдумывал тогда Булгаков, но его прежние исторические пьесы как раз в это время были снова подвергнуты официальному осуждению: после премьеры “Мольера” на сцене МХАТа в “Правде” (1936,9 марта) появилась уничтожающая редакционная статья “Внешний блеск и фальшивое содержание”, в Театре сатиры готовилась к выпуску новая комедия “Иван Васильевич”, которую ждала та же участь» [Булгаков 1994: 642].
Эта уничтожающая статья стала одним из факторов, обессмысливших для Булгакова работу над пьесой о Сталине. К работе Булгаков приступил гораздо позже - лишь 10 сентября 1938 г., когда «предложение от театра написать пьесу о Сталине, при всей его рискованности, оставалось для Булгакова едва ли не единственной возможностью вернуться на сцену» [там же: 642]. А тогда, 9 марта 1936 г., в день выхода разгромной статьи о Булгакове, докладом первого секретаря правления Союза писателей В.П. Став-ского открылась общемосковская писательская дискуссия. 13 марта Пастернак выступил перед собравшимися, но его речь не была напечатана. 16 марта он выступил вновь35.
34 «Сама возможность обращения к теме Сталина в неагиографическом ключе, возможно, впечатлила Булгакова настолько, что он стал планировать сочинение пьесы на эту тему» (англ.).
35 Подробнее об этих выступлениях: [Пастернак Е. 1997: 517-518]. Стенограмма выступления Пастернака на дискуссии о формализме с пометами Сталина опубликована А.Ю. Галушкиным [2000], рассмотревшим свидетельства об отношениях поэта и вождя. Обсуждению «недолговременных и асимметричных взаимоотношениях поэта и вождя», а также стенограммы посвящена работа [Флейшман 2000].
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
369
В письме к О.М. Фрейденберг от 1 октября 1936 г. Пастернак сначала, косвенно имея в виду Булгакова, говорил в более широком смысле о «театре и литературе», но затем прямо назвал его имя как одного из самых травимых. И здесь частный случай несправедливого отношения, в числе других, к Булгакову подтолкнул Пастернака к протесту против практики уже сформировавшегося советского отношения к художнику вообще.
«Зимою была дискуссия о формализме. <...> это началось со статей о Шостаковиче, потом перекинулось на театр и литературу (с нападками той же развязной, омерзительно несамостоятельной, эхоподобной и производной природы на Мейерхольда, Мариэтту Шагинян, Булгакова и др.). Потом коснулось художников, и опять-таки лучших, как, например, Владимир Лебедев и др. Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе писателей, я имел глупость однажды пойти на неё и, послушав, как совершеннейшие ничтожества говорят о Пильняках, Фединых и Леоновых почти что во множественном числе, не сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя всё своими настоящими именами. Прежде всего я столкнулся с искренним удивлением людей ответственных и даже официальных, зачем-де я лез заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирались. Отпор мне был дан такой, что потом, и опять-таки по официальной инициативе, ко мне отряжали товарищей из союза (очень хороших и иногда близких мне людей) справляться о моём здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали как фронду» [IX: 94-95].
Пастернак тоже мог интересоваться - и при жизни Булгакова, и после его смерти -тем, как складывается и сложилась судьба коллеги в связи с отношениями со Сталиным. Если говорить о вероятных выводах, то они были сделаны позже и стали одной из составных позиции Пастернака, сформировавшейся к началу работы над «Доктором Живаго» и продолжавшей укрепляться далее. Показательной эта позиция выглядит не только в связи с судьбой Булгакова, но и на фоне «Мастера и Маргариты». Пожалуй, наиболее прямо Пастернак выразил её в письме от 21 апреля 1951 г. к С.И. Чиковани, смещённому к тому моменту с поста первого секретаря Союза писателей Грузии. Пастернак предостерегал друга: «По своей непосредственности Вы можете забыться и вспыхнуть и, вступив в объяснения с этой стихией, доставите радость тёмной силе и тем поддержите её» (цит. по: [Пастернак Е. 1997: 650]). Это - один из принципов, с опорой на которые писался «Доктор Живаго». В романе его хорошо иллюстрирует поведение главного героя в разговорах с Костоедом и Самдевятовым в теплушке по пути на Урал. В черновиках к роману осталась запись: «Политически непривычные резкости не только ставят рукопись под угрозу. Мелки счёты такого рода с установками времени. Они не заслуживают упоминания даже политического. Роман противопоставлен им всем своим тоном и кругом интересов» [IV: 652].
Свидетельство о последней встрече писателей мы приведём полностью в силу его важности. В .Я. Виленкин писал о феврале 1940 г., когда Булгаков умирал: «Меня всё время о нём, его состоянии расспрашивал Пастернак, и мне показалось, что им непре
370
Глава 4
менно надо увидеться. Борис Леонидович горячо на это откликнулся и тут же к нему пошёл. У меня в дневнике запись от 22 февраля: “У Булгаковых всё то же. В выходной был там, но к нему в комнату не заходил. С улицы входить в этот дом жутко. Елена Сергеевна сегодня слегла - сердце. Мне сказала в слезах, что боится сойти с ума. Пастернак был у них, сидел у Михаила Афанасьевича довольно долго, наедине. Как только он ушёл, Елена Сергеевна позвонила мне в театр, сказала, что впечатление у них обоих чудесное, очень тепло о Пастернаке. А на другой день он мне звонил. Я даже не ожидал такого”. На этом моя запись обрывается. Очевидно, не ожидал такой потрясённости личностью Булгакова. Кто знает, о чём они говорили. Может быть, “о жизни и смерти”, как хотелось Пастернаку совсем в другом, ставшем уже историческим, разговоре?.. Трагических поводов для возникновения этой темы кругом было достаточно для обоих: все мы жили тогда в обстановке продолжающегося террора. То, что эта встреча произошла по моей инициативе, - одна из реликвий моей памяти» [Виленкин 1991: 391].
В мемуарах «О Борисе Леонидовиче Пастернаке» Виленкин отметил, что Пастернак расспрашивал его о подробностях болезни Булгакова «с чем-то гораздо большим, чем сочувственный интерес» [Воспоминания о Пастернаке 1993: 478]. Воспоминание Е.С. Булгаковой, записанное ею в 1968 г., добавляет ещё некоторые детали: «Когда Миша был уже очень болен и все понимали, что близок конец, стали приходить кое-кто из писателей, кто никогда не бывал... так, помню приход Федина. Это - холодный человек, холодный, как собачий нос. Пришёл, сел в кабинете около кровати Мишиной, в кресле. Как будто по обязанности службы. Быстро ушёл. Разговор не клеился. Миша, видимо, насквозь всё видел и понимал. После его ухода сказал: “Никогда больше не пускай его ко мне”. А когда после этого был Пастернак, вошёл, с открытым взглядом, лёгкий, искренний, сел верхом на стул и стал просто, дружески разговаривать, всем своим существом говоря: “Всё будет хорошо”, - Миша потом сказал: “А этого всегда пускай, я буду рад”» [Дневник Елены Булгаковой 1990: 312].
О чём беседовали два писателя - осталось неведомо. И ключом к содержанию этого разговора является, возможно, уже сама явность этой таинственности. Они могли говорить о том, о чём «на людях» в то время было говорить «не принято» и опасно. Во всяком случае, Пастернак мог говорить с Булгаковым о судьбе Мейерхольда, арестованного 18 июня, и его жены, зверски убитой 15 июля; о смерти своей матери, скончавшейся 23 августа; о начале Второй мировой войны; о возможностях отъезда на Запад и жизни там (члены семей обоих были за границей, и оба писателя предпринимали неоднократные попытки выезда); о судьбе вернувшейся в СССР М.И. Цветаевой и её семьи, в частности, арестованных 28 августа - А.С. Эфрон и 10 октября - С.Я. Эфрона; о положении А.А. Ахматовой и её сына Л.Н. Гумилёва, арестованного в ноябре, о «Реквиеме», который Ахматова, приехавшая в связи с арестом сына в Москву, читала Пастернаку. О многом из этого Булгаков мог знать если не в деталях, то понаслышке. Разговор мог касаться и творчества, в частности, театральных работ друг друга. Самые напрашивающиеся предположения связаны с учётом того, что у обоих был не просто интерес к театру, но
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
371
живое и напряжённое участие в его работе. Неудача с «Батумом», который был попыткой Булгакова создать (наряду с Пастернаком, написавшим стихи, и, возможно, с оглядкой на него) произведение, обращённое к Сталину, могла способствовать обостренному вниманию Булгакова к театральным делам коллеги. Писатели могли говорить о творчестве в связи с фигурой Сталина. Пастернак мог рассказывать и об успешной работе над «Гамлетом», которого собирался ставить МХАТ.
«С начала 1939 года Пастернак по просьбе Мейерхольда взялся за перевод “Гамлета”, которого тот собирался ставить в Ленинграде в Театре имени Пушкина, бывшей Александринке. <.. .> К началу апреля 1939 года им были переведены два с половиной акта. <...> В начале ноября 1939 года Пастернак читал два первых акта “Гамлета” во МХАТе. <.. .> После чтения во МХАТе Немирович-Данченко расторг договор с Радло-вой. <...> Три последних акта Пастернак читал во МХАТе 18 ноября 1939 года. <...> После 27 ноября, когда во МХАТе заключили договор с Пастернаком, началась совместная с театром работа над текстом “Гамлета”, чтобы добиться большей гладкости и понятности при чтении со сцены» [Пастернак Е. 1997: 545, 548, 550, 551]. К 14 февраля 1940 года Пастернак сдал во МХАТ переделанный заново текст «Гамлета».
Многое из этого Булгаков мог знать и до разговора. И мог воспринимать Пастернака как своего удачливого двойника, действующего явно в качестве явления «законного» (хотя никогда, вроде, и не обмолвился об этом). В свою очередь Булгаков мог рассказать о судьбе своей пьесы «Александр Пушкин» («Последние дни»). Пастернак знал о ней давно, с тех времён, когда она ещё писалась, и, возможно, был знаком с текстом. Во всяком случае, он мог узнать о пьесе от самого Булгакова во время встречи на именинах жены Тренёва 8 апреля 1935 г. Вероятность разговора о пьесе в тот день может косвенно подтвердить тот факт, что, не будучи слишком близок с Булгаковым, Пастернак оказался осведомлён о его работе в деталях. В письме от 11 июня 1935 г. к Р.Н. Ломоносовой, через два месяца после встречи с Булгаковым у Тренёва, он отвечал по поводу присланной ему корреспонденткой пьесы «Дуэль»: «Давно когда-то я читал щёголевское исследованье об этих последних днях и его позабыл. <...> Вообще показать Пушкина на сцене - задача не только непосильно трудная, но в некоторых отношеньях, может быть, и невозможная. Булгаков с Вересаевым пишут пьесу для Художественного] театра на Вашу же тему, и те же дни последнего года. Их остановила эта трудность, и вот как они выходят из положенья: Пушкина они не показывают ни разу, а лишь людей вокруг него, наводящих на мысль о нём своими словами и поступками. В остальном же, по их замыслу, он всё время должен чувствоваться где-то рядом, в соседней комнате, или же только что ушедшим [перечёркнуто 4-5 слов] со сцены, или с минуты на минуту в ней ожидающимся. Потому что в нашем ощущеньи он из человека, (оставаясь в нашем чув-ствованьи страшно именно человеком) давно стал миром или каким-то идеальным началом...»36 [Переписка с Ломоносовыми 1994: 17, 371].
36
Ср. с тем, что Пастернак писал о «последнем годе поэта» в «Охранной грамоте» [III: 230-234].
372
Глава 4
Картина шестая пьесы «Александр Пушкин» (рукопись) так и называлась - «Дуэль». Это единственная из десяти картин пьесы (2-я редакция, рукопись), имевшая название. Совпадение названия пьесы, сочинённой корреспонденткой Пастернака, с названием картины из пьесы Булгакова могло быть весомым поводом для тактичного указания Ломоносовой на то, каким нужно показывать Пушкина на сцене и кто делает это по-настоящему хорошо.
Во время же последней встречи вероятный разговор о «последних днях» Пушкина мог, исходя из ситуации, подразумевать происходящее с Булгаковым и молча проецироваться Пастернаком на тяжёлое состояние, в котором тот находился. Умирающий Пушкин в пьесе Булгакова невидим для зрителей и читателей, и лишь однажды по сцене проносят его тело. Эту особенность героя в разговорах с собеседниками отмечал сам Булгаков [1994: 619-620]. Умирающий писатель представал двойником своего героя и тоже был невидим: когда болел, находился в физической изоляции, а его творческое величие открывалось лишь немногим, в том числе Пастернаку. Булгаков и Пушкин (как реальная личность и как герой пьесы) стали прототипами Юрия Живаго, занимающегося в свои «последние дни» творчеством в изолированной комнате в Камергерском переулке. Материал для создания образа умирающего доктора Пастернаку дали судьбы обоих. Невидимость Пушкина в пьесе и невидимость Булгакова в жизни, а также «невидимость» творчества Булгакова для современников давали основание сделать «невидимой» для друзей доктора, для Марины, а также для читателя как жизнь Юрия Живаго в комнате в Камергерском, так и подлинную суть его духовных деяний и подвига37. Да, собственно, читатель мало что узнаёт о том, что же именно доктор пишет в этой комнате. Автор показывает лишь отдельные записи, указывает на отдельные стихотворения (далеко не случайно, что таким стихотворением оказывается «Гамлет»), зато оставляет множество намёков. Живаго удаляется в комнату в Камергерском и становится невидимым, как сказочный герой, но иначе, нежели последний. Аналогичная инверсирован-ность действует также в отношении литературы (пьесы Булгакова) и жизненной ситуации. Живаго оказывается тайным двойником сказочного героя, а также Пушкина (в пьесе и в жизни), Булгакова и самого Пастернака. Ещё одна деталь, сближающая Живаго с Булгаковым (и по контрасту с Булгаковым - с Маяковским), - кремация тела умершего. Смерть Булгакова, умершего в присутствии жены, но и в изоляции, была трансформирована Пастернаком в смерть доктора «на миру», при выходе из переполненного злобными пассажирами трамвая и последующее прощание с ним Лары. Пассажиры изолируют Юрия Живаго от свежего воздуха. В иной изоляции доктор пребывает после того, как скрывается от «незаконной» жены Марины. Юрий Андреевич - врач, как и Булгаков, и «незаконен» так же, как и тот. Эта «незаконность» Живаго в плане социальном, «внешнем» обозначается тем, что Евграф говорит Ларе: «Ни одна из бумаг покойного не была в порядке. Трудовая книжка оказалась просроченной, профсоюзный билет ста
37 О возможной проекции булгаковского Пушкина на Христа см.: [Булгаков 1994: 628].
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
373
рого образца не был обменен, взносы несколько лет не уплачивались. Всё это пришлось улаживать» [IV: 492].
Юрий Живаго «незаконен» и при жизни, и после смерти, когда провожать его приходит множество незнакомых людей (обычно такое бывало на похоронах советских вождей, и в противоположность им, которую представляют собой похороны доктора, свидетельствует о его тайной роли духовного вождя). И эта тайная и выявляющаяся лишь после смерти «незаконность» аналогична той «незаконности» Булгакова, о которой Пастернак открыто говорил в гостях у Тренёва, на людях, в присутствии самого Булгакова, и той, которая характеризовала самого Пастернака, писавшего и опубликовавшего на Западе роман, имевшего «незаконные» отношения с О.В. Ивинской и вообще остро ощущавшего свою «незаконность»: происхождения, положения в современной ему советской литературе. В 1950-е Пастернак ценил эту «незаконность» превыше всего и в пику всему, что было «разрешено» и официально узаконено и признано, о чём не раз писал в письмах и высказывал современникам.
Заметим также, что до ухода в комнату в Камергерском доктор жил (не считая Спиридоновки) в Мучном городке, принадлежавшем князьям Долгоруковым. Как следует из прочитанной Пастернаком книги П.Е. Щёголева «Дуэль и смерть Пушкина», именно князь П.В. Долгоруков был автором анонимного пасквиля, приведшего к дуэли. Он же, вероятно, был и автором грязного письма, посланного П.Я. Чаадаеву и ещё 70 адресатам. В оскорбительном письме за подписью Луи Колардо Чаадаеву предлагалось исцелить его от сумасшествия (см. комментарии: [Чаадаев 1991, II: 372-373]). Появляется Долгоруков и в пьесе Булгакова, который «внимательно изучил труд П.Е. Щёголева», при этом «особое значение для него имела глава «Анонимный пасквиль и враги Пушкина»» [Булгаков 1994: 630]. То, что доктор поселяется в Мучном городке, представляет собой тайное возмездие возвышенного внутренне, но не внешне двойника Пушкина (Юрия Живаго) - сниженному внешне, но не внутренне двойнику Долгорукова (Маркелу).
Актуализация содержания пьесы «Александр Пушкин» для Пастернака в «последние дни» Булгакова произошла не только в силу понятных сравнений невидимого автора с его отсутствующим на сцене великим героем, но и по той причине, что в конце 1939 года за постановку этой пьесы взялся МХАТ (и по сей день находящийся в Камергерском переулке), с которым Булгаков не сотрудничал с 1936 года. Три года назад над пьесой работал театр имени Вахтангова, но после появления в «Правде» 9 марта 1936 года статьи «Внешний блеск и фальшивое содержание» эта работа была прервана [там же: 619]. Пастернак, в 1939-1940 годах активно сотрудничавший с МХАТом и общавшийся с его актерами и режиссерами, по-видимому, был в курсе готовившейся (но так и не осуществлённой) постановки, которую не мог не соотносить с намеченной постановкой «Гамлета» в своём переводе (в итоге также не состоявшейся).
«Гамлет» Пастернака мог представать в глазах Булгакова ещё одним успехом удачливого писателя-двойника, пьесой, контрастной по отношению к его «Александру Пуш
374
Глава 4
кину». Не исключено, что к такому же видению ситуации, которая явилась отдельным проявлением общего двойничества с Булгаковым, позже мог прийти и Пастернак. Быть может, ещё и поэтому он спроецировал главного героя своего романа не только на Гамлета, но и на умирающего Булгакова, и на умирающего Пушкина из его пьесы.
«Доктор Живаго», ставший для Пастернака итоговым произведением, был именно такой прозой, которую оба писателя считали главной в своей работе. В романе можно найти и отражения межличностных отношений между Пастернаком и Булгаковым, и сплавлявшиеся с этими отражениями влияния творческие. Важнейшей представляется уже упомянутая ситуация, когда Юрий Живаго оказывается в комнате в Камергерском переулке, живёт там, а затем, после его смерти от сердечной болезни (Булгаков умер от болезни почек), туда приходит множество людей и происходит разговор Евграфа и Лары. А.М. Эткинд отмечает, что «комната, которая снята Евграфом для Юрия, находилась “рядом с Художественным театром”, что читается как ссылка на Булгакова» [Эткинд А. 2001: 440], однако не вскрывает значения этой ссылки. Соотношение комнаты в Камергерском переулке с Художественным театром «объясняется» не только интертекстуальной связью с «Александром Пушкиным», связью с МХАТом Булгакова, но и событиями из жизни Пастернака. И это не даёт оснований утверждать, что «выбор места для завязки и разрешения жизненных коллизий героев романа не был предопределён биографическими обстоятельствами» [Сергеева-Клятис, Смолицкий 2009: 372].
День своего 50-летия Пастернак провёл в Камергерском переулке во МХАТе. Вместо официальных торжеств, которыми собирались его почтить и от которых он постарался избавиться, было одиночество. «Свой день рожденья <.. .> я провёл необычайно и вне дома, - писал он отцу 14 февраля 1940 г. - Я удрал из дому в Камергерский с рукописями и весь день провёл в директорском кабинете, дописав наконец к вечеру, что мне было нужно, тут же в театре, а вечером пошёл на Шопеновский вечер пианиста Софроницкого, женатого на той Ляле Скрябиной, которая была одной из крошек на даче в Оболенском» [ПРС 2004: 740-741].
Получается следующая «картина». 10 февраля Пастернак провёл в одиночестве за работой, находясь во МХАТе. Вероятно, дорабатывал перевод «Гамлета». К 14-му он сдал туда перевод, и позже эти два события могли в его памяти объединиться в одно. 22-го он посетил умирающего в уединении Булгакова и имел с ним разговор наедине. 11 марта Булгаков умер. После смерти мужа Елена Сергеевна записывала в дневнике все визиты последующего месяца. Среди приходивших были Пастернак, Ахматова, Фадеев [Чудакова 1988: 482]. Возможно, Пастернак имел тогда разговор с Еленой Сергеевной. Таким образом, день рождения Пастернака контрастирует здесь с днём смерти Булгакова, и оба дня стоят под знаком одиночества, уединённости. «Осевыми» событиями предстают сдача «Гамлета» и встреча и разговор писателей. В «Докторе Живаго» эти значимые для Пастернака дни сложились в «последние дни»: это творчество доктора (в частности, создание стихотворения «Гамлет»), посещение его Евграфом и его одиночество в комнате в Камергерском перед смертью; ситуация, когда он лежит в комнате
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
375
мёртвый; разговор Евграфа и Лары. Не сказался ли образ Булгакова и его судьба на трактовке лирического героя стихотворения «Гамлет»? Не подразумевал ли Пастернак судьбу Булгакова, когда в период работы над шекспировским «Гамлетом» переводил 66-й сонет Шекспира? Мотивы посещения Елены Сергеевны могли быть сходны с мотивами многолетней заботы Пастернака о вдове Андрея Белого К.Н. Бутаевой или вдове Тициана Табидзе - Н.А. Табидзе. Но то, что знакомство, вероятно, прервалось, несмотря на то, что Пастернак встречался с Е.С. Булгаковой и позже38, может свидетельствовать о тайном двойничестве с Булгаковым, которое Пастернак почувствовал во время последней встречи с ним и мог ощущать как необходимое ему искомое состояние и цель, наиболее точно соответствовавшие его представлениям о судьбе и задачах писателя. В такой тайной роли он вряд ли мог взять на себя заботу о вдове писателя, с которым не был слишком близок. Елена Сергеевна могла рассказать Пастернаку о «последних днях» мужа, которые описала в дневнике. Наконец, тайным откровением, которое Пастернак узнал во время последней встречи с Булгаковым, мог быть для него рассказ умирающего писателя о «Мастере и Маргарите». И Булгаков мог просить Пастернака сохранить этот рассказ в тайне. В самом деле: Пастернак, насколько нам известно, ни разу никому не обмолвился, что знает о существовании «Мастера и Маргариты», хотя ни Елена Сергеевна, ни Ахматова не делали из этого тайны для духовно близких людей. Неизвестным остаётся и то, читал ли он главный роман Булгакова. Если в начале встречи её тон старался задать Пастернак, пришедший поддержать в трудную минуту коллегу по цеху, то тем контрастнее оказался итог встречи - возможно, Пастернак был потрясён увиденным и услышанным. В таком ключе тема «жизни и смерти» могла приобрести для него новое звучание. Булгаков стал одной из тайн «Доктора Живаго» - «из человека, (оставаясь в нашем чувствованьи страшно именно человеком) давно стал миром или каким-то идеальным началом...». Под эту характеристику подпадают и Пушкин (Булгакова), и Булгаков, и Юрий Живаго, и в итоге - сам Пастернак. Если предположить, что Пастернак узнал о написанном романе от Булгакова, то, несомненно, он мог проецировать свою судьбу и неудачу долгих и не скрываемых попыток написать роман на судьбу и успех тайного дела Булгакова, который умирал, сумев вложить всего себя в главное произведение жизни и становясь всё более «незаконным». Пастернаку открылись потаённые величина и величие Булгакова. Разговор с умиравшим двойником мог быть одним из мотивов, побуждавших Пастернака предпринимать впоследствии новые попытки написать роман, но делать это уже неофициально. Уже через полгода после разговора (и смерти Булгакова) в письме к Е.В. Пастернак от 3 августа 1940 г. Пастернак писал: «После многолетнего перерыва, в течение которого я занимался всякой дребеденью, за вычетом только Гамлета (хотя и это перевод), попробовал взяться за что-нибудь своё, поразился в первый момент, до чего я разучился писать, а потом потянуло, и теперь я с
38 Н.М. Любимов вспоминал о частых встречах Пастернака и Е.С. Булгаковой, в частности о встрече в 1949 г. у Ардовых по случаю приезда Ахматовой [XI: 633].
376
Глава 4
обычной когда-то страстью дрожу над каждым часом, отданным работе. Это опять всё тот же роман, я его либо в лучшем случае кончу, либо двину куда-то вперед или в сторону» [Переписка с Евгенией Пастернак 1998: 415-416].
В известных словах Пастернака «Я не люблю своего стиля до 1940 года» из очерка «Люди и положения» [III: 327] обращает на себя внимание год. Обычно, говоря вслед за поэтом о переменах в его стиле, исследователи обращались к циклу «Переделкино». Но ведь стихи, вошедшие в него, были написаны весной 1941 года. Возможно, Пастернак округлял здесь дату не столько в связи со своим юбилейным возрастом (в 1940-м ему исполнилось 50 лет), но и потому, что имел в виду внутреннюю перемену, которой способствовали завершение работы над «Гамлетом», разговор с Булгаковым и смерть последнего. Поведение же Пастернака после смерти Булгакова по отношению к покойному, весьма напоминающее реакцию после смерти Маяковского, но в отличие от того случая оставшееся почти незамеченным окружавшими и, вероятно, недемонстративное со стороны самого Пастернака, отразилось в «Докторе Живаго» «неизвестностью» Евграфа для людей, пришедших проститься с его умершим братом. «...After Bulgakov’s death on 10 March, Pasternak was one of several actors, artists and writers in the guard of honour as his coffin stood in the Union of Writers»39 [Barnes 1998, II: 169].
В «Докторе Живаго» имеется ещё по меньшей мере одна сцена, в которой отразилась последняя встреча с Булгаковым. Настроение товарищества, свойственное Пастернаку по отношению к писателям в 1930-1940-е годы и в котором он пришёл к Булгакову, выражалось позой, которую отметила Елена Сергеевна. Судя по реплике Булгакова после ухода Пастернака и записи, сделанной Еленой Сергеевной, Булгакову очень понравилось это настроение, но не только этим, конечно, объясняется возникшее расположение к Пастернаку. Для самого Пастернака впечатление от личности Булгакова при той встрече возникло, вероятно, на иных основаниях. Вероятно, в силу этого впечатления позже в романе Пастернак заклеймил подобное настроение товарищества, чреватое смертью одного из тех, к кому окружающие, виновные в его гибели, относятся якобы с участием. Это сцена у коменданта, «уездного», к которому доктор, собиравшийся уезжать из Мелюзеева, приходит за подписью в документах. В позе пришедшего к Булгакову Пастернака сидит Галиуллин, а в «лермонтовской» позе самого Булгакова - «уездный». Эта поза смертельно больного Булгакова, рядом с которым сидит печальная Елена Сергеевна, запечатлена на одной из фотографий 1940 года.
«Из присутствующих только один доктор расположился в кабинете по-человечески. Остальные сидели один другого чуднее и развязнее. Уездный, подперев рукой голову, по-печорински полулежал возле письменного стола, его помощник громоздился напротив на боковом валике дивана, подобрав под себя ноги, как в дамском седле. Галиуллин сидел верхом на стуле, поставленном задом наперед, обняв спинку и положив на неё
39 «После смерти Булгакова, наступившей 10 марта, Пастернак был одним из немногих актеров, художников и писателей, стоявших в почётном карауле возле его гроба в Союзе писателей» (англ.).
Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика
377
голову, а молоденький комиссар то подтягивался на руках в проём подоконника, то с него соскакивал и, как запущенный волчок, ни на минуту не умолкая и всё время двигаясь, маленькими частыми шагами расхаживал по кабинету. Он говорил не переставая» [IV: 136-137].
Заметим, что перелом в отношении к чувству товарищества произошёл к началу работы над «Доктором Живаго». Так, в письме к Н.Я. Мандельштам от ноября 1945 г. Пастернак писал: «Неожиданно жизнь моя (выражусь для краткости)... активизировалась. Связи мои с некоторыми людьми на фронте, в залах, в каких-то глухих углах и в особенности на Западе оказались многочисленнее, прямее и проще, чем я мог предполагать даже в самых смелых мечтаниях. Это небывало и чудодейственно упростило и облегчило мою внутреннюю жизнь, строй мыслей, деятельность, задачи и так же сильно осложнило жизнь внешнюю. Она трудна в особенности потому, что от моего былого миролюбия и компанейства ничего не осталось. Не только никаких Тихоновых и большинства Союза нет для меня, и я их отрицаю, но я не упускаю случая открыто и публично об этом заявлять. О, они, разумеется, правы, что в долгу не остаются. Конечно, это соотношение сил неравное, но судьба моя определилась, и у меня нет выбора» [IX: 421].
Ещё одной биографически прототипической в отношении сцены у «уездного» является ситуация, о которой Пастернак рассказал в письме от 24 января 1937 г. к А.Н. Афиногенову: «Я буду говорить откровенно. Мне трудно выступать. Что сказать? Можно сказать так, что потом опять начнётся плохое. Меня будут ругать. Не поймут. И опять на такое долгое время я перестану работать. Жена упрекает меня в мягкотелости. Но что мне делать? Кому нужно моё слово, я мог бы рассказать о встрече с Пятаковым, Радеком, Сокольниковым у Луначарского. Они упрекали меня в мягкотелости, в нерешительности, в отсталости от жизни, в неумении перестроиться. Они слегка презирали меня. А я невзлюбил их за штампы в мыслях и разговоре. Но те же штампы и теперь висят надо мной. Они в “Литгазете” - в статьях, в словах...» [Афиногенов 1990: 108].
Если у Луначарского с присутствующими спорил Пастернак, то в романе у «уездного» - Гинц, а Живаго присутствовал как свидетель. Встреча у Луначарского и встреча с Булгаковым стали прототипическими в отношении нескольких встреч героев в «Докторе Живаго», в том числе сцены партизанского собрания в Крестовоздвиженске, где отсутствовал Юрий Живаго, но, вероятно, был рассказчик (Евграф), и сцены последней встречи доктора с Гордоном и Дудоровым в Москве.
Глава 5
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
Писатель <.. .> может лишь вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось не впервые; в его власти только смешивать разные виды письма, сталкивать их друг с другом, не опираясь всецело ни на один из них; если бы он захотел выразить себя, ему всё равно следовало бы знать, что внутренняя «сущность», которую он намерен «передать», есть не что иное, как уже готовый словарь, где слова объясняются лишь с помощью других слов, и так до бесконечности.
Р. Барт. «Смерть автора»
5.1. Семья Микулицына и семья Вяч. Ив. Иванова
Влияние мэтра символизма на младшего современника уже становилось предметом рассмотрения. В биографическом аспекте тему «Пастернак и Иванов» затрагивал Е.Б. Пастернак. Ряд интертекстуальных перекличек романа Пастернака с биографией и творчеством Иванова выявил в своих книгах «Порождение интертекста» и «Роман тайн «Доктор Живаго»» И.П. Смирнов. Он указал, в частности, что отношения членов семьи Иванова можно узнать в «Докторе Живаго» в отношениях гимназистки Лары, её матери и Комаровского [Смирнов 1996: 43]. Мы отметим ещё несколько ситуаций, свидетельствующих как о масштабе и особенностях влияния, так и об отношении Пастернака к личности и творчеству старшего поэта.
Учитывая аналогию, замеченную И.П. Смирновым, можно сказать, что семейная ситуация Иванова, женившегося на падчерице, воспроизводится в романе Пастернака неоднократно, а если учесть регулярность развёртывания структуры линейного пространства произведения, то, по-видимому, на строго обусловленных участках текста и, так сказать, в развитии. Когда в треугольнике ‘Амалия Карловна - Комаровский - Лара’ воспроизводится треугольник ‘Зиновьева-Аннибал - Иванов - В.К. Шварсалон’, то актуализируется момент «замены» матери её дочерью. В треугольнике ‘Агриппина (Аграфена) Севериновна Тунцева (покойная жена Микулицына)1 - Микулицын - Елена Проклов-на’ Пастернак вновь воспроизвёл те же семейные отношения Иванова, но акцентировал момент смерти старшей женщины и устранил её родственные связи с преемницей.
1 Вопрос о прототипах Агриппины Тунцевой и Микулицына рассмотрен: [Буров 2010г; 201 Ои].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
379
В первом случае значимая неполнота совпадения с «оригиналом» проявилась в том, что Амалия Карловна всё же не умерла от отравления. Таким образом, Вера Константиновна Шварсалон (1890-1920), дочь умершей 17 октября 1907 г. Л.Д. Зиновьевой-Аннибал и падчерица Вяч. Ив. Иванова, оказывается одним из прототипов не только Лары, но и «молоденькой, но уже и молодящейся» [IV: 262] Елены Прокловны Микулицыной. У Лары, как и у В.К. Шварсалон, есть брат. Родион Гишар учился в кадетском корпусе и, вероятно, стал офицером. В письме от 20-х чисел июля 1914 г. к родителям и сёстрам Пастернак писал: «У Веры Константиновны брат офицер в Гродне!!» [ПРС 2004: 105].
Чтобы рассмотрение того, как семейная ситуация Ивановых отразилась в «Докторе Живаго», было более полным, обозначим некоторые ассоциации, связанные с именем умершей жены Микулицына. Её продублированное в тексте имя может отсылать как к «двойному» интересу Иванова (к Риму и «славянству»), так и к биографии Зиновьевой-Аннибал, с которой Иванов познакомился в Риме летом 1893 г. и которая перед смертью «всё собиралась идти на богомолье к Тихвинской. В этом пророческом стремлении уйти был не только религиозный шаг, но и желание народно, вселенски соединяться с людьми в духовном движении» [Троцкий 1994: 61]. «О своеобразном стилизованном внешнем облике» Зиновьевой-Аннибал, «(сформированном в согласии с идеей о «дионисо-вом действе») в период жизни на “башне”, писали многие современники» [Лавров 1994: 74]. Представление о её одежде дают также фотографии, которые Пастернак мог видеть. С.К. Маковский вспоминал, что Зиновьева-Аннибал «дома на литературных сборищах выходила к гостям в сандалиях и в греческом пеплосе (да ещё алого цвета)» [Маковский 2000: 177]. Ср. с тем, что Вакх, везущий семью Живаго в Варыкино, «про «пер-веньку, упокойницу» говорил, что та была мёд-женщина, белый херувим» [IV: 269]. Пастернак, по-видимому, произвёл значимую замену алого цвета на белый. Именование старшей сестры Тунцевой «херувимом» соотносится в плане отнесённости к небесным иерархиям с именем младшей - Серафимы. А. Ливингстон полагает, что её имя и отчество говорят о ней как о «духе севера»: «Her name and patronimic, Strafima Severinovna, suggesting ‘seraph of the north’, may be enough said about her, along with the fact that most people consider her crazy»2 [Livingstone 1989: 64]. Слова Вакха, как и русское имя Аграфена, намечают «русский» контекст восприятия и отсылают к рассказу Б.К. Зайцева «Аграфена» (1909), который даёт ещё один образ в литературную галерею русских женщин. В связи с Ивановым имеют значение и некоторые переклички «Доктора Живаго» с этим рассказом, ради показа которых мы сделаем небольшое отступление.
Описание приезда семьи Живаго в Варыкино и встречи с Микулицыным, возвращающимся не с охоты, но со стрельбы по волкам, и Еленой Прокловной, идущей с прогулки, соотносится со сценой мимолетной встречи идущей от деревни к большаку Аграфены с едущим со станции на тарантасе студентом, которого везёт кучер Иван и который позже выходит охотиться на вальдшнепов.
2 «Её имя и отчество, Серафима Севериновна, понимаемое как «серафим севера», по-видимому, достаточно говорит о ней, наряду с тем, что большинство считало её сумасшедшей» (англ.).
380
Глава 5
То, как задыхающийся в трамвае и затем умирающий Юрий Живаго «тремя движениями вверх, вниз и на себя рванул раму и вдруг ощутил небывалую, непоправимую боль внутри и понял, что сорвал что-то в себе, что наделал что-то роковое и что всё пропало» [IV: 488], перекликается со сценой на сенокосе: «“Господи, надорвётся”, -думала, - а он, напрягая всё тонкое тело, с раскраснелыми щеками, подымал на вилах стопу сена. “Ахнет, сразу сердце оборвётся, и конец”. Но он не умирал, а посмеивался ей ласковым взглядом» [Зайцев 1989: 29].
Лара оставляет маленькую дочь Таню у сторожихи Марфы аналогично тому, как поступает Аграфена: «С девочкой на места не брали, поэтому пришлось отдать её в деревню. Это тоже было горько, но необходимо. И Аграфена снесла это твёрдо, только бледнела» [там же: 37]. Состояние Лары, о котором она рассказывает, прощаясь с Юрием Живаго, контрастирует с состоянием Аграфены, но описание последнего оказывается применимым и к Ларе и может работать в качестве внетекстового повествования о том, какую жизнь вела Лара с момента расставания с Юрием Живаго, а затем с Таней. «Оставшись же одна, она стала внутренне собранной, готовой на нелюдимую тяжёлую жизнь, и вступила в кочевое состояние женщины, переходящей от хозяев к хозяевам, видящей разные семьи, разные драмы, счастья и предательства, но хранящей суровую отчуждённость и только временами плачущей, в одинокие ночи, о невозможном» [там же: 37-38].
В монологе Лары, которая хочет, но от ужаса не может рассказать мёртвому Юрию Андреевичу о потере дочери, звучат странные слова: «Но видишь, я не пью, как многие, не вступаю на этот путь, потому что пьяная женщина - это уже конец, что-то немыслимое, не правда ли?» [IV: 499]. Эти слова скрыто отсылают к сцене совращения Аграфеной, давно оставившей в деревне дочь и живущей в городе, юного гимназиста Кости -«братца» барышни Клавдии (так же зовут одну из дочерей Юрия Живаго и Марины), приехавшей жить в дом госпожи Люце: «В воскресенье, с самого утра, Аграфена почуяла тоску. Она была одна; все ушли, и её мысли, бродя за плавными снежинками, летевшими с неба пеленой, погружались во мрак. Тогда ей пришло на ум, что она может пить. Первый раз в жизни в тот день она пила и узнала туманный хмель, сладкую призрачность, встающую из него, - глубокую его рану» [Зайцев 1989: 42].
Швейная мастерская Левицкой в Москве, которую купила мать Лары и где старшей была Фаина Силантьевна Фетисова, и швейная мастерская в Юрятине, в которой старшей была Глафира Тунцева3, соотносятся с мастерской госпожи Люце в неназванном городе (городе вообще): «Госпожа Люце имела мастерскую; в ней шили и вязали чулки, жили мастерицы, и сама «тетушка Люце» вела скромное существование, весь день работая над сматыванием ниток. Хотя все с ней были приветливы, Аграфена дичилась и старалась быть в стороне, внизу у себя» [там же: 38].
3 Об интертекстуальных перекличках сцен в швейных мастерских и ателье в «Докторе Живаго» с «Что делать?» Н.Г. Чернышевского и романами Ф.М. Достоевского см.: [Смирнов 1996: 62-67]. В другой работе отмечается «состыковка романа» с фильмами А.И. Медведкина «Чудесница» (1936) и Д. Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929) - [Смирнов 20086: 335-339].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
381
Место расстрела партизан-заговорщиков - «лесная возвышенность», которую «по краю запирали отвесные, ребром стоявшие гранитные глыбы» и где «могло быть в древности какое-нибудь языческое капище неизвестных идолопоклонников, место их священнодействий и жертвоприношений», а также рябина, ягодами которой кормятся зимние птицы, напоминают кладбище с деревьями, на котором госпожа Люце хоронит своего мужа Муньку и куда приезжает с Аграфеной на сороковой день. Кладбище «лежало почти за городом, на широкой возвышенности, господствуя над всем. От инеевых деревьев оно казалось белым облаком. <...> Особенно деревья обольщали; о, как они замлели под белейшими ризами! Они рождали тишину и мир, холодный мир. <...> На могиле женщины совершили обряды; были тут поминальные яства, кутья и изюм; птицы - красногрудые снегири - перепархивали в ветвях, осыпая белый туман; ожидали, когда они удалятся» [там же: 42].
Одним из поворотных в жизни Юрия Живаго и Тони дней является день, когда перед поездкой на ёлку к Свентицким они, в новых костюмах, приходят к Анне Ивановне, которая незадолго до этого «сговаривает» их. «Юра и Тоня зашли за гардину в глубокую оконную нишу посмотреть, какая погода. Когда они вышли из ниши, оба полотнища тюлевой занавеси пристали к необношенной материи их новых платьев. Лёгкая льнущая ткань несколько шагов проволоклась за Тонею, как подвенечная фата за невестой. Все рассмеялись, так одновременно без слов всем в спальне бросилось в глаза это сходство» [IV: 81].
Это описание соотносится со сценой, когда после растления «братца» Аграфена ревнует его к прибегающим в дом перед масленой «роям барышень, гимназисток», которые, как и «братец», готовятся к балу. Среди них есть и девушка, в которую «братец» влюблён и которая может стать его невестой, но, вероятно, не становится из-за связи Кости с Аграфеной. Анна Ивановна в «Докторе Живаго» находится в позиции госпожи Люце. Описание бала у Свентицких представляет собой «расширенное» и конкретизированное (за счёт интертекстуальных связей с бальными сценами из произведений классической литературы, в частности романов Л.Н. Толстого) отражение бала гимназистов, описанного кратко и обобщённо. «В день бала братец с утра был не свой: точно решалось что-то для него. Напяливал мундир, доставал белые перчатки и душился. В восемь часов заехала та, и, как вошла в комнату в платье своём белеющем, с лёгким духом вокруг и тоненькими девичьими ножками, показалась Аграфене невестой: сияющей и ослепительной.
- Ну, хороший мой человек, покажись! - Доброе лицо тетушки Люце расцвело улыбкой. - Хорошо оделась, ангел мой, очень хорошо!
Потом она лукаво глянула на братца.
- Вот бы, Костя, тебе невесту такую. Я бы благословила. Костя вспыхнул, повалил стул и выскочил из комнаты.
Через четверть часа они уехали. Аграфена была бледна. Белое облако молодости, сияний, люстр приняло их. В бледнозеркальном воздухе они носились до утра среди блистающих колонн, в вальсах и нежных танцах. Робко благоухала любовь. Её окуты
382
Глава 5
вали тучи тканей, прозрачных и мятущихся, и вся эта юность была одним взлетываю-щим существом, в золоте огня. <.. .> Братец возвратился на рассвете, туманный счастием и полупьяный им» [Зайцев 1989: 44].
Когда Юрий Живаго живёт с Ларой в Юрятине после возвращения от партизан, он получает письмо от Тони. Это происходит в день, когда идёт первый снег. «Братец» приходит объясниться с Аграфеной и сказать, что не любит её, когда «в первый раз походило на весну» [там же: 45]. Юрий Живаго живёт с женщиной, которую любит, а любящая жена оказывается вдали, не желая расставаться с ним, - «братец» живёт с Аграфеной, женщиной, которую не любит, а любимая невеста также оказывается вдали и, вероятно, хочет расстаться с ним. Добавим, что, возможно, тайными страданиями по возлюбленной, которая могла быть у Микулицына во времена его жизни в Петербурге до высылки, объясняется его политическое свободолюбие. Если тут (вероятная) личная травма была перенесена на политику, то когда «из поклонения идее свободы дурак отец окрестил мальчика редким именем Ливерий» [IV: 261], то имел место перенос обратный. Отзвуком рассказа Зайцева является также приезд Лары в Москву ради того, чтобы отдать дочь Катю «на приготовительные, начальные курсы театрального училища или консерватории, куда примут, и определить в интернат» [IV: 495]. У Зайцева «Аграфена вела Анютку в усадьбу: старая барыня вызвалась отправить её в город в школу вместе со своей воспитанницей. <...>- Вот и хорошо. Кончит школу - место получит, в учительницы или ещё куда» [Зайцев 1989: 49-50].
Позже на могилу утопившейся из-за несчастной любви Анюты Аграфена приносит ветви рябины: «Рябина алела вечной кровью на зелени дуба. Это нравилось Аграфене. И ещё нравилось - старый святой обычай - насыпать зёрен скромных на гребень могилы и давать ими пищу птенцам» [там же: 54].
Ягодами рябины кормятся во время пребывания доктора у партизан птицы. На «ягоды мёрзлой рябины» [IV: 462] похожи капли крови застрелившегося Антипова-Стрельникова, которого хоронит доктор. Стрельников кончает самоубийством, когда узнаёт, как любила его Лара. «Причащение» Юрия Живаго рябиной при уходе из отряда - это и причащение истории народа, и причащение кровавой современности.
Именование умершей жены Микулицына Агриппиной является не только скрытым указанием на интертекстуальное присутствие рассказа Зайцева, но также и на восприятие этого произведения Ивановым, которого «Аграфена» настолько заинтересовала, что в 1908 г. он пригласил к себе автора и, как вспоминал Зайцев, «забрал меня, увёз к себе в кабинет - и вот начался разбор этой «Аграфены» чуть не строчка за строчкой - спокойный, благожелательный, но и критический. Продолжалось это часа полтора» (цит. по: [Обатнин 2000: 211]). Исследователь предполагает, что повесть была интересна Иванову в связи с сюжетом об истинном муже, и отмечает, что «специальный интерес здесь тем более очевиден, если вспомнить, что после смерти жены Иванов существенно сузил круг общения, сменив многолюдные «среды» на индивидуальные «аудиенции»» [там же: 211-212].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
383
Поскольку этот сюжет интересовал Иванова многие годы, резонно предположить, что рассказ «Аграфена» мог упоминаться, а, возможно, пересказываться (или рекомендоваться для прочтения) в соответствующем контексте в разговорах Иванова с Пастернаком в 1914 г., тем более что Иванов пытался, по-видимому, узнать отношение собеседника к проблеме пола и к женщине как символическому образу России. Этот интерес Иванова просматривается в упоминании Пастернака о разговорах с Ивановым в позднейшем письме Д.Е. Максимову от 14 октября 1956 г. О степени интереса Пастернака к творчеству Зайцева и его мнению может свидетельствовать просьба прочесть «Детство Люверс» в 1921 г. в Москве [Переписка 1983: 692]. В письме к В.П. Полонскому от 10 января 1923 г., написанном в Берлине, Пастернак признавался, что возобновлением работы «после многолетнего перерыва <...> отчасти обязан Зайцеву, догадавшемуся пожелать мне написать что-нибудь такое, что бы он полюбил (счастливая по простоте формулировка потребности в художестве)» [там же: 691].
Это стимулировавшее к творчеству влияние могло вспоминаться Пастернаку при работе над «Доктором Живаго», что подтверждается наличием интертекстуальных следов рассказа Зайцева. О том, что расположение к Зайцеву осталось неизменным с 1920-х годов, свидетельствует переписка писателей, возобновившаяся в 1959 г.4 Отдельного внимания требует вопрос о том, как отразился в «Докторе Живаго» доклад Иванова «О достоинстве женщины» (1908), положения которого и некоторые образы Пастернак использовал в романе, описывая как Тоню, Лару и Марину, так и других женских персонажей. Ср., например, изображение Кубарихи и восприятие её доктором со следующим описанием тайны женщины и её образа в древности у Иванова: «Душу Земли-Матери, тёмной и вещей, привыкли мы чуять в этой тайне. <.. .> Неудивительно, что, чем в отдалённейшую восходим мы древность, тем величавее рисуется нам образ вещуньи коренных, изначальных тайн бытия, владычицы над прозябающей из их тёмного лона жизнью, придверницы рождений и похорон, родительницы, воспреемницы, кормилицы младенца, плакальщицы и умастительницы умершего, вещей служительницы и наперсницы двух богинь - тёмной Земли и светлой Луны, чуткой к их голосу в себе самой, жрицы и колдуньи, знахарки и ядосмесительницы, первоучительницы заговора и пророчества, стиха и восторга» [Иванов 1971-1987, III: 140-141].
Имя умершей жены Микулицына - Агриппина - намекает не только на римского полководца Агриппу (63-12 до н.э.), который был сподвижником императора Августа и построил в Риме водопровод, Пантеон и термы, но и на немецкого неоплатоника Агриппу Неттесгеймского (1486-1535), который в сочинении «О сокровенной философии» (или: «Тайная философия») изложил учение о магии, основанное на представлении о взаимосвязи всех вещей, и обобщил аристотелевскую теорию четырёх элементов-принципов, которая легла в основу алхимии. В романе этот намёк на богослова, которого молва обвиняла в занятиях чернокнижием и магией, является в то же время и намёком на сход
4 О контактах Пастернака с Зайцевым см. комментарии М.А. Рашковской, опубликовавшей их переписку 1959-1960 годов [Переписка 1990а: 45].
384
Глава 5
ный интерес Иванова к мистике и оккультизму. Если при жизни Агриппы ходили слухи, затем проявившиеся в легенде о докторе Фаусте, о том, что он знается с демонами, что дьявол сопровождает его повсюду, приняв образ чёрного пса, то в «Докторе Живаго», как показал И.П. Смирнов, образ чёрного пса связан с Комаровским, который «кажется заимствованием из “Фауста” Гёте. <.. .> Фаустов пудель превращён у Пастернака в бульдога, и <...> Сатаниди, всегдашний спутник Комаровского, недвусмысленный аналог Мефистофеля, назван по имени - Константином» [Смирнов 1996: 39]. В «византийско-греческом» имени «Константин Сатаниди» можно усмотреть оценочный намёк Пастернака на геополитические чаяния панславянского объединения в союзе с Грецией, которые были у Иванова во время Первой мировой войны, и ожидание освобождения Константинополя (см.: [Обатнин 2000: 127]). Добавим, что в принадлежащего Комаровскому бульдога по кличке Джек Пастернак мог «превратить» двух собак с той же кличкой: принадлежавшего поэту В.А. Комаровскому терьера и пуделя Цветаевых, держась за которого маленькая Ариадна Эфрон училась ходить. Кроме того, по наблюдению И.М. Коневой, фигура Сатаниди в сопровождении бульдога «списана» с определённой долей утрирования с известного портрета Ф.И. Шаляпина (1922) работы Б.М. Кустодиева. Фамилия «Сатаниди» соотносится с тем, что Шаляпин пел арию Мефистофеля в опере Ш. Гуно «Фауст». Актёр и игрок, «offspring of Satan»5 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 69], не случайно сопровождает Комаровского, находящего с ним общий язык. Демонизм и дендизм того напоминают о Маяковском, который был одним из его прототипов [Флейшман 2003а: 440]. На Маяковского, завоевывавшего, но так и не завоевавшего культуру, как на прототип Комаровского, пытавшегося завоевать Лару, указывает имя последнего - Виктор («Победитель»). В «Охранной грамоте» Пастернак писал: «Однако культура в объятья первого желающего не падает. Всё перечисленное надо было взять с бою. Пониманье любви как поединка подходит и к этому случаю. Переход искусства к подростку мог осуществиться лишь в результате воинствующего влеченья, пережитого со всем волненьем, как личное происшествие. <.. .> Победителем <.. .> был Маяковский» [111:213-214].
Комаровский же является двойником Микулицына, о чём речь пойдёт ниже. Агриппа всегда подчёркнуто отмежёвывался от учёных-самозванцев, колдунов и шарлатанов, претендовавших на обладание тайнодейственными силами. Аналогичным образом вёл себя и Иванов - хотя бы по отношению к А.Р. Минцловой6. Отдельный интерес представляет решение вопросов о том, как отразились жизнь и труды Агриппы Неттесгейм-ского в «Докторе Живаго», почему Иванов ассоциировался у Пастернака с этим философом-мистиком и какие связи существуют у «Доктора Живаго» с романом В.Я. Брюсова «Огненный ангел» (1907). В том же 1914 году, к которому относятся контакты Пастернака с Ивановым, мэтр символизма вёл беседы с другим членом новообразованной
5 «Потомок Сатаны» (англ.).
6 Контакты с нею Иванова проанализированы в книгах: [Богомолов 1999; Обатнин 2000].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
385
«Центрифуги» - Н. Асеевым. Тот вспоминал в 1920-м: «Вяч. Иванов усиленно рекомендовал мне чтение Сведенборга, Якоба Бёме и прочих мистиков, к которым я не питал большой склонности, но из уважения к нему я внимательно просматривал бесконечные страницы “Авроры” или старательно изучал устав о браках ангельских чинов. Прекраснодушный Вячеслав приходил от этого в восторг и надеялся сделать из меня правоверного мистика» [Асеев 1996: 158].
Не исключено, что разговоры с футуристом Пастернаком, имевшим несравнимо более высокую философскую подготовку и мистическую чувствительность, чем Асеев, касались не только «Авроры», намёки на которую в «Докторе Живаго» можно усмотреть в именовании Агриппины Тунцевой «белым херувимом» и в имени младшей из сестёр, но и трудов Агриппы Неттесгеймского. Браки Микулицына, являющиеся отражением браков Иванова, предстают, таким образом, в свете творений обоих мистиков.
По-видимому, Пастернаку было также известно стихотворение гр. В. А. Комаровского «Лицо печальное твоё осеребрило» (1912), написанное, как указал автор, «на копен-гагенскш бюсть Агриппины Старшей». Комментаторы сообщают: «Агриппина Старшая, Юлия (14 г. до н. э. - 33 г. н. э.) - внучка императора Августа, мать Калигулы, умерщвлена Тиберием <...>. Предполагаемый бюст Агриппины Старшей (I в. н.э.) хранится в Карлсбергской глиптотеке (Ny Carsberg Glyptothek) в Копенгагене» [Комаровский 2000: 86, 477-478]. Таким образом, соотнесение Агриппины Севериновны, старшей из сестёр Тунцевых, с Агриппиной Старшей даёт основание видеть в её сыне Ливерии нового Калигулу, но мелкого настолько, насколько велик был Калигула настоящий. «Прочтение» некоторых персонажей «Доктора Живаго», особенно Ливерия, Антипова-Стрельникова, стариков Антипова и Тиверзина «сквозь» «Жизнь двенадцати цезарей» Светония могло бы составить отдельную работу.
Хотя упомянутое стихотворение В.А. Комаровского было опубликовано посмертно («Аполлон», 1916, № 8), не исключено, что Пастернак знал его ещё в 1913 г., что свидетельствует о его пристальном интересе к творчеству поэта. Отзвуки этого текста присутствуют в стихотворении «Все наденут сегодня пальто» (1913), вошедшем в книгу «Близнец в тучах» и переработанном в 1928 г. Обращённость к «северянке» в этом стихотворении соотносится с отсутствием старшей из четырёх дочерей Северина7 в «Докторе Живаго». В каждом из случаев интертекстуально актуализируются различные аспекты текста Комаровского.
Прототипами (не единственными) четырёх сестер Тунцевых были пять сестёр Синяковых. Л.Ю. Брик писала: «Жили они раньше в Харькове. Отец у них был черносотенец, а мать человек передовой и безбожница. Дочери бродили по лесу в хитонах, с распущенными волосами и своей независимостью и эксцентричностью смущали всю округу. В их доме родился футуризм. Во всех них поочерёдно был влюблён Хлебников, в
7 Подробнее о значении этого имени, принадлежащего герою самого знаменитого романа Л. фон За-хер-Мазоха «Венера в мехах» австрийцу Северину, и значениях «северянки» см.: [Буров 2009а].
386
Глава 5
Надю - Пастернак, в Марию - Бурлюк, на Оксане женился Асеев» (цит по: [Пастернак Е. 1997: 191-192]).
Возможно, облик и поведение сестёр, в частности Надежды, виделись Пастернаку противоположными облику и поведению Зиновьевой-Аннибал, которую он при её жизни, вероятно, не видел. И потому черты сестёр Синяковых (или одной Надежды) были использованы, в частности, в образе Микулицыной. Встреча в июле 1914 г. с парой Иванов - В.К. Шварсалон, возможно, могла натолкнуть Пастернака на сравнение с ними себя и Надежды Синяковой, с которой он познакомился незадолго до этого, но роман с которой закончился неудачно.
Четыре сестры Тунцевы - Агриппина, Евдокия, Глафира и Серафима Северинов-ны - являются также персонификациями четырёх аристотелевских элементов-принципов, о которых писал как Агриппа Неттесгеймский и другие алхимики, так и масоны. Этим элементам - огню, земле, воде и воздуху - соответствуют умершая Агриппина, библиотекарша Евдокия (отсюда «дряблая, обвислая кожа, землистая с празеленью, цвета солёного огурца и серой плесени» [IV: 288] служащих библиотеки и «землистость» других деталей), мастерица на все руки Глафира (частая смена ею профессий - как текучесть и способность воды принимать любую форму) и впавшая «в религиозное помешательство» [IV: 263] Серафима (её высокая духовность как профанный признак «воздушности»).
Прототипом Микулицыной, с которой Юрий Живаго встречается лишь в Барыкине на Урале, в определённой мере могла послужить и Фанни Николаевна Збарская. С января 1916 года до марта 1917 Пастернак работал во Всеволодо-Вильве на Урале и жил в одном доме с Б.И. Збарским, его женой и сыном (см.: [Пастернак Е. 1997: 228-234,240-242, 246-247, 255]). Если в случае с Н. Синяковой инициатива отношений исходила от Пастернака, то в случае с Ф.Н. Збарской - от неё, о чём свидетельствуют письма Пастернака родителям и сёстрам от 26 ноября и 9 декабря 1916 г. из Тихих Гор [ПРС 2004: 180-185].
Для Иванова Вера была мистической «представительницей» умершей жены, и убеждение это разделяла и сама Вера. (Ср. эту роль умершей жены как духовной руководительницы со словами Вакха о первой жене Микулицына.) Как указал Н.В. Котрелев, «в Иванове всю жизнь жила убеждённость, что он сохраняет общение с женой не только в памяти, но и в видениях, снах, сеансах т.н. автоматического письма <...>; Иванов настаивал на том, что именно она указала ему на свою дочь от первого брака <.. .> как на преемницу (брак Иванова с падчерицей совершился в 1910)» [РП 1992-2007, II: 374].
М.В. Сабашникова-Волошина, вспоминая встречу с Ивановым, писала: «Приехала Вера, старшая дочь Лидии, вызванная телеграммой из деревни, где она гостила у друзей. “Я чувствую Лидию через Веру”, - сказал мне Вячеслав. <...> Отношение Вячеслава ко мне не изменилось. Так он сказал, когда мы вдвоём стояли у портрета Лидии. На дощечке, которая как раз там лежала, он мелом нарисовал дерево. Одна его половина сухая, другая покрыта цветами “Это - моя душа”. В этот момент Вера прошла мимо
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
387
двери, он её позвал и спросил: “Вера, я люблю Маргариту, что мне делать?” Она ответила: “Быть верным Лидии”. <...> Вскоре Вячеслав женился на своей падчерице Вере» (цит. по: [Богомолов 1999: 314]).
Таким образом, можно сделать вывод о принадлежности Микулицыной, выполняющей в сказочном слое «Доктора Живаго» роль Яги, к «царству мёртвых» и, так сказать, со стороны живого прототипа. Ещё один любопытный штрих, проявляющий разницу «влияния» на Юрия Живаго «Яги»-Микулицыной и «Яги»-Кубарихи, представляет собой борьба за влияние на Иванова молоденькой Веры с пожилой А.Р. Минцловой. Падчерица Иванова «с начала 1909 года становится очевидной противницей Минцловой в её попытках вмешательства в судьбу её отчима. Из дневника Шварсалон 1909 года, посвящённого <...> приезду Волошиной в Петербург и перипетиям, связанным с этим, видно, как стойко и непримиримо Шварсалон противостояла любым притязаниям Минцловой (а также, конечно, и Волошиной) на власть над духовным развитием Иванова. Не обладая способностью убеждать его интеллектуально, она противопоставила исканиям, если так можно выразиться, “оккультно-практического” плана свою твёрдую и неколебимую духовную убеждённость в губительности их для самого дорогого после смерти матери для неё человека» [Богомолов 1999: 220].
Характеристика Микулицына, которую даёт ему в разговоре с Юрием Живаго Сам-девятов, представляет собой пародию сразу на нескольких поэтов-символистов начала XX века, при этом чертами последних наделены и Микулицын, и Самдевятов: «У “самого” другие слабости: трубка и семинарская славянщина: “ничтоже сумняшеся, еже и понеже”. Его поприщем должно было быть море. В институте он шёл по кораблестроительной части. Это осталось во внешности, в привычках. Бреется, по целым дням не вынимает трубки изо рта, цедит слова любезно, неторопливо. Выступающая нижняя челюсть курильщика, холодные серые глаза. Да, чуть не забыл: эсер, выбран от края в Учредительное собрание. <...> Аверкий Степанович был человек с правильными чертами лица, откидывавший назад волосы, широко ступавший на всю ногу и летом тесь-мяным снурком с кисточкой подпоясывавший косоворотку. В древности такие люди ходили в ушкуйниках, в новое время они сложили тип вечного студента, учительствующего мечтателя» [IV: 262-263, 271].
Самдевятов, одним из прототипов которого мог быть М. А. Волошин (каждый из них -genius loci), рассказывает, что Микулицын был выслан на Урал под надзор полиции из Петербурга 25 лет назад. Поскольку семья Живаго приезжает в Варыкино в 1918 году, то время высылки Микулицына приходится на 1893-й, то есть ему было 33 года (возраст Христа). Ср. с высылкой из Москвы до особого распоряжения Волошина, которой 23-летний поэт был подвергнут за участие в студенческом движении. Вместо неё Волошин уехал в «добровольную ссылку» в среднеазиатскую пустыню, устроившись осенью 1900 года «в партию по изысканию трассы Оренбург-Ташкентской железной дороги» [Лавров 1995а: 11]. Таким образом, Волошин послужил прототипом и Самдевятова, и Микулицына.
388
Глава 5
Внешность и манеры Самдевятова и Микулицына напоминают не только внешность и манеры Волошина, но и К.Д. Бальмонта. Оба поэта в глазах Пастернака могли выглядеть яркими профанаторами русской древности. Подтверждением такого восприятия, в частности, К.Д. Бальмонта могут служить следы чтения Пастернаком его книги «Жар-птица. Свирель славянина» (1907), а также учёт оценок, которые дал стихотворениям, вошедшим в неё, в статье «О лирике» (1907) А.А. Блок. В проекции Самдевятова на былинного Вольгу и на Бальмонта сказывается внимание к этой былинной фигуре, которое проявлял Бальмонт (отмечено Блоком). А конная поездка Юрия Живаго после расставания с Ларой по лесу, заканчивающаяся встречей с партизанами, представляет собой прозаическую переработку стихотворения Бальмонта «Целебная криница» о езде по лесу Ильи Муромца, которое Блок привёл в своей статье целиком [Блок, V: 139]. Сравнение бывшего управляющего с древним речным разбойником ушкуйником актуализирует контрастирующие с этой «профессией» его занятия «в институте по кораблестроительной части», а также разбой его сына Ливерия, командующего «лесными братьями».
Ещё одним прототипом Микулицына мог быть и директор заводов в Тихих Горах Лев Яковлевич Карпов (см. о нем: [Пастернак Е. 1997: 250-251]). Характеристика, которую дал ему в письме к родителям и сёстрам от 25 октября 1916 г. из Тихих Гор Пастернак, даже стилистически близка той, которую даёт Микулицыну Самдевятов. Пастернак сообщал: «Сам Л.Я. Карпов - страшно не подходит фамилия - английский, сероглазый Джек с проседью, широкие плечи, высокий, окутанный дымом, приятно-глухим грассированием, - два-три взмаха футбольных штиблет: столовая - кабинет, два тех же взмаха; кабинет - столовая и на ходу какая-нибудь мальчишески недоконченная мысль, размашисто и косолапо созданная за столом, донесённая до кабинета и донесённая потом обратно: словом, плавает в меняющихся, как облака, несовершенствах молодого, британского типа настолько же, насколько Пепа пускает сквозь зубы струю напряжённых совершенств. Корабельный юнга, недостаёт трубки, - voila: где у Пепы - подзорная труба или корнет-а-пистон, у Карпова - чубук с выпяченной губой. Если я ещё прибавлю: пьёт, не летает и не даёт молока, это будет окончательно похоже на армянскую загадку» [ПРС 2004: 173].
«Приятно-глухое грассирование» Карпова Пастернак «передал» Громеко и преобразовал в «обожаемую» доктором «старомосковскую речь нараспев, с мягким, похожим на мурлыканье громековским подкартавливаньем» [IV: 179]. Таким образом, черты каждого из двух прототипов (Иванова и Карпова) распределялись Пастернаком на двух вступающих в контакт героев (Громеко и Микулицына). Отметим также, что в описаниях Самдевятова и его деятельности узнаются черты Б.И. Збарского. 21-24 января 1916 г. Пастернак, прибывший на Урал, писал из Всеволодо-Вильвы, обращаясь к матери: «Збар-ский (ему только 30 лет, настоящий, ультранастоящий еврей и не думающий никогда перестать быть им) за познанья свои и особенные способности поставлен здесь над 30-численным штатом служащих, под его ведением целый уезд, вёрст в шестьдесят в окружности, два завода, хозяйство и административная часть, громадная почта, масса
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
389
телеграмм, поездки к губернатору, председателям управ и т. д. и т. д. Провинциальная местная “интеллигенция” держится в должном страхе и почёте. <...> Збарский здесь хозяин, и, если надо будет, он может что угодно сделать, хотя лучше бы я этого не писал» [ПРС 2004: 112].
Легко заметить разницу в отношении 26-летнего Пастернака к Карпову и Збарскому и 63-летнего (когда писалась часть восьмая «Приезд») - к персонажам (Микулицыну и Самдевятову), прототипами которых послужили Карпов и Збарский. В 1953 г. Пастернак видит всё другими глазами, переоценивает прошлое и людей, окружавших его тогда, с учётом разразившейся в стране катастрофы, которой в 1916 году ни он, ни в данном случае Карпов и Збарский, видимо, не придавали должного значения.
Однако поэтами перечень прототипов Микулицына не исчерпывается. «Говорящая» фамилия последнего указывает на его «сыновность» по отношению к былинному Ми-куле Селяниновичу8. И этому не противоречит замечание И.П. Смирнова о том, что это имя явно изобретено Пастернаком [Смирнов 1996: 101]. Однако изобретение это было отнюдь не случайным: «His patron saint, Avercius, is said to have cast out a stubborn demon from the daughter of Marcus Aurelius. Stepanovich recalls St. Stephen and, of course, martyrdom»9 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 124-125]. Имя Микулицына - Аверкий - отсылает также, с одной стороны, к Аверкиевой пустыни, с другой - к драматургу, прозаику, театральному критику и публицисту Дмитрию Васильевичу Аверкиеву (1836-1905), на которого герой Пастернака похож, если сравнить описание с фотографией, даже внешне. Характеристики Микулицына во многом состоят из перечисления обстоятельств жизни Аверкиева и особенностей его творчества. Среди важнейших - то, что Аверкиев окончил в 1854 г. Коммерческое училище с золотой медалью (ср. со службой Микулицына управляющим у Крюгера), а в 1859-м - отделение естественных наук физико-математического факультета Петербургского университета (ср. с образованием Микулицына, а также Антипова-Стрельникова). Уже с начала 1860-х он «не разделял радикальных настроений молодёжи», но с 1865 г. «находился «под бдительным негласным надзором» полиции» (Микулицын «был выслан <.. .> под надзор полиции», «эсер, выбран от края в Учредительное собрание»).
Познакомившись в 1861 г. с Ф.М. Достоевским, «в 1864 стал деятельным сотрудником журнала “Эпоха”. Здесь опубликована большая статья Аверкиева о У. Шекспире. <...> В 1885-86 по примеру Достоевского издавал журнал “Дневник писателя”; автором всех материалов был сам Аверкиев. Наряду с публицистикой консервативного направления значительное место в журнале занимала театральная критика, материалы мемуарного характера <...>. Среди переводов Аверкиева - “Разговоры Гёте, собранные Эккерманом” (СПб., 1891, 1905), “Гамлет” У. Шекспира (М., 1895) и др. В 1892-95 в
8 Это впервые было отмечено в: [Rowland M.F., Rowland Р. 1967: 124]. О проекции Самдевятова и Микулицына на Вольту и Микулу см.: [Буров 2007в: 133-139].
9 «Его святой патрон, Аверкий, как считается, избавил от упрямого демона дочь Марка Аврелия. Степанович напоминает св. Стефана и, конечно, мученичество» (англ.).
390
Глава 5
чине титулярного советника служил в Министерстве народного просвещения в качестве члена отдела по рассмотрению книг для народного чтения и члена учёного комитета. <.. .> Репутация реакционера, заслуженная Аверкиевым-публицистом, распространилась на всю его литературную деятельность <...>. В своих пьесах Аверкиев немало экспериментировал с языком, включая не только архаизмы, но и фольклорную и диалектную лексику. В жанровом отношении они тяготеют к комедии или к мелодраме; в большей части пьес прозаический текст перемежается стихотворным» [РП 1992-2007,1: 17-19].
Вышеприведённые сведения дают основание предположить, что внимание Пастернака к фигуре Аверкиева могло быть привлечено также в связи с контактами последнего с Достоевским, а также с Аполлоном Григорьевым, оказавшим влияние на его театральную критику. Интерес могла вызывать общественная позиция Аверкиева, а также переводческая деятельность, тем более что Пастернак тоже переводил «Гамлета» и, разумеется, знал переводы предшественников.
Если читать имя Аверкия Степановича Микулицына в обратном направлении, то получится Микула Степанович Аверкиев. Эти вывернутые имя и отчество являются архаизированным и украинизированным вариантом имени и отчества Николая Степановича Гумилёва. Отец последнего был морским врачом (ср. с учёбой Микулицына) [там же, II: 53]. Украинизация имени Гумилёва может быть связана, в частности, с тем, что тот венчался с А.А. Ахматовой в Киеве. Кстати, отец Ахматовой А.А. Горенко также имел отношение к морю. Он был «инженер-механик на флоте (к моменту рождения Ахматовой - капитан 2-го ранга в отставке), преподавал механику в юнкерских классах в Николаеве <.. .> и в Морском училище в Петербурге. В 1890-1910 служил в Государственном контроле, Главном управлении торгового мореплавания и портов, петроградском общественном управлении». А мать, «по словам Ахматовой, в молодости была связана с народовольцами» [там же, I: 125] (ср. с «рабочелюбием» Микулицына). Не настаивая на сходстве Микулицина с родителями Гумилёва и Ахматовой, отметим, что биографии этих родителей были достаточно показательными для поколения «отцов», как и биография Аверкиева. Если Микулицын наделён лишь зашифрованным именем Гумилёва и более или менее «прочитываемыми» деталями биографии его отца и отца Ахматовой, то шаржированные биографические черты Гумилёва можно узнать в описаниях сына Микулицына - Ливерия, особенно тех биографических характеристиках, которые даёт Самдевятов. Пародию на поведение Гумилёва представляет и манера общения Ливерия с доктором в партизанском отряде, а также его поведение на собрании в Крестовоздвиженске. Едва просматриваемая украинизированность этого персонажа также соответствует слабым, но всё же имеющимся связям с Украиной Гумилёва и отмечает отнесённость Ливерия к сказочному «царству мёртвых». Составление всей картины инверсирования образа Гумилёва в фигурах Микулицына и его сына могло бы составить предмет отдельной работы. Отметим, что фигуры отца и сына в романе актуализируют проблему «отцов и детей», варианты решения/нерешения которой неоднократно приводятся Пастернаком на примерах разных пар персонажей.
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
391
Отчество Микулицына свидетельствует о нём так же, как о «сыне» Степана Трофимовича Верховенского из «Бесов». М.С. Альтман, указав, что одним из прототипов героя Достоевского был Степан Дмитриевич Яновский, отметил, что «Достоевский часто даёт своим героям имена их прототипов» [Альтман 1975: 90-91]. Пастернак, таким образом, подхватил метод именования героев, использованный Достоевским. Тема «бесовщины», связанная с персонажами, спроецированными на соответствующих героев Достоевского, возникает в «Докторе Живаго» по крайней мере трижды. Впервые - при встрече доктора с Клинцовым-Погоревших, когда «опять запахло Петенькой Верховенским, не в смысле левизны, а в смысле испорченности и пустозвонства» [IV: 162]. Клинцов-Погоревших, который с дядей «на ножах», - двойник сына Микулицына Ливерия и духовный сын самого Микулицына, у которого Громеко просит «клинушек никому не нужной, даром пропадающей земли под огород» [IV: 270-271]. Так отмечается связь Микулицына с Клинцовым-Погоревших. Встреча Юрия Живаго и его семьи с Микули-цыным-старшим, а затем жизнь доктора в плену у Ливерия - вторая ситуация. Третья -когда Юрий Живаго и Марина носят дрова безымянному «квартирохозяину», по всей видимости, тому же Клинцову-Погоревших. С «Бесами» (главой «Флибустьеры») связано и несостоявшееся морское поприще «прирождённого и постоянного рабочелюб-ца» Микулицына. Если у Достоевского сходящий с ума губернатор Лембке подозревает во флибустьерстве всех окружающих, то Микулицын видит «флибустьеров» в прибывшей семье Громеко-Живаго10.
Елена Прокловна зовёт мужа Сиверкой, производя это именование от отчества его первой жены и её сестёр. О значении данной клички, произведённой как от славянского племени сиверцев, так и от имени Северина - героя романа Л. фон Захер-Мазоха «Венера в мехах», а также связи Микулицына и сестёр Тунцевых с героями Захер-Мазоха см.: [Буров 2009а]. Наконец, имя Микулицына - Аверкий, а также его родственная связь с четырьмя сёстрами Тунцевыми могут намекать на семейство народовольцев Аверкиевых, осевших в Саратове в начале 1890-х годов. В семье было четыре сестры - Анна, Вера, Надежда, Нина Александровны - и младший брат Борис Александрович. Их мать была подругой Е.К. Брешко-Брешковской. Все они были социалистами-революционерами. Судьбы их неизвестны и обрываются в годы гражданской войны. По-видимому, все они, кроме Нины, которая была отправлена в ссылку и, вероятно, там погибла, были расстреляны ВЧК. Это может «объяснять» недосказанные в романе судьбы сестёр Тунцевых11.
Микулицыну в 1918 г. (после войны) примерно столько же лет (48), сколько было в 1914 г. (до войны) Иванову, родившемуся в 1866 г. Микулицын, как и Иванов, часто использует в речи старославянизмы, причём выдающаяся учёность Иванова пародируется указанием на «семинаризм» Микулицына. Но политические взгляды последнего могут намекать на взгляды Ю.К. Балтрушайтиса, который, как сообщал Пастернак роди
10 О двух различных интерпретациях столкновения Лембке с приставом Флибустьеровым см.: [Альтман 1975: 82-84; Смирнов 1994: 121-123].
11 Подробнее о биографиях Аверкиевых см.: Российские социалисты и анархисты.
392
Глава 5
телям, «заводит со мною разговоры самого красного характера» [Пастернак Е. 1997:197]. Что касается зависимости Микулицына от мнений жены, то судить о способности В.К. Шварсалон убеждать Иванова и о влиянии на него можно по опубликованным страницам её дневника, в частности, по изложенному там разговору об А.Р. Минцловой, состоявшемуся 29 июня 1909 г. (см.: [Богомолов 1999: 321-322]). Не слишком любезная встреча Микулицыным приезжих представляет собой контраст «“старомодной” изысканной вежливости», мягкости и дружелюбию, которые «отмечали в облике Иванова все мемуаристы» [РП 1992-2007, II: 372], например, Н. Асеев [1996: 156-159]. Именно такую вежливость проявляет разговаривающий с Микулицыным Громеко. Юрий Живаго в романе ни разу не беседует с Микулицыным, как и тот с ним, даже при первой встрече. Можно предположить, что в этом мог заключаться «ответ» Пастернака на то, какой итог положил Иванов отношениям с ним: «Мне сделал трогательную надпись на подаренной книге Вячеслав Иванов. Бобров в кругу Брюсова высмеял надпись в таком духе, точно я сам дал толчок зубоскальству. Вячеслав Иванов перестал со мною кланяться» [III: 329].
Вместе супругов Ивановых Пастернак близко наблюдал предвоенным летом 1914 года, когда был домашним учителем сына Ю.К. Балтрушайтиса, снимавшего «дачу в Петровском, имении Бера. Прошлым летом их соседом был Скрябин, с которым они дружили. Теперь одну из соседних дач занимал Вячеслав Иванов» [Пастернак Е. 1997: 196]. Вечернее чаепитие (натуральный чай «с цветком» [IV: 275]), которое Микулицы-ны устроили для приехавшей семьи Живаго, является, по всей видимости, профанируемой «футуристической» инверсией «символистического» вечернего «литературного чая», который был устроен у Балтрушайтисов в день приезда Иванова. «Десятого июля приехал наконец Вячеслав Иванов, - писал Пастернак Штиху 14-го, - и в первый же вечер у Балтрушайтисов был литературный чай, читал свой новый цикл Ю.К., много хорошего, но снова раздумья и зацветания мигов. Хотя есть несколько строф» [Пастернак Е. 1997: 201].
Л.С. Флейшман отмечает близость стихотворения К.А. Большакова «Пил безнадёжный чай. В окне струился» (1913) из сборника «Солнце на излёте» (1916) к «Мухам Мучкапской чайной» из «Сестры моей - жизни» и указывает на анализ символики «чая» в футуризме в работе: Якобсон P.O. Комментарий к поздней лирике Маяковского // Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956. С. 201 [Флейшман 2003а: 435,450]. Ср. стихотворение Большакова и сцену чаепития у Микулицыных, а также предшествующий ей приезд семьи Живаго в Варыкино на закате. «Футуристичность» чаепития усиливается рассказом Микулицыной, передаваемым Тоней, о Ливерии, который в детстве «смастерил» стереоскоп и снимал «виды Урала, двойные, стереоскопические <...> самодельным объективом»12 [IV: 274]. Но ещё до приезда Иванова на даче жила его жена
12 Об апологии фотографии в футуризме и ЛЕФе и полемических выпадах Пастернака в «Охранной грамоте» см.: [Флейшман 2003а: 266-267].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
393
В.К. Шварсалон, и Пастернак, вероятно, имел случаи общаться с ней. Также до приезда Иванова «в гости приезжали знакомые и родственники. Несколько дней пробыла мать Марии Ивановны Балтрушайтис. “С нею - племянница, кузина Марии Ивановны, по внешности нечто среднее между Ольгой Курловой-Гилар и Катюшей Масловой, - писал Пастернак родителям. - Падка очень на катанье, а через это и на что-то другое. Льнёт без обиняков, приходится каждый вечер ей по её аппетиту холодное готовить. Два вечера кряду до самой полночи по Оке на лодке катались вдвоём. Господи, не люблю у юношей мины наивности и неиспорченности, но раз навсегда заведённое правило увлечений при таких-то и таких-то обстоятельствах ещё наивнее и пошлее. С какою безвкусицей всё по нотам разыгрывается!”» [Пастернак Е. 1997: 200].
Ср. эту «падкость» кузины Марии Ивановны с аттестацией Амалии Карловны Ги-шар, фамилия которой почти совпадает со второй частью фамилии О. Курловой-Гилар: она «была полная блондинка лет тридцати пяти, у которой сердечные припадки сменялись припадками глупости. Она была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности всё время попадала к ним из объятия в объятие» [IV: 24]. О. Курлова-Гилар была, по-видимому, родственницей Жоржа Курлова, ставшего, как уже указывалось, прототипом Коки Корнакова.
В мае-июне 1914 г. Пастернак переводил комедию Генриха Клейста «Разбитый кувшин» - первое из нескольких переведённых им драматических произведений Клейста. Этот перевод вообще «был первой работой Пастернака в той литературной области, которой впоследствии суждено было стать главным источником его заработка. Стихотворный текст в 3000 строк <...> он преодолел за четыре недели. <...> К 15 июня 1914 года перевод был отослан в театр режиссеру Зонову» [Пастернак Е. 1997: 197, 198]. В перечень немногих книг, которые читает в Барыкине зимой семья Живаго, включены «коротенькие рассказы Клейста» в русском переводе [IV: 279], которые своим объёмом могли быть неявно противопоставлены Пастернаком большой комедии, переведённой им в молодости. В статье «Генрих Клейст» (1941) Пастернак отметил: «Выше всяких похвал переводы рассказов Клейста Г. Рачинского и Г. Петникова» [V: 42]. О переводе Пастернака Иванов мог знать, но вряд ли читал его; так же и Микулицын мог знать о дневнике Юрия Живаго и книгах, которые читает семья приезжих, но не читал дневника и этих книг. С первой третью перевода Пастернак познакомил Балтрушайтиса и, «сделав к 1 июня две трети работы, <.. .> писал Штиху: “Юрий Казимирович меня и не спрашивает о переводе. Вероятно, без его редакции обойдётся, хотя я бы желал её. По своим убеждениям художественным он, оказывается, разительно близок мне. Представляет меня как “приятеля и сотрудника”. Есть у нас секреты с ним, реальные основания коих совершенно мне непостижимы. Вообще здесь знают что-то такое обо мне, чего я сам о себе не знаю, да и не признаю, вероятно. Это чувствуется и в некоторых предположениях Веры Константиновны Ивановой - молоденькой жены Иванова”» [Пастернак Е. 1997: 197-198].
Смысл этих «знания» и «предположений» может объясняться как догадками о большом литературном будущем Пастернака, о каком-нибудь, так скажем, мистическом про
394
Глава 5
граммировании судьбы (но почему бы тогда нельзя было высказать ему всё это прямо?), так и возможным фантазированием 24-летней В.К. Шварсалон по поводу якобы существовавшего увлечения ровесника уехавшей кузиной Марии Ивановны Балтрушайтис. (О возможности и особенностях такого фантазирования можно судить по характеристике Микулициной, которую даёт Самдевятов, и по оправдывающему эту характеристику поведению.) Между тем не Пастернак, а именно приезжавшая кузина оказывала ему знаки внимания, оставшиеся безответными. Быть может, подобный интерес к Пастернаку проявляла и сама В.К. Шварсалон и делала это независимо от позже приехавшего Иванова. В «Докторе Живаго» Пастернак воспроизвёл эту особенность поведения хозяйки в неестественно обострённом интересе Микулицыной к приезжим и особенно к Юрию Андреевичу, хотя тот, кому она задаёт вопросы, не назван. Эта безличность может указывать как на безличные «предположения» В.К. Шварсалон, прозрачно намекавшие на поведение Пастернака, так и на старания поэта устранить явность этих намёков и личностную адресацию и тем самым опровергнуть необоснованные подозрения. Последние могли подразумевать как последствия якобы произошедшего увлечения Пастернака приезжей кузиной, так и вымышленные причины его отказа от связи с нею, представлявшие Пастернака в специфическом свете. Именно догадками о связи женатого Юрия Живаго с другой женщиной (Ларой) объясняется поведение Микулицыной, которая в сказочном пласте романа играет роль Яги (ведуньи). Л.Л. Горелик указывает на черты, которые, по ее мнению, сближают Микулицыну со сказочным Иваном-дураком [Горелик 2009: 204-205]. На наш взгляд, Елена Прокловна в большей степени наделена всё же функциями Яги, встречающей и выспрашивающей героя13.
О Ларе Микулицына знает и, возможно, знакома с нею, поскольку Антипов был преподавателем в гимназии, где она училась. Последствия «неблагодарности» Пастернака в отношении кузины, а возможно, и в отношении В.К. Шварсалон можно усмотреть в разрыве с ним Иванова, на которого Вера имела изрядное влияние. Всего один раз разговаривают (по пути на Урал) Юрий Живаго и его тесть Громеко, причём понимают друг друга с полуслова - ср. с наиболее тесным (из всех случаев контактов) общением Пастернака с Ивановым летом 1914 года. Позже, вернувшись в Москву, доктор сообщает друзьям, что «Александр Александрович, естественно, оскорблён в своих отеческих чувствах, ему больно за Тоню. Этим объясняется почти пятилетний перерыв в нашей переписке» [IV: 481]. Так оскорблённость Иванова по поводу «неблагодарного» отношения Пастернака к его знаку расположения (надписи на книге), описанная Пастернаком в качестве основной причины разрыва отношений, получает благодаря интертексту совершенно другое объяснение. Иванов, возможно, был оскорблён ещё и отношением молодого поэта к В.К. Шварсалон, которая могла интерпретировать отстранение Пастернака от более личных отношений с нею прямо противоположным действительности образом, выступив прямо-таки Федрой. Отношение же Пастернака к
13 Подробно об этом: [Буров 2007в].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
395
В.К. Шварсалон могло осложниться переносом на неё того раздражения, которое было у него на пристававшую кузину Марии Ивановны Балтрушайтис.
Один из вопросов Микулицыной - «в котором году умер Грибоедов?» - перекликается с тем, что «на экзамене по новой русской литературе студенту философского факультета Московского университета Пастернаку достался билет с вопросом о творчестве Грибоедова» ([Смирнов 1996: 101]; см. также [Пастернак Е. 1997: 162]). Однако Пастернак сдавал государственный экзамен 8 мая 1913 г., т. е. годом раньше, чем встречался на даче с Ивановыми. Тем не менее, в то лето он также жил на даче: сдав экзамены и «получив 7 июня выпускное свидетельство», Пастернак, «не дожидаясь общего переезда» семьи, «9 июня поселился в запущенном имении Бородина Молоди» [Пастернак Е. 1997:163,167]. Вопрос, который задаёт доктору Микулицына, Пастернак мог слышать от В.К. Шварсалон, отреагировавшей таким образом на его рассказ о недавней сдаче экзаменов.
Манера Микулицыной задавать вопросы, которую предварительно описал доктору Самдевятов, выдаёт ещё одного прототипа героини. Это ровесник Пастернака (как и В.К. Шварсалон) литературный критик и историк литературы князь Д.П. Святополк-Мир-ский (1890-1939), который, как свидетельствовал С.К. Маковский, «поражал феноменальной памятью на мелочи: названия городов, стран, биографии знаменитых людей, исторические даты, но не блистал ни умом, ни воспитанностью. Упорно молчит, молчит, бывало, и вдруг ни с того ни с сего выпалит: “А когда родился Иван Калита?”, “Как называется столица Сандвичевых островов?” Свои монархические убеждения он кичливо выставлял напоказ» [Маковский 2000: 459].
Древнее происхождение князя Пастернак обыграл, снабдив «слабостью» «семинарской славянщины» супруга Елены Прокловны, который также выставлял напоказ свои (противоположные) политические убеждения. В Микулицыне можно узнать и такие личные качества кн. Святополка-Мирского, как эмоциональность, вспыльчивость и быстрое остывание, которые указала, судя по его письмам, А.А. Саакянц [1997: 491]. Расположение Пастернака к кн. Святополку-Мирскому в середине 1920-х, о котором свидетельствуют письма поэта к М.И. Цветаевой, в частности письмо от 23 мая 1926 г., а также переписка с самим кн. Святополком-Мирским, в период создания «Доктора Живаго» сменилось скрытым раздражением, похожим на то, с которым Юрий Живаго мог воспринимать Микулицына и с которым Пастернак обыграл некоторые персональные свойства Цветаевой и её произведения в нескольких персонажах романа. Перемену отношения к кн. Святополку-Мирскому можно объяснить, в частности, тем, что князь, будучи в эмиграции, переменил свои убеждения на противоположные, а вернувшись в СССР, стал, как указывают Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак, «теоретиком и апологетом социалистического реализма» [ПРС 2004: 635] и вёл себя по отношению к Пастернаку прямо противоположным образом, нежели в эмиграции. В письме от 12 апреля 1935 г. к родителям и сёстрам Пастернак характеризовал кн. Святополка-Мирского следующим образом: «Он третий год здесь и теперь меня с тем же жаром отрицает, как когда-то признавал. Делает он это по праву и из чистейших оснований. Он член английской компар
396
Глава 5
тии, и я по справедливости должен ему казаться не оправдавшим надежд и неинтересным пошляком. Это совершенный Нехлюдов, всей своей сложною и нравственно напряжённой биографией выскочивший из творений Толстого» [ПРС 2004: 635].
С.К. Маковский вспоминал, что, «отвоевав где-то на юге, Святополк-Мирский попал за границу и, надев штатское платье, постепенно перекинулся к большевикам. Причем вполне искренне. В этом я не сомневаюсь. Потому что не мог, уверовав в Сталина, не вернуться в Россию. И, разумеется, жестоко пострадал на вновь обретённой родине. Сначала ему разрешили писать, он подписывался “Д. Мирский”, потом советчики услали его в Сибирь, где “бывший князь”, по дошедшим в Париж слухам, поддерживал своё существование сторожем у какого-то железнодорожного шлагбаума» [Маковский 2000: 459—460].
Маковский ошибся: кн. Святополк-Мирский, вернувшийся в СССР в 1932 г., через семь лет (по другой версии, через пять) погиб в лагере. Тем не менее, рассказ мемуариста можно сравнить с судьбой Василия Афанасьевича, в семью которого, жившую на дальневосточном разъезде Нагорная, попадает дочь Юрия Живаго и Лары Таня Безоче-редева. Для Пастернака могло также иметь значение то, что Святополк-Мирский, по свидетельству А.А. Ахматовой, которое могло быть известно Борису Леонидовичу, был «душеприказчиком Комаровского» (см.: [Комаровский 2000: 217]), и изменившееся отношение к последнему (см. об этом ниже) могло способствовать изменению отношения (по другим причинам) к Святополку-Мирскому.
Вероятно, пребывания на разных дачах в 1913и 1914 гг. и во Всеволодо-Вильве на Урале в 1916-1917-м Пастернак в 1950-е гг. мог объединить в художественном тексте, и вопрос о Грибоедове на экзамене в 1913 г. мог на большом временном удалении ассоциироваться с вниманием лично к Пастернаку В.К. Шварсалон в 1914-м и Ф.Н. Збарской в 1916-1917 гг. В «Докторе Живаго» сильно отличающиеся по возрасту супруги Микулицы-ны показаны вместе. Как единый «дом» воспринимал Пастернак, по-видимому, не желавший принимать личностную линию поведения по отношению к В.К. Шварсалон, и семью Ивановых. «20 июля Пастернак рассказывал в письме родителям: “Часто захожу к Ивановым <...>”. В заключительной приписке: “...Сейчас чуть ли не ежедневно бываю у Ржевских и Ивановых. Вяч. Ив. остроумный, глубокомысленный собеседник и в прошлом, в молодых своих вещах серьёзный поэт чистой воды. В нём есть что-то напоминающее Гёте, конечно, только в манере держать себя”» [Пастернак Е. 1997: 201,202].
Необходимо учесть общий интерес Пастернака и Иванова к философии, которая в лице тех или иных её представителей могла быть предметом глубоких профессиональных разговоров двух поэтов. При этом Пастернаку не могли не вспоминаться проигрывавшие, вероятно, по сравнению с Ивановым профессора Московского университета, которым он годом раньше сдавал экзамены (см. о сдаче экзаменов: [там же: 162, 163]. И.П. Смирнов указывает, что, «изображая дом Микулицыных, он же Дом Соломона, Пастернак держал в памяти ещё одно собрание мудрецов - профессоров законченного им университета. Отсюда объясняется отчество Елены Прокловны: неоплатоник Прокл
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
397
писал о деятельности Академии Платона (о прототипе любого объединения философов). Философия Прокла (особенно его понятие «гипотетического») была предметом оживлённой дискуссии в кругу неокантианцев (Коген, Наторп, Н. Гартман); см. подробно: Werner Beierwaltes, Proklos. Grundzuge seiner Metaphysik, Frankfurt a. M., 1965,270-274» [Смирнов 1996: 101].
«Некоторые предположения» В.К. Шварсалон насчёт Пастернака, о которых он писал А.Л. Штиху, могли восприниматься им именно в аспекте прокловского понятия «гипотетического». «Яга»-Микулицына своими вопросами также могла намекать доктору на его гипотетическое будущее, которое должно инверсированно повторить судьбу Грибоедова и его героя Чацкого. «Правильные ответы на вопросы не способны повлиять на жизнь доктора, однако самое содержание вопросов проясняет сюжет, предсказывая события. Вопросы являются прологом к дальнейшему развитию действия, к уральским главам романа. Они предсказывают и отчасти объясняют гражданскую войну на Урале» [Горелик 2009: 208-209].
Отметим также, что, поскольку по возвращении в Москву Юрий Живаго женится на дочери Маркела Марине, требует анализа и то значение, которое имеет в отношении «Доктора Живаго» книга Маркела «Жизнь Прокла». Имя Микулицыной «отсылает» к Елене, жене увезшего её в Трою Париса (ср. с ним красавца и эстета Микулицына, поприщем которого «должно было быть море»), но к Елене не гомеровской, а гётевской, из «Фауста». Негативное отношение к Микулицыной, сквозящее в характеристике Самдевятова и в последующем сдержанном отношении Юрия Живаго, можно вполне отождествить с авторским отношением к Гёте и второй части его творения, тем более что ранее в романе оценка «Фауста» высказывается Веденяпиным [IV: 44].
Оба контакта - с Ивановыми и Збарскими - по прошествии лет могли восприниматься Пастернаком как взрывоопасные: и в плане межличностных отношений (семейные страсти, осложняемые к тому же вниманием молодых женщин к появившемуся молодому Пастернаку), и в плане историко-социальных событий (Пастернак и Иванов наблюдали накануне Первой мировой войны ночной солдатский бивак, а после возвращения Пастернака с Урала разразилась октябрьская революция). Сходные впечатления от вечеров и ночей, которые проводились Ивановыми, Балтрушайтисами и Пастернаком вместе в имении Петровских на Оке, у Пастернака отражены во II главе «Трёх глав из повести» (1922), у Иванова - в циклах «На Оке - перед войной» (12,16,18 июля 1914), «Петровское на Оке» (5-6 января 1915), вошедших в III раздел книги «Свет вечерний»14. Но если в упомянутой прозе Пастернака Иванов узнаваем, то в стихах последнего нет ни намёка на общение с младшим поэтом, ни упоминаний о нём или его присутствии. Второй цикл, кстати, посвящён Юргису и Марии Ивановне Балтрушайтисам, что для
14 Об этих и более поздних военных стихах Иванова см.: [Баран 1996]. Отметим попутно, что стихи первого цикла Пастернак мог слышать из уст автора ещё в Петровском, где они были созданы. Стихотворения цикла «Петровское на Оке» были написаны Ивановым в начале 1915 г., и Пастернак мог читать (или слушать?) их не менее заинтересованно, чем те, что слышал летом.
398
Глава 5
Пастернака могло дополнительно свидетельствовать о том, что для Иванова общение с ним не было достаточно значимым и достойным внимания. На это умолчание о контакте Пастернак ответил в «Докторе Живаго» отсутствием какого-либо разговора между доктором и Микулицыным.
Название II главы «Трёх глав из повести» - «Дева обида» - и её концовка, где разговор персонажей прямо касается «Слова о полку Игореве», объясняется тем, что шедевр древнерусской литературы в то время был предметом пристального интереса со стороны Иванова и был актуален как со стороны содержания (хотя бы ввиду надвигавшейся войны), так и со стороны выражения: Н. Асеев писал, что «автор “Кормчих звёзд” в особенности ценил в поэтах любовь к языку. “Человек, не любящий “Слова о полку Игореве”, не может быть поэтом”, - говаривал он не раз» [Асеев 1996: 158]; фоном для оценки собственного поэтического языка, а также языка футуристов, в частности Пастернака, был у Иванова язык «Слова...».
Едва ли не главной в современной поэзии фигурой, интересовавшей Пастернака ещё с осени 1913 года, был Маяковский, послуживший одним из прототипов Комаровского. «Жарким и душным предвоенным летом» Пастернак «насвеже обдумал свои профессиональные результаты и планы. Ключевым моментом этих мыслей было явление Маяковского, весенняя встреча с которым определяла в глазах Пастернака перспективы поэтического выражения послесимволистского поколения» [Пастернак Е. 1997: 198].
Летние встречи и общение с Ивановым давали ход сравнениям как двух «гиперсексуальных» поэтов, так и поколений, которые они представляли. Тем более, что о Маяковском Пастернак говорил с Ивановым, которого тот также интересовал: «Лето обещало быть жарким, богатым. Для тогда возникавшего Камерного театра я переводил комедию Клейста “Разбитый кувшин”. В парке было много змей. Речь о них заходила ежедневно. О змеях говорили за ухой и на купанье. Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском. В этом не было ошибки. Я его боготворил. Я олицетворял в нём свой духовный горизонт. С гиперболизмом Гюго первым на моей памяти стал сравнивать его тогда Вячеслав Иванов» [III: 219-220].
К наблюдению И.П. Смирнова о связи «змеиной» темы в «Докторе Живаго» с Маяковским15 (и Комаровским), а также Л.С. Флейшмана о связи цитаты «о змеях» с Маяковским и Ивановым [Флейшман 2003а: 309-310] добавим, что аналогичная, но противоположная данной связь существует и в отношении Иванова (и Микулицына). «И как меня всегда возня на эту тему возмущала, - писал Пастернак в письме от 14 октября 1956 г. Дмитрию Максимову, вспоминая разговоры летом 1914 года. - Покойного Вячеслава Иванова, например, удивляло, как меня, человека естественного и, как он думал, сильного, мог привлекать Андрей Белый (с соответствующими намёками на тему о слабосилии). Нечего было людям делать» [Пастернак Е. 1997: 240].
15 На ассоциативную связь между Маяковским и змеем указывается также в работе: [Фатеева 2003: 57-58].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
399
Эта оценка Ивановым Пастернака как человека «сильного» косвенно подтверждает, что «некоторые предположения» В.К. Шварсалон, касавшиеся Пастернака, подразумевали его любовные отношения (на самом деле мнимые) с кузиной Марии Ивановны Балтрушайтис. Несмотря на 42 года, прошедшие с 1914 до 1956 г., взгляды и личность Иванова были остро актуальны для Пастернака, который ещё более резко и активно, чем в 1914 г., отталкивался от них. Тем большее значение они имели, если учитывать позиции Пастернака, писавшего роман, по отношению к символизму и футуризму.
С учётом письма 1956 года становится ещё более ясно, что подразумевал Пастернак, когда писал Штиху о пребывании в обществе Ивановых, что «здесь знают что-то такое обо мне, чего я сам о себе не знаю, да и не признаю, вероятно», вчитывая в ситуацию знакомый сказочный сюжет, когда у героя в обмен на свободу Водяной или другой персонаж требует отдать то, чего он у себя дома не знает, и этим неизвестным оказывается родившийся в его отсутствие сын. Показательно при этом, что фигуру друга, а также его брата Михаила Пастернак позже ставил в тот же ряд «сексуально опасных» литературных деятелей. Как указывает И.П. Смирнов, «морфологически фамилия “Комаровский” сходна с фамилией “Маяковский”. Но этимологически она отправляет нас к любовному соперничеству между Пастернаком и его другом А.Л. Штихом, разгоревшемуся из-за Елены Виноград. Как установила Е.В. Пастернак (Елена Пастернак. Борис Пастернак и Александр Штих. // Россия. Russia. 1993, № 8, 201-202), мотив комара - эротического насекомого возник в стихотворении “Наша гроза” из сборника “Сестра моя - жизнь” в качестве ассоциации со значением имени “Штих” (Stich = укол, укус)» [Смирнов 1996: 42-43]. Что касается М.Л. Штиха, то он пытался ухаживать за Евгенией Владимировной Лурье, ставшей после знакомства с Пастернаком, состоявшегося благодаря А.Л. Штиху, женой Бориса Леонидовича [Пастернак Е. 1997: 335-336].
В творчестве Иванова, имевшего репутацию «искусителя», змея традиционно символизировала фаллос16. Само появление Микулицына перед приезжими представляет собой завуалированную «фаллическую» картину. Подъезжая к Варыкину, семья Живаго слышит выстрелы: «Два ружейных выстрела, один вслед за другим, прокатились в той стороне, рождая дробящиеся, множащиеся отголоски.
- Что это? Никак, партизаны, дедушка? Не в нас ли?
- Христос с вами. Каки партижане. Степаныч в Шутьме волков пужая».
Навстречу Елене Прокловне «шёл с ружьём домой её муж, поднявшийся из оврага и предполагавший тотчас же заняться прочисткой задымленных стволов ввиду замеченных при разряде недочётов» [IV: 269, 270].
Ружьё здесь предстаёт сдвоенным «заменителем» фаллоса, обращённого к тому же к Елене Прокловне. (Нет ли в этой двухствольности намёка на братьев Штихов, вызывавших одинаковые беспокойства?) Однако «старый змей» Микулицын разряжает ружьё в овраге, в котором позже доктору воображается «дракон» и название которого допускает
16 Об эротических мотивах в стихотворениях Иванова и Кузмина девятисотых годов см.: [Богомолов 1999: 163-165, 182-185].
400
Глава 5
такое толкование: «Shut,jester, a euphemism for the devil; tma, darkness»17 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 124]. Да и волки, которых пожилой (отсюда и «недочёты» при разряде) Микулицын не отстреливает, а только по-свойски, как говорит Вакх, «пужая», являются одной из ипостасей змея, существа с ярко выраженным фаллическим началом (в Петровском, кстати, было очень много змей, и они упоминались обоими поэтами). Выстрелы «жалят» волков, но не убивают - так же, как змеи жалят, но не убивают себе подобных. Позже, когда Живаго пишет в Барыкине «Сказку», «волки <...> стали представлением вражьей силы, поставившей себе целью погубить доктора и Лару или выжить их из Барыкина. Идея этой враждебности, развиваясь, достигла к вечеру такой силы, точно в Шутьме открылись следы допотопного страшилища и в овраге залёг чудовищных размеров сказочный, жаждущий Докторовой крови и алчущий Лары дракон» [IV: 437-438].
В семейной ситуации Микулицыных необходимо прояснить ещё роль сына Микулицына Ливерия, представляющего в свете вышеизложенного фигуру, параллельную брату Лары Родиону, который, как указал И.П. Смирнов, находится в позиции, аналогичной позиции старшего брата В.К. Шварсалон Сергея. Поскольку Ливерий «подделал года в метрике и пятнадцатилетним юнцом удрал добровольцем на фронт», а «Аграфена Севериновна, вообще болезненная, не вынесла удара, слегла, больше не вставала и умерла позапрошлой зимой, перед самой революцией» [IV: 261], можно заключить, что Ливерий «удрал» в 1916 году, менее вероятно - в 1915-м и, следовательно, год его рождения - 1901-й или 1900-й. Замуж за Микулицына Елена Прокловна вышла в 1917 году сразу после окончания гимназии. Таким образом, Ливерий и она ровесники - подобно тому, как ровесниками были Пастернак и В.К. Шварсалон. Роль Ливерия как «младшего брата» подтверждается и тем, что Елена Прокловна с восхищением и гордостью демонстрирует семье Живаго стереоскоп, который Ливерий «смастерил, когда был маленький» [IV: 274]. К моменту приезда семьи Живаго в Варыкино она уже почти год является женой Микулицына. В.К. Шварсалон в 1914 г., когда с ней и Ивановым общался Пастернак, было 24 года. Но для Пастернака и тогда, и в конце 1940-х - начале 1950-х, когда писался роман, была, по всей видимости, актуальна семейная ситуация Ивановых 1910-го и последующих годов, о которой он, вероятно, был осведомлён (хотя бы из разговоров с самой В.К. Шварсалон, не говоря уже о пересудах и «общественном мнении»). «Решение соединить свои судьбы Иванов и В.К. Шварсалон <...> приняли в Риме поздним летом 1910 г.; в кругу самых близких людей об этом союзе было оповещено весной 1912 г. <.. .> Иванов и Вера Шварсалон обвенчались в греческой православной церкви в Ливорно летом 1913 г.» [Лавров 1994: 76, 81]. Таким образом, год пребывания замужем Микулицыной является аналогией года, прошедшего с момента официального замужества В.К. Шварсалон.
Отметим и детали, сближающие Ливерия с Сергеем Шварсалоном. Юрий Живаго спрашивает об отношениях Микулицына и Ливерия: «Значит, отец и сын на ножах?
17 «Шут, эвфемизм дьявола; тьма» (англ.).
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
401
Политические противники?» Самдевятов отвечает: «Номинально, разумеется. А в действительности тайга с Варыкином не воюет» [IV: 263]. «12 июля 1912 г. у Иванова и В. Шварсалон родился сын Дмитрий», однако нет никаких оснований считать, что отношения Иванова с Сергеем из-за сложившейся семейной ситуации каким-либо образом осложнились. Напротив, «В. Иванов относился к своему пасынку с большой теплотой. “Я знаю: Вы его любите, да и я люблю”, - писал Иванову А.Д. Скалдин 7 декабря 1912 г.» [Азадовский 1994:133,134]. В «Докторе Живаго» отразился, вероятно, ещё один момент, связанный с «братцем» Веры С.К. Шварсалоном (для Пастернака он мог ассоциироваться по контрасту с «братцем» из повести Зайцева). Треугольник ‘брат Лары Родион - Лара - Комаровский’ инверсированно воспроизводит треугольник ‘брат Веры С.К. Шварсалон - Вера - М.А. Кузмин’, причём за скандалом, случившимся 5 декабря 1912 г., стоит Иванов. Тогда, на «премьере пьесы испанского драматурга Хасинто Бена-венте “Изнанка жизни” (1909), поставленной А.И. Таировым», С.К. Шварсалон ударил Кузмина несколько раз по лицу. Причиной был отказ Кузмина принять вызов С.К. Швар-салона, «вступившегося за честь своей сестры», на дуэль. Кузмин начал распространять слухи и клевету о Вере и Иванове после того, как 16 апреля 1912 г. Вера предложила Кузмину фиктивно жениться на ней. Тот «был потрясён» и, разумеется, отказался18. Ср. с предложением Родиона Ларе сходить ради него к Комаровскому и её ответом.
5.2. Два стихотворения «Земля» и проблема гениальности19
Юрий Живаго, живший в Барыкине и возделывавший землю, предоставленную Микулицыным (в частности, садивший картошку, которой тот помог), является автором стихотворения «Земля», которое впоследствии в числе других его стихотворений читают «где-то высоко у раскрытого окна над необозримою вечернею Москвою» Гордон и Дудоров [IV: 514]. Не настаивая на какой-либо связи текстов, заметим, что Живаго мог бы быть и, так сказать, «автором» стихотворения «Земля», написанного в августе 1928 г. в Риме Ивановым. Это стихотворение, как сообщает О. Дешарт, было «напечатано в “Современных Записках”, Париж, 1937, LXIII» и посвящено Илье Голенищеву-Кутузову, который «часто посещал В.И. в Риме во время летних вакаций 1928 г.» [Иванов 1971— 1987, III: 829]. Стихотворение вошло в посмертно изданную в Оксфорде книгу Иванова «Свет вечерний» (1962)20. Осенью 1947 г. тексты, вошедшие впоследствии в эту книгу, были переданы приехавшим в Рим английским учёным М. Боура и И. Берлину. Пастернак был знаком и переписывался с обоими, а с последним, приезжавшим в Москву в
18 Подробно об этой истории - [Азадовский 1994: 123-129, 134, 135].
19 Параграф был опубликован: [Буров 2010е].
20 Ср. Москву, с которой соотносится содержание «Земли» Пастернака, с Римом Иванова, «вечернюю Москву» в «Эпилоге» «Доктора Живаго» и «Свет вечерний» Иванова. В интертекстуальную игру включается также работа С.Н. Булгакова «Свет невечерний» (1917).
402
Глава 5
1945 и 1956 гг., общался и мог получать от него сведения об Иванове. Правда, в воспоминаниях И. Берлина об этих встречах Иванов не упоминается, как не упоминаются и разговоры о нём с Пастернаком. «Земля» Пастернака может восприниматься как явное отражение (или альтернатива) «утаённой» для современников в России «Земли» Иванова, написанной на чужбине, тем более что стихотворение последнего содержит прямую отсылку к древнему прототипу Микулицына - Микуле Селяниновичу, имя которого Иванов использует как нарицательное и обозначает им духовное убожество. Микулицын, состоящий с былинным персонажем в интертекстуальной «родственной» связи, представляет собой фигуру, контрастную собирательным «Микулам, сельским уроженцам» Иванова, в частности тем, что он уроженец города и, несмотря на то, что живёт «на земле», никогда не поднимал «ралами поля». Пастернак мог рассматривать «Землю» Иванова как текст «утаённый» не только потому, что тот находился в эмиграции, но и в силу того, что сам «утаивал» в романе множество чужих и своих текстов, оставляя лишь более или менее скрытые «вешки», отсылающие к ним. Ещё в 1931 г. в строфах из цикла «Волны» Пастернак обозначил «программную» установку по отношению к «опыту больших поэтов», содержащему «естественность», равную простоте, которую необходимо «утаить» [II: 58].
Отметим также, что в «Докторе Живаго» есть переклички с докладом Иванова «Евангельский смысл слова “земля”» (1909), переработанным для переиздания в 1929 г., важного для понимания Юрия Живаго как героя, спроецированного на Георгия Победоносца, покровителя земледелия. О. Фетисенко определяет этот текст как «один из важнейших для творчества Вяч. Иванова» [Иванов 2008: 68]. «Вопрос о Земле представляется мне в христианстве центральным», - отмечал Иванов и «возвращал» христианству «верность Земле». При этом он ссылался на Ницше и спорил с Мережковским, Розановым и его критикой христианства: «Религия, отличающаяся от всех других именно тем, что она провела дальше всех других линию духовного пути к Богу до нисхождения от Отца, в лике Жениха к Земле ради спасения Земли, религия, дающая последние откровения о Земле, религия Благовестия о искуплённой Земле, была сочтена религией забвения о Земле, неприятия Земли» [там же: 72].
В этом свете строка «врывается земля нахрапом» из стихотворения Пастернака означает, что земля врывается подобно «духу <.. .> любви, как внутре<нней> церковной соборности», который «вырывает ядовитое жало у Змия познания и проклятого в делах человека и пресмыкающееся в нашей низменной лжемудрост<и> возносит на крест как исцеляющее людей знамение» [там же].
Обратим внимание на отчётливый евангельский (апокрифический) подтекст описания болезни и бреда Юрия Живаго в Москве зимой 1917-1918 гг. [IV: 206]. Это - пророческое видение о том, кого ищет женщина (Лара = земля = Магдалина) и что необходимо и предстоит сделать Живаго-«Христу». Комментаторы связывают «рифмованные строчки» доктора с последними строками его стихотворения «На Страстной» [IV: 682]. Последнее, как полагает в свою очередь Э. Моссман, перекликается с частью десятой
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
403
романа, которая «was consciously structured on the color purple and its tones»21 [Mossman 1986: 285-286].
Добавим, что строка «Надо проснуться» отсылает к оценке I «Философического письма» П.Я. Чаадаева, которую дал А.И. Герцен в «Былом и думах»: «“Письмо” Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в тёмную ночь, тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, - всё равно, надобно было проснуться» [Герцен, IX: 139]. Кроме того, данная ситуация, а также сон Юрия Живаго в Барыкине, когда его пробуждает женский голос (Лары), корреспондируют со стихотворением Ф.И. Тютчева «Графине Е.П. Ростопчиной (в ответ на её письмо)» (1850):
Каким-то сном усопшей тени Я спал, зарытый, но живой!
Знакомый голос... голос чудный...
То лирный звук, то женский вздох... Но я, ленивец беспробудный, Я вдруг откликнуться не мог...
Я спал в оковах тяжкой лени, Под осьмимесячной зимой, Как дремлют праведные тени Во мгле стигийской роковой [Тютчев, II: 125].
Вне сомнения, можно утверждать, что «Земля» Пастернака (21-е из 25 «Стихотворений Юрия Живаго») относится к евангельским стихотворениям цикла, однако трактует не только сюжеты Священного Писания (оно «has a subtext of the Last Supper»22 [Livingstone 1989: 108]), но и смысл важнейших евангельских понятий, актуализированных символистами, а именно Ивановым, отмечавшим: «Прежде всего я желал бы утвердить, что новозав<етное> благовестие содержит определённые изречения, смысл которых есть отвержение, или, по слову Достоевского, неприятие мира, но нигде не содержит указаний, имеющих смысл отвержения или неприятия Земли» [Иванов 2008: 74]. Тематизи-руя землю, Пастернак тем самым «благовествовал» о Новом Завете, внешне выворачивая программную мысль Иванова и одновременно внутренне следуя ей в её «усвоении» и «реализации»: «Новый Завет есть благовестие о Земле, б<ыть> м<ожет>, ещё недостаточно усвоенное и во всяком случае ещё не реализованное» [там же].
А ещё, как указывает Г.В. Обатнин, этот текст Иванова, как и доклад «О достоинстве женщины» (и рассказ Зайцева «Аграфена»), содержит «сюжет о женщине, ищущей истинного мужа». Исследователь отмечает также интерес Иванова к О. фон Вейнинге-
21 «Была сознательно построена на фиолетовом цвете и его оттенках» (англ.).
22 «Имеет подтекстом Тайную Вечерю» (англ.).
404
Глава 5
ру [Обатнин 2000: 119, 121]. Таким образом, книга «Пол и характер» фон Вейнингера могла ассоциироваться у читавшего её Пастернака с проблематикой (в частности, «половой») работ Иванова и личностью самого поэта. Но книга эта могла быть и предметом обсуждения Иванова и Пастернака в 1914 г., в частности, в связи с разговором об Андрее Белом (см. цитированное выше письмо Пастернака к Д.Е. Максимову от 14 октября 1956 г.), который «оценил книгу “Пол и характер”, рецензируя её русский перевод, вышедший в 1909 г., в качестве лишь “психологического документа гениального юноши”, лишил её научного значения и утверждал вразрез с её автором, что “женское начало оплодотворяет творчество гения”23 (мужчины)» [Деринг-Смирнова 1999].
Аллюзии на Иванова в «Докторе Живаго» вводились автором, как правило, с оглядкой на Гёте, а с другой стороны - на Маяковского. Все трое были самыми масштабными фигурами в литературе своего времени. А внимание Иванова к Гёте24 давало толчок к осмыслению произведений и личностей обоих на фоне друг друга. Иванова в сознании Пастернака сближала с Гёте не только колоссальная учёность, духовный универсализм и манера поведения, но и «гиперсексуальность»: женитьба на молоденькой падчерице вызывала сравнение с любовью 75-летнего Гёте к 18-летней Ульрике Левецов (и её предшественницам - Минне Герцлиб и Марианне Виллемер), прямо проецируемой на амурные дела омолодившегося Фауста. Перевод «Фауста», осуществлённый Пастернаком как раз во время работы над «Доктором Живаго», мог актуализировать как труды Иванова о Гёте, так и напомнить о семейных ситуациях обоих. На эти ситуации проецировалась и собственная драма отношений с О.В. Ивинской (имевшей дочь) наряду с сохранением семейной жизни с Зинаидой Николаевной, некоторые черты которой были использованы в изображении травившейся Амалии Карловны (более подробно о «составляющих» этой героини - ниже). Эта собственная ситуация, почти дублирующая гётевско-ивановскую, могла, однако, субъективно извиняться тем, о чём свидетельствует трагически откровенное стихотворение «Ветер» (1953), вошедшее в «Стихотворения Юрия Живаго» и обращённое в контексте романа к Тоне (см.: [Cornwell 1986: 89]), а вне текста, по-видимому, к Ивинской (см.: [Мансуров 2009: 86-88]). Этим данная ситуация оказывалась в осевой позиции, выделенной по отношению к похожим, но контрастирующим позициям Гёте и Иванова. Не отрицая огромного пиетета Пастернака перед Гёте и Ивановым, можно лишь догадываться, какой насмешкой мог восприниматься Пастернаком подарок, сделанный ему к 70-летию издательством «Fischer-Verlag» (Франкфурт-на-Май-не) - автограф Гёте: приглашение на обед веймарскому профессору Х.В. Швейцеру от 10 июля 1825 г. [Мир Пастернака 1989: 150]. Ранее в ответ на надписанный экземпляр перевода «Фауста» Пастернак получил из Музея Гёте в Веймаре памятную медаль с изображением Гёте [Переписка с Сувчинским 1994: 274]. Разумеется, эти знаки внимания и признания литературных заслуг были приняты писателем с благодарностью. Но
23 Андрей Белый. Вайнингер о поле и характере // Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. Т. 2. М.: 1994, 264.
24 См.: [Жирмунский 1937: 581-596].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
405
мы говорим о другом. Амбивалентность же восприятия Пастернаком Иванова определяется как внимательнейшим, заинтересованным и впитывающим чтением его стихов и статей (в 1910-е годы), так и ответной негативной реакцией в «Докторе Живаго» на негативные жесты Иванова в жизни, неприятием того в широком смысле языка, на котором поэт говорил о времени. Судя по тому, что Пастернак сделал Юрия Живаго мистическим анархистом, мысли Иванова оказались кардинально важными для выстройки духовного мира доктора и совершения им духовного подвига. Но поведение старшего поэта и то, как тот выстраивал свой жизненный путь, видимо, были менее преемлемы.
Ещё один важный момент, который мы по необходимости сильно упростим. В сознании позднего Пастернака, уже оценившего все «прелести» тоталитаризма, революционность и связанный с нею футуризм были явлениями негативными. Едва ли не все носители и апологеты революции в романе имеют более или менее тщательно закамуфлированное украинское происхождение, подобное тому, какое имели сёстры Синяковы. По Пастернаку, революция в Россию приносится с Украины, сказочной «страны обилия», которая, как показал в своих книгах В.Я. Пропп, на деле является «царством мёртвых». Революцию устраивают в Петербурге и Москве и продвигают дальше на ‘Восток’. Самые яркие примеры - Клинцов-Погоревших, рыжий матрос в эшелоне, везущем семью Живаго на Урал. Неудача отношений с Надеждой Синяковой, её происхождение с Украины, плюс антисемитизм её отца и безбожие матери - лишь частные примеры других подобных факторов, обусловивших антифутуризм, антиреволюционность, анти-украинскость, христоцентризм Пастернака и его негативное отношение к «гиперсексуальности» Гёте - Иванова - Маяковского. Все эти слагаемые (в числе многих других, конечно) обусловили движение Пастернака к созданию «Доктора Живаго» и помогли справиться с огромным повествованием. Если обобщить проблему отношений Пастернака к старшим поэтам и поэтам-современникам, о которых шла речь, то «Доктор Живаго» можно интерпретировать как текст, реализовавший тайную идиосинкразию Пастернака к «гиперсексуальным» и творчески плодовитым гениям. При этом каждый из этих гениев, подвергаемых скрываемой от читателя обструкции, входил в триаду, средний член которой был анти- или асексуален в пользу значительнейших (для Пастернака) духовных прорывов. Две крайние фигуры противопоставлялись друг другу, но были сходны как раз в «гиперсексуальности», в приверженности сексуальным «излишествам». Так, например, Иванов противопоставлялся не менее «любвеобильному» Блоку, а осевой, средней между ними и потому позитивной фигурой представал Андрей Белый, давние ивановские намёки на «слабость» которого все ещё возмущали 66-летнего Пастернака. Осевым же по отношению к Маяковскому, противоположностью которого была не менее того занятая многочисленными романами Цветаева, представал сам Пастернак, выстраивавший с Белым отношения двойничества. Кстати, вынос такого текста, как «Ветер», на суд публики был демонстративным и потому показательным шагом, определявшим эту позицию. Однако отождествление лирического героя с собой Пастернак снимал приписыванием авторства стихотворения герою романа. Что касается триады, в
406
Глава 5
которую входил Гёте, её можно представить так: Гёте - Шеллинг - Ницше. Одним из проявлений «гиперсексуальности» у неосевых авторов, вызывавших скрытое раздражение Пастернака, были огромное количество их произведений и их объём. Говоря о любом из этих поэтов, Пастернак всякий раз обращал внимание (пусть даже и в позитивном ключе, который при ближайшем рассмотрении оказывается вполне амбивалентным) именно на объём его творений. Своё же творчество, как можно судить по многим письмам, Пастернак склонен был недооценивать и приуменьшать и количественно, и качественно. «Доктор Живаго» не был исключением, однако оценивался автором выше всего им написанного. Как замечает Й. Ужаревич [2006: 189], «попадая в круг гениев, Пастернак сначала восхищается ими, а потом уходит от них. Таким образом, он как бы скрыто (неявно) - “минус-метонимиями” - указывает на собственную гениальность <...>. (Только гений может узнать или понять гения и тем более отбросить его.)».
5.3. Амалия Карловна и кубок Исольды
Любопытно, что при использовании в изображении треугольника ‘Амалия Карловна - Комаровский - Лара’ семейной ситуации Иванова Пастернака нисколько не смущало то, что Зиновьева-Аннибал умерла «своей смертью», а вовсе не травилась и не была отравлена. Момент отравления и другие биографические коллизии связаны с другими прототипами, но «сюжет о женщине, ищущей истинного мужа», в случае Амалии Карловны остаётся актуальным.
Основание для того, чтобы рассматривать в качестве одного из них Зинаиду Николаевну Нейгауз, даёт её прошлое. В «Воспоминаниях» жены Пастернака говорится, что её отец «был инженером» и «умер в страшных муках от болезни сердца в 1904 году <.. .> в чине генерала» [Пастернак - Пастернак З.Н. 1993: 237, 239-240] - ср. с мужем Амалии Карловны, «инженером-бельгийцем», умершим примерно в этом же году [IV: 23]. Довольно правдоподобно переданная О.В. Ивинской аттестация Пастернаком Зинаиды Николаевны как дочери жандармского полковника [Ивинская 1978: 28] звучит (в устах Пастернака) в том же едва скрываемом презрительно-раздражённом ключе, в каком подана в романе Амалия Карловна. (В письме от 24 мая 1932 г. к сестре Жозефине Пастернак писал о «генеральской пенсии» отца Зинаиды Николаевны [ПРС 2004: 544].) Впрочем, героиня имеет и выразительное сходство с О.В. Ивинской, имевшей сына и дочь: «Родя и Лара привыкли слышать, что они на краю гибели. Они понимали, что они не дети улицы, но в них глубоко сидела робость перед богатыми, как у питомцев сиротских домов. Живой пример этого страха подавала им мать. Амалия Карловна была полная блондинка лет тридцати пяти, у которой сердечные припадки сменялись припадками глупости. Она была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности всё время попадала к ним из объятия в объятие» [IV: 24]. Пастернак использовал и рассказ Ивинской о её бабушке со стороны отца, ко
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
407
торую та (после смерти Пастернака) описала как «давно овдовевшую Амалию Карловну (в России ставшую Амалией Ивановной), ревельскую немку, гувернанткой заброшенную в богатые тамбовские семьи. До самой смерти моя бабушка (я называла её “мам-лия”) не научилась правильно говорить по-русски» [Емельянова 2006: 6].
Образ Амалии Карловны является также автопародией Пастернака, написанной опять-таки с оглядкой на ситуацию, связанную с Зинаидой Николаевной Нейгауз. В конце 1931 г., когда Зинаида Николаевна решила вернуться к первому мужу - Генриху Густавовичу, Пастернак предпринял попытку покончить с собой: «Открылась дверь, и вошёл Борис Леонидович. Вид у него был ужасный! На лице было написано не только страдание и мучение, а нечто безумное. Он прошёл прямо в детскую, закрыл дверь, и я услышала какое-то бульканье. Я вбежала туда и увидела, что он успел проглотить целый пузырек йоду. К счастью, напротив нашей квартиры, на той же площадке жил врач, ещё не посмотрев на Бориса Леонидовича, он крикнул: “Молоко! Скорей поите холодным молоком!” Молоко было у меня всегда в запасе для детей, и я заставила его выпить все два литра, оказавшиеся на кухне. Всё обошлось благополучно. Молоко вызвало рвоту, и жизнь его была спасена. Я уложила его на диван, и через некоторое время он смог разговаривать» [Пастернак - Пастернак З.Н. 1993: 275].
Ср. биографический треугольник с треугольником в романе, а также Г.Г. Нейгауза с виолончелистом Фадеем Казимировичем Тышкевичем, с котором его объединяет «польскость» и приобщённость к музыке. В треугольнике из романа меняется пол травившегося. И эта травестия подкрепляется ещё одной аналогичной. Обращённым прототипом пожилой Амалии Карловны является не только сам Пастернак, но и молодой Александр Гавронский, с которым Пастернак был очень близок в 1909-1911 гг. и который, по словам Е.Б. Пастернака, стал «пожизненным антагонистом» его отца. См. об А. Гавронском, черты которого отразились в образах Сашки Бальца из «Спекторского» и Шютца из «Трёх повестей», и о сцене в «Номерах Воробьёва», которая «в изменённом виде вошла важнейшим композиционным звеном в роман “Доктор Живаго”» - [Пастернак Е. 1997: 116-118].
Место, где разворачиваются любовные отношения Комаровского с Амалией Карловной, а затем с Ларой - гостиница «Черногория» в Москве - связано с историей любви 15-летней Зинаиды Николаевны и её двоюродного брата Николая Милитинского, к которому она приходила на свидания в гостиницу в Петербурге (см.: [Пастернак - Пастернак З.Н. 1993: 240,242,280-281 ]). Зинаида Николаевна присутствует и в ещё одном любовном треугольнике прототипов, где место Милитинского занимает её бывший муж: Г.Г. Нейгауз - З.Н. - Пастернак. Ключ к именно такому прочтению ситуации романа даёт письмо Пастернака к сестре Жозефине от 11 февраля 1932 г. [ПРС 2004:521-536]. Именно с немцем Г.Г. Нейгаузом, для которого «польский язык и культура были родными» [Жолковский 2005:508], ассоциативно связаны для Пастернака немецкие интертекстуальные коннотации, которыми наделён Комаровский (фамилия с характерно польским окончанием). Зинаида Николаевна в обоих треугольниках прототипов находится в той пози
408
Глава 5
ции, в которой в романе окажется Лара. Что касается первого треугольника прототипов, то 42-летний Пастернак, узнающий о Милитинском и с необычайной силой ревнующий к нему, предстаёт прототипом как гимназиста Юрия Живаго, так и его друга Миши Гордона. Юра поражён отношениями Лары и Комаровского, годящегося ей и ему в отцы и находящегося примерно в возрасте Пастернака в 1932 году. Если рассматривать в качестве прототипов Комаровского - Лары - Амалии Карловны треугольник, где присутствует Г.Г. Нейгауз, то Пастернак, травившийся 3 февраля 1932 года йодом, предстаёт обращённым прототипом Амалии Карловны. Долгая езда А.А. Громеко и мальчиков в «Черногорию» и поздний приезд туда соответствуют долгому ночному бегу Пастернака по улице домой к Нейгаузам и позднему приходу к ним, за которым последовала попытка самоубийства. Ошибочность причины отравления Амалии Карловны (она травится, узнав не о связи Комаровского с Ларой, а о его связи с женщинами легкого поведения, одна из которых дожидалась его в вестибюле гостиницы25) соответствует тому, что настоящая ревность Пастернака была обращена не на Г.Г. Нейгауза, а на Милитин-ского. Чувство счастья, охватившее Пастернака, когда он лежал у Зинаиды Николаевны, отразилось в описании блаженства выздоровления Юрия Живаго в доме Лары в Юрятине после его возвращения от партизан. Мечта Пастернака о дочери в романе сказалась тем, что у Юрия Андреевича и Лары рождается дочь, о которой доктор так ничего и не узнаёт.
Происходящее в «Черногории», а именно два центральных события - неудавшееся отравление Амалии Карловны и первая «невстреча» Юрия Живаго с Ларой, которую он впервые видит, своей противопоставленностью дают ещё один ключ к пониманию образа Амалии Карловны. Отыскать его помогают «Исторические корни волшебной сказки» В.Я. Проппа. Эту книгу Пастернак читал в 1946 году. Рассматривая в числе материалов об отношениях сказочных героя и царевны «Тристана и Исольду», В.Я. Пропп противопоставил свою трактовку интерпретациям О.М. Фрейденберг и Б.В. Казанского. Трактовка последнего занимает осевую позицию (см. цитату ниже). Её же по отношению к Казанскому и Фрейденберг занимает (для Пастернака) Пропп, пишущий о коллегах. Для Пастернака особое значение имело сопоставление симметрично расположенных первого и третьего элементов триады, тогда как второй, осевой, выполнял роль, разрешающую противоречие. Посему можно предположить, что для него могла быть наиболее важна в обрисовке отношений поэта Живаго и России версия Проппа, писавшего: «Для О.М. Фрейденберг кубок Исольды есть “культовый напиток оплодотворения” (Фрейденберг, 1932, 96). По Казанскому, он восходит “к питью чисто магического
25 Рассматривая интертекстуальные связи «Доктора Живаго» с кинофильмом «За счастьем» (1917) Е.Ф. Бауэра, И.П. Смирнов даёт иную трактовку мотива отравления: «Пастернак редактирует фильм, как бы заново ставит его по изменённому сценарию. Неумолимо нравственный адвокат из претекста становится в “Докторе Живаго” соблазнителем, а вдова, намеревавшаяся в фильме отречься от своих жизненных интересов ради дочери, превращается в ревнивую Амалию Карловну (впрочем, тоже попытавшуюся принести себя в акте неудавшегося самоубийства в жертву Ларе)» [Смирнов 2009: 330].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
409
значения” (Казанский, 126)26. Для нас вино есть субститут крови. Тристан и Исольда совершают брачный обряд» [Пропп 1998: 379].
Свидетельством того, что Пастернак воспринимал анализ «исторических корней» сказки, представленный Проппом, не только аналитически, но и художественно, служит использование им этого кубка Исольды в обращённом виде. Именно ролью кубка, описанною Проппом и Фрейденберг, объясняется столь пристальное внимание, которое уделяется причинам отравления Амалии Карловны, в образе которой можно усмотреть черты, пародирующие О.М. Фрейденберг и её трактовку27. Читатель, предполагающий, что Амалия Карловна травилась из-за того, что узнала об отношениях Комаровского с дочерью или стала подозревать о наличии этих отношений, узнав объяснение причин происходящего, поданное рассказчиком с позиции, приближающейся к точке зрения гостиничной прислуги, может подумать, что рассказчик передаёт заведомо ошибочную версию и, вдаваясь в подробности, занимается за счёт этого совершенно излишним «описанием быта и нравов низшего слоя общества». «Сегодняшний сыр-бор загорелся в людской оттого, что днём кто-то неловко повернулся в узком проходе из буфетной и нечаянно толкнул официанта Сысоя в тот момент, когда он, изогнувшись, брал разбег из двери в коридор с полным подносом на правой, поднятой кверху руке. Сысой грохнул поднос, пролил суп и разбил посуду, три глубоких тарелки и одну мелкую. Сысой утверждал, что это судомойка, с неё и спрос, с неё и вычет» [IV: 60].
Однако в интертекстуальном плане это «лишнее» описание оказывается весьма важным. Пара «Сысой - судомойка» в предельно сниженном виде дублирует пару «Тристан - Исольда», при этом поднос с тарелками предстаёт искажённым и размноженным вариантом кубка (и то и другое - посуда). Как показал И.П. Смирнов, сцена воспроизводит также детали обстановки и разбивание официантом груды тарелок из кинофильма Я.А. Протазанова «Человек из ресторана» (1927). Официанта играл М. Чехов [Смирнов 20086: 343-345; 2009: 324-325]. Сысой является в то же время скрытой автопародией Пастернака. Как вспоминал его брат Александр Леонидович, когда в 1917 или 1918 г. семья пользовалась чёрным ходом дома на Волхонке, «однажды - и смех, и грех - Боря (или сестра?) поднимался по этим заслякоченным ступеням, держа в руках только что снятую кастрюлю с горячей бурдой, тогда именовавшей себя гордо “супом”, но поскользнулся, и суп струями и водопадом пролился до самого низа! В голодный год - это было трагично, и не до смеха!» [Пастернак А. 2002: 369].
Суп-«напиток Исольды» постояльцы «Черногории» не получили. Можно предположить, что он предназначался для Амалии Карловны, Лары и Комаровского. И мадам Гишар, вероятно, травилась не из-за того, что узнала о связи «покровителя» с дочерью,
26 Пропп цитировал: Фрейденберг О.М. Сюжет Тристана и Исольды в мифологемах Эгейского отрезка Средиземноморья // Тристан и Исольда: Сб. статей. Л., 1932; Казанский Б.В. Античные аспекты сюжета Тристана и Исольды // Тристан и Исольда: Сб. статей. Л., 1932.
27 См. цитированный выше отрывок об О.М. Фрейденберг из письма Пастернака к родителям и сёстрам от 3 мая 1929 г. [ПРС 2004: 435-436].
410
Глава 5
а скорее из-за того, что узнала, что Комаровский приехал в гостиницу с «накрашенной дамой с пухлым, мучнистым от пудры лицом» [IV: 59]. Возможно, он приехал туда ради того, чтобы провести время с этой «дамой», а не ради Амалии Карловны или Лары, и мадам Гишар узнала об этом. Именно тем, что прислуга обо всём знает и сравнивает Амалию Карловну с этой «дамой», и можно объяснить слова судомойки Матрёны Степановны, которые относятся в равной степени к обеим женщинам, при этом указание на мышьяк является по-разному ложным для обеих: «Добро бы что-нибудь стоящее, ради чего шум и посуду бить, а то какая невидаль, мадам Продам, недотрога бульварная, от хороших делов мышьяку хватила, отставная невинность. В черногорских номерах пожили, не видали шилохвосток и кобелей» [IV: 60].
Именно ревностью Амалии Карловны к «даме» (или «дамам» Комаровского, о которых она могла прознать) можно объяснить несколько странное с иной точки зрения поведение Лары и Комаровского, думающих «о своём»: «Оба были довольны, что всё обошлось так благополучно, тайна не раскрыта и травившаяся осталась жива» [IV: 62]. Из этого следует, что Лара была в заблуждении, думая, что мать травилась из-за того, что произошло с ней, или из-за ревности к ней или подозрений. Заблуждение могло поддерживаться молчанием и матери, и Комаровского о настоящей причине отравления. Если бы Лара знала о ней, она иначе вела бы себя по отношению к Комаровскому. То, что Лара и Комаровский были «довольны», можно отнести и к тому, что из-за разбитой посуды не состоялся совместный ужин, который в интертекстуальном плане проецировался бы на питьё «культового напитка оплодотворения» или «субститута крови» Тристаном и Исольдой. Такой ужин свидетельствовал бы о совершении «брачного обряда», который в глазах Амалии Карловны выглядел бы как относящийся к ней и Комаровскому. Значение кубка Исольды подчёркивается горем Сысоя: «Тут нынче было несчастье, кокнули дорогую посуду» [IV: 61]. Любые двое из троих - Лара, Комаровский и Амалия Карловна - имеют общую тайну, которую скрывают от третьего, но мотивы поступков третьего оказываются не теми, как их понимают другие двое. У каждого есть своя тайна, которую он или она скрывают от того, с кем находятся в «заговоре», но о которой знает третий. В словах судомойки можно прочесть также намёк на потасовку, которую устроила Амалия Карловна, заставшая Комаровского в одном из номеров с «дамой». Именно мадам Гишар может быть тем «кем-то», кто «неловко повернулся в узком проходе из буфетной и нечаянно толкнул официанта Сысоя» [IV: 60]28. На вероятную потасовку с соперницей может намекать и сходство Амалии Карловны с «обнажённым борцом с шарообразными мускулами в коротких штанах для состязания» [IV: 61].
Ассоциирование Пастернаком персонажей романа с героями «Тристана и Исольды» является его ещё одним, более поздним и художественным, а не эпистоляр
28 Ср. с контрастирующим «объяснением» доктора с Ларой в буфетной мелюзеевского особняка. Биографической основой этой ситуации был, возможно, разговор Пастернака с Зинаидой Николаевной Ней-гауз в вагоне поезда по пути из Киева в Москву, когда в соседних купе спали её муж и его жена [Пастернак - Пастернак З.Н. 1993: 266-267].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
411
ным29 ответом на письмо М.И. Цветаевой от 15 июля 1927 г., в котором она проецировала свои отношения с Пастернаком на отношения литературных героев (при этом в роли «другой Изольды» оказывалась Е.В. Пастернак): «Борис, ты когда-нибудь читал Тристана и Изольду - в подлиннике: в пересказе, совершенно соответствующем всем тем разрозненным песням и повестям. - Самая безнравственная и правдивая вещь без виноватых, со сплошь-невинными, с обманутым Королём Марком, любящим Тристана и любимым Тристаном, с лжеклятвой Изольды, с пост<оянными> наруш<ениями> самых святых обетов, с - наконец! - женитьбой Тристана на другой Изольде (к<ак> буд<то> бы есть др<угая>!) - “aux Blanches mains”, - из малодушия, из безнадёжности, из, если хочешь, душевного расчёта. И как из этого ничего не вышло, и как из всей любви ничего не вышло, потому что умерли врозь, она - в сознании измены Тристана. (Другая Изольда из ревности сказала той, первой, что корабль, поехавший за Тристаном, возвращается с чёрным парусом, т. е. без него (с незахот<евшим> Тристаном, т. е. без него).) И Изольда умерла. История, ничем не отлич<ающаяся> от истории Кая и Герды, любящих, тер<яющихся>, <нрзбр.>, сход<ящихся>» [Переписка с Цветаевой 2004: 359-360].
Обыгрывание Пастернаком «Тристана и Изольды» служит косвенным подтверждением того, что упоминание Цветаевой «Кая и Герды» также не осталось без внимания30. При рассмотрении реакции Пастернака на цветаевскую трактовку судеб Тристана и двух Изольд необходимо учесть, что, как указывают комментаторы, «Цветаева неверно пересказывает историю гибели героев. Тристан послал корабль за Изольдой, ибо был смертельно ранен и верил, что одна Изольда сможет исцелить его. Было условлено, что, если на корабле, возвращающемся назад, будет белый флаг, значит, он возвращается с Изольдой на борту; если чёрный - значит, она отказалась оставить своего мужа и приехать. Флаг на возвращающемся корабле был белый; однако вторая Изольда, жена Тристана, обманула его, сказав, что флаг чёрный. Тристан умер; приехавшая Изольда легла на его тело и тоже умерла» [там же: 647]. Врозь в романе умирают Юрий Живаго и Лара. О смерти Тони и Марины ничего не говорится. Лара дважды оказывается на теле доктора: когда после возвращения от партизан он находится без сознания и затем в бреду и когда он лежит в гробу.
Отношения Тристана с двумя Изольдами в «Докторе Живаго» Пастернак распределил по треугольникам: ‘Тоня - Юрий Живаго - Лара’ и ‘Лара - Юрий Живаго - Марина’. Доктор женится на Тоне, а затем не женится на Марине отнюдь не из «малодушия» или «душевного расчёта», хотя, по сравнению с его отношением к Ларе, намёки на такую трактовку можно легко отыскать. Лара наделяется характерными чертами обеих
29 Отвечая Цветаевой в письме от 27 июля 1927 г., Пастернак оставлял реакцию на будущее: «Итак, я ничего не скажу тебе по порядку, а по прошествии времени, в итоге ближайшей предстоящей переписки, всё сразу, по разным поводам, исходящим от тебя. Твоё изумительное письмо просто радиоактивно. Я не знаю, что оно даст завтра. На сегодня оно меня излечивает от самой дурной моей болезни: от будничной обстоятельности» [Переписка с Цветаевой 2004: 365].
30 Сравнение «Доктора Живаго» со сказкой Х.-К. Андерсена «Снежная королева» было предпринято: [Йенсен 1997].
412
Глава 5
Изольд: она белорукая («две большие, белые до плеч, женские руки» видит над собой Юрий Живаго, заболевший после возвращения из партизанского плена [IV: 392]) и белокурая (в стихотворении доктора «Свидание»: «И прядью белокурой / Озарены: лицо <...>»). Белые руки были у Зинаиды Николаевны Нейгауз. Пастернак упоминал их в письмах в качестве её характерной черты. Белокурые волосы - деталь облика О.В. Ивинской. Таким образом, Лара наделяется чертами двух упомянутых женщин, проецируется на двух Изольд и по контрасту со всеми названными - на Цветаеву. Таким был ответ Пастернака на её письмо 1927 года, и в нём черты Цветаевой не только не пародируются, но, напротив, все трое - Тоня, Лара и Марина - наделяются духовной высотой, которая различным образом напоминает о Цветаевой. Реакции Пастернака на другие тексты Цветаевой и её поведение были не столь позитивными.
Отмеченная связь «Черногории» со «Стихами к Чехии» Цветаевой [Смирнов 1996: 78] позволяет предположить, что образ Амалии Карловны содержит также спародированные черты поэта. Кроме того, Амалия Карловна имееет значимое различие с Верой Павловной из «Что делать?» Н.Г. Чернышевского и выказывает «происхождение» от героинь «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского - «наделена <.. .> именем хозяйки квартиры, где ютится семейство Мармеладовых, Амалии Ивановны (Людвиговны) Липпевехзель и отчеством соседки Капернаумова Гертруды Карловны Ресслих» [там же: 43, 67]. Отметим также, что, кроме интертекстуальных связей с персонажами «Разбойников» Ф. Шиллера - Амалией и Карлом Моором, Амалия Карловна имеет прототипами двух святых, носивших то же имя. Отчество же её намекает на факты жизни второй из них, которую преследовал Карл. «Обрусевшая француженка» Амалия Карловна «была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности всё время попадала к ним из объятия в объятие» [IV: 24]. Эта характеристика героини пародирует «свадебные» факты житий святых католической церкви: «Амалия - 1) святая, жила в начале 7 в., была замужем за Витгером, пфальцграфом Лотарингским. От этого брака родились св. Адальберт, епископ Реймский и четыре дочери. Впоследствии Амалия вместе со своим супругом удалилась в монастырь. 2) Амалия, другая святая княжеского происхождения, рано ушла в монастырь св. Ландрады в Люттихе. Здесь её увидел Пипин и предназначил в супруги своему сыну Карлу. Но она отклонила все его предложения и, чтобы укрыться от преследований Карла, спаслась бегством в свои имения. Память обеих этих женщин празднуется 10 июля» [Христианство 1993-1995,1: 63-64].
Впрочем, пародийное соотнесение с именами и биографиями святых нисколько не исключает того, что имя и отчество Амалии Карловны, подающей «живой пример <.. .> страха», было позаимствовано Пастернаком из пьесы А.Н. Афиногенова «Страх» (1930), в которой выведена дочь адмирала, дама из «бывших», Амалия Карловна. Соотносятся также семантика фамилии Гишар (‘решётка’) и название этой пьесы. Внимание Пастернака, мечтавшего написать драматическое произведение, к творчеству Афиногенова обусловлено не только успехом пьес последнего, шедших во многих театрах страны, но
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
413
и дружественными отношениями. По свидетельству Зинаиды Николаевны, они дружили семьями, и Пастернак Афиногенова «очень любил» [Пастернак - Пастернак З.Н. 1993: 295], о чём свидетельствует и очерк «Афиногенов. К трёхлетию со дня смерти» (1944). Узнав о связи Комаровского с Ларой, Амалия Карловна становится для него именно «бывшей».
5.4. Двойничество с двойниками Ивановым и Гёте
Интерес Иванова к Гёте, отразившийся, в частности, в статье «Гёте на рубеже двух столетий», которая содержит истолкования важнейших произведений немецкого классика, уже становился предметом научного рассмотрения (см.: [Вахтель 1996]). Мы проследим, как сказались некоторые положения статьи в образах героев и композиционной структуре романа, и какие соответствия им имеются в биографии самого Пастернака.
Можно предположить, что статью Иванова Пастернак читал до того, как в 1918 г. перевёл поэму Гёте «Тайны» (1786)31. Именно эта статья, написанная в 1912 г.32, могла актуализировать для Пастернака творчество Гёте и направить его внимание, в частности, на «Тайны». Чтение указанной работы Иванова могло быть одним из последствий общения Пастернака с автором летом 1914 г. или даже предварять это общение. О том, что Иванов мог обсуждать с молодым поэтом, делившимся с ним планами, свою статью и намерения, а также личность и творчество Гёте, косвенно свидетельствует наличие планов «включить её в сборник “Борозды и межи”, но “трудности печатного дела в военное время” не позволили расширить книгу» (комментарий О. Дешарт - см.: [Иванов, IV: 723]). Быть может, именно беседами о Гёте объясняется то, что Пастернак уже в то предвоенное лето ассоциировал Иванова именно с ним (см. цитированное выше письмо родителям) и ассоциация эта оказалась настолько прочной, что сохранилась и в «Докторе Живаго». Упоминание одного из этих писателей или аллюзия на какое-либо его произведение всякий раз отзываются появлением в тексте деталей и мотивов, указывающих на черты личности и мотивы творчества другого. Гёте и Иванов предстают в паре, своего рода двойниками - такими же, какими были в духовном мире Пастернака, к примеру, Толстой и Шопен.
Читая статью, Пастернак мог обратить внимание на то, что Иванов (который был масоном) сдержанно говорил о масонстве Гёте и, останавливаясь на «Тайнах», не пояснил «непонятный символ: крест, увитый розами», который видит перед собой герой
31 Перевод был опубликован в Москве в 1922 г., а еще в 1918-м подвергся критике со стороны А.А. Блока, написавшего для издательства «Всемирная литература» рецензию на него [Блок, VI]. В «Людях и положениях» Пастернак оценил этот отзыв как «пренебрежительный, уничтожающий <...>, в оценке своей заслуженный, справедливый» [III: 311]. Позднего Пастернака перевод «Тайн», по свидетельству его сына и биографа, «резко не удовлетворял» [Пастернак Е. 1997: 634].
32 Она составила вторую главу «Истории западной литературы», появившейся в издательстве товарищества «Мир» (т. 1, 1912).
414
Глава 5
стихотворения - странник. Такое умолчание могло привлечь внимание Пастернака к розенкрейцерству как Гёте, так и самого Иванова, для которого этот символ не только не мог быть «непонятным», но вызывал живейший интерес. Тем не менее, говоря о комментарии Гёте к «Тайнам», сделанном в 1816 г., Иванов предпочёл о розенкрейцерстве не распространяться: «(Очевидно, мы имеем дело с чем-то заветным, что Гёте пронёс, как веру, через всю жизнь)» [Иванов, IV: 141]. Заметим, кстати, что Гёте был возведён в масоны в ложе «Амалия» в Веймаре в 1782 г. С названием ложи совпадает имя матери Лары. А её отчество - Карловна - соотносит её «дочерней» связью с герцогом Веймарским Карлом Августом, у которого Гёте служил министром.
Негативные отзывы позднего Пастернака об Иванове объясняются, по-видимому, соперничеством и скрытой борьбой за возможность самому предстать двойником Гёте. Этот мотив был, возможно, одной из сил, двигавших колоссальную работу по переводу «Фауста», проделанную в период создания «Доктора Живаго». Ср. с объяснением причины самим Пастернаком, который сообщал Б.К. Зайцеву 28 мая 1959 г.: «Я послал Вашей дочери “Фауста”. Вот с каким сожалением и болью сопряжены у меня работы этого рода. Ни разу не позволяли мне предпосылать этим работам собственных предисловий. А, может быть, только для этого я переводил Гёте, Шекспира. Что-то редкостное, неожиданное всегда открывалось при этом, и как (!) всегда тянуло это новое, выношенное живо и сжато сообщить! Но для... “работы мысли” у нас есть другие специалисты, наше дело - подбирать рифмы» [Переписка 1990а: 47].
Интертекстуально в «Докторе Живаго» стремление «преодолеть» Иванова выразилось в реинтерпретации тех же Гётевских образов, мотивов и положений, на которые обращал внимание в своей статье старший современник. Впрочем, восприятие Иванова и Гёте как двойников, отношение Пастернака к Гёте определялось примерно теми же параметрами, что и его притяжение к символизму и отталкивание от него. Видение Гёте как современного и актуального автора могло быть обусловлено, в частности, утверждением Иванова о том, что «в сфере поэзии принцип символизма, некогда утверждаемый Гёте, после долгих уклонов и блужданий снова понимается нами в значении, которое придавал ему Гёте, и его поэтика оказывается, в общем, нашею поэтикою последних лет» [Иванов, IV: 112].
Иванов указывал также причину актуальности Гёте и направленность его творчества, которые для позднего Пастернака лишь подтверждали чрезвычайную значимость немецкого классика: «Потому-то Гёте и простирает так далеко своё влияние, потому-то его действие не прекратилось и в наши дни, что начинает он издалека, переживая в рамках своей личной внутренней жизни всю историю европейского духа и ещё раз проводит тем же долгим путём своего героя - Фауста <...>. Вся задача его творчества, поскольку последнее было обращено не к природе, а к культуре, сводилась к тому, чтобы найти равнодействующую начал: античности, средневековья и Возрождения, и по этой равнодействующей определить направление энергий, долженствующих проявиться в грядущем человечества» [там же: 130-131].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие 415
То, что Гёте занимал особое и значительнейшее место в духовном мире Пастернака, отмечали даже такие далекие от Пастернака люди, как один из редакторов Гослитиздата А.И. Пузиков, который, побывав в рабочем кабинете писателя в Переделкине, заметил произведения Гёте среди немногих книг, которые, «по-видимому, представляли для хозяина кабинета первостепенную ценность» [Пузиков 1990: 494].
«Конструирование» собственной судьбы и программы поведения, в частности в сфере отношений с будущим, велось Пастернаком с оглядкой и на других мыслителей, имевших для него не меньший вес, например, на русских классиков от Пушкина до Толстого, и шире - на разные периоды русской и европейской культуры. Этот диапазон и глубина захвата культурной толщи вполне допускался теми оценками, которые дал Гёте в 1912 г. Иванов: «Поистине может показаться, что, подводя с Шиллером итоги своего великого века, Гёте, сам того не зная, вглядывался сквозь мглу наступающего нового столетия в далёкие проблемы наших дней33. В самом деле, обозревая всю огромную деятельность этой сверхчеловечески вместительной жизни, мы видим, что, питая и преобразуя современность, он вместе с тем ставил вопросы, самый смысл которых современность ещё не вполне понимала, и отчасти уже давал ответы на ещё не поставленные временем вопросы» [Иванов, IV: 112-113].
Пастернак чувствовал то же в применении к себе. «Время моё ещё не пришло», -писал он 31 декабря 1953 г. О.М. Фрейденберг, повторяя слова Христа [Пастернак 1989-1992, V: 524]. Ср. также с непониманием Юрия Живаго современниками, которое после 1917 года всё больше усиливалось и в последние годы жизни доктора в Москве вылилось в чуть ли не открытый конфликт (упрёки доктору со стороны Гордона и Дудорова). Проводы Гёте и Шиллером «великого столетия», всматривание в «тёмный лик» и «мглу» нового века, который, в свою очередь, уже ушёл для Иванова, и гадание о преемнике [Иванов, IV: 111, 113] в «Докторе Живаго» трансформированы в ночные беседы Юрия Живаго и Гордона на фронте Первой мировой войны, в «разговоры вполголоса» доктора и Лары в Юрятине, в беседу Гордона и Дудорова «высоко у раскрытого окна над необозримою вечернею Москвою» [IV: 514]. Тематика этих «сократических диалогов» и настроения героев близки тем, что были у прототипов.
Обыгрывание сцены беседы двух друзей дополняется влиянием характеристики мирочувствования Гёте, которую Иванов сопроводил примечанием, прямые ассоциации с которым возникают в финале романа - сцене беседы Гордона и Дудорова. «Созерцание и изучение природы граничило поэтому для Гёте с религиозною медитацией, которая сосредоточивала в наблюдаемом явлении, как в фокусе, всё его космическое чувствование, оное же легко обнаруживало в отдельном феномене множество соотношений и связей с другими и наводило созерцание на широкие обобщения. <...> Вот пример: “Сидя на высокой нагой вершине и озирая широкую окрестность, я могу сказать себе: вот, ты на скале, которая опускается своими корнями до глубочайших мест зем
33 Ср. с первыми двумя строфами «Гамлета».
416
Глава 5
ли... В это мгновение, когда внутренние притягивающие и движущие силы земли как бы непосредственно на меня воздействуют, тогда ближе обвевают меня влияния неба, дух мой возвышается до более высокого созерцания природы. Такое одиночество ощущает человеческая душа, желающая открыться лишь древнейшим, первоначальным и глубочайшим чувствованиям Истины. Тогда человек может сказать себе: здесь, на старейшем и вечном алтаре, воздвигнутом прямо из глубины творения, я приношу жертву Существу существ”» [Иванов, IV: 142-143, 723].
Разговоры героев «Доктора Живаго», спроецированные на проводы Гёте и Шиллером «великого столетия», всякий раз предваряются эпизодами, соответствующими ситуации, когда между немецкими поэтами возникла дружба. Иванов описал её так: «С общей досады на мертвенность практикуемых профессиональными учёными естественно-научных методов началась и дружба Гёте с Шиллером. Оба возвращались в Иене с заседания общества натуралистов и заговорили о морфологии растений. <...> Наука девятнадцатого века с благодарностью приняла синтез Гёте, развитый им в “Метаморфозе растений” (1790)» [там же: 143].
Второй ночной беседе Юрия Живаго и Гордона предшествовало их возвращение мимо прифронтовых деревень, во время которого они стали свидетелями сцены издевательства казаков над стариком-евреем. В первую же ночь друзья обсуждают удары от снарядов немецкой пушки «Берта». Следующей ночью доктор высказывает досаду на «лингвистическую графоманию словесного недержания» «корреспондентов и журналистов», которыми «наводнён» фронт и которые «изо дня в день стреляют перечислениями, запятыми и фразами, <...> журнальным человеколюбием» [IV: 123]. Гордон же досадует на то, что на «еврейство» «национальной мыслью возложена <.. .> мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи» [IV: 124].
В случае Юрия Живаго и Лары ситуация знакомства Гёте и Шиллера сказывается в их разговорах при встрече в Юрятине перед тем, как доктор попал к партизанам; последующие же проводы «великого столетия» он вынужден совершать с Ливерием в его землянке. Финальной беседе Гордона и Дудорова предшествует их разговор на фронте несколькими годами ранее.
Стоит отметить, что инвектива в адрес «корреспондентов и журналистов» имеет автобиографическую основу. В письме от конца декабря 1945 г. к сёстрам Пастернак писал: «Дорогие Жоня и Лида! Отчего у вас ни слова о Феде, о самих себе, о ваших домах и детях? Спасибо за твою Spring, Лида. Молодчина! Много ли ты этим занимаешься? Я несколько раз запрашивал об Алеше, Стёпе и Эне, живы ли они? Не удивляйтесь моему треску. Для краткости я буду стрелять фразами» [ПРС 2004: 757].
В статье Иванов высказал насущную задачу, стоявшую когда-то перед Гёте (а теперь -перед самим Ивановым) - «подвергнуть пересмотру идейное наследие протекшего столетия и осознать его - в исторических корнях», поскольку «не может быть истинно-но-
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
417
вого творчества без последнего сведения счётов с преданием» [Иванов, IV: 111]. Выполнением именно такой задачи явился для Пастернака его роман, в котором он «свёл счёты» с преданием, понятым не только в узком смысле - как, в частности, фольклор, но и в самом широком - как мировая культура.
Для Иванова решение задачи требовало расширенной постановки проблемы, и он задавал вопрос: «Можем ли мы, например, сказать, что запросы французской революции либо обличены во лжи, либо осуществлены жизнью?» И тут же отвечал: «Девятнадцатый век только показал их несостоятельность как отвлечённых начал, говоря проще, сделал очевидным, что “права человека” не могут быть проведены в жизнь иначе, как в связи с решением общественного вопроса и на почве отношений хозяйственных. Но, быть может, и эта постановка задачи в нашем веке будет признана всё ещё недостаточною, быть может, грядущим поколениям суждено внести в работу над ней религиозное одушевление, без которого слова о свободе, равенстве и братстве останутся навсегда только словами» [там же: 111-112].
Предшественники, истолковывавшие итоги Великой Французской революции (Гёте, Диккенс), давали модель исторического цикла, пример её изображения и истолкования. Иванов актуализировал повторяемость ситуации 100-летней давности. Но для Пастернака была уже очевидна неудача выполнения поколением Иванова поставленной им задачи (в том числе и собственная неудача ответить на неё большим прозаическим произведением), и потому «Доктор Живаго» являлся новой попыткой её выполнения, совершённой именно с «религиозным одушевлением». О том, что Пастернак оценивал эту попытку как успешную, можно судить по его оценке своего романа, замаскированной ссылкой на художника современного или будущего (скрыто спроецированного на неузнанного Христа второго пришествия) и на его предстоящий подвиг. 11 сентября 1959 г. он писал П.П. Сувчинскому: «Пусть не я, а кто-то другой, но кто-нибудь один на свете должен сейчас каким-нибудь художественным подвигом, чем-нибудь живо и горячо созданным, доступным, как природа, но и непроходимо девственным и новым, как природа, и предельно, предельно значительным заменить власть опустевших, мёртвых, отвлечённых современных форм и значений политических, общественных, философских. Как-то опять (давайте выразимся так) слово должно сблизиться с плотью. Мысль, или то, что стали в наше время называть мыслью, обесцвеченная, подорванная, опозорившаяся, мертвящая, так подчас эпидемически худосочна, так гнойно-опасна!» [Переписка с Сувчинским 1994: 271-272].
Говоря о «неполной переработке творчески зачинательных идей восемнадцатого века развивательным творчеством девятнадцатого» и риторически вопрошая, «не были ли мы ещё недавно свидетелями поворота философской мысли “назад к Канту”», Иванов указывал: «Разве не на “преодоление” Канта надеется новая энергия метафизического творчества, которому законодатель всякого возможного познания поставил слишком стеснительные грани? - но преодолеть Канта не может» [Иванов, IV: 112]. Пример «преодоления» Канта для Пастернака, прошедшего марбургскую школу неокантианства, явил
418
Глава 5
в «Закате Европы» О. Шпенглер. Другими значимыми в этом плане авторами могли быть для него сам Иванов и Андрей Белый, тем более что они совершили это «преодоление» раньше Шпенглера. «Доктор Живаго» стал для Пастернака утверждением собственного «преодоления» Канта. Помощниками в этом «преодолении» Иванов называл исторические науки. К таковым Пастернак вполне мог отнести работы Проппа. Более того, обращение Пастернака со сказочными моделями и мотивами, описанными Проппом, позволяет придать статус подобной исторической науки самому роману «Доктор Живаго». Своим главным произведением Пастернак исполнял «призвание исторических наук перед лицом жизни, <.. .> их жизнетворческое назначение», которые Иванов видел в том, «чтобы вскрытием зависимости нашей от предков учить нас путям истинной независимости и углублять те из них, чьи корни полны жизненных соков, и способствовать нашему внутреннему освобождению от других, чьи корни мертвы» [Иванов, IV: 112].
Авторская интонация в «Докторе Живаго» очень близка (если вообще не совпадает) к той, с которой написана статья Иванова. Но смысл Пастернак перевернул. Ср., например, показательные автоописательные отрывки, касающиеся содержания и организации дальнейшего повествования: - начало 4 главы части шестой «Московское становище», где говорится, что «в течение нескольких следующих дней обнаружилось, до какой степени» доктор «одинок» и что «странно потускнели и обесцветились друзья» (лето 1917 года) [IV: 173]; - 1 главу части пятнадцатой «Окончание» «Доктора Живаго», рассказывающую о возвращении главного героя в Москву в 1922 году; и вступительный абзац II главы статьи Иванова: «Цель и границы этого очерка не позволяют нам подробно останавливаться на изображении внешней жизни Гёте и его душевной жизни до той решительной и явственной перемены в нём, которая поразила и отчасти смутила всех его знавших после его возвращения из Италии в июне 1788 года» [Иванов, IV: 113].
Иванов кратко перечисляет вехи биографии Гёте до того, как тот в 27 лет оказался в Веймаре в ранге тайного советника и министра, и на эти вехи оказываются весьма похожи этапы биографии Юрия Живаго. Можно выделить три параллельных цикла этих этапов. В каждом из них начальный и конечный пункты - Москва.
С вышеперечисленными местами «Доктора Живаго», особенно с началом 1 главы части пятнадцатой и началом 5 главы части шестнадцатой «Эпилог», почти совпадает и начало XII главы статьи Иванова: «Нам остаётся, по необходимости в кратких словах, бросить общий взгляд на два огромных произведения Гёте, завершение которых было главным подвигом его последней эпохи, внешне и в целом ровной и счастливой, похожей на медленный, почти безоблачный закат великолепного римского дня в прозрачном золотом расплаве» [там же: 148].
Подобное предуведомление позволяет сопоставлять Юрия Живаго с Фаустом: «Размеры очерка не позволяют говорить о “Фаусте” так, как этого требовала бы, даже в рамках беглого обзора, тема столь важная, глубокая и сложная» [там же: 151]. В «Докторе Живаго» вводный пассаж Иванова разделён, по крайней мере, надвое, и всё подано наизнанку: «Остаётся досказать немногосложную повесть Юрия Андреевича, восемь или
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
419
девять последних лет его жизни перед смертью, в течение которых он всё больше сдавал и опускался, теряя докторские познания и навыки и утрачивая писательские, на короткое время выходил из состояния угнетения и упадка, воодушевлялся, возвращался к деятельности и потом, после недолгой вспышки, снова впадал в затяжное безучастие к себе самому и ко всему на свете. <.. .> Однажды тихим летним вечером сидели они опять, Гордон и Дудоров, где-то высоко у раскрытого окна над необозримою вечернею Москвою» [IV: 463, 514].
Далее Иванов описывает обстановку в Веймаре, которая была благоприятна для Гёте, способствовала его развитию и располагала к творчеству. Для Юрия Живаго московские ситуации, в которые он попадает, едва ли не в той же степени оказывались неподходящими не только для творчества, но и для жизни вообще. Однако, несмотря на это, доктор, как и Гёте, обретал (пусть иногда и поневоле) «условие своего внутреннего роста в законе самопреодоления и самоограничения»34 [Иванов, IV: 115]. В роли «молодого владельца миниатюрного герцогства Веймарского Карла Августа» [там же: 114] в Москве предстаёт Евграф. Но если он имеет политическую власть, то Юрий Живаго, как Гёте в Веймаре, - духовную.
«Гёте-министр и понял свою задачу в своём новом маленьком государстве как задачу устроительную и образовательную. В этом побуждении материально и духовно оказывать некое творчески-нормативное воздействие на окружающую многосоставную и органически расчленённую среду лежат корни позднейшего интереса Гёте к правильному устройству общественных отношений и социальному вопросу, который, однако, никогда не представлялся ему вне связи с духовным воспитанием человечества, но всегда как бы в системе концентрических кругов посвящения, при которой разными представляются потребности, права и обязанности людей, дальше или ближе стоящих к центральному источнику просвещения и жизнестроительств, - круг идей, в котором нетрудно различить идейную закваску того масонства, что окрашивало собой большую часть программ общеполезной деятельности восемнадцатого века и в Веймаре имело одну из своих подчинённых диоцез» [там же, IV: 115].
Жизненный путь Юрия Живаго - это прохождение именно «концентрических кругов посвящения», «внешним» свидетельством чему является его перемещение (определяющее композиционную структуру романа). Москва, в которую всякий раз возвращается доктор, представляет собой место, противоположное Веймару Гёте, но деятельность доктора также определяется, помимо прочего, (в его случае тайным) масонством. Каждое возвращение героя Пастернака - это продвижение именно к «центральному источнику просвещения и жизнестроительств», который представляет собой вывернутый аналог Веймара. Таинственность миссии Юрия Живаго и его отстранение от участия в де
34 Пастернак периодически актуализировал для себя это условие не только во время работы над «Доктором Живаго», но и в течение всей творческой жизни. Например, ещё в 1925 г. в ответе на анкету «Что говорят писатели о Постановлении ЦК РКП(б)» (1925) он писал: «В последнее время наперекор всему я стал работать, и во мне начали оживать убежденья, казалось бы, давно похороненные. Я думаю, что труд умнее и благороднее человека и что художнику неоткуда ждать добра, кроме как от своего воображенья» [V: 213].
420
Глава 5
л ах власти значимо контрастирует с явным и официальным участием Гёте в делах Веймарского герцогства. Такой же инверсированностью характеризуются «просвещение и жизнестроительства», которыми занят Живаго и о масштабе, конкретном наполнении и значении которых позволяет судить работа Гёте. Каждое прибытие доктора в Москву и период относительно спокойной жизни там следуют за пребыванием в хаосе войн и революционной смуты. Так Пастернак воспроизводит прототипическую ситуацию из жизни Гёте, духовно формировавшегося в тихом Веймаре. Иванов указал, что «возможность развития этих стройных, упорядоченных форм, подчинённых чувству меры и найденной личностью в своих глубинах божественной норме, была обусловлена предшествовавшим периодом смутного брожения и хаотического бунта против всех норм» [Иванов, IV: 115].
Далее он писал, что «в этот период люди века, неудержимо, бессознательно тяготевшего к обновительной катастрофе, которая бы положила конец гнетущему коснению старого уклада и всей традиционной уставности, успели полюбить Гёте и в него навсегда поверить. В этот период успел так сказать об ином и непосредственно нужном времени своё огненное слово, так возблистать и ослепить современников его мятежный гений, что отныне, живя в современности на верный доход от приобретённого тогда, он мог пользоваться для своего духа такою же привилегией нейтральности и экстерриториальности, какая выпала на долю его внешнему бытию и бытию его маленькой страны среди надвигавшейся исторической смуты. Отныне он мог бестрепетно и невозмутимо вглядываться в глубь мировых загадок и во мглу грядущих времён, потому что уже отдал дань мятущейся душе века в так называемые годы бури и натиска, стремления которой нашли в его творчестве своё окончательное и совершенное выражение - окончательное потому, что они заключали в себе уже и её преодоление. Мы говорим о юношеской драме “Гец фон Берлихинген” и особенно о знаменитом романе “Вертер”]» [там же: 115-116].
Последний пассаж расслаивается на три отражения в «Докторе Живаго»:
1) описание разговора Живаго и Стрельникова в Барыкине (16 и 17 главы части четырнадцатой «Опять в Барыкине»), и особенно следующие участки текста: «Они разговаривали уже давно, несколько битых часов, как разговаривают одни только русские люди в России, как в особенности разговаривали те устрашённые и тосковавшие и те бешеные и исступлённые, какими были в ней тогда все люди. <...> Это была болезнь века, революционное помешательство эпохи. В помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях. Совесть ни у кого не была чиста. Каждый с основанием мог чувствовать себя во всём виноватым, тайным преступником, неизобличённым обманщиком. Едва являлся повод, разгул самобичующегося воображения35 разыгрывался до
35 Пастернак скрыто спорит здесь с Ф.М. Достоевским и М.А. Волошиным, свидетельствовавшим в своём стихотворении «Трихины» (1917) об исполнении пророчества из эпилога «Преступления и наказания» о появлении «новых трихинов» и подхватившим слова из «Братьев Карамазовых» о том, что «каждый / За всех во всём пред всеми виноват» [Волошин 1995: 217, 614]. Разговор Стрельникова и Живаго напоминает о разговоре Ивана и Алеши Карамазовых.
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
421
последних пределов. Люди фантазировали, наговаривали на себя не только под воздействием страха, но и вследствие разрушительного болезненного влечения, по доброй воле, в состоянии метафизического транса и той страсти самоосуждения, которой дай только волю, и её не остановишь» [IV: 454-^455]; «Весь этот девятнадцатый век со всеми его революциями в Париже, несколько поколений русской эмиграции, начиная с Герцена, все задуманные цареубийства, неисполненные и приведённые в исполнение, всё рабочее движение мира, весь марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и быстроту умозаключений, насмешливость, всю во имя жалости выработанную вспомогательную безжалостность - всё это впитал в себя и обобщённо выразил собою Ленин, чтобы олицетворенным возмездием за всё содеянное обрушиться на старое. Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах у всего мира вдруг запылавшей свечой искупления за всё бездолье и невзгоды человечества» [IV: 459].
2) творчество и духовные прозрения Юрия Живаго в периоды жизни в Москве после возвращений, а также в Мелюзееве и Барыкине;
3) жизнь и творчество Пастернака в Переделкине, его сознательно выстраиваемая позиция по отношению к официальной литературе и власти, а также к своему раннему творчеству.
Последний пункт может объясняться также замечанием Иванова о том, что жизнь Гёте в Веймаре была обусловлена его предшествующей деятельностью, «данью мятущейся душе века» и влиянием на современников [Иванов, IV: 115]. Пример немецкого классика представал схемой, по которой Пастернак строил как свою жизнь, так и биографию героя, сначала приветствовавшего революцию, а затем ушедшего в себя для борьбы с её духовными последствиями. Пастернак шёл сам и направил Юрия Живаго по тому же «третьему пути», которым двинулся, по определению Иванова, Гёте: «Был ещё и третий путь, кроме сдачи и бунта, путь творчества про запас, во имя вечности и на пользу грядущих времен, но этот путь был открыт одному гению: Гёте не мог не пойти по этому предуготованному для него пути. Поэтому преодолеть бурю и натиск для него было нетрудное дело: его переживания были уже преодолением, ибо с самого начала не время владело им, а он временем. Шиллер переживал движение субъективно, Гёте же -объективно» [там же: 116].
Стоит отметить, что Юрий Живаго переживал войны и революции и субъективно, и объективно, однако следование по гётевскому «третьему пути» было той доминантой, которая определяла раздражённую реакцию доктора, обозначающего свою «гётевскую» позицию, на шаблонное мышление Ливерия, цитирующего Шиллера. «Поймите, поймите, наконец, что всё это не для меня. “Юпитер”, “не поддаваться панике”, “кто сказал А, должен сказать БЕ”, “Мор сделал своё дело, Мор может уйти”, - все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу А, а БЕ не скажу, хоть разорвитесь и лопните. Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погряз
422
Глава 5
ши в нищете и невежестве, и тем не менее мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас, и ну вас всех к чёрту» [IV: 337].
Комментаторы указывают, что это - «цитата из пьесы Ф. Шиллера “Заговор Фиеско в Генуе” (д. 3, явл. 4). Вместо традиционного “мавр” Живаго пользуется немецким “Моог”» [Пастернак 1989-1992, III: 706]. Заметим, однако, что немецким «Моог» пользуется не доктор, а Ливерий, слова которого доктор лишь повторяет. Передразнивая партизанского начальника (вожака «разбойников» профанируемого Ливерием Шиллера), Юрий Живаго вряд ли стал бы менять «мавра» на «Моог». «Мор» в устах Ливерия имеет и значение «революционная эпидемия», «чума» как явление апокалиптической современности. Разговоры доктора с Ливерием также являются доведёнными до профанаций инверсиями разговоров Гёте и Шиллера. В 1920-е годы, как указал Ю.К. Щеглов, канцелярский лозунг «Сделал своё дело - и уходи» был «частой мишенью сатиры» [Щеглов 1995а: 435-436], и отповедь Юрия Живаго Ливерию и властителям его дум, испытывающим пристрастие к всеобъемлющей регламентации жизни, наставлениям, общественно-воспитательной работе, касается и этого, канцелярского, аспекта советской действительности.
По «третьему пути» вслед за Гёте (в интерпретации Иванова) следовал и сам Пастернак, инверсировавший мотив «владения временем» в «формулу», которой завершается стихотворение «Ночь» (1956). Она касается современного художника и представляет собой автохарактеристику: «Ты - вечности заложник / У времени в плену» [II: 168]. Оглядка именно на Гёте подтверждается восьмой и девятой строфами, где возникает неназванный «кто-то», в котором можно узнать немецкого мыслителя. При этом образ одинокого бодрствующего художника являет собой как инверсию ночного разговора Гёте и Шиллера, рассказом о котором начинается статья Иванова (в стихотворении присутствует лишь один художник, а не двое, как Гёте и Шиллер), так и обыгрывание ивановского рассказа о Гёте, который, обосновавшись в Веймаре, «вглядывался в глубь мировых загадок и во мглу грядущих времен» [Иванов, IV: 116]):
Кому-нибудь не спится В прекрасном далеке На крытом черепицей Старинном чердаке.
Он смотрит на планету, Как будто небосвод Относится к предмету Его ночных забот [II: 168].
Обыгрывание Пастернаком и в романе, и в стихотворении «Ночь» ассоциативно сочетающихся мотивов «владения временем» и ночного разговора свидетельствует о том, что для него они находились в устойчивой связи, которая и формировала образ Гёте. А возникнуть эта связь могла, в частности, благодаря влиянию статьи Иванова.
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
423
Отмечая, что ««Ночь» скреплена с «Гефсиманским садом» мотивом «борьбы с дремотой»», И.П. Смирнов указывает на присутствие отсылки к «Опавшим листьям» В.В. Розанова и другим претекстам: «У, как я хочу вечного. “Раб времени ", тысячелетия или минуты - всё равно. У, как я не хочу этого “раба времени” <...>—> Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну. Ты вечности заложник У (ср. междометие “у” в прозе Розанова) времени в плену36 <.. .>: «Самый повтор “Не спи, не спи..- это цитата из “Макбета” (сцена после убийства Дункана во время сна)» [Смирнов 1995:175; курсив автора].
Добавим, что «художник» из «Ночи» занят тем же, чем занимались алхимики - уловлением Spiritus Mundi - «таинственного начала, подобного тонкой взвеси, содержащегося в росе, воздухе, солнечных и лунных лучах и даже в материи падающих звёзд» [Ютен 2005:18,57,126,235]. Поэтому ещё один ключ к стихотворению - это описание свойств философского камня, сделанное Спербером и приведённое А. Пуассоном: «“Он очищает и иллюминует так тело и душу, что тот, кто его имеет, видит как в зеркале все движения небесных созвездий и влияния светил, даже не глядя на небесный свод, с закрытыми окнами своей комнаты” (Sperber. “Isagoge de material lapidis”)» - «Введение в материю камня» (лат.) (цит. по: [Пуассон 2006: 184-185]). Этот случай использования Пастернаком источника по алхимии является одним из подтверждений того, что он читал книгу Пуассона.
Свое «владение временем» Пастернак выразил, создав роман. Он делал это так же, как Гёте писал свою «историческую хронику, по образцу Шекспировых, из бурной и потому соответствовавшей брожению умов и порывам воль революционной эпохи (Гец): он объективирует современность, перенося её в историю» [Иванов, IV: 117]. Создавая роман вопреки духовно нездоровому времени, в котором жил и отталкивание от которого ко времени работы над «Доктором Живаго» стало особенно сильным, Пастернак действовал, как Гёте, создававший «Вертера». Неудивительно, что Гёте и его герой оказались в числе прототипов Юрия Живаго, победившего время, и его двойника Антипова-Стрельникова, павшего жертвой времени. По оценке Иванова, «Вертер <...> был списан с действительности по методу сильного преувеличения собственного жизненного положения и подстановки на место себя и в это положение другого лица (Иерузалема), в котором зоркий наблюдатель совершающегося вокруг подметил отличительный тип переживаемой поры. Жизненное разоблачение тех состояний, которые толкали в гибель обречённую жертву времени, вызвало учащение аналогичных гибелей и показалось самому поэту невольным, но все же преступным подстрекательством. Ужаснувшемуся пришлось наскоро бить отбой и прежде всего опомниться самому, искать для самого себя стройности, меры и пределы» [там же: 117].
Духовное и душевное состояния 55-летнего Пастернака, пережившего революции и войны и после неудачных попыток написать роман (в 1930-е годы) приступившего к созданию «Доктора Живаго», совпадают (насколько об этом можно судить по письмам)
36 Ср. попытку возвести процитированную строфу к ранней прозе Рильке, не противоречащую сказанному выше: [Gifford 2003: 123].
424
Глава 5
с состояниями 30-летнего Гёте, который после периода бури и натиска обретает «собственное внутреннее счастие, глубокий золотой покой духа, находящего самого себя на путях глубинного утверждения бытия в Боге и мире, в себе самом, живом, во всём, что живо; в Боге же все живы, ибо Он не Бог мёртвых, но живых» [Иванов, IV: 118]. Пастернак, взявшийся за роман, как и Гёте, подверг переоценке пройденный путь и хотел так же «отвыкнуть от всего половинчатого и жить с решимостью в целостном, добром, прекрасном» (Иванов цитировал слова Гёте - [там же]). Пример Гёте стал для Пастернака тем более значимым, что с началом работы над романом он приступил и к переводу «Фауста» и, вероятно, восстанавливал в памяти всё, что связано с Гёте и написано о нём, в том числе, вероятно, и статью Иванова, которую мог читать до революции. Осуждение Пастернаком футуризма, переводы Шекспира и Гёте, которые он делал не только из «любви к искусству», но и для заработка, позволявшего работать над «Доктором Живаго», обращение к «традиционной» прозе с сюжетом, выстраиваемым по примеру Диккенса и Достоевского, - всё это лишь некоторые слагаемые жизненного поворота, который Пастернак совершил по примеру Гёте, «обратившемуся к принципу формы, загоревшемуся художнической страстью - изваять собственный дух, неумолимо поднявшему на себя самого рабочий молот долга». Ему, как и Гёте, «предстала - уже неотложная - нужда в образцах совершенной формы» [там же].
Иванов задавался в отношении Гёте целью «понять окончательные формы его духовного самоопределения - или, точнее, самообретения» и для этого «обозреть весь долгий путь вполне сознательного умственного, нравственного и эстетического оформления личности - путь, вступление на который показалось современникам непонятным от них отчуждением замкнувшегося в свой внутренний мир поэта-мыслителя, а самому Гёте - образованием в нём нового человека». Иванов заключал, что «это изменение всего душевного строя было осознано самим поэтом как плод путешествия в Италию, которое он предпринял уже тридцати семи лет от роду, в 1786 году» [там же: 113].
У Пастернака тоже был «долгий путь», которым он шёл к «Доктору Живаго», были моменты «изменения всего душевного строя» и отчуждения от современников, важнейшие из которых приходятся на 1940 и особенно на 1945-1946 годы, когда он приступил к работе над романом. То же самое происходит и с неоднократно возвращающимся в Москву Юрием Живаго. Например, в советской Москве в 1929 году Гордон и Дудоров требуют у 37-летнего Живаго, замкнувшегося в себе после возвращения из Сибири и с Урала, «разобраться без неоправданного высокомерия, да, да, без этой непозволительной надменности, в окружающем» [IV: 481].
Двухлетнее странствие Гёте по Италии по стопам Винкельмана в поисках «вечных типов, чистых линий и очерков божественной олимпийской красоты» Иванов называет событием, «отметившим наступление новой эры гуманизма» [Иванов, IV: 119, 121], — уральско-сибирские мытарства Живаго, в духовном отношении сначала шедшего за Веденяпиным, а в 1917 году «преодолевшего» его, стали подтверждением «крушения
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
425
гуманизма», о котором возвестил Блок. На некоторых деталях, выдающих Иванова в качестве прототипа Веденяпина, мы остановимся ниже.
Большое внимание, которое было уделено этому путешествию Гёте, написавшего о Винкельмане биографический очерк, а также факт влияния на автора «Доктора Живаго» статьи Иванова даёт возможность увидеть диахроническую линию культурной преемственности и инверсионного двойничества, которая поддерживается и пространственным перемещением, свидетельствующим о культурном тяготении: Пастернак (из Москвы - в Переделкино; Юрий Живаго из Мелюзеева и Юрятина-Варыкина - в Москву), Иванов (из Москвы - в Рим), Гёте (в Веймар, оттуда по стопам Винкельмана - в Италию), Винкельман (из Германии - в Рим), древние греки, в частности, Гомер. В свете подключённое™ Пастернака и его героя к данной линии соответствующую глубину и смысл приобретают биографии автора и героя, мотивы их поступков и состояния духа. Иванов объяснял значение и направленность этой преемственности: «Имена Винкельмана, Лессинга, Гёте знаменуют собою так называемое “новое Возрождение” восемнадцатого века. Оно начинается с поисков подлинной Греции, не довольствуясь тем слитным образом античности, который вдохновлял старых гуманистов Ренессанса, - образом, в котором примешано было больше римских элементов, нежели греческих» [там же: 119-120].
Возможно, Пастернак усмотрел в статье Иванова не просто попытку подключения к традиции, но и своего рода узурпацию права на преемственность, тем более сильные, что производились одним из самых глубоких мыслителей современности. «Доктор Живаго» в этом свете предстаёт серьёзным аргументом оспаривания предшественника, за счёт чего происходило собственное подключение Пастернака к магистральной линии европейской культуры.
Иванов отметил, что занятия Гёте «и в итальянский период, как, впрочем, и в любую эпоху его жизни, удивляют нас своею разносторонностью, которая может показаться даже просто разбросанностью нам, привыкшим достигать всего ценою специализации и, быть может, часто её преувеличивать. Не таковы были люди восемнадцатого века с их склонностью к универсализму» [там же: 122].
Именно таким является роман Пастернака, а в самом произведении предстаёт творческая деятельность доктора, когда он поселяется в комнате в Камергерском переулке (глава 10 части пятнадцатой «Окончание»). Творчество Юрия Живаго описывается едва ли не словами Иванова, что свидетельствует о прямом влиянии текста статьи старшего современника. Эту «разбросанность занятий» Гёте (зеркально воспроизведённую Юрием Живаго) Иванов характеризует как кажущуюся и указывает, что разнообразные умственные интересы объединялись общим принципом: Гёте творил «свой мир, ища заключить в себя весь мир, обедняя своё субъективное содержание для приятия в свою душу всего мира» [там же: 123]. Пастернак, показав «разбрасывающегося» героя, подобного объяснения не дал, поскольку ему пришлось бы вдаваться в слишком прямолинейные для художественного произведения объяснения, тем более что они уже были сделаны Ива
426
Глава 5
новым. «Утаивание», «опускание» резюме являет собой скрытую отсылку читателя к тексту, в котором всё уже сказано. Следование героя Пастернака путём Гёте, который «чужд был теоретических сомнений в познаваемости реального, которые привил грядущим поколениям Кант», и «открывал <.. .> в себе самом и минерал, и растение, и зверя, и то высшее, чем мир зримый и осязаемый, что питало религиозные корни этой глубоко религиозной души» [Иванов, IV: 123-124], - это следование определило антикантианство Юрия Живаго, выразившееся в уходе в себя и отказе от участия в делах мира сего. Внешне это выглядело как уединение в комнате в Камергерском переулке. Называя Гёте гением, который «обращает интуицию в достоверный способ познания», Иванов дал определение, которое Пастернак мог использовать в качестве характеристики, скрыто определяющей смысл и образ действий, мироощущение и духовное состояние доктора, уединившегося в комнате в Камергерском: «Гений есть прежде всего способность привести к молчанию все голоса внешней и патетической личности в человеке, при сохранении величайшей напряжённости внутреннего движения, и открытый, непогрешимый по верности слух к не своим, а мировым звукам. <.. .> В его внутреннем мире всё было с такою музыкальною верностью настроено в лад с действительностью и так гармонически связано, что одно удостоверенное познание дозволяло предугадывать другое, по-видимому, от него отдалённое, а действительность шла навстречу догадке и её подтверждала» [там же: 124].
Влиянием статьи Иванова объясняется и «смазанность» трагического конца Юрия Живаго, отсутствие внешне яркой катастрофы, подчёркнутая обыденность смерти доктора. Совершающаяся трагедия духа героя скрывается от читателя. Пастернак учёл здесь, в частности, ивановскую характеристику трагического в драме Гёте «Ифигения в Тавриде». Эта характеристика повлияла как на поведение самого Пастернака, шедшего путем Гёте, так и на ведение этим путём Юрия Живаго. Образ доктора вместил в себя и черты персонажей «Торквато Тассо». Иванов отметил, что автор этого произведения «хотел бы совместить в своём облике творческую жизнь и силу, воплощённую во внешне бессильном Тассо, с волей и рассудком, придавшими душе и образу Антонио также крепкие и красивые грани. <...> Впоследствии Гёте, “олимпиец”, по-своему достиг этого совмещения» [там же: 133]. Пастернак достиг этого, создав роман.
Пастернак в жизни и, с другой стороны, как автор в отношении своего героя, вслед за Гёте «стремится явно не к тому катарсису, т. е. душевному очищению зрителя, которым должна была разрешаться трагедия и который покупается только ценою трагической катастрофы, но к восстановлению нарушенной в себе и зрителе ясной созерцательной гармонии, которую и восстановляет действительно, но путём изображения благополучного оборота обстоятельств; обстоятельства же складываются благоприятно вследствие победы благородных и великодушных чувств над тёмными влечениями и предрассудками. Итак, это не трагедия, даже не Эврипидова трагедия; это - проповедь гуманизма восемнадцатого века как этической системы, основанной на отвлечённом оптимизме, но облечённой в изящное, греческое убранство. Греческая трагедия была
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
427
движима духом Диониса, Диониса же Гёте боялся и избегал сознательно, как всего безмерного и снимающего ясные грани, воздвигаемые вокруг человеческой личности законом самосохранения. <.. .> Запас своих дионисийских сил он берёг от жизни для мгновений высшего духовного созерцания: тогда из блаженной потери своего личного сознания в великом целом на краткий миг рождалось лирическое признание вроде: “то живое буду я славить, что тоскует по огненной смерти”» [там же: 128].
«Гётевской» позиции Пастернак придерживался, по меньшей мере, с середины 1920-х. Так, например, в стихотворении «Не оперные поселяне», посланном М.И. Цветаевой 11 апреля 1926 г., он предостерегал её от разрешения жизненных проблем посредством самоубийства. Пастернак не желал разрешать катастрофой и собственные семейные коллизии, о чём свидетельствуют, в частности, стихи из «Второго рождения», обращённые к Е.В. Пастернак, хотя и предпринял 3 февраля 1932 г. попытку самоубийства (см. об этом: [Пастернак Е. 1997:476]). Осенью 1933 г. в разговоре с О.Э. Мандельштамом он так отреагировал на услышанное стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны»: «То, что вы мне прочли, не имеет отношения к искусству. <.. .> Это не литературный факт, а самоубийство, которого я не одобряю и к которому не хочу быть причастен. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому» (цит. по: [там же: 494]). И уже во время скандала и травли, связанных с присуждением Нобелевской премии, Пастернак также не хотел разрешать ситуацию катастрофой - отсюда тексты его обращений Хрущёву и в «Правду», опубликованные 2 и 6 ноября 1958 г. (об обстоятельствах их появления см.: [там же: 707-708]). В эти дни возникал и вопрос о самоубийстве. 11 ноября 1958 г. Пастернак писал своей двоюродной сестре М.А. Марковой: «Очень тяжёлое для меня время. Всего лучше было бы теперь умереть, но я сам, наверное, не наложу на себя рук» (цит. по: [там же: 708]).
Подобно Гёте, уединившись в комнате в Камергерском, герой Пастернака восстанавливает «нарушенную в себе и зрителе ясную созерцательную гармонию». Незадолго до ухода туда и последовавшей смерти Живаго говорит друзьям: «Без краски стыда могу обещать вам кое-что. Мне кажется, всё уладится. И довольно скоро. Вы увидите. Нет, ей-богу. Всё идёт к лучшему» [IV: 481]. Результатом «высшего духовного созерцания», сходного с тем, которому предавался Гёте, для Пастернака стал роман «Доктор Живаго»; для доктора - собственные произведения, ради которых он уединился в Камергерском. «Лирическое признание» Гёте, которое привёл Иванов, Пастернак воплотил в кремации тела Юрия Живаго. Гётевская строка взята Ивановым из стихотворения «Святая Тоска», которое целиком «в буквальном прозаическом переводе» он привёл в своей статье ниже [Иванов, IV: 140]. Этот текст Гёте позволяет увидеть связь между кремацией доктора и образом горящей свечи из стихотворения «Зимняя ночь», перекличка которого со «Святой Тоской» поддерживается также описанием ночной любовной сцены и «новым желаньем - желаньем высшего брака». «Итак, живое тем запечатлевает свою жизнь, что ищет выхода в новую жизнь из полноты своей жизненности; переход - смерть; огонь - Бог; бабочка - душа; смерть - брак человека с Богом. <...> Так думал Гёте о
428
Глава 5
человеке как начатке иного бытия, как о ростке, рост которого затруднён силами зла» [Иванов, IV: 140]. Данный комментарий Иванова к стихотворению Гёте предстаёт внетекстовым по отношению к «Доктору Живаго» истолкованием значений смерти и кремации героя романа. Он же позволяет понять, почему Лара и Евграф распоряжались похоронами «с таким ровным спокойствием, точно это приносило им удовлетворение» [IV: 491].
Следует упомянуть также, что Юрия Живаго сближают с Гёте и естественнонаучные интересы, в частности, в сфере оптики. Иванов отметил, что «главнейшим <...> своим естественнонаучным открытием - больше того, откровением - и вместе главнейшею своей заслугой вообще сам Гёте считал своё учение о цветах (“Farben-Lehre”), принцип которого изложен впервые в 1791-92 годах в Исследованиях по Оптике» [Иванов, IV: 144]. Юрий Живаго ещё во время учёбы в университете проявлял интерес к «физиологии зрения», писал аналогичное Гётевскому «учёное сочинение о нервных элементах сетчатки на соискание университетской золотой медали» и «глаз знал с доскональностью будущего окулиста» [IV: 80]. Позже, во время пребывания в партизанском плену, проблема зрения становится актуальна для доктора в связи с проблемой мимикрии. Внимание доктора к оптике и мимикрии смыкается с вопросом о его способности тай-новидения, открывающейся, по-видимому, когда он слушает песню и заговор Кубарихи. «Visions come to Yurii in the forest of the Civil War»37 [Livingstone 1989: 65]. Профанным двойником доктора выступает партизанский начальник Ливерий, который в юности «смастерил» стереоскоп, самодельный объектив и снимал «виды Урала, двойные, стереоскопические», которые видела приехавшая в Варыкино семья Живаго [IV: 274]. Доктор размышляет «о мимикрии, о подражательной и предохранительной окраске» [IV: 344] после того, как с корой сосны «слилась» севшая на неё бабочка. Данный эпизод включает в себя аллюзию на размышления В.В. Розанова (в «Апокалипсисе нашего времени») о космогоническом, а не физиологическом объяснении превращения гусеницы в куколку, а затем в мотылька и о проекции этого процесса на библейскую и египетскую символику [Розанов 1990:408-410,432-436]. Размышления эти резонируют в тексте романа и позже. Вернувшись в Москву, Живаго удаляется в комнату в Камергерском переулке, где внутренне преображается, ведя одинокое существование, а затем покидает комнату и умирает, вырываясь из толпы в вагоне трамвая подобно бабочке из куколки.
Пастернак, кстати, обладал профессиональными знаниями в оптике и тем внимательнее мог отнестись к соответствующим высказываниям Иванова о Гёте. М. Левин, вспоминал разговор с писателем о физике, состоявшийся весной 1956 г.: «Борис Леонидович сказал, что оптику небось просто проходят, ведь там всё давным-давно сделано и открыто, а сам предмет кажется ему несколько скучноватым. Заступаясь за любимую оптику, я упомянул эффект Черенкова, и разговор вышел на конусы в оптике. Пастернаку очень понравились и объяснение эффекта Черенкова (прекрасно, что для излучения
37 «Видения приходят к Юрию в лесу во времена гражданской войны» (англ.).
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
429
надо двигаться по прямой быстрее, чем скорость света, а вилять можно по-всякому), и коническая рефракция Гамильтона. Он завистливо спросил, видел ли я сам это чудо превращения тонкого луча в коническую воронку. Тут я заметил, что одно из крупнейших достижений старой геометрической оптики - Декартова теория радуги - тоже связано с конусом повышенной концентрации лучей, дважды испытавших преломление на поверхности дождевых капель. Слова о радуге необычайно взволновали Пастернака. Могу ли я объяснить ему, почему возникает радуга? То, что она цветная, - понятно, это из-за ньютоновой дисперсии. Но почему светится только узкая дуга, опирающаяся на землю? И главное, почему радуга всегда одна и та же? Последний вопрос я сперва не понял, и Борис Леонидович пояснил, что и большая, высокая радуга, и маленькая, низкая - куски одной и той же окружности. Мне кажется, что никто из поэтов и прозаиков, описывавших радугу, не заметил этого. <...> По мнению Бориса Леонидовича, постоянство угла раствора радуги имело для древних колоссальное значение. Договор Бога с людьми был скреплён Его печатью на небесной тверди как раз напротив Солнца. И кусок этой неизменной печати высвечивается как напоминание о договоре или же как его подтверждение» [Воспоминания о Пастернаке 1993: 359-360].
«После Италии немецкая родина пришлась Гёте не по сердцу; им также не были довольны. Его личною задачей становится обеспечение своей внешней независимости. Он постепенно устраняется от многих служебных занятий, стремится к уединению, основывает самочинно и своенравно свой семейный очаг, не боясь осуждения и пересудов при дворе. <.. .> Он берёт в свой дом весёлую и простую, но полную для него необычайной прелести и умевшую, по-видимому, в некоторой мере быть товарищем его умственной жизни Христиану Вульпиус: ей он остаётся верным до её смерти в 1816 году; в течение одиннадцати последних лет она зовётся уже его законною женой» [Иванов, IV: 135].
Подобное отношение со стороны окружающих Юрий Живаго испытывает всякий раз по возвращении в Москву или в связи с предстоящим или предшествовавшим возвращением. В ситуации, связанной с возвращением из Мелюзеева, в роли Шиллера предстают друзья доктора, выпустившие без него его книжку. Вернувшийся Живаго чувствует себя одиноким. Более ярко отмеченный фрагмент биографии Гёте обыгрывается в описаниях событий по возвращении доктора с Урала весной 1922 года, когда Марина становится «третьей, не зарегистрированной в загсе женою Юрия Андреевича» [IV: 476], что вызывает ворчание Маркела. К уединению же доктор стремится после семи лет жизни с нею. Роли Гёте и Шиллера разыгрываются в паре ‘Юрий Живаго - Евграф’, и последний выступает таким же «мудрым пестуном <.. .> замыслов» брата, как Шиллер - замыслов Гёте, в частности, начатого «Фауста» [Иванов, IV: 136]. Уступчивость Гёте настояниям Шиллера продолжать «Фауста» можно усмотреть в том, что Марина, «подчиняясь фантазии Юрия Андреевича, <...> отправлялась с ним по дворам на заработки» [IV: 476].
Имя упомянутой Ивановым Христианы Вульпиус получила в «Докторе Живаго» Христина Орлецова, с которой в начале войны был помолвлен Дудоров. Кроме немецких
430
Глава 5
ассоциаций и подтекстов, имя этой героини имеет также интертекстуальные отсылки к персонажам русской истории. Во время последнего разговора Живаго с друзьями из всех рассказов Дудорова доктора заинтересовал лишь «рассказ Дудорова о Вонифатии Ор-лецове, товарище Иннокентия по камере, священнике-тихоновце. У арестованного была шестилетняя дочка Христина. Арест и дальнейшая судьба любимого отца были для неё ударом. Слова «служитель культа», «лишенец» и тому подобные казались ей пятном бесчестия. Это пятно она, может быть, поклялась смыть когда-нибудь с доброго родительского имени в своём горячем детском сердце. Так далеко и рано поставленная себе цель, пламеневшая в ней неугасимым решением, делала её уже и сейчас по-детски увлечённой последовательницей всего, что ей казалось наиболее неопровержимым в коммунизме» [IV: 479].
Имя отца Христины отсылает к фамилии протопопа московского Благовещенского собора, духовника царя Алексея Михайловича Стефана Вонифатьева, который стоял во главе реформаторского кружка ревнителей благочестия и имел исключительное влияние на ход церковных дел в 1640-1650-х годах. После того как Никон стал патриархом, Вонифатьев поддерживал хорошие отношения не только с ним, но и с его противниками. Указание на приверженность Орлецова патриарху Тихону, выступавшему против «обновленческого раскола», но обещавшему не бороться против советской власти, воспроизводит в инверсированном виде ситуацию возникновения раскола в XVII веке. Добавим, что фамилия историка Дудорова указывает на него как на «потомка» английской королевской династии Тюдоров (1485-1603), время правления которой считается периодом Возрождения, расцвета культуры и становления абсолютизма в Англии. Страна в тот период начала активно участвовать в европейской политике, а проводившиеся экономические реформы привели к обнищанию огромной части населения. Пастернак, несомненно, проводил параллель между советским временем и эпохой Тюдоров. В фамилии Дудорова он сохранил английское ударение на первый слог и ушёл от традиционного русского ударения, усилив тем самым узнаваемость «генеалогии» персонажа. Роль историка Дудорова и его любовь с «советской» Христиной Орлецовой, объединяющая оба мира - «белых» и «красных», аналогична исторической роли коронованного в 1485 г. Генриха VII Тюдора, который объединил два враждовавших дома Англии -Йорков (Белая роза) и Ланкастеров (Алая роза).
Биография Гёте стала для Пастернака и прототипической в отношении собственной. Так, он не только не скрывал, но открыто отмечал случаи, когда им были недовольны советские чиновники от литературы. В середине 30-х поэт противился «раздуванию <.. .> значения, которому <.. .> стал подвергаться <.. .> к поре Съезда писателей» [III: 337]. Ко времени начала работы над «Доктором Живаго» Пастернак почти совершенно устранился от публичной жизни, уединился в Переделкине и старался литературным трудом обеспечить свою независимость. Например, в письме к О.М. Фрейденберг от 8 сентября 1947 г. Пастернак сообщал о своём намерении «жить и работать в двух планах: часть года (очень спешно) для обеспечения всего этого года, а другую часть по-настоящему,
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
431
для себя» [Пастернак 1989-1992, V: 463-464]. В 1946-м он познакомился с О.В. Ивин-ской, однако не женился на ней. Роль Шиллера в отношении Пастернака оставалась, похоже, вакантной.
5.5. «Коринфская невеста» 1929 года, В.Л. Комаровский и новое «Сродство душ»
Ещё одна реинтерпретация произведения Гёте, осуществлённая Пастернаком в результате чтения статьи Иванова, просматривается в интертекстуальных следах «Коринфской невесты» (1797). Героиню этого произведения - умершую девушку, которая ночью приходит к суженому, приехавшему из Афин в её дом в Коринфе, пьёт его кровь и утром покидает его, обрекая на смерть, Иванов трактовал как своего рода балладную заместительницу греческой Елены, «ставшей спутницей Гёте»: «Баллада “Коринфская невеста” соединяет в себе античное и романтическое, для того чтобы под этой маской греческого романтизма сказать нам одно из глубочайших прозрений Гёте в тайну природы о любви. “Земля не остужает любви”38, - вот что узнал, наконец, Гёте. Любовь сильнее смерти. Природа хочет соединения индивидуумов, предназначенных ею к соединению, и случайная смерть одного бессильна отвратить это предопределение» [Иванов, IV: 146].
В «Докторе Живаго», подобно «Коринфской невесте» - «загадочной женщине, определяющей судьбу героя» [Вахтель 1996:188], появляется у гроба Юрия Андреевича Лара, и повествователь словами, значимо отличающимися от слов Иванова, пересказывает то, что «узнал, наконец, Гёте»: «О, какая это была любовь, вольная, небывалая, ни на что не похожая! Они думали, как другие напевают. Они любили друг друга не из неизбежности, не “опалённые страстью”, как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим ещё, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались» [IV: 497-498].
Лара не случайно над гробом Юрия Живаго вспоминает Комаровского как «чужое, ненужное ничтожество», «чудище заурядности», которое «мотается и мечется по мифическим закоулкам Азии» [IV: 496]. В этой пренебрежительной характеристике человека, о котором она всё же думала и помнила и у которого была «в большем подчинении <.. .>, чем у кого бы то ни было другого», как ещё в Юрятине заметил Ларе доктор [IV:
38 О трактовках Ивановым этой строки «Коринфской невесты» и её отражениях в стихотворениях «Лунные розы», «Красота» и мелопее «Человек» см.: [Вахтель 1996:187-189]. Возможно, символические смыслы, которыми Иванов, произвольно интерпретируя строку Гёте [Жирмунский 1937: 591], наделял слово «земля», не прошли мимо внимания Пастернака и учитывались при формировании семантики его «земли». Было бы небезынтересно проследить эволюцию значений этого слова в его творчестве, скажем, от «Высокой болезни» до «Доктора Живаго».
432
Глава 5
398], возможно, сказалось скрытое раздражение Пастернака Ивановым (стремившимся, как свидетельствовали многие современники, получить над собеседником духовную власть, обворожить его), значение которого в русской литературе (и даже, вероятно, в литературе начала XX века) могло представляться ему несоразмерно раздутым и тем более обесцененным, что он уехал из России в один из самых тяжёлых моментов её истории и не переживал других, пребывая в мифогенном центре Европы (ср. с «мифическими закоулками Азии») - Риме. Впрочем, резкая оценка, которую даёт Комаровскому Лара, особенно - «чудище заурядности», представляет собой противоположность той, какую мог бы дать выдающейся личности Иванова сам Пастернак. Так же, как Комаровский на ‘Восток’, уезжает на ‘Запад’ Веденяпин. У каждого из персонажей - несколько прототипов. Иванов присутствует в обеих группах. Если в фигуре Комаровского Пастернак обыграл «гиперсексуальность» Иванова, то дядя Юрия Живаго представлен прежде всего носителем духовного начала вождя символистов.
Интерес Пастернака к «Коринфской невесте» (переведённой А.К. Толстым) объясняется также его интересом к франкмасонству, который играл далеко не последнюю роль в его напряжённом внимании к произведениям и личностям Иванова и Гёте, которые были масонами. «Коринфская невеста» Гёте является интерпретацией легенды о происхождении коринфского стиля. Дорический, ионический и коринфский стили находятся «в центре поучения об архитектуре». Его в числе пяти поучений произносит Достопочтенный Мастер, сопровождающий ими пять символических путешествий (посвящений), которые совершает посвящаемый в степень подмастерья. М. Морамарко полагает, что упомянутой легенде «можно усмотреть предвосхищение темы смерти и воскресения, излагаемой в предании о Хираме». Исследователь масонства приводит эту легенду, от которой, заметим, стихотворение Гёте отличается весьма существенно: «Возле могилы коринфской девушки была оставлена корзина с её любимыми цветами. Над гробовой плитой был устроен черепичный навес. Корзина стояла возле куста аканфа, травянистого растения, произрастающего на всей территории Средиземноморья. Весной корни аканфа проросли, и его ветви обвили корзину. Наткнувшись на черепичный навес, завернулись под ним, словно свиток. Восхищённый Каллимах заметил увитую аканфом корзину и, потрясённый невиданной формой, запечатлел её в орнаменте коринфской капители. Мы сопоставили эту легенду с преданием о Хираме. Несомненно, между ними существует важное различие с точки зрения как формы, так и содержания. Предание о Хираме, возникнув на основе античных мифов, повествующих о смерти и воскресении, имеет ярко выраженный масонский характер. Библейские здесь только имя и этический пафос. “Коринфское” сказание не обладает признаками масонства. Хирам воскресает в новой телесной оболочке. Она реальна и не фантасмагорична. Коринфская девушка так и остаётся спать вечным сном под гробовой плитой. Только кусты аканфа служат напоминанием о прошедшей жизни. Однако как в той, так и другой легенде смерть преображена. И в Коринфе, и в Иерусалиме живое растение (аканф и акация) является вестником преображения» [Морамарко 1990: 132].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
433
Утверждение о том, что «“коринфское” сказание не обладает признаками масонства», не совсем согласуется с интересом к легенде, проявленным масонами Гёте и Ивановым, а вслед за ними Пастернаком. В связи же с масонским значением аканфа и акации описание растений вокруг гроба Юрия Живаго, сделанное повествователем (Евграфом), корреспондирует с обеими легендами: «Одни цветы были заменой недостающего пения и отсутствующего обряда. Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором, может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах и, оделяя всех своей душистою силой, как бы что-то совершали. Царство растений так легко себе представить ближайшим соседом царства смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов, сосредоточены, быть может, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьёмся. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за идущего по погосту садовника. (Она же мнящи, яко вер-тоградарь есть...)» [IV: 490]. Цветы вокруг доктора до погребения могут быть как цветами акации, так и розами, которые, по представлениям масонов, должны вырасти после погребения в ознаменование победы света над «животной» природой человека, которой в масонском ритуале венчается инициация в степень мастера.
Отправка Комаровского на ‘Восток’ обусловлена «внешними» мотивами, понятными из контекста, связанного с героем, а также его функциями сказочного старого змея и интертекстом, указывающим на иного, нежели Иванов, прототипа этого персонажа. К «внешним» мотивам относится то, что адвокат Комаровский чувствует себя на Урале, а впоследствии и на Дальнем Востоке, как дома. Ещё до революции 1905 года он был другом и поверенным в делах отцов Лары и Юрия Живаго - Фёдора Гишара и Андрея Живаго, которые вели свои дела именно на Урале. Понять более точную привязку Комаровского, наделённого чертами хтонического змея, к местности позволяет проговорка часового, который провожает доктора после разговора с «солнечным змеем» Стрельниковым в теплушку, в которой доктор ехал на Урал.
«Часовой бороздил прикладом пыль, оставляя на песке след за собой. Ружьё со стуком задевало за шпалы. Часовой говорил:
- Установилась погода. Яровые сеять, овес, белотурку или, скажем, просо, самое золотое время. А гречиху рано. Гречиху у нас на Акулину сеют. Моршанские мы, Тамбовской губернии, нездешние. Эх, товарищ доктор! Кабы сейчас не эта гидра гражданская, моровая контра, нешто я стал бы в такую пору на чужой стороне пропадать? Чёрной кошкой классовою она промеж нас пробежала и вишь что делает!» [IV: 255].
Называя себя «моршанские мы», часовой выдаёт свою принадлежность к миру мёртвых - он, получается, один из погибших под Мукденом солдат Моршанского полка. В их память И.А. Шатровым был написан на слова С. Петрова (Скитальца) чрезвычайно популярный в России вальс «На сопках Манчжурии» (1905), напоминавший слушателям о Русско-японской войне.
Тихо вокруг, сопки покрыты мглой, Вот из-за туч блеснула луна,
434
Глава 5
Могилы хранят покой.
Белеют кресты - это герои спят.
Прошлого тени кружат давно, О жертвах боёв твердят.
Тихо вокруг, ветер туман унёс, На сопках Маньчжурии воины спят И русских не слышат слёз.
Плачет, плачет мать родная, Плачет молодая жена, Плачут все, как один человек, Злой рок и судьбу кляня!..
Пусть гаолян вам навевает сны, Спите, герои русской земли, Отчизны родной сыны.
Вы пали за Русь, погибли вы за Отчизну, Поверьте, мы за вас отомстим И справим кровавую тризну.
Тем самым «чужой стороной» для часового предстают не только Развилье и Юря-тин, которые он, кстати, и не называет, но интертекстуально - и Мукден, и места «под Читой», находящиеся на востоке, откуда восходит солнце. С местами «под Читой» позже оказывается связан Стрельников, который занимался там тем же, чем и под Юряти-ном, - он воевал там, наступая на восток. Такая ориентированность являет собой переворачивание ориентированности солнечного змея. В паре ‘Юрий Живаго - часовой’ проявляется инверсирование иного рода: духовно живой доктор Живаго и часовой как представитель физического «царства мёртвых» (один из давно убитых солдат) не могут иметь общего языка, но молчит при этом не «мёртвый», а «живой». Солнечным утром часовой сопровождает доктора в вагон Стрельникова и обратно - в конце Первой книги романа и в начале Второй. Так отмечается пересечение доктором границы двух «царств» -«живых» и «мёртвых» и переход в «царство мёртвых». Тем не менее, каждое из царств является амбивалентным. Одним из последствий переноса змея на небо Пропп видел следующее: «Там, где особенно развиты представления о солнечной стране мёртвых, где в жизни народа они играют большую роль, змей превращается в существо, охраняющее небесное обиталище мёртвых» [Пропп 1998: 347].
Память о жертвах Русско-японской войны играла большую роль «в жизни народа», но не после 1917 года, а до него. «Небесное обиталище мёртвых», таким образом, зеркально меняется местами с миром живых. Этим объясняется то, что «змей»-Стрельни-ков старается завоевать для этого «обиталища» (советской России) Сибирь и территорию будущей Дальневосточной республики. Как исторически более «молодой солнечный змей» он старается не столько «охранять», сколько завоёвывать. О роли «представлений о солнечной стране мёртвых <.. .> в жизни народа» свидетельствует также монолог часового. Этот житель Моршанского уезда Тамбовской губернии, являющийся в то
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
435
же время «живым трупом» из погибшего Моршанского полка, сигнализирует и о том, что доктор попал в местность, принадлежавшую «старому змею».
Описание часового, а также то, что он обращает внимание на погоду, отсылает к «Человеку с ружьём» (1937) - первой части драматургической трилогии Н.Ф. Погодина, включающую также «Кремлевские куранты» (1940), «Третью патетическую» (1958). Как отмечает В.И. Баранов, автор статьи о советской лениниане в Литературном энциклопедическом словаре (М., 1987, с. 180), на долю этой трилогии выпал «особый успех». Следы «Человека с ружьём» в «Докторе Живаго» ещё требуют изучения. Но даже название пьесы Погодина, отразившееся в образе часового, актуализирует в романе апокалиптическо-сказочное противопоставление человека и зверя. Интерес Пастернака к подобной литературе, к тому же литературе о Ленине, можно объяснить с помощью свидетельства Н.Я. Мандельштам, вспоминавшей: «Ещё исчезло письмо ко мне Пастернака, где он писал, что в современной литературе - дело было сразу после войны - он интересуется только Симоновым и Твардовским, потому что ему хочется понять механизм славы» [Мандельштам Н. 1989: 264].
Вероятно, это стремление было у Пастернака и перед войной. И объектом заинтересованного внимания могла быть пьеса Погодина, тем более что Пастернак проявлял интерес к современной драматургии, пользующейся успехом39. Пример такого интереса - внимание к творчеству А.К. Гладкова во время войны и после неё, о котором писал мемуарист (см.: [Гладков 2002]). В другой книге Н.Я. Мандельштам так трактует этот интерес Пастернака: «Мечты о пьесе и романе не целиком объяснялись здоровой жаждой благополучия и денег. В воздухе носилось стремление к “большой форме”. <...> Действовала своеобразная гигантомания, и даже такие люди, как Пастернак, заразились общим поветрием. Он начал говорить о романе с середины двадцатых годов, а разговор о пьесе завёл чуточку позже. Гладков в своих страничках о Пастернаке не врёт и не хвастается, когда рассказывает о неслыханном внимании к нему Пастернака. Я узнаю в его рассказе Бориса Леонидовича, который мучительно думал, как бы сочинить пьесу, и присматривался к драматургам, которым повезло...» [Мандельштам Н. 1990: 283].
Рубежность встречи Юрия Живаго, попавшего на Урал, с часовым из Моршанска соотносимая с переходом Пастернака от Первой книги к созданию Второй, корреспондирует с ситуацией, когда «Достоевский в Швейцарии писал последние сцены Идиота», а «в провинциальном Моршанске начался очередной скопческий процесс» [Эткинд А. 2001: 442]. Ср. попадание доктора на Урал и в Сибирь с судьбами «идиота», оказавшегося в швейцарской лечебнице Шнейдера, и Рогожина, осуждённого на 15 лет сибирской каторги.
Заметим также, что топоним ‘Моршанск’ мог напомнить доктору, который во время Первой мировой войны был на фронте в Галиции, название прикарпатского городка
39 О реакции Н.Ф. Погодина на писание Пастернаком «в стол» см.: [Сергеева-Клятис, Смолицкий 2009: 254].
436
Глава 5
Моршин, находящегося в 82 км от Львова. Аналогичным образом соотносятся также Мелюзеев и городок Мелеуз в Уфимской губернии, основанный в 1766 г. как торговое село на Оренбургском тракте. Мелеуз является таким же скрытым «отражением» Ме-люзеева, как и Моршин - упомянутого в романе Моршанска. Топонимы в каждой из пар находятся в отношениях симметрии и выступают знаками западного и восточного «царств мёртвых». Таким образом, слова часового «моршанские мы» должны напомнить доктору и о гибели полка (социально значимое историческое событие), и о тяжёлом ранении, которое Юрий Живаго получил в Галиции (лично значимое событие, инверсированный аналог распятия Христа), а оба напоминания - послужить указаниями на возможное будущее, которое ждёт доктора, дать ключ к пониманию предстоящих событий.
Но появление солдата из Моршанска свидетельствует и о том, что Живаго встречается с одним из тех, кто воевали под Тамбовом против белого генерала К.К. Мамонтова, который, «прорвав фронт, в августе-сентябре 1919 г. совершил глубокий рейд в красном тылу, занимая последовательно Тамбов, Козлов, Лебедянск, Елец. В ноябре 1919 г. был разбит под Воронежем конницей С.М. Буденного» [Дмитриева 2006: 487]. Для Пастернака скрыто введённое в текст свидетельство о тех событиях могло быть важно в связи с тем, что в разгроме Мамонтова участвовал Гавриил Осипович Гордон (1885-1942), так же, как и Пастернак, учившийся в Московском (1903-1909) и Марбургском (1906-1907) университетах40 и послуживший прототипом Михаила Гордона, отца которого звали Григорий Осипович. В 1911 г. Гавриил Осипович в Моршанске женился, а «после Октябрьской революции и заключения мира возвратился в Моршанск, где находилась его семья. Здесь он заведовал Отделом народного образования и был членом Уисполкома. Во время рейда Мамонтова вступил в РКП(б), был мобилизован в Красную армию и был членом Моршанского ревкома. После разгрома Мамонтова был переброшен в Тамбов» [там же: 469]. Оставив Михаилу Гордону «учёность», интерес к философии, Пастернак не захотел снабжать его военным и многими другими эпизодами биографии прототипа, однако историю участия последнего в гражданской войне подспудно ввёл в роман.
«Змей»-Комаровский, приехавший в Юрятин, оказывается тоже, как и Стрельников, у воды - возле Рыньвы. Но это не та река, возле которой он будет «сидеть». Его река -Амур. Другие, следовательно, и горы, с которыми он должен быть связан. Это могут быть сопки Манчжурии, одним своим упоминанием вызывающие ассоциации с вальсом Шатрова. Возможно, именно под неназванный в тексте вальс «На сопках Манчжурии» танцует в июле 1905 года с Комаровским Лара (ещё до «падения»)41: «Какая безумная вещь вальс! Кружишься, кружишься, ни о чём не думая. Пока играет музыка, проходит целая вечность, как жизнь в романах. Но едва перестают играть, ощущение скандала, словно тебя облили холодной водой или застали неодетой» [IV: 28].
40 Подробно о Г.О. Гордоне: [Кацис 1990; Дмитриева 2006: 468-472, 475-476; Fleishman, Harder, Dorzweiler 1996,1: 18, 32].
41 О «вальсовых» стихах Пастернака, их связи с «зимними праздниками», игрой и о значении кругового движения см.: [Фатеева 2003: 130-131, 189-193; Поливанов К.М. 2006: 254-259].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
437
Вальс, написанный на слова С. Петрова (Скитальца), исполняется на ёлке у Свентицких без слов, но они могут восприниматься в качестве фона внутреннего монолога Лары и в связи с чувствами Лары во время танца заставляют ощущать в конце его скандальность произошедшего. Комаровский, держащий во время вальса в руках тело Лары, выступит вскоре как змей-дефлоратор - ср. это с тем, что Шатров посвятил вальс своим погибшим друзьям из Моршанского полка (кровавые мёртвые тела), а Петров описывал уже «сон» героев - пребывание их в могиле, но обещал «кровавую тризну» - ср. с этим «сном» сон Лары, где «на земле поют “Чёрные очи да белая грудь” и “Не велят Маше за реченьку ходить”» [IV: 50]. Но неназванность вальса объясняется, возможно, не только нежеланием Пастернака осложнять внутренний монолог Лары явной и, быть может, преждевременной пока для «прочтения» её судьбы отсылкой к проблеме ‘Восток - Россия - Запад’, но и тем, что это мог быть и другой вальс - «Амурские волны» М. Кюсса. Оба «географических» названия включают указания на горы (сопки) и реку (Амур), что соответствует местам пребывания сказочного змея, и являются первой в романе (скрытой) отсылкой к местам «под Читой». У этого неназванного «восточного» вальса, под которым интертекстуально «скрываются» два, есть «западное» отражение. На ёлке у Свентицких перед выстрелом в Комаровского Лара «давала безвольно, как во сне, кружить себя Коке Корнакову», который «дирижировал танцами» на французском языке, но названий вальсов не объявлял [IV: 82, 84]. Обе контрастные ситуации (вальсов с Комаровским и Корнаковым) имеют прообраз в биографии Пастернака, отразившийся также в стихотворениях «Заместительница», завершающем цикл «Занятье философией» в «Сестре моей - жизни», и «Вальс с чертовщиной» и «Вальс со слезой» (оба написаны в 1941) из цикла «Переделкино», включённого в книгу «На ранних поездах».
Ключ к разгадке связи «хтонического змея» Комаровского с Моршанским уездом Тамбовской губернии даёт как фамилия персонажа, совпадающая с фамилией поэта гр. Василия Алексеевича Комаровского, так и топонимы: в Моршанском уезде находилось имение гр. Комаровских Ракша, пожалованное их предкам Павлом I. В опубликованном в 1915 г. в «Аполлоне» «отчасти биографическом» [Маковский 2000: 478] стихотворении В.А. Комаровского «Ракша» (1913) описывается библиотека в старом дворянском гнезде42:
Бывало, от возни, мальчишеского гама Сюда я уходил, - Колумб, Васко де Гама, -В новооткрытый сад и ядов и лекарств, Где пыль моршанская легла над пылью царств, И человечество - то прах, то безконечность -Свой хрупкий зигурат бесцельно зиждет в вечность [Комаровский 2000: 84].
42
Подробно о Ракше и значении этого места для В.А. Комаровского см.: [Топоров 2000: 287-291].
438
Глава 5
Под «пылью моршанской» Комаровский, вероятнее всего, имел в виду гибель Мор-шанского полка, и в довоенные годы такое упоминание, скорее всего, не требовало особых пояснений, будучи общепонятным. Неслучайность совпадения фамилий и первой буквы имён персонажа «Доктора Живаго» и поэта подтверждается и «римскими» ассоциациями, которыми наделён в романе Комаровский. Негативность этого персонажа и антихристианское значение «римского» в «Докторе Живаго» выдают соответствующую реакцию позднего Пастернака на «римское» и «итальянское» в творчестве В. А. Комаровского (при отсутствии у него внимания к «христианскому»), который, кроме того, мог в его глазах представать контрастным двойником И.Ф. Анненского. В то же время каждый из поэтов-царскосёлов и оба вместе соотносились с Пушкиным. Безвременная смерть обоих поэтов, скончавшихся от сердечных приступов (у страдавшего эпилепсией В.А. Комаровского сердечный припадок сопровождал очередной выход из душевного равновесия, который был вызван началом Первой мировой войны - см.: [Топоров 2000: 271-275]), является одним из факторов, которые определили степень внимания Пастернака к фигуре и творчеству Комаровского. Негативность отношения позднего Пастернака может объясняться тем, что для Комаровского определяющей в отношении Рима, который предстаёт в его творчестве явлением более важным и глубоким, нежели только объектом стилизационной игры, была отнюдь не ценность Рима как источника христианской философии, истории и символа христианства. (Примером именно такого отношения для автора «Доктора Живаго» был П.Я. Чаадаев и его «Философические письма».) Раннему Пастернаку в творчестве Комаровского могли импонировать независимость поэта от литературных вкусов и течений и особенности поэтического языка - «установка на «классичность», сдержанность, строгий отбор элементов на всех уровнях, отказ от форсирования и очевидной эмфатизации, подчёркивание самодовлеющего характера слова». Кроме того, мог быть важен и опыт «синтеза «импрессионистического» и «классического» в его акмеистической трактовке», объясняющий «положение Комаровского на полпути между символизмом и акмеизмом» [там же: 312, 395].
«Доктор Живаго» свидетельствует о радикальной перемене отношения позднего Пастернака к поэту и его творчеству. Слова часового «моршанские мы» интертекстуально сигнализируют о том, что Живаго попал в вотчину «старого змея» юриста Комаровского, который, заметим, прожил настолько же долгую жизнь, насколько, по контрасту, короткой была жизнь поэта В.А. Комаровского. Любопытно, что младший брат доктора Евграф (уроженец Омска) чувствует себя на Урале, как дома, и, будучи представителем советской власти (имеющей в «Докторе Живаго» устройчивые «римские» коннотации), а впоследствии генералом, также имеет интертекстуальную связь с Комаровским - но не с поэтом Василием Алексеевичем, а с его прадедом Евграфом Федотовичем (1769-1849), который был пожалован императором Францем II в графское достоинство. Биография Е.Ф. Комаровского объясняет важные составные образа Евграфа Живаго, в частности его (хорошо маскируемое - ср. с малой известностью Е.Ф. Кома
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
439
ровского-мемуариста) амплуа рассказчика в романе, наделённость большой властью, генеральский чин, постоянные разъезды и неожиданные появления.
Е.Ф. Комаровский «был известным мемуаристом и переводчиком», «генерал-адъютантом Александра I, начальником Петербургской полиции, инспектором и командиром отдельного корпуса внутренней стражи, одним из временных губернаторов Петербурга после наводнения 1824 года, сенатором. Ещё при Екатерине II был дипломатическим курьером. Наиболее интересны его «Записки»43, редкая разновидность придворных мемуаров, отличающиеся наблюдательностью и точностью» [там же: 269].
Ещё одна деталь, свидетельствующая о том, что Пастернак мог воспринимать В.А. Комаровского в качестве двойника, заключается в том, что летом 1900 г. Комаровский поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета и через год с лишним (в ноябре 1901-го) перевёлся на историко-филологический. Пастернак мог соотносить это с аналогичным своим переводом, состоявшимся в 1909 г. (также через год после поступления) с юридического факультета на философское отделение историко-филологического.
Заметим также, что родственные связи В.А. Комаровского (его брат Владимир .Алексеевич был женат на Варваре Фёдоровне Самариной, сестре Д.Ф. Самарина, ставшего одним из главных прототипов Юрия Живаго) позволяют говорить о том, что на уровне прототипов Комаровский и Живаго оказываются в отдалённом родстве. Внимание Пастернака к Самариным и Комаровским во время создания романа было постоянно привлечено и в связи с тем, что по соседству с Переделкином находится бывшее имение упомянутых двух семей Измалково. «Потомком Ю.Ф. Самарина и одним из владельцев Измалкова в начале XX в. был Дмитрий Фёдорович Самарин, однокурсник Б. Пастернака по университету, сыгравший значительную роль в его жизни». Вместе с тем после смерти Ю.Ф. Самарина «имение перешло к наследникам, а последними владельцами Измалкова стала семья Комаровских» [Сергеева-Клятис, Смолицкий 2009: 453].
Интерес Пастернака к Комаровскому мог усиливаться тем, что тот, в отличие от других представителей поколения, был поэт. Уж не портрет ли Комаровского, страдавшего наследственной эпилепсией и периодически впадавшего в безумие, являет 3-е стихотворение из (в то же время вполне автобиографического) цикла «Болезнь» (1918-1919)-«Может статься так, может иначе»? Ср. «ледяную», «снежную» и «холодную» образность этого стихотворения с соответствующей у Комаровского (о последней в соотношении с образностью Ахматовой см: [Топоров 2000: 304-305]). Кроме того, если в первой строфе говорится о безумии, то последняя строфа, в которой прямое указание на «вихрь догадок» подразумевает такое же количество загадок, может быть истолкована как изображение человека в эпилептическом припадке:
43 Полный текст «Записок» был опубликован в «Историческом вестнике» за 1914 год под редакцией П.Е. Щёголева [Топоров 2000: 407] и мог быть известен Пастернаку ещё тогда.
440
Глава 5
Губы, губы! Он стиснул их до крови, Он трясётся, лицо обхватив.
Вихрь догадок родит в биографе Этот мёртвый, как мел, мотив [I: 179].
Другие разгадки стихотворения дают первая и последняя из четырёх «Рождественских историй» Ч. Диккенса - «Рождественская песнь в прозе. Святочный рассказ с привидениями» (1843), следы которой отмечены Т. Сёргэем (см.: [Сёргэй 2008: 97-101]), и «Одержимый, или сделка с призраком» (1848). Лирический герой «Болезни» соотносится с Эбинизером Скруджем и Бобом Крэтчитом из первой повести Диккенса и учёным Редлоу из четвёртой. Эти повести выступают в функции интертекста, сближающего «Болезнь» с тифом Юрия Живаго в Москве в 1917 году, когда он в бреду видит Евграфа - «мальчика с узкими киргизскими глазами в распахнутой оленьей дохе», о котором думает, что это «дух его смерти» [IV: 205] (ср. с духом умершего компаньона Скруджа -Марли, а также с Духом, посещающим Редлоу). Скрудж потрясён тем, что открыли ему три Духа Рождества, Редлоу - результатом дара Духа, потерей памяти, позволяющей ему не сожалеть горько о прошлом. Приведённая выше строфа «списана» по большей части с Редлоу, ощущающим ужасные последствия этого дара (см: [Диккенс 1960, XII: 468]). Именно история этого героя, у которого в молодости любимая ушла к предавшему его другу, позволяет понять, почему себя так же ведёт автобиографический герой пастернаковской «Болезни». Сходные истории в жизни Пастернака связаны с И.Д. Высоцкой и Е.А. Виноград. Проекция героя «Болезни» на Редлоу позволяет говорить о том, что герой Пастернака мучился тем же: предав забвению прошлое, он был вынужден заражать других «себялюбием и неблагодарностью», и они после этого «теряли человеческий облик» [там же: 449]. Н.А. Фатеева хотя и предпринимает анализ «Болезни» в аспекте внутренней монологичности, однако ограничивается биографической «подпочвой» и в качестве авторов, чьё влйяние прослеживается в цикле, называет лишь Лермонтова (см.: [Фатеева 2003: 92-93, 304]). И.М. Конева отмечает в «Болезни» влияние «Новогоднего слова» Патриарха Тихона (Беллавина), сказанного им в храме Христа Спасителя в Москве перед началом новогоднего молебна 14 января 1918 г. (по новому стилю) (устное сообщение). Укажем также на соотнесённость лирического героя «Болезни» с Лазарем, воскрешаемым Христом, и с самим Христом:
Средь вьюг проходит Рождество.
Он видит сон: пришли и подняли. Он вскакивает: «Не его ль?» (Был зов. Был звон. Не новогодний ли?) [I: 176].
Многочисленные следы «Рождественских историй» Диккенса обнаруживаются не только в цикле «Болезнь», входящем в «Темы и вариации», но и в стихах книги «Сестра моя - жизнь», например, в «Про эти стихи», где воспроизводится радостное настроение «прозревшего» Скруджа после того, как три Духа Рождества открыли ему много из того, что ему было невдомёк.
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
441
Галчонком глянет Рождество, И разгулявшийся денёк Прояснит много из того, Что мне и милой невдомёк.
В кашне, ладонью заслонясь, Сквозь фортку крикну детворе: Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе? [I: 115].
Ср.: «Подбежав к окну, Скрудж поднял раму и высунулся наружу. Ни мглы, ни тумана! Ясный, погожий день. <.. .>
- Какой нынче день? - свесившись вниз, крикнул Скрудж какому-то мальчишке, который, вырядившись, как на праздник, торчал у него под окнами и глазел по сторонам.
- ЧЕГО? - в неописуемом изумлении спросил мальчишка.
- Какой у нас нынче день, милый мальчуган? - повторил Скрудж.
- Нынче? - снова изумился мальчишка. - Да ведь нынче РОЖДЕСТВО\» [Диккенс 1960, XII: 94].
Кашне в стихах Пастернака - это тот же шарф Боба Крэтчита. Галки у Диккенса упоминаются в связи праздничным расположением духа хозяина и приказчиков бакалейной лавки, у которых «блестящие металлические пряжки в форме сердца, которыми были пристёгнуты тесёмки их передников, можно было принять по ошибке за их собственные сердца, выставленные наружу для всеобщего обозрения и на радость рождественских галок, дабы те могли поклевать их на святках» [там же: 54]. О «диккенсовском “ореоле” смыслов галки» у Пастернака см.: [Сёргэй 2008: 98-99]. Исследователь отмечает также, что в своём переводе «Отелло» У. Шекспира Пастернак ушёл от образа сердца, которое клюют галки, использованного Диккенсом в радостном рождественском контексте, заменив его в устах Яго печенью44. Если у Диккенса три Духа являются старому Скруджу, контрастом которому выступает молодой Крэтчит, то молодой лирический герой стихотворения Пастернака упоминает дружеский контакт с тремя писателями-ровесниками - Байроном, По и Лермонтовым, но не кажущимся «старым» Диккенсом. Названные переклички с текстами Диккенса далеко не полны, и диккенсовский пласт в лирике Пастернака, как и воздействие творчества Комаровского, требуют развёрнутого рассмотрения.
Обратимся вновь к Иванову. Останавливаясь на романе «Сродство душ», законченном Гёте в 1809 г., поэт продолжил характеризовать трагическое начало и особенности изображения любви у немецкого классика:
«“Сродство Душ” - завершительное откровение о тайне любви, об её космических корнях. Истинная любовь есть химическое сродство человеческих монад; они влекутся одна к другой стихийно, с непреодолимою необходимостью закона природы. В душевном и физи
44
См. также комментарий М. Лорие: [Диккенс 1960, XII: 502-503].
442
Глава 5
ческом составе предопределённых природою к соединению встречается ряд прирождённых соответствий. Они находят и узнают друг друга сомнамбулически, общаются без слов, соприкасаются без соприкосновений. <.. .> Природа и человечность, безусловно, требуют сочетания химически сродных людей; но закон и обычай запрещают исполнение приказа природы; и они сильнее природы до смерти индивидуума. <...> Но характерно, что Гёте - искренно или полупритворно, мы не знаем, - становится, с логической непоследовательностью и поистине уже «рассудку вопреки, наперекор стихиям», в ряды защитников человеческого закона и противников закона природного. Но, конечно, определяет книгу и её значение не эта пришитая к ней мораль, а её действительное содержание» [Иванов, IV: 147].
Отголоски оценочного пересказа Иванова можно услышать как в вышеприведённом описании любви Юрия Живаго и Лары, так и в характеристиках их чувства после возвращения доктора в Юрятин из партизанского плена, когда повествователь прямо указывает на гётевский претекст и его переосмысление, вводя название романа предшественника. Филиппика же в адрес обобщённого «современного человека» и «неисчислимых работников наук и искусств» может восприниматься как скрыто имеющая в виду Иванова, пишущего о Гёте: «Ещё более, чем общность душ (Выделено нами. - С. Б.), их объединяла пропасть, отделявшая их от остального мира. Им обоим было одинаково немило всё фатально типическое в современном человеке, его заученная восторженность, крикливая приподнятость и та смертная бескрылость, которую так старательно распространяют неисчислимые работники наук и искусств для того, чтобы гениальность продолжала оставаться большой редкостью. Их любовь была велика. Но любят все, не замечая небывалости чувства. Для них же, - и в этом была их исключительность, - мгновения, когда, подобно веянью вечности, в их обречённое человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания всё нового и нового о себе и жизни» [IV: 392-393].
Однако уже в Юрятине Лара, как и героиня Гёте Оттилия, вопреки духовной близости и чувствам говорит доктору, что последует не за ним, а за мужем, то есть подчинится «закону». «Закону» же (необходимости спасения дочери) она подчиняется и тогда, когда за нею в Варыкино приезжает «законник» Комаровский, юрист по профессии, которому предложили стать министром юстиции Дальневосточного правительства. И.П. Смирнов отметил (в письме от 19 ноября 2002 г.), что Комаровский и Юрий Живаго соотносятся «как персонификации закона и благодати» (апостол Павел, Иларион; об этой оппозиции писал в 1920-е годы Б.П. Вышеславцев, который мог интересовать Пастернака)». Смерть Юрия Живаго отменяет для Лары действие «закона», с чем связаны её мысленные оценки Антипова-Стрельникова и Комаровского, которые она даёт у гроба доктора. И, конечно, книгу Пастернака, как и книгу Гёте, определяет не «пришитая к ней мораль, а её действенное содержание», тем более что подобную мораль Пастернак постарался, учитывая оценку Иванова, не «пришивать».
Отношения Лары и Юрия Живаго воспроизводят отношения подчинившейся «закону» Цветаевой (уехавшей к мужу и остававшейся с ним) с Пастернаком в середине 1920-х
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
443
годов. Ожидавшая рождения сына Цветаева указала в письме к Пастернаку, написанном в июле 1924 г., на «прототипическую» ситуацию, определявшую их отношения и содержавшуюся в «Сродстве душ» (или: «Избирательном сродстве») Гёте: «Через Вас в себе я начинаю понимать Бога в друг<ом>. Вездесущ<ие> и всемогущ<ество>. Пока мальчика нет, думаю о нём. Вспомните старика Гёте в Wahlverwandschaften. Гёте знал» [Переписка с Цветаевой 2004: 97].
Характеристика и оценка общих композиционных черт романа «Вильгельм Мейстер» и «лирико-драматического действа» «Фауст», которые дал в XII главе своей статьи Иванов, прочитываются ныне как в полной мере относящиеся и к «Доктору Живаго», и поэтому можно предположить, что Пастернак не только учёл их, особенно при создании Второй книги романа, но мог воспринять и как предсказание судьбы собственного романа. Оба произведения позднего Гёте «поделены тот и другое на две части, причём в каждой паре вторая часть не похожа на первую и представляет собой беспредельное, символическое расширение первой. Сходство есть ещё и в том, что как вторая часть “Мейстера”, так и вторая часть “Фауста” отнюдь не были достойно оценены; напротив, непонимание, которое они встретили в большинстве, обрушилось на провозглашённые едва ли не сумбурными произведения тяжёлым градом издевательств, которые усцел было попримять золотые нивы; но злак, на них посеянный, не скоро созревает, и, быть может, только в двадцатом веке наступит богатая жатва» [Иванов, IV: 148].
С переводом «Фауста», создававшимся параллельно с писанием романа, связан, по-видимому, важнейший аспект влияния Гёте на автора «Доктора Живаго». К работе над переводом Пастернак приступил после окончания четвёртой части «Назревшие неизбежности». Первую часть он перевёл с августа 1948 по февраль 1949. К осени 1950 г. написал пятую и шестую части - «Прощание со старым» и «Московское становище». Вторую часть «Фауста» перевёл с осени 1950 до середины августа 1951, а в июле 1953 работал над корректурой обеих частей «Фауста»45. Выход «Фауста» отдельной книгой совпал с окончанием «Доктора Живаго», пусть и в «в самом грубом поверхностном наброске или пересказе» (письмо к О.М. Фрейденберг от 30 декабря 1953 г. - [Пастернак 1989-1992, V: 523]. Такое совпадение не кажется случайным. Трактовка «Доктора Живаго» как двойника «Фауста» требует особого внимания.
Иванов замечал, что «“Фауст”, в конце концов, был закончен, как ни бранил его сам автор <...>- не то трагедия (озаглавлен он был всё же “трагедия”), не то северная, варварская фантасмагория, заключающая в своей бесформенной, с точки зрения классического канона, громаде, как иронически констатировал сам Гёте, причудливую смесь трёх родов - эпоса, лирики и драмы. И притом главную массу Фауста составляли старонемецкие, лубочные вирши» [Иванов, IV: 145].
Пастернак также, по примеру Гёте, неоднократно критически оценивал свой роман и во время работы над ним и после окончания. Своеобразное удовлетворение, которое
45 Более подробно см.: [Пастернак Е. 1997: 634-636, 639, 648, 657, 660-663].
444
Глава 5
доставляла ему критика других, объясняется, по-видимому, тем, что она подтверждала успех его отталкивания от установившихся вкусов и догм. Например, 14 июня 1952 г. он писал С.И. Чиковани: «Из людей, читавших роман, большинство всё же недовольно, называют его неудачей, говорят, что от меня они ждали большего, что это бледно, что это ниже меня, а я, узнавая всё это, расплываюсь в улыбке, как будто эта ругань и осуждение - похвала» (цит. по: [Пастернак Е. 1997: 650]). 10 мая 1958 г. он сообщал П.П. Сув-чинскому: «Вы все будете разочарованы доктором Живаго, общими местами, наивностью, растянутостью, отказом от строгого отбора и остроты. Но эту книгу, слишком страшную, слишком единственную, нельзя было написать иначе, её надо было составить как опись или нотариальный акт» [Переписка с Сувчинским 1994: 227].
В работах, которые с удовлетворительной полнотой выявили бы внутренние связи «Доктора Живаго» как с упомянутыми произведениями, так и с творчеством Гёте в целом, стоило бы учесть, что, занимаясь переводами и высказывая свои наблюдения и мысли о Гёте и его произведениях, Пастернак мог видеть себя двойником Иванова, а последнего, как мы отметили, - двойником Гёте. «Личное синтетическое воззрение» Иванова на каждую из двух книг «Вильгельма Мейстера» и каждую из двух книг «Фауста» [Иванов, IV: 148-157] вполне обратимо, соответственно, на две книги «Доктора Живаго». Эти взгляды, будучи высказаны почти за полвека до появления романа, парадоксальным образом восполняют пробелы в огромном корпусе истолкований произведения. В качестве примера можно привести отрывок, который представляет в новом свете смысл возвращения доктора с Урала в пореволюционную Москву, отношений с Мариной и обзаведения новой семьей: Фаусту, для которого «всё прежнее беспредельное познание оказалось не связанным с личностью живой связью, только зрелищем или, быть может, сновидением, а личность - зрителем или сновидцем <.. .>, необходимо, хотя бы ценою проклятия и внутреннего унижения, соприкоснуться с материей; но это соприкосновение для благородного духа может быть только поцелуем матери-земле, которая изводит из себя самой свой облик в женщине и ставит, как Еву, перед любящим. Нужен этот облик, эта форма, ибо имманентное в духе ищет не распространения своей стихии посредством тёмного слияния с тем, что имманентно в природе; нет, оно влюблено в трансцендентное, в то, что предстоит духу как объективно данная форма, и жаждет овладения ею, т. е. слияния с её имманентным содержанием при сохранении её трансцендентной формы» [там же: 153].
Трактовка финала «Фауста», которую даёт Иванов, также может восприниматься в качестве интерпретации значения последнего периода жизни Юрия Живаго и его смерти. В соответствующем свете предстаёт также жизнь и смерть Пастернака. Гёте «имел в своем духовном запасе “касание мирам иным”. Если устранить или игнорировать последние, то, действительно, в итоге “Фауста” мы увидим лишь жалкий самообман и плачевную смерть слепца, забывшего, в своём “неустанном стремлении”, что всё - суета сует. Было бы правильнее усмотреть в изображении последних земных дней Фауста предостережение от опасностей материалистической культуры... Но несомненно, что в
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
445
двадцатом веке ещё перечтут творения Гёте и вычитают из них нечто иное, чем люди века минувшего» [там же: 156-157].
5.6. Гамлетизм доктора Живаго46
Годичное пребывание Юрия Живаго в Барыкине на Урале оказывается для него передышкой между жизнью в революционной Москве и партизанским пленом. Хозяйка варыкинского дома Елена Прокловна Микулицына в сказочном слое романа играет роль Яги, в дом которой попадает герой, разыскивающий возлюбленную. Сказочное положение, подразумевающее, что дом Яги находится на границе двух «царств», а также роль Яги как существа, пропускающего героя в «царство мёртвых», актуализируют тему жизни и смерти, которая поддерживается тем, что Живаго отмечает в одной из дневниковых записей «первые предупреждения наследственности со стороны бедной мамочки, пожизненной сердечницы» [IV: 281]. Диагноз, который ставит себе доктор в Барыкине, соотносится со сценой его смерти от сердечного приступа в Москве и с другими параллельными местами в романе.
В том, что Юрий Живаго является превосходным диагностом, восхищающим коллег, даёт о себе знать его интуиция - качество, характеристика которого, сделанная П.Я. Чаадаевым в IV «Философическом письме», могла повлиять на Пастернака, наделившего таким качеством своего героя. Мнительный и часто жаловавшийся на здоровье Чаадаев, с которого в значительной степени «списан», в том числе и по контрасту, образ доктора, замечал, что, «хотя интуиция и составляет по существу своему свойство человеческого разума и является одним из самых деятельных его орудий, мы всё же не можем дать себе в ней полного отчёта, как в других наших способностях. Дело в том, что мы не просто-напросто владеем ею, как другими способностями; в этой способности есть нечто принадлежащее высшему разуму, ей дано лишь отражать этот высший разум в нашем. И потому-то мы обязаны интуиции самыми блестящими нашими озарениями» [Чаадаев 1991,1: 359]. В заметке, сделанной на одной из книг, Чаадаев писал, что «нельзя делать открытия, не предполагая заранее; <.. .> пусть же люди довольствуются этим предчувствием, пусть выражают его, ведь это божественная, пророческая способность человека» [там же: 588].
Незадолго перед смертью доктор в комнате в Камергерском переулке пишет стихотворение «Гамлет». И оно, и соотносимые с ним места в прозаическом тексте романа вступают в интертекстуальную игру не только с «Гамлетом» У. Шекспира, но и с многочисленными отражениями трагедии в литературе. Не говоря прямо о влиянии «гамлетовских» текстов предшественников и современников, проявившемся в «Докторе Живаго», Н.А. Фатеева называет в качестве таковых статьи Т.С. Элиота «Hamlet and His Problems» (1919), И.Ф. Анненского «Проблема Гамлета» (1907), Е.В. Аничкова «Тради
46 Параграф был опубликован: [Буров 201 Од].
446
Глава 5
ция и стилизация» (1908), сочинения В.Г. Белинского и книгу О.М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра» (1936). Исследовательница прослеживает историю обращения Пастернака к образу шекспировского героя и анализирует «автоперевод» «функции от Гамлета» в поэзии и прозе Пастернака - «переход-перевод» «из одного состояния творческой системы в другое» [Фатеева 2003: 99-109]. Посредством перекличек с прозаическим текстом романа связь «Гамлета» Пастернака с литературными текстами-предшественниками усиливается. Она «подготавливается» «гамлетовскими» участками прозы, рассмотрение которых поможет глубже понять и эти участки, и стихотворение, и особенности реакции Пастернака на «гамлетовскую» традицию в литературе. Мы попытаемся вскрыть лишь один такой отрезок текста.
Безусловно, важное значение имеют многолетние занятия Пастернака переводами произведений Шекспира. «Гамлет» был переведён им в 1939 г., и потом перевод неоднократно переделывался. Ещё один ключ к пониманию поэтики «Доктора Живаго» имеют «Замечания к переводам из Шекспира», первоначальная редакция которых «была написана летом 1946 года <.. .>. В 1949 г. была дописана глава “Король Лир”, в 1956-м -глава “Макбет”. <...> В 1949 г. переписаны главы “Общая цель переводов” и “Ритм Шекспира”» [V: 555]. «Замечания...» едва ли не в равной степени характеризуют «генеральную прозу» самого Пастернака.
Обычно проекция Юрия Живаго на Гамлета (а также на Христа) проявляется в романе в связи с болезнями доктора, которые выступают разнообразными эквивалентами творческого вдохновения, пророческого видения и смерти. Вторая половина записи, составляющей главу 5 части девятой, содержит наблюдения (бодрствующего) доктора о сновидениях. Смысловую насыщенность главы 5 обусловливают интертекстуальные связи, которые ещё не становились предметом рассмотрения. Юрий Живаго, в частности, записывает: «Всё усиливается головная боль. Я плохо спал. Я видел сумбурный сон, один из тех, которые забываются тут же на месте, по пробуждении. Сон вылетел из головы, в сознании осталась только причина пробуждения. Меня разбудил женский голос, который слышался во сне, которым во сне оглашался воздух. Я запомнил его звук и, воспроизводя его в памяти, перебирал мысленно знакомых женщин, доискиваясь, какая из них могла быть обладательницей этого грудного, тихого от тяжести, влажного голоса. Он не принадлежал ни одной. Я подумал, что, может быть, чрезмерная привычка к Тоне стоит между нами и притупляет у меня слух по отношению к ней. Я попробовал забыть, что она моя жена, и отнёс её образ на расстояние, достаточное для выяснения истины. Нет, это был также не её голос. Так это и осталось невыясненным. Кстати о снах. Принято думать, что ночью снится обыкновенно то, что днём, в бодрствовании, произвело сильнейшее впечатление. У меня как раз обратные наблюдения. Я не раз замечал, что именно вещи, едва замеченные днём, мысли, не доведённые до ясности, слова, сказанные без души и оставленные без внимания, возвращаются ночью, облечённые в плоть и кровь, и становятся темами сновидений, как бы в возмещение за дневное к ним пренебрежение» [IV: 282].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
447
Этот отрывок представляет собой инверсию конца статьи И.Ф. Анненского «Проблема Гамлета» (1907). Кроме того, лаконичная запись доктора о приснившемся ему во время болезни в Барыкине звуке голоса (Лары), скрытым следствием чего стали его поездки в Юрятин, претекстами имеет: стихотворение М.И. Цветаевой «Весна наводит сон. Уснём» из цикла «Провода»; «Венецию» (1913) самого Пастернака (см. об этом: [Поливанов К.М. 2006: 150]; несколько взаимосвязанных записей П.Я. Чаадаева о природе звука и его неизвестном воздействии («Отрывки и разные мысли» № 33-37 - [Чаадаев 1991,1: 453-454]), а также следующий пассаж из V «Философического письма»: «Иногда случается, что проявленная мысль как будто не производит никакого действия на окружающее; а между тем - движение передалось, толчок произошёл; в своё время мысль найдёт другую, родственную, которую она потрясёт, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите её возрождение и поразительное действие в мире духовном» [там же: 381].
Своего рода медиатором между этим отрывком и записью доктора является, возможно, стихотворение Ф.И. Тютчева «Нам не дано предугадать» (1869), в котором также допустимо усмотреть чаадаевское влияние. Сон Юрия Живаго в Варыкине во время болезни, а также другие аналогичные сны (в день похорон Анны Ивановны Громеко, зимой 1917-18 годов, после возвращения от партизан в Юрятин, после отъезда Лары из Барыкина) спроецированы также на отрывок № 50 из «Отрывков и разных мыслей» и по-разному обыгрывают его: «Вы часто слышали, что сон есть подобие смерти; это совершенно неверно. Я нахожу, что именно сон скорее есть настоящая смерть, а то, что называется смертью, быть может, и есть жизнь? Во сне жизнь моего Я прерывается, в смерти этого нет; ибо если бы при этом перестало существовать моё Я, наступило уничтожение. Из могилы нет возвращения, но после сна мы возвращаемся к своему Я. Но скажите, жизнь ли это, когда нет мысли о том, что живёшь, хотя бы в течение данного мгновения?» [там же: 458-459].
«Доктор Живаго», состоящий из двух книг, композиционно находится в отношениях параллелизма с двумя «Книгами отражений», представляющими собой целостность: реалистическая (как оценивал свой роман Пастернак) художественная проза отражает импрессионистическую художественную критику47. Отметим, что если Анненский даёт название «явное», то «Доктор Живаго» представляет собой «книгу отражений» тайную.
Статья «Проблема Гамлета» находится во «Второй книге отражений» и отражается во Второй книге «Доктора Живаго». Очень важная для Пастернака тема Гамлета не случайно появляется именно в то время, когда Юрий Живаго находится в Варыкине. Со времени попадания к партизанам доктор «внешне» теряет индивидуальность, становится «как все», учась мимикрировать. Эта ситуация в романе представляет контраст признанию из поэмы «Высокая болезнь» (1923, 1928):
Всю жизнь я быть хотел как все, Но век в своей красе
47 См. характеристику «Книг отражений»: [Фёдоров 1979: 543-576].
448
Глава 5
Сильнее моего нытья И хочет быть как я [I: 256].
Умение мимикрировать жизненно важно и для Гамлета. Анненский оценивает слова критика, определявшего трагедию У. Шекспира, как «весьма характерные для суммарного суждения о Гамлете: в них, кажется, есть всё, что только можно сказать об этой трагедии». И далее следует отрывок, который, по всей видимости, Пастернак примерял к себе и своему герою (а Юрий Живаго - к себе): «А между тем далеко не всякий читатель и зритель Гамлета ими удовлетворится. Признаюсь, что меня лично Гамлет больше всего интригует. Думаю также, что и все мы не столько сострадаем Гамлету, сколько ему завидуем. Мы хотели бы быть им, и часто мимовольно переносим мы его слова и музыку его движений в обстановку, самую для них не подходящую. Мы гамлетизируем всё, до чего ни коснётся тогда наша пленённая мысль. Это бывает похоже на музыкальную фразу, с которою мы заснули, которою потом грезили в полусне... И вот она пробудила нас в холодном вагоне, на миг, но преобразив вокруг нас всю ожившую действительность: и этот тяжёлый, делимый нами стук обмёрзших колёс, и самоё солнце, ещё пурпурное сквозь затейливую бессмыслицу снежных налётов на дребезжащем стекле... преобразило... во что?... То-то во что?.. В сущности, истинный Гамлет может быть только музыкален, а всё остальное - лишь стук, дребезг и холод нашего пробуждения с музыкой в сердце» [Анненский 1979: 172].
Возникает перекличка: Анненский пишет о том воздействии, которое оказывает на него Гамлет, и о «музыке в сердце» - Юрий Живаго пишет о признаках болезни сердца и воздействии разбудившего его голоса (Лары). Таким образом, Лара обращённо (в том числе по социальному статусу, полу, по принадлежности к разным эпохам, странам и пр.) соотносится с принцем Гамлетом. В «Докторе Живаго» связь женского голоса и музыки постоянна. Если Анненского «Гамлет больше всего интригует», то читателя романа интригует (достаточно прозрачно) доктор (а также рассказчик, передающий ход его мыслей), который не может вспомнить, кому принадлежит голос. Интригует и Пастернак, тайно вводя инверсированный текст Анненского.
Одним из наиболее заметных мотивов в романе является и мотив стука колёс (железной дороги); в записях Юрия Живаго его «заменяет» «ляскающий <.. .> утюг»48. Но в романе по железной дороге не только ездят - вдоль неё проходят через Сибирь Живаго и Антипов-Стрельников. Железная дорога и поездка ассоциируются с разлукой. Тем самым болезнь доктора в Варыкине и запись о голосе (Лары) соотносятся с расставанием Юрия Андреевича и Лары в Варыкине, когда её увозит Комаровский, а также со стихотворением «Разлука». После отъезда Лары с Комаровским из Варыкина Живаго заходит в дом. Там «двойной, двух родов монолог начался и совершался в нём: сухой, мнимо деловой по отношению к себе самому и растекающийся, безбрежный в обраще-
48 О взаимосвязи перечисленных мотивов см.: [Гаспаров Б. 1994: 244-246,254-256]. Об эмблематич-ности поезда для поэзии Пастернака и значении железной дороги в его творчестве см.: [Gifford 2003: 80-81].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
449
нии к Ларе» (IV, 450). Второй род монолога как раз отсылает к «Разлуке». Ср. это стихотворение и описание прощания Юрия Живаго с Ларой со стихотворением Анненского «Прерывистые строки», написанным за несколько месяцев до смерти в июне 1909 г. [Анненский 1990: 155-156].
Путь Антипова-Стрельникова в Варыкино - практически тот же, что прошёл Юрий Живаго, уходя от партизан. Это подтверждается тем, что оба они встречают Терентия Галузина, которого мать называет «дурачком Терёшкой» [IV: 308]. Доктор лишь видит недостреленного Галузина, Стрельников же испытывает на себе результаты его предательства. Обе ситуации «происходят» от стихотворения Анненского «Опять в дороге», написанного 30 марта 1906 г. в вологодском поезде [Анненский 1990:169-170]. Это стихотворение даёт время года и суток, обстановку, в которую попадают герои Пастернака, дурачка, идущего по морозу, отношение к нему лирического героя и прочие детали. Есть в нём даже украинская нота, созвучная украинской этимологии фамилии Галузина («га-лузь» означает «ветвь», «ответвление», «отрасль») - «Поди-ка, подивися, / Как щит её медян». Как и все интертексты, стихотворение предстаёт в романе радикально трансформированным, и, более того, дважды: ситуации бегств двойников Юрия Живаго и Антипова-Стрельникова вдоль железной дороги и их встреч с Галузиным противопоставлены. На последние строфы стихотворения спроецирован разговор доктора и Стрельникова о Галузине и их действия после разговора о Ларе. Текст Анненского подкрепляет ассоциирование онаниста, предателя, «дурачка» Галузина с Украиной, где Анненский находился с 1891 по 1893 г. и откуда уехал вследствие конфликта с владелицей частной гимназии Екатериной Галаган, под началом которой он работал (см.: [Федоров 1990: 11-12]). О киевском периоде жизни поэта Пастернак, вероятно, знал.
Запись Юрия Живаго о разбудившем его женском голосе находится в отрывке, который начинается с указания доктора на то, что он болен: «Немного простужен, кашель и, наверное, небольшой жар. Весь день перехватывает дыхание где-то у гортани, комком подкатывая к горлу. Плохо моё дело. Это аорта. Первые предупреждения наследственности со стороны бедной мамочки, пожизненной сердечницы. Неужели правда? Так рано? Недолгий я в таком случае жилец на белом свете. <.. .> Гладят и то и дело из не-протопившейся печки подкладывают жаром пламенеющий уголь в ляскающий крышкой, как зубами, духовой утюг» [IV: 281].
То, что доктор способен слышать женский голос, является, таким образом, «гамлети-зацией» действительности с его стороны. Статья Анненского заканчивается указанием на главное - музыкальность истинного Гамлета, «а всё остальное - лишь стук, дребезг и холод нашего пробуждения с музыкой в сердце». Не случайно, что статья интертекстуально проявляется в «Докторе Живаго» именно в связи со сном Юрия Андреевича. «По свидетельству сына поэта, Анненский, страдавший бессонницами, большинство своих стихотворений создавал как бы в состоянии полусна. Эта реальность полусна ощутима в его стихах как особый принцип организации материала: ассоциативный принцип связи вещей и сюжетных фрагментов», - отмечает В.Е. Гитин [ИРЛ 1980, IV: 173-174].
450
Глава 5
Пастернак, страдавший бессонницей в 1935 году, напротив, не мог в таком состоянии писать стихи. Именно в этом году он однажды «весь вечер говорил об Анненском» с Ахматовой [Найман 1989: 77]. Сама она 14 января 1963 г. вспоминала, что говорила с Пастернаком «осенью 1935 г., в ту ночь, когда <...> случайно попала к ним, в полном беспамятстве бродя по Москве» [Ахматова 1996: 282]. (Вопрос о «случайности попадания» Ахматовой к Пастернаку - отдельная тема.) Бессонницей мучается в романе Антипов-Стрельников. Когда же Пастернак был молод, бессонные ночи оказывали на него такое же воздействие, как и на Анненского, и давали аналогичные результаты.
Однако в записи Юрия Живаго использована не только «Проблема Гамлета», но и другой текст Анненского - автобиографическое стихотворение в прозе «Моя душа» (опубликовано в 1908). Доктором подхвачена даже интонация Анненского, которая начинается со всё того же мотива сна: «Я спал, но мне было душно, потому что солнце уже пекло меня через штемпелёванную занавеску моей каюты. Я спал, но я уже чувствовал, как нестерпимо горячи становятся красные волосики плюшевого ворса на этом мучительно неизбежном пароходном диване. Я спал и не спал. Я видел во сне собственную душу. Свежее голубое утро уже кончилось, и взамен быстро накалялся белый полдень» [Анненский 1990: 217].
Отзвуки этой лирической миниатюры, занимающей две с половиной страницы, слышны во многих местах «Доктора Живаго». Так, тема сна и духоты присутствует в описании сна Юрия Живаго жаркой ночью в вагоне при приближени к Уралу. Сон, жаркое утро, близость реки (Волги) - в сцене ожидания доктором выхода спавшего Стрельникова в штабном вагоне в Развилье, неподалеку от Рыньвы. Болезненное состояние, сон, духота, слёзы - в главах, повествующих о пребывании Живаго в доме Лары после возвращения от партизан, а также в других параллельных описаниях болезней и снов доктора. Влияние начала текста Анненского заметно и в стихотворении Юрия Живаго «Август». В варыкинских записях доктора с «Моей душой» Анненского перекликается и запись о беременности Тони.
У Анненского одно из перевоплощений души описано так: «Я видел во сне свою душу. Теперь она странствовала, а вокруг неё была толпа грязная и грубая. Её толкали -мою душу. Это была теперь пожилая девушка, обесчещенная и беременная» [там же: 218]. Данное видение сказалось, возможно, сказалось как в ситуации, когда ушедший из землянки Ливерия Юрий Живаго «видит» идущую сквозь метель Тоню с двумя детьми, так и в сцене, когда доктор пытается выбраться из переполненного трамвая сквозь «ругань, пинки и озлобление» [IV: 488]. Эпиграф к «Моей душе» мог восприниматься Пастернаком в качестве возможного внутреннего монолога доктора: «Нет, я не хочу внушать вам сострадания. Пусть лучше буду я вам даже отвратителен. Может быть, и себя вы хоть на миг тогда оцените по достоинству» [Анненский 1990: 217].
Этот эпиграф также несколько раз включается в «Докторе Живаго» в работу в трансформированном виде и становится всё более актуальным: в монологе Юрия Живаго на вечеринке в доме Громеко, во время последней встречи доктора с Гордоном и Дудоро
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
451
вым в Москве. Не менее значимым, чем эпиграф и начало текста Анненского, был для Пастернака конец - о душе поэта: «И вся вина этой души заключалась только в том, что кто-то и где-то осудил её жить чужими жизнями, жить всяким дрязгом и скарбом, которым воровски напихивала его жизнь, жить и даже не замечать при этом, что её в то же самое время изнашивает собственная, уже ни с кем не делимая мука» [там же: 220].
«Проблема Гамлета» содержит характеристики и оценки, очень близкие Пастернаку. Одна из них в значительной мере объясняет причины появления темы Гамлета в «Докторе Живаго», причины написания доктором стихотворения «Гамлет» и особенности освещения, в котором с «пограничной» позиции стихотворения предстаёт как предшествующая ему проза, так и последующие стихи Живаго. (В прозаическом тексте романа о стихотворении упоминается как о реализации желания героя написать о современном городе и его тесной связи с современной душой.) Анненский писал: «Желанье говорить о Гамлете и даже не без убедительного жара в наши дни, благодаря превосходным пособиям, легко исполнимо. Труднее поручиться, что спасёшь при этом свою лодку, увильнув и от невольного плагиата банальной Скиллы и от сомнительного парадокса Харибды. Только как же, с другой стороны, и не говорить, если человек говорит, чтобы думать, а не думать о Гамлете, для меня по крайней мере, иногда значило бы отказаться и от мыслей об искусстве, т. е. от жизни». И ниже - слова о Гамлете, дающие разгадку того, почему Живаго в конце жизни внешне «опускался»: «Нельзя оправдать оба мира и жить двумя мирами зараз» [Анненский 1979: 163]. Ср. с ними слова доктора, сказанные Гордону и Дудорову незадолго до исчезновения и смерти: «Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастие» [IV: 480].
Юрий Живаго очень напоминает Гамлета, которого представлял себе Анненский, писавший: «Лично я какого бы я Гамлета ни смотрел, всегда рисую себе совсем другого актёра, вероятно, впрочем, невозможного ни на какой сцене. О, это не был бы тот ярко индивидуальный Гамлет, который, может быть, даже создан актёрами. По сцене мой Гамлет двигался бы точно ощупью... Я себе так его представляю... он не играет... он вибрирует... он даже сам не знает, что и как он скажет... он вдумывается в свою роль, пока её говорит; напротив, все окружающие должны быть ярки, жизненны и чтобы он двигался среди этих людей, как лунатик, небрежно роняя слова, но прислушиваясь к голосам, звучащим для него одного и где-то там, за теми, которые ему отвечают» [Анненский 1979: 164].
Пастернаку была близка и резко обозначенная Анненским субъективность взгляда на вещи и явления, дающая подлинную оригинальность. Статья старшего поэта подкрепляет возможность проекции нравов времён Гамлета на нравы времён Пастернака и пророчески характеризует будущую эволюцию героя (и читателя) в русской литературе, представленную, в частности, в «Докторе Живаго»: «Слова Гамлета глубоки и ярки, но действия его то опрометчивы, то ничтожны и чаще всего лунатичны. Не надо забывать и тогдашних условий драматического творчества. Зрители уже не требовали бога, но они
452
Глава 5
ещё требовали героя; они уже забыли мир как верование, но сценическую жизнь для них всё ещё составляла драматизированная легенда, и ворота, через которые эта жизнь вступала на подмостки, должны были иметь позолоту и герб» [Анненский 1979: 165].
Едва ли не каждая характеристика Гамлета, высказываемая Анненским, представляет собой интертекстуальный ключ к тому или иному отрезку текста, описывающего поворотные моменты жизни Юрия Живаго. Следующая характеристика, например, объясняет отношение доктора к Комаровскому, виновному в гибели его отца и бывшему «причиной» безобразной сцены отравления матери Лары: «Гамлет смотрит на жизнь сквозь призму своей мечты о прекрасном. Отец осуществил для него идеал красоты. <.. .> Зло для Гамлета прежде всего не в том, что заставляет нас страдать, что оскорбляет или позорит, а в отвратительном, сально-грязном и скотском. Главный аргумент против матери есть красота его отца. Именно эта красота давала ему право на счастье, власть, поклонение и любовь... Его убийца, может быть, не столько оскорбил христианского бога правды, сколько помрачил эллинских богов красоты. Идеал красоты отлился для Гамлета в своеобразную форму благородства» [там же: 168].
Ср. смерть Андрея Живаго с гибелью отца Гамлета, которого Анненский называет, в частности, «доверчивым» (другие характеристики работают зеркально) [там же: 171]. Отцы Гамлета и Юрия Живаго соотносятся напрямую, тогда как мать Гамлета - с матерью Лары Амалией Карловной. Кстати, доктор, выслушав в Юрятине Комаровского, предлагающего уехать с ним на Дальний Восток, говорит Ларе: «Ты слишком доверчива, мой дружок. Нельзя едва задуманное принимать за совершившееся» [IV: 420]. Он предупреждает Лару, зная о последствиях доверчивости Комаровскому своего отца и самой Лары.
Для Анненского идеал красоты давала именно античность. Для героя Пастернака отец представляет, наоборот, христианский идеал красоты, и эта красота не даёт Юрию Живаго никаких прав «на счастье, власть, поклонение и любовь». И мечта доктора о прекрасном - мечта о христианском идеале. Комаровский представляет противоположность именно данному идеалу. Этим объясняются особенности ревности Юрия Андреевича. По возвращении от партизан доктор говорит Ларе, что ревнует её к Комаровскому «безумно, непоправимо»: «Я хотел сказать, что ревную тебя к тёмному, бессознательному, к тому, с чем немыслимы объяснения, о чём нельзя догадаться. <.. .> Как к <.. .> заражению, я ревную тебя к Комаровскому» [IV: 398].
Потеряв Лару, которую увёз Комаровский, Живаго страдает, хочет изобразить её в стихах и подробно описывает, как сделает это, во внутреннем монологе. Стихи оказываются самой подходящей формой для выражения страдания. Пастернак скрыто спорит с Анненским, отталкиваясь от следующей характеристики: «Страдающий Гамлет? Вот этот так не умещается в поэта. В страдании Гамлета нам чувствуется что-то и несвободное и даже лунатичное. Страдание Гамлета скучно и некрасиво, и он его скрывает. <.. .> Мне обыкновенно казалось, что Гамлет, красиво и гениально рисуя пороки и легко вскрывая чужие души, точно бы это были устрицы, всегда что-то не договаривает в личных откровениях» [Анненский 1979: 170].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
453
5.7. Анненский как тайный двойник
Проблеме влияния Анненского на Пастернака посвящён раздел «Анненский и две революции» в работе «Разыскания о поэтике Пастернака. От бури к бабочке» [Иванов Вяч. Вс. 1998-2009,1: 59-70], часть статьи «Об Анненском» [там же, III: 153-154]. Мы позволим себе дополняющую реплику на статью Вяч. Вс. Иванова «Ахматова и Пастернак. Основные проблемы изучения их литературных взаимоотношений» [там же, II: 255-266], в которой последние рассматриваются на фоне отношения поэтов к Анненскому. Как показал Вяч. Вс. Иванов, переклички с поэтом, который, по признанию Пастернака, был одним из его главных учителей в литературе, многочисленны и многообразны. И хотя некоторые исследователи ограничиваются лишь констатацией, что «Пастернак и Анненский - проблема, ещё ждущая основательного и детального исследования» [Альфонсов 19906: 358], основная тенденция в наследовании Анненскому все же обозначена: «Пастернак никогда не мог написать строк, подобных приведённым из Анненского: “О нет! Без твоих превращений, / В одно что-нибудь застывай!” Далеко ему было и то, как самые крупные поэты-акмеисты развили эту (не только не пастернаковскую, а скорее даже противопастернаковскую) линию, Анненским (совмещавшим это направление с другим - предпастернаковским <.. .>) только намеченную. Пастернак писал об этом и в своих письмах, и в стихотворении, посвящённом наиболее ему близкому поэту из всех больших поэтов-акмеистов - Ахматовой» [Иванов Вяч. Вс. 1998-2009,1: 82].
О значении Анненского для Пастернака выразительно свидетельствует ситуация, описанная со слов А.А. Ахматовой А.Г. Найманом. Когда в 1935 г. Ахматова после ареста её сына Л.Н. Гумилёва и мужа Н.Н. Пунина, передав с помощью Б.А. Пильняка в Кремль письмо, пришла к Пастернаку, «хозяин весь вечер говорил об Анненском: что он для него, Пастернака, значит» [Найман 1989: 77]. Судя по тону Ахматовой, сохранённому мемуаристом, рассказ Пастернака об Анненском был воспринят, с одной стороны, как неуместный в тех обстоятельствах, не учитывающий состояния, в котором находилась Ахматова, и не подходящий для «утешения», с другой - как не учитывающий значения, которое Анненский имел для самой Ахматовой, также прямо называвшей его своим учителем. Ахматова, вероятно, восприняла рассказ Пастернака как имеющий отношение только к самому Пастернаку, и потому он показался ей бестактностью. Тем более «ужасной», что она противоречила культивировавшемуся ею «мифу» об Анненском как именно её учителе. Но, возможно, Пастернак хотел рассказать об Анненском и его значении для себя с той целью, чтобы ненавязчиво показать тем самым Ахматовой пример столкновения поэта и времени и творческого выхода из трагически безвыходной ситуации. Позже «Доктор Живаго» станет для Пастернака воплощением «рецепта» поэта-предшественника. В.Т. Шаламов записал слова Пастернака, сказанные при встрече 13 ноября 1953 г.: «В Ваших письмах было очень интересное для меня замечание о том, что поэтические идеи Пастернака близки поэтическим идеям Анненского, это совершенно верно, хотя никто никогда мне этого не говорит. Иннокентий Аннен
454
Глава 5
ский - мой учитель. <.. .> Я находил у Анненского ряд тончайших замечаний, которые подсказывали пути, по которым никто ещё никогда не ходил. Я писал уже вам, что я хотел бы уничтожить всё из старого, за исключением “Февраль. Достать чернил и плакать!..”, “Был утренник. Сводило челюсти...”, и написать по-новому, где деталь, подробность была бы столь же весома, как у Анненского или Льва Толстого» [Воспоминания Шаламова 1988: 295]. В упоминаемом письме от 9 июля 1952 г. Пастернак писал: «Мне кажется, моей настоящей стихией были <.. .> характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюдённой и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого» [там же: 301].
Больше всего Ахматовой, по-видимому, не понравилась именно «претензия» Пастернака на то, чтобы считать Анненского своим учителем. Это для Ахматовой могло звучать как посягательство на её «монополию». 14 января 1963 г., переигрывая задним числом причины своего прихода к Пастернаку, Ахматова записала: «В связи с тем, что я писала статью “Последняя трагедия Анненского”, мне было необходимо поговорить об Ин<нокентии> Ф<ёдоровиче> с двумя людьми: с Пастернаком и с Мандельштамом». Далее, противореча самой себе, Ахматова описала разговор с Пастернаком как нечто неуместное и навязанное ей: «Борис Леонидович со свойственным ему красноречием ухватился за эту тему и категорически утверждал, что Анненский сыграл большую роль в его [жизни] творчестве» [Ахматова 1996: 282].
Борис Леонидович, однако, был далёк от такой конкуренции, поскольку «эволюция творчества Ахматовой и Пастернака в 1940-1950-е годы шла в прямо противоположных направлениях» [Иванов Вяч. Вс. 1998-2009, II: 263]. Анненский был для Пастернака и образцом Поэта - таким же, каким был, например, Пушкин. И Юрий Живаго наделён элементами биографии Анненского в не меньшей степени, чем, скажем, чертами биографии Пушкина или Маяковского. Жизнь Анненского представляла для Пастернака не меньший интерес, чем его произведения, что обусловлено в числе прочего поэтикой романа: «Пастернак, сообразно своей метонимической поэтике, не разграничивает информацию о продукте и о его творце, заложенную в подтекст романа» [Смирнов 1996: 83]. Мы обратим внимание на некоторые детали биографии поэта и его отца, отразившиеся в образе Юрия и Андрея Живаго.
Анненский «родился 20 августа 1955 г. в Омске, где отец его, Фёдор Николаевич, занимал должность советника и начальника отделения Главного управления Западной Сибирью. Семья Анненских <.. .> жила до этого в Петербурге и переехала в Сибирь в 1849 году, когда отец получил туда назначение. Но уже в 1860 году они возвращаются в столицу. Приблизительно в это время пятилетний Иннокентий перенёс опасную и длительную болезнь, оставившую след на всю жизнь, - тяжёый сердечный недуг. В столице служебная карьера Фёдора Николаевича сложилась много скромнее: он получил, и притом не сразу, место чиновника по особым поручениям в Министерстве внутренних дел и выше этого уже не подымался. <.. .> С конца 1860-х - начала 1870-х он, не довольствуясь своим жалованьем, пустился в спекулятивные сделки по купле и перепродаже
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
455
разных товаров. Сделки, по его коммерческой неопытности, оканчивались плачевно для него, втягивали в долги, вызывали преследование со стороны кредиторов; из-за неплатежей по векселям на квартире назначалась распродажа имущества. Всё это компрометировало Ф.Н. Анненского как чиновника; в 1874 году он был уволен со службы, его разбил паралич, и, хотя для него всё же удалось выхлопотать пенсию, семье жилось трудно» [Фёдоров 1990: 6-8].
В стихотворении доктора «Август» днём похорон названо «Шестое августа по-старому, / Преображение Господне» [IV: 531]. По новому стилю похороны, приснившиеся Юрию Живаго, проходят 18 августа. И тогда, при проекции героя на Христа, день Воскресения приходится на 20-е, совпадает с днём рождения (по старому стилю) Анненского. Пастернак закончил свой роман в 1955 г. - ровно век спустя после рождения Анненского. «5 августа 1955 года Пастернак уведомил М.К. Баранович о том, что “вторая редакция” окончена. <.. .> Только 10 декабря он объявил трём своим корреспондентам об окончании романа» [Пастернак 1989-1992, III: 675-676].
С Омском связан и отец Юрия Живаго. Именно в этом городе «безвыездно живёт с сыном» княгиня Столбунова-Энрици, которой Андрей Живаго увлекался ещё при жизни матери Юры. Андрей Живаго «ездит по разным городам Сибири и заграницы» [IV: 8] и погибает на железной дороге: он тоже связан с железной дорогой, но иначе, нежели отец Анненского. «Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, <.. .>, кутит и распутничает и что он давно просадил по ветру их миллионное состояние. <.. .> Вдруг всё это разлетелось. Они обеднели» [IV: 8]. Отец и мать Юрия Живаго умирают, в отличие от родителей Анненского, а в бедность семья Юрия Живаго впадает тоже из-за отца, о действиях которого можно судить по его разговору с Григорием Осиповичем Гордоном: Андрей Живаго «расспрашивал <...> о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов» [IV: 18]. Мать Юрия Живаго умирает от болезни сердца, когда ему исполняется 10 лет. В таком же возрасте остался без матери Д.Ф. Самарин [Поливанов К.М. 2006: 47]. У Анненского болезнь обнаруживается в пять лет. Юрий Живаго первые признаки болезни замечает у себя в Варыкине в 1919 году, когда ему 27 лет. Когда корреспондентка поэта Р.Н. Ломоносова, которой врачи поставили диагноз «органический порок сердца», пожаловалась в письме Б.Л. и Е.В. Пастернакам, написанном 2 ноября 1927 г.: «Жить мне осталось немного, для настоящей работы нет у меня ни таланта, ни здоровья», то отклик Пастернака был очень близок к тому, что записывает о своей сердечной болезни Живаго, а также словам доктора, сказанным больной Анне Ивановне Громеко. В письме от 27 ноября 1927 г. Пастернак писал: «Откуда Вы взяли, что Вам осталось недолго жить? Я одних лет с Вами (или старше? - мне 37 лет), и чувство, которому вы дали выраженье, впервые явилось у меня три года назад. Тогда врач нашёл у меня расширенье сердечных мышц, и предощущенье смерти впервые в жизни пронизало меня не в идее, а в знобящей осязательности наперёд вообразимого факта. Теперь оно утратило остроту ошеломительной новизны, и я привык к этому чувству. Итак условимся. Жить
456
Глава 5
нам с Вами ещё вечность, и примем за безразличность, измерится ли она годом или десятком лет, или двумя. Моя мать и все родные с материнской стороны больны сердцем (кто - неврозом, кто - грудною жабой) с тридцатилетнего возраста» [Переписка с Ломоносовыми 1994: 15, 230, 232-233].
Если семья Анненского уехала из Петербурга в Омск, а потом вернулась, то Андрей Живаго, бросив семью в Москве, живёт с княгиней в Омске, а затем, судя по «посягательствам некоей Madam Alice, проживающей с детьми под фамилией Живаго в Париже» [IV: 71], заводит семью на ‘Западе’. В случае отца Анненского (вынужденного служить чиновника): бедность в столице (на ‘Западе’) - преуспевание в Омске (на ‘Востоке’) - вновь бедность в столице (на ‘Западе’). В случае отца Юрия Живаго (миллионера): преуспевание и законный брак в Москве (вторая столица; ‘центр’) - незаконный брак и все ещё преуспевание в Омске (на ‘Востоке’) - легальный, по французским законам, брак в Париже и разорение (на ‘Западе’). Если Фёдора Николаевича Анненского преследуют кредиторы, то Андрея Живаго - его адвокат Комаровский, который должен защищать от кредиторов, но оказывается хуже них: «Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение его клиента в каком-то отношении ему на руку» [IV: 18]. Один кончает параличом, другой - самоубийством.
Для Анненского всю жизнь «душевно близкими людьми» были помогавшие ему старший брат Николай Фёдорович и его жена Александра Никитична [Фёдоров 1990: 8]. Юрию Живаго помогает его младший брат Евграф, который является с помощью именно в моменты, когда Юрий Андреевич живет с жёнами (Тоней и Мариной), и после его смерти - занимается похоронами вместе с Ларой. Николай Фёдорович был убеждённым народником и «неоднократно подвергался гонениям со стороны царского правительства», вынужден был уезжать то в Тобольскую губернию, Казань и Нижний Новгород, то в Ревель и Финляндию [там же: 9-10]. Евграф служит большевикам («продолжателям» дела народников), новой власти и разъезжает именно по её делам, занимаясь, судя по его высокому положению впоследствии, её укреплением. А.В. Лавров указывает, что если «прочитывать» Юрия Живаго как Гамлета, то Евграф «по отношению к нему - Фортин-брас» [Лавров 1993: 250]. Таким образом, семейная ситуация Анненского укрепляет проекцию героев «Доктора Живаго» на персонажей Шекспира (и наоборот).
Сходство пастернаковского героя с Анненским прослеживается и в отношении того, как они стали поэтами.
Анненский «стихи <.. .> начал писать рано, ещё до университета», и они, по его собственной оценке и по оценке исследователя, были слабы. «Петербургский университет Анненский окончил в 1879 году со званием кандидата историко-филологического факультета (оно присваивалось тем выпускникам, которые представляли сочинение на специально избранную тему, признававшееся научно ценным)». Позже поэт признавался: «В университете - как отрезало со стихами. Я влюбился в филологию и ничего не писал, кроме диссертаций...» [Фёдоров 1990: 9].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
457
«Юра хорошо думал и хорошо писал. Он ещё с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнёзд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать. Но для такой книги он был ещё слишком молод, и вот он отделывался вместо неё писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине. Этим стихам Юра прощал грех возникновения за их энергию и оригинальность. Эти два качества, энергии и оригинальности, Юра считал представителями реальности в искусствах, во всём остальном беспредметных, праздных и ненужных» [IV: 66-67]. Этой же зимою Юрий Живаго писал «своё учёное сочинение о нервных элементах сетчатки на соискание университетской золотой медали» [IV: 80]. Говоря о том, что герой «был ещё слишком молод» для книги «самого ошеломляющего», Пастернак тем самым свидетельствовал об «устройстве» своего романа, указывая на скрытость «взрывчатых гнёзд», из которых он состоит. Двойное указание на «оригинальность» стихов свидетельствует о важности этих «качеств», которые в полной мере применимы как к стихам самого Пастернака, так и к поэзии Анненского.
Для Анненского делом жизни с 1891 года стал перевод всех трагедий Еврипида [Фёдоров 1990: 11], а стихи и проза, вошедшая в «Книги отражений», оставались как бы на втором плане. Для Пастернака отношение к переводам, которыми он занимался вынужденно и тяготился, и оригинальному творчеству было противоположным.
Для Пастернака очень значимым был последний год жизни и обстоятельства смерти Анненского. Особое, универсальное значение «последнему году поэта» Пастернак придавал ещё в «Охранной грамоте» [III: 230-234]. В романе «последний год» Юрия Живаго значит не меньше, хотя повествователь, напротив, указывает на незначительность последних лет жизни героя: «Остаётся досказать немногосложную повесть Юрия Андреевича, восемь или девять последних лет его жизни перед смертью» [IV: 463]. Жизнь доктора по возвращении с Урала в Москву очень похожа на последние годы жизни Анненского, но противоположна им в плане активности. Вернувшись в Москву, он сначала издаёт «маленькие книжки в один лист по самым различным вопросам» [IV: 471], состоит «штатным доктором» во множестве дутых учреждений, затем забрасывает работу (медицину), удаляется от семьи и друзей и, наконец, будучи обеспечен Евграфом, в одиночестве отдаётся творчеству. Анненский, в частности, «к январю 1906 <...> был уволен с поста директора гимназии в связи с ученическими беспорядками. Затем служил инспектором петербургского учебного округа, привязанный к делам, как он писал в одном из писем 1907, “одно другого смешнее, нелепее и омерзительно-несоответствен-нее с теми мыслями, которые меня волнуют и сладко сжигают”» [РП 1992-2007,1: 86].
Напомним, как «внешне» выглядел взлёт творческой активности Анненского в последние годы жизни. В 1906 г. вышел первый сборник его литературно-критических статей «Книга отражений», в 1909 - «Вторая книга отражений» (ср. статьи по самым разным темам и «маленькие книжки» Юрия Живаго). В 1904 г., который В.Е. Гитин называет «годом литературного дебюта» Анненского [ИРЛ 1980, IV: 171], поэт под псевдонимом
458
Глава 5
«Ник. Т-о» издал сборник стихотворений «Тихие песни», а его главная книга «Кипарисовый ларец» вышла в 1910 г. - уже после его смерти. Ср. установку поэта на анонимность, «стремление к созданию внеличного стиля» [ИРЛ 1980, IV: 177] - и «обезличенность» Юрия Живаго в конце жизни, которого не узнает «квартирохозяин», читающий его книжки. В 1923 г. сын Анненского В. Кривич издал «Посмертные стихи Ин. Анненского» [РП 1992-2007, I: 85-87] - ср. с тем, что стихи доктора собрал его брат Евграф. Сходство есть в судьбах творчества Юрия Живаго и Анненского, в посмертном восприятии их как поэтов соответственно Гордоном и Дудоровым и младшим поколением поэтов Серебряного века. Взлёт творческой активности у Живаго, как и у Анненского, приходится на конец жизни. Ср. многообразную и напряжённую творческую деятельность доктора в комнате в Камергерском переулке, которую неожиданно прерывает его смерть, с деятельностью Анненского: «В 1909 Анненский создал самые глубокие из своих “горьких, полынно крепких стихов” (О.Э. Мандельштам) <.. .>, начал чтение цикла стиховедческих лекций в Обществе ревнителей художественного слова при “Аполлоне”, готовил доклад для Литературного общества, написал статью о Леконт де Лиле <...>, читал лекции по истории древнегреческой литературы на Высших женских историко-литературных курсах Н.П. Раева (к которым приступил в 1908) и спешил завершить ещё целый ряд служебных и литературных дел перед тем, как приступить к пересмотру и окончательной доработке давнишних замыслов, когда чрезвычайное перенапряжение вкупе с болезненными переживаниями, вызванными намеченной отставкой, невыполненными обязательствами руководства “Аполлона” (снятие подборки его стихотворений), отсутствием полного взаимопонимания с теми, в ком он хотел встретить единомышленников, привели к резкому обострению постоянной сердечной болезни, и он скоропостижно скончался в подъезде Царскосельского (ныне Витебского) вокзала» [там же: 87].
К монологам Юрия Живаго (а также Веденяпина, Серафимы Тунцевой и др.), например, размышлению о мимикрии во время пребывания в плену у партизан, вполне применима оценка монологов Анненского: «Лекции Анненского, отличавшиеся свободой сопоставительных экскурсов и артистизмом трезво-аналитического проникновения в поэтологию, выдвигали его как «стилиста именно произносимого, а не читаемого слова» (Ф.Ф. Зелинский)» [там же: 85]. Эти монологи и лекции объединяет не только прямая ориентация Пастернаком своего героя на личность Анненского, но и общая установка авторов Серебряного века на устное, а не письменное слово.
Смерть доктора также связана с железной дорогой. Но если Анненский умер на ступенях подъезда, ещё не сев в поезд, то доктор - сойдя с трамвая: «Он прорвался сквозь толчею, ступил со ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и больше не вставал» [IV: 488]. Камни (отсылающие к старому способу мощения дорог), вероятно, мокрые от первых капель начинающейся грозы, представляют значимый контраст мокрому асфальту (современный способ мощения) из последней строфы стихотворения Анненского «Дождик» (1909) (ещё один контраст -
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
459
гроза и дождик), в котором присутствуют также и важные в «Докторе Живаго» мотивы смерти и сердца:
Из сердца за Иматру лет
Ничто, мол, у нас не уходит -И в мокром асфальте поэт Захочет, так счастье находит [Анненский 1990: 110].
Описания похорон Юрия Живаго и Анненского также имеют много общего. «Похороны Анненского, собравшие 4 декабря в Царском Селе огромную массу народа, показали, насколько он был популярен и любим как человек и как деятель просвещения. О нём как о поэте знали ещё немногие. Из его наследия как лирика около двух третей оставалось в рукописи». К Анненскому, «при жизни малоизвестному, широкое признание пришло только посмертно» [Фёдоров 1990: 19, 5]. Когда умер Живаго, «весть о смерти человека почти без имени с чудесной скоростью облетела весь их крут. Набралось порядочное количество людей, знавших умершего в разную пору его жизни и в разное время им растерянных и забытых. У его научной мысли и музы нашлось ещё большее количество неизвестных друзей, никогда не видавших человека, к которому их тянуло» [IV: 490].
Смерть Анненского в Царском Селе корреспондирует с названием переулка, в котором поселяется Живаго - Камергерский. Оба топонима означают «принадлежность» к царской семье, к которой Анненский и герой романа Пастернака не принадлежали и с членами которой не общались. Однако эти случаи «принадлежности» «по смежности» противопоставлены друг другу: Анненский негативно относился к самодержавию и царю; Пастернак в романе (и Юрий Живаго в рассказе Гордону о том, как видел государя) демонстрирует позитивное отношение. Между тем ещё в «Охранной грамоте» отношение Пастернака к самодержавию было скорее негативным, чем амбивалентным: «главной особенностью царствования» он называл «равнодушье к родной истории» [III: 212]. После смерти доктора осталось много рукописей, которые разбирали Евграф и Лара. Признание Живаго посмертно получает также от Гордона и Дудорова, читающих его «писания». Людей, знавших творчество доктора, было немного, как и в случае Анненского, которого «ещё довольно долго после смерти некоторые близоруко считали «поэтом для немногих», потому что тогда его знали действительно немногие» [Фёдоров 1990: 6].
5.8. Воплощение пушкинского Пророка
Если Анненский давал Юрию Живаго «музыку в сердце», которая позволяла «гам-летизировать» действительность, то Пушкин - «угль, пылающий огнём», вместо сердца, дабы пастернаковский поэт «жёг сердца людей». Глава 5 девятой части «Доктора Живаго» интертекстуально связана также со стихотворением А.С. Пушкина «Пророк», на реминисцентность романа по отношению к которому указано: [Seifrid 2009:178-179].
460
Глава 5
П. Дэвидсон указывает на то, что «Доктор Живаго» имел для Пастернака значение, аналогичное тому, которое для Пушкина имел «Пророк»49: «In his memoirs of his meetings with Pasternak Isaiah Berlin comments that when Pasternak gave him the typescript of “Doctor Zhivago” in 1956, he described it as his “last word” or “testament” and expressed the wish that it should “travel over the entire world, to ‘lay waste with fire’, ‘the hearts of men’”, quoting from Pushkin’s famous poem “The Prophet”»50 [Davidson 2009: 55]. При этом необходимо учесть, что в романе Пастернак подверг инверсированию не только пушкинское стихотворение, но и собственную его трактовку, которую дал в цикле «Тема с вариациями» из книги «Темы и вариации»51, а также тему «второго рождения», которая дала название книге стихов и присутствует в «Пророке» - «стихотворении о “втором рождении” поэта» [Фатеева 2003: 349].
Чтобы параллели и особенности интерпретации «Пророка» были более наглядны, приведём его полностью, несмотря на общеизвестность.
Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим На перепутье мне явился; Перстами лёгкими, как сон, Моих зениц коснулся он: Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон: И внял я неба содроганье, И горних ангелов полёт, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье. И он к устам моим приник, И вырвал грешный мой язык, И празднословный и лукавый, И жало мудрыя змеи В уста замершие мои Вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул,
49 О реминисцентности романа по отношению к «Пророку» см.: [Seifrid 2009: 178-179].
50 «В воспоминаниях о своей встрече с Пастернаком Исайя Берлин пишет, что, когда Пастернак в 1956 году дал ему рукопись “Доктора Живаго”, он назвал роман своим “последним словом”, или “завещанием” и выразил желание, чтобы он “пошёл по всему миру” и - цитируя слова из знаменитого стихотворения Пушкина “Пророк” - “глаголом жёг сердца людей”» (англ.).
51 См. об этой интерпретации: [Баевский 1998: 237-239].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
461
И угль, пылающий огнём, Во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, И Бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей»
[Пушкин, II: 304].
На начало стихотворения спроецировано состояние духа Юрия Живаго, находящегося в Варыкине. Дневниковые записи доктора свидетельствуют о том, как он удовлетворяет «духовную жажду». Последняя - совсем иная, нежели та, которой он «томим» тайно. Связь «с аравийской пустыней, где лежал «Пророк» Пушкина», стихотворения «Лето» (с его «ураганом аравийским») из книги «Второе рождение» [Фатеева 2003: 228] даёт возможность соотнести доктора с лирическим героем «Лета»52 и самим Пастернаком. Отправляясь после болезни в Юрятин (для встречи с Ларой), Живаго действует так же решительно, как влюблённый Пастернак, желавший объясниться в Ирпене с З.Н. Ней-гауз, и как герой «Лета»:
В конце, пред отъездом, ступая по кипе Листвы облетелой в жару бредовом, Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью, Налёт недомолвок сорвал рукавом [II: 63].
Таким образом, Ирпень из «Лета» параллелизируется с Варыкином, Развилье - с Дарницей, Юрятин - с Киевом. Заметим, что «духовной жаждою томим» был и Спек-торский. Живаго вёл записки зимой за городом, Спекторский - летом в городе. 24 мая 1932 г. Пастернак писал сестре Жозефине: «Когда в 25-м году я писал “Спекторского”, я задумал вторую часть повести в виде записок героя. Он должен был вести их летом в городе, в мыслях я поселил его в нижнем этаже одного двухэтажного особнячка на Тверском бульваре, где когда-то, кажется, помещалось датское консульство» [ПРС 2004:543].
Явлению пушкинского «шестикрылого серафима» герою «на перепутье» в «Докторе Живаго» сопутствует вступление в игру блоковской темы «распутий». Мотив скрещенья, перекрёстка - один из важнейших у Пастернака, и «перепутий» в романе - множество, что отмечалось исследователями53. Доктор, в отличие от пушкинского Пророка, «зениц» которого касается «серафим», спит и запись делает, проснувшись. В пушкинском стихотворении Пророк сообщает о произошедшем после того, как оно совершилось. Многообразию того, что услышал Пророк, соответствует многообразие того, что вспомнил Живаго в связи с Ларой, и того, что впоследствии он увидел в партизан
52 Подробный анализ интертекстуальных слоёв «Лета» см.: [Жолковский 2006].
53 Перечень и анализ некоторых из «перепутий» см., в частности: [Livingstone 1989: 84-86].
462
Глава 5
ском плену. В Варыкине же доктор физически ощущает последствия вырывания языка у Пророка: «Весь день перехватывает дыхание где-то у гортани, комком подкатывая к горлу» [IV: 281]. Вскоре в Юрятине Лара упрекает доктора: «А вы изменились. Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения» [IV: 296], что свидетельствует о том, что у Юрия Живаго теперь «жало мудрыя змеи». Доктор обнаруживает у себя болезнь сердца только в Варыкине, тогда как его мать была «пожизненной сердечницей» [IV: 281]. «Бога глас <.. .> воззвал» к Пророку после замены сердца «углём, пылающим огнём», - Живаго делает запись о том, что слышал во сне «женский голос», после того как отмечает в дневнике глажку утюгом с углями и «первые предупреждения наследственности со стороны бедной мамочки» [IV: 281].
Зеркально иначе, нежели задача, обозначенная Богом Пророку, выглядела рефлексия лирического героя книги «Второе рождение», в которой отразилась новая любовь Пастернака - «любовь, которая сродни болезни» [Фатеева 2003: 253]. В «Волнах»:
Пускай пожизненность задачи, Врастающей в заветы дней, Зовётся жизнию сидячей, -И по такой грущу по ней [II: 51-52].
Наделение героев физическим недостатком или болезнью выступает в «Докторе Живаго» не только в качестве показателя их влюблённости, но и как признак их пророческого предназначения или деятельности. Это касается и героев профанных, например, глухонемого Клинцова-Погоревших54.
Строки «И угль, пылающий огнём, / Во грудь отверстую водвинул» отзываются в записи Юрия Живаго о том, что «гладят и то и дело из непротопившейся печки подкладывают жаром пламенеющий уголь в ляскающий крышкой, как зубами, духовой утюг» [IV: 281]. Глажкой и наполнением утюга углями занимается Тоня, хотя Живаго ни разу её не упоминает и пишет о происходящем в безличной форме.
Интертекстуальные связи с «Пророком» есть также в параллельной сцене глажки Лары в Мелюзееве. Едва увидев вошедшего доктора, она предупреждает его: «Ну, здравствуйте. Осторожно, не запачкайтесь. Тут уголь просыпан» [IV: 143]. Немного позже Живаго говорит: «Да вы гладьте, говорю я. Молчите. Вам не скучно? Я вам утюг сменю» [IV: 145]. Этот утюг - один из «двух духовых утюгов», забытый переставшей гладить Ларой, прожигает кофточку, и это служит внешним поводом для прекращения разговора. Здесь доктор оказывается в роли пушкинского «шестикрылого серафима». Впрочем, он находится и в позиции Пророка (отсюда и его горячий монолог), ведь гладит-то Лара. Заключительная фраза - «Больше таких объяснений между ними не повторялось. Через неделю Лариса Фёдоровна уехала» [IV: 147] - соотносит сцену и состояние Лары, о котором ничего не сообщается, со стихотворением М.И. Цветаевой «Брат» (1923),
54 Анализ «концептов “болезни”, “лечения” и “выздоровления”» в художественном мире Пастернака см.: [Фатеева 2003: 255-268].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
463
которое было в первой половине 1924 г. послано ею Пастернаку в подборке из 28 стихотворений [Переписка с Цветаевой 2004: 88-89].
Приснившийся доктору в Барыкине женский голос и глажка напоминают о Ларе, хотя Живаго так и не выясняет для себя (или не отмечает это в дневнике), чей голос его разбудил. «Воззвание» Бога к Пророку предстаёт для доктора тайной программой действий на будущее. Перемену в тоне его суждений отмечает в Юрятине Лара. Но, кроме этого, поэт Юрий Живаго «жжёт сердца людей» и после смерти - стихами: «Весть о смерти человека почти без имени с чудесной скоростью облетела» весь круг знакомых и незнакомых с ним людей, и проститься с ним пришло «порядочное количество» [IV: 490]. В Мелюзееве Лара просит объясняющегося с нею Юрия Андреевича опомниться: выйти к мадемуазель, выпить воды и вернуться «таким, каким <.. .> привыкла и хотела бы видеть» [IV: 146-147] - ср. с «воззванием» Бога в конце пушкинского стихотворения. Выяснение отношений с Ларой в Мелюзееве прерывается в момент, когда прожигается (вероятно, на месте сердца и женской груди) кофточка (вне тела) - ср. с заменой сердца мужчины (внутри тела) углём, «пылающим огнём», в «Пророке». Безрезультатность этого выяснения объясняется тем, что на месте живого сердца Пророка - кофточка, а произносящий (подобно Пророку) речи доктор оказывается не на своём месте. В прожигании кофточки А. Ливингстон усматривает возможную аллегорию: «Everything is set on fire, changed, by love and by history»55 [Livingstone 1989: 70].
Одним из ключей ко сну Юрия Живаго во время болезни в Барыкине является строфа из стихотворения «Жизни ль мне хотелось слаще?», «открывавшего тетрадь из десяти стихотворений “Второго рождения” весны 1931 г., подаренных З.Н. Пастернак» [II: 464]:
Но откуда б взял я силы, Если б ночью сборов мне Целой жизни не вместило Сновиденье в Ирпене? [II: 248].
Эта строфа даёт ещё одно основание для сопоставления жизни Юрия Живаго в Барыкине и его любви к Ларе с отношениями Пастернака и З.Н. Нейгауз, развивавшимися во время их пребывания в Ирпене. Н.А. Фатеева отмечает, что «“сновиденье в Ирпене” в лето “бегства из-под кабалы” становится решающей точкой, которая делит мир Пастернака пополам» [Фатеева 2003: 254]. Содержащаяся в стихотворении «нотная строка начала Интермеццо Брамса до-диез минор (op. 117, № 3)» [II: 464] объясняет сближение ощущений Юрия Живаго во время сна с «музыкой в сердце» Анненского.
Пушкинское «исполнись волею моей» отзывается не только тем, что вскоре после сна доктор едет (для встречи с Ларой) в Юрятин, но и тем, что партизаны его «принудительно <.. .> мобилизуют» [IV: 304]. Ср. поглощённого своими мыслями, не слышащего выстрелов и не видящего партизан доктора с поэтом (= автором) из «Высокой болезни»
55
«Всё подожжено и изменилось - любовью и историей» (англ.)-
464
Глава 5
(1918,1922), который также изображен по контрасту с пушкинским Пророком, при этом перечисляются персонифицированные, но безличные «моря и земли»:
Проснись, поэт, и суй свой пропуск.
Здесь не в обычае зевать.
Из лож по креслам скачут в пропасть Мета, Ладога, Шексна, Ловать [I: 258].
Исключительность Пушкина в русской литературе, отмеченная в дневниковых записях доктора, подчёркивается исключительным положением и значением («текста в тексте») 5 главы в 9 главах части девятой, которые, как уже отмечалось, занимает дневник Юрия Живаго. В этой же 5 главе проясняется исключительность значения Лары для доктора, имени которой он не упоминает.
5.9. Юрий Живаго как человек будущего56
Ещё одним текстом, на который ориентировано как стихотворение «Гамлет», так и описание сна Юрия Живаго во время болезни в Варыкине (шире - его занятий там), является статья Вяч. Ив. Иванова «Кризис индивидуализма» (1905), в которой Гамлет рассматривается (наряду с Дон-Кихотом) как предтеча современного индивидуализма и один из «светлых мучеников», «первых «героев нашего времени»» [Иванов, I: 831]. В «Докторе Живаго» эта статья отразилась и концептуально (в том, как Пастернак решил проблемы индивидуализма и анархизма, реализма и следования традиции), и в деталях.
Роман открывается сценой похорон матери Юрия Живаго, когда поют «Вечную память», а повествование о главном герое завершается подробным описанием проводов умершего, когда церковный обряд намеренно отсутствует. Проводя такой контраст, Пастернак инверсированно исполнил в романе то, о неисполнении чего сожалел Иванов. В первой части статьи Иванов, характеризуя контраст между носителями полноты религиозного сознания в прошлом и современниками, у которых это сознание деградировало57, писал: «Если бы культ мёртвых не был только тенью и бледным пережитком былой полноты религиозного сознания, то в этом году, обильном новыми всходами старинных засевов добра и зла, справляли бы мы не одни священные поминки. Над полем братской тризны сошлись бы в облаке неоплаканные тени Мукдена и Цусимы с героями Крыма. .. И если бы зодчие и ремесленники духа, отложив свои циркули и молоты, собра
56 Часть параграфа была опубликована: [Буров 20Юз].
57 Ср. с полнотой «внешнего» обряда, который соблюдают неназванные люди, которые хоронят Марию Николаевну Живаго, и полнотой религиозного сознания Лары и Евграфа, решающих обойтись без церковного обряда и кремировать Юрия Живаго, то есть сделать неприемлемое с точки зрения православных канонов. Текст Иванова позволяет видеть в Ларе и Евграфе скрытых масонов («зодчие и ремесленники духа, отложив свои циркули и молоты»), тем более что комната доктора в Камергерском ранее сравнивается автором с «мастерской». В аналогичном свете предстаёт и Юрий Живаго, и Гамлет.
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
465
лись на годовщину духа, - какие нимбы поднялись бы пред ними, какие лики!.. Но “вечная память” звучит нам, как удары молота, заколачивающего гроб, - не как первый колыбельный крик новорождённой силы, умножившей силу души соборной» [там же: 832].
Трактовка Гамлета, которую Иванов даёт во второй части статьи, при сравнении с Юрием Живаго предстаёт развернутой характеристикой мотивов того, почему он поступает (или не поступает) так или иначе. Однако действия доктора реализуются как инверсия действий Гамлета. Например, Иванов, характеризуя Гамлета, пишет, что «месть насильственно возложена на него, как неудобоносимое бремя; не действие само по себе невыносимо ему в акте мести, а заповедь древнего действия. Он мучится муками рождения: новое действие хочет в нём родиться и не может. Он изменяет себе: губит свой тёмный, несказавшийся порыв и гибнет сам. <...> Гамлет - жертва своего же я» [там же: 832-833].
Живаго никому не мстит, даже Комаровскому, погубившему его отца. Он отказывается не только от действия, но и от «заповеди древнего действия». А потому его муки -это муки «второго рождения» в творчестве. Если мучения и есть, то это мучения в плане решимости отказа от действия нетворческого. Как врач, Живаго знает о своей болезни сердца, но «изменяет себе», с силой дергая в трамвае за оконную раму. Этот его порыв -сказавшийся, а гибель предстаёт духовным рождением. Борения доктора укладываются в «формулу», высказанную Пастернаком в стихотворении «Художник» (зима 1936), открывающем книгу «На ранних поездах» (1943): «С кем протекли его боренья? / С самим собой, с самим собой» [II: 90]. Такая позиция объяснима выводом Иванова о том, что для «новой души» «категорический императив <.. .> предстал духу в субъективновселенской своей ипостаси <...>: действуй так, чтобы волевой мотив твоего действия совпадал с признаваемою тобою нормой всеобщего изволения. Только в таком (субъективном и волитивном) истолковании, при таком опосредствовании формальной этики психологическим моментом заповедь долга может совпадать с заповедью любви (“люби ближнего своего, как самого себя”) <...>. Индивидуализму дан самою моралью царственный простор; личность провозглашена самоцелью, и провозглашено право каждой личности на значение самоцели. Служи духу, или твоему истинному я в себе, с тою верностью, какой ты желал бы от каждого в его служении духу, в нём обитающему, - и пусть различествуют пути служения и формы его: дух дышит, где хочет. Таковы правые основы индивидуализма - правые, поскольку они ещё в гармонии с началом вселенским. Но страшна свобода: где ручательство, что она не сделает освободившегося отступником от целого и не заблудится ли он в пустыне своего отъединения? И Гамлет колеблется у поворота на неизведанный, неисхоженный путь и возвращается на путь старый и торный. За ним встанут другие, более смелые, и долго будут влачиться, блуждая и томясь духовною жаждой, по мрачной пустыне» [Иванов, I: 833].
Аллюзия на «Пророка» Пушкина, содержащаяся в последних словах, подкрепляет возможность рассмотрения Юрия Живаго именно как «другого, более смелого», чем Гамлет, как героя, повторяющего путь Гамлета, но идущего дальше, чем он. Ассоции
466
Глава 5
рование Гамлета Шекспира с Пророком Пушкина, скрыто явленное в «Докторе Живаго», могло восходить именно к статье Иванова, которая встала в один ряд с текстами, на которые Пастернак ориентировал не только соответствующие участки повествования, но и духовный мир главного героя. Понять позицию доктора помогает противопоставление Ивановым Гамлета Дон-Кихоту, который «как Гамлет, носитель своих скрижалей. Только не новые и ещё не выступившие письмена силится он разобрать на них: нет, ясно начертаны в сознании старые письмена, отвергнутые миром. По-видимому, не новое действие родится в нём, а старое воскресает. <.. .> Дон-Кихот не принимает мира, подобно Ивану Карамазову: факт духа новый и дотоле неслыханный. Борется с миром на жизнь и на смерть - и вместе отрицает его. <.. .> Отныне на знамени индивидуализма начертан тот вызов объективно-обязательной истине, то утверждение “нас возвышающего обмана”, драгоценнейшего “тьмы низких истин”, которым дышит ещё своеобразная гносеология Ницше: истинно то, что “усиливает жизнь”: всякая другая истина есть (т. е. “да будет”) - ложь» [Иванов, I: 834].
Герой Пастернака выбирает третий путь и позицию, противоположные тем, что были у Гамлета и Дон-Кихота, тем самым становясь в один ряд с ними. Учитывается при этом и толстовский путь непротивления злу насилием, и позиция отказа от борьбы с миром при сохранении его неприятия. На этой позиции для Юрия Живаго являются одинаково преодолёнными ориентации Гамлета (на «новые письмена») и Дон-Кихота (на «старые»). Они чужды ему так же, как чужды борющиеся друг с другом красные и белые. Но ничего общего герой Пастернака не имеет и с Ницше. Более того, Живаго представляет собой фигуру индивидуалиста, который прямо противопоставлен Ницше как «герою», наследующему Гамлету и Дон-Кихоту. Впрочем, фигура Юрия Живаго всякий раз требует амбивалетной трактовки по отношению к сопоставляемым с ней. Заметим, что и в данном случае Иванов использовал аллюзии на стихи Пушкина. Слова Иванова об индивидуализме объясняют «диагноз», который поставил Юрию Живаго при встрече в Юрятине Комаровский: «Вы - насмешка над этим миром, его оскорбление. Добро бы это было вашею тайной. Но тут есть влиятельные люди из Москвы. Нутро ваше им известно досконально» [IV: 418]. Фоном же для ивановского противопоставления индивидуалиста - Ницше может служить высказывание Пастернака о Ницше в ответе на анкету журнала «Magnum» «Что такое человек?» (1959). В другом случае, поясняя своё негативное отношение к Ницше, Пастернак в письме П.П. Сувчинскому от 23 сентября 1959 г. писал: «Я обновил это неполное моё знакомство с помощью одного старого обзора» [Переписка с Сувчинским 1994: 279]. Вряд ли «старым обзором» Пастернак мог назвать статью Иванова, тем не менее, негативное отношение к Ницше, пусть и с другими акцентами, могло подкрепляться у Пастернака и за счёт отношения к трактовке роли Ницше Ивановым.
Иванов отмечал, что Гамлет и Дон-Кихот «обозначают утверждение в поэтическом творчестве нового индивидуализма: они пророчески намечают его двойственное предопределение - исчерпать в духе весь трагизм голода и весь трагизм избытка» [Иванов,
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
467
I: 835]. И в описании сна во время болезни в Варыкине, и в описании пребывания Юрия Живаго в комнате в Камергерском переулке, где он создаёт стихотворение «Гамлет», по-разному обыгрываются именно «трагизм голода» и «трагизм избытка». Голод и избыток оказываются и духовными, и физическими. Кроме Гамлета и Дон-Кихота, Иванов рассматривает в этом аспекте Макбета и Лира - героев, которые демонстрируют соответственно «трагедию голода и нищеты» и трагедию «изобилия и расточительности». Для Пастернака, который перевёл не только «Гамлета», но и «Макбета» и «Короля Лира», включение Ивановым героев последних пьес в линию персонажей-индивидуалистов могло быть значимо при акцентировке ситуаций, связанных с Юрием Живаго, в сторону либо голода, либо избытка. В «Замечаниях к переводам из Шекспира» (1946-1956) Пастернак определял «Макбета» и «Лира» как «особняком стоящие трагедии, <.. .> образующие самобытные миры, единственные в своём роде» [V: 80].
Иванов указывал, что последним ярчайшим литературным героем-индивидуалистом был Заратустра Ницше, «и индивидуализм не только не исчерпал своего пафоса, но притязает и в будущем стать последним словом наших исканий. В самом деле, разве свобода личности не понимается ныне в самом широком смысле, как венец общественности? Даже социализм стремится свести свой баланс при минимуме её ограничения. Слово “анархия” приобретает магическую силу над умами. Этика ради индивидуализма испытывает с опасностью для жизни крайние пределы своей растяжимости. Свобода творчества в принципе признана всеми. О религии мы хотим слышать только в сочетании её с началом свободы, как вероисповедной, так и внутренней, мистической... И, несмотря на всё это, какой-то перелом совершился в нашей душе, какой-то ещё тёмный поворот к полюсу соборности... Заратустра! Не в ницшеанском-ли пророчествовании о Сверхчеловеке индивидуализм достиг своих заоблачных вершин и облёкся в иератическое одеяние как бы религиозной безусловности? <...> Умер гордый индивидуализм? Но никогда ещё не проповедовалось верховенство личности с таким одушевлением, как в наши дни, никогда так ревниво не отстаивались права на её глубочайшее, утончённейшее самоутверждение... Именно глубина наша и утончённость наша кажутся симптомами истощения индивидуализма. <...> Индивидуализм “убил старого бога” и обожествил Сверхчеловека. Сверхчеловек убил индивидуализм... Индивидуализм предполагает самодовлеющую полноту человеческой личности; а мы возлюбили Сверхчеловека. Вкус к сверхчеловеческому убил в нас вкус к державному утверждению в себе человека. Мессианисты религиозны, мессианисты-общественники, мессианисты-богоборцы - уже все мы равно живём хоровым духом и соборным упованием» [Иванов, I: 836].
Путь Юрия Живаго - это путь героя, проходящего все фазы индивидуализма, отмеченные Ивановым, и проходящего всеми путями тайнознания. Герой Пастернака отличен от Гамлета и Дон-Кихота, но он остаётся отличен и тогда, когда встаёт в один ряд с героями, наследующими им, в частности с Заратустрой. В последнем разговоре с Юрием Живаго Гордон от своего имени и от имени Дудорова осыпает друга упрёками. В его требованиях «перемениться» и пр. доктор предстаёт именно индивидуалистом. Причём
468
Глава 5
Гордон профанирует сущность индивидуализма настолько же, насколько Юрию Живаго противен «вкус» к советскому «сверхчеловеческому», к тому, чтобы стать человеком, «звучащим гордо», и насколько он жаждет «державного утверждения в себе человека». «Сверхчеловечность» героя Пастернака заключается в том, чтобы вовсе «сойти со сцены», что он и делает, удаляясь в комнату в Камергерском. Советским же «сверхчеловеком» чуть ранее предстаёт Маркел, который «пошёл в гору» (ироничный намёк на Заратустру), - ср. с Юрием Живаго, поднимающимся в комнату в Камергерском переулке, которая расположена над противоположными театру крышами. Маркел, которому противопоставляется доктор, играет роль профанного Атланта, отца Гесперид, обитающего в солнечном царстве. Неявность противопоставления снимает классовый аспект в сравнении Юрия Живаго с Маркелом. Эта неявность соотносится с прямым выступлением Иванова «против биологического детерминизма Ницше» [Обатнин 2000: 13]. Иванов сравнивает сверхчеловека своей концепции именно с Атлантом: «Сверхчеловеческое - уже не индивидуальное, но по необходимости вселенское и даже религиозное. Сверхчеловек - Атлант, подпирающий небо, несущий на своих плечах тяготу мира. Ещё не пришёл он, а все мы уже давно понесли на своих плечах тяготу мира и потеряли вкус к частному. Мы стали звездочётами вечности <...>. Цельный индивидуум сбирает золото своих полдней, и жизнь отливает из них в тяжёлый слиток; а наша жизнь разрежена в ткань мимолетных видений. Слиток дней полновесен и непроницаем; ткань мгновений просвечена потустороннею тайной. <...> Жадные, мы хотим “всем исполниться зараз”: так далеки мы от пафоса индивидуализма - пафоса разборчивости, отвержения и односторонности» [Иванов, I: 837].
Ср. с «мы» Иванова - доктора, работающего в комнате в Камергерском, освещённой ярким солнцем. Живаго как антисверхчеловек противопоставлен сверхчеловеку Ницше в плане отношения к христианству. Основание для этого вывода дают высказывания Пастернака о Ницше [Пастернак 1989-1992, IV: 671-672, 891-892]. Ответ доктора друзьям являет собой указание на (обращённый) переход от статуса индивидуалиста к статусу сверхчеловека: «Хорошо, я отвечу вам. Я сам часто думаю в этом духе в последнее время и потому без краски стыда могу обещать вам кое-что. Мне кажется, всё уладится. И довольно скоро. Вы увидите. Нет, ей-богу. Все идёт к лучшему. Мне невероятно, до страсти хочется жить, а жить ведь значит всегда порываться вперёд, к высшему, к совершенству и достигать его» [IV: 481].
Иванов писал: «Индивидуализм - аристократизм; но аристократия отжила. И прежде чем восторжествовать как общественный строй, демократия уже одержала победу над душой переходных поколений. <.. .> И если есть среди нас сильные духом и истинные тираны, необходимо напечатлевается на них знак и образ “Великого Инквизитора”; но дух “Великого инквизитора” уже не дух индивидуализма, а соборной солидарности» [Иванов, I: 837-838]. Живаго отказывается от старого индивидуализма, но поступает как новый «сильный духом» индивидуалист, уходя в комнату в Камергерском, чтобы тайно бороться с «демократией» и духом «соборной солидарности» новых Великих Инквизиторов. Он
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
469
отказывается от «соборной солидарности» с друзьями, шире - с «советским народом», чтобы оказаться в «соборной солидарности» с ними и с народом в личном творчестве.
Следующее наблюдение Иванова выглядит характеристикой того, каким предстаёт по мере приближения к концу романа Живаго, «рецептом» того, каким должен быть новый герой, описанием того, что переживает читатель-современник Пастернака, которому показывают такого героя.
«Внешне-индивидуальное в повествовании вытеснено типическим; лишь внутренне-индивидуальное занимает нас; но и оно как материал, обогащающий наш совместный опыт, и его мы принимаем, обобщая, как нечто потенциально-типическое. Что бы мы ни пережили, нам нечего рассказать о себе лично: доверчивый челнок нашего эпоса должен быть поглощён Сциллой социологии или Харибдой психологии - одним из двух чудовищных желудков, назначенных отправлять функцию пищеварения в коллективном организме нашей теоретической и демократической культуры. <...> Роптать ли нам, если всю кровь и весь сок наших переживаний сила вещей делает достоянием и опытом вселенским и даже одинокий и неразделённый порыв наш учитывается круговою порукой жизни?.. Конечно, не закон жизни изменился, а мы прозрели на закон жизни: но, раз прозрели - уже не те, какими были в слепоте нашей. Индивидуализм - феномен субъективного сознания. Умчался век эпоса: пусть же зачнётся хоровой дифирамб. Горек наш запев: плач самоотрекающегося и ещё не отрешённого духа. Кто не хочет петь хоровую песнь, пусть удалится из круга, закрыв лицо руками. Он может умереть; но жить отъединённым не сможет» [там же: 838].
Ср. с этим высказыванием Иванова близкие ему по общей тональности, да и по смыслу реплики Юрия Живаго в последнем разговоре с друзьями и монологи Гордона и Дудорова в «Эпилоге». После этого разговора доктор с подачи Евграфа удаляется от всех и через некоторое время умирает. Гордон и Дудоров лишь после перенесённых испытаний в тюрьмах и концлагерях, представляющих собой, так сказать, удаление от всех, перестали «петь хоровую песнь». Возможность амбивалентного «прочтения» Юрия Живаго и его действий в плане индивидуализма и соборности, представляющих собой последовательные состояния сознания, подводит к тому, чтобы можно было усматривать в каждом из уходов доктора на протяжении всего повествования момент разрешения противоречивости этих состояний, их синтезирование. (В сказочном плане эти уходы «прочитываются» как отправки-отлучки.) Особенно важным представляется его уход в комнату в Камергерском. «Синтез личного начала и начала соборного» Иванов видел в анархизме, и Живаго как раз и предстаёт здесь тем идеальным анархистом, о котором писал Иванов. Развёрнутая характеристика анархизма, которую он даёт в статье, является одним из важнейших ключей к пониманию тайных мотивов действий героя Пастернака, скрытых за кажущейся безыскусностью и простотой того, что вынесено на «поверхность» текста. Всё поведение Живаго по возвращении в Москву из Сибири и Барыкина - это поведение истинного анархиста, который не участвует в жизни общества и, отдаляясь от него, все более уединяется. Характеризуя философию пастернаковского героя (вне связи с анархизмом), А.М. Пятигорский писал, что «духовный нейтрализм Юрия
470
Глава 5
Андреевича проявился не только в невосприятии им двадцатых. Он не жалел и о девятисотых. Дух «свёртывался» слишком быстро, и воскресить его оказалось возможным только в отдельной жизни и в особом месте. Плакать, собственно, было не о чем. Когда Гордон упрекал Живаго за пренебрежение к Марине <.. .>, тот отвечал: “.. .у меня нет с ними разлада, я не веду войны ни с ними, ни с кем бы то ни было”. Это несколько будди-стическое высказывание Живаго не означает ни того, что он был в мире с окружающими, ни того, что он не был в мире с самим собой. Ему ни к чему было себя отстаивать. Его опыт лежал вне сферы отношений - как личных, так и социальных. Последние деградировали полностью, тогда как первые в московско-ленинградской действительности тридцатых годов стали заменять собой всё остальное» [Пятигорский 1996:228-229].
В поведении Юрия Живаго можно узнать скрытую реализацию и другого отрывка с характеристикой анархизма из статьи Иванова. Приводимая Ивановым строфа из стихотворения «Океаниды» с эпиграфом на греческом «'Ap^ocioixpov rj avocpxioc suvopiia^» («Изначальнее благостроения - безначалие») [Иванов, I: 526-527, 862] представляет собой текст, который многообразно инверсирован в «Докторе Живаго», особенно в сцене, когда Юрий Андреевич едет в трамвае, вырывается оттуда и умирает.
«Анархия, изначала связывающая свои пути и цели с планом внешнего общественного строительства, в самых корнях извращает свою идею. Социальный процесс может тяготеть и должен приближаться к пределу минимального ограничения личной свободы: анархическая идея по существу отрицает всякое ограничение.
Вас дух влечёт, громами брани Колебля мира стройный плен, Вещать, что нет живому грани, Что древний бунт не одолен.
(“Кормчие Звёзды”)
Истинная анархия есть безумие, разрешающее основную дилемму жизни - “сытость или свобода” - решительным избранием “свободы”. Её верные будут бежать довольства и питаться растёртыми в руках колосьями не ими вспаханных полей, помогая работающим на одной ниве и насыщая свой голод на другой» [там же: 839].
Выделения в строфе принадлежат Иванову и актуализируют многозначность слов. В тексте стихотворения (а не приводимой Ивановым цитаты из него) слово Дух - с заглавной буквы. Если в стихотворении «дух влечёт», то Юрия Живаго влечёт из трамвая нехватка воздуха: «Доктор почувствовал приступ обессиливающей дурноты <.. .> и рывками вверх и вниз за ремни оконницы стал пробовать открыть окно вагона. Оно не поддавалось его усилиям» [IV: 488]. Он пробирается через бездуховную и злую толпу на заднюю площадку вагона, после чего «ему показалось, что приток свежего воздуха освежил его», а затем, «вызывая новую ругань, пинки и озлобление», - из трамвая [IV: 488]. «Грома брани» отражаются в том, что перед самым сердечным приступом, который случился у доктора, «сверкнула молния, раскатился гром» [IV: 488]. Кроме того, на «брань» едет Георгий Победоносец, движимый Святым Духом. Но «брань» - это и стремление
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
471
огрызнуться, «ругань, пинки и озлобление» тех, кто не пропускает доктора из трамвая на зов духа свободы, сражающегося с силами зла. Живаго «внизу» повторяет то, что происходит «наверху». «Мира стройный плен» предстаёт профанной моделью мира: с одной стороны, трамвай, в котором оказывается «пленён» доктор, с другой - стоящие «строем» пассажиры, среди которых доктор пытается пробраться наружу и «строй» которых «колеблет». Переходы пассажиров из одного останавливающегося трамвая в другой, стоящий впереди, символизируют переход лишь из одной клетки в другую (клетку напоминают рамы окон в железном вагоне). Живаго умирает ещё и «потому», что хочет не просто перебраться в другой трамвай, а вовсе выбраться на воздух. Он старается выбраться из трамвая после удара грома и несмотря на брань окружающих. И делает это, потому что его «дух влечёт... вещать, что нет живому грани». При этом актуализируется старославянский генетив «Живаго». Доктор, выбираясь, подтверждает тем самым то, что нужно было «возвестить»: что жизнь и живого человека (врача Живаго) нельзя ограничить. Невозможность «огранки» живого человека контрастно перекликается с последними строками стихотворения «В больнице» (1956), завершающими внутренний монолог «больного» и обращёнными к Богу: «Ты держишь меня, как изделье, / И прячешь, как перстень, в футляр»58 [II: 174]. Функцию ограничителя, границы в трамвае выполняет и окно, что характерно, как показал А.К. Жолковский, для поэтического мира Пастернака. Кроме того, данные слова стихотворения Иванова подчёркивают независимость Юрия Живаго от помощника-Евграфа, отказ от его помощи. Тоня ещё до отъезда на Урал называет Евграфа в разговоре с выздоравливающим мужем «Граней». При этом Юрий Живаго никак не может понять, о ком идёт речь. Перед этим в бреду ему было «совершенно ясно, что мальчик этот - дух его смерти или, скажем просто, его смерть. Но как же может он быть его смертью, когда он помогает ему писать поэму, разве может быть польза от смерти, разве может быть в помощь смерть?» [IV: 205-206]. Таким образом, в сцене смерти доктора актуализируется амплуа Евграфа как «духа его смерти», тогда как в других эпизодах на первое место выступает его роль помощника в творчестве, роль Иоанна Богослова в отношении Христа. Связь Евграфа со смертью проясняет наблюдение Е. Фарыно, который связывает его имя с «зерном» («грань»). «Грань» исследователь возводит к «гранить», то есть «делать рёбра, резать камни» [Фарыно 1990: 181], что намекает на принадлежность Евграфа к вольным каменщикам (эта «вольность» контрастирует со строгостью масонских ритуалов и строгостью огранки драгоценных камней). И.П. Смирнов указывает на то, что именование Евграфа «Граней» «нас приближает» к «Гринёву» из «Капитанской дочки» [Смирнов 1996: 56]. Следует отметить также, что имя Граня свидетельствует о покровительстве Евграфу (и/или о наделении его
58 Первые строки обращения лирического героя к Богу - «О, Господи, как совершенны / Дела твои, -думал больной» «strikes one as very similar to the opening lines of the Psalm recited in the traditional Synagogue Service: “How lovely are Your ways, О Lord, I Your tents, О Israel...”» [Mallac 1983: 337]. («Трогают так же, как очень похожие первые строки псалма, читаемого во время обычной службы в синагоге: “Как прекрасны Твои пути, Господи, / Твои палатки, Израиль...”» (англ.))
472
Глава 5
инверсированными атрибутами и функциями) богини Карны, которая «первоначально носила имя Гране <.. .>. Гране, или Карна, была похищена Янусом, который, чтобы загладить свою вину, поставил её у ворот жизни и смерти <.. .>. Карна была <.. .> богиней утробы <...>, и в этом своём качестве она управляла жизнью и смертью, которые в равной мере приходят из утробы. <...> В дар ей приносили бобы, сало и овощи» [д’Орсе 2006: 160-161]. Ниже мы обратим внимание ещё на некоторых прототипов Евграфа.
Юрий Живаго ведёт себя как скрытый анархист не только в сцене в трамвае, но и раньше. При этом всякий раз обыгрываются темы: «сытость или свобода», безумие или здравый смысл, духовная болезнь или духовное здоровье59. Например, уход от партизан через зимнюю тайгу в Юрятин. Или во время жизни с Ларой. Вот что доктор говорит Ларе о поездке в Варыкино: «Разумеется, забираться в эту одичалую глушь суровой зимой без запасов, без сил, без надежд - безумие из безумий. Но давай и безумствовать, сердце моё, если ничего, кроме безумства, нам не осталось» [IV: 423]. Второй день в Барыкине, как и первый, «опять <.. .> прошёл в помешательстве тихом» [IV: 436]. После отъезда Лары с Комаровским «с Юрием Андреевичем творилось что-то несообразное. Он медленно сходил с ума. Никогда ещё не вёл он такого странного существования» [IV: 451]. А в Москву доктор возвращается, проходя по несжатым полям и через леса и питаясь зерном и орехами. И здесь также присутствует тема безумия. Пастернак демонстрирует, как сбывается пророчество Иванова о том, что избравшие свободу «будут бежать довольства и питаться растёртыми в руках колосьями не ими вспаханных полей, помогая работающим на одной ниве и насыщая свой голод на другой»: «В неубранных полях рожь не держалась в перезревших колосьях, текла и сыпалась из них60. Юрий Андреевич пригоршнями набивал зерном рот, с трудом перемалывал его зубами, и питался им в тех особо тяжёлых случаях, когда не представлялось возможности сварить из хлебных зёрен каши. Желудок плохо переваривал сырой, едва прожёванный корм». На «лесных склонах холмов и оврагов» росли орехи. «Юрий Андреевич без конца грыз и щёлкал их по дороге. Карманы были у него ими набиты, котомка полна ими. В течение недели орехи были его главным питанием. Доктору казалось, что поля он видит, тяжело заболев, в жаровом бреду, а лес - в просветлённом состоянии выздоровления, что в лесу обитает Бог, а по полю змеится насмешливая улыбка диавола» [IV: 465-466].
Отказ Юрия Живаго спасаться, воспользовавшись помощью Комаровского, и решение идти в Москву должны рассматриваться в категориях ивановского «правого» и «неправого» безумия. Пастернак мог быть знаком с соответствующими работами Иванова 1905-1907 гг. Он использовал в инверсированном виде как трактовку Иванова, так и главный миф Ницше о том, что дионисийский экстаз завершается аполлонийским видением (сном). В качестве обращённых реализаций противопоставленных друг другу мо
59 См. о различении Ивановым «правого» и «неправого» экстаза, безумия: [Обатнин 2000: 136-137].
60 Неубранная рожь свидетельствует о забвении народом Христа, мистическим телом которого яв-ТТ СТЛ'Т’Г* ГТ V ттгт^х
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
473
делей Ницше и Иванова61 можно рассматривать все параллельные ситуации в «Докторе Живаго», когда главный герой сначала испытывает творческий (или иной) экстаз, подъём, а затем видит сон или видение. «Безумным» доктор предстаёт в глазах окружающих его людей. Субъективно же он духовно здоров, а «ненормальны» окружающие. А.М. Пятигорский, сравнивая «человека смыслов» Юрия Живаго с «человеком жизни» Мастером М.А. Булгакова, отметил важность того, что герой Пастернака «не стал безумным. Напротив, по мере того как уходили смыслы, жизнь осознавалась им всё яснее в её смысловой перспективе. При этом несущественно, понимали ли его другие или нет. Он был достаточно уравновешен, чтобы понимать. Быть же уравновешенным в жизни не входило ни в его “фатальный тип”, ни в авторский замысел, и не потому ли он, вместо того чтобы, как Мастер, сидеть в психбольнице, походя пишет о влиянии условий жизни на образование инфарктов? <.. .> Живаго был здоров. Всегда здоров, пока не умер» [Пятигорский 1996: 227].
Решение Юрия Живаго не уезжать с Комаровским и Ларой, идти с Урала в Москву, а также поведение в Москве представляют собой важнейшие моменты в цепи этапов самоопределения, о котором Иванов писал:
«Анархия, если она не хочет извратиться, должна самоопределяться как факт в плане духа. На роду написано ей претерпение гонений; но сама она должна быть чиста от преследований и насилия» [Иванов, I: 839]. В Варыкино доктор с Ларой уезжают именно из-за усиливающихся гонений и перед лицом гибели. В Москву Живаго идёт, поступая как юродивый: он идёт в город, где гонения были едва ли не самыми сильными. В описании его последней встречи в Москве с Гордоном и Дудоровым, а также в финальной сцене романа, когда друзья доктора читают тетрадь его стихов, обращённо реализуется ещё одна характеристика анархии и предсказание Иванова, указывавшего, что «истиннейшая область» анархии - «область пророчественная: она соберёт безумцев, не знающих имени, которое их связало и сблизило в общины таинственным средством взаимно разделённого восторга и вещего соизволения. В таких общинах, которые будут как бы не от мира, чтобы преемственно продолжить древнюю войну с миром, приютится индивидуализм, не находящий себе места в мире. Они зачнут новый дифирамб, и из нового хора (как было в дифирамбе древнем) выступит трагический герой. Ведь и трагизму суждено уйти прочь от мира. Отныне он чуждается явления, отвращается от обнаружения. Трагедия происходит в глубинах духа. Новый сонм старинной Мельпомены встаёт с устами страдальчески-сжатыми, почти бездейственный, почти безмолвный. Нет исхода их титаническому порыву в ярой борьбе; в запечатлённых сердцах совершается тайный рок...» [там же: 839-840].
Такой «истиннейшей областью» анархии, собравшей «безумцев, не знающих имени», предстаёт в романе встреча Юрия Живаго с друзьями в комнате Гордона. «Безумие» Гордона и Дудорова выявляется в замечании повествователя о докторе, которому дру
61 О различии этих моделей см.: [Обатнин 2000: 136].
474
Глава 5
зья, не понимающие, кто он, то есть «не знающие» его «имени», читают «проповеди и наставления»: «Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их рассуждений. Однако не мог же он сказать им: “Дорогие друзья, о, как безнадёжно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имён и авторитетов! Единственно живое и яркое в вас - это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали”» [IV: 478]. Ср. также с двумя последними строфами стихотворения «Земля». Но «сближающее» имя - это также имя Христа, говорившего: «Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Матф., XVIII, 20). «Почти бездейственный, почти безмолвный», предстаёт Живаго в разговоре с друзьями, а затем, после его смерти, и сами друзья, читающие его стихи. Трагический герой Пастернака уходит «прочь от мира» в комнату в Камергерском, и внутренняя работа, которая в нем идёт, представляет собой именно ту трагедию, о которой написал Иванов. Ещё один отклик на текст Иванова - в сцене чтения друзьями стихов доктора: «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но всё равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание» [IV: 514].
Заключительная часть «Кризиса индивидуализма» является не только ключом к судьбам героев (Живаго в сцене разговора с Гордоном и Дудоровым; друзей в финале романа) и «итогам» «Доктора Живаго», но и во многих аспектах - к позиции и судьбе Пастернака, насколько о них можно судить, в частности, по его письмам и воспоминаниям о нём.
«Не умирают боги иначе, как для воскресения; и, преображённые смертию, - воскресают. Воскреснет и великий Пан. И демоническое в индивидуализме, конечно, воскреснет в иные времена. Глубоко заложена в человеческой душе потребность фетишизма: как не проявиться ей и в будущем увенчании и обоготворении отдельного человека? Так, и в грядущем возможен и вероятен цельный и своеначальный индивидуализм. Но он будет именно цельным и демоническим, не разложенным тою примесью чувствования и попечения соборного, каким является он в его современном изнеможении. Мы же стоим под знаком соборности и недаром поминаем ныне Сервантеса и Шиллера. Мы были бы нецельны, как Макбет, и бессильны, как Лир, если бы ещё мнили, что возможно для нас личное самоутверждение, вне его соподчинения вселенской правде, или иная свобода, кроме той, которая составляет служение Духу. Итак, будем утверждать вселенское изволение нашего я тем глубоким несогласием и бестрепетным вызовом дурной и обманной действительности, с каким противостал ей Дон-Кихот. Нам не к лицу демоническая маска; она смешнее, нежели шлем Мам-брина, на любом из нас, который только “Alonso el bueno”. Сами созвездия сделали нас (русских в особенности) глубоко добрыми - в душе. Пример памятен: лютейший в речах из наших братьев, завещавший нам кодекс “имморализма” - “Imitatio Caesaris Borgiae” - и ставший жертвой нового Сфинкса, который пришёл загадать загадку сердцу, - жертвой сострадания, как Иван Карамазов» [Иванов, I: 840].
Говоря о «лютейшем в речах из наших братьев», Иванов, возможно, имеет в виду Ницше. Ср. с ним «имморалиста» Юрия Живаго, имеющего любовные отношения с тремя женщинами. Доктор - герой «сострадающий» и «родственный» Ивану Карамазову и
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
475
умирает от болезни сердца. Он выбирается из трамвая, чтобы умереть не заслонённым в своих страданиях от мира «миром» железного трамвая, «миром» стоящих строем озлобленных пассажиров. Темы сострадания и смерти в сцене смерти главного героя интертекстуально подкрепляются не только «Кризисом индивидуализма» Иванова, но также стихотворением Анненского «Когда б не смерть, а забытье», опубликованном в 1911 г. в «Аполлоне», и стихотворением Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (1841). Эволюция индивидуализма, намеченная Ивановым, проецируется Пастернаком в инверсированном виде не только на судьбу Юрия Живаго, но и на судьбы его друзей. Если во время встречи в комнате Гордона их речи содержат «примесь чувствования и попечения соборного», что выражается в «излишнем драматизме общения», а в «изнеможении» оказывается доктор, то в сцене чтения тетради его стихов (ср. с «потребностью фетишизма») Гордон и Дудоров обретают «цельный и своеначальный индивидуализм», приближающийся к тому, которым обладал их друг.
Таким образом, в свете идей Иванова Юрий Живаго предстаёт мистическим анархистом, нашедшим свой путь, прошедшим его до конца и в конце жизни экстатически, подобно пророку, воспринимающим мир. Доктор, пишущий в комнате в Камергерском стихотворение «Гамлет», ведёт себя в романе как тайный пророк. Его похороны предстают как тайное действо, как ритуал, предназначенный для того, чтобы вызвать понимание возможности стать пророком у любого из тех, кто понимает, что происходит. То, что Живаго представляет собой именного такого героя, могут помочь продемонстрировать и другие статьи Иванова, в которых разрабатывалась идеология мистического анархизма. Укажем также, что скрытым влиянием Иванова частично объясняются причины прихода доктора в Москву с ‘Востока’. Живаго тайно приносит в Москву свою революцию, альтернативную той, что насаждала свои ценности наяву, - революцию духа. Пастернак демонстрирует героя, на практике реализовавшего положения теории Иванова.
«В своей версии революции Иванов начинает с социализации собственности (“внешнего достояния”), переходит к куда более радикальной мечте о коллективизации внутреннего опыта и кончает самой рискованной из утопий - идеей обобществления тел» [Эткинд А. 1998: 223]. Ср. с этими положениями то, что Живаго, пришедший в Москву, живёт без всякой собственности; его внутренний опыт, отразившийся в «книжках» и стихах, коллективизирован в том смысле, что привлекает внимание и противников («квартирохозяина»), и друзей (Гордона и Дудорова, часто читающих его стихи и знающих половину тетради наизусть)62; тело умершего доктора по-разному дорого и Марине, и Ларе, и «порядочному числу людей, знавших умершего в разную пору его жизни», и «большому количеству неизвестных друзей, никогда не видавших человека, к которому их тянуло» [IV: 490]. По ходу повествования доктор сознательно всё ниже опускается
62 А.М. Пятигорский отметил, что «у таких, как Дудоров и Гордон, осталась формальная память. То есть они помнят слова, имена, встречи, обстоятельства, смерти, но... у них отсутствует опыт. Не какой-то там мистический или духовный, а самый элементарный, жизненный. Он из них исчез или его в них не было никогда» [Пятигорский 1996: 229].
476
Глава 5
по социальной лестнице, совершая противоположное тому, что делает сказочный герой (см.: [Смирнов 1981: 39]). В этом решении судьбы персонажа совмещаются идеи ряда мыслителей, в частности Иванова, и инверсированные Пастернаком модели сказки. Есть в судьбе доктора Живаго и своеобразный расчёт с «современным советским мифом», вообще спецификой модернистского мифотворчества XX века, о которой Е.М. Мелетинский сказал, что она состоит «в отражении трагедии социального отчуждения и одиночества индивида, и в этом коренное отличие её от суперсоциального и нарочито гармонизирующего первобытного и древнего мифа» [Мелетинский 1998:425]. Объективировав это отличие, Пастернак сделал его одной из основных причин отчуждения героя от социума. По мнению А.М. Пятигорского, писатель «сумел так “спроектировать”, вернее, “ретроекгировагь” Живаго, чтобы тот со своей духовной философией одиночки смог бы дать образец индивидуального религиозного опыта в условиях оптимистической “культурной революции” двадцатых годов» [Пятигорский 1996: 230].
Отчуждённость Юрия Живаго от социума и одиночество нарастают по ходу повествования и достигают пика в Москве 1922-1929 годов. Важнейшую роль в духовном оформлении позиции героя сыграло его пребывание на Урале и в Сибири, в партизанском плену. Практически все, с кем доктор сталкивается в Москве, являются для него представителями «потустороннего мира», и сам он, вернувшийся из Сибири, предстаёт таковым в их глазах. Данное «сказочное» восприятие усиливается тем, что Живаго -выходец из «старого мира», которого уже нет. Сказочные мотивы проникновения героя на «тот свет», возвращения из «иного мира», по-видимому, ассоциировались у Пастернака с несколькими конкретными примерами возвращения в советскую Москву людей, которые были и остались яркими представителями «уходящей расы», как характеризовала их М.И. Цветаева. Некоторые из них (Д.Ф. Самарин, С.М. Волконский, Вяч. Ив. Иванов и др.) в той или иной степени могут быть причислены к прототипам Юрия Живаго. Кратко обозначим моменты, сближающие доктора с ними, а также некоторыми другими историическими фигурами.
Ф.А. Степун, отмечая, что «в автобиографии Пастернак мельком выводит своего приятеля Самарина, судьба которого с точностью совпадает с судьбой пастернаковского героя», приводит цитату из очерка «Люди и положения» [Степун 1990: 69], которую мы несколько расширим, чтобы продемонстрировать жизненную основу, послужившую для создания образа Юрия Живаго: «Философия, диалектика, знание Гегеля были у него в крови, были наследственными. Он разбрасывался, был рассеян и, наверное, не вполне нормален. Благодаря странным выходкам, которыми он поражал, когда на него находило, он был тяжёл и в общежитии невыносим. Нельзя винить родных, не уживавшихся с ним и с которыми он вечно ссорился. В начале нэпа он очень опростившимся и всепо-нимающим прибыл в Москву из Сибири, по которой его долго носила гражданская война. Он опух от голода и был с пути во вшах. Измученные лишениями близкие окружили его заботами. Но было уже поздно. Вскоре он заболел тифом и умер, когда эпидемия пошла на убыль» [III: 323-324].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
477
О Самарине Пастернак упомянул и в «Охранной грамоте» [III: 164-165], на что могли обратить внимание Ф.А. Степун и В.С. Франк. Последний, также отметив совпадение судеб, подчеркнул: фигура Юрия Живаго ориентирована на Гамлета, Георгия Победоносца и Христа [Франк 1959]. М.К. Поливанов [1990: 107] называет наряду с Самариным в качестве прототипа доктора С.Н. Дурылина. Вероятно, первыми на Самарина как прототипа Живаго указали в 1959 г. М.М. Коряков [1959] и профессор Брюссельского университета А. Деман, в письме к которому от 9 апреля 1959 г. Пастернак подтвердил правильность догадки: «Прототипы героев “Доктора Живаго” действительно жили на свете, но герои сами по себе - видоизменения этих моделей. Ваше замечание о Дмитрии Самарине очень тонкое и точное. Его образ был передо мной, когда я описывал возвращение Живаго в Москву» [X: 460]. Наиболее же подробно «скрещения судеб» («Пастернак и Самарин» - «Юрий Живаго и Самарин») описаны К.М. Поливановым в работе «“Правнук русских героинь”. Дмитрий Самарин в судьбе и творчестве Бориса Пастернака» [Поливанов К.М. 2006: 43-61].
Образ Юрия Живаго наделен также чертами личности и биографии князя С.М. Волконского (1860-1937), о котором Пастернак мог многое узнать, в частности, от М.И. Цветаевой, которая подружилась с князем весной 1919 г. и до конца его дней и называла его «Weltverbesserer»63 и «учителем жизни» [Цветаева, V: 248, 264]. Вопрос о возможном отражении в романе Пастернака произведений кн. Волконского64 требует отдельного рассмотрения. Мы коснёмся лишь деталей образа Юрия Живаго, которые созвучны биографии князя.
Варыкино (и тамошняя деятельность доктора, а также Самдевятова и Микулицына) весьма напоминает Павловку Борисоглебского уезда Тамбовской губернии - имение, принадлежавшее кн. Волконскому. Как вспоминал С.К. Маковский, там князь «бывал постоянно и <.. .> провёл почти сплошь последние годы перед революцией, <.. .> занимался лесонасаждением, завёл образцовые питомники, обращал степь в лиственные и хвойные рощи. Испытанным сельским хозяином он не был и не столько заботился о доходности огромного своего имения <...>, сколько благотворительствовал крестьянам <...>. В Тамбовской глуши до предсмертных дней империи он оставался балованным аристократом, соединявшим привязанность к родным палестинам с влюблённостью в Rinascimento. Не уклоняясь от деятельности земца (даже председательствовал после “Февраля” за земских собраниях), он чувствовал себя прежде всего художником в прекрасном земном и Божьем саду...» [Маковский 2000: 482-483]. Связь с Италией, «дол
63 «Утопист, стремящийся улучшить мир» (нем.) - перевод А.А. Саакянц и Л.А. Мнухина [Цветаева, V: 248]. Об «антиутопии и теодицее» в «Докторе Живаго» см.: [Смирнов 1996: 86-128].
64 В Берлине были выпущены двухтомник кн. Волконского «Мои воспоминания» (1923-1924), его книга «Быт и бытие» (1924) и роман «Последний день» (1924). О том, что кн. Волконский читал произведения Пастернака, косвенно могут свидетельствовать слова из письма М.И. Цветаевой (К.Б. Родзевичу от 23 сент. 1923 г.): «Каким чудом Волконский ПОНИМАЕТ и меня и Пастернака, он, никогда не читавший даже Бальмонта?» [Цветаева, VI: 662].
478
Глава 5
гие пребывания» в которой развили в кн. Волконском «культ «калокагатии», принятие бытия как таинственного, вечно творимого согласия «всего со всем»», вошла как одна из составляющих в образы Юрия Живаго и Самдевятова, окрасила их тип отношения к бытию. В преподавательской деятельности доктора в Москве и Юрятине можно узнать «педагогическую деятельность» кн. Волконского в Тамбове и Москве, «позволившую ему уцелеть в годы революции» [Маковский 2000: 482].
Самой значительной в литературном наследии князя мемуарист считает то, что «ещё в Москве зародилось, а несколько позже, уже за границей, вылилось в книжку, озаглавленную “Быт и бытие. Из прошлого, настоящего, вечного”». «Волконский посвятил эту книжку Марине Цветаевой - с ней он горячо подружился в первые годы революции, когда бежал, переодетый солдатом, из своего разорённого тамбовского гнезда в Москву, где прожил почти три года уроками и лекциями в “пролетарских” аудиториях. Он подробно описывает в третьей части своих воспоминаний - “Родина” - это жуткое время, сплошное своё бедование вместе со всеми не приспособившимися к власти “бывшими людьми”. Лекционной его работе покровительствовал К.С. Станиславский, удалось ему даже учредить Ритмический институт (в доме Коровина в Малом Власьевском переулке) при поддержке Луначарского» [там же: 490].
Сравним: Живаго так же приходит в Москву «в серой папахе, обмотках и вытертой солдатской шинели» [IV: 463], пишет не одну большую, а много маленьких книжек. Доктор так же бедствует, так же нехотя знакомится с Мариной Щаповой, с которой у него завязывается «роман в двадцати вёдрах». Он перебивается с хлеба на воду, хотя и «состоит штатным доктором» чуть ли не в половине «дутых», в то время возникавших в Москве «разного рода Дворцов Мысли, Академий художественных идей» [IV: 472]. Ещё перед отъездом на Урал Живаго заболевает в Москве тифом - так же, как по возвращении в столицу из Тамбова переболел кн. Волконский. Начало знакомства и дружбы с ним Цветаевой относится ко времени после его выздоровления (см.: [Цветаева, IV: 586]). Есть сходство и во внутренних состояниях кн. Волконского и Юрия Живаго в Москве и в том, что случается с ними «внешне».
«Кривить душой, подделываться каким бы то ни было образом к большевизму Сергей Михайлович не мог органически - просто не умел притворствовать... Не умел он и ненавидеть. Запальчиво негодовал, но негодование - не злоба. Мстительное озлобление, непрощающая досада были ему чужды, несмотря на его самолюбивую обидчивость. Он слишком добросовестно ответил себе на все “почему” и “отчего”, чтобы не выносить безропотно свершившегося. Он потерял всё, что с детства любил, всё, что благоговейно собирал, и многое из того, что было им написано и подготовлено к печати. Он испытал и худшее - неблагодарность тех, кому делал одно добро. Странствуя с места на место, спасаясь от преследований революционных изуверов, из богача он обратился в нищего - его видели босиком на улицах Москвы (записал Кульбицкий), он чуть не умер в городской больнице от сыпного тифа, несколько лет просуществовал в голоде и холоде, ютясь в углу какого-то советского логова с керосиновой печуркой, и, несмотря ни на что, при малейшей возможности возрождался вновь к творческим мыслям, к вере в достоинство и высокое назначение человека» [Маковский 2000: 491].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
479
Этой жизни кн. Волконского в «углу какого-то советского логова» и творческим «возрождениям» прямо соответствуют жизнь Юрия Живаго в «конце бывшей квартиры Свентицких», в углу, который ему «выгородил» «всесильный Маркел» [IV: 473], и его поведение в годы жизни с Мариной, особенно после ухода в комнату в Камергерском. Приход Живаго в дворницкую Маркела за водой и отношение последнего к доктору также позволяют допустить, что Пастернаку был известен случай, когда кн. Волконский «в опасную минуту неделю скрывался в Петербурге под чужим именем». С.К. Маковский приводит его рассказ: «Мне захотелось посмотреть на свой особняк на Сергиевской... Подошёл к дому, позвонил. Двери отворил тот же мой лакей, которого вы столько раз видели. Ахнул, когда узнал меня в моём изодранном пальтишке и панталонах с бахромой. Повёл наверх, в “свои” апартаменты, т. е. бывший мой кабинет и столовую. Я был голоден. У бывшего лакея нашлись и хлеб, и вино (я узнал бутылку из моего погреба). Ну, потолковали... Я стал торопиться, надо было вернуться засветло к приютившему меня другу. На прощание он протянул мне руку и попросил взять от него “подарочек”. “Ну, что ж? Дари!” - сказал я. Тогда он открыл шкаф, вынул один из костюмов бывшего моего гардероба и поднёс мне со словами: “Вот, Ваше сиятельство, от меня на память. А то уж очень вы того, обтрёпаны!” Я не протестовал и, представьте, не почувствовал никакой досады» [Маковский 2000: 491-492].
Отношения между студентами-пролетариями и преподававшим им князем описаны Цветаевой в очерке 1923 года «Кедр. Апология», посвящённом книге кн. Волконского «Родина» (3-я часть «Моих воспоминаний»). Нечто похожее проглядывает в том, как доктор, находясь в юрятинской библиотеке65, воспринимает «людей из народа с красивыми здоровыми лицами», входящих в читальный зал, «как в церковь» [IV: 288]; и в контактах между ним и семейством Маркела. Дворницкая, как и весь дом, ранее принадлежала родственникам Юрия Живаго Свентицким.
В конце своего очерка Цветаева написала о «роке, тяготеющем над родом Волконских», сравнила Сибирь Волконского-деда (декабриста) с четырьмя годами жизни в советской России Волконского-внука [Цветаева, V: 270]. Время пребывания на Урале и в Сибири доктора Живаго также равно четырём годам: с весны 1918 (отъезд на Урал)66 до весны 1922 (возврат в Москву).
Не только «Кедр» мог привлечь внимание Пастернака к С.М. Волконскому. Тут, возможно, сыграло роль утверждение Цветаевой о том, что князь оказал на неё не меньшее влияние, чем Рильке и Гёте. В письме к Пастернаку от 22 мая 1926 г. Цветаева сравнила Рильке, которому «ничего, никого не нужно», с Гёте, которому «в старости понадобился только Эккерман». И тут же добавила, что, «спасаясь (оборонительного божества в себе!)» - такого же, какое проявляло себя в Рильке, - «три года идя рядом, за неимением Гёте, была Эккерманом, и большим - С. Волконского! И так всегда хотела во всяком,
65 О значении библиотеки во взаимоотношениях Юрия Живаго и Лары, прототипом которой (а также прототипом Марии Ильиной из «Спекторского») была Цветаева см.: [Поливанов К.М. 2006: 154-155].
66 Г.П. Струве считал, что семья Живаго покинула Москву в 1919 г. [Struve 1962: 242-243].
480
Глава 5
в любом - не быть» [Цветаева, VI: 250]. Это признание Цветаевой (тип её отношения к Рильке, Эккермана - к Гёте) Пастернак мог воспринимать как позицию своего двойника. Включение в ряд столь значительных имён кн. Волконского требовало осмыслить духовную значимость этой фигуры в соответствующем контексте.
И ещё более раннее письмо Цветаевой (от 10 февраля 1923 г.) давало Пастернаку основание размышлять о кн. Волконском как о собственном двойнике, зеркальные отношения к которому определяются примерно одинаковым значением, которое он, Пастернак, и кн. Волконский имеют для Цветаевой: «Молю Бога всегда так жить, как живу: колодец часовенкой, грохот ручьёв, моя собственная скала, козы, все породы деревьев, тетради, не говоря уж о С<ереже> и Але, единственных, кроме Вас и кн<язя> С. Волконского, мне дорогих!» [там же: 232]. Двойничество Пастернака и кн. Волконского в глазах Цветаевой подтверждается и признанием в письме А.В. Бахраху (от 25 сентября 1923 г.): «У меня мало друзей: за всю жизнь - м.б. трое, из которых одному 65 лет, другой без вести, о третьем больше года ничего не знаю»67 [там же: 612].
В аналогии ‘Юрий Живаго/Марина Щапова’ - ‘С. Волконский/М. Цветаева’ задействован целый ряд сходствующих моментов. Место встречи - Москва, возрастная разница, одинаковый социальный статус, обоюдная нелюбовь к «официальному», отрешённость от «низкой жизни», пассионарность женщины и внешнее безволие мужчины, испытания голодом и бездомьем.
В очерке «Кедр» Цветаева писала: «Волконский никогда не был связан с возрастом», поскольку «дух - вне возраста», и привела его собственные слова об этом [там же, V: 249]. Сходство и разница статусов определяли «ученичество» Цветаевой по отношению к кн. Волконскому, отразившееся, в частности, в переписывании его мемуаров, в цикле «Ученик» (1921), который она ему не читала и посвящение к которому - «Кн. С. М. В.» -проставила только в 1936 г., объяснив: «Я тогда не проставила посвящение - чтобы его не смущать. Люблю его - до сих пор. 1921 г.-1936 г. МЦ» [Саакянц 1997: 249].
Юрий Живаго сначала отказывался принять помощь Марины Щаповой: «Вам мараться можно, а что же мне? Какой вы несговорчивый, Юрий Андреевич. Зачем отмахиваетесь? А если я к вам в гости напрошусь, неужто выгоните?» [IV: 476]. Это сравнимо с историей знакомства с кн. Волконского, которую Цветаева изложила в записной книжке [Цветаева, V: 586-587], а также её рассказом в письме к А.В. Бахраху (от 10 января 1924 г.): «Я сама так любила 60-летнего кн<язя> Волконского, не выносившего женщин. Всей безответностью, всей беззаветностью любила и, наконец, добыла его - в вечное владение! Одолела упорством любови. (Женщин любить не научился, научился любить любовь)» [там же, VI: 621]. Готовность пастернаковского героя «спрягаться в страдательном» близка «пассивности» кн. Волконского, отличает их отношение к женщинам. Добавим, что, судя по тому, что всё потерявший Юрий Живаго предстаёт и православ-
67 По комментарию Л. Мнухина, «первый друг - С.М. Волконский; третий - Б.Л. Пастернак. Второй друг, по предположению Дж. Малмстада, - С.Е. Голлидей, героиня “Повести о Сонечке”» [Цветаева, VI: 636].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
481
ным, и мистическим анархистом, и масоном, и розенкрейцером, для Пастернака имело значение то, что кн. Волконский, доказавший «на своём жизненном опыте, насколько важна свобода “неимения”» [Маковский 2000: 493], был католиком.
Живаго вернулся в Москву в сопровождении Васи Брыкина, как Вяч. Ив. Иванов, приехавший в Москву из Баку вместе со своим учеником В.А. Мануйловым. Внимание Пастернака к этому тандему могло привлечь стихотворение Иванова «Поэт, пытатель и подвижник» (1923) с посвящением Мануйлову: «Victori manu Elohim» [Иванов, IV: 90]. Д.В. Иванов, О. Дешарт и А.Б. Шишкин поясняют: «“Рукою Божьей победитель” - буквальный перевод имени и фамилии: Виктор (лат.) - “победитель”, Мануйлов (Мануил) (евр.) - “Бог с нами”» [там же: 722]. Поскольку в отношениях ‘Живаго/Брыкин’ применена инверсия (сказать «Рукою Божьей победитель» мог бы Брыкин о докторе, а не наоборот), мы предполагаем, что Пастернак прочитывал стихотворение Иванова как текст, который мог бы быть адресован Юрию Живаго.
В письме к жене Евгении Владимировне (от 23 июня 1924 г.) Пастернак описал встречу, по-видимому, одну из последних (если не последнюю), с Ивановым: «Обедая в Кубу, я часто встречаю множество милых людей из литературного, критического и историкословесного мира. Сюда с Кавказа приехал Вячеслав Иванов и остановился в Доме Учёных. Он собирается за границу, в Италию. С ним очень славный мальчик, его ученик, в морской форме» [Переписка с Евгенией Пастернак 1998: 96]. Вероятно, именно летом 1924 у поэтов состоялось примирение после спровоцированного С.П. Бобровым инцидента. Любопытно, что об этом, в отличие от самой ссоры, инициатива которой в ответ на не существовавший в действительности повод исходила со стороны Иванова, Пастернак в воспоминаниях умолчал. Закрадывается, впрочем, подозрение, что ссора эта была мнимой и Пастернак гипертрофировал негативный аспект подходящей ситуации с целью умолчать об отношениях подлинных, дабы в глазах читателей не набиваться к мэтру символизма в официальные преемники, вероятность чего не исключается, исходя из оценки О.А. Шор (Дешарт). Это подозрение в какой-то степени подкрепляется и тем, что избранный подход к описанию этого случая соответствует пастернаковскому пониманию таинственного, и тем, что С.П. Бобров в беседе с Е.Б. Пастернаком отрицал то, что сам спровоцировал ссору между поэтами: «Бобров этой вины за собой не числил и после смерти Пастернака говорил нам, что тот всё напутал» [Пастернак Е. 1997: 202]. Случаи подобного «лукавства» Пастернака и «явно выраженную тенденцию запутывать следы» неоднократно отмечает Л.С. Флейшман [2003а: 103, 263, 294, 414].
Не рассказал Пастернак и о беседе, состоявшейся незадолго до отъезда Иванова в августе 1924 г. в Италию. О ней можно узнать из письма О.А. Шор (Дешарт) к Ф.А. Сте-пуну от 30 июня 1963 г.: «Что В.И. откладывал отъезд - это совершенно неверно <.. .>. А что В.И. чествовали - это верно, хотя слово “чествовали” не совсем удачно. Не было ничего официального и организованного. Только вдруг к В.И. со всех сторон стали стекаться люди для наставления, для интеллектуального и душевного укрепления. Помню, как однажды, незадолго до отъезда В.И., я, спеша к нему для подписи каких-то бумаг
482
Глава 5
для каких-то разрешений, почти бегом направлялась в Це-Кубу, где В.И. жил как почётный гость. Ещё издали увидела я длинную, извивающуюся людскую “очередь”; она начиналась у двери, ведущей в комнату В.И., тянулась через коридор, спускалась по небольшой лестнице и терялась где-то в саду. “Здорово (мелькнуло у меня в голове), очередь за словом поэта, точно за хлебом или сахаром”. Приблизившись, я увидела среди толпы Пастернака. Он, слегка склонившись, что-то карандашом чертил в записной книжке. “Зачем Вы здесь стоите, Боря?” - подошла я к нему. Он вскинул своё смуглое лицо белого араба, сверкнул своими пронзительными, тёмными, с безуменкой, глазами: -“Зачем стою? - отозвался он грудным, немного театральным голосом, - пришёл сюда со своими техническими сомнениями, да и не только техническими”. Я рассмеялась: “Помилуйте, я не столь индискретна, чтобы задавать такие вопросы. Спрашиваю, зачем Вы стоите в общей очереди”. Мы прошмыгнули боковым ходом. Боясь опоздать в соответственное учреждение, я сразу ушла. До сих пор сожалею, что не осталась тогда при их последней встрече. Быть может, та беседа подтверждала Ваше восприятие Пастернака как последнего символиста» (цит. по: [Иванова Л. 1992: 122-123]).
В пользу того, что встреча и разговор были, свидетельствует следующий эпизод романа. Юрий Живаго приходит для встречи в гостиницу, в которой остановился его дядя Веденяпин и куда «уже принимали только по настоянию городских властей. <.. .> Гостиница производила впечатление жёлтого дома, покинутого сбежавшей администрацией» [IV: 176]. Использовав такое сравнение, Пастернак иронически отождествил учёных, в Доме которых остановился Иванов, с умалишёнными. Некоторые характеристики внешности, поведения, образа мыслей Веденяпина указывают на личность Иванова, хотя образ дяди Юрия Живаго «собран» из черт нескольких поэтов и мыслителей. Как показал А.В. Лавров, в описании Веденяпина в данном эпизоде проявлены, в частности, некоторые детали биографии Андрея Белого [Лавров 19926: 97-99]. Описание встречи героев представляет собой также, во-первых, прозаическое инверсирование Пастернаком собственной «Оригинальной» вариации, вариантом названия которой было «Пушкин» [I: 484], и в этом случае Веденяпин предстаёт в роли В.А. Жуковского, во-вторых, отношений с М.И. Цветаевой, «потому что это не человеческий роман, а толчки и соприкосновенья двух знаний, очутившихся вдвоём силой этого содрогающего родства», - писал Пастернак Цветаевой 23 февраля 1926 г. [Переписка с Цветаевой 2004: 138]. Эпизод в гостинице, где встречаются Живаго и Веденяпин, сопоставим с воображаемой Цветаевой (письмо от 28 апреля 1926 г.) сценой встречи с Пастернаком: «Мне ещё не мыслится тот город (как страшно, что у него есть имя!). Час мыслится - не ночь, не ночь! - рассвет. Сновиденная безгрешная (ГЕНИАЛЬНО, хотя тоже ненавижу это слово) гостиница, где, как в замке Психеи и Belle et la Bete и Аленького цветочка (одно), прислуживают руки. А м. б. голоса. Условность комнаты. Потолок - чтобы раздвинуться. Пол - чтобы провалиться» [там же: 190]. Этот отрывок имеет параллели в «Попытке комнаты» (1926), которую, как и одновременно писавшуюся поэму «С моря» (1926), Цветаева в письмах к Пастернаку называла «вещью о тебе и мне», «вещью о нас» [там же: 217, 612].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
483
Включение в ассоциативный ряд образа Пушкина отражает авторское стремлении показать духовный рост Юрия Живаго. Об этом свидетельствуют и возможности интертекстуального прочтения Веденяпина как фигуры, вобравшей в себя черты Иванова и Андрея Белого. В гостинице Юрий Живаго и дядя равны, дружественны и потрясены «доказательствами взаимного понимания» [IV: 177], но расхождение между ними обнаруживается очень скоро. Обрисованные О.А. Шор обстоятельства последней встречи Пастернака и Иванова отразились и в описании того, как к гробу доктора приходит множество незнакомых друг с другом и с ним людей. Следующий пассаж приобретает (не без инверсии некоторых деталей) в применении к Иванову как прототипу Юрия Живаго особые краски, но в то же время прикровенно показывает подлинное отношение Пастернака к старшему поэту-символисту: «Весть о смерти человека почти без имени с чудесной скоростью облетела весь их крут. Набралось порядочное число людей, знавших умершего в разную пору его жизни и в разное время им растерянных и забытых. У его научной мысли и музы нашлось ещё большее количество неизвестных друзей, никогда не видавших человека, к которому их тянуло, и пришедших впервые посмотреть на него и бросить на него последний прощальный взгляд» [IV: 490].
Добавим, что в двух сценах романа (встреча Живаго и Веденяпина и прощание людей с умершим поэтом) отразились впечатления Пастернака от встреч с Маяковским и от посещения комнаты, где лежал застрелившийся поэт («Охранная грамота», часть третья, главы 14-17), беседа с умирающим Булгаковым в комнате последнего, а также похороны писателя.
Смерть Юрия Живаго от болезни сердца, духота, вызвавшая сердечный приступ, давка в трамвае и враждебная толпа, сквозь которую он пробивается, многочисленные неизвестные почитатели, пришедшие проститься с ним в комнату в Камергерском, - всё это соотносит судьбу доктора и с судьбой травимого светской чернью Пушкина. Гибель поэта описана многими мемуаристами, в частности врачом В.И. Далем, с которым Пушкин побратался перед смертью, и В.А. Жуковским. Так же, как Даль принимал деятельное участие в лечении умирающего Пушкина и его похоронах, Евграф заботился о брате незадолго до его смерти и устраивал его похороны. Посмертный разбор рукописей и бумаг доктора аллюзийно связывает образ Евграфа с фигурой Жуковского. Допустима и общая аналогия: друзья Пушкина и их память о поэте после его смерти - друзья Юрия Живаго (шире - читатели) и их верность его памяти.
Важно отметить два момента в медицински точных мемуарах Даля, на которые мог обратить внимание Пастернак. Описывая страдания от невыносимой боли, которую испытывал умирающий поэт в ночь после дуэли, Даль вспоминал: «Ах, какая тоска! -восклицал он, когда припадок усиливался, - сердце изнывает!»; «“Тяжело дышать, давит”,- были последние слова его» [Пушкин в воспоминаниях 1998, II: 265]). Многие частности, зафиксированные Далем, подтверждены другими мемуаристами, свидетельства которых Пастернак, несомненно, также знал и учитывал.
484
Глава 5
Юрий Живаго, как и Пушкин, сначала лежал не в гробу, в который его позже перенесли. Однако устроители похорон, напротив, «отказались от церковного отпевания и решили ограничиться гражданскою кремацией» [IV: 489].
В письме В.А. Жуковского к С.Л. Пушкину (от 15 февраля 1837 г.) есть свидетельство, также наложившее отсвет на финал «Доктора Живаго»: «На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб; на следующий день, к вечеру, перенесли его в Конюшенную церковь. И в эти оба дни та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более десяти тысяч человек приходило взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его; было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения и что-то умилительно-таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума» [Пушкин в воспоминаниях 1998, II: 435].
Подробное сообщение Жуковского А.Х. Бенкендорфу (письмо от 25 февраля - 8 марта 1837 г.) о реакции народа на смерть Пушкина в каком-то смысле восполняет отсутствие аналогичного описания в «Докторе Живаго» реакции народа на смерть доктора. Это письмо, по-видимому, также было для Пастернака одним из важнейших источников подробностей о смерти Пушкина и обусловило лаконизм итоговых оценок земной участи Юрия Живаго и событий после его смерти.
В.И. Даль, потомок обрусевших датчан, военный врач, участвовавший в двух войнах, и писатель, создавший «Русские сказки», выдающийся знаток фольклора и народного языка, по-видимому, был показательной для Пастернака фигурой «инородца» в русской культуре и тоже послужил одним из прототипов доктора Живаго. Эта многообещающая тема нуждается в подробном освещении. Доктор нелицеприятно упоминает о Дале, давая отповедь журналистам, их «блокнотному накапливанию» свидетельств о событиях Первой мировой и «стрельбе фразами». Подчёркнуто выраженное самоопределение поэта предполагает контрастность фигур его предшественников (Даля и Пушкина, прямо не названного в тексте) и принципиально разного отношения к записанному слову: «Это своего рода новый Даль, такой же выдуманный, лингвистическая графомания словесного недержания. <...> Как он не понимает, что <...> из блокнотного накапливания большого количества бессмыслицы никогда не может получиться смысла, что фактов нет, пока человек не внёс в них чего-то своего, какой-то доли вольничающего человеческого гения, какой-то сказки» [IV: 122-123].
Некоторые попытки рассмотреть зашифровывание Пастернаком фамилии В.И. Даля в лирике и омонимии с «далью» уже сделаны (см.: [Конева 2004]). А.К. Жолковский указывает, что «мотивы “дали” и “прибытия” занимают важнейшее место в поэтическом мире Пастернака» и что ему импонировала сама идея словаря [Жолковский 2005: 611, 187]. Суждение о «новом Дале» выражает также реакцию Пастернака на «заумный язык» В.В. Хлебникова и работу со словом позднего Андрея Белого. Именно к «Толковому словарю...» Даля, в противовес поэтической «зауми», апеллировал Белый, отвечая на «претензии современников к его усложнённому стилю» [Спивак 2006: 545]. Однако
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
485
Пастернак рассматривал работу Белого со словом как параллель «заумному языку» Хлебникова, о чём свидетельствует записка, посланная Белому во время одного из его последних выступлений: «Как Вы относитесь к Хлебникову? (его проза и Ваша?)» (цит. по: [Спивак 2006: 545].
Таким образом, присутствующие в романе многочисленные проекции на показательные фигуры людей творчества и высокого духа - Д.Ф. Самарина, С.М. Волконского, Вяч. Ив. Иванова, А.С. Пушкина, В.И. Даля - создают поля интертекстуальных значений и делают функции персонажа многомерными и неоднозначными. Отсутствие «привязок» героя к какому-либо одному прототипу выражает стремление насытить образ заглавного героя универсально значимыми и исторически показательными смыслами. Почти полное устранение каких-либо «программных высказываний» Юрия Живаго в последние годы его жизни (в советской Москве), нисхождение по социальной лестнице, таким образом, предстаёт одной из разновидностей мимикрии. Чем ниже опустившимся предстаёт доктор в социальном и бытовом планах, тем более высок накал его внешне незаметной духовной концентрации. Судить об этой интенсивной внутренней работе можно по сокровенным слоям смысла. Оставшиеся после его смерти стихотворения - прямое подтверждение этому.
5.10. О прототипах Евграфа68
Фигура Евграфа, одна из самых таинственных в романе и привлекшая внимание исследователей сразу после издания романа69, все же остаётся недостаточно объяснённой. Тем, что Евграф составляет тетрадь стихотворений умершего Юрия Живаго, выявляется его роль относительно доктора, аналогичная роли Иоанна Богослова, передававшего в Евангелии слова Христа. Разумеется, по сравнению с прототипами пара братьев Живаго является профанной. К концу повествования, когда Евграф начинает всё более активно выявлять себя в этой функции, рядом с Юрием Живаго появляется и персонаж, также выступающий в амплуа Иоанна. Это - Вася Брыкин, с которым Живаго приходит в Москву и с помощью которого печатает свои книжки. И разница между этими двумя фигурами, воспроизводящими действия апостола, заключается в степени их профанации. А.В. Лавров считает, что «никаких принципиально новых сюжетных поворотов эта повторная встреча не порождает» [Лавров 1993: 251]. Значение её, как нам представляется, не в том, чтобы способствовать таким поворотам, а чтобы ещё раз, наряду с другими встречами, переключить внимание читателя на претексты, в частности - еван
68 Параграф был опубликован: [Буров 20106].
69 Обзор интерпретаций роли этого персонажа, предлагавшихся исследователями, начиная с Э. Вильсона и Р.Е. Стосси, см.: [Cornwell 1986: 65-67, 74 и др.]. См. также анализы образа Евграфа: [Rowland М.Е, Rowland Р. 1967: 106-112; Эткинд А. 2001: 367-383].
486
Глава 5
гельскую историю, которую тайно воспроизводит своею жизнью Юрий Живаго. Его приход в Москву (кстати, это - второе прибытие доктора в Москву; первое было из Мелюзеева) представляет собой аналогию второму пришествию Христа. Кроме того, профанация Брыкиным роли Иоанна Богослова оттеняет серьёзность аналогичного амплуа Евграфа.
Е. Фарыно «прочитал» пару ‘Юрий Живаго - Евграф’ как аналогичную ветхозаветной паре ‘Исав - Иаков’ [Фарыно 1990: 169-171]. Пастернак, таким образом, инверсирован персонажей и Ветхого, и Нового заветов. Именно это, а также принципиальная неполнота аналогизирования и мнимая избыточность (проводимые в «Докторе Живаго» в целом) позволяют сталкиваться на одном и том же участке повествования двум (и более) интертекстам. Это - один из механизмов смыслопорождения в романе. О неполноте следования Пастернака за историей Исава - Иакова писал, критикуя версию Е. Фарыно, А.М. Эткинд [2001: 368]. Однако такой же принцип неполноты про ориентировании повествования и персонажей на культурные модели и фигуры характерен для творчества Пастернака в целом и оправдан множественным вчитыванием в одну деталь, сюжетный ход или отрезок текста реалий из самых разных культурных систем. Так, М.Ф. Роуланд и П. Роуланд указывают, что «Evgraf personifies the Doctor’s poetic inspiration and his guardian spirit», «is one of a long line of incorporeal companions to poets and heroes, such as Athene to Odysseus, Khidr to Moses (in Islamic tradition), the angels to St. John in revelation, the Sibyl to Aeneas, and the shade of Virgil to Dante»70, а также (в ключе воззрений К.Г. Юнга) «is a projection of the doctor-poet’s psyche»71 и как «symbol of his hero’s inspiration»72 происходит «from three sources of Russia’s civilization» - «Greco-Roman, Asiatic, Judeo-Christian cultures»73. Наиболее подробно исследователи анализируют реалии, функционально сближающие Евграфа с сибирским шаманом [Rowland M.F., Rowland Р. 1967: 107-108, 110-111]. Е.В. Пастернак отмечает в его образе черты Мефистофеля [Пастернак Е.В. 2008], и это нисколько не противоречит отмеченным ветхо-и новозаветным прочтениям этого персонажа. Г. де Маллак полагает, что прототипом Евграфа мог быть А.А. Фадеев, который, будучи главой Союза писателей, «functioned as Pasternak’s protector or patron - much in the way Evgraf functioned for Zhivago in the novel, that very kind of relationship being characteristic of the era. Indeed, certain of Fadeev’s distinguishing qualities - exceptionally handsome appearance, Siberian origin, and concern with Siberian themes - are echoed in Zhivago’s benefactor. <.. .> Fadeev, fulfilling a function
70 «Евграф персонифицирует поэтическое вдохновение доктора и его ангела-хранителя», «является одним из длинной череды бестелесных компаньонов поэтов и героев, таких, как Афина для Одиссея, Хидр для Моисея (в исламской традиции), ангелы для святого Иоанна в Откровении, Сивилла для Энея и тень Виргилия для Данте» (англ.).
71 «Является проекцией психе доктора-поэта» (англ.).
72 «Символ вдохновения его героя» (англ.).
73 «Из трёх источников российской цивилизации» - «греческо-римской, азиатской и иудео-христианской культур» (англ.).
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
487
that foreshadowed that of powerful and mysterious Evgraf in Doctor Zhivago, served as a thoughtful, silent benefactor and obtained official permission for Adik’s wish to be carried out»74 [Mallac 1983: 160, 179].
С другой стороны, на избыточность отдельных «соединительных линий» и на то, что «некоторые фабульные детали, ходы, мотивировки в романе могут быть восприняты как архитектурные излишества с точки зрения сюжетостроительной прагматики», указал А.В. Лавров [1993: 244, 251 и др.]. Это замечание верно постольку, поскольку читатель не всегда успевает обнаружить авторские переключения с одного интертекста на другой или их совмещения, требующие «излишеств» и создающие их. Конечно, для этого он, в идеале, должен совпадать с автором. Совмещённость в фигуре Евграфа мефистофельской и апостольской ролей обусловлена его связующей функцией как вероятного повествователя.
«The most important criterion in assessing candidates for such a role would be the question of plausible access to the information presented in the narrative. Yevgraf would have been uniquely placed to learn the Zhivago background, both by family connection and by his intimate, if intermittent, relationship with Yuriy. He spent several days with Lara (15:17) and had known Strelnikov (see 15:14). One can assume that he talked to Gordon and Dudorov, while Vasya Brykin could well have appeared too at Yuriy’s funeral. However, we are already making assumptions not contained in the text, while Evgraf’s access to the consciousness of other characters used as occasional reflectors would require unconfirmable acquaintanceships, or else considerable agility in deducing who could have told whom what, for it to have been subsequently related to Yevgraf within the pattern of acquaintanceship known within the text (Part 10 would pose particular problems). This may be not impossible but, to any self-respecting ‘model reader’, perhaps a trifle far-fetched»75 [Cornwell 1986: 65-66].
74 «Действовал как защитник или патрон Пастернака - подобно тому, как в романе действовал Евграф в отношении Юрия Живаго, что является типом взаимоотношений, характерным для эпохи. Действительно, некоторые отличительные качества Фадеева, особенно эффектные появления, сибирское происхождение, сосредоточенность на сибирской тематике, сказались в образе покровителя Живаго. <.. .> Фадеев, выполняя функцию, предвещавшую те, которыми наделён властный и таинственный Евграф в “Докторе Живаго”, служил как всепонимающий, молчаливый благодетель, добившийся официального разрешения для того, чтобы желание Адика было выполнено» (англ.).
75 «Наиболее важным критерием в оценке кандидатов на такую роль может быть вопрос об удобном доступе к информации, представленной в повествовании. Евграф должен иметь особое положение, чтобы знать о внутренней жизни Живаго, благодаря семейным связям и его близким, хотя и прерывистым, отношениям с Юрием. Несколько дней он провёл с Ларой (15:17), знал Стрельникова (см. 15:14). Можно допустить, что он разговаривал с Гордоном и Дудоровым, а на похоронах Юрия так же, как и они, мог появиться и Вася Брыкин. Однако мы уже делаем предположения не на основании того, что содержится в тексте, тогда как доступ Евграфа к сознанию других персонажей, воспринимаемых как случайные свидетели, требует (неподтверждённого в тексте) знакомства с ними или значительного проворства в узнавании того, кто, с кем и о чём мог говорить. Всё это могло быть известно Евграфу в рамках знакомств, отражённых в тексте (часть 10 может составить особые проблемы). И всё это может быть и не столь уж невероятно, однако для имеющего самоуважение “образцового читателя” представляет, вероятно, неправдоподобную ерунду» (англ.)-
488
Глава 5
Евграф в отличие от Брыкина, которого «всё более привлекала» «очевидность, са-модоказательность провозглашённых революцией истин» [IV: 473], идёт своим путём предназначения, и во время войны он - один из тех, кто составляет «нравственный цвет поколения», проявляя «неизбалованность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому» [IV: 504]. Это - инверсированный аналог пути апостольского служения Иоанна Богослова, ученика, стоявшего «при кресте Иисуса» (Ин. XIX, 25). Если Брыкин сопровождает Юрия Живаго с Урала в Москву и ученичество его - «внешнее», то Евграф, напротив, всегда появляется сам, помогает, а о его ученичестве можно предполагать лишь на основании того, что он «зачитывается» братом [IV: 207], а когда тот оказывается в комнате в Камергерском переулке, «добывает и тащит» Юрию Андреевичу его сочинения [IV: 484]. Именно Евграф присутствует «при кресте» - в последние дни жизни и на похоронах Юрия Живаго, контрастирующих с евангельским распятием, в том числе и за счёт воспроизведения языческой модели отправки в «царство мёртвых» (гроб доктора похож на «грубо выдолбленный чёлн» [IV: 489]).
В фигурах Брыкина и Евграфа, значимо отличающихся по возрасту, происхождению и социальному статусу, обыгрываются и личностные черты апостола, например девственность. При встрече Вася рассказывает доктору о Пелагее Тягуновой и жизни в Веретенниках. Об отношениях с женщинами Евграфа в романе вообще нет ни слова. Как фигура профанного плана Брыкин параллелен своему ровеснику Коле Фроленко из Первой книги романа. Противопоставление фигур Евграфа и Брыкина как персонажей, профанирующих Иоанна Богослова, актуально также в плане решения Пастернаком проблемы ‘Восток - Москва (центр) - Запад’.
Значение фигуры Евграфа как более сложной по сравнению с Брыкиным может проясниться материалом, связанным с его матерью. Ещё в 1911 году Юрий Живаго говорит о доме княгини Столбуновой-Энрици «на окраине Омска»: «У меня такое чувство, будто своими пятью окнами этот дом недобрым взглядом смотрит на меня через тысячи вёрст, отделяющие Европейскую Россию от Сибири, и рано или поздно меня сглазит» [IV: 71].
Слова эти напоминают об остром чувстве оккультной опасности с Востока, которое было свойственно, в частности, Андрею Белому и Вяч. Ив. Иванову. Смысл «сглаза» раскрывает литературная генеалогия княгини. Именно на мать, а не на отца похож брат доктора Евграф, у которого было «смуглое лицо с узкими киргизскими глазами» [IV: 192]. Несмотря на бытующее мнение, что «мы не знаем и никогда не узнаем ответа» на вопрос, «почему у Евграфа <.. .> “киргизские глаза” и почему “Евграфа зовут Евграф” [Эткинд А. 2001: 316], ответы всё же есть. Как указывает И.П. Смирнов, «литературное происхождение Евграфа зафиксировано уже в его имени, означающем “благописание”; ср. об имени Евграфа: Jerzy Faryno, Княгиня Столбунова-Энрици и её сын Евграф (Археопоэтика «Доктора Живаго», 1). - Studia filologiczne, Zeszyt 31 (12). Filologia Rosyjska. Поэтика Пастернака, pod red. Anny Majmieskuljow, Bydgoszcz 1990, 156 ff.» [Смирнов 1996: 56].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
489
Что касается глаз, то киргизскими предками снабдил героев своего «Петербурга» Андрей Белый. Но Николай Аполлонович Аблеухов, в отличие от Евграфа, «всегда был в отца» [Белый 1981: 149]. «Итальянской» части фамилии княгини-затворницы, постоянно пребывающей в омском доме, обращённо соответствует бегство Анны Петровны Аблеуховой в Испанию с итальянским артистом Манталини. Юрий Живаго и Евграф совсем не похожи. И полученные Евграфом по наследству глаза свидетельствуют о том, что в жилах его матери течёт киргизская кровь. Что касается Анны Петровны, то у неё кровь «поповская» [там же: 179]. Аполлон Аполлонович размышляет: «Подлинно, уж родной ли ему его сын? Его родной сын может ведь оказаться просто-напросто сыном Анны Петровны благодаря случайному, так сказать, преобладанию в жилах матерней крови; а в матерней крови - в крови Анны Петровны - оказалась же по точнейшим образом наведённым справочкам... поповская кровь (эти справочки Аполлон Аполлонович навёл после бегства супруги)! Вероятно, поповская кровь изгадила незапятнанный аблеуховский род, подарив именитого мужа просто гаденьким сыном. Только гаденький сын - настоящий ублюдок - мог проделывать подобные предприятия (в аблеуховском роде со времён переселения в Россию киргиз-кайсака Аб-Лая, - со времен Анны Иоанновны - ничего подобного не было)» [там же: 179].
Обозначив киргизское происхождение Евграфа, Пастернак коренным образом переосмыслил «тему Востока, воплощающего губительные для России и славянства в целом тенденции» [Гречишкин, Долгополов, Лавров 1981:642], которую вслед за В.С. Соловьёвым разрабатывали символисты. Кроме того, Пастернак противопоставил Евграфа доктору как героя, который, представляя собой, как и брат, человека с биографией, хочет, в отличие от него, сохранить его «внешнюю» биографию. Евграф, в отличие от «гаденького сына - настоящего ублюдка» Николая Аблеухова, не готовит, как тот, теракт и приход революции («подобные предприятия»), а, наоборот, помогает, находясь в лагере победителей, справиться с её разрушительными последствиями. И это не противоречит тому, что образ Евграфа содержит черты И.В. Сталина76.
«Петербург» интертекстуально отсылает читателя к предшественникам, с которыми спорит автор. В том, что Андрей Белый наделил своих героев киргиз-кайсацким происхождением, комментаторы видят «намёк на начальные строки оды Г.Р. Державина “Фелица” (1782): “Богоподобная царевна / Киргиз-Кайсацкия орды!”» [там же: 642]. Миф о «жёлтой» опасности с Востока, переживавшийся символистами, в частности Вяч. Ив. Ивановым и А. Белым, содержал представление о враждебности Запада, заражённого «китайщиной», по отношению к России. Борьба против жёлтой опасности представляет собой, как отмечал Иванов, борьбу с дехристианизацией Европы, в том числе и России. Это - «борьба за личный христианский мистический опыт» [Обатнин 2000:
76 Выступившая «первооткрывательницей» этой аналогии Н.Б. Иванова [20016] не учла, что сравнение Евграфа со Сталиным было предложено еще в 1958 и 1959 гг. Э. Вильсоном [Wilson 1958; 1959], в 1959 г. Р.Е. Стосси [Steussy 1959], в 1967 - М.Ф. и П. Роуландами [Rowland M.F., Rowland Р. 1967], а также И. Берлином [Berlin 1980: 204] и Н. Корнвеллом [Cornwell 1986: 65].
490
Глава 5
132]. На примере Евграфа Пастернак перевернул интерпретацию Иванова и показал не только «представителя» Востока, оказывающегося тайным носителем христианства в стране воинствующего атеизма, но и то, что он участвует вместе со всей Россией в войне против представляющей Запад Германии и является одним из тех, кто «составляет нравственный цвет поколения» [IV: 504]. Великая Отечественная война, в которой участвует генерал Евграф Живаго, скрыто противопоставлена Первой мировой, в которой в качестве врача участвует Юрий Живаго.
Отметим ещё один момент «родства» Евграфа с временем Державина. Комментируя строку из сдвоенной строфы XXXIX-XL главы VII «Евгения Онегина» - «С чулком в руке седой калмык», Ю.М. Лотман указал, что «мода иметь в доме слугой мальчика-калмыка относится к XVIII в. Ко времени приезда Лариных в Москву мода эта устарела, состарился и слуга-калмык. С чулком в руке... - Лишь в немногих богатых домах имелся специальный швейцар. Обычно его функцию успешно выполнял кто-либо из дворовых слуг, занимавшийся в то же время каким-либо домашним рукоделием» [Лотман 1995: 699].
Юрий Андреевич впервые видит Евграфа в «подъезде высокого пятиэтажного дома со стеклянным входом и просторным, освещённым электричеством парадным», куда заходит прочесть газетные сообщения об октябрьской революции [IV: 191]. Доктор, заходящий в дом, но не в качестве гостя, и Евграф, у которого «было смуглое лицо с узкими киргизскими глазами» [IV: 192], выходящий из дома, но не навстречу Юрию Живаго, как швейцар выходит встречать гостя, обращённо воспроизводят ситуацию как XVIII века, так и отражающего его XIX-го. Евграф, возможно, является владельцем если не всего дома, то квартиры в нём и тем самым предстаёт в роли не швейцара, а хозяина, тогда как Юрий Живаго не господин и не хозяин, требующий внимания, а, напротив, случайно зашедший в подъезд прохожий, не желающий, чтобы его беспокоили. Встреча братьев на «рубеже», то есть в переломный момент совершающейся революции, соответствует тому, что ситуация ‘господин, пришедший в гости - слуга-швейцар владельцев дома’ получает возможность инверсированно проецироваться как на прошлое, так и на будущее. Рубежность встречи и исторического момента определяется и тем, что революцию «слуг» возглавил Ленин-«калмык». Описывая Евграфа, Пастернак заменил слишком уж узнаваемого по пушкинскому стихотворению «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836) «калмыка» «киргизом», оставив вместе с тем (в трансформированном виде) знакомые детали. Например, Евграф разбирает бумаги Юрия Андреевича после его смерти (но стихи его читают Гордон и Дудоров). Так отзываются пушкинская строфа
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, И назовёт меня всяк сущий в ней язык: И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгус, и друг степей калмык
[Пушкин, III: 340].
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
491
Тайна встречи братьев заключается в определении Евграфа как человека, которому в будущем предстоит высокое служение. Зеркальность ситуаций XX и XVIII веков позволяет указать осевую ситуацию - ‘Пушкин (или: вообще поэт) и его духовный наследник’. Наконец, чудесные появления Евграфа в нужную минуту, его помощь и одаривание семьи Живаго и самого доктора, свидетельствующие о его роли сказочного помощника и дарителя, напоминают соответствующих героев «Капитанской дочки»77 - ср., например, пары ‘Юрий Живаго - Евграф’ и ‘Гринёв/Маша - императрица’.
Анализ образа княгини Столбуновой-Энрици, о которой читатель только и узнаёт, что со слов Юрия Живаго, показывает, что стихотворение Державина, которое обыграл Андрей Белый, также интертекстуально использовалось Пастернаком, который учёл и биографию Державина. Когда в 1903 году умер Андрей Живаго, Юре было 11 лет, а Евграфу - 1 год. 11 лет было и Державину, когда в 1754 году умер его отец. Во время революции в 1917 году Юрию 25 лет, Евграфу - 15. Державину во время дворцового переворота, в результате которого к власти пришла Екатерина II, было 19. Разница с Юрием Живаго - 6, с Евграфом - 4. Это - одно из многочисленных подтверждений того, что принципы бинарности и тернарности организуют не только структуру линейного пространства романа, но и интертекстуальную игру. В своей оде Державин отождествляет императрицу с Фелицей (от лат. felicitas} - героиней написанной ею «Сказки о царевиче Хлоре», «повествующей о том, как киргизский хан похитил русского царевича и, желая испытать его, повелел ему отыскать “розу без шипов” - символ добродетели» [Гречишкин, Долгополов, Лавров 1981: 642]. Ханская дочь Фелица помогает ему. Обратим внимание на «характеристики» соотносящихся героинь: кн. Столбуновой-Энрици, Анны Петровны Аблеуховой, Фелицы (и Екатерины II). У княгини - киргизская кровь, русско-итальянская фамилия (русская часть - отсылка к «столбовому дворянству») и русское (на ‘Востоке’) место пребывания в Омске. У Анны Петровны Аблеуховой -«поповская» кровь, русское имя, киргизского происхождения фамилия, испанское (с итальянцем) и русское (с мужем-«киргиз-кайсаком») место пребывания в Петербурге. У Фелицы (героини сказки Екатерины II) - киргизская кровь, итальянское имя и нерусское (на ‘Востоке’) место пребывания в орде. У «Фелицы»-Екатерины II - немецкая кровь, русское имя (имя княгини Столбуновой-Энрици остаётся неизвестным) и русское место пребывания в Петербурге.
Что касается «столбового дворянства», то в «Сказке о рыбаке и рыбке» (1833) А.С. Пушкина «столбовою дворянкой» хочет быть старуха [Пушкин, IV: 340-341]. Имя княгини представляет собой «искажённое» обозначение статуса, который приобретает, а затем меняет на более высокий пушкинская старуха, теряющая в итоге всё, что получила от золотой рыбки с помощью старика. То же самое происходит и с княгиней, которая после смерти Андрея Живаго пытается получить часть несуществующего «живагов-ского наследства» и предъявляет первой семье покойного свои «притязания» [IV: 71].
77 Об их сказочности см.: [Смирнов 1981: 85-86].
492
Глава 5
Вторая, «итальянская», часть фамилии княгини обозначает «разбогатевшая». Ср. также с английским enrich (‘обогащать, улучшать, удобрять, украшать’). Определение Стол-буновой-Энрици как «сумасбродки и мечтательницы» также соотносит её с пушкинским персонажем. Следует учесть и согласующуюся с нашими истолкованиями глубокую трактовку образа этой героини, которую, указывая на «her imposing house in Omsk, conspicuously decorated with the sculptured medallions of Greco-Roman architecture» и «Evgraf’s role as Muse»78, дали М.Ф. Роуланд и П. Роуланд, полагающие, что «the Princess Stolbunova-Enrici is apparently patterned upon Mnemosine, mother of the nine Muses. Both princesses are imaged as daughters of the sovereign father-gods representing the sky in Greek and Siberian mythology. Mnemosine was the daughter of Uranus (Heaven). Stolbunova is the “Daughter of the Pillar” (stolb), Pillar being a common Asiatic metonym for the supreme Heaven-god thought to dwell above the world-pillar supporting the sky at the North Star. Enrici -the Italian form of Heinrich (kinf, ruler) - can be understood as reaffirming Stolbunova’s royal lineage. Like Memory, the princess remains invisible»79 [Rowland M.F., Rowland P. 1967:109].
Куда менее убедительной представляется версия Н.Б. Ивановой, полагающей, что «“Столбунова” - стлбн: почти все согласные совпадают с теми же из фамилии Сталин. Двойная фамилия - Столбунова-Энрици - напоминает о том, что, кроме псевдонима, у вождя была ещё одна фамилия (Сталин-Джугашвили) Эн - N, рици - Рица - N с Кавказа» [Иванова Н. 20016].
Аналогия ‘Евграф Живаго - Иосиф Сталин’ позволяет находить в образе Евграфа и черты, сближающие его с ветхозаветным Иосифом, у которого было 11 братьев. Следы библейской истории Иосифа в «Докторе Живаго» - перспективная тема, как и возможное влияние романа Т. Манна «Иосиф и его братья»80. Называние Евграфа Юрием Андреевичем «мой брат Евграф» [IV: 287] позволяет подкрепить связь этого персонажа со Сталиным: ведь если «сестра моя - жизнь», то, по контрасту, «мой брат - смерть». Именно как свою смерть воспринимает Евграфа «в распахнутой оленьей дохе» доктор в тифозном бреду в Москве 1917 года [IV: 205]. «Портрет Сталина в дохе и оленьей шапке вошёл в изобразительный сталинский канон с конца 30-х годов» и был одной из картинок школьного учебника «Родная речь» [Иванова Н. 20016]. Между тем оленью доху носил
78 «Импозантный дом в Омске, выразительно декорированный скульптурными медальонами, имполь-зовавшимися в греко-римской архитектуре» и «роль Евграфа как музы» (англ.).
79 «Княгиня Столбунова-Энрици, очевидно, списана с Мнемозины, матери девяти муз. Обе изображены как дочери правящих богов-отцов, представляющих небеса в греческой и сибирской мифологиях. Мнемозина была дочерью Урана (Неба). Столбунова является “дочерью Столба”, а столб был общим для Азии выразителем верховного Бога-отца, который, как думали, находится над мировым столбом, поддерживающим небо в точке Полярной звезды. Энрици - итальянская форма имени Генрих (правитель) - может быть понимаема как ещё одно подтверждение царского происхождения Столбуновой. Подобно Памяти, княгиня остаётся невидимой» (англ.).
80 См. развёрнутые негативные отзывы Пастернака о творчестве Т. Манна в разговоре с Т. Эрастовой 4 мая 1952 г. [XI: 569] и в письме к Т.С. Элиоту от 14 января 1960 г. [X: 567-568]. Тем не менее, С. Хэмпшир сравнивал «Доктора Живаго» с «Будденброками» [Hampshire 1978: 127], а X. Бирнбаум - с «Доктором Фаустусом» (см.: [Cornwell 1986: 43]).
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
493
друг Пастернака поэт Н.С. Тихонов (см.: [Пастернак Е. 2009: 351]), с которым Пастернак ко времени работы над «Доктором Живаго» порвал отношения. Обе версии «происхождения» дохи Евграфа могут быть взаимодополняющими.
Таким образом, каждый набор «характеристик» располагается на оси ‘Восток - Россия - Запад’. Если в «Петербурге» Андрей Белый замкнул трёхвековую разработку этой темы в «круг», начальный вариант которой (в данном случае) задал Державин (но не Екатерина II как автор сказки), то Пастернак в «Докторе Живаго» создал противовес этой теме как целостности, реализовавшейся в литературе от Державина до Андрея Белого.
Любопытную картину даёт сравнение Екатерины II и Державина, с одной стороны, и Юрия Живаго и княгини Столбуновой-Энрици - с другой. Ода Державина «Фелица» была напечатана и представлена императрице без ведома автора. Она одарила Державина золотой табакеркой французской работы, осыпанной бриллиантами, и 500 золотыми (дар, равный наследству). «И с тех пор, - писал о себе Державин, - стал он ей как сочинитель известен, и поднялось на него гонение от вельмож или, лучше сказать, от одного Вяземского, которому чрезвычайно досадно стало, для чего он без его покровительства стал известен императрице, ибо ничем его раздражить столько было не можно, как если кто без его предводительства был замечен и познаем государыней» [Державин 1985: 312-313].
О реакции в отношении дела о наследстве, проявленной семьей Громеко, в которой воспитывался Юрий Живаго (реакции «покровителей»), читатель узнаёт также от него самого: «Я знаю, Анна Ивановна. Я сам велел показать вам это письмо. Вы, как Николай Николаевич, считаете, что мне не надо было отказываться. Минуту терпения. Вам вредно разговаривать. Сейчас я вам всё объясню. Хотя ведь и вам всё это хорошо известно» [IV: 70]. Однако реакция «покровителей» после рассказа Юрия Живаго о княгине Столбуновой-Энрици подытоживается фразой: «И всё-таки не надо было отказываться, - возразила Анна Ивановна» [IV: 71]. Если Державин спрашивает у Вяземского, «прикажет ли он присланный ему подарок принять» [Державин 1985: 312], и, получив разрешение, принимает, то Юрий Живаго отказывается от «своих прав на несуществующее имущество», невзирая на мнение Веденяпина и Анны Ивановны, и делает это до разговора с последней. По пути на Урал Александр Александрович Громеко говорит Юрию Живаго, поясняя позицию семьи, которую, однако, опровергает её прежнее поведение: «Лично мы, Громеко, расстались со страстью стяжательства уже в прошлом поколении» [IV: 241]. Из этого следует, что возражение Анны Ивановны было продиктовано лишь долгом, но не убеждением, принадлежностью к семье Крюгеров, а не Громеко. Юрий Живаго обозначает свою точку зрения и оценивает наследство в связи со «сглазом» так: «Так на что мне это всё: выдуманные капиталы, искусственно созданные соперники, их недоброжелательство и зависть? И адвокаты» [IV: 71]. Отметим также разделённость Юрия Живаго и княгини и Державина и императрицы огромным пространством. Живаго называет Столбунову-Энрици «мечтательницей и сумасбродкой». (Заметим, что Комаровский при встрече с Юрием Живаго и Ларой в Юрятине называет
494
Глава 5
«мечтательницей» мать доктора [IV: 417].) Эта характеристика вполне применима к Екатерине II с её «просвещенческими» проектами и многочисленными любовными связями. Державин характеризует «Фелицу» (реальную Екатерину II, с которой позже встретится, под именем героини её сказки) развёрнуто:
Мурзам твоим не подражая, Почасту ходишь ты пешком, И пища самая простая Бывает за твоим столом;
Не дорожа твоим покоем, Читаешь, пишешь пред налоем И всем из твоего пера Блаженство смертным проливаешь; Подобно в карты не играешь, Как я, от утра до утра.
Не слишком любишь маскарады, А в клуб не ступишь и ногой; Храня обычаи, обряды, Не донкишотствуешь собой; Коня парнасска не седлаешь, К духам в собранье не въезжаешь, Не ходишь с трона на Восток, -Но кротости ходя стезею, Благотворящею душою Полезных дней проводишь ток [Державин 1985: 41].
У Пастернака ситуация меняется: уже не автор (прозаического, а не поэтического произведения), а его герой (Живаго - персонаж автобиографического плана) описывает героиню, с которой никогда не встречался и не встретится. И описание это краткое: «Княгиня - затворница. Она безвыездно живёт с сыном в своём особняке на окраине Омска на неизвестные средства» [IV: 71]. Если у Державина (автора) Фелица (Екатерина II) «блаженство смертным проливает», а сам поэт получает богатство и после представления императрице начинает головокружительное восхождение по социальной лестнице, то Юрий Живаго (герой) чувствует «недобрый взгляд» «красивого пятиоконного дома с цельными окнами и лепными медальонами по карнизу», отказывается от наследства, ведёт себя асоциально и умирает в бесславье в возрасте 37 лет. В стихотворении «На смерть князя Мещерского» (1779) 36-летний Державин, сделавший к концу жизни великолепную карьеру, признаётся: «Желанием честей размучен, / Зовёт, я слышу, славы шум» [Державин 1985: 31]. Именно отношения Державина (автора) и всесильной Екатерины II, представляя зеркальный контраст отношениям Юрия Живаго (персонажа) и княгини Столбуновой-Энрици, живущей «на неизвестные средства», открывают
Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие
495
смысл «сглаза»: княгиня, вероятно, бедна в такой же степени, в какой богата императрица, бедна так же, как и сам поэт Юрий Живаго, контрастирующий с богатым и корыстным Державиным. Но если Екатерина II одаривает состоянием, равным наследству, то княгиня ко времени совершеннолетия Юрия Живаго «притязает» на наследство, полагающееся ему. Что же касается «нескольких подставных соперников и завистливых самозванцев» [IV: 71 ], в пользу которых Живаго отступается от «несуществующего имущества», то их упоминание в романе может объясняться борьбой Державина на поприще государственной службы. Даже выйдя в отставку, Державин считал это поприще главным делом жизни, тогда как стихи были иной раз и средством достижения успеха, а не только изящной словесностью. Но между Юрием Живаго и Державиным есть не только контраст, но и сходство. Вот как характеризовал С.С. Аверинцев отношение Державина к поэзии и его позицию: «Для того, чтобы дар был чистым даром, нужно, чтобы он был даваем всякий раз впридачу к чему-то иному, уже обеспечившему место в жизни» [Аверинцев 1996: 774]. Характеристика юного Юрия Живаго близка по смыслу: «Но как ни велика была его тяга к искусству и истории, Юра не затруднялся выбором поприща. Он считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может быть профессией прирождённая весёлость или склонность к меланхолии. Он интересовался физикой, естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общеполезным. Вот он и пошёл по медицине» [IV: 66].
И Юрий Живаго, и Державин, несмотря на дворянское происхождение, - разночинцы: Державин - разночинец в период начала формирования дворянской культуры, а Живаго - в период её наивысшего подъёма и уничтожения. И если Державин не может принять «разделения вещей на возвышенные и низменные, брезгливости к конкретному, житейскому» [Аверинцев 1996: 777], то для Живаго «детали», быт, повседневность важны не меньше. «Всесильный Бог деталей» всегда присутствовал в творчестве Пастернака, поэтизировавшего «прозу жизни».
Глава 6
Опыт Достоевского в советских условиях
«Ужасный демон
Приснился мне: весь чёрный, белоглазый... Он звал меня в свою тележку. В ней Лежали мёртвые - и лепетали Ужасную, неведомую речь...»
А. С. Пушкин. «Пир во время чумы»
6.1. «Записки из Мёртвого дома» на новый лад1
6.1.1. Ярким примером того, как сказочные структуры работают в лите-
Две антисказки ратуре и как с их помощью можно конструировать крупное произ-
ведение, были для Пастернака «Записки из Мёртвого дома» (1860-1862) Ф.М. Достоевского. И.П. Смирнов обратил наше внимание (в письме от 14 ноября 2002 г.) на особое влияние этого текста на «Доктор Живаго»: «Не присутствуют ли в главах о лесном воинстве какие-то отсылки к “Мёртвому дому” (тоже ведь антисказка)?» Отсылок и в самом деле так много, что с текстом Достоевского интертекстуально в партизанских главах едва ли может конкурировать какой-нибудь другой литературный текст, написанный на сказочной основе. Но следы произведения Достоевского, сигнализирующие о его включении в работу в качестве интертекста, появляются в «Докторе Живаго», как только местом действия становится Урал. «Записки...» были для Пастернака антисказкой своего времени, по примеру которой он в той же сдержанно-трагической повествовательной тональности писал аналогичный приговор современности.
Обращение Пастернака к этому реалистическому произведению, получившему высокие оценки критиков и писателей XIX века (см.: [Достоевский, IV: 294-299]), знаменательно в контексте его отношения к символизму, поскольку, как отмечает И.Д. Якубович, «главнейшие представители символистской критики обошли “Записки из Мёртвого дома” почти полным молчанием, хотя почти все они посвятили Достоевскому статьи и книги» [Достоевский, IV: 299]. «Доктор Живаго» предстаёт в этом свете ещё более страшной книгой, чем были, по оценке А.И. Герцена, «Записки...» Достоевского. Пастернак, отталкиваясь от символизма, «возвращался» к реализму, и если Первая книга «Доктора Живаго» ориентирована на позднее творчество Достоевского, то Вторая (в
1 Параграф был опубликован: [Буров 2009а].
Опыт Достоевского в советских условиях
497
частности, партизанские главы) - на всё более раннее. Нам неизвестно, когда Пастернак читал «Записки...» и читал ли их в период работы над романом. Интерес Пастернака к Достоевскому «заметен» в 1927-1928 годах [Фатеева 2003: 24]. Но его внимание именно к этому произведению могло быть привлечено в начале 1930-х. Во-первых, Пастернака могла заинтересовать возможность сравнения каторжной жизни прошлого века с тем, что он видел на Урале во время поездок туда в начале 1930-х с З.Н. Пастернак и в составе писательской бригады. Во-вторых, как указывает И.Д. Якубович, «в 1932 г. В. Фёдоровым по сценарию В.Б. Шкловского был создан кинофильм “Мёртвый дом” по мотивам “Записок из Мёртвого дома” и по материалам биографии писателя» [Достоевский, IV: 301]. Пастернак мог видеть эту интерпретацию В.Б. Шкловского, к работам которого он проявлял интерес и раньше, сравнивать или захотеть сравнить кинематографическое решение с самими «Записками...», а во время создания романа припомнить и фильм, и текст Достоевского либо вновь посмотреть и прочитать их.
Пастернак создавал роман во времена торжествующего «народовластия», и его стремление ориентироваться на фольклор свидетельствует, в данном случае, о желании тайного двойничества с Достоевским, столкнувшимся с народом и его фольклором на каторге2. Протест против Даля, выраженный устами Юрия Живаго [IV: 122-123], так возмутивший В.В. Набокова (см.: [Hughes R. 1989: 158]), имеет в основании выбор Пастернака между Далем и Достоевским (а также, как мы уже указывали, Далем и Пушкиным) в их отношении к фольклору и слову вообще. Следуя за Достоевским, Пастернак стремился задать повествованию такой градус эмоционального и духовного напряжения, чтобы читатель не мог рассматривать написанное как «литературу», а видел бы в нём быль, столь насыщенную болью и страданием, что ни на какую «эстетику» не обращал бы внимания. (Такая установка сохранилась у Пастернака и после завершения «Доктора Живаго» - см. «Заключение» в «Людях и положениях».) Однако, как и в других подобных случаях, это следование происходило путём выворачивания используемого материала наизнанку. Принцип избегать сходства с уже написанным кем-то у раннего Пастернака проявлялся через творческое самоопределение (в частности - по отношению к стихам Маяковского): «Моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтою было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с её страниц всем своим молчанием и всеми красками своей чёрной, бескрасочной печати. <...> Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал» [III: 325-326].
Наиболее резко данный принцип сказывался в переопределении своего будущего поприща, как это было в связи с Маяковским, а ранее - Когеном, ещё раньше - Скрябиным. Отказ повторять давно известное декларировался и в стихах: «Ступай к другим.
2 О фольклоре в «Записках...» - примечания И.Д. Якубовича: [Достоевский, IV: 293-294].
498
Глава 6
Уже написан Вертер» [I: 186]. У позднего Пастернака этот принцип выявлялся через интертекстуальное выворачивание текстов предшественников - неважно, солидаризировался он с тем или иным автором или, напротив, резко спорил. Как указывает автор примечаний к «Запискам из Мёртвого дома» И.Д. Якубович, «Достоевский - автор “Записок” - писал с установкой на то, чтобы книга воспринималась читателем как рассказ о реальных событиях, а не как обычное произведение с вымышленными героями. Первые читатели и восприняли “Записки” как очерки о неизвестном доселе страшном мире, возмутительном в своей реальности» [Достоевский, IV: 291].
Установка раннего Пастернака на создание книги, обладающей особыми качествами, тезисно обозначенная в «Нескольких положениях» (1918), ко времени создания «Доктора Живаго» в принципе не изменилась. Если тогда книга определялась как «кубический кусок горящей, дымящейся совести - и больше ничего» [V: 24], то, завершив роман, Пастернак написал Н.А. Табидзе (в письме от 11 июня 1958 г.), что эта книга «выражает» известный период «больше всего написанного другими» [Пастернак 1989-1992, V: 562]. Роман, как и перевод «Фауста», был создан «кровью сердца» (такое признание о «Фаусте» Пастернак сделал в письме к О.М. Фрейденберг от 7 января 1954 г.) [X: 10].
И.Д. Якубович отмечает, что «очерковая форма обусловила и особенности композиции. Она отводит возможные упрёки в бессвязности изложения, многочисленных повторах, отсутствии развития действия. Стройность произведения достигается логической завершённостью каждой главы, в основу которой положен какой-либо эпизод. В то же время каждая глава даёт повод для возникновения новых вопросов и тем, разрешаемых и развиваемых в последующих главах. Впечатление единства создаётся процессом постепенного познания автором жизни каторги - не столько внешних фактов её, сколько психологического осмысления событий, который составляет основу книги» [Достоевский, IV: 291].
Влияние «Записок...» на композицию «Доктора Живаго» можно усмотреть в автономности как видов субтекстов, так и отдельных субтекстов в границах вида. В романе, действие которого развивается на пространстве всей страны, сравнительно цельны лишь отрезки текста, характеризующиеся единством пространства и/или времени. Действие скачкообразно, разорвано, но внутренне связано, подчинено логике истории, жизни главного героя и многим другим факторам.
«Доктор Живаго» состоит из двух книг - так же, как «Записки...» из двух частей. Субтексты всех видов в романе воспроизводятся вновь и вновь, а инверсированные аналоги любого обыгрываемого произведения проявляются в «Докторе Живаго» в различных видах в соответствии с субтекстовой структурой романа; каждый субтекст содержит свой аналог. Исходя из этого, можно утверждать, что преобладающее влияние текст Достоевского оказал именно на партизанские главы «Доктора Живаго» - от момента, изображающего Юрия Живаго уже у «лесных братьев», до его побега. Впрочем, «рамку» эту можно и расширить: от попадания доктора на Урал до ухода из Юрятина в Москву. Основным объектом нашего внимания будет всё же пребывание героя в отряде.
Опыт Достоевского в советских условиях
499
Плен Живаго заканчивается благодаря почти спонтанному и успешному побегу (зимой в морозы) в Юрятин. Оттуда он так же пешком отправляется в Москву. Оба ухода зеркально иные, нежели подготовленный побег (в жаркие дни в июне) Куликова, А-ва и часового Коллера, которых поймали. Глава «Побег» - предпоследняя в «Записках...»; за ней следует лишь глава X «Выход из каторги». Достоевский начал роман3 «Введением», представляющим последний период жизни героя, Александра Петровича Горян-чикова, и рассказывающим о его смерти, а затем дал его «каторжные записки». Первая книга «Доктора Живаго» открывается смертью матери Юры, Вторая книга - исчезновением доктора из теплушки, в которой он с семьёй едет на Урал. Привод к Стрельникову семья трактует как смертельную опасность. Как смерть Юрия Живаго близкие расценивают и следующее его исчезновение - попадание в плен к партизанам, о котором поначалу не знают.
6.1.2. Сказочный дом, где живут братья-разбойники, находится
Зеркальный териоморфизм в лесу и ограждён забором. Острог, в который попадает
герой Достоевского, расположен в черте города (Омска): он «стоял на краю крепости, у самого крепостного вала», но был отделён от города «высоким земляным валом» и «забором из высоких столбов (паль)». За воротами острога «был светлый, вольный мир, жили люди, как и все. Но по сю сторону ограды о том мире представляли себе как о какой-то несбыточной сказке. Тут был свой особый мир, ни на что более не похожий, тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо Мёртвый дом, жизнь - как нигде, и люди особенные» [Достоевский, IV: 9].
В «Докторе Живаго» партизаны живут в лесу в землянках, но ведут не осёдлую, а кочевую жизнь. Жизнь их столь же несвободна, что и жизнь арестантов, описанных Достоевским. Партизаны хоть и передвигаются, лес всё равно окружает их со всех сторон, и он непроходим - как непреодолима ограда острога. «Границы этой неволи были очень неотчётливы. Место пленения Юрия Андреевича не было обнесено оградой. Его не стерегли, не наблюдали за ним» [IV: 324]. В главе 1 части одиннадцатой «Лесное воинство», которую открывает данное описание, Пастернак одновременно инверсирует и сказку, и литературное произведение, сталкивая их при этом и оставляя в тексте следы-отсылки. Пространные и подробные описания Достоевского по контрасту уравновешиваются в «Докторе Живаго» скупыми и лаконичными штрихами, лишь намечающими уже известные читателям, знакомым с «Мёртвым домом», реалии арестантской жизни. Пастернак подспудно показывает разницу жизни каторжника середины XIX века, попавшего в народ, отбывающий сроки за совершенные преступления, и свободного человека, закабалённого народом, который на словах борется за свободу, но творит брато
3 О сложности определения жанра «Записок...» и различных характеристиках (которые с оговорками могут быть применимы и к «Доктору Живаго») см.: [Достоевский, IV: 290-291]. Роман Пастернака оказывается зеркален литературе 1850-1860-х годов, обладая едва ли не всеми её характерными признаками, но оспаривая их эстетическим контекстом целого.
500
Глава 6
убийственную войну и преступления. Читателю остаётся лишь позавидовать каторжникам, описанным Достоевским. Для Горянчикова одним из наибольших мучений в остроге было то, что он ни разу, ни минуты не мог побыть там один. Подобное мучение испытывает и Живаго, которому своими разговорами не даёт спать Ливерий. Но как Горянчиков иногда уходит из казармы и бродит в одиночестве вдоль ограды и там разговаривает порой с тем или иным арестантом, так и доктор заходит иногда в лес и оказывается либо предоставлен некоторое время сам себе, встречается с кем-то, либо становится свидетелем какой-либо сцены. В отличие от обитателей сказочного «мужского дома», среди арестантов «Мёртвого дома» царит не братство, а ненависть, зависть, ругань, недоверие, а в партизанском отряде главным и скрытым провокатором выступает его начальник Ливерий. Если тщательно охраняемый часовыми острог у Достоевского считать аналогом сказочного «большого дома», то функция стоящей рядом с ним «маленькой избушки» будет у кордегардии, находившейся у ворот, где производились наказания, и/или у дома в городе, в котором поселялся отбывший свой срок арестант, вышедший на поселение. На животных, стоящих на страже, похожи не столько часовые, сколько рыжий майор, прозванный за «рысий взгляд» «восьмиглазым». В «Докторе Живаго» «большим домом» предстаёт лагерь, разбиваемый партизанами, а «маленькой избушкой» - землянки, в которые попадает доктор. Часовые на границах лагеря хоть и стоят, как это обнаруживается при уходе Юрия Живаго от партизан, но сказочной «животностью» они наделены слабо: в тайге хватает настоящих диких зверей, которые могут растерзать героя и которые охраняют не только вход в дом, как в сказке, но и выход из него. Сказочный момент «посвящения», а затем период, длящийся после него, до вступления героя в брак, у Достоевского предстаёт как пребывание в остроге, а затем жизнь на поселении - до возвращения из Сибири домой, у Пастернака - как нахождение в плену, а потом жизнь в Юрятине - до возвращения оттуда в Москву. И казармы в остроге, куда попал Горянчиков, и землянки, в которых приходилось жить Юрию Живаго, были одноэтажными, низкими, душными и тесными, в отличие от многоэтажного и просторного «большого дома» и даже «маленькой избушки» в сказке.
И острог, и партизанский отряд вполне соответствуют сказочному «мужскому дому», где нет женщин, но есть «сестрица». У Достоевского эту роль выполняет вдова Настасья Ивановна, жившая в городе и бескорыстно заботившаяся в меру своих сил об арестантах, однако «никто <.. .> в бытность в остроге не мог познакомиться с ней лично» [Достоевский, IV: 67]. Возможно, эта героиня была одним из прототипов княгини Столбуновой-Энрици, жившей на окраине Омска. Горянчиков знакомится с Настасьей Ивановной уже после выхода из острога, что противоречит сказочному обыкновению, когда «сестрица» «отдаётся в жены новоприбывшему». Но у жильцов «Мёртвого дома» есть и другие «сестрицы» - проститутки Марьяшка, Хаврошка, Чекунда, Двугрошовая. У Пастернака роль «сестрицы» в отряде - у Кубарихи.
Живаго, попавший в отряд, - такой же неофит, которому предстоит пройти «посвящение», как и Горянчиков. Но и в отряде, и в остроге все - «посвящаемые» и подне
Опыт Достоевского в советских условиях
501
вольные - вынуждены всегда быть вместе. И в отряд, и в острог приходят новые люди и уходят те, кто был. В пределах этих сообществ образуются отдельные группы - в полном соответствии с тем, что происходит в «большом доме». Достоевский писал о жизни этого «братства» подробно - Пастернак лаконично. Горянчиков сначала видит в арестантах лишь разбойников и убийц, а позже людей - Живаго сначала видит в воюющих людей, но и красные и белые всё более превращаются в зверей. Обитатели острога хотят работать, чтобы не стать зверьми, работают и учатся профессиям. Работа спасает их от преступлений. В «Докторе Живаго» свободные крестьяне бросают работу, разделяются на красных и белых, уходят партизанить в леса и в итоге творят зверства. Пастернак развернуто подтверждает мысль предшественника о том, что «без труда и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя» [там же: 16]. В остроге арестанты едят мясную пищу и «охотятся» за деньгами, которые позволяют им иметь собственный отдельный стол, вино, новую одежду, а Горянчиков -за духовной пищей (Библией, книгами). В партизанском отряде охота идёт на людей. Накрытый стол, который в сказке ждёт братьев, в «Записках...» выглядит как общий приём пищи арестантами, каждый из которых при желании может питаться и отдельно. Автор не описывает, как питался Горянчиков, но, поскольку у него были свои деньги, по возможности - отдельно. У Пастернака процесс приёма пищи партизанами не показан, но есть сцена проводов новобранцев с описанием столов. Доктор словно ничего не ест, а когда Ливерий ему предлагает мясо - отказывается. Из отряда он уходит с сухарями. «Вывернутый» мир партизан, в который попадает доктор, аналогичен, но противопоставлен такому же, но гораздо более человечному «вывернутому» миру острога из «Записок. ..». Разница звериной сущности обитателей этих «иных миров» показывается Пастернаком через их одежду. В остроге «многие занимались выделкой кож», убивали собак, обдирали с них шкуры и шили из шкур в основном обувь (мехом внутрь) не только для себя, но и на продажу [там же: 191]. К той зиме, когда доктор ушёл, в отряде, члены которого убивают людей, создалось такое положение, что «не хватало зимней одежи. Часть партизан ходила полуодетая. Передавили всех собак в лагере. Сведущие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих шкур шерстью наружу» [IV: 354].
Животнообразность в сказке всегда связывается с неумытостью. Показательно при этом, что Живаго, ни разу не показанный умывающимся во время пребывания у партизан, оказывается «раздет, и умыт, и лежит в чистой рубашке» [IV: 392] лишь после возвращения от них. В «Записках...» же изображено не просто умывание Горянчикова, но посещение им бани. Пастернак, возможно, потому устраняет всяческие умывания при повествовании о партизанах, что на банной теме обстоятельно остановился Достоевский. Если в сказке посвящаемый должен был ходить «неумойкой» и умыться только после инициации (так и делает Живаго), то у Достоевского персонажи моются и тем самым, казалось бы, становятся теми, кто не способен пройти испытания. Однако они по-прежнему являются арестантами, на них остаются кандалы, их охраняют часовые, да и баня оказывается лишь одним из мест «иного мира», продолжением острога и од
502
Глава 6
ним из испытаний для героя. Горянчиков рассказывает: «Когда мы растворили дверь в самую баню, я думал, что мы вошли в ад» [Достоевский, IV: 98].
6.1.3. Из многочисленных деталей, сближающих Живаго с Горянчиковым,
Затеряться среди отметим его озабоченность проблемой мимикрии. Шведская иссле-заклеймённых довательница С. Витт полагает, что мимикрия у Пастернака, приближаясь к категориям творчества, проявляется в «Докторе Живаго» как описываемое явление биологической жизни, как тема размышлений и действий доктора и как стилистические особенности текста (см.: [Витт 2000]). Доктор так же, как и его литературный предшественник, внешне старается попасть в общий тон, стать незаметным, слиться с общей массой и сделать вид, что смирился, но так же сохраняет достоинство, свой внутренний мир и стремление вырваться из плена. Слияние с массой арестантов происходило, в частности, за счёт отсутствия книг, которые, за исключением Библии, были запрещены в остроге. Этот запрет и его нарушения связаны со сказочным мотивом «незнайки». Когда Горянчиков «примелькался» каторжным, он этому «был очень рад» [Достоевский, IV: 78]. Именно с оглядкой на «Записки...» следует, видимо, трактовать знаменитое пастернаковское «всю жизнь я быть хотел, как все», воспринимать его жажду жизни «со всеми сообща» и стремление к «незаметному стилю». Состояние Юрия Живаго в отряде аналогично состоянию «человека образованного» на каторге, подробно описанному в «Мёртвом доме» [там же: 43, 55]. «Это было время моего первого столкновения с народом» [там же: 65] - так мог бы сказать о себе и Юрий Живаго. Достоевский подробно писал о том, как герой устраивался, передавал первые впечатления - Пастернак вовсе перескочил через год пребывания доктора в плену, чтобы не повторять известное, бывшее и характерное. Нужно ли добавлять, что «Записки...» - произведение автобиографическое и за его главным героем читателям видится сам Достоевский? В своём романе Пастернак так же балансировал между литературой и жизнью, как родившийся и долгое время живший в Москве Достоевский, ставший одним из прототипов доктора. И для Горянчикова, и для Юрия Живаго вопрос мимикрии связан не столько с внешним видом (хотя и с ним тоже), сколько с «лица необщим выраженьем». Но и обличье также меняется в зависимости от требований среды. И здесь «Доктор Живаго» имеет любопытные переклички с «Записками...». Оба текста различным образом интерпретируют сказочные мотивы «плешивых и покрытых чехлом» и «запретного чулана».
В остроге все разряды арестантов различались «по платью: у одних половина куртки была тёмно-бурая, а другая серая, равно и на панталонах - одна нога серая, а другая - тёмно-бурая. <.. .> Голова тоже брилась по-разному: у одних половина головы была выбрита вдоль черепа, у других поперёк». Первое время Горянчиков «регулярно каждую неделю ходил брить половину своей головы. Каждую субботу, в шабашное время, нас вызывали для этого, поочерёдно, из острога в кордегардию <.. .>, и там цирюльники из батальонов мылили холодным мылом наши головы и безжалостно скребли их тупейшими бритвами, так что у меня даже и теперь мороз проходит по коже при воспоми
Опыт Достоевского в советских условиях
503
нании об этой пытке. Впрочем, скоро нашлось лекарство: Аким Акимыч указал мне одного арестанта, военного разряда, который за копейку брил собственной бритвой кого угодно и тем промышлял. Многие из каторжных ходили к нему, чтобы избежать казённых цирюльников, а между тем народ был не неженка. Нашего арестанта-цирюльника звали майором. почему - не знаю и, чем он мог напоминать майора - тоже не могу сказать. <.. .> Этот майор, высокий, сухощавый и молчаливый парень, довольно глуповатый, вечно углублённый в своё занятие и непременно с ремнём в руке, на котором он денно и нощно направлял свою донельзя сточенную бритву, и, кажется, весь уходил в это занятие, приняв его, очевидно, за назначение всей своей жизни» [там же: 72, 78].
«Чехлами» здесь оказывается одинаковая одежда арестантов, «плешью» - выбриваемая половина головы, «запретным чуланом» - с одной стороны, разрешённая, но нежелательная кордегардия, с другой - место, где брил «майор».
Юрий Живаго возвращается от партизан «в выменянных короткорукавных обносках с чужого плеча». Он приходит в швейную мастерскую, где шьют «одно военное». И то, и другое - аналоги «чехлов». Тунцева - «пожилая темноликая портниха в тёмном платье, строгая, может быть, старшая в заведении» - ввела доктора «в боковую комнату не шире чуланчика, и через минуту он сидел на стуле, как в цирюльне, весь обвязанный туго стягивавшей шею, заткнутой за ворот простыней» [IV: 374, 381, 382]. Простыня оказывается ещё одним «чехлом». А Тунцева - перевоплощением «майора» из «Записок. ..»; именно поэтому она «старшая» (англ. - major). Пастернак инверсирует пол, возраст, интеллект, отношение к профессии цирюльника, статус, функцию по отношению к герою и многие другие характеристики и детали. Комната, где она стрижёт и бреет Юрия Живаго, прямо сравнивается с чуланом. Запретность его состоит в том, что Тунцева занимается там не шитьём, что перемена внешности, затеваемая доктором, может оказаться, по её мнению, недозволенной, что Живаго хочет постричься и побриться семнадцатого, «а по числам с семёркой парикмахеры выходные» [IV: 382] (ср. с бритьём Горянчикова в кордегардии «каждую субботу, в шабашное время») и что Живаго не должен рассказывать то и так, что и как он рассказывает (запрет похвалы) Тунцевой. Особенности стрижки и бритья доктора, и символически, и буквально меняющих его статус, также соотносятся со стрижкой и бритьём каторжников. Тунцева преобразует внешность Живаго таким образом, что он становится похож (но со значимыми отличиями) на арестантов «Мёртвого дома», на Горянчикова. Самые красноречивые детали, намекающие доктору на то, как он должен мимикрировать в ситуации, в которую попал, что он не только уже «посвящённый», но и ещё «посвящаемый», которому лишь предстоит пройти испытания и странствия, - дерущая бритва, выбритость лишь половины подбородка доктора, тогда как другую по «забывчивости», напоминающей привычку бритья арестантов, Тунцева оставляет небритой [IV: 383-385]. Отросшие в ходе бегства от партизан в Юрятин волосы и борода делают доктора похожим на духовное лицо. Стрижка и бритьё предназначены для того, чтобы утаить это сходство, которое оказывается не только внешним, но и внутренним.
504
Глава 6
В сказке неофиты имели право на разбой в отношении непосвящённых. В «Мёртвом доме» именно так относятся друг к другу арестанты, находящиеся в одинаковом положении. Оказываясь соседями, они воруют друг у друга вещи, деньги и пр. В «Докторе Живаго» красные ведут разбойную войну против белых (как и те против них), но и отношения в отряде столь же преступны. Клеймение как один из признаков сказочного «посвящения» в «Мёртвом доме» оказывается буквальным - это клейма на лбу и щеках каторжников, наказания палками и розгами, следы от которых остаются на их спинах. Аналогом человечины, которую едят неофиты, в «Мёртвом доме» предстаёт вкусный острожный хлеб, а также хлеба, которые к Рождеству приносят в острог для каторжников жители города. Но «пожирателем» людей является сама каторга и майор, расправляющийся с зачинщиками «претензии» арестантов. В «Докторе Живаго» таким «пожиранием» является расстрел заговорщиков и прочих, спровоцированный Ливерием, с «пожиранием» связано и разрубание белыми перебежчика, а Памфилом Палых - семьи. Кстати, срежиссированность заговора против Ливерия им самим соотносит сцену расстрела и с другим кульминационным моментом «Записок...» - с театральным представлением, которое устроили на Святках сами арестанты. Несвободные каторжане, которые готовят и дают театральное представление, предстают куда человечнее освободившихся из-под классового гнёта партизан. Распределение обязанностей, существующее в сказочном «большом доме», есть и в остроге, и в партизанском отряде. В остроге старшим является рыжий плац-майор; есть также «стряпки» - арестанты, постоянно исполняющие работу поваров (в сказке братья готовят пищу по очереди), за стенами острога -врачи, лечащие находящихся под охраной арестантов. В отряде, которым командует Ливерий, есть «армейский совет» и лазарет, которым заведует Живаго. Именно в таком составе собираются партизаны, чтобы решить судьбу Памфила Палых, зарубившего топором свою семью. Определённость положения доктора в отряде свидетельствует об успешной мимикрии.
6.1.4. Это убийство Памфилом Палых семьи напоминает сказочное убий-«Генетика» Палых ство детей5 которые рождались от сожительства сказочных братьев-разбойников с «сестрицей» в «большом доме». Но ещё более узнаваема связь с одним из самых страшных обитателей «Мёртвого дома». Это татарин Газин. Палых4 - его двойник и внешне, и внутренне. Вот как описывает арестанта Горянчиков: «Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его. <.. .> Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною. Он был татарин; ужасно силён, сильнее всех в остроге; росту выше среднего, сложения геркулесовского, с безобразной, непропорционально огромной головой; ходил сутуловато, смотрел исподлобья. <...> знали, что он был из
4 Впервые на связь образа Палых с проблематикой Достоевского (а именно с проблемой ложной идеи, ведущей человека к преступлению) указано в статье: [Пастернак Е. 1991: 235-236].
Опыт Достоевского в советских условиях
505
военных <...>. Рассказывали тоже про него, что он любил прежде резать маленьких детей, единственно из удовольствия: заведёт ребенка куда-нибудь в удобное место; сначала напугает его, измучает и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет её тихо, медленно, с наслаждением. <...> в остроге он вёл себя, не пьяный, в обыкновенное время, очень благоразумно. Был всегда тих, ни с кем никогда не ссорился и избегал ссор, но как будто от презрения к другим, как будто считая себя выше всех остальных; говорил очень мало и был как-то преднамеренно несо-общителен. Все движения его были медленные, спокойные, самоуверенные. По глазам его было видно, что он очень неглуп и чрезвычайно хитёр; но что-то высокомерно-насмешливое и жестокое было всегда в лице его и в улыбке» [Достоевский, IV: 40-41].
Палых появляется в романе трижды, причём последний раз - в не узнаваемом для читателя виде, и всякий раз совершает убийство. Соответственно распределены и описания его наружности и внутренних качеств. Жертвой этого революционного солдата-зверя в каждой из трёх ситуаций, где он действует, - на станции Бирючи5, в партизанском отряде, на дальневосточном разъезде Нагорная - становится двойник доктора либо его заместителя: во-первых, это Гинц; во-вторых, Агафья, наряду с которой Живаго слушает Кубариху, дети, в частности, сын Палых Флёнушка; в-третьих, Василий Афанасьевич, приёмный отец Тани Безочередевой, которого топором убивает «чужой мужик, чёрный и страшный», и Петенька, которого вместо Тани хватает и «загрызает» этот разбойник. «Рассказ бельевщицы Тани Безочередевой, дочери Юрия Андреевича и Лары, об ужасах её детства во многом соприкасается с плакативным фильмом Б.Ф. Светозарова “Танька-трактирщица” (1928)» [Смирнов 20086: 329-330].
Если в сцене убийства солдатами, среди которых был Палых, комиссара Гинца читатели-современники могли узнать сравнительно недавнюю историю убийства в 1917 г. комиссара Юго-Западного фронта Ф.Ф. Линде, то убийство тем же Памфилом Палых жены и детей соотносилось уже с прототипической ситуацией 1850-х годов, когда герой Достоевского и сам писатель на каторге встречаются с детоубийцей Газином (с 1850-го до 1854 г. Достоевский был на каторжных работах, затем до 1859-го жил на поселении в Сибири). Убийство же безымянным разбойником Петеньки является обыгрыванием отношений Пугачёва и Петра Гринёва из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина и ассоциируется с временами Крестьянской войны под предводительством Пугачёва (1773-1775). Называемый в романе по имени Петенька зеркально соотносится с Гинцем. В осевой позиции находится ситуация убийства Памфилом Палых своей семьи. Эпизоды, раздвинутые во времени по оси ‘Запад - Сибирь - Дальний Восток’, разделены почти одинаковыми промежутками времени, величина которых поразительно близка... сроку жизни советской власти. А. Ливингстон усматривает связь Палых с вором, шарящим ночью после свадьбы Лары в её вещах, и Вакхом, о котором Юрию Живаго и Тоне рассказы
5 Название намекает на звериную, в данном случае волчью, сущность обитателей вырубок, в частности Памфила Палых. Именно поэтому лошади казаков, прибывших на станцию для усмирения дезертиров, «упирались, не шли» из вагонов [IV: 151].
506
Глава 6
вает Анна Ивановна: «Pamfil Palykh, who monstrous face links him not only with the scarfaced thief at Lara’s party, but with the legendary Bacchus of Anna Gromeko’s reminiscene -a folktale ogre? a sheer force of badness?»6 [Livingstone 1989: 64].
Палых, как и Газин, который бешено ненавидел дворян и яростно реагировал на новоприбывшего в острог Горянчикова, - «мрачный и необщительный силач», один из людей, которые «без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью» ненавидели «интеллигентов, бар и офицерство» [IV: 347]. О ненависти обитателей острога к дворянам и разделении «благородных» с «простонародьем глубочайшею бездной» герой Достоевского говорит неоднократно7. Палых «в глаза» заявляет доктору свою «правду колкую»: «Много я вашего брата в расход пустил, много на мне крови господской, офицерской, и хоть бы что» [IV: 349]. Если в остроге «про это», то есть о совершённых преступлениях, говорить было «не принято» (см.: [Достоевский, IV: 12]), то Палых делает исключение -рассказывает о мучающем его воспоминании об убийстве Гинца, имя которого и обстоятельства преступления он «запамятовал». Палых нарушает тем самым сказочный запрет на рассказывание священных историй племени неофитам и запрет похвальбы, налагаемый на прошедших инициацию. Но Палых и сам, как и все, находится в отряде в роли неофита, и то, что он рассказывает-таки свою историю, означает, что «инициацию» он не прошёл и, значит, обречён погибнуть. Напротив, узнавание такой истории доктором - свидетельство прохождения им «инициации». Историю убийства Гинца Палых рассказывает потому, что осознает её, тогда как в остроге преступники, сознававшие свои преступления, никогда не рассказывали о них8.
Выделенные Достоевским слова «про это», которыми арестанты обозначали совершённые ими страшные преступления, Пастернак мог сравнивать с «Про это» В.В. Маяковского. Заметим попутно, что эти же слова, включённые А.А. Ахматовой в «Поэму без героя» -
И ни в чём не повинен: ни в этом, Ни в другом и ни в третьем... Поэтам
Вообще не пристали грехи.
Проплясать пред Ковчегом Завета Или сгинуть!..
6 «Памфил Палых, ужасное лицо которого связывает его не только с вором с изуродованным шрамами лицом, появившимся на свадебной вечеринке Лары, но и с легендарным Вакхом из воспоминаний Анны Громеко - сказочным людоедом? воплощением силы зла?» (англ.).
7 См., например: [Достоевский, IV: 176, 198-199, 202-203, 207 и др.]. Заметим, кстати, что мысли героя Достоевского, прибывшего в острог, находящегося в больнице, о том, как вести себя с арестантами [там же: 76-77, 134], были, вероятно, близки Пастернаку. Едва ли не все они узнаваемы в его бытовом поведении, описанном многочисленными мемуаристами; их влияние можно усмотреть также в стихотворении «На ранних поездах» (1941) и противостоящей ему «Перемене» (1956).
8 Об этом, как указал И.Д. Якубович [Достоевский, IV: 301], Достоевский ещё раз писал в «Дневнике писателя» (1873, гл. III, «Среда»), который Пастернак читал во время работы над романом. Выписки, которые он сделал из «Дневника писателя», опубликованы в статье: [Пастернак Е. 1991: 240-242].
Опыт Достоевского в советских условиях
507
Да что там! Про это Лучше их рассказали стихи [Ахматова 1998-2002, III: 175] -
являются не только, как писала С.А. Коваленко, «отсылкой к поэме В. Маяковского “Про это” о трагической любви» (см.: [Ахматова 1998-2002, III: 531]), но и вводят тему «Мёртвого дома» Достоевского - тему рассказа о преступлениях.
История, рассказанная Палых доктору, также имеет прототипический аналог в тексте Достоевского. Это рассказ «Акулькин муж» (IV глава части второй «Записок...»). Горянчиков, находящийся на лечении в больнице, невольно подслушивает рассказ арестанта Шишкова, сама фамилия которого «преобразована» в «Докторе Живаго» в «шишковатый лоб, производивший впечатление двойного вследствие утолщения лобной кости, подобием кольца или медного обруча обжимавшего его виски. Это придавало Памфилу недобрый и зловещий вид человека косящегося и глядящего исподлобья» [IV: 347]. Такой лоб и взгляд исподлобья отсылают не только к Шишкову и Газину, но и к одному из двух ругавшихся арестантов, стычку которых наблюдал в первое утро своего пребывания в остроге Горянчиков. Это был «угрюмый высокий арестант, сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своём бритом черепе» [Достоевский, IV: 23].
«Акулькин муж» повлиял на «сказку» Палых, как он сам называет свой рассказ доктору, и в стилистическом плане. Как считает комментатор «Записок...» И.Д. Якубович, «рассказ арестанта Шишкова стилизован. Введение рассказчика не условный композиционный приём, а явная установка автора на социально чужой сказовый тон. Сказовая манера достигается большим количеством постоянных эпитетов, народных идиоматических выражений» [там же: 294]. Пастернак последовал примеру Достоевского и вложил в уста Палых множество инверсированных сказочных повествовательных приёмов и оборотов. Есть в «Докторе Живаго» и следы содержания «Акулькина мужа». Например, если Шишков перерезает ножом горло ни в чём не повинной жене Акулине, признавшейся в любви к раскаявшемуся перед ней её гонителю Фильке Морозову, то Палых зарубает топором и жену Агафью, и детей, которых любит. Слушая Кубариху, Живаго обращает внимание на изменившуюся внешность Агафьи, и происходит это незадолго до ее убийства: «Вид Памфиловой жены удивил Юрия Андреевича. Он почти не узнал её. За несколько дней она страшно постарела. Выпученные глаза её готовы были выйти из впадин. На шее, вытянувшейся оглоблей, бился вздувшийся живчик. Вот что сделали с ней её тайные страхи» [IV: 362]. Жена Палых стала похожа на Акулину, затравленную перед свадьбой обвинениями в связи с Филькой Морозовым. Причём травили её и Морозов, и будущий муж Шишков. Последний обращает внимание на перемену внешности Акулины незадолго до свадьбы, когда встречает её с вёдрами (отсюда сравнение шеи Агафьи с оглоблей, намёк на напряжение, которое бывает при ношении воды с помощью коромысла): «А она как посмотрела на меня, такие у ней большие гла-за-то были, а сама похудела, как щепка» [Достоевский, IV: 168]. На внешность Акулины Шишков также обращает внимание, когда молодожёнов оставили одних: «Она сидит
508
Глава 6
такая белая, ни кровинки в лице. Испужалась, значит. Волосы у ней были тоже совсем как лён белые. Глаза были большие. И всё, бывало, молчит, не слышно её, словно немая в доме живёт. Чудная совсем» [Достоевский, IV: 169].
Горянчиков прослушивает «в одну длинную зимнюю ночь» рассказ Шишкова другому больному арестанту об Акулине и предваряет его так: «С первого взгляда он мне показался каким-то горячешным сном, как будто я лежал в лихорадке и мне всё это приснилось в жару, в бреду...» [там же: 165]. Это «предисловие» отзывается в «Докторе Живаго» и актуализирует сопоставление с «Акулькиным мужем» трёх ситуаций: разговора, невольно подслушанного доктором Живаго в одну из ночей по пути на Урал (глава 21 части седьмой «В дороге»); ночной «беготни и суматохи», произошедшей в ночь побега Притульева, Брыкина, Тягуновой и Огрызковой, и последовавшего разговора Тони с Юрием Андреевичем (главы 22,23); ночи перед приездом в Развилье, ареста доктора часовыми и разговора с ним Стрельникова (главы 27,29-31). Если в первой из этих ситуаций акцентирована «отсылка» к прослушиванию и рассказу «Акулькин муж», то в третьей - к состоянию слушающего Горянчикова. Положение доктора, лежащего в скованном, словно арестант, положении на «полатях» в теплушке, предназначенной для перевозки скота, напоминает положение лежащего в больнице Горянчикова: «Спать не было возможности от духоты и спёртого воздуха. Голова доктора плавала в поту на промокшей от пота подушке» [IV: 242]. Обитатели больницы в «Мёртвом доме», как и пассажиры теплушки в «Докторе Живаго» (кроме семьи доктора), находятся под охраной. Эта и многие другие детали выдают в больнице и теплушке аналоги сказочного «большого дома». Кроме того, долгая остановка поезда и запрет покидать вагоны, касающийся не только арестантов, но и свободных пассажиров, отсылают к «Новой Атлантиде» (1627) Ф. Бэкона, в которой прибывшим в гавань Бенсалема путешественникам запрещают сходить с корабля на берег и условиями допуска на остров является вера в Христа и непролитие за последние 40 дней крови [Бэкон 1977-1978, II: 486-487]. Литературное, сказочное и утопическое пространства, в которые попадает семья Живаго, таким образом, совмещены.
К «Мёртвому дому» Достоевского отсылает и фамилия Палых. Пастернак образовал её от слова «паля». Вот как Горянчиков описывает острог и его ограду, сразу вызывающую ассоциации с оградой вокруг избушки Яги и вокруг «большого дома»: «Представьте себе большой двор, шагов в двести длины и шагов в полтораста ширины, весь обнесённый кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (паль), врытых стойком глубоко в землю, крепко прислонённых друг к другу рёбрами, скреплёнными поперечными планками и сверху заострённых: вот наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми; их отпирали по требованию, для выпуска на работу» [Достоевский, IV: 9].
Живаго, пришедший поговорить с Палых о «бегунчиках», которые у того появились, застаёт солдата, живущего «в одной из командирских палаток» «на правах батальонно
Опыт Достоевского в советских условиях
509
го» «за революционные заслуги», за подготовкой к обтёсыванию «срубленных на жерди молодых берёзок», которые Памфил называет «должиками», «кольями» и «слегами» и которыми «в ожидании дорогих гостей» (жены и детей) хочет подпереть верх палатки, чтобы не заливало. Пастернак переиначивает место установки «должиков»: если у Достоевского пали окружают острог, то Палых хочет подпереть верх, то есть центральную часть палатки. Эти «должики», ассоциирующиеся с долженствованием, необходимостью отбывания срока наказания, острогом, - новый вариант палей «Мёртвого дома». С «палями» созвучна и «палатка», что определяет её тождественность с острогом, окружённым палями, поэтому-то доктор и отказывается зайти в палатку, в которой живёт революционный солдат. Если продолжить ассоциации, то сюда же подключится и слово «палач». Рассказам о наказаниях, казнях и палачах, которые слушают и о которых повествуют в «Записках...» Достоевский и его герой, посвящена почти половина главы III «Продолжение». Уподобление Достоевским страшного Газина «исполинскому пауку» Пастернак, так сказать, материализует: поскольку палатки обычно ставятся на растяжках, то большая «командирская» палатка Палых, куда он безуспешно приглашает Юрия Живаго, представляет собой растянутое на паутине тёмное паучье гнездо, в которое должна попасть добыча. Ею и становятся «гости дорогие» - жена и дети. Следующая ситуация, где сравнение Достоевского материализуется в ещё более жутком виде - когда уже безымянный Палых - «чужой мужик, чёрный и страшный», - сначала зарубает топором Василия Афанасьевича, а затем «кончает» Петеньку в тёмном погребе - месте, где живут пауки [IV: 509-513]. И, наконец, первый случай - когда ещё не названный по имени Палых «выстрелом в шею убил наповал несчастного, а остальные бросились штыками докалывать мёртвого». Гинц перед этим проваливается одной ногой в «высокую пожарную кадку», перевернув её крышку [IV: 154]. Эта сцена также представляет собой аналог расправы паука с попавшей в западню жертвой, которую он прокалывает. Задерживающей добычу паутине соответствует кадка с водой. В закрытой кадке, понятно, темно, а крепкие (обычно дубовые) доски, скреплённые железными обручами, представляют собой инверсированный аналог нежной, но цепкой паутины. И палатка, и погреб, и кадка - разные варианты могилы, соотносимые с могилой сказочной.
Если Палых, изображённый во время пребывания в партизанском отряде, соотносится по большей части с Газином Достоевского, то обезумевший и потерявший имя Палых, который появляется на Дальнем Востоке, - с Пугачёвым из «Капитанской дочкой» Пушкина. Заметим, что заглавия романов Пастернака и Пушкина являются зеркальными. Придумывая заглавие своему произведению, Пастернак учитывал практику Пушкина. По наблюдению P.O. Якобсона, высказанному в статье «Статуя в поэтической мифологии Пушкина», «как правило, в заглавиях оригинальных произведений Пушкина - эпических или драматических - указывается либо главное действующее лицо, либо место действия, если оно особенно существенно для сюжета или общей темы произведения» [Якобсон 1987:147]. Рассматривая заглавие «Доктора Живаго» «как интегрирующее ядро всего романа Пастернака, как его кодифицированную идею», Н.А. Фатеева
510
Глава 6
указывает, что «оно выступает как суммирующий конверсив по отношению к принципу “одушевлённой вещи” и “метафоре болезненного состояния”» [Фатеева 2003: 41].
При том, что в каждой из ситуаций, где появляется Палых, присутствуют черты обоих прототипов, доминирующая ориентация зависит от общей динамики соотнесения наступающих времён со всё большей древностью и дикостью. Как при создании образа Палых в отряде, так и образа «чужого мужика, чёрного и страшного» на Дальнем Востоке, Пастернак использовал внешность Пугачёва и сон Гринёва, приснившийся ему, когда «дорожный» вёл сквозь буран кибитку к трактиру. Гринёв останавливается в случайном трактире - Живаго специально приезжает в библиотеку, где пытается получить для чтения «два труда по истории Пугачёва», однако ему их так и не выдают. Свой сон Гринёв описывал так: «Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня, ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам. Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран ещё свирепствовал и мы ещё блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы». Гринёва встречает на крыльце мать. «“Тише, - говорит она мне, отец болен при смерти и желает с тобою проститься”. Поражённый страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: “Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его”. Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего, вижу, в постеле лежит мужик с чёрной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: “Что это значит? Это не батюшка. И с какой-такой мне стати просить благословения у мужика?” - “Всё равно, Петруша, - отвечала мне матушка, -это твой посажёный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...” Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мёртвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: “Не бойсь, подойди под моё благословение...” Ужас и недоумение овладели мною. ..Ив эту минуту я проснулся; лошади стояли» [Пушкин, VI: 269-270].
Сон Гринёва отзывается в «Докторе Живаго»: заболевший Юрий Андреевич видит в Варыкине «сумбурный сон, один из тех, которые забываются тут же на месте, по пробуждении. Сон вылетел из головы, в сознании осталась только причина пробуждения. Меня разбудил женский голос» [IV: 282]. Если Гринёв подробно пересказывает сон, то Живаго забывает его, но записывает, что он приснился. С Гринёвым во сне разговаривает мать - доктору приснился, по-видимому, голос Лары. Гринёв во сне, долго блуждая, въезжает на барский двор своей усадьбы зимой во время бурана, а Живаго наяву видит, как «на масленице, в распутицу, въезжает на санях во двор по воде и грязи боль
Опыт Достоевского в советских условиях
511
ной крестьянин», а затем Евграф [IV: 286], а ещё раньше в Варыкино въезжает на телеге Вакха семья Громеко-Живаго. Если во сне Гринёва болен его отец, то Живаго свою болезнь в Барыкине связывает с матерью: «Плохо моё дело. Это аорта. Первые предупреждения наследственности со стороны бедной мамочки, пожизненной сердечницы. Неужели правда? Так рано? Не долгий я в таком случае жилец на белом свете» [IV: 281].
Отчество Андрея Живаго - тезки отца Гринёва - в романе не упоминается. Таким образом, Гринёв предстаёт интертекстуальным братом-двойником Юрия Живаго. А поскольку Гринёва зовут, как и его деда, Петром, можно предположить, что отца доктора звали Андрей Юрьевич. С пятилетнего возраста Петрушу Гринёва воспитывает Савельич, а затем француз Бопре. Юрия Живаго с десятилетнего - Веденяпин, а затем - семья Громеко. В «Начале прозы 1936 года» мальчика сначала отдавали на воспитание Федьке Остромысленскому (ср. его с Бопре, который неудачно занимался обучением Гринёва). Рассказ Гринёва о том, что он «стал на колени и устремил глаза мои на больного», соотносится с рассказом Лары Евграфу о том, как она пришла в Камергерский и нашла там мёртвого Юрия Живаго [IV: 493]. Прощание с ним Лары также отсылает к прощанию Гринёва с ещё живым отцом. Гринёв подходит к мужику, оказавшемуся вместо отца, во сне - доктор в отряде приходит к Палых наяву. Внешность Палых и в отряде, и на Дальнем Востоке - это «усугублённая» внешность мужика, приснившегося Гринёву. Внешность Пугачёва описывается уже после сна Гринёва и отождествляется, контрастируя, с внешностью приснившегося мужика. Но по сравнению с внешностью Палых она кажется достаточно безобидной и более благородной. Гринёв рассказывает: «Я взглянул на полати и увидел чёрную бороду и два сверкающих глаза. <.. .> Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк и татарские шаровары» [Пушкин, VI: 270].
Палых напоминает Пугачёва, но контрастирует с ним, как деградировавший обращённый двойник: «Памфил Палых был здоровенный мужик с чёрными всклокоченными волосами и бородой и шишковатым лбом, производившим впечатление двойного вследствие утолщения лобной кости, подобием кольца или медного обруча обжимавшего его виски. Это придавало Памфилу недобрый и зловещий вид человека косящегося и глядящего исподлобья. <...> Юрию Андреевичу этот мрачный и необщительный силач казался не совсем нормальным выродком вследствие общего своего бездушия и однообразия и убогости того, что было ему близко и могло его занимать» [IV: 347-348].
Если мужик машет топором во сне Гринёва, а войска Пугачёва устраивают кровопролития наяву, то Палых очень умело орудует топором и именно им убивает свою семью, тогда как вокруг происходит то же самое (о происходившем вспоминает Юрий Живаго, и его воспоминание - состояние, напоминающее сон): «Расстрел мятежников, детоубийство и женоубийство Палых, кровавую колошматину и человекоубоину, которой не предвиделось конца. Изуверства белых и красных соперничали по жестокости,
512
Глава 6
попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу и бросалась в голову, ею заплывали глаза» [IV: 369].
Однако, когда доктор находится в отряде, «роль» Пугачёва принадлежит не Палых, а Ливерию. И если Пугачёв (в конце концов казнённый) везёт Гринёва к невесте Маше Мироновой, которая впоследствии станет его женой, то Ливерий (к моменту ухода доктора сообщающий ему о близящейся победе) не желает отпускать его к жене и детям (о Ларе, которая не была и не будет женой Юрия Живаго, не говорит ни доктор, ни Ливерий). Ливерий, таким образом, это деградировавший человечный Пугачёв.
Соотношение Юрия Живаго с Гринёвым возникает и в ситуации, когда доктор, вернувшись от партизан, после болезни видит склонённую над ним Лару (подобно Гринёву после дуэли со Швабриным, видящему Машу). «Тень» Гринёва проступает и во второстепенных персонажах «Доктора Живаго», являющихся профанными двойниками доктора. Например, Ранцевич, как Гринёв перед Пугачёвым, «не таил от своих избавителей, что вернётся в ряды колчаковских войск и будет продолжать борьбу с красными» [IV: 334].
Когда в конце романа возникает «мужик чёрный и страшный», в нём почти невозможно опознать Палых. Об этом пришельце рассказывает Евграфу, а затем Гордону и Дудорову бельевщица Таня. Гордон, Дудоров и Таня сидят в ожидании грузовика, и рассказ Тани прерывается появлением порожней подводы, запряжённой парой лошадей, которых возница затем уводит, а рассказ Тани продолжается на подводе. Ср. с тем, что Гринёву сон приснился в промежуток между двумя остановками (посреди степи в буран и возле постоялого двора), в течение которого «дорожный» (Пугачёв) вёл кибитку Гринёва к постоялому двору. Имя мужика-разбойника Таня не называет, но это лишь подтверждает, что в романе вновь появляется окончательно обезумевший, опустившийся и озверевший Памфил Палых. Сначала он в лесу убивает топором Василия, а затем, запертый в подполье Марфой, «загрызает», по словам Тани, «трёх годков» Петеньку «сухие ножки» [IV: 509-510]. Имя ребенка то же, что и у Гринёва. Петенька описывается Таней так, как если бы о Гринёве утрированно рассказал Савельич, оберегавший воспитанника от Пугачёва. Так персонажи пушкинского романа в ещё более профанном, чем прежде, виде «появляются» в «Докторе Живаго» в последний раз. Красноармейцы устраивают над мужиком расправу: «Вытащили его на шпалы, руки ноги к рельсам привязали и по живому поезд провели - самосуд» [IV: 513]. Эта казнь без суда и следствия - современная модификация казни четвертованного Пугачёва, приговорённого судом. Так Пастернак досказал судьбу Палых и интертекстуально - судьбу Пугачёва. Первым в выстраивающейся цепи встающих на борьбу двойников-представителей народа предстаёт возвышающийся до подлинной человечности Пугачёв «Капитанской дочки», последним - теряющий имя и человеческий облик зверь Палых. Всякий раз появление Палых в романе связано с убийством детей. Каждое следующее убийство становится более жестоким и примитивным, чем предыдущее. В последнем случае неназванный Палых, превратившийся в зверя, предстаёт почти сказочным чудовищем, которым пугают детей.
Опыт Достоевского в советских условиях
513
Укажем также, что пушкинский образ Пугачёва наложился в сознании Пастернака на детские впечатления, связанные с появлениями в квартире Пастернаков во флигеле Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице мужика по имени Авдей. В описании, которое дал этому человеку А.Л. Пастернак, можно узнать многие черты внешности Палых (например, «утолщение лобной кости, подобием кольца или медного обруча обжимавшего его виски»), особенности его поведения и обращения с детьми: «Авдей, несмотря на свою страшную, иссиня-чёрную бороду, росшую почти от самых глаз, и на общий вид разбойника «с большой дороги» - почему именно «с большой дороги», мне не было ясно, - был добрейшим, честным человеком, который смешил нас -меня и брата-разными фокусами, шутками-прибаутками и забавными проделками. Он появлялся у нас на кухне в определённые дни. Он приносил маме в громадной открытой плетёной ивовой корзине с двумя ручками наше чисто-начисто отстиранное и отглаженное белье: корзину он носил весьма ловко и устойчиво на голове, придерживая её одной рукой. Под неё он подкладывал чёрную мягкую тряпичную баранку, по размеру своей головы. Входя в дверь, прежде всего он как-то значительно, важно откашливался, довольно громко и хрипло, точно исполнял некий обряд прихода. Затем он снимал с головы корзину и картуз, ставя корзину на табуретку. Только после этого он низким поклоном здоровался со всеми, с большим чувством достоинства» [Пастернак А. 2002: 43].
Обращает на себя внимание «мясная» семантика названия улицы, на которой семья проживала с 1894 по 1911 г. (во флигеле - с 1894 по 1901; то есть Авдея Борис Пастернак мог видеть в возрасте с 4 до 11 лет). Вкупе с «кровавой» квазиэтимологией прилегавшего к ней Юшкова переулка эта семантика подкрепляет увязывание образа Палых с «кровавой колошматиной и человекоубоиной», которую тот начал ещё в Первую мировую. Внимание братьев Пастернаков привлекало также имя художника Г.Г. Мясоедова, буквальное «расшифровывание» которого детьми также, вероятно, входило в круг «кроваво-мясных» ассоциаций Пастернака. Во всяком случае в 1897 г. пятилетний Александр «изобразил тарелку с арбузными корками; «картина» была подписана «Мясоедов» (почему именно он? Не знаю!)» [там же: 36].
6.1.5. Юрий Живаго в отряде разговаривает о лечении
Наследнички «решительного человека», душевных болезней партизан с Лайошем, а за-От Достоевского к фон Захер-Мазоху тем беседует с Палых> который позже сходит с
ума. Позиция доктора как врача описывается автором довольно скупо, что можно объяснить подробным описанием тюремной больницы в «Записках...», герой которых сталкивается там с сумасшедшими. Пастернак подхватывает при этом тональность повествования Достоевского. А положительные оценки героем Достоевского врачей, которые лечат арестантов, могли повлиять на выбор Пастернаком профессии главного героя. Живаго очень похож на ординатора, которого описывает Горянчиков: «В то время у нас был ординатором один молоденький лекарь, знающий дело, ласковый, приветливый, которого очень любили арестанты и на
514
Глава 6
ходили в нём только один недостаток: “слишком уж смирен”. В самом деле, он был как-то неразговорчив, даже как будто конфузился нас, чуть не краснел, изменял порции чуть не по первой просьбе больных и даже, кажется, готов был назначать им и лекарства по их же просьбе. Впрочем, он был славный молодой человек. Надо признаться, много лекарей на Руси пользуются любовью и уважением простого народа, и это, сколько я заметил, совершенная правда» [Достоевский, IV: 141-142].
Упрёки в том, что Живаго не показан в романе как лечащий врач, которые иногда бросали Пастернаку критики, объясняются тем, что они не учитывали традиции изображения и оценок врачей в русской литературе. Пастернаку, который прочёл у Достоевского, что «человеколюбие, ласковость, братское сострадание к больному иногда нужнее ему всех лекарств» [там же: 142], незачем было снова открывать Америку и живописать рецепты, пузырьки и процедуры. Однако если Достоевский и его герой испытывают сочувствие к обитателям острога, то у Пастернака и его героя такого сочувствия нет, ведь тот усиленный аналог каторги, который устраивается именем народа, сотворяется им самим и для самого себя. Все герои Достоевского, посаженные в острог, и Пастернака, «мобилизованные» в партизанский отряд, проходят или оказываются неспособными пройти «инициацию». Но уже само попадание их на «тот свет» является результатом предшествовавшей неудачной попытки пройти «инициацию». Циклический процесс этих удачных и неудачных перерождений охватывает всех персонажей обоих произведений. В партизанских главах «Доктора Живаго» одним из «нижних» кругов является спровоцированный заговор и расстрел заговорщиков, одним из «верхних» - разговор доктора с Ливерием и последовавший уход из лагеря. В связи с «Записками...» обращают на себя внимание фигуры испорченных юнцов Рябых, Галузина, Нехвалёных и Пафнуткина, которых расстреливают вместе с анархистами и санитарами-самогонщиками. Эта четвёрка профанирует фигуры четырёх евангелистов, но в роли профанного Христа для них выступает не только Ливерий, но и (в скрытом виде) персонаж «Записок. ..» Лучка, история которого занимает главу VIII «Решительные люди. Лучка» части первой [там же: 87-92]. Тон и манера рассказа Лучки о том, как после пересылки из «нашего места» за бродяжничество в Чернигов, а затем в киевский остро, он зарезал там рассвирепевшего пьяного майора, воспроизведены Пастернаком в рассказе Нехвалёных Галузину о «подвигах» Пафнуткина в призывной комиссии. Речь Рябых и Нехвалёных в разговорах с Галузиным обнаруживает также стилистическое родство с речью Фильки Морозова в передаче его дружка Шишкова, зарезавшего свою невинную жену, и с речью самого Шишкова (глава IV, рассказ «Акулькин муж»). Если Лучка «впускает» нож в живот майору и тот умирает, то Пафнуткин бьёт в челюсть писаря, опрокидывает «столик канцелярский» и удирает. Кто-то «под шумок» бросает гранату. «Из дверей правления» раздаётся крик рассвирепевшего полковника Штрезе. Полковник затем устраивает обыски в домах, но юнцы бегут к партизанам. Жертвой становится ни в чём не виноватый отец Галузина, к которому Штрезе относится примерно так же, как Лучка к майору. Наряду с Лучкой в остроге сидели «человек двенадцать, всё хохлов, высокие, здоровые,
Опыт Достоевского в советских условиях
515
дюжие, точно быки. Да смирные такие <...> трус народ» [там же: 89]. На каторгу за убийство майора был отправлен один лишь Лучка. Двенадцать человек были отправлены под расстрел в партизанском отряде; и выжил один лишь Галузин. С Лучкой Галузина сближает не только эта сопоставимость по контрасту, но и малороссийское происхождение. Этимология слова «галузь» может свидетельствовать не только об этническом, но и потомственном родстве с Лучкой. Последний, как его характеризует Горянчиков, был «маленький, тоненький, с востреньким носиком, молоденький арестантик нашей казармы, из хохлов <.. .>. Был он, в сущности, русский, а только родился на юге, кажется, дворовым человеком. В нём действительно было что-то вострое, заносчивое <...>. Его очень немного уважали» [там же].
Аналогичным желанием набить себе цену, похвастаться, рассказать о своих «подвигах» наделены все испорченные юнцы, кроме Галузина. Но если «дурачок Терёшка» наделён этническим и географическим «родством» с Лучкой, то фамилия Нехвалёных намекает за «фамильное» родство в плане похвальбы, хвастовства и дешёвой удали. В фамилии Рябых, возможно, сказалась «этимология» имени Лучки: шелуха от лука -коричневого, рыжего, рябого цвета. Принадлежность обозначают и суффиксы фамилий. Самый «решительный» из юнцов - сифилитик Пафнуткин - «отдаёт» тем же душком (испорченно «пахнет»), что и Лучка, в плане общего поведения и поступков. Все четверо скрыто оказываются «наследниками» убийцы, зарезавшего шесть человек. Кроме того, как показал И.П. Смирнов, в истории призыва деревенских парней в армию, их разговоров, взрыва в волостном правлении отозвалась «криминальная кинодрама Хичкока “Саботаж” (“Sabotage” 1936)» [Смирнов 20086: 321-323].
В разговоре с Галузиным Рябых называет его отца «родителем»: «Орёл у тебя родитель. Экий зверь речи отжаривать» [IV: 321]. У Достоевского своего отца так называет безымянный арестант-отцеубийца из дворян, оказавшийся невиновным [Достоевский, IV: 15-16, 195]. Комментаторы Б.В. Федоренко и И.Д. Якубович указали, что «внешне, в фабульном отношении, «отцеубийца» является прообразом Мити Карамазова» [там же: 285]. Если арестант из «Записок...» и Митя Карамазов на самом деле не убивают своих отцов, то поведение Терентия Галузина послужило причиной того, что «отец его пропал в заложниках» (об этом доктору рассказывает Антипов-Стрельников) [IV: 457].
«Запах» сифилитика Пафнуткина соотносится с тем, что, скрываясь от полковника Штрезе, юнцы «залезли под не доходивший до земли заплот первого попавшегося амбара» [IV: 323]. Там стоял запах рыбы, керосина, рвоты и нечистот. Ранее посредством запаха определялись и другие негативные персонажи, например, Амалия Карловна Гишар («в номере стоял терпкий, вяжущий запах молодого грецкого ореха в неотверделой зелёной кожуре, чернеющей от прикосновения» [IV: 61]), Клинцов-Погоревших («опять запахло Петенькой Верховенским, не в смысле левизны, а в смысле испорченности и пустозвонства» [IV: 162]).
Заметим, что, показывая во Второй книге романа персонажей из народа, таких, как Брыкин, Тягунова и Огрызкова, юнцы, Палых и др. с их специфической речью, Пастер
516
Глава 6
нак идёт за Достоевским, передававшим богатую фольклором народную речь, однако это богатство не представляет собой какой-либо духовной ценности и, напротив, выявляет их духовную ущербность. Например, от колоритной ругани Тягуновой и Огрызко-вой жену доктора Тоню воротит. О реакции Юрия Живаго повествователь умалчивает, и читатель может предположить, что она такая же, как у Тони. Однако этому умолчанию можно найти объяснение, которое прояснит также происхождение фамилии Огрызко-вой. Возможно, слушая отборную «народную» ругань женщин, по доброй воле оказавшихся в эшелоне невольников, доктор вспоминает о том, что в «Записках...» подобным образом грызутся после неудавшейся «претензии» к рыжему майору подневольные арестанты-мужчины. Реплика одного из них была использована Пастернаком для создания фамилии скандалистки.
«- Да ты что учишь-то, учитель?
- Знамо дело, учу.
- Да ты кто таков выскочил?
- Да я-то покамест ещё человек, а ты-то кто?
- Огрызок собачий, вот ты кто.
- Это ты сам.
- Ну, ну, довольно вам! Чего загалдели - кричат со всех сторон на спорящих...» [Достоевский, IV: 207].
Живаго молчит потому, что осмысляет неожиданно проявившуюся аналогию ситуации, в которой он находится, с ситуацией, в которой были Достоевский и его герой.
Удивительной кажется нечуткость некоторых современников Пастернака, например, А.К. Гладкова, который при всей любви к творчеству Бориса Леонидовича считал, что «все “народные” сцены по языку почти фальшивы» и, замечая влияние Достоевского, совершенно не понял его особенностей, решив, что Пастернак оказался «эпигоном Достоевского. Не продолжателем, а подражателем» [Гладков 2002: 218-219,225]. Ещё более нелицеприятно отзывались те, кто видел в Пастернаке успешного конкурента, например, В.В. Набоков, испытывавший по отношению к Пастернаку и его роману форменную идиосинкразию. О том, как резко Набоков воспринимал повторы в «Докторе Живаго», см.: [Hughes R. 1989: 153-170]. В необоснованности подобных оценок можно убедиться, потрудившись сравнить язык этих сцен с языком персонажей «Записок...», автора которых на этот счёт его современники не только не упрекали, но, наоборот, хвалили. С долей иронии предположим, что Пастернак мог, по логике инверсирования, воспринимать подобные нарекания, доходившие до него, как комплименты. Однако «внешне», то есть в письмах, он заранее предупреждал подобную реакцию как современников, которым посылал роман для чтения, так и будущих читателей.
О Памфиле Палых говорится, что «этот мрачный и необщительный силач казался не совсем нормальным выродком вследствие общего своего бездушия и однообразия и убогости того, что было ему близко и могло его занимать» [IV: 348]. Отличие ограниченности того же Палых от ограниченности революционеров высокоразвитых, типа
Опыт Достоевского в советских условиях
517
Антипова-Стрельникова, в том, что последние - «люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения» [IV: 452]. Характеризуя таких людей, Пастернак и его герой «доводят <.. .> до конца» мысль Толстого. Прямо ссылаясь на него, Пастернак спорит с ним с помощью скрытой «выжимки» из «Записок...», а именно из подробных рассуждений Горянчикова о «зачинщиках и коноводах претензий» [Достоевский, IV: 201].
Если юнцы, оказывающиеся в подполье амбара (в инициационной сказочной «пещере»), «прочитываются» по О. фон Вейнингеру (см.: [Деринг-Смирнова 1999]), то старшее поколение - родственники Галузиных и партизаны-заговорщики во главе с Гораздых - по Л. фон Захер-Мазоху. Имя Гораздых - Захар - почти совпадает с первой частью фамилии «сына австрийского дворянина, служившего во Львове начальником полиции», «подлиннейшего певца саморазрушительного падения» [Эткинд А. 1998: 139, 224], и фонетически созвучно второй части, которая в аналогичном, но уже иначе искажённом виде оказывается фамилией двух братьев из родни лавочницы Галузиной -Нестора и Панкрата Модых, о которых в тексте больше нет ни слова. Информацию о них даёт интертекст. Прототипами этих персонажей могут быть два брата украинского бандита Нестора Махно, который воевал и за красных, и за белых и в итоге был вынужден эмигрировать. Один из братьев этого «героя» был, как указывает И.П. Смирнов, ветераном русско-японской войны среди анархистов. Его замучили чекисты [Смирнов 1996:130]. Ключом к разгадке «происхождения» этих родственников Галузиной служит то, что братьев двое и одного зовут Нестор (перенос по смежности). Кроме того, фамилия Модых созвучна с Махно. Украинскую «генетику» имеет и анархист Вдовиченко, прототипом которого был «махновец Вдовиченко, убеждённый анархист из крестьян» [там же: 131; здесь же - список источников]. Фамилии других родственников - Селит-вины, Шелабурины, Палых - также содержат либо семантику, связанную с насилием, падением, скандалом и пр., а некоторые (и не только фамилии родственников Галузиной, но и юных дружков её сына) образованы с помощью одного и того же суффикса -ых, что подчёркивает родственность. Эволюция юнцов, таким образом, проходит от следования извращённо понятому Вейнингеру до попадания к последователям Захер-Мазоха, также извращённо следующим примеру его героев.
Семантика имён и фамилий содержит важнейший аспект прочтения интертекстуальных значений имён и действий членов семейства Галузиных, их родственников, а также партизан, их командира Ливерия и того, что происходит внутри отряда. Этот аспект -их украинское, а точнее, западноукраинское «происхождение». С Галузиными дело обстоит сравнительно просто. «Толковый словарь» В.И. Даля даёт такое значение слова «галызь», как лес в гати, для гачения дорог. Ср.: если партизанские жёны, пробираясь в отряд, валят лес, то недостреленный Терентий Галузин, оказавшийся непригодным в партизанском отряде, профанно культивирующем мазохизм, бежит вдоль железной дороги, где лес уже был когда-то повален, а теперь «повалены» поезда. «Галузь» на чешском и украинском (галицком диалекте) означает «ветвь», «ветка», «сучок». Таким образом, в фамилии Галузина совмещаются «нерубленая пуща» истории, которую носи
518
Глава 6
тель имени и не начинает рубить, будучи «девственно непроходимым» и пользуясь сделанным до него, и не начавшее плодоносить, но уже испорченное Древо Жизни. Играет роль и профанная этимология имени Терентий. Соотносясь с подлинным происхождением от латинского «потёртый», оно напоминает как о непроходимых терновых зарослях, так и о терновом венце Христа. Имя великовозрастного «дурачка Терёшки», как называет своего сына Галузина, Пастернак, возможно, позаимствовал из сказки «Терёшечка» (№ 112 в «Народных русских сказках» А.Н. Афанасьева), о которой, кстати, в разделе «Изгнанные и заведённые в лес дети» своей книги «Исторические корни волшебной сказки» упомянул В.Я. Пропп. В сказке бездетные старик со старухой (ср. с Галузиными-родителями) «сделали <.. .> колодочку, завернули её в пелёночку, положили в люлечку, стали качать да прибаюкивать - и вместо колодочки стал рость в пелёночках сынок Терёшечка, настоящая ягодка! Мальчик рос-подрастал, в разум приходил. <.. .> Терёшечка был мужичок не дурачок» [Афанасьев 1985-1986,1: 146]. В романе, наоборот, Терентий вырос «дурачком» - «колодой», «деревом». Семантика дерева присутствует и в фамилии. Заметим, что этимология украинских фамилий в романе тем или иным образом свидетельствует о принадлежности их носителей к «царству мёртвых».
Более сложна тайная связь с Украиной (Галицией), как она проявилась в жизни и произведениях Л. фон Захер-Мазоха, в случае Ливерия. Мы отметим лишь отдельные переклички «Доктора Живаго» с творчеством австрийского писателя и воспользуемся для этого «мазохистским» введением в тему о русских сектах начала XX века из книги А.М. Эткинда «Хлыст. (Секты, литература и революция)» [Эткинд А. 1998: 139].
Захер-Мазох «с детства знал русский язык. Кормилица Мазоха, малороссийская крестьянка, рассказывала ему славянские легенды и пела русские песни. Русскими мотивами насыщены его эротические повести: здесь члены русских сект и герои русских романов, в описанных им будуарах стоят бюсты Пушкина и Лермонтова, его жестокие красавицы цитируют Гоголя, Тургенева и Чернышевского. Один из героев, воспитывая себе возлюбленную из собственной крепостной, переводит для неё Фауста на малороссийский. Выйдя замуж за графа, только что научившаяся грамоте крестьянка пишет письма в таком духе: “Единственный свет в мире есть свет интеллигенции, говорит Артур Шопенгауэр”9. Русской является и Ванда, ужасная героиня самого знаменитого из романов Захер-Мазоха “Венера в мехах”. О России напоминает и имя мужского героя, австрийца Северина, которое построено по образцу русских фамилий и содержит выразительный русский корень. <.. .> В своих романах “Пророчица”, “Завещание Каина” и “Душегубка”, сразу переведённых на русский10, Захер-Мазох рисовал прочувствованную картину жизни закарпатских сектантов».
Ср. с упомянутыми крестьянкой и графом молоденькую Елену Прокловну, вышедшую замуж за злоупотребляющего «семинарской славянщиной» и ведущего себя, как
9 А.М. Эткинд цитирует: Захер-Мазох Л. Венера в мехах - Демонические женщины. М.: Республика, 1993. С. 314.
10 А.М. Эткинд цитирует: Захер-Мазох Л. Душегубка - Приложение к газете «Свет», ноябрь, 11. СПб., 1886; Захер-Мазох Л. Завещание Каина - Галицийскиерассказы. М., 1877; Захер-Мазох Л. Пророчица // Нива, 1880, 3-6.
Опыт Достоевского в советских условиях
519
знатная особа, пожилого разночинца Микулицына. Вопросы, которые она обычно задаёт людям, с которыми знакомится, в том числе и Юрию Живаго (один из вопросов - о Грибоедове), совершенно в духе героини фон Захер-Мазоха. Но на этом интертекстуальное «родство» не заканчивается. Первой женой Микулицына и матерью его сына Ливерия была одна из четырёх сестер-«северянок» - Агриппина Севериновна. Эти сестры оказываются, таким образом, дочерьми героя Захер-Мазоха - австрийца Северина, Аверкий Степанович Микулицын, которого Елена Прокловна зовёт Сиверкой, - родственником с севера либо местным «испорченным» двойником Северина, а Ливерий - его внуком или, иначе, новым, инверсированным воплощением. В случае двойничества Микулицына с Северином его связь с матерью Ливерия - кровосмесительная. Со всеми вытекающими для супругов и их детища, а также для всех дел отца и сына последствиями. Роли отца и сына, определяемые претекстом, - одна из причин того, почему они враждуют, но не воюют. Другая заключается в принадлежности их разным мирам - соответственно былинному и сказочному. «В роли члена семьи сын в героическом эпосе не замещает отца (т. е. не втягивается в аналогизирование). Он сопричастен матери (нередко вдове), телу, к которому он принадлежит по принципу синекдохи» [Смирнов 1997: 27].
В.В. Абашев указывает, что у Пастернака «мотив “севера” (и метонимичных по отношению к нему - “зимы”, “снега”, “метели”, “бурана”, “холода”) часто влечёт за собой мотивы экстатических состояний сознания» и что Пермь, ставшая для Пастернака прообразом Юрятина, «репрезентирована в культуре» как город чеховских трёх сестёр. «Городское предание о том, что Пермь явилась прототипом города в драме “Три сестры” существовало уже в начале XX века, и нельзя исключить, что Пастернаку эта местная память стала известна» [Абашев 2000: 219-220, 230].
При контакте с каждой из «северянок» (умершую Агриппину «заменяет» Елена Прокловна), а также их родственником Ливерием доктор оказывается более или менее сильно раздражён, то есть входит в экстатическое состояние (либо в таком состоянии пребывает герой, на которого он ориентирован интертекстуально, например, Чацкий, когда Живаго отвечает на вопросы Микулицыной).
Мало того, что первой женой Микулицына была одна из «северянок», слово «сиверко», принадлежащее к сибирско-уральскому наречию, означает «северный ветер». Пастернак мог слышать его, находясь на Урале. Этим, в частности, объясняется холодный приём, поначалу оказанный Микулицыным приехавшим. «Северянка» впервые появляется в стихотворении Пастернака «Все наденут сегодня пальто» (1913, 1928). Прозвище Микулицына намекает также на его «происхождение» от исчезнувшего племени северян - объединения восточно-славянских племён в бассейне рек Десны, Сейма и Сулы, и совпадает с названием реки Сиверки (южнее Киева). В VIII-X веках северяне платили дань хазарам. Около 884 г. вместе с полянами они вошли в состав Древнерусского государства. В 907 они участвовали в походе Олега на Византию. По данным БСЭ, в последний раз северяне упоминаются в летописи под 1024 годом. Название «севера», «Северские города», «Северская земля» сохранились в источниках до конца XVII в., а также в
520
Глава 6
названиях «Новгород-Северский», «Северский Донец». Центрами северян были Чернигов, Курск, Новгород-Северский. Северяне занимались пашенным земледелием, скотоводством, различными ремеслами - ср. с занятиями на Урале Микулицына. Прозвище, возможно, намекает также на главу «эгофутуризма» Игоря Северянина. Микулицын с его «семинарской славянщиной», внешностью и привычками страдает таким же недостатком вкуса, так же вычурно-банален, как Северянин.
Как замечает Самдевятов, среди партизан, которыми командует Ливерий, «есть австро-германские военнопленные, прельщённые обещанием свободы и возвращения на родину» [IV: 262]. В дальнейшем Живаго с ними сталкивается и находит общий язык. Это венгр Лайош и хорват Ангеляр. Ливерия, воевавшего на австро-германском фронте и, возможно, в той же Галиции, где во время Первой мировой служил военврачом Живаго, Самдевятов аттестует как человека, героическое самопожертвование которого укладываются в практику мазохизма: «Это герой прапорщик с тремя крестами и, ну конечно, в лоск распропагандированный фронтовой делегат-большевик» [IV: 262]. Таким образом, действия всех членов партизанского отряда или попадающих туда людей - будь то приговорённые к расстрелу заговорщики, анархисты и самогонщики или беженки, пробивающиеся сквозь тайгу к партизанам, - оцениваются Ливерием с точки зрения способности к самопожертвованию, мазохизму, и сами идут на жертвы. Именно этим объясняется расположение и мягкость партизанского начальника по отношению к Юрию Живаго, тоже склонному к «спряжению в страдательном», хотя и совершенно иначе, нежели Ливерий. Партизанский начальник лишь мягко и почти что с удовлетворением укоряет доктора в ответ на мазохистское признание в том, что его отсутствие на политзанятиях никак не вяжется с его начитанностью и собственным творчеством: «Смирение паче гордости. А чем усмехаться так язвительно, ознакомились бы лучше с программой наших курсов и признали бы своё высокомерие неуместным» [IV: 336]. Жизнь и поведение красных партизан напоминает поведение всё тех же закарпатских сектантов фон Захер-Мазоха. Большевизм предстаёт в «Докторе Живаго» скрытым мазохизмом, который «поставляется» в Россию из Украины (Галиции). В кровавой практике партизан и противостоящих им белых отсутствует лишь эротика и секс, составляющие у фон Захер-Мазоха необходимый дискурсивный компонент (наряду с социальным и политическим), хотя, впрочем, кровавая практика белых «с детишками» и «по женскому делу» и убийство Памфилом Палых жены и детей могут рассматриваться в качестве инверсированных заменителей этой составной. В роли сектантской «богородицы» у партизан тайно оказывается неподвижно сидящая в центре обступивших её людей бездетная Кубариха, одетая в мужскую одежду. Обращённость мазохизма партизан заключается в том, что если фон Захер-Мазох, «занимаясь соединением эротики с психологией, <...> показал возможность соединения сектантства с политикой» [Эткинд А. 1998:143], то Пастернак демонстрировал, наоборот, разложение мазохизма как уже политически состоявшегося цельного комплекса. Убийство Памфилом Палых жены и детей, разрубание белыми перебежчика, рассказывающего красным о зверствах белых, в частности, над детьми и женщи
Опыт Достоевского в советских условиях
521
нами, нарушают всю систему составляющих мазохизма, и он перерождается в садизм. Историческое движение реверсируется ещё дальше в прошлое - актуальной становится практика садизма. А когда Живаго уходит из отряда и пробирается вдоль железной дороги в Юрятин, ситуация выходит за рамки цивилизационных параметров, и рассказчик отмечает: «Появились единичные случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пещерного века» [IV: 375]. Ливерий не замечает этого исторического движения и ломки привычного ему кода. И в землянке - аналоге платоновской пещеры - перед уходом доктора ведёт себя так, словно мазохизм всё ещё жив и действен. Он по-прежнему поклоняется народу, как женщине, полагает, что Живаго, как и сам он, будет и дальше с наслаждением служить народу по своей воле, а в разговоре с доктором становится в «позу добровольного застывания»11 [Эткинд А. 1998: 141], телодвижением предлагая доктору сделать то же самое - наклониться над картой (вряд ли он стал бы объяснять, стоя прямо и держа карту в руках, но даже и в этом случае поза была бы застывшей): «Ливерий вставил в светец новую лучину и, сложив мятую трёпаную двухвёрстку нужными делениями наружу, а лишние края подвернув внутрь, стал объяснять по карте с карандашом в руке.
- Смотрите. На всех этих участках белые отброшены назад. Вот тут, тут и тут, по всему кругу. Вы следите внимательно?» [IV: 370].
Обращение Пастернака к мазохизму как культурной модели объясняется, в частности, и тем, что творчество австрийского писателя предлагало вариант решения проблемы «неслыханной простоты»: «Сливая эротический, политический и мистический коды, Мазох добивался фундаментального упрощения речи» [Эткинд А. 1998: 141]. Создавая «Доктора Живаго», Пастернак стремился к тому же. Но сливал коды лишь в связи с главным героем. А в отношении профанных персонажей, которыми являются как двойник доктора Ливерий, так и члены семейства Галузиных, он эти коды разлагал.
6.1.6. Использование Пастернаком «Записок...» выявляет важней-
«Видно птицу по полёту» шую особенность его обращения с чужими текстами - их
инверсирование не только на уровне отдельных мотивов, но и как целостного построения. О таком переворачивании сигнализируют сцены, отсылающие к началу и концу текста Достоевского.
Попадание Юрия Живаго на Урал (в Развилье), в «другой территориальный пояс, иной мир провинции, тяготевшей к другому, своему, центру притяжения» [IV: 254], отмечается тем, что его тут же арестовывают часовые, которые, спокойно советуясь, что делать с доктором, определяют его так: «Тут и думать нечего. Видно птицу по полёту. “Это какая станция, это какая река?” Чем вздумал глаза отводить» [IV: 244]. Разговор часовых, чреватый для доктора расстрелом, отсылает к сравнительно безобидной ссоре
11 А.М. Эткинд обращает внимание: «О застываниях см. у Делёза, который, однако, вполне игнорирует исторические контексты: Жиль Делёз. Представление Захер-Мазоха - в кн.: Л. фон Захер-Мазох. Венера в мехах. - Москва: Культура, 1992, 189-313».
522
Глава 6
двух арестантов, свидетелем которой Горянчиков становится в своё первое утро в казарме острога. Кульминация ссоры - перепалка арестантов:
«Толстяк наконец рассердился.
- Да ты что за птица такая? - вскричал он вдруг, раскрасневшись.
- То и есть, что птица!
- Какая?
- Такая.
- Какая такая?
- Да уж одно слово - такая.
- Да какая? <.. .>
Высокий арестант <...> медленно и внятно произнёс:
- Каган!.. <...>
- Подлец ты, а не каган! - заревел толстяк <.. .>» [Достоевский, IV: 23].
Комментатор З.И. Власова указала, что «каган в древнерусском языке и у тюркских народов - князь, государь (глава государства). На тюремно-арестантском жаргоне - важная птица» [там же: 315]. Сцена «Записок...», всплывающая, как тень, во время ареста Юрия Живаго и уводящая в древность, выявляет доктора как пародию не на государя, но на Христа. Именование Живаго «птицей» звучит уже другой угрозой, нежели у Достоевского. Тема птицы вновь возникает в «Записках...»(ближе к концу), когда Горянчиков описывает попавшего к арестантам орла. Он живёт в остроге долгое время, но привыкнуть не может. И, понимая, что «птицу вольную, суровую» не приучить к острогу, арестанты выпускают его. «Странное дело: все были чем-то довольны, точно отчасти сами они получили свободу» [там же: 194]. Живаго уходит от партизан сам. И вероятная реакция на его бегство партизан может выглядеть как вывернутая оценка арестантами орла.
Часовые арестовывают доктора неподалёку от берега реки Рыньвы, название которой он пытается у них узнать, - на берегу ещё не названного в тексте Иртыша проводит первый день своих каторжных работ Горянчиков. «За крепостью, на замёрзшей реке, были две казенные барки, которые за негодностью нужно было разобрать, чтоб по крайней мере лес не пропал даром. <.. .> Дрова в городе продавались по цене ничтожной, и кругом лесу было множество. Посылали почти только для того, чтоб арестантам не сидеть сложа руки, что и сами-то арестанты хорошо понимали» [там же: 70].
Текст Достоевского - подробное описание процесса работы, отношения к ней и к дворянину Горянчикову арестантов из народа - повлиял, вероятно, на поведение Пастернака в быту. Одна из жизненных ситуаций свидетельствует об этом особенно ярко. Когда во время войны Пастернак эвакуировался в Чистополь, ему пришлось решать проблему дров. Как вспоминал А.К. Гладков, это была одна «из труднейших проблем чистопольского быта <.. .>. Все хозяева пускали только квартирантов с дровами. Однажды райисполком выделил писателям несколько десятков кубометров сырых, промёрзших дров, сложенных далеко на берегу Камы. Подъезда к ним почему-то не было, и
Опыт Достоевского в советских условиях
523
сначала их нужно было бы перетаскать к дороге. Состоятельное меньшинство наняло грузчиков и возчиков, но большинство отправились таскать дрова сами. Я работал рядом с Пастернаком. Он не ворчал, не жаловался, а ворочал поленья если и не с удовольствием, то, во всяком случае, бодро и весело. А мороз в тот день стоял почти тридцатиградусный» [Гладков 2002: 69]. Можно предположить, что, столкнувшись с необходимостью тяжёлой физической работы, Пастернак, который вообще-то никогда её не боялся, вспомнил о том, что почти такую же работу почти сто лет назад и почти в этих же местах был вынужден выполнять Достоевский. И хотя оба были удалены из столиц на Восток, Пастернак был на свободе (в Чистополе на Каме), а Достоевский на каторге (в Омске на Иртыше). На фоне страданий, которые претерпел Достоевский, труд для Пастернака становился более лёгким, чем был на самом деле. Ощущение двойничества с Достоевским могло преисполнять его трагической радостью. В «Записках...» Горянчиков писал о невыносимости бессмысленного труда [Достоевский, IV: 20] - для Пастернака же таскание брёвен было жизненно необходимо, а потому исполнено смысла. Таким же было и добывание дров в революционной Москве для Юрия Живаго. Е.Б. Пастернак и С.В. Шумихин указывают, что эпизод разгрузки дров сам Пастернак описал в письме к брату от 22 марта 1942 г. [Пастернак 1989-1992, V: 412]; вспоминала о нём и Г. Колесникова12. Двойничество с Достоевским проявлялось у Пастернака и в процессе создания романа. Достоевский написал и опубликовал «Записки...» после возвращения с каторги - Пастернак был готов к тому, что может попасть в лагерь, и до того, как начал работать над «Доктором Живаго», и в период работы, и после издания романа. Если опубликованные «Записки...» возобновили, по собственному признанию Достоевского, его литературную репутацию (письмо к А.Е. Врангелю от 31 марта 1865 г.), то выход в свет на Западе «Доктора Живаго» не только возобновил литературную репутацию Пастернака, но и улучшил её (в основном на Западе) и ухудшил (в основном - репутацию «советского» писателя в СССР).
В комментариях В.М. Борисов и Е.Б. Пастернак пишут, что за названием Рыньва «легко угадывается Кама» и оно «может быть переведено» с одного из диалектов языка коми как «“река, распахнутая настежь” <...>. Рыньва - “живая река”, или, метафорически, “река жизни”» [там же, III: 698-699]. И всё же этой трактовке нисколько не противоречит то, что прообразом Рыньвы мог быть и Иртыш, как он описан у Достоевского. Горянчиков рассказывает, что самая тяжёлая работа была на кирпичном заводе, однако некоторые, в том числе и он, «ходили туда даже с некоторою охотою: во-первых, дело было за городом; место было открытое, привольное, на берегу Иртыша. Всё-таки поглядеть кругом отраднее: не крепостная казенщина! Можно было и покурить свободно и даже полежать с полчаса с большим удовольствием. <.. .> Я потому так часто говорю об этом береге, что единственно только с него и был виден мир божий, чистая, ясная даль, незаселённые, вольные степи, производившие на меня странное впечатление сво
12 «Между нами годы» // Чистопольские страницы. Стихи, рассказы, повести, дневники, письма, воспоминания. Казань, 1987. С. 197 - см.: [Гладков 2002: 254-255].
524
Глава 6
ей пустынностью. На берегу только и можно было стать к крепости задом и не видать её. <...> На берегу же можно было забыться: смотришь, бывало, в этот необъятный, пустынный простор, точно заключённый из окна своей тюрьмы на свободу. Всё для меня было тут дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном синем небе, и далёкая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега» [Достоевский, IV: 177-178].
Значением для Горянчикова берега, с которого только «и был виден мир божий, чистая, ясная даль», определяется желание Юрия Живаго выйти на берег реки13. Он идёт вдоль вагонов поезда в густом тумане, и река оказывается на востоке. Доктор, как и Горянчиков, смотрит на реку с правого берега, однако, в отличие от героя Достоевского, не видит ни реки, ни левого берега - там его ждёт не свобода, а неволя. Крепость, которую Горянчиков не желает видеть, напоминает избушку Яги, которая стоит к сказочному герою задом, к лесу передом и в которую герой хочет попасть. Свободный «киргизский берег», на который смотрит герой Достоевского, в «Докторе Живаго» соотносится с местами, где жил Евграф с его «узкими киргизскими глазами». Евграф служит большевикам, несущим несвободу, однако освобождает брата от бытовых проблем. Евграф в детстве и юности жил в Омске, на окраине которого у его матери был дом. На окраине Омска находился и острог, в котором отбывали каторгу Достоевский и его герой. Кстати, как отмечает Горянчиков, «весь город стоит на юру, открытый со всех сторон» [там же: 222]. Это даёт основание видеть Омск одним из городов-прообразов Юрятина, вид которого разом открывается перед Юрием Живаго, когда он ждёт беседы со Стрельниковым в штабном вагоне. Множественность прообразов Рыньвы и Юрятина может в некоторой степени объяснить вымышленность этих топонимов.
6.1.7. Уход Юрия Живаго из партизанского лагеря, которым завершается Безумный бегун часть двенадцатая «Рябина в сахаре», отсылает к концу «Записок...» -
главам IX «Побег» и X «Выход из каторги». Однако побег доктора резко отличается и по мотивам и по результату от побега арестантов Куликова, А-ва и их конвойного Коллера, а с выходом из каторги, который Горянчиков определяет как «Свобода, новая жизнь, воскресение из мёртвых...»14 [там же: 232], больше ассоциируется смерть Юрия Живаго, хотя и все предыдущие его уходы также являют собой аналоги возвращения сказочного героя после инициации. Большее сходство с побегом из «Записок. ..» - у побега Тягуновой и Брыкина (и, как ошибочно думает Тоня, - Притульева и Огрызковой), в совершении которого арестанта Костоеда упрекает конвойный Воронюк.
В начале «Записок...» Горянчиков рассказывает об арестанте Петрове, который задумал убить «восьмиглазого» за то, что тот несправедливо послал его под розги. «Но в
13 См. обзор интерпретаций значения реки в «Докторе Живаго»: [Cornwell 1986: 82].
14 Ср. со словами Достоевского о годах каторги из письма от 6 ноября 1854 г. к брату Андрею Михайловичу: «А те 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу. <.. .> выход из каторги представлялся мне прежде как светлое пробуждение и воскресение в новую жизнь» [Достоевский, XXVIII (1): 181].
Опыт Достоевского в советских условиях
525
самую решительную минуту наш майор сел на дрожки и уехал <.. .> Что же касается до Петрова, он преспокойно вытерпел наказание. Его гнев прошёл с отъездом майора» [там же: 14]. Затем Горянчиков анализирует особенности подобного поведения в целом, и этому резюме напрямую соответствует поведение в партизанском отряде Юрия Живаго, который временами готов на крайние меры, готов убить Ливерия [IV: 338], но терпит, смиряется, а из лагеря уходит, вспыхивая внутренне так же неожиданно, как вспыхивает внешне Петров. Пастернак не описывает внутренних терзаний Живаго, поскольку вся внутренняя «механика» уже давно и подробно была рассказана Достоевским. Этим, в частности, объясняется усиливающийся к концу лаконизм повествования в «Докторе Живаго». «Арестант послушен и покорен до известной степени; но есть крайность, которую не надо переходить. Кстати: ничего не может быть любопытнее этих странных вспышек нетерпения и строптивости. Часто человек терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшие наказания и вдруг прорывается на какой-нибудь малости, на каком-нибудь пустяке, почти за ничто. На иной взгляд, можно даже назвать его сумасшедшим; да так и делают» [Достоевский, IV: 14].
Объяснение такого поведения Горянчиков даёт ниже: «А между тем, может быть, вся-то причина этого внезапного взрыва в том человеке, от которого всего менее можно было ожидать его, - это тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе, желание заявить себя, свою приниженную личность, вдруг появляющееся и доходящее до злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог. Так, может быть, заживо схоронённый в гробу и проснувшийся в нём колотит в свою крышу и силится сбросить её, хотя, разумеется, рассудок мог бы убедить его, что все его усилия останутся тщетными. Но в том-то и дело, что тут уж не до рассудка: тут судороги. Возьмём ещё в соображение, что почти всякое самовольное проявление личности в арестанте считается преступлением; а в таком случае, ему, естественно, всё равно, что большое, что малое проявление. Кутить - так уж кутить, рискнуть - так уж рискнуть на всё, даже хоть на убийство. И только ведь стоит начать: опьянеет потом человек, даже не удержишь! А потому всячески бы лучше не доводить до этого. Всем было бы спокойнее. Да; но как это сделать?» [там же: 67].
Уход Юрия Живаго от партизан - самое выразительное проявление такого взрыва, но, опять-таки, не внешнего, а внутреннего. Все другие переправы также в том или ином виде воспроизводят психологический комплекс, вскрытый Достоевским и соотносящийся со сказочно-мифологическим мотивом «второго рождения», который в то же время является одним из важнейших в творчестве Пастернака.
Оставление Горянчиковым своих «арестантских обносков, рубашек, подкандальников» Сушилову, а также расковывание кандалов при освобождении из острога и определение им свободы и своего состояния как «воскресения из мёртвых» [там же: 231-232], чем завершаются «Записки...», представляет собой не только аллюзию на воскрешение Лазаря, но и вывернутый сказочный мотив воскрешения красавицы, лежащей в гробу. Кандалы, которые арестанты носят под одеждой, соотносятся со сказочными предмета
526
Глава 6
ми, которые приносят временную смерть, когда одеваются, в том числе и под одежду. Да и сами одеяния арестантов подобны одежде, надевание которой чревато смертью. Ср. с тем, что Живаго, уходящий от партизан, лишь тогда «воскресает», когда жуёт/ не жуёт ягоды рябины (аналог сказочного отравления), о чём говорит часовому, и когда оказывается освобождён от прежней (чужой) одежды - «раздет, и умыт, и лежит в чистой рубашке» [IV: 392]. И у Достоевского, и у Пастернака на месте воскрешаемой девушки оказываются мужчины. В «Докторе Живаго» ролью воскрешающего красавицу царевича наделяется женщина - Лара. В сказочном плане возможность этого воскрешения доктора определяется тем, что «сказочный персонаж может быть возвращён к жизни» «только в случае преждевременной гибели» [Смирнов 1981: 27], аналогом которой является его попадание в плен к партизанам.
Соотнеся Юрия Живаго с Достоевским, уход доктора из лагеря можно трактовать также как возвращение Достоевского с каторги в предшествующее его осуждению время. Живаго в таком случае возвращается, имея за плечами весь духовный опыт позднего Достоевского. А.М. Эткинд, имея в виду, что доктор ведёт себя как член тайной секты бегунов, отмечает, что, «поминая “бегунчиков”, Пастернак указывает на своего героя. Когда Смирнов транслитерирует имя Живаго с французского «Je vague», он мог бы перевести его на русский: получился бы как раз “бегун”» [Эткинд А. 2001: 446]. Заметим, что когда А.М. Эткинд «впитывает» в бегство Юрия Живаго такой смысл, он мог бы учесть особенности употребления этого слова у Достоевского, а также влияние, которое оказала на Пастернака поэма А.Н. Майкова о бегунах «Странник» (1866). Это произведение высоко ценилось Достоевским (см.: [Достоевский, XVIII (2): 170-171]), который «не только тщательно следил за литературой о раскольниках, но и способствовал её публикации. О раскольниках, в частности, о секте бегунов <.. .> опубликована в журнале братьев Достоевских “Время” статья А.П. Щапова “Земство и раскол. Бегуны”» [Альтман 1975: 42]. Из поэмы «Странник» происходит картина, рисующаяся в воображении Ивана Карамазова, когда его охватывает «белая горячка» [Смирнов 1996: 177]. Делая Живаго бегуном, Пастернак вновь актуализировал остро стоявшую в XIX веке и интересовавшую Достоевского, Майкова, Щапова проблему противостояния и борьбы бегунов (шире - раскольников) с государственной властью и официальной церковью (см.: [Достоевский, VII: 393-395]. Поскольку самодержавие сменилось «диктатурой пролетариата», такое же обращение претерпели и методы борьбы. По ходу повествования доктор всё глубже «погружается» во всё более древний раскол, проходя едва ли не все его разновидности и стадии. Ещё одна трактовка «бегунчиков» - «мальчики кровавые в глазах» (см.: [Лавров 1993:245]) - расширяет пушкинские ассоциации, возникающие у читателя в связи с образом Палых.
Но образ Юрия Живаго как бегуна следует и трактовке Вяч. Ив. Иванова, высказанной в письме XI от 15 июля 1920 г. к М.О. Гершензону, вошедшему в «Переписку из двух углов»: «Так и в культуре есть сокровенное движение, влекущее нас к первоисто-кам жизни. Будет эпоха великого, радостного, всё постигающего возврата. Тогда забьют
Опыт Достоевского в советских условиях
527
промеж старых плит студёные ключи, и кусты роз прозябнут из старых гробниц. Но чтобы скорее дожить до этого дня, дальше и дальше надлежит идти, а не обращаться вспять: отступление только замедлило бы замкнутее кольца вечности. Мы же, русские, всегда были, в значительной нашей части, бегунами. Нас подмывает бежать, бежать без оглядки. Мне свойственно непреодолимое отвращение к решению какого бы то ни было затруднения - бегством» [Иванов, III: 412]. Одним из вариантов такого неприемлемого бегства Иванов считал «опрощение» - в противовес «упрощению» как результату прохождения через «сложность». Живаго был таким же бегуном поневоле, как и Иванов, и к концу жизни достиг «упрощения», которое было противоположно уже не толстовскому, которое не принимал Иванов, а советскому «опрощению».
Достоевский бегунами именует не только сектантов, но и просто бродяг, которых в Сибири было немало (см.: [Достоевский, IV: 173-175]). Доктор, пробирающийся сквозь Сибирь в Юрятин, а позже оттуда в Москву, выглядит именно как бродяга. Маркел Щапов, пренебрежительно называя Юрия Живаго «благородным каменщиком», упрекает его: «Не надо было в Сибирь драть, дом в опасный час бросать. <.. .> Тоньку не сберёг, по заграницам бродяжествует» [IV: 475]. Определения Маркела, которыми он старается оскорбить доктора, парадоксальным образом оказываются верными: Живаго возвращается в Москву именно тайным заговорщиком, сектантом-бегуном, мистическим анархистом, масоном. Москва, куда возвращается доктор, - конечный пункт его странствий. Одно из мест, где он оказывается, - дворницкая Маркела. Это помещение является одним из многих в «Докторе Живаго» инверсированных аналогов как сказочного «большого дома», так и острога из «Записок...». Интертекстуальная связь с текстом Достоевского проявляется в описании обеда у Щаповых, которое имеет много общего с описанием завтрака арестантов, который Горянчиков наблюдает в кухне (ср.: [IV: 474-475] и [Достоевский, IV: 24]). Герой Достоевского видит эту сцену в первый день своего пребывания в остроге, и описание находится в начале «Записок...» - в «Докторе Живаго» сцена обеда у Щаповых, в котором доктор, как и Горянчиков в остроге, не участвует (во всяком случае Горянчиков не упоминает о том, что он что-то ел) располагается ближе к концу романа и в силу зеркальности сигнализирует о скорой кончине Юрия Живаго. У Достоевского о смерти Горянчикова издатель его «Записок...» сообщает до того, как читатель приступает к собственно «Запискам...», к повествованию о каторге. Кончина доктора, пожившего некоторое время в комнате в Камергерском переулке, где он занимался творчеством, соотносится, таким образом, со смертью Горянчикова, который умирает, пожив некоторое время на свободе и написав свои «Записки...». Однако если учитывать зеркальность, то после смерти Юрия Живаго, соотнесённой со смертью Горянчикова, должно последовать его подлинное освобождение, соответствующее жизни на свободе героя Достоевского.
Следы «Записок...» простираются за пределы партизанских глав не только в последующее, но и в предшествующее повествование. Одним из ярких эпизодов, отсылающих к «Запискам...» и к самому Достоевскому как прообразу его героя Горянчикова,
528
Глава 6
является сцена расчистки от снега железнодорожного пути. Живаго раскидывает снег с таким же удовольствием, как это делал Достоевский (и Горянчиков) [Достоевский, IV: 81-82]. Впрочем, это нравилось делать и Пастернаку, о чём свидетельствуют, например, воспоминания его сестры Лидии [Воспоминания о Пастернаке 1993: 32]. Эти же параллели отмечены В.А. Тунимановым [2004: 301-302, 319]. Главам 14-17, в которых повествуется о расчистке пути, предшествует 13-я, описывающая скандал, устроенный отказывающимся везти дальше машинистом. Обе остановки поезда относятся к части седьмой «В дороге». Этот машинист, которого быстро усмиряет совершенно спокойный матрос-украинец, «рыжий великан», - подобен арестантам из «Записок...», выдвигающим «претензию»; их так же быстро, но с яростными криками, злостью и бешенством усмиряет рыжий «восьмиглазый» майор. Глава VII «Претензия» находится во второй книге «Записок...», а глава VII «Новые знакомства. Петров», в которой речь идёт о работах по расчистке снега, - в первой. Зеркальность расположения эпизодов в одинаковых по счёту главах, но разных книгах у Достоевского Пастернак трансформирует в смежное расположение сцен в разных главах одной части и переворачивает порядок: сначала идёт скандал с машинистом, затем расчистка снега.
Позже мы ещё вернёмся к фигуре Маркела в связи с сектантством. Здесь же обратим внимание на детали, сближающие Юрия Живаго с бегунами, описанными Достоевским в «Записках...». Глава V «Летняя пора» начинается с описания весны и того действия, которое она оказывает на настроения и поведение арестантов, подающихся в бега. С этой страницей перекликается внутренний монолог доктора, обосновавшегося после возвращения от партизан в доме Лары, о ней и о России: «Вот весенний вечер на дворе. Воздух весь размечен звуками. <.. .> Слёзы восхищения и раскаянья застлали ему взор» [IV: 388-389]. Достоевский далее подробно описывает жизнь бродяг и беглецов - в «Докторе Живаго» обоснованию доктора в доме Лары предшествует его долгий путь через Сибирь, подобный бродяжествам беглецов Достоевского, но в корне отличающийся тем, что у этого пути есть цель: Живаго, в частности, возвращается к Ларе и семье. Палых, который жалуется доктору на «бегунки», наталкивает доктора на решение проблемы плена. Юрию Живаго остаётся только перевернуть диагноз, который он ещё раньше поставил Памфилу, в применении к себе, что он и делает. Реализованное в спонтанном убийстве семьи в палатке безумие Палых, который затем бежит из лагеря, в случае доктора становится такой же спонтанной внутренней вспышкой в землянке Ливерия, воспоминанием о семье и последовавшим за этим уходом от партизан, которые, по-види-мому, восприняли бегство морозной зимой и почти без припасов как чистое безумие. Горянчиков даёт подробное описание одного из закоренелых бегунов, отбывавших наказание в остроге [Достоевский, IV: 174-175]. Отметим, что эта характеристика безымянного «мужичонки» дала Пастернаку богатый материал для создания образа главного героя, является своего рода тайным комментарием к действиям доктора и даже может восприниматься как описание Юрия Живаго, находящегося в отряде, как бы со стороны, словно его увидел посторонний человек. Арестанты, как их описывает Горянчиков,
Опыт Достоевского в советских условиях
529
обычно решались бежать весной. Решался «из сотни один», а «переменить свою участь» удавалось лишь одному из десяти. Так текст «Записок...» даёт представление о том, насколько трудным и почти невероятным по шансам на успех, «безумным» был уход Юрия Живаго от партизан. Трудность эта усугублялась тем, что доктор бежал зимой, в морозы - на верную смерть от голода и холода в тайге. Горянчиков рассказывает, что бегуны «к осени, если их не изловят предварительно, большею частию сами являются густыми толпами в города и в остроги в качестве бродяг и садятся в тюрьмы зимовать, конечно, не без надежды бежать опять летом» [там же: 176].
Живаго приходит в Юрятин, а позже в Москву, наводнённую толпами «бесчисленных красноармейцев», весной. В Москве к тому же он появляется «в серой папахе, обмотках и вытертой солдатской шинели, которая превратилась без пуговиц, споротых до одной, в запашной арестантский халат» [IV: 463]. В ответах на расспросы Тунцевой в Юрятине он старается уклониться от правды подобно бродягам, описанным в «Записках...», но самыми правильными ответами, как показывает ему Тунцева, оказывается та невероятная правда, что соответствует действительным его мытарствам. Эти значимые нарушения поведения бегунов свидетельствуют о различии целей побегов обычных арестантов, описанных Горянчиковым, и Юрия Живаго. С бегунами-сектантами доктора сближает стремление «принять страдание»15, но у Живаго, в отличие от них, это стремление тайное. Явно же в романе его профанирует Влас Пахомович Галузин, выступающий перед призывниками и приносящий «общественную жертву» - пьющий самогон [IV: 321].
У Достоевского слова «переменить свою участь» выделены курсивом. Многим арестантам, приговорённым на большие сроки, освободиться было уже невозможно, поэтому оставалось лишь «переменитьучасть» - попасть в итоге в другой острог [Достоевский, IV: 175]. Это объясняет, в частности, отказ Юрия Живаго последовать с Комаровским на Восток и, возможно, покинуть Россию. Доктор отправляется в Москву - «переменяет участь», чтобы иметь возможность справиться с духовно более сложными задачами и снять «порчу», которая «коснулась» времени.
6.1.8. Этот герой представляет собой персонификацию негативного отно-В мире Власов шения Достоевского к тому, как изображал народ, в частности Власа в стихотворении «Влас» (1855) и в поэме «Кому на Руси жить хорошо» (1876-1877), Н.А. Некрасов. Инвективы в адрес поэта, которыми начинается V статья «Влас» из «Дневника писателя. 1873», предваряли ужасную историю о двух деревенских «Власах», один из которых провоцировал другого на стрельбу по хлебу причастия. Тот, кто собирался выстрелить, да не смог, пошёл затем к старцу отмаливать грех. Однако, завершая статью, Достоевский вспоминал некрасовского «Власа» уже с надеждой и резюмировал: «Заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее.
15 Об этой идее в творчестве Достоевского - комментарии И.Д. Якубовича: [Достоевский, IV: 292].
530
Глава 6
Современный Влас быстро меняется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уж закутил. Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные, серьёзные, но несколько торопливые люди, и соображают по фактам, что если продолжится такой «кутёж» ещё хоть только на десять лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним «Власа» и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнётся Влас и возьмётся за дело божие. Во всяком случае спасёт себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасёт, ибо опять-таки - свет и спасение воссияют снизу» [Достоевский, XXI: 41].
Галузин-старший как раз и представляет собой уже изменившегося «Власа». Пастернак демонстрирует (не слишком впечатляющий) результат эволюции, начало которой обозначил Достоевский. О способности Галузина кого-либо спасти размышляет его жена: «Муж Власушка вдоль по тракту пустился новобранцам речи говорить, напутствовать призванных на ратный подвиг. А лучше бы, дурак, о родном сыне позаботился, выгородил от смертельной опасности» [IV: 308]. Галузин не спасает не только сына, но и себя. А «проснувшимися богатырями» оказываются преступные юнцы-призывники, имеющие всевозможные пороки. Таким образом, Пастернак не только развил интерпретацию «Власа», которую дал Достоевский, но и переосмыслил её, продемонстрировав, что надежды, которые возлагались на народ, не только не оправдались, но положение дел стало едва ли не более трагично и безнадёжно и оснований для оптимизма насчёт народа не осталось.
Но революция духовно и исторически обречена не только из-за испорченных юнцов с их украинской «генетикой», но также из-за «старых участников первой революции» Антипова и Тиверзина, происхождение которых то же самое. Об украинской этимологии фамилии Антипова мы писали выше. Что касается бывшего машиниста Тиверзина, то его фамилия может происходить, во-первых, от искажённого слова «тверёзый», которое само является искажением слова «трезвый» (в украинском «тверезий» означает «трезвый»), во-вторых, от слова «тиверцы» - названия восточно-славянского племенного объединения, которое, по данным БСЭ, обитало по реке Днестр до Чёрного моря и в устье реки Дуная. Тиверцы участвовали в походах на Царьград Олега (907) и Игоря (944). С середины X в. вошли в состав Киевской Руси. К XII веку под ударами печенегов и половцев тиверцы отошли к северу, где постепенно смешались с соседними славянскими племенами. В междуречье Днестра и Прута сохранились остатки нескольких групп славянских поселений и городищ (Алчедар, Екимауцы и др.), которые связываются с летописными тиверцами. Археологическими раскопками исследованы укрепления, жилища, мастерские ремесленников и др. Связь Тиверзина с «миром иным» - это и связь с выпивкой («зелёным змием»), и связь с историческим прошлым - судьбой ти
Опыт Достоевского в советских условиях
531
верцев, и с Украиной. В-третьих, фамилия Тиверзина «происходит» от имени римского императора Тиберия, сына Тиберия Нерона и преемника Августа. Тиберий прославился не только военными победами, зверствами и беспощадностью, но и жутким развратом. Проекции персонажей «Доктора Живаго» на деятелей древнего Рима требует отдельного исследования. Хтоничность Антипова и Тиверзина проявлена уже в самом начале романа: «Поближе к сумеркам, в стороне от дороги в поле, как из-под земли, выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности, и, часто оглядываясь, стали быстро удаляться» [IV: 30]. Эта сцена выхода из землянки, где проходило подпольное заседание забастовочного комитета, а также предшествовавшая сцена разговора Антипова с Фуфлыгиным обыгрывают стихотворение А.А. Блока «Выходили из тьмы погребов» (1904) [Блок, II: 153].
Прошедшие каторгу Антипов и Тиверзин, «сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары, свои жертвы, <.. .> сидели молчаливыми, строгими истуканами, из которых политическая спесь вытравила всё живое, человеческое» [IV: 316]. Они представляют собой персонажей, аналогичных «серьёзным» - арестантам из «Записок...», которые, как характеризует их Горянчиков, постоянно поддерживали «строгий напускной вид собственного достоинства, которым заражена была вся каторга до педантства <...>. В каторге было несколько человек, метивших на первенство, на знание всякого дела, на находчивость, на характер, на ум. Многие из таких действительно были люди умные, с характером и действительно достигали того, на что метили, то есть первенства и значительного нравственного влияния на своих товарищей. Между собою эти умники были часто большие враги, и каждый из них имел много ненавистников. На прочих арестантов они смотрели с достоинством и даже с снисходительностью, ссор ненужных не затевали, у начальства были на хорошем счету, на работах являлись как будто распорядителями, и ни один из них не стал бы придираться, например, за песни: до таких мелочей они не унижались. Со мной все такие были замечательно вежливы, во все продолжение каторги, но не очень разговорчивы; тоже как будто из достоинства» [Достоевский, IV: 72-73].
Именно с таким «достоинством» ведёт себя на собрании партизан Тиверзин, переспрашивая Костоеда, к которому неуважительно отнесся Ливерий. Одним из таких «серьёзных» и «мрачных» в остроге был «хохол» («термин» Достоевского), у которого по пути на работу вызвал негодование весельчак Скуратов. Этот «хохол» активно поддерживает настроение «серьёзности», и так же активно его блюдут на собрании партизан в Крестовоздвиженске Антипов и Тиверзин. Таким образом, малороссийская «генетика» и груз исторических судеб прототипов оказываются факторами, общими для персонажей, негативно оцениваемых и Достоевским, и Пастернаком. Если в «Записках...» «хохлы» блюдут условности каторги, то в «Докторе Живаго» они (или «генетически» связанные с Украиной персонажи) выступают разрушителями всех установлений старого мира, создавая в то же время каторгу новую, но в итоге сами исчезают, подобно тиверцам и северянам.
532
Глава 6
Композиция «Власа» Достоевского состоит из трёх частей: первая и третья содержат негативное и позитивное «припоминание» «Власа» Некрасова, центральная же - рассказ, восходящий к фольклорному преданию и народному поверью, в соответствии с которыми, как указывают авторы примечаний, проследившие связи «Власа» с фольклором и сославшиеся на ряд работ исследователей, «святотатственная стрельба в причастие (или причастием), а также в крест, в распятие и т. д., имеет магическое значение: она помогает охотнику стрелять без промаха» [Достоевский, XXI: 397]. К рассказу Достоевского о двух «Власах», один из которых провоцирует другого на стрельбу по причастию, а также к соответствующему преданию восходит эпизод стрельбы Юрия Живаго по наступающим на партизан белым. Кроме того, как указывает А. Ливингстон, «the scene could remind us of how the civilian Pierre Bezukhov wanders on the battle-field at Borodino, in War and Peace, and seizes hold of an enemy soldier just as the latter seized him, so that neither knows who is the captor and who the captured; or of Nikolai Rostov, in another battle in that book, looking into the French lad’s eyes as he takes him prisoner»16 [Livingstone 1989: 75-76].
Доктор жалеет «молодых людей» и стреляет по «мёртвому обгорелому дереву», однако попадает в трёх наступающих [IV: 331-333]. Это обугленное дерево - не только, как полагает И. Мазинг-Делич, символ собственно смерти, в которую стреляет Живаго, но и инверсированный аналог куста, из которого Бог говорил с Моисеем, а также Распятия17. Отмечая символичность эпизода, исследовательница полагает, что если рассматривать его реалистически, то он «is nonsensical and Zhivago’s behaviour absurd»18. Живаго как солдат предстаёт, по её мнению, солдатом в понимании Н.Ф. Фёдорова, своего дяди философа-фёдоровца Веденяпина. Стреляя в Ранцевича, а затем исцеляя его, доктор воплощает тем самым фёдоровскую идею физического воскрешения из мёртвых [Masing-Delic 1981: 301, 304, 311, 314]. Количество белых, в которых попал доктор, соответствует количеству распятых на Голгофе - Христу и двум разбойникам. Из этих троих выживает один Ранцевич, что соотносит его с воскресшим Христом. Однако белые точно так же стреляют в красных, как и те в них, и потому в позиции воскресшего Христа оказывается оставшийся в живых после боя Юрий Живаго. По «обе стороны» от него -убитый красный телеграфист и контуженный белый Ранцевич. У обоих он находит один и тот же (соответственно искажённый и неискажённый) текст 90-го псалма, который хранится в ладанке и тавлинке. Повествователь (= Живаго) отмечает, что «текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль» [IV: 334]. Но, учитывая проекцию эпизода на рассказ Достоевского, две бумажки с одним и тем же текстом могут тракто
16 «Сцена может напомнить нам, как гражданский Пьер Безухов (“Война и мир”) блуждает на поле битвы в Бородино и захватывает в плен вражеского солдата - так же, как и тот его, и никто из них не знает, кто берущий в плен и кто пленник; или, как Николай Ростов, в другом сражении в этой же книге, смотрит в глаза парня-француза, когда берёт его в плен» (англ.).
17 В частности, неучётом этого объясняется неудовлетворительность толкования И. Мазинг-Делич, сделавшей на основании сближения идей Пастернака с идеями Н.Ф. Фёдорова вывод, что для Пастернака «our common enemy <...> is nature» [Masing-Delic 1981: 306]. («Наш общий враг <...> природа» (англ.).)
18 «Бессмыслен, и поведение Живаго абсурдно» (англ.).
Опыт Достоевского в советских условиях
533
ваться иначе. Комментаторы приводят следующую версию поверья: «“В Харьковской области, - пишет Н.Ф. Сумцов,-я слышал такое поверье: чтобы сделаться искусным стрелком, нужно на время причащения удержать часть святых даров под языком, потом заделать их в кусочек дерева и носить при себе. Говорят, один человек так и поступил; но при стрельбе он увидел перед собой распятого Спасителя” (Н.Ф. Сумцов. Культурные переживания. - Киев, 1890, стр. 392; указано М.С. Альтманом)» [Достоевский, XI: 397].
Эти бумажки с текстами псалма оказываются аналогами спрятанной стрелками части святых даров (не съедобных даров, но духовной пищи). В позиции Спасителя оказываются спасённый доктором Ранцевич и контузивший, но спасающий его Живаго. Комментаторы отмечают, что «в западноукраинских вариантах легенды святотатство выражалось обычно, как и у Достоевского, в стрельбе охотника в причастие. На связь этого фольклорного мотива с “Власом” указал Н.К. Пиксанов (см.: Н.К. Пиксанов. Достоевский и фольклор. - Советская этнография, 1934, № 1-2, стр. 152-165)» [там же: 397]. Поскольку бой, в котором участвует Живаго, происходит в Сибири, западноукраинское бытование легенды поддерживает её инверсированность в «Докторе Живаго» (Урал предстаёт осью симметрии для Украины и Сибири) и ориентацию на текст Достоевского и в то же время указывает на «генетику» греха.
Раскаяние грешника, стрелявшего в причастие, ведёт его к мудрому старцу, который налагает эпитимью. Образ старца «имеет фольклорные аналогии. <.. .> Во многих старообрядческих вариантах легенды есть образ старца-советодателя, противопоставленного священнику, который не мог освободить кающегося грешника от грехов и найти для него путь к спасению»19 [Достоевский, XXI: 397].
Ранцевич отнюдь не раскаивается в том, что стрелял в красных, чем выказывает свою профанность как двойника Христа: «Когда Ранцевич вполне оправился, они отпустили его, хотя он и не таил от своих избавителей, что вернётся в ряды колчаковских войск и будет продолжать борьбу с красными» [IV: 334]. Доктор же и во время боя стреляет вынужденно. А после эпизода с Ранцевичем и вовсе не берёт в руки оружия. Явного раскаяния он не проявляет (да и перед кем его проявлять?), но можно предположить, что чувствует его. Это вероятное раскаяние Юрия Живаго обусловливает необходимость его встречи с мудрым старцем. В роли такового оказывается женщина - Кубариха, встречи с которой доктор, однако, не искал, но которая оказывается неизбежной. В данном случае неизбежность диктуется пусть и перевёрнутым, но все же следованием Пастернака за преданием и за рассказом Достоевского. Кроме того, как указывает И.П. Смирнов, «история Сережи Ранцевича выворачивает наизнанку спасение Баира - героя фильма Пудовкина “Потомок Чингисхана” (1928). <...> Сережа Ранцевич - вариант инкорпорированного Логоса, слова Божия, даровавшего жизнь телу. Гимназист, чуть не убитый Юрием Андреевичем, иллюстрирует краеугольный концепт христианского вероучения
19 Комментаторы Достоевского указывают, что «подобный вариант основного мотива легенды обработан Н.А. Некрасовым в “Кому на Руси жить хорошо”» [Достоевский, XXI: 397]. Интереснейшие связи «Доктора Живаго» с этой поэмой требуют отдельного рассмотрения.
534
Глава 6
и вместе с тем метод, избранный Пастернаком при создании романа, в котором речь оборачивается перформансом» [Смирнов 20086: 340-341].
Поскольку композиция «Власа» состоит из трёх частей, а в эпизоде боя на лесной поляне обыгрывается центральная часть, то обращёнными аналогами первой и третьей можно считать соответственно историю родственника Галузиных Памфила Палых и историю самого Власа Галузина. Они занимают те же позиции по отношению к Юрию Живаго, остающемуся в живых в том бою, что и два разбойника, распятых по обе стороны от Христа. Галузин оказывается в роли «благоразумного разбойника», находившегося по правую руку Спасителя.
6.2. Востребованный жанр: «Записки из подполья»20
6.2.1. Едва ли не важнейшим сближением с «Записками из под-
Анархизм победившего полья» (1863), проведённым Пастернаком, является то, что Юрий Живаго своей философией и по отношению к социуму представляет собой также инверсию персонажа, от лица которого Ф.М. Достоевским созданы «Записки...». Юрий Живаго и 40-летний бывший чиновник, коллежский асессор, уважающий, по его словам, медицину и докторов - почти ровесники, но у героя Пастернака, который так же, как и его прототип, не лечит свою болезнь, нет «злости» и подробно озвучиваемых экстремальных рефлексий последнего, называющего себя «непривлекательным человеком» и тут же опровергающего это.
Юрий Живаго, вернувшийся из Сибири и Урала в Москву и поселившийся в комнате, отведённой ему Маркелом в доме Свентицких, мог бы сказать о себе словами героя Достоевского, но без его запала и вызова: «Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своём углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьёзно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель, -существом по преимуществу ограниченным. Это сорокалетнее моё убеждение. Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет - это вся жизнь; ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно! Кто живёт дольше сорока лет, -отвечайте искренно, честно? Я вам скажу, кто живёт: дураки и негодяи живут» [Достоевский, V: 100].
Именно эту «бесхарактерность» как черту «некрасивого» Юрия Живаго отмечает в своём прощальном письме его жена Тоня: «Я люблю всё особенное в тебе, всё выгодное и невыгодное, все обыкновенные твои стороны, дорогие в их необыкновенном соединении, облагороженное внутренним содержанием лицо, которое без этого, может
20 Параграф был опубликован: [Буров 2010а].
Опыт Достоевского в советских условиях
535
быть, казалось бы некрасивым, талант и ум, как бы занявшие место начисто отсутствующей воли» [IV: 413-414]. О «людях действенных, односторонних фанатиках, гениях самоограничений», производящих революции, размышляет и делает записи в Барыкине сам доктор, который не доживает до 40 лет [IV: 452]. Один из таких людей - Антипов-Стрельников - через несколько дней приходит в Варыкино и кончает самоубийством, тоже ле дожив до 40 лет. Противопоставленность пассивного Живаго активному Антипову-Стрельникову, а также мотивов их поведения имеет обоснование в «Записках...», при этом полемическая ссылка Живаго на Толстого, который «не довёл своей мысли» об истории и «людях действенных» «до конца», скрытым противовесом и контраргументом имеет пассаж из «Записок...», герой которых заявляет: «Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания - это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сиденье. <...> Повторяю, усиленно повторяю: все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограниченны. Как это объяснить? А вот как: они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают, таким образом скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, ну и успокоиваются; а ведь это главное. Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тащит за собою другую, ещё первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы. Что же наконец в результате? Да то же самое. Вспомните: давеча вот я говорил о мщении. <...> Сказано: человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, а следственно, и отмщает спокойно и успешно, будучи убеждён, что делает честное и справедливое дело. А ведь я справедливости тут не вижу, добродетели тоже никакой не нахожу <...>. А попробуй увлекись своим чувством слепо, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это время; возненавидь или полюби, чтоб только не сидеть сложа руки. Послезавтра, это уж самый поздний срок, самого себя презирать начнёшь за то, что самого себя зазнамо надул. В результате: мыльный пузырь и инерция» [Достоевский, V: 108-109].
Знание этих рассуждений доктором подразумевает пассивность его поведения, вынужденность действий, что читатель и наблюдает на протяжении всего романа и о чём ему даже сообщается устами персонажей (письмо Тони). Ср. также описанный здесь и ранее [там же: 103] психологический механизм, толкающий человека на мщение, с эпизодом, в котором у Антипова созревает решение идти добровольцем на фронт, его скорым «просветлением», последующими характеристиками красного военспеца, которым он стал, описаниями его действий и итоговым прозрением и понятными мотивами самоубийства в результате разговора с Юрием Живаго в Барыкине [IV: 108-111, 249-251, 454-461].
536
Глава 6
Герой «Записок...» оказывается предтечей трагических персонажей Пастернака, тогда как различие эпох - то же, что отмечает Гордон в отношении эпохи Блока: «Теперь всё переносное стало буквальным, и дети - дети, и страхи страшны, вот в чём разница» [IV: 513]. Именно так, «буквально», но не афишируя, Живаго воплощает своей жизнью, особенно после возвращения в Москву, «анархизм побеждённого» [Горький, XXV: 308], свойственный фантазирующему герою Достоевского. С той разницей, что у доктора - анархизм тайно победившего. Разительным «совпадением» Юрия Живаго с героем «Записок. ..» можно объяснить исчезновение к концу романа всяческого психологизма, всё нарастающую лаконичность в обрисовке мотивов поведения героя. Именно после возвращения в Москву с Урала доктор оказывается сначала благодаря Маркелу в «конце бывшей квартиры Свентицких» [IV: 473], а затем благодаря Евграфу в комнате в Камергерском переулке - ср. с рассказом героя «Записок...»: «Я служил, чтоб было что-нибудь есть (но единственно для этого), и, когда прошлого года один из отдалённых моих родственников оставил мне шесть тысяч рублей по духовному завещанию, я тотчас же вышел в отставку и поселился у себя в углу. Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу. Комната моя дрянная, скверная, на краю города» [Достоевский, V: 101].
Заметим, что Живаго служит (фиктивно) до поселения к Свентицким («возникли разного рода Дворцы Мысли, Академии художественных идей. В половине этих дутых учреждений Юрий Андреевич состоял штатным доктором» [IV: 472]) и едет на службу (впервые и с подачи Евграфа) после поселения в комнату в Камергерском переулке. Ситуация из «Записок...» предстаёт осевой по отношению к двум взаимоотражающим положениям «Доктора Живаго». Несколько страниц рассуждений протестующий герой «Записок...» посвящает разоблачению и опровержению прагматического «реестра человеческих выгод», стремление к достижению которых должно привести к «новым экономическим отношениям» [Достоевский, V: 110-113]. Особенно явно против собственных выгод Живаго начинает поступать, когда, несмотря на угрозу замёрзнуть, уходит из партизанского отряда, отказывается от предложения Комаровского ехать с ним на Дальний Восток и уходит в Москву. В последнем разговоре Юрия Живаго и Комаровского в Варыкине [IV: 444-447] отразились также рассуждения героя «Записок...» о духовно спасительной неблагодарности и своеволии человека. И рассуждения эти обращённо спроецированы не только на доктора, который при известии о выдуманном расстреле Антипова-Стрельникова «раздавлен страданием» и допускает, что «покорно приползёт» к Комаровскому, но и на самого Комаровского, добивающегося-таки отъезда Лары: «Даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепьянной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно напротив что-нибудь сделает, единственно из одной неблагодарности; собственно, чтоб настоять на своём. А в том случае, если средств у него не окажется, - выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своём!» [Достоевский, V: 117].
В отказе Юрия Живаго ехать с Комаровским и уходе в Москву буквально обыгрывается аргумент: «Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди
Опыт Достоевского в советских условиях
537
зазнамо, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая её чуть ли не в потёмках» [там же: 110].
Живаго своей судьбой воплощает то, о чём «фантазирует» его предшественник, который «даже и насекомым не сумел сделаться» [там же: 101]: «Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрёт руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам всё это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к чёрту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы ещё ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдёт: так человек устроен. И всё это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея). Своё собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздражённая иногда хотя бы даже до сумасшествия, - вот это-то всё и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо какого-то непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо - одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь чёрт знает.. .<.. .> свой каприз <...> во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность» [там же: 113, 115].
Рассуждения героя Достоевского о последователях не прошли мимо внимания Пастернака. Последователи доктора, одни - «растерянные и забытые» им, другие -«никогда не видавшие» его, обнаруживаются после его смерти: прощающихся «было немного, но всё же гораздо больше, чем можно было предположить. Весть о смерти человека почти без имени с чудесной скоростью облетела весь их круг. Набралось порядочное число людей, знавших умершего в разную пору его жизни и в разное время им растерянных и забытых. У его научной мысли и музы нашлось ещё большее количество неизвестных друзей, никогда не видавших человека, к которому их тянуло, и пришедших впервые посмотреть на него и бросить на него последний прощальный взгляд» [IV: 490].
Философия «собственного, вольного и свободного хотенья» и «капризы», от которых «все системы и теории постоянно разлетаются к чёрту», определяют поведение Юрия Живаго в Москве после 1922 года: «Марина прощала доктору его странные, к этому
538
Глава 6
времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего своё падение человека, грязь и беспорядок, которые он заводит. Она терпела его брюзжание, резкости, раздражительность. <...> Когда по его вине они впадали в добровольную, им самим созданную нищету, Марина, чтобы не оставлять его в эти промежутки одного, бросала службу <...>. Подчиняясь фантазии Юрия Андреевича, она отправлялась с ним по дворам на заработки» [IV: 476].
Влияние философии героя Достоевского (а также П.Я. Чаадаева) можно ощутить и в разговорах Юрия Живаго с Ливерием, и в поведении доктора с момента его ухода от партизан - до смерти. Так, влияние мыслей героя «Записок...» особенно сказывается в первом разговоре с Ливерием в землянке. Персонаж Достоевского обращается к воображаемым оппонентам: «Вот вы, например, человека от старых привычек хотите отучить и волю его исправить, сообразно с требованиями науки и здравого смысла. Но почему вы знаете, что человека не только можно, но и нужно так переделывать? Из чего вы заключаете, что хотенью человеческому так необходимо надо исправиться? Одним словом, почему вы знаете, что такое исправление действительно принесёт человеку выгоду? И, если уж всё говорить, почему вы так наверно убеждены, что не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего человечества? Ведь это покамест ещё только одно ваше предположение. Положим, что это закон логики, но, может быть, вовсе не человечества» [Достоевский, V: 118].
Данный отрывок отразился в ответе доктора на предложение Ливерия посещать занятия на курсах: «Во-первых, идеи общего совершенствования так, как они стали пониматься с октября, меня не воспламеняют. Во-вторых, это всё ещё далеко от осуществления, а за одни ещё толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние. Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие её духа, души её. Для них существование - комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий» [IV: 336].
Разговор Юрия Живаго и Ливерия резонирует также с опровержением «теории обновления всего рода человеческого посредством системы его собственных выгод», которое даёт герой «Записок...» [Достоевский, V: 111-112]. Отповедь доктора Ливерию имеет также интертекстуальным фоном III «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, а именно пассаж, касающийся важной для Чаадаева (а также Достоевского и Пастернака) проблемы подчинения. Столкновение на одном участке «Доктора Живаго» текстов Достоевского и Чаадаева вряд ли случайно, поскольку для Пастернака была важна заочная полемика Достоевского с его старшим современником. С приведённым ниже отрывком
Опыт Достоевского в советских условиях
539
соотносятся как речь Живаго, так и обращение героя «Записок..И текст Достоевского, и текст Чаадаева вполне могли бы звучать в адрес Ливерия из уст Живаго.
Чаадаев писал: «Но ведь закон только потому и закон, что он не от нас исходит; истина потому и истина, что она не выдумана нами. Мы иногда устанавливаем правило поведения, отступающее от должного, но это лишь потому, что мы не в силах устранить влияние наших наклонностей на наше суждение; в этих случаях нам предписывают закон наши наклонности, а мы ему следуем, принимая его за общий мировой закон. Конечно, есть и такие люди, которые как будто без всяких усилий сообразуются со всеми предписаниями нравственности; таковы некоторые выдающиеся личности, которыми мы восхищаемся в истории. Но в этих избранных душах чувство долга развилось не через мышление, а через те таинственные побуждения, которые управляют людьми помимо их сознания, в виде великих наставлений, которые мы, не ища их, находим в самой жизни и которые гораздо сильнее нашей личной мысли, являющейся частью мысли, общей всем людям: ум бывает поражён то примером, то счастливым стечением обстоятельств, подымающих нас выше самих себя, то благоприятным устройством всей жизни, заставляющими нас быть такими, какими мы без этого никогда бы не были; всё это живые уроки веков, которыми причудливо наделяются по неведомому нам закону определённые личности; и если вульгарная психология не отдаёт себе отчёта в этих таинственных пружинах духовного движения, то психология более углублённая, принимающая наследственность человеческой мысли за первое начало духовной природы, находит в этом разрешение большей части своих вопросов. Так, если героизм добродетели или вдохновение гения и не вытекали из мысли отдельного человека, они являются все же плодом мысли протекших веков. И всё равно, мыслили мы или не мыслили, кто-то уже мыслил за нас ещё до нашего появления на свет; в основе всякого нравственного действия, каким бы оно ни казалось спонтанным и самостоятельным, всегда лежит, следовательно, чувство долга, а тем самым - подчинения» [Чаадаев 1991,1: 360].
Живаго умирает во время первой поездки на службу в Боткинскую больницу, место в которой ему выхлопотал Евграф. Зная о своей болезни сердца, он, проявляя то самое «самостоятельное хотенье», всё же дергает раму окна в трамвае и умирает, так и не попав на службу, то есть не перестав быть истинным анархистом, ни в чём не согласившись с Гордоном и Дудоровым и толпой в трамвае - духовными наследниками проповедовавшего «разумный эгоизм» материалиста Н.Г. Чернышевского, идейным противником которого был Достоевский21. Живаго - такой же «антигерой» для современного ему социума, каким был для общества своего времени персонаж Достоевского. С другой стороны, для автора (и, следовательно, читателя) он представал подлинным героем, таким же «подпольным», каким был его предшественник. Если Достоевский, как указывает Е.И. Кийко, «создавая “подпольного” героя, <.. .> имел в виду показать самосознание представителя одной из разновидностей “лишних людей” в новых исторических
21 Подробнее о полемике Достоевского с Чернышевским, отразившейся в «Записках...», см. в комментариях Е.И. Кийко: [Достоевский, V: 379]. Там же - литература вопроса.
540
Глава 6
условиях» [Достоевский, V: 377], то Пастернак, делая то же самое, учитывал, что Живаго тайно противостоит советским временам, «отменившим» прежние, в которых «лишним» оказывался герой Достоевского. Если в 60-х годах XIX века «отчуждение от жизни, разрыв с действительностью» воспринимались критиками, в частности Н.Н. Страховым, как «язва», существующая в русском обществе [там же: 377], то в 20-х годах XX века героем Пастернака они ощущались единственно возможными и дающими шанс на благую судьбу и праведность. В отличие от Достоевского, который, как отмечает Е.И. Кийко, «впервые указал на социальную опасность превращения “самостоятельного хотения” личности в “сознательно выбираемый ею принцип поведения”» [там же: 383], Пастернак продемонстрировал на примере «лишнего человека» Юрия Живаго духовную опасность такого непревращения в советских условиях. Именно этот «принцип поведения» доктора явно противопоставляет морали по поводу «неуместного высокомерия», которую читает ему Ливерий, а внутренне - аналогичным призывам Гордона и Дудорова «перемениться, исправиться», «пробудиться от сна и лени, воспрянуть, разобраться без неоправданного высокомерия, да, да, без этой непозволительной надменности, в окружающем, поступить на службу, заняться практикой» [IV: 480-481]. Эти упрёки в применении к Юрию Живаго обращённо соотносятся с фантазиями героя Достоевского о том, как он бы «себе тогда выбрал карьеру: <.. .> был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому» (см.: [Достоевский, V: 109-110]). Однако ответ Юрия Живаго касается в основном лишь «внешних» обстоятельств его жизни, улаживания семейных проблем. Прямой же ответ на призывы друзей, касающийся лично доктора и объясняющий, кстати, внутреннее состояние и причины его «падения» во время жизни с Мариной, содержится в «Записках...»: «Я вам объясню: наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения; оттого, что уж сам чувствуешь, что до последней стены дошёл; что и скверно это, но что и нельзя тому иначе быть; что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком; что если б даже и оставалось ещё время и вера, чтоб переделаться во что-нибудь другое, то, наверно, сам бы не захотел переделываться; а захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, потому что на самом-то деле и переделываться-то, может быть, не во что. А главное и конец концов, что всё это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающей из этих законов, а следственно, тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь. <.. .> Главное же, как ни раскидывай, а всё-таки выходит, что всегда я первый во всём виноват выхожу и, что всего обиднее, без вины виноват и, так сказать, по законам природы» [там же: 102,103].
Текст Достоевского проясняет и мягкость доктора в ответ на требовательность, и его предшествующую реакцию22 на рассказ Дудорова. Живаго напоминает при этом
22 Она согласуется с позицией самого Пастернака, сообщавшего в письме к О.М. Фрейденберг от 26 марта 1947 г.: «Разумеется, я всегда ко всему готов. Почему с Сашкой и со всеми могло быть, а со мной не будет? Ничего никому не пишу, ничего не отвечаю. Нечего. Не оправдываюсь, не вступаю в объяснения» [IX: 493]. «Сашка» - брат О.М. Фрейденберг, который «был арестован в августе 1937 г. и осужден на пять
Опыт Достоевского в советских условиях
541
друзьям о своей болезни сердца и о возрасте (о котором ранее говорил герой Достоевского): «Это болезнь, склероз сердечных сосудов. <.. .> А ведь мне нет сорока ещё. <.. .> Это болезнь новейшего времени. Я думаю, её причины нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведённого криводушия. Нельзя без последствий для здоровья проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастие. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она - состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Её нельзя без конца насиловать безнаказанно. Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама объезжала себя в манеже» [IV: 480].
Отвечая так друзьям, доктор проявляет себя именно как человек, о котором писал во II «Философическом письме» П.Я. Чаадаев: «Где человек, столь сильный, чтобы в вечном противоречии с самим собою, постоянно думая одно и поступая по-другому, не опротивел самому себе?» [Чаадаев 1991,1:346]. Герой Пастернака, однако, духовно силён тем, что поступает, в отличие от друзей, в соответствии со своими мыслями. Чаадаевский текст показывает, что друзья «опротивели», но не «самим себе», а доктору, который не приемлет то, что люди, ставшие духовными рабами, говорят о том, что стали свободными, на деле же рабами в квадрате (слова Живаго в адрес Дудорова). Пастернак, таким образом, спорит с Чаадаевым о том, в чём должна проявляться духовная сила человека. О.В. Ивинская отметила сходство отповеди доктора друзьям и его жёсткой реакции на упрёки Ливерия с резким письмом Пастернака от 14 сентября 1959 г. к Б.Н. Ливанову, в котором порывал с ним, а также выражал своё неприятие жизненных позиций В.Ф. Асмуса и Г.Г. Нейгауза (см.: [Ивинская 1978: 324-325]). Примером такого поступка для Пастернака могло служить нелицеприятное письмо Чаадаева к Ф.Ф. Вигелю, написанное в 1853 г. (см. письмо № 196 - [Чаадаев 1991, II: 267]). Любопытно также совпадение: и Чаадаев, и Пастернак расставляют точки над «i» в конце жизни. Появление скрытой отсылки к Чаадаеву в подтексте, ориентированном на Достоевского, актуализирует во-23 прос о притяжении-отталкивании второго по отношению к первому .
Тогда как Живаго болен физически, его «сознательные» друзья, пекущиеся о его выгоде, - духовно. Именно по отношению к ним он является врачом, исцеляющим духовные болезни, одна из которых - «сознательность». «Всякое сознание болезнь», - говорит герой Достоевского. И Пастернак перетолковывает эту мысль, видя вокруг себя результаты «сознательности», в частности «новые экономические отношения» и их проявление - нэп. Последняя встреча Юрия Живаго и друзей в перестроенном бывшем ателье - пародийном аналоге хрустального дворца - выявляет разницу, с которой каждый из них своей жизнью (соответственно: внешне и внутренне) воплощает вопросы героя *
лет в январе 1938 г. “по подозрению в шпионаже” <...>. Очевидно, в 1939 г. был расстрелян» [Пастернак 1989-1992, V: 644].
23 См. об этом комментарии: [Чаадаев 1991, II: 567].
542
Глава 6
«Записок...»: «Разве сознающий человек может сколько-нибудь себя уважать? Ну, разве можно, разве можно хоть сколько-нибудь уважать себя человеку, который даже в самом чувстве собственного унижения посягнул отыскать наслаждение?» [Достоевский, V: 107].
Обыгрывая образ «хрустального дворца», Пастернак становится, так сказать, на сторону Достоевского, полемизировавшего с соответствующими представлениями из «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, который, в свою очередь, числя себя последователем Ш. Фурье, извлёк этот образ из «Теории всемирного единства» (1841 )24. Среди деталей, которые позволяют опознать в «Докторе Живаго» претекст, - «цельная зеркальная витрина» бывшей мастерской (в «Записках...» - хрустальный дворец); скука, проявляющаяся в «неторопливости беседы» Юрия Живаго с друзьями, и «остатки золотых букв» -«фамилия портного и род его занятий» («золотые булавки», которые Клеопатра «любила втыкать в груди своих невольниц», и мысль героя «Записок...» о том, что «никак нельзя гарантировать <...>, что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда всё будет расчислено по табличке) <...>. Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются») [IV: 477-478; Достоевский, V: 112-113]. Вопросом второго плана предстаёт амбивалентность отзвуков в «Докторе Живаго», при том, что необходимо учесть: герой Достоевского не хочет принять за «венец желаний <.. .> капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет» [Достоевский, V: 120] и предпочитает ему недостижимый «хрустальный дворец».
Впрочем, нельзя сказать, что Пастернак сделал Юрия Живаго однозначно сторонником воззрений и духовным наследником литературного предшественника. Степень амбивалентности отношения доктора к идеям не менее неоднозначного героя «Записок. ..» ярко проявляется как раз в его реакции (см. выше) на рассказ Дудорова о пользе страдания. В проекции нижеследующего пассажа на эпизод последней встречи Юрия Живаго с друзьями в комнате Гордона доктор, которому «невероятно, до страсти хочется жить» [IV: 481], предстаёт в большей степени противником страдания и сторонником благоденствия и здравого смысла, противного советской страсти к разрушению и «сознательности», а Дудоров - фигурой, пародирующей трагического персонажа Достоевского. Весомой составной такой позиции является постапокалиптическое ощущение действительности, проявляющееся в последней речи доктора перед друзьями.
«И почему вы так твёрдо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, - одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? <...> Может быть, он ровно настолько же любит страдание? <.. .> А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт. <...> Что же касается до моего личного мнения, то любить одно только благоденствие даже как-то и неприлично. <.. .> Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я... за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за
24 Подробно о Ш. Фурье в «Докторе Живаго» - [Смирнов 1996: 115-121]; комментарий - [Достоевский, V: 384].
Опыт Достоевского в советских условиях
543
хрустальный дворец, в котором можно усумниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание - да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастие, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. После дважды двух уж, разумеется, ничего не останется, не только делать, но даже и узнавать. Всё, что тогда можно будет, это - заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну, а при сознании хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но по крайней мере самого себя иногда можно посечь, а это всё-таки подживляет. Хоть и ретроградно, а всё же лучше, чем ничего» [Достоевский, V: 119].
Усиление амбивалентности воззрений героя Достоевского прямо отражается на персонажах «Доктора Живаго». Так, в финале романа внутренне перерождённые войной Гордон и Дудоров, читающие «Стихотворения Юрия Живаго», предстают преображёнными в полном соответствии с мыслью персонажа «Записок...» о том, что «без чистого сердца - полного, правильного сознания не будет» [там же: 122]. Живаго показан таким в последней беседе с друзьями.
Как отмечает Е.И. Кийко, «сопоставление “Записок из подполья” со статьями Достоевского 1861-1864 гг. и “Зимними заметками о летних впечатлениях”, проделанное А.П. Скафтымовым, со всей очевидностью убеждает в том, что “герой подполья воплощает в себе конечные результаты “оторванности от почвы”, как она рисовалась Достоевскому”25» [там же: 378]. Оставляя в стороне вопрос о том, был ли знаком Пастернак с исследованием А.П. Скафтымова, вышедшим в значимом для судьбы героя романа 1929 году, отметим, что Юрий Живаго с семьёй отправляются из Москвы на Урал, чтобы, как говорит Евграф, «на земле посидеть» [IV: 207]. Зимой в Варыкине Живаго пишет (в числе прочих) именно заметки о летних впечатлениях [IV: 276-287]. А сходство с героем «Записок из подполья» начинает всё яснее и чаще проявляться после того, как партизаны отрывают доктора от «почвы». Каждый последующий «уход» доктора - это ещё одно, ещё большее внешнее и невольное приближение к «почве» и, с другой стороны, ещё более глубокое внутреннее отрешение «от почвы и народных начал» [Достоевский, V: 107] в их различных проявлениях.
6.2.2. Вторая часть «Записок из подполья» - «По поводу мокрого сне-
«Антигерой» среди га» _ является важнейшим претекстом в отношении параллель-«мертворожденных» ных СИТуаций «Доктора Живаго», построенного по такой же двух-
частной модели: ухода семьи Громеко-Живаго из дома на Арбате на вокзал и получения доктором в Юрятине письма, написанного Тоней, вынужденной насильно отправиться в Париж. Это письмо представляет собой также трансформацию прощального письма Варвары Алексеевны Добросёловой Макару Алексеевичу
25 Комментатор цитирует: А.П. Скафтымов. «Записки из подполья» среди публицистики Достоевского. «Slavia», 1929, т. VIII, вып. 1, стр. 101-117; вып. 2, стр. 312-334.
544
Глава 6
Девушкину из романа «Бедные люди» (см.: [Достоевский, I: 106]). Тем самым в соответствующих местах «Доктора Живаго» актуализируются интертекстуальные связи с романом-предшественником. Аналогичным образом в сцене получения письма и изображении реакции на него (а также в сцене самоубийства отца Юрия Живаго, бросившегося с поезда) отразился эпизод получения Пастернаком письма от отца с припиской, что стихи Бориса известны Р.М. Рильке. «Послесловье» с описанием этого эпизода не вошло в окончательный текст «Охранной грамоты» [IV: 522-524].
Мокрый снег начинает падать, когда герой Достоевского, наблюдающий за погодой в окно, собирается на обед с ненавидимыми и презираемыми им пошлыми «друзьями» в петербургский «Hotel de Paris». После скандальной попойки герой на извозчике (мокрый снег при этом продолжает валить) приезжает в тайный публичный дом и ночью, лежа и меняя положение тела, при потухшей свече с огромной душевной болью и страдая в то же время от пьяного угара, рассказывает начинающей 20-летней проститутке Лизе о радостях семейной жизни и настоящей любви. Та в ответ, желая показать, «что и её любят честно и искренно», просит уходящего героя подождать (тот ждёт минуту), приносит и даёт прочесть «единственную свою драгоценность» - письмо «медицинского студента», в котором «сквозь высокий слог проглядывало истинное чувство, которого не подделаешь». Герой записывает: «Я ничего не сказал, пожал ей руку и вышел. Мне так хотелось уйти... Я прошёл всю дорогу пешком, несмотря на то, что мокрый снег всё ещё валил хлопьями. Я был измучен, раздавлен, в недоумении. Но истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина!» [Достоевский, V: 163].
Пастернак инверсирует претекст в каждой из ситуаций, перекликающихся со «снежными» эпизодами «Записок...». Так, Живаго видит, как «за окном падает снег» [IV: 415], после прочтения письма Тони, уезжающей в Париж (а в момент его чтения уже находящейся там). В первой книге «Доктора Живаго» в Москве, отправляясь на Урал, доктор пешком идёт на вокзал во время начавшегося снегопада, тогда как Тоня с другими членами семьи отправляются туда на извозчике и опережают его [IV: 213]. О переживаниях Юрия Андреевича повествователь не рассказывает, но, по-видимому, они очень сильны и, будучи спроецированы (автором для читателя, доктором - для себя) на персонажей Достоевского, связаны с Ларой, живущей на Урале, «последовать прямо» за которой из Мелюзеева ревниво убеждала его ранее Тоня [IV: 131]. Во время поездки из «Hotel de Paris» вслед за «обидчиком» Зверковым в дом терпимости герой «Записок...» фантазирует о том, что после пощечины, которую он даст Зверкову, и скандала его сошлют в Сибирь, и что скандал «уж непременно сейчас, теперь случится, и уж никакими силами остановить нельзя» [Достоевский, V: 151]. «Помня» о своём литературном предшественнике, Живаго, идущий на вокзал, может думать о неизбежности отправки на Урал и неизбежности столкновения с антиподами - Антиповым-Стрельниковым и Комаровским. Наконец, тема мокрого снега в «Докторе Живаго» и монолог Симы, разговаривающей с Ларой, который лежа слушает Юрий Живаго, связана с темой преждевременной смерти в результате болезней, полученных Лизой в доме терпимости, которую
Опыт Достоевского в советских условиях
545
в душеспасительном монологе лежа развивает перед Лизой герой «Записок...»[там же: 159-161].
Живаго впервые видел Лару, такую же «униженную и оскорблённую», как и Лиза, в номере московской гостиницы «Черногория». Эта гостиница представляет собой контаминацию петербургского «Hotel de Paris» и комнат в ночном доме терпимости, который днём был одним из «тогдашних «модных магазинов»». У Достоевского сходятся и разговаривают двое чужих людей, на безобразную «любовь» которых указывает Лизе герой «Записок»: «Ну скажи, ну что тут хорошего: вот мы с тобой... сошлись... давеча, и слова мы во всё время друг с дружкой не молвили, и ты меня, как дикая, уж потом рассматривать стала; и я тебя также. Разве эдак любят? Разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно, вот что!» [там же: 155].
В «Докторе Живаго» - напротив: любовь Юрия Андреевича и Лары «велика», и на это особенно обращает внимание повествователь [IV: 393]. Юрятинский дом с многочисленными комнатами, в котором находятся доктор и Лара, такой же чужой для них, как и «Hotel de Paris» и дом терпимости для персонажей Достоевского. Перед тем как Глафира принесла письмо, усталый Юрий Живаго, ходивший пешком на вокзал, «сидел, откинувшись на диване, временами принимая полулежачее положение или совсем растягиваясь на нём» [IV: 412] - ср. с состоянием героя «Записок...», который на следующий день после разговора с Лизой «вышел пройтись» [Достоевский, V: 165]. Страдания Тони и сердечная боль опустошённого страданием Юрия Живаго, «повалившегося» в обмороке на диван после чтения её письма, являются не просто отражениями страданий персонажей «Записок...», но соотносятся с ними как с усиливающим фактором. Падение доктора на диван резонирует и со следующей (после разговора в публичном доме) кульминационной сценой «Записок...», связанной с Лизой, пришедшей домой к герою. Последний оскорбляет её, но она понимает, что он сам несчастлив и унижен, и, когда она бросается к нему, он рыдает: «Мне не дают... Я не могу быть... добрым! -едва проговорил я, затем дошёл до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике» [там же: 175].
Ответ на упрёк Тони в адрес мужа в том, что он её не любит и «превратно, недобрыми глазами» смотрит на неё, содержится в пространном ответе героя «Записок...» на упрёк самому себе о том, что «невероятно было не полюбить её или по крайней мере не оценить этой любви». Однако аргументы Юрия Живаго если бы и были высказаны, то были бы противоположны объяснениям прототипа, для которого любить «значило тиранствовать и нравственно превосходствовать», поскольку он «от “живой жизни” отвык» [там же: 176]. На отношения героев «Записок...» обращённо спроецированы и отношения Юрия Живаго и Лары при получении доктором письма от Тони.
С указанными моментами снегопада в «Докторе Живаго» (и в большей мере с московской ситуацией) соотносится снегопад, идущий, когда герой «Записок...» выбегает из дому вслед за Лизой, чем и завершается история их двух встреч. Проводы Лизы взглядом, внутренний монолог героя «Записок...», его сидение вечером у себя дома
546
Глава 6
и описывание произошедшего с ним в повести можно узнать в проводах Лары доктором в Варыкине: Живаго также испытывает душевные мучения, произносит внутренний монолог и сидит затем в доме, за плачем по уехавшей с Комаровским Ларе «домарывая до конца свою мазню разных времён о всякой всячине» [IV: 451]. Мысль, которая посещает героя «Записок...» после расставания с Лизой, позволяет лучше понять мысли и состояния Юрия Живаго и женщин, с которыми он расстаётся: «И не лучше ль, не лучше ль будет, - фантазировал я уже дома, после, заглушая фантазиями живую сердечную боль, - не лучше ль будет, если она навеки унесёт теперь с собой оскорбление? Оскорбление, - да ведь это очищение; это самое едкое и больное сознание! Завтра же я бы загрязнил собой её душу и утомил её сердце. А оскорбление не замрёт в ней теперь никогда, и, как бы ни была гадка грязь, которая её ожидает, - оскорбление возвысит и очистит её... ненавистью... гм... может, и прощением...»[Достоевский, V: 178].
Тоня, как следует из её письма, оскорблена кажущейся ей нелюбовью мужа. Позже Громеко оказывается, «естественно, оскорблён в своих отеческих чувствах, ему больно за Тоню» [IV: 481]. Лара уезжает со своим оскорбителем Комаровским, который продолжает вести себя уже откровенно оскорбительно и на Дальнем Востоке. Оскорблённость Марины подразумевается, когда говорится о том, что она «прощала доктору его странные, к этому времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего своё падение человека, грязь и беспорядок, которые он заводил. Она терпела его брюзжание, резкости, раздражительность» [IV: 476]. Оскорбительным для Марины может быть и то, что доктор неожиданно покидает её и детей. «Один праздный вопрос», который задаёт себе герой «Записок...» - «что лучше - дешёвое ли счастие или возвышенные страдания?» [Достоевский, V: 178] - Живаго вполне мог ставить себе практически в любой из жизненных ситуаций, в которые попадал, особенно строя отношения с каждой из трёх женщин.
Финал «Записок...» отозвался в «Докторе Живаго» тем, что заключительный монолог героя Достоевского, обращённый к современникам и являющий собой диагноз духовного состояния, мог бы произнести и Юрий Живаго, книгу которого Гордон и Дудоров читают через много лет после его смерти, и сам Пастернак, дописывавший роман, который выбивался из советской литературы. В свете текста Достоевского «Стихотворения Юрия Живаго» предстают альтернативой как книгам советских писателей, так и книге в собирательном значении идеологического катехизиса, по которому жил «мертворождённый» советский человек. Для Пастернака в тексте Достоевского был важен весь комплекс затронутых тем, поскольку они оставались актуальными и в советское время, многих из них он касался в своих письмах. Многочисленные интертекстуальные следы «Записок...» в «Докторе Живаго» и, в частности, последняя беседа доктора с друзьями, чтение Гордоном и Дудоровым книги Юрия Живаго, перекликающееся с соответствующим местом финального монолога героя Достоевского, подготавливают скрытое двой-ничество романа Пастернака с «Записками...», ощущение которого возникает у читате
Опыт Достоевского в советских условиях
547
ля в конце произведения. В силу моделирующей значимости данного монолога приведём его почти целиком.
«В романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя, а главное, всё это произведёт пренеприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже от того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей “живой жизни” какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про неё. Ведь мы до того дошли, что настоящую “живую жизнь” чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжке лучше. И чего копошимся иногда, чего блажим, чего просим? Сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блажные просьбы исполнят. Ну, попробуйте, ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы... да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся опять обратно в опеку. Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердитесь, закричите, ногами затопаете: “Говорите, дескать, про себя одного и про ваши мизеры в подполье, а не смейте говорить: “все мы”. Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим всемством. Что же собственно до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да ещё трусость свою принимали за благоразумие и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, ещё “живее” вас выхожу. Да взгляните пристальнее! Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живёт теперь и что оно такое, как называется? Оставьте нас одних, без книжки, и мы тотчас запутаемся, потеряемся, не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться; что любить и что ненавидеть, что уважать и что презирать. Мы даже и человеками-то быть тяготимся - человеками с настоящим, собственным телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками. Мы мертворождённые, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов, и это нам всё более и более нравится. Во вкус входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи. Но довольно; не хочу я больше писать “из Подполья”...» [Достоевский, V: 178-179].
Глава 7
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России1
Реалистический текст в принципе ориентирован на ситуацию «изображения в изображении».
Не случайно именно в реалистической литературе такое место занимает цитата, реминисценция, «новые узоры по старой канве».
Ю.М. Лотман. «О Хлестакове»
Ни о чем не говорить прямо, все оставлять в виде загадок - вот главное требование жанра.
Грасе д 'Орсе. «Язык птиц»
Прочтение романа в качестве инверсионного аналога русской волшебной сказки может определять значение в тексте той или иной детали, отсылающей к какому-либо тексту-прототипу. Например, такими скрытыми реализациями сказочной функции XIX («начальная беда или недостача ликвидируется») являются произведения классиков мировой литературы XIX века - двух русских писателей и трёх западноевропейских (француза, англичанина и немца), которые вслух читает в Варыкине семья Живаго. Доктор записывает: «...Без конца перечитываем “Войну и мир”, “Евгения Онегина” и все поэмы, читаем в русском переводе “Красное и Чёрное” Стендаля, “Повесть о двух городах” Диккенса и коротенькие рассказы Клейста» [IV: 279]. В чём именно состоит ликвидация недостачи (в данном случае недостачи знания о чём-либо, например, о будущем, о предстоящих доктору испытаниях), можно судить по содержанию упоминаемых произведений. Указание на них в определённом месте текста, как, впрочем, и появление в нём (тоже в определённом месте) любой другой детали, далеко не случайны. Выход детали на «поверхность» сигнализирует о возможности прочтения текста через соответствующий код. Мы попытаемся сделать это, обратившись к одному из упомянутых доктором романов. Каждый из них актуален для семьи Юрия Живаго не только в плане сравнения с событиями прошлого, но и для понимания того, что переживает она в настоящем и что предстоит ей в будущем. Для исследователя эти произведения могут представлять скрытые отражения «Доктора Живаго» и выполнять функции комментариев и «расширяю
1 Глава представляет собой расширенный вариант статьи: [Буров 2004].
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
549
щих» роман Пастернака текстов. Ю.К. Щеглов, дополняя список текстов, на которые ориентирован «Доктор Живаго», замечает, что «писатель обратился к повествовательным приёмам западных авторов, отчасти уже перешедших в разряд “детского” чтения: Вальтера Скотта, Дюма, Гюго, Диккенса, Конан Дойла», «по причинам, которые никто ещё по-настоящему не попытался объяснить» [Щеглов 1998: 171]. Дать такое объяснение могло бы выявление интертекстуальных связей «Доктора Живаго» с тем или иным произведением этих и других авторов. Это может быть объяснением не столько даже со стороны технической, орудийной, сколько с точки зрения того, что именно в конкретных произведениях того или иного автора привлекало Пастернака и казалось ему пригодным для изображения событий своей эпохи. Не случайно ведь сам Пастернак придавал доминирующее значение содержанию и заботился в первую очередь о нём. Такая сопоставительная работа позволяет выделить в «Докторе Живаго» костяк, взятый из текста предшественника, и, разумеется, она так же бесконечна, как бесконечны глубины текстов.
Мы покажем, как отразилось в романе Пастернака произведение Ч. Диккенса, заглавие которого на английском - «А Tale of Two Cities» - отсылает не только к значению «повесть» или «рассказ», но и к значению «сказка», что Пастернак, несомненно, оценил и учёл при ориентации «Доктора Живаго» на волшебную сказку. Эта чувствительность Пастернака уже отмечалась исследователями: «В следовании сказочному архетипу Пастернак по-своему был верен избранным ориентирам: ведь и поэтика романов Диккенса, которая оказывалась для него столь близка, во многом была родственна поэтике волшебной сказки, сказочное начало входило у английского писателя органическим элементом в жизнеподобные обстоятельства» [Лавров 1993: 251]. О сюжетных параллелях между «Доктором Живаго» и «Повестью...» говорил в своем докладе на Пастернаковской конференции в Оксфорде в июле 1990 г. Кристофер Барнс [Barnes 1990].
Вряд ли будет ошибочным предположение, что «Повесть о двух городах» (1859) -не самое читаемое в России произведение английского классика. Поэтому, прежде чем предложить читателю картину связей «Доктора Живаго» с этим романом, напомним сюжет и проблематику последнего.
«Повесть...» - второй и последний исторический роман Диккенса - состоит из трёх книг. В первой повествуется о «возвращении к жизни» доктора Манетта, который долгие годы провёл в одиночной камере в Бастилии. Банковский служащий мистер Лорри и дочь доктора Манетта Люси увозят его из Парижа в Лондон. Вторая книга начинается рассказом о суде над Чарльзом Дарнеем и его избавлении от смерти. Вскоре Люси выходит за него замуж, и семья ведёт спокойную и одухотворённую жизнь. А во Франции тем временем назревает революционная буря. Отец и дядя Дарнея - французские аристократы-эксплуататоры, с которыми Чарльз не желает иметь ничего общего, - как раз и являются теми, по чьей вине доктор Манетт был без вины заключён в Бастилию. Когда начинается Великая французская революция, с дядей расправляются. Дарней едет в бушующую Францию, чтобы выручить управляющего, попавшего в руки восставших.
550
Глава 7
Но озверевший народ хватает и его. Дарней оказывается среди тех, кто должен стать жертвами революционного террора. Третья книга - кульминация и разрешение сюжетных линий. Доктор Манетт, Люси и Картон тоже отправляются в Париж, чтобы всеми возможными способами постараться спасти Дарнея. Но их попытки оказываются тщетны. Накануне казни друг семьи Сидни Картон, жертвуя собой ради любимой им Люси и ребёнка, подменяет в камере Дарнея и идёт на эшафот, поддерживая душевные силы девушки, случайно попавшей в общую мясорубку.
Диккенс не приемлет ни бесчеловечной эксплуатации, ни революционных зверств, которые она вызывает. И заставляет читателя содрогаться от того и другого. Носителями христианского гуманизма, который противопоставляется двум социальным силам, являются в том или ином плане все главные герои: мистер Лорри, доктор Манетт и его дочь, Дарней, Картон и служанка мисс Просе. Милосердие и жертвенность - главные добродетели, которые были актуальны для Диккенса, для Пастернака стали нравственной выбором, в соответствии с которым жил он сам и жили его герои.
Как и при работе с другими текстами, какая-либо сцена или ситуация «Повести о двух городах» воспроизводилась Пастернаком обращённо и не обязательно с неукоснительной регулярностью. Порой детали одной ситуации «Повести...» разбросаны по далеко отстоящим друг от друга эпизодам «Доктора Живаго», которые оказываются связаны отношениями параллелизма. Так создаётся скрытая связь всего изображаемого в романе романе - «существованья ткань сквозная» [II: 79]. Роман Пастернака является отражением «Повести...» и композиционно. Влияние сюжетной архитектоники «Повести...» на «Доктора Живаго» и наличие параллелей в композиционном плане отметил А.В. Лавров. Он также указал на параллелизм временных интервалов, разделяющих эпизоды повествования [Лавров 1993: 247-248]. Фабульные линии действия героев в двух топосах, «свершения жертвенного подвига», «кто виновен в терроре» и мотивы этих линий рассмотрены в [Горелик 2006].
Отметим очевидность переклички финала книги первой, описывающего отъезд мистера Лорри, Люси и доктора Манетта из Парижа в Англию, с финалом книги второй, когда мистер Лорри и Дарней, а за ними Люси и Картон отправляются из Англии в Париж, и финалом всей «Повести...» В «Докторе Живаго» эта структура сказывается отправками героев, которые приходятся на финал Первой книги, финал прозаической части Второй книги и стихотворение «Гефсиманский сад», завершающее весь роман и «Стихотворения Юрия Живаго». В первой половине «Повести...» изображаются Англия и Франция за 15 лет до революции. Похороны матери Юрия Живаго, которыми открывается роман, относятся к 1902 году, то есть действие начинается тоже за 15 лет до революций 1917 года. Вторая половина «Повести...» относится к революционному пятилетию 1789-1793. События Второй книги «Доктора Живаго», относящиеся в основном к 1918-1922 годам, охватывают также пять лет.
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
551
7.1. «История» как пролог к «Доктору Живаго»
Читая в Варыкине произведения пяти писателей, семья Юрия Живаго выполняет совет П.Я. Чаадаева, высказанный Е.Д. Пановой во II «Философическом письме». Чаадаев предлагал собеседнице удалиться в сельское поместье, чтобы «создать себе собственный мир, раз тот, в котором вы живёте, стал вам чуждым», и, указывая на зависимость «состояния души нашей» «от окружающей обстановки», рекомендовал, в частности: «Наложите у себя запрет, если хватит у вас решимости, даже и на всю легковесную литературу: по существу она не что иное, как тот же шум, но только в письменном виде. На мой взгляд, нет ничего более несовместимого с правильным умственным укладом, чем жажда чтения новинок. Повсюду мы встречаем людей, ставших неспособными серьёзно размышлять, глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их составляли одни только эти недолговечные произведения, в которых за всё хватаются, ничего не углубив, в которых всё обещают, ничего не выполняя, где всё принимает сомнительную окраску и всё вместе оставляет после себя пустоту и неопределённость. Если вы ищете удовлетворения в избранном вами образе жизни, необходимо добиться, чтобы новое из-за одной новизны своей никогда вами не ценилось» [Чаадаев 1991,1: 345].
Ведущий дневник доктор, таким образом, предстаёт двойником Чаадаева. Но в такой же роли он оказывается и в отношении персонажей произведений читаемых авторов, и в первую очередь Диккенса. Уже отмечалось [Barnes 1990], что интерес к Диккенсу, и особенно к «Повести...», был у Пастернака едва ли не всю творческую жизнь2. И связан он был с желанием писать прозу. Диккенс-романист был одним из главных учителей Пастернака в литературе. О том, когда впервые Пастернак читал «Повесть...», сообщают Е.Б. и Е.В. Пастернаки: «Летом 1917 года Борис Пастернак писал стихотворную драму о конце якобинской диктатуры. По воспоминаниям К. Локса, он занимался, обложив себя специальными исследованиями, справочниками и подробными картами Парижа. Тогда ему впервые попалась на глаза “Повесть о двух городах” Диккенса, ставшая на всю жизнь одной из любимейших его книг. В письме, посланном вдогонку уехавшей сестре, он продолжал начатую вместе игру в ассоциации и, называя её Люси Манет, сопоставлял её отъезд с освобождением и “возвращением к жизни” её отца, узника Бастилии из “Повести...” Диккенса» [ПРС 2004: 215]. Эта «игра в ассоциации» в письме к Ж.Л. Пастернак от 21 июля 1921 г. свидетельствует, в частности, насколько глубоко было пережито Пастернаком и всей его семьёй происходившее с героями романа: «Ты помнишь, Люси, то место, где по поводу твоей поездки из города в город
2 Одним из первых был прочитан роман «Лавка древностей», в память о котором Борис и Александр Пастернаки во время пребывания семьи в Берлине в 1906 г. прозвали магазин фруктов, в одной из комнат при котором они жили [Пастернак А. 2002: 243]. О том, что этот роман мог быть прочитан братьями ещё в 1901 г. или позже, свидетельствуют ассоциации, которые вызывал у Александра «замкнутый двор дома» на Мясницкой, 21, куда семья переехала в 1901 г.: окна гостиной выходили во «двор почти диккенсовского романа, двор заманчивых и загадочных тайн Китая, Индии, Цейлона» [там же: 67].
552
Глава 7
его3 прорывает в дилижансе несколько раз сряду фразою: “Возвращён, возвращается, возвращается к жизни”. Это ведь точка в точку та самая атмосфера чудесной сердечности (незаложенных ушей и снятого с трудпайка воображенья-состраданья), de qua у нас с тобой res agitur4. И вообще эта “Повесть”, как она изумительным своим духом подыгрывает всему, что, пережив, ты заставила - и это главное - нас пережить. По-своему каждый из нас - доктор Манет. Папа и я прежде всего. Пассивный и величавый в своём неведенье о собственном страданье, величавый в своём беспомощном бесплодье стук молотком по башмаку: у того - кистью по совпортрету, у этого - пером по совстиху. По-своему Манеты и мама, и Шура. Лида, кажется, по молодости - пощажена. Что я под этим разумею? Механизацию привычки, низведенье профессии или семейной роли до шарниров умопомешательства, безмолвие мысли относительно заочного факта, превращающегося в пустое слово, бессердечную глухоту к его значенью. Или мы не знали, что было на тех полях и что это было в действительности? И вот, ты отымаешь у нас этот злостный молоток из рук и выносишь за дверь привычную колодку» [ПРС 2004: 217-218].
Наиболее длительное и пристальное чтение Пастернаком Диккенса относится к концу 1922 - началу 1923 г., когда поэт находился в Берлине5. (Он прочёл тогда, по меньшей мере, «Крошку Доррит» и «Давида Копперфильда».) По свидетельству Е.Б. Пастернака, родители привезли с собой из Москвы собрание сочинений английского писателя [Переписка с Евгенией Пастернак 1998: 25-26]. Пастернак читал английского классика в уединении, иногда вместе с женой, иногда во время позирования ей для портретов. «С отъездом Ходасевича в Сааров встречи его с Пастернаком обрываются. Пастернак уединяется в своей комнате, тоскует по московским друзьям, пишет письма, читает Диккенса, начинает прозу. Попытки уехать из этого “безликого Вавилона” в Марбург не удались, 23 марта он вернулся в Москву» [Пастернак Е. 1990: 59].
О чтении Пастернаком Диккенса в Берлине вспоминал и Н.П. Вильмонт [1989:112]. Следы «Повести...» можно обнаружить уже в творчестве Пастернака конца 1920-х. Так, образный строй стихотворения «Когда смертельный треск сосны скрипучей» («История») (1927) ведёт «происхождение» именно из романа Диккенса, который на первых страницах с мрачной иронией рассказывает о положении во Франции и Англии накануне Великой французской революции. Диккенс персонифицирует силы, которые выступят на историческую арену во Франции, в образах Дровосека Судьбы, Хозяина Смерти и Революции. Описывая жестокости, реакцией на которые стала революция, он создаёт аллегорические фигуры: «Не лишено вероятности, что в ту пору <.. .> где-нибудь в лесах Франции и Норвегии росли те самые деревья, уже отмеченные Дровосеком Судьбой, кои предрешено было срубить и распилить на доски, дабы сколотить из них некую
3 «Его - то есть доктора Манета - эпизод из “Повести о двух городах” Диккенса» (примеч. Е.Б. и Е.В. Пастернаков - [ПРС 2004: 217]).
4 «О чём идёт речь (лат.)» (примеч. Е.Б. и Е.В. Пастернаков - [ПРС 2004: 217].
5 Пребывание Пастернака в Германии в это время Л.С. Флейшман видит в качестве одного из «пробелов в судьбе» писателя - [Флейшман 2003а: 17-27].
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
553
передвижную машину с мешком и ножом, оставившую по себе страшную славу в истории человечества. Не лишено вероятности, что в убогом сарае какого-нибудь землепашца, под Парижем, стояли <.. .> укрытые от непогоды, грубо сколоченные телеги, облепленные деревенской грязью, на них, как на насесте, сидели куры, а тут же внизу копошились свиньи, и Хозяин Смерть уже облюбовал их как собственные двуколки Революции. Но эти двое - Дровосек и Хозяин, - хоть они и трудятся не переставая, но трудятся оба беззвучно, и никто не слышит, как они тихо шагают приглушёнными шагами, а если бы кто и осмелился высказать предположение, что они не спят, а бодрствуют, такого человека тотчас объявили бы безбожником и бунтовщиком6» [Диккенс, XXII: 10-11].
«История» являет собой скрытое поэтическое «переложение» данного отрывка романа Диккенса. Семантика «Истории» была подробно проанализирована Ю.И. Левиным, который, однако, не затронул интертекстуальных связей стихотворения, в частности, с романом Диккенса, а указал лишь на некоторые переклички с другими текстами Пастернака, в том числе с «Доктором Живаго» (см.: [Левин 1998: 156-161]). Л.С. Флейшман отмечает связь проблематики «Истории» и акростиха «Мельканье рук и ног, и вслед ему» (посвящения к «Лейтенанту Шмидту»), написанного 18 мая 1926 г., а также стихотворения «Рослый стрелок, осторожный охотник» (1928) [Флейшман 2003а: 58]. Добавим, что своего рода просветлённым, постапокалиптическим двойником «Истории» в позднем творчестве Пастернака является стихотворение «Всё сбылось» (март 1958).
Отметим лишь некоторые общие детали «Истории» с романом Диккенса. В стихотворении, написанном не до, а после революции (у Диккенса повествуется о назревании революции, и отрывок предваряет повествование о ней), Пастернак контрастно меняет роли: диккенсовский Дровосек Судьба превращается в виновного «порубщика», которого «ведут», а в качестве Хозяина Смерти выступает «лесник». «.. .С топором порубщика ведут» может истолковываться, кстати, как сопровождение его на казнь. Отрубание головы топором корреспондирует с гильотиной из романа Диккенса. У английского писателя Дровосек и Хозяин делали одно дело - у Пастернака они уже враги, поскольку Революция пожирает самых «правоверных»: диккенсовская Смерть пожирает саму Судьбу. У Диккенса Дровосек и Хозяин «тихо шагают приглушёнными шагами» - у Пастернака лесник возникает шумно: «.. .возней лозин глуша окрестность», «трещат шаги комплекции солидной» [И: 245-246]. Далее в «Повести...» телеги Хозяина Смерти появляются неоднократно - так же регулярно они вводятся и в «Докторе Живаго».
Комментируя детали описания лесника - «мясистых щёк китайским фонарём», Ю.И. Левин замечает, что «трудно отделаться здесь от анахронической ассоциации с “великим кормчим”» [Левин 1998: 159]. С учётом того, что прозвище «хозяин» было у Сталина, роман Диккенса добавляет ещё один «анахронизм» (прозвище это появилось позже 1927 года, когда была написана «История», хотя «хозяином партии» его называли
6 В послереволюционные годы в России - наоборот: если бы кто-нибудь открыто сказал, что он не «бодрствует», что он не «всегда готов» (как пионер), а «спит», того объявили бы верующим и контрреволюционером.
554
Глава 7
уже в середине 1920-х [Такер 2006:212,309]). Оба «анахронизма» предстают, таким образом, самым настоящим прозрением Пастернака. Однако есть ещё детали, указывающие на Сталина, - рубка истории-пущи и порубщик. А. Меняйлов сообщает, что во время ссылки под Сольвычегодском в деревне Пожарища Сталин находился в обществе русских волхвов, которые уже тогда, в 1909 году, звали Сталина «Рубка» (Великий посвящённый) [Меняйлов 2005: 56-57].
В качестве важной коннотации леса из «Истории» следует отметить его алхимическое значение как первичной материи Великого Делания. «Обыкновенно допускали, что первичная материя - жидкость, вода, представлявшая в начале мира хаос», - указывает А. Пуассон, перевод книги которого «Теории и символы алхимиков», вышедший в 1916 г., Пастернак мог читать. Далее Пуассон приводит слова Аристотеля (которого Пастернак, несомненно, читал во время учёбы в университете): «Это была первичная материя, заключавшая все формы в возможности проявления... Это бесформенное тело было водянисто, и греки называли его иХт] (хилус), обозначая одним словом воду и материю» [Пуассон 2006:103]. В.Г. Рохмистров замечает: «Вообще, слово иХт] переводится с греческого как “лес” или “древесина”. Начиная с Аристотеля его стали употреблять в философском смысле - “материя”» [Рохмистров 2006: 103]. В Варыкине Юрий Живаго рассуждает о неподвижности леса и истории и их вечной изменяемости [IV: 451-452] - ср. с тем, что в понимании Парацельса алхимическая сера «представляла понятие о горючести и изменяемости вообще, например, произрастание» [Канонников: 71-72]. По представлениям алхимиков (Р. Бэкона, Н. Фламеля, Ж. де Лафонтена), «“сера” есть отец (начало активное) металлов» [Пуассон 2006: 111] - ср. со связью леса = истории (здесь приобретает особое значение «растительная» фамилия Пастернака) с лесником = Сталиным («металлический» псевдоним) - леса как природы и алхимии как высшей природы.
Не исключается и прочтение леса в масонском ключе. Согласно «масонской метафоре, вся природа - это огромная каменоломня и бескрайний лес, из которых индивидуальные жизни извлекаются наподобие камней и брёвен, дабы после надлежащей обработки они, уже совершенные и идеально пригнанные друг к другу, составили новый, более возвышенный синтез - величественный храм, достойный называться домом Бога, одним из прототипов которого был знаменитый храм Соломона» [Уилмхерст 2001: 40]. Масонские коннотации поддерживаются инверсированным ориентированием «сюжета» стихотворения на раннюю историю масонства, а именно на историю карбонариев - «тайной организации, которая всегда играла важную роль в истории Франции и Италии» вплоть до первых десятилетий XIX века. «Считается, что карбонарии пришли в Италию вместе с войсками Франциска I», а ещё в XVIII столетии «во Франции они носили имя “фендоров” (дровосеков). В Англии они образовали огромную корпорацию, которая называлась “форстеры”, что является французским переводом слова “друиды”, то есть “лесники” - forestiers» [д’Орсе 2006: 165].
Сравнивая эту «первоначальную» историческую ситуацию с той, что описана в стихотворении, можно заключить: Пастернак не только сравнил советский режим с корпо
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
555
рацией карбонариев, наследником которой этот режим и был, но и показал степень его внутренней деградации, выражающейся в том, что одна часть режима действует против другой: и «лесник», и «порубщик» в «Истории» принадлежали в средние века к одному лагерю «фендоров» и «лесников», теперь же они противодействуют друг другу. В прежние времена их называли «сыновьями леса», «лесными братьями» - в «Докторе Живаго» они стали «лесным воинством».
Отметим также, что «История» содержит, возможно, инверсирующую реакцию на слова из запоздало опубликованного (в 1919 г. в «Сирене», Воронеж, № 4-5, 30 января) манифеста «Утро акмеизма» (1912 (1913? 1914?)) О.Э. Мандельштама, отмечавшего, что «любовь к организму и организации акмеисты разделяют с физиологически-ге-ниальным средневековьем»: «Мы не хотим развлекать себя прогулкой по “лесу символов”, потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес - божественная физиология, бесконечная сложность нашего тёмного организма». В Средневековье «самый скромный ремесленник, самый последний клерк владел тайной солидной важности, благочестивого достоинства, столь характерного для этой эпохи» [Мандельштам 1993-1997, I: 179].
Зловещий звук скрипящих телег мог соотноситься у Пастернака и с трагической судьбой О.Э. Мандельштама: «Как-то, гуляя по улицам, забрели они на какую-то безлюдную окраину города в районе Тверских-Ямских, звуковым фоном запомнился Пастернаку скрип ломовых извозчичьих телег. Здесь Мандельштам прочёл ему про кремлевского горца» [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В. 1979-1981: 316].
«Комплекция солидная» действительно была у Сталина. «По свидетельству Хью Ланги, английского переводчика, присутствовавшего на встречах в верхах в период Второй мировой войны, “Сталин, едва превышавший 5 футов и 5 дюймов7, был правильного, крепкого, но не грубого телосложения” (Stalin Face to Face П “The Observer Weekend Rewiew”. 24 February 1963). Другие очевидцы подтверждают данную оценку. <.. .> Невысокого роста (не более пяти футов четырёх дюймов), но кряжистого телосложения, с испещрённым оспой лицом и сохнущей из-за полученной в детстве травмы левой рукой, Сталин держался внешне сдержанно и бесстрастно, а порой и замкнуто и в неофициальной обстановке говорил так тихо, что собеседникам, даже находившимся рядом, приходилось напрягать слух, чтобы разобрать произносимые им слова» [Такер 2006: 83, 333].
Характерной чертой Сталина было и шагание в кабинете при обдумывании какого-либо вопроса [там же: 429,447]. Так же шагает Евграф Живаго, о котором рассказывает Таня Безочередева: «Как я кончила, он встал, по избе шагает из угла в угол» [IV: 507].
Стоит добавить, что в интертекстуальном пространстве «Истории» Диккенс встречается с О. Шпенглером и А.А. Блоком, чьи «Закат Европы» (1918) и «Крушение гуманизма» (1919) оказались не менее важными претекстами, обусловившими историософию
7 1 фут - 30,5 см, 1 дюйм - 2,5 см.
556
Глава 7
Пастернака. Наиболее полное выражение эта историософия нашла в «Докторе Живаго». Возникшую у Пастернака ассоциативную связь между тремя авторами можно объяснить, в частности, тем, что, наверняка будучи знаком с содержанием статьи Блока, он мог читать «Закат Европы» в Берлине одновременно с «Повестью...»(о чтении им Диккенса см. ниже). Там же, в Германии, и позже, в России, он мог обсуждать концепцию Шпенглера с Андреем Белым, отзывавшемся о книге немецкого философа как о «поверхностно новой и глубоко ветхой по существу» [Переписка Андрея Белого и Иванова-Разумника 1998: 257]. Первую реакцию Андрея Белого на «Закат Европы» Пастернак мог узнать ещё в Москве. Как указывают А.В. Лавров и Д. Мальмстад, «обсуждению историософских и культурологических концепций» Шпенглера «было посвящено одно из заседаний “Вольфилы” в июне 1921 г. <.. .> Критический анализ взглядов Шпенглера Белый дал в философском очерке “Основы моего мировоззрения” (1922), оставшемся в рукописи и впервые опубликованном Л.А. Сугай вместе с её предисловием “Андрей Белый против Освальда Шпенглера” (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 10-37)» [там же: 233].
Определение метафорики, в которую «одета» концепция истории у Пастернака, как «биологической» (см. об этом: [Mossman 1986]) можно расширить до «природной», которая будет включать в себя все явления природы, а не только мир биологический. Отождествление природы и истории в творчестве Пастернака8, и в частности в «Истории», определяется его реакцией на главу вторую первого тома «Заката Европы» - «Проблема мировой истории». Особенно отчётливо следы чтения Шпенглера видны в книге «Второе рождение», которая потому так и названа, что представляет относительно новый взгляд автора на историю, сформированный не без влияния Шпенглера. О том, что круг идей Шпенглера был в центре внимания Пастернака в период создания стихов, вошедших во «Второе рождение», свидетельствуют воспоминания Н.П. Вильям-Вильмонта. Рассказывая о пребывании в Ирпене под Киевом в августе 1930 г. и чтении своих переводов из Рильке, он привёл слова Пастернака: «Как хорошо, что все мы ещё молодые, талантливые и красивые, - говорил растроганный Пастернак. - Вот и Валя, (То есть Асмус. - 777?.), прочёл нам превосходную главу о Шпенглере. - (Она позднее вошла в его замечательную книгу “Маркс и буржуазный историзм”. - Н.В.). - Итак за дружбу! Пью за ваш голос, Коля!» [Вильмонт 1989: 175].
О силе и значении влияния Шпенглера свидетельствуют созерцательные и поэтому «историографичные» «Волны». Приехав с Зинаидой Николаевной на Кавказ, в Грузию, Пастернак следует «рецепту» Шпенглера, который считал, что для правильного пони
8 В письме к М.И. Цветаевой от 16 августа 1925 г. Пастернак писал: «Многое, бывшее нам природой, успело стать, не по-газетному, а поистине - историей. А её нужно знать в глаза, и за глаза о ней знать столько, сколько надо для оценки её головы, заглядывающей в комнату. Без этого мы становимся византийцами, мастерами мозаики, и наше дело уплощается до двухмерной орнаментальное™. Мы рискуем быть отлучёнными от глубины, если, в каком-то отношении, не станем историографами» [Переписка с Цветаевой 2004: 124].
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
557
мания истории необходима «дистанция от предмета», и предлагал «обозреть весь факт “человек” с чудовищного расстояния; окинуть взором культуры, включая и собственную, как ряд вершин горного кряжа на горизонте» [Шпенглер 1993-1998,1: 248, 249]. В открывающих книгу «Волнах» разлита тема необходимости преодоления «мирового страха», вызываемого «необратимостью» однократного, направленного и неповторяющегося свершения (см. подробно об этом: [там же: 250]). Средство против этого страха - написание книги, изоморфной «Закату Европы», коей и оказывается весь сборник. А завершает его «закатное» стихотворение «Весеннею порою льда», содержащее прямую отсылку к одной из основных идей книги Шпенглера, отражённой в её заглавии:
Прощальных слёз не осуша И плакав вечер целый, Уходит с Запада душа, Ей нечего там делать [II: 88].
Эта отсылка отбрасывает прощальный свет шпенглеровской морфологии истории на всю книгу. Парадоксальное и скандальное заключение немецкого историософа о том, что «природу нужно трактовать научно, об истории нужно писать стихи» [Шпенглер 1993-1998,1: 252] обусловливает оппозиционный и взрывной заряд «Истории» и «Второго рождения». Пастернак так и делает - пишет стихи, сначала взяв темой историю, затем взяв темой и материалом для исторических размышлений природу, позволяющую соотносить собственную эпоху и личность с эпохами и личностями предшественников (Пушкиным, Лермонтовым, Толстым).
Внимание Пастернака к философии истории в 1920-е - начале 1930-х годов9 не было чем-то исключительным в контексте духовных интересов того времени. Напротив, оно вписывается в них. По свидетельству М. Артемьева, в тот период интерес к политике был вытеснен в общественном сознании интересом к вопросам философии и философии истории (см.: [Никитин 2006: 74, 292]). Во время создания стихотворений, вошедших во «Второе рождение», интерес Пастернака к морфологическим построениям Шпенглера мог сочетаться с интересом к «Морфологии сказки» В.Я. Проппа, вышедшей в 1928 г. В свою очередь на морфологический подход Шпенглера и Проппа сильнейшее влияние оказали идеи И.В. Гёте, на что оба прямо указывали в своих книгах. Возможно, именно эти мощные влияния (в ряду других факторов) помешали Пастернаку завершить работу над прозой 1930-х, которая не в полной мере соответствовала его находящимся в процессе становления представлениям об актуальности прозы и её художественном соответствии культурологическим моделям современников. Работа Пастернака над переводом «Фауста», происходившая одновременно с созданием «Доктора Живаго», предстаёт, таким образом, обращением (после чтения Шпенглера и Проппа) к первоисточнику идеи всеобщего морфологизма и катализатором, завершившим форми
9 О концепции истории после 1917 года и особенностях видения революции Пастернаком, отразившихся, в частности, в книге «Сестра моя - жизнь», см.: [Platt 1999: 140-144].
558
Глава 7
рование историософии, выраженной в романе. По сравнению со Шпенглером и Проппом, Пастернак применил эти идеи художественно, подобно автору «Фауста», но не поэтически, а прозаически. Заметим попутно, что это же направление мысли подготовило и метаисторический морфологизм Д.Л. Андреева.
Влияние статьи А.А. Блока «Крушение гуманизма» в «Истории» и «Втором рождении» не так обширно, как влияние Шпенглера, но не менее весомо. Говоря об ужасных преследованиях представителей культуры представителями цивилизации, Блок объяснял их «действительной опасностью для цивилизации», которую несёт «великое искусство XIX века». Конкретизация этого тезиса могла резонировать для Пастернака с «Повестью. ..», и отзыв Блока «объясняет» чувства, испытываемые при чтении Диккенса в Варыкине семьёй Живаго: «Эти уютные романы Диккенса - очень странный и взрывчатый матерьял; мне случалось ощущать при чтении Диккенса ужас, равного которому не внушает и сам Э. По» [Блок, VI: 108-109].
С идеями Шпенглера о соотношении природы и истории перекликается указание Блока на то, что «один из основных мотивов всякой революции - мотив возвращения к природе; этот мотив всегда перетолковывается ложно; его силу пытается использовать цивилизация; она ищет, как бы пустить его воду на своё колесо; но мотив этот - ночной и бредовый мотив; для всякой цивилизации он - мотив похоронный; он напоминает о верности иному музыкальному времени, о том, что жизнь природы измеряется не так, как жизнь отдельного человека или отдельной эпохи; о том, что ледники и вулканы спят тысячелетиями, прежде чем проснуться и разбушеваться потоками водной и огненной стихии» [там же: 103].
Из Блока в «Историю» попали похоронное настроение, мотив сна, обыгранное противопоставление культуры и цивилизации. Из Шпенглера - аналогичное «закатное» настроение, переиначенное сопоставление природы и истории. Из Диккенса - исторические аллегории, образы главных «персонажей».
Два из трёх претекстов, выявленных нами в «Истории», присутствуют во «Втором рождении». По-видимому, в этой книге есть и следы «Повести...». Во всяком случае, отъезды на Кавказ, в Киев и жизнь там могли ассоциироваться у Пастернака с поездками и жизнью в Лондоне и Париже героев Диккенса.
7.2. Жизнь с «Повестью...»
С момента письма к Ж.Л. Пастернак и берлинского чтения Диккенса прошло 10 лет, но «Повесть...» осталась для Пастернака такой же остро актуальной. В 1932 г., приехав под Свердловск10, он сравнивал ситуацию, в которую попал, с пребыванием в Берлине.
10 «По утверждению швейцарского литературоведа Ж. Нива, Пастернак говорил ему, что именно там, под Свердловском, он «написал много кусков будущего “Доктора Живаго” (у партизан, в Сибири), но был ещё далек от мысли о “Докторе Живаго” в том виде, в каком он сложился», - пишут В.М. Борисов и Е.Б. Пас
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
559
Оба эти положения, как ни странно, напоминают то, в котором оказалась в революционной Франции героиня «Повести...» Люси Манетт, муж которой был арестован. Люси вынуждена была проводить время в напряженном ожидании. И её состояние могло вспоминаться Пастернаку, когда он описывал своё: «Никогда, даже в берлинское своё сиденье за Диккенсом, я не уходил так далеко от своей природы в совершенно животном и абсолютно пассивном прозябанье, всё время перемежаемом звонками по телефону и хожденьем по всяким ведомствам. Этого не понять, это должно показаться невероятным, если этого не испытать на месте» [Переписка с Евгенией Пастернак 1998: 371].
О том, что Диккенс был остро актуален для Пастернака в начале 1930-х, свидетельствуют и слова, сказанные им в письме к отцу от 25 декабря 1934 г.: «А я, хотя и поздно, взялся за ум. Ничего из того, что я написал, не существует. Тот мир прекратился, и этому новому мне нечего показать. Было бы плохо, если бы я этого не понимал. Но, по счастью, я жив, глаза у меня открыты, и вот я спешно переделываю себя в прозаика диккенсовского толка, а потом, если хватит сил, в поэты - пушкинского. Ты не вообрази, что я думаю себя с ними сравнивать. Я их называю, чтобы дать тебе понятье о внутренней перемене» [ПРС 2004: 628].
Л.О. Пастернак отвечал: «Веря, что ты останешься самим собою, как и раньше, и искренним, что было твоим главным притягательным качеством и оригинальной силой, помимо всех других качеств твоего дарования и творчества, я с особенно радостным чувством принял твоё извещение, что ты “спешно переделываешь себя в прозаика диккенсовского толка”. Ну, дай тебе Господи! Твоя проза нам всегда была особенно интересна и ценна, а по “Повести двух городов” мы с тобою давно на Диккенсе вкусами сошлись, а про Пушкина уж и говорить нечего. Итак, имеешь наше благословение на новый твой труд в прозе!» [там же: 630].
Когда Пастернак приступал к созданию «Доктора Живаго», романы Диккенса также были одними из главных образцов той прозы, которую Пастернак стремился писать. О влиянии на Пастернака диккенсовской техники «романа тайн» и возможном внимании Пастернака к анализу В.Б. Шкловского, рассматривавшего в книге «О теории прозы» (1925) механизм сюжетостроения диккенсовских романов, см.: [Лавров 1993:248-250]). Анализу «Доктора Живаго» как «романа тайн» посвятил свою книгу И.П. Смирнов [1996].
То, как Диккенс разрабатывал сюжет, представлялось Пастернаку идеалом. 13 октября 1946 г. он писал О.М. Фрейденберг о романе: «Собственно это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжёлого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса и Достоевского, эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое» [Переписка 19906: 224].
тернак [Пастернак 1989-1992, III: 644]. Ср. с тем, что Юрий Живаго ведёт дневник, а позже записывает старые и сочиняет новые стихи в Барыкине на Урале.
560
Глава 7
Пастернак стремился запечатлеть события последних десятилетий истории России, чтобы страна и народ не лишились этого прошлого, не утратили память о нём. Выполнение этого намерения стало своего рода ответом на сетования П.Я. Чаадаева, который, сравнивая историческое прошлое Запада и России, замечал, имея в виду русский народ, что «нельзя не пожалеть о том, что в мировом историческом распорядке нация в целом оказалась обездоленной и лишённой всего этого прошлого» [Чаадаев 1991,1: 491].
«Повесть...» на английском, а не в переводе была одним из немногих произведений, с которыми Пастернак не расставался и которые, видимо, были для него чрезвычайно важны, актуальны и всегда необходимы. Е.Б. Пастернак вспоминает: «У папочки после войны не было сил и желания снова собирать библиотеку. Но его всю жизнь сопровождало несколько книг, с которыми он не расставался. Из них я брал у него “Повесть о двух городах” Диккенса по-английски и Антологию английской поэзии в серии “Альбатрос букс”. Обычно он давал их ненадолго и вскоре напоминал сам, чтобы я их вернул» [Переписка с Евгенией Пастернак 1998: 525-526].
Однако в Берлине Пастернак читал Диккенса в старых переводах Иринарха Введенского [Пастернак Е. 1997: 344, 360] и, возможно, перечитывал «Повесть...». Семья Живаго тоже читает «Повесть...» и другие произведения европейских писателей в переводе, а не на языках оригиналов. Ко времени работы над главой о пребывании семьи Живаго в Варыкине (к весне 1953 г.) Пастернак уже наверняка знал о существовании перевода «Повести...», который после войны осуществили С.П. Бобров и его жена М.П. Богословская. В опубликованной переписке с Бобровым оценок перевода «Повести. ..» Диккенса или высказываний об этом романе нет, но есть оценка перевода «Красного и Чёрного» Стендаля. Этот роман также входит в перечень книг, читаемых семьёй Живаго в Варыкине. Перевод «Красного и Чёрного», также сделанный Бобровым и Богословской, Пастернак читал в конце 1950 г. О своих впечатлениях он отозвался в письме от 7 декабря 1950 г. [Переписка с Бобровым 1996: 308]. По-видимому, Пастернак придавал значение тому обстоятельству, что семья Живаго читает оба романа в 1918-1919 годах в русских переводах. При этом подразумевалось, что переводы не принадлежат Боброву и Богословской, поскольку в противном случае это был бы анахронизм. В письме Пастернак вспоминал: «Я читал “Ч[ёрное] и Кр[асное]” в ту войну, в двух книгах, изданных, кажется, Некрасовым, не помню чей перевод, но, наверное, был неплохой. Потом куски, когда ходил в Университетскую] библиотеку, в оригинале» [там же: 308]. Он указал также на особенности своего чтения перевода Боброва и Богословской: «Я читал Вас не как переводчиков, но как друзей автора и героев; как участников всего этого катящегося вперёд и увлекающего за собою потока» [там же].
Отметим неслучайность мены Пастернаком мест «цветов» в заглавии романа Стендаля, которая может означать скрыто негативное отношение к любым новым переводам. Эти переводы, проходившие, как правило, советскую цензуру, хоть и оценивались положительно, но, несмотря на то, что их выполняли друзья, предпочитались, похоже, старые. Мена мест «цветов» в данном случае может объясняться и тем, что «чёрное»,
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
561
поставленное вначале, обращает на себя внимание и актуализирует свою противоположность - «белое». По наблюдению Н. А. Фатеевой, «красное на белом» («основные цвета иконы “Чудо Георгия о змии”») лежит «в основе <.. .> “цветовой” композиции романа» [Фатеева 2003:166-167,201]. Е.А. Папкова, рассматривая символику красного и белого цветов в «Докторе Живаго», указывает, что «для Пастернака это не оппозиция, а оба цвета - трагические составляющие образов Лары, России, революции, смерти и жизни», тогда как «в народных заговорах, например воинских, это именно оппозиция: белая лебедь - огненный змей» [Папкова 2008: 267]. Знал ли Пастернак о существовании во Франции анархического журнала «Чёрное и красное» и если знал, то не намекал ли меной «цветов» Боброву на свой давний интерес к анархизму и, вероятно, масонству (Стендаль был масоном)? Позже, в конце 1960-х, журнал стал «известным широким кругам благодаря событиям в мае 1968 г. в Париже» [Морамарко 1990: 284]. Красный и чёрный - это также цвета, в которые в день поминовения братьев, ушедших на Вечный Восток, убираются масонские «Sorrow lodges» («Ложи скорби») в Англии [там же: 150].
Отзыв Пастернака на перевод Боброва и Богословской общей тональностью и некоторыми «перекличками» напоминает финал «Повести...» - мысли Картона перед казнью, которые он записал бы, если бы прозревал будущее (см.: [Диккенс, XXII: 449-450]). Своего рода обращённым «воплощением» этих мыслей Картона является описание состояния Гордона и Дудорова в «Эпилоге» «Доктора Живаго»: «Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нём находятся. Счастливое, умилённое спокойствие за этот святой город и за всю землю, за доживших до этого вечера участников этой истории и их детей проникало их и охватывало неслышною музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их руках как бы знала всё это и давала их чувствам поддержку и подтверждение» [IV: 514].
Ср. с чувством Пастернака, которым пронизан отрывок из его письма родителям от 29 апреля 1939 г. В этом отрывке намечены соотношения и роли родителей и детей, в «Докторе Живаго» получившие иное толкование. «И ведь я не знаю вашего житья-бытья и точно вижу его перед собою. Я не помню, не писал ли я вам уже этого прошлой осенью, но все вы, несмотря на самостоятельность Лидиного дома, несмотря на прямую, непроизвольную драгоценность вас обоих для меня, - все вы, говорю я, вращаетесь в моём сознанье вокруг обоих Жониных и Фединых детей, как вокруг центра. Не знаю почему, но мне кажется, что это их история, и от мысли, что главные действующие лица - они, сердце у меня сжимается от боли и жалости, и они мне дороже, чем я сумел бы объяснить себе или вам. Точно и я как-то к этому причастен, точно, если бы я стал анализировать своё чувство к ним или его происхожденье, я бы где-то в глубокой дали прошлого, когда сама Жоня была ещё Алёнушкой или даже Лёней, нашёл бы Рильке, а потом роман с Марбургом и т. д. и т. д. И, конечно, папину мюнхенскую академию, и мамина Лешетицкого...» [ПРС 2004: 719-720].
562
Глава 7
Соотносится с «Эпилогом» «Доктора Живаго» и «Предисловие автора» из «Повести.. .». Друзья Юрия Живаго, как и сам он, названы «участниками этой истории», упомянуты и их дети. Автор обращает внимание на остроту чувств героев. Диккенс в «Предисловии автора», открывающем роман, пишет: «Идея этой повести впервые возникла у меня, когда я с моими детьми и друзьями участвовал в домашнем спектакле, в пьесе Уилки Коллинза “Застывшая пучина”. <.. .> Я так остро пережил и перечувствовал всё то, что выстрадано и пережито на этих страницах, как если бы я действительно испытал это сам» [Диккенс, XXII: 5].
Таким образом, начало и конец текста Диккенса служат и прообразом финала романа Пастернака, и скрытым комментарием к нему. Они различным образом играют по отношению к основному повествованию ту же роль, которая в «Докторе Живаго» отведена тетради стихов доктора, читаемой его друзьями. Имеет смысл сравнить личное участие Диккенса в спектакле и его чувства с содержанием стихотворения Юрия Живаго «Гамлет». «Предисловие автора» является одним из важных претекстов этого стихотворения. Кроме того, оно перекликается с письмами Пастернака, в которых по завершении «Доктора Живаго» он дал оценку достигнутому, например, с письмом к П.А. Та-бидзе от 10 декабря 1955 г. [Пастернак 1989-1992, V: 541].
7.3. «Запирайте этажи...»
Уже открывающий главу I «Повести...» абзац объясняет, почему «Повесть...» читается в Барыкине доктором или Александром Александровичем Громеко вслух. Этот отрывок даёт обобщённую характеристику предреволюционного времени (перед Французской революцией), которое автор (Диккенс) сравнивает со своим, и которая подходит и для изображения предреволюционного времени, недавно закончившегося для семьи Живаго. Последняя, тем самым, задним числом соотносится с семьёй Манетт, приехавшей в Париж. Начало «Повести...» актуализирует прочтение событий «Доктора Живаго» как отражений событий романа Диккенса в качестве их обращённых дубликатов.
«Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время - век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния, у нас было всё впереди, у нас впереди ничего не было, мы то витали в небесах, то вдруг обрушивались в преисподнюю, - словом, время это было очень похоже на нынешнее, и самые горластые его представители уже и тогда требовали, чтобы о нём - будь то в хорошем или в дурном смысле - говорили не иначе как в превосходной степени» [Диккенс, XXII: 9].
Действие «Повести...» начинается в 1775 году - за 15 лет до французской революции. Диккенс, характеризуя предреволюционную Англию, указывает, что она «гордилась своим порядком и благоденствием, но на самом деле похвастать было нечем. Даже в столице каждую ночь происходили вооружённые грабежи, разбойники врывались в дома, грабили на улицах; власти советовали семейным людям не выезжать из города, не
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
563
сдав предварительно своё домашнее имущество в мебельные склады; грабитель, орудовавший ночью на большой дороге, мог оказаться днём мирным торговцем Сити; <...> сам вельможный властитель города Лондона, лорд-мэр, подвергся нападению на Тер-немском лугу, какой-то разбойник остановил его и на глазах у всей свиты обобрал дочиста его сиятельную особу» [там же: 11].
В «Докторе Живаго», напротив, аналогичные безобразия начинаются как раз в год революции - 1917, и «перевоплощением» диккенсовского лорд-мэра в романе Пастернака оказывается спасенный доктором «видный политический деятель»11, ставший «несомненно жертвой вооружённого грабежа» [IV: 186-187]. Евграф как человек, у которого, по словам Тони, «какой-то роман с властями», «говорит, что на год, на два надо куда-нибудь уехать из больших городов, “на земле посидеть”» [IV: 207]. Присутствует в «Докторе Живаго» (вслед на «Спекторским») и тема сдачи имущества, причём большое внимание уделяется мебели. Неслучаен и выбор тех, на кого всё оставляется. «Надзор за комнатами и остающимся в них имуществом поручили пожилой супружеской чете, московским родственникам Егоровны, с которыми Антонина Александровна познакомилась истекшею зимою, когда она через них пристраивала для сбыта старьё, тряпки и ненужную мебель в обмен на дрова и картошку. <...> Эту пару, родню Егоровны, бывшего торгового служащего12 и его жену, Антонина Александровна в последний раз водила по комнатам, показывала, какие ключи к каким замкам и куда что положено, отпирала и запирала вместе с ними дверцы шкапов, выдвигала и вдвигала ящики, всему их учила и всё объясняла. Столы и стулья в комнатах были сдвинуты к стенам» [IV: 211-212].
Из всех соответствующих параллельных ситуаций, связанных с указанным диккенсовским претекстом, особо выделим две: до попадания Юрия Живаго к партизанам и после возвращения от них в Юрятин.
Когда доктор впервые приходит к Ларе в Юрятине, она рассказывает ему об обстановке в доме (диккенсовская тема сдачи мебели) и том, что происходило в городе (тема грабежей). Инверсированность здесь совершенно иная, нежели в рассмотренном выше случае. «Квартира чужая. Я даже не знаю чья. У нас была своя, казённая, в здании гимназии. Когда гимназию занял жилотдел Юрсовета, меня с дочерью переселили в часть этой, покинутой. Здесь была обстановка старых хозяев. Много мебели. Я в чужом добре
11 Возможно, прототипом этого безымянного персонажа был Петр Авдеевич Кузько (1884-1969) -см. информацию К.М. Поливанова о нём: [Письма 1990: 9]; а также: [Сергеева-Клятис, Смолицкий 2009: 380-382]. Л.К. Чуковская записала в дневнике: «5 апреля 47 года Борис Леонидович читал главы из романа у П.А. Кузько. Чтение было устроено Ивинской» [Чуковская 1990: 90]. Эта встреча могла напомнить Пастернаку о контактах с Кузько в 1920-21 гг. Осведомлённость о последующей деятельности Кузько в Наркомпроде могла сказаться в изображении «видного политического деятеля», когда в августе-октябре 1950 г. Пастернак работал над частью шестой «Московское становище» и воспоминание о чтении у Кузько было сравнительно свежо.
12 «Бывшего» - не только потому, что в Москве закрыты магазины, но и потому, что он был «мирным торговцем Сити» у Диккенса, текст которого «объясняет», что произойдёт с имуществом семьи Живаго, попавшим в руки этого человека.
564
Глава 7
не нуждаюсь. Я их вещи составила в эти две комнаты, а окна забелила. <.. .> Грабежи, бомбардировка, безобразия. Как при всякой смене властей. К той поре мы уже были учёные, привычные. Не впервой было. А во время белых что творилось! Убийства из-за угла по мотивам личной мести, вымогательства, вакханалия!» [IV: 295, 296-297].
Вернувшись из плена, доктор приходит к Ларе, и оказывается, что она живёт в тех комнатах, окна которых были забелены, но в них уже нет мебели. О происходившем в городе и в Варыкине ему рассказывает Глафира Тунцева: «Да. Видами теперь никого не удивишь. Искусились люди. Хлебнули и мы горюшка. Тут в атамановщину такое творилось! Похищения, убийства, увозы. За людьми охотились. <.. .> Кругом самосуды, зверства, драмы ревности. Совершенно как в испанских романах». Доктор думает: «А когда она сказала: “как в испанских романах”, она опять кого-то страшно напомнила. Именно этим неподходящим словом, сказанным ни к селу ни к городу». Тунцева продолжает: «Этим дебрям, пожалуй, посолоней нашего пришлось. Через Варыкино какие-то шайки проходили, неизвестно чьи. По-нашему не говорили. Дом за домом на улицу выводили и расстреливали. И уходили, не говоря худого слова» [IV: 384, 385].
Однако соответствующие мотивы продолжают периодически продуцироваться на разных уровнях структуры пространства романа. Так, незадолго до приезда в Юрятин Комаровского и отъезда Юрия Живаго и Лары в Варыкино «было арестовано много людей в городе, обыски и аресты продолжались» [IV: 405]. Комаровский оказывается ещё одной фигурой, обращённо являющей собой безличные власти, которые у Диккенса «советовали семейным людям не выезжать из города, не сдав <...> имущество». Он как имеющий полномочия, данные властями, напротив, предлагает Ларе и Юрию Живаго, всё бросив, ехать с ним на Дальний Восток и всячески старается, чтобы они согласились, «не забывая» и о семейной теме: «Простите за смелость, вы страшно друг к другу подходите. В высшей степени гармоническая пара», - говорит он при встрече доктору и Ларе [IV: 418]. После рассказа сторожа Изота («представителя» властей), переданного Ларой, о том, что в юрятинском исполкоме (присутственном месте) доктору готовят «тёмную» (ср. с ночным нападением на лорд-мэра в присутствии его свиты у Диккенса), Юрий Живаго говорит Ларе о необходимости отъезда (в Варыкино): «Опасность назрела и уже у порога. Надо немедленно исчезнуть. Вопрос только в том, куда именно. Пытаться уехать в Москву нечего и думать. Это слишком сложные сборы, и они привлекут внимание. А надо шито-крыто, чтобы никто ничего не увидел» [IV: 422]. Описанное в «Повести...» нападение на лорд-мэра отразилось и в том, что Живаго в Юрятине поздней ночью спускает Комаровского с лестницы.
Обращает внимание то, что Тунцева говорит загадками и намёками. Её рассказы полны скрытого смысла, нуждающегося в дешифровке. Так, невысказанное замечание Юрия Живаго о том, что слова Тунцевой были «ни к селу ни к городу», указывает на разнородность претекстов. В диккенсовский пласт ассоциаций здесь вклинивается тематически близкий, но относящийся к другой эпохе и культуре - к Испании в интерпретации М.Ю. Лермонтова. Его юношеская драма «Испанцы» (1830), написанная после
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
565
известного процесса по обвинению евреев города Велижа Смоленской губернии, обращала внимание Пастернака темами антисемитизма - антиеврейского заговора и травли евреев в Велиже13, инквизиционного суда, «списанного» с велижской юстиции, а также суда, восстанавливающего справедливость. Те же темы есть у Диккенса.
На следы драмы Лермонтова в «Докторе Живаго» имеет смысл взглянуть более внимательно14, поскольку благодаря им в романе вновь, на этот раз скрыто, появляется еврейская тема15. Когда Пастернак впервые прочитал «Испанцев» - неизвестно, но его внимание к пьесе могли привлечь постановка 1923 года, осуществлённая К.В. Эггертом в Москве, и постановка Московского государственного еврейского театра, осуществлённая в 1941-м16. Как указывает, ссылаясь на Лермонтовскую энциклопедию, Г. Ионкис, перед войной этот спектакль «пользовался успехом, о нём писал Михоэлс, декорации к спектаклю выполнил художник Роберт Фальк» (Ионкис). Кроме того, Пастернаку могли быть известны как статья Л.П. Гроссмана, так и статья Б.М. Эйхенбаума «“Испанцы” Лермонтова как политическая трагедия», написанная в 1955 г. В последней речь, в частности, идёт о восприятии в России политической ситуации в Испании 20-х годов XIX века. Испания представала тогда воплощением и образцом деспотизма, а «настольной книгой у русской передовой молодёжи» конца 20-30-х годов XIX века, особенно у Лермонтова, Герцена, Огарёва, было «Новое христианство» (1825) А. Сен-Симона [Эйхенбаум 1969: 282-283]. На следы этого сочинения в «Докторе Живаго» (в связи с речью Устиньи в Мелюзееве) впервые указано: [Смирнов 1996: 94-95]. Отражениям в романе тем и идей социалистов-утопистов XIX века в книге И.П. Смирнова посвящена глава IV «Антиутопия и теодицея в “Докторе Живаго”» [с. 86-128]. Пастернак, по-видимому, учитывал случаи опосредования этих тем и идей в русской литературе XIX века. О значимости для него многочисленных интерпретаций испанских событий в мировой литературе, в том числе и русской, свидетельствует то, что Тунцева сравнивает события в Юрятине не с какой-либо одной драмой, а с «испанскими романами», что подразумевает не столько испанское происхождение произведений17, сколько их тематику и место действия, а заодно и отводит внимание читателя от «Испанцев» Лермонтова как текста-посредника.
При изображении героев-разночинцев, которыми были не только Живаго и Антипов-Стрельников, но и Микулицын, Самдевятов и др., для Пастернака имела большое значение и литературная традиция изображения таких героев, начало которой положили не только Диккенс и Достоевский, но и Лермонтов. Анализируя записи, в которых Лермонтовым «намечен сюжет будущих “Испанцев”», Б.М. Эйхенбаум пришёл к выводу, что речь в них «идёт, очевидно, о студенте-разночинце, пострадавшем за свои поли
13 Подробно о том, что происходило в городе, см.: [Ионкис; Гроссман 1941: 719-735].
14 Более подробно о следах «Испанцев» Лермонтова в «Докторе Живаго» см.: [Буров 2005].
15 Еврейский вопрос в романе обстоятельно и с учётом различных «голосов» рассмотрен в статье Д.М. Сегала «Pro domo sua: о Борисе Пастернаке» - см.: [Сегал 2006: 677-749].
16 О других постановках см. комментарии к драме: [Лермонтов, III: 588].
17 О литературной традиции, связанной с историей Испании см.: [Эйхенбаум 1969: 282-283].
566
Глава 7
тические убеждения, - тема, подсказанная самой жизнью. В записи Лермонтова зафиксировано начало процесса, в результате которого идейное руководство русской общественной жизнью перешло к “новым людям” - к революционным демократам. Лермонтовский “молодой человек недворянского происхождения” - чуть ли не первый намёк на этот образ, чуть ли не первый литературный силуэт разночинного интеллигента, вступившего в конфликт с дворянским обществом» [Эйхенбаум 1969: 283-284].
Судьбы героев Пастернака являют собой, с одной стороны, завершение жизни персонажей, порождённых XIX веком (Антипов-Стрельников), с другой - намечают новое разночинство XX века, на новом витке воспроизводящее лучшие черты прежнего (Юрий Живаго). Показательно, что оба героя «Доктора Живаго», предстающие антиподами, обнаруживают интертекстуальное «родство» с одним персонажем «Испанцев» - Фернандо. Так, Антипов, сидящий ночью на перевёрнутой лодке в Юрятине и решающий найти выход из своих отношений с Ларой, ведёт себя, как Фернандо, который, узнав, что его возлюбленную Эмилию схватили наёмники иезуита Соррини, хотевшего надругаться над нею, говорит спасшему его еврею Моисею:
Ты думал, я заплачу, старый!
Ты этого хотел, но женская печаль
Не устыдит моих ланит! - бесчеловечный!
Я отомщу... чтоб целый мир... а то свершу,
Что... я не знаю сам ещё, но землю
Мой подвиг испугает... ты подумал, Что я заплачу? - нет! клянусь: Скорее разорвётся это сердце, Чем я заплачу...
[Лермонтов, III: 81].
Антипов добровольно покидает Лару из ложного умозаключения, подобно тому как Фернандо сам убивает возлюбленную, чтобы её честь не досталась покушавшемуся на неё патеру Соррини. В результате разговора с Юрием Живаго о Ларе в Варыкине Антипов-Стрельников приходит к пониманию того, как ошибся относительно Лары, и за его потрясённым молчанием, равно как и за внутренним монологом доктора, укоряющим себя за потерю Лары после её отъезда с Комаровским, можно узнать патетичные слова Фернандо:
О! я тебя навеки потерял!
Рай не отдаст божественный твой образ
Душе моей; я навсегда простился С тобой, когда удар судьбы свершился! Я сам разрушил... сам отвергнул, сам Свою надежду уничтожил... о! прощай! Прощай! Прощай!
[Лермонтов, III: 117].
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России 567
Внимание Пастернака к образу Фернандо могло быть тем более заинтересованным, что этот герой, не знавший своих родителей, воспитывавшийся вместе со своей будущей возлюбленной Эмилией в её семье и презрительно, как и все испанцы, изображённые Лермонтовым, относившийся к евреям, незадолго до суда и казни узнаёт о своем еврейском происхождении. Фернандо сначала сам спасает еврея Моисея, а затем оказывается спасённым им и позже узнаёт от старика, что тот - его отец. Преследование Фернандо за убийство Эмилии и противостояние её отцу Алварецу и патеру Соррини усугубляется в финале его, как оказывается, еврейским происхождением. Соответственно усиливается и протест Фернандо, и трагизм этой фигуры. Ср.: Юрий Живаго также рано теряет родителей и воспитывается в семье своей будущей жены Тони; страстную речь о роспуске «этого неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда» произносит Гордон [IV: 124], который вместе с Юрием Живаго был свидетелем издевательств казаков над стариком-евреем. Монолог Гордона, как и стремление к ассимиляции самого Пастернака, выглядят инверсиями положения лермонтовского героя и его отношения к евреям. Наконец, скрытый цинизм юриста Комаровского, служащего любой власти, сродни откровенному цинизму итальянца-иезуита Соррини, служащего при инквизиции и так же лицемерно блюдущего законы.
7.4. Дувр и города в «Докторе Живаго»
Относительная автономность в романе Диккенса книги первой «Возвращен к жизни» сказалась тем, что в аналогичном положении находятся в романе Пастернака часть седьмая «В дороге», описывающая поездку семьи Живаго в теплушке на Урал, и часть десятая «На большой дороге», повествующая о событиях в Крестовоздвиженске, Кутейном Посаде и Малом Ермолае. У первой книги «Повести...» и каждой из указанных частей «Доктора Живаго» - одинаковая вводная функция (часть десятая романа служит введением к партизанским главам), но отражения текста Диккенса оказываются различны до такой степени, что их близость вскрывается только при нахождении интертекстуального «ключа».
Глава II «На почтовых» подробно описывает ночную поездку мистера Джарвиса Лорри, служащего в банке Теллсона в Лондоне, в Дувр. (Позже эта же дорога будет перед Чарльзом Дарнеем.) Почтовая карета в конце ноября (в начале зимы) во мгле и тумане поднимается на Стрелковую гору. Ср. это с тем, что Живаго ранним весенним утром перед встречей со Стрельниковым после того, как «туман совершенно рассеялся», видит Юрятин, расположившийся на горе [IV: 247]. Картина, похожая на представленную в «Повести...», возникает и в начале повествования о Крестовоздвиженске: «На одном из перегонов дорога долго поднималась в гору. Обзор открывавшихся далей всё расширялся. Казалось, конца не будет подъёму и росту кругозора. И когда лошади и люди уставали и останавливались, чтобы перевести дыхание, подъём кончался. Впереди под до
568
Глава 7
рожный мост бросалась быстрая река Кежма. За рекой на ещё более крутой высоте показывалась кирпичная стена Воздвиженского монастыря» [IV: 306].
Одинаковые названия города и монастыря содержат скрытое указание на наличие горы - аналога Голгофы. Но если описание подъёма относится к дневному времени, то ночь и «бисерный дождь», «заменяющий» диккенсовский туман, появляются в описании Крестовоздвиженска «изнутри», а также в повествовании о лавочнице Галузиной. Это ночь на Великий Четверг в конце зимы (в конце апреля). Поскольку в Крестовозд-виженске Живаго не был, то в связи с ним такие детали «Повести...», как грязь, дорога, телега (вместо почтовой кареты), «тёмный дождливый день» возникают в начале части одиннадцатой, описывающей пребывание доктора у партизан [IV: 328-330].
В «Повести...» едущие в почтовой карете опасаются разбойничьих шаек, при этом автор поясняет: «Да и как же тут не опасаться: на каждом почтовом дворе, в каждой придорожной харчевне у предводителя шайки имелся свой человек на жалованье - либо сам хозяин, либо какой-нибудь неприметный малый на конюшне» [Диккенс, XXII: 13]. Кондуктор кареты останавливает приближающегося на коне Джерри, который везёт мистеру Лорри депешу, принимая его за разбойника, и говоря: «А ну, покажись, что ты за птица» [там же: 16]. Живаго в Развилье реагирует на слова первого часового соответственно: «“Меня за кого-то принимают”, - подумал доктор» [IV: 243]. Встретившись, два часовых, с которыми столкнулся Живаго, говорят: «Тут и думать нечего. Видно птицу по полету» [IV: 244]. Подозрительность часовых, арестовывающих доктора, который выходит из теплушки в густой туман и спрашивает, какая перед ним станция и река, такая же, как у кондуктора, останавливающего Джерри. В части десятой «Доктора Живаго» с этим участком текста Диккенса соотносится отрывок: «В нижней части города купцу Любез-нову привезли три телеги клади. Он отказывался её принять, говоря, что это ошибка и он такого товару никогда не заказывал. Ссылаясь на поздний час, молодцы ломовики просились к нему на ночлег. Купец ругался с ними, гнал их прочь и не отворял им ворот. Перебранка их тоже была слышна во всём городе» [IV: 307]. Любезнов оказывается, напротив, не «свой» человек для «молодцев ломовиков». Текст Диккенса проясняет бандитские занятия последних, не напрасно вызывающих подозрения у купца. Впрочем, перебранка могла происходить для отвода глаз, в темноте никому было не видно, что происходит на самом деле. Любезнов мог быть таким же «своим человеком на жалованье», какой упомянут у Диккенса. Телеги «молодцев ломовиков» соотносятся и с «грубо сколоченными <...>, облепленными деревенской грязью» телегами Хозяина Смерти из главы I «То время» [Диккенс, XXII: 10] и телегами, на которых в революционном Париже возят трупы жертв [там же: 328,335,344]. Возможно также, что «кладью» являются партизаны, которые таким образом прибывают для участия в собрании и в верхнюю часть города, где находится дровяной сарай, пробираются подземным ходом. Указывается, что «в случае опасности собравшимся был обеспечен спуск под пол и выход из-под земли на глухие зад ворки Константиновского тупика за монастырскою стеною» [IV: 315]. Фамилия купца является несколько изменённой фамилией одного из владельцев содового
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
569
завода Любимова - Соева и К°, находившемся в селе Усолье у станции Солеварни Соликамского уезда Пермской губернии. Одно из писем к С.П. Боброву (от 23.. .25 июня 1916 г.) написано, как обратил внимание сам Пастернак, «на так называемой] проезжей квартире для приезжающих по делам на завод Любимова - Соева и К°» [Переписка с Бобровым 1996: 235-237]. Фамилия одного из сельских заводчиков превратилась в романе в фамилию городского купца, а проезжая квартира, в которой останавливался Пастернак, -в «пустую комнатку без мебели» в Крестовоздвиженске [IV: 309]. На тайные же и зловещие занятия ломовиков намекалось ещё в 1-й главе «Спекторского» (1925-1931):
Пока ломовики везут товары, Остатки ночи предают суду, Песком полощут горло тротуары, И клубы дыма борются на льду [II: 11].
Спасительный для собравшихся красных Константиновский тупик - ещё одно «говорящее» название у Пастернака. Тупик назван именем византийского императора Константина Великого, при котором христианство стало официально дозволенной религией и который перед сражением в Риме у Мульвийского моста в 312 г. увидел на небе крест с надписью «Сим победишь». Смысл здесь может быть таким: имени величайшего деятеля христианства оказывается в Крестовоздвиженске достоен лишь тупик, годный лишь на то, чтобы в нём могли спастись гонители христианства. Расположение выхода в тупике сигнализирует и об обречённости тех, кто будет спасаться, - из тупика не будет выхода. Кроме того, выход в тупике значимо контрастирует с входами в подземелья домов, предназначенных для заседаний тамплиерских «капитулов избранных». Эти входы должны были «скрываться где-нибудь в поле; через эти входы люди всех сословий, званий и состояний без всяких опасений и подозрений со стороны остальных братьев» могли «являться на ночные собрания» [Никитин 2006:329]. Партизаны, таким образом, представляют противоположность тамплиерам. Заметим также, что «константиновская» надпись была использована Пастернаком в стихотворении военных лет «Зима приближается» (1943).
Кондуктор, останавливающий Джерри, не доверяет и мистеру Лорри, едущему в Дувр исключительно по делу, связанному с его службой в банке. С этим можно сравнить реакцию Глафиры Тунцевой, которой вернувшийся от партизан Живаго говорит, что он ездил «по делам бывшего союза кредитных товариществ. Инспектором <...> разъездным. Послали в объезд с ревизией. Черт знает куда. Застрял в Восточной Сибири. А назад никак. Поездов-то ведь нет. Пришлось пешком, ничего не попишешь. Полтора месяца шёл. Такого навидался, в жизнь не пересказать» [IV: 383].
Тунцева не только не верит ему, подобно кондуктору, но и, в отличие от последнего, советует: «Я говорю, ничего и не надо рассказывать. Обо всём самое лучшее молчок теперь. Кредитные товарищества, поезда люкс под снегом, инспектора и ревизоры, лучше вам даже слова эти забыть. Ещё в такое с ними влопаетесь! Не по внучке онучки. Лучше врите, что доктор вы или учитель» [IV: 383].
570
Глава 7
В реакции Тунцевой чувствуется учёт «итогов» случившегося с героями Диккенса, которые попали в революционный Париж. Кроме того, она указывает доктору, что он уже находится не в «сказочном» пространстве, когда герои, «попадая из дома в леса, обязаны приспосабливаться к норме поведения, контрастирующей с привычным для них распорядком жизни», а в «былинном», когда «герой остаётся самим собой на протяжении всего сюжета» [Смирнов 1981: 20]. Потому и вести себя доктору нужно соответственно. Впрочем, совпадение профессии, называемой Тунцевой, с действительной профессией Юрия Живаго можно рассматривать и как гипертрофию сказочности: для условий Юрятина она вполне невероятна, чтобы в неё поверить.
Мистер Лорри передаёт с Джерри ответ на записку: «Возвращён к жизни». Именно так воспринимают доктора, вернувшегося из вагона Стрельникова, Тоня, Самдевятов и другие пассажиры теплушки. Но если мистеру Лорри его дорожные спутники и не подумали помочь подняться в карету, то Юрию Живаго, напротив, активно помогали: «Спасибо. Я сам, - отказывался Юрий Андреевич от предложенной помощи. Из теплушки нагибались, протягивали ему руки, чтобы подсадить» [IV: 255]. В «крестовоздвижен-ском» участке повествования со словами «возвращён к жизни» соотносится время действия в ночь на Великий Четверг и следующее за распятием воскресение Христа. Вечерняя встреча с Д жерри происходит чуть позже десяти минут двенадцатого - Галузина идёт из церкви через четверть часа после того, как «в час седьмый по церковному, а по общему часоисчислению в час ночи, от самого грузного, чуть шевельнувшегося колокола у Воздвиженья отделилась и поплыла, смешиваясь с тёмною влагой дождя, волна тихого, тёмного и сладкого гудения» [IV: 307]. Эти моменты времени у Диккенса и Пастернака оказываются симметричны относительно полночи.
В записке, обращённой к направляющемуся в Дувр мистеру Лорри, говорится: «В Дувре подождите мадемуазель...» [Диккенс, XXII: 17]. Живаго, находящийся в штабном вагоне Стрельникова, видит Юрятин и вспоминает о Ларе, которая там живёт. О ней же спрашивает Самдевятова Тоня. Незначимость ответа мистера Лорри для кондуктора кареты сказывается в незначимости вопроса Тони о Ларе для Самдевятова. Лара, в отличие от мисс Манетт, которая приезжает в гостиницу вскоре после мистера Лорри, живёт в городе постоянно. Живаго, в отличие от мистера Лорри, едущего ради мисс Манетт, едет в Юрятин (и даже не в Юрятин, а в Варыкино) не к Ларе.
Мистер Лорри читает записку, поданную слугой Джерри, который, оставшись один, трактует слова «возвращён к жизни» как слова о воскрешении покойников - в «Докторе Живаго» часовые отбирают у доктора документы, и их затем читает Стрельников, при этом доктор готов ко всему, даже к расстрелу, и даёт понять о своей готовности собеседнику. Описание встречи Живаго и Стрельникова завершается сценой, когда военком остаётся один, и его внутренний монолог контрастно соотносится с внутренним монологом Д жерри. У Стрельникова здесь не роль ответчика или слуги, как у Джерри, а роль господина, как у мистера Лорри. Однако Стрельников, как и Джерри, служит (советской власти) и выполняет (её) приказы. В одиночестве ходит ночью по Крестовоздвиженску
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
571
и остающаяся одна, без сына и мужа, Галузина. Она рассуждает сама с собой так же, как Джерри. Но и она, и Стрельников контрастно отличаются от этого персонажа Диккенса в плане здравомыслия. Авторское отступление, предваряющее внутренние монологи Джерри и мистера Лорри, являет собой прообраз восприятия домов Юрятина как Юрием Живаго, так и Стрельниковым, а также восприятия домов Крестовоздвиженска лавочницей Галузиной. Глава III «Тени ночные» открывается так: «Странно, как подумаешь, что каждое человеческое существо представляет собой непостижимую загадку и тайну для всякого другого. Когда въезжаешь ночью в большой город, невольно задумываешься над тем, что в каждом из этих мрачно сгрудившихся домов скрыта своя тайна, и в каждой комнате каждого дома хранится своя тайна, и каждое сердце из сотен тысяч сердец, бьющихся здесь, исполнено своих тайных чаяний, и так они и останутся тайной даже для самого близкого сердца. В этом есть что-то до такой степени страшное, что можно сравнить только со смертью» [Диккенс, XXII: 19-20].
Мысли доктора о домах Юрятина, в одном из которых живёт Лара, в тексте не представлены, но несомненно присутствуют с того момента, как он впервые увидел город из окна штабного вагона Стрельникова: о Ларе «напоминает» во время знакомства с Сам-девятовым Тоня; потом поезд долго маневрирует при выезде из Развилья мимо Юрятина; о Ларе напоминает глажка Тони и голос, приснившийся Юрию Живаго; дома Юрятина за окном библиотеки. По возвращении из плена Живаго думает, что «столько раз вспоминал этот дом» [IV: 388]. Стрельников после встречи с доктором «через вагонное окно стал разыскивать в видневшейся на горизонте панораме тот район над рекой, у выезда из Юрятина, где была их квартира» [IV: 252]. Галузина, бродя по городу, размышляет о своих домашних, в частности о воспитаннице Ксюше, которая для неё в доме не в счёт: «Да и кто она? Чужая душа потёмки» [IV: 308]. Все дома на площади Крестовоздвиженска, про обитателей которых думает Галузина, не содержат никакой тайны. Кроме двух, но не домов. Это пустая комнатка, где «совершались тысячные сделки на мастику, воск и свечи неведомыми доверенными неведомо где проживавшего свечного миллионера» [IV: 309]. И «проходная конторка дровяного сарая», где, как полагает Галузина, занимаются фотоделом, судя по свету фонаря, Блажеин и Магидсон. О миллионере Галузина, возможно, мало или ничего не знает и потому не думает. Её предположение о том, чем занимаются Блажеин и Магидсон, оказывается неверным, но она этого не знает. Таким образом, то, что происходило на самом деле в комнатке и что происходит на самом деле в конторке, остаётся для лавочницы тайной. Неведомым происходившее в комнатке остаётся и для «близкого сердца» - для доктора, который в Крестовоздвижен-ске никогда не был, тогда как комнатка, по-видимому, принадлежала его отцу, а её тайна, возможно, - это тайна свадьбы отца с княгиней Столбуновой-Энрици.
С другой стороны, внутренние монологи Антипова-Стрельникова и Галузиной являются также трансформациями внутреннего монолога, или, точнее, видения, мистера Лорри, расставшегося с Джерри и продолжающего путь в Дувр. Мистеру Лорри представляется пока ещё не названный в тексте доктор Манетт, «заживо погребённый» на
572
Глава 7
18 лет в Бастилии. Именно он, как видится мистеру Лорри, откопанный из-под земли, будет «возвращён к жизни». Аналогичное «возвращение к жизни» происходит и с Юрием Живаго, который на 18 месяцев окажется «погребён» в партизанском плену, в частности в землянке Ливерия. О невозможности возвращения к прошлой жизни (жизни личной и жизни России) думают Антипов-Стрельников после расставания с доктором и Галузина, вышедшая из храма. Их тайные мысли остаются таковыми для «близких сердец» - соответственно для Лары и для домашних Галузиной. Тому, как представляют их Антипов-Стрельников и лавочница, противопоставлено видение «призрака одной удивительной боготворимой головы» [IV: 365], явившееся доктору к концу заговора Кубарихи. Все три момента «Доктора Живаго» обращённо соотносятся с видением мистера Лорри, тональность описания которого, кстати, та же, что и тональность передачи бреда и снов Юрия Живаго. Мистеру Лорри представляется лицо доктора Манетта, которого он едет «откапывать»: «Какое лицо в бесконечной веренице лиц, мелькавших в сновидениях пассажира, было под линным лицом того самого погребённого человека - ночные тени не открыли ему; но все они были почти что на одно лицо - лицо сорокапятилетнего человека - и различались главным образом чувствами, которые были на них написаны, да большей или меньшей мертвенностью болезненно измождённых черт. Гордость, презрение, вызов, упрямство, смирение, мольба - вот чувства, которые, сменяясь одно другим, изменяли это лицо; изменяли и впалые щёки, и кожу землистого цвета, и иссохшие руки, и весь этот жалкий облик. Но, в сущности, это всё время было одно и то же лицо, оно появлялось снова и снова, и голова всякий раз была преждевременно седая» [Диккенс, XXII: 22-23].
Мистер Лорри во время поездки в Дувр представляет разговор с доктором Манет-том и его реакцию на предстоящее знакомство с дочерью, которую тот никогда не видел. Эта реакция доктора Манетта сказывается в «Докторе Живаго» в том, как выражают отношение к Ларе Стрельников после разговора с Юрием Живаго в бронепоезде и доктор во время заговора Кубарихи и как выражает отношение к Ксюше Галузина.
Отметим также, что видение облика доктора Манетта целиком применимо к облику Юрия Живаго, вернувшегося из партизанского плена в Юрятин, как его могла бы воспринимать Лара, но в романе Пастернака оно значимо опущено, поскольку прямо дублировало бы текст Диккенса. Кроме того, оно отражается в передаче реакции Антипова-Стрельникова и Юрия Живаго, «узнающих» друг на друга при встречах в штабном вагоне Стрельникова и в Варыкине.
7.5. «Король Георг» и «Черногория»
Мистера Лорри, приехавшего в Дувр, в гостинице «Короля Георга» поздравляют с прибытием, «потому что совершить путешествие из Лондона почтовым дилижансом зимой было своего рода подвигом, с коим следовало поздравить отважного путешествен
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
573
ника» [Диккенс, XXII: 25]. Это поздравление отразилось в «Докторе Живаго» в словах Тони, говорящей мужу, вернувшемуся от Стрельникова: «Весь вагон поздравляет тебя со счастливым избавлением» [IV: 255]. А также при встрече с начальником станции Торфяной, делающим акцент на ужасах: «Московские? Тогда нечего удивляться, что нервы не в порядке у сударыни. Говорят, камня на камне не осталось?» [IV: 265]. И в третий раз - в негативной реакции Микулицына, противоположной той, какая должна быть в гостиницах: «Почему именно на нас пал выбор, почему вас сюда, сюда, к нам угораздило? <...> Подумали ли вы, какая это для меня обуза? <...> При чём мы тут? Почему этой чести удостоились именно мы, а не кто-нибудь другой?» [IV: 270-271].
Однако поездка и прибытие мистера Лорри, закутанного «в мохнатый плед, в надвинутой на уши шляпе с обвисшими полями и в грязных сапогах» [Диккенс, XXII: 25], напоминает также зимнюю поездку Громеко, Юры и Миши в «Черногорию», где травилась Амалия Карловна. Они тоже закутаны, поскольку стоит сильный мороз, но подробно описана закутанность лихача и его лошади, ожидающих приехавшего Комаровского. Мистер Лорри требует в номер цирюльника, и старший лакей, распоряжаясь, устраивает переполох - ср. с переполохом в «Черногории», который начала прислуга (официант Сы-сой), и тем, как изображена (с намёком на действия цирюльника и с теми же необходимыми принадлежностями) усугубившая его мать Лары: «громко плача и свесив над тазом голову с прядями, лежала на кровати мокрая от воды, слёз и пота полуголая женщина» [IV: 61].
Сцена завтрака мистера Лорри в гостинице трансформирована также в описании пребывания Юрия Живаго в мастерской Глафиры Тунцевой. Героя Диккенса, свободно и неподвижно сидящего возле стола и камина в ожидании завтрака, в «Докторе Живаго» напоминает доктор, который перед стрижкой и бритьём у Тунцевой «сидел на стуле, как в цирюльне, весь обвязанный туго стягивавшей шею, заткнутой за ворот простыней» [IV: 382]. Живаго, называющий себя Тунцевой разъездным инспектором «по делам бывшего союза кредитных товариществ» [IV: 383], хочет тем самым выказать себя холостяком - таким же, каким назван мистер Лорри, один из «оставшихся холостяками старых доверенных служащих банкирского дома Теллсона», которые «были главным образом обременены чужими заботами» [Диккенс, XXII: 27]. Если неподвижно сидящий мистер Лорри в парике похож на «человека, позирующего для портрета» [там же], то свой «портрет» видит и обросший своими седеющими волосами Живаго, которому Тунцева говорит: «Вот вам зеркало. Выпростайте руки из-под простыни и возьмите его. Полюбуйтесь на себя. Ну, как находите?» [IV: 383]. Героя Диккенса расспрашивает неподвижно стоящий слуга - в «Докторе Живаго», напротив, доктор расспрашивает движущуюся вокруг него Тунцеву, для которой парикмахерская работа - лишь одно из многочисленных занятий.
Часть содержания разговора мистера Лорри со слугой вновь соотносит с данной сценой ситуацию в «Черногории», когда Живаго видит неподвижную спящую Лару (её можно сравнить с неподвижно сидящим задремавшим перед завтраком мистером Лор-
574
Глава 7
ри): «А по ту сторону обеденного стола, покрытого вязаной скатертью, спала сидя девушка в кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой. Наверное, она смертельно устала, если шум и движение кругом не мешали ей спать» [IV: 62]. Мистер Лорри просит слугу «приготовить номер для молодой леди, которая должна приехать сегодня» [Диккенс, XXII: 27]. В романе Пастернака, напротив, коридорный «тихим голосом убеждал» двух подростков, Юрия Живаго и Мишу Гордона, войти в номер, где травилась Амалия Карловна и сидя спала Лара [IV: 60]. Пара ‘мистер Лорри и Люси Ма-нетт’ (пожилой джентльмен и молодая девушка), отношения между которыми возвышенны, у Пастернака инверсирована в пару ‘Комаровский и Лара’. Приехавшими в «Черногорию» оказываются Комаровский, Громеко и Юрий Живаго, каждый из которых зеркально соотносится с мистером Лорри. Пастернак зашифровал в своём романе и название номера, в котором остановился герой Диккенса - Конкордия: «Между девушкой и мужчиной происходила немая сцена. Они не сказали друг другу ни слова и только обменивались взглядами. Но взаимное понимание их было пугающе волшебно, словно он был кукольником, а она послушною движениям его руки марионеткой» [IV: 62].
Лара не названа в сцене в «Черногории» по имени. «Угадать» имя Пастернак предоставляет читателю, который в идеале должен помнить, что, «позавтракав, мистер Лорри вышел прогуляться по берегу» моря [Диккенс, XXII: 28]. О чайках - обычных на морском побережье - у Диккенса нет ни слова, и это умолчание соотносится с отсутствующим именем Лары («чайки»). Лара, когда её видят Живаго и Гордон, стоящие в тёмной прихожей, спала в освещённой части номера и при виде Комаровского «улыбнулась вошедшему, прищурилась и потянулась» [IV: 62] - только что приехавшая Люси Манетт нетерпеливо дожидается мистера Лорри и встречает его стоя. Лара ждёт, пока Комаровский уладит скандал, связанный с попыткой её матери отравиться, - Люси ждёт, что мистер Лорри расскажет о её отце и уладит её финансовые дела. Заинтересованности Люси в деле о наследстве отца противопоставлен в «Докторе Живаго» отказ доктора от несуществующего наследства, на которое, возможно, претендует не только княгиня Столбунова-Энрици, но и парижская семья отца. Люси едет в Париж, чтобы там увидеться с мистером Лорри, отстаивающего финансовые интересы клиентов, - Живаго отказывается «кормить» адвокатов. Немая сцена мгновенного взаимного понимания между Ларой и Комаровским контрастирует с долгим разговором героев Диккенса.
Но в «Докторе Живаго» есть, по крайней мере, ещё один разговор, который также напрямую соотносится с данной сценой «Повести...». Это разговор между Таней Безоче-редевой и генералом Евграфом Живаго, который знает историю семьи Тани так же, как мистер Лорри знает историю семьи Люси Манетт. Но если мистер Лорри всячески старается свести отношения к делу, избегая «личного участия» и «чувств», то Евграф, невзирая на служебное положение и дела, говорит Тане: «Чего доброго, я ещё в дядья тебе запишусь, произведу тебя в генеральские племянницы» [IV: 507]. И если Люси старается узнать у мистера Лорри об отце как можно скорее и больше, дабы избавиться от «ужасной неизвестности» [Диккенс, XXII: 35], то Таня не принимает слова Евграфа всерьёз,
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
575
говоря о его обещании: «Такие весёлые насмешники» [IV: 507], и не интересуется судьбой своих родителей. Супруге доктора Манетта, настрадавшейся после того, как у неё родился ребёнок (Люси) и умершей через два года после исчезновения мужа, в «Докторе Живаго» соответствует оказывающаяся на Дальнем Востоке Лара, у которой родилась дочь Таня и которая исчезла вскоре после смерти Юрия Живаго. Тоня, у которой (так же, как и у Лары, в отсутствие Юрия Живаго) родилась дочь Маша, впоследствии оказывается на Западе и «исчезает» для мужа, поскольку у неё, «может быть, <.. .> какие-нибудь перемены, новый друг какой-нибудь, дай ей Бог» [IV: 481-482].
Мистер Лорри разговаривает с Люси Манетт о её отце, который не умер, как она думает, а попал на 18 лет в Бастилию. Сопоставление «умершего» доктора Манетта с умершим Юрием Живаго даёт ещё один аспект в сквозной теме бессмертия, которая проводится в «Докторе Живаго». Что касается сцены в «Черногории», то после рассказа Миши Гордона о роли Комаровского в судьбе отца Юры тот «думал о девушке и будущем, а не об отце и прошлом» [IV: 63], что также соотносит виденное в двадцать четвёртом номере и рассказ Миши с разговором мистера Лорри и Люси о её отце. Пастернак, как и Диккенс, «объясняет» отношение девушки к «покровителю», но отношения эти противоположны. Люси присела перед мистером Лорри в реверансе, «словно трогательно признавая, что она понимает, насколько он и старше, и опытнее, и умнее её» [Диккенс, XXII: 32]. Для Пастернака остаются важными моменты различия возраста и ума, но отношения между Ларой и Комаровским строятся на иной почве: «Девочке льстило, что годящийся ей в отцы красивый, седеющий мужчина, которому аплодируют в собраниях и о котором пишут в газетах, тратит деньги и время на неё, зовёт божеством, возит в театры и на концерты и, что называется, “умственно развивает” её» [IV: 48].
Адвокатство Комаровского корреспондирует с тем, что мистер Лорри является поверенным в финансовых делах многих клиентов. Но отношение Комаровского к тем, кого он опекает и чьи дела ведёт, настолько же бессовестно, насколько отношение мистера Лорри ответственно и честно. Мистер Лорри рассказывает Люси о её отце - докторе медицины. В романе Пастернака доктором оказывается не отец, а сын - Юрий Живаго. При известии о том, что её отец не умер, сидящая в кресле Люси «схватила» мистера Лорри, стоящего у спинки кресла, «за руку обеими руками» [Диккенс, XXII: 35] - ср. это действие с тем, как Лара, сидящая в кресле, «потянулась» к вышедшему из-за перегородки Комаровскому, убедившемуся, что её мать не умрёт, а также с тем, как Антипов-Стрельников хватает руки доктора во время их последнего разговора в Барыкине. Когда же мистер Лорри рассказывает Люси о страданиях её матери и её рождении, Люси становится перед ним на колени. Мистер Лорри рассказывает и о деньгах: «Вы знаете, что у ваших родителей больших капиталов не было, а всё, что было, осталось вашей матушке и вам» [там же: 36]. В «Докторе Живаго» с этой темой денег перекликается как тема потери наследства, отказа от него, так и тема наследства подлинного - духовного. Так, в Барыкине Лара просит Юрия Андреевича записать для неё его стихи - «всё из того, что ты читал мне в разное время на память» [IV: 433]. В финале романа тетрадь
576
Глава 7
стихов доктора - возможно, ту, которую он записал для Лары и которую она увезла с собою, - читают Гордон и Дудоров.
Эпизод разговора Люси Манетт и мистера Лорри использован в «Докторе Живаго» многократно, и сцена в «Черногории» - лишь одна из параллельных ситуаций, в которых всякий раз обыгрываются такие детали, как вставание на колени, сидение в кресле и вскакивание, а также темы разговора героев Диккенса. В качестве примеров мы укажем на некоторые такие ситуации в романе Пастернака. Исчерпывающий их перечень может дать обращение к линейной структуре художественного пространства, демонстрирующей параллелизм различных уровней текста произведения.
Первая - сцена в «одном из монастырских покоев», где ночевали 10-летний Юра и его дядя Веденяпин [IV: 7]. Ещё одна - описание того, как отец Юрия Живаго, бросившийся с поезда (ср. с опусканием на колени) перед самоубийством заходит к Гордонам, с которыми, как и Люси с мистером Лорри, разговаривает на те же деловые темы, что и со своим адвокатом Комаровским: «В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и часами разговаривал с Мишиным отцом. Он говорил, что отходит душой в нравственно чистой тишине и понятливости их мира, и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов» [IV: 18].
Описание Лары и происходящего вокруг неё после её выстрела на ёлке у Свентицких также являет собой одну из ярких трансформаций упомянутой сцены «Повести...».
Вернувшийся из плена в Юрятин доктор неподвижно сидит и разговаривает с приводящей его в порядок Тунцевой. Но когда узнаёт о судьбе семьи, то дёргается под бритвой (ср. со вскакиванием Люси Манетт при сообщениях о судьбах отца и матери). Тунцева учит Юрия Живаго тому, что можно и чего нельзя говорить, тому, что «молчание золото», и называет его «клиентом»: «Ежели так под бритвой ёрзать и дёргаться, недолго и зарезать клиента» [IV: 383-385]. Это обращённо соотносится с тем, что мистер Лорри внушительно говорит Люси о бесполезности и опасности выяснения чего-либо относительно её отца, которого, как и других, он называет «клиентом» [Диккенс, XXII: 37].
В другом случае в Юрятине Лара, встречая Юрия Живаго, вернувшегося из больницы, сообщает, что приехал Комаровский, и просит остаться для разговора: «Лара расплакалась, попыталась упасть перед ним на колени и, обняв его ноги, прижаться к ним головой, но он помешал ей, насильно удержав её» [IV: 416].
Комаровский же и в Юрятине, и позже в Варыкине предлагает доктору, как и мистер Лорри - Люси Манетт, «деловой разговор». В Варыкине, разговаривая наедине с Комаровским, приехавшим за Ларой и сообщающим, что Антипов расстрелян, Живаго говорит: «Кого-то из нас наверняка лишат свободы и, следовательно, так или иначе всё равно разлучат. Тогда, правда, лучше разлучите вы нас и увезите их куда-нибудь подальше, на край света. Сейчас, когда я говорю вам это, всё равно дела идут уже по-вашему. Наверное, мне станет невмоготу, и, поступившись гордостью и самолюбием, я покорно приползу к вам, чтобы получить из ваших рук и её, и жизнь, и морской путь к своим, и
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России 577
собственное спасение. Но дайте мне во всём разобраться. Сообщённая вами новость ошеломила меня. Я раздавлен страданием» [IV: 447].
В сцене неспешной беседы Юрия Живаго с Гордоном и Дудоровым, состоявшейся незадолго до смерти доктора, актуализируются такие детали долгого разговора Люси Манетт с мистером Лорри, как сидение и вскакивание (во время разговора Живаго уходит лишь с четвёртой попытки), опускание на колени («Окно покрывали остатки золотых букв. В пробелы между ними виднелись до колен ноги находящихся в комнате» [IV: 477]), темы воссоединения семьи, гибели и др.
Поездка доктора в трамвае и смерть, соотносящиеся с поездкой в поезде и гибелью Андрея Живаго, также дают такие детали, как неподвижное сидение, вскакивание, «заточение» в замкнутом пространстве и выход на свободу, падение на колени (Юрий Живаго «ступил со ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и больше не вставал» [IV: 488]), жизнь и смерть.
Глава «Повести...», к которой относится разговор между мистером Лорри и Люси Манетт, называется «Предварительный разговор». В «Докторе Живаго» соответствующие сцены и относящиеся к ним разговоры также очень важны и также предваряют какое-либо значительное событие. Финал главы, как и рассмотренные выше моменты, ярче всего отразился в сцене в «Черногории». Чтобы привести в чувства оцепеневшую от услышанного Люси Манетт, мистер Лорри зовёт на помощь, и появляется её служанка-опекунша мисс Просе: «Какая-то исступленная особа стремглав влетела в комнату, и, как ни взволнован был мистер Лорри, он успел заметить, что вся она красная, и волосы у неё красные, а платье невообразимо обужено, на голове какой-то удивительный колпак» [Диккенс, XXII: 38].
Описание внешности мисс Просе, которая показалась мистеру Лорри мужчиной, Пастернак использовал, изобразив травившуюся мать Лары Амалию Карловну, похожую «на обнажённого борца с шарообразными мускулами в коротких штанах для состязания» [IV: 61]. У Диккенса в помощи нуждается Люси Манетт, а мисс Просе приказывает слугам нести «препараты» внешнего действия: «Всё, что нужно! нюхательной соли, воды, уксуса!» [Диккенс, XXII: 38]. Амалию Карловну пользовали «препаратами» внутреннего действия - делали промывание желудка. Однако поза Люси «передана» не ей, а Ларе, у которой, в отличие от бодрствующего прототипа, на лице было не «выражение ужаса», а, напротив, улыбка. К тому же Лара спала: «Свет разбудил девушку. Она улыбнулась вошедшему, прищурилась и потянулась» [IV: 62].
У Диккенса последовательность действия в финале главы такая: сначала оцепенение Люси, которая сидит, «даже не откинувшись на спинку кресла» [Диккенс, XXII: 38], затем зов мистера Лорри на помощь, приход мисс Просе, отталкивание ею мистера Лорри и приказ слугам, перенос и укладывание Люси на диван, сочувствие мистера Лорри, стоящего вдали у стены, приведение Люси в чувство, уход мистера Лорри к себе в комнату, чтобы поразмыслить над словами мисс Просе.
578
Глава 7
Пастернак, сохраняя все основные звенья, трансформировал эту последовательность следующим образом: сначала переполох прислуги в гостинице, подталкивание коридорным мальчиков в номер, затем описание лежащей за загородкой Амалии Карловны, её призывы к сочувствию соседа-виолончелиста Тышкевича, неловкость стоявших «в тёмной прихожей, на пороге неотгороженной части номера» Юры и Миши. Они видят Лару, которая «спала сидя <.. .> в кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой», а затем проснулась. Когда мальчики выходят на улицу, Миша рассказывает другу о Комаровском, но тот думает «о девушке и будущем, а не об отце и прошлом» [IV: 62-63].
7.6. Французский прототип Галузиной
Описание парижского предместья Сент-Антуан и радости его жителей, высыпавших на улицу, чтобы выпить разлившееся на землю вино из разбившейся огромной бочки, и стилистически, и по тону сказалось в описании лета в Мелюзееве и митинга на городской площади (шире - в пассажах о лете 1917 года не только в «Докторе Живаго», но и в других произведениях и письмах Пастернака). В числе параллельных мелюзеевскому участку мест в романе - рассказ о площади и улицах в Крестовоздвиженске. Важность повествования, относящегося к части десятой «На большой дороге», определяется той ролью, которую играют в произведении Диккенса глава V «Погребок» и появляющиеся в ней персонажи, а именно супруги Дефарж. В Крестовоздвиженске инверсированным вариантом этой пары являются супруги Галузины. У них множество переиначенных, но узнаваемых черт прототипов. Вот, например, как описывается мадам Дефарж, постоянно занимавшаяся вязаньем: «В зальце, куда он вошёл, сидела за стойкой его супруга, мадам Дефарж. Мадам Дефарж была дородная женщина примерно тех же лет, что и её супруг, с внимательно насторожённым взглядом, который редко на чём-нибудь задерживался. <.. .> Глядя на неё, сразу можно было сказать, что мадам Дефарж, с какими бы сложными расчётами ей ни пришлось иметь дело, - вряд ли позволит себя обсчитать. Мадам Дефарж была особа зябкая и куталась в меховую душегрейку, а голова её была обмотана яркой шалью» [Диккенс, XXII: 44].
Позже смысл её вязания, представляющего собой «записывание» имён подлежащих уничтожению классовых врагов, проясняет трём Жакам её муж: «Если бы жена моя взялась составлять эти списка просто у себя в памяти, она и тогда не сбилась бы, не упустила бы ни одного слова, ни одной буквы. Но она вяжет их, и вяжет особыми петлями, и каждая петля для неё знак, который ей ничего не стоит прочесть. <...> Легче самому жалкому трусу вычеркнуть себя из списка живых, чем вычеркнуть хотя бы букву его имени или его преступлений из вязаного списка моей жены» [там же: 208].
На вопрос человека, стоявшего с ней рядом во время выезда короля и свиты, о том, что она делает, мадам Дефарж отвечает: саваны [там же: 210]. В связи с этим особое значение приобретает воспоминание Галузиной о том, что в молодости они с сестрой
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
579
«вздумали вдруг шести шерстей шарфы вязать, затейницы. И что же, такие оказались вязальщицы, по всему уезду шарфы славились» [IV: 307]. В лавке Галузина, названная «молодой хозяйкой», «охотно и часто сиживала за кассой. Любимый её цвет был лиловый, фиолетовый». О себе лавочница «знала, что она женщина славная и самобытная, хорошо сохранившаяся и умная, неплохой человек» [IV: 310, 312]. Если Дефарж относится к жене восхищённо, то Галузина к своему мужу - снисходительно, но в то же время пренебрежительно. Мадам Дефарж - фанатичная революционерка, жаждущая только мести и крови и мыслящая трезво и ясно. Галузина, пытающаяся разобраться в происходящем, но под конец запутывающаяся в рассуждениях, причину бед, случившихся с Россией, видит не столько в революции, сколько в войне. Каждая из героинь олицетворяет свою страну, но у Пастернака образ несколько снижен. Вернувшись домой, Галузина перечисляет Ксюше имена пользовавших её врачей, в том числе и не лечившего её Юрия Живаго, не называя его по имени. Когда после посещения кабачка шпионом Барседом мадам Дефарж заносит в список осуждённых его имя, а также, наряду с ним, имя Чарльза Дарнея, муж пытается убедить её, что это «странно». «Многое нам тогда покажется странным, - отвечала мадам. - И не такие ещё странности мы увидим» [Диккенс, XXII: 222]. Отзвук этой реплики мадам Дефарж слышится в «программной» речи Юрия Живаго на вечеринке в доме Громеко перед октябрьской революцией, а также в строках стихотворения, написанного Пастернаком в 1942 г. во время пребывания в эвакуации в Чистополе:
Грядущее на всё изменит взгляд, И странностям, на выдумки похожим, Оглядываясь издали назад, Когда-нибудь поверить мы не сможем [II: 257].
Галузина ходит ночью по улицам и по площади мимо домов, где когда-то жили и что-то делали те или иные люди, но в наступившие времена многих, вероятно, уже нет, или они занимаются чем-то другим. После того как из кабачка ушёл Барсед, мадам Дефарж в сумерках идёт на улицу, на которую высыпает весь народ. «Мадам Дефарж имела обыкновение прохаживаться с работой в руках от крыльца к крыльцу, от одной кучки к другой и проповедовать» [Диккенс, XXII: 224]. Истории Галузиной и её мужа в свёрнутом и обращённом виде содержат истории супругов Дефарж. Полный анализ перекличек может быть весьма объёмным, и потому мы ограничимся лишь отдельными важными моментами. Добавим, что образ мадам Дефарж обращённо сказался, как подробно показала Л.Л. Горелик, в изображении ещё одного персонажа - Глафиры Тунцевой, которая тоже вяжет (см.: [Горелик 2006: 386-389]).
Сцена в погребке, когда там сидят мистер Лорри и Люси Манетт, будучи одной из вводных сцен «Повести...», отражается в уже указанных эпизодах, например, в описании происходящего в «Черногории», когда там травится Амалия Карловна. В «Повести...» в погребок входит Дефарж, мистер Лорри и Люси смотрят на него, жена Дефаржа указывает мужу на этих посетителей, но он идёт разговаривать с трёмя Жаками. В «Докторе Живаго» в гостиничный номер входят Юрий Живаго и Гордон; Комаровский и Лара
580
Глава 7
смотрят друг на друга, имея в виду Амалию Карловну; Миша указывает Юре на Комаровского. Дефарж, мистер Лорри и Люси поднимаются затем по лестнице в каморку, где находится отец Люси доктор Манетт. Этот подъём и встреча соотносятся с множеством параллельных мест в «Докторе Живаго», где фигурирует лестница, по которой в комнату или каморку поднимаются герои. Например, лестница в юрятинском доме, с которой Живаго спускает Комаровского. Или лестница в комнату в доме, стоящем в Камергерском переулке в Москве. Поднявшаяся туда Лара находит умершего Юрия Живаго - Люси Манетт находит отца, который «возвращён к жизни», «поднят из могилы». Прощание и оплакивание доктора Ларой - это вывернутая наизнанку встреча с доктором Манеттом и слёзы радости и жалости его дочери Люси. Пастернак обычно воспроизводит не все детали претекста. Их неполный набор всякий раз варьируется, а если и воспроизводится полностью, то подвергается многоступенчатому инверсированию. Есть моменты, когда Пастернак оставляет лишь одну деталь, расшифровка которой, как и всех значимо отсутствующих, возможна лишь за счёт сопоставления с параллельными местами.
Например, обращённым аналогом пыльного чердака для дров и угля, где шьёт ботинки доктор Манетт, является таинственная комнатка, окно которой с запылёнными картонными коробками и свадебными свечами видит Галузина. Окно это соотносится со слуховым окошком в крыше чердака из «Повести...», которое закрывается двумя нестеклянными створками. Связь комнаты с Андреем Живаго, когда-то побывавшим в ней и, вероятно, бывшим её владельцем, является контрастирующим аналогом связи с чужим чердаком временно, но долго находящегося там доктора Манетта. Герой Диккенса оказывается там благодаря своему бывшему слуге Дефаржу - ср. с данной ситуацией обстоятельства переселения Юрия Живаго в 1922 году «в Мучной городок, где всесильный Маркел выгородил ему конец бывшей квартиры Свентицких. Эту крайнюю долю квартиры составляли: старая бездействовавшая ванная Свентицких, однооконная комната рядом с ней и покосившаяся кухня с полуобвалившимся и давшим осадку чёрным ходом. Юрий Андреевич сюда перебрался и после переезда забросил медицину, превратился в неряху, перестал встречаться с знакомыми и стал бедствовать» [IV: 473].
7.7. Олд-Бейли и суды в «Докторе Живаго»
Книга вторая «Повести...» открывается описанием банка Теллсона, посыльного Джерри Кранчера, его 12-летнего сына с таким же именем и набожной жены, молитвы которой вызывают у Кранчера ярость. Эти характеры отразились прежде всего в членах семьи Галузиных. Если корыстный Кранчер, называя жену дурой, упрекает её, что она молит Бога о том, «чтобы у единственного сына кусок хлеба с маслом изо рта вырвали» [Диккенс, XXII: 69-70], то в «Докторе Живаго» лавочница к уехавшему мужу относится ласково, но в то же время раздражённо укоряет этого наивного доброхота в том, что он «вдоль по тракту пустился новобранцам речи говорить, напутствовать призванных на
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
581
ратный подвиг. А лучше бы, дурак, о родном сыне позаботился, выгородил от смертельной опасности» [IV: 308]. Кранчер имеет в виду, что молитвы жены помешают его промыслу - раскапыванию могил и ограблению покойников. Галузина, которая уходит из церкви с заутрени, то есть относится к молитвам совершенно иначе, нежели набожная жена Кранчера, не верит и в действенность слов мужа, желая, чтобы он не говорил, а действовал. Галузин, в отличие от Кранчера, «закапывает» людей - напутствует новобранцев на смерть.
В главе II (книги второй) «Зрелище» описывается посылка Кранчера с запиской к мистеру Лорри в лондонский суд Олд-Бейли, где за «измену» судят Чарльза Дарнея. В суде, ход которого изображается очень подробно, присутствуют в качестве свидетелей доктор Манетт и его дочь. В «Докторе Живаго» упомянуты или описаны несколько судов, но ни один из них не является судом праведным и судом в юридическом, а не политическом смысле. В этих аспектах они соотносятся с судами в «Повести...». Это лишь упомянутые в тексте суды над террористом Дементием Дудоровым, над Антиповым и Тиверзиным, которых обвинили в организации забастовки. Это также сцена «суда» Лары над Комаровским - её выстрел на ёлке у Свентицких; расправа солдат над Гинцем; «суд» Стрельникова над арестованным Живаго, которого привели к нему в вагон; расстрел одиннадцати партизан и двух санитаров-заговорщиков в партизанском отряде и т. д.
В качестве примера преобразования Пастернаком сцены суда в Олд-Бейли рассмотрим бал на ёлке у Свентицких и выстрел Лары. Если в доме суда собравшиеся жаждут страшного зрелища четвертования, то в дом стариков Свентицких гости, в том числе родственники, съезжаются на праздник Рождества Христова. Тем самым актуализируется соотношение Рождества (а также распятия) и четвертования. Танцуя с Кокой Корнаковым, дирижировавшем танцами на французском языке (Дарнея в Олд-Бейли судят за якобы шпионаж в пользу Франции), Лара вспоминает, откуда ей известна его фамилия: «...Корнаков - товарищ прокурора московской судебной палаты. Он обвинял группу железнодорожников, вместе с которыми судился Тиверзин. Лаврентий Михайлович по Лариной просьбе ездил его умасливать, чтобы он не так неистовствовал на этом процессе, но не уломал. Так вот оно что! Так, так, так. Любопытно. Корнаков. Корнаков» [IV: 85]. На суде в Олд-Бейли так же неистовствует прокурор, а защитником Дарнея, добившимся его оправдания, является Страйвер, внешность и поведение которого (см.: [Диккенс, XXII: 98] в какой-то степени сказались в изображении внешности и поведения юриста Комаровского. «Седоватость» последнего, отмечаемая Юрием Живаго, соотносится с совершенной белизной волос доктора Манетта, выделяющей его из присутствующих на суде в Олд-Бейли. Внешность и особенности поведения доктора Манетта на суде отразились также в описании поведения Антипова и Тиверзина на собрании в Крестовоздвиженске и в том, что в Юрятине (после возвращения доктора от партизан) они являются членами революционного трибунала. После своего выступления в качестве свидетельницы, показания которой могли повредить Дарнею, Люси почувствовала себя дурно, и это заметил небрежно сидевший Сидни Картон, сказавший приставу:
582
Глава 7
«Позаботьтесь о молодой леди. Помогите джентльмену увести её, не видите разве, что она падает?» [Диккенс, XXII: 94]. После выстрела Лары в Комаровского, когда пуля поцарапала руку Корнакова, наблюдавший до этого за танцем Тони «Юра обомлел, увидав её. - Та самая! И опять при каких необычайных обстоятельствах! И снова этот седоватый. Но теперь Юра знает его. Это видный адвокат Комаровский, он имел отношение к делу об отцовском наследстве. <...> Так это она стреляла? В прокурора? Наверное, политическая. Бедная. Теперь ей не поздоровится. Как она горделиво хороша! А эти! Тащат её, черти, выворачивая руки, как пойманную воровку. Но он тут же понял, что ошибается. У Лары подкашивались ноги. Её держали за руки, чтобы она не упала, и с трудом дотащили до ближайшего кресла, в которое она и рухнула. Юра подбежал к ней, чтобы привести её в чувство, но для большего удобства решил сначала проявить интерес к мнимой жертве покушения. Он подошёл к Корнакову» [IV: 87].
Лара стреляет в не обвинявшего железнодорожников юриста Комаровского, но попадает в обвинявшего их прокурора (в товарища прокурора) Корнакова - Дарнея защищает Страйвер, но заслуга оправдания принадлежит на самом деле Картону, который «внешне» почти не участвует в процессе защиты. «Обрамление» сцены на ёлке у Свентицких также соотносится с «обрамлением» суда в Олд-Бейли. Юрий Живаго и Тоня едут на ёлку на извозчике. После выстрела Свентицкая и Тоня сообщают Юрию, что «за ними приехали, дома что-то неладно» [IV: 87]. На суд доктор Манетт и Люси приезжают в карете и покидают суд на ней же. Кроме того, Д жерри Кранчера посылают в суд с запиской к мистеру Лорри, а после оправдательного вердикта Дарнею тот отсылает Кранчера обратно в банк Теллсона.
Заметим, что именно интертекстуальное присутствие в «Докторе Живаго» текстов предшественников, в данном случае Диккенса, объясняет многочисленные вопросы относительно психологических мотивов поступков Лары, задаваемые А. Ливингстон и остающиеся, по мнению исследовательницы, без ответов, если подходить к поведению Лары с точки зрения психологического романа XIX столетия. Только символический вид значений, указанный ею в качестве поставляющего ответы на возникающие вопросы, кажется нам недостаточным (см.: [Livingstone 1989: 59-61]).
7.8. Двухэтажные дома
Следующая глава - IV, «Поздравительная», - начинается тем, что доктор Манетт, Люси и Страйвер поздравляют Дарнея «с избавлением от лютой смерти» [Диккенс, XXII: 97]. Аналогичное поздравление в «Докторе Живаго» звучит из уст Тони, когда доктор возвращается с «суда» Стрельникова: «Но вперёд послушай, что кругом говорят. Весь вагон поздравляет тебя со счастливым избавлением» [IV: 255]. После того как от Свентицких все разъехались, в доме остаются Лара и Комаровский. После разъезда из Олд-Бейли повествование переключается на оставшихся вдвоем Картона и Дарнея. Их разго
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
583
вор и чувства Картона, которые он испытывает к своему двойнику и Люси, в «Докторе Живаго» особенно ярко проявились в сцене встречи Антипова-Стрельникова и Юрия Живаго в Барыкине после отъезда Лары с Комаровским. Картон и Дарней говорят о Люси -Антипов-Стрельников и Живаго - о Ларе. После того как доктор уходит спать, Стрельников остаётся один, его мысли и чувства остаются для читателя неизвестными, и он кончает самоубийством - после ухода Дарнея Картон говорит, обращаясь к зеркалу, о нём, своей судьбе, Люси, выпивает ещё одну бутылку портвейна и засыпает «мёртвым сном» [Диккенс, XXII: 104-105]. Приверженность Бахусу «учёных служителей закона», в частности, Картона, не считавшаяся в Англии конца XVIII века «зазорным делом», в России начала XX века, изображаемой в «Докторе Живаго», проявляется в приверженности к спиртному как средству «работы» Комаровского, спаивающего своих жертв.
Негативная оценка Картоном Люси Манетт, которую он в разговоре со Страйвером называет «куклой желтоволосой», дабы не выдавать своих настоящих чувств к ней [там же: 112], в «Докторе Живаго» проявляется как отсутствие оценок Лары доктором, когда собеседники ждут от него негативной оценки: в «Черногории» такой оценки, но не в отношении Лары, а Комаровского, ждёт Миша Гордон; на ёлке у Свентицких после выстрела Лары - от Юрия Живаго её не ждут, но сами выражают окружающие, в числе которых, видимо, в этот момент отсутствует удручённая горем Тоня; когда доктор работает вместе с Ларой в мелюзеевском госпитале, такое нежелание давать негативную оценку Ларе проявляется в ответном письме Юрия Живаго жене; при знакомстве с Сам-девятовым18 в вагоне теплушки доктор молчит, когда Тоня задаёт Самдевятову провокационный вопрос о Ларе; после чтения письма Тони, в котором она, в частности, оценивает Лару, молчаливая реакция доктора проявляется как стон и падение в обморок без сознания.
Краткое описание комнаты Картона повлияло в «Докторе Живаго» на такие же краткие описания комнаты в Камергерском переулке, в которой поселяются Антипов (в начале романа) и Живаго (в конце). Однако детали, присутствующие у Диккенса, у Пастернака не отмечены, хотя могут подразумеваться. «Свернув в тёмный двор, похожий на каменный колодец, он поднялся к себе наверх, под самую крышу, бросился, не раздеваясь, на убогую кровать и уткнулся лицом в подушку; и она тотчас же стала мокрой от его бессильных слёз. Печально, печально поднялось солнце и осветило печальное зрелище, ибо что может быть печальнее, нежели человек с богатыми дарованьями и благородными чувствами, который не сумел найти им настоящее применение, не сумел помочь себе, позаботиться о счастье своём, побороть обуявший его порок, а покорно предался ему на свою погибель» [там же: 112-113].
На судьбу Картона, перед которым предстаёт мираж «благородного честолюбия, стойкости и самоотречения» [там же: 112], впоследствии воплощаемый им, оказывается спроецирована судьба лирического героя стихотворения Юрия Живаго «Август». Этот
18 Образ Самдевятова в плане соотнесения романа с «Повестью...» рассмотрен в статье: [Горелик 2006: 384-386, 389-390].
584
Глава 7
автобиографический герой также предвидит будущее. С текстом Диккенса особенно перекликаются первые три строфы «Августа». В третьей задаётся мотив наблюдения собственной смерти, который, «возможно, восходит к волшебной сказке - ср. текст № 40 из собрания: Д.К. Зеленин, Великорусские сказки Пермской губернии, Петроград 1914, 105» [Смирнов 1994: 221]. Первая же, добавим, отсылает к частому у Достоевского мотиву косых лучей заходящего солнца (у Пастернака, напротив, «утром рано»), которые в «Подростке» «предсказывают» поправку героя и появление Макара Долгорукого: «День был ясный, и я знал, что в четвёртом часу, когда солнце будет закатываться, то косой красный луч его ударит прямо в угол моей стены и ярким пятном осветит это место» [Достоевский, XIII: 270,283]19. Совсем иначе диккенсовский пассаж отозвался в словах Гордона, сказанных доктору в последнем разговоре: «Стыдно, чтобы без пользы пропадал такой человек, как ты. Тебе надо пробудиться от сна и лени, воспрянуть, разобраться без неоправданного высокомерия, да, да, без этой непозволительной надменности в окружающем, поступить на службу, заняться практикой» [IV: 481].
Диккенсовская характеристика Картона сказалась и в оценке Юрия Живаго, которую дала после его смерти Марина. Эту оценку в окончательный текст романа Пастернак не включил. Поведение доктора по возвращении с Урала в Москву ориентировано на поведение Картона в начале «Повести...», до того, как он совершает жертвенный подвиг.
В «Докторе Живаго» все дома, в которых живут или поселяются герои, двухэтажные, в том числе и комната в Камергерском, находящаяся над Художественным театром, то есть как бы на втором этаже. Исключение представляют два одноэтажных дома в Варыкине: дом Микулицыных и пристройка, отведённая для семьи Живаго. Но можно рассматривать их и как один дом, разделённый по горизонтали. Двухэтажным является и дом доктора Манетта в лондонском квартале Сохо. Детали описания этого дома можно найти в преобразованном виде в рассказах о каждом из домов в «Докторе Живаго». Приведём лишь один пример. «Квартира доктора помещалась в двух этажах просторного тихого дома, во дворе которого днём занимались, по-видимому, различными ремёслами; но даже и днём мастеров почти не было слышно, а вечером они и совсем не показывались. Во флигеле позади дома, в глубине двора, где шелестела зелёная листва большого платана, приютилась органная мастерская, и также, судя по вывеске, обретался серебряных дел мастер, а громадная золотая рука, выраставшая прямо из стены над входной дверью, принадлежала, по-видимому, некоему таинственному великану-золото-бойцу, который, превратив себя в драгоценный металл, грозился поступить точно так же и со всеми своими заказчиками. Но этих мастеров, так же как и одинокого жильца, который, как говорили, жил где-то на самом верху, и неуловимого каретника, снимавшего нижнее помещение под контору, редко можно было увидеть или услышать. Лишь иногда кто-нибудь из подмастерьев, натягивая на ходу куртку на плечи, появлялся в се
19 Подробнее о солнце у Достоевского: [Туниманов 2004: 321-329].
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
585
нях, или какой-нибудь пришелец неуверенно заглядывал в ворота, да время от времени со двора доносилось негромкое позвякиванье или глухой стук молотка золотого исполина» [Диккенс, XXII: 114].
В данной характеристике можно опознать ту, которая даётся дому, в который Кологри-вов поселяет выздоровевшую Лару. Он говорит ей: «Есть у меня один художник знакомый. Он уезжает на два года в Туркестан. У него мастерская разгорожена переборками, и, собственно говоря, это целая небольшая квартира. Кажется, он готов передать её вместе с обстановкой в хорошие руки» [IV: 95]. Далее рассказчик сообщает, что, «выздоровев, Лара переехала на новое пепелище, расхваленное Кологривовым. Место было совсем поблизости, у Смоленского рынка. Квартира находилась на верху большого каменного дома в два этажа, старинной стройки. Низ занимали торговые склады. В доме жили ломовые извозчики. Двор был вымощен булыжником и всегда покрыт рассыпанным овсом и рассоренным сеном» [IV: 96]. Во время вечеринки, устроенной по поводу отъезда на Урал, отлучившаяся за перегородку Лара в минуту затишья гостей слышит стук железа, «особенность» которого и состоит в том, что он должен напомнить читателю о звуках, описанных в «Повести...», а рассказ об утре и ассоциации с деревней - о характеристике района Сохо и времени дня: «В это время совсем другой, особенный звук привлек её внимание со двора сквозь открытое окно. Лара отвела занавеску и высунулась наружу. По двору хромающими прыжками передвигалась стреноженная лошадь. Она была неизвестно чья и забрела во двор, наверное, по ошибке. <.. .> Бог знает в какую деревенскую глушь и прелесть переносило это отличительное и ни с чем не сравнимое конское кованое переступание» [IV: 100]. Рассматривая «гипнотическое состояние» Лары и сцену со стреноженной лошадью, А. Ливингстон полагает, что «nothing could be more irrelevant to the story or more relevant to the novel’s message and vision»20. Вскрывая некоторые значения упомянутой релевантности, исследовательница указывает, в частности, ещё один литературный источник - «the sonnet about wandering and space-evoking hobbled horse Rilke once saw in Russia (Sonnets to Orpheus, I: 20)»21 [Livingstone 1989: 62,95-96].
Обстановка дома, в котором живут доктор Манетт с дочерью, заботливо созданная Люси [Диккенс, XXII: 115-116], в «Докторе Живаго» отразилась резко контрастирующими обстановками в домах, в которых живут герои. Особенно выразительно интертекстуальная связь проявляется в описаниях комнат дома в Юрятине, в котором живёт Лара, обладающая таким же «природным даром особого уменья достигать многого при небольших средствах» [там же: 115], что и Люси.
Заметим, что в описании дома, в который Кологривов поселяет Лару, и двора сказалось не только влияние Диккенса. В значительной мере они «списаны» с дома № 21 на Мясницкой улице, где семья Пастернаков жила с 1894 по 1911 год, и двора, в который
20 «Ничто не может быть столь ненужным для повествования и более соответствующим посылу романа и видению, отражённому в нём» (англ.)-
21 «Сонет о блуждании и ржании стреноженной лошади, которую Рильке однажды видел в России»
586
Глава 7
выходили окна их гостиной. В этом же доме жили другие, кроме Л.О. Пастернака, художники, и располагалось Училище живописи, ваяния и зодчества, где они преподавали. Отъезд хозяина квартиры-художника в Туркестан сигнализирует о присутствии «восточной» темы, которая затем подхватывается тем, что на прощальной вечеринке присутствуют не только её устроители Лара и Антипов, отъезжающие на Урал, но и Комаровский. Судьбы всех троих впоследствии оказываются связаны с Сибирью и Дальним Востоком. И всякий раз так или иначе проявляется «китайская» составляющая этой «восточной» темы. Последняя также связана с домом № 21. И Пастернак осмыслял её, вероятно, через призму романов Диккенса. Косвенным подтверждением этому являются воспоминания его брата, который ошибся, говоря, что происходившее за окнами гостиной интереса для детей семьи Пастернаков не представляло: «Ещё меньший интерес для нас сулили окна нашей гостиной. Они выходили на замкнутый двор дома, ныне известного по магазину в первом этаже “Чаеуправления” и по странной и довольно безвкусной архитектуре фасада “под Китай”. Тогда же и дом и магазин принадлежали известной чаеторговой фирме “С.В. Перлова С-я”, т. е. “с сыновьями”. В этом дворе, скрытом от глаз, даже если встать на подоконник, зимой и летом кипела работа. В тёплые весенние дни, когда настежь раскрывались окна, в комнату врывались нежные, но сильные ароматы чая и кофе; это там, внизу, во дворе, разгружались и распаковывались громадные тюки зашитых и прекрасные мягкие и плотные циновки грузов кофе и чая, только что полученных из заморских стран. Это был двор почти диккенсовского романа, двор заманчивых и загадочных тайн Китая, Индии и Цейлона. В течение уже многих десятилетий шла здесь однообразная работа, и этот очаровательный аромат Востока, казалось, прочно въелся в стены, окружающие двор, в людей, снующих там, в лошадей обозов, в голубей и даже в изредка прошмыгивающих меж лошадиных ног и стрелой проскакивающих через двор кошек. Казалось, что если даже и перестанут ввозить сюда новые партии товара, дом и всё перечисленное долгие годы будет ещё отдавать свой сильный и тончайший аромат. Зимой мы были этого запаха лишены. Мы ничего не видели из происходящего там, внизу; да и смотреть-то было не на что, однообразность работ была нам хорошо известна, зрительного интереса эти окна для нас не представляли» [Пастернак А. 2002: 67-68].
7.9. Два доктора, Просе и «шаги толп»
Главный герой Пастернака - доктор. Так же, как доктором является и герой Диккенса. Краткая характеристика доктора Манетта распространяется у Пастернака на все ситуации, характеризующие врачебную деятельность Юрия Живаго. «Доктор Манетт принимал дома пациентов, которых привлекала к нему его давнишняя репутация дельного врача, восстановлению коей немало способствовали слухи о его злоключениях. Благодаря своим обширным знаниям, проницательности и искусству врачевания он пользо
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
587
вался заслуженным уважением и зарабатывал столько, сколько ему требовалось» [Диккенс, XXII: 115].
В общих чертах врачебные занятия Юрия Живаго выглядят так. Это работа в больнице в Москве до войны; в мелюзеевском госпитале; в больнице в Москве осенью 1917 года. Эти три ситуации из Первой книги имеют отражениями три из Второй: врачебная деятельность в Варыкине; в партизанском отряде; в Юрятине. Осевым моментом, создающим симметрию, является посещение доктором больной в доме у Брестской заставы и его последующая болезнь. Если в Первой книге Живаго лечит добровольно, подобно доктору Манетту, то во Второй - поневоле, вынужденно.
Глава VI «Толпы народу» из книги второй содержит рассказ о приходе мистера Лорри в дом доктора Манетта, когда отец и дочь отсутствуют. Мистер Лорри разговаривает с мисс Просе о докторе, который, вспоминая произошедшее с ним, «поднимется и ходит взад и вперёд, взад и вперёд, не останавливаясь» [там же: 120], а Люси тогда идёт к нему и молча ходит с ним вместе, пока не успокоит. В «Докторе Живаго» персонажами, наделёнными чертами мисс Просе, оказываются оставшиеся в мелюзеевском особняке графини Жабринской, превращённом в военный госпиталь, «две любопытные женщины, старая гувернантка графининых дочерей, ныне замужних, мадемуазель Флери, и бывшая белая кухарка графини, Устинья» [IV: 134]. Во Второй книге «Доктора Живаго» некоторые характеристики мисс Просе можно узнать в описаниях Кубарихи. Долгий разговор мистера Лорри с мисс Просе о докторе и Люси отражается в «Докторе Живаго» в кратких разговорах Юрия Андреевича с мадемуазель Флери о Ларе, а перед отъездом доктора - о стуке в окно, причиной которого был ураган. У Пастернака вслед за Диккенсом актуализирован семейно-возрастной статус героини. Отличие в том, что большее внимание читателя обращено на национальную окрашенность обращения «мадемуазель» (по контрасту с «мисс»), что вместе с несоответствием возрасту помогает ему восстановить в памяти претекст. Если ревнующая к Люси Просе является противницей большого количества посетителей, в том числе, видимо, и кандидатов в женихи своей любимицы, то Флери, напротив, сводница. Ревность же у Флери и Устиньи (последнюю с Просе сближают бескомпромиссный характер, уменье отлично готовить и характерная манера разговора) проявляется лишь по отношению друг к другу. Ворчливая Просе, отмечающая, что у неё нет воображения, предана Люси - так же ворчливы Флери и Устинья, у которых богатое воображение: женщины «были нежно привязаны друг к другу и без конца друг на друга ворчали» [IV: 135]. Просе даёт прямые положительные оценки Люси, которую называет «птичкой» - Флери также положительно оценивает Лару («чайку»), но отношение своё не озвучивает. Если Просе заботится о Люси и ухаживает за ней, то Флери движет совсем другая забота: сообщив доктору, что Лара только что вернулась из поездки и устала, она советует ему постучаться.
Конец дня и вечер, который проводят вместе доктор Манетт, Люси, мистер Лорри, мисс Просе, Дарней и Картон, соотносится в «Докторе Живаго» с двумя вечерами в Мелюзееве, когда доктор слушает из окна (в «Повести...» у окна стоит Картон), а по
588
Глава 7
том, находясь на площади, ночной митинг, а в следующий вечер рассказывает о нём Ларе. Кроме того, с упомянутым разговором друзей, состоявшимся перед тем, как развернутся основные драматические события «Повести...», соотносятся и разговоры друзей в «Докторе Живаго» после того, как главные события уже состоялись (например, разговор на вечеринке у Громеко после возвращения Юрия Живаго с войны; разговор доктора с друзьями в комнате Гордона после возвращения с Урала; разговор Гордона и Дудорова после смерти Живаго и после войны). Пастернак всякий раз обыгрывает ключевые детали сцены Диккенса. Это духота, открытое окно, гроза, занавеска, неспешность разговора и его скрытое символическое значение, присутствие революционных толп. В «Повести...» герои прислушиваются к шагам этих толп: «Шаги слышались непрерывно, всё более и более поспешные, стремительные. Эхо в тупике подхватывало их и вторило этой беготне; шаги раздавались под окном и даже в комнате; они приближались, убегали, останавливались, но все эти шаги эхо доносило с улицы, а в тупике не было ни души» [Диккенс, XXII: 126].
Лара в ответ на рассказ Юрия Живаго о митинге говорит: «Про митингующие деревья и звёзды мне понятно. Я знаю, что вы хотите сказать. У меня самой бывало» [IV: 145]. Люси называет то, что ей кажется, «фантазией», от которой её пробирает дрожь. Но если Дарней просит рассказать об этом, то Живаго, напротив, не спрашивает Лару о подробностях и воодушевлённо продолжает говорить дальше не только в силу занятости своими мыслями, но и потому, что ему известны слова Люси из романа Диккенса, который он позже читает в Варыкине и который, вероятно, читал и ранее. Монолог Юрия Живаго подразумевает знание доктором того, что впоследствии произошло с героями Диккенса. Люси рассказывает: «Я иногда сижу здесь одна вечером и слушаю, как эхо в тупике вторит всем этим отдалённым шагам, и вдруг мне начинает казаться, что все эти шаги когда-нибудь ворвутся в нашу жизнь» [Диккенс, XXII: 126]. Картон, стоящий у окна, предлагает забрать всех людей, чьи шаги слышны, в свою жизнь. И его затем перебивает шум неистовой грозы, после которой «далеко за полночь <.. .> выглянула луна» [там же]. Слова Картона трансформированы в «Докторе Живаго» в последнюю часть монолога доктора, обращённого к Ларе [IV: 146]. Если полная луна в Мелюзееве стоит вечером и ночью, когда Юрий Андреевич слушал митинг, то гроза разражается в ночь после отъезда Лары - детали одной сцены Диккенса разнесены в романе Пастернака по связанным между собой, но разделённым сценам. Ещё одно сразу узнаваемое воспроизведение рассматриваемого эпизода «Повести...» - вечеринка в доме Громеко. Ни гости, ни хозяева, в том числе Юрий Живаго не замечают грозы, которая прошла, пока доктор говорил. Его речь соотносится с тем, что говорит Люси.
По свидетельству Е.Б. Пастернака, в «Повести...» Пастернак «находил не использованные ещё в литературе возможности. Его восхищал повторяющийся момент в “Повести”: когда эхо доносит в Лондон гул шагов революционных толп на улицах Парижа, герои чувствуют тревогу, как будто они находятся одновременно в двух временах, в двух городах» [Переписка с Евгенией Пастернак 1998: 554]. Этими «неиспользованными
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
589
возможностями», которые, по-видимому, Пастернак постарался задействовать при написании «Доктора Живаго», явились способы символизации изображаемого, способы создания такого впечатления, что происходящее в одном месте предстаёт совмещением событий, происходивших и происходящих в разных местах. Собственно, весь роман Пастернака предстаёт своего рода реализацией заключительной фразы автора из главы VI «Толпы народу»: «Всё может быть. Может быть, им ещё приведётся увидеть и грозные толпы народу, которые с бешеной яростью стремительно ворвутся в их жизнь» [Диккенс, XXII: 127].
7.10. Дяди и племянники
Две следующие главы «Повести...» - «Вельможа в городе» и «Вельможа в деревне», рисующие жизнь представителей высшего общества, - в «Докторе Живаго» отзываются в повествовании о пребывании героев в городе и поездках в деревню. Например, в рассказах о поездке Веденяпина в Дуплянку и пребывании его в Москве, о гостях, собирающихся на концерт и ужин в доме Громеко, на ёлку у Свентицких, на вечеринку в доме Громеко после возвращения Юрия Живаго с войны и т. д. Эти гости и Диккенсом, и Пастернаком наделяются одним и тем же качеством - никчёмностью. Рассказчик в «Повести...», рисуя разницу в положении классов общества, даёт прямые моральные оценки. Сходным образом высказывается и Чарльз Дарней в разговоре со своим дядей. В «Докторе Живаго» такие оценки звучат из уст Самдевятова, а также Антипова, который, как и Дарней в Англии, носит другое имя.
Встреча в родовом замке22 маркиза и его племянника Чарльза Дарнея была инверси-рована Пастернаком в нескольких параллельных сценах. В каждой из них беседуют два героя, которых что-то сближает и что-то разделяет, например, Стрельников и Живаго в Барыкине. Или Веденяпин и Живаго в Москве в гостинице, которая «производила впечатление жёлтого дома, покинутого сбежавшей администрацией» [IV: 176]. Герои Диккенса придерживаются диаметрально противоположных мнений о чести семьи. Маркиз, ненавидящий племянника, выражает свою философию так: «Кнут - вот единственная, неизменная, испытанная философия <...>. Рабское подобострастие и страх держат этих собак в повиновении, они дрожат перед кнутом, и так всегда будет, пока вот эта крыша - он поднял глаза к потолку - держится у нас над головой и мы не живём под открытым небом» [Диккенс, XXII: 150]. Философ Веденяпин высказывает «часть своих заветных мыслей» не племяннику, с которым у него не только семейная близость, но и творческое взаимопонимание, а ранее, также в Москве, «чурбану» толстовцу Выволоч-нову: «Я думаю, что, если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, всё равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человече
22 С этим замком Л.Л. Горелик соотносит «дом с фигурами», в котором размещается Юрятинский горком партии [Горелик 2006: 391-392].
590
Глава 7
ства был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность её примера» [IV: 43-44].
Слова Веденяпина подразумевают не только Христа, противопоставленного Риму, но и Дарнея, противопоставленного его дяде. Дарней отрекается от «родового гнезда и Франции», и его отказ от наследства, которое ему ещё не принадлежит, в «Докторе Живаго» проявляется, как и философия Веденяпина, в сцене, предшествующей встрече дяди и племянника. Юрий Живаго говорит Анне Ивановне: «Вы, как Николай Николаевич, считаете, что мне не надо было отказываться. <.. .> Сейчас я вам всё объясню. Хотя ведь и вам всё это хорошо известно. Итак, во-первых. Есть дело о живаговском наследстве для прокормления адвокатов и взимания судебных издержек, но никакого наследства в действительности не существует, одни долги и путаница, да ещё грязь, которая при этом всплывает. Если бы что-нибудь можно было обратить в деньги, неужто же я подарил бы их суду и ими не воспользовался? Но в том-то и дело, что тяжба - дутая и, чем во всём этом копаться, лучше было отступиться от своих прав на несуществующее имущество и уступить его нескольким подставным соперникам и завистливым самозванцам» [IV: 71]. Ср. с аргументами Дарнея: «Да и что тут, в сущности, осталось? От многого ли придётся отказываться? Кругом такое разоренье, такая нищета и запустенье! <.. .> а вот если разобраться как следует, - окажется, что всё едва-едва держится; долги, закладные, поборы, рабский труд, угнетение, голод, нищета и страдания» [Диккенс, XXII: 152].
Живаго имеет с Дарнеем много общего и в отношении к труду (позиция - жить своим трудом), к тому, как добиться в обществе известного положения и приобрести репутацию. Если Дарней в Англии до своей поездки в революционную Францию занимается преподаванием, то в «Докторе Живаго» преподаванием заняты в Юрятине Антипов до ухода на Первую мировую войну и Живаго после возвращения с гражданской войны. Дарней, будучи чужим доктору Манетту и даже связанным родственными узами с его врагом, чувствует себя своим в доме Манетта - Юрий Живаго, будучи чужим лишь как член другой, но родственной семьи, воспитывается в доме Громеко как свой, но чуждость его определяется возможностью брака с Тоней. Если Люси очень привязана к отцу, что особенно ярко проявляется в их разговоре накануне свадьбы [там же: 225-230], то Тоня - к матери, как можно судить по её реакции на смерть Анны Ивановны. Привязанность героини Диккенса к отцу «остаётся» у Пастернака лишь в эпизоде, когда участники похорон расходятся с кладбища: «Александр Александрович вёл под руку Тоню» [IV: 90]. В изображении этой привязанности и реакции на смерть отразились соответствующие чувства Евгении Владимировны Пастернак к её матери Александре Николаевне Лурье [Переписка с Евгенией Пастернак 1998: 285].
Предваряя изображение свадьбы Люси и Дарнея, Диккенс показывает три эпизода: это объяснение Дарнея с доктором Манеттом; попытку наглого и пошлого адвоката Страйвера жениться на Люси и его объяснение с мистером Лорри; объяснение с Люси
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
591
Картона, который и не претендует на её руку. Мы отметим некоторые моменты этих сцен, отразившиеся в «Докторе Живаго».
Если Дарней перед свадьбой вынужден объясниться с доктором Манеттом (объяснение это продолжается долго) и позже открыть ему тайну своего родства с маркизом, некогда упрятавшим доктора Манетта в Бастилию, то объяснение Юрия Живаго и Громеко не только не предваряет брак Юрия и Тони, но и вовсе не изображается, как и сама свадьба (в отличие от свадьбы Люси и Дарнея). Сцена краткого объяснения Юрия Живаго с Громеко (во время пилки дров) появляется во время путешествия семьи на Урал, но предмет этого разговора отнюдь не связан с женитьбой.
Самодовольная тупость и наглость Страйвера, его способность к выворачиванию очевидности наизнанку передана не только Комаровскому, но и Ливерию (в разных пропорциях). При этом реакции мистера Лорри и Юрия Живаго оказываются значимо противоположными. Мистер Лорри сначала разубеждает Страйвера в успехе женитьбы, а потом, побывав в доме Манеттов, приносит подтверждение и ошарашенно молчит в ответ на то, как Страйвер «снисходит» к делу, в котором сам же и заинтересован. Живаго реагирует на ночные разговоры Ливерия резкой отповедью, а во время последней встречи в землянке уходит от него, не снисходя больше до объяснений, но, как и Лорри, в сильных чувствах.
Картон, послуживший одним из прототипов Юрия Живаго, в Лондоне сильно пьёт и сознательно не хочет прекратить, о чём и говорит Люси. Живаго сознательно пьёт, потеряв Лару, в Варыкине и «опускается» по возвращении в Москву. Л.Л. Горелик, также отмечая прототипическую связь Юрия Живаго с Картоном, указывает, что, «хотя, подобно Картону, Живаго в последних главах романа отказывается от участия в общественной жизни (как и Картона, друзья упрекают его в “лени”), он, в отличие от диккенсовского Картона, не опускается до превращения в пьяницу. “Я не пьяница, не прожигатель жизни”, - подчёркивает Юрий во время той же беседы с друзьями» [Горелик 2006: 381]. С тем, что Картона в августе сами собой ноги приводят в дом Люси для объяснения, можно сравнить, в частности, приход Юрия Живаго в комнату к Ларе для объяснения, а также приход в дом Лары в Юрятине, чтобы поговорить. Объяснения же с Тоней и Мариной значимо отсутствуют. Картон обещает не возобновлять разговор - после разговора Юрия Живаго с Ларой в Мелюзееве, оборванного Ларой, рассказчик отмечает: «Больше таких объяснений между ними не повторялось» [IV: 147]. Картон сознаёт, что много хорошего загубил в себе сам, - Гордон в последнем разговоре пеняет доктору: «Стыдно, чтобы без пользы пропадал такой человек, как ты»23 [IV: 481]. Картон готов
23 Ответным «оправданием» Юрия Живаго могли бы послужить строки стихотворения «Перемена» (1956):
И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча, И горе возвели в позор, Мещан и оптимистов корча [II: 154].
592
Глава 7
на жертву ради того, кого любит Люси, - тема самопожертвования в трансформированном виде возникает и в сценах разговоров Юрия Живаго с Ларой в Мелюзееве и Юрятине.
7.11. Арестанты
В изображении революционного народа и его представителей Пастернак также следовал за Диккенсом. Необычно трансформирован в «Докторе Живаго» сюжетный ход «Повести...», включающий описание бедняка, ребёнка которого задавил каретой маркиз Эвремонд. Бедняк затем убил маркиза в замке. Об этом долговязом человеке, сначала прицепившемся к карете маркиза, а затем ведомом шестью стражниками в тюрьму и на виселицу у водоёма, рассказывает каменщик в синем картузе, который он постоянно снимает, мнёт, вертит в руках, комкает, старательно вытирает им лицо. В романе Пастернака «сборной» фигурой, совмещающей детали из описаний разных персонажей Диккенса, предстаёт гимназист, которого в числе других ведут по «некрашеной деревянной лестнице» к станции (и станция, и лестница находятся у реки) двое красноармейцев и которого видит Живаго. «Он и двое его сопровождающих притягивали взгляды бестолковостью своих действий. Они всё время делали не то, что надо было делать. С обмотанной головы гимназиста поминутно сваливалась фуражка. Вместо того чтобы снять её и нести в руках, он то и дело поправлял её и напяливал ниже, во вред перевязанной ране, в чём ему с готовностью помогали оба красноармейца» [IV: 247]. У Диккенса арестант один, у Пастернака он в числе других арестованных, хотя о них ничего не сообщается. Вместо виселицы в «Докторе Живаго» появляется лестница, но сделана она из того же материала и напоминает её ступенчатостью и тем, что является «орудием» смерти (по ней гимназиста ведут, вероятно, на расстрел). У арестанта в «Повести...» связаны руки - у гимназиста перевязана голова. Картуз каменщика «превращается» в форменную фуражку; сохраняется момент снимания, но причины этого - совершенно иные, нежели у каменщика. Виселицу в «Повести...» ставят возле безымянного стоячего водоёма - Развилье и лестница находятся возле реки Рыньвы. Каменщик рассказывает о повешенном арестованном трём Жакам и Дефаржу, которые «мрачно переглядываются. Они слушают с угрюмыми, замкнутыми и зловеще-непримиримыми лицами. И держатся они как-то отчуждённо и вместе с тем необыкновенно властно. Точно суровый трибунал, собравшийся судить преступника» [Диккенс, XXII: 205]. Таким судьёй, но, в отличие от Жаков, - милостивым предстаёт в Развилье Стрельников. Позже Развилье станет «Голгофой», на которой своих «врагов» будут казнить белые. Тунцева рассказывает Юрию Живаго после его возвращения от партизан о том, как Лара заступилась перед Галиуллиным за несправедливо арестованного поручика: «Обезоруживают и под конвоем в Развилье. А Развилье у нас было тогда то же самое, что теперь губчека. Лобное место» [IV: 384]. Однако троица Жаков «перевоплотилась» также в фигуры Анти
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
593
пова и Тиверзина (в характеристиках Галузиной, при описании собрания в Крестовоздвиженске, в оценках Лары после возвращения Юрия Живаго в Юрятин от партизан). Манера и стиль рассказа каменщика о том, чему он был свидетелем, напоминает то, как рассказывает свою историю сначала Евграфу Живаго, а затем Гордону и Дудорову Таня Безоче-редева. Ср., к примеру, слова каменщика после рассказа о повешении арестанта и слова Тани, рассказавшей, как тетя Марфуша предложила разбойнику спустить её с ним вместе под пол. «Страшное дело, люди добрые, ведь только подумать! Как же теперь детям да женщинам за водой ходить!» [Диккенс, XXII: 207]. Ср: «Ой, батюшки, дорогие товарищи, сами подумайте, что со мной сделалось, как я это услышала! Ну, думаю, конец. В глазах у меня помутилось, чувствую, падаю, ноги подгибаются» [IV: 511].
7.12. Молодожёны
Скромная свадьба Люси Манетт и Чарльза Дарнея, на которую гости не приглашались, «превращена» в «Докторе Живаго» в более пышную свадьбу Лары и Антипова с гостями и, напротив, в ещё более скромную - до отсутствия её описания - свадьбу Юрия Живаго и Тони. Но если у Люси есть живой отец и умершая мать, то у Лары - живая мать и умерший отец, а у Тони, выходящей замуж за Юрия Живаго, живой отец и умершая мать. Мистер Лорри на свадьбу дарит молодоженам столовое серебро, а отдельно Люси - перстень с бриллиантом. Ларе через десять дней после свадьбы (прощальная вечеринка воспринимается как свадебное пиршество) ожерелье из самоцветов дарит Кологривов, что позволяет и его соотносить с мистером Лорри. Люси и Чарльз после свадьбы отправляются в путешествие, а потрясённый доктор Манетт, узнавший от Дарнея о его родстве с маркизом, упрятавшим доктора в Бастилию, уединяется в комнате и вновь начинает шить башмаки. Болезнь его прекращается на десятый день. Такая же уединённость в себе и сосредоточенная занятость полосой света от фонаря, светящего в окно с улицы, - у потрясённого Антипова, узнающего от Лары правду о её связи с Комаровским. Стук молотка в комнате доктора Манетта наверху, который слышит после отъезда молодожёнов мистер Лорри, в «Докторе Живаго» раздаётся уже в другом эпизоде. Это стук, который слышат во время грозы ночью в Мелюзееве Юрий Живаго и мадемуазель Флери. Происходит это после отъезда Лары. Пытаясь найти способ справиться с болезнью доктора Манетта, мистер Лорри после выздоровления доктора тактично рассказывает ему о якобы своём заболевшем друге и просит совета. Характеристики друга, которые он при этом даёт, являющиеся характеристиками самого доктора Манетта, в романе Пастернака применимы непосредственно к Юрию Живаго. Но если в произведении и есть положительные оценки доктора, как, например, в письме Тони, которое Живаго получает в Юрятине, они не столь развёрнуты, как в изложении мистера Лорри. Аналогичным образом работают характеристики Люси после замужества в отношении Лары, уехавшей вскоре после свадьбы с Антиповым в Юрятин, и Тони в период жизни
594
Глава 7
в Варыкине. Разговор Чарльза и Люси (после свадьбы) о Картоне отзывается в «Докторе Живаго» разговорами Юрия Андреевича и Лары об Антипове-Стрельникове в Юрятине (до попадания доктора к партизанам и после возвращения от них); описание дочери Люси, которой к июлю 1789 года исполняется шесть лет, - в описаниях сына Юрия Живаго Саши в Варыкине и дочери Лары Кати в Юрятине перед попаданием доктора к партизанам, а также в описании Кати в Варыкине после возвращения его из плена.
Возникающая при повествовании о мирной жизни семьи в Лондоне тема Двух Городов - Лондона и революционного Парижа - подкрепляется сквозным, «связывающим» эти два города мотивом слышащихся шагов. Связь разных времён, которые доводится пережить семье, поддерживается дублирующейся сценой сидения возле окна в тёмной комнате, когда на улице собирается гроза. Примеры такого дублирования аналогичных сцен в «Докторе Живаго» мы уже указывали.
Мотив врывающегося гула шагов переносит действие «Повести...» в революционный Париж, где 14 июля 1789 года восставший народ берёт штурмом Бастилию. И здесь мы обнаруживаем любопытную игру датами, в которую вступают события «Повести...», время создания этого романа Диккенсом и события «Доктора Живаго». С 1789 до 1859 г., когда была опубликована «Повесть...», проходит 70 лет. Такой же промежуток времени отделяет 1859 год от 1929-го - года смерти Юрия Живаго. Доктор, кстати, умирает летом, и, хотя точная дата не называется, можно предположить, что умирает он 14 июля -в день 140-летия взятия Бастилии. Наряду с этим в романе Пастернака есть и указание на то, что смерть доктора случается «шестого августа по-старому». Любопытно, что публикация «Доктора Живаго» в СССР не совпала с 200-летием падения Бастилии всего лишь на год.
7.13. Отъезды Дарнея и Юрия Живаго
В революционном Париже толпы разъярённых женщин бегут, чтобы устроить кровавую расправу над Фулоном, «который говорил людям, подыхающим с голоду: “Жрите траву!”» [Диккенс, XXII: 267], - в «Докторе Живаго» обезумевшие от страха и пережитых ужасов женщины бегут от белых через леса в партизанский отряд Ливерия, а кровавую расправу белые устраивают над дезертиром, перебежавшим к красным. В ратуше, где идёт разбирательство по делу Фулона, мадам Дефарж отпускает словечки, которые тут же подхватываются народной толпой, но автор их не приводит. Аналогично ей словечки отпускает Кубариха, которую слушают люди, собравшиеся вокруг, и речь её передаётся подробно. Живаго, уходящий из сибирского леса в Юрятин, а затем идущий летом в Москву, обращённо соотносится с путником, который приходит к деревне, принадлежавшей маркизу Эвремонду, разговаривает с каменщиком, а ночью с тремя другими такими же путниками поджигает замок маркиза. Этот путник - один из многих отправившихся из Парижа по всей Франции (из столицы - в провинцию), тогда как герой
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
595
Пастернака, напротив, один идёт в Москву (из провинции - в столицу) с целью, которая противоположна целям диккенсовских путников.
Мирная жизнь семьи Дарнея в Лондоне в течение трёх лет, когда во Франции бушует революция, отразилась в похожей жизни семьи Живаго в Барыкине, куда они уехали из революционной Москвы. Чтение «Повести...» Диккенса в Барыкине актуализировало для героев Пастернака контраст Москвы и провинции, и в авторских комментариях Диккенса они могли находить точное описание того, свидетелем чему были в Москве, и того, что происходило там после их отъезда: «Как часто днём или вечером, когда многоголосое эхо гулко повторяло шаги, раздававшиеся на улице, обитатели дома прислушивались к ним с замиранием сердца; им слышался в этих шагах топот возмущённой толпы, шествующей с красным флагом там, на далёкой родине, которая сейчас была объявлена в опасности и где люди, словно под действием злых чар, надолго превратились в диких зверей» [там же: 279].
Если у Диккенса характеристики революции, аристократии, народа, подаются как диагноз, поставленный происходящему, то в «Докторе Живаго», напротив, повествователь избегает такой прямолинейности в оценках, в частности потому, что оценки эти уже даны давно и герои, читающие роман Диккенса, понимают события действительности как повторение цикла революционного безумия. В «Докторе Живаго», как и в «Повести. ..», значимо отсутствует пересказ «официальных» событий революции, так как, с одной стороны, они общеизвестны, с другой - их общеизвестность становится таковой благодаря работе пропагандистской машины власти и, следовательно, не подтверждается личным опытом героев. Переживание героями Пастернака революции со стороны, чтение ими «Повести...» Диккенса в Барыкине, а затем отправка обратно в Москву порознь являются отражениями не только переживания Французской революции Дарнеем и всем его семейством, их отъездами во Францию, в революцию и последующего возвращения. Движение и размышления персонажей «Доктора Живаго» имеют биографическую основу - поездку Пастернака в Германию из революционной России и берлинское чтение Диккенса, оказавшее, возможно, решающее влияние в вопросе возвращения. Если в «Повести» герои едут из мирной Англии в революционную Францию и возвращаются вновь в мирную жизнь, то Пастернак поступил противоположным образом: уехал из революционной России в мирную Германию и вернулся обратно24.
Письмо «бывшему маркизу» Эвремонду арестованного управляющего Габелля с просьбой о помощи служит поводом для отъезда Дарнея во Францию. Семья Громеко-Живаго едет на Урал, где живёт управляющий Крюгеров Микулицын. Едет не для того, чтобы помочь кому-то, а чтобы самим «на земле посидеть», поскольку «нельзя же погибать так покорно, по-бараньи» [IV: 207]. С письмом Габелля соотносится и письмо Тони доктору в Юрятин, в котором она не просит его приехать, но, напротив, прощается и по
24 Подробнее о его поездке, носившей «экспериментальный характер», и размышлениях о революции в России на фоне окружавшей его в Берлине эмигрантской среды см.: [Флейшман 2003а: 17-27].
596
Глава 7
принуждению уезжает с семьёй сама. Мысли Дарнея о Франции, об отказе от наследства, о своём давнишнем желании довести задуманное в отношении своей собственности до конца, об упущенном времени отражаются в «Докторе Живаго» в той или иной вариации в эпизодах, рисующих пребывание доктора где-либо накануне отправки.
Во время одной из таких отправок - ухода из дома семьи Громеко-Живаго, уезжающей на Урал, - жилица Зевороткина называет их подобно тому, как Габелль обращается к Дарнею. Зевороткина кричит: «Внимание, товарищи! Прощаться! Веселее, веселее! Бывшие Гарумековы уходят» [IV: 213]. Ю.К. Щеглов указывает, что в 1920-е годы «добавление слов “бывший” подсказано практикой переименований <.. .>. В быту нередко ставились рядом новое и старое названия, второе - с указанием “бывший” <...>. Эпитет “бывший” вообще применялся на каждом шагу, и для юмора эпохи типично обыгрывание его в абсурдных сочетаниях <.. .>. Ходячей остротой было добавление слова “бывший” к собственному или иному одушевлённому имени» [Щеглов 19956: 345]25.
«Острота» Зевороткиной, звучащая для уходящей семьи не шуточно, но оскорбительно, для читателя фиксирует получение этой семьёй нового имени. Для Зевороткиной -это лишь искажённое старое, содержащее в себе издевательски-уничижительное сравнение семьи Громеко со сказочным (из «Тысячи и одной ночи») халифом из династии Аббасидов Гарун-аль-Рашидом (763 или 766-809), при котором в Халифате отлично развивались сельское хозяйство, ремёсла и торговля (ср. с занятиями братьев Громеко). Но семья к моменту прибытия на Урал действительно получает новое имя, внутренне противоположное изобретённому Зевороткиной, - Живаго. Фамилия самой Зевороткиной в таком случае представляет собой обыгрывание сонного состояния Шахерезады, по ночам не дающей заснуть халифу сказками, и (в силу кумулятивного эффекта) ректальной русифицированной псевдоэтимологии имени царицы.
Отправка Юрия Живаго на Первую Мировую войну и пребывание там, а также попадание к партизанам и жизнь в плену у них предстают аналогами соответственно первой (в тексте «Повести...») поездки Дарнея во Францию, где он имел разговор с дядей, и второй поездки на выручку Габелля и для того, чтобы «удержать народ», «прекратить это кровопролитие» [Диккенс, XXII: 290]. Но если Дарней всякий раз едет по собственной воле, то Живаго - вынужденно. Дарней даже решает не говорить Люси и её отцу о своём отъезде во Францию - так же вплоть до самого отъезда не говорит Ларе о том, что уезжает на войну, Антипов; а Тоня и её отец убеждают Юрия Андреевича в необходимости ехать на Урал из революционной Москвы.
Дарней перед отъездом «написал два прочувствованных письма - одно Люси, в котором он объяснял ей, что не может пренебречь долгом и вынужден поехать в Париж, и, подробно излагая обстоятельства дела, убедительно доказывал ей, что ему не грозит никакая опасность; второе письмо - доктору, где он повторял то же самое, уверяя, что за
25 О чистках «бывших» как «постоянном факторе советской жизни, порождавшем такие явления, как мимикрия, сокрытие социального происхождения, доносы, отмежевание от родных и т. п.» см.: [Щеглов 19956: 377-379].
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
597
него нечего беспокоиться, и поручал Люси и малютку его попечению» [там же: 292]. Ср. с этим писанием и отправкой писем то, что на третий день после «исчезновения» Юрия Живаго в комнату в Камергерском «Марина, Гордон и Дудоров в разные часы получили по письму от Юрия Андреевича. Они были полны сожалений по поводу доставленных им тревог и страхов. Он умолял простить его и успокоиться и всем, что есть святого, заклинал их прекратить его розыски, которые всё равно ни к чему не приведут. <.. .> Гордона он предуведомлял в письме, что переводит на его имя деньги для Марины» [IV: 482-483].
Однако состояние Дарнея перед отъездом соотносится прежде всего с пребыванием Юрия Живаго дома в Варыкине после того, как у него сложились близкие отношения с Ларой, и перед попаданием к партизанам. Но если здесь перекличка текстов явная, то в других параллельных ситуациях, например, после «исчезновения» в комнату в Камергерском, она завуалирована. Дарнею «тяжко <...> было весь следующий день впервые за всю их совместную жизнь держать от них что-то в тайне, тяжко было сознавать, что он обманывает их и они ничего не подозревают. Но всякий раз, когда взгляд его с нежностью устремлялся на жену, поглощённую мирными домашними делами, такую спокойную и счастливую в своём неведении, он укреплялся в своём решении не говорить ей ничего (как ни хотелось ему довериться ей и как ни странно было отстраняться от её помощи и участия), и так незаметно промелькнул день» [Диккенс, XXII: 292-293]. Юрий Живаго «дома в родном кругу <...> чувствовал себя неуличённым преступником. Неведение домашних, их привычная приветливость убивали его. В разгаре общей беседы он вдруг вспоминал о своей вине, цепенел и переставал слышать что-либо кругом и понимать. Если это случалось за столом, проглоченный кусок застревал в горле у него, он откладывал ложку в сторону, отодвигал тарелку. Слёзы душили его. “Что с тобой? - недоумевала Тоня. - Ты, наверное, узнал в городе что-нибудь нехорошее?”» [IV: 301-302].
Отъезд Дарнея под вечер, когда после прощания он «вышел с тяжёлым сердцем на улицу в тяжко нависший серый холодный туман» [Диккенс, XXII: 293], трансформировался в «Докторе Живаго» не только в ситуации отъезда героев, например, Антипова, который в «ясную осеннюю ночь с морозом» выходит из дому в Юрятине и принимает решение уйти на войну [IV: 108-109], или Лары с Комаровским, когда Юрий Живаго идёт распрягать лошадь, но и в сцены приезда, например, возвращения доктора из Ме-люзеева, когда перед встречей с сыном он стоит при свете луны в бывшей кладовой Анны Ивановны.
Во Франции, куда приезжает Дарней, «патриоты» на заставах останавливают всех, кто едет. К Дарнею на постоялом дворе приставляют двух конвойных. Юрия Живаго, приехавшего на поезде в Развилье, арестовывают часовые, которые ведут его в вагон к Стрельникову. Позже по пути из Юрятина в Варыкино доктор натыкается на заставу из трёх партизан. Он едет, как и Дарней, на лошади и так же, как и герой Диккенса, попадает в неволю (в плен, а не под арест). Сцена угрожающего поведения «патриотов» на почтовом дворе, где Дарней сходит с лошади, проявилась и в ситуации у реки в Разви-
598
Глава 7
лье, когда Живаго разговаривает с часовыми, и в сцене в лесу, когда партизаны заставляют его спешиться. У заставы под стенами Парижа «суровый властный человек» требует бумаги арестанта. Дарней долго осматривается перед запертыми воротами, затем его вводят в караульное помещение, и там он подвергается допросу [Диккенс, XXII: 300-302]. Позже Дарнея полчаса держат в комнате тюремщика. Эти три момента обращённо воспроизводятся в сцене, когда бумаги Юрия Живаго приносят спящему Стрельникову, доктор внутри вагона долго наблюдает за занятиями штабистов, а затем в вагоне Стрельникова имеет разговор с ним. Дарней, проведённый по улицам, как арестант, «теперь понимал, что опасности, которым он здесь подвергался, гораздо серьёзнее, чем он мог предположить, когда уезжал из Англии» [там же: 304]. Юрия Живаго, вернувшегося в свой вагон, семья встречает словами: «Весь вагон поздравляет тебя со счастливым избавлением» [IV: 255], тогда как мысли самого доктора о степени опасности остаются неизвестны. О них можно судить лишь по его ответам на «угрозу и вызов» Стрельникова и на вопрос Самдевятова. Стрельников сочетает черты начальника караула и подчинённого ему Дефаржа, который отводит Дарнея в тюрьму Лафоре. Живаго при встрече со Стрельниковым изумляется: «Как мог он, доктор, <...> не знать до сих пор такой определённости, как этот человек? Как не столкнула их судьба? Как их пути не скрестились?» [IV: 248]. В разговоре Дефаржа с Дарнеем выясняется, что они заочно знакомы, Дарней узнаёт его. Это узнавание сопоставимо также с ошибкой Юрия Живаго, который принял Каменнодворского за Ливерия Микулицына.
7.14. Почему Юрий Живаго стал пильщиком
К мистеру Лорри, работающему в филиале банка Теллсона, размещённом во флигеле дома бежавшего вельможи, приезжают доктор Манетт, Люси с дочерью и мисс Просе. Доктор уходит вместе с толпой народа, занятого резнёй, чтобы попытаться освободить Дарнея из тюрьмы. По просьбе доктора Дефарж, пришедший вместе с женой и её соратницей Местью, приносит Люси записку от Дарнея, и приехавшие ощущают исходящую от Дефаржей угрозу. Доктор Манетт отсутствует четверо суток и становится свидетелем массовой резни заключённых. Описание одного случая, свидетелем которого он был, проявлено в «Докторе Живаго» в сцене, когда партизаны слушают разрубленного белыми дезертира, хотят помочь ему, а потом продолжают свою кровавую борьбу. Это случай, когда отпущенного узника по ошибке проткнули пикой и люди, участвующие в резне, стали проявлять к нему сочувствие и оказывать помощь, «а затем опять пошла такая резня, что доктор не выдержал» [Диккенс, XXII: 323].
Несколько страниц Диккенс посвящает описанию ужасов, творившихся в революционной Франции, и этой широкой картине Пастернак противополагает сосредоточенность в основном на событиях, связанных с Юрием Живаго, на том, что происходит в партизанском отряде. Диккенс вновь даёт прямые характеристики. Пастернак, напро
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
599
тив, избегает их, поскольку приходилось бы повторять уже давно написанное и известное. Например, о высылке Тони, её отца и детей за границу доктор узнает из её письма. И падает в обморок - в том числе и потому, что помнит из книги Диккенса, которую читал, что «самые нелепые и чудовищные преступления приписывались эмигрантам, у которых были друзья или знакомые за границей» [там же: 324].
Для Пастернака актуальной была и собственная семейная ситуация (за границей были его родители и сёстры), и общее отношение к эмигрантам советской власти. В «Докторе Живаго» есть случаи, когда автор или герои развивают сказанное в «Повести...». К примеру, описание самых кровавых дней революции, когда, «как и в первозданные времена», «страна, охваченная буйной горячкой, утратила представление о времени, словно горячечный больной, впавший в беспамятство» [там же: 326], у Пастернака трансформируется в монолог доктора на вечеринке в доме Громеко, в котором он предсказывает будущее, исходя из знания того, что уже происходило во Франции и было описано Диккенсом.
Стоит сравнить также поведение Юрия Живаго в партизанском отряде с поведением доктора Манетта в революционном Париже. Герой Диккенса «среди всех этих ужасов и <.. .> среди этого террора <.. .> сохранял бодрость духа. Ни один человек в Париже не пользовался такой широкой известностью. Эта известность создавала ему совершенно особое положение. Спокойный, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь своими знаниями и опытом любому больному, будь то убийца или жертва, он сумел сделаться необходимым и в госпитале и в тюрьме» [там же: 327]. Всегда бодрый Ливерий в разговорах с Юрием Живаго, находящимся, по его мнению, в угнетённом состоянии, старается «утешить» его [IV: 337]. Доктор в отряде, как и герой Диккенса, находился в особом положении, но в силу того, что он был в неволе, лечить ему приходилось вынужденно. И поскольку в нём остро нуждались, то простили ему даже три попытки ухода. Особенность положения Живаго и в том, что он - единственный врач-профессионал в отряде и работает с помощниками - «новоиспечёнными санитарами» [IV: 330].
Находясь в Париже, Люси «постаралась наладить <.. .> домашнюю жизнь» и «каждый день <.. .> занималась с маленькой Люси» [Диккенс, XXII: 328]. Так же ведёт себя и Лара в Юрятине до того, как Юрий Живаго попадает к партизанам, и после его возвращения. Кроме прочих домашних дел, она «учила Катеньку» [IV: 403]. Пастернак, как и Диккенс, неоднократно отмечает, как хороша героиня, как спорится у неё работа. Пока Чарльз находится в тюрьме, Люси, «словно стараясь поддержать в себе веру, что они вот-вот заживут все вместе, по-старому, <...> обманывала себя разными невинными выдумками» [Диккенс, XXII: 328-329]. По контрасту Антипов, решающий уйти на войну, обманывается вполне серьёзно и искренне.
Отец предлагает Люси стоять на улице в определённом месте, чтобы её смог увидеть Чарльз. Иногда она ходила туда с дочерью и «ни разу не пропустила ни единого дня. Это был тёмный грязный закоулок маленькой кривой улочки. На ней в этом конце стояла только лачуга пильщика, а дальше по обе стороны тянулись глухие стены. На третий день пильщик заметил её» [там же: 330]. Люси нельзя подавать Чарльзу знаков,
600
Глава 7
так как это опасно. И он хоть и редко, но всё же видит её. Пильщик с подозрением следит за Люси, но постоянно говорит: «А меня это не касается, не моё дело!» [Диккенс, XXII: 330-331]. Ситуация обращённо воспроизводится в «Докторе Живаго», когда Лара рассказывает Юрию Андреевичу о попытках увидеться с мужем в Юрятине: «(Он тут долго пробыл и жил всё время на путях в вагоне, где вы его видели), я всё порывалась столкнуться с ним как-нибудь случайно, непредвиденно. Иногда он в штаб ездил, помещавшийся там, где прежде находилось Военное управление Комуча войск Учредительного собрания. <...>- Так вот сюда я Пашу стеречь ходила. В надежде на его приезд или выход. <.. .> Становилась на тротуаре в кучке просителей и поджидала. Разумеется, не ломилась на приём, не говорила, что жена. Фамилии-то ведь разные. Да и при чём тут голос сердца? У них совсем другие правила. <...> Адъютант обходил, опрашивал. Некоторых впускал. Я не называла фамилии, на вопрос о деле отвечала, что по личному. Наперёд можно было сказать, что штука пропащая, отказ. Адъютант пожимал плечами, оглядывал подозрительно. Так ни разу и не видала» [IV: 300].
Пильщик, как оказывается, - это бывший каменщик с синим картузом, который, как мы определили, был одним из прототипов раненого гимназиста. Этот юноша, о котором приказывает позаботиться Стрельников и который являет собой профанную фигуру Христа, ведомого на Голгофу, выступает профанным двойником как Антипова-Стрельникова, так и Юрия Живаго. Таким образом, доктор, который по возвращении в Москву становится именно пильщиком, «сближается» с гимназистом и через «Повесть...» Диккенса. Доктор с Мариной в Москве пилят дрова, тем самым мимикрируя под «своего», которому нет дела до других и происходящего. И повествователь называет их «пильщиком и пилыцицей» [IV: 477]. Оскорбительное высокомерие «квартирохозяина» - то же, что и у мадам Дефарж по отношению к пильщику. Люси «частенько совала» пильщику «деньги на выпивку, которые он охотно принимал» [Диккенс, XXII: 331]. В черновиках «Доктора Живаго» остались слова Марины о том, что Юрий Живаго в Москве пил: «Бывало, найдёт прояснение, бросит пить, одумается» [IV: 635]. Это пьянство также свидетельствует о соотносимости доктора с пильщиком из «Повести...» и представляет собой одно из проявлений «сумасшествия» героя. Но устранение данной детали из окончательного текста свидетельствует о нежелании Пастернака сближать Юрия Живаго с пильщиком Диккенса за счёт таких параллелей. После того как Дарнею был вынесен приговор, Картон рассказывает мистеру Лорри, что мадам Дефарж хочет заставить пильщика выступить свидетелем на суде против Люси и её отца, и это также ослабляет возможность ассоциирования доктора с пильщиком.
О том, насколько важно было для Пастернака сделать своего героя пильщиком, свидетельствует то, что это его занятие становится определяющим при описании того, что делает доктор в Москве, вернувшись с Урала. При встрече с Т. Эрастовой 4 мая 1952 г. Пастернак говорил о романе и, пересказывая сюжет, описал Юрия Живаго как героя, наделённого чертами доктора Манетта (забывание того, кто он; периоды болезни) и пильщика: «Ну, потом уже будет время нэпа, он очень опустится, будет иногда забы
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
601
вать, что он доктор, даже сам будет дрова пилить, но это у него будет периодами, а потом он умрёт от разрыва сердца» [Воспоминания о Пастернаке 1993: 572].
Пилка дров доктором, который официально не является мужем Марины, соотносит его также с плотничающим св. Иосифом, супругом Марии, матери Христа. В этом плане доктор противоположен столярничавшему Маркелу, отцу Марины, которая покидает семью ради Юрия Живаго. Дочь доктора Таня Безочередева оказывается «безотчей» подобно Христу. Кроме того, Живаго-пильщик демонстрирует вызывающе анархическое поведение, повторяя действие С.М. Степняка-Кравчинского, который также стал, как указывает И.П. Смирнов, одним из прототипов Вдовиченко-Чёрное знамя: «В “Записках революционера” Кропоткин отмечает энергичность и необычайную физическую силу Кравчинского (позволявшую ему разыгрывать роль пильщика во время хождений в народ), его инфантилизм (чайковцы прозвали его “Младенцем”) и его беззаботное нежелание считаться с реальностью (так, он не принимал мер предосторожности, необходимых для конспиратора)» [Смирнов 1996: 130].
Доктор ведёт себя как безумец в глазах всех, кто окружает его в Москве после возвращения с Урала, - Маркела, Гордона и Дудорова, Брыкина. Марина, живя с ним, прощает его «безумное» поведение - «странные, к этому времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего своё падение человека, грязь и беспорядок, которые он заводил. Она терпела его брюзжание, резкости, раздражительность» [IV: 476]. Вынося и приемля всё это, Марина и сама становится сопричастной «безумию», но её «сумасшествие» более смягчено и скрыто, чем «сумасшествие» доктора. О значении такого «безумия» героев свидетельствовал сам Пастернак, отметивший архаичность этого качества. В письме к Б.Н. Ливанову от апреля 1953 г., свидетельствующем, кстати, о связи Юрия Живаго и Марины с персонажами переведённого Пастернаком шекспировского «Короля Лира», содержится следующая характеристика: «В “Лире” о добре, присяге, интересах государства и верности родине говорят одни мерзавцы и уголовные преступники. Положительные герои этой трагедии - сумасшедший самодур и до святости правдолюбивая дурочка. “Здравый смысл” представлен экземплярами из зверинца, и только эти оба - люди. Эта мысль чрезвычайно архаическая» [Ливанов 2002: 32].
Говоря об архаичности героев, Пастернак, возможно, опирался на работу О.М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра», в которой она указывала, что в древности безумие представляло собой «метафору смерти». Мнимое безумие Юрия Живаго - сигнал о его последующем преображении, «втором рождении». «В акте обновления герои умнеют, из дураков становятся мудрыми. Отсюда - нарочитое религиозное безумие, которое принимает на себя последователь божества. В быту это вызывает “дураков”, юродивых и “глупцов Христа ради”: добровольное безумие, как и добровольное рабство, считается делом, угодным божеству» [Фрейденберг 1997: 129-130]. С метафорическим вхождением в состояние смерти связано и пьянство Юрия Живаго. «В фольклоре мёртв = пьян», замечает О.М. Фрейденберг, ссылаясь на А.А. Потебню [там же: 318].
602
Глава 7
7.15. «Повальное безумие» и ключ к «Рассвету»
Сцена революционного суда над Дарнеем (контрастирующего с первым судом над ним, состоявшимся в Англии), в результате которого его освобождают, предваряется характеристикой душевного состояния и поведения узников, обречённых на смерть: «В то страшное время чувства и нравы стали иными. Так, например, некоторые люди в ту пору в припадке какого-то умоисступления сами рвались на гильотину и погибали. И это вовсе не было каким-то удальством, бесшабашностью - нет, это было одним из многих проявлений повального безумия, которое в то безумное время охватило всю страну» [Диккенс, XXII: 337].
Дарней ждёт суда в тюрьме. Аналогично доктор и Лара ждут ареста в Юрятине. Антипов-Стрельников, пришедший в Варыкино, ждёт, что его схватят, и описание его состояния, обобщённого до состояния эпохи, представляет собой «расширенный» вариант приведённой характеристики узников из «Повести...»: «Это была болезнь века, революционное помешательство эпохи. В помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях. Совесть ни у кого не была чиста. Каждый с основанием мог чувствовать себя во всем виноватым, тайным преступником, неизобличённым обманщиком. Едва являлся повод, разгул самобичующегося воображения разыгрывался до последних пределов. Люди фантазировали, наговаривали на себя не только под воздействием страха, но и вследствие разрушительного болезненного влечения, по доброй воле, в состоянии метафизического транса и той страсти самоосуждения, которой дай только волю, и её не остановишь. Сколько таких предсмертных показаний, письменных и устных, прочёл и выслушал в своё время крупный военный, а иногда и военно-судный деятель Стрельников. Теперь сам он был одержим сходным припадком саморазоблачения, всего себя переоценивал, всему подводил итог, всё видел в жаровом, изуродованном, бредовом извращении» [IV: 455].
Когда мисс Просе и Кранчер уходят покупать продукты, а Люси, Чарльз, их дочь и доктор Манетт остаются у камина в ожидании мистера Лорри, Люси слышит, как по лестнице кто-то идёт (четверо «патриотов», арестовывающие Дарнея по доносу и уводящие его) [Диккенс, XXII: 347-348]. Её беспокойство и предчувствие беды трансформировано у Пастернака в сцене, когда Юрий Живаго в Варыкине в ночь накануне дня, когда Комаровский увезёт Лару, пишет «Сказку». В предыдущую ночь он слышит вой волков. Эти хищные звери так же страшны, как «патриоты» из «Повести...», одетые в красные шерстяные рубахи и в силу этого и своей кровожадности приобретающие зоо-морфность26. В эту ночь волки подбираются ближе, но на их вой обращает внимание
26 Мисс Просе и Кранчер, зашедшие в винный погребок, видят там «патриотов». «В чёрных мохнатых куртках со вздёрнутыми плечами, как носили в то время, они были похожи сзади на сидящих медведей или на лохматых собак» [Диккенс, XXII: 350]. Ср. эти одеяния с тем, в чём ходят партизаны: к зиме «передавили всех собак в лагере. Сведущие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих шкур шерстью наружу» [IV: 354].
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
603
уже не доктор, а проснувшаяся Лара. Дефаржи, написавшие донос, в качестве обвинительного документа подключили найденные в Бастилии листки, написанные доктором Манеттом, в которых он рассказывал, что с ним произошло, обвинял Эвремондов и их потомство и тогда не думал, как всё может обернуться. Живаго после отъезда Лары с Комаровским упрекает себя в том, что «отдал, отрекся, уступил» её [IV: 447].
Предпринимая попытку помочь вновь арестованному Дарнею, приехавший в Париж Картон разоблачает Барседа, служащего тайным осведомителем и имеющего доступ в тюрьму Консьержери, в которую заключают Дарнея. Барсед, оказывающийся братом мисс Просе, когда-то обобравшим её и оставившим без наследства, в «Докторе Живаго» узнаваем в брате Лары Родионе, который проиграл деньги и пришёл к Ларе просить, чтобы она достала их у Комаровского. Разговор с Барседом происходит в присутствии мистера Лорри, которому Картон сообщает о повторном аресте Дарнея и позже просит его не говорить ничего Люси о нём, Картоне - ср. с тем, как Комаровский в Варыкине обманывает Живаго, сообщая, что Стрельников расстрелян, но не хочет, чтобы их разговор слышала Лара, и вызывает доктора в другую комнату. Картон характеризует Барседа ему же самому, показывая свои «козыри», - так же в присутствии Живаго характеризует его самого Стрельников, рассматривающий в своём вагоне документы арестованного доктора, жизнью которого он может распорядиться, подобно тому как Картон - жизнью Барседа. Инверсированность соотношения данного эпизода «Доктора Живаго» со сценой «Повести...» позволяет предположить, что, угрожая, Стрельников может намекать доктору на возможность заведомо ложного обвинения его в шпионаже, тем более что часовые арестовали его, заподозрив именно в этом. Живаго реагирует на угрозы Стрельникова противоположно тому, как действительный шпион Барсед реагирует на слова не угрожающего, но невозмутимо хладнокровного Картона. После ухода Барседа мистер Лорри и Картон, во время встречи всё время наливавший себе в стакан коньяк и пивший его, разговаривают о Дарнее и Люси, а мистер Лорри, сражённый вторичным арестом Дарнея, «не мог совладать с собой, слёзы покатились по его щекам» [Диккенс, XXII: 370]. Так же сражён вторичной потерей Лары, увезённой Комаровским, Юрий Живаго (первая потеря была из-за пленения его партизанами), который после их отъезда, «уронив лицо в свесившийся край перины, заплакал по-детски легко и горько. Это продолжалось недолго. Юрий Андреевич встал, быстро утёр слёзы, удивлённо-рассеянным, устало-отсутствующим взором осмотрелся кругом, достал оставленную Комаровским бутылку, откупорил, налил в неё полстакана, добавил воды, подмешал снегу и с наслаждением, почти равным только что пролитым безутешным слезам, стал пить эту смесь медленными, жадными глотками» [IV: 450].
Картон разговаривает с мистером Лорри как с отцом, очень мягко - Живаго в Варыкине говорит с Комаровским, погубившим его отца, гораздо мягче, нежели в их предыдущую встречу в Юрятине. Уйдя бродить по ночному Парижу, Картон вспоминает свою юность и «торжественные слова, которые он слышал над могилой отца: “Я есмь воскресение и жизнь, - сказал Господь, - верующий в меня если и умрёт, оживёт, и всякий жи
604
Глава 7
вущий и верующий в меня не умрёт вовек”» [Диккенс, XXII: 376]. Картон вспоминает эти слова и потом неоднократно повторяет их про себя перед концом жизненного пути, тогда как юный (10-летний) Юрий Живаго у могилы матери появляется в самом начале романа, а о Христе говорит ему, утешая, дядя. У Картона мать умерла намного раньше отца. Раньше отца умирает и мать Юрия Живаго. О значении слов Христа (вероятно, именно тех, которые повторяет Картон) доктор написал в стихотворении «Рассвет». Живаго, предстающий и автором, и героем «Рассвета», напрямую соотносится с Картоном, который проводит бессонную ночь на улицах и встречает рассвет на берегу Сены. Автор (лирический герой) «Рассвета» говорит о себе как о проводящем бессонную ночь дома и выходящем на улицу, которая «в теченье нескольких минут» становится движущейся, как река. Отметим, что происходящее с Картоном является важнейшим интертекстуальным ключом к прочтению «Рассвета», который, в отличие от других стихотворений Юрия Живаго, не «привязан» очевидными связями к прозаическому тексту романа. Именно учёт того, что Картон жертвует собой ради ближнего, позволяет оценить значение отнесённости «Рассвета» к началу и к концу жизни Юрия Живаго и интертекстуальную (по Диккенсу) суть жертвенности доктора. Диккенсовский, а также тютчевский27, рилькев-ский28, гётевский29 и кинематографический30 претексты в «Рассвете» совпадают с авто
27 «В “Рассвете” <...> Пастернак варьирует мотивы одноимённого (и эквиметричного - Я4, аБаБ) стихотворения Тютчева: описывается утреннее пробуждение, рассвет предстаёт метафорой христианского возрождения. Ср.: “Вставай же, Русь! Уж близок час! / Вставай Христовой службы ради. ..”<...> и “Всю ночь читал я твой завет / И как от обморока ожил <...>. Кругом встают, огни, уют, / пьют чай, торопятся к трамваям...”» [Поливанов К.М. 2008: 565].
28 П.А. Йенсен указывает, что «“Рассвет” можно прочитать как воплощение сказанного в заключительных строфах “Опыта смерти” Рильке» и рассматривает соотношения стихотворения Пастернака с текстом немецкого поэта [Йенсен 2000: 161-164, 169-170].
29 По мнению А. Ливингстон, в «Рассвете» есть перекличка с «Фаустом», которого переводил Пастернак: «Faust turns to the sign of the Earth Spirit. His highly pastemakian words in response to it: “la rvus’ vpered, как vo khmeliu” <...>, along with the next but one line: “Gotov za vsekh otdaf ia dushu” <...> [for Goethe’s “Ichfuhle Mut, mich in die Welt zu wagen, /Der Erde Weh, der Erde Gliick zu tragen” <...>], call to mind many “rushing onward” or “rushing ahead” passages in Pasternak’s work, especially those where the poet leaves, or looks out of, his room and either runs down or shouts to the people outside, wanting to become one of them. An example is the poem “Rassvet” with its lines “I ia po lestnitse begu ” and “la chuvstvuiu za nikh za vsekh”» [Livingstone 1994: 82]. («Фауст обращается к знаку Духа Земли. Его совершенно пастернаковские слова в ответ: “Ярвусь вперёд, как во хмелю ”<...> наряду со следующей, но лишь одной строкой: “Готов за всех отдать я душу” <...> [на месте гётевских “Ячувствую смелость, себя в мире, как в экипаже, / Земная скорбь, счастье земли в искуплении” <...>], вызывают в памяти множество “рвущихся наружу” или “мчащихся вперёд” пассажей в произведениях Пастернака, особенно тех, где поэт покидает свою комнату или выглядывает из неё и даже выбегает или кричит людям, находящимся снаружи, желая стать одним из них. Примером может служить стихотворение “Рассвет”, в котором есть строки “Ия по лестнице бегу” и “Я чувствую за них за всех”» (англ., нем.).)
30 Пастернак перевёл в слово «сугубо документальную «Москву» (1927) М.А. Кауфмана и И.П. Ко-палина» и «Человека с киноаппаратом» (1929) Д. Вертова, который перенял из «Москвы» «мотивы стряхивающей сон столицы, беспризорников на её улицах, спешащих на службу людей и многие иные» [Смирнов 2009: 137].
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
605
биографическим, контрастируя с ним по смыслу. У Диккенса Картон думает о воскресении (= «втором рождении») - Пастернак проецирует в «Рассвет» ситуацию, связанную с рождением его второго сына Леонида, которая также, по-видимому, ассоциировалась у него с хождением приезжего Картона по ночному и утреннему Парижу. В письме от 6 января 1938 г. к родителям и сёстрам он сообщал: «Мне хотелось написать вам 31 -го, после того как я отвёз Зину в больницу, но этого не вернуть, этот момент я упустил. Я встал в пятом часу утра, в сильный рождественский мороз, несколько отвыкший от нынешней Москвы и как бы чужой ей, новоприезжий. Давно-давно мне не случалось вставать так рано, и я с наслажденьем прошёлся домой пешком, с бывшей Николо-Ям-ской (за Землянкой) в Лаврушинский, где Третьяковская галерея. Я не представлял себе, что столько народу встаёт и зажигает огонь в такой час, и нашёл много старого, знакомого и примиряющего в этих утренних наблюденьях. Людей художественной складки всегда будет тянуть к бедным, к людям трудной и скромной участи, там всё теплее и выношеннее и больше, чем где бы то ни было, души и краски. И я по пути попадал в места старых и забытых воспоминаний. Но это всё так неуловимо, что лучше не рассказывать» [ПРС 2004: 705-706].
«Подражание Христу» Картона в «патетическом и катарсическом финале» «Повести...» «невольно соотнесено» со стихами о Магдалине, «Дурными днями» и «Гефсиманским садом» [Лавров 1993: 247]. В разработке евангельских сюжетов «ближе всего Пастернаку был опыт Р.М. Рильке, который дал своё толкование нескольких моментов Евангелия в “Новых стихотворениях” и в книге “Жизнь Марии”», а «ужас богоостав-ленности и чувство неотвратимого конца, составляющее настроение “Масличного сада” у Рильке, сближают его со стихотворениями “Дурные дни” и “Гамлет”» [Пастернак Е. 1997: 641, 642]. О связях «Дурных дней» с библейским первоисточником, с прозаическим текстом романа, «с одним из основных мотивов как всего романа, так и “Стихотворений Юрия Живаго” - мотивом Страстной недели», а также о некоторых интертекстуальных связях этого стихотворения см.: [Суханова (в)].
Поведение жертвующего собою Картона, послужившего, как и другие герои Диккенса, одним из важнейших прототипов Юрия Живаго, было значимо для Пастернака, в частности, такой деталью, как употребление алкоголя. О том, что Пастернак проецировал образ героя Диккенса, погибшего во Франции, и на себя, читавшего Диккенса в Германии, а также пишущего «Доктор Живаго», могут свидетельствовать его слова, сказанные 20 апреля 1960 г. приехавшей к нему в Переделкино Ренате Швейцер: «Да, Берлин мне понравился, но для писателя, конечно, важно жить в своей собственной стране. И меня так мучило тогда бедственное положение Германии, что я каждый день покупал бутылку коньяку и читал Диккенса - только бы забыть о жалком состоянии» [Воспоминания о Пастернаке 1993: 670].
606
Глава 7
7.16. Тайна курантов и будильника
Записки доктора Манетта, найденные Дефаржем в Бастилии и зачитываемые на суде в качестве обвинения Дарнею, позволяют вскрыть подтекст одной из самых «тёмных» страниц «Доктора Живаго», а отдельные детали «всплывают» на протяжении всего романа. Это ситуация, когда доктора приглашают к больной в дом у Триумфальных ворот («напоминание» о Париже с его Триумфальной аркой) - в конце Брестской, у Тверской заставы. Тоня говорит мужу: «Странный гонорар предлагают. Ты видел? Ты всё-таки прочти. Бутылку германского коньяку31 или пару дамских чулок за визит. Чем заманивают. Кто это может быть? Какой-то дурной тон и полное неведение о нашей современной жизни. Нувориши какие-нибудь» [IV: 197].
В 1757 году доктора Манетта привозят в дом, находящийся в миле от парижской Северной заставы, братья Эвремонды, один из которых был отцом Дарнея. Доктор был нужен, чтобы оказать помощь молодой женщине-крестьянке, которая уже сутки находилась в бреду, и её 17-летнему брату, вступившемуся за честь сестры и заколотому шпагой младшим из близнецов. (Ранее в разговоре с Дарнеем его дядя упоминает об убийстве отца этой женщины.) Братья-маркизы ничего и знать не желают о том, как живут их крестьяне, к которым они относятся как к скоту, и волнует их лишь незапятнанность чести рода. Если дом, в который приглашают Юрия Живаго, является «рассадником» революции и контрреволюции (там жили Тиверзины, Антиповы, Галиуллины), то дом, в который приезжает доктор Манетт, также является местом, где происходит столкновение классовых противоречий, гуманности и бесчеловечности, где вспыхивает искра будущей революции. Дом этот во время революции крестьяне сжигают.
Юрий Живаго поднимается, как и герой Диккенса, по лестнице. «Доктора встретил хозяин квартиры, вежливый молодой человек с матовым смуглым лицом и тёмными меланхолическими глазами. Он был взволнован многими обстоятельствами: болезнью жены, нависавшим обыском и сверхъестественным уважением, которое он питал к медицине и её представителям. Чтобы сократить доктору труд и время, хозяин старался говорить как можно короче, но именно эта торопливость делала его речь длинной и сбивчивой» [IV: 198].
Внешность «молодого человека», как и внешность его жены - «маленькой женщины с большими чёрными глазами», намекает на их «французское» происхождение, на соотносимость хозяина с одним из братьев-близнецов Эвремондов (тем, который вызвал доктора Манетта) и их жертвой, которую братья хотели использовать в качестве развлечения для младшего.
«Хозяин квартиры считал, что у его жены какая-то болезнь нервов от перепуга. Со многими не идущими к делу околичностями он рассказал, что им продали за бесценок испор
31 Коньяк и здесь сигнализирует о Диккенсе, которого Пастернак читал в Германии, пребывавшей в разрухе.
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
607
ченные куранты с музыкой, давно уже не шедшие. Они купили их только как достопримечательность часового мастерства, как редкость (муж больной повёл доктора в соседнюю комнату показывать их). Сомневались даже, можно ли их починить. И вдруг часы, годами не знавшие завода, пошли сами собой, пошли, вызвонили на колокольчиках свой сложный менуэт и остановились. Жена пришла в ужас, рассказывал молодой человек, решив, что это пробил её последний час, и вот теперь лежит, бредит, не ест, не пьёт, не узнаёт его. - Так вы думаете, что это нервное потрясение? - с сомнением в голосе спросил Юрий Андреевич. -Проводите меня к больной» [IV: 199].
Столь большое внимание, которое герой (хозяин квартиры) и рассказчик уделяют ложной, как оказывается, причине болезни, далеко не случайно. По мнению М.Ф. Роуланд и П. Роуланда, «interpreted, the parable means that the Cosmic Clock has struck, but there has been no forward movement in time. As in the famous myth, there is to be an “eternal return” of the same things: the same archaic political minuet, following the same old patterns to the same old end: tyranny»32 [Rowland M.E, Rowland P. 1967: 100]. Но речь идёт и о «первопричине» болезни - классовых противоречиях и борьбе, о надругательстве над человеком и о революции. Юрию Живаго (и читателю) предлагается загадка. Однако доктор не отгадывает её, констатируя, что у больной тиф. Тем самым Пастернак уводит от отгадки и читателя.
Вышеприведённый отрывок представляет собой трансформацию того, что увидел и позже описал, находясь в Бастилии, доктор Манетт:
«Это была очень красивая женщина, едва ли старше двадцати лет. Волосы её разметались по подушке и спутались с вырванными прядями; руки её были привязаны к туловищу платками, салфетками, шарфами <...>; бедняжка так металась из стороны в сторону, что сползла на край кровати и, лежа ничком, вцепилась зубами в шарф <...>. Бережно повернув её на спину, я положил руки ей на грудь, чтобы удержать и успокоить её, и заглянул ей в лицо. Её широко раскрытые глаза дико блуждали, и она не переставая кричала, повторяя одни и те же слова: “Мой муж, отец, брат!” - и считала до двенадцати; потом вскрикивала: “Затих!” - на секунду умолкала, прислушивалась и опять начинала кричать: “Мой муж, отец, брат!” - и снова считала до двенадцати и вскрикивала: “Затих!” И опять всё повторялось сначала без всяких изменений. Она кричала, не умолкая, и каждый раз, остановившись на секунду, прислушивалась после слова “затих”.
- Давно ли это с ней? - спросил я. <.. .>
- Со вчерашнего вечера, примерно с этого же часа. <.. .>
- Не было ли у неё недавно какого-нибудь потрясения, которое было как-то связано с числом двенадцать?
- С двенадцатью часами дня, - с раздражением ответил младший» [Диккенс, XXII: 385-386].
32 «Если интерпретировать эту притчу, то она означает, что Космические Часы остановились, и время не движется вперёд. Как в знаменитом мифе, происходит “вечное возвращение” всё тех же вещей: того же архаичного политического менуэта, следующего за всё теми же старыми образцами к давно известному концу: тирании» (англ.).
608
Глава 7
В 12 часов дня умер на груди этой женщины замученный братьями её муж [Диккенс, XXII: 390] - Лара стреляет в Комаровского в полночь, и в это же время из дома приезжают за Тоней и Юрием, так как умерла Анна Ивановна. Обращённо воспроизводится и состояние героини Диккенса. Лара после выстрела «лежала в полубреду в спальне у Фелицаты Семёновны» [IV: 92]. Тоня в первые часы после смерти матери «кричала благим матом, билась в судорогах и никого не узнавала» [IV: 87]. После смерти Юрия Живаго «ополоумевшая от страшной новости» Марина «долгое время была сама не своя, валялась по полу, колотясь головой о край длинного ларя с сиденьем и спинкою <...>. Она заливалась слезами и шептала и вскрикивала, захлебывалась словами, половина которых рёвом голошения вырывались у неё помимо воли. Она заговаривалась, как причитают в народе, никого не стесняясь и не замечая» [IV: 490].
Состояние Тягуновой, столкнувшей с поезда Воронюка и Огрызкову, также подобно невменяемому состоянию диккенсовской героини. Руки последней связаны шарфами, поскольку её сестра - хозяйка винного погребка мадам Дефарж - всё время вяжет. В «Докторе Живаго» в молодости вместе с сестрой шарфы вяжет соотносящаяся с Дефарж лавочница Галузина. С диккенсовской больной, таким образом, можно соотнести сестру Галузиной Пелагею Тягунову.
Похожим образом ведёт себя и больная, к которой пришёл Живаго. Ещё раз диккенсовский эпизод «отзывается», когда доктор возвращается домой и жена рассказывает: «А тут без тебя курьёз произошёл. Необъяснимая странность. Я забыла тебе сказать. Вчера папа будильник сломал и был в отчаянии. Последние часы в доме. Стал чинить, ковырял, ковырял, ничего не выходит. Часовщик на углу три фунта хлеба запросил, неслыханная цена. Что тут делать? Папа совсем голову повесил. И вдруг, представь, час тому назад пронзительный, оглушительный звон. Будильник! Взял, понимаешь, и пошёл! - Это мой тифозный час пробил, - пошутил Юрий Андреевич и рассказал родным про больную с курантами. Но тифом он заболел гораздо позднее. <.. .> У него был бред две недели с перерывами» [IV: 204-205].
М.Ф. Роуланд и П. Роуланд указывают, что «the two clocks, despite initial similarity of behavior, convey opposite messages. The antique clock, which heralds a new hour with so much ritual ado and then stops dead, seems to be saying to its owner: “Live eternally toward the past”. The alarm clock, on the contrary, rings out the summons, “Wake up! Move on toward the future!” and sets Yuri Andreevich an example by continuing to run»33 [Rowland M.E, Rowland P. 1967: 101]. Но, кроме этого, истории с курантами и будильником, случившиеся в апокалиптическое послереволюционное время, возможно, соотносятся также со словами из одного из розенкрейцерских манифестов - «Откровения» (1614), напоминающими
33 «Двое часов, несмотря на полное сходство поведения, передают противоположные сообщения. Старинные часы, которые отбивают новый час с таким большим количеством ритуальной суматохи и затем окончательно останавливаются, похоже, говорят своим владельцам: “Живите вечно, устремляясь в прошлое”. По противоположности, будильник звонит, взывая: “Проснитесь! Двигайтесь в будущее!” и показывает Юрию Андреевичу пример продолжения хода» (англ.).
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
609
героям Пастернака последовавшие за ними не менее страшные времена Тридцатилетней войны, которая началась уничтожением фридрихианского движения: «Наши Rotae начали быть с того дня, когда Бог сказал: Fiat, и кончатся, когда Он скажет: Pereat, но часы Божии бьют каждую минуту, тогда как наши - едва полные часы» [Андреэ 2003: 139].
С домом, куда привозят доктора Манетта, соотносится и квартира хозяина-«заготов-щика», в которую приходит Юрий Живаго. «В доме пахло сыростью, он был ветхий, обставлен кое-как, наспех, в нём, по-видимому, поселились недавно и не предполагали остаться надолго» [Диккенс, XXII: 387]. Сравним: «Квартира со смесью роскоши и дешёвки обставлена была вещами, наспех скупленными с целью помещения денег во что-нибудь устойчивое. Мебель из расстроенных гарнитуров дополняли единичные предметы, которым до полноты комплекта недоставало парных» [IV: 198].
Доктор Манетт говорит братьям, что «бесполезно было привозить» его туда [Диккенс, XXII: 386]. Для Юрия Живаго оказывается бесполезным рассказ хозяина квартиры о курантах, так как доктору «и так ясно. Это сыпняк, и притом в довольно тяжёлой форме» [IV: 199]. Не нужен, собственно, и приход доктора, так как лечить женщину он советует в больнице и объясняет хозяину бесполезность своих, даже частых, посещений. Если хозяин квартиры взволнован, то братья-маркизы в «Повести...», напротив, ведут себя бесстрастно и презрительно. Страсть и взволнованность выказывает смертельно раненый брат больной. Женщина, прежде чем умереть, «протянула неделю» [Диккенс, XXII: 394]. Жена «заготовщика» в «Докторе Живаго», напротив, выздоравливает от тифа и куда-то пропадает вместе с мужем [IV: 205].
Внешность безымянного «хозяина квартиры»34, встречающего Юрия Живаго, - это также внешность знакомого Пастернака, студента Юрия Ананьевича Сидорова35 (1887-1909), который жил в Москве на Смоленском бульваре в доме М.А. Мишке № 24, кв. 7 (ср. с квартирой в доме у Брестской заставы, куда приходит доктор, а также с квартирой художника, которую Кологривов снимает для Лары. Обе эти квартиры располагаются на вторых этажах, тогда как комната Сидорова была на первом). Заметим, что у Юрия Живаго то же имя, что и у Сидорова. С буквы А начинается и отчество протагониста Пастернака. Сыпной тиф, который доктор диагностирует у жены «хозяина квартиры», соотносится с причиной смерти Сидорова - дифтеритом. К.Г. Локс вспоминал о Сидорове: «Я знал, что он пишет стихи, любит Пушкина, Византию, французский 18-й век, Англию, вернее, её художника Генсборо. <...> Мне очень хотелось пойти к нему, но я долго колебался, и вот почему. В нём мне чудилась какая-то чопорность и, несмотря на изысканную вежливость, что-то отдаляющее. Это потому, что он жил в определённом кругу интересов и сразу чувствовал чуждых ему. Тем не менее я пошёл. <.. .> Довольно большая комната с двумя окнами в первом этаже была обычной бедной студенческой комнатой. <.. .> Пока все сыпали более или менее остроумными афоризмами, я старал
34 Ж. де Пруайар отнесла его к персонажам «второстепенным, но типичным для данной эпохи, или» к представителям одного из «различных слоев русского народа» [Пруайар 1998: 47].
35 Подробно о жизни и литературном пути Сидорова см.: [Лавров 2006].
610
Глава 7
ся понять Ю[рия] А[наньевича], прежде всего его внешность. Ему никак нельзя было дать двадцати одного года. Бритая голова и прекрасные тёмные глаза, какая-то глубокая не то что старость, а древность делали его действительно похожим на бюст современника Рамзеса или Аменхотепа. Он знал об этом и писал “египетские стихи”. <.. .> Ю[рий] А[наньевич] умер в Калуге от дифтерита» [Локс 1994: 32-33, 44, 151].
7.17. От «возмездия» к «римской гражданской доблести»
Доктор Манетт зафиксировал происшедшее с ним в записках, которые читают во время второго, фатального, суда над Дарнеем. Отсюда контрастирующая с трагичностью происходящего с героем Диккенса шутка Юрия Живаго о том, что его «тифозный час пробил». Выздоровление доктора, который в бреду «пишет поэму “Смятение”» [IV: 206], является обращённой реализацией завета Христа, который выполняет Картон. Бой часов отмечает перед казнью Дарней, находящийся в тюремной камере [Диккенс, XXII: 419]. Указывая на близость авторских позиций Пастернака и Л.Н. Толстого, Е.В. Пастернак отмечает, что «в романе «Доктор Живаго» женская тема Пастернака нашла своё полное выражение, революция выступает в роли возмездия за искалеченную судьбу женщины» [Пастернак Е.В. 1990а: 27]. Добавим, что сходное восприятие революции было и у Диккенса, роман которого имел для Пастернака не меньшее значение, нежели романы Толстого, в частности «Воскресение», которое он перечитывал в феврале 1950 г. Именно как возмездие за случившееся с Ларой воспринимает революцию Антипов-Стрельников, говорящий об этом в Варыкине доктору. Стрельников знает, что его ждёт: «Меня схватят и не дадут оправдываться. Сразу набросятся, окриками и бранью зажимая рот. Мне ли не знать, как это делается?» [IV: 461]. Но знает он это не только из собственного опыта, но и, так сказать, по рассказу доктора Манетта, написавшего о случившемся с ним письмо министру и вспоминающего в Бастилии, как его арестовали: «Как только мы вышли из ворот, кто-то схватил меня сзади; мне завязали рот какой-то чёрной тряпкой, скрутили руки» [Диккенс, XXII: 398]. Приговор Дарнею, вынесенный на основании записок доктора Манетта, отца его жены, объясняется тем, что «в те времена французский народ был одержим подражанием некиим сомнительным гражданским доблестям древних - самозакланию, самопожертвованию на алтаре отчизны и народа» [там же: 399]. Аналогичный «диагноз» Антипову-Стрельникову, отрекшемуся от семьи, ставит в разговоре с Юрием Живаго в Юрятине Лара: «Быть тут рядом и устоять против искушения повидать нас! Это в моём мозгу не укладывается, это выше моего разумения. Это нечто мне недоступное, не жизнь, а какая-то римская гражданская доблесть, одна из нынешних премудростей» [IV: 299].
После суда над Дарнеем вся публика, присутствовавшая в зале, уходит на демонстрацию. Остаются лишь часовые, Барсед, близкие Дарнея и Картон. Прощание Люси с Чарльзом отразилось в той или иной форме во всех сценах прощания в «Докторе Жива
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
611
го», и особенно ярко - в сцене прощания Лары с мёртвым Юрием Живаго, когда все участвующие в похоронах удалились из комнаты. Попытка доктора Манетта упасть на колени перед Чарльзом и Люси, остановленная Чарльзом, просматривается в попытке Лары сделать то же самое перед Юрием Живаго, удержавшим её, накануне прихода Комаровского в Юрятине.
Картон, побывав в винном погребке Дефаржей под видом иностранца, рассказывает об их замыслах относительно семьи Дарнея мистеру Лорри и обсуждает с ним необходимость срочного отъезда в Англию. Этот разговор в «Докторе Живаго» слышится в двух разговорах Комаровского и Живаго в Юрятине и Варыкине об отъезде на Дальний Восток. Доктор в Юрятине слушает Комаровского внимательно и отказывается. В Варыкине, напротив, он потрясён сообщением о расстреле Антипова-Стрельникова и сравнительно невнимателен. Мистер Лорри, несмотря на потрясение при виде доктора Манетта, у которого вновь проявилась душевная болезнь, и несмотря на потрясение, произведённое рассказом Картона, слушает того очень внимательно. Соответственно, все семейные отъезды героев «Доктора Живаго», обусловленные тем, что нельзя медлить, спроецированы на решающий отъезд в Англию мистера Лорри и семьи Дарнея. В паре ‘Живаго - Комаровский’ Пастернак меняет возраст и роли соответственно мистера Лорри и Картона, не исключая и перекрёстное соотнесение с персонажами Диккенса.
Вечером накануне казни Дарней пишет письма Люси, её отцу и мистеру Лорри. Аналогичные письма отправляет доктору Тоня, а также сам Юрий Живаго, удалившийся в комнату в Камергерском, - Марине и друзьям. Характеристика террора как «заразной болезни», «страшного душевного недуга», которой Диккенс предваряет описание пребывания Дарнея в камере [Диккенс, XXII: 416], даёт один из ключей к пониманию того, какие болезни лечит на самом деле доктор Живаго. Навязчивые размышления Дарнея о том, что представляет собой гильотина, «высоко ли она над землёй, на сколько ступеней к ней надо подняться, как стать, не будут ли в крови руки, которые его будут держать, куда его повернут лицом, возьмут ли его первым или последним?» [там же: 419], превратились у Пастернака в описание поездки Живаго в трамвае, поведения пассажиров по отношению к доктору и его смерти. В «Повести...» на казнь везут на перегруженных телегах - в «Докторе Живаго» то останавливается трамвай, в который «попал» доктор, «то застрявшая колесами в желобах рельсов телега задерживала его, преграждая ему дорогу» [IV: 486]. В интертекстуальную работу здесь включается не только диккенсовский образ, но и русская поэтическая традиция: от «Телеги жизни» (1823) А.С. Пушкина до «Перстня-страданье» (1905) А.А. Блока и «Заблудившегося трамвая» (1919) Н.С. Гумилёва (см.: [Смирнов 1995: 150]). Образы этих стихотворений воздействуют на весь образный строй сцены смерти Юрия Живаго.
Нехватка свежего воздуха, которую ощущает во время встречи с друзьями, а затем в трамвае задыхающийся доктор, отсылает к строке из «Заблудившегося трамвая» «И трудно дышать, и больно жить». Гумилёв как поэт был едва ли не самым значимым и показательным для Пастернака (и в 1920-е, и в 1950-е) и Юрия Живаго поэтом эпохи - и
612
Глава 7
своей трагической судьбой, и «своим забегавшим вперёд требованьем сжатой и собранной культуры». Смерть же доктора от болезни сердца автобиографична не только в связи с инфарктом, который был у Пастернака в 1952 г., и со смертью матери от сердечной болезни в 1939-м, но и в связи с его духовным состоянием после убийства Гумилёва. В письме к М.И. Цветаевой от 4 марта 1926 г. Пастернак выделял расстрелянного поэта из всех ушедших за последние годы из жизни: «Когда недавно, совсем в последнее время, я оглянулся на цепь смертей, павших на эти годы, не смерть Блока, которого я боготворил, не Есенина, столь близко придвинувшаяся, что вырастает в виденье, не Брюсова, который меня любил и был коммунистом, но гибель Гумилёва показалась мне катастрофической непоправимостью, злодейским промахом эпохи, самоубийственной ошибкой. Удивляйтесь, как хотите, но я чувствую и вижу, что, проживи он до наших дней, он был бы человеком революции и эпохи, именно он, вызывавший в Блоке брезгливый отпор своим забегавшим вперёд требованьем сжатой и собранной культуры. И опять тут всего ни объяснить, ни рассказать Вам. Но если Вас резануло слово “ошибка” по адресу человека, которого просто оплакиваешь и просто ужасаешься подлости, его прикончившей, последуйте за этим чувством, и Вы поймёте, как я всё начинаю видеть и переживать. Мне хочется чувствовать через историю и за неё, и я не преувеличу, если назову это перерожденьем сердца» [Переписка с Цветаевой 2004: 143].
О значении поэзии Гумилёва для Пастернака свидетельствуют и слова из письма к Цветаевой от 27 марта 1926 г.: «Прошлый месяц <...> задумывал статью о поэзии, на примере нескольких поэтов. В предварительной росписи, что о ком, значится. <.. .> Гумилёв - стихотворенье (борьба с субъективностью оружием культуры)» [там же: 155]. А в письме к Цветаевой от 11 апреля 1926 г. Пастернак назвал Гумилёва «главным» из числа поэтов, которые какими-то сторонами своего творчества «идут» из Брюсова [там же: 173].
Последний разговор Картона и Дарнея, после которого Картон усыпляет его, отправляет с помощью Барседа на волю, а сам остаётся, чтобы идти вместо него на казнь, в «Докторе Живаго» можно опознать в последнем разговоре Стрельникова и Живаго в Барыкине, после которого доктор засыпает, а Стрельников, выйдя из дома, кончает самоубийством. Персонажи Диккенса говорят о Люси, герои Пастернака - о Ларе. Картон, жертвующий собой, так сказать, в пользу соперника, с которым не соперничал, ради его жены, приходит к Дарнею (также герою жертвенному) якобы от Люси - Стрельников приходит повидаться со своей женой, несмотря на присутствие Живаго, с которым она живёт как с мужем, и тот же мотив жертвенности сохраняется в отношении обоих.
Описание отъезда мистера Лорри с семьёй Дарнея и с ним самим из Парижа, во время которого Люси постоянно беспокоится, не гонятся ли за ними, соотносится со значимым отсутствием описания отправки семьи Юрия Живаго из Барыкина в Москву и оттуда на Запад, в Париж. Беспокойство же проявляет в тринадцатый день пребывания в Барыкине Лара, то посылающая доктора запрягать, то решающая отложить отъезд, а затем уезжающая с Комаровским, который вновь рассказывает о грозящей смертельной
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
613
опасности. «Поток сознания» героев Диккенса, переживающих поездку, сказался в тоне прощального письма Тони доктору в Юрятин.
В развязке «Повести...» вновь появляется фигура пильщика. Сцена, связанная с ним, даёт ключ не только к описанию тайного собрания партизан и других революционеров в дровяном сарае в Крестовоздвиженске, но и интертекстуально связывает происходящее в сарае с занятиями Юрия Живаго, который в Москве вместе с Мариной пилит дрова. «Через» пильщика Диккенса доктор соотносится с Ливерием, позиция и «вес» которого на собрании обращённо соответствует позиции и отсутствующему «весу» никчёмного пильщика. Если у Диккенса всем заправляет мадам Дефарж, то на партизанском собрании доклад делает Костоед, в котором от женщины «остаётся» кличка - «товарищ Лидочка» и слова которого не имеют для слушающих никакого веса. Костоед, потеющий от усердия, соотносится и с пильщиком, который так же усердно готов служить страшной мадам Дефарж. Глава XIV книги третьей «Повести...» открывается сценой, которая предстаёт прототипом партизанского собрания в «Докторе Живаго»: «В тот самый час, когда пятьдесят два осуждённых на казнь ожидали своей участи, мадам Дефарж, Месть и присяжный трибунала Жак Третий собрались втроём на страшный тайный совет. На этот раз совещание происходило не в винном погребке, мадам Дефарж встретилась со своими верными приспешниками в сарае пильщика, бывшего батрака, который когда-то чинил дороги. Пильщик не участвовал в совете, а сидел поодаль как подчинённый, которому не дано права говорить, пока его не спросят, и не полагается иметь своё мнение, пока ему не предложат высказаться» [Диккенс, XXII: 429].
Антипов и Тиверзин, присутствующие на собрании, являют собой как фигуры, обращённо аналогичные трём Жакам, так и раздвоенное отражение члена ревтрибунала Жака Третьего, требующего казней и смакующего намеченную казнь Люси и её дочери. Лара в Юрятине говорит Юрию Живаго: «Сюда в коллегию ревтрибунала перевели из Ходатского двух старых политкаторжан, из рабочих, некоего Тиверзина и Антипова. Оба великолепно меня знают, а один даже просто отец мужа, свёкор мой. Но, собственно, только с перевода их, совсем недавно, я стала дрожать за свою и Катенькину жизнь. От них всего можно ждать. Антипов недолюбливает меня. С них станется, что в один прекрасный момент они меня и даже Пашу уничтожат во имя высшей революционной справедливости» [IV: 405].
Такому же раздвоению, как Жак Третий, подвергается в «Докторе Живаго» мадам Дефарж, черты которой обращённо распределяются между сёстрами Галузиной и Тягуновой, не пожалевшей любовника. На партизанском собрании обсуждается численность войск и необходимые разрушения - на тайном совете в сарае пильщика обсуждается необходимая цифра казнимых. Ливерий не «уступил» доктора Живаго своему отцу Микулицыну, забрав его в плен, аналогично тому, как мадам Дефарж не «уступила» доктора Манетта своему мужу, который готов был пожалеть его и семью Дарнея. Мадам Дефарж, собирающаяся вернуться к казни, намеченной на три часа дня, идет уличать Люси в слезах и «неуважении к трибуналу» [Диккенс, XXII: 432-434]. Ср. это с тем, что
614
Глава 7
лавочница Галузина идёт в час ночи домой, где находится Ксюша, которую она уличает в чувствах к студенту Блажеину. Прототипом Ксюши послужила, по-видимому, одна из сестёр Синяковых - Ксения, ставшая женой Н. Асеева, черты которого мы отмечали выше в образе Коли Фроленко. Интертекстуальная связь двойников Блаженна и Фроленко как персонажей, представляющих негативную пародию на бывшего друга Пастернака, усиливается их близостью, которую создаёт роман Диккенса. Блажеин и Фроленко представляют собой двух профанных двойников Дарнея, а при соотнесении Дарнея с Юрием Живаго - профанных двойников доктора.
После отъезда мистера Лорри с семьёй Дарнея в доме остаются обливающаяся слезами мисс Просе и Кранчер, которые собираются уехать следом. Кранчер уходит за лошадьми, договорившись с мисс Просе встретится в три часа (это время совпадает с временем назначенной казни) у собора. В Крестовоздвиженске из собора идёт Галузина. Так она предстаёт в качестве мисс Просе навыворот. Но Галузина идёт к своему дому, подобно тому как в Париже к дому, где осталась мисс Просе, приближается мадам Дефарж. Мисс Просе остаётся, чтобы привести себя в порядок, и расценивает успех своего отъезда с Кранчером как успех в спасении уехавшей семьи. В комнатах в доме после отъезда разбросаны вещи. Ср. эту ситуацию с тем, что после отъезда Лары со «спасающим» её Комаровским доктор остаётся один в доме, где разбросаны вещи, плачет, пьёт и пишет стихи, в частности «Разлуку». Мадам Дефарж приходит днём, борется с мисс Просе физически - Галузина приходит домой ночью и борется с Ксюшей духовно; кроме того, Стрельников приходит в Варыкино «перед сумерками, когда было ещё светло» [IV: 453], и также борется с Живаго духовно. Мисс Просе хочет удержать мадам Дефарж физически - Ксюша терпеливо перечисляет Галузиной пользовавших её врачей; Стрельников просит доктора поговорить, хватает за руки, желая удержать его внимание и мучая невозможностью пойти спать. Мисс Просе, не ожидая того, убивает мадам Дефарж, ударив её по руке, в которой был пистолет, - Галузина прекращает требовать у Ксюши ответов после того, как та упоминает Кубариху, у которой есть общие черты с Просе (Галузина «понимает» скрытую угрозу, заключённую в имени своего двойника); Стрельников кончает с собой, застрелившись.
Другого рода скрытое соотнесение Юрия Живаго с мисс Просе, обладавшей непрезентабельной внешностью, проявляется в эпизоде, когда доктор едет в трамвае и видит идущую параллельно мадемуазель Флери, которая в итоге «обогнала» его [IV: 489]. Параллелизм судеб в «Повести...» многообразен. Это судьба уехавшей семьи Дарнея и судьба мисс Просе, которой вместе с Кранчером предстоит догнать и перегнать уехавших. Это судьба уехавших и идущей к дому мадам Дефарж; уехавшей мисс Просе и оставшейся лежать в доме убитой мадам Дефарж; едущих в экипаже мисс Просе и Кранчера и едущих на телегах на казнь 52 осуждённых, среди которых находится Картон; членов семьи Дарнея и осуждённых на казнь, в частности Картона, и т. д. Именно на этот параллелизм спроецированы судьбы Юрия Живаго и мадемуазель Флери. Мисс Просе умывалась за мгновение до прихода мадам Дефарж и выходит из дома после схват
«Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России
615
ки с ней с расцарапанным лицом (возможно, мокрым от крови) - у мадемуазель Флери лицо также мокрое, но от пота. Мисс Просе выходит в шляпе с вуалью - мадемуазель Флери также в шляпке, но о вуали не говорится. Героиня Диккенса навсегда оглохла от выстрела и не слышит грохота шести телег с осуждёнными (ср. с «тремя телегами клади», которую привезли купцу Любезнову, живущему в нижней части Крестовоздвижен-ска) - героиня Пастернака всё видит, слышит, стоит возле остановившегося трамвая, но не узнает Юрия Живаго. Англичанка мисс Просе едет домой из революционного Парижа - «швейцарская подданная» мадемуазель Флери, говорящая по-французски, собирается на родину из революционной Москвы.
Сцена перед казнью, когда Картон и девушка-швея «разговаривают, как если бы они были одни; держатся за руки, смотрят в глаза друг другу и льнут друг к другу сердцами» [Диккенс, XXII: 447], в романе Пастернака отражена в разговорах Юрия Живаго и Лары после возвращения доктора от партизан (особенно конец главы 13 части тринадцатой), а также в сцене прощания Лары с Юрием Живаго, лежащим в гробу. Особенно близким к тексту «Повести...» оказывается монолог Лары, произнесённый вскоре после выздоровления вернувшегося из Сибири Юрия Андреевича: «Мы с тобой последнее воспоминание обо всём том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим, и любим, и плачем, и держимся друг за друга и друг к другу льнём» [IV: 400].
Завершающий «Повесть...» монолог Картона, произнесённый им, «если бы он прозревал будущее и записал свои мысли» [Диккенс, XXII: 449], инверсирован в финальной сцене «Доктора Живаго», когда Гордон и Дудоров сидят над вечернею Москвой и читают стихи доктора. Стиль пересказа событий будущего, которым пользуется Диккенс, сказался в стиле, который Пастернак использовал в части пятнадцатой «Окончание» и особенно в части шестнадцатой «Эпилог».
БИБЛИОГРАФИЯ1
I-XI - Пастернак Б. Полное собрание сочинений с приложениями. В одиннадцати томах. Составление и комментарии Е.Б. Пастернака и Е.В. Пастернак. - М.: CJIOBO/SLOVO, 2003-2005.
Абашев 2000 - Абашев В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. - Пермь: Издательство Пермского университета, 2000. - 404 с.
Аверинцев 1996 - Аверинцев С.С. Поэты. - М.: Школа Языки русской культуры, 1996. - 365 с.
Азадовский 1994 - Азадовский К. Эпизоды // «Новое литературное обозрение». 1994. № 10. Историко-литературная серия. - С. 115-136.
Альтман 1975 - Альтман М.С. Достоевский. По вехам имён. - Саратов: Издательство Саратовского университета. 1975. - 280 с.
Альфонсов 1984 - Альфонсов В. «Эй, вы! Небо!..» (О раннем Маяковском) // В мире Маяковского. Сборник статей в двух книгах. Составители Ал. Михайлов, Ст. Лесневский. - М.: Советский писатель, 1984. -Т. I. С. 174-211.
Альфонсов 1990а - Альфонсов В.Н. Вступительная статья «Поэзия Бориса Пастернака» // Пастернак Б. Стихотворения и поэмы в двух томах. Издание третье. Составление, подготовка текста и примечания В.С. Баевского и Е.Б. Пастернака. - Л.: Советский писатель, 1990. - С. 5-72. («Библиотека поэта». Большая серия.)
Альфонсов 19906 - Альфонсов В. Поэзия Бориса Пастернака. - Л.: Советский писатель, 1990. - 368 с.
Андреэ 2003 - Андреэ И.В. Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459. Перевод с нем. -М.: Энигма, 2003. - 304 с.
Анненский 1979 - Анненский И. Книги отражений. Издание подготовили Н.Т. Ашимбаева, И.И. Подольская, А.В. Федоров. - М.: Наука, 1979. - 680 с. (Серия «Литературные памятники».)
Анненский 1990 - Анненский И. Стихотворения и трагедии. Издание третье. Вступительная статья «Иннокентий Анненский - лирик и драматург», составление, подготовка текста и примечания А.В. Фёдорова. - Л.: Советский писатель, 1990. - 640 с. («Библиотека поэта». Большая серия.)
Аннинский 2003 - Аннинский Л. Анна Баркова: «Кровавые звёзды на смирившихся башнях...» (Из цикла «Медные трубы») // «День литературы» № 11 (87), 10 ноября 2003 года; http://www.zavtra.ru/ cgi/veil/data/denlit/087/81 .html
Асеев 1983 - Асеев Н. К творческой истории поэмы «Маяковский начинается». Вступительная статья и публикация А.М. Крюковой // Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920-1930-х годов. Новые материалы и исследования. - М.: Наука, 1983. - С. 438-530.
Асеев 1996 - Асеев Н. Московские записки. Вступительная заметка, подготовка текста и примечания А.Е. Парниса// Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. -М.: Наследие, 1996. - С. 151-167.
Афанасьев 1985-1986,1-III - Русские народные сказки А.Н. Афанасьева в трёх томах. Издание подготовили Л.Г. Бараг и Н.В. Новиков. - М.: Наука, 1985-1986. (Серия «Литературные памятники».)
Афанасьев 1994,1-III - Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу в трёх томах. -М., 1865-1869. Репринт - М.: Индрик, 1994.
Афиногенов 1990 - Афиногенов А. Из дневника 1937 года // «Вопросы литературы». 1990. № 2. -С.108-122.
1 В ссылках на многотомные издания римской цифрой указывается том, арабской - страница.
Библиография
617
Ахматова 1990,1-II - Ахматова А. Сочинения. В двух томах. Составление, подготовка текста и комментарии В. Черных. 2-е издание, исправленное и дополненное. - М.: Художественная литература, 1990.
Ахматова 1996 - Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966). Составление и подготовка текста К.Н. Суворовой. Вступительная статья Э.Г. Герштейн. Научное консультирование, вводные заметки к записным книжкам, указатели В.А. Черных. - Москва - Torino: РГАЛИ и Giulio Einaudi editore, 1996.-850 с.
Ахматова 1998-2002,1-VI - Ахматова А. Собрание сочинений в шести томах. - М.: Эллис Лак, 1998— 2002.
Баевский 1980 - Баевский В.С. Миф в поэтическом сознании и лирике Пастернака. (Опыт прочтения) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1980, № 39 (2). - С. 116-127.
Баевский 1988 - Баевский В.С. Стихосложение Б. Пастернака // Проблемы структурной лингвистики. 1984. - М.: Наука, 1988. - С. 137-151.
Баевский 1998 - Баевский В.С. Пушкин и Пастернак: к постановке проблемы // Пастернаковские чтения. Вып. 2. - М.: Наследие, 1998. - С. 222-243.
Баевский, Пастернак Е. 1990,1-II - Примечания // Пастернак Б. Стихотворения и поэмы в двух томах. Издание третье. Составление, подготовка текста и примечания В.С. Баевского и Е.Б. Пастернака. Вступительная статья В.Н. Альфонсова «Поэзия Бориса Пастернака». - Л.: Советский писатель, Ленинградское отделение, 1990. («Библиотека поэта». Большая серия.)
Бажов 1986,1-III - Бажов П.П. Сочинения в трёх томах. - М.: Правда, 1986.
Балакин 2005 - Балакин В.Д. Адепты тайного знания // Ютен С. Жизнь алхимиков в Средние века. Перевод, вступительная статья В.Д. Балакина. - М.: Молодая гвардия, Палимпсест, 2005. - С. 6-27.
Баран 1996 - Баран X. Первая мировая война в стихах Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. - М.: Наследие, 1996. - С. 171-185.
Барт 1989 - Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Составление, общая редакция и вступительная статья Г.К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. - 616 с.
Барт 1994 - Барт Р. S/Z. Перевод с французского Г.К. Косикова и В.П. Мурат. Общая редакция и статья Г.К. Косикова. - М.: РИК Культура; Ad Marginem, 1994. - 304 с.
Барт 1999 - Барт Р. Фрагменты речи влюблённого. Перевод с французского Виктора Лапицкого. Редакция перевода и вступительная статья Сергея Зенкина. - М.: Ad Marginem, 1999. - 432 с.
Батай 1997 - Батай Ж. Внутренний опыт. Перевод с французского, послесловие и комментарии С.Л. Фокина. - СПб.: Аксиома, Мифрил, 1997. - 336 с.
Бахнов, Воронин 1990 - С разных точек зрения: «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Составители Л.В. Бахнов, Л.Б. Воронин. - М.: Советский писатель, 1990. - 288 с.
Башилов 2004 - Башилов Б. История русского масонства. - М.: Лепта-Пресс, 2004. - 1246 с.
Бейджент, Ли, Линкольн 2006 - Бейджент М., Ли Р., Линкольн Г. Тайна Святой Крови и Святого Грааля. Иллюстрированная история величайшей загадки тысячелетия. Перевод с английского О. Фадиной, А. Костровой, К. Савельева. - М.: Эксмо, 2006. - 480 с.
Бейли 2004 - Бейли Ф. Дух масонства. Сменить эзотерические ценности. - М.: Навна-3,2004. - 216 с.
Белова 1993 - Белова Т.Н. Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» в англоязычных исследованиях 80-х годов // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1993, № 6.
Белый 1981 - Белый А. «Петербург». Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. Издание подготовил Л.К. Долгополов. - М.: Наука, 1981. - 696 с.
Белый 1989 - Белый А. Москва. Составление, вступительная статья и примечания С.И. Тиминой. -М.: Советская Россия, 1989. - 768 с.
618
Б иблиография
Белый 1995 - Белый А. Собрание сочинений. Серебряный голубь. Рассказы. Составление, предисловие, комментарии В.М. Пискунова. - М.: Республика, 1995. - 335 с.
Бердяев 1990 - Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М.: Наука, 1990. - 222 с.
Бетеа 1993 - Бетеа Д.М. Мандельштам, Пастернак, Бродский: иудаизм, христианство и созидание модернистской поэтики // Русская литература XX века. Исследования американских ученых. - СПб.: Петро-Риф, Университет Джеймса Медисона (Вирджиния, США), Санкт-Петербургский государственный университет, 1993. - С. 362-399.
Блок, I-VIII - Блок А. Собрание сочинений в восьми томах. - М.; Л.: ГИХЛ, 1960-1963.
Богомолов 1999 - Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм. Исследования и материалы. - М.: Новое литературное обозрение, 1999. - 551 с.
Богомолов, Шумихин 2000 - Предисловие к Дневнику М. Кузмина // Кузмин М. Дневник 1905-1907. Предисловие, подготовка текста и комментарии Н.А. Богомолова и С.В. Шумихина. - СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2000. - С. 5-19.
Борисов, Пастернак Е. 1988 - Борисов В.М., Пастернак Е.Б. Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» // «Новый мир». 1988. № 6. - С. 205-248.
Брачев 2007а - Брачев В. «Победоносный Февраль» 1917 года: масонский след // Масоны и Февральская революция 1917 года. - М.: Яуза-пресс, 2007. - С. 5-236.
Брачев 20076 - Брачев В. Оккультные истоки революции. Русские масоны XX века. - М.: Издатель Быстров, 2007. - 480 с.
Бродский 1995 - Бродский И. Вершины великого треугольника. Примечания к комментарию // «Независимая газета», 10 февраля 1995 г. - С. 3.
Булгаков 1994 - Булгаков М.А. Пьесы 30-х годов. Вступительная статья А.М. Смелянского. Составление и общая редакция А.А. Нинов. Подготовка текстов пьес и примечаний - А.А. Гозенпуд, А.А. Грубин, И.Е. Ерыкалова, Е.А. Кухта, Я.С. Лурье, А.А. Нинов, О.В. Рыкова. Российский институт истории искусств. - СПб.: Искусство - СПБ, 1994. - 671 с.
Булгаков 2002,1-VIII - Булгаков М.А. Собрание сочинений в 8 томах. - СПб.: Азбука-классика, 2002.
Буров 1991 - Буров С.Г. К вопросу об интертекстуальном прочтении стихотворений О. Мандельштама, обращённых к Н. Штемпель // Воронежский период в жизни и творчестве О.Э. Мандельштама. Материалы научной конференции. - Воронеж: 1991. - С. 31-34.
Буров 1992 - Буров С.Г. Апокалипсические аллегории в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» // Целостность художественного произведения и проблемы его анализа и интерпретации. Тезисы конференции 13-16 октября 1992 г. - Донецк: ДонГУ, 1992. - С. 61-64.
Буров 1995 - Буров С.Г. Особенности трансформации сюжетно-композиционной схемы «Капитанской дочки» в «Докторе Живаго» Б. Пастернака // Материалы Пушкинской научной конференции 1-2 марта 1995 г. (к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина). - Киев, 1995. - С. 130-132.
Буров 2004 - Буров С. «Повесть о двух городах» Ч. Диккенса в «Докторе Живаго» Б. Пастернака // «Русская литература». 2004. № 2. - С. 90-134.
Буров, 2005 - Буров С.Г. «Испанцы» М.Ю. Лермонтова и «вакансия поэта» в «Докторе Живаго» Б.Л. Пастернака // Русский язык и межкультурная коммуникация. 2005, № 1 (5). - Пятигорск: Издательство ПГЛУ, 2005. - С. 126-132.
Буров 2006а - Буров С.Г. О сказочном морфологизме «Доктора Живаго» Б.Л. Пастернака // Научная мысль Кавказа. Северо-Кавказский научный центр высшей школы. Спецвыпуск 8’2006. - Ростов-на-Дону: 2006. - С. 358-363.
Буров 20066 - Буров С.Г. «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака как инверсия волшебной сказки // Актуальные проблемы герменевтики и интерпретации художественного текста. Филологические чтения, посвященные Дням славянской письменности и культуры. Вып. 3. - Пятигорск: Издательство ПГЛУ, 2006. - С. 52-69.
Библиография
619
Буров 2006в - Буров С.Г. М.И. Цветаева как скрытый раздражитель в «Докторе Живаго» Б.Л. Пастернака // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2006, № 1 (январь-март). - Пятигорск: Издательство ПГЛУ, 2006. - С. 119-125.
Буров 2006г - Буров С.Г. Дом в «Докторе Живаго» Б.Л. Пастернака и влияние «Органопроекции» П.А. Флоренского // Университетские чтения - 2006. Материалы научно-методических чтений ПГЛУ 1-2 февраля 2006 года. Часть VI. - Пятигорск: Издательство ПГЛУ, 2006. - С. 175-180.
Буров 2007а - Буров С. Оскорбляемый Хлестаковым // День литературы. 2007, июль, № 07 (133). - С. 1. Буров 20076 - Буров С. Пастернак и масонство // День литературы. 2007, сентябрь, № 09 (133). - С. 3. Буров 2007в - Буров С. Сказочные ключи к «Доктору Живаго». - Пятигорск: РИА на КМВ, 2007. -968 с.
Буров 2008а - Буров С.Г. «Вечный муж» Ф.М. Достоевского в «Докторе Живаго» Б.Л. Пастернака // Синергетика образования. Межвузовский сборник (выпуск двенадцатый). Четвёртые Международные Кирилло-Мефодиевские научно-педагогические чтения. Армавир, 18-19 апреля 2008. -М., Ростов-на-Дону: 2008. - С. 337-344.
Буров 20086 - Буров С.Г. Борис Пастернак и фотография // Научный вестник Южного Федерального округа. № 1 (5). Январь-март 2008 г. - С. 7-16.
Буров 2008в - Буров С.Г. К вопросу о генетике Юрятина и Варыкино в «Докторе Живаго» Б.Л. Пастернака // Научный вестник Южного Федерального округа. № 2 (6). Апрель-июнь 2008 г. - С. 10-15.
Буров 2008г - Буров С.Г. Масонский подтекст обращений Б.Л. Пастернака к И.В. Сталину // Творчество В.В. Кожинова в контексте научной мысли рубежа XX-XXI веков. Сборник статей 6-й международной научно-практической конференции. Составитель Н.И. Крижановский; под редакцией Н.Л. Федченко. Армавир: ИП Шурыгин В.Е., 2008. - С. 16-20.
Буров 2009а - Буров С.Г. Пастернак и Достоевский: «Записки из Мёртвого дома» на новый лад // Синергетика образования. Научный журнал. № 3 (16), 2009. - С. 26-53.
Буров 20096 - Буров С.Г. Пастернак и Чаадаев. - Пятигорск: Издательство ПГЛУ, 2009. - 218 с.
Буров 2009в - Буров С.Г. Мотив стука в «Докторе Живаго» в аспекте полигенетичности текста // Творчество В.В. Кожинова в контексте научной мысли рубежа XX-XXI веков. Сборник статей 7-й международной научно-практической конференции. Составитель Н.И. Крижановский; под редакцией Н.Л. Федченко. - Армавир: ИП Шурыгин В.Е., 2009. - С. 18-21.
Буров 2009г - Буров С.Г. Пастернак в контексте Серебряного века (1 часть) // Научный вестник Южного Федерального округа. № 1 (9). Январь-март 2009 г. - С. 14-23.
Буров 2009д - Буров С.Г. Пастернак в контексте Серебряного века (2 часть) // Научный вестник Южного Федерального округа. № 3 (11). Июль-сентябрь 2009 г. - С. 41-51.
Буров 2009е - Буров С.Г. Пастернак в контексте Серебряного века (3 часть) // Научный вестник Южного Федерального округа. № 4 (12). Октябрь-декабрь 2009 г. - С. 7-31.
Буров 2010а - Буров С.Г. Востребованный жанр: «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского в «Докторе Живаго» Б.Л. Пастернака // Синергетика образования. Научный журнал (социальные и гуманитарные науки). - Армавир: 2010, № 1 (17). - С. 12-22.
Буров 20106 - Буров С.Г. Об интертекстуальных «предках» Евграфа в «Докторе Живаго» // Шестые Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. Армавир, АФ ГОУ ККИДППО, 9 апреля 2010. Синергетика образования. Научный журнал (социальные и гуманитарные науки). - Армавир: 2010, №2(18).-Ч. 2.-С. 127-133.
Буров 2010в - Буров С.Г. К вопросу об интертекстах в «Докторе Живаго» Б. Пастернака // Материалы заочной международной научно-практической конференции «Когда строку диктует чувство...», посвящённой 120-летию Б. Пастернака. Армавир, филиал ГОУ ККИДППО, 10 февраля 2010 г. Синергетика образования. Научный журнал (социальные и гуманитарные науки). - Армавир: 2010, №3 (19).-С. 26—46.
620
Библиография
Буров 2010г - Буров С.Г. Прототипы Агриппины Тунцевой в «Докторе Живаго» Б. Пастернака // Культурная жизнь Юга России. - Краснодар: 2010, № 2 (36). - С. 56-59.
Буров 201 Од - Буров С.Г. «Проблема Гамлета» и личность И. Анненского в «Докторе Живаго» Б. Пастернака // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2010. № 2 (апрель-июнь). - Пятигорск: Издательство ПГЛУ, 2010. - С. 204-211.
Буров 2010е - Буров С.Г. Борис Пастернак и Вячеслав Иванович Иванов: два стихотворения «Земля» и два подхода к гениальности // Культурная жизнь Юга России. - Краснодар: 2010, № 3 (37). -С. 65-68.
Буров 2010ж - Буров С.Г. В. Маяковский и Н. Асеев в мелюзеевском локусе «Доктора Живаго» Б. Пастернака // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2010, № 3 (июль-сентябрь). - Пятигорск: Издательство ПГЛУ, 2010. - С. 206-213.
Буров 2010з - Буров С.Г. Полигенетичность образа Юрия Живаго как проявление памяти культуры // Культурная жизнь Юга России. - Краснодар: 2010, № 4 (38). - С. 52-57.
Буров 2010и - Буров С.Г. О прототипах Микулицына в «Докторе Живаго» Б. Пастернака if Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2010, № 4 (октябрь-декабрь). -Пятигорск: Издательство ПГЛУ, 2010. - С. 191-197.
Буров 2010к - Буров С.Г. Булгаков как одна из тайн «Доктора Живаго» Пастернака // Вестник Ставропольского государственного университета. 2010, № 71 (6). - Ставрополь: Издательство СГУ, 2010.-С. 76-85.
Буров 2010л - Буров С.Г. Алхимическая семантика детали в «Докторе Живаго» Б.Л. Пастернака // Синергетика образования. Научный журнал (социальные и гуманитарные науки). - Армавир, 2010, № 4 (20). - С. 20-26.
Быков 2005 - Быков Д. Борис Пастернак. - М.: Молодая гвардия, 2005. - 893 с. (Жизнь замечательных людей: Сер. биограф.; Вып. 962.)
Былины 1957 - Былины. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Б.Н. Путилова. - Л.: Советский писатель, 1957. - 486 с. («Библиотека поэта». Большая серия.)
Бэкон 1977-1978,1-II - Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Второе, исправленное и дополненное издание. - М.: Мысль. Т. 1 - 1977. - 568 с. Т. 2 - 1978. - 576 с.
Вахтель 1996 - Вахтель М. К теме: «Вячеслав Иванов и Гёте» // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. - М.: Наследие, 1996. - С. 186-191.
Венцлова 2008 - Венцлова Т. Пространство сна: Лермонтов и Пастернак // Любовь пространства... Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. Ответственный редактор В.В. Абашев; Пермский государственный университет; Институт мировой культуры Московского государственного университета; Научный совет «История мировой культуры» РАН. - М.: Языки славянской культуры, 2008. - С. 241-251.
Вестстейн 2008 - Вестстейн В. Описание персонажей в романе «Доктор Живаго» // Любовь пространства... Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. Ответственный редактор В.В. Абашев; Пермский государственный унивеситет; Институт мировой культуры Московского государственного университета; Научный совет «История мировой культуры» РАН. - М.: Языки славянской культуры, 2008. - С. 295-303.
Вигилянская 2008 - Вигилянская А.В. От «сложности» к «неслыханной простоте». Зеркало в творчестве Пастернака и Рильке // Любовь пространства... Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. Ответственный редактор В.В. Абашев; Пермский государственный унивеситет; Институт мировой культуры Московского государственного университета; Научный совет «История мировой культуры» РАН. - М.: Языки славянской культуры, 2008. - С. 271-281.
Виленкин 1991 - Виленкин В.Я. Воспоминания с комментариями. 2-е издание, доп. - М.: Искусство, 1991. - 496 с. (Серия «Театральные мемуары».)
Б иблиография
621
Вильмонт 1989 - Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. - М.: Советский писатель, 1989. - 224 с.
Витт 2000 - Витт С. Мимикрия в романе «Доктор Живаго» // В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies, Vol. 22. - Stanford: 2000. - P. 87-122.
Витт 2008 - Витт С. О пространстве леса в поэтике Пастернака // Любовь пространства... Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. Ответственный редактор В.В. Абашев; Пермский государственный унивеситет; Институт мировой культуры Московского государственного университета; Научный совет «История мировой культуры» РАН. - М.: Языки славянской культуры, 2008. - С. 175-187.
Войтехович 2004 - Войтехович Р. Оккультные мотивы у Цветаевой: астрология // Лотмановский сборник. 3. Редакторы Л.Н. Киселева, Р.Г. Лейбов, Т.Н. Фрайман. - М.: О.Г.И., 2004. - С. 419-442.
Волошин 1995 - Волошин М. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья А.В. Лаврова. Составление и подготовка текста В.П. Купченко и А.В. Лаврова. Примечания В.П. Купченко. - СПб.: Петербургский писатель, 1995. - 704 с. («Библиотека поэта». Большая серия.)
Воспоминания о Пастернаке 1993 - Воспоминания о Борисе Пастернаке. Составление, подготовка текста, комментарии Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. - М.: СП Слово, 1993. - 750 с.
Воспоминания Шаламова 1988 - «Над старыми тетрадями...» (Письма Б.Л. Пастернака и воспоминания о нём В.Т. Шаламова). Публикация И.П. Сиротинской // Встречи с прошлым. Вып. 6. - М.: Советская Россия, 1988. - С. 291-305.
Вроон 1998 - Вроон Р. Знак близнецов: Опыт интерпретации первого сборника стихов Пастернака. Перевод с англ. М.Л. Гаспарова // Пастернаковские чтения. Вып. 2. -М.: Наследие, 1998. - С. 334-354.
Галушкин 2000 - Галушкин А. Сталин читает Пастернака // В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies, Vol. 22. - Stanford: 2000. - P. 38-65.
Гардзонио 2006 - Гардзонио С. Пастернаковская Италия: Жизненный опыт и художественное перевоплощение // Eternity’s Hostage. Selected Papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak, May, 2004. In Honor of Evgeny Pasternak and Elena Pasternak. Edited by Lazar Fleishman. Part I, II. Stanford Slavic Studies, Vol. 31 : 1,2.- Stanford: 2006. - Part I. P. 56-67.
Гаспаров Б. 1992a-Гаспаров Б.М. Gradus ad Pamassum. Самосовершенствование как категория творческого мира Пастернака // «Быть знаменитым некрасиво...». Пастернаковские чтения. Вып. 1. -М.: Наследие, 1992. - С. 110-135.
Гаспаров Б. 19926 - Гаспаров Б. Поэтика Пастернака в культурно-историческом измерении. (Б.Л. Пастернак и О.М. Фрейденберг) // Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тартуский университет. Кафедра русской литературы. - Тарту, 1992. - С. 366-384.
Гаспаров Б. 1994 - Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. -М.: Наука, Издательская фирма Восточная литература, 1994. - 304 с.
Гаспаров Б. 1995 - Гаспаров Б. Об одном ритмико-музыкальном мотиве в прозе Пастернака (История одной триоли) // Studies in Poetics. Commemorative Volume Krystina Pomorska (1928-1986). Ed. Elena Semeka-Pankratov. - Columbus: Slavica, 1995. - P. 233-259.
Гаспаров M. 1997,1-III - Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. I—III. - М.: Языки русской культуры, 1997.
Гаспаров, Поливанов 2005 - Гаспаров М.Л., Поливанов К.М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария. - М.: Издательство РГГУ, 2005. - 143 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 47.)
Герцен, I-XXX - Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томах. - М.: 1954-1966.
Герштейн 1998 - Герштейн Э. Мемуары. - СПб.: Инапресс, 1998. - 528 с.
Гинзбург 1988 - Гинзбург Л.Я. «И заодно с правопорядком...» // Третьи Тыняновские чтения. - Рига: Зинатне, 1988. - С. 218-230.
622
Библиография
Гладков 2002 - Гладков А. Встречи с Пастернаком. Предисловие Е.Б. Пастернака. Примечания Е.Б. Пастернака, С.В. Шумихина. - М.: Арт-Флекс, 2002. - 288 с.
Горелик 2006 - Горелик Л. Диккенсовский подтекст в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»: Революция в «вековом прототипе» // Eternity’s Hostage. Selected Papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak, May, 2004. In Honor of Evgeny Pasternak and Elena Pasternak. Edited by Lazar Fleishman. Part I, II. Stanford Slavic Studies, Vol. 31 : 1,2.- Stanford: 2006. - Part II. P. 375-395.
Горелик 2009 - Горелик Л. «Дурацкие» вопросы Елены Прокловны как пролог к уральским главам «Доктора Живаго» И The Life of Boris Pasternak’s Doctor Zhivago. Edited by Lazar Fleishman. -Stanford Slavic Studies, Volume 37. - Stanford: 2009. - P. 201-210.
Горький, I-XXX - Горький M. Собрание сочинений в XXX томах. - М.: Издание АН СССР - Наука, 1949-1955.
Греймас 2004 - Греймас А.-Ж. Структурная семантика. Поиск метода. Перевод Людмилы Зиминой. -М.: Академический проект, 2004. - 368 с.
Гречишкин, Долгополов, Лавров 1981 - Гречишкин С.С., Долгополов Л.К., Лавров А.В. Примечания // Белый А. «Петербург». Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. Издание подготовил Л.К. Долгополов. - М.: Наука, 1981. - С. 641-692.
Гроссман 1941 - Гроссман Л.П. Лермонтов и литературы Востока // Литературное наследство. Т. 43-44.-М., 1941.-С. 719-735.
Гура 1997 - Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. - М.: Индрик, 1997. -912 с. (Серия «Традиционная духовная культура славян». Современные исследования.)
Де Квинси 2000 - Де Квинси Т. Исповедь англичанина, любителя опиума. - М.: Ладомир; Наука, 2000. -424 с. (Серия «Литературные памятники».)
Державин 1985 - Державин Г.Р. Сочинения. Составление, биографический очерк и комментарии И.И. Подольской. - М.: Правда, 1985. - 576 с.
Деринг-Смирнова 1999 - Деринг-Смирнова Р. Пастернак и Вайнингер // «Новое литературное обозрение». 1999. № 37.
Диккенс, I-XXX - Диккенс Ч. Собрание сочинений в тридцати томах. Под общей редакцией А.А. Аникста и В.В. Ивашевой. - М.: ГИХЛ, 1960.
Дмитриева 2006 - Дмитриева Н.А. Из истории неокантианства в России // Eternity’s Hostage. Selected Papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak, May, 2004. In Honor of Evgeny Pasternak and Elena Pasternak. Edited by Lazar Fleishman. Part I, II. Stanford Slavic Studies, Volume 31:1,2.- Stanford: 2006. - Part II. P. 467-547.
Дневник Елены Булгаковой 1990 - Дневник Елены Булгаковой. Гос. библиотека СССР им. В.И. Ленина. Составление, текстологическая подготовка и комментарии В. Лосева и Л. Яновской. Вступительная статья «Елена Булгакова, ее дневники, ее воспоминания» Л. Яновской. - М.: Книжная палата, 1990. - 400 с. (Серия «Из рукописного наследия».)
Документы 2001 - «А за мною шум погони...» Борис Пастернак и власть. Документы 1956-1972 гг. Под редакцией В.Ю. Афиани и Н.Г. Томилиной. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001.-432 с.
Достоевский, I-XXX - Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. - Л.: Наука, 1972— 1990.
Д’Анджело 2007 - Д’Анджело С. Дело Пастернака: воспоминания очевидца. Перевод с итальянского О. Уваровой. Послесловие и комментарии Е.Б. Пастернака. - М.: Новое литературное обозрение, 2007. - 192 с.
Емельянова 1997 - Емельянова И. Легенды Потаповского переулка. Б. Пастернак, А. Эфрон, В. Шаламов. - М.: Эллис Лак, 1997. - 400 с.
Емельянова 2006 - Емельянова И. Пастернак и Ивинская. - М.: Вагриус, 2006. - 336 с.
Библиография
623
Жирмунский 1937 - Жирмунский В.М. Гёте в русской литературе. - Л., 1937.
Жолковский 1990 - Жолковский А.К. Механизмы второго рождения. О стихотворении Пастернака «Мне хочется домой, в огромность...» // «Литературное обозрение». 1990. № 2. - С. 35-41.
Жолковский 1994 - Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. - М.: Наука, Издательская фирма Восточная литература, 1994. - 427 с.
Жолковский 2005 - Жолковский А.К. Избранные статьи о русской поэзии: инварианты, структуры, стратегии, интертексты. Ответственный редактор Л.Г. Панова. - М.: Издательство РГГУ, 2005. -654 с.
Жолковский 2006 - Жолковский А.К. Откуда эта Диотима? (Заметки о «Лете» Пастернака) // Eternity’s Hostage. Selected Papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak, May, 2004. In Honor of Evgeny Pasternak and Elena Pasternak. Edited by Lazar Fleishman. Part I, II. Stanford Slavic Studies, Volume 31 : 1,2.- Stanford: 2006. - Part I. P. 239-261.
Жолковский, Щеглов 1996 - Жолковский A.K., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности. Инварианты - Тема - Приёмы - Текст. Сборник статей. Предисловие М.Л. Гаспарова. - М.: АО Издательская группа Прогресс, Универе, 1996. - 344 с.
Зайцев 1989 - Зайцев Б. Улица Святого Николая. Повести и рассказы. Вступительная статья, составление О. Михайлова. - М.: Художественная литература, 1989. - 399 с.
Земляной 1997 - Земляной С. Философия и художество. «Доктор Живаго» и его интерпретации // Свободная мысль. 1997. № 8. С. 72-84; № 10. С. 58-71.
Иванов 2008 - Иванов В. «Евангельский смысл слова «земля»». Подготовка текста, вступление, примечания и приложение Ольги Фетисенко // «Символ». Журнал христианской культуры, основанный в 1979 году славянской библиотекой в Париже. № 53-54 (2008). - С. 68-84.
Иванов, I-IV - Иванов В. Собрание сочинений. Т. I-IV. Под редакцией Д.В. Иванова и О. Дешарт с введением и примечаниями О. Дешарт. - Брюссель: Foyer Oriental Chretien, 1971-1987. (Том IV при участии А.Б. Шишкина.)
Иванов Вяч. Вс. 2008 - Иванов Вяч. Вс. Хронотопы творческой биографии Б.Л. Пастернака // Любовь пространства... Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. Ответственный редактор В.В. Абашев; Пермский государственный унивеситет; Институт мировой культуры Московского государственного университета; Научный совет «История мировой культуры» РАН. - М.: Языки славянской культуры, 2008. - С. 13-36.
Иванов Вяч. Вс. 2009 - Иванов Вяч. «Доктор Живаго и Нобелевская премия (отрывки из книги воспоминаний «Перевернутое небо») // The Life of Boris Pasternak’s Doctor Zhivago. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies, Vol. 37. - Stanford, 2009. - P. 18-37.
Иванов Вяч. Вс. 1998-2010,1-VII (1) - Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. I—VII (1). - М.: Школа Языки русской культуры, 1998-2010.
Иванова Л. 1992 - Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. Подготовка текста и комментарий Джона Мальмстада. - М.: РИК Культура; Феникс, 1992. - 432 с.
Иванова И. 2001а - Иванова Н. Пересекающиеся параллели. Борис Пастернак и Анна Ахматова // «Знамя». 2001. № 9; http://magazines.russ.rU/znamia/2001/9/ivan.html
Иванова И. 20016 - Иванова Н. «Собеседник рощ» и вождь. К вопросу об одной рифме // «Знамя». 2001. № 10; http://magazines.russ.ru/znamia/2001/10/ivan.html
Иванова И. 2001 в - Иванова Н. Точность тайн. Поэт и Мастер // «Знамя». 2001. №11; http://magazines. russ.ru/znamia/2001/11/ivan.html
Ивинская 1978 - Ивинская О. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. - Paris: Librairie Artheme Fayard, 1978. - 433 с.
Ионкис - Ионкис Г. Велижская драма и трагедия Лермонтова «Испанцы» // http://www.berkovich-zametki. com/N omer 19/Ionki s2. htm
624
Библиография
ИРЛ 1908 - Народная словесность. (Том вышел в составе Истории русской литературы XIX века под редакцией Е.В. Аничкова, А.К. Бороздина и Д.Н. Овсянико-Куликовского.) - М.: Издание товарищества И.Д. Сытина и товарищества Мир, 1908. - 428 с.
ИРЛ 1980,1-IV - История русской литературы в четырёх томах. Редакционная коллегия: А.С. Бушмин, Е.Н. Купреянова, Д.С. Лихачёв, Т.П. Макогоненко, К.Д. Муратова. Главный редактор Н.И. Пруцков. - Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1980.
Йейтс 1999 - Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. Перевод с англ. А. Кавтаскина под редакцией Т. Баскаковой. - М.: Алетейа; Энигма, 1999. - 496 с.
Йенсен 1997 - Йенсен П.А. Стрельников и Кай: «Снежная королева» в «Докторе Живаго» // Scando-Slavica. 43. Munk sgaard. - Copenhagen: 1997.
Йенсен 2000 - Йенсен П.А. «Сады выходят из оград...» Некоторые наблюдения над явлением времени в стихотворениях Юрия Живаго // В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 22. - Stanford, 2000. - P. 155-170.
Канонников 2006 - Канонников И.И. Алхимия и современная наука // Книга алхимии. История, символы, практика. Составление, вступительная статья, комментарии В. Рохмистрова. - СПб.: Амфора, ТИД Амфора, 2006. - С. 45-86. (Серия «Александрийская библиотека».)
Канселье 2002 - Канселье Э. Алхимия. Несколько очерков по Герметической символике и Философской Практике. Перевод с франц. К.А. Векова. Предисловие О. Фомина. - М.: Энигма, 2002. - 448 с.
Карпачев 2003 - Карпачев С.П. Путеводитель по масонским тайнам. - М.: Издательство Центр гуманитарного образования, 2003. - 381 с.
Кац 1990 - Кац Б. «...Музыкой хлынув с дуги бытия»: Заметки к теме «Борис Пастернак и музыка» // «Литературное обозрение». 1990. № 2. - С. 79-84.
Кацис 1990 - Кацис Л. Диалог: Юрий Живаго - Михаил Гордон и русско-еврейское неокантианство 1914-1915 гг. // В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 22. - Stanford, 2000. - P. 206-220.
Кацис 1998 - Кацис Л.Ф. К поэтическим взаимоотношениям Б. Пастернака и О. Мандельштама // Пастернаковские чтения. Вып. 2. - М.: Наследие, 1998. - С. 267-287.
Кацис 1999 - Кацис Л. «Вся степь, как до грехопаденья...» (Лермонтов, Достоевский, Розанов в Сестре моей - жизни Пастернака) // Poetry and Revolution: Boris Pasternak’s My Sister Life. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 21. - Stanford, 1999. - P. 76-87.
Клинг 2002 - Клинг О. Андрей Белый: место поэта в творческой эволюции Б. Пастернака (к проблеме символистских влияний) // Андрей Белый. Публикации. Исследования. - М.: ИМЛИ РАН, 2002. -С. 279-294.
Книпович 1987 - Книпович Е. Об Александре Блоке. Воспоминания. Дневники. Комментарии. - М.: Советский писатель, 1987. - 144 с.
Кожевникова 1998 - Кожевникова О. К определению жанра романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» // Пастернаковские чтения. Вып. 2. - М.: Наследие, 1998. - С. 215-221.
Комаровский 2000 - Комаровский В. Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии. Составление И.В. Булатовского, И.Г. Кравцовой, А.Б. Устинова. Комментарии И.В. Булатовского, М.Л. Гаспарова, А.Б. Устинова. - СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2000. - 536 с.
Кондаков 1990 - Кондаков И.В. Роман «Доктор Живаго» в свете традиций русской культуры // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 49, № 6, 1990. - С. 527-540.
Конева 2004 - Конева И. За далью - Даль. К истолкованию одного образа пастернаковской лирики. Заметки на полях книги Григория Амелина и Валентины Мордерер «Миры и столкновения Осипа Мандельштама» // «Крещатик». 2004. № 1. - С. 335-341.
Коряков 1959 - Коряков М. Заметки на полях романа «Доктор Живаго» // «Мосты». 1959. № 2. - С. 216-220.
Библиография
625
Косиков 2008 - Косиков Г.К. Текст / Интертекст / Интертекстология // Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. Перевод с францу. Г.К. Косикова, В.Ю. Лукасик, Б.П. Нарумова. Общая редакция и вступительная статья доктора филологических наук, профессора Г.К. Косикова. -М.: Издательство ЛКИ, 2008. - С. 8-42.
Кузмин 1996 - Кузмин М. Стихотворения. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания Н.А. Богомолова. - СПб.: Гуманитарное агентство Академический проект, 1996. -832 с.
Куликова, Герасимова 2000 - Куликова С.А., Герасимова Л.Е. Полидискурсивность романа «Доктор Живаго» // В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies, Vol. 22. - Stanford, 2000. - P. 123-154.
Лавров 1992a - Лавров А. «Другая жизнь» в стихотворении А. Блока «Было то в тёмных Карпатах...» // Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тартуский университет. Кафедра русской литературы. - Тарту, 1992. - С. 347-357.
Лавров 19926 - Лавров А.В. Ещё раз о Веденяпине в «Докторе Живаго» // «Быть знаменитым некрасиво...». Пастернаковские чтения. Вып. 1. - М.: Наследие, 1992. - С. 92-100.
Лавров 1993 - Лавров А.В. «Судьбы скрещенья» (теснота коммуникативного ряда в «Докторе Живаго») // «Новое литературное обозрение». 1993. № 2. - С. 241-255.
Лавров 1994 - Лавров А.В. Вступительная статья и примечания к «Воспоминаниям» С.В. Троцкого // «Новое литературное обозрение». 1994. № 10. Историко-литературная серия. - С. 41-46, 74-87.
Лавров 1995а - Лавров А.В. Вступительная статья «Жизнь и поэзия Максимилиана Волошина» // Волошин М. Стихотворения и поэмы. Составление и подготовка текста В.П. Купченко и А.В. Лаврова. Примечания В.П. Купченко. - СПб.: Петербургский писатель, 1995. - С. 5-66. («Библиотека поэта». Большая серия.)
Лавров 19956 - Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность. - М.: Новое литературное обозрение, 1995. - 335 с. (Научное приложение. Вып. IV.)
Лавров 2006 - Лавров А.В. Юрий Сидоров: На подступах к литературной жизни // A Century’s Perspective. Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes. Edited by Lazar Fleishman, Hugh McLean. Stanford Slavic Studies, Vol. 32. - Stanford, 2006. - P. 38-62.
Лавров 2007 - Лавров А.В. Андрей Белый: Разыскания и этюды. - М.: Новое литературное обозрение, 2007. - 520 с. (Научное приложение. Вып. LXVI.)
Левин 1998 - Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. - М.: Языки русской культуры, 1998. -824 с.
Лепахин 1988 - Лепахин В. Иконопись и живопись, вечность и время в «Рождественской звезде» Б. Пастернака И Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jozseff Nominatae. Sectio historiae literarum Sla-vicae, № 19. - Szeged: Jozseff Attila Tudomanyegyetem Osszehasonlfto Pfto Irodalomtudomanyi Tanszeke, 1988. - P. 255-275.
Лермонтов, I-IV - Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в четырёх томах. Издание второе, исправленное и дополненное. - Л.: Наука, Лениградское отделение, 1981.
Ливанов 2002 - Ливанов В. Невыдуманный Борис Пастернак. Воспоминания и впечатления. - М.: Дрофа, 2002. - 112 с.
Лихачёв 1985 - Лихачёв Д.С. Вступительная статья «Борис Леонидович Пастернак» // Пастернак Б. Избранное в двух томах. Составление, подготовка текста и комментарии Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернака. - М.: Художественная литература, 1985. - С. 3-28.
Лихачёв 1989 - Лихачёв Д.С. Борис Леонидович Пастернак // Пастернак Б. Собрание сочинений в пяти томах. Составление и комментарии Е.В. Пастернак и К.М. Поливанова. - М.: Художественная литература, 1989-1992. - Т. I. С. 5-44.
626
Библиография
Локс 1994 - Локс К. Повесть об одном десятилетии (1907-1917). Публикация Е.В. Пастернак и К.М. Поливанова // Минувшее. Исторический альманах, 15. - М.; СПб.: Atheneum - Феникс, 1994. -С. 7-162.
Лосская 1992 - Лосская В. Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников. -М.: Культура и традиции, 1992. - 348 с.
Лотман М.Ю. - Лотман М.Ю. Мандельштам и Пастернак (попытка контрастивной поэтики). - Таллин: Александра, б.г. - 176 с.
Лотман 1992,1-III - Лотман Ю.М. Избранные статьи в трёх томах. - Таллин: Александра, 1992.
Лотман 1994 - Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века). - СПб.: Искусство-СПБ, 1994. - 399 с.
Лотман 1995 - Лотман Ю.М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки 1960-1990. «Евгений Онегин». Комментарий. - СПб.: Искусство-СПБ, 1995. - 847 с.
Лотман 2000 - Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. - СПб.: Искусство-СПБ, 2000. - 704 с.
Лотман 2002 - Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. Составители Л.Н. Киселёва, М.Ю. Лотман. - СПб.: Искусство-СПБ, 2002. - 768 с.
Любовь пространства 2008 - Любовь пространства... Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. Ответственный редактор В.В. Абашев; Пермский государственный унивеситет; Институт мировой культуры Московского государственного университета; Научный совет «История мировой культуры» РАН. - М.: Языки славянской культуры, 2008. - 424 с.
Майдель, Безродный 2000 - Майдель Р. фон, Безродный М. Из наблюдений над ономастикой «Доктора Живаго» // В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 22. - Stanford, 2000. - P. 234-238.
Маковский 2000 - Маковский С. Портреты современников: Портреты современников. На Парнасе «Серебряного века». Художественная критика. Стихи. Составление, подготовка текста и комментарии Е.Г. Домогацкой, Ю.Н. Симоненко. Послесловие Е.Г. Домогацкой. - М.: Аграф, 2000.-768 с.
Мак-Налти 2006 - Мак-Налти У.К. Масонство. Перевод с английского И.Д. Голыбиной. - М.: Арт-Родник, 2006. - 320 с.
Мандельштам 1990 - Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1990. - 544 с.
Мандельштам 1990,1-II - Мандельштам О. Сочинения в двух томах. Составление С.С. Аверинцева и П.М. Нерлера. Подготовка текста и комментарии А.Д. Михайлова и П.М. Нерлера. - М.: Художественная литература, 1990.
Мандельштам 1993-1997,1-IV - Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в четырёх томах. Составление и комментарии П. Нерлера и А. Никитаева (том 4 - тех же и Ю. Фрейдина, С. Василенко). -М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993-1997.
Мандельштам 1995 - Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. Вступительные статьи М.Л. Гаспарова и А.Г. Меца. Составление, подготовка текста и примечания А.Г. Меца. - СПб.: Гуманитарное агентство Академический проект, 1995. - 720 с. (Новая библиотека поэта.)
Мандельштам Н. 1989 - Мандельштам Н.Я. Воспоминания. Текст подготовил Ю.Л. Фрейдин. Послесловие Н.В. Панченко. Автор примечаний и составитель раздела «Стихотворения О. Мандельштама» А.А. Морозов. - М.: Книга, 1989. - 480 с. (Серия «Время и судьбы».)
Мандельштам Н. 1990 - Мандельштам Н.Я. Вторая книга. Воспоминания. Подготовка текста, предисловие, примечания М.К. Поливанова. - М.: Московский рабочий, 1990. - 560 с.
Мандельштам Н. 2008 - Мандельштам Н. Об Ахматовой. Составитель П. Нерлер. - М.: Три квадрата, 2008. - 408 с. (Записки Мандельштамовского общества. Т. 13).
Библиография
627
Мансуров 2009 - Мансуров Б.М. Лара моего романа: Борис Пастернак и Ольга Ивинская. - М.: Инфо-медиа Паблишерз, 2009. - 392 с.
Марбург 2001 - Марбург Бориса Пастернака. - М.: Русский путь, 2001. - 244 с.
Маркович 1996 - Маркович В.М. Автор и текст. - СПб., 1996.
Масленикова 1995 - Масленикова 3. Портрет Бориса Пастернака. - М.: Присцельс; Русслит, 1995. -384 с.
Маяковский, I-XIII - Маяковский В. Полное собрание сочинений в 13 томах. - М.: ГИХЛ, 1955— 1961.
Маяковский в переписке 1996 - В.В. Маяковский в переписке современников. Публикация И.И. Аб-роскиной // Встречи с прошлым. Вып. 8. - М.: Русская книга, 1996. - С. 390-440.
Мелетинский 1998 - Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. Ответственный редактор Е.С. Новик. - М.: Издательство РГГУ, 1998. - 576 с.
Мелетинский и др. 2001 - Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы структурного описания волшебной сказки // Структура волшебной сказки. - М.: Издательство РГГУ, 2001.-С. 11-121.
Меняйлов 2005 - Меняйлов А. Стратагемы инициации гения в древнерусских культах. - М., 2005. -С. 56-57.
Минц 1999 - Минц З.Г. Функция реминисценций в поэтике Ал. Блока // Минц З.Г. Поэтика Александра Блока. - СПб.: Искусство-СПБ, 1999. - С. 362-388.
Мир Пастернака 1989 - Каталог выставки к «Декабрьским вечерам» в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Составитель каталога Е.С. Левитин; с участием Н.А. Борисовской и В.В. Леоновича. - М.: Советский художник, 1989. - 208 с.
Мифы 1994,1-II - Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. 2-е издание. - М.: Российская энциклопедия; Минск: Дилер; Смоленск: Русич, 1994.
Морамарко 1990 - Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. Перевод с итал. кандидата исторических наук В.П. Гайдука. Вступительная статья и общая редакция доктора исторических наук В.И. Уколовой. - М.: Прогресс, 1990. - 304 с.
Найман 1989 - Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой. - М.: Художественная литература, 1989. -302 с.
Никитин 2006 - Никитин А.Л. Тайные ордены в Советской России. Тамплиеры и розенкрейцеры. -М.: Вече, 2006.-376 с.
Новик 2001 - Новик Е.С. Система персонажей русской волшебной сказки // Структура волшебной сказки. - М.: Издательство РГГУ, 2001. - С. 122-160.
Обатнин 2000 - Обатнин Г. Иванов-мистик. Оккультные мотивы в поэзии и прозе Вячеслава Иванова (1907-1919). - М.: Кафедра славистики Университета Хельсинки; Новое литературное обозрение, 2000. - 240 с. (Научное приложение. Вып. XXIV.)
Окутюрье 1994 - Окутюрье М. «Писать ногами...»(Текст как поступок: о прозе Пастернака) // Themes and Variations: In Honor of Lazar Fleishman. / Темы и вариации: Сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана. Edited by Konstantin Polivanov, Irina Shevelenko, Andrey Ustinov. Stanford Slavic Studies. Vol. 8. - Stanford, 1994. - P. 20-25.
д’Орсе, 2006 - д’Орсе Г. Язык птиц. Тайная история Европы. Перевод с франц. Ю. Быстрова. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. - 334 с.
Папкова 2008 - Папкова Е.А. Путь на Восток в произведениях Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» и Вс. Иванова «Возвращение Будды» // Любовь пространства... Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. Ответственный редактор В.В. Абашев; Пермский государственный унивеситет; Институт мировой культуры Московского государственного университета; Научный совет «История мировой культуры» РАН. - М.: Языки славянской культуры, 2008. - С. 261-269.
628
Библиография
Парамонов 1991 - Парамонов Б.М. Пастернак против романтизма: К пониманию проблемы // Борис Пастернак. 1890-1990. Под редакцией Льва Лосева. - Northfield, Vt: The Russian School of Norwich University, 1991. - P. 11-25.
Парнис 2000 - Парнис А. О государственной службе поэта и романе «Доктор Живаго». Неизвестные письма Б. Пастернака к С. Мотовиловой // «Зеркало недели», 29 января - 4 февраля 2000 г. № 4 (277).
Пастернак 1989-1992,1-V - Пастернак Б. Собрание сочинений в пяти томах. Составление и комментарии Е.В. Пастернак и К.М. Поливанова. - М.: Художественная литература, 1989-1992.
Пастернак А. 2002 - Пастернак А. Воспоминания. - М.: Прогресс - Традиция, 2002. - 432 с.
Пастернак Е. 1990 - Пастернак Е. Постскриптум (к статье Джона Е. Малмстада «Единство противоположностей») // «Литературное обозрение». 1990. № 2. - С. 59.
Пастернак Е. 1991 - Пастернак Е.Б. Достоевский и Пастернак // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 9. - Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1991. - С. 231-242.
Пастернак Е. 1997 - Пастернак Е. Борис Пастернак. Биография. - М.: Цитадель, 1997. - 728 с.
Пастернак Е. 1999 - Пастернак Е.Б. Чувство земной уместности. Исторические причины изменений отношения Пастернака к «Сестре моей - жизни» // Poetry and Revolution: Boris Pasternak’s My Sister Life. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 21. - Stanford, 1999. - P. 224-244.
Пастернак E. 2001 - Пастернак E. В осаде // «А за мною шум погони...» Борис Пастернак и власть. Документы 1956-1972 гг. Под редакцией В.Ю. Афиани и Н.Г. Томилиной. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. - С. 10-60.
Пастернак Е. 2009 - Пастернак Е. Понятое и обретённое. Статьи и воспоминания. Составитель Е.В. Пастернак. - М.: Три квадрата, 2009. - 600 с.
Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В. - Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В. Очерк исследований о Б. Пастернаке // http://edu.novgorod.ru/fulltext/167/past301002.rtf
Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В. 1979-1981 - Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В. (Без указания авторства.) Заметки о пересечении биографий Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака // Память. Исторический сборник. Вып. 4. - М., 1979; Париж, 1981. - С. 282-337.
Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В. 2000 - Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В. Родственники за границей. Постскриптум к переписке Бориса Пастернака с родителями и сестрами // В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 22. - Stanford, 2000. -P. 9-37.
Пастернак Е.В. 1990a - Пастернак Е.В. «Новая фаза христианства». Значение проповеди Льва Толстого в духовном мире Бориса Пастернака // «Литературное обозрение». 1990. № 2. - С. 25-29.
Пастернак Е.В. 19906 - Пастернак Е.В. Лето 1917 года. «Сестра моя - жизнь» и «Доктор Живаго» // «Звезда». 1990. № 2. - С. 158-165.
Пастернак Е.В., 1992 - Пастернак Е.В. «Ты - царь: живи один..» // Scando-Slavica 38. 1992. - Р. 64-76.
Пастернак Е.В. 2008 - Пастернак Е.В. Опыт русского Фауста // Любовь пространства... Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. Ответственный редактор В.В. Абашев; Пермский государственный унивеситет; Институт мировой культуры Московского государственного университета; Научный совет «История мировой культуры» РАН. - М.: Языки славянской культуры, 2008. - С. 221-232.
Пастернак - Пастернак З.Н. 1993 - Пастернак Б. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания. - М.: ГРИТ; Дом-музей Пастернака, 1993. - 480 с.
Переписка 1983 - Пастернак Б. Из переписки с писателями. Предисловие и публикация Е.Б. и Е.В. Пастернаков // Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920-1930-х годов. Новые материалы и исследования. - М.: Наука, 1983. - С. 649-737.
Библиография
629
Переписка 1990а - Из переписки Б. Пастернака. Письма И.С. Буркову, Б.К. Зайцеву, письмо Н.Б. Соллогуб. Публикация, сопроводительные заметки и комментарии М.А. Рашковской // «Наше наследие», 1(13), 1990.-С. 44-48.
Переписка 19906 - Переписка Бориса Пастернака. Составление, подготовка текстов и комментарии Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернака. - М.: Художественная литература, 1990. - 575 с.
Переписка Андрея Белого и Иванова-Разумника 1998 - Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. Публикация, вступительная статья и комментарии А.В. Лаврова и Джона Мальмстада. Подготовка текста Т.В. Павловой, А.В. Лаврова и Джона Мальмстада. - СПб.: Atheneum$ Феникс, 1998.- 736 с.
Переписка с Бобровым 1996 - Борис Пастернак и Сергей Бобров: письма четырёх десятилетий. Публикация М.А. Рашковской // Встречи с прошлым. Вып. 8. - М.: Русская книга, 1996. - С. 195-309.
Переписка с Дурылиным 1990 - Две судьбы. Б.Л. Пастернак и С.Н. Дурылин. Переписка. Публикация М.А. Рашковской // Встречи с прошлым. Вып. 7. - М.: Советская Россия, 1990. - С. 366—407.
Переписка с Евгенией Пастернак 1998 - Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак (дополненная письмами к Е.Б. Пастернаку и его воспоминаниями). - М.: Новое литературное обозрение, 1998. - 592 с.
Переписка с Ломоносовыми 1994,15-17 - «Неоценимый подарок». Переписка Пастернаков и Ломоносовых (1925-1970). Публикация Кристофера Барнза и Ричарда Дэвиса. Подготовка текста П. Бутчер, Р. Дэвиса и Л. Шоррокс // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 15, 16, 17. - М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. Вып. 15. - С. 193-247; Вып. 16. - С. 150-208; Вып. 17. - С. 358—408.
Переписка с Сувчинским 1994 - Переписка П. Сувчинского и Б. Пастернака (1957-1959) // Козовой В. Поэт в катастрофе. - М.: Издательство Гнозис, Редакционно-издательская группа Логос; Paris: Institut d’etudes slaves, 1994. - C. 187-286.
Переписка с Фрейденберг 2000 - Борис Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с О.М. Фрейденберг. Составление, вступление, примечания Е.В. и Е.Б. Пастернаков. -М.: Арт-Флекс, 2000.-416 с.
Переписка с Цветаевой 2004 - Марина Цветаева. Борис Пастернак. «Души начинают видеть». Письма 1922-1936 годов. Издание подготовили Е.Б. Коркина и И.Д. Шевеленко. - М.: Вагриус, 2004. -720 с.
Переписка с Эфрон 1989 - Переписка с Борисом Пастернаком // Эфрон А. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. Составитель и автор вступительной статьи М.И. Белкина. - М.: Советский писатель, 1989. - С. 301—462.
Писемский - Писемский А.Ф. Масоны // http://www.pisemskiy.org.ru/lib/al/book/116
Письма 1990 - Позиция художника. Письма Бориса Пастернака. Письма Д.В. Петровскому, К.И. Чуковскому, Н.К. Чуковскому, К.Г. Паустовскому. Вступительная статья, публикация и примечания К.М. Поливанова. Письмо к Н.А. Павлович. Публикация Н.Г. Князевой. Вступление и примечания К.М. Азадовского. Письмо читателю. Вступительная заметка и публикация А. Семенова // «Литературное обозрение». 1990. № 2. - С. 3-17.
Письма к З.Н. Нейгауз 1993 - Письма Б.Л. Пастернака к жене З.Н. Нейгауз-Пастернак. Вступительная статья С.Л. Прокофьевой. Предисловие, составление, подготовка текстов и комментарии К.М. Поливанова. - М.: Дом, 1993. - 248 с.
Письма 1926 года 1990 - Р.М. Рильке, Б. Пастернак, М. Цветаева. Письма 1926 года. Подготовка текстов, составление, предисловие, переводы, комментарии К.М. Азадовского, Е.Б. Пастернака и Е.В. Пастернак. - М.: Книга, 1990. - 256 с.
Письма к де Пруайар 1992 - Борис Пастернак. Письма к Жаклин де Пруайар. Публикация Ж. де Пру-айар. Перевод И. Кузнецовой и Е.Б. Пастернака. Сопроводительный текст к письмам Е.В. Пастернак // «Новый мир». 1992. № 1.
630
Библиография
Поливанов М.К. 1990 - Поливанов М.К. Тайная свобода // «Литературное обозрение». 1990. № 2. -С. 103-109.
Поливанов К.М. 1992 - Поливанов К.М. Марина Цветаева в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» // «De visu». 1992. № 0. - С. 52-58.
Поливанов К.М. 1993 - Поливанов К.М. Отечественная пастернакиана за 10 лет // «Новое литературное обозрение». 1993. № 2. - С. 256-261.
Поливанов К.М. 2006 - Поливанов К.М. Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения. - М.: Издательский дом Государственный университет - Высшая школа экономики, 2006. - 272 с.
Поливанов К.М. 2008 - Поливанов К.М. О тютчевских источниках Пастернака: заметки к комментариям // И время и место. Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. - М.: Новое издательство, 2008. - С. 560-567. (Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 5.)
Померанц 1990 - Померанц Г. Неслыханная простота // «Литературное обозрение». 1990. № 2. - С. 19-24.
Пропп 1998 - Пропп В.Я. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки. (Собрание трудов В.Я. Проппа.) Комментарии Е.М. Мелетинского, А.В. Рафаевой. Составление, научная редакция, текстологический комментарий И.В. Пешкова. - М.: Лабиринт, 1998. -512 с.
ПРС 2004 - Пастернак Б. Письма к родителям и сёстрам. 1907-1960. Вступительная статья Е.Б. и Е.В. Пастернаков, комментарии и подготовка текста Е.Б. и Е.В. Пастернаков. - М.: Новое литературное обозрение, 2004. - 896 с.
Пруайар 1998 - Пруайар Ж. де. «Лицо» и «личность» в творчестве Бориса Пастернака (перевод с франц. Н.Б. Кардановой) // Пастернаковские чтения. Вып. 2. - М.: Наследие, 1998. - С. 38-62.
Пузиков 1990 - Пузиков А.И. «Небожитель». (Б.Л. Пастернак) // Ново-Басманная, 19. Вступительная статья Г. Анджапаридзе. Составление Н. Богомолова. - М.: Художественная литература, 1990. -С. 477-498.
Пуассон 2006 - Пуассон А. Теории и символы алхимиков // Книга алхимии. История, символы, практика. Составление, вступительная статья, комментарии В. Рохмистрова. - СПб.: Амфора; ТИД Амфора, 2006. - С. 89-185. (Серия «Александрийская библиотека».)
Пушкин, 1-Х - Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Издание четвёртое. - Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1977-1979.
Пушкин в воспоминаниях 1998, I-П - Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х томах. Издание третье, дополненное. Вступительная статья В.Э. Вацуро. Составление, примечания В.Э. Ва-цуро, Р.В. Иезуитовой, Я.Л. Левкович и др. - СПб.: Академический проект, 1998.
Пьеге-Гро 2008 - Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. Перевод с франц. Г.К. Коси-кова, В.Ю. Лукасик, Б.П. Нарумова. Общая редакция и вступительная статья доктора филологических наук, профессора Г.К. Косикова. - М.: Издательство ЛКИ, 2008. - 240 с.
Пятигорский 1996 - Пятигорский А.М. Пастернак и «Доктор Живаго». Субъективное изложение философии доктора Живаго // Пятигорский А.М. Избранные труды. - М.: Школа Языки русской культуры, 1996. - С. 213-230.
Пятигорский 2009 - Пятигорский А.М. Кто боится вольных каменщиков? Феномен масонства. Авторизованный перевод с англ. К. Боголюбова. Под общей редакцией К. Кобрина. - М.: Новое литературное обозрение, 2009. - 448 с.
Рабинович, 1979 - Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. - М.: Наука, 1979. -292 с.
Библиография
631
Раевская-Хьюз 1989 - Раевская-Хьюз О. О самоубийстве Маяковского в «Охранной грамоте» Пастернака // Boris Pasternak and His Times. Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak. Edited by Lazar Fleishman. - Berkeley: Slavic Specialties, 1989. - P. 141-152.
Розанов 1990 - Розанов В.В. Уединённое. - М.: Политиздат, 1990. - 543 с. (Серия «Мыслители XX века».)
Ронен 1997 - Ронен О. «Инженеры человеческих душ»: к истории изречения // Лотмановский сборник. 2. Составитель Е.В. Пермяков. - М.: О.Г.И., Издательство РГГУ, ИЦ-Гарант, 1997. - С. 393-400.
Ронен 2000 - Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. Вступительная статья Вяч. Вс. Иванова. Под ред. Е.В. Пермякова. - М.: О.Г.И., 2000. - 152 с. (Материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 4.)
Российские социалисты и анархисты - Росийские социалисты и анархисты после Октября 1917 года. История, идеи, традиции демократического социализма и судьбы участников левого сопротивления большевистскому режиму // http://socialist.memo.ru/index.htm
Рохмистров 2006 - Вступительная статья, комментарии // Книга алхимии. История, символы, практика. - СПб.: Амфора; ТИД Амфора, 2006. - С. 5-42. (Серия «Александрийская библиотека».)
РП 1992-2007,1-V - Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь в 5 томах. - М.: Научное издательство Большая Российская энциклопедия; Фианит, 1992-2007.
Руб 2007 - Руб А. Алхимия и мистицизм. Перевод с англ. А. Кондратьева. - М.: ACT, Астрель, 2007. -191 с.
Саакянц 1997 - Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. - М.: Эллис Лак, 1997. - 816 с.
Свасьян 1990 - Свасьян К.А. Фридрих Ницше: мученик познания // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Составление, редакция, вступительная статья и примечания К.А. Свасьяна. Перевод с нем. -М.: Мысль, 1990. - Т. I. - С. 5—46.
Свасьян 1993 - Свасьян К.А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. I. Гештальт и действительность. Перевод с нем., вступительная статья и примечания К.А. Свасьяна. - М.: Мысль, 1993. - С. 5-122.
Святополк-Мирский 2007 - Святополк-Мирский Д. История русской литературы с древнейших времён по 1925 год. Перевод с английского Р. Зерновой. 3-е издание. - Новосибирск: Издательство Свиньин и сыновья, 2007. - 852 с.
Сегал 2006 - Сегал Д.М. Литература как охранная грамота. - М.: Водолей Publishers, 2006. - 976 с.
Сергеева-Клятис, Смолицкий 2009 - Сергеева-Клятис А.Ю., Смолицкий В.Г. Москва Пастернака. -М.: Совпадение, 2009. - 527 с.
Сёргэй, 2008 - Сёргэй Т. «В стихах рос и творился свой Лондон...»: стиховое «диккенсианство» у раннего Пастернака // Любовь пространства... Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. Ответственный редактор В.В. Абашев; Пермский государственный унивеситет; Институт мировой культуры Московского государственного университета; Научный совет «История мировой культуры» РАН. - М.: Языки славянской культуры, 2008. - С. 95-104.
Симпличо 1989 - Симпличо Д. де. Б. Пастернак и живопись // Мир Пастернака. - М., 1989. - С. 46-54.
Синявский 1965 - Синявский А.Д. Поэзия Пастернака // Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. Составление, подготовка текста и примечания Л.А. Озерова. - М.: Советский писатель, 1965. -С. 9-62.
Синявский 1989 - Синявский А. Некоторые аспекты поздней прозы Пастернака // Boris Pasternak and His Times. Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak. Edited by Lazar Fleishman. Modern Russian Literature and Culture. Studies and Texts. Berkeley Slavic Specialties. Vol. 25.- Berkeley, CA, 1989. - P. 359-371.
632
Библиография
Смирнов 1981 - Смирнов И.П. Диахронические трансформации литературных жанров и мотивов. Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 4. - Wien: 1981. - 262 s.
Смирнов 1986 - Смирнов И.П. Творчество Андрея Белого в восприятии Пастернака И Andrej Belyj: Pro et Contra. - Milano, 1986. - P. 207-220.
Смирнов 1994 - Смирнов И.П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. - М.: Новое литературное обозрение, 1994. - 351 с.
Смирнов 1995 - Смирнов И.П. Порождение интертекста. (Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака). - СПб.: Языковой центр СПбГУ, 1995. - 192 с.
Смирнов 1996 - Смирнов И.П. Роман тайн «Доктор Живаго». - М.: Новое литературное обозрение, 1996. - 208 с. (Научное приложение. Вып. VIII.)
Смирнов 1997 - Смирнов И.П. Система фольклорных жанров (метафизика фольклора) // Лотманов-ский сборник. 2. Составитель Е.В. Пермяков. - М.: О.Г.И.; Издательство РГГУ; ИЦ-Гарант, 1997. -С. 14-38.
Смирнов 2000 - Смирнов И.П. Мегаистория. К исторической типологии культуры. - М.: Аграф, 2000. -544 с. Первая часть «Очерков по исторической типологии культуры» (с. 11-196) - «Реализм» (с. 21-97) - написана в сотрудничестве с И.Р. Деринг-Смирновой.
Смирнов 2002 - Смирнов И.П. Об агиографических и иных источниках романа Пастернака «Доктор Живаго» // Русистика. Славистика. Лингвистика. Festschrift fur Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag, hrsg. von S. Kempgen e. a. - Munchen.
Смирнов 2008a - Смирнов И.П. Олитературенное время. (Гипо)теория литературных жанров. - СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2008. - 264 с.
Смирнов 20086 - Смирнов И.П. «Доктор Живаго» в его отношении к киноискусству // Любовь пространства... Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. Ответственный редактор В.В. Абашев; Пермский государственный унивеситет; Институт мировой культуры Московского государственного университета; Научный совет «История мировой культуры» РАН. - М.: Языки славянской культуры, 2008. - С. 319-350.
Смирнов 2009 - Смирнов И.П. Видеоряд. Историческая семантика кино. - СПб.: Издательский дом Петрополис, 2009. - 404 с.
Спивак 2006 - Спивак М.Л. Андрей Белый - мистик и советский писатель. - М.: Издательство РГГУ, 2006. - 577 с.
Степун 1990 - Степун Ф. Б.Л. Пастернак // «Литературное обозрение». 1990. № 2. - С. 65-71.
Степун 1994 - Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Послесловие Ю.И. Архипова. - М.: Прогресс -Литера; СПб.: Алетейя, 1994. - 651 с.
Суханова (а) - Суханова И.А. Интермедиальные связи стихотворений Б.Л. Пастернака «Рождественская звезда» и «Магдалина» с произведениями изобразительного искусства // http://www.yspu.yar.ru/ vestnik/uchenue_praktikam/l 1_7/
Суханова (6) - Суханова И.А. Интермедиальные связи стихотворений Б.Л. Пастернака «Чудо», «Дурные дни» и «Гефсиманский сад» с произведениями изобразительного искусства // http://www. yspu.yar.ru/vestnik/uchenue_praktikam/15_9/
Суханова (в) - Суханова И.А. Некоторые интертекстуальные связи стихотворения Б. Пастернака «Дурные дни» И http://www.yspu.yar.ru/vestnik/novye_Issledovaniy/5_l/
Суханова (г) - Суханова И.А. Еще раз о лейтмотиве свечи в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» // http://www.yspu.yar.ru/vestnik/novye_Issledovaniy/21_12/
Суханова, 2005 - Суханова И.А. Структура текста романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». - Ярославль: Издательство Ярославского государственного педагогического университета, 2005. -147 с.
Библиография
633
Такер 2006 - Такер Р. Сталин. История и личность: Путь к власти. 1879-1929; У власти. 1928-1941. Перевод с англ. Т.П. Бляблина, А.Э. Габриэлян, А.К. Зура, М.М. Кобрина, А.А. Обухова, Р.Ю. Руденко. - М.: Издательство Весь Мир, 2006. - 864 с.
Тарасенков 1990 - Тарасенков А. Пастернак. Черновые записи 1934-1939 // «Вопросы литературы». 1990. №2.-С. 73-107.
Тарасов 1990 - Тарасов Б. Чаадаев. - М.: Молодая гвардия, 1990. - 576 с.
ТБ 1987,1-3,1-XI - Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Издание преемников А.П. Лопухина. - Петербург: 1904-1913. Второе издание - Институт перевода Библии. Стокгольм: 1987. Т. 1-3 (Т. I-XI первого издания).
Теософия в России - Теософия в России. Франц Хартманн // http://www.theosophy.ru/hartmann.htm Тименчик 1987 - Тименчик Р.Д. К символике трамвая в русской поэзии // Символ в системе культуры.
Учёные записки Тартуского государственного университета. Вып. 754. Труды по знаковым системам XXI. - Тарту, 1987. - С. 135-143.
Толстой 1985 - Толстой Л.Н. «Анна Каренина». Роман в восьми частях. - М.: Художественная литература, 1985. - 766 с.
Толстой И. 2009 - Толстой И.Н. Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ. -М.: Время, 2009. - 496 с.
Топоров 1995 - Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. - М.: Издательская группа Прогресс - Культура, 1995. - 624 с.
Топоров 2000 - Топоров В.Н. Поэзия и проза В.А. Комаровского. Глава из истории русской литературы начала века // Комаровский В. Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии. Составление И.В. Булатовского, И.Г. Кравцовой, А.Б. Устинова. Комментарии И.В. Булатовского, М.Л. Гаспарова, А.Б. Устинова. - СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2000. - С. 264-431.
Троцкий 1994 - Троцкий С.В. Воспоминания. Публикация и примечания А.В. Лаврова // «Новое литературное обозрение». 1994. № 10. - С. 41-87.
Трубецкая 2008 - Трубецкая Л. Волшебство или маскировка? Понятие мимикрии у Пастернака и Набокова // Любовь пространства... Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. Ответственный редактор В.В. Абашев; Пермский государственный унивеситет; Институт мировой культуры Московского государственного университета; Научный совет «История мировой культуры» РАН. -М.: Языки славянской культуры, 2008. - С. 253-259.
ТУниманов 2004 - Достоевский, Б.Л. Пастернак, В.Т. Шаламов: скрещенье судеб, поэтических мотивов, метафор (I. «Воздух» и работа на «чистом воздухе»; II. Молитва, искусство, природа) // Туни-манов В.А. Ф.М. Достоевский и русские писатели XX века. - СПб.: Наука, 2004. - С. 272-379.
Тынянов 1977 - Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. Издание подготовили Е.А. Тод-дес, А.П. Чудаков, М.О. Чудакова. - М.: Наука, 1977. - 575 с.
Тютчев, I-II - Тютчев Ф.И. Лирика. В двух томах. Издание подготовил К.В. Пигарев. - М.: Наука, 1966. (Серия «Литературные памятники».)
Уайт 2003 - Уайт А.Э. Новая энциклопедия масонства (великого искусства каменщиков) и родственных таинств: их ритуалов, литературы и истории. Перевод с англ.: С.Б. Квиткин, В.В. Кирющен-ко, М.В. Колопотин (Энциклопедия), А.Б. Гузман (Приложение). - СПб. - М. - Краснодар: Лань, 2003.-480 с.
Ужаревич 2006 - Ужаревич Й. Женское начало в лирике Бориса Пастернака // Eternity’s Hostage. Selected Papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak, May, 2004. In Honor of Evgeny Pasternak and Elena Pasternak. Edited by Lazar Fleishman. Part I, II. Stanford Slavic Studies. Vol. 31 : 1, 2. - Stanford, 2006. - Part I. P. 174-192.
Уилмхерст 2001 - Уилмхерст УЛ. Масонское посвящение. - М.: Сфера, 2001. - 304 с.
634
Библиография
Указатель 1995 - Русские писатели и поэты. Советский период. Биобиблиографический указатель. 18. Б. Пастернак. - СПб., 1995. - 473 с.
Успенский 1995 - Успенский Б.А. Семиотика искусства. - М.: Школа Языки русской культуры, 1995.-360 с.
Фарыно 1990 - Faryno J. Княгиня Столбунова-Энрици и её сын Евграф. (Археопоэтика «Доктора Живаго». 1) // Поэтика Пастернака. Pasternak’s poetics, Studia filologiczne, Zeszyt 31 (12). Filologia Rosyjska. Pod. ed. Anny Majmieskulow. - WSP Bydgoszcz, 1990. - C. 155-219.
Фатеева 2003 - Фатеева H.A. Поэт и проза: Книга о Пастернаке. Предисловие И.П. Смирнова. - М.: Новое литературное обозрение, 2003. - 400 с. (Научное приложение. Вып. XXX.)
Фатеева 2007 - Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов: контрапункт интертекстуальности. Издание 3-е, стереотипное. - М.: КомКнига, 2007. - 280 с.
Фёдоров 1979 - Фёдоров А.В. Стиль и композиция прозы Анненского // Анненский И. Книги отражений. Издание подготовили Н.Т. Ашимбаева, И.И. Подольская, А.В. Фёдоров. - М.: Наука, 1979. -С. 543-576. (Серия «Литературные памятники».)
Фёдоров 1990 - Фёдоров А.В. Иннокентий Анненский - лирик и драматург // Анненский И. Стихотворения и трагедии. Издание третье. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания А.В. Федорова. - Л.: Советский писатель, 1990. - С. 5-50. («Библиотека поэта». Большая серия.)
Флейшман 2000 - Флейшман Л. Ещё о Пастернаке и Сталине: К публикации А.Ю. Галушкина // В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 22. -Stanford, 2000. - P. 66-86.
Флейшман 2003a - Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. - СПб.: Академический проект, 2003.-464 с.
Флейшман 20036 - Флейшман Л. Свободная субъективность // Пастернак Б. Полное собрание сочинений с приложениями. В одиннадцати томах. Составление и комментарии Е.Б. Пастернака и Е.В. Пастернак. - М.: СЛОВО/SLOVO, 2003. - Т. I. - С. 5-60.
Флейшман 2005 - Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. - СПб.: Академический проект, 2005. - 656 с.
Флейшман 2006 - Флейшман Л. От Пушкина к Пастернаку. Избранные работы по поэтике и истории русской литературы. - М.: Новое литературное обозрение, 2006. - 784 с.
Флейшман 2006а - Флейшман Л. Сердечная смута поэта // Eternity’s Hostage. Selected Papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak, May, 2004. In Honor of Evgeny Pasternak and Elena Pasternak. Edited by Lazar Fleishman. Part I, II. Stanford Slavic Studies. Vol. 31 : 1,2.- Stanford, 2006. - Part II. P. 548-654.
Флейшман 2009 - Флейшман Л. Встреча русской эмиграции с «Доктором Живаго»: Борис Пастернак и «холодная война». Stanford Slavic Studies. Vol. 38. - Stanford, 2009. - 499 p.
Флоренский 2000 - Священник Павел Флоренский. Сочинения в четырёх томах. - М.: Мысль, 2000. Т. 3 (1) «У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики)» - составление игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачёвой; вступительная статья «История создания цикла «У водоразделов мысли» (с. 5-24).
Франк 1959 - Франк В. Реализм четырёх измерений (Перечитывая Пастернака) // Мосты. 1959. № 2. -С. 189-209. (Перепечатано в сборнике: Франк В. Избранные статьи. - Лондон, 1974. - С. 62-85.)
Франк 1990 - Франк В.С. «Водяной знак». Поэтическое мировоззрение Пастернака // «Литературное обозрение». 1990. № 2. - С. 72-77.
Фрейденберг 1997 - Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. Подготовка текста и общая редакция Н.В. Брагинской. - М.: Лабиринт, 1997. - 448 с.
Библиография
635
Фроловская 2008 - Фроловская Т.Л. Евразийское мировоззрение Пастернака // Любовь пространства... Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. Ответственный редактор В.В. Абашев; Пермский государственный унивеситет; Институт мировой культуры Московского государственного университета; Научный совет «История мировой культуры» РАН. - М.: Языки славянской культуры, 2008. -С. 283-293.
Фуко 1997 - Фуко М. История безумия в классическую эпоху. - СПб., 1997. - 576 с.
Хворостьянова 1999 - Хворостьянова Е.В. Мистификация в творческой автобиографии (Марина Цветаева - Андрей Белый) // Москва и «Москва» Андрея Белого. Сборник статей. Отв. ред. М.Л. Гаспаров. Сост. М.Л. Спивак, Т.В. Цивьян. - М.: Издательский центр РГГУ, 1999. - С. 317— 348.
Хлебников, I-III - Хлебников В. Собрание сочинений в трёх томах. - СПб.: Гуманитарное агентство Академический проект, 2001.
Христианство 1993-1995,1-III - Христианство. Энциклопедический словарь в трёх томах. - М.: Научное издательство Большая российская энциклопедия, 1993-1995.
Цветаева, I-VII - Цветаева М. Собрание сочинений в семи томах. Составление, подготовка текста и комментарии А. Саакянц и Л. Мнухина. - М.: Эллис Лак, 1994-1995.
Чаадаев 1991,1-II - Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1,2. Новые переводы с французского Д.И. Шаховского, Л.З. Каменской, М.П. Лепехина, В.В. Сапова. Составление и комментарии С.Г. Блинова, Л.З. Каменской, З.А. Каменского, М.П. Лепехина, В.В. Сапова, М.И. Чемерисской. Ответственный редактор и автор вступительной статьи д.ф.н. З.А. Каменский. - М.: Наука, 1991.
Черняк 1990 - Черняк Е. Из воспоминаний // «Вопросы литературы». 1990. № 2. - С. 50-72.
Чудакова 1988 - Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. - М.: Книга, 1988. - 496 с.
Чудакова 1995 - Чудакова М.О. Пушкин у Булгакова и «соблазн классики» // Лотмановский сборник. 1. Редактор-составитель Е.В. Пермяков. - М.: ИЦ-Гарант, 1995. - С. 538-567.
Чуковская 1990 - Чуковская Л. Из дневниковых записей. Примечания К.М. Поливанова // «Литературное обозрение». 1990. № 2. - С. 90-95.
Чуковская 1997,1-III - Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой в трёх томах. Издание пятое, исправленное и дополненное. - М.: Согласие, 1997.
Шаламов 1989 - Шаламов В. «Новая проза». Публикация И.П. Сиротинской // «Новый мир». 1989. № 12.
Шапир 2004 - Шапир М. «...А ты прекрасна без извилин...» Эстетика небрежности в поэзии Пастернака // «Новый мир». 2004. № 7.
Швейцер 1992 - Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. - М.: СП Интерпринт, 1992. - 544 с.
Шолохов, I-VIII - Шолохов М. Собрание сочинений в восьми томах. - М.: Правда, 1962-1968. (Библиотека «Огонёк».)
Шпенглер, I-II - Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. I. Гештальт и действительность. Перевод с нем., вступительная статья «Освальд Шпенглер и его реквием по Западу» (с. 5-122) и примечания К.А. Свасьяна. - М.: Мысль, 1993. - 668 с. Т. II. Всемирно-исторические перспективы. Перевод с нем. и примечания И.И. Маханькова.-М.: Мысль, 1998. - 608 с.
Щеглов 1995а - Щеглов Ю.К. О романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». Комментарии к роману «Двенадцать стульев» // Ильф И., Петров Е. «Двенадцать стульев». Щеглов Ю.К. Комментарии к роману «Двенадцать стульев». - М.: Панорама, 1995. - С. 7-104, 427-653.
Щеглов 19956 - Щеглов Ю.К. Комментарии к роману «Золотой телёнок» // Ильф И., Петров Е. «Золотой телёнок». Щеглов Ю.К. Комментарии к роману «Золотой телёнок». - М.: Панорама, 1995. -С. 329-605.
636
Библиография
Щеглов 1998 - Щеглов Ю.К. О некоторых спорных чертах поэтики позднего Пастернака. (Авантюрно-мелодраматическая техника в «Докторе Живаго») // Пастернаковские чтения. Вып. 2. - М.: Наследие, 1998. - С. 171-203.
Эванс-Ромейн 2008 - Эванс-Ромейн К. Об одном романтическом подтексте романа «Доктор Живаго» // И время и место. Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. - М.: Новое издательство, 2008. - С. 568-575. (Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 5.)
Эйхенбаум 1969 - Эйхенбаум Б.М. О поэзии. - Л.: Ленинградское отделение издательства Советский писатель, 1969. - 552 с.
Эткинд А. 1998 - Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. - М.: Новое литературное обозрение, 1998. - 688 с.
Эткинд А. 2001 - Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. - М.: Новое литературное обозрение, 2001. - 496 с. (Научное приложение. Вып. XXIX.)
Эткинд Е. 1995 - Эткинд Е. Там, внутри. О русской поэзии XX века. - СПб.: Максима, 1995. - 568 с.
Юнг 1996 - Юнг К.Г. Собрание сочинений. Дух Меркурий. Перевод с нем. - М.: Канон, 1996. - 384 с. (Серия «История психологии в памятниках».)
Юнг 2008 - Юнг К.Г. Психология и алхимия. Перевод с англ. С. Удовика. - М.: ACT; ACT МОСКВА, 2008. - 603 с.
Юнг 2009 - Юнг К.Г. Эон. Перевод с нем. М.А. Собуцкого. - М.: ACT; ACT МОСКВА, 2009. - 411 с.
Юнггрен 1982 - Юнггрен А. О поэтическом генезисе «Доктора Живаго» И Studies in Twentieth Century Russian Prose. Edited by Nils Ake Nillson. - Stockholm: Almquist & Wiksell International, 1982. -P. 228-249.
Ютен 2005 - Ютен С. Жизнь алхимиков в Средние века. Перевод, вступительная статья В.Д. Балакина. - М.: Молодая гвардия; Палимпсест, 2005. - 245 с.
Якобсон 1987 - Якобсон P.O. Работы по поэтике. Вступительная статья доктора филологических наук Вяч. Вс. Иванова. Составление, общая редакция доктора филологических наук М.Л. Гаспарова. -М.: Прогресс, 1987. - С. 324-338.
Ямпольский 1998 - Ямпольский М. Беспамятство как исток. (Читая Хармса). - М.: Новое литературное обозрение, 1998. - 384 с. (Научное приложение. Вып. XI.)
Янгфельдт 1991 - Янгфельдт Б. Любовь это сердце всего. В.В. Маяковский и Л.Ю. Брик. Переписка 1915-1930. - М.: Книга, 1991. - 287 с.
Angeloff 1968 - Angeloff A. Water Imagery in the Novel Doctor Zhivago // Russian Language Journal, XXII, 1968, № 81/82.-P. 6-13.
Barnes 1972 - Barnes C.J. Boris Pasternak and Rainer Maria Rilke: Some Missing Links 11 Forum for Modem Language Studies 8. № 1, January, 1972. - P. 61-78.
Barnes 1989,1; 1998, II - Barnes C.J. Boris Pasternak. A literary biography. Vol. I, 1890-1928. - 508 p. Vol. II, 1928-1960. - 491 p. - London: Cambridge University Press, 1989, 1998.
Barnes 1990 - Barnes C.J. Pasternak, Dickens and the novel tradition I I Forum for Modem Language Studies 26. №4. 1990.-P. 326-341.
Berlin 1980 - Berlin I. Meetings with Russian Writers in 1945 and 1956 I I Berlin I. Personal Impressions. Edited by Henry Hardy. Introduction by Noel Anman. - London: Hogarth Press, 1980. - P. 156-200.
Bethea 1989 - Bethea D. The Shape of Apocalypse in Modern Russian Fiction. - Princeton: Princeton University Press, 1989.
Bird 2009 - Bird R. The Aesthetic Interval in Doctor Zhivago I I The Life of Boris Pasternak’s Doctor Zhivago. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies, Vol. 37. - Stanford, 2009. - P. 185-200.
Библиография
637
Bodin 1976а - Bodin Р.А. Nine Poems from «Doctor Zhivago»: A Study of Christian Motifs in Boris Pasternak’s Poetry. Stockholm Studies in Russian Literature, № 6. - Stockholm: Almquist & Wiksell International, 1976. - 176 p.
Bodin 1976b - Bodin P.A. Pasternak and Christian Art // Boris Pasternak. Essays. Edited by Nils Ake Nillson. Stockholm Studies in Russian Literature, № 7. - Stockholm: Almquist & Wiksell International, 1976. -P. 203-214.
Brown 1982 - Brown E. J. Russian Literature Since the Revolution. Revised and enlarged edition. - Cambridge, Mass., 1982.-P. 215-221.
Canningham 2002 - Canningham V. Reading after Theory. - Oxford, 2002.
Cassedy 1999 - Cassedy S. The European Context of the Early Pasternak I I Poetry and Revolution: Boris Pasternak’s My Sister Life. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 21. - Stanford, 1999. - P. 9-25.
Cornwell 1986 - Cornwell N. Pasternak’s Novel: Perspectives on «Doctor Zhivago». Essays in Poetics Publications, № 2. - Keele (England): Department of Russian Studies, Keele University, 1986. - 165 p.
Davidson 2009 - Davidson P. C.M. Bowra’s «Overestimation» of Pasternak and the Genesis of «Doctor Zhivago» // The Life of Boris Pasternak’s Doctor Zhivago. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 37. - Stanford, 2009. - P. 42-69.
Depretto 2006 - Depretto С. Пастернак и русские формалисты И Eternity’s Hostage. Selected Papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak, May, 2004. In Honor of Evgeny Pasternak and Elena Pasternak. Edited by Lazar Fleishman. Part I, II. Stanford Slavic Studies. Vol. 31 : 1,2.-Stanford, 2006. - Part I. - P. 206-226.
Dyck 1972 - Dyck J.W. Boris Pasternak. Twayne’s World Author Series, № 225. - New York: Twayne Publishers, 1972. - 208 p.
Evans-Romain 1997 - Evans-Romain K. Boris Pasternak and the tradition of German Romanticism. -Munchen, 1997. - P. 68-69, 190-198.
Fleishman 1990 - Fleishman L. Boris Pasternak: The Poet and His Politics. - Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 1990. - 359 p.
Fleishman, Harder, Dorzweiler 1996,1-II - Fleishman L., Harder H.-В., Dorzweiler S. Boris Pasternaks Lehijahre. Неопубликованные философские конспекты и заметки Бориса Пастернака. Stanford Slavic Studies. Vol. 11 : 1, 2. - Stanford, 1996. - 398, 402 p.
Fortin 1974 - Fortin R.E. Home and the Uses of Creative Nostalgia in Doctor Zhivago // Modem Fiction Studies. № 20 (Summer), 1974. - P. 203-209.
France 1990 - France P. Pasternak and the English Romantics // Forum for Modem Language Studies. Vol. 26, №4, 1990.-P. 315-325.
Gifford 2003 - Gifford H. Pasternak. A Critical Study. - London: Bristol Classical Press, 2003. - 280 p.
Hampshire 1978 - Hampshire S. Doctor Zhivago'. As from a Lost Culture I I Pasternak. A Collection of Critical Essays. Edited by Victor Erlich. - Englewood Cliffs, New Jersey: A Spectrum Book; Prentice-Hall, Inc., 1978. -P. 126-130.
Hayward 1958 - Hayward M. Pasternak’s «Dr. Zhivago» 11 Encounter, 10. № 5, May, 1958. - P. 38^48.
Hughes O. 1974 - Hughes O.R. The Poetic World of Boris Pasternak. Princeton Essays in European and Comparative Literature. - Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1974. - 192 p.
Hughes R. 1989 - Hughes R. Nabokov Reading Pasternak I I Boris Pasternak and His Times. Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak. Edited by Lazar Fleishman. Modem Russian Literature and Culture. Studies and Texts. № 25. - Berkeley, 1989. - P. 153-170.
Jackson 1963 - Jackson R.L. The Symbol of the Wild Duck in Dr. Zhivago I I Comparative Literature. Vol. XV, № 1, 1963. - P. 39-45.
638
Библиография
Jackson 1978 - Jackson R.L. Doctor Zhivago: Liebestod of the Russian Intelligentsia I I Pasternak. A Collection of Critical Essays. Edited by Victor Erlich. - Englewood Cliffs, New Jersey: A Spectrum Book; Prentice-Hall, Inc., 1978.-P. 137-150.
Jones 1979 - Jones D.L. History and Chronology in Pasternak’s Doctor Zivago // Slavic and East European Journal, 23. 1979. - P. 160-163.
Kermode 1962 - Kermode F. Pasternak// Puzzles and Epiphanies: Essays and reviews 1958-1961. - London, 1962. - P. 108-120.
Kermode 1966 - Kermode F. The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction. - Oxford, 1966.
Lilly 1981 - Lilly I.K. Moscow as City and Symbol in Pasternak’s Doctor Zhivago // Slavic Review, 40 (Summer). 1981. - P. 241-250.
Livingstone 1967 - Livingstone A. Allegory and Christianity in «Doctor Zhivago» // Melbourne Slavonic Studies, 1, 1967. - P. 24-33.
Livingstone 1975 - Livingstone A. Pasternak i Rilke 11 Boris Pasternak, 1890-1960. Colloque de Cerisy-la-Salle (11-14 septembre 1975). - P. 431^139.
Livingstone 1978 - Livingstone A. Pasternak’s Last Poetry // Pasternak. A Collection of Critical Essays. Edited by Victor Erlich. - Englewood Cliffs, New Jersey: A Spectrum Book; Prentice-Hall, Inc., 1978. -P. 166-175.
Livingstone 1989 - Livingstone A. Boris Pasternak. «Doctor Zhivago». - Cambridge: Cambridge University Press, 1989. - 118 p. (Landmarks of world literature.)
Livingstone 1990 - Livingstone A. Unexpected Affinities between Doctor Zhivago and Chevengur 11В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 22. -Stanford, 2000. - P. 184-205.
Livingstone 1994 - Livingstone A. A Transformation of Goethe’s Faust. (Remarks on Pasternak’s translation of Faust, with Survey of the Criticism) I I Themes and Variations: In Honor of Lazar Fleishman. I Темы и вариации: Сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана. Edited by Konstantin Poli-vanov, Irina Shevelenko, Andrey Ustinov. Stanford Slavic Studies. Vol. 8.- Stanford, 1994.- P. 81-92.
Mallac 1983 - Mallac G. de. Boris Pasternak. His Life and Art. Foreword by Rimvydas Silbajoris. - London: A Condor Book; Souvenir Press (Educational & Academic) Ltd., 1983. - 450 p.
Masing-Delic 1979 - Masing-Delic I. Some Allusions to «Besy» in «Doctor Zivago» // Bulletin of the International Dostoevsky Society, 8. 1979. - P. 31^11.
Masing-Delic 1981 - Masing-Delic I. Zhivago as Fedorovian Soldier I I Russian Review, 40. 1981. - P. 300-316.
Matich 1999 - Matich O. «Doktor Zivago». Voyeurism and Shadow Play as Narrative // Die Welt der Slaven, XLIV 1999 -P. 201-212.
Milosz 1977 - Milosz Ch. On Pasternak Soberly I I Emperor of the Earth: Modes of Eccentric Vision. - Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1977. - P. 62-78.
Mossman 1986 - Mossman E. Metaphors of History in ‘War and Peace’ and ‘Doctor Zhivago’ I I Literature and History. Theoretical Problems and Russian Case Studies. Edited by Gary Saul Morson. - Stanford, CA: Stanford University Press, 1986. - P. 247-262.
Payne 1963 - Payne R. The Three Worlds of Boris Pasternak. - Bloomington: Indiana University Press; First Midland Book; Coward - McCann, Inc., 1963. - 222 p.
Platt 1999 - Platt K.F.M. Revolution and the Shape of Time in «My Sister Life» I I Poetry and Revolution: Boris Pasternak’s My Sister Life. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 21. - Stanford, 1999. - P. 123-147.
Rogers 1974 - Rogers T.F. The Implications of Christ’s Passion in Doctor Zivago I I Slavic and East European Journal. Vol. 18, № 4. 1974. - P. 384-391.
Библиография
639
Rowland M.F., Rowland P. 1967 - Rowland M.F., Rowland P. Pasternak’s Doctor Zhivago. With a preface by H.T. Moore. - Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press; London and Amsterdam: Feffer & Simons, Inc., 1967. - 216 p.
Ruge 1959 - Ruge G. Pasternak. A pictorial biography. - New York; Toronto; London: McGraw - Hill Book Company Inc.; Thames and Hudson, 1959. - 143 p.
Scherr 1974 - Scherr B.P. The Structure of Doctor Zhivago I I Proceedings of the Northwest Conference on Foreign Languages. Edited by Walter Kraft. Vol. 25, part 1. - Corvalis: Oregon State University Press, 1974. - P. 274-279.
Seifrid 2009 - Seifrid T. Razgovor vpolgolosa: Pasternak’s Novel, Its Discourse, and Its Times I I The Life of Boris Pasternak’s Doctor Zhivago. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 37. - Stanford, 2009. - P. 173-184.
Sendich 1994 - Sendich M. Boris Pasternak: a reference guide. (A Reference Guide to Literature) - New York: G.K. Hall & Co. An Imprint of Macmillan Publishing Company, 1994. - 376 p.
Steussy 1959 - Steussy R.E. The Myth Behind Dr. Zhivago // Russian Review, 18. 1959. - P. 184-198.
Struve 1962 - Struve G. Sense and Nonsense about Doctor Zhivago I I Studies in Russian and Polish Literature. In Honor of Waclaw Lednicki. Edited by Zbigniew Folejewski. Slavistic Printing and reprinting, 27. -Hague: Mouton, 1962. - P. 229-250.
Struve 1970 - Struve G. The Hippodrome of Life: The Problem of Coincidences in Doctor Zhivago // Symposium in Memory of Boris Pasternak (1890-1960). Books Abroad, № 44. 1970. - P. 231-236.
Wilson 1958 - Wilson E. Doctor Life and his Guardian Angel 11 New Yorker, 34, November 15. 1958. -P. 201-226.
Wilson 1959 - Wilson E. Legend and Symbol in Doctor Zhivago // Nation 188, № 17, April 25. 1959. -P. 263-273.
Witt 2009 - Witt S. «Nature» in Doctor Zhivago I I The Life of Boris Pasternak’s Doctor Zhivago. Edited by Lazar Fleishman. Stanford Slavic Studies. Vol. 37. - Stanford, 2009. - P. 156-172.
Научное издание
Сергей Глебович Буров
Игры смыслов у Пастернака
ISBN 978-5-91172-046-9
Издательский центр «Азбуковник»
110180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 50/1, стр. 2
Формат 70x90/16. Усл. печ. л. 46,8. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 1000 экз. Заказ № 1324
Отпечатано в ООО «Чебоксарская типография № 1» 428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.
СЕРГЕЙ
БУРОВ
Доктор филологических наук. Автор книг «Сказочные ключи к «Доктору Живаго» (2007) «Пастернак и Чаадаев» (2009) Его работы отличает тонкая стилистика исследования, глубина и масштабность идеи.
Книга «Игры смыслов у Пастернака» посвящена выявлению в романе «Доктор Живаго» интертекстуальных следов произведений широкого круга авторов.
Эта работа позволяет по-новому взглянуть на творческую лабораторию Пастернака, поразмышлять над тем, как, проживая смыслы, он играл ими.