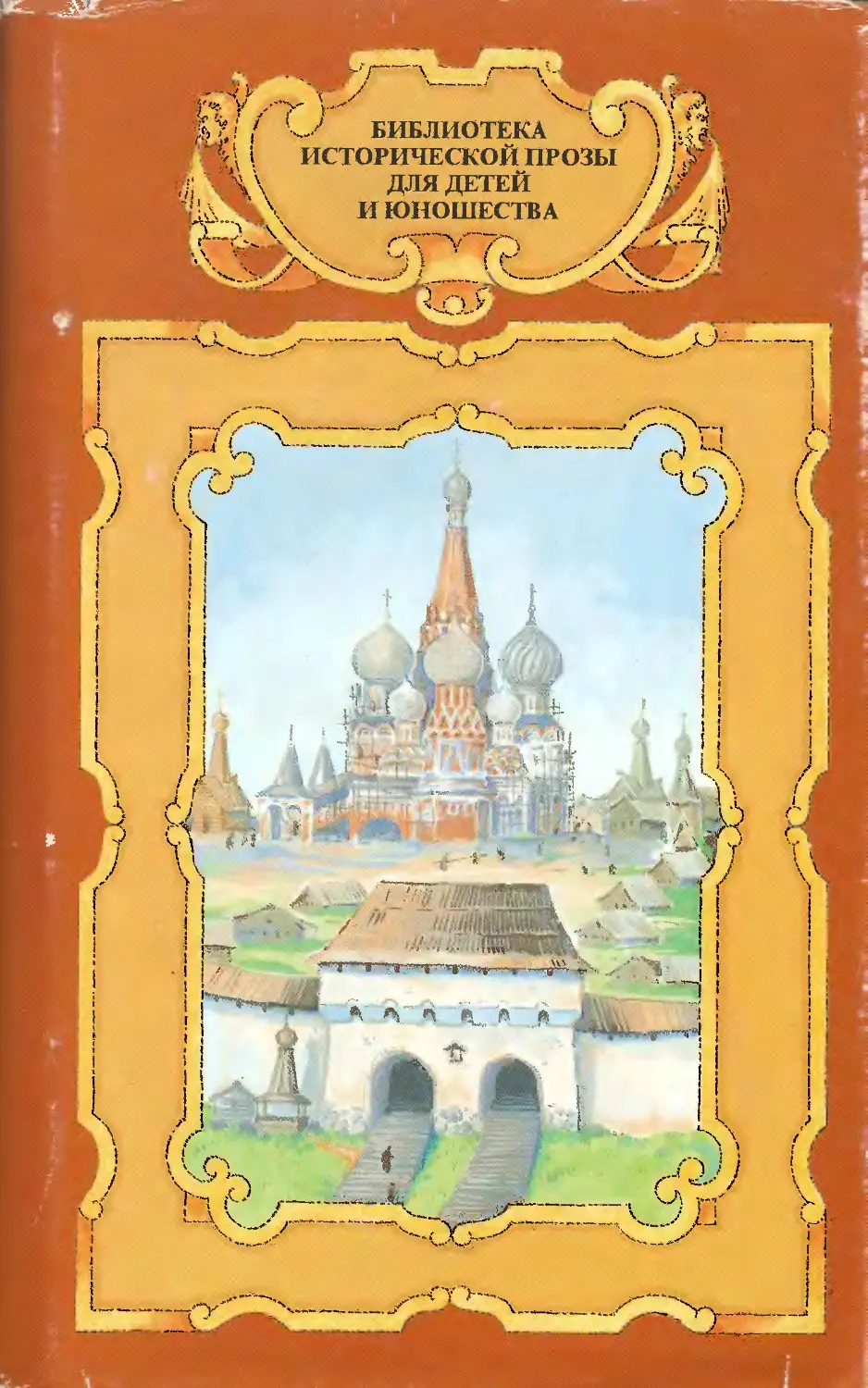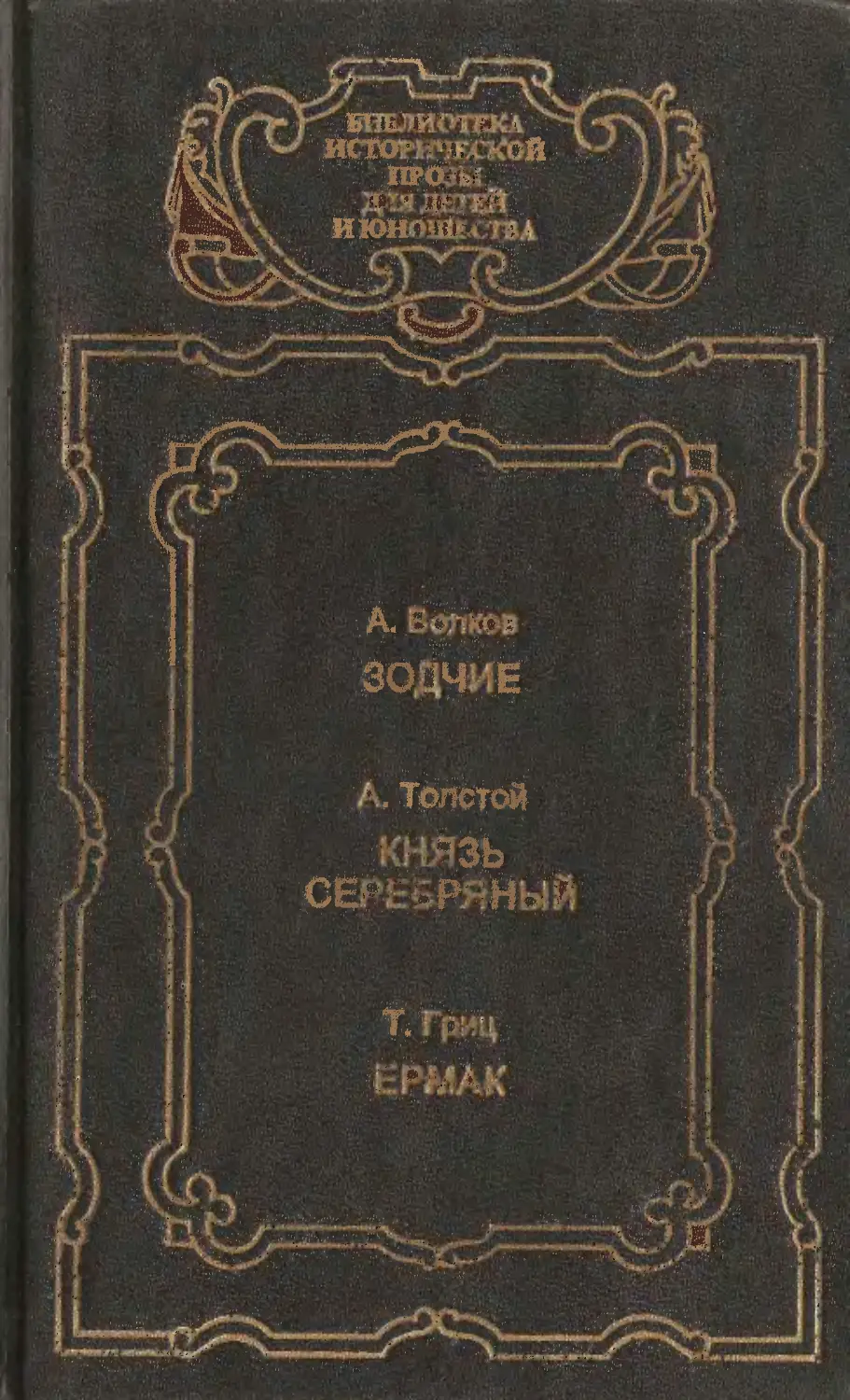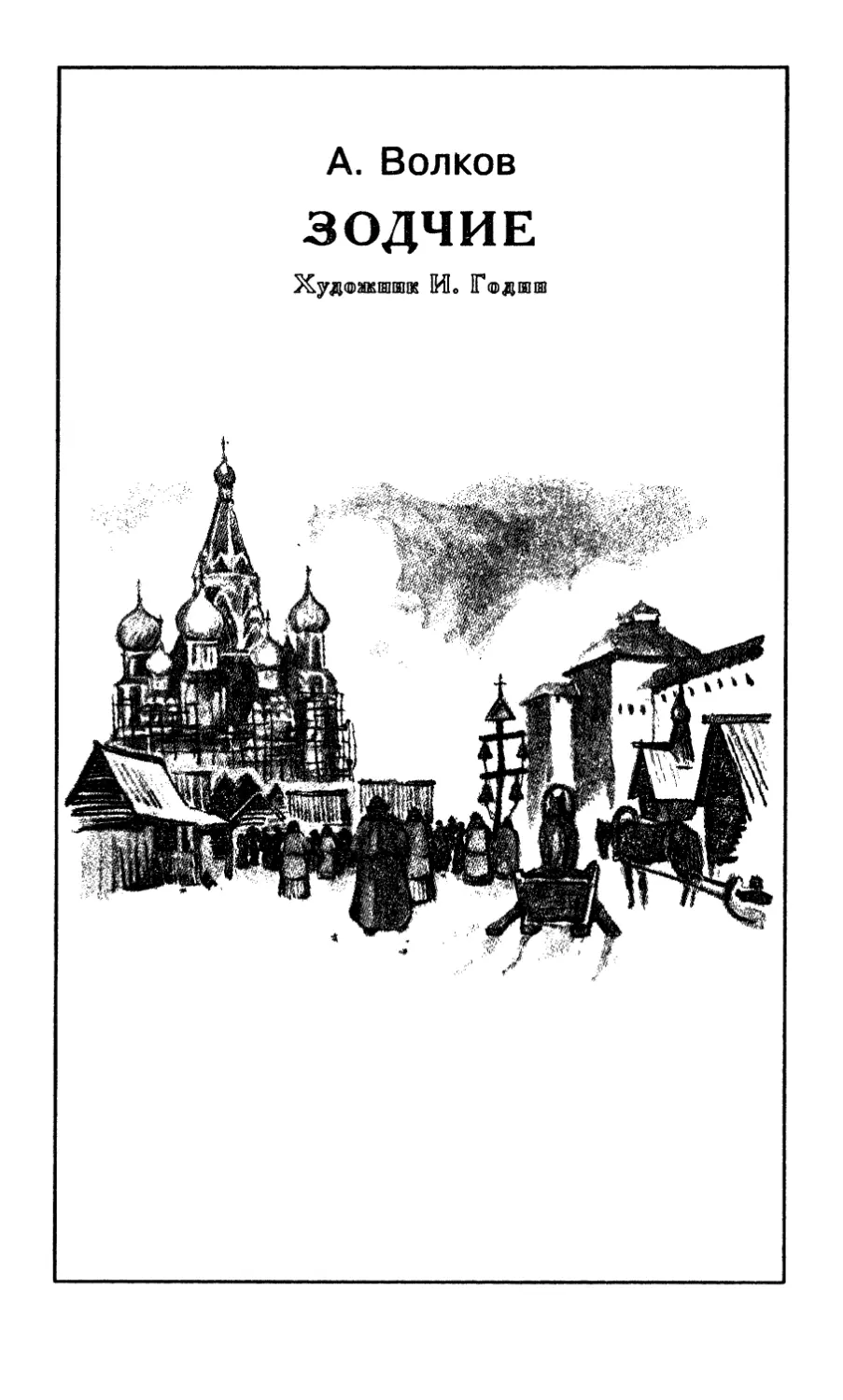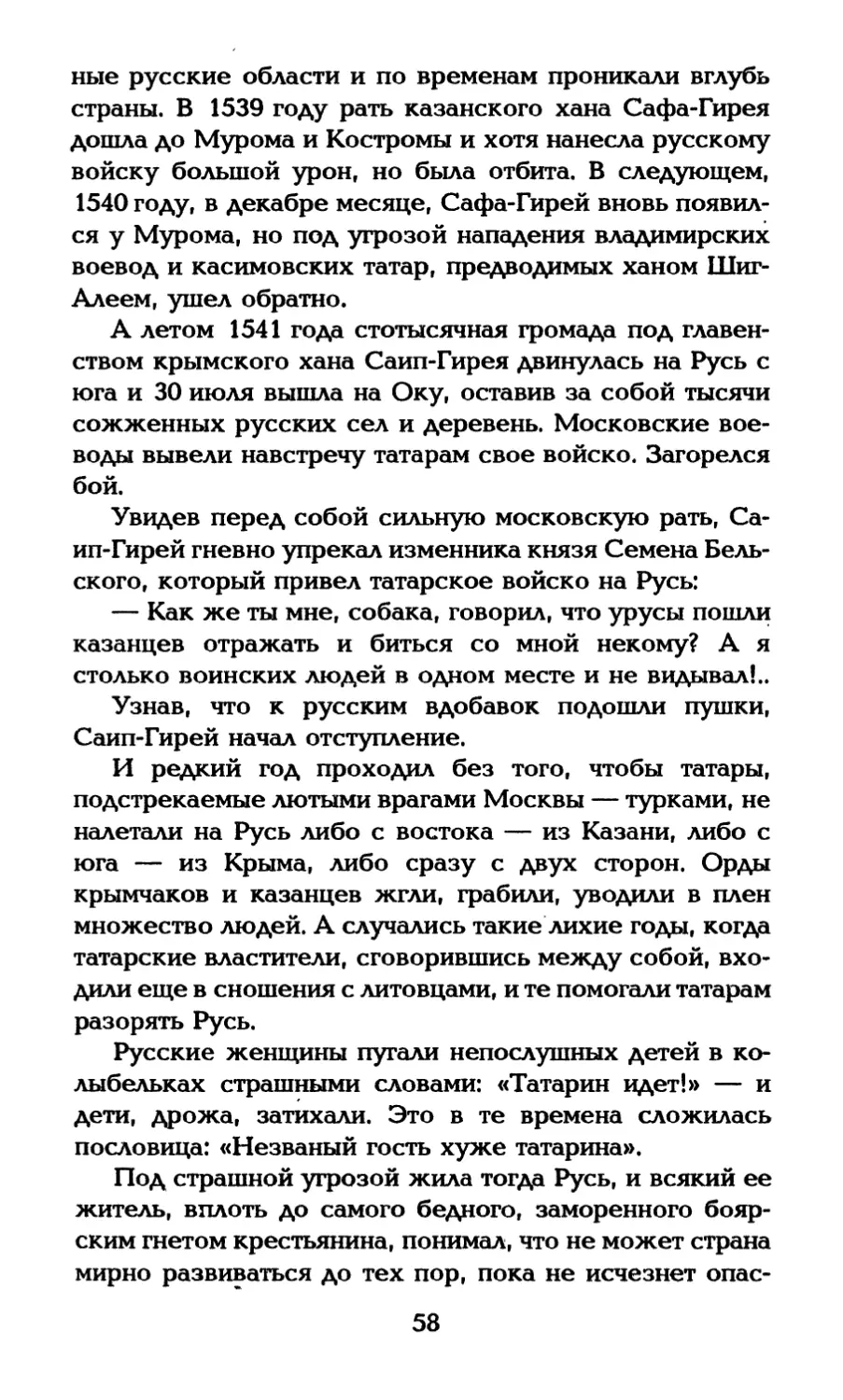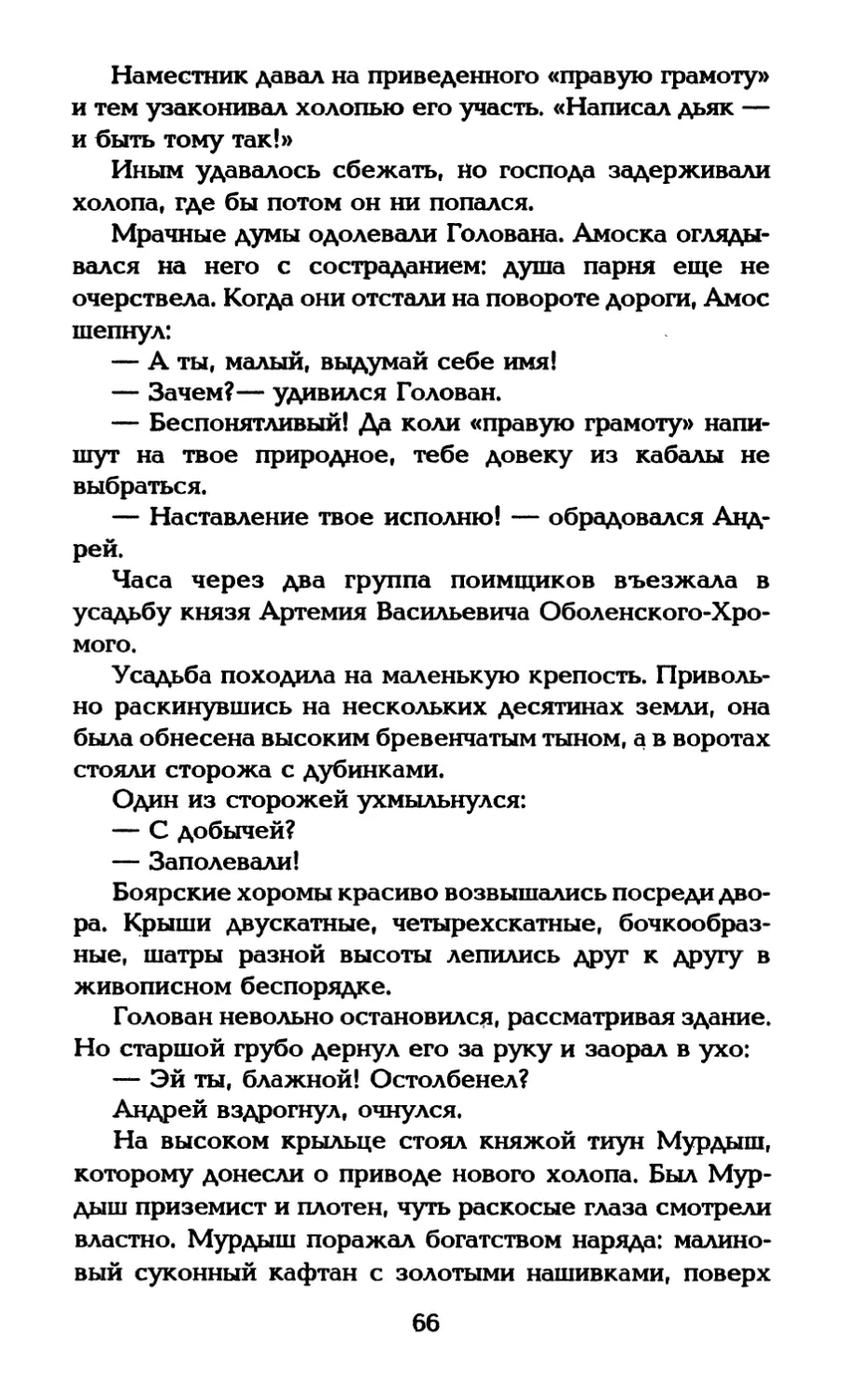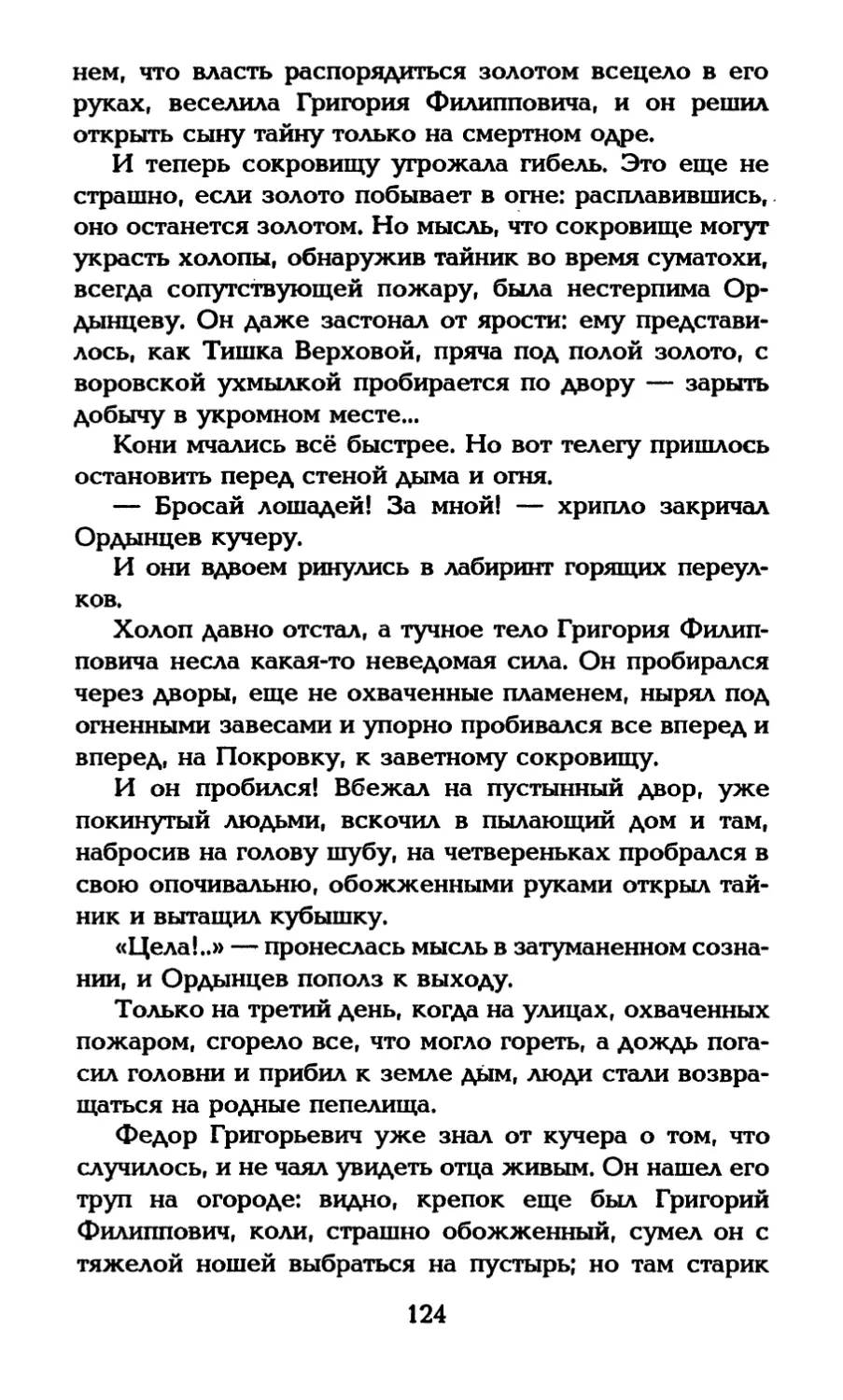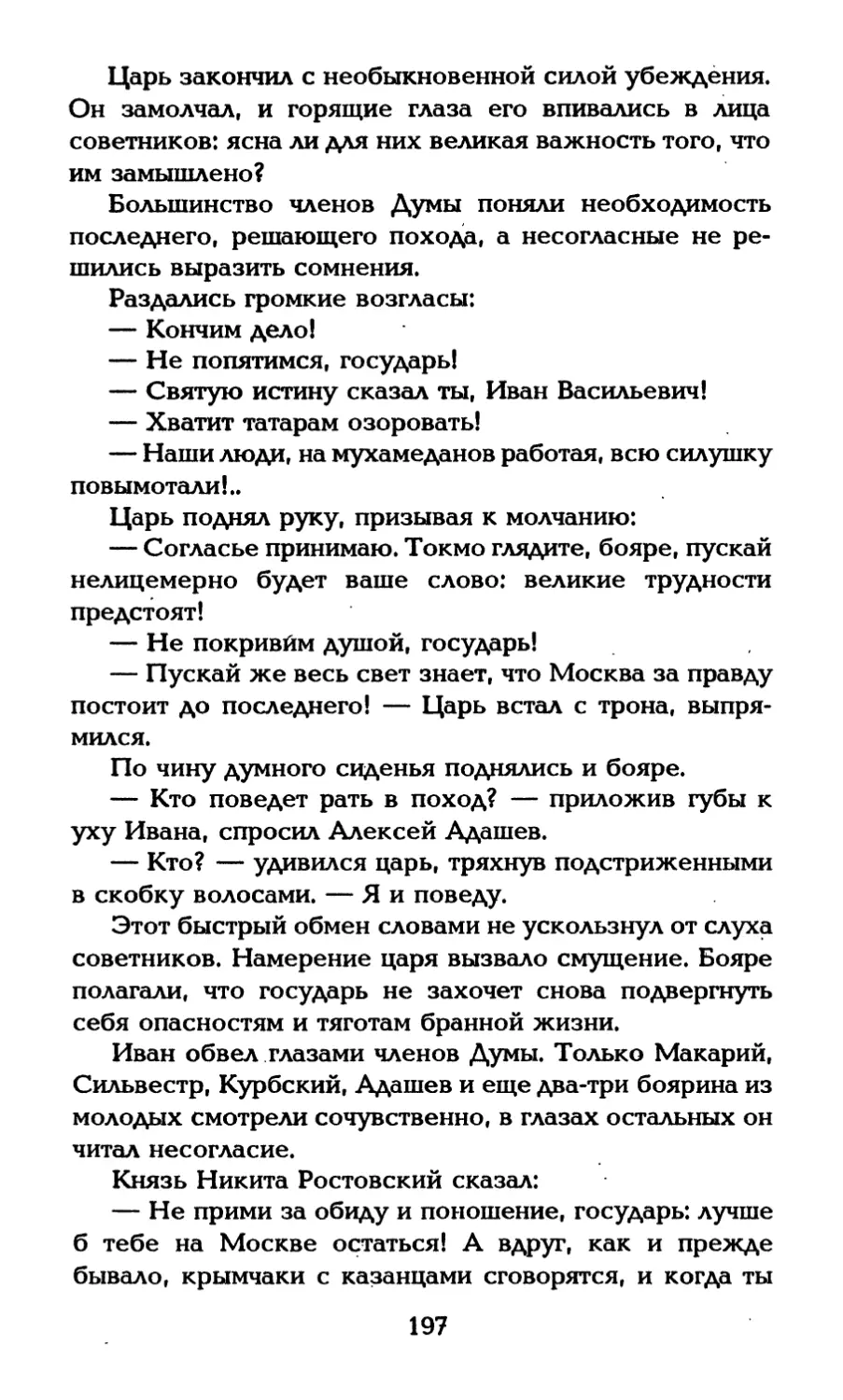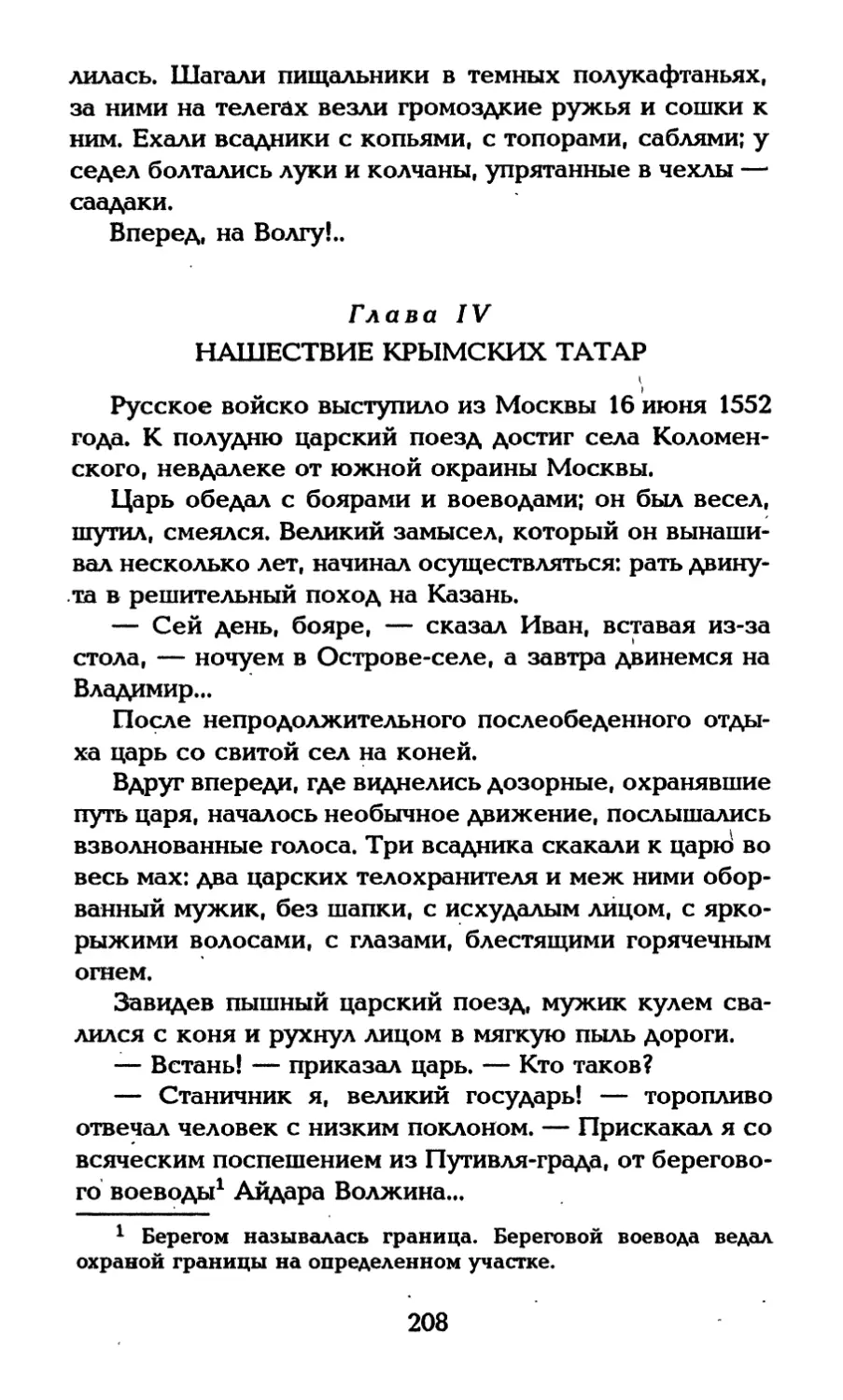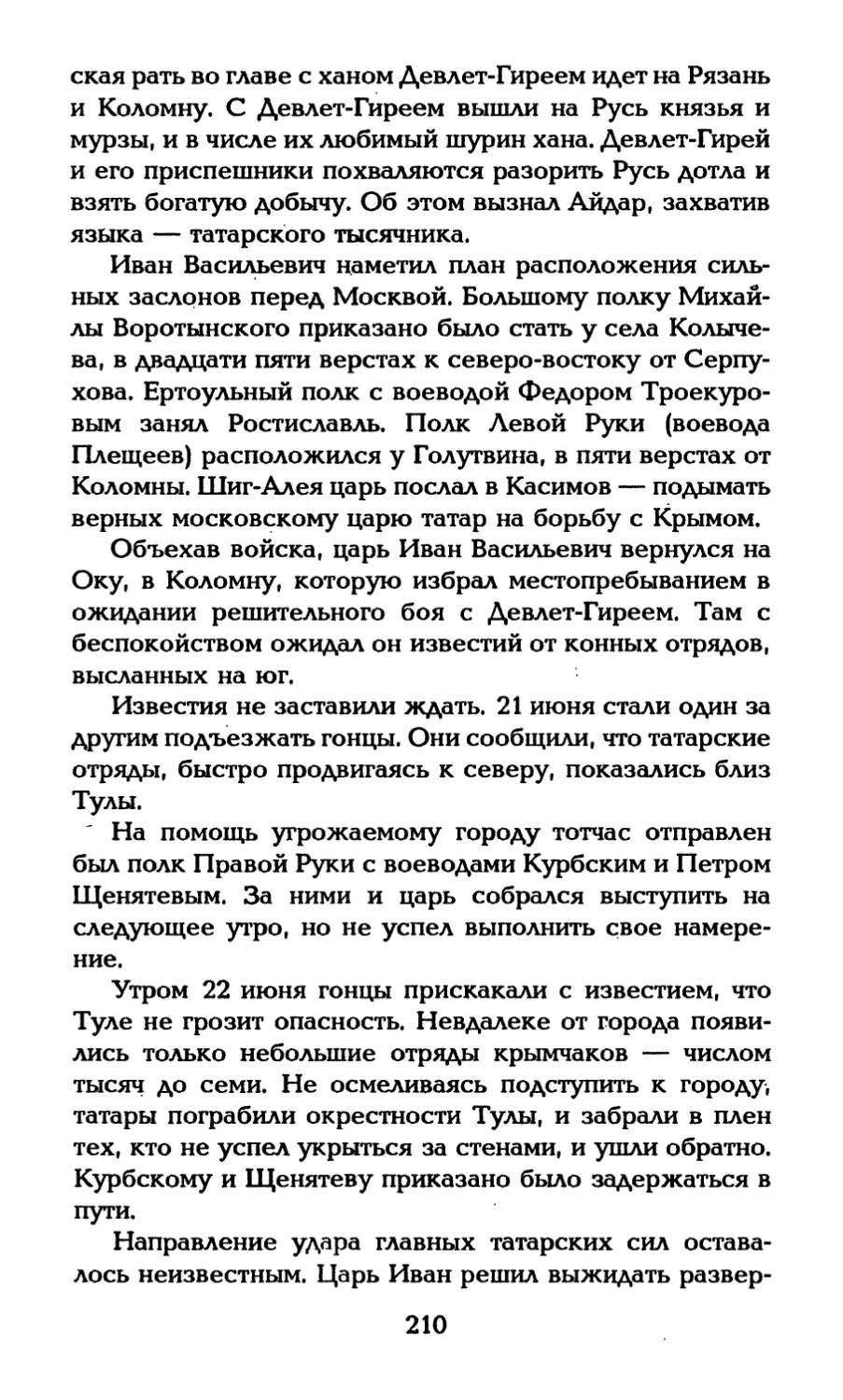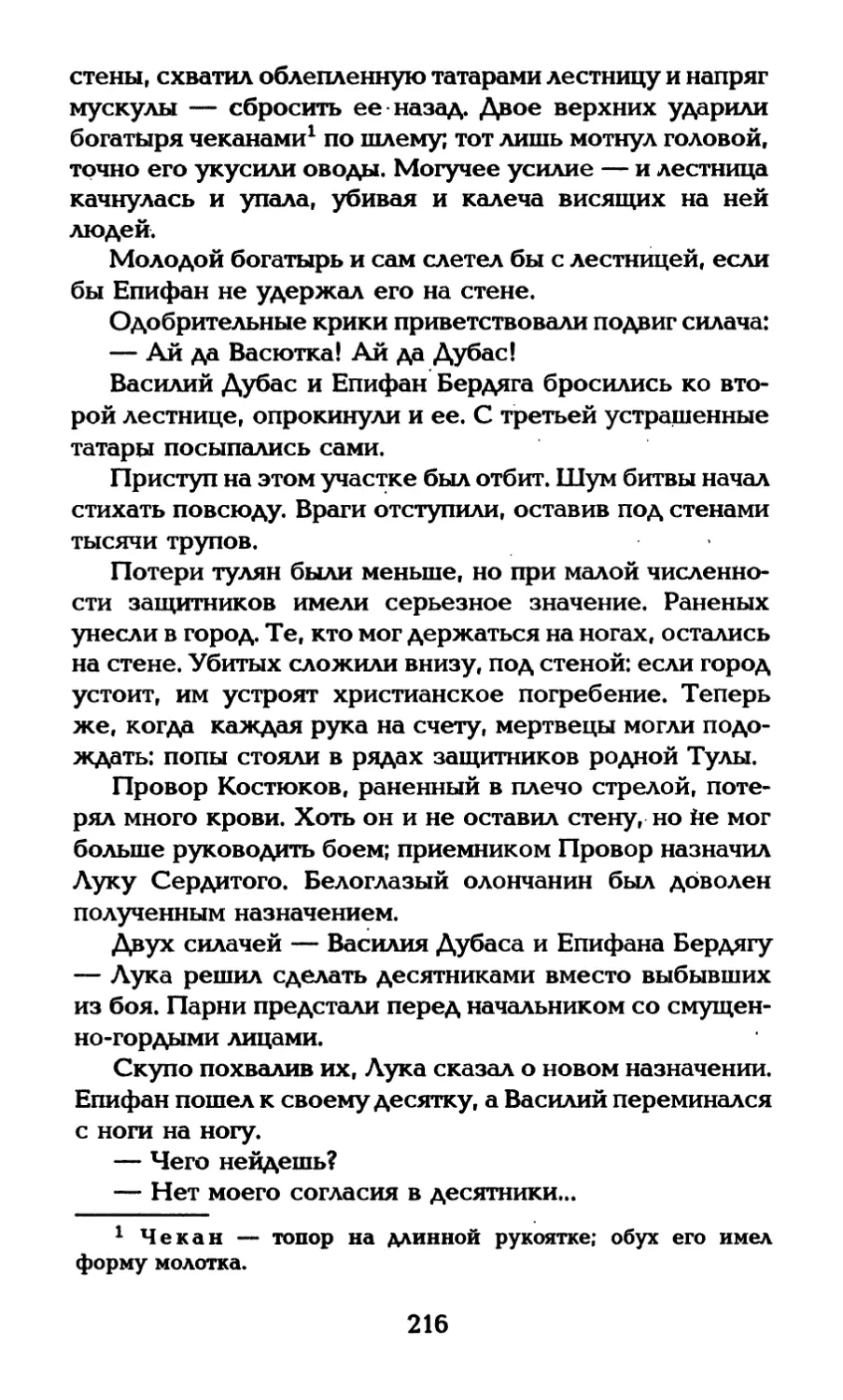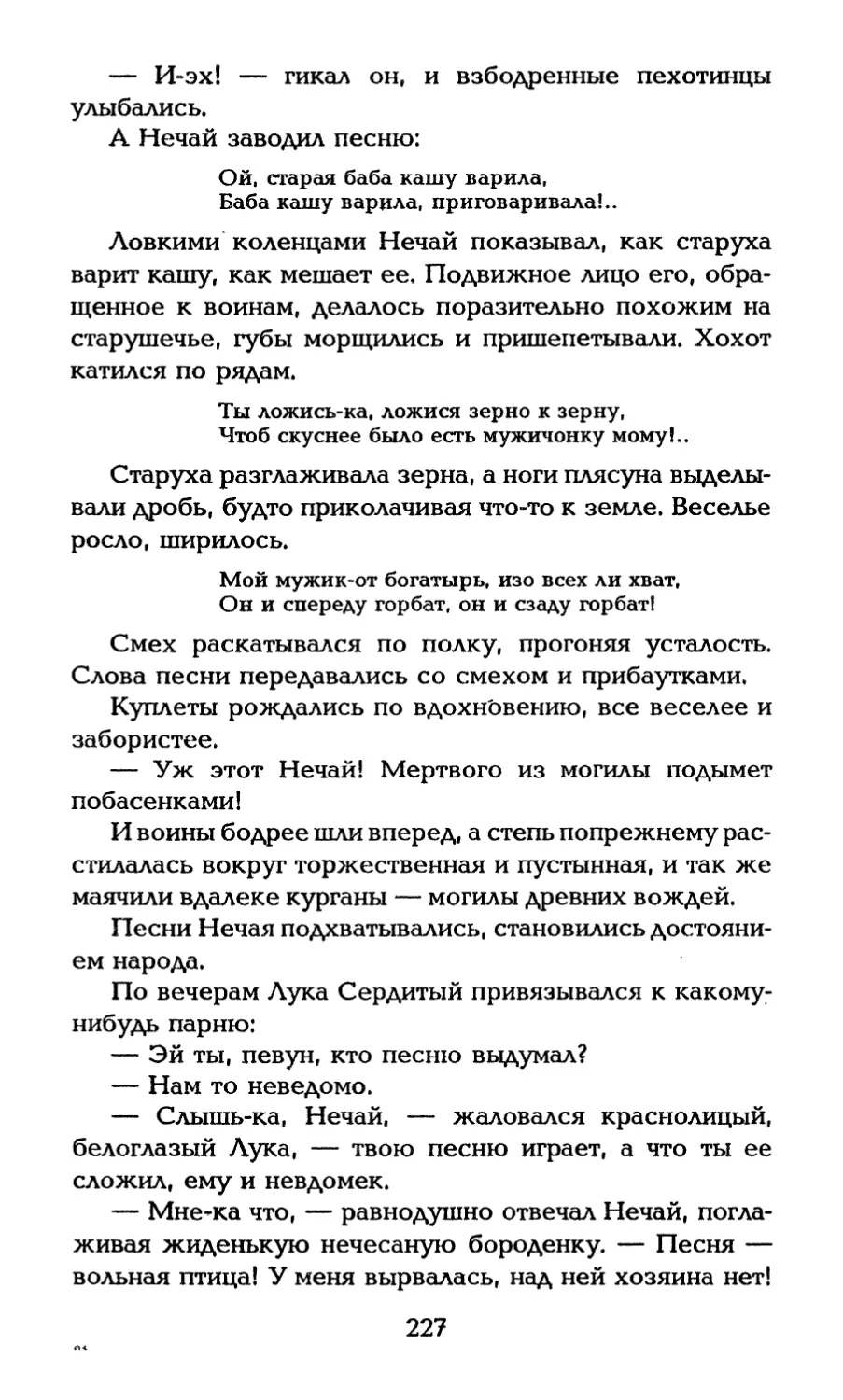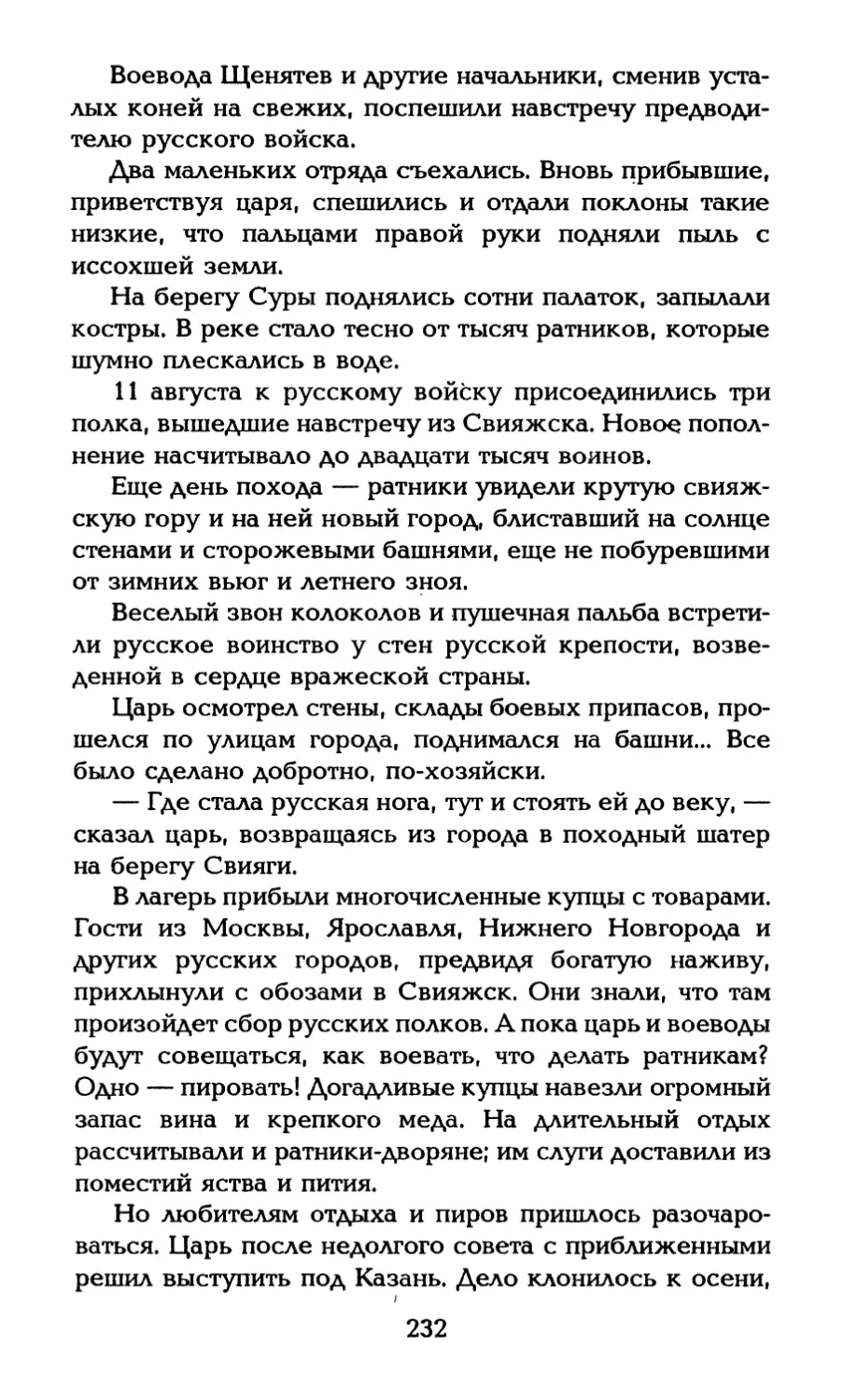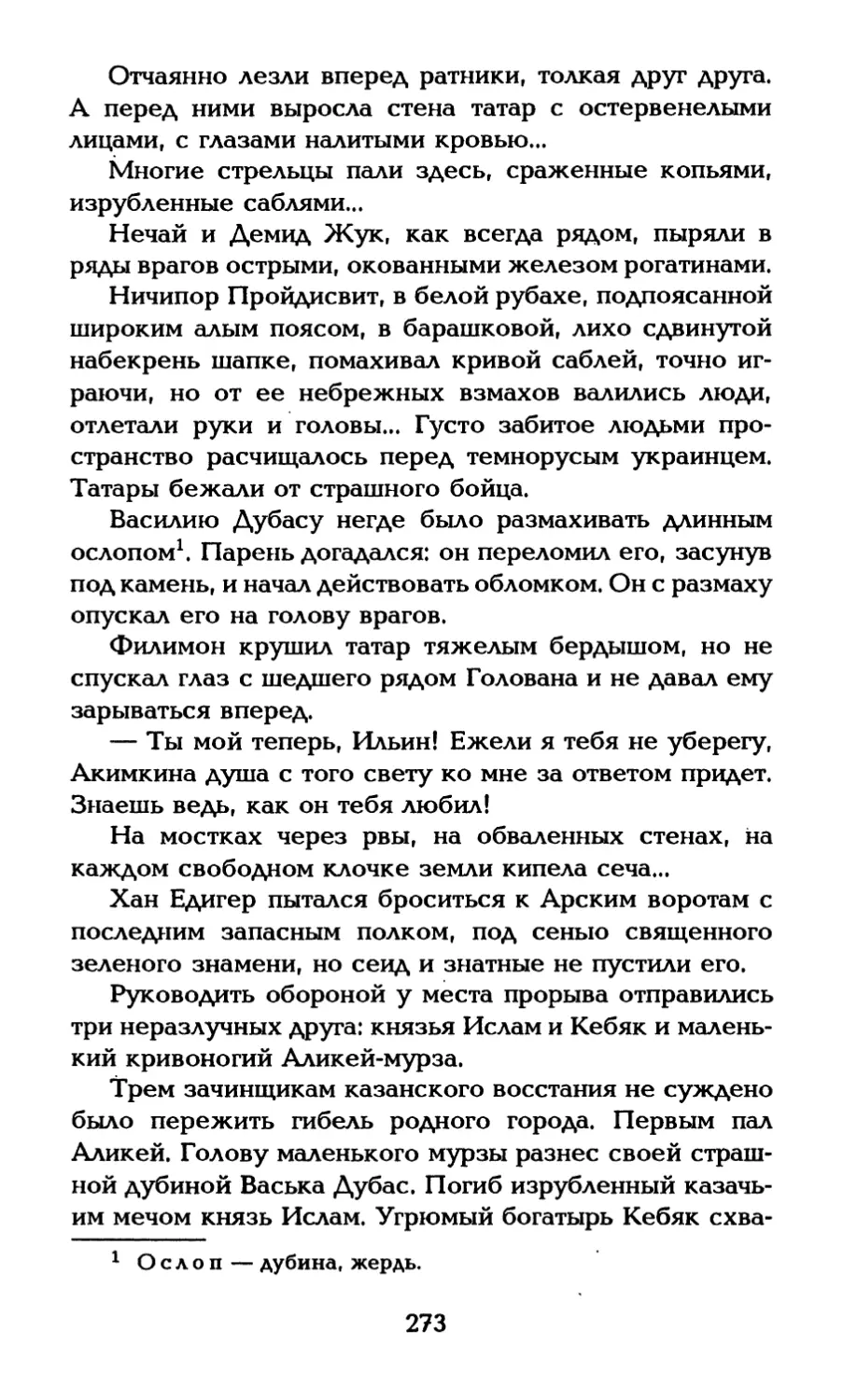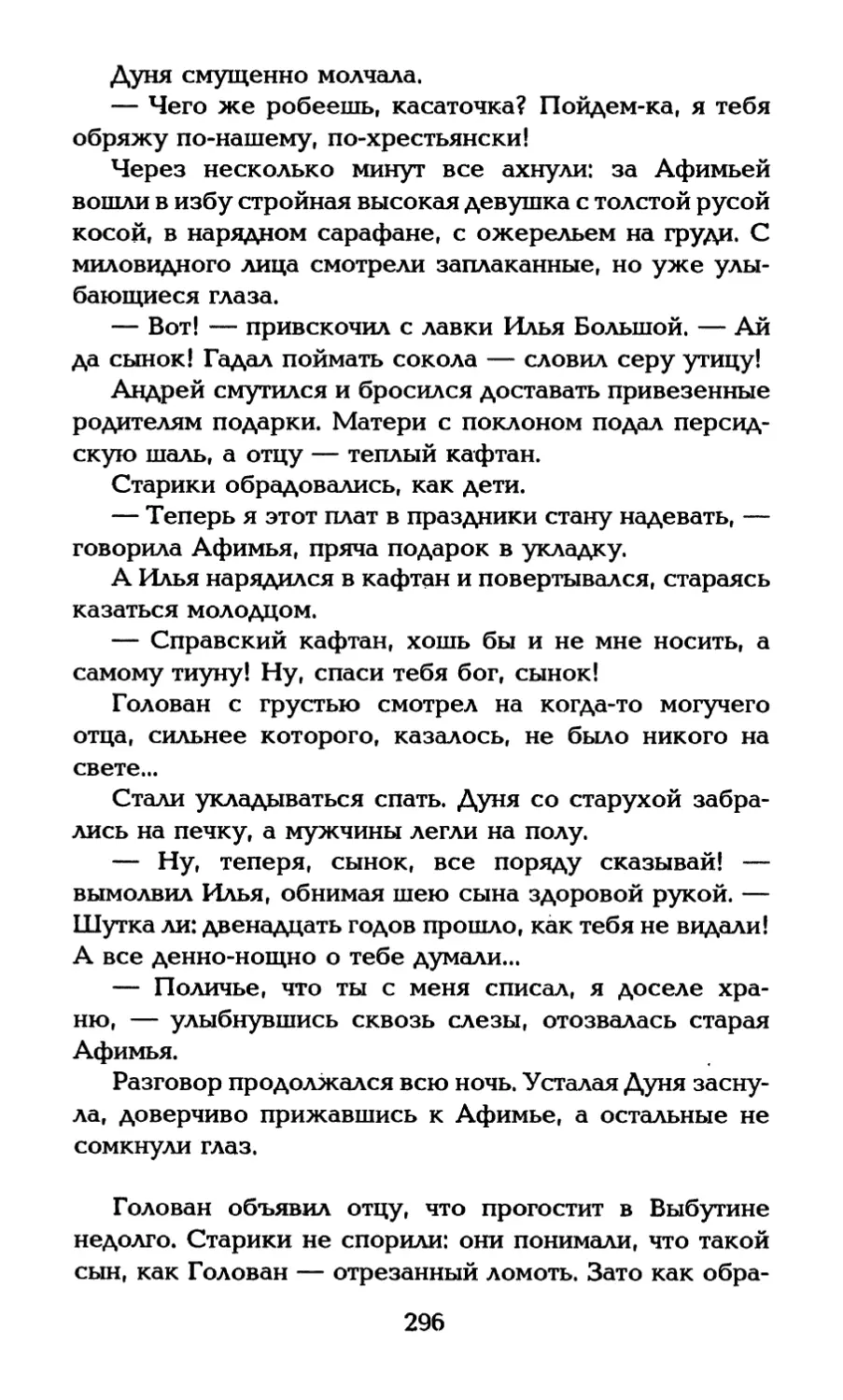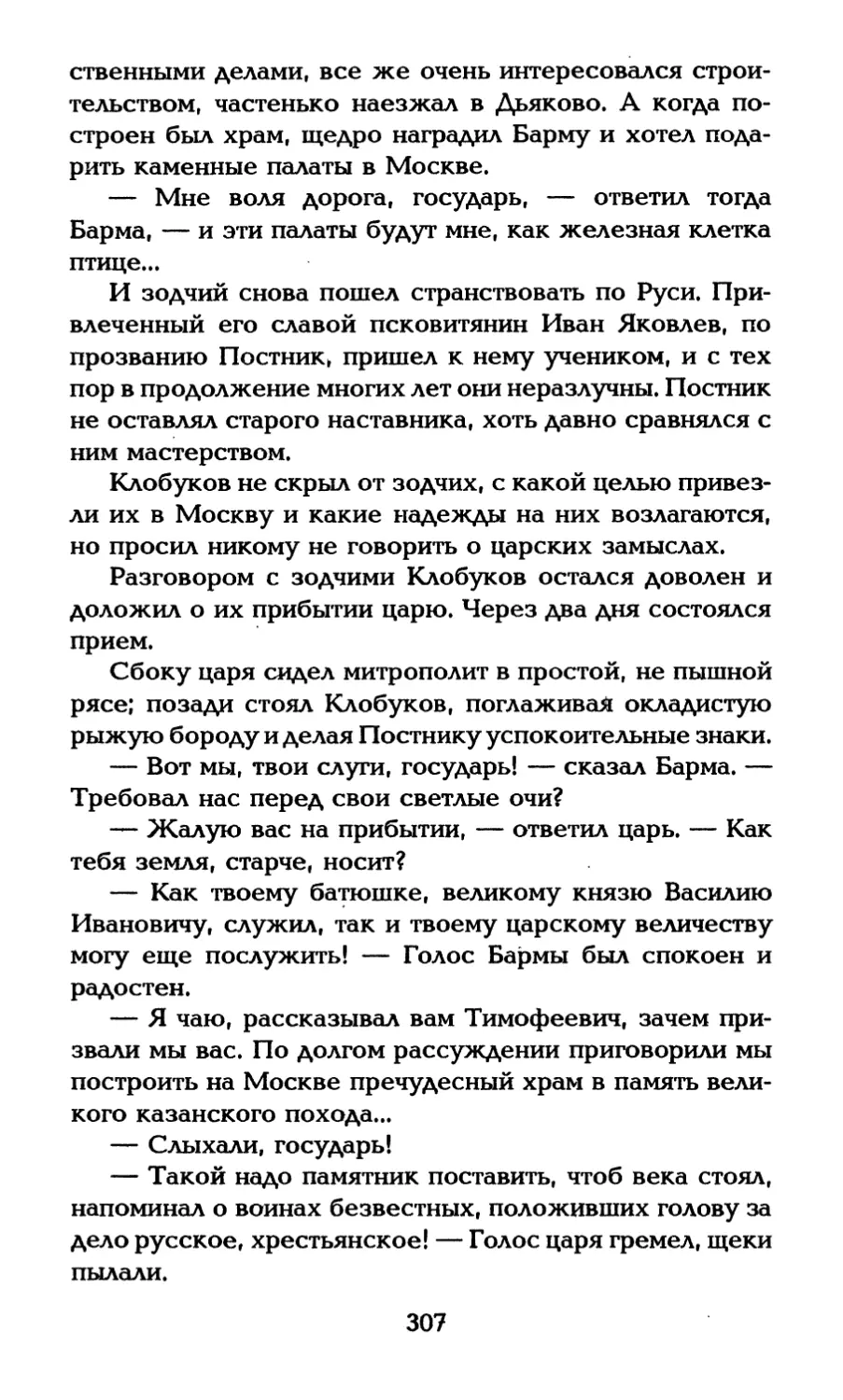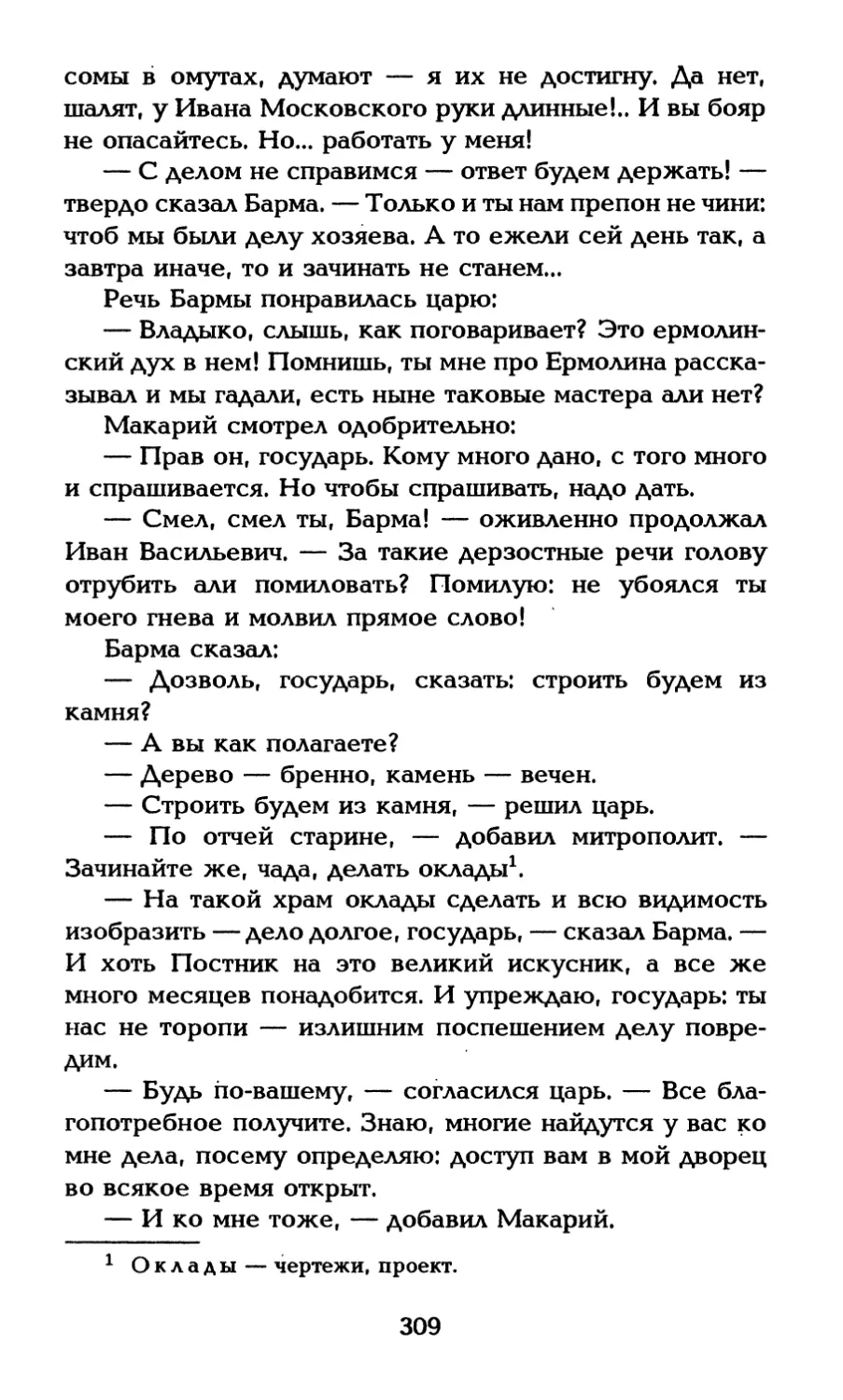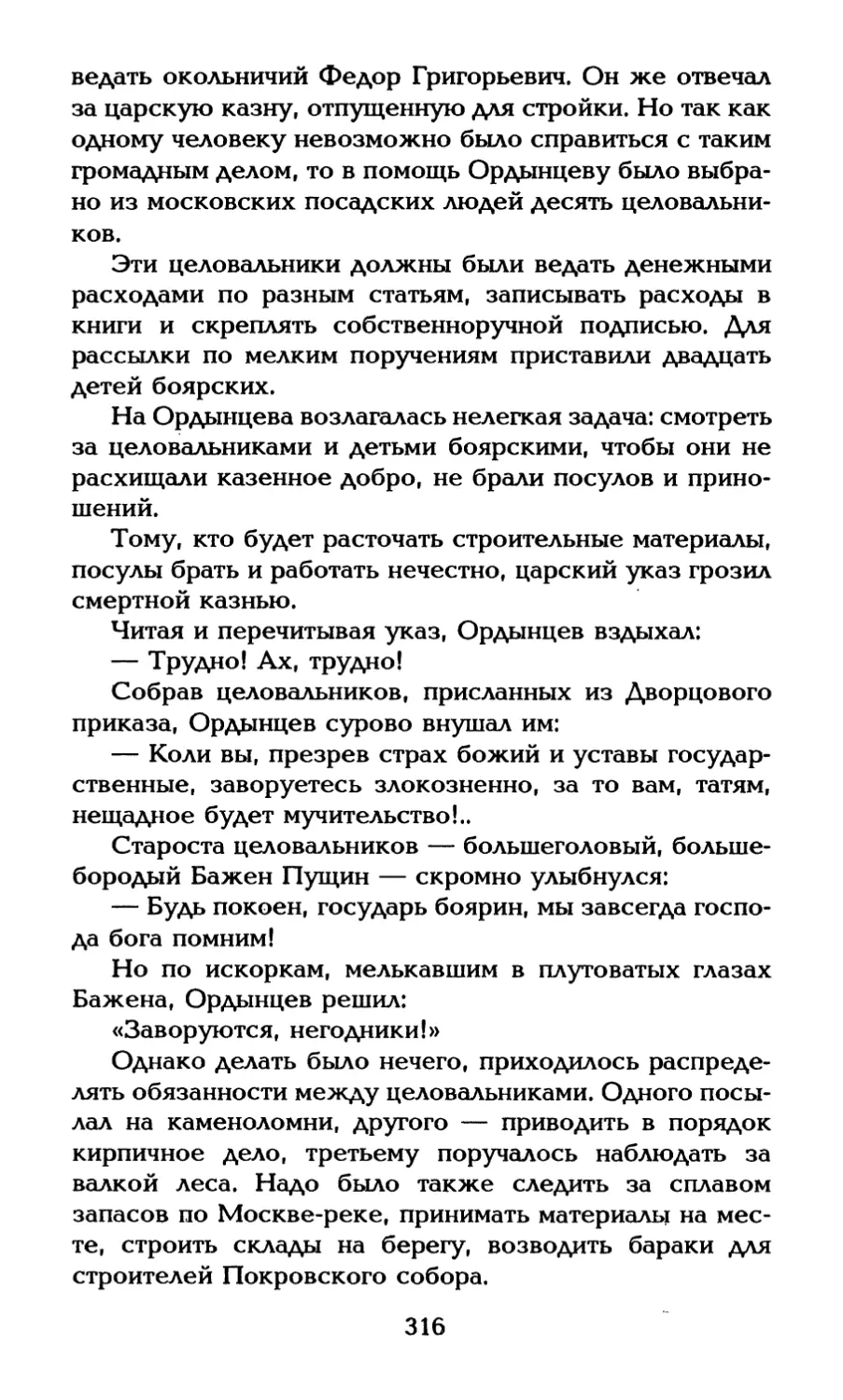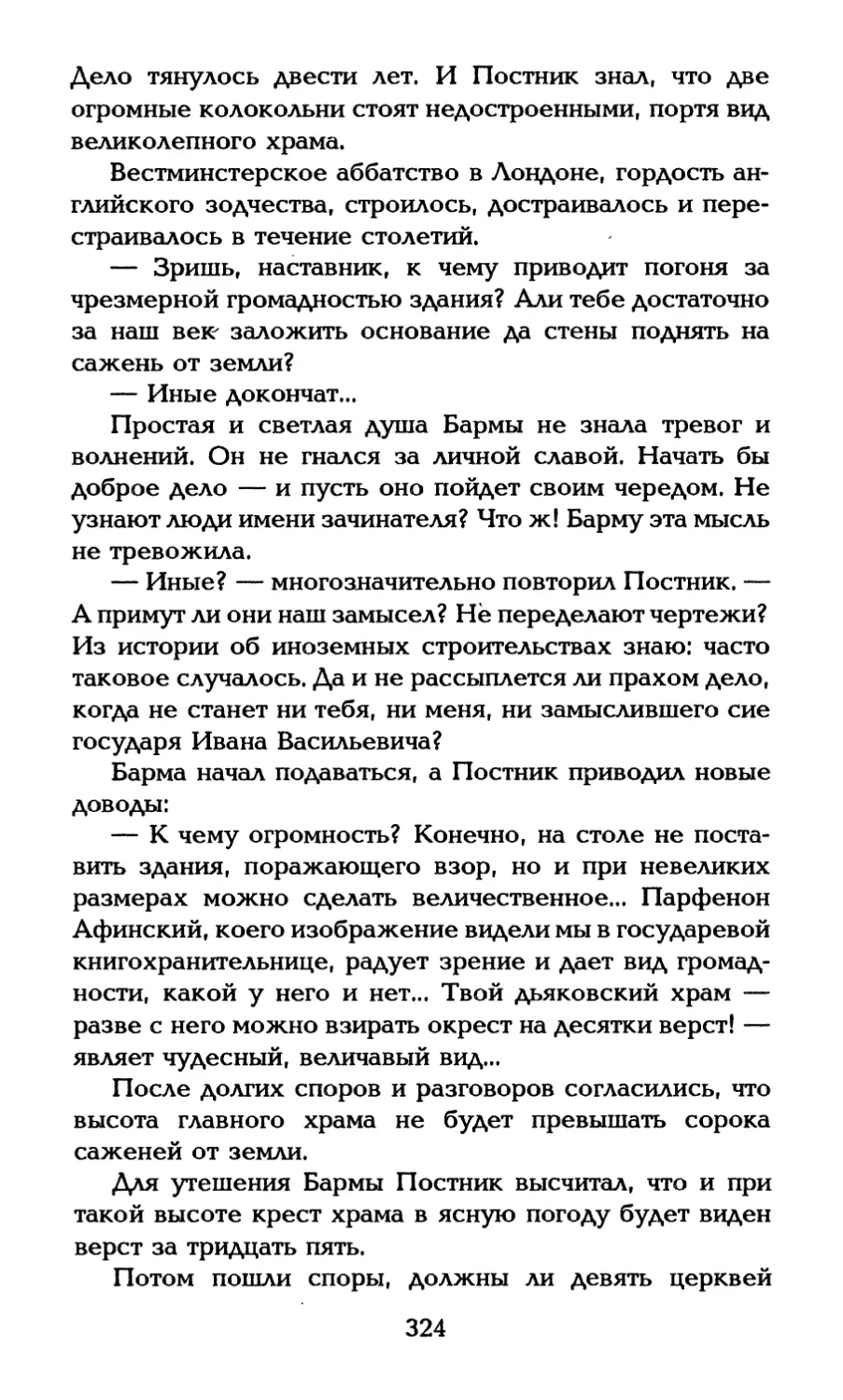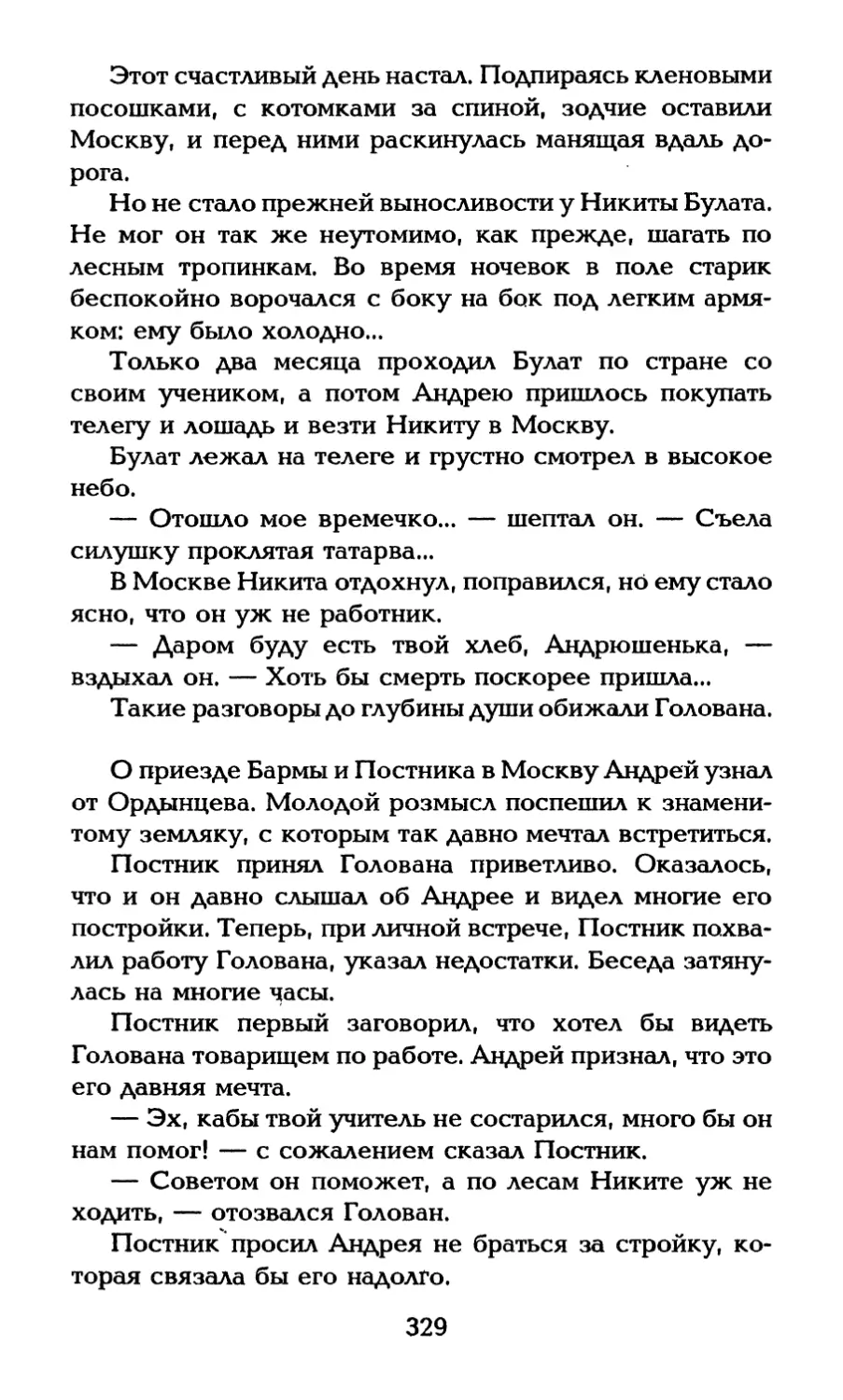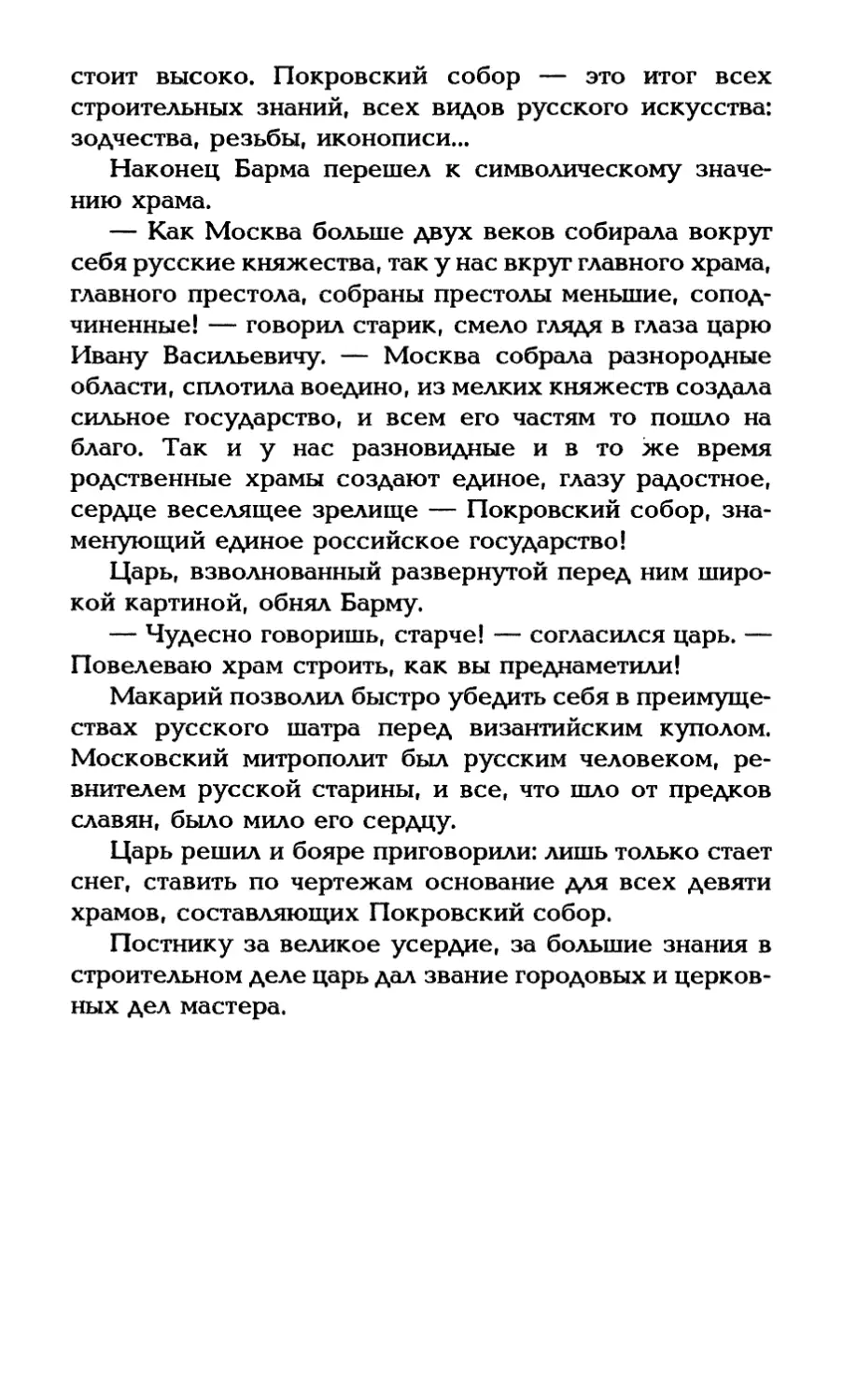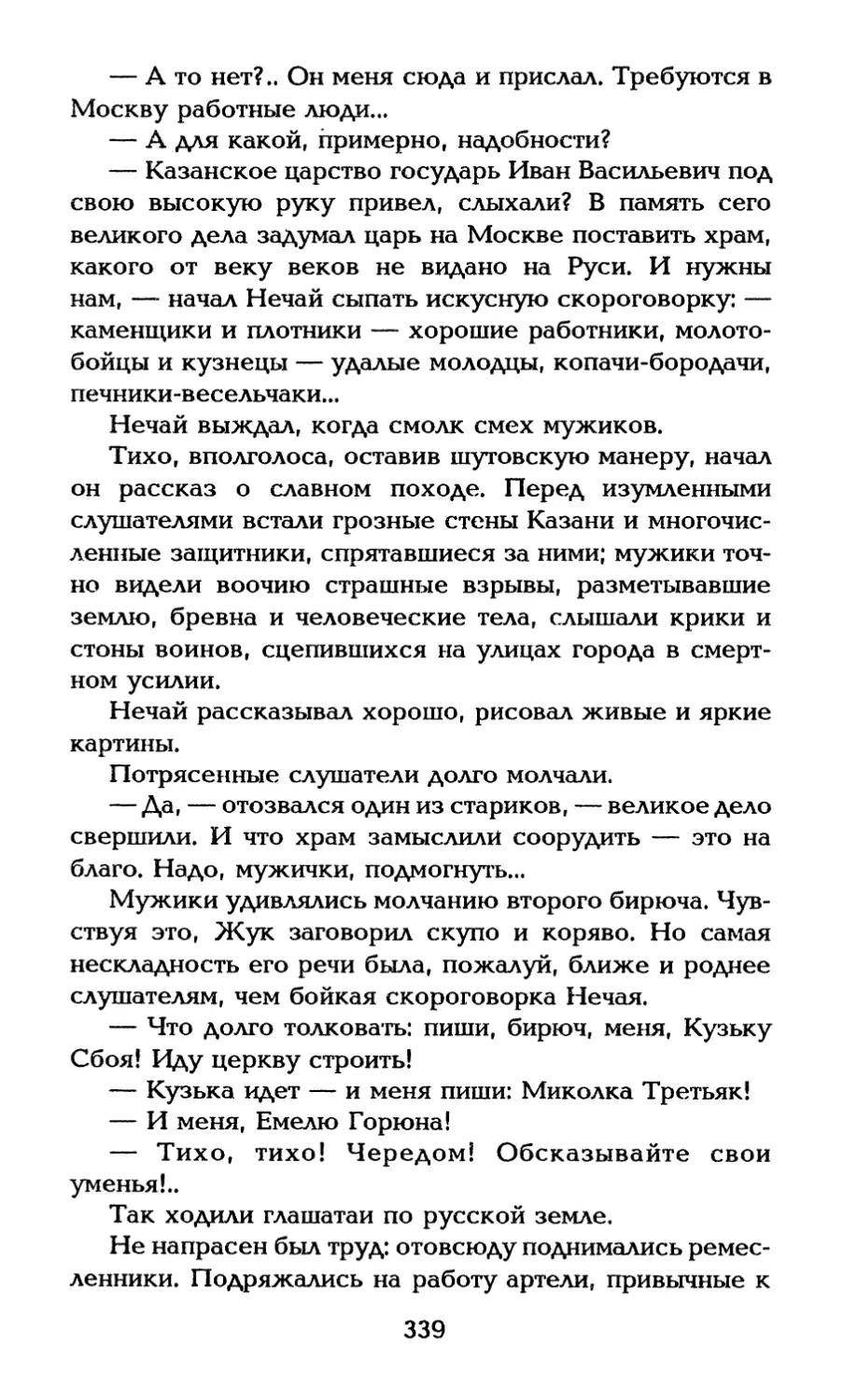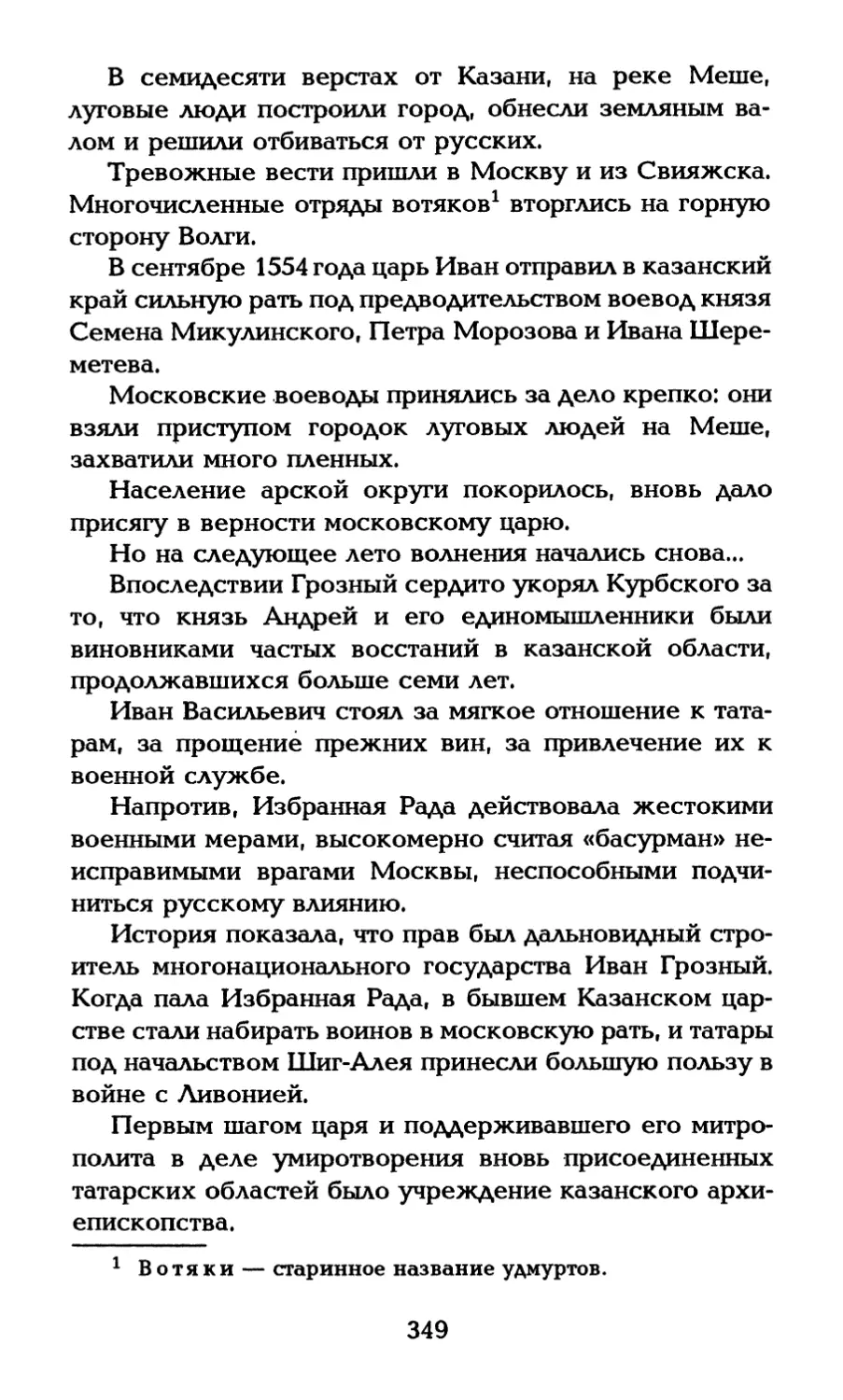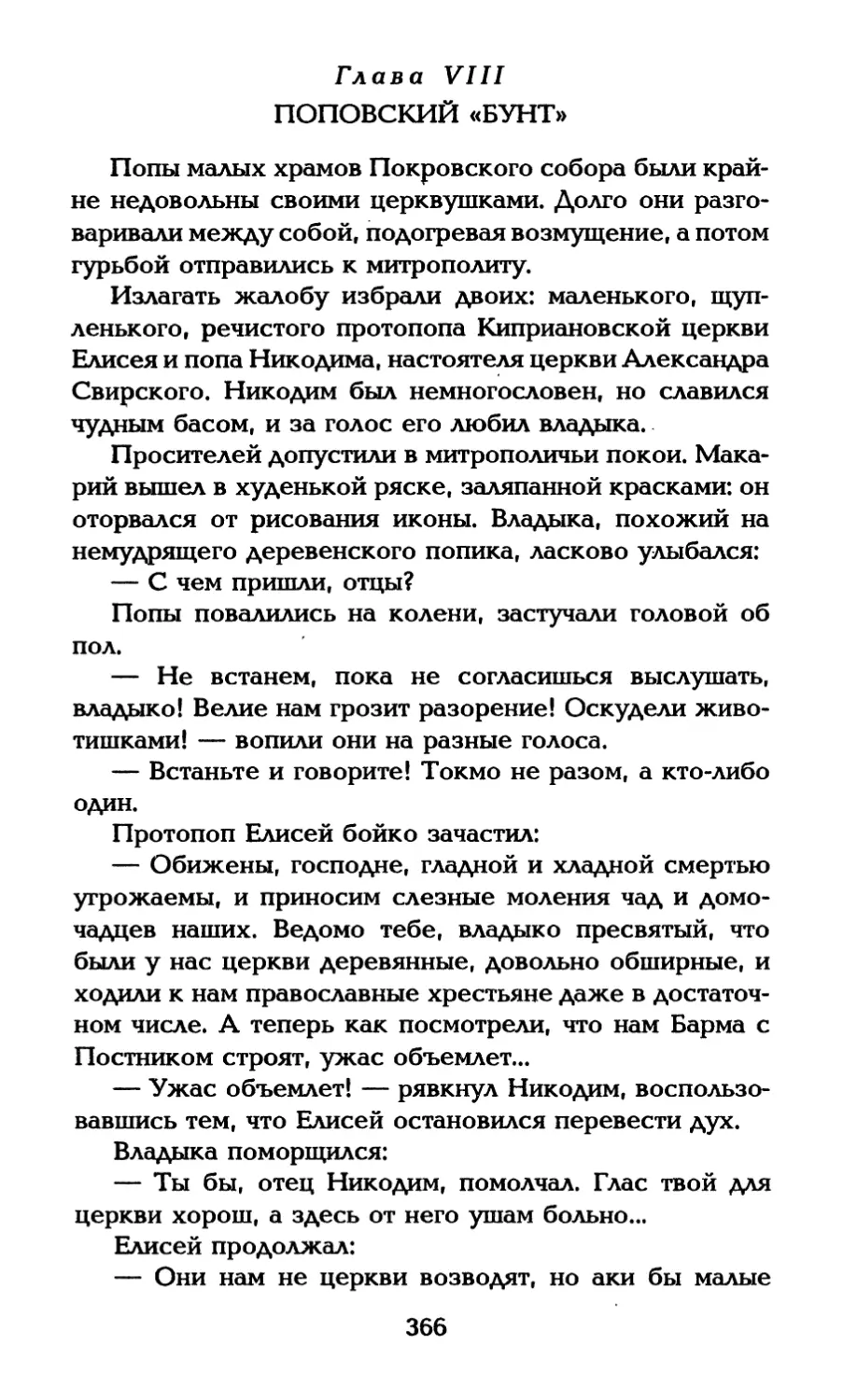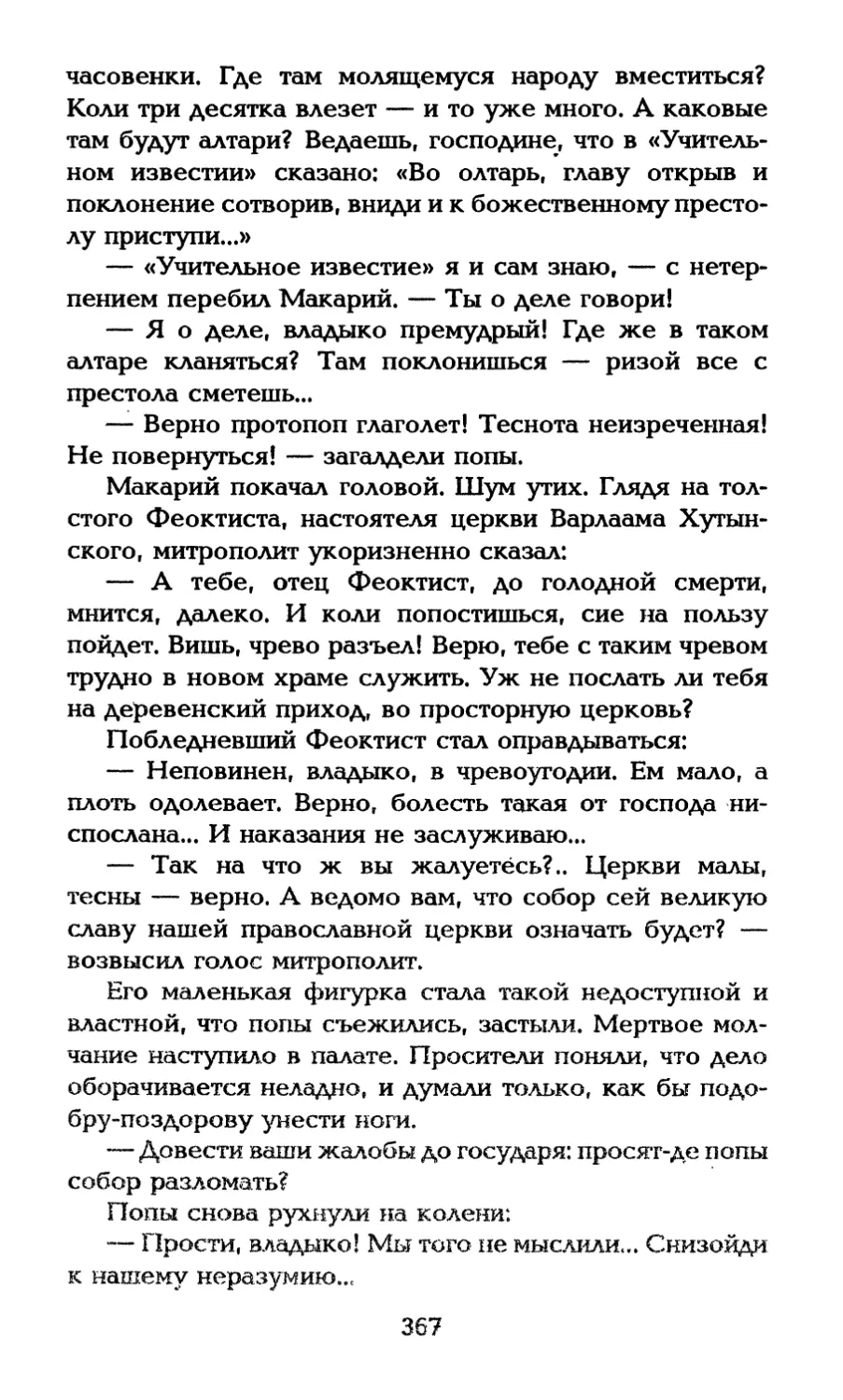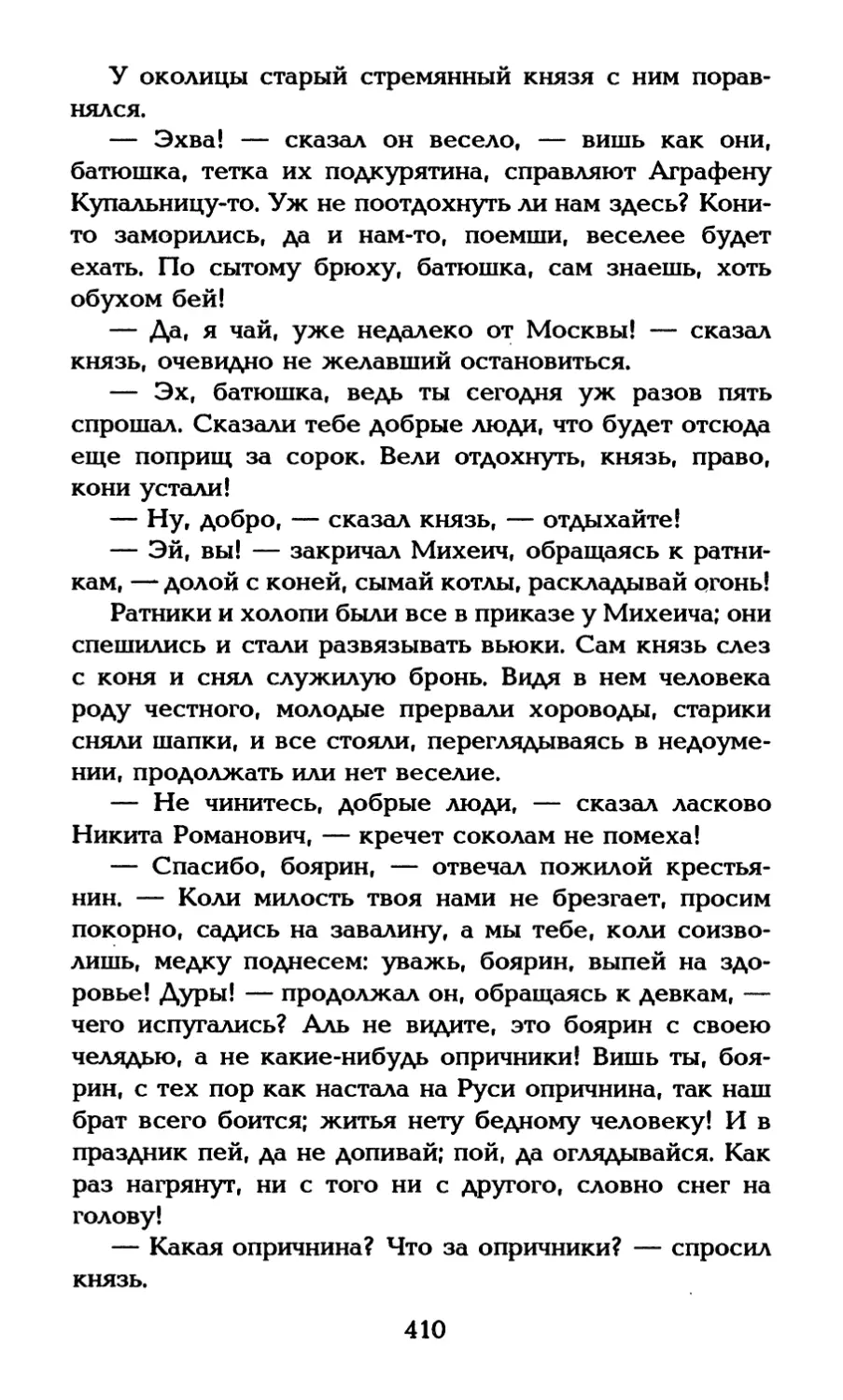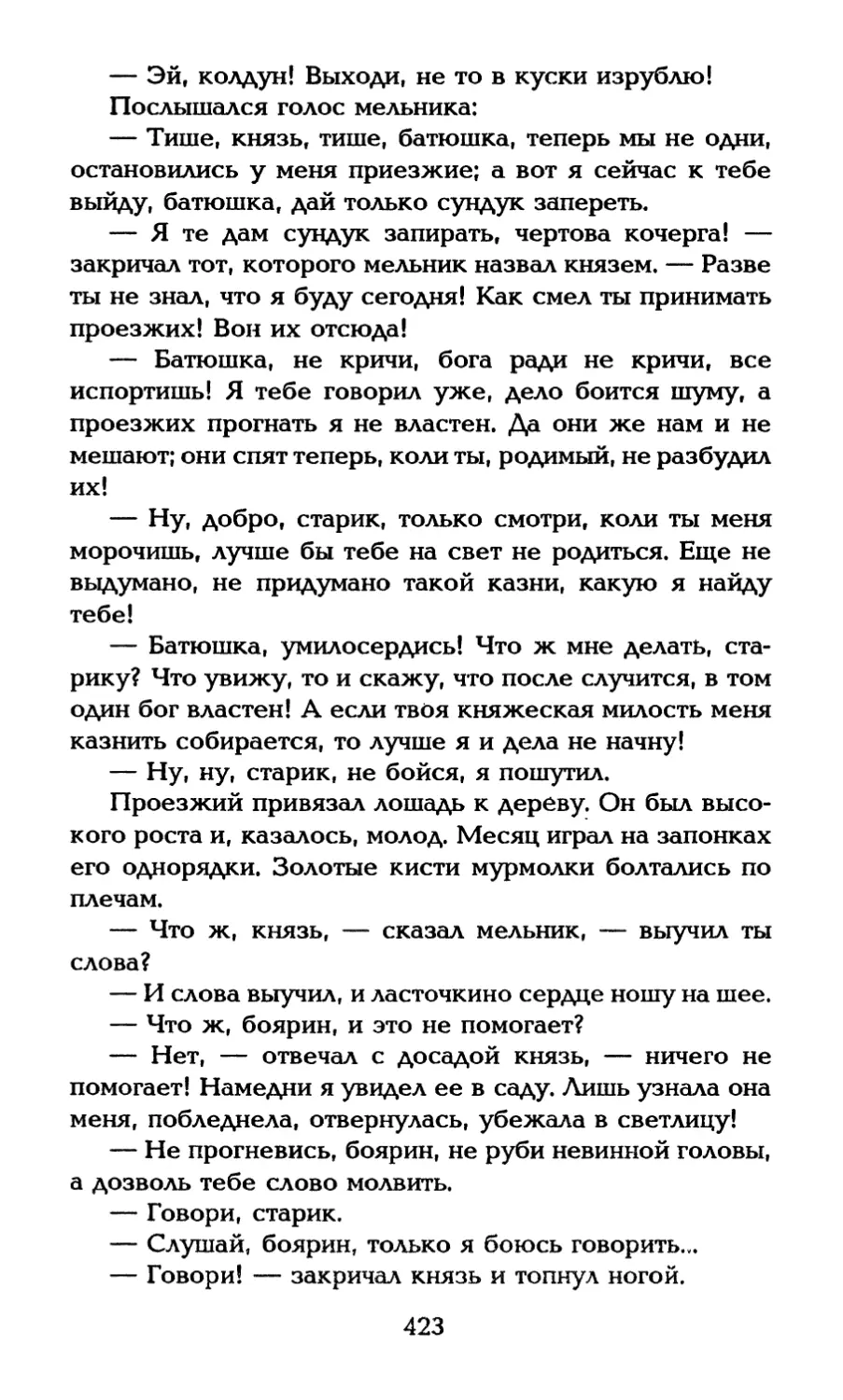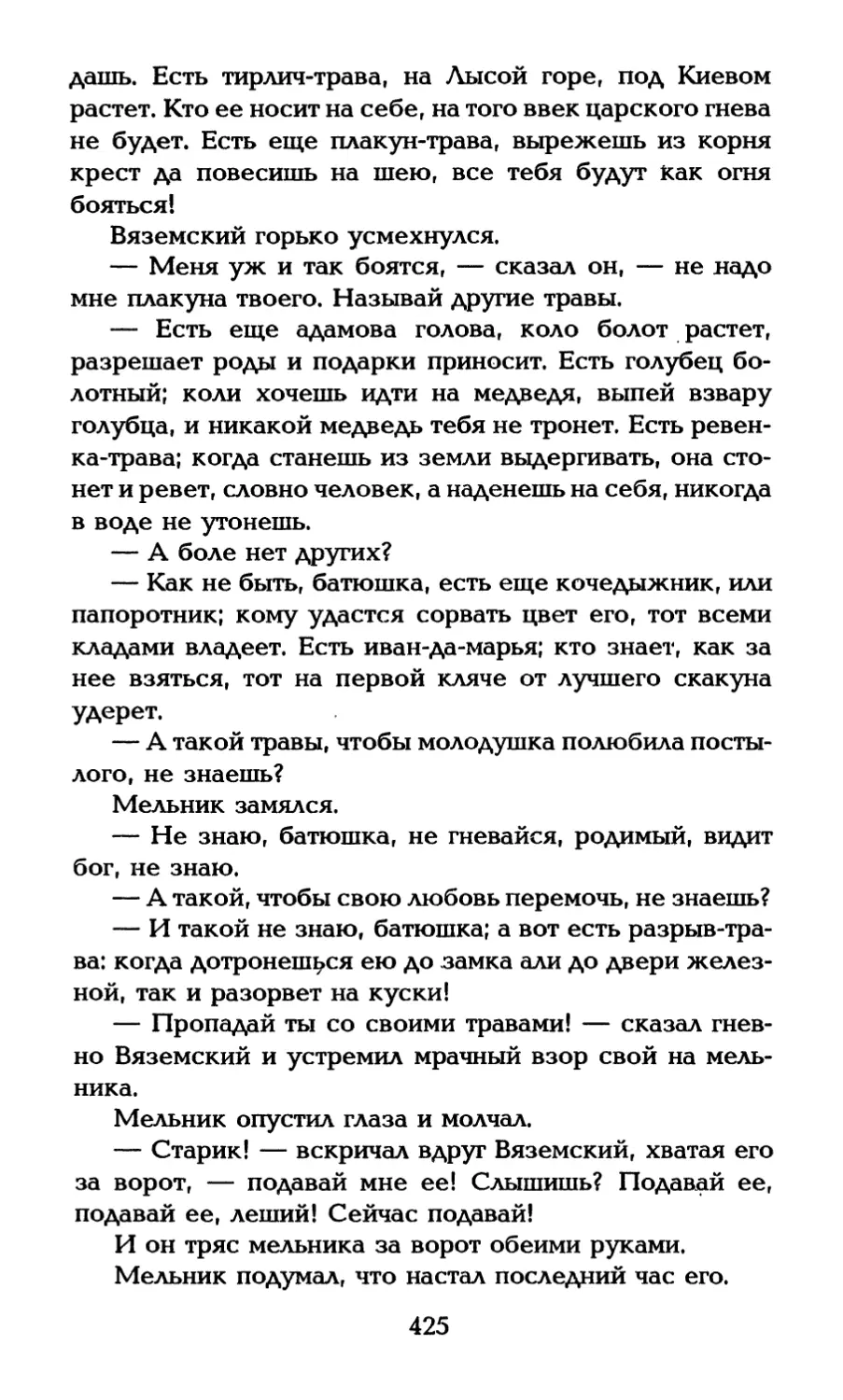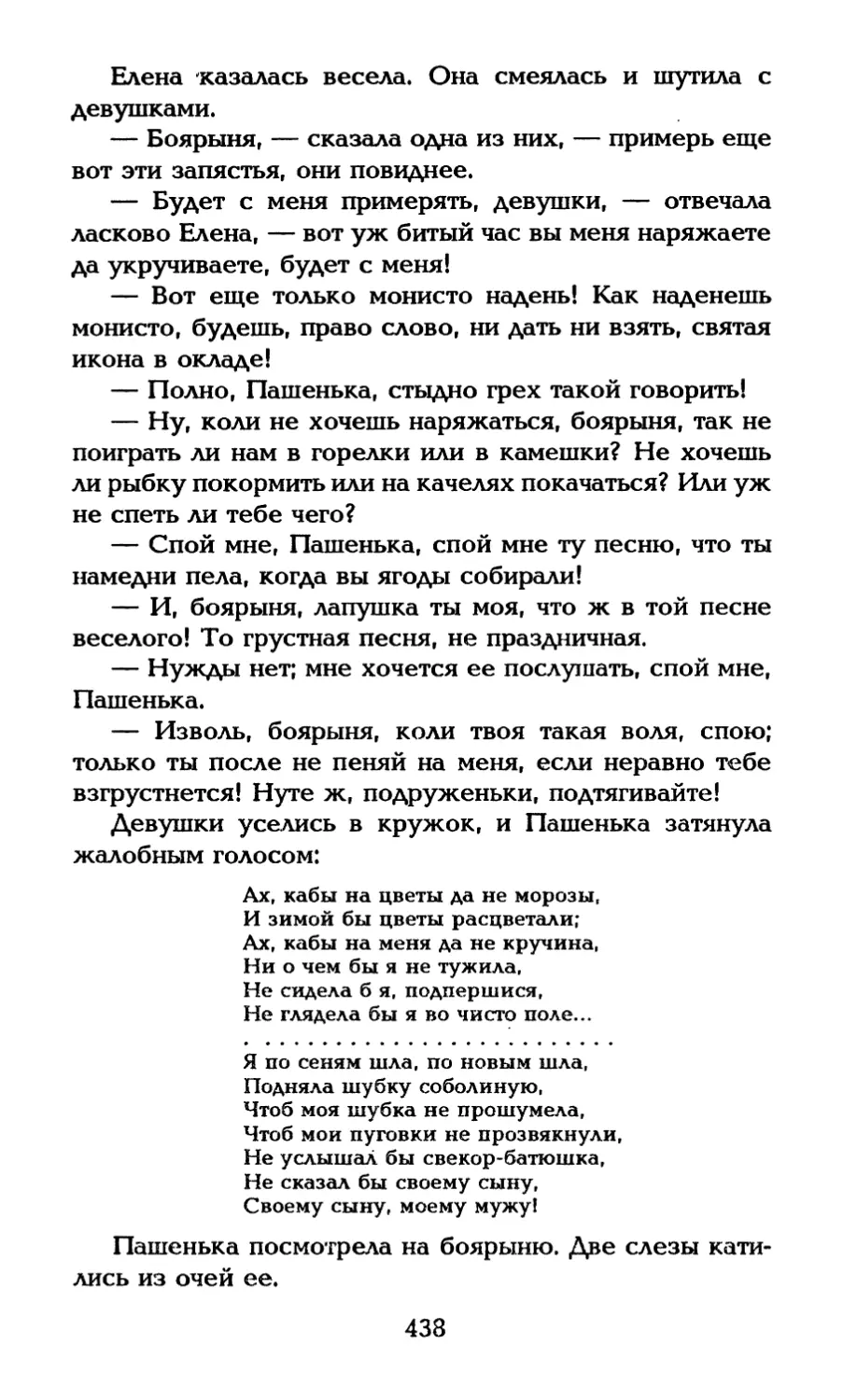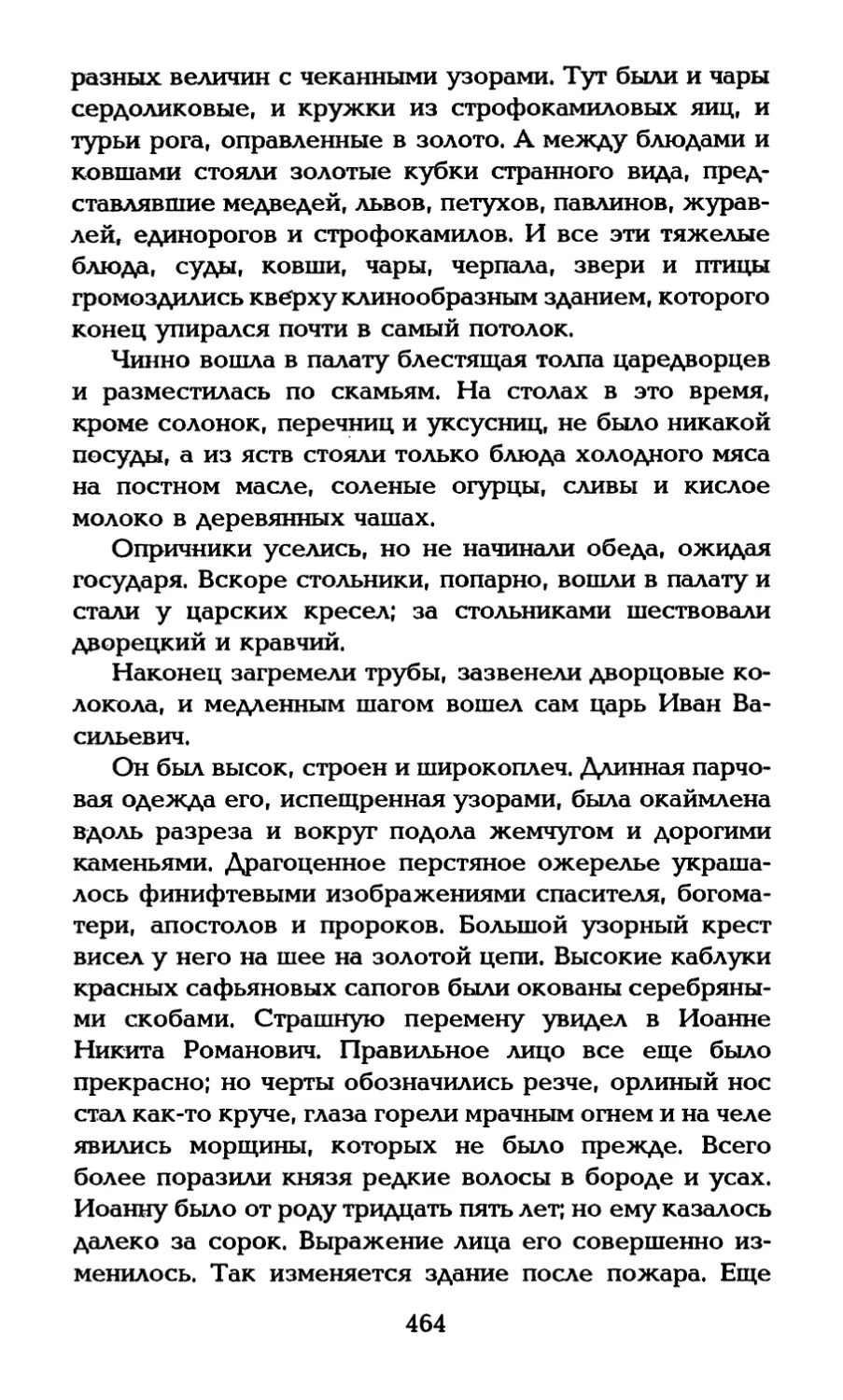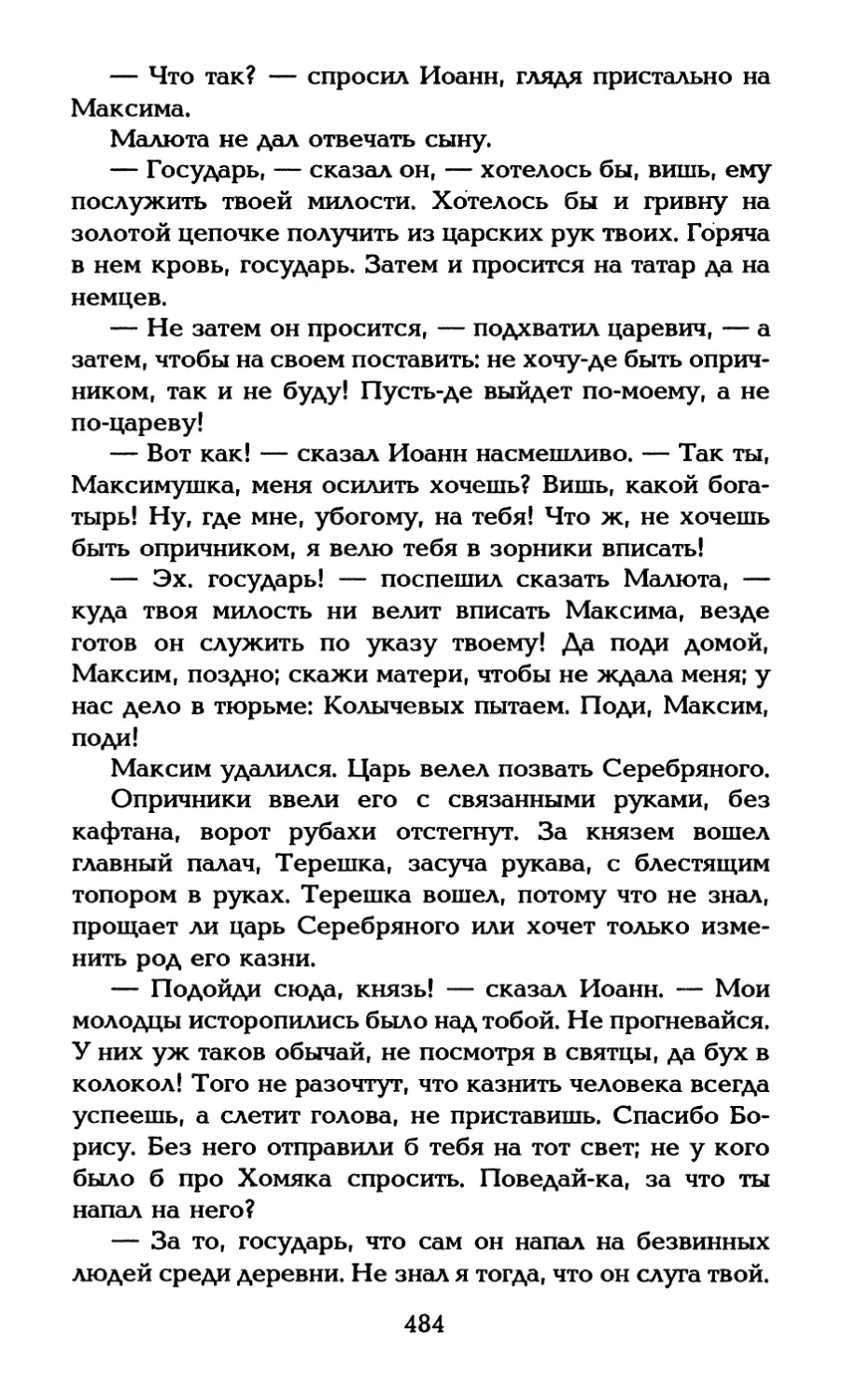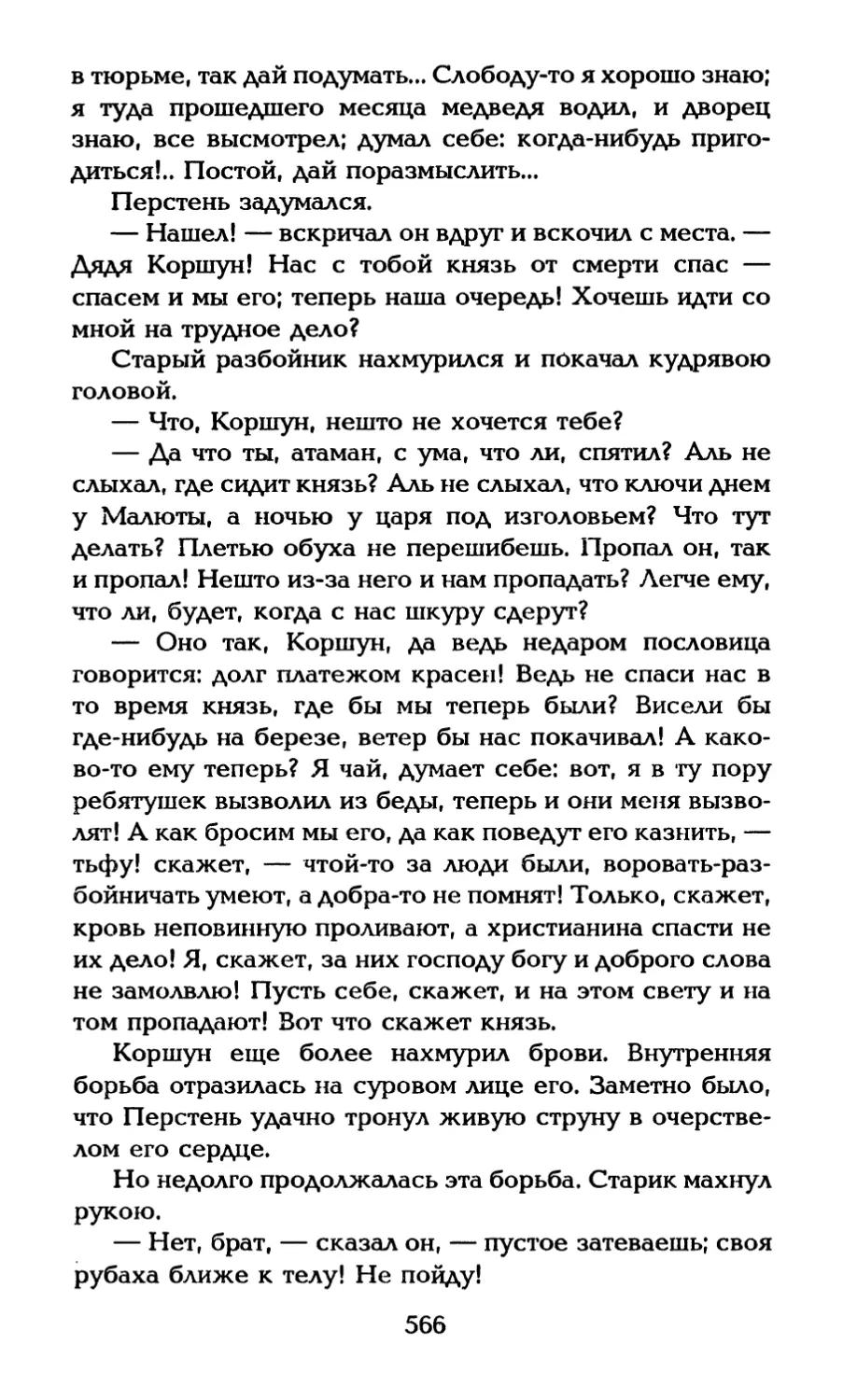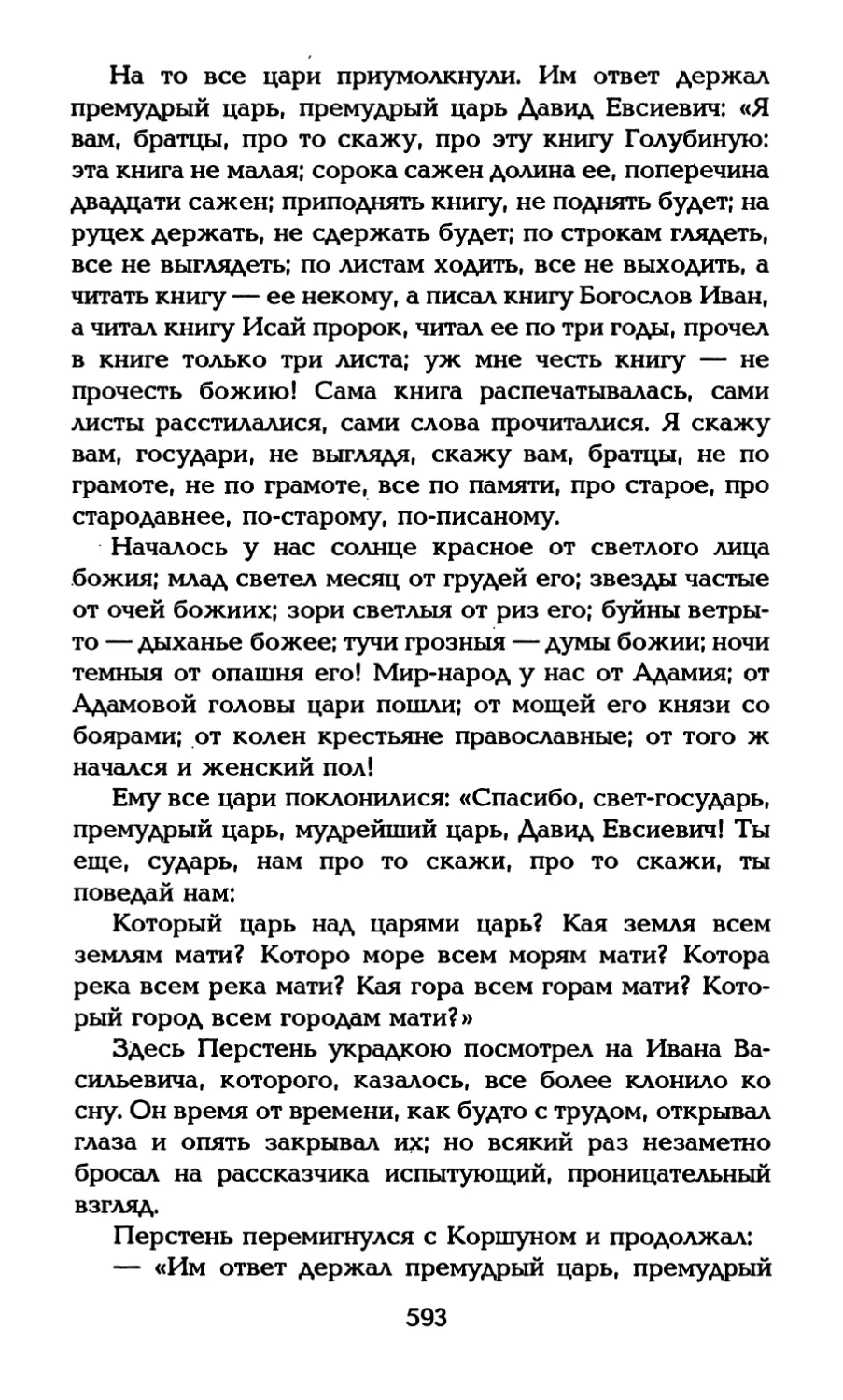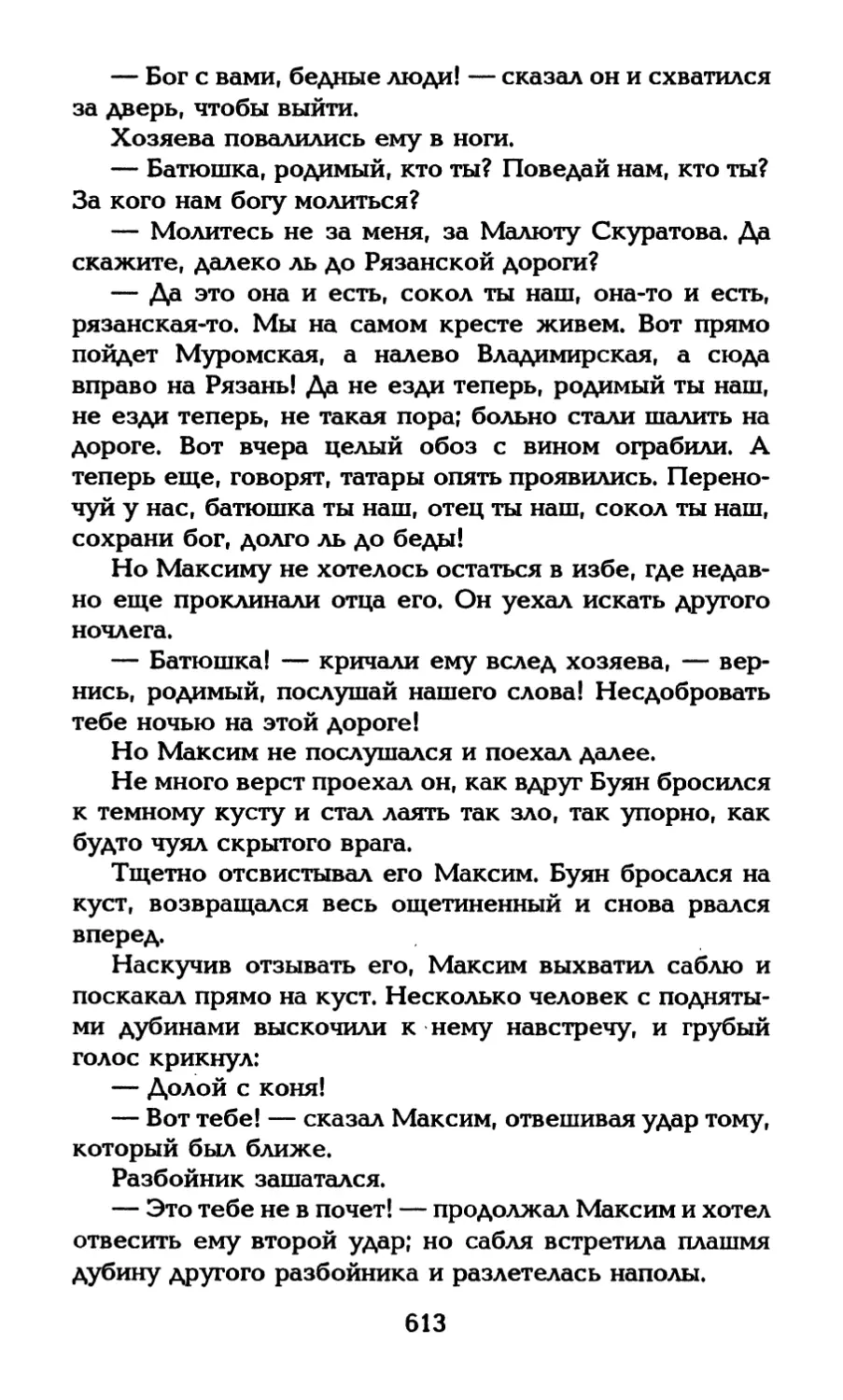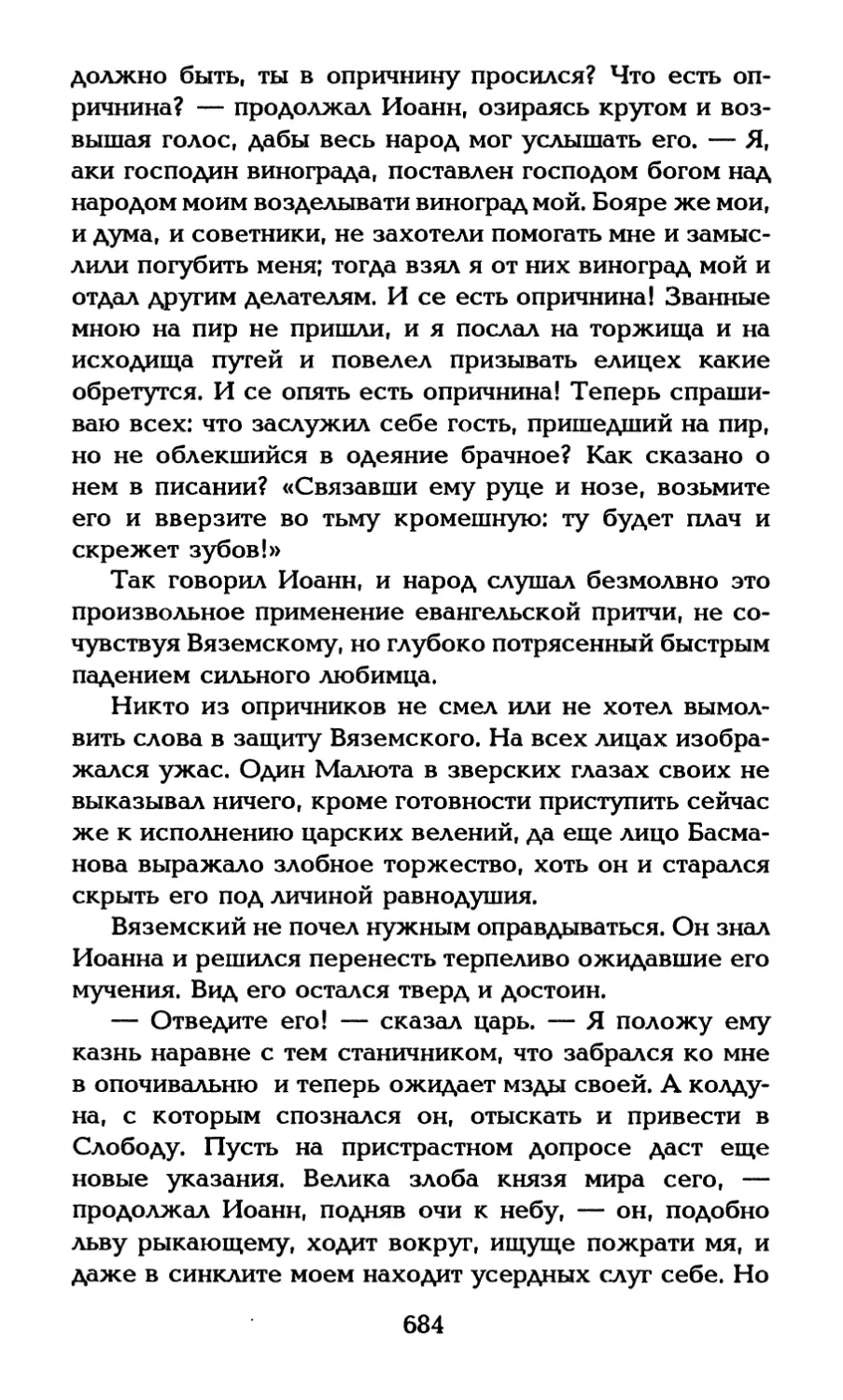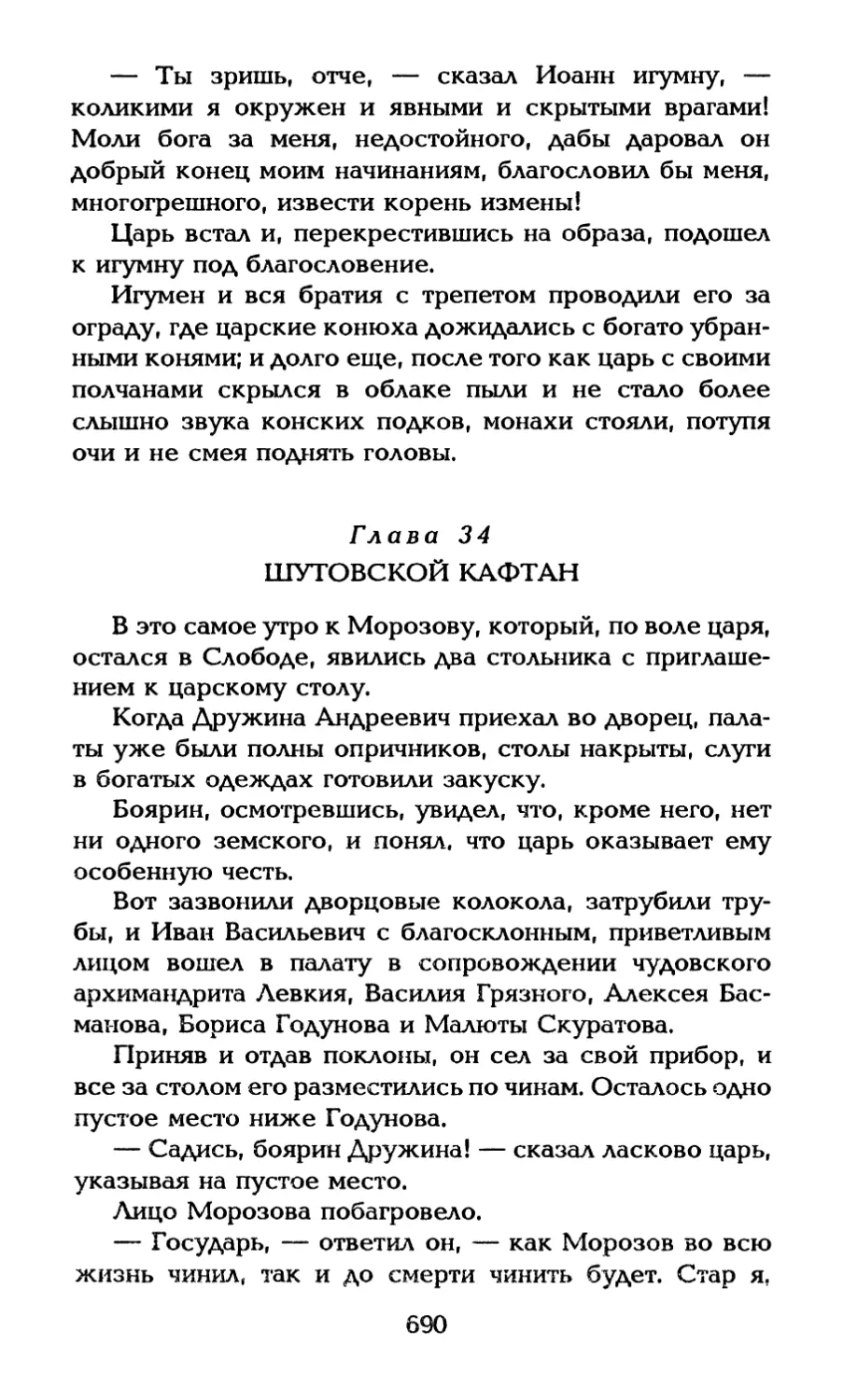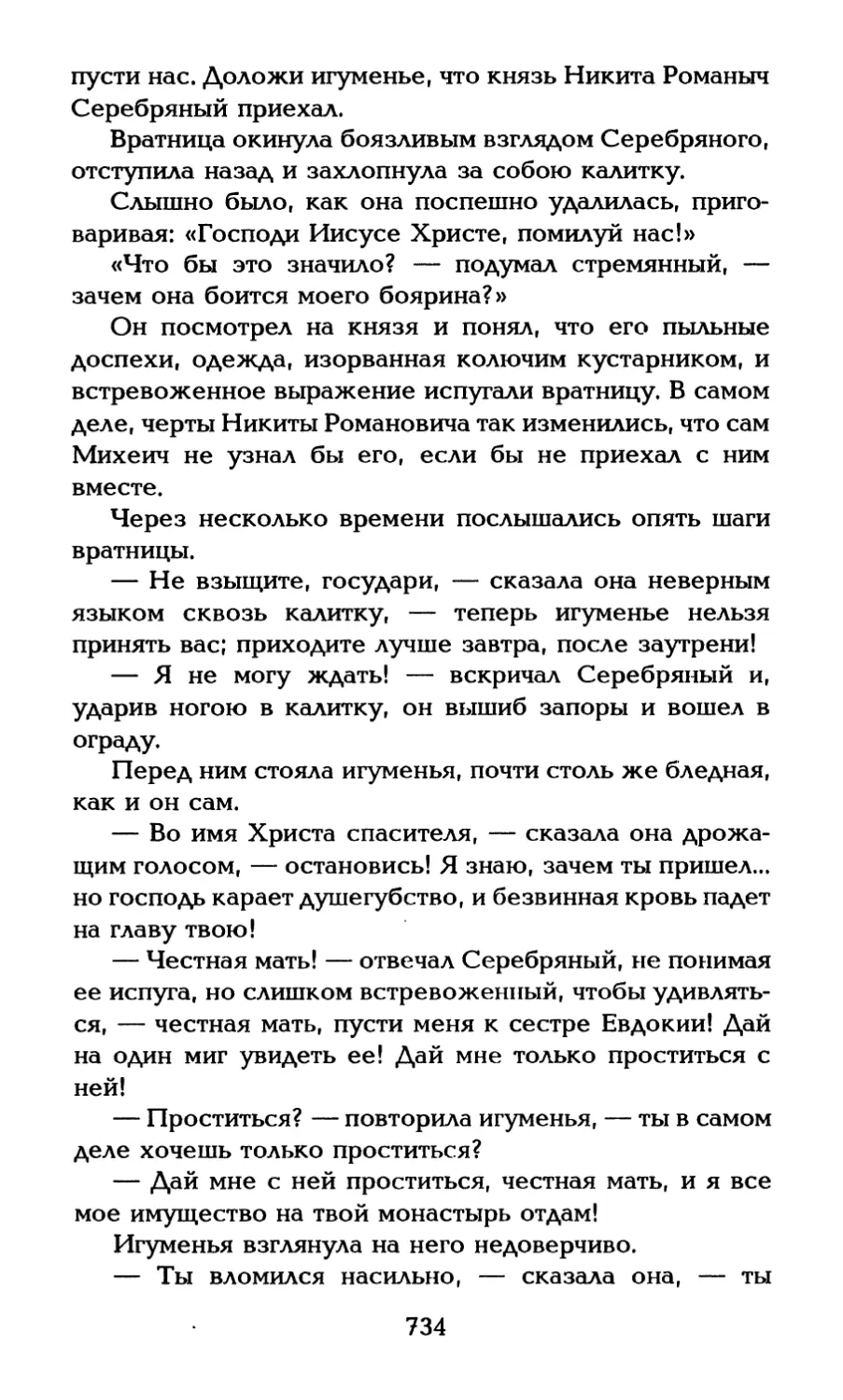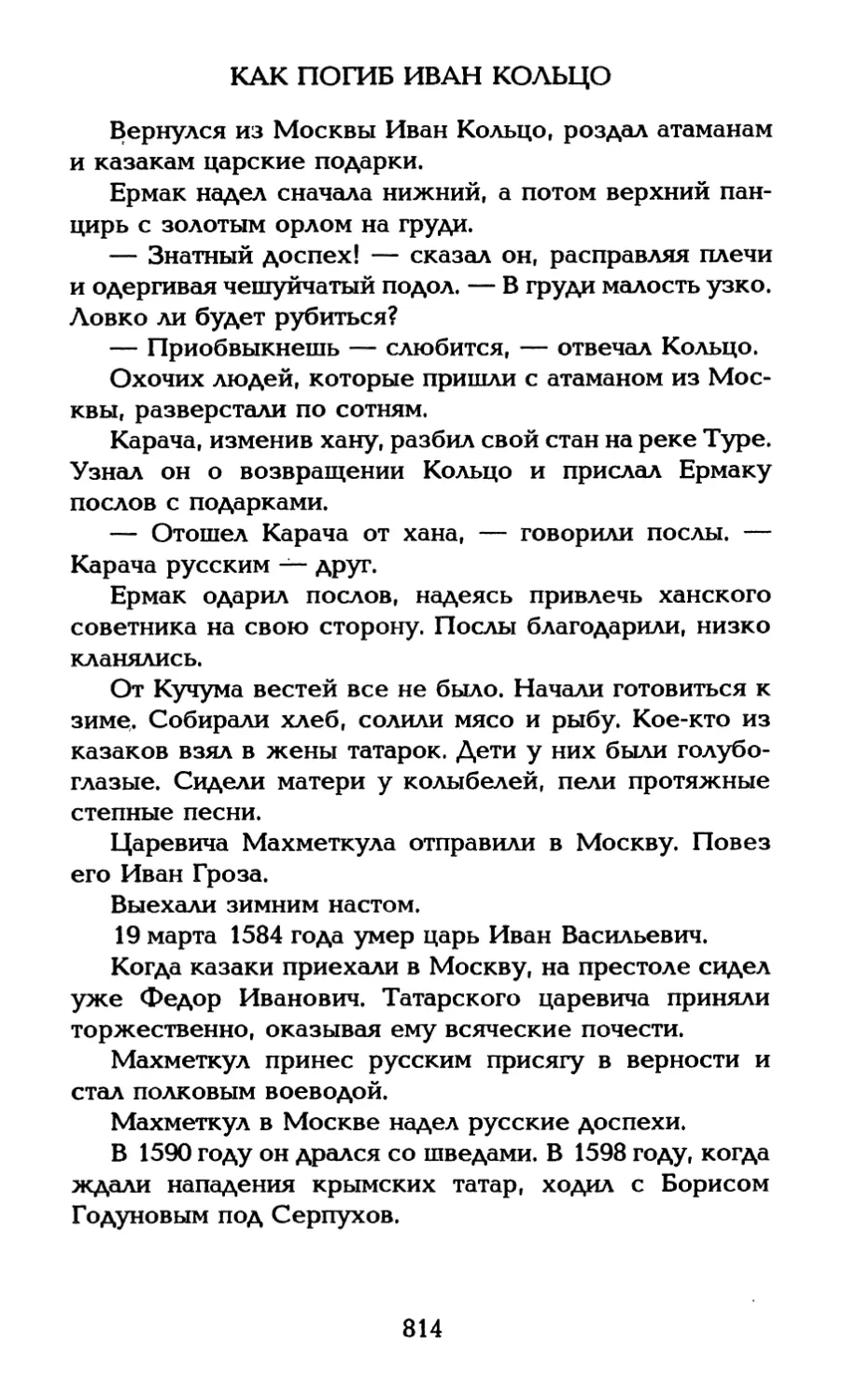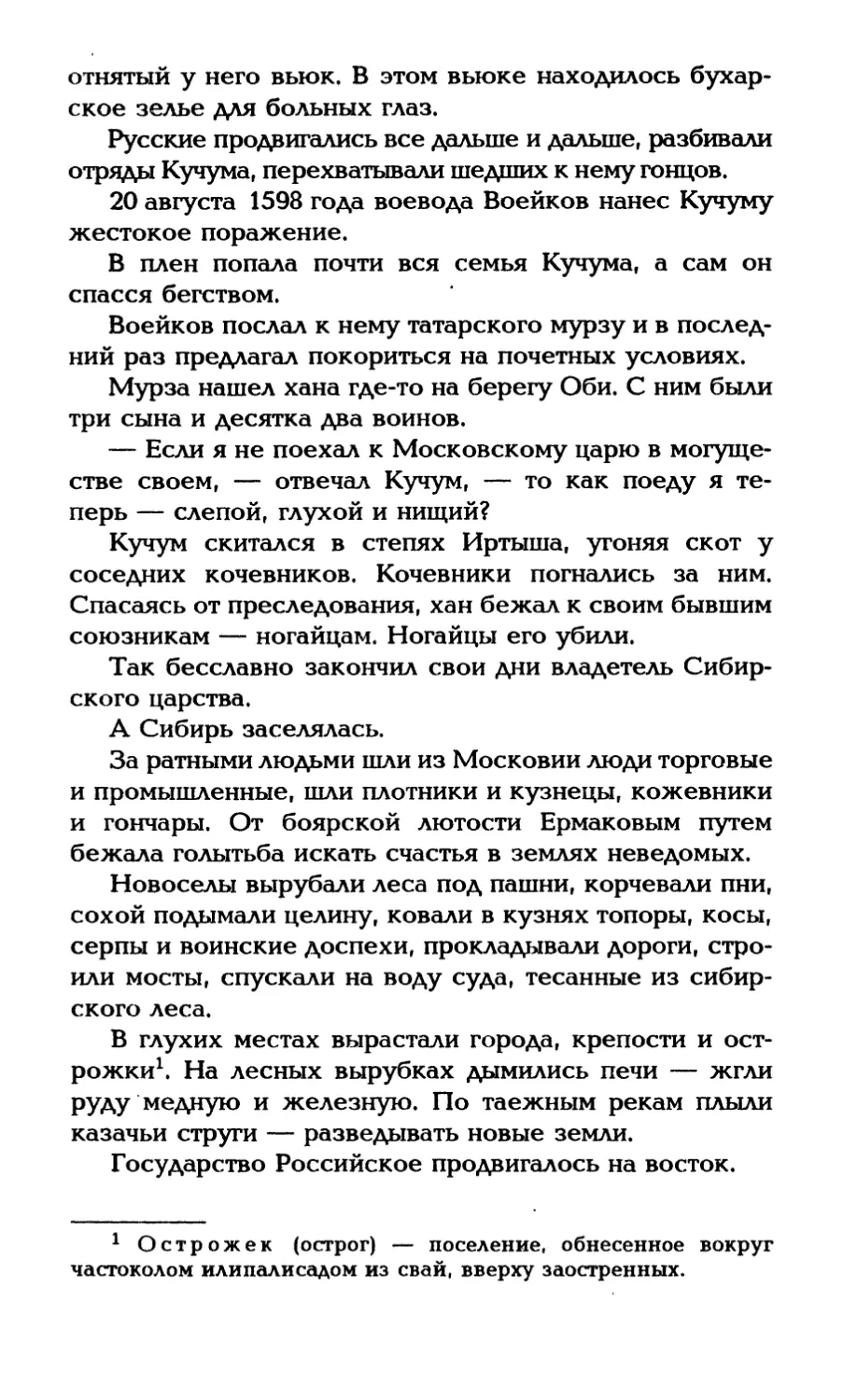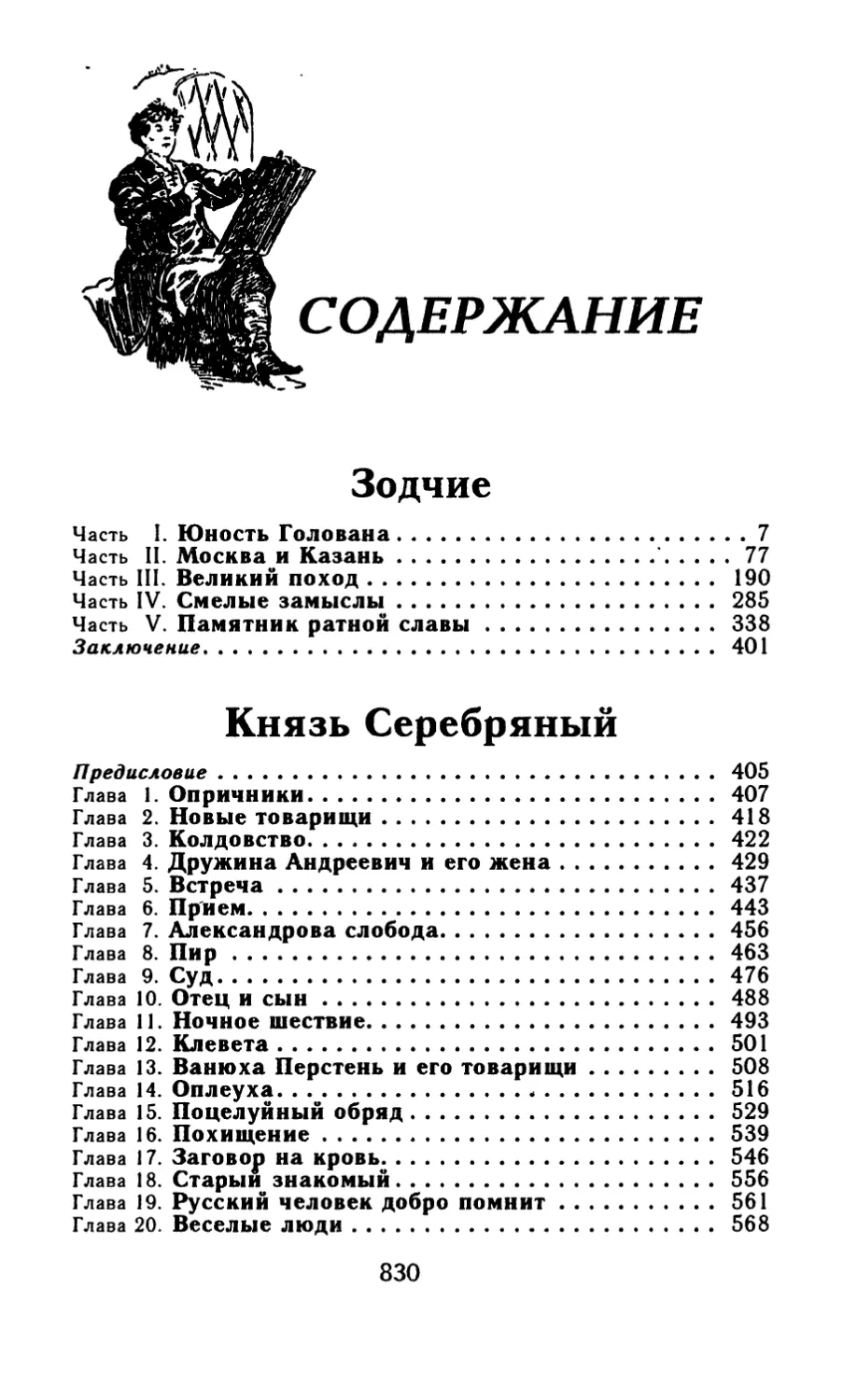Текст
ВНЕЛИОТЕКА
ИСТОРИЧЕСКОЙ
lbw'flii I
"-' БИБЛИОТЕКАМИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
< И ЮНОШЕСТВА У
С{р®дииш®
ТОМ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ
«КАРНО»
А. Волков
А. Толстой
Т. Гриц
«ж
Художники
И. Годин, Л, Парамонов, Н. Кузьмин,
О, Горбушин
«УНИКУМ»
Москва — 1995
ББК 84Р7-4
В 67
Тексты печатаются по изданиям:
А. Волков. Зодчие. М.: Детгиз, 1954.
А. Толстой. Князь Серебряный. М.: Детская литература, 1992.
Т. Гриц. Ермак. М.: Детгиз, 1961.
Редколлегия серии
«Библиотека исторической прозы для детей и юношества»:
Бородянский Л. Голубихин В. В., Калугин С. Л.,
Никитин В. Н., Саблин О. С., Шлаин П. Б.
Оформление серии, цветные иллюстрации
О. Горбу шин
А. Волков. Зодчие: Роман. А. Толстой. Князь
В67 Серебряный: Повесть. Т. Гриц. Ермак: Повесть. —
М.: УНИКУМ, КАРНО, 1995. — 832 с. —
(Библиотека исторической прозы для детей и юношества).
ISBN 5-86697-005-8
4800000000
ББК 84Р7-4
ISBN 5-86697-005-8
ISBN 5-86697-003-1 (сер.)
© «УНИКУМ», 1995
© «КАРНО», 1995
© О. Горбушин
© И. Годин
© А. Волков
© А. Парамонов
© Т. Гриц
© Н. Кузьмин
А. Волков
ЗОДЧИЕ
Худаакшпвк Ио Гфдшиш
Часть первая
ЮНОСТЬ ГОЛОВАНА
Глава I
НА ОХОТЕ
— Стреляй, Андрюша!..
Голос замер, и только свистящее дыхание показыва-
ло, как трудно человеку в смертельном единоборстве
со зверем.
Охотник и медведь, могучие, громоздкие, приникли
друг к другу точно в дружеском объятии. Спина чело-
века гнулась под косматыми лапами, но он удерживался
невероятным напряжением мышц.
— Стре... ляй...
Мальчик лет двенадцати с луком в руке стоял непода-
леку; в лице его не было ни кровинки, но серо-зеленые,
широко расставленные глаза смотрели решительно. Анд-
рюша выжидал, когда медведь окажется под прицелом.
Удобный миг настал, и мальчик решился. Стрела
впилась в голову медведя, возле левого уха. Острая боль
заставила зверя оторвать от спины охотника правую
лапу и ощупать раненое место. Лапа опустилась с силой,
сломала стрелу и загнала в рану. Зверь взревел.
7
— Испугать хочешь?
Охотник вывернулся, выхватил из-за опояски нож.
— Тятенька, тятя!
— Беги за елку! — прохрипел охотник.
Но Андрюша не подумал бежать. Вторая стрела
ударила в маленький, налитой кровью глаз зверя.
Полуослепленный медведь взревел еще яростней и
бросился на человека. Тот, отскочив, ответил могучим
ударом ножа в левый бок зверя. Смертельно раненный
медведь, падая, хватил лапой по голове охотника. Удар
смягчила шапка, и все же человек рухнул вниз лицом.
Только теперь Андрюша испугался по-настоящему.
Он бросился к неподвижному телу отца, попытался
перевернуть его. Но плотника Илью односельчане неда-
ром прозвали Большим: Андрюша не мог сдвинуть его с
места.
Долго возился мальчик около отца. Наконец Илья
опомнился.
— Живой! Живой! — обрадовался Андрюша.
Илья попытался двинуться и не мог: слабость сковы-
вала члены, голова кружилась.
— На деревню... в Выбутино беги, сынок... Мужиков
зови...
Андрюша огляделся.
Вечерело. В лесу, запорошенном снегом, было тихо.
Ближайшие ели ясно виднелись от нижних, широких лап
до острых темных верхушек. Но дальше все сливалось
в серебристо-мутном тумане. Андрюша вздохнул. По-
лянка, на которой лежал медвежий труп да слабо
шевелился раненый охотник, показалась мальчику та-
кой родной и уютной...
Однако не может же отец пролежать на снегу
долгую зимнюю ночь!
— Я пойду, тятя, пойду! А ты-то как?
— Не бойся... Я отлежусь...
Встав на лыжи и оглядевшись в последний раз,
Андрюша заспешил к дому. Вот следы. Они указывают
обратный путь. Мальчик внимательно приглядывался к
чуть видной лыжне. До Выбутина добрых полтора десят-
ка верст наберется, и не скоро вернется он с помощью...
8
Андрюша бежал, сжимая лук в руке. В лесу быстро
темнело. На беду, начал порошить снежок.
— Занесет следы, заблудишься... — со страхом шеп-
тал Андрюша.
И вот следы окончательно исчезли. Андрюша напря-
гал зрение: со всех сторон мерещились тропки. Где же
настоящая?
Мальчик упал на снег и заплакал. В лесу раздался
волчий вой.
Не разбирая дороги, Андрюша понесся по лесу.
Через несколько минут он прислушался.
Вой донесся с другой стороны.
Или он сбился с направления, или волки окружали
его. Надо было искать убежище.
Андрюша заметался среди деревьев, а волчьи голоса
слышались ближе, ближе... Он попытался вскарабкаться
на елку, но гибкие лапы опустились, осыпав его снегом.
Было от чего прийти в отчаяние. Андрюша выбежал на
поляну. Посреди стояла сосна с низко начинающимися
ветвями.
Спасение!
Быстро вскарабкался Андрюша на дерево — и вов-
ремя! На полянку выскочили волки и взвыли — не то с
досады, не то с радости. Потом обступили сосну и
уселись, как собаки, ждущие подачки.
Андрюша прижался к стволу. Время тянулось не-
скончаемо. Вдруг мальчик вздрогнул, покачнулся, а вол-
ки привскочили точно по команде. Оказывается, Анд-
рюша задремал и чуть не свалился с ветки. Он распустил
опояску, привязал себя к дереву.
Но спугнутый сон уже не приходил. Андрюше пред-
ставилось, что отец погиб, и он заплакал... Вот и дрожь
начала пробирать его. Оцепенение сковывало тело, мыс-
ли путались...
Андрюшу снял утром старый Ляпун, осматривавший
силки. Мальчик был без сознания. Соорудив салазки,
старик вез его в Выбутино, гадая, куда девался Илья
Большой.
Афимья заголосила, когда в сенцы внесли бесчувст-
9
венного сына. Она поняла, что с мужем случилось
несчастье. Андрюшу раздели, оттерли снегом. Мальчик
бормотал:
— Тятя... медьведь...
Больше ничего от него не добились.
Долго колесили охотники по лесу. Лишь к вечеру
добрались до поляны, где дрался Илья с медведем. На
снегу валялись обглоданные кости, виднелись пятна
крови.
Мужики завздыхали, понурили голову.
— Покончился наш Илья...
Вдруг старик Ляпун воскликнул:
— Стой, мужики! Из берлоги пар идет!
В самом деле, из лаза поднимался легкий пар, замет-
ный только охотничьему глазу. Кто в берлоге? Медведь
или...
Еще не веря в счастливый исход дела, мужики
двинулись к лазу, держа наготове рогатины и ножи.
— Кто добрый человек?— послышался изнутри сла-
бый голос.
Из медвежьей берлоги на четвереньках выполз Илья
Большой.
Глава II
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Силач и привычный охотник, Илья Большой быстро
поправился после рукопашной с медведем. Но Андрюша
заболел тяжело. Он лежал недвижно, сознание покида-
ло его.
— Ужели помрет? — с тоской шептала Афимья.
Все знахари из окрестностей Пскова побывали око-
ло больного: нашептывали заклинания, поили наговор-
ной водой... Мальчика уже приговорили к смерти, но он
неожиданно начал поправляться.
Кончалась зима, когда Андрюша по-настоящему при-
шел в себя, поднял отяжелевшую голову, осмотрелся
большими удивленными глазами. Все было привычное,
10
родное, и, однако, казалось мальчику, что все это видит
он в первый раз: он как будто сразу повзрослел.
Андрюша увидел себя на полатях, на куче мягкой
рухляди. Над ним навис потолок, блестевший от много-
летней копоти, точно покрытый черным лаком. До бо-
лезни мальчик любил выцарапывать на потолке узоры
острой лучинкой. Теперь узоры чуть виднелись под
наросшей пленкой свежей копоти, и Андрюша понял,
как долго он хворал.
— Мамка... — Андрюшин голос прозвучал тихо,
прерывисто.
— Родненький! Кровинушка моя! Опамятовался!.. —
Афимья быстро влезла на полати и со счастливыми
слезами приникла к сыну. — А мы уж не чаяли тебя
живым видеть... Вот-то отец обрадуется!
— Мамка, а ноне какой день?
— Суббота, сынок, суббота ноне. Ох, много мы
суббот прогоревали!
— Тятька с работы не вернулся?
— Нету, да, гляди, вот-вот придет. Уж и обрадуется!..
Илья пришел поздно, когда в светце горела лучина,
и сразу наполнил избу шумом, движением, раскатами
сильного голоса. Узнав, что сын очнулся и разговарива-
ет, Илья выразил радость по-своему: схватил Андрюшу
с полатей, закружил на руках над головой, весело
загрохотал:
— Ожил, сокол! Ничего, наша порода крепкая! Как,
Андрюшка, скоро на охоту пойдем?
— По мне — хоть завтрашний день, тятя! — бодрясь,
ответил мальчик.
Мать вздохнула:
— Угомону на тебя нет, Илья! Ребенок, сказать, из
гроба встал, а ты опять...
Плотник, бережно подсаживая Андрюшу на полати,
успокоительно промолвил:
— Да ведь мы, мать, по-шутейному. Куда парню в
лес, он и на ногах стоять не может!
Андрюша насторожился: в холодных сенцах завози-
лись, кто-то ощупью отыскивал дверь.
11
«Сбираются...» — подумал мальчик. Он любил суб-
ботние вечера, когда соседи сходились к отцу потолко-
вать о делах.
Кто-то поколотил ногой в примерзшую дверь, ото-
драл рывком. В облаке пара показался Ляпун, старик с
изможденным лицом, спаситель Андрюши. Неторопли-
во поприветствовав хозяев, он сел. Явился молодожен
Тишка Верховой, смущенно покрестился на образ, при-
мостился на конце лавки.
Разговор не завязывался. Мужики вздыхали, поче-
сывались, зевали. Начал хозяин:
— Отец Авраам грозился завтрашний день на село
приехать — оброк добирать!
— Оброк? — испугался Ляпун. — Мы же сполна
внесли, всё по уставной грамоте!1 — Старик, разгова-
ривая, размахивал правой рукой; слушая, прикладывал
руку трубочкой к уху. Ему повредил слух монастыр-
ский приказчик, ударив палкой по голове за дерзкое
слово.
— Говорят, в деньгах нужда, — пояснил Илья. —
Приедут с тиуном...1 2
— Тьфу! — злобно отплюнулся Ляпун. — Бездонную
кадку не нальешь!
— А не платить? — спросил Тишка, пощипывая
молоденькую рыжую бородку; он к ней не привык и
всегда удивлялся, нащупав на подбородке кудрявые
волосы.
— Хочешь, чтобы разорили, не плати! — сказал Илья.
— Можно, чай, к наместнику. Не по окладу, мол,
требуют!
— «К наместнику»... Молчи, когда бог убил! — рас-
сердился Ляпун. — Кто наместнику поминков3 больше
даст — ты али игумен?4 То-то и оно!
Разговор прервался. Мужики вспоминали прошлое,
1 Уставная грамота определяла повинности монастырских
крестьян.
2 Тиун — приказчик, управляющий.
3 Поминки — взятки.
4 Игумен, или настоятель, — глава монастыря.
12
те события, которые поставили их, бывших псковских
горожан, под власть монахов Спасо-Мирожского мона-
стыря.
От взрослых Андрюша Ильин не раз слышал историю
о том, как потерял свою вольность Псков.
Началось это лет тридцать назад. По старинному
договору с великими князьями в Пскове сидел москов-
ский наместник, но власть его была не велика. Городом
правили выборные посадники, а важные дела решало
вече, сходившееся по звону большого колокола.
С шумом и криком, иногда с кровопролитным боем
решались вопросы, предлагаемые вечу. Но за народны-
ми толпами, сходившимися стенка на стенку, незримо
стояли посадники, бояре, богатые купцы.
Дела вершились не по справедливости, а в пользу
наиболее сильного, кто подкупами и посулами сумел
сколотить себе самую большую партию.
Раздоры и несогласия знатных ослабляли город и
могли оставить его беззащитным перед врагом.
Великий князь московский Василий III, дальновид-
ный собиратель земли русской и умелый строитель
государства, с тревогой смотрел на псковские порядки.
Псковщина граничила с землями Ливонского ордена.
Псы-рыцари то и дело нападали на русские владения,
жгли, грабили, уводили в плен.
В последний раз немцы появились под стенами Пско-
ва в 1501 году — при отце Василия, Иване III. Ливонский
магистр Вальтер фон Плеттенберг привел пятнадцатиты-
сячное войско. Псковитяне сами сожгли посады, распо-
ложенные за городскими стенами, и храбро отбивались
от неприятеля, пока не подоспели на выручку москов-
ские воеводы Данила Щеня и Василий Шуйский.
Война окончилась бегством немцев в Ливонию. Но
они могла снова нагрянуть. И если им удастся захватить
Псков — это будет страшная угроза Московскому
государству.
В 1509 году великий князь послал в Псков нового
наместника — князя Ивана Михайловича из рода Репни-
ных-Оболенских, человека сурового и немилостивого.
13
У псковских посадников, бояр и богатых гостей 1 нача-
лись нелады с новым наместником, в Москву полетели
жалобы.
Василий Иванович приехал в Новгород в самом
начале 1510 года и приказал недовольным псковитянам
явиться к нему — получить ответ на жалобы.
В праздник крещения, 6 января, собрались посадни-
ки, бояре и богатые гости в митрополичьей палате, а
сотни младших людей стояли на морозе с непокрытой
головой. Непокорный Псков ждал решения своей уча-
сти.
Московские бояре вошли в палату величавой по-
ступью.
Прозвучали страшные для псковитян слова:
«Пойманы есте богом и великим государем..»1 2
Псковитяне опустились на колени и выслушали при-
говор Москвы:
«Вечу не быть; вечевой колокол снять и отвезти в
Москву, к его старшему брату — вечевому колоколу
Великого Новгорода; во Пскове будут сидеть два госу-
даревых наместника и решать все дела... И коли вы не
покоритесь, много прольется псковской крови...»
В числе младших людей, посланных в Новгород от
псковского простого народа, стоял на митрополичьем
дворе и дед Андрюши — Семен, Афимьин отец. Старик
часто рассказывал внуку о былых днях.
Псковитяне покорились: Пскову ли выстоять против
могучей Москвы!
Этим не кончилось. Опасаясь, что против Москвы
начнутся козни, Василий Иванович приказал: триста
знатных семей расселить по другим землям; на их месте
посадить московских дворян и раздать им поместья
изгнанных. И из Среднего Города, раскинувшегося меж-
ду реками Великой и Пековой и окруженного каменной
стеной, были выселены тысячи псковитян.
1 Гости — богатые купцы, пользовавшиеся особыми правами
2 Эти слова провозглашались в тех городах, которые прови
нились против Москвы и попадали под власть московского вели
кого князя.
14
Москвичи переехали на житье в Псков. А в Москве,
близ Сретенки1, возник целый поселок под прозванием
«Псковичи». Князь Василий III «подавал им дворы по
Устретенской улице, всю улицу дал за Устретеньем», —
говорит летопись.
Родители Ильи Большого и Афимьи тоже лишились
своих домиков в Среднем Городе; они, как и многие, не
захотели уходить от родных мест и поселились в сельце
Выбутино на берегу реки Великой, у последнего ее
порога. Но земля здесь принадлежала древнему Спасо-
Мирожскому монастырю, и вольные горожане попали
в монастырскую кабалу.
Псковитяне жалели о потере самостоятельности род-
ного города, но понимали, что без присоединения к
Москве Псков мог попасть под пяту ливонских рыцарей
и это было бы рабством. Лучше уж жизнь, хоть и
трудная, под владычеством Москвы. Таких убеждений
держались и старик Семен и зять его Илья Большой...
Раздались новые удары в дверь. Вошел староста Егор
Дубов, грузный, медлительный, с неподвижным, точно
высеченным из камня лицом.
Из вежливости помолчали. Егор спросил:
— Об чем речь, православные?
Узнав, что из монастыря приедут за добавочным
оброком, он молвил:
— А ведь боярским людям вроде полегчае...
— Славны бубны за горами! — насмешливо отозвал-
ся Илья.
— Нет, не говори! — оживился Егор. — Коли пере-
честь, что я в монастырь перетаскал с Петрова дня...1 2 и,
боже мой! Туш говяжьих две, — староста загнул па-
лец, — уток два десятка, — он загнул второй палец, —
курей три дюжины, кабанчиков два, яиц поболе четырех
сотен, меду шесть пудов...
— У меня бычка годовалого отняли! — пожаловался
Тишка Верховой.
1 Сретенка — улица в Москве.
2 Петров день—29 июня (ст. ст.).
15
— ..«масла овсяного девять кадок, — продолжал Егор,
загибая пальцы уже на другой руке, — чесноку вязок
без счету...
— Вот жрут, дармоеды проклятые! — озлобился
Ляпун.
— Это с нашего села, а сколько у них окромя
деревень! Диво, братцы, — покачал седой головой Егор
Дубов: — полсотни монахов, а какую власть над людьми
забрали!
— Им так за святую жизнь положено, — усмехнулся
Илья.
Мужики дружно захохотали.
Андрюша смотрел вниз серьезными, неулыбчивыми
глазами. Мальчик удивлялся, что мужики ругают мона-
хов. Он видел иноков в церкви; они казались тихими и
благостными, как праведники на иконах.
«Не боятся, что бог накажет...» — со страхом поду-
мал Андрюша про вольнодумцев-взрослых.
— Нет, как ни говори, — проворчал Ляпун, относя
руку от уха, — а в старое время, в вольном Пскове, не
в пример лучше жилось...
— Ты бы вспомнил сотворение мира! — непочтитель-
но фыркнул Тишка и осекся под строгими взорами
старших.
— А еще бы не лучше! — согласился с Ляпуном Егор
Дубов. — Одно то взять, как нас монастырь год от году
утесняет, свои старые грамоты рушит. Бобровые ловы
от нас оттягали — раз! Рыбные тоже — два!
Он снова пустил в ход корявые толстые пальцы.
Трудная должность выборного старосты приучила Егора
вести всему счет; и хоть мужик не знал грамоты, но
цепкая память и зарубки на деревянных бирках помога-
ли ему без ошибок собирать оброки и рассчитываться с
тиуном.
Выбутинцы любили угрюмого, неповоротливого Его-
ра за честность, за то, что, не ослабевая духом, нес он
мирскую тяготу при всякой провинности односельчан
первый скидал портки и ложился под розги.
Снова повздыхали, уставившись на стену. Там уви-
16
дели привычное: юркие тараканы спускались с потолка,
как всегда, когда прогревалась изба. К утру, лишь начнут
промерзать стены, они пустятся обратно. Знакомая кар-
тина навела Илью на размышление:
— Вот, невелика тварь, а тоже ищет, где лучше!
— Уйду из Выбутина! Вот те крест уйду! — неожи-
данно воскликнул Тишка Верховой, возбужденно крутя
бородку. Случайное замечание Ильи совпало с его
затаенной мечтой. — Надел продам и подамся счастье
искать!
— А покупщика найдешь?
— Найду!
— Вряд ли, — усомнился староста. — Ведь надобно
за тебя внести и порядное и похоромное1, сочти-ка... А
впрочем, вас с бабой двое, може и уйдешь!
— А земля?— спросил Ляпун.
— Что земля?
— Батька твой распахивал деревню1 2, ты забыл? Пни
корчевал, аж кожа на спине лопалась, да вдвоем с
маткой с поля волок! Забыл?
— Вот только что пашня... оно, конечно... — забор-
мотал Тишка и смолк.
— То-то и оно! — победоносно махнул рукой Ля-
пун. — А они то знают и из нашего брата последнее
выжимают...
Избу внезапно охватил мрак. Афимья, заслушавшись
мужичьих речей, недоглядела за лучиной. Пришлось
доставать угли из печи, вздувать огонь. Илья мягко
пожурил жену.
— А ты, баба, позорнее досматривай!
Афимья поклонилась в пояс:
— Прощенья прошу, гостеньки дорогие!
— Что я еще скажу! — вспомнил Илья. — Говорят
монахи, придет к ним с весны артель каменную церковь
ставить.
1 Порядное — налог, взимавшийся с покупателя в зави-
симости от земли и угодий; похоромное — налог с продавца.
2 Деревней в старину называли и пашню («деревня»
происходит от слова «дерево»; чтобы поставить деревню, надо
было вырубить деревья).
17
Лица мужиков омрачились.
— Не было печали... — прошептал Егор Дубов. —
Старых мало?
— Изветшали, вишь, того гляди обвалятся...
— Эх, — безнадежно махнул рукой староста, —
теперь пойдет! То ли будем, то ли не будем сеять этот
год. Уж я знаю, подводами замучают: кирпич вози, лес
вози...
— Вот оно, мужицкое житье: как вставай, так за
вытье! — произнес Ляпун и, кряхтя, поднялся с лав-
ки, — Прощевайте, дорогие соседушки!
Он шагнул к двери, за ним Егор с Тишкой.
— Милости просим нас не забывать! — кланялись
хозяева.
С этого вечера выздоровление Андрюши пошло бы-
стро. Понемногу он начал ходить по избе, с трудом
держа на плечах большую, не по возрасту, голову с
высоким выпуклом лбом.
Ребята смеялись на Андрюшей: не голова — котел!
— Голова, вишь, к богатырю метила, а к тебе по-
пала!
— А может, я богатырь и есть? — спрашивал
Афимью тонким голоском маленький Андрюша.
Мать горько усмехалась:
— Богатыри, сынок, ведутся не от нашего порожде-
ния, а от княжьего да боярского...
Вот за эту-то несоразмерную свою голову Андрюша
еще в раннем детстве получил прозвище Голован.
Большую Андрюшину голову покрывали густые тем-
ные вихри. С непокорными волосами сына Афимья не
могла справиться. Немало масла извела — и всё без
пользы. Прохожая странница посоветовала:
— А ты двенадцать вечеров подряд медвежий жир
втирай: мягчит, родимая!
Но и медвежий жир, не переводившийся в доме
охотника, не помог.
18
Глава III
ПЕРВЫЕ ТРУДЫ
Когда Андрюша почувствовал, что руки его окрепли,
он сказал:
— Мамынька, дай доску — рисовать стану.
Афимья уронила радостную слезу.
— Уж коли рисовать берешься, значит и вправду на
поправку пошло.
Дарование Андрюши Ильина проявилось рано.
Мальчик видел красоту там, где другие равнодушно
проходили мимо. Андрюша собирал вырезанные лапча-
тые листья клена, опавшие осенью: он выкладывал из
них красивые узоры. Игра солнечных пятен на лужайке
под старым дубом заставляла Андрюшу забывать всё на
свете. Как зачарованный стоял он и смотрел, смотрел...
Родители ходили к обедне в Спасо-Мирожский мо-
настырь. Андрюша уставал за долгой и скучной церков-
ной службой; он уходил на кладбище срисовывать ка-
менные надгробия.
Удачные рисунки отец сберегал. Лучший плотник в
окрестностях Пскова, Илья Большой вырезал на досках
любые узоры, деревянными кружевами украшал карни-
зы крыш, ворота, наличники окон. Искусство сына он
понимал и ценил.
Когда Андрюше исполнилось десять лет, отец стал
брать его на работу.
— Приучайся, сынок! Мы, плотники, как дятлы, век
по дереву постукиваем...
Мальчик полюбил ранние выходы из дому. Весело
было шагать по скрипучему снегу за высоким, сильным
отцом, приятно ощупывать заткнутый за пояс, как у
заправского плотника, топорик...
Мышцы у Андрюши окрепли, развился глазомер,
рука привыкла отесывать бревно точно, по нитке.
Больше всего любил мальчик крыть с отцом крыши.
Ему нравились смешные плотничьи слова, которым рань-
ше придавал он совсем иной смысл.
Бык на селе большой, рыжий, злой; не раз мальчишки
19
спасались от него за заборами. А тятька ставит «быки»
на сруб, врубая один конец в «подкуретник» — верхнее
бревно стены, а другой в «князевую слегу» — венчаю-
щий брус крыши.
Еще занятнее называл отец крайние стропила крыши:
«курицы». Длинный брус курицы внизу заканчивался
изогнутым корнем, предназначенным поддерживать во-
досток.
— Тятенька, корень мне обтесывать! — всегда дого-
варивался Андрюша.
Отец давал ему волю. Плотно сжав губы, почти не
мигая, мальчик всматривался в очертания корня. В такие
мгновения он не видел окружающее. И чудилось ему,
что из дерева проступает невиданная птичья голова или
морда страшного зверя...
— Поймал! Поймал тебя! — торжествующе вскри-
кивал Андрюша и начинал работать.
Илья дивился его неистощимой изобретательности.
Андрюша не повторялся: всегда новые изображения
выходили из-под его рук. Деревенские мальчишки, Ан-
дрюшины приятели, теснились вокруг резчика, с востор-
гом наблюдая рождение причудливой головы.
На быки и курицы, схваченные поперечинами, нако-
лачивался золотисто-желтый, пахнущий смолой тес; что-
20
бы не сорвало его ветром, тес прижимался по верхнему
ребру крыши «охлупнем».
Тут опять работа Андрюше: корневище охлупня об-
делывалось в форме конской головы. Так родилось
выражение «конек крыши».
В окрестности знали и уважали Андрюшу Ильина не
только ребята, но и взрослые.
— Золотые руки! — говорили о маленьком работнике.
Плотник Илья Большой был страстный охотник. Бы-
вало крепился мужик и два и три месяца, исправно
ходил в монастырь на работу, но становился все угрю-
мей, неразговорчивей. Тогда и монастырский келарь1
Авраам и семейные знали: скоро Илья сбежит в лес.
Он уходил тайком, до рассвета, заготовив нужный
припас с вечера. Афимья, притаившись на печке, с
улыбкой слушала, как муж бесшумно движется во
мраке, собирает пожитки, достает из-под печки топор,
подвязывает на спину сумку. Но боже упаси пошеве-
литься, показать Илье, что она не спит. Он яростно
швырял топор под печку, закидывал куда попало котом-
ку и целый день ходил чернее тучи.
Илья верил, что только тогда охота будет удачной,
если удастся убраться из дому незаметно и до самого
леса никто не попадется на дороге.
Дней пять, а то и больше Илья пропадал в лесу и
возвращался с богатой добычей: то тащил медвежьи
окорока, завернутые в косматую шкуру, то привозил на
самодельных салазках тушу лося. Белок и горностаев,
чтобы не портить шкурок, бил Илья стрелой в глаз.
Илья приходил домой веселый, оживленный, разго-
ворчивый.
— Отвел душеньку! — посмеивался он над своей
неуемной страстью. — Ах, и до чего хорошо в лесу! Век
бы оттуда не вышел...
Из охотничьих трофеев Ильи львиная доля достава-
1 Келарь — помощник игумена, ведавший хозяйством мо-
настыря.
21
лась игумену Паисию и келарю Аврааму; поэтому мона-
стырское начальство снисходительно относилось к ис-
чезновениям Ильи.
Оброк Илья отрабатывал натурой: в монастыре до-
вольно находилось дел по плотничьей части. А если у
монахов делать было нечего, рачительный келарь отпу-
скал Илью на заработки в соседние деревни, за что
плотнику опять приходилось платить.
Возвратившись с охоты, Илья работал с особенным
старанием, расплачиваясь за долги, которые умел насчи-
тывать на крестьян келарь Авраам. Но проходило время,
топор начинал валиться из рук плотника: лес вновь
манил Илью.
Обучая сына плотничьему мастерству, Илья Большой
старался вдохнуть в него и любовь к охоте. Андрюша,
как и его товарищи, стал обучаться стрельбе из лука с
семилетнего возраста.
— Стрельба лучная, — объяснял Илья сыну, —
всякому человеку годится. Не только охотнику, но и
воину лук — помощь и защита. А воином, сынок,
недолго стать. Набегут немцы — всем подыматься!..
Уже первые упражнения потребовали от Андрюши
большой силы воли. Мальчик стоял неподвижно два-три
часа, крепко сжимая в руке гладкую палку: этим разви-
валась сила пальцев, крепкая хватка. Потом отец сделал
Андрюше маленький лук, учил целиться, считаясь с
силой и направлением ветра. С годами лук становился
длиннее, тверже, все больше силы требовалось, чтобы
натягивать тугую тетиву.
Андрюша стал искусным стрелком и горячо полюбил
охоту. Отец и сын уходили в лес вдвоем. Афимья
горевала и ждала возвращения охотников. Все шло
благополучно до последней, роковой охоты, которая
надолго уложила мальчика в постель.
Хорошую избу построил себе Илья Большой, когда
обветшала старая избушка, поставленная тестем Семе-
ном после изгнания из Пскова. Трудов своих строи-
тель не пожалел, а лесу вокруг сколько хочешь. Изба
22
Ильи стояла на высоком подклете: там помещались
телята, куры. Крестьянские избушки обычно рубились
о семи-восьми венцах; взрослые влезали в низенькую
дверь скрючившись; распрямляясь, чуть не стукались
головой о балку. А Илья поставил жилую горницу о
двенадцати венцах; высокий хозяин едва доставал ру-
кой потолок.
Мужики полушутя-полусерьезно звали жилье Ильи
Большого хоромами. Оконные наличники и ставни, кар-
низы крыши — все было изукрашено резьбой.
Окно — око избы. Крохотные, подслеповатые окош-
ки, словно маленькие глазки человека, придавали из-
бушкам выбутинцев кислое, неприятное выражение.
Хоромина Ильи смотрела весело, открыто, как и ее
владелец — шумный, гостеприимный, добродушный. И
недаром именно у Ильи собирались мужики провести
субботний вечерок, единственный в неделе, когда над
душой не висела мысль о завтрашней работе.
И все-таки изба топилась по-черному, как и все
маленькие, бедные избушки: деревня тогда не знала
печей с дымовыми трубами. В курных избах сажа
покрывала стены и потолок, свешивалась сверху клочь-
ями. Большие и малые — все ходили чумазые, как
трубочисты. Дым и грязь никого не смущали.
«То не беда, когда дымит густо, — рассуждали
мужики, — а то беда, когда в брюхе пусто!»
Заботливая Афимья не терпела неряшества: целый
день она скребла и мыла горницу или убиралась в
поклете.
Изба Ильи Большого стояла на берегу Великой, чуть
пониже последнего, самого грозного порога реки, там,
где она начинает плавный бег по равнине к недалекому
Псковскому озеру.
Великая...
Какое очарование скрыто в имени реки, близ кото-
рой ты родился и вырос, в которой купался жаркими
летними днями, по льду которой скользил на самодель-
ных коньках...
Лет в десять-одиннадцать Голован прослыл первым
23
пловцом в Выбутине. Было у деревенских ребят особое
удальство, грозившее гибелью и потому манящее.
Целой ватагой уходили мальчишки за водопад и
бросались в упругие, звенящие струи, чтобы выплыть на
другой берег чуть повыше того места, где круто падал
уровень воды и где течение приобретало неудержимую
силу...
Стоило не рассчитать, ослабеть в борьбе с быстри-
ной — и смельчака утаскивало в ревущий порог, откуда
не было возврата. Так случалось почти каждый год. Но
заходить слишком высоко никто не решался: над осто-
рожными смеялись.
В опасной забаве Голован был первым: никто не
бросался в стремительный поток ниже его, и изо
всей гурьбы пловцов он достигал противоположного
берега раньше всех.
Глава IV
НЕСЧАСТЬЕ
После памятной охоты на медведя и ночного сиденья
на дереве Голован болел долго, но, поправившись, по-
шел в рост и стал набираться сил.
Весной отец усадил Андрюшу за псалтырь1. Илья
умел читать и писать, что было редкостью на деревне.
По целым часам сидел мальчик за толстой книгой в
деревянном переплете и водил пальцем по закапанным
воском страницам.
Его тянуло на волю; год назад он сбежал бы на речку
с веселыми товарищами, но теперь не отходил от книги,
пока не кончал урок. К концу лета Андрюша читал
свободно.
Монахи не по-пустому толковали о новой стройке:
Паисий, настоятель Спасо-Мирожского монастыря, на-
чал ставить каменную церковь.
Исстари повелось: Псков славился каменных дел
1 Псалтырь — церковная книга, по которой в старину
учили грамоте вместо азбуки.
24
мастерами. Псковских
искусников приглашали
повсюду, где затева-
лось строительство
больших каменных зда-
ний или городских стен.
В Новгороде, Ярослав-
ле, Костроме и в самой
белокаменной Моск-
ве — всюду бывали
псковские мастера,
возводили палаты, хра-
мы, укрепленные баш-
ни... Паисию за масте-
рами не пришлось дале-
ко ходить. Церковь взялся строить известный на Псков-
щине Герасим Щуп с товарищами.
Мрачные предчувствия выбутинского старосты Егора
Дубова оправдались полностью: монастырь завалил кре-
стьян работой на стройке.
На каждую семью пала повинность: либо дай мужи-
ка-работника, либо подводу с лошадью. А так как мужик
берег коня пуще жены и детей и не мог доверить его
чужому присмотру, то с подводой отправлялся кто-ни-
будь из членов семьи.
Старик Ляпун, вытаскивая из грязи телегу с тяжелым
грузом кирпича, надорвался и медленно чах, проклиная
монашеское корыстолюбие. Илью Большого поставили
главным по плотничным работам. Безлошадный Тишка
Верховой пошел на постройку чернорабочим.
И хуже всего было то, что эта тяжелая повинность
не засчитывалась в оброк. Оброк шел своим чередом.
Напрасно угрюмый Егор Дубов проявил несвойст-
венное ему красноречие, уговаривая игумена и келаря
записать мужикам в счет подати хоть часть работы на
постройке.
— Богу работаете, не людям! — строго отвечал
Паисий. — Монастырю подайте, что по грамоте поло-
жено, а для господа сверх сего постарайтесь!
25
— Отче преподобный, да когда же сверх-то?— взмо-
лился Егор. — И так на работе кишки повымотали.
Ляпун-то кончается...
— Помрет — похороним за свой счет и поминать за
службами безвозмездно сорок дён будем, — хладно-
кровно возразил игумен.
Упрямый Егор добрался с жалобой до государева
наместника во Пскове, но старосту, как смутьяна, вы-
пороли на наместничьем дворе: келарь Авраам раньше
побывал у наместника с богатыми дарами.
Делать было нечего: мужики отдувались за всё.
На монастырскую стройку вместе с отцом пошел и
тринадцатилетний Андрюша: он еще не видел, как воз-
водятся каменные здания.
— Присматривайся, сынок! — ласково говорил
Илья. — Рад буду, коли полюбится тебе каменное дело.
По плотницкому мастерству ты, сказать, все прошел, а
лишнее ремесло за плечами не виснет. Да и размах шире
у каменных дел мастера: каменное строение вековеч-
ное, а деревянное — до первого пожара...
Герасим Щуп полюбил грамотного и усердного па-
ренька и взял в ученье. Зодчий задавал Андрюше вы-
черчивать своды, колонны, заставлял придумывать узо-
ры. И если Головану удавалось набросать новый изящ-
ный узор, учитель говорил:
— Вот мы и пустим его в дело. Пускай в этом храме
и твоя малая доля живет. Ничего, что люди не узнают
имени строителя: человек порадуется твоему творе-
нию — вот и награда!..
Зодчий учил Андрюшу составлять замесы для камен-
ной кладки; по весу и звону кирпича, когда им ударяют
о другой кирпич, узнавать, годится ли он в дело; учил
проверять правильность кладки отвесом и уровнем...
Один из жарких июньских дней 1539 года на всю
жизнь запомнился Андрюше.
каменщики, в белых рубашках с расстегнутым воро-
том, в холщовых портках, обливались потом. Их босые,
избитые до крови ноги цепко ступали по зыбким мост-
кам. Герасим бесстрашно ходил по краю стены, возве-
26
денной сажень1 на семь. Голован сидел в тени на груде
бревен. Тополя щедро сыпали на мальчика нежный пух,
с вершин деревьев доносился немолчный вороний грай.
Андрюша рассеянно смотрел вокруг. Спасо-Миро-
жский монастырь был не из богатых: облупленные
церквушки с куполами-луковками под ржавым желе-
зом, позолота с крестов облезла, монашеские домики-
кельи пошатнулись в разные стороны... Каменная стена
с раскрошенными зубцами окружала монастырь. На
всем следы ветхости и запустения.
В монастырь шло немало приношений от доброхот-
ных даятелей, но они залеживались во вместительных
сундуках игумена и келаря.
«Жарко... — думал разморенный Андрюша. — От-
прошусь у наставника искупаться...»
Мальчик не успел подойти к Герасиму: на стройке
началось усиленное движение. Каменщики быстрее за-
бегали с ношами кирпича, творившие замес проворнее
замахали лопатами в большом чану. На стройку пожа-
ловал настоятель монастыря игумен Паисий.
Коротконогий и толстобрюхий, с рыжеватой боро-
дой веером, игумен шагал важно, с развальцем, из-под
лохматых бровей зорко смотрели заплывшие глаза.
Служка тащил за игуменом кресло.
Ряса у игумена была из дорогой ткани, нагрудный
крест искрился на солнце алмазами.
Утомленный Паисий приостановился; служка ловко
подставил кресло. Монах сел, из-под руки посмотрел на
высокую стену. К нему подбежал с докладом костля-
вый, остробородый Щуп.
— Худо строите! — разразился игумен. — С пятницы
стену на аршин2 не подняли!
— Отче игумен, больше подняли!
— Лжешь, грешник!
— Отче преподобный, промерь! — с лукавой усмеш-
кой предложил зодчий.
1 Сажень — старинная мера длины, немного больше двух
метров.
Аршин — старинная мера длины, равен 71 сантиметру.
27
Игумен взглянул на семисаженную стену, на зыбу-
чие кладки...
— Вдругорядь займусь, — прогудел он и двинулся
дальше.
Щуп шел позади Паисия.
— Богу, не людям работаете, — брюзжал игумен. —
Вы лишь о суетном думаете, об утробе заботитесь...
Осмотр постройки прервался возвращением мона-
стырского сборщика отца Ферапонта. Игумену перенес-
ли кресло в тень тополей, где укрывался от жары
Голован. Ферапонт, высокий мужчина с угрюмым лицом
и резкими ухватками, подошел к игумену под благосло-
вение, сдал запечатанную кружку, в которую опуска-
лись подаяния:
— Благослови, отче, в мыльню с дороги сходить!
— Успеешь! — буркнул Паисий, взвешивая кружку
на руке.
Игумен распечатал кружку и высыпал содержимое
на рясу, раздвинув колени. Потное, красное лицо его
еще больше побагровело от досады: перед ним груди-
лась медь, и лишь кое-где сиротливо поблескивали
серебряные деньги.
— Ты что, окаянный, — возвысил бас игумен, —
смеешься? Серебро выудил?
— Освидетельствуй печати, отче! — хладнокровно
возразил Ферапонт.
— «Печати»!.. Вы черта из-под семи печатей выкра-
дете! Пропил? Признавайся!
— Вот те бог, отче!..
— А кто тебя в позапрошлую среду видел в Сосновке
в корчме?
— Отец Калина! — ахнул сборщик. В живых злобных
глазах его мелькнул испуг.
— То-то, отец Калина! — торжествовал игумен. —
За такую провинность в железах заморю... Эй, позвать
келаря! На чепь нечестивца, в подвал!
Это было жестокое наказание. При всей своей сме-
лости Ферапонт побледнел; он упал перед игуменом в
мягкую пыль двора:
28
I
Щуп шел позади Паисия.
— Прости, отче святой! Бес попутал... Последний раз
согрешил... Поставь на каменное дело! Заслужу!..
— Не помилую, не жди! — Игумен ткнул ногой
валявшегося монаха.
Убедившись, что просьбы не помогут, Ферапонт
встал, выгнул колесом грудь.
— Ну, попомнишь, игумен! — яростно проревел
он. — Хрест на пузо навесил — так мыслишь, первый
после бога стал? Святых иноков голодом заморил, стя-
жатель! В монастырь изо всех деревень и жареным и
пареным волокут, а вы с келарем всё в город на продажу
гоните...
— Когда гоним? Когда? Ты видел?— рассвирепел
Паисий.
— А и видел, хоть вы по ночам обозы отправляете...
Мужики бросили работу и прислушивались с удо-
вольствием: перебранка монахов открывала многое, что
прежде было тайной. Паисий и Ферапонт, разгорячась,
поносили друг друга ругательными словами.
На дворе показались два инока с цепью. Увидев, что
его свободе приходит бесславный конец, Ферапонт
остервенился, сшиб с ног служку и бросился бежать.
Подобрав полы рясы, патлатый, буйный, он несся огром-
ными скачками.
— Держи злодея, держи! — орал игумен.
Встревоженные вороны с неистовым карканьем кру-
жились в воздухе.
— Улю-лю, улю-лю! — озорно кричали и свистели
каменщики. Никто из них не тронулся с места.
Монахи погнались за Ферапонтом, а тот проскочил
в калитку, грозно подняв пудовый кулак над присевшим
от страха привратником, бросился в Великую и огром-
ными саженками поплыл к другому берегу.
Охотников преследовать беглеца не нашлось.
Строители нехотя вернулись к прерванной работе.
Надо было поднять наверх тяжелую балку. Ее подцепи-
ли канатами, продели канаты в векши1. Начался трудный
подъем;’ огромное бревно медленно ползло вверх.
1 Векша — блок.
30
Зазевавшийся Тишка Верховой споткнулся, канат
пополз из его потных рук.
— Ой, смертынька! — раздался тоскливый крик. —
Не сдержать!
Под тяжестью балки пополз канат из рук и у других.
Бревно поехало с высоты назад. Оно угрожающе накре-
нилось и, казалось, вот-вот рухнет, сокрушая подмост-
ки, калеча и убивая людей.
На подмогу примчались Герасим Щуп и Голован,
схватились за веревку. Но равновесие нарушилось,
усилия людей не помогали. Поднялся шум:
— Держи! Спущай!
— Подтягивай! Подтяги-и-ва-ай!
— Бежим прочь, ребята!
— Де-е-ержи!..
На подмостки выскочил из недостроенного пролета
Илья Большой:
— Криком изба не рубится!
Он схватился за канат. С неимоверной натугой де-
ржал он тяжесть, пока мужики не взбежали наверх и
не помогли ему. Балку втащили.
Илья, шатаясь, спустился.
— Ноет рука, — признался он.
Келарь Авраам отпустил Илью с наказом завтра
явиться пораньше. Тишку Верхового за провинность
отпороли солеными розгами так, что он отлеживался две
недели. Но Илье это не помогло: он не вышел на работу
ни на следующий день, ни через месяц. Невыносимая
боль сверлила и днем и ночью правую руку. Потом боль
утихла, но рука высохла,: плотник повредил сухожилие.
Илья Большой стал калекой, но не пал духом. Работая
и учась под старость так же упорно, как смолоду, Илья
наловчился и левшой делать кое-какие немудреные
поделки. Но слава и цена ему как плотнику упали.
Больно переживал Илья, что не бродить ему больше
по лесам с рогатиной, тугим луком и запасом стрел. Всю
охотничью страсть отдал мужик рыбной ловле. На ве-
черней и утренней заре часто сиживал он на берегу
Великой, склонившись над удочками...
31
Глава V
НЕОЖИДАННАЯ УГРОЗА
Прошло несколько месяцев. Когда окончательно вы-
яснилось, что Илья лишился руки, его вызвал игумен.
— Так-то, чадо, — пробасил Паисий, поигрывая
нагрудным крестом. — Посетил тебя господь, видно, за
грехи. Уж ты монастырю не работник, и нам тебя
ненадобе. Выселяйся-ка из Выбутина.
— Как выселяться?— бледнея, спросил Илья. — А
изба моя? Куда же я денусь?
— Сие — не моя забота. Да ты не печалуйся: бог и
птиц небесных питает, а они ни сеют, ни жнут; найдешь
и ты приют...
Кое-как упросил Илья игумена оставить его в Выбу-
тине. Настоятель согласился только потому, что Илья
был крестьянин непахатный, земельного надела не имел.
За это «снисхождение» Илья обязался платить по рублю
на год — немалые деньги для крестьянина.
Илья стал делать на продажу корыта, коромысла,
кадочки. По вечерам ему помогал сын, и работа спори-
лась. Раза два в месяц брали лошадь у Егора Дубова и
везли наготовленный щепной товар в город, на рынок.
Распродавшись, Илья и Андрюша закупали муку, мясо
и прочее съестное.
Жизнь стала налаживаться, но спокойствие семьи
нарушили новые притязания игумена Паисия.
Илье Большому приказано было вновь явиться к
настоятелю и с сыном.
Дородный и краснощекий Паисий утонул в кожаном
кресле; ноги его нежились на медвежьей шкуре, пода-
ренной Ильей после удачной охоты. Илья и Андрюша
почтительно стояли у порога с шапками в руках.
Не бедно жил Паисий. Просторную игуменскую
келью со слюдяными окошками обогревала нарядная
изразцовая печь. Лавки устланы коврами. Передний
угол уставлен иконами в драгоценных окладах; перед
иконами горели толстые восковые свечи. В огромных
окованных сундуках хранилось игуменское добро.
— Вот, чадо, — обратился к мальчику Паисий роко-
32
чущим басом, — невдолге кончится наше строительство,
и твой наставник Герасим покинет сии места. А ты что
на мысли держишь?
Голован покраснел и не вымолвил ни слова. Ответил
отец:
— У отрока своего ума нет, отче игумен, за него
родители думают.
— Сие правильно! — одобрил игумен. — Как же ты
полагаешь, Илья? Не смекал о сем? Так вот мое слово:
отдал бы Андрея к нам в монастырь. Грамоте он, ведаю,
обучен, и житие ему у нас будет беспечальное, легкое...
В миру скорбь, забота, в миру грех повсюду ходит, а у
нас тишина, у нас все помыслы ко господу. Сладостен
труд жизни подвижнической!.. Ну-ка, что на сие ответ-
ствуешь?
А сам думал: «Сладостно я пою, аки рыба сирена,
про которую в древних баснях повествуется. Будто и не
стоило бы мужичье уговаривать, да парень нужный,
пользу от него большую можно получить...»
Илья и Андрюша молчали. Опущенные к земле глаза
мальчика наполнились слезами. Настоятель пытливо
вглядывался в лица отца и сына, стараясь разгадать их
мысли. Не дождавшись ответа, снова начал убедительно
и мягко:
— Может он у нас изографом1 стать: ведаю, у него
на то талант. А у нас дело найдется: ты видел, как лики
угодников потемнели. Поновить, ох, как надо поновить
святые иконы! И сие есть дело богоугодное. Опять и то,
Илья, в толк возьми: был ты могутной мужик, а стал
калека. Сынок мал, тебя с бабой прокормить не в силах.
Да он же к крестьянскому труду и не способен. Вишь,
у него голова-то, оборони ее Христос, совсем не по
тулову. Где ему мужичьи тяготы снести! Под оконьем с
сумой ходить станете... А коли сделаешь по-моему,
монастырь всю вашу семью призрит, опекать будем
даже и до смерти вашей. И рубль на год за пожилое1 2,
что ты обязался платить, прощу... Решай!
1 Изограф — иконописец.
2 Пожилое — налог за право проживания.
33
2-769
— Убожеством меня, отче, не кори, — угрюмо сказал
Илья: — убожество я на вашей же работе заполучил!
Кабы я крестьянские избы строил, той беды со мной не
случилось бы...
— На всё божья воля, — успокоительно прогудел
игумен.
Илья был на этот счет другого мнения, но высказать
его не решился: с настоятелем ссориться не приходи-
лось. Выгонит из села — и ступай на все четыре стороны.
— Какова твоя думка, сынок?— ласково обратился
Илья к Андрюше.
Долго сдерживаемые слезы покатились из глаз маль-
чика. Всхлипывая, он прошептал:
— Не знаю, ничего не знаю, тятенька! На твоей я
воле...
Илья задумался. Потом поклонился, заговорил тихо:
— Такое дело, отче, одним часом не решается,
великое надо размышление. Мне слово сказать, а Анд-
рею целой жизнью за то слово расплачиваться...
Голован благодарно пожал здоровую руку отца. Как
ни слабо было пожатие, Илья его почувствовал и понял.
И еще решительнее закончил:
— Земно кланяюсь, отче игумен, за великие твои
милости! Ответ дам в скорых днях.
Илья и Андрюша поклонились Паисию в ноги, при-
няли благословение и вышли. Тень досады скользнула
по упитанному лицу игумена и исчезла.
— Будет по-моему! — прошептал он. — Деваться им
некуда.
Дни шли, а решение Андрюшиной судьбы все откла-
дывалось. Илья понимал, что монашество — несчастье
для мальчика: оно разобьет все его надежды на будущее.
Но прямо отказать Паисию Илья не решался: он знал
злобный, мстительный характер монаха.
Однако долго тянуть с ответом не приходилось:
Паисий не раз присылал служку с напоминанием, что
Андрюшу ждут в монастыре.
Субботним вечером у Ильи собрался маленький со-
вет: обсудить дело пришли полюбивший мальчика Гера-
34
сим Щуп и староста Егор Дубов. Андрюша, лежа на
полатях, с затаенным дыханием прислушивался к разго-
вору, который должен был решить его участь.
— Я б взял мальца в свою артель, —г сказал Гера-
сим. — Хоть он еще и невелик, а работать способен.
Хлеб свой завсегда оправдает.
— Что ж ты раньше молчал, родной! — обрадовался
Илья. — Сделаешь парня мастером, чего лушче!
— Оно-то так, — задумчиво заметил Щуп, — да дело
не за мной. Уж очень игумен разлакомился Андрея
залучить: знает, что от того большая выгода будет. Для
новой церкви иконостас1 нужен. Резчикам да изографам
платить надо — сундуки порастрясти, а отец Паисий
того ох как не любит!
— На своей спине знаем, как он корыстен, — мрачно
отозвался Егор.
— Андрей в возраст входит, через годик-другой
настоящим работником станет. И новую церковь испод-
воль отделает за одни харчи, а они Паисию ничего не
стоят...
— Недаром он мальчонку охаивал, — грустно усмех-
нулся Илья. — «Он, вишь, и слаб и ни к какому делу не
годен, опричь как сидеть в келье да иконы писать...»
— Лжа то, тятенька, лжа неистовая! — горячо вме-
шался в разговор Андрюша. — Али я немощный какой?..
— Молчи, сынок, когда старшие разговаривают, —
внушительно прервал сына Илья.
— Вот я и говорю, — продолжал Герасим, — отберет
у меня игумен Андрея. Артель моя на дальние работы
не ходит, все тут же, близ Пскова бьемся. И настоятель
нас всюду досягнет.
— Давно ведомо, что у монахов руки загребущие, —
снова вставил слово Егор Дубов.
Все замолчали надолго. В светце трещала лучина.
Тихо постукивал деревянный стан работы Ильи. На этом
1 Иконостас — перегородка, отделяющая церковный ал-
тарь, где находится священник, от молящихся. На иконостасе
рисуются изображения святых, он часто украшается красивой
резьбой.
2*
35
стане Афимья ткала холсты из суровых ниток, напря-
денных ею из кудели. Руки Афимьи привычно продер-
гивали челнок сквозь основу, ступня равномерно нажи-
мала подножку, но мысли женщины были о сыне. Глу-
боко верующей Афимье казалось, что монашество для
сына не такая уж большая беда. Монахам житье при-
вольное, работы мало, знай молись да молись. Станет
Андрюша монахом — родительские грехи отмолит. Но
высказать свои мысли вслух Афимья не решалась: ей
ли, бабе, соваться в мужские разговоры!
Молчание прервал Герасим Щуп.
— Есть у меня одна думка, — сказал мастер, пощи-
пывая свою козлиную бородку, — да не знаю, по душе
ли она вам придется. Работает сейчас во Пскове зодчий
Никита Булат — крепостные стены поновляет. Прямо
скажу: это зодчий, не мне чета. Большой мастер! Вот
кабы он Андрюшу в ученье взял...
— А какая разница?— удивился Илья. — Так же и у
него парня настоятель отберет, как у тебя.
— Тут другое дело, — возразил Щуп. — Булат из
дальних краев, он родом суздальский. Оттоле много
славных мастеров вышло.
— Как же он к нам, во Псков, попал?— спросил
Илья.
— Призвал его наместник, он Булата в Москве знал.
— Где нам с большими людьми водиться! — вздохнул
Илья. — Уж коли его государевы бояре знают, он с нами
и разговаривать не станет.
— Он не из таких, — уверил Герасим. — Сам он
простого роду и хотя знатным известен, а чванства не
набрался.
— Сколь это было бы хорошо, кабы Булат принял
Андрюшу в ученье! Только ведь он мальца из Псковщи-
ны уведет, — сообразил Илья.
— А я об чем толкую?— рассердился Герасим. —
Уйдет Булат с Андрюшкой на Суздалыцину либо в иное
далекое место — там их Паисию не сыскать, как ни
длинны у него руки.
Афимья, смирно сидевшая у ткацкого стана, вдруг
36
всхлипнула на всю избу. Взоры собеседников устреми-
лись на нее, и смущенная женщина низко наклонилась
к холсту.
— Вишь, какое дело... — неопределенно заметил
Илья. — Придется об нем думать да думать. Вот что,
друг Герасим, и ты, дядя Егор, — плотник низко покло-
нился гостям:— приходите ко мне в ту субботу, тогда и
порешим на том либо на другом.
— Ладно, — согласился Щуп. — А вы вот что: пустите
молву, что Андрюшка болен. Пускай он из избы не
выходит, на печке валяется. Я до игумена доведу: маль-
чонку, мол, лихоманка треплет. Авось он тогда на вас
напирать не станет. Я же тем временем слетаю в город
да потолкую с Булатом, надобен ли ему ученик; а то мы,
может, попусту огород городим...
— Спаси тебя бог за совет да за подмогу! — низко
поклонился мастеру Илья.
Глава VI
МЯТЕЖНЫЙ ЗАМЫСЕЛ
Неделя показалась Андрюше бесконечной. Чувства
его двоились, он не знал, что лучше — монастырь или
уход в далекие края.
Далекие края манили неизведанными радостями, зна-
комством с другими городами, с чудесными памятника-
ми старины. Прельщала мысль учиться у знаменитого
зодчего и самому впоследствии, быть может, сделаться
славным мастером.
Но стоило взглянуть на побледневшее, осунувшееся
лицо Афимьи, как сердце щемила тоска. Расстаться с
горячо любимой матерью казалось невыносимо трудно.
А разве легко покинуть ласкового, заботливого отца, с
которым пережито так много и радостных и трудных
охотничьих дней, который учил его мастерству!..
Илья свыкся с мыслью отдать сына Булату, если тот
согласится принять мальчика в ученье. Но трудно,
страшно трудно оказалось внушить эту мысль Афимье.
37
И когда пришла долгожданная суббота, сопротивление
матери далеко не было сломлено.
Вечером опять пришли Герасим Щуп и Егор Дубов.
На этот раз явился Тишка Верховой и робко примостил-
ся в уголке у порога. Сознавая свою непоправимую вину
перед Ильей, он старался держаться от него подальше,
и приход его в этот вечер удивил плотника. Сейчас
Тишкино присутствие было лишним, но русское гостеп-
риимство не позволяло хозяевам выгнать гостя.
Все уселись, и после незначительных замечаний о
погоде и видах на урожай Герасим откашлялся и мно-
гозначительно заявил:
— Толковал я с Булатом про наши дела...
У Андрюши замерло сердце, Афимья закрыла лицо
руками, чуя недоброе, а Илья нетерпеливо подался к
мастеру.
— Ну что? Что? Да говори скорее!
Но Герасим, сознавая свое значение в эту минуту,
еще помедлил и уж потом важно сказал:
— Берет Никита ученика.
Никто не успел вымолвить ни слова, как Афимья
запричитала:
— Уведут моего сыночка в чужедальнюю сторонуш-
ку... А чужедальняя сторонка непотачлива, дорога туда
не дождем, а слезами полита...
— Ну, завела! — тоскливо пробормотал Илья: ему за
неделю пришлось выслушать немало причитаний.
— Не держи на нее сердца, — тихо сказал Гера-
сим. — И волчица детенышей защищает...
Афимья продолжала:
— Уж пускай бы Андрюшенька в монахи ушел — я
бы хоть в церкви, хоть в праздники, хоть бы издали
смотрела на моего ненаглядного...
Афимья крепко прижала Андрюшу, точно боялась,
что сына силой оторвут от нее. Мальчик стоял, притих-
нув, как испуганный зайчонок: он понимал, что в эти
мгновения решается его судьба.
— На родимой сторонке и камень — брат, а на чужой
стороне люди жестче камней, — изливала свое горе
38
Афимья. — Кто там приветит, кто пригреет сиротинуш-
ку?.. Я хоть и бивала Андрюшеньку, да без ненависти.
От старых людей сказано: «Мать высоко руку подымет,
да не больно опустит...»
Долго горевала Афимья. Мужчины благоразумно
молчали. И когда женщина выплакалась, Илья попросил
Герасима:
— Расскажи толком, что тебе обещал Булат.
— А у Булата, вишь, так получилось, — словоохот-
ливо начал Щуп. — Был у него ученик, да отделился о
прошлом годе: свою артель собрал...
— У Булата тоже есть артель?
в— Он зодчий, а не артельный староста. Не охотник
он хлопотать насчет мелких дел. Он заботится лишь о
том, чтоб чудесен был вид воздвигаемых им зданий. И
как приходит куда, работников сыскивается довольно:
всякому лестно потрудиться под началом славного зод-
чего. Скоро он работу кончит и пойдет на родину. А
человек он в годах, и дорожный сопутник ему — опора.
— Только не такая, как Андрюшка, — усмехнулся
Илья.
— Ого, я сильный, тятя! — выкрикнул Андрюша и,
устыдившись, смолк.
Возглас показал, что выбор жизненного пути им
сделан.
— Решай, мать! — серьезно обратился к Афимье
плотник. — Теперь твое слово. Ты сына родила и вы-
кормила, тебе и участь его решать.
Афимья, хоть и поняла желание сына, все же спро-
сила его дрожащим голосом:
— Ты-то как думаешь, Андрюшенька? Может, пой-
дешь в монахи?
Андрюша, припав к материнской груди, прошептал
так тихо, что только одна мать расслышала:
— Лучше в Великую, в самый падун1 нырнуть...
— Что ж, сыночек... — величаво выпрямившись,
промолвила Афимья. — От века написано: оперится
1 Падун — водопад.
39
птенец — и вылетать ему из теплого родительского
гнездышка... Благословляю тебя в дальний путь!
В избе водворилось торжественное молчание. Толь-
ко Тишка Верховой в углу то краснел, то бледнел и
порывался что-то сказать, но так и не осмелился.
И когда решение было принято, возникли житейские
вопросы, от которых не отмахнуться. Первым вспомнил
о них рассудительный Егор Дубов.
— А ты-то как же?— спросил он Илью.
— Что я?— не понял плотник.
— Да ведь съесь тебя игумен за то, что супротив его
воли идешь.
Илья поник головой, а на лице Афимьи проступил
румянец. Но тут вмешался Герасим:
— Об этом не тревожьтесь. Я все Булату рассказал,
и он дело уладит. Он с наместником хорош; ну, и
оповестит боярина, что берет паренька из монастырских
крестьян учить на зодчего. Москве с руки псковских
умельцев переманивать. Пусть тогда игумен наместнику
жалуется!
Мысль о том, что надменный Паисий будет посрам-
лен, порадовала всех, кроме печальной Афимьи. Но, дав
слово, она молчала.
— Игумен все равно постарается тебя доехать, —
сказал Егор. — Ну, да мы, мужики, тебя защитим. Всем
селом заступимся, авось не дадим в обиду...
Решено было тайком собирать Андрюшу, а мальчику
продолжать притворяться больным. Герасиму поруча-
лось просить зодчего зайти в село, когда окончится
строительство во Пскове.
Глава VII
БЕГСТВО
Прошло около месяца. Андрюша изнывал в душной
избе, но ему строго-настрого запрещали показываться
на улице. Посланец игумена нет-нет, да и наведывался
к Илье узнать о здоровье будущего монаха. Но, видя
40
разметавшегося на печи мальчика, возвращался с докла-
дом, что Андрей еще болеет.
Мать по ночам обшивала сына в дорогу: днем она
боялась работать, чтобы не увидели соседки, — начнет-
ся болтовня досужих языков, дойдет до монастыря...
Афимья сшила сыну зимний тулупчик, армячок для
лета; все делалось на рост, с расчетом на два-три года.
Для лука и стрел был сделан красивый чехол — саадак:
без оружия отправляться в дорогу Андрюша не хотел.
Сушились сухари, валилось мясо, коптилась рыба...
Илья подшучивал над женой:
— Твой припас пятерым нести...
— Дорожным людям запас не помешает, — отвечала
Афимья.
— На весь век не снарядишь, — неосторожно воз-
разил плотник.
Вспомнив, что она действительно снаряжает сына
надолго и, быть может, никогда его не увидит, Афимья
помрачнела и замолчала, а Илья раскаялся, что завел
такой разговор.
Ожидание, истомившее всех, подошло к концу. В
одно из воскресений к Илье пришел Герасим Щуп и,
отведя плотника в сторону, таинственно шепнул:
— Готовься: в ночь на середу.
Афимья помертвела, узнав, что только два дня оста-
лось ей провести с сыном, но горе приходилось терпеть
молча, и это было еще тяжелее. Только по ночам она
давала себе волю и заводила бесконечные причитания,
приводившие в отчаяние Илью и Андрюшу.
Во вторник поздним вечером Герасим Щуп ввел в
избу низенького пожилого человека в армяке, в потер-
той меховой шапке. Щуп тут же ушел: зодчему хоте-
лось, чтобы его участие в побеге мальчика осталось
тайной для Паисия.
Переступив порог, Булат снял шапку и обнажил
лысину, окруженную венчиком седоватых кудрей.
Гость приветствовал хозяев чин-чином и сказал глухо-
ватым, но приятным, певучим голосом:
— Подобру ли, поздорову, дорогой хозяин с хозя-
юшкой?
41
Илья и Афимья поклонились, коснувшись рукой
пола.
— Благодарствуем на добром слове, кормилец! —
ответил Илья на приветствие зодчего. — Проходи-ка в
передний угол, гостем будешь...
На темном, выдубленном непогодами лице Булата
сияли приветливые синие глаза. Андрюша спрыгнул с
печи. По правде сказать, все эти недели он побаивался
неведомого мастера, который уведет его из родных
краев; теперь страх прошел, но Андрюша сильно раз-
очаровался, увидев простого, скромно одетого человека.
Он представлял себе знаменитого зодчего, известно-
го князьям да боярам, совсем иначе. Ему думалось:
войдет добрый молодец огромного роста, в парчовом
кафтане, в красных сафьяновых сапогах — словом,
богатырь из сказки...
Булат прочитал мысли мальчика. Он улыбнулся так
сердечно, что Андрюше стало весело.
— Вижу, отрок, не по нраву я тебе пришелся, —
молвил зодчий. — А ты на одеяние не гляди. Не одеяние
украшает человека, а искусные руки и трудолюбивый
нрав. Ты-то работать любишь?
Андрюша молчал.
42
Илья поспешил принести доски с рисунками сына.
Булат рассматривал работы юного художника долго. На
темном лице его, покрытом сетью мелких морщин, не
было улыбки.
Андрюша зодчему понравился: одет чистенько — в
новых сапожках, в холщовых портах и белой рубашке
с расшитым воротом; лоб мощный, выпуклый, твердый
подбородок, смелые, пристальные глаза.
«Хороший паренек! Жидковат малость, да выпра-
вится...»
Отец и сын ждали отзыва о рисунках, сильно вол-
нуясь.
Булат посмотрел на Андрюшу. Мальчик ответил
упорным, немигающим взглядом.
— А ты вот что, малый, — заговорил Никита:— ты
поличье сделать можешь?
— Что это — поличье?
— Человека нарисовать? Вот хоть бы мамку твою!
— Почто не нарисовать! Могу.
Афимья перепуталась, закрыла лицо руками:
— Али я угодница божья — икону с меня писать!
— Да не икону, — растолковывал зодчий, — это
по-иноземному парсуна называется. Их сымают изогра-
фы с князей, с бояр. На стенки в горницах вешают...
— Ведь я-то не княгиня, не боярыня! Слыхано ли, с
крестьянок поличье сымать!
Кое-как Афимью уговорили.
Булат достал из котомки лист бумаги, тушь, кисточку.
Глядя на непривычные рисовальные принадлежности,
Андрюша заробел. Неуверенно провел несколько чер-
точек, но скоро освоился.
Наклонившись над листом, он проворно работал ки-
стью.
— Что ж на мамку не глядишь?— спросил Булат.
— Вона! — удивился Андрюша. — Али я ее не видал?
Прошло полчаса. Илья и Никита тихо разговаривали;
Афимья возилась у печи, готовя угощенье.
— Сработал! — раздался голос мальчика.
С бумаги смотрело поразительно похожее лицо. Это
43
она, Афимья. Вот ее не по возрасту живые глаза под
крутыми дугами бровей, скорбные складки у сухого рта,
ее повойник1, прикрывающий спрятанные навек воло-
сы...
— Микола-угодник! — попятилась Афимья. — Это
же волшебство!
— Не волшебство, — строго поправил Булат, — а
дарование! — Зодчий оглядел всех расширенными, за-
светившимися внутренним огнем глазами. — Слушай
меня, человече! Сыну твоему болыпй талант дан. Зарыть
его в землю — тяжкий, незамолимый грех. Скажу,
Илья, по правде: хоть и соглашался я Андрюшу в
ученики взять по рассказам Герасима, а все же думал —
приукрашивает Щуп достоинства отрока, не столь он к
художеству способен, как хвалят. Но теперь сам вижу:
уж ежели его не учить, то кого учить? Рад, что он со
мною пойдет, — я из Андрюши славного зодчего сде-
лаю, коли нам с ним бог жизнь продлит...
Редко появлявшаяся на лице Андрюши улыбка сде-
лала его необычайно привлекательным. Обрадованный
отец низко кланялся.
Только Афимья хмурилась. Простая, бесхитростная
женщина согласилась расстаться с сыном, твердо пове-
рив, что его ждут почести, богатство. Шутка ли: учиться
у зодчего, известного всей Руси!
Но, увидев Булата, Афимья разочаровалась едва ли
не больше, чем ее сын: прославленный мастер был одет
как бедный крестьянин.
Чуткий Булат понял настроение матери своего буду-
щего ученика. Обратившись к Афимье, зодчий с улыб-
кой сказал:
— Неприветливо глядишь, женщина! Али не хочется
сына мне отдать?
Афимья непривычно резким голосом ответила:
— А то и гляжу, батька, что не больно казист у тебя
наряд!
1 Повойник — головной убор замужней женщины, кото-
рый она, по обычаю, никогда не снимала при людях.
44
— Я не стяжатель! — внушительно ответил Ники-
та. — Я за богатством не гонюсь, вековечный печальник
я за мирскую нужду. Сердце у меня неуклончивое,
князьям и боярам я не потатчик, потому и не в чести у
.них. А знаю зодчих, что многие сокровища скопили и
пречудесные палаты себе поставили и живут, как сыр в
масле катаются. Того и твой Андрюша может достиг-
нуть...
— Где уж крестьянскому сыну калачи есть! — горько
пробормотала Афимья.
— Напраслину говоришь, женщина! Каждому чело-
веку свой предел положен: тому землю пахать, тому
корабли по морям водить, тому дивные строения воз-
двигать, что надолго переживут создателя своего. И
коли крестьянскому сыну талант на зодчество дан, кто
посмеет его на сем пути задерживать!..
Голос Булата был строг и властен. Афимья смущенно
поклонилась гостю:
— Не обессудь, родной, прости меня, бабу, за нера-
зумное слово! Верю, не на худое поведешь моего сынка.
Уж только... — Голос Афимьи дрогнул. — Храни отрока!
Будь ему в отцово место. Он млад и глуп, его еще
пестовать надо...
Афимья и Илья хотели упасть зодчему в ноги, но тот
удержал их:
— Будьте безо всякого сомнения. Я в своей кочую-
щей жизни семью не успел завести, так мне ваш
Андрюшенька сыном станет. И вы не убивайтесь черес-
чур, не навек с сыном расстаетесь. Я вам буду весточки
через случайных людей подавать. А годика через три-
четыре, когда злоба вашего игумена утишится, мы и
вернемся...
Разумная речь старого зодчего если и не развеселила
Афимью, то хоть успокоила ее. Срок в три года не так
уж велик, если к концу его явится Андрюша, красивый,
возмужавший, да к тому же и славный мастер. Может,
он тогда и останется здесь: ведь не вечен всевластный
Паисий...
Видя, что жена успокоилась, Илья повеселел:
45
— Что же, Андрюша, будем обряжать тебя в путь-
дорогу. Собирай, жена, на стол, а я за дядей Егором
сбегаю.
За столом сидели недолго — Булат торопил с отправ-
лением:
— Надо за ночь уйти подальше, чтоб след потеряли
монахи, коли спохватятся.
— Об этом, мил человек, не беспокойся, — подмиг-
нул зодчему слегка захмелевший староста. — Я запрягу
коня и до свету верст за сорок вас умчу. Пускай ищут!
— Тебе попадет, дядя Егор, коли игумен узнает, —
опасливо сказал Илья.
— От кого он узнает-то? Я, как обратно поеду, дров
нарублю, будто за тем и ездил.
— Ну, спаси тебя бог за доброту! — воскликнул
плотник.
Сборы были недолги: Афимья все приготовила зара-
нее. Несмотря на упорные отказы Ильи, Булат отдал ему
большую часть денег, заработанных во Пскове.
— Тебе нужнее они, а нам с пареньком не много на
дорогу надобно...
Доброта Никиты до слез растрогала Афимью, она
уверилась, что ее сын попал в хорошие руки.
Отец и мать благословили сына, и под тихие мате-
ринские причитания Андрюша Ильин оставил родитель-
ский кров и пустился в неизвестную дорогу.
Илья проводил сына до околицы; Афимья чтоб не рас-
травлять сердце, осталась дома. Плотник в последний
раз обнял Андрюшу здоровой рукой и повернул к дому.
Когда телега миновала околицу1 и Егор Дубов взмах-
нул кнутом, чтобы погнать лошаденку вскачь, из придо-
рожных кустов метнулись две тени и стали перед теле-
гой.
— Неужто монахи вызнали про наш сговор?— испу-
ганно шепнул Егор. — Эй, там! Дай дорогу! Затопчу!..
— Повремени чуток, дядя Егор, — раздался негром-
кий голос. — Это я!
1 Околица — изгородь, окружающая деревню.
46
— Что за дьявол! — выругался Егор. — Да это, никак,
Тишка?
— Я и есть, дядя Егор, — отозвался мужик. — Мы
тут с бабой...
— А что вы здесь делаете?
— Мы сбежать решили, дядя Егор, насовсем!
— Вона! — удивился староста. — Да как ты это
надумал, безумная голова?
— Мочи нет терпеть, дядя Егор, все силушки повы-
мотали...
— А как земля? Изба?
— Всё бросили! Пропадай оно пропадом, а мы с
бабой порешили на Москву идти.
— Это ты мне, старосте, такие речи говоришь?—
рассердился наконец тяжелодум Егор. — Свяжу тебя
да отвезу в монастырь! Там.тебе покажут, как бегать...
— А уж Андрюшку, верно, назад сдашь, дяде
Илье?— нагло спросил Тишка.
— Как?! Ах ты пащенок! Да ты что удумал? Доносить
пойдешь?
— А что ж! Коли меня удержишь, то и донесу. По
крайности, мне от игумена награждение выйдет.
— Ты, вижу, из молодых, да ранний! — горько
усмехнулся Егор. — Только как ты все это вызнал?
— Я ведь у Ильиных сидел, как вы сговаривались. А
потом мы с бабой попеременно глаз не сводили с Ильина
двора, подглядывали, — наивно похвалился Тишка. — И
как сегодня усмотрели, что чужой человек к Илье
пришел, а ты стал лошадь запрягать, тут и мы за околицу!
— Что же, пес с тобой, садись! — хрипло согласился
Егор. — Семь бед — один ответ!
Тишка с бабой влезли в телегу, таща за собой узлы
с пожитками. Егор стегнул лошадь, и телега покатилась
в темную даль.
Побег двух монастырских «душ» (баба в счет не шла)
был обнаружен быстро. По несчастной случайности,
игуменский служка явился в среду проведать о здо-
ровье Андрюши. А может быть, это и не было случай-
47
ностью. Может, Тишка Верховой не сумел сдержать
болтливый язык и приговорился о намерении Ильи
Большого укрыть сына от монашества.
Не застав Андрюшу в избе, служка не поверил
Афимье, что мальчику стало лучше и что он ушел с
товарищами в лес. Боясь игуменского гнева за легкове-
рие, служка сидел у Ильиных до позднего вечера, и дело
раскрылось. К тому же сельчане обратили внимание на
тишину и безлюдье во дворе Тишки Верхового.
Егор Дубов, чтобы отвести от себя подозрения, пер-
вый поскакал к Паисию с докладом о случившемся. Его
жестоко выпороли за нерадение к монастырскому благу
и приказали снарядить погоню. Погоня отправилась
только в пятницу после полудня и беглецов, понятно, не
настигла. Зодчий и его спутники были уже за сотню
верст от Пскова, да и шли они по ночам, а днем
прятались в лесных дебрях.
Через несколько дней беглецы разделились. Тишка
Верховой с женой взял путь на Москву. Расставание
прошло без сожалений. Никите не по нраву пришелся
трусливый и наглый Тишка, целые дни мечтавший вслух,
как он пристроится на службу к одному из бояр,
высланных в Москву после псковского разорения, и
какую сытую и беспечальную жизнь поведет он, Тихон
Верховой, мужик обстоятельный и ловкий, сумевший
перехитрить самого старосту Егора.
Никита Булат с учеником Андрюшей Ильиным по-
вернули на восток, к Ярославлю.
Глава VIII
СКИТАНИЯ
Шесть лет прошло с тех пор, как Андрюша Ильин
ушел из Выбутина с Никитой Булатом.
Андрей сильно изменился за эти годы. Он далеко
перерос своего старого учителя. Теперь голова его не
казалась несоразмерно большой: она стала под стать
широким плечам и молодецкому росту; но прозвище
48
Голован как пристало к нему в детстве, так и осталось
навсегда. На смуглом выразительном и умном лице
Андрея выделялись глаза. Не всякий мог долго выдер-
жать взгляд серовато-зеленых глаз юноши, настойчивый
и зоркий, как у орла. На щеках Голована курчавился
первый пушок. Большие, рабочие руки с широкими
кистями и мозолистыми ладонями привыкли владеть
топором и молотком каменщика, но еще искуснее уп-
равлялись с кистью и пером.
Булат был все тот же: время проходило для него
незаметно. Чуть побольше стала лысина, да прибавилось
морщин на темном лице. Но так же крепок был строи-
тель, по-прежнему без устали бегал он по подмосткам.
Много попадалось за эти годы работы, но не всякая
приходилась Никите по душе. Грубые, простые построй-
ки его не привлекали. Иное дело, если он мог запечат-
леть в дереве или в камне волновавшие его образы: тогда
зодчий работал не покладая рук и не торгуясь о вознаг-
раждении.
Не раз представлялся Булату случай сколотить ар-
тель, стать подрядчиком и обогатиться, но богатство не
манило зодчего. Случалось, что его выбирали артельным
старостой за большие знания и честность: Никита неиз-
менно отказывался.
За шесть лет учитель с учеником исходили Русь из
конца в конец. Плавали по Студеному1 морю на Соло-
вецкие острова; там в монастыре воздвигли шатровую
звонницу1 2 вместо старой, обветшалой. Были на родине
Булата — в древнем Суздале, во Владимире, построили
церквушку в Козельске.
Только в Выбутино не заглядывали ни разу, а хоте-
лось Головану проведать стариков-родителей. Они уж и
направились туда, но встреченный в Вышнем Волочке
Герасим Щуп рассказал, что игумен Паисий все еще
злобится на Андрея за самовластный уход, за то, что не
пошел парень в иноки.
— Пускай сунет нос в наши края, — хвалился
1 Студёное — Белое море.
2 Звонница — колокольня.
49
Паисий, — ужо я его достигну! Он у меня насидится в
подвале, забудет про зодчество!
От Герасима юноша узнал, что Илья с Афимьей
живы-здоровы, хоть и постарели за годы разлуки. После
бегства Голована игумен сильно гневался на плотника,
донимал несправедливыми поборами, намереваясь ра-
зорить и выжить из Выбутина, но помощь односельчан,
и особенно твердого в дружбе Егора Дубова, поддержа-
ла стариков и помогла перенести невзгоды.
Путники повернули назад от границ Псковщины,
послав с Герасимом весточку от Андрея домой и отпра-
вив все деньги, какие нашлись в ту пору у Булата: их
оказалось немного, деньги у Никиты не держались...
Оставляя законченную стройку, Булат не спешил
искать работу; иногда и месяц, и два, и три бродили они
с Андреем по городам и селам.
Многому научился молодой Голован. Он постиг тай-
ны зодчества, изучил виды архитектурных украшений,
мог сам руководить строительными работами. Чтобы
развить в юном ученике художественный вкус, Булат
показывал ему лучшие памятники русской старины.
Во Владимире они видели старинные Золотые ворота
и построенный князем Всеволодом в конце XII века
Дмитриевский собор — один из немногих замечатель-
ных памятников каменного зодчества того отдаленного
времени.
Дмитриевский собор невелик. Но строгие выступы
стен, разделяющие фасады на неравные доли-прясла,
завершенные арками, и соразмерность частей храма
придают ему вид торжественный и величавый. Больше
всего в этом создании древних мастеров восхитила
молодого Голована каменная резьба, покрывающая сте-
ны храма. В верхнем ярусе стен множество причудли-
вых изображений: сцены борьбы людей с хищными
зверями, крылатые львы, всадники, необычайные расте-
ния, удивительные птицы с такой тонкой отделкой, что
в крыльях видно каждое перышко... Рисунки располага-
ются нисходящими рядами, в стройном порядке.
Остроглазый Голован любовался также резными ко-
50
донками, которые широкой горизонтальной лентой опо-
ясывают храм; между ними размещены изваяния свя-
тых.
Из Владимира зодчий повел ученика в недальний
город Юрьев-Польский осмотреть древний Георгиев-
ский собор1.
Судьба была немилостива к Георгиевскому собору:
в XV веке он обрушился. Его поручили восстанавливать
великокняжескому зодчему Василию Дмитриевичу Ер-
молину. Вопреки обыкновению, Ермолин выполнил ра-
боту небрежно: многие камни попали не на свое место;
цельность резьбы кое-где нарушилась.
Булат обратил внимание Андрея на иной характер
работы. Это уже не те изящные, подобные резному
дереву, барельефы Владимирского собора. Здесь все
казалось первобытно, дико, грубо, но чувствовалась
большая сила в резце художника, уменье справляться с
камнем. Лики святых смотрели прямо на зрителя.
Впервые увидев эти изображения, Голован оцепенел,
как случалось с ним в детстве при виде исключительной
красоты. Он смотрел безотрывно, не слушая учителя; он
точно перенесся в другой мир, где были только он да
эти дивные изваяния. Насилу растолкал его Булат и
привел в себя. Грозные, прямо смотрящие глаза камен-
ных святых преследовали Андрея во сне.
На стене Георгиевского собора Голован увидел ки-
товраса — кентавра1 2 древних.
— Наставник, неужто такие живут?
— То еллинские3 басни, — отвечал зодчий. — Ты сам
в Выбутине резал дивных зверей и птиц. А есть они на
свете?
Голован задумался. Лицо озарила ясная улыбка —
редкий гость на лице юноши.
— Не знаю, — признался он. — Передо мной они
возникали как в видении. И запечатлевались в памяти.
1 Георгиевский собор построен в 1230 — 1234 годах.
2 Кентавр — мифическое существо с человеческой голо-
вой и плечами на конском туловище.
3 Еллинские — греческие.
51
— Ты их и создавал. Так и древние мастера творили
китовраса и иных чудищ.
Но Булат не просто показывал — он учил. Он рас-
толковывал замыслы строителей, объяснял Андрею, что
означал тот или другой наружный вид церкви, почему
зодчий применил такое расположение частей, а не иное.
— Не по единому правилу строят на Руси храмы, —
говорил зодчий приятным глуховатым голосом. — Вида-
ли мы белокаменные храмы в Юрьеве-Польском, во
Владимире. От подножия до верхнего фонаря1 — один
белый камень, и то взору человеческому неприятно, не
на чем остановиться без наружных украшений. И зодчие
измышляли выступы разновидные и налепные круги.
Людские лики, змеев-драконов, китоврасов вырезыва-
ли, чтобы глаз смотрящего возвеселить. Так строили во
Владимире, в Суздале моем родном, в Нижнем Ново-
граде... Это старина отходящая! И еще скажу: тайну
замеса не больно постигли наши владимиро-суздальские
строители, клали камень на камень чуть не посуху, а
оттого бывало здания у них обваливались...
— А как по-новому строить, учитель? — с живым
любопытством спрашивал юноша.
— По-новому, сынок, перемежать надобно красный
кирпич и белый камень. И белый камень класть поясами
либо гнездами, дабы он кидался в глаза посередь крас-
ного. Замес потребен крепкий, чтобы на века кирпич с
камнем ковал, и мы такой замес делать научились.
— Где же так строят?
— В Ярославле, в Ростове, а лет полста назад и в
Москве начали. От московских зодчих сие мастерство
и я перенял и разношу оное по Руси. Разновидное
сплетение красного с белым глазу радостно, и при
таковом сочетании насаживать зверовидных драконов
на хоромину не требуется.
— Ах, наставник, — в восторге восклицал обычно
сдержанный Голован, — коли нам судьба приведет
1 Верхний ф он ар ь, или св етов ой барабан,—часть
церковного здания, поддерживающая главу; в ней проделыва-
лись окна.
52
изрядную церковь строить, сим способом станем возво-
дить!
— Поживем, может и сбудется, — раздумчиво отве-
чал Булат.
★ ★ ★
С тех пор как Голован оставил родной дом, Булат
построил две каменные церкви, звонницу и пышные
палаты киевскому сенатору. Живали они на месте и по
полугоду и по целому году. Но когда Андрей останавли-
вался мыслью на прошлом, оно представлялось длинной-
длинной дорогой с короткими остановками на пути.
Юноша полюбил дорогу. На стройках Булат был
занят по горло: горячий и живой нрав заставлял его
целые дни проводить на лесах. Зодчий выделял ученику
часть работы, по вечерам придирчиво проверял его,
строго бранил за ошибки, но на долгие разговоры не
хватало времени. Не так повелось в дороге.
Они шагали пустынной тропой. Булат тихонько напе-
вал былину. Утомясь пением, начинал разговаривать:
строитель умел и Любил говорить. Задушевная поучи-
тельная беседа шла часами. Булат много видел, много
читал. Он рассказывал Головану, как строились крем-
левские стены в Москве, как воздвигались знаменитые
монастыри, храмы. Знал он о жизни славных старинных
зодчих — Ермолина, фрязина1 Аристотеля и других...
Верста за верстой проходили незаметно. Леса сме-
нялись полянами, снова дорога шла бором, потом впе-
реди вдруг раскидывались поля, и вдалеке на холме
чернел высокий, суживающийся кверху шатер коло-
кольни. Такой вид всегда радовал Булата.
— Смотри, сынок, смотри! — показывал зодчий
сухой, но сильной рукой. — Вон звонница виднеется. И
как утешительно такое зрелище путнику, утомленному
дальней дорогой! Звонница... Сие означает: там деревня,
там живут наши, русские люди. Сердечно приютят они
усталого скитальца, накормят, напоят, дадут заслужен-
ный отдых... А в зимнюю непогодь? Шумит и бушует
1 Фрязин — итальянец.
53
вьюга, белый снег слепит глаза, и дорожный человек,
сбившись с пути, растеряв последние силы, готов лечь
на холодную пуховую постель и заснуть беспробудным
сном... И внезапно слышит он колокольный звон. То
старик-сторож в ветхом тулупишке трудится, не жалея
сил, и равномерно дергает веревку колокола. Скольких
спасает сей благотворный звон!.. Счастлива наша доля,
Андрюша! Это мы, строители, воздвигаем городские
стены с башнями и деревенские колокольни, без коих
и представить себе невозможно землю русскую...
Голован восторженно соглашался:
— Твои мысли — мои мысли, учитель! Точно ты у
меня в голове побывал!..
Часто Булат говаривал:
— Были мы, Андрюша, во многих краях старорус-
ской земли. Ходили на север — к Студеному морю,
были на закате солнца, спускались и на полдень — в
Киевщину и даже в дальнюю Галичину. Там и речь
людская звучит будто не по-нашему и не сразу ее
поймешь, а ведь это все наша русская земля, и собирает
ее под свою высокую руку Москва. Прежде велика ли
была московская земля? А теперь, погляди, конца-краю
ей нету!..
За разговорами незаметно приближался вечер. Ле-
том Булат любил ночевать в лесу, в поле.
Выбирали хорошее место у ручья, останавливались,
сбрасывали с усталых плеч сумки, распоясывались,
скидывали зипуны. Голован собирал хворост; Никита
варил кашу, жарил на углях птицу, убитую стрелой
Андрея, либо готовил уху, если юноше удавалось нало-
вать рыбы. Трапезовали долго, чинно...
Костер догорал. Угли рдели угасающим малиновым
светом. Скитальцы лежали на траве, смотрели в небо,
откуда ласково светили далекие звезды.
Голован до страсти любил эти короткие душистые
летние ночи...
Намного труднее приходилось зодчим осенью и зи-
мой.
Хорошо было боярину равнодушно глядеть на поко-
54
сившиеся избенки мужиков, когда он проезжал в запря-
женной шестериком1 колымаге мимо жалких дереву-
шек, спеша к себе в богатую усадьбу. Но Никите с
Андреем, отшагавшим за день тридцать-сорок верст,
зачастую приходилось проситься на ночлег в одну из
бедных мужицких избенок. Никиту и Андрея сразу
окружала стихия народного горя.
К какому бы хозяину ни попадали они, у каждого
была своя беда. У одного боярский тиун свел за недо-
имку последнюю лошаденку. Другой выбивался из сил,
отрабатывая долг, взятый в неурожайный год у игумена
соседнего монастыря; и сколько бы ни надрывался
мужик на монастырских полосах, — когда подходило
время расчета, оказывалось, что долг не уменьшался, а
нарастал.
А в иной избе целая семья лежала вповалку, и
сердобольные путники, поборов первое желание убе-
жать сломя голову из зараженного места, сбрасывали
зипуны и принимались ухаживать за больными: умывали
запекшиеся от жара лица, кормили скудными припасами
из своих котомок, поили свежей водой...
Казалось, от долгой привычки наблюдать людскую
беду сердце должно бы зачерстветь, но не таков был
нрав Никиты Булата. Каждый раз, слушая печальную
повесть хозяина о его невзгодах, Булат сызнова заго-
рался соболезнованием к чужому несчастью, вместе с
собеседником проклинал боярский гнет и мечтал о
лучших временах. А уходя, делился с беднягой скудным
содержанием своего кошеля.
Нет, не суждено было разбогатеть старому Никите,
вечному страннику в океане народной нищеты!
Теми же чувствами сострадания к людям проникся
с юных лет и Андрей.
Тяжело было изо дня в день болеть страданиями
других, и зодчим становилось легче на душе, когда они
проходили безлюдными местами, хоть и много опасно-
стей приходилось выносить одиноким пешеходам.
1 Шестериком в старину называлась упряжка в шесть
лошадей — три пары одна за другой.
55
Не раз во время буранов отсиживались они в само-
дельном шалаше по нескольку суток; дикие звери рыс-
кали вокруг, и спасали от них только меткие стрелы
Голована да неугасимый костер. Случалось забредать в
такие дебри, где, как в сказке, «не было ни езду
конного, ни ходу пешего, где не слыхать было духу
человечьего». Тогда выкапывали из-под снега мерзлую
бруснику, отбирали у белки запас орехов. Потом все-
таки выбирались к жилью, к глухой лесной деревушке,
отделенной от другой такой же десятками верст.
Их принимали с великим удовольствием: захожие
люди приносили вести из далекого мира, а котором
лесовики знали только понаслышке.
Путников кормили, оставляли гостить по неделям.
Древний дед с пожелтевшей от старости бородой запря-
гал косматую лошаденку и вез странников в соседнюю
деревушку, к приятелю, такому же деду...
Случалось Никите и Андрею встречаться на дорогах
и с лихими людьми. Но что взять с убогих странников!
Разбойники, узнав, что перед ними кочующие строите-
ли, отпускали их невредимыми.
Так привык Голован странствовать с учителем по
широкой русской земле, и мечталось ему: хорошо бы
проходить так всю жизнь и смежить усталые очи на
зеленой мураве под широколиственным кленом... Толь-
ко хотелось еще разок побывать дома, повидаться со
старыми отцом-матерью.
Глава IX
НАБЕГ
Васильгород1 был основан в 1523 году; название он
получил в честь великого князя Василия III. Московские
воеводы ходили в том году на Казань и поставили
крепость на казанской земле, при впадении Суры-реки
в Волгу, в двухстах пятидесяти верстах от столицы
татарского царства. Постройка Васильгорода урезала
1 Позднее Васильсурск.
56
владения казанских ханов, и они не могли простить
этого Москве.
В 1546 году васильгородский воевода решил укре-
пить городские стены и возвести несколько крепостных
башен: отношения с Казанью за последние годы крайне
обострились, и можно было опасаться нападения татар
на город.
Работы производились под руководством Никиты
Булата.
Закончив работы успешно и быстро, Никита и его
ученик направлялись в Муром, где предвиделась работа.
Тропа вилась лесом. В этот день решили остановить-
ся на ночлег пораньше: места были опасные, разбойные
шайки казанских татар набегали сюда часто.
Более полутора веков — со времен нашествия Чин-
гисхана и до великого разгрома татарских орд на Кули-
ковом поле — монгольское иго тяготело над Русью,
задерживая ее развитие. Но и после Куликовской бит-
вы1 еще в течение целого столетия великие князья
московские принуждены были платить дань татарам,
пока Русь не сбросила с себя иго Золотой Орды1 2.
Из обломков когда-то могущественной, наводившей
трепет на Европу Золотой Орды образовались татарские
ханства Крымское, Казанское, Астраханское и Ногай-
ское.
Эти татарские государства были еще очень сильны,
и много бедствий терпела Русь от соседства с ними.
Татарские властители первым законом жизни стави-
ли войну, для разжигания которой им не требовалось
никаких поводов и предлогов. Самому ли хану или его
рядовому воину война представлялась грабежом, и этот
грабеж, по их понятию, можно было затевать в любое
время, если не встретишь достаточно сильного отпора.
Особенно много приходилось русским людям стра-
дать от ближайших соседей на востоке и юге — от
казанцев и крымцев.
Казанские орды беспрестанно опустошали погранич-
1 В 1380 году.
2 В 1480 году.
57
ные русские области и по временам проникали вглубь
страны. В 1539 году рать казанского хана Сафа-Гирея
дошла до Мурома и Костромы и хотя нанесла русскому
войску большой урон, но была отбита. В следующем,
1540 году, в декабре месяце, Сафа-Гирей вновь появил-
ся у Мурома, но под угрозой нападения владимирских
воевод и касимовских татар, предводимых ханом Шиг-
Алеем, ушел обратно.
А летом 1541 года стотысячная громада под главен-
ством крымского хана Саип-Гирея двинулась на Русь с
юга и 30 июля вышла на Оку, оставив за собой тысячи
сожженных русских сел и деревень. Московские вое-
воды вывели навстречу татарам свое войско. Загорелся
бой.
Увидев перед собой сильную московскую рать, Са-
ип-Гирей гневно упрекал изменника князя Семена Бель-
ского, который привел татарское войско на Русь:
— Как же ты мне, собака, говорил, что урусы пошли
казанцев отражать и биться со мной некому? А я
столько воинских людей в одном месте и не видывал!..
Узнав, что к русским вдобавок подошли пушки,
Саип-Гирей начал отступление.
И редкий год проходил без того, чтобы татары,
подстрекаемые лютыми врагами Москвы — турками, не
налетали на Русь либо с востока — из Казани, либо с
юга — из Крыма, либо сразу с двух сторон. Орды
крымчаков и казанцев жгли, грабили, уводили в плен
множество людей. А случались такие лихие годы, когда
татарские властители, сговорившись между собой, вхо-
дили еще в сношения с литовцами, и те помогали татарам
разорять Русь.
Русские женщины пугали непослушных детей в ко-
лыбельках страшными словами: «Татарин идет!» — и
дети, дрожа, затихали. Это в те времена сложилась
пословица: «Незваный гость хуже татарина».
Под страшной угрозой жила тогда Русь, и всякий ее
житель, вплоть до самого бедного, заморенного бояр-
ским гнетом крестьянина, понимал, что не может страна
мирно развиваться до тех пор, пока не исчезнет опас-
58
ность татарских нашествий хотя бы на самой протяжен-
ной и беспокойной ее границе — восточной.
Изнывавший под бременем бесчисленных налогов и
повинностей, русский мужик только одну повинность
выполнял с охотой; и эта повинность была — вступление
в ряды войска для защиты родной земли от набегов
татар. Миролюбивый по природе русский человек не
хотел ссор с соседями, но когда эти соседи не призна-
вали правил общежития, он вставал во всей своей силе,
чтобы их утихомирить.
Между русскими и татарскими владениями пролега-
ла почти незаселенная полоса шириной во много десят-
ков верст.
Булат рассказал Андрею, что главная оборона от
татар проходит по Оке — от Нижнего Новгорода до
Серпухова, далее спускается к Туле, а там поворачивает
к Козельску. Оборону эту составляют укрепленные
города и большая, быстрая река Ока. Не везде ее можно
перейти, а на бродах построены острожки, понаделаны
засеки и завалы, и при них стоят сильные караулы. А
еще за несколько сот верст к югу, за самыми дальними
русскими поселениями, бесстрашно выдвинувшимися в
южную степь, с весны и до поздней осени ходят
сторожевые заставы.
— Называются те заставы сторожами, — говорил
Булат, — и ставятся они в таковых местах, где б им
нападающих воинских людей можно было усмотреть.
На холмах сидят, а кои на высокие дубы взбираются и
там, аки птицы, гнездятся. А держатся сторожа береж-
но, станы постоянные не устанавливают и костры боль-
шие не раскладывают, дабы их татары издали не выгля-
дели. И где в полдень стояли, на том месте не ночуют,
а на иное переходят...
Глаза Голована горели восхищением. С юной отвагой
он подумал, что хорошо было бы с верными товарищами
скакать на быстром коне по степям, подкарауливать
хитрого врага и сражаться с ним, оберегая русскую
землю.
59
— А коли увидят сторожа нехристей, то бьются с
ними?
— Коли мало ворогов, бой начинают. Ну, а в случае
большая сила идет, то в отступ уходят и костры запали-
вают, чтобы своим весть подать.
— Далеко ли от костра дым видать?
— Ведь костры цепочкой до самой Москвы наготов-
лены, и сидят возле них денно-ночно старички немощ-
ные, вроде меня, — пошутил Булат. — Набежит татарва
на Русь, а в Москве полки снаряжаются злых недругов
встречать...
— Хорошо, учитель, удумано!
— Хорошо-то хорошо, да земля наша русская без-
мерно велика. Грани наши на коне за год не объедешь.
Вороги же в войне опытны и на ратные хитрости
способны. Тут малым отрядом тревогу подняли, а сами
в ином месте тучей прорвутся на Русь. Вот попробуй,
сдержи их...
Место для стоянки выбрали глухое, укромное. Ма-
ленькая полянка спряталась в стороне от дороги, в
лесной чащобе, и на окраине полянки прозрачный род-
ник. Огня разводить не стали. Поужинали быстро, ле-
жали смотрели на погасавшее над головой небо.
Булат неторопливо рассказывал о детстве, о том, как
он учился зодческому делу. В который раз слушал
Андрей повесть о юных годах учителя, и она не надо-
едала ему, как не наскучивает ребенку старая, знако-
мая, но милая сказка.
— Сиротой я остался по девятому году, — неспешно
повествовал Булат. — У нас тогда в Суздале полгорода
от повальной хвори вымерло. Из милости приютили
меня чужие люди. Известно: горькому Кузеньке —
горькие песенки. Хлебнул я напасти, покуда не вышел
в года... Благодетели скоро спихнули меня с рук: отдали
в ученье по каменному делу. О ту пору великий князь
Василий Иванович много старался об строительстве
города и надумал Кремль новыми стенами обнести.
Много требовалось работников, вот и наша артель суз-
дальцев пошла в Москву.
60
Доставалось мне от каменщиков: тот щелкнет, тот
толкнет, тот подножку даст... Только и слышишь: «Ни-
китка, подай! Никитка, принеси! Никитка, сбегай!..» А
у Никитки всего две ноги, хоть и был я проворен.
Сунешь хозяину не тот скребок — по затылку долбанет,
замес приготовишь жидкий — жди таски немилостивой..
Что старое поминать! Не так мое ученье шло, как твое.
Сие не в похвалу себе говорю, Андрюша... Но пришла
и ко мне удача. Про Ермолина, славного строителя, я
тебе рассказывал не единожды. Много русских людей
обучил Ермолин строительному искусству; был средь
них и Феофан Гусев. Тот Феофан и заприметил меня,
как я с ношей по мосткам бежал, подозвал, поговорил.
Сметка моя и усердие по нраву Гусеву пришли, и сказал
он мне:
«Буду тебя учить! Старайся — знатным мастером
вырастешь!»
С того дня повернулась ко мне моя судьбина лицом:
взял меня Феофан Гусев в ученики. Правду говорят: «От
счастья и под колодой не ухоронишься!»
Повелел мне Гусев обучиться грамоте:
«Не умея читать-писать, никогда дельным мастером
не станешь!»
Знаемый мною грамотей обучил меня чтенью и пись-
му и, спасибо доброму человеку, ни копейки за то не
взял.
Стал я все уведанное записывать, а то ведь в уме что
на песке: подул ветерок — унес! И много за жизнь свою
доброго узнал, что и тебе передаю по силе-возможности
своей...
— За ваши премудрые поученья всем вам, старым
мастерам, не один я, а вся русская земля спасибо
скажет! — горячо отозвался Андрей.
Зодчие испуганно оглянулись: им показалось, что в
лесу хрустнуло раз-другой... Наступила долгая тишина.
Булат чутко прислушивался. Снова шорох за стволами
дерев, окружавших поляну.
— Тише! — шепнул Никита. — Боюсь беды... Ах,
жалко, песика у нас нет! Он бы предостерег.
61
— Опасаешься татар?
— Чудится мне, крадутся в лесу... — Булат присмот-
релся к просвету между стволами и вскочил с отчаян-
ным криком:— Беги, сынок, беги!
На поляну ворвались татары. Нападающих было че-
ловек пятнадцать. В овчинных тулупах, в войлочных
малахаях1, со злыми смуглыми лицами, с черными косы-
ми глазами... В руках виднелись кривые сабли, у иных
были кистени, арканы.
С криком «Алла, алла!» разбойники бросились к
Никите и Андрею.
Голован схватил лежавший наготове лук. Стрелы
засвистели одна за другой. Два татарина рухнули на-
земь, третий с воем схватился за плечо, в котором
засела гибкая стрела.
Татары исчезли в чаще, будто их и не было.
— Отбились! — торжествующе воскликнул Голован.
— Плохо ты татар знаешь, — с горечью возразил
старик. — Они нас обходят, чтобы с тылу напасть.
Предположение Никиты оказалось верным. Сзади,
из ближних кустов, выскочили сразу трое. Они появи-
лись так внезапно, что Голован не успел поднять лук.
Схватились врукопашную. Один подмял Булата, двое
с торжествующим гиком стали крутить Андрею руки за
спину. Отчаянным усилием парень вырвался, стукнув од-
ного татарина о другого. Молодой и проворный, он увер-
нулся еще от двух-трех врагов, выбежавших из лесу,
нырнул под брошенным арканом. Беглец почти достиг ле-
са, но из-под громадной ели, взвизгнув, выскочил старый
татарин. Свистнула сабля, и Андрей покатился в траву с
рассеченной головой. Татарин вытер саблю о полу хала-
та, равнодушно взглянул на распластанное тело и заспе-
шил к своим, которые, дико галдя, вырывали друг у друга
скудную добычу.
★ ★ ★
Шайка разбойников — деренчи — насчитывала че-
ловек пятьдесят. В большинстве это были бедняки —
1 Малахай — род головного убора.
62
байгуши. Чтобы поразжиться и заплатить долги казан-
ским богачам, они пустились в набег на Русь. Пробрав-
шись между редкими сторожевыми заставами, деренчи
обходили города и большие села, нападали на малолюд-
ные деревни и одиноких путников.
Никиту притащили в татарский стан, там он встретил-
ся с несколькими десятками товарищей по несчастью.
Булат оказался последней жертвой деренчи. Наутро
они собрались в обратный путь.
Осмотрев полонянников, атаман шайки ткнул паль-
цем в нескольких слабых и раненых. Татары оттащили
их в сторону и зарезали.
Остальных привязали арканами к седлам, вскочили
на малорослых косматых лошаденок и двинулись рыс-
цой. Чтобы поспеть за конными, русским пришлось
бежать.
Задыхаясь от напряжения, весь потный, с сердцем,
которое, казалось, пробьет ребра, Булат бежал за конем
татарина, которому достался по жребию.
Никита бежал, и в воспаленном мозгу вертелась
неотвязно одна мысль: «Убили Андрюшу, убили!.. Золо-
тую голову загубили!..»
К полудню деренчи забрались в потаенное место и
сделали привал до вечера. В дороге они зарезали трех
женщин и подростка, которые не могли выдержать
бег — упали и волочились на арканах.
Отдышавшись, Булат подошел к толпе полонянников
и сказал торжественно:
—Житие просторное кончилось, братие! Великие стра-
дания предстоят нам...
★ * *
Рана Андрея оказалась не смертельной. Крепка была
русская кость, да и в руке татарина, видно, не стало
прежней силы. Сабля скользнула вкось, разрезала кожу
и слегка повредила череп. Опасность грозила от другого:
раненый потерял много крови.
Часа через два после ухода татар Голован очнулся от
ночного холода: разбойники стащили с него все, кроме
рубахи и портков.
63
Расслышав журчанье ключа, юноша со стоном по-
полз к нему. Несколько раз теряя сознание и снова
приходя в себя, Андрей добрался до родника, зачерпнул
горстью воды, напился. Отдышавшись, залепил рану
илом и впал в забытье...
Глава X
ХОЛОП КНЯЗЯ ОБОЛЕНСКОГО
Голован остался бы на лесной полянке навек, да спас
захожий бортник1. Разыскивая в лесу ульи диких пчел,
он набрел на раздетого человека. Бывалый лесовик умел
лечить раны. Соорудив волокушу1 2, он притащил Андрея
на пасеку и выходил его.
— А ты не вовсе бедовик, паря, — сказал он, когда
Голован уже мог разговаривать. — Видать, твои красные
дни впереди!
— Это как кому на роду написано! — отвечал
Андрей. — Вот наставника моего Булата угнали басур-
маны — я б за него семь раз смерть принял!
— Об нем горюй не горюй: из татарских лап не
вырвешь, разве только выкупишь.
— У меня ни алтына...3
— Тогда распростись довеку.
Слова бортника, однако, вселили надежду в душу
Андрея. Он твердо решил пойти в Москву, заработать
денег и выкупить учителя из плена.
Отблагодарив мужика за добро и заботы, получив от
него лапти, рваный армяк да котомку сухарей, Голован
отправился в дальнюю дорогу.
Питаясь подаянием, работая у зажиточных мужиков,
Андрей подвигался к Москве.
Беда настигла его невдалеке от Мурома.
Голован шел по пустынной дороге, когда показались
1 Бортник — пчеловод.
2 Волокуша — род грубых саней из веток.
3 Алтын — три копейки.
64
всадники в теплых кафтанах, в кожаных шапках. Все
они были хорошо вооружены: в руках бердыши и рога-
тины, за плечами луки. Голован сошел в сторону. Но
конники окружили его.
— Стой, малый, не беги! — грубо приказал старшой,
хотя юноша и не думал бежать. — Куда путь держишь?
— В Москву.
— Хо-хо! Да-а-леко! А у тя отпускная грамотка есть?
Голован испугался. Когда он бродил по Руси с Була-
том, у них не раз спрашивали отпускную грамотку. Тогда
старый зодчий вытаскивал из сумы указ с печатью, и
путников отпускали. Но указ пропал во время татарско-
го набега.
Запинаясь, Голован объяснил, что грамотки у него нет,
но он человек свободный, ученик строительного дела.
— Свободный?— усмехнулся предводитель отря-
да. — Ты нашего боярина Артемия Васильевича беглый
холоп, и мы тебя поймали!
— Сколько ни бегай, а быть бычку на веревочке! —
молвил один из верховых. — Тебя, Волока, должен тиун
наградить: ужо третьего на неделе приводишь.
— У меня глаз зоркой, дальновидный глаз! — похва-
лился Волока. — Иди с нами, малый, да не супротивни-
чай, а не то в железа скуем... Амоска, посади его к себе!
Голован видел, что сопротивляться бесполезно, и сел
позади Амоски.
Андрею не раз приходилось слышать, как бояре и
дворяне, нуждаясь в слугах, по произволу пишут людей
к себе в холопы. «Судебник»1 грозил за незаконное
лишение свободы суровыми карами; но кары не устра-
шали насильников.
Достаточно было боярскому тиуну явиться к намест-
нику с посулом1 2 и заявить: «Hd сего нашего сбеглого
холопа есть у нас послухи»3, — и попавшему в беду не
было спасенья.
1 «Судебник» — собрание законов, составленное при ве-
ликом князе Иване III Васильевиче, в 1497 г.
2 Посул — взятка.
3 Послухи — свидетели.
65
3-769
Наместник давал на приведенного «правую грамоту»
и тем узаконивал холопью его участь. «Написал дьяк —
и быть тому так!»
Иным удавалось сбежать, но господа задерживали
холопа, где бы потом он ни попался.
Мрачные думы одолевали Голована. Амоска огляды-
вался на него с состраданием: душа парня еще не
очерствела. Когда они отстали на повороте дороги, Амос
шепнул:
— А ты, малый, выдумай себе имя!
— Зачем?— удивился Голован.
— Беспонятливый! Да коли «правую грамоту» напи-
шут на твое природное, тебе довеку из кабалы не
выбраться.
— Наставление твое исполню! — обрадовался Анд-
рей.
Часа через два группа поимщиков въезжала в
усадьбу князя Артемия Васильевича Оболенского-Хро-
мого.
Усадьба походила на маленькую крепость. Приволь-
но раскинувшись на нескольких десятинах земли, она
была обнесена высоким бревенчатым тыном, а в воротах
стояли сторожа с дубинками.
Один из сторожей ухмыльнулся:
— С добычей?
— Заполевали!
Боярские хоромы красиво возвышались посреди дво-
ра. Крыши двускатные, четырехскатные, бочкообраз-
ные, шатры разной высоты лепились друг к другу в
живописном беспорядке.
Голован невольно остановился, рассматривая здание.
Но старшой грубо дернул его за руку и заорал в ухо:
— Эй ты, блажной! Остолбенел?
Андрей вздрогнул, очнулся.
На высоком крыльце стоял княжой тиун Мурдыш,
которому донесли о приводе нового холопа. Был Мур-
дыш приземист и плотен, чуть раскосые глаза смотрели
властно. Мурдыш поражал богатством наряда: малино-
вый суконный кафтан с золотыми нашивками, поверх
66
кафтана накинута враспашку червчатая1 ферязь1 2 с золо-
чеными пуговицами; на голове бобровая шапка. По
одежде и осанке тиун мог сойти за боярина.
Тиун был правой рукой князя Оболенского и в его
муромской вотчине вершил дела как хотел. Своей раб-
ской долей Мурдыш гордился: «Я моего господина
природный холоп!»
Мурдыш знал грамоту и ведал письменной частью в
имениях Оболенского. В описках и челобитьях тиун
наловчился не хуже любого приказного дьяка.
Тиун милостиво кивнул головой поимщикам, кото-
рые подвели Голована к крыльцу.
— Попался, вор! — злобно промолвил Мурдыш. —
Долго ж ты, холоп, от нас бегал!
— Я не вор и не вашего боярина беглый холоп, —
твердо возразил Голован. — Звать меня Семен, Ника-
норов сын, а родом я из города Пскова.
— Облыжные 3 речи говоришь, Семейко, Никаноров
сын! Родом ты не псковской, а наш, муромской. Сбёг
ты от нас в позапрошлом году, и на то у нас грамотка
есть. Ужо завтра я ее покажу!
Голован улыбнулся, и его насмешливая улыбка взбе-
сила тиуна. Оба молчали, и каждый думал свое. Андрей
понимал, что тиун составит кабальную грамоту на имя
Семейки Никанорова и тем признает его вымышленное
прозвание. А Мурдыш догадался, что пленник выдумал
имя; но приходилось утвердить его ложь и составить
кабальную запись, которая немного будет стоить.
Мурдыш сказал вполголоса:
— Ну, Семейко, или как там тебя... Знаю, ты парень
с головой. Будешь верно служить — я тебя возвышу: у
меня что выговорено, то и вымолочено!
— Коли ты меня так хорошо знаешь, поведай:
куда я пригоден и к какому делу приставить меня
мыслишь?
Рука Мурдыша Полезла к затылку, и он смотрел на
1 Червчатая — багряная, яркомалиновая.
2 Ферязь — мужская верхняя одежда.
3 Облыжный — лживый.
67
Голована в недоумении. Но к тиуну подскочил Волока и
шепнул ему на ухо. К Мурдышу вернулась уверенность:
— Ведомо мне, что ты строитель. К сему делу тебя
и приспособим.
Голован понял: слова, необдуманно сказанные на
проезжей дороге, выдали его.
— Не хочу я здесь работать! — в отчаянии вскричал
Андрей. — До самого князя дойду!
— Здесь, на усадьбе, я князь! — Мурдыш гордо
подбоченился.
— Не князь ты, не царь, а господской псарь!
Насмешка взбесила тиуна:
— Эй, люди! Дать малому двадцать плетей за побег
и посадить на хлеб, на воду. А там поглядим!
После наказания сердобольный Амоска, покачивая
головой, сказал:
— Понапрасну супротивничаешь! У нас, миляга,
медвежья берлога, к нам государевым дьякам и то
ходу нет. Ты, Семеюшко, до поры до времени за-
таись...
* * *
Вотчина Оболенского-Хромого представляла целый
городок. Позади боярских хором выстроились людские
избы; за ними разбросались скотные и птичьи дворы,
собачники, амбары, кладовые, погреба, мыльня, кузня,
швальня, шерстобитная изба, ткацкая...
Богатое хозяйство было у князя Артемия Оболенско-
го. Свой лен и шерсть у него же в усадьбе превращались
в полотна и сукна; из кож забитого скота сапожники
шили сапоги, седельники обтягивали седла, шорники
шили сбрую. Свои портные обшивали княжескую че-
лядь. Свои рыболовы и охотники снабжали поместье и
московский дом князя рыбой и дичью. Свои медовары
заготовляли бочки медов и квасов.
Были среди многочисленной княжеской челяди из-
бранные — медвежатники, псари, выжлятники, ловчие1.
1 Медвежатник — охотник на медведей; выжлят-
ник — старший псарь; ловчий — распорядитель всей охоты.
68
Они жили беззаботно, сыто и пьяно и шли для князя на
любую послугу: сжить ли со свету врага, наловить ли на
дорогах новых холопов, разгромить ли непокорных
мужиков в дальней вотчине...
Но большая часть боярской дворни до упаду труди-
лась в работных избах: медоварнях, сыроварнях, шер-
стобитнях, сукноваляльнях..
В усадьбе Оболенского Андрею пришлось вплотную
столкнуться с народной нуждой, картины которой он
так часто наблюдал, скитаясь с Булатом по Руси.
Правда, здесь избы дворовых не валились набок, как
в крестьянских деревушках, и хозяевам не приходилось
подпирать стены кольями. Такое неблагообразие, пожа-
луй, укололо бы глаз гостей, наезжавших к боярину, и
они укорили бы им хозяина, а тот, в свою очередь,
строго взыскал бы с тиуна.
Но в опрятных с виду избушках боярских холопов
гнездилась такая же нищета, как и повсюду на Руси.
Дрова для нужд холопов тиун отпускал скупо, и
зимой в избушках дворовых стоял лютый холод. Пища
работных людей была самая скудная: основу ее состав-
ляли хлебная тюря1 да редька с квасом.
Плохо питавшихся и плохо одетых дворовых ставили
на работу с самого юного возраста — с двенадцати-три-
надцати лет. Работники трудились на боярина по шест-
надцати-восемнадцати часов в сутки: летом от зари до
зари, а зимой при тусклом свете лучины.
За дерзостное поведение Мурдыш послал Андрея
работать в кожевенную мастерскую, а там Голован
вдоволь хлебнул горя. В огромных дубильных чанах
кисли шкуры; из чанов несло нестерпимой вонью. Потом
шкуры вынимались и с них тупыми кривыми скребками
счищалась мездра1 2 и шерсть.
С непривычки Головану кожевенная работа показа-
1 Тюря — хлеб или сухари, размоченные в соленой воде; в
лучшем случае сдабривалась подсолнечным или конопляным
маслом.
2 Мездра — слой клетчатки, покрывающий кожу с внут-
ренней стороны.
69
лась хуже каторги. Парень вытерпел только неделю, а
потом пошел к Мурдышу проситься на плотничью рабо-
ту.
— Смирился?— удовлетворенно проворчал тиун в
густую бороду. — Як покорным милостив!
Голована поставили на постройку новой мыльни.
Мыльню кончили. На беду, Андрей, всегда увлекав-
шийся работой, показал себя искусным плотником и
столяром.
Мурдышу пришла в голову новая затея: он решил
пристроить к столовой палате с полуденной стороны
гульбище узорчатое — галерею с резными перилами,
где боярин и наезжавшие к нему гости могли бы проха-
живаться на солнышке.
Головану поручили делать сложную резьбу перил.
Видя его мастерство, Мурдыш стал особенно ценить
нового холопа и приказал зорко за ним следить.
В поместье Оболенского была церковь. Поп пропо-
ведовал мужикам:
— Служите господину верно и усердно, ибо неради-
вых рабов наказует всевышний. Сказано бо есть: «Рабы
да повинуются своим господам». Тако повелось искони,
тако и пребудет до скончания века... Раб, восстающий
против боярина, подобен отцеубийце и проклят от гос-
пода...
Голован слушал проповеди с хмуро опущенными
глазами.
Чтобы прикрепить ко двору нужного человека, Мур-
дыш решил женить Голована.
— Видал стряпущую девку Настасьицу? Попригля-
дись к ней, Семеюшко! А коль не по душе придет,
другую найдем: у нас девок запас! Вишь, сколь я к тебе
милостив. — А сам думал: «Ничего! Молодо пиво —
убродится!»
Замысел тиуна привел Андрея в ужас.
«Бежать, бежать!» — думал он.
Но бегство из княжеской усадьбы было рискован-
ным делом. В бытность Голована в усадьбе один из
холопов, наскучив неволей, сбежал из лесу, где рубил
70
дрова. За беглецом погнались с собаками, поймали и
жестоко выпороли. Он лежал в людской, и неизвестно
было, выздоровеет или помрет.
Участь наказанного страшила Голована. Но вековать
век холопом, навсегда распроститься с зодчеством...
Голована заставил решиться подслушанный разго-
вор.
— Дурак этот беглый! — сказал седобородый
псарь. — В руки ловцам дался!
— А как уйдешь-то, дедушка? — спросил приятель
Голована Амоска. — Ведь собаки...
— Как?.. Эх ты, псарь зовешься! То-то, молодо — зеле-
но... Ему бы подошвы чесноком натереть — ни одна собака
по следу не пойдет...
А А А
Осенним вечером, в сухую ветреную погоду вспых-
нуло ярким пламенем строящееся гульбище. Огонь на-
шел обильную поживу: на постройке валялись стружки,
обрезки, сухой тес.
Сторожа у ворот остервенело заколотили в било1, на
дворе поднялась суматоха. Люди бежали к месту пожа-
ра с баграми, топорами, ведрами. Караульщики тоже
бросились тушить пламя. Никто не заметил, как в калит-
ку выскользнул человек.
Пожар был затушен быстро. Побег Голована обна-
ружили только утром. Собаки по следу не пошли.
Разгневанный Мурдыш решил поймать беглеца и
примерно наказать за поджог постройки, за дерзкий
побег. Но расчет Голована оказался верным: зная,
что он пробирался в Москву, преследователи броси-
лись к западу. А быстроногий Голован, отбежав за
ночь верст тридцать к востоку, затаился в глухой
чащобе...
1 Било — деревянная или железная доска, в которую били
молотком. Било заменяло колокол.
71
Глава XI
НИЩАЯ БРАТИЯ
Голован скрывался весь день, питаясь захваченным
с собой хлебом. Вечером начал пробираться к дороге.
На пути заметил костер, разложенный посреди поляны.
Андрей решил разузнать, что там за люди. Всмотрев-
шись, облегченно вздохнул: «Убогие!»
У костра лежали и сидели нищие. Над костром висел
котелок.
Головану захотелось послушать нищих: может быть,
они говорят о событиях прошлой ночи. Андрей подкрал-
ся к опушке, хрустнул веткой. Нищие насторожились.
— Кто-то бродит по лесу? — спросил тщедушный
подросток с плоским серым лицом.
— Зверушка, — равнодушно отозвался старик, ле-
жавший у костра на холстине.
— Дедушка Силуян, рассказывай дальше, — попро-
сил плосколицый паренек.
— Хватит! Слыхали мы про Илью... — проворчал
слепой мужик огромного роста, с черной всклокочен-
ной головой.
Но другие заспорили:
— Замолчь, Лутоня! Вечно насупротив всех!.. Сказы-
вай, дед Силуян!
Силуян заговорил нараспев:
— На закате то было красна солнышка, на восходе
то было светла месяца... Выезжал на подвиг матерой
казак, матерой казак Илья Муромец. Перед ним ли
раскинулось поле чистое, а на поле том старый дуб
стоит... У того ли дуба три дороженьки: уж как первая
дорога к Новугороду, а вторая-то дорога к стольну
Киеву, а что третья-то дорога к морю синему, к морю
синему далекому...
Слушая тихую, ласковую речь деда Силуяна, кото-
рый, очевидно, был вожаком нищих, Голован решил
открыться ему и просить покровительства. Если старик
согласится принять его в артель, легче будет укрыться
от преследования.
72
Андрей смело вышел из лесу. Его неожиданное
появление наделало переполоху. Плосколицый паренек
испуганно крикнул; огромный Лутоня схватился за нож,
повернув незрячее лицо в сторону Голована; одноногий
нищий принялся совать куски хлеба в суму... Только
Силуян не тронулся с места; лицо его, заросшее мягким
седым волосом, спокойно обернулось к чужаку.
— Хлеб да соль, родимые! — поклонился Голован.
— Едим да свой, а ты подале стой!.. — грубо ответил
Лутоня.
— Экой ты неукладливый, Лутонюшка! — перебил
слепого Силуян. — Чего парня зря пугаешь?.. Подходи,
малый, присаживайся: мы люди не опасные. Откудова
будешь, чьих?
— Я от татарского полону избавился, а иду в Моск-
ву...
Андрей рассказал о странствиях с Булатом, о том,
как печально они закончились. Оказалось, что нищие
слыхали о Булате, не раз стояли на папертях построен-
ных им церквей. Слушая повесть Голована, смягчился
даже суровый Лутоня, а суровость его была не от
природы: ожесточила его жизнь.
Правдолюбец, прямой и искренний, холоп князя
Вяземского, Лутоня смолоду восстановил против себя
боярского тиуна.
Тиун Аверко брал, как говорится, с живого и с
мертвого, жадности его не было предела. Он установил
двойной оброк: один в пользу князя, другой в свою
собственную.
Против лихоимца смело поднял голос Лутоня. Не раз
он обличал тиуна при народе, а потом его же жестоко
наказывали батогами.
Лутоня не унялся.
«Доведу самому князю про злые дела Аверки!»
решил мужик, сбежал из вотчины и пешком отправился
в Москву за правдой.
Аверко узнал от доносчика о затее холопа и принял
свои меры. Он опередил Лутоню и первый явился к
Вяземскому с тяжелыми обвинениями против беглеца.
73
«Лутоня — дерзкий бунтовщик! — уверял князя
тиун, подтверждая свою ложь клятвами. — Он супро-
тивник боярской власти и перед убегом хвалился, что
волшебством твою княжескую милость изведет: для
того и на Москву подался...»
Верные слуги князя схватили Лутоню у заставы. От
него и под пыткой не могли вынудить признание, что он
злоумышлял против князя, но все же мужик был при-
говорен к тяжкому наказанию: Лутоне выжгли глаза.
С тех пор слепец Лутоня пристал к нищей братии и
уже много лет бродил по Руси, обличая боярскую
неправду.
Но к простым и особенно к гонимым старый Лутоня
был добр. Подозвав Андрея, слепец ласково провел
шершавой ладонью по его лицу, по голове и тихо сказал:
— О, да ты еще совсем молодой, паренек! А горя,
видать, досталась на твою долю немалая толика...
Осмелев от ласкового приема, Голован признался:
— От одного полону спасся, в другой попал неждан-
но-негаданно. ..
— Как это?— насторожились нищие.
— А так: схватили меня люди князя Артемия Обо-
ленского и силком забрали в холопы...
— Ах, проклятые! — возмутился Лутоня. — И ты
дался?
—> Как не даться, когда их десятеро, а я один!..
При живом участии слушателей Голован рассказал
историю своих злоключений. Конец рассказа вызвал
одобрение Лутони.
— Так и ушел, баешь?1 — Лутоня подтянул Андрея
и радостно гладил его темные непокорные волосы. — И
пятки чесноком смазал? Ох-хо-хо! Молодчага!.. Сгореть
бы дотла разбойничьему гнезду!
— Не желай другому, чего себе не желаешь!
— У меня вотчины нет, дед Силуян! — озлился
Лутоня. — Мои хоромы — посередь пустого двора
горница, ветром обгорожена, облаком покрыта. У меня
1 Баять — говорить.
74
гореть нечему! Ненавижу князей да бояр, и слово мое
таково: укрыть парня!
— Само собой, укроем!
Наутро Андрей, преображенный, шел с артелью деда
Силуяна. Его одежду запрятали по котомкам, а самого
обрядили в лохмотья. На лбу его Силуян искусно вывел
морщины, щеку обвязал тряпицей. Голован скрючился
и хромал, опираясь на клюку.
Нищая братия шла в Муром; дорога вела мимо вот-
чины Оболенского. Голован боялся; спутники успокаи-
вали его:
— Да тебя нипочем не признать! Совсем другой
человек стал. И кто помыслит, что ты под ихний тын
сунешься!
— Разве по глазам?— догадался Силуян. — А мы вот
как сделаем...
Когда они подходили к усадьбе, старик вывернул
Андрею веки, и тот притворился слепым.
Около усадьбы нищие остановились и жалобно за-
пели. Им вынесли милостыню. Дед Силуян разговорился
с поваренком:
— Что это запрошлую ночь над вашей вотчной зарево
стояло?
— А у нас холоп утек. Хоромину поджег, да скоро
затушили, — весело сообщил поваренок.
— Поймали али нет?
— Нет. Ищут, по лесам гоняют. Мурдыш остервенил-
ся. «Кожу, — бает, — с живого сдеру, как доступлю
сбега!»
Голован вздрогнул. Но поваренок не узнал юношу в
обличье слепого нищего.
Муром остался позади, но снять нищенские лохмотья
Голован не решился: сделав это, пришлось бы бросить
артель, а она была беглецу крепкой защитой.
По утрам нищие садились у церкви и жалобным
голосом заводили духовный стих либо былину. Бабы
благочестиво крестились, вздыхали, несли нищим
75
скромное подаяние: краюшку черствого хлеба, пяток
луковиц, яичко...
Мужики, вечные борцы с нуждой, хмуро отшучива-
лись:
— У нас в семи дворах один топор!
— А мы, коль пахать начнем, спрягаемся: на всю
деревню одна лошадь, и та без ног!
— А у нас ноне рожь хороша родилась! — хвалился
один.
— Ну и насыпал бы мерку божьим людям! — ядовито
подхватывал другой.
— Да рожь-то боярская! — отрезал первый. —
Хороша Маша, да не наша!
С нищими охотно беседовали: они разносили вести
по стране, от них узнавалось то, что бояре старались
скрыть от народа. Восставали ли где озлобленные му-
жики против господина, задушившего их поборами;
поднималась ли целая волость против притеснителя-на-
местника; убивали ли губного старосту, чересчур рьяно
стоявшего за дворянские права, — обо всем этом на
Руси становилось известно очень быстро, и распростра-
нителями таких вестей, поднимавших народ на сопро-
тивление боярскому гнету, были нищие да весельча-
ки — скоморохи, вечные скитальцы по русской земле.
Продвигаясь к Москве, артель деда Силуяна повсю-
ду оповещала:
— Будете, люди, за Муромом — стерегитесь прохо-
дить близ усадьбы Артемия Оболенского: там разбойное
гнездо, там свободных людей хватают и в холопы к кня-
зю Артемию беззаконно пишут...
★ ★ ★
Медленно подвигались нищие к западу. Уж кузнецы
Кузьма и Демьян принялись ковать на реки и озера
ледяные мосты1, когда в морозный ясный день Голован
увидел золоченые маковки московских церквей.
1 Память Кузьмы и Демьяна праздновалась 1 ноября (ст. ст.).
76
Часть вторая
МОСКВА И КАЗАНЬ
Глава I
ОРДЫНЦЕВ
Задумав побег из Выбутина, Тишка Верховой рас-
спрашивал во Пскове и окрестных деревнях о боярах,
высланных в другие края после уничтожения псковской
вольницы. Самые благоприятные отзывы довелось услы-
шать Тишке о бывшем псковском боярине Ордынцеве
Григории Филипповиче. Говорили люди, что, по слухам
из Москвы, Ордынцев принимает псковских утекле-
цов1, не выдавая их властям.
Этого Ордынцева и имел в виду Тишка, когда, идя с
Булатом, рисовал картины будущего безмятежного
житья у боярина. Но Хитрый мужик не назвал боярина:
Тишка не хотел оставлять за собой след, по которому
могли бы его разыскать.
Род Ордынцевых вел начало от Митрофана Ушака,
дружинника князя Александра Невского. Митрофан
двадцать лет томился пленником в Золотой Орде, вы-
рвался оттуда и вернулся на Русь. Люди прозвали Мит-
1 Утеклецы — беглецы.
77
рофана Ордынцем, и по этому прозвищу стали зваться
его потомки.
Григорий Филиппович был не из первых псковских
богачей, но человек влиятельный: к его голосу прислу-
шивались многие. Потому он и попал в число трехсот
знатных, которые после присоединения Пскова к Мос-
кве были разосланы по разным областям. Поместья
высланных перешли в собственность государства.
Знатные псковитяне, выселенные из родного города
Василием III, получили земли в Московщине, Рязанщи-
не, Владимирщине и иных близких и дальних областях.
Григорию Ордынцеву дали выморочное поместье
близ Серпухова, на берегу Оки: все мужчины семьи,
владевшей деревней Дубровкой, вымерли от повальной
болезни, и некому было нести службу за землю.
Так бывший псковский боярин стал московским
дворянином.
Ордынцев, получив хорошее поместье вблизи Мос-
квы, был доволен. Правда, Дубровка досталась Григо-
рию Филипповичу не без труда: много пришлось дать
дорогих подарков дьякам.
Оторванный от родных мест, Григорий Филиппович
не растерялся: он был человеком твердой воли и острого
ума. Первым условием для возвышения рода являлось
богатство; богатство боярских и дворянских семей со-
здавалось крестьянским трудом. Чем больше оседало
крестьян на земле владельца, тем больше собиралось
оброков, тем легче выполнялись повинности перед го-
сударством.
Григорий Филиппович установил для крестьян пони-
женный оброк, и его тиун не слишком притеснял неис-
правных должников. Ордынцев расчетливо полагал, что
лучше прожить десяток лет с меньшими доходами, зато
пустующие земли будут заселены и обработаны.
Так и случилось. Когда по округе прошла молва о
добром боярине, у которого даже тиун сочувствует
крестьянской нужде, в ордынцевскую деревню повалил
народ. Пользуясь правом переходить к другому земле-
владельцу в Юрьев день, крестьяне рассчитывались с
78
долгами обычно с помощью ордынцевского тиуна, и
поместье Григория Филипповича с каждым годом ста-
новилось многолюднее.
По мере того как росли ряды изб в деревне Ордын-
цева, оброк поднимался. Долги, сделанные боярину при
переходе в его поместье, начинали взыскиваться с
беспощадной строгостью, с огромным «накладом», как
в старину называли проценты.
Мужики, польстившиеся на посулы ордынцевского
тиуна, поняли, что попали в ловушку. Но куда бежать?
По горькому опыту крестьяне знали, что бояре и дворя-
не все одинаковы, что кабала везде горька.
Соседи Григория Филипповича, злобившиеся за
«порчу людишек», поняли его игру и прониклись боль-
шим уважением к дальновидному пришельцу.
Ордынцевские мужики нищали, зато богатство Ор-
дынцева стало быстро расти. Он поставил в Москве, на
Покровке, богатый двор на трех десятинах земли. Там
и стал он жить большую часть года, поручив управление
деревней надежному тиуну.
Там, на Покровке, и нашел Ордынцева Тишка, бла-
гополучно пробравшийся в Москву, хотя дорогой и
грозили ему, беглецу, многие опасности.
Григорий Филиппович, высокий и тучный, с оклади-
стой темнорусой бородой, сильно тронутой сединой,
принял Тишку наедине: старик избегал разговоров с
пришлыми людьми при свидетелях. Проситель повалил-
ся Ордынцеву в ноги и, величая милостивым боярином,
умолял принять его, недостойного раба, в холопы, на
вечную службу.
Ордынцеву люди уже не были нужны, но Тишка
клялся, что он прибежал к боярину из бывшего ордын-
цевского поместья, где мужики помнят и любят преж-
него господина и жалеют о нем. Размягченный лестью,
Григорий Филиппович принял Тишку с женой к себе во
двор. За небольшую взятку дьяк составил на Тихона
кабальную грамоту, и тот стал холопом Ордынцева.
Тишка быстро освоился в новой среде. Наглый с дворо-
выми и угодливый с высшими, он наушничал на людей
главному дворецкому и был у него в чести.
79
Через два года Тишку трудно стало узнать: он раздоб-
рел, отрастил большую рыжую бороду, набрался спеси.
Многие из дворни уже почтительно величали его Тихо-
ном Аникеевичем и предвидели, что быть ему вскорости
младшим дворецким.
В 1541 году в жизни Ордынцева произошла важная
перемена: его избрали серпуховским губным1 старо-
стой.
У губного старосты была своя канцелярия — «губная
изба»; делопроизводством ведал губной дьяк; помощни-
ками губного старосты были губные целовальники. Це-
ловальниками в старину назывались служилые люди,
которые целовали крест, то есть приносили присягу в
том, что будут добросовестно выполнять свои обязан-
ности.
Главным делом губных старост была борьба с разбо-
ями. Губные целовальники задерживали на дорогах по-
дозрительных людей и препровождали на суд к губному
старосте.
Избрание губным старостой изменило установив-
шийся образ жизни Григория Филипповича: приходи-
лось оставить спокойное житье в Москве и принять
обширные заботы по уезду. И все же Ордынцев не
отказался: ему польстило доверие дворян, прежних его
недоброжелателей, и он хотел доказать, что они выбра-
ли достойного. Была и другая сторона дела, пожалуй
еще более важная для Ордынцева: должность губного
старосты была небезвыгодной. Губные старосты имели
право казнить виновных в разбое; имущество казненных
частью шло на удовлетворение пострадавших, частью в
пользу государства. Разобраться, как произведен дележ
и какая часть имущества прилипла к рукам губных
властей, было невозможно, особенно если чины губной
избы крепко поддерживали друг друга.
Расчетливый Григорий Филиппович так поставил де-
1 Губа — территориальный округ в русском государстве
XVI—XVII веков.
80
ло, что его подчиненные были довольны, и опасность
доноса исключалась.
Губная реформа вырвала право суда из рук князей и
бояр и тем значительно урезала их власть. Зато сильно
возросло влияние мелкого дворянства, избиравшего губ-
ных старост.
Но реформа била не только по князьям и боярам:
она больней того ударила по крестьянству. На языке
того времени разбоем называли не только грабеж на
большой дороге, но и всякое недовольство, всякое
выступление крестьян против помещиков. Такие вы-
ступления подавлялись губными старостами, ярыми за-
щитниками интересов дворянства, с особой свире-
постью.
Дворяне, избравшие губным старостой Ордынцева,
остались им вполне довольны: он крепко соблюдал их,
а заодно и свои интересы, зорко следил за порядком в
уезде и всякие попытки крестьян к возмущению против
господ беспощадно пресекал в самом начале.
Глава II
БОЯРСКИЕ РАСПРИ
В год смерти великого князя Василия III единствен-
ному сыну Григория Ордынцева исполнилось тринад-
цать лет. Юный Федор хорошо изучил к тому времени
русскую грамоту, и отец нанял ему учителя по латыни.
Григорий Филиппович, сам малограмотный, с трудом
разбиравший печатное и совсем не умевший писать,
понимал значение образования. Сознавая, что ему само-
му не подняться выше губного старосты, он мечтал для
сына о боярстве, хотел, чтобы Федор сделался прибли-
женным советником государей.
Ивану IV было три года, когда умер его отец, и
младенца объявили великим князем; но править государ-
ством должна была его мать Елена, из рода Глинских,
недавних выходцев из Литвы.
В свиту великого князя Ивана IV стали набирать
81
юношей из дворянских и боярских семей. Григорию
Филипповичу пришлось сильно тряхнуть казной, чтобы
добиться для сына придворной должности. Правда, дол-
жность оказалась невеликой: за высокий, не по годам,
рост, за дородность Федора Ордынцева сделали рындой.
Рынды — великокняжеские пажи — выбирались из
юношей лучших дворянских родов и во время парадных
выходов и шествий поражали роскошью наряда. Их
одежда из серебряной парчи с рядом больших серебря-
ных пуговиц была подбита горностаевым мехом. Голову
юношей покрывали высокие белые бархатные шапки,
отделанные серебром и золотом и опушенные рысьим
мехом, на ногах были белые сапоги с золочеными
подковками. Рынды носили на плечах топоры, блистав-
шие золотой и серебряной отделкой.
Старый Ордынцев был крайне горд назначением
сына, предвидя в этом первую ступень к будущим
почестям.
Придворная должность позволила младшему Ордын-
цеву ежедневно видеть великого князя и знать все, что
делалось во дворце. Большой почет, по мнению людей,
и непрестанный страх перед вершителями судеб страны,
способными раздавить, как козявку, молодого царе-
дворца, если он осмелится стать на их пути, — вот какой
стала жизнь Федора Ордынцева.
Многое пришлось увидеть Федору за годы придвор-
ной службы.
После смерти великого князя Василия, который уп-
равлял государством умно и твердо, бояре подняли
голову: им показалось, что пришло время, когда, поль-
зуясь слабостью правительства, можно восстановить
древние боярские права.
Слишком хорошо еще помнили бояре, что их деды и
прадеды были венценосцы, владетельные князья, кото-
рые ни в чем не уступали князьям московским, а иногда
и превосходили их по старшинству и значению уделов.
Пристойно ли им, боярам, потомкам государей, быть
холопами государя московского!
Ведь они хотя и подчинились московскому великому
князю, но владения своих отцов — вотчины — сохрани-
82
ли и распоряжались в них полно-
властно. Они имели свои войска,
и когда начиналась война, эти вой-
ска должны были становиться под
знамена великого князя. Но при-
ходилось просить и уговаривать
феодалов своевременно явиться с
дружинами в ополчение; а пере-
дать удельную дружину под на-
чальство другого воеводы было
делом невозможным. И это свя-
зывало руки руководителю всего
ополчения — великому князю.
На свои обязательства перед
государством бояре-феодалы
смотрели как на добровольное со-
глашение, от которого они всегда
вольны отказаться и даже перей-
ти на службу к другому государю, например в Литву.
Этот опасный пережиток старины следовало вытра-
вить во что бы то ни стало. Но время для этого еще не
пришло...
Две сильные партии образовались среди боярства:
одну составляли князья Бельские, в другой был много-
численный род Шуйских, потомков суздальских князей.
При жизни Елены ни Бельские, ни Шуйские не могли
пробиться к власти. Но правительница умерла в 1538
году, как утверждали — от яда, поднесенного недруга-
ми. Худенький, болезненный восьмилетний великий
князь сделался игрушкой в руках бояр.
Первой жертвой приверженцев старины стал умный
и дальновидный государственный деятель князь Иван
Федорович Овчина-Телепнев: закованный в железо, он
умер в темнице от голода1.
Князь Иван Федорович благоволил к молодому Ор-
дынцеву, часто любовался его могучей фигурой; неод-
1 Во время правления Елены Овчина-Телепнев ведал внут-
ренними и внешними деламй страны, осуществлял военное
руководство.
83
нократно разговаривал с Федором, обещал ему повыше-
ние. Гибель Телепнева повергла Федора в ужас. К
счастью для молодого Ордынцева, он был слишком
ничтожной пешкой в игре и попрежнему в торжествен-
ные дни стоял с секирой в руках у подножия трона.
Пять лет1 продолжалась жестокая борьба за власть
между боярскими партиями. После смерти Елены власть
сумели захватить Шуйские; многочисленные члены это-
го обширного рода получили города «на кормление».
Кормление — пережиток удельной старины — за-
ключалось в том, что князья и бояре, получавшие город
или волость в управление, собирали с населения в свою
пользу подати. Часто наместники и волостели1 2 требова-
ли с жителей такой непосильный корм, что те разбега-
лись; многие города и волости оставались пустыми.
Отовсюду стекались в Москву жалобы, но жаловать-
ся было бесполезно: верховная власть поступала не
лучше, чем ее представители на местах. Шуйские нагло
грабили государственную казну, расхищали золото и
драгоценности.
Борьба бояр велась жестоко, грубо, много жертв она
уносила при каждом перевороте. Молодой Федор Ор-
дынцев, любитель книжного учения, юноша тихого и
скромного нрава, горько сожалел, что отец вверг его в
«область адову» — так называл Федор великокняже-
ский дворец в разговорах с отцом, часто наезжавшим в
Москву. Разговоры велись втайне.
Опасность доноса была велика: младший дворецкий
Тихон Верховой вечно вертелся в хоромах и старался
узнать все тайное; он не постеснялся бы продать своих
господ Шуйским.
Старый Григорий Филиппович говорил сыну на его
мольбы о позволении покинуть придворную службу.
— Немысленное дело затеваешь, Федя! Прошение
твое об уходе будет сочтено за тяжкое оскорбление
государева величества. Да тебя Шуйские и не выпустят
на волю: слишком многое ты видел и знаешь, языка
1 С 1538 по 1543 год.
2 Волостели — правители волостей.
84
твоего поопасятся. А тебе я дам наставление: держись
тише воды и ниже травы, никому не прекословь, волю
вышестоящих исполняй со смирением и усердием. Благо
будет, ежели сочтут тебя скудоумным: таких властели-
ны любят. Великому князю оказывай преданность нае-
дине, без лишних глаз. Государь имеет ум острый и
проницательный, несмотря на младые годы: он твою
скрытность поймет и врагам тебя не выдаст; но, придя
в возраст, вспомнит тебя и превознесет...
— Боюсь я, тятенька, погибнуть в этой буре неисто-
вой, которая столь многих сильных унесла, — жаловал-
ся Федор.
— Свирепый вихорь ломает дубы, но былинки при-
гибает к земле, — наставительно отвечал отец. — Гнись
долу и выжидай свое время...
И вот настал день, когда юный государь нанес силь-
нейший удар непокорному боярству.
29 декабря 1543 года по приказу Ивана глава рода
Шуйских, боярин Андрей Михайлович, был убит.
Сидя в тихой келье, летописец записал в тот год:
«Начали бояре от государя страх иметь и послуша-
ние...»
Ивану шел в то время четырнадцатый год.
Молодой государь давно заприметил безответного
Федора Ордынцева; не раз заставал он его с книгой в
руках. Такое книголюбие пришлось по душе юному
великому князю, страстному любителю чтения. Теперь,
когда Иван получил возможность беспрекословно вы-
ражать свою волю, он возвел Федора Ордынцева в сан
спальника.
— Довольно тебе, молодец, в рындах ходить, уж
больно ты велик стал для этого дела, — ласково сказал
великий князь покрасневшему Федору. — Усердие твое
и послушание нам ведомы и, чаю я, в наших государевых
спальниках больше пользы окажешь!
Федор Ордынцев кланялся и благодарил, а сам думал:
«Лучше бы уволили меня от окаянной службы!»
85
Но стену лбом не прошибешь. Слушая поздравления
придворных, Федор делал довольное лицо. Зато утешила
его чрезвычайная радость отца, которого Федор очень
любил. В новом звании сына Григорий Филиппович
видел ступень к желанному возвеличению рода Ордын-
цевых.
По старинному обычаю, рынды для великокняжеско-
го двора набирались из неженатых юношей, которые,
придя в возраст, заменялись другими. Федору Ордын-
цеву давно следовало выйти из рынд, но отец на это не
соглашался: он боялся, что, покинув двор, Федор закро-
ет себе путь к почестям. Государева милость разрубила
этот узел, и теперь отец мог женить Федора. Без
хозяйки дом — сирота, а старик вдовел лет десять.
Невеста, дочь стольника1 Наталья Масальская, уже
была присмотрена; отцы давно ударили по рукам, не
спрашивая согласия жениха и невесты. В высшем кругу
общества женщины в старину сидели затворницами в
теремах; этот обычай искоренил только Петр I.
До дня свадьбы Федор не видел невесту. Зато как он
был обрадован, когда Наталья оказалась девушкой ми-
ловидной и доброго нрава.
Молодые зажили дружно. В конце 1544 года Григо-
рий Филиппович порадовался появлению на свет внука
Семена.
Лаская маленького Сеню, старик гордо думал:
«Не угаснет род Ордынцевых!..»
К власти пришел князь Михаил Васильевич Глинский,
старший из братьев покойной великой княгини Елены;
его деятельность направляла бабка великого князя —
властная и честолюбивая Анна.
В стране ничего не переменилось от того, что одну
правящую партию заменила другая. Глинские были ко-
рыстны и жадны не менее Шуйских. На кормление в
городах и волостях сели другие наместники, а народ
стонал по-прежнему.
1 Звание стольника было одним из средних придворных
званий в русском государстве.
86
Зато изменилось положение во дворце. С того дня,
когда Иван впервые проявил власть государя, нельзя
было обращаться с ним по-прежнему. Приближать лю-
бимцев юный государь стал по своей воле, а воля его
была часто изменчива, и не без причины. Любимцы
Ивана оказывались такими же своекорыстными, так же
старались утопить соперников, которые могли бы отнять
у них государеву милость.
На кого положиться? Кому довериться?.. Не было
среди именитых бояр надежных людей.
В уме молодого государя зрела беспокоящая и гнев-
ная мысль:
«Надо вывести до корня бояр — этот род лукавый и
непокорный!»
Глава III
СКОРБНЫЙ ПУТЬ
«Како могу я описать напасти и беды русских людей
во времена те? Казанцы из земли нашей не выходили и
проливали кровь, как воду. Крестьян уводили в плен ка-
занские срацины, старым и негодным выкалывали глаза,
а иным отсекали руки и ноги, и, как бездушный камень,
валялось тело на земле. Младенцев, им улыбавшихся и
руки подававших, варвары и кровопийцы от матерей от-
рывали, за горло давили и о камни разбивали или на копья
надевали...»1
* * ★
Разбойники, полонившие Никиту Булата, нашли у
него в котомке книгу; это спасло зодчему жизнь: «Рус-
ский мулла!1 2 Выкуп даст!»
Татарин Давлетша, завладевший Никитой по жре-
бию, решил сберечь пленника. На привале осмотрел
босые, сбитые ноги Булата.
— Вай-уляй! — огорчился Давлетша. — Не дойдешь...
1 «История Казанского царства» неизвестного автора, много
лет проведшего в казанском плену.
2 Мулла (татарск.) — священник.
87
Эй, урус, бояр! — начал он умильным голосом. — Твой
богат? Акча1 много есть? Твой сколько тэнга1 2 на выкуп
давал? Сто тэнга давал?
Никита ответил:
— Не рассчитывай на выкуп? Я бедняк, на меня
тратиться некому. Был ученик, и того вы убили...
«Врет! — уважительно подумал татарин. — Крепкая
голова, трудно получить выкуп. Надо стараться...»
Давлетша снял с ног чарыки из бычьей кожи, отдал
Никите. Покрыл его войлочным халатом, накормил.
— Спи, мулла! Выкуп платил — домой ходил!
Утром Давлетша посадил Никиту на запасного коня.
«Довезу живого — выкуп получу...»
Миновав русские заставы, ехали не сторожась. На
вечерних привалах после ужина деренчи садились
кружком на рваные кошмы вокруг сказочника. Старик
взглядывал на небо, усеянное звездами, плотнее завер-
тывался в халат.
— Началось дело в том году, когда волк служил
атаманом, лиса — есаулом, гусь — трубачом, ворон —
судьей, а воробей — сплетником. У бедного деренчи,
такого, как и мы, родилась дочь Юлдуз. Ай, красавица
из красавиц была! Четырнадцатидневная луна3, завидев
ее красоту, от стыда за тучи пряталась. Когда Юлдуз
воду пила, вода через ее горло видна была. Когда
морковь ела, морковь через ее бок видна была...
— Ай, какая красавица! — восклицали пораженные
слушатели.
Сказка тянулась долго. Влюбленные разлучались,
соединялись и вновь разлучались; молодой богатырь
побеждал дивов4 и становился ханом в неведомой
стране, где пшеничные зерна родились величиной с
кулак...
Время подходило к полуночи, когда татары уклады-
вались на ночлег. Деренчи храпели, но пленникам было
1 Акча (татарск.)—деньги.
2 Тэнга (татарск.) — рубль.
3 Восточные народы называют луну четырнадцатидневной
во время полнолуния.
* Ди в — злой дух восточных сказок.
88
Казанцы из земли нашей не выходили и проливали кровь,
как воду.
не до сна. Сбившись кучкой, они шептались о родине,
плакали над своей бедой...
Утром атаман осматривал пленников, указывал на
двух-трех, ослабевших от трудностей пути, и те, кото-
рые ночью вздыхали над злоключениями влюбленных в
сказке, отрезали жертвам голову, со смехом перекиды-
вались ими, пинали ногами, стаскивали с убитых одеж-
ду, засовывали в сумы.
— Эй, друг, ты свою последнюю зарезал?
Спрошенный широко ухмылялся:
— Судьба! Не жалко — совсем худая баба стала. В
следующий раз лучше возьму.
Давлетша, подсаживая Никиту на коня, посмеивался:
— Эй, мулла, выкуп давал — домой ходил! Якши, чох
якши!1
К Волге подошли в полдень. Перевозчики — марий-
цы — переправили людей на больших лодках. Кони
плыли за лодками.
* ★ ★
Вот она, Казань, город страданий разноплеменных
рабов. Десять ворот было в крепкой дубовой стене,
окружавшей обширное пространство.
Деренчи пригнали пленников к Крымским воротам;
там начальником караула сидел десятник, падкий на
бакшиш1 2. От него можно отделаться небольшой пошли-
ной за приведенную добычу.
Русские сбились в кучки. Немного их осталось после
страшного пути: всего восемнадцать человек из шести
десятков. Ободранные, с кровоточащими ногами, с ис-
худалыми лицами, пленники угрюмо смотрели на любо-
пытных стражников, высыпавших из ворот.
Седобородый десятник расшумелся:
— Ослы несчастные, да покарает вас аллах! В каком
виде урусов пригнали?
— А что?— испугался атаман.
— Да разве это баранта?3 Их только собакам на корм
1 Хорошо, очень хорошо! (татарск.)
2 Бакшиш (татарск.) — взятка.
3 Баранта (татарск.) — грабеж, захваченная добыча.
90
бросить!.. У-у! Товар портите, сыновья сгоревших отцов!
Кто за них цену даст?..
Атаман сконфуженно оправдывался:
— Спешили очень! Нам урусы пятки жгли... Думали,
самим не уйти...
— И пригнали падаль!
— Нет, вот этот старик ничего, совсем хороший
старик, мулла!..
Деренчи отделались небольшим ясаком.
Давлетша решил продать своего пленника. Слишком
долго ждать, пока урусы пришлют за муллу выкуп.
«Да и пришлют ли?— рассуждал Давлетша. — Мо-
жет, у него и вправду ничего нет. А может, он и не
мулла? Кормить его чем стану? Э, лучше живая собака,
чем дохлый верблюд! Сколько дадут — все ладно. Дом
не куплю — коня куплю. Коня не куплю — халат
куплю...»
Пленных для продажи поместили в городской зин-
дан — тюрьму. Предварительно сковали по три-четыре
человека. На одной цепи с Никитой оказался богатырь
ростом и сложением — Антон и двое подростков.
На Никите тяжело отразились дни плена. Зодчего
истомили не столько физические страдания и голод, как
нравственные муки, жалость к соотечественникам, по-
гибавшим на его глазах страшной смертью. Из пожило-
го, но еще бодрого и крепкого человека Булат за две
недели превратился в старика с ввалившимися щеками,
с потухшими глазами.
Антон и Никита разговаривали всю ночь. Они угово-
рились по возможности не терять друг друга из виду.
Зловоние зиндана, полчища насекомых — все это так
измучило полонянников, что они с нетерпением ждали
утра, хотя этот день должен был решить их судьбу.
Мечта пленников попасть в одни руки не осуществи-
лась: Антона купил богатый бек1 из окрестностей Каза-
ни, подростки попали к содержателям харчевен.
Булата выставим на помост.
1 Бек — помещик, дворянин.
91
Худенький старик, босой, с лысой головой и вскло-
коченной седой бородой, в ветхой рубахе и портах,
стоял на возвышении, оглядывая толпу.
От ярких халатов у Никиты зарябило в глазах. На
голове у татар малахаи: войлочные и собачьи — у
бедняков, лисьи — у богачей. Косо прорезанные глаза
рассматривали пленника с ленивым и презрительным
любопытством.
Много крашенных в красный цвет бород; краска —
хна — стоила дорога, и только богатые люди — муллы,
беки, кадии1 — могли позволить себе такую роскошь.
Оценщик, которому Давлетша пообещал бакшиш,
принялся расхваливать Булата.
— Вот раб! — выкрикивал он. — За такого раба не
жалко отдать богатства семи стран света!
В толпе послышался смех. Вперед протолкался ре-
месленник в засаленной тюбетейке:
— А что он умеет делать? Я не знаю никто не знает.
Может быть, ты знаешь? Скажи!
— Он? — Оценщик подтолкнул Никиту к зрителям
и затараторил: — Он проворен, как ящерица, искусен,
как сорок ремесленников! Он и халат сошьет, и коня
подкует, и пилав сварит, и ребенка понянчит...
— Как это хозяину не жаль расстаться с таким
сокровищем?— заметил ремесленник под общий хо-
хот. — Может, он кусается?
— Кусается? Да у него и зубов-то нет! — быстро
возразил оценщик.
Грянул взрыв смеха. Оценщик смутился, попав впро-
сак.
— Сорок тэнга! — закричал он, поворачивая унылого
Никиту во все стороны. — Сорок тэнга за мудрого,
опытного раба... Тридцать тэнга за раба, искусного во
всех ремеслах!.. Спешите, правоверные, не упускайте
случая — раскаетесь: не всегда будет торба с овсом у
коня на морде!
В толпе молчали.
1 Кадий (арабск.) — судья.
92
— Двадцать тэнга за раба, который принесет счастье
и довольство в дом купившего его! — как ни в чем не
бывало продолжал оценщик, стараясь поймать взглядом
глаза краснобородых богачей. — Двадцать тэнга!.. Пят-
надцать тэнга!..
— Два тэнга! — предложил ремесленник.
— Аллах велик, но, создавая тебя, забыл вложить ум
в твою голову! Два тэнга за такого ценного раба?! Два
тэнга?! — возмущался оценщик.
А Давлетша чуть не ревел с досады.
Несмотря на старания оценщика, Булата продали за
два тэнга. Купил старика оружейник, первым предло-
живший за него цену.
Получая деньги после вычета сборов и налогов,
Давлетша взвыл:
— Вай-уляй! Имя мое пропало! Этот покупатель
опозорил могилу моего отца!
— Судьба! — утешал его оценщик.
— Лучше бы я зарезал русского муллу! Сапоги давал,
халат давал, на коне вез... И все за два тэнга!
С горя Давлетша отправился пить бузу1 и прокутил
все деньги.
1 Буза — хмельной напиток.
93
Никиту свел с помоста оружейник Курбан. Базарный
писец иглой нацарапал на плоском медном кольце имя
Курбана. Кольцо продели в ухо Никиты, проткнув ши-
лом мочку. Теперь Булат стал вещью, отмеченной клей-
мом хозяина, и за попытку к бегству подлежал смерти.
Глава IV
У ОРУЖЕЙНИКА КУРБАНА
Из караван-сарая, где продавали рабов, шли по из-
вилистым городским улицам. Булат внимательно при-
сматривался к чуждой архитектуре восточного города.
Мечети с круглыми куполами, с высоко вознесенными
узкими минаретами1 сверкали эмалью, по которой ви-
лись золотые разводы и завитушки. В глубине сводча-
тых входов виднелись полуоткрытые двери дорогого
дерева, испещренные причудливой вязью священных
изречений. Мусульманские обычаи запрещали изобра-
жать живые существа, и восточные художники упот-
ребляли все искусство на создание изящных арабе-
сок — узоров.
Около одной из мечетей хозяин Булата встретил
знакомого и остановился поговорить. Никита заглянул
в растворенную дверь. В прохладе мечети расположи-
лась школа: мулла и полтора десятка учеников. Учени-
ки — мулла-задэ, — сидя на каменном полу с поджаты-
ми ногами, покачивались из стороны в сторону и зау-
нывным голосом твердили заданное. Один загляделся на
пышущую жаром улицу. Мулла с размаху хлестнул
длинной камышиной по бритой голове лентяя. Товарищи
наказанного захохотали, а сам он остервенело забубнил
урок.
Оружейник дернул Никиту за руку и повел дальше.
Дома богачей скрывались в глубине дворов, обнесен-
ных высокими стенами. Лишь узенькие калитки, охра-
няемые дюжими сторожами, проделаны были в стенах.
1 ..
1 Минарет — вышка при мечети; с минарета раздается
призыв к молитве в определенные часы суток.
94
Улицы походили на длинные коридоры: два пешехода
могли разойтись свободно, всадники разъезжались с
трудом.
Булат на своей спине испытал неудобства хождения
по казанским улицам.
— Берегись, берегись! — послышались крики за
поворотом.
Курбан втиснулся в маленькую нишу в стене, устро-
енную для таких случаев. Никита этого не сделал, да он
и не понял предупреждения.
Из-за угла вывернулся бек в нарядном бешмете
ярчайшего малинового цвета, в лисьем малахае. За ним
ехали слуги. Растерянного Никиту притиснули к стене,
чуть не затоптали лошадьми; вдобавок последний ударил
его плетью.
— Не стой на дороге! — прошипел он злобно.
Курбан только посмеялся.
На улицах валялись отбросы, падаль; дорогу пересе-
кали зловонные ручьи, вытекавшие из-под стен. Никто
не заботился об уборке города. Все лишнее, ненужное
выкидывалось на улицу, как на свалку. Остатки от еды
пожирали бродячие собаки.
Целая стая их терзала труп павшего осла. Голодных
псов сам Курбан обошел с почтительной осторожно-
стью, хоть и был вооружен дубинкой.
Неказисто выглядели казанские улицы; неприглядны
были с виду дома татарских богачей. Роскошь и удобства
скрывались внутри. И на это казанская знать имела
веские причины.
Похвальба богатством доводила до беды: ханы зави-
стливо смотрели на сокровища подданных. А присвоить
их добро было легко: объявить богача изменником,
сторонником Москвы, послать телохранителей с ука-
зом, осуждающим преступника на смерть и отписываю-
щим имущество в ханскую казну.
Когда миновали эту часть города, картина измени-
лась. Глинобитные сакли бедноты вплотную примыкали
одна к другой, на крутизнах громоздились уступами;
крыша одной сакли нередко служила двориком другой.
95
Тут не было и следов улиц: причудливые, запутанные
тупики...
Курбан повел Никиту по крышам, кое-где взбирались
по лесенкам.
«Небогато живут! — подумалось Булату. — А вонь-
то, а грязь-то...»
Сакля Курбана была полна народу: три жены, куча
полуголых бронзовотелых ребятишек, несколько рабов.
Никиту обступили, заглядывали в лицо, ребятня тыкала
пальцами в грудь и спину.
На ночь хозяин приковал Никиту к стене.
— Уйдешь — заблудишься, тебя кто-нибудь присво-
ит, а мне — хлопотать, — объяснил он по-татарски.
Москвич Кондратий, давно томившийся в плену,
перевел Булату опасения хозяина.
— Скажи ему — не побегу. Куда бежать-то?
Кондратий, узколицый, худой, с позеленевшей от
медных опилок бородой, поговорил с Курбаном.
— Не соглашается. «Пуская, — бает, — поживет.
Привыкнет — не стану приковывать».
Рабов подняли чуть свет. Сунули по маленькой черст-
вой лепешке:
— Ешьте, люди. Время на работу.
В утренней тишине по городу разносились звонкие,
заливистые голоса муэдзинов1. С балкончиков высоких
минаретов, обратившись лицом к Мекке1 2, они разного-
лосо и не в лад выпевали слова молитвы.
Курбан и его рабы, а с ними и раскованный Никита
отправились на базар. Базар в Казани, как во всех
восточных городах, служил не только местом торговли,
но и средоточием всех ремесел. В сотнях лавчонок
кипела работа. Кожевники, отравляя воздух испарени-
ями дубильных чанов, выделывали сафьян и юфть. По
соседству сапожники шили из готовой кожи обувь. Из
мастерской медника доносился звон и стук молотков по
металлу: там ковали затейливые медные кувшины.
Цирюльник брил голову хилому старику, ревностно
1 Муэдзин (арабск.) — помощник муллы.
2 Мекка — священный город мусульман.
96
выполнявшему обычай — не носить длинных волос.
Смачивая макушку мыльной водой, он водил по его
голове ножом и что-то оживленно рассказывал. У ста-
рика от боли текли слезы из воспаленных глаз, но он
терпел.
В углу тесной базарной площади погонщики застав-
ляли верблюдов стать на колени, чтобы развьючить.
Верблюды оглушительно ревели. Хозяин каравана, тем-
нолицый индус, разговаривал с менялой-огнепоклонни-
ком. На лбу парса1 виднелся красный значок — символ
священного пламени. В толпе слышался гортанный говор
кавказца; худощавый текинец1 2, хватаясь за кинжал,
грозил степенному кизилбашу...3
Гомон, суета, разноязычные крики, споры покупате-
лей с продавцами... Шашлычник, поворачивая над жа-
ровней нанизанные на вертел куски баранины, крикливо
хвалил свой пахучий товар. Продавец кумыса орал,
размахивая бурдюками. Астраханец громогласно пред-
лагал отведать ароматных дынь с низовьев Волги...
В лавке Курбана началась обычная дневная работа.
Ученик кубачинского4 мастера, выходца из дагестанско-
го аула, Курбан славился кинжалами, разрубавшими
пушинку на лету. Сталь для оружия Курбан закалял сам,
никому не доверял секрет.
Курчавый, смуглый армянин Самсон выковывал
клинки, маленький молчаливый грузин Нико шлифовал
и оттачивал их, москвич Кондратий выпиливал медные
рукоятки.
Многие сотни пленных мастеров работали на хозя-
ев — татар. Не все они были захвачены казанцами во
время набегов — хозяева покупали искусных ремеслен-
ников в Астрахани, в Крыму и даже в Турции.
Умелого пушкаря Самсона полонили десять лет назад
1 Парсы — секта огнепоклонников.
2 Текинцы — одно из племен Средней Азии.
3 Кизилбаш (татарск.) — красноголовый; презрительная
кличка персов (иранцев).
4 Кубачи — аул на Кавказе, до наших дней славящийся
выделкой превосходного* оружия.
97
4-769
турки; переходя из рук в руки, после долгих скитаний
армянин попал наконец в рабство к Курбану, и этот не
намерен был расстаться с невольником, способным на
всякое мастерство. Грузина Нико Курбан дешево купил
у астраханцев.
У Курбана полагалось работать быстро, без отдыха.
При каждом промедлении хозяин бросал свирепый
взгляд, а при повторении проступка по спине виновного
ходила плеть...
Курбан поставил Никиту выбивать узоры на клинке
по заранее наведенному рисунку. Такая работа Булату
была не трудна: Кондратий угадал это по первым сно-
ровистым движениям Никиты, хотя старый зодчий не
успел ничего рассказать о себе товарищу по несча-
стью.
Курбан как раз не мог оторваться от горна. А Конд-
ратий шепнул Никите:
— Не показывай, земляк, умельство: на работе замо-
рит!
— А испорчу?
— Побьется-побьется — пошлет на домашнюю рабо-
ту. А не то продаст другому хозяину.
— Не убьет?
— До денег жаден, пес. Поколотит, а ты терпи!
Разговор кончился. Курбан подозрительно посмот-
рел в их сторону.
Булат слабыми, неточными ударами бил по металлу,
не попадая чеканом в отмеченные линии. Курбан схва-
тился за голову:
— Что делаешь, презренный! Вот как надо, смот-
ри! — Он ловко выбивал линии сложного узора.
Никита стукнул молотком себе по пальцу — брызну-
ла кровь.
— Проклятый!.. Коунрад, покажи ему, как работать!
Кондратий принялся объяснять. Курбан плохо гово-
рил по-русски, но все понимал, и москвич не мог
вставить ни слова в поощрение товарищу. Брошенный
украдкой взгляд показал, однако, Никите, что он начал
как надо.
98
Весь день Булат портил работу, раздражая горячего
Курбана. Плеть ходила по плечам и спине старика.
Кондратий шептал:
— Крепись!
Никита не поддался.
— Пропади этот оценщик! Сгорели мои два тэнга! —
жаловался Курбан.
Вечером, когда Курбан отлучился из дому, Кондратий
многое рассказал о нем новому рабу.
Оружейник Курбан был очень богат. Жалкая лавчон-
ка на базаре только прикрывала его истинное занятие:
на Курбана работали по домам десятки мастеров, за
бесценок сдавая ему ятаганы1, кинжалы, богато укра-
шенные пищали1 2. Оружие Курбан перепродавал с ог-
ромной выгодой и немало золота зарыл в укромных
местах.
Но, как и многие казанские богачи, Курбан умело
представлялся бедняком: ходил в драном халате и заса-
ленной тюбетейке, жил в плохонькой сакле. Приноси-
мое мастерами оружие принимал наедине и, выплачивая
за него гроши, клял нищету, не позволяющую заплатить
дороже.
Таких пауков, высасывавших из народа последние
соки, было в Казани немало. Работая на них, ремеслен-
ники выбивались из сил, а жили впроголодь, и не раз
бунтовали, но всякая попытка возмущения кончалась
кровавой расправой.
— Ты от работы всячески отбивайся, — наставлял
Никиту товарищ. — Меня некому было предостеречь от
этого жадины ненасытного... Погляди, каков я стал.
Совсем извелся, а был молодец! Тебя хоть спасу...
Никите не дали есть ни вечером, ни утром.
Курбан плетью и кулаками старался вколотить в него
уменье. Никита стоял на своем. В его душе росло
упорство и гнев на хозяина.
Обозленный двухдневной возней с неуклюжим ра-
бом, Курбан пустил в ход плеть:
1 Ятаган — род сабли.
2 Пищаль — старинное огнестрельное оружие.
4*
99
— Вот тебе, урус, собака! Вот тебе!
Кровь проступила через рубаху. Булат стонал:
— Смертынька моя пришла... Прощай, Кондратий...
Самсон вступился за избиваемого:
— Эй, хозяин, нехорош дело! Зачем старый человек
бьешь?
— Твое это дело?
Курбан мимоходом стегнул армянина и вновь набро-
сился на Никиту с плетью. Неистово хлеща старика, он
свирепел с каждым ударом.
Татарин повалил Никиту на пол и топтал ногами.
Старик лишился чувств и лежал как мертвый. Курбан
опомнился, пробормотал со злостью:
— Сдох!
Кондратий наклонился к товарищу:
— Дышит... живой... — Ис укором Курбану:— Не
жалко двух тэнга? Не годен человек к работе — про-
дай!
— Э-э! «Продай, продай»... Кому бездельник ну-
жен?
— Сбудем. От медника Гассана я слыхал, управитель
сеида1 ищет садовника. Туда старика и спихнуть. Барыш
получишь!
— Какой барыш! Хоть бы свои вернуть!
Булат открыл глаза, застонал.
— Живуч, негодный! Коунрад, отведи его домой.
Скажешь старшей ханым1 2, пусть хорошо покормит дня
три... — И вдруг испугался:— А если не купят уруса?
— Я его подучу, как себя за хорошего садовника
выдать.
— А он и там не годен окажется?
— Нам какое дело? Его спина в ответе...
— Ты хороший раб, Коунрад!
1 Сеид — первосвященник Казани, духовный повелитель
мусульман.
2 Ханым — женщина, госпожа.
100
Глава V
ВО ДВОРЦЕ КУЛШЕРИФА
Хитрость, придуманная Кондратием, удалась, хоть и
дорого обошлась Булату. Старик попал туда, куда про-
чил его москвич. Кондратий расстался с товарищем, с
которым можно было говорить о потерянной родине,
делиться горем... Он пожелал Никите удачи на новом
месте:
— Там полегче будет... А мне уж недолго работать
на Курбана, он немало людей переморил...
Уединенным было владение духовного владыки ка-
занских мусульман сеида Кулшерифа. Еще можно было
попасть в селямлик1 с разрешения нишана1 2 Джафара-
мирзы, но никто не проникал на женскую половину
дворца, где под строгим надзором Кулшерифовой мате-
ри жили жены первого казанского вельможи. Внутрен-
ний двор женского помещения был занят садом; туда и
поставил Джафар-мирза старого Никиту ухаживать за
цветами и деревьями.
Обилием садов не могла похвалиться Казань — слиш-
ком скучился огромный город в крепких дубовых стенах
с десятью воротами, откуда шли дороги на все стороны:
в Сибирское царство, к соседним ногаям, в Крым, в
Москву.
Хорошо было в саду Кулшерифа-муллы. Кроны лип
ежегодно подрезались; под их тенью царила прохлада
в самый знойный день. Ветры, поднимавшие пыльные
вихри в закоулках бедноты, не залетали в сад, за
высокие стены. Большие пестрые бабочки яркими пят-
нами метались среди дерев...
Однажды к Никите подошла женщина в халате,
накинутом на голову:
— Ты русский? Свой?
— А, ты землячка! — догадался старик. — Зовут как?
— На Руси Настасьей звали. — Женщина сбросила
халат, подняла черное волосяное покрывало. — Гляди...
1 Селямлик — на Востоке мужская половина дома.
2 Н и ш а н — доверенное лицо, управитель.
101
На Булата смотрели огромные блестящие глаза в
темных впадинах. Лицо полонянки исхудало, на почер-
невших губах была скорбная улыбка.
— Зачем открылась? Покарают...
— Кого карать-то? Последние дни доживаю. Сглода-
ла чахотка... — Настасья кашлянула. На губах показа-
лась кровь.
Женщина подвела Никиту к скамейке, усадила. Бу-
лат выслушал скорбную повесть Настасьи.
Она была крестьянка из-под Нижнего Новгорода.
Десять лет назад на родную ее деревню неожиданно
налетели татары. Кого поубивали, кого похватали в плен.
Стала рабой и Настасья, которую полонили с грудным
ребенком. О судьбе мужа Настасья ничего не знала: жив
ли он, тоскует ли по жене и дочке на родной стороне...
— Дочка у меня растет, — шептала Настасья, —
Дунюшка... Десять годков — одиннадцатый... Дедушка,
возьми на попечение сиротку! С тем и пришла к тебе...
— А льзя ли мне с ней видеться?
— Я сказала, что ты ей дедушка. Старая ханым до-
брая — я упрошу, она позволит. Я с Дунюшкой по-русски
разговаривала, сказки рассказывала, песням нашим учи-
ла, покуда голос был... Умру — все позабудет...
— Не позабудет, коли к ней доступ мне дадут, —
уверил женщину старый зодчий.
На следующий день Настасья привела Дуню. Девоч-
ка в смущении пряталась за мать. Булат все же рассмот-
рел ее: круглое личико, румяные щеки, голубые глазки...
Татаркой Дуню делал наряд: белая рубашка, широкие
красные шальвары. остроконечные туфли — бабуши —
на ногах. Русые волосы заплетены были в косички с
првешенными к ним мелкими серебряными монетками.
— Дуня, доченька, это дедушка твой. Поговори с
ним, — упрашивала мать. — Он добрый, он скоро один
у тебя останется...
— А ты уедешь, мама?
— Уеду, доченька, уеду... — с тяжелым вздохом
сказала мать. — Далеко уеду...
Вскоре Дуня привыкла к новому дедушке. Настасья
102
недаром торопилась сдружить дочку с Никитой. Дуня
стала прибегать к старику одна: мать уже не поднима-
лась.
Ни одного близкого человека не было у рабыни
Настасьи, и только встреча с Никитой вселила в душу
женщины надежду, что Дуня не останется одиноким,
заброшенным зверьком в многолюдном дворце Кулше-
рифа.
★ ★ ★
Богатый дворец мусульманского первосвященника
более полувека назад поставили самаркандские строи-
тели. Плоская крыша обнесена была перилами из точе-
ных столбиков: рабам хватало зимой работы очищать ее
от снега. Под крышей шли тря ряда карнизов, мягко
вырезанных полукруглыми арочками. Ленты цветных
изразцов опоясывали дворец. Здание окружали крытые
галереи на витых колонках; окна радовали глаз изыскан-
ным рисунком узорчатых переплетов, матово-серебри-
стым блеском слюды.
Дорожки вокруг дома и к воротам вымощены были
каменными плитами.
Внутренние стены помещений индийский художник
украсил глазурью: по синему полю переплетались кисти
винограда с золотыми лотосами. Высокие белые потолки
отделаны были прекрасной лепкой — работа пленных
персидских мастеров.
Туркменские ковры висели по стенам, лежали на
каменных полах, скрадывая шаги. Шелковые бухарские
занавеси огораживали уютные уголки. Там, сидя на
подушках, удобно было вести тайные разговоры, но
лишь тишайшим топотом: среди слуг немало было со-
глядатаев передававших управителю Джафару все, что
делалось и говорилось во дворце сеида.
В приемной Кулшерифа-муллы с утра собирались
посетители. Оставив сапоги у входа, мягко ступали по
ковровым дорожкам степенные муллы в зеленых хала-
тах. Они спешили засвидетельствовать почтение Джа-
фару-мирзе.
Джафар-мирза, горбун с уродливым туловищем, с
103
длинными сильными руками, выслушивал комплименты
с самодовольной улыбкой на лице, сильно тронутом
оспой.
Приходили к Кулшерифу-мулле и светские посети-
тели. Первосвященник Казани был вторым по значению
лицом после хана. В дни междуцарствий сеиды не раз
брали в свои руки управление государством. Сеид яв-
лялся главным советником царя, ни одно важное мероп-
риятие не совершалось без его одобрения. Много со-
кровищ скопил Кулшериф-мулла: сеида щедро одаряли
все, кто хотел заручиться его покровительством.
Проводив последнего посетителя, Джафар-мирза на
цыпочках вошел к сеиду, ведя Никиту.
Среднего роста, полный, с длинной седеющей боро-
дой, имам1 Кулшериф сидел на подушках, поджав ноги
по восточному обычаю.
— Вот раб, о котором я тебе докладывал, эфенди1 2, —
сказал Джафар с низким поклоном.
Булат стоял перед Кулшерифом; разговор переводил
управитель, говоривший по-русски.
— Бог сильный, знающий сделал тебя нашим ра-
бом, — сказал сеид. — Не говорит ли это, что он
милостивее к нам, правоверным, чем к урусам, и что он
хочет очистить ваши души в горниле страдания?
— Кабы не пришли мы с Андрюшей в эти края, не
попал бы я к вам в руки, — ответил Никита. — Ну, да
ведь известно: от судьбы не уйдешь!
Поняв ответ русского в желательном для ,себя духе,
Кулшериф продолжал:
— А потому, исполняя повеления судьбы, ты должен
принять нашу святую веру, урус!
Никита покачал головой с выражением непоколеби-
мой твердости:
1 Имам — высшее духовное звание у мусульмай. Пример-
ное соответствие духовных чинов у мусульман и православных:
муэдзин — дьячок, пономарь, мула — священник; имам —
епископ; сеид — патриарх. Но сеида могли именовать имамом,
а иногда к имени его даже прибавляли «мулла».
2 Эфенди — господин; почтительное обращение, заимст-
вованное турками и татарами у греков.
104
— Веру я не сменю. В какой родился, в той и
помру.
— Позволь мне, эфенди, убедить старика! — вме-
шался Джафар.
Получив разрешение, заговорил по-русски:
— Знаешь ли, как жить будешь легко, коли станешь
нашим?
— Своей вере не поругаюсь. Пленник я, но не
постыжу родной страны изменой.
Все уговоры остались бесполезными.
После смерти матери сиротка Дуня привязалась к
старому Никите.
«Вот судьба... — думал Булат. — Андрюшеньки ли-
шился — зато приемная внучка объявилась, на старости
лет утешение!»
Никита полюбил Дуню, как родную дочь. Он расска-
зывал девочке сказки, пел песни... Большую часть вре-
мени Дуня проводила в каморке Булата.
Глава VI
МОСКВА
В том году, когда Голован пришел в Москву, испол-
нилось почти четыре века с тех пор, как славный город
был впервые упомянут в летописи. Когда-то была на
месте Москвы лесная чаща, дикий лось спускался к
водопою с кручи, где стоит Кремль, медведь залегал в
берлогу на обрывистом берегу Яузы.
А стала Москва обширнее многих древних западных
городов. Со всей Руси стекался народ под власть мос-
ковских князей. Знали и рязанцы, и нижегородцы, и
суздальцы: крепка жизнь за крепкими стенами Москвы.
В надежде на поживу приезжали торговать и жить
иноземные купцы из Любека, Гамбурга, из Кафы1 и
самого Царьграда1 2. Не диво было услышать на москов-
1 Кафа — город в Крыму, теперь Феодосия.
2 Прежнее название Константинополя.
105
ской торговой площади разноязыкую речь, увидеть
чуждый наряд.
Андрей шел среди нищих, посматривая на виднев-
шийся невдалеке Андроньевский монастырь. Отовсюду
доносился стук топоров, скрипели возы с бревнами,
камнем, тесом.
Голован везде видел признаки оживленного труда, и
ему казалось, что он принял правильное решение искать
работу в Москве. Вдруг Андрей замер, низко опустил
голову: навстречу на гнедой лошади ехал Мурдыш.
Богатая шуба нараспашку открывала раззолоченную
ферязь с бирюзовыми пуговицами, ноги в желтых сафь-
яновых сапогах опирались на серебряные стремена.
Княжой тиун небрежно помахивал плеткой и свысока
смотрел на встречных. За ним следовали слуги.
Убогие отошли к сторонке, перекидывались замеча-
ниями:
— Расступись, народ, воевода плывет!
— Дешево волк в пастухи нанялся, да мир крях-
тит!
— Ишь пышет, разбойник!
Разминулись благополучно.
— Как мне теперь быть, дедушка Силуян?— тревож-
но спросил Голован.
— Ходи с опаской, изловить могут. Побудешь с
нами, покудова заручки не найдешь...
★ * ★
Нищие остановились в Сыромятниках, у знакомой
бабы-пирожницы. Разбившись по двое и по трое, убо-
гие пошли за подаянием. Андрей присоединился к деду
Силуяну и слепому Лутоне, которому служил поводы-
рем.
Первый день, когда Голован отправился с нищими,
запечатлелся в его памяти.
Они шли по правому берегу Яузы. Прегражденная
плотинами, речка разливалась прудами, подернутыми
тонким льдом. Под плотинами стояли мукомольные и
шерстобитные мельницы. Местность была заселена ма-
106
ло. Редко попадались по крутым берегам Яузы убогие
избенки.
Дальше домки стали попригляднее, плотнее лепились
друг к другу.
— Здесь государевы серебряники живут, — объяс-
нял дед Силуян, отлично знавший Москву. — Делают
они к государеву столу серебро: кубки, чары, корцы1 и
всякие иные столовые посуды... Они же, серебряники,
готовят украшенья на конские сбруи и на пищали огне-
стрельные и куют серебряные стремена...
Головану, любителю мастерства, захотелось посмот-
реть, как работают серебряники. Но для него, нищего в
лохмотьях, это была неосуществимая мечта.
Оставив Яузу, Силуян и его спутники повернули
вправо — на Солянку. По улице движение шло бойко,
но вид ее разочаровал Андрея: сплошные высокие забо-
ры с воротами, покрытыми потемневшими двускатными
кровельками. Головану, сыну искусного плотника Ильи
Большого, лучшего резчика в округе, украшения карни-
зов и свесов показались бедными.
Одни ворота распахнулись — выехал обоз. Нищие
приткнулись к воротному столбу. Голован рассмотрел
внутренность двора.
«Боярская усадьба», — подумал Андрей.
Хоромы стояли посреди двора, людские избы и
службы разбросались повсюду. Ворота караулил дюжий
мужик, а рядом прыгал на цепи огромный пес.
— С опаской бояре живут! — добродушно сказал
дед Силуян.
Закрывая ворота, сторож закричал:
— Эй, нищеброды, чего оглядываете?
Сердитый и острый на язык Лутоня сразу нашел
ответ:
— У твоего боярина сглядишь! У него каждая деньга
алтынным гвоздем1 2 прибита!
— А ты ведаешь, слепень?
1 Корец — ковшик.
2 Деньга — полкопейки; алтынный гвоздь — такой, кото-
рый стоит алтын, то есть три копейки.
107
— А то нет? Видать сову по полету!.. Э, да я и тебя
по голосу признал: это ты вчерась своих родителей за
чужой обедней1 поминал, благо на дармовщинку! А
батька твой из блохи голенища выкроил!
Любопытная московская толпа, собравшаяся вокруг,
захохотала. Побежденный в острословии привратник
скрылся, буркнув:
— Проходи, проходи! Ты тоже молодец: борода с
помело, а брюхо голо...
Лутоня отправился дальше, распевая густым басом:
— А вот подайте пищу на братию нищу! Мы, нища
братия, бога хвалим, Христа величаем, богатого боярина
проклинаем...
Окруженные ребятишками, которых привлекала бо-
гатырская внешность Лутони и мрачное, неподвижное
его лицо, добрели нищие до Варварки1 2.
Эта улица, в которую они прошли через ворота
Китайгородской стены, оказалась богаче Солянки. Тут
даже попадались боярские хоромы, горделиво глядев-
шие на улицу, а не спрятанные в глубине усадьбы.
Улица поражала многолюдством. Людской рокот ог-
лушил Голована. Толпы народа катились встречными
потоками; людские водовороты возникали на перекре-
стках, возле лавчонок, где продавали съестное.
Баба, торговавшая пирогами, выхваляла товар прон-
зительным голосом:
— А вот пироги! Пироги горячи!
— Бублики! Бублики! — ревел дюжий парень. — На
деньгу десяток, а дырки впридачу!
— Отчего зачался мир-народ на земле?.. Отчего у нас
ум-разум?.. — не смущаясь общим гамом, заунывно
тянули Силуян и Лутоня.
Андрей держался поближе к слепому, боясь зате-
ряться в сутолоке.
— Боярин едет! Боярин! — раздались крики.
Верховые холопы с нагайками неслись по улице, и
1 Чужая обедня — церковная служба, заказанная други-
ми.
2 Ныне улица Разина.
108
Андрей держался поближе к слепому, боясь затеряться
в сутолоке.
народ бросался кто куда. Не успевших ускользнуть
настигали удары под хохот толпы. Досталось и Лутоне
с Андреем, замешкавшимся на дороге.
Боярин проехал гордый, надменный, высоко держа
голову в драгоценной меховой шапке, сурово глядя на
толпу. За ним следовала свита.
— Я тебя, малый, в Кремль поведу! — сказал дед Си-
луян, когда наконец миновали суматошливую Варварку.
Они прошли Пожар1, пробираясь сквозь людскую
гущу.
Андрей не обращал внимания на толчки и ругань
встречных, он забыл даже про Лутоню.
День был ясный. Солнце играло на многочисленных
куполах и главах кремлевских церквей, на жарко бле-
стящих медных крышах царских хором.
У Голована разбегались глаза, он не знал, куда
смотреть. За высокими стенами красовался иной мир, о
котором он слыхал только по рассказам старого Булата
и который теперь представился ему воочию.
Причудливыми легкими громадами рисовались на
чистом небе великокняжеские палаты с массой шатров,
шпилей, башенок... Выше их поднимали величавую голо-
ву Архангельский и Успенский соборы...
В Кремль вошли через Фроловские ворота, сняв
шапки.
Голована удивило множество нищих у кремлевской
стены, в воротах и на церковных папертях. Андрей
сказал:
— Нам не подадут: вишь, сколько убогих!
Силуян спокойно возразил:
— И, милый, Москва велика, на всех хватит! А
может, будет раздача от государя либо от митрополита.
Тогда и нам перепадет...
Оставив Силуяна и Лутоню на паперти Архангель-
ского собора и обещав скоро вернуться, Андрей пус-
тился осматривать Кремль. Прошел час и второй, а
Голован не возвращался. Обеспокоенный Силуян отпра-
1 Пожаром прежде называлась Красная площадь.
110
вился на розыски. Старик нашел Андрея перед велико-
княжескими хоромами. Голован восторженно рассмат-
ривал их, потеряв всякое представление о времени.,
Великокняжеские хоромы выстроились не сразу; в
течение десятков лет к ним прибавлялись бесчисленные
пристройки: сени, терема, чердаки, повалуши...1 Эти
естественно возникшие сложные сооружения были
причудливо красивы, как деревья в лесу, выросшие на
вольной воле...
Кремль восхищал зрителя родной русской красотой,
хоть и не обязан был ею одному какому-то зодчему; ни
один строитель не смог бы создать такой красоты, будь
он самым гениальным художником мира: она рождалась
веками, усилиями тысяч безыменных русских людей.
Точно пьяный, с головой, кружащейся от множества
впечатлений, вернулся Голован в лачугу к бабе-пирож-
нице.
А А ★
Изо дня в день Силуян и его спутнки бродили по
Москве. Многие слободы ее ничем не отличались от
деревень, какие видел Голован на Руси. Улицы пролега-
ли то меж покосившихся деревянных заборов, то меж
простецких ивовых плетней. Из курных изб вырывались
сизые столбы дыма, совсем как в Выбутине. Избушки
крыты были тесом,.дранью, соломой...
В праздничные дни москвичи сидели на дерновых
завалинках, щелкали орешки, пересмеивались, задирали
прохожих. Парни и девки вели хороводы. Взявшись за
руки, ходили кружком вокруг парня, припевая:
И ходит царь,
И ищет царь,
Царь царевну свою,
Королевну свою...
Между слободами раскинулись поля. Ветер взвихри-
вал мелкий сухой снежок. Безлюдье, как за сотни верст
от Москвы. Потом снова вкривь и вкось тянулись улицы.
1 Терем — женское помещение; повалу ш а — летняя
спальня.
Ш
Многими слободами окружена была главная, цент-
ральная часть Москвы. И каждую слободу населяли
люди по преимуществу одного ремесла.
В Серебрянической слободе, уже знакомой Голова-
ну, мастера выделывали золотую и серебряную посуду
для великокняжеского стола.
В Кожевниках ремесленники мяли кожи. Там купцы
закупали сапожный товар: подошвенную кожу, юфть,
сафьян.
Хамовники и Кадаши готовили для дворцового оби-
хода тонкое полотно на белье, скатерти, полотенца.
В Садовниках каждый дом был окружен фруктовым
садом, а за садами, у берега Москвы-реки, раскинулись
огороды.
Конюшни сосредоточивались в Конюшенной слобо-
де; по соседству жили царские конюхи и кучера. А на
Остожье стояло множество огромных стогов сена: го-
довой запас для великокняжеских конюшен.
Остожье осталось навсегда памятно Головану: там
между Лутоней и его молодым поводырем произошла
крупная ссора.
Из разговоров со сторожами слепец узнал, что сто-
гами ведает его бывший господин Вяземский, по воле
которого Лутоня лишился зрения.
Старик решил свести старые счеты: он приказал
Головану пробраться тайком к одному из стогов и
поджечь его. Погода была ветреная, пожар быстро
уничтожил бы огромные запасы сена, приготовленные
на целый год для великокняжеских лошадей.
— Пускай тогда почешется Вяземский! — злорадно
говорил старик. — Небось узнает тогда государеву
милость!
Голован отказался выполнить приказ. Слепец гнев-
но укорял парня в трусости, называл боярским при-
спешником. Только тогда утих Лутоня, когда Андрей
сумел доказать ему, что пожар погубит не боярина
Вяземского, а множество невинных людей из простого
народа. Будут жестоко наказаны за небрежение сто-
рожа; погорят избушки огородников, приютившиеся на
112
берегу Москвы-реки. А если, на беду, огонь переки-
нется на соседние слободы, то количество жертв будет
огромно...
Старик побрел прочь от Остожья, сердито ворча
себе под нос:
— Ладно, пока спущу тебе, анафема Вяземский, а
придет время, я с тобой посчитаюсь...
Поначалу Головану показалось, что Москва — огром-
ная государева вотчина, обслуживающая многочислен-
ные нужды великокняжеского двора.
«Вот так поместье у государя! — думал Андрей. — Я
мыслил, боярин Оболенский велик, а он супротив госу-
даря — мошка...»
Голован узнал Поварскую улицу и окружающие ее
переулки: Скатертный, Столовый, Хлебный. Тут жили
повара, хлебопеки, крендельщики, квасовары и медо-
вары и всякие иные работники, готовившие пищу и
питье к государеву столу. А ели и пили при дворе
немало...
У Новинского жили государевы охотники — со-
кольники, кречетники1; у Ваганькова — псари; в Пре-
сненских прудах были живорыбные садки для рыбы,
издалека привозимой к государеву столу в кадках с
водой...
Только позднее понял Голован, что по неопытности
замечал первое бросающееся в глаза. Москва не была
княжеской вотчиной, хотя многие тысячи ее жителей
обслуживали государевы нужды. Москва была столицей
обширного государства, которому она дала свое имя
(иностранцы называли русское государство Моско-
вией). Москва устанавливала порядок в стране, обеспе-
чивала ее безопасность. В Москве были приказы, ведав-
шие государственными делами; московские гости тор-
говали со всеми областями большого царства и с други-
ми странами...
1 Кречет — порода ястреба.
ИЗ
Глава VII
СКОМОРОХИ
Зима подошла к концу, а Голован все еще ходил с
нищими. Холопы Артемия Оболенского частенько наез-
жали в московскй дом князя и жили подолгу. Андрей
не раз видел на улицах знакомые лица из муромской
княжеской вотчины. Спасало Андрея скромное положе-
ние поводыря слепого великана. Голован жил в посто-
янной тревоге, стал боязливым, раздражительным; вы-
сокий стан юноши согнулся, лицо похудело...
Артель Силуяна поговаривала, что пора подаваться
на полдень: нищие не любили засиживаться на месте.
Андрей слушал такие разговоры с тоской. Что ему
делать? Пойти с нищими, бродить по Руси, питаясь
подаянием? А зодчество? А выкуп Булата? Головану
казалось, что жизнь зашла в злосчастный тупик, из
которого нет выхода.
«Пойду в Холопий приказ! — надумал Андрей. —
Открою всю правду-истину, как меня Мурдыш не по
закону закабалил. И буду просить защиты...»
Нищие единодушно отвергли отчаянный замысел:
— Али ты с ума сошел? У дьяков вздумал правду
искать! Тебя же головой Оболенскому выдадут. И уж
тогда не сбежишь... С сильным не борись, с богатым не
судись!
И опять Голован не знал, на что решиться. Если бы
не была заказана дорога во Псков...
В начале апреля нищие ушли из Москвы на юг. Голо-
ван остался. Баба-пирожница обещала давать ночлег.
— А уж кормить не буду, не прогневайся! Сам
видишь мои достатки...
Голован тоскливо бродил по городу. Милостыню
просить он не хотел. Надо искать работу, а как взяться
за это в нищенской одежде, без поручителя...
Погруженный в невеселые думы, Андрей вышел на
площадь. Шумел и толкался народ. Двое в забавных
пестрых костюмах, в колпаках с бубенчиками кружи-
лись, приплясывая, сходясь и снова расходясь.
114
Скоморохи!
Во время странствий по Москве Голован не раз видел
скоморохов, зрелище это было для него не ново. Один
из скоморохов, высокий, вихлястый, с жиденькой коз-
линой бородкой, колотил в бубен; бубну вторили коло-
кольчики, пришитые к колпаку. Второй, низкий и коре-
настый, играл на свирели; он мало двигался, довольст-
вуясь тем, что повертывался вокруг себя.
Зато высокий вертелся волчком и кружился вокруг
товарища. Он ухарски взвизгнул, тряхнул бубном и
завел плясовую:
Прокалила Еремевна толокно
Да поставила студить за окно.
Ниоткуда тут возьмись Елизар,
Толоконце все до крошки слизал!..
— Ой, ловко! Молодец, Нечай! Молодчага! — вос-
торженно кричали зрители.
В лице Нечая играла каждая жилка, губы, казалось,
слизывали толокно из чашки, глаза щурились то озорно,
то испуганно, руки упирались в бока, как у разгневанной
бабы, или подхватывали и прятали пустую посудину.
Товарищ Нечая высвистывал задорную плясовую, а
лицо его оставалось сосредоточенным и даже угрюмым.
— Дуй вовсю, Жук! — вскрикивал Нечай, бешено
округляя веселые глаза и учащая пляс. — Сыпь, Матвей,
не жалей лаптей! — отбивал он присядку под гул, хохот
и крик толпы.
Проворно оглядевшись вокруг, Нечай завел новую
песню, резко отличную от первой. Лицо скомороха
изобразило великую спесь и полное презрение к окру-
жающим. Выпятив брюхо и важно толкая ближайших
зрителей, Нечай медленно выводил:
Как у нашего боярина хоромы высоки,
Как у нашего боярина собаки злы...
У него ли, милостивца, мошна толста...
Что душа ни пожелает, то и все у него есть...
А чего же у боярина, братцы, нет?
У боярина у знатного совести нет!
У боярина великого правды нет!..
— А ну, ты, детина, насчет великих бояр полегче!
Из-за спин зрителей неожиданно появился рыжий
115
мужчина, кривой на один глаз. Толпа встретила выходку
пристава1 злобным гулом:
— Недоля! Княжеский заступник выполз!
— Крив, собака, а боярское поношение сразу узрел
— Ищейка господская!
Кривой Недоля, не обращая внимания на угрозы
пытался пробиться к Нечаю, но возмущенные зрители
крепкими толчками выпроводили пристава за круг.
— Ты нашего Нечая не тронь! Он за правду стоит
Еще полезешь не в свое дело — бока переломаем!..
Злобно ворча, Недоля ушел в соседний переулок.
Представление кончилось. Сдернув колпак, Нечаг
начал обходить зрителей; в его шапку изредка падали
медные гроши.
Толпа рассеялась, на площади остались только два
скомороха и замешкавшийся Голован.
— Нет, Недоля каков! — весело подмигнул юноше
Нечай, тряхнув колпаком со скудным сбором. — Of
1 Пристав — низший полицейский чин того времени.
116
давно до меня добирается, а донести боится: знает, что
за меня народ отплатит... А ты, паря, по обличью вроде
не московский...
«А что, если я этому скомороху откроюсь?— неожи-
данно подумал Голован. — Едва ли он станет боярскую
руку тянуть. А мужик, видать, бывалый...»
Так наболело у Андрея на душе, что он откровенно
рассказал скоморохам свое прошлое, свои страхи и
мечты.
Слушатели и рассказчик сидели на паперти ветхой
церквушки. Голован уселся лицом к лицу с Жуком. У
Жука были черные волосы, спутанная, торчащая вперед
короткая черная борода.
— Так-то, друг Андрюша! — тепло и просто сказал
Нечай. — Не минула и тебя боярская милость! Худо
жить одинокому бедняку. Это ты, милый, ладно сделал,
что нам правду выложил. У нас, скоморохов, хоть шуба
овечья, да душа человечья, и мы тебя в беде не бросим...
Как, Жук, возьмем малого с собой?
— Пущай, — согласился Жук. Был он молчалив, а
когда говорил, то запинался и как будто боролся с
каждым словом.
— А все же ты, паря, попробуй завтра по постройкам
походить, — посоветовал Нечай. — По твоим рассказам,
работник ты дельный. Коли войдешь в почесть к силь-
ному, то и от Оболенского тебя заступит. А там спра-
вишься с делами, одежонку заведешь — станешь и
деньги копить на выкуп наставника.
— Попробую, — согласился Андрей.
— Нос не вешай! Бог не выдаст, свинья не съест.
Пошли!..
Нечай шагал, нелепо выворачивая ноги: приучила
кривляться скоморошья жизнь. Демид Жук ступал твер-
до, точно сваи вколачивал.
Покуда добрались до переулочка у Трубы1, скомо-
рохи успели дать три представления и собрали еще
несколько медяков.
1 Старинное название Трубной площади.
117
Изба, куда привел гостя Нечай, служила пристани-
щем многим скоморохам. Голована накормили, уложили
на лавку. Сон сморил усталого парня, но и сквозь сон
он слышал, как входили в избу новые люди, шумели,
рассказывали, кто сколько заработал, делили деньги...
★ * *
Изба поднялась чуть свет. Высокая сгорбленная ста-
руха, артельная хозяйка, поставила на стол щи, разло-
жила огромные горбуши хлеба. Ели быстро, сосредото-
ченно, все торопились.
После завтрака вспыхнула ссора между Нечаем и
Жуком. Повздорили, куда идти.
— На Арбат двинем, дружок, на Арбат! — бойко
сыпал словами Нечай. — На Арбате мужики щедры, на
Арбате бабы добры... Пошагали, сват; на Арбат?
Демид отрицательно качал черной головой.
— Так куда ж? Ну куда ж тебе хочется?
— В Крутицы, — буркнул Жук.
Нечай так и завихлялся длинным развинченным те-
лом.
— В Кру-ути-ицы?— тоненько протянул он. — В
Крутицах черт крутился, последнего умишка лишился!..
Идем, сват, на Арбат!
— В Крутицы! — упрямо повторял Жук.
Кончилось тем, что оба побросали котомки, бубны и
свирель, зачем-то сняли колпаки и стали наступать один
на другого. Нечай скороговоркой исчислял обиды, при-
чиненные ему Жуком чуть не за десять лет, а тот
твердил одно:
— В Крутицы!
Плотный старик с кудрявой головой хихикал и под-
задоривал спорщиков:
— А ну, ходи веселей! На кулаки давай! — Повер-
нувшись к Головану, сказал: — Думаешь, раздерутся?
Не-е... Они каждое утро так. Пошумят — и перестанут...
Их водой не разольешь!
Крик в самом деле прекратился. Порешили идти в
Крутицы. Нечай подошел к Андрею:
118
— А то, может, с нами, дружок? Кафтан достанем,
колпак. Живем хоть не густо, а все хлебаем шти с
капустой!
— Попервоначалу спробую, по твоему совету, искать
работу.
— Не приневоливаю. А коли нужда прихватит —
приходи! Всегда пригреем... Хозяйка! Ежели малый без
нас придет, примай, как свово! А ты, Андрюша, коль
куска хлеба не сыщешь, сюда путь держи. Дорогу
запомни получше!..
Мечты о работе разлетелись в прах.
Голован обращался к артельным старостам на
стройках, спрашивал, не нужно ли зодчего. Исхудало-
го просителя в лохмотьях строители встречали насмеш-
ливо:
— Хо-хо, гляди, робя, какой зодчий набивается!
— Бо-огат! Шестерней приехал!
— Да ты, паря, алтын в руках держивал?
Голован уходил под улюлюканье. Вслед неслось:
— Озорной! Похвалыцик!1
В одном месте его согласились принять подручным
каменщика. Андрей с радостью ухватился за это пред-
ложение. Но его ожидало горькое разочарование. Уж
он собирался, не теряя времени, приступить к работе,
когда староста остановил его:
— Погодь, малый! А у тя заручник есть?
— На такую работу? — спросил озадаченный Го-
лован.
— Пускай заручится, что ты не беглый холоп либо
вор. Ин возьмешь без заручника, хлопот не расхлеба-
ешь...
Голован повернулся и медленно пошел прочь.
Обида переполняла сердце. Почему добры к бедня-
кам только последние люди — убогие да скоморохи?
Почему только они жалели бесприютного, давали про-
питание и укрывали от преследований? А чуть кто
1 Похвалыцик— хвастун.
119
повыше, к тем не приступись. Даже старосты на по-
стройках смотрят с презрением и недоверием...
Вечером Андрей разыскал Нечая и Жука.
— Ну как, паря?— с живым участием спросил Нечай.
— Плохо, друг! Никому я не нужен, на работу не
берут. Пошел бы во Псков, да больно злобен на меня
игумен Паисий, сгубит...
— Тесные у тебя дела, — согласился Нечай. — Уж
больно лохмотья твои страшны, всех отпугивают. Одно
спасение: походи с нами, скопи деньжат, приоденься. Я
тебя научу в бубен играть да тарелками в лад стучать.
Али стыдишься?
— Я не боярского роду!
— Ну вот и хорошо. Зайдем по этому случаю в
кабак!
— Не пью я.
— Это плохо, друг Андрюша! Какой из тебя после
этого скоморох?..
Нужда научит калачи есть. Голован пошел со скомо-
рохами по московским улицам, научился звенеть тарел-
кам, притопывать под звон бубна, подпевать Нечаю...
Глава VIII
ВЕЛИКИЙ ПОЖАР
Лето 1547 года было в разгаре. Долго стояла сухая,
жаркая погода. Высохла грязь на площадях Москвы, в
улицах закоулках и тупиках, и каждый порыв ветра
поднимал с земли пыльные тучи. Густая пыль тянулась
за боярскими каретами и мужицкими телегами, клуби-
лась из-под копыт лошадей и из-под ног пешеходов.
Московские старожилы с опасением поглядывали на
бурое небо, на поблекшее солнце, лучи которого едва
пробивались сквозь пыльный воздух.
— Быть беде! — шептались старики. — Быть велико-
му пожару!..
Знающие люди не обманулись в своих предчувстви-
ях. Большие пожары были нередки в Москве: почти
120
ежегодно выгорала то та, то другая слобода с сотнями
домов. Но пожар, случившийся во вторник 21 июня 1547
года, так опустошил Москву и последствия его были
такими незаурядными, что подробное описание его по-
пало в летопись.
В этот день бушевала сильная буря. От небрежного
обращения с огнем загорелась церковь Воздвиженья на
Арбате. Огонь, по выражению летописца, понесся на
запад, как молния, и все спалил вплоть до Москвы-реки.
Река Москва служила надежным и дешевым путем
для перевозки громоздких и недорогих товаров: дрова,
доски и брусья, бочки со смолой и дегтем, со скипида-
ром и олифой — все это сплавлялось по Москве-реке
и выгружалось в склады, расположенные на ее берегах.
Страшное получилось зрелище, когда огонь дошел
до этих складов. Бочки со скипидаром и смолой разры-
вались, как бомбы; пылающие клепки летели за десятки
сажен и даже перекидывались на другой берег реки,
создавая новые очаги пожара. Каменные стены амбаров
раскалялись добела и казались прозрачными. Густой
черный дым поднимался на огромную высоту и оттуда
падал, подобно хлопьям черного снега...
Пламя охватывало всё новые и новые части города:
загорелся Балчуг, вспыхнули Маросейка и Покровка,
запылали лесные склады и стоги сена на Остоженке...
С громовым шумом взорвались десятки бочек пороха,
хранившиеся на Пушечном дворе близ Неглинной.
Море пламени заливало все новые и новые улицы и
площади Москвы, и не было такой силы, которая могла
бы остановить разлив этого моря. Только там замирал
огонь, где ему преграждали дорогу огромные пустыри,
через которые ветер не мог перекинуть пылающие
головешки.
Пожар не пощадил и Кремль. Вспыхнули кровли
Успенского и Благовещенского соборов и крыша цар-
ского дворца, хотя на ней стояли десятки людей с
недрами воды и мокрыми тряпками. Люди напрасно
пытались бороться с мириадами огненных искр, носив-
шихся в воздухе подобно сердитым пчелам. Сгорела
121
Оружейная палата с драгоценными образцами старин-
ного оружия. Сгорела Постельная палата с государст-
венной казной. Выгорел митрополичий двор со всем
добром, накопленным владыками в течение десятиле-
тий...
Царская семья в самом начале пожара спаслась на
Воробьевы горы. Молодой царь Иван1 с ужасом смотрел
с высоты на пожар, зарево которого виднелось за
десятки верст вокруг.
Когда огонь только начал распространяться, москви-
чи принялись вытаскивать пожитки во дворы, на улицы
и площади — прежде многим так удавалось спасать
имущество. Но пламя пошло сплошным валом, накрывая
сверху и дворы, и улицы и площади. Народ был охвачен
ужасом: стало ясно, что надо заботиться не о пожитках,
а о спасении жизни. Многим и многим не удалось этого
сделать...
Люди метались среди узких и кривых уличек, пере-
улочков и тупиков, охваченных пожаром, пытаясь вы-
браться на простор, на пустыри, разделявшие слободы.
Хорошо поработали, спасая людей, скоморохи, пре-
красные знатоки города, исходившие его вдоль и попе-
рек.
Нечай, Жук и Голован спасли в этот день сотни
несчастных, задыхавшихся в густом дыму, изнемогав-
ших в накаленном воздухе пожарища. Приказывая дер-
жаться друг за друга веренице измученных, отчаявших-
ся людей, скоморохи ползком пробирались по извили-
стым улицам и выводили их в безопасное место. Там,
оставив их, еще не верящих своему спасению, Нечай и
его товарищи снова отважно бросались в пылающие
улицы.
— Бог не выдаст, свинья не съест! — задорно кричал
Нечай, поворачивая к Жуку и Головану покрытое ко-
потью лицо, на котором блестели озорные глаза. —
1 Иван был с величайшей пышностью коронован царем всея
Руси 1 б января 1547 года. 3 февраля того же года царь женился
на девушке знатного рода Анастасии Романовне Захарьиной-
Юрьевой.
122
Когда и поработать для души спасенья, как не сегодня!
Пошли, браты!..
Много раз повторялись отважные вылазки скоморо-
хов в бушующее море огня, пока дело не кончилось
бедой,
В конце глухого тупика горела бедная избенка. Тре-
вожное чувство заставило Голована приблизиться к
поднятому окошку и заглянуть в него. То, что он увидел,
заставило парня похолодеть от ужаса: в дальнем углу,
смертельно испуганные, стояли двое детей лет пяти-ше-
сти — мальчик и девочка. Гибель их казалась неизбеж-
ной, но Андрей окутал голову армяком и смело ринулся
в пылающую избу. Он успел вытащить оцепеневших
ребят, но, сбегая с крылечка, споткнулся. Невольным
движением Голован бросил ребят подбегавшим к нему
товарищам, и в это время горящая доска свалилась с
крыши на спину Андрея.
Нечай и Жук понесли Голована в безопасное место;
парень с тяжелыми ожогами бредил и стонал. Спасен-
ные ребятишки, держась за руки, побрели за скоморо-
хами, но, к счастью, на ближнем пустыре им встретилась
мать, уже оплакивавшая своих детей.
Григорий Филиппович Ордынцев ехал в Москву из
Серпухова. Еще за десяток верст от столицы его пора-
зил вид дымной тучи, нависшей над городом, и запах
гари.
— Пожар! — закричал Ордынцев и ударил кучера в
спину. — Гони, гони!
Лошади понеслсь птицами.
Григорий Филиппович перепугался недаром. Нема-
лые деньги, скопленные им за годы службы губным
старостой, он обращал в драгоценности: золотые кубки
и блюда, перстни и браслеты.. Все это хранилось в
кубышке, спрятанной в спальне. Тайник был известен
ему одному, до поры до времени он не говорил о нем
ни Федору, ни его жене Наталье.
Старый Ордынцев не был скупцом, безрассудно
обожающим сокровище, но мысль, что он один знает о
123
нем, что власть распорядиться золотом всецело в его
руках, веселила Григория Филипповича, и он решил
открыть сыну тайну только на смертном одре.
И теперь сокровищу угрожала гибель. Это еще не
страшно, если золото побывает в огне: расплавившись,
оно останется золотом. Но мысль, что сокровище могут
украсть холопы, обнаружив тайник во время суматохи,
всегда сопутствующей пожару, была нестерпима Ор-
дынцеву. Он даже застонал от ярости: ему представи-
лось, как Тишка Верховой, пряча под полой золото, с
воровской ухмылкой пробирается по двору — зарыть
добычу в укромном месте...
Кони мчались всё быстрее. Но вот телегу пришлось
остановить перед стеной дыма и огня.
— Бросай лошадей! За мной! — хрипло закричал
Ордынцев кучеру.
И они вдвоем ринулись в лабиринт горящих переул-
ков.
Холоп давно отстал, а тучное тело Григория Филип-
повича несла какая-то неведомая сила. Он пробирался
через дворы, еще не охваченные пламенем, нырял под
огненными завесами и упорно пробивался все вперед и
вперед, на Покровку, к заветному сокровищу.
И он пробился! Вбежал на пустынный двор, уже
покинутый людьми, вскочил в пылающий дом и там,
набросив на голову шубу, на четвереньках пробрался в
свою опочивальню, обожженными руками открыл тай-
ник и вытащил кубышку.
«Цела!..» — пронеслась мысль в затуманенном созна-
нии, и Ордынцев пополз к выходу.
Только на третий день, когда на улицах, охваченных
пожаром, сгорело все, что могло гореть, а дождь пога-
сил головни и прибил к земле дым, люди стали возвра-
щаться на родные пепелища.
Федор Григорьевич уже знал от кучера о том, что
случилось, и не чаял увидеть отца живым. Он нашел его
труп на огороде: видно, крепок еще был Григорий
Филиппович, коли, страшно обожженный, сумел он с
тяжелой ношей выбраться на пустырь; но там старик
124
обессилел и умер, накрыв своим телом сокровище,
спасенное ценой жизни.
Много жертв унес великий московский пожар. По
словам летописца, более тысячи семисот человек погиб-
ло в огне.
Глава IX
ГРОЗНЫЕ ДНИ
Прослышав о московском пожаре, артель деда Си-
луяна поспешно двинулась в Москву из-под Коломны.
Настоял на этом Лутоня, которому показалось, что
настало время расплатиться с Вяземским за свое увечье,
за разбитую жизнь.
Как мелкие ручейки соединяются в речки и реки и
потом вливаются в море, так со всех сторон стремились
в Москву кучки нищих, скоморохов, артели строителей
и просто любопытные люди, которым хотелось погла-
зеть на небывалое зрелище: огромный город, выгорев-
ший почти дотла.
Чем ближе к Москве, тем гуще шли по дорогам
народные толпы, с неумолчным гулом разговоров.
В одном из больших сборищ гремел бас Лутони.
Слепец в сотый раз рассказывал людям, как он по
оговору тиуна безвинно лишился глаз.
— Пришло время посчитаться с лиходеями-бояра-
ми! — говорил Лутоня при бурном одобрении слушате-
лей. — Не иначе как они Москву сожгли!
— А зачем, дяденька?— робко спросил светловоло-
сый певун Савося.
— Зачем?— сердито переспросил Лутоня. — Затем,
что им, злодеям, людское горе слаще медового пряника.
Иной бедняга, что все пожитки на пожаре потерял,
постоит-постоит на пепелище, хлопнет руками об полы,
да и пойдет продаваться к боярину в кабалу!
— А ведь верно! — ахнули в толпе.
— Чего вернее! Мудрый слепец!
125
— Ах и злое же это, братцы семя — бояре! Искоре-
нить бы их! — вздохнули в толпе.
— Затем и идем на Москву! — уверенно отчеканил
Лутоня.
Многотысячные толпы пришельцев заполнили мос-
ковские площади и пустыри, перемешавшись с пого-
рельцами, ютившимися под открытым небом. На каждом
свободном клочке земли раскинулись таборы наподобие
цыганских. На тех, кто сумел устроить себе палатку или
навес из рядна1, смотрели с завистью: это уж было
какое-то подобие жилья. Большинству ложем служила
земля, а покрывалом — облака, благо погода была
летняя, теплая.
Близ таборов невесть откуда взявшиеся торгаши
продавали съестное: бублики, пироги, соленую рыбу...
У кого не было денег, расплачивался одежонкой и
всякими вещами, сохранившимся от пожара.
С утра и до поздней ночи кипела Москва. Слухи,
возникавшие в одном конце города, мгновенно переда-
вались повсюду; около нищих и скоморохов собирался
народ, жадный до новостей.
Молва о том, что Москву выжгли бояре, становилась
все увереннее, многим она уже казалась непреложной
истиной. Нашлись десятки людей, которые, объявляя
себя очевидцами, рассказывали, почему возник пожар.
— А получилось это дело, братцы, так, — вдохновен-
но повествовал высокий кривой детина, давний недруг
Нечая, пристав Недоля. — Литвинка Анна1 2 с сыновьями
раскопали могилы, вытащили из мертвецов сердца, по-
ложили их с бесовскими заклятьями в воду и той водой
кропили Москву. И где покропят, там сейчас и занима-
ется...
— От воды?— усомнился подгородный мужичок с
кнутом за поясом — только и осталось у него от лошади
с телегой, уведенной в суматохе.
— Так вода-то какая?— победоносно сказал Недо-
ля. — Не простая вода, а колдовская. Скажи, — насту-
1 Рядно — большой кусок грубого холста.
2 Анна Глинская — бабка царя по матери.
126
пал он на собеседника:— у тебя хватит духу пойти на
кладбище и из мертвых сердца вырезать?
— Ну что ты, Христос с тобой! — испуганно попя-
тился мужичок. — Да разве православный человек на
такую страсть решится?
— То-то и оно, а споришь! Православному это вели-
кий грех, а литвины — они ведь не нашей веры...
— И ты сам видел?— допытывались другие слуша-
тели.
— Лопни мои глаза! Чтоб мне отца-мать не увидеть!..
Слухи о волшебстве Глинских бежали по Москве,
как огонь в сухой траве.
Кому выгодно было обвинить в великом злодеянии
Глинских? Их старинным врагам Шуйским, потерпев-
шим несколько лет назад поражение в борьбе за власть.
Недоля и другие наймиты Шуйских сеяли по Москве
смуту, которая, по замыслу ее вдохновителей, должна
была обрушиться на партию Глинских.
Шуйские рассчитали плохо. Народный гнев копился
давно, и не против одних Глинских, а против всего
боярства, всех угнетателей. Народ помнил, что и при
Шуйских ему жилось ничуть не легче, чем при Глин-
ских: те и другие были одинаково ненавистны.
В воскресенье, 26 июня, в Кремле, на Соборной
площади, яблоку негде было упасть: так заполонили ее
черные люди1.
Народ собрался не случайно: сторонники Шуйских
накануне распространили молву, что в этот день после
богослужения будут всенародно изобличены виновники
злодейского поджога Москвы.
Дюжий Недоля тоже был на площади, окруженный
сообщниками. Дед Силуян жался к стенке, охраняемый
от натиска толпы богатырской фигурой Лутони, который
не стеснялся пускать в ход кулаки, если /поди слишком
напирали. Были там и Нечай с Жуком. Нечай, по обык-
новению, сыпал злыми прибаутками, язвившими бояр
без различия партий.
1 Черными людьми в старину называли простой народ.
127
Нетерпение толпы достигло предела, послышались
злые выкрики:
— Когда ж до дела дойдем?
— В этой давке стоючи, живота лишишься!
— Эй, там, передние, покричите попам, пускай по-
быстрее служат!..
Вдруг толпа заколыхалась, теснясь вперед: на собор-
ную паперть вышли из храма бояре в пышном одеянии.
Тучный Иван Петрович Челяднин выступил вперед и
поднял руку, призывая народ к молчанию. На площади
стало тихо.
— Православные! — начал Челяднин. — Посланы мы
царем Иваном Васильевичем вызнать правду про зло-
умышление, коим стольный город Москва сожжен. И
вы, /поди русские, кому про то черное дело ведомо, не
боясь сильных и знатных, объявите истину, как на
страшном суде господнем...
Все было странно в этом выступлении царского
посланца: как можно узнать правду о причинах пожара
(если он даже и не возник случайно, как и было в
действительности) у многотысячной толпы, накаленной
яростью, настроенной по преимуществу против Глин-
ских! Но никто как будто Не замечал несообразности
дела, а бояре Челяднин, Федор Скопин-Шуйский и
другие политические противники Глинских, явившиеся
в тот день перед народом, поставили себе двоякую цель.
Прежде всего им хотелось сломить силу Глинских,
уничтожить их главарей: для этого и был пущен нелепый
слух о колдовстве; летопись называет Челяднина и
Скопина-Шуйского в числе распространителей этого
слуха. Другой же их целью было разрядить народный
гнев в определенном направлении.
«Пусть поплатятся Глинские, — думали Шуйские и
их сторонники. — Сорвет народишко злобу и на том
успокоится...»
Челяднин окончил свою недолгую речь. Молчание
толпы прервал злобный выкрик Недоли:
— Я, православные, знаю правду-истину! Волхвовала
царева бабка Анна Глинская да дети ее, царевы дяди!
Вон один стоит, побелел от нечистой совести!
128
Недоля грозно указал пальцем на князя Юрия Глин-
ского, который стоял на паперти в толпе бояр.
Юрий действительно побледнел и отступил в зад-
ние ряды, стараясь укрыться за широкой спиной Фе-
дора Ордынцева. Молодой спальник слышал, как бе-
шено бьется сердце вплотную прижавшегося к нему
Глинского. А князю Юрию стал совершенно ясен ко-
варный умысел Челяднина, подбившего его показаться
толпе.
— Коли будешь прятаться, князь, — говорил лукавый
царедворец, — хуже будет. Поверит народ злым толкам,
и тогда от него не укроешься. А так-то, с чистой
совестью, чего бояться?..
Теперь князь Юрий стоял лицом к лицу со смертью.
Пылающие яростью лица, злобно поднятые руки...
«Бежать! Укрыться в святом храме!.. Туда не посме-
ют ворваться убийцы...»
Юрий убежал в собор. Вслед ему понесся злобно-
торжествующий рев Недоли, подхваченный сотнями
голосов:
— Повинен в волшебстве! Сознал свою вину!
— Колдуну божий храм — не убежище!
Толпа ринулась на паперть Успенского собора. Че-
ляднина и других бояр грубо оттеснили, хотя они только
для вида сопротивлялись людскому натиску. Один пыл-
кий Федор Ордынцев попытался задержать нападаю-
щих и был сброшен с паперти, помятый, истерзанный,
в разорванном кафтане.
Юрий Глинский был убит, и труп его выбросили на
всеобщее поругание.
— Так и всем злодеям достанется! — шумела толпа.
Слепой Лутоня расспрашивал людей не видно ли
среди бояр князя Лукьяна Вяземского, и очень огорчил-
ся, узнав, что его нет на площади.
— Разыщу же я его, ирода! — злобился Лутоня.
Весть о том, что царев дядя Юрий Глинский жизнью
расплатился за свои злодеяния, молниеносно распрост-
ранилась по Москве. Она воодушевила многих робких,
129
S-769
которые еще не решались открыто выступить против
бояр.
Казнь Глинского показала, что и на знатных есть
управа, что народ сильнее кучки бояр и их приспешни-
ков. Пламя бунта с каждым часом разгоралось все
сильнее.
Тысячные толпы, вооружившись топорами, вилами,
дрекольем и дубинами, рассыпались по Москве. Клев-
реты Шуйских, шныряя среди восставших, старались
направить их против сторонников Глинских. Люди Глин-
ских — холопы, слуги и просто приверженцы — гибли
сотнями.
Но этим дело не ограничилось. Шуйские, как в
сказке, выпустили грозного духа, с которым не в силах
были справиться.
Князь Лукьян Вяземский был одним из столпов
партии Шуйских. Но страшный Лутоня явился к его
усадьбе, уцелевшей от пожара, с двухтысячной толпой.
Сам Вяземский успел сбежать и оставил за себя
ключника Аверку, уже состарившегося, но еще бодрого.
Аверка должен был оборонять хорошо огороженную
усадьбу с сотней вооруженных слуг.
Аверка узнал во главе нападавших слепого великана
Лутоню. Да и немудрено было тиуну узнать своего
заклятого врага: Лутоня каждый год появлялся у ворот
княжеской усадьбы в тот день, когда выжгли ему глаза,
призывал страшные проклятия на князя Лукьяна и его
верного холопа Аверку и грозил смертью.
«Теперь он расчитается со мной сполна!» — в страхе
подумал Аверка и не ошибся.
Лутоня во главе кучки молодцов первым подступил
к воротам с огромным бревном. Несколько мощных
ударов — и ворота рухнули. Княжескую челядь переби-
ли, усадьбу сожгли.
Два дня продолжались бои между повстанцами и
боярскими дружинами. Всюду побеждал народ. Туда,
где нападающие встречали особенно упорное сопротив-
ление, являлась сильная подмога.
130
Ужас охватил бояр и богатых дворян, понявших, как
ничтожны их силы перед мощью народа.
Даже наиболее смелые из знатных, которые вначале
пытались наладить оборону своих поместий, поняли, что
для них единственное спасение в бегстве. Но бежать
открыто было невозможно: сотни тысяч глаз сторожили
беглецов. Бояре надевали грязные лохмотья, пачкали
грязью и золой белые лица и холеные руки, пробирались
глухими закоулками. Многим удалось спастись, иные
погибли.
Тревожно было и в царском дворце.
«Вошел страх в душу мою и трепет в кости мои», —
откровенно сознавался впоследствии Иван Васильевич,
вспоминая о великом московском восстании 1547 года.
На второй день восстания захотел отличиться перед
царем князь Андрей Курбский.
— Людишки московские — трусы и бездельники! —
заявил князь. — Я нагряну на них с моей дружиной и
мигом приведу к покорности!
Царь с радостью согласился на предложение Курб-
ского.
Во главе трехсот воинов князь Андрей углубился в
пределы города. Москвичи встретили дружину Курбско-
го в угрюмом молчании; не начиная боя, они пропускали
врагов, смыкались за ними.
Курбский добрался до Лубянки. Поведение восстав-
ших его беспокоило.
Привстав на стременах, князь огляделся. Его отряд
был окружен плотной толпой: спереди и сзади сомкну-
лись грозные ряды бойцов. Они заполняли все улицы,
выходившие на Лубянку; люди смотрели с крыш домов,
стояли на стенах Китай-города...
Князь Андрей понял: если он подаст знак к битве, из
его дружины не уцелеет ни один человек. И, хмуро
опустив глаза под насмешливыми взглядами москвичей,
Курбский повернул коня. Бегство совершилось в таком
же молчании, как и вступление в город.
Выслушав сбивчивый рассказ Курбского о его неу-
даче, Иван Васильевич понял: велика сила народная, и
131
если у москвичей явится достойный вождь, его царской
власти будет грозить серьезная опасность.
Но вождя не нашлось, и на третий день восстание
пошло на убыль.
Как всегда во время народных волнений, хаосом
воспользовались бездельники и воры. Крестьяне и ре-
месленники думали о расправе с лиходеями-боярами. А
боярская дворня — ленивые и развращенные холопы
принялись грабить боярские и дворянские усадьбы.
Из дома Ордынцевых, пользуясь временным безвла-
стием после гибели Григория Филипповича, сбежал
Тишка Верховой. Наглый, вконец испорченный празд-
ной жизнью, Тишка решил, что настало время разбога-
теть за чужой счет. Он нашел немало приятелей, таких
же любителей чужого добра.
Одна из воровских шаек особенно яростно громила
боярские и дворянские дома, но не брезговала и скуд-
ной добычей, захваченной в курных избенках. Вел
шайку плотный мужик среднего роста, с красным круг-
лым лицом, с большой рыжей бородой: это и был Тихон
Верховой.
Во время мятежа Тишке Верховому и Головану до-
велось встретиться.
Страдающий от сильных ожогов Голован лежал в
уголке площади под навесом из обгорелых досок, кото-
рый соорудили ему друзья — Нечай и Жук. Они даже
ухитрились устроить больному мягкую подстилку из
соломы и тряпья. С утра скоморохи оставляли товарищу
пищу и питье на целый день, а сами уходили громить
бояр. Этому делу Нечай отдавался с веселым азартом,
а Жук — с угрюмым ожесточением. Возвращались они
лишь поздним вечером, и весь день Голован скучал один.
Тихон тащил за собой огромный узел с награбленным
добром, высматривая, куда бы его пристроить, чтобы
пуститься за новой добычей. Его внимание привлек
навес Голована, и он решительно направился к нему.
Взгляды Андрея и Тишки встретились. Тишка первый
узнал Голована, так как тот хотя и сильно вырос, но мало
132
изменился. Зато Тихона трудно было узнать: такой он
стал дородный, краснолицый, бородатый.
Тишка горделиво посмотрел на Андрея:
— Э, парень, не высоко же ты поднялся! Скоморо-
шествуешь?
Зоркий мужик разглядел брошенные в угол навеса
скоморошьи колпаки, дудки, бубен.
Голован коротко рассказал о себе, умолчав, впрочем,
о том, как он был в холопах у Артемия Оболенского: он
знал коварство Тишки Верхового. Выслушав Андрея,
Тишка самодовольно заметил:
— А я вот не понапрасну из Выбутина убег: я теперь
велик человек стал — дворецкий у спальника Ордынце-
ва. Хочешь, похлопочу по старой дружбе? Мой боярин
тебя в холопы примет.
— Нет уж, спаси тебя бог за такую послугу! — хмуро
усмехнулся Голован.
— Ну, как знаешь! — Тишка спесиво задрал голо-
ву. — А можно мне свой узелок к тебе на время
положить? Я тебе за сохранение малую толику пожер-
твую.
— Нет уж, тащись прочь со своим нечистым до-
бром! — вспылил Голован.
— Эх ты, дурак!
Тишка ушел, волоча за собой узел.
Не все Глинские пали жертвой народного гнева:
Анна Глинская, которую считали главной виновницей
несчастья, и ее сын Михаил были в Ржеве, полученном
ими на кормление.
Во вторник, ровно через неделю после пожара и на
третий день после гибели князя Юрия Глинского, тысяч-
ные толпы отправились на Воробьевы горы требовать от
молодого царя выдачи остальных Глинских, его родст-
венников.
В числе людей, горевших желанием покарать винов-
ников народного горя, случайно оказался и Тишка Вер-
ховой. Пока шествие продвигалось к воробьевскому
дворцу, по толпе поползли слухи о том, что смельчаков,
133
поднимающих руку на цареву родню, ожидает жестокая
расправа. Слабые и нерешительные отставали. Сбежал
и Тишка Верховой; вечером того же дня он как ни в чем
не бывало смиренно прислуживал своему господину,
спальнику Федору Григорьевичу.
Иная судьба постигла смелого Лутоню.
Слепец шел в первых рядах толпы, направлявшейся
на Воробьевы горы. Его вели Нечай и Жук. Лутоня был
вооружен такой увесистой дубиной, которую человек
обыкновенной силы едва поднимал обеими руками. Но
слепой богатырь ворочал ею, как перышком.
— Вот что, братцы, — сказал Лутоня окружающим:—
как начнется бой, поставьте меня лицом к царевым
дружинникам, а сами бегите подальше: зашибу! У моей
дубины глаз-то нету...
Толпа повстанцев значительно поредела, когда при-
близилась к горам, но остались самые смелые: их было
около трех тысяч.
Царская дружина, уступавшая по численности, но
превосходившая вооружением, встретила мятежников
под горой. Не вступая с ними ни в какие переговоры,
дружинники бросились в битву. Передние ряды по-
встанцев подались назад, и лицом к лицу с нападающими
оказался гигант Лутоня.
Почувствовав по топоту ног и движению воздуха
приближение врагов, слепец взмахнул дубиной. Цар-
ские воины в первый момент опешили; наступившее
замешательство стоило жизни нескольким из них.
На месте, где стоял слепой боец, завязалась жесто-
кая схватка. Лутоня вертелся на месте с неожиданным
проворством; длинная дубина образовала, вращаясь,
страшный круг, в который никому не было доступа.
Воинственные крики старика, вопли и стоны умираю-
щих, лязг оружия — все смешалось в жуткую музыку
боя. Лутоню издали кололи копьями, задевали мечами,
но страх мешал царским дружинникам нанести слепому
богатырю смертельную рану. А тот, вдруг прыгнув впе-
ред, ударами тяжелой дубины разбивал головы, крушил
врагам ребра...
134
Как завороженные следили друзья Лутони за необы-
чайным боем, где, казалось, ужасного старика невоз-
можно было победить. Но вот они заметили, что ноги
слепца слабеют, — он потерял слишком много крови из
многочисленных ран.
Жук, дико вскричав, первым бросился на выручку к
Лутоне, но было поздно. Копье, брошенное издали с
большой силой, пронзило сердце слепого, и тот упал
мертвым.
После смерти Лутони бой продолжался недолго. Ги-
бель старика, казавшегося предводителем толпы, обе-
скуражила мятежников, а царские дружинники ободри-
лись.
Нечая ранили в голову, но Жук успел взвалить его
на плечи и унести. Дружинники не стали преследовать
отступавших, боясь попасть в засаду.
Восстание кончилось. Оно было первым предвестни-
ком тех великих бурь, которые в последующие века
потрясали Русь. Отголоски московской грозы понеслись
по стране. Во многих областях народ поднимался против
наместников и расправлялся за обиды, что пришлось
терпеть в течение многих лет. Кое-где власти сумели
135
своими силами усмирить крестьян, в иные места при-
шлось посылать войска.
Жук притащил раненого Нечая под тот же навес, где
лежал больной Голован. Но друзьям недолго пришлось
лежать вместе. От добрых людей Жук узнал, что схва-
ченный Недоля оговаривает множество участников вос-
стания. Нечаю и Жуку грозила казнь, и в тот же вечер
они ушли из Москвы. Голована они поручили заботам
другой артели скоморохов, которая пришла в Москву в
тот день и не была замешана в восстании.
Глава X
ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ
Федор Ордынцев участвовал в вылазке Курбского,
когда тот попытался усмирить мятежную Москву. Царь
послал Ордынцева с князем Андреем неспроста. При-
выкший к двуличию бояр, царь Иван не доверял Курб-
скому и хотел иметь отчет о событиях от верного
человека.
Федор видел бесславное отступление князя Андрея
и правдиво рассказал о нем царю.
Когда восстание отшумело, Федору довелось присут-
ствовать при решении участи его главарей и зачинщи-
ков.
С молодым спальником Иван Васильевич обращался
ласково, но в душе Федора всегда жил страх перед
царем. Теперь этот страх получил еще более веские
основания: Ордынцев видел неумолимо жестокое лицо
царя, когда тот изрекал бунтовщикам смертные приго-
воры, мстя за трепет, с каким выслушивал вести о
московском бунте. Федор видел и казни: погибли сотни
главных участников восстания, а наряду с ними и многие
оговоренные невинно.
Ордынцев, с самых юных лет состоявший в придвор-
ной должности, человек начитанный и умный, понимал,
что московский бунт повлечет за собой большие госу-
дарственные преобразования. Ведь восстание показало,
136
что народная мощь крайне опасна для верхушки обще-
ства, стоящей у власти. Силы немногочисленной кучки
князей и бояр-кормленщиков были ничтожны.
Откровенно беседуя со своим шурином Степаном
Масальским, Федор как-то сказал:
— Боярское время ушло. Пусть предки бояр когда-то
сидели на княжеских уделах — народ про то позабыл.
Вот мы с тобой, Степа, без малого полтора десятка лет
при дворе, многое видели. Видели, как грызлись за
власть Шуйские, Бельские, Глинские... А народ за их
спиной стоял? Шуйские — потомки суздальских князей,
а разве суздальская волость хоть раз поднялась за них?
— Не припомню такого дела, — признался Сте-
пан. — Бывал я в Суздале, там народ Шуйских терпеть
не может...
— Как и Бельских, как и Глинских, как и всех
кормленщиков, — подхватил Ордынцев. — У всех этих
великих господ и жадность великая. Вот мы, дворяне,
довольствуемся малым. Есть у меня деревенька, что за
мной после отца закрепили, — мне того и достаточно.
Таков же и ты, и Кеша Дубровин, и Василий Голохва-
стов... Да нас таких неисчислимо, и ежели царь даст нам
силу, крепка будет и его власть...
Думы и надежды дворянства не укрылись от Ивана
Васильевича, который и сам понимал, что только силь-
ное дворянство может стать опорой царской власти.
Во главе нового правительства стали благовещенский
поп Сильвестр и думный дворянин1 Алексей Адашев.
Попа Сильвестра Федор Григорьевич знал хорошо:
Сильвестр еще до большого пожара бывал во дворце у
Ивана Васильевича. Читал Ордынцев и сборник поуче-
ний русскому человеку — «Домострой», составление
которого молва приписывала Сильвестру.
Став во главе правительства, властный и честолюби-
вый Сильвестр пытался обращаться и с царем Иваном в
духе «Домостроя», требуя совершенного повиновения.
1 Думные дворяне имели право присутствовать на заседани-
ях Боярской думы и во время торжественных приемов иностран-
ных послов.
137
Алексей Федорович Адашев происходил из средне-
поместного дворянского рода. Неизвестно, как выдви-
нулся Адашев на такую видную роль, не соответство-
вавшую, по тогдашним понятиям, его незнатному проис-
хождению. Но дело свое он выполнял умело, с блеском.
Адашев взял на себя две важнейшие отрасли управле-
ния: он ведал внешними сношениями и государственной
казной.
Новое правительство — Сильвестр, Адашев и их
ближайшие помощники и советники составили так на-
зываемую «Избранную Раду»1. Эта Рада пользовалась
таким огромным влиянием, что без ее согласия царь не
проводил ни одного важного мероприятия.
Поп Сильвестр и неродовитый дворянин Адашев
нуждались в сильной поддержке; они привлекли тех
крупных бояр, которые сознавали, что создавшееся
положение требует некоторых уступок дворянству.
Первым из таких бояр оказался честолюбивый Андрей
Михайлович Курбский, потомок князей — владетелей
Ярославля. Курбского сблизили с царем большая начи-
танность и красноречие. Много лет Курбский был лю-
бимцем царя Ивана1 2.
Мечты Федора Ордынцева, Степана Масальского и
других молодых дворян сбылись в 1550 году. В этом году
была составлена так называемая «Тысячная книга», в
которую внесли тысячу семьдесят восемь избранных
дворян. Отбор производился очень тщательно: люди
попадали в «Тысячу» за собственные заслуги или за дела
отцов.
Попали в «Тысячу» и Федор Ордынцев, пожалован-
ный в стольники, и Степан Масальский. Тысячников
называли «лучшими государевыми людьми». Им дали
поместья под Москвой. Из них впоследствии назнача-
лись военачальники, наместники областей, судьи, послы
1 Избранная Рада — ближняя дума. Так назывался
правительственный кружок при Иване IV.
2 Впоследствии Курбский изменил родине и бежал в Литву.
После этого между царем и Курбским велась знаменитая в
истории переписка.
138
в иноземные государства,.. Многие блага получили ты-
сячники, но многое и требовалось от них: они должны
были быть всегда готовы «на посылки» и обязывались
нести государеву службу, не щадя живота.
Многие преобразования той поры вели к усилению
центральной власти, и, однако, дело не было доведено
до конца. Причиной тому — двойственность положения
Избранной Рады.
Избранная Рада хотела бы усилить самодержавную
власть и дать ей опору в лице сильного, сплоченного
дворянства, обеспеченного землей, единственным заня-
тием которого являлась бы служба государству. Но
члены Избранной Рады в большинстве были крупные
бояре, потомки удельных князей, подобно Курбскому.
Довести реформу до конца — означало для них лишить-
ся земли, подорвать собственное влияние и свою силу
в государстве, опуститься до мелких вотчинников, на
которых они смотрели с презрением.
Знатные члены Избранной Рады сумели это предот-
вратить и сохранили за крупными боярами громадные
поместья. Так, еще в 70-х годах XVI века князь
И.Ф. Мстиславский был полновластным владельцем ук-
репленного города Венева, где содержал собственное
войско с пушками.
Узкие интересы ничтожной кучки высшего боярства
помешали довершить важные мероприятия, способство-
вавшие усилению государства, правда за счет увеличе-
ния гнета, лежавшего на простом народе.
Централизация государства была проведена полно-
стью позднее, в годы опричнины, когда Иван Васильевич
взял правление в свои руки.
Глава XI
ХОРОМЫ ОРДЫНЦЕВА
Москва после великого пожара строилась. По всем
дорогам спешили в Москву крестьянские роспуски, а
на них лежали обтесанные и перемеченные бревна:
мужики везли в столицу готовые срубы.
139
На Руси каждый мужик был плотник: за большим
искусством не гнались, а немудреную избу поставить
мог всякий. И вот застучали топоры на сотни верст
вокруг Москвы и заскрипели по проселкам обозы.
В несколько дней вырастали на месте сгоревших
целые улицы. Хозяин вместе с приезжим мужиком
ставил сруб обязательно на том же месте, где и прежде
стояла изба; укрепляли стропила, накрывали кровлю кто
тесом, а кто и соломой. Приходил запыхавшийся, кос-
матый поп, наскоро бормотал молитвы, тыкал голик1 в
чашу со «святой» водой, брызгал по углам, кропил
склоненные головы хозяев. Это называлось: молебен с
водосвятием; без этого обряда ни мужик, ни боярин не
вселялись в новое жилье.
На старых пепелищах вновь расцветала жизнь.
У купцов и бояр так быстро дело не налаживалось —
им требовались богатые хоромы. Но и на это находилось
на Руси много мастеров. Прослышав о небывалом пожа-
ре, из разных областей стекались в Москву артели
плотников и каменщиков; всем хватало работы.
Вновь многолюдны стали московские улицы; с утра
до вечера шумел народ на торговых площадях; снова
потянулись в Москву купцы с товарами из далеких
стран...
Неистребимый город Москва, необычайна его жиз-
ненная сила, с чудесной быстротой залечивает он самые
тяжкие свои раны.
★ ★ ★
Семья Ордынцевых оплакивала гибель Григория Фи-
липповича. Но жизнь не стоит на месте: надо было
восстанавливать двор, благо старик спас золото. Отцов-
ское поместье приказ закрепил за Федором Ордынце-
вым.
От отца Федор Григорьевич перенял пристрастие ко
всему псковскому; для постройки хором он решил вы-
писать каменщиков из Псковщины. Молодой стольник
решил послать за мастерами Тихона Верхового.
1 Голик — ве и из г« ых березлвых »рутьев.
140
Тихон выразил большую радость, что выбор боярина
пал на него, и усердно начал сборы. Но накануне дня отъ-
езда он вывихнул ногу, споткнувшись о бревно. Мужик
орал диким голосом, когда его несли в наспех построен-
ную людскую, и никому не позволял притронуться к ис-
калеченной ноге. Впрочем, когда в Псков послали друго-
го, нога у Тихона зажила удивительно быстро.
Из Пскова пришла артель Герасима Щупа. Щуп
постарел, острую его бородку пронизала частая седина,
но был он суетлив и добродушен по-прежнему.
На дворе Ордынцева Щуп встретился с Тихоном
Верховым, который распоряжался дворовыми, спесиво
задирая рыжую бороду.
Земляки разговорились. Щуп расспрашивал о пожа-
ре и мятеже. Тихон рассказывал весьма осторожно,
умалчивая о своих «подвигах» по части грабежа. Но он
случайно упомянул о встрече с Голованом, и зодчий
сразу загорелся:
— Как, что ты говоришь! Голован в Москве? Да
правда ли это?
— Говорю тебе, видел его в нищенских отрепьях, —
лениво процедил Тихон, которому непонятна была ра-
дость Щупа.
Дворецкий кратко передал рассказ Голована о его
скитаниях.
— Ах, бедняга! — взмахивал руками Щуп. — Вот
горе-то его пристигло: шутка ли, такого наставника
потерять!
В тот же день Герасим отправил на розыски Андрея
трех своих работников, знавших Голована в лицо. Встре-
тить парня посчастливилось Акиму Груздю, пожилому
каменщику с морщинистым лицом и реденькой клочко-
ватой бородкой.
Голован сердечно распрощался со скоморохами,
крепко обнял их, благодарил за все добро, которое от
них видел, обещал никогда не забывать Нечая и Жука.
Встреча с земляками была самая радостная. Камен-
щики обступили Андрея, хлопали его по плечу, удивля-
лись, как он вырос, как похорошел:
141
— Богатырь прямо!
— В батьку пошел!
— Исхудал только без каменной работы...
Голован прервал дружеские излияния вопросом об
отце и матери.
— Живут, — ответил Щуп. — Когда, бишь, я Илью
видал? Да недели за две до того, как уйти нам из Пскова.
Батька твой привез на базар свое изделие, ну мы с ним
и поговорили. Здоровьем он, конечно, сдал. Главное, об
тебе горюет. Уж очень давно, говорит, весточки от сына
не получал...
— Какие уж тут вести подашь, — смущенно сказал
Голован, — коли сам еле-еле из беды выбрался!..
Он рассказал о зиме, проведенной в Москве с
нищими, о том, как приютили его скоморохи.
— Теперь этому конец! — твердо воскликнул
Щуп. — С нами будешь работать. Не дело такому
мастеру на скоморошьей дуде дудеть!
Каменщики шумно изъявили одобрение словам Гера-
сима.
— Да, — спохватился Голован, — а как Паисий?
Жив?
— Что ему поделается, идолу гладкому! — сердито
ответил Щуп. — Толще и здоровее прежнего. И все
твоего батьку бранит за то, что не отдал тебя в мона-
хи...
— Значит, по-прежнему мне пути на родину нет, —
огорчился Андрей.
— Ничего, ты молодой, переживешь своего воро-
га, — утешил парня Герасим.
Федор Григорьевич задумал поставить каменные хо-
ромы в два жилья1. Он потребовал, чтобы Щуп предста-
вил ему роспись, в которой, по обычаю, полагалось
указать длину и ширину здания, расположение входов,
размер дверей и окон.
Сговорившись между собой, зодчие сделали лучше.
1 Жилье — этаж.
142
Голован нарисовал в красках, как будет выглядеть дом
Ордынцева. Федор Григорьевч пришел в восторг.
Сознавая, сколь важна работа, проделанная Андре-
ем, он щедро вознаградил молодого мастера, купив ему
одежду, приличную зодчему: кафтан и ферязь с золо-
тым шитьем, сафьяновые сапоги на медных подковках,
богатую меховую шапку, рубахи тончайшего полотна и
красивую, расшитую опояску.
Голован низко поклонился стольнику и побежал в
чулан переодеваться.
Когда он вышел, преобразившийся, высокий и строй-
ный, с пышной шапкой темных непокорных волос, в
богатом наряде, в красных сафьяновых сапогах, камен-
щики залюбовались им.
— Чисто боярич! — с восторгом пробормотал Аким
Груздь.
А Щуп радостно воскликнул:
Ну, теперь, Ильин, ты житель! Вот посмотрела бы
на тебя матка твоя...
Голован загрустил, представив себе горе матери, не
видевшей его столько лет.
WWW
Прошел год. Палаты стольнику Ордынцеву были
выстроены: русские мастера работали на диво быстро и
прочно.
Голован уговорил Федора Григорьевича поставить
здание не в глубине двора, а лицом на улицу.
Величавые, высокие хоромы на глухом подклете, в
два жилья, сложенные из красного кирпича, перепоя-
санные полосами из белого камня, с белыми же налич-
никами решетчатых окон, выглядели нарядно, торжест-
венно: Андрей вспомнил наставления Булата и применил
их к делу. Здание венчал шатровый верх с теремцами,
со смотрильными башенками. Крыша была из листовой
меди, ярко блиставшей на солнце.
Со двора верхнее жилье окружали крытые обходы1
с узорчатыми перилами тончайшего рисунка. Крытые
1 Обходы — балконы.
143
высокие всходни — крыльца — вели к хоромам с трех
сторон. За дверями открывались сени; вдоль верха
сеней, под самым потолком, шли решетки из красиво
выточенных кленовых балясин.
Из сеней посетитель попадал в горницы. Шашечные
дубовые полы сверкали; стены были обиты дорогими
сукнами с прикрепленными к ним квадратиками разно-
цветного стекла; высокие печи облицованы были израз-
цами, на изразцах — рисунки.
Вдоль стен в каждой горнице протягивались длинные
лавки, покрытые коврами или цветными сукнами. Столы
стояли дубовые, под снежнобелыми скатертями...
Богато, привольно зажил стольник Федор Григорье-
вич в новых хоромах. За год работы и на дворе подня-
лись все нужные хозяйственные постройки: людские
избы, баня, прачечная, пекарня, квасоварня, конюшня,
скотные дворы...
Ордынцев щедро расплатился с каменщиками. Узнав,
что Голован остается работать в Москве, стольник раз-
решил ему поставить избу на своем обширном дворе.
Артель на прощанье построила другу и земляку хоро-
шенький пятистенный деревянный домик.
Каменщики ушли. Андрей отправил со Щупом пись-
мо родителям и послал деньги, заработанные на ордын-
144
цевской стройке. Этого должно было хватить старикам
на несколько лет.
Проводив друзей, Голован сидел один, в грустном
раздумье. Когда-то удастся ему побывать в Выбутине?
Увидит ли он Булата, своего старого наставника? Хоро-
шо ли он сделал, послав отцу все деньги? Быть может,
стоило оставить часть на выкуп Булата?
Но сердце говорило Андрею, что он поступил хоро-
шо. Еще неизвестно, жив ли Булат, а старые отец с
матерью, вскормившие и вспоившие его, бедствуют... А
теперь — работать и работать и быстро скопить деньги
на выкуп пленника! Теперь он смело может жить в
Москве: есть у него надежный поручитель — стольник
Ордынцев, известный самому царю.
Размышления Голована были прерваны стуком отво-
ряемой двери. Подняв голову, Андрей увидел Акима
Груздя.
— Али что позабыли?— удивленно спросил зодчий.
Аким Груздь хитро улыбнулся, постучал указатель-
ным пальцем по кончику носа. Подмышкой он держал
тощий узелок.
— Я сяду, Ильин, у меня к тебе дело.
— Говори, дядя Аким, слушаю!
— Бирюком1 ведь тебе придется в новой избе сидеть.
Не заскучаешь?
— У меня дела много будет.
— Так! Оно, конечно, и постряпать, и постирать, и
печь истопить. Парочку тебе надобно...
Андрей рассмеялся:
— Да ты не сватом ли ко мне пришел? Я жениться
не собираюсь.
— Не собираешься?— Аким вздохнул с облегчени-
ем. — Ну, так я... я жить с тобой остаюсь, Ильин! —
бухнул он и вытер пот с лица. — Вот и пожитки мои!
Он развернул старенькие портки и рубаху, углядел
в стене деревянный гвоздик. Повесив пожитки, скре-
стил руки на груди и уселся поплотнее.
1 Бирюк — волк; в переносном смысле — одиночка.
145
— Что это ты надумал, дядя Аким? А как же домой?
— Эх, какой у меня дом! Разве не знаешь, что бобыль
я? Да и ты на чужой стороне сирота. А сойдутся два
бобыля — вот и семья готова... Неужто выгонишь,
Андрюша?— Голос каменщика звучал задушевно. —
Тебе ли тратить время на стряпню, на печку, на пустые
бабьи дела! Коли у тебя такое соображение на зодче-
ское художество, должон ты большие дела делать. А я
тебе все обхлопочу, будь спокоен! Я, брат, шти сварю!..
Голос его пресекся, маленькие слезящиеся глаза
смотрели на Голована с мольбой. Андрей растрогался,
протянул Акиму руку:
— Коли так — живи! Будешь мне заместо отца...
Старый каменщик, хлопая Андрея по плечу, взвол-
нованно бормотал:
— Ну вишь... ну как же... Один горюет, а двое
воюют... Уж мы с тобой!..
Аким оказался преданным товарищем. Его хозяйст-
венные заботы освободили Андрею много времени.
Федор Григорьевич разнес по Москве весть, что у него
во дворе живет знатный мастер-строитель, и у Голо-
вана сразу нашлось много работы.
* ★ ★
В том же году, как Щуп с артелью ушел на родину,
Головану довелось встретиться на улице лицом к лицу
с Мурдышом. Тиун узнал бывшего княжьего холопа. Он
ухватил Андрея за грудь и злобно-радостно прошипел:
— Попался, беглец!
— Я тебя не знаю! — спокойно ответил Голован.
— Не знаешь? Зато я тебя знаю! Ты Семейко
Никаноров, извечный холоп нашего господина Артемия
Оболенского!
— Не знаю, про кого ты говоришь, человече! —
промолвил Голован сдерживаясь, чтобы не наброситься
на Мурдыша с кулаками. — Коли хочется тебе сведать,
кто я таков, иди к государеву стольнику Ордынцеву
Федору Григорьевичу. От него узнаешь, что я москов-
ский зодчий Андрей Ильин...
146
Тут не вытерпел Аким Груздь, давно в нетерпении
переминавшийся с ноги на ногу:
— Да что ты байки баешь с этим побродягой, Ильин?
Отойди-ка, я с ним поговорю по-своему!
Тряся реденькой бороденкой, Груздь проворно засу-
чил рукава.
Из толпы, которая уже собралась вокруг, послыша-
лись гневные голоса:
— Да что же это такое, крестьяне? Боярские при-
спешники рады весь свет закабалить! Али мало их,
собак, о прошлом годе учили?..
Яростные лица москвичей, сверкающие взоры так пе-
репугали Мурдыша, что он рад был, когда выбрался из
толпы, отделавшись парой здоровых тычков под ребра.
Глава XII
ПУШЕЧНЫЙ ДВОР
У московских придворных было в обычае собираться
по утрам у царского дворца. Потолкавшись па площади
часа полтора-два и вдоволь посплетничав, дворяне рас-
ходились, за исключением тех, кого выкликали царские
спальники.
В один из июньских дней 1548 года Федора Ордын-
цева вызвали к царю. Стольник вошел в палату с душев-
ным трепетом.
Восемнадцатилетний Иван сидел в кресле.
Царь был одет роскошно. Его голову покрывала
черная бархатная скуфейка, расшитая крупным жемчу-
гом. На царе была длинная, почти до пят, малиновая
ферязь с рукавами до полу, перехваченная кованым
золотым поясом.
Холодные глаза царя смотрели спокойно и властно
из-под черных, почти сросшихся бровей. Тонкий, с
нервными, подвижными ноздрями нос сбоку походил на
орлиный клюв. От углов тонких, плотно сжатых бес-
кровных губ шли две глубокие складки.
Жестокое это было, недоброе лицо, и чувствовалось
в нем сознание огромного могущества, недоверие и
147
презрение к людям. Но вдруг царь улыбнулся, глядя на
смущенную фигуру молодого стольника, и черты его
лица смягчились, подобрели.
— Подойди поближе, Федор! — приказал царь. —
Слушай мою речь, будет она о важных делах...
Федор подошел потупив голову.
— Знаю я тебя давно, — продолжал царь, — знаю и
твое прилежание к книжному ученью. И, думается мне,
понапрасну толчешься ты по утрам у моего дворца, на
то много есть других охотников. Надо тебе настоящее
дело дать, и дело такое я нашел. Наша неудача военная
меня хотя и огорчила весьма, но отнюдь не отвратила от
мысли исконную русскую землю, захваченную безбож-
ными казанцами, под нашу высокую руку вернуть.
Иван углубился в воспоминания о своем первом
неудачном походе на Казань. Воспоминания эти были
тяжелы для его самолюбия...
Царь выехал во Владимир в декабре 1547 года. Вслед
за ним отправилось войско, повезли пушки. Время для
похода оказалось в высшей степени неблагоприятным.
Зима стояла небывало теплая, шли дожди. Дороги рас-
кисли, обратились в болота. Переправлять орудия через
реки приходилось с великим трудом. Только в январе
1548 года артиллерия прибыла во Владимир.
Ценой огромных усилий русское войско добралось
до Нижнего Новгорода и там выжидало наступления
холодов. Первые морозы вселили в царя и его полко-
водцев надежду. Лед на Волге, казалось, укрепился.
Войско двинулось в поход из Нижнего Новгорода в
феврале. Но снова начались оттепели, лед сделался
рыхлым; пушки проваливались, увлекая за собой лоша-
дей и людей.
Три дня простоял Иван Васильевич на острове Робот-
ка посреди вздувшейся реки. Поверх льда шла вода,
скрывая многочисленные промоины. Казалось, сама
природа преграждала русским путь к Казани.
Иван гневно проклинал судьбу. Но держать большое
войско на пустынном острове было невозможно. Царь
возвратился в Москву, отправив под Казань отряд под
148
командованием воеводы Дмитрия Бельского и бывшего
казанского хана Шиг-Алея1, теперь вассального прави-
теля касимовских татар.
Бельский и Шиг-Алей разбили рать хана Сафа-Гирея
на подгородном Арском поле и прогнали ее в город, но
ворваться в Казань не решились: неизвестно было, как
посмотрит на это ногайский князь; сильная ногайская
орда, ударив русским в спину, могла уничтожить мос-
ковское воинство.
И русские и казанцы хорошо понимали, что неудач-
ный поход Ивана IV — только один из эпизодов мно-
голетней борьбы. Казанский хан Сафа-Гирей не хотел
жить в мире с Москвой, немало походов совершил он
на пограничные русские земли, докатывался даже до
Мурома; разбитый, отступал вспять, но не унимался.
Теперь, когда малолетство Ивана кончилось, насту-
пила пора покончить хотя бы с восточными последыша-
ми Золотой Орды.
...После долгой задумчивости царь заговорил сно-
ва:
— Для нового похода надо нам все отрасли воин-
ские крепить, и первую же из них — пушечный наряд.
Вот и надумал я, Федор, отдать под твое ведение
Пушечный двор. Сидит там окольничий Мусин-Пуш-
кин. Недоволен я им: распустил людей, сам литейное
дело не знает и учить не хочет — и стар, и ленив, и
бестолков.
— Дозволь, государь, слово молвить, — робко заме-
тил Ордынцев. — Завистники на меня подымутся: род
мой незнатен, и заслуги за мной никакой нет...
— Насчет заслуг это ты мне предоставь знать, —
обрезал Федора царь, и холодные глаза его загорелись
гневом. — Будешь хорошо работать, направишь пушеч-
ное литье — вот тебе и заслуга, и за нее я тебя
превозвышу. Хватит ставить на высокие должности
родовитых бездельников, оттого и все наши неустрой-
ства. Но смотри у меня, Федор, литье изучи доскональ-
1 Шах-Али.
149
но, сам до всего доходи, чтобы тебя работники за нос
не водили, как Мусина-Пушкина!
— Работы я не боюсь, государь, — дрожащим голо-
сом ответил Ордынцев. — Сколько у меня силы есть,
всю положу на дело!
— А силы у тебя, Григорьевич, много! — уже мягче
промолвил царь, любуясь могучей фигурой молодого
стольника. — Вон тебе плечи-то господь дал — косая
сажень! Любую пушку на себе перенесешь!
— А и перенесу, коли понадобится! — весело отве-
тил Федор.
★ ★ ★
Артиллерия — один из важнейших родов войск —
появилась в Европе в начале XIV века. И уже во второй
половине этого века пушки были на Руси. Летописцы
рассказывают об «арматах»1 великого князя Дмитрия
Донского, а он правил Москвой с 1359 по 1389 год.
Русские люди, искусные на всякое мастерство, быс-
тро выучились пушечному делу: ковать и отливать пуш-
ки1 2, стрелять из них. Русская артиллерийская техника
не только не уступала западноевропейской, но зачастую
превосходила ее: во время войн и осад московские
пушкари стреляли дальше и метче, чем пушкари против-
ника.
Пушечным делом заведовал оружничий — один из
видных чинов дворцовой администрации. А производст-
во артиллерии и всякого огнестрельного оружия сосре-
доточивалось на московском Пушечном дворе.
Пушечный двор, обнесенный частоколом, широко
раскинулся по берегу Неглинки-реки. Рядом с ним
располагались Кузнецкая и Оружейная слободы.
Москва снабжала города и пограничные острожки
пушками и пищалями, а зелье — порох — они готовили
сами. Производство черного, или дымного, пороха из
серы, селитры и угля являлось делом несложным. Перед
1 Арматы — пушки.
2 Пушки вначале ковали из железных полос и обтягивали
железными обручами; позднее их стали отливать из бронзы.
150
— Какова у тебя пушка отлилась? Какова?
походом объявлялось, сколько зелья должен сдать в
казну боярский, дворянский, поповский двор. «А кто
отговаривается, что зелья добыть не может, к тем
посылать ямчужных1 мастеров показать, как зелье ва-
рят».
...Федор Григорьевич, подъехав к воротам Пушечно-
го двора, оставил лошадь на попечение привратника и
прошел внутрь. Ему долго пришлось бродить по обшир-
ному двору, где были разбросаны литейные цехи, сарай-
чики для готовых пушек и ядер, поленницы дров, кучи
угля, руды. Едкий дым носился в воздухе, щекоча нос и
горло. Полуголые люди спускали по желобам расплав-
ленный металл в ямы, где были установлены формы.
«Да, тут работать надо... — подумал стольник. —
Порядок у них, как у нерадивой хозяйки в избе...»
На вопрос Ордынцева, где найти старшего мастера,
его посылали то в одну, то в другую сторону. Наконец
он заметил двоих, склонившихся над пушкой, положен-
ной на деревянные козлы. Один, хорошо одетый, обме-
рял пушку аршином, заглядывал в жерло, заставляя
второго повертывать ствол.
«Тут добьюсь толку...» Ордынцев с любопытством
наблюдал издали.
Мастер выпрямился, поднял трость:
— Какова у тебя пушка отлилась? Какова?
— Винюсь, батюшка, прости! Бес попутал!
— Ты мне на беса не сваливай! — Трость заходила
по спине виновного.
— Каюсь, недосмотрел...
— То-то! Перелить. За угар1 2 да за дрова пеню
внесешь: три алтына. И получишь за нерадение двадцать
плетей.
Литейщик упал в ноги:
— Ба-а-атюшка! Сбавь по силе возможности!
— Ну? — грозно подтвердил свой приказ мастер и
ушел.
Наказанный бросил вслед ему:
1 Я м ч у ж н ый — селитр енный.
2 Угар — потеря металла при переплавке.
152
— Старый хрыч! Как громом ошарашил... — Попра-
вил прожженный кожаный передник, сердито ткнул
пушку ногой:— Чертова скотинка! Хозяина подвела...
Откуда-то вывернулся другой литейщик, тоже в ко-
жаном фартуке, с таким же зеленовато-бледным лицом,
усыпанным черными точками.
— Как это тебя, Гаврюха, угораздило?
Гаврюха погладил опаленную бородку:
— Сам не знаю! То ли меди не хватило?
— Вот и заработал!
— Ништо! У нашего брата спина дубленая!
К пушкарям подошел Ордынцев:
— Где мастер Мартын Туровец?
— Вон ходит, литцов1 проверяет. А ты кто же таков
будешь?
— Меня царь поставил вашим главным начальником.
— Вона! К нам главные начальники сроду не загля-
дывали. Али ты другого складу?
— Я другого складу и есть, — улыбнулся Федор
Григорьевич и пошел к мастеру.
Мартын Туровец, родом с Украины, был одним из
лучших знатоков пушечного дела. Литейщики боялись
Туровца, но уважали за то, что без вины не наказывал,
посулов и поминков из подчиненных не выколачивал,
как другие мастера.
Старший мастер Туровец ходил с тонкой железной
тростью: ею он наказывал виновных на месте преступ-
ления. Ребята выкрали трость. Туровец в тот же день
приказал выковать новую — потолще. Стянули и эту.
Мартын опять промолчал и обзавелся тростью еще
более увесистой.
— Старика не перехитришь! — решили литцы и
подбросили первую украденную трость.
Мартын ухмыльнулся, принял трость — тем дело и
кончилось.
Федор Григорьевич подал Туровцу царский указ.
Пока мастер читал, Ордынцев рассматривал его. Украи-
нец был низкоросл, плотен; румяные щеки, живые
1 Литцы — литейщики.
153
серые глаза под кустистыми бровями. Щеки и подборо-
док мастер брил по украинскому обычаю, зато носил
густые казацкие усы.
— Рад я, Федор Григорьевич, что убирают от нас
Мусина-Пушкина. От него толку было, как вот от этой
болванки! — Мастер ткнул ногой медную чушку. — И
позволь ты мне, старику, сказать тебе прямое слово:
коли ты сюда будешь заглядывать раз в год по обеща-
нию, то и у тебя дело не пойдет.
— Я не затем сюда послан, чтобы только государево
жалованье получать, — заверил мастера молодой столь-
ник.
— Ну тогда — добро пожаловать! — широко улыб-
нулся Туровец.
Ордынцев горячо принялся за дело. Работа вдали от
грозного царского взгляда, вдали от дворцовых хитро-
стей и сплетен увлекала Федора Григорьевича. На свои
силы и способности он надеялся, и не напрасно. Он с
головой ушел в работу. В скромном кафтане и высоких
кожаных сапогах он с утра до вечера ходил по Пушеч-
ному двору, беседовал с мастерами и рабочими, стара-
тельно изучал премудрости литейного дела.
Нередко можно было видеть, как Ордынцев тащил
вместе с работниками тяжелую пушку.
— Вот этой боярин так боярин! — восхищались
литейщики. — Такой наладит дело по-настоящему!
Работники полюбили Ордынцева, хотя он был строг
и с первых же дней потребовал навести порядок на
Пушечном дворе. Но нельзя было обижаться за стро-
гость на человека, который сам работал не покладая рук
и совсем не считаясь со своим высоким положением.
Дома Ордынцев читал латинские книги по литейно-
му делу, закупленные по его просьбе посольскими
дьяками за границей. Результаты упорной работы ска-
зались скоро.
После наблюдений над выплавкой меди из руды и
долгих размышлений Федор Григорьевич завел разговор
со старыми литейщиками.
154
— Худо, литцы, работаем!
— А что тебе у нас не показалось?— обиделся
Гаврюха Корень.
— Грязно, руды много попусту изводим, угар боль-
шой.
— Не нами заведено — отцы и деды так поставили.
— Не все ж по дедовскому разумению жить, надо и
своим разумом раскидывать.
Ордынцев сделал чертеж новой печи, посоветовался
с Мартыном и другими мастерами. Для опыта переложи-
ли одну печь — вышло хорошо. Стали перекладывать и
другие печи.
Деятельность Ордынцева на Пушечном дворе не
укрылась от внимания Ивана Васильевича, и царь был
доволен, что его любимец оправдал возлагавшиеся на
него надежды.
★ * *
Голован стал известным на Москве мастером. Не раз
предлагали ему в артелях место старосты, но Андрей
отказывался, подобно Никите Булату. Не связываясь с
мелкими хозяйственными хлопотами, Голован мог руко-
водить сразу двумя стройками, отдавая одной утреннее
время, а другой — вечернее.
Голован и Аким Груздь жили очень скромно, боль-
шую часть своего заработка зодчий откладывал на вы-
куп наставника.
По вечерам в домик Андрея часто заглядывали стар-
ший дворецкий и тиун Ордынцева.
Тишка Верховой, напротив, старался встречаться с
молодым мастером как можно реже. Судя по себе, он
ожидал от Андрея всяких неприятностей, вроде доноса
о воровских делах его, Тихона, во время московского
мятежа.
«И угораздила его нелегкая поселиться на нашем
дворе! — злобно думал Тишка. — Нешто поджечь? А
какой прок? Еще попадешься... А он все равно новый
дом поставит т— что ему, строителю!..»
А у тиуна были две дочери на выданье, и он мечтал
породниться с Голованом, завидным женихом. Тиун и
155
старший дворецкий любили слушать рассказы Андрея
о том, как он ходил по Руси с Никитой Булатом. Об
одном лишь умалчивал Голован: как он попал в кабалу
к князю Оболенскому и как оттуда сбежал. Андрей
опасался недаром: если бы его признания дошли до
Мур дыша, княжеский тиун обязательно поднял бы
кляузное дело, и много пришлось бы Головану потра-
тить сил и денег, чтобы оправдаться перед дьяками,
жадными до взяток.
В один из вечеров зашел разговор о том, как славится
Псков мастерами-строителями, и о том, что немало
искусных псковских мастеров ходит по Руси.
— Ты, небось, Ильин, многих встречал, как по свету
хаживал? — спросил дворецкий.
— Встречал я многих, — ответил Голован, — да вот
дивное дело: земляка своего, Постника Яковлева, ни
разу не довелось встретить. И скажи, как на грех всегда
получалось. Из Твери мы ушли, а он туда через неделю
явился с учителем своим Бармой (я о том спустя время
сведал). В Ярославль подрядились церковь строить, а
Барма с Постником за месяц до нас кончили крепостные
башни переделывать. Прямо как неведомая сила нас
разводит!.. А работу их я видел: хорошо работают
Постник с Бармой! Вот у кого поучиться бы!
Голован не знал, что его желание поработать с
Постником и Бармой исполнится через несколько лет.
★ ★ ★
В 1549 году у Андрея скопилось пятьдесят рублей;
этого было достаточно для выкупа Булата.
Бедствия русских полонянников породили небезвы-
годный промысел: выкупать рабов из казанской и крым-
ской неволи. Люди, которые этим занимались, имели
охранные грамоты от обеих сторон.
Собрав на Руси деньги у родни невольников, посред-
ники являлись в Казань или Крым, уплачивали условлен-
ное и везли освобожденный «ясырь»1, на который уже
1 Ясырь (точнее — ясир; татарск.) — пленники.
156
не нападали татарские разбойники. За страх и за хлопо-
ты посредники брали немалую мзду.
С одним из таких посредников — касимовским тата-
рином Хусаином Бекташевым, часто наезжавшим на
Москву, — свел знакомство Голован. Он просил Хуса-
ина разузнать, у кого в плену Булат, какой за него
просят выкуп.
К великому разочарованию Андрея, пронырливый
татарин не мог разыскать след Булата.
— Не горюй, бачка! — утешал его татарин. — Может,
не пропал, жив! У них есть такой человек: свой полон
скрыл, не хотел продавать. Ему, может, он больше
польза давал, может добрый слуга. А может, твой старик
далеко продавал: Крым, Кавказ, Туретчина. Тогда пло-
хой дело! Не горюй, бачка, другой раз поехал, хорошо
узнавал...
Но и новые поездки Бекташева не принесли утеши-
тельных известий: Булат был слишком надежно укрыт
за высокими стенами Кулшерифова дворца.
Глава XIII
МУЗАФАР, СЫН СЕИДА
Сан первосвященника Казани переходил по наслед-
ству от отца к сыну. Духовными владыками казанских
мусульман могли быть только члены знаменитого рода,
происходившего от дочери Магомета — Фатимы, и ее
мужа — Али.
— Ты — потомок самого великого пророка, ты
будущий имам правоверных Казанского царства, —
внушал Кулшериф старшему сыну, Музафару, когда тот
был еще ребенком.
С юных лет Музафара усадили за изучение грамоты,
хотя не забыты были и воинские забавы, приличные
мужчине: верховая езда, уменье владеть саблей, стре-
лять из лука и пищали.
Когда Музафару исполнилось шестнадцать лет, его
отправили учиться в Стамбул, в духовную школу, так
157
требовал вековой обычай, и за его соблюдением зорко
следило высшее турецкое духовенство и сам султан.
Прошло несколько лет ученья. Юноше не часто
приходилось кататься в лодке по чудесной бухте Зо-
лотой Рог или гулять в тенистых садах, окружавших
город. По целым дням сидел он за изучением корана
и многочисленных толкований к нему. Священная кни-
га мусульман написана языком темным и непонятным,
и за многие столетия комментаторы написали груды
книг, где на всевозможные лады изъясняется каждая
строка корана. Будущий первосвященник должен пре-
восходить ученостью всех правоверных, и Музафару
приходилось корпеть в душной келье над свитками
древних пергаментов.
С еще большим рвением наставники Музафара раз-
дували в душе юноши вражду к гяурам — московитам.
Ежедневно и ежечасно внушалось будущему сеиду
Казани, что Москва — злейший противник всего маго-
метанского мира, что ему, Музафару, предстоит почет-
ная задача — вернуть то время, когда московские князья
были покорными слугами татарских ханов. А в предви-
дении того времени, когда Музафар возглавит борьбу
против Москвы, его обучали военному искусству.
На службе у султана были немецкие и французские
инженеры — специалисты по строительству крепостей и
ведению осадных работ. Их учеником стал Музафар.
По приказу султана, при обучении Музафара главное
внимание обращалось на искусство защиты осажденной
крепости: молодого татарина учили, как укреплять сте-
ны, как располагать на них орудия, как устраивать
вылазки.
Музафар изучал историю Казанского ханства. Он
узнал, что город Казань был основан в 1437 году изгнан-
ным из Золотой Орды ханом Улу-Махметом и что уже
к концу XV века Казань стала огромным городом,
известным в отдаленнейших странах Европы и Азии.
Известно стало Музафару, что отношения между
двумя соседними государствами — Москвой и Ка-
занью — были запутаны и изменчивы.
158
Две партии боролись за власть в Казани в течение
десятилетии. Одну возглавлял род Ахмата, последнего
хана Золотой Орды. Во главе другой стояли привержен-
цы Гиреев, властителей Крыма. Между родом Ахмато-
вым и родом Гиреевым шла жестокая наследственная
вражда. Партия ахматовцев, ища союзника, стала за
Русь и получила название московской, а гиреевцы при
постоянной поддержке Турции и Крыма непримиримо
враждовали с Москвой.
Стамбул воспитывал в будущем казанском сеиде
ярого врага ахматовцев и Москвы.
Власть первосвященника над душами темных, фана-
тических мусульман огромна, и в лице Музафара турец-
кий султан рассчитывал приобрести надежного и уме-
лого союзника в борьбе с Россией.
Когда воспитание Музафара было сочтено закончен-
ным, великий муфтий1 возвел его в звание муллы и
выдал молодому татарину грамоту, где он именовался
светилом мусульманской веры и чудом учености. Муза-
фар получил приказ явиться перед отъездом к самому
падишаху Солиману Великолепному1 2.
Музафара вечером провели в опочивальню Солимана
через потайной ход; ни один человек не встретился ему
на пути, и только великий муфтий, главный наставник
Музафара, находился в комнате во время приема.
Юноша упал ниц и поцеловал расшитую туфлю па-
дишаха, которую тот подвинул к его губам небрежным
движением.
— Встань, сын мой! — приказал Солиман, и на
полном лице его появилась ласковая улыбка. — О твоем
усердии в делах веры мне доносили, и я тобой доволен.
Но будешь ли ты так же рьяно бороться с врагами нашей
святой веры, с проклятыми гяурами — московитами?
— Клянусь тебе, повелитель! — пылко вскричал
1 Муфтий (арабск.) — в восточных странах ученый бого-
слов, толкователь корана; великий муфтий — патриарх.
2 Солиман Великолепный правил в Турции с 1520 по 1566
год.
159
Музафар-мулла. — Все свои силы отдам великому делу
ниспровержения Москвы!
— Если сдержишь обещание, будешь у нас в почете,
а после смерти займешь почетнейшее место в райских
садах Магомета. Через соглядатаев знаю я, что нена-
висть почтенного отца твоего Кулшерифа к гяурам в
последние годы поостыла и он не очень горячо поддер-
живает хана Сафа-Гирея в борьбе с московитами... Или,
быть может, он устарел и заботы этого света утомили
Кулшерифа? Быть может, пора поставить на его место
молодого первосвященника, сильного святой злобой
против врагов пророка?.. Что ты на это скажешь, сын
мой Музафар?..
Намек был слишком ясен, и Музафар его понял.
Представилось ему ласковое лицо старика-отца, так
любившего старшего сына, с такой грустью провожав-
шего его на чужбину... Но религиозный фанатизм быс-
тро взял верх, и молодой мулла склонился перед султа-
ном в смиренном поклоне:
— Как ты повелишь, милостивый падишах, так и
будет!
Солиман повернулся к великому муфтию и коротко
бросил:
— Вручи снадобье!
Муфтий протянул юноше флакон со светлокоричне-
вой жидкостью:
— По три капли в день в кушанье или питье — и
через неделю душа человека безболезненно отлетает в
сады пророка...
Музафар-мулла взял яд дрожащей рукой.
— Но не торопись, сын мой! — предостерегающе под-
нял пухлую белую руку султан. — Кулшерифа любят в
Казани, ему верит народ, и было бы опрометчиво лишить
его возможности загладить вину передо мной, наместни-
ком пророка на земле и главой всех мусульман мира. Я
посылаю с тобой к сеиду строгий указ и надеюсь, что не
придется потерять слугу, который в прежнее время
принес нам много пользы. Но если Кулшериф не оду-
мается... — Лицо султана сделалось свирепым, и он
решительно махнул рукой сверху вниз.
160
Юноша снова упал к ногам султана. Тот протянул
ему перстень, где на драгоценном камне было выре-
зано несколько букв:
— Вот знак моей милости. Этой печатью ты будешь
запечатывать свои тайные послания ко мне... Я отправлю
с тобой две сотни отборных янычар-телохранителей: это
мой подарок возлюбленному хану Сафа-Гирею, да про-
длит аллах дни его жизни. Скажи хану, что мое благо-
воление и моя помощь всегда с ним...
Когда великий муфтий вел Музафара обратно, он,
оглядевшись, наклонился к уху юноши и шепнул:
— За то, что я тебе собираюсь сказать, мне грозит
лютая казнь, но ты мой любимый ученик...
— Я не выдам тебя, святой отец!
Старик зашептал еще тише:
— За тобой тоже будут следить невидимые глаза, и
если ты окажешься чересчур мягок, такие же капли
будут подмешаны в твою пищу.
Холодная дрожь пробежала по спине Музафара.
Два пути вели из Стамбула в Казань. Один, сухопут-
ный, проходил по южному и восточному побережью
Черного моря, далее степями Предкавказья до Астра-
хани и вверх по Волге. Другой, более короткий, проле-
гал через Черное море и владения крымского хана.
Но была осень, море бушевало, и страшно казалось
подвергать опасности драгоценную особу наследника
первосвященнического престола Казани. Музафара-
муллу отправили по сухопутью.
Под надежной охраной янычар в ноябре 1547 года
Музафар возвратился на родину. За два перегона до
Казани поскакали вперед гонцы, и будущему сеиду была
устроена торжественная встреча.
Музафара отец поставил настоятелем самой большой
казанской мечети, и молодой мулла рьяно принялся за вы-
полнение обязанностей, налагаемых на него новым саном.
В первые месяцы после возвращения из Турции
Музафар держался очень осторожно. Прежде всего он
постарался завербовать побольше сторонников; в этом
161
6-769
ему помогали не только ласковые слова и обещания, но
и турецкое золото, которым щедро снабдил Музафара
султан Солиман.
Управитель Кулшерифа — Джафар-мирза следил за
всеми действиями своего господина и докладывал о них
Музафару. Но оснований исполнить над первосвящен-
ником смертный приговор, вынесенный ему султаном,
пока не находилось. Получив грозный указ Солимана и
чувствуя опасность, Кулшериф проявлял крайнее рве-
ние и в своих проповедях яростно разжигал вражду
против московитов.
Наслушавшись проповедей сеида, казанские байгу-
ши седлали коней и ехали грабить Русь, сводя на нет
усилия предводителей московской партии установить
хорошие отношеня с могучим соседом.
Через каждые три-четыре месяца Музафар-мулла
тайно посылал гонца в Турцию с донесением к султану
и получал от него ответы с выражением благоволения и
крупные денежные средства для поддержки гиреевской
партии.
Музафару очень хотелось узнать, кто же еще из ка-
занцев состоит на тайной службе у султана; если бы это
удалось, наследник сеида чувствовал бы себя в большей
безопасности. Но турецкие агенты умели держаться в
тени, и никого из них Музафар не смог раскрыть.
Так протекло около полутора лет; а затем политиче-
ское положение в Казани резко изменилось.
Глава XIV
НЕОЖИДАННОЕ СОБЫТИЕ
Уход за садом Кулшерифа не слишком утомлял Ни-
киту Булата — у сеида было много садовников. Жить
бы спокойно, но Булата грызла тоска по родине, по
любимой работе.
Никита ежедневно виделся с Дуней. Годы придали
выдумке Настасьи о ее родстве с Булатом полную
достоверность. Все считали Никиту родным дедом Дуни.
162
Кончался четвертый год плена Никиты. Был то 1549
год, 927-й по мусульманскому счету1.
В мартовский день, когда солнце сильно припекало
и по грязным улицам журчали ручьи, к Кулшерифу
примчался из ханского дворца всадник с двумя телохра-
нителями.
Сопровождаемый Джафаром ханский советник во-
шел к Кулшерифу, прикоснулся рукой к поле его халата:
уже и этим сеид оказал ему почет. Касаться колен
казанского первосвященника могли только князья, и
лишь один хан имел право лобызать его руку.
— Великий имам, я приношу тебе ужасную весть!
Опора царства и меч мусульманской веры — наш хан
умирает!
— Сафа-Гирей?.. Хан Сафа-Гирей, которого я вчера
видел полным сил и жизни?..
Неожиданное известие потрясло Кулшерифа. На
лице его проступили багровые пятна.
— Но что случилось, сын мой?
— Пресветлого хана погубило пристрастие к напит-
кам, запрещенным законом. Сегодняшней ночью он
пировал с друзьями. Утром хан осушил еще несколько
чаш, а потом ему захотелось умыть руки. У умывальницы
он споткнулся и упал так несчастливо, что разбил голову
и грудь... Костоправ Измаил-мирза утверждает, что Са-
фа-Гирею не дожить и до вечера.
— Сын мой, ты действительно принес страшную
новость. Кто еще знает о ней?
— Святой имам, я боялся народного потрясения. При
хане трое преданных слуг и спешно вызванный мною
лекарь Измаил. Я приказал им не выходить из ханского
покоя, не выпускать костоправа и говорить, что хан
почивает. А сам поскакал к твоему святейшеству.
— Ты хорошо сделал, сын мой! Я соберу курултай1 2,
а ты поспешай во дворец, продолжай хранить тайну и
жди моих распоряжений... А может быть, Сафа-Гирей
1 Началом мусульманского летоисчисления считается год
бегства Магомета из Мекки в Медину (622 год нашей эры).
2 Курултай — совет знатнейших.
6*
163
оправится, на радость правоверным?— со слабой на-
деждой спросил Кулшериф.
— Невозможно, святой имам!
Кулшериф-мулла отпустил советника. Джафар уже
держал кисточку и лист бумаги — писать имена тех, кого
сеид вызовет на совет.
★ ★ ★
У Кулшерифа-муллы собрались знатнейшие санов-
ники, в огромном большинстве гиреевцы, враги Моск-
вы.
Пришли завзятые ненавистники русских Ислам и
Кебяк и их неразлучный спутник — мурза Аликей.
Явились уланы1, князья. Пришел Камай-мурза, прове-
давший, что у Кулшерифа собирается знать. Джафар-
мирза поморщился, узнав от слуг о его прибытии: Камай
был из ахматовской партии. Но обычай не позволял
выгнать незваного гостя. Собралось много и других
эмиров1 2 и беков.
В уголке притаился звездочет3 Кудай-Берды. Он вни-
мательно прислушивался к разговорам сходившихся
вельмож, так как делал предсказания, применяясь к
обстоятельствам.
Чтобы скрыть от любопытных причину неожиданно-
го собрания, Джафар-мирза приказал дворецкому при-
готовить угощение. Гости рассаживались на коврах и
подушках вокруг низких круглых столов, крестообраз-
но поджимая ноги. Они засучивали рукава, чтобы удоб-
нее брать кушанья.
Середину каждого стола занимало огромное блюдо
с нежной жеребятиной. Каждый брал мясо руками. Сын
сеида Музафар угощал избранных гостей, кладя им в
рот лучшие куски своей рукой. Получивший угощение
униженно благодарил, кланяясь сидевшему за отдель-
ным столом Кулшерифу: его не должно было осквернять
ничье прикосновение.
1 Уланы — высшие сановники.
2 Эмиры — вельможи, князья.
3 Звездочеты (астрологи) утверждали, что могут предсказы-
вать будущее по звездам.
164
Как требовал обычай, хозяин пира Музафар-мулла
извинялся перед гостями за скудность угощения:
— Покорно прошу, дорогие гости, простить нас за
то, что мы осмеливаемся предлагать вашему утонченно-
му вкусу такие простые, наспех приготовленные яства.
Гости, тоже по обычаю, восхваляли блюда в преуве-
личенных, цветистых выражениях.
— Если бы аллах дал нашим слабым ногам силу и
резвость обойти все четыре стороны света, нигде бы
наши глаза не порадовал вид столь вкусных, превосход-
но приготовленных блюд...
— Наши жеребята вскормлены старой соломой, их
мясо жестко...
— Ты ошибаешься, дорогой Музафар-мулла: это
мясо нежно, как самый свежий, сочный урюк, оно
пахнет лепестками роз, которыми вы, очевидно, откар-
мливали ваших жеребят...
Во время обмена любезностями блюда следовали за
блюдами. Подавались цыплята, приправленные сладким
луком; шашлык; похлебка с бараниной и пшеном; рис,
сдобренный пряностями; жареные телячьи ножки; куро-
патки с соусом из сушеных слив; пирожки с творогом,
напоминающие вареники; простокваша, салма, баклава1,
1 Салма — мясная похлебка с шариками из теста; бакла-
ва — пирожное из меда и миндаля.
165
баурсаки1 с медом, халва... Слуги обносили гостей шер-
бетом и кумысом, айраном1 2. Хмельные напитки религия
запрещала, и Кулшериф-мулла делал вид, что не заме-
чает, как слуги подают гостям пиво, бузу, арак3. А
вышколенные рабы, поднося гостю чашу с бузой, улы-
баясь, говорили:
— Прошу тебя, достопочтенный, принять из моих
недостойных рук этот сосуд с кумысом, очень плохо
приготовленным руками наших ленивых женщин.
Гость, с наслаждением выпив бузу, крякал и отвечал:
— Кумыс хорош! Видно, ваши кобылицы питаются
благовонными травами, и руки ваших женщин могли бы
взбивать пуховики для праведников, почивающих в
райских садах...
Завершилась подача блюд великолепно приготовлен-
ным пилавом. Хоть пир у Кулшерифа и был уловкой,
предназначенной замаскировать созыв курултая, но до-
стоинство сеида требовало, чтобы он был ничуть не
хуже обычных его роскошных пиров.
Во время обеда слух гостей услаждала музыка, до-
носившаяся из соседнего зала.
Когда гости насытились, дворецкий подал знак. Про-
ворные рабы очистили столы от остатков обеда, поста-
вили драгоценные вазы и блюда с урюком, кишмишом,
фигами и удалились.
— Аллах велик!.. — начал Кулшериф среди насторо-
женного молчания.
Гости понимали, что не для простого угощения созва-
ли их во дворец первосвященника, и ждали разрешения
загадки.
Музафар-мулла уже знал от Джафара мирзы о близ-
кой смерти хана. Еще во время пира, угощая собравшу-
юся знать, Музафар с трудом сдерживал волнение, а
теперь его нетерпение дошло до крайних пределов. Что
скажет отец? Будет ли он призывать к продолжению
1 Баурсаки — катышки из теста, проваренные в масле.
2 Шербет — прохладительный напиток; айран — напиток
из кислого молока с водой.
3 Арак — водка.
166
борьбы против русских или заговорит о примирении с
Москвой?
От этого зависело — жить или умереть Кулшерифу.
Честолюбивые мечты о первосвященническом престо-
ле, казалось таком близком и доступном, довели Муза-
фара до готовности собственноручно влить яд в пищу
отца. Но чтобы уничтожить сеида Казани, нужна была
веская причина, иначе преступление могло обратиться
против самого преступника. Музафар-мулла помнил
предупреждение султана: пока Кулшериф против рус-
ских, его особа неприкосновенна.
Весь во власти противоречивых чувств, Музафар
вздохнул почти с облегчением, когда сеид снова загово-
рил после долгого раздумья.
— Аллах велик! — повторил Кулшериф. — В своей
неизреченной милости он посылает нам горе, он не
хочет, чтобы мы среди роскоши и неги зажирели, как
бараны, которых откармливают под нож мясника.
Друзья и братья! Вы все знаете, как долго боролся с
урусами славный Сафа-Гирей, да будет ему лучшее
место в райских садах, потому что по земле нашему хану
уж не ходить...
— Как? Что такое? Разве хан скончался?— послы-
шались испуганные возгласы. — Говори скорее, святой
имам!
— Звезда нашего счастья, пресветлый хан Сафа-Ги-
рей лежит на смертном одре!
— Горе, горе! — возопили крашеные бороды. —
Великое горе!
Сеид рассказал о несчастье, случившемся с ханом.
— Вы, знатнейшие сановники Казани, вы, избранни-
ки всевышнего, должны решить, кому править после
кончины Сафа-Гирея. Нельзя допустить смуту: ею вос-
пользуется Москва и вновь попытается наложить на нас
руку...
— Нет, нет! — зашумели взволнованные голоса. —
Не допустим московитов хозяйничать в Казани!
— Храбрый наш Сафа-Гирей, защита веры и гроза
врагов, угасает, — снова возвысил голос сеид. — А сыну
167
его, Утемыш-Гирей-хану, только два года от роду. Прав-
да, мать его, царица Сумбека, наделена не женскими
добродетелями — умом и храбростью, но не ей же
стоять во главе войска, не ей бороться с урусами,
которые так упорны, что, глядя на них, сам сары-сабур1
раскрошится...
— Много раз приходили к нам урусы — и уходили
ни с чем, — отозвался мрачный князь Кебяк.
— Уходили, а свои города возводили на наших
землях, — живо возразил представитель московской
партии Камай-мурза. — Когда на Сахиб-Гирея урусы
приходили — в 901 году1 2 то было, — до Казани не дошли,
а город на нашей земле, на устье Суры-реки, поставили:
Василь-городом назвали в честь своего князя Василия.
Вы, правоверные, знаете, чего нам этот город стоит, как
он нас стеснил...
— О-о, знаем, знаем! — послышались раздраженные
голоса.
— Уходили, — продолжал Камай-мурза, — а свои
заставы всё ближе к нам подвигали... Трудно с урусами
бороться: они когда отступают, и то побеждают!
— А ты не пугай! — гневно воскликнул улан Кощак,
высокий молодой мужчина с воинственной осанкой;
крымский царевич Кощак оставил родину с намерением
возвыситься среди смут, раздиравших Казань. — Не
пугай! — с силой повторил он. — Или ты за Москву?
— Да, я за Москву, — бесстрашно согласился Ка-
май. — Я хочу уберечь от несчастья и себя и вас.
Покоримся Москве без войны: не будем без нужды
губить наших людей!
Поднялся шум. Возражая Камаю, люди старались
перекричать друг друга. Выделился резкий, пронзитель-
ный голос Аликея, ярого противника Москвы:
— Царь Иван уже пробовал идти на нас, да ни с чем
ушел!
1 Сары-сабур (татарск.) — сказочный желтый камень
терпения, который будто бы сам собой крошился в дни великих
бедствий.
2 В 1523 году.
168
Камай не смутился — он был смел и искусен в
спорах:
— Что урусы ушли, этим хвалиться нечего. Зима
какая была? На Волге лед весь покрылся водой, урусы
в полыньях пушки потопили, людей потопили, потому и
не дошли до нас...
Рассудительный голос Камая-мурзы остался одино-
ким. Послышались насмешливые возгласы:
— Камай-мурза трус!
— Баба!
— Робкому баранья голова двойной кажется!
Сеид водворил тишину и обратился к звездочету:
— Что ты скажешь, достопочтенный? Ты, наверно,
вопрошал звезды?
Кудай-Берды, польщенный всеобщим вниманием,
важно погладил красную бороду:
— Звезды враждебны Москве! Звезды говорят, что
если урусы сунутся под Казань, им придется убираться
с позором!
В глубине души сеид стоял за примирение с Моск-
вой, но он видел, что виднейшие вожди партии гиреев-
цев хотят продолжения борьбы. Однаков важнее, чем
мнения собравшихся в его дворце вельмож, были для
Кулшерифа указы, получаемые им из Стамбула. Эти
указы предписывали ему, сеиду, разжигать непримири-
мую вражду к Москве. И между строк указов, написан-
ных в многословной и витиеватой восточной манере,
Кулшериф читал угрозы. Он ведь и сам в юности учился
в Стамбуле, он хорошо понимал, что значит воспроти-
виться приказаниям турецкого султана, тени аллаха на
земле. Веревка, кинжал, яд — всё пускали в ход испол-
нители повелений султана, когда они наказывали ослуш-
ников его воли...
Заканчивая курултай, сеид против своей совести
предложил: ханом возгласить Утемыш-Гирея; царством
править ханше Сумбеке и избранному совету во главе с
уланом Кощаком; Москве сопротивляться всеми силами.
Большинство собравшихся приняло эти решения с
громкими возгласами одобрения.
169
Музафар-мулла был мрачен: он не знал, радоваться
ли ему, что отец спасся от гибели, или горевать о том,
что высокий сан первосвященника и на этот раз усколь-
знул от него.
Оказавшийся возле Музафара управитель Джафар-
мирза, точно подслушав мысли юноши, шепнул с ковар-
ной насмешкой на безобразном, рябом лице:
— Не печалься, эфенди, твое от тебя не уйдет!
Музафар с изумлением посмотрел на горбуна, а тот
исчез в толпе.
★ ★ *
Утром следующего дня глашатаи объявили народу о
кончине Сафа-Гирея.
Перед ханским дворцом собралась многотысячная
толпа. После шума, ссор и драк верх взяли гиреевцы.
Ханом был провозглашен младенец Утемыш, правитель-
ницей — Сумбека.
Сафа-Гирею устроили торжественные похороны.
Улан Кощак послал гонцов с письмом в Крым и к
турецкому султану, просил совета и помощи. Письма
попали в Москву: гонцов перехватили русские казаки.
Смущенный Кощак и советники, желая оттянуть время
и лучше подготовиться к борьбе, отправили Ивану Ва-
сильевичу мирную грамоту. Царь не поверил татарам:
они легко давали обещания и не стеснялись нарушать
их. Они и перед этим порвали договор с Москвой: не
выбирать хана без царскго согласия.
Московская рать выступила во второй поход против
вероломной Казани 24 ноября 1549 года.
Глава XV
ВТОРОЙ ПОХОД
У жен Кулшерифа появилась новая прислужница;
звали ее Хатыча. Бойкая баба никого не боялась, по-рус-
ски говорила, как по-татарски.
170
Хатыча оказалась искусной сплетницей. На женской
половине, где обитательницы изнывали от безделья, Ха-
тыча чувствовала себя прекрасно: сплетничала, подслу-
шивала, ссорила и мирила, получая подарки за услуги.
Старый Никита привлек особенное внимание любо-
пытной Хатычи. Она пыталась подольститься к нему, но
без успеха.
Тогда она принялась за Дуню. Хатыча сумела приво-
рожить неопытную девушку. Выведала историю Булата,
узнала, что он искусный зодчий, что не раз возводил в
городах крепостные стены.
Простодушная девушка, думая сделать деду прият-
ное, восхваляла его знания и способности. Хатыча из-
ливалась в похвалах.
Открытие Хатычи имело неожиданные последствия.
С Никитой вдруг заговорил управитель, который до
того не замечал старика.
— Здравствуй, уста!1 —начал он с коварной улыбкой
на изуродованном оспой лице.
— Какой я уста! — возразил Булат.
— Э-э, теперь знаем! Скрывал, что ты уста-баши,
большой мастер, строитель. Нехорошо делал, старик,
очень нехорошо! Садовник сделался. Какой ты садов-
ник, когда ты зодчий!
«Это проклятая Хатыча сведала у Дуни и меня выда-
ла!» — подумал Никита. Вслух же сказал:
— Зачем мне говорить?
— Ты хитрый старик! — Косые глаза горбуна смот-
рели на Булата злобно. — Молчал — боялся, наверно,
что заставим мечети строить? А вот не укрылся от нас,
уста!
W ★ ★
После смерти Сафа-Гирея Булат повеселел.
«Смута у басурман надвигается! — с надеждой думал
он. — Может, перемена будет... Эх, кабы наши понагря-
нули!»
Но месяц проходил за месяцем и уж наступил новый,
1 Уста (татарск.) — мастер. Уста-баши — главный мастер.
171
1550 год1, а русские пленники не видели облегчения
своей доли.
— Что слышно?— шептались они в укромных угол-
ках. — Сумбеку-ханшу не сбираются столкнуть?
— Куда там! Главный теперь у них Кощак-улан, а он
на русских зуб точит — у-у!..
Оторванный от родины, Никита Булат вел строгий
счет дням, соблюдал праздники.
По исчислению Никиты был вторник сырной недели1 2.
— Масленица у нас теперь на Руси, дочка, — расска-
зывал Булат прибежавшей к нему Дуне. — Эх, маслени-
ца, масленица, широкая масленица!.. По улицам катанье
на лошадях... Парни с девками на санках с гор летят...
Его речь прервали глухие удары, донесшиеся изда-
лека: один, другой, третий...
— Что это? — изумился Никита.
Сердце заколотилось так, что груди стало больно.
— Доченька, Дуня! Беги разузнай!
Взволнованная Дуня скрылась. Она вернулась через
некоторое время бледная, с высоко вздымающейся
грудью:
— Ой, дедушка! Наше войско под Казанью! Русские!
Из пушечного наряда бьют по стенам, аж пыль летит...
Булат выпрямился, точно вырос:
— Наши! Наши! Долго ждал, я дождался!.. Чего ж
ты, глупенькая, перепугалась? Это нам свобода пришла!
Дуня со страхом и робкой радостью смотрела на
старика.
А пушки продолжали греметь, пробуждая в сердцах
русских пленников надежду на избавление.
★ ★ ★
Сильна была Казань, и час ее падения не настал.
Московская рать еще не привыкла брать крепости и не
одолела грозных укреплений татарской столицы.
Приступ русских отбили. Обе стороны понесли гро-
1 До Петра I Новый год на Руси праздновался 1 сентября.
2 Сырная неделя — масленица. В этот день, 12 февраля
1550 года, русские появились перед Казанью.
172
мадные Потери, но стены по-прежнему стояли высокие,
прочные, и за ними скрывались десятки тысяч защитни-
ков. А тут и природа снова пришла на помощь казанцам.
Наступила сильная оттепель, полил дождь, стали вскры-
ваться реки. Опасаясь, что в случае вынужденного
отступления придется потерять весь осадный наряд —
пушки, царь Иван Васильевич, который и на этот раз сам
вел войско, приказал уходить.
Осаждающие ушли от стен Казани 26 февраля 1550
года; всего две недели стояли они под городом.
Казанцы тысячами высыпали на стены, любуясь ви-
дом отступающего неприятеля. Мужчины и женщины
насмешливо кривлялись, выкрикивали обидные руга-
тельства.
Русские воины уходили не оборачиваясь. В их серд-
цах кипела ярость.
Отъехав так, что казанские стены чуть виднелись
вдали, царь Иван обернул к городу искаженное стыдом
и гневом лицо.
— Ничего, еще посчитаемся! — прошептал он. —
Придет солнце и к нам на двор... — Потом сурово
обратился к воеводам, которые тесной кучкой следова-
ли за ним:— По вашей милости терпим позор, бояре!
Кабы не ваши споры да раздоры, кто из вас старше да
чей род честнее, разве я выступил бы в поход зимой?
Сколько месяцев пришлось вас мирить да уговаривать!
Ну, бог даст, выведу я ваше проклятое чванство!..
Иван Васильевич сдержал слово в том же, 1550 году.
Был издан указ о распределении воевод по полкам; этот
указ в значительной мере поломал старые порядки.
Правда, с знатностью боярских родов все же прихо-
дилось считаться, трудно было сразу изменить многове-
ковой обычай. Но по новому указу находилось место в
рядах воевод и тем незнатным, кто прославил себя
воинским искусством и уменьем водить полки. Воеводы
всех полков подчинялись воеводе Большого полка, и уж
тут не оставалось места родовым спорам. В каждом
полку также был установлен строгий порядок служеб-
173
ного подчинения, власть воевод укрепилась, а вместе с
тем улучшилась и дисциплина в войске.
Доселе нестройные, непривычные к порядку, рати
начали превращаться в сильную армию.
В том же году Иван IV создал первое постоянное
войско на Руси — стрелецкое, использовав опыт отря-
дов «Пищальников».
Стрельцам полагалось служить в войске без срока,
пока силы позволяли носить оружие. Жили они в сло-
бодах; утром и вечером производилась поверка, само-
вольно отлучавшихся строго наказывали. Стрелецкие
слободы только тем отличались от солдатских казарм,
что в них стрельцы жили с женами и детьми.
Во главе каждого стрелецкого полка, или «приказа»,
как их первоначально называли, стоял голова; мелкими
подразделениями командовали сотники и пятидесятники.
Пешие стрельцы были вооружены пищалями и бер-
дышами3. Уменью владеть оружием они обучались по-
стоянно под наблюдением голов, сотников и пятидесят-
ников. За службу стрельцы получали значительное де-
нежное жалованье. Для них была введена форма.
Начиная с этого времени и до Петра Великого,
который уничтожил стрелецкое войско, стрельцы не
только ходили в походы, но и были верной опорой
самодержавной власти и орудием для подавления народ-
ных восстаний. Стрелецкое войско помогло Грозному
покончить с самовластием бояр.
Реформы Ивана подняли боеспособность русской
армии.
л л ★
Тяжко переживали неудачу Москвы десятки тысяч
русских пленников. Их хозяева присмирели было, про-
сили у своих рабов заступничества. Теперь рабовладель-
цы мстили за пережитый страх, за волнение. Издева-
тельства, зверские побои...
Снятие кратковременной осады города принесло не-
1 Бердыш — род топора с изогнутым острием, насаженного
на длинное древко.
174
ожиданную славу звездочету Кудаю-Берды. Многие
вспомнили, как год назад он предсказал, что звезды не-
благоприятны Москве, что если урусы осмелятся поя-
виться под стенами Казани, то уйдут с большим уроном.
— Нет предела знаниям мудрого звездочета! —
кричала молва. — Он — кладезь премудрости! Он —
источник света...
Звездочет не успевал принимать всех желающих
посоветоваться с ним и узнать судьбу. Кудай-Берды
разрешал и запрещал браки, предсказывал, выздоровеет
или нет больной, будет ли удачна торговая сделка.
Неудавшиеся предсказания он приписывал влиянию
враждебных светил, удачные возвеличивали его славу.
На двор к звездочету приводили коней, ишаков,
баранов, несли золото, серебро. Кудай-Берды раздулся
от важности, стал надевать шесть дорогих разноцветных
халатов — один поверх другого.
Глава XVI
ПОСТРОЕНИЕ СВИЯЖСКОЙ КРЕПОСТИ
Казанцы радовались новой неудаче русских, но ра-
дость их была преждевременной. Проницательный Ка-
май-мурза, сторонник Москвы, был прав, когда утвер-
ждал, что русские не теряют голову от поражений.
Иван Васильевич решил поставить укрепленный рус-
ский город в непосредственной близости от Казани.
Место для построения такого города нашли легко: круг-
лую крутую гору при впадении реки Свияги в Волгу.
Прошло больше года со времени второго казанского
похода. Весной 1551 года застучали топоры русских
дровосеков по берегам верхней Волги, в Угличском
наместничестве. Валились леса — и строились срубы,
звенья городских стен, надворотные башни.
С поразительной быстротой вырос новый город; заго-
товленные строения тут же разбирались, из перемечен-
ных бревен вязали плоты, ставили на причалы у берега.
Плотники, стрельцы, пушкари с арматами и гауфни-
цами, с запасом ядер и зелья погрузились на плоты.
175
Причалы отвязаны, и новый городок Свияжск медленно
тронулся вниз по Волге...
24 мая русские строители под началом дьяка Ивана
Григорьевича Выродкова и ратные люди, которыми пред-
водили Данила Юрьев, брат царицы Анастасии Романов-
ны, да воевода Булгаков, высадились на берег. Плотники
и стрельцы принялись расчищать место .для города.
Среди зодчих, составлявших план города и руково-
дивших его построением, был и Андрей Голован: о его
таланте Иван Выродков узнал от стольника Ордынцева
и пригласил строить Свияжск. Голован согласился с
радостью: ему было на руку все, что приближало его к
месту пленения Булата.
Голован превосходил других зодчих быстротой сооб-
ражения. Он поражал Выродкова легкостью, с какой
схватывал указания ратных людей о том, как строить
башни и где проделывать бойницы для пушек и пищалей.
Андрей сам определял площадь обстрела, умело ставил
башни так, чтобы перед ними не оставалось мертвых,
необстреливаемых пространств.
— Тебя, Ильин, хоть воеводой ставь! — ласково
шутил с зодчим Иван Григорьевич.
Свияжская гора оказалась больше, чем рассчитыва-
ли, и звеньев для городских стен не хватило. Это не
смутило строителей: лесов много росло и здесь.
Меньше чем в месяц изрядный срубили город: тысяча
двести сажен по кругу и семь ворот, защищенных
крепкими башнями; башни возвышались и на всех углах
крепости1.
А внутри города воеводы, приказные, богатые гости
воздвигали себе хоромы, а простые мужики нарубили
курных избенок.
ААЛ
В Казанском ханстве, кроме татар, жили чуваши,
мордва, удмурты, марийцы. Завоеватели-татары захвати-
ли у покоренных народов лучшие земли. Земли похуже
1 Вновь построенную крепость сначала назвали Иван-горо-
дом в честь царя Ивана, но вскоре она стала именоваться
Свияжском.
176
оставались во владении старшин, местных князьков,
которые зачастую принимали ислам и переходили в
ряды казанской знати.
Народные массы или закрепощались помещиками,
или уходили в дебри, в непроходимые леса и овраги,
которыми изобиловало Среднее Поволжье.
Татары свысока смотрели на завоеванные народно-
сти; не разбираясь в национальных особенностях поко-
ренных, они всех их огулом называли черемисами.
Русский летописец метко определил положение, кото-
рое занимали в Казани подневольные племена; он так
сказал о них: «простые земские люди, черемиса, по
русскому же чернь».
Действительно, чуваши, марийцы, удмурты, мордва
являлись самым низшим слоем населения в Казанском
ханстве; это была угнетаемая и своими и казанскими
феодалами чернь.
Через два дня после того, как был достроен город
Свияжск и поставлены пушки на стенах новой крепо-
сти, окрестные чуваши и мордва прислали к царским
воеводам старшин и просили принять их в подданство
русского царя.
Воеводы Данила Юрьев и Григорий Булгаков с боль-
шой радостью встретили чувашских послов, хотя из
дипломатических соображений эту радость скрыли.
Среди всех завоеванных татарами народов Среднего
Поволжья чуваши стояли на первом месте как по чис-
ленности, так и по более высокому уровню культуры.
Чуваши, населявшие «горную сторону», то есть возвы-
шенный правый берег Волги, занимались по преимуще-
ству земледелием и скотоводством. О храбрости чува-
шей, об их искусстве стрелять из лука знали и иностран-
ные путешественники.
Силу Казанского ханства в значительной степени
составляли подчиненные народы. С «горных людей», как
часто называли жителей волжского правобережья, ка-
занцы собирали большой денежный оброк, и это была
главная доходная статья ханской казны. «Черемиса»
поставляла Казани десятки тысяч храбрых воинов, опыт-
177
ных во владении оружием. Оторвать черемисов от Ка-
зани — означало подточить самые основы ее существо-
вания в чужом, завоеванном краю.
Задачу поставить чувашске войско на службу Мос-
кве взял на себя воевода Булгаков. Он отправился в
объезд чувашского края — узнать, где и сколько можно
набрать воинов и какое у них вооружение. В свою свиту
Булгаков взял Голована. Андрей согласился поехать с
радостью. Ему любопытно было посмотреть жизнь не-
знакомого народа, который давно уже жил в добрых
отношениях с великим русским соседом, а теперь своей
волей шел под его высокую руку.
В характере русского народа есть прекрасная чер-
та — благожелательное и терпимое отношение к чужим
нравам и обычаям, стремление жить в мире и дружбе с
другими народами.
Эту черту прежде всего поняли и оценили чуваши, а
за ними и другие народы Среднего Поволжья.
Даже татарские вельможи, владельцы поместий на
горной стороне, вынуждены были считаться с тем, что
они оказались соседями русских. Одни из них бросали
владения и бежали в Казань; другие, более дальновид-
ные, старались установить хорошие отношения с Моск-
вой. От воеводы Булгакова Голован узнал, что еще в
сентябре 1546 года большая группа казанских князей,
крупных помещиков Чувашии, покинула Казань и зая-
вила о своем желании служить русскому царю.
7 декабря 1546 года придворной летописец записал:
«прислала к великому князю бить челом горная чере-
миса, чтобы государь пожаловал, послал рать на Ка-
зань, а они со своими воеводами государю служить
хотят...»
Булгаков со своей свитой объехал Чувашию. Сорок
тысяч горных людей, пригодных к ратному делу, были
разбиты на полки и поставлены под начало московских
воевод.
Чтобы доказать свою преданность Москве, боль-
шие отряды чувашей и мордвы переправились на лу-
говую сторону Волги. Завязалась сеча на подгородном
178
Арском поле. Горные люди стояли крепко и отступили
только тогда, когда по ним ударили пушки, вывезенные
из города.
* * а
Точно гром грянул над головой казанцев, когда до
них дошла неожиданная весть о новом городе.
Русская партия подняла голову. Камай-мурза не-
устанно набирал сторонников Москвы.
— Урусы у наших ворот! — говорил он, убеждая
людей оставить мысль о сопротивлении царю Ивану. —
Москва далеко, Васильгород — поближе, а Ивангород
— совсем близко. Хромой старик утром из Ивангорода
выйдет — вечером в Казань придет. Просить надо
московского царя, чтобы посадил нам своего воеводу.
Лучше станем жить! Я сказал, а ты другим передавай...
Москва неотступно теснила Казань. Если от Василь-
города, построенного в 1523 году, до столицы ханства
было двести пятьдесят верст, то от Свияжска насчиты-
валось всего двадцать пять. Русь действительно стояла
на расстоянии дневного перехода от ворот Казани.
ft ft ft
Возведение Свияжской крепости сделало крайне
тяжелым положение партии гиреевцев, еще мечтавших
о борьбе с Русью.
Русские казаки захватили переправы на Волге, Каме,
Вятке. Они не пропускали ратных людей ни в Казань, ни из
Казани. Гиреевцам неоткуда было ждать подкреплений.
Мурза Камай и другие главари московской партии
громко кричали, что пора сложить оружие и отдаться
под власть русского царя. В стане гиреевцев начался
разброд.
Правитель Казани, крымский царевич Кощак, решил-
ся на смелое предприятие: он задумал прорваться за
помощью в Крым и Стамбул.
— Отпусти меня, царица! — просил он Сумбеку, —
Я приведу сотню тысяч закаленных воинов. Турки и
крымцы ударят на русских с юга, а мы — с востока. Мы
сломим могущество Москвы!
179
Сумбека дала согласие. Звездочет Кудай-Берды
предсказал благополучный исход дела.
С Кощаком отправились три сотни верных сторонни-
ков.
Только быстрота передвижения могла открыть гире-
евцам дорогу в Крым. Беглецы оставили в Казани жен
и детей и тронулись налегке.
Чтобы обмануть русских, Кощак избрал окольную
дорогу и повел свой отряд на Каму. Там татары наткну-
лись на сильные отряды московских стрельцов и бояр-
ских детей. Кощак и его воины повернули к Вятке,
достали лодки и поплыли вверх по реке. Они уже не
думали о Крыме, им только хотелось скрыть след от
вездесущих русских. Но и это не удалось.
Вятский воевода и русские казаки зорко оберегали
рубежи Московского царства. Они как в невод взяли
казанских беглецов. Сеча была жестокая, но непродол-
жительная. Только сорок шесть человек уцелели от
разгрома: их перехватили живьем. В числе пленных
оказался и сам царевич Кощак.
Так благодаря бдительности русских был разрушен
замысел Кощака, который в случае удачи мог привести
к усилению казанской мощи.
Если бы Кощаку удалось прорваться к крымским
Гиреям, то они, лютые враги Москвы, без сомнения
послали бы свои орды на Русь: ведь могущество Крыма
сразу ослабело бы после присоединения Казани к мос-
ковским владениям.
Турецкий султан Солиман I Великолепный, гордо
именовавший себя царем царей, князем князей, разда-
вателем корон, тенью бога на земле, повелителем Евро-
пы и Азии, тоже не преминул бы прийти на помощь
угрожаемой Казани.
Но намечавшееся единство действий противника и
на этот раз было сорвано русскими.
Уход Кощака и его сторонников настолько ослабил
гиреевскую партию, что ахматовцы захватили власть.
Кулшерифу приказано было явиться в Свияжскую кре-
пость и принести покорность московским воеводам.
Камай знал, что Музафар ненавидит русских больше,
180
чем отец его Кулшериф; не тайной было для ахматовцев
и то, что сын сеида и его клевреты постоянно разжигают
в народе вражду к Москве. Камай-мурза принудил
Музафара отправиться в Свияжск вместе с отцом. Этот
ловкий политический ход ахматовцев связал руки Му-
зафару-мулле: он не мог выступать против отца, так как
вместе с ним присягнул Москве.
В Москву отправилось посольство с челобитной гра-
мотой:
«Царю, государю и великому князю Ивану Василье-
вичу всея Руси земля казанская, муллы и сеиды, шихи
и шихзады, имамы, азии, князья и уланы, мирзы, двор-
ные и задворные казаки, и чуваши, и черемисы, и мордва
тебе, государю, челом бьют, чтобы ты, государь, пожа-
ловал, гнев свой снял, а дал бы им царя Шиг-Алея на
царство, а Утемыш-Гирея-царя с матерью взял бы, госу-
дарь, к себе; а полону бы русскому волю дать. Так бы
их государь пожаловал, и в том челом бьют»1.
Все это случилось летом 1551 года.
Глава XVII
АДАШЕВ В СВИЯЖСКЕ
Веселым перезвоном колоколов и пушечными вы-
стрелами встречал новый городок Свияжск царского
посланца Алексея Адашева, ближнего советника госу-
даря Ивана Васильевича.
Летний день был лучезарен. Солнце рассыпалось
золотыми блестками на волнующейся поверхности ре-
ки. Чайки-рыболовы с криками носились над Волгой.
Адашев в великолепной шубе и дорогой шапке сошел
по сходням с нарядно убранного головного струга. Его
1 Из Львовской летописи 1551 года Шихи (правильно «шей-
хи») — проповедники; шихзады, шейхзадэ — ученики про-
поведников; азии (иначе — хаджи) — мусульмане, сходившие
на богомолье в Мекку; мирзы — дворяне невысокого ранга;
казаки — военнослужилые татары низшего ранга. Дворные
казаки служили при дворе хана, задворные — по улусам (дерев-
ням).
181
встретили воеводы, купцы, толпа простого народа. Ада-
шев быстрым взглядом окинул толпу встречающих:
— А где царь Шиг-Алей Алеярович?
Воевода Булгаков насмешливо улыбнулся:
— Сидит у меня в хоромине. Притворяется, будто
ноги болят.
Адашев понял, что новый казанский хан Шиг-Алей
не захотел унизить свое достоинство встречей москов-
ского посла недостаточно высокого сана. Затаив злобу,
он пошел к городским воротам.
— Не прогневайся, господине, — подскочил к нему
Юрий Булгаков, — без отписки к великому государю и
к тебе сии ворота назвали...
— Как назвали?— нахмурился царский посол.
— Адашевскими, господине!
У Адашева досаду как рукой сняло, и он вошел в
город с гордо поднятой головой.
Казанский хан Шиг-Алей ждал Адашева в горнице
воеводского дома.
Природа наделила Шиг-Алея на редкость безобраз-
ной наружностью. Толстый, с жирным лицом, с редкими
трепаными усиками на оттопыренной губе, Шиг-Алей то
и дело поворачивал к двери огромное торчащее ухо: не
приближается ли московский посол.
Шиг-Алей удобно устроился на мягких подушках и
думал, на каких условиях русские посадят его, хана, на
дедовский престол. Думал и вспоминал прошлое. А
вспомнить ему было что. Побывал он за свою долгую
жизнь и на коне и под конем, дважды восходил на казан-
ский престол и дважды бежал из Казани, спасая жизнь.
И вот теперь в третий раз лежит перед ним покорная
Казань. Сладко будет мстить недругам!..
Вошел Алексей Адашев. Сопровождающие остались
за дверью.
Хан сделал вид, что хочет привстать, и с болезненной
гримасой плюхнулся обратно: протянул Адашеву жирную
руку с пальцами, украшенными золотыми перстнями:
— Садись, боярин, гостем будешь!
— Еще не боярин! — улыбнулся польщенный Адашев.
Ловкий татарин предвосхитил его мечту. Самому
182
близкому советнику царя Ивана не хватало только
боярского сана, чтобы подняться над толпой ненавист-
ных соперников; но этим саном царь упорно не желал
наградить Адашева, несмотря на неоднократные намеки
последнего.
— Будешь боярин, это я тебе говорю, царь. Садись
на подушки.
— Необык я, Шиг-Алей Алеярович, на полу си-
деть, — отговорился Адашев. — Я лучше на лавку.
— Ия тогда на лавку, — кряхтя, поднялся Шиг-
Алей. — Мне ниже тебя сидеть невместно: я Ахматова
рода, я природный царь... Рассказывай, боярин, что есть,
чего нет.
— Прислал меня великий государь к тебе, царь
Шиг-Алей Алеярович, с милостью. Изволь встать: госу-
даревы указы негоже сидя выслушивать.
— Да вот ноги у меня... — сморщился татарин, но
встал.
Адашев, строгий, торжественный, с осанкой, не до-
пускающий даже тени ущерба государевой чести, раз-
вернул свиток, протянул Шиг-Алею. Тот поднес к тол-
стым губам печать, подвешенную к царской грамоте,
приготовился слушать.
— Жалует тебя, царь Шиг-Алей Алеярович, великий
государь всея Руси Казанью-градом с Луговой и Арской
стороной1, а Горную сторону тебе, царю, не дает, ибо
до челобитья вашего по доброй воле отошла оная от
Казани-града и приписана к Свияжскому городу. —
Голос Адашева был сух и резок.
Шиг-Алей такого удара не ожидал: оказалось, что
значительная часть его наследственного царства навсег-
да переходит к Москве. Он сердито уселся на лавку:
— Вон оно как!.. Над чем царствовать буду? Опять
половину юрта1 2 урезали?.. Народ обидится, меня не
впустит.
— Вольно вам было черемису теснить, — холодно
1 Казанское царство разделялось на округа, называемые
сторонами по-татарски — доругами.
2 Юрт — страна, государство.
183
возразил Адашев. — Думали, век она будет вам поко-
ряться? Ну, не печалуйся: Казань — град немалый,
окромя того арские чуваши под тобой останутся. А коли
не согласен, другого хана сыщем.
Московские дипломаты прошли хорошую школу:
умели держать себя.
Шиг-Алей перепугался:
— Ой, зачем другой хан, не надо другой хан! Я хан,
я ваш старый друг!
— Все вы друзья до поры до времени, — улыбнулся
Адашев, оглаживая курчавую бородку. — Да, вот еще:
приказ тебе от государя Ивана Васильевича — первым
долгом всех русских полонянников выпустить, чтобы ни
один не оставался в ваших поганых лапах!
— Все сделаю, боярин! — пробормотал Шиг-Алей.
Глава XVIII
ВОЙНА
В августе 1551 года Шиг-Алей вступил в Казань под
охраной московских стрельцов. Город встретил хана
настороженно. Казанцы не любили Шиг-Алея за коры-
столюбие, за жестокость. Казань приуныла.
— Радуйтесь! — насмешливо говорили гиреевцы Ка-
маю-мурзе. — Явился выпрошенный вами у Москвы хан,
да продлит аллах его царствование на трижды сорок лет!
— Э, зачем так долго! — усмехался Камай-мурза. —
Нам не хана надо — нам надо московского наместника.
Но от разговоров о халве во рту не станет сладко!..
й * Л
Шестьдесят тысяч русских пленников вышли из Ка-
зани, но Булата среди них не было. Многие тысячи рабов
еще остались в столице ханства, скрытые от глаз рус-
ских приставов и дьяков. У казанских богачей немало
было тайников, где, прикованные цепями, томились
несчастные невольники.
Джафар-мирза не выпустил Булата на волю. Открыть
184
его местопребывание не могли: ни татарская, ни русская
власть не смела проникнуть на женскую половину.
Никита знал о выходе русского полона, но напрасно
молил управителя об освобождении.
— Ты зодчий, а нам в Казани таких людей побольше на-
до. Не пойдешь домой. Станешь шуметь — в яму посад им.
Многие освобожденные москвичи вернулись домой;
среди них был и оружейник Кондратий. Ему посчастли-
вилось вырваться из цепких лап Курбана вскоре после
того, как он избавил от его власти Никиту Булата.
Случилось это так. Соперники Курбана по торговле
сумели раскрыть его тайну и донесли хану о скрытом
богатстве оружейника. Курбана схватили, но даже под
пытками он не выдал место, где было зарыто его золото.
После смерти Курбана все его имущество, в том
числе и рабы, было отобрано в ханскую казну. Пушкаря
Самсона поставили на его прямое дело — к пушкам, а
Кондратий, знающий мастер, попал в помощники к
надсмотрщику оружейной палаты ханского дворца. Это
спасло ему жизнь: ханский оружейник не наваливал на
него столько работы, как жадный Курбан.
Андрей Голован разыскивал вернувшихся полонян-
ников, расспрашивал о Булате. И ему посчастливилось
встретить Кондратия.
Велика была радость Андрея, когда он узнал, что его
старый наставник жив и попал во дворец казанского
первосвященника. Кондратий по собственному опыту
знал, что рабство во дворце намного легче, чем у
мелкого ремесленника; он уверял молодого зодчего, что
Булат доживет до освобождения, которое не за горами.
В душе Голована родилась надежда встретиться со
своим старым учителем.
* ★ ★
Музафар и другие турецкие агенты всё сильнее
разжигали в народе ненависть к Шиг-Алею, обвиняли
его в том, что, продавшись русским, изменник-хан хочет
искоренить в Казани мусульманскую веру и всех татар
силой обратить в православие.
185
Народные массы были глубоко равнодушны к борьбе
правящих партий: казанским ремесленникам и земле-
дельцам одинаково тяжело жилось как при Гиреях, так
и при потомках Ахмата. Но религиозный фанатизм,
раздуваемый в народе веками, был страшной силой,
которой умело управлять мусульманское духовенство.
Положение Шиг-Алея сделалось весьма опасным.
Алексей Адашев снова поскакал в Казань — разо-
браться с делами на месте. Молодой придворный с радо-
стью пускался в далекий путь, когда вопрос шел о защите
русских интересов. Дело это требовало тонкого ума и
твердого характера. «Без Адашева не обойтись!» — и это
возвышало искусного дипломата в глазах царя Ивана.
— Видишь, Шиг-Алей Алеярович, каковы твои казан-
цы, — начал Адашев осуществлять тонкое поручение,
данное ему царем. — Не любят рода Ахматова. Убьют
тебя либо выгонят, коли не укрепишь город русскими
людьми...
— Эй-яй! — Шиг-Алей прищурил хитрые заплывшие
глаза. — Плохое дело, Алексей: шибко на меня Казань
сердита. За отобранную Горную сторону сердита. Отда-
дите Горную сторону назад — будет подо мной Казань
крепка, не отдадите — бежать мне с ханства...
У Шиг-Алея был свой расчет. Заявляя себя верным
сторонником Москвы и борясь за ее интересы, хан
хотел выпросить у нее отпавшие от Казани области и
увеличить свой наследственный юрт.
Но снова допустить усиление Казани — означало
затянуть изнурительную борьбу, быть может на целые
десятилетия. Это прекрасно понимал московский посол.
Адашев усмехнулся в ответ на требование хана:
— Беги, беги, Шиг-Алей Алеярович: Горная сторона
все равно к тебе не воротится. Беги, только сначала сдай
город нашим стрельцам.
— Того не можно, что просишь, боярин! Я мусуль-
ман, супротив своего юрта не встану...
Свести Шиг-Алея с ханства не удалось. Все же Ада-
шев заставил хана принять для обороны от врагов отряд
московских стрельцов.
186
Наступил 1552 год, последний год существования
Казанского ханства.
Так тяжек был гнет Шиг-Алея, так невыносимы стали
вымогательства и насилия ханских любимцев, что даже
ахматовцы потеряли терпение и решили принять русско-
го наместника; единственным условием подчинения они
ставили неприкосновенность мусульманской веры.
Казанские послы приехали к царю Ивану с богатыми
дарами и с челобитьем:
— Хан нас грабит и побивает без жалости... Пожалуй
нас, великий государь, Алея от нас сведи, и мы тебе
город сдадим. А только сеида нашего и мулл не тронь,
мы хотим веровать по старине...
Убирать Шиг-Алея с ханства явился тот же неутоми-
мый, незаменимый в казанских делах дипломат Адашев.
— Пусти московских людей в город, — объявил хану
посол, — и проси у великого государя чего хочешь!
— Пустить московских людей в Казань не могу, — от-
вечал двуличный татарин. — Сам съеду в Свияжск, а там
что хотите, то и делайте. Мне здесь не житье — каждую
ночь в другом месте сплю, кольчугу не снимаю ни ночью,
ни днем... Болячки натер с кулак величиной... Не так казан-
ских людишек боюсь, как своих же телохранителей —
султанских янычаров: изведут они меня... Съеду!
Выехал Шиг-Алей из Казани с хитростью, как всегда
привык делать. 6 марта он объявил, что едет ловить рыбу
на озерах и пировать на приволье. Посланцы Шиг-Алея
ходили по домам и передавали ханские приглашения;
гостей бесцеремонно забирали с собой.
Приглашенные заранее прощались с жизнью. Их
жены выли, оплакивая мужей, и закапывали в землю
драгоценности. Около сотни знатнейших людей вывез
из города Шиг-Алей.
Был хороший весенний день.
Гости Шиг-Алея ехали мрачные, весеннее пробуж-
дение природы не радовало их.
Вот и берег озера, еще покрытого бурым покоробив-
шимся льдом.
187
«Насмешка... — думали казанцы. — Какая рыба!
Нас сейчас под лед спустят рыбу откармливать... Как
ханские слуги злобно смотрят! Не прорвешься сквозь
их строй...»
Величавый Ислам-князь, дрожа от страха и гнева,
подъехал к Шиг-Алею:
— Не тяни дело! Убивать хочешь — бей! — Он
подставил грудь.
— Зачем убивать?— усмехнулся хан, взъерошив
редкие усы. — Это вы меня убивать хотели! С ногайцами
пересылались, нового хана звали... Москве на меня
жаловались, убрать просили... Вот я и съехал с ханства,
а чтобы веселее было, и вас захватил!
— Предатель ты! — вскричал побагровевший от
злости князь Ислам.
— Предатель! — подхватили угрюмый князь Кебяк
и маленький Аликей-мурза.
— Мы разберем, кто предатель, а кто хороший
человек, — невозмутимо отвечал Шиг-Алей, — кому в
Казани жить, кому в Свияжске, а кому башку рубить...
Н-но, ты! —ударил он нагайкой своего сильного гнедого
коня. — Поехали в Свяжск! А сазан-судак пускай
растет, нас ждет!
Свияжский воевода отправил в Казань гонцов:
— По челобитью вашему свел великий государь хана
Шиг-Алея с казанского престола, и вы, начальные люди
казанские, приезжайте в Свияжск великому государю
на верность присягать.
— Согласны, — отвечали казанцы, — только пришли-
те к нам наших князей: мы им верим и в их руки
отдадимся.
Два татарских князя отправились в Казань под охра-
ной московских стрельцов.
Все было спокойно в городе. Русские полки готови-
лись вступить в Казань, обозы подвозили съестное,
пищали, порох...
Но массы темного казанского народа были обмануты
сторонниками войны — гиреевцами.
Маленький Аликей, уму и хитрости которого безза-
ветно доверяли и мрачный силач Кебяк и тучный нераз-
188
говорчивый Ислам, составил коварный план. План этот
привел друзей в восторг.
Кебяк, Ислам и Аликей отпросились у воевод в
город — попрощаться с семьями перед отъездом в
Москву и отдать распоряжение по дому. С ними были
их верные слуги — джигиты.
Ворвавшись в городские стены галопом, точно за
ними гнались враги, Ислам, Кебяк и Аликей носились
по улицам с дикими криками:
— Слушайте, люди! Пришел день гибели нашей
святой веры! Едут русские попы обращать мечети в
церкви, перекрещивать мусульман в православие! А кто
не согласится, всех будут убивать — от малого до
старого... Вооружайтесь, правоверные, не дадим пере-
резать себя, как баранов!
Чудовищная ложь была мгновенно подхвачена мул-
лами. Десятки тысяч казанцев выбежали из домов,
заполнили улицы и площади. Страшная весть распрост-
ранялась, как степной пожар в сухой траве.
— Вероотступник Шиг-Алей идет с русскими попа-
ми! Вооружайтесь, правоверные! Лучше умереть в бою
за свою веру, чем малодушно погибнуть под ножом
палача!..
В головах казанцев долго копились тревожные слухи
последних месяцев, сомнения, страхи, опасения. И сли-
лись в неудержимую лавину народного выступления,
толчок которому дало коварное выступление Аликея и
его друзей.
Толпы татар, вооружившись чем попало, бежали на
стены. Городские ворота затворились. Русских, которые
приводили жителей к покорности, схватили и отвели в
зиндан; сопротивлявшихся побили насмерть.
Московские воеводы, подъехав к городским стенам,
пробовали уговорить казанцев — их не слушали. Город
кипел, как встревоженный улей.
Русские полки ушли в Свияжск. Казанцы послали к
ногайским татарам послов:
— Пришлите нам царя!
Война!..
189
Часть третья
ВЕЛИКИЙ ПОХОД
Глава I
БОЯРСКАЯ ДУМА
Веселый перезвон гудел-разливался над Москвой
Тяжко бухал большой колокол на звоннице Архангель-
ского собора, заливчато сыпали малиновую россыпь
колокола у Ивана Предтечи, частый серебряный пере-
бор вызванивал звонарь у Успенья, и, перекликаясь друг
с другом, буйно-радостно пели тысячи больших и малых
колоколов над праздничной, нарядной Москвой.
Тесная площадь между Успенским и Архангельским
собором была запружена народом. Люди стояли вплот-
ную, плечом к плечу, и неотступно смотрели на царскиг
дворец, на Красное крыльцо, где открывался ход г
палаты.
Десятки тысяч людей пришли на Соборную кремлев-
скую площадь. Они собрались спозаранку, прослышав
что Боярская дума будет решать о том, воевать или не
воевать с мятежной Казанью.
Боярская дума в течение нескольких веков быле
высшим совещательным органом при московских вла-
стителях. В ее состав входили бояре и княжата ис
190
наиболее знатных фамилий. Кроме них, в Думу, по
особому «государеву пожалованью», входили бояре и
дворяне, известные способностями и умом. Участвовали
в работе Думы также и дьяки казны — центральной
государственной канцелярии того времени.
Московские государи не часто собирали Думу в
полном составе и предпочитали советоваться с немно-
гими избранными членами, составлявшими Ближнюю
думу. Но в этот день царь созвал Думу полностью:
отношения с Казанью были важнейшим жизненным
вопросом для русского государства.
В толпе, собравшейся перед дворцом, виднелись
купцы в добротных суконных кафтанах, дети боярские
в разноцветных однорядках, попы и дьяки в длинных
черных рясах. Но преобладали здесь черные люди —
простонародье. Отдельными кучками среди многотысяч-
ного людского скопища стояли дюжие кузнецы в про-
жженных кожаных фартуках, с лицами, почерневшими
от дыма горнов; ткачи, бледные от вечного сиденья за
станами в душных избах; румяные, здоровые огородни-
ки; серебряники, кожевники, сапожники и прочий мо-
сковский ремесленный люд.
Пронырливый Тишка Верховой, поднявшись задолго
до света, удобно устроился невдалеке от Красного
крыльца, и хотя царские слуги его потеснили, ему было
видно всю площадь.
Ордынцев вышел из дому не рано, и ему пришлось
протискиваться сквозь толпу, чтобы попасть на такое
место, с которого хоть что-нибудь можно было рассмот-
реть. Раздвигая толпу мощными плечами и возвышаясь
над ней на целую голову, Федор Григорьевич неуклонно
продвигался под шум и ропот потревоженных. Стольник
обрадовался, увидев среди зрителей Голована:
— Андрей? А ну, помоги, вдвоем скорей пробьемся!
Голован был высокий и ладный парень, но куда ему
было тягаться силой с богатырем Ордынцевым! И все
же вдвоем они составили такую пару, против которой
не могли устоять самые крепкие и упорные мужики.
Иной даже начинал ругаться, однако, взглянув на весе-
191
лые лица Ордынцева и Голована, пролагавших себе путь
решительно, но беззлобно, смирялся и давал молодцам
дорогу.
Толпу потешали песнями и присказками веселые
скоморохи. Голован радостно встрепенулся: среди раз-
ноголосого гомона ему послышалась бойкая скорого-
ворка Нечая.
«Ошибся я или неужто там в самом деле Нечай?»
Голован, рьяно работая локтями, полез в ту сторону
напролом; он не видел друга целых пять лет, со времени
московского восстания.
Слух не обманул Голована: приплясывая и притопы-
вая, развеселый Нечай пел песню, высмеивавшую мно-
годумных бояр, не печалящихся о народном горе. Жук,
как всегда угрюмый и сосредоточенный, подыгрывал
Нечаю на дуде.
Встретились восторженно. Голован спросил вполго-
лоса, хотя среди мощного гула толпы эта была излишняя
предосторожность:
— Как это вы, други, насмелились в Москву явиться?
Не боитесь в Разбойный приказ попасть?
— Бог не выдаст, свинья не съест, — ухмыльнулся
Нечай. — Ходит слух, что кто в ополчение на татар
пойдет, тому старые грехи простятся.
Пока Нечай коротко рассказывал Головану о том,
где бывал и что видел за пять лет, в толпе началось
движение: сквозь ее плотную массу протискивались
члены Думы — дородные бояре в длинных шубах, в
высоких меховых шапках.
Вслед боярам неслись возгласы:
— Порадейте, бояре, за русскую землю!
— Порешите с басурманским засильем!
— Пусть только кликнут клич — весь народ на татар
подымется!..
Хмурые бояре пробирались сквозь людскую массу
безмолвно, возмущенные тем, что им, царевым советни-
кам, указывают черные людишки, как вести себя в Думе.
Вот прошел последний, запоздалый боярин, и толпа
снова замерла в нетерпеливом ожидании: хоть до вечера
192
будут стоять люди, лишь бы своими ушами услышать,
что порешит думское сиденье...
Истово поднявшись на Красное крыльцо и пройдя
через Среднюю палату, бояре входили в Столовую избу,
где собиралась Дума.
Царь Иван — длинный, но еще с юношески узкими
плечами, с румянцем на худом горбоносом лице —
нетерпеливо оглядывал собиравшихся советников. Они
входили чинно, по уставу, кланялись царю, касаясь
рукой пола, рассаживались по лавкам, покрытым пер-
сидскими и индийскими коврами.
Явился брат царя, Юрий Васильевич, не по годам
полный, с глуповатой улыбкой на одутловатом лице.
Митрополита московского Макария усадили на по-
четное место — в кресло, обитое парчой, пронизанной
золотыми нитями. Макарий задумался, уронив седую
голову. На груди митрополита сиял золотой крест, в
руке — резной посох с набалдашником слоновой кости.
Чуть пониже Макария поместился скромно одетый
благовещенский поп Сильвестр. Его пламенные черные
глаза пытливо всматривались в лица бояр: как они
поведут себя, не станут ли пугать царя трудностями
предприятия, которое всецело одобряла Избранная Ра-
да...
Бояре, одетые в длинные шубы и высокие меховые
шапки, сидели, сонно кивая бородами — седыми, рыжи-
ми, черными. Иные старались преданно поймать цар-
ский взгляд, а что на душе у них — кто знает!..
У ног Ивана свернулся клубочком на полу шут —
разноглазый мужик с длинным туловищем и короткими
кривыми ногами.
— Не в пору, Васильевич, Думу затеял, — пискнул
шут. — Надоть бежать в бабки играть, а ты тута с
боярами...
Иван ткнул шута в бок носком желтого сафьянового
сапога:
— Ври, дурак, да не забывайся!
Солнечные лучи, проникая сквозь цветные стекла
оконных решеток, рассыпались игривыми зайчиками.
193
7-769
Один озорной лучик, красный, плескался на шашечном
полу возле шута, а тот ловил его колпаком и осторожно
совал под колпак руку.
Царь повернулся, и нестерпимо ярко заискрились
алмазные пуговицы лимонно-желтого парчового кафта-
на. Иван Васильевич невольно улыбнулся, глядя на
проделки шута. Улыбка стерла привычное выражение
царского достоинства, разгладила складки у губ, и стало
видно, как государь еще молод...
Иван повернул голову к веселому, румяному Алек-
сею Адашеву, стоявшему за троном:
— Почнем, что ли, Федорович?
— Время, государь! Все в сборе.
Услыхав, что царь собирается открывать заседание
Думы, шут незаметно юркнул из палаты: не пристало
ему, темному мужику, слушать, как знатнейшие люди
государства будут решать важные дела.
Царь обвел острым взглядом притихшее собрание.
— Бояре, советники мои излюбленные! — начал
Иван. — Ведомо вам, какая измена учинилась против
нашего дела в Казани. Наглые Кебяк-князь с товарища-
ми присягу порушили, наших людей похватали и побили,
город закрыли. Ужели стерпим измывательства мусуль-
манские?..
Все долго молчали. Первым заговорил митрополит:
— Шел я к тебе, государь, и зрел на площади
несметное сборище народное. Не из праздного любо-
пытства сошлись перед твоим дворцом люди москов-
ские: велика их ревность услышать справедливый при-
говор помазанника божия и его мудрых советников —
навеки укротить нечестивую Казань!
— Не ихнее это дело в государские дела мешать-
ся! — злобно прогудел боярин Федор Шуйский. — Дай
им волю — они тебе и на шею сядут! Чай, всем нам
памятен пятьдесят пятый год!1
Удар был нанесен метко. Лицо царя побагровело от
неприятного воспоминания, а бояре сердито завороча-
1 1547 год был по старому счету времени («от сотворения
мира») 7055 годом.
194
лись на лавках. Но митрополит возразил примиритель-
но:
— Господь велел прощать вины грешникам даже до
семижды семидесяти раз! И в сегодняшнем собрании
зла не вижу, с похвальным чувством пришли люди: хотят
пролить кровь за правое дело, за благоденствие русской
земли... Всем ведомо — и тебе, государь, и вам, бояре:
не мы, зде1 сидящие, малочисленные и телесные соста-
вом слабые, поднимемся с оружием на грозного врага,
а те простые духом, но мощные телом, кои во множе-
стве стоят у дворца и с верою ждут нашего решения...
Макарий смолк.
Веселый колокольный перезвон докатился в палату,
отгоняя докучные заботы, пробуждая в боярах прият-
ные и слегка печальные воспоминания о днях детства,
когда под такой же переливный звон пасхальных коло-
колов играли они на изумрудно-зеленой траве.
Андрей Курбский, боярин Дмитрий Пронский и еще
двое-трое других в кратких речах поддержали Макария.
Большинство советников молчало, отводя глаза от вла-
стного, угрюмого взора попа Сильвестра.
— Бояре, и ты, пресвятой владыко! — снова загово-
рил царь. — Предки наши, князья московские, много
сделали, чтобы скинуть ненавистное иго с русской
земли. Дмитрий Донской и дед мой Иван Васильевич
потрудились, да не довершили дело. Нам его доканчи-
вать!.. Мечты мои велики...— Царь Иван понизил голос,
как будто смущаясь. — Но из-за проклятой Казани сижу
словно орел со связанными крыльями... Как государство
возвысить, как все княжества русские и земли под свою
державную руку взять? Хотел бы по своей воле распо-
ряжаться воинской силой — а не могу! Всякий час,
всякое время надо быть настороже. Задумаю ли послать
полки на юг, на запад — сокрушить назревающую
измену, а злобные казанцы уж набегают на Русь: у них
повсюду глаза и уши... Скован я, как узник в железной
клетке!
Царь помолчал, собираясь с мыслями.
1 Зде — здесь.
195
— Было время, — с силой продолжал он, — москов-
ские князья держали татарским ханам стремя, руку
целовали нечестивым ворогам. Прошло то время! Ныне
сам я царь, и должна Русь вспомнить иное: походы
Олеговы, великие битвы Святослава! Сильна наша де-
ржава, и приспел час порвать последние цепи!.. Возьмем
под свою власть вероломную Казань, неизменную ру-
шительницу договоров, и откроются нам неизмеримые
пути на восход солнца. Там, за Каменным поясом1
живут народы дивии1 2, воинскому искусству не обучен-
ные. Тяготеют те народы к нам, хотят приклониться под
нашу сильную руку, и в том не раз послов к нам
засылали. Но тех послов Казань, словно сказочный Змей
Горыныч, перехватывает, не дает пути в Москву... Торг
весь за себя забрали казанцы: с персидцами, с бухарца-
ми, с индийской землей, с Катаем3. Сколько они барышу
берут на индийских товарах, на персидских коврах, на
кавказском оружии, на катайской бумаге!.. Эти барыши
и нашей царской казне, нашим гостям, нашим боярам-
дворянам сгодились бы!
Бояре заулыбались, одобрительно закивали борода-
ми: такой разговор был им по душе.
:— Нет сейчас у русских людей ворогов хуже и
лютее казанцев, и надобно с ними покончить! Сколько
трудов потратила на них Русь! Походы, войны, осады...
Жертвы бесчисленные — все попустому! Аки вампир
кровавый, высасывает из нас Казань кровь и силы...
Давно ли я, Иван, царствую — и уже третий поход
приходится затевать... третий поход за четыре года!..
Велик нам подвиг предстоит, бояре, и коли справимся,
процветет русское государство и пойдет в богатырский
рост. С востока переведем взоры на запад — к искон-
ным вотчинам, что отхватили у нас жадные немцы и
свей4. То вижу внутренними очами, в том готов страш-
ную клятву дать!..
1 Каменный пояс — Уральский хребет.
2 Дивии — дикие, непросвещенные.
3 Катай — Китай.
4 Свей — шведы.
196
Царь закончил с необыкновенной силой убеждения.
Он замолчал, и горящие глаза его впивались в лица
советников: ясна ли для них великая важность того, что
им замышлено?
Большинство членов Думы поняли необходимость
последнего, решающего похода, а несогласные не ре-
шились выразить сомнения.
Раздались громкие возгласы:
— Кончим дело!
— Не попятимся, государь!
— Святую истину сказал ты, Иван Васильевич!
— Хватит татарам озоровать!
— Наши люди, на мухамеданов работая, всю силушку
повымотали!..
Царь поднял руку, призывая к молчанию:
— Согласье принимаю. Токмо глядите, бояре, пускай
нелицемерно будет ваше слово: великие трудности
предстоят!
— Не покривйм душой, государь!
— Пускай же весь свет знает, что Москва за правду
постоит до последнего! — Царь встал с трона, выпря-
мился.
По чину думного сиденья поднялись и бояре.
— Кто поведет рать в поход? — приложив губы к
уху Ивана, спросил Алексей Адашев.
— Кто? — удивился царь, тряхнув подстриженными
в скобку волосами. — Я и поведу.
Этот быстрый обмен словами не ускользнул от слуха
советников. Намерение царя вызвало смущение. Бояре
полагали, что государь не захочет снова подвергнуть
себя опасностям и тяготам бранной жизни.
Иван обвел глазами членов Думы. Только Макарий,
Сильвестр, Курбский, Адашев и еще два-три боярина из
молодых смотрели сочувственно, в глазах остальных он
читал несогласие.
Князь Никита Ростовский сказал:
— Не прими за обиду и поношение, государь: лучше
б тебе на Москве остаться! А вдруг, как и прежде
бывало, крымчаки с казанцами сговорятся, и когда ты
197
войско на Казань поведешь, крымская орда на Москву
нагрянет? Кто же тогда, окромё тебя, стольный город
защитит? А на Казань рать вести — мы твои слуги. Кому
укажешь — тот и воевода.
Царь задумался. Довод Ростовского был серьезен:
опасно оставлять Москву на попечение бояр. Но еще
опаснее посылать рать на Казань с одними воеводами,
которые без царского глаза обязательно перессорятся
и погубят дело.
Ведь случилось же в правление отца его, Василия
Ивановича1: князья Иван Бельский и Михайло Глинский,
оба знаменитого рода, после успешных боев с против-
ником подошли к Казани. Городские ворота были откры-
ты, и казанские воины разбежались. Но Бельский и
Глинский проспорили три часа, кому из них первому
войти в город, й потеряли удобный случай взять Казань.
Да и прошлый поход оттянулся на месяцы из-за воевод-
ских раздоров...
После обсуждения решили: войска в поход поведет
царь, а Москву, если случится надобность, станут защи-
щать воеводы.
1 Летом 1530 года.
198
— Нынче в поход! — воскликнул царь. — В безмя-
тежном житии не суждено нам проводить время. И
пусть будет что будет!
Думный дьяк записал: «Государь указал, и бояре
приговорили идти походом на непокорную Казань».
Сам царь вышел на Красное крыльцо объявить наро-
ду решение Думы; за ним показались митрополит и
бояре. Иван Васильевич оглядел площадь. Море люд-
ских голов зашевелилось. Многие поднимались на цы-
почках, чтобы увидеть государя; другие крестились на
царя, как на Икону; третьи высоко подбрасывали шапки,
пугая ворон, примостившихся на крестах церквей.
Буря приветственных возгласов встретила слова царя
о том, что поход на Казань решен.
Снова полетели в воздух шапки, люди обнимались и
целовались с радостными слезами; ни у кого не было
сомнения в том, что дело кончится удачей, раз пришла
в движение великая народная сила.
Веселый перезвон колоколов плыл над Москвой...
Глава II
ЕДИГЕР, ХАН КАЗАНСКИЙ
Казань готовилась к войне.
Власть в мятежном городе принял твердой рукой
Едигер — Царевич из рода Гиреев.
Астраханский царевич Цдигер-Магмет давно жил у
ногайцев, прикидываясь доброжелателем Москвы, но
зорко следил за событиями. Когда в Казани вспыхнуло
неожиданное восстание, гиреевцы призвали Цдигера,
испытанного воина:
— Иди к нам в цари! На тебя вся надежда!
Едигер согласился.
Когда было объявлено, что Едигер приближается к
городу, толпы казанцев высыпали на подгородное Арс-
кое поле — встречать нового хана. Впереди ехали муллы
во главе с Музафаром. Сын сеида бодро и прямо сидел
на вороном жеребце арабской крови. Рядом везли зе-
леное знамя, святыню мусульман.
1
199
Из-за леса показался небольшой отряд всадников, и
во главе его — Едигер, молодой, черноусый, крепкий
духом и телом. Радостный рев толпы и выстрелы пища-
лей разнеслись по полям. Сизоватые облачка порохово-
го дыма поплыли над толпами народа...
Опытный в ратном деле, новый хан понимал, что
Иван IV придет под Казань с немалой силой и надо
противопоставить ему крепкую защиту. Едигер при-
звал под знамена многие тысячи задворных казаков со
всех улусов. Мирзы — мелкие помещики — тоже
явились со своими людьми, вооружив их. Племена,
еще не сбросившие иго казанских ханов: мордва, ар-
ские чуваши, марийцы — обязывались выставить силь-
ные отряды.
Тех, кто не способен был владеть оружием, согнали
под стены Казани и заставили копать глубокие рвы,
рубить лес, строить укрепления.
Казанские ханы не доверяли угнетенным народам, и
не без причины: князьки отдельных мелких племен и
родов только и ждали случая перейти в русское поддан-
ство, как сделали жители Горной стороны.
Чтобы удержать в повиновении насильственно схва-
ченных людей, Цдигер приказал взять их семьи и при-
вести в Казань. За верность главы семьи отвечали
жизнью его жена и дети.
Лихорадочная деятельность охватила город: муллы
поддерживали среди обитателей религиозный фана-
тизм, слабым и колеблющимся угрожали не только
загробными муками, но и скорым возмездием на зем-
ле.
В огромных количествах заготовлялось вооружение:
оружейники делали пищали, не гонясь за отделкой;
пороховщики готовили зелье; лучные мастера гнули
луки, выстрагивали бесчисленное количество стрел.
Скупщики оружия требовали от поставщиков такое
количество кинжалов и наконечников для стрел и ко-
пий, что мастера спали по два-три часа в сутки.
200
Едигер принимал все меры, чтобы собрать побольше
войска. Он хотел заручиться поддержкой ногайских
князей, которые могли выставить в поле сто пятьде-
сят — двести тысяч вооруженных воинов.
С такой большой силой приходилось серьезно счи-
таться: в многолетней борьбе Москвы и Казани весьма
важно было, чью сторону примут ногайцы. Царские
послы годами жили у ногайцев, искусно удерживая их
от выступления против Москвы.
Но и другая сторона не дремала. Турецкий султан
Солиман I Великолепный, узнав о казанских событиях,
спешно прислал посла к ногайскому князю Измаилу. Он
уговаривал Измаила пойти против русских вместе с
казанцами, приказывал оказать помощь Азову, которо-
му угрожала Москва. За это сулил сделать Измаила
ханом азовским. Но Измаил не решился на открытое
выступление: Солимана он боялся, но московский царь
был более грозным противником. Зато Измаил позволил
стать под знамена Едигера желающим помериться сила-
ми с московитами. Таких набралось больше десяти
тысяч; их повел ногайский князь Улубей. Едигер привет-
ствовал такое значительное подкрепление.
★ W ★
С приходом Цдигера к власти Музафар-мулла сильно
возвысился. Новый хан предпочитал советоваться о
делах не с Кулшерифом, сильно одряхлевшим за послед-
ний год и мало выступавшим перед народом, а с энер-
гичным Музафаром, который, казалось, не знал устали.
Музафар-мулла то произносил горячие проповеди в
мечети при большом скоплении слушателей и убеждал
народ биться с русскими до последней капли крови, то
отправлялся на стены и умело руководил строительными
работами.
По городу пошли слухи (не без участия Джафара-
мирзы и других клевретов Музафара), что Кулшериф-
мулла скоро удалится на покой и первосвященнический
престол займет его воинственный сын.
Не только в государственных делах, но и в самом
201
дворце Кулшерифа Музафар-мулла перехватил власть у
отца.
Кулшериф, одинокий, всеми забытый, сидел у себя
в покоях, а все распоряжения по дому отдавал его
старший сын.
★ ★ *
Музафар-мулла сидел на шелковых подушках, под-
жав ноги. Перед ним стоял Булат в поношенном бешме-
те с медными пуговицами. Лицо старика было сумрачно.
Музафар говорил по-татарски, Булат — по-русски.
Переводил Джафар-мирза.
— Так ты, урус, не хочешь помогать мне укреплять
город? — спрашивал разгневанный Музафар.
— Передай своему господину, что вздумал он несбы-
точное. — Тихий голос старика был тверд.
— Мы тебя золотом осыплем, жен молодых дадим,
дом хороший...
Никита усмехнулся:
— Мне на тот свет пора, а не женами прельщаться!
Нам, русским людям, родина всех земных благ дороже...
— В подземную тюрьму! — закричал Музафар-мулла.
— Ваша власть! Лучше в тюрьме буду, чем изменю
родной земле!
— У-у, крепок старик! — пробормотал горбун и
сделал последнюю попытку; — Тебе и внучку Дуню
покинуть не жаль?
— Жаль, а душа дороже! Ведите в зиндан, зачем
слова тратить!
Музафар и управитель обменялись удивленными
взглядами. В зиндан старика не отправили: надеялись
все-таки уговорить его.
Глава III
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПОХОД
В погожее июньское утро 1552 года выступала из
Москвы русская рать в далекий и опасный поход на
Казань.
202
Москвичи толпами стояли по сторонам коломенской
дороги. Купцы в добротных шубах, подмосковные му-
жики в армяках, посадские люди, бабы в разноцветных
сарафанах, в летниках и киках1 — все пробирались к
обочине дороги.
Слышались возгласы:
— Постойте, кормильцы, за землю русскую до
смерти!
— Освободите бедных невольников!
— Царство небесное унаследуете!..
— А мы бы, дедушка, еще и по этому побродили! —
ответил посадскому веселый детина в потертом кафта-
не, с кованой железной шапкой на голове. — Оно и
тута... ежели... тоже не плохо! — Он подпрыгнул, ловко
прищелкнул пальцами, заиграл плясовую и начал выде-
лывать коленца.
Сосед по ряду, угрюмый, чугунно-черный7 мужик,
сердито ткнул его кулаком:
— Брось!
— Ай, Демидушка, ай, родненький, какая тя муха
укусила? — скривился бывший скоморох Нечай.
— Чать, на войну идешь али куда? — проворчал Жук.
Скоморохам удалось попасть в ополчение, и участие
в московском мятеже было им прощено. Но не только
из-за этого шли под Казань Нечай и Жук, как и тысячи
их соратников. Народ понимал, что совершается вели-
кое дело укрепления Руси, и отдавался этому делу с
радостью.
За пехотой шла конница на низкорослых некованных
лошадках, привычных по суткам оставаться без корма;
это был Ертоульный1 2 полк Федора Троекурова, развед-
чики многочисленной рати.
Войско текло нескончаемым потоком. Среди несчет-
ных рядов сермяжников3 * редко блестели на солнце
латы, кольчуги...
1 Кика, кичка — женский головной убор.
2 Ертоульный — разведывательный.
3 Сермяга — верхняя крестьянская одежда из грубой тка-
ни.
203
Как во все века, Русь выслала на борьбу с опасным
врагом лучших своих сынов, не полагаясь на армию
наемников, жадных только на деньги.
У многих ратников за лычки шапок были заткнуты
деревянные ложки.
Толпа подшучивала:
— Эй, паря! Малу ложку ухватил, голодом насидишься!
— Ништо, управимся! — беззлобно отшучивались
ратники. — Нам хошь какие котлы поставь — все
вычерпаем!
Два боярина, окруженные челядью, внимательно
рассматривали войско.
— А кто воеводы? — спросил один.
— Царский полк сам государь ведет, Сторожевой —
воевода Серебряный, полк Правой Руки — князь Анд-
рей Курбский со Щенятевым, полк Левой Руки —
воевода Плещеев Митрий Иванович, над Запасным пол-
ком поставлен Ромодановской...
— И-их, сколько стратигов! 1 Много войска государь
собрал!
— Много! Тысяч до сотни, а может, и больше
наберется. Конечно, не все до Казани дойдут: надобно
заставы от крымчаков поставить, по городам сторожи
разместить...1 2
Мимо двигался пушечный наряд. Везли толстые ту-
1 Стратиги (стратеги) — полководцы.
2 Историки различно оценивают силы русского войска, от-
правившегося в поход под Казань. Обычное представление, что
под Казанью стояла 150-тысячная русская армия, очевидно, силь-
но преувеличено. Путешественники того времени исчисляли во-
инскую силу, вышедшую из Москвы, в 90 тысяч человек и
полагали, что до Казани дошло не больше половины; остальные
охраняли коммуникации. В Казани засело 30 тысяч отборного
татарского войска. Можно с достоверностью предположить, что
под стенами города стояла русская рать, превышавшая числен-
ность татарского войска не более чем вдвое. Но на стороне татар
были десятки тысяч населения города, помогавшие защищать его,
была 30-тысячная конница Япанчи, скрывавшаяся в лесах вне
города, были сильнейшие укрепления и естественные препятст-
вия. В свете этих данных ратный подвиг наших предков представ-
ляется изумительным; этими же данными объясняется сравни-
тельная продолжительность осады.
204
Русь выслала на борьбу с опасным врагом лучших своих
сынов.
поносые гауфницы1, и длинные змеи , и фалконеты-со-
кольники, и легкие полевые пушки. Иностранцы уверя-
ли, что ни одна армия не располагала таким множеством
прекрасной артиллерии, как русская.
Осадным делам — пушкам — царь Иван всегда
уделял особое внимание. Артиллерия составляла осо-
бый род войск, и царь заботился о подготовке искусных
пушкарей. По зимам в присутствии Ивана Васильевича
и ближних бояр устраивались опытные стрельбы, и
наиболее отличившихся пушкарей царь награждал.
Русские пушкари первыми додумались ставить мел-
кие и средние пушки на колеса — лафеты. Это сделало
московскую артиллерию наиболее подвижной, способ-
ной к быстрому перемещению с одной позиции на
другую. Так полковые пушки появились впервые на
Руси.
За пушками шел обоз. В телегах лежали бочки с
зельем, окутанные мокрой шерстью и рогожами.
В одной из телег сидел бывший казанский плен-
ник — оружейник Кондратий. Узнав, что готовится но-
вый поход ца Казань, он выпросился в пушкари.
— Я и стрелять могу, — уверял Кондратий начальни-
ка артиллерии, дьяка Выродкова, — и зелье готовить, и
пищаль починить... Даром хлеб есть не буду! А человек
я одинокий, и коли придется под Казанью голову сло-
жить, по крайности не зря погибну, а за дело русское...
Оружейник горел одним желанием: посчитаться с
неверными за мучения, перенесенные в плену. .
Стольника Ордынцева не было при пушечном обозе:
царь не разрешил ему отправиться в поход, несмотря на
его горячие мольбы.
— Нестаточное замыслил, Григорьевич, — сказал
царь Ордынцеву. — Ты в поход уйдешь, а кто станет
наряд готовить, новые пушки лить? Воинское дело пе-
ременчиво, и может статься, много еще нам осадных
дел понадобится, прежде нежели покончим с Казанью.
В храбрость твою я верю, но не то нужно, чтоб ты
------ --
1 Гауфницы—гаубицы.
206
десяток ворогов своей рукой убил. Замыслы мои обшир-
ны, много будет походов, и судьба твоя — стать моим
верным помощником, пушек давать побольше да хоро-
ших, какие у тебя теперь пошли...
Впервые царь так явно дал понять Ордынцеву, что
доволен его работой. Это утешило Федора Григорьеви-
ча, и он стал еще больше сил отдавать работе на
Пушечном дворе.
К третьему походу на Казань русские воеводы гото-
вились тщательно. Сделано было то, о чем не слыхивали
прежние полководцы: царь и его помощники пригласили
козмографов1 с их картами, узнали, какими местами
придется идти войску, где нужно наводить мосты. Стало
ясно: чтобы не отвлекать войско побочными заботами,
в походе понадобится большой отряд строителей; их
набрали в Москве и в ближайших городах. Отряд воз-
главляли несколько мастеров, а старшим был поставлен
Голован, несмотря на его молодость и на отказы от
почетной должности. Случилось так потому, что Голован
при построении Свияжской крепости заслужил особое
благоволение начальника розмыслов1 2 Ивана Выродкова.
Теперь обоз строителей шел непосредственно за
пушкарями. Широкогрудые, сильные кони везли телеги,
тяжело нагруженные огромными коваными гвоздями и
железными скобами, топорами и прочим плотничьим
инструментом.
Голован ехал на рослом рыжем коне; за ним трусил
на пегой лошаденке неразлучный товарищ — Аким
Груздь.
У Андрея на душе было радостно: исполнилось его
давнее желание — он ехал освобождать наставника.
Голован крепко надеялся, что Никита жив, что они
свидятся и настанет час, когда они вдвоем снова пойдут
из города в город, из села в село по просторной русской
земле...
А рать шла и шла, как широкая, многоводная река
1 Козмографами (правильнее — космографами) в ста-
рину называли географов.
2 Розмыслы — инженеры.
207
лилась. Шагали пищальники в темных полукафтаньях,
за ними на телегах везли громоздкие ружья и сошки к
ним. Ехали всадники с копьями, с топорами, саблями; у
седел болтались луки и колчаны, упрятанные в чехлы —
саадаки.
Вперед, на Волгу!..
Глава IV
НАШЕСТВИЕ КРЫМСКИХ ТАТАР
Русское войско выступило из Москвы 16 июня 1552
года. К полудню царский поезд достиг села Коломен-
ского, невдалеке от южной окраины Москвы.
Царь обедал с боярами и воеводами; он был весел,
шутил, смеялся. Великий замысел, который он вынаши-
вал несколько лет, начинал осуществляться: рать двину-
та в решительный поход на Казань.
— Сей день, бояре, — сказал Иван, вставая из-за
стола, — ночуем в Острове-селе, а завтра двинемся на
Владимир...
После непродолжительного послеобеденного отды-
ха царь со свитой сел на коней.
Вдруг впереди, где виднелись дозорные, охранявшие
путь царя, началось необычное движение, послышались
взволнованные голоса. Три всадника скакали к царк> во
весь мах: два царских телохранителя и меж ними обор-
ванный мужик, без шапки, с исхудалым лицом, с ярко-
рыжими волосами, с глазами, блестящими горячечным
огнем.
Завидев пышный царский поезд, мужик кулем сва-
лился с коня и рухнул лицом в мягкую пыль дороги.
— Встань! — приказал царь. — Кто таков?
— Станичник я, великий государь! — торопливо
отвечал человек с низким поклоном. — Прискакал я со
всяческим поспешением из Путивля-града, от берегово-
го воеводы1 Айдара Волжина...
1 Берегом называлась граница. Береговой воевода ведал
охраной границы на определенном участке.
208
— Что доносит Волжин?
— Дурные вести, великий государь! Вышла орда из
Крыма и валом валит на наши украйны... Уж Северный
Донец враги миновали!..
— Вот как... — прошептал царь. — Прознали наши
замыслы да поторопились. Эх, узнать бы, кто весть
подал!
Лицо Ивана Васильевича окаменело, жесткие склад-
ки сильнее прорезались у тонких губ.
Страшная угроза нависла над Русью. И счастье, что
полки еще не ушли от Москвы, что есть возможность
отбить неожиданное нападение...
— Кто ведет крымчаков? — обратился царь к гонцу.
Тот недоуменно покачал головой.
— Сие еще неведомо, государь! Иные толкуют,
будто сам хан с ордой, иные — что сын его.
— Вижу, нелицемерно правишь нашу государеву
службу. Отвести станичника в Коломенское, — прика-
зал он телохранителям, — накормить, одеть, выдать в
награду пять рублей... — Царь оглядел угрюмые лица
воевод. — Приуныли, богатыри? — с ласковой насмеш-
кой сказал он. — А я так мыслю: просчитались крымча-
ки! Проучим недругов чтоб не накидывались на Русь!
Мы их не трогали, и пусть не прогневаются — спуску
не дадим!
Твердая речь царя согнала уныние с лиц его прибли-
женных. Они почувствовали, что их ведет в бой твердая
рука.
Воевода Щенятев пылко воскликнул:
— Меня первого пошли, государь, на ворогов! Уж я
постою за русское дело!
— Всем хватит работы, — ответил царь.
Войска поспешили в Коломну, на укрепленный ру-
беж. Царь, опережая главные силы, прибыл в Коломну
утром 19 июня. Через час после приезда к нему ввели
Айдара Волжина: береговой воевода лично явился с
важными сообщениями. С десятком казаков он скакал
день и ночь, сменяя лошадей, и опередил татар.
Волжин привез тревожные вести. Огромная крым-
209
ская рать во главе с ханом Девлет-Гиреем идет на Рязань
и Коломну. С Девлет-Гиреем вышли на Русь князья и
мурзы, и в числе их любимый шурин хана. Девлет-Гирей
и его приспешники похваляются разорить Русь дотла и
взять богатую добычу. Об этом вызнал Айдар, захватив
языка — татарского тысячника.
Иван Васильевич наметил план расположения силь-
ных заслонов перед Москвой. Большому полку Михай-
лы Воротынского приказано было стать у села Колыче-
ва, в двадцати пяти верстах к северо-востоку от Серпу-
хова. Ертоульный полк с воеводой Федором Троекуро-
вым занял Ростиславль. Полк Левой Руки (воевода
Плещеев) расположился у Голутвина, в пяти верстах от
Коломны. Шиг-Алея царь послал в Касимов — подымать
верных московскому царю татар на борьбу с Крымом.
Объехав войска, царь Иван Васильевич вернулся на
Оку, в Коломну, которую избрал местопребыванием в
ожидании решительного боя с Девлет-Гиреем. Там с
беспокойством ожидал он известий от конных отрядов,
высланных на юг.
Известия не заставили ждать. 21 июня стали один за
другим подъезжать гонцы. Они сообщили, что татарские
отряды, быстро продвигаясь к северу, показались близ
Тулы.
' На помощь угрожаемому городу тотчас отправлен
был полк Правой Руки с воеводами Курбским и Петром
Щенятевым. За ними и царь собрался выступить на
следующее утро, но не успел выполнить свое намере-
ние.
Утром 22 июня гонцы прискакали с известием, что
Туле не грозит опасность. Невдалеке от города появи-
лись только небольшие отряды крымчаков — числом
тысяч до семи. Не осмеливаясь подступить к городу,
татары пограбили окрестности Тулы, и забрали в плен
тех, кто не успел укрыться за стенами, и ушли обратно.
Курбскому и Щенятеву приказано было задержаться в
пути.
Направление удара главных татарских сил остава-
лось неизвестным. Царь Иван решил выжидать развер-
210
тывания событий, не оставляя Коломны; этому городу
предстояло стать главным узлоья обороны Москвы.
Ждать пришлось недолго. На следующий же день к
обеду примчались новые вестники от Григория Темкина,
наместника Тулы.
Темкин доносил:
«Сам крымский хан Девлет-Гирей подступает к горо-
ду со всей ордой. При нем пушечный наряд и отборный
отряд турецких янычар. Войска, бывшие в Туле, отосла-
ны для участия в казанском походе, и теперь надежда
только на быстрый подход подкреплений. Впрочем,
жители Тулы от мала до велика встали на защиту
родного города и будут биться с татарами, не жалея
жизни».
В Коломне все закипело. Полки, назначенные на
подмогу Темкину, начали переправляться через Оку, а
царь Иван с дружинами двинулся вверх по левому
берегу Оки — к Кашире; там он должен был перейти
реку и тоже спешить к Туле.
Гл а в а V
ОБОРОНА ТУЛЫ
После ухода татарского разведывательного отряда
туляне успокоились лишь на несколько часов.
На рассвете 22 июня стало известно, что Девлет-Ги-
рей подходит к городу со всеми силами.
Прошло немного времени, и под Тулой раскинулся
огромный неприятельский лагерь. На возвышении воз-
двигли пышный ханский шатер, ниже теснились шатры
вельмож и полководцев. В отдалении, как многочислен-
ные копны сена, чернели кибитки простых воинов:
татары ходили в походы с женами и детьми.
Шум и гам наполнили окрестность; кричали и брани-
лись люди, ржали лошади, ревели быки и верблюды...
Солиман возлагал исключительные надежды на ко-
варный и неожиданный удар с юга, который крымцы
нанесли по его приказу.
Немало вспомогательных войск прислал султан
211
крымскому хану Девлет-Гирею. Среди них были воин-
ственные горцы из суровых, неплодородных областей
Малой Азии; несравненные наездники — аравийские
бедуины в белых развевающихся бурнусах; египетские
феллахи с сожженными солнцем лицами... «Царь царей»
даже не пожалел для верного вассала крупного отряда
янычар — отборных солдат султанской гвардии, кото-
рых в минуты хорошего настроения называл своими
возлюбленными ягнятами.
С крымцами пришла также турецкая артиллерия.
Огромные кулеврины1 лежали на арбах, в которые на
походе запрягалось по десяти пар волов.
Паша, ведавший артиллерией, при наборе пушкарей
предпочитал нанимать европейцев, опытных в обраще-
нии с орудиями. У турецких пушек стояли беглецы,
нарушители дисциплины, мародеры и грабители из всех
европейских армий. У турок они вели себя хорошо: за
проступки у начальника артиллерии полагалось одно
наказание — рубить голову. Зато при взятии города
солдатам предоставлялось право грабить побежденных
и расправляться с ними как вздумается.
Огромная разноплеменная армия была брошена на
далекий север во исполнение приказа могущественного
Солимана I, «повелителя всех правоверных, тени аллаха
на земле». Некоторым из них были чужды воинственные
помыслы, и они с радостью вернулись бы к своим
виноградникам и хлопковым полям. Но большинство
жаждало разбоя и убийств и готово было по первому
знаку предводителей ринуться на стены русского горо-
да, мало подготовленного к вражескому нашествию...
Жители Тулы были сумрачны, но спокойны: они
знали, что только мужество спасет город, и заранее
предпочли смерть постыдному плену.
Наместнику не пришлось уговаривать горожан защи-
щать Тулу. При появлении татарских отрядов все спо-
собные носить оружие бросились на стены. Мужчины,
1 Кулеврина — старинная дальнобойная пушка большого
калибра.
212
старики, юноши с алебардами и топорами, с рогатинами,
пищалями, луками, арбалетами стояли у бойниц, готовые
отразить натиск врага. Женщины и дети были захвачены
всеобщим воодушевлением. Они кипятили в больших
котлах воду и смолу — выливать на голову штурмующих
татар. Другие таскали на стены груды камней и склады-
вали в наименее защищенных местах.
Знакомые с пушечным делом заряжали и наводили
орудия туда, где можно было ожидать скопления врага.
Наместник Григорий Темкин — низенький, широко-
плечий, с курчавой темной бородой и пронзительными
черными глазами — не сходил со стен. Он с наибольшей
пользой употребил несколько десятков воинов, которые
оставались у него после ухода полков в казанский
поход. Темкин разбил горожан на сотни, строго-настро-
го приказав каждой сотне держать свое место и пода-
вать помощь соседям только по приказу начальных
людей. А начальными людьми поставил опытных воинов.
Каждая сотня разбилась на десятки. Защитники города
выбрали десятниками охотников и звероловов, хорошо
знакомых с употреблением оружия. Кузнецы и оружей-
ники тоже оказались в числе начальных людей. Так
внесен был порядок в дело обороны и защитники Тулы
стали не беспорядочным скопищем людей, а войском.
В сотне Провора Костюкова было много лучников;
по общему приговору, над ними начальствовал олонча-
нин Лука Сердитый. Зиму Лука проводил на родине, в
лесах севера, бил соболей, горностаев, белок... А весной
охотник отправлялся с пушниной в южные города:
бережливый Лука, глава большой семьи, не хотел, чтоб
на его труде наживались скупщики.
Этим летом дела привели Луку Сердитого в Тулу, где
охотник бывал и раньше. По тревоге Лука Сердитый
снял со стены лук и колчан со стрелами, подвесил к
поясу нож и присоединился к потоку стремившихся на
стены.
Рядом с олончанином оказался знакомый купец.
— Лука, и ты туда же? — удивился купец. — Тебе
что за неволя чужой город защищать?
213
— Вот дурак! — рассердился охотник. — Мне рус-
ские города все свои!
На стене Лука проявил большую распорядитель-
ность: с полным знанием дела расставил ратников у
бойниц, указал каждому участок обстрела, чтобы сосед-
ние лучники не поражали одну и ту же цель. Лука
проверил оружие, иным подтянул тетиву у лука, осмот-
рел стрелы, приказал подточить железные наконечники.
Защитники в суровом спокойствии ждали первого
приступа. Он начался около девяти часов утра.
Татары тучами с неистовым визгом и ревом побежа-
ли к стенам; многие тащили осадные лестницы.
Грянули выстрелы городских пушек, но ядра, хоть и
убивали по несколько человек, бессильны были остано-
вить плотную массу врагов: слишком много времени
уходило на перезаряжание пушек. Редко хлопали пища-
ли; ружейный огонь тоже оказался малодейственным.
Зато лучники производили огромные опустошения
среди врагов. Хороший стрелок делал пятнадцать-двад-
цать выстрелов в минуту, лишь бы хватало стрел. А стрел
туляне запасли много: недаром сидели за их заготовкой
в долгие зимние вечера, когда за окошками выла вьюга
и татарское нашествие казалось таким далеким, мало-
вероятным.
Мальчишки шныряли под ногами лучников с пучками
стрел, звонко выкрикивали:
— Кому стрелы надобны? Дяденьки, отзывайтесь,
кому стрел?..
В наступавших неприятельских толпах чуть не каж-
дая стрела находила цель. От стрелы, спущенной с тугой
тетивы, не всегда спасала и кольчуга; на расстоянии в
пятьдесят-сто шагов стрела пробивала толстую дубовую
доску.
Большие потери не остановили стремительный бег
татар. Тысячи их добрались до стен и здесь очутились в
сравнительной безопасности; им угрожали только вы-
стрелы выступающих вперед башен, а в башнях было не
много бойниц.
Под стенами татары навели порядок в своих рядах,
подняли лестницы. По лестницам устремились враги.
214
На голову нападающих лилась кипящая вода, горячая
смола; обожженные скатывались с диким воем, сшиба-
ли нижних; на смену им карабкались новые. Огромные
камни сваливались со стен, круша и ломая лестницы...
Напряжение боя росло; в том и другом стане никто
не думал о собственной безопасности. Единственной
целью служила победа, пусть даже ценой жизни.
На участке Провора Костюкова бой разгорелся осо-
бенно сильно. Больше дюжины лестниц установили
здесь татары — огонь и камни уничтожили большую
часть. Но в двух или трех местах татарские головы
показались над стеной, враги готовы были ворваться.
К одной из осадных лестниц рванулся невысокий
дюжий парень с широченными плечами.
Рявкнув соседу, такому же крепышу, как сам он:
«Епифан, сдержишь меня за ноги? », парень упал на край
215
стены, схватил облепленную татарами лестницу и напряг
мускулы — сбросить ее назад. Двое верхних ударили
богатыря чеканами1 по шлему; тот лишь мотнул головой,
точно его укусили оводы. Могучее усилие — и лестница
качнулась и упала, убивая и калеча висящих на ней
людей.
Молодой богатырь и сам слетел бы с лестницей, если
бы Епифан не удержал его на стене.
Одобрительные крики приветствовали подвиг силача:
— Ай да Васютка! Ай да Дубае!
Василий Дубае и Епифан Бердяга бросились ко вто-
рой лестнице, опрокинули и ее. С третьей устрашенные
татары посыпались сами.
Приступ на этом участке был отбит. Шум битвы начал
стихать повсюду. Враги отступили, оставив под стенами
тысячи трупов.
Потери тулян были меньше, но при малой численно-
сти защитников имели серьезное значение. Раненых
унесли в город. Те, кто мог держаться на ногах, остались
на стене. Убитых сложили внизу, под стеной: если город
устоит, им устроят христианское погребение. Теперь
же, когда каждая рука на счету, мертвецы могли подо-
ждать: попы стояли в рядах защитников родной Тулы.
Провор Костюков, раненный в плечо стрелой, поте-
рял много крови. Хоть он и не оставил стену, но йе мог
больше руководить боем; приемником Провор назначил
Луку Сердитого. Белоглазый олончанин был доволен
полученным назначением.
Двух силачей — Василия Дубаса и Епифана Бердягу
— Лука решил сделать десятниками вместо выбывших
из боя. Парни предстали перед начальником со смущен-
но-гордыми лицами.
Скупо похвалив их, Лука сказал о новом назначении.
Епифан пошел к своему десятку, а Василий переминался
с ноги на ногу.
— Чего нейдешь?
— Нет моего согласия в десятники...
1 Чекан — топор на длинной рукоятке; обух его имел
форму молотка.
216
Лука рассвирепел:
— Вот дубина стоеросовая! Испугался?
— Не гожусь я в начальные люди, — стыдливо
усмехнулся Василий.
— Оставь его, Лука, — слабым голосом сказал
Провор. — Парень привык других слушаться.
— Ну, ступай! — отпустил Василия Сердитый. —
Видно, твое дело лестницы сбрасывать!
— А худо я их сбрасывал?
— Хорошо, хорошо! Ты сегодня татар десятка четыре
на тот свет отправил!
— А коль доживу до вечера, не то еще будет! —
похвалился Дубае и отправился в десяток Бердяги.
Было около полудня. Битва утихла. Противник соби-
рался с силами. Воевода Темкин и тульский владыка
обходили стены, ободряя воинов, обещая, что скоро
придет помощь.
Отдых был непродолжителен. Заревели турецкие
кулевринь!, каленые ядра понеслись за городские стены.
Девлет-Гирей решил поджечь Тулу, надеясь, что горо-
жане бросятся тушить дома и стены останутся без
защитников. Коварный расчет не оправдался: ни один
человек не оставил боевого поста.
Дома в городе пылали. Кое-где пожары тушили жен-
щины с помощью детей и дряхлых стариков. Там, где
все ушли на битву, огонь распространялся беспрепятст-
венно. Туляне с тревогой смотрели на гибель добра,
нажитого тяжелым трудом, но дух их оставался бодрым.
Через час начался новый приступ. Он был отбит, как
и первый.
Узнав силу русского оружия, татары подступали с
меньшим остервенением. Правда, и силы защитников
ослабели: теперь русские понесли более тяжелый урон.
На третий приступ хан Девлет-Гирей бросил отбор-
ное войско — султанских янычар, грозных противников
в рукопашном бою. Турки шли к стенам неспешно, без
криков, и вид их был ужасен: молодцы как на подбор,
рослые, сильные, в кольчугах и начищенных латах,
блестевших при свете низко спустившегося солнца.
217
Воевода Григорий Темкин понял: наступил решаю-
щий час битвы!
Он послал сзывать всех, кто еще оставался в городе.
На стены бежали женщины и подростки, вооружались
мечами и копьями убитых и тяжело раненных отцов,
мужей и братьев.
Шли на битву древние старики, десятилетия назад в
последний раз державшие оружие. Маленькие дети
раздували под котлами со смолой огонь, бросали в пламя
головни от сгоревших домов.
Бой был страшен. Янычарам удалось во многих мес-
тах взобраться на городские стены; но нигде не удалось
им одолеть живую стену защитников Тулы. Противники
дрались врукопашную: на близком расстоянии беспо-
лезны были пищали и луки. Сверкали мечи, кинжалы,
топоры; враги грызлись зубами. Два богатыря — Епифан
Бердяга и Василий Дубае — высказывали громадную
свою силу. Стоя плечом к плечу, они ломали врагов,
разбивали им голову дубинами с тяжелым шаром на
конце.
В схватке погиб Епифан Бердяга, проколотый мечом
великана-араба, турецкого тысячника в богатейшем во-
оружении. Разъяренный гибелью друга, Дубае почувст-
вовал необычный прилив силы: схватив врага, он поднял
его над головой, закрутил и швырнул со стены на голову
наступающих. Лука Сердитый с немногочисленными
остатками сотни воспользовался замешательством татар
и турок и сбросил их со стены.
Дорого обошелся бой тулянам: меньше половины
защитников осталось в строю, и все они были ранены —
исколоты пиками, порублены мечами, оцарапаны стре-
лами... Но неколебимо стояла русская* сила на стенах
города, и дрогнули татарские военачальники. Заиграли
во вражьем стане карнаи — боевые трубы, давая сигнал
к отступлению. Крымцы отошли от города.
»
Всю короткую летнюю ночь провели туляне на сте-
нах, боясь неожиданной атаки. В татаро-турецком стане
218
слышались только завывания женщин, оплакивавших
покойников.
А на заре в неприятельском лагере началось движе-
ние: владельцы шатров и кибиток поспешно грузили
имущество на скрипучие арбы. Вражья орда кинулась
на юг.
Взоры русских устремились на север, ища разгадки
нежданного бегства татар.
На севере, на краю небосвода, клубилась пыль,
розовая в лучах восходящего солнца: спешили на выруч-
ку русские полки.
— Наши! Наши! — раздались восторженные кри-
ки. — Бей недругов! В погоню!
Василий Дубае первым выбежал за городские воро-
та. Захватив вражеского скакуна, запутавшегося ногой
в поводьях, силач помчался за татарами свирепый и
страшный, размахивая дубиной.
Немногочисленные, но одушевленные воинственным
пылом русские дружины нагнали бегущих. Враги огры-
зались, но не хотели принять бой. В задних рядах татары
падали сотнями, а передние только ускоряли бег коней.
Турецкие пушкари бросили орудия, и огромные ку-
леврины стали боевой добычей русских; шатры, нагру-
женные на повозки, женщины, дети — все осталось
позади, крымские воины старались унести ноги.
Лука Сердитый и Василий Дубае скакали рядом. Лука
без промаха поражал врагов стрелами. На свою мет-
кость Дубае не надеялся и не взял лук; но кого настигала
его дубина, тому уж было не жить.
Впереди завиднелись два татарина на великолепных
конях, окруженные свитой. Они неслись во весь дух,
оглядываясь назад.
— Хан! Сам хан! — завопил Лука Сердитый, насте-
гивая коня.
Расстояние сокращалось. Лука пустил стрелу. Хан
Девлет-Гирей взмахнул раненой рукой: стрела пробила
ему запястье. Но в это мгновение пал конь Луки, не
вынеся скачки. Лука грохнулся наземь, вскочил и, бе-
шено ругаясь, стал пускать стрелу за стрелой.
219
Одна из стрел поразила коня ханского шурина. Вы-
сокий красивый татарин спрыгнул с лошади, выхватил
меч — защищаться. На него налетел с багровым от гнева
лицом Василий Дубае. Могучий удар — и татарский
вельможа рухнул с раздробленным черепом, а лошадь
Дубаса повалилась в агонии.
Девлет-Гирей и его спутники ускакали. Усталые,
измученные боями туляне отстали от бегущих врагов.
Но татары рано обрадовались спасению. На них
обрушился полк Правой Руки. В полку насчитывалось
пятнадцать тысяч воинов; турецко-татарские войска,
потерпевшие огромный урон в боях с тулянами, все-таки
были вдвое многочисленнее.
Но упавшие духом крымцы потерпели решительное
поражение на берегах реки Шивороны.
Были освобождены русские, пленные в набеге тата-
рами, захвачен еще остававшийся в ханском войске
обоз, взяты лошади, быки и странные для русских
животные — «вельблюды».
Один из пленников, приближенный хана, рассказал:
турецкий султан повелел хану Девлет-Гирею идти на
выручку угрожаемой Казани и уничтожить столицу
Руси — беззащитную Москву: Солиману донесли лазут-
чики, что русские войска уходят в далекий поход. Войдя
в русские пределы, Девлет-Гирей с разочарованием
узнал, что царь Иван близ Москвы, и хотел отступить,
но турецкие военачальники решительно воспротиви-
лись.
«Великий султан разгневается на тебя и на нас, —
говорили они. — Если мы хотим сохранить голову на
плечах, должны идти вперед. Возьмем хоть Тулу. Она
далеко от Москвы, за лесами...»
Заканчивая рассказ, пленник понурил голову:
— Рок ниспослал нам несчастье... Кто бы мог поду-
мать, что ваша Тула так сильна!
В последующие дни гонцы принесли радостную
весть; Девлет-Гирей бежит в Крым, делая по шестиде-
сяти-семидесяти верст в день. Путь хана отмечают
обглоданные волками кости загнанных лошадей.
220
В число гонцов, отправленных к царю с вестью о
победе, воевода Темкин включил Луку Сердитого и
Василия Дубаса. Они, как особо отличившиеся в боях,
должны были сами поведать царю о своих подвигах.
Но рассказывать пришлось одному Луке Сердитому.
Бывалый олончанин не потерялся: бойкой скороговор-
кой он доложил царю Ивану, окруженному боярами, о
делах своих и Дубаса. Пока продолжался рассказ, Ду-
бае упорно смотрел на носки своих огромных лаптей.
— Что ж молчишь, молодец? — весело спросил
Василия царь.
Дубае вскинул на царя Ивана глаза и опустил их,
охваченный робостью.
— Он у нас молчальник, великий государь, — вме-
шался Лука. — У него сила в руке, а не на языке!
— Чем вас наградить, ратники храбрые?
— Дозволь, государь, в твое ополчение поступить!
Хотим мы с Васькой неверную Казань громить!
— Дозволяю, дозволяю! Радостно мне таковое про-
шение слышать.
Сердитого и Дубаса взял в Большой полк воевода
Михаила Воротынский.
Глава VI
ПЕРВЫЙ ОТРЯД
Царские рати наголову разгромили крымцев. Теперь
можно было идти на Казань.
Царь Иван дал заслуженный отдых войскам: восемь
дней провели они в полевых станах под Коломной,
Каширой, Серпуховым.
Царь возвратился в Коломну и богатыми пирами
отпраздновал победу. В Москву отправлена была воен-
ная добыча: неприятельские пушки, знатные турки и
татары — пленники и невиданные звери «вельблюды».
Москва ликовала. Быстрый разгром южных орд, каза-
лось, предвещал скорую и легкую победу над казан-
цами.
221
В царской ставке разрабатывался порядок похода.
Вести всю рать одним путем представлялось царю и
воеводам делом невыгодным: трудно снабдить продо-
вольствием множество людей. Решили разбить войско
на три отряда.
Первым отрядом предводительствовал царь Иван. В
него вошли царская дружина, полк Левой Руки, Сторо-
жевой и Запасный полки. Большой полк, полк Правой
Руки, Ертоульный полк и другие должны были составить
второй отряд. В третий отряд входила осадная артилле-
рия. Путь ей предстоял по рекам на баржах; водой же
царь приказал везти казну.
Первые два отряда после марша в несколько сот
верст должны были соединиться в приволжских степях,
за Алатырем.
Первому отряду предназначался кружной путь к
Алатырю — через Владимир и Муром.
Полкам второго отряда, шедшим южнее, поставлена
была важная задача: охранять на походе русские грани-
цы от неожиданных нападений. Девлет-Гирей, хотя и раз-
битый, мог вновь послать на Русь войска: Крым был много-
люден, а султанская Турция располагала огромными воин-
скими резервами.
★ ★ ★
Русские полки выступили в дальний поход 3 июля
1552 года. Во Владимир прибыли 8 июля. Их встретило
радостное известие из Свияжска. Воеводы доносили:
цынга в городе прекратилась; войско с воодушевлением
ждет прихода главных сил, чтобы вместе двинуться под
Казань.
В Муром первый отряд вступил 13 июля и простоял
там неделю: рать готовилась к трудному переходу через
пустынные места.
Войскам устроен был смотр, проверено вооружение
и снаряжение. Людей каждого полка, побывавшего в
боях с крымской ордой, разделили на сотни, назначили
начальников из числа отличившихся бойцов.
Здесь осадный наряд, который везли до Мурома
сухопутьем вместе с первым отрядом, погрузили на
222
суда. Власть над стрельцами и пушкарями царь вручил
воеводе Петру Булгакову. За сохранностью пушек и
запасов пороха смотрел главный начальник артиллерии
дьяк Иван Выродков.
Из Мурома войско выступило 20 июля, держа путь
на юго-восток.
На пути к московскому войску присоединились ка-
симовские и темниковские князья с татарскими и мор-
довскими дружинами; русская армия становилась мно-
гонациональной, но все ее части были подчинены еди-
ной воле, все стремились к одной цели — сплотить
еще крепче русское государство и расширить его
пределы.
★ ★ ★
Пушечный наряд плыл по воде. Дорога предстояла
дальняя: по Оке до устья и дальше вниз, по великой
Волге. Путь по рекам был не утомителен, но скучен.
Лежа на палубе, Иван Выродков рассеянно смотрел
на уплывавшие берега. Пушкари варили обед, разложив
костер на земляной насыпи. За кормой баржи тянулись
блесны на крепких бечевах, и время от времени искус-
ный рыболов Кондратий выхватывал из воды судака или
щуку.
— Отплавала! — бормотал он, снимая с крючка трепе-
щущую рыбину, и вытаскивал из-за голенища ножик.
Белые чайки с криком носились над рекой, выхва-
тывая плотичек и пескариков. Свежо и прохладно бы-
ло на лодках. Когда дул попутный ветер, растягивали
паруса, и баржи бежали быстрее, рассекая холодно-
ватую свинцовую рябь.
Глава VII
СТЕПИ
Путь второго, более многочисленного отряда начи-
нался через Рязань и Мещору.
Немало военных новшеств придумали царь Иван и
его стратеги. Прежние походы проводились наспех,
223
без хорошей подготовки, и этим объяснялись их неу-
дачи.
Теперь дело повели крепко. Через дремучие леса
были прорублены длинные просеки — дороги. Это
потребовало от Голована и его строителей такой боль-
шой работы, что часто им в помощь давали значительные
отряды с топорами.
Часть строителей шла вперед, наводила паромные
переправы, через небольшие речки перекидывала проч-
ные мосты; при них ставились сильные караулы. Мало
того; царь Иван приказал заселить новую дорогу рус-
скими людьми.
Прекрасное устройство ямской гоньбы между рус-
скими городами, раскинутыми по огромному простран-
ству Восточной Европы, всегда поражало иностранцев.
Крестьяне, жившие вдоль больших дорог, обязаны были
поставлять лошадей для правительственных гонцов. Эта
повинность тяжело отзывалась на крестьянских хозяй-
ствах, особенно в летнее время, но за невыполнение ее
грозили тяжкие кары. И гонцы проезжали по двести
пятьдесят — триста верст в день — предел скорости в
те времена.
Новая дорога не должна была остаться пустынной, и
дьяки, сопровождавшие войско, немедленно принялись
за дело. Через каждые пять-десять верст удобные уча-
стки земли отводились бывшим при войске беспомест-
ным дворянам, и те посылали доверенных — скликать
людей.
Крестьяне пошли на новые места охотно: их на
несколько лет освобождали от всех повинностей, кроме
ямской гоньбы.
/
Остались позади сотни верст утомительного пути.
Войско шло по беспредельным степным далям. Вокруг
волновался седой ковыль, вверху раскинулось бледно-
голубое небо, и в нем черными точками кружили ястре-
ба.
Встречались на пути второго отряда развалины древ-
них городов. Рыжий бурьян да горькая полынь покры-
224
вали городские площади, на которых когда-то собира-
лись народные толпы по звону вечевого колокола...
Разведчики, опережавшие главные силы, въезжали
на верхушки курганов; конские копыта попирали моги-
лы давно забытых князей.
На целые версты растянулась московская рать. Те-
леги скрипели пронзительно и тонко.
Передовые сотни раздвигали грудью высокие увяда-
ющие травы: травяное колышущееся море ложилось на
землю под ногами пехоты, под конскими копытами. Где
утром прятались в веселом разнотравье сторожкие дро-
фы и шныряли перепелки, вечером степь напоминала
гладко примятый ток с кое-где торчащими былинками.
Замыкающим войско полковым обозникам приходилось
глотать пыль, сухую, едкую.
Огромная рать двигалась медленно. По ночам, теп-
лым и безоблачным, дым от многочисленных костров
затмевал небо.
За дорогу сдружились ратники Большого полка: быв-
шие скоморохи Нечай и Жук, лучник Лука Сердитый и
его простодушный товарищ Василий Дубае.
Когда Дубае пришел в сотню, ему выдали лук со
стрелами и кистень. Но стрелял он плохо, а кистень был
чересчур легок для его могучей руки.
— Какой же ты воин! — с укором говорил Дубасу
олончанин Лука. — Стрелять толком не научился! Али
на силу надеешься? Сила хороша, когда врукопашь
сойдешься. А сыздали и тура стрелой бьют...
— Да мне и стрелять-то отроду не приходилось. Ты
бы дядя Лука, поучил меня, чем ругаться!
— Поучить могу, только уговор: коли дело делать —
от дела не бегать!
Лука с усердием принялся обучать лучному искусст-
ву молодых ратников своей сотни. Трудно было прово-
дить учебу в походе. Но Лука нашел выход. Двигаясь по
выбитой земле за полком, он высылал вперед двух
быстроногих ребят. Те втыкали в землю пару кольев,
распяливали баранью шкуру — и цель готова.
225
8-769
Лука выстраивал молодых лучников, показывал, как
упираться в землю ногой, как натягивать тетиву и на-
кладывать стрелу. Учил определять направление ветра и
рассчитывать, куда стрелу отнесет.
Каждый ратник делал по выстрелу. Махальщики
условными знаками показывали попадания и промахи,
срывались с места и бежали вперед со шкурой и коль-
ями.
Стрелки спешили за ними, подбирали с земли стрелы
и метились снова...
К вечеру молодежь валилась от усталости, а охотник
Лука, сухой, жилистый, неутомимо шагал вперед, рас-
пекая учеников за слабость.
Василий Дубае изломал два лука и порвал несколько
тетив, прежде чем научился соразмерять огромную
свою силу. Но наконец дело пошло на лад. Каждым
удачным попаданием в цель Дубае так гордился, точно
ему удалось застрелить врага-татарина.
Другие ученики Луки опережали успехами непово-
ротливого Василия. Но смеяться над Дубасом было
опасно: он хватал двух-трех насмешников в охапку и
полушутя так подминал под себя, что у них кости
трещали.
Глядя на Луку Сердитого, и другие опытные лучники
начали учить молодежь. Уже не один маленький отряд
ратников шел вслед за главными силами, а стало таких
отрядов много.
Чуть заря начинала белеть на востоке, трубы будили
спящий стан. Шум и гомон далеко неслись по степи,
курившей утренним туманом. Ратники, наскоро поев,
собирали пожитки, становились в ряды и трогались в
путь. Впереди ехали воеводы на раскормленных конях,
украшенных дорогой сбруей. За ними везли распущен-
ные знамена.
Долго шли ратники под знойным солнцем. И когда
казалось, что силы уже иссякли, перед рядами Большого
полка, припрыгивая и раскачиваясь, появлялся Нечай,
барабаня двумя ложками задорнейшую плясовую.
226
— И-эх! — гикал он, и взбодренные пехотинцы
улыбались.
А Нечай заводил песню:
Ой, старая баба кашу варила,
Баба кашу варила, приговаривала!..
Ловкими коленцами Нечай показывал, как старуха
варит кашу, как мешает ее, Подвижное лицо его, обра-
щенное к воинам, делалось поразительно похожим на
старушечье, губы морщились и пришепетывали. Хохот
катился по рядам.
Ты ложись-ка, ложися зерно к зерну,
Чтоб скуснее было есть мужичонку мому!..
Старуха разглаживала зерна, а ноги плясуна выделы-
вали дробь, будто приколачивая что-то к земле. Веселье
росло, ширилось.
Мой мужик-от богатырь, изо всех ли хват,
Он и спереду горбат, он и сзаду горбат!
Смех раскатывался по полку, прогоняя усталость.
Слова песни передавались со смехом и прибаутками»
Куплеты рождались по вдохновению, все веселее и
забористее.
— Уж этот Нечай! Мертвого из могилы подымет
побасенками!
И воины бодрее шли вперед, а степь попрежнему рас-
стилалась вокруг торжественная и пустынная, и так же
маячили вдалеке курганы — могилы древних вождей.
Песни Нечая подхватывались, становились достояни-
ем народа.
По вечерам Лука Сердитый привязывался к какому-
нибудь парню:
— Эй ты, певун, кто песню выдумал?
— Нам то неведомо.
— Слышь-ка, Нечай, — жаловался краснолицый,
белоглазый Лука, — твою песню играет, а что ты ее
сложил, ему и невдомек.
— Мне-ка что, — равнодушно отвечал Нечай, погла-
живая жиденькую нечесаную бороденку. — Песня —
вольная птица! У меня вырвалась, над ней хозяина нет!
227
— Да ведь переиначивает!
— Не серчай, сват! Може, она краше да складнее
станет.
— Я б за такое башку сорвал! — сердился олончанин.
— Ну и дурак!..
За войском тянулись полковые обозы с продоволь-
ствием, одеждой, боевым припасом. Но войско шло по
изобильным местам и мало нуждалось в снабжении из
обоза. Реки и озера на пути кишели рыбой. Ратники
закидывали бредни и вытаскивали линей, карасей, оку-
ней... Из Большого полка отличался в рыбной ловле
Василий Дубае. Заплывая вглубь и загребая воду одной
рукой, он тянул край невода, на который надо было бы
поставить человек пять.
В лесах было много оленей, ланей, туров. Устроив
облаву, стрельцы пронзали дичь острыми стрелами.
Вокруг рати, предчувствуя богатую поживу, рыскали
стаи волков, летали орлы и коршуны. Хищные птицы
через день-два возвращались к гнездам, волки пресле-
довали войско неотступно.
Глава VIII
ПОД КАЗАНЬЮ
Двенадцатую ночь после выступления из Мурома
первый отряд провел на берегу быстрого, полноводного
Алатыря. Темниковский князь заранее навел мосты
через реку для переправы русского войска.
Горные люди, совсем недавно по доброй воле вошед-
шие в состав русского государства, честно выполняли
свой долг перед вновь обретенной отчизной.
Чуваши-проводники вели московскую рать, выбирая
наилучшие дороги. Во время стоянок чувашские женщи-
ны приносили русским воинам молоко, мясо, хлеб и
сердились, когда им предлагали плату за угощение. А
чувашский хлеб был так хорош, что ратникам, долго
питавшимся сухарями, он показался вкуснее москов-
ских калачей.
228
К передовому отряду строителей Голована выходили
на помощь чувашские плотники, показывали места, где
удобнее всего строить мосты и наводить переправы.
Чувашские дружины, вооруженные по преимущест-
ву луками, приходили к воеводам и просили принять их
в русское войско для борьбы с общим врагом. Воеводы
соглашались с радостью.
Помощь местного населения в далеком, тяжелом
походе была очень ценна для московской рати. Ведь
будь чуваши врагами, они — умелые воины и искусные
стрелки из лука, знавшие массу тайных убежищ в своей
полудикой стране, — могли бы наносить русским зна-
чительный урон и надолго задержать их продвижение
вперед.
3 августа первый отряд дошел до реки Суры. И здесь
во время трапезы в царский шатер ввели гонца с радо-
стной вестью:
— Полки Щенятева и других воевод тоже подошли
к Суре и ждут царских приказаний.
Царь послал полкам второго отряда распоряжение
переправляться через Суру. Встречу назначили на об-
ширном поле за Сурой-рекой.
4 августа, когда полки первого отряда расположи-
лись на отдых после переправы, вдали показались обла-
ка пыли.
— Наши идут!
Радостные возгласы подняли на ноги лагерь. Прило-
жив щитком руку ко лбу, люди жадно глядели вдаль,
стараясь увидеть подходившее войско. Наиболее пыл-
кие побежали навстречу, размахивая руками и крича:
— Берегись, татарин! Наши пришли!
Царю оседлали коня, и он выехал в сопровождении
воевод Ромодановского, Плещеева и пышной свиты из
рынд, боярских детей и нарядно одетых стрельцов
личной стражи. Посреди отряда развевалось распущен-
ное царское знамя.
Несколько гонцов понеслись во весь опор к подхо-
дившему войску — оповестить о приближении царя
Ивана Васильевича.
229
Ворота: 1 — Муралеевы; 2 — Елабугины; 3 — Збойлевы;
7 — Ногайские; 8 — Крымские;
4 — Кайбацкие; 5 — Арские; 6 — Царевы;
9 — Аталыковы; 10 — Тюменские;
Воевода Щенятев и другие начальники, сменив уста-
лых коней на свежих, поспешили навстречу предводи-
телю русского войска.
Два маленьких отряда съехались. Вновь прибывшие,
приветствуя царя, спешились и отдали поклоны такие
низкие, что пальцами правой руки подняли пыль с
иссохшей земли.
На берегу Суры поднялись сотни палаток, запылали
костры. В реке стало тесно от тысяч ратников, которые
шумно плескались в воде.
11 августа к русскому войску присоединились три
полка, вышедшие навстречу из Свияжска. Новое попол-
нение насчитывало до двадцати тысяч воинов.
Еще день похода — ратники увидели крутую свияж-
скую гору и на ней новый город, блиставший на солнце
стенами и сторожевыми башнями, еще не побуревшими
от зимних вьюг и летнего зноя.
Веселый звон колоколов и пушечная пальба встрети-
ли русское воинство у стен русской крепости, возве-
денной в сердце вражеской страны.
Царь осмотрел стены, склады боевых припасов, про-
шелся по улицам города, поднимался на башни... Все
было сделано добротно, по-хозяйски.
— Где стала русская нога, тут и стоять ей до веку, —
сказал царь, возвращаясь из города в походный шатер
на берегу Свияги.
В лагерь прибыли многочисленные купцы с товарами.
Гости из Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода и
других русских городов, предвидя богатую наживу,
прихлынули с обозами в Свияжск. Они знали, что там
произойдет сбор русских полков. А пока царь и воеводы
будут совещаться, как воевать, что делать ратникам?
Одно — пировать! Догадливые купцы навезли огромный
запас вина и крепкого меда. На длительный отдых
рассчитывали и ратники-дворяне; им слуги доставили из
поместий яства и пития.
Но любителям отдыха и пиров пришлось разочаро-
ваться. Царь после недолгого совета с приближенными
решил выступить под Казань. Дело клонилось к осени,
232
а русские хорошо знали, как неустойчива погода в
Среднем Поволжье.
Однако, прежде чем начинать военные действия,
царь Иван Васильевич сделал последнюю попытку кон-
чить дело миром.
— Кровь своих воинов проливать понапрасну не
хочу, — сказал царь, — за нее мне перед богом ответ
держать. Да и татарских людей зря губить не к чему.
В город были посланы мирные грамоты. Шиг-Алей
писал новому казанскому хану:
«Славному отпрыску могучего рода Гиреев, астра-
ханскому царевичу Едигеру-Магмету от полновластного
хана Казани Шах-Али-хана привет!
Судьба каждого человека от начала мира написана в
его книге, но люди, в своей лживой мудрости, склонны
нарушать веления рока. Какое безумное ослепление
заставляет тебя, гордый Едигер, возомнить себя равным
великому московскому падишаху, владения которого не
обскакать на лихом скакуне за трижды сорок лун1,
монарху, под знамена которого собираются воины со
всех четырех сторон света! Я знаю силы Казани, я знаю,
что ей не отразить натиск огромной рати урусов...
Смирись, Едигер! Участь нашего царства, давно пред-
сказанная мудрыми людьми, — стать московским уде-
лом. Без боязни явись в царский стан: государь Иван
Васильевич тебя помилует и окажет всяческое благово-
ление...».
Были отправлены письма к сеиду Кулшерифу, к
князьям Исламу и Кебяку и ко многим другим казанским
вельможам. Их уверяли, что московский царь желает
не гибели их, а раскаяния. И если они изъявят покор-
ность, то им сохранят и жизнь и имущество.
16 августа Волга под Свияжском ожила, покрылась
сотнями плотов, лодок — реюшек, бударок, косных.
Московское войско переправлялось на луговой берег
реки.
1 Сто двадцать месяцев.
233
Глава IX
ПЕРВЫЕ ДНИ
Русское войско закончило переправу через Волгу 19
августа. Путь по левому берегу реки до Казани был не
длинен, но труден. Татары сожгли мосты через реки,
разрушили гати на болотистых местах — дороги прихо-
дилось строить снова.
Точно с намерением помешать русским, полили до-,
жди — продолжались несколько дней подряд. Дороги
раскисли, покрылись невылазной грязью, и теперь не
отдельные их участки, а все сплошь приходилось мос-
тить бревнами. Русских эта задача не испугала: при
множестве рабочих рук, помогавших отряду строите-
лей, ее выполнили быстро.
20 августа Иван Васильевич наконец получил ответ
Едигера на предложение сдаться; этот ответ исключил
надежду на мирный исход дела.
«У нас все готово! Ждем вас на ратный пир!» —
писали казанцы.
Русское войско раскинуло лагерь на широком лугу
от Волги до Казани и Булака.
Основатели Казани выбрали хорошее место для го-
рода: его поставили на горе между двух топких, илистых
рек — Казанки и Булака. Сливаясь под городской
стеной к западу от Казани, эти две реки да возведенные
за ними стены трехсаженной толщины надежно защи-
щали город с трех сторон. Только с четвертой стороны,
восточной, с Арского поля, был открытый доступ к
городу. Зато здесь стояли семь стен из толстых дубовых
бревен, отступя одна от другой на сажень. Промежутки
заполнял песок и щебень. Получилась одна стена огром-
ной толщины и прочности. А у ее подножия проходил
глубокий ров.
При взгляде на могучие укрепления Казани станови-
лось ясно, что здесь лихим наскоком не возьмешь, что
потребуется продолжительная осада.
— Дело предстоит трудное, бояре! — сказал царь
Иван воеводам.
234
Вечером того же дня у стен Казани поднялся сильный
шум, слышны были выстрелы. Крики сражающихся
разносились далеко в вечернем воздухе. Из свалки
вырвалось несколько верховых; дико настегивая коней,
они скакали к нашим передовым постам.
— Али на нас скачут татары? — спросил Василий
Дубае, обращаясь к старшему в дозоре Луке Сердитому,
и на всякий случай приготовил дубину.
— Не трожь! — унял парня Лука. — Разве не
видишь — перебежчики!
Подскакав к русским, передний татарин, низенький,
с морщинистым лицом, на котором горели живые чер-
ные глаза, закричал по-русски:
— Эй, казак, не стреляй! Мы к вашему царю бежим!
Главарем перебежчиков оказался Камай-мурза.
Его отвели в царский шатер. Распластавшись на полу,
татарин повел рассказ. Он хотел вывести из Казани
сотни две сторонников. Камаю удалось пробиться за
стену, но тут пришлось выдержать схватку с отрядом,
охранявшим ворота снаружи.
— Вот и прибежал к тебе сам-восьмой, государь! —
закончил Камай-мурза, снял тюбетейку и вытер с бритой
головы крупные капли пота.
— Повезло тебе, нехристь! — проворчал князь Воро-
тынский, не любивший татар, даже сторонников Моск-
вы.
— За послугу я тебя, Камай, не оставлю, — молвил
царь, и перебежчик радостно встрепенулся. — Расска-
зывай, как у вас, в Казани?
— В Казани черному народу неохота воевать, да
сказать о том страшно. Кто слово молвит супротив
войны, тому кинжал в бок! Вот и притворяются люди,
что злы на Русь. Русь за стенами, а гиреевцы рядом...
Ну, и муллы тоже — райские сады сулят, кто за веру
сгинет...
— Запасов в Казани много?
— Много, много, государь! Пороху наготовили в
достатке, есть и пушки и пищали... И еще одно тайное
дело открою, как верный слуга твой, государь: оберегай
свое войско, на него засада спрятана...
235
Камай рассказал, что знаток военного дела хан Еди-
гер не запер все войско в городских стенах. В окрест-
ных лесах укрылась сильная рать — тридцать тысяч
отборных воинов под предводительством храброго ба-
тыра князя Япанчи. Эта рать будет нападать на русских
с тыла, беспокоить налетами и, не принимая решитель-
ного боя, наносить короткие, но сильные удары.
Царь отпустил Камая и тотчас собрал воевод.
С общего приговора установили расположение
войск вокруг осажденной Казани1.
Дружина царя осталась на Царевом лугу, близ Була-
ка, вытекающего из озера Кабан. Севернее стал Сторо-
жевой полк воеводы Василия Серебряного, а еще даль-
ше, при слиянии Булака с Казанкой, — полк Левой Руки
с воеводой Плещеевым. Князь Ромодановский с Запас-
ным полком расположился за тинистым Булаком, на
левом его берегу. Хан Шиг-Алей с касимовскими и
темниковскими татарами занял берег озера Кабан. Все
эти силы преграждали казанцам путь к Волге, на запад.
С востока стал на обширном Арском поле Большой
полк Воротынского и Ертоульный полк Троекурова.
С севера сторожил город полк Правой Руки Андрея
Курбского и Петра Щенятева.
Город обложили надежно — трудно было в него и
одиночке пробраться; а о приходе подкреплений нечего
и думать.
За долгие дни похода царь Иван Васильевич основа-
тельно обдумал план осады. Вести дело по старинке
молодой полководец не хотел. Он твердо решил, что не
уйдет из-под Казани без победы.
Воеводы получили приказ: каждый воин должен
приготовить бревно для тына1 2 — защищаться от вражь-
их стрел и пуль. Каждый десяток обязан сплести туру —
передвижное укрепление их хвороста, наполненное
землей.
Воеводы поеживались, выслушивая распоряжения,
сулившие много хлопот. Но царь удивил их еще больше.
1 См. карту на стр. 226 — 227.
2 Тын — высокий частокол из заостренных сверху бревен.
236
Он ввел новый порядок боя: ни один воин не должен
бросаться на врага без воеводского приказа и ни один
воевода не смеет поднимать полк без царского повеле-
ния. Таким приказом Иван Васильевич положил конец
беспорядку прежних войн, когда каждый воевода делал
в битве что хотел.
★ ★ ★
В одну из ночей разразился ураган. Царский, крытый
серебряной парчой шатер сорвало и унесло невесть
куда. На Волге свирепые валы затопляли берега, круши-
ли лодки с хлебными и огнестрельными припасами и
многие из них потопили.
Робкие потеряли голову и подумывали об отступле-
нии. Нашлись злопыхатели, предвещавшие еще более
страшные бедствия.
— Погубят нас казанцы злым чарованьем! Уж и
стихии ополчились на воинство русское! Сие еще мило-
стиво, что только ветр, и гроза, и молонья! А скоро
низведут на нас бесовские силы глад, и мор, и трус1, и
останутся кости русские в незнаемой басурманской
глуши...
В числе воевод, советовавших царю уйти из-под
Казани, хотя осада продолжалась всего три дня, оказал-
ся и Курбский.
Потомок ярославских князей, богатейший вельможа
древнего рода, Андрей Курбский люто ненавидел царя
Ивана. Московские князья представлялись ему похити-
телями той власти над государством, которая, по мне-
нию Курбского, должна была принадлежать ярослав-
ским князьям. Но свою ненависть Курбский глубоко
прятал под личиной дружбы, и все те злобные и желч-
ные слова, которые хотел бы князь Андрей бросить в
лицо царю, до поры до времени таились на страницах
его дневника. Они стали известны много лет спустя,
когда Курбский изменил родине и сбежал к врагам, в
Литву.
Пока Курбский довольствовался тем, что давал Ива-
1 Голод, заразные болезни, землетрясения.
237
ну советы, исполнение которых повредило бы планам и
намерениям Ивана Васильевича.
Явившись к царю утром после бури, Курбский нари-
совал ему такую ужасную картину бедствий, которые
якобы ожидают русское войско под Казанью, что Иван
Васильевич, сначала слушавший воеводу со вниманием,
невольно рассмеялся:
— Эк, бедняга, как тебя ночная буря перепугала! Что
ж, ежели так страшно тебе оставаться под Казанью,
езжай на Русь, в свои поместья, я тебя здесь держать
не буду. И чтоб тебя, сохрани боже, дорогой кто не
обидел, крепкую охрану дам, — ядовито добавил царь.
Лицо князя Андрея побагровело от стыда и сдержан-
ной ярости.
— Я это не к тому говорю, государь, — дрожащим
голосом сказал Курбский, — что за себя боюсь: я твою
драгоценную особу хочу предохранить от несчастья.
— Ты о моей драгоценной особе не беспокойся, —
насмешливо возразил Иван Васильевич, — я о ней сам
пекусь сколько подобает.
Курбский всегда вспоминал об этом разговоре с
чувством унижения и бессильного гнева. Не забыл о нем
и Иван, и когда он впоследствии отвечал Курбскому на
его широковещательные эпистолии1, присылаемые из
Литвы, он гневно напоминал князю о его малодушии под
Казанью.
Отвергнув советы прекратить осаду, царь Иван ре-
шил действовать твердо. Послал в Свияжск и в Мос-
кву за новым припасом, а сам находился при войске
неотлучно и теснил татар все крепче.
★ ★ ★
Первые дни осады прошли в пробе сил. 23 августа
татары устроили вылазку большими силами — до пят-
надцати тысяч воинов выбежали из Крымских, Аталы-
ковых, Тюменских ворот. Они напали на семитысячный
отряд русских стрельцов и казаков, которые огибали
город, направляясь на Арское поле.
1 Эпистолия (греч.) — письмо, послание.
238
Завязалась упорная сеча. Двойное превосходство
татар не помогло им. Стрельцы и казаки многих татар
побили, несколько сот взяли в плен. Остальные бежали.
С этого времени дня не проходило без жестоких
боев.
Татары выходили из города крупными силами и
старались оттеснить русских подальше от стен Казани.
Воины Япанчи беспокоили царскую рать частыми набе-
гами с тыла, как и предупреждал Камай-мурза. Внезапно
вылетев из леса, татары нападали на русские заставы,
рубили людей, старались наделать переполоху. Всадни-
ки Япанчи истребляли отряды, посылаемые в окрест-
ность за продовольствием и сеном. Но, как только
против них выступал целый полк, они поворачивали
маленьких быстрых лошадок и скрывались в непролаз-
ных чащах за Арским полем, где им ведомы были тайные
тропы и поляны.
Осаждающие, несмотря на татарские вылазки, про-
двигались ближе и ближе к городу, ставили высокие
тыны, перекатывали туры и тарасы1. Но с отрядом
Япанчи надо было покончить: слишком вредил он рус-
скому войску.
Глава X
БИТВА НА АРСКОМ ПОЛЕ
Арское поле, окаймленное лесами и рощами, рассти-
лалось на восток от Казани.
Близ Казанки-реки, в обширной роще, затаился отряд
воеводы Юрия Ивановича Шемякина — конница, пешие
стрельцы, мордва.
На совете воевод решили устроить Япанче ловушку.
На воеводу Горбатого-Шуйского возложили задачу
вступить в бой и, притворно отступая, заманить татар,
чтобы спрятанный в лесу отряд Шемякина мог отрезать
им отступление.
1 Тарасы — срубы из бревен, заполненные землей; служи-
ли хорошей защитой от пищального и даже пушечного огня.
239
Пехота расположилась на опушке. Всадники прята-
лись дальше; стоя около коней, они готовы были по
сигналу вскочить в седла.
На дубу устроился дозорный: он смотрел то на
обширное поле, то в сторону города.
Ветер налетел порывом, зашелестел листвой. Воины
испуганно привскочили — им показалось, что подана
тревога. Но все было спокойно.
Стрельцы говорили о страшном утомлении, о бессон-
ных ночах, о плохой пище... Они не жаловались на
тяготы осады, но всем хотелось, чтобы она кончилась
поскорее.
Вдруг донесся крик дозорного:
— Вышли татары! Вышли!.. С нашими бьются!..
Все пришло в движение. Пешие стали в ряды, кон-
ница готовилась вылететь из леса. Нетерпеливое ожи-
дание овладело всеми. Иной без нужды сгибал и разги-
бал лук, другой зачем-то пересчитывал стрелы, третьему
занадобилось чистить саблю, и он втыкал ее в землю у
своих ног.
— Ну, что там? Как? Да говори же! — неслись к
дозорному взволнованные голоса.
А он время от времени кричал:
— Бьются!.. Отступают наши!.. Остановились... Снова
отходят!..
И вдруг раздался дикий, отчаянный рев его:
— Побежали! Наши побежали!
Отступление русских было притворное, и это знали
сидевшие в засаде. И тем не менее им казалось, что на
Арском поле происходит непоправимое, что наши гиб-
нут под натиском татарского войска.
Все рвались в бой: и начальные люди и простые
ратники. Но воевода Шемякин, опытный воин, сдержи-
вал общее нетерпение.
— Спешить неможно, надобно выждать! — говорил
он. — В тыл ударить нехристям, чтоб ни один не ушел!
И время настало.
В лесу запели боевые трубы. Таким неожиданным и
непонятным был этот звук, что в первые мгновения
240
конники Япанчи ничего не поняли. Но недолго им при-
шлось теряться в догадках.
Сотня за сотней вылетали русские всадники из леса;
на поднятых саблях искрилось солнце, грозно колыха-
лись копья. Лошади неслись бешено, из-под копыт
вылетали комки грязи и ударяли в разгоряченные, крас-
ные лица воинов...
За конницей скорым шагом двигались пешие колон-
ны; плотными рядами, плечом к плечу, спешили они на
поле боя.
Крик огласил поле: русские полки вызывали врага на
бой. Им ответил дикий рев татарского войска. Равнина
была наполнена конниками Япанчи, которые в неудер-
жимом порыве еще продолжали преследовать полк
Горбатого.
Появление русских из засады изменило картину боя.
Задние ряды татар сделали полоборота и бросились
навстречу шемякинской коннице.
Воевода Шемякин скакал впереди своих рядов;
стальная броня и высокий шлем со спущенным забралом
защищали его от неприятельских стрел. Рядом с ним
держался богатырь-телохранитель, готовый защитить
воеводу в опасную минуту.
— Как куроптей1, накроем сетью! — громовым голо-
сом прокричал телохранитель.
Из-под спущенного забрала скорее уловил, чем ус-
лышал ответ:
— Их голыми руками не возьмешь!
Ряды противников сближались быстро. Ветер сви-
стел в ушах скакавших всадников. Ободряя своих,
перед татарскими полками неслись сотники и пятиде-
сятники. До русских доносился гортанный боевой клич
на самых высоких нотах, какие доступны человеческо-
му голосу.
Поднимая коней на дыбы, сшиблись с треском и
грохотом. Стук мечей, бердышей, удары щитов о щиты,
храп лошадей, крики и стоны...
1 Куропти — куропатки.
241
Воины, сбитые с коней, поражали стрелами неприя-
тельских всадников и лошадей.
Полки Горбатого-Шуйского прекратили притворное
бегство и повернулись лицом к противнику. Татары
оказались в кольце. Теперь только не дать врагу про-
рваться и спастись в лесах!
Воины Япанчи поняли опасность, однако не растеря-
лись. Яростно набрасывались они на русских. Но кому
удавалось пробиться сквозь цепь конников, тот натал-
кивался на пехоту, встречавшую татар ливнем стрел.
Всадники валились с седел, кони с диким ржаньем
носились по полю, увеличивая сумятицу боя.
Силач Филимон и казак Ничипор Пройдисвит руби-
лись рядом, плечо к плечу, стремя в стремя. Филимон
рубил татар тяжелым бердышом. Кто увертывался, того
настигала сабля Ничипора. Они вдвоем рассекали татар-
ские ряды, расчищая дорогу русским ратникам.
Великан — хранитель Шемякина — в сумятице боя
потерял воеводу. С победным кличем: «Жива Русь, жива
душа моя!» — он рассыпал удары направо и налево.
Япанча метался по полю сражения, пытаясь навести
порядок среди своих смятенных полков.
Телохранитель воеводы налетел на Япанчу с огром-
ным мечом, поднятым над головой.
242
— Алла, алла! — Япанча с гортанным визгом нанес
противнику страшный удар ятаганом.
Татарский ятаган налетел на русскую закаленную
сталь и со звоном разлетелся...
Гибель Япанчи довершила расстройство татар. Их
охватил страх. Они не держали уже боевого строя и
только старались прорваться сквозь русские полки. Не
многим удалось достигнуть лесной чащи — почти все
погибли под ударами мечей, от стрел и пуль.
Истомленные, перепуганные татары бросали оружие
и сдавались. Среди порубленных татар мало было кра-
шеных бород. Пытать боевое счастье с Япанчой вышла
в поле молодежь. Эта молодежь лежала на широком
поле с разрубленными головами, со стрелами в груди, в
боку...
Набегам Япанчи пришел конец. Из многих тысяч
татарского войска, погнавшихся за полком Горбатого,
осталось триста сорок человек, сдавшихся в плен.
Не дешево и русским обошлась победа. Память об
Арской битве сохранила песня:
Казань град на горе стоит,
Казаночка-речка кровава течет.
Мелки ключики — горючи слезы,
По лугам-лугам — все волосы.
По крутым горам — все головы
Молодецкие, все стрелецкие...
Глава XI
НИКИТА БУЛАТ В ТЮРЬМЕ
После разгрома Япанчи1 положение осажденной Ка-
зани сильно ухудшилось. Конники Япанчи уже не нале-
тали на русских с тыла. Зато усилился отпор татарского
войска, засевшего в городе.
Татары делали ожесточенные вылазки большими си-
лами, вступали с московскими стрельцами и казаками в
рукопашный бой. Отбитые, они скрывались ненадолго и
появлялись, подкрепленные новыми бойцами.
1 30 августа 1552 года.
243
Русские пушки беспрестанно били по городским
стенам и воротам; огонь стрелецких пищалей не давал
татарам сосредоточиться на стенах.
Голоса человеческого не слышно было от грома
пушек, от треска пищалей. Ратники передавали прика-
зания воевод знаками или кричали, приложив губы к уху
товарища.
Наконец татарское сопротивление ослабело. Бояр-
ские дети, казаки и стрельцы заняли рвы и продолжали
усиленную стрельбу по стенам из луков и пищалей.
Михайло Воротынский утвердил туры на расстоянии
всего пятидесяти саженей от городских стен.
За турами и во рвах — повсюду прятались от обстре-
ла русские воины. На стенах лежали татарские лучники
и стрелки из пищалей. Противники зорко следили друг
за другом, и только ночь давала московским ратникам
возможность сменять посты.
w ★ ★
Разорив посады и укрепившись под самыми стенами,
русские продолжали бить по городу из тяжелых пушек.
Стены терпели малый ущерб; зато ядра, перебрасы-
ваемые через стены, разрушали и поджигали дома. Дым
от пожаров носился тучами, застилая солнце, не давая
защитникам города свободно дышать.
От русского обстрела больше всего страдали укрыв-
шиеся в городе жители посадов и ближайших сел.
Перед приходом русского войска хан Едигер разослал
по окрестностям Казани землю и воду. Это означало,
что отказавшиеся воевать с русскими будут лишены и
земли и воды. Не осмеливаясь противиться приказу, на
зов Едигера явились тысячи татар, марийцев, арских
чувашей. Они раскинули войлочные кибитки на каждом
свободном клочке земли. Около кибиток задымились,
запахли едким кизяком1 костры, закопошились полуго-
лые бронзовые ребятишки. В тесном городе стало еще
1 Кизяк — топливо из сушеного навоза, смешанного с
соломой.
244
теснее. Меднобородые домовладельцы приходили к ка-
диям и муллам жаловаться на пришельцев:
— Лазают по садам, яблоки обобрали, деревья на
дрова рубят!
— Терпите, — отвечали кадии. — Это защитники
города.
Теперь этим защитникам приходилось тяжко. Кале-
ные русские ядра зажигали их легкие жилища. Лишен-
ные крова пытались ворваться в дома богачей, но при-
вратники их прогоняли. Погибающая от голода и холода
беднота с радостью покинула бы город, если бы это
было возможно.
★ ★ ★
Хатыча явилась в каморку Булата послом от Джафа-
ра-мирзы. Старый зодчий стоял перед ней маленький,
истощавший. Но синие глаза попрежнему смотрели
решительно.
Хатыча уговаривала старика:
— Образумься! Али тебе жизнь не мила? Сгинешь
за упорство!
— Сгину, а своих не выдам!
— Эх, Никита, досупротивничаешь до беды! Царю
Ивану Казань не взять, уйдет восвояси...
-— Того не будет! — гневно вскричал Булат. — Поди
прочь, змея!
Никиту вызвал управитель. Маленький горбун набро-
сился на старика:
— Проклятый раб! Осмеливаешься противиться при-
казу самого Музафара-муллы!
Джафар ударил Никиту по лицу. Старик покачнулся:
— Смерти не боюсь!
— Врешь, хитрый старик! Убивать не стану, нам
знающий строитель нужен. Мы тебя заставим работать!
— Несбыточное дело! — твердо возразил Булат. —
Противу своих не пойду!
— В зиндан его!
Никиту, избитого, бросили в подземную тюрьму.
Сторожить поставили кривого чуваша Ахвана.
245
Вечером к зиндану пробралась Дуня. Худощавый,
обтрепанный Ахван зашептал сердито:
— Эй, девка, зачем пришла? Мне из-за тебя голову
долой!
Дуня протянула Ахвану монетку. Чуваш отрицатель-
но покачал головой:
— Ай-ай, щедрая девка, знаешь, чем бедного неволь-
ника ублаготворить! Только я у тебя деньги не возьму.
Говори скорее: что надо?
Девушка быстро заговорила:
— Я знаю, тебе приказано дедыньку бить и голодом
морить. А ты не бей... и вот... отдашь ему! — Она сунула
Ахвану узелок с едой.
— Ой-ой! — сморщился сторож. — Узнает Джафар-
мирза...
— А как он узнает? Ты скажешь, или я скажу, или
дедушка скажет?
— Хо-хо! Хитрая девка!.. Наверно, догадалась, что я
татарам подневольный слуга...
На гнилую солому к ногам Никиты упал узелок с
хлебом и сушеными фруктами. Удивленный пленник
посмотрел вверх. Оттуда сверкал единственный глаз
Ахвана.
— Ешь, внучка принесла! Платок спрячь...
Управитель часто наведывался в темницу.
— Поддается урус? — спрашивал он Ахвана.
— Нет, мирза. Старик, как кремень, крепкий. Я его
бил-бил, руки отколотил!
— Голодом моришь?
— Морю, мирза! Даю хлеба, сколько ты приказал:
одну крошку. Может, совсем не давать?
— Тогда сдохнет! Я его переупрямлю: пойдет к нам
стены крепить!
Иногда управитель сам спускался в подвал, хлестал
Никиту плетью; тот молчал, стиснув зубы. Разозленный
Джафар убегал, а чуваш, ухмыляясь, мазал раны старика
бараньим салом.
Когда Дуня, улучив время, прибегала к Булату, он
говорил скорбно:
246
— Ох, дочка, наживешь со мной беды! Лих, все наши
дела откроются — плохо тебе придется.
— Ничего, дедынька! Я проворная, я тут все уголки
знаю. Спрячусь!
— Уходи, уходи, девка! — вмешивался кривой Ахван.
— Оно хоть в руках аллаха, но и божьему терпению
бывает конец.
Дни проходили за днями, а тюрьма не смогла сло-
мить упорства Булата. Он был крепок, как сталь, имя
которой носил Никита.
Глава XII
ТАЙНИК
Русские отрезали татарам доступ к речке Казанке,
но те не терпели недостатка в воде.
Осаждающим удалось узнать от перебежчиков, что
в левом берегу Казанки выкопан тайник: каменный свод
над родником, вытекающим из ската горы и впадающим
в речку. К роднику вел под городской стеной подземный
ход из Муралеевой башни.
Царь, обрадованный важным известием, приказал
подрыться под тайник и взорвать его.
Выродков призвал начальника строителей Голована
и приказал:
— Будешь подкапываться под водяной тайник. Нам
каждый день и час дорог. Наказ тебе, Андрей, один:
людей бери сколько хочешь, а работу сделать быстро!
Осматривать местность пошли трое: Голован, Аким
Груздь и казак Филимон, накануне лишившийся коня в
битве с Япанчой.
Андрей шел и смотрел на волосатое разбойничье
лицо Филимона: в нем чудилось что-то знакомое. У
Голована была необыкновенная память художника на
лица: кого он хоть раз видел, никогда не забывал.
Перебирая воспоминания, Голован радостно вздрог-
нул: перед его глазами встал жаркий день, тополевый
пух, как снег летящий в воздухе, черное воронье над
облезлыми луковками церквей Спасо-Мирожского мо-
247
настыря и два монаха, поносящие друг друга скверными
словами...
— Отец Феропонт! — крикнул он внезапно.
— Ась? — испуганно отозвался казак, потом опом-
нился: — Это ты мне? Меня Филимоном кличут.
Голован насмешливо улыбнулся:
— Забыл отца Паисия, кружку, из коей серебро
пропало?
Беглый монах зашептал умоляюще:
— Молчи! Меня в монастырь упрячут! А мне охота
с неверными подраться...
— Не выдам. Как в войско попал?
— Долгая песня, — пробурчал мужик. — Как сбег я
из чернецов, пришлось разное испытать... Дивлюсь, как
признал меня?
— Яс каменщиками был, когда тебя собирались на
чепь посадить.
— Ну и память! Ты, сделай милость, кличь, как все,
Филимоном. Меня так до монашества звали... А ты,
добрый человек, — поклонился он Акиму, — тоже
попридержи язык.
— Мне болтать не к чему, — отозвался Груздь.
За разговорами подошли к месту, где находился под
землей водяной тайник. Голован убедился, что удобнее
начинать подкоп из каменного здания, занятого казака-
ми. Это была торговая баня.
— Из мыльни начнем подкоп, — доложил строитель
Выродкову. — Земля окрест размокла от непрестанно-
го тока воды из мыльни. Изнутри станем копать, а
землю выносить через задние двери. Со стен не видно
будет.
Иван Григорьевич Выродков одобрил предложение
Голована, и работа началась. Десятки полуголых людей
работали и днем и ночью, сменяя друг друга по четыре
раза в сутки. Землю раскидывали по ночам, и татарские
дозорные ничего не подозревали. Доски и бревна для
крепления подкопа подносили тоже по ночам и прятали
в здании бани.
3 сентября Голован доложил Выродкову, что работа
248
окончена. По царскому приказу, князь Василий Сереб-
ряный отправился проверить донесение.
Тучный князь, пыхтя от усилий, спустился в подкоп.
Дорогую шубу испачкал о грязные подпорки.
— Оставил бы шубу наверху, князь, — посоветовал
Голован.
— Мне без шубы ходить по моему сану не приста-
ло, — отвечал с досадой князь. — И ты об моих шубах
не тужи — у меня их привезено достаточно!
— Воля твоя, боярин! *
Филимон и Аким, светившие князю факелами, на-
смешливо переглянулись.
Над головой послышались шум и тарахтенье.
— Что это? — громко спросил Серебряный.
— Тише, князь! Это татары везут воду на таратайках.
Все прислушались. Сверху доносились неясные зву-
ки голосов. Боярин и его спутники повернули обратно.
В подкоп было заложено одиннадцать бочек пороха.
А А А
В ночь на 4 сентября за мыльней и в самом здании
спрятались отряды стрельцов и казаков. На рассвете
осмотрели оружие, подготовились к бою.
Князь Василий Серебряный принял из рук Голована
огонь, поджег бечевку, натертую порохом, и синяя
змейка, извиваясь, побежала внутрь подкопа.
— Выбегайте из мыльни! — закричал Голован.
Тесня друг друга, бросились к выходу.
Едва успели укрыться в безопасном месте, как взрыв
потряс воздух. На месте, где кончался подкоп, взвился
огромный столб из земли, камней, бревен... Глазам
изумленных русских представилась лошадь, вместе с
водовозкой выброшенная силой взрыва и бившая по
воздуху ногами.
От Муралеевой башни отвалился громадный кусок и
с шумом ударился о землю. Из города донесся вой:
множество татар погибли от камней и бревен, валивших-
ся на них с высоты.
Еще пыль не улеглась, еще не опомнились казанцы
249
от внезапного страха, как русские пошли на приступ.
Стреляя из луков они ворвались в пролом, смяли защит-
ников стены и пошли по улицам, вглубь города. Навстре-
чу им спешили толпы воинов Едигера. Их вел суровый
Кебяк. Закипела битва...
Русские отошли: решительный штурм города не вхо-
дил в их намерения.
Казань лишилась питьевой воды. Только в ханском
дворце, в саду у Кулшерифа-муллы и в усадьбах немно-
гих вельмож имелись колодцы с доброкачественной
водой; но они были не для бедноты. Жажда и заразные
болезни валили простой народ сотнями.
Кулшериф-мулла от немногих оставшихся ему вер-
ными слуг узнавал о страданиях и лишениях казанцев.
Сеид давно уже считал сопротивление бесполезным; он
понимал, что Казань обречена, а сотни и тысячи челове-
ческих жертв напрасны.
Кулшериф-мулла отправился к хану Едигеру и долго
говорил с ним наедине. Содержание разговора осталось
втайне, но любопытные придворные заметили, что пер-
восвященник вышел от Едигера необычайно мрачный, с
судорожно подергивающимся лицом. И сейчас же вслед
за этим хан вызвал Музафара-муллу.
Совещание Едигера с сыном сеида было продолжи-
тельным, и когда Музафар покидал дворец, его глаза
горели скрытым торжеством.
Предсказатели, в которых нет недостатка при любом
дворе, шушукались втихомолку:
— Произойдут важные перемены!
И перемены действительно произошли.
Возвратившись во дворец, Музафар-мулла вызвал
управителя. Достав из тайника флакон с ядом, Музафар
показал его Джафару-мирзе:
— Знаешь ли, что это такое?
— Знаю, эфенди!
Безобразное лицо горбуна искривилось наглой ус-
мешкой, и он достал из складок одежды точно такой же
флакон, а на его пальце появился дорогой перстень с
250
таинственными знаками — печать, дающая право писать
тайные послания турецкому султану.
— Так это ты должен был стать моим палачом, если
бы я не выполнил повелений Солимана? — с невольной
дрожью в голосе воскликнул Музафар-мулла.
— Я, эфенди!.. Но, как видишь, до этого дело не
дошло, и я понимаю, что мы должны выполнить иной
приговор...
— Ты не ошибся... — Музафар низко опустил голову.
Через неделю народу было объявлено, что волею
всемогущего аллаха Кулшериф-мулла скончался и на
первосвященнический престол вступил его сын Муза-
фар-мулла. Осада города помешала отметить это важ-
ное событие торжественными праздниками и пирами,
как это было в обычае.
Глава XIII
НОЧНОЙ ПОИСК
Непогожая осень выдалась в год похода на Казань.
Сентябрь подходил к концу, сея проливными дождя-
ми, одевая землю туманами, пронзительно дыша холод-
ными ветрами, прилетавшими из северных пустынь.
Русским ратникам негде было обогреться, осушиться,
по неделям ходили они в мокрой одежде...
Спускался вечер. Серые клочья тумана бродили над
болотами. Под стенами города не было такого много-
людства, как днем. Царь Иван ввел в войске новшество:
чтобы уменьшить потери от неприятельского огня, он
оставлял у города самое необходимое число ратников,
а остальных отводили в безопасные места.
Головы и начальники расставили ночную стражу,
отдали строгий приказ:
— Стоять смирнехонько, песен не орать, на кулачки
не биться, зернью1 не играть!
У костра сидели Нечай, Демид Жук и их товарищи.
1 Зернь — азартная игра вроде игры в кости.
251
Все они уцелели в боях, только Луке Сердитому стрела
поцарапала руку, когда он увлекся перебранкой с татара-
ми и вылез из-за прикрытия. К их кружку примкнул еще
украинец Ничипор Пройдисвит: в коннице не было на-
добности, и сотни временно слили с пешими ратниками.
Чубатый Ничипор расположился у маленького кост-
ра. Его высокая барашковая шапка валялась в стороне;
казак зашивал разодранные шаровары.
Нечай с Жуком начали устраиваться на ночлег.
— Эх, и соскучился я по избяному теплу! — бормотал
Нечай. — Еще ладно, что сплю на рядне, покрываюсь
рядном, под головою рядно...
Дубае простодушно спросил:
— Где ты столько набрал? Дай хоть одно!
Нечай рассмеялся:
— Да у нас и всего-то одно!.. Ладно, парень, лезь к
нам, теплее будет.
Из темноты вынырнул Лука Сердитый, ходивший
проверять дозоры.
— У нас еще не повалились? — спросил он.
— Укладываемся, — отвечал за всех Нечай.
Подошел стрелецкий голова:
— Ложитесь? Добро: сосните до полуночи. Вам
отдохнуть надобно — сею ночью пойдете татаришек
пошарить.
— Оце гарно!1 — восхитился Ничипор, накладывая
последние стежки на свои широкие штаны.
Через час после полуночи стрельцы закопошились:
шли сборы. Голова давал Луке Сердитому последние
наказы:
— Гляди, чтоб у тебя ходили круче! Языка как хотите,
а должны приволочь!
— Достанем! — отвечал олончанин, польщенный, что
его назначили старшим. — Нельзя только на небо
влезть... А где у меня Нечай?
— Стою перед тобой, как лист перед травой! —
откликнулся из темноты Нечай.
1 Это хорошо! (укр.).
252
— Кто из вас пойдет со мной: ты али Жук?
— Обое1 пойдем!
— Не возьму обоих: шум подымете. Забыл, как
позапрошлую ночь на дозоре стфючи, до того раскрича-
лись, что весь стан взбудили и за то отодраны были
нещадно?
— Так то ж не я!
— А кто?
— Да все Демид! Ему слово, а он два! Ему два, а он
десять!
— Хо-хо-хо! Это Демид-то десять?
Нечай понял, что хватил через край.
— Лука! Возьми обоих: мы друг без дружки никуда!
Белоглазый Лука смягчился:
— Ладно... Только чтобы ни гу-гу! Мне за вас ответ
держать... Дубаса взбудили?
— Здесь Дубае! — отозвался парень.
— Все готовы? — спросил голова.
— У нас сборы короткие, — ответил Лука.
— В путь! Держитесь опасно, а мы, ежели что,
грянем на подмогу! — Голова шепнул Луке тайное слово
для обратного прохода.
Ратники разобрали вооружение: топоры, рогатины,
кистени. Василий Дубае, считая обычное оружие пустя-
ком, раздобыл толстый дубовый кол.
Лука вел отряд по узким деревянным мосткам, ос-
тальные ступали за ним след в след: кто срывался —
угрязал выше колен в липкую грязь. Мостки для пеше-
ходов пролегали по русскому стану во всех направле-
ниях.
Миновали последнюю цепь дозорных: дальше шла
полоса, простреливаемая днем со стен. Мостки кончи-
лись, идти стало труднее, грязь захватывала ноги и
чавкала, когда их вытаскивали. Звук казался разведчи-
кам настолько громким, что они удивлялись, как его не
слышат татары.
Русские знали: у внешнего края крепостных стен
казанцы установили тарасы — огромные ящики, напол-
1 Обое — оба.
253
ненные землей. За тарасами скрывались от русских пуль
и стрел татарские передовые посты. Пощупать такой
пост и направлялись разведчики. Впереди шел острогла-
зый паренек, зорко присматриваясь к кочкам и буграм.
Враг скрывался поблизости.
Шли десять или пятнадцать минут, но воинам каза-
лось, что время остановилось, что бредут они без конца,
с усилием освобождая ноги из липкой грязи и смутно
различая идущих рядом.
— Алла, алла! — раздались неистовые крики.
Татарский караул!
— Бей без жалости! — свирепо рявкнул голосистый
Лука.
Закипел ожесточенный бой. Темнота не долго скры-
вала сражающихся. Казанцы, не охотники до боя во
мраке, повсюду расставили бочонки со смолой, около
них держались караульные с горящими фитилями.
Ослепительно яркий после тьмы вспыхнул желтый
огонь. Враги увидели друг друга. Численность отрядов
была почти равной, но из приотворенных ворот бежали
татары, ободряя своих дикими воплями.
Самый молодой ратник лежал на земле с разрублен-
ным плечом. Шапка свалилась с парня, русые кудры
разметались по грязной земле. Один из воинов душил
руками коренастого татарина с побагровевшим лицом.
Ничипор Пройдисвит прыгал туда и сюда; в его руках
играла сабля, и после каждого взмаха валился татарин.
Василий Дубае крушил неприятелей огромным ко-
лом. Лука Сердитый, Демид Жук и Нечай перли с
рогатинами, как на медведя...
Бой был недолог, и победа клонилась на сторону
наших, но к татарам приближалась подмога. Где-то и
русские трубы играли, но ждать своих скоро не прихо-
дилось. Краснолицый Лука, приклонясь к земле, под-
крался к Дубасу, дернул за полу.
— Назад побежим — татарина ухвати!
— Живого?
— Живого!
Дубае свистнул дубиной над головой ближайшего
254
противника — татарин присел от ужаса. Василий схва-
тил его за руку, вырвал клынч1, перевалил пленника
через плечо, как куль. Тот взвыл, но Ничипор кольнул
его саблей:
— Замолчь, бисов сын!
Русские отступали. Седой ратник с усилием волок
раненого сына; к нему подоспели на помощь другие.
Демид Жук, олончанин Лука, казак Ничипор, Нечай и
еще несколько ратников, пятясь, сдерживали напираю-
щих татар. Свистели татарские стрелы, но огонь догорал,
тьма снова крыла землю... Жука стрела ударила в грудь,
но в его шубе была вшита железная пластина, и стрела
отскочила. Еще двое были ранены, прежде чем стрелы
перестали настигать отходящих.
Погоня отстала.
Двое стрельцов остались лежать под стенами крепо-
сти, несколько раненых тащились с помощью товари-
щей. Татары потеряли втрое больше.
— Кто там? — раздался голос из тьмы.
— Эвося! — язвительно отозвался Лука. — Своих не
спознал?
— Тайное слово говори!
— Дай поближе подойтить! Что я, заору тебе на весь
белый свет? — Сердитый подошел к дозорному, молвил
тихо: «Меч государев!»
— Проходи!
Шли к лагерю, гордые успехом.
— Васька, спусти татарина!
— Зачем?
— Да ведь тяжело тащить!
— Еще одного давай, и то снесу!
Голова и оставшиеся товарищи встретили своих ра-
достно. Пожалели погибших, но на войне горевать
некогда. Всеобщее внимание обратилось на пленника.
Хорошо одетому татарину в чужом стане было не по
себе, он оглядывался со страхом и ждал смерти.
— Молодцы, молодцы! — радостно говорил голо-
ва. — Скоро обернули дело — и часу не промешкали.
1 Клынч (татарск.) — сабля.
255
А ты, — обратился он к пленнику по-татарски, —
думаешь, тебе башку снимем?
— На все воля аллаха...
Так вот, друг: коли полезен будешь, башка твоя на
плечах останется. Утром отведем тебя к воеводе. Спи,
коли можешь.
Скоро в русском стане водворилась тишина.
Так проходили боевые ночи под Казанью.
Глава XIV
НИКИТА БУЛАТ У ЕДИГЕРА
Ветры с севера приволакивали снежные тучи. По
ночам морозило, лужи покрывались коркой льда. Утром
белый иней устилал землю, деревья, палатки, землянки
и шалаши воинов, богатый царский шатер, крытый до-
рогой парчой.
Предводители мятежных казанцев ждали прихода
зимы с надеждой, понимая, что Казань не выдержит
долгой осады. Народ роптал: люди погибали от голода и
дурной воды во множестве.
Муллы призывали народ к терпению и напоминали
верующим:
— В рамазан1 не едят же по целым дням!
— Зато ночью едят! — возражали раздраженные
слушатели.
— Ночью спать надо, а не есть! — вывертывались
хитрые муллы. — А кто терпеть не хочет, ступайте к
урусам: там с вас с живых кожу сдерут — боярские
седла обтягивать!
Но в народе шел слух, что урусы обращаются с
перебежчиками совсем не так сурово, как твердят
муллы и беки. Русские старались доказать это осажден-
ным. Пленников выпускали под самые стены, и они
бодро орали:
— Эй, люди! Сдавайтесь московскому царю! Он
1 Рамазан — мусульманский пост; верующие постятся
днем, но ночью могут есть что угодно и сколько угодно.
256
справедливый, он щедрый, пленных не бьет, хорошо
кормит!
Со стен отвечали:
— Уходите, собаки, изменники! Стрелять будем!
— Урусы не побили, а вы бить собираетесь?
— Голова предателя не должна оставаться на его
плечах!
— Снимите, если можете!..
Камай-мурза часто появлялся под стенами и тоже
уговаривал сложить оружие, обещая милость русского
царя.
— Этот Камай, должно быть, заговорен, — завист-
ливо твердили голодные казанцы: — его и стрелы не
берут. Молодец, во-время к урусам убежал!
— Краснобородым хорошо, — летал шепоток: — они
запасли еду.
— И запасать нечего: у них во дворах живой махан1
ржет...
— Махан!.. У-уй... — Собеседники облизывали пере-
сохшие губы.
★ л ★
Нишану Джафару-мирзе пришла хитрая, как ему
показалось, мысль. Никита Булат не соглашался рабо-
тать на татар — значит, надо использовать его по-дру-
гому.
Джафар-мирза приказал привести Никиту из тюрь-
мы. Булат явился в сопровождении Ахвана, изнеможен-
ный, страшно похудевший, но попрежнему крепкий
духом.
— Держишься, старик — удивился управитель и
неожиданно добавил: — На волю хочешь?
— Кто же отказывается от воли!
— Мы тебя отпустим.
— Из тюрьмы освободите? — спросил Булат.
— Из Казани выпустим, к своим пойдешь!
— Наверно, неспроста такая милость?
Джафар-мирза понял не сразу:
1 Махан (татарск.) — конина.
257
9-769
— Что ты сказал, старик?.. А, ты хочешь знать, что
должен за это сделать? Немного. Ты хоть и в зиндане,
а знаешь, что ваши город взять не могут. И никогда не
возьмут: только новые тысячи и тысячи трупов уложат
под нашими стенами. А зачем? Жизнь человека — дар
аллаха, и бесцельно отдавать ее — грех...
— Сладко поешь, — не удержался Никита. — Не
верится мне, что тебе русских жалко стало!
Джафар-мирза продолжал, не слушая старика:
— Мы тебя выпустим во время вылазки. Скажешь,
что удалось бежать. Пойдешь к царю Ивану и посове-
туешь бросить осаду...
— Царь Иван только и ждет моего совета! —усмех-
нулся Булат.
— Ладно, не советуй, — согласился Джафар. —
Просто скажи: «Сильна Казань! Много в Казани храб-
рых воинов, бесчисленны запасы оружия, на два года
хватит пищи. Источник воды подорвали порохом, а у них
другие есть...»
— И ты веришь, что я это скажу царю?
— Слово дашь — поверю! — серьезно ответил
управитель.
— Жаль, я не обманщик, — молвил Никита. — Если
б я обещания рушил так легко, как вы, казанцы, я б
десять клятв дал, а царю Ивану Васильевичу сказал бы:
«Не уходи от города, государь! Изнемогает Казань, и
близок ее конец. Со славой заканчивай великое дело,
государь!».
Лицо управителя побагровело от гнева, но он сдер-
жался и долго уговаривал Никиту, обещая за услугу
золото, драгоценные камни. Старик остался тверд.
Через два дня, думая решительно воздействовать на
Никиту, его повели к самому хану Едигеру.
Булат с тревожным любопытством осматривался,
идя по улице под конвоем кривого Ахвана и силача-при-
вратника Керима. Дорогу перегородило шествие: сотни
татар с диким воем, качаясь вправо и влево, двигались
вперед в сумасшедшей пляске. Рослый дервиш1 со
1 Дервиш — мусульманский монах.
258
страшными глазами, возглавлявший процессию, был об-
вешан амулетами1, ножами и кинжалами, дребезжавши-
ми и стучавшими друг о друга при каждом его движении.
— Святой... — прошептали спутники Никиты, кланя-
ясь дервишу до земли.
Дервиш потрясал зеленым значком на длинном древ-
ке; его ученики колотили в бубны.
— Аллах великий, милосердный! — кричал де-
рвиш. — Пошли нам победу над гяурами! — И он снова
терзал длинными ногтями израненную грудь.
Следуя примеру дервиша, и другие царапали лицо,
кололи себя ножами... Сумасшедшие глаза, исступленно
машущие руки...
— Хорошо, старик, что ты по-татарски одет! —
прошептал кривой Ахван. — Если бы узнали, что ты —
урус, разорвали бы на клочки.
Вздохнули свободно, когда дервиш и его спутники
скрылись за углом.
— Вот из-за таких святых людей башка пропада-
ет! — с неожиданной злостью сказал привратник Ке-
рим. — Слушай, друг: когда ваши город возьмут, за-
ступишься за меня? — Татарин улыбался подобостра-
стно. — Я урусов не обижал, я их люблю, они хоро-
шие люди...
— Стало быть, думаешь — наша берет?
— Судьба! — пожал плечами Керим. — Я тебе
смешное дело расскажу, урус! У нас в Казани много
пленных армян, хороших пушкарей. Как ваши пришли,
их всех к пушкам поставили — урусов бить.
— И метко стреляют?
— Где там метко! — ухмыльнулся Керим. — Знаешь,
чего сделали? Все от пушек поубегали.
— Молодцы! — невольно вырвалось у Булата.
— Их наши мурзы переловили, нагайками отдули и
к пушкам цепями приковали.
— И что же теперь? — спросил Никита.
— Сидят, лежат, отдыхают! — захохотал Керим. —
1 Амулет — предмет, носимый суеверными людьми как
волшебное средство, предохраняющее от несчастья.
259
9*
Им есть не дают, а они говорят: «С голоду помрем,
а в братьев-урусов стрелять не будем!» Упрямые,
черти! Скоро им, наверно, башку рубить будем: поль-
зы нет, зачем держать!.. Так заступишься за Керима,
урус?
— Да уж обещал...
Перед угрюмой громадой ханского дворца сновало
множество воинов. Хусаин и Керим провели Никиту
между двумя четырехугольными башнями, схваченными
вверху стрельчатой аркой.
Миновали несколько огромных залов, слабо осве-
щенных зарешеченными окнами, расположенными под
потолком. В залах гудел и волновался народ: беки со
свитами, мурзы, нукеры — телохранители хана, муллы
в белых чалмах. Многие ожесточенно спорили, разма-
хивая кулаками; их унимали другие.
— С ума сошли — заводите драку в покоях грозного
хана!
По растревоженным лицам толпы, по неровному и
суматошливому гулу Булат догадался: «Плохо у них
дело... Недаром они так меня уговаривают царя Ивана
Васильевича обмануть!»
Перед Никитой открылся величественный тронный
зал казанских ханов.
Едигер, молодой, черноусый, с красивыми, тонкими
чертами лица, сидел на подушках, устилавших возвыше-
ние. За ним виднелся сеид Музафар в великолепном
халате из раззолоченной материи. Сзади стояли при-
дворные с красными бородами, с ладонями и ногтями,
натертыми хной.
У дверей Никиту перехватил Джафар мирза. Хусаин
с Керимом остались у порога. Управитель шепнул Булату
с кривой усмешкой:
— Видишь, уста-баши, какой удостоился чести: тебя
принимает сам хан! Выполняй мои приказания!
Булат шел вперед, маленький, щуплый, но в нем
чувствовалась непреодолимая сила убеждения. Подведя
старика к подножию трона, Джафар-мирза сказал не-
громко:
260
— Становись на колени!
— Не стану! — ответил Никита по-татарски.
— Раб! — разразился гневом Музафар мулла.
— Полонянник — не раб! — возразил Никита.
Толпа краснобородых придворных испуганно заше-
лестела; Джафар злобно толкал Булата в затылок, пыта-
ясь силой заставить его выполнить приказ.
Едигер рассмеялся и сказал:
— Оставь, мне его смелость нравится... Здравствуй,
отважный урус!
— Коли по-доброму, так здравствуй, хан! — Никита
поклонился чин чином, перешел на родной язык: — Что
твоей ханской милости угодно?
— Угодно, чтобы ты принял наше поручение и донес
царю Ивану, насколько крепка и могуча Казань!
— Али я выродок, что супротив своих пойду? —
воскликнул Булат, покачав головой. — Лучше кончите
меня сразу!
Слова Булата были переведены.
— Мы требуем немного: передашь, что приказано,
а ваш царь сам решит — кончить осаду или продол-
жать.
— Я не двуязычный: что на сердце, то и буду
говорить! — ответил Булат.
— Смелый урус! — сказал хан Едигер. — Если бы
наши все таковы были, никакая земная сила не одолела
бы поклонников Мухамеда. Отпустите старика, не при-
нуждайте к тому, что запрещает ему душа.
— Прощай, хан! — низко поклонился Булат. —
Желаю тебе добра.
Управитель уловил злобный блеск в глазах Музафара
и едва заметный кивок головы.
— Рано обрадовался урус, — насмешливо заговорил
Джафар-мирза, когда оставили приемный зал. — Дума-
ешь, выйдет по-твоему?
— Это что же: жалует царь, да не жалует псарь?
Опять Никиту пытали, истязали тело, но душу сло-
мить не могли.
Вечером к старику прибежала Дуня.
261
— Эх, некстати ты, дочка, пришла! — вздохнул Булат,
не в силах приподняться с соломы.
— Дедынька, замучают тебя! — зарыдала Дуня,
прижимая к груди седую голову старика.
— А хотя бы и так... Один раз смерть принимать.
Страшна не смерть — страшна измена.
Девушка тихо плакала. А Никита продолжал:
— Как придут наши, Дунюшка, — скажи: жил-де
честно и умер честно. Пускай похоронят по отцовскому
обычаю.
— Не умрешь, ты, дедынька!
Девушка вспрянула, глаза ее высохли. Она сорвала
ожерелье из серебряных монет — единственную свою
ценность, сунула сторожу:
— Ахван, милый! Подкупи палачей, лекарства возь-
ми у костоправов... Ходи за дедынькой, как за родным
отцом.
— Все сделаю по-твоему! — обещал сторож. —
Бедному чувашу какая корысть в стариковой смерти!
Ведь я родом с Горной стороны, а наши теперь с
русскими заодно...
262
Глава XV
ГУЛЯЙ-ГОРОДА
С печальными трубными звуками неслись на юг
журавли и гусщ предвещая ранние холода. Придет
сердитая пурга, заметет сугробами поля, занесет палат-
ки в шалаши ратников...
Затяжные дожди превратили сухие места в болота.
Реки вздулись и вышли из берегов. Не только Казанка
и Булак, но даже крошечные Ички, Верхняя и Нижняя,
так разбушевались, что пришлось перекидывать через
них мосты.
Окрестность казанская была завоевана; после раз-
грома Япанчи русские рассыпались по татарскому цар-
ству, захватили все крепостцы, в том числе самую
сильную — Арскую.
Оставалось взять город; но он попрежнему держался
твердо. Меткий огонь казанских пищалыциков и лучни-
ков приносил большой вред осаждающим. Правда, рус-
ские находились вблизи стен Казани, но им целый день
приходилось прятаться за тынами и тарасами; высунет
кто голову — ив воздухе жужжат стрелы.
Надо было прогнать казанцев со стен, чтобы осадные
работы пошли успешнее.
Царь отдал приказ начальнику розмыслов Ивану
Выродкову, а тот призвал Голована. Передав ему разго-
вор с царем, Выродков спросил:
— Ты про гуляй-города слыхал?
— Слыхивал, — ответил Андрей. — Это высокие
башни на колесах.
— Ну, а видать-то их, конечно, не приходилось? —
улыбнулся дьяк.
— Где мне было их видеть! Я на осаде в первый
раз.
— Так вот, слушай, Ильин: чтоб были готовы два
гуляй-города на две сажени выше городских стен. Срок
даю трое суток.
— Ого! — Андрей почесав затылок.
Впрочем, он понимал необходимость такого жесто-
263
кого срока: каждый день уносил из среды осаждающих
десятки жертв.
Голован собрал мастеров, рассказал, какая трудная
задача им предстоит. Среди строителей оказался Фома
Сухой. Старику перевалило за шестьдесят, в молодости
он участвовал в знаменитой осаде Смоленска, который
был взят войсками Василия III в 1514 году. Там Фома
видел гуляй-города и даже помогал строить их.
Расспросив Сухого, Голован со свойственной ему
силой творческого воображения углубился в составле-
ние чертежа. Тем временем подручные поставили
большую часть отряда на заготовку бревен, брусьев и
громадных балок. Запас гвоздей и железных скоб под-
ходил к концу, и часть плотников принялась разбирать
ненужные тыны и настилы, оставшиеся в тылу. Они
вытаскивали гвозди и скобы, а кузнецы в походных
кузнях выправляли их и заостряли. Работа кипела: ни
одной пары праздных рук не осталось в строительном
отряде.
Голован показал чертеж башни Ивану Выродкову;
тот одобрил.
Постройка гуляй-городов велась в укромном месте,
вне досягаемости казанских пушек. Нижняя клетка из
толстых бревен была водружена на четыре пары сплош-
ных деревянных колес, обтянутых железными шинами.
На нижнюю клетку поставили следующую — поуже и
полегче, и так продолжали до самого верха.
Башня имела вид усеченной ступенчатой пирамиды с
верхней площадкой, обнесенной крепкими стенами с
бойницами для пушек и пищалей. Внутри башни шла
лестница наверх. Сооружение оказалось своеобразно
красивым и напоминало деревянные шатры церквей,
воздвигаемых на севере.
Пока с лихорадочной поспешностью строились баш-
ни, стрельцы и казаки, отряженные в помощь плотни-
кам, соорудили прочный настил от места стройки к
городским стенам.
На третью ночь строительство было закончено. В
каждую башню впрягли десятки лошадей, и громадины,
264
смутно освещенные колеблющимся светом факелов,
тронулись вперед, скрипя колесами.
Хмурым осенним утром казанцы увидели против
Царевых и Арских ворот грозные гуляй-города, с их
верхних платформ нацелились жерла пушек на город-
ские площади и улицы. Теперь казанцам нельзя было
прятаться на стенах, да и по улицам приходилось ходить
с осторожностью.
Имя строителя башен Голована стало известно царю
Ивану Васильевичу.
Москвич Кондратий выпросился наверх со своей
пушкой. С высоты он зорко следил, что делается в
городе, и, если появлялась группа неприятелей под
прицелом, пускал ядро. Подручным при нем стоял быв-
ший монах Филимон, которого Кондратий полюбил за
приверженность к осадному делу, за то, что без устали
подтаскивал ядра, отмерял порох лубяной меркой и
подносил фитиль, когда надо было сделать выстрел.
С верхней платформы гуляй-города Кондратию до-
велось видеть казнь его бывшего товарища по неволе у
Курбана — пушкаря Самсона. Отважный армянин пер-
вый отказался воевать против русских и своим приме-
ром увлек других товарищей — пушкарей. Казнью
Самсона Музафар хотел навести ужас на его соотече-
ственников и принудить их стать к орудиям.
В самый полдень на стену поднялась группа людей, и
Кондратий уже собирался пустить в них ядры, как вдруг
замер в удивлении. В толпе, появившейся на городской
стене, было всего несколько татар; они окружали зако-
ванных в цепи смуглых горбоносых людей. В этих узни-
ках Кондратий узнал армян, с которыми не раз сталки-
вался во время своего длительного рабства в Казани.
Одного из них вытолкнули вперед, заставили стать
на колени и наклонить голову.
— Самсонушко! — ахнул Кондратий. — Родной!
Свистнул ятаган, и голова Самсона покатилась на
камни стены. Кондратий увидел, как размахивали ско-
ванными руками и кричали на татар армянские пушкари,
а татары лупили армян нагайками.
265
После ожесточенного спора татары прогнали плен-
ников со стены.
Кондратий так и не решился пустить ядро, боясь
попасть в армян.
Позже русские узнали, что казнь Самсона не достиг-
ла цели: армяне так и не стали к пушкам, и всех их
посадили в зиндан.
Иногда наверху гуляй-города появлялся Голован. Ес-
ли он выходил на открытую часть платформы, Кондра-
тий прогонял его в безопасное место.
— С ума сошел! — сердито кричал он. — Как раз
стрелой сымут!
— Ты ходишь!
— Меня убьют, по мне плакальщиков нет. А ты свою
голову должон беречь: за ней еще много-много долгов!
Кондратий был прав, советуя Головану быть осто-
рожным: самому ему оплошность стоила жизни.
После одного особенно удачного выстрела Кондра-
тий выбежал из-под укрытия. Длинная татарская стрела
вонзилась ему в бок.
Кондратий умер на руках Филимона. Последними его
словами были:
— Кланяйся родной Москве... Не довелось... вернуть-
ся...
С появлением осадных башен русские вплотную
придвинули укрепления к Царевым и Арским воротам;
между русскими турами и городской стеной оставался
только ров в три сажени шириной и семь глубиной. Но
перейти такой ров было нелегким делом.
Глава XVI
ПЕРВЫЙ ПРИСТУП
Царь торопил воевод и розмыслов: осада слишком
затянулась.
Помимо подкопа, который лишил казанцев воды,
розмыслы вели еще три подкопа к городу: один помень-
ше — под татарские тарасы, что не давали подступа к
стенам; два других, на которые осаждающие возлагали
266
все надежды, — под городские стены на двух удаленных
друг от друга участках.
На подкопах, часто сменяясь, работали тысячи лю-
дей. Выродков и другие розмыслы по нескольку раз в
сутки спускались в подземные ходы, проверяли направ-
ление при помощи «маток»1. Дело подвигалось успешно;
плотники Голована крепили стенки и кровлю подкопов.
29 сентября закончились работы по подведению
меньшего подкопа.
На следующий день войска приготовились к штурму.
Против Царевых и Арских ворот стояли воеводы Гор-
батый-Шуйский, князь Михаила Воротынский и другие.
На Аталыковы ворота вели войска Шереметев и Сереб-
ряный. С западной стороны отвлекать татарские силы
поручено было полку Левой Руки — воеводы Плещеева.
Грохот взрыва раздался, едва рассвело. Все вздрог-
нули, когда взлетели огромной темной массой татарские
тарасы и туры. Бревна, падая с высоты, убивали на
стенах людей; сваливаясь во рвы, заполняли их, обра-
зовывали мосты для осаждающих. Татары с криками
бежали со стен.
Заиграли русские боевые трубы, оглушительно зако-
лотили колотушки по громадным набатам1 2, взвились
знамена. Полки пошли на приступ. Стрельцы и казаки
почти без сопротивления заняли Царевы, Арские и
Аталыковы ворота. Этим достигли немногого. За стеной
оказался второй глубокий ров с кое-где перекинутыми
через него мостами; к мостам спешили сильные враже-
ские отряды.
Началась сеча. Несколько часов бились на мостах.
Воины падали в ров, заваливая его трупами. Татары
стали подаваться. Ободренные успехом, русские тесни-
ли их дальше. С Арской башни, занятой стрельцами,
летели пули и стрелы, поражая татарских воинов.
Царь Иван смотрел на битву с высокого холма.
Хмуря густые черные брови, он выслушивал гонцов,
1 Матка — компас.
2 Набат — огромный медный барабан, по которому били
сразу несколько человек.
267
прибывавших с известиями о трудностях и неудачах;
веселел, когда узнавал об успехах, посылал одобрение
наступающим войскам.
Ближайшие к стенам городские кварталы пылали;
пепел тучами носился в воздухе; бойцы в дыму плохо
различали своих от врагов. И все же московская рать
продвигалась, дошла до Тезицкого рва, за которым был
ханский дворец.
Но короткий осенний день клонился к вечеру. Тата-
ры сопротивлялись отчаянно. Ночью невозможно было
драться с ними в запутанных, кривых закоулках незна-
комого города.
Михайла Воротынский, в помятых от ударов латах,
чуть не валясь с коня от усталости, вырвался из свалки,
прилетел к царю с мольбой:
— Прикажи, государь, отвести войска! Завтра суме-
ем довершить приступ!
— Не с ума ли ты сошел, Михайла! — напустился на
воеводу князь Андрей Курбский, состоявший в тот день
в царской свите. — Не слушай, государь, срамца и
труса, вели драться до окончания: подаются мухаме-
даны!
Воротынский, стесненный броней, дышал тяжело; по
багровому лицу, с которого воевода откинул забрало,
струями катился пот. Он с мольбой смотрел в глаза
царю.
— Крепки еще татары, государь! — не сдавался князь
Михайла. — Раздробим силы, втянемся в неведомые
градские пределы, сгубим рать...
За годы власти Курбский привык, чтобы ему все
уступали, но Воротынский был упорен. Воеводы сцепи-
лись в споре, поносили друг друга — казалось, вот-вот
вцепятся в бороды.
— Довольно! — хмуро молвил царь, покончивший со
своими сомнениями. — Лжива твоя надменная храб-
рость, князь Андрей! Никогда не соглашаешься ждать
удобного часа, воинство мое понапрасну сгубить хо-
чешь! Приказываю: отводить полки! Осторожность —
не последняя из воинских добродетелей...
268
Воротынский торжествующе взглянул на опешив-
шего князя Андрея и поскакал объявлять царский при-
каз.
А царь Иван сурово обратился к опустившему голову
Курбскому.
— Хотел бы я, чтоб на пользу тебе пошло это
крепкое мое поучение, но не верю в то: велика твоя
гордыня, мнишь себя превыше всех, а заслуг твоих
мало нахожу...
Впервые Иван решился так открыто поднять голос
против одного из первейших членов Избранной Рады,
близкого друга Сильвестра и Адашева: царя воодушеви-
ла на это близость победы над мощным врагом.
Грозный ничего не забывал и ничего не прощал:
много лет спустя в переписке с Курбским он гневно
упрекал князя Андрея за малодушие, проявленное им
при осаде Казани, за то, что тот советовал обратиться
вспять после трех дней осады, когда буря истребила
запасы русского воинства, за то, что Курбский толкал
его на битву при неблагоприятных обстоятельствах.
Воротынский привез полкам царский приказ прекра-
тить битву. Разгоряченные боем стрельцы и казаки
отошли неохотно.
В руках русских осталась Арская башня и прилега-
ющая к ней часть стены. Татары сами жгли окружаю-
щие укрепления, постройки, мосты, чтобы отделиться
от нападающих. Целую ночь они строили завалы, воз-
водили новые деревянные стены, засыпая их землей.
★ it it
1 октября обе стороны деятельно готовились к по-
следней, решительной битве.
Татары возводили новые стены. Согнанные со всего
города рабы, подростки, женщины таскали камни, кир-
пичи и бревна из разрушенных домов. Стены вырастали
быстро, так как над ними старались тысячи людей,
подгоняемые бичами надсмотрщиков.
Вот когда пригодился бы татарам секрет несокруши-
мого замеса, известный Никите Булату!
269
Но русские втащили на Арскую башню пушки и
громили стены ядрами. Строители укреплений падали —
на их место становились другие. Камни, вырываемые
снарядами, катились по земле, их подхватывали чуть не
на лету и снова укладывали на место...
Перед решающим приступом Иван Васильевич сде-
лал последнюю попытку сберечь русскую и татарскую
кровь. По его приказу в город отправился Камай-мурза
с предложением сдаться, обещая жизнь и свободу
осажденным.
Камая привели в тронный зал, где собрались царь
Едигер, имам Музафар, князья Ислам и Кебяк, беки,
уланы, мурзы.
Камай, бледный от волнения, повторил предложение
царя Ивана.
«Мне не дожить до поры, когда волосы мои побеле-
ют, — думал он. — Молю об одном: пусть моя смерть
будет скорой и легкой».
Слова Камая-мурзы были выслушаны в гробовом
молчании. Потом гневно заговорил первосвященник Му-
зафар:
— Изменник! Предатель! Ты заслуживаешь казни!
Но голова посланника священна для нас.
Камай-мурза вздохнул облегченно.
Сеид продолжал:
— Послание царя мы обсудили всем курултаем. Поди
и скажи царю Ивану: не бьем ему челом! На стенах
стоит Русь, на башне — Русь. Ничего! Мы другую,
третью стену поставим. Либо отсидимся, либо все по-
мрем.
Едигер и советники согласно кивнули головой.
Камая вывели из города и отпустили.
Ночь прошла в мрачной, настороженной тишине. Для
многих и многих тысяч бойцов эта ночь была последней
в жизни.
270
Глава XVII
РЕШИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Настало воскресенье, 2 октября 1552 года.
У последних двух подкопов шли окончательные при-
готовления. Бочки с порохом закатили вглубь накануне,
свечи были воткнуты в рассыпанный порох. Царь при-
казал произвести взрывы на рассвете и, когда будут
взорваны стены, начинать приступ.
Между Арскими и Кайбацкими воротами, у гуляй-го-
родины, стоял коренастый и тучный Иван Выродков,
несмотря на туман и холод отирающий пот с лица, и
взволнованный Андрей Голован. Аким Груздь стоял тут
же с топором за поясом. Филимон, поблескивая черны-
ми разбойничьими глазами, опирался на бердыш с длин-
ной рукояткой: на осадной башне нечего было делать,
и Филимон хотел сражаться в городе.
Тысячи воинов Большого полка ждали в боевой
готовности.
Князь Михайла Воротынский рвался в битву: он
хотел доказать гордецу Курбскому, что теперь увенча-
ется битва победой и в этой победе немалая доля будет
принадлежать ему, Воротынскому, умному и дальновид-
ному полководцу, старшему воеводе в войске.
Ударил страшный взрыв у Булака-реки: русские роз-
мыслы подорвали подкоп между Аталыковыми и Тю-
менскими воротами. Еще не умолк грохот, как оттуда
донесся гул множества голосов: полк Левой Руки ри-
нулся в бой.
Михайла Воротынский подскакал на храпящем коне:
— Скоро ли у вас?
— Свеча зажжена давно, — ответил Выродков. —
По моему расчету, вот-вот должен быть взрыв.
Услышав слова розмысла, люди поспешно отступили
подальше: ожидали взрыва страшной силы; пятьдесят
полномерных бочек зелья могли взорваться с минуты на
минуту.
Люди прислушивались с остановившимся дыханием.
Но мгновения текли, невозвратимые мгновения, а
земля молчала.
271
Там шел бой. Татары, без сомнения, бросили туда
большие силы, они могут смять рать Плещеева и Сереб-
ряного. А здесь полки стоят неподвижно, не в силах
подать помощь гибнущим братьям...
— Ты что же, безумный! — налетел на Выродкова
белый от гнева Воротынский. — Со смертью играть
вздумал?..
Смущенный розмысл отстранился от напирающего
коня.
— Рассчитывал хорошо, а может, ошибся. На ветру
свеча быстрей горит, а в затишке медленней...
Воротынский схватился за голову.
— Братцы! Воины! — тоскливо вскричал он. —
Гибнет наше дело!..
Он не договорил, как Голован с зажженным факелом
бросился к устью подкопа. Но его догнал Аким Груздь
и вырвал из его руки факел:
— Не забывай меня! — И Груздь, освещенный
пылающим факелом, вскочил в темный прямоугольник
входа.
— На погибель кинулся!.. — пронесся смутный вздох
в потрясенной толпе, а у Голована покатились слезы.
В страшном ожидании прошло минуты две. И вдруг
земля вздрогнула, все покачнулись, иные не устояли на
ногах. Мгновение спустя из-под стены вырвался пламен-
ный сноп чудовищной толщины, неся на себе огромные
глыбы камня, земли, разорванные трупы людей, разме-
тывая толстые бревна, как щепки...
В первые минуты после взрыва никто ничего не
слышал. Люди видели круглые, разинутые рты товари-
щей, сами кричали, но все было немо для них, и лишь
глаза видели страшную картину гибели сотен татар под
обрушенной стеной.
Немало и московских людей нашли смерть под об-
ломками камней и бревнами.
Через ров, заваленный землей, щебнем, деревом,
устремились в город русские воины. Пролом был слиш-
ком узок, чтобы пропустить наступающих, и в горле его
теснились и бурлили людские толпы.
272
Отчаянно лезли вперед ратники, толкая друг друга.
А перед ними выросла стена татар с остервенелыми
лицами, с глазами налитыми кровью...
Многие стрельцы пали здесь, сраженные копьями,
изрубленные саблями...
Нечай и Демид Жук, как всегда рядом, пыряли в
ряды врагов острыми, окованными железом рогатинами.
Ничипор Пройдисвит, в белой рубахе, подпоясанной
широким алым поясом, в барашковой, лихо сдвинутой
набекрень шапке, помахивал кривой саблей, точно иг-
раючи, но от ее небрежных взмахов валились люди,
отлетали руки и головы... Густо забитое людьми про-
странство расчищалось перед темнорусым украинцем.
Татары бежали от страшного бойца.
Василию Дубасу негде было размахивать длинным
ослопом1. Парень догадался: он переломил его, засунув
под камень, и начал действовать обломком. Он с размаху
опускал его на голову врагов.
Филимон крушил татар тяжелым бердышом, но не
спускал глаз с шедшего рядом Голована и не давал ему
зарываться вперед.
— Ты мой теперь, Ильин! Ежели я тебя не уберегу,
Акимкина душа с того свету ко мне за ответом придет.
Знаешь ведь, как он тебя любил!
На мостках через рвы, на обваленных стенах, на
каждом свободном клочке земли кипела сеча...
Хан Едигер пытался броситься к Арским воротам с
последним запасным полком, под сеныо священного
зеленого знамени, но сеид и знатные не пустили его.
Руководить обороной у места прорыва отправились
три неразлучных друга: князья Ислам и Кебяк и малень-
кий кривоногий Аликей-мурза.
Трем зачинщикам казанского восстания не суждено
было пережить гибель родного города. Первым пал
Аликей. Голову маленького мурзы разнес своей страш-
ной дубиной Васька Дубае. Погиб изрубленный казачь-
им мечом князь Ислам. Угрюмый богатырь Кебяк схва-
1 Ослоп — дубина, жердь.
273
тился с Ничипором Пройдисвитом. Недолго выбивали
сабли сверкающие искры: Кебяк упал, сраженный на-
смерть.
Другие предводители стали на место погибших.
Повсюду шел жаркий бой. С разных сторон наседали
московские полки, чтобы не дать татарам сосредоточить
силы в одном месте.
Через пролом стены меж Аталыковыми и Тюменски-
ми воротами ворвались в Казань ратники воевод Васи-
лия Серебряного и Митрия Плещеева. Полк Правой
Руки, ведомый Курбским и Щенятевым, подставил осад-
ные лестницы у Муралеевых и Елабугиных ворот и
штурмовал город с севера, от Казанки-реки, в непосред-
ственной близости к ханскому дворцу. Ертоульный полк
наступал на Збойлевы и Кайбацкие ворота.
Царь Иван подъехал к стенам Казани и зорко следил
за ходом боя, бросая, куда нужно, подкрепления. А
силы русские и татарские все еще ломили друг друга в
отчаянной борьбе.
Наконец враги начали отступать перед неодолимым
натиском русской рати.
Трудно пришлось наступающим, когда оци попали в
узкие улички и тупики татарского города. Здесь нельзя
было ввести в бой большие силы, а казанцы подняли
всех, кто мог сражаться.
Жертвы с обеих сторон были огромны. Но одолевала
московская рать. Русские воины помнили разоренный
Киев, Владимир, Рязань, помнили о бесчисленных тыся-
чах замученных отцов и братьев, о долгих страданиях
родной земли.
Мечи тупились о вражескую броню, руки устали
наносить и отражать удары. Уже несколько часов дли-'
лось сражение, и время склонилось за полдень. Битва
растеклась по всему городу. В закоулках, на дворах, на
плоских кровлях вспыхивали короткие, стремительные
схватки. Звон оружия, боевые клики, хриплые стоны...
Погиб удалой боец на саблях Ничипор Пройдисвит,
сраженный янычаром огромного роста. Чубатая казац-
кая голова покатилась с широких плеч, в последний раз
274
Через пролом, стены ворвались в Казань ратники.
страшно сверкнув глазами. Недолго торжествовал по-
бедитель: Василий Дубае, вывернувшись из-за угла,
взметнул тяжелой дубиной, и турок упал с раздроблен-
ным черепом.
Пало в бою немало начальных людей и рядовых
стрельцов. Олончанин Лука Сердитый отполз в тупик со
стрелой в плече; кровь лилась струей, и не было воз-
можности ее остановить, пока стрела торчала в ране.
Всегда красное лицо олончанина начинало бледнеть от
потери крови. Озлясь, Лука дернул стрелу, и она выле-
тела с клочьями мяса. Отрезав ножом подол рубахи,
раненый кое-как перевязал плечо...
Стало ясно, что Москва победила. Тысячи перебитых
татарских воинов валялись на улицах, остальные скры-
лись.
Русская рать начала располагаться на отдых. Иные
воины, истомленные продолжительным боем, ложились
прямо на землю и засыпали мертвым сном. Другие
доставали из походных сумок хлеб и утоляли голод.
Глава XVIII
СПАСЕНИЕ НИКИТЫ БУЛАТА
Голован с неизменным спутником Филимоном ра-
зыскивал дворец первосвященника. Спросить было не
у кого, и они долго блуждали по пустынным улицам.
Наконец, услышав плач в сакле с настежь раскрытой
дверью, Андрей бросился туда, вывел татарчонка лет
двенадцати.
— Паренек, не бойся, мы тебя не тронем! Покажи,
где ваш главный мулла живет!
Мальчишка глядел, ничего не понимая. Его заплакан-
ные черные глазенки блестели, как у звереныша, он тер
кулаком замурзанные щеки.
— Ты не так! — вмешался Филимон. — Я умею с
ихним братом разговаривать... Эй, знаком! Мулла, боль-
шой мулла бар? Э? Сеид бар, айда!1
1 Бар (татарск.) — есть; айда (татарск.) — пойдем.
276
— Сеид? — Мальчик понял. — Сеид айда!
И он повел русских в ту часть города, где, мало
затронутые пушечным обстрелом, стояли дома казан-
ских богачей. Тут было тихо и безлюдно. Лишь изредка
показывались вдали вражеские воины и тотчас скрыва-
лись: очевидно, татары думали, что двое русских —
разведчики большого отряда.
— Эх, Ильин, — с тревогой говорил Филимонов, —
попадем мы в беду! Налетят недруги — что мы двое
сделаем?..
Филимон чрезвычайно обрадовался, когда, выглянув
из-за угла, увидел русских. Он бросился навстречу:
— Братцы, сюда, сюда давай! Здесь свои!
К Андрею подошли Нечай, Демид Жук и Василий
Дубае. Возбужденные боем, они тяжело дышали, лица
их были покрыты грязью и кровью.
— Андрюша, — весело вскричал Нечай, — какая
надобность тебе тута ходить?
Голован быстро объяснил, и маленький отряд двинул-
ся по узкой улице.
До дворца Музафара-муллы добрались благополучно
и отпустили татарчонка. Русские перебежали через
пустой двор мужской половины и остановились перед
закрытой калиткой. Прочная дверь выдержала первые
удары.
— А ну, берись дружней! — скомандовал Филимон.
Из земли вырвали скамейку, подтащили, размахну-
лись:
— P-раз!.. Р-раз!..
— Дружиной возьмемся — сразу сделаем, — пыхте-
ли мужики.
— Дружиной, робятушки, ловко и батьку бить! —
подсмеивался веселый Нечай.
Дверь разлетелась вдребезги, и люди, толкая один
другого, хлынули в калитку.
Голован бежал впереди, и ноги у него подкашива-
лись.
И вдруг у низенькой сакли он увидел согбенного
старика с обнаженной головой, с венчиком седых волос
277
вокруг большой лысины. Его поддерживала высокая
девушка с русыми косами и голубыми глазами. Старик
бессильно переступал навстречу русским, размахивал
руками и слабо кричал...
— Никита!..
Голован бросился к учителю. Старик был так пора-
жен, что не мог сделать и шагу: Андрей, которого он
много лет считал мертвым, появился выросший, возму-
жавший,,,
— Андрюшенька, родный!.. Живой?.. А я-то по тебе
горевал,,,
— Отец.,.наставник... — взволнованно бормотал Го-
лован, — Уж как же я рад!..
Никита, Голован, Дуня и ратники вышли из дворца
сеида через потайную калитку. Булат брел, поддержи-
ваемый Андреем и Филимоном. Забывая о недугах,
старик рассказывал неожиданно обретенному любимо-
му ученику историю своего плена, говорил, что не чаял
на этом свете свидеться с Андрюшей, когда оставил его
на лесной полянке с разрубленной головой...
— Теперь мы с тобой никогда-никогда не расстанем-
ся! — твердил Голован.
— Мы с тобой, Андрюша, еще строить будем: соску-
чилась душа по работе!
Дуня шла, пугливо озираясь: это был ее первый
выход за стены дворца, где прожила она с пеленок.
Чтобы не обращать на себя внимания, Дуня накинула
сверху широкий армяк Филимона, голову прикрыла
колпаком, подобранным на улице.
Филимон и Нечай, шедшие впереди, бросали во все
стороны острые взгляды, боясь недобрых встреч, Анд-
рей и Филимон почти несли на руках Булата, ослабев-
шего от нежданной радости,
— Алла! Алла! — вдруг раздались грозные боевые
клики.
Из соседней улицы выбежал отряд татарской пехо-
ты.
— Беда! — вскричал Филимон,
Не дожидаясь, пока татары сомнут их, маленькая
278
группа юркнула в ближайшую калитку, дверь которой,
к несчастью, была сорвана.
Только двое могли поместиться в узкой раме двери.
Дуню и Никиту спрятали позади. Впереди встали Фили-
мон с тяжелым бердышом и Василий с дубиной. За ними
Нечай с рогатцной, Голован с мечом и Демид Жук с
ятаганом, подобранным на улице
— Урусы, урусы! — раздались злобные крики татар,
и они обрушились на защитников калитки.
Случилось вот что. Русское войско, считая битву
окончательно выигранной и не видя врагов, расположи-
лось на отдых. Иные ратники покинули город. Воеводы,
стрелецкие головы и казацкие сотники напрасно стара-
лись водворить порядок.
А татары тем временем стеклись к ханскому дворцу
и большой мечети, разделились на отряды под руковод-
ством опытных начальников, отослали в безопасные
убежища раненых и с новыми силами, с воспрянувшей
надеждой грянули на русских.
Но уже спешили в город свежие полки, которые
держал в запасе Иван Васильевич.
Теснимые превосходящими силами, враги, отчаянно
отбиваясь, отступали к укрепленному ханскому дворцу.
Остервенелые бойцы бросались на русские мечи и
копья и, умирая, старались поразить как можно больше
противников. Опять ощетинились кровли домов защит-
никами, метавшими в русских камни, стрелявшими из
луков.
Бой по ожесточению превзошел утренний, но теперь
события развертывались быстрее. Стрельцы и казаки
внутри города собрались вокруг начальников и ударили
татарам в тыл.
Поражаемые со всех сторон, вытесняемые из хан-
ского дворца, казанцы отходили на север, к Муралее-
вым и Елабугиным воротам, надеясь прорваться из
города. Они захватили с собой Едигера и вельмож,
которых пощадила смерть.
В жарком бою у главной мечети погиб сеид Муза-
279
фар — недолго просидел он на запятнанном отцеубий-
ством престоле...
Еще несколько тысяч татар держали оружие; они
взобрались на Муралееву башню и окружающие ее
стены. Позиция была грозной, но если русские не
пойдут на приступ, им тут погибнуть от голода.
И русские увидели, как татары на башне отчаянно
машут руками.
Михайла Воротынский приказал прекратить стрель-
бу. С башни донесся голос:
— Урусы! Вы одержали победу. Мы храбро дрались
за свой юрт и ханский престол! Теперь нет у нас ни
юрта, ни престола... Мы отдаем вам хана, ведите его к
вашему царю, и пусть свершится судьба Едигера. А мы
переведаемся с вами в широком поле и изопьем смерт-
ную чашу...
Осторожно спустив с полуразрушенной башни хана
Едигера, татары бросались со стен на берег Казанки-ре-
ки, надеясь перейти ее и укрыться в лесах. Но с другого
берега грянули пушки Щенятева. Беглецы повернули к
западу, вниз по реке, перебрели Казанку. Их все еще
было около шести тысяч. Здесь встретил их воевода
Плещеев. С другой стороны напирал полк Правой Руки...
Немногим защитникам татарской столицы удалось
спастись с поля битвы.
Глава XIX
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Голован и его спутники отбились от врагов. Им
недолго пришлось отражать натиск остервенелой толпы:
из соседней улицы прихлынули русские стрельцы, и
татары бежали.
Царь Иван въехал в покоренный город через Мура-
леевы ворота. Он медленно проезжал по улицам Казани
на белом коне.
На улицах толпились тысячи русских пленников.
Откуда взялись они в еще недавно пустынном городе?
Казалось, сама земля извергла людей из своих недр.
280
Избитые, израненные, хромые, с изможденными лица-
ми, они простирали к царю слабые, худые руки и
хриплым голосом выкрикивали приветствия.
Царь приказал накормить пленников, одеть, отвести
в стан, позаботиться отправкой на родину.
Андрей Голован узнал о доблестном поведении ста-
рого наставника во время осады города. Рассказала об
этом поборовшая смущение Дуня, Никита не любил
хвалиться и отмалчивался, когда Голован расспрашивал
его о тяжелых днях плена.
Андрей доложил о мужестве зодчего Ивану Вырод-
кову, дьяк рассказал царю. Через несколько дней Голо-
ван и Никита Булат получили приказ явиться в царский
шатер.
Иван сошел с высокого кресла, заменявшего в похо-
де трон, и обнял старого Булата:
— Зело рад тебя видеть, Никита! Дорог ты мне своей
верностью!
— Не по заслугам изволишь хвалить, государь!
— Ну, я знаю, кого и за что хвалить! — раздраженно
возразил царь, не терпевший противоречий. — Расска-
жи, как ты в плену прожил? Как удалось уцелеть?
— Что говорить, государь! Прожито — и ладно.
— Дозволь, государь, слово молвить, — вмешался
Голован. — Наставник скромен, а я все расскажу.
— Говори!
Андрей рассказал историю Никиты Булата и его при-
емной внучки. Особенно упирал он на доблесть старого
зодчего, которого ни посулы, ни угрозы, ни муки не за-
ставили изменить родине и служить врагам.
Выслушав Голована, царь приказал приблизиться
Алексею Адашеву:
— Видишь сего верного моего слугу, Алексей? На-
добно о нем позаботиться. Обноски татарские с него
снять, выдать новую ферязь, да сапоги, да шапку...
Булат поклонился до земли.
— Не кланяйся, старик! Заслужил ты сие нелицемер-
но. Такими, как ты, крепка русская земля! Проси от
меня чего хочешь!
281
— Ничего мне не надобно, государь, я и так премного
взыскан твоей царской милостью!
— Вижу простоту твою, и по сердцу она мне! Ладно,
просьба твоя за мной останется, и что в будущее время
попросишь — исполню, А в знак сего вот с руки моей
перстень!
Царь снял с пальца драгоценный перстень и надел на
палец изумленного и обрадованного зодчего.
По просьбе Голована Выродков разрешил ему вер-
нуться в Москву: Андрею нечего было делать после
окончания осады. Головану разрешили взять для охраны
ратников из числа тех, что добровольно пришли под
Казань, Андрей выбрал старых знакомцев — Филимона,
Нечая и Демида Жука.
Маленький отряд Голована продвигался медленно:
Булат был стар и ослабел в тюрьме, а Дуня впервые села
верхом на лошадь.
Весть о покорении Казанского царства быстро обле-
тела страну, В новую русскую область шли многочис-
ленные купеческие обозы. Московские, тульские, ря-
занские и иных городов гости спешили начать торговлю
с восточными странами.
Прежде купцы пробирались по этим краям с великой
осторожностью, рискуя товарами и жизнью. Теперь они
двигались смело, с малой охраной: дороги оберегались
русскими заставами и сторожевыми постами.
Узнав, что отряд Голована идет из-под Казани, купцы
жадно расспрашивали, как протекала осада. Их любо-
пытство удовлетворял словоохотливый Нечай. Слушая
его рассказы, купцы ахали и ужасались,
— А как вы насмелились ехать в этот еще не мирный
край? — лукаво спрашивал Нечай, — Не боитесь, что
голову снесут?
— Волков бояться — в лес не ходить! — степенно
отвечали купцы, — Теперь самая пора торговлю зачи-
нать, покупателей приваживать. Опозднишься — все
другие за себя заберут!
282
Велико было удивление Голована, когда, проезжая
мимо купеческой стоянки, он увидел Тишку Верхового,
копавшегося в телеге, нагруженной товарами.
— Тишка! — невольно вскрикнул Андрей. — Ты как
сюда попал?
— Кому Тишка, а кому Тихон Аникеевич, божьей
милостью московский купчина! — важно ответил Вер-
ховой.
Голован не утерпел и слез с коня, а за ним спрыгнул
наземь любопытный Нечай. Остальные неторопливо по-
ехали дальше.
— Так, стало ты теперя вольный? — спросил Нечай,
знавший прошлое Тихона.
— Откупимшись мы у боярина, — спесиво подтвер-
дил Тишка, — потому как нас за труды господь богаче-
ством наделил...
Нечай, не сдержавшись, смешливо фыркнул, а ново-
явленный купчина, злобно покосившись на него, про-
должал:
— Вот и надумали мы по купечеству заняться, тор-
говать значит...
— Ну, это дело у тебя пойдет! — уверил Тихона
Нечай.
— Право слово? — наивно обрадовался Верховой.
— Уж будь спокоен! Это я говорю, Нечай, а я в
людях толк знаю. Расторгуешься, как бог свят...
— Коли выйдет по твоему предсказанью, я тебе, даст
бог, вернемся, чару на Москве поднесу! — воскликнул
довольный Тихон.
А Нечай, не слушая его, продолжал:
— Потому ведь у тебя ни стыда, ни совести, а у таких
купеческое дело на лад идет...
— Эй ты, смерд1! — угрожающе зарычал Тихон,
замахиваясь кнутом.
Нечай ловко сбил его с ног и, прежде чем Верховой
1 Смердами в древней Руси называли как свободных, так и
попавших в зависимость крестьян. Позднее смердами стали
называть людей низкого происхождения и слово это в обраще-
нии высших к низшим приобрело оттенок презрения.
283
опомнился, ускакал. За ним последовал Андрей, качая
головой и шепча:
— А еще говоря, ворованное добро впрок нейдет...
Вот тебе и Тишка!..
В пограничной полосе, где раньше жить не давали
набеги казанских разбойников, уже появились новосе-
лы из старых русских областей. Они искали освобож-
дения от тяжелого боярского гнета, хотели пожить
свободно на новых землях хоть несколько лет, пока и
тут не появятся устанавливать господскую власть без-
жалостные тиуны.
Часть четвертая
СМЕЛЫЕ ЗАМЫСЛЫ
Глава I
ВСТРЕЧА
Москва волновалась: со дня на день ждали возвра-
щения из казанского похода русского войска. Уже
долетела до москвичей весть, что грозная Казань пала.
Не станут казанцы нападать на русскую землю, ра-
зорять города и села, уводить русских в полон.
Но неизмеримо важней было сознание огромного
усиления Руси, роста ее государственного могущества.
«Сильна наша держава! — с гордостью думали мос-
квичи. — Такого ворога одолела!..»
Победоносному войску готовилась торжественная
встреча.
28 октября 1552 года по городу разнеслась молва:
царь под Москвой, в Тайнинке; к нему выехали брат
Юрий Васильевич и ближние бояре.
Толпы народа устремились к деревне Ростокино.
Лица москвичей были светлы и веселы. Только дряхлые
деды и бабки, не слезавшие с печи, да тяжко больные
оставались в тишине покинутых жилищ.
285
Все дома на пути царского шествия народ заполонил
еще ночью. Ни просьбы, ни угрозы хозяев не помогали.
Зрители теснились в горницах у маленьких окон, сидели
на крышах, воротах и заборах. Деревья ломались под
громоздившимися на них людьми,,.
Коротая часы ожидания, народ слушал рассказы о
подвигах русского воинства. Передаваясь из уст в уста,
рассказы обрастали вымышленными подробностями и
больше походили на сказку.
— Едут! — раздался крик в толпе.
Глашатаи расчищали проход царскому шествию. На-
род прижимался к заборам и стенам домов, сбиваясь
плотными массами, С великим трудом освобождался
коридор, по которому могли пройти в ряд три-четыре
лошади. За передовым отрядом войска ехали полковод-
цы: князь Михайла Воротынский, князь Ромодановский,
окольничий Алексей Адашев и другие.
Но вот показался и сам двадцатидвухлетний царь
Иван. Царь кланялся народу направо и налево. Улица
гремела приветственными возгласами.
Иван ехал на белом коне, облаченный в парадные
доспехи. Голову царя украшал шлем-ерихонка превос-
ходной работы, стан облекала золоченая кольчуга. К
седлу был привешен саадак, расшитый жемчугом.
За царем и воеводами шло войско. Провести всех
вернувшихся из похода ратников по тесным улицам
Москвы было невозможно. Устроители шествия отобра-
ли несколько тысяч стрельцов и казаков, попригляднее
одетых и вооруженных,
У ворот Сретенского монастыря шествие останови-
лось. Здесь царя поджидал митрополит Макарий, знат-
нейшие князья и бояре. Царь скинул воинские доспехи:
наглядное свидетельство перехода от войны к мирным
делам.
Думные бояре надели на Ивана Васильевича порфи-
ру1, вместо шлема возложили на голову шапку Монома-
1 Порфира — верхняя парадная одежда государей: длин-
ный плащ багряного цвета, подбитый горностаем.
286
ха. Царь во главе огромной толпы бояр, дворян и
духовенства пешком отправился в Кремль.
И лишь когда окончились обряды, унаследованные
от дедов, царь мог отправиться проведать царицу Ана-
стасию Романовну и новорожденного младенца — сына
Дмитрия.
Москвичи веселыми толпами растекались по городу.
Глава II
ПИР
Андрей Голован шел на царский пир. Булат также
получил приглашение. В сенях Грановитой палаты слуги
в нарядных кафтанах заботливо следили, чтобы гости
вытирали ноги о войлок.
Голован с любопытством оглядывался вокруг: все
было для него ново, он впервые станет пировать с царем.
На Головане была ферязь темномалинового цвета с
меховой опушкой, с золотыми пуговицами — царское
жалованье за казанский поход. Голову украшала со-
болья шапка.
Не забыли во дворце и Булата: ему прислали ферязь
червчатую с огромными пуговицами, выточенными из
малахита. Старик глядел на свое одеяние с веселым
удивлением,
Андрей и Никита вошли в величественный зал, В
центре палаты поднимался опорный столб, и от него на
четыре стороны шли четыре свода, пересекавшиеся на
высоте. Своды расписаны были изображениями собы-
тий из священной истории.
Голован замер, но от толчка наставника опомнился и
пошел озираясь.
На возвышениях выстроились столы.
Голован поместился возле старичка с седыми воло-
сами, подстриженными скобкой. Старик назвался подь-
ячим Посольского приказа Никодимом Семеновым, С
другой стороны Андрея сел Булат.
Гости собирались. Дружелюбно кивнул Головану
Иван Григорьевич Выродков. За ним прошел стольник
287
Ордынцев, Проследовал тучный князь Воротынский,
Промелькнули знакомые лица Плещеева, Микулинско-
го, Щенятева, С великим почетом провели под руки
митрополита Макария и усадили по левую руку от
царского места; место с правой стороны предназнача-
лось царскому брату Юрию Васильевичу.
Гул разговоров, наполнявший палату, вдруг смолк:
появился царь Иван об руку с братом Юрием. Гости
встали, ожидая, пока царь сядет на свое кресло, поме-
щенное на возвышении; между царем и застольниками 1
оставался промежуток. Царь поклонился гостям; гости
ответили низким поклоном, сели, и палата загудела
тихими разговорами.
Сотни палатных слуг в цветных кафтанах начали
разносить кушанья. Чем больше подавалось перемен на
пиру, чем изобильнее и редкостнее были яства, тем
больше славили гости хозяина. Бояре, учинявшие рос-
пись и порядок кушаньям, постарались на славу.
Одетые в вишневые кафтаны кухонные мужики та-
щили в палату огромные кастрюли, оловянники и рас-
сольники, закрытые крышками. Другие слуги, стоявшие
у столов, в отдалении от гостей, разливали корчиками3
жидкие кушанья по мискам.
Слуга подбежал к Никите и Андрею, поставил перед
ними серебряную мису,
— Шти кислые со свежей рыбой! — объявил он.
Голован не ел с утра. На скатерти стояло блюдо с
кусками пшеничного калача. Голован достал хлеба, с
молодым аппетитом накинулся на щи.
Сосед слева рассмеялся:
— А ты, парень, не больно налегай! Перемен много
будет.
Впрочем, совет не понадобился: едва гости отхлеб-
нули по несколько ложек, как миску утащили и подали
другую:
— Шти кислые с соленой рыбой!
1 Застольники — гости, приглашенные на пир.
2 Роспись — список.
3 Корец, корчик — ковшик.
288
Сотни палатных слуг начали разносить кушанья.
Дальше пошли щи белые со сметаной, щи богатые,
калья1 тетеривиная с огурцами, калья куричья с лимо-
ном, калья утичья со сливами. Потом подавали ухи
горячие: уху щучью с перцем, уху куричью, уху леще-
вую с сорочинским пшеном, уху стерляжью, уху пло-
тичью, уху карасевую черную сладкую, уху с лосиными
ушами, уху щучью шафранную...
Вперемежку с жидкими блюдами разносили пирож-
ки в ореховом масле, пироги подовые кислые с маком,
пироги с сигами, с вязигой, разварную стерлядь и
осетрину, блины.
Голован дивился изобилию, а сосед похохатывал:
— Береги, парень, брюхо! Еще всего много будет!
Царские чашники и кравчие не скупились на напитки.
В братинах, кувшинах, четвертинах и сулеях слуги раз-
носили квасы медвяные и ягодные, меды вареные, став-
леные, пиво, вина добрые — боярские, двойные...
Голован выпил кубок вареного ягодного меду, кото-
рый не показался ему хмельным. Подъячий Никодим
ухмыльнулся и сказал пьяненьким голосом:
— Ты, парень, толк знаешь!
-— А что? — удивился Андрей. — По мне, питье вроде
квасу.
— Вставать будешь — познаешь, каковский это квас!
Голован повернулся к Никите — тот спал, положив
лысую голову на стол: непривычного к питью старика
сморила чаша меда. Андрей взглянул на свой кубок:
слуга успел наполнить опустелую посудину.
— Ой! — удивился Голован. — То и со мной будет,
что с наставником.
А за его спиной появился важный чашник и уговари-
вал выпить. Андрей заметил, что зал гремел выкриками,
смехом, шумными разговорами.
— Как разбуянились! — сказал он соседу.
— Это что! — ухмыльнулся тот. — Пир еще в
половине. Как владыка уйдет, тогда начнется настоящий
пир...
1 Калья — похлебка.
290
Шум стих. Удивленный Андрей поднял голову. Встал
князь Михайла Воротынский, высоко поднял золотой
кубок. Глядя на него, и гости подняли ковши, чары,
корцы... У иных вино лилось на бархатные, алтабасовые
и камчатные скатерти, и на дорогие ковры, устилавшие
лавки, на боярские шубы. Никто этого не замечал.
Поклонившись царю, Воротынский громко загово-
рил:
— Великий государь! Преосвященный владыко! Му-
жи и братие, соратники казанские! Жаждет сердце
растечься похвальными словесами необычному собы-
тию, для празднования коего собрались мы под кровом
нашего царственного хозяина!..
Долго и красно говорил Воротынский и кончил так:
— Провозглашаю сей кубок за здравие великого
царя и государя Ивана Васильевича, всея Руси самодер-
жца, Владимирского, Московского, Новгородского, ца-
ря Казанского, государя Псковского и великого князя
Смоленского...
Долог был царский титул, но князь Михайла прого-
ворил его весь, не пропуская ни единого слова.
Воротынский осушил кубок и оборотил его вверх
дном над головой, показывая, что вина не осталось ни
капли. Его примеру последовали гости: не выпить за царя
у него же на пиру считалось преступлением, которое
прощалось только бесчувственно пьяным.
Волей-неволей выпил и Голован. Никодим хохотнул:
— Пей, парнюга, мед вареный, не пей ставленый —
тот одной чарой с ног сшибает!
Царь благодарил Воротынского за поздравление. Ни-
когда он, не позабудет верных слуг, что вместе с ним
страдали за землю русскую и воротились с победой. Не
забудет и тех, что осталось лежать в сырой земле, в
безвестных могилах...
Митрополит наклонился к царю:
— Слыхал я, государь, ходит в народе упорная молва,
что надобно ознаменовать великое дело памятью веще-
ственной. Как о сем мыслишь?
— А какой же памятью, владыко?
291
— О том надо помыслить...
Этот короткий разговор не остался без важных
последствий.
А тем временем встал князь Троекуров; сказав по-
хвальное слово покорителю Казани, провозгласил здра-
вицу царскому наследнику — новорожденному Дмит-
рию Ивановичу.
Потом воевода Микулинский провозгласил тост за
благоверную царицу Анастасию Романовну...
Здравицы следовали одна за другой. Тем временем
слуги разносили все новые и новые блюда. Пошли
мясные, дичина, рыба.
На столы ставились зайцы в рассоле, говяжьи языки,
щучьи головы с хреном и чесноком, поросята рассоль-
ные, тетерева...
Важным гостям подавались изысканные кушанья,
которых невозможно было наготовить на всех: лосиные
губы и мозги, осетровые пупки, язычки белужьи, све-
жая белорыбица и осетрина (живую рыбу привозили к
царскому столу в бочках с водой за сотни верст).
Заздравные тосты продолжались. Голован заметил,
что митрополита нет возле царя.
— Вот теперя самый пир начнется! — пробормотал
Никодим.
А осенний день подошел к концу, слуги принялись
зажигать свет. Загорелись сотни сальных свеч в стенных
шандалах, в стоячих светильниках, расставленных по-
среди столов.
Над головой пирующих висели фигурные серебря-
ные паникадила1. К каждой свече тянулась нить, натер-
тая серой и порохом. По ниткам побежали огоньки,
свечи запылали. В огромном зале стало светло.
Блюда все несли и несли: зайцы в репе, караси
жареные, колбасы, желудки, начиненные гречневой
кашей, лососина с чесноком, гусиные потроха, вязига в
уксусе, журавли и цапли под взваром с шафраном,
окорока, студни, зайцы в лапше с пирожками, зайцы
черные горячие...
1 Паникадило — вид люстры.
292
К винам подавали закуски: грибы, икру стерляжью,
икру паюсную, соленые арбузы и огурцы, рыжики в
масле, блины с икрой, горох тертый с маслом...
Голован давно ничего не ел, а когда объявляли
здравицу, незаметно выливал кубок под стол: так научил
его опытный Никодим Семенов.
А гости, что называется, распоясались. Крик и шум
переполняли палату, слышалась громкая похвальба, спо-
ры.
Мясные и рыбные перемены кончились. Стали но-
сить сладкое.
Четверо слуг пронесли на огромном блюде к царско-
му месту сахарный город, изображавший, по замыслу
поваров, покоренную Казань. Сахарные хоромы и са-
харная мечеть были обнесены сахарными стенами с
башенками.
Выдумка изобретенных поваров встретила всеоб-
щее одобрение и понравилась Ивану Васильевичу; он
подарил художникам кондитерского дела по полтине1.
Наконец обнесли последнее блюдо, завершавшее, по
обычаю, пир: оладьи с сахаром и медом.
Появление оладий означало: пора собираться домой.
Кто в силах был встать, те кланялись царю, благодарили
за угощение и выбирались из палаты.
Воздух в Грановитой палате сделался душен, свечи
едва горели среди испарений от питий и кушаний. В
тумане мелькали раскрасневшиеся бородатые лица, рас-
стегнутые шубы; под ноги попадали потерянные вла-
дельцами шапки. Ноги скользили по лужам от пролитого
вина и меда...
Голован разбудил своего старого учителя. Они вышли
на свежий воздух, вздохнули с наслаждением и, поша-
тываясь, добрели до кремлевских ворот; там ждал их с
лошадьми Филимон.
— Вот так пир!.. — бормотал Голован.
1 Полтина (полтинник) — пятьдесят копеек.
293
Глава III
ПОЕЗДКА В ВЫБУТИЛО
Г
Казанский поход принес многочисленные награды
отличившимся ратникам и воеводам; не забыл царь и тех,
кто, оставаясь в тылу, неустанным трудом готовил по-
беду.
Федор Григорьевич Ордынцев «за доброе смотрение
над Пушечным двором» и за то, что отлитые им пушки
оказались хороши, был пожалован саном окольничего.
«Эх, отец не дожил, вот бы порадовался!» — подумал
Ордынцев, когда ему сообщили о царской награде.
Голован за усердное и умелое руководство строи-
тельными работами при осаде Казани получил звание
государева розмысла. Теперь путь на родину был ему
открыт. Он уже не беглый монастырский крестьянин, а
строитель, заслуги которого отмечены царем. И Голован
немедленно после получения царского указа собрался
в путь.
По возвращении из Казани Андрей поселил настав-
ника и его приемную внучку в своей избе, а сам ютился
в людской. Но насмешки дворни так надоели зодчим,
что они решили на время увезти Дуню в Выбутино, к
родителям Андрея.
Ясным январским днем 1553 года выехали из Москвы
Андрей, Никита и Дуня.
Дуня ехала на маленькой косматой лошаденке. Де-
вушка тепло укуталась в беличью шубку; из-под мехо-
вой шапки весело глядело разрумяненное морозом ли-
цо. Все нравилось ей на Руси: и огромный город, кото-
рый она только что оставила, и сосновый бор с ветвями,
осыпанными снегом, и новая теплая шубка, и лошадка
Рыжуха, спокойно трусившая по гладкой дороге... Дуня
не знала, что ее беспричинная радость навеяна чувством
юной любви. Но когда на нее с улыбкой взглядывал
Андрей, девушка смущенно опускала глаза.
После семнадцати дней утомительного пути подъез-
жали к Выбутину вечерней порой. Сердце Андрея би-
лось нервно; его сжимала сладкая боль; вот она, родина,
милая, покинутая... Двенадцать лет не был он дома!
294
Показалась длинная улица, растянувшаяся вдоль Ве-
ликой, теперь скованной льдом, занесенной глубоким
снегом.
Голован искал глазами родную избу. Вот и она...
Какой маленькой она показалась!
Андрей вошел в избу, навстречу, поднялись сумер-
ничавшие старики.
— Кого бог нанес? — спросил Илья.
Но материнское сердце уже признало вошедшего.
— Андрюшенька! Кровинушка! — Афимья с плачем
бросилась к сыну.
— Батя! Мамынька!..
Голован поклонился в ноги отцу с матерью. Они
обнимали его, целовали. Афимья начала причитать по
обряду, но в этом причитании слышалась великая ра-
дость матери, снова увидевшей сына.
Отец сильно изменился за протекшие годы. Он стал
ниже Голована, волосы его совсем побелели.
— Андрюшенька! Маленький мой!.. — разливалась
около сына Афимья.
Илья спохватился первый:
— А на дворе, Андрюша, что за люди?
— Ох я безрассудный! Там Булат, наставник мой!
— Булат? Жив?! А мы его по твоим грамоткам за
упокой записали, поминанье подавали...
Илья выбежал на улицу, пригласил спутников сына.
Зажгли лучину. Изба наполнилась шумом, движень-
ем. Булат покрестился перед иконой, облобызался с
хозяевами. Смущенная Дуня стояла возле двери.
— А это кто же с вами, девка-то? — тихонько
спросила Голована мать.
Булат расслышал вопрос:
— Это? Это мне дочку бог послал в чужой земле.
Дуня заплакала. Афимья женским чутьем поняла, как
тяжело и неловко девушке у чужих, незнакомых людей.
Старушка обняла ее, ласково повернула к себе:
— Славная моя, бастенькая1! Годков-то сколько те-
бе?
1 Баский.бастенький — хороший, красивый.
295
Дуня смущенно молчала.
— Чего же робеешь, касаточка? Пойдем-ка, я тебя
обряжу по-нашему, по-хрестьянски!
Через несколько минут все ахнули: за Афимьей
вошли в избу стройная высокая девушка с толстой русой
косой, в нарядном сарафане, с ожерельем на груди. С
миловидного лица смотрели заплаканные, но уже улы-
бающиеся глаза.
— Вот! — привскочил с лавки Илья Большой. — Ай
да сынок! Гадал поймать сокола — словил серу утицу!
Андрей смутился и бросился доставать привезенные
родителям подарки. Матери с поклоном подал персид-
скую шаль, а отцу — теплый кафтан.
Старики обрадовались, как дети.
— Теперь я этот плат в праздники стану надевать, —
говорила Афимья, пряча подарок в укладку.
А Илья нарядился в кафтан и повертывался, стараясь
казаться молодцом.
— Справский кафтан, хошь бы и не мне носить, а
самому тиуну! Ну, спаси тебя бог, сынок!
Голован с грустью смотрел на когда-то могучего
отца, сильнее которого, казалось, не было никого на
свете...
Стали укладываться спать. Дуня со старухой забра-
лись на печку, а мужчины легли на полу.
— Ну, теперя, сынок, все поряду сказывай! —
вымолвил Илья, обнимая шею сына здоровой рукой. —
Шутка ли: двенадцать годов прошло, как тебя не видали!
А все денно-нощно о тебе думали...
— Поличье, что ты с меня списал, я доселе хра-
ню, — улыбнувшись сквозь слезы, отозвалась старая
Афимья.
Разговор продолжался всю ночь. Усталая Дуня засну-
ла, доверчиво прижавшись к Афимье, а остальные не
сомкнули глаз.
Голован объявил отцу, что прогостит в Выбутине
недолго. Старики не спорили: они понимали, что такой
сын, как Голован — отрезанный ломоть. Зато как обра-
296
довались они, когда Булат попросил разрешения оста-
вить у них Дуню.
— Есть у меня заветная думка побродить по Руси с
Андрюшей, покуда ноги носят, — объяснил он Илье. —
А коли нас не будет, где девке приют найти? — изобидят
сироту.
— Да господи, — заторопилась Афимья, — мы уже
так рады!
— Как ты, ласковая, мыслишь? — спросил Дуню
Илья.
— Я останусь, — потупилась девушка.
— Ну вот и хорошо! Будешь у меня отецкая дочь!
— А мне сестрица! — добавил Андрей.
Никита бросил на него испытующий взгляд, но па-
рень был спокоен, и ничего, кроме братской нежности,
не увидел старик на его лице.
Игумен Паисий, сильно постаревший, но еще бод-
рый, приехал поздравить Голована с приездом. До хит-
рого монаха дошли вести, кем стал Андрей, и он по-
нимал, что царского розмысла ему не притеснить. Он
даже обещал дать всяческие послабления его семье.
Отъезжая, Голован оставил родителям тридцать руб-
лей из денег, что скопил на выкуп наставника. Отец
обнял сына:
— Нам этого вовек не прожить!
Прощаясь, Булат обнял внучку:
— Прощай, Дунюшка! Не горюй, слушайся новых
батьку с маткой, а мы, как можно станет, за тобой
пришлем.
Голован тоже подошел к Дуне:
— Прощай, сестричка!
Он обнял в поцеловал Дуню. Девушка покраснела
так, что, казалось, вот-вот брызнет кровь сквозь румя-
ные щеки.
297
Глава IV
ЦАРЬ И МИТРОПОЛИТ
Прошел год со времени покорения Казани.
В ноябре 1553 года царь посетил митрополита. Когда
его крытый возок остановился у красного крыльца, на
митрополичьем дворе поднялась суматоха. Забегали
митрополичьи бояре, стольники и спальники. Показался
в дверях и сам Макарий, тонкий, согбенный; он спешил
приветствовать дорогого гостя.
Царь отпустил приближенных митрополита и сказал:
— Хочу с тобой, владыко, в благодатной тишине
побеседовать.
— Доброе дело! Пойдем в моленную.
Прошли в полумрак комнаты, освещенной лампада-
ми.
На потолке колебались отражения огней. Было теп-
ло, пахло ладаном. Дюжий служка ворошил дрова в
печи, из-под кочерги брызгали искры.
— Выйди!
Служка бесшумно удалился.
Владыка посадил царя в глубокое кожаное кресло,
сам скромно сел на низенькую деревянную скамейку.
Царь долго молчал, наслаждаясь покоем; заговорил
тихо, доверчиво:
— Раздумался я, отче, о судьбе человеческой, о
своей жизни, о том, что свершил я и что свершить
осталось... и потянуло к тебе!
— Челом, государь, за сие бью! — Макарий при-
встал, поклонился. — Что держишь на мыслях, сыне?
— Много раз вспоминал я, владыко, о словах твоих,
что были сказаны в прошлом году на пире. Память
вещественную, сказал ты, надо оставить о славном
походе и о воинах русских, сгибших под Казанью.
Держал совет я с людьми, и надумали мы поставить
храм — памятник в честь казанского взятия... Али,
может, всуе1 думы мои, владыко пречестной, гордыня
обуяла?..
1 Всуе — напрасно.
298
Царь нетерпеливо всматривался в спокойное лицо
митрополита, слабо освещенное мерцающим огнем лам-
пад. Макарий ответил на вопрос задумчиво, потихоньку
перебирая янтарные зерна лежавшей на его коленях
лестовки1:
— Жития нашего время яко вода, дни наши, яко дым,
в воздухе развеваются. Но коли мыслишь оставить о
наших днях память вещественную, греха в том, сыне, не
вижу!
Иван Васильевич просиял:
— Воздвигнуть бы нам храм, какого спокон веку на
Руси не бывало! Долго нас по тому храму вспоминать
будут, а, владыко?
— Замыслил доброе, — ответил Макарий, а про себя
подумал: «Святой церкви то польза будет, возвеличе-
ние».
— Утешны мне сии мудрые речи, владыко! Побесе-
дуешь с тобой — и душа очищается от житейских
тревог. Как твои «Четьи-Минеи»?1 2
1 Лестовки, или четки, — кожаная полоска с нашитыми
на нее шариками или зернами. По зернам лестовки молящиеся
отсчитывали молитвы или поклоны.
2 «Четьи-Минеи» — ежемесячное чтение.
299
Просвещение на Руси сильно пострадало в мрачную
эпоху татарщины. В сожженных городах и монастырях
погибло много ценнейших древних рукописей, но нема-
ло еще ходило по Руси списков различных книг: жития
святых, послания русских князей, описания путешест-
вий, сборники под названием «Пчелы», куда трудолю-
бивый составитель включал все, о чем слышал и узнавал
от разных людей, подобно тому, как пчела тащит в улей
мед с многих цветов...
Митрополит Макарий взялся за огромную задачу:
сберечь от забвения, собрать воедино памятники рус-
ской письменности, по преимуществу церковной, рас-
пределить по двадцати объемистым книгам, озаглавив
каждую названием месяца.
Вопрос о «Четьях-Минеях», заданный царем, был
чрезвычайно приятен митрополиту. Морщинистое лицо
Макария с седым клинышком бороды как-то помоло-
дело, впалые глаза оживились. Он заговорил с вооду-
шевлением:
— С божьей помощью приведено к концу собирание
двенадцати великих книг. Сколько затрачено трудов!
Двенадцать лет переписывали писцы, и не щадил я
серебра... А сколько подвига, государь, потрачено для
исправления иноземных и древних речений, чтобы пе-
ревести оные на русскую речь! Сколько я мог, столько
и исправил. Что не доделал, пускай иные доканчивают
и исправляют...
Царь от души поздравил митрополита:
— Радуюсь твоей радостью, пресвятый владыко!
Великое свершил дело для просвещения Руси. Теперь
только побольше бы списывали от твоих «Миней». Ох,
списывание, списывание! Мыслю я, владыко, печатню
завести...
— Книги печатать? Доброе зачинание, благослов-
ляю...
— Дьякон Никольской церкви Иван Федоров да
Петр Мстиславец приходили ко мне — повелел им быть
печатниками...
— Начинает Русь выходить из тьмы невежества!
300
— О построений храма не устану думать...
— Думай, государь!
— Снова и снова будем о нем беседовать...
Глава V
ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Царь и митрополит сходились чуть не каждый день
потолковать о великом замысле — построить храм на
удивление Руси и другим странам.
Иногда при разговорах присутствовал Иван Тимофе-
евич Клобуков. Рыжебородый, низенький дьяк знал
латинский и немецкий языки и служил царю толмачом
при тайных встречах с иностранцами, устраиваемых
помимо Посольского приказа.
Клобукову, человеку большого ума и образованно-
сти, замысел пришелся по душе.
— Храм таковой, без сомнения, воздвигнуть мо-
жем, — говорил дьяк. — Только не растянуть бы дело
на десятки, а то и на сотни лет, как в иных странах
водится. Слыхал я, в Паризии1 собор богоматери три
века поднимали...
— Быстро будем строить, — отвечал Иван Василье-
вич.
Сойдясь, разговаривали о замечательных стройках
прошлого.
Макарию в юности пришлось встречаться с зодчим
великого князя Ивана III — Ермолиным.
— В нашем кремлевском Вознесенском монастыре
церковь полуобваленная стояла, — рассказывал митро-
полит. — Димитрия Ивановича Донского супруга Ов-
дотья строила — не достроила. Сына его Василия Ди-
митриевича супруга Софья Витовтовна строила — не
достроила. Зодчие не могли свод вывести... Прабабка
твоя, великая княгиня Марья Ярославна, порешила до-
кончить дело. А уж церковь вовсе обветшала, обгорела
даже пожарами многими. И взялся за восстановление
1 Париже.
301
Ермолин. Думали, разломает все и сызнова примется
ставить. А он, великий искусник, что сотворил? Он
ветхое обновил, как живой водой спрыснул, камнем да
кирпичом обложил, своды довел — и таковое из праха
поднял пречудесное строение, что люди дивились... Вот
какие живали в старину зодчие!
— Найдутся и теперь такие! — уверял Клобуков.
Рассказывал митрополит и о перестройке кремлев-
ских стен, затеянной дедом царя, тоже Иваном Василь-
евичем. Макарий был тогда юношей и хорошо помнил
эту грандиозную стройку.
— В старину Кремль являл собою прехитрый лави-
ринфус1 тупиков, улиц, улочек и переулочков. Ни прой-
ти, ни проехать... Создался сей лавиринфус без намере-
ния людского, делом случая: кто где хотел, там и стро-
ился... Тот же Ермолин взялся за перестройку. Ломка
была!.. Зодчему твой дед выдал полную волю распоря-
жаться. По Кремлю только щепки полетели! Строители
не щадили ни бояр, ни гостей, ни попов-дьяконов.
Епископы и те возроптали. Ермолин церквушки сносил!
Но ни мольбы, ни челобитные великому князю не
помогали. «Ермолин приказал? Пусть вершится по его
велению!» Тогда и воздвиглись благолепные каменные
стены и хоромы, что ныне зрим...
— Перескажу я, государь, слова иноземных рыца-
рей, — заговорил Клобуков. — «Ваш аркос1 2 Кремлин —
это они его так зовут — столь сильная крепость, како-
вых и в Европии мало. Знаем, — говорят, — только
Медиолан3 да Метц, что могут с вашим Кремлином
равняться. Да и то крепости сии слабее...»
— Великое, великое дело совершил твой дед, госу-
дарь! — молвил митрополит.
После каждой встречи с Макарием в царе все силь-
нее зрело желание помериться славой с предками.
Смущал Ивана Васильевича вопрос, кому поручить
строительство.
1 Лабиринт.
2 Аркос — замок.
3 Медиолан — Милан.
302
— Может, из чужой страны мастеров добудем? —
заикнулся он раз.
— Ни боже мой! — вставил Клобуков. — Своих
найдем, русских. Русской славы памятник воздвигаем,
чуждый дух нельзя вносить! Да и то скажу: в воинском
деле превзошли мы иноземцев — надо и в строительстве
показать свое самобытное. Великое это дело — явить
миру, на что русский народ способен!
Макарий согласно кивнул головой.
Царь поднялся:
— Воля твоя мне закон, владыко святый!
Наконец царь приказал Клобукову:
— Довольно слов, Тимофеевич! Работу пора зачи-
нать. Ищи умелых строителей.
* * *
Для Клобукова наступило хлопотливое время. Мно-
го на Руси хороших строителей, но надо выбрать са-
мых лучших, надо найти таких, которые сумели бы
понять величие царского замысла и этот замысел осу-
ществить.
Иван Тимофеевич встречался с бывалыми людьми,
расспрашивал о знаменитых зодчих и о строениях, ими
возведенных. Многие называли Клобукову имя славного
строителя Бармы.
Но, как часто случается, говоря о Барме и о его
громкой известности, люди не могли припомнить, что он
построил. А добросовестный Клобуков не хотел указы-
вать царю и митрополиту зодчего, образец искусства
которого нельзя посмотреть.
Расспросы о Барме продолжались. Наконец Клобу-
кову посчастливилось. От престарелого игумена Анд-
роньевского монастыря Палладия Клобуков узнал, что
прекрасный храм, поставленный в селе Дьякове и за-
конченный в 1529 году, построен был зодчим Бармой.
Иван Тимофеевич съездил в недальнее Дьяково, и
церковь ему чрезвычайно понравилась.
После разговора с Палладием прошло несколько
дней. Клобуков сидел в гостях у окольничего Ордынце-
303
ва и делился с ним заботой — как разыскать лучшего
зодчего на Руси.
— Погоди, Иван Тимофеевич, — оживился Ордын-
цев, — посоветуемся с Голованом.
На недоумевающий взгляд Клобукова хозяин пояс-
нил:
— Это зодчий, что мне хоромы строил. Молод, а дело
знает. Он со своим наставником Булатом по Руси ходил,
да недавно вернулись: ослабел старик, на покой запро-
сился. А живут они на моей усадьбе.
Голован оказался дома. Через несколько минут он
появился в горнице. Ордынцев усадил его, приказал
слуге поднести Андрею чару меду.
— Вот что, Ильин! — заговорил Ордынцев. — При-
звали мы тебя порасспросить об одном деле. Ты про
зодчего Барму слышал?
— Кто же про него не слыхал, боярин! — удивленно
воскликнул Голован. — Барма да Постник всей Руси
ведомы... Я, когда строил, во многих краях побывал, а
чтоб были мастера лучше Бармы да Постника, о том не
слыхивал...
— Видишь, Григорьевич, и этот со всеми в одно слово
говорит! —- обратился к Ордынцеву радостный Клобу-
ков. — Ну-ну, человече, поведай нам про их строения.
Голован с увлечением рассказал о поставленных
знаменитыми зодчими палатах и храмах, которые ему
довелось видеть во время странствий по Руси. И так как
Андрей был знаток своего дела, он сумел раскрыть
Клобукову и Ордынцеву своеобразие работ Постника и
Бармы.
— Так, так, парень! Видать по всему, это те самые,
которые нам надобны! — молвил Клобуков.
— А позволь спросить, господин, для какого строи-
тельства? — несмело задал вопрос Голован.
— Сие — тайна государева и рано об этом говорить,
ну да тебе поведаю, только до времени молчи, —
ответил дьяк. — Задумал государь Иван Васильевич
поставить дивный храм — памятник в честь казанского
взятия...
304
— Лучше Бармы с Постником никому такой храм не
построить! — с убеждением воскликнул Голован.
Розмысла отпустили, и он пошел к себе, думая, что
хорошо бы поработать на новом строительстве помощ-
ником Бармы и Постника.
Глава VI
БАРМА И ПОСТНИК
Клобуков доложил царю, к чему привели розыски.
Макарий вспомнил имя Бармы, похвалил дьяковский
храм; хотя митрополит не видел его много лет, но
воспоминание о величавом строении сохранилось у него
прочно.
— Да, такой зодчий сможет выполнить великое
дело... — задумчиво сказал Макарий.
Царь указал: разыскать Барму и Постника. Осмотр
дьяковского храма решили произвести позднее, в при-
сутствии самого строителя.
Перед Клобуковым встала новая задача: спешно ра-
зыскать зодчих. А где их искать? Русь обширна, и никто
не знает, в каком краю строят Барма и Постник.
Но царь торопил, и ко всем наместникам поскакали
гонцы с наказами:
«Буде в той области, коей ты, боярин, правишь,
сыщутся знаменитые зодчие Барма и Постник, не меш-
кая ни единого дня, отправить оных в Москву под
строгим смотрением, и если в том государевом деле
покажешь ты, боярин, небрежение, то ответ с тебя
будет спрошен по всей строгости...»
На местах царский наказ наделал немало переполо-
ха. Иные наместники вообразили, что Постник и Барма
сбегут, если узнают, что их ищут, а потому и розыск
велся тайно. Другие рассудили более здраво: если зод-
чие названы знаменитыми, значит их ждет царская
милость, и надо искать их всенародно. По городам и
селам пошли бирючи, громогласно обещая награду тому,
кто доведет до сведения властей о местопребывании
Постника и Бармы.
305
След зодчих отыскался под Ярославлем, в Толгском
монастыре; там исправляли они монастырские стены.
Обрадованный наместник отправил за зодчими це-
лый отряд во главе с приставом. Приказ был такой:
немедленно забрать Постника и Барму и везти в Москву
под строгим присмотром.
Наместник так долго внушал приставу важность по-
рученного ему царского дела, что тот хотел сковать
зодчих по рукам и ногам, опасаясь злоумышленного их
побега. Постник долго убеждал его, что они бежать не
собираются, и сунул щедрое подношение; тогда пристав
обошелся со строителями более мягко: усадил каждого
в отдельную телегу и окружил плотным кольцом стрель-
цов.
Так Постник с Бармой и были двоставлены в Москву
и водворены в избе Посольского приказа. Иван Тимо-
феевич Клобуков навестил зодчих в тот день, как они
приехали, и долго беседовал с ними.
О ж;изни своей зодчие рассказывали скупо.
— О чем много говорить! — удивлялся Барма, коре-
настый старик с кудрявой седой головой. — Ходили по
Руси, строили. Там годик проработал, там другой, с
места на место, из города в город, из села в село —
глянул на себя, а уж и старость подошла, и голова в
серебре... Так и прожил я век бобылем, за работой
жениться не поспел. Вот говорю Постнику: «Эй, парень,
пока не поздно, обзаводись семьей, а то останешься
одиночкой, как я!» Так и ему все некогда да недосуг...
Постник, русоголовый, мощного сложения мужчина,
уже доживающий четвертый десяток лет, добродушно
улыбался:
— Нейдут за меня невесты: кочую я с молодых лет
с наставником, гнезда доселе не свил. Вот ужо надо
съездить на родину, в Псков, там домищко поставить —
может, тогда и семьянином сделаюсь...
Зато о своих стройках Барма и Постник говорили
много и охотно. Барма подробно рассказал, как строил
он для великого князя Василия Ивановича храм в Дья-
кове. Василий Иванович, хоть и был обременен государ-
306
ственными делами, все же очень интересовался строи-
тельством, частенько наезжал в Дьяково. А когда по-
строен был храм, щедро наградил Барму и хотел пода-
рить каменные палаты в Москве.
— Мне воля дорога, государь, — ответил тогда
Барма, — и эти палаты будут мне, как железная клетка
птице...
И зодчий снова пошел странствовать по Руси. При-
влеченный его славой псковитянин Иван Яковлев, по
прозванию Постник^ пришел к нему учеником, и с тех
пор в продолжение многих лет они неразлучны. Постник
не оставлял старого наставника, хоть давно сравнялся с
ним мастерством.
Клобуков не скрыл от зодчих, с какой целью привез-
ли их в Москву и какие надежды на них возлагаются,
но просил никому не говорить о царских замыслах.
Разговором с зодчими Клобуков остался доволен и
доложил о их прибытии царю. Через два дня состоялся
прием.
Сбоку царя сидел митрополит в простой, не пышной
рясе; позади стоял Клобуков, поглаживая окладистую
рыжую бороду и делая Постнику успокоительные знаки.
— Вот мы, твои слуги, государь! — сказал Барма. —
Требовал нас перед свои светлые очи?
— Жалую вас на прибытии, — ответил царь. — Как
тебя земля, старче, носит?
— Как твоему батюшке, великому князю Василию
Ивановичу, служил, так и твоему царскому величеству
могу еще послужить! — Голос Бармы был спокоен и
радостен.
— Я чаю, рассказывал вам Тимофеевич, зачем при-
звали мы вас. По долгом рассуждении приговорили мы
построить на Москве пречудесный храм в память вели-
кого казанского похода...
— Слыхали, государь!
— Такой надо памятник поставить, чтоб века стоял,
напоминал о воинах безвестных, положивших голову за
дело русское, хрестьянское! — Голос царя гремел, щеки
пылали.
307
— Великое дело, государь!.. — согласился Барма.
— Не все еще сказано! — прервал его царь. — Надо
такой храм поставить, какого на Руси не бывало с начала
времен и чтоб иноземцы, на оный посмотрев, диву бы
дались и сказали бы: «Умеют русские строит!» Вот что
мы держим с преподобным владыкой на мысли! Понят-
но вам сие, зодчие?
Митрополит кивком выразил полное согласие с ца-
рем. Клобуков из-за царской спины поощрительно улы-
бался.
— Рад слышать такие речи, государь! — сказал
Барма.
— А ты что молчишь, Постник?
— В чину учимых я, государь, — скромно ответил
Постник. — Решать подобает наставнику, а я из его воли
не уклонюсь...
— Мнится, государь, это те мастера, какие нам
надобны, — молвил Макарий.
— Возьмешься, Барма? Ответствуй! — обратился к
зодчему царь.
Барма низко поклонился:
— Коли не в труд будет, великий государь, повреме-
ни до завтра. Тяжек ответ. Возьмемся — пятиться
некуда!
— Дело большое, подумайте, — согласился Иван
Васильевич.
На другой день разговор возобновился.
— Беремся строить, государь, — заявил Барма, по-
приветствовав царя. — Как от счастья отказываться!
— Супротивничать не смеем, — сказал и свое слово
Постник.
— Шубейками со своих плеч вас жалую! — восклик-
нул довольный царь. — Будете у меня в приближении.
Барма смело возразил:
— За тем не гонимся, государь! Но и не отнекиваемся
от милости, ибо коли не будем у тебя в чести, то бояре
твои помехи нам станут строить.
Лицо царя потемнело, глаза взглянули сердито:
— Уж эти мне бояре! Сидят у себя во дворах, как
308
сомы в омутах, думают — я их не достигну. Да нет,
шалят, у Ивана Московского руки длинные!.. И вы бояр
не опасайтесь. Но... работать у меня!
— С делом не справимся — ответ будем держать! —
твердо сказал Барма. — Только и ты нам препон не чини:
чтоб мы были делу хозяева. А то ежели сей день так, а
завтра иначе, то и зачинать не станем...
Речь Бармы понравилась царю:
— Владыко, слышь, как поговаривает? Это ермолин-
ский дух в нем! Помнишь, ты мне про Ермолина расска-
зывал и мы гадали, есть ныне таковые мастера али нет?
Макарий смотрел одобрительно:
— Прав он, государь. Кому много дано, с того много
и спрашивается. Но чтобы спрашивать, надо дать.
— Смел, смел ты, Барма! — оживленно продолжал
Иван Васильевич. — За такие дерзостные речи голову
отрубить али помиловать? Помилую: не убоялся ты
моего гнева и молвил прямое слово!
Барма сказал:
— Дозволь, государь, сказать: строить будем из
камня?
— А вы как полагаете?
— Дерево — бренно, камень — вечен.
— Строить будем из камня, — решил царь.
— По отчей старине, — добавил митрополит. —
Зачинайте же, чада, делать оклады1.
— На такой храм оклады сделать и всю видимость
изобразить — дело долгое, государь, — сказал Барма. —
И хоть Постник на это великий искусник, а все же
много месяцев понадобится. И упреждаю, государь: ты
нас не торопи — излишним поспешением делу повре-
дим.
— Будь по-вашему, — согласился царь. — Все бла-
гопотребное получите. Знаю, многие найдутся у вас ко
мне дела, посему определяю: доступ вам в мой дворец
во всякое время открыт.
— И ко мне тоже, — добавил Макарий.
1 Оклады — чертежи, проект.
309
it it it
Через несколько дней царь в сопровождении митро-
полита, ближайших бояр и зодчих Постника и Бармы
совершил Поездку в село Дьяково осмотреть тамошний
храм.
Барма водил царя Ивана по приделам, объяснял,
как строил храм, почему расположил его именно так.
Больше двух десятков лет прошло с тех пор, как
Барма в последний раз оглядывал прекрасное создание
своего гения. Ему тогда казалось, что он уже старик. Но
теперь Барма понял, как был в то время молод и как
умудрила его жизнь за прожитые с тех пор годы.
— Расположение этого храма, государь, — говорил
Барма, — взято из древних образцов деревянных наших
церквей. Мы, русские зодчие, не хотели следовать
образцам византийским, с их четырехугольным видом,
более пригодным для палат. Древним русским церквам
с прирубами, с шатровым покрытием подобен сей храм;
он сложен из камня, но, по желанию строителей, мог
быть и древян...
Пятиглавый дьяковский храм очень понравился ца-
рю и сопровождавшим его лицам. Храм не был увен-
чан пятью шатрами, но намечался переход к ним. Цен-
тральная, самая высокая глава опиралась на восемь
коротких колонн, которые скрадывали переход от
восьмигранника центральной башни к световому круг-
лому барабану.
— Зело благолепен вид сего храма, — говорил
митрополит. — Знаю его давно, но после твоих разъяс-
нений, Барма, новыми глазами на него взираю.
— В таком роде думаете строить? — спросил Иван
у зодчих.
— Намного и больше и лучше постараемся, государь,
сделать! — заверили зодчие. — Все силы положим в
новый собор, чтобы дивен он был и красовался на
удивление и хвалу...
310
Глава VII
ВЫБОР МЕСТА
Прежде чем взяться за разработку чертежей, зодчие
попросили указать место для храма.
— Место, где воздвигается строение, великую важ-
ность имеет, — говорил Барма митрополиту. — Иное
дело, когда храм на возвышенности и виден издалека,
ино дело, когда окружен домами и хоромами. Стоит ли
одиноко — один вид, строения ли вокруг — другой...
Посоветовавшись с царем, Макарий предоставил
выбор места зодчим:
— Найдите, а мы посмотрим!
Постник предложил строить новый храм в Кремле.
Барма не согласился.
— От народа отходишь, Иван, — укоризненно пока-
чал кудрявой седой головой старик. — Хочешь строить
нетленное, а не проникся духом, какой надобен! Что мы
строим? Памятник ратной славы! Чьей славы? — Он
огляделся и, хотя в избе никого не было, придвинулся
к Постнику и понизил голос: — Кто Казань брал? Брали
стрельцы, казаки, добровольные ратники... Кто сложил
голову под вражьим городом? Все они же — безвестные
люди русские! Им, этим подвижникам и страстотерпцам
за родную землю, — им воздвигнем вечный памятник!
Где ему стоять? Там ли, среди боярских палат и царских
дворцов — в Кремле, где люди без шапки ходят, али
там, где простой народ шумит, бурлит, как волна мор-
ская?
Постник опустил голову:
— Прости, наставник, неправо я судил!
Решили ставить храм в самом многолюдстве, на виду
у народных масс.
Учитель с учеником пошли по Москве, хоть и знали
ее хорошо.
Замоскворечье откинули сразу. В Занеглименье тоже
не представлялось подходящего места. Шумная Лубянка
казалась пригодной. Однако зодчие прошли и ее и
отправились на Пожар. Людское море поглотило их...
311
Барма и Порстник, еле выбравшись из многотысяч-
ного людского сборища, переглянулись.
— Тут и строить! — воскликнул ученик.
— Самое сердце города — отозвался наставник.
— А церкви? — спохватился Постник. — Здесь же
церкви стоят...
— Какие это церкви! Убожество одно... Мы их
сломаем и на том месте воздвигнем наш храм. Чего
лучше! Место открытое, издалека видать: и от Москвы-
реки, и от Неглинки, и даже из Кремля, — улыбнулся
Барма. — Самое ему тут место! И всю окрестность он
скрасит.
Постник помялся:
— Наставник, больно много тут непотребства творит-
ся: сквернословят, дерутся...
— Не смущайся, Ваня! Может, иной ругатель али
драчун, взглянув на памятник и вспомнив, что он знаме-
нует, постыдится и воздержится от зла. Вот и заслуга
наша будет...
— У тебя, учитель, на все готов ответ! — прошептал
Постник.
— Многому я жизнью научен; доживешь до моих лет,
и ты наберешься опыта...
Барма доложил митрополиту о выборе места. Зодчих
призвали к царю, где Барма изложил свои соображения.
— Местом я доволен, зодчие, — сказал царь. —
Надобно, не мешкая, сыскивать ломцов1 и приступить к
сносу церквушек, место расчищать...
Глава VIII
НОВЫЕ ЗАБОТЫ ОРДЫНЦЕВА
Барма просил митрополита указать число престолов
в храме. От этого зависела величина храма и располо-
жение частей. Храм — не дворец, не жилые палаты: его
план имеет символическое значение, объясняемое цер-
ковными обычаями.
1 Ломцы — рабочие, разрушавшие старые строения.
312
Для обсуждения важного вопроса о престолах опять
собрались у царя ближайшие зачинатели строительства:
митрополит, дьяк Клобуков, зодчие Барма и Постник.
Митрополит заговорил тихо, раздумчиво:
— Храм, бессомненно, надобно ставить многопре-
стольный. Вельми1 трудное дело — избрать имена свя-
тых, во имя которых воздвигнутся престолы. И я уже
их избрал...
Барма сказал:
— Дозволь спросить, владыко пресвятый: какие со-
изволишь поставить престолы?
Макарий разъяснил слушателям: избранные наиме-
нования церквей напоминают о важных событиях и
битвах, случившихся при взятии Казани.
1 октября, в праздник покрова богородицы, русская
рать готовилась к решительному, последнему приступу.
Митрополит считал, что надо воздать честь богородице
за покровительство русскому воинству. И он назвал
центральный храм Покровским.
30 августа, в день памяти Александра Свирского,
было разбито войско Япанчи. В память этого Макарий
нарек один из приделов именем Александра Свирского.
Еще один из приделов был назван именем армянско-
го святого Григория — в честь тех безвестных армян-
ских пушкарей, которых даже угроза смерти не могла
заставить идти против русских братьев.
Так названия церквей составили краткую летопись
казанского похода.
— Великая вам задача, строители! — заканчивая
речь, обратился митрополит к Барме и Постнику. —
Около главного храма в честь покрова пресвятыя бого-
родицы расположите семь храмов вышереченных, и
воздвигнется чудное собрание храмов, собор, каковое
слово к нам от прадедов перешло...
Барма что-то прикидывал в уме и соображал: это
видно было по движениям его рук. Он успел перешеп-
нуться с Постником, который его понял и одобрил.
1 Вельми — весьма.
313
— Дозвольте слово молвить, государь и преподобный
владыко! Семь храмов окрест главного храма поставить
неможно. Зрелище получится не радостное, а беспоря-
дочное. Надобно ставить вокруг главного восемь хра-
мов: четыре по четырем сторонам света да другие
четыре промежду ними. Тогда возымеем полное совер-
шенство и со всех сторон равный и глаз восхищающий
вид...
— Так, государь! — подтвердил Постник.
— Ладно, верю вам. Сделаем восемь престолов
вокруг большого.
На этом решении остановились.
Главным смотрителем будущего строения царь назна-
чил Федора Ордынцева. Этому назначению предшест-
вовал разговор Ивана Васильевича с его любимцем.
Когда Ордынцев вошел в палату, царь сидел на лавке
в узком в темносинем терлике1 с золотыми разводами,
в простой бархатной скуфейке, прикрывавшей стри-
женные в кружок волосы. Перед ним лежали шахматы
из слоновой кости; Иван Васильевич внимательно их
пересматривал.
— А, Григорьевич! — ласково воскликнул царь. —
Как жив?
— Твоими благодеяниями, государь! Здрав будь на
многие лета!
Ордынцев низко, до земли, поклонился царю.
— Вот, любуюсь шахматами дивной работы. Персид-
ского государя подарок. Умеешь, Григорьевич, сей иг-
ре? А то бы сыграли!
— Не обучен, государь! — развел руками окольни-
чий.
— То-то! — самодовольно сказал царь. — Потому
люблю искусство шахматного боя, что имеет оно род-
ство с воинским боем... Знаешь, зачем тебя позвал? —
круто переменил разговор.
1 Терлик — род кафтана.
314
— Не ведаю, государь!
— Хочу тебе отдых дать от пушечных дел!
Ордынцев покраснел:
— Али не угодил, государь? Худо работаю?
— Работаешь хорошо и, знаю, выучил способных
помощников. Одного из них, по твоему выбору, и поста-
вим на твое место. А тебе иная забота: станешь у меня
ведать строительством собора. Дело вельми большое...
— Неужто другой на это не найдется? — огорченно
спросил Федор Григорьевич.
— Охотников много, да руки у них липкие, — зло
ответил царь. — А твою честность я знаю. Сам не
будешь воровать и другим не дашь.
— Трудная задача, государь...
— Знаю, что трудная, но ты старайся. И помни,
Григорьевич: я тебя с Пушечного снимаю на время.
Казань мы великими трудами и кровью повоевали. Ду-
маешь, все? — Иван значительно поднял палец. — Ныне
главное зачнется! Западу ли по душе, что Россия возвы-
шается, что становится твердой ногой на доселе оттор-
гнутых у нее землях? Говорю тебе: поднимутся на нас
и поляки, и ливонские рыцари, и свей, и немцы — все
дорогие соседушки... И надобно их встретить достойно!
А посему про пушки забывать не будем!
— Дозволь, государь, слово молвить. Строительст-
во — дело великое, и я за него берусь. Но ты уж
разреши мне и на Пушечный заглядывать, чтобы там
дело не разладилось...
— Вот это твое прошение мне по душе! Вижу, верный
ты слуга и нелицемерно о государственном деле печешь-
ся. И быть по сему!
Ордынцеву пришлось взяться за новое дело.
Царская грамота приказывала разыскать по ближним
посадам и уездам все сараи и печи, где выделывался
кирпич и где обжигалась известь. Приказано было
записать их на царское имя, починить и заново покрыть.
Повелевалось строить новые печи и сараи, заготовлять
лес и дрова, ломать известковый и бутовый камень.
Всеми этими хозяйственными делами должен был
315
ведать окольничий Федор Григорьевич. Он же отвечал
за царскую казну, отпущенную для стройки. Но так как
одному человеку невозможно было справиться с таким
громадным делом, то в помощь Ордынцеву было выбра-
но из московских посадских людей десять целовальни-
ков.
Эти целовальники должны были ведать денежными
расходами по разным статьям, записывать расходы в
книги и скреплять собственноручной подписью. Для
рассылки по мелким поручениям приставили двадцать
детей боярских.
На Ордынцева возлагалась нелегкая задача: смотреть
за целовальниками и детьми боярскими, чтобы они не
расхищали казенное добро, не брали посулов и прино-
шений.
Тому, кто будет расточать строительные материалы,
посулы брать и работать нечестно, царский указ грозил
смертной казнью.
Читая и перечитывая указ, Ордынцев вздыхал:
— Трудно! Ах, трудно!
Собрав целовальников, присланных из Дворцового
приказа, Ордынцев сурово внушал им:
— Коли вы, презрев страх божий и уставы государ-
ственные, заворуетесь злокозненно, за то вам, татям,
нещадное будет мучительство!..
Староста целовальников — большеголовый, больше-
бородый Важен Пущин — скромно улыбнулся:
— Будь покоен, государь боярин, мы завсегда госпо-
да бога помним!
Но по искоркам, мелькавшим в плутоватых глазах
Бажена, Ордынцев решил:
«Заворуются, негодники!»
Однако делать было нечего, приходилось распреде-
лять обязанности между целовальниками. Одного посы-
лал на каменоломни, другого — приводить в порядок
кирпичное дело, третьему поручалось наблюдать за
валкой леса. Надо было также следить за сплавом
запасов по Москве-реке, принимать материалы на мес-
те, строить склады на берегу, возводить бараки для
строителей Покровского собора.
316
По городам были разосланы указы:
«А какие в городах и волостях сидят наместники и
волостели, и тем касающиеся стройки приказы околь-
ничего Ордынцева исполнять...»
Но дальше опять строго напоминалось:
«Аще кто из строителей либо целовальников учнет
воровать, и тех сужу я, царь и великий государь всея
Руси...»
Суеты хватало Ордынцеву по горло. Всех надо было
проверить, за всеми следить. Целовальники на куплен-
ное доставляли счета от купцов. Однако и на купцов
полагаться не приходилось. О них недаром сложилось
присловье: «Купец, что стрелец, промашки не даст!»
Ордынцев потерял покой, похудел; а впереди еще
много трудов, целые годы... Федор Григорьевич с гру-
стью вспоминал Пушечный двор, где хотя и много было
работы, да вся под рукой. А теперь и на Пушечный почти
не удавалось заглядывать.
Глава IX
ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГАНСА ФРИДМАНА
«Высокородному господину придворному архитектору
Отто Фогелю.
Любезный и почтенный друг!
Не больше шести месяцев прошло, как мы виделись
в Дрездене, и вот я, небезызвестный тебе саксонский
архитектор Ганс Фридман, успел совершить далекое и
опасное путешествие в Московию и пишу из столицы
этого северного государства.
Я не смог повидаться с тобой перед отъездом, и ты,
без сомнения, спросишь, что заставило меня принять
неожиданное решение.
Сознаюсь, я принял его после долгих колебаний: не
такое простое дело — пуститься на край света, в страну,
которую мы так мало знаем. Но я не видел иного выхода.
Мне далеко перевалило за тридцать, а я не имею
семейного очага. Как содержать жену и детей на мой
317
скудный заработок? Мы — старые друзья, вместе учи-
лись, и ты знаешь, что я искусный и знающий архитек-
тор, но мне так редко доставалась работа! В Германии
слишком мало строят, а если выпадет счастливый слу-
чай, то найдется удачливый соперник, который выхватит
фортуну из-под носа.
Находясь в таком тяжелом положении, я услышал от
благонадежных людей, что в Московии можно найти
работу и что там хорошо платят иностранцам. Все же я
не сразу поверил слухам. Я написал в Лейпциг, в Ню-
ренберг... Когда пришли подтверждения, я покинул ро-
дину — но, конечно, не навсегда.
Барка, из числа тех, что ходят по Эльбе, благополуч-
но доставила меня в Гамбург. Там я сел на судно
шведского купца господина Эрика Румбольда.
Во время переезда меня так мучила морская болезнь,
что я чуть не умер. Но, благодарение судьбе, сошел на
сушу живым в Риге.
Из этого города я двинулся с рижскими купцами,
направляющимися в Москву. Они избрали обычный
путь, каким ездят иностранцы: через Дерпт, Ладогу,
Новгород.
Слишком долго описывать, любезный друг Отто,
дорожные приключения и неприятности в этой дикой,
угрюмой стране. Я расскажу о них при личной встрече.
Одно тебе важно знать: я добрался до Москвы, этого
огромного, беспорядочного города, и живу у соотечест-
венника Эвальда Курца.
Мои природные способности и знание чешского
языка помогли мне за время путешествия ознакомиться
с наречием московитов. Я могу объясняться на нем
свободно, но решил пока скрывать знание языка. Это
для меня выгодно: не остерегаясь моего присутствия,
московиты будут разговаривать свободно, и я могу
оказаться обладателем важной тайны. И будь спокоен,
я сумею воспользоваться выгодами положения.
Конечно, я займу высокий пост в этой непросвещен-
ной стране. Кстати, я заметил, что название «Россия»
вытесняет прежнее распространенное название «Мос-
318
ковия». Оно считается более широким и более соответ-
ствующим растущему могуществу государства. А это
могущество чрезвычайно усилилось благодаря покоре-
нию казанской орды.
Месяц назад я видел московского властителя Иоан-
на IV. Это случилось при таких обстоятельствах. Я
бродил по московским улицам и площадям, присматри-
ваясь, прислушиваясь к разговорам. Вдруг народ завол-
новался, послышались возгласы:
— Царь! Царь!
Снимая шапки, люди теснились к заборам, чтобы
освободить проезд царю и его свите.
Должен сказать, что Иоанн имеет вид настоящего
государя. Он ехал на великолепном аргамаке, покрытом
дорогой попоной; седло, сбруя, уздечка блистали золо-
том и драгоценными камнями. На коне царь сидел с
ловкостью опытного наездника (все московиты таковы:
огромные расстояния дикой страны отучили их от пеше-
го хождения). Одет был царь в роскошную шубу на
собольем меху; драгоценная бобровая шапка украшена
перьями цапли, которую русские считают благородной
птицей. При бедре Иоанна висел меч.
Русские, встречая повелителя, падали лицом в снег.
Пришлось сделать то же и мне. Поднимаясь, я встре-
тился с царем глазами. У него, как мне показалось,
необычайно белое лицо с темными усами и небольшой
волнистой бородой и строгий, проницательный взгляд.
За Иоанном ехала блестящая свита — этим все
кланялись в пояс; один я стоял в растерянности, не
согнув спины; за это по мне прошелся бич (der Knut, как
они называют).
После этой памятной встречи я долго добивался
случая быть представленным московскому царю. Без
такой аудиенции иностранцу в Московии нельзя посту-
пить на государственную службу.
Есть у московитов слово «волокита». Это означает
бесконечное промедление с делами. В такую волокиту
попал и я, к великому прискорбию. Когда ни приходил
я с просьбой в Посольский приказ, равнодушные чинов-
ники — дьяки — отвечали:
319
— Завтра!
Наконец на прошлой неделе мне удалось предста-
виться царю Иоанну, и об этом важном событии я расска-
жу со всеми подробностями. Я знаю, ты интересуешься
образом жизни и нравами неизвестных народов.
Меня ввели в небольшую комнату, отобрав оружие.
Комната убрана с невиданной роскошью. Царя окружа-
ли князья и бояре, одетые в длиннейшие меховые шубы
и огромные шапки. На каждом боярине столько собо-
лей, горностаев, бобров, что в Германии его одежда
составила бы богатство.
Министр иностранных дел Висковатый (они именуют
его дьяком Посольского приказа) подвел меня к царю,
заставил преклонить колена, назвал мое имя и звание.
Иоанн протянул руку для поцелуя и уставился мне в лицо.
— Так ты строитель? — спросил Иоанн.
Я чуть не ответил утвердительно, но, по счастью,
вспомнил, что скрываю знание русского языка. Когда
вопрос перевели, я ответил.
— Строители нам нужны, — сказал царь.
Он расспрашивал меня, где я бывал, что и где строил,
выведывал приемы нашей профессии. Как ни странно,
но этот удивительный властитель гораздо образованнее
германских государей, о которых ты мне рассказывал.
Наши герцоги и курфюрсты говорят об охоте, турнирах
и женщинах; в этой области у них непререкаемый
авторитет. Тебе не удалось встретить ни одного герман-
ского принца, который прочитал бы какую-нибудь книгу
помимо правил псовой охоты или соколиной ловли. А
этот повелитель огромной страны упоминал греческих
и латинских классиков, говорил о Платоне, Аристотеле,
Вергилии.
Когда же я, по его мнению, неправильно осветил
какой-то вопрос архитектуры, он стал опровергать меня,
ссылаясь на Витрувия1. Моя физиономия выразила не-
притворное удивление.
1 Марк Витрувий Полли он — древний римский пи-
сатель. Написал известное сочинение: «Десять книг об архитек-
туре».
320
Царю это понравилось; он сказал:
— Смотрите, немец рот разинул: удивительно ему,
что не нашел в нас невежества, которого ожидал. Этого
не переводи, — добавил он толмачу.
Я скромно стоял, постаравшись усилить знаки изум-
ления.
Под конец аудиенции Иоанн обходился со мной
значительно мягче. На прощанье он сказал:
— Мы тебе службу дадим, и хорошую; будешь
участвовать в построении храма, долженствующего на-
поминать потомкам о подвиге покорения Казанского
царства. — Обращаясь к министру, он добавил: —
Прикажи, Михайлович, выдать немцу денег. Пока наши
зодчие строят планы, ему делать нечего, еще с голоду
сбежит...
Можешь поверить, почтенный Фогель, я не сбегу! Я
долго ждал фортуну и научился терпению.
Если я и не придворный архитектор московского
властелина, то лишь потому, что здесь не существует
такого звания. Теперь я смотрю на будущее с большой
надеждой.
Это письмо я посылаю с попутчиком, нашим сооте-
чественником. Надеюсь, что оно дойдет в сохранности.
Жду вестей. И будь уверен, любезный и почтенный
Отто, я постараюсь сообщать о моих дальнейших шагах
в далекой Московии.
Твой покорный слуга
Ганс Фридман
23 января 1554 года».
Глава X
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА
Когда определилось место для Покровского собора
и количество церквей, началась разработка проекта.
Зодчим отвели большую, светлую горницу во дворце.
Были поставлены огромные гладкие столы. Ордынцев
закупил бумагу, краски, тушь. Барма и Постник прово-
дили во дворце целые дни и уходили с темнотой. Стража
321
11-769
внимательно их обыскивала. Царь отдал распоряжение:
ни один чертеж не выносить из дворца.
Барма и Постник посмеивались: «Разве не можем мы
начертить дома, что делаем здесь?» Но обыску подчи-
нялись покорно.
Первый, долгий спор зашел по вопросу о величине
собора.
— Знаешь, Постник, — заявил Барма: — поднимем
громаду, чтобы за сотню верст видать! Пусть в солнеч-
ный день сияют кресты и главы собора жителям Колом-
ны, Серпухова, Дмитрова, Можайска, Волока Дамского!
Весь мир поймет силу Руси, коль скоро мы сможем
воздвигнуть таковой храм!
— Подожди, учитель, дай посчитать!
Расчет был трудный и мог быть сделан лишь прибли-
женно. Предвидя заранее, что о размерах собора при-
дется спорить, Постник побывал в селе Коломенском,
где лет двадцать пять назад поставили большой храм.
Зодчий взобрался к кресту, венчающему шпиль, заметил
деревушку на горизонте и, спустившись, определил
расстояние. Высота Коломенской церкви Постнику бы-
ла известна.
Вооруженный этими данными, Постник, знаток гео-
метрии, вычислил:
— Дабы глядеть вокруг на сто верст, надобно стро-
ение поднять на триста пятьдесят саженей!
Барма схватился за голову.
— Триста пятьдесят саженей! — с ужасом вскричал
он. — Мало не верста1... Это я через край хватил! Такого
храма никому не построить... Да ты, небось, ошибся,
Постник!
— Цифирь не врет! Я долго пересчитывал. Крест
нашего собора уйдет за облака. Так гласит гиомит-
рия...
— Уж эта Мне гиомитрия! — проворчал Барма. —
Придется сбавлять, и много сбавлять... — Потом ска-
зал: — Сделаем, чтобы за полста верст видать было.
1 Верста (500 саженей) равняется приблизительно 1065
метрам.
322
Постник усмехнулся и вновь углубился в расчеты.
Барма стоял позади, смотрел через его плечо с надеж-
дой и ненавистью на непонятную арабскую цифирь,
возникавшую под пером Постника. Его томило нетерпе-
ние.
— Девяносто саженей, — объявил Постник.
Барма был страшно разочарован.
— Еще сбавлять?
Он с тоской вглядывался в холодноватые глаза По-
стника, но сочувствия не нашел. Постнику не по душе
была мысль, что если затеять чересчур обширное стро-
ительство, то не придется его довершить, не придется
полюбоваться делом своих рук.
Для спора с Бармой у Постника имелось достаточно
доводов. Чтобы доказать несбыточность задуманного
Бармой, Постник рассказывал ему о соборе Париж-
ской богоматери, о Вестминстерском аббатстве, о Пар-
феноне...
Собор Парижской богоматери, чудо строительного
искусства, французский король Филипп Август зало-
жил в начале XIII века. Еще не оконченное здание
сильно повредил пожар. Пришлось его перестраивать.
323
Дело тянулось двести лет. И Постник знал, что две
огромные колокольни стоят недостроенными, портя вид
великолепного храма.
Вестминстерское аббатство в Лондоне, гордость ан-
глийского зодчества, строилось, достраивалось и пере-
страивалось в течение столетий.
— Зришь, наставник, к чему приводит погоня за
чрезмерной громадностью здания? Али тебе достаточно
за наш век заложить основание да стены поднять на
сажень от земли?
— Иные докончат...
Простая и светлая душа Бармы не знала тревог и
волнений. Он не гнался за личной славой. Начать бы
доброе дело — и пусть оно пойдет своим чередом. Не
узнают люди имени зачинателя? Что ж! Барму эта мысль
не тревожила.
— Иные? — многозначительно повторил Постник. —
А примут ли они наш замысел? Не переделают чертежи?
Из истории об иноземных строительствах знаю: часто
таковое случалось. Да и не рассыплется ли прахом дело,
когда не станет ни тебя, ни меня, ни замыслившего сие
государя Ивана Васильевича?
Барма начал подаваться, а Постник приводил новые
доводы:
— К чему огромность? Конечно, на столе не поста-
вить здания, поражающего взор, но и при невеликих
размерах можно сделать величественное... Парфенон
Афинский, коего изображение видели мы в государевой
книгохранительнице, радует зрение и дает вид громад-
ности, какой у него и нет... Твой дьяковский храм —
разве с него можно взирать окрест на десятки верст! —
являет чудесный, величавый вид...
После долгих споров и разговоров согласились, что
высота главного храма не будет превышать сорока
саженей от земли.
Для утешения Бармы Постник высчитал, что и при
такой высоте крест храма в ясную погоду будет виден
верст за тридцать пять.
Потом пошли споры, должны ли девять церквей
324
стоять под одной кровлей и составлять общее целое или
каждую ставить отдельно.
Этот спор быстро решило духовенство, Макарий
приказал, чтобы каждый храм был самостоятельным: «У
каждой церкви свои священники и клир, свои прихожа-
не — не годится мешаться одним с другими»,
— Боится владыка: перессорятся попы, служа под
одной крышей, — насмешливо заметил Постник. —
Доходы не поделят.
Задача архитекторов постепенно выяснилась, но и
приобрела новую сложность.
Надо было построить девять отдельных церквей, но
так, чтобы они являли взору единое целое. Барма и
Постник без споров согласились, что церкви должны
стоять рядом, на общем основании.
Задачу единства при разнообразии Барма и Постник
объясняли митрополиту образно,
— Сошлись несколько человек случайно, — гово-
рил старый зодчий. — Что сие? Толпа, члены коей
ничем не связаны,,, А то — семья: отец и дети. Во всех
нечто родственное, некие общие черты: связь родства
их объединяет. Так мы должны мыслить о нашем со-
боре.
Постнику понравилось сравнение учителя, и он его
продолжил:
— Из твоих слов заключаю я, что средний храм
должен главенствовать над другими, как отец над деть-
ми. И далее: дети одного отца сходствуют меж собой,
но и разнствуют также, ибо нет в семье двух в совер-
шенстве одинаковых братьев или сестер. Посему все
храмы, имея общее родственное сходство, должны раз-
нится, чтобы представлять глазу зрящего не скучное
единообразие, но пленительное разнообразие!
— Истину говоришь, чадо, — согласился митрополит.
Сродство же всех храмов, — развивал мысль По-
стник, — заключается в пропорциональности их разме-
ров...
— Говори по-русски! — попросил Барма,
Митрополит, по работе над «Четьими-Минеями» зна-
325
комый со многими иностранными словами, пояснил
старому зодчему:
— Сие означает: ежели один храм выше другого
вдвое, то и основание его должно быть шире тоже
вдвое.
А Постник добавил:
— В гиомитрии таковое называется: принцип подобия
фигур...
Постник предложил Барме положить в основу внеш-
него вида группу храмов равнобедренные треугольники.
Эти треугольники, подобные между собою, должны
определят внешний вид не только здания в целом, но и
отдельных частей и даже архитектурных деталей и
создавать впечатление гармонии и единства.
Зодчие остановились на равнобедренном треугольни-
ке, высота которого относилась к основанию приблизи-
тельно как два к одному.
Византийское искусство требовало покрытия церк-
вей обширными куполами, над которыми возвышались
цилиндрические световые барабаны, завершенные гла-
вами в форме луковицы. В таком стиле построена одно-
главая церковь Покрова на Нерли1, Успенский собор во
Владимире1 2 и многие другие древние храмы.
Русскому крестьянину византийское искусство было
чуждо. Строя скромную деревянную церквушку, часто
обыденку3, безыменный зодчий предпочитал накрывать
ее восьмигранным шатром — высокой восьмигранной
пирамидой.
Этот вид был милее сердцу северянина, чем чуждые
полушария и цилиндры византийских церквей. Он напо-
минал русскому мужику пирамидальные ели его роди-
ны.
Борьба между куполом и шатром продолжалась дол-
го. Напрасно церковные власти, защищавшие византий-
ские влияния в архитектуре, издавали строгие приказы:
«Шатровых церквей отнюдь не строить!»
1 Построена в 1165 году.
2 Построен в 1158 — 1184 годах.
3 Обыденка — здание, построенное в один день.
326
Барме и Постнику предстояло воздвигнут храм —
памятник русской военной славы, и они выбрали шатер.
Отношение «два к одному» было найдено путем
опытов и изысканий. При меньшем соотношении треу-
гольники получались тяжелыми, приплюснутыми к зем-
ле; при большем они чрезмерно вытягивались кверху,
теряли реальность. Лишь «два к одному» создавало
гармонию, радующую глаз.
Дело продвигалось. Ни царь, ни митрополит не торо-
пили зодчих: они понимали, что обдумывается велича-
вый замысел; осуществленный, он будет жить века.
★ ★ ★
Работа подошла к такой стадии, когда необходимо
стало набросать внешний вид собора. О плане в основ-
ных частях строители договорились, но и при заданном
плане наружность собора могла иметь бесчисленное
количество вариантов.
Гениальность Постника сказалась во всем блеске,
когда он приступил к эскизам храмов.
Искусство составления проекта было делом новым,
оно еще только рождалось и на Руси и за границей.
Раньше заказчик и строитель договаривались на словах;
понятно, все подробности постройки предусмотреть
было невозможно — они выливались сами собой, в
зависимости от опытности и таланта мастера.
За последние десятилетия проекты грандиозных зда-
ний вычерчивались строителями, но становились изве-
стными узкому кругу близких к строительству лиц, в
печати не появлялись. Постник шел по малоисследован-
ному пути. В книгах он находил лишь слабые намеки,
отрывочные указания, недостаточные для решения за-
дачи, которую приняли на себя. Но грандиозность дела
воодушевляла Постника, рождала в душе силы, о кото-
рых он доселе лишь смутно предполагал.
Постник жил полной жизнью. Прежде часто случа-
лось: его мучила неудовлетворенность, выполняемые
дела казались мелкими, ничтожными. Теперь перед ним
была огромная работа — работа, от которой при жела-
327
нии можно не отрываться ни днем, ни ночью. Прежняя
угрюмость и раздражительность, иногда подолгу не
оставлявшие Постника, сменились тихой сосредоточен-
ностью. Постника трудно было рассердить. Углублен-
ный в себя, он рассеянно смотрел на собеседника
глазами с черными расширенными зрачками — верный
признак, что зодчий его не слышит.
Закрыв глаза, Постник представлял себе церкви —
нарядные, торжественные, собравшиеся веселой
семьей. Видения следовало претворить в действитель-
ность и прежде всего закрепить на бумаге. Сначала
Постник рисовал храмы по отдельности — центральный
храм Покрова, меньшие храмы, которые будут его
окружать. А затем художник принялся соединять их во
всевозможных комбинациях.
Он переставлял одну церковь на место другой, про-
бовал новые и новые сочетания, добиваясь цельности
общего впечатления. Изыскивая наилучшие виды соору-
жения с разных сторон, он увеличивал и уменьшал
высоту отдельных храмов, менял форму и размеры глав.
Работал Постник с редкой быстротой: сказывался осо-
бенный талант видеть замысел так ярко, точно он осу-
ществленный стоял перед глазами.
Эскизы лежали в рабочей комнате зодчих десятками.
Некоторые уже одобрял требовательный Барма, но
неутомимый искатель браковал их и продолжал мно-
жить наброски.
Глава XI
ПОМОЩНИКИ
Оставив Дуню в Выбутине, Андрей и Никита в
середине марта вернулись в Москву. Солнышко пригре-
вало по-весеннему, снег на дорогах потемнел и прова-
ливался.
Весенний воздух волновал Булата, он нетерпеливо
ждал дня, когда они с Андреем снова отправятся в
дальний путь.
328
Этот счастливый день настал. Подпираясь кленовыми
посошками, с котомками за спиной, зодчие оставили
Москву, и перед ними раскинулась манящая вдаль до-
рога.
Но не стало прежней выносливости у Никиты Булата.
Не мог он так же неутомимо, как прежде, шагать по
лесным тропинкам. Во время ночевок в поле старик
беспокойно ворочался с боку на бок под легким армя-
ком: ему было холодно...
Только два месяца проходил Булат по стране со
своим учеником, а потом Андрею пришлось покупать
телегу и лошадь и везти Никиту в Москву.
Булат лежал на телеге и грустно смотрел в высокое
небо.
— Отошло мое времечко... — шептал он. — Съела
силушку проклятая татарва...
В Москве Никита отдохнул, поправился, но ему стало
ясно, что он уж не работник.
— Даром буду есть твой хлеб, Андрюшенька, —
вздыхал он. — Хоть бы смерть поскорее пришла...
Такие разговоры до глубины души обижали Голована.
О приезде Бармы и Постника в Москву Андрей узнал
от Ордынцева. Молодой розмысл поспешил к знамени-
тому земляку, с которым так давно мечтал встретиться.
Постник принял Голована приветливо. Оказалось,
что и он давно слышал об Андрее и видел многие его
постройки. Теперь, при личной встрече, Постник похва-
лил работу Голована, указал недостатки. Беседа затяну-
лась на многие часы.
Постник первый заговорил, что хотел бы видеть
Голована товарищем по работе. Андрей признал, что это
его давняя мечта.
— Эх, кабы твой учитель не состарился, много бы он
нам помог! — с сожалением сказал Постник.
— Советом он поможет, а по лесам Никите уж не
ходить, — отозвался Голован.
Постник просил Андрея не браться за стройку, ко-
торая связала бы его надолго.
329
— Жди своего часа, — сказал он. — Лишь только
государь разрешит набирать помощников, ты будешь
первый...
Это время настало, и больше всех порадовался сча-
стью Голована его старый учитель Никита Булат.
Но одним помощником, даже таким знающим и
деятельным, как Голован, никак нельзя было обойтись.
Зодчие понимали, что в грандиозном строительстве,
какое им предстояло, они смогут осуществлять лишь
общее руководство. Требовалось найти молодых, усер-
дных мастеров, проникнутых тем же русским духом,
той же любовью к родине.
Этим молодым архитекторам надлежало доработать
в мельчайших подробностях проекты отдельных храмов,
когда Постник и Барма набросают черновой проект
собора. И позднее каждый будет вести постройку одной
или двух церквей, повседневно проверять работу камен-
щиков, плотников, кузнецов, кровельщиков...
Слух о строительстве распространился широко, и
немало мастеров приходили предлагать услуги.
Барма устраивал придирчивый экзамен:
— У какого зодчего учился? Где строил? Нарисуй на
память церковь, в сооружении коей участвовал... Как
составляется замес?..
Если молодому строителю удавалось ответить на
вопросы, если рисунок получался удачный и показывал
хорошую зрительную память, Барма становился добрее.
Пряча под седыми усами одобрительную улыбку, зада-
вал каверзные вопросы:
— Что выгоднее строителю: тысяча пуд кирпичу
крупного, в пуд весом каждый, али тысяча пуд кирпичу
мелкого, по шесть фунтов?
Находчивые отвечали:
— Кирпич потребен всякий: и крупный и мелкий!
— Понимаешь дело! А вот размер пространства, над
коим надо вывести своды: сколько опорных столпов
поставишь?
Если экзаменующемуся удавалось благополучно
330
пройти техническую часть, Барма начинал пытать его на
ином.
— Коли надеешься на богатые корма, — говорил он,
хмуря брови, — то ошибешься. У государя нужд и забот
много, и надобно храм построить подешевле. Жало-
ванье дадим, чтоб прожить, а богатство скопить не
думай!
После такого заявления Бармы некоторые обещали
зайти в другой раз, но не приходили.
Барма вспоминал о таких с презрением, но и с
сожалением, если претендент обнаруживал хорошую
техническую подготовку.
После тщательного отбора Барма принял несколько
человек.
Пришелся ему по душе веселый, с постоянной улыб-
кой на румяном лице, светлоглазый, с русыми, мягкими,
как шелк, волосами владимирец Сергей Барака. Барака
учился у хороших мастеров — Владимир был колыбелью
древнего русского искусства.
Сергей без споров согласился с вознаграждением,
какое положил Ордынцев.
Совсем другим человеком выглядел помор Ефим
Бобыль. Ходил он грубый и громкий. За маленькую
кисточку толстые, плохо гнущиеся пальцы Ефима взя-
лись с робостью, сидел он за пробным рисунком не-
сколько часов, не подпуская Барму; старик решил, что
у парня ничего не вышло и он скрывает работу от стыда.
Но когда Бобыль решился предъявить рисунок на суд
Бармы и Постника, те пришли в восхищение. Ефим
изобразил деревянный храм, покрытый тремя шатрами
разной величины, заброшенный среди снежных сугро-
бов севера. Простота и огромная сила чувствовались в
очертаниях храма — такой он был родной, русский, до
последнего бревнышка, изумительно тонко переданного
кистью художника.
— Вот так Бобыль! — с веселым удивлением воск-
ликнул Постник. — Чего ж ты мялся?
— Необык я скоро работать, — стыдливо пробасил
Ефим. — Да и думал: может, не поглянется...
331
Барма с опасением приступил ко второму испыта-
нию: заговорил о жалованье. Выслушав старого зодчего,
великан вздохнул:
— Чего греха таить, беден я: батька помер, семья
большая — братишки, сестренки малые. Но все одно
останусь у вас: больно работа по душе. А с семьей... Что
ж, сам не доем, а им скоплю.
Он бесхитростно улыбнулся и сразу завоевал друж-
бу Постника и Бармы.
Никита Щелкун был в годах, жизнь потерла его
достаточно. Побывал он в Польше, Литве, Галиции,
видел много храмов и палат самых разнообразных сти-
лей; сам много строил. После скитаний Щелкуну захо-
телось пожить несколько лет на одном месте, а стройка
Покровского собора обещала такую возможность.
Пришел присланный дьяком Висковатым саксон-
ский архитектор Ганс Фридман. Был немец мал рос-
том, чуть прихрамывал на правую ногу, глаза его пря-
тались, избегали собеседника. Волосы были серые, как
у волка.
Фридман пришел с переводчиком — он все еще
скрывал знание русского языка.
Увидев на столах рисунки Постника и Голована,
немецкий архитектор попросил разрешения посмотреть
их. За листы схватился с жадностью, долго перебирал
с завистливым изумлением, но похвалил скупо; попутно
солгал, что в Германии искусство составления проектов
стоит на большей высоте.
Вознаграждение за работу Фридман запросил боль-
шое.
— Велик кус ухватывает, не ровен час — подавит-
ся! — сердито сказал Барма, которому саксонский ар-
хитектор не понравился с первого взгляда.
Постник вступился за Фридмана:
— С виду немец неказист: и ростом не вышел, и рожа
поганенькая на сторону воротит. Но, может, хорошо
станет работать? Возьмем немца, наставник: по царско-
му указу прислан.
— Ин ладно! — недовольно согласился Барма.
332
— Русскому языку надо учиться! — сказал саксонцу
Постник.
Тот засмеялся, показав мелкие неровные зубы:
— Пробовал: не дается он мне, труден ваш язык...
Глава XII
ИЗ ДНЕВНИКА ГАНСА ФРИДМАНА
«...Обещание царя Иоанна осуществилось: я принят
в штат строителей Покровского собора.
Познакомился я с главными архитекторами будущего
строительства, носящими трудно запоминаемые имена:
Барма, Голован, Постник.
Особенно замечательна наружность Голована: глаза
его широко раздвинуты и смотрят смелым, в душу
проникающим взглядом. Голован — недюжинная лич-
ность.
Постник кажется попроще, но я его возненавидел
после первого знакомства. Возненавидел за то, что он,
не подозревая о моем понимании русского языка, осме-
лился бросать обидно-снисходительные замечания о
моей наружности.
Но не в этом одном причина неприязни. В рабочей
комнате архитекторов я увидел чудесные рисунки и
эскизы, сделанные Постником. При всех моих способ-
ностях мне трудно тягаться с этим несомненно талант-
ливым человеком. И в этом большая опасность для моей
карьеры.
Но я'упорен и настойчив! Я буду биться за первое
место, и горе тому, кто станет на моем пути!
Старше всех Барма, помощник Постника, хотя тот из
вежливости называет Барму учителем. Это старик
скромный, невидный. Он поглаживает седую бороду,
говорит мало и непонятно. Кажется, он из породы
баранов, готовых служить кому угодно; ознакомившись
поближе, я использую его простоту и наивность для
своих целей.
Сейчас моя задача: подорвать доверие к руководите-
лям строительства. Как это сделать, мне пока неясно.
333
Но если я этого добьюсь, царю Иоанну некого будет
поставить во главе дела, кроме меня. И тогда — почет,
деньги...
Все блага жизни раскроются Перед саксонским ар-
хитектором Гансом Фридманом!
Август 1554 года».
Глава XIII
УТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Попы с соблюдением надлежащих церемоний вынес-
ли священные предметы из церквей, обреченных на
снос, и ломцы принялись за свою веселую работу.
С грохотом летели балки и бревна, сталкиваясь и
поднимая тучи пыли.
За ломцами пришли землекопы — выравнивать и
сглаживать участок. А по краям с телег уже сбрасыва-
лись груды камня. Бойкие целовальники с замусоленны-
ми тетрадями в руках вели счет телегам; вместо квитан-
ций делали подводчикам зарубки на бирках1.
На берегу Москвы-реки было шумно, людно: там
разгружались барки, подвозившие лес, камень, кирпич,
песок, известь...
По царскому указу из тюрем выпустили колодников,
за коими не числилось тяжких вин; с них взяли крестное
целование, что они не своруют и не убегут, и поставили
на разгрузку, требовавшую много рук. Довольные нео-
жиданной свободой, бывшие колодники работали рьяно.
Впрочем, за вялость и медлительность десятники хле-
стали кнутом, так что волей-неволей приходилось пово-
рачиваться.
Веселое удивление провожало коренастого рыжего
грузчика Петрована Кубаря, таскавшего на спине камни,
которые под силу были троим. Парень сидел в темнице
за то, что, вернувшись из казанского похода, не смог
1 Бирка — палка, расколотая пополам: одна ее часть хра-
нилась у подрядчика, а другая — у работника. Полное совпаде-
ние зарубок при прикладывании одной половины бирки к дру-
гой свидетельствовало о верности счета.
334
вынести холопью долю и сбежал от боярина на вольный
юг, а будучи настигнут, искалечил двух поимщиков...
По приказу царя Ивана Васильевича по русской
земле должны были ходить глашатаи и сзывать на
строительство Покровского собора мастеров и искус-
ных работников.
— Трудное затеяно дело, — сказал царь. — Пускай
молва о задуманном повсюду пронесется, пускай говор
пройдет по боярским хоромам и по избушкам смердов.
То нашему великому замыслу на пользу...
Когда глашатаи приходили за охранительными грамо-
тами к Ордынцеву, окольничий говорил им:
— Обещайте народу хорошие корма, говорите, что
жить будут сытно. Негодных работников не принимайте:
нам такие не надобны.
Глашатаев посылали во Владимир и Суздаль, в Смо-
ленск и Псков за каменщиками, в Новгород и северные
области за плотниками. Бывалого Никиту Щелкуна от-
правили в Киев. Он должен был сговаривать работников
в литовских пределах1.
Пришли к Барме присланные Голованом Нечай и
Демид Жук. Бывшие скоморохи тоже вызвались идти
бирючами. Веселый Нечай обещал присылать рабочих
во множестве:
— Только успевайте переписывать! Я молодцов од-
ними шуточками да прибауточками взманю!
Бирючам давался строгий наказ:
«Едучи городами, и селами, и деревнями, не бесчин-
ствовать, поминков и посулов не брать, мужиков не
грабить и паче же всего не упиваться пианственным
зелием.
Аще же который начальный человек учнет допыты-
вать, кем и каких ради дел посыланы, и тем ответ
держать с бережением и оглядкой: посыланы-де вели-
ким государем ради его неотложных государственных
нужд, и вы-де нам, бирючам, препон не чините, госуда-
ревой опалы опасаючись...»
1 В те времена Киев принадлежал Литве.
335
В конце 1554 года работа над проектом Покровского
собора была закончена.
Настал великий для зодчих день: чертежи должен
был утвердить царь.
Иван и сопровождавшие его лица явились в рабочую
комнату. С царем вошли ближние бояре, митрополит,
Ордынцев, Клобуков. Глаза посетителей разбежались
при виде столов и стен горницы, где были разложены и
развешаны огромные листы, изображавшие собор с
различных сторон.
Чертежи будущего храма очень понравились царю.
Он долго ходил от стола к столу и от стены к стене,
рассматривая проекты.
Из. присутствующих никто не смел заговорить рань-
ше царя; все ждали, что он скажет.
Лицо Ивана Васильевича светлело, на губах появи-
лась улыбка. Чуткая свита заметила хорошее настрое-
ние царя.
— Изрядно! — сказал царь. — Изряднехонько... Это
кто рисовал?
— Постник, государь! — отвечал Барма. — И немно-
гое — Голованово.
— Хорошо изображено, — подал голос Макарий, —
но вижу многое нарушение церковных правил. Надо
крыть куполами, а тут шатры...
— Дозволь, государь, слово молвить! — смело вы-
ступил Барма.
Он произнес горячую речь в защиту шатров. Храм
ставится в память русского воинского искусства, в
память великих жертв, понесенных русскими людьми;
его архитектура должна быть самобытной.
Барма высказал мысль, что русским удалось сверг-
нуть татарское иго и начать с Казани присоединение
монгольских царств потому, что Русь просвещеннее
татарщины, выше стоит по воинскому делу, по памятни-
кам старины, по искусству.
По мнению старого зодчего, замышленный храм
должен показать иноземцам, что русское просвещение
336
стоит высоко. Покровский собор — это итог всех
строительных знаний, всех видов русского искусства:
зодчества, резьбы, иконописи...
Наконец Барма перешел к символическому значе-
нию храма.
— Как Москва больше двух веков собирала вокруг
себя русские княжества, так у нас вкруг главного храма,
главного престола, собраны престолы меньшие, сопод-
чиненные! — говорил старик, смело глядя в глаза царю
Ивану Васильевичу. — Москва собрала разнородные
области, сплотила воедино, из мелких княжеств создала
сильное государство, и всем его частям то пошло на
благо. Так и у нас разновидные и в то же время
родственные храмы создают единое, глазу радостное,
сердце веселящее зрелище — Покровский собор, зна-
менующий единое российское государство!
Царь, взволнованный развернутой перед ним широ-
кой картиной, обнял Барму.
— Чудесно говоришь, старче! — согласился царь. —
Повелеваю храм строить, как вы преднаметили!
Макарий позволил быстро убедить себя в преимуще-
ствах русского шатра перед византийским куполом.
Московский митрополит был русским человеком, ре-
внителем русской старины, и все, что шло от предков
славян, было мило его сердцу.
Царь решил и бояре приговорили: лишь только стает
снег, ставить по чертежам основание для всех девяти
храмов, составляющих Покровский собор.
Постнику за великое усердие, за большие знания в
строительном деле царь дал звание городовых и церков-
ных дел мастера.
Часть пятая
ПАМЯТНИК РАТНОЙ СЛАВЫ
Глава I
ГЛАШАТАИ
Нечай и Демид Жук колесили по Руси третий месяц.
Умело вели бирючи дело, много сговорили людей
на московскую стройку, много объездили городов и
сел.
Подъехав к большому селу, бывалый Нечай, завидя
идущего навстречу старика, закричал:
— Откудова?
— Тутошный, кормильцы, тутошный!
— А коли тутошный, сказывай: живут у вас искусные
ремественники?
Расспросив, Нечай отправился в село, собрал мужи-
ков на сходку;
— Здорово, мужички! Как живем-можем?
— Здорово, коли не шутишь!
— Э, милые, нам шутить да лгать от царя заказано:
солжешь в рубле — не поверят и в игле!
— От царя? Да неш ты его видел? — удивился
простоватый парень.
338
— А то нет?.. Он меня сюда и прислал. Требуются в
Москву работные люди...
— А для какой, примерно, надобности?
— Казанское царство государь Иван Васильевич под
свою высокую руку привел, слыхали? В память сего
великого дела задумал царь на Москве поставить храм,
какого от веку веков не видано на Руси. И нужны
нам, —• начал Нечай сыпать искусную скороговорку: —
каменщики и плотники — хорошие работники, молото-
бойцы и кузнецы — удалые молодцы, копачи-бородачи,
печники-весельчаки...
Нечай выждал, когда смолк смех мужиков.
Тихо, вполголоса, оставив шутовскую манеру, начал
он рассказ о славном походе. Перед изумленными
слушателями встали грозные стены Казани и многочис-
ленные защитники, спрятавшиеся за ними; мужики точ-
но видели воочию страшные взрывы, разметывавшие
землю, бревна и человеческие тела, слышали крики и
стоны воинов, сцепившихся на улицах города в смерт-
ном усилии.
Нечай рассказывал хорошо, рисовал живые и яркие
картины.
Потрясенные слушатели долго молчали.
— Да, — отозвался один из стариков, — великое дело
свершили. И что храм замыслили соорудить — это на
благо. Надо, мужички, подмогнуть...
Мужики удивлялись молчанию второго бирюча. Чув-
ствуя это, Жук заговорил скупо и коряво. Но самая
нескладность его речи была, пожалуй, ближе и роднее
слушателям, чем бойкая скороговорка Нечая.
— Что долго толковать: пиши, бирюч, меня, Кузьку
Сбоя! Иду церкву строить!
— Кузька идет — и меня пиши: Миколка Третьяк!
— И меня, Емелю Горюна!
— Тихо, тихо! Чередом! Обсказывайте свои
уменья!..
Так ходили глашатаи по русской земле.
Не напрасен был труд: отовсюду поднимались ремес-
ленники. Подряжались на работу артели, привычные к
339
отхожим промыслам. Часто артельщики договаривались
прийти, когда окончат подряженную работу.
Являлись хорошие мастера из таких мест, куда би-
рючи не заходили: много поселений на Руси, в каждое
не заглянешь. Но и туда докатывалась молва.
Приходил какой-нибудь бородач с саженными пле-
чами:
— Не вы ль царские посланцы?
— А у тя какая надобность?
— Слыхал, плотники требуются.
— А ты плотник?
— Исконный. С дедов-прадедов этим рукомеслом
кормимся. Домов поставлено без счету. Церкви, хоромы
строили...
Заподряженный бородач уходил довольный. Радова-
лись и бирючи.
Прилетели журавли, принесли на крыльях весну.
Забегали белоголовые ребятишки по лужам. Начали
стекаться строители в бараки, построенные на берегу
Москвы-реки. Разбитные целовальники опрашивали
приходящих: кем завербован, на какую работу, принес
ли инструмент. Все записывали, людей расселяли по
профессиям: каменщиков в один барак, землекопов в
другой, плотников в третий...
Больше всего приходило работников с записками от
Нечая.
★ * *
Набирали на стройку и москвичей. Эти больше нани-
мались на кузнечную и каменную работу. Много шуму
вызвало появление женщины, которая пришла подря-
жаться в каменщики. Баба была рослая, ширококостная.
— И где тут каменщиков набирают? — смело спро-
сила она.
Вокруг женщины собралась толпа. Послышался
смех. На шум явился целовальник Важен Пущин:
— Ну-ну, чего собралися? Проходи, красавица!
— Запиши меня в каменщики!
— Хо-хо-хо!
— Знай, баба, веретено!
340
— Каменщик, робя, объявился гляди какой хватской!
Женщина презрительно выслушивала насмешки,
блестя быстрыми черными глазами.
— Эх ты, баба... — заговорил Важен, смущенный на-
стойчивостью просительницы. — Как кликать-то тебя?
— Салоникея.
— Вот что, Салоникеюшка: шла бы ты своей дорогой!
— Бабам тута не место! — прорвался кто-то из
любопытных.
Салоникея так стремительно и гневно повернулась,
что ближайшие зеваки попятились при смехе толпы.
— То-то бы вы все нас у шестка держали! Опостылел
нам шесток-то ваш!
Сквозь толпу пролезла старуха и залебезила перед
целовальником:
— Уж ты прости ее, кормилец... не знаю, как звать-
величать тебя... за дерзостные речи! Она у меня при-
скорбна головой, с измальских лет скудоумной живет...
Салоникея отодвинула маленькую, кланявшуюся до
земли старушку:
— Что ты, мать, за мной по пятам ходишь, худую
славу носишь! Мое дело — в дом добыть, твое дело —
ребят обиходить!
Старуха заковыляла прочь:
— Спешу, родимая, спешу! Не обессудь, Солушка!
По простоте слово молвила...
Салоникея выпрямилась перед Пущиным:
— Берешь, хозяин, али нет?
Толпа была покорена настойчивостью женщины:
— Настоящий Еруслан Лазаревич!1
— Король-баба!
Салоникея бесстрастно слушала одобрения толпы.
Из круга зрителей вышел хорошо одетый старик:
— Прими, Бажен, я за нее заручник. Она у меня печь
сложила — мужику впору. И хозяина под Казанью
убили, а ребят у нее пятеро: мал мала меньше...
— Что ж ты про мужа молчала? — спросил Бажен.
1 Еруслан Лазаревич — сказочный богатырь.
341
— Хочу чтобы мне честь не по мужу, а по мне самой
была! — отрезала Салоникея.
— Ладно, возьму. Но смотри у меня!
Салоникея улыбнулась и промолчала.
Глава II
ЦАРСКОЕ УГОЩЕНИЕ
В теплый апрельский день, когда отгудели пасхаль-
ные колокола, были устроены столы.
Устраивать столы — угощать работников перед нача-
лом дела полагалось, по обычаю, каждому хорошему
хозяину. Как же нарушить старину на стройке, где
хозяином царь!
Стол, длиной в добрый переулок, растянулся вдоль
бараков. С обеих сторон сидели на скамьях строители
Покровского собора.
На грубых скатертях были расставлены сытные яст-
ва. Варево сготовили повара в огромных котлах, куда
закладывали сразу полбыка или двух баранов. Браги
наготовили бочками. Вороха ржаного и пшеничного
хлеба лежали на блюдах.
Целовальники и десятники суетились вокруг столов,
кланялись:
— Кушайте, мужички! Не побрезгуйте!
Трапеза началась истово, чинно. Не торопясь, хлеба-
ли наваристые щи из огромных глиняных мис, подстав-
ляя под деревянные ложки кусок хлеба, чтобы не
закапать скатерть. Поварята следили за обедающими и,
где опоражнивалась посуда, тотчас подливали.
Шумно было в артели, где орудовал громадной лож-
кой коренастый, приземистый богатырь. Там поварята
еле-еле управлялись со сменами.
— Петрован, черт, и где такую ложку сыскал?
— Али мала?
— Да уж куда меньше! Полмисы зачерпывает!
— А вам завидно?
Мало знавшие Петрована Кубаря соседи поглядыва-
ли на парня с удивлением:
342
— Ну, брат, ежели ты работать так же лют, тогда...
Каши подавались гречневая и пшенная с льняным
маслом. Хмельные меды делали свое дело: голова кру-
жилась, голос возвышался; кое-кто затянул песню...
Разойдясь из-за столов, народ долго не мог угомо-
ниться и все бродил по берегу Москвы-реки с песнями
и громкими разговорами.
На другой день началась работа.
Чуть прокричал заревой кочет1, сторож заколотил в
било; он ударял по большой чугунной доске железным
пестиком. Резкие, назойливые звуки далеко разноси-
лись среди свежей утренней тишины.
Звон подхватили барачные старосты: в их распоря-
жении были ясеневые доски; искусные руки могли
вызывать из этих незатейливых музыкальных инстру-
ментов приятный рокочущий гул...
Работники завозились на постелях, обматывали ноги
онучами, надевали лапти. Тех, кого не могли разбудить
звуки била, поднимали сердитые десятники:
— Не спите, не лежите, на работу скорей бегите!
Ленивых и неповоротливых наделяли тычками в за-
тылок:
— Получи впервое! А коли промешкаешь еще, пле-
тей попробуешь!
— О-о, робя, энти угощают не по-вчерашнему!
— А ты как думал? Ежедень тебе блины да пироги?..
Обширная строительная площадка закишела наро-
дом. Ржали лошади, скрипели телеги, подвозившие ка-
мень, песок, бут. Застучали молотки каменотесов. Зем-
лекопы били кирками по твердой земле. Работать при-
ходилось, не разгибая спины. Нерадивых подгонял ку-
лак десятника.
Сотни людей копошились, как муравьи, и на месте
хаоса водворялся порядок. Основание начали возводить
с центра: так удобнее было подвозить строительные ма-
териалы на телегах и тачках, подтаскивать на носилках.
Работами руководили Андрей Голован и Ефим Бо-
быль. Часа полтора бродил по площадке Ганс Фридман,
1 Заревой кочет — петух, поющий на заре.
343
шаря повсюду маленькими, юркими глазками. Его со-
провождал переводчик.
Фридман отправился к берегу реки, где в огромных
чанах готовили замес, осмотрел, поморщился.
Переводчик передал его предложение Бобылю:
— Немец бает: густ замес. Воды, бает, больше надо
лить.
— Как это — густ? — возмутился Ефим. — Его по
приказу Бармы составили.
Бобыль тут же вызвал Голована, и тот вступил в
серьезный разговор с саксонцем. Разговор кончился
тем, что Фридман побагровел до конца ушей и, круто
повернувшись, скрылся с площадки.
Рабочие разговаривали:
— И зачем, робя, на постройку памятного храма
немца сунули?
— Справимся и без немцев!..
После ухода сконфуженного Фридмана на строи-
тельной площадке появились Барма и Постник. Им стало
известно о совете немца разбавить замес.
Барма с упреком посмотрел на Постника:
— Эх, Ваня, ошибся ты со своим немцем! Хвалил как:
сведущ саксонец, работу знает! А он вот каков... Ну-ка,
разведи замес — что выйдет?
Постник попробовал оправдать Фридмана:
— Может, не приобык он к нашей стройке. На
словах-то больно боек...
— То-то на словах! Бывают люди: на словах города
берут, а на деле с мухами справиться не могут. По таким
его речам, я этого немца к большому делу и на версту
не подпущу!
Глава III
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДУНИ
Весной 1554 года Нечай с Жуком приехали в
Выбутино: Никита поручил им привезти в Москву
Дуню, благо бирючи набирали работный люд на
Псковщине.
344
Путники ввели лошадей в опустелый двор. На по-
кривленное крылечко выбежала Дуня, узнала гостей:
— Золотые вы мои! Не чаяла дождаться!..
Нечай смотрел на Дуню. Девушка подросла, длинные
русые косы, казалось, оттягивали назад голову. На
щеках Дуни не стало прежнего румянца, под глазами
легли скорбные тени.
Глашатаи сняли шапки, поклонились хозяйке:
— Как живешь-можешь, Дунюшка?
Голубые глаза девушки наполнились слезами:
— Тяжелое житье... Матушка померли, а батюшка в
монастырь ушел.
— Вот оно как! — ахнул Нечай. — То-то, гляжу,
одна-одинехонька ты в доме. И давно беда приключи-
лась?
— Уж третий месяц пошел.
— Голован знает?
— Послал батюшка грамотку с приезжим купцом.
— Ну что ж, не печалься, Дунюшка! Велел тебе дед
сбираться на Москву.
— Правда ли? — Девушка заплакала от радости.
— По округе еще поездим, работных людей поищем,
да и домой! Распрощаешься с Выбутином...
На следующий день глашатаи посетили в монастыре
Илью Большого и поехали по селам. Дуня нетерпеливо
ожидала их возвращения: она тосковала по Андрее.
Неудивительно, что ей полюбился названный брат:
он спас ее от тяжкой рабской доли, он был и высок и
строен, и глаза его проникали в самую душу. А сколько
рассказов от родителей Голована слышала о нем Дуня!
Афимья без конца говорила о доброте Андрюши, об уме
и красоте его...
«Да за моего Андрюшеньку любая да хорошая купец-
кая дочь пойдет», — говорила старуха, не замечая
скорбно потупленных глаз Дуни.
Дуня постеснялась расспросить Нечая, женился или
нет Андрей. Она страшилась даже подумать, что он
выбрал себе другую.
В ожидании дни тянулись бесконечно. Утром Дуня
345
торопила вечер, вечером ждала, что-
бы прошла ночь. Девушка еще боль-
ше похудела и побледнела, глаза вва-
лились.
Но всему бывает конец. Осталась
позади и дорога в Москву. Трепеща
от страха, надежды и радости, про-
ехала Дуня по московским улицам, не
видя их. Вот и домик Голована, но он
изменился: к нему сбоку пристроена
горенка.
Сердце девушки замерло: неужели
там живет злая разлучница?..
Дуня увидела бородатое, полузнакомое лицо с круп-
ными, резкими чертами: это вышел навстречу Филимон.
Бывшему монаху надоела бродячая жизнь, и он остался
у зодчих.
Бородач почти на руках внес Дуню, сомлевшую не
столько от дорожной усталости, сколько от мучитель-
ного, напряженного ожидания. Навстречу девушке, под-
пираясь клюкой, медленно шел Никита.
— Дедынька! Родненький! — Дуня бросилась на шею
Булату. — Уж и как же я стосковалась по тебе!..
— Ничего, касаточка, теперь не расстанемся... А ведь
ты выросла, Дунюшка! — с веселым изумлением воск-
ликнул Никита, оглядывая внучку. — Прямо невеста
стала...
А Дуня ревнивым глазом искала в доме следов
женского присутствия.
Филимон, не подозревая мук девушки, сказал:
— Вот и прилетела молодая хозяюшка! Воздохнем
ноне посвободнее, а то совсем захудали без бабьего
уходу... Ильин тебе новую горенку позаботился поста-
вить...
Глаза Дуни радостно блеснули:
«Не женился!.. Не женился!..»
И сразу же окрепшим голосом спросила:
— А скоро братец домой придет?
— Рано не обещался. Дел у него по самую маковку...
346
Дуня огляделась: сор на полу, в углах, под лавками;
на стенах и потолке паутина, слюда в окошках грязная.
— И верно, что захудали: грязь-то, пыль-то, словно
век не убирались!.. Дядя Филимон, веник, тряпки! И где
тут у вас вода?.. Дедынька, ты ложись, отдыхай, мы с
дядей Филимоном живо управимся.
В доме поднялась пыль столбом. Дуня скребла, мыла,
чистила... От работы лицо ее раскраснелось, а усталости
как не бывало: ноги легко и быстро носили девушку по
дому. Хотелось как можно скорей все сделать.
У вечеру горницу нельзя было узнать. Дуня разыска-
ла полотно, застлала стол. Убираясь, она успела и обед
сготовить. Накрытый стол с разложенными на нем
ложками, с нарезанным хлебом ждал хозяина.
Вошедший Голован изумленно остановился на поро-
ге: он не узнал обновленного своего дома.
Нарядная, счастливая Дуня робко подошла к назван-
ному брату. Андрей с удивлением и радостью взглянул
на разгоряченное лицо Дуни с высоким чистым лбом, с
сияющими голубыми глазами.
Голован решительно шагнул к Дуне, взял ее похоло-
девшую руку:
— Здравствуй, Дунюшка!
— Здравствуй, Андрюша... — потупилась девушка.
Глава IV
КАЗАНСКИЕ ДЕЛА
Волга от истоков до устья снова стала русской рекой.
Астраханское царство после падения Казани недолго
могло существовать самостоятельно. Уже весной 1554
года царь Иван отправил вниз по Волге тридцать тысяч
войска под начальством князя Юрия Ивановича Прон-
ского-Шемякина; другой воевода, Александр Вязем-
ский, повел на Астрахань вятских служилых людей.
Астраханцы встретили рать Вяземского выше Черно-
го острова; русские разбили татар. Царь Ямгурчей соби-
рался отстаивать крепость. Но когда войско Пронского
347
приблизилось к Астрахани, Ямгурчей сбежал в Крым.
Крепость сдалась.
В Москву радостное известие пришло 29 августа, в
день царских именин. Царь щедро одарил счастливого
гонца.
Из трех татарских орд, утвердившихся после распада
когда-то могучей Золотой Орды на востоке и юго-вос-
токе русского государства, теперь осталась одна —
Ногайская, в Заволжье. Ногайцы были многочисленны
и храбры. Но и эту орду раздирали смуты, междоусоби-
цы вождей, и этим умело пользовалась Москва.
Зимой 1554/55 года приверженцу Москвы князю
Измаилу удалось одержать верх над соперниками. Из-
маил прислал к царю гонца с изъявлением покорности,
с просьбой принять Ногайское княжество под свое
покровительство...
Предвидение Ивана, что после покорения Казани
откроется путь на восток, сбывалось.
По всей Азии разнеслись слухи об успехах Москвы.
Хивинский и бухарский ханы прислали послов с подар-
ками, с предложением выгодных торговых договоров.
Сибирский царь прислал дань: бесценных соболей, шку-
ры чернобурых лисиц, резные изделия из моржовой
кости. Присягнули на верность Москве черкесские
князья. Просили о русском подданстве земли кахетин-
цев и грузин.
Всё шире раздвигались пределы многонационального
русского государства. Добрый десяток народностей
присоединился к России за три-четыре года, и многие
другие малые народы, соседствующие с Россией, стали
ясно сознавать, что только в ее составе, под могучим
покровительством им обеспечено будущее.
И это сознание повело к великим последствиям в
грядущие века...
Но в те годы трудно приходилось русским в Среднем
Поволжье.
Уже весной 1553 года, всего через шесть месяцев
после присоединения Казани, луговые люди, возбужда-
емые князьями и муллами, восстали и перебили сбор-
щиков ясака.
348
В семидесяти верстах от Казани, на реке Меше,
луговые люди построили город, обнесли земляным ва-
лом и решили отбиваться от русских.
Тревожные вести пришли в Москву и из Свияжска.
Многочисленные отряды вотяков1 вторглись на горную
сторону Волги.
В сентябре 1554 года царь Иван отправил в казанский
край сильную рать под предводительством воевод князя
Семена Микулинского, Петра Морозова и Ивана Шере-
метева.
Московские воеводы принялись за дело крепко: они
взяли приступом городок луговых людей на Меше,
захватили много пленных.
Население арской округи покорилось, вновь дало
присягу в верности московскому царю.
Но на следующее лето волнения начались снова...
Впоследствии Грозный сердито укорял Курбского за
то, что князь Андрей и его единомышленники были
виновниками частых восстаний в казанской области,
продолжавшихся больше семи лет.
Иван Васильевич стоял за мягкое отношение к тата-
рам, за прощение прежних вин, за привлечение их к
военной службе.
Напротив, Избранная Рада действовала жестокими
военными мерами, высокомерно считая «басурман» не-
исправимыми врагами Москвы, неспособными подчи-
ниться русскому влиянию.
История показала, что прав был дальновидный стро-
итель многонационального государства Иван Грозный.
Когда пала Избранная Рада, в бывшем Казанском цар-
стве стали набирать воинов в московскую рать, и татары
под начальством Шиг-Алея принесли большую пользу в
войне с Ливонией.
Первым шагом царя и поддерживавшего его митро-
полита в деле умиротворения вновь присоединенных
татарских областей было учреждение казанского архи-
епископства.
1 Вотяки — старинное название удмуртов.
349
Макарий посоветовал царю послать в Казань умного,
расчетливого архиепископа Гурия.
★ ★ ★
Весной 1555 года царь Иван Васильевич вызвал По-
стника. Зодчий шел во дворец, думая вести разговор о
строительстве собора, которое подвигалось еще медлен-
но. Но первые же слова царя наполнили его тревогой.
— Поедешь, Яковлев, в Казань — кремль ставить, —
заявил Постнику царь. — Город мы взяли, а теперь его
оборонять надобно: не утихает там бранная лютость по
вине моих воевод. Стены потребно воздвигнуть вечные,
каменные. Надежнее тебя мастера для этого дела не
нахожу.
— А как собор, государь? — огорченно спросил
зодчий.
— С собором дело не порушится. У Бармы, окроме
тебя, помощники верные: Голована работу знаю, —
улыбнулся царь. — А ты, коли хочешь поскорее возвер-
нуться, действуй без промедления. Людей дам достаточ-
но. Помощником тебе поедет псковский дьяк Билибин
да старост двое... Да псковский же мастер Ивашка
Ширяй по моему указу набирает две сотни каменщиков,
стенщиков, ломцов...
Лицо Постника просветлело: он понял, что отрыв от
любимого дела будет не особенно долгим.
— Ивашка Ширяй мне ведом, государь: в былое
время в одной с ним артели работали. Мастер хорош!
Со псковскими каменщиками скоро дело управим.
— На земляные и прочие работы разрешаю татар
набирать сколь понадобится. О том для наместника
отписку дам. Иди!
Но Постник не уходил.
— Дозволь, государь, слово сказать!
Царь Иван нахмурился:
— Чего еще? О кормах ежели...
— Не о кормах, государь! Когда там стройку кончим,
позволь псковичей не отпускать, а по твоему царскому
повеленью на Москву привезти — собор делать?
350
Иван ласково взглянул на зодчего:
— Додумался? Хвалю! Зело прилежен к государст-
венной заботе. Пусть будет по прошению твоему.
Задача Постника облегчалась тем, что ему поручили
не весь завоеванный город обносить стенами, а только
часть, где стоял дворец бывших казанских ханов (теперь
там жил наместник), архиепископские палаты, склады
оружия и пороха. Яковлев рассчитывал справиться с
работой года в два.
Барма, узнав, зачем царь вызывал Постника, сказал:
— Поезжай, Ваня, тебе эта работа в большую науку.
А у нас дело на хорошей дороге. Покамест без тебя
управимся. Голован, Барака да Ефим Бобыль — дельные
помощники. А на немца я не надеюсь: то ли жидок в
работе, то ли хитрит и не хочет свои тайности открыть...
★ ★ ★
В седьмое воскресенье после пасхи 1555 года из
Успенского. собора в Кремле вышла торжественная
процессия: Москва провожала архиепископа Гурия в
далекий путь.
Чтобы не нарушился строгий порядок процессии, ее
ограждали тысячи стрельцов и детей боярских; за их
рядами волновались, вставали на цыпочках и вытягивали
шею собравшиеся во множестве любопытные москвичи.
Выход царя и митрополита обставлялся необычайно
торжественно.
Впереди шли хоругвеносцы, за ними — пятьдесят
священников в парчовых ризах. На длинных древках
иподиаконы несли изображение четырех херувимов. За
ними — священники с иконами в руках. Громадный,
тяжелый образ богоматери несли четверо. И снова толпа
священников, снова хоругви, снова богоносцы с икона-
ми...
Посреди многочисленной свиты мелкими шажками
шел митрополит Макарий; два послушника в длинных
ярких стихарях1 поддерживали владыку под руки.
1 Стихарь — облачение низших духовных лиц.
351
По бокам митрополита и позади его — епископы,
архимандриты, священники.
Далее следовал царь Иван Васильевич, высокий,
величественный, в сверкающей одежде, с золотым кре-
стом на груди, в шапке Мономаха. Над царем возвышал-
ся красный балдахин; его несли четверо рынд.
За царем важно выступали бояре. Постник, отправ-
лявшийся в Казань с караваном Гурия, тоже удостоился
чести сопровождать царя.
За Фроловскими воротами шествие сгрудилось в
плотную массу. Был отслужен краткий молебен. Архи-
епископ Гурий облобызался с царем и митрополитом,
выслушал прощальные напутствия и пожелания.
Толпа раскололась. Большая часть духовенства и
бояр возвратилась в Кремль. Оставшиеся последовали
за Гурием. Ряды стражи охраняли порядок шествия.
Гурию, первому архиепископу казанскому, предостави-
ли честь освятить основание, возделанное для Покров-
ского собора — памятника казанского взятия.
Основание поднималось посреди площади массив-
ное, внушительное — низкое у Лобного места, значи-
тельно более возвышенное в противоположную сторону
из-за покатости земли к реке.
Барму провели на площадку Голован и Ефим Бобыль,
где упрашивая толпу, а где и расталкивая крепкими
локтями. Гурий благословил строителей.
Прислужники надели на архиепископа торжествен-
ное облачение, и совершилось третье молебствие, после
чего Гурий и сопровождающие его отправились к реке.
Там они сели в большие ладьи, на которых предстояло
совершить далекий путь до Казани,
Постник попрощался с товарищами и вскочил на
отходившее судно.
★ ★ ★
Быт нового архиепископа обставили пышно, чтоб
создать ему большой авторитет. Гурий имел при себе
двор: бояр, детей боярских, архимандритов, архидиако-
нов, диаконов... Ему положили огромное содержание и
352
постановили выдавать все необходимое для содержания
двора продовольствие.
Перед Гурием были поставлены обширные миссио-
нерские задачи: он должен был как можно больше татар
обращать в православие.
Архиепископ Гурий и его помощники выполняли
царский наказ ревностно: за первые же несколько лет
тысячи татар были крещены в христианскую веру.
От перехода в православие выигрывали только мур-
зы и беки: за ними закреплялись поместья, и татары-кре-
стьяне становились их крепостными.
Постник уехал, но налаженная работа шла своим
чередом. Первым помощником Бармы сделался Андрей
Голован. Вернувшийся из дальней поездки в Киев Ни-
кита Щелкун привез оттуда нескольких искусных ре-
месленников, За это царь наградил Никиту деньгами.
Глава V
ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГАНСА ФРИДМАНА
«Высокородному и достопочтенному господину
придворному архитектору и советнику Отто Фогелю.
Любезный друг!
С чувством глубокой радости поздравляю тебя с
высоким назначением на пост советника нашего владе-
тельного курфюрста. Ты совершаешь путь по размерен-
ной орбите почестей, придворных званий и связанных
с этим доходов. Моя же будущность — увы! — темна и
неизвестна...
Скажу по чистой совести: я не думал, что русские
так искусны в строительном деле.
Они умеют составлять непревзойденные по качеству
«клеевитые растворы» (я выражаюсь языком москов-
ских зодчих), у них высока, как нигде, техника камен-
ной кладки... И это разрушило мои честолюбивые мечты.
Я уже писал, что нанимаясь на строительство По-
353
12-769
кровского собора, я рассчитывал сделаться если не
главным, то одним из первых. А что вышло? На деле я
не выше простого десятника, мне поручают только
незначительные дела. И я сам в этом виноват.
Я сразу повел неправильную политику. Я хотел дис-
кредитировать русских архитекторов, пытался толкнуть
их на путь неправильных действий. Если бы они после-
довали моим советам, то основание здания расползлось
бы под тяжестью верхйих масс. И тогда выступил бы я.
Я обвинил бы Бирму и Постника в невежестве, в
неспособности руководить колоссальной стройкой, я
показал бы свои знания и опыт... Результат казался
ясным.
Увы, мой дорогой Фогель! Как близкому другу, я
пишу тебе со всей откровенностью: я просчитался!
Московиты не внимали моим советам и все делали
по-своему, а я заслужил у них репутацию бездарного
мастера, которому нельзя поручить серьезную работу.
Я доставил на строительство партию слабо обож-
женного кирпича. Если бы его заложили в нижнюю
часть центрального храма, получилось бы очень хоро-
шо: через несколько месяцев кирпич раскрошился бы
и вызвал катастрофу. Барма и Постник попали бы в
немилость, а судьба, быть может, вознесла бы меня на
высоту... Не вышло и тут! Проклятые русские архитек-
торы осторожны: выстукивают чуть не каждый кир-
пич! Мой замысел провалился, да с каким позором!
Мне удалось отделаться от сурового наказания, лишь
свалив вину на десятника.
Что делать? Если бы ты был здесь, ты бы помог мне,
мой Отто! Я так верю в твою изворотливость, в твой
глубокий ум. Но ответное письмо придет, в лучшем
случае, через восемь-девять месяцев...
Я начал исправлять ошибку по собственному разуме-
нию и, кажется опять напутал! Когда я приоткрыл свое
истинное лицо умелого архитектора, проклятый Барма
чуть ли не догадался о моем прежнем притворстве, о
том, что я умышленно подавал неверные советы. Кто мог
ожидать от старика такой проницательности!
354
Кстати о Барме. Я считал его помощником Постни-
ка, человеком не стоящим внимания. Постника царь
Иоанн отправил на постройку укреплений в завоеван-
ной Казани, и могучая фигура архитектора уже не
появляется на постройке. Признаюсь, я почувствовал
себя гораздо свободнее. Я думал захватить главную
роль, полагая, что Барма растеряется и обратится ко
мне за помощью.
Оказывается, я недооценил роль этого скромного с
виду старика. Он — главный вдохновитель всего дела.
Отсутствие Постника ничего не изменило. Работа про-
должается под руководством Бармы, а его главным
помощником сделался зодчий Голован, добившийся зва-
ния царского розмысла во время осады Казани.
Ха! Во главе стоят мальчишки, неизвестно где и у
кого учившиеся, а мне, дипломированному архитектору,
чуть ли не приходится подтаскивать кирпичи!
Недавно я дал Барме совет, и довольно дельный.
Старик покрутил бороду, смерил меня холодным взгля-
дом и проговорил:
— Пусть переведут немцу, Андрюша: эту работу мы
сами совершим. А почему он не наготовил лекального
кирпичу для цоколя?1 Коли будет небрежен в работе,
отведает батогов!
Я чуть не разразился гневным ответом, забыв, что я
«не знаю» русского языка! Видали? Мне — батоги! Я,
забыв обо всем на свете, бросился за подготовку про-
клятых лекальных кирпичей. И когда за три недели
сумасшедшей работы я доставил на стройку горы кир-
пича, молокосос Варака снисходительно сказал:
— Наставник тобой доволен!
Я готов землю грызть от злости!
Но... терпение и осторожность! Буду проявлять по-
больше усердия и подарю московитам кое-какие техни-
ческие новинки. Надо восстанавливать репутацию, ко-
торую я испортил по собственной оплошности.
Жду от тебя, любезный Фогель, письма с благора-
1 Цоколь — основание здания.
355
12*
зумными советами. Только старайся, чтобы твои посла-
ния шли через верные руки и доходили до меня в
неприкосновенности.
Всегда преданный
Ганс Фридман
4 августа 1555 года».
Глава VI
РАБОТНЫЙ ЛЮД
Летом Ордынцев отправил старшину целовальников,
угодника и краснобая Бажена Пущина, осматривать
обширное хозяйство строительства: кирпичные заводы,
каменоломни, лесные рубки, пожоги угля...
На честность Бажена Федор Григорьевич вовсе не
надеялся. «Борода длинна, да совесть коротка», — думал
окольничий о старшине целовальников. Ордынцев ре-
шил послать с ним своего старшего сына, Семена.
Запершись наедине с Сеней, отец внушал ему:
— Слышно, много непорядку там, куда поедете.
Расхищают десятники и целовальники государеву казну,
неправедные отписки дают. С мужичонков, кои на
промыслах, вымогают последнее. Стонут мужичонки, ко
мне выборных посылали. Боюсь, до царя с жалобами
дойдут... Ты, Сеня, уж не мал...
Мальчик с гордостью выпрямился. Уродился он в
отца — высок, .силен, но еще по-детски тонок. Большие
серые глаза смотрели на мир с радостным любопытст-
вом.
— Буду смотреть, тятенька, неотступно!
— Того мало! С народом говори, спрашивай, каково
живется, дают ли корма по положению. Где воровство
вызнаешь, сам ничего не делай, а все записывай: мне
доведешь, я расправлюсь.
Гордый доверием отца и важной задачей, юный
Семен весело отправился в путь с большебородым
Баженом. Умный мужик оказывал мальчику преувели-
ченное почтение, советовался с ним по самым мелким
вопросам.
356
— Как прикажешь, боярыч: дальше поедем али на
ночлег остановимся? — спрашивал он под вечер.
— А ты как полагаешь?
— Мы что же! Конишки пристали. А впрочем, воля
твоя, ты хозяин: повелишь — дальше поедем.
— Давайте останавливаться.
— Эй, холопы! — орал во все горло Важен. — Боярич
приказал ночлег строить: раскидывайте шатер. Да живо
у меня: понимаете кому служите!
Сеня краснел от гордости. Но пока он, уложившись
спозаранку, спал крепким детским сном, Важен устра-
ивал дела. И сам успевал сделать за ночь большие
концы, и преданные ему слуги ухитрялись повидать кого
нужно и все подготовить к следующему дню.
Приехали на лесную порубку. Здесь валились сосны-
великаны. Такой мачтовый лес шел на стропила для
крыш. Из крепких дубов выделывались связи для стен.
Лесорубы, прослышав, что из Москвы едет царский
доверенный, собирались пожаловаться на плохое житье
в сырых, дымных землянках, на голод, подтачивавший
силы.
— Все как на ладони выложим, — сговаривались
мужики. — Кормов вовсе не дают. Что промыслишь в
лесу, то и твое. А когда промышлять, коли с зари до
зари лес роним!.. Ни хлеба, ни круп... Соли сколько
месяцев не видим... Одежонка с плеч сползла, лаптишки
побились... Все, все обскажем!
Но им не удалось выполнить свое намерение. Под-
ручные Бажена успели побывать тут до приезда Сени.
Недовольных работных людей десятники угнали в глушь
леса; остались только надежные — приказчичьи прихле-
батели.
— Как живем, спрашиваешь? — Они стояли перед
Сеней Ордынцевым с умильными улыбками, перемина-
ясь с ноги на ногу. — Живем, не обидеть бы твою
боярскую милость глупым словом, хорошо. Приказчики
у нас, дай им бог здоровья, печные, старательные...
Кормят, хоша бы и дома так ести...
357
Сеня всмотрелся в здоровенного детину с багровым
шрамом на щеке:
— Кажись, я тебя видел третьеводни на другой
порубке?
Уличенный не смутился:
— Точно, побывал я там: брательника ездил прове-
дывать. Брательник у меня тамотка работает — как мы,
лес валит.
Сеня хоть и не был неопытен, но заметил: лесорубов
слишком мало, если судить по грудам леса, наваленным
на поляне.
— Где остальные?
— Остальные?.. — Важен раскинул бороду вее-
ром. — А я их по лесу разослал: зайчишек да лисиц
загонять, чтоб было чем твоей милости потешиться.
Страстный охотник, Сеня забыл обо всем, глаза
загорелись от удовольствия.
— Когда будем охотиться?
— Завтрашний день, полагаю. Сегодня устал ты, и
ежели тебя истомлю, мне твой батюшка спасибо не
скажет.
На следующий день Сеня стоял под деревом с легкой
пищалью, отделанной серебром, и бил набегавшее
зверье. В загонщиках, мелькавших в лесу, дико ухав-
ших, колотивших трещотками, он не мог распознать
людей, представленных ему накануне. А вдали грохота-
ли и рушились огромные лесины, сваленные теми самы-
ми мужичонками, что собирались жаловаться боярину...
Не удалось Сене поговорить по-настоящему и с
углежогами. Этим тоже жилось не сладко.
Насквозь пропахшие дымом, с воспаленными глаза-
ми, с резкими черным морщинами на грязных лицах,
углежоги ни днем, ни ночью не знали покоя — вечно
настороже около угольных куч. Прорвалось пламя —
заваливай землей. Прозеваешь — сгорит вся куча...
За плохо выжженный уголь, за недостаточное его
количество надсмотрщики заставляли ложиться под
плети. Много горечи накопилось в душе у углежогов,
358
много жалоб готовили они, но им не дали возможности
пожаловаться хитрые уловки Бажена. Он не стеснялся,
поколесив по лесу два десятка верст, вернуться обратно
и показать мальчугану тот же пожог с другой стороны.
А работников, черных как черти, с замазанными сажей
лицами, с нахлобученными на лоб мохнатыми шапками,
разве узнаешь!
При осмотре каменоломен Бажен поступал проще:
всех непокорных и недовольных загоняли поглубже в
карьеры, где их стерегли десятники с бичами. Наверху
Ордынцева встречали приказчики с верными холуями.
По их рассказам, все шло хорошо.
А если Сеня выказывал намерение спуститься в
каменоломню, Пущин решительно восставал против
этого.
— Ты высокого происхождения человек, — заявлял
он, сурово хмуря брови и топорща огромную бороду,—
не нам, смердам, чета. Упаси бог, несчастье: как я за
тебя перед батюшкой отвечу?
— Выпусти ломщиков, я с ними поговорю.
— Нет, и не проси. Они урок не выполнят — кто
будет повинен? Да на что тебе они? Вот ломщики —
расспрашивай!
Сеня вернулся в Москву, не разузнав ничего. А
безобразий творилось много. Целовальники, сговорив-
шись с боярскими и княжескими тиунами, требовали на
работу зажиточных мужиков. Те откупались, предпочи-
тая потерять деньги, чем здоровье. Повинность перекла-
дывалась на бедноту, у которой не было и алтына
задобрить начальство. Мужики шли в лес или на камен-
ные ломки, а их жалкое Хозяйство приходило в упадок.
Поставщики грабили царскую казну, представляли
ложные счета. Если нельзя было означить преувеличен-
ную цену, то преувеличивали количество сданного ма-
териала, а приемщики подтверждали это, прельщенные
поминками. И хоть строгие царские указы грозили
рубить руки за воровство, но это не устрашало лихоим-
цев.
359
Вернувшись в Москву, Сеня доложил отцу, что все
благополучно, работные люди не жалуются, работы идут
полным ходом.
Потом с воодушевлением стал рассказывать о заме-
чательных охотах и рыбных ловлях, которые устраивал
ему предупредительный Важен.
Федор Григорьевич покачал головой:
— Где молоденькому петушку перехитрить старую
лису!
Их всех целовальников заслужил доверие Ордынце-
ва только Нечай, назначенный на должность по пред-
ставлению Голована.
Грамотный и честный мужик возбудил недовольство
прочих целовальников: в его счетах цены на купленное
были ниже, чем у других.
Ордынцев предлагал Нечаю:
— Хочешь, выпрошу у царя позволение поставить
тебя старшим целовальником заместо Бажена?
Нечай низко кланялся:
— Где нам лаптем шти хлебать!
— Ты не прибедняйся.
— Спаси бог за ласку, боярин. Мне и теперя опасно
ходить. А когда все припомнят: и шутовской колпак, и
как я на площадях пляс заводил...
— Ну, приневоливать не буду...
Помощником у Нечая работал молчаливый, сосредо-
точенный Демид. Этот тоже исполнял дело на совесть:
вгрызался в неисправных поставщиков так, что те и
жизни были не рады.
— Таких бы мне подручных... — вздыхал Ордынцев.
Несмотря на лихоимство приказчиков и притеснения
рабочего люда, строительство шло полным ходом.
Срубленный лес вывозили по снегу: летом не под
силу было управляться с огромными бревнами на коч-
коватых болотистых дорогах. Зима углаживала пути,
выстилала их белым пухом. Мужики, поеживаясь от
холода, бежали за санями. Лесные материалы свалива-
лись на берегах рек. Там пильщики без роздыха махали
руками, выгоняя из кряжей брусья, доски, тес...
360
Весной все это сплавлялось в Москву.
День и ночь скрипели по дорогам обозы с кирпичом,
камнем, известняком.
Москвичи, толпясь вокруг забора, окружавшего по-
стройку, заглядывали в щели, глазели в открытые ворота
и удивлялись потоку подвод, из месяца в месяц приво-
зивших на Пожар строительные материалы.
Немало требовалось и съестных припасов для массы
рабочего люда. Можно бы закупить припасы в Москве,
но тут они стоили много дороже. Славилась изобилием
продовольствия Вологда: туда и отправлял Ордынцев
закупщиков. Из Вологды везли соль, хлеб, соленую
рыбу, зимой — замороженные говяжьи туши. На Укра-
ину окольничий посылал за подсолнечным маслом и
крупами.
У Федора Григорьевича намерения были благие, да
исполнители их плохие. Целовальники ухитрялись раз-
воровывать значительную часть закупленного для работ-
ников продовольствия. Хорошая, доброкачественная
провизия обменивалась у купцов на гнилую, которую
следовало выбросить на свалку. Целовальник получал
хорошую приплату, а строители хлебали щи из котлов,
зажимая рукой нос от вони.
Тяжкая работа и скверная пища валили с ног работ-
ников; на бирючей налагалась обязанность — набирать
на Руси новых.
Барма все силы и помыслы отдавал строительству
храма. Когда в зимние морозные дни стройка приоста-
навливалась, старый зодчий все-таки шел на площадку.
Какая-то сила тянула его туда. Барма взбирался на леса,
осматривал кладку, мерил, высчитывал. Морозный ветер
овевал ему лицо; Барма поплотнее нахлобучивал шапку
на голову.
За Бармой по пятам ходил Голован, после отъезда
Постника принявший на себя заботы о старике.
— Наставник, иди домой! — остынешь!
— Это я-то? — храбрился Барма.
361
Глава VII
ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГАНСА ФРИДМАНА
«Достопочтенному придворному советнику
и главному смотрителю дворцов курфюрста
Саксонского господину
Отто Фогелю.
Высокоуважаемый друг и покровитель!
Я получил твое радостное для меня послание и от
всего сердца поздравляю, любезный Фогель, с новым
высоким саном главного смотрителя дворцов.
А я... я теперь жалею, что покинул Саксонию и
явился в эту неприветливую страну. Лучше бы я остался
дома и шел к благосостоянию медленно, но верно под
твоим доброжелательным покровительством. Но сде-
ланного не воротишь.
Пишу подробно о всех здешних делах. У меня нет
здесь сведущего собеседника, с которым можно было
бы отвести душу и поговорить об архитектуре. Я встре-
чаюсь с земляками, но это грубые, необразованные
люди: купцы, мореходы...
Бываю я изредка у Голована. Он умный, начитанный
собеседник, с ним приятно провести вечер, толкуя об
архитектуре. Я не скажу, что он любит меня, но отно-
сится ко мне лучше, чем его товарищи. Барма по-преж-
нему терпеть меня не может, а я его ненавижу всей
душой, и мне трудно скрывать это чувство...
Вот я и изливаюсь перед тобой, старый друг. К тому
же ты собираешься писать книгу об истории архитекту-
ры, чтобы с пользой употребить досуг, который дает
тебе выгодная и покойная должность. Сведения, что я
буду сообщать, драгоценны для твоей работы.
Стройка подвигается быстро. В октябре прошлого
года закончили подклет. Подклет у московитов обяза-
тельная принадлежность всякого строения. Так называ-
ется нижний, обычно нежилой этаж здания. Крестьяне
содержат в подклете свиней и кур. Состоятельные люди
устраивают там кладовые.
Устройство подклета Покровского собора сложно и
362
остроумно. Под каждым из девяти будущих храмов
поставлен восьмиугольный каменный столб, пустой
внутри. Эти глухие помещения, куда нет доступа днев-
ному свету, представляют собой нижние этажи храмов,
как бы высокие фундаменты их. Для прочности они
связаны каменными арками, сверху настлана сплошная
каменная площадка.
Едва окончилось строительство подклета и на двери
его подвалов навесили огромные замки, как бояре и
богатые купцы начали привозить на хранение имущест-
во. Священники охотно сдают подклеты храмов в арен-
ду. Богачи боятся пожаров, татарских нашествий и
московских воров.
Закончив подклет, Барма начал ставить на площадке
девять отдельных церквей, разделенных открытыми ко-
ридорами.
План собора таков. Вокруг центрального храма рас-
полагаются четыре меньших храма по четырем сторонам
света: эти храмы архитекторы называют «большой чет-
верицей»
В промежутках, по диагоналям, размещаются цер-
ковки «малой четверицы».
Приходится признаться: план задуман с гениальной
простотой, с полным пониманием геометрических необ-
ходимостей. Я только сильно надеюсь, что строители не
сумеют соблюсти пропорции: тогда собор обратится в
безобразную груду, и этот провал погубит карьеру
Бармы и Постника.
Перейду к деталям плана.
В русских церквах помещение разделяется на две
неравные части: меньшая — алтарь — для священника;
большая — для молящихся. От основного помещения
алтарь отделяется перегородкой — иконостасом, ярко
расписанным портретами святых, так называемыми
«иконами».
Алтарь центрального храма будет помещаться в ни-
ше, имеющей форму равнобочной трапеции; у нас,
дипломированных архитекторов, такие ниши называют-
ся «абсидами», и я с .-удивлением убедился, что этот
363
термин знаком московским зодчим. В остальных храмах
абсиды или малы, или отсутствуют.
Любопытно, что размеры церквей очень невелики.
Самый большой храм едва ли вместит двести молящих-
ся. Церкви двух четвериц малы до смешного. Я измерил
две из них: шесть с четвертью аршин на четыре аршина;
девять аршин на четыре с половиной аршина! Вот так
церкви! В них по сорока человек не поместится. В наших
рыцарских замках кухни больше, не говоря о пиршест-
венных залах... Впрочем, московские архитекторы и
этому подыскали основание. Я слышал, как Барма объ-
яснял одному недовольному священнику:
— Храм наш — памятник, он должен иметь величе-
ственный и прекрасный вид снаружи. А для моления в
Москве много церквей.
Должно сознаться, вопрос поставлен смело и смело
решен.
О материале храма. Барма строит собор из красного
кирпича, пуская пояски и карнизы из белого известко-
вого камня. Это будет выглядеть нарядно, хотя нарушает
строительные традиции «белокаменной Москвы». Как
известно, столица получила это прозвание потому, что
в ней масса зданий целиком построены из белого камня.
Как тщательно следят русские архитекторы за проч-
ностью раствора и за правильностью кладки! Пришлось
мне увидеть, как «кроткий старик» Барма расправляется
за неаккуратную работу.
Есть на строительстве два неразлучных друга, два
силача: Василий Дубае и Петрован Кубарь. Это ученики
каменщиков, свою профессию они начали изучать на
строительстве собора.
В последнее время Петрован Кубарь обленился и
стал класть кирпич как попало. Быть может, он рассчи-
тывал на снисходительное отношение главного архитек-
тора. А получилось вот что.
Барма, обнаружив скверную работу, принялся лох-
матить бороду. (Теперь я знаю: у него это признак
плохого настроения).
И в самом деле, он коротко распорядился:
364
— Тридцать плетей. Потом переделаешь.
Петрована с обнаженной спиной уложили на ска-
мейку, отполированную животами наказуемых, хотели
привязать. Он отказался:
— Вырываться не буду!
Плеть засвистала так, что меня невольно пробирала
дрожь. А Петрован лежал спокойно, хотя на спине его
выступили кровавые полосы. Когда палач отсчитал уда-
ры сполна, Кубарь встал, встряхнул волосами и, что
удивительнее всего, поблагодарил за науку. Затем он
пошел переделывать кладку.
Наказание не подействовало на Петрована. Его сно-
ва уличили в небрежности, и он получил новую пор-
цию плетей. А при следующей вине Барма распоря-
дился:
— Уволить ленивца!
И эта мера оказалась самой действенной. Богатырь,
из которого плети не могли выбить ни слезинки, ходил
по пятам за Бармой и буквально проливал ручьи слез:
— Наставник, прости! Наставник, помилуй!.. Богом
клянусь исправиться... Сними позор!..
Петрована поставили на кладку, и теперь это самый
старательный работник.
Я рассказал о нерадивом каменщике. Большинство
же трудится усердно, особенно женщина Салоникея.
Она работает быстро и тщательно; швы идут как по
нитке, составляя правильный, четкий узор. Барма ставит
ее в пример мужчинам. Салоникея — гордая женщина:
похвалы выслушивает совершенно спокойно, как нечто
должное.
Кончаю длинное послание, масло в светильнике вы-
горело до конца, хлопья копоти покрывают бумагу. Не
знаю, когда удастся отправить это письмо, но стало
легче на душе, когда побеседовал с тобой.
Глубоко преданный
Ганс Фридман
3 мая 1556 года».
365
Глава VIII
ПОПОВСКИЙ «БУНТ»
Попы малых храмов Покровского собора были край-
не недовольны своими церквушками. Долго они разго-
варивали между собой, подогревая возмущение, а потом
гурьбой отправились к митрополиту.
Излагать жалобу избрали двоих: маленького, щуп-
ленького, речистого протопопа Киприановской церкви
Елисея и попа Никодима, настоятеля церкви Александра
Свирского. Никодим был немногословен, но славился
чудным басом, и за голос его любил владыка.
Просителей допустили в митрополичьи покои. Мака-
рий вышел в худенькой ряске, заляпанной красками: он
оторвался от рисования иконы. Владыка, похожий на
немудрящего деревенского попика, ласково улыбался:
— С чем пришли, отцы?
Попы повалились на колени, застучали головой об
пол.
— Не встанем, пока не согласишься выслушать,
владыко! Велие нам грозит разорение! Оскудели живо-
тишками! — вопили они на разные голоса.
— Встаньте и говорите! Токмо не разом, а кто-либо
один.
Протопоп Елисей бойко зачастил:
— Обижены, господне, гладной и хладной смертью
угрожаемы, и приносим слезные моления чад и домо-
чадцев наших. Ведомо тебе, владыко пресвятый, что
были у нас церкви деревянные, довольно обширные, и
ходили к нам православные хрестьяне даже в достаточ-
ном числе. А теперь как посмотрели, что нам Барма с
Постником строят, ужас объемлет...
— Ужас объемлет! — рявкнул Никодим, воспользо-
вавшись тем, что Елисей остановился перевести дух.
Владыка поморщился:
— Ты бы, отец Никодим, помолчал. Глас твой для
церкви хорош, а здесь от него ушам больно...
Елисей продолжал:
— Они нам не церкви возводят, но аки бы малые
366
часовенки. Где там молящемуся народу вместиться?
Коли три десятка влезет — и то уже много. А каковые
там будут алтари? Ведаешь, господине, что в «Учитель-
ном известии» сказано: «Во олтарь, главу открыв и
поклонение сотворив, вниди и к божественному престо-
лу приступи...»
— «Учительное известие» я и сам знаю, — с нетер-
пением перебил Макарий. — Ты о деле говори!
— Я о деле, владыко премудрый! Где же в таком
алтаре кланяться? Там поклонишься — ризой все с
престола сметешь...
— Верно протопоп глаголет! Теснота неизреченная!
Не повернуться! — загалдели попы.
Макарий покачал головой. Шум утих. Глядя на тол-
стого Феоктиста, настоятеля церкви Варлаама Хутын-
ского, митрополит укоризненно сказал:
— А тебе, отец Феоктист, до голодной смерти,
мнится, далеко. И коли попостишься, сие на пользу
пойдет. Вишь, чрево разъел! Верю, тебе с таким чревом
трудно в новом храме служить. Уж не послать ли тебя
на деревенский приход, во просторную церковь?
Побледневший Феоктист стал оправдываться:
— Неповинен, владыко, в чревоугодии. Ем мало, а
плоть одолевает. Верно, болесть такая от господа ни-
спослана... И наказания не заслуживаю...
— Так на что ж вы жалуетесь?.. Церкви малы,
тесны — верно. А ведомо вам, что собор сей великую
славу нашей православной церкви означать будет? —
возвысил голос митрополит.
Его маленькая фигурка стала такой недоступной и
властной, что попы съежились, застыли. Мертвое мол-
чание наступило в палате. Просители поняли, что дело
оборачивается неладно, и думали только, как бы подо-
бру-поздорову унести ноги.
— Довести ваши жалобы до государя: просят-де попы
собор разломать?
Попы снова рухнули на колени:
—- Прости, владыко! Мы того не мыслили.,. Снизойди
к нашему неразумию...
367
— Встаньте, отцы! Христос велел прощать до семиж-
ды семидесяти вин. Я на вас не гневаюсь. Жить вам
надобе, то понятно и мне и государю. Храм строится яко
доброзримый памятник казанского взятия, и вы на
богатые приходы не возлагайте. Но вас не оставим:
корма будете получать из моей казны.
Подойдя к митрополиту под благословение, доволь-
ные попы потянулись к выходу. Митрополит задержал
их, Сказал сурово:
— Но помните, отцы: коли будете сеять в народе
смуту и жаловаться на бедственное свое положение,
накажу без милосердия, в Соловки отправлю!
Напуганные попы смирились, но вызванные их сето-
ваниями разговоры и толки в народе не прекратились;
позднее это повело к неожиданным для строителей
последствиям.
Глава IX
ВОЛНЕНИЯ НА СТРОЙКЕ
Работа, которую проводил до отъезда Постник, те-
перь пала на плечи Голована. На площадку Андрей
заглядывал ненадолго — главную работу он проводил
дома. А работа требовала очень много времени и огром-
ного художественного чутья. У малых церквей восьме-
рики заканчивались — надо было продумать переходы
от этих восьмериков к верхним, более узким. В перво-
начальном проекте собора общий вид отдельных церк-
вей намечался лишь приблизительно, теперь следовало
разрабатывать детали.
Дело усложнялось тем, что обработку каждой церк-
ви еще при Постнике решили производить по-особому,
не повторяясь. Храмы должны были сходствовать, по-
добно детям одной семьи, и в то же время разниться
какими-то неповторимыми черточками.
Сергей Барака и Ефим Бобыль помогали Головану,
давали свои проекты оформления малых церквей, но
общее решение оставалось за Голованом и Бармой.
Молодой зодчий с утра до вечера сидел за эскизами.
368
Он углубился в изучение разного рода кокошников,
навесных бойниц, прилепов, колонок витых и рустован-
ных, полукруглых и стрельчатых арочек. Нелегкую за-
дачу представляло гармонично сочетать различные ар-
хитектурные элементы так, чтоб найти восемь прекрас-
ных композиций, объединенных в стройное целое с
центральным храмом.
Голован делал рисунки десятками и уничтожал их,
если они его не удовлетворяли. Иногда приходил со
стройки Барма, сочувственно смотрел на склоненную
над бумагой голову Андрея, в которой начала пробивать-
ся ранняя седина.
Голован бормотал точно в бреду:
— Пустить или не пустить по этому поясу машикули?1
Боюсь, уширят шею храма... Разве сгладить переход ко-
кошниками?.. А сколько рядов пустить? Два? Три?.. И
опять же, какие кокошники ставить? Полукруглые или с
подвышениями?.. Нет, не годится, тяжело выходит...
Разорванный лист летел под стол, а Голован с лихо-
радочной торопливостью уже рисовал на другом. Барма
молча уходил, а молодой зодчий, углубленный в работу,
не замечал ни прихода, ни ухода наставника, не слышал
скрипа отворяемой двери... Он и о еде забывал...
Вечером в рабочую горницу зодчих приходили с
Бармой его помощники Сергей и Ефим. Потрепанный
жизнью Никита Щелкун держался особняком. После
работы отправлялся домой, выпивал чарку и заваливался
спать.
Сделанное Голованом за день рассматривали, оцени-
вали, поднимались горячие споры.
А по воскресеньям все собирались в домике Голова-
на, где было и чисто, и светло, и уютно.
Дуня скромно сидела в уголке с рукоделием, не
вмешиваясь в мужские разговоры. Понемногу Голована
начали выводить из себя умильные взгляды, которые
бросал на девушку кудрявый Сергей Барака. Парню
1 Машикули, или навесные бойницы, — род треу-
гольных выступов, напоминающих кронштейны.
369
полюбилась внучка Булата, и он, весельчак и затейник,
не стеснялся выказывать ей свои чувства.
Сильно одряхлевший Булат радовался.
«Теперь у Андрюши с Дуней скорее дело пойдет на
лад, — раздумывал он. — Это уж так: есть — не видишь;
потерял — горюешь!»
Дружеские отношения Голована и Сергея испорти-
лись: молодые люди чувствовали друг в друге соперни-
ков.
Очутившись наедине с Дуней, Барма поговорил с ней.
— Ты, девушка, моих ребятенок от работы отрыва-
ешь, — полушутливо начал он. — Сергей с Андрюшей,
того гляди, подерутся, а работе урон.
Дуня заплакала:
— Я, дедушка, ничем не причинна...
— А я тебя не виню. Ты признайся мне: который тебе
по сердцу?
— Сергею скажи, — прошептала девушка, — за него
не пойду... И ни за кого не пойду! — добавила со
внезапной решимостью.
— Вот те на! — изумился старик. — А за Голована?
— Где уж! — скорбно вздохнула Дуня. — Он на меня
и смотреть не хочет. Да и не ровня мы... Он — царский
розмысл, я — сирота.
Барма рассердился:
— Не смей говорить неподобные слова! Сирота
нашлась! У тебя дед тоже зодчий, человек повсюду
знаемый. Про неравенство не поминай!
— Не буду... — улыбнулась Дуня сквозь слезы.
Старик смягчился, погладил Дуню по гладким русым
волосам:
— Не плачь, доченька! А с Серегой я поговорю,
чтобы на грех не лез.
л * ★
Не всегда дело с лодырями оканчивалось так гладко,
как с Петрованом Кубарем. Несколько человек при-
шлось прогнать. Уволенные работники распускали лжи-
вые слухи, порочащие Барму и его помощников. Эти
370
слухи на лету подхватывались завистниками из числа
зодчих, не принятых на работу Бармой.
«Залетели вороны в высокие хоромы! — шипела
ядовитая молва. — Не по себе взялись дерево рубить
Постник с Бармой. Стенок навыводили, а что с ними
делать — не ведают... И то сказать: шутка ль дело —
девять престолов! Таковых соборов никто допреж не
страивал...»
Слухи дошли до зодчих. Напрасно утешали они друг
друга: от сплетен да напраслены мудрено уйти! На душе
у них было тяжело, обидно. А тут еще произошел
случай, сыгравший на руку недоброжелателям.
Большая толпа рабочих, возмущенных тем, что в
последние дни их кормили вконец испорченной пищей,
окружила Барму, Голована и Ефима Бобыля. Послыша-
лись сердитые возгласы:
— Работаем как проклятые, а едим как свиньи!
— Хороший хозяин такой дрянью кормить свинью
не станет — околеет свинья!
— В каше не масло, а песок!
— Пошли, ребята, жаловаться самому царю!
Напрасно зодчие старались доказать людям, что не
они повинны в плохой пище.
— Что вы все валите на чужого дядю! — кричали
строители.
— Вас бы покормить из нашего котла, вы б запели
репку-матушку!
Голован и Бобыль переглянулись.
— А ведь не плохо придумано! — усмехнулся Голо-
ван.
Бобыль догадался:
— Целовальников на тот же стол посадить, и чтоб
ели без отказа!
Зодчие обратились к толпе и рассказали, на какую
мысль навели их разговор. Строители разошлись со
смехом и шутками.
Разговоры о случившемся покатились по Москве.
Пьяную выходку работников разносчики вестей превра-
тили в бунт. Одни говорили, что зодчих искалечили.
371
«Побили до смерти», — уверяли другие. Нашлись оче-
видцы, которые собственными глазами видели, как тру-
пы Бармы и даже Постника, которого на Москве не
было, везли на дровнях, завернутые в грязные рогожи...
Царь, узнав о случившемся, приказал зодчим явиться.
— Ничего! — сказал Барма. — Мы никого не боимся
и ни от кого не таимся...
Иван Васильевич собирался на охоту. На нем был
подбитый мехом зеленый охотничий кафтан, перехва-
ченный кожаным поясом, за которым торчал кинжал;
голову покрывала низенькая шапка бобрового меха.
Царь встретил зодчих неприветливо:
— Что про вас Москва благовестит?
Барма ответил с низким поклоном:
— Не прими во гнев, государь! Наше дело большое,
а в большом деле не без греха...
— А все-таки есть грех?
Барма рассказал царю о жалобах рабочих на плохую
пищу.
Иван Васильевич вспылил:
— Смутьяны на стройке завелись? Драть их кнутами
без пощады — узнают, как жаловаться! Вижу, слабы вы
с Ордынцевым: не держите народ в узде!
— Батюшка Иван Васильевич! — взмолился старый
зодчий. — Возьми на час терпенья!
Царь насмешливо улыбался, выдвигал кинжал из
ножен и вдвигал обратно. Смотрел недобрыми глазами.
— Говори, старик, послушаем!
Барма продолжал, не смущаясь:
— Прости, что с тобой по-свойски разговариваю, —
на прямое слово ты не серчаешь, то знаю, господине! А
сам посуди: работный люд правду говорит — уж очень
пища плоха. И надо бы заставить целовальников вместе
со строителями из одного котла питаться...
Царь захохотал:
— Кто из вас такое выдумал? Ты, Голован?
— Нет, государь, это к нам от работников пришло.
— Одобряю, — сказал царь. — Более того: семьи
целовальничьи поселить в бараках, и чтоб у них все было
так, как у работников.
372
Зодчие кланялись и благодарили.
— Это последнюю вам поблажку даю! — строго
молвил Иван Васильевич. — А потом погляжу...
— Поглядишь через три месяца! — не сдержавшись,
брякнул Голован.
— Через три месяца? — возвысил голос царь, и на
лице его проступили признаки приближающейся гро-
зы.— Что ты сулишь через три месяца, невежа, холоп?
Собор кончишь строить али делу поруха придет?
— Прости, государь, с языка сорвалось!
— Поднять тебя на дыбу — научишься держать язык
за зубами! Да уж ладно, ступай, — смягчился царь. —
И помни: через три месяца я тебя призову к ответу и
посмотрю, что ты мне покажешь!
Зодчие вышли из дворца бледные, взволнованные.
Голован целый вечер совещался с учителем. Что
они говорили, никто не знал. Но со следующего дня
Голован оставил чертежи и начал по целым дням уеди-
няться в подклете центрального храма, за наглухо за-
крытой дверью. Чтобы предупредить возможность рас-
крытия тайны, он ставил у подклета на ночь надежную
охрану: умного мужика Кузьму Сбоя или Петрована
Кубаря.
Теплое чувство к Дуне, пробудившееся в душе Голо-
вана, отступило под натиском тревожных событий. Ан-
дрей должен был оправдать перед царем сорвавшуюся
с уст похвальбу.
Молодой зодчий уходил на работу до свету. Но как
ни рано вставал он, Дуня поднималась еще раньше, и на
столе ожидал сытный завтрак.
В полдень Дуня, несмотря на погоду, несла Андрею
обед. Похудевшая, светившаяся строгой красотой, де-
вушка проходили по строительной площадке, не обра-
щая внимания на шушуканье рабочих.
Дуня стучала, передавала принесенную еду в чуть
приоткрытую дверь подклета и спешила домой, гордая,
молчаливая.
373
Выдумка с питанием целовальников имела успех.
Сами строители зорко следили, чтобы приказчики и
десятники не хватали кусков на стороне и чтоб не
продовольствовали свои семьи.
Пища сразу улучшилась.
Глава X
ИЗ ДНЕВНИКА ГАНСА ФРИДМАНА
«...Против архитекторов было пущено ядовитое ору-
жие клеветы; в этом и я принял посильное участие,
возбуждая изгнанных с работы ленивцев. Все, казалось,
предвещало успех. О строительстве прогремела такая
дурная слава, что Варму и Голована вызвал царь. Я с
надеждой ждал от этой вынужденной аудиенции благих
результатов и полагал, что Иоанн наложит на зодчих
«опалу», как здесь говорят.
Но что из этого вышло? Я передаю факты с величай-
шей злостью, готовый сломать перо и порвать ни в чем
не повинную бумагу. Эти хитрецы, Барма и Голован, —
о, как я их ненавижу! — выпросили у царя трехмесяч-
ный срок, обещая поразить его чем-то необычайным.
За это время Голован проводил в подвале храма
таинственную работу, которая меня чрезвычайно инте-
ресовала. Я пытался проникнуть туда, но встречал гру-
бый отпор.
Наконец срок истек. Я питал надежду, что никакого
чуда Голован не покажет, что он хотел выиграть время.
Но я только теперь узнал его дьявольскую изобрета-
тельность.
По приглашению Бармы царь приехал на постройку.
Его сопровождали: брат его — принц Юрий, митрополит
Макарий и несколько придворных. Барма повел знатных
посетителей; к свите присоединились Барака и Щелкун,
а за ними и я. Барма поморщился, увидев меня, но ничего
не сказал, и я пошел за процессией.
Я не видел московского государя года три. Он сильно
изменился за это время. Насколько мне известно, ему
374
По приглашению Бармы царь приехал на постройку.
двадцать семь лет; но, не зная этого, можно смело
утверждать, что Иоанн доживает четвертый десяток.
Стан его согнулся, он ходит, стуча драгоценным посо-
хом, который не выпускает из рук. Борода его поседела,
в ней появились пряди седины.
Барма повел царя по узкому темному переходу,
ведущему в нижний этаж центрального храма.
По условному стуку Бармы перед царем и его спут-
никами распахнулась дверь. Какое неожиданное зрели-
ще представилось моим глазам! Я едва не застонал от
ярости... Русские вновь перехитрили меня!
На дощатом помосте, освещенном свечами, стояла
великолепная модель Покровского собора высотой око-
ло пяти футов. Свет отражался от яркой позолоты глав
и крестов храма. Крохотные его оконца светились крас-
новатым светом: внутри горели свечи.
Иоанн и его свита пришли в восхищение, а я не
находил себе места... Как подорвать авторитет людей,
способных создать такое чудо красоты?..
Модель была с величайшим искусством сделана из
деревянных брусков, фигурные глаза покрыты тонкими
листами позолоченной меди. Аккуратная и точная рас-
краска давала совершенное подобие белого камня и
красного кирпича.
Так вот для чего уединялся Голован! Но это же
сверхъестественное — в три месяца создать порази-
тельное произведение искусства...
— Таков будет памятник взятия Казани! — с гордо-
стью сказал Голован.
Нельзя не признаться, что он был хорош, со своей
величавой осанкой, с глазами, горящими вдохновением.
Но с этого момента я возненавидел его сильнее, чем
Барму...
Царь радовался, как ребенок дорогой игрушке.
— Кто из вас сделал это чудо?
— Вот он, государь! — показал Барма на помощни-
ка. — Он с молодости искусен в таких строительствах,
почему и замыслил сделать таковое подобие...
— Прекрасно, прекрасно! — повторял Иоанн в упо-
ении.
376
Вдруг глаза его запылали гневом:
— А где клеветники, что оболгали вас, что распуска-
ли злостные небылицы? Проклятые! Какое дело погу-
бить задумали!
Хорошо, что под сводами подвала был сумрак, слабо
освещаемый свечами, иначе, я выдал бы себя. Страх
охватил меня. Мне казалось, что грозные глаза Иоанна
глядят прямо на меня, пронизывают насквозь.
Я съежился за широкими боярскими спинами. Как я
хотел бы стать червяком, заползти в щель пола... Говорят
в таких случаях, что это угрызения нечистой совести.
Ерунда! Я просто испугался разоблачения: ведь моя
карьера рухнула бы с позором...
Впрочем, все обошлось благополучно, меня ни в чем
не подозревают: московиты недогадливы.
Успокоившись от гнева, царь привлек Барму и Голо-
вана, обнял и расцеловал их.
— Вижу, — сказал он торжественно, — что вы
верные слуги и заботитесь о величии русской земли и
прославлении моего царского рода. Награжу я вас выше
всякой меры, а сейчас...
Он снял со своих пальцев два драгоценных перстня
и подал смущенным и обрадованным архитекторам. Те
благодарили царя, кланяясь до земли.
Митрополит Макарий тоже счел нужным похвалить
архитекторов.
Принц Юрий и бояре наперебой осыпали Голована
и Барму любезностями и преподносили, по русскому
обычаю, подарки. Так как при них не было ни кубков,
ни драгоценных мехов, которыми здесь принято одари-
вать, то они развязывали висевшие у пояса кошельки и
вручали архитекторам серебряные рубли, которые те
принимали с поклоном.
Царь Иоанн торжественно сказал:
— Теперь вам в работе помех не будет. Если даже
прикажете кремлевскую стену разломать для построй-
ки собора, я и в этом поверю. Сие дивное изображение
перенесете во дворец под своим личным смотрительст-
вом. Кстати, я еще вас поблагодарю, — добавил он с
милостивой улыбкой.
377
И вот плоды разрушительной работы, которую я
старался проводить чуть не три года!..
Но я не падаю духом — судьба, быть может, еще
повернется ко мне лицом...
Странные сны сняться мне последнее время. Какая-
то громада нависла надо мной, грозя обрушиться и
раздавить меня.
Я в испуге просыпаюсь, и в момент пробуждения
низкий и грозный голос шепчет мне в уши «Уничтожь!..
Уничтожь!.. Уничтожь!...»
Кого уничтожить?.. Или что?.. Не знаю...
Октябрь 1557 года».
Гл а в а XI
ЖЕНИТЬБА ГОЛОВАНА
После царского посещения будущность представля-
лась зодчим в розовых красках. Они разговаривали, без
конца повторяя друг другу подробности того, что случи-
лось: и что сказал Иван Васильевич, и что они ему
ответили, и что он опять сказал...
Расставшись с Бармой, Голован в радостных мечтах
незаметно дошел до дому. Дверь открыла Дуня, с недо-
умением глядя на непривычно веселое, оживленное
лицо молодого зодчего.
— Видно, радость у тебя? — спросила девушка.
Андрей не ответил. Он неожиданно схватил пора-
женную Дуню и крепко обнял. Дуня старалась вырвать-
ся из рук Голована, но он не выпускал девушку.
— Довольно в кошки-мышки играть! Идешь за меня
замуж, Дунюшка? — прямо и настойчиво спросил Анд-
рей.
— Пойду... — прошептала Дуня. — Только как
дедынька...
— Дедынька спит и видит, чтобы поженить нас! —
ответил Голован.
Булат действительно крайне обрадовался предложе-
нию Андрея, которое перестал и ждать. Но; храня
378
старинные обычаи, строго выговорил Головану за то, что
тот повел дело не по порядку; не заслал сватов, а сам
объяснился с девушкой.
— Разве тебе некого было попросить? — сурово
говорил старый зодчий. — У тебя Барма — сват, коему
никто не откажет: всей Руси известный человек!
— От всего сердца прошу: смени гнев на милость,
наставник! Виноват я, точно, свело меня с ума царское
благоволение.
— Только ради этого я прощаю, — сказал Булат,
пряча довольную улыбку в седых усах.
На другой день Голован поручил Василию Дубасу и
Петровану Кубарю перенести модель собора во дворец.
Два богатыря с трудом тащили тяжелую модель на
прочных носилках. Втаскивая ношу в царские палаты,
Петрован испуганно и восхищенно таращился во все
стороны. Парню и хотелось встретить царя, и он боялся,
что увидев его лицом к лицу, умрет со страху. От
волнения он спотыкался, а Василий ругал его сердитым
шепотом: он-то уж видел царя!
Модель благополучно внесли в царские покои, уста-
новили на большом столе. Спальник вывел носильщиков
из дворца, пожаловал за труд по алтыну. Голован и
Барма остались ждать царя.
Государя Петрован не встретил, но твердо знал, что
если ему суждено вернуться в родное село, то станет
он самым знаменитым человеком на много верст в
окрестности: он побывал в царском дворце!
Голован скинул покрывало с модели, и вошедший
царь мог любоваться миниатюрным храмом при дневном
свете.
— Говорите, чем вас пожаловать?
Голован упал царю в ноги:
— У меня челобитье, великий государь!
— Говори.
•— Жениться я надумал!
— Вот! — удивился Иван Васильевич. — Да разве ты
холост? Невеста кто?
379
Узнав, что Голован собирается взять за себя прием-
ную внучку старого^ наставника, царь тотчас вспомнил и
зодчего Никиту Булата и его подвиг, за который он
недостаточно вознаградил верного подданного.
— Выбор твой одобряю! А чего ты от меня хочешь?
— Разреши, государь, на Псковщину съездить: у
тятеньки родительское благословение испросить.
— Доброе дело, разрешаю. А я прикажу невесте
приданое приготовить...
Андрей в три недели управился с поездкой в Выту-
тино; обрадовал инока Иосифа, в миру Илью Большого,
известием о предстоящей женитьбе, о своих успехах в
зодчестве. На свадьбу Иосиф не поехал, извинившись
недугами и монашеским званием.
Свадьбу Голована и Дуни справили по дедовским
обычаям. Посаженным отцом был окольничий Ордын-
цев, представлявший в своем лице высокую особу царя.
От венца молодых отвезли на Полянку, в богатое поме-
стье, пожалованное Иваном Васильевичем Дуне: обе-
щанное царское приданое.
Переехал в просторные хоромы и старый Барма,
сдружившийся с Голованом за годы отсутствия По-
стника.
После свадебного пира Дуня смущенно призналась
мужу в давней любви.
— Уж так, Андрюша, буду тебя жалеть — пушинке
не дам на тебя упасть!..
Глава XII
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОСТНИКА
Постник возвратился из Казани в конце 1557 года.
Царское поручение он выполнил исправно и в короткий
срок: в два с небольшим года. Кремль завоеванного
города русские мастера обнесли крепкими каменными
стенами. Новую крепость занял сильный отряд стрель-
цов, и это произвело большое впечатление на окрестные
племена.
Зная из писем Бармы, что рабочих на стройке доста-
380
точно, Постник отпустил по домам большую часть пско-
вичей и привез на Москву лишь десятка полтора самых
искусных мастеров.
Постник рассказал о казанских делах. На юг и восток
шли через Поволжье купеческие караваны. Через пер-
сидских купцов московские гости закупали товары из
Хивы, Бухары, Индии, Китая. В обмен на ковры, оружие,
пряности Москва посылала меха, кожи, лен, воск...
На смену войне приходила торговля. Русские посе-
ления возникали в прежде диких и безлюдных местах
на Средней и Нижней Волге, на Каме.
Разоренный и опустошенный край быстро заселялся,
оживал.
* * *
Тысячи людей вовлечены в строительство Покров-
ского собора. Дровосеки стучали в лесах топорами,
валили мачтовые сосны, огромные дубы. Углежоги вы-
жигали уголь, и на этом угле кузнецы ковали железные
полосы, скрепы, болты. Глиномесы готовили сотни ты-
сяч кирпича, а обжигальщики укладывали кирпич в печи.
Плотники резали квадратные дубовые шашки для полов.
Купцы доставляли луженое железо для кровель и глав.
Столяры делали перегородки для иконостасов, покры-
вая их тончайшей узорной резьбой. Иконописцы писали
иконы. Басменники, постукивая фигурными молоточка-
ми по листам золота и серебра, приготовляли драгоцен-
ные переплеты для богослужебных книг, а эти книги
переписывались трудолюбивыми монахами-переписчи-
ками в тесных кельях.
И вся эта многообразная, кропотливая работа сходи-
лась к единому центру — к строительной площадке, где
властвовали Барма и Постник.
it it ★
Каменщики подняли стены храмов настолько, что
можно было переходить к выкладке сводов. В это время
внизу шла отделка церковных порталов. Наибольшее
значение Барма придавал входам в церковь Покрова.
Над ними трудились лучшие мастера.
381
Три портала вели в церковный храм: с севера, с
запада, с юга. С востока располагался алтарь.
Порталы были сходны по общей композиции, но
разнились скульптурными деталями; над каждым вхо-
дом работал особый мастер, и Барма с Постником
предоставили им свободу вымысла.
Орнаментальные украшения входов не вылеплялись
и не изготовлялись на стороне: они высекались на месте
из кирпича, после того как были выложены порталы.
Над отделкой входов работали новгородский резчик
Васюк Никифоров и его два товарища. Дверные налич-
ники отделывались в духе деревянного зодчества.
Колонки, обрамляющие порталы — то со спиральным,
извивающимся узором, то с шашечным, то в елочку, то
рустованные, — могли быть выточены из твердого дере-
ва. Таков же характер кругов, выступающих из стены,
подобно торцам бревен; таковы городочки карнизов...
В это хлопотливое для зодчих время у Голована
родился сын. Черноглазого мальчишку назвали Ники-
той, в честь Булата.
Счастливому отцу некогда было любоваться сыном.
Голован все силы отдавал строительству: большая чет-
верица, над которой он работал вместе с Постником,
подходили к концу. Зодчие целый день проводили на
лесах, обмеряя кокошники, арочки, навесные бойницы,
зубчики, впадины и прочие многочисленные детали ар-
хитектурного украшения башен.
Глава XIII
ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГАНСА ФРИДМАНА
Из письма Ганса Фридмана Отто Фогелю:
«...Как подвигается твоя «История архитектуры»?
Это мое послание даст много нового материала для
твоего труда, и ты сможешь подробно осветить историю
возникновения и развития грандиозного предприятия
московитов.
Девять башен собора распределены между зодчими
так: центральной ведает сам Барма; большую четверицу
382
строит Постник с помощником Андреем Голованом;
юго-западную и северо-западную башни малой четвери-
цы возводят Сергей Варака и Никита Щелкун, а юго-во-
сточную и северо-восточную — Ефим Бобыль.
Какую же башню строю я — дипломированный
саксонский архитектор Ганс Фридман?
Я готовлю кирпич, изразцы и голосники. Голосника-
ми русские называют пустые кувшины, закладываемые
в своды отверстием наружу; делается это для облегче-
ния тяжести сводов, но считают также, что голосники,
резонируя, усиливают звуки — голос священника и
пение хора.
Строительная техника московитов развивается с по-
разительной быстротой. Я ездил в подмосковное село
Коломенское смотреть храм, воздвигнутый лет двадцать
пять назад. Стены храма поражают колоссальной тол-
щиной; строители боялись за прочность сооружения и
сделали его таким мощным, что любой крепости впору.
Прошло всего черверть века, и манера кладки стен
совершенно переменилась.
Начну с цоколя. На цоколь здания пошел крупный
кирпич; его профиль выкладывался из лекальных кир-
пичей разнообразной формы. Скажу кстати, что мне
немало пришлось потрудиться, чтобы удовлетворить
требования Бармы. Но он и сумел использовать мою
продукцию! Сочетая кирпич по-разному, московские
зодчие нашли красивые и сложные формы.
На башни кирпич потребовался более мелкий; надо
сознаться, толщина стен соразмерна их вышине и рас-
считана так умело, что одновременно решает задачи и
монументальности и прочности. Здесь нет того излишка
толщины, как в коломенском храме.
Существенно отметить для истории строительного
искусства, что архитектурные формы башенных фаса-
дов Покровского собора выражают собою комбинации
внутренних частей. Это означает, что наружному возвы-
шению соответствует внутреннее углубление, и наобо-
рот. Так, стены храмов нигде не утолщаются чрезмерно,
в верхних ярусах не нагромождаются тяжелые камен-
383
ные массы, и Барму с Постником, очевидно, не постиг-
нет строительная катастрофа.
Рискуя показаться непоследовательным, я оторвусь
от своего изложения. Несколько слов о Постнике и
Барме. Мне кажется, я сумел определить роль каждого
в их странном содружестве.
Постник — гениальный художник, хотя я пишу это со
скрежетом зубовным. Он мысленно видел весь ан-
самбль, когда на площадке только лежали груды кирпи-
ча. Он компонирует разнообразные архитектурные фор-
мы с подлинным изяществом и блеском. Но он не входит
в вопросы технического оформления, предоставляя ре-
шать их другим. И здесь на сцену выступает Барма. Это
техник исключительной силы и уменья, хотя нельзя от-
рицать и у него огромного художественного вкуса (это
видно по построенному им в молодости дьяконовскому
храму). Часто Барма делает указания самому Постнику,
и тот выполняет их дисциплинированно и почтительно.
Но все же главная роль Бармы на площадке. Он с
необычайной придирчивостью следит за тщательностью
кладки, и кладка идет удивительно ровно и чисто. А как
выводятся карнизы и все сложные детали архитектур-
ного оформления под его строгим наблюдением!...
Признаться, я с волнением ждал выкладки сводов. Я
думал, что своды могут рухнуть, но проклятые москови-
ты обманули мои ожидания. Своды у них получаются
правильными и прочными.
Мало того: Андрей Голован, этот остроумный архи-
тектор, поразил меня технической новинкой, о которой
я не слыхал в Европе. На втором этаже храма он
поставил кирпичные потолки почти плоские, с еле за-
метной выпуклостью вверх. Но выпуклость только со-
здает впечатление легкости, и дело не в ней. Голован
заложил в перекрытие железные балки, и они придали
ему необычайную прочность1.
1 Укреплять плоские кирпичные перекрытия железными
балками в Западной Европе начали только в конце XIX века.
Строители Покровского собора опередили западноевропейскую
технику на триста лет.
384
Любопытно, что во всем облике собора, а в особен-
ности в его частностях заметно влияние старинной
деревянной архитектуры московитов. Я могу судить об
этом, так как, разъезжая по кирпичным заводам, видел
много древних деревянных церквей. Абсида Покров-
ской церкви не полукруглая, как обычно у каменных
храмов, а трехгранная, и это напоминает деревянную
рубку стен. Углы башен большой четверицы отделаны
выпуклыми кругами, напоминающими торцы бревен, из
которых строятся деревянные храмы. По отделке собо-
ра как снаружи, так и внутри чувствуется, что строители
еще не отвыкли от привычных, родных форм деревян-
ного зодчества, слагавшихся веками.
Но надобно сказать, что и в каменной архитектуре
московиты сумели создать интересные мотивы; в пер-
вую очередь к таковым следует отнести закомары и
кокошники. Изложу их историю, как мне удалось выяс-
нить из разговоров с Голованом.
Любопытно, что Голован, с его суровыми, проница-
тельными глазами, довольно охотно беседует со мной и
делится своими обширными знаниями. А Барма, этот
старец с кудрявой седой головой, похожий на апостола
с православной иконы, завидев меня, крутит бороду,
поворачивает спину и уходит.
Возвращаюсь к вопросу о закомарах и кокошниках.
В первые века христианства своды каменных церк-
вей назывались в России «комары». Свод каменной
церкви был ее необходимой принадлежностью и симво-
лизировал небо. Чтобы напоминать о небе тем, кто
молился вне храма, его наружные стены увенчивались
сплошными арками, получившими наименование «зако-
мары». Закомары поддерживали церковный купол.
Впоследствии закомары стали отрезаться снизу кар-
низами, уменьшились в размерах; их назвали «кокошни-
ки» — за сходство с головным убором московиток.
Кокошники сделались излюбленным декоративным
приемом строителей каменных церквей. Помимо того
кокошники получили важное конструктивное значе-
ние: их стали употреблять для перехода от нижнего
385
13-769
восьмерика к верхнему (восьмериками русские называ-
ют постепенно суживающиеся восьмигранные ярусы
каменных башен; восьмигранные формы тоже идут от
деревянных срубов).
Позднее архитекторы придумали ставить кокошники
в два ряда — то один над другим, то вперебивку.
Появились кокошники с подвышениями, кокошники
сильно вытянутые кверху...
В тимпанах кокошников1 строители иногда делают
окна — круглые или длинными, узкими прорезами; а
если оставляют поверхность тимпана гладкой, то укра-
шают ее цветными узорами и даже изображением свя-
тых...1 2
В употреблении кокошников Постник пошел дальше
своих современников. Он ставит кокошники в три ряда
один над другим, умело разнообразя их форму.
На наш европейский взгляд это непривычно, но, во
всяком случае, выглядит оригинально.
Кончаю. Поздний вечер. За окном шумит страшный
ветер... Меня клонит сон, но я боюсь ложиться в по-
стель. Я уже писал тебе, дорогой Отто, что мои ночи
полны мучительных кошмаров. Неясные фосфориче-
ские фигуры носятся передо мной во мраке комнаты,
дикие голоса кричат мне в уши...
Я знаю, кто они. Это демоны разрушения. Они
хотят овладеть моей волей, хотят сделать меня по-
слушным орудием... Ведь им самим, бесплотным духам,
не дано осуществлять их убийственные замыслы... Я
еще боюсь, но чувствую: силы слабеют... Мне страшно!
Мне страшно!..
Июль 1559 года»
Это письмо осталось неотправленным.
1 Тимпан кокошника — это его полукруглая часть,
прикрытая сверху выпуклой арочкой или дугой.
2 Тимпаны кокошников Покровского собора все разукра-
шены, но, вероятно, это было сделано через несколько деся-
тилетий после его постройки.
386
Глава XIV
НА СТРОЙКЕ
Трудная работа началась, когда дело дошло до соо-
ружения глав. Башни разнились одна от другой архитек-
турным оформлением. Постник нашел различные при-
емы и для отделки глав.
Форма у всех одинаковая — луковичная; но много
изобретательности и неистощимой фантазии вложил
гениальный зодчий в частности. Одна главка напоминала
кедровую шишку из русского бора; по другой извива-
лись причудливые зигзаги; третью покрывала чешуя,
словно чудовищную рыбу; четвертая разделялась на
дольки вертикальными надрезами, а на следующей над-
резы шли спиралями...
— Наградил тебя бог выдумкой! — говорили Постни-
ку товарищи по работе. — Благо, девять глав ставим, а
кабы больше?
Постник говорил своим низким, грудным голосом:
— Больше? А сколько угодно! Хоть трижды девять
глав давайте — все разные сделаю!
Не все плотники соглашались подниматься наверх —
устанавливать деревянные остовы глав; было страшно,
особенно вначале, когда ноги стояли на узенькой круг-
лой площадке верхнего светового барабана, а вокруг
только воздух. На установку первых ребер каркасов
шли самые отважные и ловкие. Но когда они охватывали
пустое пространство деревянными кольцами и желез-
ными кругами, то за ними следовали другие и работали
без опаски.
После плотников наверх взбирались кровельщики-
верхолазы. У этих работа еще хитрее. Прицепив подвес-
ную люльку к шпилю, на котором предстояло водрузить
крест, они покачивались между небом и землей, распе-
вая песни и приколачивая куски блестящего луженого
железа к причудливой опалубке главы. Пожар, киша-
щий людскими толпами, казался сверху муравейником,
а голоса долетали как невнятный ропот.
Работа на высоте устрашала в дни, когда дул сильный
387
13*
ветер: люлька раскачивалась, ударялась о выпуклую
поверхность главы. В такие дни верхолазы бросали
жребий, кому подниматься.
На верхних ярусах башен большой четверицы класть
кирпичи тоже мог не всякий каменщик.
Над Салоникеей заранее подтрунивали ехидные язы-
ки:
— Ой, баба, баба, на низовой кладке ты у Бармы в
чести, а как на верхотуру полезешь? Зараз душа в пятки
уйдет!
— Это мы поглядим, у кого она куда уйдет! —
презрительно отвечала Салоникея.
И баба оказалась права. Струсили кое-кто из мужи-
ков, а Салоникея наверху держалась спокойно, как у
себя перед печкой.
— Вот чертова баба! — удивлялись каменщики. —
Не иначе, она за пазухой бесстрашный корень носит...
Мало того — Салоникея привела четырнадцатилет-
него сынишку Гераську. Тот поприсматривался недели
две, а потом принялся работать ловко и сноровисто, как
мать. Барма поручал Салоникее и ее сыну самые труд-
ные работы по отделке фасадов и знал, что они не
испортят.
Башни малой четверицы были закончены целиком и
восхищали взор москвичей сверкающим благолепием
своих глав. Но у храмов большой четверицы выклады-
вались еще только шеи.
Работника, который не решался подниматься на высо-
ту церковной шеи, благочестивые старики уговаривали:
— Чего боишься, дурачок? Тебя ангелы будут де-
ржать!
«Ангелы ангелами, а веревкой привязаться не меша-
ет», — думали строители.
Наконец пришел радостный день окончания башен
большой четверицы. Восемь церквей митрополит освя-
тил осенью 1559 года в простой, непышной обстановке;
на богослужении присутствовали только царь и знатней-
шие бояре. Торжество предстояло по окончании По-
кровской церкви.
388
Усилия всех строителей обратились на средний храм,
который должен был вознестись высоко над Москвой,
по гордой мечте Бармы,
Чрезвычайно красивой, живописно-величественной
получилась внутренность центральной башни Покров-
ского собора. На четырехграннике первого яруса стоял
второй ярус восьмиугольной формы — восьмерик. Пер-
вый ярус переходил во второй треугольными «пазуха-
ми».
Первый восьмерик строители для устойчивости об-
несли кругом открытой арочной галереей.
На довольно толстых стенах этого восьмерика, как
на основании, поднялся следующий восьмигранный
ярус с оконцами, подоконники которых сильно скошены
внутрь, а верха дугообразно закруглены. Для облегчения
веса Барма устроил в этом восьмерике с внешней
стороны целый ряд треугольных выемок — ниш.
Тремя рядами кокошников второй ярус перешел в
барабан, имеющий форму восьмиконечной звезды с
незначительными вырезами. Такая форма придала боль-
шую устойчивость верхнему барабану, который держит
на себе высокий шатер Покровской церкви. На лучах
389
звезды Постник установил маленькие главки с шейка-
ми; своим весом главки увеличивали устойчивость
углов.1
Так части храма постепенно суживались кверху,
масса стен утончалась, из нее вынимались ниши, ее
облегчали кокошники, тимпаны которых вдавались
внутрь под навесами арок...
И, наконец, все венчалось высоким, величавым вось-
мигранным шатром.
У основания шатра на звездчатом барабане постав-
лены были два ряда полукруглых кокошников впере-
бежку, а над ними — по одному вытянутому вверх
кокошнику с заострением. Грани шатра украсились бле-
стящими изразцами. Часто они располагались много-
угольными розетками, в середине которых поставлен
выпуклый полушар. Изразцы вставлены в грани шатра
«заподлицо» — это значит, что они заделывались туда
при кладке стен, а не были вставлены позднее.
В ясную, солнечную погоду изразцовые полушария
ярко блестели, слепя взор.
Великая работа подходила к концу. Центральный
шатер закончился тонкой и узкой шеей, на которой
вознеслась простая по рисунку и небольшая по разме-
рам глава. Здесь работали опытнейшие из опытных
верхолазов, работали с величайшей осторожностью.
Центральный храм имел от основания своего высоту
двадцать восемь с половиною саженей.
Работая на высоте, кровельщики видели многочис-
ленные извивы Москвы-реки и впадающих в нее речек;
их взору открывалась широко раскинувшаяся столица и
десятки окружавших ее сел и деревень. Горизонт замы-
кался синими лентами отдаленных лесов...
Когда готов был каркас верхней главы, Барма насто-
ятельно заявил о желании подняться туда. Долго отго-
варивали зодчего от этого намерения, но убедить не
смогли.
— Когда главу покроют железом, мне там не бы-
1 Эти главки видны на всех старинных изображениях По-
кровского собора; они были сняты в 1784 году.
390
вать, — сказал Барма. — А я хочу посмотреть на свет
божий с высоты построенного нами храма...
Старика сопровождали наверх цепкий, как кошка,
Сергей Барака и не знавшая головокружения Салони-
кея.
Барма долго глядел на все четыре стороны света, и
в его выцветших от старости глазах стояли слезы и не
то от волнения, не то от резкого Ветра, пролетавшего в
вышине.
— Теперь можно умереть спокойно, — тихо сказал
он, спускаясь по лесам.
— И полно, наставник! — возразил Сергей. — Тебе
еще жить да жить!
— Лучше мне ничего не создать...
Барма не предчувствовал, что его старому сердцу
предстоит тяжкое испытание.
Глава XV
ПОЖАР
На берегу Москвы-реки в линию выстроились огром-
ные штабели бревен, досок, брусьев; в складах, распо-
ложенных поблизости, хранились бочки со смолой.
Много горючего материала было на строительной пло-
щадке — заготовленные стропила, слеги, тес...
Ордынцев страшился пожара, который мог причи-
нить огромный ущерб строительству собора. А как на
грех, лето 1560 года выдалось сухое, за полтора месяца
не выпало ни одного дождя.
Федор Григорьевич, сильно сдавший здоровьем за
годы стройки, чуть не каждый вечер читал наставления
сторожам, требовал от целовальников, чтобы те прове-
ряли караульных по ночам.
Сторож Томила Третьяк, сырой, вечно заспанный
человек, любил похвалиться бдительностью:
— Всю ноченьку до белой зари не сплю... Уж так ли
караулю — муха мимо не пролетит, червь не пропол-
зет... Истинно скажу, милостивый боярин; страж я не-
дреманный!
391
— Братцы, вставайте!
Темной бурной июль-
ской ночью вспыхнуло как
раз на участке Томилы.
Спал караульщик крепко,
точно поднесли ему отвара
сон-травы. Насилу растол-
кали его другие сторожа.
Штабель сухих сосно-
вых досок пылал, разбра-
сывая искры, звездами про-
летавшие в ночной тьме, да-
леко разносимые ветром.
Десятники бешено ко-
лотили в била, оглушитель-
ный трезвон будил спящих.
Полуодетые люди метались
по баракам:
— Пожар тушить, государево добро спасать!..
Люди сослепу вываливались на улицу; в глаза им
бросалось багровое пламя, вихрившееся на берегу.
Опасность была велика. Уже несколько штабелей
вздымали к небу бушующее, гремящее, косматое пламя.
Сухие крыши бараков начали заниматься огнем под
падавшими на них головнями. Бабы и подростки поспе-
шили наверх с бадейками воды, мокрыми тряпками,
метлами. Жилые строения следовало отстоять во что бы
то ни стало, так как они находились вблизи от собора,
а он стоял, обвитый лесами, окруженный стружками,
досками, бревнами...
На берегу люди хлопотали, разметывая ближайшие
к пожару лесные склады. С диким уханьем скатывали
они бочки со смолой, валили доски и брусья под откос
берега, прямо в воду. Пусть лучше матушка-река унесет,
чем уйти им огнем!
Труднее всего приходилось у пылавших штабелей.
Здесь невозможно было ничего сделать. Жар не подпу-
скал людей близко, а вода, которую плескали издали,
мгновенно испарялась, усиливая пламя.
392
Толстяк Томила, обезумев, рвался в огонь из рук
товарищей:
— Отцы, благодетели, пустите! В пекло кинусь —
туда мне, псу, и дорога!
— Как ты, друг, ославился?
— Не знаю, браты, прямо как мороком обвело!..
Злое дело совершилось в подходящий час. Ветер
пригибал людей к земле; крутясь, душил едким дымом,
осыпал мириадами искр й тысячами головней. Очаги
пламени появлялись в самых неожиданных местах.
Сотни людей выстроились цепочкой от берега реки
до бараков; задыхаясь в дыму, почти не различая друг
друга, они на ощупь передавали бадейки воды тем, кто
боролся с огнем на крышах. Но воды не хватало. Два
барака запылали; с плоских кровель, крича от боли,
посыпались обожженные бабы и ребята. Стало ясно, что
жилых строений не отстоять. Опасность угрожала со-
бору.
Руководство людьми пало на Нечая, которому случи-
лось остаться в ту ночь на стройке, и на Кузьму Сбоя,
умного крепыша, пользовавшегося общим уважением
рабочих.
Кузьма и Нечай переглянулись. Одна мысль родилась
у обоих: ломать леса! Убирать горючий хлам с пост-
ройки!
Распоряжение передавалось среди свиста и шума
урагана, среди рева разбушевавшегося пламени. Бере-
говым штабелям предоставили гореть; у рабочих ка-
зарм осталось самое необходимое количество людей.
Баб с плачем и причитаниями порывавшихся спасать
жалкое свое имущество, десятники гнали от дверей в
тычки:
— Погорите, безумные! Гляньте, что внутрях дела-
ется!
А красно-розовые языки пламени и струи дыма уже
вырывались из маленьких окон...
— Бегите к собору! Сухую рухлядь таскайте прочь!
У собора закипела отчаянная работа, всякий волок
прочь от стен что было под силу. Труднее было упра-
393
виться со строительными подмостками, пришитыми к
стенам длинными костылями.1
На ломке отличались Василий Дубае и Петрован
Кубарь.
Василий и Петрован сдружились за последние годы:
по воскресеньям ходили на бойни и для потехи глушили
быков ударом кулака по лбу.
Вооружившись громадными ломами, два богатыря
проявляли чудеса силы, бесстрашия и ловкости.
Яркий красно-багряный свет от пылавших лесных
складов и бараков освещал фигурки Дубаса и Кубаря,
суетившихся на верхнем пролете лесов. А они раскачи-
вали ломами и выдирали из стен костыли, державшие
верхушку строительных подмостков. Потом, когда уже
опасно стало держаться на зыблющейся площадке, при-
вязали к стойкам два прочных каната и загрохотали
вниз.
Десятки людей во главе с Нечаем и Кузьмой Сбоем
ухватились за сброшенные канаты, приготовились тя-
нуть по команде.
Василий и Петрован сбежали, присоединились к
державшим канаты.
— Прочь, православные! — гаркнул Нечай, но звук
голоса затерялся в хаосе разбушевавшихся стихий.
Несколько человек бросились отгонять тысячные
толпы москвичей, сбежавшихся на пожар из ближних
улиц. Многие притащили ведра, ломы, багры и помогали
бороться с бедой. Иные явились с пустыми руками —
поглазеть на любопытное зрелище. Эти больше всех
шумели и распоряжались, хоть никто их не слушался.
В огромной мятущейся толпе затерялся архитектор
Ганс Фридман. Маленькие глаза его горели кровавым
отблеском пламени; он потерял шапку, и его серые
волосы покрылись хлопьями сажи, кружившимися в
воздухе, как черный снег. С бессмысленной усмешкой
маниака он шептал:
— Радуйтесь, духи разрушения!.. Я исполнил при-
1 Костыль — загнутый под прямым углом длинный гвоздь.
394
каз... Гордитесь моим послушанием — я хорошо выбрал
время...
— Зашибет, зашибет!.. — Зрители отхлынули прочь,
увлекая за собой сумасшедшего саксонца.
— Бери! — раздалась команда. — А ну, взяли!
Раз-разок! Еще раз! Еще раз! Ухнем...
Громада лесов отделилась от главной башни, помеш-
кала в воздухе, точно раздумывая, и, поблескивая языч-
ками пламени, повалилась, сшибая кресты, уродуя главы
законченных малых церквей.
— Беги, ребята!
Люди бросали веревки и кинулись врассыпную.
Верхняя часть подмостков, ближайших к пожару,
рухнула беспорядочной грудой строек, досок и перекла-
дин.
Шум свалившейся громады произвел на безумного
Фридмана необычайное впечатление. Вырвавшись из
толпы, он бросился к подмосткам и с обезьяньей лов-
костью стал карабкаться вверх. Его не удерживали:
зрители думали, что явился еще доброволец помогать
рушить мостки.
Взобравшись на самый верх, немец с упоением
всматривался в картину дикого хаоса, развертывающу-
юся внизу:
— Духи огня, духи гибели!.. Возьмите меня — я ваш!..
И, широко раскинув руки, Фридман с диким побед-
ным хохотом ринулся в пустое пространство...
Трагическая смерть сумасшедшего немца ненадолго
потрясла людей: нужно было бороться с грозной сти-
хией. Раздались громкие призывы:
— Растаскивай! Рас-тас-ки-ва-ай!..
Сотни людей, как суетливые муравьи, спасающие
гибнущий муравейник, накинулись на свалившуюся гро-
маду, разламывали на куски, тащили в сторону Кремля,
ко рву, его окружавшему. Там валили в воду, блестев-
шую в глубине тускло-багровым светом.
А Василий Дубае и Петрован Кубарь уже взбежали
наверх и снова принялись за опасную работу.
В эту бурную, тревожную ночь царя и митрополита
395
не было в Москве — за два дня до того они выехали на
богомолье в Троице-Сергиеву лавру. Но много бояр
приехали к месту пожарища. Не решаясь принять дея-
тельное участие в работе, что не приличествовало их
высокому сану, они стояли в отдалении, многодумно
качали бородами, иные крестились.
В сопровождении Демида Жука и Филимона приска-
кали на пожар Голован, Постник, Барма. Дикими, остек-
леневшими глазами взглянул Барма на опасность, гро-
зившую великому творению. Но оцепенение продолжа-
лось недолго. Через мгновение Постник принял на себя
командование, и его твердые, продуманные приказы
начали устанавливать порядок в царящей суматохе. Бар-
му не допустили близко к опасным местам; Постник
приказал Демиду держать старика. Дюжий мужичина
исполнял приказ точно, несмотря на мольбы и брань
Бармы.
Снова и снова, взвихривая пыль и сажу, падали
обрушенные пролеты подмостков на площадь и быстро,
четко уносились прочь. Опасность спадала, общее на-
пряжение уменьшилось.
И лишь в это время примчался с Покровки Федор
Григорьевич. Страшные мысли одолевали Ордынцева,
когда он погонял коня среди ветра, свистевшего в
темных улицах, в то время как впереди стоял багряно-
дымный столб, упиравшийся в небо. Окольничему пред-
виделся царский гнев, неминуемая опала, может быть
казнь...
— Не усмотрел, не усмотрел! — отчаянно шептал
Ордынцев и хлестал плетью коня.
За ним скакали угрюмые, растерянные слуги.
Решетки по улицам были убраны, как всегда во время
больших пожаров, и задержки от караулов не было, но
дорога казалась боярину бесконечной.
— Еще стоит! — шумно вздохнул Ордынцев, когда
вынесся на площадь, забитую народом. — Дорогу, до-
рогу!
Сквозь плотную толпу проехать было невозможно.
Окольничий спрыгнул с лошади и пешком пробирался к
собору.
396
Когда Ордынцев добрался до Постника, он с облег-
чением узнал, что опасность для храма не так уж велика.
На берегу пламя утихало, лесные склады догорали.
Но рабочие бараки еще пылали вовсю, и вихрь попреж-
нему взметывал огненные лапы...
Большая часть была сброшена. Оставался самый не-
податливый пролет, где крючья когда-то вбивал сам
Василий Дубае. Долго пыхтели парни, подсунув ломы
под стояки, прилегавшие к стене, потом крюки вылетели
разом, и площадка поплыла в сторону.
— Падаем!.. — прохрипел Петруха Кубарь.
Василий взглянул в побледневшее лицо товарища и
вдруг ухватился за карниз стены.
— Беги! — крикнул он, задыхаясь от напряжения.
Перепуганный Петрован медлил.
— Беги! — Ругательство сорвалось с посиневших губ
Дубаса. — Убью!
Петрован дико загремел по мосткам. В толпе разда-
лись вопли ужаса. Никто не решился броситься на
выручку Дубасу, да и спасти его было невозможно. Цдва
Кубарь отбежал от стены, как обессилевший Василий
выпустил карниз...
Дубаса нашли среди груды бревен с переломленными
ребрами; рыжие волосы его сплелись от крови, сочив-
шейся из пробитой головы.
Петруха Кубарь с воем бросился на труп товарища.
Подвиг Дубаса обезвредил последнее угрожаемое
место; мостки со стороны, противоположной пожару,
не подвергались опасности, их решили не ломать.
Бараки догорали. Работники просились переночевать
у добрых людей, живших поблизости. Иные пошли
отдохнуть в церквах, двери которых раскрылись для
всех желающих. Толпа любопытных расходилась.
К Ордынцеву подвели дрожащего Томилу — единст-
венного известного виновника случившегося бедствия.
— Как это ты, страж недреманный, не сберег пору-
ченное тебе? — грозно напустился на него окольни-
чий. — Ты понимаешь ли, безумец, какой из-за тебя
урон мог причиняться, да не одним нам, не Ордынцеву,
397
не Барме с Постником, а всей Москве, всему русскому
государству?
— Божье попущение...
— Бог-то тута, пожалуй, ни при чем, — раздался
насмешливый голос Нечая. — Тута, чутко, лиходеи
поработали!
— А ведь не так ли? — поднял всклокоченную,
замазанную голову Томила. — Меня не опоили ли,
боярин? Сродясь я таково сладко не сыпал...
— Опоили?.. Ты что ж, вор, бездельник, пил вече-
ром?
— Пил, боярин, — признался Томила. — С немцем.
Постник уже знал о самоубийстве Фридмана, и
картина того, что случилось, стала ему ясна.
— Собаке собачья смерть! — хмуро пробормотал он.
Скованного Томилу отвели в подвал Разбойного при-
каза.
А А А
Обрушенные подмостки восстановили в три дня;
работы по окончанию центральной башни и починка
поврежденных меньших глав пошли быстро.
Тем временем в храм явились иконописцы и взялись
за роспись стен. В нишах поместились образа святых
Иоанна Воина, Георгия Победоносца и других. Над
нишами нарисовали московских митрополитов — Петра,
Алексея, Иону. Нашлось место по чину и для других
святых.
Между алтарем и местом для молящихся поднялся
богато украшенный иконостас...
Упали строительные леса, и Покровский собор воз-
ник перед Москвой во всем своем сверкающем велико-
лепии. Москвичи и стекавшиеся во множестве жители
ближних и дальних городов восторженно любовались
храмом.
В конце 1560 года храм-памятник был торжественно
освящен.
О первом богослужении в Покровском соборе воз-
вестил малиновый перезвон колоколов, зазвучавший в
тот день в первый раз.
398
покровский собор возник перед Москвой во всем своем
‘ И великолепии.
Только самые близкие к царю люди получили доступ
на торжество. Но среди ближних бояр, среди князей и
крещенных татарских царевичей стояли гениальные
строители собора Постник и Барма в богатых шубах с
царского плеча — знак высшей милости.
Думы одолевали Постника. В душе его были и гор-
дость, и радость, и чувство грусти, которое охватывает
художника, навсегда расстающегося со своим творени-
ем. Отныне творение начнет жить своей самостоятель-
ной жизнью, переживет своего творца и, быть может,
даже и его славу... А ему, создателю, нечего больше тут
делать. Любимый труд, занимавший все помыслы, закон-
чен, и на месте его осталась тягостная пустота...
«Уйду из Москвы... — думал Постник. — Земля,
земля родная! Пустынные твои дороженьки, дремучие
твои леса, бедные твои, затерянные в глуши деревень-
ки... Увижу вас снова, пройду по тихим тропкам, сладко
отдохну у ночного костра...»
Постник жил и работал долго. Но уже не пришлось
ему создать второго величавого творения, подобного
Покровскому собору.
Заключени е
Годы и века прошли своим чередом. Храм Бармы и
Постника в борьбе со всесокрушающей силой времени
стоял непоколебимо. Но вошел он в историю не с тем
именем, какое присвоили ему строители.
В конце XVI века к собору с северо-восточной
стороны прилепилась маленькая церквушка, главка ко-
торой, отделенная в стиле остальных, значительно ниже
глав малой четверицы. Церквушку эту воздвигли в честь
Василия Блаженного, современника Грозного.
Так много ходило в народе толков про юродивого
Василия, так люб и дорог был народу образ бессребрен-
ника, не боявшегося говорить горькую правду в глаза
боярам и самому царю, что название крохотной церк-
вушки перешло на весь величественный собор. Его
стали называть храмом Василия Блаженного или попро-
сту Василий Блаженный.
Тело бессребренника Василия перенесли в храм его
имени, соорудили для него роскошную гробницу. Остан-
ки нищего, который в долгие морозные ночи трясся на
папертях московских церквей, прикрыли драгоценным
покрывалом, усеянным изумрудами и яхонтами в золо-
тых оправах...
л
Много бурь и гроз пронеслось над причудливыми
главами Василия Блаженного. Видел он польское на-
шествие в 1612 году, видел полчища Наполеона в 1812
году. Но все нашествия и все беды пережил он в
стойком терпении, как пережила их в борьбе могучая
Русь.
401
Неповторимым памятником родной русской старины
стоит Василий Блаженный на Красной площади Моск-
вы, рядом с чудесным Кремлем. Красуется, цветет, как
прекрасный цветок, как песня, запечатленная в камне.
Напоминает он о ратной славе предков, о безмерных
жертвах и трудах их.
А. Толстой
КНЯЗЬ
СЕРЕБРЯНЫЙ
Худажипож Ао П а/р а м © га © ж
At nunc patientia servilis tantum-
que sanguinis domi perditum fatigant
animum et moestilia restringunt, neque
aliam defensionem ab iis, quibus ista
noscentur, exegerium, quam ne oderim
tam segniter pereuntes.
Tacitus. Annales. Giber XVI1
ПРЕДИСЛОВИЕ
Представляемый здесь рассказ имеет целию не
столько описание каких-либо событий, сколько изо-
бражение общего характера целой эпохи и воспроиз-
ведение понятий, верований, нравов и степени обра-
зованности русского общества во вторую половину
XVI столетия.
Оставаясь верным истории в общих ее чертах, автор
позволил себе некоторые отступления в подробностях,
не имеющих исторической важности. Так, между про-
чим, казнь Вяземского и обоих Басмановых, случивша-
яся на деле в 1570 году, помещена, для сжатости рас-
сказа, в 1565 год. Этот умышленный анахронизм едва ли
навлечет на себя строгое порицание, если принять в
соображение, что бесчисленные казни, последовавшие
за низвержением Сильвестра и Адашева, хотя много
служат к личной характеристике Иоанна, но не имеют
влияния на общий ход событий.
В отношении к ужасам того времени автор оставался
постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к
нравственному чувству читателя он набросил на них
тень и показал их, по возможности, в отдалении. Тем
1 А тут рабское терпение и такое количество пролитой дома
крови утомляет душу и сжимает ее печалью, я не стал бы просить
у читателей в свое оправдание ничего другого, кроме позволения
не ненавидеть людей, так равнодушно погибающих.
Тацит. Летопись. Книга 16 (лат.).
405
не менее он сознается, что при чтении источников книга
не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в
негодовании, не столько от мысли, что мог существовать
Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое
общество, которое смотрело на него без негодования.
Это тяжелое чувство постоянно мешало необходимой в
эпическом сочинении объективности и было отчасти
причиной, что роман, начатый более десяти лет тому
назад, окончен только в настоящем году. Последнее
обстоятельство послужит, быть может, некоторым из-
винением для тех неровностей слога, которые, вероят-
но, не ускользнут от читателя.
В заключение автор полагает нелишним сказать, что
чем вольнее он обращался со второстепенными истори-
ческими происшествиями, тем строже он старался со-
блюдать истину и точность в описании характеров и
всего, что касается до народного быта и до археологии.
Если удалось ему воскресить наглядно физиономию
очерченной им эпохи, он не будет сожалеть о своем
труде и почтет себя достигшим желанной цели.
1862
Глава 1
ОПРИЧНИКИ
Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят треть-
его, или, по нынешнему счислению, 1565 года, в жаркий
летний день, 23 июня, молодой боярин князь Никита
Романович Серебряный подъехал верхом к деревне
Медведевке, верст за тридцать от Москвы.
За ним ехала толпа ратников и холопей.
Князь провел целых пять лет в Литве. Его посылал
царь Иван Васильевич к королю Жигимонту подписать
мир на многие лета после бывшей тогда войны. Но на
этот раз царский выбор вышел неудачен. Правда, Ники-
та Романович упорно отстаивал выгоды своей земли, и,
казалось бы, нельзя и желать лучшего посредника, но
Серебряный не был рожден для переговоров. Отвергая
тонкости посольской науки, он хотел вести дело начи-
стоту и, к крайней досаде сопровождавших его дьяков,
не позволял им никаких изворотов. Королевские совет-
407
ники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались
простодушием князя, выведали от него наши слабые
стороны и увеличили свои требования. Тогда он не
вытерпел: среди полного сейма ударил кулаком по столу
и разорвал докончальную грамоту, приготовленную к
подписанию. «Вы-де и с королем вашим вьюны да
оглядчики! Я с вами говорю по совести, а вы все
норовите, как бы меня лукавством обойти! Так-де чи-
нить неповадно!» Этот горячий поступок разрушил в
один миг успех прежних переговоров, и не миновать бы
Серебряному опалы, если бы, к счастью его, не пришло
в тот же день от Москвы повеление не заключать мира,
а возобновить войну. С радостью выехал Серебряный
из Вильно, сменил бархатную одежду на блестящие
бахтерцы и давай бить литовцев где только бог посылал.
Показал он свою службу в ратном деле лучше, чем в
думном, и прошла про него великая хвала от русских и
литовских людей.
Наружность князя соответствовала его нраву. Отли-
чительными чертами более приятного, чем красивого
лица его были простосердечие и откровенность. В его
темно-серых глазах, осененных черными ресницами,
наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессозна-
тельную и как бы невольную решительность, не позво-
лявшую ему ни на миг задуматься в минуту действия.
Неровные взъерошенные брови и косая между ними
складка указывали на некоторую беспорядочность и
непоследовательность в мыслях. Но мягко и определи-
тельно изогнутый рот выражал честную, ничем не поко-
лебимую твердость, а улыбка — беспритязательное,
почти детское добродушие, так что иной, пожалуй,
почел бы его ограниченным, если бы благородство,
дышащее в каждой черте его, не ручалось, что он всегда
постигнет сердцем, чего, может быть, и не сумеет
объяснить себе умом. Общее впечатление было в его
пользу и рождало убеждение, что можно смело ему
довериться во всех случаях, требующих решительности
и самоотвержения» но что обдумывать свои поступки не
его дело и что соображения ему не даются.
408
Серебряному было лет двадцать пять. Роста он был
среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые
волосы его были светлее загорелого лица и составляли
противоположность с темными бровями и черными ре-
сницами. Короткая борода, немного темнее волос, слег-
ка оттеняла губы и подбородок.
Весело было теперь князю и легко на сердце возвра-
щаться на родину. День был светлый, солнечный, один из
тех дней, когда вся природа дышит чем-то праздничным,
цветы кажутся ярче, небо голубее, вдали прозрачными
струями зыблется воздух, и человеку делается так легко,
как будто его душа сама перешла в природу, и трепещет
на каждом листе, и качается на каждой былинке.
Светел был июньский день, но князю, после пяти-
летнего пребывания в Литве, он казался еще светлее.
От полей и лесов так и веяло Русью.
Без лести и кривды радел Никита Романович к юному
Иоанну. Твердо держал он свое крестное целование, и
ничто не пошатнуло бы его крепкого стоятельства за
государя. Хотя сердце и мысль его давно просились на
родину, но, если бы теперь же пришло ему повеление
вернуться на Литву, не увидя ни Москвы, ни родных, он
без ропота поворотил бы коня и с прежним жаром
кинулся бы в новые битвы. Впрочем, не он один так
мыслил. Все русские люди любили Иоанна, всею зем-
лею. Казалось, с его праведным царствием настал на
Руси новый золотой век, и монахи, перечитывая лето-
писи, не находили в них государя, равного Иоанну.
Еще не доезжая деревни, князь и люди его услышали
веселые песни, а когда подъехали к околице, то увиде-
ли, что в деревне праздник. На обоих концах улицы
парни и девки составили по хороводу, и оба хоровода
несли по березке, украшенной пестрыми лоскутьями.
На головах у парней и девок были зеленые венки.
Хороводы пели то оба вместе, то чередуясь, разговари-
вали один с другим и перекидывались шуточной бранью.
Звонко раздавался между песнями девичий хохот, и
весело пестрели в толпе цветные рубахи парней. Стаи
голубей перелетали с крыши на крышу. Все двигалось и
кипело; веселился православный народ.
409
У околицы старый стремянный князя с ним порав-
нялся.
— Эхва! — сказал он весело, — вишь как они,
батюшка, тетка их подкурятина, справляют Аграфену
Купальницу-то. Уж не поотдохнуть ли нам здесь? Кони-
то заморились, да и нам-то, поемши, веселее будет
ехать. По сытому брюху, батюшка, сам знаешь, хоть
обухом бей!
— Да, я чай, уже недалеко от Москвы! — сказал
князь, очевидно не желавший остановиться.
— Эх, батюшка, ведь ты сегодня уж разов пять
спрошал. Сказали тебе добрые люди, что будет отсюда
еще поприщ за сорок. Вели отдохнуть, князь, право,
кони устали!
— Ну, добро, — сказал князь, — отдыхайте!
— Эй, вы! — закричал Михеич, обращаясь к ратни-
кам, — долой с коней, сымай котлы, раскладывай огонь!
Ратники и холопи были все в приказе у Михеича; они
спешились и стали развязывать вьюки. Сам князь слез
с коня и снял служилую бронь. Видя в нем человека
роду честного, молодые прервали хороводы, старики
сняли шапки, и все стояли, переглядываясь в недоуме-
нии, продолжать или нет веселие.
— Не чинитесь, добрые люди, — сказал ласково
Никита Романович, — кречет соколам не помеха!
— Спасибо, боярин, — отвечал пожилой крестья-
нин. — Коли милость твоя нами не брезгает, просим
покорно, садись на завалину, а мы тебе, коли соизво-
лишь, медку поднесем: уважь, боярин, выпей на здо-
ровье! Дуры! — продолжал он, обращаясь к девкам, —
чего испугались? Аль не видите, это боярин с своею
челядью, а не какие-нибудь опричники! Вишь ты, боя-
рин, с тех пор как настала на Руси опричнина, так наш
брат всего боится; житья нету бедному человеку! И в
праздник пей, да не допивай; пой, да оглядывайся. Как
раз нагрянут, ни с того ни с другого, словно снег на
голову!
— Какая опричнина? Что за опричники? — спросил
князь.
410
— Да провал их знает! Называют себя царскими
людьми. Мы-де люди царские, опричники! А вы-де
земщина! Нам-де вас грабить да обдирать, а вам-де
терпеть да кланяться. Так-де царь указал!
Князь Серебряный вспыхнул:
— Царь указал обижать народ? Ах, они окаянные!
Да кто они такие? Как вы их, разбойников, не перевя-
жете?
— Перевязать опричников-то? Эх, боярин! видно, ты
издалека едешь, что не знаешь опричнины! Попытайся-
ка что с ними сделать! Ономнясь наехало их человек
десять на двор к Степану Михайлову, вот на тот двор,
что на запоре; Степан-то был в поле; они к старухе: давай
того, давай другого. Старуха все ставит да кланяется.
Вот они: давай, баба, денег! Заплакала старуха, да нечего
делать, отперла сундук, вынула из тряпицы два алтына,
подает со слезами: берите, только живу оставьте. А они
говорят: мало! Да как хватит ее один опричник в висок,
так и дух вон! Приходит Степан с поля, видит: лежит
его старуха с разбитым виском; он не вытерпел. Давай
ругать царских людей: бога вы не боитесь, окаянные!
Не было б вам на том свету ни дна ни покрышки! А они
ему, сердечному, петлю на шею, да и повесили на
воротах!
Вздрогнул от ярости Никита Романович. Закипело в
нем ретивое.
— Как, на царской дороге, под самою Москвой,
разбойники грабят и убивают крестьян! Да что же
делают ваши сотские да губные старосты? Как они
терпят, чтобы станичники себя царскими людьми назы-
вали?
— Да, — подтвердил мужик, — мы-де люди царские,
опричники; нам-де все вольно, а вы-де земщина! И
старшие у них есть; знаки носят: метлу да собачью
голову. Должно быть, и вправду царские люди.
— Дурень! — вскричал князь, — не смей станични-
ков царскими людьми величать! — «Ума не приложу, —
подумал он. — Особые знаки? Опричники? Что это за
слово? Кто эти люди? Как приеду в Москву, обо всем
411
доложу царю. Пусть велит мне сыскать их! Не спущу
им, как бог свят, не спущу!»
Между тем хоровод шел своим чередом.
Молодой парень представлял жениха, молодая дев-
ка — невесту; парень низко кланялся родственникам
своей невесты, которых также представляли парни и
девки.
— Государь мой, тестюшка, — пел жених вместе с
хором, — свари мне пива!
— Государыня теща, напеки пирогов!
— Государь свояк, оседлай мне коня!
Потом, взявшись за руки, девки и парни кружились
вокруг жениха и невесты, сперва в одну, потом в другую
сторону. Жених выпил пиво, съел пироги, изъездил
коня и выгоняет свою родню.
— Пошел, тесть, к черту!
— Пошла, теща, к черту!
— Пошел, свояк, к черту!
При каждом стихе он выталкивал из хоровода то
девку, то парня.
Мужики хохотали.
Вдруг раздался пронзительный крик. Мальчик лет
двенадцати, весь окровавленный, бросился в хоровод.
— Спасите! спрячьте! — кричал он, хватаясь за полы
мужиков.
— Что с тобой, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избил?
Уж не опричники ль?
В один миг оба хоровода собрались в кучу; все
окружили мальчика; но он от страху едва мог говорить.
— Там, там, — произнес он дрожащим голосом, —
за огородами, я пас телят... они наехали, стали колоть
телят, рубить саблями; пришла Дунька, стала просить их,
они Дуньку взяли, потащили, потащили с собой, а меня...
Новые крики перебили мальчика. Женщины бежали
с другого конца деревни...
— Беда, беда! — кричали они, — опричники! Бегите,
девки, прячтесь в рожь! Дуньку и Аленку схватили, а
Сергевну убили насмерть.
В то же время показались всадники, человек с
412
пятьдесят, сабли наголо. Впереди скакал чернобородый
детина в красном кафтане, в рысьей шапке с парчовым
верхом. К седлу его были привязаны метла и собачья
голова.
— Гойда! Гойда! — кричал он, — колите скот, рубите
мужиков, ловите девок, жгите деревню! За мной, ребя-
та! Никого не жалеть!
Крестьяне бежали куда кто мог.
— Батюшка! Боярин! — вопили те, которые были
ближе к князю, — не выдавай нас, сирот! Оборони
горемычных!
Но князя уже не было между ними.
— Где же боярин? — спросил пожилой мужик,
оглядываясь на все стороны. — И след простыл! И
людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Ох,
беда неминучая, ох, смерть нам настала!
Детина в красном кафтане остановил коня.
— Эй ты, старый хрен! здесь был хоровод, куда
девки разбежались?
Мужик кланялся молча.
— На березу его! — закричал черный. — Любит
молчать, так пусть себе молчит на березе!
Несколько всадников сошли с коней и накинули
мужику петлю на шею.
— Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпусти-
те, родимые! Не губите старика!
— Ага! Развязал язык, старый хрыч! Да поздно, брат,
в другой раз не шути! На березу его!
Опричники потащили мужика к березе. В эту минуту
из-за избы раздалось несколько выстрелов, человек
десять пеших людей бросились с саблями на душегуб-
цев, и в то же время всадники князя Серебряного,
вылетев из-за угла деревни, с криком напали на оприч-
ников. Княжеских людей было вполовину менее чис-
лом, но нападение совершилось так быстро и неожидан-
но, что они в один миг опрокинули опричников. Князь
сам рукоятью сабли сшиб с лошади их предводителя. Не
дав ему опомниться, он спрыгнул с коня, придавил ему
грудь коленом и стиснул горло.
413
— Кто ты, мошенник? — спросил князь.
— А ты кто? — отвечал опричник, хрипя и сверкая
глазами.
Князь приставил ему пистолетное дуло ко лбу.
— Отвечай, окаянный, или застрелю, как собаку!
— Я тебе не слуга, разбойник, — отвечал черный, не
показывая боязни, — а тебя повесят, чтобы не смел
трогать царских людей!
Курок пистолета щелкнул, но кремень осекся, и
черный остался жив.
Князь посмотрел вокруг себя. Несколько опрични-
ков лежали убитые, других княжеские люди вязали,
прочие скрылись.
— Скрутите и этого! — сказал боярин, и, глядя на
зверское, но бесстрашное лицо его, он не мог удержать-
ся от удивления. «Нечего сказать, молодец! — подумал
князь. — Жаль, что разбойник!»
Между тем подошел к князю стремянный его, Ми-
хеич.
— Смотри, батюшка, — сказал он, показывая пук
тонких и крепких веревок с петлями на конце, — вишь,
они какие осилы возят с собою! Видно не впервой им
душегубстовать, тетка их подкурятина!
Тут ратники подвели к князю двух лошадей, на
которых сидели два человека, связанные и прикручен-
ные к седлам. Один из них был старик с кудрявою,
седою головой и длинною бородой. Товарищ его, чер-
ноглазый молодец, казался лет тридцати.
— Это что за люди? — спросил князь. — Зачем вы
их к седлам прикрутили?
— Не мы, боярин, а разбойники прикрутили их к
седлам. Мы нашли их за огородами, и стража к ним была
приставлена.
— Так отвяжите их и пустите на волю!
Освобожденные пленники потягивали онемелые чле-
ны, но, не спеша воспользоваться свободою, остались
посмотреть, что будет с побежденными.
— Слушайте, мошенники, — сказал князь связанным
опричникам, — говорите, как вы смели называться
царскими слугами? Кто вы таковы?
414
— Что, у тебя глаза лопнули, что ли? — отвечал один
из них. — Аль не видишь, кто мы? Известно кто!
Царские люди, опричники!
— Окаянные! — вскричал Серебряный, — коли
жизнь вам дорога, отвечайте правду!
— Да ты, видно, с неба свалился, — сказал с усмеш-
кой черный детина, — что никогда опричников не видал?
И подлинно с неба свалился! Черт его знает, откуда
выскочил, провалиться бы тебе сквозь землю.
Упорство разбойников взорвало Никиту Романовича.
— Слушай, молодец, — сказал он, — твоя дерзость
мне было пришлась по нраву, я хотел было пощадить
тебя. Но если ты сейчас же не скажешь мне, кто ты
таков, как бог свят, велю тебя повесить!
Разбойник гордо выпрямился.
— Я Матвей Хомяк! — отвечал он, — стремянный
Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского; служу
верно господину моему и царю в опричниках. Метла,
что у нас при седле, значит, что мы Русь метем, вы-
метаем измену из царской земли; а собачья голова —
что мы грызем врагов царских. Теперь ты ведаешь, кто
я; скажи ж и ты, как тебя называть, величать, каким
именем помянуть, когда придется тебе шею свернуть?
Князь простил бы опричнику его дерзкие речи. Бес-
страшие этого человека в виду смерти ему нравилось.
Но Матвей Хомяк клеветал на царя, и этого не мог
снести Никита Романович. Он дал знак ратникам. При-
выкшие слушаться боярина и сами раздраженные дер-
зостью разбойников, они накинули им петли на шеи и
готовились исполнить над ними казнь, незадолго перед
тем угрожавшую бедному мужику. Тут младший из
людей, которых князь велел отвязать от седел, подошел
к нему:
— Дозволь, боярин, слово молвить.
— Говори!
— Ты, боярин, сегодня доброе дело сделал, вызволил
нас из рук этих собачьих детей, так мы хотим те за добро
добром заплатить. Ты, видно, давно на Москве не бывал,
боярин. А мы так знаем, что там деется. Послушай нас,
415
боярин. Коли жизнь тебе не постыла, не вели вешать
этих чертей. Отпусти их, и этого беса, Хомяка, отпусти.
Не их жаль, а тебя, боярин. А уж попадутся нам в руки,
вот те Христос, сам повешу их. Не миновать им осила,
только бы не ты их к черту отправил, а наш брат!
Князь с удивлением посмотрел на незнакомца. Чер-
ные глаза его глядели твердо и проницательно; темная
борода покрывала всю нижнюю часть лица, крепкие и
ровные зубы сверками ослепительной белизной. Судя
по его одежде, можно было принять его за посадского
или какого-нибудь зажиточного крестьянина, но он го-
ворил с такой уверенностью и, казалось, так искренно
хотел предостеречь боярина, что князь стал пристальнее
вглядываться в черты его. Тогда показалось князю, что
на них отпечаток необыкновенного ума и сметливости,
а взгляд обнаруживает человека, привыкшего повеле-
вать.
— Кто ты, молодец? — спросил Серебряный, — и
зачем вступаешься за людей, которые самого тебя при-
крутили к седлу?
— Да, боярин, кабы не ты, то висеть бы мне вместо
их! А все-таки послушай мово слова, отпусти их; жалеть
не будешь, как приедешь на Москву. Там, боярин, не
то, что прежде, не те времена! Кабы всех их переве-
шать, я бы не прочь, зачем бы не повесить! А то и без
них довольно на Руси останется; а тут еще человек
десять ихних ускакало; так если этот дьявол, Хомяк, не
воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо
на тебя покажут!
Князя, вероятно, не убедили бы темные речи незна-
комца, но гнев его успел простыть. Он рассудил, что
скорая расправа с злодеями не много принесет пользы,
тогда как, предав их правосудию, он, может быть,
откроет всю шайку этих загадочных грабителей. Рас-
спросив подробно, где имеет пребывание ближний губ-
ной староста, он приказал старшему ратнику с товари-
щами проводить туда пленных и объявил, что поедет
далее с одним Михеичем.
— Власть твоя посылать этих собак к губному старо-
416
сте, — сказал незнакомец, — только, поверь мне,
староста тотчас велит развязать им руки. Лучше бы
самому тебе отпустить их на все четыре стороны. Впро-
чем, на то твоя боярская воля.
Михеич слушал все молча и только почесывал за
ухом. Когда незнакомец кончил, старый стремянный
подошел к князю и поклонился ему в пояс.
— Батюшка боярин, — сказал он, — оно тово, может
быть этот молодец и правду говорит: неравно староста
отпустит этих разбойников. А уж коли ты их, по мягко-
сердечию твоему, от петли помиловал, за что бог и тебя,
батюшка, не оставит, то дозволь, до крайности, перед
отправкой-то, на всяк случай, влепить им по полсотенке
плетей, чтоб вперед-то не душегубствовали, тетка их
подкурятина!
И, принимая молчание князя за согласие, он тотчас
велел отвесть пленных в сторону, где предложенное им
наказание было исполнено точно и скоро, несмотря ни
на угрозы, ни на бешенство Хомяка.
— Это самое питательное дело!... — сказал Михеич,
возвращаясь с довольным видом к князю. — Оно, с
одной стороны, и безобидно, а с другой — и памятно
для них будет.
Незнакомец, казалось, сам одобрял счастливую
мысль Михеича. Он усмехался, поглаживая бороду, но
скоро лицо его приняло прежнее суровое выражение.
— Боярин, — сказал он, — уж коли ты хочешь ехать
с одним только стремянным, то дозволь хоть мне с
товарищем к тебе примкнуться; нам дорога одна, а
вместе будет веселее; да к тому ж, не ровен час, коли
придется опять работать руками, так восемь рук больше
четырех вымолотят.
У князя не было причин подозревать своих новых
товарищей. Он позволил им ехать с собою, и после
краткого отдыха все четверо пустились в путь.
417
14-769
Глава 2
НОВЫЕ ТОВАРИЩИ
Дорогой Михеич несколько раз пытался выведать от
незнакомцев, кто они таковы, но те отшучивались или
отделывались разными изворотами.
— Тьфу, тетка их подкурятина! — сказал наконец
сам про себя Михеич. — Что за народ! Словно вьюны
какие! Думаешь, вот поймал их за хвост, а они тебе
промеж пальцев!
Между тем стало темнеть; Михеич подъехал к кня-
зю.
— Боярин, — сказал он, — хорошо ли мы сделали,
что взяли с собой этих молодцов? Они что-то больно
увертливы, никак толку от них не добьешся. Да и
народ-то плечистый, не хуже Хомяка. Уж не лихие ли
люди?
— А хоть и лихие, — отвечал беззаботно князь, —
все же они постоят за нас, коли неравно попадутся нам
еще опричники.
— А провал их знает, постоят ли, батюшка? Ворон
ворону глаз не выклюет; а я слышал, как они промеж
себя поговаривали черт знает на каком языке, ни слова
не понять, а кажись было по-русски! Берегись, боярин,
береженого коня и зверь не вредит!
Темнота усиливалась. Михеич замолчал. Боярин так-
же замолчал. Слышен был только лошадиный топ да
изредка чуткое фырканье.
Ехали лесом. Один из незнакомцев затянул песню,
другой стал подтягивать.
Песня эта, раздающаяся ночью среди леса, после
всех дневных происшествий, странно подействовала на
князя: ему сделалось грустно. Он вспомнил о прошед-
шем, вспомним об отъезде своем из Москвы, за пять
лет назад, и в воображении очутился опять в той церкви,
где перед отъездом слушал молебен и где, сквозь
торжественное пение, сквозь шепот толпы, его поразил
нежный и звучный голос, которого не заглушил ни стук
мечей, ни гром литовских пищалей! «Прости, князь, —
418
говорил ему украдкою этот голос, — я буду за тебя
молиться!..» Между тем незнакомцы продолжали петь,
но слова их не соответствовали размышлениям боярина.
В песне говорилось про широкое раздолье степей, про
матушку-Волгу, про разгульное бурлацкое житье. Голо-
са то сходились, то расходились, то текли ровном током,
как река широкая, то бурными волнами воздымались и
опускались и наконец, взлетев высоко, высоко, парили
в небесах, как орлы с распростертыми крыльями.
Грустно и весело в тихую летнюю ночь, среди без-
молвного леса, слушать размашистую русскую песню.
Тут и тоска бесконечная, безнадежная, тут и сила
непобедимая, тут и роковая печать судьбы, железное
предназначение, одно из основных начал нашей народ-
ности, которым можно объяснить многое, что в русской
жизни кажется непонятным. И чего не слышно еще в
протяжной песне среди летней ночи и безмолвного
леса!
Пронзительный свист прервал мысли боярина. Два
человека выпрыгнули из-за деревьев и взяли лошадь его
под уздцы. Двое других схватили его за руки. Сопротив-
ление стало невозможно.
— Ах, мошенники! — вкричал Михеич, которого
также окружили неизвестные люди,— ах, тетка их
подкурятина! Ведь подвели же, окаянные!
— Кто едет? — спросил грубый голос.
— Бабушкино веретено! — отвечал младший из
новых товарищей князя.
— В дедушкином лапте! — сказал грубый голос.
— Откуда бог несет, земляки?
— Не тряси яблони! Дай дрожжам взойти, сам-чет-
верть урожаю! — продолжал спутник князя.
Руки, державшие боярина, тотчас опустились, и конь,
почувствовав свободу, стал опять фыркать и шагать
между деревьями.
— Вишь, боярин, — сказал незнакомец, равняясь с
князем, — ведь говорил я тебе, что вчетвером веселее
ехать, чем сам-друг! Теперь дай себя только до мельни-
цы проводить, а там простимся. В мельнице найдешь
419
ночлег и корм лошадям. Дотудова будет версты две, не
более, а там скоро и Москва!
— Спасибо, молодцы, за услугу. Коли придется нам
когда встретиться, не забуду я, что долг платежом
красен!
— Не тебе, боярин, а нам помнить услуги. Да вряд
ли мы когда и встретимся. А если бы привел бог, так не
забудь, что русский человек добро помнит и что мы
всегда тебе верные холопи!
— Спасибо, ребята, а имени своего не скажете?
— У меня имя не одно, — отвечал младший из
незнакомцев.— Покамест я Ванюха Перстень, а там,
может, и другое прозвание мне найдется.
Вскоре они приблизились к мельнице. Несмотря на
ночное время, колесо шумело в воде. На свист Перстня
показался мельник. Лица его нельзя было разглядеть за
темнотою, но, судя по голосу, он был старик.
— Ах ты, мой кормилец! — сказал он Перстню, —
не ждал я тебя сегодня, да еще с проезжими! Что бы
тебе с ними уж до Москвы доехать? А у меня, родимый,
нет ни овса, ни сена, ни ужина!
Перстень сказал что-то мельнику на непонятном
условном языке. Старик отвечал такими же непонятны-
ми словами и прибавил вполголоса:
— И рад бы, родимый, да гостя жду; такого гостя,
боже сохрани, какой сердитый!
— А камора за ставом? — сказал Перстень.
— Вся завалена мешками!
— А кладовая? Слышь ты, брат, чтоб сейчас отыска-
лось место, овес лошадям и ужин боярину! Мы ведь
знаем друг друга, меня не морочь.
Мельник, ворча, повел приезжих в камору, стояв-
шую шагах в десяти от мельницы и где, несмотря на
мешки с хлебом и мукою, было очень довольно места.
Пока он сходил за лучиной, Перстень и товарищ его
простились с боярином.
— А скажите, молодцы, — спросил Михеич, — где
ж отыскать вас, если б неравно, по сегодняшнему делу,
князю понадобились свидетели?
420
— Спроси у ветра, — отвечал Перстень, — откуда
он? Спроси у волны прибрежной, где живет она? Мы
что стрелы острые с тетивы летим: куда вонзится калена
стрела, там и дом ее! В свидетели, — продолжал он,
усмехаясь, — мы его княжеской милости не годимся. А
если б мы за чем другим понадобились, приходи, стари-
чина, к мельнику; он тебе скажет, как отыскать Ванюху
Перстня!
— Вишь ты, тетка твоя подкурятина! — проворчал
себе под нос Михеич, — какие кудрявые речи выгова-
ривает!
— Боярин, — сказал Перстень, удаляясь, — послу-
шай меня, не хвались на Москве, что хотел повесить
слугу Малюты Скуратова и потом отодрал его, как
Сидорову козу!
— Вишь, что наладил, — проворчал опять Михеич, —
отпусти разбойника, не вешай разбойника, да и не
хвались, что хотел повесить! Затвердила сорока Якова,
видно, с одного поля ягода! Не беспокойся, брат, —
прибавил он громко, — наш князь никого не боится;
наплевать ему на твово Скурлатова; он одному царю
ответ держит!
Мельник принес зажженую лучину и воткнул ее в
стену. Потом принес щей, хлеба и кружку браги. В
чертах его была странная смесь добродушия и плутов-
ства; волосы и борода были совсем седы, а глаза ярко-
серого цвета; морщины во всех направлениях рассекали
лицо его.
Поужинав и помолившись богу, князь и Михеич
расположились на мешках; мельник пожелал им доброй
ночи, низко поклонился, погасил лучину и вышел.
— Боярин, — сказал Михеич, когда они остались
одни, — сдается мне, что напрасно мы здесь останови-
лись. Лучше было ехать до Москвы.
— Чтобы тревожить народ божий среди ночи? Сле-
зать с коней да отмыкать рогатки на каждой улице?
— Да что, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чем
спать в чертовой мельнице. И угораздило же их, окаян-
ных, привести именно в мельницу! Да еще на Ивана
Купала. Тьфу ты пропасть!
421
— Да что тебе здесь худо, что ли?
— Нет, батюшка, не худо; и лежать покойно, и щи
были добрые, и лошадям овес засыпан; да только то
худо, что хозяин, вишь, мельник!
— Что ж с того, что он мельник?
— Как что, что мельник? — сказал с жаром Михе-
ич. — Да разве ты не знаешь, князь, что нет мельника,
которому бы нечистый не приходился сродни? Али ты
думаешь, он сумеет без того плотину насыпать? Да,
черта с два! Тетка его подкурятина.
— Слыхал я про это, — сказал князь, — мало ли что
люди говорят. Да теперь не время разбирать, бери, что
бог послал.
Михеич немного помолчал, потом зевнул, еще помол-
чал и спросил уже заспанным голосом:
— А как ты думаешь, боярин, что за человек этот
Матвей Хомяк, которого ты с лошади сшиб?
— Я думаю, разбойник.
— И я то же думаю. А как ты думаешь, боярин, что
за человек этот Ванюха Перстень.
— Я думаю, тоже разбойник.
— Ия так думаю. Только этот разбойник будет
почище того разбойника. А тебе как покажется, боярин,
который разбойник будет почище, Хомяк или Пер-
стень?
И, не дожидаясь ответа, Михеич захрапел. Вско-
ре уснул и князь.
Глава 3
КОЛДОВСТВО
Месяц взошел на небо, звезды ярко горели. Полураз-
валившаяся мельница и шумящее колесо были озарены
серебряным блеском.
Вдруг раздался конский топот, и вскоре повелитель-
ный голос закричал под самой мельницей:
— Эй, колдун!
Казалось, новый приезжий не привык дожидаться,
ибо, не слыша ответа, он закричал еще громче:
422
— Эй, колдун! Выходи, не то в куски изрублю!
Послышался голос мельника:
— Тише, князь, тише, батюшка, теперь мы не одни,
остановились у меня приезжие; а вот я сейчас к тебе
выйду, батюшка, дай только сундук запереть.
— Я те дам сундук запирать, чертова кочерга! —
закричал тот, которого мельник назвал князем. — Разве
ты не знал, что я буду сегодня! Как смел ты принимать
проезжих! Вон их отсюда!
— Батюшка, не кричи, бога ради не кричи, все
испортишь! Я тебе говорил уже, дело боится шуму, а
проезжих прогнать я не властен. Да они же нам и не
мешают; они спят теперь, коли ты, родимый, не разбудил
их!
— Ну, добро, старик, только смотри, коли ты меня
морочишь, лучше бы тебе на свет не родиться. Еще не
выдумано, не придумано такой казни, какую я найду
тебе!
— Батюшка, умилосердись! Что ж мне делать, ста-
рику? Что увижу, то и скажу, что после случится, в том
один бог властен! А если твоя княжеская милость меня
казнить собирается, то лучше я и дела не начну!
— Ну, ну, старик, не бойся, я пошутил.
Проезжий привязал лошадь к дереву. Он был высо-
кого роста и, казалось, молод. Месяц играл на запонках
его однорядки. Золотые кисти мурмолки болтались по
плечам.
— Что ж, князь, — сказал мельник, — выучил ты
слова?
— И слова выучил, и ласточкино сердце ношу на шее.
— Что ж, боярин, и это не помогает?
— Нет, — отвечал с досадой князь, — ничего не
помогает! Намедни я увидел ее в саду. Лишь узнала она
меня, побледнела, отвернулась, убежала в светлицу!
— Не прогневись, боярин, не руби невинной головы,
а дозволь тебе слово молвить.
— Говори, старик.
— Слушай, боярин, только я боюсь говорить...
— Говори! — закричал князь и топнул ногой.
423
— Слушай же, батюшка, уж не любит ли она друго-
го?
— Другого? Кого ж другого? мужа? старика?
— А если... — продолжал мельник, запинаясь, — если
она любит не мужа?..
— Ах ты, леший! — вскричал князь, — да как это
тебе на ум взбрело? Да если б я только подумал про
кого, я б у них обоих своими руками сердце вырвал!
Мельник отшатнулся в страхе.
— Колдун, — продолжал князь, смягчая свой го-
лос, — помоги мне! Одолела меня любовь, змея лютая!
Уж чего я не делал! Целые ночи перед иконами молился!
Не вымолил себе покою. Бросил молиться, стал скакать
и рыскать по полям с утра и до ночи, не одного доброго
коня заморил, а покоя не выездил! Стал гулять по ночам,
выпивал ковши вина крепкого, не запил с тоски, не
нашел себе покоя в похмелье! Махнул на все рукой и
пошел в опричники. Стал гулять за царским столом
вместе со страдниками, с Грязными, с Басмановыми!
Сам хуже их злодействовал, разорял села и слободы,
увозил жен и девок, а не залил кровью тоски моей!
Боятся меня и земские, и опричники, жалует царь за
молодечество, проклинает народ православный. Имя
князя Афанасья Вяземского стало так же страшно, как
Малюты Скуратова! Вот до чего довела меня любовь,
погубил я душу мою! Да что мне до нее! Во дне адовом
не будет хуже здешнего! Ну, старик, чего смотришь мне
в глаза? Али думаешь, я помешался? Не помешался
Афанасий Иваныч; крепка голова, крепко тело его!
Тем-то и ужасна моя мука, что не может извести меня!
Мельник слушал князя и боялся. Он опасался его
буйного нрава, опасался за жизнь свою.
— Что ж ты молчишь, старик? али нет у тебя зелья,
али нет корня какого приворотить ее? Говори, высчиты-
вай, какие есть чародейные травы? Да говори же,
колдун!
— Батюшка, князь Афанасий Иванович, как тебе
сказать? Всякие есть травы. Есть колюка-трава, сбира-
ется в Петров пост. Обкуришь ею стрелу — промаху не
424
дашь. Есть тирлич-трава, на Лысой горе, под Киевом
растет. Кто ее носит на себе, на того ввек царского гнева
не будет. Есть еще плакун-трава, вырежешь из корня
крест да повесишь на шею, все тебя будут Как огня
бояться!
Вяземский горько усмехнулся.
— Меня уж и так боятся, — сказал он, — не надо
мне плакуна твоего. Называй другие травы.
— Есть еще адамова голова, коло болот растет,
разрешает роды и подарки приносит. Есть голубец бо-
лотный; коли хочешь идти на медведя, выпей взвару
голубца, и никакой медведь тебя не тронет. Есть ревен-
ка-трава; когда станешь из земли выдергивать, она сто-
нет и ревет, словно человек, а наденешь на себя, никогда
в воде не утонешь.
— А боле нет других?
— Как не быть, батюшка, есть еще кочедыжник, или
папоротник; кому удастся сорвать цвет его, тот всеми
кладами владеет. Есть иван-да-марья; кто знает, как за
нее взяться, тот на первой кляче от лучшего скакуна
удерет.
— А такой травы, чтобы молодушка полюбила посты-
лого, не знаешь?
Мельник замялся.
— Не знаю, батюшка, не гневайся, родимый, видит
бог, не знаю.
— А такой, чтобы свою любовь перемочь, не знаешь?
— И такой не знаю, батюшка; а вот есть разрыв-тра-
ва: когда дотронешься ею до замка али до двери желез-
ной, так и разорвет на куски!
— Пропадай ты со своими травами! — сказал гнев-
но Вяземский и устремил мрачный взор свой на мель-
ника.
Мельник опустил глаза и молчал.
— Старик! — вскричал вдруг Вяземский, хватая его
за ворот, — подавай мне ее! Слышишь? Подавай ее,
подавай ее, леший! Сейчас подавай!
И он тряс мельника за ворот обеими руками.
Мельник подумал, что настал последний час его.
425
Вдруг Вяземский выпустил старика и повалился ему
в ноги.
— Сжалься надо мной! — зарыдал он. — Излечи
меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду в кабалу к
тебе! Сжалься надо мной, старик!
Мельник еще более испугался:
— Князь, боярин! Что с тобой? Опомнись! Это я,
Давыдыч, мельник!.. Опомнись, князь!
— Не встану, пока не излечишь!
— Князь, князь! — сказал дрожащим голосом мель-
ник, — пора за дело. Время уходит, вставай! Теперь
темно, не видал я тебя, не знаю, где ты! Скорей, скорей
за дело!
Князь встал.
— Начинай, — сказал он, — я готов.
Оба замолчали. Все было тихо. Только колесо, осве-
щенное месяцем, продолжало шуметь и вертеться! Где-
то в дальнем болоте кричал дергач. Сова завывала порой
в гущине леса.
Старик и князь подошли к мельнице.
— Смотри, князь, под колесо, а я стану нашептывать.
Старик прилег к земле и, еще задыхаясь от страха,
стал шептать какие-то слова. Князь смотрел под колесо.
Прошло несколько минут.
— Что ты видишь, князь?
— Вижу, будто жемчуг сыплется, будто червонцы
играют.
— Будешь ты богат, князь, будешь всех на Руси
богаче!
Вяземский вздохнул.
— Смотри еще, князь, что видишь?
— Вижу, будто сабли трутся одна о другую, а промеж
них как золотые гривны!
— Будет тебе удача в ратном деле, боярин, будет
счастье на службе царской! Только смотри, смотри еще!
говори, что видишь?
— Теперь сделалось темно, вода помутилась. А вот
стала краснеть вода, вот почервонела, словно кровь. Что
это значит?
426
а я стану нашептывать.
Смотри, князь, под колесо,
Мельник молчал.
— Что это значит, старик?
— Довольно, князь. Долго смотреть не годится, пой-
дем!
— Вот потянулись багровые нитки, словно жилы
кровавые; вот будто клещи растворяются и замыкаются,
вот...
— Пойдем, князь, пойдем, будет с тебя!
— Постой! — сказал Вяземский, отталкивая мельни-
ка, — вот словно пила зубчатая ходит взад и вперед, а
из-под нее словно кровь брызжет!
Мельник хотел оттащить князя.
— Постой, старик, мне дурно, мне больно в соста-
вах... Ох, больно!
Князь сам отскочил. Казалось, он понял свое виде-
ние.
Долго оба молчали. Наконец Вяземский сказал:
— Хочу знать, любит ли она другого!
— А есть ли у тебя, боярин, какая вещица от нее?
— Вот что нашел я у калитки!
Князь показал голубую ленту.
— Брось под колесо!
Князь бросил.
Мельник вынул из-за пазухи глиняную сулею.
— Хлебни! — сказал он, подавая сулею князю.
Князь хлебнул. Голова его стала ходить кругом, в
очах помутилось.
— Смотри теперь, что видишь?
— Ее, ее!
— Одною?
— Нет, не одну! Их двое: с ней русый молодец в
кармазинном кафтане, только лица его не видно... По-
стой! Вот они сплываются... все ближе, ближе... Анафе-
ма! они целуются! Анафема! будь ты проклят, колдун,
будь проклят, проклят!
Князь бросил мельнику горсть денег, оторвал от
дерева узду коня своего, вскочил в седло, и застучали
в лесу конские подковы. Потом топот замер в отдале-
нии, и лишь колесо в ночной тиши продолжало шуметь
и вертеться.
428
Глава 4
ДРУЖИНА АНДРЕЕВИЧ И ЕГО ЖЕНА
Если бы читатель мог перенестись лет за триста назад
и посмотреть с высокой колокольни на тогдашнюю
Москву, он нашел бы в ней мало сходства с тепереш-
нею. Берега Москвы-реки, Яузы и Неглинной покрыты
были множеством деревянных домов с тесовыми или
соломенными крышами, большею частью почерневшими
от времени. Среди этих темных крыш резко белели и
краснели стены Кремля, Китай-города и других укреп-
лений, возникших в течение двух последних столетий.
Множество церквей и коЛоколен подымали свои золо-
ченые головы к небу. Подобные большим зеленым и
желтым пятнам, виднелись между домами густые рощи
и покрытые хлебом поля. Через Москву-реку пролегали
зыбкие живые мосты, сильно дрожавшие и покрывав-
шиеся водою, когда по ним проезжали возы или всад-
ники. На Яузе и на Неглинной вертелись десятками
мельничные колеса, одно подле другого. Эти рощи, поля
и мельницы среди самого города придавали тогдашней
Москве много живописного. Особенно весело было
смотреть на монастыри, которые, с белыми оградами и
пестрыми кучами цветных и золоченых голов, казались
отдельными городами.
Надо всею этой путаницей церквей, домов, рощ и
монастырей гордо воздымались кремлевские церкви и
недавно отделанный храм Покрова богоматери, кото-
рый Иоанн заложил несколько лет тому назад в память
взятия Казани и который мы знаем ныне под именем
Василия Блаженного. Велика была радость московитян,
когда упали, наконец, леса, закрывавшие эту церковь,
и предстала она во всем своем причудливом блеске,
сверкая золотом и красками и удивляя взор разнообра-
зием украшений. Долго не переставал народ дивиться
искусному зодчему, благодарить бога и славить царя,
даровавшего православным зрелище, дотоле невидан-
ное. Хороши были и прочие церкви московские. Не
щадили московитяне ни рублей, ни трудов на благолепие
429
домов божиих. Везде видны были дорогие цвета, позо-
лота и большие наружные иконы во весь рост челове-
ческий. Любили православные украшать дома божии, но
зато мало заботились о наружности своих домов; жили-
ща их почти все были выстроены просто и прочно, из
сосновых или дубовых брусьев, не обшитых даже те-
сом, по старинной русской пословице: не красна изба
углами, а красна пирогами.
Один дом боярина Дружины Андреевича Морозова,
на берегу Москвы-реки, отличался особенною красо-
тою. Дубовые бревна были на подбор круглы и ровны;
все углы рублены в лапу, дом возвышался в три жилья,
не считая светлицы. Навесная кровля над крутым крыль-
цом поддерживалась пузатыми вычурными столбами и
щеголяла мелкою резьбою. Ставни были искусно рас-
писаны цветами и птицами, а окна пропускали свет
божий не сквозь тусклые бычачьи пузыри, как в боль-
шей части домов московских, но сквозь чистую, про-
зрачную слюду. На широком дворе стояли службы,
кладовые, сушилы, голубятня и летняя опочивальня бо-
ярина. Ко двору примыкали с одной стороны домовая
каменная церковь, с другой — пространный сад, окру-
женный дубовым частоколом, из-за которого подыма-
лись красивые качели, также с узорами и живописью.
Словом, дом выстроен был на славу! Да и было на кого
строить!
Боярин Дружина Андреевич, телом дородный, нрава
крутого, несмотря на свои преклонные лета, недавно
женился на первой московской красавице. Все диви-
лись, когда вышла за него двадцатилетняя Елена Дмит-
риевна, дочь окольничего Плещеева-Очина, убитого под
Казанью. Не такого жениха прочили ей московские
свахи. Но Елена была на выданье, без отца и матери; а
красота девушки, при нечестивых нравах новых царских
любимцев, бывала ей чаще на беду, чем на радость.
Морозов, женившись на Елене, сделался ее покро-
вителем, а все знали на Москве, что нелегко обидеть ту,
которую брал под свою защиту боярин Дружина Анд-
реевич!
430
Много любимцев царских до замужества Елены ста-
рались ей понравиться, но никто так не старался, как
князь Афанасий Иванович Вяземский. И подарки доро-
гие присылал он к ней, и в церквах становился супротив
нее, и на бешеном коне мимо ворот скакал, и в кулачном
бою ходил один на стену. Не было удачи Афанасью
Ивановичу! Свахи приносили ему назад его подарки, а
при встрече с ним Елена отворачивалась. Оттого ли она
отворачивалась, что не нравился ей Афанасий Иванович,
или в сердце девичьем была уже другая зазнобушка,
только как ни бился князь Вяземский, а все получал
отказы. Наконец осерчал Афанасий Иванович и пошел
бить челом о своей неудаче царю Ивану Васильевичу.
Царь обещал сам заслать свах к Елене Дмитриевне.
Узнав о том, Елена залилась слезами. Пошла с мамкою
в церковь, стала на колени перед божиею матерью,
плачет и кладет земные поклоны.
В церкви народу не было; но, когда встала Елена и
оглянулась, за нею стоял боярин Морозов в бархатном
зеленом кафтане, в парчовом терлике нараспашку.
— О чем ты плачешь, Елена Дмитриевна? — спросил
Морозов.
Узнав боярина, Елена обрадовалась.
Он когда-то был в дружбе с ее родителями, да и
теперь навещал ее и любил как родную. Елена его
почитала как бы отца и поверяла ему все свои мысли;
одной лишь не поверила; одну лишь схоронила от боя-
рина; схоронила себе на горе, ему на погибель.
И теперь на вопрос Морозова, она не сказала ему
той заветной мысли, а сказала лишь, что я-де плачу о
том, что приедут царские свахи, приневолят меня за
Вяземского!
— Едена Дмитриевна, — сказал боярин, — полно,
правду ли не люб тебе Вяземский? Подумай хорошень-
ко. Знаю, доселе он был тебе не по сердцу; да ведь у
тебя, я чаю, никого еще нет на мысли, а до той поры
сердце девичье — воск; стерпится — слюбится!
— Никогда, — отвечала Елена, — никогда не полюб-
лю его. Скорее сойду в могилу!
431
Боярин посмотрел на нее с участием.
— Елена Дмитриевна, — сказал он, помолчав, — есть
средство спасти тебя. Послушай. Я стар и сед, но люблю
тебя, как дочь свою. Поразмысли, Елена, согласна ль ты
выйти за меня, старика?
— Согласна! — вскричала радостно Елена и повали-
лась Морозову в ноги.
Тронуло боярина нежданное слово, обрадовался он
восторгу Елены, не догадался старый, что то был восторг
утопающего, который хватается за куст терновый.
Ласково поднял он Елену и поцеловал в чело.
— Дитятко, — сказал он, — целуй же мне крест, что
не обесчестишь ты седой головы моей! Клянись здесь,
пред спасителем!
— Клянусь, клянусь! — прошептала Елена.
Боярин велел позвать священника, и вскоре совер-
шился обряд обручения; когда же явились к Елене
царские свахи, она уже была невестою Дружины Анд-
реевича Морозова.
Не по любви вышла Елена за Морозова; но она
целовала крест быть ему верною и твердо решилась
сдержать свою клятву, не погрешить против господина
своего ни словом, ни мыслию.
И зачем бы не любить ей Дружины Андреевича?
Правда, не молод был боярин; но господь благословил
его и здоровьем, и дородством, и славою ратною, и
волею твердою, и деревнями, и селами, и широкими
угодьями за Москвой-рекой, и кладовыми, полными
золота, парчи и мехов дорогих. Лишь одним не благо-
словил господь Дружину Андреевича: не благословил
его милостью царскою. Как узнал Иван Васильевич, что
опоздали его свахи, опалился на Морозова, повершил
наказать боярина; велел позвать его ко столу своему и
посадил не только ниже Вяземского, но и ниже Году-
нова, Бориса Федоровича, еще не вошедшего в честь и
не имевшего никакого сана.
Не снес боярин такого бесчестия; встал из-за стола;
не вместно-де Морозову быть меньше Годунова! Тогда
опалился царь горшею злобою и выдал Морозова голо-
432
вою Борису Федоровичу. Понес боярин ко врагу повин-
ную голову, но обругал Годунова жестоко и назвал
щенком.
И, узнав о том, царь вошел в ярость великую, при-
казал Морозову отойти от очей своих и отпустить седые
волосы, доколе не сымется с него опала. И удалился от
двора боярин; и ходит он теперь в смирной одежде с
бородою нечесанною, падают седые волосы на крутое
чело. Грустно боярину не видать очей государевых, но
не опозорил он своего роду, не сел ниже Годунова!
Дом Морозова был чаша полная. Слуги боялись и
любили боярина. Всяк, кто входил к нему, был прини-
маем с радушием. И свои и чужие хвалились его ласкою;
всех дарил он и словами приветными, и одежей богатою,
и советами мудрыми. Но никого так не ласкал, никого
так не дарил он, как свою молодую жену, Елену Дмит-
риевну. И жена отвечала за ласку ласкою, и каждое
утро и каждый вечер долго стояла на коленях в своей
образной и усердно молилась за его здравие.
Виновата ли была Елена Дмитриевна, что среди при-
ветливых речей Дружины Андреевича, среди теплой
молитвы перед иконами внезапно представлялся вооб-
ражению ее молодой витязь, летящий на коне с подня-
тым шестопером, и перед ним бегущие в беспорядке
литовские полки?
Виновата ли была Елена Дмитриевна, что образ этого
витязя преследовал ее везде, и дома, и в церкви, и днем,
и ночью, и с упреком говорил ей: «Елена! Ты не сдер-
жала своего слова, ты не дождалась моего возврата, ты
обманула меня!..»
Тысяча пятьсот шестьдесят пятого года, июня двад-
цать четвертого, в день Ивана Купалы, все колокола
московские раскачались с самого утра, и звонили без
умолку. Все церкви были полны. По окончании обедни
народ рассыпался по улицам. Молодые и старые, бедные
и богатые несли домой зеленые ветки, цветы, березки,
убранные лентами. Все было пестро, живо и весело.
Однако к полуденной поре улицы стали пустеть. Мало-
помалу народ стал расходиться, и вскоре на Москве
433
нельзя было встретить ни одного человека. Воцарилась
мертвая тишина. Православные покоились в своих опо-
чивальнях, и не было никого, кто бы гневил бога, гуляя
по улицам, ибо бог и человеку и всякой твари велел
покоиться в полуденную пору; а грешно идти против
воли божией, разве уж принудит неотложное дело.
Итак, все спали; Москва казалась необитаемым го-
родом. Только на Балчуге, в недавно выстроенном кру-
жечном дворе, или кабаке, слышны были крики, ссоры
и песни. Там, несмотря на полдень, пировали ратники,
почти все молодые, в богатых нарядах. Они все распо-
ложились внутри дома, и на дворе, и на улице. Все были
пьяны; иной, лежа на голой земле, проливал на платье
чарку вина; другой силился хриплым голосом подтяги-
вать товарищам, но издавал лишь глухие, невнятные
звуки.
Оседланные кони стояли у ворот. К каждому седлу
привязана была метла и собачья голова,
В это время два всадника показались на улице. Один
из них, в кармазинном кафтайе с золотыми кистями и в
белой парчовой шапке, из-под которой вились густые
русые кудри, обратился к другому всаднику.
— Михеич, — сказал он, — видишь ты этих пьяных
людей?
— Вижу, боярин, тетка их подкурятина! Вишь, браж-
ники, как расходились!
— А видишь ты, что у лошадей за седлами?
— Вижу: метлы да песьи морды, как у того разбой-
ника. Стало, и в самом деле царские люди, коль на
Москве гуляют! Наделали ж мы дела, боярин, наварили
каши!
Серебряный нахмурился.
— Поди спроси у них, где живет боярин Морозов!
— Эй, добрые люди, господа честные! — закричал
Михеич, подъезжая к толпе, — где живет боярин
Дружина Андреич Морозов?
— А на что тебе знать, где эта собака живет?
— У моего боярина, князя Серебряного, есть грамота
к Морозову от воеводы князя Пронского, из большого
полку.
434
— Давай сюда грамоту!
— Что ты, что ты, тетка твоя под... что ты? В уме ли?
Как дать тебе Князеву грамоту?
— Давай грамоту, старый сыч, давай ее! Посмотрим,
уж не затеял ли этот Морозов измены, уж не хочет ли
извести государя!
— Ах ты, мошенник! — вскричал Михеич, забывая
осторожность, с которою начал было говорить, — да
разве мой господин знается с изменниками!
— А, так ты еще ругаться! Долой его с лошади,
ребята, в плети его!
Тут и сам Серебряный подскакал к опричникам.
— Назад! — закричал он так грозно, что они неволь-
но остановились. — Если кто из вас, — продолжал
князь, — хоть пальцем тронет этого человека, я тому
голову разрублю, а остальные будут отвечать государю!
Опричники смутились; но новые товарищи подошли
из соседних улиц и обступили князя. Дерзкие слова
посыпались из толпы; многие вынули сабли, и несдоб-
ровать бы Никите Романовичу, если бы в это время не
послышался вблизи голос, поющий псалом, и не остано-
вил опричников как будто волшебством. Все оглянулись
в сторону, откуда раздавался голос. По улице шел
человек лет сорока, в одной полотняной рубахе. На
груди его звенели железные кресты и вериги, а в руках
были деревянные четки. Бледное лицо его выражало
необыкновенную доброту, на устах, осененных редень-
кою бородой, играла улыбка, но глаза глядели мутно и
неопределенно.
Увидев Серебряного, он прервал свое пение, подо-
шел поспешно к нему и посмотрел ему прямо в лицо.
— Ты, ты! — сказал он, как будто удивляясь, — зачем
ты здесь, между ними?
И, не дожидаясь ответа, он начал петь: «Блажен муж,
иже не иде на совет нечестивых!»
Опричники посторонились с видом почтения, но он,
не обращая на них внимания, опять стал смотреть в глаза
Серебряному.
— Микитка, Микитка! — сказал он, качая голо-
вой, — куда ты заехал?
435
Серебряный никогда не видал этого человека и уди-
вился, что он называет его по имени.
— Разве ты знаешь меня? — спросил он.
Блаженный засмеялся.
— Ты мне брат! — отвечал он. — Я тотчас узнал тебя.
Ты такой же блаженный, как и я. И ума-то у тебя не боле
моего, а то бы ты сюда не приехал. Я все твое сердце
вижу. У тебя там чисто, чисто, одна голая правда; мы с
тобой оба юродивые! А эти... — продолжал он, указывая
на вооруженную толпу, — эти нам не родня! У!
— Вася, — сказал один из опричников, — не хочешь
ли чего? Не надо ль тебе денег?
— Нет, нет, нет! — отвечал блаженный, — от тебя
ничего не хочу! Вася ничего не возьмет от тебя, а подай
Микитке чего он просит!
— Божий человек, — сказал Серебряный, — я
спрашивал, где живет боярин Морозов?
— Дружина-то? Этот наш! Этот праведник! Только
голова у него непоклонная! у, какая непоклонная! А
скоро поклонится, скоро поклонится, да уж и не поды-
мется!
— Где он живет? — повторил ласково Серебряный.
— Не скажу! — ответил блаженный, как будто
рассердившись, — не скажу, пусть другие скажут. Не
хочу послать тебя на недоброе дело.
И он поспешно удалился, затянув опять свой пре-
рванный псалом.
Не понимая его слов и не тратя времени на догадки,
Серебряный снова обратился к опричникам.
— Что ж, — спросил он, — скажете ли вы наконец,
как найти дом Морозова?
— Ступай все прямо, — отвечал грубо один из них. —
Там, как поворотишь налево, там тебе и будет гнездо
старого ворона.
По мере того как князь удалялся, опричники, усми-
ренные появлением юродивого, опять начинали буянить.
— Эй! — закричал один, — отдай Морозову поклон
от нас да скажи, чтобы готовился скоро на виселицу;
больно зажился!
436
— Да и на себя припаси веревку! — крикнул вдогон-
ку ДРУГОЙ.
Но князь не обратил внимания на их ругательства.
«Что хотел сказать мне блаженный? — думал он,
потупя голову. — Зачем не указал он мне дом Морозова,
да еще прибавил, что не хочет посылать меня на недоб-
рое дело? »
Продолжая ехать далее, князь и Михеич встретили
еще много опричников. Иные были уже пьяны, другие
только шли в кабак. Все смотрели нагло и дерзко, а
некоторые даже делали вслух такие грубые замечания
насчет всадников, что легко было видеть, сколь они
привыкли к безнаказанности.
Глава 5
ВСТРЕЧА
Проезжая верхом по берегу Москвы-реки, можно
было поверх частокола видеть весь сад Морозова.
Цветущие липы осеняли светлый пруд, доставлявший
боярину в постные дни обильную пищу. Далее зеленели
яблони, вишни и сливы. В некошенной траве пролегали
узенькие дорожки. День был жаркий. Над алыми цве-
тами пахучего шиповника кружились золотые жуки; в
липах жужали пчелы; в траве трещали кузнечики; из-за
кустов красной смородины большие подсолнечники
поднимали широкие головы и, казалось, нежились на
полуденном солнце.
Боярин Морозов уже с час как отдыхал в своей
опочивальне. Елена с сенными девушками сидела под
липами на дерновой скамье, у самого частокола. На ней
был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пугови-
цами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие
складки, перехватывались повыше локтя алмазными за-
пястьями, или зарукавниками. Такие же серьги висели
по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчуж-
ными наклонами, а сафьянные сапожки блестели золо-
тою нашивкой.
437
Елена казалась весела. Она смеялась и шутила с
девушками.
— Боярыня, — сказала одна из них, — примерь еще
вот эти запястья, они повиднее.
— Будет с меня примерять, девушки, — отвечала
ласково Елена, — вот уж битый час вы меня наряжаете
да укручиваете, будет с меня!
— Вот еще только монисто надень! Как наденешь
монисто, будешь, право слово, ни дать ни взять, святая
икона в окладе!
— Полно, Пашенька, стыдно грех такой говорить!
— Ну, колл не хочешь наряжаться, боярыня, так не
поиграть ли нам в горелки или в камешки? Не хочешь
ли рыбку покормить или на качелях покачаться? Или уж
не спеть ли тебе чего?
— Спой мне, Пашенька, спой мне ту песню, что ты
намедни пела, когда вы ягоды собирали!
— И, боярыня, лапушка ты моя, что ж в той песне
веселого! То грустная песня, не праздничная.
— Нужды нет; мне хочется ее послушать, спой мне,
Пашенька.
— Изволь, боярыня, коли твоя такая воля, спою;
только ты после не пеняй на меня, если неравно тебе
взгрустнется! Нуте ж, подруженьки, подтягивайте!
Девушки уселись в кружок, и Пашенька затянула
жалобным голосом:
Ах, кабы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали;
Ах, кабы на меня да не кручина,
Ни о чем бы я не тужила,
Не сидела б я, подпершися,
Не глядела бы я во чисто поле...
Я по сеням шла, по новым шла,
Подняла шубку соболиную,
Чтоб моя шубка не прошумела,
Чтоб мои пуговки не прозвякнули,
Не услышал бы свекор-батюшка,
Не сказал бы своему сыну,
Своему сыну, моему мужу!
Пашенька посмотрела на боярыню. Две слезы кати-
лись из очей ее.
438
— Ах, я глупенькая! — сказала Пашенька, — чего я
наделала. Вот на свою голову послушалась боярыни! Да
и можно ли, боярыня, на такие песни набиваться!
— Охота ж тебе и знать их! — подхватила Дуняша,
быстроглазая девушка с черными бровями. — Вот я так
спою песню, не твоей чета, смотри, коли не развеселю
боярыню!
И, вскочив на ноги, Дуняша уперла одну руку в бок,
другую подняла кверху, перегнулась на сторону и,
плавно подвигаясь, запела:
Пантелей государь ходит по двору,
Кузмич гуляет по широкому,
Кунья на нем шуба до земли,
Соболья на нем шапка до верху,
Божья на нем милость до веку.
Сужена-то смотрит из-под пологу,
Бояре-то смотрят из города,
Боярыни-то смотрят из терема,
Бояре-то молвят: чей-то такой?
Боярыни молвят: чей-то господин?
А сужена молвит: мой дорогой!
Кончила Дуняша и сама засмеялась. Но Елене стало
еще грустнее. Она крепилась, крепилась, закрыла лицо
руками и зарыдала.
— Вот тебе и песня! — сказала Пашенька. — Что
нам теперь делать! Увидит Дружина Андреич заплакан-
ные глазки боярыни, на нас же осердится: не умеете вы,
дескать, глупые, и занять ее!
— Девушки, душечки! — сказала вдруг Елена, бро-
саясь на шею Пашеньке, — пособите порыдать, посо-
бите поплакать!
— Да что с тобою сталось, боярыня? С чего ты вдруг
раскручинилась?
Не вдруг, девушки! Мне с самого утра грустно. Как
начали к заутрене звонить да увидела я из светлицы, как
народ божий весело спешит в церковь, так, девушки,
мне стало тяжело... и теперь еще сердце надрывается...
а тут еще день выпал такой светлый, такой солнечный,
да еще все эти уборы, что вы на меня надели... скиньте
с меня запястья, девушки, скиньте кокошник, заплетите
мне косу по-вашему, по-девичьи!
439
.— Что ТЫ| боярыня, грех какой! Заплесть тебе косу
по-девичьи! Боже сохрани! Да неравно узнает Дружина
Андреич!
— Не узнает, девушки! Я опять кокошник надену!
— Нет, боярыня, грешно! Власть твоя, а мы этого на
душу не возьмем!
«Неужели, — подумала Елена, — грешно и вспоми-
нать о прошлом!»
— Так и быть, — сказала она, не сниму кокошник,
только подойди сюда, моя Пашенька, я тебе заплету
косу, как, бывало, мне заплетали.
Пашенька, краснея от удовольствия, стала на колени
перед боярыней. Елена распустила ей волосы, разделила
их на равные делянки и начала заплетать широкую
русую косу в девяносто прядей. Много требовалось на
то умения. Надо было плесть как можно слабее, чтобы
коса, подобно решетке, закрывала весь затылок и потом
падала вдоль спины, суживаясь неприметно. Елена при-
лежно принялась за дело. Перекладывая пряди, она
искусно перевивала их жемчужными нитками.
Наконец коса поспела. Боярыня ввязала в кончик
треугольный косник и насадила на него дорогие перстни.
— Готово, Пашенька, — сказала она, радуясь своей
работе. — Встань-ка да пройдись передо мною. Ну,
смотрите, девушки, не правда ли, эта коса красивее
кокошника!
— Все в свою пору, боярыня, — отвечали, смеясь,
девушки, — а вот Дуняша не прочь бы и от кокошника!
— Полноте вы, пересмешницы! — отвечала Дуня-
ша. — Мне бы хотя век косы не расплетать! А вот знаю
я таких, что глаз не сводят с боярского ключника!
Девушки залились звонким смехом, а иные смеша-
лись и покраснели. Видно, ключник был в самом деле
молодец.
— Нагнись, Пашенька, — сказала боярыня, — я тебе
повяжу еще ленту с поднизами... Девушки, да ведь
сегодня Ивана Купала, сегодня и русалки косы запле-
тают!
— Не сегодня, боярыня, а в семик и троицын день
440
заплетают русалки косы. На Ивана Купала они бегают
с распущенными волосами и отманивают людей от
папоротника, чтобы кто не сорвал его цвета.
— Бог с ними, — сказала Пашенька, — мало ли что
бывает в Иванов день, не приведи бог увидеть!
— А ты боишься русалок, Пашенька?
— Как их не бояться! Сегодня и в лес ходить
страшно, все равно что в троицын день или на русальную
неделю. Девушку защекотят, молодца любовью иссу-
шат!..
— Говоришь, а сама не знаешь! — перебила ее другая
девушка. — Какие под Москвой русалки! Здесь их нет
и заводу. Вот на Украйне, там другое дело, там русалок
гибель. Сказывают, не одного доброго молодца с ума
свели. Стоит только увидеть русалку, так до смерти все
по ней тосковать будешь; коли женатый — бросишь
жену и детей, коли холостой — забудешь свою ладуш-
ку!
Елена задумалась.
— Девушки, — сказала она, помолчав, — что, в Литве
есть русалки?
— Там-то их самая родина; что на Украйне, что в
Литве — то все одно...
Елена вздохнула. В эту минуту послышался конский
топот, и белая шапка Серебряного показалась над час-
токолом.
Увидя мужчину, Елена хотела скрыться, но, бросив
еще взгляд на всадника, она вдруг стала как вкопанная.
Князь также остановил коня. Он не верил глазам своим.
Тысяча мыслей в одно мгновение втеснились в его
голову, одна другой противореча. Он видел перед собой
Елену, дочь Плещеева-Очина, ту самую, которую он
/побил и которая клялась ему в любви пять лет тому
назад. Но каким случаем она попала в сад к боярину
Морозову?
Тут только Никита Романович заметил на голове
Елены жемчужный кокошник и побледнел.
Она была замужем!
«Брежу ли я? — подумал он, вперив в нее неподвиж-
441
ный, как будто испуганный взгляд, — во сне ли это
вижу? »
— Девушки! — упрашивала Елена, — отойдите, я
позову ЕСас, отойдите немного, оставьте меня одну!
Боже мой, боже мой! Пресвятая богородица! Что мне
делать! Что сказать мне!
Серебряный между тем оправился.
— Елена Дмитриевна, — произнес он решительно, —
отвечай мне единым словом: ты замужем? Это не об-
ман? Не шутка? Ты точно замужем?
Елена в отчаянии искала слов и не находила их.
— Отвечай мне, Елена Дмитриевна, не морочь меня
далее, теперь не святки!
— Выслушай меня, Никита Романович, — прошепта-
ла Елена.
Князь задрожал.
— Нечего мне слушать, — сказал он, — я все понял.
Не трать речей понапрасну, прости, боярыня!
И он рванул коня назад.
— Никита Романыч! — вскричала Елена, — молю
тебя Христом и пречистою его матерью, выслушай меня!
Убей меня после, но сперва выслушай!
Она не в силах была продолжать; голос ее замер;
колени опустились на дерновую скамью; она протянула
умоляющие руки к Серебряному.
Судорога пробегала по всем членам князя, но жа-
лость зашевелилась в его сердце. Он остановился.
Елена, задыхаясь от слез, стала рассказывать, как
преследовал ее Вяземский, как наконец царь взялся ее
сосватать за своего любимца и как она в отчаянии
отдалась старому Морозову. Прерывая рассказ свой
рыданиями, она винилась в невольной измене; говорила,
что должна бы скорее наложить на себя руки, чем выйти
за другого, и проклинала свое малодушие.
— Ты не можешь меня любить, князь, — говорила
она, — не написано тебе любить меня! Но обещай мне,
что не проклянешь меня; скажи, что прощаешь меня в
великой вине моей!
Князь слушал, нахмуря брови, но не отвечал ничего.
442
— Никита Романыч, — прошептала Елена боязли-
во, — ради Христа, вымолви хоть словечко!
И она устремила на него глаза, полные страха и
ожидания, и вся душа ее обратилась в красноречивый
умоляющий взор.
Сильная борьба происходила в Серебряном.
— Боярыня, — сказал он наконец, и голос его
дрожал, — видно, на то была воля божия... и ты не так
виновата... да, ты не виновата... не за что прощать тебя,
Елена Дмитриевна, я не кляну тебя, — нет — видит бог,
не кляну — видит бог, я... я по-прежнему люблю тебя!
Слова эти вырвались у князя сами собою. .
Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась к частоколу.
В тот же миг князь поднялся на стременах и схва-
тился за колья ограды. Елена с другой стороны уже
стояла на скамье. Без размышления, без самосознания
они бросились друг к другу, и уста их соединились...
Поцеловала Елена Дмитриевна молодого боярина!
Обманула жена лукавая мужа старого! Забыла клятву,
что дала перед господом! Как покажется она теперь
Дружине Андреичу! Догадается он обо всем по глазам
ее. И не таков он муж, чтоб простил ее! Не дорога
жизнь боярину, дорога ему честь его! Убъет он, ста-
рый, убъет и жену и Никиту Романыча.
Гл ава 6
ПРИЕМ
Морозов знал князя еще ребенком, но они давно
потеряли друг друга из виду. Когда Серебряный отпра-
вился в Литву, Морозов воеводствовал где-то далеко;
они не видались более десяти лет, но Дружина Андре-
евич мало переменился, был бодр по-прежнему, и князь
с первого взгляда везде бы узнал его, ибо старый боярин
принадлежал к числу тех людей, которых личность
глубоко врезывается в памяти. Один рост и дородность
его уже привлекали внимание. Он был целою головою
выше Серебряного. Темно-русые волосы с сильною
проседью падали в беспорядке на умный лоб его, рас-
443
сеченный несколькими шрамами. Окладистая борода,
почти совсем седая, покрывала половину груди. Из-под
темных навислых бровей сверкал проницательный
взгляд, а вокруг уст играла приветливая улыбка, сквозь
которую просвечивало то, что в в просторечии называ-
ется: себе на уме. В его приемах, в осанистой поступи
было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важ-
ность, достоинство, неторопливость и уверенность в
самом себе. Глядя на него, всякий сказал бы: хорошо
быть в ладу с этим человеком! И вместе с тем всякий
подумал бы: нехорошо с ним поссориться! Действитель-
но, всматриваясь в черты Морозова, легко было дога-
даться, что спокойное лицо его может в минуту гнева
сделаться страшным. Но приветливая улыбка и откры-
тое, неподдельное радушие скоро изглаживали это впе-
чатление.
— Здравствуй, князь, здравствуй, гость дорогой!
Добро пожаловать! — сказал Морозов, вводя Серебря-
ного в большую брусяную избу с изразцовою лежан-
кою, с длинными дубовыми лавками, с драгоценным
оружием на стенах и со множеством золотой и сереб-
ряной посуды, красиво установленной на широких пол-
ках. — Здравствуй, здравствуй, князь! Вот какого гостя
мне бог подарил! А ведь помню я тебя, Никитушка, еще
маленького! Ох, удал же ты был, нечего сказать! Как,
бывало, начнут ребята в городки играть, беда той сторо-
не, что супротив тебя! Разлетишься, словно сокол яс-
ный, да как расходится в тебе кровь молодая, так,
бывало, разозлишься, словно медвежонок, прости, Ни-
кита Романыч, грубое слово! Так и начнешь валять, кого
направо, кого налево, смотреть даже весело! Ну да и
вышел же молодец из тебя, князь! Слыхал я про твои
дела в Литовской земле! Катал же ты их, супостатов,
как прежде ребят катал!
И Морозов весело улыбался, и львиное лицо его
сияло радушием.
— А помнишь ли, Никитушка, — продолжал он,
обняв князя одною рукой с плеча, — помнишь ли, как
ты ни в какой игре обмана не терпел? Бороться ли с кем
444
начнешь али на кулачках биться, скорей дашь себя на
землю свалить, чем подножку подставишь или что про-
тив уговора сделаешь. Все, бывало, снесешь, а уж
лукавства ни себе, ни другим не позволишь!
Князю сделалось неловко в присутствии Морозова.
— Боярин, — сказал он, — вот грамота к тебе от
князя Пронского.
— Спасибо, князь. После прочту; время терпит; дай
угостить тебя! Да где же Елена Дмитриевна? Эй, кто
там! Скажите жене, что у нас гость дорогой, князь
Никита Романыч Серебряный, чтобы сошла попотчевать.
Тихо и плавно вошла Елена с подносом в руках. На
подносе были кубки с разными винами. Елена низко
поклонилась Серебряному, как будто в первый раз его
видела! Она была как смерть бледна.
— Князь, — сказал Морозов, — это моя хозяйка,
Елена Дмитриевна! Люби и жалуй ее. Ведь ты, Никита
Романыч, нам, почитай, родной. Твой отец и я, мы были
словно братья, так и жена моя тебе не чужая... Кланяйся,
Елена, проси боярина!.. Кушай, князь, не брезгай нашей
хлебом-солью! Чем богаты, тем и рады! Вот романея,
вот венгерское, вот мед малиновый, сама хозяйка на
ягодах сытила!
Морозов низко кланялся.
Князь отвечал обоим поклонами и осушил кубок.
Елена не взглянула на Серебряного. Длинные ресни-
цы ее были опущены. Она дрожала, и кубки на подносе
звенели один о другой.
— Что с тобой, Елена? — сказал вдруг Морозов, —
уж не больна ли ты? Лицо твое словно снег побелело!
Оленушка, — прибавил он шепотом, — уж не опять ли
проезжал Вяземский? Так! должно быть, этот окаянный
проезжал мимо саду! Не кручинься, Елена! В том нет
твоей вины. Без меня не ходи лучше в сад; да утешься,
мое дитятко, я не дам тебя никому в обиду! Улыбнись
скорей, будь веселее, а то гость заметит! Извини,
Никита Романыч, извини, захлопотался, говорил вот
жене, чтобы велела тебе кушать подать поскорее. Ведь
ты не обедал, князь?
445
— Благодарю, боярин, обедал.
— Нужды нет, Никита Романыч, еще раз пообеда-
ешь! Ступай, Елена, ступай похлопочи! А ты, боярин,
закуси чем бог послал, не обидь старика опального! И
без того мне горя довольно!
Морозов указал на свои длинные волосы.
— Вижу, боярин, вижу и очам веры нейму! Ты под
опалою! За что? Прости вопрос нескромный.
Морозов вздохнул.
— За то, что держусь старого обычая, берегу честь
боярскую да не кланяюсь новым людям!
При этих словах лицо его омрачилось и глаза приняли
суровое выражение.
Он рассказал о ссоре своей с Годуновым, горько
жалуясь на несправедливость царя.
— Многое, князь, многое стало на Москве не так,
как было, с тех пор как учинил государь на Руси
опричнину!
— Да что это за опричнина, боярин? Встречал я
опричников, только в толк не возьму!
— Прогневили мы, видно, бога, Никита Романыч;
помрачил он светлые царские очи! Как возложили кле-
ветники измену на Сильвестра да на Адашева, как
прогнал их от себя царь, прошли наши красные дни!
Зачал вдруг Иван Васильич на нас мнение держать, на
нас, верных слуг своих! Зачал толковать про измены,
про заговоры, чего и в мысль человеку не вместится! А
новые-то люди обрадовались, да и давай ему шептать на
бояр, кто по-насердке, кто чая себе милости, и ко всем
стал он приклонять дух свой. У кого была какая вражда,
тот и давай доводить на недруга, будто он слова про царя
говорил, будто хана или короля подымает. И в том они,
окаянные, не боятся страшного суда божия, и крест на
криве целовали и руки в письмах лживили. Много
безвинных людей вожено в темницы, Никита Романыч,
и с очных ставок пытано. Кто только хотел, тот и
сказывал за собою государево слово. Прежде бывало,
коли кто донес на тебя, тот и очищай сам свою улику;
а теперь, какая у него ни будь рознь в словах, берут
446
— Боярин! — вскричал Серебряный. — Если бы мне кто
другой сказал это, я назвал бы его клеветником! Я сам
бы наложил руки на него!
тебя и пытают по одной язычной молвке! Трудное
настало время, Никита Романыч. Такой ужас от царя,
какого искони еще не видано! После пыток пошли
казни. И кого казнили! Но ты, князь, уже, может,
слыхал про это?
— Слыхал, боярин, но глухо. Не скоро вести доходят
до Литвы. Впрочем, чему дивиться. Царь волен казнить
своих злодеев!
— Кто против этого, князь. На то он царь, чтобы
карать и миловать. Только то больно, что не злодеев
казнили, а все верных слуг государевых: окольничего
Адашева (Алексеева брата) с малолетним сыном; трех
Сатиных; Ивана Шишкина с женою да с детьми; да еще
многих других безвинных.
Негодование выразилось на лице Серебряного.
— Боярин, в этом, знать, не царь виновен, а наушники
его!
— Ох, князь! Горько вымолвить, страшно подумать!
Не по одним наветам наушническим стал царь проливать
кровь неповинную. Вот хоть бы Басманов, новый крав-
чий царский, бил челом государю на князя Оболенско-
го-Овчину в каком-то непригожем слове. Что ж сделал
царь? За обедом своею рукою вонзил князю нож в
сердце.
— Боярин! — вскричал Серебряный, вскакивая с
места, — если бы мне кто другой сказал это, я назвал
бы его клеветником! Я сам бы наложил руки на него!
— Никита Романыч, стар я клеветать. И на кого же?
На государя моего!
— Прости, боярин. Но что же думать о такой пере-
мене? Уж не обошли ли царя?
— Должно быть, князь. Но садись, слушай далее. В
другой раз Иван Васильевич, упившись, начал (и поду-
мать срамно!) с своими любимцами в личинах плясать.
Тут был боярин князь Михайло Репнин. Он заплакал с
горести. Царь давай и на него личину надевать. «Нет! —
сказал Репнин, — не бывать тому, чтоб я посрамил сан
свой боярский!» — и растоптал личину ногами. Дней
пять спустя убит он по царскому указу во храме бо-
жием.
448
— Боярин! Это бог нас карает!
— Да будет же над нами его святая воля, князь. Но
слушай далее. Казням не было конца. Что день, то кровь
текла и на Лобном месте, и в тюрьмах, и в монастырях.
Что день, то хватали боярских холопей и возили в
застенок. Многие винились с огня и говорили со страху
на бояр своих. Те же, которые, не хотя отдать души во
дно адово, очищали бояр, тех самих предавали смерти.
Многие потерпели в правде, многие прияли венец муче-
нический. Никита Романыч! Временем царь как будто
приходил в себя, и каялся, и молился, и плакал, и сам
назывался смертным убойцею и сыроядцем. Рассылал
вклады в разные монастыри и приказывал панихиды по
убитым. Каялся Иван Васильевич, но не долго, и что же
придумал? Слушай, князь. Просыпаюсь я раз утром,
вижу великое смятенье. Рассыпался народ по улицам,
кто бежит к Кремлю, кто от Кремля. Все голосят:
«Уезжает государь, неведомо куда!» Так меня холодом
и обдало! Надеваю платье, сажусь на конь; со всех мест
бояре спешат ко Кремлю, кто верхом, кто сам о себе,
словно простой человек, даже никто о чести своей не
думает! Добрались до Иверских ворот, видим — ратники
выезжают; народ перед ними так и раздается. За ратни-
ками сани, в них царь с царицею и с царевичем. За
царскими санями многое множество саней, а в них все
пожитки, вся казна, весь обиход царский; за санями
окольничьи, и дворяне, и приказные, и воинские, и
всяких чинов люди — все выезжают из Кремля. Броси-
лись было к царским саням, да не допустили нас ратни-
ки, говорят: не велел государь! И потянулся поезд вдоль
по Москве, и выехал за посады.
Воротились мы в домы и долго ждали, не передумает
ки. царь, не вернется ли? Проходит неделя, получает
высокопреосвященный грамоту: пишет государь, что
я-де от великой жалости сердца, не хотя ваших измен-
ных дел терпеть, оставляю мои государства и еду-де,
куда бог укажет путь мне! Как пронеслася эта весть,
зачался вопль на Москве: бросил нас батюшка царь! Кто
теперь будет над нами государить!
449
15-769
Нечего правды таить, грозен был Иван Васильевич,
да ведь сам бог поставил его над нами, и, видно, по
божьей воле, для очищения грехов наших, карал он нас.
Собралися мы в думе и порешили ехать все с своими
головами за государем, бить ему челом и плакаться.
Узнали мы, что остановился царь в Александровой
слободе, а будет та Слобода отсюда за восемьдесят с
лишком верст. Помолившися богу, поехали. Как завиде-
ли издали Слободу, остановились; еще раз помолились:
страшно стало; не то страшно, что прикажет царь смерти
предать, а то, что не допустит пред свои очи. Только
ничего не случилось. Допустил нас царь. Как вошли мы,
так, веришь ли, боярин, не узнали Ивана Васильича! И
лицо-то будто не его; и волосы и борода почитай совсем
вылезли. Что с ним сталось, и царь, и не царь! Долго
говорил он с нами; корил нас в небывалых изменах,
высчитывал нам наши вины, которых мы не ведали за
собою, и наконец сказал, что я-де только по упросу
богомольцев моих, епископов, беру паки мои государ-
ства, но и то на уговоре. Пожаловал нас к руке и
отпустил.
— А какой же уговор он прочил себе? —г спросил
Серебряный.
— А вот увидишь, князь; слушай: прошло недели три,
прибыл Иван Васильич на Москву. Настала радость
великая, такая радость, что и в светлое Христово воск-
ресенье не бывает такой. Вот созвал он в думу и нас и
духовенство. А когда собралися мы, объявил нам, что
я-де с тем только принимаю государство, чтобы казнить
моих злодеев, класть мою опалу на изменников, имать
их остатки и животы, и чтобы ни от митрополита, ни от
властей не было мне бездельной докуки о милости.
Беру-де себе, говорит, опасную стражу и беру на свой
особный обиход разные города и пригородки и на самой
Москве разные улицы. И те города и улицы и свою
особную стражу называю, говорит, опричниной, а все
достальное — то земщина. А боярам-де и митрополиту
со властьми в мой домовой особный обиход не вступать-
ся. И на том, говорит, беру мои государства! С этого дня
450
начал он новых людей набирать, да все таких, чтобы не
были знатного роду, да чтобы целовали крест не вести
хлеба-соли с боярами. Отдал им всю землю, все домы
и все добро, что отрезал на свой обиход; а старых
вотчинников, тысяч примерно с двенадцать, выгнал из
опричнины словно животину. Право, Никита Романыч,
ведь своими глазами видел, а доселе не верится! Ездят
теперь по святой Руси их дьявольские, кровоядные
полки с метлами да с песьими головами; топчут правду,
выметают не измену, но честь русскую; грызут не врагов
государевых, а верных слуг его, и нет на них нигде ни
суда, ни расправы!
— Да зачем же вы согласились на этот уговор? —
заметил Серебряный.
— Что ты, князь? Разве царю можно указывать?
Разве он не от бога?
— Вестимо, от бога. Да ведь он сам же спрашивал
вас? Зачем вы не сказали ему, что не хотите опричнины?
— А кабы он опять уехал? Что бы тогда? Без государя
было оставаться, что ли? А народ что бы сказал?
Серебряный задумался.
— Так, — проговорил он, немного помолчав, —
нельзя было быть без государя. Только теперь-то вы
чего ждете? Зачем не скажете ему, что от опричнины
вся земля гибнет? Зачем смотрите на все да молчите?
— Я-то, князь, не молчу, — отвечал Морозов с
достоинством. — Я никогда не таил моей мысли; отто-
го-то я теперь и под опалой. Позови меня царь к себе,
я не стану молчать, только он не позовет меня. Наших
теперь уже нет у него в приближении. Посмотри-ка, кем
окружил он себя? Какие древние роды около него? Нет
древних родов! Все подлые страдники, которых отцы
нашим отцам в холопство б не пригожались! Бери хоть
любого на выдержку: Басмановы, отец и сын, уж не
знаю, который будет гнуснее; Малюта Скуратов, не-
весть мясник, невесть зверь какой, вечно кровью об-
рызган; Васька Грязной, — ему всякое студное дело
нипочем! Борис Годунов — этот и отца и мать продаст,
да еще и детей даст впридачу, лишь бы повыше взоб-
451
15*
раться, всадит тебе нож в горло, да еще поклонится.
Один только и есть там высокого роду, князь Афанасий
Вяземский. Опозорил он и себя и нас всех, окаянный!
Ну да что про него!
Морозов махнул рукой. Другие мысли заняли стари-
ка. Задумался и Серебряный. Задумался он о страшной
перемене в царе и забыл на время об отношениях, в
которые судьба поставила его к Морозову.
Между тем слуги накрыли на стол.
Несмотря ни на какие отговорки, Дружина Андрее-
вич принудил своего гостя отведать многочисленных
блюд: студеней разного роду, жарких, похлебок, куле-
бяк и буженины. А когда поставили перед ними разные
напитки, Морозов налил себе и князю по стопе мальва-
зии, встал из-за стола, откинул назад свои опальные
волосы и сказал, подняв высоко стопу:
— Во здравие великого государя нашего, царя Ивана
Васильевича!
— Просвети его бог! Открой ему очи! — отвечал
Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились.
Елена не показывалась во время стола и не присут-
ствовала при разговоре бояр.
Многое еще рассказывал Морозов про дела государ-
ственные, про нападения крымцев на рязанские земли,
расспрашивал Серебряного о литовской войне и горько
осуждал Курбского за бегство его к королю. Князь
отвечал подробно на вопросы и наконец рассказал про
схватку свою с опричниками в деревне Медведевке, про
ссору с ними в Москве и про встречу с юродивым, не
решившись, впрочем, упомянуть о темных словах по-
следнего.
Морозов выслушал его с большим вниманием.
— Плохо, князь, — сказал он, почесывая крутой лоб
свой, — больно плохо. Что они грабеж в той деревне
чинили, тому нечего дивиться: деревня-то, вишь, моя, а
которая вотчина опального боярина, ту теперь всякому
вольно грабить. Дело знамое, что можно взять, берут,
чего же не поднимут, то огнем палят; рогатый живот
насмерть колют. Это теперь их обычай. А юродивого-то
452
я знаю. Он подлинно божий человек. Не тебя одного он
при первой встрече по имени назвал; он всякого словно
насквозь видит. Его и царь боится. Сколько раз он Ивана
Васильевича в глаза уличал. Побольше бы таких святых
людей, так, пожалуй, и опричнины-то не было бы!
Скажи, князь, — продолжал Морозов, — когда хотел
ты здравствовать государю?
— Завтра, чем свет, как выйдет его милость из
опочивальни.
— Что ты, князь? Теперь уж смерклось, а тебе с
лишком сто верст ехать!
— Как? Разве царь не в Кремле?
— Нет, князь, не в Кремле. Прогневили мы господа,
бросил нас государь, воротился в Александрову слобо-
ду, живет там с своими поплечниками, не было б им ни
дна, ни покрышки.
— Коли так, то прости, боярин, надо спешить. Я еще
и дома не был. Осмотрюсь немного, а завтра чем свет
отправлюсь в Слободу.
— Не езди, князь!
— Отчего, боярин?
— Не снести тебе головы, Никита Романыч.
— На то божья воля, боярин; что будет, то будет!
— Послушай, Никита Романыч. Ведь ты меня забыл,
а я помню тебя еще маленького. Отец твой покойный
жил со мной рука в руку, душу в душу. Умер он,
царствие ему небесное; некому остеречь тебя, некому
тебе совета подать, а не завидна твоя доля, видит бог,
не завидна! Коли попадешь в Слободу, пропал ты, князь,
с головою пропал.
— Что ж, боярин, видно мне так на роду написано!
— Никитушка, останься, я тебя схороню. Никто тебя
не сыщет, холопи мои тебя не выдадут, ты будешь у
меня в доме как сын родной!
— Боярин, вспомни, что ты сам говорил про Курб-
ского. Нечестно русскому боярину прятаться от царя
своего.
— Никита Романыч, Курбский — изменник. Он ушел
ко врагу государеву; а я кто же? Разве я враг государев?
453
— Прости, боярин, прости необдуманное слово, но
чему быть, того не миновать!
— Кабы ты, Никитушка, остался у меня, может, и
простыл бы гнев царский, может, мы с высокопреосвя-
щенным и уладили б твое дело, а теперь ты попадешь,
как смола на уголья!
— Жизнь наша в руке божией, боярин. Не пригоже
стараться продлить ее хитростью боле, чем богу угодно.
Спасибо за хлеб-соль, — прибавил Серебряный, вста-
вая, — спасибо за дружбу (при этих словах он невольно
смутился), но я поеду. Прости, Дружина Андреич!
Морозов посмотрел на князя с грустным участием,
но видно было, что внутри души своей он его одобряет
и что сам не поступил бы иначе, если бы был на его
месте.
— Да будет же над тобой благословение божие,
Никита Романыч! — сказал он, подымаясь со скамьи и
обнимая князя. — Да умягчит господь сердце царское.
Да вернешься ты невредим из Слободы, как отрок из
пещи пламенной, и да обниму тебя тогда, как теперь
обнимаю, от всего сердца, от всей души!
Пословица говорится: пешего до ворот, конного до
коня провожают. Князь и боярин расстались на пороге
сеней. Было уже темно. Проезжая вдоль частокола,
Серебряный увидел в саду белое платье. Сердце его
забилось. Он остановил коня. К частоколу подошла
Елена.
— Князь, — сказала она шепотом, — я слышала твой
разговор с Дружиной Андреичем, ты едешь в Слободу...
Боже сохрани тебя, князь, ты едешь на смерть!
— Елена Дмитриевна! Видно, так угодно господу,
чтобы принял я смерть от царя. Не на радость вернулся
я на родину, не судил мне господь счастья, не мне ты
досталась, Елена Дмитриевна. Пусть же надо мой воля
божия!
— Князь, они тебя замучат! Мне страшно подумать!
Боже мой, ужели жизнь тебе вовсе постыла!
— Пропадай она! — сказал Серебряный и махнул
рукой.
454
— Пресвятая богородица! Коли ты себя не жалеешь,
пожалей хоть других! Пожалей хоть меня, Никита
Романыч! Вспомни, как ты любил меня!
Месяц вышел из-за облак. Лицо Елены, ее жемчуж-
ный кокошник, ожерелье и алмазные серьги, ее глаза,
полные слез, озарились чудесным блеском. Еще плакала
Елена, но уже готова была сквозь слезы улыбнуться.
Одно слово князя обратило бы ее печаль в беспредель-
ную радость. Она забыла о муже, забыла всю осторож-
ность. Серебряный прочел в ее глазах такую любовь,
такую тоску, что невольно поколебался. Счастье было
для него навеки потеряно. Елена принадлежала другому,
но она любили одного Серебряного. Для чего бы ему не
остаться, не отложить поездки в Слободу? Не сам ли
Морозов его упрашивал?
Так мыслил князь, и очаровательные картины рисо-
вались в его воображении, но чувство чести, на миг
уснувшее, внезапно пробудилось.
«Нет, — подумал он, — да будет мне стыдно, если я
хотя мыслию оскорблю друга отца моего! Один бесче-
стный платит за хлеб-соль обманом, один трус бежит от
смерти!»
— Мне нельзя не ехать! — сказал он решительно. —
Не могу хорониться один от царя моего, когда лучшие
люди гибнут. Прости, Елена!
Слова эти как нож вонзились в сердце боярыни. Она
в отчаянии ударилась оземь.
— Расступись же подо мной, мать сыра земля! —
простонала она, — не жилица я на белом свете! Наложу
на себя руки — изведу себя отравой! Не переживу тебя,
Никита Романыч! Я люблю тебя боле жизни, боле свету
божьего, я никого, кроме тебя, не люблю и любить не
буду!
Сердце Серебряного надрывалось. Он хотел утешить
Елену, но она рыдала все громче. Люди могли ее услы-
шать, подсмотреть князя и донести боярину. Серебря-
ный это понял и, чтобы спасти Елену, решился от нее
оторваться.
— Елена, прости! — сказал он, — прости, душа,
455
радость дней моих! Уйми свои слезы, бог милостив,
авось мы еще увидимся.
Облака задернули месяц, ветер потряс вершины лип,
и благовонным дождем посыпались цветы на князя и на
Елену. Закачалися старые ветви, будто желая сказать:
на кого нам цвести, на кого зеленеть! Пропадет даром
добрый молодец, пропадет и его полюбовница!
Оглянувшись в последний раз на Елену, Серебря-
ный увидел за нею, в глубине сада, темный человече-
ский образ. Почудилось ли то князю, или слуга какой
проходил по саду, или уж не был ли то сам боярин
Дружина Андреевич?
Глава 7
АЛЕКСАНДРОВА СЛОБОДА
Дорога от Москвы до Троицкой лавры, а от Лавры
до Александровой слободы представляла самую живую
картину. Беспрестанно скакали по ней царские гонцы;
толпы людей всех сословий шли пешком на богомолье;
отряды опричников спешили взад и вперед; сокольники
отправились из слободы в разные деревни за живыми
голубями; купцы тащились с товарами, сидя на возах или
провожая верхом длинные обозы. Проходили толпы
скороходов, с гудками, волынками и балалайками. Они
были одеты пестро, вели с собою ручных медведей,
пели песни или просили у богатых проезжих.
— Пожалейте, государи, нас, — говорили они на все
голоса, — вам господь дал и вотчины, и всякое достоя-
ние, а нам указал питаться вашею подачей, так не
оставьте нас, скудных людей, государи!
— Отцы наши, батюшки! — пели иные протяжно,
сидя у самой дороги, — дай вам господи доброе здо-
ровье! Донеси вас бог до Сергия Троицы!
Другие прибавляли к этим словам разные прибаутки,
так что иной проезжий в награду за веселое слово
бросал им целый корабленник.
Нередко у скоморохов случались драки с толпами
456
оборванных нищих, которые из городов и монастырей
спешили в Слободу поживиться царской милостыней.
Проходили также слепые гусляры и сказочники, с
гуслями на плечах и держась один за другого.
Все это шумело, пело, ругалось. Лошади, люди, мед-
веди — ржали, кричали, ревели. Дорога шла густым
лесом. Несмотря на ее многолюдность, случалось, иног-
да, что вооруженные разбойники нападали на купцов и
обирали их дочиста.
Разбои в окрестностях Москвы особенно умножи-
лись с тех пор, как опричники вытеснили целые села
хлебопашцев, целые посады мещан. Лишась жилищ и
хлеба, люди эти пристали к шайкам станичников, укре-
пились в засеках и, по множеству своему, сделались не
на шутку опасны. Опричники, поймав разбойников,
вешали их без милосердия; зато и разбойники не оста-
вались у них в долгу, когда случалось поймать опрични-
ка. Впрочем, не одни разбойники грабили на дорогах.
Скоморохи и нищие, застав под вечер плохо оберегае-
мый обоз, часто избавляли разбойников от хлопот.
Купцам было всего хуже. Их грабили и разбойники, и
скоморохи, и нищие, и пьяные опричники. Но они
утешались пословицей, что наклад с барышом угол об
угол живут, и не переставали ездить в Слободу, говоря:
«Бог милостив, авось доедем». И неизвестно, как оно
случалось, но только на поверку всегда выходило, что
купцы оставались в барышах.
В Троицкой лавре Серебряный исповедался и прича-
стился. То же сделали его холопи. Архимандрит, про-
щаясь с Никитой Романовичем, благословил его как
идущего на верную смерть.
Верстах в трех от Слободы стояла на заставе воин-
ская стража и останавливала проезжих, спрашивая каж-
дого: кто он и зачем едет в неволю! Этим прозванием
народ, в насмешку, заменил слово «слобода», значившее
в прежнее время свободу. Серебряный и холопи его
также выдержали подробный допрос о цели их приезда.
Потом начальный человек отобрал от них оружие, и
четыре опричника сели на конь проводить приезжих.
457
Вскоре показались вдали крашеные главы и причудли-
вые, золоченые крыши царского дворца. Вот что говорит
об этом дворце наш историк, по свидетельству чуже-
земных современников Иоанна:
«В сем грозно увеселительном жилище Иоанн посвя-
щал большую часть времени церковной службе, чтобы
непрестанною деятельностью успокоить душу. Он хотел
даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих
в иноков: выбрал из опричников 300 человек, самых
злейших, назвал их братиею, себя игуменом, князя
Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова па-
раклисиархом; дал им тафьи, или скуфейки, и черные
рясы, под коими носили они богатые, золотом блестя-
щие кафтаны, с собольею опушкою; сочинил для них
устав монашеский и служил примером в исполнении
оного. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоан-
нову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с
царевичами и Малютою Скуратовым благовестить к
заутрене, братья спешили в церковь; кто не являлся,
того наказывали осьмидневным заключением. Служба
продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал,
молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались
у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов
опять собирались к обедне, а в десять садились за
братскую трапезу, все, кроме Иоанна, который, стоя,
читал вслух душеспасительные наставления. Между тем
братья ели и пили досыта; всякий день казался праздни-
ком: не жалели ни вина, ни меду; остаток трапезы
выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен, то
есть царь, обедал после, беседовал с любимцами о
законе, дремал или ехал в темницу пытать какого-нибудь
несчастного. Казалось, что сие ужасное зрелище забав-
ляло его: он возвращался с видом сердечного удоволь-
ствия; шутил, говаривал тогда веселее обыкновенного.
В восемь часов шли к вечерне; в десятом Иоанн уходил
в спальню, где трое слепых рассказывали ему сказки;
он слушал их и засыпал, но ненадолго: в полночь вставал,
и день его начинался молитвою. Иногда докладывали
ему в церкви о делах государственных; иногда самые
458
жестокие повеления давал Иоанн во время заутрени или
обедни. Единообразие сей жизни он прерывал так на-
зываемыми объездами, посещал монастыри, и ближние
и дальние, осматривал крепости на границе, ловил диких
зверей в лесах и пустынях; любил в особенности мед-
вежью травлю; между тем везде и всегда занимался
делами: ибо земские бояре, мнимо уполномоченные
правители государства, не смели ничего решить без его
воли!»
Въехав в Слободу, Серебряный увидел, что дворец,
или монастырь государев, отделен от прочих зданий
глубоким рвом и валом. Трудно описать великолепие и
разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило
на другое, ни один столб не равнялся с другим узорами
или краской. Множество глав венчали здание. Они
теснились одна возле другой, громоздились одна на
другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро,
цветные изразцы, как блестящая чешуя, покрывали дво-
рец сверху донизу. Когда солнце его освещало, нельзя
было издали догадаться, дворец ли это, или куст цветов
исполинских, или то жар-птицы слетелись в густую стаю
и распустили на солнце огненные перья.
Недалеко от дворца стоял печатный двор, с принад-
лежащею к нему словолитней, с жилищем наборщиков
и с особым помещением для иностранных мастеров,
выписанных Иоанном из Англии и Германии. Далее
тянулись бесконечные дворцовые службы, в которых
жили ключники, подключники, сытники, повара, хлеб-
ники, конюхи, псари, сокольники и всякие дворовые
люди на всякий обиход.
Не малым богатством сияли слободские церкви.
Славный храм богоматери покрыт был снаружи яркою
живописью; на каждом кирпиче блестел крест, и цер-
ковь казалась одетою в золотую сетку.
Очаровательный вид этот разогнал на время черные
мысли, которые не оставляли Серебряного во всю до-
рогу. Но вскоре неприятное зрелище напомнило князю
его положение. Они проехали мимо нескольких висе-
лиц, стоявших одна подле другой. Тут же были срубы с
459
плахами и готовыми топорами. Срубы и виселицы, ок-
рашеные черною краской, были выстроены крепко и
прочно, не на день, не на год, а на многие лета!
Как ни бесстрашен бывает человек, он никогда не
равнодушен к мысли, что его ожидает близкая смерть,
не славная смерть среди стука мечей или грома орудий,
но темная и постыдная, от рук презренного палача.
Видно, Серебряный, проезжая мимо места казней, не
умел подавить внутреннего волнения, и оно невольно
отразилось на впечатлительном лице его; вожатые по-
смотрели на князя и усмехнулись.
— Это наши качели, боярин, — промолвил один из
них, указывая на виселицы. — Видно, они приглянулись
тебе, что ты с них глаз не сводишь!
Михеич, ехавший позади, не сказал ничего, но только
посвистел и покачал головою.
Подъехав к валу, князь и товарищ его спешились и
привязали лошадей к столбам, в которые нарочно для
того были ввинчены кольца. Приезжие вошли на огром-
ный двор, наполненный нищими. Они громко молились,
распевали псалмы и обнажали отвратительные язвы.
Царский дворецкий, стоя на ступенях крыльца, раздавал
им от имени Иоанна яства и денежные дачи. Время от
времени по двору прохаживались опричники; другие
сидели на скамьях и играли в шахматы или в зернь. Так
называли тогда игру в кости. Иные, собравшись в кру-
жок, бросали свайку и громко смеялись, когда проиг-
равший несколько раз сряду вытаскивал из земли глу-
боко всаженную редьку. Одежда опричников представ-
ляла разительную противоположность с лохмотьями
нищих: царские телохранители блистали золотом. На
каждом из них была бархатная или парчовая тафья,
усаженная жемчугом и дорогими каменьями, и все они
казались живыми украшениями волшебного дворца с
которым составляли как бы одно целое.
Один из опричников особенно привлек внимание
Серебряного. То был молодой человек лет двадцати,
необыкновенной красоты, но с неприятным, наглым
выражением лица. Одет он был богаче других, носил, в
460
противность обычаю, длинные волосы, бороды не имел
вовсе, а в приемах выказывал какую-то женоподобную
небрежность. Обращение с ним товарищей также было
довольно странно. Они с ним говорили как с равным и
не оказывали ему особенной почтительности; но когда
он подходил к какому-либо кружку, то кружок раздви-
гался, а сидевшие на лавках вставали и уступали ему
место. Казалось, его берегли или, быть может, опаса-
лись. Увидя Серебряного и Михеича, он окинул их
надменным взглядом, подозвал провожатых и, казалось,
осведомился об имени приезжих. Потом он прищурился
на Серебряного, усмехнулся и шепнул что-то товари-
щам. Те также усмехнулись и разошлись в разные
стороны. Сам он взошел на крыльцо и, облокотясь на
перилы, продолжал насмешливо глядеть на Никиту Ро-
мановича. Вдруг между нищими сделалось волнение.
Густая толпа отхлынула прямо на князя и чуть не сбила
его с ног. Нищие с криком бежали от дворца; ужас
изображался на их лицах. Князь удивился, но вскоре
пенял причину общего испуга. Огромный медведь ско-
ком преследовал нищих. В одно мгновение двор опу-
стел, и князь остался один, глаз на глаз с медведем.
Мысль о бегстве не пришла ему в голову. Серебряный
не раз ходил на медведя один на один. Эта охота была
его забавой. Он остановился, и в то мгновение, как
медведь, прижав уши к затылку, подвалился к нему,
загребая его лапами, князь сделал движение, чтобы
выхватить саблю. Но сабли не было! Он забыл, что отдал
ее опричникам перед въездом в неволю. Молодой чело-
век, глядевший с крыльца, захохотал.
— Так, так, — сказал он, — ищи своей сабли!
Один удар медвежьей лапы свалил князя на землю,
другой своротил бы ему череп, но, к удивлению своему,
князь не принял второго удара и почувствовал, что его
обдала струя теплой крови.
— Вставай, боярин! — сказал кто-то, подавая ему
Руку.
Князь встал и увидел не замеченного им прежде
опричника, лет семнадцати, с окровавленною саблей в
461
руке. Медведь с разрубленною головой лежал на спине
и, махая лапами, издыхал у ног его.
Опричник, казалось, не гордился своею победой.
Кроткое лицо его являло отпечаток глубокой грусти.
Уверившись, что медведь не сломал князя, и не дожи-
даясь спасиба, он хотел отойти.
— Добрый молодец! — сказал ему Серебряный,—
назовись по имени-прозвищу, чтобы знал я, за кого богу
помолиться!
— Что тебе до моего прозвища, боярин! — отвечал
опричник. — Не люблю я его, бог с ним!
Такой странный ответ удивил Серебряного, но изба-
витель его уже удалился.
— Ну, батюшка, Никита Романыч, — сказал Михеич,
обтирая полою кафтана медвежью кровь с князя, —
набрался ж я страху! Уж я, батюшка, кричал медведю:
гу! гу! чтобы бросил он тебя да на меня бы навалился,
как этот молодец, дай бог ему здоровья, череп ему
раскроил. А ведь все это затеял вон тот голобородый с
масляными глазами, что с крыльца смотрит, тетка его
подкурятина! Да куда мы заехали, — прибавил Михеич
шепотом, — виданное ли это дело, чтобы среди царского
двора медведей с цепи спускали?
Замечание Михеича было основательно, но Слобода
имела свои обычаи, и ничто не происходило в ней
обыкновенным порядком.
Царь любил звериный бой. Несколько медведей
всегда кормились в железных клетках на случай трав-
ли. Но время от времени Иоанн или опричники его
выпускали зверей из клеток, драли им народ и поте-
шались его страхом. Если медведь кого увечил, царь
награждал того деньгами. Если же медведь задирал
кого до смерти, то деньги выдавались его родным, а
он вписывался в синодик для поминовения по мона-
стырям вместе с прочими жертвами царской потехи
или царского гнева.
Вскоре вышли из дворца два стольника и сказали
Серебряному, что царь видел его из окна и хочет знать,
кто он таков? Передав царю имя князя, стольники опять
462
возвратились и сказали, что царь-де спрашивает тебя о
здоровье и велел-де тебе сегодня быть у его царского
стола.
Эта милость не совсем обрадовала Серебряного.
Иоанн, может быть, не знал еще о ссоре его с опрични-
ками в деревне Медведевке. Может быть, также (и это
случалось часто) царь скрывал на время гнев свой под
личиною милости, дабы внезапное наказание, среди
пира и веселья, показалось виновному тем ужаснее. Как
бы то ни было, Серебряный приготовился ко всему и
мысленно прочитал молитву.
Этот день был исключением в Александровой слобо-
де. Царь, готовясь ехать в Суздаль на богомолье, объя-
вил заранее, что будет обедать вместе с братией, и
приказал звать к столу, кроме трехсот опричников,
составлявших его всегдашнее общество, еще четыреста,
так что всех званых было семьсот человек.
Глава 8
ПИР
В огромной двусветной палате, между узорчатыми
расписными столбами, стояли длинные столы в два ряда.
В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе
по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших
любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям
были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчою
и бархатом; государю — высокие резные кресла, убран-
ные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заме-
няли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел
с подъятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В
середине палаты стоял огромный четвероугольный стол
с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые
доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол;
им надлежало поддерживать целую гору серебряной и
золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре
человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и
тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда
463
разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары
сердоликовые, и кружки из строфокамиловых яиц, и
турьи рога, оправленные в золото. А между блюдами и
ковшами стояли золотые кубки странного вида, пред-
ставлявшие медведей, львов, петухов, павлинов, журав-
лей, единорогов и строфокамилов. И все эти тяжелые
блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы
громоздились кверху клинообразным зданием, которого
конец упирался почти в самый потолок.
Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев
и разместилась по скамьям. На столах в это время,
кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было никакой
посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса
на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое
молоко в деревянных чашах.
Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая
государя. Вскоре стольники, попарно, вошли в палату и
стали у царских кресел; за стольниками шествовали
дворецкий и кравчий.
Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые ко-
локола, и медленным шагом вошел сам царь Иван Ва-
сильевич.
Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчо-
вая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена
вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими
каменьями. Драгоценное перстяное ожерелье украша-
лось финифтевыми изображениями спасителя, богома-
тери, апостолов и пророков. Большой узорный крест
висел у него на шее на золотой цепи. Высокие каблуки
красных сафьяновых сапогов были окованы серебряны-
ми скобами. Страшную перемену увидел в Иоанне
Никита Романович. Правильное лицо все еще было
прекрасно; но черты обозначились резче, орлиный нос
стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем и на челе
явились морщины, которых не было прежде. Всего
более поразили князя редкие волосы в бороде и усах.
Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось
далеко за сорок. Выражение лица его совершенно из-
менилось. Так изменяется здание после пожара. Еще
464
стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят
зловещим взором, и в пустых покоях поселилось недоб-
рое.
Со всем тем, когда Иоанн взирал милостиво, взгляд
его еще был привлекателен. Улыбка его очаровывала
даже тех, которые хорошо его знали и гнушались его
злодеяниями. С такою счастливою наружностью Иоанн
соединял необыкновенный дар слова. Случалось, что
люди добродетельные, слушая царя, убеждались в не-
обходимости ужасных его мер и верили, пока он гово-
рил, справедливости его казней.
С появлением Иоанна все встали и низко поклони-
лись ему. Царь медленно прошел между рядами столов
до своего места, остановился и, окинув взором собра-
ние, поклонился на все стороны; потом прочитал вслух
длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу
и опустился в кресла. Все, кроме кравчего и шести
стольников, последовали его примеру.
Множество слуг, в бархатных кафтанах фиялкового
цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, покло-
нились ему в пояс и по два в ряд отправились за
кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две
жареных лебедей на золотых блюдах.
Этим начался обед.
Серебряному пришлось сидеть недалеко от царского
стола, вместе с земскими боярами, то есть такими,
которые не принадлежали к опричнине, но, по высокому
сану своему, удостоились на этот раз обедать с госуда-
рем. Некоторых из них Серебряный знал до отъезда
своего в Литву. Он мог видеть с своего места и самого
царя, и всех бывших за его столом. Грустно сделалось
Никите Романовичу, когда он сравнил Иоанна, оставлен-
ного им пять лет назад, с Иоанном, сидящим ныне в
кругу новых любимцев.
Никита Романович обратился с вопросом к своему
соседу, одному из тех, с которыми он был знаком
прежде.
— Кто этот отрок, что сидит по правую руку царя,
такой бледный и пасмурный?
465
— Это царевич Иоанн Иоаннович, — отвечал боярин
и, оглянувшись по сторонам, прибавил шепотом:
— Помилуй нас господи! Не в деда он пошел, а в
батюшку, и не по младости исполнено его сердце сви-
репства; не будет нам утехи от его царствования!
— А этот молодой, черноглазый, в конце стола, с
таким приветливым лицом? Черты его мне знакомы, но
не припомню, где я его видел?
— Ты видел его, князь, пять лет тому, рындою при
дворе государя; только далеко ушел он с тех пор и
далеко уйдет еще; это Борис Федорович Годунов, лю-
бимый советник царский. Видишь...— продолжал боя-
рин, понижая голос, — видишь возле него этого широ-
коплечего, рыжего, что ни на кого не смотрит, а убирает
себе лебедя, нахмуря брови? Знаешь ли, кто это? Это
Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозва-
нию Малюта. Он и друг, и поплечник, и палач государев.
Здесь же, в монастыре, он сделан, прости господи,
параклисиархом. Кажется, государь без него ни шагу; а
скажи только слово Борис Федорыч, так выйдет не по
Малютину, а по Борисову! А вон там, этот молоденький,
словно красная девица, что царю наряжает вина, это
Федор Алексеич Басманов.
— Этот? — спросил Серебряный, узнавая женопо-
добного юношу, которого наружность поразила его на
царском дворе, а неожиданная шутка чуть не стоила ему
жизни.
— Он самый. Уж как царь-то любит его; кажется,
жить без него не может; а случись дело какое, у кого
совета спросят? Не у него, а у Бориса!
— Да, — сказал Серебряный, взглядываясь в Году-
нова, — теперь припоминаю его. Не ездил ли он у
царского саадака?
— Так, князь. Он точно был у саадака. Кажется,
должность незнатная, как тут показать себя? Только
случилось раз, затеяли на охоте из лука стрелять. А был
тут ханский посол Девлет-Мурза. Тот что ни пустит
стрелу, так и всадит ее в татарскую шляпу, что постави-
ли на шесте, ступней во сто от царской ставки. Дело-то
466
было уж после обеда, и много ковшей уже прошло
кругом стола. Вот встал Иван Васильевич, да и говорит:
«Подайте мне мой лук, и я не хуже татарина попаду!»
А татарин-то обрадовался: «Попади, бачка-царь! — го-
ворит, — моя пошла тысяча лошадей табун, а твоя что
пошла?» — то есть, по-нашему, во что ставишь заклад
свой? «Идет город Рязань!» — сказал царь и повторил:
«Подайте мой лук!» Бросился Борис к коновязи, где
стоял конь с саадаком, вскочил в седло; только видим
мы, бьется под ним конь, вздымается на дыбы, да вдруг
как пустится, закусив удила, так и пропал с Борисом.
Через четверть часа вернулся Борис, и колчан и налучье
изорваны, лук пополам, стрелы все рассыпались, сам
Борис с разбитой головой. Соскочил с коня, да в ноги
царю: «Виноват, государь, не смог коня удержать, не
соблюл твоего саадака!» А у царя, вишь, меж тем
хмель-то уж выходить начал. «Ну, говорит, не быть же
боле тебе, неучу, при моем саадаке, а из чужого лука
стрелять не стану!» С этого дня пошел Борис в гору, да
посмотри, князь, куда уйдет еще! И что это за чело-
век, — продолжал боярин, глядя на Годунова, — никог-
да не суется вперед, а всегда тут; никогда не прямит, не
перечит царю, идет себе окольным путем, ни в какое
кровавое дело не замешан, ни к чьей казни не прича-
стен. Кругом его кровь так и хлещет, а он себе и чист
и бел, как младенец, даже и в опричнину не вписан. Вон
тот, — продолжал он, указывая на человека с недоброю
улыбкой, — то Алексей Басманов, отец Федора, а там,
подале, Василий Грязной, а вон там отец Левкий, Чуко-
вский архимандрит; прости ему господи, не пастырь он
церковный, угодник страстей мирских!
Серебряный слушал с любопытствои и с горестью.
— Скажи, боярин, — спросил он,— кто этот высо-
кий, кудрявый, лет тридцати, с черными глазами? Вот
уж он четвертый кубок осушил, один за другим, да еще
какие кубки! Здоров он пить, нечего сказать, только
вино ему будто не в радость. Смотри, как он нахмурился,
а глаза-то горят словно молонья. Да он что, с ума сошел?
Смотри, как скатерть ножем порет!
467
— Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать; этот
был из наших. Правда, переменился он с тех пор, как,
всему боярству на срам, в опричники пошел! Это князь
Афанасий Иваныч Вяземский. Он будет всех их удалее,
только не вынести ему головы! Как прикачнулась к его
сердцу зазнобушка, сделался он сам не свой. И не видит
ничего, и не слышит, и один с собою разговаривает,
словно помешанный, и при царе держит такие речи, что
индо страшно. Но до сих пор ему все с рук сходило;
жалеет его государь. А говорят, он по любви и в
опричники-то записался.
И боярин нагнулся к Серебряному, желая, вероятно,
рассказать ему подробнее про Вяземского, но в это
время подошел к ним стольник и сказал, ставя перед
Серебряным блюдо жаркого:
— Никита-ста! Великий государь жалует тебя блю-
дом со своего стола!
Князь встал и, следуя обычаю, низко поклонился
царю.
Тогда все, бышие за одним столом с князем, также
встали и поклонились Серебряному, в знак поздравле-
ния с царскою милостью. Серебряный должен был
каждого отблагодарить особым поклоном, между тем
стольник возвратился к царю и сказал ему, кланясь в
пояс:
— Великий государь! Никита-ста принял блюдо, че-
лом бьет!
Когда съели лебедей, слуги вышли, попарно, из
палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павли-
нов, которых распущенные хвосты качались над каж-
дым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали
кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины
всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока
гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами:
вишневым, можжевеловым и черемховым. Другие пода-
вали разные иностранные вина: романею, рейнское и
мушкатель. Особые стольники ходили взад и вперед
между рядами, чтобы смотреть и всказывать в столы.
Напротив Серебряного сидел один старый боярин,
468
на которого царь, как поговаривали, держал гнев. Боя-
рин предвидел себе беду, но не знал какую и ожидал
спокойно своей участи. К удивлению всех, кравчий
Федор Басманов из своих рук поднес ему чашу вина.
— Василий-су! — сказал Басманов, — великий госу-
дарь жалует тебя чашею!
Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а
Басманов, возвратясь к царю, донес ему:
— Василий-су выпил чашу, челом бьет!
Все встали и поклонились старику; ожидали себе и
его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его
сперлось, он дрожал всем телом.
Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело,
и он грянулся оземь.
— Боярин пьян, — сказал Иван Васильевич, —
вынести его вон!
Шепот пробежал по собранию, а земские бояре
переглянулись и потупили очи в свои тарелки, не смея
вымолвить ни слова.
Серебряный содрогнулся. Еще недавно не верил он
рассказам о жестокости Иоанна, теперь же сам сделал-
ся свидетелем его ужасной мести.
«Уж не ожидает ли и меня такая же участь?» —
подумал он.
Между тем старика вынесли, и обед продолжался,
как будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола
гудели, царедворцы громко разговаривали и смеялись.
Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все
в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла
одну из роскошей царских обедов. На столы поставили
сперва разные студени, потом журавлей с пряным зель-
ем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц
и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и
трех родов уху: курячью белую, курячью черную и
курячью шафранную. За ухою подали рабчиков со сли-
вами, гусей со пшеном и тетерок с шафраном.
Тут наступил прогул, в продолжение которого раз-
носили гостям меды, смородинный, княжий и боярский,
а из вин: аликант, бастр и мальвазию.
469
Разговоры становились громче, хохот раздавался ча-
ще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь в
лица опричников, увидел за отдаленным столом молодо-
го человека, который несколько часов перед тем спас
его от медведя. Князь спросил об нем у соседей, но
никто из земских не знал его. Молодой опричник,
облокотясь на стол и опустив голову на руки, сидел в
задумчивости и не участвовал в общем веселье. Князь
хотел было обратиться с вопросом к проходившему
слуге, но вдруг услышал за собой:
— Никита-ста! Великий государь жалует тебя чашею!
Серебряный вздрогнул. За ним стоял с наглою ус-
мешкой Федор Басманов и подавал ему чашу.
Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и
осушил чашу до капли. Все смотрели на него с любопыт-
ством, он сам ожидал неминуемой смерти и удивился,
что не чувствует действия отравы. Вместо дрожи и
холода благотворная теплота пробежала по его жилам
и разогнала на лице его невольную бледность. Напиток,
присланный царем, был старый и чистый бастр. Сереб-
ряному стало ясно, что царь или отпустил вину его, или
не знает еще об обиде опричнины.
Уж более четырех часов продолжалось веселье, а
стол был только во полустоле. Отличилися в этот день
царские повара. Никогда так не удавались им лимонные
кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное
удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные
в Студеном море и присланные в Слободу из Соловец-
кого монастыря. Их привезли живых, в огромных боч-
ках; путешествие продолжалось несколько недель. Ры-
бы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах,
которые вносили в столовую несколько человек разом.
Затейливое искусство поваров выказалось тут в полном
блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так
посажены на блюда, что походили на петухов с простер-
тыми крыльями, на крылатых змиев с разверстыми
пастями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше,
и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни
перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с
470
луком и шафраном. Но вот, по знаку стольников, убрали
со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и
рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились
в новом убранстве. Они заменили парчовые долманы
летними кунтушами из белого аксамита с серебряным
шитьем и собольею опушкой. Эта одежда была еще
красивее и богаче двух первых. Убранные таким обра-
зом, они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов
весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был
вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже
пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подо-
бные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более,
украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около
сотни золоченых и крашеных деревьев, на которых,
вместо плодов, висели пряники, коврижки и сладкие
пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы
и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и
птицами возвышались груды яблоков, ягод и волошских
орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты.
Иные допивали кубки романеи, более из приличия, чем
от жажды, другие дремали, облокотись на стол; многие
лежали под лавками, все без исключения распоясались
и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яс-
нее.
Царь почти вовсе не ел. В продолжение стола он
много рассуждал, шутил и милостиво говорил с своими
окольными. Лицо его не изменилось в конце обеда. То
же можно было сказать и о Годунове. Борис Федорович,
казалось, не отказывался ни от лакомого блюда, ни от
братины крепкого вина; он был весел, занимал царя и
любимцев его умным разговором, но ни раз не забывал-
ся. Черты Бориса являли теперь, как и в начале обеда,
смесь проницательности, обдуманого смирения и уве-
ренности в самом себе. Окинув быстрым взором толпу
пьяных и сонных царедворцев, молодой Годунов непри-
метно улыбнулся, и презрение мелькнуло на лице его.
Царевич Иоанн пил много, ел мало, молчал, слушал
и вдруг перебивал говорящего нескромною или обид-
ною шуткой. Более всех доставалось от него Малюте
471
Скуратову, хотя Григорий Лукьянович не похож был на
человека, способного сносить насмешки. Наружность
его вселяла ужас в самых неробких. Лоб его был низок
и сжат, волосы начинались почти над бровями; скулы и
челюсти, напротив, были несоразмерно развиты, череп,
спереди узкий, переходил без всякой постепенности в
какой-то широкий котел к затылку, а за ушами были
такие выпуклости, что уши казались впалыми. Глаза
неопределенного цвета не смотрели ни на кого прямо,
но страшно делалось тому, кто нечаянно встречал их
тусклый взгляд. Казалось, никакое великодушное чув-
ство, никакая мысль, выходящая из круга животных
побуждений, не могла проникнуть в этот узкий мозг,
покрытый толстым черепом и густою щетиной. В вооб-
ражении этого лица было что-то неумолимое и безна-
дежное. Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое
старание отыскать в нем человеческую сторону было
бы напрасно. И подлинно, он нравственно уединил себя
от всех людей, жил посреди их особняком, отказался
от всякой дружбы, от всяких приязненных отношений,
перестал быть человеком и сделал из себя царскую
собаку, готовую растерзать без разбора всякого, на кого
Иоанну ни вздумалось бы натравить ее.
Единственною светлою стороной Малюты казалась
горячая любовь его к сыну, молодому Максиму Скура-
тову; но то была любовь дикого зверя, любовь бессоз-
нательная, хотя и доходившая до самоотвержения. Ее
усугубляло любочестие Малюты. Происходя сам от
низкого сословия, будучи человеком худородным, он
мучился завистью при виде блеска и знатности и хотел
по крайней мере возвысить свое потомство, начиная с
сына своего. Мысль, что Максим, которого он любил
тем сильнее, что не знал другой родственной привязан-
ности, будет всегда стоять в глазах народа ниже тех
гордых бояр, которых он, Малюта, казнил десятками,
приводила его в бешенство. Он старался золотом до-
стичь почестей, недоступных ему по рождению и с
сугубым удовольствием предавался убийствам: он мстил
ненавистным боярам, обогащался их добычею и, возвы-
472
шаясь в милости царской, думал возвысить и возлюб-
ленного сына. Но, независимо от этих расчетов, кровь
была для него потребностью и наслаждением. Много
душегубств совершил он своими руками, и летописи
рассказывают, что иногда, после казней, он собствен-
норучно рассекал мертвые тела топором и бросал их
псам на съедение. Чтобы довершить очерк этого лица,
надобо прибавить, что, несмотря на свою умственную
ограниченность, он, подобно хищному зверю, был в
высшей степени хитер, в боях отличался отчаянным
мужеством, в сношениях с другими был мнителен, как
всякий раб, попавший в незаслуженную честь, и что
никто не умел так помнить обиды, как Малюта —
Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Таков был
человек, над которым столь неосторожно издевался
царевич.
Особенный случай подал Иоанну Иоанновичу повод
к насмешкам. Малюта, мучимый завистью и любочести-
ем, издавна домогался боярства; но царь, уважавший
иногда обычаи, не хотел унизить верховный русский сан
в лице своего худородного любимца и оставлял происки
его без внимания. Скуратов решился напомнить о себе
Иоанну. В этот самый день, при выходе царя из опочи-
вальни, он бил ему челом, исчислил все свои заслуги и
в награждение просил боярской шапки. Иоанн выслу-
шал его терпеливо, засмеялся и назвал собакой. Теперь,
за столом, царевич напоминал Малюте о неудачной его
челобитне. Не напомнил бы о ней царевич, если бы знал
короче Григорья Лукьяновича!
Малюта молчал и становился бледнее. Царь с неудо-
вольствием замечал неприязненные отношения между
Малютой и сыном. Чтобы переменить разговор, он
обратился к Вяземскому.
— Афанасий, — сказал он полуласково, полунасмеш-
ливо, — долго ли тебе кручиниться! Не узнаю моего
доброго опричника! Аль вконец заела тебя любовь —
змея лютая?
— Вяземский не опричник, — заметил царевич. —
Он вздыхает, как красная девица. Ты б, государь-батюш-
473
ка, велел надеть на него сарафан да обрить ему бороду,
как Федьке Басманову, или приказал бы ему петь с
гуслярами. Гусли-то ему, я чай, будут сподручнее сабли!
— Царевич! — вскричал Вяземский, — если бы тебе
было годков пять поболе да не был бы ты сынок
государев, я бы за бесчестие позвал тебя к Москве на
Троицкую площадь, мы померились бы с тобой, и сам
бог рассудил бы, кому владеть саблей, кому на гуслях
играть!
— Афонька! — строго сказал царь. — Не забывай,
перед кем речь ведешь!
— Что ж, батюшка, господин Иван Васильевич, —
отвечал дерзко Вяземский, — коли повинен я перед
тобой, вели мне голову рубить, а царевичу не дам
порочить себя.
— Нет, — сказал, смягчаясь, Иван Васильевич, кото-
рый за молодечество прощал Вяземскому его выход-
ки, — рано Афоне голову рубить! Пусть еще послужит
на царской службе. Я тебе, Афоня, лучше сказку скажу,
что рассказывал мне прошлою ночью слепой Филька: «В
славном Ростове, в красном городе, проживал добрый
молодец, Алеша Попович. Полюбилась ему пуще жизни
молодая княгиня, имени не припомню. Только была она,
княгиня, замужем за старым Тугарином Змиевичем, и,
как ни бился Алеша Попович, все только отказы от нее
получал. «Не люблю-де тебя, добрый молодец; люблю
одного мужа мово, милого, старого Змиевича». — «До-
бро, — сказал Алеша, — полюбишь же ты и меня, белая
лебедушка!» Взял двенадцать слуг своих добрыих, вло-
мился в терем Змиевича и увез его молоду жену.
«Исполать тебе, добрый молодец, — сказала жена, —
что умел меня любить, умел и мечом добыть; и за то я
тебя люблю пуще жизни, пуще свету, пуще старого
поганого мужа моего Змиевича!» А что, Афоня, —
прибавил царь, пристально смотря на Вяземского, — как
прикажется тебе сказка слепого Фильки?
Жадно слушал Вяземский слова Ивана Васильевича.
Запали они в душу его, словно искры в снопы овинные,
загорелась страсть в груди его, запылали очи пожаром.
474
— Афанасий, — продолжал царь, — я этими днями
еду молиться в Суздаль, а ты ступай на Москву к
боярину Дружине Морозову, спроси его о здоровье,
скажи, что я-де прислал тебя снять с него мою опалу...
Да возьми, — прибавил он почтительно, — возьми с
собой, для почету, поболее опричников.
Серебряный видел с своего места, как Вяземский
изменился в лице и как дикая радость мелькнула на
чертах его, но не слыхал он, о чем шла речь между
князем и Иваном Васильевичем.
Кабы догадался Никита Романович, чему радуется
Вяземский, забыл бы он близость государеву, сорвал бы
со стены саблю острую и рассек бы Вяземскому буйную
голову. Погубил бы Никита Романович и свою головуш-
ку, но спасли его на этот раз гусли звонкие, колокола
дворцовые и говор опричников. Не узнал он, чему
радуется Вяземский.
Наконец Иоанн встал. Все царедворцы зашумели, как
пчелы, потревоженные в улье. Кто только мог, поднялся
на ноги, и все поочередно стали подходить к царю,
получать от него сушеные сливы, которыми он наделял
братию из собственных рук.
В это время сквозь толпу пробрался опричник, не
бывший в числе пировавших, и стал шептать что-то на
ухо Малюте Скуратову. Малюта вспыхнул, и ярость
изобразилась на лице его. Она не скрылась от зоркого
глаза царя. Иоанн потребовал объяснения.
— Государь! — вскричал Малюта, — дело неслыхан-
ное! Измена, бунт на твою царскую милость!
При слове «измена» царь побледнел и глаза его
засверкали.
— Государь, — продолжал Малюта, — намедни
послал я круг Москвы объезд, для того, государь, так
ли московские люди соблюдают твой царский указ? Как
вдруг неведомый боярин с холопями напал на объезжих
людей. Многих убили до смерти и больно изувечили
моего стремянного. Он сам здесь, стоит за дверьми,
жестоко избитый! Прикажешь призвать?
Иоанн окинул взором опричников и на всех лицах
475
прочел гнев и негодование. Тогда черты его приняли
выражение какого-то странного удовольствия, и он ска-
зал спокойным голосом:
— Позвать!
Вскоре расступилась толпа, и в палату вошел Матвей
Хомяк, с повязанною головой.
t
Глава 9
СУД
Не смыл Хомяк крови с лица, замарал ею нарочно и
повязку и одежду: пусть-де увидит царь, как избили
слугу его! Подойдя к Иоанну, он упал ниц и ожидал на
коленях позволения говорить.
Все любопытно смотрели на Хомяка. Царь первый
прервал молчание.
— На кого ты просишь, — спросил он, — как было
дело? Рассказывай по ряду!
— На кого прошу, и сам не ведаю, надежа право-
славный царь! Не сказал он мне, собака, своего роду-
племени. А бью челом твоей царской милости, в бою
моем и в увечье, что бил меня своим великим огурством
незнаемый человек!
Общее внимание удвоилось. Все притаили дыхание.
Хомяк продолжал:
— Приехали мы, государь, объездом в деревню
Медведевку, как вдруг они, окаянные, откуда ни возь-
мись, напустились на нас напуском, грянули как снег на
голову, перекололи, перерубили человек с десятеро,
достальных перевязали; а боярин-то их, разбойник, хо-
тел было нас всех перевешать, а двух станичников, что
мы было объездом захватили, велел свободить и пустить
на волю!
Замолчал Хомяк и поправил на голове своей крова-
вую повязку. Недоверчивый ропот пробежал между
опричниками. Рассказ казался невероятным. Царь усом-
нился.
— Полно, правду ли ты говоришь, детинушка, —
сказал он, пронзая Хомяка насквозь орлиным оком, —
476
не закачено ль у тебя в голове? Не у браги ль ты добыл
увечья?
— Готов на своей правде крест целовать, государь;
кладу голову порукой в речах моих!
— А скажи, зачем не повесил тебя неведомый
боярин?
— Должно быть, раздумал; никого не повесил; велел
лишь всех нас плетьми избить!
Ропот опять пробежал по собранию.
— А много ль вас было в объезде?
— Пятьдесят человек, я пятьдесят первый.
— А много ль ихних было?
— Нечего греха таить, ихних было помене, примерно
человек двадцать или тридцать.
— И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы!
Что за оторопь на вас напала? Руки у вас отсохли аль
душа ушла в пяты? Право, смеху достойно! И что это за
боярин средь бела дня напал на опричников? Быть того
не может. Пожалуй, и хотели б они извести опричнину,
да жжется! И меня, пожалуй, съели б, да зуб неймет!
Слушай, коли хочешь, чтоб я взял тебе веру, назови того
боярина, не то повинися во лжи своей. А не назовешь
и не повинишься, несдобровать тебе, детинушка!
— Надежа-государь! — отвечал стремянный с твер-
достию, — видит бог, я говорю правду. А казнить меня
твоя воля; не боюся я смерти, боюся кривды; и в том
шлюсь на целую рать твою!
Тут он окинул глазами опричников, как бы призывая
их в свидетели. Внезапно взор его встретился со взором
Серебряного.
Трудно описать, что произошло в душе Хомяка.
Удивление, сомнение и наконец злобная радость изо-
бразились на чертах его.
— Государь, — сказал он, вставая, — коли хочешь
ведать, кто напал на нас, порубил товарищей и велел
избить нас плетьми, прикажи вон этому боярину на-
зваться по имени, по изотчеству!
Все глаза обратились на Серебряного. Царь сдвинул
безволосые брови и пристально в него вглядывался, но
477
не говорил ни слова. Никита Романович стоял неподвиж-
но, спокойный, но бледный.
— Никита! — сказал наконец царь, медленно выго-
варивая каждое слово, — подойди сюда. Становись к
ответу. Знаешь ты этого человека?
— Знаю, государь.
— Нападал ты на него с товарищи?
— Государь, человек этот с товарищи сам напал на
деревню...
Хомяк прервал князя. Чтобы погубить врага, он
решился не щадить самого себя.
— Государь, — сказал он, — не слушай боярина. То
он на меня сором лает, затем что я малый человек, и в
том промеж нас правды не будет; а прикажи снять
допрос с товарищей или, пожалуй, прикажи пытать нас
обоих накрепко, и в том будет промеж нас правда.
Серебряный презрительно взглянул на Хомяка.
— Государь, — сказал он, — я не запираюсь в своем
деле. Я напал на этого человека, велел его с товарищи
бить плетьми, затем велел бить...
— Довольно! — сказал строго Иван Васильевич. —
Отвечай на допрос мой. Ведал ли ты, когда напал на них,
что они мои опричники?
— Не ведал, государь.
— А когда хотел повесить их, сказались они тебе?
— Сказались, государь.
— Зачем же ты раздумал вешать их?
— Затем, государь, чтобы твои судьи сперва допро-
сили их.
— Отчего ж ты с самого почину не отослал их к моим
судьям?
Серебряный не нащелся отвечать.
Царь вперил в него испытующий взор и старался
проникнуть в самую глубь души его.
— Не затем, — сказал он, — не затем раздумал ты
вешать их, чтобы передать судьям, а затем, что сказа-
лись они тебе людьми царскими. И ты, — продолжал
царь с возрастающим гневом, — ты, ведая, что они мои
люди, велел бить их плетьми?
478
— Государь...
— Довольно! — загремел Иоанн. — Допрос окончен.
Братия, — продолжал он, обращаясь к своим любим-
цам, — говорите, что заслужил себе боярин князь Ни-
кита? Говорите, как мыслите, хочу знать, что думает
каждый!
Голос Иоанна был умерен, но взор его говорил, что
он в сердце своем уже решил участь князя и что беда
ожидает того, чей приговор окажется мягче его собст-
венного.
— Говорите ж, люди, — повторял он, возвышая
голос, — что заслужил себе Никита?
— Смерть! — отвечал царевич.
— Смерть! — повторили Скуратов, Грязной, отец
Левкий и оба Басмановы.
— Так пусть же приимет он смерть! — сказал Иоанн
хладнокровно. — Писано бо: приемшие нож, ножем
погибнут. Человеки, возьмите его!
Серебряный молча поклонился Иоанну. Несколько
человек тотчас окружили его и вывели из палаты.
Многие последовали за ними посмотреть на казнь;
другие остались. Глухой говор раздавался в палате. Царь
обратился к опричникам. Вид его был торжествен.
— Братия! — сказал он, — прав ли суд мой?
— Прав, прав! — раздалось между ближними оприч-
никами.
— Прав, прав, — повторили отдаленные.
— Неправ! — сказал один голос.
Опричники взволновались.
— Кто это сказал? Кто вымолвил это слово? Кто
говорит, что неправ суд государев? — послышалось
отовсюду.
На всех лицах изобразилось удивление, все глаза
засверкали негодованием. Лишь один, самый свирепый,
не показывал гнева. Малюта был бледен как смерть.
— Кто говорит, что неправ суд мой? — спросил
Иоанн, стараясь придать чертам своим самое спокойное
выражение. — Пусть, кто говорил, выступит перед лицо
мое!
479
— Государь, — произнес Малюта в сильном волне-
нии, — между добрыми слугами твоими теперь много
пьяных, много таких, которые говорят, не помня, не
спрошаючи разума! Не вели искать этого бражника,
государь! Протрезвится, сам не поверит, какую речь
пьяным делом держал!
Царь недоверчиво взглянул на Малюту.
— Отец параклисиарх! — сказал он, усмехаясь, —
давно ль ты умилился сердцем?
— Государь! — продолжал Малюта, — не вели...
Но уже было поздно.
Сын Малюты выступил вперед и стоял почтительно
перед Иоанном. Максим Скуратов был тот самый оприч-
ник, который спас Серебряного от медведя.
— Так это ты, Максимушка, охаиваешь суд мой, —
сказал Иоанн, посматривая с недоброю улыбкой то на
отца, то на сына. —Ну, говори, Максимушка, почему
суд мой тебе не по сердцу?
— Потому, государь, что не выслушал ты Серебря-
ного, не дал ему очиститься перед тобою и не спросил
его даже, за что он хотел повесить Хомяка?
— Не слушай его, государь, — умолял Малюта, —
он пьян, ты видишь, он пьян! Не слушай его! Пошел,
бражник, вишь как нарезался! Пошел, уноси свою
голову!
— Максим не пил ни вина, ни меду, — заметил
злобно царевич. — Я все время на него смотрел, он и
усов не омочил!
Малюта взглянул на царевича таким взглядом, от
которого всякий другой задрожал бы. Но царевич счи-
тал себя недоступным Малютиной мести. Второй сын
Грозного, наследник престола, вмещал в себе почти все
пороки отца, а злые примеры все более и более заглу-
шали то, что было в нем доброго. Иоанн Иоаннович уже
не знал жалости.
— Да, — прибавил он, усмехаясь, — Максим не ел
и не пил за обедом. Ему не по сердцу наше житье. Он
гнушается батюшкиной опричниной!
В продолжение этого разговора Борис Годунов не
480
спускал глаз с Иоанна. Он, казалось, изучал выражение
лица его и тихо, никем не замеченный, вышел из столо-
вой.
Малюта повалился государю в ноги.
— Батюшка, государь Иван Васильевич! — прогово-
рил он, хватаясь за полы царской одежды, — сего утра
я, дурак глупый, деревенщина необтесанный, просил
тебя пожаловать мне боярство. Где был разум мой? Куда
девался смысл человеческий? Мне ли, смрадному рабу,
носить шапку боярскую? Забудь, государь, дурацкие
слова мои, вели снять с меня кафтан золоченый, одень
в рогожу, только отпусти Максиму вину его! Молод он,
государь, глуп, не смыслит, что говорит! А уж если
казнить кого, так вели меня казнить, не давай я, дурак,
напиваться сыну допьяна! Дозволь, государь, я снесу на
плаху глупую голову! Прикажи, тотчас сам на себя руки
наложу! *
Жалко было видеть, как исказилось лицо Малюты,
как отчаяние написалось на чертах, никогда не отражав-
ших ничего, кроме зверства.
Царь засмеялся.
— Не за что казнить ни тебя, ни сына твоего! —
сказал он. — Максим прав!
— Что ты, государь! — вскричал Малюта. — Как
Максим прав? — И радостное удивление его выразилось
было глупою улыбкой, но она тотчас исчезла, ибо ему
представилось, что царь над ним издевается.
Эти быстрые перемены на лице Малюты были так
необыкновенны, что царь, глядя на него, опять принялся
смеяться.
— Максим прав, — повторил он наконец, принимая
свой прежний степенный вид, — я поторопился. Того
быть не может, чтобы Серебряный вольною волей
что-либо учинил на меня. Помню я Никиту еще до
литовской войны. Я всегда любил его. Он был мне
добрый слуга. Это вы, окаянные, — продолжал царь,
обращаясь к Грязному и к Басмановым, — это вы всегда
подбиваете меня кровь проливать! Мало еще было вам
смертного убойства? Нужно было извести моего добро-
481
16-769
Малюта повалился государю в ноги.
го боярина? Что стоите, звери! Бегите, остановите
казнь! Только нет, и не ходите! Поздно! Я чаю, уж
слетела с него голова! Вы все заплатите мне за кровь
его!
— Не поздно, государь, — сказал Годунов, возвра-
щаясь в палату. — Я велел подождать казнить Серебря-
ного. На милость образца нет, государь; а мне ведомо,
что ты милостив, что иной раз и присудишь, и простишь
виноватого. Только уже Серебряный положил голову на
плаху; палач, снем кафтан, засуча рукава, ждет твоего
царского веления!
Лицо Иоанна прояснилось.
— Борис, — сказал он, — подойди сюда, добрый
слуга мой. Ты один знаешь мое сердце. Ты один веда-
ешь, что я кровь проливаю не ради потехи, а чтоб измену
вывести. Ты меня не считаешь за сыроядца. Подойди
сюда, Федорыч, я обниму тебя.
Годунов наклонился. Царь поцеловал его в голову.
— Подойди и ты, Максим, я тебя к руке пожалую.
Хлеб-соль ешь, а правду режь! Так и напредки чини.
Выдать ему три сорока соболей на шубу!
Максим поклонился в землю и поцеловал царскую
руку.
— Какое идет тебе жалованье? — спросил Иоанн.
— Против рядовых людей обычное, государь.
— Я сравняю тебя с начальными людьми. Будет тебе
идти корм и всякий обиход противу начальных людей.
Да у тебя, я вижу, что-то на языке мотается, говори без
зазору, проси чего хочешь!
— Государь! не заслужил я твоей великой милости,
недостоин одежи богатой, есть постарше меня. Об
одном прошу, государь. Пошли меня воевать с Литвой,
пошли в ливонскую землю. Или, государь, на Рязань
пошли, татар колотить!
Что-то вроде подозрения выразилось в глазах Иоан-
на.
— Что тебе так воевать захотелось, молодец? Аль
постыла жизнь слободская?
— Постыла, государь.
483
— Что так? — спросил Иоанн, глядя пристально на
Максима.
Малюта не дал отвечать сыну,
— Государь, — сказал он, — хотелось бы, вишь, ему
послужить твоей милости. Хотелось бы и гривну на
золотой цепочке получить из царских рук твоих. Горяча
в нем кровь, государь. Затем и просится на татар да на
немцев.
— Не затем он просится, — подхватил царевич, — а
затем, чтобы на своем поставить: не хочу-де быть оприч-
ником, так и не буду! Пусть-де выйдет по-моему, а не
по-цареву!
— Вот как! — сказал Иоанн насмешливо. — Так ты,
Максимушка, меня осилить хочешь? Вишь, какой бога-
тырь! Ну, где мне, убогому, на тебя! Что ж, не хочешь
быть опричником, я велю тебя в зорники вписать!
— Эх. государь! — поспешил сказать Малюта, —
куда твоя милость ни велит вписать Максима, везде
готов он служить по указу твоему! Да поди домой,
Максим, поздно; скажи матери, чтобы не ждала меня; у
нас дело в тюрьме; Колычевых пытаем. Поди, Максим,
поди!
Максим удалился. Царь велел позвать Серебряного.
Опричники ввели его с связанными руками, без
кафтана, ворот рубахи отстегнут. За князем вошел
главный палач, Терешка, засуча рукава, с блестящим
топором в руках. Терешка вошел, потому что не знал,
прощает ли царь Серебряного или хочет только изме-
нить род его казни.
— Подойди сюда, князь! — сказал Иоанн. — Мои
молодцы исторопились было над тобой. Не прогневайся.
У них уж таков обычай, не посмотря в святцы, да бух в
колокол! Того не разочтут, что казнить человека всегда
успеешь, а слетит голова, не приставишь. Спасибо Бо-
рису. Без него отправили б тебя на тот свет; не у кого
было б про Хомяка спросить. Поведай-ка, за что ты
напал на него?
— За то, государь, что сам он напал на безвинных
людей среди деревни. Не знал я тогда, что он слуга твой.
484
И не слыхивал до того про опричнину. Ехал я от Литвы
к Москве обратным путем, когда Хомяк с товарищи
нагрянули на деревню и стали людей резать!
— А кабы знал ты, что они мои слуги, побил бы ты
их тогда?
Царь пристально посмотрел на Серебряного. Князь
на минуту задумался.
— И тогда побил бы, государь, — сказал он просто-
душно, — не поверил бы я, что они по твоему указу
душегубствуют!
Иоанн вперил в князя мрачный взор и долго не
отвечал. Наконец он прервал молчание.
— Добрый твой ответ, Никита! — сказал он, одобри-
тельно кивнув головой. — Не для того поставил я на
Руси опричнину, чтобы слуги мои побивали людей без-
винных. Поставлены они, аки добрые псы, боронить от
пыхающих волков овцы моя, дабы мог сказать я на
Страшном суде божием по пророческому словеси: се аз
и дети, яже дал ми бог! Добрый твой ответ. Скажу на
весь мир: ты да Борис, вы одни познали меня. Другие
так не мыслят; называют меня кровопийцею, а не веда-
ют того, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами!
Кровь видят все; она красна, всякому бросается в глаза;
а сердечного плача моего никто не зрит; слезы бесцвет-
но падают мне на душу, но словно смола горячая про-
едают, прожигают ее насквозь по все дни! (И царь при
этих словах поднял взор свой кверху с видом глубокой
горести.) Яко же древле Рахиль, — продолжал он (и
глаза его закатились под самый лоб), — яко же древле
Рахиль, плачуще о детях своих, так я, многогрешный,
плачу о моих озорниках и злодеях. Добрый твой ответ,
Никита. Отпускаю тебе вину твою. Развяжите ему руки!
Убирайся, Терешка, ты нам не надобен... Или нет, погоди
маленько!
Иоанн обратился к Хомяку.
— Отвечай, — сказал он грозно, — что вы неистовым
своим обычаем в Медведевке чинили?
Хомяк взглянул искоса на Терешку, потом на Сереб-
ряного, потом почесал затылок.
485
— Потравились маленько с мужиками! — отвечал он
полухитро, полудерзко, — нечего греха таить; в том
виноваты, государь, что с твоими опальниками потрави-
лись, Ведь деревня-то, государь, боярина Морозова!
Грозное выражение Иоанна смягчилось. Он усмех-
нулся,
— Что ж, — сказал он, — удоволен ты княжескими
шелепутами? Я чай, будет с тебя? Пожалуй, так уж и
быть, и тебя прощу. Убирайся, Терешка, видно уж день
такой выпал!
При милостивом обращении Иоанна к Серебряному
шепот удовольствия пробежал между земскими бояра-
ми, Чуткое ухо царя услышало этот шепот, а подозри-
тельный ум объяснил это по-своему. Когда Хомяк и
Терешка вышли из палаты, Иоанн устремил свой прони-
цательный взор на земских бояр.
— Вы! — сказал он строго, — не думайте, глядя на
суд мой, что я вам начал мирволить! — И в то же время
в беспокойной душе его зародилась мысль, что, пожа-
луй, и Серебряный припишет его милосердие послабле-
нию. В эту минуту он пожалел, что простил его, и
захотел поправить свою ошибку. — Слушай, — произ-
нес он, глядя на князя, — я помиловал тебя сегодня за
твое правдивое слово и прощения моего назад не возь-
му Только знай, что, если будет на тебе какая новая
вина, я взыщу с тебя и старую. Ты же тогда, ведая за
собою свою неправду, не захоти уходить в Литву или к
хану, как иные чинят, а дай мне теперь же клятву, что,
где бы ты ни был, ты везде будешь ожидать наказания,
какое захочу положить на тебя.
— Государь, — сказал Серебряный, — жизнь моя в
руке твоей. Хорониться от тебя не в моем обычае.
Обещаю тебе, если будет на мне какая вина, ожидать
твоего суда и от воли твоей не уходить!
— Целуй же мне на том крест! — сказал важно
Иоанн, и, приподнимая висевший у него на груди узор-
ный крест, он подал его Серебряному, с косвенным
взглядом на земских бояр.
Среди общего молчания слышно было бряцание зо-
лотой цепи, когда Иоанн выпустил из рук изображение
486
спасителя, к которому, перекрестившись, приложился
Серебряный.
— Теперь ступай! — сказал Иоанн, — и молись
премилостивой троице и всем святым угодникам, чтобы
сохранили тебя от новой, хотя бы и легкой вины! Вы
же, — прибавил он, глядя на земских бояр, — вы,
слышавшие наш уговор, не ждите нового прощения
Никите и не помыслите печаловаться мне о нем, если
он в другой раз заслужит гнев мой!
Облекши таким образом возможность будущего про-
извола над Серебряным в подобие нравственного права,
Иоанн выразил на лице своем удовлетворение.
— Ступайте все, — сказал он, — каждый к своему
делу! Земским ведать приказы по-прежнему, а оприч-
никам, избранным слугам и полчанам моим, помнить
свое крестное целование и не смущаться тем, что я
сегодня простил Никиту: несть бо в сердце моем лице-
приятия ни к ближним, ни к дальним!
Стали расходиться. Каждый побрел домой, унося с
собою кто страх, кто печаль, кто злобу, кто разные
надежды, кто просто хмель в голове. Слобода покры-
лась мраком, месяц зарождался за лесом. Страшен
казался темный дворец, с своими главами, теремками и
гребнями. Он издали походил на чудовище, свернувше-
еся клубом и готовое воспрянуть. Одно незакрытое
окно светилось, словно око чудовища. То была царская
опочивальня. Там усердно молился царь.
Молился он о тишине на святой Руси, молился о том,
чтоб дал ему господь побороть измену и непокорство,
чтобы благословил его окончить дело великого поту,
сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси
одного выше другого, чтобы все были в равенстве, а он
бы стоял один надо всеми, аки дуб во чистом поле!
Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на
него звезды в окно косящатое, смотрят светлые, приту-
манившись, — притуманившись, будто думая: ах ты гой
еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый
час, ты затеял, нас не спрошаючи: не расти двум колось-
ям в уровень, не сравнять крутых гор со пригорками, не
бывать на земле безбоярщине!
487
Глава 10
ОТЕЦ И СЫН
Была уже ночь, когда Малюта, после пытки Колыче-
вых, родственников и друзей сведенного митрополита,
вышел наконец из тюрьмы. Густые тучи, как черные
горы, нависли над Слободою и грозили непогодой. В
доме Малюты все уже спали. Не спал один Максим. Он
вышел навстречу к отцу.
— Батюшка, — сказал Максим, — я ждал тебя; мне
нужно поговорить с тобою.
— О чем? — спросил Малюта и невольно отворотил
взгляд. Григорий Лукьянович никогда не дрожал перед
врагом, но в присутствии Максима ему было неловко.
— Я завтра еду, — продолжал Максим, — прости,
батюшка!
— Куда? — спросил Малюта и этот раз устремил
тусклый взгляд свой на Максима.
— Куда глаза глядят, батюшка; земля не клином
сошлась, места довольно!
— Да что, ты с ума спятил али дурь на себя напустил?
И подлинно дурь напустил! Что ты сегодня за обедом
наделал? Как у тебя язык повернулся царю перечить?
Знаешь ли, кто он и кто ты?
— Знаю, батюшка; и знаю, что он мне за то спасибо
сказал. А все же мне нельзя оставаться.
— Ах ты, самодур! Да откуда у тебя своя воля
взялась? Что сталось с тобой сегодня? Отчего ты теперь
уезжать вздумал, когда царь тебя пожаловать изволил,
с начальными людьми сравнял? Отчего именно теперь?
— Мне давно тяжело с вами, батюшка; ты сам
знаешь; но я не доверял себе; с самого детства только
и слышал отовсюду, что царева воля — божья воля, что
нет тяжелее греха, как думать иначе, чем царь. И отец
Левкий, и все попы слободские мне на духу в великий
грех ставили, что я к вам не мыслю. Поневоле иногда
раздумье брало, прав ли я один против всех вас? Поне-
воле уезжать откладывал. А сегодня, — продолжал
Максим, и румянец живо заиграл на лице его, — сегодня
488
я понял, что я прав! Как услышал князя Серебряного,
как узнал, что он твой объезд за душегубство разбил и
не заперся перед царем в своем правом деле, но как
мученик пошел за него на смерть, — тогда забилось к
нему сердце мое, как ни к кому еще не бивалось, и
вышло из мысли моей колебание, и стало мне ясно как
день, что не на вашей стороне правда!
— Так вот кто тебя с толку сбил! — вскричал
Малюта, и без того озлобленный на Серебряного. — Так
вот кто тебя с толку сбил! Попадись он мне только в
руки, не скорою смертью издохнет он у меня, собака!
— Господь сохранит его от рук твоих! — сказал
Максим, делая кресное знамение. — Не попустит он
тебя все доброе на Руси погубить! Да, — продолжал,
одушевляясь, сын Малюты, — лишь увидел я князя
Никиту Романыча, понял, что хорошо б жить вместе с
ним, и захотелось мне попроситься к нему, но совестно
подойти было: очи мои на него не подымутся, пока буду
эту одежу носить!
Малюта слушал сына, и два чувства спорили в нем
между собою. Ему хотелось закричать на Максима,
затопать на него ногами и привести его угрозами к
повиновению, но невольное уважение сковывало его
злобу. Он понимал чутьем, что угроза теперь не подей-
ствует, и в низкой душе своей начал искать других
средств, чтоб удержать сына.
— Максимушка! — сказал он, принимая заискиваю-
щий вид, насколько позволяло зверское лицо его, — не
в пору ты уезжать затеял! Твое слово понравилось
сегодня царю. Хоть и напугал ты меня порядком, да
заступились, видно, святые угодники за нас, умягчили
сердце батюшки-государя. Вместо чтоб казнить, он по-
хвалил тебя и жалованья тебе прибавил, и собольею
шубой пожаловал! Посмотри, коли ты теперь в гору не
пойдешь! А покамест чем тебе здесь не житье?
Максим бросился в ноги Малюты.
— Не житье мне здесь, батюшка, не житье! Не по
силам дома оставаться! Невмоготу слышать вой да плач
по вся дни, невтерпеж видеть, что отец мой...
489
Максим остановился.
— Ну? — сказал Малюта.
— Что отец мой — палач! — произнес Максим и
опустил взор, как бы испугавшись, что мог сказать отцу
такое слово.
Но Малюта не смутился этим названием.
— Палач палачу рознь! — произнес он, покосившись
в угол избы. — Ино рядовой человек, ино начальный;
ино простых воров казнить, ино бояр, что подтачивают
царский престол и всему государству шатанье готовят.
Я в разбойный приказ не вступаюсь; мой топор только
и сечет, что изменничьи боярские головы!
— Замолчи, отец! — сказал, вставая, Максим, — не
возмущай мне сердце такой речью! Кто из тех, кого
погубил ты, умышлял на царя? Кто из них замутил
государство? Не по винам, а по злобе своей сечешь ты
боярские головы! Кабы не ты, и царь был бы милостивее.
Но вы ищете измены, вы пытками вымучиваете изветы,
вы, вы всей крови заводчики! Нет, отец, не гневи бога,
не клевещи на бояр, а скажи лучше, что без разбора
хочешь вконец извести боярский корень!
— Да ты-то с чего за них заступаешься? — сказал с
злобною усмешкой Малюта. — Или тебе весело видеть,
что ты как ни статен, как ни красен собой, а все
остаешься между ними последний? А чем любой из них
не по плечу тебе? Чем гордятся они перед нами? Из
другой, что ли, земли господь их вылепил? Коли богаче-
ством гордятся, так дайте срок, государи! Царь не
забывает верных слуг своих; а как дойдут до смертной
казни Колычевы, так животы их не кому другому, а нам
же достанутся. Довольно я над ними, окаянными, в
застенке-то промучился; жиловаты, собаки, нечего ска-
зать!
Злоба кипела в сердце Малюты, но он еще надеялся
убедить Максима и скривил рот свой в ласковую улыб-
ку. Не личила такая улыбка Малюте, и, глядя на нее,
Максиму сделалось страшно.
Но Малюта этого не заметил.
— Максимушка, — сказал он, — на кого же я
490
денежки-то копил? На кого тружусь и работаю? Не
уезжай от меня, останься со мною. Ты еще молод, не
поспел еще в ратный строй. Не уезжай от меня! Вспом-
ни, что я тебе отец! Как посмотрю на тебя, так и
прояснится на душе, словно царь меня похвалил или к
руке пожаловал, а обидь тебя кто, — так, кажется, и
съел бы живого!
Максим молчал. Малюта постарался придать лицу
своему нежное выражение.
— Ужели ты, Максимушка, вовсе не любишь меня?
ужели ничего ко мне в сердце не шелохнется.
— Ничего, батюшка!
Малюта подавил свою злобу.
— А царь что скажет, когда узнает про твой отъезд,
коли подумает, что ты от него уехал?
— От него-то я и еду, батюшка. Меня страх берет.
Знаю, что бог велит любить его, а как посмотрю иной
раз, какие дела он творит, так все нутро во мне пере-
вернется. И хотелось бы любить, да сил не хватает. Как
уеду из Слободы да не будет у меня безвинной крови
перед очами, тогда, даст бог, снова царя полюблю. А не
удастся полюбить, и так ему послужу, только бы не в
опричниках.
— А что будет с матерью твоею? — сказал Малюта,
прибегая к последнему средству. — Не пережить ей
такого горя! Убьешь ты старуху! Посмотри, какая она,
голубушка, хворая!
— Премилостивый бог не оставит матери моей, —
ответил со вздохом Максим. — Она простит меня.
Малюта начал ходить по избе взад и вперед.
Когда остановился он перед Максимом, ласковое
выражение, к которому он приневолил черты свои,
совершенно исчезло. Грубое лицо его являло одну не-
преклонную волю.
— Слушай, молокосос, — сказал он, переменяя
приемы и голос, — доселе я упрашивал тебя, теперь
скажу вот что: нет тебе на отъез моего благословения.
Не пущу тебя ехать. А не уймешься, завтра же заставлю
своими руками злодеев царских казнить. Авось, когда
491
сам окровавишься, бросишь быть белоручкой, переста-
нешь отцом гнушаться!
Побледнел Максим от речи Малюты и не отвечал
ничего. Знал он, что крепко слово Григория Лукьяновича
и что не переломить его отцовской воли.
— Вишь, — продолжал Малюта, — разговорился я с
тобой; скоро ночь глубокая, пора к царю, ключи от
тюрьмы отнести. Вот и дождь полил! Подай мне терлик.
Смотри пожалуй, какой стал прыткий! Ехать хочу, не
житье мне здесь! Дай ему воли — пожалуй, и меня на
свой лад переиначит! Нет, брат, рано крылышки распу-
стил! Я и не таких, как ты, унимал! Я те научу слушаться!
Эх, погода, погода! Подай мне шапку. А молонья-то,
молонья! Ишь как небо раззевается! Словно вся Слобо-
да загорелась. Заволоки окно да ступай спать, авось к
утру выкинешь дурь из головы. А уж до твоего Сереб-
ряного я доберусь! Уж я ему это припомню!
Малюта вышел. Оставшись один, Максим задумался.
Все было тихо в доме; лишь на дворе гроза шумела да
время от времени ветер, ворвавшись в окно, качал цепи
и кандалы, висевшие на стене, и они, ударяя одна о
другую, звенели зловещим железным звоном. Максим
подошел к лестнице, которая вела в верхнее жилье, к
его матери. Он наклонился и стал прислушиваться. Все
молчало в верхнем жилье. Максим тихонько взошел по
крутым ступеням и остановился перед дверью, за кото-
роюю покоилась мать его.
— Господи боже мой! — сказал Максим про себя. —
Ты зришь мое сердце, ведаешь мои мысли! Ты знаешь,
господи, что я не по гордости моей, не по духу строп-
тивому ослушаюсь батюшки! Прости меня, боже мой,
аще преступаю твою заповедь! И ты, моя матушка,
прости меня! Покидаю тебя без ведома твоего, уезжаю
без благословения; знаю, матушка, что надорву тебя
сердцем, но ты б не отпустила меня вольною волей!
Прости меня, государыня матушка, не увидишь ты меня
боле!
Максим припал к порогу светлицы и облобызал его.
Потом он несколько раз перекрестился, сошел с лест-
492
ницы и вышел на двор. Дождь лил так сердито, как бы
злился на весь род божий. На дворе не было живой
души. Максим вошел в конюшню, конюхи спали. Он сам
вывел из стойла любимого коня и оседлал его. Большая
цепная собака, прикованная у входа, вылезла из конуры
и стала визжать и рваться, как бы чуя с ним разлуку. То
был косматый пес из породы пастушьих волкодавов.
Длинная и жесткая шерсть дымчато-бурого цвета падала
ему в беспорядке на черную морду, так что почти вовсе
не было видно умных глаз его.
Максим погладил собаку, а она положила ему свои
черные лапы на плечи и стала лизать лицо.
— Прощай, Буян, — сказал Максим, — стереги дом
наш, служи верно матери! — Он вскочил в седло, выехал
в ворота и ускакал от родительского дома.
Еще не доскакал он до земляного валу, как услышал
громкий лай и увидел Буяна, который прыгал вокруг
коня, радуясь, что сорвался с цепи и что может сопут-
ствовать своему господину.
Глава 11
НОЧНОЕ ШЕСТВИЕ
Пока Малюта разговаривал с сыном, царь продолжал
молиться. Уже пот катился с лица его; уже кровавые
знаки, напечатленные на высоком челе прежними зем-
ными поклонами, яснее обозначились от новых покло-
нов; вдруг шорох в избе заставил его обернуться. Он
увидел свою мамку, Онуфревну.
Стара была его мамка. Взял ее в Верьх еще блажен-
ной памяти великий князь Василий Иоаннович; служила
она еще Елене Глинской. Иоанн родился у нее на руках;
у нее же на руках благословил его умирающий отец.
Говорили про Онуфревну, что многое ей известно, о чем
никто и не подозревает. В малолетство царя Глинские
боялись ее; Шуйские и Бельские старались всячески
угождать ей.
Много сокрытого узнавала Онуфревна посредством
гаданья и никогда не ошибалась. В самое величие князя
493
Телепнева — Иоанну тогда было четыре года — она
предсказала князю, что он умрет голодною смертью.
Так и сбылось. Много лет протекло с тех пор, а еще
свежо было в памяти стариков это предсказание.
Теперь Онуфревне добивал чуть ли не десятый де-
сяток. Она согнулась почти вдвое; кожа на лице ее так
сморщилась, что стала походить на древесную кору, и
как на старой коре пробивается мох, так на бороде
Онуфревны пробивались волосы седыми клочьями. Зу-
бов у нее давно не было, глаза, казалось, не могли
видеть, голова судорожно шаталась.
Онуфревна опиралась костлявою рукой на клюку.
Долго смотрела она на Иоанна, вбирая в себя пожелтев-
шие губы, как будто бы что-то жевала или бормотала.
— Что? — сказала наконец мамка глухим, дребезжа-
щим голосом, — молишься, батюшка? Молись, молись,
Иван Васильич! Много тебе еще отмаливаться! Еще б
одни старые грехи лежали на душе твоей! Господь-то
милостив; авось и простил бы! А то ведь у тебя что ни
день, то новый грех, а иной раз и по два и по три на
день придется!
— Полно, Онуфревна, — сказал царь, вставая, —
сама не знаешь, что говоришь!
— Не знаю, что говорю! Да разве я из ума выжила,
что ли? — И безжизненные глаза старухи внезапно
заблистали. — Да что ты сегодня за столом сделал? За
что отравил боярина-то? Ты думал, я и не знаю! Что?
Чего брови-то хмуришь? Вот погоди, как пробьет твой
смертный час; погоди только! Уж привяжутся к тебе
грехи твои, как тысячи тысяч пудов; уж потянут тебя на
дно адово! А дьяволы-то подскочат, да и подхватят тебя
на крючья!
Старуха опять принялась сердито жевать.
Усердная молитва приготовила царя к мыслям набож-
ным. Раздражительное воображение не раз уже пред-
ставляло ему картину будущего возмездия, но сила воли
одолевала страх загробных мучений. Иоанн уверял себя,
что страх этот и даже угрызения совести возбуждаемы
в нем врагом рода человеческого, чтобы отвлечь пома-
494
занника божия от высоких его начинаний. Хитростям
дьявола царь противуставил молитву; но часто изнемогал
под жестоким напором воображения. Тогда отчаяние
схватывало его как железными когтями. Неправость дел
его являлась во всей наготе, и страшно зияли перед ним
адские бездны. Но это продолжалось недолго. Вскоре
Иоанн негодовал на свое малодушие. В гневе на самого
себя и на духа тьмы, он опять, назло аду и наперекор
совести, начинал дело великой крови и великого поту,
и никогда жестокость его не достигала такой степени,
как после невольного изнеможенья.
Теперь мысль об аде, оживленная наступающей гро-
зой и пророческим голосом Онуфревны, проняла его
насквозь лихорадочною дрожью. Он сел на постель.
Зубы его застучали один о другой.
— Ну, что, батюшка? — сказала Онуфревна, смягчая
свой голос, — что с тобой сталось? Захворал, что ли?
Так и есть, захворал! Напугала же я тебя! Да нужды
нет, утешься, батюшка, хоть и велики грехи твои, а
благость-то божия еще больше! Только покайся, да
впредь не греши. Вот и я молюсь, молюсь о тебе денно
и нощно, а теперь и того боле стану молиться! Что тут
говорить? Уж лучи се сама в рай не попаду, да тебя
отмолю!
Иоанн взглянул на свою мамку, — она как будто
улыбалась, но неприветлива была улыбка на суровом
лице ее.
— Спасибо, Онуфревна, спасибо; мне легче; ступай
себе с богом!
— То-то легче! Как обнадежишь тебя, куда и страх
девался; уж и гнать меня вздумал: ступай, мол, с богом!
А ты на долготерпение-то божие слишком не рассчиты-
вай, батюшка. На тебя и у самого господа терпения-то
не станет. Отречется он от тебя, посмотри, а сатана-то
обрадуется, до шарх! и войдет в тебя. Ну вот, опять
дрожать начал! Не худо б тебе сбитеньку испить. Испей
сбитеньку, батюшка! Бывало, и родитель твой на ночь
сбитень пивал, царствие ему небесное! И матушка твоя,
упокой господи ее душу, любила сбитень. В сбитне-то и
опоили ее проклятые Шуйские!
495
Старуха как будто забылась. Глаза ее померкли; она
опять принялась жевать губами, беспрерывно шатая
головою.
Вдруг что-то застучало в окно. Иван Васильевич
вздрогнул. Старуха перекрестилась дрожащей рукой.
— Вишь, — сказала она, — дождь полил! И молонья
блистать начинает! А вот и гром, батюшка, помилуй нас,
господи!
Гроза усиливалась все более и скоро разыгралась по
небу беспрерывными перекатами, беспрестанною мол-
нией.
При каждом ударе грома Иоанн вздрагивал.
— Вишь, какой у тебя озноб, батюшка! Вот погоди
маленько, я велю тебе сбитеньку заварить...
— Не надо, Онуфревна, я здоров...
— Здоров! Да на тебе лица не видать. Ты б на
постелю-то лег, одеялом-то прикрылся бы. И чтой-то у
тебя за постель, право! Доски голые. Охота тебе! Цар-
ское ли это дело! Ведь это хорошо монаху, а ты не монах
какой!
Иоанн не отвечал. Он к чему-то прислушивался.
— Онуфревна, — сказал он вдруг с испугом, — кто
там ходит в сенях? Я слышу шаги чьи-то!
— Христос с тобой, батюшка! Кому теперь ходить.
Послышалось тебе.
— Идет, идет кто-то! Идет сюда! Посмотри, Онуф-
ревна!
Старуха отворила дверь. Холодный ветер пахнул в
избу. За дверью показался Малюта.
— Кто это? — спросил царь, вскакивая.
— Да твой рыжий пес, батюшка, — отвечала мамка,
сердито глядя на Малюту, — Гришка Скуратов; вишь,
как напугал, проклятый!
— Лукьяныч! — сказал царь, обрадованный прихо-
дом любимца, — добро пожаловать; откуда?
— Из тюрьмы, государь; был у розыску, ключи
принес! — Малюта низко поклонился царю и покосился
на мамку.
— Ключи! — проворчала старуха. — Уж припекут
496
тебя на том свете раскаленными ключами, сатана ты
этакой! Ей-богу, сатана! И лицо дьявольское! Уж кому
другому, а тебе не миновать огня вечного! Будешь,
Гришка, лизать сковороды горячие за все клеветы свои!
Будешь, проклятый, в смоле кипеть, помяни мое слово!
Молния осветила грозящую старуху, и страшна была
она с подъятою клюкой, с сверкающими глазами.
Сам Малюта несколько струсил; но Иоанна ободрило
присутствие любимца.
—- Не слушай ее, Лукьяныч, — сказал он, — знай
свое дело, не смотри на бабьи толки. А ты ступай себе,
старая дура, оставь нас!
Глаза Онуфревны снова засверкали.
— Старая дура? — повторила она. — Я старая дура?
Вспомянете вы меня на том свете, оба вспомянете! Все
твои поплечники, Ваня, все примут мзду свою, еще в
сей жизни примут, и Грязной, и Басманов, и Вяземский;
комуждо воздастся по делам его, а этот, — продолжала
она, указывая клюкою на Малюту, — этот не примет
мзды своей: по его делам нет и муки на земле; его мука
на дне адовом; там ему и место готово; ждут его дьяволы
и радуются ему! И тебе есть там место, Ваня, великое,
теплое место!
Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой.
Иоанн был бледен. Малюта не говорил ни слова.
Молчание продолжалось довольно долго.
— Что ж, Лукьяныч, — сказал наконец царь, —
винятся Колычевы?
— Нет еще, государь. Да уж повинятся, у меня не
откашляются!
Иоанн вошел в подробности допроса. Разговор о
Колычевых дал его мыслям другое направление.
Ему показалось, что он может заснуть. Отослав
Малюту, он лег на постель и забылся.
Его разбудил как будто внезапный толчок.
Изба слабо освещалась образными лампадами. Луч
месяца, проникая сквозь низкое окно, играл на распис-
ных изразцах лежанки. За лежанкой кричал сверчок.
Мышь грызла где-то дерево.
497
Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сдела-
лось страшно.
Вдруг ему почудилось, что приподымается половица
и смотрит из-под нее отравленный боярин.
Такие видения случались с Иоанном нередко. Он
приписывал их адскому мороченью. Чтобы прогнать
призрак, он перекрестился.
Но призрак не исчез, как то случалось прежде.
Мертвый боярин продолжал смотреть на него испод-
лобья. Глаза старика были так же навыкате, лицо так же
сине, как за обедом, когда он выпил присланную Иоан-
ном чашу.
«Опять наваждение! — подумал царь, — но не
поддамся я прелести сатанинской, сокрушу хитрость
дьявольскую. Да воскреснет бог и да расточатся врази
его!»
Мертвец медленно вытянулся из-под полу и прибли-
зился к Иоанну.
Царь хотел закричать, но не мог. В ушах его страшно
звенело.
Мертвец наклонился над Иоанном.
— Здрав буди, Иване! — произнес глухой нечелове-
ческий голос, — се кланяюся тебе, иже погубил еси мя
безвинно!
Слова эти отозвались в самой глубине души Иоанна.
Он не знал, от призрака ли их слышит или собственная
его мысль выразилась ощутительным для уха звуком.
Но вот приподнялась другая половица; из-под нее
показалось лицо окольничего Данилы Адашева, казнен-
ного Иоанном четыре года тому назад.
Адашев также вытянулся из-под полу, поклонился
царю и сказал:
— Здрав буди, Иване, се кланяюся тебе, иже погубил
еси мя безвинно!
За Адашевым явилась боярыня Мария, казненная
вместе с детьми. Она поднялась из-под полу с пятью
сыновьями. Все поклонились царю, и каждый сказал:
— Здрав буди, Иване! се кланяюся тебе!
Потом показались князь Курлятев, князь Оболен-
498
ский, Никита Шереметев и другие казненные или уби-
тые Иоанном.
Изба наполнилась мертвецами. Все они низко кланя-
лись царю, все говорили:
— Здрав буди, здрав буди, Иване, се кланяемся тебе!
Вот поднялись монахи, старцы, инокини, все в чер-
ных ризах, все бледные и кровавые.
Вот показались воины, бывшие с царем под Казанью.
На них зияли страшные раны, но не в бою добытые,
а нанесенные полачами.
Вот явились девы в растерзанной одежде и молодые
жены с грудными младенцами. Дети протягивали к Иоан-
ну окровавленные ручонки и лепетали:
— Здрав буди, здрав буди, Иване, иже погубил еси
нас безвинно!
Изба все более наполнялась призраками. Царь не мог
уже различать воображение от действительности.
Слова призраков повторялись стократными отголо-
сками. Отходные молитвы и панихидное пение в то же
время раздавались над самыми ушами Иоанна. Волосы
его стояли дыбом.
— Именем бога живого, — произнес он, — если вы
бесы, насланные вражьей силою, — сгиньте! Если вы
вправду души казненных мной — дожидайтесь Страш-
ного суда божия! Господь меня с вами рассудит!
Взвыли мертвецы и закружились вокруг Иоанна, как
осенние листья, гонимые вихрем. Жалобнее раздалось
панихидное пение, дождь опять застучал в окно, и среди
шума ветра царю послышались как будто звуки труб и
голос, взывающий:
Иване, Иване! на суд, на суд!
Царь громко вскрикнул. Спальники вбежали из со-
седних покоев в опочивальню.
— Вставайте! — закричал царь, — кто спит теперь!
Настал последний день, настал последний час! Все в
церковь! Все за мною!
Царедворцы засуетились. Раздался благовест. Толь-
ко что уснувшие опричники услышали знакомый звон,
вскочили с полатей и спешили одеться.
499
Многие из них пировали у Вяземского. Они сидели
за кубками и пели удалые песни. Услышав звон, они
вскочили и надели черные рясы поверх богатых кафта-
нов, а головы накрыли высокими шлыками.
Вся Слобода пришла в движение. Церковь божией
матери ярко осветилась. Встревоженные жители бро-
сились к воротам и увидели множество огней, блуж-
дающих во дворце из покоя в покой. Потом огни
образовали длинную цепь, и шествие потянулось
змеею по наружным переходам, соединявшим дворец
со храмом божиим.
Все опричники, одетые однолично в шлыки и черные
рясы, несли смоляные светочи. Блеск их чудно играл на
разных столбах и на стенных украшениях. Ветер разду-
вал рясы, а лунный свет вместе с огнем отражался на
золоте, жемчуге и дорогих каменьях.
Впереди шел царь, одетый иноком, бил себя в грудь
и взывал, громко рыдая:
— Боже, помилуй мя, грешного! Помилуй мя, смрад-
ного пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой,
господи, души побитых мною безвинно!
У преддверия храма Иоанн упал в изнеможении.
Светочи озарили старуху, сидевшую на ступенях.
Она протянула к царю дрожащую руку.
— Встань, батюшка! — сказала Онуфревна, — я
помогу тебе. Давно я жду тебя. Войдем, Ваня, помолимся
вместе!
Двое опричников подняли царя под руки. Он вошел
в церковь.
Новые шествия, также в черных рясах, также в
высоких шлыках, спешили по улицам с зажжеными
светочами. Храмовые врата поглощали все новых и
новых опричников, и исполинские лики святых смотре-
ли на них, негодуя, с высоты стен и глав церковных.
Среди ночи, дотоле безмолвной, раздалось пение
нескольких сот голосов, и далеко слышны были звон
колокольный и протяжные псалмы.
Узники в темницах вскочили, гремя цепями, и стали
прислушиваться.
500
— Это царь заутреню служит! — сказали они. —
Умягчи, боже, его сердце, вложи милость в душу его!
Маленькие дети в слободских домах, спавшие близ
матерей, проснулись в испуге и подняли плач.
Иная мать долго не могла унять своего ребенка.
— Молчи! — говорила она наконец, — молчи, не то
Малюта услышит!
И при имени Малюты ребенок переставал плакать, в
испуге прижимался к матери, и среди ночного безмол-
вия раздавались опять лишь псалмы опричников да
беспрерывный звон колокольный.
Глава 12
КЛЕВЕТА
Солнце взошло, но не радостное утро настало для
Малюты. Возвратясь домой, он не нашел сына и дога-
дался, что Максим навсегда бросил Слободу. Велика
была ярость Григория Лукьяныча.
Во все концы поскакала погоня. Конюхов, проспав-
ших отъезд Максима, Малюта велел тотчас кинуть в
темницу.
Нахмуря брови, стиснув зубы, ехал он по улице и
раздумывал,, доложить ли царю или скрыть от него
бегство Максима.
Конский топот и веселая молвь послышались за его
спиною. Малюта оглянулся. Царевич с Басмановым и
толпою молодых удальцов возвращался с утренней про-
гулки. Рыхлая земля размокла от дождя, кони ступали
в грязи по самые бабки. Завидев Малюту, царевич
пустил своего аргамака вскачь и обрызгал грязью Гри-
горья Лукьяновича.
— Кланяюсь тебе земно, боярин Малюта! — сказал
царевич, останавливая коня. — Встретили мы тотчас
твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что он
от тебя тягу дал. Али ты, может, сам послал его к Москве
за боярскою шапкой, да потом раздумал?
И царевич захохотал.
Малюта, по обычаю, слез с коня. Стоя с обнаженною
501
головой, он всею ладонью стирал грязь с лица своего.
Казалось, ядовитые глаза его хотелки пронзить царевича.
— Да что он грязь-то стирает? — заметил Басманов,
желая подслужиться царевичу, — добро, на ком другом,
а на нем не заметно!
Басманов говорил вполголоса, но Скуратов его услы-
шал. Когда вся толпа, смеясь и разговаривая, ускакала
за царевичем, он надел шапку, влез опять на коня и
шагом поехал ко дворцу.
«Добро! — думал он про себя, — дайте срок, госу-
дари, дайте срок!» И побледневшие губы его кривились
в улыбку, и в сердце, уже раздраженном сыновним
побегом, медленно созревало надежное мщение неосто-
рожным оскорбителям.
Когда Малюта вошел во дворец, Иван Васильевич
сидел один в своем покое. Лицо его было бледно, глаза
горели. Черную рясу заменил он желтым становым
кафтаном, стеганным полосами и побитым голубою бах-
той. Восемь шелковых завязок с длинными кистями
висели вдоль разреза. Посох и колпак, украшенный
большим изумрудом, лежали перед царем на столе.
Ночные видения, беспрерывная молитва, отсутствие сна
не истощили сил Иоанновых, но лишь привели его в
высшую степень раздражительности. Все испытанное
ночью опять представилось ему обмороченьем дьявола.
Царь стыдился своего страха.
«Враг имени Христова, — думал он, — упорно пере-
чит мне и помогает моим злодеям. Но не дам ему надо
мною тешиться! Не устрашуся его наваждений! Покажу
ему, что не по плечу он себе борца нашел!»
И решился царь карать по-прежнему изменников и
предавать смерти злодеев своих, хотя были б их тысячи.
И стал он мыслию пробегать подданных и между
ними искать предателей.
Каждый взгляд, каждое движение теперь казалось
ему подозрительным.
Он припоминал разные слова своих приближенных
и в словах этих искал ключа к заговорам. Самые родные
не избежали его подозрений.
502
Малюта застал его в состоянии, похожим на лихора-
дочный бред.
— Государь, — сказал, помолчав, Григорий Лукьяно-
вич, — ты велишь пытать Колычевых про новых измен-
ников. Уж положись на меня. Я про все заставлю
Колычевых с пыток рассказать. Одного только не су-
мею: не сумею заставить их назвать твоего набольшего
супротивника!
Царь с удивлением взглянул на любимца.
В глазах Малюты было что-то необыкновенное.
— Оно, государь, дело тонкое, — продолжал Скура-
тов, и голос его изменился, — что и глаз видит, и ухо
слышит, а вымолвить язык не поворотится...
Царь смотрел на него вопрошающим оком.
— Вот ты, государь, примерно, уже много воров
казнил, а измена все еще на Руси не вывелась. И еще*
ты столько же казнишь, и вдесятеро более, а измены
все не избудешь!
Царь слушал и не догадывался.
— Оттого, государь, не избыть тебе измены, что ты
рубишь у нее сучья да ветви, а ствол-то самый и с
корнем стоит здоровехонек!
Царь все еще не понимал, но слушал с возрастающим
любопытством.
— Видишь, государь, как бы тебе сказать... Вот,
примерно, вспомни, когда ты при смерти лежал, дай бог
тебе много лет здравствовать! а бояре-то на тебя, труд-
ного, заговор затеяли. Ведь у них был тогда старшой,
примерно, братец твой Володимир Андреич!
«А! — подумал царь, — так вот что значили мои
ночные видения! Враг хотел помрачить разум мой, чтоб
убоялся я сокрушить замыслы брата. Но будет не так.
Не пожалею и брата!»
— Говори... — сказал он, обращаясь грозно к Малю-
те, — говори, что знаешь про Володимира Андреича!
— Нет, государь, моя речь теперь не про Володимира
Андреича. В нем я уже того не чаю, чтобы он что-либо
над тобой учинили. И бояре к нему теперь уже не
мыслят. Давно перестал он подыскиваться под тобой
царства. Моя речь не про него.
503
— Про кого же? — спросил царь с удивлением, и
черты его судорожно задвигались.
— Видишь, государь! Володимир-то Андреич разду-
мал государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они
себе на уме; не удалось, мол, его на царство посадить,
так мы посадим...
Малюта замялся.
— Кого? — спросил царь, и глаза его запылали.
Малюта позеленел.
— Государь! Не все пригоже выговаривать. Наш брат
думай да гадай, а язык держи за зубами.
— Кого? — повторил Иоанн, вставая с места.
Малюта медлил с ответом.
Царь схватил его за ворот обеими руками, придвинул
лицо его к своему лицу и впился в него глазами.
Ноги Малюты стали подкашиваться.
— Государь, — сказал он вполголоса, — ты на него
не гневайся, ведь он не сам вздумал!
— Говори! — произнес хриплым шепотом Иоанн и
стиснул крепче ворот Малюты.
— Ему-то и на ум бы не взбрело, — продолжал
Малюта, избегая царского взора, — ну, а должно быть,
подбили его. Кто к нему поближе, тот и подбил. А он,
грешный человек,.подумал себе: немного позже, немно-
го ране, все тем же кончится.
Царь начал догадываться. Он сделался бледнее. Паль-
цы его стали разгибаться и выпускать ворот Малюты.
Малюта оправился. Он понял, что настала пора для
решительного удара!
— Государь! — сказал он вдруг резко, ;— не ищи
замены далеко. Супротивник твой сидит супротив тебя,
он пьет с тобой с одного ковша, ест с тобой с одного
блюда, платье носит с одного плеча!
Замолчал Скуратов и, полный ожидания, решился
устремить на царя кровавые глаза свои.
Замолчал и царь. Руки его опустились. Понял он
наконец Малюту.
В это мгновение раздались на дворе радостные
крики.
504
Еще в самое то время, как начался разговор между
царем и Скуратовым, царевич с своими окольными
въехал на двор, где ожидали его торговые люди черных
сотен и слобод, пришедшие от Москвы с хлебом-солью
и с челобитьем.
Увидев царевича, они все стали на колени.
— Чего вы просите, аршинники? — спросил небреж-
но царевич.
— Батюшка! — отвечали старшины, — пришли мы
плакаться твоей милости! Будь нам заступником! Уми-
лосердись над нашими головами! Разоряют нас совсем
опричники, заедают и с женами, и с детьми!
— Вишь, дурачье! — сказал царевич, обращаясь с
усмешкой к Басманову. — Они б хотели и жен, и товар
про себя одних держать! Да чего вы расхныкались?
Ступайте себе домой; я, пожалуй, попрошу батюшку за
вас, дураков!
— Отец ты наш, дай бог тебе многие лета! —
закричали торговые люди.
Царевич сидел на коне. Возле него был Басманов.
Просители стояли перед ними на коленях. Старший
держал золотое блюдо с хлебом-солью.
Малюта все видел из окна.
— Государь, — шепнул он царю, —должно быть, его
подбил кто-нибудь из тех, что теперь с ним. Посмотри,
вот уже народ ему на царстве здоровает!
И как чародей пугается недоброй силы, которую сам
он вызвал, так Малюта испугался выражения, которое
слова его вызвали на чертах Иоанна.
С лица царя исчезло все человеческое. Таким страш-
ным никогда не видывал его Малюта.
Прошло несколько мгновений. Вдруг Иоанн улыб-
нулся.
— Гриша, — сказал он, положив обе руки на плечи
Скуратова, — как, бишь, ты сейчас говорил? Я рублю
сучья да ветви, а ствол-то стоит здоровешенек? Гри-
ша, — продолжал царь, медленно выговаривая каждое
слово и смотря на Малюту с какой-то страшной довер-
чивостью, — берешься ли ты вырвать с корнем измену?
505
Злобная радость скривила рот Малюты.
— Для твоей милости берусь, — прошептал он,
дрожа всем телом.
Выражение Иоанна мгновенно изменилось. Улыбка
исчезла, и черты приняли холодную, непреклонную
неподвижность. Лицо его казалось высеченным из мра-
мора.
— Не надо медлить! — сказал он отрывисто и
повелительно. — Никто чтобы не знал об этом. Он
сегодня будет на охоте. Сегодня же пусть найдут его в
лесу. Скажут, он убился с коня. Знаешь ты Поганую
Лужу?
— Знаю, государь.
— Там чтоб нашли его! — Царь указал на дверь.
Малюта вышел и в сенях вздохнул свободнее.
Царь долго оставался неподвижен. Потом он медлен-
но подошел к образам и упал перед ними на колени.
Изо всех слуг Малютиных самый удалый и растороп-
ный был стремянный его Матвей Хомяк. Он никогда не
уклонялся от опасности, любил буйство и наездничество
и уступал в зверстве лишь своему господину. Нужно ли
было поджечь деревню или подкинуть грамоту, по ко-
торой после казнили боярина, требовалось ли увезти
жену чью-нибудь, всегда посылали Хомяка. И Хомяк
поджигал деревни, подкидывал грамоты и вместо одной
жены привозил их несколько.
К Хомяку обратился и теперь Григорий Лукьянович.
Что они толковали вместе, того никто не услышал. Но
в это самое утро, когда гончие царевича дружно зали-
вались в окрестностях Москвы, а внимание охотников,
стоявших на лазах, было поглощено ожиданием, и каж-
дый напрягал свое зрение, и ни один не заботился о том,
что делали его товарищи, — в это время по глухому
проселку скакали, удаляясь от места охоты, Хомяк и
Малюта, а промеж них со связанными руками, прикру-
ченный к седлу, скакал кто-то третий, которого лицо
скрывал черный башлык, надвинутый до самого подбо-
родка. На одном из поворотов проселка примкнули к
ним двадцать вооруженных опричников, и все вместе
продолжали скакать, не говоря ни слова.
506
Охота меж тем шла своим чередом, и никто не
заметил отсутствия царевича, исключая двух стремян-
ных, которые теперь издыхали в овраге, пронзенные
ножами.
Верст тридцать от Слободы, среди дремучего леса,
было топкое, непроходимое болото, которое народ про-
звал Поганою Лужей. Много чудесного рассказывали
про это место. Дровосеки боялись в сумерки подходить
к нему близко. Уверяли, что в летние ночи над водою
прыгали и резвились огоньки, души людей, убитых
разбойниками и брошенных ими в Поганую Лужу.
Даже среди белого дня болото имело вид мрачной
таинственности. Большие деревья, лишенные снизу вет-
вей, поднимались из воды, мутной и черной. Отражаясь
в ней, как в туманном зеркале, они принимали чудный
вид уродливых людей и небывалых животных. Не слыш-
но было вблизи болота человеческого голоса. Стаи
диких уток прилетали иногда плескаться на его поверх-
ности. В камыше раздавался жалобный крик водяной
курочки. Черный ворон пролетал над вершинами дерев,
и зловещее карканье его повторялось отголосками.
Иногда слышны были далеко-далеко стук топора, треск
надрубленного дерева и глухое падение.
Но, когда солнце опускалось за вершины, когда над
болотом поднимался прозрачный пар, стук топора умол-
кал, и прежние звуки заменялись новыми. Начиналось
однообразное кваканье лягушек, сперва тихое и отры-
вистое, потом громкое, слитым хором.
Чем более сгущалась темнота, тем громче кричали
гады. Голоса их составляли как бы один беспрерывный
и продолжительный гул, так что ухо к нему привыкало
и различало сквозь него и дальний вой волков, и вопли
филина. Мрак становился гуще; предметы теряли свой
прежний вид и облекались в новую наружность. Вода,
древесные ветви и туманные полосы сливались в одно
целое. Образы и звуки смешивались вместе и ускольза-
ли от человеческого понятия. Поганая Лужа сделалась
достоянием силы нечистой.
К сему-то проклятому месту, но не в темную ночь, а
507
в утро солнечное, Малюта и опричники его направляли
бег свой.
В то самое время, как они торопились и погоняли
коней, другие молодцы, недоброго вида, собирались в
дремучем лесу недалеко от Поганой Лужи.
Гл а в а 13
ВАНЮХА ПЕРСТЕНЬ И ЕГО ТОВАРИЩИ
На широкой поляне, окруженной древними дубами
и непроходимым ломом, стояло несколько земляных
курений, а между ними на опрокинутых пнях, на выво-
роченных корнях, на кучах сена и сухих листьев лежало
и сидело множество людей разных возрастов, в разных
одеждах. Вооруженные молодцы беспрестанно выходи-
ли из глубины леса и присоединялись к товарищам.
Много было между ними разнообразия. Сермяги, феря-
зи и зипуны, иные в лохмотьях, другие блестящие
золотом, виднелись сквозь ветви дерев. У иных молод-
цов были привешены к бедрам сабли, другие мотали в
руках кистени или опирались на широкие бердыши.
Немало было тут рубцов, морщин, всклоченных голов и
бород нечесаных.
Удалое товарищество разделилось на разные круж-
ки. В самой средине поляны варили кашу и жарили на
прутьях говядину. Над трескучим огнем висели котлы;
дым отделялся сизым облаком от зеленого мрака, окру-
жавшего поляну как бы плотною стеной. Кашевары
покашливали, терли себе глаза и отворачивались от
дыму.
Немного подалее старик, с седою кудрявою головой,
с длинною бородой, рассказывал молодежи какую-то
сказку. Он говорил стоя и опершись на топор, насажен-
ный на длинную палку. В этом положении старику было
ловчее рассказывать, чем сидя. Он мог и выпрямиться,
и обернуться во все стороны, и в приличном месте
взмахнуть топором, и присвистнуть по-молодецки. Ребя-
та слушали его с истинным наслаждением. Они уши
508
поразвесили и рты поразевали. Кто присел на землю,
кто взобрался на сучок, кто просто расставил ноги и
выпучил глаза; но большая часть лежала на животах,
упершись локтями оземь, а подбородком о ладони:
оно-де сподручнее.
Далее двое молодцов тузили друг друга по голове
кулаками. Игра состояла в том, что кто-де из нас первый
попросит пощады. И ни одному не хотелось просить ее.
Уже оба противника побагровели, как две свеклы, но
дюжие кулаки не переставали стучать о головы, словно
молоты о наковальни.
— Эй, не будет ли с тебя, Хлопко? — спросил тот,
который казался послабее.
— Небось, брат Андрюшка! когда будет, скажу. А
вот тебе так сейчас плохо придется!
И кулаки продолжали стучать.
— Смотрите, братцы, вот Андрюшка тотчас свалит-
ся, — говорили зрители.
— Нет, не свалится! — отвечали другие. — Зачем ему
свалиться, у него голова здорова!
— А вот увидишь, свалится!
Но Андрюшке и подлинно не хотелось свалиться. Он
изловчился и, вместо чтобы ударить противника по
макушке, хватил его кулаком в висок.
Хлопко опрокинулся.
Многие из зрителей захохотали, но большая часть
изъявила негодование.
— Не честно! не честно! — закричали они. — Анд-
рюшка слукавил! Отодрать Андрюшку!
И Андрюшку тотчас же отодрали.
— Откуда молодцов бог несет? — спросил старый
сказочник у нескольких парней, которые подошли к
огню и робко озирались во все стороны.
Их привел ражий детина с широким ножом за поя-
сом; на парнях не было оружия, они казались нович-
ками.
— Слышь вы, соколики! — сказал, обращаясь к ним,
ражий детина, — дедушка Коршун спрашивает, откуда
вас бог принес? Отвечайте дедушке!
509
— Да оно, тово, вот как будет. Я-то из-под Моск-
вы! — отвечал один из парней, немного запинаясь.
— А зачем из гнездышка вылетел? — спросил Кор-
шун, — нешто морозом хватило али чересчур жарко
стало?
— Стало быть, жарко! — отвечал парень. — Как
опричники избу-то запалили, так сперва стало жарко, а
как сгорела-то изба, так и морозом хватило на дворе!
— Вот оно как. Ты парень не глупый. Ну, а ты чего
пришел?
— А родни искать!
Разбойники захохотали.
— Вишь что выдумал. Какой тебе родни?
— Да как убили опричники матушку да батюшку,
сестер да братьев, скучно стало одному на свете; думаю
себе: пойду к добрым людям, они меня накормят, напо-
ят, будут мне братьями да отцами! Встретил в кружале
вот этого молодца, догадался, что он ваш, да и просил
взять с собою.
— Добрый ты парень! — сказали разбойники, —
садись с нами, хлеб да соль, мы тебе будем братьями!
— А этот чего стоит, повеся нос, словно несолоно
хлебал? Эй ты, плакса, что губы надул? Откуда ты?
— С-под Коломны! — отвечал, лениво ворочая язы-
ком, дюжий молодой парень, стоявший с печальным
видом позади других.
— Что ж, и тебя опричники обидели, что ль?
— Нявесту взяли! — отвечал парень нехотя и про-
тяжно.
— А ну-ка, расскажи!
— Да что тут рассказывать! Наехали, да и взяли!
—- Ну, а потом?
— Что ж потом! Потом ничаво!
— Зачем же ты не отбил невесты?
— Где же ее было отбивать? Как наехали, так и
взяли!
— А ты на них так и смотрел разиня рот?
— Нет, опосля, как удрали-то, так уж так осерчал,
что боже сохрани.
Разбойники опять захохотали.
510
— Да ты, брат, видно, тяжел на подъем!
Парень скроил глупое лицо и не отвечал.
— Эй ты, пареная репа! — сказал один разбойник, —
взяли у тебя невесту, так из-за этого еще нечего кис-
нуть! другую найдешь!
Парень смотрел разиня рот и не говорил ни слова.
Лицо его разбойникам показалось забавным.
— Слышь ты, с тобой говорят! — сказал один из них,
толкая его под бок.
Парень молчал.
Разбойник толкнул его крепче.
Парень посмотрел на него так глупо, что все опять
принялись хохотать.
Несколько человек подошли к нему и стали толкать
его.
Парень не знал, сердиться ли ему или нет; но один
толчок сильнее других вывел его из сонного хладнокро-
вия.
— Полно вам пхаться! — сказал он, — что я вам,
куль муки, что ль, дался? Перестаньте, осерчаю!
Разбойники путце стали смеяться.
Парню и в самом деле хотелось рассердиться, только
лень и природная сонливость превозмогали его гнев.
Ему казалось, что не стоит сердиться из-за безделицы,
а важней-то причины не было!
— Серчай же, дурень! — сказали разбойники, — что
ж ты не серчаешь?
— А ну-ка, толкните-ка ящо!
— Вишь какой лакомый! На вот тебе!
— А ну-тка крепчае!
— Вот тебе!
— Ну, тяперь держитесь! — сказал парень, рассер-
дись наконец не на шутку.
Он засучил рукава, плюнул в кулаки и принялся
катать правого и виноватого. Разбойники не ожидали
такого нападения. Те, которые были поближе, в один
миг опрокинулись и сшибли с ног товарищей. Вся ватага
отхлынула к огню; котел упал, и щи разлились на уголья.
— Тише ты, тише, сатана! Чего расходился! Говорят
тебе, тише! — кричали разбойники.
511
Но парень уже ничего не слыхал. Он продолжал
махать кулаками вправо и влево и каждым ударом
сшибал по разбойнику, а иногда и по два.
— Вишь, медведь! — говорили те, которые успевали
отскочить в сторону.
Наконец парень образумился. Он перестал драться
и остановился посреди опрокинутых и разбитых горш-
ков, почесывая затылок, как будто желая сказать:
«Что же это я, в самом деле, наделал!»
— Ну, брат, — сказали разбойники, подымаясь на
ноги и потирая ребра, — кабы ты тогда в пору осерчал,
не отбили бы у тебя невесты! Вишь какой Илья Муро-
мец!
— Да как тебя зовут, молодца? — спросил старый
разбойник.
— А Митькою!
— Ну Митька! Ай да Митька!
— Вот уж Митька!
— Ребята! — сказал, подбегая к ним, один моло-
дец, — атаман опять начал рассказывать про свое житье
на Волге. Все бросили и песни петь, и сказки слушать,
сидят вокруг атамана. Пойдем поскорее, а то места не
найдем!
— Пойдем, пойдем слушать атамана! — раздалось
между разбойниками.
На срубленном пне, под тенью огромного дуба, сидел
широкоплечий детина среднего роста, в богатом зипуне,
шитом золотом. Голову его покрывала мисюрка, или
железная круглая шацка, вроде тафьи, называвшаяся
также и наплешником. К шапке приделана была барми-
ца, или стальная кольчатая сеть, защищавшая от сабель-
ных ударов затылок, шею и уши. Широкоплечий детина
держал в руке чекан, молот, заостренный с задней
стороны и насаженный на топорище. В этом убранстве
трудно было бы узнать старого нашего знакомца, Ваню-
ху Перстня. Глаза его бегали во все стороны. Из-под
коротких черных усов сверкали зубы столь ослепитель-
ной белизны, что они, казалось, освещали все лицо его.
Разбойники молчали и слушали.
512
— Так вот, братцы, — говорил Перстень, — это еще
не диковина остановить обоз или боярина ограбить,
когда вас десятеро на одного. А вот была бы диковина
кабы один остановил да ограбил человек пятьдесят или
боле!
— Эх, хватил! — отозвались разбойники, — малого
захотел! Небось ты остановишь!
— Моя речь не про меня, а знаю я молодца, что и
один обозы останавливал.
— Уж не опять ли твой волжский богатырь!
— Да не кто другой. Вот, примерно, тянулось раз
судишко на бичеве из-под Астрахани вверх по матуш-
ке-Волге. На судишке-то народу было немало: все купцы
молодцы, с пищалями, с саблями, кафтаны нараспашку,
шапки набекрень, не хуже нашего брата. А грузу-то:
золота, каменьев самоцветных, жемчугу, вещиц астра-
ханских и всякой дряни еще, али полно! Берег-то высо-
кий, бичевник-то узенький, а среди Волги остров: скала
голая, да супротив теченья, словно ножом угол вышел,
такой острый, что боже упаси.
Вот проведал мой молодец, с чем бог несет судно.
Не сказал никому ни слова, пошел с утра, засел в кусты,
в ус не дует. Проходит час, проходит другой, идут,
понатужившись, лямочники, человек двенадцать, один
за другим, налегли на ремни, да и кряхтят, высунув
языки. Судишко-то, видно, не легонько, да и быстрина-
то народу не под силу!
Вот мой молодец и прожди, чтоб они скалу-то остру
миновали саженей на полсотни. Да как выскочит из-за
кустов, да как хватит саблей поперек бичевы, так и
перерубил пополам, а лямочники-то как шли сердечные,
так и шлепнулись оземь носами. Тут он кого кистнем,
кого кулаком, а кто вскочил да давай бог ноги! Понесло
судно назад по течению прямо на скалу. Всполошились
купцы, никто и стрелять не думает, думают только, как
бы миновать угол, чтобы судна-то не разбить! А мой
молодец одной рукой поймай бичеву, а другой ухватись
за дерево, да и останови судно:
«Эй вы, аршинники, купцы! удалые молодцы! Бросай-
513
17-769
те в воду сабли да пищали, честью прошу, не то бичеву
пущу, так вас и с грузом поминай как звали!»
Купцы навели было на богатыря стволики, да тотчас
и опустили; думают: как же это? убьем его, так некому
и бичевы подержать!
Нечего делать, побросали оружие в воду, да только
не все, думают, как взойдешь, молодец, на палубу
грабить судно, так мы тут тебе и карачун! Да мой
богатырь не промах.
«Добро, говорит, купчики голубчики, пошло оружие
ко дну, ступайте ж и вы куда кому угодно! А сказать
другими словами: прыгайте с судна вниз головами!»
Они было замялись, а он, ребятушки, зацепил бичеву
за дерево, схватил пищаль, да и пустил по них пулю.
Тут все, сколько ни было их, попрыгали в воду,
словно лягушки.
А он кричит:
«Не плыть сюда, приставай к берегу, не то всех, как
уток, перестреляю!»
Что, ребята, каков богатырь?
— Молодец! — сказали разбойники, — вот уж
подлинно молодец! Да что ж он с судном-то сделал?
— С судном-то? А намотал на руку бичеву, словно
нитку с бумажным змеем, да и вытащил судно на мель.
— Да что ж, он ростом с Полкана, что ли?
— Нет, не с Полкана. Ростом-то он не боле мово, да
плечики будут пошире!
— Шире твоих! Что ж это, на что ж он похож,
выходит!
— Да похож на молодца: голова кудластая, борода
черная, сутуловат маленько, лицо плоское, да зато глаза
посмотреть — страх!
— Воля твоя, атаман, ты про него говоришь, как про
чудо какое, а нам что-то не верится. Уж молодцеватее
тебя мы не видывали!
— Не видывали лучше меня! Да что вы, дураки,
видели! Да знаете ли, — продолжал Перстень с жа-
ром, — знаете ли, что я перед ним — ничто! Дрянь,
просто дрянь, да и только!
514
— Да как же зовут твоего богатыря?
— Зовут его, братцы, Ермаком Тимофеичем!
— Вишь какое имя! Что ж он один, что ли, без шайки
промышляет?
— Нет, не один. Есть у него шайка добрая, есть и
верные есаулики. Только разгневался на них царь пра-
вославный. Послал на Волгу дружину свою разбить их,
голубчиков, а одному есаулику, Ивану Кольцу, головуш-
ку велел отсечь да к Москве привезти.
— Что ж, поймали его?
— Поймали было царские люди Кольцо, только
проскользнуло оно у них промеж пальцев, да и покати-
лось по белу свету. Где оно теперь, сердечное, бог весть,
только, я чаю, скоро опять на Волгу перекатится! Кто
раз побывал на Волге, тому не ужиться на другой
сторонушке!
Замолчал атаман и задумался.
Задумались и разбойники. Опустили они буйные
головы на груди могучие и поглаживали молча усы
длинные и бороды широкие. О чем думали удальцы
разудалые, сидя на поляне, среди леса дремучего? О
молодости ли своей погибшей, когда были еще честными
воинами и мирными поселянами? О матушке ли Волге
серебряной? Или о дивном богатыре, про которого
рассказывал Перстень? Или думали они о хоромах
высоких среди поля чистого, о двух столбиках с пере-
кладинкой, о которых в минуту грусти думала в то время
всякая лихая, забубенная голова?
— Атаман! — вскричал один разбойник, подбегая к
Перстню и весь запыхавшись, — верст пять отсюда, по
Рязанской дороге, едут человек двадцать вершников с
богатым оружием, все в золоченых кафтанах! Аргамаки
и бахматы под ними рублей во сто каждый или боле!
— Куда едут? — спросил Перстень, вскакивая.
— Вот только что поворотили к Поганой Луже. Я как
увидел, так напрямик сюда и прибежал болотом да
лесом.
— Ну, ребята! — вскричал Перстень, — полно бобы
на печи разводить! Двадцать человек чтобы шли за мной!
515
17*
— Ты, Коршун, — продолжал он, обращаясь к ста-
рому разбойнику, — возьми двадцать других,, да засядь-
те у кривого дуба, отрежьте им дорогу, коли мы, нерав-
но, опоздаем. Ну, живо за сабли!
Перстень взмахнул чеканом и сверкнул очами. Он
походил на грозного полководца среди послушного вой-
ска.
Прежнее свободное обращение разбойников исчез-
ло и уступило место безусловной покорности.
В один миг сорок станичников отошли от толпы и
разделились на два отряда.
— Эй, Митька! — сказал Коршун молодому парню
из-под Коломны, — на тебе посошок, ступай с нами, да
понатужься, авось осерчаешь!
Митька скроил глупую рожу, взял хладнокровно из
рук старика огромную дубину, взвалил ее на плечо и
пошел, переваливаясь, за своим отрядом ко кривому
дубу.
Другой отряд, предводимый Перстнем, поспешил к
Поганой Луже, на переем неизвестным всадникам.
Глава 14
ОПЛЕУХА
В то самое время, как Малюта и Хомяк, сопровож-
даемые отрядом опричников, везли незнакомца к Пога-
ной Луже, Серебряный сидел в дружеской беседе с
Годуновым за столом, уставленным кубками.
— Скажи, Борис Федорович, — говорил Серебря-
ный, — что сталось с царем сею ночью? с чего подня-
лась вся Слобода на полунощницу? Аль то у вас часто
бывает?
Годунов пожал плечами.
— Великий государь наш, —‘ сказал он, — часто
жалеет и плачет о своих злодеях и часто молится за их
души. А что он созвал нас на молитву ночью, тому
дивиться нечего. Сам Василий Великий во втором посла-
нии к Григорию Назианзину говорит: что другим утром,
то трудящимся в благочестии полунощь. Среди ночной
516
тишины, когда ни очи, ни уши не допускают в сердце
вредительного, пристойно уму человеческому пребы-
вать с богом.
— Борис Федорыч! Случалось мне видеть и прежде,
как царь молился; оно было не так. Все теперь стало
иначе. И опричнины я в толк не возьму. Это не монахи,
а разбойники. Немного дней, как я на Москву вернулся,
а столько неистовых дел наслышался и насмотрелся, что
и поверить трудно. Должно быть, обошли государя. Вот
ты, Борис Федорыч, близко к нему, он любит тебя, что
б тебе сказать ему про опричнину?
Годунов улыбнулся простоте Серебряного.
— Царь милостив ко всем, — сказал он с притворным
смирением, — и меня жалует не по заслугам. Не мне
судить о делах государских, не мне царю указывать. А
опричнину понять не трудно: вся земля государева, все
мы под его высокою рукою; что возьмет государь на
свой обиход, то и его, а что нам оставит, то наше; кому
велит быть около себя, те к нему близко, а кому не
велит, те далеко. Вот и вся опричнина.
— Так, Борис Федорыч, когда ты говоришь, оно
выходит гладко, а на деле не то. Опричники губят и
насилуют земщину хуже татар. Нет на них никакого
суда. Вся земля от них гибнет! Ты бы сказал царю. Он
бы тебе поверил!
— Князь Никита Романыч, много есть зла на свете.
Не потому люди губят людей, что одни опричники,
другие земские, а потому, что и те и другие — люди!
Положим, я бы сказал царю; что ж из этого выйдет? Все
на меня подымутся, и сам царь на меня же опалится!..
— Что ж? Пусть опалится, а ты сделал по совести,
сказал ему правду!
— Никита Романыч! Правду сказать недолго, да
говорить-то надо умеючи. Кабы стал я перечить царю,
давно бы меня здесь не было, а не было б меня здесь,
кто б тебя вчера от плахи спас?
— Что дело, то дело, Борис Федорыч, дай бог тебе
здоровья, пропал бы я без тебя!
Годунов подумал, что убедил князя.
517
— Видишь ли, Никита Романыч, — продолжал он, —
хорошо стоять за правду, да один в поле не воевода. Что
б ты сделал, кабы, примерно, сорок воров стали при тебе
резать безвинного?
— Что б сделал? А хватил бы саблею по всем по
сорока и стал бы крошить их, доколе б души богу не
отдал!
Годунов посмотрел на него с удивлением.
— И отдал бы душу, Никита Романыч, — сказал
он, — на пятом, много на десятом воре; а достальные
все-таки б зарезали безвинного. Нет; лучше не трогать
их, князь; а как станут они обдирать убитого, тогда
крикнуть, что Степка-де взял на себя более Мишки, так
они и сами друг друга перережут!
Серебряному был такой ответ не по сердцу. Годунов
заметил это и переменил разговор.
— Вишь, — сказал он, глядя в окно, — кто это сюда
скачет сломя шею? Смотри, князь, никак, твой стремян-
ный?
— Вряд ли! — отвечал Серебряный, — он отпросился
у меня сегодня верст за двадцать на богомолье...
Но, вглядевшись пристальнее во всадника, князь в
самом деле узнал Михеича. Старик был бледен как
смерть. Седла под ним не было; казалось, он вскочил на
первого коня, попавшегося под руку, а теперь, вопреки
приличию, влетел на двор, под самые красные окна.
— Батюшка Никита Романыч! — кричал он еще
издали, — ты пьешь, ешь, прохлождаешься, а кручинуш-
ки-то не ведаешь? Сейчас ветрел я, вон за церквой,
Малюту Скуратова да Хомяка; оба верхом, а промеж
них, руки связаны, кто бы ты думал? Сам царевич! сам
царевич, князь! Надели они на него черный башлык,
проклятые, только ветром-то сдуло башлык, я и узнал
царевича! Посмотрел он на меня, словно помощи про-
сит, а Малюта, тетка его подкурятина, подскочил, да
опять и нахлобучил ему башлык на лицо!
Серебряный вспрянул с места.
— Слышишь, слышишь, Борис Федорыч! — вскричал
он, сверкая глазами. — Али ждать еще, чтоб воры
518
перессорились меж собой! — И он бросился с крыльца.
— Давай коня! — крикнул он, вырывая узду из рук
Михеича.
— Да это, — сказал Михеич, — конь-то не по тебе,
батюшка, это конь плохой, да и седла-то на нем нетути...
да и как же тебе на таком коне к царю ехать?...
Но князь уже вскочил и полетел не к царю, а в
погоню за Малютой...
Есть старинная песня, может быть современная
Иоанну, которая описывает по-своему приводимое
здесь событие:
Когда зачиналась каменна Москва,
Зачинался царь Иван, государь Васильевич.
Как ходил он под Казань-город,
Под Казань-город, под Астрахань;
Он Казань-город мимоходом взял,
Полонил царя и с царицею;
Выводил измену из Пскова,
Из Пскова и из Новгорода.
Как бы вывесть измену из каменной Москвы!
Что воз говорит Малюта, злодей Скурлатович:
«Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Не вывесть тебе изменушки до веку!
Сидит супротивник супротив тебя,
Ест с тобой с одного блюда,
Пьет с тобой с одного ковша,
Платье носит с одного плеча!»
И тут царь догадается,
На царевича осержается.
«Ах вы гой еси, князья и бояре!
Вы берите царевича под белы руки,
Надевайте на него платье черное,
Поведите его на болото жидкое,
На тое ли Лужу Поганую.
Вы предайте его скорей смерти!»
Все бояре разбежалися,
Один остался Малюта-злодей,
Он брал царевича за белы руки,
Надевал на него платье черное,
Повел на болото жидкое,
Что на ту Лужу Поганую
Проведал слуга Никиты Романыча,
Садился на лошадь водовозную,
Скоро скакал к Никите Романычу:
«Гой еси, батюшка Никита Романыч!
Ты пьешь, ешь, прохлождаешься,
Над собой кручинушки не ведаешь!
Упадает звезда поднебесная,
519
Угасает свеча воску ярого,
Не становится млада царевича!»
Никита Романыч испугается,
Садится на лошадь водовозную,
Скоро скачет на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу Поганую.
Он ударил Малюту по щеке
«Ты Малюта, Малюта Скурлатович!
Не за свой ты кус принимаешься,
Ты этим кусом подавишься!..»
Песня эта, может быть и несходная с действитель-
ными событиями, согласна, однако, с духом того века.
Не полно и не ясно доходили до народа известия о том,
что случалось при царском дворе или в кругу царских
приближенных, но в то время, когда сословия еще не
были разъединены нравами и не жили врозь одно
другого, известия эти, даже искаженные, не выходили
из границ правдоподобия и носили на себе печать общей
жизни и общих понятий.
Таков ли ты был, князь Никита Романыч, каким
воображаю тебя, — про то знают лишь стены кремлев-
ские да древние дубы подмосковные! Но таким ты
предстал мне в час тихого мечтания, в вечерний час,
когда поля покрывались мраком, вдали замирал шум
хлопотливого дня, а вблизи все было безмолвно, и лишь
ветер шелестел в листьях, и лишь жук вечерний проле-
тал мимо. И грустно и больно сказывалась во мне
любовь к родине, и ясно выступала из тумана наша
горестная и славная старина, как будто взамен зрения,
заграждаемого темнотою, открывалось во мне внутрен-
нее око, которому столетия не составляли преграды.
Таким предстал ты мне, Никита Романьи, и ясно увидел
я тёбя, летящего на коне в погоню за Малютой, и
перенесся я в твое страшное время, где не было ничего
невозможного.
Забыл Серебряный, что он без сабли и пистолей, и
не было ему нужды, что конь под ним стар. А был то
добрый конь в свое время; выслужил он лет двадцать и
на войне и в походах; только не выслужил себе покою
на старости; выслужил упряжь водовозную, сено гнилое
да удары палочные!
520
Теперь почуял он на себе седока могучего и вспом-
нил о прежних днях, когда носил богатырей в грозные
сечи и кормили его отборным зерном, и поили медвяною
сытой. И раздул он красные ноздри, и вытянул шею, и
летит в погоню за Малютой Скуратовым.
Скачет Малюта во дремучем лесу со своими оприч-
никами. Он торопит их к Поганой Луже, поправляет
башлык на царевиче, чтоб не узнали опричники, кого
везут на смерть. Кабы узнали они, отступили бы от
Малюты, схоронились бы больший за меньшего. Но
думают опричники, что скачет простой человек меж
Хомяка и Малюты, и только дивятся, что везут его
казнить так далеко.
Торопит Малюта опричников, серчает на коней, бьет
их плетью по крутым бедрам.
— Ах вы, волчья сыть, травяные мешки! Не одумался
б царь, не послал бы за нами погони!
Скачет злодей Малюта во дремучем лесу, смотрят на
него пташки, вытянув шейки, летят над ним черные
вороны — уж близко Поганая Лужа!
— Эй, — говорит Малюта Хомяку, — никак, стучат
за нами чужие подковы?
— Нет, — отвечает Хомяк, — то от наших коней
топот в лесу раздается.
И пуще торопит Малюта опричников, и чаще бьет
коней по крутым бедрам.
— Эй, — говорит он Хомяку, — никак, кто-то кричит
за нами?
— Нет, — отвечает Хомяк, то нашу молвь отголоски
разносят.
И серчает Малюта на коней.
— Ах вы, волчья сыть, травяные мешки! Ой, не было
б за нами погони!
Вдруг слышит Малюта за собою:
— Стой, Григорий Лукьяныч!
Серебряный был у Скуратова за плечами. Не выдал
его старый конь водовозный.
— Стой, Малюта! — повторил Серебряный и, нагнав
Скуратова, ударил его в щеку рукою могучею.
521
Вдруг слышит Малюта за собою:
«Стой, Григорий Лукьяныч!»
Силен был удар Никиты Романовича. Раздалася по-
щечина, словно выстрел пищальный; загудел сыр-бор,
посыпались листья; бросились звери со всех ног в чащу;
вылетели из дупел пучеглазые совы; а мужики, далеко
оттоле дравшие лыки, посмотрели друг на друга и
сказали, дивясь:
— Слышь, как треснуло! Уж не старый ли дуб
надломился над Поганою Лужей?
Малюта свалился с седла. Бедный старый конь Ни-
киты Романовича споткнулся, покатился и испустил дух.
— Малюта! — вскричал князь, вскочив на ноги, —
не за свой ты кус принимаешься! Ты этим кусом пода-
вишься!
И, вырвав из ножен саблю Малюты, он замахнулся
разрубить ему череп.
Внезапно другая сабля свистнула над головою князя.
Матвей Хомяк прилетел господину на помощь. Завязал-
ся бой меж Хомяком и Серебряным. Опричники напали
с голыми саблями на князя, но деревья и лом защитили
Никиту Романовича, не дали всем вдруг окружить его.
«Вот, — думал князь, отбивая удары, — придется
живот положить, не спася царевича! Кабы дал бог хоть
с полчаса подержаться, авось подоспела бы откуда-ни-
будь подмога!»
И лишь только он подумал, как пронзительный свист
раздался в лесу; ему отвечали громкие окрики. Один
опричник, уже занесший саблю на князя, упал с раз-
дробленною головой, а над трупом его явился Ванюхя
Перстень, махая окрававленным чеканом. В тот же миг
разбойники, как стая волков, бросились на Малютиных
слуг, и пошла между ними рукопашная. Хотел бы Ма-
люта со своими дать дружный напуск на врагов, да негде
было разогнаться, все пришел лес да валежник. Многие
легли на месте; но другие скоро оправились. Крикнули:
гой-да! и потопали удалую вольницу. Сам Перстень,
раненный в руку, уже слабее разил чеканом, как новый
свист раздался в лесу.
— Стойте дружно, ребята! — закричал Перстень, —
то дедушка Коршун идет на прибавку!
523
И не успел он кончить речи, как Коршун с своим
отрядом ударил на опричников, и зачался меж ними бой
великий, свальный, самый красный.
Трудно было всадникам стоять в лесу против пеших.
Кони вздымались на дыбы, падали навзничь, давили под
собой седоков. Опричники отчаялись насмерть. Сабля
Хомяка свистела как вихорь, над головой его сверкала
молния.
Вдруг среди общей свалки сделалось колебание.
Дюжий Митька буравил толпу и лез прямо на Хомяка,
валяя без разбору и чужих и своих. Митька узнал
похитителя невесты. Подняв обеими руками дубину, он
грянул ею в своего недруга. Хомяк отшатнулся, удар пал
в конскую голову, конь покатился мертвый, дубина
переломилась.
— Погоди! — сказал Митька, наваливаясь на Хомя-
ка, — тяперь не уйдешь!
Кончилась битва. Не с кем было более драться, все
опричники легли мертвые, один Малюта спасся на лихом
аргамаке.
Стали разбойники считать своих и многих недосчи-
тались. Было и между ними довольно урону.
— Вот... — сказал Перстень, подходя к Серебряному
и стирая пот с лица, — вот, боярин, где довелось
свидеться!
Серебряный, с первым появлением разбойников,
бросился к царевичу и отвел коня в сторону; царевич
был привязан к седлу. Серебряный саблею разрезал
веревки, помог царевичу сойти и снял платок, которым
рот его был завязан. Во все время сечи князь от него не
отходил и заслонял его собою.
— Царевич, — сказал он, видя, что станичники уже
принялись грабить мертвых и ловить разбежавшихся
коней, — битва кончена, все твои злодеи полегли, один
Малюта ушел, да, я чаю, и ему несдобровать, когда царь
велит сыскать его!
При имени царевича Перстень отступил назад.
— Как? — сказал он, — это сам царевич? Сын
государев? Так вот за кого бог привел постоять! Так вот
кого они, собаки, связамши везли!
524
И атаман повалился Иоанну Иоанновичу в ноги.
Весть о его присутствии быстро разнеслась меж
разбойников. Все бросили выворачивать карманы уби-
тых и пришли бить челом царевичу.
— Спасибо вам, добрые люди! — сказал он ласково,
без обычного своего высокомерия, — кто б вы ни были,
спасибо вам!
— Не на чем, государь! — отвечал Перстень, — кабы
знал я, что это тебя везут, я бы привел с собою не сорок
молодцов, а сотенки две; тогда не удрал бы от нас этот
Скурлатыч; взяли б мы его живьем, да при тебе бы
вздернули. Впрочем, есть у нас, кажись, его стремян-
ный; он же мне старый знакомый, а на безрыбье и рак
рыба. Эй, молодец, у тебя он, что ли?
— У меня! — отвечал Митька, лежа на животе и не
выпуская из-под себя своей жертвы.
— Давай его сюда, небось не уйдет! А вы, ребятушки,
разложите-ка огоньку для допросу да приготовьте ве-
ревку аль, пожалуй, хоть чумбур отрежь.
Митька встал. Из-под него поднялся здоровый дети-
на; но, лишь только он обернулся лицом к разбойникам,
все вскрикнули от удивления.
— Хлопко! — раздалося отовсюду, — да это Хлопко!
Это он Хлопка притиснул вместо опричника.
Митька смотрел разиня рот.
Хлопко насилу дышал.
— Ишь, — проговорил наконец Митька, — так это
я, должно быть, тебя придавил! Чаво ж ты молчал?
— Где ж мне было говорить, коли ты у меня на горле
сидел, тюлень ты этакий! Тьфу!
— Да чаво ж ты подвернулся?
— Чаво! Чаво! Как ты, медведь, треснул коня по лбу,
так седок-то на меня и свалился, а ты, болван, вместо
чтобы на него, да на меня и сел, да и давай душить сдуру,
знай обрадовался!
— Ишь! — сказал Митька, — вот што! — и почесал
затылок.
Разбойники захохотали. Сам царевич улыбнулся. Хо-
мяка нигде не могли найти.
525
— Нечего делать, — сказал Перстень, — видно, не
доспел ему час, а жаль, право! Ну, так и быть, даст бог,
в другой раз не свернется! А теперь дозволь, государь,
я тебя с ребятами до дороги провожу. Совестно мне,
государь! Не приходилось бы мне, худому человеку, и
говорить с твоею милостью, да что ж делать, без меня
тебе отселе не выбраться!
— Ну, ребята, — продолжал Перстень, — собирай-
тесь оберегать его царскую милость. Вот ты, боярин, —
сказал он, обращаясь к Серебряному, — ты бы сел на
этого коня, а я себе, пожалуй, вот этого возьму. Тебе,
дядя Коршун, я чай, пешему будет сподручнее, а тебе,
Митька, и подавно!
— Ничто! — сказал Митька, ухватясь за гриву одного
коня, который от этого покачнулся на сторону, — и я
сяду!
Он занес ногу в стремя, но, не могши попасть в него,
взвалился на коня животом, проехал так несколько
саженей рысью и наконец уже взобрался на седло.
— Эхва! — закричал он, болтая ногами и подкидывая
локти.
Вся толпа двинулась из лесу, окружая царевича.
Когда показалось наконец поле, а вдали запестрела
крыша Александровской слободы, Перстень остано-
вился.
— Государь, — сказал он, соскакивая с коня, — вот
твоя дорога, вон и Слобода видна. Не пристало нам доле
с твоею царскою милостью оставаться. К тому ж там
пыль по дороге встает; должно быть, идут ратные люди.
Прости, государь, не взыщи; поневоле бог свел!
— Погоди, молодец! — сказал царевич, который, по
миновании опасности, начал возвращаться к своим
прежним приемам. — Погоди, молодец! Скажи-ка напе-
ред, какого ты боярского рода, что золоченый зипун
носишь?
— Государь, — ответил скромно Перстень, — много
нас здесь, бояр без имени-прозвища, много князей без
роду-племени. Носим, что бог послал!
— А знаешь ли, — продолжал строго царевич, — что
526
таким князьям, как ты, высокие хоромы на площади
ставят и что ты сам своего зипуна не стоишь? Не
сослужи ты мне службы сегодня, я велел бы тем
ратникам всех вас перехватить да к Слободе привести.
Но ради сегодняшнего дела я твое прежнее воровство
на милость кладу и батюшке царю за тебя слово замол-
влю, коли ты ему повинную принесешь!
— Спасибо на твоей ласке, государь, много тебе
благодарствую; только не пришло еще мне время нести
царю повинную. Тяжелы мои грехи перед богом; велики
винности перед государем; вряд ли простит меня батюш-
ка царь, а хоча бы и простил, так не приходится бросать
товарищей!
— Как? — сказал удивленный царевич, — ты не
хочешь оставить воровства своего, когда я сам тебе мой
упрос обещаю? Видно, грабить-то по дорогам прибыль-
нее, чем честно жить?
Перстень погладил черную бороду и лукавою усмеш-
кой выказал два ряда ровных белых зубов, от которых
загорелое лицо его показалось еще смуглее.
— Государь! — сказал он, — на то щука в море, чтобы
карась не дремал! Не привычен я ни к ратному строю,
ни к торговому делу. Прости, государь; вон уж пыль
сюда подвигается; пора назад; рыба ищет где поглубже,
а наш брат — где место покрепче!
И Перстень исчез в кустах, уводя за собою коня.
Разбойники один за другим пропали меж деревьев, а
царевич сам-друг с Серебряным поехали к Слободе и
вскоре встретились с отрядом конницы, которую вел
Борис Годунов.
Что делал царь все это время? Послушаем, что
говорит песня и как она выражает народные понятия
того века.
Что возговорит грозный царь.
«Ах вы гой еси, князья мои и бояре!
Надевайте платье черное,
Собирайтеся ко заутрене,
Слушать по царевиче панихиду,
Я всех вас, бояре, в котле сварю!»
Все бояре испугалися,
Надевали платье черное,
527
Собиралися ко заутрене,
Слушать по царевиче панихиду.
Приехал Никита Романович,
Нарядился в платье цветное,
Привел с собой млада царевича
И поставил за дверьми северны.
Что возговорит грозный царь:
«Ах ты гой еси, Никита Романович!
Что в глаза ль ты мне насмехаешься?
Как упала звезда поднебесная,
Что угасла свеча воску ярого,
Не стало у меня млада царевича!»
Что возговорит Никита Романович:
«Ах ты гой еси, надежа, православный царь!
Мы не станем по царевиче панихиду петь,
А станем мы петь молебен заздравный!»
Он брал царевича за белу руку,
Выводил из-за северных дверей.
Что возговорит грозный царь:
«Ты, Никита, Никита Романович!
Еще чем мне тебя пожаловать?
Или тебе полцарства дать?
Или золотой казны сколько надобно?»
«Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Не сули мне полцарства, ни золотой казны,
Только дай мне злодея Скурлатова:
Я сведу его на то болото жидкое,
Что на ту ли Лужу Поганую!»
Что возговорит царь Иван Васильевич:
«Еще вот тебе Малют-злодей,
И делай с ним, что хочешь ты!»
Так гласит песня; но не так было на деле. Летописи
показывают нам Малюту в чести у Ивана Васильевича
еще долго после 1565 года. Много любимцев, в разные
времена, пали жертвою царских подозрений. Не стало
ни Басмановых, ни Грязного, ни Вяземского, но Малюта
ни разу не испытал опалы. Он, по предсказанию старой
Онуфревны, не принял своей муки в этой жизни и умер
честною смертию. В обиходе монастыря св. Иосифа
Волоцкого, где погребено его тело, сказано, что он убит
на государевом деле под Пайдою.
Как оправдался Малюта в клевете своей — мы не
знаем.
Может быть, Иоанн, когда успокоилась встревожен-
ная душа его, приписал поступок любимца обманутому
усердию; может быть, не вполне отказался от подозре-
528
ний на царевича. Как бы то ни было, Скуратов не только
не потерял доверия царского, но с этой поры стал еще
драгоценнее Иоанну. Доселе одна Русь ненавидела Ма-
люту, теперь стал ненавидеть его и самый царевич;
Иоанн был отныне единственною опорой Малюты. Об-
щая ненависть ручалась царю за его верность.
Намек на Басманова также не прошел даром. В
Иоанновом сердце остался зародыш подозрения и хотя
не тотчас пустил в нем корни, но значительно охладил
расположение его к кравчему, ибо царь никогда не
прощал тому, кого однажды опасался, хотя бы впослед-
ствии и сам признавал живое опасение напрасным.
Глава 15
ПОЦЕЛУЙНЫЙ ОБРЯД
Пора нам возвратиться к Морозову. Смущение Еле-
ны в присутствии Серебряного не ускользнуло от про-
ницательности боярина. Правда, сначала он подумал, что
встреча с Вяземским тому причиной, но впоследствии
новое подозрение зародилось в душе его.
Простившись с князем и проводив его до сеней,
Морозов возвратился в избу. Навислые брови его были
грозно сдвинуты; глубокие морщины бороздили чело;
его бросало в жар, ему было душно. «Елена теперь
спит, — подумал он, — она не будет ждать меня;
пройдусь я по саду, авось освежу свою голову».
Морозов вышел; в саду было темно. Подходя к
ограде, он увидел белую ферязь. Он стал всматриваться.
Внезапно любовные речи поразили его слух. Старик
остановился. Он узнал голос жены. За оградою рисовал-
ся на звездном небе неопределенный образ всадника.
Незнакомец нагнулся к Елене и что-то говорил ей.
Морозов притаил дыхание, но порыв ветра потряс вер-
шины дерев и умчал слова и голос незнакомца. Кто был
этот незнакомец? Ужели Вяземский успел своею на-
стойчивостью склонить к себе Елену? Загадочно жен-
ское сердце! Ему нравится сегодня, что вчера возбуж-
дало его ненависть! Или уже не Серебряный ли назна-
529
чил свидание жене его? Кто знает? Быть может, князь,
которого он принял как сына, нанес ему в тот же день
кровавое оскорбление, ему, лучшему другу отца его;
ему, который готов был подвергнуть опасности собст-
венную жизнь, чтобы скрыть Серебряного от царского
гнева.
«Но нет, — подумал Морозов, — это не Серебряный!
Это какой-нибудь опричник, новый любимец царский.
Им не в диковинку бесчестить столбового боярина. А
жена-то, змея подколодная! Уж ее ли не любил я! Ее ли
не держал как дочь родную! И не вольно ли волей вышла
она за меня? Не благодарила ль меня, лукавая? Не
клялась ли мне в верности? Нет, не надейся, Дружина
Андреич, на верность женскую. Женская верцость —
терем высокий, дверь дубовая да запоры железные!
Поторопился, Дружина Андреич, вручать девке честь
свою! Обуяло тебя, старого, сердце пылкое! Провела
тебя жена, молодая змея; посмеются над тобою люди
московские!»
Так думал Морозов и мучился догадками. Ему хоте-
лось ринуться вперед. Но всадник мог ускакать, и
боярин не узнал бы врага своего. Он решился повреме-
нить.
Как нарочно, в эту ночь ветер не переставал шуметь,
а месяц не выходил из-за облак. Морозов не узнал ни
лица, ни голоса всадника. Он только расслышал, что
боярыня сказала ему сквозь слезы:
— Я люблю тебя боле жизни, боле солнца красного!
Я никого, кроме тебя, не любила и любить не могу и не
буду.
Вскоре Елена прошла мимо Морозова, не заметив
его. Медленно последовал за нею Дружина Андреич.
На другой день он не показал и виду, что подозревает
Елену. Он был с нею по-прежнему приветлив и ласков.
По временам лишь, когда она того не примечала, боярин
забывался, сдвигал брови и грозно смотрел на Елену.
Страшную думу думал тогда Дружина Андреич. Он
думал, как бы сыскать ему своего недруга.
Прошло дня четыре. Морозов сидел в брусяной избе
530
за дубовым столом. На столе лежала разогнутая книга,
оболоченная черватым бархатом, с серебряными за-
стежками и жуками. Но боярин думал не о чтении. Глаза
его скользили над пестрыми заголовками и узорными
травами страницы, а воображение бродило от жениной
светлицы к садовой ограде.
Накануне этого дня Серебряный возвратился из
Слободы и, по данному обещанию, посетил Морозова.
Елена в этот день сказалась больною и не вышла из
светлицы. Морозов ни в чем не изменил своего обраще-
ния с Никитой Романовичем. Но, поздравляя его с
счастливым возвратом и потчуя прилежно дорогого
гостя, он не переставал вникать в выражение его лица
и старался уловить на нем признаки предательства.
Серебряный был задумчив, но прост и откровенен по-
прежнему; Морозов не узнал ничего.
И вот о чем думал он теперь, сидя за столом перед
разогнутою книгой.
Размышления его прервал вошедший слуга, но, увидя
нахмуренный лоб Морозова, он почтительно остановил-
ся. Морозов вопросил его взглядом.
— Государь! — сказал слуга, — едут царские люди.
Преди всех князь Афанасий Иваныч Вяземский; уж они
близко; прикажешь встречать?
В то же время послушался звон бубна, в который бил
кожаною плетью, или вощагой, передовой холоп, чтобы
разгонять народ и очищать дорогу господину.
— Вяземский едет ко мне? — сказал Морозов. —
Что он, рехнулся? Да, может быть, он едет мимо. Ступай
к воротам и подожди, а если он поворотит сюда, скажи
ему, что мой дом не кружало, что опричников я не знаю
и с ними хлеба-соли не веду! Ступай!
Слуга колебался.
— Что еще? — спросил Морозов.
— Боярин, твоя надо мной воля, а этого не скажу
Вяземскому!
— Ступай! — закричал Морозов и топнул ногой.
— Боярин! — сказал, вбегая, дворецкий, — князь
Вяземский с опричниками подъезжает к нашим воро-
там! Князь говорит, я-де послан от самого государя.
531
— От государя? Он тебе сказал — от государя?
Настежь ворота! Подайте золотое блюдо с хлебом-
солью! Вся дворня чтобы шла навстречу посланным
государя!
Между тем ближе и ближе слышались звон и бря-
цанье бубна; человек двадцать всадников, а впереди
Афанасий Иванович на статном караковом жеребце, в
серебряной сбруе, въехали шагом на двор Морозова.
На князе был атласный кафтан. Из-за низко вырезанно-
го ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи.
Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широ-
кие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малино-
вым шелковым кушаком, с выпущенною в два конца
золотою бахромой, с заткнутыми по бокам узорными
перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены
были в желтые сафьяновые сапоги, с серебряными
скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом
и спущенными в частых складках до половины икор.
Поверх кафтана надет был внакидку шелковый легкий
опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двой-
ною алмазною запоной. Голову князя покрывала белая
парчовая мурмолка с гибким алмазным пером, которое
качалось от каждого движения, играя солнечными луча-
ми. Черные кудри Афанасия Ивановича, выбегая из-под
шапки, смешивались с его бородой, короткой и кудря-
вою. Легкий ус образовывал над верхнею губой не
черную полосу, но лишь темную тень. Стан Вяземского
был высок и строен; вид молод и весел.
Согласно роскошному обычаю того времени, пешие
конюхи вели за ним под уздцы шесть верховых коней
в полном убранстве; из них один был вороной, один
буланый, один железно-серый, а три совершенно белой
масти. На головах коней качались цветные перья, на
хребтах их пестрели звериные кожи или парчовые
чепраки и чалдары, усаженные дорогими каменьями, и
все шестеро звенели на ходу множеством серебряных
бубенчиков или золотыми прорезными яблоками, подо-
бранными в согласный звон и висевшими по обеим
сторонам налобников длинными гроздами.
532
При появлении Дружины Андреевича Вяземский и
все опричники сошли с коней.
Морозов с золотым блюдом медленно шел к ним
навстречу, а за ним шли знакомцы, держальники и
холопи боярские.
— Князь, — сказал Морозов, — ты послан ко мне от
государя. Спешу встретить с хлебом-солью тебя и тво-
их! — И сивые волосы боярина пали ему на глаза от
низкого поклона.
— Боярин, — ответил Вяземский, — великий госу-
дарь велел тебе сказать свой царский указ: «Боярин
Дружина! царь и великий князь Иван Васильевич всея
Руси слагает с тебя гнев свой, сымает с главы твоей
свою царскую опалу, милует и прощает тебя во всех
твоих винностях; и быть тебе, боярину Дружине, по-
прежнему в его великого государя милости, и служить
тебе и напредки великому государю, и писаться твоей
чести по-прежнему ж!»
Изговоря речь, Вяземский заложил одну руку за
кушак, другою погладил бороду, приосанился и, устре-
мив на Морозова орлиные глаза, ожидал его ответа.
При начале речи Морозов опустился на колени.
Теперь держальники подняли его под руки. Он был
бледен.
— Да благославит же святая троица и московские
чудотворцы нашего великого государя! — произнес он
дрожащим голосом. — Да продлит прещедрый и преми-
лостивый бог без счету царские дни его! не тебя ожидал
я, князь, но ты послан ко мне от милости государя, войди
в дом мой. Войдите, господа опричники! Прошу вашей
милости! А я пойду отслужу благодарственный молебен,
а потом сяду с вами пировать до поздней ночи.
Опричникии вошли.
Морозов подозвал холопа:
— Садись на конь, скачи к князю Серебряному,
отвези ему поклон и скажи, что прошу отпраздновать
сегодняшний день: царь-де пожаловал меня милостию
великою, изволил-де снять с меня свою опалу!
Отдав это приказание и проводив в сени гостей,
533
Морозов отправился через двор в домовую церковь;
перед ним шли знакомцы и держальники, а за ним
многочисленные холопи. В доме остался лишь дворец-
кий да сколько нужно было людей для прислуги оприч-
никам.
Подали разные закуски и наливки, но обед был еще
впереди.
Вскоре приехал Серебряный, также сопровождае-
мый знакомцами и холопями, ибо в тогдашнее время
ездить боярину в важных случаях одиночеством или
малолюдством считалось порухою чести.
Стол был уже накрыт в большой избе, слуги стояли
по местам, все ожидали хозяина.
Дружина Андреевич, отслушав молебен, вошел в
добром платье, в парчовом кафтане, с собольей шапкою
в руках. Сивые кудри его были ровно подстрижены,
борода тщательно расчесана. Он поклонился гостям,
гости ему поклонились, и все сели за стол.
Зачался почестный пир, зазвенели кубки и братины,
и вместе с ними зазвенел еще другой звон, несовмести-
мый со звуками веселого пира. Зазвенели под кафтаном
опричников невидимые доспехи.
Но Морозов не услышал зловещего звона. Другие
мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Мо-
розову, что ночной его оскорбитель пирует с ним за
одним столом, и боярин придумал наконец средство его
открыть. Средство это, по мнению его, было надежно.
Уже много кубков осушили гости; пили они про
государя, и про царицу, и про весь царский дом; пили
про митрополита, и про все русское духовенство: пили
про Вяземского, про Серебряного и про ласкового
хозяина; пили про каждого из гостей особенно. Когда
все здоровья были выпиты, Вяземский встал и предло-
жил еще здоровье молодой боярыни.
Того-то и ожидал Морозов.
— Дорогие гости, — сказал он, непригоже без
хозяйки пить про хозяйку!.. Сходите, — продолжал он,
обращаясь к слугам, — сходите за боярыней, пусть
сойдет потчевать из своих рук дорогих гостей!
534
— Ладно, ладно! — зашумели гости, — без хозяйки
и мед не сладок!
Через несколько времени явилась Елена в богатом
сарафане, сопровождаемая двумя сенными девушками;
она держала в руках золотой поднос с одною только
чаркой. Гости встали. Дворецкий наполнил чарку трой-
ным зеленчаком, Елена прикоснулась к ней губами и
начала обносить ее кругом гостей, кланяясь каждому,
малым обычаем, в пояс. По мере того как гости выпи-
вали чарку, дворецкий наполнял ее снова.
Когда Елена обошла всех без изъятия, Морозов,
пристально за ней следивший, обратился к гостям.
— Дорогие гости, — сказал он, — теперь, по старин-
ной русской обыклости, прошу вас, уважили б вы дом
мой, не наложили б охулы на мое хозяйство, прошу вас,
дорогие гости, не побрезговали бы вы поцеловать жену
мою!.. Дмитриевна, становись в большом месте и отда-
вай все поцелуи, каждому поочередно!
Гости благодарили хозяина. Елена с трепетом стала
возле печи и опустила глаза.
— Князь, подходи! — сказал Морозов Вяземскому.
— Нет, нет, по обычаю! — закричали гости, — пусть
хозяин поцелует первый хозяйку! Пусть будет по обы-
чаю, как от предков повелось!
— Пусть же будет по обычаю, — сказал Морозов и,
подойдя к жене, он сперва поклонился ей в ноги. Когда
они поцеловались, губы Елены горели как огонь; как лед
были холодны губы Дружины Андреевича.
За Морозовым подошел Вяземский.
Морозов стал примечать.
Глаза Афанасия Ивановича сверкали словно уголья,
но лицо Елены оставалось неподвижно. Она при муже,
при Серебряном не боялась нахального князя.
«Не он», — подумал Морозов.
Вязямский положил земной поклон и поцеловал
Елену; но как поцелуй его длился долее, чем было
нужно, она отвернулась с приметною досадой.
«Нет, не он!» — повторил про себя Морозов.
За Вяземским подошли поочередно несколько оприч-
535
ников. Они все кланялись, большим обычаем, в землю
и потом целовали Елену; но Дружина Андреевич ничего
не мог прочесть на лице жены своей, кроме беспокой-
ства. Несколько раз длинные ресницы ее подымались,
и взор, казалось, со страхом искал кого-то между
гостями.
«Он здесь!» — подумал Морозов.
Вдруг ужас овладел Еленой. Глаза ее встретились с
глазами мужа, и, с свойственною женскому сердцу
сметливостью, она отгадала его мысли. Под этим тяже-
лым, неподвижным взором ей показалось невозможным
поцеловать Серебряного и не быть в тот же миг уличен-
ною. Все обстоятельства их встречи у садовой ограды,
в первый приезд Серебряного, живо представились ее
памяти. Теперешнее ее положение и ожидающий ее
поцелуй показалась ей божьим наказанием за ту пре-
ступную встречу, за тот преступный поцелуй. Смертель-
ный холод пробежал по ее членам.
— Я нездорова... — прошептала она, — отпусти меня,
Дружина Андреич...
— Останься, Елена, — сказал спокойно Морозов, —
подожди; ты не можешь теперь уйти; это не видано, не
слыхано; надо кончить обряд!
И он проникал жену насквозь испытующим взгля-
дом.
— Ноги не держат меня!.. — произнесла Елена.
— Что? — сказал Морозов, будто нераслышав, —
угорела? эка невидаль!
— Прошу вас, государи, подходите, не слушайте
жены! Она еще ребенок; больно застенчива, ей в новин-
ку обряд! Да к тому же еще угорела! Подходите,
дорогие гости, прошу вас!
«Да где же Серебряный!» — подумал Дружина Анд-
реевич, пробегая глазами гостей.
Князь Никита Романович стоял в стороне. От него не
скрылось необыкновенное внимание, с каким Морозов
всматривался в жену и в каждого подходившего к ней
гостя. Он прочел в лице Елены страх и беспокойство.
Никита Романович, всегда решительный, когда совесть
536
его ни в чем не укоряла, теперь не знал, что делать. Он
боялся, подойдя к Елене, умножить ее смущение, боял-
ся, оставаясь позади других, возбудить подозрение му-
жа. Если б мог он сказать ей хоть одно слово непримет-
но, он ободрил бы ее и возвратил бы ей, может быть,
потерянную силу, но Елену окружали гости, муж не
спускал с нее глаз; надо было на что-нибудь решиться.
Серебряный подошел, поклонился Елене, но не знал,
смотреть ли ей в глаза или нарочно не встречать ее взора.
Это колебание выдало князя. С своей стороны, Елена не
выдержала пытки, которой подвергал ее Морозов.
Елена обманула мужа не по легкомыслию, не по
внушению сердца испорченного. Она обманула его по-
тому, что сама обманулась, думая, что может полюбить
Дружину Андреевича. Когда ночью, у садовой ограды,
она уверяла Серебряного в любви своей, слова вырыва-
лись у нее невольно; она не торговалась выражениями,
и если бы тогда она увидела за собой мужа, то призна-
лась бы ему во всем чистосердечно. Но воображение
Елены было пылко, а нрав робок. После ночного свида-
ния с Серебряным ее не переставали мучить угрызения
совести. К ним присоединилось еще смертельное бес-
покойство об участи Никиты Романовича. Сердце ее
раздиралось противоположными ощущениями; ей хоте-
лось пасть к ногам мужа и просить у него прощения и
совета; но она боялась его гнева, боялась за Никиту
Романовича.
Эта борьба, эти мучения, страх, внушаемый ей му-
жем, добрым и ласковым, но неумолимым во всем, что
касалось его чести — все это разрушительно потрясло
ее телесные силы. Когда губы Серебряного прикосну-
лись к губам ее, она задрожала как в лихорадке, ноги
под ней подкосились, а из уст вырвались слова:
— Пресвятая богородица! пожалей меня!
Морозов подхватил Елену.
— Эх! — сказал он, — вот женское-то здоровье!
Посмотреть, так кровь с молоком, а немного угару, так
и ноги не держат. Да ничего, пройдет! Подходите,
дорогие гости!
537
Голос и приемы Морозова ни в чем не изменились.
Он так же казался спокоен, так же был приветлив и
доброхотен.
Серебряный остался в недоумении; в самом деле он
проник его тайну?
Когда кончился обряд и Елена, поддерживаемая де-
вушками, удалилась в светлицу, гости, по приглашению
Морозова, опять сели за стол.
Дружина Андреевич всех нудил и потчевал с преж-
нею заботливостью и не забывал ни одной из мелочных
обязанностей, доставлявших в те времена хозяину дома
славу доброго хлебосола.
Уже было поздно. Вино горячило умы, и странные
слова проскакивали иногда среди разговора опрични-
ков.
— Князь, — сказал один из них, наклоняясь к
Вяземскому, — пора бы за дело!
— Молчи! — ответил шепотом Вяземский, — старик
услышит!
— Хоть и услышит, не поймет! — Продолжал громко
опричник с настойчивостью пьяного.
— Молчи! — повторил Вяземский.
— Я те говорю, князь, пора! Ей-богу, пора! Вот я знак
подам!
И опричник двинулся встать.
Вяземский сильною рукою пригвоздил его к скамье.
— Уймись, — сказал он ему на ухо, — не то вонжу
этот нож тебе в горло!
— Ого, да ты еще грозишь! — вскричал опричник,
вставая со скамьи. — Вишь ты какой! Я говорил, что
нельзя тебе верить! Ведь ты не наш брат! Уж я бы вас
всех, князей да бояр, что наше жалованье заедаете! Да
погоди, посмотрим, чья возьмет. Долой из-под кафтана
кольчугу-то! Вымай саблю! Посмотрим, чья возьмет!
Слова эти были произнесены неверным языком, сре-
ди общего говора и шума; но некоторые из них долетели
до Серебряного и возбудили его внимание. Морозов их
не слыхал. Он видел только, что между гостями вспых-
нула ссора.
538
— Дорогие гости! — сказал он, вставая из-за сто-
ла, — на дворе уж темная ночь! Не пора ли на покой?
Всем вам готовы и перины мягкие, и подушки пуховые!
Опричники встали, благодарили хозяина, раскланя-
лись и пошли в приготовленные для них на дворе
опочивальни.
Серебряный также хотел удалиться.
Морозов остановил его за руку.
— Князь, — сказал он шепотом, — обожди меня
здесь!
И, оставя Серебряного, Дружина Андреевич отпра-
вился на половину жены.
Гл ава 16
ПОХИЩЕНИЕ
Во время обеда вокруг дома происходило нечто
необыкновенное.
С наступлением сумерек новые опричники стали
являться по одному возле садовой ограды, возле забора,
окружавшего двор, и наконец на самом дворе.
Люди Морозова не обратили на них внимания.
Когда настала ночь, дом был со всех сторон окружен
опричниками.
Стремянный Вяземского вышел из застольной, будто
бы напоить коня. Но, не дойдя до конюшни, он оглянул-
ся, посмотрел на все стороны, подошел к воротам и
просвистел как-то особенно. Кто-то к нему подкрался.
— Все ли вы? — спросил стремянный.
— Все, — отвечал тот.
— Много ли вас?
— Пятьдесят.
— Добро, ожидайте знака.
— А скоро ли? Ждать надоело.
— Про то знает князь. Да слышь ты, Хомяк, князь
не велит ни жечь, ни грабить дома!
— Не велит! Да что, он мне господин, что ли?
— Видно, господин, коли Григорий Лукьяныч велел
быть тебе сегодня у него в приказе.
539
— Служить-то я ему послужу, да только ему, а не
Морозову. Помогу князю увезти боярыню, а потом уж
и мне никто не указывай!
— Смотри, Хомяк, князь не шутит!
— Да что ты, с ума спятил? — сказал Хомяк, злобно
усмехаясь. — Князь князем, а я сам по себе. Коли мне
хочется погулять, кому какое дело?
В то самое время, как разговор этот происходил у
ворот, Морозов, остановив Серебряного, вошел на по-
ловину Елены.
Боярыня еще не ложилась. На голове ее уже не было
кокошника. Густая, полураспущенная коса упадала на
ее белые плечи. Летник был на груди растегнут. Елена
готовилась раздеться, но склонила голову на плечо и
забылась. Мысли ее блуждали в прошедшем. Она вспом-
нила первое знакомство с Серебряным, свои надежды,
отчаяние, предложение Морозова и данную клятву. Ей
живо представилось, как в радуницу перед самой свадь-
бой, она, по обычаю сирот, пошла на могилу матери,
поставила под крестом чашу с красными яйцами, мыс-
ленно христосовалась с матерью и просила благослове-
ния на любовь и союз с Морозовым.
Она верила в то время, что переможет первую
любовь свою, верила, что будет счастлива за Морозо-
вым; а теперь... Елена вспомнила о поцелуйном обряде,
и ее обдало холодом. Боярин вошел, не примеченный
ею, и остановился на пороге. Лицо его было сурово и
грустно. Несколько времени смотрел он молча на Елену.
Она была еще так молода, так неопытна, так неискусна
в обмане, что Морозов почуствовал невольную жалость.
— Елена! — сказал он, — отчего ты смутилась во
время обряда?
Елена вздрогнула и устремила на мужа глаза, полные
страха. Ей хотелось пасть к его ногам и сказать всю
правду, но она подумала, что, может быть, он еще не
подозревает Серебряного, и побоялась навлечь на него
мщение мужа.
— Отчего смутилась ты? — повторил Морозов.
— Мне нездоровилось... — отвечала Елена шепотом.
540
— Так» Тебе нездоровилось, но не телом, а душой.
Болезнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена!
Боярыня дрожала.
— Когда сего утра, — продолжал Морозов, — Вя-
земский с опричниками приехали в дом наш, я читал
священное писание. Знаешь ли, что говорится в писании
о неверных женах?
— Боже мой! — произнесла Елена.
— Я читал, — продолжал Морозов, — о наказании
за прелюбодейство...
— Господи! — умоляла боярыня, будь милостив,
Дружина Андреич, пожалей меня, я не столько виновна,
как ты думаешь... Я не изменила тебе...
Морозов грозно сдвинул брови.
— Не лги, Елена! Не мудрствуй! Не умножай греха
своего лукавою речью. Ты не изменила мне, потому что
для измены нужна хотя краткая верность, а ты никогда
не была мне верна...
— Дружина Андреич, пожалей меня!
— Ты никогда не была мне верна! Когда нас венчали,
когда ты своею великою неправдой целовала мне крест,
ты любила другого... Да, ты любила другого! — продол-
жал он, возвышая голос.
— Боже мой, боже мой! — прошептала Елена,
закрыв лицо руками.
— Дмитриевна! А Дмитриевна! Зачем не сказала ты
мне, что любишь его?
Елена плакала и не отвечала ни слова.
— Когда я тебя увидел в церкви, беззащитную
сироту, в тот день, как хотели выдать тебя насильно за
Вяземского, я решился спасти тебя от постылого мужа,
но хотел твоей клятвы, что не посрамишь ты седых
волос моих. Зачем ты дала мне клятву? Зачем не при-
зналась во всем? Словами ты была со мною, а сердцем
и мыслию с другим! Если бы знал я про любовь твою,
разве я взял бы тебя! Я бы схоронил тебя где-нибудь в
глухом поместье, далеко от Москвы, или свез бы в
монастырь; но не женился бы на тебе, видит бог, не
женился бы! Лучше было отойти от мира, чем достаться
541
постылому. Зачем ты не отошла от мира? Зачем защити-
лась моим именем, как стеной каменною, а потом
насмехалась мне с твоим полюбовником? Вы думали:
Морозов стар, Морозов слаб, нам легко его одурачить!
— Нет, господин мой! — взрыдала Елена и упала на
колени, — я никогда этого не думала! Ни в уме, ни в
помышлении того не было! Да он же в ту пору был в
Литве.
При слове он глаза Морозова засверкали, но он
овладел собою и горько усмехнулся.
— Так. Вы не в ту пору спознались, но позже,
когда он вернулся. Вы спознались ночью, в саду у
ограды, в тот самый вечер, когда я принял и обласкал
его, как сына. Скажи, Елена, ужели в самом деле вы
думали, что я не угадаю вашего замысла, дам себя
одурачить, не сумею наказать жену вероломную и
злодея моего, ее сводчика? Ужели чаял этот молоко-
сос, что гнусное его дело сойдет ему с рук? Аль не
читал он, что в книгах Левит написано: человек аще
прелюбы содеет с мужнею женой, смертию да умрут
прелюбодей и прелюбодейца?
Елена с ужасом взглянула на мужа. В глазах его была
холодная решительность.
— Дружина Андреич! — сказала она в испуге, — что
ты хочешь сделать?
Боярин вынул из-под опашня длинную пистолю.
— Что ты делаешь? — вскричала боярыня и отступи-
ла назад.
Мороз усмехнулся.
— Не бойся за себя! — сказал он холодно, — тебя
я не убью. Возьми свечу, ступай за мною!
Он осмотрел пистолю и подошел к двери. Елена не
двигалась с места. Морозов оглянулся.
— Свети мне! — повторил он повелительно.
В эту минуту послышался на дворе шум. Несколько
голосов говорили вместе. Слуги Морозова звали друг
друга. Боярин стал прислушиваться. Шум усиливался.
Казалось, множество людей врывалось в подклети. Раз-
дался выстрел.
542
Елене представилось, что Серебряный убит по воле
Морозова. Негодование возвратило ей силы.
— Боярин! — вскричала она, и взор ее загорелся, —
меня, меня убей! Я одна виновна!
Но Морозов не обратил внимания на слова ее. Он
слушал, наклоня голову, и лицо его выражало удивле-
ние.
— Убей меня! — просила в отчаянии Елена, — я не
хочу, я не могу пережить его! Убей меня! Я обманула
тебя, я насмехалась тебе! Убей меня!
Морозов посмотрел на Елену, и если бы кто увидел
его в это мгновение, тот не решил бы, жалость или
негодование преобладали в его взоре.
— Дружина Андреич! — раздался голос снизу. —
Измена! Предательство! Опричники врываются к жене
твоей! Остерегись, Дружина Андреич!
То был голос Серебряного. Узнав его, Елена в неизъ-
яснимой радости бросилась к двери. Морозов оттолкнул
жену; задвинул запор и укрепил дверь на железный
крюк.
Поспешные шаги послышались на лестнице, потом
стук сабель, потом проклятия, борьба, громкий крик и
падение.
Дверь затрещала от ударов.
— Боярин! — кричал Вяземский, — отопри, не то
весь дом раскидаю по бревнам!
— Не верю, князь! — отвечал с достоинством Мо-
розов. — Еще не видано на Руси, чтобы гость бесчестил
хозяина, чтобы силой врывался в терем жены его.
Хмелен был мед мой; он вскружил тебе голову, князь,
поди выспись, завтра все забудем. Не забуду лишь я,
что ты гость мой.
— Отопри! — повторил князь, напирая на дверь.
— Афанасий Иваныч! вспомни, кто ты? вспомни, что
ты не разбойник, но князь и боярин!
— Я опричник! слышишь, боярин, я опричник! Нет у
меня чести! Полюбилась мне жена твоя, слышишь,
боярин! Не боюсь студного дела; всю Москву пущу на
дым, а добуду Елену!
543
Внезапно изба ярко осветилась. Морозов увидел в
окно, что горят крыши людских служб. В то же время
дверь, потрясенная новыми ударами, повалилась с тре-
ском, и Вяземский явился на пороге, озаренный пожа-
ром, с переломанною саблей в руке.
Белая атласная одежда его была истерзана; по ней
струилась кровь. Видно было, что он не без боя достиг
до светлицы.
Морозов выстрелил в Вяземского почти в упор, но
рука изменила боярину; пуля ударилась в косяк; князь
бросился на Морозова.
Не долго продолжалась между ними борьба.
От сильного удара рукоятью сабли Морозов упал
навзничь. Вяземский подбежал к боярыне, но, лишь
только кровавые руки его коснулись ее одежды, она
отчаянно вскрикнула и лишилась чувств. Князь схватил
ее на руки и помчался вниз по лестнице, метя ступени
ее распущенною косой.
У ворот дожидались кони. Вскочив в седло, князь
полетел с полумертвою боярыней, а за ним, гремя
оружием, полетели его холопи.
Ужас был в доме Морозова. Пламя охватило все
службы. Дворня кричала, падая под ударами хищников.
Сенные девушки бегали с воплем взад и вперед. Това-
рищи Хомяка грабили дом, выбегали на двор и бросали
в одну кучу дорогую утварь, деньги и богатые одежды.
На дворе, над грудой серебра и золота, заглушая голо-
сом шум, крики и треск огня, стоял Хомяк в красном
кафтане.
— Эх, весело! — говорил он, потирая руки. — Вот
пир так пир!
— Хомяк! — вскричал один опричник, — дворня
увезла Морозова по реке. Догнать аль не надо?
— Черт с ним! Не до него теперь! Эй, вы! Все на
двор, не то скоро задохнемся!
— Хомяк! — сказал другой, — что велишь делать с
Серебряным?
— Не трогать его ни пальцем! Приставить к нему
сторожевых, чтобы глаз с него не сводили. Отвезем его
544
Князь схватил ее на руки и помчался вниз по лестнице.
милость к Слободе с почетом. Ведь видели вы, как он
князь Афанасья Иваныча хватил? Как наших саблей
крошил?
— Видели, видели!
— А будете в том крест целовать перед государем?
— Будем, будем! Все будем крест целовать!
— Ну ж, смотрите! Теперь чтоб никто не смел его
обидеть, а как приедем домой, так уж Григорий Лукья-
ныч припомнит ему свою оплеуху, а я мои плети!
Долго еще шумели и грабили опричники, и когда
поехали они, навьючив лошадей тяжелою добычей, то
еще долго после их отъезда видно было зарево над
местом, где недавно стоял дом Дружины Андреевича; и
Москва-река, протекая мимо, до самого утра играла
огненными струями, как растопленным золотом.
Гл ава 17
ЗАГОВОР НА КРОВЬ
Соседние люди, узнав о нападении опричников и
видя зарево над двором Морозова, спешили запирать
ворота и гасить огонь.
— Господи! — говорили, крестясь, те из них, мимо
которых скакал Вяземский с своими холопами, — гос-
поди: помилуй нас! Пронеси беду мимо!
И лишь топот коней удалялся и бряцанье броней
замирало в пустых улицах, жители говорили: «Слава
богу, миновала беда!» И опять крестились.
Между тем князь продолжал скакать и уже далеко
оставил за собой холопей. Он положил на мысль еще
до рассвета достичь деревни, где ожидала его подстава,
а оттуда перевезть Елену в свою рязанскую вотчину. Но
не проскакал князь и пяти верст, как увидел, что сбился
с дороги.
В то же время он почувствовал, что раны, на которые
он сгоряча не обратил внимания, теперь причиняют ему
нестерпимую боль.
— Боярыня! — сказал он, останавливая коня, — мои
холопи отстали... надо обождать!
546
Елена понемногу приходила в себя. Открыв глаза,
она увидела сперва далекое зарево, потом стала разли-
чать лес и дорогу, потом почувствовала, что лежит на
хребте коня и что держат ее сильные руки. Мало-помалу
она начала вспоминать события этого дня, вдруг узнала
Вяземского и вскрикнула от ужаса.
— Боярыня, — сказал Афанасий Иванович с горькой
усмешкой, — я тебе страшен? Ты клянешь меня? Не
меня кляни, Елена Дмитриевна! Кляни долю свою! На-
прасно хотела ты миновать меня. Не миновать никому
судьбы, не объехать конем суженого! Видно, искони,
боярыня, было тебе на роду написано, чтобы досталась
ты мне!
— Князь, — прошептала Елена, дрожа от ужаса, —
коли нет в тебе совести, вспомни боярскую честь свою,
вспомни хоть стыд...
— Нет у меня чести, нет стыда! Все, все отдал я за
тебя, Елена Дмитриевна!
— Князь, вспомни суд божий, не погуби души своей!
— Поздно, боярыня! — отвечал Вяземский со сме-
хом. — Я уже погубил ее! Или ты думаешь, кто платит
за хлеб-соль, как я, тот может спасти душу? Нет,
боярыня! Этою ночью я потерял ее навеки! Вчера еще
было время, сегодня нет для меня надежды, нет уж мне
прощения в моем окаянстве! Да и не хочу я райского
блаженства мимо тебя, Елена Дмитриевна!
Вяземский слабел все более. Он видел свое изнемо-
жение, но тщетно крепился. Бред отуманил его рассу-
док.
— Елена, — сказал он, — я истекаю кровью, холопи
мои далеко... помощи взять неоткуда, быть может, чрез
краткий час я отойду в пламень вечный... полюби меня,
полюби на один час... чтоб не даром отдал я душу
сатане!.. Елена! — продолжал он, собирая последние
силы, — полюби меня, прилука моего сердца, погуби-
тельница души моей!..
Князь хотел сжать ее в кровавых объятиях, но силы
ему изменили, поводья выпали из рук, он зашатался и
свалился на землю. Елена удержалась за конскую гриву.
547
18*
Не чуя седока, конь пустился вскачь. Елена хотела
остановить его,- конь бросился в сторону, помчался
лесом и унес с собою боярыню.
Долго мчались они в темном бору. Сначала Елена
силилась удержать коня, но вскоре руки ее ослабли, и
она, ухватясь за гриву, отдалася на божью волю. Конь
мчался без остановки. Сучья цеплялись за платье Елены,
ветви хлестали ее в лицо. Когда неслась она через
поляны, освещенныые месяцем, ей казалось, что в
белом тумане двигаются русалки и манят ее к себе. Она
слышала отдаленный, однообразный шум, повторяемый
отголосками. Леший ли то хохотал или что другое шу-
мело, но звук становился все громче, сердце Елены
замирало от ужаса, и она крепко держалась за конскую
гриву. Как нарочно, конь скакал прямо на шум. Вот
мелькнул огонек, вот как будто серебристый призрак
махнул крыльями... Вдруг конь остановился, и Елена
лишилась чувств.
Она качнулась на мягкой траве. Вокруг нее разлива-
лась приятная свежесть. Воздух был напитан древесным
запахом; шум еще продолжался, но в нем не было ничего
страшного. Он, как старая знакомая песня, убаюкивал
и усыплял Елену.
Она с трудом открыла глаза. Большое колесо, дви-
жимое водою, шумя, вертелось перед нею, и далеко
летели вокруг него брызги. Отражая луну, они напоми-
нали ей алмазы, которыми девушки украшали ее в саду
в тот день, когда приехал Серебряный.
«Уж не в саду ли я у себя? — подумала )Елена. —
Ужель опять в саду? Девушки! Пашенька! Дуняша! Где
вы?»
Но вместо свежего девичьего лица седая сморщенная
голова нагнулась над Еленой; белая как снег борода поч-
ти коснулась ее лица.
— Вишь, как господь тебя соблюл, боярыня, —
сказал незнакомый старик, любопытно вглядываясь в
черты Елены, — ведь возьми конь немного левее, прямо
попала бы ты в плес; ну да и конь-то привычный, —
продолжал он про себя, — место ему знакомо; слава
богу, не в первый раз на мельнице!
548
Появление старика испугало было Елену; она вспом-
нила рассказы про леших, и странно подействовали на
нее морщины и белая борода незнакомца, но в голосе
его было что-то добродушное; Елена, переменив внезап-
но мысли, бросилась ему в ноги.
— Дедушка, дедушка! — вскричала она, — оборони
меня, укрой!
Мельник тотчас смекнул, в чем дело: конь, на кото-
ром прискакала Елена, принадлежал Вяземскому. По
всем вероятностям, она была боярыня Морозова, та
самая, которую он пытался приворожить к князю. Он
никогда ее не видал, но много узнал о ней через
Вяземского. Она не любила князя, просила о помощи;
стало быть, она, вероятно, спасалась от князя на его же
коне.
Старик вмиг сообразил все эти обстоятельства.
— Господь с тобою, боярыня! — сказал он, — как
мне оборонить тебя? Силен князь Афанасий Иваныч,
длинны у него руки, погубит он меня, старика!
Елена со страхом посмотрела на мельника.
— Ты знаешь... — сказала она, — ты знаешь, кто я?
— Мало ли что я знаю, матушка Елена Дмитриевна!
Много на моем веку нажурчала мне вода, нашептали
деревья! Знаю я довольно; не обо всем говорить при-
гоже!
— Дедушка, коли все тебе ведомо, ты, стало быть,
знаешь, что Вяземский не погубит тебя, что он лежит
теперь на дороге, изрубленный. Не его боюсь, дедушка,
боюсь опричников и холопей княжеских... ради пречи-
стой богородицы, дедушка, укрой меня!
— Ох, ох, ох! — сказал старик, тяжело вздыхая, —
лежит Афанасий Иваныч на дороге изрубленный! Но не
от меча ему смерть написана. Встанет князь Афанасий
Иваныч, прискачет на мельницу, скажет: где моя бояры-
ня-душа, зазноба ретива сердца мово? А какую дам я
ему отповедь? Не таков он человек, чтобы толковать с
ним. Изрубит в куски!
— Дедушка, вот мое ожерелье! Возьми его! Еще
больше дам тебе, коли спасешь меня!
549
Глаза мельника заблистали. Он взял жемчужное
ожерелье из рук боярыни и стал любоваться им на
месяце.
— Боярыня, лебедушка моя, — сказал он с доволь-
ным видом, — да благословит тебя прещедрый господь
и московские чудотворцы! Нелегко мне укрыть тебя от
княжеских людей, коль неравно они сюда наедут! Толь-
ко уж послужу тебе своею головою, авось бог нас
помилует!
Еще не успел старик договорить, как в лесу послы-
шался конский топот.
— Едут, едут! — вскричала Елена. — Не выдавай
меня, дедушка!
— Добро, боярыня, сюда ступай за мною!
Мельник поспешно повел Елену в мельницу.
— Притаись здесь за мешками, — сказал он, запер
за нею дверь и побежал к коню.
— Ах, бог ты мой, как бы коня-то схоронить, чтоб
не догадалися!
Он взял его за узду, отвел на другую сторону мель-
ницы, где была у него пасека, и привязал в кустах за
ульями.
Между тем топот коней и людские голоса раздава-
лись ближе. Мельник заперся в каморе и задул лучину.
Вскоре показались на поляне люди Вяземского. Двое
из холопей шли пешие и несли на сплетенных ветвях
бесчувственного князя. У мельницы они остановились.
— Полно, сюда ли мы заехали? — спросил старший
из всадников.
— Сюда конь убежал! — отвечал другой. — Я след
видел! Да здесь же и знахарь живет. Пусть посмотрит
князя!
— Опустите на землю его милость, да с бережением!
Что, кровь не унимается?
— Не дает бог легче, — отвечали холопи, — вот уж
третий раз князь на ходу очнется, да и опять обомрет!
Коли мельник не остановит руды, так и не встать князю,
истечет до капли!
— Да где он, колдун проклятый? Ведите его провор-
ней!
550
Опричники стали стучать в мельницу и в камору.
Долго стук их и крики оставались без ответу. Наконец
в каморе послышался кашель, из прорубленного отвер-
стия высунулась голова мельника.
— Кого это господь принес в такую пору? — сказал
старик, кашляя так тяжело, как будто бы готовился
выкашлять душу.
— Выходи, колдун, выходи скорее кровь унять!
Боярин князь Вяземский посечен саблей!
— Какой боярин? — спросил старик, притворясь
глухим.
— Ах ты, бездельник! Еще спрашивает: какой? Ло-
майте двери, ребята!
— Постойте, кормильцы, постойте! Сам выйду, зачем
ломать? Сам выйду!
— Ага, небось услышал, глухой тетерев!
— Не взыщи, батюшка, — сказал мельник, выле-
зая, — виноват, родимый, туг на ухо, иного сразу не
пойму! Да к тому ж, нечего греха таить, как стали вы,
родимые, долбить в дверь да в стену, я испужался,
подумал, оборони боже, уж не станичники ли! Ведь тут,
кормильцы, их самые засеки и притоны. Живешь в лесу
со страхом, все думаешь: что коли, не дай бог, навер-
нутся!
— Ну, ну, разговорился! Иди сюда, смотри: вишь как
кровь бежит. Что, можно унять?
— А вот посмотрим, родимые! Эх, батюшки-святы!
Да кто ж это так секанул-то его? Вот будь на полвершка
пониже, как раз бы висок рассек! Ну, соблюл его бог!
А здесь-то? Плечо мало не до кости прорубано! Эх,
должно быть, ловок рубиться, кто так хватил его ми-
лость!
— Можно ль унять кровь, старик?
— Трудно, кормилец, трудно. Сабля-то была наговор-
ная!
— Наговорная? Слышите, ребята, я говорил, наговор-
ная. А то как бы ему одному семерых посечь!
— Так, так! — отозвалися опричники, — вестимо
наговорная; куды Серебреному на семерых!
551
Мельник все слушал и примечал.
— Ишь, как руда точится! — продолжал он. — Ну,
как ее унять? Кабы сабля была не наговорная, можно б
унять, а то теперь... оно, пожалуй, и теперь можно,
только я боюсь. Как стану нашептывать, язык у меня
отымется!
— Нужды нет! нашептывай!
— Да! нужды нет! Тебе-то нет нужды, родимый, а
мне-то будет каково!
— Истома! — сказал опричник одному холопу, —
подай сюда кошель с морозовскими червонцами. На
тебе, старик, горсть золотых! Коль уймешь руду, еще
горсть дам; не уймешь — дух из тебя вышибу!
— Спасибо, батюшка, спасибо! Награди тебя господь
и все святые угодники! Нечего делать, кормильцы,
постараюсь, хоть на свою голову, горю пособить. Отой-
дите, родимые, дело глаза боится!
Опричники отошли. Мельник нагнулся над Вязем-
ским, перевязал ему раны, прочитал «Отче наш», поло-
жил руку на голову князя и начал шептать:
— «Ехал человек стар, конь под ним кар, по приста-
ням, по дорогам, по притонным местам. Ты, мать, руда
жильная, жильная, телесная, остановись, назад воро-
тись. Стар человек тебя запирает, на покой согревает.
Как коню его воды не стало, так бы тебя, руда-мать, не
бывало. Пух земля, одна семья, будь по-моему! Слово
мое крепко!»
По мере того как старик шептал, кровь текла мед-
леннее и с последним словом совсем перестала течь.
Вяземский вздохнул, но не открыл глаза.
— Подойдите, отцы родимые, — сказал мельник, —
подойдите без опасенья; унялась руда, будет жив князь;
только мне худо... вот уж теперь замечаю, язык косте-
неет!
Опричники обступили князя. Месяц освещал лицо
его, бледное как смерть, но кровь уже не текла из ран.
— И впрямь унялась руда! Вишь старичина, не ударил
лицом в грязь!
— На тебе твои золотые! — сказал старший оприч-
552
ник. — Только это еще не все. Слушай, старик. Мы по
следам знаем, что этой дорогой убежал княжеский
конь, а может, на нем и боярыня, ускакала. Коли ты их
видел, скажи!
Мельник вытаращил глаза, будто ничего не понимал.
— Видел ты коня с боярыней?
Старик стал было колебаться: сказать аль нет? Но
тот же час он сделал следующий расчет:
«Кабы Вяземский был здоров, то скрыть от него
боярыню было б ой как опасно, а выдать ее куда как
выгодно. Но Вяземский оправится ль, нет ли, еще бог
весть! А Морозов не оставит услуги без награды. Да и
Серебряный-то, видно, любит не на шутку боярыню,
коль порубил за нее князя. Стало быть, — думал мель-
ник, — Вяземский меня теперь не обидит, а Серебряный
и Морозов, каждый скажет мне спасибо, коль я выручу
боярыню».
Этот расчет решил его сомнения.
— И слухом не слыхал, и видом не видал, роди-
мые! — сказал он, — и не знаю, про какого коня, про
какую боярыню говорите!
— Эй, не соврал бы ты, старик!
— Будь я анафема! Не видать мне царствия небес-
ного! Вот пусть меня тут же громом хлопнет, коли я что
знаю про коня либо про боярыню!
— А вот давай лучину, посмотрим, нет ли следов на
песке!
— Да нечего смотреть! — сказал один опричник. —
Хотя бы и следы были, наши кони их затоптали. Теперь
ничего не увидим!
— Так нечего и смотреть. Отворяй, старик, камору,
князя перенесть!
— Сейчас, родимые, сейчас. Эх, стар я, кормильцы,
а то бы сбегал на постоялый двор, притащил бы вам
браги да вина зеленчатого!
— А дома разве нет?
— Нет, родимые. Куда мне, убогому? Нет вина,
харчей, ни лошадям вашим корма. Вот на постоялом
дворе, там все есть. Там такое вино, что хоть царю на
553
стол. Тесненько вам будет у меня, государи честные, и
перекусить-то нечего; да ведь вы люди ратные, и без
ужина обойдетесь! Кони ваши травку пощиплют... Вот
одно худо, что трава-то здесь такая... иной раз наестся
конь, да так его разопрет, что твоя гора! Покачается,
покачается, да и лопнет!
— Черт тебя дери, боровик ты старый! Что ж ты
хочешь, чтоб наши кони перелопались?
— Оборони бог, родимые! Коней можно привязать,
чтоб не ели травы; одну ночку не беда, и так простоят!
А вас, государи, прошу покорно, уважьте мою камору;
нет в ней ни сена, ни соломы, земля голая. Здесь не то,
что постоялый двор. Вот только, как будете спать ло-
житься, так не забудьте перед сном прочитать молитву
от ночного страха... оно здесь нечисто!
— Ах ты, чертов кум этакий! Провались ты и с своею
каморой! Вишь, чем потчевать вздумал!.. Ребята, едем
на постоялый двор! Далеко ль дотудова, старик?
— Близко, родимые, совсем близко. Вот ступайте
этою тропою; как выедете на большую дорогу, повер-
нете влево, проедете не более версты, тут вам будет и
постоялый двор!
— Вдем! — сказали опричники.
Вяземский все еще был в обмороке. Холопи подняли
его и осторожно понесли на носилках. Опричники сели
на коней и поехали вслед.
Лишь только удалилась толпа и не стало более слыш-
но в лесу человеческого голоса, старик отпер мельницу.
— Боярыня! Ушли! — сказал он. Пожалуй в камору.
Ах ты, сотик мой забрушенный, как притаилась-то!
Пожалуй в камору, лебедушка моя, там тебе будет
получше!
Он настлал свежего моху в углу каморы, зажег
лучину и поставил перед Еленой деревянную чашку с
медовыми сотами и краюху хлеба.
— Ешь на здоровье, боярыня! — сказал он, низко
кланяясь. — Вот я тебе сейчас винца принесу.
Сбегав еще раз в мельницу, он вынес из нее большую
сулею и глиняную кружку.
554
— Во здравие твое, боярыня!
Старик как хозяин первый опорожнил кружку. Вино
его развеселило.
— Выпей, боярыня! — сказал он. — Теперь некого
тебе бояться! Они ищут постоялого двора! Найдут ли,
не найдут ли, а уж сюда не вернутся; не по такой дороге
я их послал... хе, хе! Да что ты, боярыня, винца не
отведаешь? А впрочем, и не отведывай! Это вино дрянь!
Плюнь на него; я тебе другого принесу!
Мельник опять сбегал на мельницу и этот раз воро-
тился с баклагою под мышкой и с серебряным кубком
в руках.
— Вот вино так вино! — сказал он, нагибая баклагу
над кубком. — Во здравие твое, боярыня! Это вино и с
кубком подарил мне добрый человек... зовут его Перст-
нем... хе, хе! Здесь много живет добрых людей в лесу:
все они со мной в дружбе! Ешь, боярыня! Да что же ты
сотов не ешь? Это соты не простые. Таких сотов за сто
верст не найдешь. А почему они не простые? Потому
что я пчелиное дело знаю лучше любого ведуна. Я не
так, как другие! Я кажинное лето самый лучший улей в
болото бросаю водяному дедушке: на тебе, дедушка,
кушай! Хе, хе! А он, боярыня, дай бог ему здоровья,
мою пасеку бережет. Ведь от него-то на земле и пчелы
пошли. Как заездил он коня да бросил в болото, так от
этого-то коня и пчелы отроились; а рыбаки-то, вишь,
закинули невод да вместо рыбы и вытащили пчел... Эх,
боярыня! Мало ешь, мало пьешь! А вот посмотри, коли
не заставлю тебя винца испить... Слушай, боярыня! Во
здравие... хе, хе! Во здравие князя... князя, то есть не
того, а Серебряного! Дай бог ему здоровья, вишь как
порубил того-то, то есть Вяземского-то! А боярин-то
Дружина Андреич, хе, хе! Во здравие его, боярыня!
Поживешь у меня денька два в похоронках, а потом
куда хошь ступай, хошь к Дружине Андреичу, хошь к
Серебряному, мне какое дело! Во здравие твое!
Чудно и болезненно отозвались в груди Елены слова
пьяного мельника. Самые сокровенные мысли ее, каза-
лось, ему известны; как будто читал в ее сердце; лучина,
555
воткнутая в стену, озаряла его сморщенное лицо ярким
светом; серые глаза его были отуманены хмелем, но,
казалось, проникали Елену насквозь. Ей опять сделалось
страшно, она стала громко молиться.
— Хе, хе! — сказал мельник, — молись, молись,
боярыня, я этого не боюсь... меня молитвой не испуга-
ешь, ладаном не выкуришь... я сам умею причитывать...
я не какой-нибудь такой... меня и водяной дед знает, и
лесовой дед... меня знают русалки... и ведьмы... и кики-
моры... меня все знают... меня... меня... вот хошь, я их
позову? Шикалу! Ликалу!
— Господи! — прошептала Елена.
— Шикалу! Ликалу! Что, нейдут? Постой, я их
приведу! Бду, бду!
Старик встал и, шатаясь и приплясывая, вышел из
каморы. Елена в ужасе заперла за ним дверь. Долго
мельник разговаривал за дверью сам с собою.
— Меня все знают! — повторял он хвастливым, но
уже неверным голосом. — И лесовой дед... и водяной
дед... и русалки... и кикиморы... я не какой-нибудь та-
кой!.. меня все знают! Бду, бду!
Слышно было, как старик плясал и притопывал нога-
ми. Потом голос его стал слабеть, он лег на землю, и
вскоре раздалось его храпение, которое во всю ночь
сливалось с шумом мельничного колеса.
Глава 18
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
На другой день после разорения морозовского дома
пожилой ратник пробирался на вороной лошади в дре-
мучем лесу. Он беспрестаннно снимал шапку и к чему-то
прислушивался.
— Тише, Галка, полно те фыркать, — говорил он,
трепля лошадь по крутой шее, — вишь какая неугомон-
ная, ничего расслушать не даст. Фу ты пропасть, никак
и места не спознаю! Все липа да орешник, а когда в ту
пору ночью ехали, кажись, смолою попахивало!
И всадник продолжал путь свой.
556
— Постой, Галка! — сказал он вдруг, натянув по-
водья, — вот теперь опять как будто слышу! Да стой ты
смирно, эк тебя разбирает! И вправду слышу! Это уж
не лист шумит, это мельничное колесо!’ Вишь она,
мельница, куда запряталась! Только уж постой! Теперь
от меня не уйдешь, тетка твоя подкурятина!
И Михеич, как будто опасаясь опять сбиться с
дороги, пустился во всю прыть по направлению шума.
— Ну, слава ти, господи, — сказал он, когда между
деревьями стал виднеться поросший мхом сруб с вертя-
щимся колесом, — насилу-то догнал; а то ведь чуть было
не уморился: то впереди шум, то за самою спиной,
ничего не разберешь! Вот она и мельница! Вон с той
стороны мы в ту пору с боярином подъехали, когда
станичники-то дорогу указывали. Да как же это опять
будет? В ту пору колесо было справа, а теперь слева; в
ту пору камора стояла окном к мельнице, а дверью к
лесу, а теперь стоит окном к лесу, а дверью к мельнице!
Тьфу ты, уж этот мне мельник! Вишь как глаза отводит!
Недаром же я и колесил целый день круг этого места;
кабы не боярина выручать, ни за что бы сюда не
приехал!
Михеич слез с своей Галки, привязал ее к дереву,
подошел с некоторой боязнию к мельнице и постучался
в дверь.
— Хозяин, а хозяин!
Никто не отвечал.
— Хозяин, а хозяин!
Внутри мельницы было молчание; только жернова
гудели да шестерни постукивали.
Михеич попытался толкнуть дверь; она была заперта.
«Да что он, седой черт, спит али притаился?» —
подумал Михеич и стал изо всей мочи стучать в дверь
и руками и ногами. Ответу не было. Михеич начал
горячиться.
— Эй ты, хрен! — закричал он, — вылезай, не то
огоньку подложу!
Раздался кашель, и сквозь небольшое отверстие над
дверью показалась белая борода и лицо, изрытое мор-
557
щинами, среди которых светились два глаза ярко-серого
цвета.
Михеичу стало неловко в присутствии мельника.
— Здравствуй, хозяин! — сказал он ласковым голо-
сом.
— Господь с тобою! — отвечал мельник, — чего тебе,
добрый человек?
— Аль не узнал меня, хозяин? Ведь я у тебя ономнясь
с боярином ночевал.
— С князем-то? Как не узнать, узнал. Что ж, батюш-
ка, с чем бог принес?
— Да что ж ты, хозяин, забился как филин в дупло!
Или меня впусти, или сам выйди; так говорить неспод-
ручно!
— Постой, батюшка, дай только хлебушка подсы-
пать, вот я к тебе сейчас выйду!
«Да, — подумал Михеич, — посмотрел бы я, какого
ты, чертов кум, хлеба подсыплешь! Я чай, кости жидов-
ские ведьмам на муку перемалываешь! Тут и завозу
быть не может; вишь какая глушь, и колеи-то все травой
заросли!»
— Ну вот, батюшка, я к тебе и вышел, — сказал
мельник, тщательно запирая за собой дверь.
— Насилу-то вышел! Довольно ты поломался, хозяин.
— Да что, куманек, живу ведь не на базаре, в лесу.
Всякому отпирать не приходится; далеко ли до беды:
видно, что человек, а почему знать, хлеб ли святой у
него под полой или камень булыжник!
«Вишь, мухомор! — подумал Михеич. — Прикидыва-
ется, что разбойников боится, а, я чай, нет лешего, с
которым бы детей не крестил!»
— Ну, батюшка, что тебе до меня? Ты мне расскажи,
а я послушаю!
— Да вот что, хозяин: беда случилась, хуже смерти
пришлось; схватили окаянные опричники господина мо-
его, повезли к Слободе с великою крепостью; сидит он
теперь, должно быть, в тюрьме, горем крутит, горе
мыкает; а за что сидит, одному богу ведомо; не сотворил
никакого дурна ни перед царем, ни перед господом;
558
постоял лишь за правду, за боярина Морозова да за
боярыню его, когда они лукавством своим среди веселья
на дом напали и дотла разорили.
Глаза мельника приняли странное выражение.
— Ох, ох, ох! — сказал он, — худо, кормилец; худо,
кормилец; худо карасю, когда в шум заплывает. Худо
князю твоему в темнице сидеть, хуже Морозову без
жены молодой, еще хуже Вяземскому от чужой жены!
Михеич удивился.
— Да ты почем знаешь, что Вяземский Морозова
жену увез? Я тебе ничего про это не сказывал!
— Эх, куманек, не то одно ведомо, что сказывается;
иной раз далеко в лесу стукнет, близко отзовется; когда
под колесом воды убыло, знать есть засуха и за сто
верст, и будет хлебу недород велик, а наш брат, старик,
живи себе молча; слушай, как трава растет, да мотай
себе за ухо!
— Что ж, хозяин, уж не знаешь ли, как помочь
боярину? Я вот все думал да гадал, раскидывал умом-
разумом, ничего не придумал. Пойду, говорю, к доброму
человеку, попрошу совета. Да, признаться, и тот моло-
дец на уме все мотается, что проводил-то нас до тебя.
Говорил мне тогда: коли понадоблюсь, говорит, боярину,
приходи, говорит, на мельницу, спроси у дедушки, где
Ванюха Перстень, а я, говорит, рад боярину служить; за
него, говорит, и живот положу! Вот я к тебе и приехал,
хозяин; сделай божескую милость, научи, как боярина
вызволить. А научишь, уж не забудет тебя князь Никита
Романович, да и я, горемычный, буду вечным слугою
твоим.
«Провалиться бы тебе сквозь землю, тетка твоя
подкурятина, — прибавил мысленно Михеич, — вот
кому довелось кланяться!»
— Что ж, батюшка, почему не попытаться горю
пособить. Плохо дело, что и говорить, да ведь ухватом
из поломя горшки вымаются, а бывает инольды, и зер-
нышко из-под жернова цело выскочит; всяко бывает,
какое кому счастье!
— Оно так, хозяин, при счастье и петушок яичко
559
снесет, а при несчастье и жук забодает, только бью
челом, научи уму-разуму, что мне теперь делать?
Мельник опустил голову и стал как будто прислуши-
ваться к шуму колеса.
Прошло несколько минут. Старик покачал головой и
заговорил, не обращая внимания на Михеича:
— «Ходит, ходит колесо кругом, что было высоко,
то будет низко, что было низко, будет высоко; слышу,
далеко звонит колокол, невесть на похороны, невесть
на свадьбу; а кого венчать, кого хоронить, не слыхать,
вода шумит, не видать за великим дымом!
Слетаются вороны издалека, кличут друг друга на
богатый пир, а кого клевать, кому очи вымать, и сами
не чуют, летят да кричат! Наточен топор, наряжен палач,
по дубовым доскам побегут, потекут теплой крови
ручьи; слетят головы с плеч, да неведомо чьи!»
Михеич струсил.
— Что ты, дедушка, говоришь такое, да еще и
причитаешь, словно по покойнике?
Мельник, казалось, не слыхал Михеича. Он уже
ничего не говорил, но только бормотал себе что-то под
нос. Губы его без умолку шевелились, а серые глаза
смотрели тускло, как будто ничего не видели.
— Дедушка, а дедушка! — и Михеич дернул‘его за
рукав.
— А? — отозвался мельник и обратился к Михеичу,
будто теперь только его заметил.
— Что ты бормочешь, дедушка?
— Эх, куманек! Много слышится, мало сказывается.
Ступай теперь путем-дорогой мимо этой сосны. Ступай
все прямо; много тебе будет поворотов и вправо и влево,
а ты все прямо ступай; верст пять проедешь, будет в
стороне избушка, в той избушке нет живой души.
Подожди там до ночи, придут добрые люди, от них
больше узнаешь. А обратным путем заезжай сюда,
будет тебе работа; залетела жар-птица в западню; отве-
зешь ее к царю Далмату, а выручку пополам!
И, не дожидаясь ответа, старик вошел в мельницу и
запер за собою дверь.
560
— Дедушка! — закричал ему всел Михеич, — да
скажи мне толком, про каких ты людей говоришь, про
какую птицу?
Но мельник не отозвался на голос Михеича, и,
сколько тот ни прислушивался, он ничего не мог услы-
шать, кроме шума воды и стука колес.
«Вишь, тетка его подкурятина! — подумал Михе-
ич. — Куда вздумал посылать! Верст пять будет избуш-
ка, в ней жди до ночи, а там черт тебя знает кто придет,
больше скажет. Послал бя я тебя самого туда, хрен
этакий! Кабы не боярин, уж я бы дал тебе! Вишь какой,
в самом деле! Тьфу! Ну, Галка, нечего делать, давай
искать чертовой избушки!»
И, сев на коня, Михеич присвистнул и пустился
рысцой по направлению, указанному мельником.
Глава 19
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК ДОБРО ПОМНИТ
Было уже поздно, когда Михеич увидел в стороне
избушку, черную и закоптевшую, похожую больше на
полуистлевший гриб, чем на человеческое жилище.
Солнце уже зашло. Полосы тумана стлались над высо-
кою травой на небольшой расчищенной поляне. Было
свежо и сыро. Птицы перестали щебетать, лишь иные
время от времени зачинали сонную песнь и, не окончив
ее, засыпали на ветвях. Мало-помалу и они замолкали,
и среди общей тишины слышно было лишь слабое
журчание невидимого ручья да изредка жужжание
вечерних жуков.
— Вишь куда заехали, — сказал Михеич, оглядыва-
ясь кругом, — и подлинно тут живой души нет! Подо-
жду, посмотрю, кто такой приедет, какого даст совета?
Ну, а коли, не дай бог, кто-нибудь такой придет, что...
тьфу! С нами крестная сила! Дал бы я карачуна этому
мельнику, кабы не боярина выручать.
Михеич слез с своей Галки, стреножил ее путами,
снял узду и пустил лошадку на волю божию.
— Щипли себе травку, — сказал он, — а я войду в
561
избу, коли дверь не заперта, посмотрю, нет ли чего
перекусить! Хозяйство, может, хоть и недоброе, да ведь
и голод не тетка!
Он толкнул ногой низенькую косую дверь; странно
раздался в этом безлюдном месте ее продолжительный
скрип, почти похожий на человеческий плач. Когда
наконец, повернувшись на петлях, она ударилась в
стену, Михеич нагнулся и вошел в избу. Его обдало
темнотой и запахом остывшего дыма. Пошарив кругом,
он ощупал на столе краюху хлеба и принялся убирать
ее за обе щеки. Потом подошел к очагу, порылся в золе,
нашел там горячие уголья, раздул их не без труда и
зажег лучину, валявшуюся на лавку. Между печью и
стеною были укреплены полати. На них лежало разное
платье, между прочим один парчовый кафтан, шитый
хоть бы на боярина. На стене висела мисюрка с богатою
золотою насечкой. Но более всего привлек внимание
Михеича стоявший на косяке образ, весь почерневший
от дыма. Он примирил его с неизвестными хозяевами.
Михеич несколько раз на него перекрестился, потом
погасил лучину, влез на полати, растянулся, покряхтел
и заснул богатырским сном. Он спал довольно сладко,
когда внезапный удар кулаком в бок свалил его с
полатей.
— Это что? — вскричал Михеич, проснувшись уже
на голой земле, — кто это дерется? Смотри, тетка твоя...
Перед ним стоял детина со всклоченной бородой, с
широким ножом за поясом и готовился попотчевать его
новымм ударом кулака.
— Не замай! — сказал ему другой дюжий парень, у
которого только что ус пробивался, — что он тебе
сделал? А? — При этом он оттер товарища плечом, а
сам уставился на Михеича и выпучил глаза.
— Ишь, сядой! — заметил он с каким-то почтитель-
ным удивлением.
— Да ты, тюлень, чего ввязался! — закричал на него
первый, — что он тебе, отец али сват?
— А то он мне, что старик. Ишь сядой, потому старик.
Я те говорю, не тронь, осерчаю!
562
Громкий смех раздался между людьми, вошедшими
толпою в избу.
— Эй, Хлопко, — сказал один из них, — берегись!
Коли Митька осерчает, плохо будет! С ним, брат, не
связывайся!
— Леший с ним свяжется! — отвечал Хлопко, отходя
в сторону. — Жили, жили в лесу, да и нажили медведя!
Другие молодцы, все вооруженные, обступили Ми-
хеича и смотрели на него не слишком ласково.
— Откуда кожан залетел? — спросил один из них,
глядя ему прямо в глаза.
Михеич между тем успел оправиться.
«Эге! — подумал он, — да это они-то и есть, станич-
ники-то!»
— Здравствуйте, добрые люди! А где у вас тот, что
зовут Ванюхой Перстнем?
— Так тебе атамана надо? Чего ж ты прежде не
говорил? Сказал бы сразу, так не отведал бы тумака!
— А вот и атаман! — прибавил другой, указывая на
Перстня, который только что вошел в сопровождении
старого Коршуна.
— Атаман! — закричали разбойники, — вот пришел
человек, про тебя спрашивает!
Перстень окинул быстрым оком Михеича и тотчас
узнал его.
— А, это ты, товарищ! — сказал он, — добро
пожаловать! Ну, что его княжеская милость, как здрав-
ствует с того дня, как мы вместе Малютиных опрични-
ков щелкали? Досталось им от нас на Поганой Луже!
Жаль только, что Малюта Лукьяныч ускользнул да что
этот увалень, Митька, Хомяка упустил. Несдобровать
бы им у меня в руках! Что, я чай, батюшка-царь куда
как обрадовался, как царевича-то увидал! Я чай, не
нашел чем пожаловать князь Никиту Романыча!
— Да! — отвечал со вздохом Михеич, — жалует царь,
да не жалует псарь! Батюшка государь Иван Васильевич,
дай бог ему здоровья, таки миловал господина моего.
Только, видно, не угодил Никита Романыч опричникам
окаянным. Правда, не за что им и любить нас. Перво в
563
Медведевке мы их плетьми отшлепали, да вдругорь на
Поганой Луже Малюте оплеуху дали, да вот вчера на
Москве боярин-таки порубил их порядком. А они, ока-
янные, навалились на него многолюдством, опрокинули,
связали да и повезли к Слободе. Оно бы все ничего, да
этот Малюта, песий сын, обнесет нас перед государем,
выместит на князе свою оплеуху!
— Гм, — сказал Перстень, садясь на скамью, — так
царь не велел повесить Малюту? Как же так? Ну, про
то знает его царская милость. Что ж ты думаешь делать?
— Да что, батюшка Иван, не знаю, как и величать
твое здоровье по изотчеству...
— Величай Ванюхой, и дело с концом!
— Ну, батюшка Ванюха, я и сам не знаю, что делать.
Авось ты чего не пригадаешь ли? Ведь один-то ум
хорошо, а два лучше! Вот и мельник ни к кому другому,
а к тебе послал: ступай, говорит, к атаману, он поможет;
уж я, говорит, по приметам вижу, что ему от этого будет
всякая удача и корысть богатая! Ступай, говорит, к
атаману!
— Ко мне! Так и сказал, ко мне?
— К тебе, батюшка, к тебе. Ступай, говорит, к
атаману, отдай от меня поклон, скажи, чтобы во что б
ни стало выручил князя. Я-де, говорит, уж вижу, что ему
от этого будет корысть богатая, по приметам, дескать,
вижу. Пусть во что бы то ни стало выручит князя! Я-де,
говорит, этой службы не забуду. А не выручит атаман
князя, всякая, говорит, будет напасть на него; исчахнет,
говорит, словно былинка; совсем, говорит, пропадет!
— Вот что! — сказал Перстень, потупя голову и как
будто задумавшись, — ужель и вправду исчахну?
— Да, батюшка, и руки и ноги, говорит, отсохнут; а
на голове такая, говорит, пойдет дрянь, что не приведи
господи!
Перстень поднял голову и пристально взглянул на
Михеича.
— А еще ничего не сказал мельник?
— Как же, батюшка! — продолжал Михеич, погля-
дывая сбоку на дымящийся горшок щей, который раз-
564
бойники поставили на стол, — еще мельник сказал так:
скажи, дескать, атаману, чтоб он тебя накормил и
напоил хорошенько, примерно, как бы самого меня. А
главное, говорит, чтоб выручил князя. Вот что, батюшка,
мельник сказал.
И Михеич посматривал на атамана, изведывая, какое
впечатление произвели его слова.
Но Перстень взглянул на него еще пристальнее и
вдруг залился самым громким, самым веселым смехом.
— Эх, старина, старина! Так тебе и вправду мельник
сказал, что, коли не выручу князя, так вот и пропаду?
— Да, батюшка, — отвечал стремянный, немного
запинаясь, — и руки и ноги...
— Хитер же ты, брат! — перебил Перстень, ударив
его по плечу и продолжая смеяться. — Только меня-то
напрасно надувать вздумал! Садись с нами, — прибавил
он, придвигаясь к столу, — хлеб да соль! На тебе ложку,
повечеряем; а коли можно помочь князю, я и без твоих
выдумок помогу. Только как и чем помочь? Ведь князь-
то в тюрьме сидит?
— В тюрьме, батюшка.
— В той самой, что на площади, у Малютина дома?
— Да уж ни в какой другой. Эта будет покрепче!
— А ключи ведь у кого? У Малюты?
— Да как были мы в Слободе, так, бывало, видели,
как он хаживал в тюрьму пытать людей. Ключи, бывало,
всегда с ним. А к ночи, бывало, он их к царю относит,
а уж царь, всем ведомо, под самое изголовье кладет.
— Ну так вишь ли! — сказал Перстень, опуская
ложку в щи, — какой тут бес твоему князю поможет?
Ну говори сам: какой бес ему поможет?
Михеич почесал затылок.
— Так ты видишь, что нельзя помочь?
— Вижу, — отвечал Михеич и ложку бросил. —
Стало и мне не жить на белом свете! Пойду к господину,
сложу старую голову подле его головы, стану ему на
том свете служить, коль на этом заказано!
— Ну, ну, уж и отходную затянул! Еще, может быть,
князь твой и не в тюрьме. Тогда и плакать нечего; а коли
565
в тюрьме, так дай подумать... Слободу-то я хорошо знаю;
я туда прошедшего месяца медведя водил, и дворец
знаю, все высмотрел; думал себе: когда-нибудь приго-
диться!.. Постой, дай поразмыслить...
Перстень задумался.
— Нашел! — вскричал он вдруг и вскочил с места. —
Дядя Коршун! Нас с тобой князь от смерти спас —
спасем и мы его; теперь наша очередь! Хочешь идти со
мной на трудное дело?
Старый разбойник нахмурился и покачал кудрявою
головой.
— Что, Коршун, нешто не хочется тебе?
— Да что ты, атаман, с ума, что ли, спятил? Аль не
слыхал, где сидит князь? Аль не слыхал, что ключи днем
у Малюты, а ночью у царя под изголовьем? Что тут
делать? Плетью обуха не перешибешь. Пропал он, так
и пропал! Нешто из-за него и нам пропадать? Легче ему,
что ли, будет, когда с нас шкуру сдерут?
— Оно так, Коршун, да ведь недаром пословица
говорится: долг платежом красен! Ведь не спаси нас в
то время князь, где бы мы теперь были? Висели бы
где-нибудь на березе, ветер бы нас покачивал! А како-
во-то ему теперь? Я чай, думает себе: вот, я в ту пору
ребятушек вызволил из беды, теперь и они меня вызво-
лят! А как бросим мы его, да как поведут его казнить, —
тьфу! скажет, — чтой-то за люди были, воровать-раз-
бойничать умеют, а добра-то не помнят! Только, скажет,
кровь неповинную проливают, а христианина спасти не
их дело! Я, скажет, за них господу богу и доброго слова
не замолвлю! Пусть себе, скажет, и на этом свету и на
том пропадают! Вот что скажет князь.
Коршун еще более нахмурил брови. Внутренняя
борьба отразилась на суровом лице его. Заметно было,
что Перстень удачно тронул живую струну в очерстве-
лом его сердце.
Но недолго продолжалась эта борьба. Старик махнул
рукою.
— Нет, брат, — сказал он, — пустое затеваешь; своя
рубаха ближе к телу! Не пойду!
566
— Ну нет так нет! — сказал Перстень. — Подождем
утра, авось что другое придумаем, утро вечера мудре-
нее! А теперь, ребятушки, пора бы и соснуть! Кто может
богу молиться, молись, а кто не может, так ложись!
Атаман посмотрел искоса на Коршуна. Видно, знал
он что-нибудь за стариком, ибо Коршун слегка вздохнул
и, чтоб никто не заметил, стал громко зевать, а потом
напевать себе что-то под нос.
Разбойники встали. Иные тотчас влезли на полати;
другие еще долго молились перед образом. Из числа
последних был Митька. Он усердно клал земные покло-
ны, и, если б одежда и вооружение не обличали ремесла
его, никто бы по добродушному лицу Митьки не узнал
в нем разбойника.
Не таков был старый Коршун. Когда все улеглись,
Михеич увидел при слабом мерцании огня, как старик
слез с лежанки и подошел к образу. Несколько раз он
перекрестился, что-то пробормотал и наконец сказал с
сердцем:
— Нет, не могу! А чаял, будет легче сегодня!
Долго слышал Михеич, как Коршун ворочался с боку
на бок, ворчал что-то про себя, но не мог заснуть. Перед
рассветом он разбудил атамана.
— Атаман, — сказал он, — а атаман!
— Чего тебе, дядя?
— Пожалуй, я пойду с тобой; веди куда знаешь!
— Что так?
— Да так, спать не могу. Вот уж которую ночь не
спится.
~ — А назад не попятишься?
— Уж сказал — иду, так не попячусь!
— Ну ладно, дядя Коршун, спасибо! Теперь только
бы еще одного товарища, а боле не надо! Много ли ночи
осталось?
— Уж, слышно, птахи заиграли.
— Ну так уже вволю полежано, и встать пора,
Митька! — сказал Перстень, толкая под бок Митьку.
— А? — отвечал, раскрыв глаза, парень.
— Хочешь идти с нами?
567
— Кудь?
— Тебе что за дело? Спрашивают тебя, хочешь ли
идти со мной да с дедушкой Коршуном?
— А д ля ча? — отвечал Митька, зевая, и свесил ноги
с полатей.
— Ну, за это люблю. Иди куда поведут, а не спра-
шивай: кудъ? Расшибут тебе голову, не твое дело, про
то мы будем знать, а тебе какая нужда! Ну смотри ж,
взялся за гуж, не говори: не дюж; попятишься назад —
раком назову!
— Ня назовешь! — отвечал Митька и стал обертывать
ноги онучами.
Разбойники начали одеваться.
В чем состояла выдумка Перстня и удаачно ль он
исполнил ее, — узнаем из следующих глав.
Глава 20
ВЕСЕЛЫЕ ЛЮДИ
В глубокой и темной тюрьме, которой мокрые стены
были покрыты плесенью, сидел князь Никита Романо-
вич, скованный по рукам и ногам, и ожидал себе смерти.
Не знал он наверное, сколько прошло дней с тех пор,
как его схватили, ибо свет ниоткуда не проникал в
подземелье; но время от времени доходил до слуха его
отдаленный благовест, и, соображаясь с этим глухим и
слабым звоном, он рассчитал, что сидит в тюрьме более
трех дней. Брошенный ему хлеб был уже давно съеден,
оставленный ковш с водою давно выпит, и голод и
жажда начинали его мучить, как непривычный шум
привлек его внимание. Над головой его отпирали замок.
Заскрипела первая наружная дверь темницы. Шум раз-
дался ближе. Загремел другой замок, и вторая дверь
заскрипела. Наконец отперли третью дверь, и послыша-
лись шаги, спускающиеся в подземелье. Сквозь щели
последней двери блеснул огонь, ключ с визгом повер-
нулся, несколько засовов отодвинулось, ржавые петли
застонали, и яркий, нестерпимый свет ослепил Сереб-
ряного.
568
Когда он опустил руки, которыми невольно закрыл
глаза, перед ним стояли Малюта Скуратов и Борис
Годунов. Сопровождавший их палач держал высоко над
ними смоляной светоч.
Малюта, скрестив руки, глядел, улыбаясь, в лицо
Серебряному, и зрачки его, казалось, сжимались и
расширялись.
— Здравствуй, батюшка князь! — проговорил он
таким голосом, которого никогда еще слыхивал Никита
Романович, голосом протяжно-вкрадчивым и зловеще-
мягким, напоминающим кровожадное мяуканье кошки,
когда она подходит к мышеловке, в которой сидит
пойманная мышь.
Серебряный невольно содрогнулся, но вид Годунова
подействовал на него благотворно.
— Борис Федорович, — сказал он, отворачиваясь от
Малюты, — спасибо тебе, что ты посетил меня. Теперь
и умереть будет легче!
И он протянул к нему скованную руку. Но Годунов
отступил назад, и на холодном лице его ни одна черта
не выразила участия к князю.
Рука Серебряного, гремя цепью, опять упала к нему
на колени.
— Не думал я, Борис Федорович, — сказал он с
упреком, — что ты отступишься от меня. Или ты только
пришел на мою казнь посмотреть?
— Я пришел, — ответил спокойно Годунов, — быть
у допроса твоего вместе с Григорием Лукьяновичем.
Отступаться мне не от чего; я никогда не мыслил к тебе
и только, ведая государево милосердие, остановил в ту
пору заслуженную тобою казнь!
Сердце Серебряного болезненно сжалось, и переме-
на в Годунове показалась ему тяжелее самой смерти.
— Время милосердия прошло, — продолжал Годунов
хладнокровно, — ты помнишь клятву, что дал государю?
Покорись же теперь его святой воле, и если признаешь-
ся нам во всем без утайки, то минуешь пытку и будешь
казнен скорою смертию... Начнем допрос, Григорий
Лукьянович!
569
— Погоди, погоди маленько! — отвечал Малюта,
улыбаясь. — У меня с его милостью особые счеты!..
Укороти его цепи, Фомка, — сказал он палачу.
И палач, воткнув светоч в железное кольцо, вделан-
ное в стену, подтянул руки Серебряного к самой стене,
так что он не мог ими двинуть.
Тогда Малюта подступил к нему ближе и долго
смотрел на него, не изменяя своей улыбки.
— Батюшка, князь Никита Романыч! — заговорил он
наконец, — не откажи мне в милости великой!
Он стал на колени и поклонился в землю Серебря-
ному.
— Мы, батюшка князь, — продолжал он с насмеш-
ливою покорностью, — мы перед твоею милостью
малые люди; таких больших бояр, как ты, никогда еще
своими руками не казнили, не пытывали! И к допросу-то
приступить робость берет! Кровь-то вишь, говорят, не
одна у нас в жилах течет...
И Малюта остановился, и улыбка его сделалась
ядовитее, и глаза расширились более, и зрачки запры-
гали чаще.
— Дозволь, батюшка князь, — продолжал он, прида-
вая своему голосу умоляющее выражение, — дозволь
перед допросом, для смелости-то, на твою боярскую
кровь посмотреть!
И он вынул из-за пояса нож и подполз на коленях к
Серебряному.
Никита Романович рванулся назад и взглянул на
Годунова.
Лицо Бориса Федоровича было неподвижно.
— А потом... — продолжал, возвышая голос, Малю-
та, — потом дозволь мне, худородному, из княжеской
спины твоей ремней выкроить! Дозволь мне, холопу,
боярскую кожу твою на конский чепрак снять! Дозволь
мне, смрадному рабу, вельможным мясом твоим собак
моих накормить!
Голос Малюты, обыкновенно грубый, теперь похо-
дил на визг шакала, нечто между плачем и хохотом.
Волосы Серебряного стали дыбом. Когда в первый
570
Малюта подполз па коленях к Серебряному.
раз Иоанн осудил его на смерть, он твердо шел на плаху,
но здесь, в темнице, скованный цепями, изнуренный
голодом, он не в силах был вынести этого голоса и
взгляда. Малюта несколько времени наслаждался про-
изведенным им действием.
— Батюшка князь, — взвизгнул он вдруг, бросая нож
свой и подымаясь на ноги, — дозволь мне прежде всего
тебе честно долг заплатить!
И, стиснув зубы, он поднял ладонь и замахнулся на
Никиту Романовича.
Кровь Серебряного отхлынула к сердцу, и к негодо-
ванию его присоединился тот ужас омерзения, какой
производит на нас близость нечистой твари, грозящей
своим прикосновением.
Он устремил отчаянный взор свой на Годунова.
В эту минуту поднятая рука Малюты остановилась на
воздухе, схваченная Борисом Федоровичем.
— Григорий Лукьянович, — сказал Годунов, не теряя
своего спокойствия, — если ты его ударишь, он расши-
бет себе голову об стену, и некого будет нам допраши-
вать. Я знаю этого Серебряного.
— Прочь! — заревел Малюта, — не мешай мне над
ним потешиться! Не мешай отплатить ему за Поганую
Лужу!
— Опомнись, Григорий Лукьянович! Мы отвечаем за
него государю!
И Годунов схватил Малюту за обе руки.
Но как дикий зверь, почуявший кровь, Малюта ни-
чего уже не помнил. С криком и проклятиями вцепился
он в Годунова и старался опрокинуть его, чтобы бро-
ситься на свою жертву. Началась между ними борьба;
светоч, задетый одним из них, упал на землю и погас
под ногою Годунова.
Малюта пришел в себя.
— Я скажу государю, — прохрипел он, задыхаясь, —
что ты стоишь за его изменника!
— А я, — ответил Годунов, — скажу государю, что
ты хотел убить его изменника без допроса, потому что
боишься его показаний!
572
Нечто вроде рычания вырвалось из груди Малюты, и
он бросился из темницы, позвав с собою палача.
Между тем как они ощупью взбирались по лестнице,
Серебряный почувствовал, что ему отпускают цепи и
что он опять может двигаться.
— Не отчаивайся, князь! — шепнул ему на ухо
Годунов, крепко сжимая его руку. — Главное, выиграть
время.
И он поспешил вслед за Малютой, заперев предва-
рительно за собой дверь и тщательно задвинув засовы.
— Григорий Лукьянович, — сказал он Скуратову,
догнав его у выхода и подавая ему ключи в присутствии
стражи, — ты не запер тюрьмы. Этак делать не годиться;
неравно подумают, ты заодно с Серебряным!
В то самое время, как описаное происходило в
тюрьме, Иоанн сидел в своем тереме, мрачный и недо-
вольный. Незнакомое ему чувство мало-помалу им ов-
ладевало. Чувство это было невольное уважение к
Серебряному, которого смелые поступки возмущали
его самодержавное сердце, а между тем не подходили
под собственные его понятия об измене. Доселе Иоанн
встречал или явное своеволие, как в боярах, омрачав-
ших своими раздорами время его малолетства, или
гордое непокорство, как в Курбском, или же рабскую
низкопоклонность, как во всех окружавших его в на-
стоящее время. Но Серебряный не принадлежал ни к
одному из этих разрядов. Он разделял убеждения сво-
его века в божественной неприкосновенности прав
Иоанна; он умственно подчинялся этим убеждениям и,
более привыкший действовать, чем мыслить, никогда не
выходил преднамеренно из повиновения царю, которого
считал представителем божией воли на земле. Но, не-
смотря на это, каждый раз, когда он сталкивался с
явною несправедливостью, душа его вскипала негодо-
ванием, и врожденная прямота брала верх над правила-
ми, принятыми на веру. Он тогда, сам себе на удивление
и почти бессознательно, действовал наперекор этим
правилам, и на деле выходило совсем не то, что они ему
предписывали. Эта благородная непоследовательность
573
противоречила всем понятиям Иоанна о людях и приво-
дила в замешательство его знание человеческого серд-
ца. Откровенность Серебряного, его неподкупное пря-
модушие и неспособность преследовать личные выгоды
были очевидны для самого Иоанна. Он понимал, что
Серебряный его не обманет, что можно на него вернее
положиться, чем на кого-либо из присяжных опрични-
ков, и ему приходило желание приблизить его к себе и
сделать из него свое орудие; но вместе с тем он
чувствовал, что орудие это, само по себе надежное,
может неожиданно ускользнуть из рук его, и при одной
мысли о такой возможности расположение его к Сереб-
ряному обращалось в ненависть. Хотя подвижная впе-
чатлительность Иоанна и побуждала его иногда отказы-
ваться от кровавых дел своих и предаваться раскаянию,
но то были исключения; в обыкновенное же время он
был проникнут сознанием своей непогрешимости, верил
твердо в божественное начало своей власти и ревниво
охранял ее от посторонних посягательств; а посягатель-
ством казалось ему всякое, даже молчаливое осужде-
ние. Так случилось и теперь. Мысль простить Серебря-
ного мелькнула в душе его, но тотчас же уступила место
убеждению, что Никита Романович принадлежит к чис-
лу людей, которых не должно терпеть в государстве.
«Аще, — подумал он, — целому стаду, идущу одес-
ную, единая овца ищет ощую, пастырь ту овцу изъемлет
из стада и закланию предает!» Так подумал Иоанн и
решил в сердце своем участь Серебряного. Казнь ему
была назначена на следующий день; но он велел снять
с него цепи и послал ему вина и пищи от своего стола.
Между тем, чтобы разогнать впечатления, возбуж-
денные в нем внутреннею борьбою, впечатления непри-
вычные, от которых ему было неловко, он вздумал
проехаться в чистом поле и приказал большую птичью
охоту.
Утро было прекрасное. Сокольничий, подсокольни-
чий, начальные люди и все чины сокольничья пути
выехали верхами, в блестящем убранстве, с соколами,
кречетами и челигами на рукавицах, и ожидали государя
в поле.
574
Недаром искони говорилось, что полевая потеха
утешает сердца печальные, а кречетья добыча веселит
весельем радостным старого и малого. Сколь ни пасму-
рен был царь, когда выехал из Слободы с своими
опричниками, но при виде всей блестящей толпы со-
кольников лицо его прояснилось. Местом сборища были
заповедные луга и перелески, верстах в двух от Слобо-
ды по Владимирской дороге.
Сокольничий, в красном бархатном кафтане с золо-
тою нашивкой и золотой перевязью, в парчовой шапке,
в желтых сапогах и в нарядных рукавицах, слез с коня
и подошел к Иоанну, сопровождаемый подсокольничим,
который нес на руке белого кречета, в клобучке и в
колокольцах.
Поклонившись до земли, сокольничий спросил:
— Время ли, государь, веселью быть?
— Время, — отвечал Иоанн, — начинай веселье!
Тогда сокольничий подал царю богатую рукавицу,
всю испещренную золотыми притчами, и, приняв крече-
та от подсокольничего, посадил его государю на руку.
— Честные и доброхвальные охотники! — сказал
сокольничий, обращаясь к толпе опричников, — забав-
ляйтеся и утешайтеся славною, красною и премудрою
охотой, да исчезнут всякие печали и да возрадуются
сердца ваши!
Потом, обратясь к сокольникам:
— Добрые и прилежные сокольники! — сказал он, —
напускайте и добывайте!
Тогда вся пестрая толпа сокольников расселась по
полю. Иные с криком бросились в перелески, другие
поскакали к небольшим озерам, разбросанным, как
зеркальные осколки, между кустами.
Вскоре стаи уток поднялись из камышей и потяну-
лись по воздуху.
Охотники пустили соколов. Утки бросились было
обратно к озерам, но там встретили их другие соколы,
и они в испуге разметались, как стрелы, по всем направ-
лениям.
Соколы, дермлиги и разные челиги, ободряемые кри-
575
ками поддатней, нападали на уток, кто вдогонку, кто
наперехват, кто прямым боем, сверху вниз, падая, как
камень, на спину добычи.
Отличилися в этот день и Бедряй и Смеляй, сибир-
ские челиги, и Арбаси Анпрас, соколы-дикомыты, и
Хорьяк, и Худяк, и Малец, и Палец. Досталось от них и
уткам, и тетеревам, которых рядовые сокольники выпу-
гивали бичами из зарослей. Чуден и красносмотрителен
был лет разнопородных соколов. Тетерева беспрестан-
но падали, кувыркаясь в воздухе. Несколько раз утки в
отчаянье бросались лошадям под ноги и были схвачены
охотниками живьем. Не обошлось и без наклада. Моло-
дик Гамаюн, бросившись с высоты на старого косача,
летевшего очень низко, ударился грудью оземь и убился
на месте.
Астрец и Сородум, два казанские розмытя, улетели
из виду охотников, несмотря ни на свист поддатней, ни
на голубиные крылья, которыми они махали.
Но всех славнее и удивительнее выказал себя цар-
ский кречет, честник, по прозванию Адраган. Два раза
напускал его царь, и два раза он долго оставался в
воздухе, бил без промаху всякую птицу и, натешив-
шись вдоволь, спускался опять на золотую рукавицу
царя. В третий раз Адраган пришел в такую ярость,
что начал бить не только полевую птицу, но и самих
соколов, которые неосторожно пролетали мимо него.
Сокол Смышляй и соколий челиг Кружок упали на
землю с подрезанными крыльями. Тщетно царь и все
бывшие при нем сокольники манили Адрагана на крас-
ное сукно и на птичьи крылья. Белый кречет чертил в
небе широкие круги, подымался на высоту невидимую
и подобно молнии стремился на добычу; но, вместо
того чтоб опускаться за нею на землю, Адраган после
каждой новой победы опять взмывал кверху и улетал
далеко.
Сокольничий, потеряв надежду достать Адрагана,
поспешил подать царю другого кречета. Но царь любил
Адрагана и припечалился, что пропала его лучшая птица.
Он спросил у сокольничего, кому из рядовых указано
576
держать Адрагана. Сокольничий отвечал, что указано
рядовому Тришке.
Иоанн велел позвать Тришку. Тришка, чуя беду,
явился бледный.
— Человече, — сказал ему царь, — так ли ты
блюдешь честника? На что у тебе вабило, коли ты не
умеешь наманить честника? Слушай, Тришка, отдаю в
твои руки долю твою: коли достанешь Адрагана, пожа-
лую тебя так, что никому из вас такого времени не будет;
а коли пропадет честник, велю, не прогневайся, голову
с тебя снять, — а то будет всем за страх; а я давно
замечаю, что нет меж сокольников доброго настроения
и гибнет птичья потеха!
При последних словах Иоанн покосился на самого
сокольничего, который, в свою очередь, побледнел, ибо
знал, что царь ни на кого не косится даром.
Тришка, не теряя времени, вскочил на конь и поска-
кал искать Адрагана, молясь своему заступнику, свято-
му угоднику Трифону, чтоб указал он ему потерянного
кречета.
Охота меж тем шла своим чередом. Уже не по один
час тешился государь, и уже много всякой добычи было
ввязано в торока, как новое зрелище обратило на себя
внимание Иоанна.
По Владимирской дороге тащились двое слепых,
один средних лет, другой старик, с седою кудрявою
головой и длинною бородой. На них были белые, изно-
шенные рубахи, а на полотенцах, перекинутых через
плечи крест-накрест, висели с одной стороны мешок для
собирания милостыни, а с другой — изодранный кафтан,
скинутый по случаю жары. Остальные пожитки, как-то:
гусли, балалайки и торбу с хлебом, — они взвалили на
дюжего молодого парня, служившего им вожатым. Сна-
чала тот из слепых, который был помоложе, держался
за плечо вожатого, а сам тащил за собою старика.
Только молодой парень, видно, зазевался на охоту и
забыл про товарищей. Слепые отстали от зрячего. Де-
ржась один за другого, они щупали землю высокими
палками и часто спотыкались. Глядя на них, Иван Ва-
577
19-769
сильевич не мог удержаться от смеха. Он подъехал к
ним ближе. В это время передний слепой оступился,
упал в лужу и потянул за собою товарища. Оба встали,
покрытые грязью, отплевываясь и браня вожатого, ко-
торый смотрел разиня рот на блестящих опричников.
Царь громко смеялся.
— Кто вы, молодцы? — спросил он. — Откуда и куда
идете?
— Проваливай! — отвечал младший слепой, не сни-
мая шапки, — много будешь знать, скоро состаришься.
— Дурень! — закричал один опричник, — аль не
видишь, кто перед тобой!
— Сам ты дурень! — отвечал слепой, выкатив на
опричника белки свои. — Где мне видеть, коли глаз
нетути. Вот ты — дело другое; у тебя без двух четыре,
так видишь ты и дале и шире; скажи, кто передо мной,
так буду знать!
Царь приказал молчать опричнику и ласково повто-
рил вопрос свой.
— Мы люди веселые, — отвечал слепой, — исходили
деревни и села, идем из Мурома в Слободу, бить
баклуши, добрых людей тешить, кого на лошадь подса-
дить, кого спешить.
— Вот как! — сказал царь, которому нравились
ответы слепого, — так вы муромцы, калашники, вертя-
чие бобы! А есть еще у вас богатыри в Муроме?
— Как не быть! — отвечал слепой, не запинаясь. —
Этот товар не переводится; есть у нас дядя Михей: сам
себя за волосы на вершок от земли подымет; есть тетка
Ульяна: одна ходит на таракана.
Все опричники засмеялись. Царю давно уже не было
так весело.
«Вот и правду веселые люди, — подумал он, — видно,
что не здешние. Надоели мне уже мои сказочники. Все
одно и то же наладили. Да уж и скоморохи мне наску-
чили. С тех пор как пошутил я с одним неосторожно,
стали все меня опасаться; смешного слова не добьешься;
точно будто моя вина, что у того дурака душа не крепко
в теле сидела!»
578
— Слушай, молодец: что, сказки сказывать умеешь?
— Какова сказка, — отвечал слепой, — и кому
сказывать. Вот мы опомнясь рассказали старицкому
воеводе сказку про козу косматую, да на свою шею:
коза-то, вишь, вышла сама воеводша, так он нас со двора
и велел согнать, накостылявши затылок. Вперед не
расскажем.
Трудно описать хохот, который раздался между оп-
ричниками. Старицкий воевода был в немилости у царя.
Насмешка слепого пришлась как нельзя более кстати.
— Слушайте, человеки, — сказал царь, — ступайте
в Слободу, прямо во дворец, там ждите моего приезда,
царь-де вас прислал. Да чтоб вас накормили и напоили,
а приеду домой, послушаю ваших сказок!
При слове «царь» слепые оробели.-
— Батюшка государь! — сказали они, упав на коле-
ни. — Не взыщи за нашу грубую, мужицкую речь! Не
вели нам головы сечь, по неведенью согрешили!
Царь усмехнулся испугу слепых и поехал опять в
поле продолжать охоту, а слепые с вожатым побрели
по направлению Слободы.
Пока толпа опричников могла их видеть, они держа-
лись один за другого и беспрестанно спотыкались, но,
лишь только поворот дороги скрыл их из виду, младший
слепой остановился, оглянулся во все стороны и сказал
товарищу:
— А что, дядя Коршун, устал небось спотыкаться?
Ведь пока дело-то недурно идет; что-то будет дале? Да
чего ты так брови-то понасупил, дядя? Аль жаль тебе,
что дело затеяли?
— Не то, — отвечал старый разбойник, — уж взялся
идти, небось оглядываться не стану; да только вот сам
не знаю, что со мной сталось; так тяжело на сердце, как
отродясь еще не бывало, и о чем ни задумаю, все опять
то же да то же на ум лезет!
— А что тебе лезет на ум?
— Слушай, атаман. Вот уж двадцать лет минуло с той
поры, как тоска ко мне прикачнулась, привалилася, а
никто, ни на Волге, ни на Москве, про то не знает;
579
19*
никому я ни слова не вымолвил; схоронил тоску в душе
своей, да и ношу двадцать лет, словно жернов на шее.
Пытался было раз говеть в великий пост, хотел попу все
на духу рассказать, да молиться не смог — и говеть
бросил. А вот теперь опять оно меня и душит и давит;
кажется, вот как вымолвлю, так будет легче. Тебе-то
сказать и не так тяжело, как попу: ты ведь и сам такой
же, как я.
Глубокая грусть изображалась на лице Коршуна.
Перстень слушал и молчал. Оба разбойника сели на
краю дороги.
— Митька, — сказал Перстень вожатому, — садись-
ка поодаль да гляди в оба; коли кого дозришь, махни
нам; да смотри не забудь: ты глух и нем; слова не вырони!
— Добро, — сказал Митька, — небось не выроню!
— Типун тебе на язык, дурень этакий, нишкни! И с
нами не говори. Привыкай молчать; не то как раз при
ком-нибудь языком брякнешь, тогда и нас и тебя поми-
най как звали!
Митька отошел шагов на сто и лег на брюхо, уперев
локти в землю, а подбородок в руки.
— Ведь добрый парень, — сказал Перстень, глядя
ему вслед, — а глуп, хоть кол на голове теши. Пусти его
только, разом проврется! Да нечего делать, лучше его
нет; он, по крайней мере, не выдаст; постоит и за себя
и за нас, коли, не дай бог, нам круто придется. Ну что,
дядя, теперь никто нас не услышит: говори, какая у тебя
кручина? Эх, не вовремя она тебя навестила!
Старый разбойник опустил кудрявую голову и про-
вел ладонью по лбу. Хотелось ему говорить, да начать
было трудно.
— Вишь, атаман, — сказал он, — довольно я людей
перегубил на своем веку, что и говорить! Смолоду
полюбилась красная рубашка! Бывало, купец ли заарта-
чится, баба ли запищит, хвачу ножом в бок — и конец.
Даже и теперь, коли б случилось кого отправить — рука
не дрогнет! Да что тут! не тебя уверять стать; я чай, и
ты довольно народу на тот свет спровадил; не в дико-
винку тебе, так ли?
580
— Ну, что ж с того? — отвечал Перстень с примет-
ным неудовольствием.
— Да то, что ни ты, ни я, мы не бабы, не красные
девицы; много у нас крови на душе; а ты мне вот что
скажи, атаман: приходилось ли тебе так, что как вспом-
нишь о каком-нибудь своем деле, так тебя словно
клещами за сердце схватит, и холодом и жаром обдаст
с ног до головы, а потом гложет, так что хоть бы на свет
не родиться?
— Полно, дядя, о чем спрашивать вздумал, не такое
теперь время.
— Вот, — продолжал Коршун, — я много уж и
позабыл дел своих, одного не могу забыть. Тому будет
полсорока годов, жили мы на Волге, ходили на девяти
стругах; атаманом был у нас Данило Кот; о тебе еще и
помину не было, меня уже знали в шайке и тогда уже
величали Коршуном. Разбивали мы и суда богатые, и
пристани грабили, а что, бывало, добудем, то всегда
поровну делим, и никакого спору Данило Кот не терпел.
Кажется, чего бы лучше? Житье привольное, всегда
сыты, одеты. Бывало, как нарядимся в цветные кафтаны,
как заломим шапки, да ударим в весла, да затянем
удалую, так в деревнях и городах народ на берег и валит,
на молодцов посмотреть, на соколов ясных полюбовать-
ся! А мы себе гребем да поем, во всю глотку заливаемся,
из пищалей на ветер постреливаем, красным девкам
подмигиваем. А иной раз, как посядем с копьями да с
рогатинами, так струги наши словно лесом поросли!
Хорошо было житье, да подбил меня бес проклятый.
Думаю себе раз: что ж? я ведь больше других работаю,
а корысть идет мне со всеми ровная. И положил себе
на мысль: пойти одному на промысел, зашибить добычи,
да не отдавать в артель, а взять на себя одного. Оделся
нищим, почитай как теперь, повесил на шею торбу,
всунул засапожник за онучу, да и побрел себе по дороге
к посаду, не проедет ли кто? Жду себе, жду: ни обозу,
ни купца, никого не видать. Разобрала меня досада.
Добро ж, говорю, не дает бог корысти, так теперь кто
б ни прошел, будь он хоть отец родной, дочиста оберу!
581
Только лишь подумал, идет по дороге баба убогая, несет
что-то в лукошке, лукошко холстом обернуто. Лишь
только поравнялась она со мной, я выскочил из-за куста.
Стой, говорю, баба! Давай лукошко! Она мне в ноги: что
хошь бери, а лукошко не тронь! Эге, думаю я, так у тебя,
видно, казна там спрятана, да и ухватился рукой за
лукошко. А баба голосить, ругать меня, кусать за руку.
Я уж был больно сердит, что день даром пропал, а тут
осерчал еще пуще. Бес толкнул меня под бок, я вытащил
засапожник, да и всадил бабе в горло. Как только
свалилась она, страх меня взял. Ударился было бежать,
да одумался и воротился за лукошком. Думаю себе: уж
убил бабу, так пусть же не даром! Взял лукошко, не
раскрывая, да и пустился лесом. Отошел не более как
на песий брех, ноги стали подкашиваться, думаю себе:
сяду, отдохну, да посмотрю, много ли казны добыл?
Развернул лукошко, гляжу: ан там лежит малый ребе-
нок, чуть живой и еле дышит. «Ах ты, бесенок! —
подумал я. — Так вот зачем баба не хотела лукошко
отдавать! Так из-за тебя, проклятого, я грех на душу
взял!»
Коршун хотел было продолжать, да замолчал и заду-
мался.
— Что ж ты с ребенком сделал? — спросил Пер-
стень.
— Что ж его было, нянчить, что ли? Что сделал?
Вестимо что!
Старик опять замолчал.
— Атаман, — сказал он вдруг, — как подумаю об
этом, так сердце и защемит. Вот особливо сегодня, как
нарядился нищим, то так живо все припоминаю, как
будто вчера было. Да не только то время, я не знаю, с
чего стало мне вдруг памятно и такое, о чем я давно уж
не думал. Говорят, оно не к добру, когда ни с того ни с
другого станешь вдруг вспоминать, что уж из памяти
вышиб!..
Старик тяжело вздохнул.
Оба разбойника молчали. Вдруг свистнули над ними
крылья — и бурый коршун упал, кувырком к ногам
582
старика. В то же время кречет Адраган плавно нырнул
в воздухе и пронесся мимо, не удостоив спуститься на
свою жертву.
Митька махнул рукою. Вдали показались соколь-
ники.
— Дядя! — сказал поспешно Перстень, — забудь
прошлое; мы ведь теперь не разбойники, а слепые
сказочники. Вон скачут царские люди, тотчас будут
здесь. Живо, дядя, приосанься, закидай их прибаутками.
Старый разбойник покачал головою.
— Несдобровать мне, — сказал он, показывая на
убитого коршуна. — Это меня срезал белый кречет.
Вишь, и нет уж его. Убил, да и пропал!
Перстень пристально посмотрел на него и с досадою
почесал затылок.
— Слушай, дядя, — сказал он, — кто тебя знает, что
с тобой сегодня сталось! Только я тебя неволить не буду.
Говорят, сердце вещун. Пожалуй, твое сердце и неда-
ром чует беду. Оставайся, я один пойду в Слободу.
— Нет, — отвечал Коршун, — я не к тому вел речь.
Уж если такая моя доля, чтобы в Слободе голову
положить, так нечего оставаться. Видно, мне так на роду
написано. А вот к чему я вел речь. Знаешь ли, атаман,
на Волге село Богородицкое?
— Как не знать, знаю.
— А около того села, верстах в пяти, место, что зовут
Попов Круг?
— И Попов Круг знаю.
— А на Поповом Кругу дуб старый помнишь?
— И дуб помню; только нет уже того дуба, срубили
его.
— Дуб-то срубили, да пень оставили.
— Так что ж с того?
— А вот что. Я-то уж никогда Волги-матушки не
увижу, а ты еще, статься может, вернешься на родимую
сторонушку. Так когда будешь на Волге, ступай на
Попов Круг. Отыщи пень старого дуба. Как отыщешь
пень, сосчитай полдевяносто ступеней на закат солнеч-
ный. Сосчитаешь ступни, начинай рыть землю на том
583
месте. Там, — продолжал Коршун, понизив голос, — я
в былое время закопал казну богатую. Довольно там
лежит корабленников золотых, и червонцев, и рублев
серебряных. Откроешь клад, все будет твое. Не взять
мне с собою казны на тот свет. А как иной раз подума-
ешь, что будешь там ответ держать за все, что здесь
делал, так в ночное время индо мороз по коже дерет!
Ты бы, атаман, как не будет меня, велел по мне панихиду
отслужить. Оно все вернее. Да не жалей денег на
панихиду. Заплати хорошенько попу; пусть отслужит
как следует, ничего не пропустит. А зовут меня, ты
знаешь, Амельяном. Это так только люди Коршуном
прозвали; а крестили ведь меня Амельяном; так пусть
поп отслужит панихиду по Амельяне; а ты уж заплати
ему хорошенько, не пожалей денег, атаман; я тебе казну
оставляю богатую, на всю жизнь твою станет!
Коршуна прервали подскакавшие сокольники.
— Эй вы, убогие! — закричал один из них, —
говорите, куда полетел кречет?
— И рад бы сказать, родимые, — отвечал Пер-
стень, — Да вот уже сорок годов глаза запорошило!
— Как так?
— Да пошел раз в горы, с камней лыки драть, вижу —
дуб растет, в дупле жареные цыплята пищат. Я влез в
дупло, съел цыплят, потолстел, вылезти не могу! Как тут
быть? Сбегал домой за топором, обтесал дупло, да и
вылез; только тесамши-то, видно, щепками глаза засо-
рил; с тех пор ничего не вижу: иной раз щи хлебаю,
ложку в ухо сую; чешется нос, а я скребу спину!
— Так это вы, — сказал, смеясь, сокольник, — те
слепые, что с царем говорили! Бояре еще и теперь вам
смеются. Ну, ребята, мы днем потешали батюшку госу-
даря, а вам придется ночью тешить его царскую милость.
Сказывают, хочет государь ваших сказок послушать.
— Дай бог здоровья его царской милости, — подхва-
тил Коршун, внезапно переменив приемы, — почему не
послушать! Коли до ночи не свихнем языков, можем
скрозь до утра рассказывать!
— Добро, добро, — сказали сокольники, — в другой
584
раз побалякаем с вами. Теперь едем кречета искать,
товарища выручать. Не найдет Трифон Адрагана, быть
ему без головы; батюшка царь не шутит!
Сокольники поскакали в поле.
Перстень и Коршун опять уцепились за Митьку и
побрели по дороге в Слободу.
Не дошли они до первого подворья, как увидели двух
песенников, которые бренчали на балалайках и пели во
все горло:
Как у нашего соседа
Весела была беседа!
Когда разбойники с ними поравнялись, один из пе-
сенников, рыжий детина, с павлиньим пером на шапке,
нагнулся к Перстню.
— Уж дней пять твой князь в тюрьме! — сказал он
шепотом, продолжая перебирать лады.—Я все разузнал.
Завтра ему карачун. Сидит он в большой тюрьме, против
Малютина дома. С которого конца петуха пускать?
— Вон с того! — отвечал Перстень, мигнув на
сторону, противоположную тюрьме.
Рыжий песенник щелкнул всеми пальцами по животу
балалайки и, отвернувшись от Перстня, будто и не с ним
говорил, продолжал тонким голосом:
Как у нашего соседа
Весела была беседа!
Глава 21
СКАЗКА
Иван Васильевич, утомленный охотою, удалился ра-
нее обыкновенного в свою опочивальню.
Вскоре явился Малюта с тюремными ключами.
На вопрос царя Малюта ответил, что нового ничего
не случилось, что Серебряный повинился в том, что
стоял за Морозова на Москве, где убил семерых оприч-
ников и рассек Вяземскому голову.
— Но, — прибавил Малюта, — не хочет он виниться
в умысле на твое царское здравие и на Морозова также
585
показывать не хочет. После заутрени учиним ему при-
страстный допрос, а коли он с пытки и с огня не покажет
на Морозова, то и ждать нечего, тогда можно и покон-
чить с ним.
Иоанн не отвечал. Малюта хотел продолжать, но в
опочивальню вошла старая мамка Онуфревна.
— Батюшка, — сказала она, — ты утром прислал
сюда двух слепых: сказачники они, что ли; ждут здесь
в сенях.
Царь вспомнил свою встречу и приказал позвать
слепых.
— Да ты их, батюшка, знаешь ли? — спросила
Онуфревна.
— А что?
— Да полно, слепые ли они?
— Как? — сказал Иоанн, и подозрение мигом им
овладело.
— Послушай меня, государь, — продолжала мам-
ка, — берегись этих сказочников; чуется мне, что они
недоброе затеяли; берегись их, батюшка, послушай
меня.
— Что ты знаешь про них? говори! — сказал Иоанн.
— Не спрашивай меня, батюшка. Мое знанье слова-
ми не сказывается: чуется мне, что они недобрые люди,
а почему чуется, не спрашивай. Даром я никого еще не
остерегала. Кабы послушалась меня покойная матушка
твоя, она, может, и теперь бы здравствовала еще!
Малюта поглядел со страхом на мамку.
— Ты чего на меня смотришь? — сказала Онуфрев-
на. — Ты только безвинных губишь, а лихого человека
распознать, видно, не твое дело. Чутья-то у тебя на это
не хватит, рыжий пес!
— Государь, — воскликнул Малюта, — дозволь мне
попытать этих людей! Я тотчас узнаю, кто они и от кого
подосланы!
— Не нужно, — сказал Иоанн, — я их сам попытаю.
Где они?
— Тут, батюшка, за дверью, — отвечала Онуфрев-
на, — в сенях стоят.
586
— Подай мне, Малюта, кольчугу со стены; да ступай
будто домой, а когда войдут они, вернись в сени,
притаись с ратниками за этой дверью. Лишь только я
кликну, вбегайте и хватайте их... Онуфревна, подай
сюда посох.
Царь вздел кольчугу, надел поверх нее черный сти-
харь, лег на постель и положил возле себя тот самый
посох, или осей, которым незадолго перед тем пронзил
ногу гонцу князя Курбского.
— Теперь пусть войдут! — сказал он.
Малюта положил ключи под царское изголовье и
вышел вместе с мамкою. Иконные лампады слабо осве-
щали избу. Царь с видом усталости лежал на одре.
— Войдите, убогие, — сказала мамка, — царь велел!
Перстень и Коршун вошли, осторожно передвигая
ноги и щупая вокруг себя руками.
Одним быстрым взглядом Перстень обозрел избу и
находившиеся в ней предметы.
Налево от двери была лежанка; в переднем углу
стояла царская кровать; между лежанкой и кроватью
было проделано в стене окно, которое никогда не
затворялось ставнем, ибо царь любил, чтобы первые
лучи солнца проникали в его опочивальню. Теперь
сквозь окно это смотрела луна, и серебряный блеск ее
играл на пестрых изразцах лежанки.
— Здравствуйте, слепые муромские калашники, вер-
тячие бобы! — сказал царь, пристально, но неприметно
вглядываясь в черты разбойников.
— Много лет здравствовать твоей царской мило-
сти! — отвечали Перстень и Коршун, кланяясь земно. —
Заступи, спаси и помилуй тя мати божия, что жалеешь
ты нас, скудных, убогих людей, по земле ходящих, по
воды бродящих, света божия не видящих! Сохрани тебя
святый Петр и Павел, Иоанн Златоуст, Кузьма со Демь-
яном, Хутынские чудотворцы и все святые угодники!
Создай тебе господи, о чем ты молишь и просишь! Вечно
бы тебе в золоте ходилось, вкусно елось и пилось,
сладко спалось! А супостатам твоим вечно б икалось и
голодалось; каждый бы день их дугою корчило, барань-
им рогом коробило!
587
— Спасибо, спасибо, убогие! — сказал Иоанн, про-
должая вглядываться в разбойников. — Что ж вы, давно,
знать, ослепли?
— Смолоду, батюшка государь, — отвечал Перстень,
кланяясь и сгибая колени, — оба смолоду ослепли! И
не припомним, когда солнышко божие видели!
— А кто же вас научил песни петь и сказки сказы-
вать?
— Сам господь, батюшка, сам господь сподобил еще
в стародавние времена!
— Как так? — спросил Иоанн.
— Старики наши рассказывают, — отвечал Пер-
стень, — и гусляры о том поют. В стародавние то было
времена, когда возносил Христос бог на небо, распла-
кались бедные, убогие, слепые, хромые, вся, значит,
нищая братия: куда ты, Христос бог, полетаешь? На кого
нас оставляешь? Кто будет нас кормить-поить? И сказал
им Христос, царь небесный:
«Дай вам, говорит, гору золотую^ реку медвяную,
сады-винограды, яблони кудрявы; будете сыты да пьяны,
будете обуты-одеты!» Тут возговорил Иван Богослов: Ай
же ты спас милосердый! Не давай им ни горы золотые,
ни реки медвяные, ни садов-виноградов, ни яблонь
кудрявых. Не сумеют они ими владети; наедут к ним
сильные, богатые, добро-то у них отымут. А ты дай им,
Христос, царь небесный, дай-ко-се имя твое Христовое,
дай-ко-се им те песни сладкие, сказаньица великие про
стару старину да про божьих людей. Пойдут нищие по
земле ходити, сказаньица великие говорити, всякий их
приобует-приоденет, хлебом-солью напитает». И рече
Христос, царь небесный: «Ин пусть будет по-твоему,
Иване! Пусть же им будут песни сладкие, гусли звон-
кие, сказанья великие; а кто их напоит-накормит, от
темныя ночи оборонит, тому я дам в раю место; не
заперты в рай тому двери!»
— Аминь! — сказал Иоанн. — Какие же вы знаете
сказки?
— Всякие знаем, батюшка царь, какие твоя милость
послушать соизволит. Могу сказать тебе о Ерше Ершо-
588
виче, сыне Щетинникове, о семи Семионах, о змее
Горынище, о гуслях-самогудах, о Добрыне Никитиче, об
Акундине...
— Что же, — перебил Иоанн, — разве ты один
сказки сказываешь? А старик-то зачем с тобою пришел?
Перстень спохватился, что Коршун почти все время
молчал, и, чтобы вызвать его из неестественной для
сказочника угрюмости, он вдруг переменил приемы и
начал говорить прибаутками.
— Старик-то? — сказал он, наступая неприметно на
ногу Коршуна. — Это, вишь, мой товарищ, Амелька
Гудок; борода у него длинна, да ум короток; когда я речь
веду скоромную, не постную, несу себе околесную, он
мне поддакивает, потакает да присвистывает, похваляет
да помалчивает. Так ли, дядя, белая борода, утиная
поступь, куриные ножки; не сбиться бы нам с дорожки!
— Вестимо так, — подхватил Коршун, опомнясь, —
наша чара полна зелена вина, а уж налил по край, так
пей до дна! Вот как, дядя, петушиный голосок, кротовое
око; пошли ходить, заберемся далеко!
— Ай люди тарарах, пляшут козы на горах! — сказал
Перстень, переминая ногами, — козы пляшут, мухи
пашут, а у батюшки Ефросиньи в левом ухе звенит!..
— Ай люлюшеньки люли! — перебил Коршун, также
переминая ногами, — ай люлюшеньки люли, сидит рак
на мели; не горюет рак, а свистит в кулак; как прибудет
вода, так пройдет беда!
— Эх, батюшка государь, — закончил Перстень с
низким поклоном, — не смотри на нас искоса; это не
сказка, а только присказка!
— Добро, — сказал Иоанн, зевая, — люблю молод-
цов за обычай; начинайте сказку про Добрыню, убогие;
авось я, слушая вас, сосну!
Перстень еще раз поклонился, откашлялся и начал:
— «Во гриднице княжеской, у Владимира, князя
киевского, было пированье почестный стол, был пир про
князей, бояр и могучих богатырей. А и был день к
вечеру, а и был стол во полустоле, и послышалось всем
за диво: затрубила труба ратная. Возговорил Владимир,
589
князь киевский, солнышко Святославьевич: «Гой еси
вы, князья, бояре, сильны могучие богатыри! Пошлите
опроведать двух могучих богатырей: кто смеловал стать
перед Киевом? Кто смеловал трубить ко стольному
князю Владимиру?»
Зушемели буйны молодцы посередь двора; зазвенели
мечи булатные по крутым бедрам; застучали палицы
железные у красна крыльца, закидали шапки разнорядь
по поднебесью. Надевают могучи богатыри сбрую рат-
ную, садятся на добрых коней, выезжают во чисто
поле...»
— Погоди-ка! — сказал Иоанн, с намерением при-
дать более правдоподобия своему желанию слушать
рассказчика, — я эту сказку знаю. Расскажи лучше про
Акундина.
— Про Акундина? — сказал Перстень с замешатель-
ством, вспомнив, что в той сказке величается опальный
Новгород, — про Акундина, батюшка государь, сказка-
то нехорошая, мужицкая; выдумали ту сказку глупые
мужики новгородские; да я, батюшка царь, как будто и
забыл-то ее...
— Рассказывай, слепой! — сказал Иоанн строго, —
рассказывай всю, как есть, и не смей пропустить ни
единого слова!
И царь внутренно усмехнулся трудному положению,
в которое он ставил рассказчика.
Перстень, хотя досадовал на себя, что сам предло-
жил эту сказку, но, не зная, до какой степени она уже
известна Иоанну, решился очертя голову начать свой
рассказ, ничего не выкидывая.
— «Как во старом было городе, — начал он, — в
Новегороде, как во том ли Новегороде, со посадской
стороны, жил Акундин молодец, а и тот ли Акундин,
молодой молодец, ни пива не варил, ни вина не курил,
ни в торгу не торговал; а ходил он, Акундин, со поволь-
ницей и гулял он, Акундин, по Волхову по реке на
суденышках. Садится он, Акундин, на суденышко осна-
щенное, кладет весельца кленовые во замки дубовые, а
сам садится на корму. Поплыло суденышко по Волхв по
590
реке и прибыло суденышко ко кругу бережку. Как во
ту пору по кругу бережку идет калечище перехожее.
Берет калечище Акундина за белы руки, ведет его,
Акундина, на высок курган, а становивши его на высок
курган, говорил такие речи: «Погляди-ка, молодой мо-
лодец, на город Ростиславль, на Оке-реке, а поглядевши,
поведай, что деется в городе Ростиславле?» Как глянул
Акундин в город во Ростиславль, а там беда великая:
исконные слуги молода князя рязанского, Глеба Олего-
вича, стоят посередь торга, ходят войной город отстоять,
да силы не хватит. А по Оке-реке плывет чудовище
невиданное, змей Тугарин. Длиною-то был тот змей
Тугарин во триста сажен, хвостом бьет рать рязанскую,
спиною валит круты берега, а сам все просит стару дань.
В ту пору калечище берет Акундина за его белы руки,
молвит таково слово: «Ты гой еси, добрый молодец,
назовись по имени по изотчеству!» На те ли речи
опросные говорит Акундин: «Родом я из Новагорода,
зовут меня Акундин Акундиныч».
«Тебя-то, Акундин Акундиныч, я ждал ровно трид-
цать лет и три года; спознай своего дядюшку родимого
Замятию Путятича; а и ведь мой-то брат, Акундин
Путятич, был тебе родимый батюшка! А и вот тебе
меч-кладенец твоего родимого батюшки, Акундина Пу-
тятича!» Не домолвивши речи вестные, стал Замятия
Путятич кончатися, со белым светом расставатися; и,
кончайся, учал отповедь чинить: «А и гой ты еси, мое
милое детище, Акундин Акундиныч! Как и будешь ты
во славном во Новегороде, и ты ударь челом ему,
Новугороду, и ты скажи, скажи ему, Новугороду: а и
дай же то, боже, тебе ли, Новугороду, век вековать,
твоим ли детушкам славы добывать! Как и быть ли тебе,
Новугороду, во могучестве, а твоим детушкам во бога-
честве...»
— Довольно! — перебил с гневом царь, забывая в
эту минуту, что цель его была только следить за рассказ-
чиком. — Начинай другую сказку!
Перстень, как будто в испуге, согнул колени и
поклонился до земли.
591
— Какую же сказку соизволишь, батюшка госу-
дарь? — спросил он с притворным, а может быть, и с
настоящим страхом. — Не рассказать ли тебе о Бабе
Яге? О Чуриле Пленковиче? О Иване Озере? Или не
велишь ли твоей милости что-нибудь божественное
рассказать?
Иоанн вспомнил, что он не должен запугивать сле-
пых, а потому еще раз зевнул и спросил уже сонным
голосом:
— А что же ты знаешь про божественное, убогий?
— Об Алексее божьем человеке, батюшка, о Егории
Храбром, об Иосифе Прекрасном или, пожалуй, о
Голубиной книге.
— Ну, — сказал Иоанн, которого глаза, казалось,
уже смыкались, — расскажи о Голубиной книге. Оно
нам, грешным, и лучше будет на ночь что-нибудь боже-
ственное послушать!
Перстень вторично откашлялся, выпрямился и начал
нараспев:
— «Как из тучи было из грозныя, из грозныя тучи
страховитыя подымалась погода божия; во той ли во по-
годе божией выпадала с небес книга Голубиная. Ко той
ли книге Голубиной соезжалось сорок царей и цареви-
чей, сорок королей и королевичей, сорок князей со кня-
зевичам, сорок попов со поповичам, много бояр, люду
ратного, люду ратного, разного, мелких христиан право-
славных. Из них было пять царей наболыпыих: был Исай-
царь, Василей-царь, Костянтин-царь, Володимер-царь
Володимерыч, был премудрый царь Давид Евсиевич.
Как проговорил Володимер-царь: «Кто из нас, брат-
цы, горазд в грамоте? Прочел бы эту книгу Голубиную?
Сказал бы нам про божий свет: отчего началось солнце
красное? Отчего начался млад светел месяц? Отчего
начались звезды частыя? Отчего начались зори светлыя?
Отчего зачались ветры буйныя? Отчего зачались тучи
грозныя? Отчего да взялись ночи темныя? Отчего у нас
пошел мир-народ? Отчего у нас на земли цари пошли?
Отчего зачались бояры-князья? Отчего пошли крестьяне
православные? »
592
На то все цари приумолкнули. Им ответ держал
премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: «Я
вам, братцы, про то скажу, про эту книгу Голубиную:
эта книга не малая; сорока сажен долина ее, поперечина
двадцати сажен; приподнять книгу, не поднять будет; на
руцех держать, не сдержать будет; по строкам глядеть,
все не выглядеть; по листам ходить, все не выходить, а
читать книгу — ее некому, а писал книгу Богослов Иван,
а читал книгу Исай пророк, читал ее по три годы, прочел
в книге только три листа; уж мне честь книгу — не
прочесть божию! Сама книга распечатывалась, сами
листы расстилалися, сами слова прочиталися. Я скажу
вам, государи, не выглядя, скажу вам, братцы, не по
грамоте, не по грамоте, все по памяти, про старое, про
стародавнее, по-старому, по-писаному.
Началось у нас солнце красное от светлого лица
божия; млад светел месяц от грудей его; звезды частые
от очей божиих; зори светлыя от риз его; буйны ветры-
то — дыханье божее; тучи грозныя — думы божии; ночи
темныя от опашня его! Мир-народ у нас от Адамия; от
Адамовой головы цари пошли; от мощей его князи со
боярами; от колен крестьяне православные; от того ж
начался и женский пол!
Ему все цари поклонилися: «Спасибо, свет-государь,
премудрый царь, мудрейший царь, Давид Евсиевич! Ты
еще, сударь, нам про то скажи, про то скажи, ты
поведай нам:
Который царь над царями царь? Кая земля всем
землям мати? Которо море всем морям мати? Котора
река всем река мати? Кая гора всем горам мати? Кото-
рый город всем городам мати?»
Здесь Перстень украдкою посмотрел на Ивана Ва-
сильевича, которого, казалось, все более клонило ко
сну. Он время от времени, как будто с трудом, открывал
глаза и опять закрывал их; но всякий раз незаметно
бросал на рассказчика испытующий, проницательный
взгляд.
Перстень перемигнулся с Коршуном и продолжал:
— «Им ответ держал премудрый царь, премудрый
593
царь Давид Евсиевич: Я вам, братцы, и про то скажу,
про то скажу, вам поведаю: в Голубиной книге есть
написано: у нас Белый царь будет над царями царь; он
верует веру крещеную, крещеную богомольную; он в
матерь божию богородицу и в троицу верует неразде-
лимую. Ему орды все преклонилися, все языци ему
покорилися; область его надо всей землей, над вселен-
ною; всех выше его рука царская, благоверная, благо-
честивая; и все к царю Белому приклонятся, потому
Белый царь над царями царь! Свято-Русь всем землям
мати; на ней строят церкви апостольские, богомольные,
соборные. Окиян-море всем морям мати; выходила из
него церковь соборная; что во той ли во церкви во
соборныя почивают мощи попа римского, попа римского
Климентия; обошло то море окол всей земли; все реки
к морю собегалися, все к окиян-морю приклонилися.
Ердань-река всем рекам мати; во славной матушке во
Ердань-реке окрестился сам Исус Христос, небесный
царь. А Фавор-гора всем горам мати; как на славныя на
Фавор-горы преобразился на ней сам Исус Христос,
показал славу ученикам своим. Ерусалим город всем
городам мати; что стоит тот город посреди земли, а в
том городе церковь соборная; пребывает во церкви
господень гроб, почивают в нем ризы самого Христа,
фамиамы-ладаны рядом курятся, свещи горят неугаси-
мыя...»
Здесь Перстень опять взглянул на Иоанна. Глаза его
были закрыты, дыхание ровно. Грозный, казалось, по-
чивал.
Атаман тронул Коршуна локтем. Старик подался шага
на два вперед. Перстень продолжал нараспев:
— «Ему все цари поклонилися: «Спасибо, свет-госу-
дарь, премудрый царь, Давид Евсиевич! Ты еще, сударь,
нам про то скажи: котора рыба всем рыбам мать? Котора
птица всем птицам есть мать? Который зверь над зверя-
ми зверь? Который камень всем каменям отец? Которо
древо древам всем мать? Кая трава всем травам мати?»
«Им ответ держал премудый царь: «Я еще вам,
братцы, про то скажу: у нас Кит-рыба всем рыбам мать:
594
на трех китах земля стоит; Естрафиль-птица всем птицам
мати: что живет та птица на синем море; когда птица
вострепенется, все сине море всколебается, потопляет
корабли гостиные, побивает суда поморские; а когда
Естрафиль вострепещется, во втором часу после полу-
нощи, запоют петухи по всей земли, осветится в те поры
вся земля...»
Перстень покосился на Иоанна. Царь лежал с сомк-
нутыми глазами; рот его был раскрыт, как у спящего. В
то же время, как будто в лад словам своим, Перстень
увидел в окно, что дворцовая церковь и крыши ближних
строений осветились дальним заревом.
Он тихонько толкнул Коршуна, который подался еще
одним шагом ближе к Ивану Васильевичу.
— «У нас Индра-зверь, — продолжал Перстень, —
над зверями зверь, и он ходит, зверь, по подземелью,
яко солнышко по поднебесью; он копает рогом сыру
мать-землю, выкопает ключи все глубокие; он пущает
реки, ручьявиночки, прочищает ручьи и проточины, дает
людям питанийца, питайница, обмыванийца. Алтырь-ка-
мень всем камням отец; на белом Алатыре на камени
сам Исус Христос опочив держал, царь небесный бесе-
довал со двунадесяти со апостолам, утверждал веру
христианскую; утвердил он веру на камени, распущал
он книги по всей земле. Кипарис-древо всем древам
мати; из того ли из древа кипарисного был вырезан
чуден поклонен крест; на тем на кресте, на животворя-
щиим, на распятье был сам Исус Христос, сам Исус
Христос, сам небесный царь, промежду двух воров,
двух разбойников. Плакун-трава всем травам мати. Ког-
да Христос бог на распятье был, тогда шла мати божия,
богородица, ко своему сыну ко распятому; от очей ея
слезы наземь капали, и от тех слез, от пречистых,
зародилася, вырастала мати плакун-трава; из того пла-
куна, из корени у нас режут на Руси чудны кресты, а
их носят старцы иноки, мужие их носят благороверные».
Здесь Иван Васильевич глубоко вздохнул, но не
открыл очей. Зарево пожара делалось ярче. Перстень
стал опасаться, что тревога подымется прежде, чем они
595
успеют достать ключи. Не решаясь сам тронуться с
места, чтобы царь не заметил его движения по голосу,
он указал Коршуну на пожар, потом на спящего Иоанна
и продолжал:
— «Ему все цари поклонилися: «Спасибо, свет-госу-
дарь, премудрый царь, мудрейший царь Давид Евсиевич!
Ты горазд сказать по памяти, говоришь будто по грамо-
ты!» Тут возговорит Володимер-царь: «Ты еси, премуд-
рый царь Давид Евсиевич! Ты скажи еще, ты поведай
мне: ночеся мне мало спалося, мало спалося, много
виделось: кабы два зверья сходилися, один белый зверь,
другой серый зверь, промежду собой подиралися; кабы
белый зверь одолеть хочет? » Что ответ держал премуд-
рый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: «Ах ты гой
еси, Володимер царь, Володимер Володимерыч! То не
два зверья сходилися, промежду собой подиралися; и
то было у нас на сырой земле, на сырой земле, на святой
Руси; сходилися правда со кривдою; это белая зверь —
то-то правда есть, а серая зверь — то-то кривда есть;
правда кривду передалила, правда пошла к богу на небо,
а кривда осталась на сырой земли; а кто станет жить у
нас правдою, тот наследует царство небесное; а кто
станет жить у нас кривдою, отрешен на муки на веч-
ные...»
Здесь послышалось легкое храпение Иоанна. Кор-
шун протянул руку к царскому изголовью; Перстень же
придвинулся ближе к окну, но, чтобы внезапным мол-
чанием не прервать сна Иоаннова, он продолжал рас-
сказ свой тем же однообразным голосом:
— «Ему все цари поклонилися: «Спасибо, свет-госу-
дарь, премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич!
Ты еще, сударь, нам про то скажи: каким грехам про-
щенье есть, а каким грехам нет прощенья?» Им ответ
держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсие-
вич: «Кабы всем грехам прощенье есть, трем грехам
тяжкое покаяние: кто спознался с кумою крестовыя,
куо бранит отца с матерью, кто...»
В это мгновение царь внезапно открыл глаза. Коршун
отдернул руку, но уже было поздно: взор его встретился
596
со взором Иоанна. Несколько времени оба неподвижно
глядели друг на друга, как бы взаимно скованные обая-
тельною силой.
— Слепые! — сказал вдруг царь, быстро вскаки-
вая, — третий грех: когда кто нарядится нищим и к царю
в опочивальню войдет!
И он ударил острым посохом Коршуна в грудь.
Разбойник схватился за посох, закачался и упал.
— Гей! — закричал царь, выдергивая острие из груди
Коршуна.
Опричники вбежали, гремя оружием.
— Хватайте их обоих! — сказал Иоанн.
Как ярый пес, Малюта бросился на Перстня, но с
необычайной ловкостью атаман ударил его кулаком под
ложку, вышиб ногою оконницу и выскочил в сад.
— Оцепите сад! Ловите разбойника! — заревел
Малюта, согнувшись от боли и держась обеими руками
за живот.
Между тем опричники подняли Коршуна.
Иоанн в черном стихаре, из-под которого сверкала
кольчуга, стоял с дрожащим посохом в руке, вперив
грозные очи в раненого разбойника. Испуганные слуги
держали заженные свечи. Сквозь разбитое окно виден
был пожар. Слобода приходила в движение; вдали гудел
набатный колокол.
Коршун стоял, насупив брови, опустив глаза, поддер-
живаемый опричниками; кровь широкими пятнами пес-
трила его рубаху.
— Слепой! — сказал царь, — говори, кто ты и что
умышлял надо мною?
— Нечего мне таить! — отвечал Коршун. — Я хотел
добыть ключи от твоей казны, а над тобой ничего не
умышлял!
— Кто подослал тебя? Кто твои товарищи?
Коршун бесстрашно взглянул на Иоанна.
— Надежа, православный царь! Был я молод, певал
я песню: «Не шуми, мати сыра дуброва». В той ли песне
царь спрашивает у добра молодца, с кем разбой держал?
А молодец говорит: «Товарищей у меня было четверо:
597
уж как первый мой товарищ черная ночь; а второй мой
товарищ...»
— Будет! — прервал его Малюта, — посмотрим, что
ты запоешь, как станут тебя с дыбов рвать, на козел
подымать! Да кой прах! — продолжал он, вглядываясь
в Коршуна, — я где-то уже видал эту кудластую голову!
Коршун усмехнулся и отвесил поклон Малюте.
— Виделись мы, батюшка, Малюта Скуратыч, виде-
лись, коли припомнишь, на Поганой Луже...
— Хомяк! — перебил его Малюта, обернувшись к
своему стремянному, — возьми этого старика, потолкуй
с ним, попроси его рассказать, зачем приходил к его
царской милости. Я сейчас сам в застенок приду!
— Пойдем, старина! — сказал Хомяк, ухватя Коршу-
на за ворот, — пойдем-ка вдвоем, потолкуем ладком!
— Постой! — сказал Иоанн. — ты, Малюта, побереги
этого старика: он не должен на пытке кончится. Я
придумаю ему казнь примерную, еще небывалую, не-
слыханную; такую казнь, что самого тебя удивлю, отец
параклисиарх!
— Благодари же царя, пес! — сказал Малюта Кор-
шуну, толкая его. — Доведется тебе, должно быть,
пожить еще. Мы сею ночью тебе только суставы повы-
вернем!
И вместе с Хомяком он вывел разбойника из опочи-
вальни.
Между тем Перстень, пользуясь общим смятением,
перелез через садовый частокол и прибежал на пло-
щадь, где находилась тюрьма. Площадь была пуста; весь
народ повалил на пожар.
Пробираясь осторожно вдоль тюремной стены, Пер-
стень споткнулся на что-то мягкое и, нагнувшись, ощу-
пал убитого человека.
— Атаман! — шепнул, подходя к нему, тот самый
рыжий песенник, который остановил его утром, —
часового-то я зарезал! Давай проворней ключи, отопрем
тюрьму, да и прощай; пойду на пожар грабить с ребята-
ми! А где Коршун?
— В руках царя! — отвечал отрывисто Перстень. —
Все пропало! Сбирай ребят, да и тягу! Тише; это кто?
598
— Я! — отвечал Митька, отделяясь от стены.
— Убирайся, дурень! Уноси ноги! Все выбирайтесь
из Слободы! Сбор у кривого дуба!
— А князь-то? — спросил Митька протяжно.
— Дурень! Слышишь, все пропало! Дедушку схвати-
ли, ключей не добыли!
— А нешто тюрьма на запоре?
— Как не на запоре? Кто отпер?
— А я!
— Что ты, болван! Говори толком!
— Что ж говорить? Прихожу, никого нет; часовой
лежит, раскидамши ноги. Я говорю: дай, мол, испробую,
крепка ль дверь? Понапер в нее плечиком; а она как
была, так с заклепами и соскочила с петлей!
— Ай да дурень! — воскликнул радостно Пер-
стень. — Вот, правду говорят: дураками свет стоит! Ах,
дурак, дурак! Ах, губошлеп, губошлеп ты этакий!
И Перстень, схватив Митьку за виски, поцеловал его
в обе щеки, причем Митька протянул, чмокая, и свои
толстые губы, а потом хладнокровно утерся рукавом.
— Иди же за мной, такой-сякой сын, право! А ты,
балалайка, здесь погоди. Коли что будет, свистни!
Перстень вошел в тюрьму. За ним ввалился и Митька.
За первою дверью были еще две другие двери, но те,
как менее крепкие, еще легче подались от богатырского
натиска Митьки.
— Князь! — сказал Перстень, входя в подземелье, —
вставай!
Серебряный подумал, что пришли вести его на казнь.
— Ужели теперь утро? — спросил он, — или тебе,
Малюта, до рассвета не терпится?
— Я не Малюта! — отвечал Перстень. — Я тот, кого
ты от смерти спас. Вставай, князь! Время дорого. Вста-
вай, я выведу тебя!
— Кто ты? — сказал Серебряный, — я не знаю твоего
голоса!
— И не мудрено, боярин; где тебе помнить меня!
Только вставай! Нам некогда мешкать!
Серебряный не отвечал. Он подумал, что Перстень
599
один из Малютиных палачей, и принял слова его за
насмешку.
— Аль ты не веришь мне, князь? — продолжал
атаман с досадою. — Вспомни Медведевку, вспомни
Поганую Лужу: я Ванюха Перстень!
Запылала радость в груди Серебряного. Взыграло его
сердце и забилось любовью к свободе и к жизни.
Запестрели в его мыслях и леса, и поля, и новые славные
битвы, и явился ему, как солнце, светлый образ Елены.
Уже он вспрянул с земли, уже готов был следовать
за Перстнем, как вдруг вспомнил данную царю клятву,
и кровь его отхлынула к сердцу.
— Не могу! — сказал он, — не могу идти за тобою.
Я обещал царю не выходить из его воли и ожидать, где
бы я ни был, суда его!
— Князь! — отвечал удивленный Перстень, — мне
некогда толковать с тобою. Люди мои ждут; каждый миг
может нам головы стоить; завтра тебе казнь, теперь еще
время, вставай, ступай с нами!
— Не могу! — повторил мрачно Серебряный, — я
целовал ему крест на моем слове!
— Боярин! — вскричал Перстень, и голос его изме-
нился от гнева, — издеваешься ты, что ли, надо мною?
Для тебя я зажег Слободу, для тебя погубил своего
лучшего человека, для тебя, может быть, мы все наши
головы положим, а ты хочешь остаться? Даром мы сюда,
что ли, пришли? Скоморохи мы тебе, что ли, дались? Да
я бы посмотрел, кто бы стал глумиться надо мной!
Говори в последний раз, идешь али нет?
— Нет! — отвечал решительно Никита Романович и
лег на сырую землю.
— Нет? — повторил, стиснув зубы, Перстень, — нет?
Так не бывать же по-твоему! Митька, хватай его насиль-
но! — Ив тот же миг атаман бросился на князя и замотал
ему рот кушаком.
— Теперь не заспоришь! — сказал он злобно.
Митька загреб Никиту Романовича в охапку и, как
малого ребенка, вынес из тюрьмы.
— Живо! Идем! — сказал Перстень.
600
В одной улице попались им опричники.
— Кого несете? — спросили они.
— Слободского на пожаре бревном пришибло! —
отвечал Перстень. — Несем в скудельницу!
При выходе из Слободы их остановил часовой. Они
хотели пройти мимо; часовой разинул рот крикнуть,
Перстень хватил его кистенем, и он свалился, не пикнув.
Разбойники вынесли князя из Слободы без даль-
нейшего препятствия.
Глава 22
МОНАСТЫРЬ
Мы оставили Максима ненастною ночью, на выезде
из Александровой слободы. Косматый Буян лаял и пры-
гал вокруг ног и радовался, что удалось ему сорваться
с цепи.
Максим, покидая родительский дом, не успел опре-
делить себе никакой цели. Он хотел только оторваться
от ненавистной жизни царских любимцев, от их нече-
стивого веселья и ежедневных казней. Оставя за собою
страшную Слободу, Максим вверился своей судьбе.
Сначала он торопил коня, чтобы не догнали его отцов-
ские холопи, если бы вздумалось Малюте послать за
ним погоню. Но вскоре он повернул на проселочную
дорогу и поехал шагом.
К утру гроза утихла. На востоке заалело, и Максим
яснее стал различать предметы. По сторонам дороги
росли кудрявые дубы; промеж них виднелись кусты
орешника. Было свежо; дождевые капли бежали с
деревьев и лениво хлопали по широким листьям. Вскоре
мелкие птички запорхали и защебетали в зелени; дятел
застучал в сухое дерево, и вершины дубов озолотились
восходящим солнцем. Природа оживлялась все более;
конь ступал бодрее. Раскинулась перед Максимом род-
ная Русь; весело мог бы он дышать в ее вольном
пространстве; но грусть легла ему на сердце, широкая
русская грусть. Задумался он о покинутой матери, о
своем одиночестве, обо многом, в чем и сам не отдавал
601
себе отчета; задумался и затянул, в раздумье, протяж-
ную песню.
Чудны задушевные русские песни! Слова бывают
ничтожны; они лишь предлог; не словами, а только
звуками выражаются глубокие, необъятные чувства.
Так, глядя на зелень, на небо, на весь божий мир,
Максим пел о горемычной своей доле, о золотой волюш-
ке, о матери сырой дуброве. Он приказывал коню нести
себя в чужедальнюю сторону, что без ветру сушит, без
морозу знобит. Он поручал ветру отдать поклон матери.
Он начинал с первого предмета, попадавшегося на глаза,
и высказывал все, что приходило ему на ум; но голос
говорил более слов, а если бы кто услышал эту песню,
запала б она тому в душу, и часто, в минуту грусти,
приходила бы на память...
Наконец, когда тоска стала глубже забирать Макси-
ма, он подобрал поводья, поправил шапку, свистнул,
крикнул и полетел во всю конскую прыть.
Вскоре забелели перед ним стены монастыря.
Обитель была расположена по скату горы, поросшей
дубами. Золотые главы и узорные кресты вырезывались
на зелени дубов и на синеве неба.
Навстречу Максиму попался отряд монастырских
служек в шишаках и кольчугах. Они ехали шагом и пели
псалом: «Возлюби тя, господи, крепосте моя». Услышав
священные слова, Максим остановил коня, снял шапку
и перекрестился.
Небольшая речка протекала под горою. Несколько
мельниц вертели на ней свои колеса. На берегу паслись
коровы пестрыми кучами.
Все вокруг монастыря дышало такою тишиною, что
вооруженный объезд казался излишним. Даже птицы на
дубах щебетали как будто вполголоса; ветер не шеле-
стел в листьях, и только кузнечики, притаясь в траве,
трещали без умолку. Трудно было подумать, чтобы
недобрые люди могли возмутить это спокойствие.
«Вот где отдохну я! — подумал Максим. — За этими
стенами проведу несколько дней, пока отец перестанет
искать меня. Я на исповеди открою настоятелю свою
душу, авось он даст мне на время убежище».
602
Максим не ошибся. Престарелый игумен, с длинною
седою бородой, с кротким взглядом, в котором было
совершенное неведение дел мирских, принял его ласко-
во. Двое служек взяли под уздцы усталого коня. Третий
вынес хлеба и молока для Буяна; все радушно хлопотали
около Максима. Игумен предложил ему отобедать, но
Максим захотел прежде всего исповедаться.
Старик взглянул на него испытующим взором, на-
сколько позволяли его добродушные глаза, и, не говоря
ни слова, повел его через обширный двор к низкой,
одноглавой церкви. Они шли мимо могильных крестов
и длинного ряда келий, обсаженных цветами. Попадав-
шиеся им навстречу братия кланялись молча. Надгроб-
ные плиты звенели от шагов Максима; высокая трава
пробивалась между плитами и закрывала вполовину
надписи, полные смирения; все напоминало о бренности
жизни, все вызывало на молитву и созерцание. Церковь,
к которой игумен вел Максима, стояла среди древних
дубов, и столетние ветви их почти совсем закрывали
узкие, продольные окна, пропускавшие свет, сквозь
пыльную слюду, вставленную в мелкие свинцовые окон-
ницы. Когда они вошли, их обдало прохладой и темно-
тою. Лишь сквозь одно окно, менее других заслоненное
зеленью, косые столбы света падали на стенное изобра-
жение Страшного суда. Остальные части церкви каза-
лись от этого еще мрачнее; но кое-где отсвечивали
ярким блеском серебряные яблоки паникадил, венцы на
образах да шитые серебром кресты, тропари и кондаки
на черном бархате, покрывающем гробницы князей
Воротынских, основателей монастыря. Позолота на про-
резных травах иконостаса походила местами на уголья,
тлеющие под золою и готовые вспыхнуть. Пахло сыро-
стью и ладаном. Мало-помалу глаз Максима стал привы-
кать к полумраку и различать другие подробности храма:
над царскими дверьми виден был спаситель в силах, с
херувимами и серафимами, а над ним шестнадцать вла-
дычных праздников. Большой местный образ Иоанна
Предтечи представлял его крылатым и держащим на
блюде отсеченную главу свою. На боковых дверях были
603
написаны грубо и неискусно притча о блудном сыне,
прение смерти и живота да исход души праведного и
грешного. Мрачные эти картины глубоко подействовали
на Максима; все понятия о смирении духа, о безуслов-
ной покорности родительской власти, все мысли, в
которых он был воспитан, оживились в нем снова. Он
усомнился, прав ли был, что уехал от отца против его
воли? Но совесть отвечала ему, что он прав; а между
тем она не была спокойна. Картина Страшного суда
потрясла его воображение. Когда тень дубовых листьев,
колеблемых ветром снаружи окна, трепетала на стене
подвижною сеткой, ему казалось, что грешники и диа-
волы, писанные в человеческий рост, дышат и движутся.
Благоговейный ужас проник его сердце. Он пал ниц
перед игуменом.
— Отец мой, — сказал он, — должно быть, я великий
грешник!
— Молись, — отвечал кротко старик, — велико
милосердие божие; много поможет тебе раскаяние, сын
мой!
Максим собрался с силами.
— Тяжело мое преступление, — начал он дрожащим
голосом. — Отец мой, слушай! Страшно мне вымолвить:
оскудела моя любовь к царю, сердце мое от него
отвратилось!
Игумен с удивлением взглянул на Максима.
— Не отвергай меня, отец мой! — продолжал Мак-
сим, — выслушай меня! Долго боролся я сам с собою,
долго молился пред святыми иконами. Искал я в своем
сердце любви к царю — и не обрел ее!
— Сын мой, — сказал игумен, глядя с участием на
Максима, — должно быть, сатанинское наваждение
помрачило твой рассудок; ты клевещешь на себя. Того
быть не может, чтобы ты возненавидел царя. Много
тяжких преступников исповедовал я в этом храме: были
и церковные тати, и смертные убийцы, а не бывало
такого, кто повинился бы в нелюбви к государю!
Максим побледнел.
— Стало, я преступнее церковного татя и смертного
604
убойцы! — воскликнул он. — Отец мой, что мне делать?
Научи, вразуми меня, душа моя делится надвое.
Старик смотрел на исповедника и все более дивился.
Правильное лицо Максима не являло ни одной по-
рочной или преступной черты. То было скромное лицо,
полное добродушия и отваги, одно из тех русских лиц,
которые еще ныне встречаются между Москвой и Вол-
гой, в странах, отдаленных от больших дорог, куда не
проникло городское влияние.
— Сын мой, — продолжал игумен, — я тебе не верю;
ты клевещешь на себя. Не верю, чтобы сердце твое
отвратилось от царя. Этого не может быть. Подумай сам:
царь нам более чем отец, а пятая заповедь велит чтить
отца. Скажи мне, сын мой, ведь ты следуешь заповеди?
Максим молчал.
— Сын мой, ты чтишь отца своего?
— Нет! — произнес Максим едва внятно.
— Нет? — повторил игумен и, отступив назад, осе-
нился крестным знамением. — Ты не любишь царя? Ты
не чтишь отца? Кто же ты таков?
— Я... — сказал молодой опричник, — я Максим
Скуратов, сын Скуратова-Бельского!
— Сын Малюты?
— Да! — сказал Максим и зарыдал.
Игумен не отвечал. Он горестно стоял перед Макси-
мом. Неподвижно смотрели на них мрачные лики угод-
ников. Грешники на картине Страшного суда жалобно
подымали руки к небу, но все молчало. Спокойствие
церкви прерывали одни рыдания Максима, щебетанье
ласточек под сводами да изредка полугромкое слово
среди тихой молитвы, которую читал про себя игумен.
— Сын мой, — сказал наконец старик, — поведай
мне все по ряду, ничего не утай от меня: как вошла в
тебя нелюбовь к государю?
Максим рассказал о своей жизни в Слободе, о
последнем разговоре с отцом и о ночном своем отъезде.
Он говорил медленно, с расстановкой и часто соби-
рался с мыслями, дабы ничего не забыть и ничего не
утаить от духовного отца своего.
605
Окончив рассказ, он опустил глаза и долго не смел
взглянуть на игумена, ожидая своего приговора.
— Все ли ты поведал мне? — сказал игумен. — Не
тяготит ли еще что-нибудь душу твою? Не помыслил ли
ты чего на царя? Не задумал ли ты чего над святою
Русью?
Глаза Максима заблистали.
— Отец мой, скорей дам отсечь себе голову, чем
допущу ее замыслить что-нибудь против родины! Гре-
шен я в нелюбви к государю, но не грешен в измене!
Игумен накрыл его эпитрахилью.
— Очищается раб божий Максим! — сказал он, —
отпускаются ему грехи его вольные и невольные!
Тихая радость проникла в душу Максима.
— Сын мой, — сказал игумен, — твоя исповедь тебя
очистила. Святая церковь не поставляет тебе в вину, что
ты бросил Слободу. Бежать от солблазна волен и дол-
жен всякий. Но бойся прельститься на лесть врага рода
человеческого. Бойся примера Курбского, который из
высокого русского боярина учинился ныне сосуд дьяво-
лу! Премилостивый бог, — продолжал со вздохом ста-
рик, — за великие грехи наши попустил ныне быть
времени трудному. Не нам суемудрием человеческим
судить о его неисповедимом промысле. Когда господь
наводит на нас глады и телесные скорби, что нам
остается, как не молиться и покоряться его святой воле?
Так и теперь: настал над нами царь немилостивый,
грозный. Не ведаем, за что он нас казнит и губит; ведаем
только, что он послан от бога, и держим поклонную
голову не пред Иваном Васильевичем, а перед волею
пославшего его. Вспомним пророческое слово: «Аще кая
земля оправдится перед богом, поставляет им царя и
судью праведна и всякое подает благодеяние; аще же
которая земля прегрешит пред богом, и поставляет царя
и судей неправедна, и наводит на тое землю вся злая!»
Останься у нас, сын мой; поживи с нами. Когда придет
тебе пора ехать, я вместе с братию буду молиться, дабы,
где ты ни пойдешь, бог везде исправил путь твой! А
теперь... — продолжал добродушно игумен, снимая с
606
себя эпитрахиль, — теперь пойдем к трапезе. После
духовной пищи не отвергнем телесной. Есть у нас
изрядные щуки, есть и караси; отведай нашего творогу,
выпей с нами меду черемхового во здравие государя и
высокопреосвященного владыки!
И в дружеском разговоре старик повел Максима к
трапезе.
Глава 23
ДОРОГА
Тихо и однообразно протекала монастырская жизнь.
В свободное время монахи собирали травы и состав-
ляли целебные зелья. Другие занимались живописью,
вырезывали из кипариса кресты иль иконы, красили и
золотили деревянные чаши.
Максим полюбил добрых иноков. Он не замечал, как
текло время.
Но прошла неделя, и он решился ехать. Еще в
Слободе слышал Максим о новых набегах татар на
рязанские земли и давно уже хоттел вместе с рязанцами
испытать над врагами ратной удачи. Когда он поведал о
том игумену, старик опечалился.
— Куда тебе ехать, сын мой? — сказал он. — мы все
тебя любим, все к тебе привыкли. Кто знает, может, и
тебя посетит благодать божия и ты навсегда останешься
с нами! Послушай, Максим, не уезжай от нас!
— Не могу, отец мой! Давно уже судьба зовет меня
в дальнюю дорогу. Давно слышу звон татарского лука,
а иной раз как задумаюсь, то будто стрела просвистит
над ушами. На этот звон, на этот свист меня тянет и
манит!
И не стал игумен далее удерживать Максима, отслу-
жил ему напутный молебен, благословил его, и грустно
простилась с ним братия.
И снова очутился Максим на коне, среди зеленого
леса. Как прежде, Буян прыгал вокруг коня и весело
смотрел на Максима. Вдруг он залаял и побежал вперед.
Максим уже схватился за саблю, в ожидании недоброй
607
встречи, как из-за поворота показался всадник в желтом
кафтане с черным двоеглавым орлом на груди.
Всадник ехал рысью, весело посвистывал и держал
на пестрой рукавице белого кречета в клобучке и
колокольцах.
Максим узнал одного из царских сокольников.
— Трифон! — вскричал он.
— Максим Григорьич! — ответил весело соколь-
ник, — доброго здоровья! Как твоя милость здравству-
ет? Так вот где ты, Максим Григорьич! А мы в Слободе
думали, что ты и невесть куда пропал! Ну ж как
батюшка-то твой осерчал! Упаси господи! Смотреть
было страшно! Да еще многое рассказывают про твоего
батюшку, про царевича да про князя Серебряного. Не
знаешь, чему и верить. Ну, слава богу, добро, что ты
сыскался, Максим Григорьич! Обрадуется же твоя ма-
тушка!
Максим досадовал на встречу с сокольником. Но
Трифон был добрый малый и при случае умел молчать.
Максим спросил его, давно ли он из Слободы?
— Да уже будет с неделю, как Адраган с поля
улетел! — отвечал сокольник, показывая своего крече-
та. — Да ведь ты, пожалуй, и не знаешь, Максим
Григорьич! Ну уж набрался я было страху, как царь на
меня раскручинился! Да сжалился надо мной милосер-
дный бог и святой мученик Трифон! Проявил надо мною
свое чудо! — Сокольник снял шапку и перекрестил-
ся. — Вишь, Максим Григорьич: выехал государь, будет
тому с неделю, на птичью потеху. Напускал Адрагана
раза два; как на беду, третий-то раз дурь нашла на
Адрагана. Стал он бить соколов, сбил Смышляя и Круж-
ка, да и давай тягу! Не успел бы ты десяти просчитать,
как он у тебя и с глаз долой. Я было скакать за ним, да
куды! Пропал, будто и не бывало. Вот доложил соколь-
ничий царю, что пропал Адраган. Царь велел меня
позвать, да и говорит, что ты-де, Тришка, мне головой
за него отвечаешь; достанешь — пожалую тебя, не
достанешь — голову долой! Как быть! Батюшка царь
ведь не шутит! Поехал я искать Адрагана; шесть ден
608
промучился; стало мне уж вокруг шеи неловко; думаю,
придется проститься с головой. Стал я плакать; плакал,
плакал, да с горя и заснул в лесу. Лишь только заснул,
явилось мне, сонному, видение: сияние разлилось меж
деревьев, и звон пошел по лесу. И, слыша тот звон, я
сонный, сам себе говорю: то звонят Адрагановы коло-
кольцы. Гляжу, передо мной сидит на белом коне, весь
облитый светом, молодой ратник и держит в руке
Адрагана: «Трифоне! — сказал ратник, — не здесь ищи
Адрагана. Встань, ступай к Москве, к Лазареву урочищу.
Там стоит сосна, на той сосне сидит Адраган». Проснул-
ся я, и, сам не знаю с чего, стало мне понятно, что ратник
был святой мученик Трифон. Вскочил я на коня и
поскакал к Москве. Что ж, Максим Григорьич, пове-
ришь ли? как приехал на то урочище, вижу: в самом
деле сосна, и на ней сидит мой Адраган, ночь-в-точь как
говорил святой!
Голос сокольника дрожал, и крупные слезы катились
из глаз его.
— Максим Григорьич, — прибавил он, утирая сле-
зы, — теперь хоть все животы свои продам без остатку,
хоть сам в вековечную кабалу пойду, а построю часо-
вню святому угоднику! На том самом месте построю,
где нашел Адрагана. И образ велю на стене написать,
точь-в-точь как явился мне святой: на белом коне,
высоко подняв руку, а на ней белый кречет. Заповедую
и детям и внукам славить его, служить ему молебны и
ставить писаные свечи, что не захотел он моей погибели,
спас от плахи раба своего! Вишь, — продолжал соколь-
ник, глядя на кречета — вот он, Адраган, цел-целехонек!
Дай-ка я сниму с тебя клобучок! Чего кричишь? Небось
полетать хочется? Нет, брат, погоди! Довольно налетал-
ся, не пущу!
И Трифон дразнил кречета пальцем.
— Вишь, злобный какой! Так и хватает! А кричит-то
как! Я чай, за версту слышно!
Рассказ сокольника запал в душу Максима.
— Возьми ж и мое приношение! — сказал он, бросая
горсть золотых в шапку Трифона. — Вот все мои деньги;
609
20-769
они мне не нужны, а тебе еще много придется собирать
на часовню.
— Да наградит тебя бог, Максим Григорьич! С твоими
деньгами уж не часовню, а целую церковь выстрою! Как
приду домой, в Слободу, отслужу молебен и выну
просвиру во здравие твое! Вечно буду твоим холопом,
Максим Григорьич! Что хочешь приказывай!
— Слушай, Трифон! Сослужи мне службу нетруд-
ную: как придешь в Слободу, никому не заикнись, что
меня встретил; а дня через три ступай к матушке,
скажи ей, да только ей одной, чтобы никто не слыхал,
скажи, что сын-де твой, дал бог, здоров, бьет тебе
челом.
— Только-то, Максим Григорьич?
— Еще слушай, Трифон: я еду в далекий путь.
Может, не скоро вернусь. Так, коли тебе не в труд,
наведывайся от поры до поры к матери, да говори ей
каждый раз: я-де, говори, слышал от людей, что сын
твой, помощию божией, здоров, а ты-де о нем не
кручинься! А будет матушка спросит; от каких людей
слышал? И ты ей говори: слышал-де от московских
людей, а им-де другие люди сказывали, а какие люди,
того не говори, чтоб и концов не нашли, а только бы
ведала матушка, что я здравствую.
— Так ты, Максим Григорьич, и вправду не вернешь-
ся в Слободу?
— Вернусь ля, нет ли, про то бог знает; ты же никому
не сказывай, что меня встретил.
— Уж положись на меня, Максим Григорьич, не
скажу никому! Только коли ты едешь в дальний путь,
так я не возьму твоих денег. Меня бог накажет.
— Да на что мне деньги? Мы не в басурманской
земле!
— Воля твоя, Максим Григорьич, а мне взять не
можно. Добро бы, ты ехал домой. А то, что ж я тебя
оберу на дороге, как станичник какой! Воля твоя, хоть
зарежь, не возьму!
Максим пожал плечами и вынул из шапки Трифона
несколько золотых.
610
— Коли ты не берешь, — сказал он, — авось кто
другой возьмет, а мне их не надо.
Он простился с сокольником и поехал далее.
Уже солнце начинало заходить. Длинные тени дерев
становились длиннее и застилали поляны. Подле Мак-
сима ехала его собственная тень, словно темный вели-
кан. Она то бежала по траве, то, когда лес спирал
дорогу, всползала на кусты и деревья. Буян казался на
тени огромным баснословным зверем. Мало-помалу и
Буян, и конь, и Максим исчезли и с травы и с дерев;
наступили сумерки; кое-где забелел туман; вечерние
жуки поднялись с земли и, жужжа, стали чертить
воздух. Месяц показался из-за лесу; там и сям по
темнеющему небу зажглись звезды; вдали засеребри-
лось необозримое поле.
Родина ты моя, родина! Случалось и мне, в позднюю
пору, проезжать по твоим пустыням. Ровно ступал конь,
отдыхая от слепней и дневного жару; теплый ветер
разносил запахи цветов и свежего сена, и так было мне
сладко, и так было мне грустно, и так думалось о
прошедшем, и так мечталось о будущем.
Хорошо, хорошо, ехать вечером по безлюдным мес-
там, то лесом, то нивами, бросить поводья и задуматься,
глядя на звезды!
Уже с добрый час ехал Максим, как вдруг Буян
поднял морду на ветер и замахал хвостом. Послышался
запах дыма. Максим вспомнил о ночлеге и понудил коня.
Вскоре увидел он покачнувшуюся на сторону избу.
Трубы на ней не было; дым выходил прямо из крыши. В
низеньком окне светился огонь. Внутри слышался одно-
образный напев. Максим подъехал к окну. Он увидел
всю внутренность бедного хозяйства. Пылающая лучина
освещала домашнюю утварь; все было дрянно и ветхо.
В потолочине торчал, наискось, гибкий шест, и на конце
его висела люлька. Женщина лет тридцати, бледная,
хворая, качала люльку и потихоньку пела. Подле нее
сидел, согнувшись, мужичок с реденькою бородкой и
плел лапти. Двое детей ползали у ног их.
Максиму показалось, что женщина в песне поминает
611
20*
его отца. Сначала он подумал, что ослышался, но вскоре
ясно поразило его имя Малюты Скуратова. Полный
удивления, он стал прислушиваться.
— Спи, усни, мое дитятко! — пела женщина.
Спи, усни, мое дитятко,
Покуль гроза пройдет,
Покуль беда минет!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!
Скоро минет беда наносная,
Скоро царь велит отсечь голову
Злому псу Малюте Скурлатову!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!
Вся кровь Максима бросилась ему в лицо. Он слез с
коня и привязал его к плетню.
Голос продолжал:
Как и он ли, злой пес Малюта,
Задушил святого старца,
Святого старца Филиппа!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!
Максим не выдержал и толкнул дверь ногою.
При виде богатой одежды и золотой сабли опричника
хозяева оробели.
— Кто вы? — спросил Максим.
— Батюшка! — отвечал мужичок, кланяясь и заика-
ясь от страха, — меня-то, не взыщи, меня зовут Федо-
том, а хозяйку-то, не взыщи, батюшка, хозяйку зовут
Марьею!
— Чем вы живете, добрые люди?
— Лыки дерем, родимый, лапти плетем да решета
делаем. Купцы проедут и купят.
— А, знать, мало проезжают?
— Малость, батюшка, совсем малость! Иной раз
придется, и есть нечего. Того и смотри, с голоду али с
наготы помрешь. А лошадки-то нет у нас товар в город
отвезти. Другой год волки съели.
Максим поглядел с участием на мужика и его хозяй-
ку и высыпал свои червонцы на стол.
612
— Бог с вами, бедные люди! — сказал он и схватился
за дверь, чтобы выйти.
Хозяева повалились ему в ноги.
— Батюшка, родимый, кто ты? Поведай нам, кто ты?
За кого нам богу молиться?
— Молитесь не за меня, за Малюту Скуратова. Да
скажите, далеко ль до Рязанской дороги?
— Да это она и есть, сокол ты наш, она-то и есть,
рязанская-то. Мы на самом кресте живем. Вот прямо
пойдет Муромская, а налево Владимирская, а сюда
вправо на Рязань! Да не езди теперь, родимый ты наш,
не езди теперь, не такая пора; больно стали шалить на
дороге. Вот вчера целый обоз с вином ограбили. А
теперь еще, говорят, татары опять проявились. Перено-
чуй у нас, батюшка ты наш, отец ты наш, сокол ты наш,
сохрани бог, долго ль до беды!
Но Максиму не хотелось остаться в избе, где недав-
но еще проклинали отца его. Он уехал искать другого
ночлега.
— Батюшка! — кричали ему вслед хозяева, — вер-
нись, родимый, послушай нашего слова! Несдобровать
тебе ночью на этой дороге!
Но Максим не послушался и поехал далее.
Не много верст проехал он, как вдруг Буян бросился
к темному кусту и стал лаять так зло, так упорно, как
будто чуял скрытого врага.
Тщетно отсвистывал его Максим. Буян бросался на
куст, возвращался весь ощетиненный и снова рвался
вперед.
Наскучив отзывать его, Максим выхватил саблю и
поскакал прямо на куст. Несколько человек с подняты-
ми дубинами выскочили к нему навстречу, и грубый
голос крикнул:
— Долой с коня!
— Вот тебе! — сказал Максим, отвешивая удар тому,
который был ближе.
Разбойник зашатался.
— Это тебе не в почет! — продолжал Максим и хотел
отвесить ему второй удар; но сабля встретила плашмя
дубину другого разбойника и разлетелась наполы.
613
— Эге, посмотри-ка на его сбрую! Да это опричник!
Хватай его живьем! — закричал грубый голос.
— И впрямь опричник! — завизжал другой. — Вот,
потешимся над ним с ребятами!
— Ай да Хлопко! уж ты и рад тешиться!
И в тот же миг все вместе навалились на Максима
и стащили с коня.
Глава 24
БУНТ СТАНИЧНИКОВ
Версты полторы от места, где совершилось нападе-
ние на Максима, толпы вооруженных людей сидели
вокруг винных бочек с выбитыми днами. Чарки и бере-
стовые черпало ходили из рук в руки. Пылающие кост-
ры освещали резкие черты, всклокоченные бороды и
разнообразные одежды. Были тут и знакомые нам лица:
и Андрюшка, и Васька, и рыжий песенник; но не было
старого Коршуна. Часто поминали его разбойники, хле-
бая из черпал и осушая чарки.
— Эх, — говорил один, — что-то с нашим дедушкой
теперь?
— Вестимо что, — отвечал другой, — рвут его с
дыбов, а может, на виске потряхивают.
— А ведь не выдаст старый черт; я чай, словечка не
выронит!
— Вестимо не выронит, не таковский; этого хоть на
клочья разорви, не выдаст!
— А жаль седой бороды! Ну да и атаман-то хорошо!
Сам небось цел, а старика-то выдал!
— Да что он за атаман! Разве это атаман, чтобы своих
даром губить из-за какого-то князя!
— Да вишь ты, они с князем-то в дружбе. И теперь,
вишь, в одном курене сидят. Ты про князя не говори,
неравно атаман услышит, сохрани бог!
— А что ж, коль услышит! Я ему в глаза скажу, что
он не атаман. Вот Коршун, так настоящий атаман! Не-
бось был у Перстня как бельмо на глазу, так вот его
нарочно и выдал!
614
— А что, ребята, ведь, может, и в самом деле он
нарочно выдал Коршуна!
Глухой ропот пробежал меж разбойников.
— Нарочно, нарочно выдал! — сказали многие.
— Да что это за князь? — спросил один. — Зачем
его держат? Выкупа за него ждет атаман, что ли?
— Нет, не выкупа! — отвечал рыжий песенник. —
Князя, вишь, царь обидел, хотел казнить его; так князь-
то от царя и ушел к нам; говорит: я вас, ребятушки, сам
на Слободу поведу; мне, говорит, ведомо, где казна
лежит. Всех, говорит, опричников перережем, а казною
поделимся!
— Вот как! Так что ж он не ведет нас! Уж третьи
сутки здесь даром сидим!
— Оттого не ведет, что атаман у нас баба!
— Нет, этого не говори, Перстень не баба!
— А коли не баба, так и хуже того. Стало, он нас
морочит!
— Стало, — сказал кто-то, — он хочет царскую казну
на себя одного взять, а нам чтоб и понюхать не доста-
лось!
— Да, да, Перстень продать нас хочет, как Коршуна
продал!
— Да не на таковских напал!
— А старика-то выручить не хочет!
— Да что он нам! Мы и без него дедушку выручим!
— И без него казну возьмем; пусть князь один ведет
нас!
— Теперь-то и самая пора: царь, слышно, на бого-
молье; в Слободе и половины опричников не осталось!
— Зажжем опять Слободу!
— Перережем слободских!
— Долой Перстня! Пусть князь ведет нас!
— Пусть князь ведет! Пусть князь ведет! — послы-
шалось отовсюду.
Подобно грому прокатились слова от толпы до толпы,
пронеслися до самых отдаленных костров, и все подня-
лось и закипело, и все обступили курень, где Серебря-
ный сидел в жарком разговоре с Перстнем.
615
— Воля твоя, князь, — говорил атаман, — сердись,
не сердись, а пустить тебя не пущу! Не для того я тебя
из тюрьмы вызволил, чтобы ты опять голову на плаху
понес!
— В голове своей я один волен! — отвечал князь с
досадою. — Незачем было меня из тюрьмы вызволять,
коли я теперь в неволе сижу.
— Эх, князь, велико дело время. Царь может оду-
маться, царь может преставиться; мало ли что может
случиться; а минует беда, ступай себе с богом на все
четыре стороны.
— Что ж делать, — прибавил он, видя возрастающую
досаду Серебряного, — должно быть на роду написано
пожить еще на белом свете. Ты норовом крут, Никита
Романыч, да и я крепко держусь своей мысли; видно,
уж нашла коса на камень, князь!
В это мгновение голоса разбойников раздались у
самого куреня.
— В Слободу, в Слободу! — кричали пьяные
удальцы.
— Пустим красного гуся в Слободу!
— Пустим целое стадо гусей!
— Выручим Коршуна!
— Выручим дедушку!
— Выкатим бочки из подвалов!
— Выгребем золото!
— Вырежем опричнину!
— Вырежем всю Слободу!
— Где князь? Пусть ведет нас!
— Пусть ведет князь!
— А не хочет, так на осину его!
— На осину! На осину!
— Перстня туда же!
— На осину и Перстня!
Перстень вскочил с места.
— Так вот что они затевают! — сказал он, — А я уж
давно прислушиваюсь, что они там голосят. Вишь как
расходились, вражьи дети! Теперь их сам черт не уймет!
Ну, князь, нечего делать, вышло по-твоему; не держу
616
тебя доле: вольному воля, ходячему путь! Выйди к ним,
скажи, что ведешь их на Слободу!
Серебряный вспыхнул.
— Чтоб я повел вас на Слободу? — сказал он. — Да
скорей вы меня на клочья разорвете!
— Эх, князь, притворись хоть для виду. Народ, ты
видишь, нетрезвый, завтра образумятся!
— Князь! — кричали голоса, — тебя зовут, выходи!
— Выйди, князь, — повторил Перстень, — ввалятся
в курень, хуже будет!
— Добро ж, — сказал князь, выходя из куреня, —
посмотрим, как они меня заставят вести их на Слободу!
— Ага! — закричали разбойники, — вылез!
— Веди на Слободу!
— Атаманствуй над нами, не то тебе петлю на шею!
— Так, так! — ревели голоса.
— Бьем тебе челом! — кричали другие. — Будь нам
атаманом, не то повесим!
— Ей-богу, повесим!
Перстень зная горячий нрав Серебряного, поспешил
также выйти.
— Что вы, братцы, — сказал он, — белены, что ль,
объелись? Чего вы горла-то дерете? Поведет нас князь
куда хотите; поведет чем свет; а теперь дайте выспаться
его милости, да и сами ложитесь; уже вволю повесели-
лись!
— Да ты что нам указываешь! — захрипел один. —
Разве ты нам атаман!
— Слышь, братцы, — закричали другие, — он не
хочет сдать атаманства!
— Так на осину его!
— На осину, на осину!
Перстень окинул взором всю толпу и везде встретил
враждебные лица.
— Ах вы, дураки, дураки! — сказал он. — Да разве
я держусь вашего атаманства? Поставьте над собой кого
знаете, а я и сам не хочу; наплевать мне на вас!
— Хорошо! — закричал кто-то.
— Красно говорит! — прибавил другой.
617
— Наплевать мне на вас! — продолжал Перстень. —
Мало, что ли, таких, как вы? Эка честь над вами
атаманствовать! Да захочу, пойду на Волгу, не таких
наберу!
— Нет, брат, дудки. От себя не пустим; еще, пожа-
луй, продашь, как Коршуна продал!
— Не пустим, не пустим; оставайся с нами; слушайся
нового атамана!
Дикие крики заглушили голос Перстня.
Разбойник огромного роста подошел к Серебряному
с чаркой в руке.
— Батька! — сказал он, ударив его широкой лапой
по плечу, — пробазарил ты свою голову, стал нашим
братом; так выпьем вместе да поцелуемся!
Бог знает, что бы сделал Серебряный. Пожалуй,
вышиб бы он чарку из рук разбойников и разорвала б
его на клочья пьяная толпа; но, к счастию, новые крики
отвлекли его внимание.
— Смотрите, смотрите! — раздалось в толпе. —
Опричника поймали! Опричника ведут! Смотрите,
смотрите!
Из глубины леса шло несколько людей в изодранных
одеждах, с дубинами в руках. Они вели с собой связан-
ного Максима. Разбойник, которого он ударил саблей,
ехал на Максимовском коне. Впереди шел Хлопко, при-
свистывая и приплясывая. Раненый Буян тащился сзади.
— Гей, братцы, — пел Хлопко, щелкая пальцами:
Гости съехались ко вдовушкам во дворики,
Заходили по головушкам топорики!..
И Хлопко опрокидывался навзничь, бил в ладони и
кружился, словно кубарь.
Глядя на него, рыжий песенник не вытерпел, схватил
балалайку и пустился вприсядку помогать товарищу.
Оба стали нараспев семенить ногами и кривляться
вокруг Максима.
— Вишь, дьяволы! — сказал Перстень Серебряно-
му. — Ведь они не просто убьют опричника, а замучат
медленною смертью; я знаю обоих: уж коли эти пусти-
лись, значит плохо дело; несдобровать молодцу!
618
В самом деле, поимка опричника была для всей
шайки настоящим праздником. Они собрались выме-
стить на Максиме все, что претерпели от его товарищей.
Несколько человек с зверскими лицами тотчас заня-
лись приготовлениями к его казни.
В землю вколотили четыре кола, укрепили на них
поперечные жерди и накалили гвоздей.
Максим смотрел на все спокойным оком. Не страшно
было ему умирать в муках; грустно было умереть без
меча, со связанными руками, и не слыхать в предсмер-
тный час ни бранного окрика, ни ржания коней, а
слышать лишь дикие песни да пьяный смех своих мучи-
телей.
«Обмануло меня вещее, — подумал он, — не такого
я чаял себе конца. Да будет же надо мной божья
воля!»
Тут он заметил Серебряного, узнал его и хотел к
нему подойти. Но рыжий песенник схватил его за
ворот.
— Постлана постель, — сказал он, — сымай кафтан,
ложись, что ли!
— Развяжите мне руки! — отвечал Максим. — Не
могу перекреститься!
Хлопко ударом ножа разрезал веревки, которыми
руки Максима были спутаны.
— Крестись, да недолго! — сказал он, и, когда
Максим помолился, Хлопко и рыжий сорвали с него
платье и стали привязывать его руки и ноги к жердям.
Тут Серебряный выступил вперед.
— Ребята! — сказал он голосом, который привык
раздаваться в ратном строю, — слушайте!
И звонкие слова резко пронеслись по толпе и,
несмотря на шум и крики, долетели до самых отдален-
ных разбойников.
— Слушайте! — продолжал князь. — Все ли вы
хотите, чтоб я был над вами старшим? Может, есть меж
вами такие, что не хотят меня?
— Э, — закричал кто-то, — да ты, никак, на попятный
двор!
— Слышь ты, с нами не шути!
619
— Дают атаманство, так бери!
— Принимай честь, пока цел!
— Подайте ж мне атаманский чекан! — сказал
Серебряный.
— Дело! — закричали разбойники. — Так-то лучше,
подобру-поздорову!
Князю подали чекан Перстня.
Никита Романович подошел прямо к рыжему песен-
нику.
— Отвязывай опричника! — сказал он.
Рыжий посмотрел на него с удивлением.
— Отвязывай тотчас! —повторил грозно Серебря-
ный.
— Вишь ты! — сказал рыжий. — Да ты за него, что
ли, стоишь! Смотри, у самого крепка ль голова?
—' Окаянный! — вскричал князь, — не рассуждай,
когда я приказываю!
И, взмахнув чеканом, он разрубил ему череп.
Рыжий повалился, не пикнув.
Поступок Серебряного смутил разбойников. Князь
не дал им опомниться.
— Отвязывай ты! — сказал он Хлопку, подняв чекан
над его головой.
Хлопко взглянул на князя и поспешил отвязать Мак-
сима.
— Ребята! — продолжал Никита Романович, — этот
молодец не из тех, что вас обидели; я его знаю; он такой
же враг опричнине, как и вы. Сохрани вас бог тронуть
его хоть пальцем! А теперь нечего мешкать: берите
оружие, стройтесь по сотням, я веду вас!
Твердый голос Серебряного, повелительная осанка
и неожиданная решительность сильно подействовали на
разбойников.
— Эге, — сказали некоторые вполголоса, — да этот
не шутит!
— И впрямь атаман! — говорили другие, — хоть кого
перевернет!
— С ним держи ухо востро, не разговаривай! Вишь,
как уходил песенника!
620
— Отвязывай тотчас! — повторил грозно Серебряный.
Так рассуждали разбойники, и никому не приходило
более в голову трепать Серебряного по плечу или с ним
целоваться.
— Исполать тебе, князь! — прошептал Перстень, с
почтением глядя на Никиту Романовича. — Вишь ты, как
их приструнил! Только не давай им одуматься, веди их
по дороге в Слободу, а там что бог даст!
Трудно было положение Серебряного. Став в главе
станичников, он спас Максима и выиграл время; но все
было бы вновь потеряно, если б он отказался вести
буйную ватагу. Князь обратился мыслию к богу и пре-
дался его воле.
Уже начали станичники готовиться к походу и только
поговаривали, что недостает какого-то Федьки Поддуб-
ного, который с утра ушел с своим отрядом и еще не
возвращался.
— А вот и Федька! — сказал кто-то. Эвон идет с
ребятами!
Поддубный был сухощавый детина, кривой на один
глаз и со множеством рубцов на лице.
Зипун его был изодран. Ступал он тяжело, сгибая
колени, как человек, через силу уставший.
— Что? — спросил один разбойник.
— Я чай, опять досталось? — прибавил другой.
— Досталось, да не нам! — сказал Поддубный,
садясь к огню. — Вот, ребятушки, много у меня лежало
грехов на душе, а сегодня, кажись, половину сбыл!
— Как так?
Поддубный обернулся к своему отряду:
— Давай сюда языка, братцы!
К костру подвели связанного детину в полосатом
кафтане. На огромной голове его торчала высокая шапка
с выгнутыми краями. Сплюснутый нос, выдававшиеся
скулы, узенькие глаза свидетельствовали о нерусском
его происхождении.
Один из товарищей Поддубного принес копье, саа-
дак и колчан, взятые на пленном.
— Да это татарин! — закричала толпа.
— Татарин, — повторил Поддубный, — да еще какой!
622
Насилу с ним справились, такой здоровяк! Кабы не
Митька, как раз ушел бы!
— Рассказывай, рассказывай! — закричали разбой-
ники.
— А вот, братцы, пошли мы с утра по Рязанской
дороге, остановили купца, стали обшаривать; а он нам
говорит: «Нечего, говорит, братцы, взять с меня! Я,
говорит, еду от Рязани, там всю дорогу заложила татар-
ва, обобрали меня дочиста, не с чем и до Москвы
дотащиться».
— Вишь разбойники! — сказал один из толпы.
— Что ж вы с купцом сделали? — спросил другой.
— Дали ему гривну на дорогу и отпустили, — ответил
Поддубный. — Тут попался нам мужик, рассказал, что
еще вчера татары напали на деревню и всю выжгли.
Вскоре мы сами перешли великую сакму: сметили по
крайнему счету с тысячу лошадей. А там идут другие
мужики с бабами да с детьми, воют да голосят: и наше-де
село выжгла татарва, да еще и церковь ограбили, пору-
били святые иконы, из риз поделали чепраки...
— Ах они, окаянные! — вскричали разбойники. —
Да как еще их, проклятых, земля держит!
— Попа, — продолжал Поддубный, — к лошадиному
хвосту привязали...
— Попа? Да как их, собачьих детей, громом не
убило!
— А бог весть!
— Да разве у русского человека рук нет на прокля-
тую татарву!
— Вот то-то и есть, что рук-то мало; все полки
распущены, остались мужики, да бабы, да старики; а
басурманам-то и любо, что нет ратных людей, что неко-
му поколотить их порядком!
— Эх, дал бы я им!
— И я б дал!
— Да как вы языка-то достали?
— А вот как. Слышим мы лошадиный топот по дороге.
Я и говорю ребятам: схоронимся, говорю, в кусты,
посмотрим, кто такой едет. Схоронились, видим; скачет
623
человек тридцать вот в этаких шапках, с копьями, с
колчанами, с луками. Братцы, говорю я, ведь это они,
сердечные! Жаль, что нас маленько, а то можно б
поколотить! Вдруг у одного отторочился какой-то мешок
и упал на землю. Тот остановился, слез с коня подымать
мешок да вторачивать, а товарищи его меж тем ускака-
ли. Братцы, говорю я, что бы нам навалиться на него?
Нутко, робятушки, за мной, разом! И, сказамши, броси-
лись все на татарина. Да куды! Тот только повел плеча-
ми, так всех нас и стряхнул. Мы опять на него, он нас
опять стряхнул, да и за копье. Тут уж Митька Говорит:
посторонитесь, братцы, говорит, не мешайте! Мы дали
ему место, а он вырвал у татарина копье, взял его за
шиворот, да и пригнул к земле. Тут мы ему рукавицу в
рот, да и связали, как барана.
— Ай да Митька! — сказали разбойники.
— Да, этот хоть быка за рога свалит! — заметил
Поддубный.
— Эй, Митька! — спросил кто-то, — свалишь ты
быка?
— А для ча! — ответил Митька и отошел в сторону,
не желая продолжать разговора.
— Что ж было в мешке у татарина? — спросил
Хлопко.
— А вот смотрите, ребята!
Поддубный развязал мешок и вынул кусок ризы,
богатую дарохранительницу, две-три панагии да золотой
крест.
— Ах он, собака! — закричала вся толпа. — так это
он церковь ограбил!
Серебряный воспользовался негодованием разбой-
ников.
— Ребята! — сказал он, — видите, как проклятая
татарва ругается над Христовою верой? Видите, как
басурманское племя хочет святую Русь извести? Что ж,
ребята, разве уж и мы стали басурманами? Разве дадим
мы святые иконы на поругание? Разве попустим, чтобы
нехристи жгли русские села да резали наших братьев?
Глухой ропот пробежал по толпе.
624
— Ребята, продолжал Никита Романович, — кто
из нас богу не грешен! Так искупим же теперь грехи
наши, заслужим себе прощение от господа, ударим все,
как мы есть, на врагов церкви и земли русской!
Сильно подействовали на толпу слова Серебряного.
Проняла мужественная речь не одно зачерствелое сер-
дце, не в одной косматой груди расшевелила любовь к
родине. Старые разбойники кивнули головой, молодые
взглянули друг на друга. Громкие восклицания вырва-
лись из общего говора.
— Что ж! — сказал один, — ведь и вправду не
приходится отдавать церквей божиих на поругание!
— Не приходится, не приходится! — повторил дру-
гой.
— Двух смертей не бывать, одной не миновать! —
прибавил третий. — Лучше умереть в поле, чем на
висилице!
— Правда! — отозвался один старый разбойник. —
В поле и смерть красна!
— Эх, была не была! — сказал, выступая вперед,
молодой сорвиголова. — Не знаю, как другие, а я пойду
на татарву!
— Ия пойду! И я! И я! — закричали многие.
— Говорят про вас, — продолжал Серебряный, —
что вы бога забыли, что не осталось в вас ни души, ни
совести. Так покажите ж теперь, что врут люди, что есть
у вас и душа и совесть! Покажите, что коли пошло на
то, чтобы стоять за Русь да за веру, так и вы постоите
не хуже стрельцов, не хуже опричников!
— Постоим! постоим! — закричали все разбойники
в один голос.
— Не дадим поганым ругаться над святою Русью!
— Ударим на нехристей!
— Веди нас на татарву!
— Веди нас, веди нас! Постоим за святую веру!
— Ребята! — сказал князь, — а если поколотим
поганых, да увидит царь, что мы не хуже опричников,
отпустит он нам вины наши, скажет: не нужна мне боле
опричнина; есть у меня и без нее добрые слуги!
625
— Пусть только скажет, — закричали разбойни-
ки, — уж послужим ему нашими головами!
— Не по своей же я охоте в станичники пошел! —
сказал кто-то.
— А я разве по своей? — подхватил другой.
— Так ляжем же, коли надо, за Русскую землю! —
сказал князь.
— Ляжем, ляжем! — повторили разбойники.
— Что ж, ребята, — продолжал Серебряный, — коли
бить врагов земли Русской, так надо выпить про русско-
го царя!
— Выпьем!
— Берите ж чарки и мне чару подайте!
Князю поднесли стопу; все разбойники налили себе
чарки.
— Да здравствует великий государь наш, царь Иван
Васильевич всея Руси! — сказал Серебряный.
— Да здравствует царь! — повторили разбойники.
— Да живет земля Русская! — сказал Серебряный.
— Да живет земля Русская! — повторили разбойники.
— Да сгинут все враги святой Руси и православной
Христовой веры! — продолжал князь.
— Да сгинет татарва! Да сгинут враги русской ве-
ры! — кричали наперерыв разбойники.
— Веди нас на татарву! Где они, басурманы, что жгут
наши церкви?
— Веди нас, веди нас! — раздавалось отовсюду.
— В огонь татарина! — закричал кто-то.
— В огонь его! В поломя! — повторили другие.
— Постойте, ребята! — сказал Серебряный, — рас-
спросим его наперед порядком. Отвечай, — сказал
князь, обращаясь к татарину, — много ль вас? Где вы
станом стоите?
Татарин сделал знак, что не понимает.
— Постой, князь, — сказал Поддубный, — мы ему
развяжем язык! Давай-ка Хлопко, огоньку. Так. Ну что,
будешь говорить?
— Буду, бачка! — вскрикнул обожженный татарин.
— Много ль вас?
626
— Многа, бачка, многа!
— Сколько?
— Десять тысяча, бачка; теперь десять тысяча, а
завтра пришла сто тысяча!
— Так вы только передовые! Кто ведет вас?
— Хан тащил!
— Сам хан?
— Не сама! Хан пришла завтра; теперь пришла
Ширинский князь Шихмат!
— Где его стан?
Татарин опять показал знаками, что не понимает.
— Эй, Хлопко, огоньку! — крикнул Поддубный.
— Близка стан, бачка, близка! — поспешил отвечать
татарин. — Не больше отсюда как десята верста.
— Показывай дорогу! — сказал Серебряный.
— Не можна, бачка! Не можна теперь видеть дорога!
Завтра можна, бачка!
Поддубный поднес горячую головню к связанным
рукам татарина.
— Найдешь дорогу?
— Нашла, бачка, нашла!
— Хорошо, — сказал Серебряный, — теперь пере-
кусите, братцы, накормите татарина, да тотчас и в поход!
Покажем врагам, что значит русская сила!
Глава 25
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К БИТВЕ
В шайке началось такое движение, беготня и крики,
что Максим не успел сказать и спасибо Серебряному.
Когда наконец станичники выстроились и двинулись из
лесу, Максим, которому возвратили коня и дали ору-
жие, поравнялся с князем.
— Никита Романыч, — сказал он, — отплатил ты мне
сегодня за медведя!
— Что ж, Максим Григорьич, — ответил Серебря-
ный, — на то на свете живем, чтоб помогать друг другу!
— Князь, — подхватил Перстень, ехавший также
верхом возле Серебряного, — смотрел я на тебя и
627
думал: эх, жаль, что не видит его один низовой молодец,
которого оставил я на Волге! Хоть он и худой человек,
почитай мне ровня, а полюбил бы ты его, князь, и он
тебя полюбил бы! Не в обиду тебе сказать, а схожи вы
нравом. Как заговорил ты про святую Русь, да загоре-
лись твои очи, так я и вспомнил Ермака Тимофеича.
Любит он родину, крепко любит ее, нужды нет, что
станичник. Не раз говаривал мне, что совестно ему
землю даром бременить, что хотелось бы сослужить
службу родине. Эх, кабы теперь его на татар! Он один
целой сотни стоит. Как крикнет: за мной, ребята! так,
кажется, сам станешь и выше, и сильнее, и ничто тебя
уже не остановит, и все вокруг тебя так и валится.
Похож ты на него, ей-богу похож, Никита Романыч, не
в укор тебе сказать!
Перстень задумался. Серебряный ехал осторожно,
вглядываясь в темную даль; Максим молчал. Глухо раз-
давались по дорое шаги разбойников; звездная ночь
безмолвно раскинулась над спящею землей. Долго шла
толпа по направлению, указанному татарином, которого
вели под саблей Хлопко и Поддубный.
Вдруг принеслися издали какие-то странные, мерные
звуки.
То был не человеческий голос, не рожок, не гусли,
а что-то похожее на шум ветра в тростнике, если бы
тростник мог звенеть, как стекло или струны.
— Что это? — спросил Никита Романыч, останавли-
вая коня.
Перстень снял шапку и наклонил голову почти до
самой луки.
— Погоди, князь, дай порасслушать!
Звуки лились мерно и заунывно, то звонкими сереб-
ряными струями, то подобные шуму колеблемого ле-
са, — вдруг замолкли, как будто в порыве степного
ветра.
— Кончил! — сказал Перстень, смеясь. — Вишь,
грудь-то какова! Я чай, с полчаса дул себе, не переводя
духа!
— Да что это? — спросил князь.
628
— Чебузга\ — отвечал Перстень. — Это у них
почитай что у нас рожок или жалейка. Должно быть,
башкирцы. Ведь тут разный сброд с ханом, и казанцы,
и астраханцы, и всякая ногайская погань. * Слышь, вот
опять наигрывать стали.
Вдали начался как будто новый порыв вихря, обра-
тился в длинные, грустно-приятные переливы и через
несколько времени кончился отрывисто, подобно кон-
скому фырканью.
— Ага! — сказал Перстень, — это колено вышло
покороче; должно быть, надорвался, собачий сын!
Но тут раздались новые звуки, гораздо звончее.
Казалось, множество колокольцев звенели безостано-
вочно.
— А вот и горло! — сказал Перстень. — Ведь издали
подумаешь и невесть что; а они это горлом выделывают.
Вишь их разобрало, вражьих детей!
Грустные, заунывные звуки сменялись веселыми, но
то была не русская грусть и не русская удаль. Тут
отражалось дивное величие кочующего племени, и по-
прыски табунов, и богатырские набеги, и тоска по
неизвестной, первобытной родине.
— Князь, — сказал Перстень, — должно быть,
близко стан; я чаю, за этим пригорком и огни будут
видны. Дозволь, я пойду, повысмотрю, что и как; мне
это дело обычное, довольно я их за Волгой встречал; а
ты бы пока ребятам дал вздохнуть да осмотреться.
— Ступай с богом, — сказал князь, и Перстень
соскочил с коня и исчез во мраке.
Разбойники оправились, осмотрели оружие и сели
на землю, не изменя боевого порядка. Глубокое молча-
ние царствовало в шайке. Все понимали важность нача-
того дела и необходимость безусловного повиновения.
Между тем звуки чебузги лилися по-прежнему, месяц
и звезды освещали поле, все было тихо и торжественно,
и лишь изредка легкое дуновение ветра волновало
ковыль серебристыми струями.
Прошло около часа; Перстень не возвращался. Князь
стал уже терять терпение, но вдруг, шагах в трех от
629
него, поднялся из травы человек. Никита Романович
схватился за саблю.
— Тише, князь, это я! — произнес Перстень, усме-
хаясь. — Вот так точно подполз я и к татарам; все
высмотрел; теперь знаю их стан не хуже своего куреня.
Коли дозволишь, князь, я возьму десяток молодцов,
пугну табун да переполошу татарву; а ты тем часом, коли
рассудишь, ударь на них с двух сторон, да с добрым
криком; так будь я татарин, коли мы их половины не
перережем! Это я так говорю, только для почину;
ночное дело мастера боится; а взойдет солнышко, так
уж тебе указывать, князь, а нам только слушаться!
Серебряный знал находчивость и сметливость Пер-
стня и дал ему действовать по его мысли.
— Ребятушки, — сказал Перстень разбойникам, —
повздорили мы немного, да кто старое помянет, тому
глаз вон! Есть ли промеж вас человек десять охотников
со мной вместе к стану идти?
— Выбирай кого знаешь, — отвечали разбойники, —
мы все готовы.
— Спасибо ж вам, ребятушки; а коли уж вы меня
уважили, так и я беру вот каких: ступай сюда Поддуб-
ный, и ты, Хлопко, и ты, Дятел, и ты, Лесников, и ты,
Решето, и Степка, и Мишка, и Шестопер, и Наковальня,
и Саранча! А ты куда лезешь, Митька? Тебя я не звал;
оставайся с князем, ты к нашему делу непригоден.
Сымайте, ребята, сабли, с ними ползти неладно, будет
с нас и ножей. Только, ребята, чур, слушать моего слова,
без меня ни на шаг! Пошли в охотники, так уж что
укажу, то и делать. Чуть кто-нибудь не так, я ему тут
же и карачун!
— Добро, добро! — отвечали выбранные Перст-
нем. — Как скажешь, так и сделаем. Уж пошли на
святое дело, небось не повздорим.
— Видишь, князь, этот косогор? — продолжал ата-
ман. — Как дойдешь до него, будут вам их костры видны.
А мой совет — ждать вам у косогора, пока не услышите
моего визга. А как пугну табун да послышится визг и
крик, так вам и напускаться на нехристей; а им деться
630
некуда; коней-то уж не будет; с одной стороны мы, а с
другой пришла речка с болотом.
Князь обещался сделать все по распоряжению Пер-
стня.
Между тем атаман с десятью удальцами пошли на
звук чебузги и вскоре пропали в траве. Иной подумал
бы, что они тут же притаились; но зоркое око могло бы
заметить колебание травы, не зависимое от ветра и не
ио его направлению.
Через полчаса Перстень и его товарищи были уже
близко к татарским кибиткам.
Лежа в ковыле, Перстень приподнял голову.
Шагов пятьдесят перед ним горел костер и озарял
несколько башкирцев, сидевших кружком с поджатыми
иод себя ногами. Кто был в пестром халате, кто в
бараньем тулупе, а кто в изодранном кафтане из верб-
люжины. Воткнутые в землю копья торчали возле них
и докидывали длинные тени свои до самого Перстня.
Табун из нескольких тысяч лошадей, вверенный страже
башкирцев, пасся неподалеку густою кучей. Другие
костры, шагах во сто подале, освещали бесчисленные
войлочные кибитки.
Не зорко смотрели башкирцы за своим табуном.
Пришли они от Волги до самой Рязани, не встретив нигде
отпора; знали, что наши войска распущены, и не ожи-
дали себе неприятеля; а от волков, думали, обережемся
чебузгой да горлом. И четверо из них, уперев в верхние
зубы концы длинных репейных дудок и набрав в широ-
кие груди сколько могли ветру, дули, перебирая паль-
цами, пока хватало духа. Другие подтягивали им горлом,
и огонь освещал их скуластые лица, побагровевшие от
натуги.
Несколько минут Перстень любовался этой карти-
ной, раздумывая про себя: броситься ли ему тотчас с
ножом на башкирцев и, не дав им опомниться, перере-
зать всех до одного? Или сперва разогнать лошадей, а
потом уже начать резать?
И то и другое его прельщало. «Вишь, какой табун, —
думал он, притаив дыхание, — коли пугнуть его умеючи,
631
так он, с напуску, все их кибитки переломает; такого
задаст переполоху, что они своих не узнают. А и эти-то
вражьи дети хорошо сидят, больно хорошо! Вишь, как
наяривают; можно к ним на два шага подползти!»
И не захотелось атаману отказаться от кровавой
потехи над башкирцами.
— Решето, — шепнул он притаившемуся возле него
товарищу, — что, у тебя в горле не першит? Сумеешь
взвизгнуть?
— А ты-то что ж? — ответил шепотом Решето.
— Да как будто осип маненько.
— Пожалуй, я взвизгну. Пора, что ли?
— Постой, рано. Заползи-ка вон оттоль как можно
ближе к табуну; ползи, пока не сметят тебя кони; а лишь
начнут ушами трясти, ты и гикни, да пострашнее, да и
гони их прямо на кибитки!
Решето кивнул головой и исчез в ковыле.
— Ну, братцы, — шепнул Перстень остальным това-
рищам, — ползите за мной под нехристей, только, чур,
осторожно. Вишь, их всего-то человек двадцать, а нас
девятеро; на каждого из вас будет по два, а я на себя
четырех беру. Как послышите, что Решето взвизгнул,
так всем разом и загикать, да прямо на них! Готовы, что
ли?
— Готовы! — отвечали шепотом разбойники.
Атаман перевел дыхание, оправился и начал поти-
хоньку вытаскивать из-за пояса длинный нож свой.
Глава 26
ПОБРАТИМСТВО
Пока все это происходило у татарского стана, Се-
ребряный, за полверсты оттуда, ожидал нетерпеливо
условленного знака.
— Князь, — сказал ему Максим, не отходивший все
время от него, — недолго нам ждать, скоро зачнется
бой; как взойдет солнышко, так уже многих из нас не
будет в живых, а мне хотелось бы попросить тебя...
— О чем, Максим Григорьич?
632
— Дело-то нетрудное, да не знаю, как тебе сказать,
совестно мне...
— Говори, Максим Григорьич, было бы вмоготу!
— Видишь ли, князь, скажу тебе всю истину! Я ушел
из Слободы тайно, против воли отца, без ведома матери.
Невтерпеж мне стало служить в опричниках; такая
нашла тошнота, что хоть в воду кинуться. Видишь ли,
боярин, я один сын у отца у матери, брата у меня никогда
не бывало. От покрова пошел мне девятнадцатый год, а
поверишь ли, до сей поры не с кем было добрым словом
перемолвиться. Живу промеж них один-одинешенек,
никто мне не товарищ, все чужие. Всяк только и думает,
как бы другого извести, чтобы самому в честь попасть.
Что ни день, то пытки и казни. Из церкви, почитай, не
выходят, а губят народ хуже станичников. Было б им
поболе казны да поместий, так по них хоть вся Русь
пропадай! Как царь ни грозен, а ведь и тот иногда
слушает истину; так у них хоть бы у одного язык
повернулся правду вымолвить! Все так ему и поддаки-
вают, так и лезут выслужиться! Поверишь ли, князь, как
увидел тебя, так на сердце у меня повеселело, словно
родного встретил! Еще и не знал я, кто ты таков, а уж
полюбился ты мне, и очи у тебя не так глядят, как у них,
и речь звучит иначе. Вот Годунов, пожалуй, и лучше
других, а все не то, что ты. Смотрел я на тебя, как ты
без оружия супротив медведя стоял; как Басманов,
после отравы того боярина, и тебе чашу с вином поднес;
как тебя на плаху вели; как ты с станичниками сегодня
говорил. Так меня и тянуло к тебе, вот так бы и кинулся
к тебе на шею! Не дивись, князь, моей глупой речи, —
прибавил Максим, потупя очи, — я не набиваюсь к тебе
на дружбу, знаю, кто ты и кто я; только что ж мне
делать, коли не могу слов удержать; сами рвутся нару-
жу, сердце к тебе само так и мечется!
— Максим Григорьич, — сказал Серебряный и креп-
ко сжал его руку, — и ты полюбился мне, как брат
родной!
— Спасибо, князь, спасибо тебе! А коли уж на то
пошло, то дай мне разом высказать, что у меня на душе.
633
Ты, я вижу, не брезгаешь мной. Дозволь же мне, князь,
теперь, перед битвой, по древнему христианскому обы-
чаю, побрататься с тобой! Вот и вся моя просьба; не
возьми ее во гнев, князь. Если бы знал я наверно, что
доведется нам еще долгое время жить вместе, я б не
просил тебя; я помнил бы, что тебе непригоже быть
моим названным братом; а теперь...
— Полно бога гневить, Максим Григорьич! — пре-
рвал его Серебряный. — Чем же ты не брат мне? Знаю,
что мой род честнее твоего, да то дело думное и
разрядное; а здесь перед татарами, в чистом поле, мы
равны, Максим Григорьич, да везде равны, где стоим
перед богом, а не пред людьми. Побратаемся, Максим
Григорьич!
И князь снял с себя крест-тельник на узорной золо-
той цепи и подал Максиму.
Максим также снял с шеи крест, простой, медный,
на шелковом гайтане, поцеловал его и перекрестился.
— Возьми его, Никита Романыч; им благословила
меня мать, когда мы еще были бедными людьми, не
вышли еще в честь у Ивана Васильича. Береги его, он
мне всего дороже.
Тогда оба еще раз перекрестились и, поменявшись
крестами, обняли друг друга.
Максим просветлел.
— Теперь, — сказал он радостно, — ты мне брат,
Никита Романыч! Что бы ни случилось, я с тобой
неразлучен; кто тебе друг, тот друг и мне; кто тебе враг,
тот и мне враг; буду любить твоею любовью, опаляться
твоим гневом, мыслить твоею мыслию! Теперь мне и
умирать веселее, и жить не горько; есть с кем жить, за
кого умереть!
— Максим, — сказал Серебряный, глубоко трону-
тый, — видит бог, и я тебе всею душой учинился братом;
не хочу разлучаться с тобою до скончания живота!
— Спасибо, спасибо, Никита Романыч, и не след нам
разлучаться! Коли, даст бог, останемся живы, подумаем
хорошенько» поищем вместе, что бы нам сделать для
родины, какую службу святой Руси сослужить? Быть
634
того не может, чтобы все на Руси пропало, чтоб уж
нельзя было и царю служить иначе, как в опричниках!
Максим говорил с непривычным жаром, но вдруг
остановился и схватил Серебряного за руку.
Пронзительный визг раздался в отдалении. Воздух
как будто задрожал, земля затряслась; смутные крики,
невнятный гул принеслись от татарского стана, и не-
сколько коней, грива дыбом, проскакали мимо Сереб-
ряного и Максима.
— Пора! — сказал Серебряный, садясь в седло, и
вынул саблю. — Чур, меня слушаться, ребята, не сби-
ваться в кучу, не рассыпаться врозь, каждый знай свое
место! С богом за мной!
Разбойники вспрянули с земли.
— Пора, пора! — раздалось во всех рядах. — Слу-
шаться князя!
И вся толпа двинулась за Серебряным и перевали-
лась через холм, заграждавший им дотоле неприятель-
ские костры.
Тогда новое, неожиданное зрелище поразило их очи.
Справа от татарского стана змеился по степи огонь,
и неправильные узоры его, постепенно расширяясь и
сливаясь вместе, ползли все ближе и ближе к стану.
— Ай да Перстень! — вскричали разбойники. — Ай
да наши! Вишь, зажгли степь, пустили огонь по ветру,
прямо на басурманов!
Пожар рос с невероятною быстротой, вся степь по
правую сторону стана обратилась в пылающее море, и
вскоре огненные валы охватили крайние кибитки и
озарили стан, похожий на встревоженный муравейник.
Татары, спасаясь от огня, бежали в беспорядке на-
встречу разбойникам.
— На них, ребята! — загремел Серебряный. —
Топчите их в воду, гоните в огонь!
Дружный крик отвечал князю, разбойники броси-
лись на татар, и закипела резня............. .
Когда солнце взошло, бой еще продолжался, но поле
было усеяно убитыми татарами.
635
Теснимые с одной стороны пожаром, с другой —
дружиной Серебряного, враги не успели опомниться и
кинулись к топким берегам речки, где многие утонули.
Другие погибли в огне или задохлись в дыму. Испуган-
ные табуны с самого начала бросились на стан, перело-
мали кибитки и привели татар в такое смятение, что они
давили друг друга и резались между собою, думая
отбивать неприятеля. Одна часть успела прорваться
через огонь и рассеялась в беспорядке по степи. Другая,
собранная с трудом самим Ширинским мурзою Шихма-
том, переплыла через речку и построилась на другом
берегу. Тысячи стрел посыпались оттуда на торжеству-
ющих русских. Разбойники, не имея другого оружия,
кроме рукопашного, и видя стреляющих врагов, защи-
щенных топкою речкой, нс выдержали и смешались.
Напрасно Серебряный просьбами и угрозами старал-
ся удержать их. Уже отряды татар начали, под прикры-
тием стрел, обратно переплывать речку, грозя ударить
Серебряному в тыл, как Перстень явился внезапно
возле князя. Смуглое лицо его разгорелось, рубаха была
изодрана, с ножа капала кровь.
— Стойте, други! Стойте, ясные соколы! — закричал
он на разбойников. — Али глаза вам запорошило? Аль
не видите, к нам подмога идет?
В самом деле, на противоположном берегу двигалась
рать в боевом порядке; ее копья и бердыши сверкали в
лучах восходящего солнца.
— Да это те же татары! — сказал кто-то.
— Сам ты татарин, — возразил Перстень, негодуя. —
Разве так идет орда? Разве бывает, чтоб татары шли
пешие? А этого не видишь, впереди на сером коне?
Разве на нем татарская бронь?
— Православные идут! — раздалось между разбой-
никами. — Стойте, братцы, православные нам на по-
мощь идут!
— Видишь, князь, — сказал Перстень, — они, вражьи
дети, и стреляют-то уж не так густо, значит смекнули,
в чем дело! А как схватится с ними та дружина, я покажу
тебе брод, перейдем да ударим на них сбоку!
636
Новая рать продвигалась все ближе, и уже можно
было распознать ее вооружение и одежду, почти столь
же разнообразную, как и на разбойниках. Над головами
ратников болтались цепы, торчали косы и рогатины. Они
казались наскоро вооруженными крестьянами, и только
на передовых были одноцветные кафтаны, а в руках их
светились бердыши и копья. Тут же ехало человек сто
вершников, также в одноцветных кафтанах. Предводи-
тель этой дружины был стройный молодой человек.
Из-под сверкающего шлема висели у него длинные
русые волосы. Он ловко управлял конем, и конь, сереб-
ристо-серой масти, то взвивался на дыбы, то шел, кра-
суясь, ровным шагом и ржал навстречу неприятелю.
Туча стрел встретила вождя и дружину.
Между тем Никита Романович вместе с своими
перешел речку вброд и врезался в толпу врагов, на
которых в то же время наперла с другой стороны вновь
пришедшая подмога.
Уже с час кипела битва.
Серебряный на мгновение отъехал к речке напоить
коня и перетянуть подпруги. Максим увидел его и
подскакал к нему.
— Ну, Никита Романыч, — сказал он Весело, —
видно, бог стоит за святую Русь. Смотри, коли наша не
возьмет!
— Да, — ответил Серебрянный, — спасибо вон тому
боярину, что подоспел к нам на прибавку. Вишь, как
рубит вправо и влево! Кто он таков? Я как будто видал
его где-то.
— Как, Никита Романыч, ты не признал его?
— А ты его разве знаешь?
— Мне-то как не знать его, бог с ним! Много грехов
отпустится ему за нынешний день. Да ведь и ты знаешь
его, Никита Романыч. Это Федька Басманов.
— Басманов? Этот! Неужто он?
— Он самый. И на себя не похож стал. Бывало, и
подумать соромно, в летнике, словно девушка, плясы-
вал; а теперь, видно, разобрало его: поднял крестьян и
дворовых и напал на татар; должно быть, и в нем
637
русский дух заговорил. А сила-то откуда взялась, поду-
маешь! Да как и не перемениться в этакий день! —
продолжал Максим с одушевлением, и глаза его блиста-
ли радостью. — Поверишь ли, Никита Романыч, я сам
себя не узнаю. Когда ушел из Слободы, все казалось,
что недолго уже доводится жить на свете. Тянуло
помериться с нехристями, только не с тем, чтобы побить
их; на то, думал, найдутся лучше меня; а с тем, чтобы
сложить голову на татарскую саблю. А теперь не то;
теперь мне хочется жить! Слышишь, Никита Романыч,
когда ветер относит бранный гул, как в небе жаворонки
звенят? Вот так же весело звенит и у меня на сердце!
Такая чуется сила и охота, что целый век показался бы
короток. И чего не передумал я с тех пор, как заря
занялась! Так стало мне ясно, так понятно, сколько
добра еще можно сделать на родине! Тебя царь поми-
лует; быть того не может, чтоб йе помиловал. Пожалуй,
еще и полюбит тебя. А ты возьми меня к себе; давай
вместе думать и делать, как Адашев с Сильвестром. Все,
все расскажу тебе, что у меня на мысли, а теперь
прости, Никита Романыч, пора опять туда; кажись Бас-
манова окружили. Хоть он и худой человек, а надо
выручить!
Серебряный посмотрел на Максима почти отеческим
взором.
— Побереги себя, Максим, — сказал он, — не мечись
в сечу даром; смотри, ты и так уж в крови!
— То, должно быть, вражья кровь, — ответил Мак-
сим, весело посмотрев на свою рубаху, — а на мне и
царапины нет; твой крест соблюл меня!
В это время притаившийся в камышах татарин выполз
на берег и пустил стрелу в Максима.
Зазвенел тугой татарский лук, спела тетива, провиз-
жала стрела, угодила Максиму в белу грудь, угодила,
каленая, под самое сердце, Закачался Максим на седле,
ухватился за конскую гриву, не хочется пасть доброму
молодцу, не доспел ему час, на роду написанный, и
свалился он на сыру землю, зацепя стремя ногою.
Поволок его конь по чисту полю, и летит Максим, лежа
638
навзничь, раскидав белые руки, и метут его кудри мать
сыру землю, и бежит за ним по полю кровавый след.
Придет в Слободу весть недобрая, разрыдается мать
Максимова, что не стало ей на помин души поминщика,
и некому ее старых очей закрыть. Разрыдается слезами
горючими, не воротить своего детища!
Придет в Слободу весть недобрая, заскрежещет
Малюта зубами, налетит на пленных татар, насечет в
тюрьмах копны голов и упьется кровью до жадной души:
не воротить своего детища!
Забыл Серебряный и битву и татар; не видит он, как
Басманов гонит нехристей, как Перстень с разбойника-
ми перенимают бегущих; видит только, что конь волочит
по полю его названного брата. И вскочил Серебряный
в седло, поскакал за конем и, поймав его за узду,
спрянул на землю и высвободил Максима из стремени.
— Максим, Максим! — сказал он, став на колени и
приподымая его голову, — жив ли ты, названый брат
мой? Открой очи, дай мне отповедь!
И Максим открыл туманные очи и протянул к нему
руки.
— Прости, названый брат мой! Не довелося пожить
нам вместе. Сделай же один, что хотели мы вдвоем
сделать!
— Максим — сказал Серебряный, прижимая губы к
горячему челу умирающего, — не заповедаешь ли мне
чего?
— Отвези матери последний поклон мой, скажи ей,
что умер, ее поминая...
— Скажу, Максим, скажу, — ответил Серебряный,
едва удерживаясь от слез.
— А крест, — продолжал Максим, — тот что на мне,
отдай ей... а мой носи на память о брате твоем...
— Брат мой, — сказал Серебряный, — нет ли еще
чего на душе у тебя? Нет ли какой зазнобы в сердце?
Не стыдись, Максим, кого еще жаль тебе, кроме ма-
тери?
— Жаль мне родины моей, жаль святой Руси! Любил
я ее не хуже матери, а другой зазнобы не было у меня!
639
Максим закрыл глаза. Лицо его горело, дыхание
сделалось чаще.
Через несколько мгновений он опять взглянул на
Серебряного.
— Брат, — сказал он, — кабы мне напиться воды, да
постуденее!
Река была недалеко, князь встал, зачерпнул в шлем
воды и подал Максиму.
— Теперь как будто полегчало, — сказал умираю-
щий. — Приподыми меня, помоги перекреститься!
Князь приподнял Максима. Он повел кругом угасаю-
щим взором, увидел бегущих татар и улыбнулся.
— Я говорил, Никита Романыч, что бог стоит за нас.,
смотри, как они рассыпались... а у меня уж и в глазах
темнеет... ох, не хотелось бы умереть теперь!..
Кровь хлынула из уст его.
— Господи, прими мою душу! — проговорил Мак-
сим и упал мертвый...
Глава 27
БАСМАНОВ
Люди Басманова и разбойники окружили Серебря-
ного.
Татары были разбиты наголову, многие отдались в
плен, другие бежали. Максиму вырыли могилу и похо-
ронили его честно. Между тем Басманов велел раски-
нуть на берегу речки свой персидский шатер, а дворец-
кий его, один из начальных людей рати, доложил Се-
ребряному, что боярин бьет ему челом, просит на по-
брезгать походным обедом.
Лежа на шелковых подушках, Басманов, уже расче-
санный и надушенный, смотрелся в зеркало, которое
держал перед ним молодой стремянный, стоя на коле-
нях. Вид Басманова являл странную смесь лукавства,
надменности, изнеженного разврата и беспечной удали;
и сквозь эту смесь проглядывало то недоброжелатель-
ство, которое никогда не покидало опричника при виде
земского. Предполагая, что Серебряный должен прези-
640
Князь приподнял. Максима.
рать его, он, даже исполняя долг гостеприимства, при-
думывал заране, как бы отомстить гостю, если тот
неравно выкажет свое презрение. При входе Серебря-
ного Басманов приветствовал его наклонением головы,
но не тронулся с места.
— Ты ранен, Федор Алексеич, — спросил Серебря-
ный простодушно.
— Нет, не ранен, — сказал Басманов, принимая эти
слова за насмешку и решившись встретить ее бесстыд-
ством, — нет, не ранен, а только уморился немного, да
вот лицо как будто загорело. Как думаешь, князь, —
прибавил он, продолжая смотреться в зеркало и поправ-
ляя свои жемчужные серьги, — как думаешь, скоро
сойдет загар?
Серебряный не знал, что и отвечать.
— Жаль, — продолжал Басманов, — сегодня не
поспеем в баню; до вотчины моей будет верст тридцать,
а завтра, князь, милости просим, угощу тебя лучше
теперешнего, увидишь мои хороводы: девки все на
подбор, а парни — старшему двадцати не будет.
Говоря это, Басманов сильно картавил.
— Спасибо, боярин, я спешу в Слободу, — отвечал
сухо Серебряный.
— В Слободу? Да ведь ты, никак, из тюрьмы убежал?
— Не убежал, Федор Алексеич, а увели меня насиль-
но. Давши слово царю, я сам бы не ушел, и теперь опять
отдаюсь на его волю.
— Тебе, стало, хочется на виселицу? Вольному воля,
спасенному рай! А я уж не знаю, вернуться ли мне?
— Что так, Федор Алексеич?
— Да что, — сказал Басманов, предаваясь досаде
или, может быть, желая только внушить Серебряному
доверие, — служишь царю всею правдой, отдаешь ему
и душу и плоть, а он, того и смотри, посадит тебе
какого-нибудь Годунова на голову!
— Тебя-то, кажется, жалует царь.
— Жалует! До сей поры и окольничим сделать не
хочет. А уж, кажется, я ли ему не холоп! Небось
Годунов не по-моему служит. Этот бережет себя, как
642
бы земские про него худо не подумали. «Эй, Борис,
ступай в застенок, боярина допрашивать!» — «Иду,
государь, только как бы он не провел меня, я к этому
делу непривычен, прикажи Григорью Лукьянычу со
мной идти! — «Эй, Борис, вон за тем столом земский
боярин мало пьет, поднеси ему вина, разумеешь?» —
«Разумею, государь, до только он на меня подозрение
держит, ты бы лучше Федьку Басманова послал!» А
Федька не отговаривается, куда пошлют, туда и идет.
Поведи лишь царь очами — брата родного отравил бы и
не спросил бы, за что. Помнишь, как я тебе за столом
чашу от Ивана Васильича-то поднес? Ведь я думал, она
с ядом, ей-богу, думал!
Серебряный усмехнулся.
— А где ему, — продолжал Басманов, как бы под-
стрекаемый к большей наглости, — где ему найти слугу
краше меня? Видал ли ты такие брови, как у меня? Чем
эти брови не собольи? А волосы-то? Тронь, князь,
пощупай, ведь шелк... право-ну шелк!
Отвращение выразилось на лице Серебряного. Бас-
манов это заметил и продолжал, как будто желая под-
дразнить своего гостя:
— А руки-то мои, посмотри, князь, чем они не
девичьи? Только вот сегодня намозолил маленько. Та-
кой уж у меня нрав, ни в чем себя не жалею!
— И подлинно не жалеешь, — сказал Серебряный,
не в силах более сдерживать своего негодования. —
Коли все то правда, что про тебя говорят...
— А что же про меня говорят? — подхватил Басма-
нов, лукаво прищурясь.
— Да уж и того бы довольно, что ты сам рассказы-
ваешь; а то говорят про тебя, что ты перед царем, прости
господи, как девушка, в летнике пляшешь!
Краска бросилась в лицо Басманова, но он призвал
на помощь свое обычное бесстыдство.
— А что ж, — сказал он, принимая беспечный вид, —
если и в самом деле пляшу?
— Тогда прости, — сказал Серебряный, — мне не
только с тобой обедать, но и смотреть на тебя соромно!
643
21*
— Ага! — вскричал Басманов, и поддельная беспеч-
ность его исчезла, и глаза засверкали, и он уже забыл
картавить, — ага! выговорил наконец! Я знаю, что все
вы про меня думаете! Да мне, вот видишь ли, на всех
вас наплевать!
Брови Серебряного сдвинулись, и рука опустилась
было на крыж его сабли, но он вспомнил, с кем говорит,
и только пожал плечами.
— Да что ты за саблю-то хватаешься? — продолжал
Басманов. — Меня этим не испугаешь. Как сам примусь
за саблю, так еще посмотрим, чья возьмет!
— Прости! — сказал Серебряный и приподнял заве-
су шатра, чтобы выйти.
— Слушай! — вскричал Басманов, хватая его за полу
кафтана, — кабы на меня кто другой так посмотрел, я,
видит бог, не спустил бы ему, но с тобой ссориться не
хочу! Больно хорошо татар рубишь!
— Да и ты, — сказал добродушно Серебряный,
останавливаясь у входа и вспомнив, как дрался Басма-
нов, — да и ты не хуже меня рубил их. Что ж ты опять
вздумал ломаться, словно баба какая!
Лицо Басманова опять сделалось беспечно.
. — Ну, не сердись, князь! Я ведь не всегда таков был;
а в Слободе, сам знаешь, поневоле всему научишься!
— Грешно, Федор Алексеич! Когда сидишь ты на
коне, с саблей в руке, сердце, глядя на тебя, радуется.
И доблесть свою показал ты сегодня, любо смотреть
было. Брось же свой бабий обычай, остриги волосы, как
бог велит, сходи на покаяние в Киев или в Соловки, да
и вернись на Москву христианином!
— Ну, не сердись, не сердись, Никита Романыч! Сядь
сюда, пообедай со мной, ведь я не пес же какой, есть
и хуже меня; да и не все то правда, что про меня говорят;
не всякому слуху верь. Я и сам иногда с досады на себя
наклеплю!
Серебряный обрадовался, что может объяснить по-
ведение Басманова в лучшую сторону.
— Так это неправда, — поспешил он спросить, — что
ты в летнике плясал?
644
— Эх, дался тебе этот летник! Разве я по своей охоте
его надеваю? Иль ты не знаешь царя? Да и что мне, в
святые себя прочить, что ли? Уж я и так в Слободе
пощусь ему в угождение; ни одной заутрени не проспал;
каждую середу и пятницу по сту земных поклонов
кладу; как еще лба не расшиб! Кабы тебе пришлось по
целым неделям в стихаре ходить, небось и ты б для
перемены летник надел!
— Скорей пошел бы на плаху! — сказал Серебряный.
— Ой ли? — произнес насмешливо Басманов, и,
бросив злобный взгляд на князя, он продолжал с видом
доверчивости: — А ты думаешь, Никита Романыч, мне
весело, что по царской милости меня уже не Федором,
а Федорой величают? И еще бы какая прибыль была мне
от этого! А то вся прибыль ему, а мне один сором! Вот
хоть намедни, еду вспольем мимо Дорогомиловской
слободы, ан мужичье-то пальцами на меня показывают,
а кто-то еще закричи из толпы: «Эвот царская Федора
едет!» Я было напустился на них, да разбежались.
Прихожу к царю, говорю, так и так, не вели, говорю,
дорогомиловцам холопа твоего корить, вот уж один
меня Федорой назвал. «А кто назвал? » — «Да кабы знал
кто, не пришел бы докучать тебе, сам бы зарезал его». —
«Ну, говорит, возьми из моих кладовых сорок соболей
на душегрейку» — «А на что мне она! Небось ты не
наденешь душегрейки на Годунова, а я чем хуже
его?» — «Да что же тебе, Федя, пожаловать?» — «А
пожалуй меня окольничим, чтоб люди в глаза не кори-
ли!» — «Нет, говорит, окольничим тебе не бывать; ты
мне потешник, а Годунов советник; тебе казна, а ему
почет. А что дорогомиловцы тебя Федорой назвали, так
отписать за то всю Дорогомиловщину на мой царский
обиход!» Вот тебе и потешник! Да с тех пор как бросиЛи
Москву, и потехи-то не было. Все постились да богу
молились. Со скуки уж в вотчину отпросился, да и там
надоело. Не век же зайцев да перепелов травить!
Поневоле обрадовался, как весть про татар пришла. А
ведь хорошо мы их отколотили, ей-богу, хорошо! До-
вольно и полону пригоним к Москве! Да, я было и забыл
про полон! Стреляешь ты из лука, князь?
645
— А что?
— Да так. После обеда привяжем татарина шагах во
сто: кто первый в сердце попадет. А что не в сердце, то
не в почет. Околеет, другого привяжем.
Открытое лицо Серебряного омрачилось.
— Нет, — сказал он, — я в связанных не стреляю.
— Ну, так велим ему бежать: кто первый набегу
свалит.
— И того не стану, да и тебе не дам! Здесь, слава
богу, не Александрова слобода.
— Не дашь? — вскричал Басманов, и глаза его снова
загорелись, но, вероятно, не вошло в его расчет ссорить-
ся с князем, и, внезапно переменив приемы, он сказал
ему весело: — Эх, князь! Разве не видишь, я шучу с
тобой! И про летник ты поверил! Вот уж полчаса я
потешаюсь, а ты, что ни скажу, все за правду принима-
ешь! Да мне хуже, чем тебе, слободской обычай постыл!
Разве ты думаешь, я лажу с Грязным, али с Вяземским,
али с Малютой? Вот те Христос, они у меня как бельмо
на глазу! Слушай, князь, — продолжал он вкрадчиво, —
знаешь ли что? Дай мне первому в Слободу вернуться,
я тебе выпрошу прощение у царя, а как войдешь опять
в милость, тогда уж и ты сослужи мне службу. Стоит
только шепнуть царю, сперва про Вяземского, а там про
Малюту, а там и про других, так посмотри, коли мы с
тобой не останемся сам-друг у него в приближении. А
я уж знаю, что ему про кого сказать, да только лучше,
чтоб он со стороны услышал. Я тебя научу, как говорить,
ты мне спасибо скажешь!
Странно сделалось Серебряному в присутствии Бас-
манова. Храбрость этого человека и полувысказанное
сожаление о своей постыдной жизни располагали к
нему Никиту Романовича. Он даже готов был подумать,
что Басманов в самом деле перед этим шутил или с
досады клепал на себя, но последнее предложение его,
сделанное, очевидно, не в шутку, возбудило в Серебря-
ном прежнее отвращение.
— Ну, — сказал Басманов, нагло смотря ему в
глаза, — пополам, что ли, царскую милость? Что ж ты
молчишь, князь? Аль не веришь мне?
646
— Федор Алексеич, — сказал Серебряный, стараясь
умерить свое негодование и быть певежливее к угощав-
шему его хозяину, — Федор Алексеич, ведь то, что ты
затеял, оно., как бы тебе сказать?., ведь это...
— Что? — спросил Басманов.
— Ведь это скаредное дело! — выговорил Серебря-
ный и подумал, что смягчив голос, он скрасил свое
выражение.
— Скаредное дело! — повторил Басманов, перемогая
злобу и скрывая ее под видом удивления. — Да ты
забыл, про кого я тебе говорю? Разве ты мыслишь к
Вяземскому или к Малюте?
— Гром божий на них и на всю опричнину! — сказал
Серебряный. Пусть только царь даст мне говорить, я
при них открыто скажу все, что думаю и что знаю, но
шептать не стану ему ни про кого, а кольми паче с твоих
слов, Федор Алексеич!
Ядовитый взгляд блеснул из-под ресниц Басманова.
— Так ты не хочешь, чтоб я с тобой царскою
милостью поделился?
— Нет, — отвечал Серебряный.
Басманов повесил голову, схватился за нее обеими
руками и стал перекачиваться со стороны на сторону.
— Ох, сирота, сирота я! — заговорил он нараспев,
будто бы плача. — Сирота я горькая, горемычная! С тех
пор как разлюбил меня царь, всяк только и норовит, как
бы обидеть меня! Никто не приласкает, никто не приго-
лубит, все так на меня и плюют! Ой, житье мое, житье
нерадостное! Надоело ты мне, собачье житье! Захлест-
ну поясок за перекладинку, продену в петельку голо-
вушку бесталанную!
Серебряный с удивлением смотрел на Басманова,
который продолжал голосить и причитывать, как бабы
на похоронах, и только иногда, украдкой, вскидывал
исподлобья свой наглый взор на князя, как бы желая
уловить его впечатление.
— Тьфу! — сказал наконец Серебряный и хотел
было выйти, но Басманов опять поймал его за полу.
— Эй! — закричал он, — песенников!
647
Вошло несколько человек, вероятно ожидавших сна-
ружи. Они загородили выход Серебряному.
— Братцы, — начал Басманов прежним плаксивым
голосом, — затяните-ка песенку, да пожалобнее, затя-
ните такую, чтоб душа моя истосковалась, надорвалась,
да и разлучилась бы с телом!
Песенники затянули длинную заунывную песню, в
продолжение которой Басманов все переваливался со
стороны на сторону и приговаривал:
— Протяжнее, протяжнее! Еще протяжнее, други!
Отпевайте своего боярина, отпевайте! Вот этак! Вот
хорошо! Да что ж душа не хочет из тела вон? Иль не
настал еще час ее? Или написано мне еще на свете
помаяться? А коли написано, так надо маяться! А коли
сказано жить, так надо жить! Плясовую! — крикнул он
вдруг, без всякого перехода, и песенники, привыкшие
к таким переменам, грянули плясовую. — Живей! —
кричал Басманов и, схватив две серебряные стопы,
начал стучать ими одна о другую. — Живей, соколы!
Живей, бесовы дети! Я вас, разбойники!
Вся наружность Басманова изменилась. Ничего же-
ноподобного не осталось на лице его. Серебряный узнал
того удальца, который утром бросался в самую сечу и
гнал перед собою толпы татар.
— Вот так-то получше! — проговорил князь, одобри-
тельно кивнув головой.
Басманов весело на него взглянул.
— А ведь ты опять поверил мне, князь! Ты подумал,
я и вправду расхныкался! Эх, Никита Романыч, легко ж
тебя провести! Ну, выпьем же теперь про наше знаком-
ство. Коли поживем вместе, увидишь, что я не такой,
как ты думал!
Беспечный разгул и бешеное веселье подействовали
на Серебряного. Он принял кубок из рук Басманова.
— Кто тебя разберет, Федор Алексеич! Я никогда
таких не видывал. Может, и вправду ты лучше, чем
кажешься. Не знаю, что про тебя и думать, но бог свел
нас на ратном поле, а потому: во здравие твое!
И он осушил кубок до дна.
648
— Так, князь! Так, душа моя! Видит бог, я люблю
тебя! Еще одну стопу на погибель всех татар, что
остались на Руси!
Серебряный был крепок к вину, но после второй
стопы мысли его стали путаться. Напиток ли был хмель-
нее обыкновенного или подмешал туда чего-нибудь Бас-
манов, но у князя голова заходила крутом; заходила
кругом, и ничего не стало видно Никите Романовичу;
слышалась только бешеная песня с присвистом и топа-
нием да голос Басманова:
— Живей, ребята! Во сне, что ли, поете? Кого
хороните, воры?
Когда Серебряный пришел в себя, пение еще про-
должалось, но он уже не стоял, а полусидел, полулежал
на персидских подушках. Басманов старался с помощью
стремянного напялить на него женский летник.
— Надевай же свой опашень, боярин, — говорил
он, — на дворе уже сыреть начинает!
Песенники в это время, окончив колено, переводили
ДУХ.
В глазах Серебряного еще рябило, мысли его еще не
совсем прояснились, и он готов был вздеть летник,
принимая его за опашень, как среди наставшей тишины
послышалось протяжное завыванье.
— Это что? — спросил гневно Басманов.
— На Скуратова могиле пес воет! — ответил стре-
мянный, выглянув из шатра.
— Подай сюда лук да стрелу, я научу его выть, когда
мы с гостем веселимся.
Но при имени Скуратова Серебряный совершенно
отрезвился.
— Постой, Федор Алексеич, — сказал он, вставая, —
это Максимов Буян, не тронь его. Он зовет меня на
могилу названого брата; не в меру я с тобой загулялся;
прости, пора мне в путь!
— Да надень же сперва опашень, князь.
— Не на меня шит, — сказал Серебряный, распоз-
навая летник, который протягивал ему Басманов, —
носи его сам, как доселе нашивал.
649
И, не дожидаясь ответа, он плюнул и вышел из шатра.
За ним посыпались проклятия, ругательства и бого-
хульства Басманова; но, не обращая на них внимания, он
подошел к могиле Максима, положил поклон своему на-
званому брату и, сопровождаемый Буяном, присоеди-
нился к разбойникам, которые под началом Перстня уже
расположились на отдых вокруг пылающих костров.
Глава 28
РАССТАВАНИЕ
Едва занялась заря, как уж Перстень поднял шайку.
— Ребятушки! — сказал он разбойникам, когда они
собрались вокруг него и Серебряного. — Настал мне
час расстаться с вами. Простите, ребятушки! Иду опять
на Волгу. Не поминайте меня лихом, коли я в чем
согрубил перед вами.
И Перстень поклонился в пояс разбойникам.
— Атаман! — заговорила в один голос вольница, —
не оставляй нас! Куда мы пойдем без тебя?
— Идите с князем, ребятушки. Вы вашим вчерашним
делом заслужили вины свои; можете опять учиниться,
чем прежде были; а князь не оставит вас!
— Добрые молодцы, — сказал Серебряный, — я дал
царю слово, что не буду уходить от суда его. Вы знаете,
что я из тюрьмы не по своей воле ушел. Теперь должен
я сдержать мое слово, понести царю мою голову. Хотите
ль идти со мною?
— А простит ли он нас? — спросили разбойники.
— Это в божьей воле; не хочу вас обманывать.
Может, простит, а может, и нет. Подумайте, потолкуйте
меж собою, да и скажите мне, кто идет и кто остается.
Разбойники переглянулись, отошли в сторону и на-
чали вполголоса советоваться. Через несколько време-
ни они вернулись к Серебряному.
— Идем с тобой, коли атаман идет!
— Нет, ребятушки, — сказал Перстень, — меня не
просите. Коли вы и не пойдете с князем, все ж нам
дорога не одна. Довольно я погулял здесь, пора на
650
родину. Да мы же и повздорили немного, а порванную
веревку как ни вяжи, все узел будет. Идите с князем,
ребятушки, или выберите себе другого атамана, а лучше
послушайтесь моего совета, идите с князем; не верится
мне после нашего дела, чтобы царь и его и вас не
простил!
Разбойники опять потолковали и после краткого
совещания разделились на две части. Большая подошла
к Серебряному.
— Веди нас! — сказали они, — пусть будет с нами,
что и с тобой!..
— А другие-то что ж? — спросил Серебряный.
— Другие выбрали в атаманы Хлопко, мы с ним не
хотим!
— Там все, что похуже, остались, — шепнул Пер-
стень князю, — они и дрались-то вчера не так, как эти!
— А ты, — сказал Серебряный, — ни за что не
пойдешь со мной?
— Нет, князь, я не то, что Другие. Меня царь не
простит, не таковы мои винности. Да, признаться, и
соскучился по Ермаке Тимофеиче; вот уж который год
не видал его. Прости, князь, не поминай лихом!
Серебряный сжал руку Перстня и обнял его крепко.
— Прости, атаман, — сказал он, — жаль мне тебя,
жаль, что идешь на Волгу; не таким бы тебе делом
заниматься.
— Кто знает, князь, — ответил Перстень, и отважный
взор его принял странное выражение, — бог не без
милости, авось и не всегда буду тем, что теперь!
Разбойники стали приготовляться к походу.
Когда взошло солнце, на берегу речки уже не было
видно ни шатра, ни людей Басманова. Федор Алексеич
поднялся еще ночью, чтобы первому принести царю
известие об одержанной победе.
Прощаясь с товарищами, Перстень увидел возле
себя Митьку.
— Прости ж и ты, губошлеп! — сказал он весело, —
послужил ты вчера царю за четверых, не оставит он тебя
своей милостью!
651
Но Митька, как бы в недоумении, почесал затылок.
— Ну что? — спросил Перстень.
— Ничаво! — отвечал лениво Митька, почесывая
одною рукой затылок, другою поясницу.
— Ну, ничего так ничего! — И Перстень уже было
отошел, как Митька, собравшись с духом, сказал про-
тяжно:
— Атаман, а атаман!
— Что?
— Я в Слободу не хочу!
— Куда ж ты хочешь?
— Ас тобой!
— Нельзя со мной; я на Волгу иду.
— Ну, и я на Волгу!
— Зачем же не с князем?
Митька отодвинул одну ногу вперед и уставился, как
бы в замешательстве, на свой лапоть.
— Опричников, что ли, боишься? — спросил насмеш-
ливо Перстень.
Митька стал почесывать то затылок, то бока, то
поясницу, но не отвечал ничего.
— Мало ты их видел? — продолжал Перстень, —
съели они тебя, что ли?
— Невесту взяли! — проговорил нехотя Митька.
Перстень засмеялся.
— Вишь, злопамятный! Не хочет с ними хлеба-соли
вести! Ну, примкнись к Хлопку.
Не хочу! — сказал решительно Митька, — хочу с
тобой на Волгу!
— Да я не прямо на Волгу!
— Ну, и я не прямо!
— Куда ж ты?
— А куда ты, туда и я!
— Эх, пристал, как банный лист! Так знай же, что
мне сперва надо в Слободе побывать!
— Зачем? — спросил Митька и выпучил глаза на
атамана.
— Зачем! Зачем! — повторил Перстень, начиная
терять терпение, — затем, что я там прошлого года
орехи грыз, скорлупу забыл!
652
Митька посмотрел на него с удивлением, но тотчас
же усмехнулся и растянул рот до самых ушей, а от глаз
пустил по вискам лучеобразные морщины и придал лицу
своему самое хитрое выражение, как бы желая сказать:
меня, брат, надуть не так-то легко; я очень хорошо знаю,
что ты идешь в Слободу не за ореховою скорлупою, а
за чем-нибудь другим!
Однако он этого не сказал, а только повторил, усме-
хаясь:
— Ну и я с тобой!
— Что с ним будешь делать! — сказал Перстень,
пожимая плечами. — Видно, уж не отвязаться от него,
так и быть, иди со мной, дурень, только после не пеняй
на меня, коли тебя повесят!
— А хоча и повесят! — отвечал Митька равнодушно.
— Ладно, парень. Вот за это люблю! Прощайся же
скорее с товарищами, да и в путь.
Заспанное лицо Митьки не оживилось, но он тотчас
же начал неуклюже подходить к товарищам и каждого^
хотевшего и не хотевшего, чмокнул по три раза, кого
добровольно, кого насильно, кого загребая за плечи,
кого ухватив за голову.
— Атаман, — сказал Серебряный, — стало, мы с
тобой по одной дороге?
— Нет, боярин. Где я пройду, там тебе не проехать.
Я в Слободе буду прежде тебя, и, если бы мы встрети-
лись, ты меня не узнавай; а впрочем, мы и не встретимся;
я до твоего приезда уйду; надо только кое-какие дела
покончить.
Серебряный догадался, что у Перстня было кое-что
спрятано или зарыто в окрестностях Слободы, и не
настаивал.
Вскоре два отряда потянулись по двум разным на-
правлениям.
Больший шел за Серебряным вдоль речки по зелено-
му лугу, еще покрытому следами вчерашней битвы, и за
ним, повеся голову и хвост, тащился Буян. Он часто
подбегал к Серебряному, жалобно повизгивал и потом
оборачивался на свежий могильный холм, пока, нако-
нец, не скрыли его из виду высокие камыши.
653
Другой, меньший отряд пошел за Хлопко.
Перстень удалился в третью сторону, а за ним, не
спеша и переваливаясь с боку на бок, последовал
Митька.
Опустела широкая степь, и настала на ней прежняя
тишина, как будто браный гул и не возмущал ее нака-
нуне. Только кое-где паслись разбежавшиеся татарские
кони да валялись по пожарищу разбросанные доспехи.
Вдоль цветущего берега речки жаворонки по-прежнему
звенели в небесной синеве, лыски перекликались в
густых камышах, а мелкие птички перепархивали, чири-
кая, с тростника на тростник или, заливаясь песнями,
садились на пернатые стрелы, вонзившиеся в землю во
время битвы и торчавшие теперь на зеленом лугу, меж
болотных цветов, как будто б и они были цветы и росли
там уже бог знает сколько времени.
Глава 29
ОЧНАЯ СТАВКА
С неделю после поражения татар царь принимал в
своей опочивальне Басманова, только что прибывшего
из Рязани. Царь знал уже о подробностях битвы, но
Басманов думал, что объявит о ней первый. Он надеялся
приписать себе одному всю честь победы и рассчитывал
на действие своего рассказа, чтобы войти у царя в
прежнюю милость.
Иван Васильевич слушал его со вниманием, переби-
рая четки и опустив взор на алмазное кольцо, которым
был украшен указательный перст его; но, когда Басма-
нов, окончив рассказ и тряхнув кудрями, сказал с
самодовольным видом:
— Что ж, государь, мы, кажется, постарались для
твоей милости!
Иоанн поднял глаза и усмехнулся.
— Не пожалели себя, — продолжал вкрадчиво Бас-
манов, — так уж и ты, государь, не пожалей наградить
слугу твоего!
654
— А чего бы тебе хотелось, Федя? — спросил Иоанн,
принимая вид добродушия.
.— Да пожалуй меня хоть окольничим, чтобы люди-то
не корили.
Иоанн посмотрел на него пристально.
— А чем мне Серебряного пожаловать? — спросил
он неожиданно.
— Опальника-то твоего? — сказал Басманов, скры-
вая свое смущение под свойственным ему бесстыдст-
вом, — да чем же, коли не виселицей? Ведь он ушел из
тюрьмы да с своими станичниками чуть дела не испор-
тил. Кабы не переполошил он татар, мы бы их всех, как
перепелов, накрыли.
— Полно, так ли? А я так думаю, что татары тебя в
торока ввязали б, как в тот раз, помнишь? Ведь тебе уж
не впервой, дело знакомое!
— Знакомое дело за тебя горе терпеть, — продолжал
Басманов дерзко, — а вот это незнакомое, чтобы спа-
сибо услышать. Небось тебе и Годунов, и Малюта, и
Вяземский не по-моему служат, а наград для них не
жалеешь.
— И подлинно, не по-твоему. Где им плясать супро-
тив тебя!
— Надежа-государь, — ответил Басманов, теряя
терпение, — коли не люб я тебе, отпусти меня совсем!
Басманов надеялся, что Иоанн удержит его; но от-
сутствие из Слободы, вместо того, чтобы оживить к
нему любовь Иоанна, охладило ее еще более; он успел
от него отвыкнуть, а другие любимцы, особенно Малю-
та, оскорбленный высокомерием Басманова, воспользо-
вались этим временем, чтоб отвратить от него сердце
Иоанна.
Расчет Басманова оказался неверен. Заметно было,
что царь забавляется его досадой.
— Так и быть, — сказал он с притворною горе-
стью, — хоть и тошно мне будет без тебя, сироте
одинокому, и дела-то государские, пожалуй, замутятся,
да уж нечего делать, промаюсь как-нибудь моим слабым
разумом. Ступай себе, Федя, на все четыре стороны! Я
тебя насильно держат не стану.
655
Басманов не мог долее скрыть своей злобы. Избало-
ванный прежними отношениями к Иоанну, он дал ей
полную волю.
— Спасибо тебе, государь, — спасибо за твою
хлеб-соль! Спасибо, что выгоняешь слугу своего, как
негодного пса! Буду, — прибавил он неосторожно, —
буду хвалиться на Руси твоею ласкою! Пусть же другие
послужат тебе, как служила Федора! Много грехов взял
на душу на службе твоей, одного греха не взял: колдов-
ства не взял на душу!
Иван Васильевич продолжал усмехаться, но при по-
следних словах выражение его изменилось.
— Колдовства? — спросил он с удивлением, готовым
обратиться в гнев, — да кто ж здесь колдует?
— А хоть бы твой Вяземский! — отвечал Басманов,
не опуская очей перед царским взором. — Да, —
продолжал он, не смущаясь грозным выражением Иоан-
на, — тебе, видно, одному неведомо, что когда он бывает
на Москве, то по ночам ездит в лес, на мельницу,
колдовать; а зачем ему колдовать, коли не для того,
чтобы извести твою царскую милость?
— Да тебе-то отчего оно ведомо? — спросил царь,
пронзая Басманова испытующим оком.
На этот раз Басманов несколько струсил.
— Ведь я, государь, вчера только услышал от его же
холопей, — сказал он поспешно. — Кабы услышал
прежде, так тогда и доложил бы твоей милости.
Царь задумался.
— Ступай, — сказал он после краткого молчания, —
я это дело разберу; а из Слободы погоди уезжать до
моего приказа.
Басманов ушел, довольный, что успел заронить во
мнительном сердце царя подозрение на одного из своих
соперников, но сильно озабоченный холодностью госу-
даря.
Вскоре царь вышел из опочивальни в приемную
палату, сел на кресло и, окруженный опричниками, стал
выслушивать поочередно земских бояр, приехавших от
Москвы и от других городов с докладами. Отдав каж-
656
дому приказания, поговорив со многими обстоятельно о
нуждах государства, о сношениях с иностранными дер-
жавами и о мерах к предупреждению дальнейшего
вторжения татар, Иоанн спросил, нет ли еще кого
просящего приема?
— Боярин Дружина Андреевич Морозов, — отвечал
один стольник, — бьет челом твоей царской милости,
просит, чтобы допустил ты его пред твои светлые очи.
— Морозов? — сказал Иоанн, — да разве он не
сгорел на пожаре? Живуч, старый пес! Что ж? Я снял
с него опалу, пусть войдет!
Стольник вышел; вскоре толпа царедворцев раздви-
нулась, и Дружина Андреевич, поддерживаемый двумя
знакомцами, подошел к царю и опустился перед ним на
колени.
Внимание всех обратилось на старого боярина.
Лицо его было бледно, дородства много поубавилось,
на лбу был виден шрам, нанесенный саблей Вяземского,
но впалые очи являли прежнюю силу воли; а на сдвину-
тых бровях лежал по-прежнему отпечаток непреклон-
ного упрямства.
Вопреки обычаю двора, одежда его была смирная.
Иоанн смотрел на Морозова, не говоря ни слова. Кто
умел читать в царском взоре, тот прочел бы в нем теперь
скрытую ненависть и удовольствие видеть врага своего
униженным; но поверхностному наблюдателю выраже-
ние Иоанна могло показаться благосклонным.
— Дружина Андреевич, — сказал он важно, но
ласково, — я снял с тебя опалу; зачем ты в смирной
одежде?
— Государь, — отвечал Морозов, продолжая стоять
на коленях, — не пригоже тому рядиться в парчу, у кого
дом сожгли твои опричнику и насильно жену увезли.
Государь, — продолжал он твердым голосом, — бью
тебе челом в обиде моей на оружничего твоего, Афонь-
ку Вяземского!
— Встань, — сказал царь, — и расскажи дело по
ряду. Коли кто из моих обидел тебя, не спущу я ему,
будь хотя самый близкий мне человек.
657
— Государь, — продолжал Морозов, не вставая, —
вели позвать Афоньку. Пусть при мне даст ответ твоей
милости!
— Что ж, — сказал царь, как бы немного подумав, —
просьба твоя дельная. Ответчик должен ведать, что
говорит истец. Позвать Вяземского. А вы, — продолжал
он, обращаясь к знакомцам, отошедшим на почтитель-
ное расстояние, — подымите своего боярина, посадите
его на скамью; пусть подождет ответчика.
Со времени нападения на дом Морозова прошло
более двух месяцев. Вяземский успел оправиться от ран.
Он жил по-прежнему в Слободе, но, не ведая ничего об
участи Елены, которую ни один из его рассыльных не
мог отыскать, он был еще пасмурнее, чем прежде, редко
являлся ко двору, отговариваясь слабостью, не участво-
вал в пирах, и многим казалось, что в приемах его есть
признаки помешательства. Иоанну не нравилось удале-
ние его от общих молитв и общего веселья; но он, зная
о неудачном похищении боярыни, приписывал поведе-
ние Вяземского мучениям любви и был к нему снисхо-
дителен. Лишь после разговора с Басмановым поведе-
ние это стало казаться ему неясным. Жалоба Морозова
представляла удобный случай выведать многое через
очную ставку, и вот почему он принял Морозова лучше,
чем ожидали царедворцы.
Вскоре явился Вяземский. Наружность его также
значительно изменилась. Он как будто постарел не-
сколькими годами, черты лица сделались резче, и жизнь,
казалось, сосредочилась в огненных и беспокойных
глазах его.
— Подойди сюда, Афоня, — сказал царь. — Подойди
и ты, Дружина. Говори, в чем твое челобитье. Говори
прямо, рассказывай, как было.
Дружина Андреевич приблизился к царю. Стоя ря-
дом с Вяземским, но не удостоивая его взгляда, он
подробно изложил все обстоятельства нападения.
— Так ли было дело? — спросил царь, обращаясь к
Вяземскому.
— Так! — сказал Вяземский, удивленный вопросом
Иоанна, которому все давно было известно.
658
Лицо Ивана Васильевича омрачилось,
— Как отчаялся ты на это? — сказал он, устремив на
Вяземского строгий взор, — Разве я дозволяю разбой-
ничать моим опричникам?
— Ты знаешь, государь, — ответил Вяземский, еще
более удивленный, — что дом разграблен не по моему
указу, а что я увез боярыню, на то было у меня твое
дозволение!
— Мое дозволение? — произнес царь, медленно
выговаривая каждое слово. — Когда я дозволял тебе?
Тут Вяземский заметил, что напрасно хотел опереть-
ся на намек Ивана Васильевича, сделанный ему иноска-
зательно во время пира, намек, вследствие которого он
почел себя вправе увезти Елену силою. Не отгадывая
еще цели, с какою царь отказывался от своих поощре-
ний, он понял, однако, что надобно изменить образ
своей защиты. Не из трусости и не для сохранения
своей жизни, которая, при переменчивом нраве царя,
могла быть в опасности, решился Вяземский оправдать-
ся. Он не потерял еще надежды добыть Елену, и все
средства казались ему годными.
— Государь, — сказал он, — я виноват перед тобой,
ты не дозволял мне увезти боярыню. Вот как было дело.
Послал ты меня к Москве снять опалу с боярина Моро-
зова, а он, ты знаешь, издавна держит на меня вражду
за то, что еще до свадьбы спознался я с женою его. Как
прибыл я к нему в дом, он и порешил вместе с Никитой
Серебряным извести меня. После стола они с холопями
напали на нас предательским обычаем; мы же дали
отпор, а боярыня-то Морозова, ведая мужнину злобу,
побоялась остаться у него в доме и упросила меня взять
ее с собою. Уехала она от него вольною волею, а когда
я в лесу обеспамятствовал от ран, так и досель не знаю,
куда она девалась. Должно быть, нашел ее боярин и
держит где-нибудь взаперти, а может быть, и со свету
сжил ее! Не ему, — продолжал Вяземский, бросив
ревнивый взор на Морозова, — не ему искать на мне
бесчестия. Я сам, государь, бью челом твоей милости на
Морозова, что напал на меня в доме своем вместе с
Никитой Серебряным!
659
Царь не ожидал такого оборота. Клевета Вяземского
была очевидна, но в расчет Иоанна не вошло ее обна-
ружить, Морозов в первый раз взглянул на врага своего,
— Лжешь ты, окаянный пес! — сказал он, окидывая
его презрительно с ног до головы, — Каждое твое слово
есть негодная ложь; а я в своей правде готов крест
целовать! Государь! Вели ему, окаянному, выдать мне
жену мою, с которою повенчан я по закону христиан-
скому!
Иоанн посмотрел на Вяземского,
— Что скажешь ты на это? — спросил он, сохраняя
хладнокровную наружность судьи,
— Я уже говорил тебе, государь, что увез боярыню
по ее же упросу; а когда я на дороге истек кровью,
холопи мои нашли меня в лесу без памяти. Не было при
мне ни моего коня, ни боярыни, перенесли меня на
мельницу к знахарю; он-то и зашептал кровь. Боле
ничего не знаю,
Вяземский не думал, что, упоминая о мельнице, он
усилит в Иоанне зародившееся подозрение и придаст
вероятие наговору Басманова; но Иоанн не показал
вида, что обращает внимание на это обстоятельство, а
только записал его в памяти, чтобы воспользоваться им
при случае; до поры же до времени затаил свои мысли
под личиною беспристрастия,
— Ты слышал? — сказал он Вяземскому, — боярин
Дружина готов в своих речах крест целовать! Как
очистишься перед ним?
— Боярин волен говорить, — отвечал Вяземский,
решившийся во что бы то ни стало вести свою защиту
до конца, — он волен клепать на меня, а я ищу на нем
моего увечья и сам буду в правде моей крест целовать.
По собранию пробежал ропот. Все опричники знали,
как совершилось нападение, и сколь не закоренели они
в злодействе, но не всякий решился бы присягнуть
ложно.
Сам Иоанн изумился дерзости Вяземского; но в тот
же миг понял, что может через нее погубить ненавист-
ного Морозова и сохранить при том вид строгого пра-
восудия.
660
— Братия! — сказал он, обращаясь к собранию, —
свидетельствуюсь вами, что я хотел узнать истину. Не
в обычае моем судить, не услышав оправдания. Но в
одном и том же деле две стороны не могут крест
целовать. Один из противников солживит свою присягу.
Я же, яко добрый пастырь, боронящий овцы моя, никого
не хочу допустить до погубления души. Пусть Морозов
и Вяземский судятся судом божиим. От сего числа через
десять ден назначаю им поле, здесь, в Слободе, на
Красной площади. Пусть явятся с своими стряпчими и
поручниками. Кому бог даст одоление, тот будет чист и
передо мною, а кто не вынесет боя, тот, хотя бы и жив
остался, тут же приимет казнь от рук палача!
Решение Иоанна произвело в собрании сильное впе-
чатление. Во мнении многих оно равнялось для Морозо-
ва смертному приговору. Нельзя было думать, чтобы
престарелый боярин устоял против молодого и сильного
Вяземского. Все ожидали, что он откажется от поединка
или по крайней мере попросит позволения поставить
вместо себя наемного бойца. Но Морозов поклонился
царю и сказал спокойным голосом:
— Государь, пусть будет по-твоему! Я стар и хвор,
давно не надевал служилой брони; но в божьем суде не
сила берет, а правое дело! Уповаю на помощь господа,
что не оставит он меня в правом деле моем, покажет
пред твоею милостью и пред всеми людьми неправду
врага моего!
Услыша царский приговор, Вяземский было обрадо-
вался, и очи его уже запылали надеждой; но уверен-
ность Морозова немного смутила его. Он вспомнил, что,
по общепринятому понятию, в судном поединке бог
неминуемо дарит победу правой стороне, и невольно
усомнился в своем успехе.
Однако, подавив минутное смущение, он также по-
клонился царю и произнес:
— Да будет по-твоему, государь!
— Ступайте, — сказал Иоанн, — ищите себе поруч-
ников, а через десять ден, с восходом солнца, будьте
оба на Красной площади, и горе тому, кто не выдержит
боя!
661
Бросив на обоих глубокий необъяснимый взор, царь
встал и удалился во внутренние покои, а Морозов вышел
из палаты, полный достоинства, в сопровождении своих
знакомцев, не глядя на окружающих его опричников.
Глава 30
ЗАГОВОР НА ЖЕЛЕЗО
На следующий день Вяземский уехал к Москве,
Во всякое другое время, готовясь к поединку, он
положился бы на свою силу и ловкость; но дело шло об
Елене, Поединок был не простой; исход его зависел от
суда божия, а князь знал свою неправость, и сколь ни
показался бы ему Морозов презрителен в обыкновен-
ной схватке, но в настоящем случае он опасался небес-
ного гнева, страшился, что во время боя у него онемеют
или отымутся руки.
Опасение это было тем сильнее, что недавно зажив-
шие раны еще причиняли ему боль и что по временам
он чувствовал слабость и изнеможение. Князь не хотел
ничем пренебрегать, чтоб упрочить за собой победу, и
решился обратиться к знакомому мельнику, взять у него
какого-нибудь зелья и сделать чрез колдовство удары
свои неотразимыми.
Полный раздумья и волнений, ехал он по лесу шагом,
наклоняясь время от времени на седле и разбирая
тропинки, заросшие папоротником. После многих пово-
ротов попал он на более торную дорогу, осмотрелся,
узнал на деревьях заметы и пустил коня рысью. Вскоре
послышался шум колеса. Подъезжая к мельнице, князь
вместе с шумом стал различать человеческий говор. Он
остановился, слез с седла и, привязав коня в орешнике,
подошел к мельнице пешком. У самого сруба стоял
чей-то конь в богатой сбруе. Мельник разговаривал с
стройным человеком, но Вяземский не мог видеть лица
его, потому что незнакомец повернулся к нему спиною,
готовясь сесть в седло.
— Будешь доволен, боярин, — говорил ему мельник,
утвердительно кивая головою, — будешь доволен, ба-
662
тюшка! Войдешь опять в царскую милость, и чтобы гром
меня тут же прихлопнул, коли не пропадет и Вяземский
и все твои вороги! Будь спокоен, уж противу тирлича-
травы ни один не устоит!
— Добро, — отвечал посетитель, влезая на коня, —
а ты, старый черт, помни наш уговор: коли не будет мне
удачи, повешу тебя как собаку!
Голос показался Вяземскому знаком, но колесо шу-
мело так сильно, что он остался в недоумении, кто
именно был говоривший.
— Как не быть удаче, как не быть, батюшка, —
продолжал мельник, низко кланяясь, — только не сымай
с себя тирлича-то; а когда будешь с царем говорить,
гляди ему прямо и весело в очи; смело гляди ему в очи,
батюшка, не показывай страху-то; говори ему шутки и
прибаутки, как прежде говаривал, так будь я анафема,
коли опять в честь не войдешь!
Всадник повернул коня и, не замечая Вяземского,
проехал мимо него рысью.
Князь узнал Басманова, и ревнивое воображение его
закипело. Занятый одною мыслью об Елене, он не
обратил внимания на речи мельника, но, услышав свое
имя, подумал, что видит в Басманове нового неожидан-
ного соперника.
Мельник между тем, проводив глазами Басманова,
присел на завалинку и принялся считать золотые деньги.
Он весело ухмылялся, перекладывая их с ладони на
ладонь, как вдруг почувствовал на плече своем тяжелую
руку.
Старик вздрогнул, вскочил на обе ноги и чуть не
обмер от страха, когда глаза его встретились с черными
глазами Вяземского.
— О чем ты, колдун, с Басмановым толковал? —
спросил Вяземский.
— Ба... ба... батюшка! — произнес мельник, чувствуя,
что ноги под ним подкашиваются. — Батюшка, князь
Афанасий Иваныч, как изволишь здравствовать?
— Говори! — закричал Вяземский, схватив мельника
за горло и таща его к колесу, — говори, что вы про меня
толковали?
663
И он перегнул старика над самым шумом.
— Родимый! — простонал мельник, — все скажу
твоей милости, все скажу, батюшка, отпусти лишь душу
на покаяние!
— Зачем приезжал к тебе Басманов?
— За корнем, батюшка, за корнем! А я ведь знал, что
ты тут, я знал, что ты все слышишь, батюшка; затем-то
я и говорил погромче, чтобы ведомо тебе было, что
Басманов хочет погубить твою милость!
Вяземский отшвырнул мельника от става.
Старик понял, что миновался первый порыв его
гнева.
— Какой же ты, родимый, сердитый! — сказал он,
поднимаясь на ноги. — Говорю тебе, я знал, что твоя
милость близко; я с утра еще ожидал тебя, батюшка!
— Ну, что же хочет Басманов? — спросил князь
смягченным голосом.
Мельник между тем успел совершенно оправиться.
— Да, вишь ты, — сказал он, придавая лицу своему
доверчивое выражение, — говорил Басманов, что царь
разлюбил его, что тебя, мол, больше любит и что тебе,
да Годунову Борису Федоровичу, да Малюте Скуратову
только и идет от него ласка. Ну, пристал ко мне, чтобы
дал ему тирлича. Дай, говорит, тирлича, чтобы мне в
царскую милость войти, а их чтобы разлюбил царь и
опалу чтобы на них положил! Что ты будешь с ним
делать! Пристал с ножом к горлу, вынь да положь; не
спорить мне с ним! Ну и дал я ему корешок, да и
корешок-то, батюшка, дрянной. Так, завалящий коре-
шишка дал ему, чтобы только жива оставил. Стану я ему
тирлича давать, чтобы супротив тебя его царь полюбил!..
— Черт с ним! — сказал равнодушно Вяземский, —
Какое мне дело, любит ли царь его или нет! Не за тем
я сюда приехал. Узнал ли ты что, старик, про боярыню?
— Нет, родимый, ничего не узнал, Я и гонцам твоим
говорил, что нельзя узнать, А уж как старался-то я для
твоей милости! Семь ночей сряду глядел под колесо.
Вижу, едет боярыня по лесу, сам-друг со старым чело-
веком; сама такая печальная, а стар человек ее утешает,
664
а боле ничего и не видно; вода замутится, и ничего боле
не видно!
— Со старым человеком? Стало быть, с Морозовым?
С мужем своим?
— Нет, не должно быть: Морозов будет подороднее,
да и одежа-то его другая. На этом простой кафтан, не
боярский; должно быть, простой человек!
Вяземский задумался.
— Старик! — сказал он вдруг, — умеешь ли сабли
заговаривать?
— Как не уметь, умею. Да тебе на что, батюшка?
Чтобы рубила сабля али чтоб тупилась от удара?
— Вестимо, чтобы рубила, леший!
— А то, бывают, заговаривают вражьи сабли, чтобы
тупились али ломались о бронь...
— Мне не вражью саблю заговаривать, а свою. Я
буду биться на поле, так надо мне во что бы то ни стало
супротивника убить, слышишь?
— Слышу, батюшка, слышу! Как не слышать! — И
старик начал про себя думать: «С кем же это он будет
биться? Кто его враги? Уж не с Басмановым ли? Навряд
ли! Он сейчас о нем отзывался презрительно, а князь
не такой человек, чтобы умел скрывать свои мысли.
Разве с Серебряным? » Но мельник знал через Михеича,
что Серебряный Ькинут в тюрьму, а от посланных
Вяземского, да и от некоторых товарищей Перстня
слышал, что станичники освободили Никиту Романыча
и увели с собой; стало быть, не с Серебряным. Остается
один боярин Морозов. Он за похищение жены мог
вызвать Вяземского. Правда, он больно стар, да и в
судном поединке дозволяется поставить вместо себя
другого бойца. «Стало быть, — расчел мельник, —
князь будет биться или с Морозовым или с наймитом
его». — Дозволь, батюшка, — сказал он, — воды
зачерпнуть, твоего супостата посмотреть!
— Делай как знаешь, — возразил Вяземский и сел в
раздумье на сваленный пень.
Мельник вынес из каморы бадью, опустил ее под
самое колесо и, зачерпнув воды, поставил возле князя.
665
— Эх, эх, — сказал он, нагнувшись над бадьей и
глядя в нее пристально, — видится мне твой супротив-
ник, батюшка, только в толк не возьму! Больно он стар...
А вот и тебя вижу, батюшка, как ты сходишься с ним..
— Что ж? — спросил Вяземский, тщетно стараясь
увидеть что-нибудь в бадье.
— Ангелы стоят за старика, — продолжал мельник
таинственно и как бы сам удивленный тем, что он
видит, — небесные силы стоят за него; трудно будет
заговорить саблю!
— А за меня никто не стоит? — спросил князь с
невольною дрожью.
Мельник смотрел все пристальнее, глаза его сдела-
лись совершенно неподвижны; казалось, он, начав мо-
рочить Вяземского, был поражен действительным виде-
нием и ему представилось что-то страшное.
— И у твоей милости, — сказал он шепотом, — есть
защитники... А вот теперь уж ничего не вижу, вода
потемнела!
Он поднял голову, и Вяземский заметил, что крупный
пот катился со лба его.
— Есть и у тебя защитники, батюшка, — прошептал
он боязливо. — Можно будет заговорить твое оружие.
— На... — сказал князь, вынимая из ножен тяжелую
саблю, — на, заговаривай!
Мельник перевел дух, разгреб руками яму и вложил
в нее рукоять сабли. Затоптав землю, он утвердил
лезвее острием вверх и начал ходит кругом, причитывая
вполголоса:
— «Выкатило солнышко из-за моря Хвалынского,
восходил месяц над градом каменным, а в том граде
каменном породила меня матушка и, рожая, приговари-
вала: будь ты, мое дитятко, цел-невредим — от стрел и
мечей, от бойцов и борцов. Опоясывала меня матушка
мечом-кладенцом. Ты, мой меч-кладенец, вертись и кру-
тись, ты вертись и крутись, как у мельницы жернова
вертятся, ты круши и кроши всяку сталь и уклад, и
железо, и медь; пробивай, прорубай всяко мясо и кость;
а вражьи удары чтобы прядали от тебя, как камни от
666
ноды, и чтобы не было тебе от них ни царапины, ни
зазубрины! Заговариваю раба Афанасья, опоясываю
мечом-кладенцом. Чур, слову конец, моему делу венец!»
Он вытащил саблю и подал ее князю, отряхнув с
рукояти землю и бережно обтерев ее полою.
— Возьми, батюшка, князь Афанасий Иваныч. Будет
она тебе служить, лишь бы супротивник твой свою
саблю в святую воду не окунул!
— А если окунет?
— Что ж делать, батюшка! Против святой воды
наговорное железо не властно. Только, пожалуй, и
этому пособить можно. Дам я тебе голубца болотного,
ты его в мешочке на шею повесь, так у ворога своего
глаза отведешь.
— Подавай голубец! — сказал Вяземский.
— Изволь, батюшка, изволь; для твоей княжеской
милости и голубца не пожалею.
Старик сходил опять в камору и принес князю что-то
зашитое в тряпице.
— Дорого оно мне досталось, — сказал он, как бы
жалея выпустить из рук тряпицу, — трудно его добы-
вать. Как полезешь за ним не в урочный час в болото,
такие на тебя нападут страхи, что господи упаси!
Князь взял зашитый предмет и бросил мельнику
мошну с золотыми.
— Награди господь твою княжескую милость! —
сказал старик, низко кланяясь. — Только, батюшка,
дозволь еще словцо тебе молвить: теперь уже до пое-
динка-то в церковь не ходи, обедни не слушай; не то,
чего доброго! и наговор-то мой с лезвея соскочит.
Вяземский ничего не отвечал и направился было к
месту, где привязал коня, но вдруг остановился.
— А можешь ты, — сказал он, — наверно узнать,
кто из нас жив останется?
Мельник замялся.
— Да, должно быть, ты, батюшка! Как тебе живу не
остаться! Я тебе и прежде говаривал: не от меча твоей
милости смерть написана!
— Посмотри еще раз в бадью!
667
— Что ж еще смотреть, батюшка! Теперь ничего не
увидишь, и вода-то уж помутилась.
— Зачерпни свежей воды, — сказал Вяземский
повелительно.
Мельник повиновался нехотя.
— Ну, что там видно? — спросил князь нетерпеливо.
Старик с приметным отвращением нагнулся над
бадьею.
— Ни тебя не видно, батюшка, ни супротивника
твоего! — сказал он бледнея. — Видна площадь, народу
полна; много голов на кольях торчит; а в стороне костер
догорает и человеческие кости к столбу прикованы!
— Чьи головы на кольях торчат? — спросил Вязем-
ский, пересиливая невольный страх.
— Не вижу, батюшка, все опять помутилось; один
костер еще светится да кости чьи-то висят у столба!
Мельник с усилием поднял голову и, казалось, с
трудом отвел взор от бадьи. Его дергали судороги, пот
катился с лица его; он, стоная и охая, дотащился до
завалины и упал на нее в изнеможении.
Вяземский отыскал своего коня, сел в седло и,
полный раздумья, поехал к Москве.
Глава 31
БОЖИЙ СУД
В отсутствие Вяземского Малюте было поручено
важное дело. Царь приказал ему захватить ближайших
слуг князя Афанасия Ивановича и пытать накрепко,
ездил ли господин их на мельницу колдовать, и сколько
раз он был на мельнице, и что именно замышляет
противу его государского здравия?
Большая часть слуг не созналась ни в чем, но неко-
торые не выдержали пытки и показали все то, что
Малюта вложил им в уста. Показали они, что князь
ездил на мельницу с тем, чтоб испортить государя; что
он вымал царские следы и жег их на огне; а некоторые
показали даже, что Вяземский мыслит ко князю Влади-
миру Андреевичу и хочет посадить его на царский
668
престол. Сколь ни были нелепы эти показания, они
тщательно записывались дьяками со слов истязаемых и
прочитывались царю. Верил ли им Иван Васильевич или
нет — бог весть! Но он строго приказал Малюте, по
возвращении Вяземского, скрыть от него причину, по
которой захвачены его слуги, а сказать, что взяты-де
они по подозрению в воровстве из царских кладовых.
В показаниях их, однако, было много противоречий,
и Иоанн послал за Басмановым, чтобы заставить его
повторить все, что он, по доносу своему, слышал от
холопей Вяземского.
Басманова не нашли в Слободе. Он накануне уехал
к Москве, и царь опалился, что осмелился он отлучиться
вопреки его приказанию. Малюта воспользовался этим,
чтобы взвести подозрение на самого Басманова.
— Кто знает, государь, — сказал Скуратов, — зачем
он ослушался твоей милости? Быть может, он заодно с
Вяземским и только для виду донес на него, чтобы
вернее погубить тебя!
Царь велел Малюте пока молчать обо всем и, когда
воротится Басманов, не показывать ему вида, что его
отсутствие было замечено.
Между тем настал день, назначенный для судного
поединка. Еще до восхода солнца народ столпился на
Красной площади; все окна были заняты зрителями, все
крыши ими усыпаны. Весть о предстоящем бое давно
разнеслась по окрестностям. Знаменитые имена сторон
привлекли толпы из разных сел и городов, и даже от
самой Москвы приехали люди всех сословий посмот-
реть, кому господь дарует одоление в этом деле.
— Ну-ка, брат, — говорил один щегольски одетый
гусляр своему товарищу, дюжему молодому парню, с
добродушным, но глуповатым лицом, — ступай вперед,
авось тебе удастся продраться до цепи. Эх, народу,
народу-то! Дайте пройти, православные, дайте и нам,
владимирцам, на суд божий посмотреть!
Но увещания его оставались безуспешны. Толпа
была так густа, что и при добром желании не было бы
возможности посторониться.
669
— Да ступай же, тюлень ты этакий! — повторил
гусляр, толкая товарища в спину. — Аль не сумеешь
продраться?
— А для ча? — отвечал вялым голосом детина.
И, выставив вперед дюжее плечо свое, он принялся
раздвигать толпу, словно железным клином. Раздались
крики и ругательства, но оба товарища продвигались
вперед, не обращая на них внимания.
— Правей, правей! — говорил старший. — Чего стал
влево забирать, дурень? Сверли туда, где копья торчат!
Место, на которое указывал гусляр, было приготов-
лено для самого царя. Оно состояло из дощатого помо-
ста, покрытого червленым сукном. На нем были постав-
лены царские кресла, а торчавшие там копья и рогатины
принадлежали опричникам, окружавшим помост. Дру-
гие опричники стояли у цепи, протянутой вокруг поля,
то есть просторного места, приготовленного для конного
или пешего боя, смотря по уговору бойцов. Они отгоня-
ли народ бердышами и не давали ему напирать на цепь.
Продвигаясь вперед шаг за шагом, гусляр и дюжий
парень добрались наконец до самого поля.
— Куда лезете! — закричал один опричник, замах-
нувшись на них бердышем.
Парень разинул рот и в недоумении обернулся на
своего товарища, но тот снял обеими руками свой
поярковый трешневик, обвитый золотою лентой с Пав-
линым пером, и, кланяясь раз за разом в пояс, сказал
опричнику:
— Дозвольте, господа честные, владимирским гусля-
рам суд божий посмотреть! От самого города Володи-
мира пришли! Дозвольте постоять, господа честные!
И лукаво-заискивающею улыбкой он выказывал из-
под черной бороды свои белые зубы.
— Ну, так и быть! — сказал опричник. — Назад уж
не пролезете; стойте здесь; только, чур, вперед не
подаваться, башку раскрою!
Внутри оцепленного места расхаживали поручники
и стряпчие обеих сторон. Тут же стояли боярин и
окольничий, приставленные к полю, и два дьяка, кото-
670
рым вместе с ними надлежало наблюдать за порядком
боя. Один из дьяков держал развернутый судебник
Владимира Гусева, изданный еще при великом князе
Иоанне Васильевиче III, и толковал с товарищем своим
о предвиденных случаях поединка.
— «А досудятся до поля, — читал он, указывая
пальцем на одно место в судебнике, — а у поля, не
стояв, помирятся...» — как дьяка прервали восклицания
толпы:
— Царь едет! Царь едет! — говорили все, волнуясь
и снимая шапки.
Окруженный множеством опричников, Иван Василь-
евич подъехал верхом к месту поединка, слез с коня,
взошел по ступеням помоста и, поклонившись народу,
опустился на кресла с видом человека, готовящегося
смотреть на занимательное зрелище.
Позади и около него разместились, стоя, царедвор-
цы.
В то же время на всех слободских церквах зазвонили
колокола, и с двух противоположных концов въехали
во внутренность цепи Вяземский и Морозов, оба в
боевых нарядах. На Морозове был дощатый доспех, то
есть стальные бахтерцы из наборных блях, наведенных
через ряд серебром. Наручи, рукавицы и поножи бле-
стели серебряными разводами. Голову покрывал высо-
кий шишак с серебром и чернью, а из-под венца его
падала на плечи боярина кольчатая бармица, скрещен-
ная на груди и укрепленная круглыми серебряными
бляхами. У бедра его висел на узорном поясе, застегну-
том крюком, широкий прямой тесак, которого крыж,
ножновые обоймицы и наконечник были также сереб-
ряные. К правой стороне седла привешен был, концом
вниз, золоченый шестопер, оружие и знак достоинства,
в былые годы неразлучный с боярином в его славных
битвах, но ныне, по тяжести своей, вряд ли кому по
руке.
Под Морозовым был грудастый черно-пегий конь с
подпалинами. Его покрывал бархатный малиновый чал-
дар, весь в серебряных бляхах. От кованого налобника
671
падали по сторонам малиновые шелковые морхи, или
кисти, перевитые серебряными нитками, а из-под шеи
до самой груди висела такая же кисть, больше и гуще
первых, называвшаяся наузом. Узда и поводья состояли
из серебряных цепей с плоскими вырезными звеньями,
неравной величины.
Мерно шел конь, подымая косматые ноги в серебря-
ных наколенниках, согнувши толстую шею, и, когда
Дружина Андреевич остановил его в саженях в пяти от
своего противника, он стал трясти густою волнистою
гривой, достававшей до самой земли, грызть удила и
нетерпеливо рыть песок сильным копытом, выказывая
при каждом ударе блестящие шипы широкой подковы.
Казалось, тяжелый конь был подобран под стать дород-
ного всадника, и даже белый цвет его гривы согласовал-
ся с седою бородой боярина.
Вооружение Вяземского было гораздо легче. Еще
страдая от недавних ран, он не захотел надеть ни
зерцала, ни бахтерцов, хотя они и считались самою
надежною броней, но предпочел им легкую кольчугу.
Ее ожерелья, подол и зарукавья горели дорогими ка-
меньями. Вместо шишака на князе была ерихонка, то
есть низкий, изящно выгнутый шлем, имевший на вен-
це и ушах золотую насечку, а на тулье высокий сноп
из дрожащих золотых проволок, густо усыпанных во
всю длину их яхонтовыми искрами. Сквозь полку шле-
ма проходила отвесно железная золоченая стрела, пре-
дохранявшая лицо от поперечных ударов; но Вязем-
ский, из удальства, не спустил стрелы, а напротив,
поднял ее посредством щурепца до высоты яхонтового
снопа, так что бледное лицо его и темная борода ос-
тавались совершенно открыты, а стрела походила на
золотое перо, щегольски воткнутое в полку ерихонки.
На поясе, плотно стянутом пряжкой поверх кольчуги
и украшенном разными привесками, звенцами и бря-
цальцами, висела кривая сабля, вся в дорогих камень-
ях, та самая, которую заговорил мельник и на которую
теперь твердо надеялся Вяземский. У бархатного сед-
ла, фиолетового цвета, с горощатыми серебряными
672
гвоздями и с такими же коваными скобами, прикреп-
лен был булатный топорок с фиолетовым бархатным
черенком в золотых поясках. Из-под нарядного подола
кольчуги виднелась белая шелковая рубаха, с золотым
шитьем, падавшая на зарбасные штаны жаркого цвета,
всунутые в зеленые сафьянные сапоги, которых узор-
ные голенища, не покрытые поножами, натянуты были
до колен и перехватывались под сгибом и у щиколоток
жемчужною тесьмою.
Конь Афанасия Ивановича, золотисто-буланый арга-
мак, был весь увешан, от головы до хвоста, гремячими
цепями из дутых серебряных бубенчиков. Вместо чеп-
рака или чалдара пардовая кожа покрывала его спину.
На вороненом налобнике горели в золотых гнездах
крупные яхонты. Сухие черные ноги горского скакуна
не были вовсе подкованы, но на каждой из них, под
бабкой, звенело по одному серебряному бубенчику.
Давно уже слышалось на площади звонкое ржание
аргамака. Теперь, подняв голову, раздув огненные ноз-
дри и держа черный хвост на отлете, он сперва легкою
поступью, едва касаясь земли, двинулся навстречу коню
Морозова; но, когда князь, не съезжаясь с противни-
ком, натянул гремучие поводья, аргамак прыгнул в сто-
рону и перескочил бы через цепь, если бы седок ловким
поворотом не заставил его вернуться на прежнее место.
Тогда он взвился на дыбы и, крутясь на задних ногах,
норовил опрокинуться навзничь, но князь нагнулся на
луку, отпустил ему поводья и вонзил в бока его острые
кизилбашские стремена. Аргамак сделал скачок и оста-
новился как вкопанный. Ни один волос его черной гривы
не двигался. Налитые кровью глаза косились по сторо-
нам, и по золотистой шерсти разбегались надутые жилы
узорною сеткой.
При появлении Вяземского, когда он въехал, гремя
и блестя и словно обрызганный золотым и алмазным
дождем, владимирский гусляр не мог удержаться от
восторга; но удивление его относилось еще боле к коню,
чем ко всаднику.
— Эх, конь! — говорил он, топая ногами и хватаясь
673
22-769
в восхищении за голову, — экий конь! подумаешь. И не
видывал такого коня! Ведь всякие перебывали, а небось
такого бог не послал! «Что бы, — прибавил он про
себя, — что бы было в ту пору этому седоку, как он
есть, на Поганую Лужу выехать!» Слышь ты, — продол-
жал он весело, толкая локтем товарища, — слышь ты,
дурень, который конь тебе боле по сердцу?
— А тот! — отвечал парень, указывая пальцем на
морозовского коня.
— Тот? А зачем же тот?
— А затем, что поплотняе! — ответил парень лениво.
Гусляр залился смехом, но в это время раздался
голос бирючей.
— Православные люди! — кричали они в разные
концы площади, — зачинается судный бой промеж
оружничего царского, князь Афанасья Иваныча Вязем-
ского, и боярина Дружины Андреича Морозова. Тяга-
ются они в бесчестии своем, в бою и увечье, и в увозе
боярыни Морозовой! Православные люди! Молитесь
пресвятой троице, дабы даровала она одоление правой
стороне!
Площадь затихла. Все зрители стали креститься, а
боярин, приставленный ведать поединок, подошел к
царю и проговорил с низким поклоном:
— Прикажешь ли, государь, зачинать потно?
— Зачинайте! — сказал Иоанн.
Боярин, окольничий, поручники, стряпчие и оба дья-
ка отошли в сторону.
Боярин подал знак.
Противники вынули оружие.
По другому знаку надлежало им скакать друг на
друга, но, к изумлению всех, Вяземский закачался на
седле и выпустил из рук поводья. Он свалился бы на
землю, если б поручник и стряпчий не подбежали и не
помогли ему сойти с коня. Подоспевшие конюхи успели
схватить аргамака под уздцы.
— Возьмите его! — сказал Вяземский, озираясь
померкшими очами, — я буду биться пешой!
Видя, что князь сошел с коня, Морозов также слез
с своего черно-пегого и отдал его конюхам.
674
Стряпчий Морозова подал ему большой кожаный
щит с медными бляхами, приготовленный на. случай
пешего боя.
Стряпчий Вяземского поднес ему также щит, воро-
неный, с золотою насечкой и золотою бахромой.
Но Афанасий Иванович не имел силы вздеть его на
руку. Ноги под ним подкосились, и он упал бы вторично,
если б его не подхватили.
— Что с тобой, князь? — спросили в один голос
стряпчий и поручник, с удивлением глядя ему в очи, —
оправься, князь! У поля не стоять, все равно что побиту
быть!
— Сымите с меня бронь! — проговорил Вяземский,
задыхаясь. — Сымите бронь! Корень душит меня!
Он сбросил с себя ерихонку, разорвал ожерелье
кольчуги и сдернул с шей гайтан, на котором висела
шелковая ладанка с болотным голубцом.
— Анафема тебе, колдун! — вскричал он, бросая
гайтан далеко от себя. — Анафема, что обманул меня!
Дружина Андреевич подошел к Вяземскому с голым
тесаком.
— Сдавайся, пес! — сказал он, замахнувшись. —
Сознавайся в своем окаянстве!
Поручники и стряпчие бросились между князя и
Морозова.
— Нет! — сказал Вяземский, и отуманенный взор
его вспыхнул прежней злобою, — рано мне сдаваться!
Ты, старый ворон, испортил меня! Ты свой тесак в
святую воду окунул! Я поставлю за себя бойца, и тогда
увидим, чья будет правда!
Между стряпчими обеих сторон зачался спор. Один
утверждал, что суд окончен в пользу Морозова; дру-
гой — что суда вовсе не было, потому что не было боя.
Царь между тем заметил движение Вяземского и
велел подать себе брошенную им ладанку. Осмотрев ее
с любопытством и недоверчивостью, он подозвал Ма-
люту.
— Схорони это, — шепнул он, — пока не спрошу! А
теперь, — произнес он громко, — подвести ко мне
Вяземского.
675
22*
— Что, Афоня? — сказал он, усмехаясь двусмыслен-
но, когда подошел к нему Вяземский. — Видно, Морозов
тебе не под силу? <
— Государь, — ответил князь, которого лицо было
покрыто смертельною бледностью, — ворог мой испор-
тил меня! Да к тому ж, я с тех пор, как оправился, ни
разу брони не надевал. Раны мои открылись; видишь,
как кровь из-под кольчуги бежит! Дозволь, государь,
бирюч кликнуть, охотника вызвать, чтобы заместо меня
у поля стал!
Домогательство Вяземского было противно прави-
лам. Кто не хотел биться сам, должен был объявить о
том заранее. Вышедши раз на поединок, нельзя было
поставить вместо себя другого. Но царь имел в виду
погибель Морозова и согласился.
— Вели кричать бирюч, — сказал он, — авось кто
поудалее тебя найдется! А не выйдет никто, Морозов
будет чист, а тебя отдадут палачам!
Вяземского отвели под руки, и вскоре, по приказа-
нию его, глашатаи стали ходить вдоль цепи и кричать
громким голосом:
— Кто хочет из слободских, или московских, или
иных людей выйти на боярина Морозова? Кто хочет
биться за князя Вяземского? Выходите, бойцы, выходи-
те стоять за Вяземского!
Но площадь оставалась безмолвна, и ни Один охотник
не являлся.
— Выходите, охотники, добрые молодцы! — кричали
бирючи. — Выходите! Кто побьет Морозова, тому князь
все свои вотчины отдаст, а будет побьет простой чело-
век, тому князь пожалует всю казну, какая есть у него!
Никто не откликался; все знали, что дело Морозова
свято, и царь, несмотря на ненависть свою к Дружине
Андреевичу, уже готовился объявить его правым, как
вдруг послышались крики:
— Идет охотник! Идет! — И внутри оцепленного
места явился Матвей Хомяк.
— Гойда! — сказал он, свистнув саблею по возду-
ху. — Подходи, боярин, я за Вяземского!
676
При виде Хомяка Морозов, дожидавшийся доселе с
голым тесаком, обратился с негодованием к приставам
поединка.
— Не стану биться с наймитом! — произнес он
гордо. — Невместно боярину Морозову мерится со
стремянным Гришки Скуратова.
И, опустив тесак в ножны, он подошел к месту, где
сидел царь.
— Государь, — сказал он, — ты дозволил ворогу
моему поставить бойца вместо себя; дозволь же и мне
найти наймита против наймита, не то вели оставить поле
до другого раза.
Как ни желал Иван Васильевич погубить Морозова,
но просьба его была слишком справедлива. Царю не
захотелось в божьем суде прослыть пристрастным.
— Кричи, бирюч! — сказал он гневно, — а если не
найдешь охотника, бейся сам или сознайся в своей
кривде и ступай на плаху!
Между тем Хомяк прохаживался вдоль цепи, махая
саблей и посмеиваясь над зрителями.
— Вишь, — говорил он, — много вас, ворон, собра-
лось, а нет ни одного ясного сокола промеж вас. Что бы
хоть одному выйти, мою саблю обновить, государя
потешить! Молотимши, видно, руки отмахали! На печи
лежа, бока отлежали!
— Ах ты, черт, — проговорил вполголоса гусляр. —
Уж я б тебе дал, кабы была при мне моя сабля!
Смотри! — продолжал он, толкая под бок товарища, —
узнаешь ты его?
Но парень не слышал вопроса. Он разинул рот и,
казалось, впился глазами в Хомяка.
— Что ж, — продолжал Хомяк, — видно, нет между
вами охотников? Эй, вы, аршинники, калашники, пряхи,
ткачихи! Кто хочет со мной померяться?
— А я! — раздался неожиданно голос парня, и,
ухватясь обеими руками за цепь, он перекинул ее через
голову и чуть не вырвал дубовых кольев, к которым она
была приделана.
Он очутился внутри ограды и, казалось, сам был
677
удивлен своей смелостью. Выпучив глаза и разиня рот,
он смотрел то на Хомяка, то на опричников, то на самого
царя, но не говорил ни слова.
— Кто ты? — спросил его боярин, приставленный к
полю.
— Я-то? — сказал он и, подумав немного, усмех-
нулся.
— Кто ты? — повторил боярин.
— А Митька! — ответил он добродушно и как бы
удивляясь вопросу.
— Спасибо тебе, молодец! — сказал Морозов пар-
ню, — спасибо, что хочешь за правду постоять. Коли
одолеешь ворога моего, не пожалею для тебя казны. Не
все у меня добро разграблено; благодаря божьей мило-
сти есть еще чем бойца моего наградить!
Хомяк видел Митьку на Поганой Луже, где парень
убил под ним коня ударом дубины и, думая навалиться
на всадника, притиснул под собою своего же товарища.
Но в общей свалке Хомяк не разглядел его лица, да,
впрочем, в Митькиной наружности не было ничего
примечательного. Хомяк не узнал его.
— Чем хочешь ты драться? — спросил приставлен-
ный к полю боярин, глядя с любопытством на парня, у
которого не было ни брони, ни оружия.
— Чем драться? — повторил Митька и обернулся
назад, отыскивая глазами гусляра, чтобы с ним посове-
товаться.
Но гусляр, видно, отошел на другое место, и, сколько
ни глядел Митька, он не мог найти его.
— Что ж, — сказал боярин, — бери себе саблю да
бронь, становись к полю!
Митька стал озираться в замешательстве.
Царю показались приемы его забавными.
— Дать ему оружие! — сказал он. — Посмотрим, как
он умеет биться!
Митьке подали полное вооружение; но он, сколько
ни старался, никак не мог пролезть в рукава кольчуги,
а шлем был так мал для головы его, что держался на
одной макушке.
678
В этом наряде Митька, совершенно растерянный,
оборачивался то направо, то налево, все еще надеясь
найти гусляра и спросить его, что ему делать.
Глядя на него, царь начал громко смеяться. Примеру
его последовали сперва опричники, а потом и все зри-
тели.
— Чаво вы горла дярете-то? — сказал Митька с
неудовольствием, — я и без вашего колпака и без
железной рубахи-то на энтова пойду!
Он укцзал пальцем на Хомяка и начал стаскивать с
себя кольчугу.
Раздался новый хохот.
— С чем же ты пойдешь? — спросил боярин.
Митька почесал затылок.
— А нет у вас дубины? — спросил он протяжно,
обращаясь к опричникам.
— Да что это за дурень? — вскричали они, — откуда
он взялся? Кто его втолкнул сюда? Или ты, болван,
думаешь, мы по-мужицки дубинами бьемся?
Но Иван Васильевич забавлялся наружностью Мить-
ки и не позволил прогнать его.
— Дать ему ослоп, — сказал он, — пусть бьется как
знает!
Хомяк обиделся.
— Государь, не вели мужику на холопа твоего пору-
хи класть! — воскликнул он. — Я твоей царской милости
честно в опричниках служу и сроду еще на ослопах не
бился!
Но царь был в веселом расположении духа.
— Ты бейся саблей, — сказал он, — а парень пусть
бьется по-своему. Дать ему ослоп. Посмотрим, как
мужик за Морозова постоит!
Принесли несколько дубин. Митька взял медленно в
руки одну за другой, осмотрел каждую, и, перебрав все
дубины, повернулся прямо к царю.
— А нет ли покрепче? — произнес он вялым голосом,
глядя вопросительно в очи Ивану Васильевичу.
— Принести ему оглоблю, — сказал царь, заранее
потешаясь ожидающим его зрелищем.
679
Вскоре в самом деле явилась в руках Митьки тяже-
лая оглобля, которую опричники вывернули насмех из
стоявшего на базаре воза,
. — Что, эта годится? — спросил царь.
— А для ча! — отвечал Митька, — пожалуй, годит-
ся. — И, схватив оглоблю за один конец, он для пробы
махнул ею по воздуху так сильно, что ветер пронесся
кругом и пыль закружилась, как от налетевшего вихря.
— Вишь, черт! — промолвили, переглянувшись, оп-
ричники.
Царь обратился к Хомяку.
— Становись! — сказал он повелительно и прибавил
с усмешкой: — Погляжу я, как ты увернешься от
мужицкого ослопа!
Митька между тем засучил рукава, плюнул в обе
руки и, сжавши ими оглоблю, потряхивал ею, глядя на
Хомяка. Застенчивость его исчезла.
— Ну, ты! становись, што ли! — произнес он с
решимостью. — Я те научу нявест красть!
Положение Хомяка, ввиду непривычного оружия и
необыкновенной силы Митьки, было довольно затруд-
нительно, а зрители, очевидно, принимали сторону пар-
ня и уже начинали посмеиваться над Хомяком.
Замешательство стремянного веселило царя. Он уже
смотрел на предстоящий бой с тем самым любопытст-
вом, какое возбуждали в нем представления скоморо-
хов или медвежья травля.
— Зачинайте бой! — сказал он, видя, что Хомяк
колеблется.
Тогда Митька поднял над головою оглоблю и начал
кружить ее, подступая к Хомяку скоком.
Тщетно Хомяк старался улучить мгновение, чтобы
достать Митьку саблей. Ему оставалось только поспеш-
но сторониться или увертываться от оглобли, которая
описывала огромные круги около Митьки и делала его
недосягаемым.
К великой радости зрителей и к немалой потехе царя,
Хомяк стал отступать, думая только о своем спасении;
но Митька с медвежьей ловкостью продолжал к нему
подскакивать, и оглобля, как буря, гудела над головою.
680
— Ну, ты! становись, што ли! — произнес он
с решимостью.
— Я те научу нявест красть! — говорил он, входя
постепенно в ярость и стараясь задеть Хомяка по голо-
ве, по ногам и по чем ни попало.
Участие зрителей к Митьке проявлялось одобритель-
ными восклицаниями и наконец дошло до восторга.
— Так! Так! — кричал народ, забывая присутствие
царя. — Хорошенько его! Ай да парень! Отстаивай
Морозова, стой за правое дело!
Но Митька думал не о Морозове.
— Я те научу нявест красть! — приговаривал он,
кружа над собою оглоблю и преследуя Хомяка, который
увивался от него во все стороны.
Несколько раз опричникам, стоявшим вдоль цепи,
пришлость присесть к земле, чтоб избегнуть неминуе-
мой смерти, когда оглобля, завывая, проносилась над их
головами.
Вдруг раздался глухой удар, и Хомяк, пораженный в
бок, отлетел На несколько сажен и грянулся оземь,
раскинувши руки.
Площадь огласилась радостным криком.
Митька тотчас навалился на Хомяка и стал душить
его.
— Полно! Полно! — закричали опричники, а Малюта
поспешно нагнулся к Ивану Васильевичу и сказал ему
с озабоченным видом:
— Государь, вели оттащить этого дьявола! Хомяк у
нас лучший человек во всей опричнине.
— Тащить дурака за ноги! — закричал царь. —
Окатить его водой, только, чур, жива оставить!
С трудом удалось опричникам оттащить Митьку, но
Хомяка подняли уже мертвого, и, когда внимание всех
обратилось на посиневшее лицо его, рядом с Митькой
очутился владимирский гусляр и, дернув его за полу,
сказал ему шепотом:
— Иди, дурень, за мной! Уноси свою голову!
И оба исчезли в толпе народа.
682
Глава 32
ЛАДАНКА ВЯЗЕМСКОГО
Иван Васильевич велел подозвать Морозова,
Площадь снова затихла. Все в ожидании устремили
взоры на царя и притаили дыхание.
— Боярин Дружина! — сказал торжественно Иоанн,
вставая с своего места, — ты божьим судом очистился
предо мною. Господь бог, чрез одоление врага твоего,
показал твою правду, и я не оставлю тебя моею мило-
стью. Не уезжай из Слободы до моего приказа. Но
это, — продолжал мрачно Иоанн, — только половина
дела. Еще самый суд впереди. Привести сюда Вяземс-
кого.
Когда явился князь Афанасий Иванович, царь долго
глядел на него невыразимым взглядом.
— Афоня, — сказал он наконец, — тебе ведомо, что
я твердо держусь моего слова. Я положил, что тот из
вас, кто сам собой или чрез бойца своего не устоит у
поля, смерти предан будет. Боец твой не устоял, Афоня!
— Что ж, — ответил Вяземский с решимостью, вели
мне голову рубить, государь!
Странная улыбка прозмеилась по устам Иоанна.
— Только голову рубить? — произнес он злобно. —
Или ты думаешь, тебе только голову срубят? Так было
бы, пожалуй, когда б ты одному Морозову ответ де-
ржал, но на тебе еще другая кривда и другое окаянство.
Малюта, подай сюда его ладанку!
И, приняв из рук Малюты гайтан, брошенный Вязем-
ским, Иоанн поднял его за кончик.
— Это что? — спросил он, страшно глядя в очи
Вяземского.
Князь хотел отвечать, но царь не дал ему времени.
— Раб лукавый! — произнес он грозно, и по жилам
присутствующих пробежал холод. — Раб лукавый! Я
приблизил тебя к престолу моему; я возвеличил тебя и
осыпал милостями; а ты что учинил? Ты в смрадном
сердце своем, аки аспид, задумал погубить меня, царя
твоего, и чернокнижием хотел извести меня, и затем,
683
должно быть, ты в опричнину просился? Что есть оп-
ричнина? — продолжал Иоанн, озираясь кругом и воз-
вышая голос, дабы весь народ мог услышать его. — Я,
аки господин винограда, поставлен господом богом над
народом моим возделывати виноград мой. Бояре же мои,
и дума, и советники, не захотели помогать мне и замыс-
лили погубить меня; тогда взял я от них виноград мой и
отдал другим делателям. И се есть опричнина! Званные
мною на пир не пришли, и я послал на торжища и на
исходища пугей и повелел призывать елицех какие
обретутся. И се опять есть опричнина! Теперь спраши-
ваю всех: что заслужил себе гость, пришедший на пир,
но не облекшийся в одеяние брачное? Как сказано о
нем в писании? «Связавши ему руце и нозе, возьмите
его и вверзите во тьму кромешную: ту будет плач и
скрежет зубов!»
Так говорил Иоанн, и народ слушал безмолвно это
произвольное применение евангельской притчи, не со-
чувствуя Вяземскому, но глубоко потрясенный быстрым
падением сильного любимца.
Никто из опричников не смел или не хотел вымол-
вить слова в защиту Вяземского. На всех лицах изобра-
жался ужас. Один Малюта в зверских глазах своих не
выказывал ничего, кроме готовности приступить сейчас
же к исполнению царских велений, да еще лицо Басма-
нова выражало злобное торжество, хоть он и старался
скрыть его под личиной равнодушия.
Вяземский не почел нужным оправдываться. Он знал
Иоанна и решился перенесть терпеливо ожидавшие его
мучения. Вид его остался тверд и достоин.
— Отведите его! — сказал царь. — Я положу ему
казнь наравне с тем станичником, что забрался ко мне
в опочивальню и теперь ожидает мзды своей. А колду-
на, с которым спознался он, отыскать и привести в
Слободу. Пусть на пристрастном допросе даст еще
новые указания. Велика злоба князя мира сего, —
продолжал Иоанн, подняв очи к небу, — он, подобно
льву рыкающему, ходит вокруг, ищуще пожрати мя, и
даже в синклите моем находит усердных слуг себе. Но
684
я уповаю на милость божию и, с помощью господа, не
дам укорениться измене на Руси!
Иоанн сошел с помоста и, сев на коня, отправился
обратно ко дворцу, окруженный безмолвною толпою
опричников,
Малюта подошел к Вяземскому с веревкой в руках.
— Не взыщи, князь! — сказал он с усмешкой,
скручивая ему руки назад, — наше дело холопское!
И, окружив Вяземского стражей, он повел его в
тюрьму.
Народ стал расходиться, молча или толкуя шепотом
обо всем случившемся, и вскоре опустела еще недавно
многолюдная площадь.
Глава 33
ЛАДАНКА БАСМАНОВА
Вяземский был подвергнут допросу, но никакие му-
чения не заставили его выговорить ни одного слова. С
необыкновенною силою воли переносил он молча бес-
человечные истязания, которыми Малюта старался вы-
нудить у него сознание в замысле на государя. Из
гордости, из презрения или потому, что жизнь ему
опротивела, он даже не пытался ослабить клевету Бас-
манова, показав, что его самого встретил на мельнице.
По приказанию царя мельника схватили и тайно
привезли в Слободу, но к пытке его не приступали.
Басманов приписал успех своего доноса действию
тирлича, который он всегда носил на себе, и тем более
убедился в его чародейственной силе, что Иоанн не
показывал ни малейшего подозрения и что хотя по-
прежнему посмеивался над Басмановым, но был к нему
довольно ласков.
Погубив одного из своих соперников, видя рождаю-
щееся вновь расположение к себе Ивана Васильевича
и не зная, что мельник уже сидит в слободской тюрьме,
Басманов сделался еще высокомернее. Он, следуя дан-
ным ему наставлениям, смело глядел в очи царя, шутил
с ним свободно и дерзко отвечал на его насмешки.
685
Иван Васильевич все сносил терпеливо.
Однажды, в один из своих обычных объездов, он с
ближайшими любимцами, в том числе и с обоими Бас-
мановыми, отслушав в соседнем монастыре раннюю
обедню, зашел к настоятелю в келью и удостоил его
принять угощение.
Царь сидел на скамье под образами, любимцы, иск-
лючая Скуратова, которого не было в объезде, стояли
у стен, а игумен, низко кланяясь, ставил на стол медовые
соты, разное варенье, чаши с молоком и свежие яйца.
Царь был в добром расположении духа; он отведывал
от каждого блюда, милостиво шутил и вел душеспаси-
тельные речи. С Басмановым он был ласковее обыкно-
венного, и Басманов еще более убедился в неотразимой
силе тирлича.
В это время послышался за оградою конский топот.
— Федя, — сказал Иоанн, — посмотри, кто там
приехал?
Басманов не успел подойти к двери, как она отвори-
лась и у порога показался Малюта Скуратов.
Выражение его было таинственно, и в нем прогляды-
вала злобная радость.
— Войди, Лукьяныч! — приветливо сказал царь, —
с какою тебя вестью бог принес?
Малюта переступил через порог и, переглянувшись
с царем, стал креститься на образа.
— Откуда ты? — спросил Иоанн, как будто вовсе не
ожидал его.
Но Малюта, не спеша ответом, сперва отвесил ему
поклон, & потом подошел к игумену.
— Благослови, отче! — сказал он, нагибаясь, а между
тем покосился на Федора Басманова, которого вдруг
обдало недобрым предчувствием.
— Откуда ты? — повторил Иоанн, подмигнув неза-
метно Скуратову.
— Из тюрьмы, государь, колдуна пытал.
— Ну, что же? — спросил царь и бросил беглый
взгляд на Басманова. .
— Да все бормочет; трудно разобрать. Одно поняли
686
мы, когда стали ему вертлюги ломать: «Вяземский,
дескать, не один ко мне езживал; езживал и Федор
Алексеевич Басманов, и корень-де взял у меня, и носит
тот корень теперь на шее».
И Малюта опять покосился на Басманова.
Басманов изменился в лице. Вся наглость его исчезла.
— Государь, — сказал он, делая необыкновенное
усилие, чтобы казаться спокойным, — должно быть, он
за то облыгает меня, что выдал я его твоей царской
милости!
— А как стали мы, — продолжал Малюта, — прижи-
гать ему подошвы, так он и показал, что был-де тот
корень нужен Басманову, чтоб твое государское здо-
ровье испортить.
Иоанн пристально посмотрел на Басманова, который
зашатался под этим взглядом.
— Батюшка царь! — сказал он, — охота тебе слу-
шать, что мельник говорит! Кабы я знался с ним, стал
ли бы я на него показывать?
— А вот увидим. Расстегни-ка свой кафтан, посмот-
рим, что у тебя на шее?
— Да что же, кроме креста да образов, государь? —
произнес Басманов голосом, уже потерявшим всю свою
уверенность.
— Расстегни кафтан! — повторил Иван Васильевич.
Басманов судорожно отстегнул верхние пуговицы
своей одежды.
— Изволь, — сказал он, подавая Иоанну цепь с
образками.
Но царь, кроме цепи, успел заметить еще шелковый
гайтан на шее у Басманова.
— А это что? — спросил он, отстегивая сам яхонто-
вую запонку его ворота и вытаскивая из-за его рубахи
гайтан с ладанкой.
— Это, — проговорил Басманов, делая над собой
последнее, огчаянное усилие, — это, государь... мате-
ринское благословение.
— Посмотрим благословение! — Иоанн передал
ладанку Грязному. — На, распори ее, Васюк.
687
Грязной распорол ножом оболочку и, развернув
зашитый в нее кусок холстины, высыпал что-то на стол.
— Ну, что это? — спросил царь, и все с любопытст-
вом нагнулись к столу и увидели какие-то корешки,
перемешанные с лягушачьими костями.
Игумен перекрестился.
— Этим благословила тебя мать? — спросил насмеш-
ливо Иван Васильевич.
Басманов упал на колени.
— Прости, государь, холопа твоего! — вскричал он
в испуге. — Видя твою нелюбовь ко мне, надрывался я
сердцем и, чтоб войти к тебе в милость, выпросил у
мельника этого корня. Это тирлич, государь! Мельник
дал мне его, чтоб полюбил ты опять холопа твоего, а
замысла на тебя, видит бог, никакого не было!
— А жабьи кости?— спросил Иоанн, наслаждаясь
отчаянием Басманова, коего наглость ему давно наску-
чила.
— Про кости я ничего не ведал, государь, видит бог,
ничего не ведал!
Иван Васильевич обратился к Малюте.
— Ты говоришь, — сказал он, — что колдун показы-
вает на Федьку; Федька-де за тем к нему ездил, чтоб
испортить меня?
— Так, государь! — И Малюта скривил рот, радуясь
беде давнишнего врага своего.
— Ну, что ж, Федюша, — продолжал с усмешкою
царь, — надо тебя с колдуном оком к оку поставить. Ему
допрос уж чинили; отведай же и ты пытки, а то скажут:
царь одних земских пытает, а опричников своих бере-
жет.
Басманов повалился Иоанну в ноги.
— Солнышко мое красное! — вскричал он, хватаясь
за полы царского охабня, — светик мой, государь, не
губи меня, солнышко мое, месяц ты мой, соколик мой,
горностаек! Вспомни, как я служил тебе, как от воли
твоей ни в чем не отказывался!
Иоанн отвернулся.
Басманов в отчаянии бросился к своему отцу.
688
— Батюшка! — завопил он, — упроси государя,
чтобы даровал живот холопу своему. Пусть наденут на
меня уж не сарафан, а дурацкое платье! Я рад его
царской милости шутом служить!
Но Алексею Басманову были равно чужды и родст-
венное чувство и сострадание. Он боялся участием к
сыну навлечь опалу на самого себя.
— Прочь, — сказал он, отталкивая Федора, — прочь,
нечестивец! Кто к государю не мыслит, тот мне не сын!
Иди, куда шлет тебя его царская милость!
— Святой игумен, — зарыдал Басманов, тащась на
коленях от отца своего к игумену, — святой игумен,
умоли за меня государя!
Но игумен стоял сам не свой, потупя очи в землю, и
дрожал всем телом.
— Оставь отца игумена! — сказал холодно Иоанн. —
Коли будет в том нужда, он после по тебе панихиду
отслужит.
Басманов обвел крутом умоляющим взором, но везде
встретил враждебные или устрашенные лица.
Тогда в сердце его произошла перемена.
Он понял, что не может избежать пытки, которая
жестокостью равнялась смертной казни и обыкновенно
ею же оканчивалась; понял, что терять ему более нечего,
и с этим убеждением возвратилась к нему его реши-
мость.
Он встал, выпрямил стан и, заложив руку за кушак,
посмотрел с наглою усмешкой на Иоанна.
— Надежа-государь! — сказал он дерзко, тряхнув
головою, чтобы оправить свои растрепанные кудри, —
надежа-государь! Иду я по твоему указа на муку и
смерть. Дай же мне сказать тебе последнее спасибо за
все твои ласки! Не умышлял я на тебя ничего, а грехи-то
у меня с тобою одни! Как поведут казнить меня, я все
до одного расскажу перед народом! А ты, батька игу-
мен, слушай теперь мою исповедь!..
Опричники и сам Алексей Басманов не дали ему
продолжать. Они увлекли его из кельи на двор, и
Малюта, посадив его, связанного, на конь, тотчас повез
к Слободе.
689
— Ты зришь, отче, — сказал Иоанн игумну, —
коликими я окружен и явными и скрытыми врагами!
Моли бога за меня, недостойного, дабы даровал он
добрый конец моим начинаниям, благословил бы меня,
многогрешного, извести корень измены!
Царь встал и, перекрестившись на образа, подошел
к игумну под благословение.
Игумен и вся братия с трепетом проводили его за
ограду, где царские конюха дожидались с богато убран-
ными конями; и долго еще, после того как царь с своими
полчанами скрылся в облаке пыли и не стало более
слышно звука конских подков, монахи стояли, потупя
очи и не смея поднять головы.
Глава 34
ШУТОВСКОЙ КАФТАН
В это самое утро к Морозову, который, по воле царя,
остался в Слободе, явились два стольника с приглаше-
нием к царскому столу.
Когда Дружина Андреевич приехал во дворец, пала-
ты уже были полны опричников, столы накрыты, слуги
в богатых одеждах готовили закуску.
Боярин, осмотревшись, увидел, что, кроме него, нет
ни одного земского, и понял, что царь оказывает ему
особенную честь.
Вот зазвонили дворцовые колокола, затрубили тру-
бы, и Иван Васильевич с благосклонным, приветливым
лицом вошел в палату в сопровождении чудовского
архимандрита Левкия, Василия Грязного, Алексея Бас-
манова, Бориса Годунова и Малюты Скуратова.
Приняв и отдав поклоны, он сел за свой прибор, и
все за столом его разместились по чинам. Осталось одно
пустое место ниже Годунова.
— Садись, боярин Дружина! — сказал ласково царь,
указывая на пустое место.
Лицо Морозова побагровело.
— Государь, — ответил он, — как Морозов во всю
жизнь чинил, так и до смерти чинить будет. Стар я,
690
государь, перенимать новые обычаи. Наложи опять опа-
лу на меня, прогони от очей твоих, — а ниже Годунова
не сяду!
Все в изумлении переглянулись. Но царь, казалось,
ожидал этого ответа. Выражение лица его осталось
спокойно.
— Борис, — сказал он Годунову, — тому скоро два
года, я боярина Дружину за такой же ответ выдал тебе
головою. Но, видно, мне пора изменить мой обычай.
Должно быть, уж не мы земским, а земские нам будут
указывать! Должно быть, уж я и в домишке моем не
хозяин! Придется мне, убогому, забрать свою рухля-
дишку и бежать с людишками моими куда подале!
Прогонят они меня отсюда, калику перехожего, как от
Москвы прогнали!
— Государь, — сказал смиренно Годунов, желая
выручить Морозова, — не нам, а тебе о местах судить.
Старые люди крепко держатся старого обычая, и ты не
гневись на боярина, что помнит он разряды. Коли дозво-
лишь, государь, я сяду ниже Морозова; за твоим столом
все места хороши!
Он сделал движение, как бы готовясь встать, но
Иоанн удержал его взглядом.
— Боярин подлинно стар! — сказал он хладнокровно,
и умеренность его ввиду явного непокорства исполнила
всех ожиданием.
Все чувствовали, что готовится что-то необыкновен-
ное, но нельзя было угадать, как проявится царский
гнев, коего приближение выказывала лишь легкая судо-
рога на лице, напоминающая дрожание отдаленной зар-
ницы.
Все груди были стеснены, как перед наступающей
бурей.
— Да, — продолжал спокойно Иоанн, — боярин
подлинно стар, но разум его молод не по летам. Больно
он любит шутить. Я тоже люблю шутить, и в свободное
от дела и от молитвы время я не прочь от веселья. Но с
того дня, как умер шут мой Ногтев, некому потешать
меня. Дружине, я вижу, это ремесло по сердцу; я же
691
обещал не оставить его моею милостию, а потому
жалую его моим первым шутом. Подать сюда кафтан
Ногтева и надеть на боярина!
Судороги на лице царя заиграли чаще, но голос
остался по-прежнему спокоен.
Морозов стоял как пораженный громом. Багровое
лицо его побледнело, кровь отхлынула к сердцу, очи
засверкали, а брови сначала заходили, а потом сдвину-
лись так грозно, что даже вблизи Ивана Васильевича
выражение его показалось страшным. Он еще не верил
ушам своим; он сомневался, точно ли царь хочет обес-
честить всенародно его, Морозова, гордого боярина,
коего заслуги и древняя доблесть были давно всем
известны.
Он стоял молча, вперив в Иоанна неподвижный,
вопрошающий взор, как бы ожидая, что он одумается и
возьмет назад свое слово. Но Василий Грязной, по знаку
царя, встал из-за стола и подошел к Дружине Андрее-
вичу, держа в руках пестрый кафтан, полупарчовый,
полусермяжный со множеством заплат, бубенчиков и
колокольцев.
— Надевай, боярин! — сказал Грязной. — Великий
государь жалует тебя этим кафтаном с плеча выбылого
шуга своего Ногтева!
— Прочь! — воскликнул Морозов, отталкивая Гряз-
ного, — не смей, кромешник, касаться боярина Моро-
зова, которого предкам твои предки в псарях и в
холопях служили!
И, обращаясь к Иоанну, он произнес дрожащим от
негодования голосом:
— Государь, возьми назад свое слово! Вели меня
смерти предать! В голове моей ты волен, но в чести моей
не волен никто!
Иван Васильевич посмотрел на опричников.
— Правду я говорил, что Дружина любит шутить? Вы
слышали? Я не волен жаловать его кафтаном!
— Государь, — продолжал Морозов, — именем
господа бога молю тебя, возьми свое слово назад! Еще
не родился ты, когда уже покойный батюшка твой
692
жаловал меня, когда я, вместе с Хабаром Симским
разбил чуваш и черемис на Свияге, когда с князьями
Одоевским и Мстиславским прогнал от Оки крымского
царевича и татарский набег от Москвы отвратил! Много
ран получил я, много крови пролил на службе батюшки
твоего и на твоей, государь! Не берег я головы ни в
ратном деле, ни в думе боярской, спорил, в малолетство
твое, за тебя и за матушку твою с Шуйскими и с
Бельскими! Одною только честью дорожил я и никому,
в целую жизнь мою, не дал запятнать ее! Ты ли теперь
опозоришь мои седые волосы? Ты ли надругаешься над
слугою родителя твоего? Вели казнить меня, государь,
вели мне голову на плаху понести, и я с радостью пойду
на мученья, как прежде на битву хаживал!
Все молчали, потрясенные сильною речью Морозова;
но среди общей тишины раздался голос Иоанна.
— Довольно болтать! — сказал он грозно, переходя
от насмешливости к явному гневу. — Твои глупые речи,
старик, показали, что ты добрым будешь шутом. Наде-
вай дурацкое платье! Вы! — продолжал царь, повернув-
шиь к опричникам, — помогите ему; он привык, чтобы
ему прислуживали.
Если бы Морозов покорился или, упав к ногам царя,
стал бы униженно просить о пощаде, быть может, и
смягчился бы Иван Васильевич. Но вид Морозова был
слишком горд, голос слишком решителен; в самой
просьбе его слышалась непреклонность, и этого не мог
снести Иоанн. Он ощущал ко всем сильным нравам
неодолимую ненависть, и одна из причин, по коим он
еще недавно, не отдавая себе отчета, отвратил сердце
свое от Вяземского, была известная ему самостоятель-
ность князя.
В один миг опричники сорвали с Морозова верхнюю
одежду и напялили на него кафтан с колокольцами.
После последних слов Иоанна Морозов перестал
противиться. Он дал себя одеть и молча смотрел, как
опричники со смехом поправляли и обдергивали на нем
кафтан. Мысли его ушли в глубь сердца; он сосредото-
чился в самом себе.
693
— А шапку-то позабыли — сказал Грязной, надевая
на голову Морозова пестрый колпак, и, отступив назад,
он поклонился ему до полу.
— Дружина Андреич! — сказал он, — бьем тебе
челом на новой должности! Потешай нас, как покойный
Ногтев потешал!
Тогда Морозов поднял голову и обвел глазами собра-
ние.
— Добро! — сказал он громко и твердо, — принимаю
новую царскую милость. Боярину Морозову невместно
было сидеть за царским столом рядом с Годуновым; но
царскому шуту пристойно быть за царским столом с
Грязными и Басмановыми. Раздвиньтесь, страдники! Ме-
сто новому скомороху! Пропустите шута и слушайте
все, как он будет потешать Ивана Васильевича!
Морозов сделал повелительный знак, и опричники
невольно посторонились.
Гремя колокольцами, боярин подошел к столу и
опустился на скамью, напротив Иоанна, с такою вели-
чественною осанкой, как будто на нем вместо шутов-
ского кафтана была царская риза.
— Как же мне потешать тебя, государь? — спросил
он, положив локти на стол, глядя прямо в очи Ивану
Васильевичу. — Мудрен ты стал на потехи, нечем не
удивишь тебя! Каких шуток не перешучено на Руси, с
тех пор как ты государишь! Потешался ты, когда был
еще отроком и конем давил народ на улицах; потешался
ты, когда на охоте велел псарям князя Шуйского заре-
зать; потешался, когда выборные люди из Пскова при-
шли плакаться тебе на твоего наместника, а ты приказал
им горячею смолою бороды палить!
Опричники хотели вскочить со своих мест и бросить-
ся на Морозова; царь удержал их знаком.
— Но, — продолжал Морозов, — то все было
ребяческое веселье; оно скоро тебе надоело. Ты начал
знаменитых людей в монахи постригать, а жен и доче-
рей их себе на потеху позорить. И это тебе прискучило.
Стал ты выбирать тогда лучших слуг твоих и мукам
предавать. Тут дело пошло повеселее, только ненадолго.
694
Не все же ругаться над народом да над боярами. Давай
и над церковью Христовою поглумимся! Вот и набрал
ты всякой голи кабацкой, всякой скаредной сволочи,
нарядил ее в рясы монашеские и сам монахом нарядил-
ся, и стали вы днем людей резать, а ночью акафисты
петь. Сам ты, кровью обрызган, и пел, и звонил и чуть
ли обедню не служил. Эта потеха вышла из всех весе-
лейшая, такой, опричь тебя, никому не выдумать!
Что же сказать тебе, государь? Как еще распотешить
тебя? А разве вот что скажу: пока ты со своею оприч-
ниной в машкерах пляшешь, к заутрене звонишь да
кровью упиваешься, наступит на тебя с заката Жиги-
монт, запрут с полуночи немцы да чудь, а с полудня и с
востока подымется хан. Нахлынет орда на Москву, и не
будет воевод отстаивать святыни господней! Запылают
храмы божии с мощами святителей, настанут опять
Батыевы времена. И будешь ты, царь всея Руси, в ноги
кланяться хану и, стоя на коленях, стремя его целовать!
Морозов замолк.
Никто не прерывал его речи; всем она захватила
дыханье. Царь слушал, наклонясь вперед, бледный, с
пылающими очами, с пеною у рта. Судорожно сжимал
он ручки кресел и, казалось, боялся проронить единое
слово Морозова и каждое врезывал в памяти, чтобы за
каждое заплатить ему особою мукой.
Все опричники были бледны; никто не решался взгля-
нуть на царя. Годунов опустил глаза и не смел дышать,
чтобы не привлечь на себя внимание. Самому Малюте
было неловко.
Вдруг Грязной выхватил нож, подбежал к Иоанну и
сказал, указывая на Морозова: — Дозволь, государь,
ему глотку заткнуть!
— Не смей! — проговорил царь почти шепотом и
задыхаясь от волнения, — дай его милости до конца
договорить!
Морозов гордо повел очами.
— Еще шуток хочешь, государь? Изволь, я тебя
потешу. Оставался у тебя из верных слуг твоих еще
один, древнего боярского рода; его ты откладывал каз-
695
нить, потому ли, что страшился божьего гнева, или что
не придумал еще достойной казни ему. Жил он далеко
от тебя, под опалою, и мог бы ты забыть про него; но
ты, государь, никого не забываешь! Послал ты к нему
своего окаянного Вяземского сжечь его дом и жену
увезти. Когда ж он пришел к тебе просить суда на
Вяземского, ты заставил его биться себе на потеху, чая,
что Вяземский убьет старого слугу твоего. Но бог не
захотел его погибели, показал его правду.
Что же ты сделал тогда, государь? Тогда, — продол-
жал Морозов, и голос его задрожал, и колокольцы
затряслись на одежде, — тогда тебе показалось мало
бесчестия на слуге твоем, и ты порешил опозорить его
еще неслыханным, небывалым позором! Тогда, — вос-
кликнул Морозов, отталкивая стол и вставая с места, —
тогда ты, государь, боярина Морозова одел в шутовской
кафтан и велел ему, спасшему Тулу и Москву, забавлять
себя вместе со скаредными твоими кромешниками!
Грозен был вид старого воеводы среди безмолвных
опричников. Значение шутовской его одежды исчезло.
Из-под густых бровей сверкали молнии. Белая борода
величественно падала на грудь, приявшую некогда мно-
го вражьих ударов, не испещренную ныне яркими за-
платами; а в негодующем взоре было столько достоин-
ства, столько благородства, что в сравнении с ним Иван
Васильевич показался мелок.
— Государь, — продолжал, возвышая голос, Моро-
зов, — новый шут твой перед тобою. Слушай его
последнюю шутку! Пока ты жив, уста народа русского
запечатаны страхом; но минует твое зверское даренье,
и останется на земле лишь память дел твоих, и перейдет
твое имя от потомков к потомкам на вечное проклятие,
доколе не настанет Страшный суд господень! И тогда
все сотни и тысячи избиенных тобою, все сонмы мужей
и жен, младенцев и старцев, все, кого ты погубил и
измучил, все предстанут пред господом, вопия на тебя,
мучителя своего! И в оный страшный день предстану и
я перед вечным судьею, предстану в этой самой одежде
и потребую обратно моей чести, что ты отнял у меня на
696
Грозен был вид старого воеводы среди безмолвных
опричников.
земле! И не будет с тобою кромешников твоих загра-
дить уста вопиющих, и услышит их судия и будешь ты
ввергнут в пламень вечный, уготованный диаволу и
аггелам его!
Морозов замолчал и, бросив презрительный взор на
царских любимцев, повернулся спиною и медленно
удалился.
Никто не подумал остановить его. Важно прошел он
между рядами столов, и, только когда замер звон его
колокольцев, опричники очнулись от оцепенения; а Ма-
люта, встав из-за стола, сказал Ивану Васильевичу:
— Прикажешь сейчас порешить его, государь, или
пока в тюрьму посадить?
— В тюрьму! — произнес Иоанн, переводя дыха-
ние. — Беречь его! Кормить его! Не пытать, чтобы не
издох до времени: ты отвечаешь за него головой!
Вечером у царя было особенное совещание с Малю-
той.
Колычевы, давно уже сидевшие в тюрьме и пытае-
мые Малютой, частью сознались во взводимой на них
измене, частью были, по мнению Иоанна, достаточно
уличены друзьями или холопами, которые, не выдержав
пытки, на них показывали.
Много и других лиц было замешано в это дело.
Схваченные по приказанию царя и жестоко истязуе-
мые, кто в Москве, кто в Слободе, они, в свою очередь,
назвали много имен, и число пытаемых росло с каждым
днем и выросло наконец до трехсот человек.
Иван Васильевич, дорожа мнением иностранных де-
ржав, положил подождать отъезда бывших тогда в
Москве литовских послов и учинить осужденным в один
день общую казнь; а дабы действие ее было поразитель-
нее и устрашило бы мятежников на будущее время,
казни сей надлежало совершиться в Москве, в виду
всего народа.
В тот же самый день царь назначил казнить Вязем-
ского и Басманова. Мельник как чародей осужден был
к сожжению на костре, а Коршуну, дерзнувшему в
царскую опочивальню и которого берегли доселе на
698
торжественный случай, Иоанн готовил исключитель-
ные, еще небывалые муки. Той же участи он обрек и
Морозова.
О подробностях этой общей казни царь разговаривал
до поздней ночи, и петухи уже два раза пропели, когда
он отпустил Малюту и удалился в свою образную.
Глава 35
КАЗНЬ
По отъезде литовских послов, накануне дня, назна-
ченного для торжественной казни, московские люди с
ужасом увидели ее приготовления.
На большой торговой площади, внутри Китай-города,
было поставлено множество виселиц. Среди них стояло
несколько срубов с плахами. Немного подале висел на
перекладине между столбов огромный железный котел.
С другой стороны срубов торчал одинокий столб, с
приделанными к нему цепями, а вокруг столба работни-
ки наваливали костер. Разные неизвестные орудия вид-
нелись между виселицами и возбуждали в толпе бояз-
ливые догадки, от которых сердце заранее сжималось.
Мало-помалу все пришедшие торговать на базар
разошлись в испуге. Опустела не только площадь, но и
окрестные улицы. Жители заперлись в домах и шепотом
говорили о предстоящем событии. Слух о страшных
приготовлениях разнесся по всей Москве, и везде во-
царилась мертвая тишина. Лавки закрылись, никто не
показывался на улицах, и лишь время от времени про-
скакивали по ним гонцы, посылаемые с приказаниями
от Арбата, где Иоанн остановился в любимом своем
тереме. В Китай-городе не слышно было другого шума,
кроме стука плотничьих топоров да говора опричников,
распоряжавшихся работами.
Когда настала ночь, затихли и эти звуки, и месяц,
поднявшись из-за зубчатых стен Китай-города, осветил
безлюдную площадь, всю взъерошеную кольями и ви-
селицами. Ни одного огонька не светилось в окнах; все
699
ставни были закрыты; лишь кой-где тускло теплились
лампады перед наружными образами церквей. Но никто
не спал в эту ночь; все молились, ожидая света.
Наконец роковое утро настало, и в небе послыша-
лось усиленное карканье ворон и галок, которые, чуя
близкую кровь, слетались отовсюду в Китай-город, кру-
жились стаями над площадью и унизывали черными
рядами церковные кресты, князьки и гребни домов и
самые виселицы.
Тишину прервал отдаленный звон бубен и тулумба-
сов, который медленно приближался к площади. Пока-
залась толпа конных опричников, по пяти в ряд. Впереди
ехали бубенщики, чтобы разгонять народ и очищать
дорогу государю, но они напрасно трясли свои бубны и
били вощагами в тулумбусы: нигде не видно было живой
души.
За опричниками ехал сам царь Иван Васильевич,
верхом, в большом наряде, с колчаном у седла, с
золоченым луком за спиною. Венец его шишака был
украшен деисусом, то есть изображением на финифти
спасителя, а по сторонам богородицы, Иоанна Предтечи
и разных святых. Чепрак под ним блистал дорогими
каменьями, а на шее у вороного коня вместо науза
болталась собачья голова.
Рядом с царем был виден царевич Иоанн, а позади
ехала толпа ближайших царедворцев, по три в ряд. За
ними шло с лишком триста человек, осужденных на
смерть. Скованные цепями, изнуренные пыткой, они с
трудом передвигали ноги, повинуясь понуждающим их
опричникам.
Шествие заключал многочисленный отряд конницы.
Когда поезд въехал в Китай-город и все войско,
спешившись, разместилось у виселиц, Иоанн, не сходя
с коня, посмотрел кругом и с удивлением увидел, что
на площади не было ни одного зрителя.
— Сгонять народ! — сказал он опричникам. — Да
никто не убоится! Поведайте людям московским, что
царь казнит своих злодеев, безвинным же обещает
милость.
700
Вскоре площадь стала наполняться народом, ставни
отворились, и у окон показались бледные, боязливые
лица.
Между тем костер, разложенный под котлом, запы-
лал, и на срубы взошли палачи.
Иоанн велел вывести из числа осужденных некото-
рых, менее виновных.
— Человеки! — сказал он громко и внятно, дабы все
на площади могли его слышать, — вы дружбою вашею
и хлебом-солью с изменщиками моими заслужили себе
равную с ними казнь; но я, в умилении сердца, скорбя
о погублении душ ваших, милую вас и дарую вам живот,
дабы вы покаянием искупили вины ваши и молились за
меня, недостойного!
По знаку царя прощенных отвели в сторону.
— Люди московские! — сказал тогда Иоанн, — вы
узрите ныне казнь и мучения; но караю злодеев, кото-
рые хотели предать врагам государство! Плачуще, пре-
даю телеса их терзанию, яко аз есмь судия, поставлен-
ный господом судити народы мои! И несть лицеприятия
в суде моем, яко, подобно Аврааму, подъявшему нож
на сына, я самых ближних моих на жертву приношу! Да
падет же кровь сия на главу врагов моих!
Тогда из среды оставшихся осужденных вывели
прежде всех боярина Дружину Андреевича Морозова.
Иоанн, в первом порыве раздражения, обрек было
его на самые страшные муки; но, по непонятной измен-
чивости нрава, а может быть, и вследствие общей любви
московитян к боярину, он, накануне казни, отменил
свои распоряжения и осудил его на менее жестокую
смерть.
Думный дьяк государев, стоя у сруба, развернул
длинный свиток и прочел громогласно:
— Бывший боярин Дружина! Ты хвалился замутить
государство, призвать крымского хана и литовского
короля Жигимонта и многие другие беды и тесноты на
Руси учинить. Ты же дерзнул злыми, кусательными
словами поносить самого государя, царя и великого
князя всея Руси, и добрых слуг его на непокорство
701
подымать. Заслужил ты себе истязания паче смерти; но
великий государь, помня прежние доблести твои, от
жалости сердца, повелел тебя, особно от других и минуя
прочие муки, скорою смертью казнить, голову тебе
отсечь, остатков же твоих на его государский обиход
не отписывать!
Морозов, уже взошедший на сруб, перекрестился.
— Ведаю себя чистым пред богом и пред госуда-
рем, — ответствовал он спокойно, — предаю душу мою
господу Иисусу Христу, у государя же прошу единой
милости: что останется после меня добра моего, то все
пусть разделится на три части: первую часть на церкви
божии и на помин души моей; другую нищей братии; а
третью верным слугам и холопям моим; а кабальных
людей и рабов отпускаю вечно на волю! Вдове же моей
прощаю, и вольно ей выйти за кого похочет!
С сими словами Морозов еще раз перекрестился и
опустил голову на плаху.
Раздался глухой удар, голова Дружины Андреевича
покатилась, и благородная кровь его обагрила доски
помоста.
За ним опричники, к удивлению народа, вывели
оружничего государева, князя Вяземского, кравчего
Федора Басманова и отца его Алексея, на которого
Федор показал при пытке.
— Люди московские! — сказал Иоанн, указывая на
осужденных, — се зрите моих и ваших злодеев! Они,
забыв крестное свое целование, теснили вас от имени
моего и, не страшася суда божия, грабили животы ваши
и губили народ, который я же их поставил боронити. И
се ныне приимут, по делам своим, достойную мзду!
Вяземский и оба Басманова, как обманувшие цар-
ское доверие, были осуждены на жестокие муки.
Дьяк прочел им обвинение в намерении извести царя
чарами, в преступных сношениях с врагами государства
и в притеснении народа именем Иоанновым.
Когда палачи, схватив Федора Басманова, взвели его
на помост, он обернулся к толпе зрителей и закричал
громким голосом:
702
— Народ православный! хочу перед смертью пока-
яться в грехах моих! Хочу, чтобы все люди ведали мою
исповедь! Слушайте, православные...
Но Малюта, стоявший сзади, не дал ему продолжать.
Он ловким ударом сабли снес ему голову в тот самый
миг, как он готовился начать свою исповедь.
Окровавленный труп его упал на помост, а отлетев-
шая голова подкатилась, звеня серьгами, под ноги цар-
скому коню, который откачнулся, фыркая и косясь на
нее испуганным оком. Басманов последнею наглостью
избавился от ожидавших его мучений.
Отец его Алексей и Вяземский не были столько
счастливы. Их, вместе с разбойником Коршуном, взвели
на сруб, где ожидали их страшные снаряды. В то же
время старого мельника потащили на костер и прикова-
ли к столбу.
Вяземский, измученный пыткой, не имея силы стоять
на ногах, поддерживаемый под руки палачами, бросал
дикие взгляды по сторонам. В глазах его не было
заметно ни страха, ни раскаяния. Увидев прикованного
к столбу мельника и вокруг него уже вьющиеся струи
дыма, князь вспомнил его последние слова, когда ста-
рик, заговорив его саблю, смотрел на бадью с водою;
вспомнил также князь и свое видение на мельнице,
когда он в лунную ночь, глядя под шумящее колесо,
старался увидеть свою будущность, но увидел только,
как вода почервонела, подобно крови, и заходили в ней
зубчатые пилы и стали отмыкаться и замыкаться желез-
ные клещи...
Мельник не заметил Вяземского. Углубленный в
самого себя, он бормотал себе под нос и с видом
помешательства приплясывал на костре, гремя цепями.
— Шикалу! Ликалу! — говорил он, — слетелися
вороны на богатый пир! Повернулося колесо, поверну-
лося! Что было высоко, то стало низко! Шагадам! Поды-
мися, ветер, от мельницы, налети на ворогов моих!
Кулла! Кулла! Разметай костер, загаси огонь!
И в самом деле, как будто повинуясь заклинаниям,
ветер поднялся на площади, но, вместо того, чтобы
703
загасить костер, он раздул подложенные под него хво-
рост, и пламя, вырвавшись сквозь сухие дрова, охватило
мельника и скрыло его от зрителей.
— Шагадам! Кудла! Кудла! — послышалось еще за
облаком дыма, и голос замер в треске пылающего
костра.
Наружность Коршуна почти вовсе не изменилась ни
от пытки, ни от долгого томления в темнице. Сильная
природа его устояла против приготовительного допроса,
но в выражении произошла перемена. Оно сделалось
мягче; глаза глядели спокойнее.
С той самой ночи, как он был схвачен в царской
опочивальне и брошен в тюрьму, угрызения совести
перестали терзать его. Он тогда же принял ожидающую
его казнь как искупление совершенных им некогда
злодейств, и, лежа на гнилой соломе, он в первый раз,
после долгого времени, заснул спокойно.
Дьяк прочел перед народом вину Коршуна и ожида-
ющую его казнь.
Коршун, зашедши на помост, перекрестился на цер-
ковные главы и положил один за другим четыре земных
поклона народу, на четыре стороны площади.
— Прости, народ православный! — сказал он. —
Прости меня в грехах моих, в разбое, и в воровстве, и
в смертном убийстве! Прости во всем, что я согрешил
перед тобою. Заслужил я себе смертную муку, отпусти
мне вины мои, народ православный!
И, повернувшись к палачам, он сам продел руки в
приготовленные для них петли.
— Привязывайте, что ли! — сказал он, тряхнув
седою кудрявою головой, и не прибавил боле ни слова.
Тогда, по знаку Иоанна, дьяк обратился к прочим
осужденным и прочел им обвинение в заговоре против
государя, в намерении отдать Новгород и Псков литов-
скому королю и в преступных сношениях с турским
султаном.
Их приготовились повести — кого к виселицам, кого
к котлу, кого к другим орудиям казни.
Народ стал громко молиться.
704
— Господи, господи! — раздавалось на площади, —
помилуй их, господи! Прими скорее их души!
— Молитесь за нас, праведные! — кричали некото-
рые из толпы. — Помяните нас, когда приидете во
царство божие!
Опричники, чтобы заглушить эти слова, начали гро-
могласно взывать:
— Гойда! Гойда! Да погибнут враги государевы!
Но в эту минуту толпа заколебалась, и все головы
обратились в одну сторону, и послышались восклицания:
— Блаженный идет! Смотрите, смотрите! Блажен-
ный идет!
В конце площади показался человек лет сорока, с
реденькою бородой, бледный, босой, в одной полотня-
ной рубахе. Лицо его было необыкновенно кротко, а на
устах играла странная, детская добродушная улыбка.
Вид этого человека посреди стольких лиц, являвших
ужас, страх или зверство, резко от них отделялся и
сильно на всех подействовал. Площадь затихла, казни
приостановились.
Все знали блаженного, но никто еще не видывал на
лице его такого выражения, как сегодня. Против обык-
новения, судорога подергивала эти улыбающиеся уста,
как будто с кротостию боролось другое, непривычное
чувство.
Нагнувшись вперед, гремя веригами и железными
крестами, которыми он весь был обвешан, блаженный
пробирался сквозь раздвигающуюся толпу и шел прямо
на Иоанна.
— Ивашко! Ивашко! — кричал он издали, перебирая
свои деревянные четки и продолжая улыбаться, —
Ивашко! Меня-то забыл!
Увидев его, Иоанн хотел повернуть коня и отъехать
в сторону, но юродивый стоял уже возле него.
— Посмотри на блаженного! — сказал он, хватаясь
за узду царского коня. — Что ж не велишь казнить и
блаженного? Чем Вася хуже других?
— Бог с тобой! — сказал царь, доставая горсть
золотых из узорного мешка, висевшего на золотой
705
23-769
цепочке у его пояса, — на, Вася, ступай, помолись за
меня!
Блаженный подставил обе руки, но тотчас же отдер-
нул их, и деньги посыпались на землю.
— Ай, ай! Жжется! — закричал он, дуя на пальцы и
потряхивая ими в воздухе, — зачем ты деньги в огне
раскалил? Зачем в адовом огне раскалил?
— Ступай, Вася! — повторил нетерпеливо Иоанн, —
оставь нас, тебе здесь не место!
— Нет, нет! Мое место здесь, с мучениками! Дай и
мне мученический венчик! За что меня обходишь? За
что обижаешь? Дай и мне такой венчик, какие другим
раздаешь!
— Ступай, ступай! — сказал Иоанн с зарождающим-
ся гневом.
— Не уйду! — произнес упорно юродивый, уцепясь
за конскую сбрую, но вдруг засмеялся и стал пальцем
показывать на Иоанна. — Смотрите, смотрите! — заго-
ворил он, — что это у него на лбу? Что это у тебя,
Ивашко? У тебя рога на лбу! У тебя козлиные рога
выросли! И голова-то вся твоя стала песья!
Глаза Иоанна вспыхнули.
— Прочь, сумасшедший! — закричал он и, выхватив
копье из рук ближайшего опричника, он замахнулся им
на юродивого.
Крик негодования раздался в народе.
— Не тронь его! — послышалось в толпе. — Не тронь
блаженного! В наших головах ты волен, а блаженного
не тронь!
Но юродивый продолжал улыбаться полудетски,
полубезумно.
— Пробори меня, царь Саул! — говорил он, отбирая
в сторону висевшие на груди его кресты. — Пробори
сюда, в самое сердце! Чем я хуже праведных? Пошли
и меня в царство небесное! Аль завидно тебе, что не
будешь с нами, царь Саул, царь Ирод, царь кромешный?
Копье задрожало в руке Иоанна. Еще единый миг —
оно вонзилось бы в грудь юродивого, но новый крик
народа удержал его в воздухе. Царь сделал усилие над
706
собой и переломил свою волю, но буря должна была
разразиться.
С пеной у рта, с сверкающими очами, с подъятым
копьем, он стиснул коня ногами, налетел вскачь на
толпу осужденных, так что искры брызнули из-под
конских подков, и пронзил первого попавшегося ему
под руку.
Когда он вернулся шагом на свое место, опустив
окровавленный конец копья, опричники уже успели
оттереть блаженного.
Иоанн махнул рукой, и палачи приступили к работе.
На бледном лице Иоанна показался румянец; очи его
сделались больше, на лбу надулись синие жилы, и
ноздри расширились..............................
Когда наконец, сытый душегубством, он повернул
коня и, объехав вокруг площади, удалился, сам обрыз-
ганный кровью и окруженный окровавленным полком
своим, вороны, сидевшие на церковных крестах и на
гребнях кровель, взмахнули одна за другой крыльями и
начали спускаться на груды истерзанных членов и на
трупы, висящие на виселицах..
Бориса Годунова в этот день не было между приехав-
шими с Иоанном. Он еще накануне вызвался провожать
из Москвы литовских послов.
На другой день после казни площадь была очищена,
и мертвые тела свезены и свалены в кремлевский ров.
Там граждане московские, впоследствии, соорудили
несколько деревянных церквей, на костях и на крови,
как выражаются древние летописи.
Прошли многие годы; впечатление страшной казни
изгладилось из памяти народной, но долго еще стояли
вдоль кремлевского рва те скромные церкви, и прихо-
дившие в них молиться могли слышать панихиды за
упокой измученных и избиенных по указу царя и вели-
кого князя Иоанна Васильевича Четвертого.
707
23*
Глава 36
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЛОБОДУ
Поразив ужасом Москву, царь захотел явиться ми-
лостивым и великодушным. По приказанию его темницы
были отперты, и заключенные, уже не чаявшие себе
прощения, все освобождены. Некоторым Иоанн послал
подарки. Казалось, давно кипевшая в нем и долго раз-
горавшаяся злоба разразилась последнею казнью и
вылетела из души его, как пламенный сноп из горы
огнедышащей. Рассудок его успокоился, он перестал
везде отыскивать измену.
Не всякий раз, после безвинной крови, Иоанн преда-
вался угрызениям совести. Они зависели также от дру-
гих обстоятельств. Небесные знамения, внезапно уда-
ривший гром, проявление народных бедствий устрашали
его чуткое воображение и подвигали его иногда на
всенародное покаяние; но, когда не случалось ни зна-
мений, ни голода, ни пожаров, внутренний голос его
молчал, и совесть дремала. Так и в настоящее время
состояние души Иоанна было безмятежно. Он чувство-
вал после совершенных убийств какое-то удовлетворе-
ние и спокойствие, как голодный, насытившийся пищей.
Более из привычки и принятого правила, чем от потреб-
ности сердца, он, возвращаясь в Слободу, остановился
на несколько дней молиться в Троицкой лавре.
Во всю дорогу пристава, ехавшие перед ним, бросали
горстями серебряные деньги нищим, а уезжая из Лавры,
он оставил архимандриту богатый вклад на молебны за
свое здравие.
В Слободе между тем готовилось никем не ожидан-
ное событие.
Годунов, посланный вперед приготовить государю
торжественный прием, исполнив свое поручение, сидел
у себя в брусяной избе, облокотясь на дубовый стол,
подперши рукою голову. Он размышлял о случившемся
в эти последние дни, о казни, от которой удалось ему
уклониться, о загадочном нраве грозного царя и о
способах сохранить его милость, не участвуя в делах
708
опричнины, как вошедший слуга доложил, что у крыльца
дожидается князь Никита Романович Серебряный.
Годунов при этом имени в удивлении встал со скамьи.
Серебряный был опальник государев, осужденный
на смерть. Он ушел из тюрьмы, и всякое сношение с
ним могло стоить головы Борису Федоровичу. Но отка-
зать князю в гостеприимстве или выдать его царю было
бы делом недостойным, на которое Годунов не мог
решиться, не потеряв народного доверия, коим он более
всего дорожил. В то же время он вспомнил, что царь
находится теперь в милостивом расположении духа, и
в один миг сообразил, как действовать в этом случае.
Не выходя на крыльцо встречать Серебряного, он
велел немедленно ввести его в избу. Посторонних сви-
детелей не было, и, положив раз принять князя, Годунов
не захотел показать ему неполное радушие.
— Здравствуй, князь, — сказал он, обнимая Никиту
Романовича, — милости просим, садись; как же ты
решился вернуться в Слободу, Никита Романыч? Но дай
сперва угостить тебя, ты, я чаю, с дороги устал.
По приказанию Годунова поставили на стол закуску
и несколько кубков вина.
— Скажи, князь, — спросил Годунов заботливо, —
видели тебя, как ты взошел на крыльцо?
— Не знаю, — отвечал простодушно Серебряный, —
может быть, и видели; я не хоронился, прямо к твоему
терему подъехал. Мне ведомо, что ты не тянешь к
опричнине.
Годунов поморщился.
— Борис Федорыч, — прибавил Серебряный довер-
чиво, — я ведь не один; со мной пришло сотни две
станичников из-под Рязани.
— Что ты, князь? — воскликнул Годунов.
— Они, — продолжал Серебряный, — за заставой
остались. Мы вместе несем наши головы государю;
пусть казнит нас или милует, как ему угодно!
— Слышал я, князь, слышал, как ты с ними татар
разбил; но ведомо ли тебе, что с тех пор на Москве
было?
709
— Ведомо, — отвечал Серебряный и нахмурился. —
Я шел сюда и думал, что опричнине конец, а у вас дела
хуже прежнего. Да простит бог государю! А тебе грех,
Борис Федорыч, что ты только молчишь да глядишь на
все это!
— Эх, Никита Романыч, ты, я вижу, все тот же
остался! Что ж бы я сказал царю? Послушался бы он
меня, что ли?
— А хотя бы и не послушался, — возразил упрямо
Серебряный, — все ж тебе говорить следует. От кого
ж ему правду знать, коли не от тебя?
— А ты думаешь, он правды не знает? Ты думаешь,
он и в самом деле всем тем изветам верит, по которым
столько людей казнено?
И, сказав это, Годунов закусил было язык, но вспом-
нил, что говорит с Серебряным, которого открытое лицо
исключало всякое подозрение в предательстве.
— Нет, — продолжал он вполголоса, — напрасно ты
вийишь меня, князь. Царь казнит тех, на кого злобу
держит, а в сердце его не волен никто. Сердце царево
в руце божией, говорит писание. Вот Морозов попытал-
ся было прямить ему; что ж вышло? Морозова казнили,
а другим не стало от того легче. Но ты, Никита Романыч,
видно, сам не дорожишь головою, что, ведая москов-
скую казнь, не убоялся прийти в Слободу?
При имени Морозова Серебряный вздохнул. Он
любил Дружину Андреича, хотя боярин и похитил его
счастье.
— Что ж, Борис Федорыч, — ответил он Годунову, —
чему быть, того не миновать! Да правду сказать, и
жить-то мне надоело; не красно теперь житье на Руси!
— Послушай, князь, ты сам себя не бережешь; такой,
видно, уж нрав у тебя; но бог тебя бережет. Как ты до
сих пор ни лез в петлю, а все цел оставался. Должно
быть, не написано тебе пропасть ни за что ни про что.
Кабы ты с неделю тому вернулся, не знаю, что бы с
тобой было, а теперь, пожалуй, есть тебе надежда;
только не спеши на глаза Ивану Васильевичу; дай мне
сперва увидеть его.
710
— Спасибо тебе, Борис Федорыч; да ты обо мне-то
больно не хлопочи; а вот станичников, коли можно,
вызволи из беды. Они хоть и худые люди, а вины свои
хорошо заслужили!
Годунов взглянул с удивлением на Никиту Романо-
вича. Он не мог привыкнуть к простоте князя, и равно-
душие его к собственной жизни показалось Годунову
неестественным.
— Что ж ты, князь, — спросил он, — с горя, что ли,
жить не хочешь?
— Пожалуй, что и с горя. К чему еще жить теперь?
Веришь ли, Борис Федорыч, иной раз поневоле Курб-
ский на ум приходит; подумаю про него, и самому
страшно станет: так, кажется, и бросил бы родину и
ушел бы к ляхам, кабы не были они враги наши.
— Вот то-то, князь! В теперешнее время нам только
и есть что две дороги: или делать, как Курбский, —
бежать навсегда из родины, или так, как я, — оставаться
около царя и искать его милости. А ты ни то, ни другое;
от царя не уходишь, а с царем не мыслишь; этак нельзя,
князь; надо одно из двух. Уж коли хочешь оставаться
на Руси, так исполняй волю цареву. А если полюбит он
тебя, так, пожалуй, и сам от опричнины отвратится. Вот,
примерно, кабы нас было двое около него, один бы
другого поддерживал; сегодня я заронил словечко, за-
втра ты; что-нибудь и осталось бы у него в памяти; ведь
и капля, говорят, когда все на одно место капает, так
камень насквозь долбит. А нахрапом, князь, ничего не
возьмешь!
— Кабы не был он царь, — сказал мрачно Серебря-
ный, — я знал бы, что мне делать; а теперь ничего в толк
не возьму; на него идти бог не велит, а с ним мыслить
мне невмочь; хоть он меня на клочья разорви, с оприч-
ниной хлеба-соли не поведу!
— Погоди, князь, не отчаивайся. Вспомни, что я тебе
тогда говорил? Оставим опричников; не будем перечить
царю; они сами перегубят друг друга! Вот уж троих
главных не стало: ни обоих Басмановых, ни Вяземского.
Дай срок, князь, и вся опричнина до смерти перегры-
зется!
711
— А до того что будет? — сказал Серебряный.
— А до того, — ответил Годунов, не желая сразу
настаивать на мысли, которую хотел заронить в Сереб-
ряном, — до того, коли царь тебя помилует, ты можешь
снова на татар идти; за этим дело не станет!
В мыслях Серебряного нелегко укладывалось два
впечатления разом, и надежда идти на татар вытеснила
на время овладевшее им уныние.
— Да, — сказал он, — только нам одно осталось, что
татар колотить! Кабы не ждать их в гости, а ударить бы
на Крым всеми полками разом, да вместе с казаками,
так, пожалуй, что и Крым взяли бы!
Он даже усмехнулся от удовольствия при этой
мысли.
Годунов вступил с ним в разговор о его насильствен-
ном освобождении и о рязанском побоище. Уже начи-
нало темнеть, а они — еще сидели, беседуя за кубками.
Наконец Серебряный встал.
— Прости, боярин, — сказал он, — уже скоро ночь
на дворе!
— Куда ты, Никита Романыч? Останься у меня,
переночуй; завтра приедет царь, я доложу о тебе.
— Нельзя, Борис Федорыч, пора мне к своим! Боюсь,
чтоб они с кем не повздорили. Кабы царь был в Слободе,
мы прямо б к нему с повинной пришли, и пусть бы
случилось, что богу угодно; а с здешними душегубцами
не убережешься. Хоть мы и в сторонке, под самым
лесом, остановились, а все же может какой-нибудь
объезд наехать!
— Ну, прости, Никита Романыч! Смотри ж, ты не
суйся царю на глаза, погоди, чтоб я прислал за тобой.
— Да постой, не туда идешь, князь, — прибавил
Годунов, видя, что Серебряный направляется к красным
сеням; и, взяв его за руку, он проводил его на заднее
крыльцо.
— Прости, Никита Романыч, — повторил он, обнимая
Серебряного, — бог не без милости, авось и уладится
твое дело!
И, подождав, чтобы князь сел на коня и выехал
712
заднею околицею, Годунов вернулся в избу, весьма
довольный, что Серебряный не принял предложения
переночевать у него в доме.
На другое утро царь с торжеством въехал в Слободу,
как после одержанной победы. Опричники провожали
его с криками «Гойда! Гойда!» от заставы до самого
дворца.
Одна старая мамка Онуфревна приняла его с бранью.
— Зверь ты этакий! — сказала она, встречая его на
крыльце, — как тебя еще земля держит, зверя плотояд-
ного? Кровью от тебя пахнет, душегубец! Как смел ты
к святому угоднику Сергию явиться после твоего мос-
ковского дела? Гром господень убьет тебя, окаянного,
вместе с дьявольским полком твоим!
Но в этот раз увещания мамки не произвели никакого
действия. На дворе не было ни грома, ни бури. Солнце
великолепно сияло в безоблачном небе, и ярко играли
краски и позолота на пестрых теремках и затейливых
главах дворца. Иоанн не ответит ни слова и прошел мимо
старухи во внутренние свои покои.
— Погоди, погоди! — продолжала она, глядя ему
вослед и стуча о пол клюкою, — разразится гром божий
над теремом твоим, выжжет он всю твою нечестивую
Слободу!
И старуха удалилась в свою светлицу, медленно
передвигая ноги и бросая сердитые взгляды на царе-
дворцев, которые сторонились от нее с суеверным
страхом.
В этот день, после обеда, Годунов, видя, что царь
весел и доволен и, против обыкновения, готовится
отдохнуть, последовал за ним в опочивальню. Располо-
жение к нему Ивана Васильевича давало это право
Годунову, особенно когда ему было о чем доложить, что
не всякому следовало слышать.
В царской опочивальне стояли две кровати: одна, из
голых досок, на которой Иван Васильевич ложился для
наказания плоти, в минуты душевных тревог и сердеч-
ного раскаяния; другая, более широкая, была покрыта
мягкими овчинами, пуховиком и шелковыми подушками.
713
На этой царь отдыхал, когда ничто не тревожило его
мыслей. Правда, это случалось редко, и последняя
кровать большею частью оставалась нетронутою.
Надобно было хорошо знать Ивана Васильевича,
чтобы не ошибиться в действительном расположении
его духа. Не всегда во время мучений совести он был
склонен на милосердие. Он часто приписывал угрызения
свои наваждению сатаны, старающегося отвлечь его от
преследования измены, и тогда, вместо того чтобы смяг-
чить свое сердце, он, назло дьяволу, творя молитвы и
крестные знамения, предавался еще большей жестоко-
сти. Не всегда также спокойствие, написанное на лице
его, могло достоверно ручаться за внутреннюю безмя-
тежность. Оно часто бывало одною личиной, и царь,
одаренный редкою проницательностью и способностью
угадывать чужие мысли, любил иногда обманывать рас-
четы того, с кем разговаривал, и поражать его неожи-
данным проявлением гнева в то самое время, когда он
надеялся на милость.
Но Годунов успел изучить малейшие оттенки царско-
го нрава и с необыкновенным чутьем отгадывал и объ-
яснял себе неуловимые для других изменения лица его.
Подождав, чтобы Иоанн лег на пуховую постель, и
не видя в чертах его ничего, кроме усталости, Борис
Федорович сказал безо всяких приготовлений:
— Ведомо ли тебе, государь, что опальник твой
сыскался?
— Какой? — спросил Иоанн зевая.
— Никита Серебряный, тот самый, что Вяземского,
изменника твоего, саблей посек и в тюрьму был поса-
жен.
— А! — сказал Иоанн, — поймали воробья! Кто же
взял его?
— Никто, государь. Сам пришел и всех станичников
привел, которые с ним под Рязанью татар разбили. Они
вместе с Серебряным принесли твоей царской милости
повинные головы.
— Опомнились! — сказал Иоанн. — Что ж, видел ты
его?
714
— Видел, государь; он прямо ко мне приехал; думал,
твоя милость в Слободе, и просил, чтоб я о нем сказал
тебе. Я хотел было захватить его под стражу, да поду-
мал, неравно Григорий Лукьяныч скажет, что я подыски-
ваюсь под него; а Серебряный не уйдет, коли он сам
тебе свою голову принес.
Годунов говорил прямо, с открытым лицом, безо
всякого замешательства, как будто в нем не было ни
тени хитрости, ни малейшего участия к Серебряному.
Когда он накануне проводил его задним крыльцом, он
поступил так не с тем, чтобы скрыть от царя его
посещение (это было бы слишком опасно), но чтобы кто
из слободских не предупредил Иоанна и, как первый
известитель, не настроил бы его против самого Годуно-
ва. Намек же на Вяземского, выставляющий Серебря-
ного врагом казненного князя, был обдуман и приготов-
лен Борисом Федоровичем заране.
Царь зевнул еще раз, но не отвечал ничего, и Году-
нов, улавливая каждую черту лица его, не прочел на нем
никакого признака ни явного, ни скрытого гнева. Напро-
тив, он заметил, что царю понравилось намерение Се-
ребряного предаться на его волю.
Иоанн, проливая кровь и заставляя всех трепетать,
хотел вместе с тем, чтоб его считали справедливым и
даже милосердным; душегубства его были всегда обле-
чены в наружность строгого правосудия, и доверие к
его великодушию тем более льстило ему, что такое
доверие редко проявлялось.
Подождав немного, Годунов решился вызвать Ивана
Васильевича на ответ.
— Как прикажешь, государь, — спросил он, —
позвать к тебе Григория Лукьяныча?
Но последние казни уже достаточно насытили Иоан-
на; несколько лишних голов не могли ничего прибавить
к его удовлетворению, ни возбудить в нем уснувшую на
время жажду крови.
Он пристально посмотрел на Годунова.
— Разве ты думаешь, — сказал он строго, — что я
без убойства жить не могу? Иное злодеи, подрывающие
715
государство, иное Никита, что Афоньку порубил. А из
станичников посмотрю, кого казнить, кого помиловать.
Пусть все, и с Никитой, соберутся перед красным
крыльцом на дворе. Когда выйду из опочивальни, увижу,
что с ними делать!
Годунов пожелал царю доброго отдыха и удалился с
низким поклоном.
Все теперь зависело от того, в каком расположении
проснется Иоанн.
Глава 37
ПРОЩЕНИЕ
Извещенный Годуновым, Никита Романович явился
на царский двор с своими станичниками.
Перераненные, оборванные, в разнообразных лох-
мотьях, кто в зипуне, кто в овчине, кто в лаптях, кто
босиком, многие с подвязанными головами, все без
шапок и без оружия, стояли они молча друг подле друга,
дожидаясь царского пробуждения.
Не в первый раз видели молодцы Слободу; приходи-
ли они сюда и гуслярами, и нищими, и проводилыциками
медведей. Некоторые участвовали и в последнем пожа-
ре, когда Перстень с Коршуном пришли освободить
Серебряного. Много было между ними знакомых нам
лиц, но многих и недоставало. Недоставало всех, кото-
рые, отстаивая Русскую землю, полегли недавно на
рязанских полях, ни тех, которые после победы, любя
раздолье кочующей жизни, не захотели понести к царю
повинную голову. Не было тут ни Перстня, ни Митьки,
на рыжего песенника, ни дедушки Коршуна. Перстень,
появившись в последний раз в Слободе в день судного
поединка, исчез бог весть куда; Митька последовал за
ним; песенника еще прежде уходил Серебряный, а
Коршуна теперь под стеною кремлевскою терзали псы
и клевали вороны...
Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи и не
подозревая, что царь смотрит на них из небольшого
окна, проделанного над самым крыльцом и скрытого
716
узорными теремками. Никто не говорил с товарищами,
ни с Серебряным, который стоял в стороне, задумав-
шись и не обращая внимания на множество людей,
толпившихся у ворот и у калиток. В числе любопытных
была и государева мамка. Она стояла на крыльце, на-
гнувшись на клюку, и смотрела на все безжизненными
глазами, ожидая появления Иоанна, быть может, с тем,
чтобы своим присутствием удержать его от новой жес-
токости.
Иван Васильевич, наглядевшись вдоволь из потаен-
ного окна на своих опальников, насладившись мыслью,
что они теперь стоят между жизнью и смертью и что
нелегко у них, должно быть, на сердце, показался вдруг
на крыльце в сопровождении нескольких стольников.
При виде царя, одетого в золотую парчу, опирающе-
гося на узорный посох, разбойники стали на колени и
преклонили головы.
Иоанн помолчал несколько времени.
— Здравствуйте, оборванцы! — сказал он наконец и,
поглядев на Серебряного, прибавил: — Ты зачем в
Слободу пожаловал? По тюрьме, что ли, соскучился?
— Государь, — ответил Серебряный скромно, — из
тюрьмы ушел я не сам; увели меня насильно станичники.
Они же разбили Ширинского мурзу Шихмата, о чем
твоей милости должно быть уже ведомо. Вместе мы
били татар, вместе и отдаемся на волю твою; казни или
милуй нас, как твоя царская милость знает!
— Так это за ним вы тот раз в Слободу приходили? —
спросил Иоанн у разбойников. — Откуда же вы знаете
его?
— Батюшка царь, — отвечали вполголоса разбойни-
ки, — он атамана нашего спас, когда его в Медведевке
повесить хотели. Атаман-то и увел его из тюрьмы!
— В Медведевке? — сказал Иоанн и усмехнулся. —
Это, должно быть, когда ты Хомяка и с объездом его
шелепугами отшлепал? Я это дело помню. Я отпустил
тебе эту первую вину, а был ты, по уговору нашему,
посажен за новую вину, когда ты вдругорядь на моих
людей у Морозова напал. Что скажешь на это?
717
Серебряный хотел отвечать, но мамка предупредила
его.
— Да полно тебе его вины-то высчитывать! — сказала
она Иоанну сердито. — Вместо чтоб пожаловать его за
то, что он басурманов разбил, церковь Христову отсто-
ял, а ты только смотришь, какую б вину на нем найти.
Мало тебе было терзанья на Москве, волк ты этакий!
— Молчи, старуха! — сказал строго Иоанн, — не
твое бабье дело указывать мне!
Но, досадуя на Онуфревну, он не захотел раздра-
жать ее и, отвернувшись от Серебряного, сказал раз-
бойникам, стоявшим на коленях:
— Где атаман ваш, висельники? Пусть выступит
вперед.
Серебряный взялся отвечать за разбойников.
— Их атамана здесь нет, государь. Он в тот же час
после рязанской битвы ушел. Я звал его, да он идти не
захотел.
— Не захотел! — повторил Иоанн. — Сдается мне,
что этот атаман есть тот самый слепой, что ко мне в
опочивальню со стариком приходил. Слушайте же,
оборванцы! Я вашего атамана велю сыскать и на кол
посадить!
— Уж самого тебя, — проворчала мамка, — на том
свету черти на кол посадят!
Но царь притворился, что не слышит, и продолжал,
глядя на разбойников:
— А вас за то, что вы сами на мою волю отдались,
я, так и быть, помилую. Выкатить им пять бочек меду на
двор! Ну что? Довольна ты, старая дура?
Мамка зажевала губами.
— Да живет царь! — закричали разбойники. — Будем
служить тебе, батюшка государь! Заслужим твое про-
щение нашими головами!
— Выдать им, — продолжал Иоанн, — по доброму
кафтану да по гривне на человека. Я их в опричнину
впишу. Хотите, висельники, мне в опричниках служить?
Некоторые из разбойников замялись, но большая
часть закричала:
718
— Рады служить тебе, батюшка, где укажет твоя
царская милость!
— Как думаешь, — сказал Иоанн с довольным видом
Серебряному, — пригодны они в ратный строй?
— В ратный-то строй пригодны, — ответил Никита
Романович, — только уж, государь, не вели их в оприч-
нину вписывать!
Царь подумал, что Серебряный считает разбойников
недостойными такой чести.
—- Когда я кого милую, — произнес он торжествен-
но, — я не милую вполовину!
— Да какая ж это милость, государь? — вырвалось
у Серебряного.
Иоанн посмотрел на него с удивлением.
— Они, — продолжал Никита Романович, немного
запинаясь, — они, государь, ведь доброе дело учинили;
без них, пожалуй, татары на самую бы Рязань пошли!
— Так почему ж им в опричнине не быть? — спросил
Иоанн, пронзая глазами Серебряного.
— А потому, государь, — выговорил Серебряный,
который тщетно старался прибрать выражения попри-
личнее, — потому, государь, что они, правда, люди
худые, а все же лучше твоих кромешников!
Эта неожиданная и невольная смелость Серебряного
озадачила Иоанна. Он вспомнил, что уже не в первый
раз Никита Романович говорит с ним так откровенно и
прямо. Между тем он, осужденный на смерть, сам
добровольно вернулся в Слободу и отдавался на цар-
ский произвол.
В строптивости нельзя было обвинить его, и царь
колебался, как принять эту дерзкую выходку, как новое
лицо привлекло его внимание.
В толпу разбойников незаметно втерся посторонний
человек, лет шестидесяти, опрятно одетый, и старался,
не показываясь царю, привлечь внимание Серебряного.
Уже несколько раз он из-за переднего ряда протягивал
украдкой руку и силился поймать князя за полу, но, не
достав его, опять прятался за разбойников.
— Это что за крыса? — спросил царь, указывая на
незнакомца.
719
Но тот уже успел скрыться в толпе.
— Раздвиньтесь, люди! — сказал Иоанн, — достать
мне этого молодца, что там сзади хоронится!
Несколько опричников бросились в толпу и вытащи-
ли виновного.
— Что ты за человек? — спросил Иоанн, глядя на
него подозрительно.
— Это мой стремянный, государь! — поспешил ска-
зать Серебряный, узнав своего старого Михеича, — он
не видел меня с тех пор...
— Так, так, батюшка государь! — подтвердил Михе-
ич, заикаясь от страха и радости, — его княжеская
милость правду изволит говорить!.. Не виделись мы с
того дня, как схватили его милость. Дозволь же, батюш-
ка царь, на боярина моего посмотреть! Господи светы,
Никита Романыч! Я уже думал, не придется мне увидеть
тебя!
— Что же ты хотел сказать ему, — спросил царь,
продолжая недоверчиво глядеть на Михеича. — Зачем
ты за станичниками хоронился?
— Поопасывался, батюшка государь Иван Васильич,
опричников твоих поопасывался! Это ведь, сам знаешь,
это ведь, государь, все такой народ...
И Михеич закусил язык.
— Какой народ? — спросил Иоанн, стараясь придать
чертам своим милостивое выражение. — Говори, ста-
рик, без зазора, какой народ мои опричники?
Михеич поглядел на царя и успокоился.
— Да такого мы до литовского похода отродясь не
видывали, батюшка! — проговорил он вдруг, ободрен-
ный милостивым выражением царского лица. — Не в
укор им сказать, ненадежный народ, тетка их подкуря-
тина!
Царь пристально посмотрел на Михеича, дивясь, что
слуга равняется откровенностью своему господину.
— Ну что ты на него глаза таращишь? — сказала
мамка. — Съесть его, что ли, хочешь? Разве он не правду
говорит? Разве видывали прежде на Руси кромешников?
Михеич, нашедши себе подмогу, обрадовался.
720
— Так, бабуся, так! — сказал он. — От них-то все
зло и пошло на Руси! Они-то и боярина оговорили! Не
верь им, государь, не верь им! Песьи у них морды на
сбруе, песий и брех на языке! Господин мой верно
служил тебе, а это Вяземский с Хомяком наговорили на
него. Вот и бабуся правду сказала, что таких сыроядцев
и не видано на Руси!
И, озираясь на окружающих его опричников, Михе-
ич придвинулся ближе к Серебряному. Хоть вы-де и
волки, а теперь не съедите!
Когда царь вышел на крыльцо, он уже решился
простить разбойников. Ему хотелось только продержать
их некоторое время в недоумении. Замечания мамки
пришлись некстати и чуть было не раздражили Иоанна,
но, к счастью, на него нашла милостивая полоса, и,
вместо того чтоб предаться гневу, он вздумал посмеять-
ся над Онуфревной и уронить ее значение в глазах
царедворцев, а вместе и подшутить над стремянным
Серебряного.
— Так тебе не люба опричнина? — спросил он
Михеича с видом добродушия.
— Да кому ж она люба, батюшка государь? С того
часу, как вернулись мы из Литвы, все от нее пошли
сыпаться беды на боярина моего. Не будь этих, прости
господи, живодеров, мой господин был бы по-прежнему
в чести у твоей царской милости.
И Михеич опять опасливо посмотрел на царских
телохранителей, но тот же час подумал про себя: «Эх,
тетка их подкурятина! Уж погублю свою голову, а очищу
перед царем господина моего!»
— Добрый у тебя стремянный! — сказал царь Сереб-
ряному. — Пусть бы и мои слуги так ко мне мыслили!
А давно он у тебя?
— Да я, батюшка Иван Васильевич, — подхватил
Михеич, совершенно ободренный царскою похва-
лою, — я князю с самого с его сыздетства служу. И
батюшке его покойному служил я, и отец мой деду его
служил, и дети мои, кабы были у меня, его бы детям
служили!
721
А нет у тебя разве детушек, старичок? — спросил
Иоанн еще милостивее.
— Было двое сыновей, батюшка, да обоих господь
прибрал. Оба на твоем государском деле под Полоцком
полегли, когда мы с Никитой Романычем да с князем
Пронским Полоцк выручали. Старшему сыну, Василью,
вражий лях, налетев, саблей голову раскроил, а мень-
шему-то, Степану, из пищали грудь прострелили, сквозь
самый наплечник, вот настолько повыше левого соска!
И Михеич пальцем показал на груди своей место, где
в Степана попала пуля.
— Вишь! — проговорил Иоанн, покачивая головой и
как будто принимая большое участие в сыновьях Михе-
ича. — Ну, что ж делать, старичок, этих бог прибрал,
других наживешь!
— Да откуда нажить-то их, батюшка? Хозяйка-то у
меня померла, а из рукава-то новых детей не вытрусишь!
— Что ж, — сказал царь, как бы желая утешить
стремянного, — еще, даст бог, другую хозяйку найдешь!
Михеич ощущал немалое удовольствие в разговоре
с царем.
— Да этого добра как не найти, — ответил он,
ухмыляясь, — только не охоч я до баб, батюшка госу-
дарь, да уж и стар становлюсь этаким делом заниматься!
— Баба бабе рознь, — заметил Иоанн и, схватив
Онуфревну за душегрейку, — вот тебе хозяйка! —
сказал он и выдвинул мамку вперед. — Возьми ее,
старина, живи с ней в любви и в совете да детей
приживай!
Опричники, поняв царскую шутку, громко захохота-
ли, а Михеич, в изумлении, посмотрел на царя, не
смеется ли и он, но на лице Иоанна не было улыбки.
Безжизненные глаза мамки вспыхнули.
— Срамник ты! — закричала она на Иоанна, —
безбожник! Я тебе дам ругаться надо мной! Срамник
ты, тьфу! Еретик бессовестный!
Старуха застучала клюкою о крыльцо, и губы ее еще
сердитее зажевали, а нос посинел.
Полно ломаться, бабушка, — сказал царь, — я тебе
722
доброго мужа сватаю; он будет тебя любить, дарить,
уму-разуму научать! А свадьбу мы сегодня же после
вечерни сыграем! Ну, какова твоя хозяйка, старичина?
— Умилосердись, батюшка государь! — проговорил
Михеич в совершенном испуге.
— Что ж? Разве она тебе не па сердцу?
— Какое по сердцу, батюшка! — простонал Михеич,
отступая назад.
— Стерпится — слюбится! — сказал Иоанн, — а я
дам за ней доброе приданое!
Михеич с ужасом посмотрел на Онуфревну, которую
царь все еще держал за душегрейку.
— Батюшка Иван Васильевич! — воскликнул он
вдруг, падая на колени, — вели меня казнить, только не
вели этакого сраму принимать! Скорей на плаху пойду,
чем женюсь на ее милости, тетка ее подкурятина!
Иван Васильевич немного помолчал и вдруг разразил-
ся громким продолжительным смехом.
— Ну, — сказал он, выпуская наконец Онуфревну,
которая поспешила уйти, ругаясь и отплевываясь, —
честь приложена, убытку бог избавил! Я хотел вашего
счастья, а насильно венчать вас не буду! Служи по-
прежнему боярину твоему, старичина, а ты, Никита,
подойди сюда. Отпускаю тебе и вторую вину твою. А
этих голоштанников в опричнину не впишу; мои молод-
цы, пожалуй, обидятся. Пусть идут к Жиздре, в сторо-
жевой полк. Коли охочи они на татар, будет им с кем
переведаться. Ты же, — продолжал он особенно мило-
стивым голосом, без примеси своей обычной насмешли-
вости и положив руку на плечо Серебряного, — ты
оставайся у меня. Я помирю тебя с опричниной. Когда
узнаешь нас покороче, перестанешь дичиться. Хорошо
бить татар, но мои враги не одни татары; есть и хуже
их. Этих-то научись грызть зубами и метлой выметать!
И царь потрепал Серебряного по плечу.
— Никита, — прибавил он благоволительно и остав-
ляя свою руку на плече князя, — у тебя сердце правди-
вое, язык твой не знает лукавства; таких-то слуг мне и
надо. Впишись в опричнину; я дам тебе место выбылого
Вяземского! Тебе я верю, ты меня не продашь.
723
Все опричники с завистью посмотрели на Серебря-
ного; они уже видели в нем новое, возникающее свети-
ло, и стоявшие подале от Иоанна уже стали шептаться
между собою и выказывать свое неудовольствие, что
царь, без внимания к их заслугам, ставит им на голову
опального пришельца, столбового дворянина, древнего
княжеского рода.
Но сердце Серебряного сжалось от слов Иоанновых.
— Государь, — сказал он, сделав усилие над со-
бою, — благодарствую тебе за твою милость; но дозволь
уж лучше и мне к сторожевому полку примкнуться.
Здесь мне делать нечего, я к слободскому обычаю не
привычен, а там я буду служить твоей милости, доколе
сил хватит!
— Вот как! — сказал Иоанн и снял руку с плеча
Серебряного, — это значит, мы не угодны его княже-
ской милости! Должно быть, с ворами оставаться чест-
нее, чем быть моим оружничим! Ну что ж, — продолжал
он насмешливо, — я никому в дружбу не набиваюсь и
никого насильно не держу. Свыклись вместе, так и
служите вместе. Доброго пути, разбойничий воевода!
И, взглянув презрительно на Серебряного, царь по-
вернулся к нему спиной и вошел во дворец.
Глава 38
ВЫЕЗД ИЗ СЛОБОДЫ
Годунов предложил Серебряному остаться у него в
доме до выступления в поход. Этот раз предложение
было сделано от души, ибо Борис Федорович, наблю-
давший за каждым словом и за каждым движением
царя, заключил, что грозы более не будет и что Иоанн
ограничится одною холодностью к Никите Романовичу.
Исполняя обещание, данное Максиму, Серебряный
прямо с царского двора отправился к матери своего
названного брата и отдал ей крест Максимов. Малюты
не было дома. Старушка уже знала о смерти сына и
приняла Серебряного как родного; но, когда он, окончив
свое поручение, простился с нею, она не посмела его
724
удерживать, боясь возвращения мужа, и только прово-
дила до крыльца с благословениями.
Вечером, когда Годунов оставил Серебряного в опо-
чивальне и удалился, пожелав ему спокойного сна,
Михеич дал полную волю своей радости.
— Ну, боярин, — сказал он, — выпал же мне наконец
красный денек после долгого горя! Ведь с той поры, как
схватили тебя, Никита Романыч, я словно света божьего
не вижу! То и дело по Москве да по Слободе слоняюсь,
не проведаю ль что про тебя? Как услышал сегодня, что
ты с станичниками вернулся, так со всех ног и пустился
на царский двор; ан царь-то уж на крыльце! Я давай меж
станичников до тебя пробираться, да и не вытерпел, стал
ловить тебя за полу, а царь-то меня и увидел. Ну,
набрался же я страху! Ввек не забуду! Два молебна
завтра отслужу, один за твое здоровье, а другой — что
соблюл меня господь от этой ведьмы, не дал надо мною
такому скверному делу совершиться!
И Михеич начал рассказывать все, что с ним было
после разорения морозовского дома, и как он, известив
Перстня и вернувшись на мельницу, нашел там Елену
Дмитриевну и взялся проводить ее до мужниной вотчи-
ны, куда слуги Морозова увезли его во время пожара.
Серебряный нетерпеливо слушал многократные от-
ступления Михеича.
— Ведь я, Никита Романыч, — говорил старик, —
ведь я не слеп; хоть и молчу, а все вижу. Признаться,
батюшка, не нравилось мне крепко, когда ты к Дружине
Андреичу-то ездил. Не выйдет добра из этого, думал я,
да и совестно, правду сказать, за тебя было, когда ты с
ним за одним столом сидел, из одного ковша пил. Ты
меня, батюшка, понимаешь. Хоть ты, положим, и не
виноват в этом; кто его знает, как оно к человеку
приходит! Да против него-то грешно было. Ну, а теперь,
конечно, дело другое; теперь ей некому ответа держать,
царствие ему небесное! Да и молода она, голубушка,
вдовой оставаться!
— Не кори меня, Михеич, — сказал Серебряный с
неудовольствием, — а скажи, где она теперь и что ты
про нее знаешь!
725
— Позволь, батюшка, погоди; дай мне все по порядку
тебе доложить. Вот, изволишь ли видеть, как я от
станичников-то на мельницу вернулся, мельник-то мне
и говорит: залетела, говорит, жар-птица ко мне; отвези
ее, говорит к царю Далмату! Я сначала не понял, что за
птица и что за Далмат такой; только уже после, когда
показал он мне боярыню-то, тогда уж смекнул, что он
про нее говорил! Вот и поехали мы с ней в вотчину
Дружины Андреича. Сначала она ничего, молчит себе и
очей не подымает; потом стала потихоньку про мужа
спрашивать; а потом, батюшка, туда, сюда, да и про тебя
спросила, только, вишь, не прямо, а так как бы нехотя,
отворотимшись. Известно, женское дело. Я ей все
рассказал, что было мне ведомо, а она, сердечная, еще
кручиннее прежнего стала, повесила головушку, да уже
во всю дорогу ничего и не говорит. Вот, как стали
подъезжать к вотчине, поприщ этак будет за десять,
она, вижу, зачинает беспокоиться. Что ты, говорю,
сударыня, беспокоиться изволишь? Она, батюшка, в
слезы. Я ее утешать. Не кручинься, говорю, боярыня,
Дружина Андреич здравствует! А она, при имени Дру-
жины-то Андреича, давай еще горше плакать. Я этак
посмотрел на нее, да уж не знаю, что и говорить ей. И
князь Никита Романыч, говорю, хоча и в тюрьме, а
должно быть, также здравствует! Уж не знал, батюшка,
что и сказать ей, чувствую, что не то говорю, а все же
что-нибудь сказать надо. Только как назвал я тебя,
батюшка, так она вдруг и останови коня. «Нет, говорит,
дядюшка, не могу ехать в вотчину!» — «Что ты, боярыня,
куда ж тебе ехать» — «Дядюшка, говорит, видишь
золоченые кресты из-за лесу виднеются?» — «Вижу,
сударыня». — «То, говорит, девичий монастырь; я узнаю
те кресты, проводи меня туда, дядюшка!» Я было отго-
вариваться, только она стоит на своем: проводи да
проводи! «Я, говорит, там с недельку обожду, богу
помолюсь, потом повещу Дружине Андреичу; он при-
шлет за мной!» Нечего было делать, проводил ее, ба-
тюшка; там и оставил на руках игуменьи.
— Сколько будет до монастыря! — спросил Сереб-
ряный.
726
— От мельницы поприщ сорок, батюшка; от Москвы,
пожалуй, будет подале. Да оно нам, почитай, по дороге
приходится, коли мы на Жиздру пойдем.
— Михеич! — сказал Серебряный, — сослужи мне
службу. Я прежде утра выступать не властен; надо моим
людям царю крест целовать. Но ты сею же ночью
поезжай о двуконь, не жалей ни себя, ни коней; попро-
сись к боярыне, расскажи ей все; упроси ее, чтобы
приняла меня, чтобы ни на что не решалась, не повидав-
шись со мною!
— Слушаю, батюшка, слушаю, да ты уж не опаса-
ешься ли, чтоб она постриглась? Этого не будет, батюш-
ка. Пройдет годок, поплачет она, конечно; без этого
нельзя; как по Дружине Андреиче не поплакать, царст-
вие ему небесное! А там, посмотри, и свадьбу сыграем.
Не век же нам, батюшка, горе отбывать!
Михеич в ту же ночь отправился в монастырь, а
Серебряный, лишь только занялась заря, пошел про-
ститься с Годуновым.
Борис Федорович уже вернулся от заутрени, кото-
рую, по обычаю своему, слушал вместе с царем.
— Что ты так рано поднялся, князь? — спросил он
Никиту Романовича. — Это хорошо нам, слободским, а
ты мог бы и поотдохнуть после вчерашнего дня. Или
тебе неспокойно у меня было?
Но тонкий взгляд Годунова показывал, что он знал
причину бессонницы князя.
Приветливость Бориса Федоровича, его неподдель-
ное участие к Серебряному, услуги, им столько раз
оказанные, а главное, его совершенное несходство с
другими царедворцами привлекли к нему сильно Никиту
Романовича. Он открылся ему в любви своей к Елене.
— Все это мне давно уже ведомо! — сказал, улыба-
ясь, Годунов. — Я догадался об этом еще в первый твой
приезд в Слободу из того, как ты смотрел на Вяземско-
го. А когда я нарочно завел с тобою речь о Морозове,
ты говорил о нем неохотно, несмотря что был с ним в
дружбе. Ты, князь, ничего не умеешь хоронить в себе.
О чем ни подумаешь, все у тебя на лице так и напишется.
727
Да и говоришь-то ты уж чересчур правдиво, Никита
Романыч, позволь тебе сказать. Я за тебя вчера испугал-
ся, да и подосадовал-таки на тебя, когда ты напрямик
отвечал царю, что не хочешь вписаться в опричнину.
— А что же мне было отвечать ему, Борис Федорыч?
— Тебе было поблагодарить царя и принять его
милость.
— Да ты шутишь, Борис Федорыч, али вправду
говоришь? Как же мне за это благодарить царя? Да ты
сам разве вписан в опричнину?
— Я дело другое, князь. Я знаю, что делаю. Я царю
не перечу; он меня сам не захочет вписать; так уж я
поставил себя. А ты, когда поступил бы на место Вязем-
ского да сделался бы оружничим царским и был бы в
приближении у Ивана Васильевича, ты бы этим всей
земле послужил. Мы бы с тобой стали идти заодно и
опричнину, пожалуй, подсекли бы!
— Нет, Борис Федорыч, не сумел бы я этого. Сам же
ты говоришь, что’у меня все на лице видно.
— Оттого, что ты не хочешь приневолить себя, князь.
Вот кабы ты решился перемочь свою прямоту да хотя
бы для виду вступил в опричнину, чего мы с тобой не
сделали! А то, посмотри на меня; я один, бьюсь как щука
об лед; всякого должен опасаться, всякое слово обду-
мывать; иногда просто голова кругом идет! А было бы
нас двое около царя, и силы б удвоились. Таких людей,
как ты, немного, князь. Скажу тебе прямо: я с нашей
первой встречи рассчитывал на тебя!
— Не гожусь я на это дело, Борис Федорыч. Сколько
раз я ни пытался подладиться под чужой обычай, ничего
не выходит. Вот ты, дай бог тебе здоровья, ты на этом
собаку съел. Правду сказать, сначала мне не по сердцу
было, что ты иной раз думаешь одно, а говоришь другое;
но теперь я вижу, куда ты гнешь, и понимаю, что
по-твоему делать лучше. А я б и хотел, да не умею; не
сподобил меня бог такому искусству. Впрочем, что
теперь и говорить об этом! Сам знаешь, царь меня, по
моему же упросу, в сторожевой полк посылает.
— Это ничего, князь. Ты опять татар побьешь, царь
728
опять тебя пред свои очи пожалует. Оружничим тебе,
конечно, уже не бывать, но, если попросишься в оприч-
нину, тебя впишут. А хотя бы и не случилось тебе татар
побить, все же ты приедешь на Москву, когда Елене
Дмитриевне вдовий срок минет. Того не опасайся, чтоб
она постриглась: этого не будет, Никита Романыч; я
лучше тебя человеческое сердце знаю; не по любви она
за Морозова вышла, незачем ей и постригаться теперь.
Дай только остыть крови и высохнуть слезам; я же буду,
коли хочешь, твоим дружкой.
— Спасибо тебе, Борис Федорыч, спасибо. Мне даже
совестно, что ты уже столько сделал для меня, а я ничем
тебе отплатить не могу. Кабы пришлось за тебя в пытку
идти или в бою живот положить, я бы не задумался. А
в опричнину меня не зови, и около царя быть мне также
не можно. Для этого надо или совсем от совести отка-
заться, или твое умение иметь. А я бы только даром
душой кривил. Каждому, Борис Федорыч, господь свое
указал: у сокола свой лет, у лебедя свой; лишь бы в
каждом правда была.
— Так ты меня уж боле не винишь, князь, что я не
прямою, а окольною дорогой иду?
— Грех было бы мне винить тебя, Борис Федорыч.
Не говорю уже о себе; а сколько ты другим добра
сделал! И моим ребятам без тебя, пожалуй, плохо
пришлось бы. Недаром и любят тебя в народе. Все на
тебя надежду полагают; вся земля начинает смотреть на
тебя!
Легкий румянец пробежал по смуглому лицу Годуно-
ва, и в очах его блеснуло удовольствие. Примирить с
своим образом действий такого человека, как Серебря-
ный, было для него немалым торжеством и служило ему
мерилом его обаятельной силы.
— В мою очередь, спасибо тебе, князь, — сказал
он. — Об одном прошу тебя: коли не хочешь помогать
мне, то, по крайней мере, когда услышишь, что про меня
говорят тебе худо, не верь слухам и скажи клеветникам
моим все, что про меня знаешь!
— Уж об этом не заботься, Борис Федорыч! Я никому
729
не дам про тебя и помыслить худо, не только что
говорить. Мои станичники и теперь уже молятся о твоем
здравии, а если вернутся на родину, то и всем своим
ближним закажут! Дай только бог уцелеть тебе!
— Господь хранит ходящих в незлобии! — сказал
Годунов, скромно опуская глаза. — А впрочем, все в его
святой воле! Прости же, князь; до скорого свидания; не
забудь, что ты обещал позвать меня на свадьбу.
Они дружески обнялись, и у Никиты Романовича
повеселело на сердце. Он привык к мысли, что Годунов
нелегко ошибается в своих предположениях, и недав-
ние опасения его насчет Елены рассеялись.
Вскоре он выехал в главе своего пешего отряда; но
еще прежде чем они оставили Слободу, случилось одно
обстоятельство, которое, по тогдашним понятиям, при-
надлежало к недобрым предзнаменованиям.
Близ одной церкви отряд был остановлен столплени-
ем нищих, которые теснились у паперти во всю ширину
улицы и, казалось, ожидали богатой милостыни от ка-
кого-нибудь знатного лица, находившегося в церкви.
Подвигаясь медленно вперед, чтобы дать время тол-
пе раздвинуться, Серебряный услышал панихидное пе-
ние и спросил, по ком идет служба. Ему отвечали, что
то Григорий Лукьяныч Скуратов-Бельский справляет
поминки по сыне Максиме Григорьевиче, убитом тата-
рами. В то же время послышался громкий крик, и из
церкви вынесли старушку, лишенную чувств; исхудалое
лицо ее было облито слезами, а седые волосы падали в
беспорядке из-под бархатной шапочки. То была мать
Максима. Малюта, в смирной одежде, показался на
крыльце, и глаза его встретились с глазами Серебряно-
го; но в чертах Малюты не было на этот раз обычного
зверства, а только какая-то тупая одурелость, без вся-
кого выражения. Приказав положить старушку на па-
перти, он воротился в церковь дослушивать панихиду, а
станичники с Серебряным, снявши шапки и крестясь,
прошли мимо церковных врат, и слышно им было, как
в церкви торжественно и протяжно раздавалось: «Со
святыми упокой!»
730
Это печальное пение и мысль о Максиме тяжело
подействовали на Серебряного, но ему вспомнились
успокоительные слова Годунова и скоро изгладили гру-
стное впечатление панихиды. На изгибе дороги, входя-
щей в темный лес, он оглянулся на Александрову сло-
боду, и, когда скрылись от него золоченые главы дворца
Иоаннова, он почувствовал облегчение, как будто тя-
жесть свалилась с его сердца.
Утро было свежее, солнечное. Бывшие разбойники,
хорошо одетые и вооруженные, шли дружным шагом за
Серебряным и за всадниками, его сопровождавшими.
Зеленый мрак охватывал их со всех сторон. Конь Се-
ребряного, полный нетерпеливой отваги, срывал мимо-
ходом листья с нависших ветвей, а Буян, не оставлявший
князя после смерти Максима, бежал впереди, подымал
иногда, нюхая ветер, косматую морду или нагибал ее на
сторону и чутко навостривал ухо, если какой-нибудь
отдаленный шум раздавался в лесу.
Глава 39
ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ
Несколько дней шел Серебряный с своим отрядом.
На одном ночлеге, откуда был поворот к девичьему
монастырю, он оставил людей своих и поехал один
навстручу Михеичу, обещавшему привезти ему ответ от
боярыни.
Всю ночь он ехал безостановочно. На заре, прибли-
жаясь к одному перекрестку, увидел он догорающий
костер и сидящего близ него Михеича. Обе его лошади
паслись неподалеку оседланные.
Услышав конский топ, Михеич вскочил на ноги.
— Батюшка, князь Никита Романыч! — вскричал он,
узнавая князя, — не езди дале, батюшка! Вернись назад
нечего тебе там делать!
— Что случилось? — спросил Серебряный, и сердце
его замерло.
— Все кончено, батюшка! Не судил нам господь
счастия.
731
Серебряный спрянул на землю.
— Говори, — сказал он, — что случилось с бояры-
ней?
Старик молчал.
— Что случилось с Еленой Дмитриевной? — повто-
рил в испуге Серебряный.
— Нет боле Елены Дмитриевны, батюшка! — сказал
мрачно Михеич. — Есть только сестра Евдокия!
Серебряный зашатался и прислонился к дереву.
Михеич посмотрел на него горестно.
— Что ж делать, Никита Романыч! Видно на то была
божья воля. Не в счастливый мы, видно, век родились!
— Рассказывай все! — сказал Серебряный, оправив-
шись. — Не жалей меня. Когда постриглась боярыня?
— Когда узнала о казни Дружины Андреича, батюш-
ка; когда получила в монастыре синодик от царя с
именами всех казненных и с указом молиться за их
упокой; накануне того самого дня, как я к ней приехал.
— Видел ты ее?
— Видел, батюшка.
Серебряный хотел что-то сказать и не мог.
— На самый краткий миг видел, — прибавил Михе-
ич, — не хотела она меня допустить сперва.
— Что велела сказать мне? — проговорил с трудом
Серебряный.
— Чтобы ты за нее молился, батюшка.
— И боле ничего?
— Ничего, батюшка.
— Михеич! — произнес князь после краткого мол-
чания, — проводи меня в монастырь; я хочу проститься
с ней...
Старик покачал головой.
— Зачем тебе к ней, батюшка? Не смущай ее боле;
она теперь все равно что святая. Вернемся лучше к
отряду и пойдем прямо к Жиздре!
— Не могу! — сказал Серебряный.
Михеич опять покачал головою и подвел к нему
одного из своих коней.
— Садись же на этого, — сказал он, вздыхая, — твой
больно заморился!
732
Они молча поехали к монастырю.
Дорога шла все время лесом. Вскоре послышалось
журчание воды, и ручей, пробиравшийся меж камыша-
ми, сверкнул сквозь густую зелень.
— Узнаешь ли ты это место, князь? — спросил
грустно Михеич.
Серебряный поднял голову и увидел свежее пожа-
рище. Кой-где земля была недавно изрыта, а остатки
строения и сломанное водяное колесо показывали, что
тут была мельница.
— Это когда они колдуна схватили, — заметил
Михеич, — то и жилье разорили; думали тут клад найти,
тетка их подкурятина!
Серебряный бросил рассеянный взгляд на пожари-
ще, и они молча поехали далее.
Через несколько часов лес начал редеть. Меж де-
ревьями забелела каменная ограда, и на расчищенной
поляне показался монастырь. Он не стоял, подобно
иным обителям, на возвышенном месте. Из узких ре-
шетчатых окон не видно было обширных монастырских
угодий, и взор везде упирался лишь в голые стволы и
мрачную зелень сосен, опоясывавших тесным кругом
ограду. Окрестность была глуха и печальна; монастырь,
казалось, принадлежал к числу бедных.
Всадники сошли с коней и постучались в калитку.
Прошло несколько минут; послышалось бряцание
ключей.
— Слава господу Иисусу Христу! — сказал тихо
Михеич.
— Во веки веков, аминь! — отвечала сестра-вратни-
ца, отворяя калитку. — Кого вам надобно, государи?
— Сестру Евдокию, — произнес вполголоса Михеич,
боясь этим названием растравить душевную рану своего
господина. — Ты меня знаешь, матушка; я недавно был
здесь.
— Нет, государь, не знаю; я только сегодня ко вратам
приставлена, а до меня была сестра Агния...
И монахиня посмотрела опасливо на приезжих.
— Нужды нет, матушка, — продолжал Михеич, —
733
пусти нас. Доложи игуменье, что князь Никита Романыч
Серебряный приехал.
Вратница окинула боязливым взглядом Серебряного,
отступила назад и захлопнула за собою калитку.
Слышно было, как она поспешно удалилась, приго-
варивая: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!»
«Что бы это значило? — подумал стремянный, —
зачем она боится моего боярина?»
Он посмотрел на князя и понял, что его пыльные
доспехи, одежда, изорванная колючим кустарником, и
встревоженное выражение испугали вратницу. В самом
деле, черты Никиты Романовича так изменились, что сам
Михеич не узнал бы его, если бы не приехал с ним
вместе.
Через несколько времени послышались опять шаги
вратницы.
— Не взыщите, государи, — сказала она неверным
языком сквозь калитку, — теперь игуменье нельзя
принять вас; приходите лучше завтра, после заутрени!
— Я не могу ждать! — вскричал Серебряный и,
ударив ногою в калитку, он вышиб запоры и вошел в
ограду.
Перед ним стояла игуменья, почти столь же бледная,
как и он сам.
— Во имя Христа спасителя, — сказала она дрожа-
щим голосом, — остановись! Я знаю, зачем ты пришел...
но господь карает душегубство, и безвинная кровь падет
на главу твою!
— Честная мать! — отвечал Серебряный, не понимая
ее испуга, но слишком встревоженный, чтобы удивлять-
ся, — честная мать, пусти меня к сестре Евдокии! Дай
на один миг увидеть ее! Дай мне только проститься с
ней!
— Проститься? — повторила игуменья, — ты в самом
деле хочешь только проститься?
— Дай мне с ней проститься, честная мать, и я все
мое имущество на твой монастырь отдам!
Игуменья взглянула на него недоверчиво.
— Ты вломился насильно, — сказала она, — ты
734
называешься князем, а бог весть кто ты таков, бог весть
зачем приехал... Знаю, что теперь ездят опричники по
святым монастырям и предают смерти жен и дочерей
тех праведников, которых недавно на Москве казнили!..
Сестра Евдокия была женою казненного боярина...
— Я не опричник! — вскричал Серебряный, — я сам
отдал бы всю кровь за боярина Морозова! Пусти меня
к боярыне, честная мать, пусти меня к ней!
Должно быть, правда и искренность написалась на
чертах Серебряного. Игуменья успокоилась и посмот-
рела на него с участием.
— Погрешила же я перед тобою! — сказала она. —
Но, слава богу и пречистой его матери, вижу теперь,
что ошиблась. Слава же Христу, пресущественной тро-
ице и всем святым угодникам, что, ты не опричник!
Напугала меня вратница; я уже думала, как бы только
время выиграть, сестру Евдокию схоронить! Трудные у
нас годы настали, государь! И в божьих обителях опаль-
ным укрыться нельзя. Слава же господу, что я ошиблась!
Если ты друг или родственник Морозовых, я поведу тебя
к Евдокии. Ступай за мною, боярин, сюда, мимо усы-
пальницы; ее келья в самом саду.
Игуменья повела князя через сад к одинокой келье,
густо обсаженной шиповником и жимолостью. Там, на
скамье, перед входом, сидела Елена в черной одежде и
в покрывале. Косые лучи заходящего солнца ударяли на
нее сквозь густые клены и позлащали над нею их
увядающие ветви. Лето приходило к концу; последние
цветы шиповника облетали; черная одежда инокини
была усеяна их алыми лепестками. Грустно следила
Елена за медленным и однообразным падением желтых
кленовых листьев, и только шорох приближающихся
шагов прервал ее размышления. Она подняла голову,
узнала игуменью и встала, чтоб идти к ней навстречу,
но, увидев внезапно Серебряного, вскрикнула, схвати-
лась за сердце и в изнеможении опустилась на скамью.
— Не пугайся, дитятко! — сказала ей ласково игу-
менья. — Это знакомый тебе боярин, друг твоего покой-
ного мужа, приехал нарочно проститься с тобой!
735
Елена не могла отвечать. Она только дрожала и будто
в испуге смотрела на князя. Долго оба молчали.
— Вот, — проговорил наконец Серебряный, — вот
как нам пришлось свидеться!
— Нам нельзя было свидеться иначе!.. — сказала
едва внятно Елена.
— Зачем не подождала ты меня, Елена Дмитриев-
на? — сказал Серебряный.
— Если б я подождала тебя, — прошептала она, —
у меня недостало бы силы... ты не пустил бы меня...
довольно и так греха на мне, Никита Романыч...
Настало опять молчание. Сердце Серебряного силь-
но билось.
— Елена Дмитриевна! — сказал он прерывающимся
от волнения голосом, — я навсегда прощаюсь с тобой,
навсегда, Елена Дмитриевна... Дай же мне в последний
раз взглянуть на тебя... дай на твои очи в последний раз
посмотреть... откинь свое покрывало, Елена!
Елена исхудалою рукой подняла черную ткань, за-
крывавшую верхнюю часть ее лица, и князь увидел ее
тихие глаза, красные от слез, и встретил знакомый
кроткий взор, отуманенный бессонными ночами и ду-
шевным страданием.
— Прости, Елена! — вскричал он, падая ниц и
кланяясь ей в ноги, — прости навсегда! Дай господь
забыть мне, что могли мы быть счастливы!
— Нет, Никита Романыч, — сказала грустно Еле-
на, — счастья нам не было написано. Кровь Дружины
Андреича была бы между счастьем и нами. За меня он
пошел под опалу, я же погрешила против него, я винов-
ница его смерти! Нет, Никита Романыч, мы не могли
быть счастливы. Да и кто теперь счастлив?
— Да, — повторил Серебряный, — кто теперь сча-
стлив! Не милостив господь ко святой Руси; а все же не
думал я, что нам заживо придется разлучиться навеки!
— Не навеки, Никита Романыч, — улыбнулась гру-
стно Елена, — а только здесь, в этой жизни. Так должно
было быть. Не личила бы нам одним радость, когда вся
земля терпит горе и скорбь великую!
736
— Прости, Елена! — вскричал он, падая ниц и кланяясь ей
в ноги, — прости навсегда!
— Зачем, — сказал с мрачным видом Серебряный, —
зачем не сложил я голову на татарскую саблю! Зачем
не казнил меня царь, когда я ему повинную принес! Что
мне теперь осталось на свете?
— Неси крест свой, Никита Романыч, как я мой крест
несу. Твоя доля легче моей. Ты можешь отстаивать
родину, а мне остается только молиться за тебя и
оплакивать грех мой!
— Какая родина! Где наша родина! — вскричал
Серебряный. — От кого нам ее отстаивать? Не татары,
а царь губит родину! Мысли мои помешались, Елена
Дмитриевна... Ты одна еще поддерживала мой разум;
теперь все передо мной потемнело; не вижу боле, где
ложь, где правда. Все доброе гибнет, все злое одолева-
ет! Часто, Елена Дмитриевна, приходил мне Курбский
на память, и я гнал от себя эти грешные мысли, пока
еще была цель для моей жизни, пока была во мне сила;
но нет у меня боле цели, а сила дошла до конца...
рассудок мой путается...
— Просвети тебя боже, Никита Романыч! Ужели
оттого, что твое счастье погибло, ты сделаешься врагом
государевым, пойдешь наперекор всей земле, которая
держит пред ним поклонную голову! Вспомни, что бог
посылает нам испытание, чтобы мы могли свидеться на
том свете! Вспомни всю жизнь свою и не солги против
самого себя, Никита Романыч!
Серебряный опустил голову. Вскипевшее в нем не-
годование уступило место строгим понятиям долга, в
которых он был воспитан и которое доселе свято хранил
в своем сердце, хотя и не всегда был в силах им
покориться.
— Неси свой крест, Никита Романыч! — повторила
Елена. — Иди, куда посылает тебя царь. Ты отказался
вступить в опричнину и совесть твоя чиста. Иди же на
врагов земли русской; а я не перестану молиться за нас
обоих до последнего моего часа!
— Прости же, Елена, прости, сестра моя! — воск-
ликнул Серебряный, бросаясь к ней.
Она встретила спокойным взглядом его сокрушен-
738
ный взгляд, обняла его, как брата, и поцеловала три раза,
без страха и замешательства, ибо в этом прощальном
лобзании уже не было того чувства, которое за два
месяца, у ограды морозовского сада, кинуло ее в объя-
тия князя невольно и бессознательно.
— Прости! — повторила она и, опустив покрывало,
поспешнй удалилась в свою келью.
Стали звонить к вечерне. Серебряный долго глядел
вослед Елене. Он не слыхал, что говорила ему игуменья,
не почувствовал, как она взяла его за руку и проводила
к ограде. Молча сел он на коня; молча поехал с Михе-
ичем обратным путем по сосновому лесу. Звон мона-
стырского колокола вызвал его наконец из оцепенения.
Он только теперь понял всю тяжесть этого несчастия.
Сердце его разрывалось от этого звона, но он стал
прислушиваться к нему с любовью, как будто в нем
звучало последнее прощание Елены, и, когда мерные
удары, сливаясь в дальний гул, замерли наконец в
вечернем воздухе, ему показалось, что все родное
оторвалось от его жизни и со всех сторон охватило его
холодное, безнадежное одиночество...
На другой день отряд Никиты Романовича продол-
жал свой путь, углубляясь все далее в темные леса,
которые, с небольшими прогулами, соединялись с Брян-
ским дремучим лесом. Князь ехал впереди отряда, а
Михеич следовал за ним издали, не смея прерывать его
молчание.
Ехал Серебряный понуря голову, и среди его мрач-
ных дум, среди самой безнадежности светило ему, как
дальняя заря, одно утешительное чувство. То было
сознание, что он в жизни исполнил долг свой насколько
позволило ему умение, что он шел прямою дорогой и не
разу не уклонился от нее умышленно. Драгоценное
чувство, которое среди скорби и бед, как неотъемлемое
сокровище, живет в сердце честного человека и пред
которым все блага мира, все, что составляет цель люд-
ских стремлений, — есть прах и ничто!
Одно это сознание давало Серебряному возмож-
ность переносить жизнь, и он, проходя все обстоятель-
739
24*
ства своего прощания с Еленой, повторяя себе каждое
ее слово, находил грустную отраду в мысли, что в самом
деле было бы совестно радоваться в теперешнее время
и что он не отчуждает себя от братий, но несет вместе
с ними свою долю общего бедствия.
Слова Годунова также пришли ему на память, и он
горько усмехнулся, вспомнив, с какою уверенностью
Годунов говорил о своем знании человеческого сердца.
«Видно, — подумал он, — не все умеет угадывать Борис
Федорыч! Государственное дело и сердце Ивана Василь-
евича ему ведомы; он знает наперед, что скажет Малю-
та, что сделает тот или другой опричник; но как чувст-
вуют те, которые не ищут своих выгод, это для него
потемки!»
И невольно вспомнил Серебряный о Максиме и
подумал, что не так посудил бы названый брат его. Он
не сказал бы ему: она не по любви вышла за Морозова,
она будет ждать тебя! Он сказал бы: спеши, брат мой!
Не теряй ни мгновения; замори коня и останови ее, пока
еще время!
И при мысли о Максиме одиночество Никиты Рома-
новича представилось ему еще безотраднее, ибо он
ведал, что никто уже не сойдется с ним так близко,
никто не пополнит своею душою его души, не поможет
ему выяснить себе многое, что в честном сердце своем
он сознавал смутно, но чего, в тревоге событий, он не
успел облечь в ясные очертания...
И будет его жизнь идти своим чередом, не спраши-
вая, укладываются или нет его лучшие стремления в ее
тяжелые требования, и долго, может быть, она будет
плести свой пестрый узор, где каждая подробность,
взятая отдельно, не имеет понятного смысла, но где все
явления держатся меж собою неразрывною цепью,
истекая одно из другого со строгою последовательно-
стью.
Понурил Серебряный голову, и бросил поводья, и
ехал шагом в глухом бору, столь же мрачном, как и его
думы. Мерные шаги разбойников прерывали тишину
пустыни. Дикие жители ее, белки и верхолазы, не
740
привыкшие в этом безлюдном месте бояться человека,
не прятались при виде ратников, а только взбирались на
верхние сучья и любопытно глядели оттуда на прохо-
дивших, Пестрые дятлы продолжали цепляться за мши-
стую кору древесных стволов, повертывали свои крас-
ные головы на пришельцев и опять принимались стучать
в сухое дерево.
Один из ратников, возбужденный торжественно-
стью природы, затянул вполголоса протяжную песню;
другие стали ему подтягивать, и вскоре все голоса
слились в один хор, который звучными переливами
далеко раздавался под дремучим навесом дерев...
Здесь можно бы кончить эту грустную повесть, но
остается сказать, что было с другими лицами, которые,
быть может, разделяли с Серебряным участие читателя.
О самом Никите Романовиче услышим мы еще раз в
конце нашего рассказа; но для этого надобно откинуть
семнадцать тяжелых лет и перенестись в Москву, в
славный год завоевания Сибири.
Глава 40
ПОСОЛЬСТВО ЕРМАКА
Много времени протекло с того дня, как Серебряный
выехал из Слободы во главе прощенных станичников.
Разные перемены произошли с тех пор на Руси. Но
Иоанн по-прежнему то предавался подозрениям и каз-
нил самых лучших, самых знаменитых граждан; то при-
ходил в себя, каялся всенародно и посылал в монастыри
богатые вклады и длинные синодики с именами убиен-
ных, приказывая молиться за их упокой. Из прежних
его любимцев не уцелело ни одного. Последний и
главный из них, Малюта Скуратов, не испытав ни разу
опалы, был убит при осаде Пайды, или Вейсенштейна,
в Ливонии, и в честь ему Иоанн сжег на костре всех
пленных немцев и шведов.
Сотни и тысячи русских, потеряв всякое терпение и
надежду на лучшие времена, уходили толпами в Литву
и Польшу.
741
Одно только счастливое событие произошло в тече-
ние этих лет: Иоанн постиг всю бесполезность разделе-
ния земли на две половины, из которых меньшая терзала
большую, и по внушению Годунова уничтожил ненави-
стную опричнину. Он возвратился на жительство в
Москву, а страшный дворец в Александровой слободе
запустел навсегда.
Между тем много бедствий обрушилось на нашу
родину.
Голод и мор опустошали города и селения. Несколь-
ко раз хан вторгался в наши пределы, и в один из своих
набегов он сжег все посады под Москвою и большую
часть самого города. Шведы нападали на нас с севера;
Стефан Баторий, избранный сеймом после Жигимонта,
возобновил литовскую войну и, несмотря на мужество
наших войск, одолел нас своим умением и отнял все
наши западные владения.
Царевич Иоанн хотя разделял с отцом его злодейст-
ва, но почувствовал этот раз унижение государства и
попросился у царя с войском против Батория. Иоанн
увидел в этом замысел свергнуть его с престола, и
царевич, спасенный когда-то Серебряным на Поганой
Луже, не избежал теперь лютой смерти. В припадке
бешенства отец убил его ударом острого посоха. Рас-
сказывают, что Годунов, бросившийся между них, был
жестоко изранен царем и сохранил жизнь только бла-
годаря врачебному искусству пермского гостя Строго-
нова.
После этого убийства Иоанн, в мрачном отчаянии,
созвал думу, объявил, что хочет идти в монастырь, и
приказал приступить к выбору другого царя. Снисходя,
однако, на усиленные просьбы бояр, он согласился
остаться на престоле и ограничился одним покаянием и
богатыми вкладами; а вскоре потом снова начались
казни. Так, по свидетельству Одерборна, он осудил на
смерть две тысячи триста человек за то, что они сдали
врагам разные крепости, хотя сам Баторий удивлялся их
мужеству.
Теряя свои владения одно за другим, теснимый со
742
всех сторон врагами, видя внутреннее расстройство
государства, Иоанн был жестоко поражен в своей
гордости, и это мучительное чувство отразилось на его
приемах и наружности. Он стал небрежен в одежде,
высокий стан его согнулся, очи померкли, нижняя че-
люсть отвисла, как у старика, и только в присутствии
других он делал усилие над собою, гордо выпрямлялся
и подозрительно смотрел на окольных, не замечает ли
кто в нем упадка духа. В эти минуты он был еще
страшнее, чем во дни своего величия. Никогда еще
Москва не находилась под таким давлением уныния и
боязни.
В это скорбное время неожиданная весть пришла от
крайнего востока и ободрила все сердца, и обратила
общее горе в радость.
От отдаленных берегов Камы прибыли на Москву
знатные купцы Строгоновы, родственники того самого
гостя, который излечил Годунова. Они имели от царя
жалованные грамоты на пустые места земли Пермской
и жили на них владетельными князьями, независимо от
пермских наместников, с своею управой и с своею
дружиной, при единственном условии охранять границы
от диких сибирских народов, наших недавних и сомни-
тельных данников. Тревожимые в своих деревянных
крепостях ханом Кучумом, они решились двинуться за
Каменный Пояс и сами напасть на неприятельскую
землю. Для успешного исполнения этого замысла они
обратились к нескольким разбойничьим, или, как они
себя называли, казачьим атаманам, опустошавшим в то
время с шайками своими берега Волги и Дона. Главней-
шими из них были Ермак Тимофеев и Иван Кольцо,
осужденный когда-то на смерть, но спасшийся чудес-
ным образом от царских стрельцов и долгое время
пропадавший без вести. Получив от Строгоновых дары
и грамоту, которою они призывались на славное и
честное дело, Ермак и Кольцо с тремя другими атамана-
ми подняли знамя на Волге, собрали из удалой вольницы
дружину и явились на зов Строгоновых. Сорок стругов
были тотчас нагружены запасами и оружием, и неболь-
743
шая дружина под воеводством Ермака, отслушав моле-
бен, поплыла с веселыми песнями вверх по реке Чусо-
вой, к диким горам Уральским. Разбивая везде враждеб-
ные племена, перетаскивая суда из реки в реку, они
добрались до берегов Иртыша, где разбили и взяли в
плен главного воеводу сибирского Маметкула и овладе-
ли городом Сибирью, на высоком и крутом обрыве
Иртыша. Не довольствуясь этим завоеванием, Ермак
пошел далее, покорил весь край до Оби и заставил
побежденные народы целовать свою кровавую саблю
во имя царя Ивана Васильевича всея Руси. Тогда только
он дал знать о своем успехе Строгоновым и в то же
время послал любимого своего атамана Ивана Кольцо к
Москве бить челом великому государю и кланяться ему
новым царством.
С этою-то радостною вестью Строгоновы приехали
к Иоанну, и вскоре после них прибыло Ермаково по-
сольство.
Ликование в городе было неслыханное. Во всех
церквах служили молебны, все колокола звонили, как
в светлое Христово воскресенье. Царь, обласкав Стро-
гоновых, назначил торжественный прием Ивану Кольцу.
В большой кремлевской палате, окруженный всем
блеском царского величия, Иван Васильевич сидел на
престоле в Мономаховой шапке, в золотой рясе, укра-
шенной образами и дорогими каменьями. По правую его
руку стоял царевич Федор, по левую — Борис Годунов.
Вокруг престола и дверей размещены были рынды в
белых атласных кафтанах, шитых серебром, с узорными
топорами на плечах. Вся палата была наполнена князь-
ями и боярами.
Воспрянув духом после известия, привезенного
Строгоновыми, Иоанн смотрел не так уже мрачно, и на
устах его даже появлялась улыбка, когда он обращался
к Годунову с каким-нибудь замечанием. Но лицо его
сильно постарело, морщины сделались глубже, на голо-
ве осталось мало волос, а из бороды они вылезли вовсе.
Борис Федорович в последние годы пошел быстро в
гору. Он сделался шурином царевича Федора, за кото-
744
рого вышла сестра его Ирина, и имел теперь важный
сан конюшего боярина. Рассказывали даже, что царь
Иван Васильевич, желая показать, сколь Годунов и
невестка близки его сердцу, поднял однажды три перста
кверху и сказал, дотрагиваясь до них другою рукой:
«Се Феодор, се Ирина, се Борис; и как руке моей
было бы одинаково больно, который из сих перстов от
нея бы ни отсекли, так равно тяжело было бы моему
сердцу лишиться одного из трех возлюбленных чад
моих».
Такая необыкновенная милость не родила в Годунове
ни надменности, ни высокомерия. Он был по-прежнему
скромен, приветлив к каждому, воздержан в речах, и
только осанка его получила еще более степенности и ту
спокойную важность, которая была прилична его высо-
кому положению.
Не без ущерба своему нравственному достоинству
достиг, однако, Годунов такого влияния и таких поче-
стей. Не всегда удавалось его гибкому нраву устранять
себя от дел, не одобряемых его совестью. Так он, видя
в Малюте слишком сильного соперника и потеряв на-
дежду уронить его в глазах Иоанна, вошел с ним в
тесную дружбу и, чтобы связать сильнее их обоюдные
выгоды, женился на его дочери. Двадцать лет, проведен-
ных у престола такого царя, как Иоанн Грозный, не
могли пройти даром Борису Федоровичу, и в нем уже
совершился тот горестный переворот, который, по мне-
нию современников, обратил в преступника человека,
одаренного самыми высокими качествами.
Глядя на царевича Феодора, нельзя было удержаться
от мысли, что слабы те руки, которым по смерти Иоанна
надлежало поддерживать государство. Ни малейшей
черты ни умственной, ни душевной силы не являло его
добродушное, но безжизненное лицо. Он был уже два
года женат, но выражение его осталось детское. Ростом
он был мал, сложением дрябл, лицом бледен и опухло-
ват. Притом он постоянно улыбался и смотрел робко и
запуганно. Недаром ходили слухи, что, царь жалея о
старшем сыне, говаривал иногда Феодору: «Пономарем
бы тебе родиться, Федя, а не царевичем!»
745
«Но бог милостив, — думали многие, — пусть царе-
вич слаб; благо, что не пошел он ни в батюшку, ни в
старшего брата! А помогать ему будет шурин его, Борис
Федорович. Этот не попустит упасть государству!»
Шепот, раздавшийся во дворце между придворными,
был внезапно прерван звуками труб и звоном колоко-
лов. В палату вошли, предшествуемые шестью стольни-
ками, посланные Ермака, а за ними Максим и Никита
Строгоновы с дядею их Семеном. Позади несли дорогие
меха, разные странные утвари и множество необыкно-
венного, еще невиданного оружия.
Иван Кольцо, шедший во главе посольства, был
человек лет под пятьдесят, среднего роста, крепкого
телосложения, с быстрыми проницательными глазами, с
черною, густою, но короткою бородой, подернутою
легкою проседью.
— Великий государь! — сказал он, приблизившись к
ступеням престола, — казацкий твой атаман Ермак
Тимофеев, вместе со всеми опальными волжскими ка-
заками, осужденными твоею царскою милостью на
смерть, старались заслужить свои вины и бьют тебе
челом новым царством. Прибавь, великий государь, к
завоеванным тобою царствам Казанскому и Астрахан-
скому еще и это Сибирское, доколе всевышний благо-
волит стоять миру!
И, проговорив свою краткую речь, Кольцо вместе с
товарищами опустился на колени и преклонил голову до
земли.
— Встаньте, добрые слуги мои! — сказал Иоанн. —
Кто старое помянет, тому глаз вон, и быть той преж-
ней опале не в опалу, а в милость. Подойди сюда,
Иван!
И царь протянул к нему руку, а Кольцо поднялся с
земли и, чтобы не стать прямо на червленое подножие
престола, бросил на него сперва свою баранью шапку,
наступил на нее одною ногою и, низко наклонившись,
приложил уста свои к руке Иоанна, который обнял его
и поцеловал в голову.
— Благодарю преблагую и пресущественную троицу,
746
— сказал царь, подымая очи к нему, — зрю надо мною
всемогущий промысел божий, яко в то самое время,
когда теснят меня враги мои, и даже ближние слуги с
лютостщо умышляют погубить меня, всемилостивый бог
дарует мне верх и одоление над погаными и славное
приращение моих государств!
И, обведя торжествующим взором бояр, он прибавил
с видом угрозы:
— Аще господь бог за нас, никто же на ны! Имеющие
уши слышати да слышат!
Но в то же время он почувствовал, что напрасно
омрачает общую радость, и обратился к Кольцу, мило-
стиво смягчая выражение очей:
— Как нравится тебе на Москве? Видывал ли ты где
такие палаты и церкви? Али, может, ты уже прежде
бывал здесь?
Кольцо улыбнулся скромно-лукавою улыбкой, и бе-
лизна зубов его как будто осветила его смуглое, заго-
релое лицо.
— Где нам, малым людям, такие чудеса видеть! —
сказал он, смиренно пожимая плечами. — Нам и во сне
такой лепоты не снилось, великий государь! Живем на
Волге по-мужицки, про Москву только слухом слышим,
а в этом краю отродясь не бывали!
— Поживи здесь, — сказал Иоанн благоволитель-
но, — я тебя изрядно велю угостить. А грамоту Ермака
мы прочли и вразумели и уже приказали князю Волхов-
скому да Ивану Глухову с пятьюстами стрельцов идти
помогать вам.
— Премного благодарствуем, — отвечал Кольцо,
низко кланяясь, — только не мало ли будет, великий
государь?
Иоанн удивился смелости Кольца.
— Вишь ты какой прыткий! — сказал он, глядя на
него строго. — Уж не прикажешь ли мне самому
побежать к вам на прибавку? Ты думаешь, мне только
и заботы, что ваша Сибирь? Нужны люди на хана и на
Литву. Бери что дают, а обратным путем набирай охот-
ников. Довольно теперь всякой голи на Руси. Вместо
747
чтоб докучать мне по все дни о хлебе, пусть идут
селиться на те новые земли! И архиерею вологодскому
написали мы, чтоб отрядил десять попов, обедни вам
служить и всякие требы исполнять.
— И на этом благодарим твою царскую милость, —
ответил Кольцо, вторично кланяясь. — Это дело доброе;
только не пожалей уж, великий государь, поверх попов,
и оружия дать нам сколько можно, и зелья огнестрель-
ного поболе!
— Не будет вам и в этом оскудения. Есть Волховско-
му про то указ от меня.
— Да уж и пообносились мы больно, — заметил
Кольцо, с заискивающею улыбкой и пожимая пле-
чами.
— Небось некого в Сибири по дорогам грабить? —
сказал Иоанн, недовольный настойчивостью атамана. —
Ты, я вижу, ни одной статьи на забываешь для своего
обихода, только и мы нашим слабым разумом обо всем
уже подумали. Одежу поставят вам Строгоновы; я же
положил мое царское жалованье начальникам и рядо-
вым людям. А чтоб и ты, господин советчик, не остался
без одежи, жалую тебе шубу с моего плеча!
По знаку царя два стольника принесли дорогую
шубу, покрытую золотою парчой, и надели ее на Ивана
Кольцо.
— Язык-то у тебя, я вижу, остер, — сказал Иоанн, —
а есть ли острая сабля?
— Да была недурна, великий государь, только по-
иступилась маленько о сибирские головы!
— Возьми из моей оружейной саблю, какая тебе
боле приглянется, да смотри выбирай по сердцу, кото-
рая покраше. А впрочем, ты, я думаю, чиниться не
будешь!
Глаза атамана загорелись от радости.
— Великий государь! — воскликнул он, — изо всех
твоих милостей эта самая большая! Грех было бы мне
чиниться на твоем подарке! Уж выберу в твоей оружей-
ной что ни на есть лучшее! Только, — прибавил он,
немного подумав, — коли ты, государь, не жалеешь
748
своей сабли, то дозволь лучше отвезти ее от твоего
царского имени Ермолаю Тимофеичу.
— Об нем не хлопочи, мы и его не забудем. А коли
ты боишься, что я не сумею угодить на его милость, то
возьми две сабли, одну себе, другу Ермаку.
— Исполать же тебе, государь! — воскликнул Коль-
цо в восхищении. — Уж мы этими двумя саблями
послужим твоему царскому здоровью!
— Но сабель не довольно, — продолжал Иоанн. —
Нужны вам еще добрые брони. На тебя-то мы, приме-
ривши, найдем, а на Ермака как бы за глаза не ошибить-
ся. Какого он будет роста?
— Да, пожалуй, будет с меня, только в плечах
пошире. Вот хоть бы с этого молодца, — сказал Кольцо,
оборачиваясь на одного из своих товарищей, здорового
детину, который, принесши огромную охапку оружия и
свалив ее на землю, стоял позади его с разинутым ртом
и не переставал дивиться то на золотую одежду царя,
то на убранство рынд, окружавших престол. Он даже
попытался вступить потихоньку с одним из них в разго-
вор, чтобы узнать, все ли они царевичи. Но рында
посмотрел на него так сурово, что тот не возобновлял
более вопроса.
— Принести сюда, — сказал царь, — большую броню
с орлом, что висит в оружейной на первом месте. Мы
примерим ее на этого пучеглазого.
Вскоре принесли тяжелую железную кольчугу с
медною каймой вокруг рукавов и подола и с золотыми
двуглавыми орлами на груди и спине.
Кольчуга была скована на славу и возбудила во всех
одобрительный шепот.
— Надевай ее, тюлень! — сказал царь.
Детина повиновался, но, сколько ни силился, он не
мог в нее пролезть и допихнул руки только до половины
рукавов.
Какое-то давно забытое воспоминание мелькнуло
при этом виде в памяти Иоанна.
— Будет, — сказал Кольцо, следивший заботливо за
детиной, — довольно пялить царскую кольчугу-то! По-
749
жалуй разорвешь ее, медведь! Государь, — продолжал
он, — кольчуга добрая и будет Ермолаю Тимофеевичу в
самую пору, а этот потому пролезть не может, что ему
кулаки мешают. Этаких кулаков ни у кого нет, окромя
его!
— А ну-ка, покажи свой кулак! — сказал Иоанн, с
любопытством вглядываясь в детину.
Но детина смотрел на него в недоумении, как будто
не понимая приказания.
— Слышь ты, дурень, — повторил Кольцо, — покажи
кулак царской его милости!
— А коли он мне за то голову срубит? — сказал
детина протяжно, и на глупом лице его изобразилось
опасение.
Царь засмеялся, и все присутствующие с трудом
удержались от смеха.
— Дурак, дурак! — сказал Кольцо с досадою, — был
ты всегда дурак и теперь дураком остался!
И, высвободив детину из кольчуги,/он подтащил его
к престолу и показал царю его широкую кисть, более
похожую на медвежью лапу, чем на человеческую
руку.
— Не взыщи, великий государь, за его простоту. Он
в речах глуп, а на деле парень добрый. Он своими
руками царевича Маметкула полонил.
— Как его зовут? — спросил Иоанн, все пристальнее
вглядываясь в детину.
— А Митькою! — отвечал тот добродушно.
— Постой! — сказал Иоанн, узнавая вдруг Мить-
ку, — ты, никак, тот самый, что в Слободе за Морозова
бился и Хомяка оглоблей убил?
Митька глупо улыбнулся.
— Я тебя, дурня, сначала не признал, а теперь
вспоминаю твою рожу!
— А я тебя сразу признал! — ответил Митька с
довольным видом, — ты на высоком ослоне у самого
поля сидел!
Этот раз все громко засмеялись.
— Спасибо тебе, — сказал Иоанн, — что не забыл
750
меня, малого человека. Как же ты Маметкула-то в полон
взял?
— Жовотом навалился! — ответил Митька равнодуш-
но и не понимая, чему опять все захохотали.
— Да, — сказал Иоанн, глядя на Митьку, — когда
этакий чурбан навалится, из-под него уйти нелегко.
Помню, как он Хомяка раздавил. Зачем же ты ушел
тогда с поля? Да и как ты из Слободы в Сибирь попал?
Атаман толкнул Митьку неприметно локтем, чтобы он
молчал, но тот принял этот знак в противном смысле.
— А он меня с поля увел! — сказал он, тыкнув
пальцем на атамана.
— Он тебя увел? — произнес Иван Васильевич,
посматривая с удивлением на Кольцо. — А как же, —
продолжал он, вглядываясь в него, — как же ты сказал,
что в первый раз в этом краю? Да погоди-ка, брат, мы,
кажется, с тобой старые знакомые. Не ты ли мне
когда-то про Голубиную книгу рассказывал? Так, так, я
тебя узнаю. Да ведь это ты и Серебряного-то из тюрьмы
увел. Как же это, божий человек, ты прозрел с того
времени? Куда на богомолье ходил? К каким мощам
прикладывался?
И, наслаждаясь замешательством Кольца, царь уст-
ремлял на него свой проницательный, вопрошающий
взгляд.
Кольцо опустил глаза в землю.
— Ну, — сказал наконец царь, — что было, то было;
а что прошло, то травой поросло. Поведай мне только,
зачем ты, после рязанского дела, не захотел принести
мне повинной вместе с другими ворами?
— Великий государь, — ответил Кольцо, собирая все
свое присутствие духа, — не заслужил я еще тогда
твоей великой милости. Совестно мне было тебе на
глаза показаться; а когда князь Никита Романыч повел
к тебе товарищей, я вернулся опять на Волгу, к Ермаку
Тимофеичу, не приведет ли бог какую новую службу
тебе сослужить!
— А пока мою казну с судов воровал да послов моих
кизилбашских на пути к Москве грабил?
751
Вид Ивана Васильевича был более насмешлив, чем
грозен. Со времени дерзостной попытки Ванюхи Пер-
стня, или Ивана Кольца, прошло семнадцать лет, а
злопамятность царя не продолжалась так долго, когда
она не была возбуждена прямым оскорблением его
личного самолюбия.
Кольцо прочел на лице Иоанна одно желание по-
смеяться над его замешательством. Соображаясь с
этим расположением, он потупил голову и погладил
затылок, сдерживая в лукавых устах своих едва замет-
ную улыбку.
— Всякого бывало, великий государь! — проговорил
он вполголоса. Виноваты перед твоею царскою мило-
стью!
— Добро, — сказал Иоанн, — вы с Ермаком свои
вины загладили, и все прошлое теперь забыто; а кабы
ты прежде попался мне в руки, ну, тогда не прогневай-
ся!..
Кольцо не отвечал ничего, но подумал про себя:
«Затем-то я тогда и не пошел к тебе с повинною, великий
государь!»
— Погоди-ка, — продолжал Иоанн, — здесь должен
быть твой приятель!
— Эй! — сказал он, обращаясь к царедворцам, —
здесь ли тот разбойничий воевода, как бишь его? Ми-
кита Серебряный?
Говор пробежал по толпе, и в рядах сделалось
движение, но никто не отвечал.
— Слышите? — повторил Иоанн, возвышая голос, —
я спрашиваю, тут ли тот Микита, что отпросился к
Жиздре с ворами служить?
На вторичный вопрос царя выступил из рядов один
старый боярин, бывший когда-то воеводою в Калуге.
— Государь, — сказал он с низким поклоном, — того,
о ком ты спрашиваешь, здесь нет. Он тот самый год, как
пришел на Жиздру, тому будет семнадцать лет, убит
татарами, и вся его дружина вместе с ним полегла.
— Право? — сказал Иоанн, — а я и не знал!..
Ну, — продолжал он, обращаясь а Кольцу, — на нет
752
и суда нет, а я хотел вас свести да посмотреть, как
вы поцелуетесь!
На лице атамана выразилась печаль.
— Жаль тебе, что ли, товарища? — спросил Иоанн
с усмешкой.
— Жаль, государь! — отвечал Кольцо, не боясь
раздражить царя этим признанием.
— Да, — сказал царь презрительно, — так оно и
должно быть: свой своему поневоле брат!
Вправду ли Иоанн не ведал о смерти Серебряного
или притворился, что не ведает, чтоб этим показать, как
мало он дорожит теми, кто не ищет его милости, бог
весть! Если же в самом деле он только теперь узнал о
его участи, то пожалел ли о нем или нет, это также
трудно решить; только на лице Иоанна не написалось
сожаления. Он, по-видимому, остался так же равноду-
шен, как и до полученного им ответа.
— Поживи здесь, — сказал он Ивану Кольцу, — а
когда придет время Волховскому выступать, иди с ним
обратно в Югорскую землю... Да, я было и забыл, что
Волховский свое колено от Рюрика ведет. С этими
вельможными князьями управиться нелегко; пожалуй,
и со мной захотят в разрядах считаться! Не все они,
как тот Микита, в станичники просятся. Так чтобы не
показалось ему обидным быть под рукою казацкого
атамана, жалую ныне же Ермака князем Сибирским!
Щелкалов, — сказал он стоявшему поодаль думному
дьяку, — изготовь к Ермаку милостивую грамоту, что-
бы воеводствовать ему надо всею землей Сибирскою,
а Маметкула чтобы к Москве за крепким караулом
прислал. Да кстати напиши грамоту и Строгоновым, что
жалую-де их за добрую службу и радение: Семену
Большую и Малую Соль на Волге, а Никите и Максиму
торговать во всех тамошних городах и острожках бес-
пошлинно.
Строгоновы низко поклонились.
— Кто из вас, — спросил вдруг Иоанн, — излечил
Бориса в ту пору, как я его осном поранил?
— То был мой старший брат, Григорий Аникин, —
753
отвечал Семен Строгонов, — Он волею божьею про-
шлого года умре!
— Не Аникин, а Аникьевич! — сказал царь с ударе-
нием на последнем слоге, — я тогда же велел ему быть
выше гостя и полным отчеством называться. И вам всем
указываю писаться с вичем и зваться не гостями, а
именитыми людьми!
Царь занялся рассмотрением мягкой рухляди и про-
чих даров, присланных Ермаком, и отпустил Ивана
Кольцо, сказав ему еще несколько милостивых насме-
шек.
За ним разошлось и все собрание.
В этот день Кольцо вместе с Строгоновыми обедал у
Бориса Федоровича, за многолюдным столом.
После обычного осушения кубков во здравие царя,
царевича, всего царского дома высокопреосвященного
митрополита Годунов поднял золотую братину и пред-
ложил здоровье Ермака Тимофеевича и всех его добрых
товарищей.
— Да живут они долго на славу Русской земли! —
воскликнули все гости, вставая с мест и кланяясь Ивану
Кольцу.
— Бьем тебе челом ото всего православного мира, —
сказал Годунов с низким поклоном, — а в твоем лице и
Ермаку Тимофеевичу, ото всех князей и бояр, ото всех
торговых людей, ото всего люда русского! Прими ото
всей земли великое челобитие, что сослужили вы ей
службу великую!
— Да перейдут, — воскликнули гости, — да перейдут
имена ваши к сыновьям, и ко внукам, и к поздним
потомкам, на вечную славу, за любовь и образец, на
молитвы и поучение!
Атаман встал из-за стола, чтобы благодарить за честь,
но выразительное лицо его внезапно изменилось от
душевного волнения, губы задрожали, а на смелых
глазах, быть может первый раз в жизни, навернулись
слезы.
— Да живет Русская земля! — проговорил он тихо
и, поклонившись на все стороны, сел опять на свое
место, не прибавляя ни слова.
754
Годунов попросил атамана рассказать что-нибудь про
свои похождения в Сибири, и Кольцо, умалчивая о себе,
стал рассказывать с одушевлением про необыкновен-
ную силу и храбрость Ермака, про его строгую справед-
ливость и про християнскую доброту, с какою он всегда
обходился с побежденными.
— На эту-то доброту, — заключил Кольцо, — Ермак
Тимофеевич взял, пожалуй, еще более, чем на свою
саблю. Какой острог или город ихный, бывало, ни
завоюем, он тотчас всех сам обласкает, да еще и одарит.
А когда мы взяли Маметкула, так он уж не знал, как и
честить его; с своих плеч шубу снял и надел на царевича.
И прошла про Ермака молва по всему краю, что под его
руку сдаваться не тяжело; и много разных князьков
тогда же сами к нему пришли и ясак принесли. Веселое
нам было житье в Сибири, — продолжал атаман, — об
одном только жалел я: что не было с нами князя Никиты
Романыча Серебряного; и ему бы по сердцу пришлось,
и нам вместе было бы моготнее. Ты, кажется, Борис
Федорыч, был в дружбе с ним. Дозволь же теперь про
его память выпить!
— Царствие ему небесное! — сказал со вздохом
Годунов, которому ничего не стоило выказать участие к
человеку, столь уважаемому его гостем. — Царствие
ему небесное! — повторил он, наливая стопу, — часто
я о нем вспоминаю!
— Вечная ему память! — сказал Кольцо, и, осушив
свою стопу, он опустил голову и задумался.
Долго еще разговаривали за столом, а когда кон-
чился обед, Годунов и тут никого не отпустил домой,
но пригласил каждого сперва отдохнуть, а потом про-
вести с ним весь день. Угощения следовали одно за
другим, беседа сменяла беседу, и только поздним ве-
чером, когда объезжие головы уже несколько раз про-
ехались по улицам, крича, чтобы гасили кормы и огни,
гости разошлись, очарованные радушием Бориса Фе-
доровича.
755
Прошло более трех веков после описанных дел, и
мало осталось на Руси воспоминаний того времени.
Ходят еще в народе предания о славе, роскоши и
жестокости грозного царя, поются еще кое-где песни
про осуждение на смерть царевича, про нашествия татар
на Москву и про покорение Сибири Ермаком Тимофе-
евичем, которого изображения, вероятно несходные,
можно видеть доселе почти во всех избах сибирских;
но в этих преданиях, песнях и рассказах правда меша-
ется с вымыслом, и они дают действительным событиям
колеблющиеся очертания, показывая их как будто
сквозь туман и дозволяя воображению восстановлять
по произволу эти неясные образы.
Правдивее говорят о наружной стороне того царст-
вования некоторые уцелевшие здания, как церковь Ва-
силия Блаженного, коей пестрые главы и узорные те-
ремки могут дать понятие о причудливом зодчестве
Иоаннова дворца в Александровой слободе, или цер-
ковь Трифона Напрудного, между Бутырскою и Кре-
стовскою заставами, построенная сокольником Трифо-
ном вследствие данного им обета, и где доселе видно
изображение святого угодника на белом коне, с крече-
том на рукавице1.
Слобода Александрова, после выезда из нее царя
Ивана Васильевича, стояла в забвении, как мрачный
памятник его гневной набожности, и оживилась только
один раз, но и то на краткое время. В смутные годы
самозванцев молодой полководец князь Михаил Василь-
евич Скопин-Шуйский, в союзе с шведским генералом
Делагарди, сосредоточил в ее крепких стенах свои
воинские силы и заставил оттуда польского воеводу
Сапегу снять долговременную осаду с Троицко-Серги-
евской лавры.
1 С тех пор, как это написано, церковь Трифона Напрудного
так переделана, что ее узнать нельзя. Снаружи приделки, а
внутренность переписана и перештукатурена в новом вкусе. Все
это вследствие пожертвований доброхотных дателей, как объяс-
няют причетники. (Примеч. автора.)
756
Впоследствии, рассказывает предание, в одну жес-
токую зиму, в январе месяце, к ужасу жителей, нашла
на Александрову слободу черная туча, спустилась над
самым дворцом и разразилась над ним громовым уда-
ром, от которого запылали терема и вся Слобода об-
ратилась в пепел. От жилища роскоши, разврата,
убийств и святотатных богослужений не осталось и
следа...
Да поможет бог и нам изгладить из сердец наших
последние следы того страшного времени, влияние ко-
торого, как наследственная болезнь, еще долго потом
переходила в жизнь нашу от поколения к поколению!
Простим грешной тени царя Иоанна, ибо не он один
несет ответственность за свое царствованье; не он
один создал свой произвол, и пытки, и казни, и науш-
ничество, вошедшее в обязанность и в обычай. Эти
возмутительные явления были подготовлены предыду-
щими временами, и земля, упавшая так низко, что
могла смотреть на них без негодования, сама создала
и усовершенствовала Иоанна, подобно тому, как рабо-
лепные римляне времен упадка создавали Тивериев,
Неронов и Калигул.
Лица, подобные Василию Блаженному, князю Репни-
ну, Морозову или Серебряному, являлись нередко, как
светлые звезды на безотрадном небе нашей русской
ночи, но, как и самые звезды, они были бессильны
разогнать ее мрак, ибо светились отдельно и не были
сплочены, ни поддерживаемы общественным мнением.
Простим же грешной тени Ивана Васильевича, но помя-
нем добром тех, которые, завися от него, устояли в
добре, ибо тяжело не упасть в такое время, когда все
понятия извращаются, когда низость называется добро-
детелью, предательство входит в закон, а самая честь и
человеческое достоинство почитаются преступным на-
рушением долга! Мир праху вашему, люди честные!
Платя дань веку, вы видели в Грозном проявление
божьего гнева и сносили его терпеливо; но вы шли
прямою дорогой, не бояся ни опалы, ни смерти; и жизнь
ваша не прошла даром, ибо ничто на свете не пропадает,
757
и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль выра-
стает, как древо; и многое доброе и злое, что как
загадочное явление существует поныне в русской жиз-
ни, таит свои корни в глубоких и темных недрах минув-
шего.
Конец 1840-х гг. — 1861.
Т. Гриц
ЕРМАК
ХуДОЯКШНШК Но 1Ку®1ЬМ1ШШ
О «СТРАНАХ ПОЛУНОЩНЫХ»
И О «МЯГКОМ ЗОЛОТЕ»
В старой Московии самым дорогим товаром была
«мягкая рухлядь» — меха соболей, бобров, горностаев,
белок, лисиц.
Из Англии и Персии, из Голландии и Бухары, из
Швеции и Турции приезжали купцы в Москву за пуш-
ниной. В Лейпциге была открыта ярмарка, где продава-
лись русские меха.
Мехами торговала Москва с Западом и Востоком,
мехами брали дань с подвластных народов, мехами
награждал царь бояр и служилых людей.
А зверь уходил от охотников все дальше и дальше
на восток. Переводился бобер, все реже попадался
соболь. Пустели звериные угодья. Дорожали меха.
Царь и купцы посылали охотников на восток про-
мышлять белку и соболя.
В поисках «мягкого золота» дошли звероловы до
Каменного пояса, как тогда назывались Уральские горы.
761
За Каменным поясом начиналась Сибирь, а по нижнему
течению реки Оби — Югорская земля. Говорили, что за
Камнем лежат «страны полунощные», где полгода длит-
ся ночь.
О странах полунощных ходили на Руси диковинные
слухи. Рассказывали, будто живут там люди, у которых
рот на темени: когда едят, кладут рыбу или мясо под
шапку, а плечи у них движутся, как челюсти, вверх и
вниз. Есть там еще люди безглавые: рты у них меж
плечами, а глаза на груди. Наконец, есть там люди
«дикие и безгласные» — только рычат и шипят. Зимой,
как начнутся морозы, люди эти замерзают и стоят, как
деревья. А весной пригреет солнце — они оттаивают и
оживают.
Ведут югорские люди торг с соседними племенами.
Перед тем как замерзнуть, кладут свои товары в назна-
ченное место. Приходят купцы к тому месту, берут их
товары, а взамен кладут свои. Бывает и так: увидят
югорцы, что товаров им дали мало, воевать начинают,
кровь льют.
Говорили еще, будто в Югре из туч на землю падают
разные звери, особенно белки и молодые олени; что
вздымаются там высокие горы, которые раздирают сво-
ими вершинами облака; что в горах тех копошатся люди.
Сидят они внутри горы и что-то кричат через проруб-
ленное оконце, а что кричат — понять нельзя.
А богатств в Югре — счету нет: и золото, и серебро,
и дорогие камни. Много там разного зверя пушного;
соболей — как в Москве грачей.
Ходили в страны полунощные торговые и служилые
люди, пробирались за Камень, к устью реки Оби.
Место это называлось Мангазеей.
Ездили туда или Студеным морем на одномачтовых
парусных кочах, или реками Камой и Печорой в малых
судах — обласах.
Путь был трудный.
В море гибли русские суда ото льдов и ветров.
Между реками и озерами приходилось волочить суда
волоком по земле, а поклажу переносить на спине.
Переваливали русские через скалистые дикие горы,
762
а на волоке подстерегали их самоеды. Отнимали у
промышленников товары и лодки, а то и самих убивали.
За Камнем, на севере, тянулись пустынная тундра,
поросшая мелким лесом, голые, каменистые места, топи
и болота. Пробираться туда приходилось «непроходи-
мыми пропастьми, снегом и лесами». Но русских это не
пугало.
В полунощных странах было много богатств. Само-
еды, остяки и вогуличи отдавали соболей и песцов за
грошовые стеклянные бусы, за железные ножи, за
чугунные котелки. Съездит один раз купец в Мангазею,
возьмет туда дешевый товар, а обратно везет меха,
которым и цены нет. На чугунный котел выменяет вязку
собольих шкурок в сорок штук. На десяток гвоздей —
дорогого дымчатого песца.
И за одну поездку богател купец.
Поселились в угодьях по реке Каме братья Строга-
новы. Они рубили леса, мостили мосты через грязи и
болота, ставили соляные варницы, плавили железную
руду. Быстро богатели промышленники. Стали величать
их «именитыми людьми».
Царь Иван IV прибавил к владениям Строгановых
земли по Каме и Чусовой, разрешил строить города и
крепости, заселять их людьми всякого чина, держать
пушки, пушкарей и Пищальников1. За это Строгановы
обязаны были защищать Русскую землю от набегов
сибирских народов.
Слава о пушных богатствах Мангазеи и Югры рас-
пространилась по всей Московии. Англичане и голлан-
дцы засылали купцов и приказчиков разведать путь в те
земли.
Задумали проникнуть в Сибирь и Строгановы.
Уже издавна приезжали в Россию иностранные куп-
цы. Меняли дорогие ткани и металлические изделия на
русские меха, на лен, мед, воск и кожи.
Но Строгановым этого было мало.
1 Пищальник — воин, вооруженный пищалью. Пи-
щалью называлось ружье, пушка, вообще огнестрельное оружие.
763
Они сами хотели продавать свои товары на рынках
Западной Европы, а для этого нужны были люди, знаю-
щие иностранные языки, знакомые с европейскими
обычаями.
Царь Иван Васильевич воевал тогда с Литвой, Ливо-
нией и Швецией: хотел пробиться к берегам Балтийско-
го моря. Воевал он долго, брал в плен поляков, немцев,
шведов. Пленных называли «полонными людьми». Они
считались военной добычей. Их можно было купить и
сделать рабами.
Строгановы ездили по государственным тюрьмам,
скупали пленных.
В ярославской тюрьме сидел тогда Оливер Брюн-
нель, родом из Брюсселя. Брюннель был торговым
приказчиком и служил на голландском корабле. При-
ехав в Россию, он начал изучать русский язык. Однако
Брюннель оказался слишком любознательным. Заподоз-
рили его в шпионстве, арестовали и посадили в тюрьму.
Здесь его выкупили Строгановы.
Брюннель служил у именитых людей приказчиком.
Вместе с русскими ездил он несколько раз в Голландию.
Побывал в Париже. Продавал с большой выгодой рус-
ские меха. Потом Строгановы послали его в Мангазею.
Ездил он туда дважды. Первый раз — сухим путем,
второй — по Печоре и морем.
Сибирь, ее быстрые рыбные реки, глухие леса, пол-
ные зверя и птицы, весьма понравились Брюннелю.
Задумал он морем и Обью добраться до Китая. Уговари-
вал Строгановых, сулил большие выгоды.
Строгановы согласились.
Поехал Брюннель в Голландию нанимать опытных
мореходов. Побывал в 1581 году у знаменитого матема-
тика и географа Гергарда Меркатора. Рассказал ему о
своих поездках в Мангазею, о полунощных странах, о
диких людях, которые одеваются в звериные меха и
рыбьи кожи. Рассказал и о своем замысле поехать в
Китай.
— Два искусных корабельных мастера построили
уже на строгановских верфях суда для плавания по
Ледовитому океану. Отправляюсь в Антверпен, хочу
764
пригласить на службу к Строгановым опытных морехо-
дов, — говорил он.
Слушал Брюннеля ученый голландец и удивлялся.
Но, должно быть, не напрасно сидел Брюннель в
ярославской тюрьме. Боясь, что русские дознаются о
его темных умыслах, он к Строгановым не вернулся,
мореходные карты продал голландским купцам, а сам
поступил на службу в Дании.
Мореходный поиск на Обь Строгановым не удался.
Замыслили они сухопутный поиск за Каменный пояс.
Продвигаясь на восток, Строгановы столкнулись с
татарами, которые держали Сибирь в своих руках.
После падения Казани владетель Сибирского царст-
ва хан Эдигар бил челом московскому государю, просил
защитить от врагов. Обещал платить дань «со всякого
человека по соболю и по белке сибирской». Боялся хан
бухарских царевичей, которые хотели отнять у него
престол. И боялся он не зря.
Вскоре сын бухарского хана Муртазы царевич Кучум
пошел на Сибирь войной, забрал царство, убил Эдигара
и брата его, Бекбулата.
Первое время и новый хан платил дань России,
однако потом поразмыслил, что до Москвы далеко,
ратных московских людей в Сибири нет, бояться неко-
го. Перестал платить дань, убил московских послов, стал
нападать на русские земли.
Подговорил Кучум черемисов. Взбунтовались чере-
мисы, перебили много русских, пожгли их села и хуто-
ра, угнали скот, увели в плен женщин и детей.
На следующий год племянник Кучума царевич Мах-
меткул собрал войско, погромил русских данников —
остяков, которые жили по реке Чусовой, — и убил
государева посланника, ехавшего в Киргиз-Кайсацкую
орду. Собирался царевич разорить и строгановские го-
родки. Подошел к ним совсем уже близко, выслал
вперед лазутчиков — разведать, что у русских делается.
Вернулись лазутчики, говорят — в городках собралось
много ратных людей, отпор готовят. Испугался Махмет-
кул, повернул обратно.
Строгановы жаловались царю на обиды и притесне-
765
ния, чинимые Кучумом. Писали, что не дают татары
«людям и крестьянам из острогов выходити... и пашни
пахати, и дров сечи не дают же». Приходят татары,
писали они, «украдом лошадей и коров отганивают, и
людей побивают, и промыслы у них в слободках отняли,
и соль варить не дают».
Царь разрешил Строгановым набирать вольных лю-
дей — казаков и ходить войной на врага.
Строгановым только это и нужно было. Задумали они
не только защитить свои городки от нападения, но и
пройти в Сибирь — промышлять меха и другие богатства.
Для похода в Сибирь требовались люди закаленные,
искусные в ратном деле, а таких людей у Строгановых
не было. Но дошла до них весть, что с Волги на Каму
продвигается большой казачий отряд и что командует
этим отрядом атаман Ермак Тимофеевич.
ЛЮДИ БУЙСТВЕННЫЕ И ХРАБРЫЕ
Безлюдны были берега Волги.
Над желтыми песками дрожало жаркое марево. В
блеклом от зноя небе сонно парили орлы. На прибреж-
ных курганах стояли степные богини — каменные бабы.
Их грубые плоские лица смотрели за реку, на восход.
В седом ковыле белели кости и скалил зубы череп в
заржавленном шлеме. Это встретились когда-то в поле
русские с татарами и оставили свои кости мыть дождям,
сушить ветру.
Лишь изредка спускался к перевозу караван верб-
людов и с гиком проносились на горбатых степных
иноходцах ногайцы в меховых шапках-малахаях.
А по самой реке, по широким ее плесам, путая
несметные табуны лебедей и гусей, днем и ночью плыли
суда. Плыли плоскодонные, с высокими бортами наса-
ды, плыли барки и птицегрудные струги, плыли круто-
бокие суда персидских купцов.
Плыли с севера, везя меха, воск, соль, мед и кожи;
возвращались с юга, груженные китайскими шелками,
пряностями, коврами, сафьяном и оружием.
766
Волга была великим торговым путем. Но торговать
тогда было опасно. Разбойничали на Волге вольные
люди — казаки. От боярского кнута, от тяжелой кабалы
бежали служилые и крестьяне в «дикое поле» — в
степи. Бежали из городов и сел, бежали из монастыр-
ских и боярских вотчин. Собирались беглые в шайки,
называли себя казаками, а предводителей своих — ата-
манами.
Московские воеводы тоже называли их казаками,
только «воровскими».
А в те времена воровскими людишками называли не
только грабителей, но и ослушников и беглых людей, не
желающих подчиняться боярской власти.
Селились казаки в глухих, непроходимых лесах, за
болотами, в камышах.
В казаки шли люди бездомные, бедные, «меньшие»,
как говорили тогда. Не любили они богатых и знатных.
Собирались в ватаги, стерегли на перевозах караваны,
нападали на купцов, не щадили и царских послов, отби-
рали казну и товары.
Есть на Волге такое место — Самарская лука. Из
воды круто поднимаются утесы. Поросли они частым
лесом. В утесах — пещеры. Удобно скрываться в них с
недобрым умыслом.
Поперек Самарской луки течет на север малая речка
Уса. На юге подходит она к самой Волге. В этом месте,
близ Усы, разбили казаки свой стан. На вершинах
утесов стояли казацкие сторожевые. Смотрели, не по-
кажутся ли где торговые струги.
Увидят караван и, пока он огибает луку, переплывут
по Усе на южную сторону, переволокут свои челны в
Волгу и ограбят купцов.
Гуляли на Волге казаки. Нападали на торговых лю-
дей, нападали на персидских и бухарских послов.
В 1579 году атаманы Кольцо и Барбоша собрали
буйную ватагу, спустились на стругах в Каспийское
море, а оттуда проплыли на реку Яик и осадили столицу
ногайского ханства — город Сарайчик.
Ногайцы не могли отбиться. Взяли казаки город,
767
ограбили его и сожгли. Возвращаясь обратно, Кольцо и
Барбоша на перевозе близ Соснового острова ограбили
боярского сына Василия Пелепелицына, ехавшего вме-
сте с ногайскими послами.
Ногайцы пожаловались царю, просили утихомирить
казаков. Жаловались царю и послы, жаловались и куп-
цы.
— Житья, — говорили, — не стало на Волге от тех
воровских людишек.
Царь послал на Волгу ратные отряды, приказал хва-
тать казаков и вешать. Атамана Кольцо с товарищами
осудил на лютую смерть.
Отправился на Волгу царский придворный — столь-
ник Мурашкин. Поставил на перевозах сторожевые
заставы, поймал нескольких казаков; одних повесил,
других наказал плетьми. Атаманы с дружиной сумели
уйти на Каму.
Казачьи атаманы Ермак Тимофеевич, Иван Кольцо,
Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк слыли
людьми «буйственными и храбрыми». Умели и на стру-
гах плавать и на коне биться, стрелять из пищали и
рубить саблей.
Самым искусным и умелым среди них был Ермак.
Среднего роста, широкоплечий, чернобородый, он
был суров и не любил, когда ему перечили.
Откуда был Ермак родом, точно неизвестно. Расска-
зывают, что дед Ермака, Афанасий Аленин, города
Суздаля посадский человек, был очень беден. Ища себе
пропитания, переехал он во Владимир. Здесь воспитал
двух сыновей — Родиона и Тимофея. Кормился извозом.
Случалось ему возить в Муромских лесах разбойников.
Разбойников этих однажды поймали, а вместе с ними
попал в тюрьму и Аленин. Просидел он недолго: бежал
в Юрьевец-Польской. Здесь и умер.
Осталась его жена с сыновьями. Заработков нет,
ходят босы и наги, жить нечем, хоть с голоду помирай.
Услышали они как-то от бродяг перехожих, что на Каме
строят именитые люди Строгановы соляной промысел,
всем дают работу, всех кормят.
768
Переехали Аленины в строгановские вотчины. У
Тимофея Аленина вырос сын Василий, бойкий, сильный,
речистый. Ходил он работать на стругах по Каме и Волге.
Служил одно время кашеваром и будто бы получил от
товарищей кличку «Ермак».
Ермаком у волжских бурлаков назывался котел, в
котором варили кашу. Однако известно, что «Ермак» —
это и сокращенное русское имя «Ермолай».
Работа на стругах опостылела Ермаку — ушел он на
Дон, к вольным казакам. За силу и сметливость казаки
Качалинской станицы выбрали его старшиной. Дрался
он с татарами, охраняя южную границу от Астрахани до
Дона, дрался на западе с поляками. Потом повел казаков
на Волгу.
Пристали к Ермаку беглые люди, стал Ермак атама-
ном. Разбойничал он на Волге и будто бы даже ходил
на стругах в Каспийское море, где грабил персидские
суда.
По приказанию Ивана Грозного войсковой атаман
созвал казачий круг. Решено было поймать Ермака и его
сообщников и под стражей отправить в Москву. Рядо-
вых же казаков, разбойничавших с Ермаком, наказать
плетьми при народе.
Спасаясь от царского гнева, поплыли казаки на Каму.
Думали укрыться в лесной глуши.
Приехал к ним от Строгановых доверенный чело-
век, звал служить, обещал прокорм и денежное до-
вольствие.
Собрал Ермак своих атаманов. Говорил, что на Волгу
возвращаться нельзя — ждет их там лютая казнь. Жить
на пустых местах трудно. Казаков много — неизвестно,
чем кормиться, как одежду добывать. А Строгановы —
люди именитые, жить за ними спокойно, никто не
тронет.
Решили атаманы ехать к Строгановым.
25-769
В СОЛЯНЫХ ГОРОДКАХ
Из ночной мглы выступили угловые башни. В Орле-
городе били в била, лаяли собаки.
— Поглядывай!.. — протяжно перекликались сторо-
жа.
За деревянными рублеными стенами подымались
обитые белым железом колокольницы. На земляных
накатах стояли пушки, а рядом, горками, лежали камен-
ные ядра. В больших глиняных горшках дымились уг-
ли — калить те ядра. Над главными воротами хмурил
свой темный лик Николай-угодник.
Караульные со сторожевой двухъярусной башни
увидели подплывающие струги. На стенах замелькали
огни. Дробно ударил колокол. Заскрипели ворота. К
берегу с факелами в руках спешили стрельцы.
Розовело небо. Предрассветный ветер колыхал огни.
Струги причалили к берегу. Казаки, разминая ноги, шли
к воротам. Молчаливый приказчик со связкой ключей
на поясе повел атаманов в хоромы.
Из-под резиновых наличников поблескивали слюдя-
ные оконца. К хоромам лепились людские избы, повар-
ни, погреба, скотские хлевцы.
770
На крыльце атаманов встретил сам Максим Строга-
нов. Красный, парадный кафтан с собольей оторочкой
облегал его тучное тело.
Строганов поглаживал пушистую бороду и приветли-
во улыбался.
«Хитер! — думал Ермак, глядя на ласковое лицо
Строганова. — Ох, хитер! Сеет рожью, а жнет ложью».
Неловко ступая по коврам из беломедвежьих шкур,
прошли атаманы в горницу.
Дубовый стол был покрыт бирюзовой атласной ска-
тертью. По стенам висели пестрые персидские ковры.
У изразцовой печи в большом поставце блестели фляги,
кувшины, чаши и кубки. Рядом в золоченой клетке на
жердочке сидела заморская птица попугай, кричала
сердитым стариковским голосом: «Не баловать, холо-
пы!»
Строганов усадил гостей за стол. Расспрашивал ата-
манов об их делах. В дверях жался подьячий с оловян-
ной чернильницей у пояса.
Угощались атаманы пивом, и медом, и крепкими
винами. Ели осетров камских, икру астраханскую, стер-
лядь чусовскую, затылок лосий, окорок олений. Пили
крепкое пиво серебряными ковшами и тайком дивились
часам немецкой работы. Вздыбился медный зверь еди-
норог, держит в лапе медный шар. А в шаре том стрелки
бегут — считают время от полдня и до полдня.
Рассказывал Строганов, что его обижают Кучумовы
люди, работать и строиться не дают. Рассказывал, что
царство у Кучума богатое и идет оттуда путь торговый
на Бухару.
— Обещался, — говорил Строганов, — сибирский
хан платить ясак1 Москве, а не платит. Посла царского
убил. Царевым данникам разор чинит, русских мужиков
забивает до смерти. А царство того Кучума не крепкое.
Убил Кучум хана Эдигара и его брата, Бекбулата, забрал
ханский престол. Сын Бекбулата Сеид-Ахмет подраста-
ет, хочет отомстить за отца, грозит хану погибелью. Да
данники Кучумовы, остяки и вогуличи, не горазды ему
1 Ясак — дань.
771
25*
правдой служить. Обижает их хан, берет с них ясак
непомерный. А бой у татар лучной, огненного боя не
знают.
Атаманы слушали молча. Думали, к чему Строганов
речь клонит.
В клетке сердилась заморская птица попугай и кри-
чала: «Батогами воров! Батогами!»
Смеялись тому крику атаманы. Строганов, усмехнув-
шись, просил честью служить. Обещал и одежду раз-
ную, и деньги, и запасы многие.
— А будет ваша воля, пойдете за Камень добывать
зипуны у сибирского хана — буду вам во всем помогать,
наделю оружием воинским, дам и зелье1, и свинец, и вся-
кий к ратному делу запас. Молва идет, что люди вы непо-
коримые, к смерти бесстрашные, к нуждам терпеливые.
Отвечал Ермак, что служилыми казаки не будут,
хотят жить своей волей. А о поиске в Сибирь хотят
поразмыслить.
Поселились казаки в строгановских вотчинах, несли
сторожевую службу.
А в городках кипела работа.
Строгановские холопы расчищали места под пашню,
жгли уголь, корчевали пни.
Рубили срубы и, заметав крышу соломой, селились в
угодьях пришлые люди.
В темных, сырых шахтах рудокопы били кайлом
железную руду. Кузнецы раздували мехи, ковали ножи,
топоры, сохи, копья и разный наряд для соляного ва-
ренья.
Из озер и колодцев черпали соляную воду, лили в
большие железные лотки — цирены, соль варили.
Работа была трудная. От соли все тело покрывалось
гнойными язвами, на руках соль проедала мясо до
костей. Приказчик только ходит да поглядывает: чуть
кто замешкался — палкой, а если кто перечить вздума-
ет — строптивого в дубовые колодки.
Роптали холопы на тяжкую свою долю. «Слезами, —
говорили, моемся, а горем утираемся».
1 Зелье — здесь: порох.
772
Над варницами расстилался густой желтый дым.
Соль пропитала землю. Соляные сосульки настывали по
краям чанов. Солью, как снегом, замело дороги от
промыслов до амбаров.
Расставив по засекам сторожевые отряды, Ермак
разведывал про Сибирь. Посылал туда лазутчиков, бе-
седовал с пленными татарами и вогуличами. Спрашивал,
какой путь идет за Камень, сколько воинов у Кучума,
как дерутся и где у них крепости.
Кончалось лето. Хлеб уже стоял в скирдах. По утрам
травы одевались серебряным инеем. Почернели лопухи.
Желтел лист на березе.
Созвал Ермак казаков.
— Пойдем, — говорил, — на хана, славу себе
добудем. А добра у Кучума много: на всех хватит.
Казаки согласились.
Пошли Ермак и Кольцо к Строгановым договаривать-
ся. Строгановы обрадовались. Уж очень вольно держали
773
себя казаки: стрельцов дворовых задирали, самих Стро-
гановых бранили, всякий запас не спрося брали. Пойдут
за Камень — спокойнее будет. А повоюют ханские
земли — именитым людям все в прибыток.
Выторговали атаманы у Строгановых три пушки, да
на каждого казака по три фунта пороху и свинца, по три
пуда ржаной муки, по два пуда крупы и толокна, по пуду
сухарей, по пуду соли да по половине свиной туши.
Пушки отбирал сам Ермак. Повел его приказчик в
амбар, где хранилось оружие. Долго приглядывался
Ермак. Отобрал легкие пищали-ручницы. Носили их на
ремне за спиной.
Отобрал Ермак и три пушки медные. На одной был
изображен сказочный зверь василиск, на второй —
малая птица соловей, на третьей — две девки.
— Знатные пушечки, — сказал приказчик. — У
«Василиска» ядовитое жало, зло уязвляет врагов. Поет
«Соловей» — в ушах звон стоит. А как заголосят «Две
девки», так только ноги уноси. Знатные пушечки! Делал
их молодой литец Проня Никитин, искусный мастер.
Закипела работа. На берегу дымились котлы со смо-
лой. Чинили паруса. Тесали новые весла. Конопатили и
смолили струги.
Атаманы осмотрели оружие. Велели чистить пушки
и пищали, точить сабли и копья.
Начали перетаскивать со складов на струги припасы.
Струги не выдержали тяжелого груза — стали под
берегом тонуть. Пришлось их разгружать.
Набили плотники добавочные борта, а часть припасов
погрузили в малые лодки.
Наконец погрузка закончилась. Блестя смоляными
боками, у берега мерно покачивались струги.
Все свое войско — восемьсот сорок человек — Ермак
разделил на сотни. Сотня имела двух пятидесятников —
у каждого под началом пятьдесят человек. На каждые
десять человек был еще свой старший — десятник.
С войсками ехали полковые писари, знаменщики,
переводчики, трубачи, литаврщики и барабанщики.
Ехали еще три попа и старец бродяга — беглый
774
монах. Ходил старец без рясы, умел кашу варить, из
пушек стрелять и церковную службу знал.
Отслужили молебен, попрощались казаки со Стро-
гановыми и 1 сентября 1581 года пошли в поход.
Желтые стяги развевались по ветру. Завывали трубы.
Гремели барабаны и литавры. Казацкие струги направ-
лялись вверх по реке.
ТРУДНЫМ ПУТЕМ,
НЕПРОХОДИМЫМИ МЕСТАМИ
Плыла Ермакова дружина вверх по Чусовой.
Сурово громоздились к небу меловые скалы, каме-
нистые кручи теснили реку, закрывали дали. Волнами с
горы на гору перекатывались леса. Спускался к воде
лось, закинув на спину ветвистые рога. Трещал валеж-
ник под ногами медведя.
На берегах — безлюдье. Изредка покажется остяк
в оленьем кафтане и, завидев струги, уйдет звериными
тропами в тайгу.
Казаки плыли от восхода и до захода солнца.
775
Ночью разбивали на берегу стан, выставляли сторо-
жевых, зажигали костры. Спали под звездами, постелив
на земле еловые ветки, а чуть голубело на востоке —
гремел барабан, подымали паруса, плыли дальше.
С Чусовой нужно было перебраться на Туру и Тобол.
Искал Ермак небольшую речку, что с севера впадает
в Чусовую, а исток имеет близ Туры.
Строгановы отпустили с казаками татарина Ахмеда.
Попал он к русским в плен, а родом был из Сибирской
земли. Служил Ахмед казакам проводником и перевод-
чиком. Говорил, что плыть надо Межевой Уткой. Берет
свой исток Межевая Утка недалеко от реки Тагил, а
река Тагил впадает в Туру.
Поплыли струги по Межевой Утке.
Река извивалась меж гор. Ели и лиственницы сбегали
к самой воде. Тяжелые хвойные лапы цеплялись за
мачты стругов. Спустили паруса, плыли на веслах.
У берегов торчали коряги. Все чаще стали появляться
мели и перекаты. Застревали суда, ударялись днищами
о камни. Казаки лезли в студеную воду, волокли струги
и лодки до плеса.
Ермак хмурился, посадил толмача Ахмеда с собой.
Вскоре и вовсе не стало дороги судам. Послал Ермак
трех казаков проведать, далеко ли до Тагила, Ахмеда-
проводника велел связать.
Вернулись лазутчики.
— До Тагила-реки, — говорят, — далеко. А ходу по
Межевой Утке стругам никакого нету. Мели да камни.
Берег дикий, лесом порос — волоком тащить нельзя.
Ахмеда-проводника казнили: отрубили саблей го-
лову.
— Так и всякому изменнику и вору будет, — сказал
Ермак.
Повернули казаки обратно.
Ночью все проводники-татары убежали. Пришлось
атаманам самим искать речной путь в Сибирь.
В воздухе кружились первые снежинки. По утрам
закрайки болот затягивало льдом. С севера, гогоча и
перекликаясь, тянулись треугольники диких гусей.
Ночью сторожевые заметили за мысом огонь. Под-
776
крались тихонько к берегу. Видят — человек в долбле-
ном челне смолу жжет и рыбу острогой колет. Заарка-
нили его казаки, привели к стану. Там накормили кашей.
Пленный оказался вогулом. Плавал по рекам, промыш-
лял рыбу острогой и сетями.
Казаки дивились его кафтану из налимьих кож.
Спрашивали вогула, какими реками плыть за Камень.
Вогул называл малую речку Серебрянку.
Текла Серебрянка каменистым руслом. Вода в ней была
как серебро — светлая и чистая. Горы подымались здесь
еще выше. По крутым берегам шумели кедровые леса.
Поднялись в верховья. Воды здесь было меньше.
Стали встречаться длинные отмели. Казаки городили
реку парусами, как плотиной. Вода в берегах подыма-
лась, и струги плыли вперед. Снова мелела река, и снова
казаки перехватывали ее парусами.
Так добрались до самого верховья. Серебрянка текла
здесь узким ручейком. Отсюда надо было идти волоком,
а уже наступала зима.
777
Созвал Ермак казачий круг. Решили переждать здесь
до весны. Начали строить городище. Копали землянки,
рубили избы. Огородили жилье высоким тыном, вырыли
ров, насыпали вал.
Когда зимовье было готово, вокруг уже лежали
глубокие снега. Низкое зимнее солнце висело почти
вровень со снегом. Темнело рано, а ночи были долгие.
Бродили вокруг волки, выли на луну.
Недалеко от зимовья жили вогулы. Казаки ходили к
ним за мясом лосей и диких коз, за сушеной рыбой.
Ходили казаки на охоту. Кололи медведя в берлоге,
промышляли соболя и куницу.
Зима тянулась долго. От безделья стали казаки бало-
вать. Жаловались вогулы Ермаку:
— Пришли твои люди — меха забрали, рыбу забрали,
самих до крови изувечили.
Велел Ермак виновных батогами бить, а потом три
дня на цепи держать.
— Вогуличи те мирные, живут бедно, нам зла не
чинят. Держите себя в строгости, не то быть худу.
Подговорили два казака товарищей своих уйти от
Ермака на Каму. Надоело им зимовать. Взяли пищали,
порох, свинец, снедь всякую и ушли на лыжах.
Как узнал об этом Ермак — разгневался:
— Этак все разбегутся! Кто задумает отойти от
нас — тому смерть!
Пустились за беглецами в погоню. Поймали в еловой
чаще, привели к атаманам. Велели атаманы на омуте
рубить проруби. На каждого беглеца по проруби.
Выстроились казаки на берегу ратным строем. Бег-
лецов посадили в мешки, засыпали песком и, завязав,
опустили в воду.
Мороз стоял такой, что слюна на лету замерзала.
Проруби затянуло льдом. Казаки молча разошлись по
избам.
В десяти верстах от казацкого зимовья протекала
речка Жаровля. Жаровля впадает в Баранчу, а Баран-
ча — в Тагил. Реки эти текут на восток, в Сибирскую
землю.
778
Казаки рубили полозья, сколачивали их переклади-
нами. Ставили на полозья струги и волокли по зимнему
насту до Жаровли.
Так перетащили суда, пушки, пищали и весь запас.
Зима шла на убыль. С глухим шорохом садился
снежный наст. Солнце подымалось над вершинами лис-
твенниц. Дул юго-западный ветер. Зачернели протали-
ны, обтаяли кругом родники и проточины. Начали токо-
вать по утрам глухари.
Посинела река, вышла из берегов, ломая ледяной
панцирь, и разлилась по низменным местам.
На север летели шумные птичьи полчища. Треуголь-
никами, как корабли, построенные к бою, плыли в
туманном небе журавли. Стон стоял в воздухе от птичь-
его крика.
Прошел лед. Казаки спустили струги и весенней
бурной водой поплыли прямо на восход.
Рассветы были ясны. Цвела верба. Билась у бере-
гов рыба.
РАТНОЕ ПЛАВАНИЕ
Плыли струги по Тагилу. Дорогой встречали кочевья
сибирских народов. Люди они были мирные. Перебира-
лись с пастбища на пастбище. Завидят казаков — сво-
ротят в сторону, подальше от берега.
Добрались казаки до Туры. Здесь жил народ осед-
лый. Пахали землю, сеяли хлеб. Правил ими князек
Епанча, Кучумов данник.
Выслал Епанча конных разведчиков — следить за
казаками. Рыскали разведчики по берегу, таились за
деревьями, высматривали, сколько плывет воинов, до-
носили князьку.
Собрал Епанча своих людей. В том месте, где Тура
делает большой изгиб к северу, устроил засаду. Спря-
тались татары в прибрежный тальник.
Из-за мыса выплыли казацкие струги. Звенели литав-
ры, отбивая такт гребцам. На ветру полоскались боевые
знамена.
779
Натянули татары тугие тетивы из бараньих же
Заныли стрелы, не долетели до стругов — упали в вод7
Ермак не велел стрелять, и струги понеслись дальше
Казаки гребли, запрокинув головы, дымились уклю-
чины, а за кормами тянулся белый пенистый след.
Пока огибали мыс, Епанча зашел со своими людьмк
вперед. Место здесь было узкое, и стрелами ранил
несколько казаков. А воины Епанчи, столпившись на
берегу, что-то кричали и размахивали копьями.
На атаманском струге забил барабан — готовиться к
бою. Казаки раздули фитили, прицелились. Грянул залп
Епанчовы воины не знали «огненного боя». Смотрят —
дым идет, огнем полыхает, гремит с лодок; падакг
мертвые и раненые, а стрел не видно.
В страхе бежали татары и вогулы к своим дерев-
ням — улусам.
Ермак велел пристать к берегу. Бросились казаки з
Епанчой в погоню. Захватили его юрту, разграбили I
сожгли. Епанча со своими воинами ушел от погони Нс
конях. Из улуса в улус неслась весть о том, что из-зс
гор плывут люди, которые громом гремят и молнш
мечут.
780
Казацкие струги плыли вперед, не встречая сопро-
тивления. Ночи были короткие — заря с зарей сходи-
лась. Донимал гнус. Забирался в уши, в ноздри, в глаза.
Казаки, чтобы оберечься, жгли гнилушки и сырой мох.
Белый едкий дым клубился над стругами.
При впадении Туры в Тобол подстерегали казаков
татары. Шесть князей собрали всех своих воинов. Ко-
мандовали татарской ратью старшие князья — Кашкара,
Варвара и Майтмас. Дрались татары упорно. Несколько
дней длился бой: то русские потеснят татар, то татары —
русских.
Пошли казаки на приступ. Враг не выдержал, дрогнул
и побежал, оставив на месте раненых и убитых. Казаки
захватили большую добычу, едва на струги погрузили.
Однако татары перестали пугаться пищальных вы-
стрелов и не отставали. Шли берегом за стругами.
Казаки раздували фитили. Держали наготове пушки
и пищали.
Река здесь огибала известковые утесы на левом
берегу, а по правому берегу раскинулись заливные луга,
озера и болота.
Татары шли левым берегом, густой порослью берез-
781
няка. Нападали на казаков, метали в них стрелы и копья.
Держались они врассыпную. Прятались за деревьями и
буграми.
Донесли Ермаку лазутчики, что важный Кучумов
чиновник — есаул Алышай — там, где берег к берегу
теснится, перегородил реку цепями, караулит русских.
Ермак велел связать пучки хвороста и надеть на них
казацкие кафтаны. Как стали приближаться к засаде,
рассадили чучела по стругам. Оставил Ермак на судах
рулевых, а с остальной дружиной сошел на берег.
Хоронясь за кустами, продвигались казаки к засаде.
Струги доплыли до цепей, остановились, начали в груду
сбиваться. Алышай махнул саблей. Замелькали стрелы,
полезли Алышаевы воины на струги. Тут в спину им
ударила Ермакова дружина. Грохнули пищали. Березняк
окутался дымом. Поняли татары обман, повернули от
чучельной рати на берег.
Сеча была жестокая. Бились грудь о грудь. Высокая
трава зардела от крови. Старый, сизоусый Бондаренко
окованной железом палицей разбил шелом на голове
татарского воина. Пал оглушенный татарин на землю.
Бондаренко его связал.
Проньку Копыто стрелой ранило в левую руку. Оста-
новился Пронька стрелу вынуть. Налетел на него тата-
рин, выбил копьем саблю. Пронька припал к земле, выта-
щил из-за голенища засапожный нож и убил татарина.
Зашли казаки с левой руки. Засели за бугор, стреля-
ют из пищалей.
Видят татары — русских не одолеть. Пробились к
лесу и ушли.
Вечерело. Солнце садилось за черные вершины лист-
венниц. С реки повеяло холодом. На болотистом берегу
медленно тонул в сизом тумане густой тальник.
Казаки намазали медвежьим салом раны, сняли с
убитых татар кольчуги1, собрали щиты, копья и саадаки1 2,
поплыли дальше.
1 Кольчуга — броня вроде рубашки из мелких металли-
ческих колец.
2 Саадак — все вооружение лучника, то есть лук, колчан
и чехол к ним.
782
Одолевали казаков оводы и мошкара, ныли раны.
Сибирцы передохнуть не давали.
Пришли к устью Тавды.
Проводники-зыряне, что молились песьеглавым идо-
лам, говорят:
— Вверх по Тавде и дальше через Камень идет дорога
на Русь.
Разбили казаки стан, стояли неделю, совещались, что
делать дальше. И в Ермаковой дружине нашлись робкие.
— Надобно, — говорили, — на Русь ворочаться. Хана
нам не одолеть. Зря задираемся. Ждет нас в Сибирской
земле смерть.
Но таких было немного. Решили пробиваться дальше.
Захватили в одном улусе татарина. Одет он был' богато.
Шапка из темного соболя. Сабля с золотой насечкой по
клинку. На коне — седло из красного сафьяна и сбруя
с серебряными бляхами. Назвался татарин Таузаком,
слугой Кучумовым. Ездил собирать дань.
Ермак позвал пять казаков — искусных стрелков.
Повесил на березу железную кольчугу, велел стрелять.
Выстрелили казаки. Подошел Таузак к кольчуте, ви-
дит — пробита насквозь. Покачал головой, щелкнул
языком. Ермак посадил его с собой.
— Собирался, — говорит, — навестить вашего хана,
да вот в пути задержался. Должен возвращаться на
Русь.
Потом расспросил татарина про Сибирское царство.
Перепутанный Таузак косил глазом в сторону, думал:
не сносить головы.
Рассказал, что хан Кучум стар и глазами болеет. Живет
в городе Кашлыке, или Сибири1. Старшим у хана —
племянник его Махметкул. Отважный воин, яростен в
битве. Нет ему равного в Сибирской земле.
Рассказывал Таузак, что дают Кучуму ясак вогуличи,
остяки и самоеды. Веры Магометовой эти данники не
признают. Почитают камни, зверей и птиц. Молятся
идолам деревянным, каменным и медным, которых сами
1 Татары называли столицу Кучума Кашлыком, или Иске-
ром, русские Сибирью.
783
же и делают. Одевают идолов в меха, мажут кровью и
жиром, чтобы были милостивы.
Говорил еще Таузак, что воинов у хана много, что ве-
дет он с Бухарой и Самаркандом большой торг мехами.
Ермак подарил Таузаку кафтан голубого сукна, дал
подарки для хана и для знатных мурз.
Таузак не спеша надел дареный кафтан, поклонился
низко Ермаку, коснувшись правой рукой лба и сердца,
и сказал по-татарски:
— Бог велик!
Тихой рысцой он тронулся в путь.
Отъехав за березовый лесок, Таузак плюнул на
землю, проклял неверных, сорвал с себя голубой
кафтан, привстал на стременах и, злобно гикнув,
помчался в Кашлык.
ХАН КУЧУМ
Кровав был путь Кучума к ханской власти.
Захотел хан утвердить в царстве веру своих отцов.
Вогулы, остяки, зыряне и пелымцы, которые платили
дань Кучуму, крепко стояли за своих идолов.
— Богаты мы богами, — говорили они, — живут боги
подле нас. Наши боги растут деревьями в лесах, рыщут
в дебрях зверем, плещутся в реках рыбой. Наши боги
летят в облаках птицами, сияют в ночи звездами, про-
ливаются с неба дождем. Твоего бога мы не видели, где
живет — не знаем. Не будем ему молиться.
Послал Кучум гонца к отцу своему, бухарскому хану
Муртазе. Просил помощи. Приехал из Бухары Кучумов
брат Ахмет-Гирей с войском. Приехали муллы1.
Стали водворять веру мечом:
— Нет бога кроме бога: к нему все возвращается.
Магомет — пророк его. Поклонитесь аллаху и увидите
свет истинной веры.
Но дикие лесные жители никакого света не видели
и уходили в леса молиться своим болванам.
1 Мулла — магометанский священник.
784
Время уходило.
Бритая голова хана Кучума пожелтела и высохла, как
свиток пергамента. Глаза гноились. Красные веки дерга-
лись от острой боли.
Кучум мазал глаза душистым зельем. Привозили его
купцы из Бухары. От зелья резь утихала. Но видел
Кучум плохо, словно сквозь мутную пленку. Предметы
расплывались, а люди были все на одно лицо.
Жил Кучум богато.
Он подчинил себе все татарские племена от Исети и
Тобола до верховьев реки Омь и озера Чаны. Ему слали
дань с севера — с низовьев Оби и с юга — из Барабин-
ских степей.
Охотники платили ясак темными соболями, серебри-
стыми бобрами, лисицами черными и красными, выдра-
ми, белками и горностаями. Данники с берегов Вагая
радовали сердце хана ловчими птицами — соколами и
кречетами. Бортники1 приносили в липовых колодах мед
и воск. Из степей пригоняли косяки быстрых скакунов,
отары жирных баранов, привозили шерсть и кожи.
1 Бортник — пчеловод, собирающий мед в бортях, то
есть в колодах или дуплах, где роятся дикие пчелы.
785
Весной, когда просыхали дороги, с юга, звеня ко-
локольцами, тянулись караваны верблюдов. Купцы из
Хивы и Бухары везли самоцветные каменья, пестрые
шелка, мускус, перец и ревень, ковры афганские и
персидские.
Но Кучум был печален.
«Становлюсь стар, — думал он. — Если что случит-
ся, данники от меня отступятся. В Бухаре подрастает
Сеид-Ахмед — Бекбулатов сын. Точит на меня зубы,
волчонок!»
Хан сидел на ковре, поджав под себя ноги.
Рядом, склонившись над низкой скамеечкой, толстый
перс-казначей составлял список бухарских товаров.
Он с удовольствием выводил на желтоватом перга-
менте узорные буквы и вполголоса перечислял:
— ...седел зеленого сафьяна — пятнадцать, стремян
серебряных резных — сто, шлемов медных дамас-
ских — тридцать, кольчуг афганских — тридцать, щи-
тов — тридцать, клинков грузинских — сто, клинков
хоросанских — сто...
— Мало оружия, — перебил его Кучум. — Мало
оружия. Быть войне!
— ...саадаков — сто... — продолжал бормотать каз-
начей.
Хан задумался.
Перс закончил список, с удовольствием поглядел на
него, посыпал желтым песком.
— А сегодня знахарь-шайтанщик на базаре, — сказал
казначей, обращаясь к Кучуму, — ругал твоих мулл и
говорил, что было ему знамение. Белый волк выходил
на остров драться с черной собакой. Волк пришел с
Иртыша, а собака — с Тобола. Побила собака волка.
Толковал шайтанщик, что собака — это русский атаман
из-за гор, а волк — это мы, правоверные.
Кучум долго смотрел на казначея, потом проворчал:
— Этот шайтанщик хочет читать в книге судеб! Глаза
его здоровы, но видит он плохо. — И, улыбаясь, доба-
вил: — Схватите его, и пусть жеребцы размечут в поле
его тело во имя бога милостивого и милосердного.
786
— Будет исполнено, повелитель, — ответил каз-
начей.
В комнату, неслышно ступая, вошел слуга, остано-
вился у дверей и, поклонившись до земли, пропустил
вперед запыленного человека.
Это был Таузак.
Пошатываясь от усталости, он рассказал хану о
своей встрече с казаками.
— Идут, — говорил он, — неверные из-за гор. Войско
у них меньше нашего, но всех сокрушает на своем пути.
Луки у них диковинные — долгая палка. Выстрелят —
дым идет и гром гремит. Стрел не видно, а люди падают
мертвые. Никак от них нельзя защититься. И панцири и
кольчуги наши — все пробивают невидимые стрелы.
Потом Таузак принес подарки, которые Ермак по-
слал хану и князьям-мурзам.
787
— Сказал русский воевода, что хотел к тебе в гости
прийти, да задержался в пути и возвращается обратно.
Кучум внимательно осмотрел подарки, поднося их
близко к гноящимся глазам, пощупал сукно и велел
позвать мурз и военачальников.
— Быть войне, — сказал он. — Пришли из-за гор
русские. Собирайте воинов. Пошлите гонцов, пусть
скачут по всем городкам, улусам и юртам — зовут
данников ко мне с оружием. Раздайте гонцам вместо
грамот золоченые стрелы. Как получат данники эти
стрелы, пусть спешат и не ожидают других приказов.
Истинно сказал пророк о неверных: бог запечатал сер-
дца их и слух их, и на очах их покрывало: им будет
мучительная казнь!
БОЙ ПОД ЧУВАШЕВЫМ МЫСОМ
От восхода до захода и ночью, при свете костров,
татары строили укрепления. Вокруг ханской столицы
Кашлыка рыли глубокий ров, на дорогах рубили засеки.
У Чувашего мыса, на восточном берегу Иртыша, насы-
пали высокий земляной вал и обнесли его деревянным
тыном. На вершинах холмов заготовляли сухой хворост
и смолу для сигнальных костров.
Гонцы с золочеными ханскими стрелами мчались от
улуса к улусу, созывая рать. Из лесных дебрей, из
топких болот шли к Кашлыку князцы со своими вои-
нами.
У речных бродов и на перекрестках дорог стояло по
двое караульных. Один, не слезая с седла, кормил
коней, другой, забравшись на вершину дерева, высмат-
ривал врага.
Сам царевич Махметкул пошел на Тобол встречать
русских.
И вот караульный с дерева увидел струг. Это было
разведочное судно. Шло оно впереди других и называ-
лось «ертаульным», а сидевший в нем отряд — «ертау-
лом».
На вершинах холмов запылали красные сигнальные
788
огни, выбрасывая в небо крутящиеся языки черного
дыма.
Татары напали на ертаул, засыпали судно тучей
стрел.
На шум выстрелов поспешили остальные струги.
Сошли казаки на берег. Закипел бой.
Царевич Махметкул ринулся на казаков со своей
конницей, вооруженной стрелами, копьями и саблями.
На каждого казака приходилось десять татар. Казаки не
выдержали стремительного натиска, ряды их дрогнули,
стали отходить к берегу. Тогда вперед протеснился
Ермак и, ободряя казаков, начал рубиться с татарами.
Пять дней длился бой. Лужи крови стояли на глини-
стом берегу. Трупы мешали татарам пробиваться вперед
на конях.
Махметкул отошел за береговые утесы, осыпая от-
туда казаков меткими стрелами.
Струги поплыли дальше.
На правом берегу Тобола изогнулось подковой длин-
ное озеро — Карача-куль. Здесь жил знатный татарин —
ханский советчик Карача.
Ермак со своей дружиной высадился на берег и
стремительным натиском занял городок Карачи.
Казаки забрали много золота, серебра и драгоценных
камней. Несколько дней грузили на струги зерно, мед
и бараньи туши.
Татары не показывались.
Сорок дней стоял Ермак в городке Карачи. Казаки
отдохнули.
В сентябре струги направились вверх по Иртышу.
После небольшого сражения казаки заняли укреплен-
ный городок мурзы Атика.
Здесь Ермак решил зимовать. Расположились казаки
на покой.
Ночью сторожевые услышали конское ржание и лязг
сабель. Ударили в барабаны, подняли тревогу. Запылали
костры. До рассвета вглядывались в осенний мрак,
ждали нападения.
Утром Ермак разослал по улусам людей — собирать
789
продовольствие. Однако татары из окрестных селений
разбежались. По дорогам рыскали конные отряды царе-
вича Махметкула. Раздобыли казаки только немного
пшеницы и ячменя. Хлеба оставалось на месяц. Бараньи
туши протухли. Впереди была зима и голод.
★ ★ ★ s
К Чувашеву мысу и днем и ночью шли подкрепления.
За высоким валом засели конные и пешие отряды.
С тревогой смотрели на них казаки.
Уже раздавались робкие голоса:
— Надо уходить от злой погибели...
Собрался казачий круг. Один за другим выходили
простые казаки, сотники и пятидесятники, низко кланя-
лись всему войску и держали речь.
— Время, — говорили, — позднее. Скоро снег ляжет.
Нетрудно и зазимовать в чужой стороне. Окружит нас
татарин, изведет всех поодиночке.
Ермак молчал, сердито насупив брови, и теребил
край своей кольчуги.
Вышли перед кругом атаманы.
— Видишь, — говорил Мещеряк Ермаку, — татар-то
сила какая — несметное множество рати! Кучум нас
всех положит, живой души не оставит. Не возьмем мы
Сибири, добычи лишимся и родной земли не увидим. За
крохой погонимся — ломоть потеряем.
— Что нас впереди ожидает, если случится пройти
вперед? — спрашивал казаков атаман Никита Пан. —
Нынче осень на исходе, и снег уж идет, и река скоро
станет. На стругах не пробраться. Зазимуем под небом
без хлеба, без теплого крова. Либо сгибнем от голода в
снежном сугробе, либо угомонит нас татарин.
Наконец вышел перед кругом Ермак и сурово огля-
дел воинов. Карие глаза его блестели сухо, губы вздра-
гивали от злости.
Казаки, понурясь, ждали.
— Перья сокольи, а крылья-то, видно, вороньи. Ле-
тели хорошо, а сесть не умеете, — сказал наконец
Ермак, криво усмехаясь. — На полати захотели? По
790
Наконец вышел перед кругом Ермак...
хатам соскучились? Ждут вас за Камнем не бабы и
дети — ждет вас, казаки, виселица да плаха. Гладить вас
будет вострый топор, обнимать — петля пеньковая. Где
ваша удаль казацкая? Как псы шелудивые, хотите бе-
жать, поджавши хвост, от татарского пинка! Забыли, как
татарские ханы нашей кровью землю поили, жен и
детишек в полон умыкали?
Голос Ермака раскатывался над толпой все громче и
громче. Казаки оживились и одобрительно кивали головами.
— Хлеба у нас нет, крупы нет. Чем прокормимся?
Реки застынут, на стругах не пройдем за Камень. В
спину враг зло уязвляет. Одна нам дорога: либо в стремя
ногой, либо в пень головой. Люди мы русские. Обида в
сердце живет на ханские лютости. Отольем ханам си-
ротские слезы!
— Ладно сказал атаман, — решили казаки. — Пой-
дем на Сибирь биться с ханом.
★ ★ ★
Наступило утро 23 октября 1582 года.
Небо на востоке побагровело, как железо на нако-
вальне. За Чувашевым валом дымились костры. Утрен-
ний ветерок доносил запах баранины.
Ржали кони, скрипуче ревели верблюды. Копья вда-
ли колыхались, как стебли сухого тростника.
Ермак выстроил казаков в два ряда. Передний ряд
должен был стрелять, а стоявшие во втором ряду —
заряжать пищали.
Вместо пуль нарубили железные прутья, чтобы раны
были злее. Пушки установили на вершине холма.
Атаманы обошли ряды.
— Будьте смелы сердцем, — говорили они каза-
кам. — Стойте крепко, плечом к плечу. Бейтесь, не щадя
голов своих!
Ермак, обнажив голову, долго смотрел на Чувашев
вал. Потом пригладил волосы, надел шелом и взмахнул
саблей.
Зарокотали барабаны, звонко грянули литавры, ко-
лыхаясь поплыли вперед знамена.
792
Казаки пошли в бой. Из-за вала полетели стрелы и
копья. Татары опрокидывали на осаждающих горшки с
кипящим дегтем. Остяки дули в берестяные трубы.
Вогулы бряцали щитами.
На вершине холма, над белой ханской палаткой,
развевалось зеленое знамя. Кучум наблюдал за битвой.
Муллы, воздевая к небу руки, молили у аллаха победы
над неверными.
Рядом с палаткой вытянули медные дула две пушки.
Кучуму привезли их из Казани. Пушки были в четыре
аршина длиной и стреляли полупудовыми ядрами. У
пушек возились бухарцы.
Казаки полезли на вал. Татары сбрасывали их копь-
ями, рубили саблями. Махметкул на сухом гнедом же-
ребце носился взад и вперед, размахивая кривой саблей
и криками подбадривая своих воинов.
Татары теснили казаков.
Ермак велел выстрелить из пушек холостыми заря-
дами. Видя, что от пушек вреда нет, татары осмелели и,
разломив засеку, бросились в рукопашный бой.
Казаки отступали. Конница Махметкула мчалась че-
рез проломы в поле. Казаки, отходя, смотрели на вой-
сковое знамя, возвышавшееся на холме рядом с пуш-
ками.
Татары были уже на расстоянии полета стрелы.
Слева заходили вогулы в волчьих кафтанах; справа
теснились остяки с деревянными щитами, обтянутыми
лосиной шкурой.
Войсковое знамя на холме медленно наклонилось,
поднялось и опять наклонилось. Казаки остановились и
повернулись лицом к врагу.
Грянули русские пушки.
Каленые ядра попали в гущу Махметкуловой конни-
цы. Всадники отпрянули в сторону.
На осенней, тронутой морозом траве лежали умира-
ющие. Окровавленный конь храпел, рыл копытом зем-
лю. Протяжно ревел, припадая на передние ноги, верб-
люд.
Пушкари раздували угли в глиняных горшках, лили
793
на пушки воду,чтобы остудить их. После выстрелов над
пушками взметывались плотные клубы дыма. Запах го-
рячей меди смешивался с горьким пороховым угаром.
Пушкарь Матюшка, туго запыжив пушку куском
овчины, схватил клещами каленое ядро, опустил ядро в
дуло и поднес к затравке пальник. Пушка выстрелила и
отскочила назад.
Реже гремели пищали. Шел рукопашный бой, сабли
лязгали по железным шеломам. Атаманы дрались в
первых рядах, покрикивая на отстающих казаков.
В гуще битвы мелькали пики и стрелы, слышались
злобные взвизги татар, хрипение раненых под копытами
коней, лязг сабель о панцири и шлемы. Сквозь порохо-
вые облака мутно светило медное солнце.
Налетел на Ермака конный татарин в стальной коль-
чуге и, гикнув, замахнулся саблей. Атаман подался в
сторону, ударил коня между ушей. Оглушенный конь
припал на передние ноги. Ермак выхватил татарина из
седла, поднял над головой и швырнул на землю. Татарин
не охнул.
Солнце склонилось за полдень. Мерно падали рус-
ские ядра, отсчитывая смертное время. В белой палат-
ке сидел Кучум, смотрел на сечу, шевелил сухими
губами.
Казаки устали.
Молча рубился Ермак. Молча взмахивал тяжелым
кистенем атаман Иван Кольцо. И только пятидесятник
Богдан Брязга зычно вскрикивал и косил саблей смерт-
ную ниву.
Смотрел на сечу старый хан. Оттуда, с холма, сеча
казалась неподвижной.
Велел хан бухарцам стрелять из пушек. Бухарцы
суетились, совали пальник в дуло, испуганно качали
головами.
На поле царевич Махметкул подбодрял своих конни-
ков.
Упало ядро. Махметкул не успел натянуть поводья.
Конь взвился на дыбы, запрокинулся и тяжело рухнул
на землю. Попробовал царевич встать — ногу ломит, по
794
золоченому персидскому панцирю струится кровь. Под-
хватили мурзы Махметкула, уложили в лодку, перевез-
ли на другой берег.
Заколебались татарские ряды, начали отходить к
валу.
Остяки, забрав большого идола, бросились в лес.
Молчали Кучумовы пушки.
— Вы умрете! — пригрозил хан неумелым пуш-
карям.
— Смерть — это черный верблюд, который прекло-
няет колена у порога каждого дома, — спокойно ответил
ему краснобородый бухарец.
— У твоей собачьей конуры он уже преклонил
колена! — в ярости закричал хан и велел бухарцев
повесить, а пушки бросить с крутого берега в Ир-
тыш.
Татары бежали к засеке.
Мурзы поскакали навстречу бегущим, врезались в
толпу, стегали нагайками, проклинали, но не могли
остановить их.
А русские уже рубились устало, чувствуя тяжесть
доспехов.
Осеннее, блеклое солнце садилось за лесом. Гасли
багровые блики на шлемах и панцирях. Татарский лагерь
уходил. Мелькали в толпе бараньи шапки и саадаки. На
длинных копьях с медными шарами развевались белые
конские хвосты. Впереди ехал Кучум, запахнув полы
халата.
Все глуше доносился конский топот.
Казаки на валу зажигали костры. Стонали раненые.
Вечер был тих и безветрен. Пламя спокойно подыма-
лось к сумеречному небу.
Хлопьями черного снега кружили над битвенным
полем вороны.
ВЕТЕР РАЗВЕВАЕТ РУССКИЕ ЗНАМЕНА
НАД СТЕНАМИ КАШЛЫКА
Столица Кучума — град Кашлык стоял на восточном
берегу Иртыша.
К самой воде спускались крутые, обрывистые скло-
ны. Пологий скат был окружен тройным земляным
валом. Между валами тянулись глубокие рвы. На краю
ската возвышался толстый бревенчатый палисад. Отсю-
да осажденные могли метать стрелы, копья и камни.
Крепость казалась неприступной.
Кучум, однако, решил ее покинуть. В городе не было
колодцев, а казаки могли отрезать спуск к Иртышу. К
тому же уходили ясачные народцы. Бежали в леса
остяки. Бежали через болота в свои юрты вогулы.
25 октября на рассвете распахнулись городские во-
рота. Кучум со своим войском уходил из Кашлыка.
Розовел восток. Из мрака выступили дома, теснив-
шиеся на склонах, как стадо черных коз. Быстроногие
жеребцы, вытянув шеи, заливистым ржанием встречали
рассвет.
По мостам через глубокие рвы проходило татарское
войско. Мерно покачивались верблюды, груженные тя-
желыми вьюками. Надменно подняв свои плоские голо-
вы, они лениво ступали по влажной дороге.
Вереницей шли ханские рабы. У каждого на шее —
железный обруч с кольцом, а сквозь кольцо продета
тяжелая цепь.
Конники тревожно оглядывались назад — не идет ли
враг, зло покрикивали, хлестали рабов нагайками. '
Над опустевшим городом подымалось багровое сол-
нце.
А казаки хоронили умерших. Сто семь человек пало
в бою под Чувашевым Мысом. Стояли над могилами
атаманы, стояли пятидесятники и десятники. Стояли,
склонив знамена и обнажив головы.
Из-за сизых туч отвесно падали солнечные лучи.
Ветром с поля доносило трупный смрад.
Вернулись лазутчики, говорят — уходит хан из Каш-
лыка. Казаки Не верили, боялись засады. Прождали
796
ночь, опять послали лазутчиков. Те пробрались к город-
скому валу, видят — ворота распахнуты, город пуст, в
домах тихо.
Повел Ермак казаков в Кашлык.
Знамена, шлемы, пики, пищали — все колыхалось в
мерном движении. Рокотали литавры, победно гремели
трубы.
Лица казаков почернели в битвах. Разорванные коль-
чуги цеплялись о рукояти сабель.
Над стенами ханской столицы развевал ветер рус-
ские знамена. Развевал большое полковое знамя. На нем
был изображен всадник, поражающий копьем змея.
Развевал ветер малые сотенные знамена, на которых
стояли друг против друга, изготовившись к бою, белые
львы и единороги.
Со стен Кашлыка смотрел Ермак на серые воды
Иртыша, на широко расстилающиеся луга, на березовые
колки, зелеными отарами убегающие к горизонту.
От Кашлыка вверх по Иртышу за Абалакский мыс
уходила желтая дорога. Там, за мысом, разбил свой стан
Кучум.
Кашлык стал русским. Много разного добра нашли
здесь казаки. Были тут и меха, и ковры дорогие, и
золото, и ткани. Не было только съестных припасов, а
главное — хлеба.
Казаки установили на валах пушки, расселились по
домам, стали ждать.
На четвертый день пришел в Кашлык остяцкий кня-
зек Бояр. Пришел он с реки Демьянки, принес меха,
вяленую рыбу, медовые соты.
Говорил Бояр, что при Кучуме остякам было худо.
Обижал хан остяков, брал большой ясак и идолов
рушил. Просил Бояр милости, обещал платить дань
русским.
— Мы, — говорил он, — от Кучума отступились.
Ермак велел остякам принести присягу по их вере.
Остяки поставили в избе толстую елку. Под елкой
постелили медвежью шкуру. Положили на шкуру две
сабли, положили хлеб и рыбу. К еловым ветвям привя-
зали две сабли острием вниз.
797
Обошли остяки вокруг елки, что-то приговаривая.
Низко поклонились солнцу.
Бояр налил в глиняный жбан воды, опустил в нее
золотую бляху.
Пил воду мелкими глотками. Пил воду, смотрел на
Ермака, говорил:
— Кто изменит, а ты, золото, чуй.
Выпили остяки воду с золота, стали русскими данни-
ками. Ермак отпустил их домой.
За Бояром пришли татары с Иртыша, пришли княз-
цы Ишбердей и Суклем со своими воинами. Принесли
Ермаку меха, мясо и рыбу, присягали в своей вер-
ности.
Татары целовали окровавленную саблю, остяки кля-
лись на медвежьей голове, вогулы проходили между
половинами рассеченной надвое собаки.
Ермак разрешил им жить в прежних улусах.
— Будете жить покойно — и мы вас не тронем, —
говорил атаман. — А станет вас хан обижать — будет
от нас помощь и защита.
★ ★ ★
Мирно жили казаки. Ловили рыбу, били зверя. Разъ-
езжали небольшими отрядами по татарским селениям.
Их встречали без злобы, кормили, платили ясак. Казаки
перестали беречься.
А кругом рыскали Кучумовы лазутчики. Высматрива-
ли русских и обо всем доносили хану. Махметкул,
племянник Кучумов, залечил раны, сел на коня, тая в
сердце злобу.
На берегу Иртыша, на заливных лугах, шумит осокой
длинное проточное озеро Ебалак-бюрень.
Поехали туда на рыбный промысел двадцать казаков.
Озеро затянулось льдом. Из-под снега торчал сухой,
побуревший камыш. Казаки поставили шалаш, проруби-
ли лед, стали ловить лещей, окуней и щук.
Стемнело рано. Мела поземка. Рыбаки устали и легли
на покой, не выставив сторожевого.
А в камыше хоронился татарин. Стянул коню морду
798
За Боярам пришли татары с Иртыша...
сыромятным ремнем, чтобы не ржал. Увидел татарин,
что русские легли спать, вскочил на коня и помчался к
Кучуму.
Крепко спали русские.
Ночью подкрался Махметкул со своими воинами,
перерезал всех спящих.
Только один казак укрылся в темноте и уполз в
тальник. Какой-то конный татарин отбился от своих,
стал шарить по берегу. Казак вышел из тальника и
схватил татарина за горло. Татарин стал вырываться,
хотел кричать. Задушил его казак, вскочил в седло и
поскакал в Кашлык. У атаманской избы, где раньше
Кучум жил, рванул поводья и прянул с храпящего коня
на землю.
Разбудил Ермака, говорит:
— Татары ночью во тьме схоронились, рыбаков
сонных перерезали.
Пустился Ермак в погоню.
Вихрем мчались казаки. Кони распластывались до
земли. Ветер свистел в ушах. Снег летел из-под конских
копыт.
Махметкул не ожидал скорого преследования. Тата-
ры рысцой ехали по берегу Иртыша, обсуждая удачное
дело. Вдруг слышат за спиной конский топот.
Обернулся Махметкул, глядит во мрак.
Налетели русские, начали рубиться. Искры летели во
тьме от сабельных ударов. Кони взвивались на дыбы,
сшибались грудью, грызли друг другу шеи.
Яростно рубились казаки. Пленных не брали. Зава-
лили снег татарскими трупами. Махметкул со своими
воинами едва ушел на быстром ногайском жеребце.
Убитых казаков Ермак с честью похоронил на старом
ханском кладбище.
Велел, если придется заночевать в поле, выставлять
караульных и глаз не смыкать.
800
ПОСОЛЬСТВО ЕРМАКА
Когда казаки жили еще в строгановских городках,
подговорил Кучум вогулов с реки Пелымы напасть на
Пермские земли.
Едва Ермак тронулся в поход, пелымский князец
осадил Чердынь, перебил много русских, сжег их дома
и разграбил имущество.
В Чердыни воеводой был Василий Пелепелицын, тот
самый Пелепелицын, которого Кольцо и Барбоша огра-
били на Волге.
Послал Пелепелицын в Москву челобитную, писал,
что Строгановы держат у себя воровских казаков и что
те казаки задирают вогуличей, вотяков и пелымцев и
тем задором ссорят русских с сибирским ханом.
Царь Иван разгневался и отправил Строгановым
опальную грамоту с черной восковой печатью. Обвинял
он Строгановых в измене, казаков обещал перевешать,
а именитым людям грозил великой опалой.
Грамота эта была написана 16 ноября 1582 года.
Царь еще ничего не знал о победах казаков в Сибири.
Весть* об опальной грамоте не успела дойти до Ер-
мака.
22 декабря отправил он в Москву атамана Ивана
Кольцо. Повез атаман в Москву шестьдесят сороков
соболей, пятьдесят бобров черно-карих, двадцать лисиц
черно-бурых. Повез Кольцо и челобитную. Писал в ней
Ермак о своих победах, о завоевании Сибирского цар-
ства, о бегстве Кучума.
Поехал Кольцо зимним путем, в нартах. Ехал по
Тавде на Чердынь. В нарты запрягали то собак, то
оленей. Через Камень провожал казаков остяцкий кня-
зец Ишбердей.
От Чердыни поехали лошадьми.
Путь был долгий. Сидели казаки в санях, смотрели
на зимние звезды и пели со скуки татарские песни.
Через Каму перебрались по льду. Поглядел Коль-
цо — в поле снегом скирды замело, на бугре мельница
вертит крыльями, мужик в рваном армяке развалился
801
26-769
на дровнях, понукает лошаденку, над курным овином
вьется черный дымок. Потянул атаман ноздрями воз-
дух — хлебом печеным пахнет. Заныло сердце — род-
ная земля...
Все чаще стали встречаться конные и пешие. По
дороге тянулись тяжелые, укутанные холстом сани с
мукой и зерном, обозы с соленой рыбой, дровни с
кожами и мерзлыми коровьими тушами.
Наконец вдали показалась Москва.
На много верст по холмам раскинулась столица.
Иноземные послы насчитывали в ней сорок тысяч домов
и, дивясь ее величине, говорили, что Москва вдвое
больше Флоренции и даже больше Лондона.
Несмолкающий шум доносился из города. В розовом
морозном дыму золотом горели купола московских
церквей.
Казаков от заставы провожали стрельцы в цветных
кафтанах и высоких шапках. Стрельцы ехали рядом с
санями, разгоняя народ, глазевший на послов из Сибири.
У ворот перед тяжелой опускной решеткой сгруди-
лись конные и пешие. Стрельцы, стегая нагайками,
пробились вперед, велели сторожу-воротнику с ржавой
алебардой поднимать решетку. Мужики глядели испод-
лобья, как проезжают казацкие сани, ругались вслед.
На улицах пахло смолой и сосновыми стружками.
Высокими штабелями лежали бревна. Плотники тесали
доски.
Ехали казаки берегом Неглины-реки. Глядели на
плотины, на водяные мельницы, на расписные терема и
белокаменные палаты бояр.
У длинного бревенчатого моста к реке по косогору
спускался каменный двор с круглой башней на углу.
Снег кругом почернел от сажи. Из узких оконцев валил
густой дым. Мерный стук молотов смешивался с лязгом
железа. В больших избах жарко пылали горны, сверкал
расплавленный металл. У дубовых окованных ворот
стояла стража.
— Что за избы? — спросил Кольцо.
— Пушечный двор, — ответил стрелецкий началь-
802
ник. — Льют здесь пушки большие и малые, куют
стволы пищальные и мушкетные для государева войска.
Въехали казачьи сани на Красную площадь.
Широкая кирпичная стена окружала Кремль. Над
стеной подымались двурогие зубцы.
Против стены рядами тянулись лавки, ларьки, шала-
ши.
Много народу толкалось в обжорных рядах. Здесь
торговали рыбой, мясом, калачами, пряниками, горохом,
киселем. Из дубовых бочек разливали по ковшам пени-
стый квас.
— Пироги подовые — с пылу, с жару! — выкликал
рыжебородый мужик, весело блестя глазами. — Нале-
тай-спеши, для утехи души!
Ниже, у девятиглавого Покровского собора, поку-
пали холсты смоленские, крашенину вяземскую, сук-
на можайские. Торговались долго, ругались, сбивали
цену.
Лязг стоял в железном ряду. За прилавками, на
деревянных скобах, были развешаны топоры, косы,
вилы, замки и всякий домашний скарб. Товар добрый,
из железа устюжского и серпуховского.
Скоморох в размалеванной маске показывал, как
803
26*
пьяный поп по улице идет, как купец у убогого грош
ворует. Другой медведя водил, на дудке-сопелке играл.
Медведь, жалобно урча, разводил лапами и кланялся
народу: подайте, мол, люди добрые!
В серой толпе мелькали иногда высокая соболья
шапка боярина да меховой колпак дьяка.
Кричали купцы, зазывая покупателей.
Вопили юродивые и калеки; гремя цепями, брели
колодники собирать подаяние.
Звонили к обедне. Густой рокот меди плыл над тол-
пой. Встревоженные звоном, поднялись в воздух грачи и
черной стаей кружили над зеленоверхими башнями.
Казаков проводили в Посольский приказ.
Спесивый толстый дьяк выслушал рассказ Кольцо о
Сибирском царстве, искоса глянул на атамана и поду-
мал: «Дыба ему кума, а плаха свояченица». Потом взялся
за бумагу и, опустив глаза, сказал скучным голосом:
— Остановитесь на посольском дворе. Избу отве-
дут, там и ждите. Когда надобно будет — пришлю за
вами.
Три дня ждали казаки — никто не шел. Не знали, что
и думать.
На четвертый день слышат конский топот, рог тру-
бит. Выскочили на крыльцо. Смотрят, подъехал царский
гонец, а с ним стрельцы — народ разгоняют. Велел гонец
скорее собираться.
Поехали казаки за гонцом. У ворот теснились всад-
ники в черных кафтанах, горяча добрых коней. Кони
гнули шеи дугой, грызли удила. Бояре в широких шубах
робко косились на них. Всадники, откинувшись в сед-
лах, с усмешкой помахивали плетками.
Дьяк провел Кольцо в Золотую палату.
На высоком позолоченном кресле сидел царь. Золо-
том горела тяжелая царская одежда.
У трона стояли царские телохранители — рынды —
в белых кафтанах и высоких белых шапках.
Кольцо бил челом, передал думному дьяку меха и
Ермакову грамоту.
Прочтя грамоту, Иван Грозный воскликнул:
804
— Новое царство послал бог России!
Царь был обрадован. Воевал он со шведами, война
была трудная, а тут нежданно-негаданно — Сибирь! И
взяли ее несколько сот казаков.
Позвал царь атамана на обед.
Дьяк велел атаману надеть белый кафтан.
Кольцо отказался:
— Отобедаю в казацком кафтане.
Прежде чем подали яства, царь послал каждому
большой ломоть хлеба.
Подошел стольник к атаману и громко сказал:
— Иван Васильевич, великий государь, царь и вели-
кий князь, всея Руссии самодержец, жалует тебя, Иваш-
ку Кольцо, хлебом!
Ел Кольцо царский хлеб, ел царскую птицу — лебедя.
Смотрел на бояр в белых кафтанах, смотрел на крав-
чих1, стоявших у поставца с золотыми чашами в руках.
Жаловал царь атамана заморским вином. Пил атаман
вино, пил из золотой чаши, вспоминал Сибирь, вспоми-
нал данников Ермаковых.
«Пью, — думал, — с золота. По остяцкой вере
присягаю великому князю. Радостен государь, да как бы
не спросил про разбои на Волге, про того воеводу,
Пелепелицына Ваську».
Не спросил царь про разбои. Не вспомнил, что
приказал когда-то казачьего атамана Ивашку Кольцо
словить и повесить.
Отобедав, пошел царь в свои покои. Поднялся по
каменным ступеням, долго отдышаться не мог — дряхл
становился.
«Видно, смерть близка. Умру — кто станет стражем
земли Русской? Кто собирать ее будет и растить вели-
ким бережением? Кто будет вырывать боярскую крамо-
лу, как сорную траву с поля?»
Голубая изразцовая печь пышет жаром. В душном
воздухе — запах мехов и воска. Подошел царь к столу
у решетчатого оконца. Отодвинул в сторону книги мос-
1 Кравчий — боярин, ведавший царским столом.
805
ковских первопечатников Федорова Ивана и Мстислав-
ца Петра — «Апостол» и «Часовник». Развернул на столе
пергаментный свиток — чертеж земли Русской. Как
кровеносные жилы по телу человеческому, извивались
по чертежу реки. Малые реки, и реки великие, и самая
великая — Волга-река.
«Погнал я с Волги ордынцев — Казанского хана
погнал и Астраханского хана погнал, и ныне вся Волга
свободна от истоков до устья», — думал царь.
Смотрел он за Каменный пояс, откуда приехали
Ермаковы послы. На чертеже Каменный пояс был как
хребет осетра. А за хребтом начертил писец пса, наго-
806
няющего зайца, и белку, грызущую орешек. Ничего не
ведал о той земле писец.
А царь ведал, что идет оттуда путь на юг, в богатые
города Бухару и Ургенч, и на восток идет путь через
глухие места в далекое Китайское царство. И ведал
царь: Каменным поясом, как крепкой броней, оборони-
лась Русь от степных кочевников.
Молча стоял царь. Празднично гудели колокола, пе-
рекликаясь частым перезвоном. И думал царь: «Растил
я землю Русскую, как бережливый садовник растит сад,
и ныне сад тот благоцветущ, многоплоден и благоухания
исполнен».
807
Закатывалось зимнее солнце. Сквозь решетчатое
оконце падал на чертеж желтый луч, узкий, как стрела.
Шел тот луч от ливонских земель, через города и земли
московские, через Каменный пояс в Сибирское царство.
* ★ ★
На другой день поехал Кольцо смотреть пушечную
стрельбу.
Длинный поезд потянулся из Кремля. Впереди шло
пять тысяч Пищальников. У каждого на левом плече —
пищаль, а в правой руке — фитиль. За ними ехали бояре
в парчовых одеждах, по три человека в ряд. За боярами
на белом жеребце ехал царь. На голове у него была
красная шапка, украшенная жемчугом и дорогими само-
цветами.
Выехали в поле. Там стояли толстые ледяные глыбы,
а за ними, подальше, — деревянные срубы, набитые
землей.
Пищальники стреляли с невысоких подмостков. Лед
крошился от пуль. Пороховой дым стлался низко, как
туман на болоте.
Когда глыбы были разбиты, загремели пушки.
Смотрел Кольцо, усмехался.
«Такую бы рать, — думал он, — да за Камень!»
Гремели пушки. Ядра взрывали землю, рушили дере-
вянные срубы.
Стемнело. Ярче становилось пламя выстрелов.
Поехали в Кремль. Царь одарил казаков деньгами и
сукнами. Ермаку послал кусок сукна, шубу с собствен-
ного плеча, серебряный ковш и два дорогих панциря.
Ивану Кольцо позволил брать охочих людей для
заселения новой земли. Обещал отправить в Сибирь на
подмогу казакам воевод со стрельцами.
На Москве праздновали победу над сибирским ха-
ном. Звонили колокола, служили молебны. Рассказыва-
ли о ратном искусстве Ермака, о его непокоримой
отваге, о том, сколько добра всякого добыл за Камнем.
Многие гулящие и беглые люди, прослышав о Сиби-
ри, отправились туда вместе с Иваном Кольцо. Тяжело
808
груженные сани вереницей тянулись на восток. Пар
подымался от вздымленных лошадей.
В санях сидел Иван Кольцо, сидели казаки. Бороды
у них заиндевели от мороза.
Скрипел под полозьями снег. Дорога шла то полем,
то лесом — и снова полем, пустым, занесенным снегом.
Сани мотало на раскатах, подбрасывало на ухабах.
За санями шли охочие люди. Шли в Сибирь —
селиться на вольных землях.
СБОР ЯСАКА
20 февраля приехал в Кашлык татарский мурза Сен-
бахта Тагин. Жил он неподалеку и ладил с казаками.
Рассказал мурза, что царевич Махметкул кочует по
берегу реки Вагая, воинов у царевича мало, а до реки
той верховому день езды.
Послал Ермак шестьдесят казаков — изловить Мах-
меткула.
Приехали казаки на Вагай, разбились по нескольку
человек, стали искать след. Искали долго. Наконец
видят — навоз дымится, снег копытами истоптан.
Пошли по следу.
Махметкул разбил свой стан возле озера Кулара.
Татары сидели у костров, варили мясо. Стреноженные
лошади рыли копытами снег, искали под снегом сухую
траву.
Над озером клубился туман.
Казаки отошли за сосновый лесок. Переждали там
до темноты.
Зажглись звезды. Утонули во мраке гривы камыша.
Догорали костры. На снегу колыхались красные от-
светы. Татары легли спать. Где-то в болоте выли волки.
Казаки кольцом окружили становье и, разом вскрик-
нув, бросились в бой.
Испуганно заржали татарские кони. Татары вскочи-
ли, схватились за сабли, но было уже поздно: черной
лавиной налетели казаки, подмяли татар лошадьми и
многих изрубили.
809
Махметкул яростно отбивался, пытаясь уйти в лес.
Казаки накинули на него аркан, связали кожаным
ремнем и, приторочив к седлу, повезли в Кашлык.
Махметкул ехал молча. Ремни резали тело. Над го-
ловой мерно покачивался Млечный Путь. Махметкул
закрыл глаза.
В Сибири царевича встретили торжественно. Казаки
стреляли из пищалей. Атаманы в нарядных кафтанах
разглядывали знатного пленника.
Ермак велел развязать Махметкула и сам помог ему
слезть с лошади. Махметкула отвели в отдельный дом,
убрав его дорогими коврами. У дома днем и ночью стоял
караул.
Ермак звал Махметкула служить русским, обещал
царскую милость.
Махметкул молчал, косил узкими глазами.
Ермак знал, что царевич — лучший татарский воево-
да, и держал его при себе, стараясь ничем не обижать.
Думал: начнет теперь Кучум переговоры и, может быть,
станет московским данником.
Но от Кучума вестей не было.
Кочевал Кучум с войсками, с женами и сыновьями
по Ишимским степям.
Трудно приходилось хану. Царевича Махметкула
забрали казаки в плен. Карача изменил — ушел в
верховья Иртыша, не хочет служить хану. Сеид-Ахмет,
сын убитого ханом Бекбулата, подрос, стал воином,
грозит захватить царство Кучума, отомстить за кровь
отца.
Царство Кучумово распадается, мурзы присягают
русским, уходят данники, не дают ясака.
Кочевал хан в Ишимских степях, а по Иртышу шел
пятидесятник Ермака Богдан Брязга со своим отрядом.
Дошел он до устья реки Аримдзянки. Здесь в маленьком
городке засели мятежные татары.
Брязга взял городок приступом. Зачинщиков велел
повесить за ноги.
Татары клялись ему в верности, целуя обрызганную
кровью саблю.
810
Опять пошли казаки на приступ
Князец Нимнян собрал две тысячи остяков и вогулов.
Засел со своим войском на высокой горе.
Три дня ходил Брязга на приступ — не мог взять
остяцкий городок. Гора была крутая, а вокруг городка
тянулся деревянный частокол с валом.
Пришел к Брязге один чуваш из обоза.
— Есть, — говорит, — у остяков идол золотой, сидит
в золотой же чаше. Льют остяки в ту чашу воду и, как
выпьют из чаши, думают, что с ними никакого худа не
случится.
Чувашии просил отпустить его к остякам. Обещал
украсть золотого идола.
Вечером чувашин ушел в городок, притворяясь пере-
бежчиком, а утром вернулся к казакам.
— Остяки в великом страхе, — рассказывал он. —
Поставили идола на стол. Жгут в чашках сало и серу.
Столпились вокруг, непрестанно молятся. Потому-то я
и не мог украсть идола. А остяки гадают: сдаваться или
биться? И уже решили, что лучше сдаваться.
Опять пошли казаки на приступ и взяли городок.
Искали идола, но нигде не могли найти.
Сошел лед. Казаки дальше поплыли на стругах.
Вечером на опушке леса показались остяцкое горо-
дище. В городище стоял большой каменный идол Рача,
которого остяки очень почитали. Шаманы со всех окре-
стных мест собрались там — приносили Раче жертву.
Увидели шаманы казацкие струги, схватили идола и
поволокли его в лес. Никого в городище не осталось.
Ждал Брязга до следующего дня, думал — вернутся
остяки. Однако никто не показывался.
Поплыли казаки дальше, собирая ясак.
На Иртыше оставался только один непокорный ос-
тяцкий князец — Самар. Призвал он к себе восемь
малых князьков, собрал войско, чтобы перебить рус-
ских.
Казаки рано утром, чуть свет, напали на спящий стан
остяцких князьков. Самар от шума проснулся, схватил
копье, но тотчас был убит. Князьки сначала разбежа-
лись, а потом приходили поодиночке, приносили прися-
гу в покорности и платили казакам ясак.
812
Иртыш стал русским. Брязга вернулся в Кашлык.
Приводить к присяге народы, живущие по Тавде и
Оби, пошел сам Ермак. В низовьях Тавды он разгромил
татарского мурзу Лабуту. На реке Конде победил во-
гульского князька Патлика. У оседлых табаринцев и
кошуков взял ясак хлебом: запасался на зиму.
Дошел Ермак до Оби. Дорогой захватил несколько
городков, местечек и юрт. Вогулы метали в казаков
стрелы с наконечниками из рыбьих костей. Казаки
отвечали пищальными выстрелами. Вогулы скрывались
в леса. Погибло в боях несколько казаков, погиб атаман
Никита Пан.
Пришли казаки на Обь.
Смотрят — течет широкая река к северу, к Студе-
ному морю, покрытому чуть ли не круглый год льдами.
Берега безлюдны и пустынны. Ни деревца, ни кустика.
Куда ни взглянешь — топи и болота, а на болотах мох.
Болота курились туманом, а над рекой, как дым,
стояла мошкара. Вечернее солнце текло по воде. Крича-
ли дикие гуси.
Ермак повернул обратно в Кашлык.
813
КАК ПОГИБ ИВАН КОЛЬЦО
Вернулся из Москвы Иван Кольцо, роздал атаманам
и казакам царские подарки.
Ермак надел сначала нижний, а потом верхний пан-
цирь с золотым орлом на груди.
— Знатный доспех! — сказал он, расправляя плечи
и одергивая чешуйчатый подол. — В груди малость узко.
Ловко ли будет рубиться?
— Приобвыкнешь — слюбится, — отвечал Кольцо.
Охочих людей, которые пришли с атаманом из Мос-
квы, разверстали по сотням.
Карача, изменив хану, разбил свой стан на реке Туре.
Узнал он о возвращении Кольцо и прислал Ермаку
послов с подарками.
— Отошел Карача от хана, — говорили послы. —
Карача русским — друг.
Ермак одарил послов, надеясь привлечь ханского
советника на свою сторону. Послы благодарили, низко
кланялись.
От Кучума вестей все не было. Начали готовиться к
зиме. Собирали хлеб, солили мясо и рыбу. Кое-кто из
казаков взял в жены татарок. Дети у них были голубо-
глазые. Сидели матери у колыбелей, пели протяжные
степные песни.
Царевича Махметкула отправили в Москву. Повез
его Иван Гроза.
Выехали зимним настом.
19 марта 1584 года умер царь Иван Васильевич.
Когда казаки приехали в Москву, на престоле сидел
уже Федор Иванович. Татарского царевича приняли
торжественно, оказывая ему всяческие почести.
Махметкул принес русским присягу в верности и
стал полковым воеводой.
Махметкул в Москве надел русские доспехи.
В 1590 году он дрался со шведами. В 1598 году, когда
ждали нападения крымских татар, ходил с Борисом
Годуновым под Серпухов.
814
Реками уральскими шли пятнадцать стругов с дружи-
ной князя Семена Дмитриевича Волховского.
Волховского послал в Сибирь еще Иван Грозный.
Поехали с князем стрелецкие головы Иван Глухов и
Иван Киреев. При них было триста стрельцов. В строга-
новские городки пришли уже поздней осенью. Зимним
путем через Камень на конях идти не решились. Зази-
мовали у Строгановых, а весной поплыли на стругах в
Сибирь.
Запасов Волховской взял мало.
— В Кашлыке всего вдоволь, — говорили Строга-
новы.
Плыли струги сибирскими реками. А по улусам разъ-
езжали Кучумовы лазутчики и волновали народ:
— Плывет из-за Камня русских несметная рать. Все
добро у вас заберут.
Татары и остяки испугались, начали прятать запасы.
Наступила осень. Убрали поля. Приехали казаки за
хлебом.
— Нету хлеба. Не родился хлеб, — отвечали татары.
Просили казаки мяса.
— Мяса тоже нету. Трава выгорела, скот подох.
Небольшие запасы в Кашлыке были.
— Как-нибудь перезимуем, — решили казаки.
Приехал к Ермаку посол от Карачи. Дал присягу в
том, что не мыслит никакого зла против русских. Просил
отряд для защиты от ногайцев, которые двинулись с юга,
из Барабинских степей:
— Идут ногайцы на наши кочевья. Грозят скот увести
и нас побить.
Ермак отрядил на помощь Караче сорок казаков и
атамана Ивана Кольцо.
Приехали казаки на Тару. Татары обрадовались. Кор-
мили их бараниной, поили кумысом, говорили: «Якши
урус».
Атамана провели в избу Карачи. Карача сидел на
подушках и приветливо улыбался, распахнув полы шел-
кового халата. Оружия при нем не было. На ковре
815
дымились блюда с вареной бараниной. В жирной по-
хлебке плавали куски теста. У ковра сидели татары с
медными чашками в руках.
— Да снизойдет на твою голову благословение алла-
ха! — говорили они. — Да продлится твой род на многие
годы!
Карача подвинул атаману круглую подушку. Кольцо
сел, разминая затекшие ноги.
Дымилась баранина. Русый, голубоглазый слуга раз-
ливал из железного кувшина кумыс. Кольцо с удивле-
нием смотрел на слугу.
— Ясырь, раб, — сказал Карача, перехватив его
взгляд. — В Хиве куплен.
Карача говорил тихо. Поглаживал редкую бороду.
Сидевшие у ковра татары молча слушали его и кивали
головами. Карача жаловался на ногайцев:
— Идут на наши кочевья, скот угоняют. Мы слабы.
Как нам защищаться?
Кольцо пил кумыс, поглядывал из-за края чаши на
татар. Со двора доносился чей-то приглушенный смех.
На стене, за спиной Карачи, висел круглый щит, весь
покрытый причудливой резьбой. В середину был вделан
крупный изумруд.
— Щит смотришь? — спросил Карача. — Хорош щит.
Старый мастер делал.
Кольцо встал, подошел к стене посмотреть резьбу.
Карача толкнул ногой кувшин с кумысом, и стоявший
в дверях слуга набросил на голову атамана Кольцо
ремень. Карача вскочил и вытащил из-под ковра саблю.
Узкий ремень сдавил атаману горло. Потянулся атаман
к поясу — нож достать, а уж четверо татар повисли у
него на руках.
Карача ударил его по затылку саблей. Кольцо тяжело
рухнул на ковер.
— Якши! — сказал Карача, усмехаясь, и вытер полой
халата саблю.
Десятерых казаков татары удушили сонными, осталь-
ных, напоив кумысом, перерезали. Один успел выта-
щить саблю. На него накинули сзади ковер, повалили и
закололи сквозь ковер ножами.
816
Только старый Бондаренко, тяжело израненный, вы-
полз из избы, с трудом взобрался на седло и ударил
коня.
Вдогонку ему полетели стрелы.
В изрубленной кольчуге, обливаясь кровью, приска-
кал казак в Кашлык.
— Карача изменил... Всех побили! — сказал он, с
трудом шевеля запекшимися губами, и повалился на
землю.
У Ермака глаза помутнели от горя и ярости. Поймал
четырех вооруженных татар и велел их повесить.
Осенний ветер раскачивал над стенами Кашлыка
почерневшие тела повешенных.
Ермак послал атамана Якова Михайлова с отрядом
отомстить за товарищей.
Ночью в глубоком овраге Карача напал на них и всех
перебил.
ОСАДА КАШЛЫКА
По улусам и юртам разъезжали отряды Карачи, всех
подымая на русских войною. Тех, кто не хотел идти,
убивали.
Струги князя Волховского едва успели доплыть до
Кашлыка.
Встретили князя, устроили пир. С пира атаманы
разошлись невеселые. Приехал Волховской без хлеба,
без соли, без круп. В Кашлыке-то и на своих было
мало — лишь бы в скудости дотянуть до весны. А тут
триста ртов лишних.
Наступила зима. По дорогам рыскали татары. Снег
лежал глубокий: верблюду по ноздри.
Запасы у казаков подходили к концу. Стали есть
ржаную болтушку.
Небольшой отряд попытался пробраться к вогулам
за рыбой. У вогульских юрт стояли войска Карачи.
Пришлось вернуться с пустыми руками.
Вышли все припасы. Зарезали лошадей, съели собак.
А с Иртыша дул студеный ветер, заметал снегом.
817
В пустынном небе подолгу рдели кровавые зори, и
дым из труб застывал прямыми черными столбами. Снег
падал и днем и ночью, падал пушистыми, крупными
хлопьями, и ветви деревьев склонялись под тяжестью
белых шапок.
Начался голодный мор. Из посиневших десен сочи-
лась кровь. По телу выступали багровые пятна. Пухли
ноги.
Сквозь затянутые пузырем оконца пробивался туск-
лый свет зимнего дня. На лавках лежали казаки и
стрельцы. Щупали пальцами зубы — не шатаются ли.
Душный смрад стоял в избах.
Ободрали лыко с берез. Голые, обожженные моро-
зом стволы чернели на снегу. Варили лыко, ели горькую
похлебку. Варили конскую сбрую из сыромятных ре-
мней. Долго жевали шатающимися зубами.
Стих ветер. На севере засияло небо, зажглось зе-
леным светом. Словно огромное полотнище зеленого
шелка свисало с небесного свода, колыхалось, развер-
тывалось.
Казаки, с трудом передвигая распухшие ноги, вылез-
ли на вал. Запавшими глазами смотрели в небо.
Над горизонтом протянулись белые полосы. Потом
небо померкло. В безветренном воздухе неподвижно
свисали русские знамена. Разошлись казаки по избам.
На сердце тоска. Чадит лучина. Падают со светца уголь-
ки, шипят в воде. Тиха зимняя ночь. И говора не слышно,
и песни не слышно. Снег кругом да волки воют.
Умирали казаки и стрельцы. Умер князь Семен Дмитри-
евич Волховской. Трупы сначала хоронили в городе, потом
стали бросать за валом. Трудно рыть мерзлую землю.
Над трупами дрались волки, жрали мертвечину.
Как-то казак заарканил волка, содрал шкуру, сварил
и съел. Стали волков бить, есть волчатину.
Волки отошли от города. Выли по оврагам.
В избах бредили умирающие. Грезились им зеленые
луга, а на лугах коровы бродят, щиплют траву отары
жирных овец. Грезились им огромные котлы с ухой и
кашей. Кричали в бреду, кусали черные губы.
Морозы стояли такие, что летит ворона — а за
818
вороной тянется струйка пара. Земля трескалась от
лютой стужи.
С голоду стали есть мертвецов.
К весне совсем отощали. Едва ноги тянули. Кожа
стала желтая, а по коже — струпья.
Отошли морозы, солнце пригрело. Начали корень
травной копать, промышлять в полыньях рыбу.
Ермак велел искать под снегом траву черемшу. Гово-
рил: черемша помогает от голодной хворости.
Весна настала ранняя. В полдень припекало солнце.
По оврагам пенились ручьи.
Не сошел еще снег — сторожевые заметили: за
холмами что-то чернеет и колышется.
Снег на солнце сверкал, резал глаза. С тревогой
казаки смотрели вдаль.
Из-за холмов показались головы коней и верблюдов,
мохнатые шапки и копья.
Войска Карачи обложили Кашлык.
* * *
Широкой дугой расположился татарский лагерь.
— Тенета раскинуты, — сказал Карача, привстав на
стременах, и засмеялся коротким лающим смехом. —
Из Кашлыка теперь и ворону не пролететь, и крысе не
прошмыгнуть.
Татары переняли дороги, тропы и броды. Костры
дымили по всему небосклону.
Ермак поднялся на вал, потянул ноздрями весенний
воздух и велел пушкарям раздувать фитили.
Татарские конники сбивались в плотную массу.
Ударил барабан. Донесся пронзительный вой.
Татары подняли изогнутые луки, пустили стаю стрел
и понеслись.
Чадили пальники. Казаки, насупившись, заряжали
пищали.
Южный ветер трепал желтые космы костров.
Татары на скаку разворачивались полумесяцем. Кри-
вые сабли крутились над головами. Копыта коней взби-
вали талый снег.
819
— Подпускайте поближе! — крикнул Ермак пушка-
рям. — Махну саблей — стреляй!
Передовые рысью поднялись на косогор перед рвом
и тотчас же начали осаживать.
Ермак взмахнул саблей. Дохнули дымом пушки. То-
ропливо застучали пищали.
На скате валялись мертвые и раненые.
Потерявший всадника конь, вытянув шею, жалобно
ржал. В снегу шипело и кружилось ядро.
— Огонь! — кричал Ермак.
Вал окутался облаком порохового дыма.
Пригибаясь к коням, татары бросились назад.
В желтом небе кружили орлы. За рекой садилось
большое мутное солнце.
С высоты крепостных стен смотрел Ермак на бесчис-
ленные дымки костров, на расплывающиеся во мгле
пятна обозов. Быстро падала ночь. Загорались зеленые
степные звезды.
К татарам каждый день подходили новые силы. Ка-
рача повсюду рассылал гонцов:
— Говорите, обложили мы Кашлык. Зайцу не про-
скочить. Неверным теперь не уйти. Зовите всех под мою
руку.
Татары к валу больше не приближались. Поставили
палатки, построили шалаши и разъезжали вдалеке, так
что ни пулей, ни ядром не достать.
— Хотят голодом нас дойти. Думают, как отощаем —
голыми руками возьмут, — сказал Ермак и зло скрипнул
зубами.
Рыбу промышлять стало трудно.
Пошли двое казаков на Иртыш со снастью. Думали
разживиться лещами на утренней заре. Татары их пой-
мали и повесили у себя в стане на вздернутых оглоб-
лях.
Сошел снег. Березы оделись зеленым пушком. На
лужайках чуфыкали и бормотали тетерева. Широко
разлился Иртыш, сбросив ледяную кольчугу.
В Кашлыке голодали. А из татарского лагеря ветер
доносил вкусный запах вареного мяса. Татары ели ко-
820
нину и баранину, запивали кумысом из кожаных меш-
ков. Острый запах татарских котлов кружил казакам
головы. Едва ноги таскали.
Карача с женами и сыновьями своими отошел подаль-
ше на восток, к Саусканским юртам. Туда стянули и
главный обоз.
Подскакал как-то к Кашлыку всадник, бросил в ров
мешок.
Вытащили его казаки — из мешка смрад. Развяза-
ли — видят: головы человеческие. Признали в них тех
товарищей, что с осени поехали собирать ясак по даль-
ним улусам.
— Лучше в битве сложить голову, чем умереть
отощав, без славы, — говорили казаки.
На вылазку идти было нельзя. Навалятся татары
скопом — сомнут. В поле с ними не сладить.
Решили подобраться к татарам во мраке и неожидан-
но напасть на них.
Ночью повел Матвей Мещеряк половину казацкой
дружины за крепостные стены.
В Кашлыке остался Ермак.
Черные тучи затянули небо. Накрапывал теплый
дождик.
821
Спустились казаки за вал, перешли ров и затаились
в березняке.
Во тьме, звякая недоуздками, сыто пофыркивали
кони и кто-то лениво тянул песню. Это татарский отряд
сторожил дорогу.
Обошли его оврагом. Дальше никого не было.
В лагере догорали костры. Татары укрылись от дождя
в палатки. Где-то у телег пес побрехал и смолк.
Дошли казаки до Саусканских юрт. Мещеряк велел
сесть, дух перевести.
Далеко, в Кашлыке, тускло тлели два огонька.
Атаман снял шлем, вытер вспотевший лоб и поднялся.
— Пошли, — сказал он тихо.
Напали казаки на стан Карачи. Рубили врагов тихо,
без крика.
Не успели татары глаза открыть — половина уснула
навеки. Другие бросилась к обозу, клича коней.
Мещеряк не дал им оправиться, потеснил от обоза.
Двух сыновей Карачи зарубил в сече. Сам Карача едва
ушел на коне.
Татары поскакали за помощью.
На востоке зазеленело небо, пахнуло утренним ве-
терком. Издали донеслись конский топот и крики.
Засели казаки у тальниковых кустов, а перед кустами
устроили засаду из татарских телег.
Конский топот приближался.
Казаки заряжали пищали. Кто сыпал порох из поро-
ховницы, кто высекал огнивом искру.
С гиком мчались татары. Из тьмы показались конские
морды.
Засев за телегами, казаки палили из пищалей.
Зеленело небо. В предрассветной мгле вспыхивали
пищальные огни. По низинам стелился туман. Татары
конской лавиной обрушились на казаков, но не смогли
пробиться через телеги и отхлынули назад.
Казаки стреляли не переставая. Стволы пищалей
раскалились, жгли руки.
Татары несколько раз бросались на приступ, но, не
выдержав пищального огня, поворачивали обратно, ус-
тилая поле своими трупами.
822
Уже солнце встало из-за холмов, а бой все длился.
Ряды татар поредели. Они налетали уже без крика.
Взмыленные кони тяжело вздымали крутые бока.
Пешие татары зашли за кусты тальника и стали
метать стрелы. Их отогнали пулями.
Пригрело солнце. Пересохли губы. Хотелось пить.
Пешие татары, рассеявшись, уходили к лесу.
Бой длился до полудня. Войска Карачи были разбиты.
По всему полю, по зеленой траве, чернели трупы лоша-
дей и людей. Когда наконец ушел последний татарский
отряд, у казаков кончился порох.
СМЕРТЬ ЕРМАКА
Карача с остатками войск бежал в степи.
Вогулы и остяки опять отошли к русским. Глухими
лесными тропами, непролазными болотами, реками в
долбленых челнах спешили они к Кашлыку — везли
рыбу, мясо и мед.
В лугах долго стояла полая вода. Земля набухла,
наливала соком высокие травы. Казаки быстро оправи-
лись от голода и зимних невзгод.
Смиряя непокорных князцов, Ермак пошел вверх по
Иртышу. На восточном берегу озера Тобоз-куль после
кровопролитной битвы разгромил знатного князца Беги-
ша. В устье Ишима разбил напавших врасплох татар.
Князец Елегай, живший в Тювенде, встретил каза-
ков богатыми дарами. Предлагал Ермаку в жены свою
дочь, которую Кучум сватал за своего сына. Атаман
отказался.
Жители Ташаткана сдались без боя.
В Ташаткане лежал багровый камень величиной с
груженые сани. Татары говорили, что это «господин
погоды»; упал он с неба и вызывает холод, дождь и снег.
Казаки недоверчиво качали головами.
Пришли к юртам кочевых охотников — туралинцев.
Туралинцы жили в такой нужде, что Ермак не потребо-
вал с них ясака и даже не принял их даров.
Был конец июля. Ночи стояли душные. По горизонту
823
полыхали зарницы, но дождя не было. Днем от зноя по
бокам стругов стекала смола.
Трава выгорела, и по степи вертелись пыльные стол-
бы. Река мелела, обнажая пески.
Струги возвращались в Кашлык. Подход или к устью Вагая.
* На крутой берег из-за кустов выехали два всадника
в полосатых халатах и круто осадили коней. Привстав
на стременах, они что-то кричали и размахивали мохна-
тыми шапками.
Струги повернули к берегу.
Всадники называли себя бухарцами. Сказали, что из
Бухары идет в Кашлык большой караван, везет ковры,
шелка, пряности, всякую утварь и оружие. Хотят бухар-
цы торговать с русскими, да на Вагае стоит хан Кучум,
не пропускает караван.
Казаки знали, что по Вагаю идет торговый путь в
Бухару и Хиву. Путь этот нельзя было оставлять в руках
у Кучума. Ермаку, кроме того, хотелось и хана изловить.
Обещал он помочь бухарцам.
Всадники кланялись, щелкали языками, просили Ер-
мака поспешить.
Казаки налегли на весла и скоро свернули в Вагай.
На берегу никого не было видно.
Струги поднялись по Вагаю до длинного бугра. Тата-
ры называли его Атбаш — лошадиная голова. Бухарцев
так нигде и не встретили. Татарин, рыбачивший на
берегу, сказал казакам, что слышал — идет караван, а
где идет, не знает.
Поплыли струги обратно.
Пусто на реке. Только чайки с недобрыми криками
кувыркаются в воздухе.
К вечеру небо заволокло тучами. Казаки устали,
томились от духоты и гребли молча. Мерно плескались
весла, протяжно скрипели уключины... Мрак тяжело
навалился на землю. Душный воздух словно застыл.
В слепой тьме, окутавшей небо и берега, тускло
мерцала река.
Подошли к устью Вагая. Иртыш здесь образует длин-
ную дугу, между концами которой давно еще кто-то
прорыл неглубокую перекопь.
824
«Не уйти», — подумал Ермак и начал рубиться.
На этой дуге, окруженной со всех сторон водой,
разбили казаки ночной стан.
Не успели костров развести — грохнуло небо гро-
мовыми раскатами, разорвались тучи, и в узком просве-
те мигнул белый, слепящий свет.
Сразу же бешено навалился ветер. Пригибал деревья
к земле, мял воду, сбивал с ног.
Зеленые молнии полосовали небо. Гремел гром, рас-
катывался, замирал вдали у черного окоема.
Казаки торопливо строили шалаши.
Из-за реки приближался мерный глухой гул. Первые
тяжелые капли застучали по листьям. Завывал ветер,
волны бились о берег.
Усталые казаки крепко уснули. А за рекой, на другом
берегу, стоял хан Кучум. Хан все время шел за казаками
по берегу Вагая. С ним были и те два всадника в
полосатых халатах, которые рассказали Ермаку о бухар-
ском караване.
Кликнул хан лазутчиков — найти брод и узнать, что
делается в казацком стане.
Вызвался пойти один татарин, которого Кучум за
воровство приговорил к смерти. Теперь хан обещал:
если выполнит поручение, будет помилован.
Поехал лазутчик, высматривая, берегом. По поло-
гому скату спустился к воде. Конь нагнулся, раздул
ноздри, понюхал воду и, осторожно ступая, пошел
бродом.
Дождь лил не переставая. Хан съежился в седле.
Вода заливала за кольчугу, растекалась по телу.
Мокрые лошади тихо пофыркивали и отряхивались.
Через час вернулся лазутчик. Рассказал, что нашел
брод, пробрался к русскому стану, а в стане все спят.
Хан ему не поверил. Велел лазутчику пойти опять и
что-нибудь принести из стана.
Гроза уходила на запад. Издалека доносились глухие
раскаты.
Лазутчика долго не было. Хан молчал, поглядывая
в темноту узкими больными глазами. Жеребец под ним
заскучал, перебирал ногами. Хан вытянул его плетью.
826
Вдруг из-за кустов вынырнула конская морда... Подъ-
ехал лазутчик и протянул хану три пищали.
— Русские спят, — сказал лазутчик, часто дыша.
— Якши! — пробормотал хан. — Ты будешь жить.
Татары поехали бродом и в полночь достигли казачь-
его стана.
Не раскрыли казаки глаз. Кучумовы воины перере-
зали спящих.
Только один десятник да Ермак успели вскочить на
ноги. Кучумовы воины окружили их со всех сторон.
«Не уйти», — подумал Ермак и начал рубиться.
Десятник, отбиваясь топором от наседавших врагов,
отступал к берегу.
Дождь перестал. На востоке тучи рассеялись, и в
просвете между ними бледно мерцала утренняя звезда.
Десятник вскочил в струг и, широко загребая веслом,
скрылся за тальником.
Низенький татарин, яростно сопя, пытался достать
Ермака копьем. Скуластое лицо его лоснилось от пота,
узкие губы искривились в пронзительном крике.
Ермак отступал, уклоняясь от ударов. Под ногами
скользила раскисшая глина.
Ермак пригнулся и ударил татарина саблей. Тот за-
прокинулся на спину.
Внизу за ивняком чернел узкий нос струга.
Ермак скатился по глинистому обрыву, вскочил на
ноги. Хотел прыгнуть в струг, а струг волной откачнулся
от берега.
Весенним ледоходом вырыло здесь глубокий омут.
Два тяжелых панциря — царский подарок — тянули
ко дну.
Прибежали татары. Смотрят — никого нет, только
по воде расходятся широкие круги.
★ а ★
Погиб Ермак 5 августа 1585 года.
Через неделю татарин Яныш сидел на берегу Ирты-
ша, ловил рыбу.
Видит — в воде колышется тело.
827
Яныш связал петлю, закинул в реку и вытянул утоп-
ленника. На утопленнике была дорогая кольчуга. Рукава
и подол оторочены медью. На груди — золотой орел.
Побежал Яныш в деревню. Собрались татары, осмот-
рели труп, признали в нем знаменитого казацкого ата-
мана Ермака.
Верхнюю кольчугу взяли шаманы из Белогорья, а
нижнюю — мурза Кадул.
Погиб Никита Пан.
Погиб Яков Михайлов.
Погиб Иван Кольцо.
Погиб Ермак Тимофеевич.
Матвей Мещеряк с остатками казацкой дружины
ушел обратно за Камень.
На сибирский престол сел Кучумов сын Алей. Удер-
жался он недолго: Сеид-Ахмет с помощью бухарцев и
киргизов разбил Кучума и изгнал Алея из Кашлыка.
А из-за Камня по проторенной Ермаком дороге
шли русские. Отряд за отрядом плыли сибирскими
реками.
В водах реки Туры отражались бревенчатые сте-
ны русской крепости Тюмени.
На Иртыше неподалеку от Кашлыка построили рус-
ский город Тобольск.
Соседство это не понравилось Сеид-Ахмету. Он
осадил Тобольск, но был разбит и попал в плен.
Татары ушли из Кашлыка. Город опустел и постепен-
но разрушался.
А в Барабинской степи кочевал хан Кучум, продол-
жая тревожить русских своими набегами.
Воеводы не раз уговаривали старого хана прекратить
сопротивление.
Сам царь Федор Иванович послал Кучуму грамоту.
Предлагал явиться с повинной, обещал все забыть и
обещал возвратить хану города и волости.
Кучум смириться не пожелал и даже грозил войною.
Об одном только просил он русских воевод: вернуть
828
отнятый у него вьюк. В этом вьюке находилось бухар-
ское зелье для больных глаз.
Русские продвигались все дальше и дальше, разбивали
отряды Кучума, перехватывали шедших к нему гонцов.
20 августа 1598 года воевода Воейков нанес Кучуму
жестокое поражение.
В плен попала почти вся семья Кучума, а сам он
спасся бегством.
Воейков послал к нему татарского мурзу и в послед-
ний раз предлагал покориться на почетных условиях.
Мурза нашел хана где-то на берегу Оби. С ним были
три сына и десятка два воинов.
— Если я не поехал к Московскому царю в могуще-
стве своем, — отвечал Кучум, — то как поеду я те-
перь — слепой, глухой и нищий?
Кучум скитался в степях Иртыша, угоняя скот у
соседних кочевников. Кочевники погнались за ним.
Спасаясь от преследования, хан бежал к своим бывшим
союзникам — ногайцам. Ногайцы его убили.
Так бесславно закончил свои дни владетель Сибир-
ского царства.
А Сибирь заселялась.
За ратными людьми шли из Московии люди торговые
и промышленные, шли плотники и кузнецы, кожевники
и гончары. От боярской лютости Ермаковым путем
бежала голытьба искать счастья в землях неведомых.
Новоселы вырубали леса под пашни, корчевали пни,
сохой подымали целину, ковали в кузнях топоры, косы,
серпы и воинские доспехи, прокладывали дороги, стро-
или мосты, спускали на воду суда, тесанные из сибир-
ского леса.
В глухих местах вырастали города, крепости и ост-
рожки1. На лесных вырубках дымились печи — жгли
руду медную и железную. По таежным рекам плыли
казачьи струги — разведывать новые земли.
Государство Российское продвигалось на восток.
1 Острожек (острог) — поселение, обнесенное вокруг
частоколом илипалисадом из свай, вверху заостренных.
ЙЗ СОДЕРЖАНИЕ
Зодчие
Часть I. Юность Голована.....................7
Часть II. Москва и Казань................... 77
Часть III. Великий поход.................... 190
Часть IV. Смелые замыслы....................285
Часть V. Памятник ратной славы.............338
Заключение...................................401
Князь Серебряный
Предисловие....................................405
Глава 1. Опричники............................407
Глава 2. Новые товарищи.......................418
Глава 3. Колдовство...........................422
Глава 4. Дружина Андреевич и его жена........429
Глава 5. Встреча..............................437
Глава 6. Прием................................443
Глава 7. Александрова слобода.................456
Глава 8. Пир..................................463
Глава 9. Суд..................................476
Глава 10. Отец и сын...........................488
Глава 11. Ночное шествие.......................493
Глава 12. Клевета..............................501
Глава 13. Ванюха Перстень и его товарищи.......508
Глава 14. Оплеуха..............................516
Глава 15. Поцелуйный обряд.....................529
Глава 16. Похищение............................539
Глава 17. Заговор на кровь.....................546
Глава 18. Старый знакомый......................556
Глава 19. Русский человек добро помнит.........561
Глава 20. Веселые люди.........................568
830
Глава 21. Сказка...............................585
Глава 22. Монастырь............................601
Глава 23. Дорога...............................607
Глава 24. Бунт станичников.....................614
Глава 25. Приготовление к битве................627
Глава 26. Побратимство.........................632
Глава 27. Басманов.............................640
Глава 28. Расставание..........................650
Глава 29. Очная ставка.........................654
Глава 30. Заговор на железо. ..................662
Глава 31. Божий суд............................668
Глава 32. Ладанка Вяземского...................683
Глава 33. Ладанка Басманова....................685
Глава 34. Шутовской кафтан.....................690
Глава 35. Казнь................................699
Глава 36. Возвращение в Слободу................708
Глава 37. Прощение.............................716
Глава 38. Выезд из Слободы.....................724
Глава 39. Последнее свидание...................731
Глава 40. Посольство Ермака.................. 741
Ермак
О «странах полунощных» и о «мягком золоте»...761
Люди буйственные и храбрые...................766
В соляных городках...........................770
Трудным путем, непроходимыми местами.........775
Ратное плавание..............................779
Хан Кучум....................................784
Бой под Чувашевым мысом......................788
Ветер развевает русские знамена над стенами
Кашлыка......................................796
Посольство Ермака............................801
Сбор ясака................................. 809
Как погиб Иван Кольцо........................814
Осада Кашлыка................................817
Смерть Ермака................................823
Scan Kreider
А. Волков
ЗОДЧИЕ
А. Толстой
КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ
Т. Гриц
ЕРМАК
БИБЛИОТЕКА
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
ТОМ LXXXVIII
Ответственный редактор В. Гмубихин
Редактор Г. Губанов
Художественный редактор П. Шлаин
Технический редактор О. Васылык
Корректор В. Морозова
Лицензия ЛР № 062136 от 26.01.93. («Уникум»)
Лицензия ЛР № 062707 от 09.06.93. («Карно»)
Подписано к печати 05.10.94. Формат 84x108/32. Бумага
типографская №1. Печать высокая. Ус л. п. л. 43,68. Уч.-
изд. л. 41,94. Тираж 50 000 экз. Заказ 769
Издательство детской книги «УНИКУМ»
109432 Москва, ул. Трофимова, д. 36/1. Тел./факс (095)
958-86-69
Издательство «КАРНО»
105318 Москва, ул. Щербаковская, д 3.
Тел. (095) 369-13-09, 369-68-12
Отпечатано с оригинал-макета
на Можайском полиграфкомбинате
Комитета Российской Федерации по печати.
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.