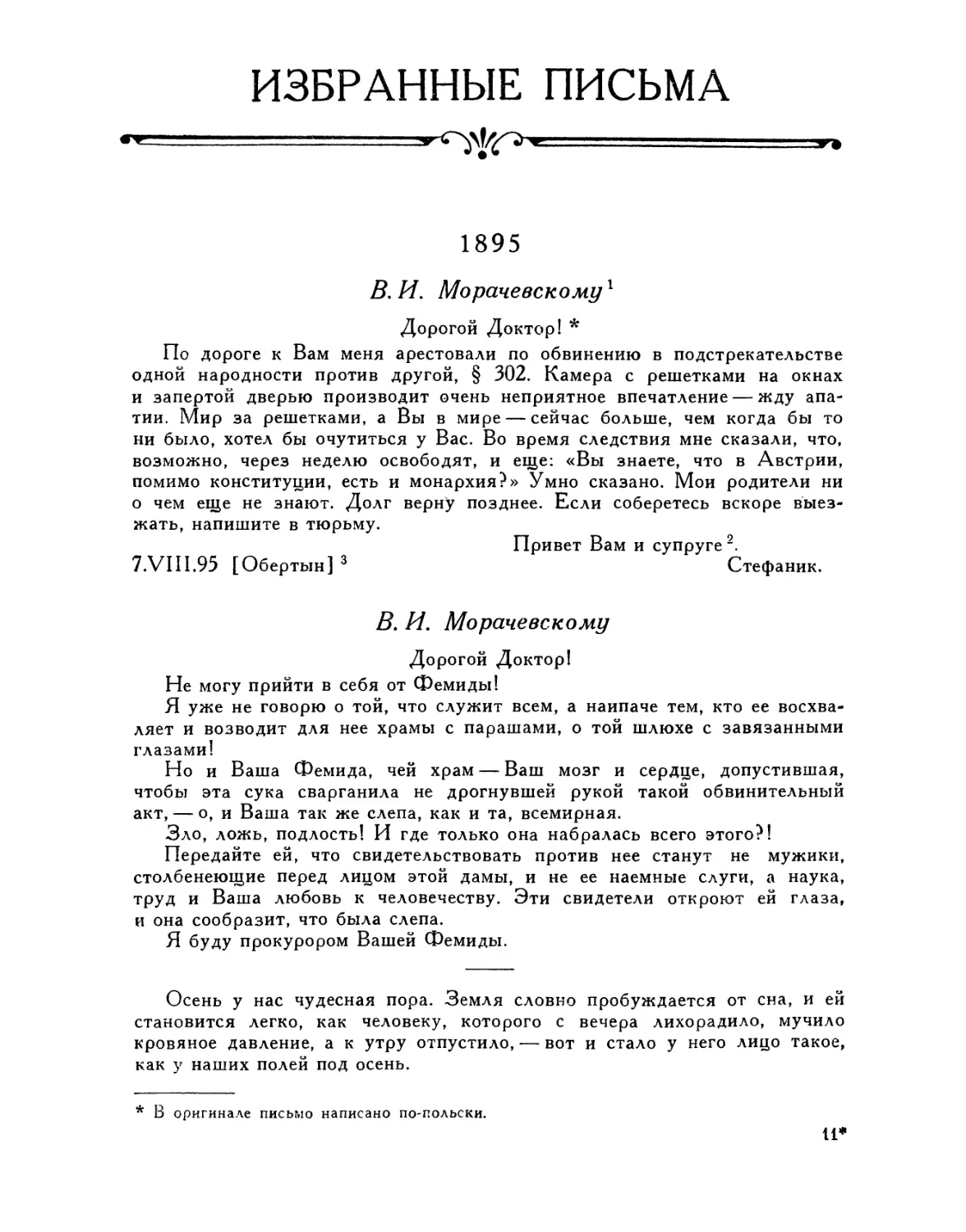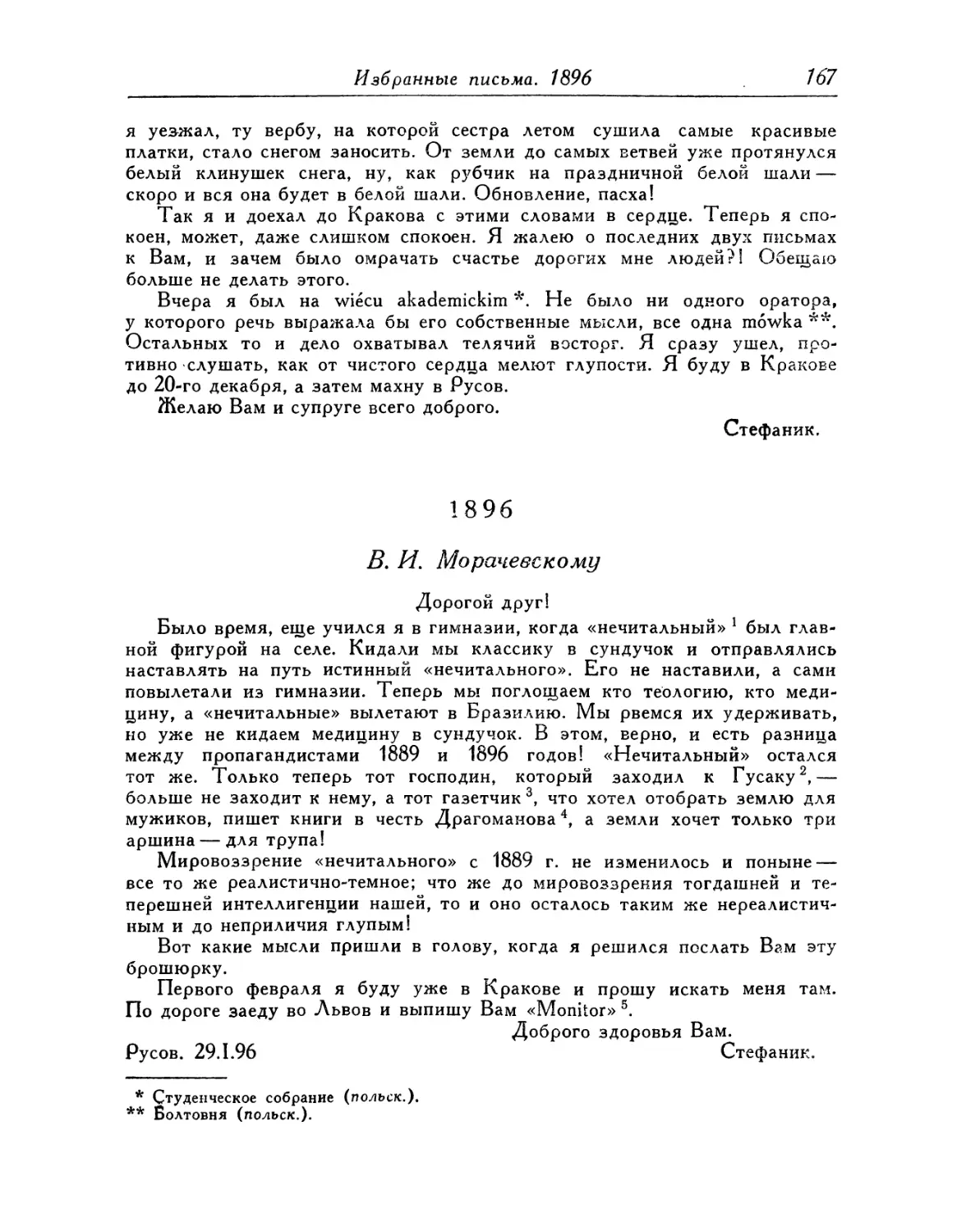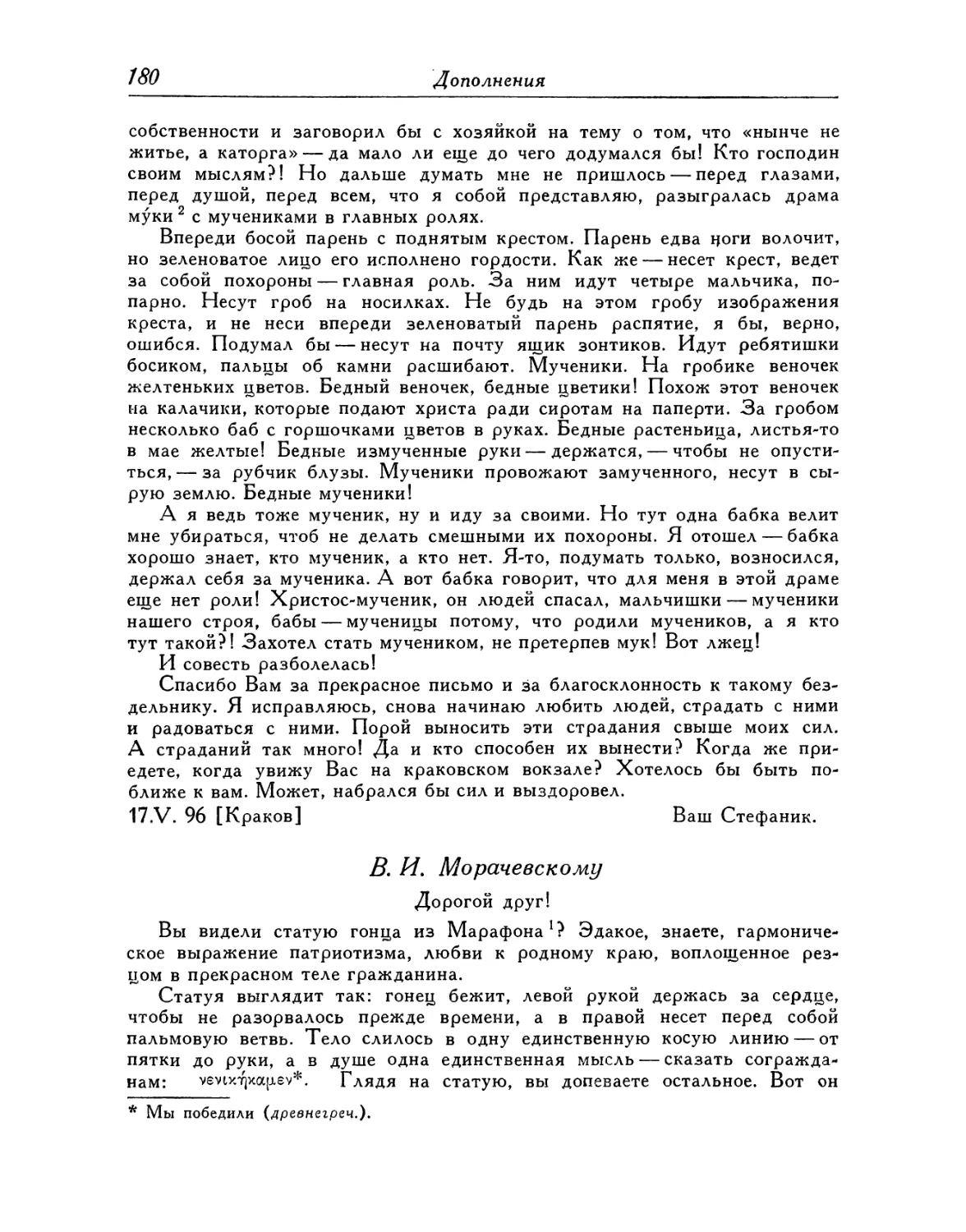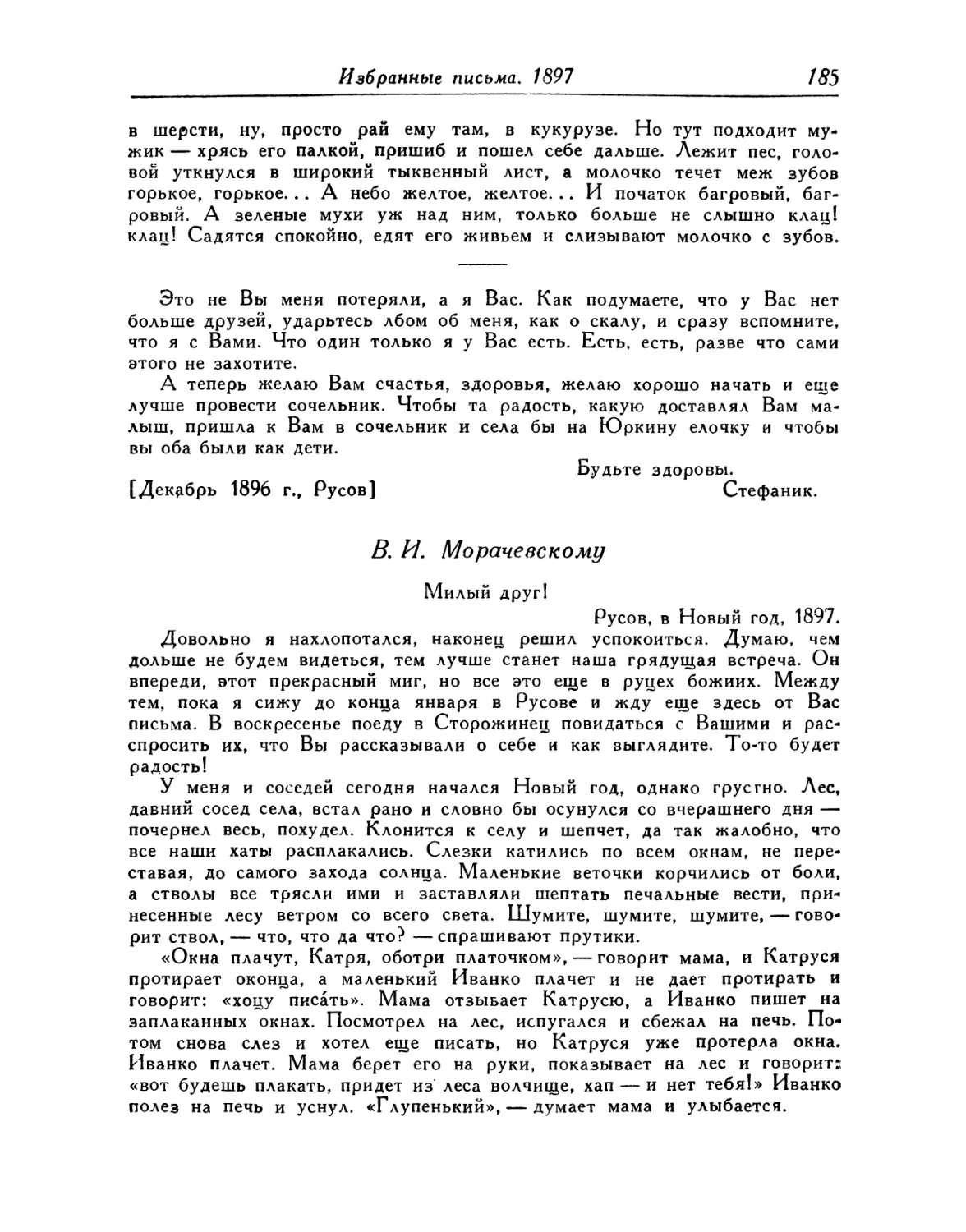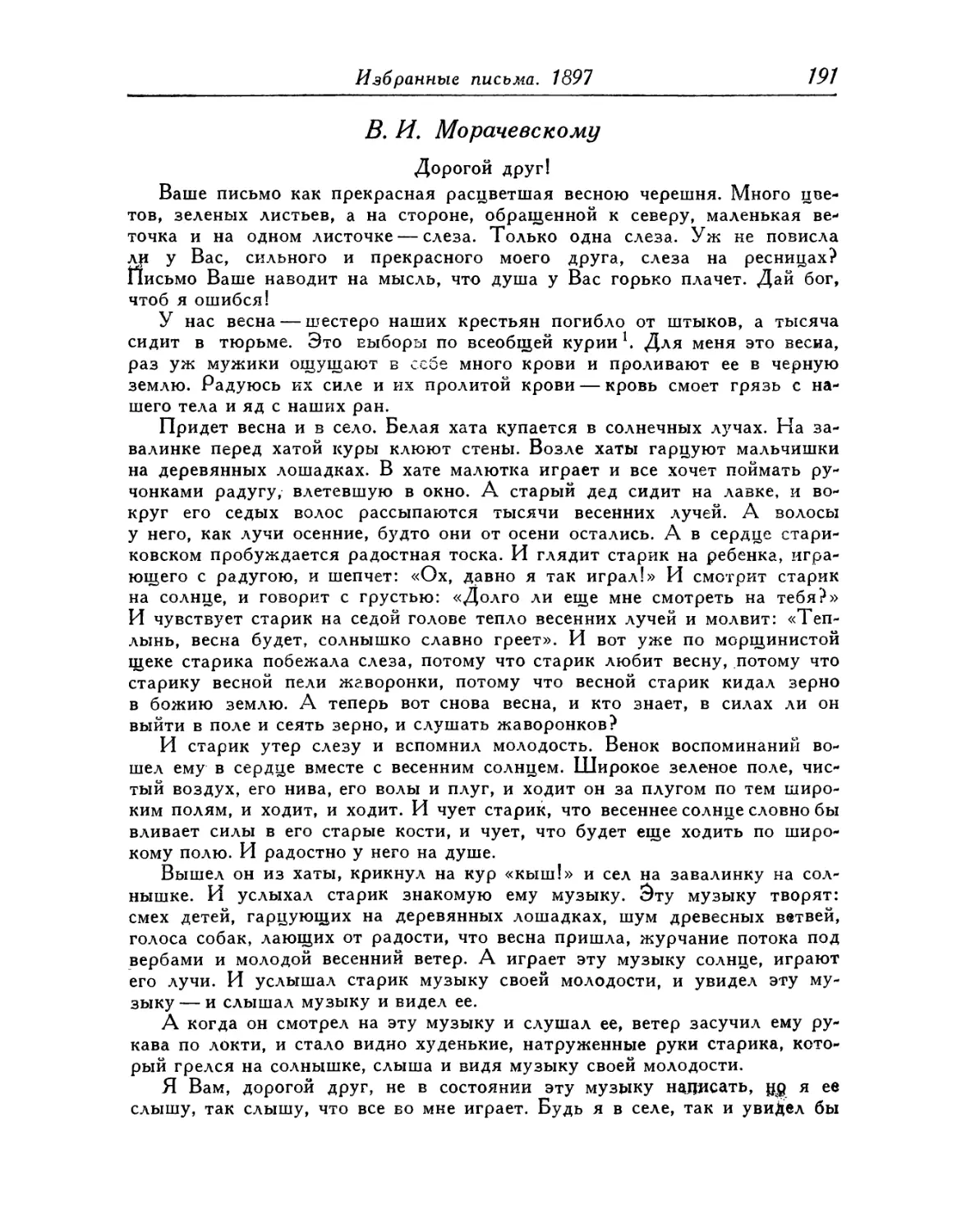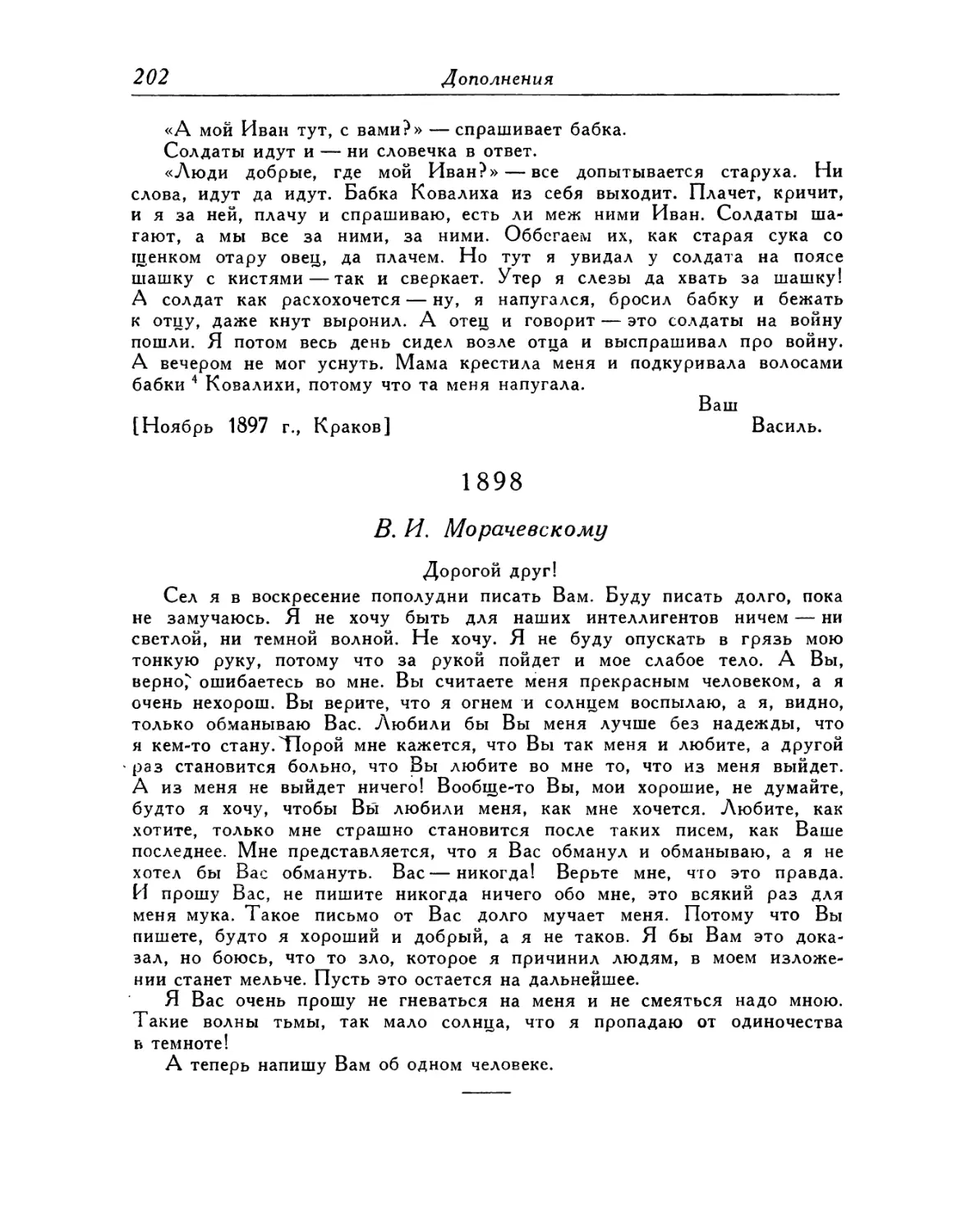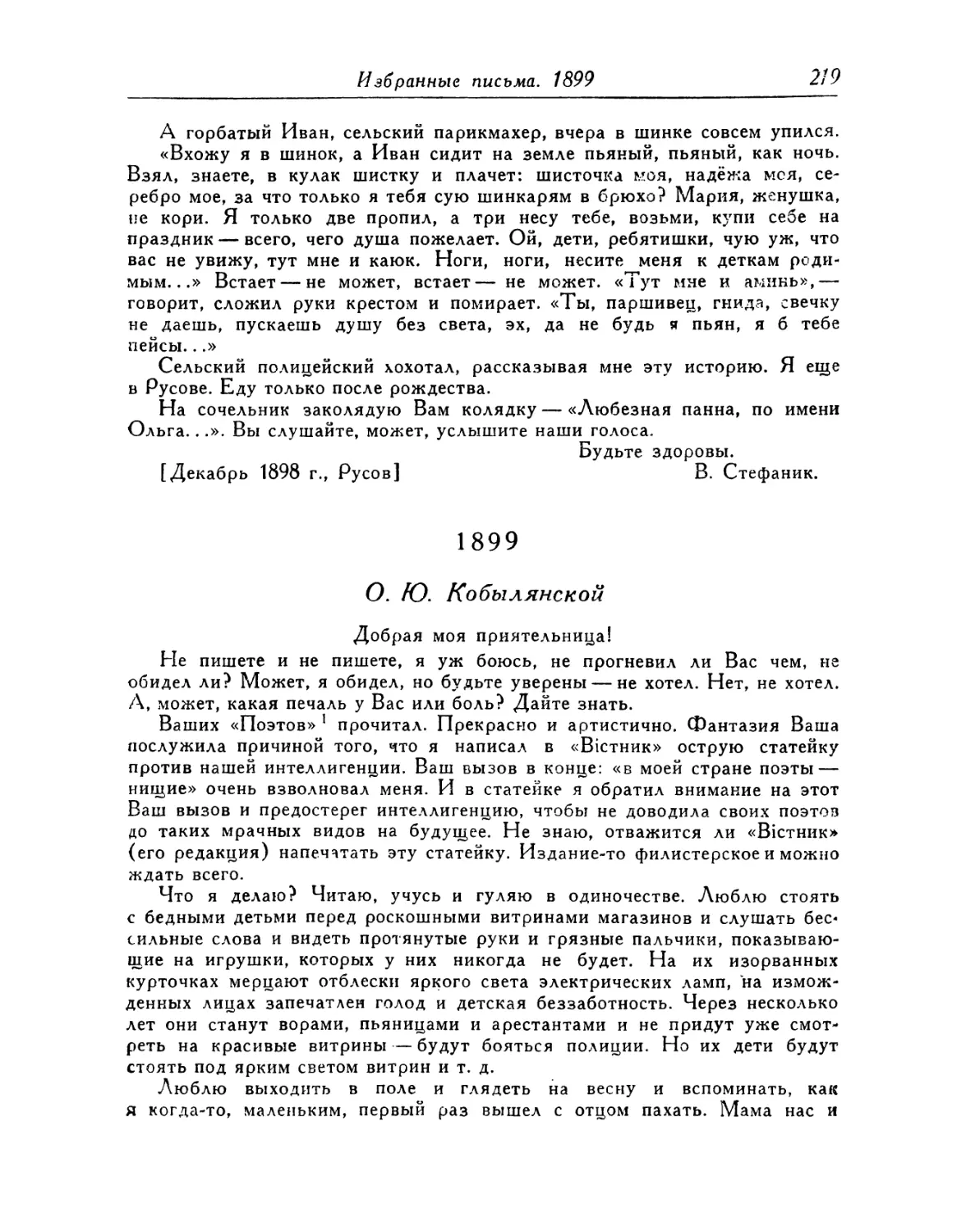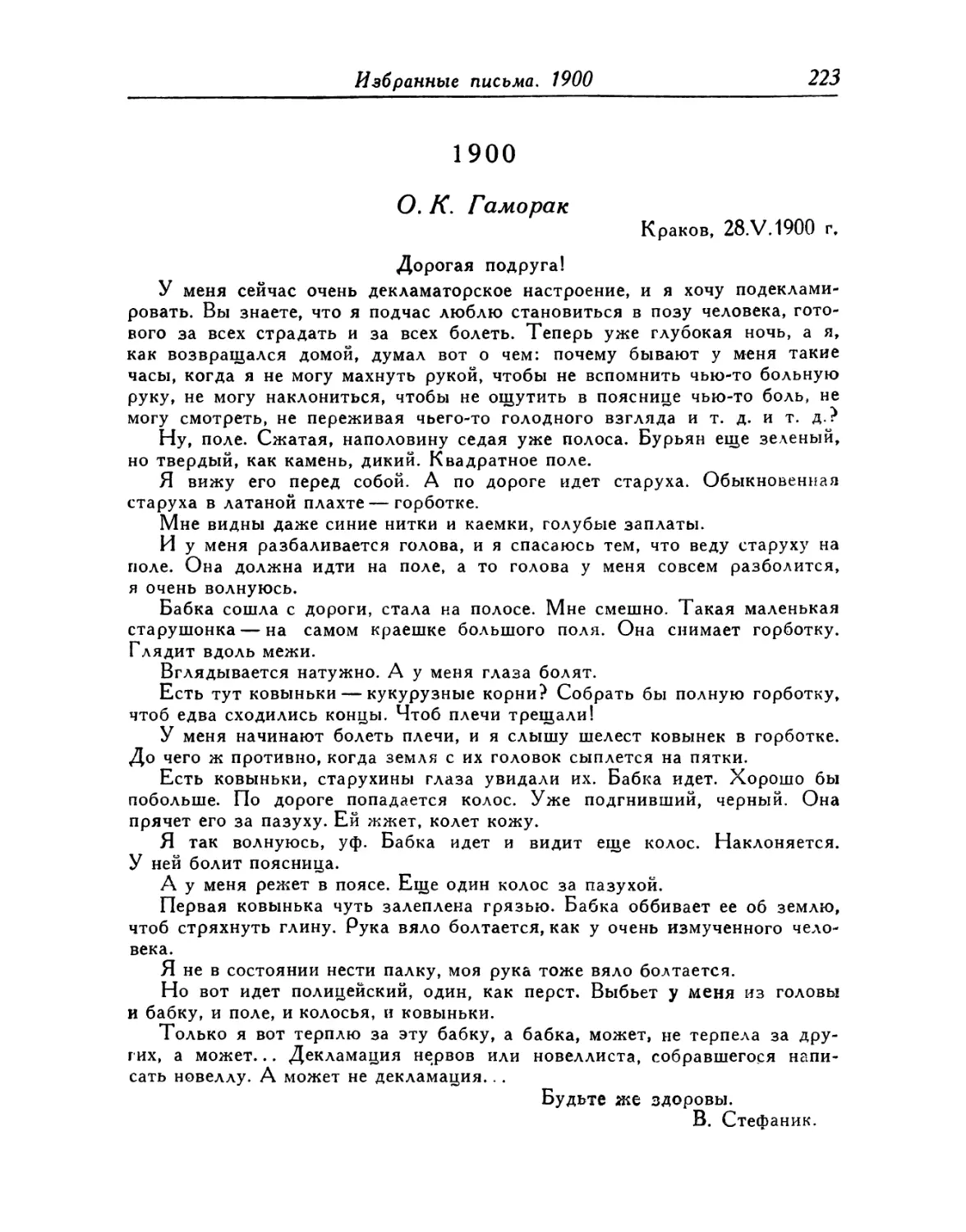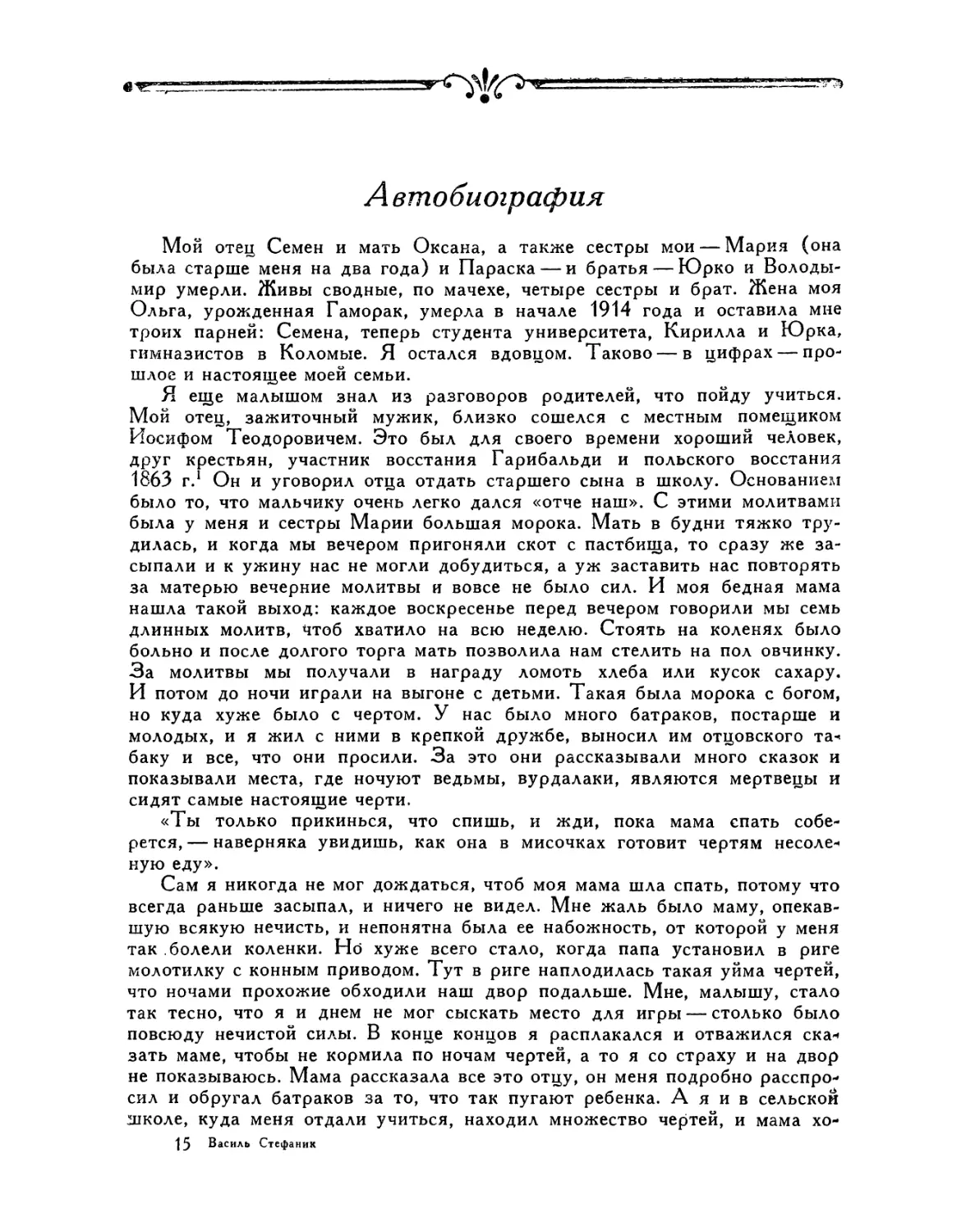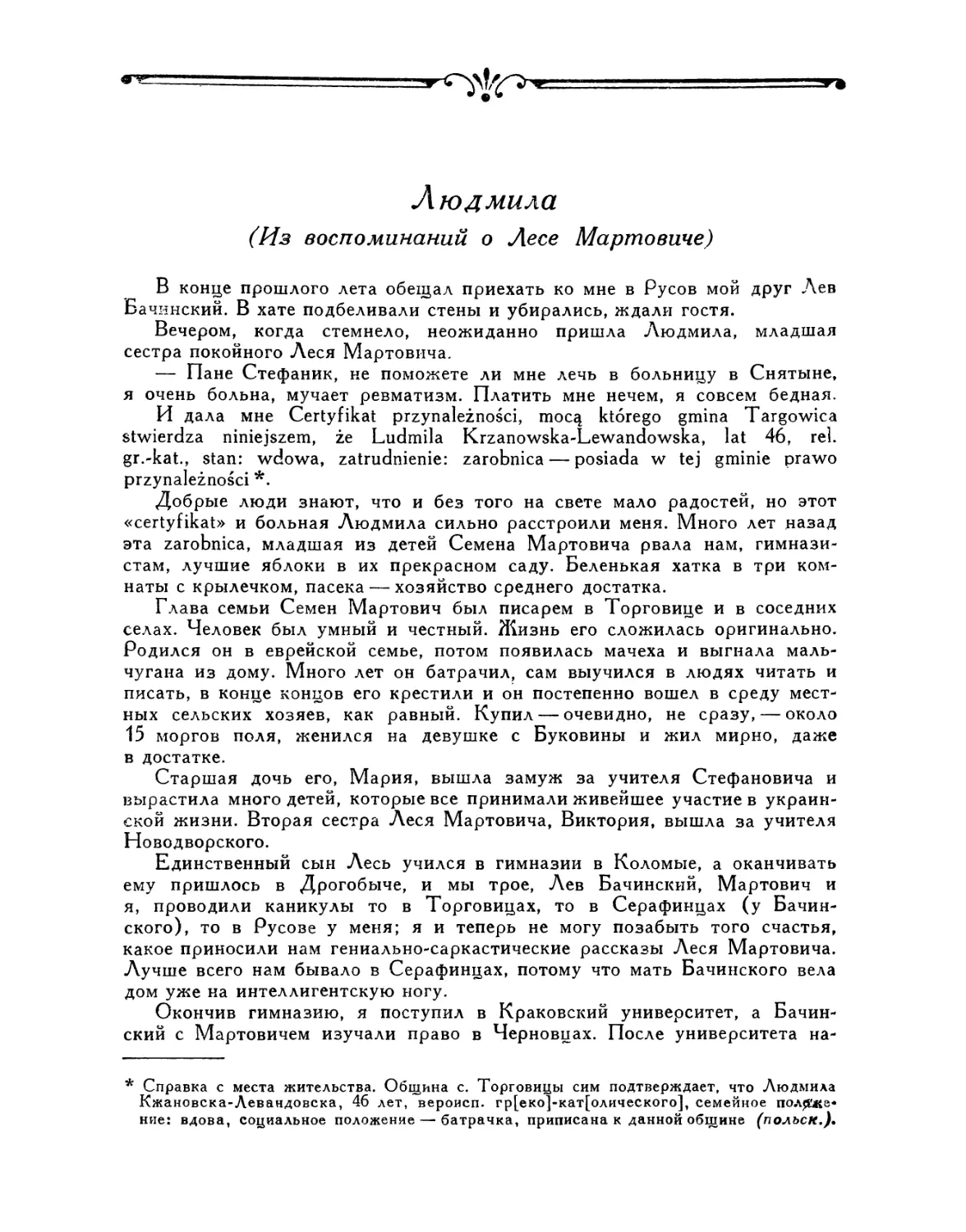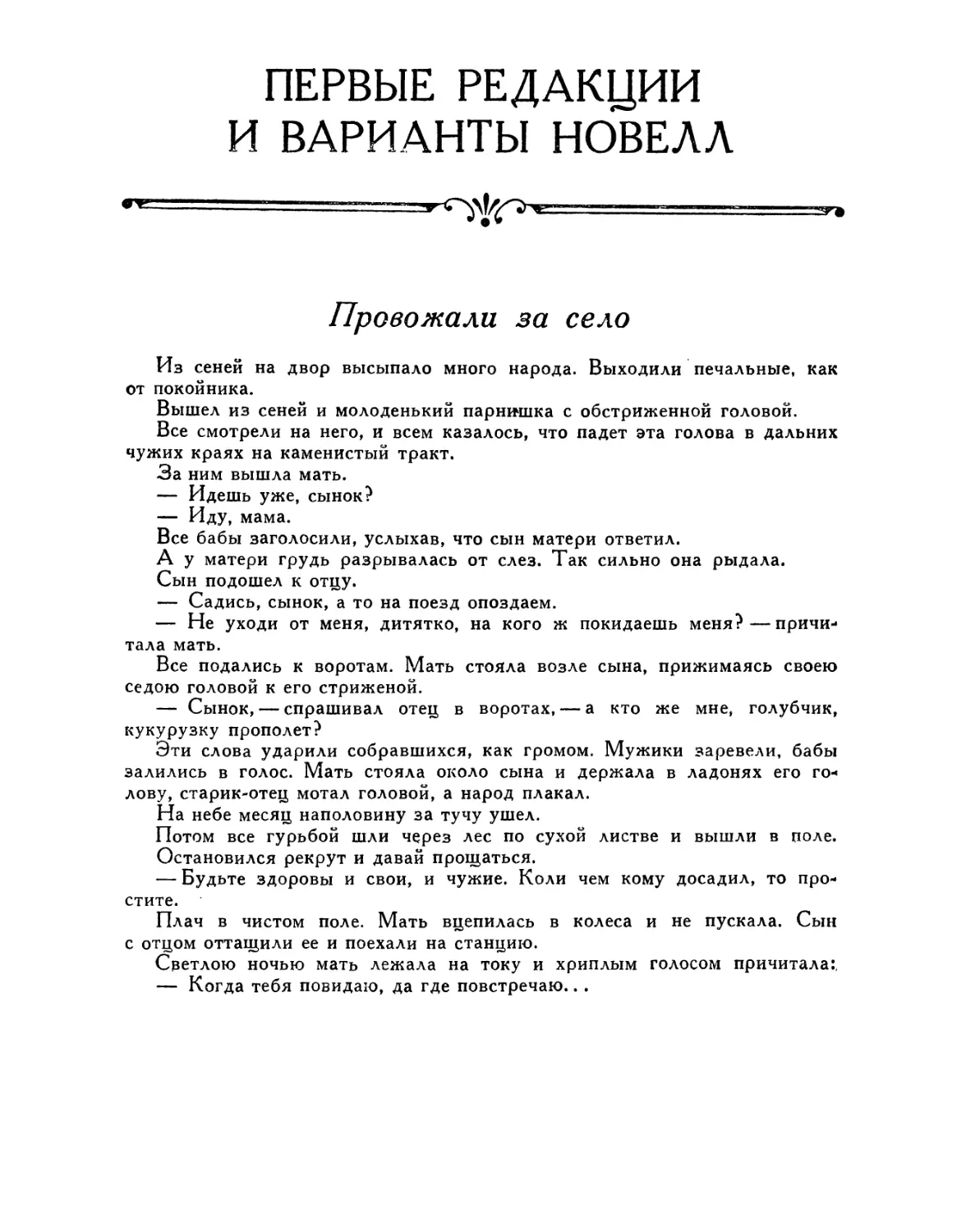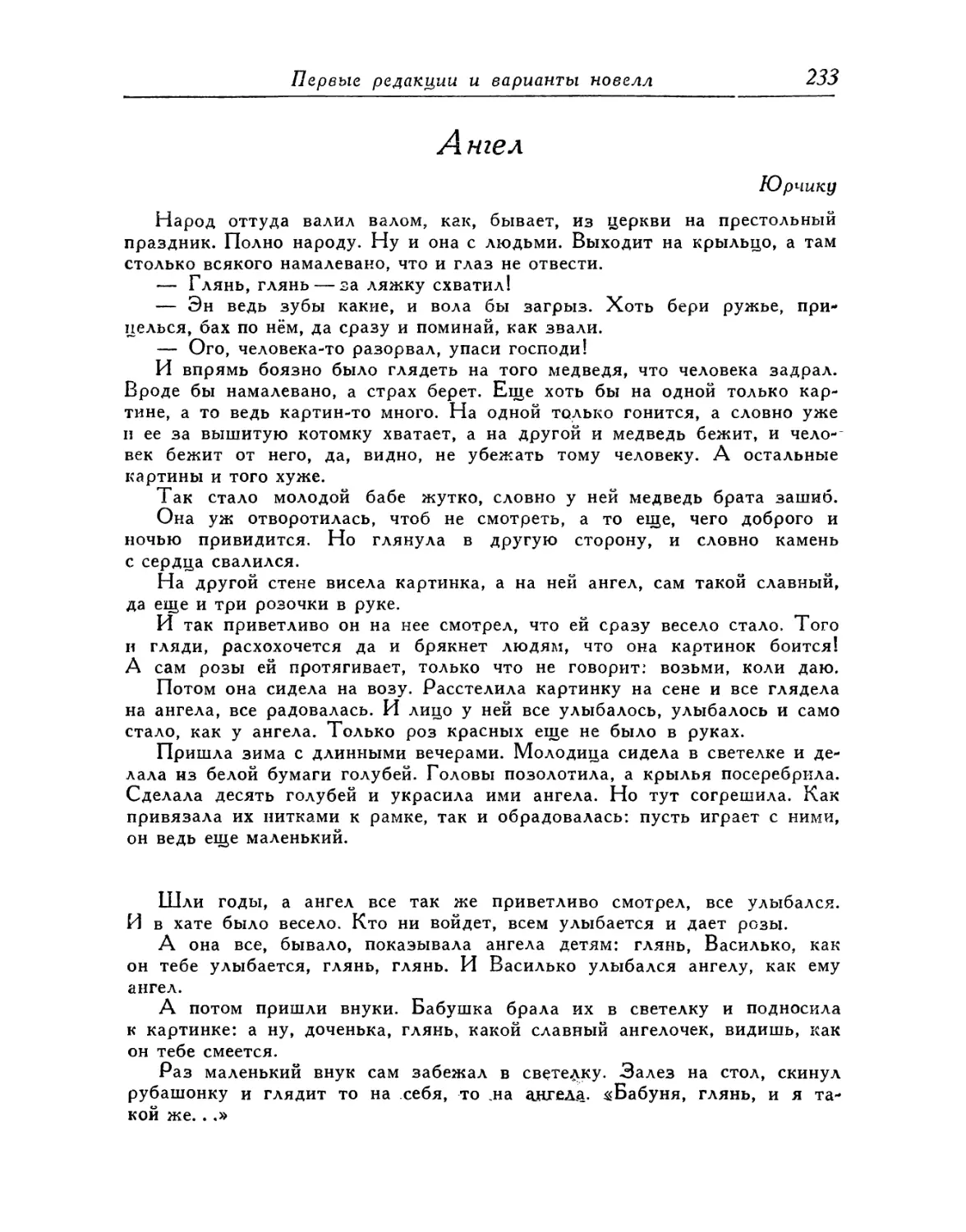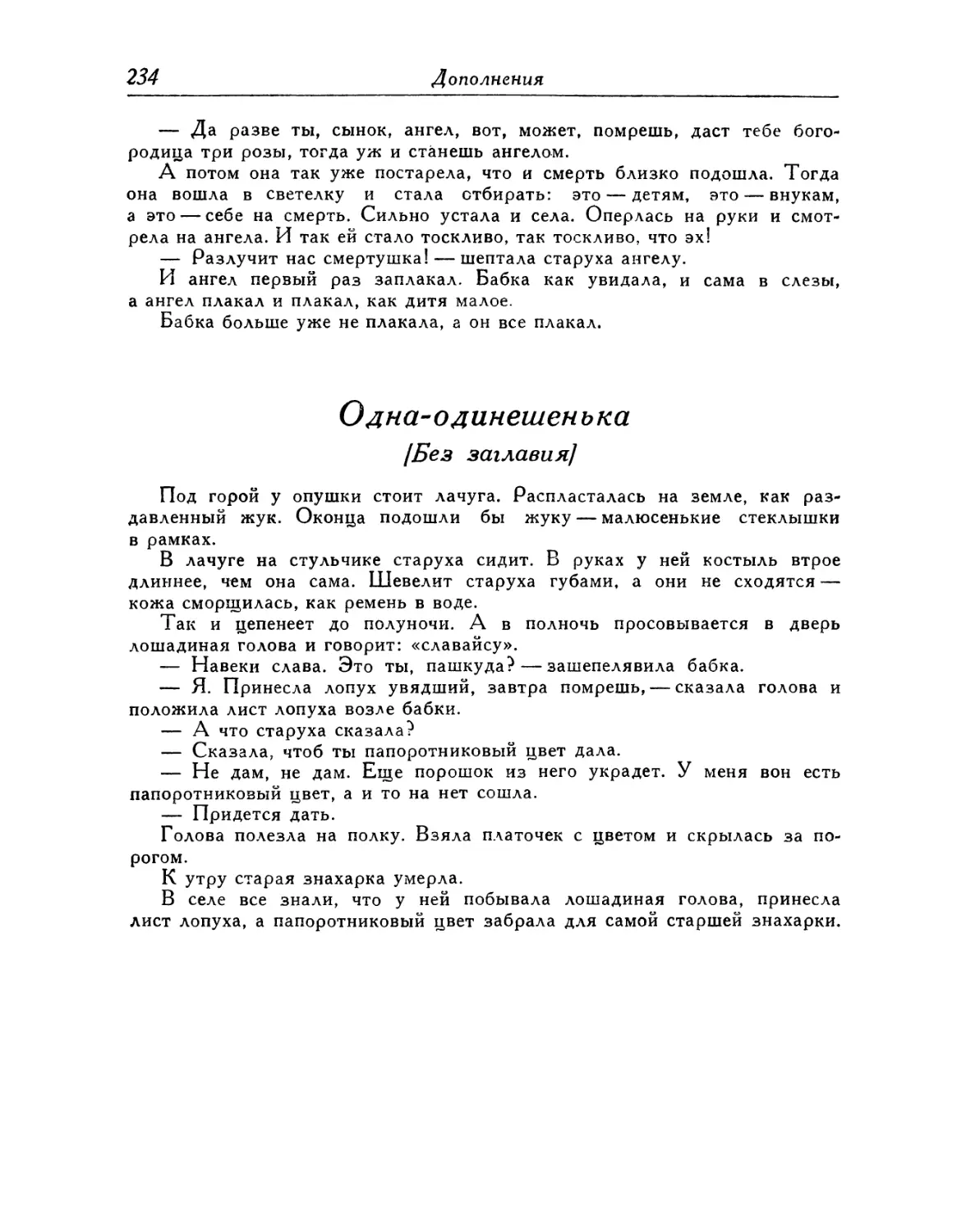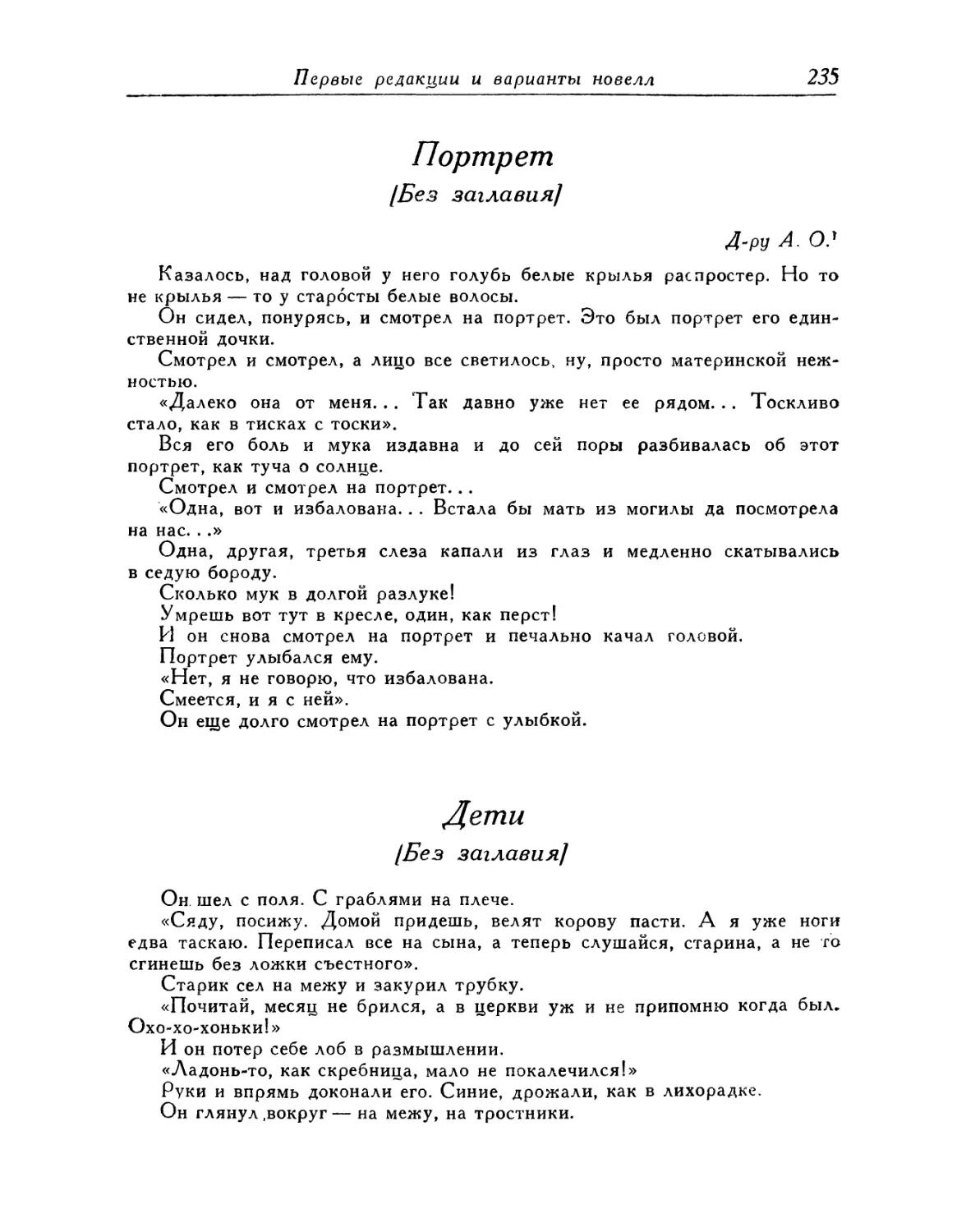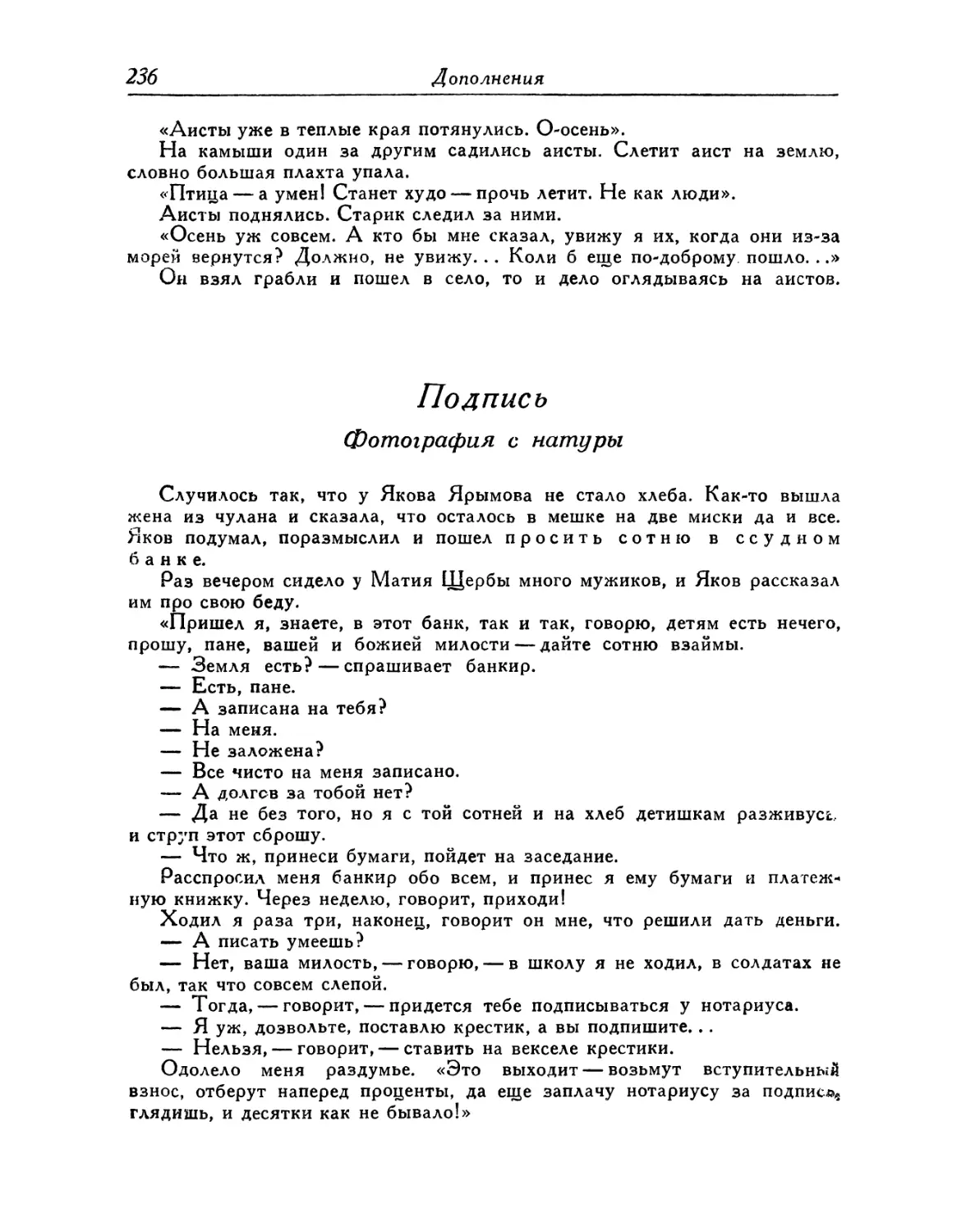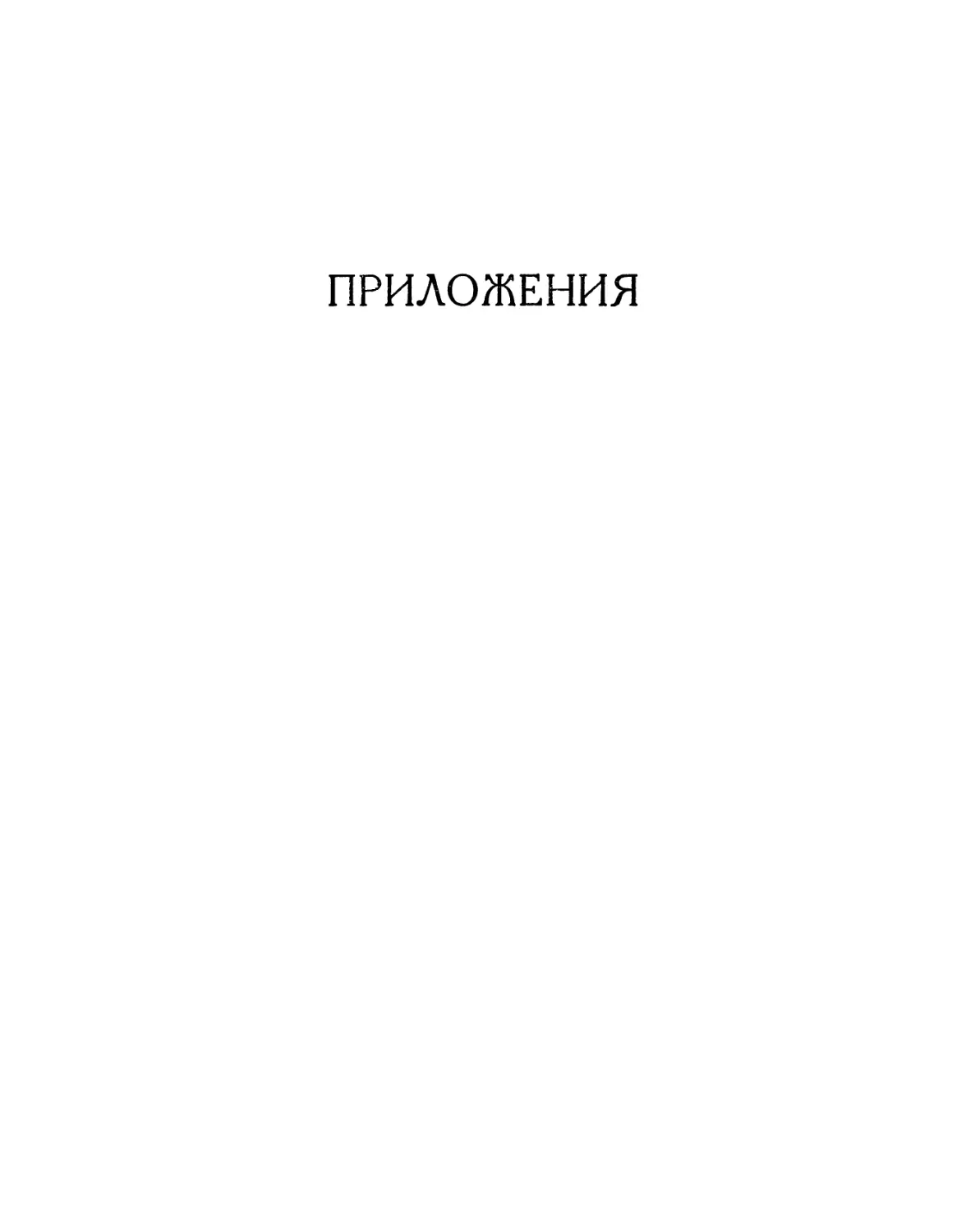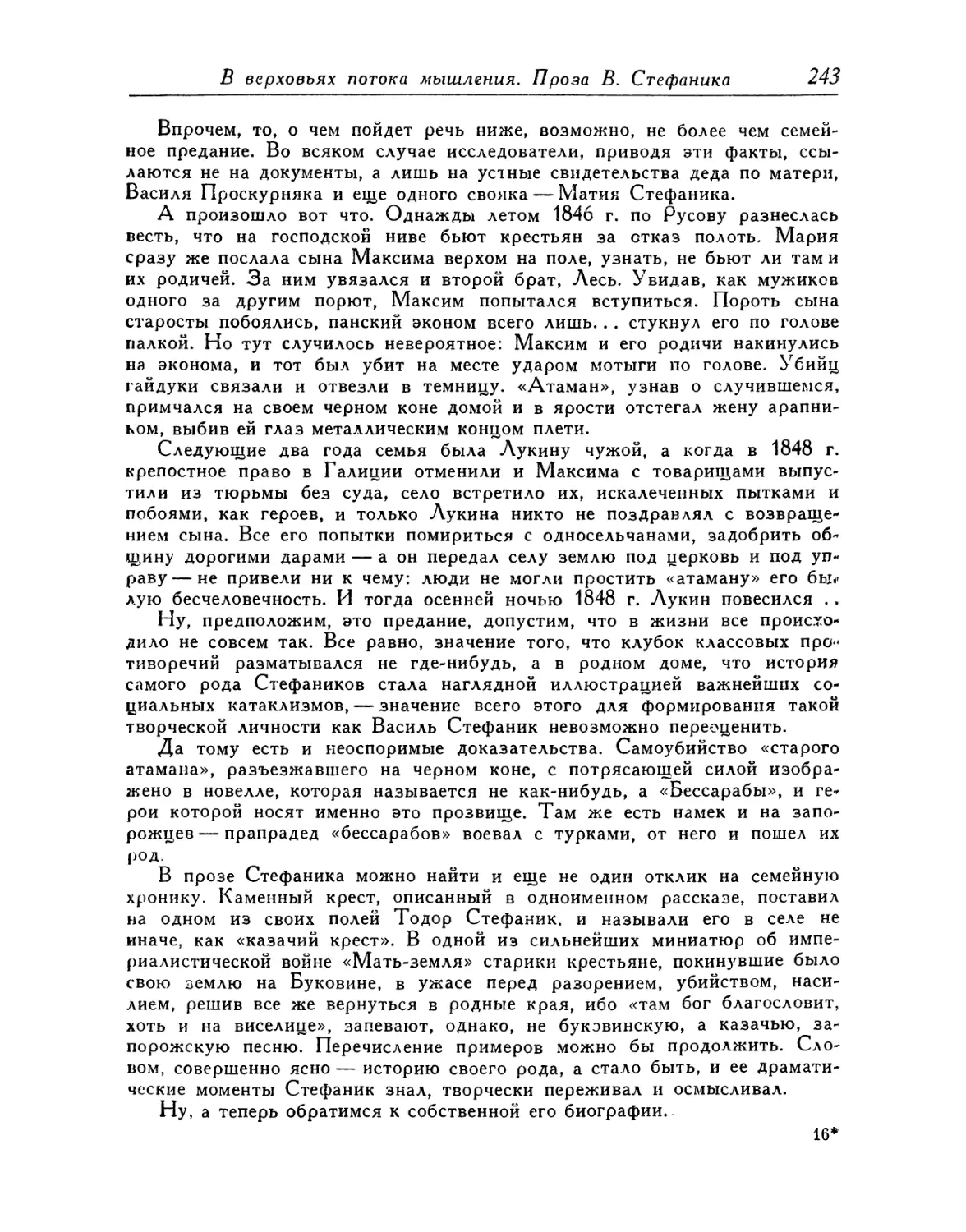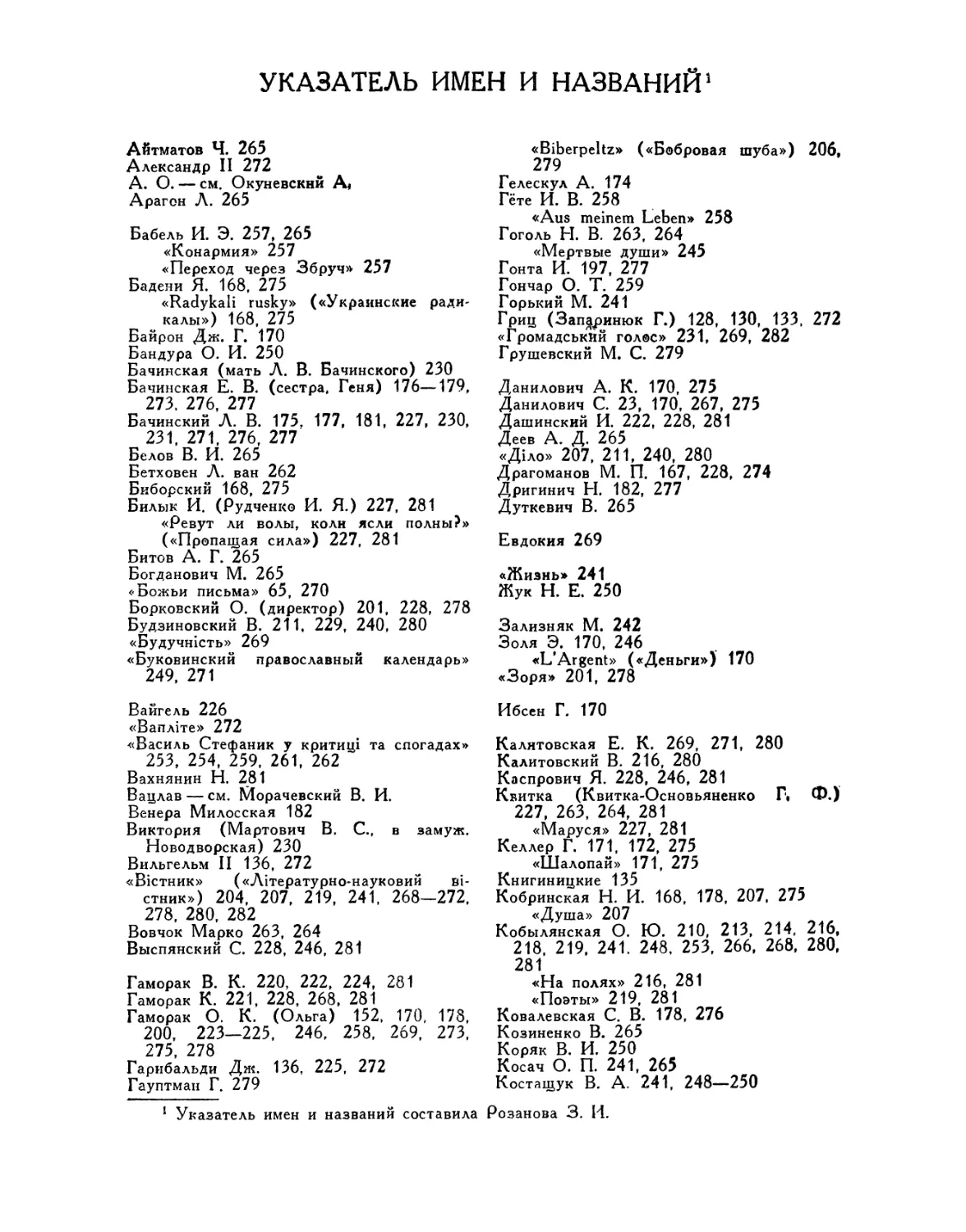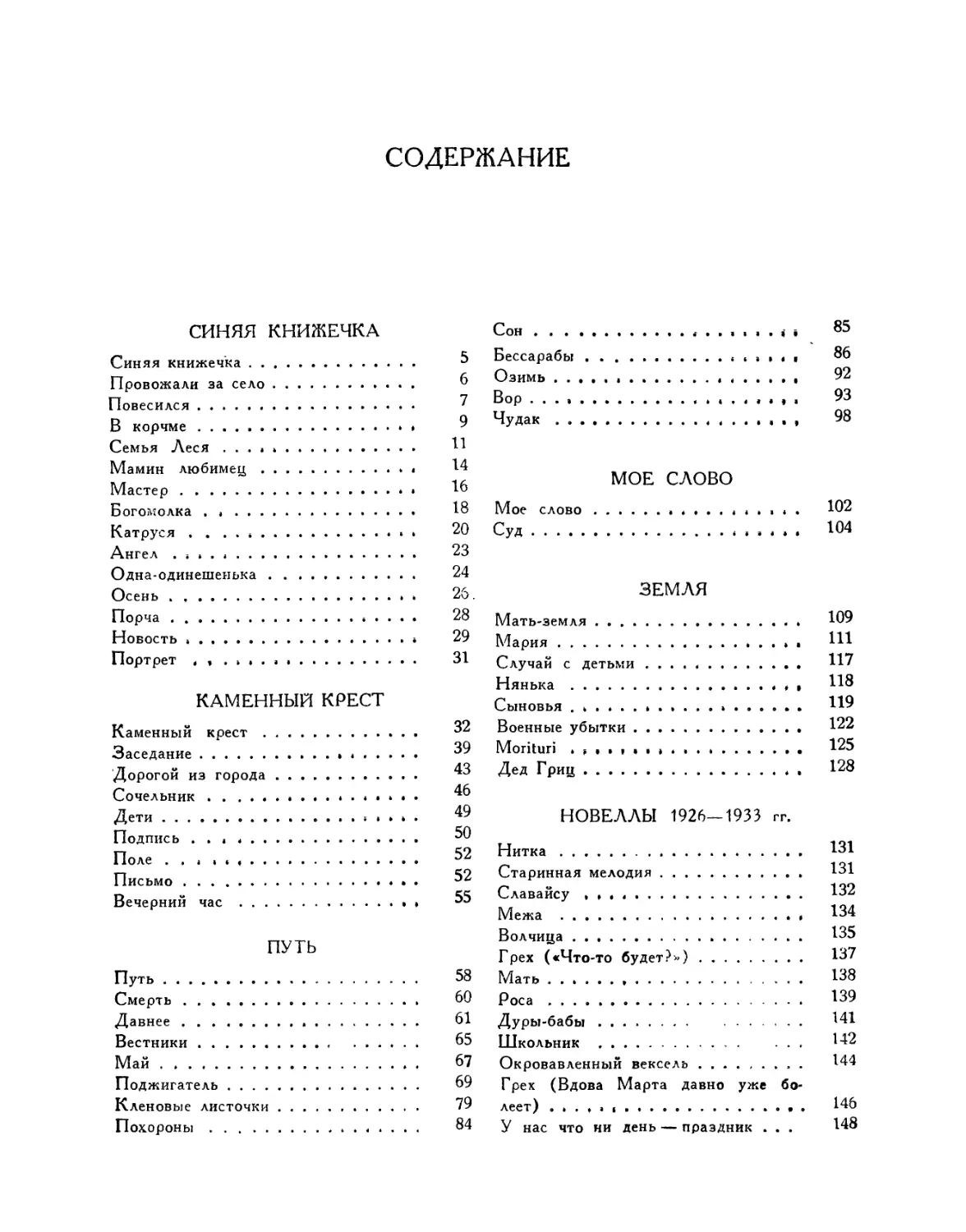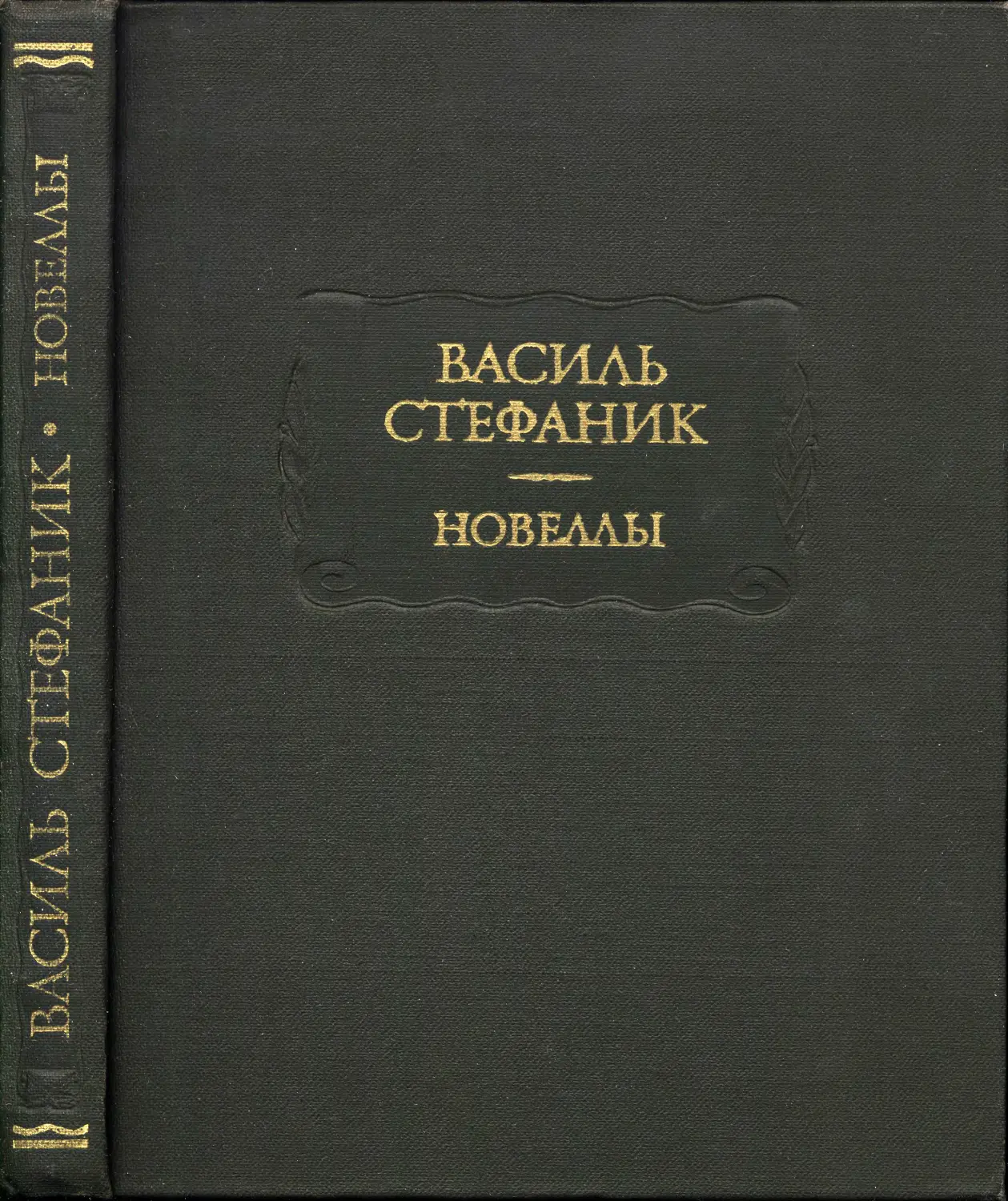Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Μ
ВАСИЛЬ
СТЕФАНИК
НОВЕЛЛЫ
ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛ
Вл. РОССЕЛЬС
ИЗДАТЕЛЬСТВО <НАУКА»
МОСКВА
1983
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
f/. И. Балашов, Г. П. Бердников, Д. Д. Благой,
И. С. Брагинский, А. С. Бушмин, М. Л. Гаспаров,
А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова,
Б. Ф. Егоров (заместитель председателя),
Д. С. Лихачев (председатель), А. Д. Михайлов,
Д. В. Ознобишин (ученый секретарь),
Д. А. Ольдерогге, Б. И. Пуришев,
А. М. Самсонов (заместитель председателя),
Г. В. Степанов, С. О. Шмидт
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Ф. П. ПОГРЕБЕННИК
С —пап /поч OQ—без объявления О Издательство «Наука», 1983 г.
042 (02)-оЗ Перевод, составление, статья, примечания
Василь Стефаннк
1933 г.
Фотография
СИНЯЯ КНИЖЕЧКА
Синяя книжечка
Этому Антону, что орет пьяный там, на выгоне, все как-то не везло.
Все у него, бывало, из рук валится. Купит корову, а она сдохнет, купит
свинью, а у ней глисты. Всякий раз так.
Но когда померла у него жена, а ва нею и оба парня, словно под*
менили человека. Пил, пил и пил; пропил клин поля, пропил огород,
а теперь хату продал. Продал хату, взял у войта * синюю книжку слу*
жеблую и собрался идти куда-нибудь в наймы, искать себе службу.
Сидит вон там пьяный и перечисляет, чтобы все слышали: кому
продал поле, кому огород, а кому хату.
— Продал — и аминь! Не мое — и кончено! Не мо-о-е! Эх, кабы дед
мой встал из могилы! Люди добрые! Четыре вола, гладкие, как
монастырские служки, двадцать четыре морга ** поля, хаты какие! Все было.
А у внука — во! — И показывал синюю книжечку.
— Эх, пью и еще буду. Свое пропиваю, никому до этого дела нет!
А он говорит: «Проссал землицу-то!» Печатку ставит, а сам жучит
меня. Э, я еще и не таких войтов видал. . .
— Чтоб ты так помирал легко, как мне здесь легко!
— Иду я из хаты, совсем уж выхожу, вот поцеловал порог и вышел.
Не мое — и кончено! Гони от чужой хаты, как пса! Можно, пожалуй*
ста! Было мое, а теперь чужое. Выхожу во двор, а лес шумит, говорит
словами: «Вернись, Антон, домой, слышь, вернись!»
Антон бьет себя обоими кулаками в грудь, так что гул по селу
идет.
— И такая, знаете, взяла меня тоска, такая тоска! Вхожу назад в хату«
Посидел, посидел да и выхожу. Не мое, что тут скажешь, раз не мое. с.
— Врагам бы моим так кончаться, как мне было с моей хатой
прощаться!
— Выхожу во двор — нет, все-таки я не в себе. Глянул на крышу —
мох зеленый на крыше. Камень-вода... Эх, не перекрывать я тебя,
бедная, вышел. Камень... Да и камень треснул бы с горя!
Антон колотит руками по земле, как по камню.
— Сел я на завалинку. Ее еще покойница мазала, а я возил глину
на тачке. Хочу встать, а завалинка не пускает. Шагну — не пускает.
А мне горько, да нет, не горько — совсем пропадаю! .. Сижу и реву, так
* Войт—староста (польск.).
f* Морг — земельная мера, около 0156 га.
6
Василъ Стефаник. Синяя книжечка
реву, словно с меня живьем шкуру дерут. Люди на мой крик собира-
ются...
— Вон там, у ворот, поп отходную читал. Все село плакало.
Хорошая, говорят, женщина была, работящая...
— Ворочайтесь в гробу, покойнички, стервец я. Пропил все до
нитки. И полотно пропил. Слышь, Марийка, и ты, Василь, и ты, Юрчик!
Доведется отцу в бумажных рубашках разгуливать, да в корчму воду
носить.
— А войтиха, — Антон показывает на хату войта, — добрая баба.
Вынесла мне хлеба на дорогу, чтоб муж не видал. Помоги, господи, твоим
детям, куда ни подадутся! Дай бог, чтоб вам всем было лучше моего!
— С какой это стати мне на чужой завалинке сидеть? Иду. Только
я встал с нее, а окна — в плач! Заплакали, как малые дети. Лес им
наговаривает, а по ним слеза за слезой. Заплакала по мне хата, как дитя по
матери заплакала.
— Обтер я полой окна, чтоб не плакали понапрасну, и вышел совсем,
— Ох, легко, как камень грызть! Темен свет передо мною...
Антон обводит рукою вокруг:
— Есть еще вот деньги, так я пить стану. С нашими людьми напьюсь,
с ними спущу последнее. Пусть знают, как я уходил из села.
— 'Во — синяя книжечка за пазухой! Тут моя хата и мое поле, и мои
огороды. Иду себе с нею куда глаза глядят! От самого императора 1
книжка — мне теперь повсюду двери отворены. Повсюду. И у господ, и
у купцов, и у всякой веры людей.
Провожали за село
Над закатом застыла багровая туча. Вокруг нее зарево раскинуло
белесые космы, и туча походила на окровавленную голову великомученика.
Из-за головы пробивались лучи солнца.
Во дворе собралась толпа. От заката падал на нее свет, как от
красного камня — твердый и неколебимый. Из сеней высыпало еще много
народу. Выходили печальные, словно от покойника.
Следом за людьми вышел молоденький паренек с остриженной
головой. Все смотрели на него. Им казалось, что этой голове, полыхавшей
теперь кровавым светом, суждено где-то там, на тракте, упасть с плеч,
В чужих краях, там, где-то под самым солнцем, упадет на тракт и будет
валяться. На пороге стояла мать.
— Идешь уже, сынок?
— Иду, мама.
— А на кого ж ты нас покидаешь?
Женщины заплакали, сестры заломили руки, a &-зть онласъ головой
о притолоку.
К сыну подошел отец.
— Садись, сынок, а телегу, а то на поезд опоздаем.
Повесился
7
— Еще хоть ночь переночуй у меня, сыночек! Я тебя так горько
лелеяла, дула на тебя, как на рану. Я тебя чуть свет провожу и плакать
не буду. Переночуй, переночуй, дитятко!
Мать взяла сына за рукава и увела в хату.
Все двинулись к воротам. Вскоре мать и сын вышли. У нее лицо было
бледное, как мел.
— А кто же мне, сынок, кукурузку прополет?—спрашивал отец.
Мужики заревели. Отец уронил голову на телегу и дрожал, как лист.
— Ну, идем.
Мать не пускала.
— Миколайко, да куда ж ты? Да пока вернешься, пороги в хате
покосятся, углы погниют. Меня в живых не застанешь... да, знать, и сам
не придешь!
Она обхватила сына за ноги.
— Лучше бы я тебя на погост готовила!
Пошли.
Все, кто стоял у ворот, двинулись провожать рекрута.
Шли через лес.
Дорога была устлана листьями. Они выгнулись медными лодочками,
готовясь плыть по осенней воде вслед за рекрутом. Лес подхватывал
голос матери, нес его в поле и клал на межи, чтобы знало поле, что не
выйдет больше Миколай пахать его по весне.
За лесом, в поле остановились. Рекрут стал прощаться с селом.
— Будьте здоровы, и свои, и чужие. Коли чем досадил, так забудьте,
а благословите в дальнюю дорогу.
Все сняли шапки.
— Возвращайся жив-здоров, да не мешкай там.
Сын с отцом сели в телегу. Мать ухватилась руками за колесо.
— Сынок, возьми и меня с собою. А не то все равно побегу через
поле, догоню.
— Люди добрые, уберите-ка ее, неровен час, руки бы не сломала.
Мать силой оттащили от подводы. Телега тронулась.
— Будь здоров. Миколай! — кричали всем миром.
В ту ночь старая мать сидела во дворе и выводила хриплым голосом:
— Когда тебя повидаю да где повстречаю?!
Дочки кукушками откликались ей.
Над ними расстилался осенний свод небесный. Звезды мерцали, как
золотые цветы на гладком железном току.
Повесился
Поезд летел в просторы. В уголке на лавке сидел мужик и плакал.
Чтоб никто не видел его слез, он прятал голову в богато расшитую суму-
тайстру. Слезы падали, как дождь. Как нежданный дождь, что внезапно
начинается и тотчас же стихает.
8
Василъ Стефаник. Синяя книжечка
Поезд, мерно стуча на стыках, бил в мужицкую душу, как молотом.
— Еще и снился мне недавно. Беру я, будто, воду в колодце, а он на
самом дне, да в такой драной овчинке, что господи! Того и гляди
утолится. «Миколайко, сынок, — говорю ему будто, — ты как тут?» А он мне
отвечает: «Не вынести мне солдатской службы». Говорю я ему: «Терпи,
да за науку берись, да себя содержи в порядке...» Вот и выучился...
Одна большая слеза скатилась по лицу и упала на тайстру.
— Еду к нему, а знаю, что уже не застану в живых. Да будет ли
ш кому воротиться? Моя бежала за мной по полю, кровавыми слезами
обливалась, просила с собой взять. Ноги посинели от снега, сама верещит,
как полоумная. А я погнал коней, да и был таков. Может, замерзает где-
нибудь посреди поля... Что бы мне ее с собой взять! Ведь нам теперь
чего надо? Провались они, и деньги, и скотина! На что они таким
мертвецам, как мы? Пусть шьет сумы да пойдем милостыню просить в тот
город, где Миколаева могила будет.
Он приник лицом к окну, и по стеклу потекли слезы.
— Ой, старая, дождались мы венка на седые волосы, то-то, бедняжка,
головой об стенку бьешься да с плачем бога молишь!
Старик всхлипывал, как ребенок. Плач и толчки поезда подкидывали
седую голову, словно тыкву. Слезы всплывали, точно вода из норы.
Он снова вспомнил, как жена бежала за ним босиком и просила
захватить ее. А он лошадей — кнутом да кнутом! Только крик разносился по
полю., но уже далеко...
— Верно, уж и не застану ее. И мне бы вместе с Миколой лечь в
могилу! Пусть бы хоть гнили рядом, коли жить вместе не суждено. Пусть над
нами и пес не залает на чужбине, лишь бы вместе. Как же ему одному-то
на чужой стороне?!
Поезд бежал в просторах.
— А жаль, что крепкий вырос, как дуб. За что, бывало, не примется,
асе так и горит у него в руках. Отсечь бы ему одну еще в пеленках...
Поезд добежал до большого города.
Мужик выходил с толпой. На улице остался один. Стены, стены, а
между стенами дороги, а вдоль дорог тысячи огней на одну бечеву
нанизаны. Огни тонули во мгле, дрожали. Вот-вот сорвутся и настанет
черный ад.
Но огни пускали корни во тьму и не падали.
— Ой, Миколайко, мне бы тебя хоть мертвого увидать! Тут, сынок, и
йене конец будет.
Мужик сел у стены. Тайстру положил на колени. Слезы больше не
падали на нее. Стены сдвигались одна с другой, огни сбегались вместе,
играли красками, как радуга. Обступили мужика, чтобы получше
разглядеть вришедшего из дальних краев. Накрапывал дождь. Мужик совсем
съежнлся и стал молиться.
— Матерь божия, всех добрых людей заступница. Николай-чудотво-
£$ц... — И бил себя в грудь.
Подошел полицейский и указал дорогу к казарме.
— Пане солдат, это тут Миколай Черный умер?
В корчме
9
— Он повесился в ольшанике, за городом. Теперь лежит в
мертвецкой. Идите вниз по улице, а там покажут.
Солдат пошел дальше караулить. Мужик лежал на мостовой и стонал.
Отлежавшись, поплелся вниз по улице. Ноги дрожали, словно в ознобе,
и спотыкались.
— Сынок, сынок, так ты удавился1 .. Скажи мне, что тебя в гроб sa-
гнало? Чего ради ты душу загубил?! Привезу я от тебя маме утешеньицв!
Пропадем понапрасну!
Миколай лежал в мертвецкой на большой белой плите. Пышные
волосы залиты кровью. Макушка отпала, как скорлупа, на животе крест:
так его крест-накрест резали и зашили.
Отец упал на колени в ногах сына и молился. Целовал ноги мертвого,
бился головой о плиту.
— Мы тебе, дитятко, с мамой свадьбу ладили, музыкантов нанимали,
а ты взял да ушел совсем...
Потом он поднял труп, обнял за шею и спрашивал, словно совето*
вался:
— Скажи ты мне, сколько отслужить панихид, сколько раздать на
бедных, чтоб тебе господь греха не зачел? ..
Слезы капали на мертвого и на холодную белую плиту.
Мужик, плача, обряжал сына. Надел на него белую вышитую рублхур
богатый пояс, шапку с павлиньими перьями. Под голову положил распяс«
ную тайстру и свечу в головах поставил, чтоб горела по загубленной душе,
Такой статный да славный молодец в богатом уборе! Лежал на ледя*
ной мраморной плите и будто улыбался отцу.
В корчме
Иван с Процем сидели за длинным столом. Катали по столу
забористые слова и, наклоняясь, слушали, что стол толкует, и жаловались, к
пили. Проца жена била, а Иван учил его, как прибрать ее к рукам,
— Пропадай тот вол, которого корова бьет! — говорил Иван. — Меня
тронь только жена мизинцем, тут ей и капут, расквашу всю, как мочено*
яблоко. Милый, да это ж позор на весь свет, чтоб жена лупила мужа, как
коня! Ну, я б ее сразу в себя привел, так привел бы в себя, что и себя 6&
забыла! Наточить топор на бруске да и отсечь руки по локти. Раз, два,
и руки долой!
Сказав это, Иван поднял руки, точно собирался взлететь. Откинулся
назад, вылупил глаза на Проца и ждал, что тот ему скажет.
Проц покачивал головой и ничего, сирота, не говорил, — что тут ск&*
жешь, когда все правда.
— Эй, ты там, пейсы, не качайся над книжкой, как удавленник Н£
суку, а давай-ка, брат, водки. Я плачу, а ты давай, а не то — моя тюрьма,
а твоя смерть. Не мухлюй со мной, а наливай своей браги... — орал Проц
и стучал кулаком по столу.
10
Василь Стефаник. Синяя книжечка
Корчмарь, наливая водку, смеялся. Мужики принялись пить. Они
склонялись друг к другу и откидывались, как ветки под легким ветерком.
— Думаешь, я ждал бы, пока меня жандармы возьмут?—говорил
Иван. — Обрубил бы руки, куртку на плечи и — в участок. Стыд стыдом,
а так и сказал бы, что меня жена била, а я ей руки отсек. Может, и
посидел бы денек, а может, и часу не держали бы...
После этой речи выпили. И так им было горько, так они морщились,
словно пили.кровь, собственную кровь.
— Пьем вот мы, Проц, братец... ты меня угощаешь, но свое пропиваем,
трудовое, свои кровные. Кровь свою пьем, вон ихнее отродье кормим.
А только советую тебе, от всей души велю: уйми жену, чтоб не подымала
на тебя руки. Ты уже посмешищем стал на селе, баба тебя гвоздит, а ты
после этого мужиком быть хочешь? Я бы такую взнуздал, в ступу запрег
да снял бы с колышка проволочную плетку!
Иван вынул деньги и хотел заплатить за выпивку, но Проц очень
рассердился и смахнул деньги на пол.
— Да что ты меня, Иванко, режешь без ножа? Мне охота тебя
угостить,— ты же меня, как мать родная, на добро наставляешь. Пей,
а деньги свои не тычь.
И они опять выпили.
— А то скажи ей по-хорошему! Вот придешь домой и скажи: «Жена,
ты где мне клялась? На свалке или в церкви? Раввин нас венчал или поп
благословлял? Ты на меня руки подымаешь, а я отсеку... А ну, неси-ка
лавку и топор, посчитаемся...» Поговори с ней так, может, напугаешь...
— Не знаешь ты, милый человек, моей бабы! У ней сердце — камень,
ей и палач нипочем! Бывает, вздумаю пригрозить ей, так она меня чем ни
попадя ка-ак врежет! Чтоб ее доктора после смерти так резали! «Ты,
говорит, пропойца, что ни увидишь; все в корчму волочешь, да еще и надо
мной измываться вздумал?!» Нет, я уж такой, говорю тебе, битый,
такой пареный, что впору мне со двора долой. Нет, говорю, разве только,
даст бог, у ней руки и без меня отсохнут, может, допрошусь я у него...
— Надейся на бога, надейся, дурень, а она все и будет дубасить тебя
так, что пыль столбом. Нет, видно, ты жене такой же хозяин, как чека
от воловьего ярма. Плюнуть не на что!
Проц так закашлялся, что весь посинел. Иван грыз кулаки и на всю
корчму скрежетал зубами.
— Поди-ка сюда, корчмарь! Вот ты, ученая голова, через то с нас и
шкуру лупишь, скажи: есть такой параграф, чтоб жена мужа била? Есть
такое право? Ты всё книжки читаешь, вон уже и глаза гноятся, поищи,
должно же оно там быть? Ежели написал император такой параграф,
так чтоб я знал. Потому что, ежели издал он такой закон, то пускай и
меня моя бьет. Руки сложу на груди — пусть колошматит. Закон так
закон!
Корчмарь говорил, что не читал про такой закон. А Процу велел идти
домой, а то жена заругает.
Проц плюнул, вытаращил глаза и долго смотрел на корчмаря. Хотел
обругать, но поразмыслил и поднялся.
Семья Леся
JJ
По дороге домой он горланил на все село:
— А коли не боится она, что вздую, ну, не боится и все...
— Но я ей руки окорочу, подрублю, как вербу! Куда ж это годится?
Как пришла, был аист на хате, а теперь? Где, где этому конец?
Слышно было, как он тянул: «Где, где-е, ну где этому конец? ..»
Подходя к дому, он стал затихать, а у ворот и вовсе умолк.
Семья Леся
Лесь по обыкновению стащил у жены немного ячменя и нес его
в корчму. Не шел, а мчался к корчмарю да все оглядывался.
— Ну вот, бежит уже с пострелятами, чтоб вам головы сломить!
Только бы заскочить в корчму, а то, как нагонит, снова на все село крик
подымет.
И он, с мешком на плечах, припустился со всех ног. Но жена с
ребятишками догоняла. И перед самой корчмой — цап за мешок!
— Ой, не беги, ой, не спеши, не выноси мое трудовое из дому!
— А ты, стерва, опять вздумала на людях гвалт подымать! Где
у тебя стыд-то?
— Стыда у меня с таким мужиком не было и не будет! Давай мешок
и пропади ты пропадом. А не дашь, изобьем. Вот вместе с детьми изобьем
тебя посреди села! Осрамлю на весь свет! Давай!
— Да ты что, паскудница, ты что, очумела? Да я тебя вместе с твоим
отродьем вздерну!
— Андрийко, сыночек, — по ногам его, по ногам! Пускай ваш
хлебушек по корчмам не растаскивает! Перебейте ему ноги! На калеку еще
заработаем как ни то, а на пьяницу вовек не напасешься!
Мальчики стояли с дубинками и робко смотрели на отца. Андрийку
было лет десять, а Иванку около восьми. Они не смели поднять на отца
руку.
— Бей, Андрийко. я за руки подержу. По ногам его, по ногам! И она
ударила Леся по лицу. В ответ он ей так двинул, что потекла кровь. И тут
подбежали ребятишки и принялись колотить отца по ногам палками.
— Крепче, сыночек, перебей ему ноги, как собаке» чтоб за собой волок.
Она плевала кровью, синела, но держала мужа за руки.
Дети уже расхрабрились, и наскакивали на отца, как щенята, и били
по ногам, и отбегали, и снова били. Точно игру затеяли.
Из корчмы выбежало несколько человек.
— Ну, такого никто испокон веку не видывал! Еще молоко на губах
не обсохло, а гляди, как лупят! Представление на весь мир!
Мальчишки били, как бешеные, а Лесь и Лесиха стояли
окровавленные, застывшие и не двигались с места.
— Эй, ребята, не надорвитесь тут с отцом!..
— Взять бы вам палки подлинней, ловчей бы доставать было!..
— Сади отца по голове, по лбу, по темени!.«
12
Василъ Стефаник. Синяя книжечка
Так кричал какой-то пьяный перед корчмой.
Лесь сбросил мешок на землю и обалдело стоял посреди улицы. Такого
нападения он никак не ожидал и совсем растерялся. В конце концов он
лег на землю и снял киптарь *...
— Андрийко, и ты, Иванко, идите теперь, бейте, я и не шевельнусь.
Вы еще маленькие, вам подбегать трудно. Бейте! Ну!
Мальчуганы отошли и удивленно уставились на отца. Потом медленно
выпустили из рук палки и уставились на мать.
— Что ж ты их не заставляешь бить, я же лег... Бейте!
Лесиха заревела в голос.
— Чем я, люди, виновата? Я маюсь с детьми на сухом хлебе по
чутким полям, а он, что ни принесу, все в корчму тащит. Я уж теперь из-за
него и заработать не могу, мне из хаты нельзя выйти. Он ведь нас без
единой одежины оставил. Что ни ухватит, все несет на водку менять. Не
могу я наработать и на детей, и на корчмарей. Пусть делает, что хочет,
а я не могу больше...
— Ну и бейте, пальцем не пошевелю!
— Чтоб тебя, муженек, бог побил за житье наше загубленное, за этих
сирот! Да мы от твоих побоев из синяков не выходим, как волы из ярма.
Горшочка в хате целого не осталось, все перебил. А сколько раз
я с детьми на холоду ночевала, а сколько ты окон повыбил? Ничего
я тебе не говорю, пускай тебя бог накажет за меня и за детей! Вымолила
зне я себе доленьку у бога!.. Люди, люди, не дивитесь, вы еще всего не
»наете...
Она взвалила мешок на плечи и потащилась с детьми домой, как
побитая курица.
Лесь лежал на земле недвижно.
— В тюрьму пойду, в тюрьму навеки1 Ну, нет, эдакого еще никто не
слыхал и не услышит! Такого натворю, что земля дыбом!
Лежал и свистал в ярости.
Лесиха вынесла все из хаты к соседям. Спать легла с детьми на
огороде в бурьян. Боялась, что муж придет ночью пьяный. Детям подстелила
§«сшок и укрыла их кожухом, сама стыла над ними в телогрейке.
— Дети, дети, что теперь делать? Постлала я вам тут нынче навек!
И помрете, а от срама не избавитесь! Не в силах я ваш грех отмолить...
И плакала, и прислушивалась, не идет ли Лесь...
Небо дрожало вместе со звездами. Одна упала. Лесиха осенила себя
крестом.
Киптарь — меховая овчинная безрукавка. Старинный наряд западноукраинскнх
Горцев.
Семья Леся
13
Титул первого сборника новелл
14
Василъ Стефаник. Синяя книжечка
Мамин любимец
Юрчику
Утром в субботу Михайлиха выбежала во двор и звонко заговорила
сама с собою:
— И куда малыш девался? Уж где-то его носит, где-то он шныряет
по двору, как куренок. Попробуй-ка удержи его дома! Вот надо вычесать,
а нету.
Потом она пошла в овин, посмотреть, нет ли малыша возле мужа.
— Это, выходит, ты такой умный?! Чем бы прогнать мальчишку в хату,
держишь его на морозе подле себя. Пойдем, Андрийко, домой, дам
яблочко, такое красное, что ух!
— Не ходи, глупый, мама врет, она тебя вычесывать собралась, вот и
обманывает, — сказал Михайло и расхохотался.
— Нет, этот человек, ей-богу, из ума выжил! Да ведь ребенок
застудится тут с тобой. Не слушай, Андрийко, папу, папа глупый, пойдем
домой, я тебя вычешу и дам булку и яблоко. Hyl
— Да, а вы не дадите!
— Пойдем, пойдем, ей-богу, дам!
Она взяла сына за руку и повела в хату.
— Я тебя славно умою, вычешу, а завтра пойдем в церковь. Дам тебе
хорошенькую рубашечку, поясок. Все будут смотреть и говорить: ишь,
яакой Андрийко красивый I
— А яблоко дадите?
— Дам, дам.
— А булку?
— И булку...
— А в церковь возьмете?
— Возьму, возьму...
— Ну, чешите.
И мама принялась мыть Андрийкину голозу. Капельки воды скатыва*
дксь за шиворот, и Андрийко еле удерживался от слез.
— Тихонько, тихонько, мама так славно вымоет! Личико будет белена
кое, как бумага, а волосики, как лен. Краше всех ты у меня будешь!
— Да-а, кусает...
— А вот мама вычешет, не будет кусать. Так будет хорошо, легк&
что ну!
— А когда вычешете и дадите булку и яблоко, пустите гулять?
— А что ж, одену тебя и пойдешь далеко, далеко...
— Я пойду к тетиному Ивану.
Мама вымыла Андрийка, усадила на колени и стала расчесывать.
— Мам, а там у папы кот, он мышей хватает и давит.
— Мыши зерно изводят, от них вред. <
— Какой вред?
— А ке останется зерна, чтоб молотить и на мельнице молотьс
— А что ж оки едят?
Мамин любимец
15
— Да зерно же!
— Как?
— Ну, с тобой не сговоришься... Надо, чтоб тебя папа вечером
подстриг, гляди, какой лохматый.
— Как парня, мам?
— А как же, ты ведь у меня парень. Ну вот и все, а ты не давался
чесать. Глянь-ка в зеркало, видишь, как славно?
Андрийко выглядел, как после купанья, волосы спадали маленькими
белыми прядками на лоб и на шею. Глаза были синие, губы красные.
Мама дала ему яблоко и булку, он спрятал все за пазуху.
— Я хочу к тете.
— Вперед съешь яблоко, а потом пойдешь, а то ребята отымут.
— Я не покажу. Хочу к тете.
— Ну, ступай.
Мать надела на него сапожки, сбой полушубок, отцову шапку и
выпустила.
— Смотри, упадешь — побью...
И села шить.
— Умен, как большой. Ну — есть в кого. Вылитый Михайло.
Выторговал-таки себе плату за чесанье!
Мать улыбнулась и продолжала шить.
— Ну, пусть растет здоровый да ласковый. Три года, а уже принялся
за молитву. Такой умница, а шалун — все перевернет вверх дном! Так,
бывает, допечет, что иной раз и стукнешь. А не бить, так и не выйдет из
него ничего.
Подняла голову, поглядела в окно.
— Полдень уже, а Михайло не идет полдничать. И мальчонки нету.
Верно, торчит где-то на снегу, а потом начнет кашлять...
Вечером Михайло сидел на лавке с Андрием на коленях. В печи пылал
огонь, освещая хату багряным светом. Михайлиха варила ужин.
— Старик, а ровно дитя малое! Оставь ребенка в покое, не
подкидывай его, как тыкву. Иди, Андрийко, к маме.
— А я не хочу!
— Ты чей, папин или мамин? —спрашивал Михайло.
— Папин...
— А кого бить будешь?
— Маму.
— Ах ты, озорник, я тебе — яблоки да булки, а ты бить меня?
— Папа тебе много яблок купит, потому что ты папин...
— Уж не этот ли папа купит тебе? Ты бы ничего сроду не видал!
— А ну, покажи, как будешь ездить на коне в солдатах?
Мальчуган сел на кочергу и заскакал по хате.
— Будет, будет, Андрийко, на-ка вот соломинку, пойди пенку с мо«
лока собери.
Андрий побежал к печи и принялся собирать пенку.
16
Василъ Стефаник. Синяя книжечка
— А что ты купишь маме?
— Красные сапожки.
— А папе?
— А папе ничего.
— Славный сын у мамы!
Михайло снова взял его на колени.
— Гебя как зовут?
— Андрий Косминка.
— А кто ты есть?
— Луський ладикал 1.
— Ладно. А куда поедешь?
— В Канаду 2.
— На чем?
— На корабле болыно-ом, как хата, через море широкое, широкое.. ·
— А папу возьмешь?
— Возьму и папу, и маму, и тетиного Ивана, и все поедем...
— Ну, ладно, ладно, не муштруй парня, а то как начнешь экзамен
ему делать — без ужина уснет.
— Нет, ты только подумай, какой умник, все как есть знает!
Мастер
А когда случалось мастеру выпить ни много, ни мало, а в самую
меРУ» рассказывал он одну историю из своей жизни. Все, кто был
в корчме, слушали его со вниманием, даже и корчмарь слушал.
— Да мне, люди добрые, чушь-то плести не к чему! Был я мастер,
был я хозяин — все село скажет. Теперь я лоботряс, пусть и про это село
скажет — я пустого не говорю. Не говорю, потому — что правда, то не грех.
Вы лучше спросите, как я стал таким?
Бывало, придешь к мужику, осмотришь материал, место, сторгуемся,
могарыч выпьем, и за работу! Поплюю на ладони, топор в руки, и
глядишь— хата, как часики на дворе. С какого боку ни заходи — часики!
Выйдешь в воскресенье из церкви, идешь домой, а сам думаешь —
вот проживу лет десять и все село начисто перестрою. Так перестрою, что
полюбоваться будет чем...
Дома пообедаешь и выходишь в поле на хлеба посмотреть. На пригорке
обернешься, глянешь на село, а постройки твои, люди добрые, как пташка
легкая — чуть земли касаются. Стоишь, любуешься ими, и так тебе
весело, как матери на детей глядеть. Так легко, что сто миль пролетел бы...
И бог мне помогал, — о чем, бывало, ни подумаю, все уж тут как тут.
Купил полоску земли, купил другую, коровенку, овечек. Везло. Само
в руки шло, как из воды.
Мать, бывало, прильнет ко мне и приговаривает: «Ой, сынок, и дал же
тебе господь золотые руки, день и ночь за тебя его благодарю. Старик,
Мастер
17
старик, — говорит, — встань-ка ты да погляди на нашего Ивана, каков он
хозяин?» А жена слушает, а сама, как скрипочка, веселит хату.
На этом месте Иван выпрямлялся, лицо его загоралось радостью.
Слушатели смотрели на него со смутной печалью, но молча. Иван покорял
их своей речью и обращал корчму в храм.
— А потом, братцы, пошло все кувырком. Так все разлетелось, словно
взял кто перья на ладонь и дунул« Нечего стало и зокруг пальца обвить...
Раз в воскресенье пришел человек из Луговисок и говорит: «Так и
так, — говорит,— поп наш зовет вас к себе». Собрался я и пошел. Путь
не длинный, прихожу в Луговиски к попу.
А у меня уж дорогой на душе скребло. Прихожу, поцеловал попу руку,
а он мне говорит: «Так и так, надо класть в селе новую церковь. Не
сошлись мы с тем гуцулом, что церкви кладет, а слышали, что ты добрый
мастер, и решили, чтоб строил нам ты».
Как услышал я это — потом весь облился, словно скотина хворая.
До сих пор вспомнить не могу, что я сказал попу, как от него вышел?
Совсем был не в себе.
Возвращаюсь домой, а перед глазами то черно, то желто, ветром меня
качает. Ä в голове будто цыгане молотками стучат. Однако в мыслях все
мне ясно. Думаю себе: это, мил человек, не овин строить, тут, братец,
тысячи дают тебе на руки, а церковь-то изо всех сел видна. Такого
натерпелся страху, что боже сохрани! Ровно меня обухом по голове огрели.
Прихожу домой, а мне уже ни жена, ни дети не милы. Ничего никому
не говорю, в себе переминаю.
Лег спать. Сплю, как камень, сплю — не высплюсь. И снится мне,
будто лежу я в вишневом саду и на дудочке играю. Вишни вокруг цветут,
ну, прямо молоком капают, а я лежу и на дудочке играю. Глядь, откуда
ни возьмись, у самого сада церковь — будто я ее уж возвел, а она у сада
очутилась. И вдруг как загремит что-то, словно обвал з горах! А это
церковь в прах разлетелась. Лишь колокол, тот, что на самом верху
висел, все звонит, да так жалостно, что эх!.. Сам звонит. Хочу встать,
а меня церковью-то и придавило. Тут водой все залило, уйма воды, а по
ней ворон, ворон столько, что вся рода черная. А колокол вверху, знай,
звонит, и церкви уж нет, а колокол все звонит...
Я — «спасите!» — кричу, и тут меня разбудили, помаленьку в себя
привели.
Больше ничего не помню. Довольно и того, что отлежал три месяца,
да и стал ничем...
Сложил-таки гуцул с Луговисках церковь, а меня загубил, загубил
навек...
Дальше мастер не рассказывал — все знали, что случилось потом.
Да и не мог он продолжать, потому что, дойдя до этого места, ставил
перед собой бутылку и пил сверх меры. Зато слушатели, сидевшие до тех
пор молча, теперь говорили все разом и жалели мастера.
— То-то вот, человек загадывает и так, и сяк, а на все божья воля1
У бога нету ни хороших, ни старых, ни бедных — для него все одинаковые:
что кому суждено, то тому и даст. И самому бедному и самому богатому.. ·
2 Василь Стефаннк
18
Василъ Стефаник. Синяя книжечка
— Истинная правда — от божьей десницы не укроешься, а только и
люди такие бывают, что сводят человека на-нет. Вот гляди, напустил на
него беду гуцул — то ли заворожил, то ли решил разума, и что стало из
человека? Ништо, грязь. Так вот и бывает, что от человека человеку
вред...
— Так ведь то ж гуцул, разрази его гром! Вон корчмарь нас
обдирает, а ведь и он лучше гуцула. Заберет деньги, сграбастает твое добро,
зато хоть без ума не оставит. А гуцул наворожит и готово — спятил
человек. Этих гони, как пса, от порога! ..
— Истинно так. Иван-то ведь потом и вовсе из ума выжил. Жену
а гроб загнал, детей из дому выставил, все хозяйство пустил на ветер.
Есть у него лачужка, да такая страшная, облупленная, что и войти боязно.
А вот немного погодя пойдет он туда, выбьет окна, ляжет на печь, и
запоет. Ну разве он теперь в здравом уме? Разумный-то не бил бы у себя
стекол, да не покупал бы их по два раза в месяц. Это только кажется, что
он связно говорит, а в голове-то у него полная каша...
— Пустил его басурман на погибель. Так его скрутил, что и до смерти
никто не раскрутит. Сломил ему волю: ни работа у него не ладится,
ништо, а и заработает малость, так все в корчме оставляет...
— Храни бог всякого доброго человека...
оогомолка
Семен и Семениха пришли из церкви и обедали — макали холодную
мамалыгу в сметану. Муж ел так, что за ушами трещало, а жена степенно
ела. Ей то и дело приходилось утираться рукавом, потому что муж
брызгался слюной. Такой уж был неотесанный — чавкал и садил слюной
в глаза, как песком.
— Хоть бы ты прикрыл свое жерло пушечное, нельзя и кусок хлеба
съесть.
Семен ел и не прикрывал жерло. Слова жены слегка задели его, но он
продолжал таскать сметану из миски.
— Чавкает, как четыре свиньи разом. Боже, боже, и вырастет же такая
губа кобылья!
Семен все еще молчал. О^но взять — что был виноват, а другое —
хотелось поесть как следует. Наконец, встал и перекрестился. Вышел во
двор, напоил свиней и вернулся, чтобы лечь.
— Ишь, нажрался и завалится теперь, как колода, нет того, чтобы
хоть за порог нос высунуть. Так вот и гниет каждый праздник, каждое
воскресенье.
— Ты чего цепляешься, узелок ищешь? Гляди, такой тебе завяжу,
что не развяжешь. Я тебе найду узелок!
— Я тебя по воскресеньям живьем бы грызла!
Богомолка
19
— Кабы свинье да рога! ..
— Стоит в церкви баран-бараном! Другие мужики, как мужики, а этот
сбалдуй что твоя холера. Лопнешь со стыда за такого муженька.
— Ох, бедная головушка, ну, прямо потеряю царство небесное!
Надрывайся всю неделю, а потом еще в церкви во фрунт стой! Постой уж ты
за меня, а я и так выслушаю слово божие.
— Да, уж ты слушаешь слово божие. Ни одного стиха из воскресной
проповеди не знаешь. Станешь посреди церкви, как лунатик. И глядь,
уже глазища завел, глядь, пасть распахнул, что ворота, глядь, слюна
изо рта тянется. А я смотрю, и земля подо мной со стыда горит.
— Отстань от меня, богомолка, дай вздремну чуток. Тебе лишь бы
языком молоть, а я еле ноги таскаю.
— А ты не стой в церкви столбом. Только поп книжку раскроет, а ты
уж, готово дело — вылупил глаза, что луковицы, и давай головой мотать
ровно кляча на солнце, да пускать слюну тоненькими нитками, как паук.
Только еще не храпишь в церкви. А мне мама говорила, что это нечистый
человека в сон клонит, чтобы не слушал слово божие. А с тобой бога нет,
вот ей-ей нет!
— Тьфу ты, пропасть! Нет, уж пусть нечистый твою голову морочит,
не мою! Это ты-то богомольная?! Думаешь, записалась в какое-то там
архиримское братство1 и уж святая? Да я тебе всю кожу распишу, как
книгу, синими строчками... Сошлись праведницы в братство! Да такого
никто еще и не видывал и не слыхивал! Одна в девках ребенка завела,
другая вдовушкой, третья без мужа забрюхатела — ну, как есть одни
порядочные сошлись. Да знай эти святоши, что вы за бабоньки, они бы вас
из церкви — дубьем! Ишь, богомолки, хвоста на заду не хватает! Книжки
читают, иконы покупают, ну, просто живыми в рай!
Семениха так и вабилась в слезах.
— Ну и не женился бы на мне, коли у меня ребеночек был! Вот
намолила себе долю! Да за тебя и сука бы не пошла, за Бола неумытогс!
Молись еще богу, что я с тобой жизнь свою загубила, а то так бы и ходил
бирюком до гробовой доски!
— Дурак был, на поле позарился, вот и взял себе ведьму в дом.
Теперь своего бы додал, лишь бы отвязаться!
— Нет уж, не отвяжешься! Я знаю, ты бы непрочь еще одну с полем
взять, а только не бойся, меня не заешь и не добьешь. Вот буду жить,
й тебе придется глядеть на меня, и все тут!
— Да живи хоть до скончания века...
— Ив братство буду ходить, ничего мне не сделаешь!
— Ну уж нет, в братстве ты, пока я живой, не будешь! Все книжки
вышвырну, а тебя привяжу веревкой. Чтоб не набиралась от монахов
ума...
— А вот буду, буду, и все!
— Отстань, слышишь, а то отлуплю чем ни попадя!
— Мама, мама, выдала ты меня за еретика, загубила мою душеньку?
В воскресенье бить собрался!
го
Василъ Стефаник. Синяя книжечка
— Ты гляди! Я что ли первый начал? Вы только смекните, что это за
богомолка! Ну, нет, милая, раз ты так, я уж тебя окорочу малость, собью
спесь. Да от этой богомолки хоть из хаты вон! Тут одно остается — бить!
Семениха бросилась было бежать, но муж поймал ее в сенях и бил.
Не мог не бить.
Катпруся
Когда Катруся приходила в себя, мать садилась подле нее и жалобно
говорила:
— До каких же ты пор, бедная, хворать будешь? Деньги вышли, других
не заработаешь, хоть бы и поднялась. А я все деньги перетаскала
знахаркам. И нет от того никакого проку. Все угадала знахарка — и про жизнь
нашу, и что у тебя болит, а коренья ее не помогают. Видно, нет уж тебе
выхода...
Катруся лежала недвижимо. Водила сухонькой ручкой по лицу. Ногти
были синие, как ее синие глаза, и, казалось, по лицу блуждает множество
странных, блестящих синих глаз. Всеми этими глазами Катруся смотрела
на мать и поддакивала ее жалобам.
— Ой, нету, горюшко ты мое, нету. А отец затосковал совсем. Голова
у него кругом — на какие деньги хоронить, как умрешь? Поглядит на тебя
и весь так и чернеет от горя. У нас уж, Катруся, во всем недостача. Муки
на донышке чуть-чуть, в клети ни зернышка, а в хате не сыскать и
ломаного гроша. Вот помрешь и станем мы, как середь воды. Додержал бы
тебя господь хоть до осени... Эх, девка, девка, загнала в кабалу и себя,
и нас!
Мать принялась расчесывать Катрусе волосы.
— Так ты страшно горишь, так кашляешь, что боже упаси! Ни
сорочку натянуть, ни расчесать, ни вымыть. Боже, боже, ну за что мы так
горько мучаемся? Молю бога переложить на меня половину твоих мук,
да все напрасно.
Мамины слезы капали Катрусе на волосы и пропадали, как вода
ε песке.
— И что это сделалось с тобой? Такая ты была крепкая, а уж
работница— на все село! Душа радовалась, все думали, с тобой и нам
полегчает, вот и полегчало! Хоть бы поесть добром, а то мы хиреем на
картошке, а ты все одно пропадаешь. За молоком по соседям ходить стало
трудно, до того я находилась, что стыд и показываться.
Мать заплела дочери косу.
— И не знаю, зачем я тебе цветов накупила? Два лева* выкинула,
как в грязь. Верно, уж я тебя на смерть уберу этими цветиками.
Обе заплакали.
— Дайте-ка, мама, я посмотрю на них.
Мать подала Катрусе цветы — синие, зеленые, белые, алые.
* Лев — денежная единица, австрийский гульден.
Катруся
21
Катруся перебирала их и слабо улыбалась, а по лицу ее блуждали
синие, зеленые, белые, алые отблески.
— Дай сюда скорее, вон отец идет, скажет, что у тебя еще девичьи
вабавы на уме.
Катрусю уложили в телегу, чтобы везти к врачу. Мать с плачем под-
кладывала ей под голову подушку.
— Не приведи бог по лекарям с вами таскаться! Подохли бы обе,
схоронить разом, да и с плеч долой!
Отец натягивал вожжи и от злости дергал себя за волосы.
— А ты, развалюха, помни, что ежели я деньги на лекарей задаром
расшвыряю, так и тебе сотворю аминь! Я тебя без лекаря похороню,
я тебе буду лекарь. Откуда мне взять на вас, на лекарей, на аптеки, да
на черта рогатого?! Не снести мне все это на одном горбу, ох, не снести!
Вот нанял подводу, так уж лучше прямо на кладбище свезти да и свалить
там. Боже, боже, и что это нашло на меня сегодня! Ну, кляча, двигай
мослами своими!
Он хлестнул конягу кнутом и выехал за ворота.
На улице Катруся с любопытством осматривалась. С осени многое
переменилось. Дядя Семен обнес хату плетнем, старый Николай покрыл
овин заново. Катруся так озиралась по сторонам, что забыла и отцовскую
ругань.
В поле люди пахали, сеяли. Над ними пели жаворонки. Черная пашня
рассыпалась под солнцем.
Катруся раскраснелась и все думала: «С божьей помощью подымусь,
не потеряю весну. Тут же найду и работу... Боже, боже, пошли мне
лекарство!»
Она была уверена, что не потеряет весну. Отец долго ехал молча.
Наконец заговорил:
— Вот денек, как золото, а ты по лекарям езди! — И он обернулся
к дочке. — Скажи мне, девка, что с тобой делать? Лежишь, лежишь, и ни
жизни тебе, ни смерти. Я деньги занимаю, занимаю, а все ни к чему.
Знал бы, чем тебя лечить, поискал бы, а так — что я знаю? Хоть бы уж
туда или сюда. И тебе лучше, и нам лучше...
Катруся плакала.
— Тут плакать-то нечего, это все правда. Ты вот умрешь, и заботы
тебе нет, все равно в земле гнить. По нынешним временам лучше ноги
протянуть, лишь бы не мучиться век на чужом поле! Я уж и без того
в долгах, а теперь вот еще займу на похороны, так под старость и из хаты
погонят. Эх, знай я наверное, что нет тебе лекарства, сейчас повернул бы
домой. А деньги пошли б на похороны.
Катруся заливалась слезами и кашляла на все поле.
Отец вынул из-за пазухи яблоко и как-то робко подал дочке. Он
никогда еще не давал ей никаких лакомств.
— Не плачь, слышь, не враг я тебе. Я только говорю, не извести бы
даром деньги, а то и тебе не поможем, и себя под корень подшибем.
22
Василъ Стефаник. Синяя книжечка
Сама же ты, дитятко, видишь, что взять негде. Я бы для тебя мизинец
отрубил без жалости. Ведь ты такая работница, что по всему селу о тебе
слава, точно не девка у меня, а парень. Ду\ я на тебя, как на пенку,
ł вижу, что умрешь. На глазах таешь, нет тебе выхода. То-то набедуемся
мы без тебя! То-то намучаемсяI ..
Отец замолчал.
— Ой, умру, умру, вижу, что нету мне выхода, — шептала Катруся.
Въезжали в город.
На обратном пути с ними ехал сосед Николай.
— Уж он мне такого напел, куда там!.. Не стоит мужикам по
лекарям таскаться. Чтоб, говорит, молока побольше пила, да мясца бы поела
легкого — это, мол, желудок подправит, да чтоб хлеба белого... Где что
есть на свете, все вспомнил. Может, оно господам-то и помогает, а нам
ни к чему. Как он завел это, как завел, так я и до конца не дослушал.
Да и какой толк слушать его? Пускай умирает, как есть. Вот выпьет все
лекарство, которое я в аптеке взял, и пусть либо выздоравливает, либо
как хочет...
— А вы думаете, — заговорил сосед, — доктора дают мужику то же,
что господам? Дожидайся! Мужику сунет первое попавшееся — и лечись!
Так он и пойдет искать для нашего брата хорошее снадобье! С господами,
что ни вечер, то встреча, а с мужиком?
— Было бы у кого совета спросить, а то наше дело, знаете, —
поцеловал руку и жди, пока велят деньги давать.
— Лучше бы всего расспросить старую Иваниху. Пошла она к
доктору, он давай ее морочить, а она ему напрямик: «Ой, говорит, пане дох-
тор, дайте мне последнее средство. Я, мол, бедная старуха, мне лечиться
не для кого, так уж вы дайте мне последнее средство». Тот уставился на
бабку: «А ты, говорит, откуда знаешь?» — «Ой, говорит бабка, откуда бы
не знала, а знаю, только дайте мне бумажку на последнее средство...»
Как начала, как начала, ну он и дал — по сей день здоровехонька.
— Что ж поделаешь, не достало ума расспросить. Вы думаете, с
паном говоришь, как с вами? Там раз, два, да и убирайся, марш!
— Пошла бабка с бумажкой в аптеку. Дает аптекарю, а сама, не будь
дура, смотрит, как он станет то средство приготовлять. И, говорит, как
он на ладонь себе капнул, так руку насквозь и проело. Но такое средство
может одному из сотни удается достать. А мужикам только такое и
годится, чтоб или туда, или сюда.
— Эх, бедная моя головушка, не разузнал я у бабки, как надо это
средство просить! А так и деньги пропали даром, да и не поможет
нисколько. .. Вот сплоховал...
— Да, видно, нету вашей девке выхода. Ишь как горит! Она уж
теперь оторванный листок...
— Ой, нету, нету... И деньги >вышли. Хоть бы догадался Иваниху
расспросить...
— Да, ведь еще смотря от чего средство. У аптекаря вон целая аптека»
а помирает...
Ангел
23
Ангел
Зонечке 1
Старая Тимчиха грелась на завалинке. Мимо ворот проходили люди,
но со старухой никто и словом не перемолвился. «Славайсу!»*— «Навеки
слава» — всего и разговору.
— Старого человека только в землю закопать! Ему и ложки еды
жаль, и угла на печке. У всех бельмом на глазу, никто и не окликнет, будь
коть черт, хоть бес. Нет, не стоит старому жить, не стоит, и все.
И ей припомнились слова старого Тимка:
— Это уж, старуха, так, что моя голова впереди, а твоя следом за
моею. А как не будет моей, то и твоя ни во что станет. Вот схоронишь
меня, и на другой день ты уж не хозяюшка, будешь жить у себя дома, как
жиличка...
— Эх, старик, старик, оставил ты меня, словно из-под венца сбежал.
Уж как ни был слаб, куда, бывало, не турну, туда и клонишься, — а всем
я из-за твоей головы правила. Ох, правила, правила...
Грустно было бабке Тимчихе, хоть солнце и грело ее старые кости,
как родная мама.
— А тебя, старик, думаешь, поминают? Не будь меня, и пес бы по
тебе не залаял. Ох, уж нынче и дети, мороз по коже! Глупый ты был, ей-
богу, глупый, Тимко. Набрать бы нам с тобой кредитов да векселей,
поесть-попить вволю да пожить по-господски! А то жались оба, яичка на
яишенку жалели себе, а нынче и поминок по тебе никто не справит...
Тимчиха закрыла лицо ладонями и шептала покойному мужу:
— Вытрясла бы, мама, последний пфениг, были бы и поминки. А нет,
так сдыхай на картошке! Вот купили бы дети яблочко или булочку,
тогда бы поела!
Старуха встала с завалинки и пошла поглядеть кур.
— Ум-то у старого человека, как у ребенка. Такого тут наболтала,
что и перед солнышком стыд! У тех, горемычных, свои дети, им об них
забота. А ты, старая, молчи да терпи. Недаром говорится — старый, что
малый. ..
Сказав так, Тимчиха вошла в хату. Там она отперла свой сундук и
стала вынимать одёжу. Рассматривала, нет ли плесени, не завелась ли
моль.
— Это все еще сами добывали, от детей и нитки нет. Все себе на
смерть сами собрали. Как старик умер, покупали ему только доски на гроб.
Э, меня бы так славно схоронили! Были люди — было и людям.
Похоронила тебя, старик, как хозяина! Никто и не пикнул, что, мол, я жалею
хоть грош.
Она вынула сафьяновые сапожки.
— Только раз и обулась. Покойник перед самой смертью на ярмарке
купил. На, говорит, Настя, будут тебе на смерть, кто знает, как тебя дети
* Славайсу — слава Иисусу (западноукраинское приветствие).
24
Василъ Стефаник. Синяя книжечка
почитать станут. Лучше свое иметь. Все будет справный сапог на ногу,
ведь бог знает, я вперед умру или ты.
Старуха заплакала.
— Не горюйте, детушки, я вас не введу в расход, еще и вам оставлю.
Меня мой во как снарядил. Всех бы так. Не дайте только старухе
помереть без свечки. Я уж так возле старого намыкалась ночами, а не дала
преставиться без свечи.
На дне сундука лежал узелок с деньгами. Старуха взяла его и села
на пол считать.
— Ой, дети, дети, то-то вас набаловала да натешила! Бывало, бегу из
города сломя голову, а на уме одно: что они там делают одни дома?
Добегаю до лесу, а они встречают, несутся стрелой. Я ног под собой не чую,
так домой спешу, а они остановят, и тут уж садись, раздавай подарки.
Нахватают и понеслись. Одна Дотя покойница со мной шла, а мальчишки
летели, как ветер...
Лицо старухи подобрело и прояснилось. Она глянула на образа. Там
был голый ангел с двумя красными розами в пухлых руках.
— Все смеешься, бесстыдник, над старухой? А как же — бабка
состарилась, а ты все молоденький, все хату старухину веселишь. Ой,
дитятко божие, прожила век, что кнутом хлестнула!
Старуха оперлась обеими руками о земь и вспомнила старое время.
— Еще, верно, и Юрчика не было на свете, как я его купила. Там
один столько навесил на крыльце картинок, что и на подводе не увезти.
Людей собралось, как на ярмарке. Зверь был намалеван такой лютый,
что в сказке не сказать. Цари страшные, и московские, и турецкие, и
всякие диковинки. И был меж ними ангелок, его-то я и купила. Уж больно
приветливо глядел и каждому розы' ^протягивал, только бери. Ох, и
давно ж было! .. Целый век прошел с той поры...
— Бывало, зимними вечерами наделаю из бумаги голубей. Головки им
позолочу, крылышки посеребрю, да как уберу его этими голубками, так
он словно играет с ними.
Тимчиха забыла, что у ней деньги в руках. Сжимала их в горсти,
а в мыслях улетела далеко, далеко.
— Ох, поумираем мы все, меня уж и не будет давно, а ты все будешь
веселить хату. Хоть какой знак останется, что жила бабка на свете.. „
О дна-одинешенька
Вон в той лачуге, что привалилась к бугру, как раздавленный жучок,
лежала бабка. Под боком мешок, а под головой грязная жесткая подушка.
Подле старухи на земляном полу — кусок хлеба да кувшинчик с водою.
Все это оставили дети, уходя на работу, чтоб у бабки было что поесть и
попить. Небогато, да получше взять негде. А сидеть с больной в
страдную пору, видит бог, не приходится.
О дна-одинешенька
25
В лачуге жужжали мухи. Они садились на хлеб и ели его, залезали
в кувшинчик и пили воду. А наевшись, садились на старуху. Лезли
в глаза, в рот. Она стонала, но отогнать мух не могла.
Лежала на полу и ловила блуждающим взором крест, вырезанный на
матице. С трудом разжимала запекшиеся губы и смачивала их белым
языком.
Сквозь стекла пробивался солнечный свет. На морщинистом лице
играли радужные краски. Страшный был у бабки вид при этом освещении.
Мухи назойливо звенят, разноцветные блики ползают вместе с ними по
старухе, а она чмокает губами и белый язык высовывает. Лачуга походила
на заклятую пещеру с великой грешницей, обреченной на муки от
сотворения мира до страшного суда.
А когда луч солнца переполз бабке в ноги и стал у завязки мешка,
старуха принялась кататься по земле, искать кувшинчик.
— Глянь, глянь, о-о!
Старуха утихла. Только отгоняла рукой виденья.
Из-под печи вылез черт с длинным хвостом и уселся возле бабки. Та,
собрав все силы, отвернулась от него. Черт снова пересел напротив. Взял
хвост в руки и давай гладить им бабку по лицу. Она только глазами
моргала, стиснув зубы.
Тут вылетела из печи туча маленьких чертенят. Они нависли над
бабкой, как саранча над солнцем или как стая ворон над лесом. А потом
набросились на бабку. Залезали в уши, в рот, садились на голову. Старуха
оборонялась. Тыкала большим пальцем в средний и норовила поднести их
ко лбу, чтоб перекреститься. Но чертенята садились всем скопом на руку
и не давали бабке осенить себя крестом. Старый сатана махал на нее
рукой, чтоб не баловала.
Старуха долго боролась, но перекреститься не смогла. Под конец черт
обнял ее за шею и так захохотал, что бабка рывком стала на колени и
перевалилась лицом к окну.
Оттуда летели на нее всадники. В зеленых куртках, с трубками в
зубах, на красных конях. Все ближе, ближе — сейчас наскочат, и пропала
бабка!
Она закрыла глаза. Земля в хате расступалась, и старуха съезжала
в расселину, вниз, падала все ниже и ниже. В самом низу черт взвалил ее
себе на спину и понесся, как ветер. Старуха рванулась и как даст головой
об стол!
Потекла кровь, бабка всхлипнула и умерла. Запрокинула голову возле
ножки стола и косилась оттуда на стены широко раскрытыми мертвыми
глазами. Черти больше не гарцевали, только мухи в охотку лизали кровь.
Они окровянили себе крылышки. И все больше их, красных, летало по
хате.
Они садились на черные чугуны под печью и на миски в посудном
шкапу, на которых были намалеваны всадники в зеленых куртках с
трубками в зубах. Мухи разносили старухину кровь повсюду.
26
Василъ Стефаник. Синяя книжечка
Осень
Митро чинил женины сапоги. Не чинил, а, можно сказать, сцеплял
воедино. Сапожнику грех и давать такую рвань, да и с деньгами туго.
А жена босым-босая, не в чем и по воду сходить. Вот почему Митро с
самого утра принялся за сапоги. Он уселся возле лавки у окна, обложился
обрывками старой кожи и злой, как собака, вощил нитку на дратву.
— Ей-богу, кину в печь, швырну в огонь и дело с концом! Кожа
гнилая, ниткой не стянуть — того и гляди порвется, — выбросить, плюнуть
да и все!
Сокрушаясь над сапогами. Митро, однако, чинил их с превеликим
тщанием. Протащит нитку сквозь кожу и с беспокойством осматривает, не
порвалась ли. Поэтому работа шла вяло и Митро сердился.
— Железо, не кожа, a тоже снашивается, что там говорить. Чай,
четыре года, как куплены, этой осенью четыре года, пора уж. А все ж еще
зиму должны послужить, хоть бы там невесть что!
И он чинил, и злился, и сто раз готов был швырнуть сапоги в печь
или выкинуть.
Митриха сидела на лежанке и латала отрепья.
— Посеклось все, разлезлось. Конопельки не посеешь — есть надо,
полотна не купишь — не на что, скоро и вовсе нагишом будем ходить.
Только залатаешь в одном месте, глядь — в другом посеклось. Если бы
хоть не стирать — может, не так бы рвались. Да я уж и не стираю как
следует, а все равно — паутина-паутиной. Бог знает, как их латать,
с какого боку браться.
Так размышляла Митриха над кучей» тряпья. Она внимательно
вглядывалась в рваные сорочки, и на осунувшемся лице ее была
беспомощность. Грубое, изодранное полотно с затертой красной вышивкой походило
на одежду солдат, пришедших с войны. А женщина, как бедняжка-сестра
милосердия, с тоской и отчаянием пыталась хоть чем-нибудь помочь
несчастным калекам.
— Зиму еще кое-как проходим, а уж лето— бог знает.
И она обметывала серой ниткой заплаты и думала над своей серой
жизнью.
На печи лежала мать Митра. Ничего не осталось от женщины, вся
была чуть побольше десятилетнего ребенка. И кашляла, не переставая.
— Господи, господи, пошли мне смерть, не дай больше так горько
мучиться. Я уж, верно, искупила все грехи, все, что нагрешила... Кому бы
жить да жить — те умирают, оставляют добро и хозяйство, а я, словно
твердый камень, — лежит и никому не под силу раздавить. Боже, боже, за
что ты меня так тяжко караешь?
И она чуть не лопалась от кашля.
Вокруг старухи сидели дети. Когда она синела и заходилась в кашле,
все они с любопытством смотрели на бабку, показывали пальцами и
говорили:
— Гляди, гляди, бз&ушка умирает.
Осень
27
Но та откашливалась и говорила им:
— Где уж там, детоньки, забыла обо мне моя смерть.
Но вот Митру совсем опротивело возиться с перепрелыми сапогам.?*.
Он зашвырнул их под лавку и принялся ругаться.
— Саван вам шить и то легче. Не обуешь, не оденешь, не
прокормишь — ну, ни на что не собрать для вас. Походите-ка босиком, может,
скорей бог приберет.
Ок сел за стол.
— Дала бы поесть, а, хозяйка? Знаешь ведь, что у меня нынче ни
крошки во рту не было.
Робкая, как овечка, Митриха встала и подала мужу картошки.
Митро чистил картошку, макал в соль и грыз хлеб.
— Ох, и кормишь ты... Ну, погоди, я тебя так накормлю, что
подохнешь. Хоть бы борща, или болтушки, или черта рогатого, а то ткнет
тебе картошку и давись! А я уже едва ноги таскаю!
— А что ж она тебе сварит, сынок? Масла постного нет, муки нет,
что ж она сварит?
— Вы, мама, уже отговорили свое. Сидите себе на печи да кашляйте.
Наследства вы мне не оставили, волов и коров не дали, ну и сидите
тихонько. Подумали бы лучше, на что вас хоронить? Тоскуете по смерти,
как коршун по дождю, «господи, господи, дай мне помереть», а ведь это
псе на мою голову...
Старуха хотела было заплакать, но закашлялась.
— Оглохнешь тут, ей-богу, — сказал Митро. — Эй ты, разбойник, чего
на жердку вешаешься, хочешь горшки перебить? Навек бы тебе там
повиснуть.
И он стал бить мальчишку.
Дети заверещали, старуха, не переставая, кашляла.
— Да на такую хату и птица не сядет, — говорил Митро.
— Ну чего ты к детям прицепился, они-то чем виноваты, что сапоги
сопрели?
— Ты, сука, наплодила их, развела, да еще гавкаешь? Я вас всех ва-
режу...
Митро схватил сапог из-под лавки и стал бить им жену. Кончилось
тем, что он напялил на себя кожух и вышел.
— Век бы сюда не возвращаться! — бросил он с порога.
— Ступай, ступай, слушай про Канаду; так я и пошла е детьми ка
край света, дожидайся! .. — сказала ему вдогонку жена.
Митриха растопила печь. Стало полно дыма, и она то и дело утирала
слезы. Дым выедал глава.
Старуха на печи стонала.
— Скорей бы лето! Разошлись бы на работу, там уж не до грызни.
Солнышко разведет врозь по полю. А так просто ад в хате. Господи,
господи, не держи ты меня больше на свете, сам видишь, не житье мне...
Дети бегали по хате. Но как кто вашумит в сенях, удирали на печь,
к бабушке. Личики у них при этом были измученные и пришибленные.
28
Василъ Стефаник. Синяя книжечка
Все прикидывались тихонями, боясь, что отец прибьет. Но если он не
появлялся, ребятишки снова слезали с печи — побегать на полу.
Так стаей спускаются голуби на ток. Но стоит мужику скрипнуть
сенной дверью, как они оставляют зерно и в испуге взмывают ввысь.
Порча
У Романихи захворала корова. Лежала на соломе и печально глядела
большими серыми глазами. Ноздри трепетали, шкура морщилась —
дрожала вся в горячке. Пахло от нее хворью и болью страшной, но немой.
В таких случаях больше всего жаль, что скотина не может заговорить,
пожаловаться.
— Ясное дело — не выживет. Будь у ней что с кровью, может, и
полечил бы, а то кто-то напустил порчу, глянул на нее дурным глазом, чтоб
у него оба повылазили, ну и нечего с ней делать. Уповайте на бога, может,
и утешит вас... — так говорил Илаш, знавший толк в скотине.
— Ох, Илашко, видно, не выживет, а не выживет она, так и меня не надо.
Я жизнь положила, чтоб коровку добыть. Без мужа осталась, сын помер
в солдатах, а я маялась да трудилась день и ночь. Уж какие длинные
зимние ночи, а я, бывало, до света за прялкой, так что пальцы распухнут
и в глазах песок. Один бог знает, как я каждый грейцер * горько прятала,
пока скопила...
— Это уж, видите ли, у бедного всегда так, хоть по локти руки
сработай, а все без толку. Уж так получается, что делать? Надо так жить...
— Ох, бедная моя головушка, ох, как тут быть, что делать, кого
спрашивать?
— А вы улучите денек, закажите молебен, угощение поставьте. А то
сходите на богомолье к Ивану Сучавскому 1; говорят, помогает.
— Ох, я уже и молебен отслужила Зарваницкой богоматери2, и
второй, Ивану Сучавскому, закажу.
— Может, говорю, поможет бог, на него уповайте. Ну, пошли вам
господь всего наилучшего.
И Илаш ушел.
Романиха села подле коровы, чтобы уберечь ее от гибели. Давала ей
все, что имела лучшего, но та не хотела ничего есть. Только смотрела на
старуху и растравляла ей душу.
— Маленькая, маленькая, что у тебя болит? Не оставь старуху без
ложки молока. Потешь меня хоть недолго. — И она гладила корове лоб
и кадык, причитала над нею. N
— Где, где я на другую возьму? Уж я ни пальцев сложить, ни иголки
воткнуть не в силах: где мне, старухе, на корову разжиться1
Корова дрожала. Романиха укрыла ее своим кожухом, а сама стояла
над нею раздетая на морозе. Стучала зубами, но не отходила ни на шаг.
* Грейцер (крейцер) — мелкая австрийская монета.
Новость
29
— А может, это за грехи меня бог карает? Не раз ведь я из-за тебя,
голубка, согрешила. Где за межой попасла, где веточку обломила, а где
и тыковку сорвала. Зато я никогда никому молока не жалела. Дитя ли
у кого захворает, баба ли после родов, а уж я иду с кринкою, молочко несу.
Да и творогу раздавала людям к мамалыге. Господи, не карай меня,
бедную вдову. Ничего я чужого не трону, только смилуйся над моей коровой.
Так до поздней ночи голосила Романиха над коровой. Кропила ее
святой водой, но и это не помогало. Корова вытянула ноги во весь хлев,
вздымала бока и мычала от боли. Старуха гладила ее, обнимала,
причитала над нею, но все это было ни к чему.
В открытую дверь хлева светил месяц, и старуха видела каждое
движение коровы. Та, наконец, поднялась. Она едва держалась на ногах.
Осматривалась в стойле, словно прощалась с каждым уголком.
Потом упала на солому и вытянулась, как струна. Романиха припала
к ней и, сама не своя, терла ее соломой. Потом корова заревела и
принялась бить ногами. Романихе стало жарко, желто в глазах, и она,
окровавленная, упала. Корова била ногами и раздирала старуху на куски.
Обе боролись со смертью.
Новость
В селе передавали новость, что Гриц Летючий утопил в реке свою
девочку. Он хотел утопить и старшую, да та выпросилась. С тех пор как
овдовел, Гриц бедствовал. Не мог управиться с детьми без жены. Замуж
за него не шли — ведь ежели б только дети, а тут еще и нужда с бедой.
Мучился Гриц полных два года один с малыми детьми. Никто не знал,
как ему живется-можется, кроме разве ближних соседей. Они
рассказывали, что Гриц, почитай, всю зиму не топил в хате и зимовал вместе с
девочками на печи.
А теперь все село заговорило о нем. Мол, приходит он вечером домой,
девочки на печи.
— Папа, нам есть хочется, — сказала старшая, Гандзуня.
— Ешьте меня, что я вам дам? Вон есть хлеб, ну и налопывайтесь.
И дал им кусок хлеба, а они набросились на тот кусок, как щенята на
косточку.
— Наплодила вас и оставила на моих руках, чтоб ее из земли
выкинуло. А чума где-то ходит, пропади она пропадом, а к нам не завернет.
Э, да этой хаты и чума забоится!
Девочки не слушали отцовских речей, все это повторялось изо дня
в день с утра до ночи, и они привыкли. Ели хлеб на печи, и смотреть на
них было горько и страшно. Бог знает, как до сих пор не рассыпались
эти хрупкие косточки. Только четыре черных глаза были живые и
тяжелые. Казалось, эти глаза тяжелы, как свинец, и, не будь их, все остальное
разлетелось бы по ветру пухом. Да и теперь, когда дети ели сухой хлеб,
казалось, косточки у щек вот-вот полопаются.
30 Ba силъ Стефаник. Синяя книжечка
Гриц посмотрел на них с лавки и подумал: «покойники». И так
напугался, что пот выступил на лбу. До того ему стало тяжко, словно камнем
грудь придавило. Девочки глодали хлеб, а отец клал земные поклоны и
молился, но тщетно — его все тянуло смотреть на них и думать: «покойники!>>
Через несколько дней Гриц уже боялся сидеть дома, все ходил по
соседям, и они говорили, что он очень горевал. Почернел весь, а глаза
запали так глубоко, что почти не глядели на мир, а все только на тот
камень, которым ему грудь придавило.
Раз вечером пришел Гриц домой, сварил детям картошки, посолил и
подал на печь, чтоб ели. А как поели, сказал:
— Слезайте с печи, в гости пойдем.
Девочки слезли с печи. Гриц натянул на них отрепья, взял меньшую,
Дотьку, на руки, а Гандзуню за руку и вышел с ними. Долго шел лугами
и остановился на горе. При лунном свете река расстилалась в низине точно
широкая струя ртути. Гриц содрогнулся, сверкающая река обдавала его
холодом, а камень на груди стал еще тяжелей. Гриц задыхался и едва мог
нести маленькую Дотьку.
Спускались в дол, к реке. Гриц так скрежетал зубами, что по лугу
разносился звон, а на груди его лежал уже огненный пояс и жег сердце и
голову. У самой реки он больше не мог идти медленно и побежал, оставив
Гандзуню. Она бежала за ним. Гриц рывком поднял Дотьку и со всего
размаха бросил в воду.
Ему стало легче, и он быстро заговорил:
— Скажу господам, что не мог управиться: ни еды, ни в хате выто*
пить, ни постирать, ни голову вымыть — ничего, как есть. Виноват, ведите
меня на виселицу!
Около него стояла Гандзуня и так же быстро твердила:
— Ой, не топите меня, не топите, не топите!
— Ну, раз просишь, не стану, а только тебе бы так лучше, а мне один
ответ, что за одну, что за обеих. Будешь бедовать с малых лет, а потом
пойдешь в няньки, и там бедовать придется. Как хочешь.
— Не топите меня, не топите...
— Нет, нет, не стану, а только Доте лучше будет, чем тебе.
Возвращайся в село, а я пойду заявляться. Смотри, вот по этой тропочке иди все
в гору и в гору, а как дойдешь до первой хаты, войди и говори, что так,
мол, и так, отец хотел меня утопить, да я выпросилась, пустите
переночевать. А назавтра скажи: может, наймете за ребенком глядеть? Ну иди,
а то ночь скоро.
И Гандзуня пошла.
— Гандзя, Гандзя, на-ка вот палку, неровен час, встретишь собаку —
разорвет. С палкой-то лучше.
Гандзя взяла палку и пошла через луг.
Гриц засучил штаны, чтобы перейти реку вброд, — там была дорога
в город. Он вошел уже в воду по щиколотку и оцепенел.
— Во имя отца и сына и саятого духа, аминь. Отче наш, иже еси на
небеси и на земли.. .
Вернулся и пошел к мосту.
Портрет
31
Портрет
Казалось, голубь над ним белые крылья распростер, а из-за белых
крыльев проглядывает синее небо...
Большое кресло приютило старика. Голова его раскачивалась, как
веточка на ветру, — не переставая. Губы все что-то жевали. Руки дрожали,
ничего уже не держалось в них.
— Никаких сил не осталось... никакого тепла, холод пронизывает до
костей. Ох, пора, видно, пора-а! Тело землей отдает, к земле клонит...
Трубка погасла. Старик собрал все силы, чтобы раскурить ее сызнова.
Но трубка увертывалась, как живая, сминала пальцы, убегала, словно
дразнила его. Рассыпала пепел по всей одежде. Наконец раскурилась и
успокоилась. Но тут чубук разыгрался — все выскакивал из губ.
Как осенний листок на быстрине.
Только кресло стояло твердо, как молодая сильная птица, которая
держала старика на крыльях.
— Вечная память, господи, помилуй, и — яма, и бац-бац! И все. . .
Алые лучи солнца ворвались в окно, словно на помощь, чтобы
объединить все усилия.
Портрет и рояль окрасились багрянцем. Старик посмотрел на них и
затрясся, как в лихорадке. Кресло скрипело, едва выдерживая.
— Далеко, далеко. . . Одна-одинешенька... Больше не увижу, ох, нет.
Хоть бы раз, на минутку.. . Баловал ее...
Старческая дрожь сотрясала его, словно для того, чтобы вышвырнуть
из кресла и безраздельно завладеть им.
Он держался за ручки и не давался, как утопающий не дается волнам.
Смотрел на черный длинный рояль.
— Я, папа, буду на нем играть, как играют со львом. Приведу его
в ярость, и заставлю всех умирать от страха. Чтобы холодный пот
выступил на лбу. Или поглажу по голове, и он уляжется у моих ног, как верный
пес. А публике будет казаться, что она своего льва попирает ногами. . .
— А под конец сыграю им песенку. Им представится, будто они
бродят среди пестрых цветов и шелковых трав. Даже спотыкаться начнут на
кочках. И увидят, как девушка рвет барвинок, как золотит его и серебром
серебрит, и услышат ее песню. Это будет такая песня, что от нее все
станут добрыми, веселыми. Ой, папа, папа, как я буду играть!
— Так и говорила, да. . . Украина, народ, Миклошич. . ,1 Баловал ее...
Ах, далеко. . . Хоть бы на минуточку повидать. ..
Он снова пытался раскурить трубку.
КАМЕННЫЙ КРЕСТ
w ■■■ wiT^ffbyy ■ —iar»
Каменный крест
ι
С тех пор, как помнили односельчане Ивана Дидуха на своей земле
хозяином, были у него только лошадь да небольшой возок с дубовым
дышлом. Лошадь Иван запрягал в пристяжку, сам становился в борозду;
для лошади была у него ременная шлея и нашильник, а на себя он
накладывал тонкую шлею, веревочную. Нашильника ему не надо было: левая
рука натягивала шлею лучше любого нашильника.
Когда везли снопы с поля или навоз на поле, и у лошади и у Ивана
одинаково вздувались жилы, а постромки у обоих в гору одинаково
натягивались, как струны, а под гору одинаково волочились по земле.
В гору лошадь карабкалась, как по льду, а Ивана словно кто дубиной
стукнул, такой огромный желвак вспухал у него на лбу. На спуске лошадь
выглядела так, точно хозяин повесил ее на нашильнике за какую-то
большую провинность, а у Ивана левая рука обвивалась сетью синих жил, как
цепью из синей стали.
Не раз утром, еще до восхода солнца, выезжал Иван полевой
дорогой на поле. Шлеи на нем не было, только шел с правой стороны, держа
дышло подмышкой. И лошадь и Иван, отдохнув за ночь, шли бодро.
А на спусках бежали. Бежали в дол, оставляя позади следы колес,
копыт и широченных Ивановых пяток. Придорожная трава и кусты
пригибались, раскачивались во все стороны и сбрасывали на следы росу. Но
случалось, на самой середине горы Иван начинал припадать на ногу и
с разгона сдерживал лошадь. Потом садился у дороги, брал ногу в руки
и слюнил ступню, чтобы найти место, куда забилась колючка.
— Да эту ногу сапкой надо скрести, а не слюной промывать, —
говорил Иван с сердцем.
— Дед Иван, кнутом коренного-то, пускай бежит, раз овес
поедает. . . — Это кто-нибудь подымал на смех Ивана, увидев со своего поля
его мытарства.
Но Иван давно привык к таким шутникам и спокойно продолжал
вытаскивать колючку. А не сумев вытащить, загонял ее кулаком глубже
в ногу и, вставая, говорил:
— Ничего, загноишься — сама вывалишься, а мне с тобой нянчиться
недосуг. . .
И еше Ивана прозвали в селе Переломанным. У него болела поясница,
и ходил он всегда согнутый, точно два железных крюка притягивали его
туловище к ногам. Это его так ветром продуло.
Каменный крест
33
Как вернулся он с военной службы, то не застал дома ни отца, ни
матери, одну только хатенку, да и та завалилась. А из угодий достался ему
от отца всего только клин на бугре, на самом высоком да на самом
худшем из всех окрестных полей. На том бугре женщины песок копали, и
разевал он на небо, как страшный великан, черные пасти оврагов и пещер.
Никто его не пахал и не засевал, на нем и меж-то никаких не было.
Только Иван взялся вскопать да засеять свою делянку. Вдвоем с
лошадью возили они к бугру навоз, а потом Иван уже в одиночку носил его
мешками наверх. Порою с бугра долетал в дол на поля его громкий крик:
— Э-эх, вот как шмякну тебя, так и расползешься по ниточке! До чего
ж ты тяжелый!
Но так никогда и не шмякнул — жалко было мешок, — а медленно
опускал его с плеч на землю. А раз вечером рассказал жене и детям вот
что:
— Солнце печет — не печет, а огнем полыхает, а я карабкаюсь с
навозом наверх, так что кожа на коленках лопается. Пот сочится из-под
каждого волоска, и во рту так солоно, что прямо горько. Едва взобрался
я на гору. А там ветерком обдуло, да таким легоньким, что — эх! Только
вот поди ж ты — через минуту, как начало колоть ножами в поясницу, —
ну, думаю, — конец!
Вот с того случая и ходил Иван согнувшись, и в селе прозвали его
Переломанным.
Но хоть и переломил Ивана бугор, а урожаи приносил добрые. Иван
обнес делянку частоколом, обложил дерном, чтоб осенью и весной дожди
не смывали навоз в овраги. Все силы отдавал этому бугру.
И чем старее становился, тем трудней было ему, переломанному,
спускаться с бугра.
— Экая собачья гора, так вниз и толкает!
Не раз заходящее солнце, застав Ивана наверху, уносило его тень
вместе с тенью бугра далеко на нивы. Иванова тень стлалась по этим
нивам, как тень согбенного великана. А он показывал пальцем на свою тень
и говорил бугру:
— Согнул ты меня, брат, в дугу! А только, пока меня ноги носят,
будешь родить хлебушек! Нечего даром солнце есть да дождь пить. . .
На других нивах, купленных Иваном на скопленные в солдатах деньги,
работали сыновья и жена. Иван все больше с бугром возился.
Еще Иван известен был тем, что в церковь ходил только раз в год,
на пасхальную заутреню, и муштровал кур. Так он их учил, что ни одна
не смела показаться на дворе и порыться в навозе. Стоило какой-нибудь
шевельнуть лапкой — капут ей. Погибала от удара палки или заступа.
Хоть крестом Иваниха распластайся — не поможет.
Вот и все. Разве еще то, что Иван никогда не ел за столом — все на
ласке.
— Был я батраком, потом отслужил десять лет в солдатах — не знал
стола, так мне sa столом и еда в глотку не полезет.
Чудной был человек и нравом, и в работе.
3 Василь Стефаник
34
Василъ Стефаник. Каменный крест
II
Гостей у Ивана полна хата — мужики и бабы. Иван продал все, что
имел. Сыновья с женой собрались в Канаду, и старику пришлось в конце
концов уступить.
Зазвал к себе Иван все село.
Теперь он стоял перед гостями, держал в правой руке чарку водки и,
видно, так оцепенел, что слова не мог выговорить.
— Спасибо вам большое, соседи и соседки, за то, что меня почитали
хозяином, а ее хозяйкою. ..
Он не договаривал и ни за кого не пил, а только тупо глядел перед
собой и кивал, точно читал молитву и подтверждал кивком каждое слово.
Так порой выкатит донная волна из воды большой камень на отмель,
и стоит он на берегу тяжелый и отрешенный. Солнце отколупывает с него
черепки пересохшего ила и разбрасывает по ним фосфорические звездочки.
Мерцает этот камень мертвыми отблесками восходов и закатов,
смотрит каменными своими очами на живую воду и грустит о том, что не
гнетет его больше извечный груз водяной. Смотрит с берега на воду, как
на утраченное счастье.
Вот так и Иван смотрел на людей — как тот камень на воду.
Наконец, тряхнул седой, словно из стальных нитей кованой гривой, и
договорил.
— Спасибо вам душевное и дай вам бог всего, чего сами себе
желаете. Дай вам, боже, здоровья, дед Михайло. ..
Он подал Михаилу чарку и они поцеловали друг другу руки.
— Кум Иван, дай вам боже прожить еще на этом свете, и пусть
господь милосердный счастливо доведет вас до нового места и поможет
милостью своею заново хозяином стать!
— Дай-то бог! Да вы угощайтесь, соседи.. . Думал, что усажу вас
за стол на сыновней свадьбе, да вышло не так. . . Это уж выходит —
про что ни отцы наши, ни деды не знали, то теперь нам пришлось
узнать. Господня воля! Угощайтесь же, соседи, да простите за
последки.
Иван взял еще чарку и подошел к женщинам, которые сидели на
другом конце стола.
— Тимофииха, кума, с вами хочу выпить. Гляжу на вас и
припоминаются мне, как говорят, молодые лета. О-о-о! Девка вы были
крепкая, а уж хороши были! Не_ одну я ночку не поспал, об вас думал.
А в пляске ходили, как челнок, ровно! И где они, кума, те года наши?
А ну, выпьем, да простите, что под старость пляску припомнил. А ну!
Иван взглянул на свою старуху, плакавшую среди баб, и вынул
из-за пазухи платочек.
— Эй, старая, на-ка вот платок, да утрись получше, чтоб я тут слез
не видал! О гостях позаботься, а плакать еще будет время, еще так
наплачешься, что и глаза вытекут.
И он, крутя головой, отошел к мужикам.
— Сказал бы я кое-что, да уж помолчу ради образов святых да
Каменный крест
35
вас, добрые люди. А только не дай бог хорошему человеку женским
умом жить! Ведь вон как плачет, а кто ее обидел — я? Я обидел тебя,
хозяйка моя? Я тебя выкорчевал под старость из твоей хаты? Молчи,
не хлюпай, а не то волосы седые оборву, и пойдешь ты в свою Америку
как стриженая.
— Не троньте жену, кум Иван, не враг она ни вам, ни детям,
а только тоскует она по родне да по своему селу.
— А вы, Тимофииха, не знаете, так помолчите1 Она тоскует, а я
туда вприпрыжку бегу?!
Иван заскрежетал зубами, как жерновами, погрозил жене
громадным, с кувалду, кулаком и ударил себя в грудь:
— Всадите мне, мужики, топор в потроха, может, печенка моя
лопнет, а то ведь не выдержу! Такая тоска, такая тоска, — не помню, что
и творится со мною!
III
— Да ну же, соседи, угощайтесь без церемонии, да простите, мы
ведь уже по-дорожному. А мне, старику, не дивитесь, что допекаю жену,
не даром это, ох, не даром! Не бывать бы этому никогда, если б не
она с сыновьями. Сыны-то мои, знаете, грамотные, вот и попадись им
какая-то грамотка в руки, да карта, а они как насели на старуху,
пилили, пилили, ну и перетерли. Два года ни об чем в хате больше
не говорилось — все Канада и Канада. А как меня прижали, как увидел
я, что все равно меня тут под старость загрызут, — продал все до
нитки. Сыновья, видите ли, не хотят после моей смерти идти в батраки,
«Ты, говорят, нам отец, ну и отведи нас на землю, хлеба нам дай, а то,
как разделишь нас, не за что и зацепиться будет». Помогай им бог тот
хлеб есть, а мне все равно погибать. До переездов ли мне,
переломанному? Сработался я, тело-то все одна мозоль, а кости такие дряхлые,
что пока их утром соберешь, так десять раз ойкнешь!
— Это уж, Иван, пропало, а вы не кручиньтесь. Еще, может, как
покажете нам дорогу, то и мы все за вами пойдем. А об этом крае не
стоит убиваться. Не в силах эта земля столько народу носить да столько
горя терпеть. Мужик не в силах, и она не в силах — оба не могут
больше. Как говорят — ни саранчи, ни пшеницы. А налоги набегают,
прежде ты лев платил, а нынче — пять, прежде ел сало, теперь —
картошку. Ох, скрутили нас, так прибрали к рукам, что никто из тех рук
не Бырвет, разве только бежать. Не миновать этой земле великого
покаяния, потому что без резни не обойдется! Не по чем вам тосковать! . .
— Спасибо на добром слове, только не согласен я. Это верно, без
резки не обойдется. А как же — разве не гневят бога те, кто землю
в оборот пускает? Теперь никому не надо земли, всем подавай векселя
да кредитки. Теперь молодые хозяева больно умны, такие пожарные,
что с землей у них «не горит» ]. А вы поглядите-ка на эту старую
скрипку — что ж — и ее прикажете пустить в оборот?! Это же верба
дуплистая, тронь пальцем — и рассыпется. Думаете, дойдет до места?
3*
36
Василъ Стефаник. Каменный крест
Вот кувырнется где-нибудь в канаву, собаки ее кости растащат, а нас
погонят дальше и поглядеть не дадут. За что ж богу благословлять
такое чадо?! Старая, да поди ты сюда!
Подошла Иваниха, старенькая, сухонькая.
— Катерина, и что ты, горе мое, надумала? Где я тебя в могилу
положу? Или, может, рыбам на съеденье? Да тут порядочной рыбе и
на зуб-то взять нечего! Гляньте!—И он натягивал кожу на жениной
руке и показывал гостям:—Кожа да кости. Куда ей, мужики, с печи
слезать? Была ты хозяйка, трудилась — не ленилась, да под старость
в путь собралась. Гляди, видишь, где твоя дорога и твоя Ка«ада?
Во-он там!—И показал ей через окно на кладбище. — Не хотела ты
идти в эту Канаду, так теперь пойдем по всему свету, развеет нас под
старость, как листву по полю. Там бог знает, что с нами будет. . . а я
хочу с тобой перед своими попрощаться. Как шли мы перед ними под
венец, так перед ними и на смерть попрощаемся. Может, тебя выбросят
в море, а я и не увижу, а может, меня выбросят, а тебе будет и не
видать, так прости, старая, что я тебя не раз донимал, а когда, может,
и обидел, прости меня и первый раз, и другой раз, и третий раз.
И они расцеловались. Старуха упала Ивану на руки, а он говорил:
— Везу тебя, бедная моя, на дальнее кладбище.
Но этих слов никто уже не слышал: с женского стола налетел
плач; он пронесся, как ветер от взмаха острых мечей, и пред ним
склонились на грудь мужицкие головы.
IV
— А теперь ступай, старая, νκ бабам, да позаботься, чтобы каждая
получила свое, да напейся, чтоб я тебя хоть раз видел пьяную. А к вам,
мужики, есть еще у меня две просьбы. Случится, пришлют дети в село
весточку, что нас со старухой уже не стало, так просил бы я: отслужите
по нас панихиду, да сойдитесь на поминки, как вот нынче, да помолитесь
за нас. Может, нам господь грехов убавит. Я деньги оставлю Якову:
он еще молодой человек и надежный, не припрячет стариковский грей-
цер.
— Отслужим, отслужим, и помолимся за вас. . .
Иван задумался. Лицо его покрылось краской стыда.
— Вы не дивитесь старику, не смейтесь над дедом. Мне и самому
стыдно говорить вам это, да только, сдается мне, что грех было бы и
не сказать. Вы знаете, что я себе на своем бугре крестик каменный
поставил. Горько я его вез и горько его наверх вытаскивал, однако
поставил. Такой он тяжелый, что бугор не скинет его, а будет держать
на себе, как меня держал. Хотелось оставить по себе памятку.
Иван сложил ладони в трубку и прижал к губам.
— Тоскую я по тому бугру, как младенец по титьке. Я на нем
век свой избыл и покалечился. Кабы мог, положил бы его за пазуху
и взял с собою. Тоскую я по каждой кочке в селе, по каждому малому
ребенку, но об том бугре никогда не позабыть.
Каменный крест
37
Глаза Ивана! сверкнули великой болью, а лицо задрожало, как
черная пашня на солнышке.
— Нынче ночью лежу в овине и все думаю, все думаю: господи
милосердный, и чем я так согрешил тяжко, что гонишь ты меня за
дальние моря? Всю-то жизнь я работал, и работал, и работал! Не раз,
бывало, как день кончится, паду на ниву и слезно бога молю: господи,
не оставь без куска хлеба, а я все работать буду, разве уж не смогу ни
рукой, ни ногой пошевелить. . . А потом такая меня тоска взяла, что уж
я и колени грыз, и волосы на себе рвал, и катался на соломе, как бугай.
Ну, и привяжись ко мне нечистый! Не знаю, и как, и когда. .. а только
очутился я под грушей с поводьями. Еще минутка — и затянулся бы.
Однако бог знает, что творит. Вспомнил я про крест, ну и отлегло.
Да как припущусь, как припущусь на свой бугор! Через час я сидел
уже под крестом. Посидел, посидел под ним и вроде бы легче стало.
— Вот стою я перед вами и говорю, а бугор-то из головы не
выводит. Так его и вижу, так и вижу, и смерть придет, а он будет передо
мной. Все забуду, а его не забуду. Песни знал когда-то — на нем забыл,
сила была — на нем потерял.
Одна слеза катилась по его лицу, как жемчужина по скале.
— Вот и прошу я вас, мужики, как пойдете на святой неделе поле
святить, никогда о моем бугре не забывайте. Кто помоложе, пусть
выбежит да покропит крест святой водицей, поп-то, сами знаете, на гору
не пойдет. Прошу я вас покорно — не обходите никогда моего креста.
Буду за вас на том свете бога молить, только уважьте старика.
И так он говорил это, словно хотел рядном разостлаться им под-
ноги, словно хотел своими добрыми серыми глазами навек запечатлеть
э»ту просьбу в сердцах гостей.
— А ну, кум Иван, тоску в сторону, гоните-ка ее прочь! Никогда
мы вас не забудем. Человек вы были хороший, нахрапом ни на кого
не лезли, чужое поле не перепахивали, не засевали, зернышка чужого
не тронули никогда. Нет и нет! Будут вас в селе помнить и креста
вашего на святой не обойдут.
Так Михайло утешал Ивана.
V
— Ну, я вам, дорогие гости, все сказал, а теперь, кто меня любит,
тот выпьет со мною. Солнышко-то уж над кладбищем, а вы еше и
чарки со мной не выпили. Пока я еще дома, пока принимаю гостей за
своим столом, так я с ними и пить буду, а кто меня любит, тот тоже
будет.
И пошло пьянство, такое пьянство, от которого мужики становятся
дурашливыми детьми. Вскоре пьяный уже Иван велел позвать скрипача,
чтоб играл молодежи, заполнившей весь двор.
— Так пляшите, чтобы земля гудела, чтоб ни одной травки не
осталось на току!
38
Василъ Стефаник. Каменный крест
В хате все пили, все говорили, а никто не слушал. Говорили сами
с собой, потому что не могли не говорить, надо было выговориться
хоть на ветер.
— Как я их, бывало, вычищу, то черный — засеребрится, а белый —
станет, как снег, и залоснится. Да, были у меня кони в порядке, хоть
самому императору в карету запрячь. И деньги водились, ой, водились,
водились. . .
— Да по мне, хоть очутись я в такой пустыне, чтоб только я да
бог. . . Чтоб ходил я, как дикий зверь, только бы не видеть ни господ,
ни попов, ни барьшшиков. Вот тогда бы я был господин! А эта земля —
да провались она, сейчас провались, жалеть не стану. Чего жалеть?
Отцов наших пытали да били, запрягали в ярмо, а нам уж и куска
хлеба проглотить не дают. . . Эх, кабы по-моему...
— И не было такого сборщика, чтоб с него подать взял, ну, не
было, и все! Был чех, был немец, был поляк — дерьмо, извините,
взяли. А вот явился мазур2 и разыскал-таки овчину под вишней. Да,
скажу я ва*м, мазур — беда, ему глаза выжги, и греха на тебе нет. . .
Все речи были обильны, но разлетались в разные стороны, как
подгнившие деревья в старом лесу. . .
В шум, гам и крики, в веселые жалобы скрипки врезалось пение
Ивана и старого Михаила. Они пели то, что подчас поют на свадьбах
подвыпившие старики, когда войдут в раж и заведут старинную. Слова
вырываются из глоток с трудом, точно у певцов не только на руках,
но и в глотках повырастали мозоли. Летят эти слова, будто желтые
осенние листья; гонимые ветром по замерзшей земле, они цепляются за
каждый овражек и дрожат изодранными краями, как перед смертью.
Иван и Михайло пели о том, как они догнали на кедровом помосте
молодые годы, но те не захотели вернуться к ним даже в гости.
Выводя своими ржавыми голосами высокую ноту, старики так
крепко сжимали друг другу руки, что суставы хрустели, а в самых
жалостливых местах склонялись один к другому, терлись лбом о лоб и
тосковали. Обнимались, целовались, били кулаками в грудь и по столу и
напускали на себя такую печаль, что только и могли вымолвить: «Ой,
Иванко, братец!», «Ой, Михайло, друг ты мой!»
VI
— Отец, слышите, на станцию пора, а вы распелись тут, как в
старое доброе время.
Иван вытаращил глаза, да так дико, что сын побелел и попятился,
а сам, опустив голову на руки, долго припоминал что-то. Наконец, встал
из-за стола, подошел к жене и взял ее за рукав:
— Эй, старая, марш айне, цвай, драй! Нарядимся по-господски да
пойдем в господа.
И они вышли.
А когда вернулись, вся хата зарыдала. Словно прорвалась туча слез,
нависшая над селом, словно людское горе дунайскую плотину прорвало —
Заседание
39
такой поднялся плач. Женщины заломили руки да так и держали их
над старой Иванихой, чтоб сверху что-нибудь не упало и не раздавило
ее на месте. А Михайло взял Ивана за грудки, очумело тряс его и
верещал, как полоумный:
— Коли ты хозяин, сбрось с себя эту рвань, а то надаю тебе
затрещин, как последней паскуде!
Но Иван не смотрел в его сторону. Он обнял старуху за шею и
пустился в пляс.
— Играй мне польку по-пански, деньги есть!
Гости остолбенели, а Иван тормошил жену, словно и не думал уже
выпустить ее из рук живую.
Вбежали сыновья и силком вынесли обоих из хаты.
Во дворе Иван все порывался плясать польку, а жена вцепилась
руками в порог и причитала.
— Я ж тебя исходила, я ж тебя протоптала этими ногами!
И все показывала рукой в воздухе, как глубоко протоптала порог.
VII
Плетни по обе стороны дороги трещали и падали: все село провожало
Ивана. Он шел со старухой, сгорбленный, в дешевенькой серой одеже
и все плясал польку.
Только когда все стали перед крестом, который Иван поставил на
бугре, старик немного пришел в себя и показал на крест.
— Видишь, старая, наш крестик? Там выбито и твое имя. Не бойся,
есть и мое, и твое. . .
Заседание
Выборные сельской рады 1 стекались в канцелярию. Каждый, прежде
чем войти, сморкался в сенях, вытирал нос полой кожуха и еще
подправлял ладонью. Так каждый выходил на люди. «Славайсу!» —
«Навеки слава», и садился на лавку у стены.
Радных собралось уже около половины, кто постарше, сидел ближе
к столу, а кто помоложе, те чуть подальше. В углу возле печи лежали
штабелем тюфяки, а рядом стояла черная жестянка. Это была больница.
Раз или два в год врач присылал в общину бумагу, что тогда-то и
тогда-то приедет в село, и войт звал к себе полицейского Тому:
— Придется тебе завтра прибрать в канцелярии, вон пришла бумага,,
что доктор приедет. Подметешь пол, посыпешь песком, разложишь на
йолу тюфяки, накроешь их мешковиной и польешь в углы вонючей воды
из банки — ну и отведем ему глаза. Есть предписание, чтоб был
холерный барак, ну и пусть будет.
Так полицейский раз или два в год делал из канцелярии больницу.
Сходясь после на заседание, радные чихали и говорили: «Ишь вонь ка-
40
Вас иль Стефаник. Каменный крест
кая.» le, кто служил в солдатах, замечали, что, верно, врач делал
«репарацию» и усыплял, оттого так и щекочет в носу. Один Павло ДзинЗ
чувствовал себя хорошо. Он всегда дремал на заседаниях. И радные
чихая от больничного зловония, говорили:
У Павла мозги помягче, мы только чихаем, а он и впрямь спит.
Надо сказать доктору, чтобы не усыплял радных, а то и рада будет ни
к чему.
Павло не возражал, только смотрел испуганными глазами на радных,
и лицо его еще больше темнело. Его все «держали за дурака» и всегда
смеялись над ним.
Теперь радные сидели на лавке и переговаривались — неторопливо,
с ленцой. Каждый расположился как ему было лучше, как привык. Иван
Плавюк, который сидел у самого стола и был всех старше, опустил
голову на брюхо, сложил руки как на молитву, сунул их меж коленями и
поплевывал, куря трубку. Так он и сидел, уткнув нос в ладони, а локти
в колени. Сидел и рассказывал о ярмарке.
— Нынче что за ярмарки! Евреи да господа все захватили. Кто
продает?— Еврей! А кто покупает? — Господа! А мужик только кое-где, да
и то продает что попроще. Теленка, коровку, это еще так-сяк, а волов
уже мало.
— Туго стало жить! Вот каждый и думает: куплю теленочка, выхожу,
запарю малость половы, брошу пару тыкв, может, знаете, и обернусь
как-нибудь. Тугие времена!
— И верно, что тугие. Бывало, встарь попы на народ покрикивали,
чтоб не пил да не ленился, а теперь, знаете, и не пьем, и не ленимся,
а грейцёриков не видать. Совсем дошел народ, на пасху редко у кого и
сало-то найдется. Так трудно стало грейцер добывать, ну, просто, как
из камня его высекаешь.
— Завекселевались совсем. Встарь и скотины такой, как нынче, не
было видно. Теперь скотина вся пегая — тирольская, а встарь была
белая. Я еще не так давно хозяйствую, а за женой взял волов белых, как
снег, рога в ворота не проходили. А бегут, бывало, что твои лошади.
В город водил не иначе, как под уздцы. То была, говорили, венгерская
скотина, а нынче, говорят, — тирольская. Так ведь та была куда дешевле. .
— Дешево продавали, дешево и покупали, а все лучше жилось. Да
разве только волы — свиньи-то прежде тоже были другие. Всяких, знаете,
мастей, и шерсть длинная, и ноги повыше, а теперешние все белые да
гладкие. Станешь на свином базаре, вокруг все словно белым цветом
усеяно. Одни пузатые мазуры расхаживают меж них.
— Разная, верно, бывает порода. А люди разве все одинаковые? Был
я как-то в Коломые, гляжу, идет, ну, ни дать ни взять, нечистый, господи
прости! И лицо и руки — все черное. Думаю: такой встанет ночью на
мосту, и каждому придется воду святить. Ей-богу. А говорят, и такие
люди под солнцем живут.
— "Да уж, это точно, что разная есть порода. Мой Василь служил
в Вене солдатом, так он рассказывает, видал таких свиней, что ни ушей,
ни пятачка, ни ног не видно — одна туша.
Заседание
41
— Всего на свете довольно, а бед больше всего. . .
Разговор прервался, потому что вошел войт.
— Что там в городе слыхать?
— С деньгами и в городе хорошо. . . Господа зайдут в ресторан, вижу,
пьют и едят самое что ни на есть лучшее, и деньги у них с собой.
Хоть бы на недельку в такого оборотиться!—говорил войт.
— Ну, это и у них как у кого. Есть такие, что на соломе спят да
зубами вшей щелкают. Жилетка на голое тело. Только грудь лоскутком
прикроет, и все — оделся. А иной и макуху ест с голоду, — сказал Проц,
когда-то служивший в имении.
— Был я у секретаря из-за выгона. Он крутил, крутил да и говорит,
что, мол, больно много в вашем селе газет выписывают. Это, говорит,
обман. Мужиков, говорит, очень уж много. Ежели хоть двадцатая доля даст
на газету по леву, так и то тьма тьмущая денег попусту этим газетчикам
идет. Какой-нибудь писака, говорит, все разукрасит, напустит тумана,
загладит, замажет, а глупое мужичье читает да облизывается: вот, мол,
господское поле крестьянам отойдет.
— А вы, верно, стояли да поддакивали?—спросил молодой радный
Петро Антонов.
— Нет, полез на него с кулаками за какого-то там мошенника!
Правильно поп из Грушевой говорил, что народ поддается на удочку всяким
пройдохам, а как что, тех и след простыл, а глупые мужики сидят по
тюрьмам. А мало народу побили да покалечили?! Вот не люблю, когда
суются! Что я, продал вас, изменил вам? Или локтями вперед
продираюсь? Выбираете, кого хотите, я в стороне.
— Вы бы продирались, да мы осаживаем! Вы бы еще и детям домой
колбасы принесли, — сказал Петро.
— Молчать, — заорал войт, — молчать, а то в кандалы посажу,
сопляк! Да что ж это, хозяева, что я с ним — свиней пас?
— Вы мне нос не утирали, а моя речь не хуже секретарской, вот и
поддакивайте, как ему.
Ссора переходила уже в драку, и в дело вмешался старый Иван.
— Ты, Петро, не заедайся, знаешь ведь, что младший должен перед
старшим смолчать. Люди разные. Один ничего не боится, а другой
боится. Я сам, хозяева, всегда за село стоял и стою, а на ваши собрания
ходить, вот ей-богу, нет охоты. Был я как-то осенью в городе. Встречает
меня лесничий и говорит: ходите на собрания, хоть под старость
поглядите, как люди решают дела сообща. А я ему говорю: ей-богу, нет охоты.
Оно вроде бы и хорошо, что сообща, община, как говорится, большой
человек, а только я не пойду. Я, говорю, вырос и поседел, а еще не про-
бсл в тюрьме и часа. Так теперь нужно мне под старость бесчестье?
Нужно мне, чтоб каждый мальчонка в селе пальцем на меня показывал:
вон дядя Иван, он в тюрьме сидел?! Не пойду и все! Никола мой ходит,
а я не пойду.
Кое-как старик уладил ссору. Только гнев не погасил.
— Мы вот болтаем да болтаем, а вы, войт, так и не сказали, зачем
созвали нас?—обратился Иван к войту, чтобы ссора не возобновилась.
42
Василъ Стефаник. Каменный крест
— Не стану я больше вас созывать, вот отбуду срок и плевать мне на
войтовство, пусть вами сопляки командуют!
— А вы думаете, не найдем войта? Да в нашем селе можно набрать
войтов на всю округу, — не спускал Петро.
— Тут вам что-то старший брат хочет сказать, — объявил войт.
— Вот не помню, не то в четверг, не то в пятницу прибегает ко мне
от писаря парень, — заговорил старший церковный брат Василь.—
«Я, говорит, видал, как старая Романиха несла от церкви доску».
Пошел я на следующий день к церкви, а там аккурат не хватает одной
доски. Это еще из тех, что остались от звонницы. Доски, правду сказать,
протрухлявили уже, а все-таки, как же церковное таскать? Да еще, знаете,
старая женщина, а на чужое зарится. Иду я к попу, рассказываю, а он
говорит, скажите на раде, а то что ж это такое — церковь обкрадывать!
Будь мое, я уж, пес с ним, ничего бы не сказал, а тут церковное, беречь
надо, — жаловался Василь.
Радные молчали, никто не мог и помыслить, что старая Романиха —
воровка. Никогда в селе не слыхано было, чтобы она чужое брала.
Через минуту вошла Романиха. Старая, ободранная, с посиневшим
лицом. Стала у дверей й быстро заговорила сквозь слезы.
— Украла я, мужички, эту доску, ей-бсгу, украла, чтобы знали, как
меня мой сын обихаживает! Да у меня в хате пучка соломы нет, чтоб хоть
подымить! Сижу на печи да замерзаю. На все село шью да пряду, пальцы
деревенеют. Глаза уже гноятся, едва зарабатываю шитьем на прокорм,
а на топливо-то ни денежки. Все сыну отдала, до крошки, оставила себе
один угол, а сынок и раз в месяц не наведывается. Вошел бы хоть разок,
окликнул бы: кто там, черт или бес, как поживаешь?! Нет и нет!
— Это все так, но — церковное красть? Вам уж путь не долгий, надо
и на тот свет с чем-то прийти. Вы старая женщина, не запирать же вас,
не бить же, — дайте лев на церковь и ступайте себе с богом, только чтоб
я не слышал больше ни о каком воровстве, — рассудил войт.
Романиха вскинулась, как ошпаренная.
— Да я помру, а лев не раздобуду! Ну где, где, где мне лев достать?
— Надо! — был ответ.
Радные молчали. Они слышали, что старуха бедствует, и знали, что
негде ей взять лев. Но ведь украла же все-таки, да еще церковное. Уже
подумали было предложить, чтобы давала помаленьку, по шистке *, по
две, но тут заговорил Петро.
— Я бы, люди, не стал наказывать бедную вдову. Не обогреется
церковь ее левом. Вот, говорят, в старину церкви проваливались, а на их
месте бескрайние озера разлились. Если набрать таких вот вдовьих левов,
кровавым потом добытых, да положить в церковную кружку, ни одна
церковь не выдержала бы вдовьих слез. Нет — не по правде это было бы.
Такой старухе церковь должна бы дать, а не отбирать у ней тот
холодный лев. Зашел я как-то к бабке за пряжей. В хате холоднее, чем у иного
хозяина в хлеву. На обрубке горит плошка с пшеничное зернышко —только
* Шистка — мелкая австрийская монета — шесть грейцеров. Синоним русского гропга»
Дорогой из города
43
и света. Бабка сидит и разминает пальцы, а они как деревянные. Не надо
брать с нее этот лев.
Войт злобно глянул на Петра. А у радных словно камень с души
свалился. Все в один голос заговорили, что не надо у старухи брать.
И старый Иван сказал:
— Боже сохрани!
Потом позвали сына старухи, и старый Иван принялся его стыдить:
— Парень, парень, да ведь она тебя на поле под кустом от жары
берегла. Обстирывала тебя, обшивала и плакала, когда ты в солдаты
пошел, а ты ей пучка соломы жалеешь? Эх, да будь я войтом, согнул бы
тебя в дугу! — говорил Иван.
Дорогой из города
Первый:
— Одного только холста после его смерти осталось кусков пятьдесят.
Такого богача поискать еще! Стога стояли по десять лет
необмолоченные— вот это был достаток! А денег? Да ведь покойный, что ни год,
продавал пару волов за четыреста левов. Где теперь те деньги, где то
добро? Неведомо кому и пригодилось. Пришла за тобой костлявая — ну
и бросай все.
Бывало, придем к нему христославить. Поколядуем, поколядуем, а он
выходит да и «заходите, братия, в хату, поблагодарю вас за колядку от
души». Входим, усадит нас за стол, и говорит: «Не обессудьте, не будь
я одинокий, жена б угостила вас, а так пусть она с богом почивает на
кладбище, а вы уж простите». И сам, бывало, угощает. Выложит караваи,
что твое точило, да все белые, словно из покупной муки. А сало с ладонь
толщиной. Такого сегодня не увидишь и у мясной торговки. И уж водки —
хоть залейся. Бывало, пьем, едим, а он угощает, как на свадьбе: «Пейте,
братия, не хватит, еще принесу, вы уж напейтесь у старика!» Ну, мы пьем,
а сами все ему колядуем:
Будь здоров, Максим, друг наш дорогой! Воскресным,
Воскресным утром зелен виноград сажали.
Чтоб тебе всегда счастливо жилось! Воскресным,
Воскресным утром зелен виноград сажали.
Честный, радушный, богу послушный, воскресным...
Споем, а он выпьет с нами рюмку и утирает слезы. «Когда, говорит,
жива еще была покойница, так вы колядовали и ей, а теперь вам некому
заколядовать, а мне никто и рубашку не постирает. Я, говорит, не знаю,
куда и голову приклонить, в каком углу притулиться». И как примется
рассказывать, что все один да один, ну, прямо слеза прошибает. Так мы
не раз сидели у Максима часа по три. Бывало, соберемся уже идти, а он
не пускает. «Есть, — мол, — у меня и поесть, и выпить, как говорят, и
хлеб, и к хле5у, — так гуляйте еще, пока можно, а то, когда умру, не
Василъ Стефаник. Каменный крест
придется здесь гостевать. Только меня землей закидают, мой Тимофий все
спустит, до последнего. Я, говорит, стар врать, а вы, молодые,
поживете— увидите». И ведь гляди — так и сталось, как покойный предсказал,
В τ ο ρ с й:
■— Как-то пономариха на прополке рассказывала, что не любил он
в корчму ходить. Только, говорит, раз или два в год наденет кожаный
пояс расписной, положит в заначку пятерку, и айда в корчму! Шел он
туда и впрямь с неохотой, но уж как пойдет, то и сороки с воронами
напьются, все пьют, кто и не хотел. А после полуночи возвращается домой
под мухой. И уж тут, говорит пономариха, все соседи знали, что Максим
домой идет. Станет, бывало, у себя в воротах и кричит: «Все запишу на
сирот, на бедных, а ему не дам и нитки вокруг мизинца обвить!» И сядет
на завалинку. Пьяный он никогда не заходил в хату — летом ли, зимой,
все спал на завалинке. Рассказывают, будто корежила и ломала его там
нечистая сила. Стонет, стонет, бывало, как скотина, а потом подхватится
и давай бегать вокруг хаты, бежит и орет: «грабители, воры, куда мое
трудовое растаскиваете?!» Схватит дубину и гоняется по двору, как пес
за жуликами. Да недолго, глядишь — уже снова дремлет на завалинке,
Минуты не прошло — опять визжит, так что ушам больно: «Ты куда,
паршивец, корову из сарая выводишь?! Укокошу!» И снова носится, как
очумелый, по двору. Так вот, рассказывала пономариха, и носило его, и
гоняло всю божью ноченьку. Спит на завалинке, а сам сквозь сон
выкрикивает: «Ишь, ишь, описали, печати ставят, с молотка пустили уже!»
Видно, правда, что нанял он черта смолоду. Он и скотину заговаривать
умел, недаром у него коровы молока давали по целому подойнику.
Третий:
— Тут вскоре после его смерти захворал у меня малец. Думаю,
надо ж лекарство искать какое-никакое! Умрет, бедняга, хорони его
неведомо в чем да на что. Я и пошел к нашей знахарке, к Касьянихе. Явилась
она, чин чином, пошептала над мальцом, ну и, знаете, села — давай
рассказывать. Она ведь как почта — ходит по селу и все знает, где что делается.
Ну и говорит жене, что, мол, «за неделю до смерти был у меня Максим».
Слушаю и я. «Еще, говорит, и не рассветало, как пришел. Слышу, дверь
скрипнула. Вскочила, думаю, зовут к роженице. Глядь — а это старый
Максим. „Ты, бабка, говорит, спишь еще, а уж на дворе день". Ну, какой
уж там, говорю, день! Сел он на лавку, а на самом лица нет. „Ты, говорит,
знахарка, так растолкуй мне, сон. Как раз, говорит, в полночь приснилось
мне, что выхожу я, будто, во двор, а с юга такая идет черная туча, что и
По краям сине! Ну, думаю, ударит сейчас град и весь хлеб побьет!
Вернулся в хату, вынес кочергу с лопатой и выложил крест. Только
выложил я его, гляжу, а ив-под угла хаты вода сочится. Стал я в удивлении.
Э, да она из-под второго, из-под третьего — из-подо всех углов бьет, словно
там ключи всюду. Испугался я. Глянул на ток, а и там везде норы, как
на лугу. Побежал за лопатой, давай спускать воду в пруд, а она мочит
снопы, подмывает сараи. Откидываю я снопы, вспотел весь — и проснулся.
Ты знахарка, так растолкуй, говорит, мне сон, к чему бы они, ключи эти?"
Что я ему сказала, говорит Касьяниха, то сказала, а только он черев
Дорогой из города
45
неделю помер». Да уж, помогла Максиму эта ведьма, как моему мальцу.
Покажись она только — пришибу, как суку! И деньги взяла, и водки
выпила, а малец — трех дней не прошло — протянул ноги!
Первый:
— То и знак, что был колдун, как наколдовал, так все и исполнилось.
Теперь на его дворе в самый раз объявиться ключам. Ни хлеба в скирдах,
ни скотины, все Тимофий спустил. Пошло все добро, как с горы.
Второй:
— Так ведь он, знаете, при жизни-то невзлюбил сына, слова доброго
ему не сказал, а тот, как дорвался до наследства, такого напутал, что и
не разберет никто. Банки там всякие, векселя и все такое. Гниет на пню.
И ведь, знаете, не пьет даже Тимофий-то, а все сквозь пальцы уходит
Бог его знает...
Третий:
— А слыхали, какая у Тимофия с женой морока? Ей-богу, добивает
уже ее. Еще осенью приехала к нему комиссия из банка и говорит давай
деньги, не то пустим все с молотка. Он вертелся, вертелся, да за женину
долю. А та, глупая, и подпиши у нотариуса, что отдает свою землю на
продажу. Вроде, говорят, получила вексель за то, а теперь ей тот вексель
боком вылазит.
Первый:
— И правда, что глупая! Вторая жена, и детей нету... Да приключись
что с мужем, — и конец, марш, милая, под чужой плетень милостыню
просить. Дети от первой жены сразу погонят. Ищи потом управу на них,
неведомо где и с чем...
Второй:
— Она, говорят, отдала тот вексель брату, а тут приходит срок
платить, ну и прижали. Так у них теперь такой крик, что и птица не сядет на
стреху. Как дознался Тимофий, что вексель уже в городе, да как
примчался туда — и лошадей не распрягал, а прямо в хату и к жене.
— Где вексель?
— Ой, я дала брату.
— Так у тебя брат мужем или я? — И давай бить. Бил, бил, ребра
поломал. Совсем рехнулся с этим векселем.
— Клади, говорит, голову на порог — отрублю. Ты пойдешь сырую
землю есть, я — на виселицу, а дети — корчмарям воду носить.
А она молит, просит:
— Ой, говорит, муженек, да будь у нас хоть один ребенок! А то
с тобой что станется — так мне по чужим углам куковать?
— Ну и кукуй, как глухая кукушка, пока в гроб не загоню.
Легли спать, он с краю, а она к стенке. И каждый час он вставал и
бил. Говорят, живого места не оставил. А утром она хотела бежать, так он
поймал, привязал и месил каблуками, как глину. Сохрани бог от такого
побоища!
Третий:
— Совсем спятил человек. Поутру отвязал ее, велел надеть празднич*
ное и поволок, душегуб, всю избитую в другое село на престольный празд·
46
Василъ Стефаник. Каменный крест
ник. Люди рассказывали, она там сняла киптарь, а сорочка вся в крови!
Обступили ее женщины, спрашивают, что с нею? А ока, бедная, в слезы!
Все на празднике уставились на нее, как на чудо. А Тимофий встал из-за
стола и «марш, говорит, жена, домой!» Так и попраздновали. Как домой
вернулись, один бог знает.
Первый:
— Катятся, ровно их кто в пропасть толкнул.
Второй:
— Да, знал покойный Максим вещее слово. Гляди — и в хозяйстве
одни ключи сочатся, и у снохи с плеч бьют...
Третий:
— То же знал, что и мы. Разве другие хозяйства не так же пошли
с молотка? Один он что ли? Вон у вашего отца была еще и земля, и волы,
а вы уже на заработках.
Второй:
— Ну были, а что с того? Ну что, что? Вот и добрались мы до села.
Рот то да се, тары да бары, а ноги, бедные, идут. А вы завтра куда?
Первый'.
— Да в имение!
Второй:
— А я к этому паршивцу Срулику, будь он неладен. Еще с лета
задолжал ему.
Третий:
А я к попу...
Сочельник
Старуха, синяя, как пуп, сидела на печи посреди кучи тряпья и, не
переставая, билась головой об стенку. На приступке печи сидел сын.
— Топлива взять негде, хоть продайся, украл бы, так ведь заберут.
Так что сидите на печи, кутайтесь, как можете, в лохмотья и ждите тепла.
У меня малые дети и те, горемыки, стынут на морозе. Вот принес вам
хлеба и глоток водки, да белую сорочку, ну и празднуйте по-божески.
Может, и люди еще что принесут. А головой об Стенку не бейтесь, ничего
не добьетесь все равно.
— А что же делать, сынок, коли не под силу мне выдержать такой
мороз, такую стужу! Кости насквозь прохватывает. Потому и бьюсь
головой об стенку — без этого закоченела бы.
— А ноги все болят?
— Ноги, сынок, как бадейки набухли: ни согнуть, ни разогнуть.
И она показала ноги, синие и блестящие, как стеклянные столбы.
— Не под силу мне ночи ночевать, уж такие они долгие, такие долгие,
словно десять за одну. Все молитвы прочитаю, всю жизнь вспомню,
с самого детства, и никак дня не дождусь. До чего ж горько одной в этой
студеной норе!
Сочельник
47
— Хоть бы господь смиловался, не дал бы вам долго мучиться да
гнить в немочи, хоть бы прибрал вас поскорее!
— Ох, сынок, я уж эту смерть как маму родную жду! По ночам во
все углы глаза таращу, не покажется ли? Говорят, как покажется, так,
стало быть, скоро придет. Да нет, — не показывается.
— Придти-то смерть придет, только когда? Ну, там лошади стоят,
скиньте нестираную сорочку, надену на вас чистую.
— Я, дитятко, озябну в чистой-то сорочке. Я рада, что в этой
угрелась, вшам и то рада — как говорят, хоть укусит, а все потеплей!
— Вы уж, я гляжу, на чужих порогах весь ум растеряли — ну как же
в таком вшивом отрепье — на рождество!
И он натянул на мать чистую сорочку.
— Не дальний, видно, вам путь — кожа да кости. Поскорей бы!
— Вот и я, сынок, говорю — поскорей бы!
— Ну, доброго вам праздника!
— Иди, иди, ты, чай, на службе.
Бабка на печи дрожала от холода и билась головой об стенку.
— Хороший у меня сынок, слава богу, ходит, не забывает. Никогда
не стыдился, что мать с сумой пошла. Дай тебе бог всякого добра,
сыночек!
И благословила его рукой.
А потом легонько тыкалась головой в стену, словно радовалась тому,
что у ней хороший сын.
— Славайсу.
— Навеки слава.
— Я вам, бабушка, принесла тут сладкой пшенички и теста,
помолитесь за мою Марию.
— Спасибо, милая, я помолюсь за Марию.
И она крестилась синими руками.
— Славайсу.
— Навеки слава.
— Принес вот пирогов, а вы за мою первую помолитесь.
— Спасибо, Андрий, я помолюсь за твою Катерину.
И она шептала молитвы.
— Славайсу.
— Навеки слава.
— Я вам, бабушка, рыбки принесла, а вы за нашу маму поклоны
отбейте. У людей праздник, а у нас так, ровно бы тело еще на лавке
лежит, — все плачем. Еще прошлый сочельник она нам ужин варила.
— Я, сиротки, отобью поклоны за вашу маму.
Девушка в слезах вышла, а старуха, сдув пыль с печи, целовала землю
и била земные поклоны.
Много, очень много мисочек принесли люди.
Вечер смыкал глаза, и бабки уже не было видно, только молитвы ее
разносились по углам.
Ветви груши стучались в окно, и стекла звенели.
48
Василь Стефаник. Каменный крест
— Колядуй, христославь мне, грушка, а то никто мне нынешний вечер
не заколядует, такой большой праздник, а колядуешь бабке ты одна.
В руках у старухи бутылка водки.
— Я буду водочку попивать, а ты мне поколядуй и сыну моему поко-
лядуй — он своей мамы не гнушается.
Она отпила.
— Не будь его, меня бы нашли только весной, когда вонь с печи
долетела бы до самой дороги.
Она отпила еще.
— А ну вон ту, грушка, бабью:
Радость нас объяла, какой не бывало,
Над вертепом ярко-ярко звезда засияла. ..
Она дребезжащим голосом спела всю колядку.
— Теперь весь мир, весь род людской колядует и веселится,
а я с грушкой, мы обе. А вот эту, грушенька, старинную, моему Митру:
Желаю тебе счастья, здоровья! Подули,
Подули ветра, нагнули явор, нагнули...
Старуха выводила с визгом, словно с нее живьем шкуру драли.
— Мой вот эту любил. Видишь, старик, как я тут без тебя пью, гуляю
да колядую. И грушка твоя со мной колядует. Ох, уж я теперь с тобой
ни-ни! Я уж не твоя...
Она отпила еще.
— Ох, не твоя! Я без тебя управилась, сшила суму да и пошла
просить. Перешагнула с сумой за твой порог, и теперь уж не твоя, все.
Она отпила еще.
— А как я вышла, Михайлик, первый раз с сумой на дорогу, слышу,
словно бы ты в гробу перевернулся, и так мне стало стыдно, так на свет
белый глядеть срамно, что вернулась в хату. И молилась, нищенка, дома
у тебя. Вот какую ты хозяйку оставил.
Она отпила еще.
— А теперь меня собаки во всех селах знают, муженек, и я их твоей
палкой отгоняю. А на подаяние выкормила сына. Он маме теперь и
поесть принесет и сорочку наденет маме на плечи, не стыдится мамы. За
него тебе все грехи простятся, за него одного. За него, не за меня.
Она уже совсем опьянела.
— Пьяна я, старик, совсем распаскудилась! Увидел бы меня теперь —
вот бы душеньке утеха! Уж так бы меня костерил, уж так лупил бы!
За косы, да голову между колен, да смертным боем! Бей нищенку за то,
что твою память по дорогам с сумой разносит! Бей как суку, бей, чтоб
она не таскала тебе выпрошенных кусков домой!
Она допила водку.
— Придави-ка свою хозяйку коленом, да за косы ее, попрошайку.
И она неистово колотилась головой об стенку.
— Так ее, так, пускай подыхает, кусошница!
Дети
49
Дети
Старик положил грабли, опустился на межу, закурил трубку, и
мысли его побежали наперегонки. А потом он заговорил так громко,
что слышно было за четыре поля.
— Хоть малость отдохну в покое, дома только покажись, сразу
найдут деду работу. Сношенька, дай бог ей здоровья, — круть-верть —
и тотчас визг подымет: «Нечего, мол, сидеть...» А я, видит бог, едва
ногами перебираю. И руки вон скрючило, месяц уже небритый хожу,
а в церковь позабыл и дорогу. В чем пойду, когда все посдирали
с плеч?
Голос старика разносился по всему полю, так что все оборачивались.
А он, не переставая, жаловался:
— Ох уж, нынешние дети! А только я еще, слава богу, в полной
памяти, помню еще, об чем у нотариуса беседу вели. Сухонький такой,
с бородкой, все растолковал сыну. Старику, говорит, пока жив,
надлежит спать в своей постели, пусть отлеживается хоть до восхода
солнца. Только как положите его в могилу да засыпете землею, тогда
уж перебирайся на его постель. А бабка, говорит, пусть лежит на своей
печи, пускай там греется и молит бога, и только как уже обмоете ее и
руки сложите на груди крест-накрест, вот тогда пусть сноха лезет на
печь, тогда печь станет ее.
Осенний ветер играл седыми волосами старика.
— Вот бы нотариусу заглянуть вечером к нам в хату. Сын в
постели, сноха на печи, а мы со старухой на земле, на соломе валяемся.
И это — по правде? А бог где же? Нет у этих людей бога, ох, нет...
И он покачивал головойу в знак того что нет у молодых бога.
— Сдыхайте, старые, для вас и ложки еды жаль. Молочко пьют,
творожок едят, а мы глядим, как щенята. А я им коровку дал, овечек,
плуг дал, все дал. Как люди дают, так и я дал. А нынче они говорят нам,
что, мол, вы старые, слабые, ну и ешьте поменьше. Вот как нам дети
говорят.
Голос старика дрогнул и прервался.
— И похоронят, как псов, в сапог ногу не обуют. ..
Стая аистов спустилась на камыши и так захлопала крыльями, что
дед напугался. Птицы собирались в теплые края.
— Ого, уже осень. А там, глядишь, и до рождества недалеко.
Надо же, какая птица умная, только что не говорит. Вот стало ему худо, —
ищет где получше. Зимой лягушек нет, холодно. А он знает наперед.
Не как человек — тот, хочешь не хочешь, а коротай век на одном месте.
Старик встал, спрятал трубку, взял грабли и пошел домой. Шел и
все оборачивался на аистов. И в конце концов остановился.
— Кто бы мне сказал, дождемся ли мы с бабкой, пока они вернутся?
Нет, верно, кому-то из нас каюк, не увидать больше аистов...
4 Василь Стефаник
50
Василь Стефаник. Каменный крест
Подпись
Маленькая Дотя ходила вдоль длинного стола по лавке за плечами
мужиков, писавших свои имена. Каждый с образца. Все эти писцы
укладывали грубые руки так и эдак, прилаживаясь, с какого бока лучше всего
начать. Все так напирали грудью на стол, что доски скрипели. Обучение
шло тихонько, только слышно было причмокивание, когда мужики
слюнили карандаши. А белобрысая Дотя заглядывала каждому через плечо,
проверяя, так ли пишет.
— А ну, Дотя, погляди, как выходит?
— Топорщится еще, как нечесаная пенька. Пишите еще.
И спрашивающий слюнил карандаш и принимался писать снова.
— Глянь-ка на мое, я уж его второй вечер чешу, даже грудь больно.
Почитай-ка, что я написал.
— Павло Лазыренко.
— Аккурат я. И так оно там стоит, что каждый узнает?
— Кто грамотный — узнает.
И Павло, покраснев от удовольствия, долго осматривал карточку со
всех сторон.
— А ну-ка я его еще раз!
И он снова склонился над столом и снова послюнил карандаш.
Дотя гордо расхаживала за плечами мужиков, а мать смотрела на нее
с печи и приказывала ребятишкам не верещать, чтоб дяденьки не
наделали ошибок.
Старый Яков Ярымов сидел на лавке и взирал на этот урок с
величайшим удовлетворением. Наконец, не выдержал и заговорил. Два часа
смотрел, не отрываясь, и вот не утерпел-таки.
— Эй, люди, оставьте малость на завтра — того и гляди от натуги
груди полопаются.
Мужики подняли головы и смотрели на него, как пришибленные.
— Это я вас добром наградил, меня благодарите, а Доте купите
подарок.
— Кто ж вас надоумил?
— Беда надоумила меня.
— Какая беда?
— Векселя.
И старый Яков принялся в сотый раз рассказывать, как это было.
— Ради водки, сами знаете, я бы землю в банк не заложил, за это бог
накажет. А это меня старуха из дому выпихнула.
— Как так старуха?
— Вы вот и молодые, и грамоте, вижу, обучаетесь, а не знаете
ничего. Выходит она раз из чулана и говорит: мука, старик, вся, осталось
в мешке на две миски. А я подумал, подумал, и айда в город просить
сотню в ссудном банке. Прихожу, знаете, в этот банк, так и так, говорю,
детям есть нечего, прошу, пане, Еашей и божией милости — дайте сотню
&В&ЙЫЫ.
Подпись
51
— Земля есть?
— Есть, пане, без земли нынче никто не даст.
— А записана на тебя?
— На меня.
— Не заложена?
— Все как есть чисто.
— Долги есть?
— Да есть не то чтобы должок, так, мелочь. Этой сотни и на хлеб
детишкам хватит и заемщикам заткну рты.
— Что ж, неси бумаги, пойдешь на заседание.
— Когда же приходить на заседание?
— Вот поговори с мужиком, — тебе на заседание не надо, только
бумаги давай.
— Простите меня, пане, я не понял. А бумаги — вот они. — Вынул
из-за пазухи, подаю. — Там, говорю, все, я все писанное разом складываю.
Я, видите ли, ничегошеньки в том не смыслю, вот и держу все Еместе. —
Перебрал он, нашел, что ему надо, и говорит: — Через неделю приходи.
— Ходил я раза три, наконец, говорит, — постановили дать мне
деньги.
— А писать, старик, умеешь?
— Где уж там! В школе меня не учили, в солдатах не служил, слепой
совсем.
— Тогда придется тебе подписываться у нотариуса.
— А я поставлю своей рукой знак, крестик, а вы подпишите.
— Нельзя, говорит, ставить на векселях кресты.
Одолело меня тут раздумье. Это выходит — возьмут вступительный
взнос, отберут проценты, да еще нотариусу плати. Эдак у меня от того
капитала мало что останется.
Пустился я по городу за поручителями да и встречаю сапожника
Ляпчинского, ворюгу. Он, беда, вечно шныряет по улицам. Остановился
я с ним, рассказываю свое горе.
— Мужик — дурак, — говорит он, — всю зиму гниет, как колода,
а свое имя подписать не выучится.
Ну, думаю, хоть ты и ворюга вечный и подлипало, а дело
говоришь, — и бегу дальше.
Привел поручителей, подписались у нотариуса — глядишь, в сотне
тринадцать левов недочет.
Несу я деньги домой, а сапожник из головы не выходит. Вор-то он
вор, а слова сказал верные. Дерут с нас шкуру, как с вола. Вот взял
вроде бы сотню, а домой что несешь?
На этом месте Яков всегда плевался, сплюнул и сейчас.
— Каждый хочет руки погреть, каждому даровщинку подавай, уж так
туго стало, так туго!
Спрятал я деньги в сундук, а сам — к Доте. «Научи, Дотька, деда
фамилию писать, чтоб он не набивал господам глотку, она у них и без
того набита. . . А я куплю тебе платочек. . .»
4*
52
Василъ Стефаник. Каменный крест
И научила, а в селе как услыхали, давай над дедом смеяться. А
пришлось круто, да понадобилось подписывать векселя — все потянулись за
дедом к Доте. Это я вам путь показал, как деньги не тратить попусту.
— Больше не потратим, — отвечали мужики, — спасибо вам и Доте,
учительнице нашей. . .
И чтоб каждый принес ей подарок!
— Само собой. . .
Дотька сидела на печи довольная, и мать ее улыбалась.
Поле
Такое оно длинное, такое широкое, что и взглядом не окинуть. Плывет
на ветру, утопает в солнечных лучах. Заливает мужицкие полоски. Это
поле — оно словно широкий длинный невод. Того и гляди, выловит все
полоски, как мелкую рыбку.
Шелестит на нем сухая картофельная ботва. Под кустом — маленький
ребенок. И еще хлеб, и огурчик, и мисочка. Черный кузнечик прижался
было к ножке, но тут же удрал. Зеленый держится поодаль. Медяная
жужелица торопливо оббегает маленькое тельце.
А ребенок плачет в шелесте ботвы. Вот повернулся и упал. Упал
ротиком в куст. Бьет ножками, тужится и помаленьку синеет.
А среди перекопанных кустов спит мать. Ноги — сплошная рана —
так искалечены, ссажены, побиты. И сама, как камень, привязанный
черными волосами к черной земле.
Солнце радо бы всю силу на ее лицо положить. Но не может поднять
ее и за тучу заходит.
Черный ворон взвился, кружит, кружит и крячет.
Наконец женщина вскочила. Прислушивается, прислушивается.
— Что же это я! На работе спать?!
Взяла лопату и копает, раскапывает кусты один за другим.
— Хорошо, что спит. Экая мука, экая мука ему, да и мне с ним.
А заработать надо — зимой никто не даст.
Нагнулась и копает, быстро, проворно. А тот куст обходит. Только
и покою, пока спит. ..
Письмо
Политическим заключенным — крестьянам на рождество
В хате так светло было, что бабка Грициха видела каждый палец
Иванка на стене.
Солнце спускалось сначала на лес, который стоял на горе против хаты,
на его ветвях оставляло все свои сверкающие драгоценности, а уж лес
»шл лучами в окна.
По
53
Титул первого русского издания рассказов
54
Василъ Стефаник. Каменный крест
И так много было в хате этих лучей, что бабка видела каждый
пальчик внука на стене.
— Эй, Иванко, не смей больше лазить на лавку! Гляди, что сделал
со стенами. По полу бегай.
Иванко бегал от порога до стола, возил на нитке катушку и говорил
бабушке:
— Не бойтесь, ей-богу, не буду больше.
Возле бабки на печи сидела маленькая Марийка с косичкой, как
мышиный хвостик.
«Боже, боже, уж как народу стало трудно жить, а подойдут
праздники — веселятся люди!» — думала бабка.
Морщинистое лицо, синие губы, сухие руки, седой волос — вот какая
она была.
— Бабушка, к нам дядя Василь идет с Николой Семеновым, с тем,,
что в школу ходит.
— Вставай с пола, беги к бабушке на печь.
В хату вошел Василь со школьником.
— А у вас, мама, на печи рождество? Дай бог вам счастья, здоровья,,
дай 6οι еще пожить с нами, — поздравлял сын мать и целовал ей руку.
— Ой, сынок, не рождество у меня в голове! Я, дитятко, все дни
плачу, и в праздник, и в будни, — отвечала старуха, и на глазах у нее
показались слезы.
— А я к вам — письмо от Федора почитать. Вчера пришло на почту.
Вон Никола прочитает.
— Что же он пишет, здоров ли?
Василь вынул из череса * письмо, подал школьнику, и тот стал
читать:
«Любимый мой брат Василь и вы, мама!
Кланяюсь вам на рождество и поздравляю с праздником. Спел бы
вам, мама, колядку из тюрьмы, да боюсь, что ветер мою коляду в чаще
обронит и вам под окна не донесет».
Старуха-мать облилась слезами, а Василь молчал.
«Тут арестанты как заколядуют — сырые стены рассыпаются,
ржавчина с решеток облетает. Как заведут в голос, так и надзиратели
заслушаются. А в неволе коляда печальная, страшная. Ночью я все-все
вспомнил про коляду. Как еще мальчишкой ходил христославить, как вы, мама,
просили у отца, чтоб пустил меня колядовать, и как мы потом, парнями
уже, ходили колядовать со скрипкой. Вырастем, бывало, под окном, как
лес. Поем, а скрипка плачет с нами, словно малый ребенок. Мы пуще,
а скрипка ровно плачет, и никогда мы ее не могли переколядовать. Вот
и сейчас слышу, как та скрипка плакала, будто рядом она плачет. . .»
— Ой, сынок, сынок, осиротил детей, — шептала старуха.
«А порой, мама, так мне страшно в этих стенах, что не могу я
улежать один на койке, — умер бы, — а иду к соседу. Как вспомню, что
Настя из-за меня сошла в могилу, а дети теперь совсем сироты — кровь
* Черес — кожаный пояс с карманом — принадлежность национального костюма гуцула.
Вечерний час
55
из живого сердца сочится. А сквозь решетки видны звезды. А я смотрю,
как они, которые побольше, меньших за собой ведут, да и думаю на
большую, что это Настя, а на маленькие, что это Марийка идет за нею, а то
Иванко, а то Василько. . .»
— Ой, сынок, не убивайся ты так! — крикнула старуха, словно Федор
не писал, а говорил ей это.
«И все видятся мне Настины похороны. Идете вы, идут дети за
гробом, идут люди. А ветер хоругви заносит, да все спрашивает· „А муж
покойницы куда девался?" А изодранная хоругвь говорит ему: „В
Станиславе, в тюрьме!"»
— Ой, заточили тебя, сынок, в неволю! — вздыхала старуха.
«Я думал неправду корчевать, а они меня самого вырвали с корнем,
жену убили и детей оставили на произвол судьбы. Ты уж, Василь, и вы,
мама, присмотрите за моими детьми. Чтоб вымыть им голову в субботу,
а в воскресенье дать чистую рубашку. Чтоб не ходили грязными, не
завшивели. А пуще всего, мама, глядите за меньшенькой, Марийкой, чтоб
она, маленькая, не слюнявила рубашонки, не плакала бы, а то слюна
в грудку въедается. Ведь, знаете, как сиротка плачет, так и все ангелы
с нею. . .»
— Расчесываю я твоих детей каждую субботу, а рубашки стираю им
каждую неделю, и роняю на воду горькие слезы, — отвечала мать.
«А ты, Василь, смотри за моими ребятами. Не пускай их в мешковине
под дождь, а пошей им курточки. Учи их уму-разуму, как я бы учил, и
не допусти, чтоб пошли побираться. Выведи их в люди, да накажи, чтоб
не забывали отца с матерью, отец у них не бездельник был, а стоял за
свое право. ..»
— Не пущу я, Федор, твоих детей побираться, а буду учить их, как
родных, — отвечал уже Василь.
«А ту полоску, что с краю поля, засейте пшеницей, это хорошая
полоса, недавно унавожена. И не давайте моих детей в обиду, мне уж,
я думаю, никогда не выйти отсель. Да пишите про все, что делается дома.
Кланяюсь тебе, брат, и вам, мама, и детям моим.
Федор».
Старуха плакала навзрыд и дети с нею.
— На-ка тебе грейцер, на-ка, не плачь. Вот слышишь, папа велит,
чтоб ты не баловал да слушался бабушку, — сказал Василь Иванку и дал
ему новенький грейцер.
Вечерний час
Ему не сиделось, так и тянуло шагать от стены к стеке. И он ходил
и ходил по комнате. Углы и обстановка расплывались и погружались
в вечерний сумрак, а в голове все явственнее вставали образы былого.
В эти минуты дети выбегают на выгон и весело, возбужденно играют
там. В эту пору девушки не хотят гнать скотину домой, потому что, ге*
56
Василъ Стефаник. Каменный крест
ворят, будто когда восходит вечерняя звезда, голос по росе стелется, — и
они поют, чтоб голос стелился. А зимой матери прядут кудель и поют
песни своего девичества, да так грустно, словно тоскуют по молодости.
Дети сбиваются в кучку и шепчутся на печи, а потом засыпают без
ужина. Всех чарует вечерний час.
Он ходил и потирал лоб ладонью, словно хотел запереть все свои
мысли в голове, и не выпускать оттуда, а снова и снова передумывать.
— Любопытно, что он сейчас делает? Такой был добрый товарищ.
Хорошо помню, как мы раз сидели у него в саду. Верно, это тогда он
рассказывал про белые облачка. Вот движется по небу белое облачко, с
золотыми краями, говорил он, и оставляет позади себя белые лилии, а само
все спешит дальше и сеет, сеет цветы по синему небу, — а через час нет
уже ни лилий, ни облачка. Только голубое небо зыбится, как голубое
море. Правда, он тогда грустил.
Он ходил, а глаза у него становились добрыми, как у ребенка,
— Ну вот, позабыл конец. Забываю уже мамины песенки. А еще
недавно помнил. Сейчас, сейчас. Я пас с Марийкой овец в поле возле поймы.
Марийка вышивала себе рукава фасольками. Фасольки вышивала
красным, черенки — синим, контур обводила черной шерстяной ниткой. Мне
доводилось выгонять из посевов овец, потому что Марийка была
старшая. А белоголовая овца такая пролаза, не пропускала ни одного колоска.
Но я снял пояс, и мы ее спутали. Хорошо было. Я бегал распоясанный
под вербами и свистал, и гикал на все поле. А потом Марийка звала
меня есть. Ели мы хлеб и творог с капустного листа.
Он уже сидел в кресле, и воспоминания детства уносили его, как сон,
в цветущие поля, где цветов уйма и можно рвать их и рвать. . .
— А потом пришла мама. Она возвращалась с поля — носила
работникам еду. Она дала нам молока и осмотрела Марийкины рукава. И
наказывала Марийке никогда не шить в три нитки, а только в две, а то фасольки
выйдут толстые. А мне говорила, чтобы не катался с горы, а то порву
рубашку и живот себе покалечу: «Ты, парень, не носись по полю, как
конь, а сиди возле Марии да приглядывайте за овцами». Я лежал возле
мамы и колотил ногами по траве, а мама говорила: «Ты ни минутки тихо
посидеть не можешь?» И тут на болотце возле нас спустился аист. Мама
подняла меня, усадила на колени и запела:
Ой, не коси, аист, сено,
В лугах росы по колено.
Пускай его чибис косит,
Он набекрень шапку носит.
Он силился вспомнить окончание песенки и не мог. Глаза стали
грустные.
— Сейчас, сейчас. Мама ушла домой, а я до вечера бегал за аистом
и припевал: «Ой, не коси, аист, сено. ..»
Он разбегался, как мальчишка, который хочет перепрыгнуть через
овражек да все останавливается на самом краю. Громко повторял первые
Вечерний час
57
стихи песенки и не мог дальше припомнить. Вздохнул и темные круги
под глазами стали еще темнее.
— Боже мой, не в силах я уже надвязать оборванную нитку! Она
тогда уже оборвалась, когда мама мыла мне ноги и драла старую
рубашонку на чистые онучи, а папа чистил сапожки. Все мы тогда плакали,
потому что меня посылали в мир учиться. А потом я бродил в этом мире
и гнулся ради куска хлеба, как лоза, и выносил на себе сотни
презрительных взглядов.
Он махнул рукой, словно хотел отогнать от себя эти презрительные
взгляды.
— Много лет спустя я поехал к маме. Отца уже не было в живых.
Сгорбленная, старая, она сидела с палкой на завалинке и грелась. Сперва
не узнала меня. А потом: «Умерла, сынок, Мария наша. Я тебе не писала,
чтобы не горевал. Как умирала, все о тебе расспрашивала. Мы ее
обманывали, что ты приедешь. А в последний день перед самой смертью ей
все хотелось хоть через окно, хоть на пороге увидать тебя. И умерла».
Так вот и рвалась та нитка. . .
Он все бессознательно повторял мамину песенку: «Ой, не коси, аист,
сено. . .»
— Пошли мы с мамой на кладбище. Мама едва добралась. «Вот,
сынок, Мариина могилка. Я уж тут и руты насадила, и барвинка, и крест
мне покрасили, только вишенки еще нет, осенью посажу». Сели мы возле
могилы, и мама рассказала мне о Марийкиной беде. Муж был дурной,
дети малые, в хате нужда. Ветер сдувал с вишен белый цвет. Цвет падал
на нас и на могилу. Казалось, этот цвет срастается с мамиными белыми
волосами, а роса с него капает на ее щеку. А я вспоминал, как мы с
Марийкой пасли овец в поле. ..
Горячие слезы капали на стол.
— А потом мама умерла. Могила ее недалеко от Марииной. Цвет
с маминой вишенки падает на могилу Марии, а с Марииной на мамину.
Был я там раз. Сидел между могил, и вспомнилась мне мамина песенка.
Да вот конца никак не вспомню. Посидел и пошел с кладбища. Только
вишневый цвет с могил летел следом, словно сестра и мама просили, чтоб
не уходил...
Он долго еще шагал по комнате, непроизвольно шепча:
Ой, не коси, аист, сено,
В лугах росы по колено.
Пускай его чибис косит,
Он набекрень шапку носит...
ПУТЬ
w ' ^ <» ЛЛТ// <J ЧГ У»
Путь
— Я выхожу, выхожу, мама.
— Не ходи, не ходи, сынок. ..
Но — пошел, потому что путь расстилался перед глазами светлый и
дальний.
Шел мимо всех ворот, мимо всех чистых окон.
Любил свой путь, не сходил с него никогда.
Днем он был бесконечен, как луч солнца, а ночью над ним все звезды
ночевали.
Земля цвела, и все цветы ее улыбались ему. Он рвал цветы и втыкал
ε свои буйные волосы.
Каждый цветок бросал ему жемчужину под ноги.
ГЧаза у него были веселые, а лоб светлый, как родничок на полевой
дороге.
И вот встретил людей.
Вбитые по колено в землю, они в неисчислимом множестве падали и
подымались.
Телшыми ладонями отирали пот со лба и цеплялись большими руками
за землю.
Усталость валила их с ног, падая, они давили своих детей и вопили
от боли.
Подымались и падали.
А ночь укладывала их спать, как камни, одного подле другого.
Страшными лицами к небу — море голов против моря звезд.
Земля стонала под ударами их сердец, а ветер улетал за горы.
Он читал эти лица и великую песню борьбы на них.
С их уст слизал слова, со лбов прочитал мысли, а из сердец выпил
чувства. А когда рождалось в крови солнце и целовало их глаза меж
длинными ресницами, в груди у него родилась песня.
Гремела в душе у него, как буря, баюкала, как мамин голос.
И стал он сильным и гордым. Ветер наклонил к нему все цветы.
Шагал дальше своим путем.
Путь
59
Путь полотном прогибался под ногами.
А он шел мимо всех ворот и чистые окна сверкали навстречу.
И снова людей увидел.
Они стояли строем. Перед ними — колосистое море золота, за ними —
дети под сенью снопов.
Их палило огнем, а в руках у них плакало железо.
Над ними равнодушно свисали полинялые пустые небеса.
Все были в белых рубашках, как на пасху.
Но снопы больше не укрывали детей, и огонь охватил их белые
головы.
А люди все вгрызались в желтые поля.
Он читал их отчаяние, их бессилье.
Лбы их бороздили рвы — не морщины. Губы их засыхали и белели.
Сердца исходили желчью.
И песня его души прогоркла, как прелая пшеница.
Глаза его помутились, а лоб походил на взбаламученный
придорожный родничок.
Сила его и гордость упали на кремнистый путь.
Отравился.
Он все шел своим путем, но уже как птица, что не чует больше
крыльев за плечами.
На свежей борозде под радостной радугой стояла его любовь. Земля
улыбалась ее чистым следам.
Как беспомощный младенец, протянул он к ней руки.
— Подойди!
— Не могу: ты — отрава!
Он зашатался, а проглотив приговор, положил на черную пашню
осколки своей песни и потащился дальше. Шел, как тень от трухлявого
дуба в закатный час.
Путь перед ним был темен, как перед слепым молодым калекой.
Однажды он споткнулся о могилу матери.
Зарыдал сухими глазами, упал.
Зарылся лицом в кладбищенскую землю и просил маму назвать его,
как в детстве звала.
Сказать одно маленькое слово!
Долго просил.
Потом положил голову на крест и ощутил его холод.
Вздрогнул, поцеловал могилу в маленькую яблоньку и поплелся
безымянный и одинокий.
Василъ Стефаник. Путь
— Господи, скости мне конец пути, больше я идти не в силах!
И перепрыгивал с погоста на погост, как осеннее перекати-поле,
Однако сто могил прошел, лишь сто первая была его.
Припал к ней, как когда-то к материнской груди.
Смерть
Когда настала глухая осень, когда в лесу опала вся листва, когда
покрыли поле черные вороны, к старому Лесю пришла смерть.
Умирает всякий, смерть не страшна, только вот долгий недуг — мука.
И Лесь мучился. В своих мученьях он то канет в какой-то иной мир, то
выплывает из него. А этот иной мир был до боли чуден. И Лесь не
мог оборониться от него ничем, кроме глаз. Вот почему он так цеплялся
ими, блестящими, измученными, за маленькую плошку. Ловил ее
взглядом, держался за нее в постоянном страхе, что веки сомкнутся и он стрем-
глав провалится в неведомый мир.
Перед ним на земляном полу спали вповалку сыновья и дочки, не
выдержали они стольких бессонных ночей. Он изо всех сил цеплялся
взором за плошку и не давался смерти. Отяжелевшие веки грузно
нависли над глазами.
Вот он видит во дворе маленьких девочек, у каждой в руке цветы.
Все глядят в сторону кладбища, смерть высматривают. Потом все глаза
обращаются на него. Туча глаз, синих, и серых, и черных. Плывет эта
туча ему на лоб, гладит и остужает. . .
Лесь продрал глаза, ухватил пальцами жилу на шее, потому что
голова уже падала с плеч, и подумал:
«Это, верно, ангелы перед смертью являются».
А пока он думал, плошка пропала из глаз.
Ровное, далекое, выжженное солнцем поле. Оно проект воды, дрожи-j
и каждую травку к себе клонит, чтоб из нее воды напиться. А он пашет.
и жажда так жжет ему горло, что не удержать чапыги в руках. Волы от
зноя роют мордами рыхлую землю. Руки отваливаются от чапыг, он
падает в борозду, а пашня пережигает его на угли. . .
Плошка вывела его с того света.
«И не раз, и не два я на поле без воды погибал, у бога все записано!»
И опять рухнул вниз.
За столом сидит покойница-мама и поет песню. Голос тихо и грустно
стелется по хате и долетает к нему. Это та самая песенка, которую мама
ему маленькому пела. И сердце у него болит, и он плачет, и ловит слезы
ладонями. А мамино пение льется прямо в душу, и. там с ним все муки
рыдают. Мама идет к двери, а с ней идет пение и все муки ив души.
И вновь показалась плошка.
«Матери дано прийти с тог© света и над чадом своим заплакать.
Такие у ней от бога права».
60
Давнее
61
Ноги потрескались от мороза, он хотел накинуть на них овчинку,
да не успел — глаза опять погасли.
Горластые колокола звонят над ним, краями голову задевают. Череп
у него трещит, изо рта зубы сыплются. А от колоколов отрываются
языки, и падают ему на голову, и ранят. . .
Он выпучил страшные бессмысленные глазищи.
«Обещал я селу купить набатный колокол, да времена все были тугие,
так и не собрался. Прости меня, господи милосердный».
И снова скатился в пропасть.
Сверху с высоченной горы падают на него комлем снопы ячменя.
Падают и закидывают его. Ость лезет в рот, в горло. Жжет
раскаленными иглами и все к сердцу собирается и палит адским огнем, и режет,
пронзает сердце. ..
Лесь открыл глаза уже пустые и мертвые.
«Не отдали Мартыну заработанный ячмень, и тот ячмень в гроб меня
гонит».
Хотел крикнуть детям, чтобы отдали Мартыну ячмень, но крик не мог
уже вырваться из горла и только растекался по телу горячей смолой.
Лесь вывалил черный язык, засунул пальцы в рот, чтобы вывести голос
из горла. Но зубы щелкнули и сцепились, зажав пальцы. Веки упали
с громом.
Окна в хате отворяются. В хату вкатывается белая плахта *,
разматываясь без конца и без меры. Светло от нее, как от солнца. Плахта
пеленает его, точно младенца, сперва ноги, потом руки, плечи. Туго. И ему
легко, легко. Потом залезает в голову и скребется в мозг, проникает в
каждый сустав и мягко стелет. А под конец обвивается вокруг горла все туже,
все крепче. Ветром облетает вокруг шеи и все обвивается, обвивается. . .
Давнее
Они все трое уже на кладбище, давно уж над их могилами вишни
цветут и плодоносят и дубовые кресты в головах покосились. Давно
умерли дед Дмитро, бабка Дмитриха и дьячок Базе.
Выделил дед Дмитро четырех сыновей. А как выделил, остались дед
с бабкой одни в старой хате. Впрочем, не одни — остались еще волы,
коровы и несколько моргов земли. За волами да за двором присматривал
старик, в хате хлопотала старуха, поле засевали сыновья, а собирали
урожай бедные люди из снопа да из третьей доли. Старик присматривал
за волами, поил, чистил, подметал стойла и двор и полол у плетней
лопухи. Но главное занятие было у него такое: залезет, бывало, в хлеву
на сеновал и перебирает там старые плуги, бороны, тележные решетки,
ярма — немало набралось этого всего за пятьдесят лет работы. Выберет
что-нибудь, сбросит с чердака и волочет к хате на траву, Осматривает.
* Плахта — здесь — длинный кусок полотна.
62
Василъ Стефаник. Путь
пробует, чинит — это было для него самое любимое занятие. Должно
быть, он вспоминал за этим занятием прежние годы, потому оно так и
пришлось ему по душе. Если не чистил волов, то уж, верно, возился со
старым ярмом или плугом.
Волов старик кормил три года. На четвертый гнал их в город на
ярмарку. Брал за них четыре сотни, за двести покупал других волов
помоложе, а двести прятал в старую податную книжку и запирал в сундук.
Зерно не молотил по нескольку лет, и двор его был весь уставлен
стожками. Самый старый стожок был черный, следующий — серый, тот,
что помладше, — сизоватый, прошлогодний — белый, а нынешний —
желтый, как воск.
Каждый месяц старик глядел, не едят ли их мыши, не гниют ли
стожки. Вытаскивал из каждого горсть колосков, и нюхал, и смотрел, не
посеклась ли метелка. Когда подходило время который-нибудь молотить,
старик звал молотильщиков и снова прятал деньги в податную книжку и
запирал на замок.
В церковь ходил через воскресенье, в очередь со старухой: она на
первую богородицу, он на вторую, она на пасху, а он на рождество. В свое
воскресенье он залезал па чердак и сбрасывал оттуда в сени большие
сапоги и маленькие. Большие он носил еще парнем, стоял в них под венцом,
хозяйствовал в молодые лета; маленькие были сыновей, когда те еще
бегали мальчишками. Он садился с этими сапогами на завалинку, стирал
с них тряпкой пыль и смазывал дегтем. Одну пару надевал в церковь,
остальные ставил рядком на солнце, чтобы впиталась мазь. А бабке
приказывал не только чистить волов, но и на сапоги поглядывать — как бы не
утащил пес. В церкви дед Дмитро бил поклоны, клал на поднос
заплесневелые грейцеры и весь в поту выходил.вместе со всеми.
— Дедушка, вы скоро и говорить разучитесь, — шутили люди.
— Мои ровесники вымерли да на войнах погибли, мне говорить не
с кем.
Воротясь домой, старик ел хлеб с чесноком либо сало, коли не пост
был. Сала в чулане стояло три бочки. В одной трехлетнее, желтое и
мягкое, как масло, это была бочка старика, в другой двухлетнее,
полужелтое-полубелое, это старухина бочка, а в третьей — нынешнее, белое, как
бумага, это было для детей, дети любили только свежее сало. После
обеда дед Дмитро заходил поглядеть на волов, потом закидывал на
чердак сапоги и сапожки и ложился под вишню спать. Так и тянулся у
старика день за днем в мире и покое. Никогда у него зубы не болели, и
никакой другой недуг не донимал, так что за всю жизнь не видал он
подле себя знахарки.
Старая Дмитриха была огонь-баба. Она очень любила беседовать,
разговоры разводить, ни есть, ни спать не могла без этого. К старику
она и не подступалась, он на все молчал, а только, бывало, старуха
захочет с ним тремя словами перемолвиться, как он бросает старую борону
либо другую снасть и — ходу!
— Этот старый облом думает, что я к нему целоваться пришла!
И старуха, плюнув, шла к воротам либо на пруд искать охочих до
Давнее
63
разговоров женщин. А дед возвращался к брошенной работе, бормоча
под нос:
— Видно ведь уже, что состарилась: и лицо, как на старом сапоге
кожа, и волосы, как молоко, а язык все молодой. Сто мешков за день
перемелет, и еще оглядывается, нет ли где других ста. . .
Не дал бабке бог дочери. В молодости она все надеялась родить
дочку и готовила приданое для нее. Дочки бог так и не дал, а Дмитриха
наткала да нашила столько, что жердки прогибались под полотном и
ковриками. Дмитро даже заговорил несколько раз в сердцах, допытываясь,
кому это она столько шьет да ткет.
— Ступай, старый, ступай отсюда, не пеняй мне, а то я все твое гнилье,
которое черви на сеновале проели, в огонь швырну. Сунься только
к моим жердкам — все твои плуги и возы в печь полетят!
Старик, бывало, нахохлится, как воробей, и пускается наутек от
старухи, где уж ему было вступать с ней в бой! А Дмитриха садилась на
лавку перед жердками и говорила сама с собою:
— На каждой перекладине всего поровну — и там, и там, и там.
Пусть каждая невестка берет хоть ту, хоть эту, на всех одно и то же.
А пятая перекладина — на церковь; за старика и за меня, этой не трожь
ни одна — руки обрублю!
В воскресенье пополудни приходили к бабке все невестки с внучатами:
чернобровые, как бархатцы, румяные, как калина. Бабка усаживала их
за стол, угощала свежим салом и судачила с ними, и кудахтала, как
наседка меж цыплят.
— Когда умру, каждая из вас возьмет одну перекладину с жердск,
там на всех поровну, потому что и вы для меня все равны, все мои дети.
Только если дед переживет меня, не смейте ни одна и нитки тронуть!
Он так загорюет, что тут же умрет. И мужьям наказывайте, чтоб с
сеновала ничего не брали, он все это так любит, что и дня без этого не
сможет прожить. Они б его зарезали! Боже сохрани! А как я умру, все
четыре голосите надо мной благолепными голосами, красными словами!
А как дед умрет, то и по нем голосите еще красивей да благолепней.
Он вам денег столько оставит, что хоть играйтесь в них.
Бабка плакала, невестки тоже, потом старуха целовала каждую и Бела
на другую половину хаты показывать коврики. Во дворе внуки играли
с дедушкой, у каждого была булка или яблоко, полученное от бабки, и
все, не отрываясь, смотрели на старое яворовое ярмо. На ярме были
вырезаны волы, плуги, погонщики, дед показывал все это внукам и говорил,
что скоро и они выйдут поле пахать.
На закате невестки с внуками отправлялись по домам, а бабка
провожала их за ворота и там еще долго с ними беседовала.
А третий — дьячок Базе. Он не доводился им ни сватом, ни братом,
только жил по соседству. Бабка Дмитриха все носила одинокому старику
обедать и ужинать. Только он, верно, не ел бабкиных обедов, потому что
всегда был пьяный.
— Ну чего вы, Базе, столько пьете этой водки? Ведь она, пожалуй^
загорится в вас.
64
Василъ Стефаник. Путь
— Как же мне, Митришка, не пить, когда у меня книжки в голове,
как зайцы, бегают! Каждый стих, каждое титло прется, чтобы его читать,
либо петь, ну, просто голова разламывается. Вот соберутся, словно гурьба
ребятишек, и норовят все в одну узенькую дверцу протолкнуться, и дать
о себе знать. А у меня голова вон какая маленькая, да еще и
обстрижена, куда ж я их дену? Хорошо вам, вы своих детей выделили, а мои
все вместе. Вот и приходится их водкой поить, как напьются — мне и
поспокойней маленько.
Старуха жалостливо покачивала головой.
— Страшное дело наука, это не цепом махать!
И снова давала дьячку денег на водку. За это он не раз приходил по
воскресеньям к бабке в хату и читал смешные книжицы. Сыновья и
невестки помирали со смеху, слушая про Луця Заливайко] и про индюка,
у которого только и разума, что в хвосте.
А однажды Базе прочитал им такую страшную книгу, что старуха
и невестки расплакались со страха, а сыновья сидели, как обалделые.
«Земля не даст плодов своих, на скоты ваши пошлю заразу и
погибнут вам, а люди ваши потоплю. Дожди не падут на землю, а земля будет
как камень, и не выдаст плода. . .»
Базе и сам увидел, что малость перехватил, и нашел такие слова
в книге:
«Кто это письмо при себе держит, либо часто читает, либо со
вниманием слушает, либо переписывает, тот сподобится милости божией.
У кого в доме это письмо находится, тем ни огонь, ни вода, ни гром, и
ничто дурное повредить не может. ..»
Это немного ободрило и чтеца, и старуху с невестками. Они тотчас
дали дьячку денег, чтобы купил им эту книгу. За бабкой потянулись
и все женщины — каждой хотелось застраховать свою хату от грома и
огня. Дьячок накупил всем книжек, да еще, попутно, и куртку себе новую
справил и трубку приобрел фарфоровую. Потом он каждое воскресенье
читал эту книжку и всякий раз у другой хозяйки и брал за это по две
шистки на водку, а на закуску калач.
Так обошел он уже почти все хаты, осталось лишь несколько лачу*
жек у самого леса, как вдруг Базе захворал. Бросило его сначала в холод,
потом в жар, потом, рассказывают, изо рта у него вышел маленький
синий огонек, и Базе отдал богу душу. Верно, загорелась-таки в нем водка.
Так или иначе, но все женщины в селе плакали и голосили по нем, как
по родному брату.
Бабка Дмитриха не долго убивалась, осенью она и сама отправилась
за дьячком в дальний путь. Дед Дмитро мало пожил без бабки, к весне
и его снесли на кладбище.
В селе о них давно забыли, потому что и умерли-то они не в
нынешнее время. Только грамотеи вспоминают их всякий раз, едва заговорят
о том, как появилась читальня.
— А повелась наша читальня еще от деда Дмитра, бабки Дмитрихи
и дьячка Базе. У них в хате стал дьячок в пеовый раз книжки читать.
Василъ Стефаник
1898 г.
Фотография
В. Стефаник и Λ. Мартович
7903 г.
Фотография
Василъ Стефаник
2-я половина 90-х годов.
Фотография с дарственной надписью
В. Стефаник, Λ. Мартович,
М. Черемшина
Рисунок В. Касияна
Группа украинских писателей, принимавших участие
в открытии памятника И. Котляревскому в Полтаве:
сидят (слева направо): М. Коцюбинский, В. Стефанику Леся Украинка,
Гнат Хоткевич, В. Самийленко; стоят: Олена Пчилка, М. Старицкий
Хата, где родился Василь Стефаник
Рабочий кабинет Василя Стефаника в селе Русово
Памятник Василю Стефанику
в Снятыне
Вестники
65
И теперь еще торчат кое-где под матицами «Божьи письма»2 да «Луци
Заливайки», только теперь никто уж их не читает, ушло. ..
— Ох, ушло.
— И сало из трех бочек ушло.
— Ого, и верхом не догонишь! . .
Вестники
Это будут старые, бедные вдовы, либо их внуки, либо дряхлые
старики, доживающие век у своих детей и всякий день чувствующие себя
обузой в доме; либо это будут молодые жены, которых мужья оставили
здесь с малыми детьми и, поселясь в большом городе, забыли. Они
потянутся вереницей в поля, пройдут мимо крестов, уже не затененных
никакой зеленью, оставят позади блестящие, гладкие, стальные дороги и
разбредутся по серым однообразным стерням, — дети примутся искать
колоски, а старшие — коряжки от прошлогодней кукурузы.
Пойдет и дед Михайло с внучатами — с двумя мальчиками и
старшенькой — Оксаной. Мальчишки поскачут, как жеребята, то опережая
деда, то оставаясь далеко позади, а Оксана все будет идти рядом. Дед
будет покашливать под своей драной дерюжкой, а Оксана понесет хлеб
для себя и мальчиков. Как раз наступит полдень, и дед скажет Оксане:
— Это солнце, детка, уже с морозом.
Они будут идти долго-долго и остановятся на одной ниве. Дед станет
у межи, Оксана пойдет серединой нивы, а мальчишки пустятся на поиски
нор, светлых родничков и кнутов да ножиков, потерянных пастухами.
Оксана будет подымать каждый колосок и складывать их все в левую
руку, а как наберется большой пучок, положит его у овражка, чтобы
потом легче было найти. Она обшарит все рвы и лощинки, потому что
там больше всего колосков. Она будет сто раз в минуту нагибаться, как
самая прилежная работница, и скоро перед глазами у нее побегут желтые
и синие пятна, или одна половина нивы будет, как всегда, а другая вдруг
станет зеленою. Оксана выпрямится, заслонит ладонью глаза и постоит
минутку, а потом сразу отведет руку от глаз — и видение исчезнет. Или
запоет песенку, запоет про себя, потихоньку, стыдливо радуясь, что уже
умеет петь. Ноту за нотой, слово за словом, с трепетной неуверенностью,
как младенец, впервые с радостью ступающий по земле белыми
ножонками. Поднимет колос, оборвет песенку и начнет сначала, и вновь
задрожит ее тоненький голосок; ну ни дать ни взять — паутинка, дрожащая
на жнивье. А дойдя до края нивы, сядет на межу и подопрет щеку
маленьким кулачком, величиной с головку того самого репейника, который
пророчески прошуршит над нею тихую повесть всей ее жизни. . .
А дед не будет садиться, но согнется в дугу, мучимый кашлем.
— И не поймешь, что там дохнуть не дает! Разрезать бы грудь да
выбросить дурную кровь оттуда — может, довелось бы еще малость по*
жить. . .
5 Василь Стефаннк
66
Василъ Стефаник. Путь
И пойдет дальше дергать коряжки, кашлять и присаживаться. А среди
работы налетят на него думы и про осень, и про зиму, и про весну.
И столько их зароится в голове, что он позабудет и про кашель, и про
коряжки.
— Ежели есть чем топить зимой, меньше есть хочется. Встань утром,
размети у порога снег, набери коряжек под навесом, положи в печь — и
сразу повеселеет в хате. Катерина сварит мамалыгу, дети встанут, а для
них уже и ложка горячего борща готова, и печь теплая; ну, и тебе,,
старику, меж ними тепло. Когда лучшего нет, и это славно. Коряжка,
ежели сухая, хорошо горит.
И он с охотой и с новыми силами примется за работу. Но дум ему
все равно уже не отогнать, так и теснят одна другую.
— Коли не помру до тех пор, пока ребята подрастут, то
посчастливится ей, — я хоть по людям их распихаю, чтоб на себя зарабатывали,
а глупая баба одно знает — слезы лить! Нет, я бы их лучше матери на
путь наставил.. .
Потом он позовет мальчишек. Они прибегут с долбленой тыквой
в руках.
— Вы что же, такие-сякие, Оксане не помогаете, а есть вам давай?
Ступайте, поиграйтесь возле нее, а то ей скучно.
Мальчуганы пойдут к сестре, а старик снова углубится в свои думы.
— Парни здоровые, рослые, только бы дождаться! Меньшой-то умен,,
как старичок. Зимой ему сапоги надо — на печи, вишь, скучно сидеть.
Столько с ним смеху, что осиротели б мы без него. . .
Дед посмотрит, низко ли уже солнце, и на коряжки — достаточно ли
их набралось. Потом позовег Оксану помогать ему сносить коряжки и
оббивать с них глину. Они сложат их в одну кучу и обобьют палками.
Над полем подымется столб пыли, и дед закашляется. Оксана будет
щуриться, а ребята примутся уплетать хлеб. В эту пору солнце опустится
уже к закату. Из окрестных сел донесется на поле колокольный звон и
будет стелиться по жнивью с росами, на дорогах заблеют овцы и
закричат пастухи, на поле пахари вытащат плуги из борозд и начнут
собираться домой. Низины закроет сизое марево, вороны потянутся к садам
в село, и собаки побегут домой, потому что не смогут больше ловить
в поле перепелок.
Дед Михайло перекрестится, стряхнет с рубахи пыль и натужно
закашляется. Потом наложит полное ряднышко коряжек, внуки помогут
ему взвалить ношу на плечи, и все выйдут на дорогу. Оксана понесет
свои пучки колосков, а мальчишки будут подбирать выпавшие из рядна
коряжки и прятать их за пазуху. Пока дойдут домой, рубашонки на них
вздуются, а животы станут чернехоньки от пыли.
В селе все они сойдутся — и бедные вдовы, и их внуки, и старики, и
молодые жены, брошенные мужьями, все с коряжками и пучками
колосков. Они возвещают приход осени.
Май 67_
Май
Данило ждал у белых ворот, заглядывал в господский сад, как вор,
и не решался зайти.
— Откуда я знаю — можно сюда идти или нет? Того и гляди,
выскочит, да как даст по морде. . . Почем я знаю, что не даст.. .
В господском саду были чистенькие, ровненькие дорожки, во двор
можно было пройти только по ним, и Данило боялся, что за это вздуют.
Пока что он ждал у ворот.
.Все мужики, много миллионов их, умеют ждать долго и терпеливо.
Если пан в конторе, они ждут стоя. Будь их хоть тьма тьмущая — не
подадут ни малейших признаков жизни. Стоят тихонько, лица
понемножку тупеют и застывают, а выражение сползает с них куда-то под
рубаху на плечи. В своем стоячем сне-полузабытьи они беспредельно
равнодушны ко всему окружающему, а приказчик среди них похож на
черную мушку в густом меду. Хуже всего приходится переднему, тому,
кто стоит у самого стола, — ему нельзя совсем уснуть. Он поминутно
раскрывает глаза как можно шире и беспокойно озирается. За ним
продирают глаза и озираются соседи, и беспокойство переднего передается
задним и достигает самого последнего, того, что прислонился к печи.
Передний волнут всех, как ветер на ниве волнует все колосья, — от дороги
до самой межи.
Если пана в конторе нет, все садятся. Добро, что выдалось хоть
полчаса отдыха, хоть одна рука или одна нога передохнет. Все сбиваются
в кучу, так что отсиживают себе то ту, то другую часть тела. Только
соломенные шляпы держат осторожно, чтобы не измялись. Усядутся
плотно и начинают перешептываться:
— Эх, закурить бы трубочку!
— Бросьте.
— А табак у вас покупной?
— Со своего огорода.
— Помолчите-ка, услышат еще. . .
Тут все засовывают руки за пазухи, прячут свои самокрутки чуть ли
-не за спину — а вдруг какая-нибудь паскуда вздумает искать! Шепот
стихает, лица деревенеют, с губ капает слюна, а головы опускаются. Зато,
•если попадется среди мужиков нетерпеливый, он, как тот передний,
никому не даст посидеть спокойно. То у него рука замлела, то его в самый
хребет так кольнет, что он не выдержит и пошевельнется. За мим
зашевелятся соседи, и гармония взаимного натиска нарушается. Все начинают
сызнова укладывать руки и ноги, пока новый толчок не нарушит лад.
— Господи, до чего народ нетерпеливый! — проворчит кто-нибудь по-
выдержаннее и тут же закроет глаза.
Так все они и ждут, так ждал у ворот и Данило, хотя стоял он там
один. Его одолевало сонливое безразличие, мысли путались. Отправляясь
в имение, он составил себе совершенно ясный план. Увидав пана, он
скинет шляпу и пойдет навстречу ему, как аист по болоту,— осторожно,
5*
68
Василъ Стефаник. Путь
помаленечку, чтобы ни один господский камешек не потревожить. А при*
близившись, вытаращит глаза и так посмотрит на пана, чтобы тот
подумал: «Ну и бедняк же!» Потом Данило подойдет к руке, поцелует ее
с обеих сторон, приложится лбом к ладони и подастся немного назад.
Опустит плечи, швырнет за спину шляпу, оботрет губы рукавом и
заговорит:
— Я пришел, — скажет он, — наниматься. Предновье плохое, детей
у меня четверо, и на всех — клочок огорода. Вот и приходится
наниматься, а работу знаю всякую, я рабочий человек. Прошу, христа ради,.
1;ашей милости, не возьмете ли меня и не дадите ли мне для жены к
детей корец * зерна сразу, а на работу я хоть сейчас готов.
Первым делом его спросят:
— Ты, должно быть, вор?
— Я, пане, еще и былинки чужой не взял.
— Что ты врешь, проходимец, мыслимая ли вещь, чтобы мужик не
крал?! Или ты не мужик?
— Мужик я, простой мужик, только на чужое не зарюсь.
— Так ты, верно, пьяница?
— Мне водки не надо, на нее денег нет.
— Брешешь, как пес, — ты бы помер без водки!
— Без водки не помер бы, а вот без хлеба можно!
— Больно умно отвечаешь, видно, в тюрьме выучился.
— Боже упаси. Полвека прожил и ноги моей еще в остроге не было,
— На что ж ты наплодил столько детей?
— Детей, пане, бог дает.
— Это тебя поп научил так говорить?
— Мне попа не надо, ему деньги подавай, а я и в церковь не хожу,
не в чем.
— Стало быть, ты радикал — не даешь попу драть с тебя шкуру?
— Да я ежели бы и захотел дать попу, так нечего, и ему с меня
нечего содрать. Вот мы и не сходимся. . .
Данило наперед знал, что пан сперва человека с грязью смешает,,
насмеется над ним, а уж потом примет на службу. Шел уверенный в себе
и только у самых ворот остановился. Имение было в другом селе, и он
не знал, где вход. К тому же усадьба стояла в поле, так что и спросить
было не у кого. И Данило ждал. Его ясный план потускнел, он чесал
в затылке и робко заглядывал в сад.
— Вон по тем дорожкам, видно, гуляют, ишь как песком посыпаны.
Взгляд его долго блуждал и наконец остановился на павлине,
красовавшемся перед усадьбой.
— Ежели забежать во двор да запустить в такой хвост руки, можна
бы нажить грейцер-другой. . . А мясо у него — вкусное?
Он окинул взглядом хаты.
— Полей у пана вдосталь, и хлеба хорошие. И куда он девает
столько?
* Корец — старинная мера зерна — шесть пудов.
Поджигатель
69
Мысли разлетались во все стороны.
А весна-то какая славная! Ух ты!
Потом он уже ничего не видел. Сидел сиднем и боролся с дремотой.
Чтобы не уснуть, продирал глаза, потирал рукой лицо и походил на
неудачливого бойца, который вот-вот сдастся на милость и немилость
победителя. Вскоре он прикорнул бочком, видно, хотел так
приноровиться, чтоб можно было и спать, и ждать. Потом вытянулся и закрыл
глаза. Но не проспал и минуты, как что-то шепнуло ему:
— Спи, спи у господских ворот — кучер так врежет кнутом, что
кровь брызнет!
Он перепугался, вскочил, оглянулся вокруг и стал, как
подстреленный. Постоял секунду, махнул рукой и пошел от ворот в поле. Там залез
в траву и расположился поспать как следует. Привиделся ему пан, к
его руки, и белые дорожки. Пан велел ему надеть шляпу, но он не
хотел.
— Я, ваша милость, бедный человек, мне шляпу надевать нельзя, к
бедный, совсем бедный человек. . .
Сладкий сон прогнал все эти видения, и дальше Данило спал
спокойно.
Солнце смеялось над ним, посылало ему свои лучи, по-матерински
ласкало его. Цветы целовали его грязные, нечесанные волосы, полевые
кузнечики перескакивали через него. И он спал спокойно, и черные руки
и ноги выглядели, как приделанные к кирпично-красному телу.
Поджигатель
ι
Сельский богатей Андрий Курочка сидел у стола и обедал — не
обедал, а давился каждым куском. Домашние то и дело входили в хату
с грязными ведрами, ругались между собой, суетились и выносили корм
скотине. Хозяйские дети и слуги были одинаково измождены и грязны»
Все они влачили на себе неуклюжее и тяжелое ярмо мужицкого богатства,
никогда не приносящего ни покоя, ни радости. Сам богач горше всех
томился в этом ярме, больше всех проклинал свою долю и непрестанно
подгонял детей и батраков.
Возле Курочки на скамье у окна сидел его давнишний батрак,
старый Федор.
— Нет у меня никогда такого счастливого часа, чтобы можно было
спокойно кусок хлеба проглотить. . . Все бегаю да гоняю, вот увидите —
упаду где-нибудь да и подохну! Ну, какой мне в этой еде вкус, когда
я знаю, что они без меня в овине ничего не делают? Им лишь бы
нажраться да день избыть. Что уж чужим говорить, когда свои дети — и те
работать не желают! Ей-богу, не знаю, как этот народ будет на свете
жить? Все пустят по миру.
70
Василь Стефаник. Путь
При этом он так жрал, что глаза лезли на лоб.
— А вы чего ходите, Федор?
— Не знаете, какая наша ходьба? Зима на носу, а я босиком. Дайте
два лева на отработку.
— Да разве вы можете работать? Ваша работа кончилась, Федор.
— Я бы и не работал, ежели бы кто задаром кормил.
— Э, нет! Нынче задаром не наешься, нынче и за работу кормить не
стоит — такая работа пошла! Говорил я вам — найму вашу девку — вот и
были бы у вас деньги теперь.
— Так ведь не хотела, пошла в имение.
— Это уж известно: кому работать неохота — все в имение прут. Там
*оть еда плохая, зато поваляться можно. Нынче бедняк раз в день сыт,
да весь день спит — вот и рай! Что наработает, тем и жив, тем его и бог
благословит. А ты тут хоть в канат завейся за каждую мелочь! Ну, два
Дева я еще дам, чтоб не приставали, что с вами поделаешь, может, как-
нибудь отработаете, а уж больше не приходите, не нойте — не дам. Сами
видите, работе вашей грош цена.
— Надо ж и мне с людьми, куда ж я денусь?!
— Девайтесь, куда хотите, а на мужицкую работу вы уже не годны.
Ищите себе службы у шинкаря или в имении — там полегче.
— Хорошо вы мне советуете! У вас всю силу потерял, а теперь, под
старость — марш шинкарям воду носить?
— Задаром вы на меня не работали.
— Ну и будьте здоровы.
И Федор вышел из хаты.
— Эти голодранцы все бы позабирали! Сам слюнтяй хрипучий, и цепа
s руках не удержит, а еще петушится! Да пошел ты к ляду — что я —
кую деньги или краду?
А Федор ковылял к своей хате и, не переставая, шептал:
— А где же я, по-твоему, силу потерял? Проплясал ее или пропил?
Да ведь у тебя она, вся сила эта, на твоем дворе. А где же я, по-твоему,
силу потерял?
В хате он скинул сапоги и улегся в постель. Лежал до самого вечера
й уснул, не поужинавши. Ночью, еще и петухи не пели, он вскочил, больно
стукнулся о доски, снова лег и снова вскочил. Через маленькое оконце на
йего смотрела осенняя ночь. Казалось, это не ночь, а сама его черная
Тоска голосила по углам хаты и глядела на него сизым немилосердным
оком. Оцепенев, он не мог и пошевельнуться, а перед ним то в оконце, то
прямо в воздухе вставали видения.
Вот будто сидит он с чужими детьми, приглядывает за ними, нянчит,
а они таскают его за волосы, плюют в лицо...
... А вот он на коленях в церкви, в том углу, где нищие бьют лбами
об пол. Он бьет громче всех, и все женщины подходят к нему, и каждая
дает по буханке хлеба. Он кладет хлеб за пазуху, кладет и становится
такой толстый, что люди перед ним расступаются. А ему стыдно, стыдно,
а лоб так болит...
... Вот он идет по Курочкиному двору, не идет, а крадется к амбару.
Поджигатель
71
Выдергивает снопик из стрехи, насыпает в него жару из трубки и бежит,
бежит. . . А позади, ну будто воочию видно — из-под стрехи выскакивает
маленький красный язычок, лизнет и спрячется...
— Ой, ой, ой!
Этот язычок обжег ему мозг. Он изо всей силы рванулся из невидимых
пут, вскочил и посмотрел в оконце. Оно, как палач, истязало его. Вот
свалит сейчас и опять начнет мучить видениями. С перепугу он не видел
никакого выхода и завертелся, готовый бежать. Но тут перед ним словно
ворота отворились, ему стало легче, и он опрометью бросился в них.
II
Лет шестнадцати он уходил из своего села. Такого ясного дня, такого
веселого солнца он никогда больше не видел. Оно ласкало зеленые травы,
синие леса и чистые ручейки. Он оглянулся на село. Выйди тогда кто-
нибудь и скажи ему хоть слово, он бы вернулся, вот ей-ей, вернулся бы!
— Он меня бьет, увечит, есть не дает, ничего и на плечи не кинет,—*
раздавался его голос над зелеными травами. — Чтоб вас земля не
приняла! — клял он отца.
И он еще ускорил шаг. Миновав поля своих односельчан, прошел еще
два села и с холма увидел город, сверкающий на солнце, как чешуйчатый
змий...
Все дивились его силе и боялись его. Хозяева им не помыкали, а
батраки не подымали на смех и даже не подтрунивали. Мешки он швырял*
как галушки, день за днем — то из амбара в телегу, то с телеги в амбар,
— Хребет трещит от этих мешков.
— Пей водку — боль и уймется.
И правда, от водки боль как рукой снимало.
А в воскресенье и в праздник Федор шел с товарищами в шинок,
Шинки стояли в поле, между городом и селом. Сюда первым делом шли
те, кто потерял уже пристанище в селе, и сюда же возвращались те, кто
не нашел еще в городе работы. Здесь было не село и не город.
Ох, и бывали же там потехи, в этих шинках!
Сперва верховодили горожане. Рассказывали о своем былом достатке,
о том, сколько по первым числам огребали денег из императорской кааны,
как наряжались. Мужики слушали с почтением, угощали «господ» водкой.
Но, подвыпив, высвобождались из-под моральной власти горожан, и тогда
тем приходилось круто.
— А ну, голубчики, живо! Берите-ка один другого за шею да пляшите
нам польку, чтоб мы видели, как у господ заведено!
Городским приходилось плясать — мужики обступали их кольцом
и хохотали так, что вся корчма гудела.
— Гоп, гоп!
— Еще раз!
— Полегоньку, плавно раз!
72
Василъ Стефаник. Путь
— Ну, будет! Допивайте водку, распихивайте своих господских
вшей по карманам и марш из корчмы — теперь мужики одни погуляют!
И горожане улепетывали, как зайцы,
— Я с ними живо управляюсь, они легкие, как перышки, подуй, и
полетит.
— Эй, шинкарь, подавай водку, пиво, ром — свои люди!
Хозяин торопливо выставлял все на стол и тут же отбирал деньги.
— Эй ты, Мосластый, чего ревешь? Мослы надоели? Пей и заткнись,
я гуляю!
Мосластый заревел еще громче.
— Тихо, а то стукну!
— Не τ рожь!
— Это кто сказал?!
— А ты что за указ?
Федор встал и треснул по морде вошедшего в раж детину.
— В воскресенье бьешь? Грех! ..
И тот ударом лавки свалил Федора с ног.
Составилось две партии. В корчме все зашевелились. Корчмарь сбежал,
водка лилась на землю, вокруг падали залитые кровью сломанные столы
и лавки, а обе партии лежали в луже из слюны, водки и крови и стонали.
Один только Мосластый сидел в уголке и ревел, как вол, неведомо по ком
и об чем.
Вскоре после такой драки являлась полиция и выбивала из босяков
хмель. Их с трудом подымали на ноги, потом одним махом снова сшибали
на землю. Босяки падали, как дубы, а поднимались, как глина.
Протрезвив, их отправляли в тюрьму.
Он ехал меж полями на груженом мешками возу. Нивы пшеницы и
ржи клонились под ветерком, как золотые и серебряные рощи. По золоту
и серебру, словно тонкое шелковое шитье, плавали легонькие темные
облачка. Море солнца в море бескрайних полей. Земля под колосьями
звенела, пела, только что словами не говорила.
— Мошко, на вожжи, я ухожу!
Федор соскочил с фуры и пошел по межам через рожь. Под вечер
зашел к Андрию Курочке.
— Ты, верно, либо вор, либо лентяй, — добрый человек не уйдет из
своего села бродить по свету.
— Сами посудите: отец что после раздела не пропил, то продал в
голодные годы, а потом принял зятя к сестре и умер. А зять до тех пор
меня бил, пока я не убежал из дому.
— А у вас, у бойков, говорят, на коровах пашут?
— Нет, это туда, дальше, за нами, это немцы запрягают коров.
— Что ж, сымай постолы, вынеси кожух в сени, чтоб не напустить
вшей, да ложись. А церковь у вас такая же, как и у нас? И поп есть?
— Такая же.
Поджигатель
73
— Что ж, погляжу, как поведешь себя. Если не вороватый да работы
не боишься — найму.
Так он и нанялся. В селе узнали, что он не вор, хороший работник,
на себя зарабатывает, и держали его за своего. А он узнал, какое поле
как зовется, чье оно, вымокает оно или высыхает, кто в селе самый
отъявленный вор, кто самый большой богач — и стал своим, деревенским.
Прослужил несколько лет, и добрые люди посоветовали ему стать
полноправным хозяином.
— Ты не будь дураком — дают клочок огорода, а девка недурна да
опрятна — бери. Есть у тебя заработанные, еще подкопи, да и ставь хату.
Пускай будет хоть шалаш, да свой! А там — дождь ли, зима или просто
нет работы, а ты уже не выглядываешь из чужого закутка, не гниешь
у богача в хлеву — у тебя свой угол. Послушай меня, старика...
Он женился, строил хату и надрывался на работе, на своей и на чужой.
Носил на плечах доски из города, отрабатывал за солому для крыши,
добывал деньги то на окна, то на двери. Два года прошло, пока
отстроился. Хатенка маленькая, неказистая, среди других она выглядела так*
точно кто-то пустил в стаю больших красивых птиц маленькую
растрепанную курочку. Но Федору и такая была хороша...
Прошло несколько лет, и люди принесли к его хате красные хоругви.
В хате на лавке лежала его Катерина — большая, распухшая, смотреть
страшно. К Федору жались две девочки: одиннадцатилетняя Настя и
восьмилетняя Марийка, а он все спрашивал их:
— Что будем, дочки, без мамы делать? Которая же из вас обед
сварит?
А когда жену клали в гроб, Федор зарыдал.
— Берите ее полегоньку — тело у ней все изболело. Ой, Катеринка,
я с тобой и не наговорился добром, а ты прогневалась и ушла от меня.
Он припал к покойнице и целовал ее в щеку.
— Люди, люди, я же с нею и словом не перекинулся, мне за работой
не до нее и не до разговоров было. Прости меня, Катеринка, друг мой
добрый!
Женский плач бежал из хаты далеко в село.
— Она, люди, когда пошла за меня, то как в воду канула, больше
никто ее среди людей не видел. Теперь только и вынырнула среди вас —
на лавке. Я с ней ни разу пустым словечком не перекинулся! ..
И еще минуло несколько лет. Однажды вечером пришла со службы
Настя. Федор глянул на нее и побледнел.
— Настя, милая, ты одна? А муж твой где же?
Она зарыдала, заголосила, а он больше ни слова ей не сказал. Только
когда провожал в город на службу и уже пришло время расставаться,
заговорил:
74
Василъ Стефаник. Путь
— Дай тебе боже, родная, всего лучшего, да гляди ребенка не
загуби— стыда уж все одно не покроешь, только смертный грех на душу
возьмешь. Да передавай, как тебе там будет...
А годы шли, не стояли. Федор всю зиму не выпускал цепа из рук,
всю весну не расставался с плугом, все лето — с косой. Болели кости,
кончики их стирались и горели. Только воскресенье спасало его, в
воскресенье он шел под вишню, ложился на зеленую траву, и трава высасывала
его боль. Но пришла пора, когда и воскресенью не под силу стало
починить то, что ломали будни, а трава не могла высосать боль, запекшуюся
в старых костях. А тут еще привязался кашель, и Федор харкал уже и за
плугом, и с косой, и с цепом...
Рассветало, оконце побелело, и Федор вернулся из дальних странствий
по минувшему. Он умылся, помолился и собрался идти в имение.
— Наймусь с весны к господам, а сейчас возьму вперед на сапоги,
да натурой немного — перезимую до службы как-нибудь.
III
Сетка узеньких белых тропок связала вместе все хаты села, только его
Хата оставалась в стороне, как заброшенная... Федор зимовал
по-медвежьи. Утром встанет на час, затопит, сварит, а потом весь день и всю
ночь лежит на печи. Чем дальше шла зима, тем больше он впадал в дет-
стйо.
— Ну, Федор, встань, отрежь-ка себе ломтик хлеба, да потоньше, по-
господски, а то ты, я вижу, проголодался.
Он, смеясь, слезал с печи, резал хлеб и смотрел ломоть на свет —
тонко ли, по-господски ли отрезал.
А темными зимними ночами он громко на всю хату говорил страшные
речи:
— Село вымерло до единого человека, а мне и дела нет, я и не гляжу
ty да!
Но ему становилось страшно от собственных слов, он покрывался потом
от ужаса и спрыгивал с печи к окну, убедиться, что в корчме светится.
Успокоившись, он возвращался на печь.
А просыпаясь среди ночи, долго не мог опомниться и только, ударив
Кулаком по матице, приходил в себя.
В ту зиму жилище его наполнилось упырями, бесами и призраками.
Оии озорничали в хате, как ребятишки. Выбегали в сени и выстуживали
Хату, проскакивали через трубу на чердак и так там топали, что потолок
трещал, стучались в окна, выманивая хозяина во двор. Он не поддавался,
старался не бояться, тогда они забирались на печь и щипали его, душили
и затыкали рот онучей. Однажды ночью слетелись все черти. Плясали
так, что хата дрожала, и такой подняли ветер, что Федор мерз на печи.
Поджигатель
75
Потом уселись вокруг стола и от усталости высунули языки, такие же,
как язычок пламени, который Федор во сне сунул под амбар Курочки...
А он лежал, как мертвый, только когда запели петухи, еле поднялся щ
стал читать молитву. Но нечисть и тут не давала ему покоя. Он не мог
вспомнить молитвы, которые знал лучше всего, и даже забывал
креститься. Словом, так его эти видения замучили, что к весне он едва дышал
и побелел, как бумага.
— Надо добыть деньги откуда хочешь, да освятить хату — тут не*·
чисть собралась со всего села. Всю кровь из меня выпили — от ветра
шатает.
Когда заблистало весеннее солнце, он принялся мазать дегтем сапоги,
латать рубахи и плести ремни для постолов, радуясь, что, наконец, идет
на работу.
— Наряжусь, обуюсь красно — и в имение! Проше вельможного пана,
я явился на панскую службу.
— Хорошо, Федор, — ответит ему пан, — ты, вижу, порядочный чело^
век, раз нанимаешься как закон велит.
И Федор, латая рубаху, сладко улыбался.
IV
Федор стоял в имении посреди гумна и с грустью смотрел на вереницу
плугов, вытягивающуюся из ворот, как цепь, где железо сковывало тела
волов с телами людей.
— Кончилась моя пахота! Выкинули старое огниво, а то как бы не
оборвалась цепь посреди дороги.
Он покачал головой и пошел в амбар брать зерно для свиней.
На гумне весь день было тихо. Только от батрацких лачуг долетали
крики баб и плач детей. Если выбрать самые убогие изо всего села ха<*
тенки, загнать в них самых ободранных мужиков и самых желтолицых
баб, да еще сыпануть дроби — голых ребятишек — и все это собрать
в кучу — получилось бы похоже на эти батрацкие жилища и их
обитателей.
Федор с гумна смотрел на лачужки и покачивал головой.
— Чем идти в этот ад, лучше спать на скотном дворе. Теперь не зима,
Не пойду я в эту прорву.
Вечером он пошел в воловню. Около яслей двумя длинными рядами
стояли волы и лениво жевали сено. Возле каждой четверки торчал
погонщик и глядел, чтобы волы не сбрасывали сено под ноги. Меж рядов сидели
на земле пахари и сеятели. Они чинили постолы, стягивали дырявые сар^
даки бечевкой и правили истыки *. Каждый с чем-нибудь возился. Федор
присел возле. Волы один за другим опускались на солому,*потом валились
в стойла погонщики, за погонщиками пахари. Воловню охватывало
тягостное оцепенение, которое после утомительной пахоты давит на работников
тяжелым камнем. Федор тоже улегся было у ног волов.
* Истык — инструмент для чистки плуга — палочка с железным наконечником,
70 Василъ Стефаник. Путь
— Эй, свинарь, а ну марш от волов к свиньям! Может, тебе постельку
постлать? Мало того, что твоя Марийка с кучером снюхалась, сука, и все
лучшие куски от обеда ему сует, так тут ты еще прилез на нашу голову!
Марш от волов!
Федор вылез из яслей, лег у ворот на охапке соломы. И тут в нем
проснулась забытая обида.
— Грешен ты за меня перед богом, Андрий, ох грешен...
Воловня стонала, зевала, говорила во сне. Дышала так тяжело, словно
где-то глубоко в земле задыхались тысячи людей.
— Молись за меня, чтоб меня бог упас, да на ум наставил, а то,
неровен час, — изжарю тебя в огне, как кабана, три дня будешь сгребать золу,
что от твоих богатств останется. ..
К утру и он скатился в черную пропасть батрацкого сна.
V
Больше Федор никогда не ходил в воловню и не говорил с батраками.
Спал в амбаре и не показывался никому на глаза. После пасхи Мария
обвенчалась с кучером, и они собрались на службу в другое имение. Федор
вышел с ними за ворота и попрощался:
— Помни, Мария, я хату при людях Насте откажу, чтобы ты ее не
выгоняла, она, бедняжка, одна-одинешенька! — сказал он.
И вернулся. В хлеву, чтоб никто не видел, заплакал.
— Теперь живи с кем хочешь!
В тот день он напился и вечером пришел в воловню.
— Теперь не прогоняйте меня — моя Мария отправилась уже. . .
— Кто вас гонит, ложитесь да спите, раз уж набрались.
— Это верно, что пьяному сам бог велел спать. Только ты вот
говоришь: иди спать, а я спрашиваю: куда? Ежели уж ты такая умная голова,
отвечай — куда, куда мне спать идти?
Спрашивая, он нагнулся к самому носу Проца.
— Где упадете, там и будете спать.
— А ежели я в ясельца? А?—Он злобно расхохотался. — Я в ясли,
а ты меня за ворот, да в шею, да палкой: марш, старый пес!
Погонщики вылезали из яслей, поглядеть на представление.
— Гони из яслей, бей — ты тут гнил, и сгниешь, ты не знаешь, что
такое человек, — ты вол, ты хаты никогда не видал. Ты порядочного
человека — из ясель палкой! Небось, спросишь меня — «а где ты, любезный,
до сих пор был?» А я тебе скажу: жил я меж людей, и было мне с ними
любо. «А чего же, — скажешь, — люди тебя прогнали?» Вот тут заковыка!
На это я тебе ничего не скажу, только три слова: нет у людей бога.
А ты, умная голова, — сам понимай...
— Ступайте, старик, спать, не болтайте вздор, а завтра пойдем в село
яа выборы, там уж мы богачей пощипаем.
— Я на выборы пойду, и людям всю свою обиду выложу, а в ясли не
дойду — в яслях я гнить не буду. Я знаю кое-кого получше тебя, я света
повидал больше, чем твой барин. А теперь погоди, я тебе буду отвечать,
Поджигатель
77
как на допросе. Я был холуем у барышников, я валялся под всеми лавками
в корчмах, таскался по всем тюрьмам. Пусть мне бог грехи считает —
не боюсь, за все отвечу, отбрею, как любого другого. Разве меня когда
уму-разуму учили? Били чем ни попадя! Ты не бойсь, я выскажу, все
вывалю тут, до крошки. И все-таки надоумил меня бог — вернулся
я назад, к нашим людям, в свою веру. Увидел в поле благодать небес-
ную — как ржица под серп сама просилась и земля так и молила меня:
«иди, Федор, собирай с меня хлеб» — оставил я барышника посреди дороги
и пошел ка божью работу. И по сей день бога благодарю!
Он крестился, целовал землю и бил поклоны.
— Пришел я к своим людям и весь свет мне раскрылся! Уж тут я все
силы вложил. Женился, хату поднял на своем горбу. Все к хорошему шло.
Да видно грехи искупать надо, бог-то палкой не бьет. Умерла у меня
Катерина, но — молчу, его воля, он велел. Детьми тешусь, рощу, лелею —
вырастил, а люди взяли да изувечили. Пошла моя Настя ни в сех, ни
в тех, туда же пошла, в прислуги, а Марию понесло с поляком в чужой
край. Бедовать ей еще! Но — молчу, накажи меня бог, если скажу что.
Грешен — терпи!
— А я остался босиком! Иду я к нему в слякоть: дай грейцер, ноги
обуть. А он мне говорит: «ищи службу у шинкаря». Я к вам, а вы мне —
«марш»! Куда же мне теперь?! Наказывает бог, наказывают люди,
наказываете вы — не в силах я столько вынести!
— Идите, дедушка, в ясли, честью просим.
— Ну, пусть накажут меня, я приму, только чтоб по справедливости!
Тебе понравится, если я из твоего хлеба весь мякиш выем, а тебе одну
горелую корку отдам? Ведь не понравится, не по справедливости ведь?
Он разодрал ворот и швырнул рубаху под ноги волам.
— Вот гляди, какую мне корочку оставили богачи? С чем же тут
жить? И что тут еще наказывать?
И он, голый, свалился наземь. Батраки прикрывали его всем, что было
лучшего.
VI
Возле сельской канцелярии стояли две толпы. Одна ободранная, чужая
селу, апатичная, другая чистая, белая, веселая — батраки и хозяева. Время
от времени от каждой группы отделялся вызванный, входил в помещение
и голосовал. Эконом совсем охрип — ему приходилось каждому батраку
называть помещика, корчмаря и войта. Жандармы прогуливались и
усмехались, глядя на все происходящее, как на детскую забаву.
— Ну, ребята, пана уже выбрали, садитесь и принимайтесь за
водку, — сказал эконом.
Хозяева зашумели.
— А-а, голодранцы вшивые, господская скотина!
— Слышите, мужики, как богачи хрипят?
— Пускай, а мы выпьем!
— Жар вам пить из печи! Кровью своей упейтесь!
— Нет, мы водки хотим!
78
Василъ Стефаник. Путь
— Нашли господа закон на нашу голову: войной босяки на село идут!
— Ты, книгочей, думаешь, я не был в читальне? Там бедняк тоже
у порога торчит. За столом сидит поп, старшие церковные братья,
богатеи, дьячок читает газеты, а вы киваете головами, как волы, будто что
понимаете. А сами дурак на дураке, хоть с кашей ешь! Выходит, и в
читальне вашей богач за столом, а батрак у порога. Так в церкви, так в
канцелярии, так везде. На что ж нам с вами быть?
— Мужицкая голова не для грамоты, а зад не для кресла!
Батраки расхохотались.
— Тихо вы там, неумытые, сперва вшей перебейте, а потом уж учите
хозяев уму разуму!
— О-о! Курочка, и ты с людьми? Да ведь ты хуже барышника. Чего
горланишь?! Не бойсь, твое богатство все пойдет прахом! Помнишь, когда
я у тебя служил да на работе хворь меня свалила? Вынес ты мне тогда за
неделю хоть кусок хлеба или воды напиться? Это ты мужицкую сторону
держишь? Я у тебя всю силу оставил, а ты меня выгнал к зиме босого!
Да ты хуже шкуродера-шинкаря, тот хоть не нашей веры! Да только
спустят дети твое богатство — следа не останется! Нехристь!
Курочка так дал Федору по скуле, что тот упал, обливаясь кровью.
— Ребята, а ну намнем богачу бока!
Батраки бросились на Курочку, за того вступились хозяева, и полилась
кровь...
VII
Федор лежал в своей лачужке на постели. Глаза его горели, как жар
от красных язычков, которые разбегались тысячами огоньков по телу и
пережигали его на уголь Эти язычки молниями пролетали по всем жилкам
и возвращались в глаза. Он грыз кулаки, бился лбом об стену, пытаясь
выбить из глаз эти искры.
Он весь вспыхнул, чувствовал, что из него рвется пламя, хватался
руками за глаза. И вдруг — страшный крик, нечеловеческий вопль. Язычки
пламени вылетели из тела и пристали к стеклам оконца. Федор вскочил.
Оконце багровело, сочилось кровью, как свежая рана.
— Гори все мое! Все, что я у него на дворе оставил!
Он скакал, плясал, хохотал
Оконце дрожало, тряслось, и в лачужку натекало все больше крови.
Федор выбежал на порог.
Звезды падали на землю, лес оцепенел, а откуда-то из-под земли
вырывались яростные крики и тотчас пропадали. Хаты ожили, дрожали,,
поджаривались в огне.
— Мне чужого не надо, пусть только мое сгорает до тла!
Кленовые листочки
79
Кленовые листочки
ι
Постель была застлана полотном, у стола на передней и задней лавках
уселись кумовья, на краю печи — рядком дети. Малыши поспускали
рукава и походили на стайку отдыхающих перепелок, готовых вот-вот
взлететь. Зато кумовья сидели, как пригвожденные, только руками доставали
хлеб или чарку, но и руки охотнее не двигались бы, а отдыхали на
коленях, сжатые в кулаки. Неохотно тянулись они за хлебом и чаркой. На
шестке мерцала плошка, и большие черные уродливые тени гостей
ложились на потолок. Там они переломились на матицах и тоже не двигались.
У стола понуро стоял Иван, хозяин дома и отец только что
окрещенного младенца.
— Милости прошу, кумы и кумовья, выпейте еще по одной. Хоть это
и не водка, а бурда, да ведь у мужика всегда так: что ни есть на свете
самого невкусного — его еда, что ни есть на свете самого тяжелого — для
него работа.
— На то мы рождены, — набожно отвечали кумовья.
Когда чарка обошла всех, Иван не поставил, а положил ее возле
бутылки, — боялся, как бы она, такая маленькая, не упала со стола.
— Закусывайте... Нет, вы только глядите, какие на меня хлопоты
свалились в самую жатву, в самую страду. Ей-богу, не знаю, как и быть?!
То ли бросить ниву, ходить за женой да кормить детей, то ли их тут
бросить на милость божию, да взяться голодному за косу? Уж верно
так — ведь в эту пору никто сюда и за большие деньги не пойдет. На
тебе, Иван, чадо, радуйся, мало их еще у тебя!
— Не ропщите, кум, не гневите бога — то его воля, не ваша. А дети —
пена на воде. Хлоп! — и снесете всех на кладбище.
— У меня не хлопнет, а вот где одно дитя, там хлопнет. Нищему
к жене лучше не льнуть, ему лучше и не глядеть туда, где жена. Тогда и
бог не даст...
— Пустое вы говорите, кум, никогда этому не бывать — люди должны
плодиться...
— Так то люди, а то нищие плодятся. Вот я и говорю, раз ты нищий,
не плодись, чтоб не развелось вас, как мышей, будь доволен, пока есть чем
тело прикрыть, да не сидишь без куска хлеба, да никто тебя по роже не
лупит. Есть эти три угодья, ну и хорошо, и будет с тебя, а от жены
отступись!
— Кум Иван, да оставьте вы жену в покое, женщина, знаете, в такой
еще поре, не к чему ей это слушать, для здоровья от таких речей вред.
Как-нибудь в другой раз...
— Простите меня, очень прошу, за такие речи, а только вы думаете,
я о ней забочусь, или о детях, или о себе? Ей-богу, не забочусь я ни о ком,
пропади они все и я с ними. То-то потеряли бы рай на земле и богатства
великие!
80
Василъ Стефаник. Путь
Кумовья уже не отзывались, не возражали, видели, что Ивана не
переспорить, и хотели только, чтоб он поскорей выговорился и отпустил бы их
спать. Иван вышел из-за стола на середину хаты, спустил рукава, как
малыши на печи, и заговорил с детьми.
— Что же вы не летите с моей шеи? Я вам и окна, и двери растворю,,
айда!..
Дети забились глубоко на печь, так что их не стало видно.
— Ишь, саранча, — все хлеба, да хлеба, да хлеба! А где же мне взять
столько!? Да мне стоит раз на двенадцатый сноп позариться, стоит раз
к нему нагнуться, так из поясницы, прямо в грудь и отдает! Так с
каждым колоском сердце и жалит!
Сказав это детям, Иван снова повернулся к кумовьям.
— А вечером, только покажешься дома, сам, как мочало, как тряпка,,
выжатый, а они в один голос, и жена, и дети: «хлеба нету!» И не
ложишься, бедный человек, спать, а тащишь цеп и молотишь в потемках,
чтобы завтра было им что под жернова класть. Так цеп и свалит тебя на
хлеб, так и проспишь до утра, застынешь до того, что роса на тебя
выпадет. Продрал глаза, а их роса ест, мало тебя ест беда, еще и роса найдет
тебя ночью! Промоешь глаза и тащишься на поле, такой черный, что и
солнце пред тобой меркнет.
— Не горюйте о детях, Иван, вы у них не один, еще и бог есть, он им
отец постарше вас.
— Я бога за грудки не хватаю, а только на что же он пускает их
в мир, как голого в крапиву?! Пустит на землю, счастья в руки не даст>
манной небесной не напитает, а потом крик на весь свет: «мужики —
воры, разбойники, душегубы!» Взопрется в церкви на амвон, сам такой
гладенький, что и мухе не уцепиться, и ну честить, ну попрекать! — «Вы,
говорит, детей страху божиему не научаете, вы их сами посылаете
красть...» Э, где уж мне — и не повторить всего! Да будь у моего
ребенка и мамка, и нянька, и матушка, да если бы мне со всего села все
носили, я бы, ваше преподобие, знал, как детей учить! А мои дети растут
в бурьяне вместе с курами, а случись что, вот как сейчас, никому
невдомек, что они за целый день ели. Крадут ли, просят, или пасут — откуда
мне знать? Я кошу на ваших полях и не только детей, себя не помню!
Вы хотели, чтоб я и ваши поля уделал, и детей выучил? А вы на что?
Вот какое у нас, милые, житье, сами знаете...
— Знаем, кум, как не знать — знаем, сами мыкаемся. ..
— Я на ребенка смотрю, не думаю — обходительный ли, умеет ли
что. Я только гляжу, крепко ли уже на ногах стоит, можно ли его уже
в наймы спровадить. Вот чего я жду. Я не жду, чтобы он в силу вошел„
окреп, пожил бы возле меня. Только богач или помещик пасть разинет,
я его — туда, лишь бы с рук долой! А он потом крутится возле скотины,,
ноги — одна сплошная рана, роса их ест, стерня колет, а он скачет да
плачет. Ты бы рад вместо него стадо завернуть, ноги бы ему целовал, —
твой ведь, совесть мучает!—так нет, идешь мимо, еще и спрячешься от
него, чтоб не заметил! ..
Иван побагровел и задыхался.
Кленовые листочки
81
— Так и растет он в хлеву, под столом, либо под лавкой, грызет
кулаки, умывается слезами. А подрастет, что-нибудь украдет — своего-то
добра не видел, ему бы натешиться хоть краденым. Глядишь, идет к тебе
жандарм. Закует в кандалы, отдубасит — как же: ведь ты отец вора, стало
быть, с ним в сговоре. И вот тебе уже вор на веки вечные! Но это еще не
все, конец еще впереди. Пусть бы сын — тебе чадо, а людям — вор,
пусть бы он сгнил в тюрьме, вора не жалко! Пусть бы! Так нет — они
отымут здоровье и кладут лечиться в лазарет, а войту шлют письмо, чтоб
отец платил кормовые. Из хаты выгоняют, под плетень вышвыривают
с пожитками! Идешь к войту, целуешь руки: «Войтушка, вызволите!» —
«Ты, — говорит войт, — бедняк, так может и освободим, только мне-то
какой барыш от твоей выгоды?» Пожмешь плечами, сложишься, как
складной ножик, и отвечаешь: «Отработаю месяц задаром...». Так, люди, ил^
нет? Правду я говорю или брешу, как собака?
— Все так точно, ни одним словом не покривили!
Иван весь дрожал под грузом своих страшных слов.
— Только не говорите, что я каркаю над головами своих детей, как
ворон над падалью, ох, не говорите, не говорите так! Я не каркаю,
я правду говорю, это боль моя над ними каркает, сердце мое каркает над
ними!
Глаза его загорелись неистовой любовью к детям, он искал их взглядом,
— Можно подумать, что я для своих детей хуже заклятого врага.
А я только раскрыл перед глазами сегодня и завтра, и год, и другой, ir
посмотрел на моих детей, как они там живут? И что увидел, то вам и
рассказал. Пошел я к ним в гости, и кровь у меня стынет от их беды...
А минуту спустя добавил:
— Будь та Канада не за морями, я бы их в мешок положил и пешком
побрел туда с ними, лишь бы унести подальше от этого поругания. Я бы
эти моря берегом обошел...
Кумовья, забывшие уже было об отдыхе, теперь вспомнили, проворно
встали и ушли.
II
Утром.
Дети ели на земляном полу, обливались и стучали ложками. Возле них
лежала изможденная, желтая мать и все подбирала под грудь колени.
По ее черным нерасчесанным волосам стекала мука и боль, а губы, чтоб
не кричать, были сжаты. Дети с ложками во рту оборачивались к ней,
смотрели и снова поворачивались к миске.
— Семенко, ты уже наелся?
— Ага, — ответил шестилетний мальчик.
— Возьми веничек, покропи пол и вымети хату. Мама не может
нагнуться — болит очень тут внутри. Да не пыли.
— Подвиньтесь, мне из-за вас мести нельзя.
Мать встала и потащилась на постель.
— А теперь, Семенко, умойся как следует, и, Катруся и Мария пусть
умоются, и беги, набери воды, да не упади в колодец, не очень нагибайся.. ►
(у Василь Стефаннк
82
Василь Стефаник. Путь
— Семенко, пойди нарви в решето огурцов, чтобы мама в горшке
наквасила, а то я, видно, долго прохвораю, так нечего вам будет с хлебом
поесть. Еще нарви вишневого листа и хрена. Да не кромсай ботву, а рви
огурцы у самого черенка...
— Семенко, сними с жердок рубашки, дай я залатаю, а то ходите
черные, как вороны.
Семенко всюду бегал, все делал, что мама наказывала, и время от
времени понукал сестренок, говоря, что девчонки ничего не умеют, им
только бы есть.
— Они еще маленькие, Семенко, вырастут, будут тебе рубашки
стирать.
— Я наймусь, мне у хозяина выстирают... не нужны они мне.
— Не радуйся, дитятко, службе, не раз еще поплачешь там.
— Отец вон в наймах вырос и ничего.
— И ты будешь в наймах расти, не раз с тебя там шкуру спустят,
пока вырастешь. Ну, поговорили, Семенко, пора отцу обед нести. Он
уж, верно, такой голодный, что все глаза проглядел, тебя ожидая.
— Я его палку возьму, от собак отбиваться.
— Смотри, потеряешь, обоим нам достанется. Да не ходи без брыля *,
возьми хоть отцовский.
— В ней дороги не видать — на глаза налезает.
— Вымой кувшин, да налей борща.
— Вы меня не учите сколько, сам знаю.
— Гляди, чтоб собаки тебя не покусали.
III
Мальчик семенил по толстому слою пыли и оставлял за собой
маленькие следы, как белые цветочки.
— Фью, пока дойду, солнце меня здорово напечет. А я соберу волосы,
как солдат, так будет лучше идти.
Он поставил обед на дорогу и подобрал волосы под брыль, чтобы
выглядеть, как обстриженный солдат. Глаза его смеялись, он подпрыгнул и
побежал дальше. Но волосы выбилась из-под большого брыля на затылок.
— Это негодный брыль, вот как стану на работу, я себе не такую
шапочку. .. — Только облизнулся.
Пройдя кусок пути, Семенко снова поставил обед на землю.
— Нарисую себе большое колесо со спицами.
Сел посреди дороги в пыль, обвел вокруг себя палкой и принялся
рисовать спицы. Потом вскочил, перепрыгнул через обод и побежал очень
довольный.
В каждые ворота закрадывался, высматривая, нет ли во дворе пса, и
только после этого проворно пробегал мимо.
Из одной подворотни выскочил пес и пустился за ним. Семенко
перепугался, завизжал и сел с обедом. Палка упала на дорогу.
* Брыль — крестьянская соломенная шляпа.
Кленовые листочки
83
Малыш долго сидел, сжавшись в комок, ждал, пока пес укусит.
Наконец отважился посмотреть и увидел черную собаку, спокойно стоявшую
над ним.
— На, на, Цыган, на мамалыги, только не кусай, а то больно и твой
хозяин будет платить штраф. Он тебе потом за штраф все ноги переломает.
Семенко отщипывал из платка мамалыгу, кидал псу кусочки и смеялся,
видя, как тот ловит их в воздухе. Пес открыл пасть, и мальчик сидел
с открытым ртом.
— Ты чей это, озорник, что собак кормишь на дороге? А в поле что
понесешь?
И какая-то женщина дала ему подзатыльник.
— Да-а, он хотел меня разорвать, а вы еще деретесь.
— Чей ты, вежливый такой?
— Я Ивана Петрова, у нас мама родила и заболела, а мне обед надо
нести, а меня псы кусают, а вы еще деретесь...
— Ну, уж и дерусь... Куда ж ты несешь?
— Отцу несу на ниву, возле пруда.
— Пойдем со мной, бедовый, я туда же обед несу.
Пошли вместе.
— А кто обед варил?
— Мама варила, — я еще не умею, а Мария и Катерина еще меньше
меня.
— Так мать не больна?
— Как же не больна? Так по полу катается, так стонет, что ой!
Я за нее работаю...
— Да уж ты работник!
— А вы не знаете, ну и не говорите. Спросите у мамы, какой я умный,
Я весь «Отче наш» знаю. ..
Женщина засмеялась, а Семенко пожал плечами и умолк.
За ним бежал пес, а он делал вид, что кидает ему мамалыгу, и
заманивал его.
IV
Через три дня.
Посреди хаты сидел Семенко с сестрами и стояло корыто с
новорожденным. Подле них миска с зелеными накрошенными огурцами и хлеб.
На постели лежала мать, обложенная зелеными ветками вербы. Над нею
жужжал рой мух.
— Наешьтесь и сидите тихо, я понесу маленького к Василихе, чтоб
покормила. Папа велел носить утром, в полдень и под вечер, а вечером
он сам придет.
— Семенко, не переломи маленького.
— Я думал, вы спите. Папа велел давать вам холодной воды и булку.
А Марийка такая ловкая, уже откусила кусочек. Я ее побил и отнял. Дать?
— Не хочу.
— Папа еще ссучил свечку и велел, если будете умирать, засветить и
дать вам. А я и не знаю, когда?
б
84
Василъ Стефаник. Путь
Мать посмотрела большими блестящими глазами на сына. Бездна
грусти, вся боль, весь бессильный страх собрались вместе в этих глазах
и родили две чистые слезы. Слезы выкатились на веки и застыли.
— Папа утром в сенях тоже плакал и все бился головой о притолоку.
Заплаканный взял косу и ушел.
Семенко поднял новорожденного и вышел.
— Семенко, не давай Катрусю, и Марийку, и Василька бить мачехе.
Слышишь? Мачеха станет вас бить, отгонять от еды и белых рубашек
давать не будет.
— Я не дам и папе скажу.
— Не поможет ничего, сыночек мой миленький, дитятко мое золотень-
кое! А как вырастешь, любите друг друга крепко, крепко! Помогай им и
обижать не давай!
— Вот пойду в наймы, буду сильный. Никому не дам их в обиду.
Я буду к ним каждое воскресенье ходить.
— Семенко, скажи отцу — мама наказывала, чтсб вас любил. . .
— Ешьте булку.
— Побаюкай маленького, чтоб не плакал.
Семенко качал, но баюкать не умел. И мать отерла ладонью сухие
губы и запела.
В слабой, прерывающейся песне изливалась ее душа, и тихо
спускалась к детям, и целовала их головки. Слова, тихие, невнятные, были о том,
что кленовые листочки развеялись по пустому полю, и никто их собрать
не может; и никогда они не зазеленеют. Песню тянуло выйти из хаты и
полететь в пустое поле за листочками...
Похороны
Впереди оборванный мальчуган в белом высоком воротничке. Он несет
черный крест и все смотрит на него. За ним четыре такие же мальчика
несут гроб. На крышке белый тоненький крестик, а весь гроб синий. В
головах прибит веночек из грязножелтых цветов, из тех самых, что.растут
среди камней в городских дворах-колодцах. Веночек — как калачик,
который бедный мужик жертвует в церкви за спасение души.
За гробом плетутся несколько женщин. По ним нельзя узнать,
молодые они или старые. В руках у них маленькие погасшие свечки.
Подмышками полузавядшие вазончики. Это те несчастные цветы, которым
постоянно недостает солнца, и они всегда с одного бока грязнозеленые, а с
другого — светложелтые.
Под ногами мокрая мостовая и в воздухе висит неподвижный туман.
Одна женщина плачет, а другая говорит ей:
— Когда он был здоров, целый день играл у моего ларька. Копался
без устали в канавке, вырытой возле ларька дождем, разыскивал камешки.
Сон
85
Цыпленок без наседки, ну, просто, скажу я вам, цыпленок. И, не стану
врать, ей-богу — каждый день я выбирала булки почерстрее и звала его
в ларек. Он садился возле меня и ел. Как он красиво ел! Рученьки
маленькие, отщипнет совсем чуточку и в ротик, в ротик. Пусть у бога
зачтутся мне те булки, что я ему давала...
Женщина все плачет.
— Осень, осень его доконала, сырость, стужа. Вас цел w Г; день не
бывало дома, а он без вас угасал и угас. А я приходила, приносила свежие
булочки, но он уже не ел. Хотелось ему только пить да пить. Лежит, как
рыбка, и все разевает ротик.
Потом посинел совсем, огнем от него пышет. Словно ktj-to под ним
огонь разложил, а его косточки, как поленца, подбрасывал, чтобы горело...
Идут измученные, поникшие, рассекают крестом изморось.
— А умер он, верно, от той кушетки, на которой лежал. И откуда вы
ее взяли, кушетку эту? Ну просто могила из продранных мешков. На
такой кушетке умрет и здоровый. Я боялась бы остаться с ней наедине.
Сбежала бы или изрубила в щепки. Нет, я б ее не держала у себя.
— Это кушетка его отца, он на ней родился, это наследство. Как
съезжал из бельэтажа, оставил ее нам.
— А где же он теперь?
— Не знаю...
Маленькая процессия сворачивает на другую улицу. Черный крест
покрылся сизыми капельками, мальчики озябли, старухи едва ползут.
Они идут по мостовой, как рваные тени, чужие, никому здесь не
знакомые.
А кладбище впереди, только его в тумане не видно.
Сон
Издольщик спал крепко.
Лес шумел, стонал, тонкие шепотки срывались с веток и сыпались
вместе с морозным инеем. Точно колокольчики падали наземь.
Ветер выл, как выгнанный пес.
Чистое небо застыло, а месяц на нем светил, как на рождество.
Издольщик спал крепко. Головой он лежал на своей куче початков,
а ногами на двух господских. Черные волосы поседели от инея, рыжая
куртка побелела, могучие руки не чуяли холода, а лицо, опаленное ветром,
стало кирпичным.
Он говорил во сне и с каждым словом выпускал изо рта сноп белого
пара. Голос его ветер уносил в лес, и там он долго бился об стволы
деревьев.
— Не тронь, заработанное берешь, тоже нашел богача...
Он поднял кулак, но рука бессильно опустилась на сухие стебли.
— Я работать могу, у меня руки, что конские копыта... Тяпну раз —·
и дух из тебя вон! ..
86
Василъ Стефапик. Путь
— Землю целуй, куда ни ступишь — твоя она или чужая, а ты жив
ею, — своя родит и чужая родит... Это уж так... что верно, то верно!
Земля, коли твоя, все тебе'даст. Она и согреет, и накроет, и прокормит, и
в чести будешь при ней...
Он закашлял, будто в трубу большую затрубил.
— А нет своей нивы, и ходить тебе некуда, не по чем. Нету так уж
нету, ох, нету! ..
Он подложил кулак под голову.
— Долго я бедовал на чужом поле. Однако помог господь, дай бог
всякому. Взял да и дал. На тебе, говорит, клочок земли, держи, не
упускай. . . Зубами вцепись в нее, люби, как бывало жену после венца. ..
Шапка упала с головы и покатилась по ветру.
— Эй, Танаско, да скинь ты шапку, ведь первый раз этой весной
б поле вышел — так повелось. . . Бог даст, и пшеница будет. Испечем
калачи и тем дадим, кому испечь не из чего... Дадим, дадим, нам бог дает,
и мы дадим...
Он раскинулся крестом.
— И меже хочется родить колос, ведь и межа земля, даже еще
лучше... Я тебе в наследство оставлю... Ишь, как скатерть ровная, только
что черна. Я тебе накрою в поле этой скатертью стол, а ты будешь есть
да бога благодарить, что у тебя такой отец был. . .
— Весна-красна, знай, паши, да без огрехов, а волов напоишь и до
заката домой, а то за скотину больше грех, чем...
Тут он проснулся, еще расслышав спросонок свои последние слова.
Глянул на небо, поискал глазами шапку, ощупал голую грудь и
перекрестился.
— Экая стужа с самой осени! Еще снегом занесет... На дворе зима,
а мне такая славная весна приснилась. .. Эй, Яков, принимайся за
кукурузу, разве можно постольку спать!
Бессарабы
ι
Тома Бессараб хотел повеситься в амбаре в самый полдень.
Но Томйха подняла крик, все соседи побросали цепы, все соседки по*
вылетали из сеней и прибежали к Томе на двор. Храбрый Антон, тот,
что за шистку зубы драл, залез в амбар, и уж бог знает, как он там
распорядился, но Тому вытащил еще живого. За это время весь двор
заполнился мужиками и ребятишками. Все стояли и смотрели в великом страхе.
— Ну, чего вы стоите, как на смотринах, помогите мне внести его
в дом. Вот дурной народ, думаешь, он тебя укусит?!
Тому внесли в хату, а толпа вышла за ворота и принялась судить и
рядить по-своему,
— Опять Бессарабы вешаться начинают, нет у них разума в голове..
Бессарабы
87
— Всего три года прошло с тех пор, как Лесь затянулся; господи,
какая тогда была буря! У моей хаты целый пристенок сорвало!
— Бессарабам так уж на роду написано, вешаться одному за другим.
— Я помню, как повесился Николай Бессараб, потом за ним Иван
Бессараб, а не прошло еще и года, как однажды на рассвете на маленькой
вишенке зацепился Василь. Обтряс с нее весь цвет, все волосы у него были
тем белым цветом осыпаны. Вот вам трое, а я еще, считай, молодой
человек. .. мне, может, есть, а, может, еще и нет тридцати пяти годов.
— Ты помнишь это, а мне запало, как на балке повис их прадед...
Богатейший был хозяин, деньги сушил на рядне и пешком никогда не ходил.
Всегда носил нагайку, а черный конь у него был такой, что через ворота
перескакивал. Говорили, когда он мужиков на панщину гнал, то этой
нагайкой мясо рвал на людях. А однажды утром разнесся слух, что старый
головорез висит на балке. Я еще маленький был, но как сейчас вижу:
тьма народа на его дворе. Как сняли его и несли в сени, то так он был
страшен, что бабы со страха плакали. А мужики ничего, только
говорили: «Ну, не будешь с нас больше кожу лоскутами сдирать, вздернул
тебя наконец нечистый!» Потом день или два такая бушевала буря, такие
ветра дули, что деревья выдирало с корнем, а с крыш срывало коньки...
— Люди показывают еще на старом погосте могилы Бессарабов.
Хоронили их по ту сторону рва, не на самом кладбище. Такие могилы и за
старым и за новым кладбищем есть, и во всех одни Бессарабы.
— А вы думали, поп имеет право такого на кладбище хоронить?!
Хоть все состояние отдай — нельзя. Как же такую нечисть зарыть меж
людьми? ..
— Ну, ну, опустят теперь головы Бессарабы. Будут ходить темные,
невеселые.
— Только бы этот других за собою не поволок, на них ведь на всех
находит. Один наложил на себя руки, глядишь, вокруг еще десять
приготовляются. Так их и держит кучкой. Беда их всех на одной веревке
ведет...
— Так до седьмого колена будет их давить, а как седьмое колено
помрет, то уж и мочи больше не станет. Видно, встарь кто-то из них
заслужил у бога. Да, это кара, люди, — до седьмого колена! .. Нет горшей
кары на земле! . .
— Оно и видно, что их бог карает. Вон и достаток им дает, ведь
богачи, и ум дает, да вдруг разом отберет все и вешает на балке.
— Да стоит только в глаза им посмотреть. Прямо в глаза, а черная
рана во лбу, живет, как гниет... У одного глаз, что пропасть, глядит, а
ничего не видит — не для того он, чтобы видеть. А у другого только глаза
и живут, а остальное вокруг них — камень... лоб — камень, лицо —
камень, все. А этот Тома, разве он смотрел на человека, как следует? Глаза,
будто на тебя уставился, а сам глядит куда-то в себя, куда-то в глубь
бездонную.
— Смотрит глаз на тот старый грех, за который послано им
наказание. Он там у них в нутре положен, чтобы все смотрели на него, чтобы не
было им покою, чтоб была кара.
88
Василъ Стефаник. Путь
— Эти Бессарабы во искупление людям родятся, и богатеют и душу
губят.
— Тяжкий грех у них в семье, и должны они искупить его, хотя бы
все ни за что пропали! х
— Грех, мужики, грех не проходит, его искупить надо! Он перейдет
на младенца, сойдет на скотину, он подожжет стоги, градом падет на
зеленую ниву, вынет у человека душу и предаст на вечные муки...
Женщины слушали и едва не крестились, дети притихли, а мужики
еще долго толковали о грехах, пока в конце концов не поплелись в корчму
выпить.
II
Все Бессарабы сошлись у Семенихи Бессарабихи — она была старшая
и богатейшая в роду. Привели и Тому. Семениха наготовила еды и питья,
усадила родню вокруг большого стола, а Тому на лучшее место.
— Тодоска, будет уж тебе плакать, садись да порадуемся, что мы все
вместе. Садись, род мой, чтобы с тобою все счастье село. Был бы Семен,
он бы знал, как вас просить да заставлять. Помните, Миколай, как он
разбил об вашу голову бутылку водки, а пироги псам выкинул, когда вы
не захотели с ним пить?
— Да уж с дедом были шутки плохи — либо сгинь, либо пей!
— Я с тобой, Тома, выпью, ты у меня самый любимый! Вот возьму
да напьюсь! Много ли бабке надо, чтоб девичью запеть...
— Эх, Тома, Тома, кабы я была в твоих годах! Да ты пей, не
опускай глаза. Не опускал бы глаз, держал бы выше голову и на душе бы
легче было. Пей с дядей Миколаем. . .
Она стояла у стола высокая, седая и прямая. Глаза у нее были
большие, серые и умные. Смотрела ими, как будто на всем свете не осталось
места, которого бы она не знала, не было уголка, где бы она, засучив
длинные белые рукава, не занялась бы, как надлежит настоящей хозяйке,
где она не прибрала бы, не уложила и не, привела бы всего в порядок.
— У вас, бабушка, хорошо и есть и пить — потому что хоть вы и
молчите, да глаза ваши угощают.
— Да, уж у меня так. Мне глаза на то, чтобы смеяться да шутить.
Не на то они у меня, да и мама не на то их красила, чтобы плакали.
Вы бы из своих глаз прогнали тьму кромешную, что вам свет застит!
В моих глазах мои дети, мое поле, и моя скотина, и мои амбары — так
на что им печалиться? А придет печаль — выплачусь, вылью слезы да и
оботрусь!
— Не у всех, бабушка, натура одинакова. Бывает такая, что, хоть
медом ее пои, хоть пусти ее в распрекрасную весну на поле зеленое, а она
все плачет.
— Эх, Бессарабы, Бессарабы. Нет у вас детей, нет у вас нивки, нету
скотинки! Есть только мрак, да пелена на глазах, да длинные черные
космы, что вам солнце закрыли. А бог вас карает, потому что вы должны
смотреть на его солнце, детьми тешиться и зеленым колосом веселые щеки
гладить. Ты бери, бери, Тома, не сердись на бабку. Бабка тебя крестить
Бессарабы
89
носила, бабка плакала, когда провожали тебя в солдаты, бабка на твоей
свадьбе всеми монистами отзвонила. Не враг вам бабка. А гневаюсь я на
тебя за то, что ты хотел душу загубить. Только вперед съешьте то, что
я вам наварила, — я даром трудиться не желаю, — а потом поговорим.
— Род мой честный и достойный! Радостно мне не знаю как, что не
забываешь меня, что любишь, и за моим столом пьешь и хорошие слова
говоришь!
По гостям прошел отблеск счастья, как порой отблеск солнца проходит
по глади глубокого черного пруда. Все глаза поднялись и уставились на
старуху.
— Ай, Бессарабы, гляди, сколько глаз, и все одна печаль да тоска!
— Не говорите так, бабушка, мы все так довольны вашими словами,
как будто вина сладкого напились. Мы бы вас, бабушка, в очередь по
хатам брали, чтобы нам было весело.
— Это я-то, старуха, должна вам хаты веселить? А где же ваши жены,
а они не цветут?! А они вам рубах не вышивают, а они детям вашим
голов не моют? Ослепли вы — не видите ничего. Наказал вас бог
слепотой. ..
— Лучше мы, бабушка, встанем да закурим трубки — чего ж сидеть
за столом, коли желудок пищи не принимает?
— Вставайте, вставайте да курите, а я сяду подле Томы да расспрошу,
что ему так тяжко душу гнетет...
III
Тома, человечек маленький, сухой, с длинными черными волосами,
спадавшими мягкими гладкими прядями на широкий лоб. Темно-карие глаза
его будто блуждали по бескрайним равнинам и не могли найти себе путь.
Лицо смуглое, запуганное, словно детское. Он вылез из-за стола и сел
возле бабки Семенихи.
— Рассказывай же нам, Тома, отчего тебе так тяжко жить на свете,
почему ты вздумал покинуть своих детей, жену свою и весь род? Не
стыдись, а выскажи, какая тебя сухота сушит, может, мы тебе поможем или
посоветуем.
Все повернулись к Томе.
— Говори, говори, не таи ничего, легче станет.
— Да нечего таить, — отрезал Тома, — я таил докуда мог, а теперь
все знаете.
— Да ничего мы не знаем, ты скажи, а то мы подумаем, что у тебя
жена плохая, либо дети непутные, либо мы тебя допекли. Да будь с нами
осторожен. Ты знаешь, что стоит одному в нашей семье руки на себя
наложить, за ним тотчас другой потянется. А может, среди нас и есть уж
такси, кто, услышав про твое, задумал и сам то же? —спросил седой Лесь.
Бессарабы, как виноватые, опустили глаза долу.
— Тодоска, да сиди же тихо, не плачь, не плачь...
— Не знаю я, откуда и как, а приходят такие думы, что не дают
покою. Ты свое, а думы свое, только продерешь глаза, чтоб отогнать их-
90
Василь Стефаник. Путь
а они, как псы, возле головы скулят. С добра, мужики, никто не наложит
себе повод на шею.
— А почему ж ты жене не скажешь или ь церкоЕь не пойдешь, когда
у тебя такой наворот в голове?
— Пустое, бабушка. Они как обступят, так уж ни ка шаг не отпустят
от того места, где думают привязать меня. Если б вы знали, если 6 вы
знали! Они меня так свяжут, что нет на всем свете других цепей, чтобы
так глубоко в нутро врезывались. Так и слышу, как бренчат вокруг
меня — трень, брень, дзинь, дзинь... Как начнут дзинькать, так голова
на четыре части разламывается и уши, как рот, разинуты, и все
вслушиваются в этот перезвон. Повернусь ночью, только закрою одно ухо —
другое раскрывается, ну, прямо кости б голове трет. Я накроюсь подушкой,
а оно по подушке этими цепями лупит. Да все нашептывает, будто
маленькой лопаткой сует слова в самую голову: «Ну, иди, иди же за мной, так
тебе лучше будет...» А я держусь за постель, да так, бывает, вцеплюсь,
что мясо в руках трещит, словно я его живьем кромсаю. ..
— Ну что ты такое говоришь ну что ты вспоминаешь?!—закричала
на Тому жена.
— Ты не пугайся, жена, теперь они от меня отвернулись, мне теперь
так легко, словно я вновь на свет родился. Но я вам хочу рассказать, какая
мука тому, кто руки на себя накладывает. Такой человек прямо в рай
пойдет! Потому что из неге нечистый еще при жизни вынимает душу,
прямо-таки выкапывает. Тело рвет, раздвигает кости, пробивает себе
к душе путь, чтобы вытащить ее оттуда. И такая это мука, такой страх,
такая боль, что за все эти страдания дал бы я себе ногу или руку отсечь!
— Как же оно тебя по ночам подстерегает, где оно тебя ловит?
— Мне уже наперед слышно, что оно придет, и нет ему ни дня, ни
ночи, ни облаков, ни солнца. Вот, бывало, встанете утром, помолитесь богу
и выходите во двор. Станете на пороге, да и оцепенеете. Солнышко светит,
люди уже подле хат покрикивают, а вы стоите. Чего стоите? А того
стоите, что вас что-то слегка в голову ударило, сбоку ударило, не сильно
так, легонько. А из головы в горло, а из горла в глаза, в виски. И знаете
уже— это откуда-то из-за гор, из-за чистого неба, из-за солнца плывет
черная туча. Вы не можете сказать, откуда знаете, что она придет, но за
три дня прислушиваетесь к ее шуму, как она заговорит в поднебесьи.
И пускаете весь свой ум за нею: он бежит от вас, как пастух от овец, а вы
остаетесь одни, как эти овцы, и страшно вам так, что боитесь слово
вымолвить. Сведет вам зубы, и ждете.
— Я знаю, Тома, я понимаю, аккурат все так, — сказал Миколай Бес-
сараб.
— Ты что, Миколай, очумел, что это нашло на тебя?
— Я так...
Бессарабы недоверчиво покосились на Миколая и умолкли.
— Люди, вы не пугайтесь того, что Тома говорит, вы от него узнаете,
как оно привязывается к крещеному люду. Когда-то прапрадед наш
воевал с турками и убил семерых маленьких детей, нанизал на пику, как
цыплят, и бог его наказал, он бросил воевать и ходил с теми детьми тринад-
Бессарабы,
91
цать лет. То есть не в самом деле, потому что дети-то уж погнили, а все
носил ту пику, и ему все казалось, что он тех детей носит. С тех пор и
пала кара на Бессарабов. Еще когда я шла за Семена, мне мама про то
рассказала и не советовала идти. Вот вы грех за детей и искупаете, а он
час от часу дает о себе знать. Не всякий Бессараб носит тот грех, бог
только одному кому-нибудь кладет его на совесть. Так что вы не
пугайтесь, а запомните, что Тома говорит, как грех вас гнетет, пока не
искуплен. Тело все перенесет, по нем ничего не видно, а совесть мучит, Так вот
стоит иногда дерево высокое, до самых туч. Расколешь его, а там
червоточина; червяка не видно, никогда не увидите, а источено вдоль и поперек.
Так и совесть мучит нас из рода в род.
— Да, когда совесть мучит, это уж кара горше всех.
— Рассказывай же, Тома, как она тебя мучит? Ничего не поможет —
надо выслушать.
— Она мучит, а за что — не говорит, ведь ежели бы я убил или
поджег, а она увидала, а то и вины на мне никакой, а карает. Вот как
зашумит в небе туча, тогда и приходит час руки на себя наложить. Идете над
водою, а она вас тянет, и целует, и обнимает, и по лбу гладит, а лоб, как
огонь, как огонь. Так бы и бросились в ту воду, как в небо. Но вот,
откуда ни возьмись, всплывает в голове слово: «Беги, беги, беги!» И гонит
вас, точно на сотне коней от этой воды, и дышать вам нечем, и голова
раскалывается, шалеете. Вот уж тут истинно шалеете. Глянете на вербу —
и скова будто остановит вас кто. Руки делаются такие веселые, что прямо
пляшут и, помимо вашей воли, сами собою за ветви хватаются, пробуют,
щупают, а вы, словно в стороне стоите, словно не вы все делаете, а сами
руки. И вновь нагоняет слово: «Беги, беги!» Руки обдает огнем, они
падают, как усохшие, и снова бежите. Попадается кто навстречу, женщина
или ребенок, а оно опять: «Беги!» А само говорит с ними и смеется, и
все так, будто не я говорю, и толкает туда, где никого нет. До того
доходит, что вспоминается вам та груша, которую еще в детстве видали.
Где какой колышек, какой крюк, где какая балка... все вспомнится. И го*
нит человека во все стороны сразу, и куда идти — неведомо. А потом
отпустит, сразу отпустит. Пройдет час, а то и два, а то и день, и снова
приходит. Сердце стынет, глаза гак плачут, так плачут, что вытекают. Но
ни слез не видно, ни плача не слыхать. И ведет снова, и терзает наново.
Не раз я выпивал целую кружку водки, и глотал одну перчину за
другой, чтобы перегрызло, а ничего не помогало. . .
А вчера меня уж так придавило, что потерял я вовсе разум, и глаза,
и руки. В самый полдень пришло. Вот пришло да показало балку в
амбаре. Каждую задоринку на ней показало, каждый сучок. Ну, я и не
упирался, некуда уж было деваться, а только отмотал поводья от стойла, да
и залез в амбар. И так было мне спокойно, так легко. Я заматывал эту
веревку и пробовал, хорошо ли держит, и все знал, как надо петлю
сделать, как высоко подтянуть. Я сегодня сам дивлюсь, как я так спокойно
и весело жизни решался. Но теперь, слава богу, отошло, и так я рад, так
рад. ..
Бессарабы словно уснули дубовым сном.
92
Василъ Стефаник. Путь
— Грехи, люди, грехи, надо бога молить.
— Доктора говорят, что такая нерва есть, что она так хворает, как
словно бы человек. Она где-то в человеке скрыта, и как заболит, то разум
отымает.
— Э, что знают доктора! ..
IV
— Эй, а ну выйдите-ка за Миколаем, куда он пошел?—сказала Се-
мениха.
Бессарабы вздрогнули, но ни один не двинулся... Окаменели.
— Да выйдите же за Миколаем, говорю... Куда он пошел?
Женщины заголосили. Бессарабы повскакали и гурьбой высыпали во
двор.
— Тихо, тихо, кто знает, что там, не подымайте крику...
Озимь
По селу сочится, течет тоненькими струйками, распадается на
малюсенькие капельки один голос, осенний сельский напев. Он захватывает и
село, и поле, и небо, и солнце. Протяжная тоскливая песня лоснится на
вспаханных нивах, шелестит увядшими травами, прячется в черных
плетнях и падает вместе с листвой на землю. Все село поет, белые хаты робко
улыбаются, окна вбирают солнце.
На одном огороде зеленеет клочок озимой ржицы, а возле нее на
кожухе лежит белый, как молоко, мужик. Очень старый, с померкшими
глазами. Возле него лежит его посошок, тоже очень старый, рукоятка вся
истерта ладонью. Солнце светит старику прямо в лицо, словно на всей
земле только его и видит.
Старик так заслушался осенней песни, что сам попискивает, как
ребенок. Он бормочет, а орех сбрасывает на него широкие листья один за
другим. В воздухе порхают белые бабочки, им хочется сесть на белые волосы
старика. А он поет, говорит, и соседские петухи слышат и подпевают ему.
Старик пререкается со смертью.
— Не надо мне тебя, — пищит он солнцу, — и не ощеривайся, мне
это ни к чему. Мне надо четыре доски да яму. Напрасно стараешься,
найди себе молодого, а мне пошли ее, а то забыла, сука, про деда...
— Хорош косарь, нечего сказать! Колос созрел, клонится, землю
целует, почернел уже, а косарь ждет! Чего ждешь? Думаешь, еще плясать
пойду? Я свое отбыл, будет с меня, у меня всего вдоволь. Возьми эту
щепотку духу, да выпусти меня из-за стола — будет с меня...
— А может, война идет, и она там, где гибнут такие молодые, что
только целовать впору? С меня-то что возьмешь — одну пустую коробку!
Не лезь к молодым, бери, что тебе по чину. Молодой пускай живет,
пускай детей учит уму-разуму, он от тебя не убежит, пусть хоть и на войне —
а ты не трожь! Ты забирай в яму то, что для ямы годится...
Вор
93
— Вон гляди, руки, — он подносит руку к глазам, — ну что от них
осталось? Кожа такая старая, что и прошлогодний постол* не залатаешь!
Что сделаешь такой рукой? Ты погоди, не дрожи, пока говорю. Мясо,
спрашиваешь, где? А что, я съел его? Я его не пробовал, а коли тебе
мясо по вкусу, то по вкусу и кость. Доедай, раз начала. . .
— Пока есть руки, я иду своим путем, а мой путь вон — ста тропками
по полям торопится. Я картошечку выкопаю, я кукурузку подыму, я
борозду поверну на солнышко, я хлебушек посею — я с руками все сделаю!
А без рук я, коли хочешь знать, дурак-дураком. Это не штука — свести
человека на нет и невесть куда податься! Нет, ты изволь-ка взвалить на
плечи да положить туда, где мне место уготовано.
Куры заходят в озимь и клюют всходы.
— А ну, киш, а то изрублю в капусту! Ты не гляди, что я стар, с
таким зверем я еще справлюсь, справлюсь еще! Что тебе, во дворе есть
нечего?
Он встает и, опираясь на палку, идет на озимь.
— Такие славные зеленя, а она шкодит... Земля всегда молодая, она,
как девка — в праздник нарядится, в будни по-будничному одета, а все
девует, как издревле заведено.
Старик садится посреди зеленой озими, подпирается палкой и молчит.
Он молчит, а село вокруг него печально поет, а вербы швыряют в него
сухие листья.
Вор
Посреди хаты стояли двое сильных, могучих мужиков. Рубахи на них
были разорваны, лица залиты кровью.
— Ты не думай, что я тебя выпущу из рук...
Оба сопели, оба вымотались и ловили ртом воздух. К постели жалась
перепуганная и заспанная молодая женщина.
— Не стой, ступай за Михаилом и за Максимом, скажи, чтоб сейчас
шли; я поймал вора.
Женщина вышла, и они остались вдвоем.
— Попадись такому послабей, убил бы возле собственной хаты.
Мужик шагнул к лавке, взял кружку воды и пил с таким смаком, что
слышалось, как в горле булькает. Потом отер лицо рукавом, и, глядя на
второго, сказал:
— Не надо и к цирюльнику идти, вон сколько крови выпустил..*
Не успел он докончить, как вор саданул его кулаком между глаз.
— Ты бьешь, так и я буду, а ну, кто лучше?
Он размахнулся толстым буковым поленом, и вор упал на землю.
Из ног брызнула кровь.
— Теперь беги, если сможешь, ничего не скажу.
* Постол — кожаный лапоть, национальная обувь гуцулов.
94
Василъ Стефаник. Путь
Оба долго молчали. Тусклая плошка не в силах была продраться
сквозь тьму в углах; робко зажужжали мухи.
— Ты останови кровь, а то вся вытечет.
— Дай мне воды, хозяин.
— Дам тебе воды, крепись, ты еще не знаешь, что тебя ждет.
Долгое молчание.
— Ты, вижу, сильный хозяин.
— Сильный, коня на плечи подымаю, ты, брат, не на того напал.
— А характер у тебя мягкий?
— Мягкий, только вора живым из рук не выпущу.
— Так что мне тут и погибать?
— Почем я знаю, крепкий ты или слабый. Крепкий, так, может,
выдержишь. ..
И в низкой хате снрва настала тишина.
— Останови кровь.
— Зачем, чтоб, как станешь бить, больнее было? Кровь это сама боль.
— Я как стану бить, все равно будет больно, разве что дух испустишь.
— А бога не боишься?
— А ты боялся бога, когда лез в амбар? Да ведь там весь мой
достаток, да унеси ты все оттуда, обездолил бы меня на веки вечные! Как тебя
угораздило не к богачу лезть, а к бедняку?
— Это уж пропало, тут говорить не об чем! Бей, и дело с концом!
— Да уж, буду бить!
На полу образовалась лужа крови.
— А ты, хозяин, имей совесть, не добивай понемногу, а возьми полено
да тресни по голове, так же, как по ногам, — и мне легче и тебе меньше
хлопот.
— Тебе хочется разом? Постой, погоди, обождем, пусть придут люди.
— Ты что ж, хочешь добрых соседей повеселить?
— Вон идут уже.
— Славайсу!
— Навеки слава.
— У вас, Георгий, новости?
— Новости: пришел гость, принимать надо.
— Что и говорить — надо.
Максим и Михайло вдвоем заняли всю хату, головами касались
потолка, а волосы у них были по пояс.
— Садитесь, да простите, что испортил вам ночь.
— Это он на земле?
— Он.
— Здоров, как зверь, верно, не мало потрудились, пока втащили сюда?
— Силен, ничего не скажешь, да на сильнейшего напал! Ну, покуда
там что, садитесь к столу, да просите и гостя.
Георгий вышел и через минуту вернулся с бутылью водки, салом pi
хлебом.
Вор
95
— Что ж его за стол не сажаете?
— Говорит, не может встать.
— Так я помогу.
И хозяин взял вора подмышки и усадил за стол.
— Это вы с ним уже в хате повздорили, Георгий?
— Оглушить меня хотел. Как двинул кулаком между глаз, мало не
свалил совсем. Да я нащупал возле себя поленце и дал ему по ножкам,
ну, он и грохнулся у меня.
— Это не диво. Каждый защищается, как может.
— Да я ничего не говорю.
Вор сидел за столом бледный, апатичный, рядом с ним Максим,
а дальше Михайло. У печи стояла хозяйка в кожухе.
— Георгий, что ты хочешь с ним сделать? Люди, образумьте его, он
хочет человека убить.
— Жена, ты, я вижу, боишься, так поди-ка к маме, переночуй у нее,
а завтра придешь.
— Не пойду я никуда!
— Тогда садись пить с нами, только не пищи, а то вздую. Лезь на
печь и спи, либо гляди, либо как хочешь.
Но она и не пошевельнулась.
— Баба и есть баба, Георгий. Боится драки, да и все, что тут дивного?
— Э, что на нее смотреть! Твое здоровье, парень, я с тобой выпью.
Не знаю, на ком из нас грех будет, на мне за,тебя или на тебе за меня?
А только будет грех, к тому подошло, что без греха не обойдется. На>
выпей.
— Не хочу.
— Придется, коли прошу! Водка взбодрит тебя, а то ты совсем квелый.
— Я не хочу пить с вами.
Все трое мужиков повернулись к вору. Злобные черные глаза угрожали
ему гибелью.
— Ну, давай, выпью, только пять чарок разом.
— Пей, а нам не хватит, еще пошлем.
Он наливал одну за другой и выпил шесть. Потом пили Михайло и
Максим. Закусывали и снова пили.
Михайло:
— Скажи же нам, парень, откуда забрел в наше село, ближний ты
или дальний?
— Откуда пришел, там нету.
— А из каких ты: из мужиков, из мещан или из господ? Чтоб мы
знали, как с тобой обходиться. Мужика бьют так: раза три по голове
оглоблей, толстым концом, да потом по роже, по роже, пока не упадет.
Мужик крепкий, за него и браться надо крепко, а уж как сбил с ног — тут
работа легкая. А с господами, там другой фасон, оглобли ему не
показывай, умрет сразу, а постращай кнутовищем. А как затрясет его, дай два
раза в морду, да не сильно, и глядишь — под ногами уже. Потопчешь
минуту, другую, он и готов, ребра в щепки, это ведь белая кость, как
бумага. А еврея первым делом берешь за пейсы, он скачет, плюется, кор-
96
Василъ Стефаник. Путь
чится, как пружина. Но ты на это не глядишь, а сложишь пальцы кукишем
и под ребро, под ребро. Бить легко, а ему больно...
Мужики натужно, тупо захохотали, а Михайло выставил голову из-за
Максима и ждал, что ему скажет вор.
— Ну, к какой вере пристаешь?
— Я так думаю, что раз вы пьете, то как бы ни били, а живым не
выпустите.
— Правду говоришь, ей-богу, за то и люблю тебя!
— А раз убьете, так дайте еще водки, чтоб я напился и не узнал,
когда и как.
— Пей, раз такое дело, пей, я не перечу, только скажи, как тебя
угораздило на меня напороться, будь ты неладен? Я же кремень, я
каменный, кз моих рук тебя никто не вырвет!
Вор выпил еще пять чарок.
— Теперь бейте, сколько хотите, я готов.
— Нет, постой, тебе хорошо, ты напился, а мы еще нет — ты по пять,
а мы по одной. Вот догоним тебя, тогда и разговор будет.
Михайло смотрел весело, Максим таил какую-то мысль, но боялся ее
высказать, а Георгий был неспокоен.
— Вижу, люди, что быть беде, отступился бы, а вот тянет меня к нему,
ну прямо цепями притягивает... Выпьем-ка еще, закусим...
— Дайте я вам руку поцелую, — сказал вор Максиму.
— Ого, парень, да ты струсил? Это уж не годится.
— Ей-богу, вас не боюсь, вот сто раз побожиться, что не боюсь вас.
— А что же?
— У меня теперь на душе легко, вот я и хочу поцеловать ему руку;
он седой уже, мог бы мне быть отцом...
— Ты, парень, меня оставь, я человек мягкий, я не хочу, обойдись
без меня...
— Да вы дайте руку, грех не дать, я хочу вас поцеловать как родного
отца.
— Ты меня не целуй — я мягкий человек...
Михайло и Георгий сидели с разинутыми ртами и даже пить бросили.
Ерошили волосы и не верили своим ушам.
— Тумана напускает, ишь, чего захотел! Ты, парень, это брось, мы и
такое видали!
Максим вытаращил глаза, как баран, и глядел, ничего не понимая.
— Смекнул, что я мягкий, сразу догадался... — говорил он, чтобы
оправдаться перед Михаилом и Георгием.
— Да вы дайте, дайте, я ведь от души, вот поцелую вам руку и легче
станет: я вижу, мне уж не жить, ну и хочу попросить прощения.
— Ты не целуй, а то я совсем размякну, я тебя и так прощу.
— Я вас очень прошу, без этого мне умирать будет тяжко, я еще
никому в жизни руку не целовал, чтобы вот так, от души. Я, ей-богу, не
пьян, просто мне так хочется.
— Ты тихо, не скули, и не подбирайся издалека, а то как врежу, и не
пикнешь.
Вор
97
— Вы вот думаете, что я с подвохом, а я, ей-богу, правду говорю. Я как
напился, мне и вступило в голову, что вот перед смертью поцелую ему
руку, так мне на том свете грехов убавится. Дайте мне руку, Максим!
Хозяин, скажите ему, пусть даст.
— Чего он хочет от меня, не возьму в толк, я ведь такой
жалостливый, что не вытерплю. . .
Максим не знал, куда деваться, что с собой делать. Раскраснелся, как
девушка.
— Мягкому всегда так, всегда он посмешище для людей, такая
паскудная натура. Я ведь, сами знаете, как напьюсь, плачу. Не надо было меня
сюда звать, мягкий я, как пряжа...
Вор все пытался взять его руку и поцеловать.
— Этот парень хочет нас объегорить. Отойдите от него, Максим.
— Давайте водки, Георгий, выпьем еще по три, чтобы в раж войти, —
сказал Михайло.
— Не отходите, Максим, не отходите, дяденька, от меня... мне ведь
сейчас умирать. Я не боюсь, ей-богу, не боюсь, только неспокойно мне.. .
Вор дрожал всем телом, губы у него тряслись, как живые. Михайло и
Георгий пили водку и не смотрели на него.
— Ну, чего ты боишься, нечего, дам я тебе руку поцеловать, ну, дам,
пускай меня убивают, дам, на, целуй, как хочешь...
Вор припал к его руке, а Максим моргал глазами, словно его били по
лицу.
— Нельзя быть мягким, мягкий не годен ни на что...
Михайло растопырил пальцы на руках и показывал их Георгию.
— Гляди, какие сильные, а уж драться им охота, — где ухватят, там
с мясом рвут!
Георгий ничего не говорил, только все плевал в ладони и наливал
водки.
— Будет, парень, будет, я пойду, тут бога нет, я на это не могу
глядеть. Не цепляйся за меня, не обнимай, пусти, мне так стыдно, что не
знаю, куда деваться!
— Я еще образ поцеловать хочу, я хочу порог, я хочу всех, всех на
свете! — кричал вор.
Жена Георгия спрыгнула с печи и убежала, Михайло Еышел из-за
стола темный и пьяный, как ночь. Георгий стоял и не мог вспомнить, что
он должен делать.
— Вы, Максим, катитесь из хаты, чтоб я вас тут не видел, а то убью,
как воробья; убирайтесь.
— Я пойду, Георгий, я вам ничего не говорю, вы уж не гневайтесь,
знаете, что я мягкий человек. Грех вы на себя берете, сдается мне, но.. .
иду.
— Идите, идите, не мужик вы, а паршивая баба.
— Я и говорю, что не гожусь для этого...
Максим поднялся и вышел из-за стола.
— Будьте здоровы и не скучайте, а я, как говорится, не гожусь...
Вор остался за столом один, немного бледаый, но веселый,
7 Василь Стефаник
98
Василь Стефаник. Путь
— А ты выйдешь из-за стола, или выносить тебя?
— Не выйду, вижу уже, что не выйду, буду тут, под образами сидеть.
— Ох, выйдешь, ей-богу, выйдешь, попросим!
И они бросились на него, как голодные волки.
Чудак
Это такой маленький человек в маленьком городке, где много евреев
и один его винный погребок. Городишко лежит среди окрестных сел
трупом, эдакой вонючей, как падаль, свалкой для всего уезда. В
базарные дни он оживает, украшенный сошедшимися из сел, и веселеет. На
рынке стоит комедиантский балаган; в нем играют страшные музыканты,
с полотняных стен его скалят зубы страшные звери и восковая
красавица бьет в дребезжащие тарелки. А перед балаганом стоят крестьяне
в самых разнообразных нарядах и смотрят. Глаза их устремлены на
деревянного паяца, который машет руками с крыши балагана, приглашая
псех зайти. Смех, гам, смех до слез. Но тут выходит деревянная девица
и обнимается с паяцем. И тогда смеху на рынке становится столько, что
у корчмарей закладывает уши, а чиновники в канцеляриях вскакивают
с мест. Весь смех изо всех сел собрался на рынке. Старики теребят
сыновей и снох — пора идти за покупками, а тем и в голову не
приходит покидать представление. Только к вечеру толпа расползается,
оставляя пустой, загаженный рынок, чтобы было где еврейским
ребятишкам поиграть.
Вот в каком городке живет маленький пан Ситник. Он на пенсии,
детей у него нет и жены тоже. Сам уже серый, в серой шапке и одет
в серое. Целый день он сидит в своей лавочке и молчит. Попробуют
с ним заговорить другие господа, а он тянет из стакана пиво и
забывает ответить. Даже самый почтенный из посетителей — пан староста1
не может к нему подступиться. Так он молчит у себя в лавочке весь день
и ждет мужиков. А когда, бывает, пошлет к нему кто-нибудь бабу за
вином, которое пьют вместо сердечных капель, или за крепким черным
сахаром, полезным, когда теснит в груди, она станет перед входом и
не решается зайти. Тогда Ситник выбегает из лавочки и говорит:
— Что же вы не идете, чего боитесь? Входите и говорите, что надо,
я вам помогу.
— Да я, проше пана *, не смею.. . там господа.
— Ты, хозяйка, глупая. За свои деньги ты имеешь право. . .
Крестьянка входит, а он заискивает перед ней, словно она пришла
к нему в гости. Она совсем оробела и порывается целовать господам
руки.
— Не целуй, не лижи им руки, ты хозяйка, ты больше хозяйка, чем
любая пани, у тебя своя земля.
* Проше пана--пожалуйста (полъск.). Здесь — выражение почтения.
Чудак
99
Крестьянка стоит и смотрит на него в изумлении.
— Говори, что тебе надо, да смело, пора уже, чтобы украинские
крестьянки вели себя с достоинством. Ты господ не целуй, они живут твоим
трудом, они твои слуги.
Господа хохочут, крестьянка уже по-настоящему испугана, а Ситник
смотрит на господ и злится, очень злится. Потом он упаковывает
женщине ее покупки и провожает ее за дверь. На улице он толкует ей,
чтобы никогда не целовала господам руки, чтобы взялась за ум и
уважала себя, потому что господа — лиходеи, разбойники. Крестьянка
смеется, благодарит его за услугу и уходит. А он возвращается в лавочку,
смотрит на посетителей свысока и так весело насвистывает, что глаза
его проясняются и лицо молодеет.
— Вы бунтуете хлопов*, я прикажу вас арестовать, — говорит пан
староста и смеется.
Тот потягивает пиво и не смотрит в его сторону.
— И кто бы мог подумать, что пан Сигник такой анархист!
Тот все еще молчит.
— Шел вместе с нами, развлекался, играл в карты, а под старость
показал-таки московскую душу, москаль-москалем!
Господа хохочут, им все это забава, а у Ситника глаза уже кровью
налились.
— А если я не желаю больше пить кровь, как вы, и после полудня
затыкать окна подушками, чтоб не мешали мне спать? Мне умирать на
днях, и я хочу стать перед богом хоть немного чище.
— В баню, пане Ситник, в баню за двадцать центов, хо, хо!
— Это вам будет баня когда-нибудь, еще какая баня!
— Что ж, вот взбунтуете народ, да возьметесь за косу, а хлопы за
вами. . . Могла бы быть и баня, только не так уж вы злы.
Ситник засуетился, в лавочку вошли двое мужиков и стали у порога.
— А вам что угодно? Да не стойте, как жулики, вы же сами себе
господа, хозяева.
— Мы, проше пана, выпили бы по стаканчику вина, говорят, тут
хорошее, для желудка полезно, а то в шинках одна дрянь.
— Пройдемте в другую комнату, там сядете, и велите подать себе,
как люди. . . — говорит Ситник.
— На что же? Мы тут постоим, нам рассиживаться некогда.. .
— Видите, какой вы темный народ. Вот, скажем, немец-крестьянин —
поглядите, как он ведет себя: просто проходит, садится и баста.
Ситник показывает, как немец входит, как садится.
Господа хохочут, мужики стоят сконфуженные. Опустили головы и
не знают, что с собой делать.
— Идите, не будьте баранами, сейчас же идите, чего вы боитесь
этих господ? Да это же ваши наемщики, вы их кормите, одеваете, а сами
перед ними во фрунт!
* Хлопы — крестьяне, мужики (тюлъск.).
7*
100
Василъ Стефаник. Путь
Мужики багровеют, потеют от стеснения и проходят за хозяином
в соседнюю комнату. Там они сидят за столом и молчат. Ситник звонит.
— Подайте нам литр вина.. .
— Пейте, прошу вас, не озирайтесь, точно к разбойникам попали.
Я ваш человек, плоть от плоти...
— Дай вам бог здоровья, пане.
— Я жил среди господ, я им служил, я вас забыл, я играл с ними
в карты. . .
— У господ свои утехи, у мужиков свои, каждому свое.
— Это не так, теперь, если ты украинец, то и держись украинцев,
а если нет, то ты последний лайдак, драб * и разбойник, понимаете?!
— Это правда, пускай каждый держится своей веры.
— А видите, видите! Но я смолоду не был таким бездельником!
У меня был один портрет в доме, где-то я его купил и повесил, портрет
одного нашего митрополита. И вот говорит мне раз один пан: я приду
к тебе с визитом. Милости прошу, — говорю, — а сам иду домой,
снимаю тот портрет со стены и — под кровать. Ко мне часто приходили и
я всякий раз прятал портрет.
— Известно, пане, человек боится проштрафиться, чтоб не срезали
нашивки, паны-то не любят мужиков или, как это там называется, рус-
наков, что ли. . .
— Так вот, знаете, я этот портрет лет двадцать то снимал со стены,
то снова вешал. А к концу стало мне его жаль. Посмотрю на него, а он
вроде бы на меня зол. Нет, не то чтобы зол, а как будто плачет на
стенке. Мне казалось, что когда меня нет дома, он плачет громко,
навзрыд. ..
— А это может быть, чтоб портрет плакал?
— Вы меня не понимаете, это мне так казалось, будто он плакал, и
я стал подкрадываться к окнам и прислушиваться — не плачет ли. А
однажды я вышел из казино после полуночи, иду домой. Подошел к окнам,
слушаю: плачет, прислушиваюсь получше — плачет, ей-богу!.. Страшно
мне стало, не знаю, входить в дом или возвращаться? Стою, стою,
дрожу, боюсь. Собрался с духом. . .
— Полночь, пане, самая опасная пора! Нечистой силе самое
раздолье.
— Да нет, вы не понимаете, это меня угрызения совести так мучили,
что даже почудился голос. Вхожу в дом, едва держусь на ногах, ничего
не слышу. Зажег свечу, на портрет и глянуть боюсь. Ложусь, и все мне
хочется посмотреть на портрет, да недостает отваги. . . Глянул, а он
заплаканный. Меня бросает то в жар, то в холод, щелкаю зубами. . .
— Чего уж страшнее — в самую полночь один на один с таким
портретом!
— Проболел я тогда долго, думал, что уж капут мне. Позвал к себе
нашего священника, рассказал ему, готовлюсь к смерти.. . Но, бог мило-
сал, встал. По болезни я сразу остазил службу, ушел на пенсию и ска-
* Лайдак — подлец; драб — мошенник (польск.).
Чудак
101
зал себе, что не стану больше стыдиться своих, буду жить с ними и
защищать их. Я уже слаб, долго вам не послужу, но, пока еще есть
силы, буду ходить за вами, как грешник, и умолять: не отталкивайте
меня. . .
— Дзенькуем * вам, пане, что так славно поговорили с нами, дай бог,
чтоб таких господ было много, дай вам боже светлую старость. ..
— Нет, это я вас должен благодарить, это я ходил по вашей беде,
как по мягкой подушке, и не сознавал. . .
Ситник расплакался, а мужики смотрели на него и говорили:
— Да вы успокойтесь, не расстраивайтесь, мы на вас не в гневе, что
нам до того, как господа живут, у них свои законы, а у нас свои.
— Вы меня не понимаете, вы меня не понимаете, я хочу, чтобы вы
были людьми. . .
— Да мы, как можем, стараемся вас слушать, вы ученый человек,
можете нас на дорогу вывести. . .
— Вот, вот — надо знать дорогу. . .
— Добряк он, должно быть. . .
— Видно, попивает, а добрый человек.
— Есть такие господа — напьются и плачут, как мужики.
'— Бывают, бывают и меж ними мягкие, — переговаривались му*
жики на пути домой.
Благодарим (польск ).
МОЕ СЛОВО
Мое слово
Белыми губами, вполголоса расскажу вам о себе. Ни жалобы, ни
печали, ни радости не услышите в моей речи.
Я ушел от матери белый в беленькой рубашке.
Над белой рубашкой смеялись. Обижали, ранили меня.
И я ходил вкрадчиво, как белый котик.
Я чувствовал, что это подло, так ходить, и кровь по капле сочилась
из детского сердца.
А спал я в нанятой комнате, среди грязных тел, сплетенных
распутством.
Листочек белой березы на свалке.
Я снял надетую мамой рубашку. Мир моего детства и далеких
мужицких судеб остался позади.
Передо мною стоял носый мир, новый и черный.
Я цеплялся за его полы, а он смотрел на меня свысока.
Как на мальчонку-нищего.
Я онемел от боли. И молчал, долгие, долгие годы.
О, мои невысказанные слова, невыплаканные слезы, недосмеянныи
смех!
Вы гнетете меня, как гнетут могилу на чужбине черные камни от
сломанного креста.
Я нашел товарищей.
Они жили в согласии с новым миром. Я говорил им о моем
покинутом мире и о новом, который притеснял нас.
Отвечали, что я лгу.
А я порывался и падал в грязь, обессилев, и не уступал.
Мне повторили, что я лгун. И оставили меня.
А когда я плакал, мать рыдала:
— Ты живи наедине с собою, господа не примут тебя. Не надо было
уходить из дому.
И я остался, как куст с лугов посреди поля.
Я сидел в поле. ^
Мысли мои тянулись длинными бороздами плодородной пашни. Пили
сок земли и питали меня одиночеством.
Мое слово
103
И еще приносили соленый пот и тихие песни, тянувшиеся за пахарем,
за плугом, и за погонщиком. И поили меня покоем, разлитым над яр-
мами волов, впряженных в плуги.
Еще я видел маленькие костры пастушат и овец на лугу.
Здесь я буду, как буйный ветер править, запою свою песню!
Я создал себе свой мир.
По правую сторону от меня синее поле и черные борозды, и белый
плуг, и песня, и соленый пот.
По левую сторону — черная машина посылает проклятья-стоны из
красного рта.
А в сердце — мой мир, вытканный шелками, шитый серебром,
украшенный жемчугом.
Я в своем царстве.
Мир свой буду резать по камню.
Слово свое буду оттачивать на кремне души и, напитав ядом, слать,
как стрелы, влево. . .
И, наломав из слова светлых солнечных лучиков, обь*зкну в каждый
цветок и буду слать их вправо.
И все буду резать и резать по камню! Пока не ляжет он мне на
могилу прекрасной плитой.
И вишня в головах у меня примет все мои боли на свой цвет.
А я живу, живу в своем мире!
Как безумный бреду в облаке моей фантазии.
Сто раз посылаю душевные силы искать мое счастье в дальних краях.
По тихому пруду прошлого тяну невода моих сердечных стремлений,
чтобы выловить все светлые волны пережитого.
Но рвутся невода и не могут ничего поймать.
Возвращаются ко мне истрепанные и пустые — как мужики с поля.
И я печальный дремлю на облаках.
А как ударит гром, я снова вскидываю голову.
И лечу, лечу на черных тучах. . .
Золотой стрелой рассекаю светлые выси.
Звезды прячутся, как в черную тучу, в мои черные волосы. ..
Холодные тучи, согретые моим взором, проливаются на землю теплым
дождем.
Но солнца мне не достичь.
И я падаю с высот на землю.
Бреду, как старый солдат на деревяшке бредет.
104
Василъ Стефаник. Мое слово
Но крылья заживают, и я вновь лечу к солнцу и к счастью.
И снова врезаюсь в небесный свод и падаю.
Я был счастлив.
Когда я ребенком смотрел, как в маминых глазах тихонько
проплывали чистые облачка счастья — я был счастлив.
А теперь смерть прикрыла эти глаза ладонью.
А я ищу счастья в небе и падаю. . .
Суд
I
Ковалюк поднял валек и говорил музыкантам:
— Играйте честь честью, как следует, эта свадьба на всю Украину
прогремит, и в Коломые, и в Станиславе... Этому уже свадьба без
надобности, но есть еще двое охотников погулять.
Он показывал на Федька Продана, который лежал на снегу с
разбитой головой. Возле него сидела жена, держала в руках новую шляпу
и спрашивала:
— Что ж теперь велишь делать, что детям передать?
И шептала, и шептала ему, словно передавала на тот свет.
А Дмитро Золотый прохаживался перед воротами с толстой
орясиной и говорил собравшейся на улице толпе:
— Ни один не смей шагнуть сюда, разом уложу этой вот штукой,
это я вам обещаю!
— Кого бьют?
— Богачей.
— Кто бьет?
— Свадьба.
— А Федька уже убили?
— На том свете.
— Ему смерть, а кому тюрьма?
В селе тревожно ударили в колокол.
— Сейчас все сбегутся и не дадут.
— Дадут, дадут, будут торчать тут, такие же как вы, — отвечал
Золотый.
У сенной двери разгоралась новая баталия. Михайло Печенюк уперся
руками и ногами в косяки, и ни Петрик Синица, ни двое Золотых —
Иван и Каленик — не могли вытащить его во двор.
— Вы с голоду сдыхаете, а я силач, я всякий день ем мясо, а вы
тюрю без молока.
— Теперь будешь сырую землю грызть.
Из сеней вырвался женский плач, как кровавое эхо.
Суд
105
— Не говори им так, Михайло, не говори, не говори, попроси их! —
говорила женщина.
— Болтай, глупая баба, — какие уж тут просьбы, тут смерть.
Пока они препирались, Петрик Синица схватил Михаила зубами за
палец и мигом вытащил его во двор.
— Ну, теперь аминь Михаилу.
— Михайлиха, садитесь на голову, главное голова. ..
— Посоветуй у меня, вот как посоветую палкой!
— Кровь из него хлещет, как из кабана, да такая красная, здоровая
кровь. ..
— Глянь, крестится. Бьют и помолиться не дают.
— Кончился. Михайлиха дает свечку, только не зажженную.
— Что ж, что был силач, — глина осталась, да и все!
— А жена не плачет, видно, совсем выбилась из сил.
Из сеней выбежала гурьба женщин и среди них Касьян. Золотые
и Синица бросились за ними.
— Не спрячешься, богатей, под юбками!
Женщины всей гурьбой обступили Касьяна.
— Не давайте меня, не давайте!
— Боится Касьян, а с ним посчитаться на что бы лучше! Он из
богачей самый въедливый.
— Боится, не то что Михайло. Тот не боялся. . .
— Гляди, бабы-то — беда. Гляди, как плюют на Золотых.
— Схватили Петрика и все легли на него.
— Не дадут.. .
— А вы чего подзуживаете из подворотни. Только и умеете, что жен
бить да евреев за пейсы дергать, а как до дела доходит — станете в
сторонку и скулите, как щенки, — крикнула толпе одна из женщин,
защищавших Касьяна.
— А вы, войт, почему не наводите порядок? Бабы за вас наводят
порядок?
— Ишь, умница какая, — ступай, войт, да подыхай — голодранцы
сговорились бить богачей!
Совсем рассвело. Хаты стояли на белом снегу, как стая больших
черных птиц. Лес преспокойно шептался. Все еще звонил набатный колокол.
Из толпы женщин вышла Иваниха Золотая, взяла окровавленного
мужа за рукав и говорила:
— Муженек, ты погляди-ка на людей, на село, на лес — ты
опомнись, ты что же натворил? Ведь люди, не скотина.
За нею вышла и жена Каленика.
— Ты ступай сразу в тюрьму, домой не приходи, а то я с детьми
уйду из хаты. Не приходи, слышишь!
Музыканты перестали играть, а Ковалюк стоял, не зная, что делать
с вальком. Солнце уже выглянуло вполглаза.
Трое Золотых побросали дубинки и сапки и ушли в лес. Ковалюк
расплакался, а Петрик Синица зашагал домой, но на пороге упал, и
у него изо рта показалась пена. Толпа двинулась подымать убитых.
106
Василъ Стефаник. Мое слово
II
В хате Онуфрия Мельника односельчане собрались судить убийц. Ни
один богач не имел права явиться на суд — судили одни бедняки.
Онуфрий назначил и суд, и прокурора, и защитника. Он один сидел за
столом и говорил:
— Село отравлено, одни других боятся, в церкви, что ни воскресенье,
только о бедняках и речь. По селу шныряют жандармы, то и дело звонят
бубенцы — едут разные комиссии. Раскапывают могилы, режут,
вспарывают, а нам, беднякам, кет ниоткуда ни совета, ни доброго слова. Что ж,
будем их сами судить, а почуем, что они виноваты, сами и покараем.
Так говорил Онуфрий беднякам. Они собрались почти все.
Заполнили хату, печь, кровать, сени и двор.
— А если придет войт и захочет разогнать, вы не пускайте, а
полезет, съездите его раза два по морде, пусть убирается. А теперь говорите
нам, пане прокурор, обвинительный акт.
С лавки поднялся Яков Дидык и начал.
— Иван Зуб, бедный человек, играл, знаете, дочке свадьбу. А
бедняк, знаете, всегда рад, когда к нему богач придет в гости, — тогда и
образа сияют, потому что есть кому под ними сидеть. Ну, сошлись одни
бедняки, а Зуб зазвал еще троих богачей: Федька Мельника, Михаила
Печенюка и Касьяна Кропивку. «Дай вам боже здоровья, будьте здоро-
веньки, спасибо, что зашли в мою хату, веселей теперь повеселимся», —
приговаривает Зуб да кланяется, а беднота голодная скучилась у порога
и слушает. «Да прошу вас, да будьте добреньки, да угощайтесь, да
покушайте!» И все к богачам. А те, знай, пьют, а бедных все к постели
оттесняют. А Зуб обо всех гостях забыл, только возле богачей
увивается. Это первый пункт. Тут Петрик Синица и говорит:
— Ты, старик, верно, забыл, что у тебя есть еще гости, — не только
эти трое.
А Зуб подвыпил уже, ну и говорит:
— Синичка, ты не наводи порядок у меня в хате. Как я хочу, так и
будет.
— Ой, не будет так, я пришел на свадьбу, как всякий другой, я
принес такие же подарки, как и всякий другой, так мне и честь положена,
как всякому другому.
Синица говорит, а бедняки навострили уши, им его речь слаще меда.
Ну, тогда на том и кончилось. Стали подавать обед. Перед богачами
все сало да мясо, приправы самая малость, а перед бедными одна
приправа, а мяса чуть. Бедные фыркают, едят, как не едят, а богачи уж
засалились по локти.
Тут Иван Золотый взял у богачей из-под носа бутылку водки да и
говорит:
— Выпьем, братцы, хоть водки, раз есть не дают.
— Эй, Золотый,— говорит Зуб, — а перед тобой что же стоит — не
дар божий?
Суд
107
— Отчего ж перед богачами его вон сколько, а перед нами чуть?
А богачи только краснеют, только поглядывают, но молчат.
Кончили ужинать, заиграли музыканты. Гуляют. Тут и возьми Пе-
ченюк Касьяниху плясать. И вот пляшет, вот всех распихивает. Не стер*
пел Петрик, хрясь Михаила по роже, а тот, не долго думая, — Петрика.
— Эй! Перестаньте играть! — кричит Зуб.
А Касьян говорит:
— Знаете что, Зуб, нате вам пятьдесят левов, плачу за всю свадьбу,
только выметите весь этот сор из хаты.
Это второй пункт.
Дошло до того, что кому-то не миновать было смерти. Каленик Зо-
лотый ка-ак даст, господи прости, Касьяну в морду, — полная миска
крови натекла. А Михайло как ухватил Каленика за кожу на темени, так
и вырвал — с мясом.
— Эй, богачи, убирайтесь, пе то в клочья вас раздерем.
Как же, послушают они! И началось побоище. Кто побоязливей,
сбежали, остались трое богачей, пятеро бедняков и женщины. Женщины
остались все, потому что знали — их в драке никто не тронет. Вперед
вывели Федька Мельника. Вели его Ковалюк, и Петрик, и Иван. Кова-
люк только раз звезданул его по голове вальком, череп треснул, и
Федько уснул на месте, как курица.
А с Михаилом Печенюком было уже не так легко. Мужик ражий, как
медведь, знаете, и не трус. С ним часа три волтузились в хате: их
четверо, а он один. Правда, помогали и женщины, да на что бабы годятся.
Свалили его в хате, а он раскидал четверых, как галушки, свалили в
сенях — и там не дался. Приволокли к двери, а он вцепился в косяки. Но
Петрик Синица ухватил его зубами за палец и вывел, а уж во дворе
убили кольями. Убивали Петрик, Каленик, Иван. Хотели еще и Касьяна
убить, но, во-первых, он упросил женщин, и они схоронили его под
подолами, а, во-вторых, настал день, и мужики опомнились.
Стало быть, убили: Иван, Каленик и Дмитро Золотые, Петрик
Синица и Никифор Ковалюк.
— Ну вот, прокурор сказал обвинение, а теперь будем слушать
виновных, — сказал Онуфрий. — Иван Золотый.
— Хир *.
— Ты виновен в том, что убил Михаила и Федька Мельника?
— Нет, не виновен.
— А кто же виновен?
— Не мы виновны, а богачи.
— Как богачи?
— А они хотели спровадить нас со свадьбы.
— Хотели, но вы не дались, а их спровадили на тот свет.
— Так об чем же меня спрашивать?
— Иванко, молчи, гадина, не тыкай кукиш под нос, а то сам
получишь. Говори, чем убил?
Немецкое hier — здесь.
108
Василъ Стефаник. Мое слово
Тут Онуфрию стала помогать публика.
— Ты, Золотый, говори все по правде, а то отведаешь палок, —
донеслось из сеней.
— Я, ей-богу, только раз ударил!
— Чем?
— Мотыгой.
— По чем?
— По плечам.
— Ну, а Каленик?
— Не знаю.
— Не знаешь, так садись. Каленик Золотый!
— Я.
— Ты убил Михаила?
— Его убило его богатство.
— А если без хитростей?
— Какие уж хитрости! Пьян был, музыка играла, а богачи хотели
нас выгнать, ну мы и решили бить.
— Ладно, били; да кто убил?
— Я не помню.
— Память коротка. Чем бил?
— Чем ни попадя.
Онуфрий больше уже ничего не говорил, только махнул рукой
парням.
— Дайте ему пятнадцать палок, тогда заговорит.
И дознание продолжалось. Публика требовала расправы, а Онуфрий
не позволял и допрашивал остальных обвиняемых: но они не хотели
признаваться и посреди допроса те, что собрались в сенях, стали кричать:
«Они убили, пусть ответят!»
И вытаскивали одного за другим, и передавали с рук на руки. И эти
руки, множество рук, хватали их, мстили, оглашая село ревом и оставляя
за собой страшные вопли женщин и ниспадающую волнами месть.
ЗЕМЛЯ
Мать-земля
Возвратясь на закате домой, Семен застал на своем дворе пять
кованых возов, набитых разным скарбом, да еще с люлькой поверх всего
добра. В упряжке были хорошие лошади. А на завалинке сидели
незнакомые люди, старики и молодые.
— Слава Йсу Христу, добрые люди! Как вас звать и откуда
будете? — сказал, увидев все это, старый босой Семен с башмаками через
плечо.
— Мы буковинские, война выгнала нас из дома; я Данило, а это
со мной жена моя, Мария, старуха уже, а это две мои снохи с детьми и
дочка, тоже с детьми; примите переночевать.
— Ночуйте, будьте гостями. Я с вами посижу, потолкую, а жена
сготовит ужин. Она у меня вторая, молодая, баба хоть куда.
— А у меня первая, уж пятьдесят лет со мной живет, да вот теперь
свихнулась, видно, схороню я ее где-нибудь на раздорожьи — весь ум
растеряла под колесами. Пока видно было с подводы наше село, все
плакала; слезет с воза — да назад, невестки догонят, воротят, а как не
стало видно села — онемела. Так и сидит тут немая с внучатами...
— Не дивитесь, Данило! Она все слова оставила на окнах да на
золотых образах у себя дома, и мечутся они осиротелыми пташками по
пустой хате. Молитвы щебечут по углам, а старуха без них — как
немая. . . Зайдите-ка с ней в мою хату, да прочитайте молитву перед
Николой-угодником, может, заговорит.
Старики потащили бабку под образа и громко прочитали молитву.
Но бабка молчала.
— Потеряла она слова подле своих святых, там только их и отыщет.
Все снова сели на завалинку.
— Не мое дело спрашивать, а все же скажите мне, с чего вы на
кованых возах, на вороных конях, да с молодыми детьми покинули свою
землю?
— Повез я детей на кованых возах, да на вороных конях, чтобы не
отдать их на поруганье. Когда попа с попадьей заковали и увезли в горы,
когда забрали учителя ночью бог весть куда, а войта повесили посреди
села и солдата приставили, чтоб не хоронил никто, я отступился от своей
земли, посадил кровных на кованые возы и увез, чтобы не дать на
погибель. Царь-то православный и мы православные, — выходит, — измена.
Это одно, а другое — москаль идет и солнце закатывается. И Китай, и
Сибирь, и дикий народ со всего света, стариков режут, молодых баб
насилуют, отрубают груди, а малых детей сажают в вагоны и рассей-
110
Василь Стефаник. Земля
вают по пустым землям в далеком царстве. . . Окна в селе ослепли,
колокола онемели. Божия кара постигла нас за грехи всего света. Вот и
решил я забрать свою кровь, детей своих от тяжелой руки господней в
крещеный мир.
— Ужинать зовут, Данило, а вы не гневили бы бога неразумным
своим ропотом.
— Ешьте, угощайтесь, все вы пташки, и летите незнамо куда. А мы,
Данило, оба выпьем этой горькой, может, старые наши плечи от земли
оторвутся да расправятся.
Ужин не мил был никому, только оба старика попивали водку, еды
и они в рот не брали.
— Идите-ка, дети, спать с ребятишками, пошли вам бог светлые
сны; а мы, старики, посидим еще.
— Не прогневайтесь, Данило, что я вам скажу. ..
— Я разум и гнев на своем дворе оставил, меня хоть убивай — я
теперь старый ворон без гнезда.
— Да не покинет старый ворон гнезда старого, ибо нового ему уж
не свить. Пусть лучше его голова в старом гнезде упадет, чем в чужом
яру при дороге.
— Правда, Семен, правда, спасибо вам на этом слове.
— Ну куда вы собрались? За торгашами да господами? Так для
них императорская казна всегда открыта, а для вас заперта. Вот
очутитесь в чужой стране, да меж холодных каменных стен, рассеет вас судьба
по камени, и только сниться вам будет ваша красавица-земля, а руки
окостенелые все будут, на смех гуляющим господам, сеять на камени
ярую пшеничку. Бог вас с того камня к себе не примет, а вот как убьют
вас на вашей земле, сам господь райские врата растворит. Воротитесь
на свою мягкую земельку, там бог благословит хоть и на виселице. . .
— Грешен я, Семенко, грешен перед богом и перед вами. Там ведь
у меня нивы, как овцы откормленные, чернеют да курчавятся. Поверну
я возы до свету, чтобы бога не гневить. . .
— Наше дело — земля. Сойдешь с нее — пропадешь, держишься за
нее — она всю силу из тебя выгребает, всю душу твою вычерпывает
горстью; ты к ней припадаешь, горбишься, она из тебя жилы
выматывает, да зато у тебя отары, да стада, да стоги. И она за твою силу дает
тебе полную хату детей и внуков, смеются они серебряными
колокольчиками и алеют, как калина. Не ходи, Данило, за господами, не ищи
царя — тебе царя не надо: за податями к мужику и без того придут.
— Дай вам бог, Семен, всего лучшего за ваше слово, иду домой, да
свершится божья воля.
Тут и бабка Мария вдруг заговорила:
— Пойдем домой, Данило, пойдем!
— Ах, сука-баба, как вышло по ее, так сразу заговорила!
— А теперь выпьем за здоровье, дай нам, боже, пережить черную
годину, а коли помрем, так чтоб хоть кости гнили в своей земле.
Мария
111
Пили оба старика, и старуха с ними, пили и пели. Бабка сидела
посредине, крепко обнимала обоих и выводила:
Только моей милой
Голубоньке сизой
В темну ноченьку не спится,
Дитятко качает,
Узор вышивает,
С буйным ветром поет, веселится.
Так они пели до зари, а на заре кованые возы загремели, и Данило
повернул домой.
Старики прощались, целовали друг другу темные руки, а багряное
солнце протянуло их тени через межи далеко по земле.
Мария
Мария сидела на завалинке и шептала:
— Лучше бы девки никогда на свет не родились: как суки валяются;
одни закопаны в землю, а другие по шинкам с казаками. Народится же
такое чадо на свет божий! Пустое, глупое, да еще венок на голове.
Только «закопала» она своих двух дочек в тайничок в погребе, как по
сел.у разнеслось, что идут новые казаки.
Чего эти казаки ходят, что ищут? Амбары ее пусты, сарай без дверей,
порожний, в хате голо, и замки от сундуков ржавеют под ногами. Не
хотелось ей казаков в хате ждать. Облуплена, ободрана ее хата.
Мария сидела на завалинке и вспоминала прошлое. Прислонилась
головой к стене, седые волосы ее поблескивали на солнце, как чепец из
сверкающего лемеха, черные глаза оттесняли лоб вверх. Лоб морщился, убегал
под железный чепец от этих огромных несчастных глаз, которые искали
на дне души сокровища всей ее жизни.
Далеко у подножий гор ревели пушки, пылали села, а черный дым
растягивался змеем по синему небу, ища щелей в лазури, чтобы где-то там
смыть с себя сажу и кровь.
За спиной у Марии при каждом орудийном громе дрожали стекла.
А может быть, там и ее сыновья, может, уже укутались белой пеленой,
и кровь из них бежит и рисует на снегу алые цветики.
Она родила их крепкими и здоровыми, как бревнышки. Чем была
пузатей, тем больше работала, после каждого ребенка становилась все
красивее и веселее, а молока у нее бывало столько, что впору было детей
не поить, а купать. И муж был крепкий и милый, и хозяйство.
Жнут, бывало, на ниве всю ночь, звенят серпами, баюкают тем звоном
детей, что позади укрытые спят, — чего же ей еще надо было, или чего
было бояться? Разве чтоб звезда не упала детям на голову. Да Мария
была такая ловкая, что и звезду словила бы на кончик серпа.
m
Ваеилъ Стефаник. Земля
А как нажинали копну, то отдыхали. Молодой муж целовал ее, а она
смехом прогоняла птиц с ночлега. И только когда их тени достигали конца
нивы, а месяц заходил, они ложились возле детей, а утром солнце будило
их вместе с малышами. Она водила их к роднику и споласкивала росу
с голов, а старшенький носил для отца воду в кувшине. Муж оставался
на поле, а она шла с детьми домой: один на руках, а двое подле юбки.
И дорогой забавлялась ими, как девка лентами. Ласкала и голубила их.
Ей на все хватало времени. Крепкая и здоровая, она работала быстро.
Дети росли все, ни один не болел. Пошли учиться. Ходила за ними по
всем городам, носила им калачи и белые рубашки, ноги у нее никогда не
болели. А как заперли их во Львове в тюрьму за бунт, то села в поезд, и
этот поезд так бежал и летел к сыновьям, будто там в машине, впереди,
горело ее сердце. Впервые в жизни почувствовала себя ровней всем этим
матерям-горожанкам и гордилась тем, что это сыновья поставили ее
с ними в ряд. А на вакации отовсюду съезжались товарищи сыновей, и
хата точно раздавалась вширь, делалась двором. Пели, разговаривали,
ласковые с простым народом, читали книжки, и народ тянулся к ним,
расцветал подле них, набирался ума, чтобы добывать мужицкое право,
которое господа издавна закопали в палатах. Шли строем под знаменами, и
господа уступали им дорогу.
А как настала война, то оба старших тотчас же стали собираться, да
и младший не захотел дома сидеть. Всю ночь снаряжала их в дорогу,
затыкала кулаками рот, чтобы их не разбудить. А как начало светать, на
заре, увидела, что спят спокойно, и сама успокоилась. Села у них в
головах, глядела на них тихонько от зари до восхода солнца и за это время —
поседела.
Муж, как увидел утром, сказал:
— Твоя голова их выучила, так пусть теперь и седеет.
Потом она провожала их в город. На каждом шагу надеялась, что
который-нибудь из старших обернется к ней и скажет:
— Мама, оставляем тебе младшего в помощь и утешение.
Но ни один не обернулся, ни один не сказал этих слов. Сизое жнивье
слало ей в душу свой шепот, шуршало в уши:
— Да ведь они отреклись от тебя, забыли господа мужичку...
Капелька горечи просочилась из сердца и сразу отравила ее.
В городе сошлась их тьма-тьмущая, господа и простые парни.
Хоругви и знамена шелестели над ними, и гремела песня об Украине.
У стен стояли матери, они сжимали сердца в ладонях и дули на них,
чтоб не болели. Когда заходило солнце, пришли к ней все трое,
попрощаться пришли.
Отвела их в сторону от людей.
Вынула из рукава нож и сказала: «Младший, Дмитро, пусть останется,
а мет —так я себя в сердце ножом». Сказала это и тотчас поняла, что
рассекла тем ножом свет надвое. На одной половине осталась сама, а на
другой сыновья бегут прочь от нее. И упала.
Прищла в себя, когда земля гудела уже под длинными рядами
поющих песню сечевиков.
Мария
т
Дмитро был подле нее.
— Бежим, сынок, за ними, догоним, пусть простят мне, глупой
мужичке. Я не знала, я не виновата, что у меня голова идет кругом, когда
Украина забирает моих детей...
Бежала, кричала: «Иван, Андрий!» Все бежали за этими длинными,
ровными рядами сыновей, падали на колени и голосили.
.. .Мария очнулась от полусна воспоминаний, заломила руки и
закричала:
— Дети мои, сыны мои, где ваши белы кости лежат? Пойду, соберу
их и принесу на плечах домой!
Почувствовала, что осталась одна на свете, взглянула на небо и
поняла, что сидит она под этой крышкой одна, и что никогда уже не
вернутся к ней ее сыновья, потому что весь свет обезумел, и люди, и
скотина.
Бежало все живое. Еще недавно дорог не хватало. Малые дети несли
еще меньших детей, матери несли за ними скарб; одни сталкивали других
в пропасти; по ночам ревели коровы, блеяли овцы, кони разбивали людей
и разбивались сами.
Позади этих обезумевших людей горел весь мир, словно для того,
чтобы показывать им путь в преисподнюю. Все прыгали в реку, которая
несла на себе багряное зарево и походила на меч отмщения, простертый
вдоль земли. Дороги гудели и скрипели, речь их была страшна, как и
вопль, что родился из бешеной ярости железа и камня, пожиравших друг
друга. Казалось, земля жалуется на свои раны.
А как сошлись над рекой, то пушки вышибали землю из ее
предвечной постели. Хаты взлетали на воздух, как горящие клубки шерсти; люди,
зарывшись в землю, оцепенели и не могли поднять руки, чтобы
перекрестить детей; на багровой реке взбивалась кровавая пена и, как венец,
украшала головы трупов, тихонько плывших по воде.
После битвы копали могилы, вытаскивали из воды мертвецов.
На поле за несколько дней уродилось много, много крестов. И мимо
этих крестов провели солдаты ее младшего сына за то, что царя называл
палачом. Говорили, что ведут его в Сибирь. Далеко ему идти, заструится
кровь из мальчишеских ног, оставляя красные следы. . . Потом и муж
повез офицеров мимо этих крестов и не вернулся доныне.
— Ой, родненькие, оставили вы меня одну стеречь с совами ваши
пустые хоромы.
Пока воспоминания с болью и отчаянием ткали в голове Марии плахту,
чтобы закрыть от ее глаз пропасть жизни, в ворота въехали казаки.
Злясь, что никогда не оставляли ее в покое, Мария сказала им громко:
— А, идете уже, грабители!
— Ничего грабить у вас не будем, матуся, нам бы только погреться.
Пустите. Душа замерзла в теле.
Ответила:
— Ступайте, грейтесь в холодной хате.
g Васпль Стефаник
114
Василь Стефаник. Земля
— А вы?
— А меня можете нагайками и тут бить, а в зазнобы я уж стара, как
видите.
Один из казаков, — еще молоденький, — стал очень просить, чтобы
вошла вместе с ними в хату, одни, мол, не войдут.
— Мы ваши люди, — говорил он.
— Это вы потому, что наши, рвете тело нагайками, а другие забирают,
да вешают? Столько мертвецов качаются по лесам, что дикий зверь прочь
бежит...
Но молоденький казак так долго и славно просил, что в конце концов
она вошла с ними в хату.
Стала у порога, а они расселись вокруг стола.
— Продайте нам что-нибудь поесть. Голодны мы, матуся!
— Что ж я вам дам? Вон на полке есть хлеб, а денег ваших мне не
надо, вы одни даете, а другие отбираете, да еще и бьете. Царь-то ваш
велик да богат, а вас посылает без хлеба воевать? Станьте на лавку, да и
берите с полки каравай.
С хлебом стащили с полки и портрет Шевченко, который был
обернут лицом к стене.
— Хлеб бери, а портрет отдай мне, это моих сыновей добро. Такие же,
как вы, сбросили его из красного угла на землю и заставили меня топтать
его. Я его спрятала за пазуху, а они секли тело нагайками, так что и не
помню, когда из хаты вышли.
Она выхватила портрет Шевченко из казачьих рук, положила за
пазуху.
— Хоть зарежьте, не дам.
Тот молоденький казак, что так славно просил ее зайти в хату,
подошел к ней, поцеловал руку и сказал:
— Матусенька, так ведь я за праздник Шевченко 1 долго в тюрьме
сидел. Неужто ж вы не дадите нам портрет, чтобы мы его повеличали и
поставили назад под образа?
— Кто ж вы такие? Что за люди? Откуда идете? Евреям позволяете
держаться своей веры и грамоты, а наше все запрещаете Теперь снег
покрыл дорогу, а не будь его, вы бы видели, что на всех улицах, по всему
селу разбросаны наши книги из читален. Все, что бедный люд добыл,
чтоб детей учить, пошло под конские копыта.
— Дайте, дайте нам портрет.
Мария медленно вытащила портрет и подала ему — ей уже и самой
стало любопытно, что они с ним будут делать.
А они положили два каравая один на другой, прислонили к ним
портрет, вынули вышитые и промереженные платки и принялись украшать.
— Только глядите, казаки, понравится ли Шевченко, когда вы
украсите его награбленным еврейским добром?
И тут же, в тот же миг один из них, седой уже, вскочил, сбросил
с себя казацкую одежду; он был без рубахи.
— Вот вам, матуся, наше грабительство — все мы без рубахи ходим,
хотя и могли бы немало приобресть. А эти платки, которыми мы Шев-
Мария
115
ченко убрали, это ж казацкие китайки 2, матуся. Наделили ими нас жены,
матери, сестренки, чтоб было чем головы накрыть в поле, ч*гобы ворон
очей не выклевал.
Мария взглянула на них, робко подошла и сказала:
— Вы, верно, те самые и есть, кого сыновья мои любили... Украинцы.
— Мы и есть... Друг друга режем.
Мария полезла на полати, вынула из сундука рубаху и подала
раздетому.
— Надевай, это с моего сына, бог знает, вернется ли, будет ли
носить.
Казак несмело взял рубаху и надел.
— Не теряйте времени, казаки, повеличаем батька, а хлеб будем есть
по дороге. Сами знаете, как нам далеко еще ехать, — сказал казацкий
старшина.
И они запели.
Зазвенели стекла, песня сквозь солнечные блики на окнах вышла
во двор, помчалась в село.
Женщины услыхали и потянулись к воротам, оттуда к окнам и,
наконец, робко зашли через сени в хату.
— Мария, что это у тебя? Пьяные или девок песнями завлекают?
— Нет, это другие...
— Какие другие?
— Такие другие, что наши; молчи да слушай!
Мария широко открытыми глазами смотрела на казаков, она подалась
вперед, словно хотела подбежать и не выпустить их пение из хаты.
Песня выпрямляла ее душу.
Она словно на небе показывала Марии всю ее жизнь. Все звезды,
которые та с детства видела, всю росу, которая орошала ей голову, и все
дуновенья ветра, которые когда-либо гладили ее по лицу.
Эта песня вынимала из ее души, как из черного ларя, все радостное
и светлое и развертывала перед ней, и она не могла наглядеться на себя
в дивном сиянии.
Где-то там, на горах, сидит орел, песня расправляет его крылья, и
взмахи этих крыльев заживляют раны ее сердц.а, стирают с него черную
кровь.
Она чувствует, как сыновья держатся маленькими руками за ее рукава,
как растут с каждым звуком. Слышит каждое их слово, когда-нибудь
сказанное, и каждый разговор об Украине. Все неясные и таинственные
названия выпрядаются из звездной кудели и, как драгоценное монисто,
обвивают ей шею.
Сверкают реки по всей нашей земле и впадают с громом в море, а
народ встает на ноги. Впереди ее сыновья, и она с ними идет на Украину,
потому что та Украина плачет и рыдает о своих детях, ждет, чтобы были
все вместе.
Рыдания эти летят ввысь, колышут и раздирают покров небесный, и
песня, став у божьего порога, возносит господу жалобу...
8*
116
Василъ Стефаник. Земля
Когда кончили петь, Мария стояла недвижимо, как на иконе
писанная.
Из толпы женщин, которых сошлось множество, одна, уже старая,
шагнула к столу.
— Так вы наши? Слава богу, что вы наконец пришли, — заговорила
она. — Ой, никто, милые, нас не любит. Сколько проходило войск и все
нас не любят. А сколько они народу погубили! Где бы там ни было:
в городе ли, на дороге ли, в своем ли собственном селе, всё мы чужие да
чужие, и никто нам не верит.
— Э-э, чего вы от них хотите? Это же не наши. Это у них вид такой,
как в старых книжках писано или на картинках нарисовано, когда они еще
наши были. А теперь они царские. Разве могут они нам пособить? Вот
так только, потихоньку, чтоб никто не слыхал.
— Ты молодая, читать умеешь, тебе лучше знать. Я думала — они
наши.
— И не говорите этого, нас за это могут наказать.
Старуха проворно замешалась в толпу женщин, смотревших с тоской и
отчаянием.
Зато на ее место у самого стола вышла молодая Катерина.
— Глядите, как хозяйка-то, Мария, оцепенела от вашей песни. Она по
сыновьям тоскует, у нее двое пошли добровольцами, а меньшого ваша
власть в Сибирь заслала. Он где-то с такими вот, как вы, ругал вашего
царя за то, что мучает наш народ. А они его — цап, и пропал парень.
Ученые все были. На одно ученье сколько пошло. В селе ни одна мать так
не тоскует по сыновьям...
— Бедняжка, Мария, бедняжка, — шептали бабы.
— Как раз перед самой войной мы насыпали курган этому
Шевченко, что вот перед вами на столе Насыпали в других селах на память,
ну и мы. Хлопот была уйма, старики днем не пускали: работа в поле.
А мы сговорились и работали по ночам: одни на лошадях, другие на
тачках, а кто и просто лопатами. Курган насыпали, что твоя колокольня.
И Мария с тремя сыновьями помогала.
— Да что с того, что насыпали? Только беду накликали на село.
Пришли солдаты, раскидали, растоптали курган, деньги искали или другое
что, и мой Михайло за этот курган пропал.
— Хоть бы ваш Михайло и навеки пропал, а люди никогда его не
забудут. Не ..боялся он царских солдат и говорил им правду: «Вы, говорит,
всю Украину перекопали, как свиньи».
— Хорошо вам говорить, Катерина, а он жену с детьми оставил.
— Так ведь и мой оставил меня с детьми.
— Из вас, верно, кто-нибудь грамотен. Так напишите, чтобы свет знал,
как нас из ярма выпрягают. Мы царю тот курган не скоро забудем.
Кончили мы на рассвете, роса на нас пала и расселись мы вокруг — ноги
болели. А старший сын Марии залез на самую вершину и так хорошо
говорил, что, мол, с этого нашего кургана будем смотреть на тот курган, что
на Украине, и мысли у нас будут одни. И смотрел он так, точно и в самом
Случай с детьми
117
деле на звездах Украину видел. После встали мы и пели такие песни, как
вот вы теперь.
Тут Катерина прошептала казаку на ухо:
— Ваши песни такие же, как и у Марииных сыновей. Не будите ее,
пусть ей кажется, что это ее дети поют. ..
Случай с детьми
— Василько, возьми Настю, да веди к дяде, туда, по тропке, на
опушку, ты знаешь. Да держи за руку легко, не дергай: она маленькая,
а на руки не бери — ты еще не осилишь.
Села, но было очень больно, и она легла.
— Будто я знаю, куда ее ночью вести? Вы умирайте, мама, а мы
около вас побудем, а утром пойдем.
— Видишь, Настя, пуля тенькнула и убила маму, а ты виновата;
зачем ревела, когда солдат хотел маму обнять? Мешало это тебе? Мы
бежали, а пуля свистнула... А теперь уже не будет у тебя мамы, пойдешь
служить...
— Вот и не говорит уже, вот и умерла. Я б тебя мог здорово побить
теперь, да ты уже сирота. Ну, что такая девчонка стоит? Как умерла
рядом с нами Иваниха, так ее девки все голосили: «Мамка, мамка, где вас
искать, да откуда ждать?» А ты не умеешь, а я мальчик, мне не пристало
голосить...
— Видишь, войско пускает свет с той стороны, как воду из лейки,
пустит и сразу видит, где солдат, и бахает в него пулей, а он сейчас же
ложится, как мама. Ложись живо возле мамы, сейчас пули будут летать.
Слышишь, как тенькают...
— Гляди, за Днестром солдаты огненные шары подкидывают, бросил
солдат высоко-высоко, а шар горит, а потом гаснет. Играют в них, о, как
их много!
— А вон, пушка: гу, гу, гу; но она в людей не стреляет, а только
в церкви, или в хаты, или в школу.
— Да ты пушки не бойся. У нее пуля такая, как я, большая, а
колеса, как мельничные. Но ты ничего не знаешь, ты только ходить чуть-
чуть можешь, это я умею брыкаться, как конь.
— Прячься за маму, о, снова свет пускает, только белый-белый, как
полотно, сейчас на нас наведет, гляди, какие мы белые, а пули уже опять
свищут. Вот если в меня пуля попадет, то я лягу около мамы и умру, а ты
сама не дойдешь к дяде. Лучше пусть тебя пуля убьет, я дойду один и
дам знать, и дядя вас обеих похоронит. ..
— Не плачь, разве от пули болит? Только тенькнет и провертит
дырку в груди, а душа в эту дырку убежит, вот и не будет тебя. Это не
как дома, когда болеешь, да водкой натирают. ..
— «Есть хочу», слава богу! А что я тебе дам, когда мамы нет? «Пусть
мама даст»? Скажи маме, а ну, скажи! А. что — говорит мама? Бери» бери
118
Василъ Стефаник. Земля
за руку, а рука упадет, а, что, не говорил я? Глупая девчонка, душа из
мамы ушла, это ведь она, душа, и говорит, и хлеб дает, и бьет...
— Настя, ей-богу, бить буду. Что я тебе дам есть? Ты смотри на
войну, какая она красивая, а утром пойдем к дяде и будем есть борщ...
Постой-ка, верно, у мамы за пазухой хлеб есть. Цыц, есть хлеб у мамы за
пазухой, на, ешь! Вот ненасытная девчонка!
— Опять полотно пускает, а какое беленькое, как снег! На нас идет.
О! Настя, что с тобой? Ого, весь рот в крови и руки? Пуля тебя
застрелила? Ой, бедняжечка, Настунька, ложись уже возле мамы... что
поделаешь. ..
— Э, да это не пуля тебя убила, это хлеб замочился в крови у мамы
за пазухой. Вот дрянная девчонка, все лопает, как свинья, замазала
кровью и лицо, и руки... Как я тебя утром в село поведу, всю в крови? Ну,
подожди, вот пойдем через ручей, вымою тебя в такой холодной воде, что
заревешь не своим голосом, а я еще и набью.
— Ну, наелась, так ложись возле мамы, а я возле тебя, ты посередине,
волк тебя не съест, спи, я еще на войну посмотрю, а ты грейся около
меня...
— А, может, пуля уже и папу убила на войне, а может, до утра и
меня убьют, и Настю, вот и не будет никого-никого...
Уснул. До самого утра белая светящаяся пелена дрожала над ними, то
и дело убегая за Днестр.
Нянька
Сидит маленькая нянька Парася и держит в подоле малыша, а вокруг
нее еще такие же няньки, девчонки и мальчишки. Кучка выглядит так,
будто кто-то отряс с дерева крупные яблоки, и они вывалялись в земле.
Парася предлагает играть в похороны и голосить.
— Зачем в похороны? Зачем голосить?
— А вот зачем! Я слышала, папа сказал ночью, чтобы этого
маленького не оставлять в хате, потому что он не наш маленький, а гусара; и
еще папа говорил маме: «Убей его или закопай, а мне его не надо».
А мама спрашивает: «Да как я живое дитя закопаю?» — «Так ты вперед
убей, а потом закопай». Вы спали, а я с ним еще до рассвета вышла и вас
ждала, потому что папа кричит: «Убирайся с этим приблудным!»
Маленький Максим, которого все гусары очень интересуют, положил
своего ребенка на землю, а сам принялся внимательно рассматривать
гусарского.
Максим говорит:
— Он такой, как и все, а теой папа какой-то дурной...
— А как же он его задушит?
— Ну такого маленького в два счета можно задушить. Задушит и:
похоронит.
— Вот будет твоя мама голосить, ай, ай!
Сыновья
119
— Ну, давайте голосить, только одни девчата! Молчите, ребята, вам
нельзя голосить.
Девчата голосят по женскому обычаю, выгон гудит похоронным
напевом.
А бабка Дмитриха кричит из-за ворот:
— Что вы, сдурели, девки? Грех голосить без покойника!
— Бабушка, гусарский ребенок скоро помрет, его скоро задушат, вот
и не грех нам голосить.
Бабка крестится, дети продолжают голосить...
Сыновья
Старый Максим боронил под яровую пшеницу. Лошади были добрые,
молодые, и бороны летали, как перышки. Максим скинул шапку на пашню,
рубаха распахнулась и лежала на самых плечах. Пыль из-под борон
взлетала облачком и осыпала его седые волосы на голове и груди. Он яростно
кричал, а люди на соседних полях говорили:
— Старый пес, а все лютый, однако с молодыми лошадьми
управляется славно; богач — видно, хорошо кормили смолоду, только, как потерял
обоих сыновей, кричит и кричит, и в селе, и в поле.
Максим остановил лошадей.
— Старые кости, как старая верба — горят хорошо, а вот за лошадьми
бегать слабы. Нет, если ноги на пахоте подгибаются, а в пляске не
держат, то уж какая им цена? Полезай, старик, на печь, прошло твое
времечко.
Помотав седой головой под черными конскими гривами, он продолжал
кричать:
— На печь я еще, братец, в силах залезть, да печь-то холодная,
облупленная. Иконы на стенах почернели, а святые смотрят на пустую хату, как
голодные псы. Старуха всю жизнь утыкала их барвинком и васильками,
золотила голубей перед ними, только были бы милостивы, только бы в хате
было светло, только бы росли дети. Но хоть и много святых, а никакого
от них проку. Сыновей нет, старуха в земле, а вы, угоднички, уж
простите — не будет вам барвинка — лучше надо было заботиться... А ну,
Звездолобый, возьмемся-ка, братец, за эту землю, как нам бог велел.
И они шагали по ниве из конца в конец, окутанные пылью, а бороны
кусали землю, крошили и кромсали ее, чтобы создать для зерна мягкое
ложе.
— А ты, Босяк, не конь, ты пес — все плечи мне обгрыз, болячка на
болячке, кусаешь и кусаешь. Не дергал бы хоть ты, мало меня жизнь
издергала, — еле на ногах стою. Я тебе до света овес подсыпаю, сам еще не
евши; я тебя чищу, стариковскими слезами поливаю тебя, а ты кусаешься!
Вот Звездолобый — человек: он с меня черных глаз не сводит, он
меня жалеет и своей гривой утирает слезы старику, а ты поганец, у тебя
сердца нет. Недавно целый пучок волос у меня вырвал и бросил в навоз*
120
Василъ Стефаник. Земля
под ноги. Так не делают, ты хоть и хороший конь, а натура у тебя дурная»
Барышникам я тебя не продам, вот пришел бы святой Георгий — ей-
богу, подарил бы тебя ему, змея сокрушать, а пахать землю не годишься,
беспокойный.
И он, послюнявив палец, промывал ранки на плечах и присыпал их
землей.
— Гей, лошадки, пошли, пошли...
Бороны притихали, земля подавалась, рассыпалась, ноги Максима
ощущали под собой мягкость, ту мягкость, которая очень редко гостит в душе
мужика; эту мягкость придает ему земля, за то он так и любит ее. И,
бросая горстями зерна, Максим приговаривал:
— Устлал я вам колыбельку мягенько, растите до самого неба!
Он уже успокаивался, не кричал больше и вдруг придержал лошадей,
— Ты еще какого лешего болишь, старая костомаха, хрустишь всеми
суставами, кривое копыто?!
Он оглянулся назад, увидел, что за ним, пересекая бороны, тянется
длинная нитка крови, — и сел.
— Стекло залезло, мать твою! .. Теперь вот борони, все равно
посредине не бросишь, разве что разлетишься в куски. А тебе, нива, от этой
старой крови прок невелик — старая кровь, как старый навоз, ничего не
родит; мне потеря, а тебе никакой прибыли.
Хромая, он выпряг лошадей, повел к телеге и дал им сена.
— Ты, солнце, не хмурься на старика, что так рано решил
полдничать, — мне ходить нечем...
Он вытащил из сумы хлеб, сало и бутылку и промыл рану водкой;
потом оторвал от рукава лоскут, забинтовал ногу и завязал бечевкой от
мешка.
— Теперь либо боли, либо переставай, либо как хочешь, а боронить
придется так и так.
Он выпил водки и, откусывая хлеб, снова сердито выкрикивал:
— Это хлеб? Им только еврейскую клячу чистить, на хорошей-то
лошади им всю шкуру сдерешь. Прутся ко мне всем скопом эти
растрёпы: «Дедушка, мол, мы вам печь станем, стирать, запишите на нас
полоску». Эти драные суки думают, что я поле им берег? Как умру,
пускай на моем поле цветы растут и молятся своими маленькими
головками за деда.
Максим со злости зашвырнул краюху далеко на пашню.
— Зубы не терпят этой макухи! Выпьем, Максимко, водочки — она
гладко идет. . .
— А ты там молчи, не верещи над моей головой. Кому поешь? Этому
обгрызанному старому оборвышу? Лети-ка прочь, в небо, да скажи своему
богу, чтоб не посылал ко мне глупых пташек с пением, а уж если он такой
могучий, так пусть пришлет лучше моих сыновей. Это ведь по его воле
я остался один на всей земле. А песенками пускай твой бог меня не дурит.
Убирайся!
И он кинул в жаворонка землей, но тот запел над его головой еще
звонче и не собирался улетать к богу.
Сыновья
121
— Ты, пташка, ничегошеньки не понимаешь. Когда мой Иван малышом
за тобой гонялся, искал твое гнездо на межах да играл на сопилке*, тогда
ты умно делала, что пела, тогда надо было петь. Твое пенье и сопилка
Ивана шли понизу, а над вами — солнце, и от всех вас лился глас божий и
надо мной, и над плугами, и надо всем веселым миром. А сквозь солнце
бог, как сквозь золотое сито, сеял на нас светлоту, и вся земля и все
люди блистали золотым отблеском. Солнце замешивало весну на земле,
как в большом корыте. ..
А мы брали из этого корыта калачи, и калачи лежали перед
музыкантами, а молодость в венках любила и шла под венец, и весна катилась,
как море, как потоп; вот тогда и твое пение, пташка, лилось мне в сердце,
как студеная вода в новый кувшин...
Ступай же, пташка, в те края, где еще не все калачи разобрали, и
дети еще живы, не зарезаны.
Он сжал руками свою седую голову и склонился к земле.
— Стыдись, седой человек, стыдись, что голосишь да причитаешь, как
плаксивая старуха, — все равно тебе на этом свете ничего уже не
поможет. ..
— Эх, сыновья мои, сыновья, где вы головы сложили?! Не то что
землю — душу бы продал, только бы дойти до вашей могилы
окровавленными ногами. Господи, врут церковные книги, что был у тебя сын, врут,
что был! Ты, говорят, воскресил своего. А я у тебя не прошу: воскреси
их. Я тебе говорю: покажи могилы, пусть я возле них лягу. Ты видишь
весь мир, а тут ослеп?
Чтоб у тебя вот этот синий купол лопнул, как мое сердце!
Приходите, хоть одна, к старику: не вы ли их обнимали, сыночков
моих, не вы ли ложились с ними в чистую постель? А они-то были как
дубы кудрявые! .. Ты принеси хоть прижитого на руках, не стыдись,
приходи. Дед тебе все коврики под ноги постелет, а прижитому все полотно
порежет на пеленки. Ты ведь ходишь невенчанная и плачешь от позора.
И старик поднял руки, призывая весь мир.
— Иди, сношенька, иди ко мне, нам попа не надо!
Он громко зарыдал, опустился на землю и ею, как платком, утирал
слезы, весь почернев. И все молил:
— Либо приходи хоть ты, его любушка, без ребенка, я увижу его
руки на твоей шее, и след его губ на твоих губах, выловлю из твоих глаз,
как из глубокого колодца, его родные глаза и спрячу их себе в сердце, как
в ларец. Как пес, учую запах его волос на твоей ладони. . . Приходи,
любушка, спасай старика. Вы еще живете на свете, а их нет ни одного,
найди же ко мне дорогу, принеси хоть весточку. Побрызгайте на седые
волосы студеной росой, а то каждый волосок жжет меня, как раскаленная
проаолока. Голова сгорает на этом огне.
И он рвал свои седые волосы и бросал на земь.
— Жгите землю, не в силах я больше носить вас!
* Сопилка — тростниковая дудвчка. Народный музыкальный инструмент на При-
карпатьи.
122
Василъ Стефаник, Земля
Вконец обессилев, он прилег и долго лежал молча, а потом ласково
заговорил:
— Приходит последний раз Андрий, — он был у меня ученый.
«Теперь, говорит, идем воевать за Украину». «За какую Украину?» А он
поднял шашкой ком земли и говорит: «Вот это Украина, а тут, — и
показал шашкой на грудь, — тут ее кровь; идем отбирать нашу землю
у врага. Дайте, говорит, белую рубашку, дайте ч-истой воды умыться, и
будьте здоровы». Блеснула его шашка и ослепила меня. «Сынок, говорю,
у меня есть еще младший — Иван, бери и его на это дело; он сильный,
пусть вас обоих закопаю, надо, чтобы вы пустили корни в эту землю, тогда
враг не перетянет ее к себе». «Хорошо, говорит, пойдем оба». А старуха
как услыхала про это, я сразу увидел, что смерть накрыла ее своим белым
саваном. Я так и подался к порогу — почудилось, что ее глаза выпали и
покатились по земле мертвыми каменьями. Это только почудилось, но
свет на лице ее погас...
Утром оба они уходили, а старуха прислонилась к воротам и ничего
не говорила, только смотрела на них как-то издалека, словно с неба.
А когда я сажал их в поезд, то сказал: «Андрий, Иван, назад не отходите,
помните обо мне, я теперь один, мама умерла в воротах. . .»
До самого вечера Максим водил лошадей по пашне, но больше не
кричал уже, умолк. Дети гнали овец, люди проходили мимо, звеня
плугами, и никто с перепугу не здоровался с ним. Весь в грязи, оборванный,
хромой, он с каждым шагом словно проваливался в землю.
Поздним вечером, прибрав за лошадьми, подоив коров и овец, Максим
вошел в хату.
— Ты тут совсем затихла, как мертвая, словно кто тебя ножом
пырнул, стоишь и не пикнешь, — сказал он печи. — Ну я еще разгребу
огонек...
Он сварил мамалыгу, надел белую рубаху, поужинал и затих.
Потом опустился на колени и молился:
— А ты, матерь божия, будь мне за хозяйку, ты со своим сыном
посередке, а по бокам Иван и Андрий. .. Ты отдала одного сына,
а я двоих. ..
Военные убытки
Седой пан-комиссар въезжал форшпаном * в село, удивляясь его бе-
ливне и чистоте.
«Этим мужикам, — думал он, — сам черт ничего не сделает, не то что
война; жрут, как свиньи, опиваются румункой **. Любопытно, клюнут ли
и сколько дадут заработать. Я их умею пощекотать».
* Т. е. на подводе, поданной по транспортной повинности.
** Румунка — местная самогонная водка.
Военные убытки
123
Максим Онищук, увидав пана комиссара, поспешил скрыться от него
за хатой.
— И откуда эта Польша набрала кх столько? Возим, возим, никак
всех не перевозим. Лучше спрятаться, а жена скажет, что я на мельнице.
Сыт уж по горло этими форшпанами
Старый Куфлюк, наоборот, даже вышел за ворота — у него не было
лошадей, вот он и не боялся.
— Однако, жирный, как боров, — все богачи удерут в лес, лишь бы не
давать подводы.
Старая Варвара поздоровалась и шептала:
— Ну, это старое дупло не станет орудовать по ночам и лапать моло*
диц за подол. . .
Приходский священник припустился домой, как жеребенок:
— Милочка, опять принесла нелегкая какого-то чиновника, приберите
в комнате и готовьте получше обед.
— О, у этих поляков хороший аппетит...
Учитель низко поклонился комиссару и сказал «падам до нуг» *, —
он не боялся, что начальство вздумает его навестить.
Войт и выборные ждали комиссара возле канцелярии. Войт
говорил:
— Ей-богу, люди добрые, не выдержу: жена из дому выгоняет, а дети
улюлюкают, как на пса. Нет покоя ни днем, ни ночью. Корми их, давай
водки, ходи с ними по селу за бунтовщиками, ищи винтовки, ищи письма
из Вены, раскапывай тайники, разыскивай предателей Польши. Зимой
дверь не запирается, так что старуха на печи зябнет. Не-ет, ищите себе
другого войта, я больше не в силах нести этот груз. Вон едет уже, чтоб
ему провалиться!
— Войт, а где же люди? Я же вам приказал собрать всех перед
канцелярией.
— Я через десятников велел людям собраться, может, еще подойдут.
— Мужик, известно, дурень: как платить, так он выхватывает книжку
из-под матицы, прячет за пазухой и по целым дням ждет, когда позволят
внести подать. А как получать — так он на печи. А, черт вас возьми,
меньше будет работы, пенсия-то все равно одна.
— Мы уж, проше пана, наполучали — все и не унести.
— Не спорю, при Австрии было так, но у нас будет иначе.
— Дай боже...
— Войт, давайте начнем с ваших военных убытков: кто не придет,
пусть пеняет на себя. Вас зовут? ..
— Михайло Вахнюк.
— Сколько моргов?
— Какие там морги? Дети разобрали...
— Но сколько вы обрабатываете?
— Может, десять, может, больше, может, меньше.
Падам до нуг (padam alo nóg — пшльск.) — изысканно-вежливее приветствие.
124
Василъ Стефаник. Земля
— Пишем двенадцать.
— Столько не будет.
— Ну, одиннадцать.
— Ладно уж...
— Какие военные убытки?
— Какие уж убытки, разве мне их кто вернет? Нечего и писать. . .
— Вы не понимаете, начальник, мы русских под Варшавой разбили
наголову, из Вены и Будапешта получим все золото, и этим золотом
покроем все военные убытки.
— Ваши бы слова да богу в уши...
— Теперь мы ваши, а вы наши.
— Это еще кто знает, как будет!
— Будет Польша, а вы, если умны, получите золото с венгров, немцев
к русских и живите в достатке под польской властью, а бунтовщиков
гоните из села. Ну, начальник, какой же убыток?
— Ну, пара лошадей с телегой — еще в начале войны забрали
австрийцы — за подводу тысяча крон. Русские взяли корову с телушкой,
считать — восемьсот.
— Еще что?
— Еще венгры закололи двух боровов — триста крон.
— И еще что?
— Разве все упомнишь, да и не стоит вспоминать беду, хорошо, что
прошла.
— Нет, вы все пишите, мы заплатим за все.
— Взяли и подушки, и рядна, и все сало, и сани, и дрова. Разве все
упомнишь?
— Вот видите, все вместе составит, пане Кахнюк, две тысячи
шестьсот золотых крон, а посчитать на марки, так хватит вам на всю жизнь.
— Э, пане, те кроны бог сосчитает, а марок мне не надо.
— Ну, так подарите мне ваш убыток, а я вам сейчас тысячу крон дам.
— Что ж дарить тем, у кого больше моего?
Выборные также неохотно перечисляли убытки, а мужики, сошедшиеся
уже к канцелярии, пересчитывали кроны войта на марки, и не одному
становилось жаль, что не потерпел никакого убытка. Но после того, как
Кальман целый час диктовал свои потери, не пропуская ни одной мелочи,
люди зашумели.
— Вот паршивец, — насчитал уже три тысячи крон, а все добоо прятал
у Дмитра хромого, и гляди, сколько денег набирается.
— Я в Карпатах два месяца ел сырую картошку, потерял лошадей и
телегу, едва добрался до дому и полгода отлежал, а мне ничего не
достанется...
Поговорили, поговорили и в конце концов разбежались по селу
созывать свояков и соседей, чтобы не потеряли золотые кроны. Через час на
выгоне стояло все село. Комиссар сказал им:
Morituri
125
— Вижу, что вы разумные люди, и все убытки ваши запишу, а сейчас
пойду поем, я проголодался.
И вместе с войтом и выборными пошел к Кальману; там они долго
закусывали и вышли красные, как раки. Выборный Корч уже знал, что
комиссару надо румунки, масла, кур и яиц. За то, что он сообщит об этом
людям, Корчу было обещано возмещение убытков не позже, чем через
месяц. И пока комиссар писал в канцелярии, женщины приволокли в
сарай к полицейскому всякого добра, а мужчины натаскали в рукавах
румунки. Полицейский и Корч к концу этой операции тоже побагровели,
как к все их близкие. Весь выгон зашевелился, развеселился и
оживленно гомонил до полуночи, пока комиссар переписывал убытки. По
мнению выборного Корча, кур и яиц было слишком много для комиссара, и
уж во всяком случае слишком много было румунки.
В полночь мужики обступили пана комиссара, как пчелы матку, и
провожали его на ужин к Кальману. На заре они усадили начальство на
подводу, обложили курами, яйцами и румункой и, пожелав ему и Мико-
лаю счастливого пути, веселые разошлись по хатам.
У Кальмана остался только Свиц. Он до восхода солнца орал пьяный:
— Меня, небось, не ограбили эти русские, чтоб им провалиться!
А когда Миколай вез комиссара на добрых конях через чащу, на них
напали парни, отобрали все приношения, а их порядком отдубасили. Потом
хлестнули лошадей, и седок с Миколаем только подъезжая к городу
опомнились и обтерли кровь с лица: Миколай рукавом, а пан комиссар
платочком.
— Хамы деморализованные, быдло! И они мечтают получить
возмещение? Черта с два!
Так и вышло.
Morituri *
Каждое воскресенье и каждый праздник еще до восхода солнца они
сходились к парикмахеру Тимку бриться и стричь волосы. Приносили
из дому кто хлеб, кто солонину, кто другие харчи и только никогда не
приносили денег. Их оставалось уже немного в селе, тех, кто ходил
к Тимку — одни перемерли, другие погибли на войне. Но за тридцать
лет они привыкли сходиться здесь и делали это до сих пор.
— Курят такие табаки, что хоть пропадай, да еще ржут, как лошади,
так что я глохну.
— Сиди, Настя, тихо, а глухая ты уж давно.
— Как же не оглохнуть на такой мельнице? Постыдились бы, старая
рухлядь!
Идущие на смерть (лат.).
126
Василъ Стефаник. Земля
— Ну, чего вы слушаете музыку с беззубого гребешка? — говорит
Тимко.
— Вот какой у меня муженек уступчивый, а к тому же еще храпит
во сне и слюну пускает. . .
— Мелешь языком, как мельница. . .
— Тьфу!
— Может, она б еще хотела, чтоб я ее шлепнул по мягкому месту,
как встарь? Да только не обессудь, милая, — мякоти-то там давно нету...
— И ты это в воскресенье — такие слова, богохульник?! Да ведь
тебе не сегодня-завтра в яму! ..
— А хоть и в яму, все равно не стану шлепать по костлявому заду! ,.
Хохот, гам, Настин кашель.
— Тимко, бери, братец, клещи да тащи зуб, а то я нынче ночью
лез на стену.
— Который?
— Да на, гляди.
Василь разинул рот и показал ряд белых зубов.
— Какого ж тебе лешего надо? Такими зубами только железо
перекусывать!
— А у меня сил нет выдержать.
— До конца обедни все равно не стану тащить. Терпи, если
можешь, пока служба кончится, раньше я не буду пускать кровь.
— И-и, сколько ты нам уже до обедни пустил ее с лица и с
подбородка!
— То нечаянно, а это другое дело.
— Васи, а ты попробуй водки.
— Дети все село обошли — нету.
— Нешти румунешти *.
— Д я тотчас найду, только на том конце села.
— Сколько нас?
Пересчитали.
— Литровку купишь и будет.
Все принялись искать деньги, вроде бы неохотно, а на самом деле
радуясь предстоящему развлечению.
— Намыливайтесь, кто бриться, а кто стричься — садитесь, солнце
всходит.
— Тебе, Тимко, пора табачную лавочку открывать с папиросной
бумагой, a χο как выйдешь из твоих р>ж, так целую книжечку лепишь на
щеки«, чтобы кровью не изойти.
Букв.; не знаю по-румынс«и (nu ştiu româneşte). Здесь в смысле иронического
отрицания.
Monturi
127
— А у тебя, Микола, такая борода, что легче дикого кабана побрить
и в храм пустить, чем тебя.
— Тебе не угодишь — Юрка вон ругаешь за. мягкий волос.
— А и то, у него волос пустой, как у девки подмышками. . . У меня
уже рука дрожит, не знаю, как и добрею вас, а если еще кто-нибудь из
вас откинет копыта, так не смогу и на лавку положить.
Солнце уже совсем взошло, когда гости Тимка сидели облепленные
бумажками и ждали водку.
Наконец пришел Микита с бутылкой и, прежде чем он побрился, на
столе уже стояла водка и лежал нарезанный хлеб с чесноком.
— Выпьем, братцы, путь нам уже недлинный, чего ж себе жалеть?!
— Подносили бы нам этого зелья почаще, может, мы и пожили бы
еще. Войта уже не ставим, раду не выбираем, депутатов в парламент
не шлем.
— Теперь все на читальню перешло, теперь там порядок.
— Да уж, порядок: девки переодеваются парнями, парни — девками,
обнимаются безо всякого стыда, справляют на сцене свадьбу и еще берут
деньги за билеты.
— Такая теперь у них забава. Только не бойся, они не без ума,
молодые, всего повидали, польской власти ни в какую не хотят, а помещичьи
земли думают разделить меж крестьянами.
— Это бы ох как славно, и не говорите! А то под этой Польшей
вовсе невозможно жить: и подоходный, и с хозяйства, и за землю, и за
собак, и за навозную кучу. . . за все на свете!
— Хорошо бы им одолеть! Н)', дай боже здоровья, Настя! Да ты
не кричи на нас, мы уже, милая, расходимся.
— Да разве я что? Дай боже и вам здоровья, только не наберитесь,
как, бывало, на троицу, хаты все в зеленом уборе, люди идут в церковь,
а вы лежите, как колоды, под кустом. . .
— Э-э, тогда деньги были, ушли те времена.. .
Старики долго еще точили лясы и рюмочки две оставили Василю на
больной зуб.
— Ну, ступайте уже домой, а то когда же вас жены в церковь
поведут, да когда я вымету весь этот конский волос, все эти белые гривы
с белых лошадей. . .
И старики вышли, подставляя солнцу лица, пропеченные за много
лет дочерна; солнце и теперь сразу впилось в них, и они так и понесли
его в свои жилища.
— Сейчас будет беда, — сказал Микола Максиму.
— Какая ж беда, детям к тебе не подойти. . .
— Детям не подойти, а вот старуха,. . Верно, уже все глаза
проглядела, ждет меня вычесывать.
— Сам чешись.
128
Василь Стефаник. Земля
— Да разве она даст? Она это дело ух как любит. Ну и унюхает,
что пил. И сразу — проповедь: «стыда у тебя нет, старик, ни перед
людьми, ни перед солнцем. . .»
— А ты спрячься в сарай.
— Это пустое, она меня с гребешком до завтра будет искать. . .
Дед Гриц
Я поехал навестить старого приятеля Грица. Он давно оглох, и
объясняться с ним стало трудно. В руках у старика была зеленая веточка,
а возле него на траве сидел маленький внук.
— В добрый час вы приехали; ко мне вернулась молодость, не знаю
только — впаду ли я окончательно в детство или покрою стыдом свою
старую голову. Мне все слышится музыка, которая играла в день нашей
свадьбы, так и льются в уши звонкие голоса. А до сих пор уши были
словно оловом залиты. Мучение быть глухим, слова вянут на языке,
а жена только посмеивается и пищит, как сойка, в самые уши: «Что,
будет уже по митингам ходить и выступать с речами?» Мне с тоски по
человеческому слову не раз хотелось, чтоб меня замуровали. Горько,
когда живое тело обрастет корой и превращается в бревно.
Приходится сидеть у себя в душе, как в разрушенном доме, где все
разбито и переломано. Вытаскивать свое изувеченное добро из мрака,
как из мокрой золы, и обтирать руки от сажи. Родные дети мне теперь
как чужие, я забыл, что они были маленькими.
Помню, давно это было, собралось нас много с Черемоша, с Прута,
с Днестра в город, все привезли ребятишек в школу. А они такие
тихонькие на городской площади, ну просто как рыба, рассыпанная на
дороге; и всех тянет бежать в поле. Матери сидят в телегах, плачут и
потихоньку проклинают наших советчиков, а мы, отцы, радуемся:
доколе же, говорим, жить нам по-дурацки, служить господам, вот выучим
детей, а тогда и господ погоним. А потом, как выросли дети, мы,
солидные хозяева, вились вокруг них, как пчелы вокруг цветов.
От этой горечи и боли, когда я был как замурованный цементом
в глубоком погребе, я стал забывать все, приносившее в жизни радость.
А вот несколько дней назад ощутил я прилив сил, и, господи! —
кажется, все солнце, которое я нес в себе три поколения, воскресло во мне,
и вся пшеница, какую я выкосил, лежит передо мной необмолоченная.
Теперь я богач, еще и всю Укра*ину накормлю. Все, что веками
сковывало, теперь ставит меня на ноги. Словно иду к детям, старуха моя
набила мне котомку всякой всячиной, и того им и сего, не жалеет меня,
вьючит, как лошадь. И я радостный, веселый иду сквозь метель и бурю,
потому что впереди дети, а позади мой светлый двм.
А они здоровы, растут, учатся.
Дед Гриц
129
По дороге отдыхаю, как дуб, уходящий корнями в землю, а кроной
под небеса, туда, где школа. Теперь я живой, здоровый и еще похожу
своим путем, пока за пазухой полно душевной доброты и ласки.
Как мы сплотились вокруг детей, когда они окончили школы и
вернулись, пошли с нами! Где уж было жандармам справиться с нами!
Двинулись за детьми тысячи нас, сильных и просвещенных. Впереди
свои. Встает Франко с высоким, светлым, как солнце, лбом, спокойно
учит, потому что все знает. Толкует, что если каждый из нас посидит
в тюрьме за мужицкое дело, то уже никогда ничего не будет бояться.. .
А Павлик ] едва дышит, говорит слабым, тонким голосом — словно без
всякой надежды — о нашей нужде, а там позади, в дверях, крикливый
Трылёвский2, весь в лентах, как девушка; он все ругает, и молодые
поэтому тянутся к нему. Словом, земля под нами гудела, и не один
панский род сбежал из своего гнезда.
А когда Франко приехал ко мне с молодыми переночевать, так даже
жена, хоть и не любила сборищ, но не ворчала на меня, видела, что
наша ученая молодежь сидела возле него такая счастливая и сияющая,
словно он возложил каждому на голову золотой венец. А я прислонился
в саду к ясеню и говорю:
— Господи, ты радуешь мир свой звездами, а нас, бедных мужиков,
радуешь Франко. Буду молиться за него каждый день.
А дома я ему сказал:
— Мне, безграмотному, сыновья читают все ваши писания. Помоги
вам бог разыскать все наши грамоты в земле, в старых монастырях и
те, что в господских палатах скрыты. Да вспоминайте хоть изредка нас.
На другой день я вез его к поезду и навстречу попался какой-то пан
на рысаках. Так я с дороги не свернул и шапку не снял. Я, любезный,
еще не такого пана везу, как ты!
Мы росли, дети наши множились, и все были единодушны, но война
многих сразила, а те, что остались, все, кого мы вырастили, а Франко
выучил, составили одну команду, и команда эта заявила, что будет у нас
Украина. Кто этого времени у нас не видал, того, верно, бог лишил
милости.
Внуки пошли, а я еще и внучку отправил, чтобы ходила в госпитале
за ранеными. И ни один не вернулся. Старуха моя обезумела, поносила
меня, проклинала Украину. «Ты, говорит, всю жизнь ходил по митингам
и детей сбил с пути». А дети молчат, обходят в разговорах, что я
раскидал кости их детей по всему свету.
Я уже собрался было идти за внуками, но поляки поймали меня на
границе и притащили домой. Долгие годы я не входил в хату есть;
соорудил себе постель в хлеву и там жил зиму и лето со скотиной. Я оглох,
9 Василь Стефании
130
Василъ Стефаник. Земля
ослеп, не ел, разве что картошечку да немного воды. Так и шло все мимо
меня — и мир, и мои дети.
Но хуже всего те наши, кто пошел на службу к панам. Как, бывало,
приходит польский жандарм и гонит сына в извоз, я сразу беру кнут и
сажусь, лишь бы знать, куда ехать.
— Ну что, старик, где ваша Украина? Сколько моргов земли ты
хотел отобрать у пана? Каким министром собирался стать твой внук?
— Я глухой, говорю, не слышу. — Так и вожу, одних или с девками,
либо улицы подметаю, служу. Но те наши, кто пошел на чужую службу,
словно бы не узнают меня, отворачиваются, опускают глаза, как
собачонки, которых хозяин пустил в чисто поле. Впрочем, одна молоденькая
учительница узнала меня все-таки. «Дедушка Гриц, что делать, мой
пшеложоный * хочет, чтоб я перешла в его веру». «А ты, говорю, не
ходи к ним, раз они твоей верой брезгуют. Сиди дома и ешь черный
хлеб».
А к вам у меня теперь большая просьба. Не знаю, долго ли я буду
таким здоровым, возродившимся. . . Но как умру, вы тотчас приезжайте,
потому что я боюсь, как бы сразу после моей смерти дети не содрали
со стен Шевченко, Франко и всех наших и не забросили бы на чердак.
Они их детей погубили, и глядеть им на эти портреты невмоготу. Так
вот, когда я уже буду в гробу, вы спросите моих детей, сохранят ли
они эти портреты или повернут лицом к стенке, чтобы понравиться
сборщикам и жандармам. Вот этот внучонок, пожалуй, сберег бы моих
друзей, но ему это еще не под силу.
Так вот, если мои дети не захотят почитать моих святых, то
купите кожаную шкатулку и положите портреты мне на грудь. Говорят,
кожа не гниет веками. И еще одна просьба: я оставляю полоску земли,
а на кого ее записать, это уж вы скажете, чтобы, когда будут собирать
в братскую могилу кости наших, то пусть и за меня бросят несколько
лопат. И пусть курган будет высокий, на этих костях зацветет наша
земля. А на похороны детям не придется потратить ни одного гвоздя,
у меня все приготовлено.
На другой день ранним утром пришел посланец сказать, что дед
Гриц, как только я уехал, велел маленькому внуку сыграть на сопилке,
напился молока, едко шутил со своей старухой, а потом надел белую
рубашку, зажег свечу, лег в постель и умер.
Начальник (польск, przełożony).
НОВЕЛЛЫ 1926—1933 гг.
Нитка
Посвящаю Ивану Семанюку 1
В хате тихо, окна темные. Едва освещенная богоматерь и кудель.
Муж, Семен; он и когда спит, любит ее. Возле него Мария и Василь.
А возле нее люлька с младшеньким, Юрком. На стенах образа. И
большая радость — ее любят и она любит.
В хате чисто, можно садиться за кудель. Он у меня сильный, будут
еще дети.
Он всех прокормит, сколько ни нарожу.
А мне их укрывать, любить и работать на них.
Нитка длинная-предлинная, конца ей нет, никто еще не дошел до
конца нитки. Их надо одевать, а бог ггле дал их, чтоб любила. Я хочу,
чтобы мой муж чувствовал на своем теле все мои пальцы, все десять.
А Марию надо нарядить на пасху, а мальчлшки все на себе порвут,
знают, что мама сошьет новое.
Муж спит, как убитый, Мария раскрылась, а Юрко в люльке
забеспокоился. Она накрыла девочку и прилегла грудью возле Юрка.
И кудель, и глаза, и нитка, ровная и бесконечная.
Вот напряду на них, выбелю полотно, как бумагу, и сошью им все.
И буду из ворот смотреть, как они пойдут, мой муж и мои дети.
Они все мои, когда идут по солнечной стороне.
В полночь глаза слабеют, пальцы сводит, но нитку надо прясть
дальше. И она склоняется молодым телом к кудели.
Нельзя слабеть, они ждут меня, все эти, спящие; я доведу свою
нитку до конца.
На помощь пришла богоматерь с иконы.
Но долго помогать не хотела. Однажды ночью пришла и сказала:
«Больше не стану помогать тебе. Пойдем со мной».
Старинная мелодия
Я и сестренка в белых рубашках сидели на печи. Мама, еще очень
молодая, ждала братьев. Ее белые вышитые рукава радовались тому,
что надеты на ее сильное тело.
— Дети, когда придут братья, не шалите, а сидите тихонько, там
у вас есть медовые пряники и сахар. Берите, сколько хотите, только
ведите себя хорошо.
&*
132 Василь Стефаник. Новеллы 1926—1933 гг.
Вскоре под окнами раздался скрип больших сапог по насту. Ураган
старинной мелодии вырвался из сильных грудей. Пели коляду о
запорожце, которого корит его верный конь:
— Продавать станешь, продашь — вспомянешь.. .
И конь рассказывает своему всаднику, из каких походов он его
вынес: и из половецкого, и из турецкого, и из московского.
Рефрен украинской истории звучал мужественно:
— А сзади пушки как гром гремели. . .
Я испугался пушек и забился поглубже на печь. Но коня мне стало
жалко, и я расплакался. Мария сказала: «Вот глупый», получила от
меня за это тумак и сама заревела.
Мама едва успокоила нас.
Братья вошли, на столе лежали калачи, огромные, как наши гости.
Колядуют маме, колядуют Марии, а у меня сзади пушки как гром
гремят, и я пропадаю от желания увидеть того коня> это ведь был совсем
другой конь, не похожий на наших, запряженных в плуги.
— Братец Семен, мы еще твоему мальчишке заколядуем.
— Прошу, братцы любезные!
— «Ой, рано утром Василь подымался, при первой свечке Василь
умывался, при второй свечке Василь одевался, при третьей свечке на
коня садился. . .».
Я уже чувствовал себя в седле и твердо решил, что никогда не
продам коня.
— Пойди, поблагодари братьев.
Отец взял меня на руки, и я поцеловал каждому его железную руку.
Как плату я получил от каждого грейцер, но моя ладошка не могла
вместить столько грейцеров, и мама убрала остальные в красный платок.
У меня от поцелуев даже губы распухли, но я перецеловал всех, и
только после этого отец отнес меня на печь.
Я уснул счастливый, выронил из кулачка деньги, полученные от
братьев, но пушки доныне, как гром, гремят надо мной.
Славайсу
ι
Я знал Снятый с 1881 года, когда меня послали туда учиться во
второй класс нормальной школы. После уроков я залезал на самую
высокую яблоню в саду у соседей и долго смотрел на Русов, но никогда
его не видел, потому что он в долине. Мама приходила ко мне и давала
«денежку», чтобы я не лазил высоко ка деревья, а то могу разбиться,
а Русова все равно не увижу.
Директор школы, если у меня было к нему дело, не разрешал мне
идти рядом, э велел только следовать за ним.
Я очень удивлялся.
Славайсу
133
Мой сосед по парте Тавбер все приносил в школу селедку. Мы оба
так пропахли селедкой, что учитель убегал от нашей парты, а мама,
стирая мою рубашку, говорила: «Боже, ну откуда в этой школе бочки
селедок?». У Тавбера теперь в Вене магазин колониальных товаров, и он
ест сало и ветчину.
Горожанин, у которого я стоял на квартире, однажды вечером
рассказал, что московского царя убили 1, Я тогда не был монархистом и
меня это нисколько не тронуло.
Видно, физиономия у меня тогда была несчастная, потому что стоило
мне выйти на рынок искать маму, как я получал от незнакомых женщин
яблоки, бублики и кусочки сахара.
— На, бедняжка, это за моего Иванка или Василька.
Все эти подарки я клал за пазуху, а когда встречался с мамой, мы
первым делом садились и она перебирала мои волосы, — нет ли вошек.
Потом ее интересовало, что у меня за пазухой.
— Где это ты набрал, уж не крадешь ли?
Когда я объяснил маме, откуда у меня набралось столько добра,
мама сказала, что за каждый бублик и яблоко надо говорить молитву.
А я так не любил молиться и мыться, что удирал от милосердных
женщин, как заяц.
II
Миновали годы учения в коломыйской и дрогобычской гимназиях.
Получив аттестат зрелости, я снова появился в Снятыне, надо было
читать горожанам лекции, организовывать кружки.
Снятынцы были рьяны и нравились мне. Пора учения в Краковском
университете не прервала моих связей с ними. На некоторое время
в Снятыне прочно обосновались Кирило Трылёвский и Лесь Мартович.
Горожане выступали, братались с мужиками и создавали партию
радикалов. Выборы, манифестации. Старого Грицка Запаренюка жандармы
арестуют, на снятынском рынке выборщики-украинцы клянутся в вечной
любви к Украине, жандармы разгоняют демонстрацию.
Трылёвский отправляет в Снятый тысячу «сечевиков» в красных
лентах, польские власти обеспокоены, но ничего не запрещают.
Избирательная кампания. Я становлюсь кандидатом от партии
радикалов в венский парламент. Приходится произносить предвыборные речи
(да простят мне боги милостивые сей великий грех!), и я прохожу в
депутаты. Большего проявления покорности, чем речи моих коллег в
парламенте, я не знал за всю жизнь. Без знания языка, без программы,
без темперамента — все они производили на меня впечатление
остолопов-первоклассников. Если б не четверо наших ораторов из клуба,
произносивших речи и умные, и блестящие, оставалось бы только стыдиться
за украинское представительство.
134 Василъ Стефаник. Новеллы 1926—1933 гг.
III
Я стал головой (председателем) филиала «Сельского хозяина»,
головой уездной управы партии радикалов, и еще несколько голов было
на моей шее. Перед тысячами слушателей выступал о союзе Украины
с центральными державами и Брестском мире. Поляки кланялись и
говорили каждому встречному: «славайсу». Я их успокаивал: «Не
бойтесь, мы только ваши земли заберем, а сами вы будете жить, как в раю,
без податных тягот. Все это пусть взваливают себе на плечи крепкие
мужики».
Война. Львов наш. Мужики бегут с фронта. Надо покидать Львов,
начинается великая трагедия, длящаяся и поныне.
IV
Теперь я хожу по Снятыну, покупаю, что подешевле, и уже никто из
мужчин не здоровается со мной. Одни ушли в подполье, скрываются,
другие греются в лучах сияния нынешних владык. А меня приветствуют
только женщины своим «славайсу». Только они одни помнят меня, и я
им благодарен.
— Навеки слава, милые женщины!
Межа
— Господи, смолоду ты мне реже поминал мой грех, а теперь ни на
час не отступаешь. А я тебе говорю, что не жалею ничуть.
— Что ты говоришь, старик, опомнись, не греши!
— Убирайтесь все из хаты!
Женщины выходят, и мать рассказывает дочкам, что отцу уже
семьдесят, стал слаб, последние десять лет слова выговаривает едва слышно,
а теперь вот гремит, как гром, и препирается с богом. Мать плачет,
плачут и дочки. Через несколько минут тихонько прокрадываются
обратно.
— Грех грехом, а я землю и теперь не отдам. Он богач, у него поля,
так захотел еще и мою землю взять, сожрать и мою ниву. А я на ней
тружусь, оглядываю ее со всех сторон. Где увижу сорняк, нагибаюсь и
выпалываю. Спину ломит, руки от колючек горят. А к ночи невмочь мне
выпрямиться да языком зализать руки, как собака рану.
Старуха крестится.
— Мои нивы весной зеленеют, с ветром шепчутся. А я припаду к
борозде и благодарю ветер за то, что он есть на земле, и землю за то,
что родит. А из шепота родилась у меня молитва, какой ты, боже,
никогда не слыхал, и ты за нее должен все простить мне.
— Ой, родимый, не говорите так!
— Я с богом говорю, убирайтесь из хаты.
Волчица
135
И они снова выходят и снова потихоньку возвращаются.
— А когда она, бывало, уснет, измученная, словно мать, которая
накормила детей и укрылась белой пеленою, как лебедь крылом, я не
решался протаптывать снег, чтоб не озябла и не проснулась. Земля —
твоя дочка, и ты должен простить мне.
Старуха, плача, покачивает головой.
— А он забирает да и все. Ну, я — косу подмышку, да ему в самое
сердце. Ешь теперь землю. Отсидел в тюрьме долгий срок, а тоска моя
по земле не заржавела. Как пришел, обнимал свои нивы, а богачи
обходили меня стороной, только ты, боже, настиг меня еще и своей карой.
Я не перечил, но я был прав.
Старуха и дочери запричитали в голос.
— Вынесите меня во двор, суки, а сами оставайтесь в хате.
И «суки» вышли снова.
— Я не равняюсь с нашими, что за межу нацеливали на врага пули
и пушки. Бывало, они, молодые, как пташки, с песней на смерть идут.
А мы позади подбираем павших певцов и плачем. Они все в крови,
черные от грязи, карабин не вырвешь из мертвой руки. . . Только глаза
смеются, потому что нет матери закрыть их. А я плачу и думаю: пока
мы зарываем эти смеющиеся глаза-жемчужины, до тех пор и межа будет
наша. Как же ты, боже, не благословил их? Вот с тех пор я и не боюсь
тебя!
— Ой, дети, молитесь за грешника-отца, он отходит!
— Сейчас буду умирать. А вы насыпьте мне в гроб земли и не
убирайте. Я хочу с ней быть, как наши. . . А ты, боже, если можешь, прости
меня, а нет на то твоей воли — так швырни на свою вечную каторгу.
Есть же у тебя ад. А я твоему начальству не стану жаловаться.. .
Снимите меня на землю, я еще раз ее поцелую.
— Ой, дети, отошел наш родимый во грехе!
Волчица
Я только что вернулся с похорон женщины, знакомой мне с детских
лет. Я с трудом вытаскивал ноги из густой русовской грязи, но все-таки
проводил волчицу до самой ямы. Комья земли резко стучали о тонкие
доски гроба. Провожающих было немного, и все удивлялись, что я тоже
пришел. Они не знали, кто была волчица.
Когда я только пошел в школу, она по наивности позвала меня в свой
бедный домишко и попросила прочитать свиток, хранившийся в жестяной
трубке. Но я, кроме написанного латиницей слова «Книгиницкиеч>, не
смог ничего понять. Только значительно позже, уже учась в гимназии,
я разобрал, что это был шляхетский диплом рода Книгиницких.
136 Василъ Стефаник. Новеллы 1926—1933 гг.
В ее убогий домишко все богачи, все попы, все евреи посылали на
ночлег всех бедных и заблудших.
Унылым и грязным шляхтичам она говорила:
— Не бродите по свету, а ступайте к мужикам, потому что
мужики не любят шляхты. Барщина показала им, кто мы такие, поэтому
и я осталась с одной шляхетской трубкой. Ночуйте, я вас накормлю, а
утром идите к мужикам.
А вору она говорила:
— Ты, парень, не кради, краденым не прокормишься, а выходи прямо
убивать, становись лицом к лицу. Разобьют тебе лоб — невелика потеря,
а свалишь богача себе под ноги — с гордостью пойдешь искупать грех.
Я тебя спрячу, выстираю тебе рубаху и накормлю, только не
набрасывайся тайком на дурацкое добро.
А брюхатую, измученную тяжким трудом девушку-батрачку в
больших сапогах, со следами высохших слез на молодом лице, эта женщина
утешала:
— Ты, милая, не горюй, вот родишь славного прижитого и будет
у тебя сила, тебя, бедняжку, и так никто не возьмет, а он вырастет
крепкий на твоих грешных руках. Ты поседеешь, проклятая людьми, а он
подрастет и оботрет с тебя грех своими кудрями. Я выкупаю твоего
ребеночка, а ты поправишься, ты молодая, и заработаешь на него. Не бейся
лбом о мой порог, а садись на постель и моли бога за ребенка.
Всех заблудших, всех бедных, всех несчастных одевала она и кормила
из своей бедной горсти.
Перед войной она распустила всех своих дочек на работу в разные
места. Их было у нее много, но она и дальше принимала всех грешных
людей — дезертиров, воров, калек и девок с пузом и шныряла по соседям,
как волчица, чтобы накормить своих бесталанных гостей. А когда война
кончилась, ее дочки с детьми вернулись к ней. Зятьями были пруссаки,
русские, поляки, итальянцы из плена и украинцы из немецких лагерей.
Старой волчице очень тяжело было держать их всех в маленьком
домишке. Каждый выбирал место для своей нации под черной иконой
богоматери. Вильгельм1, Франц-Иосиф, Николай2, Шевченко, Ленин и
Гарибальди3 требовали каждый господствующего положения в доме. И среди
неистовых криков и драки Вильгельм, Ленин или Николай не раз
оказывались на полу. Тогда моя приятельница слезала с печи, прятала
портреты за пазуху и ночью снова прибивала их гвоздиками к стене, чтобы
ни один зять не бил дочку.
После войны все разошлись, остался один внук от немца, потому что
отец его вернулся на родину, а мать схоронили здесь.
Я не раз вижу, как этот мальчуган пасет чужих овец, и тогда иду
к его домишку и рассматриваю через окно мирно разместившихся под
иконой богоматери царей, поэтов и революционеров.
Грех («Что-то будет?»)
/37
Грех
«Что-то будет?» — думает Касьяниха. Муж вчера вернулся с фронта,
напился воды и спит. От него несет гарью паровозного угля. На шестке
мерцает огонек. Возле Касьянихи, то и дело раскрываясь, спит старшая,
мужнина дочка, та, что родилась до войны. А солдатский, прижитой, все
ищет грудь. На стене тень от груди, как гора, а от губ младенца, как
прожорливый змий. Она думает: этот мальчишка, что упырь, высосал
уже ее женскую честь, а теперь еще и всю кровь высосет.
«Что ж это будет, когда муж встанет? Намотает вот эти длинные
косы себе на руки и пойдет швырять мое белое тело под печь да под
лавки. А потом кинет на порог, так, что туловище останется в хате, а
голова перевалится в сени, чтобы псы слизывали мою кровь. Так будешь
искупать грех, сука! А этот мой щенок пропадет в грязи и позоре, никто
ему и рубашонки не даст, а если, не дай бог, вырастет, пойдет шататься
без меня батрачонком, и даже не услышит о своем отце, который ничего
о нем в широкой степи не узнает. Господи, и за что ты меня так тяжко
покарал, за что отнял разум, когда тот глядел мне в глаза и засовывал
мои косы себе за пазуху в шинели? Ты виноват, господи, ты меня разума
лишил. Подмигиваешь мне ясными звездами да смеешься. Будь и ты
проклят, как я!
Это моя мама стояла два дня у притолоки печальная и опозоренная,
мои сестры стирали прижитому пеленки своими слезами. А отец по
неделям не входил в хату и ел сухую корку во дворе. Поп в церкви проклял
меня, люди меня обходили. Такой груз не сдержала бы и скала.
И я только потому не бросилась в Дунай, что мальчишка улыбался мне
шелковыми глазами».
Она схватила ребенка, прижала к себе и приговаривала:
— Кто бы дал мне сил выйти во двор, наточить нож и всадить ему
в самое сердце! О, господи, ты вводишь во грех, а не даешь силы смыть
его. Не убью тебя, маленький, хоть и знаю — должна. Сердце у меня
дрожит, как паутинка на ветру, ох, если б я могла вынуть свое сердце и
вложить в тебя, чтобы ты умер с двумя сердцами, а я без единого!
Утром.
— Это чей ребенок?
— Ты знаешь, что не твой, только мой.
— И этого выкормим.
— Нет, я не хочу, чтоб ты моих детей кормил, я его сама прокормлю.
Она прижала к себе мальчика железными руками, думала, муж
рубанет топором, и хотела вперед сама погибнуть, чтобы не смотреть на
судороги маленьких ручек.
138 Василъ Стефаник. Новеллы 1926—1933 гг.
— А-а, так ты просто баба, муженек, так ты не шутишь, тебе и
впрямь легко нести мой срам. А знаешь, с тех пор, как я стала курвой,
мне стучатся в окна все хахали, я тебе больше не жена, не надо тебе такой.
Оставлю тебе Катерину, она уже большая, она твоя, а я с моим ухожу.
Она вынула из сундука свое приданое. Себе взяла только две сорочки
и полушубок.
— Остальное Катерине, она умная и послушная, тебе с нею будет
очень хорошо.
Она шла с ребенком по улице.
За нею мать и отец, и сестры, и соседи. Все кричали:
— Не уходи, не уходи!
Но с/на почти бежала, и когда взошла на гору и увидела высокие
хребты и светлые реки, глубоко вздохнула, дала сыну грудь и зашептала:
— Грех мой, грех! Я тебя искуплю, и ты вырастешь у меня большой,
сыночек!
Мать
Старая Верижиха шла к своей дочке, опираясь на высокую клюку.
Думала: «Осень щедрая, воробьи так раздобрели, что едва летают, даже
у бедных дети толстые».
— Славайсу!
У дочки она села на лавку и тихо сказала себе:
— А ведь красивая.
— Что ж ты, дочка, делаешь? Забыла о своем мальчишке, а он у деда
с рук не слезает и работать не дает.
Катерина затрепетала, как осиновый лист перед бурей.
— Затопи печь, дочка, да свари мне московского чаю, я слыхала, он
больно полезен.
Огонь горит.
— Да покажи-ка, доченька, подарки, которые тебе тот русский офицер
подарил.
— Ой, мама, у меня руки не подымутся, бои там те подарки.
Верижиха своею клюкой стащила с жердок шелковые платки, юбки,
тоненькие туфельки, белое полотно, а жемчуг, что рассыпался по полу,
разбивала кончиком палки. Потом села перед печью и стала швырять все
в огонь одно за другим.
Катерина, побелев, как стена, дрожала в углу и держалась руками за
стол, чтобы не упасть.
— Сгорело твое распутство, я б и тебя в огонь сунула, да стара стала,
слаба. Твой муж обирает с себя вшей да вытаскивает пушку из грязи,
а ты бросила мне ребенка в постель, как сука, а сама таскаешься с
царским офицером. Разъезжаешь с ним в колясках, как пава, а люди, завидев
вас, прячутся, а колеса твоих колясок едут мне прямо по сердцу. Ты
воткнула в мои седые волосы вонючий цветок позора.
Роса
139
Огонь погас.
Теперь старуха полезла на кровать и стала снимать с жердок
кружевные и вышитые сорочки, коврики, яркие полотенца — рушники и
тонкие полотна.
— Катеринка, то, награбленное, вылетело с дымом в трубу, а это твое
приданое я чистыми руками для тебя собирала, как только ты на свет
родилась.
Старуха сидела на куче приданого и смотрела на дочку, как палач,
а та широко распахнула большие глаза, полные греха, но озаренные
ласковым небом.
— Житье твое среди нас покончено, ты всем теперь чужая, насыпь
вот этого порошку в московский чай и разом грех искупишь. А я тебя
обряжу красиво и похороню славно, так и сотрешь пятно с нас, стариков,
и с мальчонки своего.
Катерина через силу едва протащилась мимо стола и лавки за порог.
Мать долго сидела на роскошном приданом, потом встала, заперла хату
и ушла домой.
— Не тебе одному, господи, дано право карать, — мне тоже.
У церкви старую Верижиху все обходили стороной, потому что сна
подговорила Катерину повеситься, а старуха кричала им издалека:
— Как была жива Катерина, вас приходило сто на дню и все
талдычили: она все село позорит, она со своим офицером забирает в город
лучших лошадей, она ему нашептывает, у кого деньги, спит с ним на
еврейских перинах, звенит краденым жемчугом. Мой старик неделями не
заходил в хату, потому что не мог помолиться перед иконами, потому что
вас в хате было полно, все норовили ногтями разодрать нам сердце,
а теперь, как я послала ее на смерть, все стали милосердные. Чего еще
хотите от меня, дикие звери? Вот ребенка ее еще выращу и сама пойду
за нею, паскудники вы!
Накинула на шею веревку и, опираясь на длинную клюку, одиноко
пошла к своей хате.
Роса
Старый Лазарь на рассвете полол грядки. Пряди рассвета вытягивали
на землю солнце, а Лазарь, потрясая седыми волосами и опершись на
мотыгу, улыбался, потому что очень любил эту пору. В сумерках
рассвета он рисовал себе будущее детей, внуков и правнуков.
Тихо, птицы поют, а роса ест ноги. Но каждый стебелек с такой
радостью несет ее на себе, словно она божие питье.
— Ты, роса, меня еще с детских лет щиплешь; я и овец пас, плакал
от тебя. А в молодости приходилось, когда шел от девушки, засучивать
белые штаны, чтобы мать не ругала, а как вышел на свое и вставал ко-
140 Василъ Стефаник. Новеллы 1926—1933 гг.
сить, ты жрала меня и кусала и защищала от косы каждый колосок,
чтобы еще хоть назавтра напоить их своим крепким напитком; но хуже
всего ты осенью, когда отымают у тебя все, чему ты каждый день лицо
мыла. Ты как мать, что не отдает своих детей.
Так-то вот, нагулялся я по тебе, роса, поела ты меня вдоволь, только
все укусы твои были сладки, как мед, что и щиплет и нравится. За
семьдесят лет я не пропустил тебя ни разу и всякий день ждал солнца, и оно,
большое и ласковое, всегда сушило меня, а тебя, роса, брало на небо, чтобы
вечером, когда каждая травинка сомлела от жары, излить тебя снова.
Ты, боже, поливаешь землю росой, как мы рассаду. Эх ты, божия водица,
ты давала силу и здоровье пшенице и ржи, но и я был от тебя сильный
и крепкий. Жаль, что не будешь меня орошать, когда солнышко святое
поднимется.
Лазарь посмотрел на свою белую хату.
— Я из тебя, мой дворец, тихонько выхожу, чтоб не будить внуков.
Они так славно спят, раскинувшись, что грех и дверью скрипнуть; их сон
святой, ведь их бог взял на колени, там они, на божьих коленях, растут.
А старуха встает вместе со мною, накрывает детей и ходит тихо, как
кошка, готовит им завтрак. Чем я отплачу за твою милость, боже мой
милостивый? Ты меня своим солнцем, дождем и грозой долгие годы
держал в силе, чтоб мои дети и их дети жили и росли!
Но внуки теперь другие, чем прежде, у них книги, и песни другие
у них. А глупая старуха моя радуется и строит с ними Украину. С ума
сошла от внуков. Вытягивают из нее деньги на представления да на
книжки и таскают старую развалюху по читальням, а она возвращается
домой радостная, как девчонка.
«Ох, говорит, старик, если б ты видел, какой казак наш Тома, в серой
папахе, в синих штанах, а люди хлопают ему, а он говорит, как в книжке,
а рубашка на нем так и сверкает. Эх, тебе бы хоть раз посмотреть на
них!»
— Я, говорю, стар смотреть на это и не виноват, что у тебя девиче-
стЕО в голове. А вот ты лучше скажи, откуда у тебя деньги на папахи да на
синее сукно, да на сверкающие рубахи? Ты-то ведь давно слепа, как кро-
тиха, ты им не вышивала, а у меня, с той поры как ты сдурела со своей
Украиной, в кошельке денег недочет.
Однако внуки не пьют, не гуляют, и в корчму не тянутся, а только
гудят, как пчелы: Украина, Украина. Маленький Кирило обхаживает
меня, как ребенка: «Я, дедушка, почитаю вам, тут так здорово написано».
И читает, и там в самом деле хорошо написано, а я неграмотный и только
по его просьбе слушаю да поддакиваю.
Они у меня почтительные, благослови их бог с их надеждами. Они
хотят нового, на то и молодые.
От этих мыслей старика оторвало взошедшее солнце и старуха,
которая позвала его завтракать.
— Ты, вечное солнце, снова благословляешь меня перед завтраком.
Дуры-бабы
141
Только я ослабел уже, росе — твоей дочке — нечего больше пить — одни
кости. Зато у меня внуков много. Росе есть кого осыпать своими
жемчугами. А ты, солнышко ясное, благословляй и их.
Старый Лазарь обтер влажным от росы листком мокрые глаза и
пошел к внукам в хату.
Дуры-бабы
Как случилось, что женщины устроили на рынке недозволенное
сборище, этого никто толком не знает. Началось с того, что баба из Стеце-
вой, у которой сын сидел в Коломые в тюрьме, возвратилась от него
злющая-презлющая.
— Чуть не замерзла под стенами, не пускают да и все. Хожу на
холоду, вся душа застыла, хоть бы, думаю, через решетку повидать. . .
Вокруг собираются женщины.
— Спрашиваете, за что сидит? А лихо его знает — за газеты. Увидал
жандарма в окно и засунул мне за пазуху какие-то бумаги. А жандарм
обыскал его до голого тела, перевернул все в хате вверх дном и сел.
Подумал, подумал, да и говорит моему мужу: «Сходите-ка за еврейкой,
что через дорогу живет, чтоб тотчас пришла». Явилась та, а жандарм
говорит: «Обыщи эту женщину, нет ли на ней каких бумаг». Ну, она и
вытащила у меня из-за пазухи те бумаги, что сын дал. Жандарм
обрадовался, перебрал бумаги и говорит парню: «Пойдемте со мной в участок».
Только его и видели. Спрашивала я, спрашивала, разведывала, как вдруг
слышу, он в Коломые в тюрьме. . .
Женщин вокруг все больше.
— Да хоть бы я там замерзла, все равно поеду к нему, это ж у меня
любимый сын! Может, он голодает, может, его вши заели, может, простыл
за решеткой? Старик кричит—на кого остальные дети останутся?
А я ему: «Не отвезешь на станцию, ей-богу, на коленях доползу». Ну, он
видит, нечего со мной делать, запряг коней, повез. Села я в поезд,
помчались. Ну, думаю, сейчас увижу его. . .
Женщин собралась уже большая толпа, позади них появились мужики
с кнутами, уже и жандарм стал прислушиваться.
— Избави вас бог так искать да добиваться, как я ту тюрьму искала.
Однако попался-таки добрый человек, спрашивает: «Чего ты тут
мерзнешь?» А я плачу. Рассказала ему, как и что, он и завел меня внутрь.
Составили протокол: как меня зовут, как сына зовут, откуда. . .
Жандарм попробовал разогнать толпу, но с бабами не так легко
справиться.
— Увидалась я там с сыном, сроду так на него не радовалась. И «не
горюйте, мама», и веселый он, и говорит: «Тут нас, таких, много сидит,
ничего нам не сделают, а если дадут год-два, не беда — молодые, отсидим».
Это он так утешает меня. А я гляжу на стены каменные, на окошечки с
решетками и говорю ему: «Как же ты тут, сынок, два года выдержишь?»
142 Василъ Стефаник. Новеллы 1926—1933 гг.
Вот так я с ним минуточку побыла, да и — «пошла, бабка, собирайся!»
Ну, да мне и то хорошо. . .
Тут уже завязалась баталия: жандармов все больше, женщины
расходиться не хотят, крик. Какая-то карловская баба орет:
— Вы хотите всех наших детей, что учатся, сгноить в тюрьмах, чтобы
потом легче было мужиков в ярмо запрячь.. .
— Вы наших детей по всему свету разогнали, мой на Украину сбежал,
не знаю, жив ли, нет ли.
— А мой пропадает в Чехии.
— А мой у немца, чтоб вам так было погибать легко, как мне плакать
по нем.
Жандармов все больше, крики громче. Мужики пытаются уже
уговаривать жандармов, что это, мол, дуры-бабы, не знают порядка.
— Так пусть те две выступят вперед, мы на них протокол составим,
а остальные — разойдись!
— Э, знаем мы ваши протоколы. Берите нас всех!
Долго ли, коротко ли спорили женщины с жандармами, но через
некоторое время толпа баб, оцепленная блюстителями порядка, двинулась
к магистрату. Под ногами скрипел и скрежетал снег, а сзади шли мужики
с кнутами.
И на каждой красный платок. Где уж их различить! Да и какой
леший управится со столькими бабами. . .
И правда. Женщины до самого вечера мерзли на магистратском дворе,
меняясь платками, чтобы их не узнали, и нельзя было их выгнать.
Пришлось честью просить — тогда только удалось избавиться.
А как рассыпались по улицам, хохотали, словно со свадьбы шли.
Известно — дуры-бабы. . .
Школьник
В сельской канцелярии собралась гурьба взволнованных крикливых
женщин. Спокойны только жандарм с карабином у стола да войт. Позади
войта в уголке сидит на полу оборванный мальчуган и озирает
собравшихся черными глазенками.
— И чего же вы, женщины, хотите от зтого озорника?
— Мы хотим, чтобы вы его заперли, — от него ни нам, ни нашим
детям житья нет. ..
Женщины кричали, заламывали руки.
— Расскажите, Тофанка, ведь это вы бегали к жандарму. . .
— Вам еще надо рассказызать про этого приблуду? Он собирает
маленьких ребятишек на лугах и кормит их мухами и червяками. Рожицы
у них пухнут, от плача уснуть нельзя. Дети выносят ему все, что ни
увидят в хате. Он ест с цыганами падаль. Да такого еще свет не видал!
С тех пор, как мать его умерла, он одичал, никто его не кормит, не
оставляет ночевать, не стирает на него. ..
Школьник
143
А мальчуган, сидя на земле, говорит:
— Глупая она, что ли, Тофанка эта? Кто ж меня будет кормить да
обстирывать, раз маму засыпали глиной? Что в руки попадет, то и ем,
ну и не голоден, что украду с плетня, то и надену. Бьют меня, здорово
бьют, но я терплю. Раз мамы нет, надо терпеть. . .
— Нет, вы только поглядите на него, хоть бы заплакалг хоть бы
покаялся! Еще и умничает. . .
— Так что же он натворил, Тофанка?
— Собрала я своего Лукинка в школу, умыла, накормила, надела
белую рубашку, взял он чернильницу, сумку с книжками и хлебца за
пазуху. А я чищу шерсть возле хаты и в уме ничего не держу. Как вдруг
через час, а может, и раньше, вбегает в ворота чучело во все цвета
раскрашенное, ревет, плачет так, что в ушах звенит. Только по голосу и узнала,
что это мой парень. Схватила его на руки, внесла в хату, мою, бью, а он
кричит. Видите, у меня и рукава, и ворот — все в краске...
Женщины осматривают краски на сорочке Тофанки и прикидывают,
можно ли отстирать.
— Ребенок охрип от плача, отвечает, что, как шел в школу, этот
прижитой перехватил его на лугу и говорит: «Так и так, Лукин, сними
рубашку, я тебе тело во все цвета разрисую. Ребята будут за тобой бегать
и смеяться!» Малый снял рубашку, а он и разрисовал его возле пруда
разными красками. «А ну, побегай, говорит, по лугу, будешь, как
мотылек». А сам хвать его рубашку, и поясок, и все, и сбежал в кукурузу.
Оделся, разлил на себя чернила и пошел, приблуда, в школу. . .
Тут Тофанка бросилась на мальчугана и хотела его бить, но жандарм
не дал.
— Я же говорил, что Тофанка глупая. Так я ее и напугался, когда
тут войт и жандарм. А на дороге я тоже ее не боюсь, умчусь, как ветер.
И на пруду не боюсь — столкну в воду и все. Меня довольно били, пока
набрался ума. У меня кровь шла из глаз, из ушей, из горла, и теперь
я умный и ноги у меня сильные. Я теперь от любого убегу. . .
— Вот так покаяние, люди добрые! Нет, вы, войт, сделайте с ним
что-нибудь. Он нам детей испортит. Вы только поглядите, как глазами
стреляет! Да он смеется над нами! А самодовольный какой! . .
— Парень, ну а дядя или тетка у тебя есть? Родня, словом?
— Есть. Родных много, только, как после похорон забирали мамины
вещи и полотно, они еще держали меня у себя, а потом стали бить,
выгонять и есть не давали. Приходилось таскать себе еду. Пока было тепло,
я спал в пшенице или в кукурузе, а как стало холодно, прятался в хлев
и ложился перед скотиной, у нее дух горячий, вот она и дышала на меня.
А мальчишки кормили, а учительница дала кафтан, длинный такой. ..
— А ну, сходи-ка к его тетке, там, на опушке живет. Вели, чтоб
тотчас шла сюда в канцелярию.
— Ну, и что ж вы будете делать с этим приблудным? Накажите,
посадите его, а то нельзя детей из хаты выпустить.
— Наказывайте, я выдержу. Во, смотрите, какой зад избитый. Тут
всякие палки побывали,, вон как присохло. . .
144 Василъ Стефаник. Новеллы 1926—1933 гг.
И мальчуган поднял рубашку и показал женщинам свое тело.
— Глядите, глядите, ни стыда, ни совести. . . — загудели женщины.
— Вон его тетка идет. ..
И тут мальчишка прижался к ногам жандарма.
— Ох, пане жандарм! Эта тетка будет бить меня. Она больно бьет.
Я все вижу в селе, как-то увидал, что к ней Басок ходит. И когда сказал,
она бежала за мной до самого сенокоса и шуганула такой дубиной, что
с мясом кожу вырвало. Она бы меня убила. Женщины ни на что так не
сердятся, как если скажешь, что к ним кто ходит. Я за это довольно палок
получил, а больше всего от своей тетки. У нее укради сорочку или сало,
и то так не изобьет. . .
Все женщины обернулись к тетке мальчугана и принялись шептаться
и посмеиваться.
— Пане жандарм! Я все в селе знаю. Я знаю, где сало в бочках
стоит, я знаю, где закопаны карабины, я знаю, где у евреев часы. Меня
никто в хату не пускает, вот я и хожу, смотрю. Вы можете меня хоть
подвесить. Я видел, как Лесь подвесил своего парня вверх ногами. Потом
жандармов было тьма, и доктор резал, и похоронили его с парадом.
Только не отдавайте меня тетке, а то она злится из-за того Баска.
В тюрьму так в тюрьму, виселица так виселица, а я уж сам как-нибудь...
Окровавленный вексель
А теперь надо рассказать смешную историю железнодорожника Ивана
Гусака. То ли он проштрафился, то ли проворовался — этого в селе никто
как следует не знает, но все знают, что службу он потерял и получил
выходное пособие — несколько сот злотых. Он был молодой, усы лихо
подкручивал вверх, одевался в синий, городской костюм, нравился женщинам,
умел говорить по-польски, да как будто и по-немецки, так что мужики
уважали его. А была еще в селе вдова, постарше его, хорошая пряха, жила
в своей хатенке и недавно переложила печь, чтоб стало теплей на зиму.
Прясть лучше у теплой печки. А главное — были у нее деньги в узелках.
Ну, Иван и пошел к ней постояльцем, зимой доставал уголь и немного
водки и булок, а уж пиво пил в одиночку, на станции.
Политика у него была такая, что мужиков он не ставил ни во что,
попам не кланялся и имел большие претензии к начальнику станции и
К Польше. Да, видно, денег водилось у него немного, и он стал свататься
к своей хозяйке, Парасочке, чтобы таким способом добраться до узелков
с деньгами. Но у вдовы, как говорят, семь разумов, она угождала жениху,
заискивала перед ним, на свадьбу вытащила из сундука такое платье, что
богачки от зависти зеленели на снегу — дело было после рождества. Они
говорили, что все добро у нее ихнее. Свадьбу сыграли пышную, но
медовый месяц был недолгий. Парасочка, во-первых, вдова, а во-вторых,
характер у нее твердый, и узелки с деньгами она не только не развязывала, но
даже и не показала. Правда, она сшила мужу крестьянскую одежу — на
Окровавленный вексель
145
праздник и на будни, потому что ей хотелось, чтоб муж стал хозяином,
а не работягой, который провонял фонарным маслом, вымазан углем и все
ходит пиво пить. Он еще молодой, из него еще можно сделать солидного
человека.
Но в этом Параске не повезло, и она спрятала свои надежды в сундук
меж узелками, а сама стала кормить мужа все скуднее, хуже стирала ему
рубашку, спарывала с нее хорошие прошвы и пришивала старые, так что
к весне Иван уже не хотел дома сидеть. А ей взбрело в голову еще и
другое: чтобы деньги не пропали, она купила по соседству клочок огорода,
заняла у ростовщика две сотни и, как принято, подписала вексель с
поручителями. Станет Иван человеком — будет ему где руки приложить, а нет,
так она сдаст огород на отработку, и под старость обеспечен за ней уход.
Однажды Парасочка ночью напоролась пяткой на заржавленный
гвоздь, нога распухла, как колода, а надо было нести в город очередной
взнос; ни брата, ни сестры у нее не было, и она несколько дней кормила
Ивана лучше, рассчитывая, что подпишет вексель дома, а он пойдет с
поручителями в город платить. Иван приметил, что жена вертится вокруг
него, и был рад. Она даст деньги на взнос, даст на выпивку, и еды
хорошей приготовит на дорогу, а если сказать ростовщику, что на целый взнос
у жены не набралось, то можно и пива выпить и развлечься как следует,
и посчитаться с благоверной за старые прошвы.
На осенней зорьке Парасочка сготовила побольше хорошей еды, дала
белого хлеба, пять злотых на водку для мужа и поручителей, и еще
каждому на кружку пива. Деньги для ростовщика, тщательно пересчитанные,
лежали кучками на столе. Парасочка завязала их в узелок, а те, что на
угощенье, высыпала мужу в карман. Иван шел в железнодорожном
мундире. Харчи она аккуратно уложила в расшитую тайстру, добавила чистый
кусочек сала и, только стало светать, отправила мужа в путь. Ему
надлежало зайти за поручителями и с ними идти в город. Он так и сделал,
поручители сказали: «ладно, ладно, ты иди вперед», и он отправился
лугами в город. \
Шел, шел и наткнулся на двух солдат с карабинами. Не будь
расшитой тайстры, может, ничего бы и не случилось, а так вышло и скверно и
больно.
— Марш, быдло, домой!
Иван стал, было, объяснять им по-польски, что идет в город платить
рассрочку. Он вытащил вексель, подносил его к глазам солдат и не хотел
возвращаться. Но солдат и есть солдат — для чего-то дали же ему
оружие. .. Как размахнется, как даст по зубам — Иван чуть не подавился ими,
выплюнул в ладонь и зубы, и кровь. Закричал и побежал от солдат
с окровавленным векселем в руке и с тайстрой за плечами. Он и сам не
знал, куда бежит — вперед или назад. Огляделся только возле моста и
сообразил, что он уже у самого города. Во рту жгло, зубы вместе с векселем
были зажаты в кулак, но узелок с деньгами лежал за пазухой, надо было
только как-нибудь умыться и остановить кровь. Он спустился к реке,
мыл лицо, полоскал рот и нащупывал языком пустые места в деснах. Стал
беззубым. Однако у реки он отдохнул, отдышался и даже обрел утеши-
10 Василь Стефаник
146 Василъ Стефаник. Новеллы 1926—1933 гг.
тельную мысль: болеть когда-нибудь перестанет, во рту, кроме трех
выбитых, есть еще много зубов, а деньги его благоверной пропали, потому
что не дурак же он — признаваться, что сбежал с деньгами... Отняли
солдаты, и все.
Как человек интеллигентный, он завернул к доктору Подюку, чтобы
получить врачебное свидетельство. Даже заплатил за совет, подробно
рассказал, как все произошло, показывал на ладони зубы, но доктор
подшутил над ним, видно, принадлежал к тем, кому всегда смешно, когда
ближнему выбьют зубы. Во врачебном свидетельстве было написано только,
что Ивану, по его словам, выбили три зуба и что доктор больше ничего
не знает. Когда ростовщик в городе прочитал Ивану свидетельство, тот
сказал, что это выброшенные деньги, пустая бумажка.
А развлекся Иван в городе славно. Угощал и поил знакомых,
рассказывал всем о своем приключении, а потом довольный отправился домой.
А подходя к селу, узнал, что в этот день там били всех поголовно. У него
оставалось еще немного денег, и он вернулся на луг, зарыл их под кустом,
а уж после этого с расшитой тайстрой, но без трех зубов направился
восвояси. Он долго рассказывал жене страшную историю, как его били, как
отняли все деньги и неведомо когда опустошили тайстру, разевал рот до
ушей, показывал пальцем пустое место, где еще утром были зубы, отдал
окровавленный вексель, а уж кто опорожнил тайстру — бог весть. А
виновата во всем Парасочка — на черта ей сдался город и векселя! Парасочка
поплакала о деньгах, но выйти из хаты с плачем, как надлежало по
обычаю, чтобы люди слышали, не решилась — и без того нагляделась за день
таких ужасов, что пропадай хоть все деньги. Впрочем, она потихоньку
утешалась тем, что и ее «пану» досталось от панов.
Грех
Вдова Марта давно уже болеет, а теперь, видно, собралась умирать,
потому что позвала к себе обеих сестер и всех подруг. Гостьи расселись на
лавке у постели и под окнами, а Марта, не отрывая головы от подушки,
заговорила:
— Не нажилась я на этом свете, не натешилась, а нагрешила. Доктор
говорит, у меня теперь каждый час дареный, так уж вы простите, что
оторвала от дел.
Марта отвела от побелевших губ прядь седых волос, раскрыла рот,
чтобы надышаться.
— Смерть, сестрицы, мука, а меня после смерти еще и люди навеки
проклянут. Грех такой, что муж мой не вынес, и я, двужильная, не в силах
нести его до конца...
Она разинула рот и пальцами плескала в него воду из миски, чтобы
набраться сил и высказаться.
— Я, знаете, звала уже попа несколько раз, исповедовалась, но правды
не сказала, то ли риза на нем больно шелестит, то ли он слишком при-
Грех (Вдова Марта давно уже болеет.. .)
w
стально в глаза смотрит, то ли просто язык не повернулся... Одно дело
рассказать обыкновенный грех, каким грешат все люди, а чтобы мой грех
высказать, надо развести зубы клещами, да еще раскаленными, чтоб
пылали, как ладан на рождество...
Сестра Марты, Мария, подняла ей голову с подушек и успокаивала,
а подруги уперлись руками в колени и подались вперед.
— Так что буду уж вам исповедоваться, видите, как вытянулась,
пожалуй, и в самый большой гроб не вмещусь, земля горькое тело не
примет. .. Мужик, известно, слабее бабы, мой только год продержался,
а я уже года и года. Грех у нас был один, но он через год оставил меня
нести тот грех в одиночку, и такая эта моя доля тяжелая, что под ней и
железо стерлось бы в порошок...
Мы с ним сожгли село. В самый полдень поднялось к небу кровавое
зарево, залило кровью солнце. А до нашей хаты не дотянулось. Он, чтобы
не кричать, набил себе рот пылью, но крик рвался из сердца и выдувал
пыль изо рта, тогда он сел возле ведерка и набрал полный рот воды, его
рвало, а он снова пил, чтобы не кричать... Село дымилось, все почернело,
закопченные люди орали, а он сидел у воды сутки, черный, мокрый, а
потом согнулся и уснул в грязи. Я хотела оттащить его на сухое место, а он
как стукнет меня ведерком, ну я и легла в грязь возле, так мне и следовало.
Все женщины уже стояли, как вкопанные, и глядели очумелыми
глазами на Марту. Мария, не удержав голову сестры, опустила ее на
подушку. А больная носила в горсти воду из миски и, не донося до рта,
проливала за пазуху.
— Вон вы, мужицкая стать, и то от этих слов очумели, а как
покаяться в эдаком перед чужим попом? .. А вы хоть по всему селу раззвоните
обо мне, хоть бейте в набат — не боюсь, хоть волочите меня по всем
мостовым булыжным и закопайте по косточке во всех нечистых местах — и
то мне будет легче мука, чем теперь. Не в силах я больше нести этот
грех... Мария, задыхаюсь, подопри мне голову, дай докончить, или, может,
тебе эта голова, как смола, руки жжет?
?Кенщины молчали. От этой тишины и колокол бы оглох.
— А началось так. Когда вернулись наши с войны, то мужнина брата
повесили за то, что долго был на Украине. Мы его с мужем сняли и
привезли в холстине, обрядили парня честь честью, только язык не могли
засунуть в рот. А мой дурень схватил нож и хотел отрубить ему язык,
хорошо, что я своей рукой удержала. Только он рассек мне ее до кости, и
когда я закрывала покойнику лицо китайкой, она промокла от моей крови,
и я его другим платком накрыла. И, вы знаете, муж мой после тех
похорон замолчал, не говорил ни слова, все ходил по селам и разыскивал
товарищей брата по войне, а потом они у нас гостили. Это такие парни, что
и плясать идут с револьвером, и в каждом кармане держат по бомбе, а под
рубахой прячут нож — таких никто и не видывал! Они говорили: «Нас
прогнали с нашей земли, и мы готовимся к смерти, а жизнь свою швырнем
врагу под ноги, как вшивую рубаху на войне». Тут и постановили спалить
имение. Ну и подожгли с моим мужем. Пану-то ничего, а половина села
рассыпалась золою.
10*
148 Василь Стефаник. Новеллы 1926—1933 гг.
Марта вытянулась и закрыла глаза, женщины подошли к ее постели,
обливали больную водой, но вода стекала с лица, как с камня. Мария
достала из-под матицы желтую свечу, и все стали искать спички, а когда
зажгли и вставили Марте в руки, она ожила.
— Я еще не умерла, но сейчас умру. Совести бы моей умереть со мною.
Это бог хорошо устроил, что совесть громко не говорит. Пусть хоронятся
товарищи мужа с бомбами и револьверами. О, как заговорит совесть, слова
ее огнем горят в каждой жилке и могут скалу стереть в порошок. Нет
страшней слова совести. Я этих слов никогда не знала, никогда не
слышала. Это только бог наказал меня ими. Молния с неба не так страшна,
как они. Это слово — проклятье, оно губит все живое на земле. ..
Умирать буду, Марийка. Передай людям, пусть разделят наше с
мужем добро. Мне им больше нечем отдать. А в сундуке на дне лежит
открытка от мужнина товарища. Пишет он из дальних краев, что приедет,
когда мы уже будем свободны. Там есть его адрес, напиши ему: того, что
мы наделали, никому вынести не под силу, и мы от этого умерли...
Теперь давай свечу, я уже не оживу больше.
У нас что ни день — праздник
Долго упрашивали и наконец упросили старого Палату рассказать
молодым коллегам какую-нибудь интересную историю из крестьянской
жизни. Из-под его белых усов струилась ирония.
— Мне уже восемьдесят лет, и, должно быть, все восемьдесят я живу
на одном месте. Были времена, когда я был пан — служил писарем в
имении под начальством эконома. А были времена, когда я, дьячок, не
вылезал из церкви, разговаривал как все попы и боялся всевозможных духов.
А когда я пошел в музыканты, то от неочищенной водки или от нервной
ночной работы с цыганами мне постоянно мерещилась всякая нечистая
сила. Сидишь, бывало, допоздна с парнями и сказку рассказывают такую
бесконечную и страшную, что святые на иконах кутаются в свои светлые
ризы. А сопилка наводит такую печаль, что молодые ребята опускают
свои широченные плечи и утирают грязными руками слезы, а потом все
складываются на штоф водки, и двое или трое самых отважных
отправляются в корчму. За ними тянутся все домовые из хаты, там их как на
свадьбе — полным-полно.
А по дороге к ним пристают еще и все страхи из-под мостов, и с
нечистых мест, и со всех осин, где кто-нибудь удавился, и провожает их уже
целая банда. Так что арендатор, отворив им, со страха проливает водку,
и руки у него трясутся, потому что нечистая сила гналась за этими
парнями до самых его дверей. И еще рассказывают, что все эти лешаки были
с лица точь-в-точь как арендатор. Тот считает деньги, а то и без денег
выгоняет их за дверь и запирается на все запоры. Если он тотчас после
этого гасил свет, ребята иной раз забегали в курятник и там свертывали
шею кому попало — гусь так гусь, курица так курица. С водкой и добычей
У нас что ни день — праздник
149
они возвращались веселые, бодрые, — черти, должно быть, не хотели
принимать участие в уголовно-наказуемом деянии и больше не показывались.
Потом завешивали окна дерюжками, на сопилке больше не играли, не пели,
а ломали соседские плетни, и вскоре печь гудела и накалялась. Хозяйка и
соседские девушки хлопотали возле нее, варили мясо, хозяин хаты искал
чарку побольше, и все стремительно двигалось вперед. Через полтора
часа все сидели за столом, пили и ели, но сказок больше не рассказывали.
Дисциплина царила железная, сильнейший обладал властью и наказывал
за малейшее повышение голоса. Съездит, бывало, по морде так, что кровь
стекает в рюмку. Иначе нельзя, потому что в те времена в ходу еще были
палки. Пойдет негодяй-арендатор к войту, прихватит для него водки, а тот
берет выборных, и если застанут в хате попойку, каждый из гостей
получит самое меньшее палок по двадцать пять. Сами видите, дисциплина
перед лицом врага была необходима.
А вы пейте, пейте чай, водки нет, да я теперь и не могу пить ее, и вы
не деревенские парни, а учителя с высокими окладами.
— Ну, а про нынешнее время, коллеги, трудно рассказать что-нибудь
забавное. Завершив карьеру музыканта, я долго, целых тридцать пять лет
учительствовал, и привык к неграмотным мужикам, они были как дети,
их кто угодно мог переманить на свою сторону. Они еще боялись
барщины и господ, а евреев не ставили ни во что и смеялись над ними. Потом
стали заводить общества трезвости, потому что пропивали слишком много
земли. Зайдут, бывало, ко мне в школу войт, выборные и уполномоченные,
выгонят из классов детей, рассядутся на лавках и давай пить да
распевать. Поверите ли — школьный зал, пять на пять метров, казалось, вот-
вот лопнет. На рассвете приходят жены искать мужей и уговаривать их
расходиться по домам, да за этими уговорами сами принимаются пить,
и я еще двадцать четыре часа принимаю смешанное общество. Ну, тут и
профессор университета не выдержал бы больше суток, так что я не раз,
бывало, вставал из-под лавки, а на лавках валялись недоеденная селедка,
куски сала, а от бумаг еще целый месяц несло перегаром. Не то что
теперь, дорогие коллеги! Иначе нельзя — а то соберется рада и постановит:
«так и так, этот учитель нелюдим, он наших детей учит плохо», съездят
к старосте в уезд, вернутся с бумагой, запрягут пару волов, выпроводят
тебя с семейством, и поезжай в другое село договариваться: сколько дадут
корцев зерна, сколько дров, придется ли только читать в церкви псалтырь
или петь всю заутреню. Это была мука, вот и приходилось и пить, и
терпеть, и отрыгивать. Но, как я уже сказал, появилась «трезвость», а за
ней зонтики,1 а когда подросли те, что учились у меня читать, то и книжки,
и газеты, и «Наука» Наумовича;2 крестьянский мир менялся, хотя и
медленно. А потом выборы и продажа голосов, и «сечевики»,3 и больше
никто уже не боялся ни господ, ни арендаторов. Двигалась лавина в
красных лентах, и все уступали ей дорогу.
/50 Василъ Стефаник. Новеллы 1926—1933 гг.
— А последних новостей у меня и вовсе немного. Посмотрите в окно.
Этот конец села даже имеет название. Говорят: «на том конце, что у
господского леса». Лес шумит, навевает на душу всевозможные прихоти — то
нужны доски, то оглобли для саней, то пихточка на свадьбу, людям нужно
много леса. А из-за этого бесконечные ревизии по хатам, процессы,
судебные издержки и аресты. На других концах села нет этих лесных привычек,
а здешние жители унаследовали их от предков. Наследственность, как
вы знаете, вещь тяжелая и параграфами ее не слизать. Когда-то на другом
конце села — отсюда его не видно — был большой пруд, так там еще и на
моей памяти долгие годы валялись невода и сети. В те давние времена и
у того конца была своя наследственность. Но пруд пересох, а с ним и
наследственность. А тут лес растет и наследственность тоже. Вот почему
этот уголок перед моими окнами необычен, он вечно раздираем процес-
сами, здесь всякий день аукцион, такой упорной вражды между властями и
мужиками я и не упомню. Крестьяне ненавидят здесь любого чиновника,
от самого незначительного до самого высокопоставленного, я подобной
ненависти никогда не видел. Борьба идет беспощадная и, скажем, вот
какая происходит забавная история. Глаза у меня уже плоховаты, но
стал я с удивлением замечать, что почти ежедневно на улицах появляются
празднично одетые люди. И мужчины, и женщины, и дети. Поминки,
что ли, или праздник, только уж не много ли праздников? Спрашиваю
старика-соседа:. «Скажите, Данило, что это у нас так много стало
праздников?»— «Э,— говорит он, — пане учитель, такие уж теперь праздничные
времена. Видите ли, приезжают господа с колокольчиками и всю хорошую
одежду пускают с молотка, а возле церкви стоит наш дозорный. Как
увидит бричку с господами, стремглав бежит на наш конец. Все, кто ни есть,
бросают работу и надевают праздничное, а на кровати и на лавки
сваливают всякую рвань, то, что господа и в руки не возьмут. Ну вот, господа
гуляют, и мужики им навстречу, и такие праздники у нас по несколько
раз в неделю, ведь бог знает, к кому господа собрались. Один
набедокурил, другой поручился — теперь ведь порядка нет. Сперва-то все прятали
у одного мужика, за которым нет недоимки, а потом кто-то донес на него,
и как наскочили, так вывезли семь возов самой лучшей одёжи. И еще без
счета соломорезок, телег и всякой снасти. Вопль поднялся до самого неба,
ко ничего не помогло. Вот с тех пор у нас, как завидят, что господа едут,
все одеваются в праздничное. А вам пенсия идет, так что можете ходить и
в обносках».
— Вот, коллеги, все интересное, что я мог вам рассказать, а больше
ничего не знаю, стар уже стал да глуп,
СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ
«У =ут» \w JT =зг»
Ą/дь такою!
f
Ты будь у меня тверда, как твердь осеннего ночного неба. Чиста, как
плуг в часы пахоты. Будь, как мать, когда она укачивает ребенка темной
ночью, тихо-тихо баюкая его. Одевайся, как девушка поутру и еще как она
одевается, когда идет в сад к милому. Шепчи людям, как ручей бережку.
Греми, как гром, который могучие дубы палит и валит. Плачь, как
миллионы тех, кто проходит по свету тенью. Пои невинные души, как роса
плодородную землю. Стремись, как страсти мои, над которыми больше
кнутов, чем у солнца лучей, стремись и лови чужие страсти, сплетайся
с ними и вместе сгорайте. А как устанешь, сядь на вербу и смотри на
тихие воды.
Такой будь, моя речь!
Чародей
Кто меня греет, кто еще любит?
Дайте горячие руки!
Дайте угля из сердца!
Я повержен, сражен страхом, лежу, как полумертвый, которому ноги
греют.
Трясусь, ох, трясусь в неизбывной горячке.
Дрожу перед острыми, леденящими стрелами дрожи, гонимый тобою,
мысль! Непроизнесенная, скрытая, страшная!
Ты, стрелок заоблачный!
Я сражен тобою,
насмешливый взор, глядящий из темноты.
Так и лежу,
выгибаюсь, извиваюсь, мучимый всеми вечными муками,
под прицелом у тебя, строгий стрелок, у тебя, неведомый
боже...
Глубже рази!
Еще раз!
Пробей, пронзи сердце.
К чему эта пытка
тупозубыми стрелами?
Чего,
не насытясь страданиями людскими,
152 Василъ Стефаник. Стихотворения в прозе
глядишь злобными глазами, божьими молниями?
Убить не хочешь, лишь мучить, да мучить?
Почто мучаешь меня, ты. злобствующий, ты, неведомый боже?
А, а!
Посвящается Олыех
И отчего у тебя, сердце, так много грехов? И как ты от этого не
разорвешься?
Вечер. На небе разгорается луна, молодецкая песня мостит себе мосты
к звездам, сырая батрацкая дудочка шлет жалобный стон из хлева под
господские окна. В долинах синеют спокойные дымы, черные овцы,
сбившись в гурты, ищут свои ворота, за ними детишки подымают пыль...
И отчего ты, сердце, нюнишь в груди, как брошенный птенчик? И как
ты от этого не разорвешься?
Ужинают. Мама наводит порядок на столе, стучат ложки, всем по
вкусу мамина стряпня.
Сирота трется головой об острый дверной косяк, вспоминая давно
минувшее. Молятся на ночь, расходятся спать, окна залиты лунным
светом...
И отчего ты, сердце, дрожишь, как листок на ветру? И как ты от
этого не разорвешься? ..
В мареве плавают леса...
В мареве плавают леса и села среди лесов.
На небе облака, будто мох, примерзший к земле в лесной тиши, —
серый, подернутый ледком.
Серые облака стали на западе как скалы.
Солнце словно после кровопускания — само бледное и лучи такие же.
Оно зайдет за серые скалы на западе. Обойдет, прокрадется за них,
как вор.
Разбить бы эти примерзшие облака, стать бы над солнцем!
Зажечь бы новые звезды, много их там сидит, закованных!
Разбить бы скалу, сковавшую мне душу!
Леса б зашумели, запели б сёла.
Там закован голос моей дудочки, стоило ей заиграть, и луг клонился
к востоку.
Там скован шелест придорожной листвы, шептавшей моим овцам,
чтоб не забрели на чужое поле.
Там клятвы моей любимой. Что ни слово было, то песня.
В ночи
153
Только бы дудочка заиграла, только бы вернулись мои овцы, только
бы заговорила любимая!
Ох, нет уж!
Замурована душа в скалу, как вор.
Не выбежит оттуда девушка в белой сорочке, потому что нет у меня
дудочки, нет овец, нет любимой.
Не зашумит лес, не запоют села.
Палисадничек бога молил...
Палисадничек бога молил: Солнышка мне, солнышка!
Белая роза подняла цветок и попросила солнышка. Еще и не
договорила, а цветок уже склонился к желтым листочкам.
— Я, — говорит она, — и не пожила еще на свете. Я еще белая, как
снег белая, неужто мне увядать?!
Кончики у лепестков моих зябнут. Холод заползает в душу, туда,
где самый маленький, еще желтоватый лепесток.
А ты, солнце, приходишь в полдень. Спасаешь меня от смерти. Лучше
уж не приходи. Пусть увяну вместе с самым маленьким еще желтоватым
лепестком.
А то надо мной уже и звезды по ночам смеются. Подмигивают на
меня одна другой, как царевны на простолюдинку.
Либо уж приходи с утра и побудь до вечера. Чтобы я расцвела.
Я звезды превзойду и выйду навстречу людям белою розой.
Солнышко перевалило за полдень, и роза опустила голову, как
ребенок.
Стремительно клонилась все ниже и шептала:
г— Солнышка мне, солнышка!
В ночи
«Глаза твои пронзила черная туча. Стая черных птиц вылетает из
тучи, как нетопыри, и над тобой кружится. Без нас кружат над тобой!»
Японская роза поникла, и куст кактуса повернулся к северу на голос.
Второй голос: «Голосом своим — жемчугами тебя осыплю, взором
своим — огнем тебя омою, глазами своими — черными стрелами — напою.
Жемчугами черных птиц отвлеку, огнем их выжгу, черными стрелами
перестреляю».
Японская роза цветок обронила, и лист кактуса склонился к нему.
Третий голос: «Все звезды с неба тебе принесу. Все светлые прядки
из глаз светлых выпряду и сплету с лучами звезд небесных. И там,
над землей, под небесами буду прясть с золотыми серебряные свои
лучи. Паду к ногам твоим и звезды совлеку с неба, и звезды к ногам твоим
154 Ba силь Стефаник. Стихотворения в прозе
падут. Рассечем черную тучу серебряными лучами до половины, а
золотыми до самого конца. И станешь ты светить звездным светом, как я
желаю».
Упал и второй цветок, и к нему второй лист кактуса склонился.
Четвертый голос: «Рукой мая махну — все лебеди слетятся; рукой
махну, голос подам—жар-птица на зов явится; рукой махну, голос
подам и глазами гляну — раем стану тебе. Приплыву к тебе, милый, с
лебединого стаей, как стая синих волн морских приплывает к нам».
Цветок унесло ветром в море, и лист кактуса к морю потянулся.
Пятый голос: «Есть у меня поле, широкие нивы роз уродились. Нивы
роз, да все колючих. А через ниву ручей — серебряной лентой. Туда,
за мною! Туда, на ниву, где розы! Нива поклонится, ручей к ногам
падет. Черная туча пропадет».
А цветок уплывает уже, лист кактуса совсем над водою простерся.
О, лист, лист, глянь-ка туда в море. К нам плывет стая островов
с архипелага. Цветок твоей розы вернется с ними назад!
1/V1 97
Рано утром она причесывалась...
(Вацлаву) 1
Рано утром она причесывалась. В окно теснились лучи осеннего
солнца. Они сползали с волос, как тонкие серебряные нити с золотого
самородка.
Она причесывалась, а орех под окном тихонько покачивал густою
листвой, перегоняя лучи с одного стекла на другое.
Шум ореха закрадывался ей в мысли. Она все медленней и
медленней водила гребнем и, наконец, перестала совсем.
Потом облокотилась на стол, а волосы рассыпались и накрыли ее
плечи и кресло. Они струились, как струится водопад золотых волн.
Струясь, волны волос проложили себе русло и теперь омывали шею.
Чистая, лоснится она. как белый камень.
— Вот и осень. Может, ты, листва, шепчешь, что он меня больше
не любит? Или повторяешь за людьми, что я, негодница, поддалась
уговорам? Или приносишь его мысли, что я старею и больше нельзя
меня любить? Скажи, скажи, милый орех, что ты шепчешь?
И она опустила голову на белые ладони, а волосы упали на руки и
прикрыли вытканный на рукавах синий узор.
— Скажи, орешек, скажи, миленький!
Она зарыдала. Слезы текли по рукам, как капли срывались с того
золотого водопада.
А густая листва ореха шептала за окном; «Причесывайся, глупая, он
тебя любит!»
Весна
/55
Весна
Солнце бросило сноп алых лучей на горы. Выпило росу, смело
прохладу.
Вечный огонь палит. Жара душит солнце.
Послало лучи на просторы равнин широких. Нет росы на равнинах.
Спокойное, но жаждущее, стало ε полдень. Пить, еще пить, не то
в уголь оборотится. Раскинуло лучи по всем долам и ложбинам. Пропала
и там роса.
Лучи побелели от жажды.
ДОПОЛНЕНИЯ
ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО
Богач
Богач Иван лежал в постели и не мог уснуть. В хате спали батраки,
батрачки, пастухи и сын, они храпели, сопели и говорили спросонок.
Иван курил трубку, и маленький огонек мерцал среди душного
батрацкого сна, словно хотел разогнать эту тяжкую темень. Так, бывает,
продираются сквозь черноту небосвода крохотные зарницы, но не в силах
они разбить горные громады туч.
— Мне вот не спится, забота гложет, а они все спят, у них ни об
чем голова не болит, намелю им, наварю, они съедят, а о работе у них
голова не болит. . .
— Ой, дяденька, не бейте, не буду, — заговорил сквозь сон
маленький пастушонок.
— Ты выблядок, паскуда, ты уж с этих пор лоботряс, яйцо стащишь,
табак стащишь, где какой ремешок стащишь,— все несешь этой шлендре,
мамке своей!
Богач поворочался еще немного с боку на бок, а потом сел.
— Какого лешего по постели метаться!
Он встал, сунул ноги в сапоги, накинул кожух и вышел.
— Мороз добрый, пора сзывать клевер молотить.
Отпирая ворота скотного двора, он думал: «никто и не заглянет,
хоть подыхай вся скотина. . .» Он засветил фонарь, и все лошади
повернули к нему головы, только старый Данило дремал, положив морду
на ясли.
— Пока сдохнешь, еще попляшешь у меня в приводе, а то хоть
сейчас сдыхай, плакать не стану.
Иван не любил его за то, что соседи не раз говорили:
— Эй, Иван, да перестаньте вы надрываться, поспите хоть ночь,
а то через год-два будете плестись за людьми, как ваш Данило за
лошадьми — голову книзу, уши книзу, хвост книзу.
Иван пнул коня ногой в бок, а у остальных подобрал из-под
передних ног корм и забросил в кормушки.
— Жрите, я вас не на сало кормлю.
По другую сторону лежали и жевали жвачку волы.
— Было бы кому ходить за ними, глядишь, и выручил бы за них
малую толику, а я уже для этого не гожусь.
Богач
157
Ему вспомнилось, как он гнал их из Кимполунга за пятнадцать миль
домой.
Стоял с фонарем и вспоминал: запрятал тогда три тысячи в сапог —
это ведь не сотня, не две. Каждый кричит тебе — «богач!», а вот
возьми-ка пронеси столько денег. Не ешь, не спишь, только поглядываешь
на голенище, не разуваешься вовсе, ноги преют, жжет так, словно ты
их в печь запихал. Но идешь, водишь компанию со всякими пьяницами
и проходимцами, пьешь с ними вскладчину. «А ты куда, друг?» — А я,
мол, в Кимполунг, там наши господа волов покупают, так я наймусь
домой гнать, в селе нет таких заработков, вот я и заработаю там. Пью
с ними, иду, ночую. А у самого — ух ты! — душа в пятках. . .
Дальше его мысли текут уже, как героическая песня об одолении
могучего врага.
— ... Пришел, волов уйма, торг что надо, покупателей немного —
одни пьяные патлатые молдаване. Сторговал двадцать четыре вола, гоню.
Денег больше нет, ничего не боюсь, волы, мол, господские, купчие за
пазухой.
Лесами, чащобами, мимо скал, через горные потоки — гоню и горя
мне мало, пою. . .
И он смотрел на волов таким горящим, победоносным взглядом, что
и свет фонаря бледнел перед ним.
— ... Однако пришлось мне туго: волы подбились, как привал,
вставать не хотят, я скачу на одной ноге, беда! До дому еще далеко, как
дойдем? Покупаю тряпок, водки, мочу тряпки в студеной воде, кроплю
водкой и на каждом привале обертываю копыта. Вроде, лучше идут. Так
шел с ними пять дней. . .
Пригоняю в село, полна улица волов, народ сбежался, глядят, как
на чудо. Входят волы во двор, берите, кормите их, а меня несите в хату.
Три дня я не мог подняться, волы четыре дня не вставали, не ели,
только воды похлебали несколько раз.
Он все стоял, стоял. . .
— Мыкаюсь так, как другому и не снилось, а они все: «вы богач, вам
бог благоволит». Бог богом, а я тружусь, ого! — часочка спокойного нет.
А как там мои телята?
Он перешагнул загородку и вошел в телячий загон.
— Ну что ты будешь делать с этими лодырями? За что они берут
деньги, да еще объедают меня? Телята лежат по уши в грязи, в
кормушках пусто, побей вас всех громом! Пропаду я с ними, и все хозяйство.
Ветер жег глаза, распахивал полы кожуха, насыпал снега за ворот,
а он бормотал под нос, идя к скирде:
— Дяденька, дяденька, глядите-ка, теленок сдох, утром смотрим, а он
уже закоченел.
Иван дергал из скирды солому и, не переставая бормотать, укладывал
на постромки. Потом останавливался и дул в ладони. Увязал целый воз
и едва взвалил вязанку на плечи. Перед воротами сарая ветер не пустил
его дальше, казалось, кто-то огромный обхватил зязанку и прижимает
158
Дополнения
ее к земле. Иван спорил с ветром, поворачивался боком, но ничего не
помогло. В конце концов шмякнул вязанку оземь и стал.
— А может, и правда, на молотилке нечисто? А то с чего бы мне
бояться? Разве я дурное что делаю — телята в грязи, а я несу им
соломы?!
Он стоял, не зная, как быть с тем чертом, что сидит меж колесами
машины, что сказать ему? Все батраки и работники вот уже тридцать
лет твердят, что там сидит черт, что он в самую полночь пускает
машину в ход, и она перемолачивает грешные души из семьи Ивана, а скоро
и его самого затянет и смолотит.
— Это чтоб я боялся на своем дворе своей машины?! Тьфу!
Он вошел в сарай, обшарил все углы, притворяясь, что смотрит, не
едят ли собаки приводных ремней, и долго ходил так вокруг машины.
— И что ж тут делать? Где здесь нечистый? А ну, покажись, бери
меня! Будь что будет, погибать, так погибать! — И он стоял и ждал,
злой, решительный. — Коли есть, так выходи, поборемся, а не пугай мне
баб, да не налетай, когда ночью ношу солому.
С этим словами он вышел из сарая и чуть не упал со страху —
вместе с ним вышел черный пес. Но Иван в тот же миг саданул его в бок
сапогом.
— На! Коли ты домовой, так я тебя не боюсь, а коли пес, так не
пугай меня по ночам.
Пес заскулил и удрал за скирды. Иван взвалил вязанку на плечи
и понес к телятам.
— Не хватало еще, чтобы всякий черт пугал тебя на твоей же
земле, — говорил он по дороге.
Постлав телятам, он пошел к хате* На завалинке сидела его жена;
согнутая пополам, она сопела, как задышливая кляча, идущая в гору.
— Не сидится тебе в хате, перетрудилась, развалёха!
Жена, ничего не отвечая, только крестилась.
— Ступай в хату, замерзнешь тут, а мне теперь не до похорон.
— Хочешь в хате убить, ну что ж, иду.
— Нашла дурака — садиться в тюрьму за такую падаль.
Оба вошли в хату.
— Ну чего ты хочешь от меня, чего не помрешь никак? Мало тебе,
что ничего не делаешь, еще и когтишь мне душу, как ястреб курицу.
— Я уже третью зиму на дворе ночую, мне от твоего богатства
дышать нечем, душит оно меня, всякий час, всякую минуту проклинаю тебя
и твое добро, мучитель!
— У тебя одна песенка, старая дура! Только бог не дурак слушать
тебя!
— Покайся, муженек, пока не поздно!
— Ну чего ты хочешь? Чем я провинился? Что я — пью, или лодыря
гоняю, разбойничаю, или продаю народ господам? Чего ты хочешь?
Умирай уже и конец, не пей кровь из меня!
— Это ты из меня выпил, ты выпил кровь из моих детей. Параска
умерла, Мария умерла, Микола умер. Василь сбежал, а младшенького
Богач
159
помордуешь еще. Он уж позеленел, пожелтел весь, ты и из него кровь
пьешь!
— Боже, ну чего она меня точит, чего ест меня! Ты молчи, не
каркай, не то возьму двумя пальцами, как куренка, и не всхлипнешь.
— Один батрак умер в хлеву под волами, другого, пастуха, там же
неживого нашли, девка-работница со страху отдала богу душу, а сколько
их от тебя в больницу пошло?
— Это что же, я их убил, по-твоему?
— А коня не ты убил в стойле кувалдой? А сколько их дорогой
сдохло, сколько в конюшне? Гоняешь день и ночь, что их, что людей, без
разбора, гоняешь и гоняешь.
— Говори, говори...
— А мои дети где? Взял молоденькую, пышная была, как пава.
«Потрудимся, жена, потрудимся, сколотим хозяйство, потрудимся». Ну, и
ходила я по твоему двору, как лебедка. Сильная была.. . Все нам шло
в руки. Ты работал, а я пуще. В хате твоя мама, дети. Ты до полуночи
во дворе работаешь, а я в хате тружусь. Детей качаю, шью, с мамой
разговариваю, на коленях другие дети спят, а я жду тебя при плошке
и напеваю. Ты войдешь, поужинаем в полночь и ложимся спать на два
часа. Скажи, встал ли ты когда прежде меня? А я работала, я два раза
па день хлебы пекла, я приглядывала за детьми, за больной матерью, за
скотиной, варила на пятьдесят батраков еду, стирала, шила, чинила.
И думала: вот станут дети большие да красивые, а я буду их одевать,
наставлять да радоваться на них. А ты? Ты их всех изувечил, в гроб
загнал. Бывало, лежит маленький, догорает, а твои машины так меня
глушат, что и стонов не слышу. Ты ни на одного и не поглядел, придешь
поздней ночью и спишь, как зверь, а я — над ним. Сама уходилась хуже
твоей машины. Я буду молить бога, чтоб тут, где твое богатство
попирает землю, стал пустырь, чтоб от машины твоей только куски валялись
в крапиве.
— Постой, ты что? Ты кто — ведьма, или в тебя нечистый вселился,
или уж не знаю там кто? Что ты несешь? Что ты говоришь? Опомнись!
— Я знаю, что говорю. Твое богатство по ночам страшные речи
ведет. Я лежу возле хаты, снегом меня заметает, а я лежу, как старый
ненужный мешок, который ты из амбара выбросил. Смотрю на небо и
радуюсь, что мои дети ходят там по звездной тверди, а не тут, между
машин. А машины твои гудят, гремят, от скирд ложатся черные тени,
заслоняют всю боль моего сердца, где кровь кипит моя и моих детей,
а ветер гудит вдоль стен и в щелях больших амбаров и, продрогши на
железе машин, пищит, как дитя малое. Там и мои дети в зубцах
шестерен пищат, мучаются и проклинают. . . А от твоих амбаров, скирд и
машин одни черные тени, черные тени.. .
— Нет, видно, тебе и впрямь умирать пора, ты себя не помнишь —
умираешь, надо свечу сучить.
— А ты уже ходил к нему советоваться. Я видала, как ты зашел
на молотилку за советом. Хорошо потолковали?
— С кем потолковали?
160
Дополнения
— Да с ним же, я слышала. Верно, хочет, чтоб ты ему и
младшенького отдал за богатство, да ты, верно, продал уже, а теперь один
останешься и будешь, как вихрь, гулять ночами по своему гумну. Будешь
сидеть ночами над машиной, а он будет крутить, гонять эти железяки
твои, так быстро, как ты хочешь. Только гляди, если ты уж продал
малого, если не станет уже ни меня, ни сына, так он придет к тебе, и ты
будешь кормить его своей жадной кровью, пока он не вздернет тебя на
балку да не раскачает Так, что балка обломится, и ты упадешь, и земля
расступится под тобою.
— Ого, да она и впрямь спятила! Сколько хворала, сколько ночей не
спала, а тут, верно, совсем нашло на нее. Этого только нехватало.
Иваниха закашлялась. Она задыхалась, хрипение вырывалось из самого
сердца, и слышно было, как кашель бил ею о земь, словно поленцем.
— Пропадай, коли пришел твой час, а я не виноват. Это бог покарал
тебя и отнял детей, да и лучше, что их бог впору прибрал, чем
выросли бы никуда не годные.
— Врешь, это ты променял их на богатство! . .
[Стачка]
1
Чиновник из староства и помещик просили работников, чтобы кто-
нибудь один объяснил, чего они желают, а то все говорят разом, и
ничего невозможно понять. И забастовщики стали выбирать, кто скажет.
— Иди, Барда, говори за нас.
— Ну да, Барда. Барда — дурак, пусть Синогуб говорит. У него
язык хорошо подвешен, и пана он не боится.
— Иди, Синогубик, говори за нас. . .
— Не пойду, детей жалко, увольте на этот раз.
— Пусть первый говорит Григорь за бойков, чтоб пан слышал,
пускаем мы их на поле или нет.
Маленький человечек из Белых Ослав протолкался к столу и начал:
— Вы нас не поддержали, но мы не станем портить вам уговор
с паном. Мы ваши братья, только мы из-за вон той горы пришли. И не
уйдем, хоть закуй нас в кандалы, всех триста. . .
— А теперь беги да замешайся в гущу, а то схватят и останутся
бойки без головы.
И Григорь нырнул в толпу.
— А за нас кто скажет?
— Попросим еще Синогуба. ..
— Иди, братец, выручай людей!
— Я уже довольно сидел да выручал, пускай другой посидит.
Все замолчали и стояли беспомощные перед чиновником и
помещиком, сидевшими за столом под вишней.
[Стачка]
161
— А может, поговорит тот казак, который людям книжки читает?
— Э-э, он богач, что он может про нас сказать?
— Да должен же кто-нибудь говорить!
— А вы попросите Синогубиху, чтоб отпустила мужа, — без него, как
без рук.
— Синогубиха, пустите Ивана, а уж мы вас не оставим.
Все обернулись к жене Синогуба. Молоденькая, она зарделась от
стыда, видя, что все ее просят.
— Скажите ему, пусть говорит, я своих детей сама прокормлю. Своих
легко кормить — чужих трудно.. .
— Дай же вам, господи, чтобы выросли большие да под старость не
согнали с печи.
— Ну, жена, своими руками отдаешь. . . Я скажу за вас, только
проводите меня до города. Жандармы станут дорогой шпынять, а когда
бьют за правду — стократ больнее.
— Не бойся, никто и пальцем не тронет!
2
Синогуб стоял у стола и обращался все время к помещику, но так
ни разу и не взглянул на него.
— Не прогрызай меня, пане, глазами, не прогрызешь все равно!
Теперь ты просишь у нас милости. . . А может, и не просишь. . .
жандармов-то у тебя полное село. А может, они тебе шашками выкосят
пшеницу? Или ты собрался нам головы скосить?
А голов этих собралось под палящим солнцем многонько, было бы
что косить.
— Или боишься, что побьем тебя? Будь спокоен, бог тебя побьет!
Глаза Синогуба зажглись такой местью, что взгляд его протиснулся
между солнечных лучей на головы всем, кого солнце палило.
— Бог побьет тебя за детей наших, за жен и за нас, за то, что
превратил нас в скотину.
Тут глаза Синогуба утратили свой немилосердный блеск и
обратились на детей.
— Когда я, вельможный пане, зимой на зорьке стаскиваю со своих
детей теплую овчину и они плачут и дрожат от стужи, я проклинаю
твоих детей! Цыпленок и тот греется у матери под крылом, а я со своего
ребенка срываю меховушку, и он, голый, плачет!
— Не говори, Иван, я его всегда укрываю, — сказала Синогубиха.
— А как выйду из хаты, спотыкаюсь об черную ночь, а совесть моя
плачет, как изморозь под ногами. Село спит, дети греются, одни мои
там плачут в кромешной ночи. И я лаю, как бешеный, на круглое это
небо!
... И все дороги в селе до самых твоих ворот скрежещут под нами.
А потом мы тут мерзнем и ждем, пока не отворишь. А потом работаем
голодные, а сами прислушиваемся, не скрежещут ли опять дороги, не
идут ли жены наши, не несут ли поесть. И обедаем холодным борщом,
Ί 1 Василь Стефаник
162
Дополнения
а рядом сидят жены, синие от мороза. У хорошего хозяина, пане, пес
лучше ест! .. Может, ты слушать не хочешь? Нет, хоть оглохнешь, а
выслушаешь!
Забастовщики вспотели от этих речей и заревели в голос.
— А теперь я на тебя, солнышко, роптать буду, на твой знойный
покос. Под твоими лучами самая маленькая травка из-под камня
пробивается, зеленеет, каждый цветочек цветет, одни наши дети гибнут от
твоего огня!
— Глянь, пане, на поле. Грудной ребенок лежит на снопе, опоенный
маком, он воскреснет только завтра, когда твои копны уложат. А
трехлетний привязан пояском к колу, чтоб не бегал, пока мать жкет, не
разгибая спины. ..
... И кожа на них от солнца лупится, а они плачут, а мухи едят их,
как падаль — живьем! . . Солнце божие, ты прости мне грех и не минуй
наших окон никогда. . .
И Синогуб посмотрел солнцу прямо в лицо, а за ним и все
забастовщики. . .
— Вас, жены наши, тут только половина. Одни шлют нам из
черновицкой больницы справки про свою дурную* болезнь, чтоб мы печать
ставили, — это те, что не хотели с нами бедовать. Другие в городах
пропадают кормилицами. Свои дети у соседки с голоду скулят, а груди
полны молока, как бочки, только оно для чужих детей! А Настасья ума
решилась и грудь отрубала, чтоб ребенку домой передать! ..
А чем вас бог вознаградит, тех, что тут, с нами? Чем вознаградит
за колыбельные песни да за чистые рубашки по воскресеньям? Вы уже
все пальцы стерли, на мыло-то у нас нет. Не проклинайте нас за то, что
увели вас с зеленой травки в голодные хаты, где и от дождя не укрыться.
Женщины в красных платках смотрели на Ивана, плакали и обнимали
его жену.
— А мы, братцы, еще и грех на душу взяли при такой-то жизни —
клочьями с себя мясо рвали и носили в поле.
Так что, давай нам, пане, наш сноп, как положено, а не то будем
тебя судить, раздерем по жилочке, раскидаем по косточке.
ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА
1895
В. И. Морачевскому1
Дорогой Доктор! *
По дороге к Вам меня арестовали по обвинению в подстрекательстве
одной народности против другой, § 302. Камера с решетками на окнах
и запертой дверью производит очень неприятное впечатление — жду
апатии. Мир за решетками, а Вы в мире — сейчас больше, чем когда бы то
ни было, хотел бы очутиться у Вас. Во время следствия мне сказали, что,
возможно, через неделю освободят, и еще: «Вы знаете, что в Австрии,
помимо конституции, есть и монархия?» Умно сказано. Мои родители ни
о чем еще не знают. Долг верну позднее. Если соберетесь вскоре
выезжать, напишите в тюрьму.
Привет Вам и супруге2.
7.VI 11.95 [Обертын] 3 Стефаник.
В. И. Морачевскому
Дорогой Доктор!
Не могу прийти в себя от Фемиды!
Я уже не говорю о той, что служит всем, а наипаче тем, кто ее
восхваляет и возводит для нее храмы с парашами, о той шлюхе с завязанными
глазами!
Но и Ваша Фемида, чей храм — Ваш мозг и сердце, допустившая,
чтобы эта сука сварганила не дрогнувшей рукой такой обвинительный
акт, — о, и Ваша так же слепа, как и та, всемирная.
Зло, ложь, подлость! И где только она набралась всего этого?!
Передайте ей, что свидетельствовать против нее станут не мужики,
столбенеющие перед лицом этой дамы, и не ее наемные слуги, а наука,
труд и Ваша любовь к человечеству. Эти свидетели откроют ей глаза,
и она сообразит, что была слепа.
Я буду прокурором Вашей Фемиды.
Осень у нас чудесная пора. Земля словно пробуждается от сна, и ей
становится легко, как человеку, которого с вечера лихорадило, мучило
кровяное давление, а к утру отпустило, — вот и стало у него лицо такое,
как у наших полей под осень.
* В оригинале письмо написано по-польски.
и*
164
Дополнения
Скот за тридцать межей уходит, а полевым 1 уже и заботы нет.
Пастухам благодать. Хорошо было и мне.
Но отец повез меня в город учиться, говорил: будешь барином. Не
одну слезу я там холщовым рукавом утер. Барчата и учителя во всю
измывались над чумазым, неотесанным мужиком.
Как вдруг передают, что мать приедет в город на целые сутки масло
сбивать. Забыл обо всем, жду.
И вот у меня уже в платке денежка, хлеба за пазухой полно и сахару
добрый кусочек. Сижу возле мамы, славно мне, так что и о школе
позабыл.
Изверг-учитель всыпал мне за пропущенные часы восемнадцать палок.
Я лежал без памяти и купался в собственной крови.
Впервые я ощутил руку справедливости.
Отец молчал, а мать, крестьянка, пошла искать правды — и учителя
перевели.
И если Фемида моего отца, моих родных, моих учителей была слепа,
то мать заступалась за меня — и не только за меня, потому что ее
Фемида была зрячая.
Теперь мать умирает от стыда, потому что дитя ее гниет в неволе, но
Фемида ее ясно видит: ее соколик прав.
Сегодня выпускали за ворота пса, хороший пес, мне так захотелось
обратиться в собаку... Да только догадался, что ведь там ждут псари.
Пес этот — собственность моего начальника и штемпелеван, а я не желаю
ходить на воле штемпелеванным. Нет, все эти перевоплощения ни к чему.
Они только в сказках.
Я на прогулке. По арестантскому обычаю пошли расспросы: ты за
что? И в ответ следует рассказ, всякий раз заканчивающийся тем, что
рассказчик ни в чем не повинен и ничего не знает. Кто станет на себя
наговаривать?
«Вы, дяденька, за что?»
«Э, не приведи бог сказывать! Искали мы лешего, я да еще двое.
Мне выпало лешим заняться, чтоб тем двоим деньги взять. Пошли на
Чорногору2. Ну, от Викна3 до Чорногоры ой-ой как далеко! Приходим.
Заводит нас в дебри, упаси вас, господи, тот, что в скале сидит, весь
чисто в воловьей шкуре, а рога как у быка. Так вот, говорю, заводит
и мне первому — я так и почернел весь — велит: марш к присяге! Ну, боже
мой, иду. Вхожу, а там второй, в волчьей шкуре. Вынимает крест, икону
да и говорит: плюй! Меня как обухом по голове, ну, куда, прости
господи, бедной головушке податься? «Нет, говорю, не стану плевать».
«Гляди, я вот тебе ка-ак плюну, костей не соберешь. Добывай кровь
из-под ногтей». Я услыхал это и одеревенел. Стою. А потом — к
дверям, да шасть наружу. Однако достал он меня кувалдой по башке, и
Избранные письма. 1895
165
деньги пропали, почитай 500 рынских *, а те еще и в тюрьму меня — за
то, что, мол, кудесничал. Ох и Гуцулия же эта, ох и чудная же сторона.
Шли мы мимо того села, откуда черти град мечут, так ведь поди ж ты;
кого пожалеют, на того меленький, а на кого злы, так — с куриное яйцо!
И все то гуцулу глаза печет»... — закончил рассказчик, а все
слушатели только диву давались.
Ein Idealist in der Bestie**, подумал я, за что ж его карать — судьба его
и без того так побила, что он уже чертей искать кинулся. Выходит, как
видите, дом сей не только для воров, но и для идеалистов.
Если меня в среду выпустят, то я подъеду к Вам ненадолго — дело
в том, что после той катастрофы папа мой4 отказался меня содержать,
и я вынужден искать себе заработок, чтобы закончить медицинский.
Пишите, мой дорогой друг, Ваши письма мне, что траве роса.
Ваш
12.VIII.95. [Обертын] Стефаник.
Здесь худо и неладно, потому что покоя нет.
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
Я был в Русове. Мама очень больна. Папа горько укоряет меня,
говорит: «ты своим радикализмом и арестами загонишь мать в могилу».
Разумеется, здесь прорывается и злость отца на меня за то, что не пошел
по его разбойно-кулацкой дороге, а следую за любимой маменькой. А она
не может говорить, но ласковым взором возражает отцу. Я доныне никого
не любил так, как мать, и очень страдал. Болезнь мамина пошла на
убыль, и я вернулся. Не раз, а сто раз в день я испуганно поглядываю
на дверь — не отворится ли, и не протянут ли мне телеграмму. Я так
несчастен!
Убегаю из дому за город. Здесь смерть. Увядшая листва, то цвета
меди, то синяя. Есть еще и бледнозеленые листочки, но их добивают
небесные рои белых снежинок. Неудержим этот рой — летит, летит, без
конца и без края. Пропали куда-то и гости цветущей зелени: еще недавно
ползали то на животиках, то на тоненьких ножках под своими березами,
лозой, калиной, а теперь, верно, убрались поближе к земному огню.
Смерть, похоже, грозит и готическому замку вместе с кадетами1,
обученными там забывать мать родную. Вижу, чувствую, как он вгрызается
в землю, но земной огонь таких грешников не согреет, разве что в лед
обратит. В городе мать купила сыночку каштанов — вот счастливые!
Ваш
24.XI.95 [Краков] Стефаник.
* Рынский — монета; две австрийских кроны (диал.).
* Идеалист в звериной шкуре (нем.),
166
Дополнения
& И. Морачевскому
Мой милый!
Своим письмом Вы меня осчастливили. Я больше не могу выносить
страдания, которые выпали мне на долю. Каждое волоконце моего тела
дрожит и тянется за сто миль к постели моей любимой мученицы.
Видится мне, словно бы в горячке, что лучшие частицы меня то касаются
ее исхудавших рук, то ощущают мозоли ее натруженных пальцев, то
слушают страдальческий голос ее тихой муки. Я горжусь этими
частичками и вижу, — должно быть, тоже в горячке, или не знаю уж как, —
летят они над белой загрубевшей землей ярче самых ярких молний,
быстрей самых быстрых ветров, — летят на жесткие подушки, на шерстяные
покрывала, на вышивку крестиком. Они явятся материнскому взору
сонмом ангелов, прекрасных, как луг весною, с крыльями, как у царевны-
лебеди. Мама улыбнется, но лицо ее вдруг разом омрачится и в глазах
сверкнут страшные искры. «Василь, Василь», — позовет она и обернется,
а сестра скажет: «Нет, мама, Василя здесь нет, это вам в горячке
показалось, папа написал ему, что вам лучше, — он, верно, спокоен за вас».
И я слышу милый ослабевший голос: «Пусть папа телеграфирует, что
я выздоровела, что я даже вышила ему рубашку».
Я получил телеграмму и не мог прочитать. Лежу в постели, но завтра
поеду во что бы то ни стало, пусть врачи говорят, что медик так не
поступает, медик — нет, а сын должен.
Я напишу Вам, как вернусь, а вернусь я тотчас же, мне убедиться
только, что в телеграмме правда.
29.XI.95 [Краков] Стефаник.
Ä И. Морачевскому
Краков 7.XII.95
Дорогой друг!
Мама, хоть еще и не здорова, но может говорить, и рада бы, по ее
словам, разговаривать как можно дольше, потому что весь мир (она его
называет «всё кругом») для нее обновлен. Знаете, как на пасху: стены
белые, лавки чистые, потолок вымыт, а люди нарядные — ну и
любо-дорого христианину взять дорогого человека за рукав, посадить на чистой
лавке у белой стены, под вымытым потолком и наговориться вволю. Со
мной она наговорилась вволю; видно было, что любо-дорого ей говорить
с дорогим человеком! Обновление, пасха!
Признаться, лицо матери не раз поражало меня. Казалось, оно
прикрыто пеленой, и сквозь нее трудно было разглядеть, что в душе. Теперь
пелена тяжкого труда и утомления слетела и черты прояснились. От них
так и веет любовью! Мама спрашивала сестру, есть ли у батраков чистое
белье, негоже, чтобы людьми помыкали. Обновление, пасха!
«Тебе бы только сидеть тут да сидеть, — говорит она мне, — ступай,
детонька, отец и без того опасается, что учение пропустишь!» Когда
Избранные письма. 1896
167
я уезжал, ту вербу, на которой сестра летом сушила самые красивые
платки, стало снегом заносить. От земли до самых ветвей уже протянулся
белый клинушек снега, ну, как рубчик на праздничной белой шали —
скоро и вся она будет в белой шали. Обновление, пасха!
Так я и доехал до Кракова с этими словами в сердце. Теперь я
спокоен, может, даже слишком спокоен. Я жалею о последних двух письмах
к Вам, и зачем было омрачать счастье дорогих мне людей?! Обещаю
больше не делать этого.
Вчера я был на wiecu akademickim *. Не было ни одного оратора,
у которого речь выражала бы его собственные мысли, все одна mówka **.
Остальных то и дело охватывал телячий восторг. Я сразу ушел,
противно слушать, как от чистого сердца мелют глупости. Я буду в Кракове
до 20-го декабря, а затем махну в Русов.
Желаю Вам и супруге всего доброго.
Стефаник.
1896
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
Было время, еще учился я в гимназии, когда «нечитальный» 1 был
главной фигурой на селе. Кидали мы классику в сундучок и отправлялись
наставлять на путь истинный «нечитального». Его не наставили, а сами
повылетали из гимназии. Теперь мы поглощаем кто теологию, кто
медицину, а «нечитальные» вылетают в Бразилию. Мы рвемся их удерживать,
но уже не кидаем медицину в сундучок. В этом, верно, и есть разница
между пропагандистами 1889 и 1896 годов! «Нечитальный» остался
тот же. Только теперь тот господин, который заходил к Гусаку2, —
больше не заходит к нему, а тот газетчик 3, что хотел отобрать землю для
мужиков, пишет книги в честь Драгоманова4, а земли хочет только три
аршина — для трупа!
Мировоззрение «нечитального» с 1889 г. не изменилось и поныне —
все то же реалистично-темное; что же до мировоззрения тогдашней и
теперешней интеллигенции нашей, то и оно осталось таким же
нереалистичным и до неприличия глупым!
Вот какие мысли пришли в голову, когда я решился послать Вам эту
брошюрку.
Первого февраля я буду уже в Кракове и прошу искать меня там.
По дороге заеду во Львов и выпишу Вам «Monitor» 5.
Доброго здоровья Вам.
Русов. 29.1.96 Стефаник.
Студенческое собрание (лолъск.).
Болтовня (польск.).
168
Дополнения
Ä И. Морачевскому
Дорогие!
Желаю Вашему фраку и перчаткам самого грандиозного успеха1
в среде кафедральных придир, а уж физиологию оставьте для młodzieży
dosrzewającej *. Я три дня живу мыслью видеть Вас во Львове. Ночами
мне видится победа Ваших перчаток и короткого сюртука. Мы идем
позади и видим Ваши перчатки над толпой ученых; перчатки сами, без рук
держат черно-желтые банки; стоит страшный визг, и все из-за
черно-желтой химии. Фрак Ваш красно-белый. Вы сетуете по-украински, но в конце
концов Вас разбирает досада, и Вы уже на родном языке восклицаете:
aż to robactwo! **
«Нечитальный» — это история давняя. Еще в гимназии написали мы
его вдвоем. Союз был молодой и неопытный и назвался Л. М. Я украл
у папы 15 рынских и напечатал книжечку в нескольких десятках
экземпляров. Тираж разошелся среди товарищей-гимназистов, с той поры
никто об этой книжке не знает. Это очень хорошо. Я прошу и Вас никому
не говорить об авторах. Кто знает, что из нас выйдет, а так снова пойдут
нарекания: вот, мол, бедные руснаки способные люди, а сваляли дурака —
такая уж планида дурацкая! [. . .]
Вторым произведением соавторства Л. М. были «Номера» 2. Я написал
только схему новеллы. В рукописях у нас есть не одна хорошая вещь, да
только трудно сойтись вместе и жить так, чтобы из двоих стал один.
А иначе нельзя, вот и ждем «своего часа»! Так что прошу Вас держать
все это в тайне, а когда пробьет час, мы так громыхнем нашу публику
полным титулом авторов, что только держись!
Мог бы много чего написать о моем путешествии к Вам и потому
оставляю это до другого случая. Ответьте только, посылать Вам
Словацкого 3 или нет, потому что не могу как следует припомнить, а письмо
затерялось. Насчет Биборского4 не горюйте, я ему заплачу, только пусть
подождет. Я тут в таком положении, что хоть пляши!
Еще я должен Вам написать, что думаю о Маккае6, — напишу и это.
Если есть еще какая-нибудь книжка, присылайте, я не задержу, верну
вместе с Маккаем. Посылаю Вам «Radykali ruscy» 6 из-за Н. Кобринской 7,
которой досталось от автора-иезуита.
Соберетесь написать — пишите, только не открывайте новых
горизонтов, а то ослепну ни за грош.
Ваш
17.11.96 [Краков] Стефаник*
* Созревающей молодежи (польск.).
** Да что же за червяки! (польск.).
Избранные письма. 1896
169
В. И. Морачевскому
Мой друг!
Вчера смотрел на девушку, бежавшую босиком, и увидел в ней весну,
и вспомнилась мне одна давняя моя весна. Мальчонкой я глядел на
половодье. Оставил школу, игры и глядел с обрыва на реку, а в ней великан
купался. Рукой махнет — село потопил, ногу вытянет — вода на милю поле
покрыла, вздохнет полной грудью — и солнце под воду ушло! А вокруг
великана маленьких волн, малышей-ребятишек тьма-тьмущая! Как мне
хотелось тогда утопиться! Я знал — вернется тот великан в море, домой,
и там, на дне, как заговорит — море зашумит, как уснет — и море замрет,
а как спросонья руку протянет — так корабль потонет.
Прошло весны четыре, я уже в гимназии учился, и была у меня
книжка с картинками. А на одной картинке нашел я то, что видал в реке:
великан и ребятишки вокруг. Я чуть не задохся от радости, побежал к
учителю, расспрашиваю. А учитель и говорит: это — половодье, как его
нафантазировали греки, у греков была богатая фантазия. Радость моя,
жизнь моя! Я ощутил себя силачом и отправился искать великана. И
нашел. Но спит он, спит, все спит. Не хочет двинуть ни рукой, ни ногой.
Не хочет подняться сила народная, не хочет затопить сёла, поля, города.
А я потонул в этой силе, и руки у меня подчас опускаются, и плачу я,
что великан спит. Проснуться бы ему, разбить бы всякие там программы
и догмы да разбежаться по полям!
Я порой слабею и мысль темнеет. Так уж будьте хоть Вы тем
великаном в пору моей слабости. Как я люблю Вас за слово, вселяющее в меня
силу! Дружите же со мною! Теперь мне так необходим сильный друг!
Я три дня был в Сторожинце, и мне там было славно. Когда же увидимся?
Доброго Вам здоровья.
25.11.96 [Краков] Василь.
Ä И. Морачевскому
Дорогие!
Тяжко жить гадюке. Сама толстая, наряд ослепительно багровый, и
солнце то и дело ворошит все эти полоски и блестки из чистого золота.
Зеленые швыряет вверх, синие кладет в одну сторону, красные — в
другую, белые засовывает в самый низ, — того и гляди останется змеюка
в грязно-сером, а то и в черном наряде. Солнце скрылось, как дамочка,
переворошившая в магазине разноцветные шелка и не нашедшая себе
ничего к лицу. Ну и ползает красавица, пока не переедет ее простая, даже
ке смазанная телега.
Таков мой путь в Вашу Обетованную землю ]. Высокие Альпы,
заглядывающие богу в окна, студеные льды, заковавшие их, чтобы, не при нас
будь сказано, не побили стекол в синих дворцах седобрового господина —
все это образы моей фантазии, и я бы с такой злобной радостью пробил
170
Дополнения
этот лед, лишь бы напакостить высокому хозяину! Ты, — сказал бы я
ему, — греми громами, жги молниями, смывай дождями, мани радугами,
только не держи в этих матово-белых, вечно одних и тех же, несокрушимо
умиротворенных ледяных клещах.
Вот как я злобен. А телега вдруг скри-и-п— скри-ип! Да и переехала
все фантазии! Потихоньку, помаленьку, а, глядишь, и стерла в порошок...
Зато на каникулах будет у нас дворик на поле у опушки, а мы все
позабудем злобу на небесных хозяев и сами станем там, у себя
хозяйничать, без ледяных клещей. Так давайте же подождем нового жилья в Сто-
рожинце! Пришлите мне, счастливые мои, хоть книг, только уже
прочитанных Вами, чтобы и я мог мысленно пройти по тем путям, по каким вы
прошли.
Доброго Вам здоровья.
26.11.96 [Краков] Стефаник.
О. К. Гаморак 1
[Начало письма не сохранилось]. .. Примите еще во внимание и то, что
теперь люди не столь спокойны, как три десятилетия назад. Тогда
непоколебимо царила теория рационализма, непоколебимо царил Спенсер2 со
своим тезисом, что общество есть организм, тогда Marx оставил бедным
десять заповедей — было во что верить, что писать. Теперь эти тезисы
понемногу отступают, а выходит Толстой, а выходит Verlaine и множество
пришедших на смену Золя романтиков, которые все ждут чего-то,
надеются на что-то, неведомо на что. Это такое же время, как при Байроне,
Лермонтове, — такое же, но не то же, как я чуть было не написал по
ошибке. Ничто никогда не повторяется. И разве сам Золя не читает
Байрона, и разве он думает, что если мы и после нас будут читать Baudelaire'a,
то его «L'Argent» * забудут? Читаем же мы сегодня Lenau'a, Mussei'а и
Золя, и Goncourt'oB. Вернется ли именно такой натурализм, как пророчит
Золя, трудно судить, разве что можно per analogiam ** сказать, что как
романтизм Байрона есть другой вид романтизма Якобсена3, то и
натурализм будущего будет отличаться от натурализма Золя. Я хотел лишь
набросать Вам картину течений и борьбы, идущей ныне в Европе между
двумя литературными школами. Эта борьба характерна не только для
литературы, но и для искусства, и там появляются символисты,
импрессионисты, и невозможно говорить, как Золя, что это всего лишь детская
игра в солдатики. Даже такой художник, как Ибсен, в последнее время
стал мистиком. Это немаловажно, это надо знать, если Вы хотите
«прорубить окно в Европу» — простите за фразу.
Читайте Якобсена, прочитаете, будет у нас о нем интересный разговор.
Нравятся Вам мои писания или нет, одно ясно — они длинные, и я прошу
меня вознаграждать хоть краткими письмами. Пишите о Даниловичах4,
* «Деньги» (франу,.) — роман Э. Золя.
** По аналогии (лаг.).
Избранные письма. 1896
171
о Трылёвских5, Плешканах °, о Стецевой7, о Вашей школе, о весне —
да мало ли о чем можно писать, когда есть желание и нет лени! Я сижу,
учусь, читаю, мерзну в нетопленной комнате и уже вынюхиваю весну,
ощущаю ее нервами. Довольно-таки приятное впечатление. Напишите еще,
где хотите читать реферат? Но входит Левицкий8 и спрашивает, куда
пишу. «Девушке», — говорю, а он добавляет: służącej *. Такой уж он от
природы kochliwy'fi ** в служанок.
Кончаю и желаю здравствовать и Вам, и Стецевой, и весне в нас.
29.11.96 [Краков] Стефаник.
В. И. Μ о ране веко му
Дорогие!
Мне грустно. Выбрал бы либо себя, либо людей. Огорчают
окружающие, они все скованы. Несвободны в аудитории и в трактире, натянуты
в театре, лживы перед своими детьми. Все читают газеты, утренние и
вечерние, обсуждают «новинки». А прессы — невпроворот, изо дня в день,
напечатано убористо! Вот и высиживают над газетами до красных
волдырей. Портят себе глаза, сушат мозги. Я бы на этих старьевщиков,
спекулирующих черными мыслями и звериными инстинктами, наслал град
папоротникового зелья, чтоб знали, что чернила у них черные и душа их
черна. Я не люблю выходить из роли добродушного парня, но порой
накатывает злость, за которую надо просить у людей прощения. Вы тоже не
противьтесь этим старьевщикам — люди ведь!
От всей души благодарю Вас за Келлера *. Прекрасный, весенний поэт.
Скалы, люди, животные, травы — все сплел в одну радугу, яркую, как ее
цвета, свежую, как земля под лучами солнца, и веселую, как пастух,
поглядывающий после дождя на перепуганных овец. Под радугой
прогуливается поэт и вплетает всех измученных и опечаленных в стоцветное
веселье радужного мира. Любит людей. Подчас жалуется на них. Но и
жалоба его — легкая паутинка, и в ней больше всего любви.
Вышел парень в мир широкий добыть хлеба-соли, воротился, а у него
цветок на ладони. Отец сына плетью наставляет, а мать его
бранит-укоряет. С плачем парень на траву валится, а с небес ангел шлет райскую
птицу. Соловушка песню распевает, в траве парень сладко засыпает. —
Вот как можно выразить на родном языке впечатление от этого Таи-
genichts'a ***.
Много бы я еще писал, да как-то грустно. Не хочу хорохориться, что
летать не дают. Вот отдохнуть бы, скорей бы каникулы!
Спасибо за книги; из Черновиц прислали только один том Kellera.
Поздравляю Вас с весной.
15.III.96 [Краков] Стефаник.
* Служанке (полъек.).
** Влюбчивый (полъек.).
'** Шалопая (нем.) — т. е. героя одноименной баллады Г. Келлера,
172
Дополнения
В. И. Морачевскому
Дорогие!
Видно, очень уж вы богаты, если раздаете столько из своего
передуманного, пережитого, перенесенного. Так красуется могучий дуб среди
красавиц-берез; как не станет у меня сил клониться, сбегу к Вам.
Только что вернулся из-под звездного неба. Шелка, протканные
золотом, спускаются на земь от одного края света до другого. Деревья, как
колонны, возведены ввысь, чтобы не дать дорогой материи небесной
упасть на погрязшую во грехе землю. Я стал меж кустов, и лоскутки этой
материи падали мне в волосы, за пазуху, скользили по лицу, оставляя
впечатление не то вешнего ветерка, не то гладких, ненатруженных женских
ручек. Нахватал я этой парчи уйму и сбежал с раздобытым домой. Может,
небо кое-чего лишилось, да зато у меня в душе светят звезды и ветерок
гонит из сердца по всему телу алую кровь. Что украл, то мое.
Бабка Ваша еще и теперь врачует в Русове. Бродячая цыганка лечила
ей печень, еще когда она зеленую руту в косы затыкала. «Ох, бедняга
Иван, кровь у тебя — не кровь, а как вода, как сукровица, — говорит
бабка. — Сходи-ка ты до утренней зорьки в лес да поищи белых цветиков
в чаще, на самом большом дереве и т. д.» Иван засучит послушно штаны
и бродит по божьей росе, белые цветики ищет. Идет он да идет лесом,
а лес и сам не то чтобы идет, а так все ж движется по-своему. Ну, вот
как соломинки на хате в жару дрожат, одна за другую заходят и все
норовят сползти с кровли да лечь кучей под грушу, так точь-в-точь и лес
идет с Иваном — вроде бы и не идет, а и не стоит. Граб кроется за ясень,
вьюнок за явор, мухомор за грибы, ягоды опускают в траву головки —
прячутся от Ивана. Не знают, что Ивану не до ягод, что он «снадобья
ищет». Но не стоит лес на месте, вот Ивану и не видно ничего, то одни
грабы, да все высоченные, то заросли ясеней и яворов, а на земле алые
тропочки из ягод, синие — из синих цветов, желтые — из желтых, и все
эти тропки движутся и мерцают впереди и сходятся в окно, и манят.
«Что еще за чертовщина, ну как в бреду я», — говорит Иван и крестится.
После бабушка рассказала ему, что так зовет к себе весна, что она
«пестрядью» цветов являет себя человеку.
Поздравляю Вас с весною.
26.III.96 [Краков] Стефаник.
В. И. Морачевскому
Дорогие!
В Русов не еду1. Причины не ехать нет, но вот как-то так остался.
Надо бы доучиться, сдать первый экзамен и бежать, а то в Кракове уже
тесно. Вместе с Вашим письмом пришел мне от кого-то из Вены и второй
том Келлера, даже не знаю, что это за добрые люди, посылающие столько
прекрасного. Вы простите, что побеспокою Вас еще одной просьбой. На ка-
Избранные письма. 1896
173
никулах я оставил в Сторожинце Успенского. Я бы хотел иметь его,—это
ведь такая радость!—так что прошу как-нибудь прислать мне эту книгу.
Впрочем, я могу сам написать Вашему почтеннейшему отцу и попросить,
чтоб прислал. Хорошо?
Моя мама прислала письмо и денег на пасху. Пишет: «Ты, сынок, не
любитель ходить в церковь, но на пасху сходи, дитятко. Я тоже пойду и
буду молиться, чтобы ты у меня рос здоровый и красивый. Крашанок
я тебе накрасила и куличик испекла — папа пришлет по почте. Дети, дети,
сколько вас у меня, а будто и нет у меня никого! Тебя по чужим краям
носит, не знаю уж, за мои или за отцовские грехи, Юрка2 забрали в
солдаты, Параска3 вышла замуж в другое село, а дома один Владзё4. Да и
его папа хочет из дома прочь. В Коломыю да за книги, или еще куда-то.
Ой, беда пташке-сиротинке, что вывела деток на торной тропинке: там
мужики шли, птенчиков нашли, пташку прочь прогнали, птенчиков
забрали. Вот так и у меня с вами, как у той птахи с птенцами». Такой
диктант записал брат с маминых слов. Так что я пойду в церковь и буду
глядеть на других матерей, как они станут за своих детей молиться. А потом
разобью над потоком две крашанки, которые сам красил, — одну пущу
в Русов к маме, а другую к Вам. Вы должны знать, что на пасху надо до
утренней зари мыться в воде, где плавают крашанки, тогда только
христианин станет «прекрасен, как пасха, добр, как Христос, и мудр, как
праведники, обитающие в сердце земли».
Почтенная докторша, не забудьте, что надо пойти посмотреть, как
девушки играют возле церкви в «вербную дощечку»5. Малыш6 пусть уже
с этих пор смотрит на отвагу девчонок, на наш неказистый мальчишечий
род, на тех, что, подбоченясь, припевают: «Сколько досточек в бадье,
столько мальчиков в беде!»
Будьте здоровы.
2.IV.96 [Краков] Стефаник.
В. И. Морачевскому
Дорогие!
Простите, что не сразу отвечаю, трудно, лихорадка обессиливает, а
голова такая тяжелая, словно я набил ее лохмотьями тех детей, что бегают
вон там за окном. До чего же они ободранные, до чего голодные! Я еще
немного полежу, потом встану.
Последнее Ваше письмо1 произвело на меня страшное впечатление.
Много ли людей, которые так переживают удар, нанесенный ближнему?
Много ли раз такое накатывает на одного человека? Неизмеримо
благодарен Вам за это письмо.
Меня жжет, сжигает зрелище краковского вокзала. В субботу перед
пасхальной заутреней я вышел на вокзал, чтобы порадоваться, глядя на
лица тех, кто едет на пасху к своим. Такой гомон, такое столпотворение!
Притопнет сапог о плиты, взлетят фалды сюртука — ну, свадьба, да и
только! У старух морщин наполовину убавилось, старики бодро
выпрямляются, а молодежь ног под собой не чует. Такая радость!
174
Дополнения
В грязном зале третьего класса в углу у железной печи сидит молодая
женщина, желтая, как воск. Производит впечатление человека, стертого
в порошок, разбитого вдребезги. На коленях младенец багрово-красный
в грязной отцовской рубахе. Родила где-то на вокзале, а теперь пестует
в зале ожидания. Это эмигрантка. Простите, что пишу так бессвязно, но
иначе не могу.
Пишите мне, не дожидаясь Моих ответов.
Ваши письма так мне дороги!
16.IV.96 [Краков] Ваш Стефаник.
В. И. Морачевскому
Дорогие!
Я прихворнул, но сейчас уже лучше. О моем состоянии писать Вам не
в силах. На душе так накипело, такая бесконечная охватила грусть, что
царапанье пером по бумаге только загонит ее еще глубже. И слов не
хватает. Разве что вот Верлен хоть частично скажет Вам то, чего я не скажу:
Издалека Льется тоска Скрипки осенней И, не дыша, Стынет душа В оце-
пененьи. Час прозвенит — И леденит Отзвук угрозы, А помяну В сердце
весну — Катятся слезы. И до. утра Злые ветра В жалобном вое Кружат
меня, Словно гоня С палой листвою *.
«Завтра пасха! Сегодня у меня было работы, работы! Куличей
напекла, двор подмела, лавки вымыла... Где ж этому конец?! Хоть
разорвись. Хоть убей — не соображу, как быть. Зову Анечку. Расплетаю
косички, как мышиные хвостики, мою головку, расчесываю, заплетаю.
А сама думаю: вот подрастет, сил наберется, и дождешься, Оксана,
достатка. На глазах у мужа будешь брать и у него же перед глазами
раскладывать цветы да ленты — целые охапки всего этого будешь в лавках
набирать. Посмотрит Иван да и скажет: «Глянь, Акся, до чего ж нарядна
наша Анечка». «Эх, милый, думаю, да узнай ты, сколько я за эти ленты
да цветы денег в лавки снесла, тут бы мне и каюк. Ну да с мужиками
всегда так». Залетела бабонька лет на десять вперед. А уже год как в
дороге. Сидит на лавке в субботу перед пасхальной заутреней в вокзальном
зале ожидания. Сидит и говорит сама с собою. «Что с тобой, жена? Чего
сама с собой разговариваешь? Очнись! Анечка, вон, спит, черная, как
ворона. Ты не хозяйка, а цыганка и я цыган. Теперь у галичан-украинцев
такие времена, что все скоро оцыганятся», — говорит Иван.
«Ох, беда — я тут вожусь с этой баловницей, а работа стоит. Вот
достанется мне от Ивана! Деготь не внесен, рубахи не глажены, прошвы
не пришиты... Сбегаю еще, сена корове дам».
«Не к добру это у жены, — размышляет Иван, — сама с собой
разговаривает, как бы не пришлось похоронить в дороге. Хоть бы уж на месте.
Что я с детьми делать буду?»
Так вот и ехали, ехали в Америку, в Землю Обетованную.
Сердечно кланяюсь Вам.
22.IV.96 [Краков] Стефаник.
* Русский перевод А. Гелескула.
Избранные письма. 1896
175
Л. В. Бакинскому1
Левко!
Денег не было — и я не посылал, новостей не было — и я не писал.
От тебя тоже не ждал ничего интересного.
О себе ничего не говорю. Учиться горько и не тянет, к девкам
подъезжать не стоит, "а в гости тоже не хочется — все читают по 30 газет
в день и наперед известно, как и об чем пойдут разговоры. Сижу и читаю.
В конце концов думаю, что лучше сидеть в лавке и слушать
обывательские сплетни. Скорая на язык бабенка, обладающая фантазией,
подпустит лживый слушок, злобная — послушав, разобьет кухонную (скажем
деликатно) посудину на своде, венчающем человеческий облик, то есть
на голове своего муженька, тот с тоски запьет-загуляет в лавке,
остальные посетители будут кто за него, кто за нее и т. д. Врут, дерутся и пьют,
а за что — сами знают. Можешь взять под руку барышню или она тебя,
пройтись с нею по рынку и, уж будь уверен, развлечешь ее: вон,
глядите, врунья-бабка, такая уж натура паршивая, а вон молоденькая
почтальонша, а вон молодая, но уже опытная шлёндра и т. п. — а этот, вон,
видите, юрист походит на анархиста, а на деле потому только вылупил
глаза (правда, глаза у него большие и красивые, и устоять перед ними
женщинам трудно), что вынужден ежедневно добираться из Серафинец
в Городенку2 и retour *, а хотел бы, допустим, только в Городенке бить
баклуши; а вон еще длинномордый вол3, с заплетающимися ногами, этот
пихает политику вперед, он правоверный галичанин-украинец, ведет
процессы против мужиков, защищая с божьей помощью помещиков из Чер-
нелицы, красных не любит (у него, видите ли, эстетическое чувство не
приемлет ярко-красного цвета) и боится, а белых шпаг на дуэли не боится
и т. д. и т. д.
А погляди в городе на эту уйму белил и пудры, на эти груди, вывали-·
вающиеся из шнуровки и нагоняющие на тебя страх, как подумаешь, что
через минуту они попадают на мостовую и тебе придется их топтать,
погляди на толпу цилиндров, тростей и перчаток — о них можешь сказать
той, что ведешь под руку, только одно: эти все читают газеты! Ишлюсс! **
Эмиграция! Я видел и продолжаю видеть ее здесь на вокзале. Голод
гонит их из дома за океан, э опекуны еще и бежать не дают. Еще нужны
их кости, чтобы перемолотить и провести мелиорацию полей, или
понастроить на них костелов христовых, или сложить пирамиды победы над
Moskwa. В пятницу и в субботу на святой они шастают, как волки, по
помещичьим дворам, нагоняя страх. А где же депутаты? Почему не спросят
его апостольскую Милость, как праздновали мужики тот день, когда его
Милость мыла ноги нищим? 4 Да ведь эмиграция свидетельствует о такой
безграничной темноте народа, о таком бессилии нации, о такой подлой
интеллигенции, что лопнуть можно от ярости. А где же съезды
нотаблей ***, где могучие Олесницкие 5, Окуневские и другие «рассудительные»
* Обратно (франц.).
** Немецкое Schluss — конец.
*** Нотабли (франц. notables) — почетные граждане.
176
Дополнения
и «почтенные»?! (Т е ρ н о π о л ь с к и й староста скупает земли
эмигрантов и перепродает полякам.) А эти почтенные и
рассудительные телята создают Ν кредитные товарищества, чтобы ссужать
деньгами попов, патентованных патриотов, празднуют поминки по
Шевченко, — а разжиться на общество помощи эмигрантам не могут. Так вот,
скажи адвокату: женщины рожают под клоаками железной дороги, на
лавках в III классе, они, желтые, как воск, зеленые, как трава, дохнут, как
мухи, мужики плачут и говорят, что мы уже не украинцы, а цыгане. Море
слез, целый ад мучений! Напомни ему письмо Польки6 после выборов —
там, где morituri te salutant— говорит душа. Не украинцы, а цыгане
monturi, но и они люди. Судьба человеческая, как ты горька и бесконечно зла!
Пришли мне книги, тогда получишь другие, очень хорошие. Напиши,
что делаешь, что делаете все? Что делает сестра? 7 Я еще напишу тебе
относительно нее. Дай адрес Мартовича и сообщи, что делает. Как
функционирует уездный комитет партии?
Помни, что жду большого письма. Не забудь послать пятерку, которую
отрываешь для меня от сердца.
Будь здоров.
29.IV.96 [Краков] Стефаник.
Ä И, Морачевскому
Милый друг!
Может, Вы и гневаетесь, что столько времени не писал Вам, но я не
могу ничего сказать в свое оправдание. Разве что откровенно признаюсь:
не хотелось, ох, как не хотелось! Даже величайшее уважение к Вам и
искренняя привязанность не преодолели моей лени. Ну, совсем я задубел,
глаза, как кусочки измазанного стекла, места себе найти не могу. Какое-то
утомление, изнеможение, вот и весь мой недуг. Не пытаюсь вступать
в поединок с этими противниками. Жду, что получится, да так
покойно, тихонечко, что, может, и враг уснет. Велит враг: ступай в лес, на
траву — я хочу. Иду. И тут начинаются комичные штучки. Лежу на траве,
не шевелясь. Враг думает: «Вот я угомонил его и теперь могу
порассуждать, ведь не продался же я тем силам, которые ни за что ни про что
принялись измываться над этим дурачиной. В конце концов ему и так долго
не протянуть. А у меня ухо, как сто ушей — подслушаю. Ага! Раскрою
один глаз, другой, и — мой мир, моя сила, мое владычество! Солнце
стоит уже неподалеку от хаты. Дразнит нашу землю. Выгоняет все лучи
из хлева на землю — земля не натешится, не нарадуется! Пляс!
Лоснящаяся зелень, как циркачка, ластится к мушию — театральному первому
любовнику и амурничает с ним так, что публика — муравьи, жуки,
комары, кузнечики и я — оскорбленные в своих моральных устоях,
вынуждены отворачиваться, шепча: Фе! Подымается свист, скрежет, бунт.
Солнце тоже разозлилось и опустило свои пламенные вежды — со стыда
Или от гнева?! Стыдиться-то вроде бы и нет причин — сколько уж оно
на своем веку повидало всякой мрази. Лучи снова в хлеву. Лишь около
Избранные письма. 1896
177
сотни их выбежало на лужок да ка ручей и там играют. Ближний лес
почернел от злости, что такому молодому да зеленому, как лужок, досталось
столько лучей, а ему — старому, заслуженному, опытному — ни одного!
А шалун-лужок еще и выговаривает старикану: тебе, дедуня, пора на
дрова да в печь, под топор да на бревна, теперь наше время, время
молодых! Солнце опасается, как бы старик не заглушил тех молодых, что
растут у ног его, и загоняет в хлев и последние сто лучиков. Солнце держит
сторону молодых, буйных, смелых. А тут, откуда ни возьмись, — тучи,
да и закрыли солнце, словно рогожами. И начинается извечный бой между
солнцем и темными тучами. Смекнула земля, что тут кровь потечет — и
дрожит вся, боится, и кручина у ней на лице. Темно. Вот и прошел бой.
Окровавленное солнце стоит на закате, глядит на землю и говорит: есть
еще у меня сила, еще одолею я тьму, а ты, земля, извлекай из того уроки.
Спокойной ночи. Старый и молодой, примиренные, идут спать, они уже
позабыли о вражде. Враг мой думает, что я ничего не видал — дуралей!
Lange1 заказан — пришлю.
Ваш
11.V.96 [Краков] Стефаник.
Л. В. Бачинскому
Дорогой Аевко!
Сердечно благодарю тебя за добрый совет. Письмо уничтожил и тайну
сохраню. Отношения между нами такие: я написал твоей сестре еще
зимой, как она хотела, что я ее люблю, но не могу сказать, что женюсь на
ней. Таково было содержание письма. Доведись другому человеку написать
такое письмо, может, он написал бы иначе. Может, у него вышло бы,
что раз любит — ergo* женится. Почему у меня так не вышло? Может
быть, даже у тебя так вышло бы. В том-то все и дело. С тех пор, как
я узнал сестру, я ее полюбил. Циничные замечания Марка 1, а затем и
советы его — это глас вопиющего в пустыне. Но сразу же после того, как
мы с твоей сестрой познакомились, во мне наступила перемена. Это
неудивительно— ведь я впервые полюбил. Ну и принялся я анализировать
себя, доискиваться в себе сперва хоть какого-нибудь человека, еще
неясного, а потом — совершенно определенного, такого, как вот тот или другой
знакомый. Потом попытался представить себя через пять лет, через десять
и т. д. — кем я стану, каким? Мне во что бы то ни стало хотелось знать
«положительно», таков ли я буду, как большинство виденных мною
мужчин, о которых каждый, и я в том числе, может сказать: это такой, это
такой и т. д.
Я не спускал глаз с двух факторов, формирующих каждого человека:
это, во-первых, он сам, его характер и тип его, и, во-вторых, внешние
влияния, так называемые обстоятельства. Делал или, вернее, думал я все это
* Ergo — значит (лат.).
Ί2 Василь Стефаник
178
Дополнения
от большой любви к Гене2. Я хотел знать точно, как по-писаному, что
буду таким-то и таким-то, с такими-то и такими-то недостатками и с
такими-то хорошими сторонами. Установив все это, я собирался откровенно
выложить мои открытия сестре, чтобы она знала, с кем предстоит жить.
То же я надеялся услышать и от нее — я бы уж постарался так расспросить
ее, чтобы обо всем узнать. Ибо это есть первое условие супружеского
счастья — знать друг о друге взаимно все дурное и хорошее, потому что
тогда можно соответственно вести себя по отношению друг к другу. Знать,
например, что одного из них злит, делает завистливым, а то и бесит,
чтобы не делать, не говорить таких вещей. Дурные черты есть у каждого,
никто не ангел, даже и любимая. А добрые качества надо развивать,
заботиться о них и т. д. Разумеется, возраст, здоровье, принадлежность
к тому или иному слою общества также имеют значение, но в данном
специальном случае о них речи нет. Или вот еще образование. Я весьма
скептически отношусь к образованию галичанок. Кроме нескольких, у всех
галицийских дам, которые носят шляпки, уровень один. Панна Теодоро-
вич3 из Русова интеллектуально не выше Гени, хотя и читала
по-французски романы, такова же и Ольга Гаморак, хотя и выражается иначе,
чем твоя сестра, — обе могут лишь поверхностно судить о предмете. Коб-
ринская, например, талантлива, а образования у нее нет. Stuart Mili 4,
несколько других книжек об эмансипации да по экономике — вот и все
источники, из которых она черпает — и потому — скучна. Более того — я
видел революционерок, — и те необразованные. Образованные женщины —
редкость, я встретил только одну — Окуневскую 5, а читал Ковалевскую 6.
Другое дело, можно ли любить только образованную. Я, не вдаваясь
в мотивы, скажу, что не всегда хорошо любить образованную, там, где
есть выбор между образованной и необразованной, чаще выбирают
последнюю. К тому же образованных людей и среди мужчин так мало, что
недостаток образования не может быть препятствием для брака. Я потому
так расписался о женской образованности, что ты в письме придавал
этому слишком большой вес, и еще чтобы раз навсегда быть im Klaren *
с этим вопросом. Ни обучение, ни образование невозможно без системы.
Нам может казаться, что система нашего университетского обучения плоха,
но мы бессознательно ощущаем ее пользу для образования. Пока женщин
нет в университетах7, среди них нет и образованных.
Возвращаюсь к операции над собой. Не стану рассказывать тебе,
какая это мука — кромсать себя самого аналитическим ножом.
Разглядываешь со всех сторон каждый свой поступок и всякий раз убеждаешься,
что, во-первых, ты дурак, во-вторых, — свинья, к тому же еще враль и
т. д., и так доходишь до моральной прострации, до неверия в себя,
декадентства, ипохондрии. И видится тебе то дуло револьвера, то презрение
всех, кого ты любил и уважал, то гнусная смерть в больнице. Что
говорить— мука! Но стоит человеку пройти это испытание огнем, стоит лишь
начать выздоравливать от этого недуга, и приходит ясность ума, душез-
кое равновесие и зримое счастье. Мартович — внимательный наблюдатель,
Т. е. внести ясность (нем.).
Избранные письма. 1896
179
и он не раз спрашивал меня, не собираюсь ли стреляться. Было такое
время, когда этот вопрос звучал для меня актуально. Но теперь это время
далеко за плечами, и я только поделюсь с тобой выводами. Так вот: я —
фантаст. Этот ген моего характера имеет следующие подразделы: планы,
которым не суждено стать действительностью, мелкие враки, и серьезное
вранье, которое я в состоянии сочинить и сам при этом поверить, что так
и было; своего рода оптимизм. Другой ген — это мой идеализм.
Подразделы такие: особая восприимчивость ко всякой беде и несправедливости,
причем новые впечатления всякий раз вырастают и заслоняют прежние,
а за этим — недостаток решимости и упорства, ненавижу равнодушие,
люблю всех людей и плачу над бедой каждого. Третий ген — это
наследственная черта всех мужицких детей — молчаливость и скрытность.
Подразделы: зависть, интриганство, самопожертвование и тихое
игнорирование окружающих. В заключение стоит добавить, что никогда не сделал
подлости, даже в мыслях не держал. Разумеется, такое сопоставление черт
моего характера может показаться тебе и дурно изложенным.
Может и так, но следовало бы перечислить их подряд и после
генетической шкалы исписать десяток таких страничек.
На основании таких знаний о себе не могу, как мог бы ты, например,
заверить, что женюсь через два или три года. Не смею. Тебе скажу, что
уповаю на милость божию и надеюсь только на то, что сестре твоей не
попадется жениха. Попадется — тогда все пропало, может, и я. Потому что
люблю ее страшно, и чем меньше в ней уверен, тем больше люблю. Но
как бы это меня ни мучило, я не отважусь сказать ей ничего, кроме того,
что люблю. Поэтому я тебе и писал, прося: ежели кто посватается или еще
что, то отваживай помалу, а уж если попадет в беду, отсоветуй
решительно. Я учусь прилежно и окончу быстро.
Вот я и исповедался тебе дочиста. Никто, кроме тебя, такой исповеди
не услышит. Может, я и не решился бы на это, но твое последнее письмо
было такое откровенное, что я не мог писать иначе. Отвечай поскорее.
14.V.96 [Краков] Твой Стефаник.
В. И. Морачевскому
Дорогие!
Сегодня у меня разболелась совесть. До сих пор она была у меня
здорова. Так я думал и ошибся. Такая ошибка очень горька. Но давайте
я расскажу вам все по порядку. Иду по улице и «философствую», что вот,
мол, — дождь льет, как из ведра, а мне и горя мало! Никто не запрещает
забежать в любой подъезд и переждать ливень. А будь я в Белелуе или
в Сяноке1? Совсем не то! Прежде всего пришлось бы сказать белелуйской
хозяйке (хозяин, понятно, мокнет в поле под телегой): «Здравствуйте!
Ну и проливень же, хоть бы града не было!» — «Сохрани только бог, от
града, а вы отколь будете?» И т. д. В награду за укрытие потрудись
произнести целый «дождевой диалог». Размышляй я дальше в том же духе,
может, дошел бы и до проблем города и деревни, социализма и мелкой
12*
180
Дополнения
собственности и заговорил бы с хозяйкой на тему о том, что «нынче не
житье, а каторга» — да мало ли еще до чего додумался бы! Кто господин
своим мыслям?! Но дальше думать мне не пришлось — перед глазами,
перед душой, перед всем, что я собой представляю, разыгралась драма
муки 2 с мучениками в главных ролях.
Впереди босой парень с поднятым крестом. Парень едва ноги волочит,
но зеленоватое лицо его исполнено гордости. Как же — несет крест, ведет
за собой похороны — главная роль. За ним идут четыре мальчика,
попарно. Несут гроб на носилках. Не будь на этом гробу изображения
креста, и не неси впереди зеленоватый парень распятие, я бы, верно,
ошибся. Подумал бы — несут на почту ящик зонтиков. Идут ребятишки
босиком, пальцы об камни расшибают. Мученики. На гробике веночек
желтеньких цветов. Бедный веночек, бедные цветики! Похож этот веночек
на калачики, которые подают Христа ради сиротам на паперти. За гробом
несколько баб с горшочками цветов в руках. Бедные растеньица, листья-то
в мае желтые! Бедные измученные руки — держатся, — чтобы не
опуститься, — за рубчик блузы. Мученики провожают замученного, несут в
сырую землю. Бедные мученики!
А я ведь тоже мученик, ну и иду за своими. Но тут одна бабка велит
мне убираться, чтоб не делать смешными их похороны. Я отошел — бабка
хорошо знает, кто мученик, а кто нет. Я-то, подумать только, возносился,
держал себя за мученика. А вот бабка говорит, что для меня в этой драме
еще нет роли! Христос-мученик, он людей спасал, мальчишки — мученики
нашего строя, бабы — мученицы потому, что родили мучеников, а я кто
тут такой?! Захотел стать мучеником, не претерпев мук! Вот лжец!
И совесть разболелась!
Спасибо Вам за прекрасное письмо и за благосклонность к такому
бездельнику. Я исправляюсь, снова начинаю любить людей, страдать с ними
и радоваться с ними. Порой выносить эти страдания свыше моих сил.
А страданий так много! Да и кто способен их вынести? Когда же
приедете, когда увижу Вас на краковском вокзале? Хотелось бы быть
поближе к вам. Может, набрался бы сил и выздоровел.
17.V. 96 [Краков] Ваш Стефаник.
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
Вы видели статую гонца из Марафона1? Эдакое, знаете,
гармоническое выражение патриотизма, любви к родному краю, воплощенное
резцом в прекрасном теле гражданина.
Статуя выглядит так: гонец бежит, левой рукой держась за сердце,
чтобы не разорвалось прежде времени, а в правой несет перед собой
пальмовую ветвь. Тело слилось в одну единственную косую линию — от
пятки до руки, а в душе одна единственная мысль — сказать
согражданам: νενικήκαμεν*. Глядя на статую, вы допеваете остальное. Вот он
Мы победили (древнегреч.).
Избранные письма. 1896
181
придет на рынок, скажет это одно слово и умрет. Сограждане поднимут
драгоценное тело и схоронят на высоком кургане. Историки, поэты и
резчики прославят его в истории, в поэзии и в резьбе. А сограждане пойдут
в Марафон, будут смотреть на павших братьев и говорить: жаль, что нас
не постигла здесь такая гибель! А теперь перенеситесь в своем
воображении через многие сотни лет и посмотрите на другого гражданина2.
Он отправляется в дальний путь. Крестится, кладет земные поклоны
перед иконами и наказывает жене приглядывать за домом. Домашние
провожают его, прощаются, еще раз бросают взор вслед уходящему, и
на душе у домашних светло, радостно. Никогда еще они не были так
исполнены надежды.
Идет мужик, идет, идет. . . На фоне зеленых полей и голубого неба
красная точка не то стоит, не то плывет. Ветер то и дело распахивает
полы красного халата, а в голове у мужика теснятся разные мысли. Далее
монолог: «Если царь будет переделять землю наново, надо, хочешь не
хочешь, лошаденку покупать. Непременно! Хоть в долги залезай, а
покупать придется! Никуда не денешься! Как станут делить, то хоть бы
поближе к моей. . .» И даже губами причмокнул.
Идет он, идет, а на четвертый день как взошел на один холмик, так
и примерз к земле, остолбенел. Что-то в нем оборвалось, в душе ли,
в сердце, в крови, а только оборвалось да и все тут! В голове шумит.
Забыл он и о переделе земли, и о жене—все забыл. Совсем себя
потерял. Дошло до него только, что тут ему и аминь! Нет здесь места ни
халату его, ни черным рукам, ни заветным чаяниям, грешник он, и не
таким бы ему здесь быть, каким шел он зелеными полями.
Перед ним раскинулась матушка-Москва. Небо над ней краше
голубого — золотое, земля у ней краше черной — красным песком усыпана.
Дворцы и дома в самых дорогих сукнах, в самых прекрасных цветах!
Перекрестился и, как во сне, пошел в неземную Москву.
Одна единственная мысль в душе: разочек на царя глянуть!
Все муки выносил с утонченной радостью аскета. Били его, дубасили,
а он все кружил вокруг царя, как пылинка вокруг солнца. Наконец, упал,
сраженный невыносимой болью, и опомнился.
Вспомнил про передел земли, про жену: и только собрался про коня
подумать, как подкова, став ему на голову, оборвала все мысли.
В музее города Москвы есть статуя гонца из Марафона. Статуя
выполнена так мастерски, что, кажется, бежит на Крит, сказать братьям
νενικήκαμεν.
Целую Вас.
9.VI.96 [Краков] Стефаник.
Из письма Л. В. Бакинскому от 12 июня 1896 г.
<.. .> Как-то занесло меня в Величку1, и я осматривал соляные копи.
Как прекрасна, милый мой, мертвая природа! Глубоко в сырой земле
захватывает тебя гармония нерушимого покоя, каменного сна. Нирвана
182
Дополнения
неорганики своими кристаллизованными прелестями влечет замереть
каждую дрожащую веточку нервов. Такое сладостное полное, абсолютное
спокойствие там, под землей! Кажется, что и смерть не так уж страшна,
а может,— кто знает?—и прекрасна. Но и тут дух человеческий
различает Strebung *. Эта мертвая природа, в силу непостижимых законов,
кристаллизуется в цветы, в листочки, в деревца и стремится создать мост
между тем, что мы зовем неорганическим и органическим миром. Все
устроено так, чтобы сразу же, в самом начале грандиозной цепи показать,
что эта цепь нигде не прерывается и неодолимо устремлена к
прекраснейшим созданиям мозга, к трепетнейшим порывам любящего сердца.
Великий гимн природе возникает где-то еще в бесконечной дали, и
человек убеждается, что в сущности все равно — быть ли первым или
последним звенышком этой нескончаемой цепи.
И вот что еще привлекло мое внимание: стоит опустить в соляной
источник веточку, ну хоть от вербы, подержать ее там с минуту и
вынуть — и впору поверить в чудеса. Веточки больше нет, а вместо нее в
руках у тебя прекрасная пирамида. И вся она увешана листьями, цветами,
симметричными фигурами, жемчугом и драгоценными камнями. Лучи
электрического света не в силах удержаться на этих блестках и
соскальзывают с них, рассыпаясь каждый на десять, чтобы светить голубым,
желтым, алым. А каждый из тех десяти в нашем воображении — еще на
десять, но уже невидимых, и возникает впечатление чего-то еще
неизмеримо большего, еще более прекрасного. Глядя на все эти чудеса, я думал,
что вот так же и с нашею любовью. Найдешь себе девушку, слюнявую,
с капельками неприятного пота, язвой прямой кишки и больным
желудком, ну, словом, эдакую вербную веточку, выкупаешь ее в своей могучей
фантазии, украсишь всеми красотами мира, дашь ей прелесть Венеры
Милосской, и улыбку вакханки, и невинность Дианы, и любуешься
в своем создании самим собою. Это создано тобой, и ты никому не дашь
растоптать свое произведение и жизнь положишь за этот эгоистический
идеал! Но сбей с пирамидки драгоценности — останется щепка, но лиши
любимую тех красот, какими ее наделил, — останется обыкновенный
человек, такой же, как миллионы других живущих.
Вот так ты и относишься к Н[аталии Дригинич] 2. И если уж ты
хоть одну жемчужину на ней тронул, то недалеко время, когда лишишь
ее и остальных сокровищ своей фантазии.
Я в том счастливом положении, что мои сокровища там, где я хочу
их видеть и откуда не собираюсь их удалять. Желает девушка носить их
или нет, моя фантазия все равно будет украшать ее ими, и пока я хочу,
она будет ходить в моих жемчугах, хоть бы стала извиваться в них, как
в змеиных объятиях <. . .>
* Устремленность {пен.).
Избранные письма. 1896
183
В. И. Морачевскому
Мой дорогой друг!
Не могу утаить от Вас, что обессилел, читая список книг, которые
мне предстоит изучить. Меня часто схватывает ощущение бессилия и
неуверенности. Прежде меня это очень удручало, но потом я свыкся со
своим ничтожеством. Бывало, вхожу в компанию и сразу ощущаю упадок
сил и узость кругозора и неудовлетворенность. А через минуту я уже
в кармане у одного из собеседников. Ну, просто чувствую, что сижу
у человека в жилетном кармане и не знаю, что готов отдать, лишь бы
он меня оттуда выпустил. Такого субъекта я сразу начинал ненавидеть.
И, если удавалось, тут же на месте ему мстил, и мстил злобно. Но
постепенно я привыкал. Не однажды, бывало, пойду в город и возвращаюсь
оттуда по-разному: либо меня какой-нибудь человечек в кармане везет,
либо я везу множество человечков. Полные карманы у меня их. Вынимаю
одного за другим и рассылаю по домам. Говорю на прощанье «будьте
здор©вы» и вижу, как они гурьбой вылезают и расплываются в
пространстве. Теперь я даже не сержусь, когда меня суют за пазуху. Бери
и неси, ежели тебе так нравится, мне-то что?!
Когда я впервые пришел к Вам в Кракове, Вы также были столь
недобры, что сунули меня в карман. Я ушел от Вас сердитый, решив, что
больше не дамся, С тех пор я и впрямь больше не бывал у Вас за
пазухой, а случись еще раз такой арест — сбежал бы и все.
Вот так спрятали меня в карман и книги Ваши. Решил поступить и
тут, как с Вами, — не даться. Так что, попробую.
Я теперь радуюсь зиме. Люди так бегают по улицам, словно что-то
позабыли, и возвращаются скоренько, чтобы еще застать забытую вещь
на месте. Усачи с превеликой осторожностью держат на усах лед, а
неусатые прикрывают все лицо, точно думают: зачем выставлять щеки,
коли на них усов нет и обмерзать нечему? А уж мальчишки! Идет
малыш с няней и ловит ручкой летящего вниз беленького мотылька; пока
поднесет к глазам, смотрит, а его и нету. Тянется, целится, хвать — а все
равно ничего нет. Удивится, загрустит и, может, так подумает:
«нехорошие, на землю падают и никуда не убегают, а от меня бегом», — и
опечаленный шагает дальше. Другие, те, что постарше, действуют не так. Они
знают секрет — берут снег с земли, и целыми снежками. Кладут книжки,
или сапоги, или одёжу — ну, словом, то, что несут, и — в бой! Не в
кровавый — в белый, мальчишеский. Война. Руки тянутся то в сторону
противника— со снежком, то в карман или в рот — без снежка, то к земле —
за снежком. Ни один не бывал в штурме, но каждый знает, что так
«положено» — раз руку в рот, а другой раз за снежком. Ни один никогда
не ошибется. Люблю смотреть на эти битвы, малыши бьются словно
своими снежными сердцами, а кровь бросается им в лицо и следит, чтобы
сердцу не стало худо. И очень живо вспоминаю, как я раз, когда был
маленьким, вышел на снег, и не в кого было снежком кинуть. Вышла моя
добрая мама, а я и запусти в нее. Она с удивленьем глянула в мою сто-
184
Дополнения
рону и мне стало стыдно. Но через минуту вышла сестра и у меня
появилась цель. А сестру послала из хаты мама — ступай-ка, мол, Марийка1,
Василь зовет. Мать моя больна, Марийки давно нет в живых, а я, как
вспомню этот случай, всегда радуюсь, хотя печаль должна бы подавить
радость.
Не будьте же нехорошим и обязательно приезжайте на праздники;
я бы подсел к Вам в Снятыне и доехал с Вами до Черновиц, так что
смог бы и наглядеться на Вас и наслушаться Вас. Я с 10 декабря буду
в Русове, а до 8 декабря жду в Кракове Вашего письма. Напишите, когда,
примерно, будете проезжать Снятый, я бы дня два там посидел, а Вы
телеграфировали бы st. Sniatyn, Narodna Torhowla. Приезжайте же,
приезжайте!
Со Сторожинцем 2 переписываемся часто и отлично.
Ваш Стефаник.
[Начало декабря 1896 г., Краков]
С. А. Морачевской
Дорогая пани!
Из глубочайших глубин сердца хотел бы поблагодарить Вас за
письмо Ваше. Но не умею, разучился красно говорить. А приехать не
могу. Я бы Вас и гостей Ваших скомпрометировал. Стоило бы мне
только увидеть на Вашем сочельнике хоть проблеск счастья, и я
расплакался бы, и мои горячие слезы пали бы на Вашу белую скатерть; а
покажись мне хоть частичка несчастья, — добавил бы к нему столько
своего, что угощение Ваше застыло бы и прогоркло полынью. И стоит мне
войти к Вам в дом, как елка Юрчика сразу же сломается. Нет, я не для
людей; тем, кто заражен низкими недугами и подвержен таким мукам,
что их ни передать, ни высказать, ни убить невозможно, — таким в
сочельник места нет у стола. Им дано глядеть на ярко освещенные окна,
на ребячьи елочки, — да только с грязной улицы. Там пусть стоят,
а мальчишки, что ходят с колядой колядовать, пусть обдают их грязью.
Грязь холодна, и ощущать ее на лбу не так уж худо — все-таки умеряет
жар. Кто очень страдает, тому хочется, чтоб его мукам конца не было,
да чтоб все больней, все страшней становилось. Это его единственная
радость.
Я Ваш друг и вовек им пребуду. А Вы моим не будете, ибо я могу
Вас отравить, а друзья так не поступают. Но лучше я скажу Вам, кто
я — я пришибленный пес. История про этого пса — самая страшная изо
всех историй, какие я знаю о людях, зверях, горах и долинах.
Вот идет пес. Зеленая мушка жужжит у его рта, он—клац! —
зубами,— улетела, он еще — клац!—опять улетела, даже рот заболел.
Однако идет по кукурузному полю, тыквенный лист за хвост цепляется,
фасоль так переплелась, что и пути ему дальше нет. Сел пес, отломил
кукурузный початок, сосет молочко. Уж такое оно сладкое, такое
сладкое, что и само синее небо не слаще! Солнце светит, прячется у него
Избранные письма. 1897
185
в шерсти, ну, просто рай ему там, в кукурузе. Но тут подходит
мужик — хрясь его палкой, пришиб и пошел себе дальше. Лежит пес,
головой уткнулся в широкий тыквенный лист, а молочко течет меж зубов
горькое, горькое. . . А небо желтое, желтое. .. И початок багровый,
багровый. А зеленые мухи уж над ним, только больше не слышно клац!
клац! Садятся спокойно, едят его живьем и слизывают молочко с зубов.
Это не Вы меня потеряли, а я Вас. Как подумаете, что у Вас нет
больше друзей, ударьтесь лбом об меня, как о скалу, и сразу вспомните,
что я с Вами. Что один только я у Вас есть. Есть, есть, разве что сами
этого не захотите.
А теперь желаю Вам счастья, здоровья, желаю хорошо начать и еще
лучше провести сочельник. Чтобы та радость, какую доставлял Вам
малыш, пришла к Вам в сочельник и села бы на Юркину елочку и чтобы
вы оба были как дети.
Будьте здоровы.
[Декабрь 1896 г., Русов] Стефаник.
Ä И. Морачевскому
Милый друг!
Русов, в Новый год, 1897.
Довольно я нахлопотался, наконец решил успокоиться. Думаю, чем
дольше не будем видеться, тем лучше станет наша грядущая встреча. Он
впереди, этот прекрасный миг, но все это еще в руцех божиих. Между
тем, пока я сижу до конца января в Русове и жду еще здесь от Вас
письма. В воскресенье поеду в Сторожинец повидаться с Вашими и
расспросить их, что Вы рассказывали о себе и как выглядите. То-то будет
радость!
У меня и соседей сегодня начался Новый год, однако грустно. Лес,
давний сосед села, встал рано и словно бы осунулся со вчерашнего дня —
почернел весь, похудел. Клонится к селу и шепчет, да так жалобно, что
все наши хаты расплакались. Слезки катились по всем окнам, не
переставая, до самого захода солнца. Маленькие веточки корчились от боли,
а стволы все трясли ими и заставляли шептать печальные вести,
принесенные лесу ветром со всего света. Шумите, шумите, шумите, —
говорит ствол, — что, что да что? —спрашивают прутики.
«Окна плачут, Катря, оботри платочком», — говорит мама, и Катруся
протирает оконца, а маленький Иванко плачет и не дает протирать и
говорит: «хоцу писать». Мама отзывает Катрусю, а Иванко пишет на
заплаканных окнах. Посмотрел на лес, испугался и сбежал на печь.
Потом снова слез и хотел еще писать, но Катруся уже протерла окна.
Иванко плачет. Мама берет его на руки, показывает на лес и говорит:
«вот будешь плакать, придет из леса волчище, хап — и нет тебя!» Иванко
полез на печь и уснул. «Глупенький», — думает мама и улыбается.
186
Дополнения
К вечеру лес измучился, задеревенел и уснул каменным сном. Он
свое выполнил — из стран далеких, из-за морей глубоких донес до села
печальную весть. То ли война будет, то ли мор на людей, то ли саранча
от нас солнце закроет, то ли господа барщину введут. Бог знает — мы
не знаем. Крестимся и ложимся спать.
Одна только бабка Тимчиха знает, что шептал лес и что нас ждет.
Она сидит на печи, прядет шерсть и вещает девчатам, пришедшим на
посиделки: «Слыхали, девки, как лес шумел? Война будет, ой, война!
Такой войны еще не бывало. Все цари будут меж собой биться. Всех
парней и мужиков заберут и всех убьют, а потом возьмут стариков, но
и те не вернутся. Останутся одни бабы, девки да дети. А потом
настанет голод. Только уж после того людям полегчает, рекрутов больше не
будут брать». Девчонки обмирают от страха и боятся расходиться по
домам. Отец ведет дочку домой и бранит, что засиделась. «Я боялась,
там, бабка говорила, будет такая война, что и вас убьют, и нашего Юрка,
и всех, всех...» — «Ладно, хоть тебя оставят», — говорит отец, а сам
думает: кто знает, может, и будет война. И уже заснуть не в силах.
Так мы все, вместе с лесом, с бабкой Тимчихой, с девчатами и,с их
отцами творим то, что в деревне называется жизнью, а вне деревни люди
зовут поэзией. Над нами бледный бескровный месяц, а мы в хатах с
заплаканными окнами спокойно спим, разве что девчонкам снится их
милый, только уже умирающий на войне. Лежит Иван где-то там, в чужих
краях на белом остром камне, истекает кровью, и молвит: «Болит сердце,
головушка, прощай белый свет, а тут еще зазнобушки подле меня нет».
Она раздирает вышитый рукав надвое, затыкает ему рану в сердце, и,
видя, что кровь пуще течет, кричит в отчаянии: «Иваночко, не умирай,
не покидай меня, милый!» Мать ее будит и крестит, и говорит: «не
пущу тебя больше на посиделки, а то эта бабка наплетет вам баек, а вы
потом спать не даете». На другой день брат говорит матери: «Ма,
видите, Мария с Иваном своим и ночью расстаться не хочет. Надо сказать
Ивану, как у него милая хороша!» Мария краснеет и выбегает из хаты,
а все хохочут. Девушка пережидает за порогом, пока в хате отсмеются,
и говорит про себя: «Побей ее бог, бабку эту!»
Вот Вам кусочек нашей сельской жизни. Вы, верно, назовете его
поэзией и сочтете нас счастливыми. Что ж, до поры мы и впрямь счастливы.
Но когда посетит нас печаль и горе, и мы Вам об этом напишем, не
называйте это поэзией, зовите горем и мукой.
Жду длинного письма.
Ваш
Василь.
Избранные письма. 1897
187
1897
Ю. В. Морачевскому
Дорогой Юрчик!
Я прошу и прошу у тебя карточку, но все никак не допрошусь.
Теперь посылаю тебе картинку писанную, может хоть за нее получу твою.
Знаешь наши сёла? Там теперь таких картинок, как та, что ниже, сотни.
Малыши зыркают из-за печи и внимательно следят, не заметят ли мама
или сестра их саночек? Таких детских сценок теперь в селах сотни. Эта
моя картинка старая, но я нашел ее и дарю тебе, она хоть и безыскусна,
но хороша. Так хороша, что моя сестра и мама спрашивали у меня, по-«
чему я солгал и перекрестил Василя Иваном. Однако, читай!
Санки
Мальчишечья зимняя сценка
И в анко
Мария, его сестра.
Мама их.
(Крестьянская хата зимой. Мама и Мария сидят на лавке под окном.
Мама прядет кудель, Мария вышивает плечики для сорочки. На печи,
из-за дымохода видна маленькая ножка, оттуда падают на припечек
щепочки.)
В хате.
Мама. Ты опять там мастеришь, мастер? Вот я тебе намастерю!
Куда нож ни спрячу — везде найдет. Только гляди, порежься, заплачь,
разом выпорю.
И в анко. Да-а. Разом?
Мама. Только так. Только!
Мария, Дакай, дакай, а я вот скажу папе, что из амбарушки
дранки таскаешь для своих санок, он тебя отлупит.
Мама, Так он санки мастерит, курносый мастер? (Лезет на печь
и отбирает санки. Это две дощечки, скрепленные поперечинкой и
затесанные, как полозья.) Вот мудрец, чем бы за скотиной приглядеть, так
он сидит в саже да с санками возится. А потом, неслух, лезет в снег,
а ночью кашляет и спать не дает.
(Иванко слезает с печи — в одной руке нож, в другой — вторая
поперечинка от саней.)
Иванко (сквозь слезы). Вот погодите, не куплю вам красные
сапожки на пасху!
Μ ама (улыбаясь). Не надо мне твоих сапог.
Мария. Да пусть мастерит, мама, а то все и будет по лавкам
елозить, стены пачкать да пауков искать.
188
Дополнения
Мама. На. Трудись. Только гляди, встречу на дворе — всему
конец. (Марии). А во всем ты, чушка, виновата, — даешь ему сапоги, вот
он и шныряет по двору.
(Иванко усаживается посреди хаты на пол и тешет вторую поперечинку.)
Мама. Ты пойдешь на печь, или нет?! На голой земле торчать
будешь?
(Иванко лезет обратно на печь и снова вниз сыплются щепки.)
Мама. А ты, девонька, может, нашла бы себе какую работу?
А то все вышиваешь да мережишь, будто и делать нечего.
Мария. Так зимой же прополки нет, что ж еще делать?
(Прикладывает плечики к рукавам.) Поглядите, как славно?
Μ а м а. Славно, славно, только пора коров доить. (Выходит.)
Иванко. Мария, пусти во двор хоть на немножко. (Слезает
с печи с готовыми санками.)
Мария. Обойдешься. Охота была за тебя позориться.
Иванко. Постой, постой. А гарус не я тебе сучил? То-то.
Пусти, пусти.
Мария. Да мне что, только ведь мама прибьет.
Иванко. А как же? Разом! (Вытаскивает из-под кровати
сестрины сапоги, надевает и шаркает в них по хате.)
Мария. Ну ты, шаркун! Поди-ка, онучи на ноги намотаю, а то
закоченеешь. (Сажает Иванка на колени и одевает его.)
Иванко. Мария, скоренько, а то мама зайдет.
Мария. Успеешь! (Укутывает голову братишки красным платком
и надевает на него кожушок. Иванко, одетый, идет к двери.) Да постой,
грудь-то голая, дай застегну. (Застегивает. Иванко выходит.)
На снегу
Две вишни позади хаты все в снегу. Холмик. Иван бредет по снегу,
мимо вишен и все оглядывается на санки. Падает в снег. «Ух!» — говорит
и встает. Бродит по снегу, все оглядывается на санки и вновь падает.
«Да ну», — говорит и подымается. Стоит и, вытянув руку, шарит
пальцем по снегу, хочется ему во что бы то ни стало снять беленькую
звездочку, сверкающую на сугробе. Несколько раз пытается — не выходит.
«Все равно растает», — говорит он, кладет озябший палец в рот и другой
рукой тащит санки. Еще с минуту бродит по двору. «Пойду домой».
Входит в заднюю дверь.
Снова в хате.
Мама. Ты что ж, девка, совсем голову потеряла, — пускать
ребенка на снег. Посинел и промерз весь, как капустный кочан. Нет, ей-
богу, скажу отцу, пусть бьет! Сильно озяб?
Иванко. Так щиплет пальцы, что ой!
Мама. Видишь, девка, видишь, а все ты! Ну, раздевай его. Да
принеси воды, чтоб пальцы отошли.
Мария. Видишь, чертенок, как мне за тебя достается. (Тормошит
Иванка.)
Избранные письма, 1897
189
Мама. Живей, живей, вон отец идет.
(Обе проворно раздевают Иванка, он лезет на печь, а мама прячет
санки под кровать.)
[Февраль 1897 г., Краков]
Ю. В. Морачевскому
Мой маленький друг, дорогой Юрчик!
Я так ищу тебе подарок, как когда-то старый дьячок искал, что бы
подарить мне. Приду, бывало, стану у порога и глаза мои липнут к тол-
стым книгам, застегнутым на латунные пряжки. Вот отстегнуть бы
пряжку, раскрыть на коленях книгу и начать, послюнив пальцы, листать
ее! Там одних картинок сколько, все б потом маме рассказал!
Так я стоял и рисовал себе все это в голове, а дьячок тем временем
искал для меня картинку или картонную коробочку. Даст и спрашивает:
когда еще придешь? Я, держа подарок, спрашивал в свою очередь: а
когда скажете прийти? — Приходи в субботу.
По дороге от дьячка я то и дело вынимал подарок из-за пазухи и,
оглядевшись, не видно ли где собаки или другого мальчишки,
рассматривал картинку. А придя домой, залезал на печь, забивался в уголок
и уж тут любовался вволю. Потом слезал с печи и показывал подарок
сестре и маме.
Вот точно так и ты сегодня пришел ко мне в гости. Я усадил тебя
в кресло и говорю: ты у меня в доме самый дорогой гость, потому что
я тебя очень люблю, но подарков я тебе не дам — лучше, чем у твоей
мамы, у меня ничего нету. Зато я расскажу тебе про мальчика, которого
весна убила. Будешь слушать?
— Буду! Мама у меня такая грустная, что ничего бы мне теперь не
рассказала, а так хоть вас послушаю.
— Добро!
В долинке у пруда солнце, ветер, воздух и сам пруд, и вербы, что
над прудом сошлись держать совет, когда пускать весну с неба. Мороза
и месяца на совете не было, рассердились они на что-то и оставались дома.
Но пока суд да дело, солнце так смеялось, так хохотало, что все тучи
умчались в море. А как умчались в море тучи, воздух стал такой легкий,
такой чистый и так был за то благодарен солнцу, что все его лучи
пустил на землю поиграться. А ветер все становился на пруд, все хотел
свой следок оставить и поглядеть, хороша ли ножка у него. Но пруд
щекотал ему пятку, и тогда он взлетал на вербы и вербам не было от
него житья. Они все отмахивались от него, а то возьмут, изловят да
как швырнут на землю! «Ты что все карабкаешься на меня, не можешь
сидеть сиднем!» А ветер-шалун: скок! — и опять на вербе. Верба ну
просто из себя выходит от ярости! «Начнем-ка уж совет, — говорит
солнце, — мне путь дальний, мешкать некогда». — «Да как начинать, —
говорит ветер, — когда земли еще нету». — «Вон тащится уже, —
говорит воздух, — ободранная вся да тощая, словно четыре дня не ела!»
190
Дополнения
Но вот все сошлись.
Стали совет держать, один это говорит, другой то, ну, как на всяком
совете.
И тут прибегает мальчик. Такой славный да милый, прибежал и
давай играть. Солнечные лучики — к нему. Один лезет в глаза, другой —
в рукава да за пазуху. Солнце своих детей угомоняет: не приставайте
к нему, пострелята. Ну, убежали они. Мальчик стал у пруда и обнял
вербу. А она так рада, так рада, — давно уж ее не обнимали! И ветер
туда же — к мальчугану. Забежал за ворот, выбежал из рукава, забился
в волосы, а там залез в ухо, и не озорует, нет, тихонько сидит, пока
парнишка сам его не выгнал. Пруд принялся фотографировать мальчика,
больно уж хорошенький, а воздух забрался к нему в грудь, посмотреть
сердце.
Пропал совет. Все вокруг парнишки.
А весна ждала, готовая тотчас спуститься на землю, как только
постановят советники, что ей пора. Ждала и земля, ведь это весна наряжает
ее, как невесту к венцу. А совета все нет, как нет — все вокруг парнишки.
Ну, думает весна, — убью я его!
Ну, думает земля, — убью я его!
Прошло еще недели две и снова созвали совет.
Солнце говорит: думаете — мне весна нужна? Мне с ней одна только
работа. Вставай рано, ложись поздно. Ветер говорит: пусть будет весна.
У меня тогда столько радости! Заберусь меж цветов, которыми земля
убралась, и давай их тормошить, рвать, разбрасывать, а земля злится, как
девка на танцах, когда ей парень барвинок с позумента сорвет. Воздух
говорит: на кой мне весна! Насбирает туч и так меня вымочит, что
сухого места нет! Да кабы только это! А то ведь те тучи, как сойдутся,
огонь высекают. И ну меня печь, как цыган раскаленным прутом. Я тогда
уж так реву, так гремлю!
Но вербы, пруд, земля непременно хотели, чтоб весна настала, и совет
постановил — быть весне!
И вот весна пришла, и земля уже наряжалась к венцу, а красивый
мальчик выбежал в долинку, лег там на травку и уснул. Подошла весна
и пустила ему в кровь яду, подошла земля и сказала: я тебя съем!
Убила весна мальчика, а земля съела его. И похоронили его весною
на кургане. Это было давно.
А теперь, милый Юрчик, иди домой и скажи маме, чтобы не
тосковала и улыбалась.
Будь здоровенький.
[Февраль 1897 г., Краков] Стефаник.
Избранные письма. 1897
191
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
Ваше письмо как прекрасная расцветшая весною черешня. Много
цветов, зеленых листьев, а на стороне, обращенной к северу, маленькая
веточка и на одном листочке — слеза. Только одна слеза. Уж ке повисла
ли у Вас, сильного и прекрасного моего друга, слеза на ресницах?
Письмо Ваше наводит на мысль, что душа у Вас горько плачет. Дай бог,
чтоб я ошибся!
У нас весна — шестеро наших крестьян погибло от штыков, а тысяча
сидит в тюрьме. Это Еыборы по всеобщей курии xt Для меня это весна,
раз уж мужики ощущают в себе много крови и проливают ее в черную
землю. Радуюсь их силе и их пролитой крови — кровь смоет грязь с
нашего тела и яд с наших ран.
Придет весна и в село. Белая хата купается в солнечных лучах. Ка
завалинке перед хатой куры клюют стены. Возле хаты гарцуют мальчишки
на деревянных лошадках. В хате малютка играет и все хочет поймать
ручонками радугу, влетевшую в окно. А старый дед сидит на лавке, и
вокруг его седых волос рассыпаются тысячи весенних лучей. А волосы
у него, как лучи осенние, будто они от осени остались. А в сердце
стариковском пробуждается радостная тоска. И глядит старик на ребенка,
играющего с радугою, и шепчет: «Ох, давно я так играл!» И смотрит старик
на солнце, и говорит с грустью: «Долго ли еще мне смотреть на тебя?»
И чувствует старик на седой голове тепло весенних лучей и молвит:
«Теплынь, веска будет, солнышко славно греет». И вот уже по морщинистой
щеке старика побежала слеза, потому что старик любит весну, потому что
старику весной пели жаворонки, потому что весной старик кидал зерно
в божию землю. А теперь вот снова весна, и кто знает, в силах ли он
выйти в поле и сеять зерно, и слушать жаворонков?
И старик утер слезу и вспомнил молодость. Венок воспоминании
вошел ему в сердце вместе с весенним солнцем. Широкое зеленое поле,
чистый воздух, его нива, его волы и плуг, и ходит он за плугом по тем
широким полям, и ходит, и ходит. И чует старик, что весеннее солнце словно бы
вливает силы в его старые кости, и чует, что будет еще ходить по
широкому полю. И радостно у него на душе.
Вышел он из хаты, крикнул на кур «кыш!» и сел на завалинку на
солнышке. И услыхал старик знакомую ему музыку. Эту музыку творят:
смех детей, гарцующих на деревянных лошадках, шум древесных ветвей,
голоса собак, лающих от радости, что весна пришла, журчание потока под
вербами и молодой весенний ветер. А играет эту музыку солнце, играют
его лучи. И услышал старик музыку своей молодости, и увидел эту
музыку — и слышал музыку и видел ее.
А когда он смотрел на эту музыку и слушал ее, ветер засучил ему
рукава по локти, и стало видно худенькие, натруженные руки старика,
который грелся на солнышке, слыша и видя музыку своей молодости.
Я Вам, дорогой друг, не в состоянии эту музыку написать, щ я ее
слышу, так слышу, что все во мне играет. Будь я в селе, так и увидел бы
192
Дополнения
эту музыку. А окажись я там с Вами, мы оба любовались бы той музыкой,
и я бы плакал по старику, да и Вы бы плакали. Будем ли мы еще когда-
нибудь весною вместе?
Посылаю Вам это письмо и жалею, что не могу пойти к Вам и расска*
зать о весне, и посмотреть, не грустно ли Вам?
Ваш
[Март 1897 г., Краков] Василь.
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
Сердечно благодарю Вас за сердечное письмо. К Вам не поехал,
полетел бы, так хочу Вас видеть. 10 июля не смогу у Вас быть, разве что 15.
Но это путешествие { доставило мне много хлопот. Если сумею, то хоть на
неделю загляну. Дольше, верно, пробыть не удастся. Деньги на эту
поездку мне обещаны, но в кармане их еще нет, так что не знаю, дозволит
ли бог мне, бедному, побыть у Вас хоть недельку. Впрочем, нет — я деньги
из-под земли добуду! Боже, сколько бы я у Вас оставил своей боли, а
каких бы сил от Вас набрался! Хоть бы на этот раз повезло, ведь я так
измотан! Палец бы себе отсек, только б поехать. Мне уж кажется, что из
Вашего дома я видел бы синее море на юге, видел бы горы, которые
разрывают облака, словно холст, и всегда глядят на голубое небо. Я
взбежал бы на гору и припомнил Вашего Словацкого, спустился бы вниз, на
озеро и снова вспомнил бы его, взял бы на ладонь одну жемчужинку
водички и упросил бы, чтоб замерзла, чтоб я смог отвезти ее маме; а
ночью припрятал бы несколько звезд с Млечного Пути, укутал бы золотень-
кие своей душою и принес бы их из вольного края в свой родной. Я
взбежал бы на высочайшую вершину и послал бы свои самые сокровенные
мысли с облаками в небо. Оттуда им уже недалеко. Я шалил бы, как
мальчишка. А потом рассказывал бы Вам, как душа у меня болела и как
веселилась, а под конец взял бы Вас за руку и, долго не отпуская, медленно
говорил бы:
В Кракове есть такой деревянный ларек. В нем продаются булки,
калачи, медовые пряники. А хозяйка всему этому дряхлая старушка. Вид
у ларька такой, словно его вымели за ненадобностью из большого
магазина. «Может пригодится еще? — рассуждал мужик. — Э, марш на свалку,
моему пану такое без надобности». И вымел. А старушка шла, подобрала
выкинутое, и теперь у нее свой ларек.
И вот сидит она, присматривает за калачами. На коленях у нее
ниточка бус. Она перебирает их и шепчет, шепчет, шепчет.
Уж не ее ли это слезы, бусы эти? Не их ли собрала она и нанизала
на нитку как единственное сокровище свое? И не то же ли она шепчет над
каждой бусинкой, что шептала, когда скатывалась та слеза по
морщинистой щеке? А бабка все шепчет, шепчет.
Как это было, бабушка?
А вот и солнышко взошло над старухиным ларьком. Ах ты, солнышко
божие, не забываешь бабку!
Избранные письма, 1897
т
А вокруг ларька ровик от дождя. Камушки, кирпичики, черепки
оградкой вокруг бабуси стали.
А за оградкой кучка детей. Захотят и перепрыгнут. Солнце
расцветило детям пыль радугой, дождь им камешки сполоснул. Играют.
Ой, бабка, гляди, крадется мальчуган, пропадет калач у тебя. И
смотрит старуха то на слезы свои, то на мальчишек.
Вечер. Мальчишек нет, старуха осталась одна и все шепчет, шепчет
над бусами. Как это было, бабушка?
Мы оба жалели бы, что нет возле нас того ларька, старушка была бы
ближе к небу, а дети к ангелам.
[Июнь 1897 г., Краков] Ваш Василь.
С. А. Морачевской
Добрая пани!
Если это мое письмо к Вам запоздает, то потому, что выехал я из
Кракова вконец измученный и обессилевший, и только здесь, в горах стал от*
ходить. А уж когда я «отхожу», то забываю обо всем. Ваше письмо было
не просто хорошее, а такое, что в нем сама правда да еще высказанная
прекрасными словами. А теперь расскажу Вам, как я тут.
Стоит в саду старая хата, а в той хате старая мебель, а хозяйничает
старая армянка. Старая армянка точно старая ведьма — лицо смуглое,
острое, все в глубоких морщинах. У старого стола всего две ноги, да и то не
ноги, а лиры. Приставляет она мне этот столик к кровати и приговаривает:
когда я была молодая и муж еще был жив, эти лиры ух как играли, на
весь дом раздавалась музыка, а теперь они — ножки от стола, и только.
Тогда я пела и лиры пели. Все прахом пошло.
А к старой армянке сходится много молодых девушек, родственниц»
Сядет она меж них и давай учить: была бы я молодая, ей-богу, женила бы
этого доктора на себе. Вышел бы он в сад, а я подсела бы да просто и
заговорила, отчего, мол, вы один, семьи у вас, что ли, нет, или натура
невеселая? У нас, мол, в Кутах, все веселые. Ну и породнились бы, и уж
никуда бы я его от себя не отпустила. — А девушки слушают, и удивительно
им — как прежде хорошо и «просто» было к молодым людям
подсаживаться и как теперь худо... А я слушаю, что про меня хозяйка несет, »
смеюсь над старой болтуньей.
Зовут эту даму Богданета Ромашкан, и она говорит, что род ее из
самых давних и славных.
А утром и вечером я хожу по горам и по лесам вдоль потоков. Прошу
Вас, подтвердите, что я говорю правду. А правда моя вот какая: иду я
дубовым лесом и поправляю шапку на голове, а то она у меня так надета,
как не должна быть надета в лесу, в лесу надо носить шапку иначе, как
сук на дубу. И глаза должны не так смотреть, а как листок дубовый на
небо смотрит. И глядеть на дубы надо не как на лес, а как на дубы,
каждый из которых сам растет, сам живет и сам гибнет. И я говорю дубам:
вы каждый сам себе господин. Ты, старый дуб, наслушался Черемоша и
Ί3 Василь Стефаник
194
Дополнения
много знаешь, а ты, молодой, слушай, что старый говорит, тогда сможешь
спознаться с ветрами, постичь солнце и станешь среди леса дубом. Но
старый дуб горделиво у меня спрашивает:—А ты дуб, иль береза, или
другой кто? Я, говорю, человек. И старый дуб как зашумит свысока листвой,
словно приговаривает: а, так ты их тех, кто любит плакать.
Прекрасно мне здесь. Живу крепко, спокойно, уверенно. 13-ого августа
еду в Сторожинец — Ваш отец1 поедет в Москву на съезд врачей,
а я буду стеречь дом. Очень рад, что еду в Сторожинец. А Вы напишите
мне еще сюда. Юрчику напишу отдельно, а теперь желаю ему здоровья и
всего доброго.
Будьте здоровы.
[Июль 1897 г., Куты] Стефаник.
В. И. Морачевскому
Дорогой мой друг!
Хороша открытка, хорошо было бы и без открытки, только бы знать,
что Вы меня не забываете. Нет такого дня, чтобы я о Вас не подумал —
мне без Вас худо. И уж не знаю почему, но чем ближе я к Вам, тем
дальше от моих прежних близких. Порой мне и грустно, что ухожу от
старых знакомых и друзей. Порой тоскую я по ним, как тоскует маленький
пастушок по тем лугам, что уже выпасены и куда больше не к чему гнать
овец.
Теперь у нас ночь, но светлая. Господь его знает, куда подевалась
тьма. Верно, забилась в сердца несчастливым людям и там властвует —
пьет да гуляет. У каждого ли на сердце так светло, как на небе?
Течет река, взбалтывает воду и шумит так, что лес дрожь пробирает.
Все ели сбились в кучу, в лес — так и ночуют. Страшно как-то спят они,
те леса. Какие у них сны? Месяц сверху свет сыплет, а лес выставил над
собой тысячу крестов. Им оборонять его от силы, дремлющей в
необъятном мире. От страшных скал охранять его тем крестам.
Скалы и черные тени их — это все страшный сон. Снится тот сон лесу.
Сперва-то видится ему во сне серебро. Целая земля серебра. Но вот
встают огромные черные исполины. Пожирают серебро и вырастают до
самого неба. И некие божий силы серебрят исполинов этих, а земля перед
ними без серебра. Идет сила на силу, идут горы на месяц, сколько ни
кинет месяц серебра, все скала пожрет. Страшная битва скал с месяцем.
И снится все это лесу, и боится он тех скал, и каждой иголочкой целует
месяц и дрожит весь в страшном сне.
Течет под скалы и леса река и плещет живым серебром, и убаюкивает
леса, и так стремит и стремит воды меж лесов и скал, и все гудит песню.
А что от всего этого тому пауку, что под сучок забился? Думает, не
замочи ему роса паутинку, изловил бы он сон лесной. Но и сам дремлет.
Серебряный лесной сон...
Не хочется мне на этом кончать письмо. Расскажу-ка я Вашему
маленькому Юрчику сказку, ту, что мне сегодня старая бабка сказывала.
Избранные письма. 1897
195
Мой, — говорит, — Иванко был учтивый мальчик. Пас он двадцать
овечек и жеребенка. Овцы шли впереди, Иванко за ними, а жеребчик позади.
Бывало, ни потравы в поле, ни от людей жалобы.
Пасет себе, да и все тут. Спать захочется — поет, а проголодается —
ест хлеб из-за пазухи.
Вечером пригонит овец и жеребенка, запрет их на базу и помолится
у калитки, чтобы жеребенок овец не побил. А придет утро — опять на луг
гонит.
Но как-то раз пошел на луг и отец. В чем-то там ему Иванко помогал,
то ли сено копнить, то ли еще что. Увидел жеребчик, что Иванко не пасет
его, и забрался в чужой овес. Побежал Иванко, выгнал. А жеребенок опять
за свое, ну прямо повадился в овес.
Побежал отец, хлестнул кнутом жеребенка да и выбил ему глаз,
бедняге.
Подбегает Иванко к жеребенку, а тот плачет. Вся голова в слезах.
Заплакал и Иванко. А потом как начнет молиться!
Просит бога, чтобы жеребенку полегчало. Истово молится.
Молился он до вечера. Гонит овечек домой, ведет жеребенка и все
молится за него.
Идет и молится, идет и молится.
А тут овечки забежали в огород "к нашему соседу.
Выбежал сосед и давай Ивана бить.
Оставил Иван и жеребенка и овечек и прибежал домой, да такой
страшный! Век я после того прожила, а такого страшного малыша не
видала.
И с тех пор Иванко никогда уже больше не молился.
Теперь он женатый и дети у него есть, а не молится. Все говорят, что
безбожник, что у него нечистый за пазухой. А я знаю, что он не кальвин,
и нечистого у него в сердце нет, а только не молится он с тех пор, как
сосед его избил, когда он за жеребенка так истово молился.
Жеребенок после того ослеп, а Иван не молится и поныне.
Вот что рассказала мне бабка, она до сей поры корит соседа за то,
что сына ее от бога отвратил.
Пишите, мои хорошие, и побольше. Будьте все здоровы.
Стефаник.
С 15-го я в Сторожинце.
[Август 1897 г., Куты]
В. И. Морачевскому
Дорогой мой друг!
Ваше письмо в Сторожинец я прочитал только теперь. Мне стало очень
горько, что Вы потеряли веру в себя. Беспокоиться о том, что станете
носить стоячий воротник и чиновничьи пуговицы! Да наденьте Вы хоть
13*
196
Дополнения
ризы, к Вам не прилипнет. Вы человек и всегда будете человеком, крупным
и сильным. О, друг мой единственный, не предавайтесь печали и тоске.
Я бы за Вас надел последние лохмотья, лишь бы Вам не было худо. Если
Вам приятно числить меня своим близким, думайте только так: он (то
есть, я) считает меня самым большим другом, готовым преодолеть все
препятствия на своем пути, сделать так, что близкие будут им гордиться.
Без денег, без средств буду гордиться. Даже если увижу Вас в мундире
галицийского наместника, только бы увидеть. Меня не убудет, что бы Вы
ни надели.
Не печальтесь, милый мой друг. Я очень радуюсь, что Вы будете
поблизости. Увидите, каким я стану возле Вас. Приезжайте как можно
скорее.
Я теперь сижу в Сторожинце. Вам не надо рассказывать, как здесь
хорошо. А еще лучше потому, что я здесь на каждом шагу вспоминаю
Вас и Вашу жену.
Мы не говорили с Вами о том, сколь Вы для меня ценны и хороши.
Пока я Вас не знал, я места себе не находил меж людьми. Пришли Вы, и
мне стало светлее жить на свете. Вы оказали на меня решающее влияние,
мне теперь совсем легко жить. Моя личная жизнь очень тягостна, но Вы
внесли в нее перемены. Как — я не знаю.
Когда я хожу здесь по тем дорогам, где мы с Вами ходили, мне так
славно, что и не скажешь!
Однажды мы оба шли по дороге, ведущей в Буденец 1. Вы говорили,
что надо создавать людей такими, чтобы они головами были под облака,
а ногами твердо шагали по земле. А теперь я вижу, что я первый такой.
И еще чувствую, что у меня достанет сил создать второго такого же.
Я бы хотел пережить радость: чтобы я, созданный Вами, и тот, кого
я создам, шли бы с Вами и слушали друг друга.
Мне так хорошо вспоминать о Вас! Как посмотрел в первый день на
тропки наши, так потом и писал всю ночь. Семь картинок посылаю Вам,
выберите из них что Вам больше понравится.2 Вам и Вашей супруге. Что
выберете, то пусть остается Вам, а остальное напечатаю в книжке и отдам
людям.
Папа Ваш очень озабочен Вашей поездкой в Варшаву. Боится, что
Вас арестуют и Вы потеряете должность. Я и сам боюсь этого, может,
Вам лучше не ехать?
Поскорее бы увидеться. Ой, поскорее бы! Напишите, когда будете
в Вене. Может, соберусь и приеду навестить.
Ваш
Василь.
[Август 1897 г., Сторожинец]
С. А. Морачевской
Называю Вас самым прекраснейшим из имен. И все.
Помните, как я прогуливался перед домом, а Вы вышли гладко
причесанная, с улыбкой на лице? А помните, как я тогда рассказывал Вам
Избранные письма. 1897
197
о старике, который сел погреться на солнышке? Так вот, знаете, этот
образ слетел ко мне вместе с солнечными лучами и остался со мною и
кружится, и носится, и вырывается у меня. Ну и мука же мне с этим
образом, скажу я Вам! Я хожу, а он стучится и пробивается на бумагу.
Как меня истязают эти образы! Такие они у меня прекрасные, такие
славные, что я и передать не в силах. А они растут, растут и уже
становятся славными парнями. И чем бы оставаться со мною и радовать меня —
во что бы то ни стало желают идти на свои хлеба, на свое хозяйство.
Боже, и что только я тогда переживаю! Я просто с ума схожу. Беру и
пишу. Ставлю их на свое хозяйство. А потом смотрю на это их хозяйство
и вижу, что оно такое ничтожное, такое маленькое! Говорю: у меня вы
были в довольстве, а на своих хлебах бедняками станете. А потом и вовсе
худо вам придется. Пойдете милостыню просить. И ухожу со двора
блудных сыновей, и забываю о них.
Я вам признаюсь, как на исповеди, что когда-нибудь подожгу всех
этих голодранцев, а сам рехнусь. И страшно же все это, однако! Есть
у тебя дочка — шлюхой станет, есть сын — нищенствовать или воровать
пойдет. И каждая дочка так, и каждый сын.
Вот почему я так рад, когда есть кому свой образ передать. Отпускаю
сына или дочку не бог весть куда, а к знакомому, к другу. И уж могу
попросить, чтоб не били, чтоб мыли, чтоб голову чесали, а к хлебу соли
давали.
Довольно и того, что когда пишу какой-нибудь свой образ, то всякий
раз решаю про себя: ну, сигай, черт, в омут!
И сегодня я своих сыновей покарал страшно, изрезал, измордовал,
разорвал. Теперь я понимаю, как мог Гонтах зарезать своих детей. Не
понимаю только, как он мог плакать у гроба?!
Какой же я сам голодранец, что не могу детей прокормить!
Я этого никому еще не рассказывал и никому не расскажу, а Вы,
прочитав письмо, разорвите, а меня не предавайте.
Ваш
[Август 1897 г., Куты] Стефаник.
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
И дом наш, и сад, и осень наша — все плавает в лунном свете. Я хожу
по дорожке в саду и под ногами у меня увядшие листья. Чуть грустно.
Вспоминаю Вас. Люблю Вас вспоминать. Воспоминания у меня тихие, как
холмики вокруг. Между двух холмиков маленькая долинка. В эту долинку
ветер сгоняет всю опавшую листву. На холмиках только грузные
подсолнухи гнутся. Да еще тыквы блещут в лунных лучах.
Нивы спокойны — уродили и дали людям хлеб.
Ветер унес из-под моих ног листочек вербы и понес, понес... Где-то он
завтра будет, листочек этот?
198
Дополнения
Небо далеко, далеко. Звезды блестят как сквозь слезы, словно
девушки, которые зимой смеются и плачут чистыми слезами. Млечный путь
уже виден и выглядит как широкий тракт, по которому разбросаны
цветочки.
В кладовке наша батрачка просевает муку и поет. Шелест муки
прорывается сквозь ее голос, она поет все тише и тише. А к ней тоже,
потихоньку, подкрадывается месяц. Сито падает, а девушка опускается на пол,
и месяц творит из нее себе прекрасную возлюбленную. Лижет ей алые
губы и черные волосы. Топчется по волосам, как по шелковой траве, и
впивается в пунцовые губы, как белый мотылек в алую розу. Батрачка
спит, и на тихую долю ее розовый цветок ложится.
А я стою, собираюсь писать Вам письмо, но еще хочется разбудить
девушку и сказать ей, чтоб шла спать.
Думаю о Вас, о письме, а девушка вскакивает, выбегает из кладовки
и шепчет: развелось тут этих мышей, будь они неладны, скачут по лицу,
как по току.
Будь мы здесь вместе, вместе бы любовались этой прекрасной осенью.
Я потому так долго не писал, что мне теперь не пишется. Не хочется
все черным мазать. Жду той поры, когда будем вместе. Пишите в Русов.
Ваш
[Сентябрь 1897 г., Русов] Василь.
ß. И. Морачевскому
Дорогой мой друг!
Должен Вам поведать, что тот орех солгал 1, но он не мог сказать
правду. Эта правда страшная, и она не под стать серебряному лучу, вместе
с которым орех посылал ее. Солнце дает людям только радость. А
картинка правдивая, но написана обо мне. Исповедовался я давно, а в моей
сердечной боли никому не признавался. Написал только картинку и дал
Вам, потому что только Вам мог дать.
История эта давняя. Я еще был в школе. Меня полюбила высокая
белокурая барышня. Я впервые узнал, что меня девушка любит. Радость
была такая, какой ни до того, ни после не бывало. Но я · не любил
барышню. Не любил потому, что сразу получил от нее письмо. Стал я то
письмо читать, и любовь стала исчезать, как если бы ее строчки одна за
другой сглатывали. И исчезла. То была лишь одна минута и притом самая
первая.
Теперь та барышня несчастлива. Однажды она причесывалась и я был
при этом. И она спрашивала у ореха, придет ли ее милый? Я ответил за
орех, что придет, но добавил, что орех должен так ей сказать, потому что
иначе не может, когда на него солнце смотрит. Скажи он правду, засох бы
следующей весной. А тот ее милый ходит себе, как ни в чем не бывало, и
о нем не стоит писать, у него ведь была всего лишь минутка, и та канула,
как камень в воду.
Я боюсь, не разбередил ли и Вам рану, но уж вы меня простите — я не
Избранные письма. 1897
199
знал, что и кроме меня есть люди, упустившие минутку. Еще три дня
просижу в Русове. Теперь готовлю к изданию книжку. Называется
«Осеннее»2. Рад бы видеть Вас здесь, чтобы почитать Вам. Чувствую,
что написал не так, как хотелось бы, да уж пропало. Напишите мне
открытку, какая станция ближняя к Рожнятову 3. Может, вышли бы на ту
станцию, я протелеграфирую, когда там буду. Очень уж хотелось бы Вас
увидеть. А может, в Станислав заглянули бы, вот был бы рай!
Завтра телеграфирую Вам, хочу знать, долго ли еще пробудете в Рож-
нятове.
Целую Вас.
[Начало октября 1897 г., Русов] Стефаник.
В. И. Морачевскому
Дорогой мой друг!
Я был еще мальчишкой, а он уже был женат1 и дружил со мной.
Мы вместе читали красные листки «Przedświt»'a и черную книгу «Z pola
wałki» 2. Мы тогда оба хотели вырвать корень людской злобы, а цветы ее
вышвырнуть в пустые леса и пустыни. Я был гимназист, он земледелец.
Я Василь, а он Федор. Я его учил, а он меня слушал, сверкая черными
глазами. Я говорил ему, что мы оба умрем в этой борьбе с людскою
злобой.
Мы разошлись.
В марте этого года он убил свою жену. Она упрекала его за то, что
о своем не заботится, а ходит по людям и толкует с ними о помещичьей
злости да о мужицких обидах. И она плакала, и дети возле нее плакали.
Он детей отослал, а жену убил.
Католический священник написал мне, что надо нанять Федору
адвоката. Священник дал деньги, и я дал. Но Федор получил семь лет тюрьмы.
Федор пишет мне из Станиславской тюрьмы:
«Я думал, что выдираю корни людской злобы, а выкорчевал свое
зеленое дерево. Стены серые, сырые. Семь лет меж серых, сырых стен.
Ты слыхал в моих горах шум орлиных крыльев на гладкой скале.
Орел, распростерши крылья, бьется о каменную стену, а ветер ускользает
меж них. Только нам слышно было, как он ускользал.
А ныне из-за серых стен доносится тот же шум, но страшно, страшно,
горько, больно. Слышать слышу, а гор не видно, одни стены.
Брат Василь! Подумал бы ты о моих детях, ведь я мать их убил.
Старшего зовут Василь. Позаботиться бы тебе, чтоб на него солнце светило не
сквозь мешковину груботканую, а сквозь тонкую рубашку. Помладше его
Ярина. Похлопотать бы тебе, чтоб рукава у нее были не гладко-белые,
а вышитые, чтоб ей девкою стать. А младший у меня Никола.
Приглядеть бы тебе за ним, чтобы у него рубашонка не была мокрой от слюней.
Чтоб не простужала ему грудь, была бы сухонькая.
Я ведь у них маму убил. У всех троих — и у Василя, и у Ярины, и
у Николы.
200
Дополнения
Как я ее ударил, из головы у ней выпал серый мозг. Верно, потому и
тюремный балахон на мне серый. Видел я когда-то сон. Я звонил в
серебряный колокольчик. Все люди слушали и радовались. Только мои дети
затыкали уши, чтобы не слышать. Страшно мне было.
Шагну шаг, а в голове: убил, убил. Стану — и снова: малых детей
сиротами оставил.
Семь лет я в сером балахоне, в серых, сырых стенах.
И хоть было бы кому сказать: засевай мое поле, собирай с него и корми
моих детей — я мать их убил».
Я переписал для Вас дословно текст письма. Как могу, забочусь о его
поле и его детях. Вместе с католическим священником, который говорит,
что Христос не винил бы его за его проступок.
Мне хотелось бы отхаркаться и плюнуть миру в' глаза. Мне
хотелось бы взять тех троих детей на руки и отнести их к гробу Христову.
Мне хотелось бы, чтоб люди смотрели на этих детей и совесть бы людей
замучила, а дети полетели бы на небо к маме. Вот мука!
Черная книга: «Z pola wałki». Вам одному посылаю это письмо
в письме.
[Ноябрь 1897 г., Краков] Василь.
О. К. Гаморак
Уважаемая подруга!
Ваше письмо потому неоткровенно, что в нем нет искренности. Все-
таки уголовного обвинения за то, что я интересуюсь чахоточными или
люблю их, мне предъявить нельзя. Это было бы то же самое, что
укорять кого-нибудь за то, что ему нравятся мрачные краски. К тому же я
никогда не изъявлял желания, чтобы все люди стали чахоточными, тем
более, чтобы ими стали мои близкие. Возможно, на меня чахоточные
производят большее впечатление потому, что они, попадая из-за своего
недуга на житейские свалки, в больницы, испытывают величайшую
сердечную боль, вынужденные бросать в грязь свои прекрасные жизни.
И этой своей стороной они привлекательны, как привлекателен камень,
летящий со скалы в пропасть. Грозный fatum * в них привлекателен.
Они герои, ибо знают, что приближается их конец. Такой груз нести
на своих плечах это больше, чем Сизифов труд! Стало быть, в таких
больных я вижу жизненный контраст, темную сторону жизни, и поэтому
они мне интересны, глядя на них, я больше дорожу жизнью, и хотел бы
видеть всех людей здоровыми. Вот я и очистился от Ваших обвинений.
Но это все же не так, потому что между строк есть еще какое-то гораздо
более капитальное обвинение, только Вы его не огласили. А искренность?
Даже и не будь в Вашем письме междустрочий, уже самые эти кавычки
над «учтивостью» заставили бы задуматься.
* Рок (лаг.).
Избранные письма. 1897
201
У директора1 мне было так грустно, так сердечно жаль чего-то, что
я едва выдержал. Я возлагал такие большие надежды, так ждал! А
вышло все иначе. Почему? Да потому что все складывается не так, как
человек рассчитывает. Поведай я Вам мою тогдашнюю печаль, Вы бы
сказали: если тебе было так горько, чего ж ты там сидел, бежать надо
было. Вот увидимся (об этом прошу), тогда и объяснимся. Хотя Вы
кавычками почти запретили мне Вам писать, но я пишу и на последние
деньги посылаю Вам «De profundis»2. Если книга Вам не понравится,
я куплю Вам другую. 10 января я уже буду в Русове.
Спасибо за фотографию.
Сердечно приветствую всех.
[Ноябрь 1897 г., Краков] Стефаник.
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
Я теперь очень тоскую по той поре, когда мы были вместе. Не
использовал я как следует то время — чувствую это и тоскую. Здесь я
ни с кем не схожусь, разве что иной раз с каким-нибудь социалистом,
но я их не люблю. Все они походят на людей, которые, с пафосом
рассуждая о человеческой беде, куют себе карьеру. А больше и нет никого.
Земляков моих здесь нет, я одинок, — словом, как Вы говорите, — вроде
бы среди людей, а на самом деле в лесу. Спасибо Вам за совет. Как
поеду в январе в Русов, заверну к Вам. А Вам тем временем счастливо
расположиться во Львове 1. Если хотите познакомиться с интересным и
неглупым человеком, то, как будет время, зайдите в редакцию «Зори» 2.
Там служит мой прежний директор Борковский. Правоверный народовец
с 60-ых годов. А то подождите уж меня, я сам Вас познакомлю.
Впрочем, для меня Львов чужд — как чужда мне кузница, где куют
отвратительные лакированные клещи, чтоб хватать панов, евреев и мужиков.
Просьба к Вам: где-то в Будапеште вышла книжка Pierre Luis
«Aphrodite»3. Если захотите купить книгу, купите эту и дайте мне
почитать. Здесь мне ее очень хвалили. И еще: напишите Ваш подробный
адрес. В нашем родном краю с письмами очень неблагополучно.
Сегодня у меня была большая радость. Вспомнилась мне прекрасная
история еще с детства. Шел, шел под серым небом и вспомнил солнце.
Я бегу за подводой и сбиваю пыль с дороги отцовским кнутом. Как
попадет на обочине чертополох, я его сшибаю под колеса, чтобы этого
лоботряса, который босые ноги колет, насмерть переехало. Отец ведет
волов, а я бегу за возом босой, простоволосый и без порток. Солнца
у меня было уйма, как в хате, выбеленной к христову дню. Ой, сколько
было солнца, света, тепла. .. А старая Ковалиха — ее давно уже нет
в живых — выбирала коноплю. Она дала мне яблоко, а я сбил кнутом
репей с конопли. Но вот из-за горы показались синие шапки с
блестящими пуговицами. Бабка Ковалиха кинула горсть семени »а землю и
пустилась к солдатам, и я за ней, за ней, без порток, бегу и кнут волочу
»а собой.
202
Дополнения
«А мой Иван тут, с вами?» — спрашивает бабка.
Солдаты идут и — ни словечка в ответ.
«Люди добрые, где мой Иван?» — все допытывается старуха. Ни
слова, идут да идут. Бабка Ковалиха из себя выходит. Плачет, кричит,
и я за ней, плачу и спрашиваю, есть ли меж ними Иван. Солдаты
шагают, а мы все за ними, за ними. Оббегаем их, как старая сука со
щенком отару овец, да плачем. Но тут я увидал у солдата на поясе
шашку с кистями—так и сверкает. Утер я слезы да хвать за шашку!
А солдат как расхохочется — ну, я напугался, бросил бабку и бежать
к отцу, даже кнут выронил. А отец и говорит — это солдаты на войну
пошли. Я потом весь день сидел возле отца и выспрашивал про войну.
А вечером не мог уснуть. Мама крестила меня и подкуривала волосами
бабки 4 Ковалихи, потому что та меня напугала.
Ваш
[Ноябрь 1897 г., Краков] Василь.
1898
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
Сел я в воскресение пополудни писать Вам. Буду писать долго, пока
не замучаюсь. Я не хочу быть для наших интеллигентов ничем — ни
светлой, ни темной волной. Не хочу. Я не буду опускать в грязь мою
тонкую руку, потому что за рукой пойдет и мое слабое тело. А Вы,
верное ошибаетесь во мне. Вы считаете меня прекрасным человеком, а я
очень нехорош. Вы верите, что я огнем и солнцем воспылаю, а я, видно,
только обманываю Вас. Любили бы Вы меня лучше без надежды, что
я кем-то стану. "Порой мне кажется, что Вы так меня и любите, а другой
раз становится больно, что Вы любите во мне то, что из меня выйдет.
А из меня не выйдет ничего! Вообще-то Вы, мои хорошие, не думайте,
будто я хочу, чтобы Вы любили меня, как мне хочется. Любите, как
хотите, только мне страшно становится после таких писем, как Ваше
последнее. Мне представляется, что я Вас обманул и обманываю, а я не
хотел бы Вас обмануть. Вас—никогда! Верьте мне, что это правда.
И прошу Вас, не пишите никогда ничего обо мне, это всякий раз для
меня мука. Такое письмо от Вас долго мучает меня. Потому что Вы
пишете, будто я хороший и добрый, а я не таков. Я бы Вам это
доказал, но боюсь, что то зло, которое я причинил людям, в моем
изложении станет мельче. Пусть это остается на дальнейшее.
Я Вас очень прошу не гневаться на меня и не смеяться надо мною.
Такие волны тьмы, так мало солнца, что я пропадаю от одиночества
ь темноте!
А теперь напишу Вам об одном человеке.
Избранные письма. 1898
203
Людям он ] никогда ничего не говорил. Самому себе говорил: я белое
облачко с золотыми берегами. Блуждаю по небу и оставляю позади
частицы себя. Выглядят они как белые лилии. Растут в синем небе, а ветер
их гнет и ломает. И через часок нет на небе ни белых лилий, ни белого
облачка, что их там насажало. Лишь синее небо морщится, как море
Или еще так говорил: Видно, жизнь мне вредит. Вот узнать бы
точно, что она вредит мне! Я бы вырвал ее с веселыми глазами, как
девушка бурьян из барвинка в воскресенье рвет.
Или еще так говорил себе: А что если я самая тонкая веточка на
дереве, на самом верху? Скорее всех цвету и скорее всех вяну. Надо
солнца подождать, что оно скажет, оно ко мне приходит раньше всех. . .
А потом ему уже и не хотелось говорить с собою. И он, понурясь,
искал конец песенки, которую маленьким мальчиком слышал от мамы..
Искал с веселыми глазами и теплом на душе.
Началось с того, что он с сестрой Марийкой погнал в поле овец.
Да, да, с Марийкой. Белая овца все лезла на чужую полосу. Он снял
поясок, и они оба с Марийкой стреножили овцу. Он все это ясно
вспомнил. А потом белая все оказывалась позади отары, а не впереди.
Должно быть, ей стало очень стыдно перед другими. А потом Марийка
пышивала рукава «в фасольку», фасольки вышивала красные, хвостики
синие, а меж рядами шила черным. Вот как хорошо все помнилось! А он
бегал распоясанный, свистел в зубчатые листочки и кричал на все поле.
А потом оба ели хлеб и творог, а овцы сбились в кучу—ну до чего же
приятно вспоминать все это!
После полудня мама возвращалась с поля — она носила туда обед
батракам. Марийка побежала к маме и потеряла иглу, а он запутался
в распахнутой рубахе и упал.
«Чего вы, как дурачки, бежите? Знаете ведь, что к вам иду».
Мама показывала Марийке, что та зря сплела три нитки, надо было
только две. А он лежал возле мамы и бил ногами в землю, как
жеребчик.
«Мама, ма, гляди—аист!» — сказал он. А мама поцеловала его в
голову и говорит: «Что ж это парень мой по полю распоясанный бегает!»
И подпоясала его своим плетеным пояском — окрайкой. А потом мама
ему пела:
Ой не коси, аист, сено,
В лугах росы по колено.
Пускай его чибис косит,
Что набекрень шапку носит.
— а дальше он не может вспомнить, да и от этого немного грустно. А
потом мама учила Марийку шить, а он учился петь «ой не коси, аист,
сено. . .» Так они и сидели и учились у мамы хорошо шить и хороша
петь. Позднее мама ушла домой готовить ужин. Марийка вышивала
фасольки, а он бегал за аистом, вымазался, как бесенок, и все пел аисту:
«ой не коси, аист, сено. ..»
204
Дополнения
Пел до самого вечера, даже охрип. А дальше не может вспомнить.
Ходит по комнате, вспоминает конец песенки и не может найти. Уж так
ему хочется до конца допеть! Ходит все быстрей и быстрей, ищет, все
ищет конец песенки. И в поисках этих проходят перед ним многие годы.
О, как их много! Он снова садится, понурясь, и глаза у него становятся
тусклые, невеселые. Нет конца у песенки! А его песенка все длится.
Пошел он учиться в чужедальние края. Забыл там или про себя хранил
мамины песни? Людям он их не пел.
Жил вдали от дома, жил да жил. А однажды приехал к маме.
«Мария наша умерла. Как умирала, все о тебе допытывалась. А мы ей все
говорили: приедет, приедет. А когда уж подступила смерть, заплакала
Мария по тебе и все говорила: «Ой, боже, сколько мы вместе с ним
овец пасли, а теперь он далеко, а я в гроб ложусь. Хоть бы через порог
поглядеть на него!» И он пошел с мамой к сестре на могилу. Там
дубовый крест и рута, и барвинок, и всякая трава. Мама села в головах,
а он в ногах. Ветер сдувал вишневый цвет и осыпал им могилу и
побелил маме волосы. Желтовато-белые цветочки падали и падали на холмик
и на голову маме. И ему казалось, что вишневый цвет сросся с
мамиными сединами и что ветер сдувает с того цвета на голове утреннюю
росу, а Марийка тихонько лежала в могиле и думала: он далеко, а я
вот в гробу. И он встал и снова зашагал по комнате и не искал больше
конца песенки. Думал: я на свете один-одинешенек, Марийка в могиле,
мама тоже туда собирается, вот и останусь я один-одинешенек. И тот
холмик могильный сплетался с недопетой песенкой, и с вишневым
цветом, и с росой, падавшей с цветов, и с белой овечкой, которую они на
лугу стреножили — сплелось все это в страшную беспредельную тоску.
И он снова понурился, и глаза наполнились тоской, а губы, верно,
шептали: ой, не коси, аист, сено. . .
Все, больше не пишу — стемнело. Примите душевно и то, что
написал. Истинная сердечная боль не в словах, а за ними, далеко за ними.
Напишите, да поскорее.
И будьте все трое здоровы.
[Январь 1898 г., Краков] В.
О. С. Маковею1
10.11.98 [Краков]
Глубокоуважаемый пан!
Посылаю Вам три маленькие работы. Если редакционный комитет
захочет напечатать их в «В1стник»'е — пусть печатает. Я знаю, что Вы
захотите. А если нет, то, пожалуйста, задержите рукопись у себя, я при
случае возьму.
Если пойдут в печать, прошу ничего не править, разве что
орфографические ошибки или заменить крестьянскую речь более противной, ли-
Избранные письма. 1898
205
тературной. Во всяком случае, не вставляйте никаких добавлений. Не
сердитесь за эти предупреждения, в «Праце» 2 из моих вещиц бог знает
что вышло, и все из-за чужих добавок. Еще прошу не читать все это
никому за пределами редакции.
Будьте здоровы.
В. Стефаник.
Coli. phyzicum. Kraków.
В. И. Морачевскому1
Дорогой друг!
Вы и прежде были печальны, и письма Ваши были такие же, но это
письмо печальнее всех. Не следовало Вам ходить по тем давним полям,
на которых Вы учились любить. Видно, они хорошо Вас приняли, видно,
травы шумели на них и напомнили Вам о счастьи. И стало Вам тоскливо
и грустно. На нашем лугу когда-то стоял кудрявый дуб. Это он
принимал у себя всех пастухов, он давал в обед тень косарям и скидывал
сухие сучья в костер ночами, когда мы коней пасли, и ветер
располагался всегда в его кроне, и орел там отдыхал, готовясь к дальнему
полету, — и весь луг привык на него смотреть и по нем узнавать, что
вокруг делается.
А потом бежал гром по небу, а дуб не хотел ему покориться, и
рассекло его надвое.
Выгнали ребята овец весною, вышли косари со сверкающими косами,
а дуба и не видать. И все по нем горевали, а больше всех — луг, он
теперь и не знает, что на нем делается. Только мужик порой
припомнит тот дуб, когда выйдет пахать с волами. Обломится у него плуг, ну
он и пойдет искать пень дубовый, чтобы вытесать колышек.
Напишите, когда будете в Сторожинце.
Ваш
[Февраль 1898 г., Краков] Василь.
О. С. Маковею
Краков, 11/111,98
Милостивый государь!
Получив Ваше письмо *, я думаю, что не следует печатать мои
вещицы. Искренне благодарю Вас за благосклонное письмо, хотя по
прочтении его мне как-то не по себе, хочется чмокать и почесывать шею.
Есть у меня дар наблюдательности и ничего более. Фонограф или
стенографист лучше записал« бы заседание совета общины. И лицо какое-то
у этих моих рассказов есть, да только в убогой одежке. Мне
представляется, что я подержанный фонограф, плохой стенографист и туалет
у меня не в порядке. Человек — не человек, машина— не машина — не-
206
Дополнения
что среднее между ними. Вы мне этого не написали, но по Вашему письму
мне так представляется.
Я готов согласиться, что мои рассказы слишком коротки, излишне
эскизны, слишком грубы, чтобы пойти в литературном журнале. Быть
может, они скорее нашли бы себе место в подвале какой-нибудь
политической газеты. Сырой материал — это недостаток. Но больше
никаких Ваших замечаний я принять не могу. Строением своим мои рассказы
не оскорбляют эстетики и искусства.
«Вечерний час» это пора, навевающая на душу всевозможные
воспоминания. Сперва они носятся, тают, как облачко в небе, потом какое-
нибудь одно овладевает человеком и держит его душу в тоске весь этот
час. Это картина без рамы, но — картина.
Рассуждают пролетарии «По дороге из города» о той жизни, что
прошла, о том, что и последние остатки ее вчера пропали. Говорят
о былом, о традиции и уже начинают перемежать действительность
фантазией. Это зачин сказки, либо сказка о благополучии. Может ли
искусству не прийтись по душе, что оно слышит три крестьянских голоса,
раздающихся в поле и творящих сказку? И уж так ли необходим тут
голос автора или описание ртов, произносящих слова? Разве искусство —
учитель гимназии? Или сошлись радные на «Заседание». Идет
дружеская беседа. Вырисовывается в этих разговорах и старый мужик,
твердой веры, и современный, кое-что прочитавший из радикальной
литературы, и трус войт. Вырисовывается надвигающаяся перемена, которая
через некоторое время поделит этих людей на лагери. Но все это еще
неясно, как неясны и самые идеи, прибывающие из города в село. Такие
заседания нынче идут по всему нашему краю. Вот я и хотел дать
картину такого заседания, а не историю воровки. Почему редакция советует
мне описывать воровку? Или нашему искусству именно теперь
понадобилась «Biberpeltz»? 2
А не шлифовал я потому, что, по правде говоря, у меня теперь нет
времени создавать изящные фабрикаты. Впрочем, есть еще и другая
причина, поважнее. Я считаю, что все эти эстетические округления
существуют для того, чтобы читатель быстрее их пропускал, либо для того,
чтобы не утруждать заплесневелый мозг никакой работой. Чтобы он не
мог даже раскусить того, кто сызмальства свиней пас, а потом лишь
вспоминает это уже в свете, далеко, уже став барином, чтобы не мог
распознать в нем мужицкое отродье.
Но кретины могут не читать, им все равно, что есть «Час», что нет
его.
Мне наши литераторы представляются очень несчастными людьми.
Они обращаются к своей публике, а она ни гу-гу, они подымаются до
пафоса, она и тут ни гу-гу! Вы, может быть, видели когда-нибудь
оратора, выступающего перед собранием, — он говорит, а зал не
воспринимает его слова ни на йоту. Он уже фальшивит, обескураженный
ледяным приемом публики, и речь его пуста, и не производит никакого
впечатления, и зал глядит на него исподлобья! Так и наши литераторы
обращаются к своей публике и стараются произвести впечатление. И полу*
Избранные письма. 1898
207
чается, как в «Душе» Кобринской: «О, несчастный народ, какой
страшный фатум висит над тобою!..» Вот это и содержится в новинках
«Д1ла», это и рекламирует депутат Окуневский, а за ним сотня
поповских дочек. Если мы хотим создать оригинальную и сильную
литературу, надо писать картины из крестьянской жизни объективно, без
прикрас. И хоть это будет сырой материал, да все-таки не декламация. Ибо
все, что слишком отделано, да еще из жизни нашей интеллигенции,
в среде которой ничего не происходит, переходит в декламацию. А в
крестьянской среде так много происходит, что оттуда и сырой материал
полезен. Эти замечания возникли у меня не потому, что моих рассказов
не печатают — рассказы, может быть, и в самом деле плохи, — а потому
что это подсказывает мой опыт чтения наших округленных сочинений.
Одно еще скажу Вам откровенно: тот, кто прочитает мои картинки,
получит эстетическое удовлетворение. Я буду писать сотни таких
рассказов, буду писать и повести, но не стану округлять их для публики.
Кто возьмется их одолевать, пусть ощутит всю их шершавость.
Неприятно одно — что в «Bîcthhk» я больше не смогу уже ничего
посылать, потому что стыдно стучаться в дверь второй раз. Будьте
добры, отошлите мне мои рукописи и примите благодарность за Ваши
советы. Разрешите мне при всякой надобности обращаться за советом
к Вам.
Ваш В. Стефаник.
Ä И. Морачевскому
Милые мои!
Хорошо, что Вы написали открытку. Я думал, Вы рассердились на
меня, и мне было очень горько. На дворе начинается весна, дай бог,
чтоб она принесла Вам много счастья. Но главное — чтобы Вы хотели
счастья! Когда говорят о ком-то — он счастлив, это сказки. Не сказка,
когда кто-то хочет быть счастливым! Совершенно необходимо желать
счастья. Надо не весело существовать, а хорошо жить! Жить, жить,
кричит весна и гонит меня вперед, разметав полы сюртука по ветру, чтобы
легче было гнать меня вперед.
Есть тут старик, который носит своему внуку еду на работу. Садятся
они с внуком на лестнице, и внук ест так, что сердце радуется, а старик
греется на солнце, ветер забегает в его седую длинную бороду и
колышет ею, как прошлогодней травой. А старик сидит и размышляет: вот
весна, а была зима, пришла, пришла весна все-таки. И собирает горшочки
и идет в свой подвал, и на каждом шагу повторяет себе: вот и весна
настает. .
Если бы люди принимали то, что дает весна! Тогда они не злились
бы на зиму, потому что после нее настает весна, не злились бы, что
придет зима, потому что перед нею весна была. Весна и солнце, а все
остальное — антракты.
208
Дополнения
Я к Вам выезжаю в пятницу вечером, а в субботу утром уже должен
быть у Вас. Только бы житейские будни не наложили своего запрета.
Рад бы увидеть Вас прямо сейчас! Пишите.
Ваш
[Март 1898 г., Краков] Василь.
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
Теперь только пришло Ваше славное письмо 1. Да поклонятся Вам
sa прекрасное слово и еще лучшее сердце все крестьянские нивы. От них
теперь, похоже, все отступились, одни солдаты возле них, да еще палачи.
«Земля дает белый хлеб, чтобы он лежал у шинкарей в амбарах, мы
даем земле соленый пот, чтобы хлеб рос.
«Земля хочет нашего пота, но не хочет разинуть пасть, чтобы наслать
мор и пожрать нас.
«Солнце на то и светит, чтобы с нас на землю больше пота
скатилось, а радости от его света нам нет.
«Утро выкатывается из-за края земли золотым талером, чтобы нас
гнать на работу, а у наших детей своими лучами, как раскаленными
прутьями разжигать голод в груди.
«Роса падает с неба, чтобы сквозь раны наши до сердца достать,
а детям въедается в тонкую кожу и пробивает раны, чтоб и у них, как
у нас, расчистить себе путь к сердцу.
«Дождь проливается из туч, чтоб хлестать нас по голому телу, чтоб
от нашего тела, как от голых гор, подымался пар. ..
«Конец нам всем. Где нам набрать дерева себе на гробы — леса-то
поют не нашу думу.
«Так съедим же весь наш пот, детей накормим белым хлебом,
выпьем всю водку да закусим, подожжем все пустые амбары, все наше
с собою возьмем.
«Только душ людских не станем брать — они не наши.
«Кого из нас бог любит, тот в траве сгниет, кто согрешит, того
собственное чадо пулей уложит, а самых счастливых будет пытать палач
и все их грехи на себя переберет. ..»
Он стоял вместе с другими и узнавал людей. Были тут из его села,
были и из других сел. Брали себе поесть и попить.
Крик: Грабеж! Спасите!
Прибежал офицер, чтобы увести их и уберечь от грабежа чужое
добро. Да только добавил солдатской лихости.
Он не слышал, лишь своих узнавал.
И никто не слышал, все лишь своих узнавали, тех, что из родных
сел.
Офицер больше не командовал. Стоял возле них.
Избранные письма. 1898
209
Глаза всей роты рыскали по толпе, искали своих, как дети ищут
ягоды в лесу.
Офицер думал о том, как он пустит себе пулю в лоб.
Толпа кричала: «Виват император и императорские дети! Император
с нами!»
Но офицер не слышал этих криков.
Ваш Василь.
«Синюю книжечку» я просил, но никто не посылает. Переведите
снова и дайте мне хоть прочитать.
[Июнь 1898 г., Русов]
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
Пришло от Вас письмо и фотография Юрчика и рукопись 1. Большое
спасибо. О фотографии люди говорят и я говорю, что только крылышек
не хватает. ..
«Еще бы такие крылышки беленькие, как волосы. . .»— говорят
матери, и глаза у них светятся материнским светом.
Письмо Ваше полно прелести и боли. Читал я его и припомнилось
мне одно переживание в родном краю.
Было у Ивана трое сыновей, и раздай он им свою землю, и он и
сыновья пошли бы в батраки. Потому он решил податься в Америку.
Собрались все, кто не хотел, «чтобы их дети кололи ноги на чужих
полях!» Собрались, как стая аистов на болоте перед отлетом. Беседа
шла острая, как нож, рассекала всю жизнь морем надвое.
А однажды приходит ко мне Иван, с лица весь чернозеленый. «Видно,
захворал я, все думаю да думаю, все себе голову ломаю. Стыдно перед
женой и детьми и перед нашими людьми. Нет, ей-богу, свихнулся я да
и только. Иду по селу и все, чисто все хочу запомнить.
На одной дороге по обочинам терновник, на другой вербы. А я хочу
все это запомнить, чтобы там на море или за морем встало у меня перед
глазами все село. Вот кругом воды море, море воды, а я поставлю на
эту воду село, и как поставлю, глядишь, и тоска моя отступится.
А стыдно мне, скажу я вам, потому что вот как увижу кустик терновый
или овражек, останавливаюсь и все запомнить хочу, а мимо люди идут,
а я вроде бы и ничего, вроде, работу себе подыскиваю. А детям и жене
так ни слова и не говорю — стыдно. . .»
Теперь Иван уже не хочет в Америку, хотя другие и выбираются.
«Фортиграфии в голове не пускают». Зато, когда через несколько лет
придет письмо из Америки о том, как другим там хорошо, сыновья
Ивана, которые станут батраками, будут бить старика-отца и вышибать
у него из головы «фортиграфии», но скорее вышибут из него душу.
Kocham cię, choć mię nie rozumiesz, kocham cię mimo łez, które wyciskasz,
Ί4 Василь Стефаннк
2/0
Дополнения
mimo bólu, który zadajesz najlepszym synom Twoim *. . . Этот конец Вашего
письма 2 будет концом Ивана, и я люблю его за это, как Вас.
Перевод «Синей книжечки» мне так понравился, что и сказать Вам
не могу. Боже, если б его можно было напечатать! Нельзя ли в «Ки-
rjer»e3, а? Сам вижу теперь, что получилось хорошо — эдакая
маленькая трагедия всех крестьян на свете.
Я сижу дома, иногда сам готовлю себе еду, иногда беседую за полночь
с мужиками, иногда мне кажется, что все меня очень любят, иногда
ощущаю в себе силу, в которой все боли и все утехи родного села, а иногда
охватывает тоска по миру широкому, и тут уж я хотел бы ухватить Вас
за полу и не отпускать. Горько мне тогда.
Сердечно приветствую вас всех.
[Июнь 1898 г., Русов] Ваш Стефаник.
О. Ю. Кобылянской1
Русов, 18.VI.98
Добрая наша пани!
Я боюсь, что поступил дурно. Мне теперь кажется, что Вам очень
трудно ехать, а Вы едете. Если Вам хоть чуточку несподручно, не
приезжайте. Я бы не хотел доставлять Вам неприятности. Один бог знает,
с какой радостью я слушал бы пение Крушельницкой2 вместе с Вами!
Вы бы сидели рядом, а Солоха так великолепно пела бы перед нами!
И я, сидя подле Вас, размышлял бы: и я не понимаю, и все, кто тут
вокруг нас «слушает концерт», не понимают, и сама Солоха не понимает —
одна только панна Ольга, одна лишь она понимает эти песни. Так бы
я размышлял, а Вы бы слушали, а я бы перенимал у Вас.
Нет, все-таки приезжайте. Крушельницкая не гордячка, и очень
обрадуется Вам, билеты недорогие, я буду Вас ждать, и денег у Вас хватит.
Напишите только, один или два билета покупать, и каким поездом
поедете, чтобы я Вас встретил. Только поскорей напишите.
Как приедете в Белелую, я провожу Вас по полю, потому что буду
очень близким Вашим соседом. Только бы Вы поскорей стали моей
соседкой. Я поеду в горы, но позже, а затем буду и у Вас в Черновцах.
Начал я писать это письмо еще до восхода солнца. В хате окна
плакали, лес перед окнами стоял как вкопанный — так было тихо. А теперь
уже и дети плачут и лес проснулся. Заспанные дети и ягнята собираются
на выгоне. Тут прибегают матери и приносят своим хлеб и сыр, чтобы
не проголодались на пастбище. Дети уговариваются, кто с кем «погонит».
Кто кого любит, тот с тем и гонит. Это сборище детей и овец длится
с полчаса, пока все не разберутся по компаниям любящих и не
разойдутся на пастбища по всем сельским дорогам. А солнце бьет их крас-
* Люблю тебя, хоть ты не понимаешь меня, моблю тебя, несмотря на слезы, которые
из-за тебя льются, несмотря на боль, которую ты причиняешь лучшим сынам твоим
(по ль ск.).
Избранные письма. 1898
211
ными кнутиками, кого по плечам, а кого в глаза. Но им не до этого, они
показывают друг другу, что мама дала «в поле». У кого к хлебу ничего
нет, тем остальные говорят: ничего, у нас хватит.
Я каждое утро смотрю на эти сборы и мне становится тошно.
Промелькнула та чудная пора, как один взмах пастушьим кнутом. А ведь
еще так недавно и я был с овцами на этом выгоне и искал там тех, кого
любил. Овцы мои погибли, мои товарищи теперь посылают своих детей
вместо себя. А моя подруга Варвара умерла, и вместо нее на выгоне ее
Николка. У него к хлебу ничего нет, потому что у него — мачеха, но ему
дают другие. Страх, как быстро ушло мое время!
Но в час, когда Вы ходите утром по саду и лелеете свое одиночество
и Ваши глаза улыбаются ему, я грущу, что не могу больше выбирать тех,
кого люблю, и что мои овцы пропали.
Будьте здоровы и тотчас напишите.
Василь Стефапик.
В, И. Морачевскому
Милый друг!
Большое спасибо за книжки. Вы, надеюсь, не сердитесь на меня за то,
что мало пишу. Не пишу я потому, что потерял волю. Горько жить, да
я еще и болею и не хочется докучать Вам грустными словами. Сто раз
начинал Вам писать и не кончал. Для писания, ей-богу, не гожусь. А вот
видеть Вас хочу. И непременно. Напишите, где будете на каникулах?
Если собираетесь за границу, я приеду во Львов до Вашего отъезда.
Я должен Вас видеть. Вы писали мне о Будзиновском 1. Я его все еще
люблю больше всех. Но мне очень горько, что ему пришлось кричать
на радикалов не от себя, а от Романчука 2, от попов, от редакции «Диа».
Нехорошо и некрасиво дудеть в одну дуду с такими «патриотами». Это
смерть для каждого хорошего человека. Пусть он кричит на всех, пусть
ему говорят, что он продался и «скурвился», лишь бы он выступал от
себя, потому что ему так надлежит. Мне грустно, что он не нашел себе
людей таких, как он сам, — остающихся самими собою. Придайте ему сил
оторваться от людей.
Я был в Коломые на концерте Крушельницкой. После концерта был
банкет с тостами. Говорила публика — не артистка.
Когда заговорил первый оратор, вся публика содрогнулась. Еще
хранила в себе мелодию и правду, еще глаза блестели, а содрогнулась,
потому что оратор стоял в позе ярмарочного зазывалы, а говорил слащаво,
как Омелян Огоновский3, и плаксиво, как поп, возвещающий о
поражении местного кандидата на выборах в сейм. Как он раскрыл рот, так вся
правда и сила покинула публику, и она, бедняжка, осталась в положении
читательницы «Д1ла».
А второй оратор повел речь о меньшом брате и заплакал. Все опустили
головы. И подняли их в тот момент, когда третий оратор крикнул;
тираны, распинающие нашу мать-отчизну!
а*
212
Дополнения
Была полночь, и накрапывал дождь. У входа сидели меньшие братья
с зонтиками для «господ».
— Ох, и поет же девка, пес ее маму!
— За деньги и я бы день и ночь пел.
— Болтай! Она как запоет, словно лес шумит. Там ей теперь вино
покупают, благодарят, и господа, и ксендзы. ..
— Подкрасться бы да стать у дверей, послушать. . .
— Окстись! Да тебя живо прогонят — не смердеть тут, мужичье,
а ну, марш!
Не знал бедный меньшой брат, что господа плачут над ним.
— Дождя бы, а то земля уж вся растрескалась.
— Земля как камень. Коли нас бог не порадует, впору торбы шить!
И умолкли, и уснули на камнях.
Пишите.
[Июнь 1898 г., Русов] Ваш Василь.
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
Мое письмо должно быть у Вас в среду — получили?
Недавно я вечером высунулся из окна. На западе чернела туча, с
востока ветер шумел. У месяца в синем небе стерся край, и вся земля была
усыпана серебряною пылью. Лес раскачивался, словно хотел себя укачать.
Белые хаты попрятались в овраги, как белые птицы от стрелков.
Мне захотелось отдать шумному ветру свой тихий плач. Легонько
накинуть черный покров на россыпи серебра. . . Казалось, так будет мне
славно.. . Я стал напевать. Потом отвернулся от окна и танцевал,
танцевал. . .
А потом я видел одну мать. У ней был один ребенок, один сын. Самый
красивый изо всех детей. Бывало, мать выйдет на улицу и нарочно
смотрит через окно, как сынок играет. Потом вбежит в хату и поет, поет,
а сама думает: кто на него глянет — засмеется. Так и пела...
Однажды ночью ребенок захворал.
«Ой, малыш, не хворай, ты-то, может, и поправишься, а я помру с
печали. . .»
Мальчик увядал, как конопля. Мать боялась оставить больного
сынишку и все ела, пила — «надо держаться изо всех сил».
Так шли недели. Мальчик таял на глазах. Мать держалась, только
глаза стали большие и блуждающие.
Однажды в полдень под окном стала нищенка с ребенком и заиграла
на шарманке веселую арию.
Мать вскочила, оставила больного сынишку и пустилась в пляс.
Шарманка играла, а мать плясала, дико вскидывая ноги.
На похоронах женщины говорили: ну что за мать, слезинки по сыну
не обронит?! А у матери были вовсе уже одичавшие глаза.
[Сентябрь 1898 г., Русов] Ваш Василь.
Избранные письма. 1898
213
О.Ю. Кобылянской
Русов, 14.Х.98
Добрая пани!
Такие карточки у меня для литературы1, но теперь пишу на них
письмо, потому что бумага для писем кончилась. А Вы уж примите, как
есть.
Ваше письмо я закопал. Когда мы с мамой перекапывали барвинок,
я его — на лопату и под куст! Оно причиняло мне боль, а главное — не
давало покоя, ну и не оставалось ничего другого. Не утаю, что погоревал
по нем малость — очень уж было славное, но там, пока я не поседею,
будет расти барвинок и напоминать о Вашем письме.
Хотелось бы мне нынче вечером поговорить, да не с кем. Много кой-
чего порассказал бы, да некому.
Несколько дней назад наше село провожало эмигрантов в Америку..
Зз селом — осиротевшие поля, меж полей — леса, погруженные в горькую,
смертельную боль, а за ними горы под синим дымом.
«Люди, минуем поля, пройдем леса, одолеем горы, перебредем море,
а вас уж нам не видать, — говорил старик-крестьянин, переодетый в
фабричное платье. И плакал. — Пойду через поля, как нищий с сумой, — и
он показал суму, — или как цыган с женой и детьми», — и показал на
жену и детей. И, плача, двинулся в путь. Осталась толпа народа, вся
израненная. Только что кровь из ран не текла.
В Трийце умерла у одного мужика жена 2, оставив ему двух девочек.
Некому было их обстирывать и причесывать. Однажды вечером мужик
пзял меньшую дочку на руки, а ту, что побольше, — за руку и повел на
Прут топить. Маленькую бросил в воду, а старшая стала просить, чтоб
не топил. «Ну, тогда иди одна домой и хозяйничай, а я иду в суд
заявляться. Пока я вернусь из тюрьмы, ты давно уж у корчмарей нянькой
станешь». И разошлись папаша с дочкой. «Теперь там страшно вброд
переходить, затянет в омут, хоть бы крест на том месте поставить»,—
добавил тот, кто рассказывал мне об этом происшествии.
Я с удовольствием пойду с Вами слушать цыганскую музыку. Подчас
она разрывает шелковую сумочку с жемчугами, а я, как насобираю
жемчужинок, так становлюсь богач-богачом. Вы остерегайтесь, а то и Ваши
моих рук не минуют.
Как-то я видел на выгоне мальчугана, кормившего овцу хлебом.
Обнимет ее за шею и просит: «на, на, да ешь, да ешь же...» Овца
не хотела хлеба. Мать мальчугана крикнула: «Дурачок, да овца не то что
хлеба, и сахара есть не станет». А потом мать беззаботно рассуждала:
«Вот озорник, как придет, так сразу: мам, хлеба!—и ведь от самого
срочного дела оторвет, а потом бежит овец кормить». И смеялась,
счастливая.
Лилия Ваша стоит в книжке — только что смотрел. Белая-белая.
А в мыслях она носится передо мной, как чайка в морском просторе.
Мне странно, что Морачевская ничего не сказала Вам о Белелуе. Мы
214
Дополнения
были там и Вас хотели взять с собою. Но вместо Вас взяли с собой
только одно огорчение, что Вас не застали. Не исключено, что я появлюсь
у Вас раньше, чем это письмо.
Спасибо за вести о Морачевских.
Будьте здоровы.
В. Стефаник.
О. Ю. Кобылянской
Русов, 20.Х.98.
Добрая пани!
Спасибо, что рассказываете мне о себе х. Я тоже буду так делать. Мне
очень приятно, что заслужил Вашу похвалу. Но я прошу, чтобы Вы
никогда меня не хвалили. Я еще не так много жил, но те, кто хвалил меня,
в то же время и резали меня тупыми ножами. Так что я, как слышу себе
похвалу, так чувствую и тупой нож в теле. Не хвалите меня никогда.
Один сын сидел подле своей матери. Рассказывал ей красивыми
словами чудесные истории. Мать забывала о своей боли, засыпала и видела
прекрасные сны. Так было каждый вечер. Дошло до того, что мать забыла,
что перед нею сын, а сын забыл, что рожден ею. Оба были невинными
младенцами в мире боли, сказок и фантазии.
Однажды сын повстречался со своими закадычными друзьями. Они
смотрели на него с сожалением, из самого сердца у них вырывался укор:
ты клялся вместе с нами идти, вместе пасть. Ты не пал, но не идешь.
Мы же идем к нашим мечтам — мы приветствуем их и за тебя...
Больше всего корили те, которым завтра предстояло остаться — не
пасть.
Сын пришел к матери и сказал: «Мама, я нарушил клятву!» — «Сынок,
нарушенная клятва разит сердца до двенадцатого колена!»
Матери стало больно, и ей больше ничего хорошего не снилось. Сын
ощутил укол в сердце и позабыл все свои красивые слова.
Там впереди — война, все грудью встречают железо, а тот солдат, что
искал воды для упавшего друга, остался здесь и почуял измену в сердце
своем. А еще больше, может быть, ощутил жалость к самому себе.
Барвинок зеленый. На осенней земле он выглядит как зеленый
курчавый ягненочек. Ветер играет кудерьками, и зеленый ягненок — просто
чудо как хорош! Когда мы с мамой пересаживали барвинок, мама пела:
Когда бы я знала, что сыму.т веночек 2,
Нипочем бы не сажала тебя, барвиночек.
Я был на похоронах, когда старый крестьянин хоронил сына. Мать и
бабы голосили. Отец и мужики молчали. Когда на гроб стал падать ком
за комом, отец сказал: «труд мой, труд!» Две слезы так через силу
скатывались по лицу, земля с таким грохотом падала на крышку гроба,
мужики так заревели, что каждому стало понятно, каков этот труд, как он
тяжек и страшен.
Избранные письма. 1898
2/5
Порой мне кажется, что я мечта на фоне своей изнуренной трудом
семьи. Они все горы сворачивают и смотрят на меня, как на мечту о
некоей райской жизни, которой им никогда не жить. Мне даже кажется, что
я мечта среди всей той жизни, что меня окружает. Я не способен
«стремиться к цели», я не способен «добиваться», я не способен быть
«общественным животным».
Когда смеркается, я смотрю в окно. Холодные хаты. В хатах беда и
немного радости. На печах дети и немного хлеба и много страшных сказок
и снов. Осень играет этим хагам на сухой листве, как бродячий музыкант
на ржавых струнах. Играет, чуть не плача, как тот музыкант, с
изодранными в кровь пальцами. И я слышу могучую музыку хат, детей, осени.
Как из гранитной скалы доносится просьба осенних сумерек: солнца,
солнышка дайте! И зеркало моей души покрывается рябью, словно пруд под
осенним ветром. Меня прохватывает дрожь, и хочется ухватиться за чью-то
твердую, не дрожащую руку. Я весь дрожу, как упавший с дерева лист,
На юбилей3 поеду — хочется посмотреть на всех земляков.
Во вторник было солнечно. Солнце пришло в сады, как мать к больны:;
детям. Под деревом сидел старик. — «Лето, дедушка!» — «Бабье, пане». ™
«Славно заткала паутина пашню». — «Скоро снегом накроет. Только
неведомо— может, и эту, или погодит еще?—спросил старик, сжав в
пальцах клок своих белых волос. — Солнце больному, как молоко ребенку», —
говорил дед, нежась под лучами.
Я раз двадцать собирался в Черновцы да все что-то преграждало путь.
Но в воскресенье или в понедельник буду у Вас наверное.
Будьте здоровы.
В. Стефаник.
Р. S. Посылая через несколько часов это письмо, я удивлялся, как
можно морочить голову людям, как я Вам. Полагаю, что обязан возместить
Вам убытки.
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
Я знал, что письмо от Вас придет. Мне предлагали Ваш адрес. Я не
принял и злился, что мне дают Ваш адрес. Да выпади мне хоть до самой
смерти ждать от Вас весточки, я бы не спрашивал адреса у других. Всю
осень я просидел, как коршун на скале. Засунул голову под крыло и ждал.
Чего ждал — сам не знаю. Ждал.
И вот дождался письма от Вас. Я был убежден, что Вы не сердитесь
на меня, и потому ждал с уверенностью, что получу.
О себе я нисколько не думал. Теперь дела мои обстоят так: после
польского рождества еду в Краков, а там что бог даст.
Готовлю книжку новеллок для печати. Как закончу, тут же и поеду.
Радуюсь, что есть издатель. Еще больше радовался бы, будь у меня
возможность напечатать книжку так, как хотелось бы, да не получится.
Но это пустое.
216
Дополнения
В те долгие осенние вечера я сидел один. И мне тогда пришло на
память одно воспоминание о маме. Когда-то давно я очень расхворался.
Знахарки не вылечили, молебны все были без толку, евангелие в головах
ничему не помогло. Но кто-то маме сказал, что одна бабка скупает
больных детишек и они выздоравливают. Мама долго искала эту бабку по
селам и нашла. И продала меня за два крейцера. И я выздоровел. Те два
крейцера мама бережет, и теперь, когда она сама чует приближение смерти,
говорит мне, чтобы я отдал их тому, кого больше всех люблю. Только чтоб
у себя, упаси боже, не держал этих денег. Так после маминой смерти
я Вам передам эти два крейцера.
А в те осенние вечера мне казалось, что их некому отдать. Мне было
грустно, одиноко. Передо мной вставала та старая, оборванная баба,
что явилась из серого мужицкого житья-бытья как богородица и спасла
мне жизнь. Она дрожащими руками держала меня, а беззубым ртом
развязывала платок, чтобы отдать моей маме последние два крейцера.
«Ты мой, сыночек, моим помрешь. Я стану на небе за тебя молиться, и
тебе на свете хорошо будет».
Одна моя мама уже умерла, другая собирается умирать, а меня уже
к себе взять некому!
Очень мне тогда было одиноко и грустно.
А теперь, когда Вы близко и отозвались, мне хорошо. Вы не горюйте
обо мне, я управлюсь. Или дайте мне работу. Я Вас послушаюсь. Только
не горюйте обо мне. Что бы я мог делать во Львове? Как? Напишите.
Я получил Ваше письмо только сегодня, бродил по Zabołocicy l. Если
найдется хорошая книжка, пришлите.
Я у Калитовских2 уже вторую неделю, мне здесь хорошо, спокойно.
Будьте все здоровы.
[Декабрь 1898 г., Трийца] Василь.
О. Ю. Кобыляиской
Добрая пани!
Не сердитесь, что я не приезжал и не писал. У меня за пазухой полно
неаккуратности, и мне не одно придется простить. Вот и простите.
Слышал я, что юбилей в Вашем городе удался1—слава богу. Слышал, что
театр посетили виднейшие персоны. Что ж, и это хорошо. Буковинская
Русь всегда отличалась богатством обстановки. Горы, леса, и все прекрасно
расположено.
Читал Ваш очерк «На полях»2. Он хорош тем, что и в самом деле
выдержан в тоне той мрачной сини, что окутывает наши поля. Вы умеете
писать так, что у меня после прочтения Вашего опуса глаза добреют, как
у ребенка, и я смотрю на мир и людей без капли злости. Все острия,
которые могли бы ранить людей, Вы оборачиваете к себе, все прямые линии,
вырывающиеся за пределы гармонии, пригибаете своими деликатными
руками. Я за каждым стихотворением вижу поэта. Когда я читаю Ваши
произведения, Вы смотрите на меня грустно и ласково, как богородица,
Избранные письма, 1898
2/7
у которой в сердце мечи, а на лице любовь ко всем. Если в моих мыслях
о Вас содержится что-нибудь для Вас неприятное — простите, это
я только плохо написал. Тут у нас в Трийце мужик утопил свою девочку
в Пруте. Старшая отпросилась, и он ее отпустил. «Не хочешь, так не
буду, а только тебе бы лучше было, а мне все равно терпеть, что за одну,
что за двух. Будешь бедовать, а потом станешь у корчмарей нянькой.
Иди вот по этой дороге до первой хаты, расскажешь там, как все было,
они и пустят переночевать. А потом попросишься, чтоб тебя наняли играть
с ребенком. Ну, ступай, а я иду заявляться в Коломыю...»
Девочка отошла, но через минуту отец позвал ее.
«На палку, а то пес какой ни то встретится, искусает, а так будет чем
обороняться...»
Так восьмилетняя девочка рассказывает о том, как она с отцом
расставалась. Я, вроде, писал Вам уже об этом, а теперь только дополняю,
что услышал от девочки. Отец был бедняк, и без жены, ну и не мог
управиться с детьми. Вот какие бывают преступники!
Я вдоволь хожу по полю. С горы видно все село. Как смеркается, ни
в одной хате нет света, разве что в печи. Там полчаса пылает большой
красный огонь, и потом все окна становятся черными. Тогда мне делается
страшно за мужицкую душу. Как она выдерживает эту тьму долгих
зимних ночей? Что думает, чему радуется, чем живет? Только ветер шумит
по лесам и спускается на кровлю и взлетает над нею, и страшно воет, так
что старики, которые не в силах заснуть, пророчат мор и войну.
Я в воскресенье еду в Русов, а оттуда через неделю в Краков. Боюсь,
не прогневил ли Вас чем-нибудь в своей «критике». Напишите, что нет.
Будьте здоровы.
[16 декабря 1898 г., Трийца] В. Стефаник.
В. И. Морачевскому
Дорогой друг!
Ваше милое письмо я получил и рад ему, и буду радоваться вместе
с мамой. Теперь я спокоен на всю жизнь.
В этом селе новость. Михайло утопил в Пруте свою девочку, а вторая
отпросилась. Пришел вечером домой и застал их на печи. Ждали так, что
все глаза проглядели.
«Папа, есть нечего», — говорит старшая.
«Ну и ешьте меня. Наплодила вас да и умерла, ей там все равно
в земле гнить, а мне смерть. Вон где-то крысиный яд есть, достал бы да
и накормил вас!»
Девочки затихли. Михайло сел у стола и задумался.
«Есть-то и верно надо. А хоть и накормил бы их, все равно зимой
померзнут, вши поедят. А ни одна за меня пойти не хочет, чтоб
приглядеть за детьми...»
218
Дополнения
«А то скажу господам, так и так, я человек бедный, жена померла,
сварить да причесать некому, ну и пусть меня вешают. Где ж такую муку
глядеть? Лучше их разом и меня разом!»
Взял меньшую на руки, старшую за руку и пошел пелем в дол, к реке.
Швырнул меньшую в воду, а старшая принялась просить: ой, папочка, не
топиге меня.
«Ну, раз просишь, так не буду. Только тебе лучше, а так пойдешь
к корчмарям в няньки- Ну, возвращайся в село, вон той дорогой все прямо
и прямо до первой хаты. Зайди в хату, скажи: так и так, папа Катрусю
утопил, а я отпросилась, он пошел заявляться в суд, а меня к вам
отправил. И просил поставить меня за ребенком глядеть. А теперь иди, да не
бойся».
Гандзя пошла.
«Гандзуня, на-ка тебе прутик, если пес погонится, ты его — прутиком!
Ну, теперь иди!»
Михайло перешел вброд Прут и зашагал в Коломыю.
Мы осматривали Гандзуню и слышали все это, и видели прутик. Она
все хочет, чтоб ее поставили за ребенком глядеть. А с Катрусей и с папой
все как должно, девочку это ничуть не удивляет.
Жаль, нет больше русалок. Катрусе было бы лучше, чем Гандзуне.
Таких историй в селах столько, что они пьют кровь как упыри. Все
это материал для репортерских «происшествий». Ой, до чего ж горько!
Пишите в Трийцу до воскресенья, а потом я еду домой. Скажите, Вы
будете на рождество? Я после рождества поеду и хотел бы побывать
у Вас во Львове. Или, если будете там и на рождество, я приеду тогда.
Напишите тотчас.
[Середина декабря 1898 г., Трийца] Ваш Василь.
О. Ю. Кобылянской
Добрая пани.
Я немного опоздал с письмом, но Вы простите. Рад узнать, что Вашей
маме лучше — у меня тоже мама больна. Нету краше красной маковки, нет.
родимей родной мамоньки.
Нечем мне Вас повеселить, а хотелось бы. Очень. Может, Вам одиноко
и грустно, может, тоскливо...
Есть у меня сосед Яков. Он каждое утро заходит, разыскивает окурки,
прячет в широкий гуцульский пояс и рассказывает, что ему снилось.
Сегодня он говорил: «Настанут, пане, другие времена, мертвецы снились.
Нынче ночью снился мне Павло. Встал из гроба, попрощался с людьми
и сам пошел обратно, лег в гроб. Это, говорят, у больших господ, у
баронов мертвецы сами сходят в могилу. Дают им к ногам такие пружины,
ну они и идут. Жена там или дети берут под руки и провожают. А правда
это, пане? Вы ведь поездили по свету... Мороз по коже — смотреть на
такого мертвеца. Ну да это все господские причуды. А настанут другие
времена, вот увидите!»
Избрапные письма. 1899
219
А горбатый Иван, сельский парикмахер, вчера в шинке совсем упился.
«Вхожу я в шинок, а Иван сидит на земле пьяный, пьяный, как ночь.
Взял, знаете, в кулак шистку и плачет: шисточка моя, надёжа моя,
серебро мое, за что только я тебя сую шинкарям в брюхо? Мария, женушка,
не кори. Я только две пропил, а три несу тебе, возьми, купи себе на
праздник — всего, чего душа пожелает. Ой, дети, ребятишки, чую уж, что
вас не увижу, тут мне и каюк. Ноги, ноги, несите меня к деткам
родимым...» Встает — не может, встает— не может. «Тут мне и аминь»,—
говорит, сложил руки крестом и помирает. «Ты, паршивец, гнида, свечку
не даешь, пускаешь душу без света, эх, да не будь я пьян, я б тебе
пейсы...»
Сельский полицейский хохотал, рассказывая мне эту историю. Я еще
в Русове. Еду только после рождества.
На сочельник заколядую Вам колядку — «Любезная панна, по имени
Ольга...». Вы слушайте, может, услышите наши голоса.
Будьте здоровы.
[Декабрь 1898 г., Русов] В. Стефаник.
1899
О. Ю. Кобылянской
Добрая моя приятельница!
Не пишете и не пишете, я уж боюсь, не прогневил ли Вас чем, не
обидел ли? Может, я обидел, но будьте уверены — не хотел. Нет, не хотел.
Л, может, какая печаль у Вас или боль? Дайте знать.
Ваших «Поэтов» х прочитал. Прекрасно и артистично. Фантазия Ваша
послужила причиной того, что я написал в «Bîcthhk» острую статейку
против нашей интеллигенции. Ваш вызов в конце: «в моей стране поэты —
нищие» очень взволновал меня. И в статейке я обратил внимание на этот
Ваш вызов и предостерег интеллигенцию, чтобы не доводила своих поэтов
до таких мрачных видов на будущее. Не знаю, отважится ли «Bîcthhk»
(его редакция) напечатать эту статейку. Издание-то филистерское и можно
ждать всего.
Что я делаю? Читаю, учусь и гуляю в одиночестве. Люблю стоять
с бедными детьми перед роскошными витринами магазинов и слушать
бессильные слова и видеть протянутые руки и грязные пальчики,
показывающие на игрушки, которых у них никогда не будет. На их изорванных
курточках мерцают отблески яркого света электрических ламп, "на
изможденных лицах запечатлен голод и детская беззаботность. Через несколько
лет они станут ворами, пьяницами и арестантами и не придут уже
смотреть на красивые витрины — будут бояться полиции. Но их дети будут
стоять под ярким светом витрин и т. д.
Люблю выходить в поле и глядеть на весну и вспоминать, как
я когда-то, маленьким, первый раз вышел с отцом пахать. Мама нас и
220
Дополнения
волов, и воз кропила свяченой водой и снаряжала в поле. Мне клала за
пазуху что повкусней, чтобы было чем полдничать. Вспоминаю, как отец
в полдень усадил меня на колени и радовался, что есть уже у него свой
погонщик. Вечером я смотрел на сестер свысока — я работник, погонщик,
а мама давала ужин и говорила: на что мучить мальчишку, у него, верно,
так ноги болят, что сил нет, — Василько, болят ноги? И в тот вечер
позволила мне идти спать, не молясь. Это давние грёзы, прилетевшие с полей,
синих, вешних, оставшихся далеко позади. И я хожу теперь и смотрю на
весну, но весны не делаю.
Вот так я хожу, так думаю. А Вы куда ходите и о чем размышляете?
Напишите и не сердитесь.
[19 марта 1899 г., Краков] В. Стефаник.
В. К. Гамораку1
29/ΙΙΪ—1899 г., Краков.
Дорогой товарищ!
Отлично, что Вам захотелось мне написать.
Беда, что Ваш сон — не сон, а явь, беда, что мужиков притесняют, но еще
большая беда, что все их жалеют. В особенности наши образованные круги
слова не скажут, чтобы не пожалеть «крестьянина». Порой и сон приснится
патриотический. Это уж такая мода и такая фальшь, а если не фальшь, то
такая ползучесть, что способна убить каждое молодое сердце. Нет у нас
ни одного интеллигента, который не жалел бы, нет ни одной души, чтобы
не жалела «простолюдина». Эта специфическая атмосфера жалости
выглядит как та березка, что и на материал не годна и на дрова нехороша.
Этот главенствующий у нашей интеллигенции глупо-жалостливый тон
лишает молодые души сил и делает из них калек и декламаторов.
Оглянитесь вокруг и вы увидите старых сентиментальных актеров, играющих
роль «мужиколюбцев». Играть роль — это и есть патриотизм.
И кого эта свора жалеет? Тех самых мужиков, которые, как циклопы,
движут на себе груз гнета, неправды и разбоя, которые, как дети, играют,
как шум ветра, поют, как их земля, рождают Шевченко, Федьковича и
Франко, лишь бы иметь своих поэтов. Эта сила еще не созрела, еще не
дошла до энергичных акций, но она дойдет. И надо любоваться ею, любить
ее или ненавидеть и искать в ней сил для бессильной души. Это наша
культура и сила.
И откуда взялась у нашей интеллигенции эта жалость? А они,
видите ли, барышкевичи2, homines novi *, которые сами бессильны, но
настолько фальшивы, что жалеют не себя, а других, настолько неискренни,
что свое бессилие скрывают под этой жалостью. Это такие маленькие
спекулянты, они дерут себе кто курочку, кто банкноту, кто шкурку или
* Новые люди (лат.).
Избранные письма. 1899
221
голос мужицкий на выборах, а сами липкие слезки льют. До крупных
барышников им еще далеко, вот и кривят душой. Это банда мелких барыш-
кевичей, которые сегодня выдают себя за мягкосердечных, чтобы завтра,
дорвавшись до денег, стать пятой на мужицкое сердце. И уж хоть бы
скорее. Пошла бы уже игра двух определенных сил, и не было бы над
нами этой слезливой мглы, поглощающей всю нашу молодость.
Вот я вижу на вокзале наших мужиков, едущих в Канаду. Масса,
которая движется, как во сне, в неведомую даль. Полно детей, женщин,
старух. И я не жалею их, потому что это большие, трудовые руки ищут
себе плуг, чтобы пахать. А все интеллигенты будут петь «Оскудела наша
доля» 3 и ничего не сделают, чтобы хоть дорогу им показать к этому плугу.
Половина ведь подохнет, но вторая половина будет пахать и за плугом
петь: «Волы мои родимые, чего же вы стали? ..»
Вот какие мысли прислали Вы мне с Вашим письмом, и я отсылаю их
Вам, как Ваши. Желаю Вам стать сильным и любить мужиков и не жалеть
их, хотелось бы, если еще возродится у нас радикальная партия, чтобы
все интеллигенты не покинули ее, как теперь, чтоб они были лучше и
сильней.
Мои новеллки уже напечатаны, теперь у переплетчика. Не могу
сказать, когда получу, но уже очень скоро.
Ваш
Стефаник.
К. Гам о раку[
8.VI.99 [Краков]
Достопочтенный и дорогой отче!
Над моим сердечным трудом, над «Каменным крестом», я поместил
Ваше имя, чтобы дать Вам малый знак своей к Вам любви и уважения.
За все Ваши благодеяния я не могу дать Вам больше. Примите малое за
великое.
Вы свою жизнь прожили среди таких мужиков, как Иван. Они, эти
мужики, были невинными детьми, земли вокруг было много, и они могли
что-то любить и носили полные пазухи светлого идеализма. Теперь они
ничего не смеют любить. Разве что хотят поесть да одеться, чтобы
поддержать живую душу. За этими низкими помыслами гибнет их идеализм,
либо уходит на самое дно души. Я его вынесу из глубины души на свет
божий и буду показывать как силу и спасение для нас.
Весь наш народ лежит теперь в муках, как женщина, рожающая дитя.
Надо эти страдания и судороги при рождении новых форм жизни и новых
идеалов вытесать на каменных крестах, ибо наша нынешняя эпоха —
великая эпоха рождения. Надо, чтобы придурковатая интеллигенция наша
заразилась этой болью и не могла бы спокойно есть свои котлеты. Надо
привести к тому, чтобы горькие слезы и кровавые крики народа хлынули
на всех наших хороших людей, чтобы они зажглись и горели, как
жертвенник перед богом.
222
Дополнения
Иван для меня то же, что и Вы, — такой же идеалист. И поверьте —
я не механически поставил Ваше имя над мужицким идеализмом.
Примите же мою работку так же благосклонно, как всегда принимали
меня.
Сердечно желаю Вам доброго здоровья.
Василь Стефаник.
В. К. Гамораку
Дорогой товарищ!
Спасибо Вам за письмо. Рад бы написать Вам что-нибудь
утешительное, но я уже не решаюсь. Вы еще так молоды, что примете полову как
зерно и не станете сердиться. Потому и пишу.
Вы заговорили об идеале человека. Таких нет. Надо обходиться без
них. Зато есть множество людей, которых можно уважать, и очень мало
таких, которых можно любить. Чтобы любить кого-нибудь по-настоящему,
надо обладать безумной отвагой и огромным сердцем. Обычно в любви
много пафоса и декламации, и тогда это любовь во фраке. А истинной
любви много и мало. Если собрать все те обломки прекрасных чувств, что
изо дня в день валяются у нас под ногами, можно было бы выстроить
большой дом — из кусочков. Каждый человек хоть раз в жизни заезжает
в этот дом. Но если приняться за поиски крепкой скалы, выкованной из
любви, можно странствовать всю жизнь и не найти ее. Людей, способных
нести эти скалы, так мало. Обычно они под гнетом любви превращаются
β калек. У нас только Шевченко любил страшно, беззаветно и
беспретенциозно. А вот Франко уже не то. Он воин, он не благословляет и не
прощает, а, надев железный панцирь, идет вперед. Я не могу Вам это сейчас
доказать, но Вы представьте Шевченко и Франко и уясните себе любовь,
оставляющую вечный след, и другую любовь, которая нужна каждый день,
как приправа. Труд, дела, заслуги, польза—это все преходящее,
минутное, рано или поздно все это пропадает. Когда мы станем сильным
народом, мы забудем все заслуги Шевченко, и останется только идеал человека,
любившего клочок нашей земли. Удивительный, притягивающий к себе и
далекий, как греющее всех солнце.
Вот и сыпанул я Вам рассудочного песку в глаза за Ваши искренние
слова. Но у Вас глаза еще здоровые.
Я был с Дашинским х в Буркуте и на Чорногоре. Вчера Дашинский
уехал, а я на той неделе тоже собираюсь домой. Здесь непрерывные дожди,
а в хате тоскливо.
Желаю всем вам доброго здоровья.
[Август 1899 г., Довгополе] В. Стефаник.
Избранные письма. 1900
223
1900
О. /Т. Гаморак
Краков, 28.V.1900 г.
Дорогая подруга!
У меня сейчас очень декламаторское настроение, и я хочу подеклами-
ровать. Вы знаете, что я подчас люблю становиться в позу человека,
готового за всех страдать и за всех болеть. Теперь уже глубокая ночь, а я,
как возвращался домой, думал вот о чем: почему бывают у меня такие
часы, когда я не могу махнуть рукой, чтобы не вспомнить чью-то больную
руку, не могу наклониться, чтобы не ощутить в пояснице чью-то боль, не
могу смотреть, не переживая чьего-то голодного взгляда и т. д. и т. д.?
Ну, поле. Сжатая, наполовину седая уже полоса. Бурьян еще зеленый,
но твердый, как камень, дикий. Квадратное поле.
Я вижу его перед собой. А по дороге идет старуха. Обыкновенная
старуха в латаной плахте — горботке.
Мне видны даже синие нитки и каемки, голубые заплаты.
И у меня разбаливается голова, и я спасаюсь тем, что веду старуху на
поле. Она должна идти на поле, а то голова у меня совсем разболится,
я очень волнуюсь.
Бабка сошла с дороги, стала на полосе. Мне смешно. Такая маленькая
старушонка — на самом краешке большого поля. Она снимает горботку.
Глядит вдоль межи.
Вглядывается натужно. А у меня глаза болят.
Есть тут ковыньки — кукурузные корни? Собрать бы полную горботку,
чтоб едва сходились концы. Чтоб плечи трещали!
У меня начинают болеть плечи, и я слышу шелест ковынек в горботке.
До чего ж противно, когда земля с их головок сыплется на пятки.
Есть ковыньки, старухины глаза увидали их. Бабка идет. Хорошо бы
побольше. По дороге попадается колос. Уже подгнивший, черный. Она
прячет его за пазуху. Ей жжет, колет кожу.
Я так волнуюсь, уф. Бабка идет и видит еще колос. Наклоняется.
У ней болит поясница.
А у меня режет в поясе. Еще один колос за пазухой.
Первая ковынька чуть залеплена грязью. Бабка оббивает ее об землю,
чтоб стряхнуть глину. Рука вяло болтается, как у очень измученного
человека.
Я не в состоянии нести палку, моя рука тоже вяло болтается.
Но вот идет полицейский, один, как перст. Выбьет у меня из головы
и бабку, и поле, и колосья, и ковыньки.
Только я вот терплю за эту бабку, а бабка, может, не терпела за
других, а может... Декламация нервов или новеллиста, собравшегося
написать новеллу. А может не декламация...
Будьте же здоровы.
В. Стефаник.
224
Дополнения
О. К. Гаморак
Дорогая моя подруга.
Очень рад Вашему письму. Хорошо, что Вы связаны со мной, хорошо,
что я не один.
Моя нервозность как будто проходит. А когда ее нет и возвращаются
силы, я снова подымаюсь и снова лечу в высоту. И слышу шум орлиных
крыльев над острыми поднебесными скалами, и чую одиночество орла и
высоту его. А вместе с тем чую всю несправедливость, разрывающую
людям сердца, и хотелось бы мне найти тихонькую замшелую церковку, где-
нибудь на забытой околице. Пал бы коленями на ее шершавые плиты и
губами своими раскалял бы холодный камень — так просил бы пощады и
милости для сердца, истерзанного в кровь. И еще чую в себе силу всех
развеянных в прах поколений и всех живущих, нужную на то, чтобы
искать счастья на земле. И чувствую, как по лицу у меня текут слезы
всех детей, которым не удается поймать солнце в ладошку.
И припаду я сердцем ко всем великим детским стремлениям и не буду
жить, как бог приказал — смиренно и спокойно. Я теперь уже набрался
упорства, чтобы не отступать перед смертью, потому что не боюсь
никакой смерти и никакого бога. И я смотрю на багровое небо сквозь сухие
ветви деревьев — они пишут на небе черными литерами мой конец, а я не
боюсь. И Вы не смейте бояться.
Виктор едет в четверг вечером домой, я выеду 13 декабря к Мартовичу
и побуду с ним немного, чтобы вспомнить хорошую пору, как был
маленьким. А на праздники буду у Вас или в Трийце. Потом буду в селе до
апреля, читать книги, готовиться по философии к докторату. Где это село,
я еще не знаю [.. .нрзб.] Пятерку я достал. Я здоров и мне хорошо.
Пишите!
[Декабрь 1900 г., Краков] Ваш В. Стефаник.
ofc_, л^^л.у ' "ψ f^f/O"**-* '■' "ιη ιηι' л:1 ..,„:■ \-.·.α —:—ν»
Л втобиография
Мой отец Семен и мать Оксана, а также сестры мои — Мария (она
была старше меня на два года) и Параска — и братья — Юрко и Володы-
мир умерли. Живы сводные, по мачехе, четыре сестры и брат. Жена моя
Ольга, урожденная Гаморак, умерла в начале 1914 года и оставила мне
троих парней: Семена, теперь студента университета, Кирилла и Юрка,
гимназистов в Коломые. Я остался вдовцом. Таково — в цифрах —
прошлое и настоящее моей семьи.
Я еще малышом знал из разговоров родителей, что пойду учиться.
Мой отец, зажиточный мужик, близко сошелся с местным помещиком
Иосифом Теодоровичем. Это был для своего времени хороший чеАовек,
друг крестьян, участник восстания Гарибальди и польского восстания
1863 г.1 Он и уговорил отца отдать старшего сына в школу. Основанием
было то, что мальчику очень легко дался «отче наш». С этими молитвами
была у меня и сестры Марии большая морока. Мать в будни тяжко
трудилась, и когда мы вечером пригоняли скот с пастбища, то сразу же
засыпали и к ужину нас не могли добудиться, а уж заставить нас повторять
за матерью вечерние молитвы и вовсе не было сил. И моя бедная мама
нашла такой выход: каждое воскресенье перед вечером говорили мы семь
длинных молитв, чтоб хватило на всю неделю. Стоять на коленях было
больно и после долгого торга мать позволила нам стелить на пол овчинку.
За молитвы мы получали в награду ломоть хлеба или кусок сахару.
И потом до ночи играли на выгоне с детьми. Такая была морока с богом,
но куда хуже было с чертом. У нас было много батраков, постарше и
молодых, и я жил с ними в крепкой дружбе, выносил им отцовского
табаку и все, что они просили. За это они рассказывали много сказок и
показывали места, где ночуют ведьмы, вурдалаки, являются мертвецы и
сидят самые настоящие черти.
«Ты только прикинься, что спишь, и жди, пока мама спать
соберется, — наверняка увидишь, как она в мисочках готовит чертям
несоленую еду».
Сам я никогда не мог дождаться, чтоб моя мама шла спать, потому что
всегда раньше засыпал, и ничего не видел. Мне жаль было маму,
опекавшую всякую нечисть, и непонятна была ее набожность, от которой у меня
так болели коленки. Но хуже всего стало, когда папа установил в риге
молотилку с конным приводом. Тут в риге наплодилась такая уйма чертей,
что ночами прохожие обходили наш двор подальше. Мне, малышу, стало
так тесно, что я и днем не мог сыскать место для игры — столько было
повсюду нечистой силы. В конце концов я расплакался и отважился ска*
зать маме, чтобы не кормила по ночам чертей, а то я со страху и на двор
не показываюсь. Мама рассказала все это отцу, он меня подробно
расспросил и обругал батраков за то, что так пугают ребенка. А я и в сельской
ажоле, куда меня отдали учиться, находил множество чертей, и мама хо-
15 Василь Стефаник
226
Дополнения
дила к учителю просить, чтобы он разъяснил ученикам, что в школе
никакой нечистой силы нету.
Лет через десять мы с Мартовичем ехали на вокзал в Залучу, чтобы
добраться поездом до Коломыи, где мы учились в гимназии. Вез нас Проц,
батрак, уже пожилой. Был вечер, и Мартович, как всегда, искал темы для
веселого разговора. Он стал рассказывать Процу, что мой отец, который
наверняка имел приятеля-черта, дал мне маленького чертенка, чтобы
служил мне и помогал учиться и обманывать учителей. Всю дорогу
Мартович подробнейшим образом описывал Процу характер, натуру и занятия
чертенка в дневное и в ночное время. С Мартовичем, как всегда, было
весело, и так мы, уже ночью, доехали до Прута, который предстояло
миновать вброд. Но тут Проц решительно заявил нам, что если мы оба перед
ним не перекрестимся три раза, он в воду не поедет. Мартович ревел от
радости, и нам пришлось креститься. Так что уж все наши товарищи
в Коломые знали, ко всеобщему удовольствию, как мы переходили Прут.
Ä * *
Из сельской школы в Русове я перешел в народную школу в Снятыне,
с восьми километрах от Русова. И уже тут ощутил величайшее презрение
учителей ко мне и ко всему крестьянскому.
Тут меня начали бить, хотя дома родители никогда меня не били.
Окончив в Снятыне 4-ю народную, я после каникул поехал с отцом сдавать
вступительные экзамены в Коломыйскую гимназию.
Мама потихоньку, чтобы отец не слышал, уговаривала меня не учиться
и таким способом вернуться назад домой. И доныне жалею, что не
послушался матери.
В большом зале первого класса польской гимназии в Коломые мы,
крестьянские ребята, заняли последнюю скамью. Наши одноклассники
в лакированных сапожках глумились и насмехались над нами. Когда же
учитель немецкого языка сказал мне: «Idź, mudiu, świnie paść»,* весь класс
захохотал. А преподаватель естествознания Вайгель бил меня указкой по
рукам за то, что я не смог дотянуться до рисунка, изображавшего гиену —
рисунок висел высоко, а я был еще маленький. Потом этот учитель своей
указкой поднял рубашку, которую я носил навыпуск, и показал классу мою
голую поясницу. Класс ревел от восторга, а я тут же вышел за дверь и
отправился на свою квартиру. У плетня сидела слепая нищенка Павлина,
она побиралась там весь день, а ночью моя хозяйка пускала ее ночевать
на кухню, — и я только ей одной поведал свою печаль, а она, чтоб утешить
меня, дала мне из сумы яблочко и еще несколько монет на конфетки.
Вечером она в кухне рассказала хозяйке, что со мной стряслось
в школе, они сразу написали моему отцу, чтоб приезжал, а отец, как
приехал, жаловался на учителей директору гимназии, а мне справил
господский костюм. Должно быть, сукно, из которого он был сшит, было не
первосортное, потому что я не мог стерпеть его запаха и очень высоко нес
Ступай, хам, свиней пасти! (полъск.).
Автобиография
227
голову. Когда я, уже переодетый, появился в классе, меня встретил
ураган насмешек, так что я едва дошел до последней скамьи. Ни до тех пор,
ни после никогда не переживал я большего стыда, и теперь мне кажется,
что, не отрави меня тот стыд, я вырос бы другим человеком.
От бабки Павлины я узнал, что поблизости от нас живет молодая
портниха, которая ни в бога не верит, ни господ не признает, только хочет,
чтобы все люди были равны.
Я и впрямь разузнал, где та страшная портниха живет, познакомился
с нею и немного побаивался: это была панна Павлик, сестра Михаила
Павлика, известная по скандальным для австрийского правосудия процессам
80-х годов минувшего столетия.
Несколько месяцев мне помогал учиться Иван Плешкан,
старшеклассник из соседнего села. Он дал мне почитать «Марусю»2 Квитки; из
этой «Маруси» я, кроме первых нескольких страниц, и доныне ничего не
прочел, хотя тогда схлопотал добрую оплеуху за го, что пренебрег ею.
Только в третьем классе я прочитал «Ревут ли волы, коли ясли полны?»3
Мирного и Билыка.
Во 2-м классе отец поселил меня на квартире у некоего Томаша. Я
сидел со своими хозяевами на кухне, а в двух комнатах жили какие-то
девицы. Я приносил им пиво и водку, а они давали мне конфеты. Когда,
полгода спустя, меня навестил, помянутый выше, Теодорович, он сразу же
забрал меня в свою гостиницу, а хозяйку квартиры отругал. Я лишь много
позже узнал, что жил в тайном публичном доме. И все-таки те несчастные
девчонки были ко мне добры, куда добрее, чем все учителя.
Еще в первых классах гимназии я близко сошелся с Лесем Мартови-
чем и Львом Бачинским. Мартович был необыкновенно талантлив. Уже
в 4-м классе гимназии он писал полные злости и насмешек стихи против
учителей и против бога. Бачинский же был спокойный, серьезный, и все
его слова точно отвечали его поступкам. Он и теперь, как руководитель
политической партии, остался таким же и принадлежит к числу самых
лучших ораторов среди галичан. Я, куда менее способный, дружил с ними
и принадлежал к тайному кружку гимназистов, собиравшихся в
предместьях, чтобы сообща читать рефераты и собирать деньги на новые книги и
журналы. Библиотека этого кружка состояла из 400 томов, в большинстве
это были украинские книги, но попадались и польские, и русские.
В 4-м классе гимназии мы на общие деньги приобрели два огромных тома
сочинений Глеба Успенского в оригинале. Не знаю, кто из моих
товарищей прочитал Успенского, но я два года с ним не расставался, и хотя
сразу понять жаргон его «Растеряевой улицы» было очень трудно, я
прочитал все, и он оказал на меня в гимназии наибольшее влияние.
Гимназия, кроме формального обучения и враждебного отношения
к нам, украинцам, не давала нам ничего. Мы замкнулись в свое тайное
содружество и, когда уже немного подготовились, стали по воскресениям и
в праздники читать рефераты в читальнях или основывать новые
читальни. В результате этой деятельности меня и еще многих прогнали из
Коломыйской гимназии, и в 7-м классе я был уже в Дрогобыче.
15*
228
Дополнения
Директором этой гимназии был известный украинский деятель
80-х годов минувшего столетия Олександер Борковский. Он часто заходил
к нам с Мартовичем на квартиру и, видя, кроме сочинений Франка и Дра-
гоманова, еще всю заграничную социалистическую прессу, диспутировал
с нами, стараясь выбить у нас из головы социалистические идеи.
Мать моего товарища по гимназии, пани Тигерман рассказывала мне
много об Иване Франко. Между прочим говорила, что такой светлой
головы нет во всей Австрии, что он мог бы уже давно стать министром,
если бы не социализм, к которому он пошел на службу. Тогда Франко
жил со своей семьей в селе Нагуевичах, под Дрогобычем. Первый раз
я увидел его с большим коробом под мышкой на рынке в Дрогобыче.
Через несколько дней я пошел в Нагуевичи и от пастухов узнал, что Ясьо
ловит в речке рыбу. Я с берега представился, и он позвал меня носить
за ним кошёлку. Рыбу он выхватывал руками, без всяких снастей, а как
наловил полную кошёлку, вылез из воды и мы пошли в хату, в большую
белую хату, прекрасно расположенную с просторными хозяйственными
постройками. На ужин мы съели много этой рыбы, после ужина он играл
с детьми и читал корректуру своего сборника рассказов «В поте чела».
Так я впервые увидал и познакомился с Иваном Франко, с которым
крепко подружился на всю жизнь и которого из великих украинских
писателей больше всего любил.
В 1892 году я сдал в Дрогобыче экзамен на аттестат зрелости и
в том же году выехал в Краков изучать медицину. Из этой моей медицины
ничего не вышло, поскольку я не любил самой науки и в особенности не
способен был терзать больных своим выстукиванием и ощупыванием. Там
я познакомился и подружился с Вацлавом Морачевским и его женой
Софией, урожденной Окуневской. Они приехали из Цюриха, оба
высокообразованные, и от них я набирался широкого европеизма. Они оказали
на меня в университете глубокое влияние. В Кракове же я сблизился
с нашим поэтом Богданом Лепким4 — едва ли не самым нежным
человеком, какого я в жизни встречал.
Из польских писателей и поэтов я ближе всего сошелся со
Станиславом Пшибышевским и Владиславом Орканом, с Выспянским, Каспровичем
и Тетмайерами5 я был близко знаком и встречался с ними в редакции
«Życia» 6. Кроме того, я принимал участие в деятельности польской
социалистической партии и сошелся близко с Игнацем Дашинским.
Из Кракова, после неудачи с медициной, я вернулся в Русов и с тех
пор живу здесь поныне.
С 1904 г., когда я женился на дочери моего друга Кирила Гаморака,
жил я до 1910 г. у моего тестя в Стецевой.
С 1908 по 1918 годы я был депутатом австрийского парламента, где
не произносил никаких речей, потому что парламентские выступления моих
клубных товарищей, за малым исключением, были столь скандальны, чта
я предпочитал молчать и стыдиться не за себя, а лишь за коллег.
Дважды я побывал на Украине. В 1903 г. в Полтаве на юбилее К©т«
ляревского, где познакомился с молодыми писателями. Второй раз я бых
Автобиография
229
в Киеве в начале 1919 года при Директории. Не знаю почему, но должен
отметить, что украинцы с Великой Украины мне больше по душе, чем
галичане.
* * *
Писать я начал очень рано, еще в гимназии, но огромный талант Мар-
товича просто парализовал меня, и я никогда не признавался, что я тоже
писатель.
В университетские годы мои маленькие очерки пропадали в
украинских редакциях Галиции. Только в 1897 г. Вячеслав Будзиновский первый
раз напечатал несколько моих мелочишек в газете «Праця». Остальное
читатели знают.
Да простит мне товарищ Иван Лызанивский, что своей биографией
я не могу заинтересовать читателей на Украине и что эта биография
чуть ли не больше всех моих сочинений, вместе взятых.
Я родился 14 мая 1871 г. и до сих пор написал очень мало, и если
Лызанивский прижмет меня к стене, то я в другой раз и об этом напишу.
Русов, 9 февраля 1926.
.Людлшла
(7/з воспоминаний о Лесе Мартовиче)
В конце прошлого лета обещал приехать ко мне в Русов мой друг Лев
Бачинский. В хате подбеливали стены и убирались, ждали гостя.
Вечером, когда стемнело, неожиданно пришла Людмила, младшая
сестра покойного Леся Мартовича,
— Пане Стефаник, не поможете ли мне лечь в больницу в Снятыне,
я очень больна, мучает ревматизм. Платить мне нечем, я совсем бедная.
И дала мне Certyfikat przynależności, mocą którego gmina Targowica
stwierdza niniejszem, że Ludmiła Krzanowska-Lewandowska, lat 46, rei.
gr.-kat, stan: wdowa, zatrudnienie: zarobnica — posiada w tej gminie prawo
przynależności *.
Добрые люди знают, что и без того на свете мало радостей, но этот
«certyfikat» и больная Людмила сильно расстроили меня. Много лет назад
эта zarobnica, младшая из детей Семена Мартовича рвала нам,
гимназистам, лучшие яблоки в их прекрасном саду. Беленькая хатка в три
комнаты с крылечком, пасека — хозяйство среднего достатка.
Глава семьи Семен Мартович был писарем в Торговице и в соседних
селах. Человек был умный и честный. Жизнь его сложилась оригинально.
Родился он в еврейской семье, потом появилась мачеха и выгнала
мальчугана из дому. Много лет он батрачил, сам выучился в людях читать и
писать, в конце концов его крестили и он постепенно вошел в среду
местных сельских хозяев, как равный. Купил — очевидно, не сразу, — около
15 моргов поля, женился на девушке с Буковины и жил мирно, даже
в достатке.
Старшая дочь его, Мария, вышла замуж за учителя Стефановича и
вырастила много детей, которые все принимали живейшее участие в
украинской жизни. Вторая сестра Леся Мартовича, Виктория, вышла за учителя
Новодворского.
Единственный сын Лесь учился в гимназии в Коломые, а оканчивать
ему пришлось в Дрогобыче, и мы трое, Лев Бачинский, Мартович и
я, проводили каникулы то в Торговицах, то в Серафинцах (у Бачин-
ского), то в Русозе у меня; я и теперь не могу позабыть того счастья,
какое приносили нам гениально-саркастические рассказы Леся Мартовича.
Лучше всего нам бывало в Серафинцах, потому что мать Бачинского вела
дом уже на интеллигентскую ногу.
Окончив гимназию, я поступил в Краковский университет, а
Бачинский с Мартовичем изучали право в Черновцах. После университета на-
Справка с места жительства. Община с. Торговицы сим подтверждает, что Людмила
Кжановска-Левандовска, 46 лет, вероисп. гр[еко]-кат[олического], семейное
подчинение: вдова, социальное положение — батрачка, приписана к данной общине (польск.).
Людмила
231
чались странствия Мартовича по адвокатским канцеляриям. Некоторое
время он редактировал во Львове «Громадський голос».
Бачинский приехал в Русов, пришла и приглашенная мною Людмила.
Сидим втроем, Мартовича замещает его сестра.
— Чего вы так поседели, пане Стефаник, а вы так сгорбились, пане
Бачинский?
Я махнул рукой. Это и был ответ на ее вопрос.
— Белая хата, бывшее жилище Мартовичей, развалилась, сад
вырублен, пчел нет, дети болеют. Изо всей семьи осталась я одна, — закончила
Людмила. — Брат и сестра тоже упокоились, так что нет никого, ни
спросить, ни словом перемолвиться. И хоть бы было на что поросеночка
купить!
Нам обоим бесконечно больно. Бачинский дает ей денег, мы обещаем
похлопотать об издании сочинений ее брата, чтобы раздобыть ей денег
на корову.
Боже мой! Неужели гениальный писатель, покойный Лесь Мартович не
в состоянии посмертно обеспечить свою сестру коровой?
Эх, вы, издатели и друзья, читатели и не читатели, читающая и нечи-
тающая украинская общественность!
ПЕРВЫЕ РЕДАКЦИИ
И ВАРИАНТЫ НОВЕЛЛ
** — vCy9/f>*:
Z&b
Провожали за село
Из сеней на двор высыпало много народа. Выходили печальные, как
от покойника.
Вышел из сеней и молоденький парншыка с обстриженной головой.
Все смотрели на него, и всем казалось, что падет эта голова в дальних
чужих краях на каменистый тракт.
За ним вышла мать.
— Идешь уже, сынок?
— Иду, мама.
Все бабы заголосили, услыхав, что сын матери ответил.
А у матери грудь разрывалась от слез. Так сильно она рыдала.
Сын подошел к отцу.
— Садись, сынок, а то на поезд опоздаем.
— Не уходи от меня, дитятко, на кого ж покидаешь
меня?—причитала мать.
Все подались к воротам. Мать стояла возле сына, прижимаясь своею
седою головой к его стриженой.
— Сынок, — спрашивал отец в воротах, —а кто же мне, голубчик,
кукурузку прополет?
Эти слова ударили собравшихся, как громом. Мужики заревели, бабы
залились в голос. Мать стояла около сына и держала в ладонях его го-«
лову, старик-отец мотал головой, а народ плакал.
На небе месяц наполовину за тучу ушел.
Потом все гурьбой шли через лес по сухой листве и вышли в поле.
Остановился рекрут и давай прощаться.
— Будьте здоровы и свои, и чужие. Коли чем кому досадил, то
простите.
Плач в чистом поле. Мать вцепилась в колеса и не пускала. Сын
с отцом оттащили ее и поехали на станцию.
Светлою ночью мать лежала на току и хриплым голосом причитала:,
— Когда тебя повидаю, да где повстречаю.. .
Первые редакции и варианты новелл 233
А тел
Юрчику
Народ оттуда валил валом, как, бывает, из церкви на престольный
праздник. Полно народу. Ну и она с людьми. Выходит на крыльцо, а там
столько всякого намалевано, что и глаз не отвести.
— Глянь, глянь — за ляжку схватил!
— Эн ведь зубы какие, и вола бы загрыз. Хоть бери ружье,
прицелься, бах по нём, да сразу и поминай, как звали.
— Ого, человека-то разорвал, упаси господи!
И впрямь боязно было глядеть на того медведя, что человека задрал.
Вроде бы намалевано, а страх берет. Еще хоть бы на одной только
картине, а то ведь картин-то много. На одной только гонится, а словно уже
и ее за вышитую котомку хватает, а на другой и медведь бежит, и
человек бежит от него, да, видно, не убежать тому человеку. А остальные
картины и того хуже.
Так стало молодой бабе жутко, словно у ней медведь брата зашиб.
Она уж отворотилась, чтоб не смотреть, а то еще, чего доброго и
ночью привидится. Но глянула в другую сторону, и словно камень
с сердца свалился.
На другой стене висела картинка, а на ней ангел, сам такой славный,
да еще и три розочки в руке.
И так приветливо он на нее смотрел, что ей сразу весело стало. Того
и гляди, расхохочется да и брякнет людям, что она картинок боится!
А сам розы ей протягивает, только что не говорит: возьми, коли даю.
Потом она сидела на возу. Расстелила картинку на сене и все глядела
на ангела, все радовалась. И лицо у ней все улыбалось, улыбалось и само
стало, как у ангела. Только роз красных еще не было в руках.
Пришла зима с длинными вечерами. Молодица сидела в светелке и
делала нз белой бумаги голубей. Головы позолотила, а крылья посеребрила.
Сделала десять голубей и украсила ими ангела. Но тут согрешила. Как
привязала их нитками к рамке, так и обрадовалась: пусть играет с ними,
он ведь еще маленький.
Шли годы, а ангел все так же приветливо смотрел, все улыбался.
И в хате было весело. Кто ни войдет, всем улыбается и дает розы.
А она все, бывало, показывала ангела детям: глянь, Василько, как
он тебе улыбается, глянь, глянь. И Василько улыбался ангелу, как ему
ангел.
А потом пришли внуки. Бабушка брала их в светелку и подносила
к картинке: а ну, доченька, глянь, какой славный ангелочек, видишь, как
он тебе смеется.
Раз маленький внук сам забежал в светелку. Залез на стол, скинул
рубашонку и глядит то на себя, то ла алгеда.· ^Бабуня, глянь, и я
такой же. . .»
234
Дополнения
— Да разве ты, сынок, ангел, вот, может, помрешь, даст тебе
богородица три розы, тогда уж и станешь ангелом.
А потом она так уже постарела, что и смерть близко подошла. Тогда
она вошла в светелку и стала отбирать: это — детям, это — внукам,
а это — себе на смерть. Сильно устала и села. Оперлась на руки и
смотрела на ангела. И так ей стало тоскливо, так тоскливо, что эх!
— Разлучит нас смертушка! — шептала старуха ангелу.
И ангел первый раз заплакал. Бабка как увидала, и сама в слезы,
а ангел плакал и плакал, как дитя малое.
Бабка больше уже не плакала, а он все плакал.
Одна-одинешенька
/Без заглавия]
Под горой у опушки стоит лачуга. Распласталась на земле, как
раздавленный жук. Оконца подошли бы жуку — малюсенькие стеклышки
в рамках.
В лачуге на стульчике старуха сидит. В руках у ней костыль втрое
длиннее, чем она сама. Шевелит старуха губами, а они не сходятся —
кожа сморщилась, как ремень в воде.
Так и цепенеет до полуночи. А в полночь просовывается в дверь
лошадиная голова и говорит: «славайсу».
— Навеки слава. Это ты, пашкуда? — зашепелявила бабка.
— Я. Принесла лопух увядший, завтра помрешь, — сказала голова и
положила лист лопуха возле бабки.
— А что старуха сказала?
— Сказала, чтоб ты папоротниковый цвет дала.
— Не дам, не дам. Еще порошок из него украдет. У меня вон есть
папоротниковый цвет, а и то на нет сошла.
— Придется дать.
Голова полезла на полку. Взяла платочек с цветом и скрылась за
порогом.
К утру старая знахарка умерла.
В селе все знали, что у ней побывала лошадиная голова, принесла
лист лопуха, а папоротниковый цвет забрала для самой старшей знахарки.
Первые редакции и варианты новелл
235
Портрет
/Без заглавия/
Д-РУ А. О.'
Казалось, над головой у него голубь белые крылья распростер. Но то
не крылья — то у старосты белые волосы.
Он сидел, понурясь, и смотрел на портрет. Это был портрет его
единственной дочки.
Смотрел и смотрел, а лицо все светилось, ну, просто материнской
нежностью.
«Далеко она от меня. . . Так давно уже нет ее рядом. . . Тоскливо
стало, как в тисках с тоски».
Вся его боль и мука издавна и до сей поры разбивалась об этот
портрет, как туча о солнце.
Смотрел и смотрел на портрет. . .
«Одна, вот и избалована. . . Встала бы мать из могилы да посмотрела
на нас. . .»
Одна, другая, третья слеза капали из глаз и медленно скатывались
в седую бороду.
Сколько мук в долгой разлуке!
Умрешь вот тут в кресле, один, как перст!
И он снова смотрел на портрет и печально качал головой.
Портрет улыбался ему.
«Нет, я не говорю, что избалована.
Смеется, и я с ней».
Он еще долго смотрел на портрет с улыбкой.
Дети
[Без заглавия]
Он шел с поля. С граблями на плече.
«Сяду, посижу. Домой придешь, велят корову пасти. А я уже ноги
едва таскаю. Переписал все на сына, а теперь слушайся, старина, а не то
сгинешь без ложки съестного».
Старик сел на межу и закурил трубку.
«Почитай, месяц не брился, а в церкви уж и не припомню когда был,
Охо-хо-хоньки!»
И он потер себе лоб в размышлении.
«Ладонь-то, как скребница, мало не покалечился!»
Руки и впрямь доконали его. Синие, дрожали, как в лихорадке.
Он глянул .вокруг — на межу, на тростники.
236
Дополнения
«Аисты уже в теплые края потянулись. О-осень».
На камыши один за другим садились аисты. Слетит аист на землю,
словно большая плахта упала.
«Птица — а умен! Станет худо-—прочь летит. Не как люди».
Аисты поднялись. Старик следил за ними.
«Осень уж совсем. А кто бы мне сказал, увижу я их, когда они из-за
морей вернутся? Должно, не увижу. . . Коли б еще по-доброму пошло. ..»
Он взял грабли и пошел в село, то и дело оглядываясь на аистов.
Подпись
Фотография с натуры
Случилось так, что у Якова Ярымова не стало хлеба. Как-то вышла
жена из чулана и сказала, что осталось в мешке на две миски да и все.
Яков подумал, поразмыслил и пошел просить сотню в ссудном
банк е.
Раз вечером сидело у Матия Щербы много мужиков, и Яков рассказал
им про свою беду.
«Пришел я, знаете, в этот банк, так и так, говорю, детям есть нечего,
прошу, пане, вашей и божией милости — дайте сотню взаймы.
— Земля есть? — спрашивает банкир.
— Есть, пане.
— А записана на тебя?
— На меня.
— Не заложена?
— Все чисто на меня записано.
— А долгов за тобой нет?
— Да не без того, но я с той сотней и на хлеб детишкам разживусь,
и струп этот сброшу.
— Что ж, принеси бумаги, пойдет на заседание.
Расспросил меня банкир обо всем, и принес я ему бумаги и
платежную книжку. Через неделю, говорит, приходи!
Ходил я раза три, наконец, говорит он мне, что решили дать деньги.
— А писать умеешь?
— Нет, ваша милость, — говорю, — в школу я не ходил, в солдатах не
был, так что совсем слепой.
— Тогда, — говорит, — придется тебе подписываться у нотариуса.
— Я уж, дозвольте, поставлю крестик, а вы подпишите...
— Нельзя, — говорит, — ставить на векселе крестики.
Одолело меня раздумье. «Это выходит — возьмут вступительный
взнос, отберут наперед проценты, да еще заплачу нотариусу за подписи
глядишь, и десятки как не бывало!»
Первые редакции и варианты новелл
237
— Ас кого ж и взять, как не с мужика-дуралея, — отозвался
Матий.
«— А вы погодите, дайте доскажу. Пустился я по городу за
поручителями, да встречаю сапожника Ляпчинского. Говорю ему, мол, так и так,
беру деньги в банке и должен идти к нотариусу подписываться.
— Мужик — дурак, — говорит мне Ляпчинский, — всю зиму гниет,
как колода, а свое имя и то подписать не выучится.
Выслушал я это и побежал за поручителями, за Иваном Калиной и
Романюком. Привел, подписались у нотариуса, и — подумайте, — из сотни
тринадцать левов сорвали».
— Ас кого ж ему и рвать, с пана или с богатея? Да ведь коли не
сорвет с мужика, так больше и не с кого! Богатей или пан знает, что
где лежит, не бойся. .. — снова не промолчал Матий.
«— Не забудьте, Матий, эти ваши слова. Ну, несу я эти деньги домой,
да все думаю про Ляпчинского. Нет уж, господи, боже мой,—ι подохну,
а свою фамилию выучусь писать! Надо же — ткнет пером в бумагу, что-то
мазнет там и «плати, мужичье, три лева!»
— Да уж это точно, что не надо нотариусу деньги совать. У него я
того, и сего, и вон энтого вдоволь, а ты отрывай ему от бедняцкой сотки,
чтоб не пошел с сумой. Ну, еще тому, кто служил в солдатах, кто
совладал хоть с грамотой, тем легко, а я коли бы взялся писать, то и стол
пером пробил бы. . . — говорил Петро Цикало.
«Подольше бы зиму, так и вы совладали бы. Я уж спрашивал
учителя, как бы это могло быть. Да, говорит, за два дня управитесь, только
глядите на образец и добивайтесь, только и всего!»
Тут Яков вынул карточку и показал образец. Потом вытащил
карандаш и клочок бумаги и принялся писать по образцу.
Все глядели на него, как завороженные, сбились над ним в кучу и
следили за каждым поворотом запачканного карандаша.
— Слышь, да ведь рука сомлеет!
— Ух, какую закорючку выписал!
— Ну, ну, глядишь и Яков на старость грамотеем стал. . .
— Яков, да ты ж теперь таких векселей понапишешь, что и хата за
долги пойдет.
Яков не обращал внимания ни на что, только писал да слюнил
грифель, писал да слюнил. Долгонько он помучился, но в конце концов
сварганил-таки подпись.
Все рассматривали его писанину и радовались, как мальчишки.
— Да вы, чай, думаете, я разумею, что там стоит? Написать-то
я написал, а прочитать — хоть глаз выколи, нипочем не смогу.
Долго, долго разглядывали мужики подпись Якова.
А через неделю сидело у Матия в хате с десяток хозяев. Самые
молодые, самые крепкие мужики. Склонились над длинным столом и писали,
списывали с образцов, каждый со своего. Стол так и прогибался под
широкими грудями. А вокруг ходила дочка Матия« По лавке ходила да
через плечи всем заглядывала, проверяла, так ли пишут.
23S
Дополнения
— А ну, доченька, глянь-ка, верно ли я вон ту закорюку пишу?
— А ну, прочитай-ка, что я написал?
— Павло Лазаренко.
— Аккурат я. Хорошо выучила!
Дотька ходила, поправляла и радовалась, что все пишут по ее
образцам и у ней спрашивают. А крепкие парни шумно хваля ее, брались
за грамоту кто как мог — одни во всю, другие туповато.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Вл. Россе лье
В ВЕРХОВЬЯХ ПОТОКА МЫШЛЕНИЯ
Проза Василия Стефанака
На рубеже XX столетия, в 1899 году, в небольшом провинциальном
городе Черновцах, на окраине тогдашней Австро-Венгрии вышел
тиражом в несколько сотен экземпляров напечатанный кириллицей маленький
сборничек прозы «Синяя книжечка», где на двух печатных листах
уместилось пятнадцать новелл. Автором на обложке значился Василь Сте-
фаник.
«Издатели этого сборничка не могли пожаловаться, что у нас книжки
„не расходятся".. . „Синяя книжечка" попала тогда в руки почти
каждого интеллигентного украинца. Все наши издательства стали охотиться
за Стефаником, чтобы купить или выманить у него хоть самый маленький
рассказик» 1. Это слова из воспоминаний первого публикатора новелл
Василя Стефаника в черновицкой газете «Праця» («Труд»),
поместившего еще в 1897 году в трех номерах своей газеты семь новелл
начинающего прозаика, которые сам автор скромно называл «картинки» (укр.
«образки»). Именно публикации Будзиновского создали
двадцатишестилетнему дебютанту-прозаику такую популярность, что еще до выхода «Синей
книжечки» в польской и немецкой прессе уже мелькали переводы стефа-
никовской прозы.
А ведь проза эта написана в значительной мере даже не на чистом
украинском языке, а на «покутском» диалекте2, герои ее — забитые
безграмотные мужики — жители покутской глухомани. Казалось бы — что до
них просвещенным читателям лейпцигской «Die Gezellschaft» или
краковской «Krytyka»?
А уж то, что началось по выходе «Синей книжечки» в самой Галиции,
и вовсе неслыханно. Так, скажем, львовская газета «Д1ло», перепечатывая
вышедшие в сборнике новеллы «В корчме» и «Катруся», поместила к ним
такое редакционное примечание: «Представляем тем из наших читателей,
которые еще не приобрели себе „Синей книжечки" и не знают способа
писания (как мы бы сегодня выразились — творческой манеры. — Вл. Р.)
Василя Стефаника, два его очерка, дабы они могли выработать взгляд
на этот новый талант в нашей литературе»3. Таких перепечаток было и
еще несколько. Переводы новелл в 1900 г. появились уже на четырех
1 Будзиновский Вячеслав. Василь Стефаник.— В кн.: Василь Стефаник в критиц1 та
спогадах. К., 1970, с. 284—285.
2 Покутье — южная окраина Галиции, нынешней Ивано-Франковской области УССР,
расположенная в междуречьи Днестра и Прута, вокруг города Куты. В говор« ее
жителей сохранились архаические черты украинского языка.
0 Цит. по кн.: Василь Стефаник. Бзблюграф1чний покажчик. Львов, 1961, с. 18.
В верховьях потока мышления. Проза В. Стефаника 241
языках: русском, немецком, польском, чешском. Если же добавить, что
на немецкий новеллы Стефаника первая переводила Ольга Кобылянская
(и «Письмо» было напечатано в «Die Gezellschaft» уже в 1899 г.), что
в выходившую под эгидой Максима Горького «Жизнь» их рекомендовала
Леся Украинка и они были там помещены в 1900 г. в переводе ее сестры
Ольги Косач, а Иван Франко уже в 1901 г. назвал Стефаника
«абсолютным властелином формы» и «быть может, величайшим артистом, который
появился на Украине со времен Шевченко» 4, если учесть все это, можно
с уверенностью заключить, что таким триумфом не начинал ни один
украинский прозаик.
Следующие два сборника — «Каменный крест» и «Путь», вышедшие,
соответственно, в 1900-м и 1901-м гг., содержали еще 22 опуса и,
встреченные столь же восторженно, только добавили молодому писателю славы.
И с тех самых пор, вот уже более восьмидесяти лет, в критике нашей
и ряда европейских литератур, можно сказать, почти непрерывно
обсуждается и анализируется феномен всепокоряющего воздействия этих,
казалось бы, непритязательных миниатюр, посвященных, собственно, одной
строго локальной жизненной сфере и притом начисто лишенных описа-
тельности, этнографизма, экзотики, орнаментальных красот — всего, чем
обычно привлекают любителей чтения рассказы из быта малознакомых
народов, к тому же не достигших «вершин цивилизации».
Что же это был за литератор, о котором сразу заговорили как
о классике? Благодаря каким факторам (помимо блестящего дарования,
о чем, естественно, не приходится и говорить) сформировался из
деревенского парня, уроженца захолустного покутского села, автор такой
поразительной книги, что она «и через полвека возвышается над целыми
горами произведений о крестьянстве и так волнует, будто ее родил не один
человек, а угнетенные бедняки всего мира?»5
Обратимся прежде всего к биографии этого и впрямь необыкновенного
человека. И начнем, пожалуй. . . с родословной.
I
Да, у крестьянского сына Василя Стефаника есть родословная,
прослеженная его другом и биографом Василем Костащуком, автором книги
о покутском мастере «Володар дум селянських» («Властитель дум
крестьянских»), Львов, 1959; 2-е изд., Ужгород, 1968. И есть в этой
родословной кое-что, проливающее свет на некоторые важные грани его
творческого и человеческого облика, помогающее многое понять.
Почти двести лет назад, в начале 90-х годов XVIII столетия в гали-
цийское село Русов приехал на белом коне совсем еще молодой казак-
запорожец Теодор (Тодор) Стефаник. Попал он туда не из самого
Запорожья, а уже из Килии, что в гирле Дуная, куда после разгрома Сечи
4 См. его статью «Из последних десятилетий XIX в » ρ журн. «Лггературно-науковии
вктник», т. XV. Львов, 1901, с. 128—130.
6 Ляшко Н. От переводчика. — В кн.: Стефаник Василь. Рассказы. М., 1947, с. &
15 Василь Стефаник
242
Вл. Росселъс
ι\ 1775 г. его вывез из Приднепровья отец, Лука. В Русове Тодору
понравилось, и вскоре он там поселился, договорясь с местными властями, что
ни он, ни его потомки-мужчины не станут крепостными — потеряют волю
только те из женщин, что выйдут замуж за крепостных. С Тодором
приехали еще двое его двоюродных братьев. Так осели в Русове запорожцы,
которых коренные жители прозвали, однако, «бессарабами», спутав юг
Украины, откуда они прибыли, с Бессарабией. Тодор скоро женился на
местной уроженке, народили они двенадцать, не то тринадцать детей, но
почти все были девочки — из троих младенцев мужского пола выжил
лишь самый младший, названный в честь деда Лукою, по-местному —
Лукином. Он появился на свет уже в начале XIX в. и ему суждено было
стать дедушкой Василя Стефаника.
Итак: первое: в роду у автора «Синей книжечки» — независимость,
воля, более того — казачья вольница. Прадед его, Тодор, превыше всего
ставил свободу, свято чтил память о запорожцах и гайдамаках, а когда
у Лукина родился первый сын, его, по просьбе деда, назвали Максимом,
в честь вождя гайдамаков Максима Зализняка.
И второе: судьбе, таким образом, угодно было, чтобы певец
обездоленного украинского крестьянства нес в себе в равной мере кровь
Приднепровья и Галиции, как бы символизировал собою идею воссоединения.
Да, кто знает, быть может и самой широтой обобщений, тем, что подняло
его прозу «над целыми горами произведений о крестьянстве», Василь
Стефаник обязан в какой-то мере изложенным выше обстоятельствам.
В качестве третьего напрашивается мысль о том, что отсутствие
этнографического начала в прозе Стефаника до известной степени можно
объяснить особенностями все той же родословной. . . Но на этот счет
подождем с выводами, эта проблема куда сложнее. Зато следующий, еще не
затронутый нами, период в жизни рода Стефаников не мог не оказать
на личность и взгляды Василя решающего влияния.
Дело в том, что дед его Лукин Стефаник пошел не в отца. Запорожец
Тодор крепостников ненавидел, сынок же его, еще учась в школе,
подружился с барчуками и, несмотря на противодействие отца, даже
забравшего его до срока из школы, держался и в юности господской компании,
а затем соизволением помещика стал русовским старостой и,
следовательно, по обычаям того времени и тех мест, полевым — «атаманом», как
их там называли. Отцовские воззрения Лукин презирал и к крепостным
относился с необычайной жестокостью. Целыми днями он разъезжал по
селу и полям на своем, — в отличие от отцовского, черном — коне,
вооруженный плетью, загоняя мужиков и баб на барщину. И «горе
непослушным или провинившимся! Как вихрь налетал он на коне к ним во дворы,
под самые окна; если ворота были заперты, он верхом перескакивал через
них» 6. Лукина в селе боялись и не любили, а жена, сосватанная ему
отцом, первая на селе красавица Мария Проскурняк, и пятеро сыновей тоже
были не на его стороне. И когда в 1846 г. крестьяне Прикарпатья
поднялись на борьбу с крепостниками, в семье Стефаников началось. . .
β Костащук ß. Володар дум селянських. Ужгород, 1968, ς. &,
В верховьях потока мышления. Проза В. Стефаника 243
Впрочем, то, о чем пойдет речь ниже, возможно, не более чем
семейное предание. Во всяком случае исследователи, приводя эти факты,
ссылаются не на документы, а лишь на устные свидетельства деда по матери,
Василя Проскурняка и еще одного свояка — Матик Стефаника.
А произошло вот что. Однажды летом 1846 г. по Русову разнеслась
весть, что на господской ниве бьют крестьян за отказ полоть. Мария
сразу же послала сына Максима верхом на поле, узнать, не бьют ли там и
их родичей. За ним увязался и второй брат, Лесь. Увидав, как мужиков
одного за другим порют, Максим попытался вступиться. Пороть сына
старосты побоялись, панский эконом всего лишь. . . стукнул его по голове
палкой. Но тут случилось невероятное: Максим и его родичи накинулись
на эконома, и тот был убит на месте ударом мотыги по голове. Убийц
гайдуки связали и отвезли в темницу. «Атаман», узнав о случившемся,
примчался на своем черном коне домой и в ярости отстегал жену арапни-
ьом, выбив ей глаз металлическим концом плети.
Следующие два года семья была Лукину чужой, а когда в 1848 г.
крепостное право в Галиции отменили и Максима с товарищами
выпустили из тюрьмы без суда, село встретило их, искалеченных пытками и
побоями, как героев, и только Лукина никто не поздравлял с
возвращением сына. Все его попытки помириться с односельчанами, задобрить
общину дорогими дарами — а он передал селу землю под церковь и под уп«
раву — не привели ни к чему: люди не могли простить «атаману» его бы*
лую бесчеловечность. И тогда осенней ночью 1848 г. Лукин повесился . .
Ну, предположим, это предание, допустим, что в жизни все
происходило не совсем так. Все равно, значение того, что клубок классовых про*
тиворечий разматывался не где-нибудь, а в родном доме, что история
самого рода Стефаников стала наглядной иллюстрацией важнейших
социальных катаклизмов, — значение всего этого для формирования такой
творческой личности как Василь Стефаник невозможно переоценить.
Да тому есть и неоспоримые доказательства. Самоубийство «старого
атамана», разъезжавшего на черном коне, с потрясающей силой изобра-
гкено в новелле, которая называется не как-нибудь, а «Бессарабы», и
герои которой носят именно это прозвище. Там же есть намек и на
запорожцев— прапрадед «бессарабов» воевал с турками, от него и пошел их
род.
В прозе Стефаника можно найти и еще не один отклик на семейную
хронику. Каменный крест, описанный в одноименном рассказе, поставил
на одном из своих полей Тодор Стефаник, и называли его в селе не
иначе, как «казачий крест». В одной из сильнейших миниатюр об
империалистической войне «Мать-земля» старики крестьяне, покинувшие было
свою землю на Буковине, в ужасе перед разорением, убийством,
насилием, решив все же вернуться в родные края, ибо «там бог благословит,
хоть и на виселице», запевают, однако, не букэвинскую, а казачью,
запорожскую песню. Перечисление примеров можно бы продолжить.
Словом, совершенно ясно — историю своего рода, а стало быть, и ее драмати*
чсские моменты Стефаник знал, творчески переживал и осмысливал.
Ну, а теперь обратимся к собственной его биографии..
16*
244
Вл. Росселъс
Родился он в семье Семена Стефаника, одного из зажиточных сыновей
«атамана», спустя 23 года после освобождения крестьян, 14 мая 1871 г.
Ко времени его детства и юности экономические последствия отмены
крепостного права привели в Прикарпатьи к ужасающим социальным
контрастам. Освобожденные, но оставшиеся почти без земли, жители
прикарпатских селений катастрофически нищали. Нужда усугублялась
растущим национальным гнетом. Правители Австро-Венгрии управляли
на Прикарпатьи в основном силами польской шляхты, которой
принадлежали и земли в тех краях. Поляки еще задолго до образования после-
версальской Польши были на этих землях привилегированной
национальностью. Государственным языком в Галиции был польский,
украинскими были только начальные школы, и преподавали там чаще всего
поляки. Государственная администрация состояла в большинстве из шлях*
тичей, они же, как правило, представляли галичан и в венском
парламенте. Иван Франко в 1889 г., характеризуя в одной из своих
политических статей положение украинцев в Галиции, писал: «Нация, которая
помирает с голоду, в которой 90 процентов людей не умеет ни читать, ни
писать и не имеет фактически никакой политической свободы, — такая
нация нуждается в хлебе, азбуке и конституции. . .»7
Василю Стефанику в 1889 г. было восемнадцать лет. К этому времени
он два года проучился в начальной школе в Русове, затем еще три года
в народной школе в Снятыне, а с 1883 г. занимался в Коломыйской
польской гимназии, которую ему через год, в 1890 г., предстояло покинуть.. .
за политику!
Это не преувеличение. Свою принадлежность к низшему социальному
слою этот мальчик ощутил уже в 9 лет, когда перешел в снятынскую
школу. Да, он был одним из немногих крестьянских детей, которым
отцовские достатки дали возможность учиться. И все же он был из
крестьянских детей. «Уже здесь в (Снятынской школе. — Вл. Р.) я ощутил
величайшее презрение учителей ко мне и ко всему крестьянскому, — писал
Стефаник много лет спустя в своей автобиографии. — Здесь меня начали
бить, хотя дома родители меня никогда не били».
Дальше — хуже. «В большом зале первого класса польской
гимназии в Коломые мы, крестьянские ребята, заняли последнюю скамью. Наши
одноклассники в лакированных сапожках глумились и насмехались над
нами. ..» А когда учитель биологии издевательски задрал своей указкой
рубашонку на мальчике, «класс ревел от восторга» 8.
Такова была обстановка. Но росла уже и волна протеста. В
коломыйской гимназии образовался подпольный кружок революционно
настроенных гимназистов-украинцев. Они читали социалистическую литературу,
русские книги, зарубежные издания украинских классиков, собирали
фольклор, вели пропаганду в окружающих селах, где постепенно
превращали созданные либеральными интеллигентами из «народолюбов»,
деятелями «Просвгги», читальни в центры демократической пропаганды.
7 Франко 1ван. 31брання TBopiß у 50-ти т. К., 1980, т. 27, с. 356.
8 См.: «Автобиографию», с. 226 нашего изд.
В верховьях потока мышления. Проза В. Стефаника 245
В тайной библиотеке кружковцев насчитывалось до четырехсот книг,
среди них множество «запрещенных».
В IV классе в этот кружок вступил и Стефаник. Ему было
пятнадцать, он запоем читал, а. с V класса уже самостоятельно выступал с
рефератами и участвовал в дискуссиях. При этом сразу выявилось, что он
прирожденный пропагандист. Уже в кружке он говорил так, что «его
взгляды становились взглядами всех» 9.
Тогда же, на гимназической скамье Стефаник подружился с Лесем
Мартовичем, еще одним будущим классиком украинской прозы. Вместе
с ним он принялся переводить «Анти-Дюринга» Ф. Энгельса. Обоих
подростков тянуло писать прозу, и начинали они это тоже вместе. Так, уже
в 1888 г. был написан рассказ «Нечитальный», который, хоть и
рассматривается традиционно как произведение Мартовича, создан при участии
Стефаника. Впрочем, скоро их литературные пути разошлись, очень уж
несходны оказались таланты: Мартович — прирожденный сатирик, что
и выявилось в полную силу в дальнейшем творчестве автора
классической повести «Суеверие», которую называют украинскими «Мертвыми
душами». Стефанику же с самого начала свойственно было повышенно-
эмоциональное, трагическое восприятие происходящих несправедливостей,
и он уже в 1890 г. написал первый вариант «Синей книжечки» — «Конюх
Антон», который, по свидетельству Дениса Лукьяновича, был помещен
в гектографированном журнале другого нелегального гимназического
кружка, действовавшего в Станиславе.
К этому времени он был сложившимся политическим борцом
радикально-демократического направления и дебютом его в легальной печати
стала публицистическая статья «Желудки наших трудящихся и читальни»
в журнале «Народ», руководимом Иваном Франко и виднейшим
революционным демократом Михаилом Павликом. Ну и пришлось в том же
1890 г. уйти из коломыйской гимназии. Правда, либерально
настроенный директор ее не выгнал Стефаника, и ему удалось «перевестись»
в Дрогобыч, где он и окончил гимназию, сдав на аттестат зрелости
в 1892 г.
Ему в то время исполнился 21 год. За плечами 14 лет учения, шесть
из них все свободное время уходило на чтение и пропагандистскую
работу. Острые жизненные противоречия, глубокие контрасты, изначально
поражавшие впечатлительного ребенка из рода Стефаников, в сознании
юноши обернулись ощущением трагической противоестественности того, что
творилось вокруг. И, вместе с тем, у молодого борца за права
обездоленных мужиков все крепче укоренялась убежденность в исполинской,
неисчерпаемой силе народа, помогающей ему не только выносить голод,
нужду и бесправие, но и сохранять волю к труду, достоинство,
способность познать и изменить мир.
А еще преследовало его неукротимое стремление приобщить к своим
трагическим переживаниям, заразить этой своей убежденностью как
можно больше людей. Не писать он уже не мог. Но друг его Лесь Мар-
9 Костащук В. Указ. соч., с. 28.
246
Вл. Росселъс
тович казался ему неизмеримо одареннее: «огромный талант Мартовича
просто парализовал меня, и я никогда не признавался, что я тоже
„писатель"»,— припомнит он много позднее в автобиографии. И еще
несколько лет он не решался печатать ничего из написанного, кроме
публицистики.
Жил он в это время уже в Кракове, учился на медицинском
факультете университета и параллельно проходил грандиозный курс
своеобразного «университета культуры» — поглощал колоссальное количество книг
по литературе, истории, философии, праву по меньшей мере на четырех
языках: украинском, русском, польском, немецком.
Помогали ему в этом новые друзья — прежде всего Иван Франко и
Михайло Павлик, с которыми он познакомился еще когда учился в Дро-
гобыче, вступив в созданную ими партию радикалов — наиболее
демократическую из бывших тогда в Галиции политических организаций. Первый
из них, уже в то время крупный литератор Западной Украины, остался
на всю жизнь не только политическим, ко и литературным наставником,
любимым учителем Василя Стефаника. А в 1894 г. выступление Стефа-
ника на вечере, посвященном 80-летию Тараса Шевченко, слушали
супруги Вацлав и София Морачевские: он — впоследствии видный ученый-
биолог и, вместе с тем, блестящий знаток польской и европейской
литературы, она — первая в Австро-Венгрии женщина-врач. С ними Стефа-
иику суждено было также подружиться на всю жизнь, и от них он уже
тогда, на университетской скамье, «черпал широкий европеизм», как он
сам выразился в помянутой выше автобиографии. Кроме того, учась
в университете, Стефаник сблизился с группой польских писателей,
лидеров только что возникшего направления «Молодая Польша» — Ст. Пши-
бышевским, Казимежем Тетмайером, Яком Каспровичем, Ст. Выспянским»
Владиславом Орканом.
И уже через три с небольшим года студент-третьекурсник смог
в письме к своей — тогда приятельнице, а впоследствии жене, — Ольге
Гаморак развернуть стройную концепцию современного литературнога
процесса в Европе, более того — предсказать неизбежность нового этапа
реализма в европейской литературе и искусстве, утверждая, что «натура»
лизм будущего будет отличаться от натурализма Золя» и что, когда
в искусстве появляются символисты и импрессионисты, «невозможно
говорить, как Золя, что это всего лишь детская игра в солдатики» 10.
Не случайно, что приведенные цитаты взяты из письма. От
«краковского» периода биографии Стефаника (1893—1901) до нас дошло около
270 писем — три четверти его эпистолярного наследия. Письма к друзьям
и были для него третьей (помимо публицистики и устной пропаганды)
формой самовыражения, в которой наиболее полно и свободно изливал
он не только мысли и чувства, рожденные наблюденным и пережитым,
но, подчас, идеи и устремления, складывающиеся у борца и художника.
Недаром он сам констатировал, что в его письмах «есть литературная
критика, есть сама литература, есть политические программы и философ-
См. письмо к О. Гаморак на с. 170 нашего издания.
В верховьях потока мышления. Проза В. Стефаника 247
ские проблемы» п, а исследователь его переписки С. П. Крыжанивский
характеризовал большую часть его писем, как «особую форму
художественного творчества», представляющую большой интерес «не только для
литературоведов, а и для самых широких кругов читателей» 12.
Можно лишь добавить, что для него тогда эта форма самовыражения
была органической гранью творчества, и сегодняшнему читателю, чтобы
воспринять цельность стефаниковского таланта и значительность его
литературной новации, просто необходимо прочитать наравне с новеллами и
наиболее совершенные из его писем. Вот почему около шестидесяти из
них включены в настоящий том. Они — неотъемлемая часть данного
литературного памятника.
Но к письмам Стефаника нам еще не раз предстоит обратиться, а пока
отметим, что в сознании начинающего литератора зрели и эстетические
факторы, которые побуждали его искать совершенно новые
изобразительные средства, позволяющие не только поразить трагизмом описанного
всех, кому доведется прочитать или услышать — от безграмотного
полуголодного мужика до рафинированного интеллигента, — но и пробудить
у всех живую негодующую мысль о типичности прочитанного или
услышанного, о трагической обыденности противоестественных поступков и
ситуаций.
Наконец следует подчеркнуть в биографии Стефаника момент,
который, как будто, до сих пор не привлек внимания исследователей.
Медицину Стефаник не любил и университетский курс так и не закончил,
решив, что врача из него не выйдет. И все же одна область медицины
оказала на него, по-видимому, влияние, как на художника. Эта область —
психология, входившая непременным компонентом в общий курс
психиатрии. Думается, что и это способствовало его устремленности к
психологической прозе, к художественному анализу поведения людей, доведенных
до крайности. Анализ этот безошибочен во всех, в том числе и самых
страшных, стефаниковских новеллах.
Так складывался творческий облик писателя, которому уже через
несколько лет суждено было стать лидером плеяды западноукраинских
новеллистов.
Вместе с тем росла популярность Стефаника как пропагандиста и
активного деятеля радикальной партии. В 1895 г. за агитацию в селах
Обертынского уезда он был арестован жандармерией и провел две недели
в тюрьме. Выйдя из-под ареста, он написал В. Морачевскому: «Со
вчерашнего дня я на свете. Сказали, что процесс возбудить нельзя, а мне
13 дней тюрьмы достаточно, чтобы и носа больше не показать на ту
агитационную стезю, откуда меня прогнали. Ошиблись — я уже вчера был на
собрании и сегодня пойду еще.. .» 13
Арест его не приструнил, однако напугал отца его, Семена Стефаника,
бывшего уже к тому времени русовским войтом — старостой и отнюдь не
11 Стефаник Василъ. Повне З1брання TEopiß. В 3-х т. К., 1954, т. 3, с. 15.
12 Там же, с. 22, 7,
13 Там же, с. 42.
248
Вл. Росселъс
разделявшего революционных воззрений сына. В наказанье отец лишил
сына-студента материальной помощи. Но и это, разумеется, не остановило
молодого борца. Его идеалом на всю жизнь осталось «идти в гущу
народных масс, учить их и учиться у них», — справедливо писал его
младший друг и биограф В. Костащук 14.
А последующие шесть лет в его жизни, наконец, занимает ведущее
место литературная работа. За эти годы — 1896—1901—им написано
тридцать семь новелл, составивших три первые его книжки, большой
цикл стихотворений в прозе (их при жизни автора почти не публиковали,
и дошло до нас только девять) и несколько переводов из русской и
немецкой прозы. Тогда же он пытался основать ежемесячник, где молодые
литераторы могли бы выступать с оригинальными и переводными
произведениями и критическими статьями, но на это не удалось набрать
средств. В этот период возникают у Стефаника широкие литературные
связи с коллегами в Галиции и в России. Среди его новых, пока, в
основном, заочных друзей и почитателей его таланта — Ольга Кобылян-
ская, Михайло Коцюбинский, Леся Украинка.
Между тем жить молодому человеку становилось все труднее.
Университет окончить так и не удалось. На это не хватало ни средств, ни
времени, занятого напряженной политической и творческой деятельностью,
ни здоровья, сильно пошатнувшегося в эти годы от нужды и бед.
ß 1900 г. скончалась после изнурительной болезни горячо и беззаветна
любимая мать и, вслед за тем, произошел разрыв с отцом. Все это
привело к тяжелой неврастении. Потребовалось длительное лечение, которое
только с помощью друзей-литераторов в конце концов удалось провести.
К общественной деятельности Стефаник возвращается лишь в 1902
году, в разгар крестьянских волнений, охвативших Восточную Галицию,
и в дальнейшем не прекращает политической работы вплоть до окончания
мировой войны. В 1908 г. его избирают депутатом от радикалов в
австрийский парламент. Он десять лет выполняет эти обязанности и, хотя не
обольщается насчет эффективности своего поста в деле защиты интересов
народа, однако делает все, что может. В своей округе «был Стефаник для
крестьян врачом, адвокатом и высшим судьей», — пишет его биограф15.
На крестьянских вечах не раз клеймил он угнетателей, а в парламенте
выступил в 1908 г. с гневным протестом против аннексии Боснии и Герцого-
вины.
На все это Стефанику еще хватало сил, а вот как литератор он замолк
на пятнадцать, лет и лишь в 1916 г. пишет «Случай с детьми» — первую
новеллу об ужасах мировой войны, на протяжении которой Галиция была,
в сущности, почти непрерывным полем боя, переходя из рук в руки.
К тому времени Стефаник остался вдовцом с тремя детьми, а ему
то и дело приходилось укрываться то от царских войск, то — после их
отступления — от австрийской военной полиции. И у той, и у другой
власти этот демократ был на подозрении.
14 Костащук В. Указ. соч., с. 27.
16 Костащук В. Указ. соч., с. 148.
β верховьях потока мышления. Проза В. Стефаника 249
И революцию в России, и развал Австро-Венгерской монархии он
приветствовал — крепла надежда на то, что земли украинские наконец
воссоединятся. Однако возникшая в 1918 г. в Галиции
Западно-Украинская республика, хотя и содержала в своем названии слово «народная»,
в сущности была буржуазно-националистической, а правительство ее —
не более чем марионеткой на службе у Антанты. Землю панскую
крестьянам не отдали, более того, силами созданной правительством «украинской
галицкой армии» усмиряли то и дело возникавшие в селах бунты, а затем
в апреле 1919 г. подавили разгоревшееся в Дрогобыче революционное
восстание.
За четыре месяца до этого восстания, в январе 1919 г., правители
ЗУНР включили Василя Стефаника в состав делегации на Украину. Им,
как справедливо пишет украинский исследователь, «нужно было автори-
° 16 Г*
тетное и популярное имя писателя для политических махинации» . Сте-
фаник поехал. Это было его второе посещение Приднепровья. Впервые он
был там в 1903 г. на открытии памятника Ивану Котляревскому, автору
«перелицованной» «Энеиды». Тогда он познакомился в Полтаве с М.
Коцюбинским, Панасом Мирным. И вот он снова на Украине, в Киеве. Но
Киев захвачен Петлюрой. . .
«В Русов он вернулся бледный, изнервничавшийся. О своей поездке
говорил скупо и сдержанно.
Когда его спрашивали о новостях, на лице писателя отражалась
боль:
— Это не та Украина, которую я столько лет мечтал увидеть» 17.
И только в 1920 г., когда Красная Армия, отражая наступление бело-
поляков, приблизилась к Галиции, Стефаник по-настоящему радовался и
говорил своим друзьям: «Наконец пропадут наши паны», — впрочем,
снова имея в виду уже не только украинских, но и польских панов: с
середины 1919 г. Галиция вновь была оккупирована белополяками. Увы,
и эта надежда тогда не оправдалась. Власть польских панов утвердилась
на землях Западной Украины еще на целых 20 лет, до самого 1939 г.
Для Стефаника начались тяжелые времена. Новой власти он не
покорился и не упускал ни одной возможности выступать перед мужиками.
Печататься, — а он уже вновь писал рассказ за рассказом,— становилось
все трудней. После вышедшего в 1917 г. во Львове переиздания сбор
ника «Дорога», ему до самого 1926 г. не удавалось выпустить на родине
новую книгу «Земля», а из вошедших в нее восьми новелл отдельно
печатались только четыре («Мать-земля», «Мария», «Случай с детьми*,
«Нянька»), да и то подчас в глухой провинции. Так, «Случай с детьми»
был опубликован впервые в «Буковинском православном календаре»,
а «Нянька» в «Учительском календаре на 1922 год», вышедшем в
уездном городке Коломые. Позднее, при жизни автора, на Западной Украине
появилась только одна еще его книга — однотомник, подготовленный юби-
16 Микитась В. Л Правда про Василя Стефаника. К., 1975. с. 30.
17 Костащук В. Указ. соч., с. 161.
250
Вл. Росселъс
лейным комитетом по празднованию 60-летия писателя, но выпущенный
лишь в 1933 г.
Между тем материальное положение семьи все ухудшалось, здоровье
Стефаника — также. В 1924 г. у него развился артериосклероз, и далее
он уже почти безвыездно жил в Русове, где снова писал, писал.. .
И тут помощь пришла с Советской Украины. После Октября первая
книга Стефаника там вышла уже в 1919 г., а начиная с 1924 г. сборники
его рассказов выходили ежегодно (в этом году в Харькове издано было
собрание его новелл, включавшее впервые всю прозу, написанную им
к тому времени). С этих пор наладились связи его с советскими
писателями-украинцами, с творческими организациями. В 1927 г. правительство
УССР, отмечая тридцатилетие творческой деятельности писателя,
назначило Стефанику персональную пенсию. Юбилей его был широко отмечен
на Советской Украине и в России. Наркомпрос Украины пригласил
юбиляра посетить Советский Союз. Правительство Пилсудского не
разрешило Стефанику поехать. А он, растроганный и взволнованный до
глубины души, опубликовал во львовском журнале «Cbît» письмо, в котором
заверял, что если б осуществилась его мечта свидеться с друзьями из
Советской Украины, он встречал бы их всех, «как бедные люди
встречают ясное солнце» 18.
Но мечте этой не суждено было осуществиться. В 1930 г. Стефаника
разбил паралич, и последние годы жизни он провел в неподвижности,
хотя не переставал трудиться и как общественный деятель, и как
писатель, диктуя свои выступления и свою прозу сыновьям. Он сумел создать
еще двенадцать новелл и несколько мемуарных этюдов, последние
из них датируются 1933 годом. В начале 1936 г. его постиг второй удар,
и 7 декабря того же года Василь Стефаник скончался. На похороны
собрались крестьяне изо всех окрестных сел. . .
Умер Стефаник признанным классиком мировой прозы. Новеллы его,
еще при жизни автора переводившиеся на многие языки, с тех пор
неоднократно издавались и доныне издаются у нас и за рубежом, без его
творческого влияния невозможно представить себе развитие не только
украинской, но и польской, немецкой, австрийской, чешской новеллистики
двадцатого столетия. Уроки его прозы, исследованной за последние
полвека во множестве книг и статей 19, до сих пор привлекают внимание
ученых, возбуждают споры, и, разумеется, в изложенной выше
биографии его затронута лишь социальная основа, обусловившая важнейшие
черты его художественного метода, да еще содержатся, — пожалуй,
чересчур скудные — упоминания о неизменном на протяжении всего твор-
Стефаник Василъ. Твори. К., 1964. с. 475.
Главные из них, вышедшие на Украине: Коряк В. Селянський Бетховен. Харьков,
1929; Крижатвсъкий С. Життя i творч1сть Василя Стефаника. К., 1950;
Бандура О. Василь Стефаник. Львов, 1956; Костащук В. Володар дум селянських.
2-е изд. Ужгород, 1968; Лесин В. Василь Стефаник — майстер новели. К., 1970;
Жук Н. Його новели — як найкрашД народш nicHÎ. К., 1971; Микитасъ В. Правда
про Василя Стефаника. К., 1975; Погребенник Ф. Василь Стефаник i слов'янсью
л»тератз'ри. К., 1976.
В верховьях потока мышления. Проза В Стефаника 251
ческого пути Стефаника материале, о тех самых «стефаниковских
мужиках», которые под этим прозвищем и утвердились в статьях и книгах
о покутском мастере.
Но в чем же сущность этого метода, позволяющего с предельной
убедительностью повествовать и о событиях чудовищных, невероятных?
Естественно, не повысив голоса, сообщать о противоестественных
поступках?
II
А поступки некоторых героев Стефаника в самом деле
противоестественны. Вот отец, доведенный нуждой до непреодолимого желания
убить собственных детей, чтобы избавить их от безысходности
медленного умирания с голоду. Он убежден в объективной справедливости своих
действий. Уже утопив маленькую дочурку, он ласково уговаривает
старшую, что утопленнице будет лучше, чем ей, оставшейся в живых.
Новелла, где об этом рассказано, называется «Новость» и начинается
фразой: «В селе передавали новость, что Гриц Летючий утопил в реке свою
девочку». Понимаете — ничего особенного, ничего выдающегося, просто
очередная новость в селе.
Но ведь такую «новость» и рассказать надо так, чтобы вопиющий
контраст между чудовищностью случившегося и заурядностью таких
происшествий в быту целого социального слоя выступил перед читателями
обнаженно, не заслоняемый никакими лишними подробностями. Так,
в силу художественной необходимости, закономерно определилась
важнейшая черта стефаниковской поэтики — предельная краткость и
насыщенность повествования. Сам Стефаник однажды иронически назвал себя
«фразесовичем»— фразером. Между тем в его тексте каждая фраза
несет поистине огромную нагрузку. И, разумеется, не только
информационную, но и эмоциональную, образную, ассоциативную. А собравшись
вместе на пространстве двух-трех страниц текста, эти фразы доводят
читателя до высшего предела сопереживания.
Утопив младшую дочку и отправив назад в село старшую, которая
«выпросилась», герой «Новости» идет в полицию «заявляться».
«Гриц засучил штаны, чтобы перейти реку вброд, — там была дорога
в город. Он вошел уже в воду по щиколотку и оцепенел.
— Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Отче наш, иже еси на
небеси и на земли. . .
Вернулся и пошел к мосту».
Так кончается новелла. Никому из дочитавших до этого места не
нужно рассказывать, что увидел Гриц в реке. Мы уже видим все это
собственными глазами. . .
Но автору «Новости» мало, чтобы мы пережили трагедию вместе
с героем. Ему надо, чтобы мы, в отличие от героя, еще и обдумали
происшедшее, более того — осознали, что же сделало людей такими
безысходно жестокими к самим себе и к своим близким?
И Стефаник, тонкий знаток мужицкой души, ясно и убедительно
раскрывает перед нами причины этого противоестественного поведения.
252
Вл. Росселъс
Крестьянин Прикарпатья вел себя не по-человечески потому, что вся
его жизнь, все его социальное бытие было античеловечно, антигуманно.
Крестьяне — дети гармонической природы, умеющие наблюдать,
чувствовать и любить эту гармонию, на каждом шагу сталкивались с
нелепой, необъяснимой для большинства из них дисгармонией человеческих
отношений.
Высшее счастье крестьянина — его труд на земле. Земля для него —
источник жизни. «Землю целуй, куда ни ступишь — твоя она или
чужая, а ты жив ею, — своя родит, и чужая родит. . . Земля, коли твоя,
все тебе даст. Она и согреет, и накроет, и прокормит, и в чести будешь
при ней. . .» («Сон»). Радости, которую приносит крестьянину труд на
земле, посвящено много вдохновенных страниц стефаниковской прозы.
Но вся эта радость у стефаниковских мужиков только в мечтах или
в далеких воспоминаниях («Давнее»). В действительности — бескрайнее
панское поле, «как широкий и длинный невод», вылавливало постепенно
«мужичьи полоски, как мелкую рыбку» («Поле»), ибо, как писалось в
начале века в научной литературе, «крестьянская земля в Галиции
распадалась на атомы» и только паны владели имениями в «что-нибудь
60 000 гектар». В действительности вконец разорившийся мужик,
вынужденный продать и свой нищенский надел, шел в город или в батраки
(«Синяя книжечка»). В действительности свое только снилось, а
работали на чужом, панском поле («Сон»). И притом, чтобы прожить,
трудиться на этом чужом поле доводилось так, что грудной младенец
умирал, пока мать, истомленная непосильным трудом, задремала, а у ней
не было времени глянуть на него, и она, встав, работала без передышки,
так и не узнав, может быть, до вечера, что сын ее не спит, а умер
(«Поле»).
Но человеческое в людях до конца не убить. И никто, как Стефаник,
доказывает это с абсолютной непреложностью.
Смерть и убийство настолько обычные происшествия в селах,
описанных Стефаником, что людей чаще беспокоит отсутствие денег на
похороны, чем самый факт гибели близкого человека. Отец умирающей от
чахотки Катруси, отвозя дочку к врачу, клянет и ее болезнь и ее самое.
«А ты, развалюха, помни, что если я деньги на лекарей задаром
расшвыряю, так сам сотворю тебе аминь!»—кричит он дочери. А немного
погодя «отец вытащил из-за пазухи яблоко и как-то робко подал дочке.
Ок никогда еще не давал ей никаких лакомств» («Катруся»).
А в той же «Новости» отец, только что собиравшийся утопить Ганд-
зуню, отправляет ее в мир одну, поскольку ему предстоит кара за
убийство ее младшей сестренки. И тут он сперва подробно и тщательно
наставляет девочку, как ей вести себя в чужой хате, у чужих взрослых
людей, а потом, уже отпустив, вновь окликает:
«— Гандзя, Гандзя, на-ка возьми палку, неровен час, встретишь
собаку— разорвет. С палкой-то лучше».
Наконец, в самой, казалось бы, грустной и самой «бытовой» новелле
из первого сборника, готовящаяся к смерти старуха, посреди всей
безысходности дум своих, лелеет честолюбивую мечту, что все же после
В верховьях потока мышления. Проза В. Стефаника 253
ее кончины «хоть какой знак останется, что жила бабка на свете» —
образок с голым ангелочком, который «уж больно приветливо глядел и
каждому розы протягивал, только бери» («Ангел»). Разве мечта —
оставить после себя для потомков красоту — не одно из высочайших
устремлений человеческих?!
И все же социально герои первых сборников Стефаника пассивны,
многовековым гнетом и нищетой они, как правило, сломлены. «И если
даже протест выливался в активное действие, если даже доходило до
того, что беднота била богачей, то потом сама же творила суд над
мстителями за свои обиды, чтобы спастись от еще больших гонений со
стороны тех же богачей и представителей власти» («Суд») 20.
И даже в единственной новелле, где батрак поджигает усадьбу
богача («Поджигатель»), он в исступлении кричит: «Мне чужого не надо,
пусть только мое сгорает до тла!» Доведенный до отчаяния, он охвачен
стремлением лишь к личной мести.
Только бурные катаклизмы второго десятилетия нашего века, только
мировая война, оторвавшая крестьян от земли—источника их жизни,
чтобы полить ее их же кровью, а многих и уложить в нее, пробудила
протест уже социальный, массовый. Не случайно послевоенная книга
новелл Стефаника так и называется — «Земля». Цитированный выше Дми-
тро Рудик справедливо писал, используя образ из стефаниковской
«Марии»: «Надо было, чтобы весь свет обезумел, чтобы они увидели этот
свет в его истинном свете» 21.
Новеллы от этого не перестали быть трагическими, ибо сделать
крестьянам Галиции, переходившей из-под власти австро-венгерской
монархии то во власть русского царя, то под управление националистической
ЗУНР, то под оккупацию панской Польши, — сделать было еще ничего
или почти ничего нельзя. Но мотивами протеста полны уже и «Мария»,
и «Сыновья», и «Военные убытки», и произведения о послевоенной
жизни Галиции.
И чем социально-значительнее протест, чем страшнее и ожесточенней
поступки, тем трогательнее подчеркиваемые новеллистом черты
человечности героев. Чего стоит хотя бы умирающий старик-крестьянин, когда-то
убивший богача за землю, которую тот хотел у него отнять! («Межа»).
Сколько нежности в его монологе об этой земле и о молодых, ушедших
на борьбу за землю, о том, как в бой они шли с песней, а когда пали,
не было рядом матерей, чтоб закрыть им «смеющиеся глаза, как
жемчужины».
Права была Ольга Кобылянская, которая однажды так
охарактеризовала Василю Стефанику его руку, пишущую с поразительной силой
двумя красками — черной и белой. «Кажется, она нежная, как у жен-
99 Т~> « »
щины, а она — само железо» . Б этой непосредственной, немного жен-
20 Рудик Дмитро. Василь Стефаник. — В кн.: Василь Стефаник у критиц1 та спогадах.
К., 1970, с. 197.
21 Там же. с. 198.
22 Кобылянская О. Письмо Стефанику от 2 апреля 1900 г. — Твори. В 5-ти т. К.,
1963, т. 5, с. 445.
254
Вл. Россельс
ской диалектике содержится, однако, зерно важнейшего определения
художественной сути стефаниковской прозы. Чтобы это стало еще яснее,
вспомним, что есть у самого Стефаника о железной руке: в «Старинной
мелодии» — автобиографической миниатюре 20-х годов — маленький Ва-
силько целует каждому из своих великанов-дядьев «железную руку». Вот
из этого целования железа и состоит проза Стефаника. И не только по
содержанию — по форме.
В нашей науке последних лет порой эффектно противопоставляют
«самое важное в Стефанике» — одержимость писателя болью своих героев,
серьезность и подлинность переживания, не выстуженную ремеслом, или,
иными словами, органичность творчества некоторым тенденциям нашего
времени, когда в искусстве расчет, художественное конструирование,
пусть даже и очень квалифицированное, умное захватывает все более
крепкие позиции, подчас замещая собой теплоту непосредственного
импульса, неотвратимость внутренней потребности, трепетность
человеческого переживания.
Между тем такое противопоставление неверно. Неверно и вообще
(поскольку не существует подлинных художников, чье творчество не
было бы органичным, и, стало быть, ни в эпоху Стефаника, ни в каше
время так противопоставлять мастеров неправомерно), и, в особенности,
неверно по поводу Стефаника.
Наивно само предположение, будто Стефаник непричастен к
«художественному конструированию» 23. Более того, можно показать, что сила его
новеллистики в немалой мере коренится всякий раз в железной
конструкции, или, как теперь принято выражаться, в жесткой структуре. Именно
потому, что ткань его повествования кажется подчас поразительно простой
и нежной, читатель чаще всего не замечает, какой железной рукой, каким
стальным резцом высечен контур этих черно-белых гравюр.
... У Романихи захворала корова. История ее гибели, рассказанная
в бытовой тональности, заканчивается фразой, словно выделенной другим
шрифтом: «Обе боролись со смертью» («Порча»).
Слова как будто такие же простые, что и все предыдущие, написанные
выше. Но они взяты из другого словаря, из словаря литератора, а не
соседа Романихи, рассказавшего все остальное. И это — как взмах
волшебной палочки. Перед нами разверзается мгновенно вся бездна трагического.
И то, что им обоим не жить сейчас. И то, что не жить одной без другой
вообще. И то, что всем таким, как они, не жить друг без друга. И...
Многое можно еще перечислить. Толпою теснятся мысли и ассоциации,
вызванные всего лишь сменою тона, сменою лексики, едва заметным
сдвигом в конструкции. И именно последняя фраза властно возвращает нас
к словам Романихи: «...не выживет она [корова], так и меня не надо».
Именно в них художественное оправдание равенства между коровой и
23 Характерно, что уже в 1909 г. известный украинский художник Иван Труш
применил по отношению к Стефапику понятие «конструирование», говоря о
безупречной психологической конструкции стефаниковских новелл, благодаря которой
«читатель беззаветно верит ему» («Василь Стефаник у критиц1 та спогадах», К., 1970,
с. 68).
В верховьях потока мышления. Проза В. Стефаника 255
человеком, выраженного несколькими строками выше в таком
«очеловеченном» описании последних минут животного: «Та, наконец, поднялась. Она
едва держалась на ногах. Осматривалась в стойле, словно прощалась
с каждым уголком».
«Порча» произведение более или менее повествовательное, во всяком
случае, диалогу в нем уделено всего около двух третей текста. Но вот
первый из стефаниковских шедевров военного времени. В новелле о двух
детях, у которых убили мать, лишь две ремарки: вначале, после первой (и
единственной) реплики умирающей матери («Села, но было очень больно,
и она легла») и — заключительный абзац. Все остальное — монолог
Василька, обращенный к младшей сестренке. И пока развертывается этот
поразительный монолог, комментирующий жуткое и величественное
в жизни двух человеческих существ — позор и смерть матери, любование
прекрасным, пробуждение достоинства и ответственности, наконец,
зарождение отвлеченной мысли, когда на наших глазах ребенок окончательно
превращается во взрослого, — пока все это происходит, мы, завороженные
неотвратимой закономерностью развития событий, совершенно убеждены
в их конкретности, нас безмерно волнует судьба именно этих двух
малышей — Василька и Настуси.
Но вот мальчик произносит свою последнюю, уже философскую
тираду:
«— А может, пуля уже и папу убила на войне, а может, до утра и меня
убьют, и Настю, вот и не будет никого-никого...»
И едва мы успеваем ощутить, что тут переход к обобщению, как автор
заключительным абзацем словно бы стремительно возносит нас ввысь,
к самому небу, мы озираем картину как бы с птичьего полета, и вдруг
постигаем, что дело-то происходит не с Василем и Настей в глуши По-
кутья, а С ДЕТЬМИ НА ЗЕМЛЕ:
«Уснул. До самого утра белая светящаяся пелена дрожала над ними,
то и дело убегая за Днестр».
И тогда странное название новеллы встает перед нами во всей своей
многозначности: «Случай с детьми» («Д1Точа пригода»)24. Как это
отвлеченно, абстрактно звучит на фоне конкретности описанного!
Что же — неужто и здесь лишь «теплота непосредственного импульса»,
трепетность человеческого переживания»? Нет, эти контрасты призваны
не только (и не столько!) углубить эмоции, сколько расширить
обобщение.
Новеллистика Стефаника родилась в годы расцвета этого жанра
мировой литературы. Уже завершил свой путь Мопассан, гремело имя Чехова,
за океаном развернулось дарование ОТенри. Искусство реалистической
типизации действительности было доведено этими мастерами до
совершенства. Но ни один из них (да, кажется, и никто в мировой прозе) не
прибег к подобному приему типизации. В образцовой новелле ОТенри
«Дары волхвов» горькая ирония автора локализована безукоризненным
Пригода — это и случай и приключение и происшествие, словом — существительное
нейтрального, почти научного ряда.
256
Ba. Росселъс
сюжетным ходом: Делла продала свои роскошные волосы, чтобы подарить
Джиму к рождеству цепочку для часов, а Джим продал часы, чтобы
подарить Делле гребни. Есть в этом рассказе даже обобщающая концовка,
авторское отступление о мудрости волхвов. Но и оно локально и касается
лишь душевных качеств «двух маленьких детей из восьмидолларовой
квартирки» и написано тем же чуть иронизированным говорком
полуобразованных обывателей бедных кварталов Нью-Йорка. Более широкие выводы
автор предоставляет делать читателям, и для этого, не скупясь, снабжает
их информацией — он подробно описывает и своих героев, и их жилище,
привычки, заботы, причуды...
Чеховский «Ванька» потрясает все последующие поколения
обнаженной и безыскусной правдой характера, обстановки, переживаний. Но этот
монолог деревенского мальчика, вырванного из привычной среды, нигде
ни одной нотой не диссонирует в нашем восприятии с изображенной в
рассказе ситуацией. Таковы каноны классического реализма, и если у Чехова
тринадцатилетняя нянька Варька становится убийцей («Спать хочется»),
мы воспринимаем это как вопиющее, чудовищное нарушение законов
жизненных и эстетических. Жизненных — потому что — как же так: ребенок —
убийца?! И эстетических — потому что фразы: «...она находит врага,
мешающего ей жить. Этот враг — ребенок»; «Ложное представление
овладевает Варькой», — эти фразы не контрастируют с текстом своей тканью,
а просто разрушают его и тем самым нарушают выстроенную в нашем
воображении картину. И мы — о, ужас — ведь это Чехов! — начинаем сом*
неваться в достоверности описанного, и тут еще, как на грех, замечаем,
что черные панталоны висят на веревке вторую ночь, а ведь им
пора бы еще днем высохнуть и, стало быть, это не жизнь, а декорация,
черные эти панталоны. А декорация — это уже против канонов реализма.
Но вот у Стефаника такая же девочка-нянька Парася затевает игру
в... похороны, предлагает своим сверстницам голосить над живым еще
ребенком. Она знает, что его сегодня убьют, он прижитой от гусара
неприятельской армии («Нянька»). И дети, а с ними и читатель, принимают
ее рассказ как нечто вполне естественное — только любопытный малыш
Максим пытается установить, чем же отличается обреченный на смерть
младенец от других.
«Максим говорит:
— Он такой, как и все, а твой папа какой-то дурной...»
И дальше дети спокойно обсуждают, легко ли задушить ребенка, и,
выяснив, что «такого маленького в два счета можно задушить»,
принимаются ритуально голосить над ним, как над умершим.
Мы ошеломлены, только что не крестимся, как деревенская бабка,
увидевшая все это, но принимаем все это в душу, верим, должно быть, именно
потому, что нам не рассказано никаких подробностей об этих детях, только
«кучка их выглядит так, будто кто-то отряс с дичка крупные яблоки, и
они вывалялись в земле», а отпеваемый младенец «такой, как и все».
Вот это «такой, как и все», брошенное, как бы вскользь, да еще
окруженное комическими деталями поведения маленького Максима, которого
«все гусары очень интересуют», и определяет уровень обобщения и, если
В верховьях потока мышления. Проза В. Стефаника 257
хотите, меру условности нового этапа реализма, ознаменованного
в украинской прозе приходом Василя Стефаника. Все эти качества
отличают уже «Синюю книжечку» (1899), а найденные ее автором приемы
композиции реализовались в мировой прозе, в сущности, только спустя
десятилетия.
Открывающая бабелевскую «Конармию» новелла «Переход через
Збруч» начинается памятной всем панорамой:
«Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на
рассвете. Штаб выступил из Крапивно и наш обоз шумливым
арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному
на мужичьих костях Николаем Первым.
Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет
в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена
дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас. . .»
И дальше, и дальше, пока читателя не охватывает ощущение эпической
необъятности происходящего, причастности всего мира к этому переходу
Первой конной через маленькую пограничную речку. А затем горизонт
начинает сужаться и на протяжении последующих полутора страниц
стремительно сокращается до темного угла маленькой комнатки в отведенной
герою квартире и лежащего в этом углу покойника, отца хозяйки, убитого
накануне белополяками. И обратно пропорционально сужению эпического
простора растет и достигает апогея трагизм ситуации: «И теперь я хочу
знать, — сказала вдруг женщина с ужасной силой. — Я хочу знать, где
еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец...»
«На всей земле»! Вот зачем нужна была панорама и историческая
ретроспектива до Николая Первого включительно! Разве это не тот же
метод, что в «Случае с детьми»?
Прежде чем первая новелла Стефаника появилась в открытой печати,
он пытался (в тот момент безуспешно) опубликовать книжку набросков
типа «стихотворений в прозе», вновь входившего тогда в моду жанра
коротких лирических миниатюр. Шел 1897 год, и для студента-медика и
партийного пропагандиста это был еще один путь самовыражения, более
того — путь эмоциональной (не риторической!) пропаганды идей.
Потерпев поражение у тех, кто «должен был дать деньги» на издание его
книжки, и в сердцах разорвав у них на глазах рукопись, молодой автор,
который «все боялся быть начинающим писателем», не смог однако
прекратить свои начинания и уже через несколько месяцев послал друзьям —
чете Морачевских — семь вновь написанных миниатюр, заявив в письме
к Софии Морачевской: «Разноси меня критика в пух, я не боюсь теперь
и все равно буду эти наброски печатать. Если бы я мог прочитать [вслух]
6-й набросок, посвященный вам, матерям, то миллион их заплакал бы.
Я в том уверен. Миллион крестьянок заплакал бы!»25
Шестой набросок — это первый вариант знаменитой впоследствии
новеллы «Провожали за село», и то, что он соседствовал с такой притчей,
как «Палисадничек бога молил», или таким страстным монологом, как
25 Стефаник Василь Повне з)брання TBOpÎB, 1954, ά. 3, с. 120.
Ί7 Василь Стефаник
258
Ел. Росселъс
«В мареве плавают леса...», лишний раз свидетельствует, что для автора
это были равно органические формы литературного высказывания.
Другое дело, что между стихотворениями в прозе и новеллами есть
жанровые различия: недаром написанные позднее два наиболее сильных
стихотворения в прозе—«Путь» и «Мое слово» — вошли в канонические
издания одноименных сборников, как интродукции, а когда в 1933 г. на
сцене передвижного галицииского театра давали сценическую композицию
из новелл Стефаника, текст для ведущего был взят из «Моего слова».
Различия эти наглядны. Перед нами стихи, хоть и «в прозе»: обилие
сложных и красочных метафор, символика, крайняя обобщенность мысли
и упорное стремление к отвлеченности от конкретного факта, явления,
даже пейзажа. Так, работая над миниатюрой «Посвящается Ольге», Сте-
фаник снял первые строки чернового варианта, где была реалистическая
зарисовка возвращения с полей сельских парней и девчат.
Различия эти принципиальны. И поэтому неправомерным
представляется, что составители трехтомника включили в раздел стихотворений
в прозе такие миниатюры, как «Вечер», «Старый Ч-ий» или «Старик
нищий стоит...», которые представляют собой действительно наброски,
заготовки, черновики — назовите, как хотите! — новелл, но не стихи, воЕсе
не стихи!
И все же, посылая Ольге Гаморак, будущей своей жене, первую
редакцию «Моего слова» и характеризуя ее, как свою биографию,
выдержанную в тоне «Wahrheit und Dichtung», Стефаник переставил слова в
подзаголовке книги Гёте «Aus meinem Leben», где, как известно, сказано
«Dichtung und Wahrheit». У него, у Стефаника, правда, т. е. жизнь, факты,
всегда предшествует поэзии, вымыслу, красоте.
Некоторые исследователи творчества покутского мастера усматривают
в его стихотворениях в прозе следы влияний декадентства и преодоление
Стефаником этих влияний. Что ж, возможно и так. Именно в разгар
работы над стихотворениями в прозе, в марте 1896 г., Стефаник писал
в письме друзьям: «.. .мне предстоит выйти из леса разных литературных
направлений, которые застигли меня теперь на перепутьи и тянут каждое
в свою сторону»26. Но гораздо важнее, что, трудясь над миниатюрами,
переделывая их по два-три раза, молодой писатель вырабатывал
важнейший компонент стиля своих будущих новелл: способы литературной
передачи публицистических обобщений, органического вкрапления в рассказ
обнаженной острой мысли, тех самых «фраз, слоено бы выделенных
другим шрифтом», о которых мы говорили выше, словом, тот прием
типизации, который эффективен только в ткани предельно кратких и
насыщенных, предельно лаконичных новелл.
Лаконизм Стефаника давно стал притчей во языцех писателей,
критиков, историков литературы. Но природу и характер этого лаконизма, его
генезис, этот, как выразился И. Франко еще в 1904 г., «новый способ
видения мира», объясняли по-разному. Так, помянутый выше живописец
Иван Труш, один из наиболее точно и глубоко понявших Стефаника со-
86 Там же, с. 58.
В верховьях потока мышления. Проза В. Стефаника 259
временников, ограничился тем, что характеризовал «способ высказывания»
Стефаника как «простой, краткий и мощный»27. «Впрочем, читатель,
который любит интересную литературу и сильные впечатления, будет
благодарен писателю за его лаконизм; утомившись от сильных переживаний,
которыми новеллист ранит его сердце, читатель обрадуется, что быстро
наступил конец его чтению»28. Иван Франко относил лаконизм Стефаника
на счет его безупречного художнического такта, безошибочного чувства
меры. «Стефаник нигде не скажет лишнего слова», — писал он29. Денис
Лукьянович считал, что «скрупулезнейшей концентрацией, с которой Сте-«
фаник соединяет экономию слова, недомолвки, привычку ретушировать
определенные ситуации», он компенсирует «недостаточность в развитии
действия» 30. Пожалуй, ближе всего к определению общего генезиса стефани-
ковского лаконизма подошел в 1946 г. студент-выпускник
Днепропетровского университета Олесь Гончар, который в своей дипломной работе
«Новеллы Стефаника», опираясь на высказывания Франко и учтя
перемены в мировой прозе, так охарактеризовал направление, возникшее в
украинской прозе на рубеже XIX и XX веков: «Новая школа,
представленная в первую очередь Стефаником, опускала все несущественное, мало
характерное, или такое, что могло быть „довоображено", „додумано" самим
читателем. В круг света „магической лампы'' попадал небольшой кусок
действительности, но зато освещался он с исключительной рельефностью.
Отсюда и стремление к максимальной насыщенности произведения и
каждой фразы в нем»31.
Заслуживают пристального внимания и несколько слов из анонимной
аннотации к двум книжкам Стефаника, напечатанной в одном из львов-
ских каталогов 10-х годов: «Образом своим он, прежде всего, не дает
распылиться в риторике. Он борется и напрягает все силы, чтобы скрепить
хаотическую массу, дать ей тело» .
Каждое из приведенных объяснений по-своему верно и по-своему
неполно. И такт, и чувство меры, и возмещение пропусков в развитии
действия, и, в особенности, отсев всего, что можно «довообразить», вместе
с организацией, сгущением «хаотической массы» жизненных явлений, —
все это потребовало конденсации прозы.
Но конденсация и лаконизм не однозначны. И если обратиться к тем
письмам Стефаника, которые содержат материалы будущих новелл, таких,
как «Похороны», «Новость», «Письмо», «Вечерний час», то всякий раз
обнаруживается парадоксальная, в свете рассуждений о лаконизме,
ситуация: каждая из новелл порождена фактом. Факт описан сперва в письме,
и это описание только что увиденного («Похороны», «Письмо») или
услышанного («Новость») уже в этом письме не просто изложено, а истолко-
27 «Василь Стефаник у критиц! та спогадах», с. 68.
** Там же, с. 65.
29 Там же, с. 52.
*° Там же, с. 87.
91 См. Отдел рукописей Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР, ф. 96,
№ 21, с. 69—70.
** «Василь Стефаник у критиц1 та спогадах*, с. 79,
17·
260
Вл. Росселъс
вано, оснащено образами, изображено33. Естественно, что исследователи
склонны рассматривать эти страницы писем как «другие редакции и
варианты» новелл.
Однако характерно — новеллы, возникшие на основе историй,
сообщенных в письмах, длиннее этих историй, они не лаконичней, а пространней!
Но сразу же бросается в глаза и другое. «Похороны» и «Письмо», став
новеллами, перестали быть историями. В письме Стефаник, рассказывая
другу об увиденных весной на улице в Кракове похоронах, изложил это,
как «драму муки с мучениками в главных ролях», в которой для него,
интеллигента-воздыхателя, «еще нет роли», и передал это сюжетно: он,
«тоже мученик», попытался «идти за своими», но одна из старух прогнала
его, чтобы не делал смешными их бедняцкие похороны.
Всему этому предшествует в письме как бы «пролог» — воображаемая
героем — автором письма — сценка в деревне, где ему, интеллигенту, чтобы
укрыться от дождя, пришлось бы изрядно «помучиться», претерпев
долгий, традиционный, почти ритуальный «дождевой диалог» с хозяйкой
хаты.
В новелле «Похороны», написанной четыре года спустя, автор всю эту
сюжетную линию снял, фигура рассказчика в ней отсутствует, естественно
снято и сравнение детского гробика с ящиком для зонтов, который несут
на почту, и то, что лицо мальчугана, идущего с крестом впереди кортежа,
«исполнено гордости». Все это компоненты сюжета о «своих» и «не своих»
мучениках, о страданиях народа и интеллигентской рефлексии. Осталась
в нозелле «картинка» похорон, снимок, или, как мы теперь
ассоциировали бы, — кинокадр, запечатлевший движущуюся процессию, вокруг
которой все скрыто туманом; за ним, впереди, не видное нам кладбище.
И на фоне этого кадра речь, монолог одной из женщин, рассказывающей
матери (или, может быть, бабушке?) покойника, как этот ребенок жил и
как он умер.
Все это складывается в цельную, большой эмоциональной силы
картину безысходности («А кладбище впереди...»). И при такой композиции,
при такой форме повествования каждая фраза приобретает необычайный
вес, становится как бы ключом, родником мыслей и ассоциаций. И тут
уж автор вовсе не жалеет слов, не «лаконизирует» прозаическую ткань,
сыплет образами, метафорами, сравнениями. Чего стоит одно описание
умирающего ребенка: «Потом посинел совсем, огнем от него пышет. Словно
кто-то под ним огонь разложил, а его косточки, как поленца, подбрасывал,
чтобы горело...» А организовано все это не сюжетом, не историей,
а ходом размышления об увиденном и пережитом.
Так, вместо временного потока, композиционного стержня
классической прозы, на который нанизывались действия, эпизоды, этапы развития
характеров, возник другой композиционный стержень — поток
мышления.
(Характерно, что критика отметила эту позицию Стефаника лишь
в 1930 г. и выражено это было в такой форме: «Композиция произведений
33 См. соответственно письма В. И. Морачевскому от 17 мая 1896 г., от ноября и
декабря 1897 г. и от декабря 1898 г.
В верховьях потока мышления. Проза В, Стефаника 261
Стефаника следует за естественным потоком переживаний и настроений
героев, и, чтобы не опережать их, автор напрягает все свои силы»34. Уже
и тогда в творческом труде покутского мастера видели не только
одержимость болью своих героев, но и сознательное стремление художественно
исследовать эту боль, используя для этого, по словам И. Франко, «новый
способ видения мира».)
Подобной же трансформации подверглась и вторая история, также
сперва изложенная в послании другу35, а затем вылившаяся в одну из
первых опубликованных Стефаником новелл — «Письмо», история
политического соратника автора, крестьянина из села Пистынь Федора Котюка.
В новелле нет ни слова об истинной причине тюремного заключения
героя, о том, что, собственно, произошло. Перед нами снова не сюжет, а
«картинка». Зато есть в ней незабываемый облик сочельника в бедном се\е.
когда певцы-христославы не могут превзойти плачущую скрипку. «Поем,
а скрипка плачет с нами, словно малый ребенок. Мы пуще, а скрипка
ровно плачет, и никогда мы ее не могли переколядовать». Есть и —
поистине лаконический — образ тюрьмы, где так страшно, что «не могу я
улежать один на койке — умер бы, — a иду к соседу». Есть и еще много
такого, что у читателей-земляков пробуждало пламенное сочувствие
политическим заключенным — крестьянам, которым посвятил новеллу автор, и
ненависть к тем, кто героя, думавшего «неправду корчевать», «вырвали
с корнем, жену убили и детей оставили на произвол судьбы».
И лишь в «Новости» рассказано самое происшествие. Рассказано уже
в первых строчках, цитированных выше, чем, впрочем, также нарушен
жанровый канон, утвержденный такими мастерами, как Чехов и ОТенри.
А в дальнейшем тексте новеллы главное внимание автора (и читателя!)
сосредоточено на движениях души героя, на том, какими он видит своих
детей, и как камень, которым ему грудь придавило, становится все
тяжелей, тяжелей и, наконец, обращается в огненный пояс, сжигающий сердце
и голову. Четырежды на протяжении полутора страниц обращается автор
к этому метафорическому камню. Перед нами уже прием повтора, та
самая лейтмотивность прозаической ткани, о которой на материале новелл
Хемингуэя заговорят критики через тридцать лет после напечатания
.Новости». И снова тут нет речи о лаконизме, словам β этой прозе
необыкновенно просторно и только мыслям тесно.
При этом, конечно, немаловажно, каким словам просторно. Стефаник
умел выбирать слова, в частности — слова многозначные. Для прозы его
характерно использование многозначности слова, которое и позволяло,
с одной стороны, обходиться меньшим количеством слов, освобождая от
необходимости рассказывать подробно, а с другой — вмещать в скупые
фразы такую лавину ассоциаций, подтекстов и эмоциональных импульсов,
что у читателей по съю пору от иной стефаниковской фразы захватывает
дыхание. Стоит только вспомнить начало новеллы «Повесился»: «Кол^я
34 Риндюг Артем. Техника новелл В. Стефаника. — Hobî шляхи. Львов, 1930, № 4.
Цит. по кн.: Василь Стефаник у критиц! та спогадах, с. 209.
36 См. письмо В. И. Морачевскому на с. 199—200 нашей книги.
262
Вл. Россельс
лет1ла у cbîth». Не говоря уже о гамме значений глагола «лет1ла», ведь
по-украински колгя отнюдь не только транспортный термин — обозначение
железнодорожного полотна, но и вообще колея, дорога, путь, a ceiru
рождают ассоциации с бесконечностью перспективы, необозримостью и
необъятностью мира, а более всего, пожалуй, соответствуют русскому «куда
глаза глядят», т. е. парадоксально связаны скорее с ощущением не
стремления, а ухода... Многозначность этих трех слов делает смысл речения
поистине неисчерпаемым и в своем роде исчерпывает тему всей
последующей новеллы, где говорится о том, что отец, покинув родные места,
движется в огромный, неведомый и враждебный мир, приведший его сына
к самоубийству...
Все же, разумеется, в целом новеллы Стефаника лаконичны по самой
своей эмоциональной сути: почти каждая из них даже не высказывание,
а вскрик. Другое дело, что, прочитав такое, порой надолго задумаешься.
Только поняв это, можно предположить, почему из более чем сорока
сюжетных набросков, содержавшихся в стефаниковских письмах друзьям
и там изложенных всегда увлекательно и сильно, новеллами стали всего
пять. Сам Стефаник в 1924 г. так высказался об этом, перефразируя из*
вестные строки Верлена: «Я писал потому, что хотел так крепко натянуть
и настроить струны души нашего крестьянина, чтобы из этого вышла
великая музыка Бетховена. Это мне удалось, а прочее — литература» 36.
«Музыка Бетховена»... Это ведь сказано о прозе. Стефаник не умел
бросаться словами. И все же он, думается, не имел здесь в виду
собственно музыкальности своей прозы, музыкальности не в переносном,
а в прямом, буквальном смысле этого слова.
Иван Франко, необычайно прозорливый во всем, что касалось новых
тенденций в литературе, писал уже в 1901 г., что «новая беллетристика...
стремится сколь возможно приблизиться к музыке»37. Эти слова
оказались пророческими по отношению к путям развития мировой прозы
XX столетия 38. Франко относил их конкретно к группе украинских
прозаиков, лидером которых представлялся ему Стефаник. О стефаниковской
прозе писали, что в ней «трогающая до глубины музыкальность», что «на
ней лежит отпечаток величественной гармонии мужицких нервов»,
отмечали «бессознательную склонность» к «ритмичности и музыкальности, как
элементарным проявлениям душевных переживаний». Но только Дмитро
Рудик в 1927 г. заявил, что у Стефаника «в основе всего лежит ритм
речи», и попытался на двух примерах показать, что его новеллы написаны
«полным равномерным размером» 39. Примеры Рудика, в особенности
первый, где он разбирает начало «Озими», необычайно убедительны, но, к
сожалению, дальше исследование музыкальности стефаниковской прозы не
пошло. А между тем, без учета этого компонента ее, включающего не
только размер и ритм, но и эвфонию, и помянутую выше лейтмотивность,
36 Стефаник Василъ. Твори, с. 467.
37 «Василь Стефаник у критиц1 та спогадах», с. 53.
38 Подробнее об этом см. мою статью «В музыкальном ключе» в кн.: Вопросы теории
х)'Дожественного перевода. М., 1971.
*9 «Василь Стефаник у критиц! та спогадах», с. 201.
В верховьях потока мышления. Проза β. Стефаника 263
невозможно вполне оценить арсенал выразительных средств Стефаника.
Все поименованные выше особенности структуры стефаниковской прозы
ставят ее у истока широкого процесса, охватившего прозу всех ведущих
литератур Европы и Америки. На базе именно этих особенностей
возникла проза, которую поначалу без достаточных оснований именовали
«импрессионистической», а затем, в зависимости от той или иной
доминанты, называли (да и сейчас называют) то «лирической», то «лейтмотив-
ной», то «ассоциативной». В каждом из этих направлений нашло свое
развитие одно или несколько качеств, заложенных в новеллистике
Стефаника, — новый тип композиции, лаконизм и подтекст, смелый сплав
единичного и общего, ассоциативность речи и музыкальность прозаической
ткани — словом, те качества, которые под пером самого Стефаника,
слитые в неразрывный творческий комплекс могучей индивидуальностью
мастера, способствовали созданию неповторимого литературного феномена,
который мы зовем стефаниковской прозой. Конечно, лишь
способствовали, ибо главное, что создало эту прозу, — это бремя судеб
человеческих, которое нес на себе автор.
И этот последний фактор определил еще одно качество стефаниковского
литературного наследия — его необыкновенную цельность. И письма, и
стихотворения в прозе, и автобиографические этюды — все это дополняет
новеллистику и, вместе с нею, сливается в единый поток, исполненный
величайшей гуманистической целеустремленности.
III
Разумеется, не следует приписывать перечисленные новые особенности
мировой прозы середины XX в. влиянию творчества Стефаника, Просто
он стоял в верховьях охватившего литературу потока художественного
мышления, реализуя естественные закономерности развития литературного
процесса в нашем столетии, обусловленные значительно более общими и
широкими факторами социального и культурного порядка и выявившиеся
сразу во многих литературах, независимо от их взаимосвязей, хотя и не
одновременно. И вот это последнее обстоятельство для нас в
данном случае важнее всего.
Ибо теперь мы перейдем к переводу, к русскому переводу
стефаниковской прозы. Книжки великого новеллиста в момент своего появления были
для всех, кто читал их в оригинале, и уж в особенности для литераторов,
столь покоряюще убедительны, что переводить их стали уже через год.
Но одно дело принять, пережить, а другое — передать. Восприятие
далеко не всякий раз сопровождается анализом, но, чтобы передать, надо
постичь структуру. К этому времени в России существовала уже
традиция перевода украинской классики, прозы Квитки, Нечуя, Марка Вовчка,
ярко национально окрашенной, полной этнографических подробностей,
написанной народным говором, пересыпанной блестками великолепного
украинского фольклора. Все это на русский язык принято было передавать в
«гоголевской» манере, пересыпая речь украинизмами, лексическими,
фразеологическими и всякими иными. В определенной мере это было оправдано —
в сознании русского читателя Гоголь прочно утвердил стойкую модель
264
Вл. Россельс
«украинского колорита», и она не очень препятствовала русскому
восприятию впоследствии даже таких своеобразных и могучих
индивидуальностей, как Коцюбинский и Франко, только порою чуть опрощала в
нашем сознании их психологизм и высокую интеллектуальность. Впрочем,
в хороших переводах этот недостаток покрывался глубоким
проникновением переводчиков в реалистическую основу оригинала. Поэтика
критического реализма, близкая и авторам, и переводчикам, позволяла последним
достойно представлять русскому читателю украинскую классику. Вот
почему имена помянутых выше Нечуя, Марко Вовчка, Квитки и пришедших
за ними Панаса Мирного, Франко быстро завоевали в России прочную
популярность.
Другое дело Стефаник. Выше, когда речь шла о некоторых чертах того,
что он внес в поэтику прозы, не было сказано об одном важнейшем
негативном его качестве. Стефаник, этот певец крестьянства, да еще и
оперировавший диалектом одного из самых песенно-фольклорных уголков
Украины— Покутья, — совершенно и, смею утверждать, —
принципиально! — не этнографичен...
Разумеется, яркие особенности народного говора, речевой образности,
которые он воспринял еще в студенческие годы, собирая в деревнях
народные песни, сказы, рождественские колядки, нашли широчайшее отражение
в языке его новеллистики, тем более, что собственной авторской речи
в этой прозе намного меньше, чем монологов и диалогов его
героев—крестьян. Но этим и ограничивается влияние на прозу Стефаника устного
народного творчества. В остальном форма его новелл, как мы видим, в
лучшем смысле этого слова, литературна. Это и понятно — неустанное
стремление к наготе прозы, к ассоциативности, многозначности, обобщенности
речевой и образной ткани невозможно реализовать средствами фольклора,
по самой сути своей тяготеющего к локальной тропике, к местному
колориту, к яркой, цветистой, орнаментальной образности.
Этот парадокс в творческом облике великого украинского новеллиста
стал причиной другого и — увы!—печального парадокса в истории
русского восприятия стефаниковских новелл: переводчики, по традиции
обильно уснащавшие свой текст украинизмами (которые русской прозе
придают оттенок диалектности), наделяли Стефаника — в переводе! —
значительной долей того самого этнографизма, который противопоказан его
образной системе, и в результате художественное воздействие его
новеллистики на русского читателя было несколько снижено 40.
Однако это лишь одна грань проблемы. Не менее, если не более, важно
то, что для русских переводчиков Стефаника, воспитанных в атмосфере
классического реализма, оказались в значительной степени закрыты сами
новаторские особенности его прозы, прежде всего ее ассоциативность,
символика, музыкальный строй. Стефаниковская проза неоднократно
переводилась на русский язык в начале века (О. Косач, В. Козиненко, М.
Богданович, В. Матвеев и другие), затем заново — в 20-х годах (В. Дуткевич,
Подробнее об этом см. в моей статье «Проза Стефаника и традиция восприятия»
в кн.: Мастерство перевода. Сб. одиннадцатый. М.. 1977.
В верховьях потока мышления. Проза В, Стефаника 265
Н. Ляшко), наконец, в третий раз — в 40-х (Н. Ляшко, А. Деев, Г. Шипов
и автор этих строк). И никто из нас, переводчиков, в те годы не постиг
вполне ее структуру, поскольку ни у кого из нас не сложился к тому
времени опыт восприятия новой прозы. В начале века ее в России еще
попросту не существовало, а затем, начиная с 20-х годов вплоть до середины
50-х, в сознании русского читателя лишь постепенно зрело представление
о новых чертах реализма XX столетия. Медленно укоренялись в нашем
восприятии произведения Хемингуэя и Фолкнера, Томаса Манна,
Арагона и Сент-Экзюпери, Затем, уже в середине века, пришло второе
рождение Бабеля и Платонова, а среди новых имен засверкали Белов и
Айтматов, Битов и Распутин.
И тогда-то, с высоты этого опыта восприятия, стало понятно, почему
Стефаник доныне, несмотря на множество русских изданий (девять только
за последние тридцать лет!), так и не стал у нас писателем для широкого
читателя, главным образом, надо думать, потому, что он просто до сих
пор не прочитан переводчиками во всей полноте. Те самые качества его
прозы, о которых шла речь выше, видны нам только сегодня, когда мы
подготовились к пониманию структуры ее, начитавшись произведений тех,
кого покутский мастер опередил на годы и годы.
Я уже не говорю о том, что за эти десятилетия появился и опыт
перевода новой прозы, ведь книги перечисленных выше зарубежных авторов
стали достоянием русского читателя, и как раз на этом оселке оттачивали
свое мастерство лучшие представители завоевавшей ныне мировое
признание советской школы художественного перевода.
Ну, и что же? Легче ли теперь перевести прозу Стефаника на русский
язык?
Ох, нет! Чем глубже постигаешь ее структуру, тем более сложные
задачи встают при попытке передать ее.
Как быть с помянутой выше многозначностью слова? Как возбудить
у читателя русского текста всю гамму ассоциаций, порожденную в
сознании украинца тем самым «кол1я лет!ла в cbîth»?
Как передать, даже ощутив ее, музыку трех начальных абзацев
«Озими»? Ведь она не только в симметрии их ритма, но и в самой
звукописи, которую надо воссоздать другими фонемами на другом языке.
Как уловить, а затем перенести в свой, русский текст стилистический
контраст между предпоследней фразой «Порчи» и последней, чтобы это не
резало слух, как чеховское «Этот враг — ребенок», и все же «было
выделено другим шрифтом»?
На предыдущем этапе мы, переводчики, чаще всего и не ставили себе
подобных задач. Ныне же уровень художественного перевода на русский
язык необычайно высок, и обходить подобные рифы при воссоздании
таких образцов, как проза Стефаника, просто неловко.
Настоящее издание представляет собою скромную попытку
переводчика и исследователя, отдавшего творчеству великого новеллиста более
сорока лет, воссоздать на русском языке его прозу и важнейшую часть
эпистолярного наследия по-новому, в меру сил учитывая с сегодняшних
позиций особенности поэтики подлинника. О результате пусть судит читатель.
266
Примечания
ПРИМЕЧАНИЯ
В настоящее издание вошли все новеллы Василя Стефаника, десять
стихотворений в прозе (два из них — «Путь» и «Мое слово» — открывают, согласно авторской
воле, собрания новелл того же названия). Новеллы автор издавал сборниками,
представляющими собою строгие композиционные единства, под обобщающими заглавиями;
«Синяя книжечка», «Каменный крест», помянутые «Путь» и «Мое слово». «Земля».
В этом порядке они даны и в нашем собрании.
Тексты новелл и стихотворений в прозе переводились, в основном, по последнему
прижизненному изданию подлинника (Стефаник Василь. Твори. Льв1в. 1933),
которое, в случае необходимости, сопоставлялось с другими прижизненными авторскими
сборниками. Новеллы и стихотворения, не вошедшие в издание 1933 года,
переводились по другим прижизненным изданиям и журнальным публикациям с
корректировкой по материалам из архивных фондов Института литературы им. Т. Г. Шевченко
АН УССР в Киеве, Литературного музея В. Стефаника в Русове.
В Дополнениях даны избранные письма В. Стефаника за период 1895—1900 гг.,
которые, в сущности, представляют собою еще несколько десятков новелл и
лирических миниатюр. В этом качестве письма входят неотъемлемой частью в творческое
наследие писателя, составляя вместе с его прозой цельный литературный памятник,
и потому совершенно закономерно с середины 50-х годов постоянно органически
дополняют собрания его новелл, издаваемые на Украине и в России. Тексты писем взяты
из наиболее полного издания наследия В. Стефаника, осуществленного Академией наук
УССР (Повне З1брання TBopÎB в трьох томах. К., 1949—1954 — при дальнейших
упоминаниях ПЗТ) и сверены с автографами, находящимися в Институте литературы
АН УССР в Киеве, Львовской научной библиотеке им. В. Стефаника АН УССР,
а также в фондах музеев В. Стефаника в Русове и О, Кобылянской в Черновцах.
Текст в прямых скобках (даты, названия населенных пунктов) дан составителем.
В Дополнения включены также автобиография (1926 г.), автобиографический
этюд «Людмила» и ранние варианты некоторых новелл.
Произведения и письма переведены с украинского Вл. Россельсом.
В примечаниях к новеллам и стихотворениям в прозе даны лишь дата написания,
если она намного не совпадает с первой публикацией, дата этой публикации,
пояснения историко-этнографических и бытовых реалнй; примечания к письмам содержат
историко-литературный комментарий и призваны возможно подробнее осветить
взаимоотношения Стефаника с его корреспондентами, жизненные и литературные ситуации,
нашедшие отражение в письмах.
НОВЕЛЛЫ
СИНЯЯ КНИЖЕЧКА
Первый сборник иовелл Стефаника вышел весной 1899 г. в Черновцах.
Изданный в типографии общества «Руська рада», он вк мочал 15 новелл, шесть из которых
(«Синяя книжечка», «Провогкали за село», «Повесился», «В корчме», «Богомолка»,
«Одна-одинешенька») были опубликованы перед тем в конце 1897 г. в черновицкой
газете «Праця». О значении этого дебюта молодого прозаика см. выше в ст. «В
верховьях потока мышления».
Синяя книжечка
Впервые, по свидетельству Дениса Лукьяновича, под заглавием «Конюх Антон» —
в гектографированном журнале «Поступ» («Прогресс»), № 3 за 1890 г., — издании
гимназического нелегального кружка в Станиславе. Первая легальная публикация —
в черновицкой газете «Праця» («Труд»), 1897, 21 ноября, № 15—16.
Первая опубликованная новелла Стефаника (если не считать его участия в
написании Лесем Мартовичем новеллы «Нечитальный» в 1888 г.).
Примечания
267
1 Император — Франц Иосиф I (1830—1916), император Австро-Венгрии, в
которую до 1918 г. входили западноукраинские земли.
Провожали за село
Впервые — в газете «Праця», 1897, 24 октября, N& 14.
Первоначальный черновой вариант, приложенный к письму В. И. Морачевскому
от августа 1897 г., см. в Дополнениях.
Повесился
Впервые—в газете «Праця», 1897, 21 ноября, № 15—16.
Поводом к написанию новеллы послужило самоубийство не выдержавшего
рекрутчины двоюродного брата автора — Луки.
В корчме
Впервые — в газете «Праця», 1897, 21 ноября, № 15—16.
Семья Леся
Написана в 1898 г., впервые опубликована в сб. «Синяя книжечка», Черновцы,
изд. типографии общества «Руська рада», 1899 г.
Мамин любимей,
Написана в 1893 г. Впервые опубликована в сб. «Синяя книжечка».
Посвящена Юрию Морачевскому (1896—1935), сыну Софьи и Вацлава Мора-
чевских.
1 Луський ладикал — т. е. «руський» (украинский) радикал — здесь автор с теплой
иронией поминает самую прогрессивную из тогдашних (90-е годы XIX в.) западно-
украинских партий, к которой принадлежал и сам.
2 В Канаду—в 90-х годах XIX в. широко развернулась эмиграция голодающих
крестьян Западной Украины в Канаду.
Мастер
Написано в 1898 г., впервые опубликовано в сб. «Синяя книжечка».
Богомолка
Впервые—в газете «Праця», 1897, 19 декабря, № 17.
1 Архиримское братство — саркастически искаженное наименование организации
церковных прихожан.
Катруся
Написана в 1898 г., впервые опубликована в сб. «Синяя книжечка».
Ангел
Написана в 1898 г. Впервые опубликована в сб. «Синяя книжечка». В
Дополнениях см. первоначальный вариант новеллы, посланный в письме С. Морачевской
в 1898 г.
1 Зонечка — София Данилович, племянница Стефаника.
Одна-одинешенъка
Впервые — в газете «Праця», 1897, 21 ноября, № 15—16.
Первоначальный вариант новеллы, написанный в 1897 г. и посланный в письме
к В. Морачевскому в августе 1897 г., см. в Дополнениях.
268
Примечания
1 Осень
Впервые — в сб. «Синяя книжечка».
Порча
Впервые — в сб. «Синяя книжечка».
1 Иван Сучавский. — Селение Сучавз на Буковине было местом христианского
паломничества к могиле св. Ивана Сучавского.
2 Зарваниикая божия матерь, — В церкви села Зарваницы (ныне Тернопольской
области) была «чудотворная» икона богоматери.
Новость
Написана в конце 1898—начале 1899 г. В основе сюжета — действительное
происшествие, рассказанное Стефанику девочкой, дочкой убийцы — батрака Михаила и«
села Трийца. См. подробное изложение происшествия в письмах Стефаника О.
Кобыл янской и В. Мирачевскому на с. 216—218 наст, книги. Впервые опубликована
в сб. «Синяя книжечка».
Портрет
Впервые — в сб. «Синяя книжечка». Первоначальный вариант приложенный
к письму В. И. Морачевскому от августа 1897 г., см. в Дополнениях.
1 Миклошич Франц (1813—1891), выдающийся ученый-славист,
основоположник сравнительной грамматики славянских языков.
КАМЕННЫЙ КРЕСТ
Второй сборник новелл Стефаника. Появился во Львове в 1900 г. с посвящением
«Старшему моему другу Кирилу Гамораку». В него входили 9 новелл, которые затем
были перепечатаны в книге Стефаника «Мое слово». К моменту выхода в свет этого
сборника прозу Стефаника уже высоко оцеьили в печати выдающиеся украинские
литераторы — Иван Франко и Леся Украинка, художник Иван Труш. Несколько расска-
яов к этому времени уже были переведены на русский, немецкий и польский языкв
и опубликованы в журналах в Петербурге. Лейпциге. Кракове. Варшаве..
Каменный крест
Впервые е журн «Лиературно-науковин в?стник», Львов. 1899. т. VTÎ. кн. 6.
1 . . такие пожарные, что с землей ц них «.не горит». — В т* годы в галиций-
ских селах уже появились пожарные дружины, состоявшие в большинстве из нанятых,
не местных людей, не связанных с землею
9 Мазуры— здесь — просторечная кличка поляков (по ассоциации с Мазурским«
болотами на востоке Польши). Речь идет о появившихся к тому времени поляках-
сборщиках податей: от этих экзекуторов мужики тщетно прятали свое добро.
Заседание
Написана в начале 1898 г. Впервые опубликована вместе с новеллами «Дорогой
из города», «Вечерний час» в журн. «Л1*тературно~науковий вгетиик», 1898, т. II, кн. 5
пол рубрикой «Фотом рафии из жизни». По поводу этих новелл см. полемику
Стефаника с одним из югдашних редакторов «Л1тературно-наукового ватника» Осипом Ма-
ковсем на с. 279, 205—207 наст, книги.
* Выборные се/.ьской рады. . . — В галицийских деревнях после отмены крепостногв
права то есть с 1848 г., ε помощь назначенному властями старосте выбирался совег
{укр. рада) из местных крестьян.
Примечания
269
Дорогой из города
См. прим. к новелле «Заседание».
Сочельник
Написана в начале 1899 г. Впервые опубликована в еженедельнике «Будучшсть»,
Львов. 1899, № 2, июль.
Дети
Впервые — в сб. «Каменный крест». Первый вариант новеллы, приложенный
к письму В. И. Морачевскому от августа 1897 гл см. в Дополнениях.
Подпись
Первый вариант — в журн. «Л^тературно-науковий bîcthhk», 1899, т. V, кн. 3,
окончательный текст в сб. «Каменный крест». Прототип Доти — племянница автора
Евдокия — обучала односельчан в Русове подписывать бумаги. Первый вариант
см. в Дополнениях.
Поле
Впервые — в сб. «Каменный крест».
Письмо
Написана в 1897 г. Впервые опубликована в газете «Праця», 1897, 19 декабря,
№ 17. В основе новеллы — истинное происшествие, см. письмо к В. И. Морачевскому
от ноября 1897 г. на с. 199—200 наст, книги.
Вечерний час
0 первой публикации см. прим. к новелле «Заседание». Первоначальный вариант
1898 г. — в письме к В. И. Морачевскому от января 1898 г. — см. на с. 203—204
наст, книги.
ПУТЬ
Третий сборник новелл Стефаника. Вышел во Львове в начале 1901 г.,
открывался стихотворением в прозе «Путь» и включал 12 новелл. Об этом сборнике Иван
Франко отозвался с высокой похвалой з статье о «южнорусской» (украинской)
литературе в т. 41 «Энциклопедического словаря» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.
Путь
Впервые — в сб. того же названия, Львов, 1901. Этим стихотворением в прозе
открывается сборник — третья книга новелл Стефаника. Первоначальный вариант был
написан 21 февраля 1900 г. ко дню рождения Евгении Кирилловны Калитовской,
старшей сестры будущей жены автора — Ольги Кирилловны Гаморак.
Смерть
Впервые — в журн. «Громадський голос» Львов, 1899, № 23, 1 декабря.
Давнее
Впервые — в журн. «Громадський голос», 1900, 6 и 12 августа, № 17, 18.
1 Луиъ Заливайко — персонаж повести украинского писателя и общественного
деятеля консервативного направления Ивана Григорьевича Наумовича (1826—1891).
2 «Божьи письма» — лубочные религиозные издания морально-дидактического
содержания.
270
Примечания
Вестники
Впервые — в сб. «Путь».
Май
Впервые — в сб. «Путь».
Поджигатель
Написана в апреле 1900 г. В автографе посвящена другу Стефаника, члену
партии радикалов Сафату Шмигеру. Впервые напечатана в журн. «Л1тературно-науковий
bîcthhk», 1900, т. X. кн. 6.
Кленовые листочки
Впервые — в журн. «Л^тературно-науковий bîcthhk», 1900, т. XII, кн. 12.
Похороны
Впервые — в сб. «Путь». Первоначальный вариант — в письме В. И. Морачевскому
от 17 мая 1896 г, (см. с. 180 наст, книги).
Сон
Впервые — в сб. «Путь».
Бессарабы
Впервые — в сб. «Путь». В основе новеллы — семейные предания и факты иэ
истории рода Стефаников (подробнее см. об этом в Приложениях с. 243). Это
отметил и сам Сгефаник в своей «Автобиографии», продиктованной им одному из
родственников в 1929 г.
Озимь
Впервые — в сб. «Путь».
Вор
Впервые — в сб. «Путь». В новелле описано истинное происшествие. Только
в жизни «жена Георгия все же спасла вора, а потом лежала больная около двух
месяцев и я ее лечил, и при всем том она была довольна, что не дала убить, да и
сам Георгий был очень доволен», — писал Стефаник в статье «Под впечатлением
спектакля „Земля"».
Чудак
Впервые — в сб. «Путь».
1 Староста — в то время глава городской администрации, обычно из польских
шляхтичей.
МОЕ СЛОВО
В четвертом сборнике, опубликованном во Львове в 1905 г. и включающем все
новеллы, содержавшиеся в «Синей книжечке» и сб. «Каменный крест», напечатаны
также открывающее книгу стихотворение в прозе «Мое слово» и новелла «Суд»·
Примечания
271
Мое слово
Впервые — в журн. «Л1тературно-науковий bîcthhk», 1901, т. XIII, кн. 1.
Первоначальный вариант, под названием «Confiteor» (лат. признаюсь), был, как и «Путь»,
написан ко дню рождения Е. К. Калитовской (за год до «Пути» — 28 февраля 1899 г.).
Суд
Впервые — в сб. «Мое слово», Львов, 1905. Написана новелла в 1901 г. В основе
новеллы — действительное происшествие в Русове в 1901 г.
ЗЕМЛЯ
Пятый сборник новелл Стефаника отделяет от четвертого двадцать один год.
«Зе^ля» вышла во Львове в 1926 г. Разумеется, за это время сочинения
Стефаника выходили неоднократно, и все же это были лишь сборники новелл, написанных
до 1905 г. В течение двенадцати лет, до 1917 г., Стефаник вообще не публиковал
новых иовелл. «Земля» представляет собою цикл из восьми новелл на темы,
связанные с первой мировой войной.
Мать-земля
Впервые — в журн. «Лггературно-науковий bîchhk», 1922, кн. 1. По признанию
автора, в новелле описано действительное происшествие. Уговаривал беженцев
вернуться отец писателя — Семен Стефаник (1848—1920), чьей памяти автор и
посвятил первоначально это произведение (в автографе посвящение: «Памяти моего отца»),
Мария
Написана в 1916 г. Впервые — в альманахе «Кривавого року», вышедшем в Вене
в 1917 г.
1 ...праздник Шевченко... — В марте 1914 г. исполнилось сто лет со дня
рождения Т. Г. Шевченко. Во многих селах Западной Украины крестьяне насыпали
курганы в память поэта.
2 Китайка — у запорожцев был обычай: жена или невеста, отправляя казака на
войну, давала ему красный платок «китайку», чтобы в случае гибели было чем
покойнику голову накрыть.
Случай с детьми
Написана в 1916 г. Впервые опубликована в «Буковинском православном
календаре на 1917 год», изданном в Вене. Эта новелла—первое прозаическое
произведение, написанное Стефаником после 15-летнего перерыва.
Нянька
Впервые — в изданном в Коломые в 1921 г. «Учительском календаре на 1922 год».
Сыновья
Написана летом 1922 г. В автографе посвящение: «Моему другу Левку Бачин-
скому». Впервые опубликована в журн. «Л1тературно-науковий bîcthhk», 1922, кн. VII.
Военные убытки
Впервые — в журнале «Червоний шлях», Харьков, 1926, № 2.
272
Примечания
Morituri
Впервые в журнале «Червоний шлях», 1926, № 2.
Дед Грии
Впервые—в журнале «Червоний шлях», 1926, № 2. Герой—историческое лицо:
крестьянин из села Волчксвцчы на Покутье Григорий Запаринюк, активист
крестьянского движения, друг Стефаника, Ивана Франко. Леся Мартовича.
1 Павлпк Михайло Иванович (1853—1915) — украинский писатель и выдающийся
культурный и общественный деятель. Вместе с И. Франко основал в 1890 г.
прогрессивно-демократическую партию радикалов.
2 Τ рыл'евский Кирило (1864—1942) — деятель партии радикалов, был также
руководителем спортивного общества «Сечь» и носил через плечо ленту.
НОВЕЛЛЫ 1926—1933 гг.
Нитка
Впервые — в журн. «Cbît», Львов, 1927, № 6. В автографе посвящена Ивану Се-
манюку. Эта новелла явно автобиографична. Такою запомнил Стефаннк свою семью,
когда он был ребенком. В тексте названы своими именами отец писателя — Семен,
он сам, брат Юрко, сестра Мария. Не названа только главная героиня — мать
Стефаника — Оксана.
1 Иван Юрьевич Семанюк— украинский прозаик Марко Черемшина. (1874—1927)
многолетний близкий друг автора.
Старинная мелодия
Впервые — в журн. «Червоний шлях», 1927v № 5 (под заглавием «Братья»).
Новелла автобиографична.
Славайсц
Написана в начале 1927 г., впервые опубликована в журн. «Червоний шлях»,
1927, № 5.
1 . . . московского царя убили. — Речь идет об убийстве императора Александра II
1 марта 1881 г.
Межа
Впервые — в журн. «Л1тературно-науковий bîchhk», 1927, кн. 2.
Волчица
Впервые — в журн. «Червоний шлях», 1927, № 5.
1 Вильгельм—Вильгельм II (1859—1941), германский император.
2 Николай — Николай Второй (1868—1918), русский император.
3 Гарибальди Джузеппе (1807—1882), выдающийся итальянский революционер,
герой национально-освободительной войны в Италии.
Грех
(«Что-то будет? . . »)
Впервые — в журн. «Ваплпе», Харьков. 1927, № 3.
Мать
Впервые — в журн. «Ваплпе», 1927, Nfl 3.
Π римечания
273
Роса
Написана в мае 1927 г. Впервые опубчикована в «Народном иллюстрированном
календаре общества „Просвета" на 1928 год». Львов, 1927.
Аиры-бабы
Впервые — в львовском журн. «Проти хвиль», 1929. № 1. В основе новеллы—*
истинные происшествия в Снятыне осенью 1928 г.
Школьник
Впервые—во львовском журнале «Р^дна школа». 1932. Nb 1„
Окровавленный вексель
Впервые — в юбилейном собрании сочинений автора (Львов, 1933).
Гоех
(«Вдова Марта давно уже болеет. . .»)
Впервые — * юбилейном собрании сочинений 1933 года.
У нас что ни день — праздник
Впервые — в юбилейном собрании сочинений 1933 года.
1 ,..зонтики. — Зонтик слыл признаком культурности, трезвости. Зонтики носили
в селах посетители возникших в Галиции в 70—80-х годах прошлого века читален.
2 «Наука» Наумовича — журнал «москвофильского» направления, выходивший
в 1871—1886 гг. в Коломые и Львове под редакцией И. Г. Наумовича.
3 «Сечевики» — в данном случае—члены спортивно-противопожарных обществ в
селах Галиции
СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ
При жизни автора ни одно из ©тих произведений ке издавалось. Пять из них:
«Будь такою», «Посвящается Ольге», «Палисадничек бога молил.. .». «Ночью», «Рано
утром она причесывалась. ..», впервые напечатаны в журнале «Радянська Укра1на»,
1941, № 2. Остальные — в ПЗТ К., 1953. т. 2 («Весна» в ©той публикации помещена
в разделе «Неоконченные произведения», хотя представляет собою впвлне
законченную миниатюру). Все стихотворения написаны в 1896—1897 гг. Миниатюрам «В
мареве плавают леса. . .», «Палисадничек бега молил. . .», «Рано утром она
причесывалась. ..» заглавия даны в публикациях по первой строке.
Посвящается Ольге
1 Ольги — О. К. Гаморак. в будущем жена Стефаника.
Рано утром она причесывалась. . .
В этом стихотворении о первой любви автора — Евгении Вагильевнг Бачннской
(умершей вскоре — 7 декабря 1897 г. — от туберкулеза) дан дпнзод о котором
В. Стефакик сообщал в письме В, Морачевскому от октября 1897 г. {см. с. 198
наст, книги).
1 Вацлав — В. И. Морачевский.
18 Васил» Стефан я и
2/4
Примечания
ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО
Богач
Впервые — в ПЗТ, К., 1953, т. 2. Над новеллой Стефаник работал в 1900—
1902 гг.
[Стачка]
Впервые — в журн. «Радянська Л1тература». К., 1940, № 2. В украинских
изданиях печатается без заглавия, поскольку при жизни автора не публиковалась, а в
автографах не озаглавлена. По свидетельству сыновей Стефаника, новелла была закончена,
но последняя страница чистовой рукописи утеряна. Приблизительная дата написания —
1902 г.
ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА
В.И.Морачевскому 7.VIII.95 [Обертын]
1 Морачевский Вацлав Ипполитович (1867—1950) — биолог, друг Стефаника со
студенческих лет. Окончил медицинский факультет в Цюрихе, впоследствии жил
во Львове. После воссоединения Украины и до смерти — профессор Львовского
ветеринарного института, доктор биологических наук. Прекрасно знал литературу,
живопись, музыку, неоднократно выступал с критическими статьями о Стефанике,
переводил его произведения на польский язык.
2 Супруга — Морачевская София Атаназиевна (1866—1925), урожденная Окунев-
ская, жена Морачевского, первая в Австро-Венгрии женщина-врач. Близкий друг
Стефаника.
3 Обертын — центр уезда, в котором Стефаник был агитатором крестьянской
радикальной партии во время выборов в галицийский сейм в 1895 г., в связи с чем и бы\
арестован 3 августа, когда ехал к Морачевскому в Сторожинец — городок на Буковине.
В.И.Морачевскому 12.VIII.95 [Обертын]
1 Полевой — надсмотрщик за полевыми работами на помещичьих землях.
2 Чорногора — горный хребет в Карпатах.
3 Викно — очевидно, селение в Заставнянском районе Черновицкой области.
4 Папа — отец Стефаника, в то время войт в Русове, узнав об аресте сына,
возмутился его «антиправительственными» настроениями и в наказание лишил его
материальной помощи на все дальнейшее пребывание в университете.
В.И.Морачевскому 24.XI.95 [Краков]
1 Кадеты — учащиеся военного училища, расположенного в Краковском замке.
В. И. Морачевскому Русов 29.1.96
1 «Нечитальный» — персонаж первого произведения друга и соученика Стефаника
по Коломыйской и Дрогобычской гимназиям, впоследствии — выдающегося
украинского прозаика Леся Мартовича (1871—1916). Рассказ (он так и называется
«Нечитальный») написан при участии Стефаника. См. об этом в письме Стефаника
Морачевскому от 17 февраля 1896 г. За несколько дней до этого письма Стефаник
выслал Морачевскому текст рассказа.
2 Гусак — персонаж из рассказа «Нечитальный».
3 . . . газетчик. .. — Имеется в виду Μ. Η. Павлик.
4 Драгоманов Михайло Петрович (1841 —1895)—украинский историк, публицист,
литературовед, общественный деятель буржуазно-демократического, затем либерально-
буржуазного направления.
6 «Monitor» — старейшая польская газета, выходившая во Львове с 1765 г.
Π римечания
275
В. И. Морачевскому 17.11.96 [Краков]
1 Из письма В. Морачевского Стефанику от 2 января 1896 г. известно, что у Мо-
рачевского было сообщение по проблемам физиологии в Цюрихском университете,
но слушатели только «любовались безупречностью фрака и перчаток» (Отд. рукописей
И-та л-ры им. Т. Г. Шевченко АН УССР, ф. 8, ед. хр. 603).
2 «Номера» — произведение Леся Мартовича, написанное по наметкам Стефаника
также еще в гимназические годы (1890—1891).
3 Словацкий Юлиуш (1809—1849) — польский писатель-романтик. Его
творчество— предмет юношеского увлечения Стефаника.
4 Биборский — личность не установлена.
5 Маккай Джон Генри (Mackay J. Η., 1864—1933) — немецкий прозаик и поэт,
шотландец по происхождению, популярный в 90—900-х годах. Морачевский послал
Стефанику, вероятно, роман Маккая «Анархисты».
6 «Radykali ruscy» («Украинские радикалы») — брошюра польского публициста-
иезуита Яна Бадени (1858—1899). опубликованная в 1896 г., — резкое выступление
против польских и украинских радикалов.
7 Кобринская Наталия Ивановна (1855—1920) — украинская писательница и
общественный деятель. В 90-х годах руководила на Западной Украине движением
феминисток.
В. И. Морачевскому 26.11.96 [Краков]
1 ... путь в Вашу Обетованную землю... — т. е. в Швейцарию, где тогда
находились Морачевские. Стефанику так и не удалось туда поехать.
О.К.Гаморак 29.11.96 [Краков]
1 Гаморак Ольга Кирилловна (1871—1914) — дочь священника, в дальнейшем,
с 1904 г., — жена Стефаника и мать троих его сыновей.
2 Спенсер Герберт (1820—1903) — английский буржуазный социолог.
3 Якоб сен Петер (1847—1885) — датский писатель-романтик.
* Даниловичи — Северин (1861—1939), адвокат, один из руководителей партии
радикалов и его жена Анна (1868—1953), сестра Ольги Гаморак.
5 Τрылевские — семья Кирила Трылёвского (о нем см. прим. к новелле «Дед Гриц»).
6 Плешканы — семья свояка Стефаника Ивана Плешкана (1867—1902), женатого
на сестре Ольги Гаморак — Олене.
7 Стецева— деревня в Ивано-Франковской области; родина Ольги Гаморак.
8 Левицкий — личность не установлена.
В. И. Морачевскому 15.III.96 [Краков]
1 Келлер Готфрид (1819—1890) — швейцарский писатель, автор упомянутой ниже
баллады «Шалопай» («Taugenichts»).
В. И. Морачевскому 2.IV.96 [Краков]
1 В Русое не еду. — В письме от 30 марта 1896 г. Морачевский писал
Стефанику: «На праздник, верно, сбежите из Кракова домой» (Рукописный фонд
Института литературы АН УССР, ф. 8, ед. хр. 572).
2 Юрко — брат Стефаника, Юрий.
8 Параска — сестра Стефаника, Параскева.
4 Владзё—младший брат Стефаника, Володымир.
6 «Вербная дощечка»—пасхальная забава, народная игра у галичан.
6 Малыш — сын Вацлава и Софии Морачевских, Юрий Вацлавович (1896—1935),
впоследствии украинский ученый — юрнст, автор трудов по истории чешского права,
переводчик.
18*
276
Примечания
В. И. Морачевскому
16.ÎV.96 [Краков]
1 Последнее Ваше письмо... — Морачевский в письме от 10 апреля 1896 г.
с огромной болью повествовал об эмиграции галицийското крестьянства* «Голод гонит
их прочь в неведомую даль, а опекуны в сюртуках [т. е. местные власти] даже
бежать из этого края не разрешают» (Рукописный фонд Института литературы
АН УССР, ф. 8, ед. хр. 575). Морачевского мучали эти «человеческие невзгоды» и
равнодушие галицийской интеллигенции к наро иному гс-рю. О голодной эмиграции
галицийских крестьян см. также письма от 22 и 29 апреля 1896 г. на с. 174—176
наст, книги.
Л. В. Бачинскому
29.1 V 96 [Краков]
Стефаника в гимна-
радикальной партии,
1 Бачинский Лев Васильевич (1872—1930) — адвокат, друг
зические годы. Позднее — один из руководителей крестьянской
когда она стала реакционной.
2 Серафинцы и Городенка — села на Покутьи. В первом Л. Бачинский жил,
а во втором работал в конторе адвоката Теофила Окуневского (1858—1937),
позднее — одного из руководителей буржуазно-националистических организаций в Галиции.
8 Длинномордый вол—Т. Окуневский.
4 . . . день, когда его Милость мыла ноги нищим.. . — По католическим
установлениям в день благодарения священники моют ноги нищим. Ирония Стефаника
направлена в адрес католического архиепископа.
5 Олесниикий Евгений (1860—1917) — активный деятель
буржуазно-националистической партии «народовцев» в Галнции. Здесь «окуневскне и олесницкие» —
саркастически помянуты, как собирательные типы соглашателей.
4 Полька — за этой подписью появилось ρ польской прессе письме о
неравноправной системе выборов в сейм.
7 Сестра—Евгения Бачинская (1875—1897) — сестра Льва Бачинского. По
признанию Стефаника — его «первая любовь».
ß. И. Морачевскому
11.V.96 [Краков]
1 Lange—речь идет, вероятно, о книге стихов «Poesie er. I» (1895) Антония
Ланге (1863—1929) — польского поэта-модерниста из группы «Молодая Польша».
Л. В. Бачинскому
14.V.96 [Краков]
1 Марко — сын судьи в городке Коломыя, друг Стефаника и Л. Бачинского.
2 Геня — Евгения Бачинская.
8 Панна Теодороеич — дочь русовского помещика И. Теодоровича.
4 Słuari Mili—Стюарт Милль (1806—1873)—английский буржуазный философ
и экономист. Писал также работы об эмансипации женщин.
6 Окуневская — девичья фамилия С. Морачевсксй.
6 Ковалевская Софья Васильевна (1850—1891) — выдающийся русский
математик а также автор нескольких повестей.
7 ... женщин нет в университетах. . . — В Австро-Венгрии до начала XX в.
женщин в университеты не принимали.
В. И. Морачевскому
1 Белелуя — село вблизи Русова; Сянок—городок в Польше.
2 *л/7™/1 ™/,*»я t — Начиная с этих слов, далее
17.V.96 [Краков]
. драма муки.
В. И. Морачевскому
прототип новеллы «Похороны».
9.VÎ.96 [Краков]
1 Гонец из Марафона — персонаж древнегреческой истории: воин, прибежавший
из Марафона в Афины (а не на Крит, как ошибочно написал в том же письме Сте-
фаник), чтобы сообщить о победе над персами.
Примечания
277
3 ... посмотрите на другого гражданина. — Далее в форме наброска новеллы —
ответ на письмо Морачевского от 1 июня 1896 ι., полное горестных и негодующих
рассуждений о событиях 18 мая того же года на Ходынском поле в Москве во время
коронации Николая П.
Л. В. Бачинскому 12. VI.96 [Краков1
1 Величка — город неподалеку от Кракова, известный своими соляными копями.
2 Η — Наталия Дригинич, в те годы директор кооперативного магазина
«Народной торговли» в Городенке.
В. И. Морачевскому [начало декабря 1896 г. Краков1
1 Марийка — старшая сестра Стефаника Мария (1869—1892).
? Сторожинец — городок в Черновицкой области. Там жили родители Софии Мо-
рачевской.
В. И Морачевскому [март 1897 г.. Краков]
1 Всеобщая курия. — В Австро-Венгрии была куриальная система выборов —
по сословиям, ограничивающая права трудящихся.
B. И. Морачевскому [июнь. 1897 г., Краков]
1 9го путешествие. .. — Стефаник собирался навестить Морачевского в Швейцарии.
C. А. Морачевской [июль 1897 г.. Куты]
1 Baw отец — отец Софии Морачевской Атанавнн Окуневскнй, врач в Сторожинце.
В. И. Морачевскому [август 1897 г., Сторожинец]
■ Буденеи — село в двенадцати километрах к югу от Сторожинца.
2 К письму приложены семь миниатюр. Три из них — стихотворения в прозе
«В мареве плавают леса...», «Палисадничек бога молил. . .». «Рано утром она
причесывалась. ..» — напечатаны выше в наст, книге. Остальные четыре, представляющие
собою первые варианты новелл «Портрет», «Дети», «Одна-одинешенька». «Провожали
sa село», — см. в Дополнениях,
С А. Морачевской [август 1897 г., Куты]
1 Гонта Иван (?—1768) — герой Колиивщины, восстания украинских крестьян
против польских панов-крепостников в 1768 г. По преданию (впрочем, не
подтвержденному документально), Гонта в Умани убил своих малолетних детей, обращенных
матерью в католичество Этот эпизод есть в поэме Т. Шевченко «Гайдамаки».
В. И. Морачевскому [начало октября 1897 г., Русов]
s ... тот орех солгал. ,. — Речь идет о стихотворении в прозе «Рано утром она
причесывалась» (см. с. 154 наст, книги), где изображена Евгения Бачинская.
2 «Осеннее» — первый сборник произведений, подготовленный Стефаником к
печати в 1897 г., но не увидевший света. История этой неудачи изложена Стефаннком
в следующих строках его письма Морачевскому от апреля 1898 года: «В течение
последних месяцев я пробовал напечатать маленькую книжку (120 стр. in 8), но те,
кто должен был дать деньги, сказали: „Талант есть, но нет в этих произведениях
служения обществу, нет уроков для нынешнего поколения, подобное могут позволить
себе печатать немецкие богачи".
Я все боялся быть „начинающим литератором". А теперь вижу, что недаром
боялся. Каждый дурак претендует на роль отца, брата, адвоката, лезет с поучениями
и советами. Я изорвал у них на глазах мои бумаги, и теперь у меня есть только
278
Примечания
записи, из которых я черпал материал для своих трудов. Не я изорвал и остальное,
так что теперь чист от всего, что „не служит обществу". Теперь я стану служить не
обществу, а людям и себе.
Меня все эти передряги измучили вконец. Это ведь впервые я обращался к знати»
как бедный мальчик, прося, чтобы они поставили на окно и мой красивый цветок.
А мне отвечают: красив цветок, да не больно.
<.. .> Мне горько не то, что они не хотели печатать, а то, что велели писать так,
как они хотят, а не так, как я хочу и умею. Я разозлился и говорил себе, что
по-украински не буду писать, а по-другому не умею, и карьера моя, не начавшись,
кончилась. Но теперь буду писать...» (ПЗТ, т. 3, с. 138).
3 Рожнятов — городок Станиславской, теперь Ивано-Франковской области.
В. И. Морачевскому [ноябрь 1897 г., Краков]
1 . *. Сн уже был женат... — Он — Федор Котюк, прототип героя новеллы «Письмо»,
поводом для написания которой и послужила трагическая история этого человека,
крестьянина г.ела Пистынь, близ Косова, активиста радикального движения, убившего
жену, осужденного на семь лет заключения и через три года умершего в тюрьме.
2 «Przedświt» («Рассвет») — орган польских социалистов, издававшийся во Львове
с 1893 г. «Z pola walki» («С поля боя») — сборник материалов о начатках
социалистического движения в Польше, изданный в Лондоне в 1897 г.
О. К. Гаморак [ноябрь 1897 г., Краков]
1 Директор — Борковский Олександр (1841—1921) — деятель украинской
буржуазно-националистической партии «народовцев», затем перешел на платформу
национал-демократов. В начале 90-х годов был директором гимназии в Дрогобыче.
2 «De profundis» («Из глубин» — лат.) — изданное в 1894 г. на немецком языке
произведение польского писателя-декадента Станислава Пшибышевского (1868—1927).
В. И. Морачевскому [ноябрь 1897 г., Краков]
1 Вам. .. счастливо расположиться во Львове. — В 1897 г. В. Морачевский
переехал на постоянную работу во Львов.
2 «Зоря» — литературный и научный журнал либерального направления,
который издавало Научное общество им. Т. Шевченко во Львове с 1880 по 1897 г.
3 ...Книжка Pierre Louis «Aphrodite». --Роман французского писателя Пьера
Луиса (1870—1925) «Афродита».
4 ... подкуривала волосами бабки... — По крестьянскому поверью, снять испуг
можно, обкурив перепуганного волосами того, кто напугал.
В. И. Морачевскому [январь 1898 г., Краков]
1 Людям он никогда... — С этог о места — эскиз новеллы «Вечерний час»,
несомненно, автобиографического характера.
О.С.Маковею 10.11.98 [Краков]
1 Маковей Осип Степанович (1867—1925) — украинский писатель, критик,
публицист. В то время — один нз редакторов журн. «Л1тературно-науксвнй bîcthhk» (в
данном письме «Вктник»).
2 «Праця» — черновицкая газета, в которой в конце 1897 г. печатались первые
новеллы Стефаника.
В. И. Морачевскому [февраль 1898 г., Кряков]
1 Это письмо—ответ на грустное письмо Морачевского от 12 февраля 1898 г.
Π римечания
279
О.С.Маковею Краков, 11.ΙΙΙ.98
1 Получив Ваше письмо... — Приводим письмо О. С. Маковея Стефанику от
3 марта 1898 г.:
Львов, 3.ΙΙΙ.1898
Достопочтенный пан!
Из присланных- рассказов лучший «Заседание» — здесь сами люди говорят за
себя, а в фотографии «Дорогой из города» двое говорят о третьем (это трудный
способ). То, что признает за Вами каждый, — это великолепную наблюдательность.
Но Вы, должно быть, думаете, что, кроме наблюдательности, больше почти ничего
и не требуется. Так думать нельзя, ведь хороший стенографист или фонограф
может «записать» речи на заседании сельской рады еще лучше. Необходимо еще
обработать, сгруппировать сцены и моменты. Так, в «Заседании», по мнению моему и
Франко, и Грушевского, следовало вывести на первый план «воровку» и по
отношению к ее делу вывести и все, что сказано в Вашем очерке о сельской раде. Тогда
вь;шла бы картинка столь же правдивая, но, кроме того, и артистически округленная.
В фотографии «Дорогой из города» Вы так скупы на слова, что пишете только:
первый (говорит), второй (тоже говорит). Можно согласиться на то, что они говорят,
но если уж это «фотография», а не два фонографа, то стоило бы хоть несколькими
словами изобразить собеседников.
Картинка «Вечерний час» мне нравится, хотя и здесь вижу эту излишнюю
скупость на слова — до многого читатель должен доходить сам. Это неоднажды выглядит
так, как если бы художник оставил на картине место для человека, а его бы не
изобразил, предоставил зрителям догадаться, что здесь должен быть человек да еще студент
университета, а родом из мужиков, ну, словом, барчук какой-то. «Ему не сиделось,
так и тянуло шагать от стены к стене». Читаешь и думаешь: кто такой? Мужик или
барин, или еще кто? Только потом уже выходит, что это мужицкий сын пошел
в науку. Ага! Коли так, стало быть, надо снова читать сначала, ведь раньше-то мы
не знали, кто он. Картинка испорчена.
На мой взгляд, жаль такие превосходные наблюдения живописать такими
жалкими лаками. Как говорят, мелодия есть, да гармонизация плоха. Разумеется, великое
дело найти и самую мелодию, но какая разница, например, между народными
мелодиями в устах мужиков и теми же самыми мелодиями в инструментовке Лысенко —
Вы знаете сами. Что выходит из этой простой крестьянской мелодии!
Вообще, будь у меня своя газета и согласись Вы дать эти три картинки мне,
я бы безо всяких печатал их за те хорошие качества, которые у них есть. Но будь
у меня самого материал, полный живых наблюдений, я жалел бы пускать его в свет
без хорошей обработки. Это слишком сырые эскизы. Из того, что Вы уже напечатали,
и из двух (мужицких) присланных можно бы составить один или даже несколько
законченных этюдов, а так они пойдут в ту рубрику, в которую молодые зачисляют
свои «сырые» эскизы: махнул рукой и спрятал в папку, как материал для чего-то
лучшего. Несколько черт схвачено верно, а остальные — так. ..
Не знаю, согласитесь ли Вы с моим мнением, но прошу Вас подумать над этим —
не повредит. Для Вас, надеюсь, дело не в том, чтобы сейчас и непременно напечатать
(это у нас не трудно), а в том, чтобы вещь была хороша и продержалась бы хоть
несколько лет. Без терпения и «шлифовки» тут не обойдешься.
Мужицкий язык менять не надо, он может остаться.
Ответьте, что Вы думаете?
Ваш Осип Маковей».
2 «Biberpelz» («Бобровая шуба») — пьеса Г. Гауптмана, где высмеяны воры.
В. И. Морачевскому [июнь 1898 г., Русов]
1 В этом письме Морачевского от 14 июня 1898 г. впечатления от голодных
бунтов крестьян весной 1898 г. в Галиции.
280
Π римечания
В. И. Морачевскому [июнь, 1898 г. Русов]
1 Рукопись — вероятно, речь идет о рукописном тексте перевода стефаниковских
новелл на польский язык, выполненного Морачевским.
7 Это письмо Мора невского не сохранилось.
% «Kurjer»—«Kurjer Lwowski» — польская либеральная газета, выходившая во
Львове с 1884 по 1914 г,
О. /О, Кобылянской 18.VI.98. Русов
1 Кобылрнская Ольга Юльевна (1863—1942) — выдающаяся украинская
писательница. Друг Стефаника и пропагандистка его новелл. В ее переводе на немецкий язык
новелла «Письмо» была опубликована уже θ 1899 г.
3 Kpyшельни икая Соломия (уменьшительное — Солоха) Амвросиевна (1873—
1952) — известная украинская певица, близкая знакомая Стефаника. Ее концерт в Ко-
ломые состоялся 23 нюня 1898 г.
ß. И. Морачевскому [июнь 1898 г., Русов]
1 Будзиновский Вячеслав (1868—1935) — украинский общественно-культурный
деятель, прозаик публицист редактор радикально-демократической газеты «Праця»
(Черновцы, 1897). где напечатал первые новеллы Стефаника.
2 Романчук Юлиан (1842—1932) — один из лидеров партии народовцев, затем —
партии национал-демократов, основатель общества «Просв1та» («Просвещение»), газеты
«Дио», многолетний депутат галицийского сейма, австро-венгерского парламента,
убежденный противник революционной демократии.
3 Огоновский Омелян Михайлович (1833—1894) ~ украинский литературовед»
глава «Пргагвпи»,
О. Ю. Кобылянской Русов. 14.Х.98
* ...карточки для литературы...—Это письмо написано на специальной плотно»
бумаге определенного формата, на которой Стефаник писал черновики новелл.
9 В Трийце умерла у одного мужика жена. . . — Здесь впервые рассказана
история, послужившая основой для новеллы «Новость». Трнйца — село на берегу Прута-
О событиях в Трийце см. также письма к О. Кобылянской от 16 декабря 1898 г. и
к В. Морачевскому от декабря 1898 г. (с. 216—217 наст, книги). Пораженный
рассказом о том, что произошло в Трийце. Стефаник поехал туда и все разузнал на
маетесь. Ю. Кобылянской Русов 20.Х.98
1 Спасибо, что рассказываете мне о себе.—Это письмо — ответ на письмо О.
Кобылянской от 23 августа 1898 г., где она рассказывала о себе.
2 ... сымут веночек. . . — По украинскому народному поверью веник из цветов
барвинка — символ девственности. Выйти замуж — лишиться венка.
9 На юбилей поеду . — Имеется в виду 25-летие литературной деятельности
И. Франко, отмечавшееся 30 октября 1898 г. во Львове. Поехать ^на юбилей Сте-
фанику не удалось: помешала болезнь матери.
В. И. Морачевскому [декабрь 1898 г., Трийца}
1 ...по Zabolocicy — скорее всего описка; речь вероятно, идет о Заболотове —
городе, расположенном неподалеку от села Трийца.
7 Калитовские — семья священника села Трийца Василя Калитовского, мужа
сестры Ольги Гаморак — Ebj ении.
Π римечания
281
О. Ю. Кобылянской f16.XU.98 Трийца]
1 ...юбилей в Вашем городе удался... — 3 декабря 1898 г. в Черновцах
праздновалось столетие со времени выхода в свет «Энеиды» И. Котляревского.
2 «На полях» — очерк О. Кобылянской. опубликованный в журн. «Л1тературно-
науковнй В1стник» в начале 1898 г., вызвал возмущение церковников, поскольку в нем
описана истинная история, как в селе Дымка пьяная попадья избила в церкви попа.
О. Ю. Кобылянской Π9.ΠΙ.99 Краков]
1 «Поэты» — «фантазия» О. Кобылянской. напечатанная в 1-й кн. журн. «Aîts-
ратурно-науковий bîcthhk» за 1899 г.
В.К.Гамораку 29.III.99. Краков
1 Гаморак Виктор Кириллович (1879—1901) — брат Ольги Гаморак жены Сте-
фаника. /
2 Барышкевичи — нарицательное имя соглашательской интеллигенции (укр. дороб-
«евичи от доробок — барыш).
3 «Оскудела наша доля» — песня композитора Н. Вахнянина на слова В.
Федоровича.
В.К.Гамораку 8.VI.99 фраков]
1 Гаморак Кирило (1836—1909) — тесть Стефаника, священник села Стецева,
В. К. Гамораку [август 1899 г.. Довгополе]
1 Дашинский Игнаци (1866—1936) — лидер польских правых социал-демократов
Галиции и Силезии Впоследствии Стефаник разошелся с ним я резко критиковал
его политическую позицию.
Автобиография
Написана в 1926 г. по просьбе Ивана Лызанивского — собирателя и редактора
произведений Стефаника, готовившего издание его новелл на Советской Украине.
1 Польское восстание 1863—1864 гг., охватившее Королевство Польское, Литву,
часть Белоруссии, Правобережную Украину, было направлено против остатков
феодализма и выражало стремление польского народа к восстановлению национальной не»
зависимости.
2 «Маруся» Квитки... — Речь идет о повести классика украинской прозы XIX века
Г. Ф. Квнтки-Основьяненко (1778—1843).
3 «Ревут ли волы, коли ясли полны?» (в русском переводе — «Пропащая сила») —
классический украинский роман Панаса Мирного (П. Я Рудченко) (1849—1920) и его
брата Ивана Билыка (И. Я. Рудченко) (1845—1905), вышедший в 1880 г. в Женеве,
поскольку в России было запрещено публиковать что-либо на украинском языке
4 Лепкий Богдан Селиверстович (1872—1941) — украинский писатель
буржуазно-националистического направления. В ранних произведениях — декадент, затем реалист,
5 Пшибышевский Станислав (1868—1927) — польский писатель-модернист. Выл
редактором журнала «Zycie», где печатались в переводе на польский язык
произведения Стефаника; Оркан Владислав (1876—1930) — известный польский писатель,
популяризатор украинской литературы в Польше (в том числе и прозы Стефаника);
Выспянский Станислав (1869—1907) — выдающийся польский поэт, драматург н
художник; Каспрович Ян (1860—1926) — польский поэт и переводчик; Гетмайер Кл-
зимир (1865—1940) — выдающийся польский писатель, а конце XIX в. модернист.
6 «Życie» — издававшийся в Кракове в 1897—1900 гг. журнал группы
литераторов-модернистов «Молодая Польша».
282
Примечания
Людмила
[ческий ггюд. впервь
(Львов), 8.1 1927
Автобиографический »тюд, впервые опубликованный в газете «Громадский голос»
ПЕРВЫЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ
Провожали за село
Первая черновая редакция, посланная автором в письме к В. И. Морачевскому
в августе 1897 г.
Ангел
Первая черновая редакция, посланная в письме к С. Морачевской в 1898 г.
Одна-одинешенъка
[Без заглавия]
Первоначальный вариант новеллы, приложенный к письму В. И. Морачевскому от
августа 1897 г.
Портрет
[Без заглавия]
Первоначальный вариант новеллы, приложенный к письму В. И. Морачевскому
от авгзгста 1897 г.
1 Л. О. — Атанааий Окуневский, отец жены В. Морачевского, прототип героя
новеллы.
Дети
[Без заглавия]
Первоначальный вариант новеллы, приложенный к письму В. И. Морачевскому
от августа 1897 г.
Подпись
Первая редакция новеллы, опубликованной в журн. «Л1тературно-науковий bîcthkk»,
1599, т. V, кн. 3.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ1
Айтматов Ч. 265
Александр II 272
А. О. — см. Окуневскнй А,
Арагон Л. 265
Бабель И. Э. 257, 265
«Конармия» 257
«Переход через Збруч» 257
Бадени Я. 168, 275
«Radykali rusky» («Украинские
радикалы») 168, 275
Байрон Дж. Г. 17Θ
Бандура О. И. 250
Бачинская (мать Л. В. Бачинского) 230
Бачинская Е. В. (сестра. Теня) 176—179,
273, 276, 277
Бачинский Л. В. 175. 177, 181, 227, 230,
231, 271, 276, 277
Белов В. И. 265
Бетховен Л. ван 262
Биборский 168, 275
Билык И. (Рудченко И. Я.) 227, 281
«Ревут ли волы, коли ясли полны?»
(«Пропащая сила») 227, 281
Битов А. Г. 265
Богданович М. 265
«Божьи письма» 65, 270
Борковский О. (директор) 201, 228, 278
Будзиновский В. 211, 229, 240, 280
«Будучшсть» 269
«Буковинский православный календарь»
249, 271
Вайгель 226
«Вапл1те» 272
«Василь Стефаник у критиш та спогадах»
253, 254, 259, 261, 262
Вахнянин Н. 281
Вацлав — см. Морачевский В. И.
Венера Милосская 182
Виктория (Мартович В. С, в замуж.
Новодворская) 230
Вильгельм II 136, 272
«Bîcthhk» («Л1тературно-науковий si-
стник») 204, 207, 219, 241. 268—272.
278. 280. 282
Вовчок Марко 263, 264
Выспянский С. 228, 246, 281
Гаморак В. К. 220, 222, 224, 281
Гаморак К. 221, 228, 268, 281
Гаморак О. К. (Ольга) 152. 170, 178.
200, 223—225, 246, 258. 269. 273.
275, 278
Гарибальди Дж. 136, 225, 272
Гауптман Г. 279
Указатель имен и названий составила
«Biberpeltz» («Бобровая шуба») 206,
279
Гелескул А. 174
Гёте И. В. 258
«Aus meinem Leben» 258
Гоголь Ы. В. 263, 264
«Мертвые души» 245
Гонта И. 197, 277
Гончар О. Т. 259
Горький М. 241
Гриц (Запаринюк Г.) 128, 130, 133. 272
«Громадськйй гол©с» 231, 269, 282
Грушевский М. С. 279
Данилович А. К. 170, 275
Данилович С. 23, 170, 267, 275
Дашинский И. 222, 228, 281
Деев А. Д. 265
«Д1ло» 207, 211, 240, 280
Драгоманов М. П. 167, 228, 274
Дригинич Н. 182, 277
Дуткевич В. 265
Евдокия 269
«Жизнь» 241
Жук Η. Ε. 250
Зализняк М. 242
Золя Э. 170, 246
«L'Argent» («Деньги») 170
«Зоря» 201, 278
Ибсен Г. 170
Калнтовская Е. К. 269, 271, 280
Калитовский В. 216, 280
Каспрович Я. 228, 246, 281
Квитка (Квитка-Основьяненко Г, Ф.)
227, 263, 264, 281
«Маруся» 227, 281
Келлер Г. 171, 172, 275
«Шалопай» 171, 275
Книгиницкие 135
Кобринская Н. И. 168, 178, 207. 275
«Душа» 207
Кобылянская О. Ю. 210, 213, 214. 216,
218, 219. 241. 248, 253, 266, 268, 280,
281
«На полях» 216, 281
«Поэты» 219, 281
Ковалевская С. В. 178, 276
Козиненко В. 265
Коряк В. И. 250
Косач О. П. 241, 265
Костащук В. А. 241, 248—250
Розанова 3. И.
284
Указатель имен и названий
«Володар дум селянських»
(«Властитель дум крестьянских») 241, 248—
250
Котляревский И. П. 228. 249. 281
«Энеида» 249. 281
Котюк Василь, Никола, Ярина 199
Котюк Федор 199, 261, 278
Коцюбинский Μ. Μ. 248, 249, 264
Крушельницкая С. А. 210, 211. 280
Крыжанивский С. П. 247, 250
Левицкий 171, 275
Ленин В. И. 136
Лепкий Б. С. 228, 281
Лермонтов М. Ю. 170
Лесин В. М. 250
Лукьянович Д. Я. 245, 259. 266
Лызанивский И. 229, 281
Лысенко Н. В. 279
Людмила (Кжачовска-Левандсвска Л, С.)
230. 23ί
Ляшко Η. Η. 241, 265
Маккай Д. Г. 168, 275
«Анархисты» 275
Маковей О. С. 204, 205, 268, 21К 279
Мама (мать О. Ю. Кобылянской) 218
Манн Т. 265
Мария (Мартович М. С.) 23'ύ
Марко 177, 276
Маркс К. 170
Мартович Л. С. (Л. М.) 133, 168, 176,
178, 224, 226, 227. 229—231. 245. 246.
272, 274, 275
«Нечитальный» 167, 168,245,266,274
«Номера» 168, 275
«Суеверие» 245
Мартович С. 230
Матвеев В. 265
Микитась В. Л. 249, 250
Миклошич Ф. 31, 268
Ми оный Панас (Рудченко П. Я.) 227,
249, 264, 281
«Ревут ли волы, коли ясли полны?»
(«Пропащая сила») 227, 281
«Молодая Польша» 246, 276, 281
Мопассан Г. де 255
Морачевская С. А. 163, 167, 178, 134.
189, 190, 193, 196, 213, 214, 228, 246,
257, 267, 274—277, 282
Морачевский В. И. 154, 163, 165—169,
171—173, 176, 179, 180, 183, 185, 191,
192, 194, 195, 197—199, 201, 202, 205,
207—209, 211. 212, 214, 215, 217, 228,
246. 247, 257, 260, 261, 267-270,
273—280, 282
Морачевский Ю. В. — см. Юрчик
«Народ» 245
«Народный иллюстрированный календарь
общества „Просв1та" на 1928 год» 273
«Наука» 149, 273
Наумович И. Г. 149. 269, 273
Не чуй (Нечуй-Левицкий И. С.) 263, 264
Николай Второй 136, 272, 277
Николай Первый 257
«Hobî шляхи» 261
Новодворский 230
ОТенри 255, 261
«Дары волхвов» 255
Ооновский О. М. 211. 280
Окукевская С. А. — см. Морачевская С. А.
Окуневский А. 194, 196, 235, 277, 282
Окуневский Т. 175.. 207, 276
Олесницкий Е. 175, 276
Оркан В. 228, 246, 281
«Оскудела наша доля» 221. 281
Павлик Г. И. 227
Пазлик М. И. 129, 167, 227, 245, 246,
272, 274
Петлюра С. В. 249
Пилсудский Ю. 250
Платонов А. П. 265
Плешкан И. 170, 227, 275
Плешкан О. 170, 275
Погребенник Ф. П. 250
Полька 176, 276
«Поступ» («Прогресс») 266
«Праця» {«Труд») 205, 229, 240, 266,
267, 269, 278, 280
«Просв1та» («Просвещение») 244, 280
Проскурняк В. 243
Проскурняк М. 242, 243
«Проти хвиль» («Против течения») 273
Проц 226
Пшибышевский С. 228, 246, 278, 281
«De profundis» («Из глубин») 201, 278
«Радянська Л1тература» («Советская
литература») 274
Распутин В. Г. 265
«Р1дна школа» 273
Риндюг 261
Романчук Ю. 211, 280
Ромашкан Б. 193
Рудик Д. 253, 262
«Руська рада» 267
«Cbît» 250, 272
«Сельский хозяин» 134
Семанюк И. Ю. 131, 272
Сент-Экзюпери А. 265
«Сечь» 272
Словацкий Ю. 168, 192, 275
Указатель имен и названий
285
Стефаник Вол. С. (Владзё) 173, 225, 275
Стефаник Кирилл, Семен, Юрий (дети
Василя Стефаника) 225
Стефаник Л. (Лука) 267
Стефаник Л. Л. (дядя Василя Стефаника)
243
Стефаник Л Т. (дед Василя Стефаника)
242. 243
Стефаник JVL (свояк Василя Стефаника)
243
Стефаник М. .Д. (дядя Василя СтесЬа-
нкка) 242, 243
Стефаник М. С. (Марийка, сестра Василя
Стеф.аника) 166, 183. 184, 187. 189,
220, 225, 272, 277
Стефаник Оксана (мама; мать Василя
Стефаника) 163-166, 173, 183, 184, 187,
189, 192, 202. 213, 214, 216—220, 225.
226, 272
Стефаник П. С. (сестра Параскева, Пара-
скэ) 167, 173, 220, 225, 275
Стефаник С. Л. (отец Василя Стефаника)
163—166. 173, 201, 202, 219, 220. 225.
226, 244. 247: 271, 272, 274
Стефаник Ю. С. (Юрко, брат Василя
Стефаника) 173, 225, 272, 275
Стефанович 230
Спенсер Г. 170, 275
Теодорович 178, 276
Теодорович И. 178, 225, 227 276
Тетмайер К. 228, 246, 281
Тигерман 228
Толстой Л. Н. 170
Томаш 227
Труш И. И. 254, 258, 268
Трылёвский К. 129, 133, 170. 272. 275
Украинка Леся 241, 248, 268
Успенский Г. И. 172, 227
«Растеряева улица» («Нравы Расте-
ряевой улицы») 227
«Учительский календарь на 1922 год»
249, 271
Федорович В. 281
Федькович О. Ю. А. 220
Фолкнер У. 265
Франко И. Я. 129. 130, 220, 222. 228,
241, 244, 245, 246, 258, 259, 261 262,
264, 268, 269, 272, 279, 280
Франц-Иосиф I 136, 209, 267
Хемингуэй Э. 261, 265
«Червоний шлях» («Красный путь») 271,
272
Чехов А. П. 255 256. 261
«Ванька» 256
«Спать хочется» 256
Шевченко Т. Г. 114. 116. 130, 136, 176,
220, 222, 241. 246. 259, 266. 271, 275.
277, 278
«Гайдамаки» 277
Шипов Г. М. 265
Шмигер С. 270
Энгельс Ф. 245
«Анти-Дюринг» 245
«Энциклопедический словарь»
Брокгауза Ф. А. и Ефрона И. А. 760
Юрчик (Юрка. малыш — Морачев«
ский Ю. В.) 14, 184, 185. 187, 189,
190. 194, 195 209, 233, 267, 275
Якобсен П. 170, 275
Baudelaire Ch. 170
«Die Gezellschaft» 240, 241
Goncourt de E. et G. 170
Krytyka 240
«Kurjer» («Kurjer Lwowski») 240, 280
Lange Α. 177, 276
«Poesie er. I» 276
Lenau N. 170
Luis P. 201, 278
«Aphrodite» 201, 278
Mili S. 178, 276
«Monitor» 167, 274
Musset A. de 170
«Przedświt» 199, 278
«Z pola walki» 199, 200, 278
«Zycie» 228, 281
СОДЕРЖАНИЕ
СИНЯЯ КНИЖЕЧКА
Синяя книжечка 5
Провожали за село 6
Повесился '
В корчме 9
Семья Леся . . . . » Π
Мамин любимец · « 14
Мастер 16
Ьогомолка . j 18
Катруся .... * ι » 20
Ангел . ί » . 4 23
Одна-одинешенька 24
Осень 25.
Порча * . . . . 28
Новость » i 29
Портрет ,,.»·.»· 31
КАМЕННЫЙ КРЕСТ
Каменный крест 32
Заседание » * 39
Дорогой из города 43
Сочельник 46
Дети -. . » » . 49
Подпись . . * * 50
Поле 52
Письмо * » . 52
Вечерний час 55
ПУТЬ
Путь 58
Смерть 60
Давнее 61
Вестники 65
Май 67
Поджигатель 69
Кленовые листочки 79
Похороны . 84
СОН «..aii.«· 85
Бессарабы » , , , 86
Озимь , , 92
Вор ... , 93
Чудак 98
МОЕ СЛОВО
Мое слово *«»,*. 102
Суд 8 , , . 104
ЗЕМЛЯ
Мать-земля Ю9
Мария » , Hl
Случай с детьми 117
Нянька , , HS
Сыновья . » * 119
Военные убытки 122
Morituri . ? , . , 125
Дед Гриц 128
НОВЕЛЛЫ 1926—1933 гг.
Нитка 131
Старинная мелодия 131
Славайсу » » . « 132
Межа 134
Волчица 135
Грех («Что-то будет?») 137
Мать 138
Роса 139
Дуры-бабы 141
Школьник 142
Окровавленный вексель . 144
Грех (Вдова Марта давно уже
болеет) 146
У нас что ни день — праздник . . . 148
Содержание
287
СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ
Будь такою! . · · · « 151
Чародей . . , . i . ϊ -. 151
Посвящается Ольге 152
В мареве плавают леса 152
Палисадничек бога молил 153
В ночи 153
Рано утром она причесывалась. ..
(Вацлаву) 154
Весна .*.**«.,. 155
ДОПОЛНЕНИЯ
ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО
Богач 156
[Стачка] 160
ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА
1895
В. И. Морачевскому (7 августа) .... 163
В. И. Морачевскому (12 августа ) . . . 163
В. И, Морачевскому (24 ноября) . . . 165
В. И, Морачевскому (29 ноября) . . . 166
В. И. Морачевскому (7 декабря) . . . 166
1896
В. И. Морачевскому (29 января) . . . 167
В. И. Морачевскому (17 февраля) . . . 168
В. И. Морачевскому (25 февраля) . . . 169
В. И. Морачевскому (26 февраля) . . . 169
О. К. Гаморак (29 февраля) 170
В. И. Морачевскому (15 марта) .... 171
В. И. Морачевскому (26 марта) .... 172
В. И. Морачевскому (2 апреля) .... 172
В. И. Морачевскому (16 апреля) . . . 173
В. И. Морачевскому (22 апреля) . . . 174
Л. В. Бачинскому (29 апреля) 175
В. И. Морачевскому (11 мая) 176
Л. В. Бачинскому (14 мая) 177
В. И. Морачевскому (17 мая) 179
В. И. Mooa4eRi-.KnMv (9 июня^ .... 180
Из письма Л. В. Бачинскому
(12 июня) 181
B. И. Морачевскому (начало декабря) 183
C. А. Морачевской (декабрь) 184
1897
В. И. Морачевскому (1 января) .... 185
Ю. В. Морачевскому (февраль) .... 187
Ю. В. Морачевскому (февраль) .... 189
В. И. Морачевскому (март) 191
B. И. Морачевскому (июнь) 192
C. А. Морачевской (июль) 1(^3
В. И. Морачевскому (август) ...... 194
B. И. Морачевскому (август) *95
C. А. Морачевской (август) I™
В. И. Морачевскому (сентябрь) .... 197
В. И. Морачевскому (начало октября) 193
В. И. Морачевскому (ноябрь) 199
О. К. Гаморак (ноябрь) 200
В. И. Морачевскому (ноябрь) 201
1898
В. И. Морачевскому (январь) 202
О. С. Маковею (10 февраля) 204
В. И. Морачевскому (февраль) 205
О. С. Маковею (11 марта) ...,.,, 205
В. И. Морачевскому (март) ..<.... 207
В. И. Морачевскому (июнь) 208
В. И. Морачевскому (июнь) 209
О. Ю. Кобылянской (18 июня) .... 210
В. И. Морачевскому (июнь) 211
В. И. Морачевскому (сентябрь) .... 212
О. Ю. Кобылянской (14 октября) . . . 213
О. Ю. Кобылянской (20 октября) . . 214
В. И. Морачевскому (декабрь) 2Ъ
О. Ю. Кобылянской (16 декабря) . . 216
В. И. Морачевскому (середина
декабря) 217
О. Ю. Кобылянской (декабрь) 218
1899
О. Ю. Кобылянской (19 марта) .... 219
В. К. Гамораку (29 марта ) 220
К. Гамораку (8 июня) 221
В. К. Гамооаку (август) 222
288
Содержание
1900
О. К. Гаморак (28 мая) 223
О. К. Гаморак (декабрь) « . 224
Автобиография * . ¥ , * ♦ . . . ^^
Людмила ,..,.... , , 230
ПЕРВЫЕ РЕДАКЦИИ
И ВАРИАНТЫ НОВЕЛЛ
Провожали sa село , ♦ 232
Ангел . t ,,♦♦,«,,«,, 233
Одна-одинешенька « « « « - ^4
Портрет . . » « , · ι ^э
Дети ^*3
Подпись ♦ .»,,< ^6
ПРИЛОЖЕНИЯ
Вл. Россельс. В верховьях потока
мышления. Проза В. Стефаника .... ^40
Примечания (Составил Вл. Россельс) &Ъ
Указатель имен и названий ....*. 283
ВАСИЛЬ СТЕФАНИК
НОВЕЛЛЫ
Утверждено к печати Редколлегией серии .Литературные аамятяихи" АН СССР
Редактор ивдательства А. Ф. Ермаков. Художник 8 Г. Виноградов« Художественный редактор
Т. П. Поленова. Технический редактор Р. М. Денисова. Корректоры Л* С. Агапова. Л. И. Карасева
ИБ № 26715
Сдано β вабор 10.06.82. Подцисано к печати 23.11.82. Формат Μχ90'/ι„. Бумага типографская j№ 1.
Гарнитура академическая Печать высокая Уел аеч л. 21,5. Усл. кр.-отт 22,7. Уч.-изд. л 21,6.
Тираж 50 000 9кз Тип. зак. 1517. Цена 3 р. 10 к,
Издательство «Наука» 117864, ГСП-7, Москва, B-4S5, Профсоюзная ул., 90,
Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука»
199Ö34. Ленинград. В-34. 9 *инии, 12
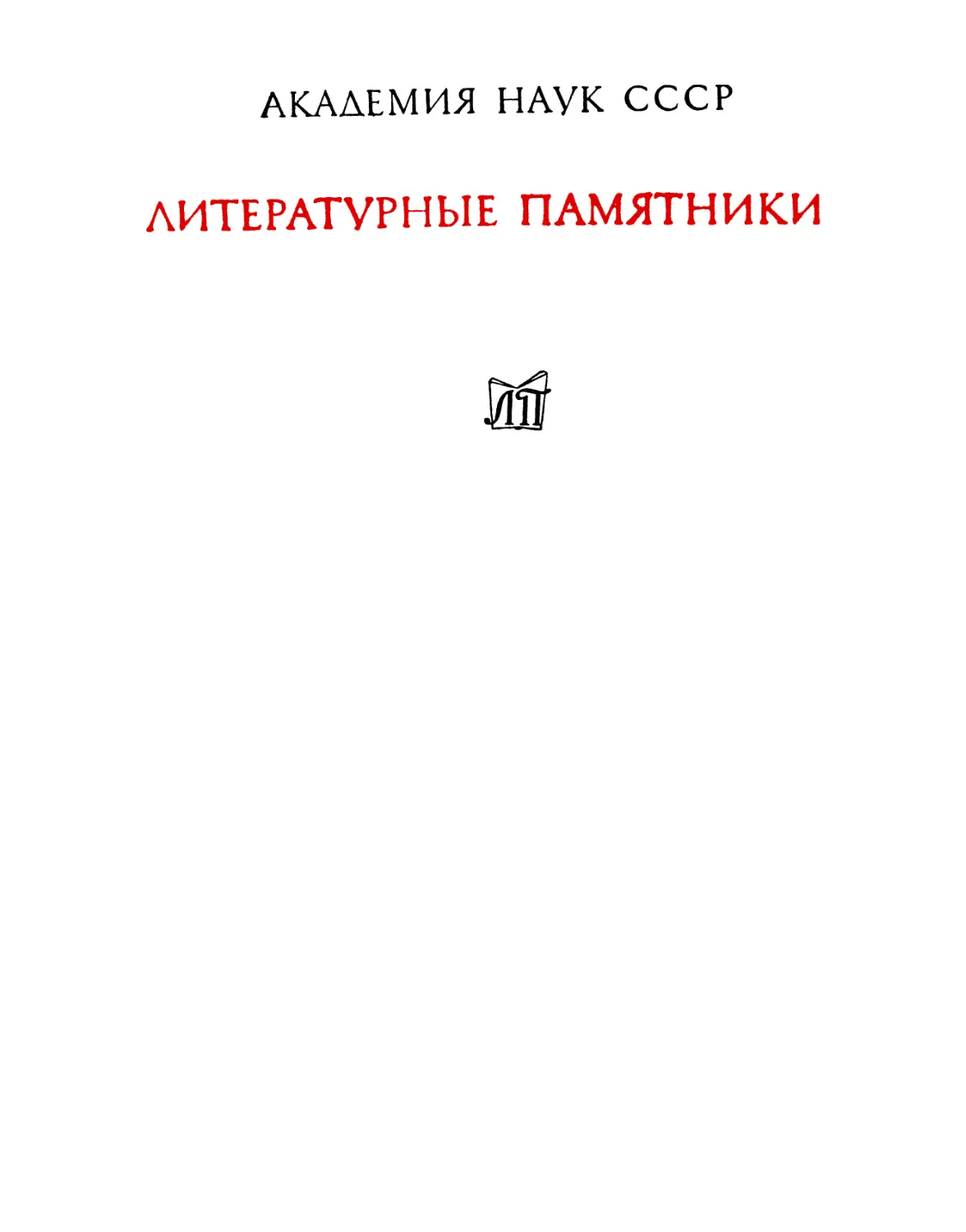



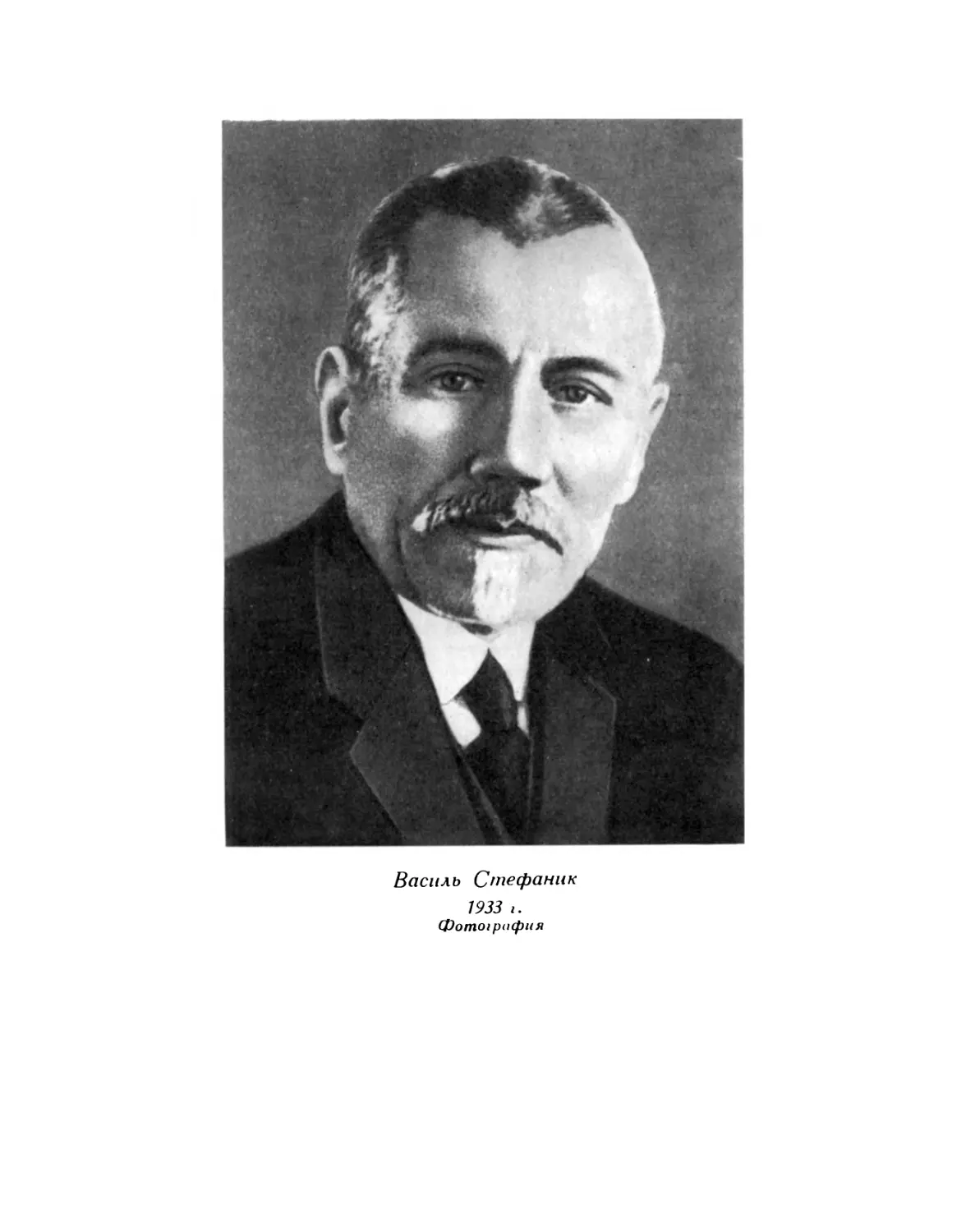
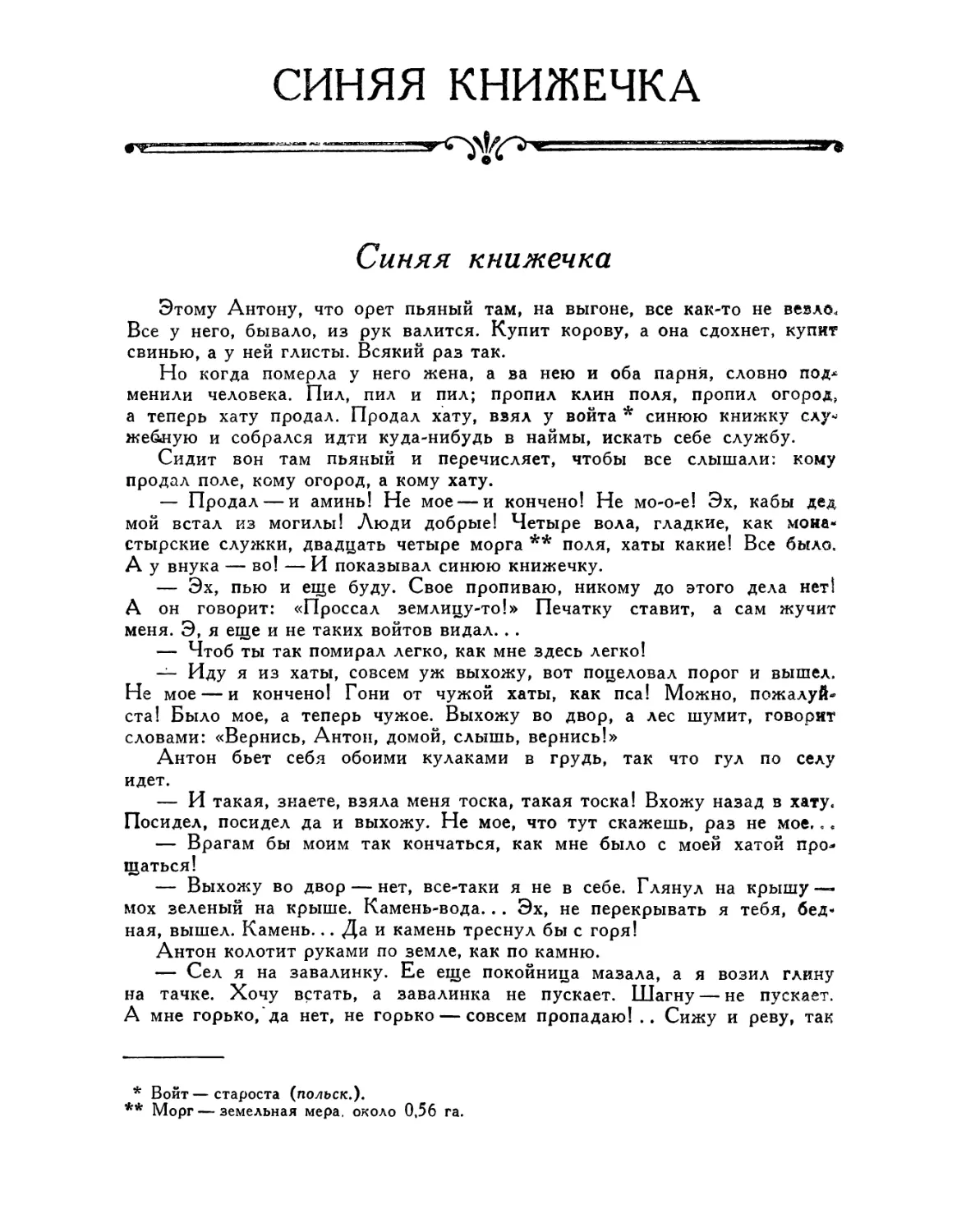
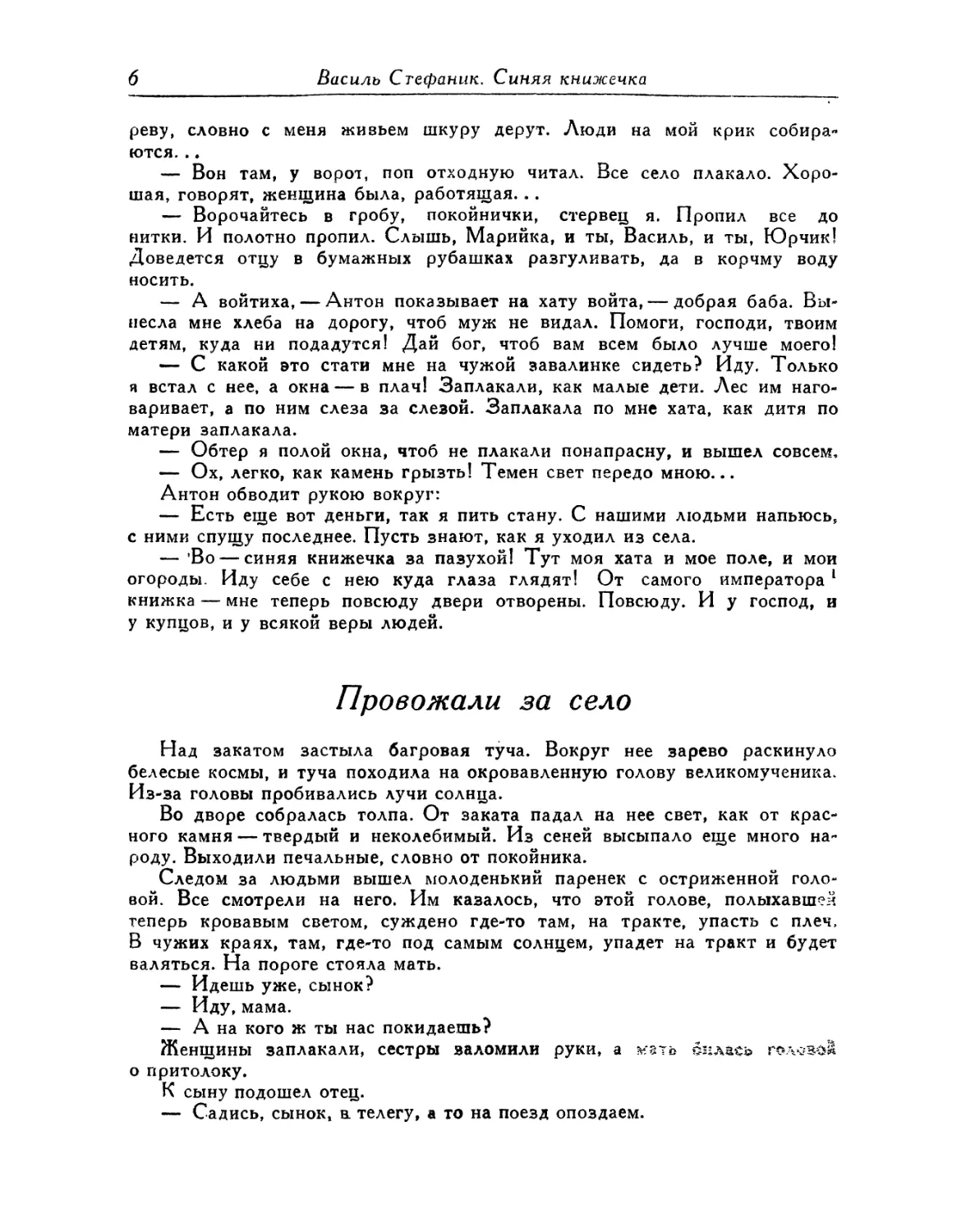
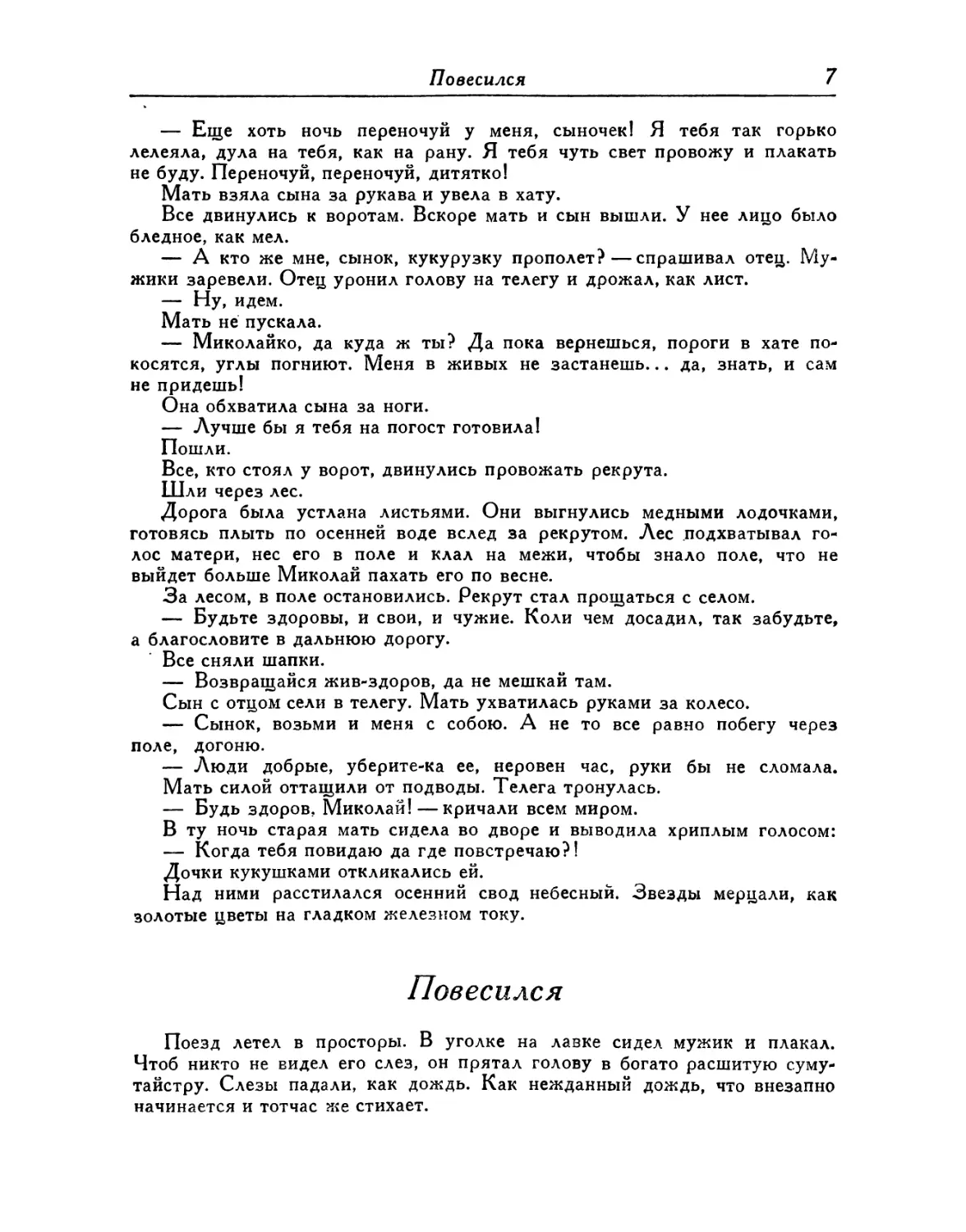

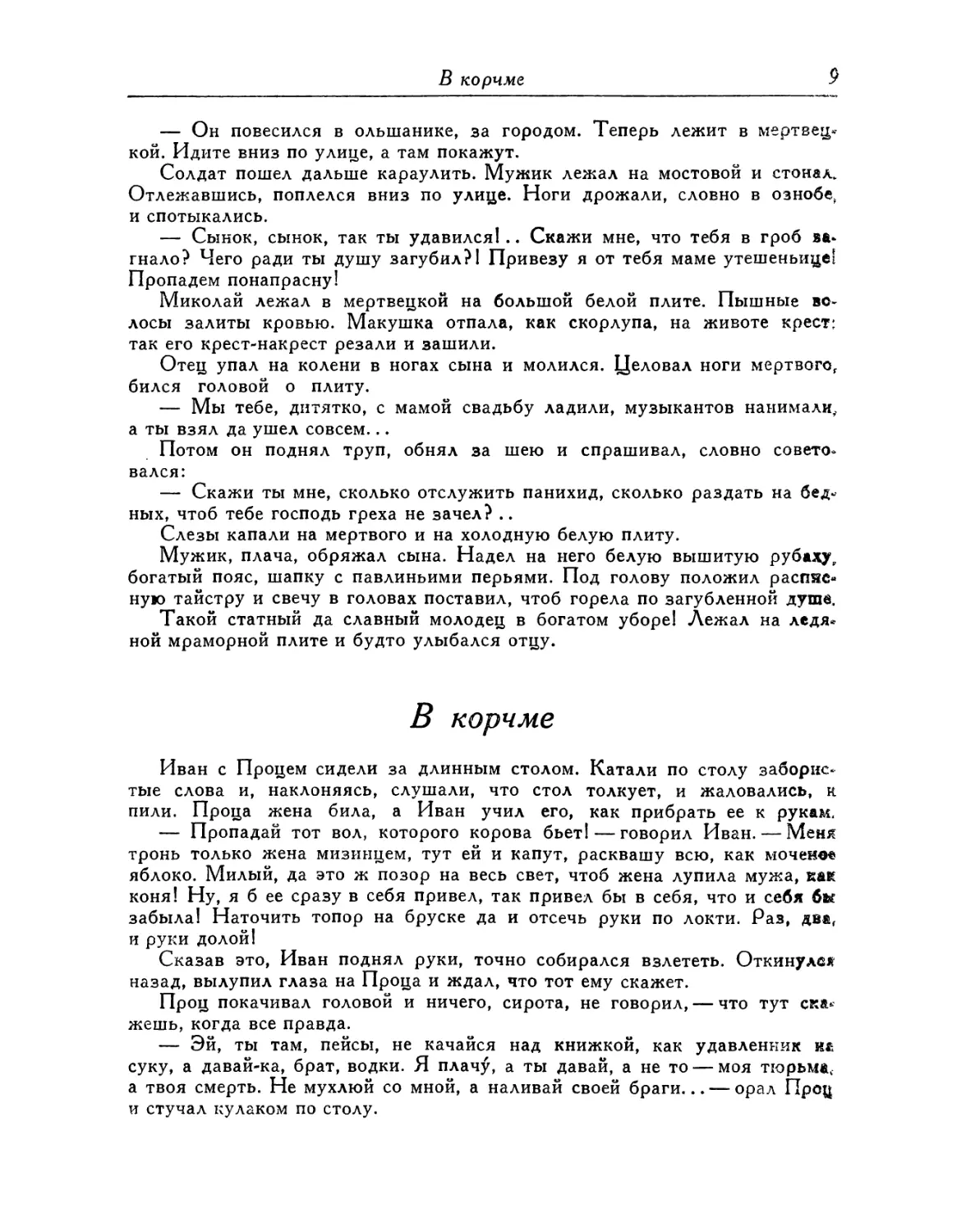

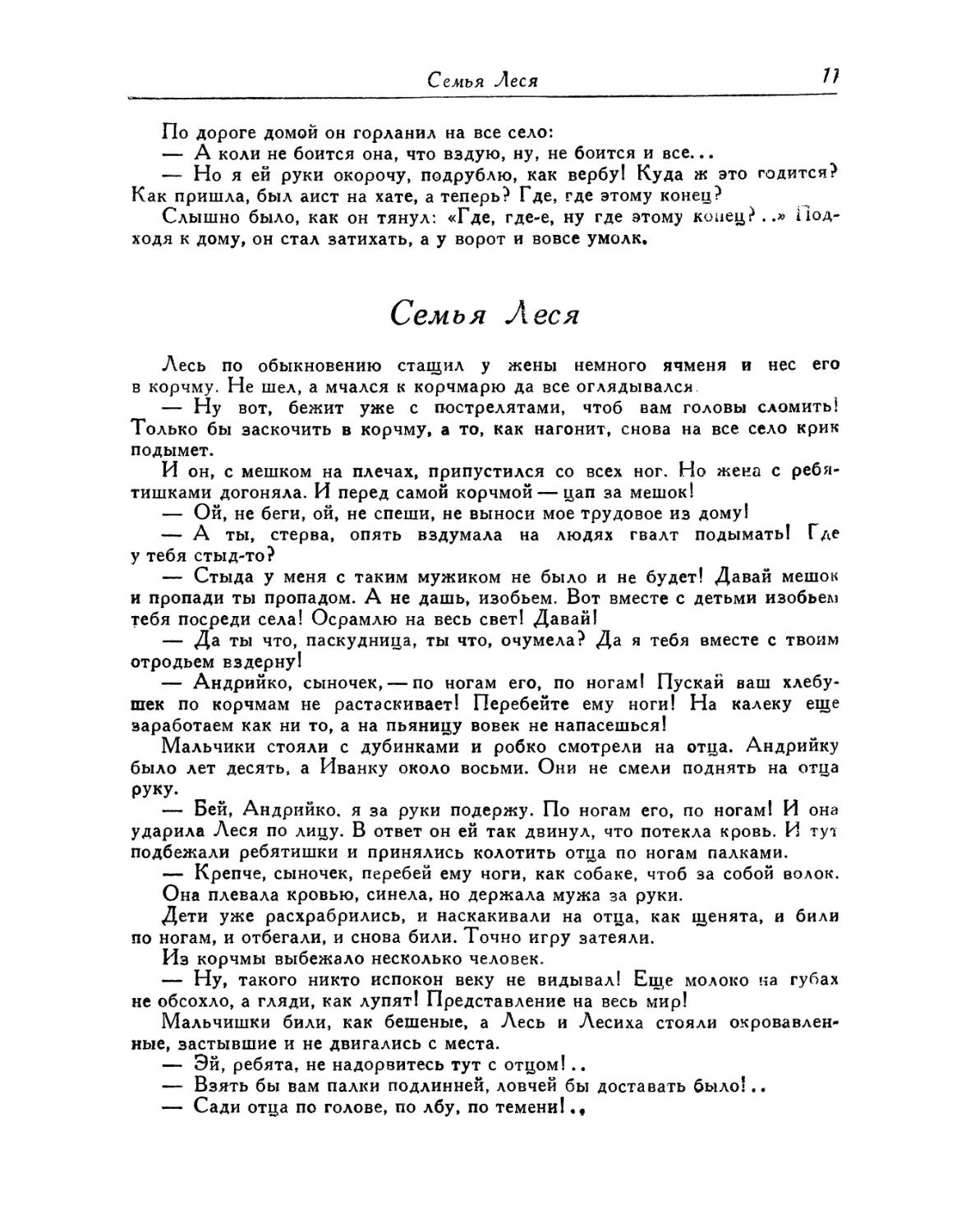


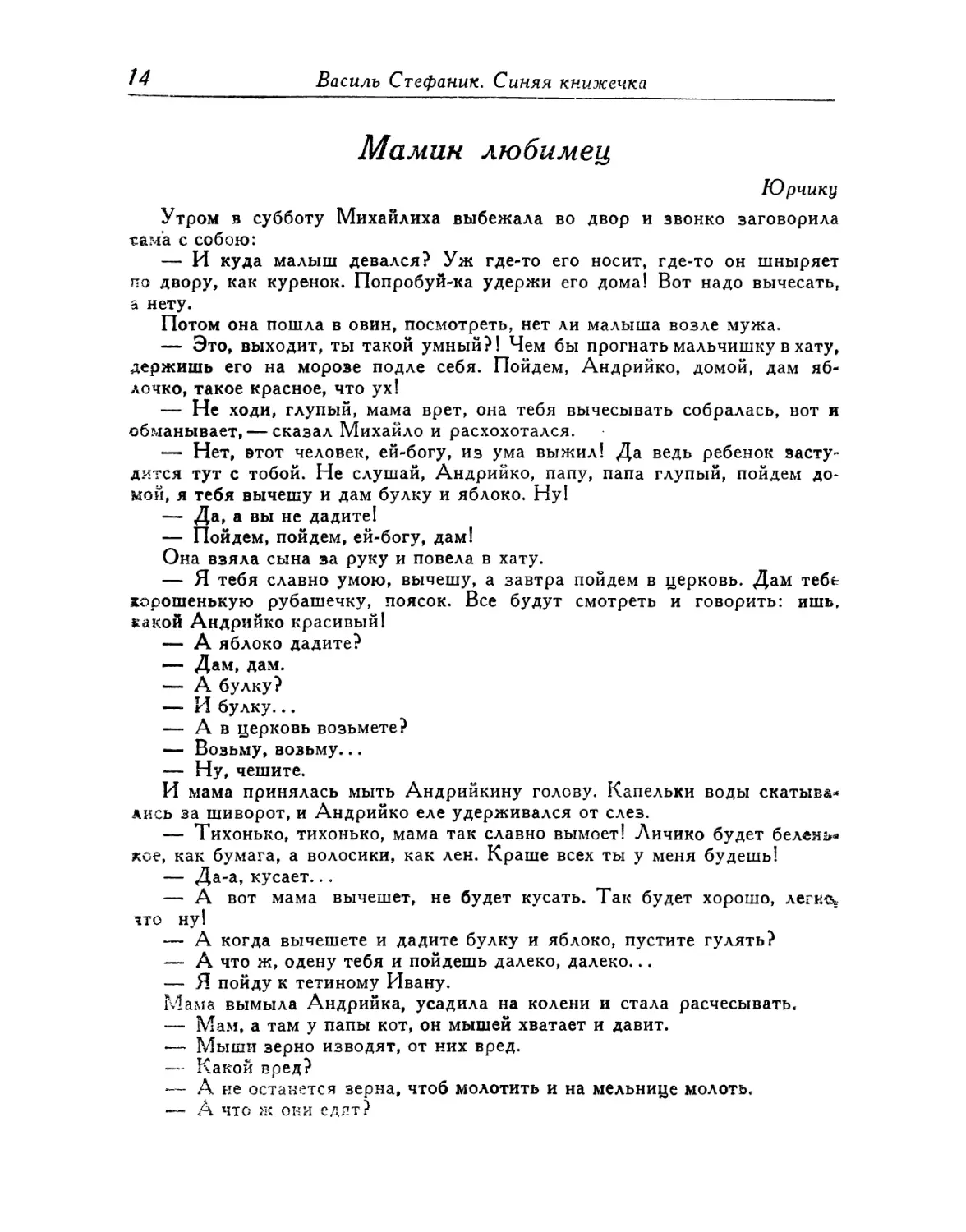

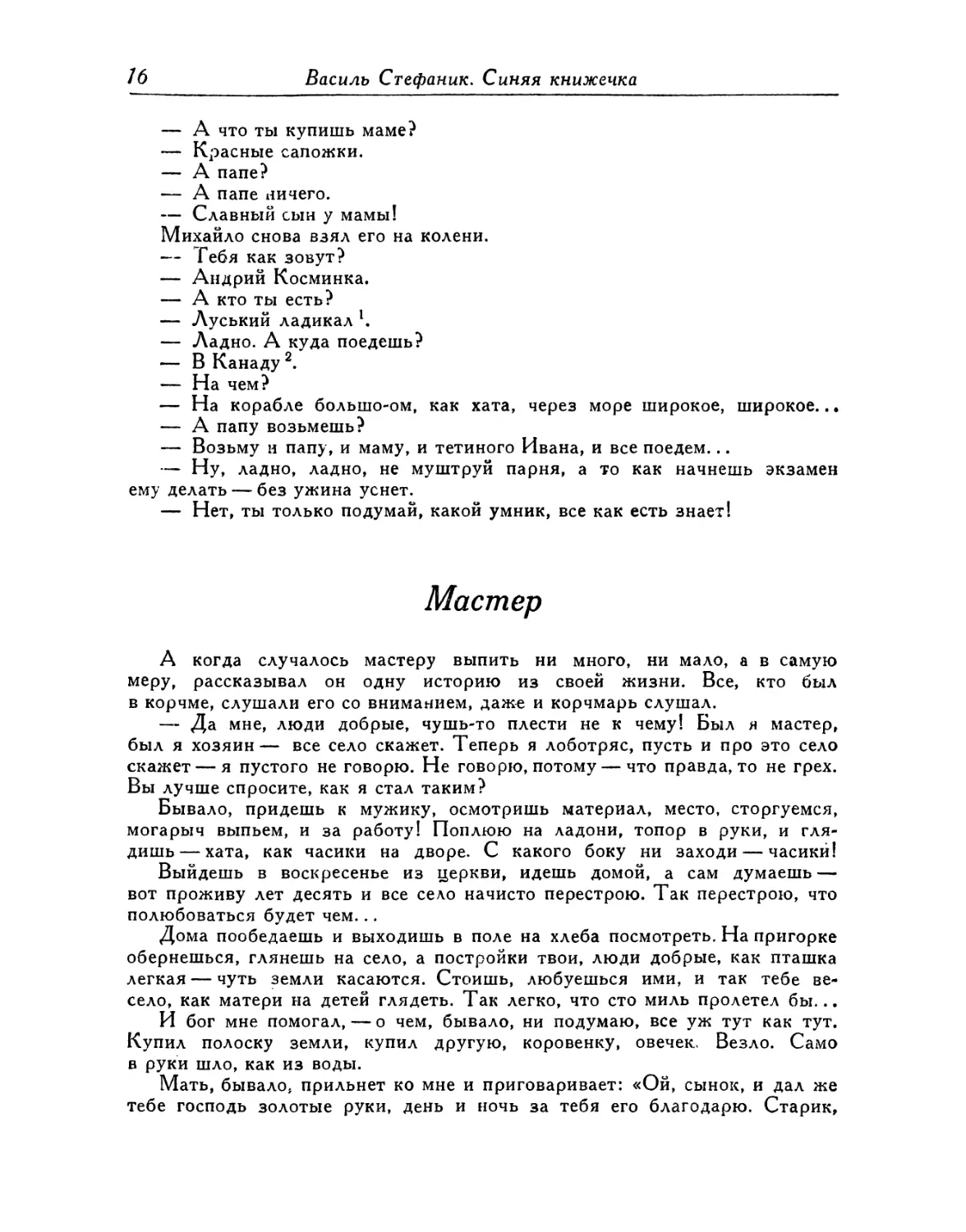

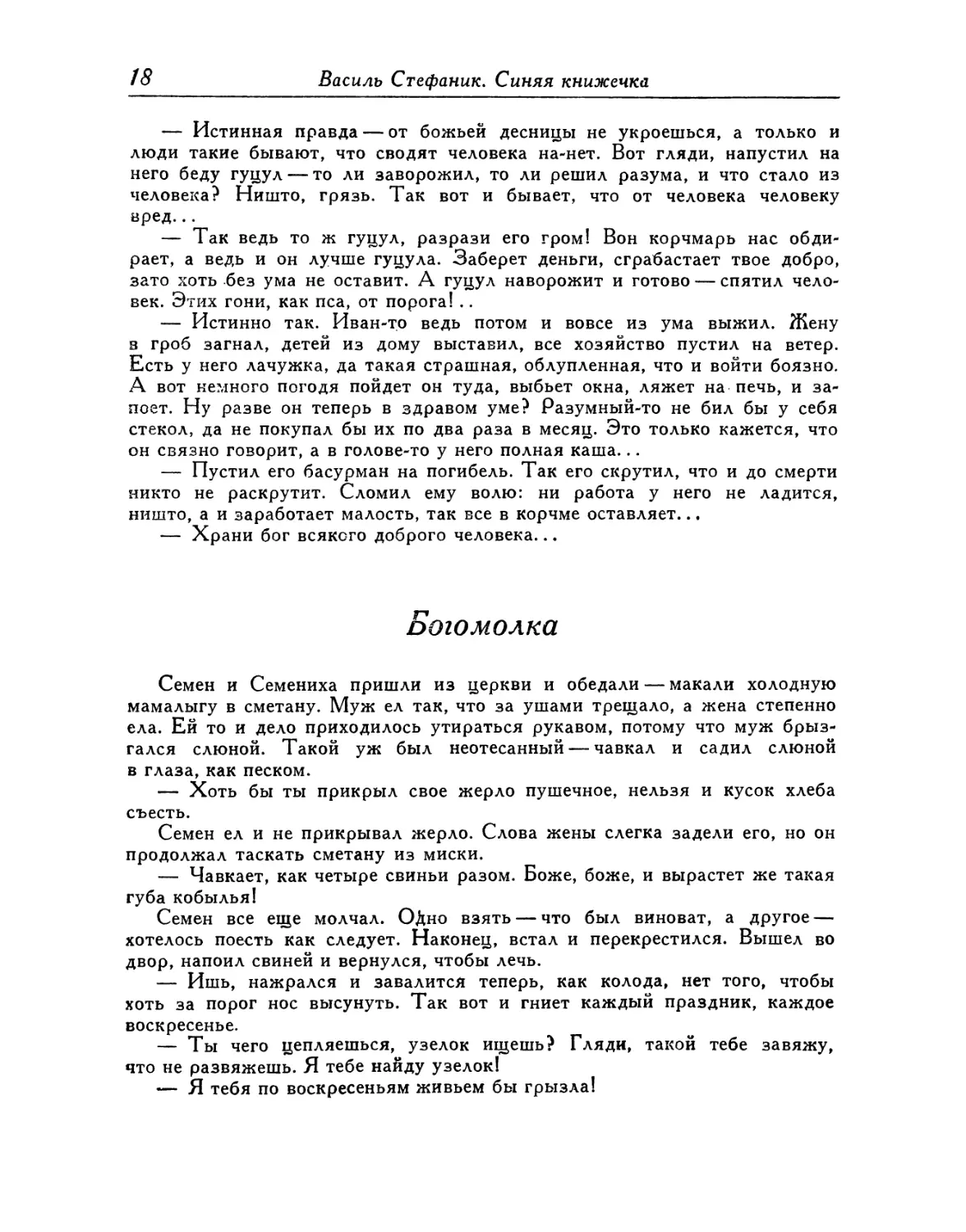

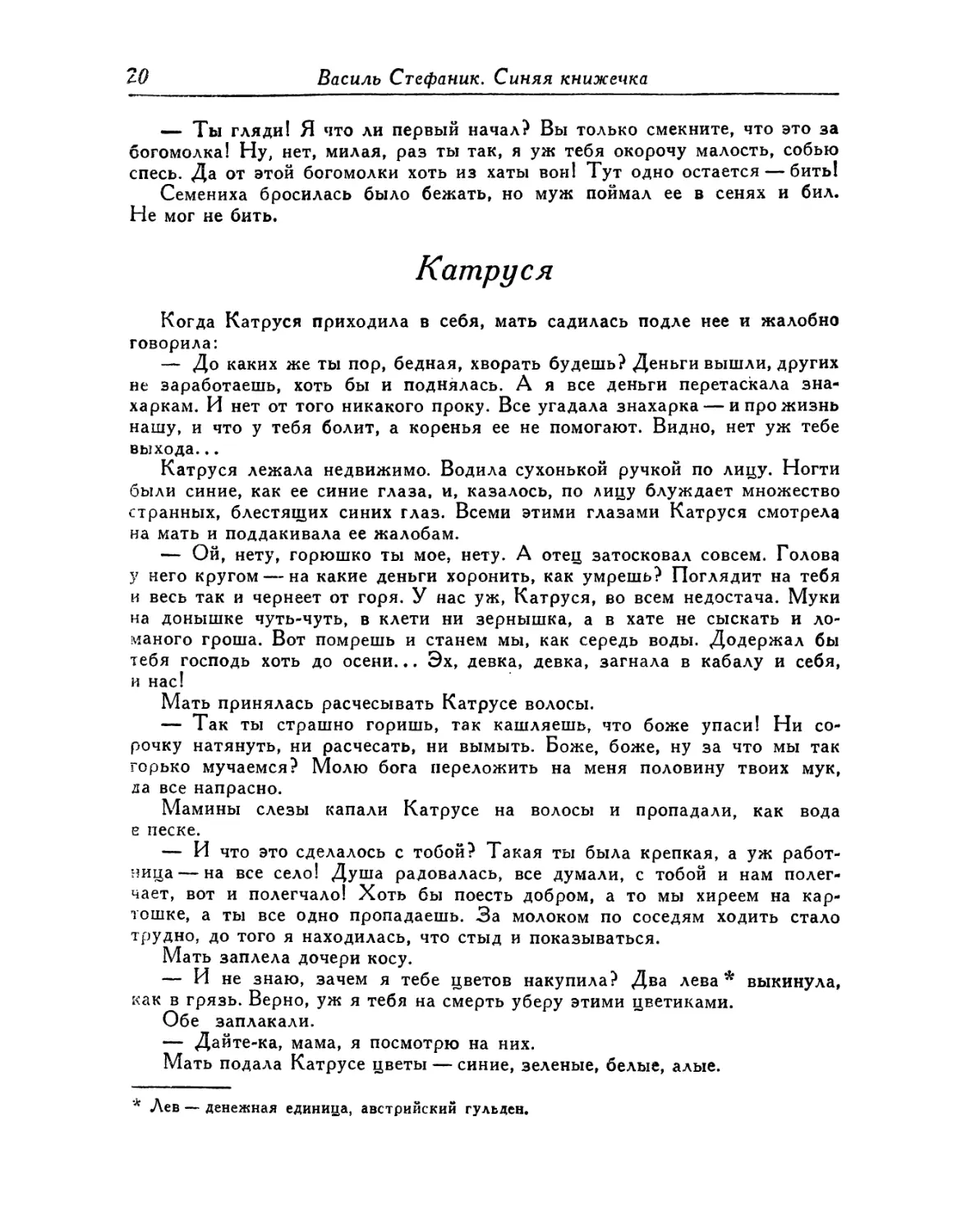


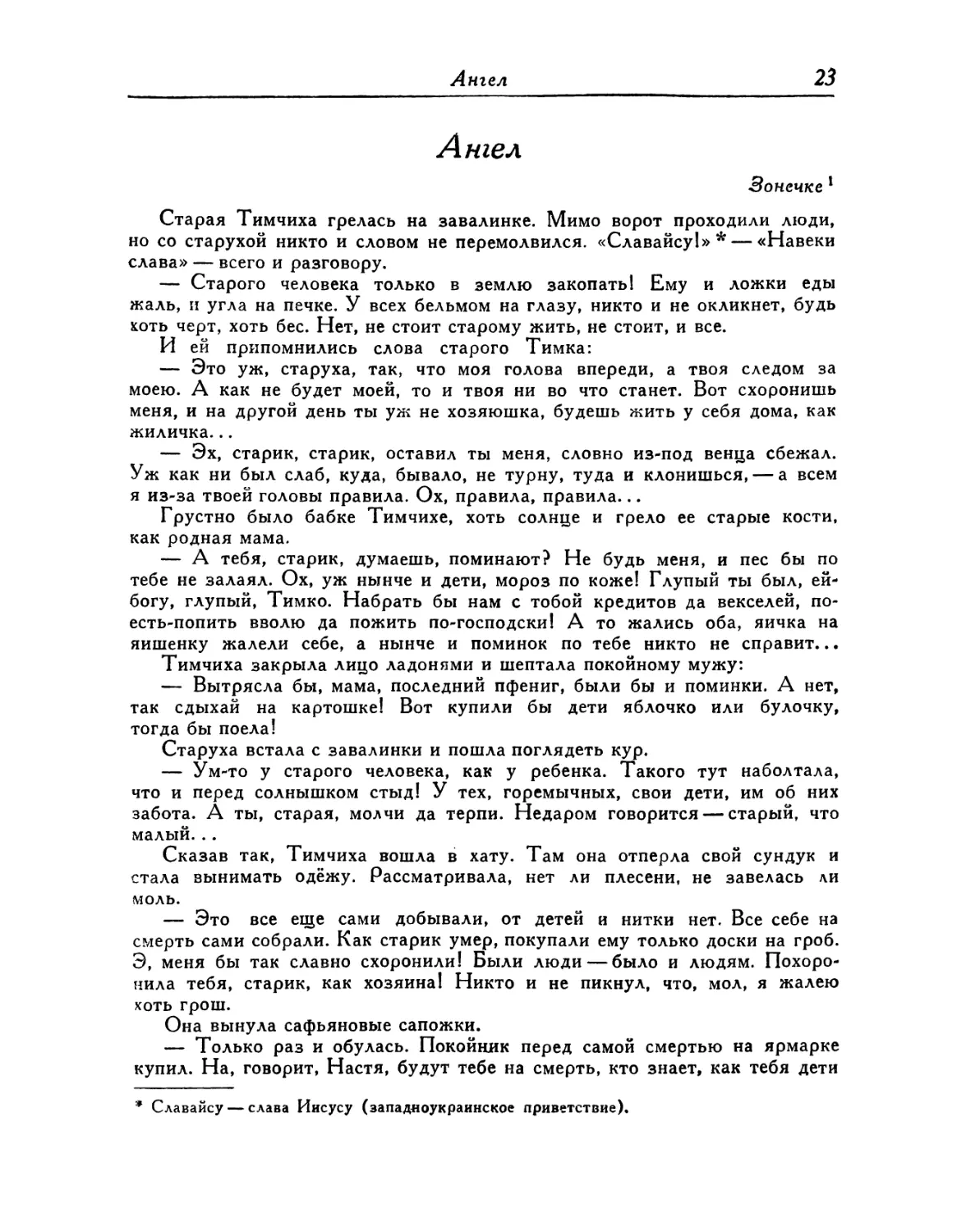
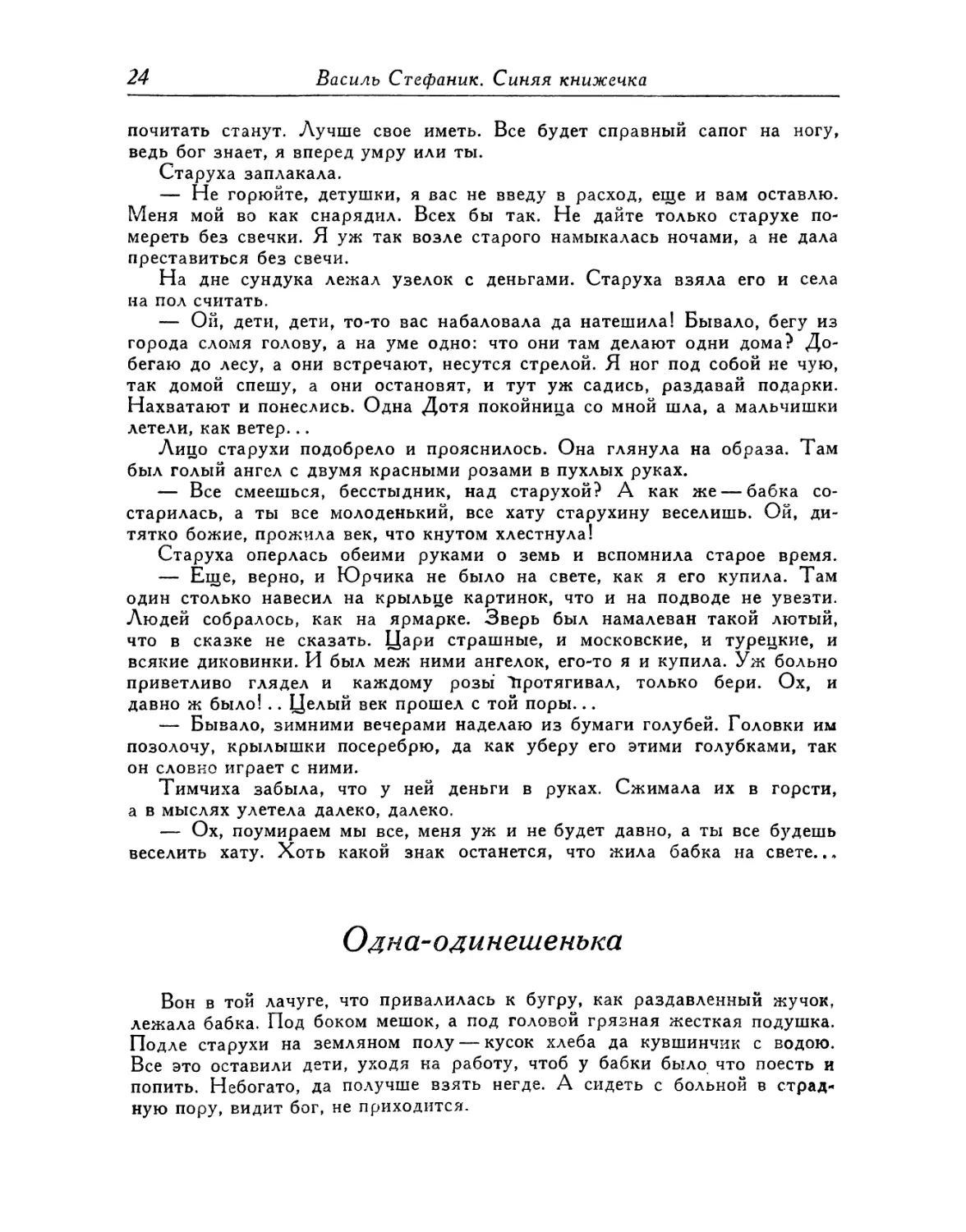



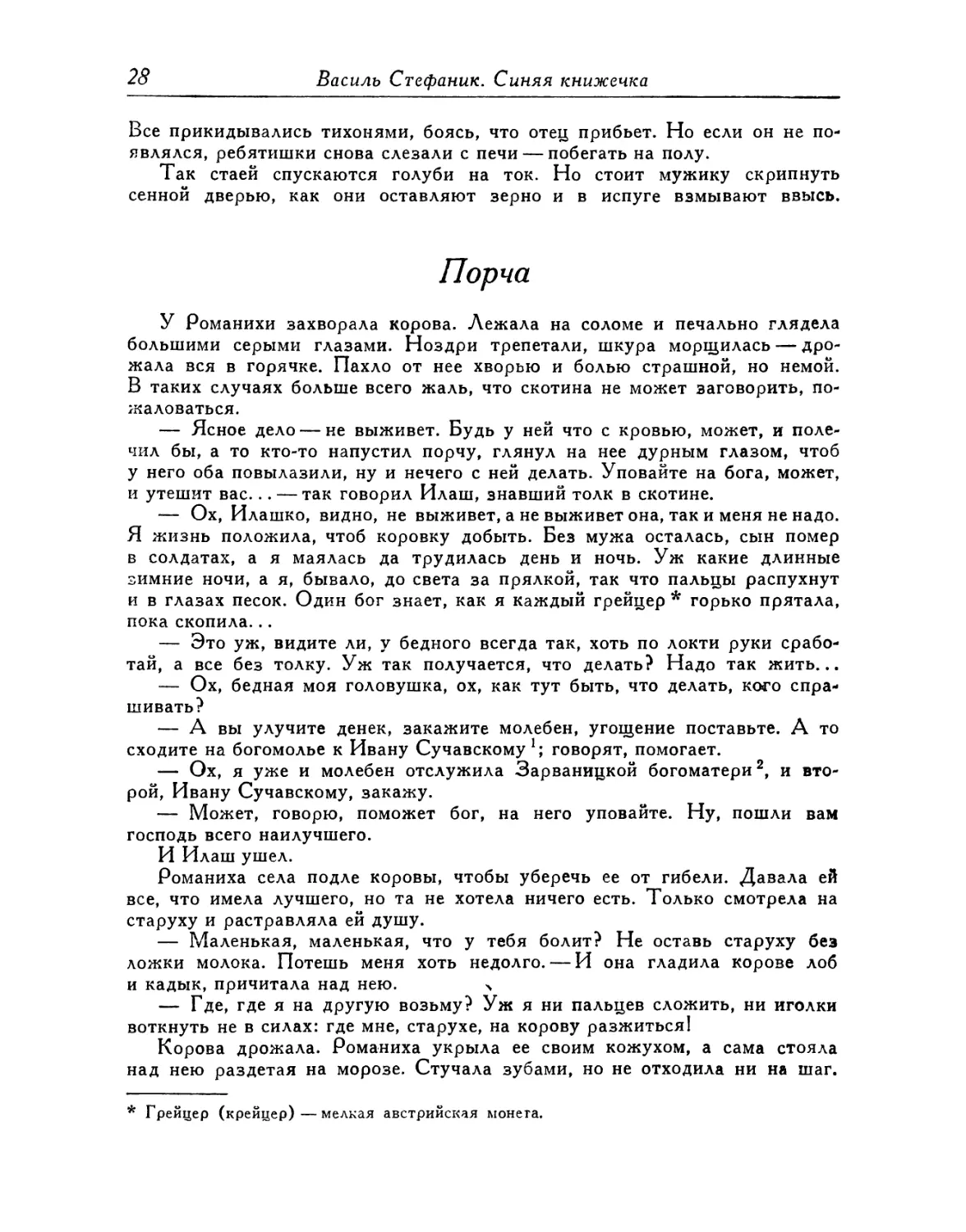
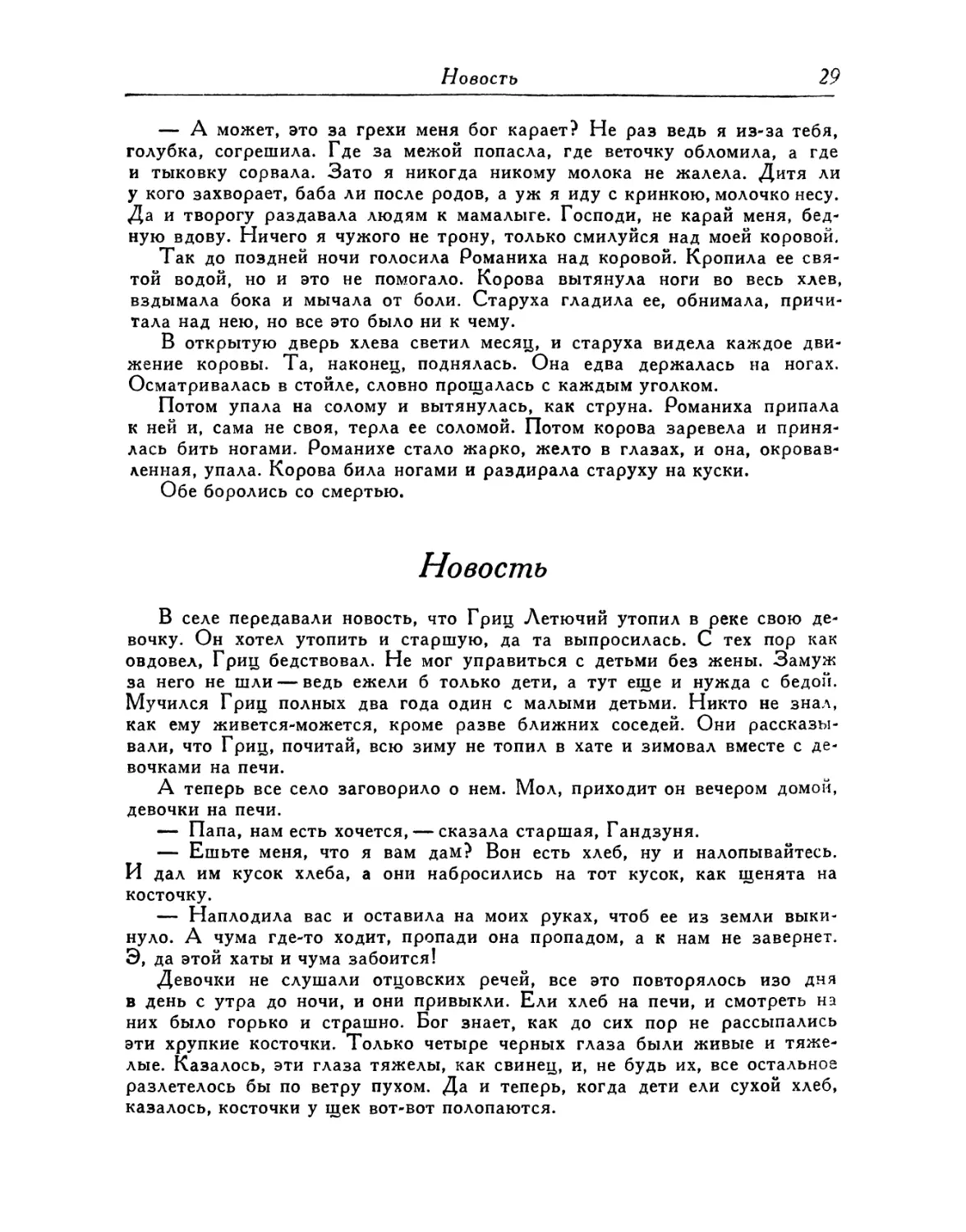

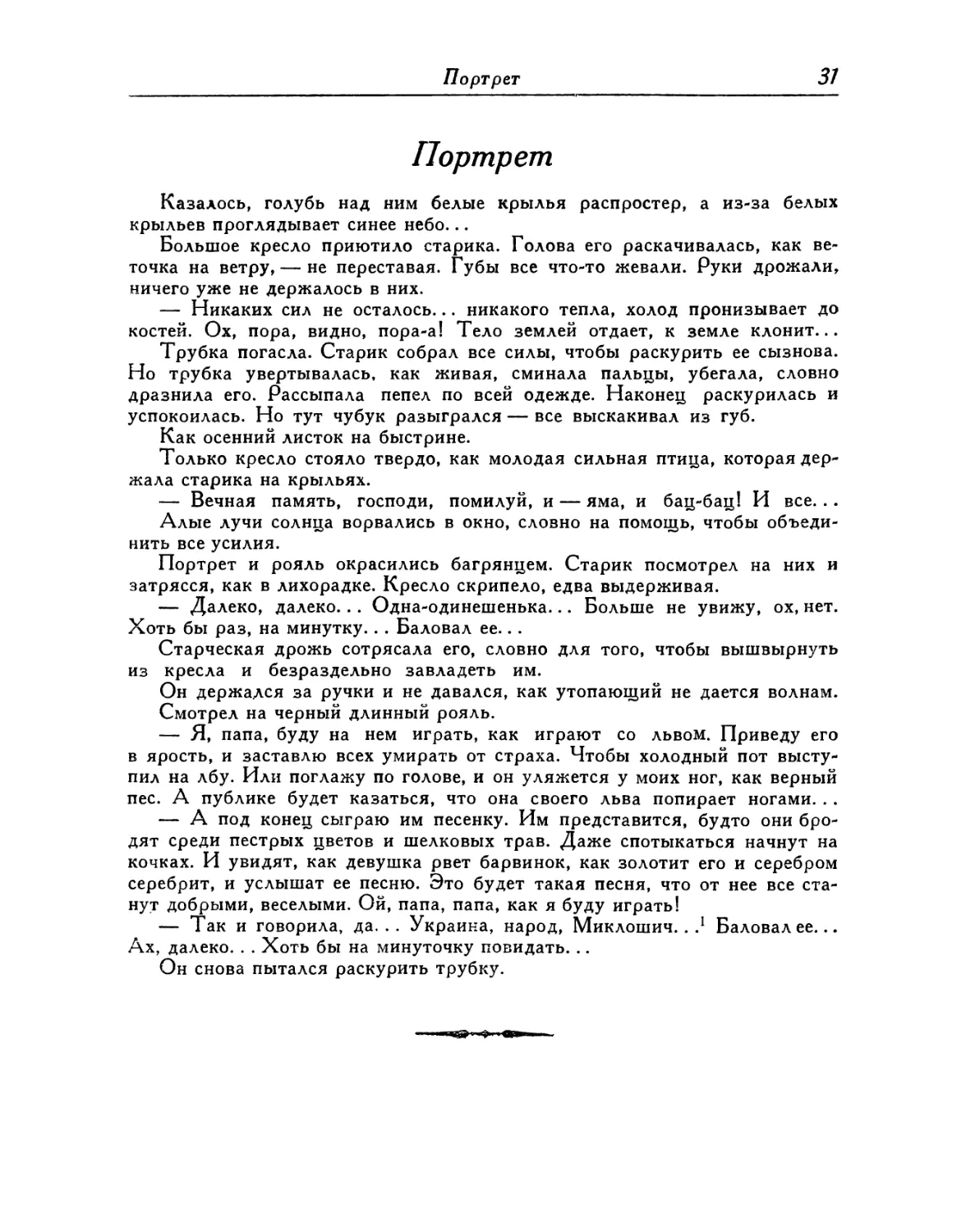
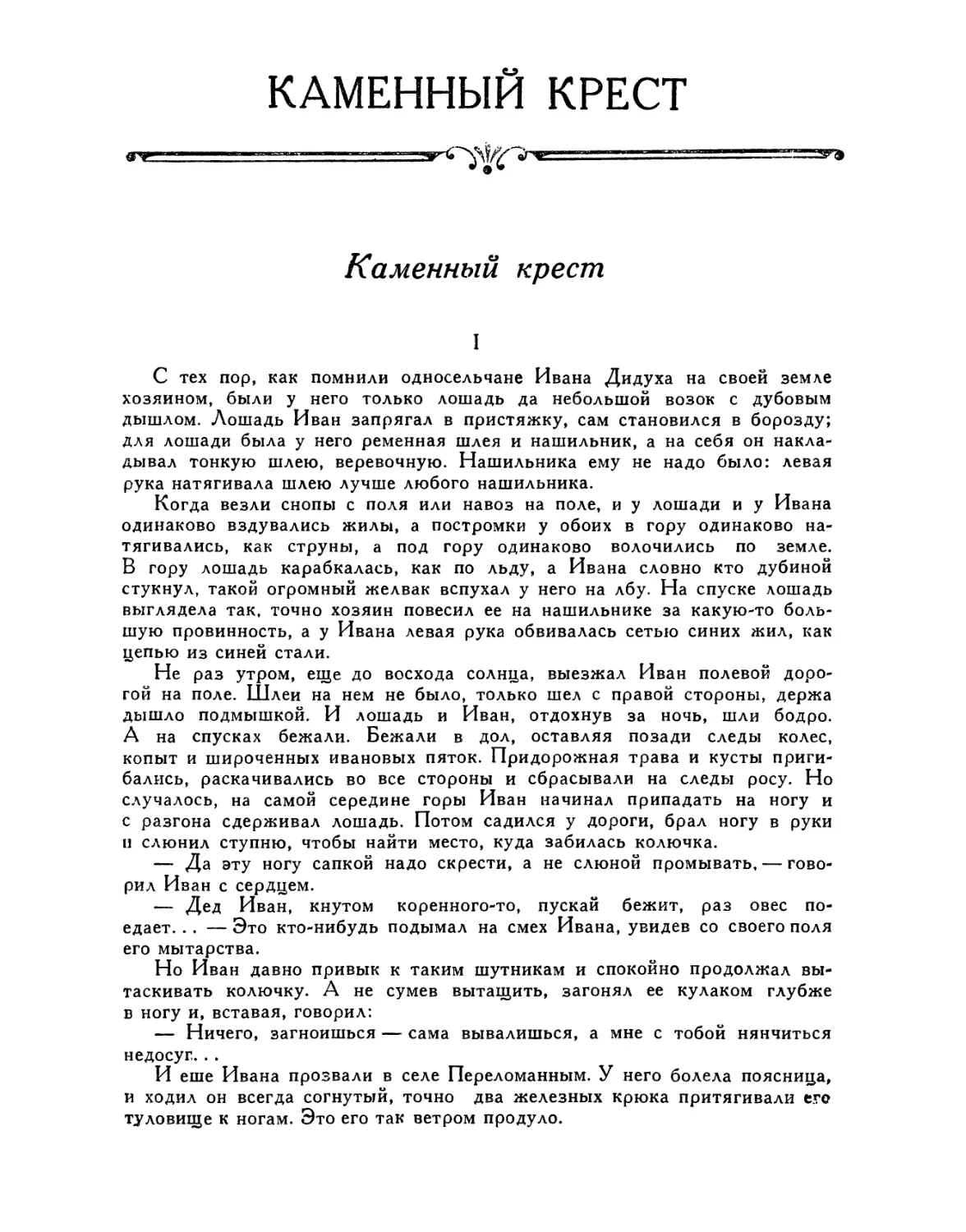






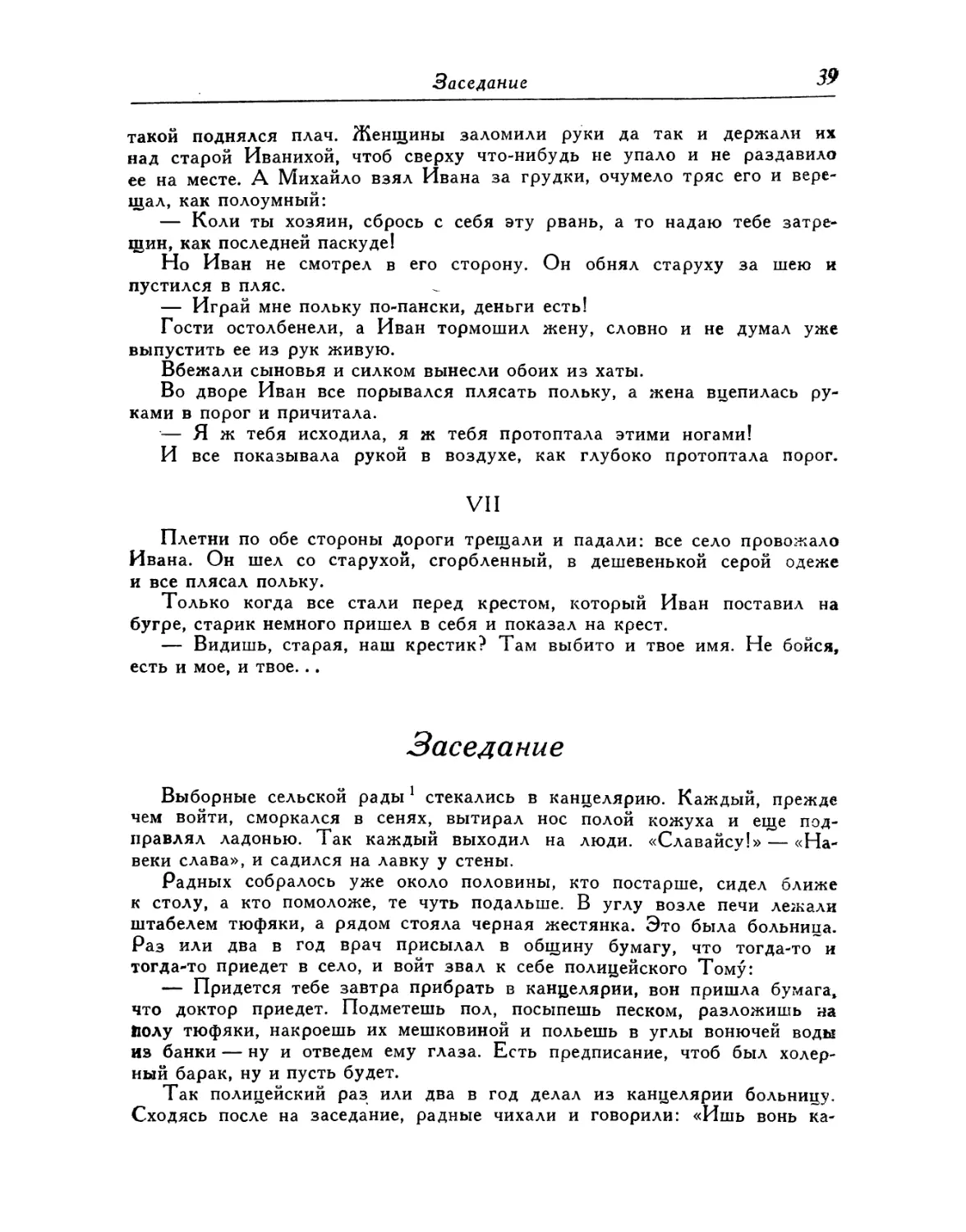



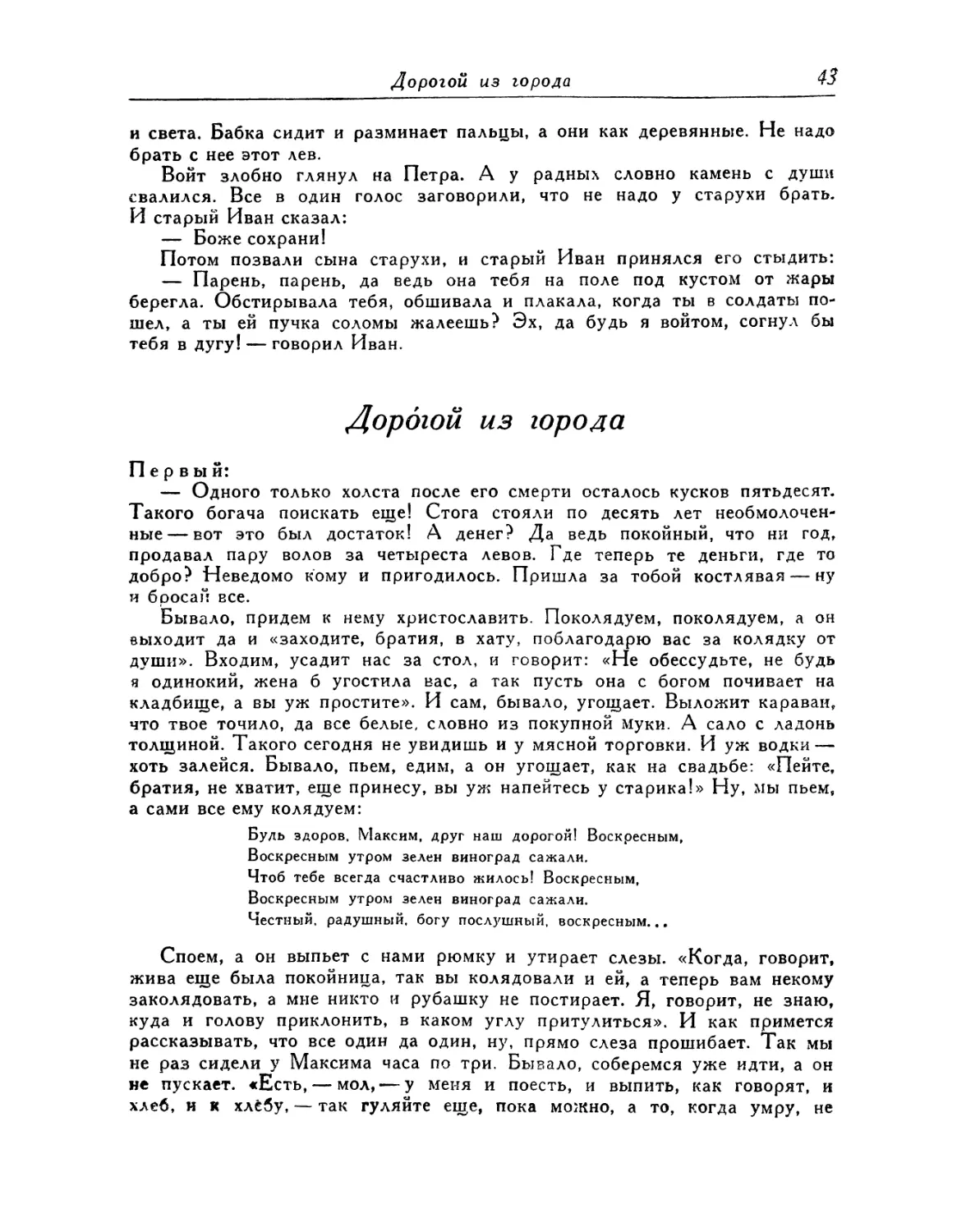


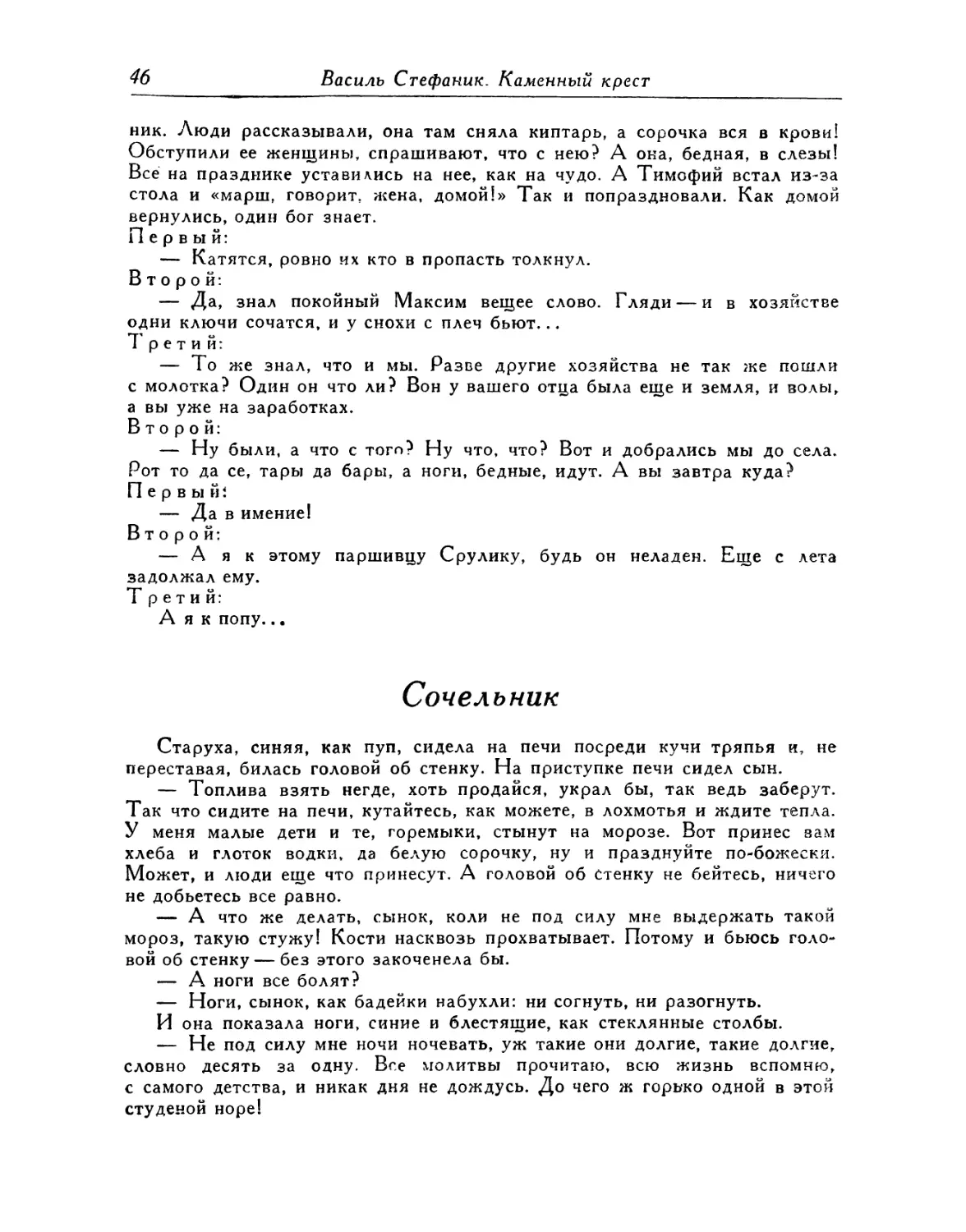


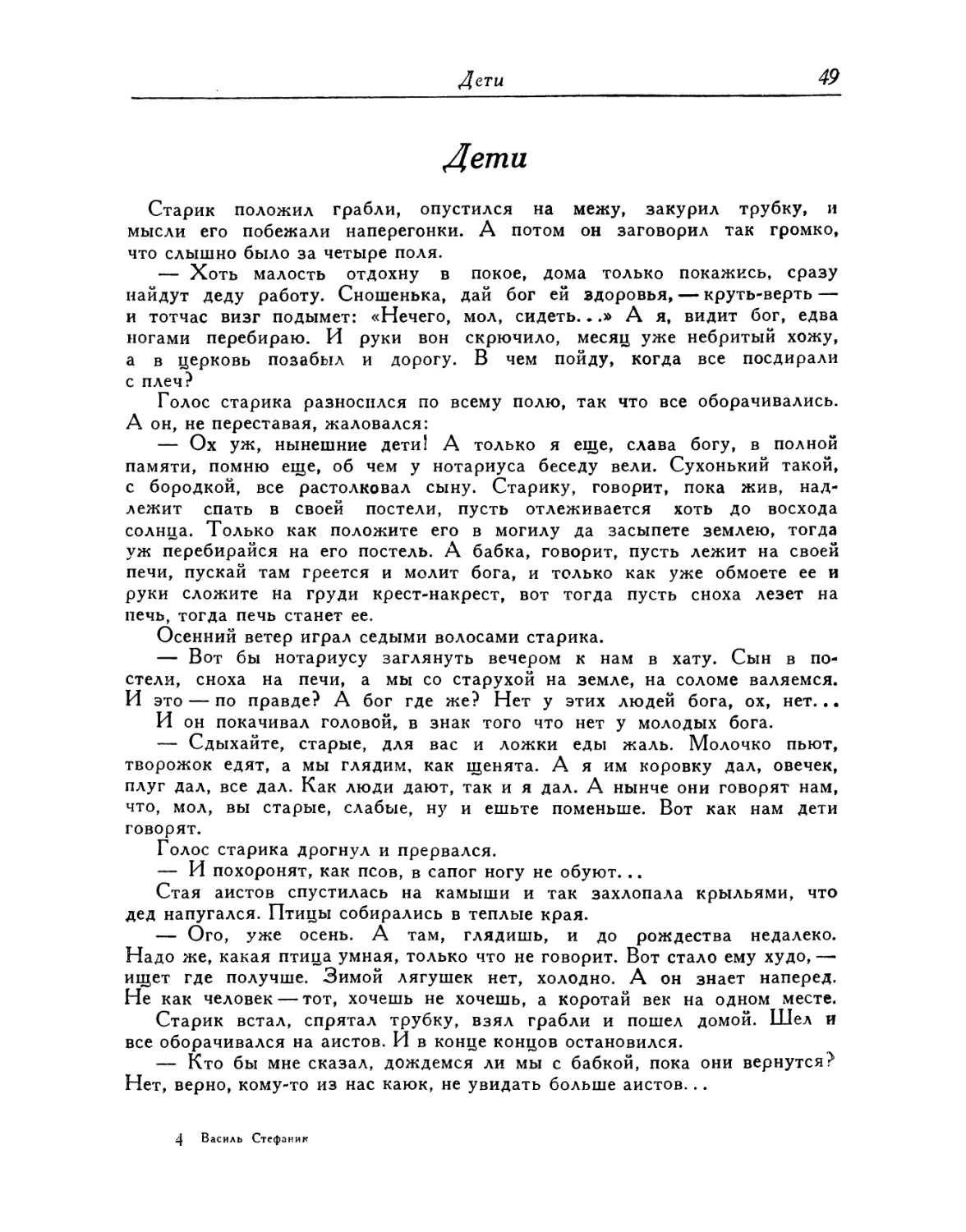
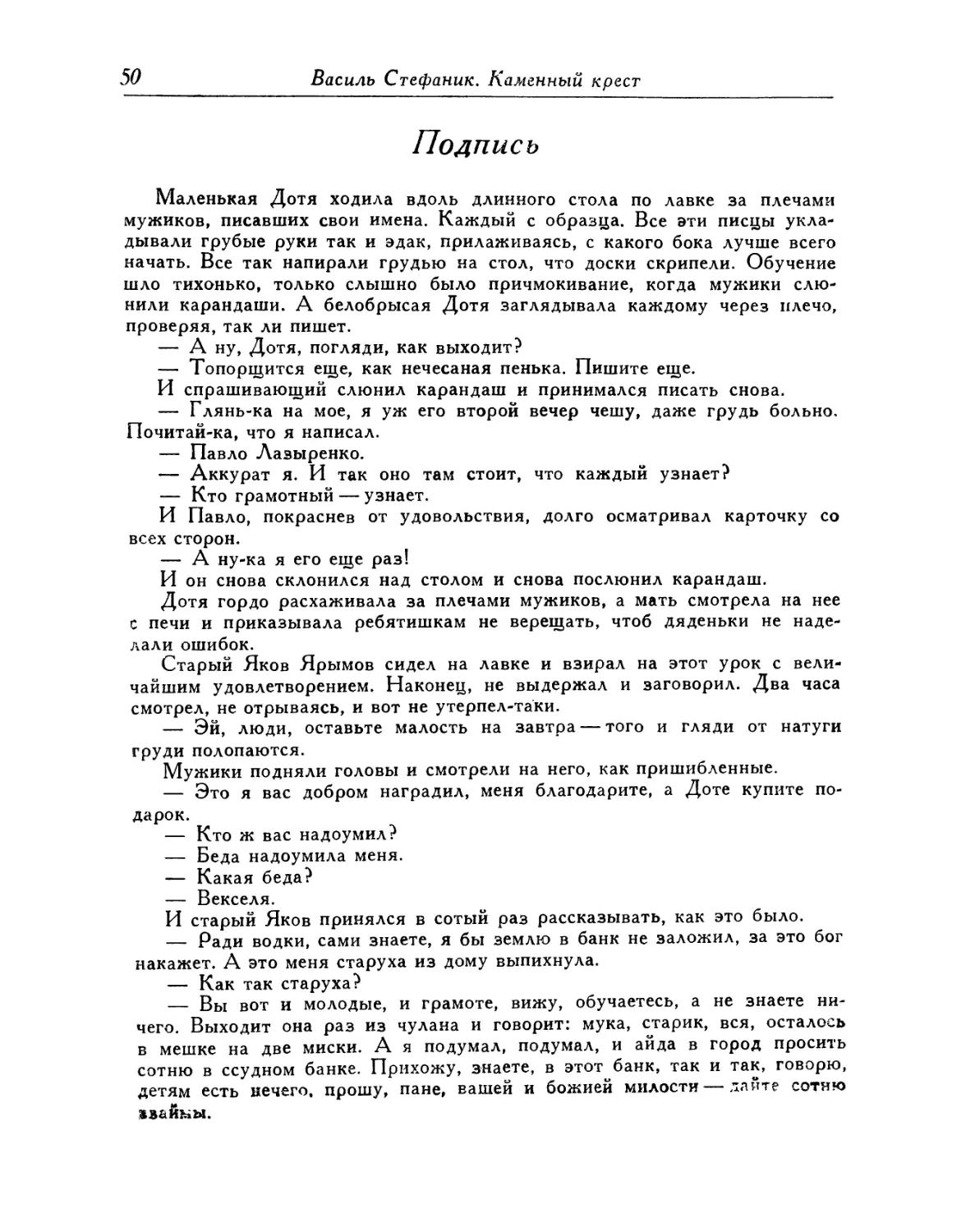

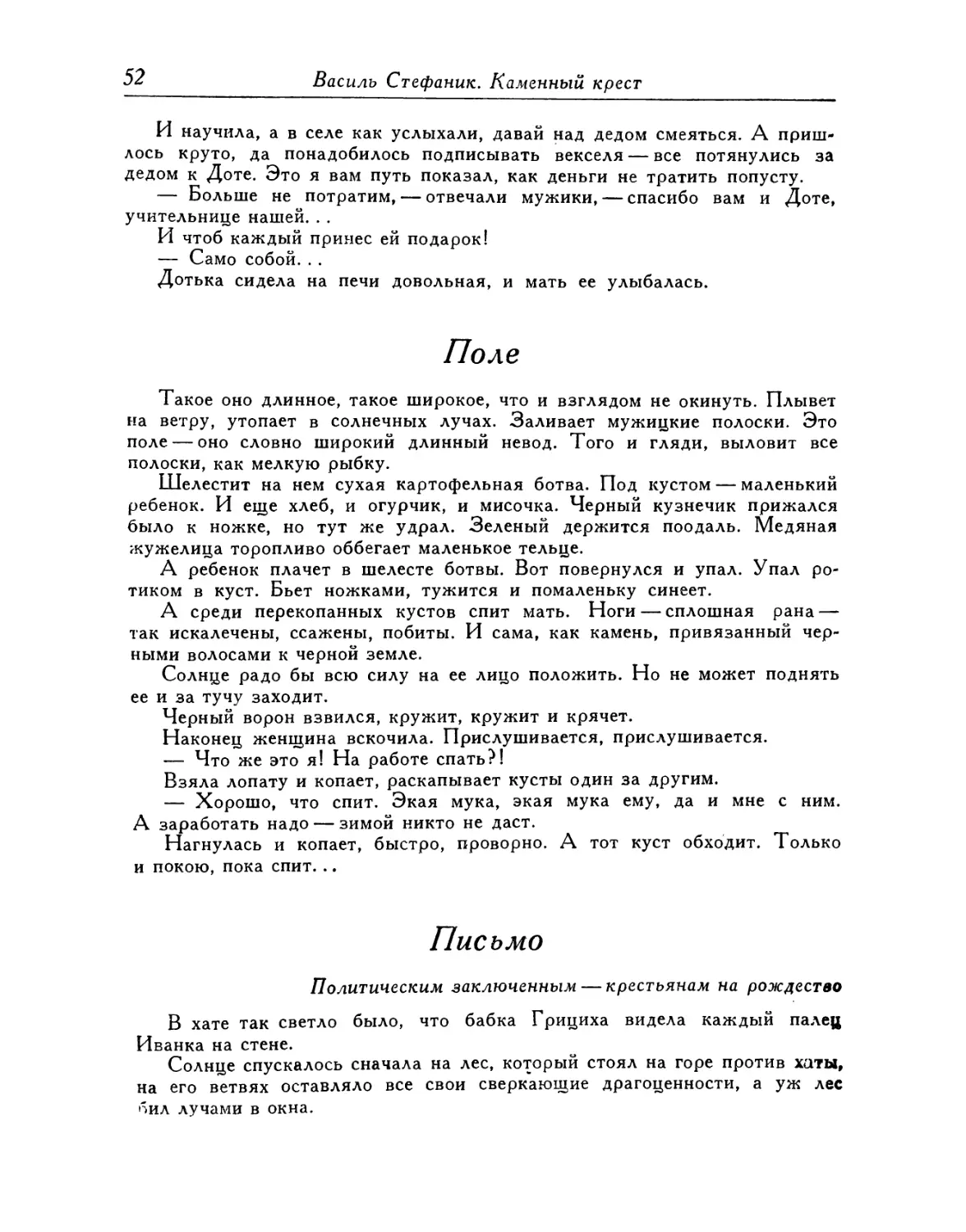


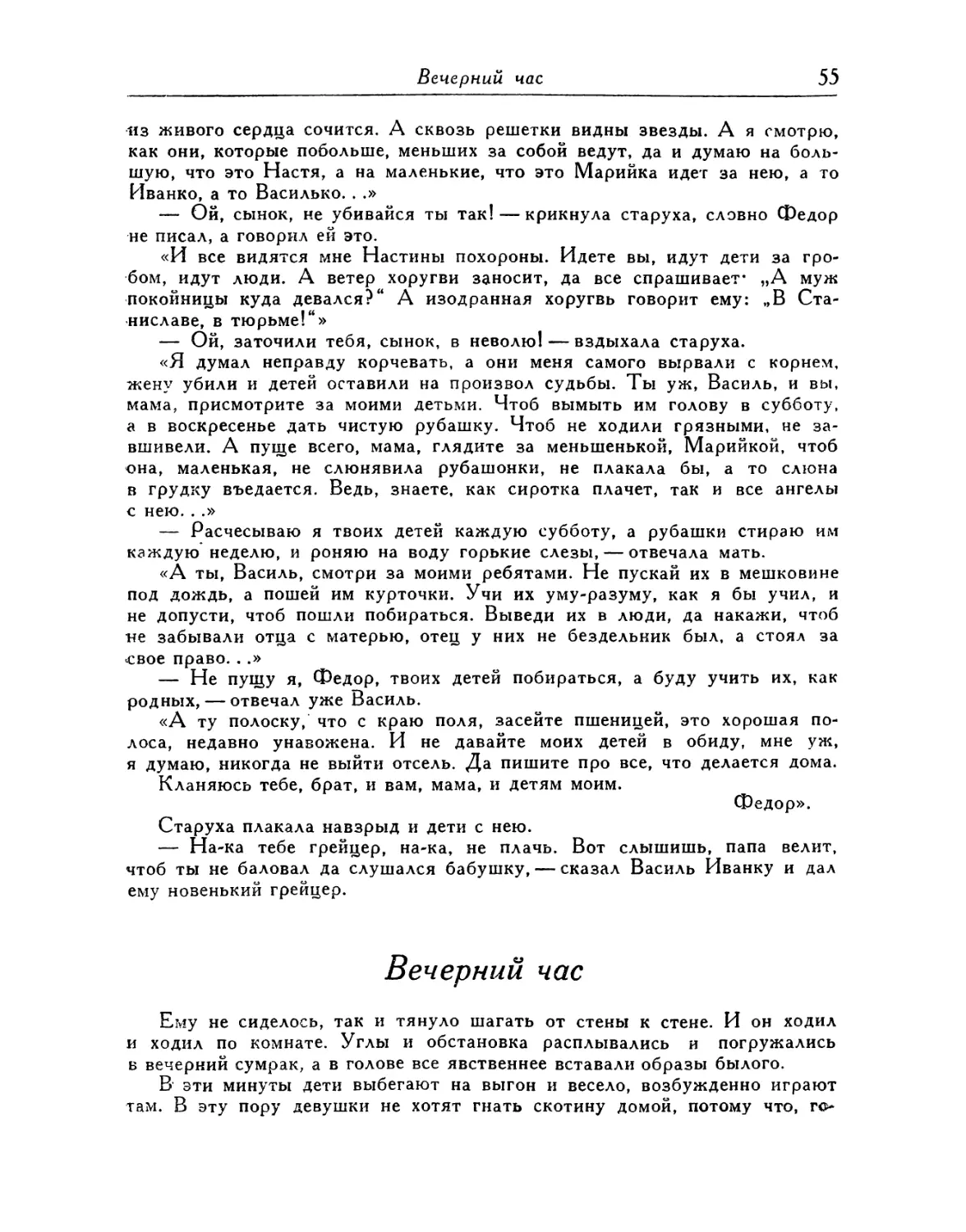


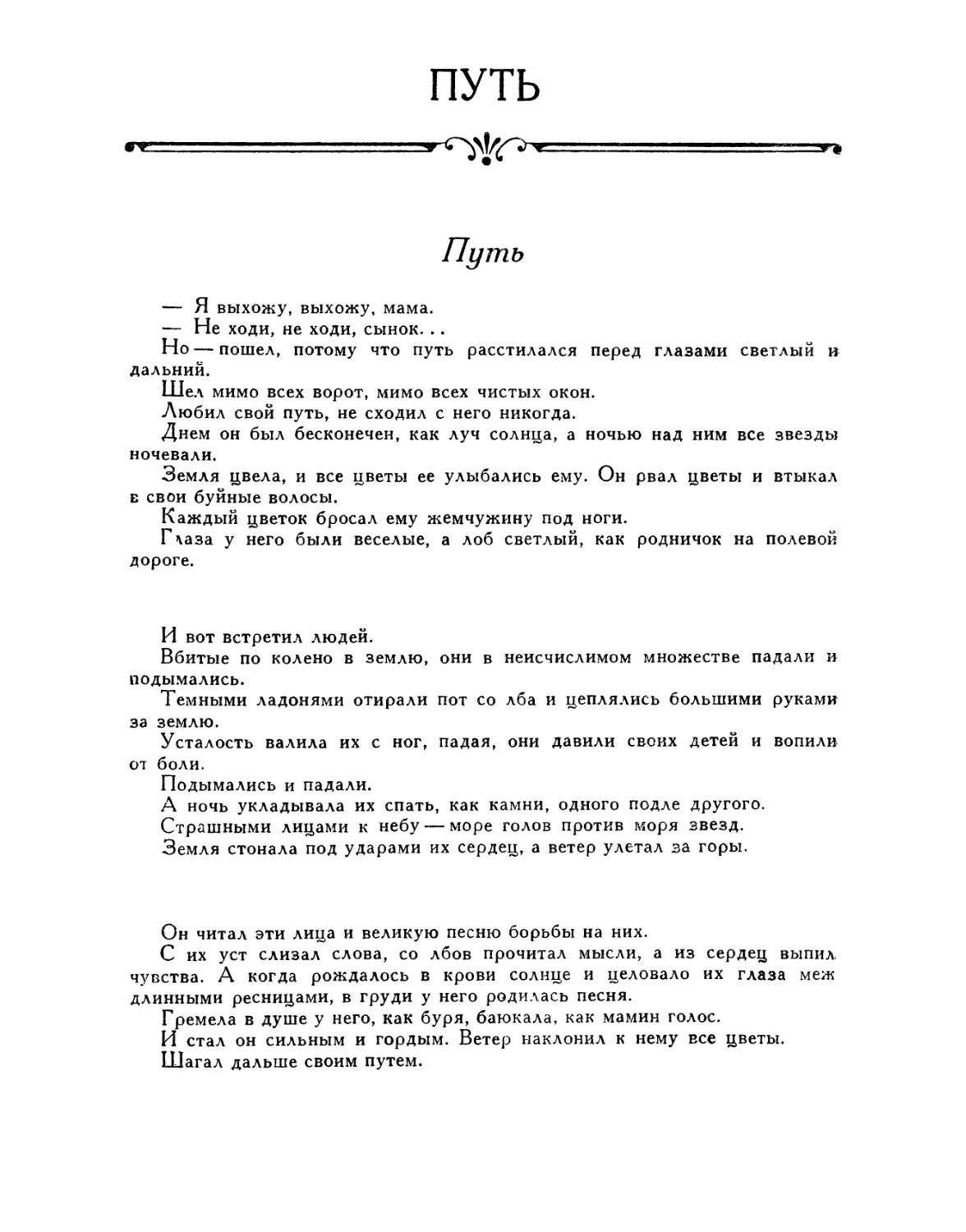

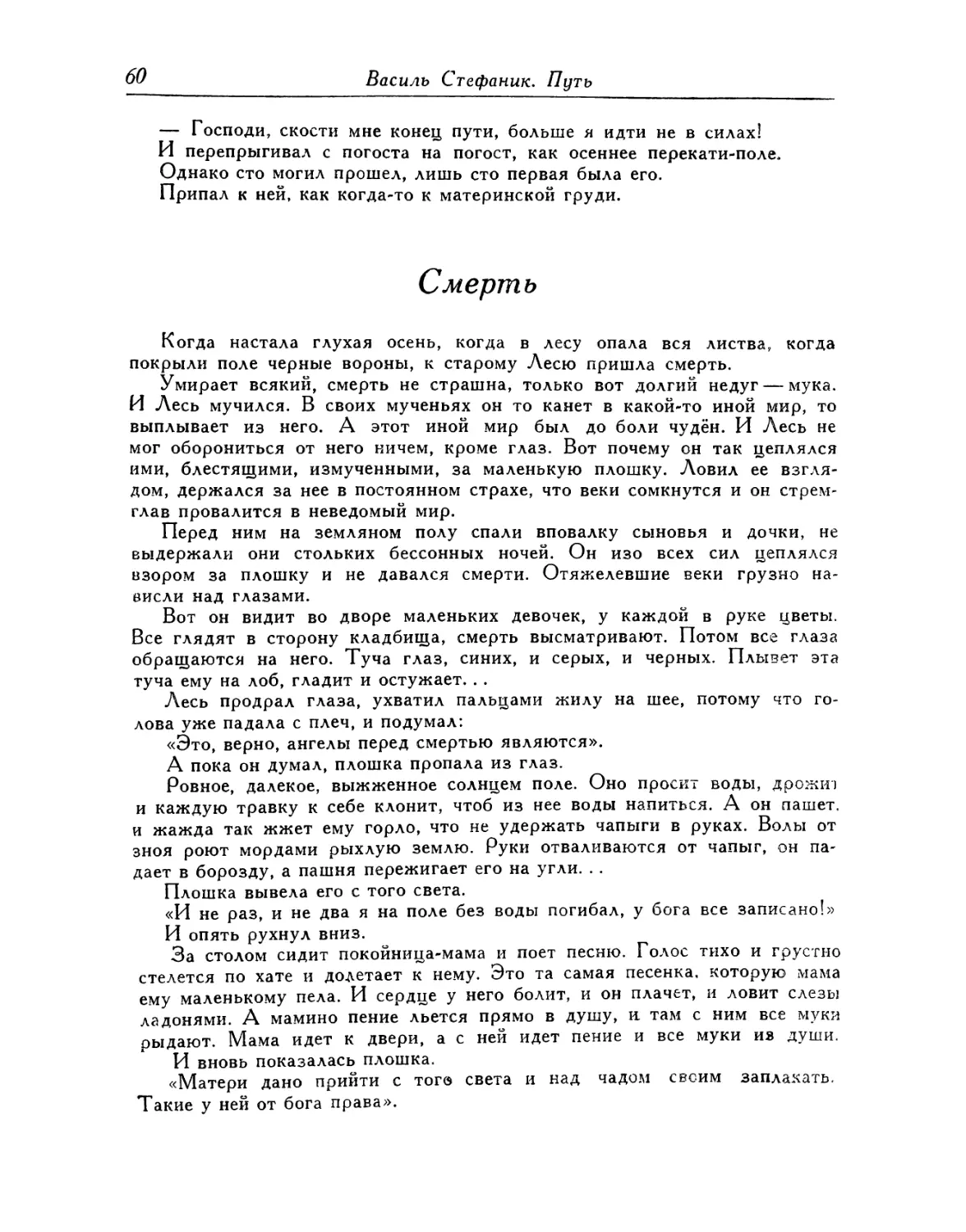
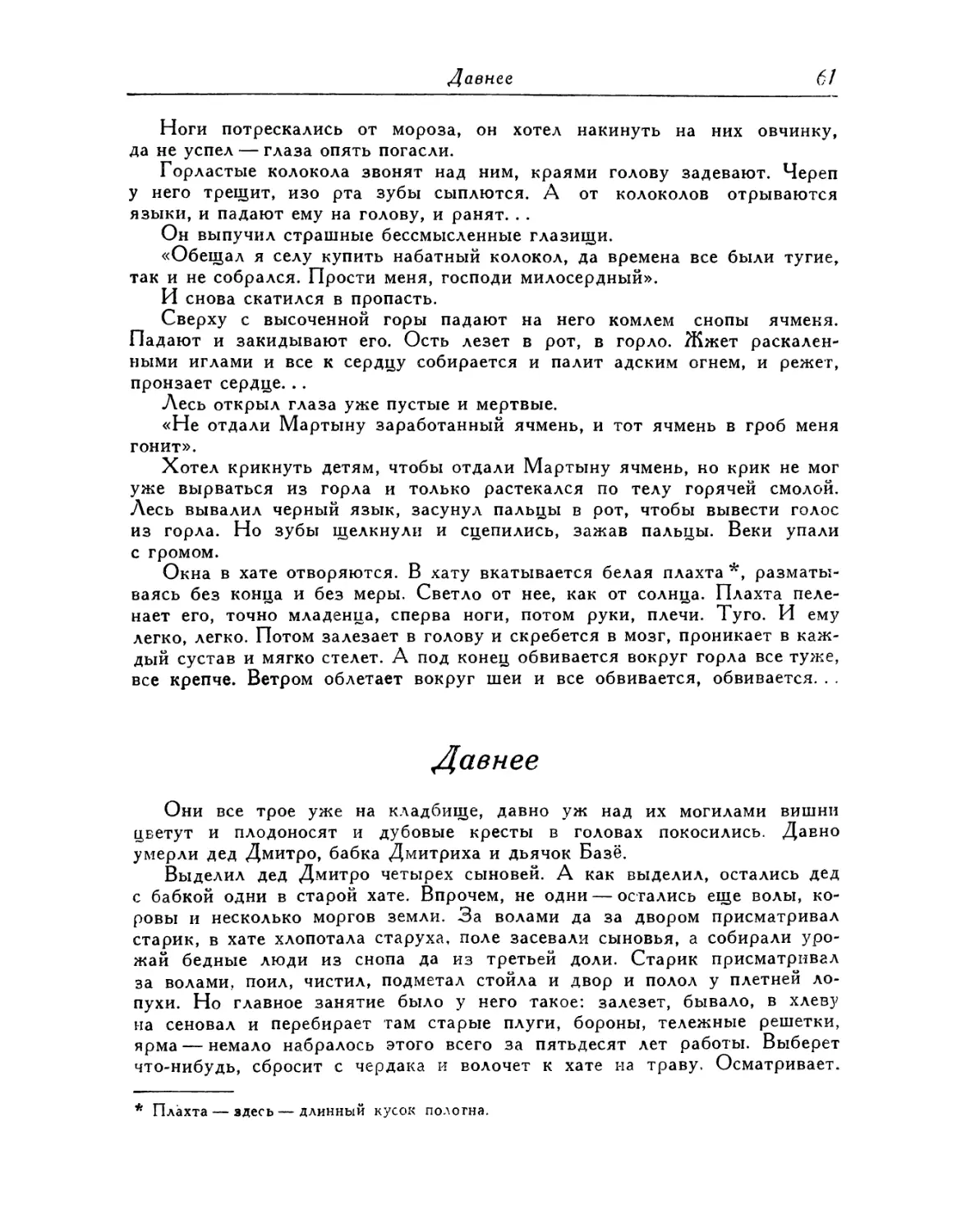
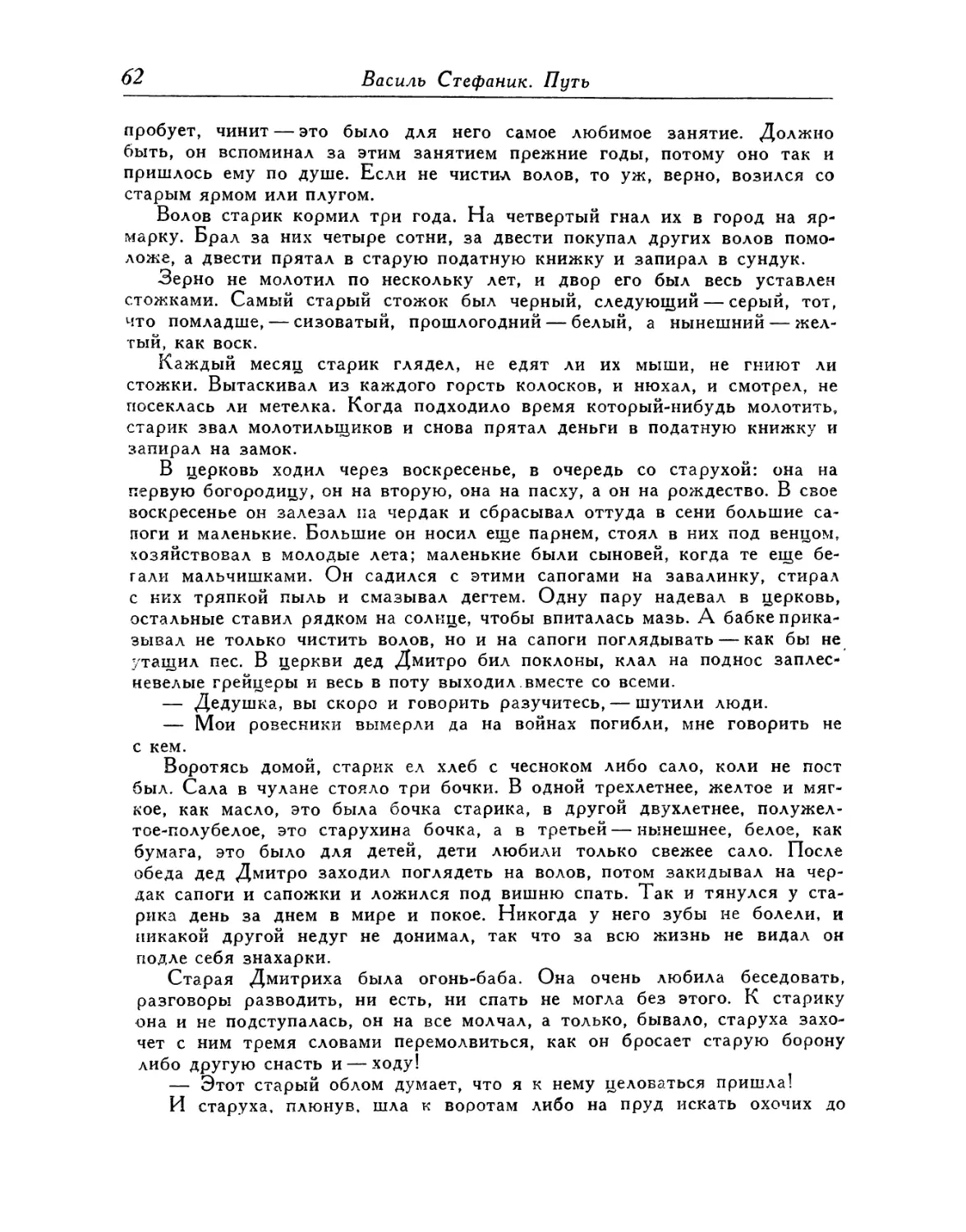





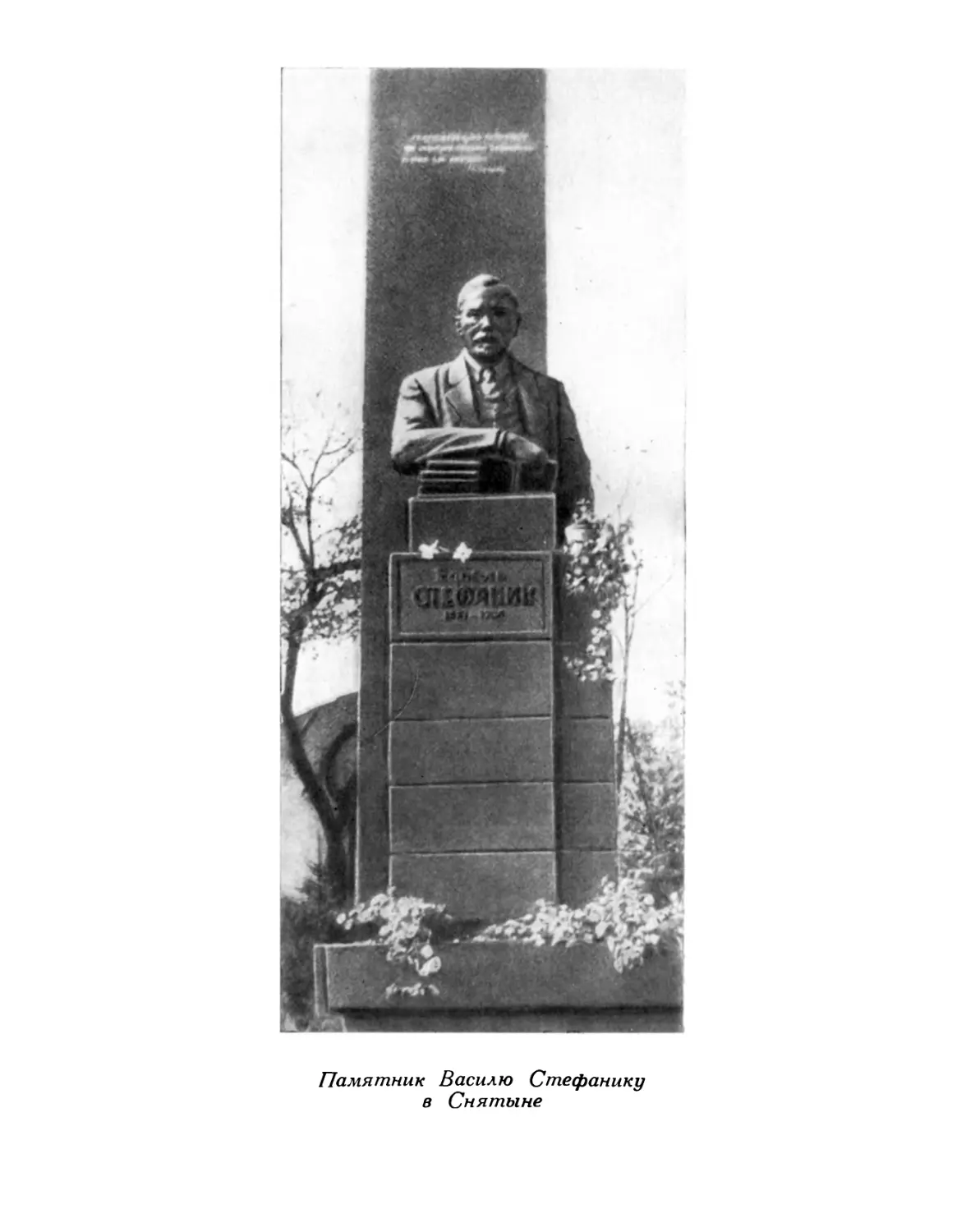
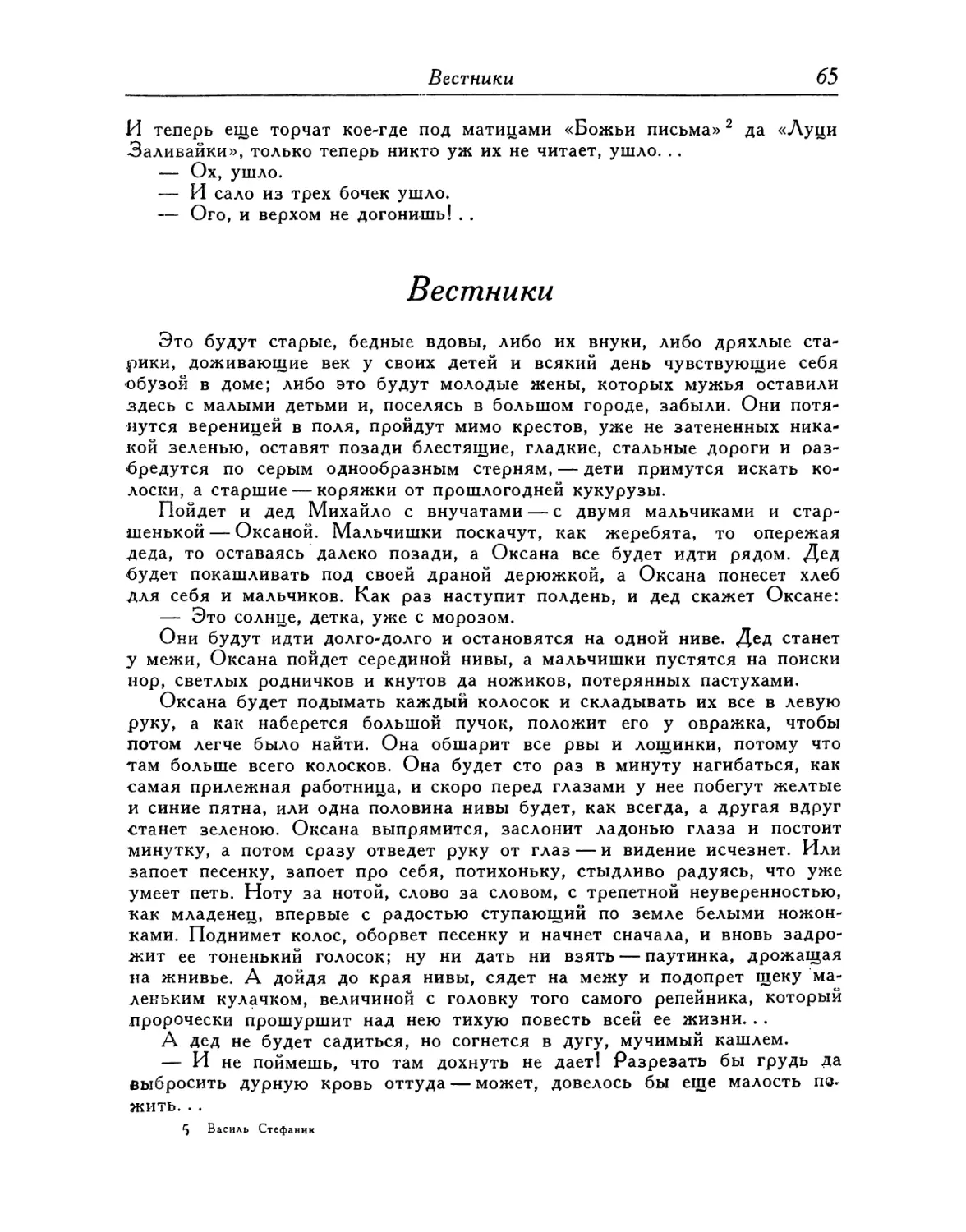

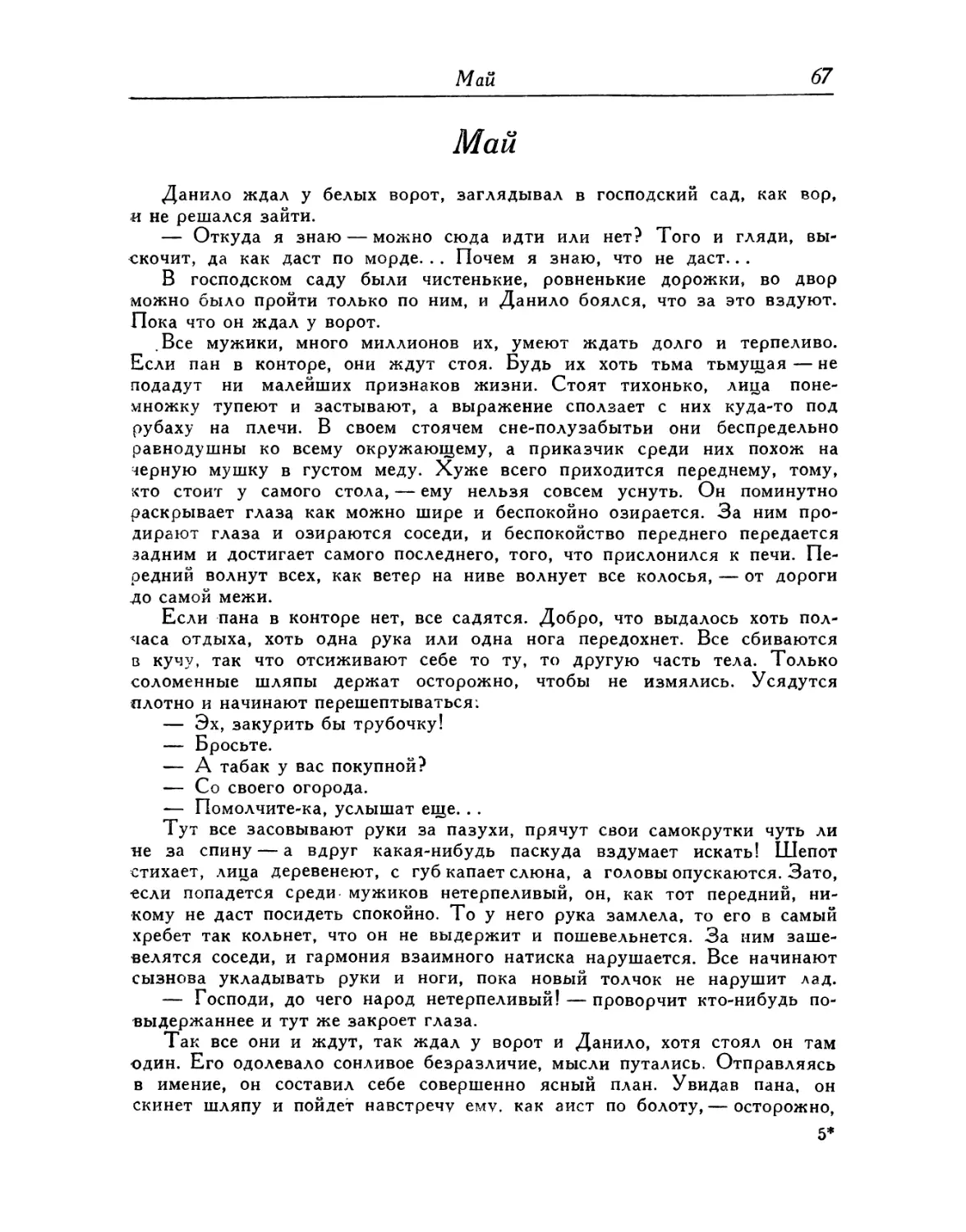

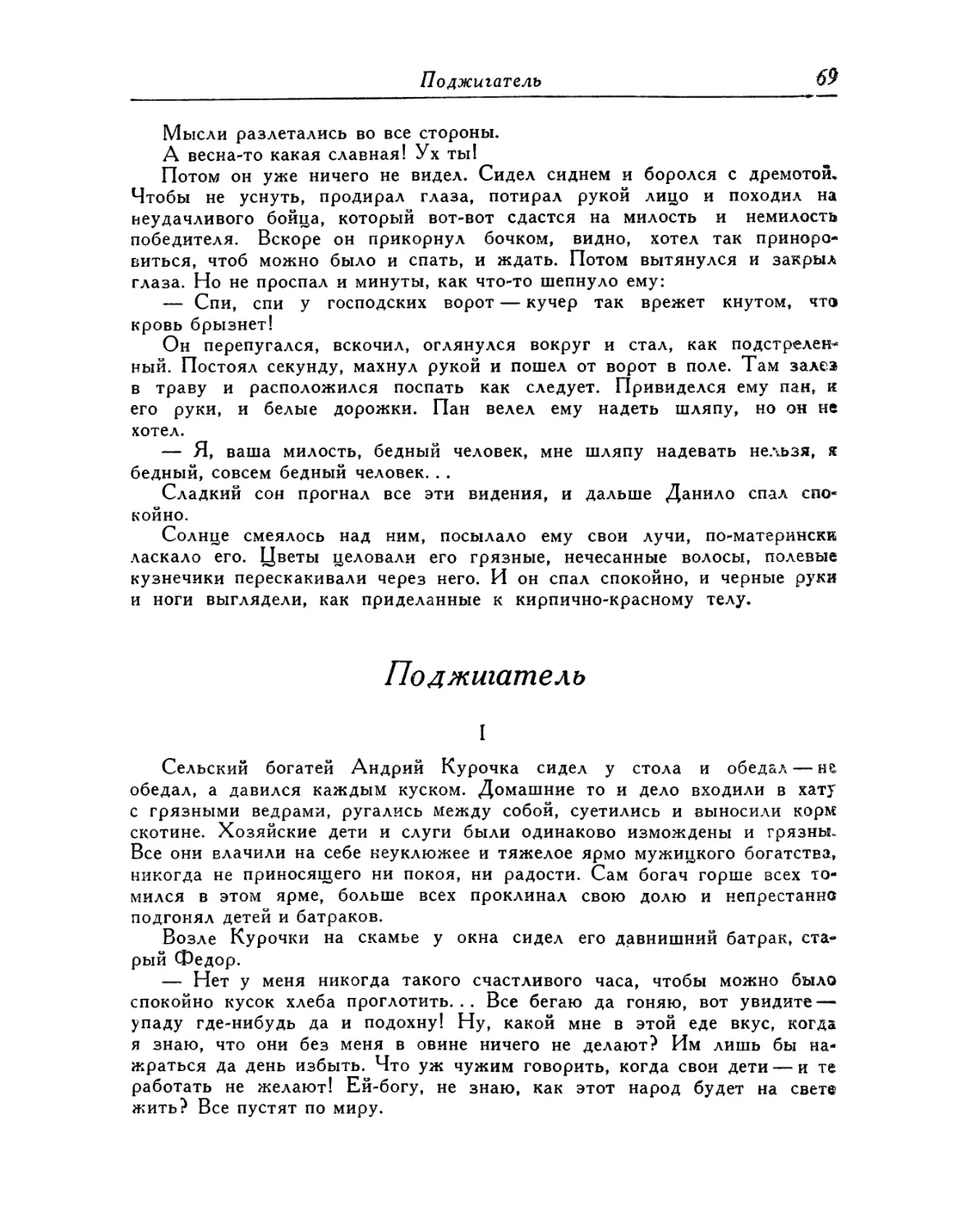









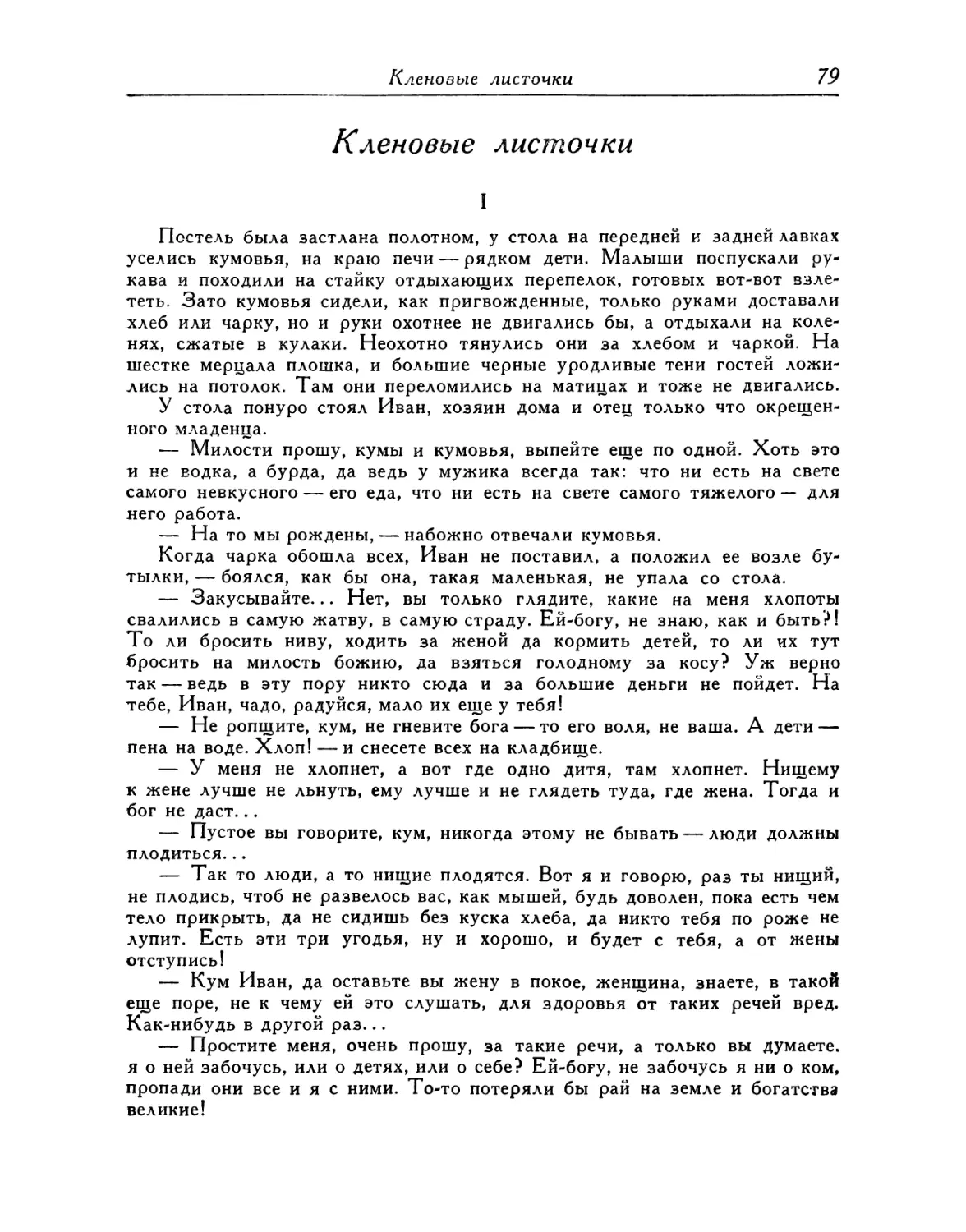




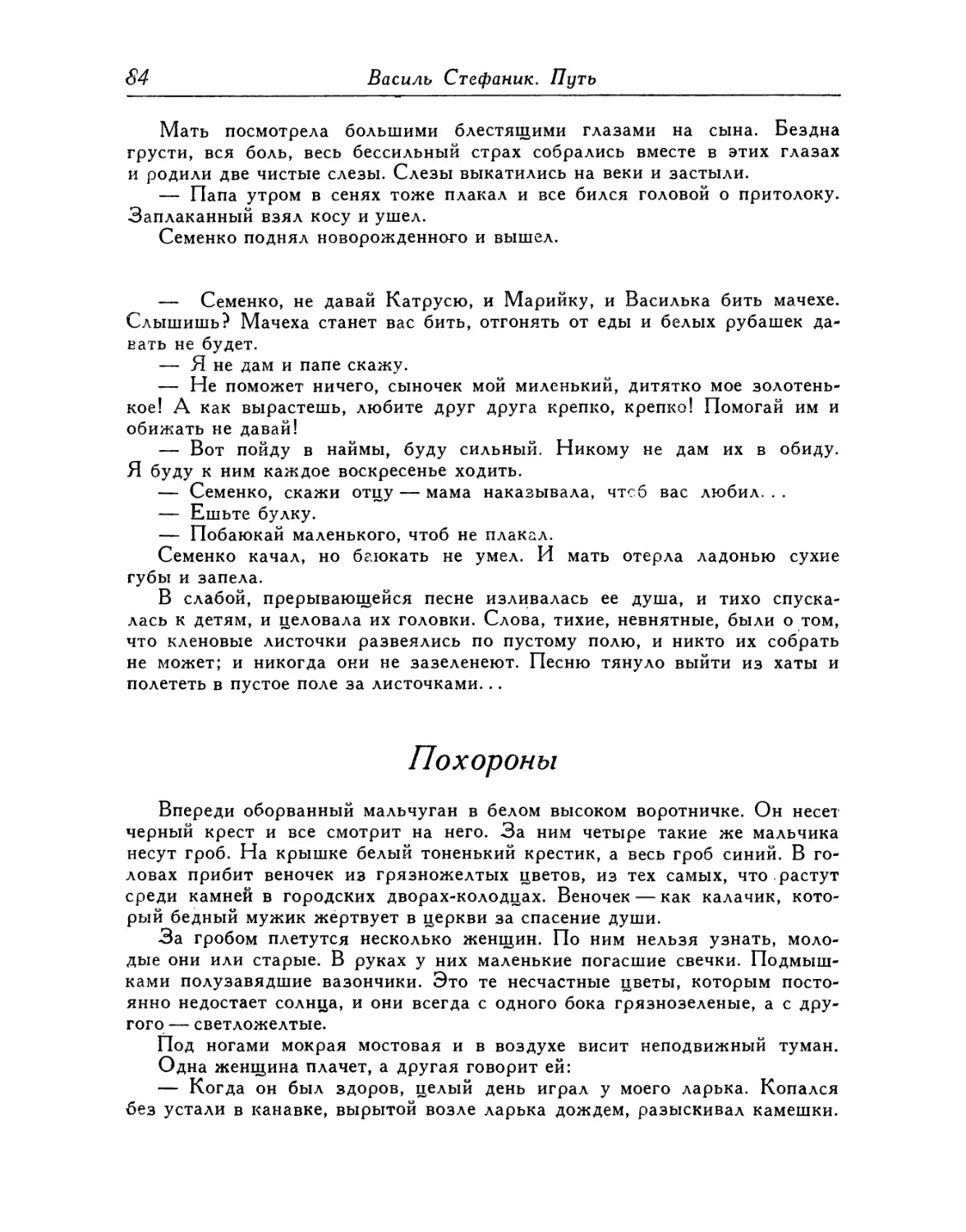
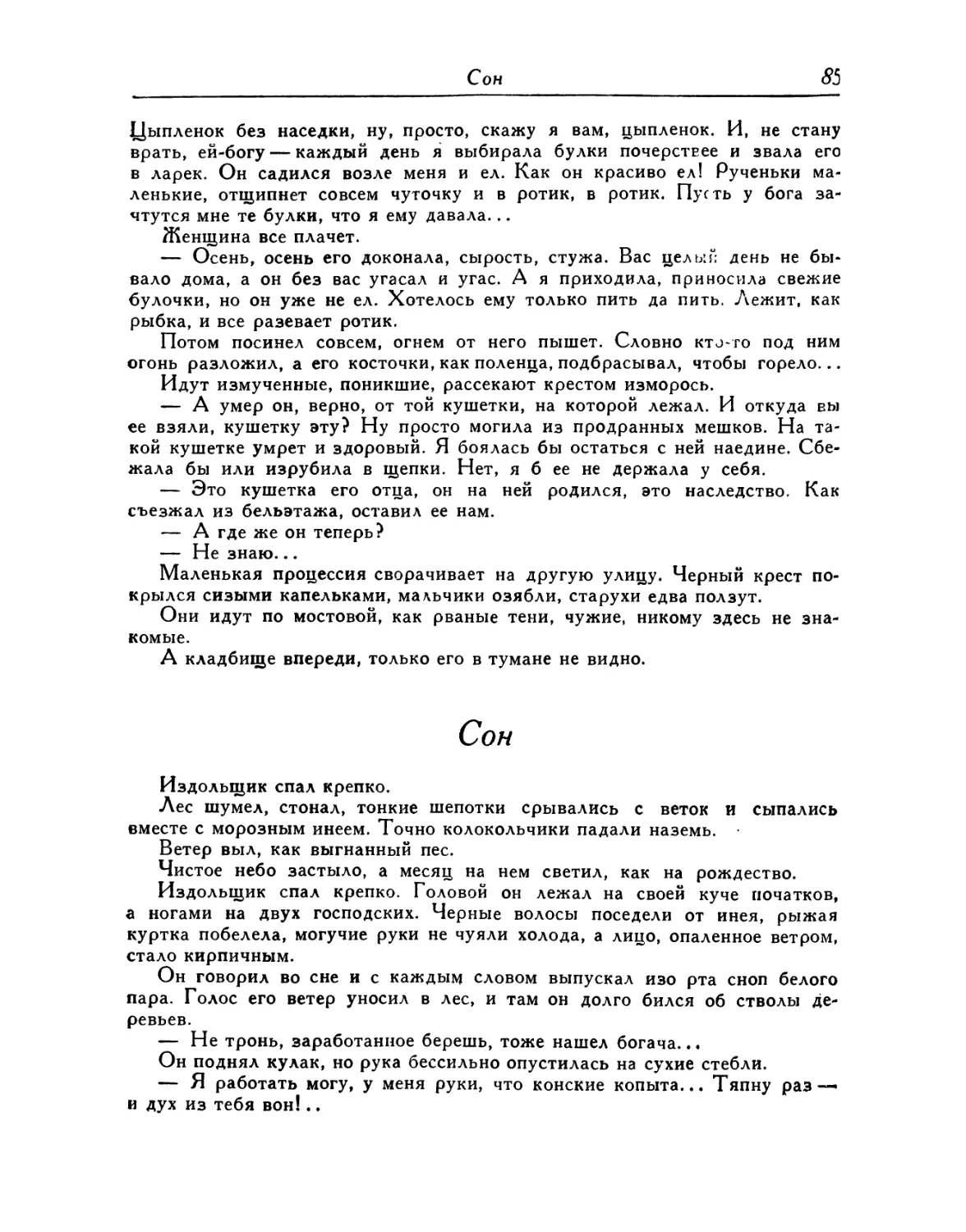
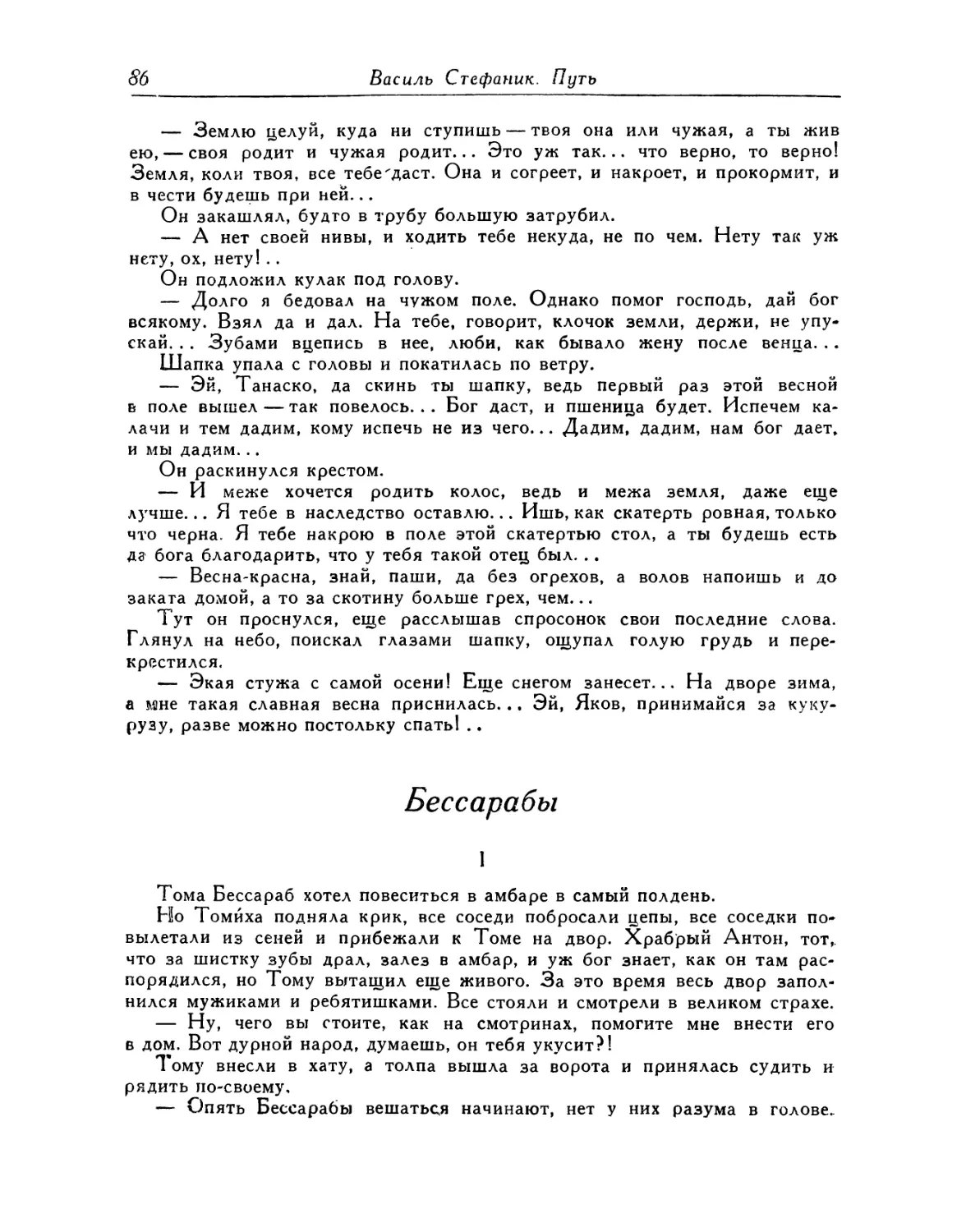





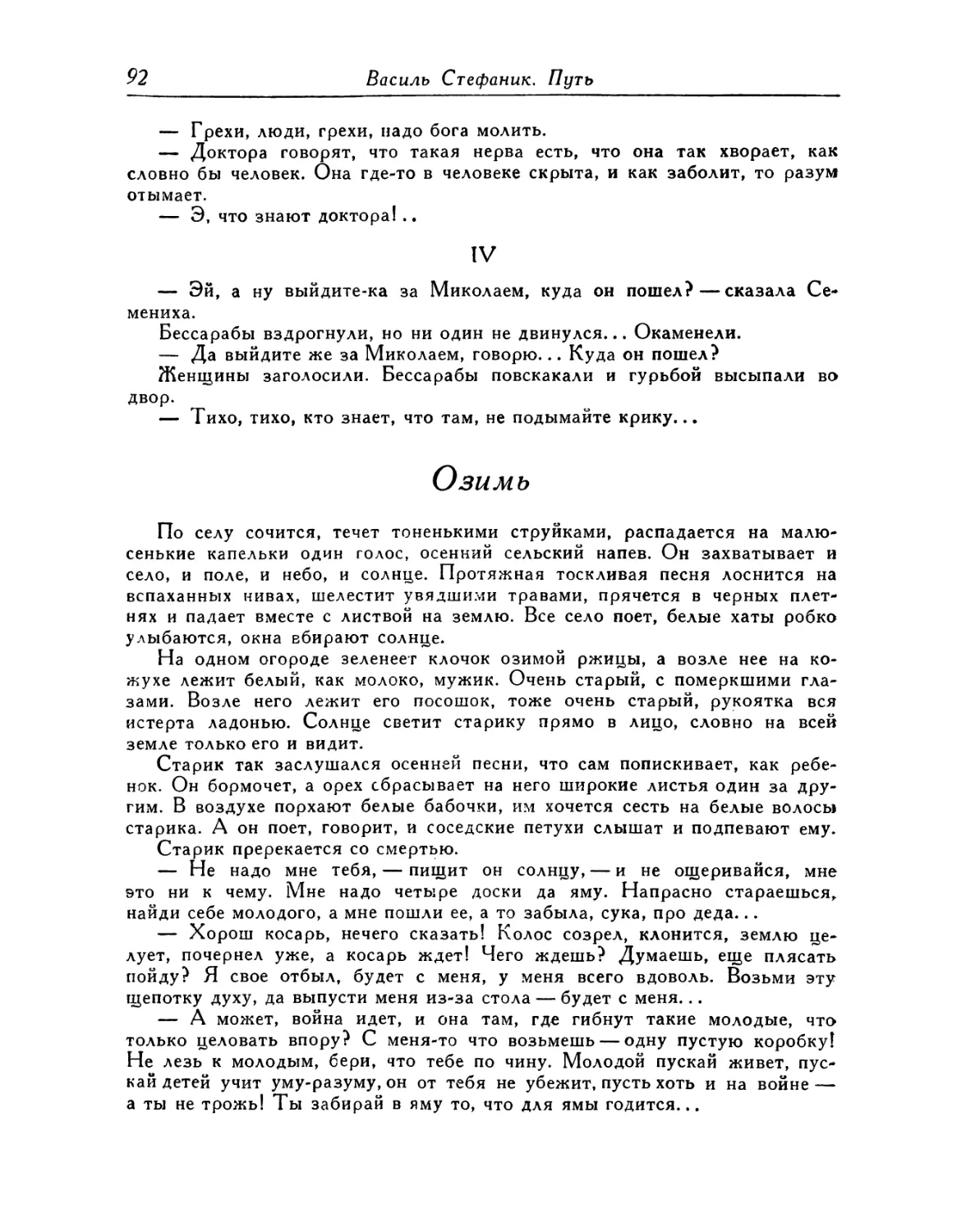
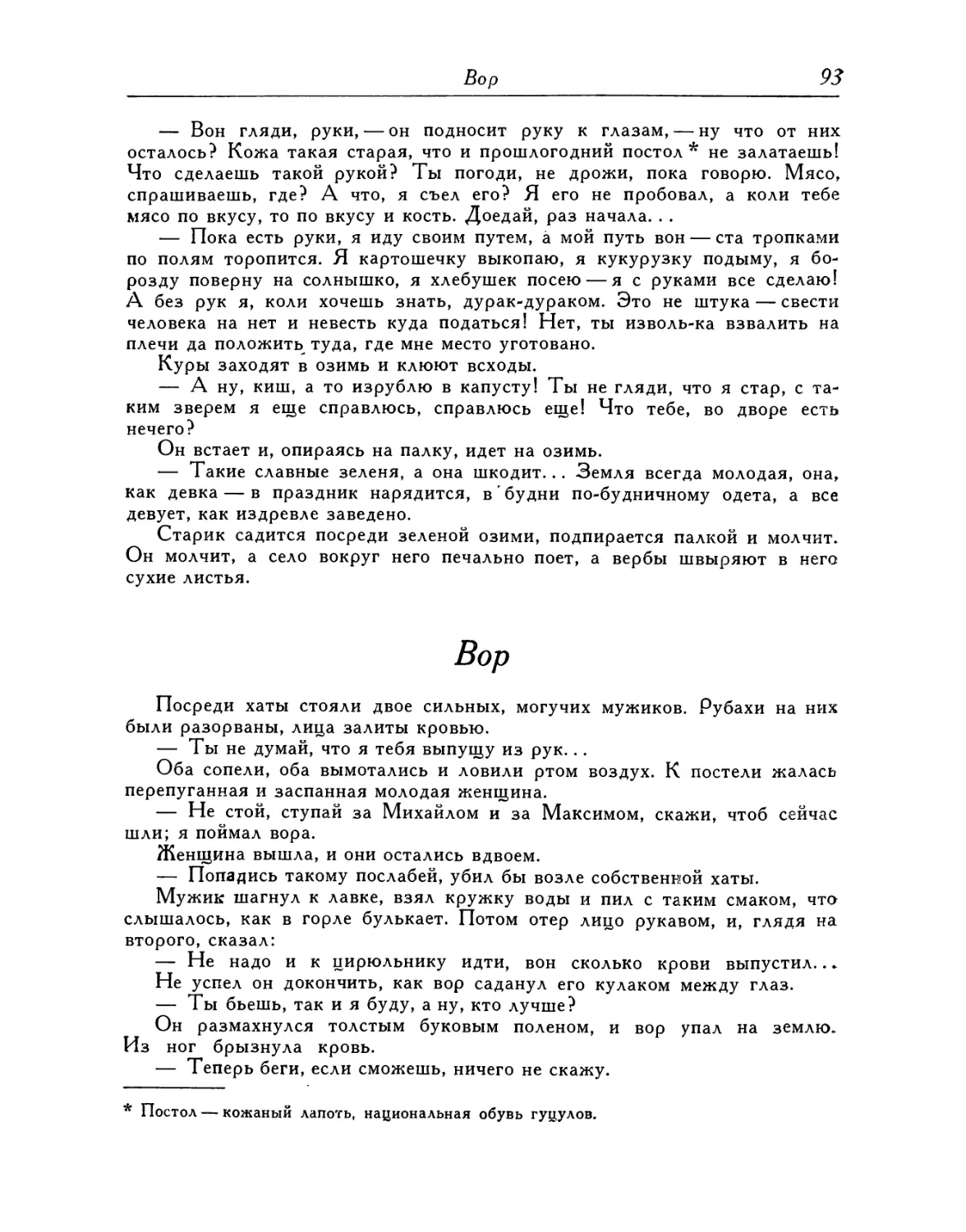




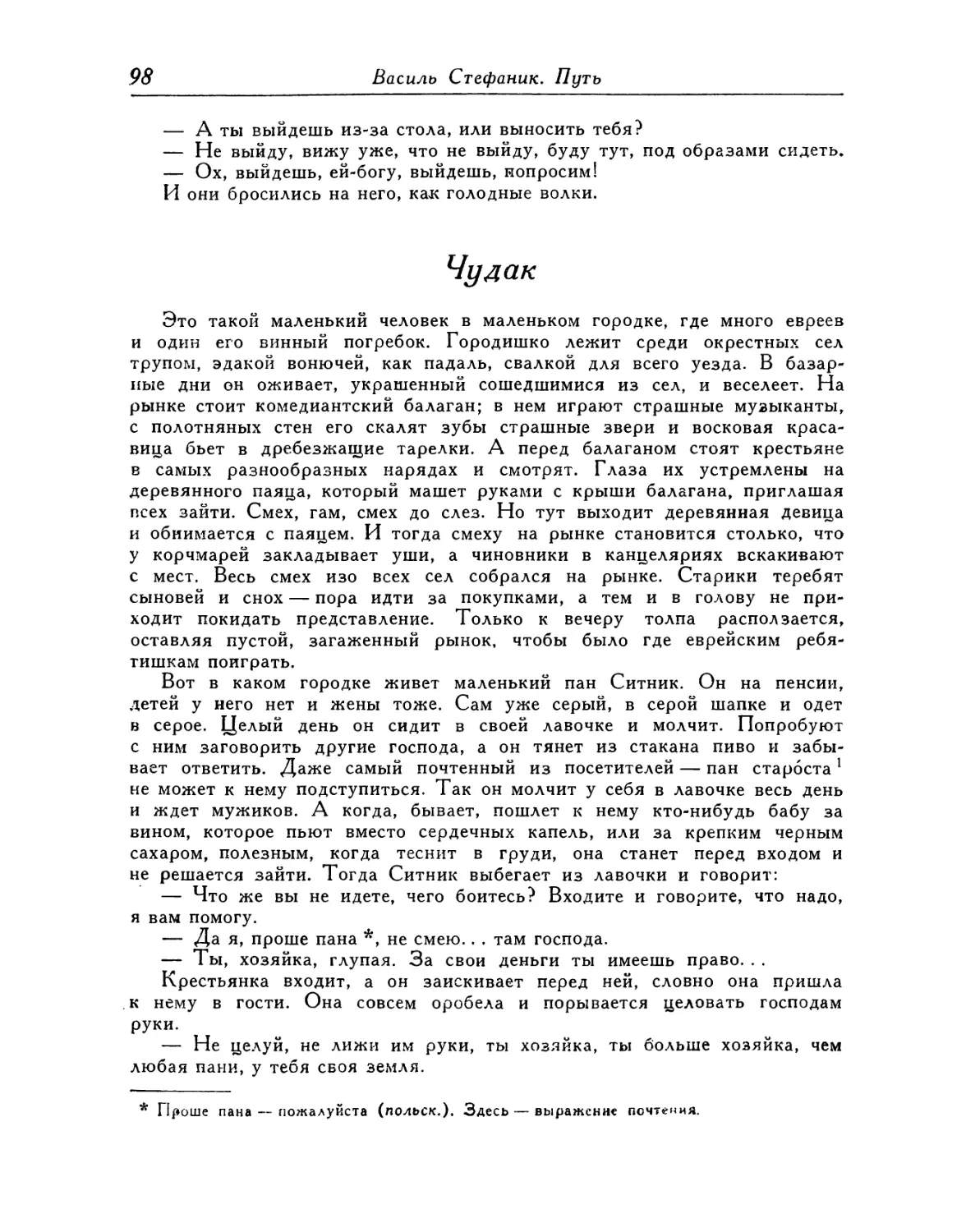



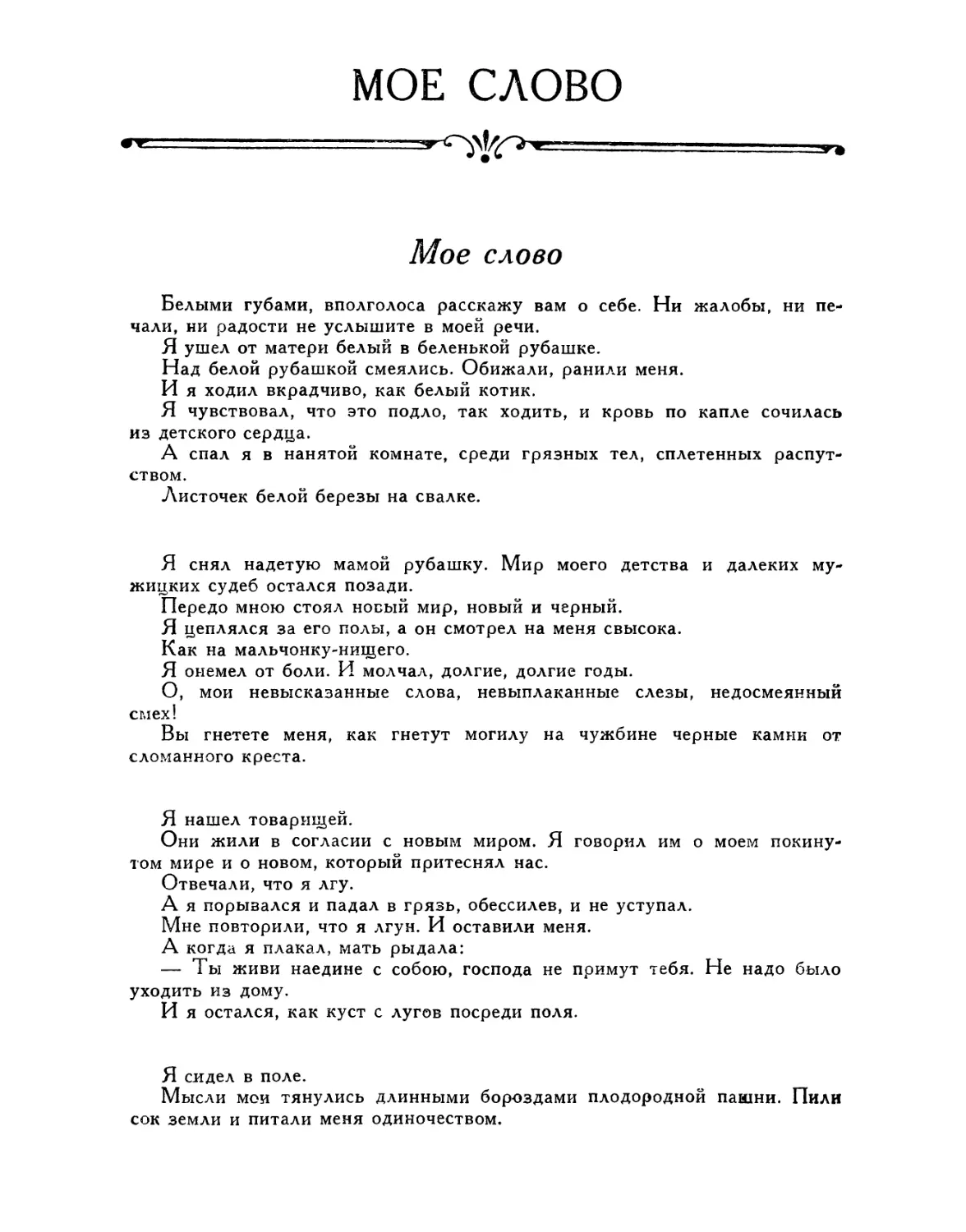

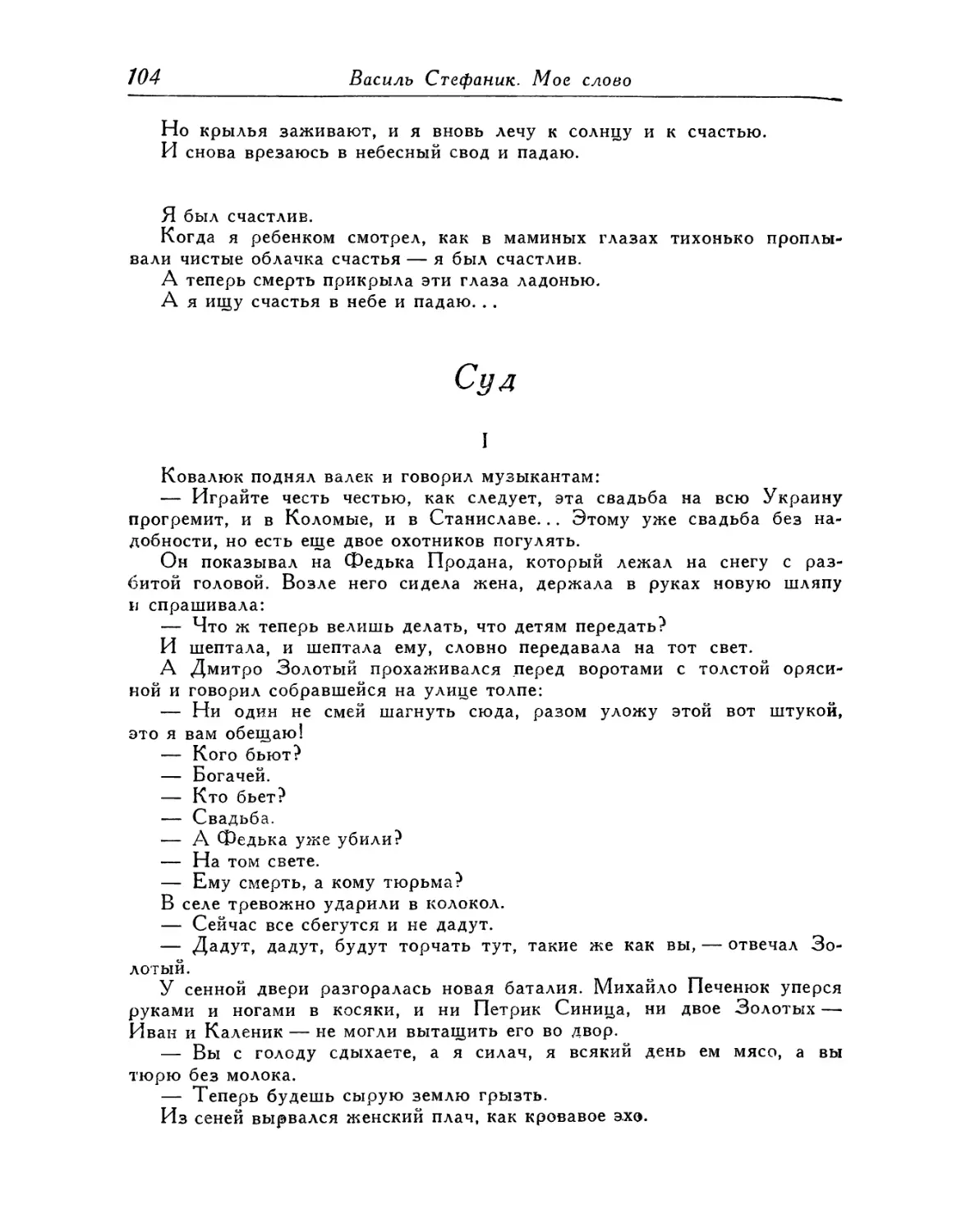




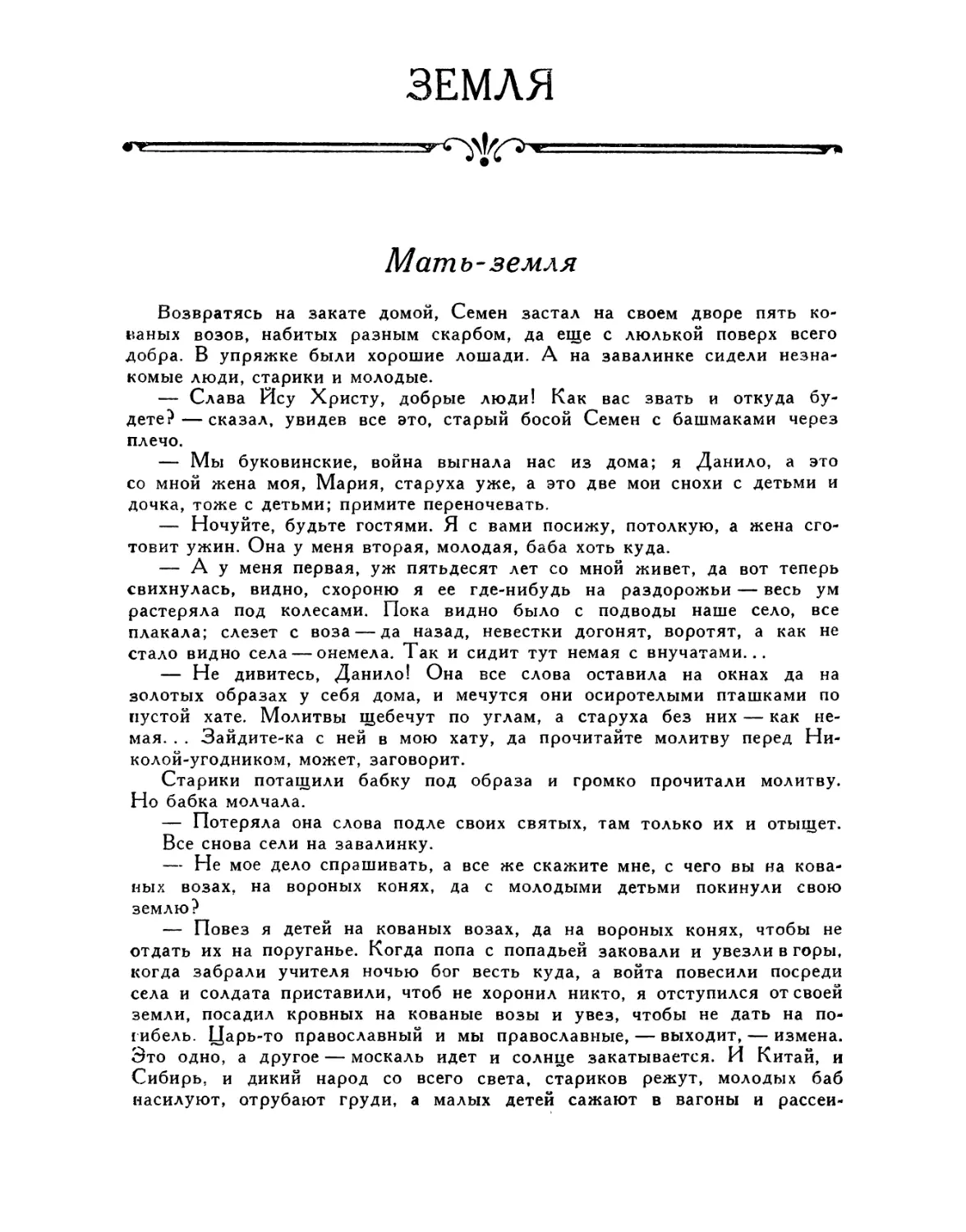

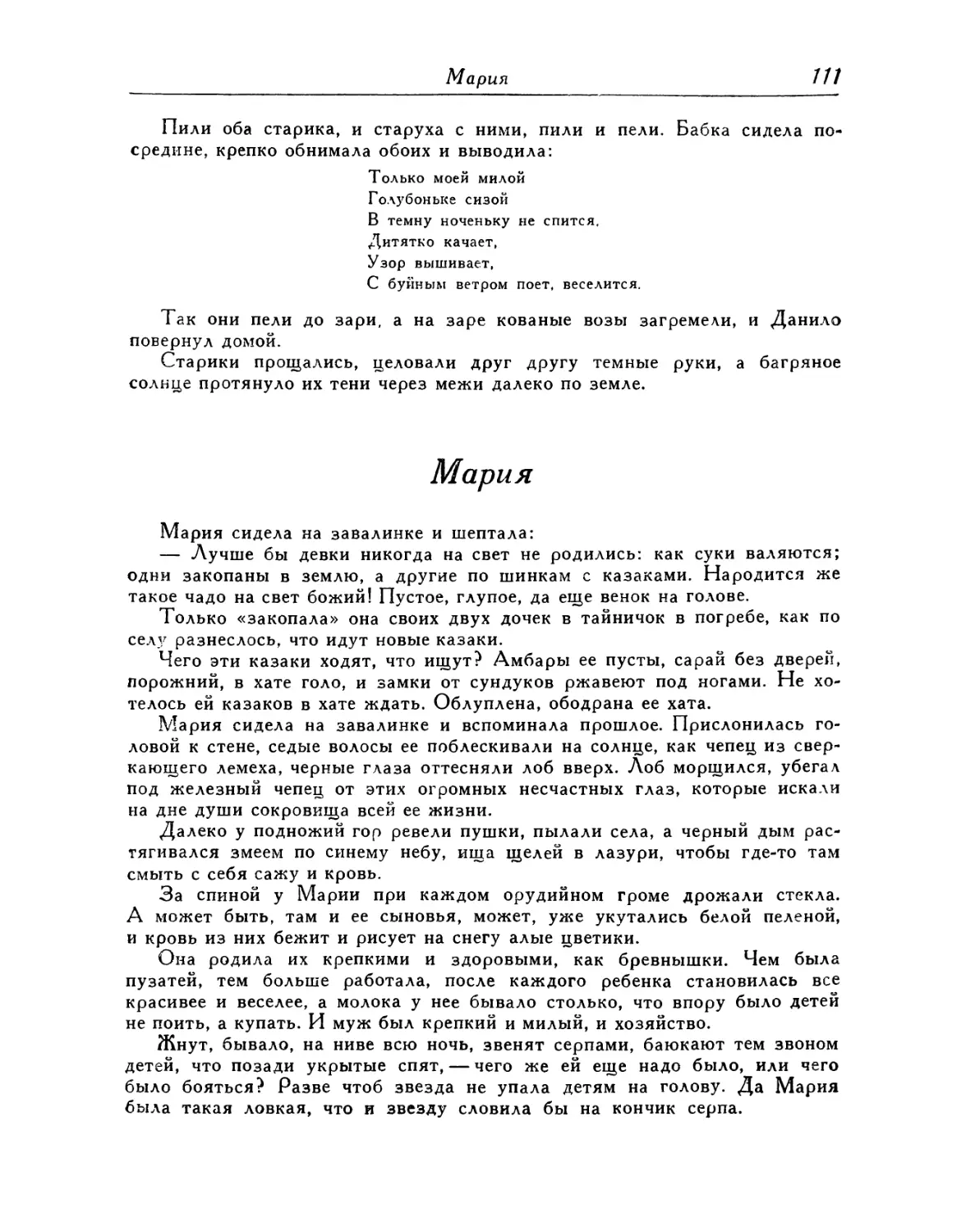





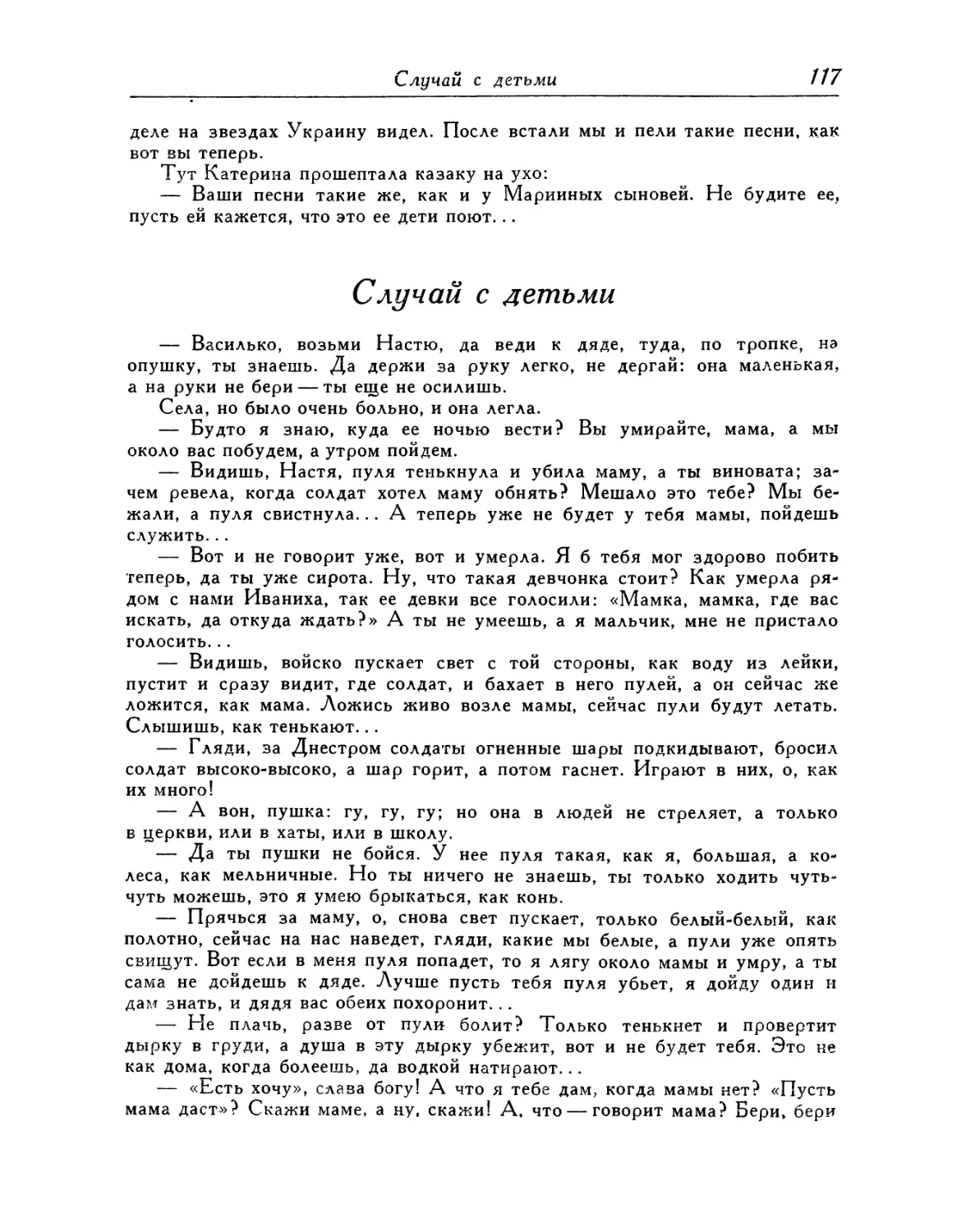
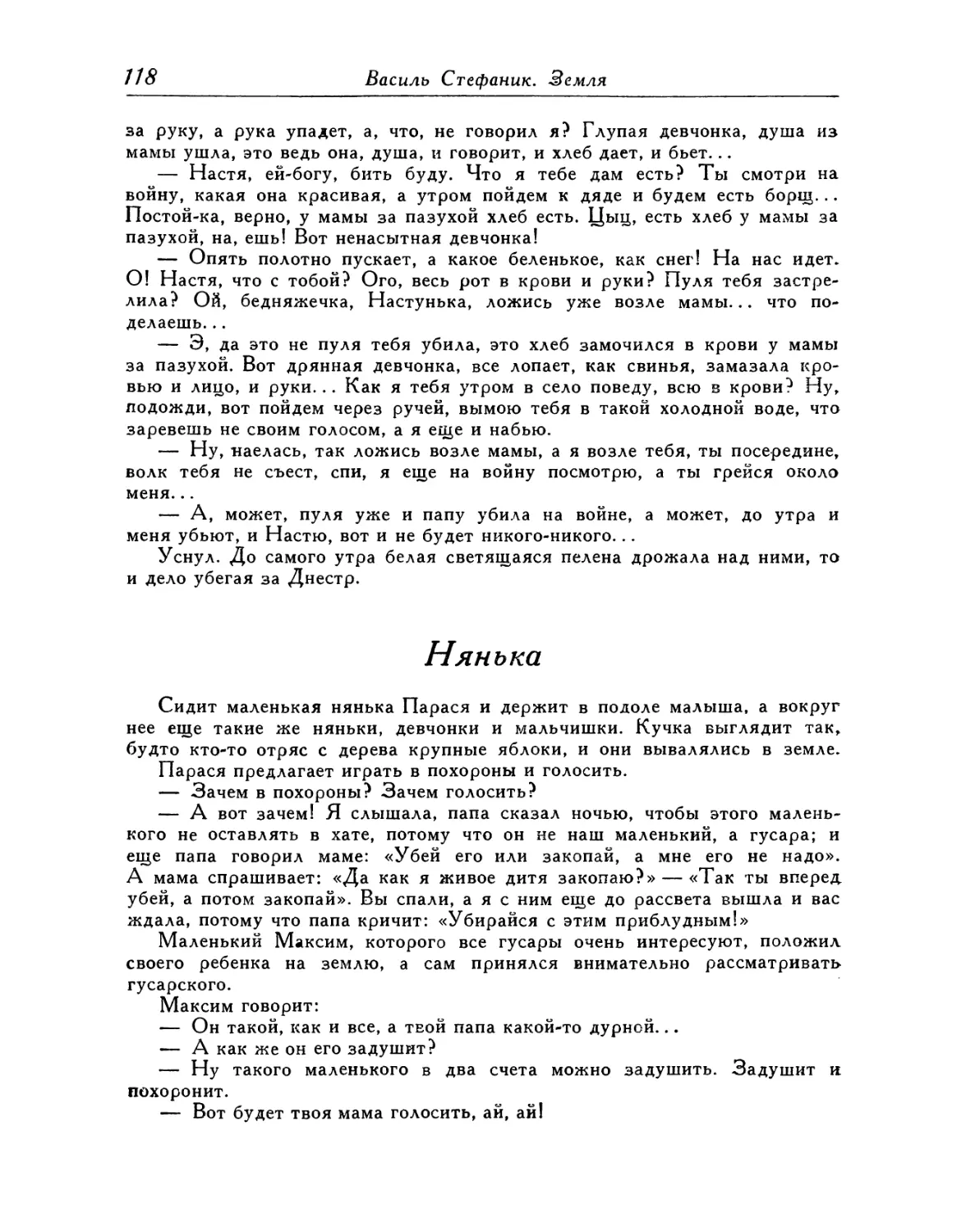
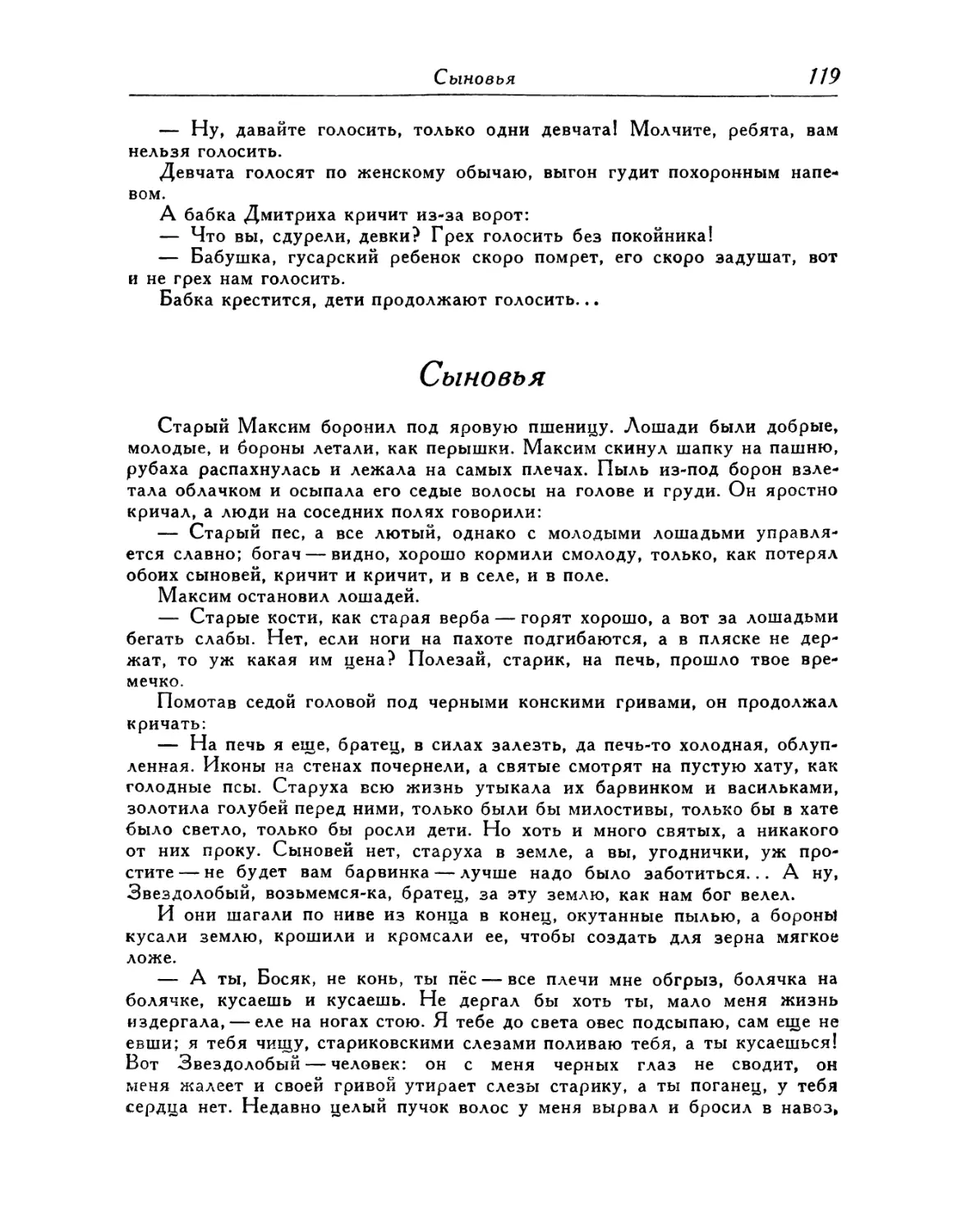


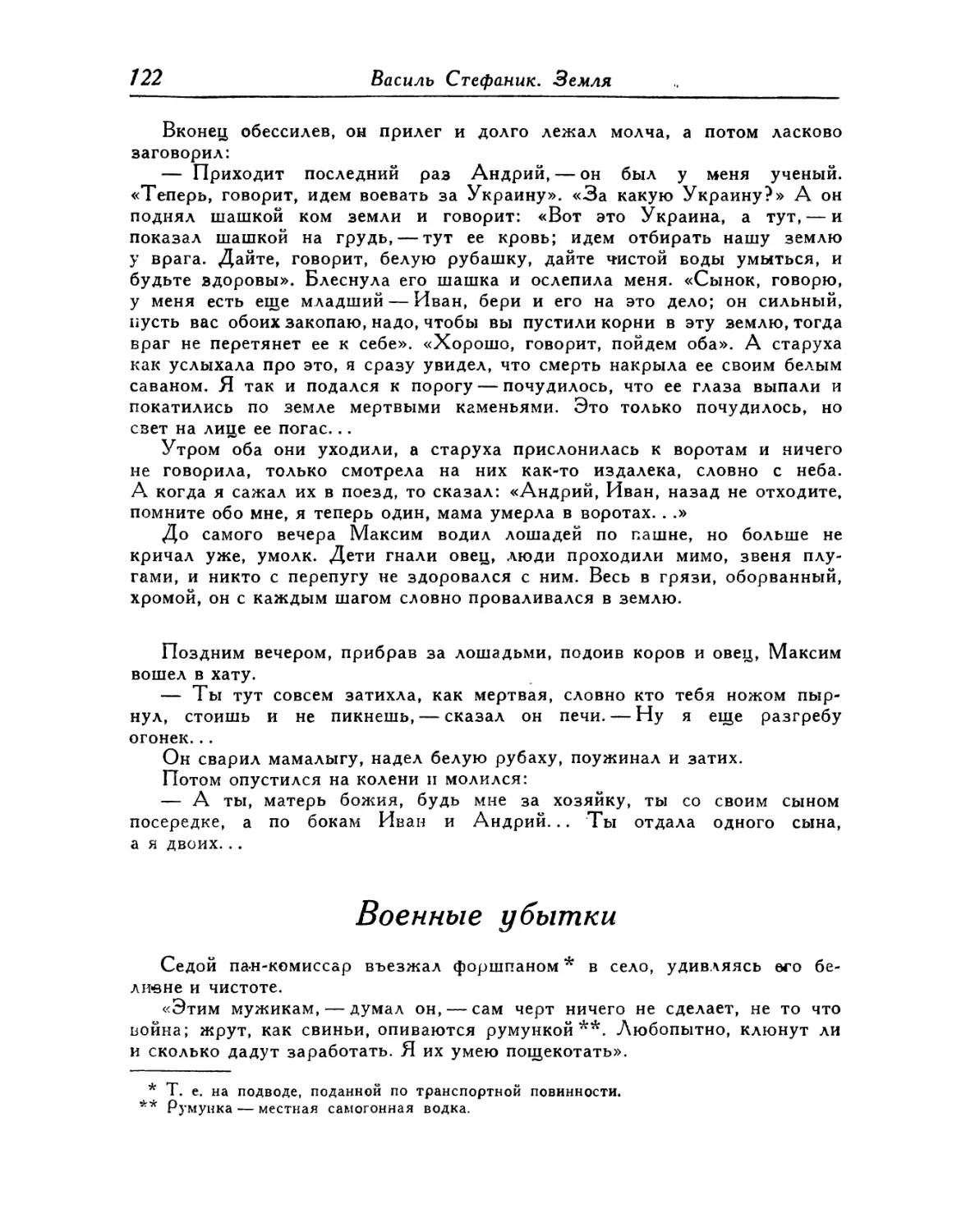


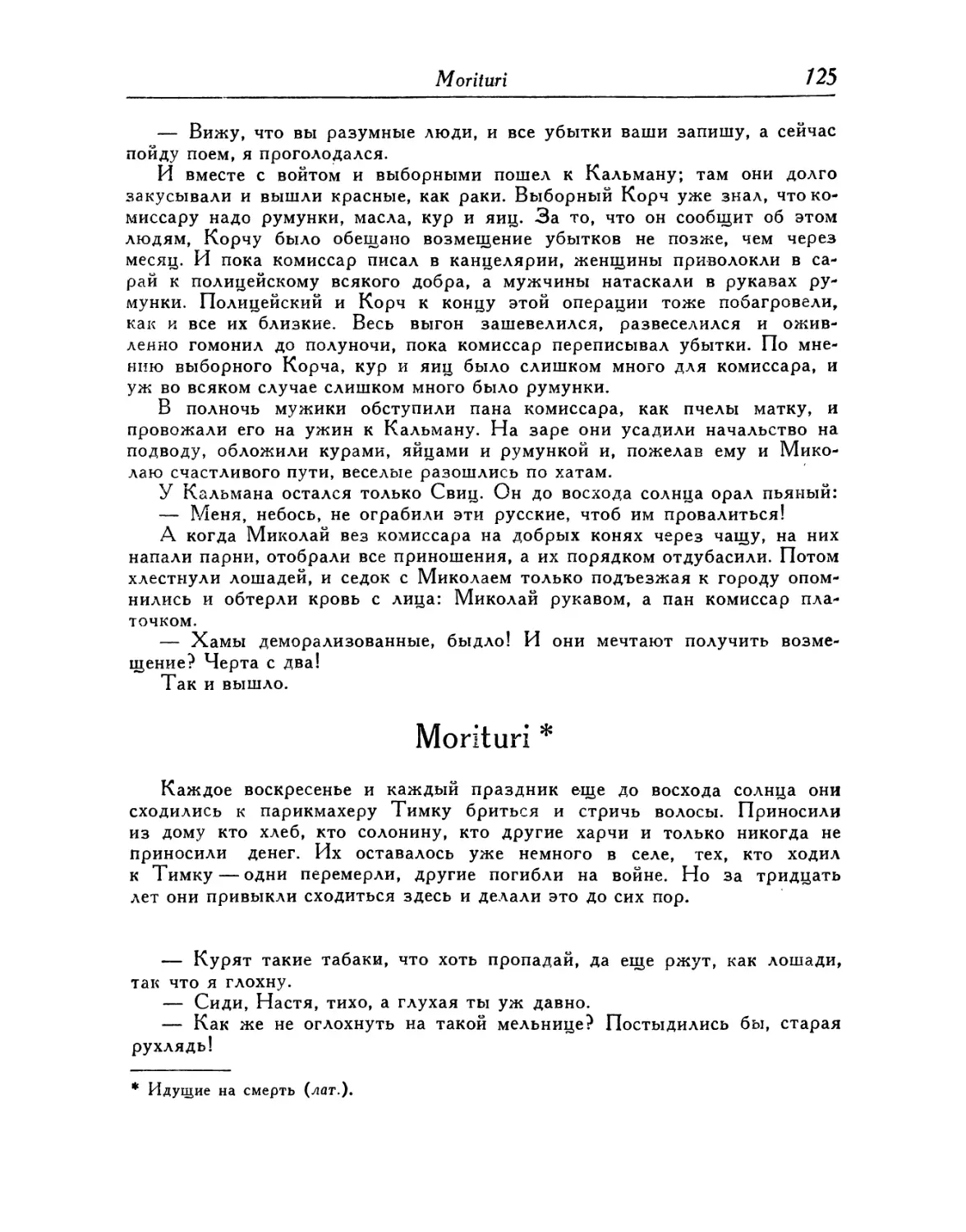
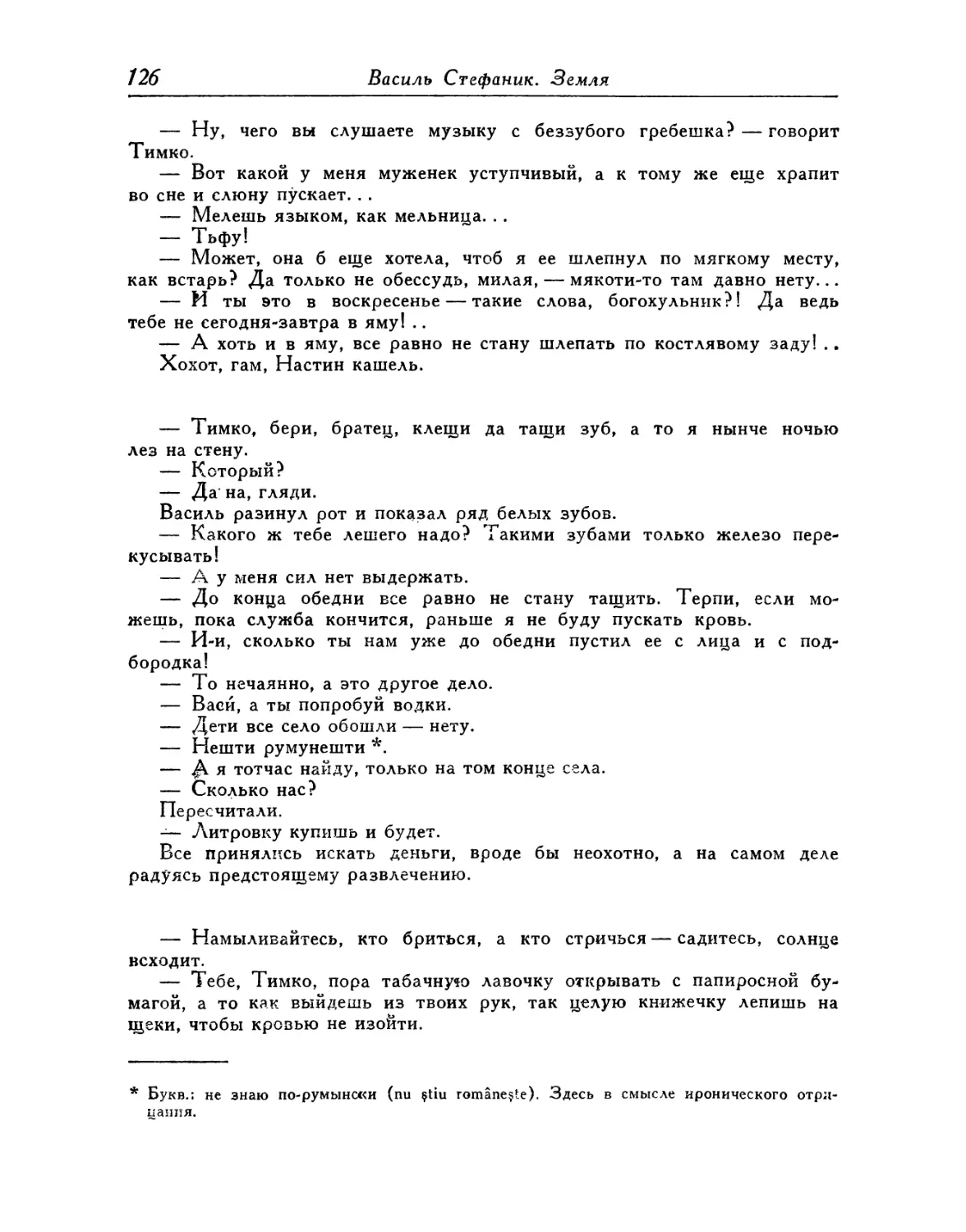

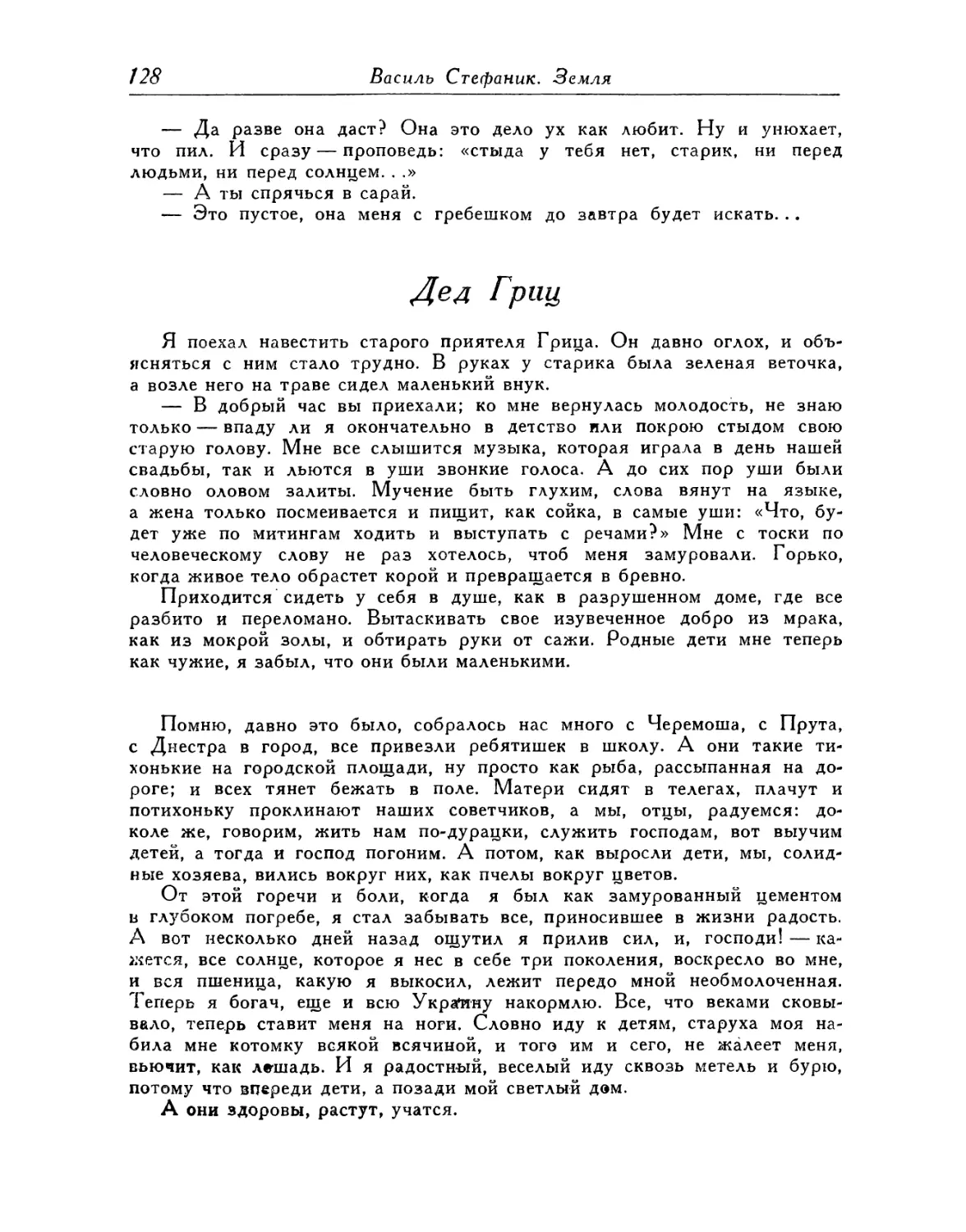


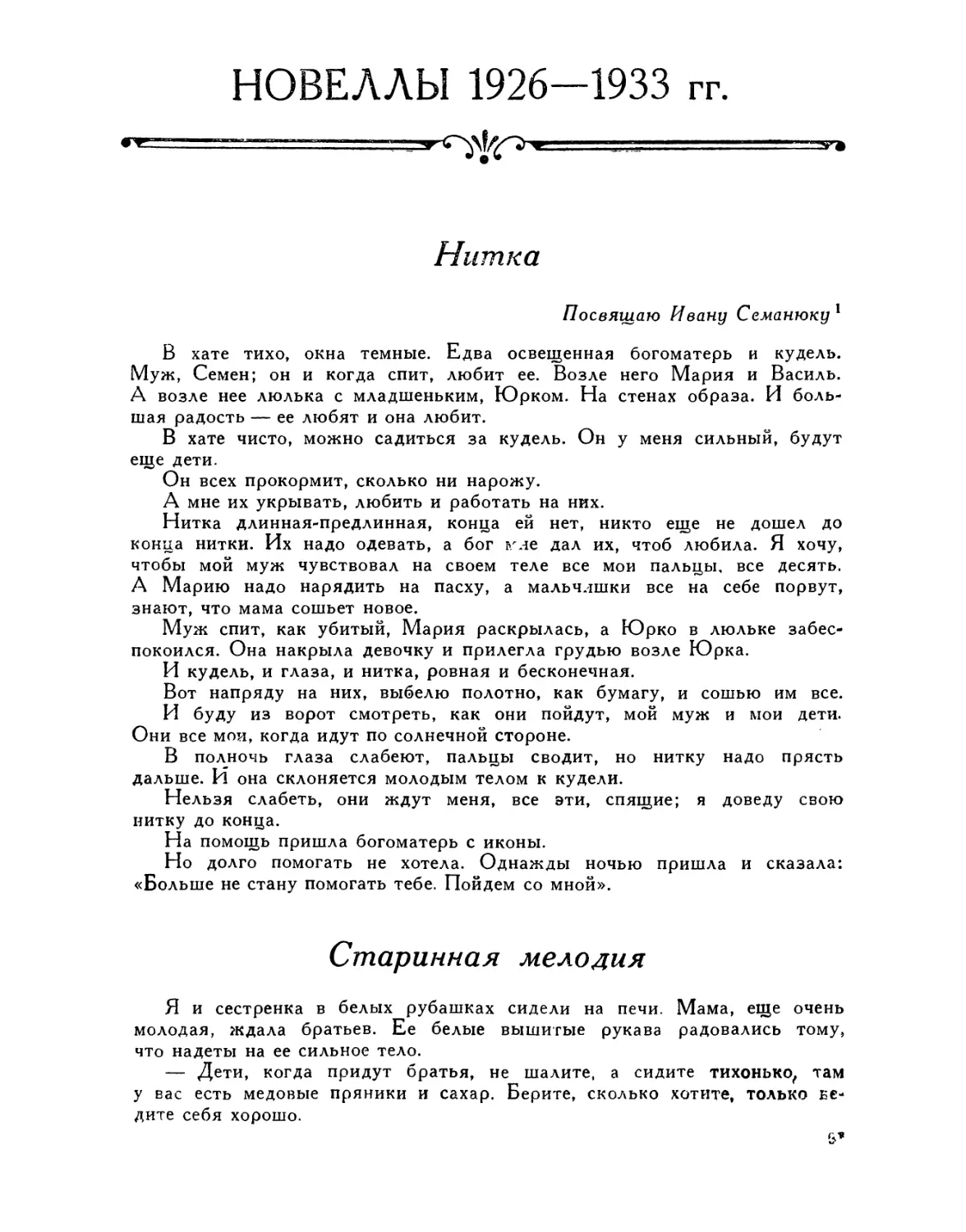
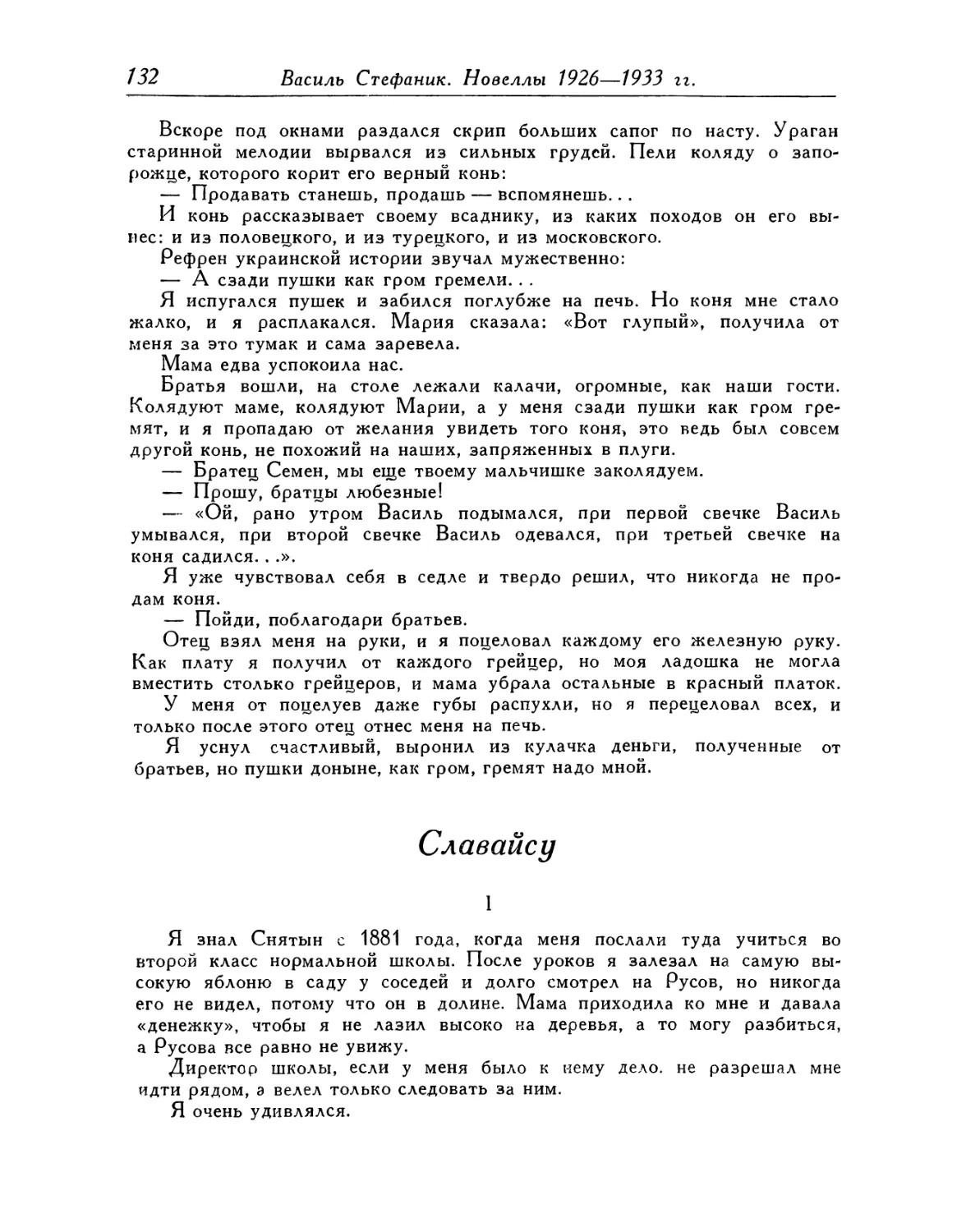
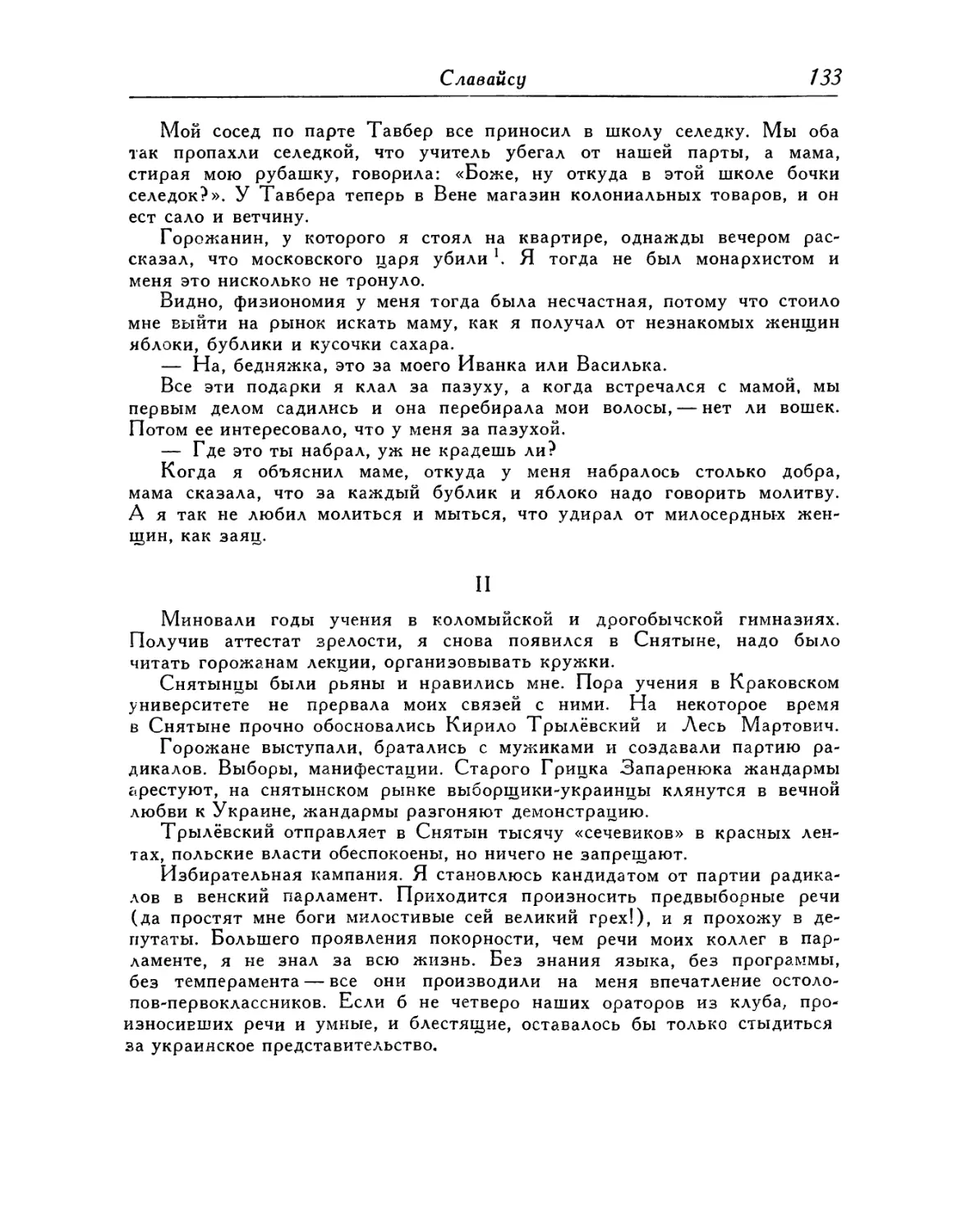
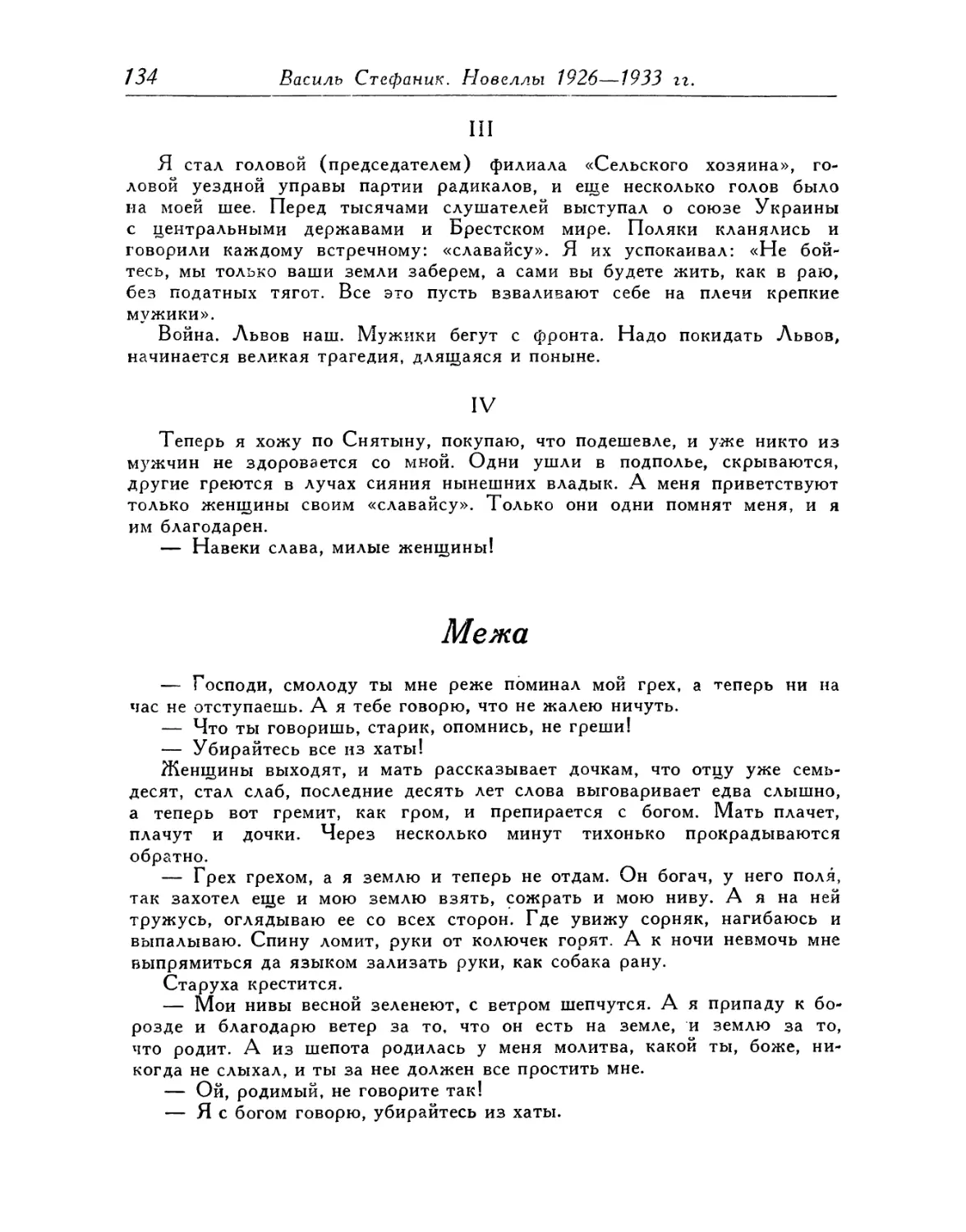
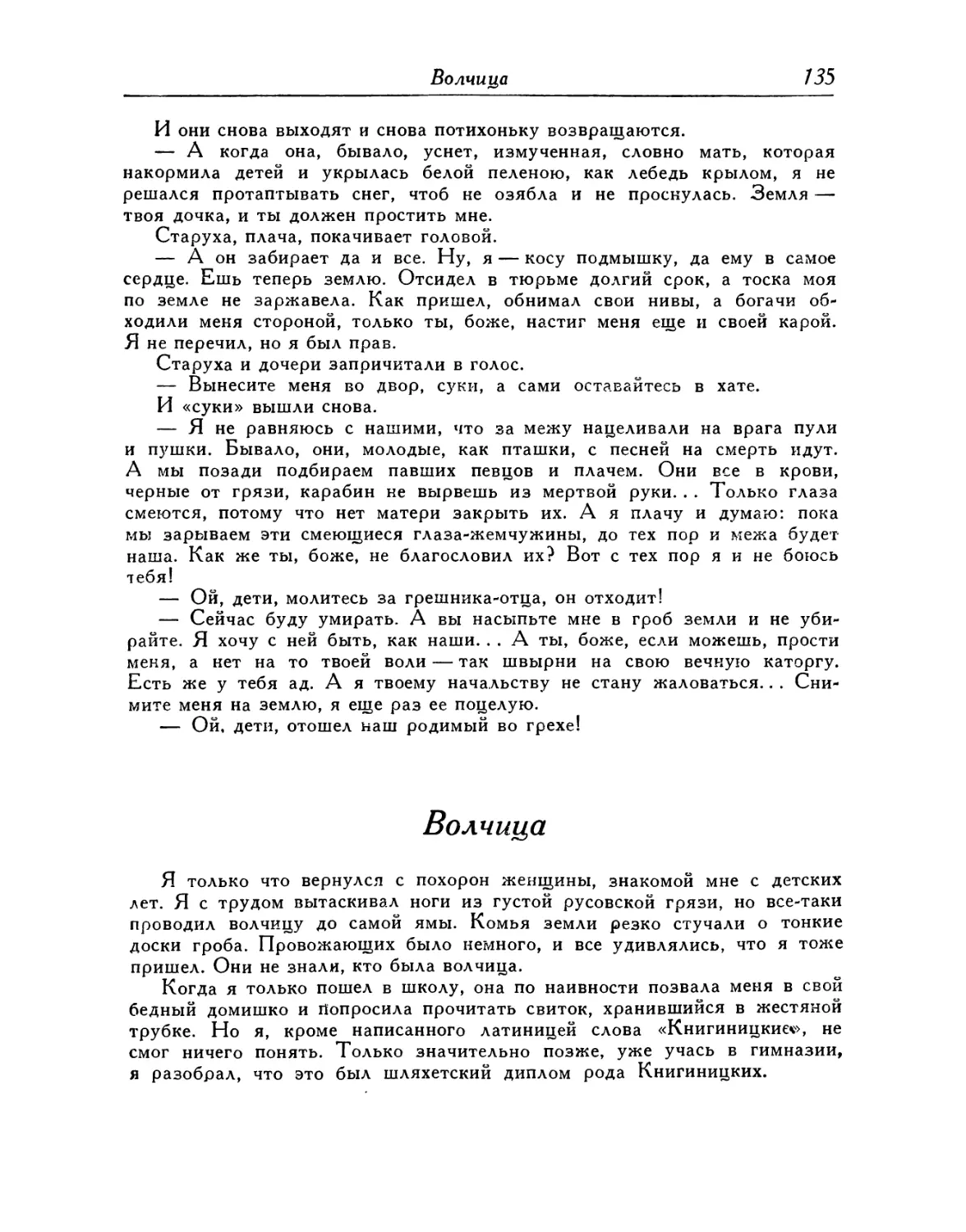


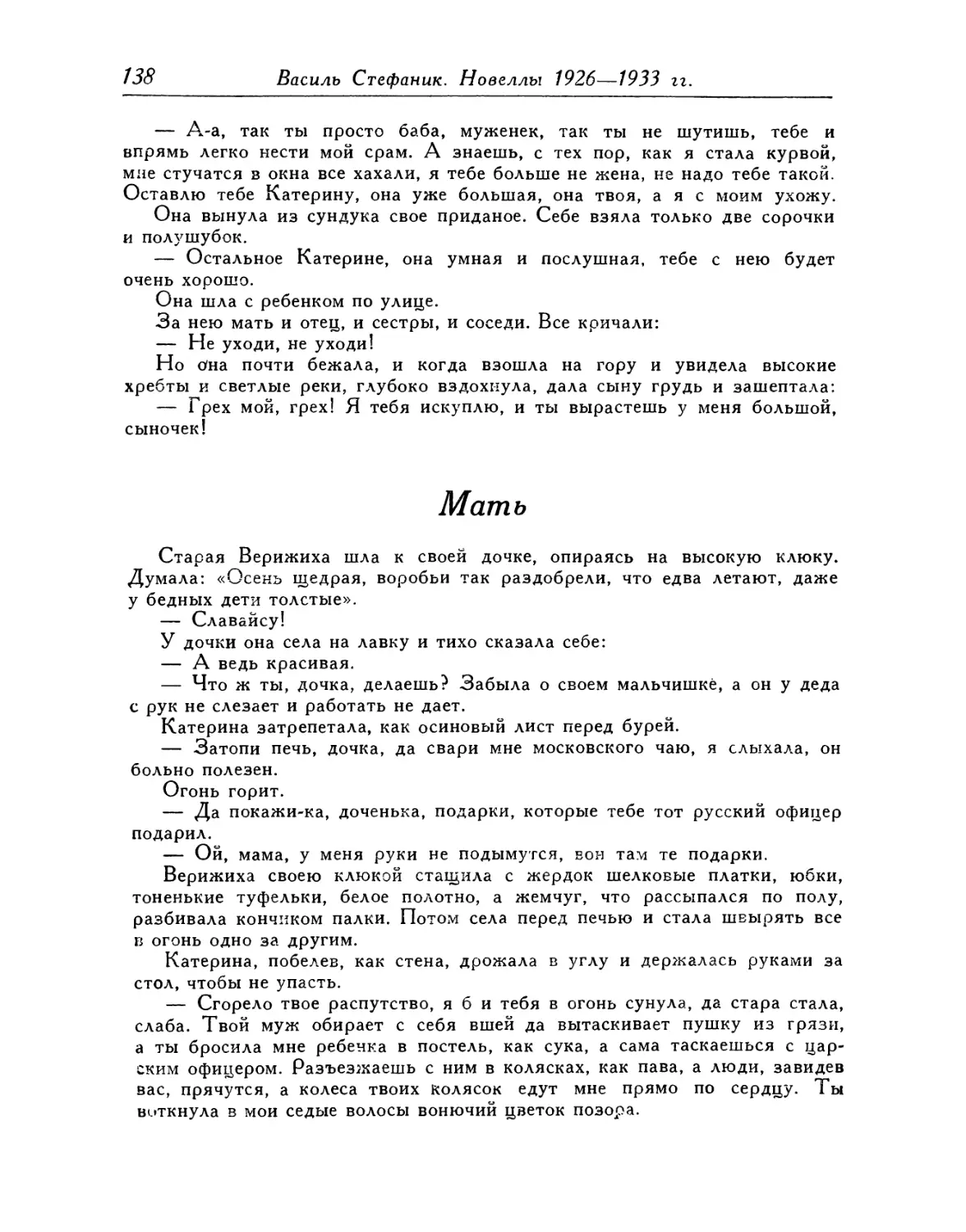
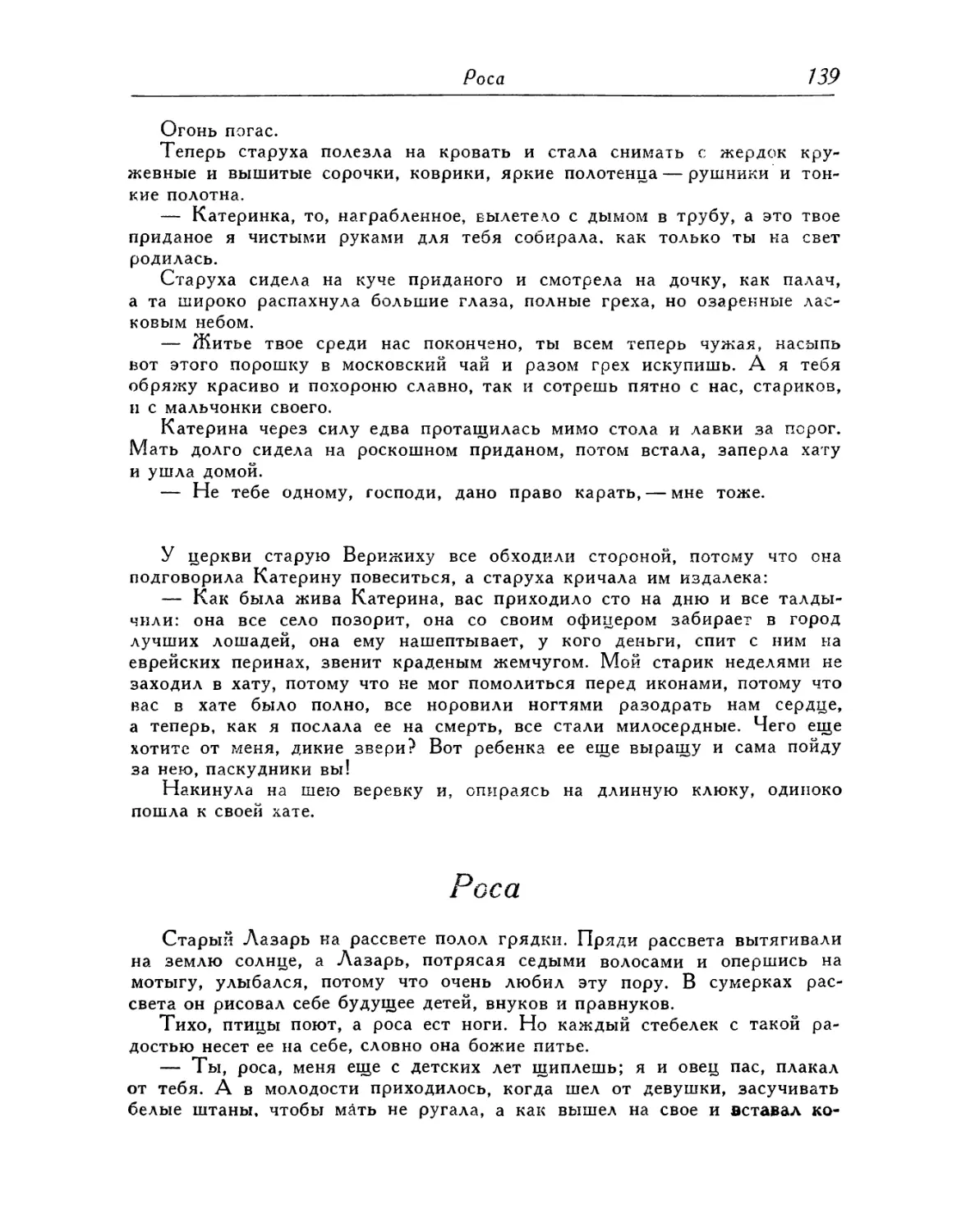

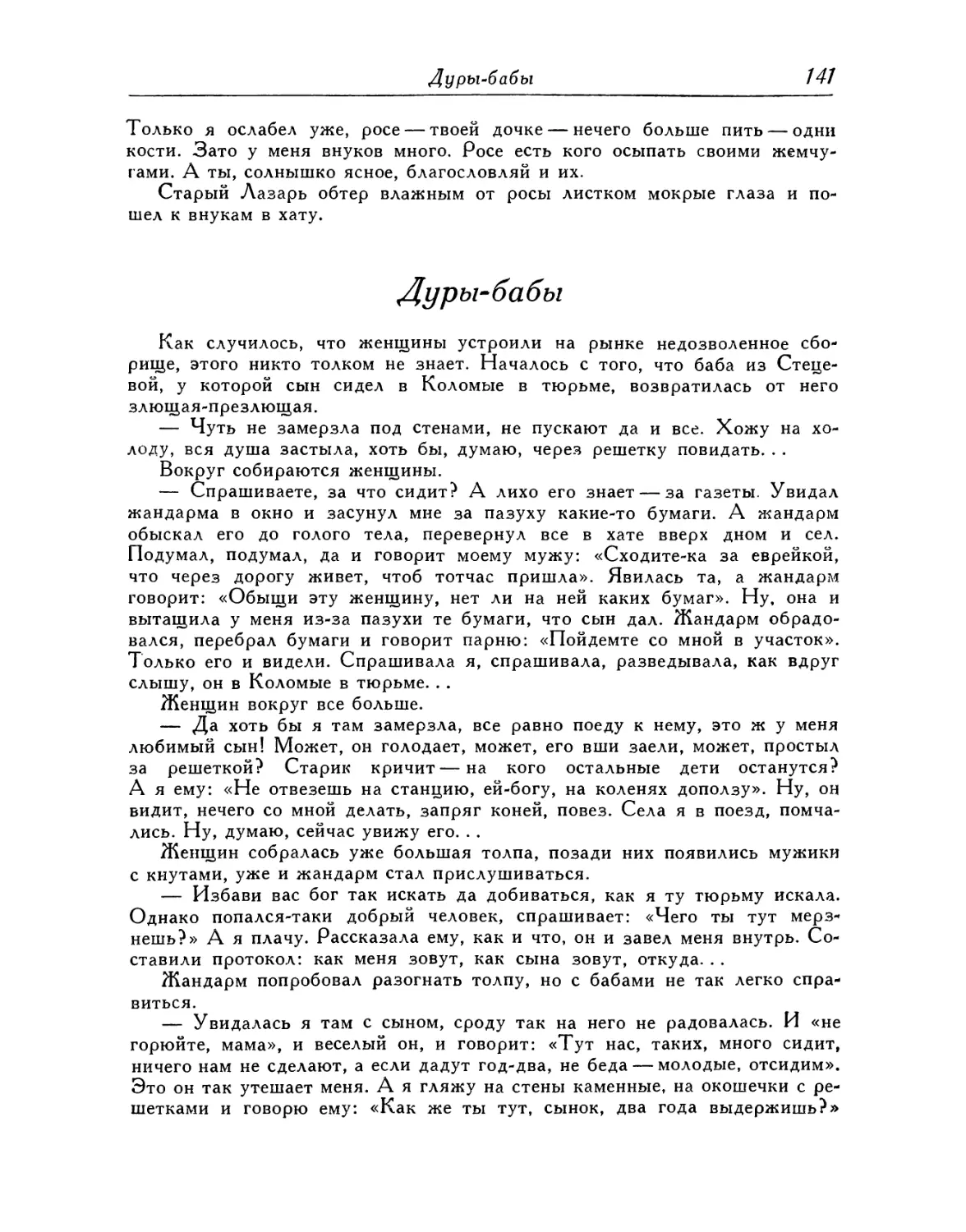
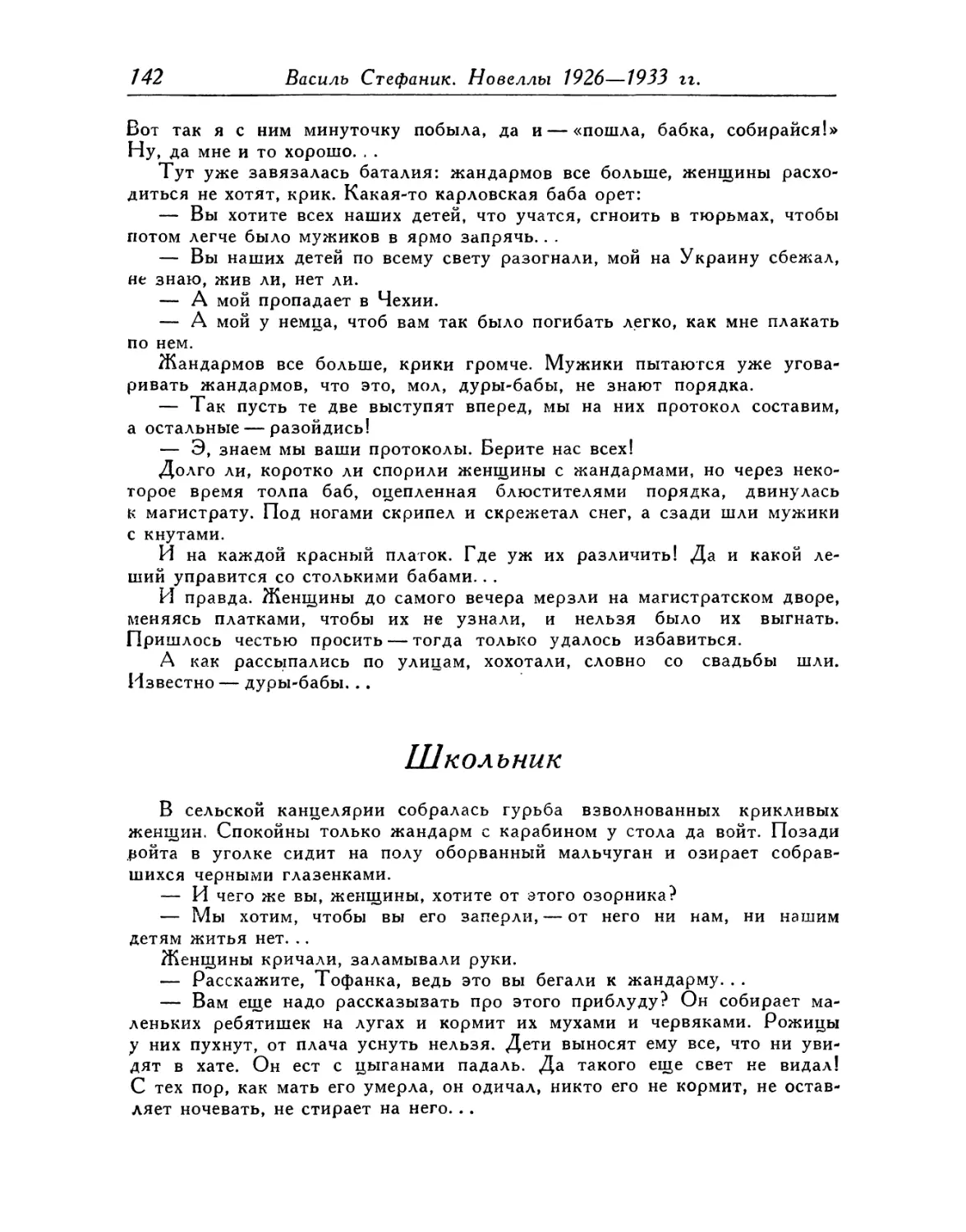

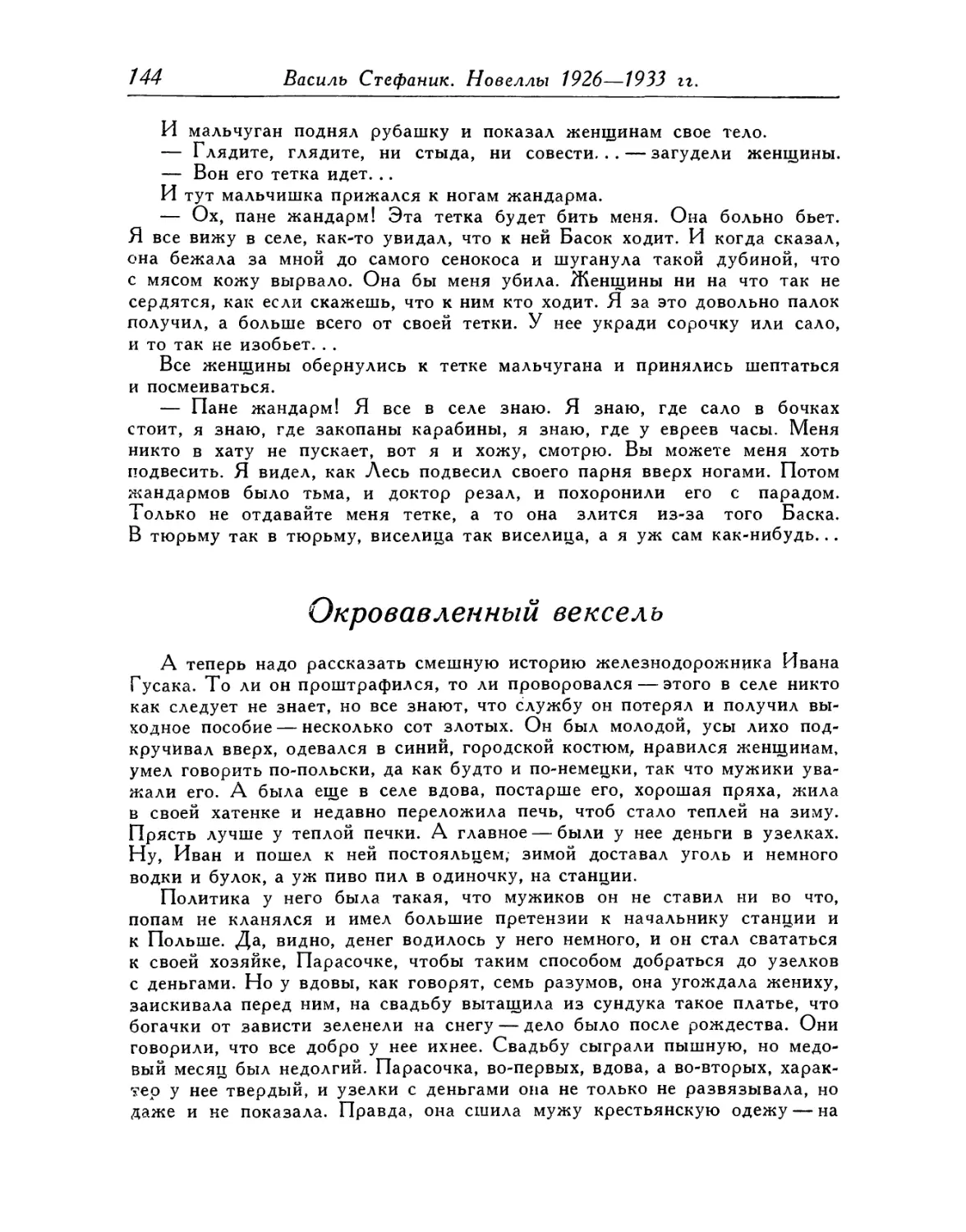






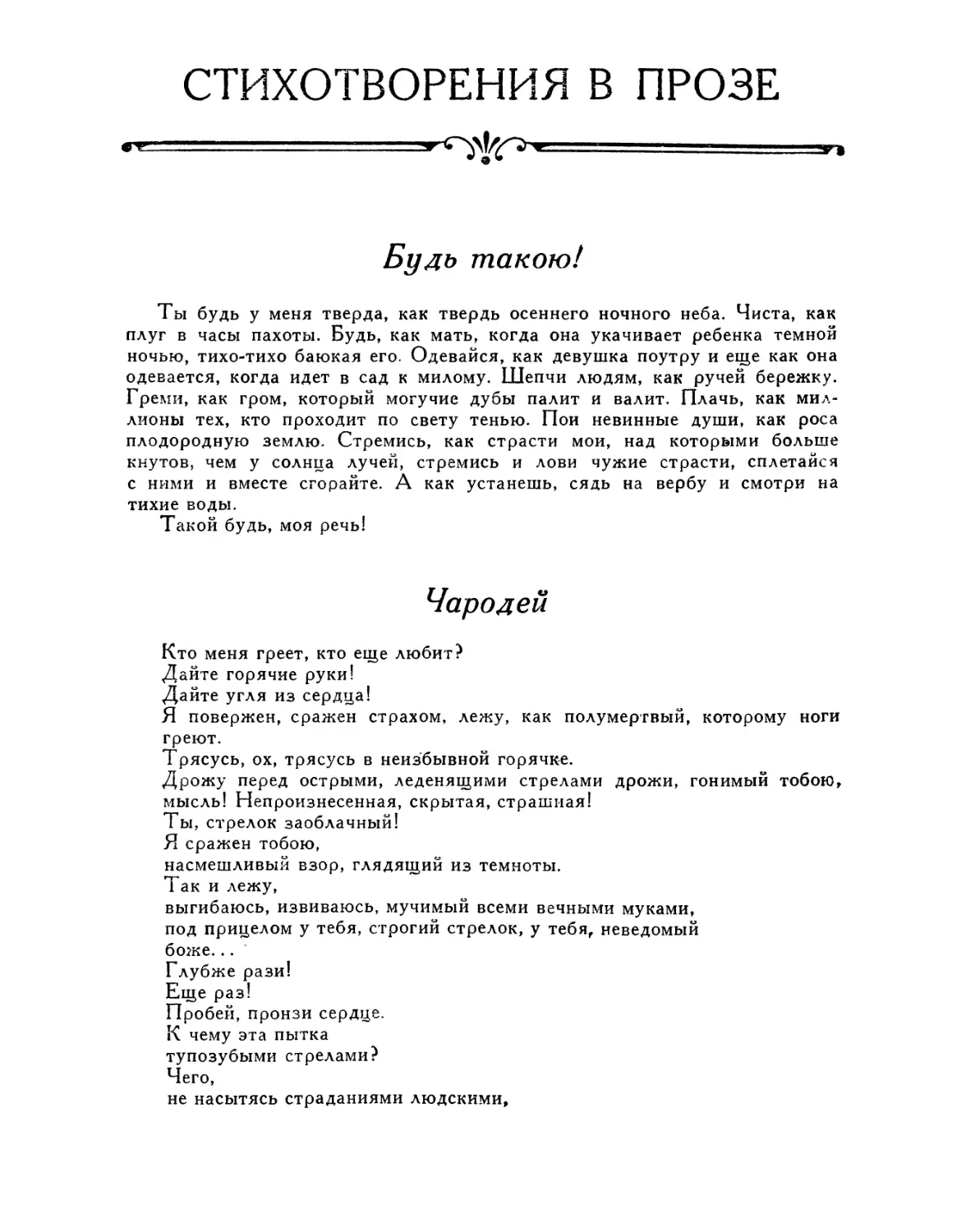
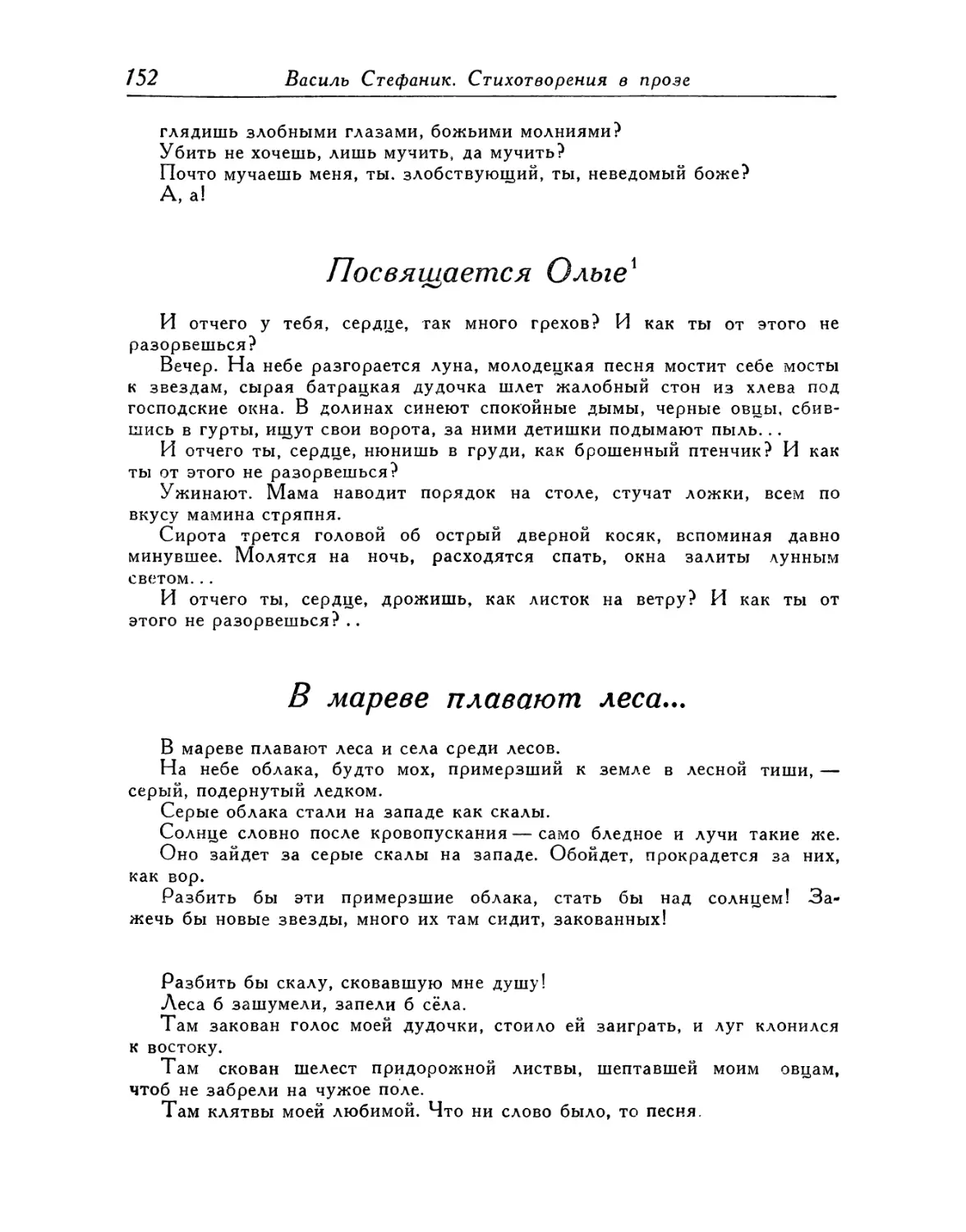
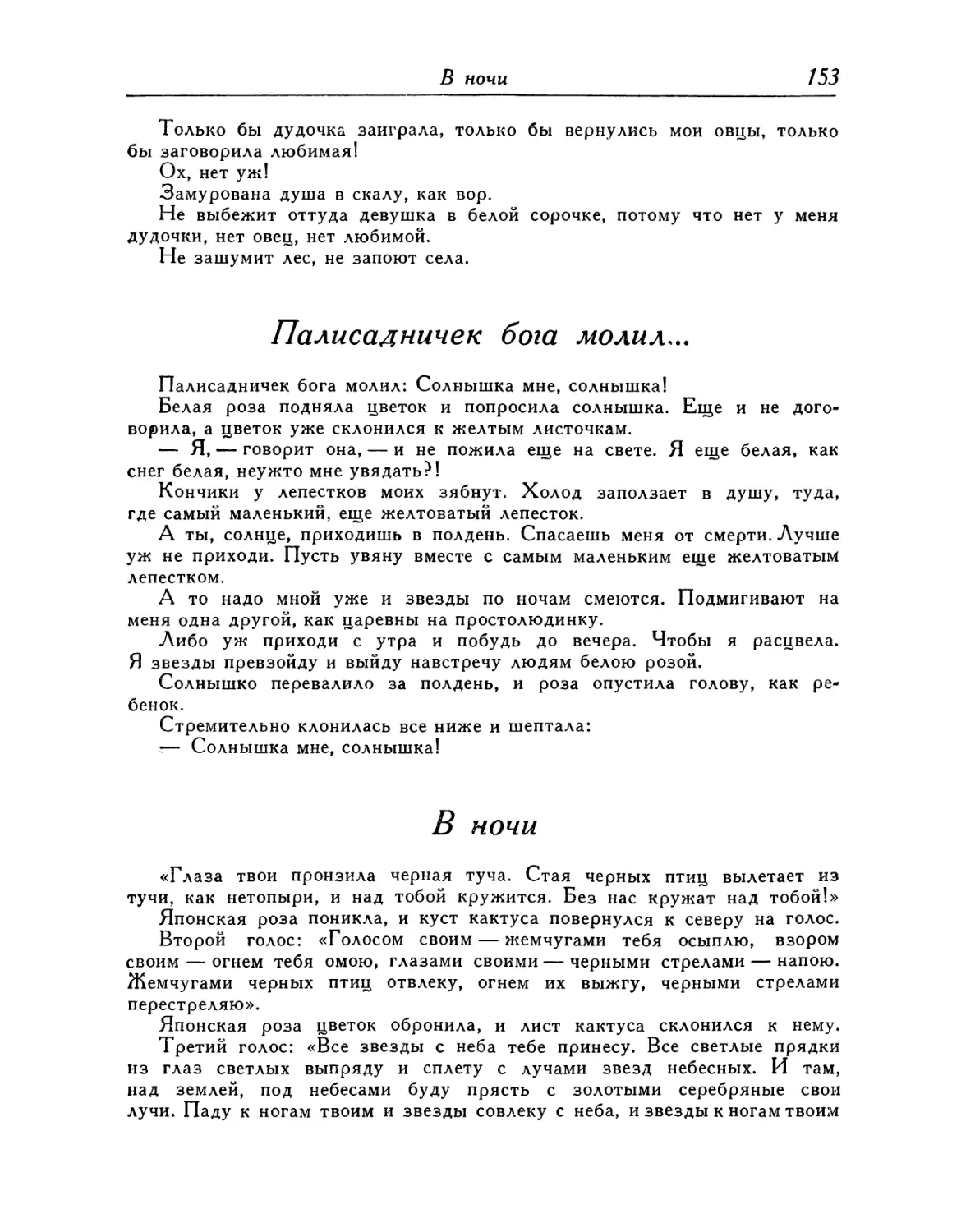

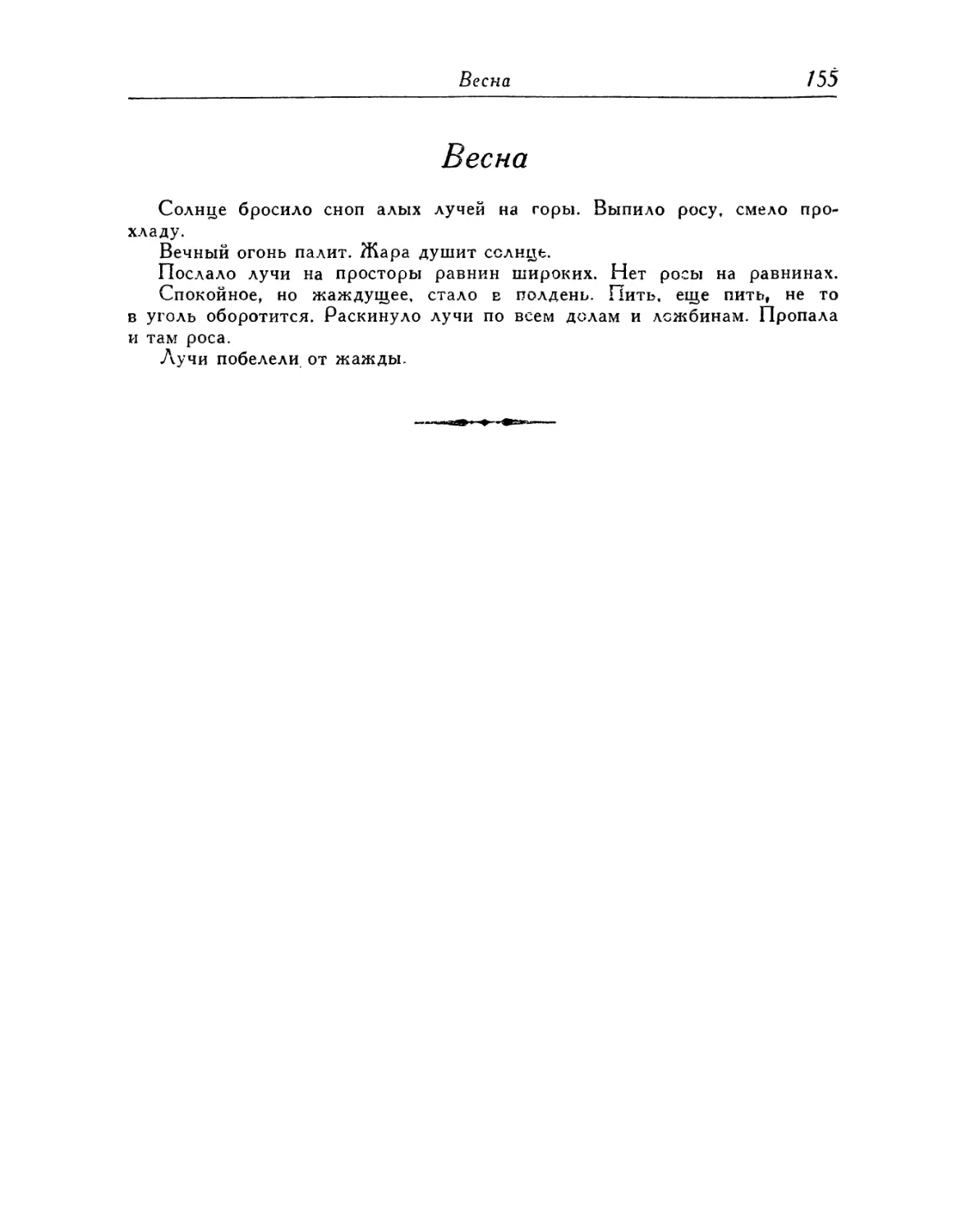
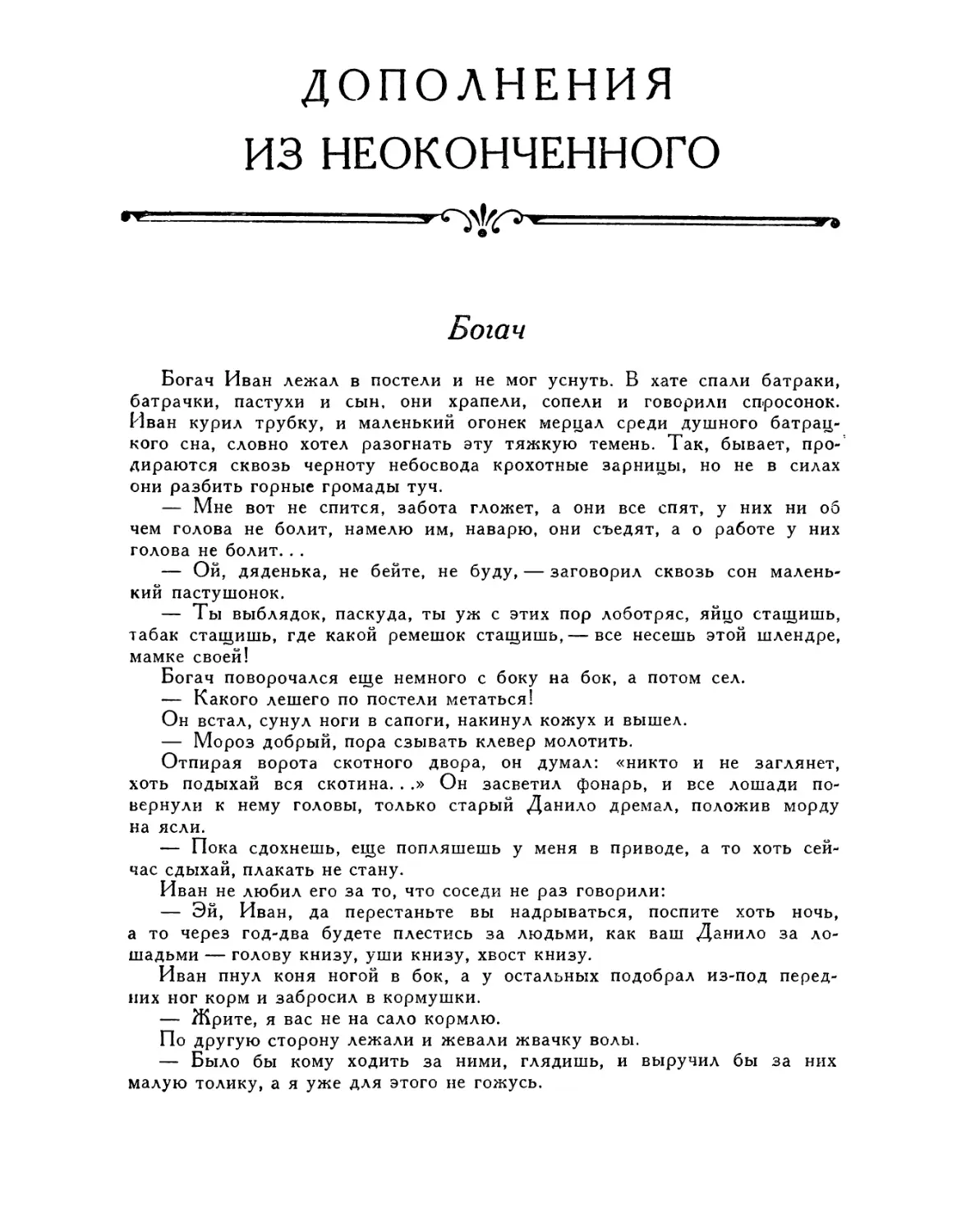


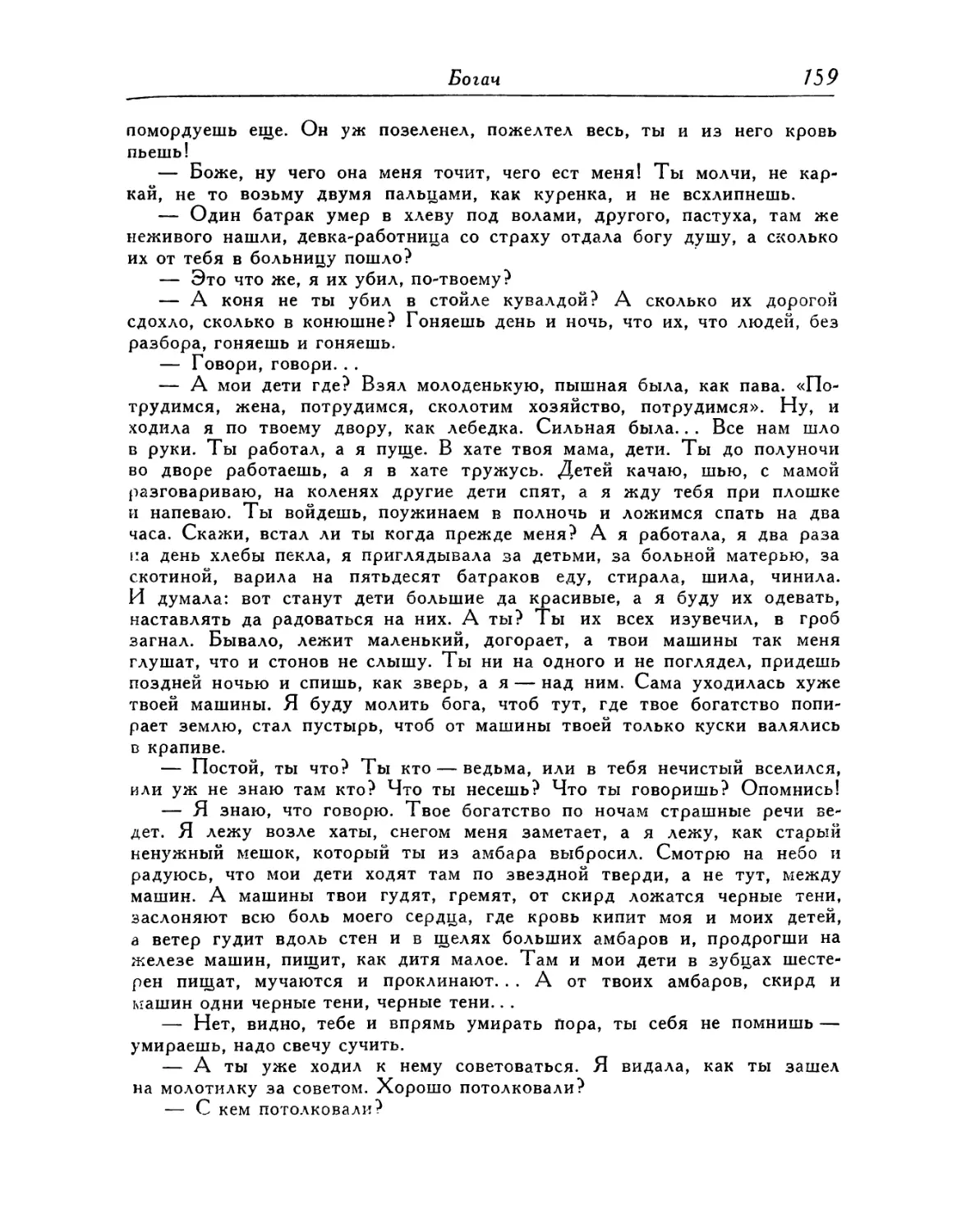
![[Стачка]](https://djvu.online/jpg/h/Y/R/hYRzaZsolUcLn/165.webp)