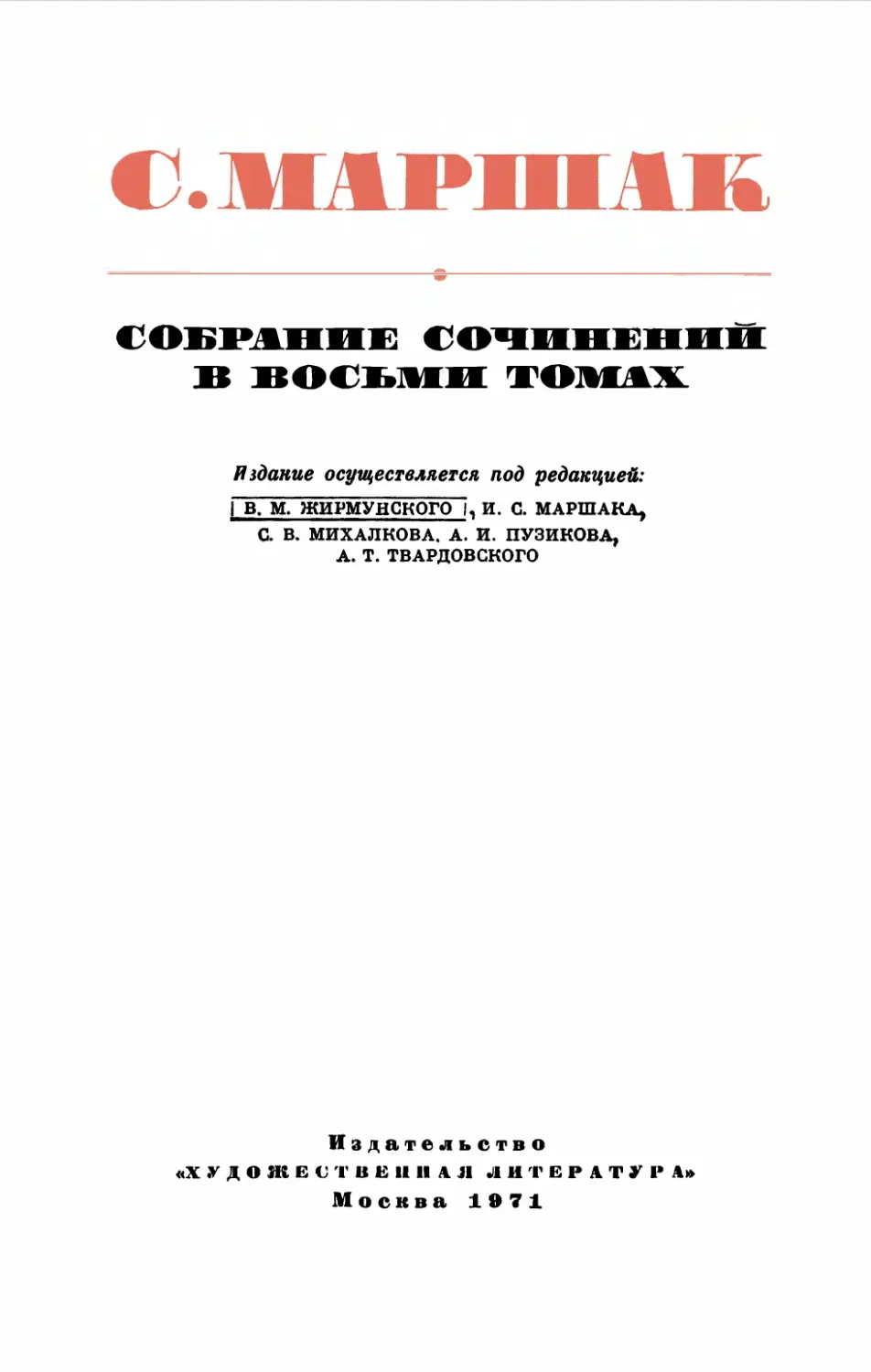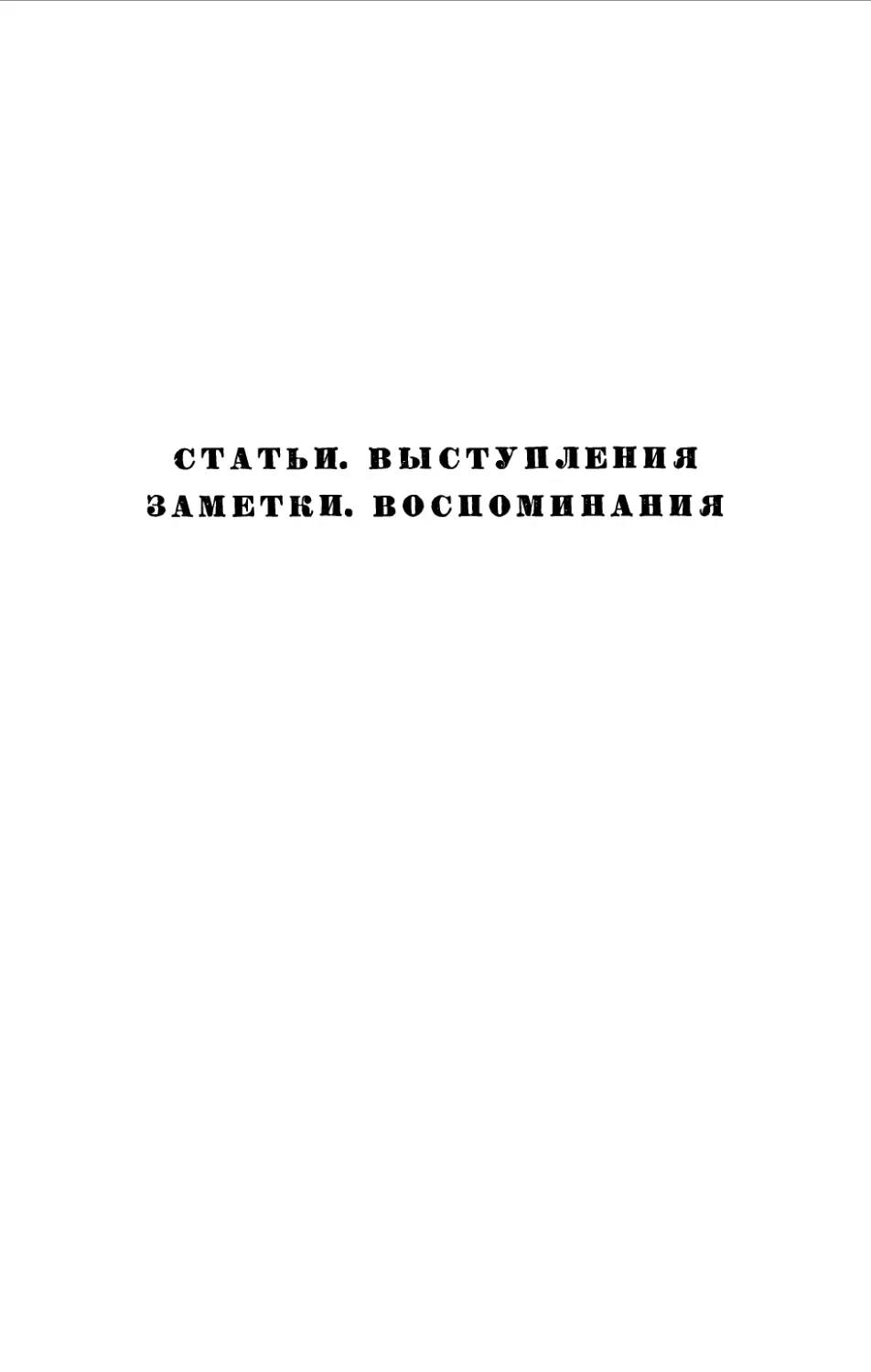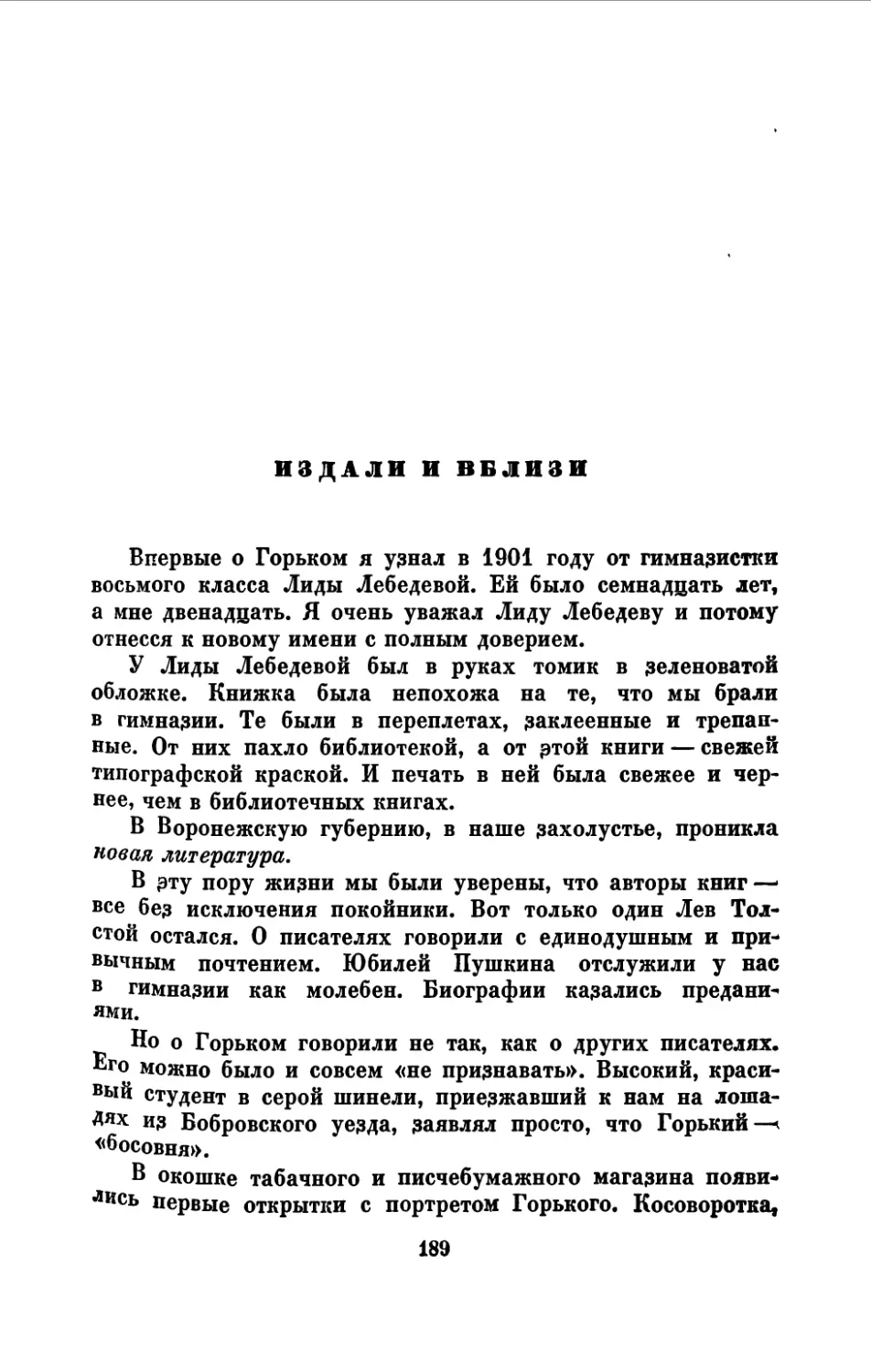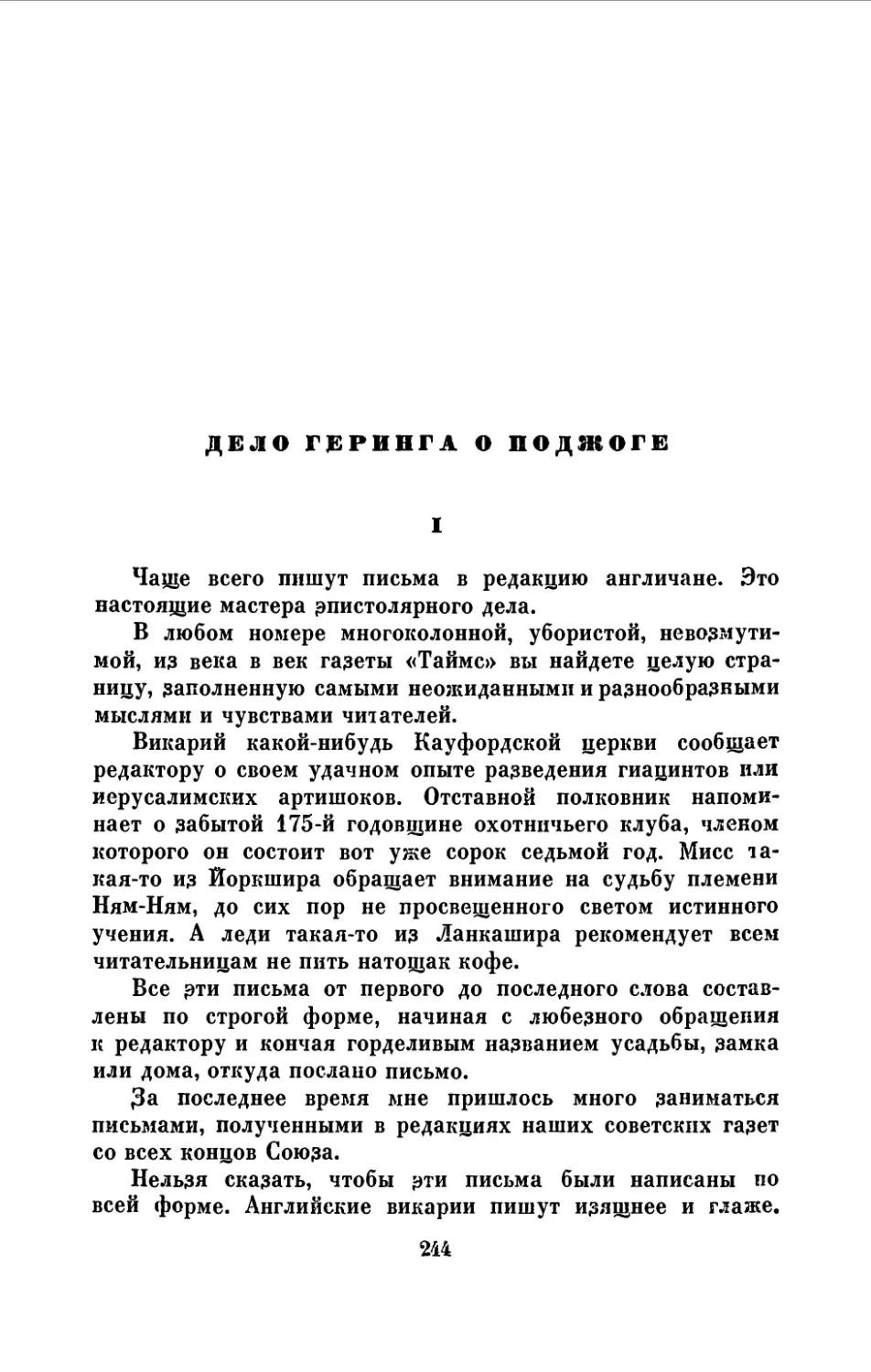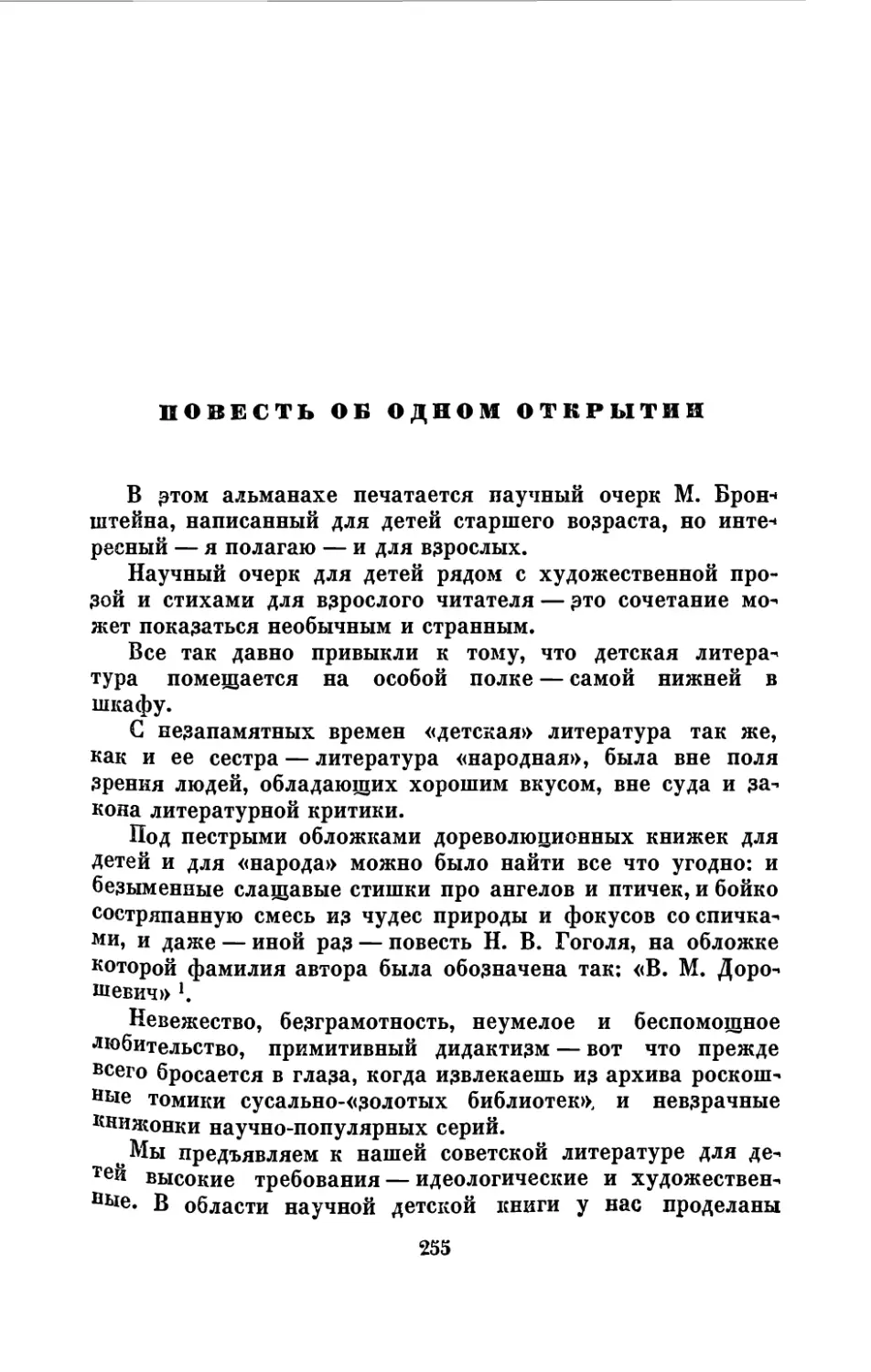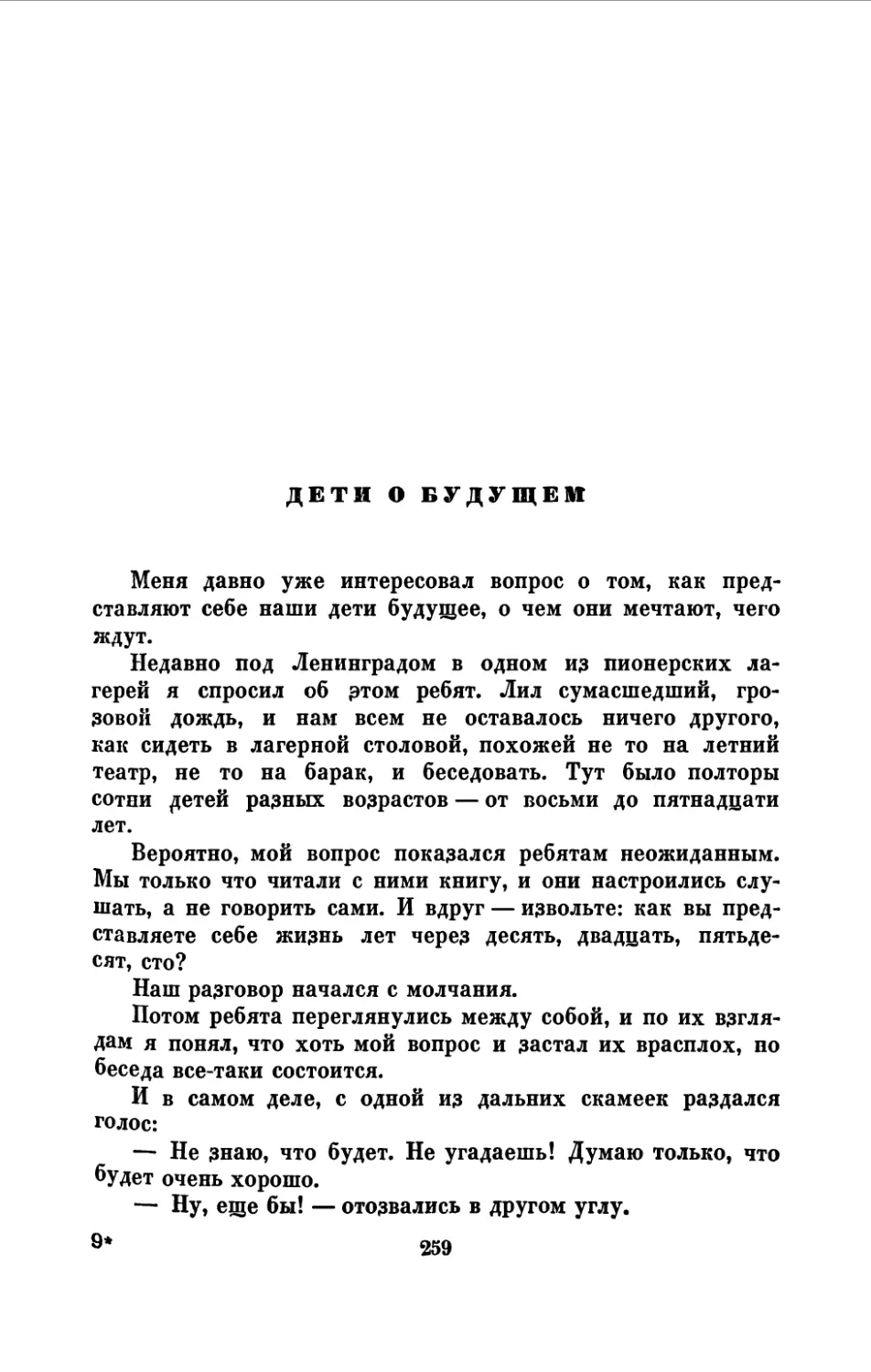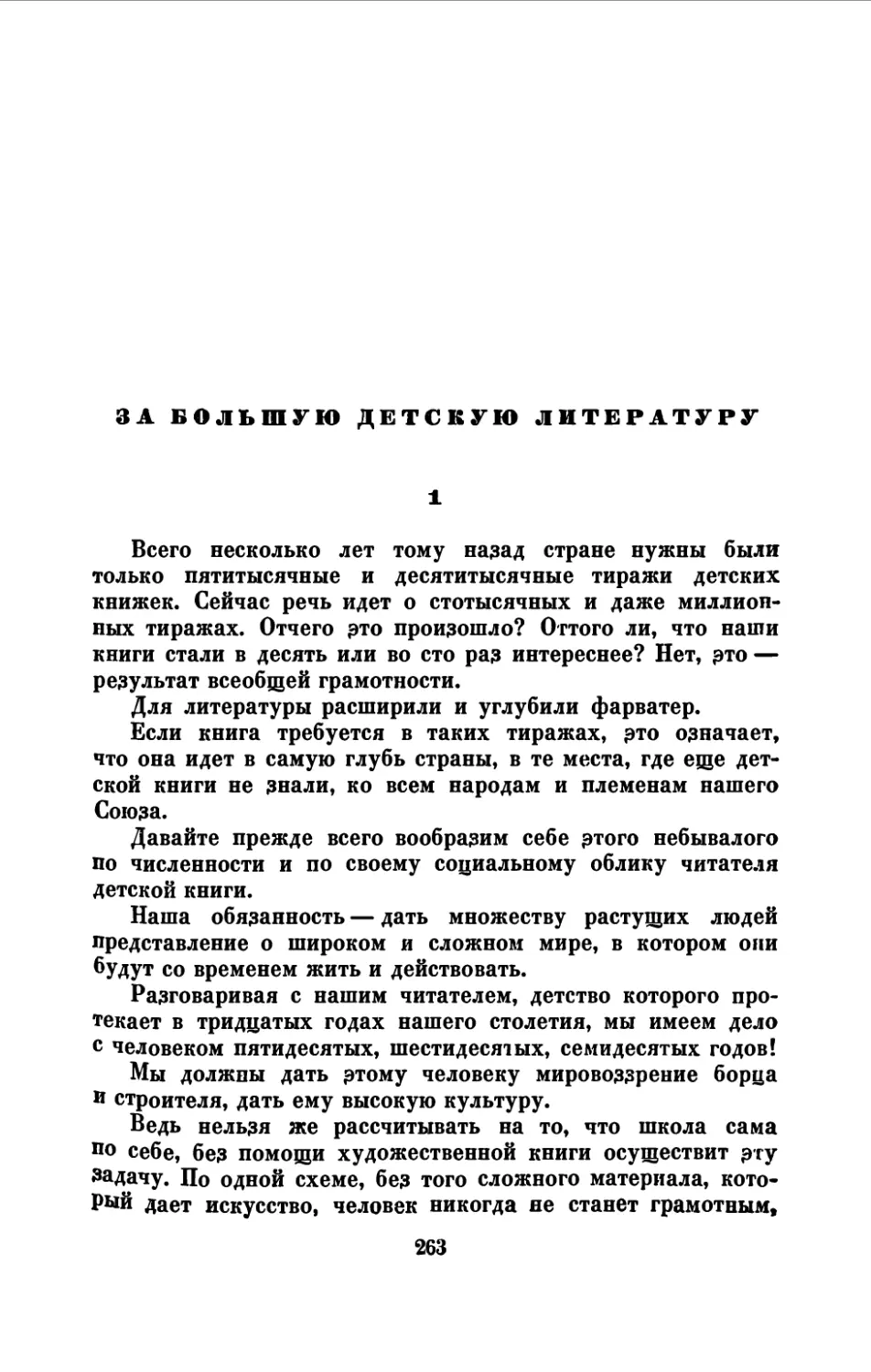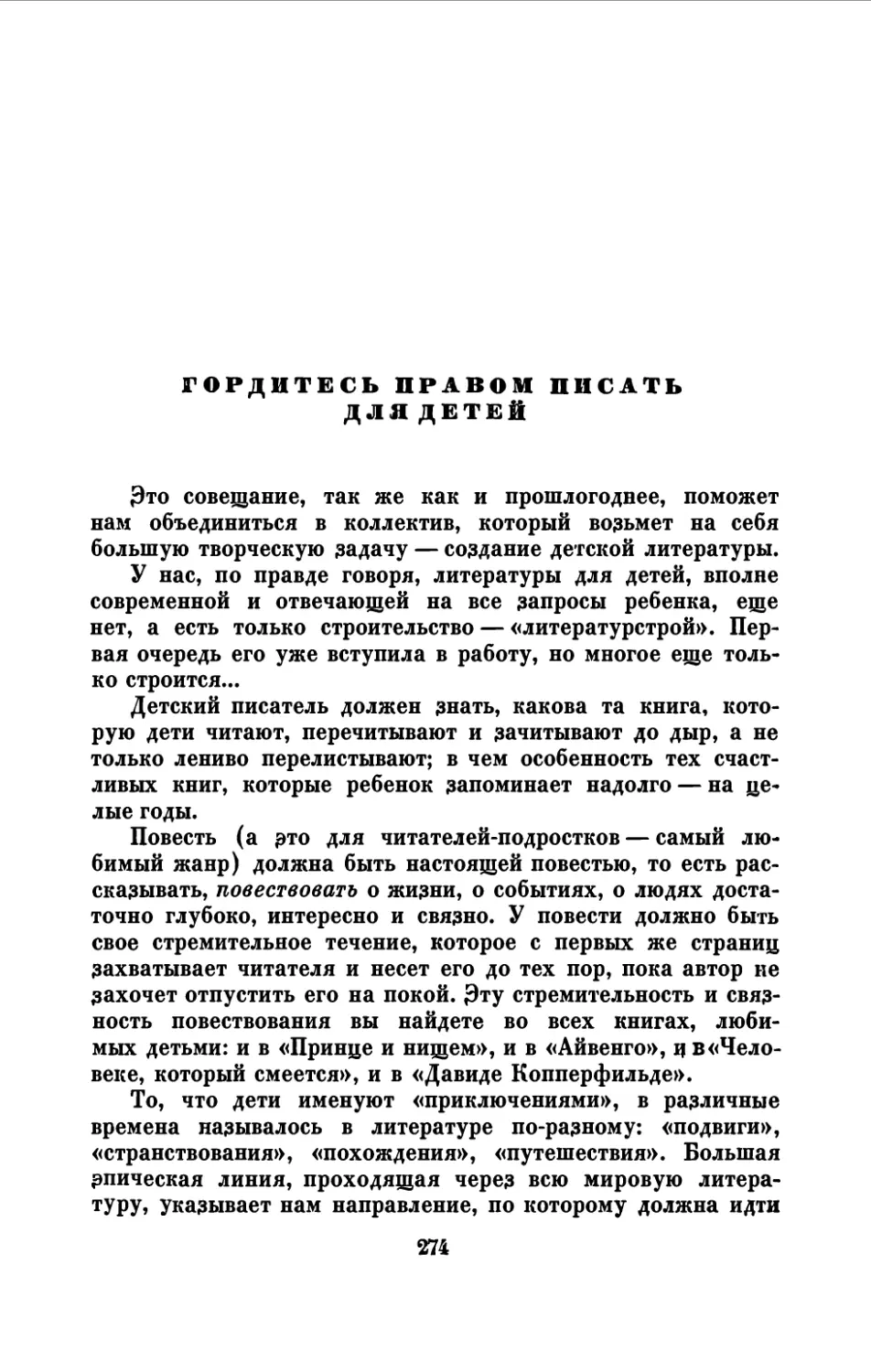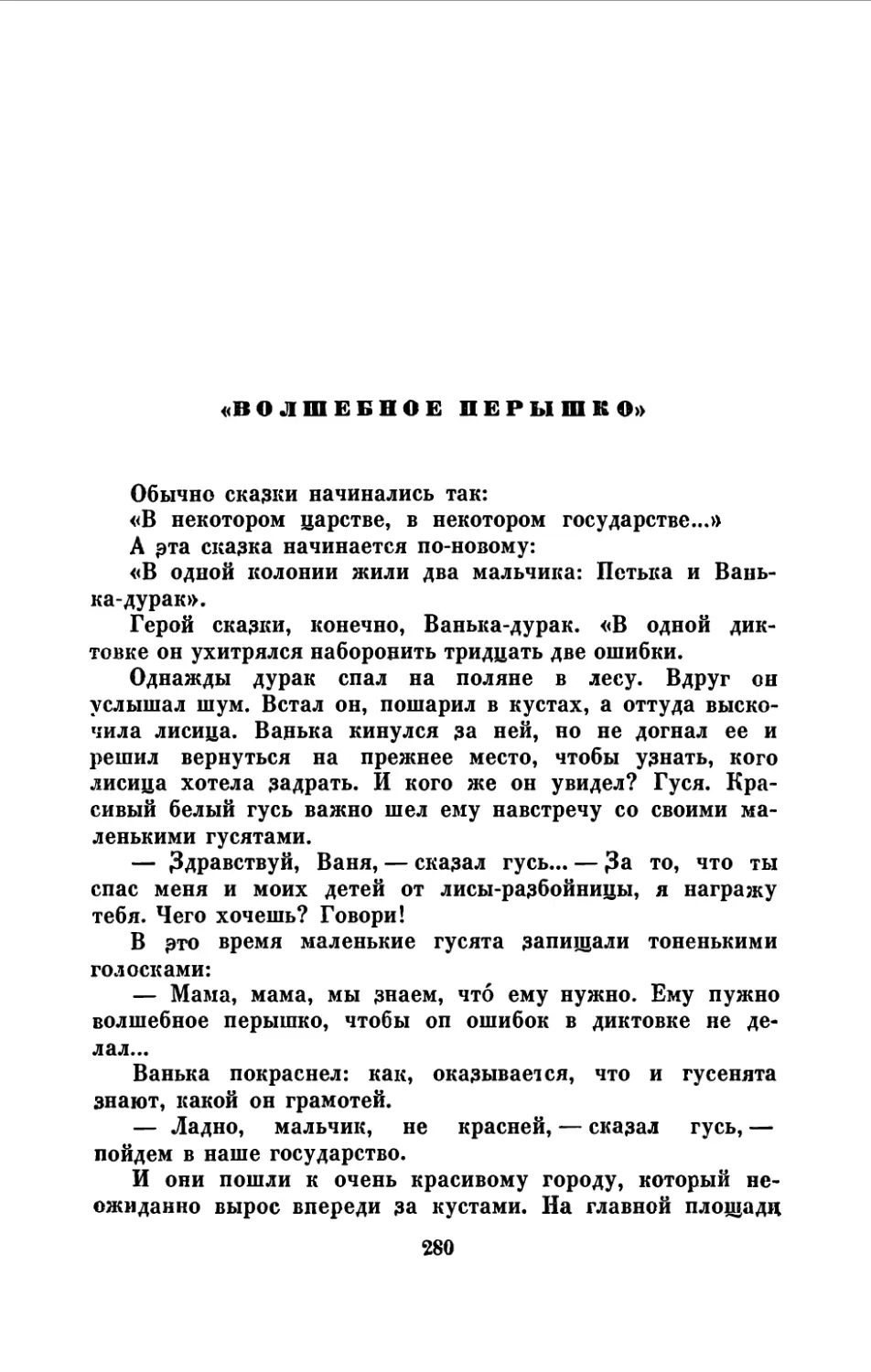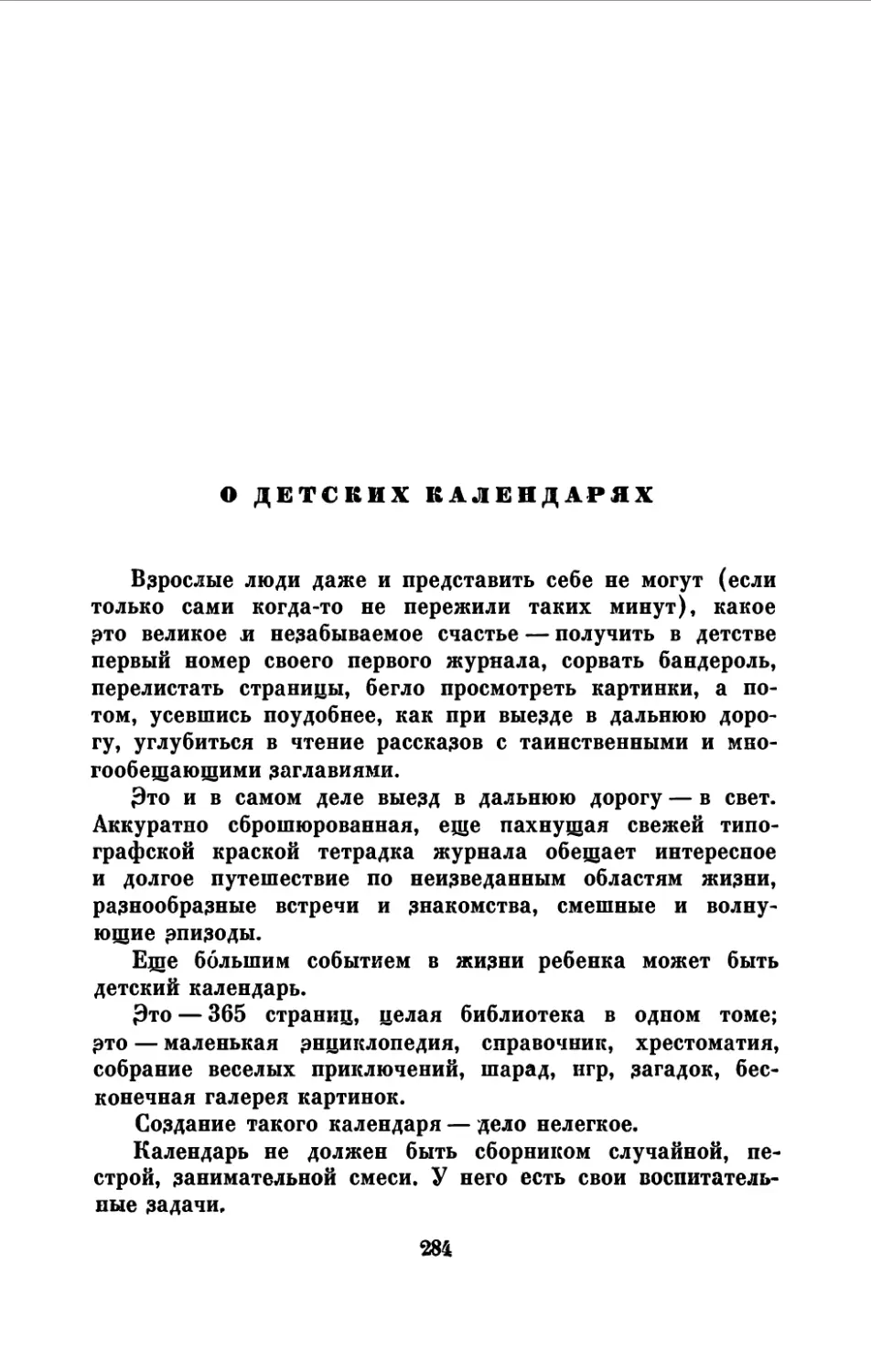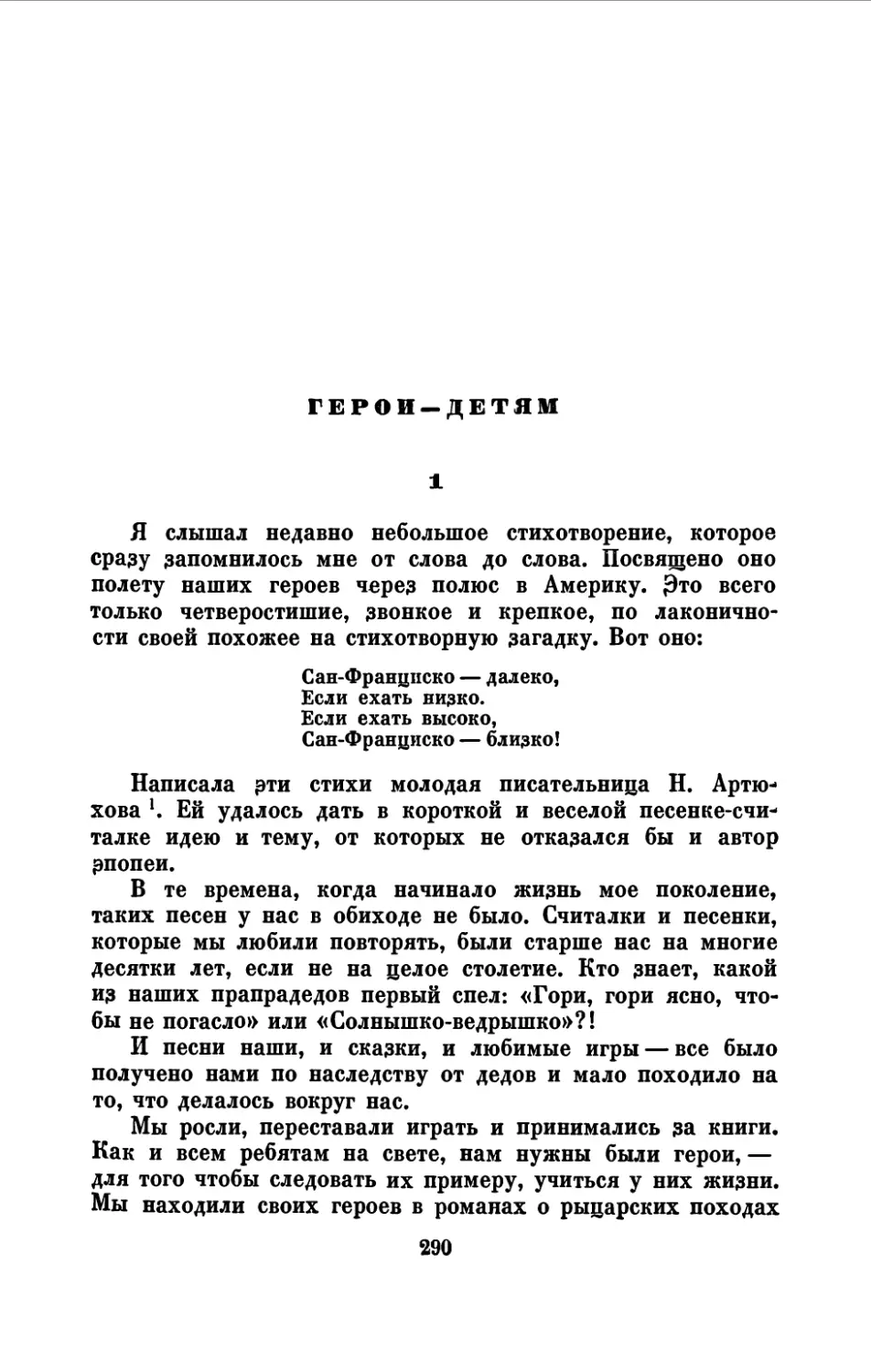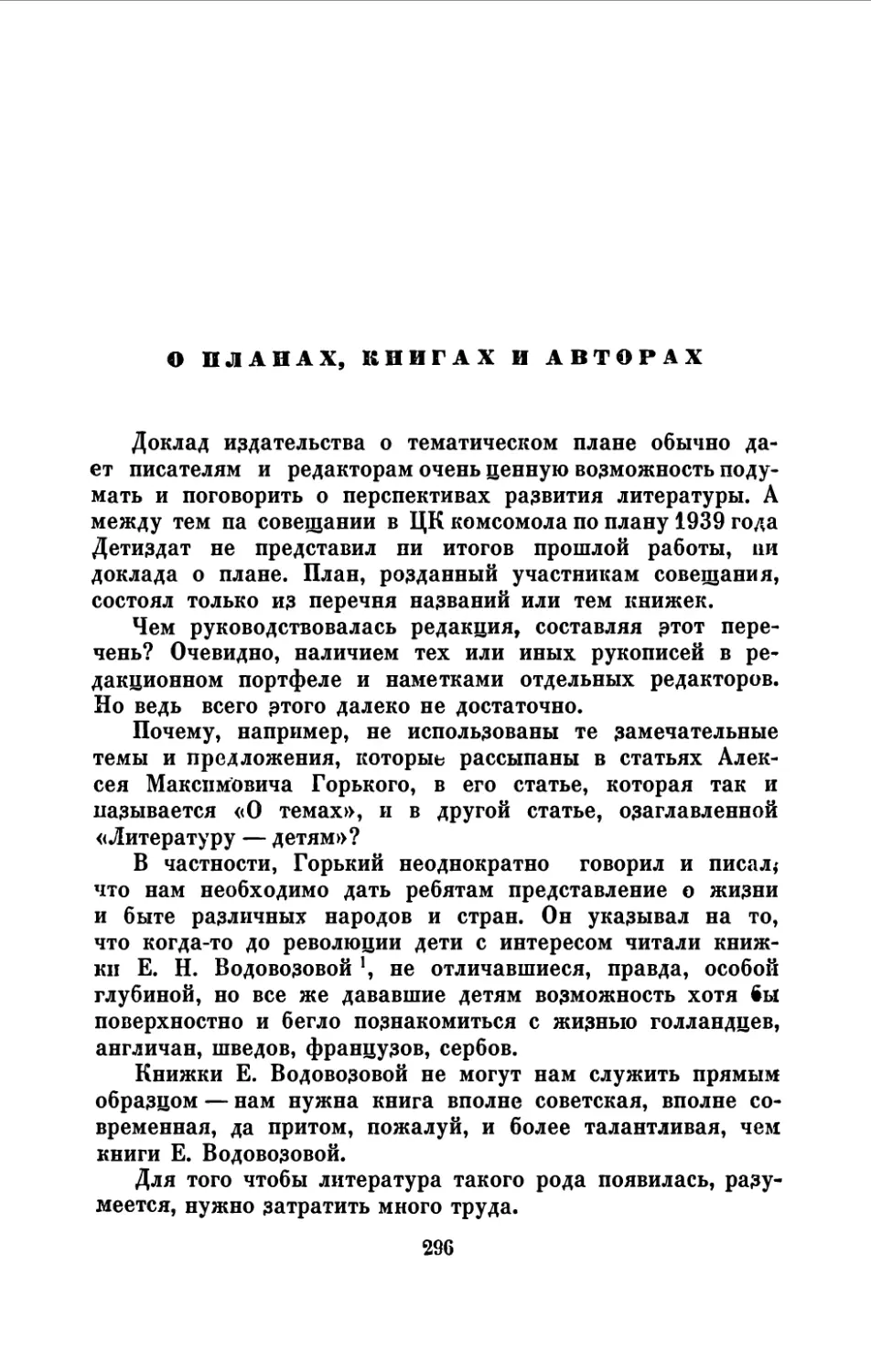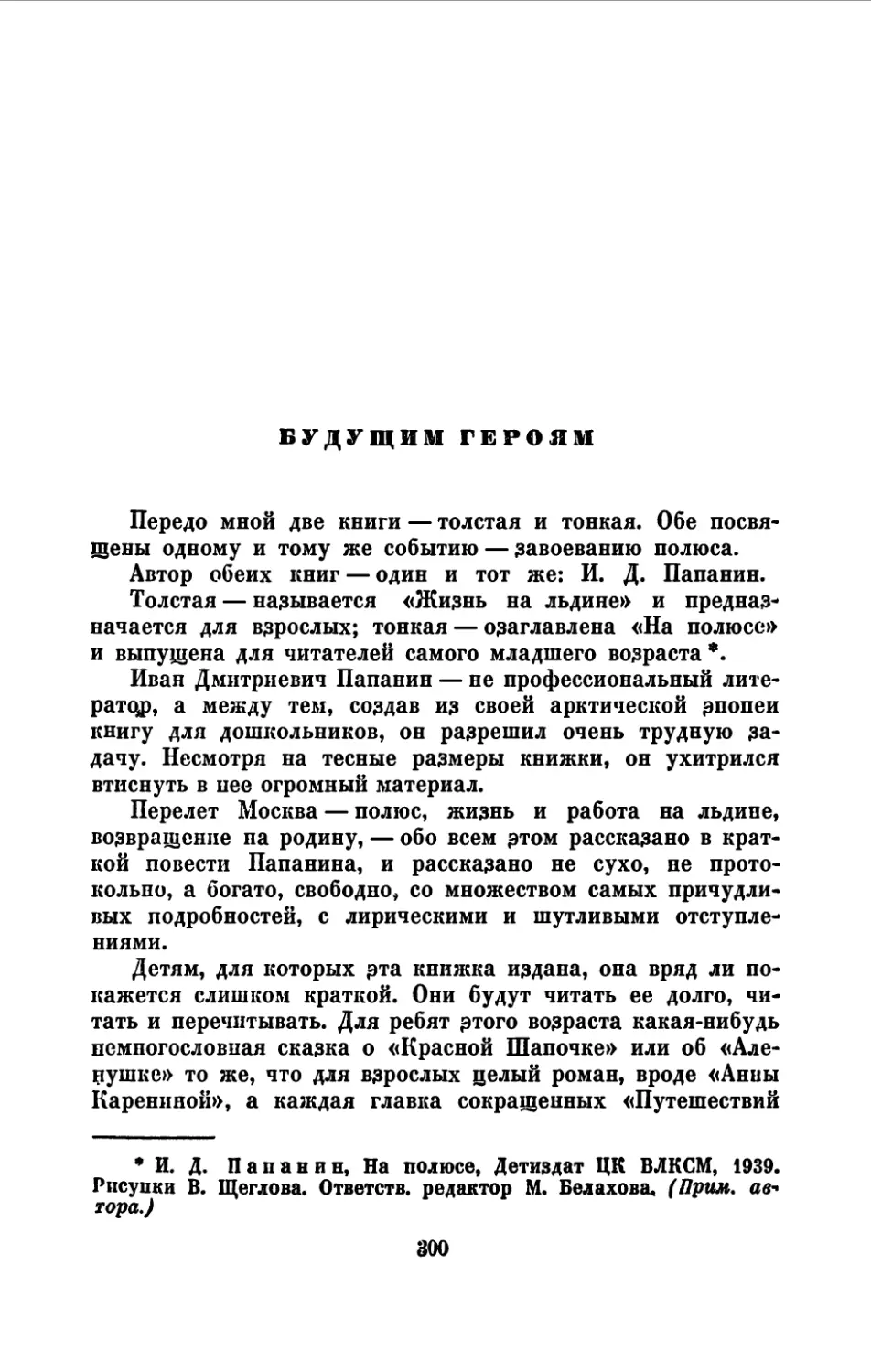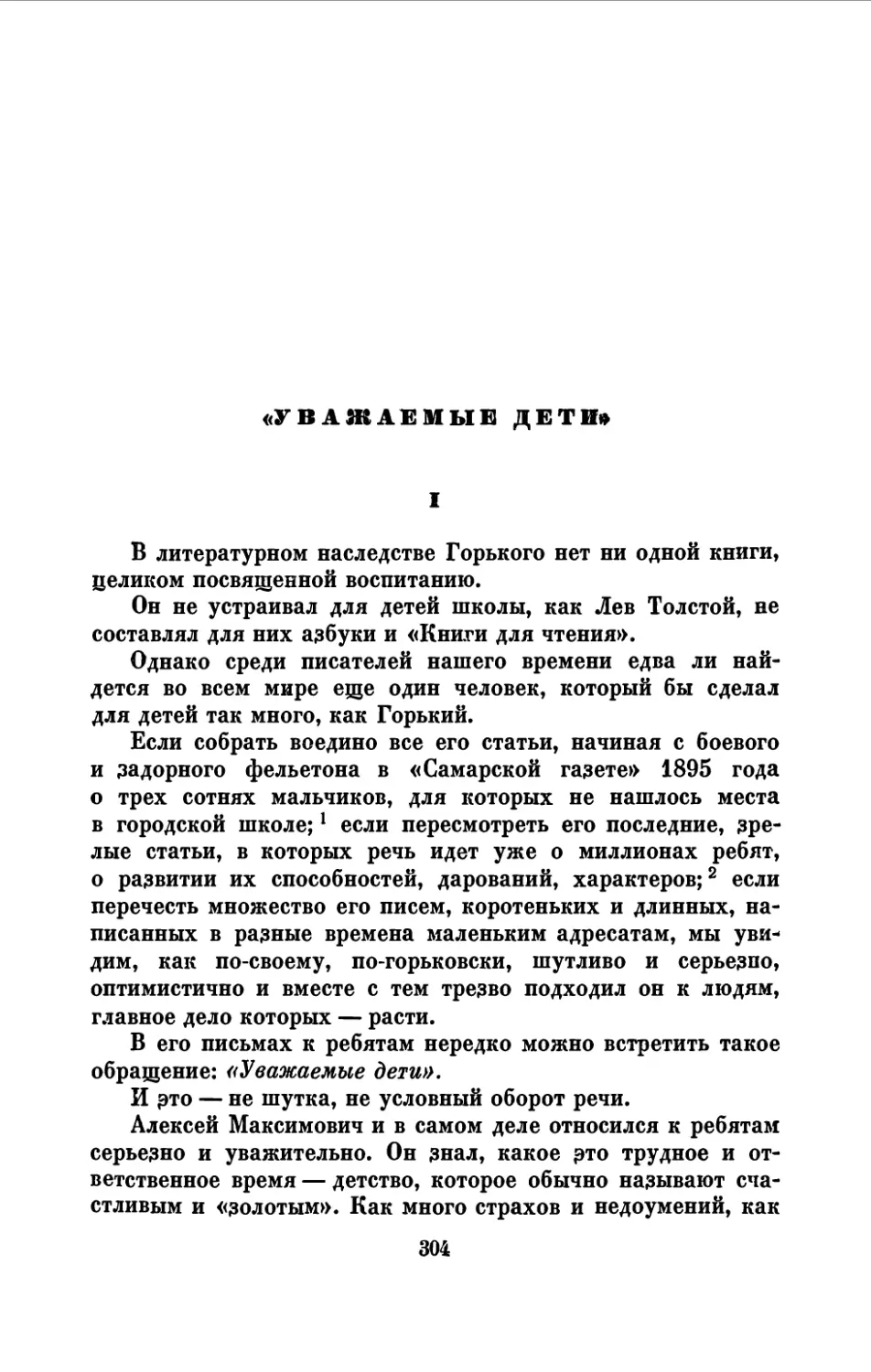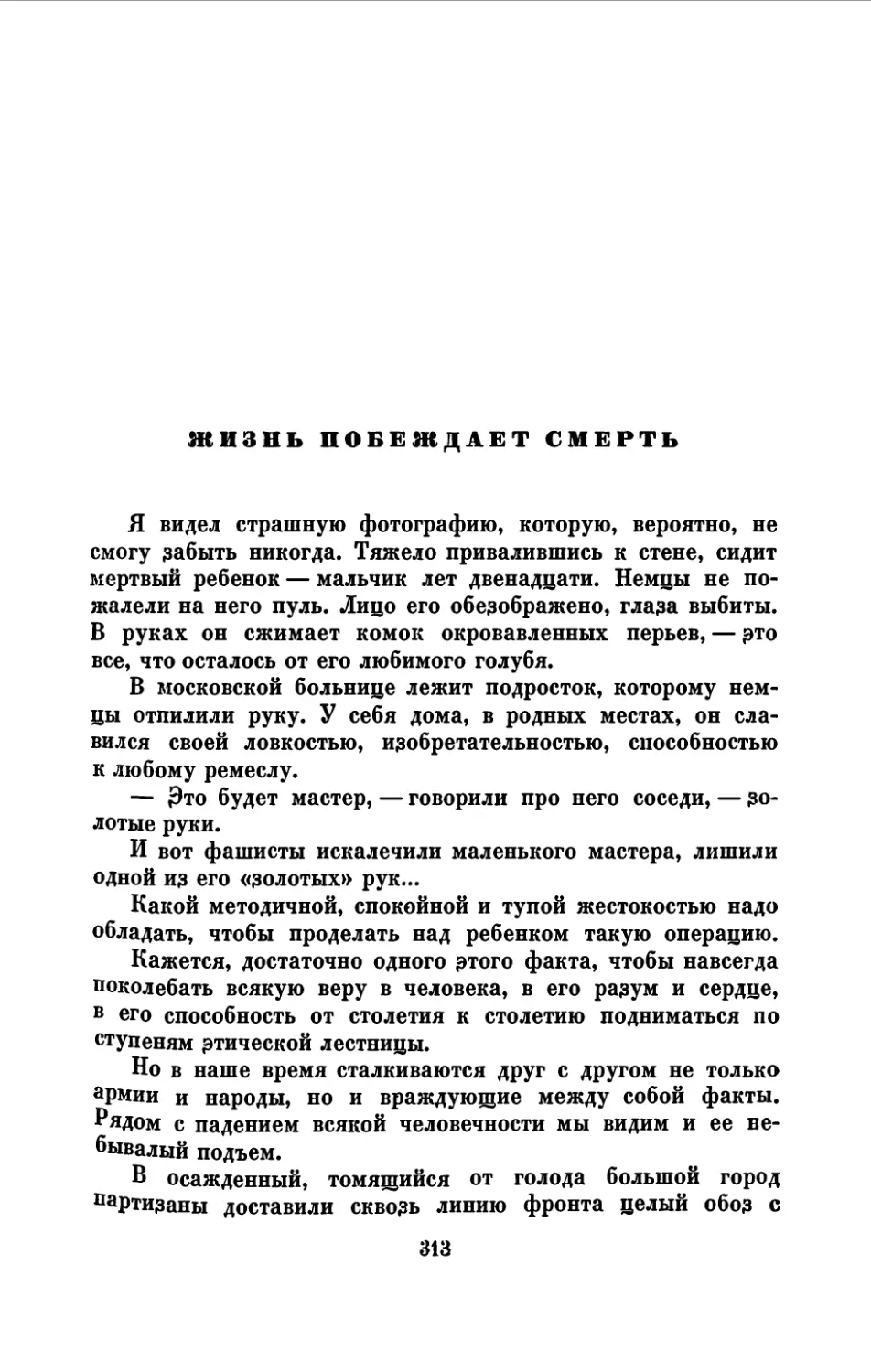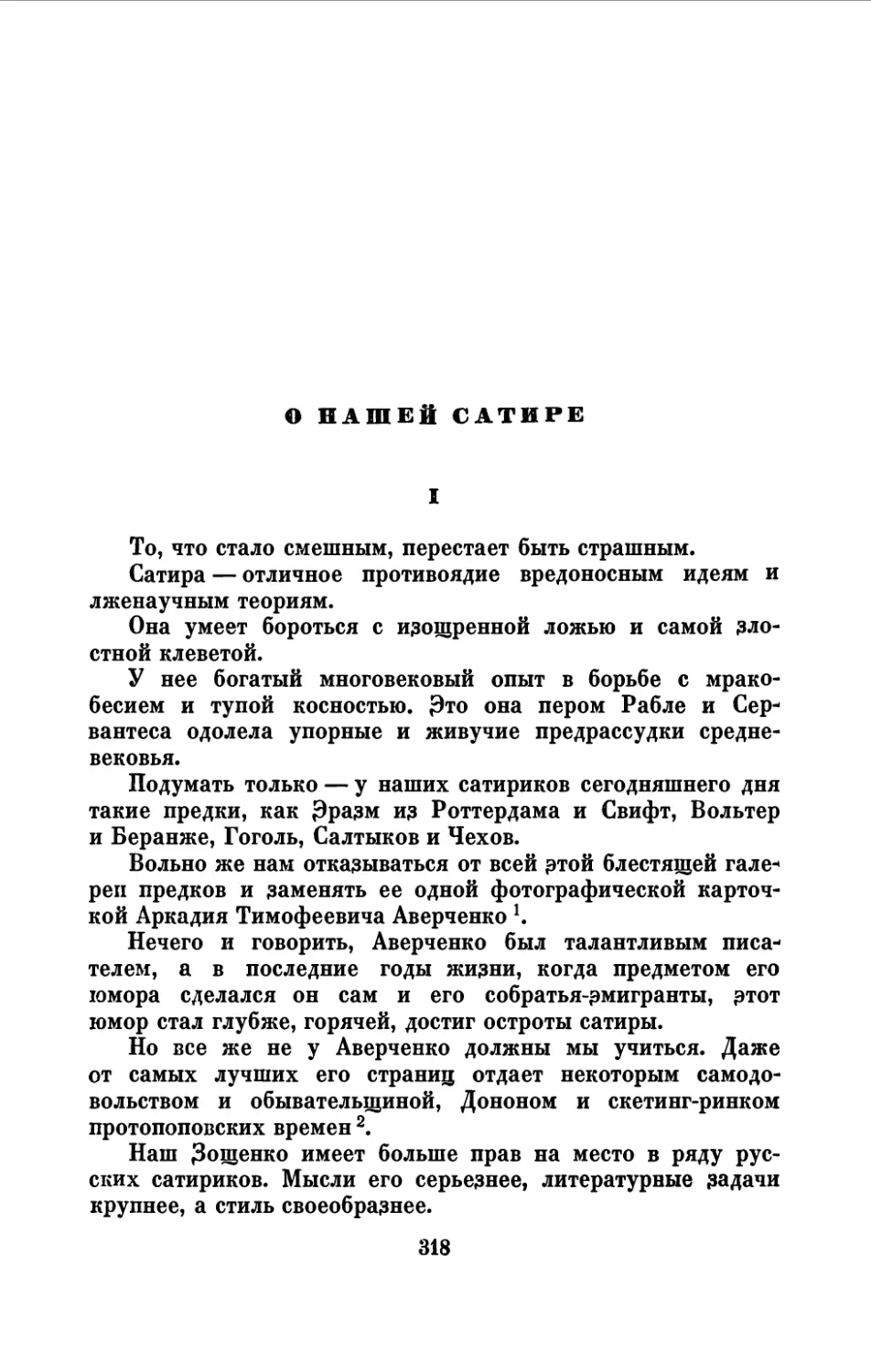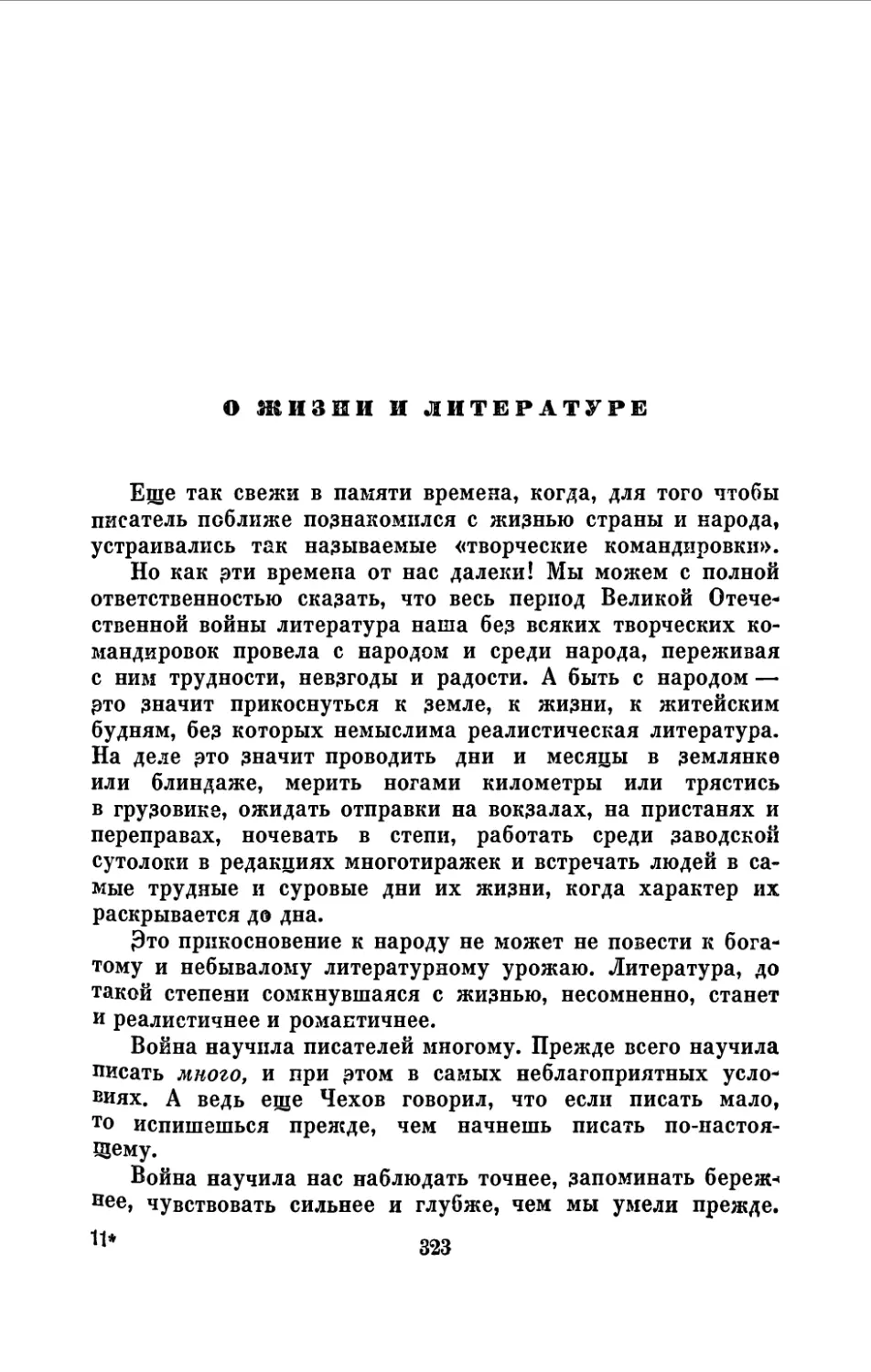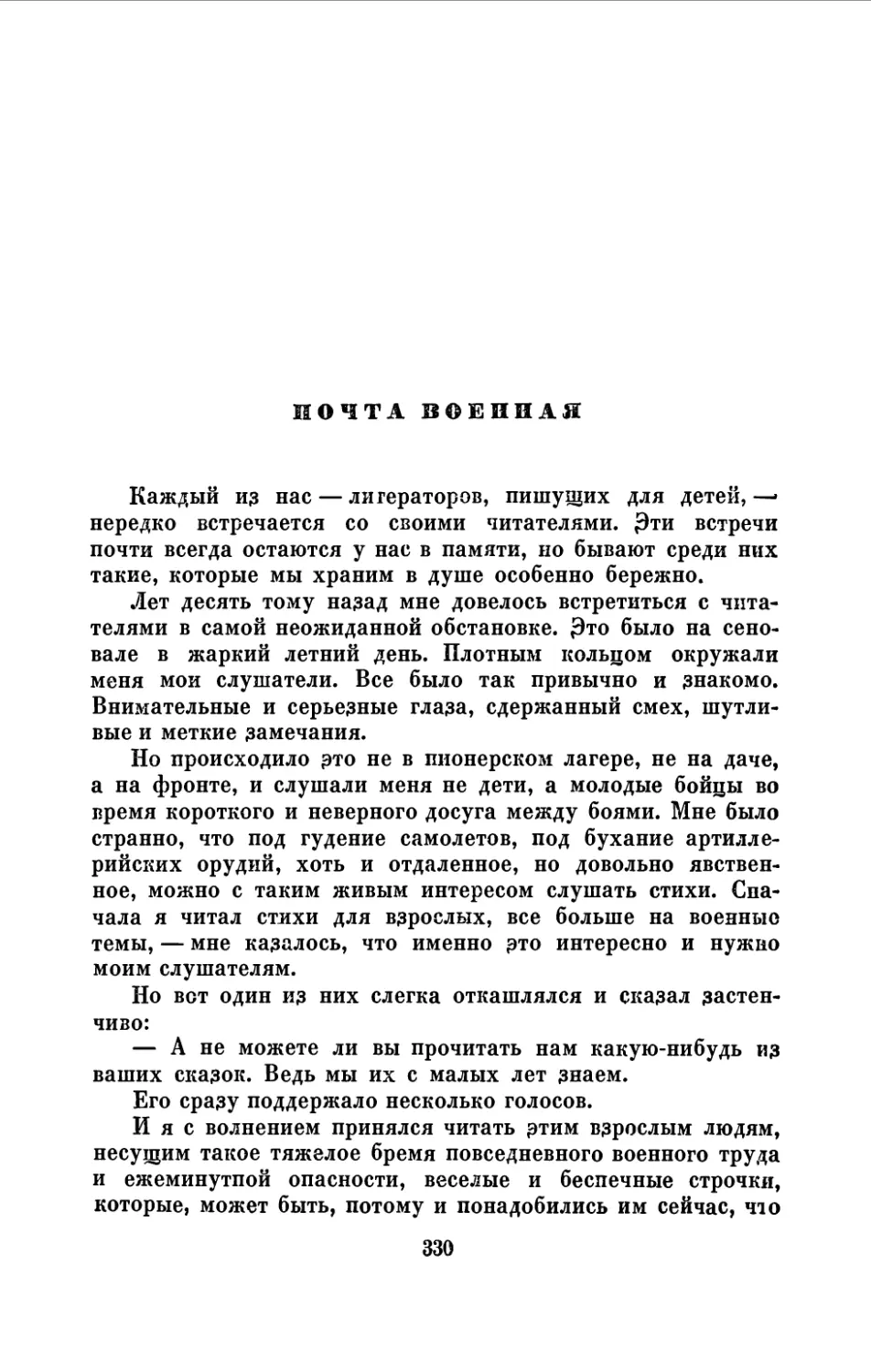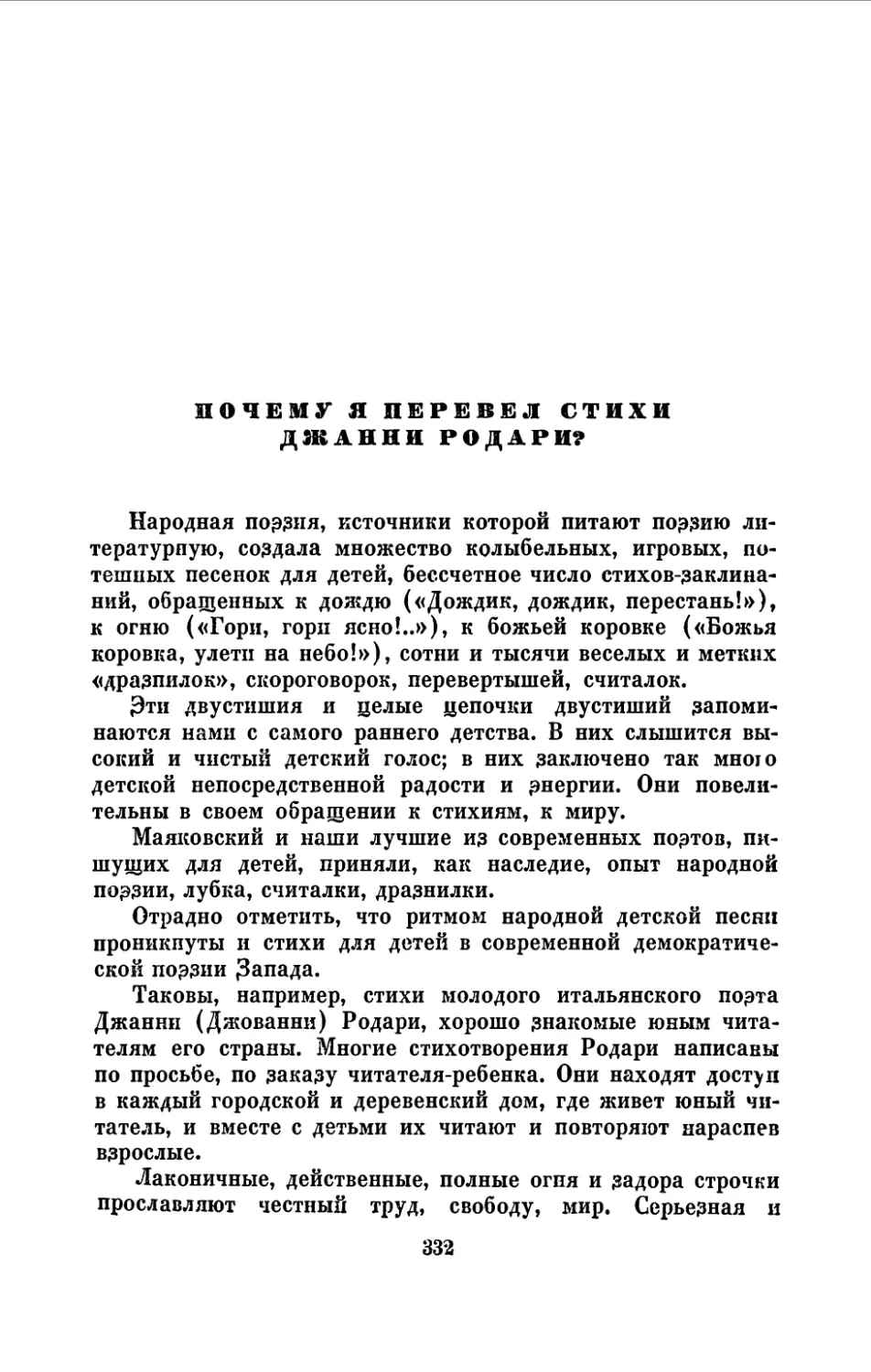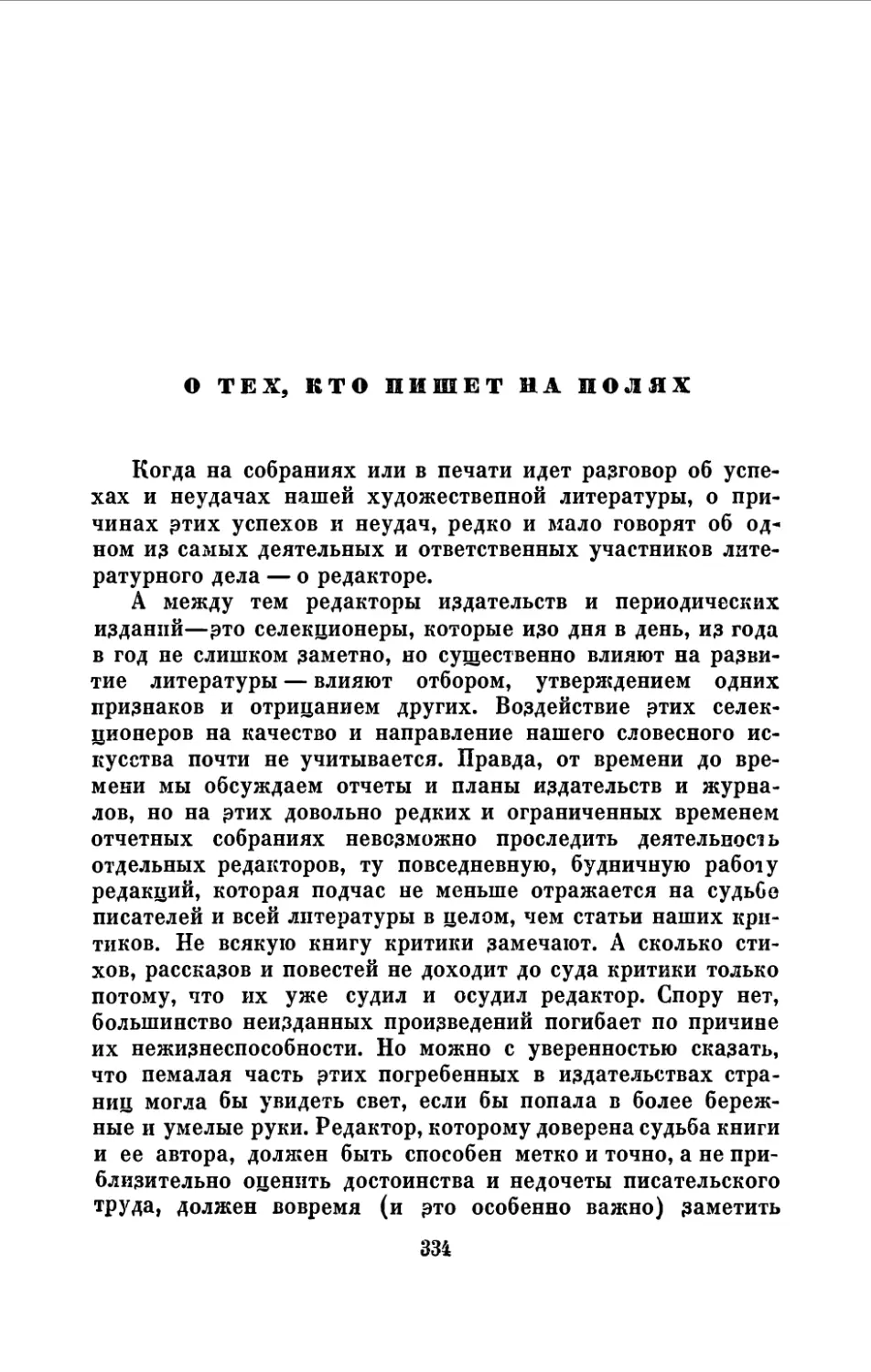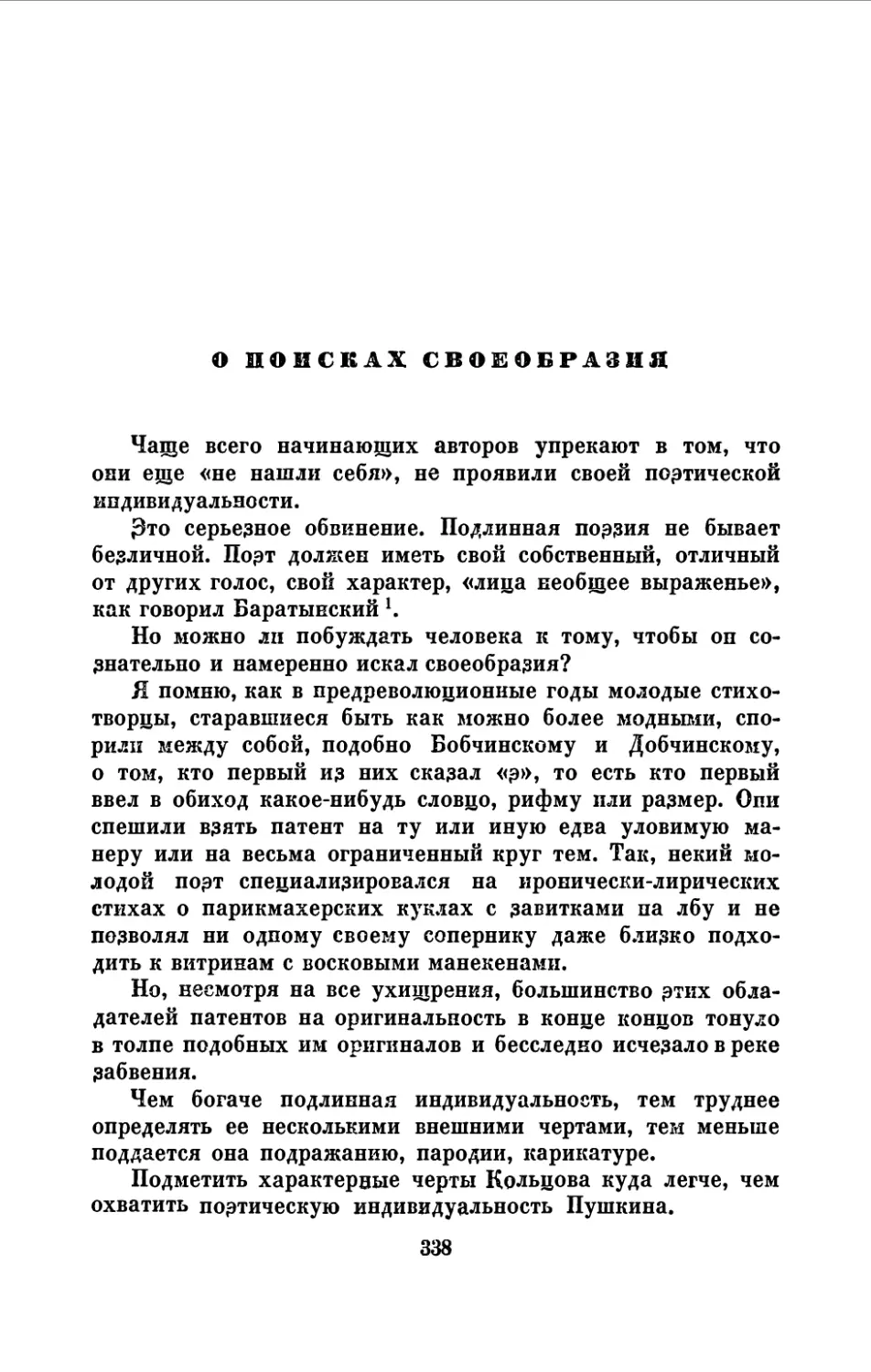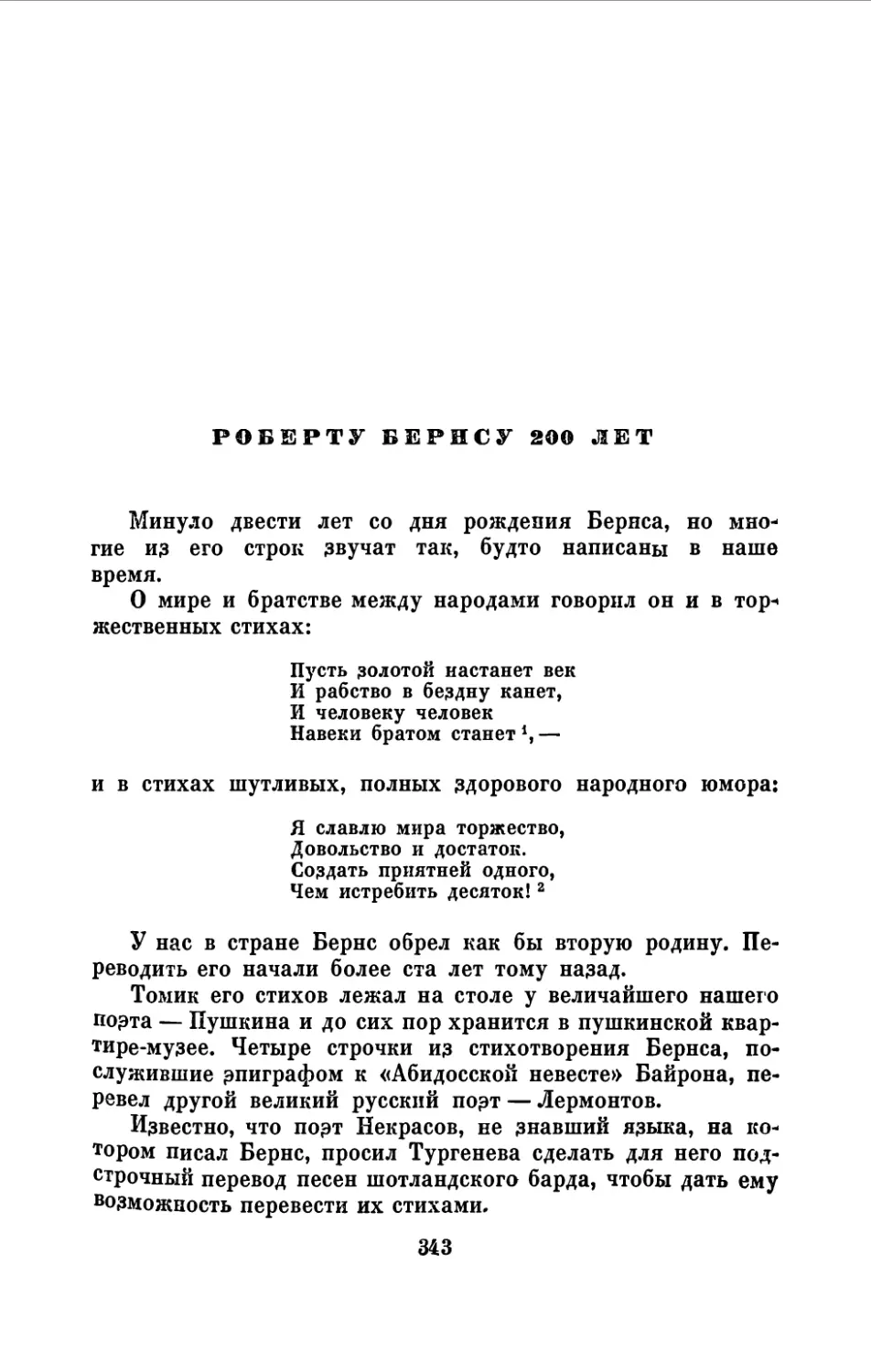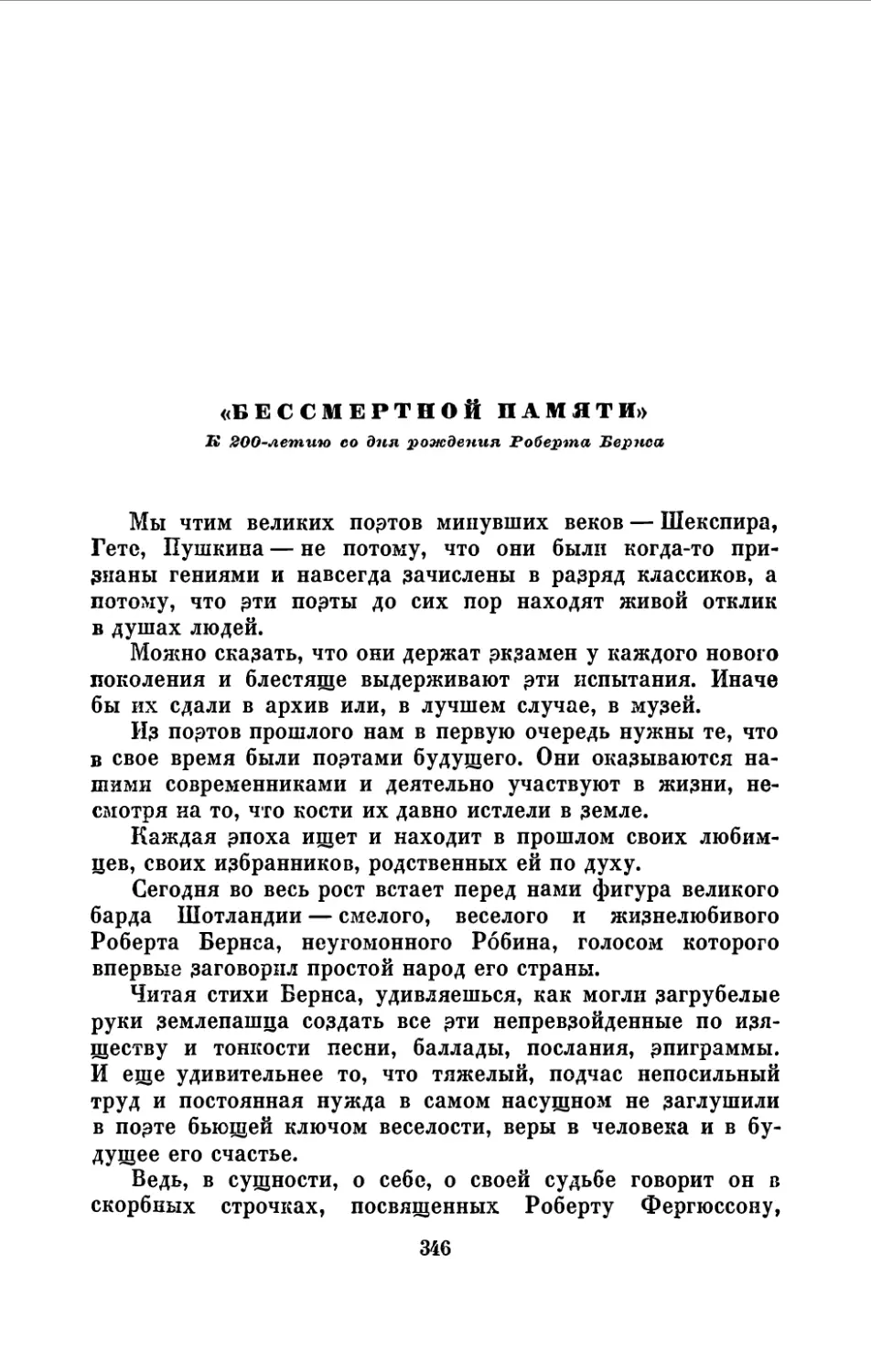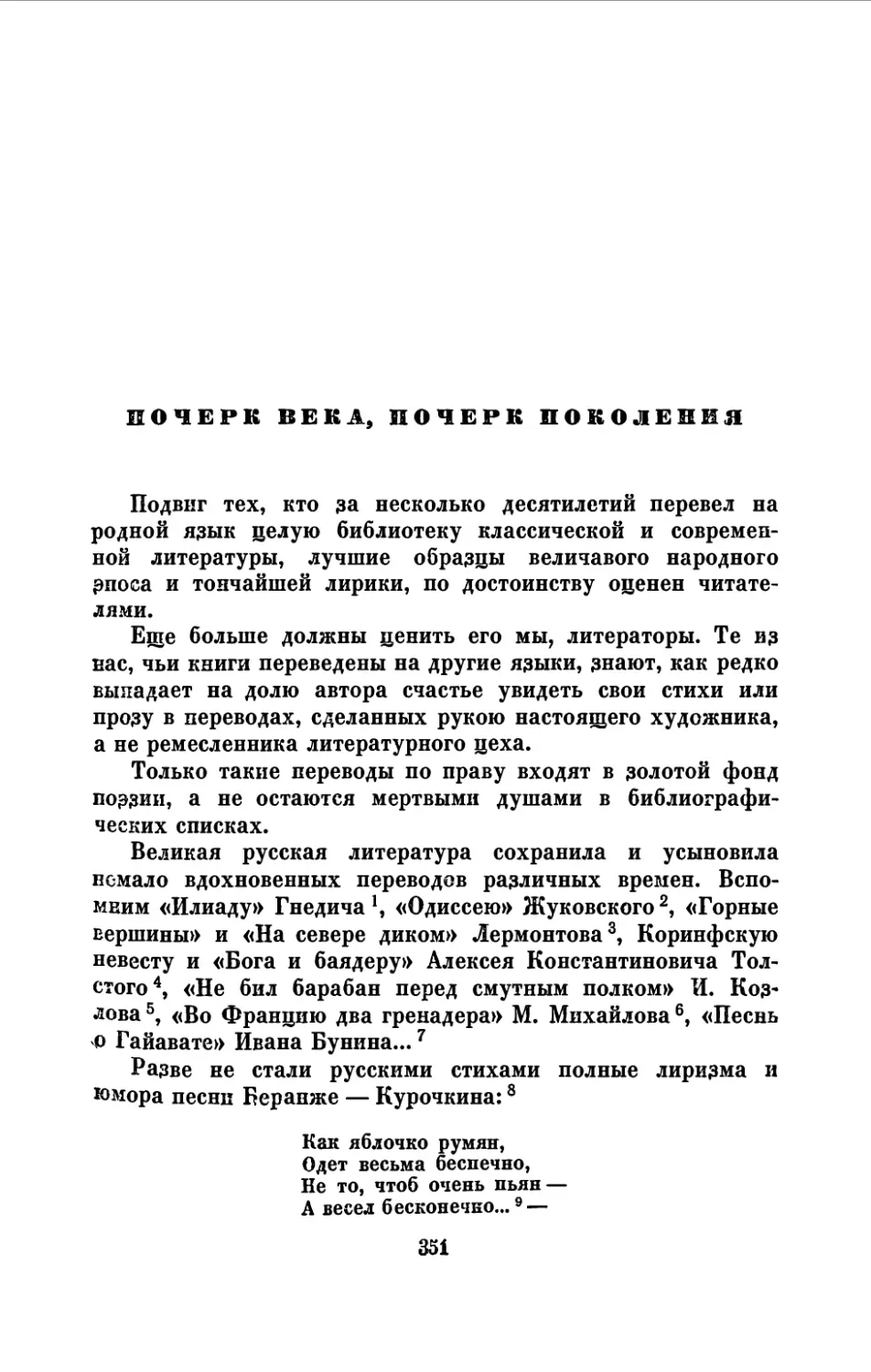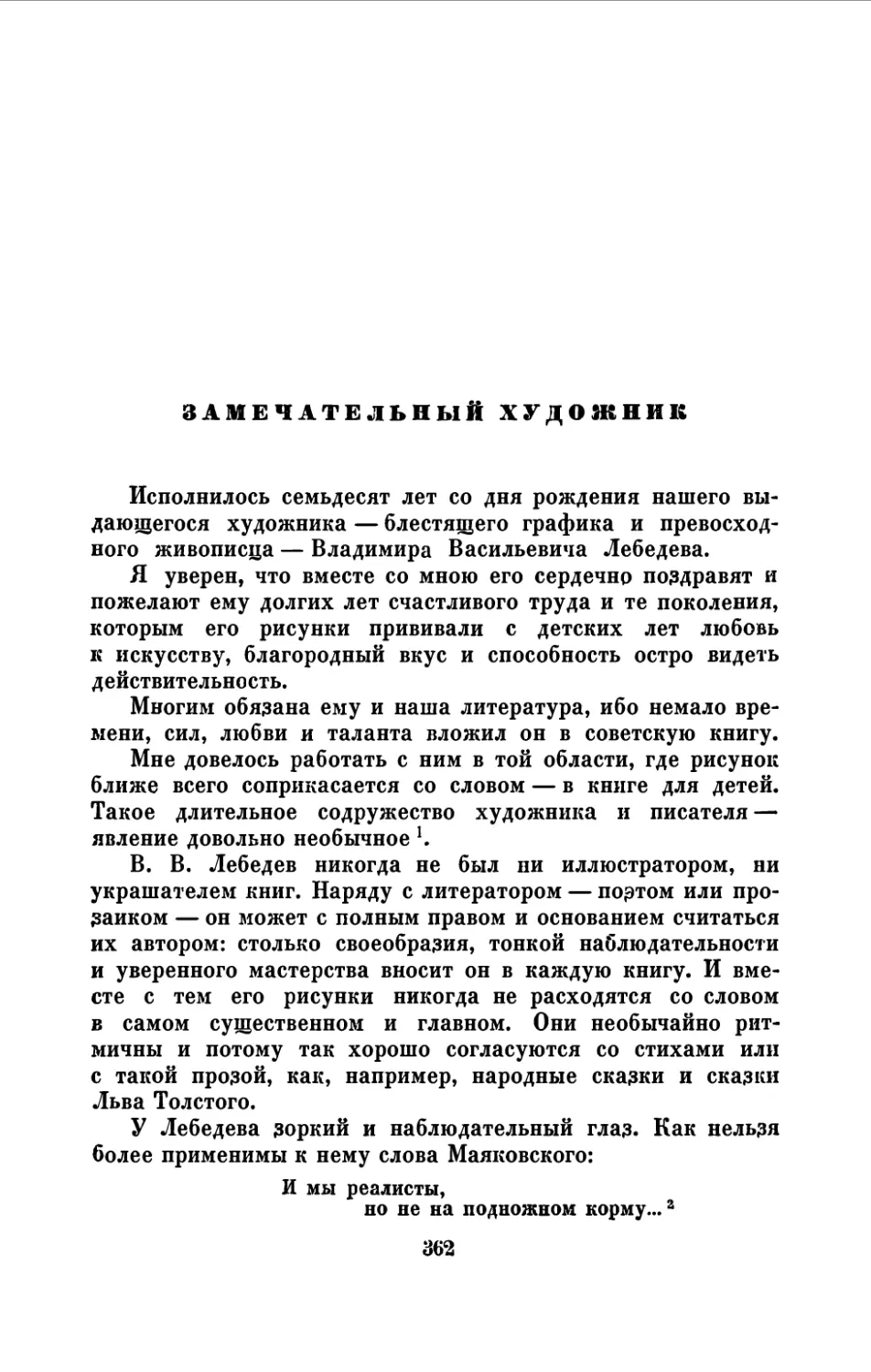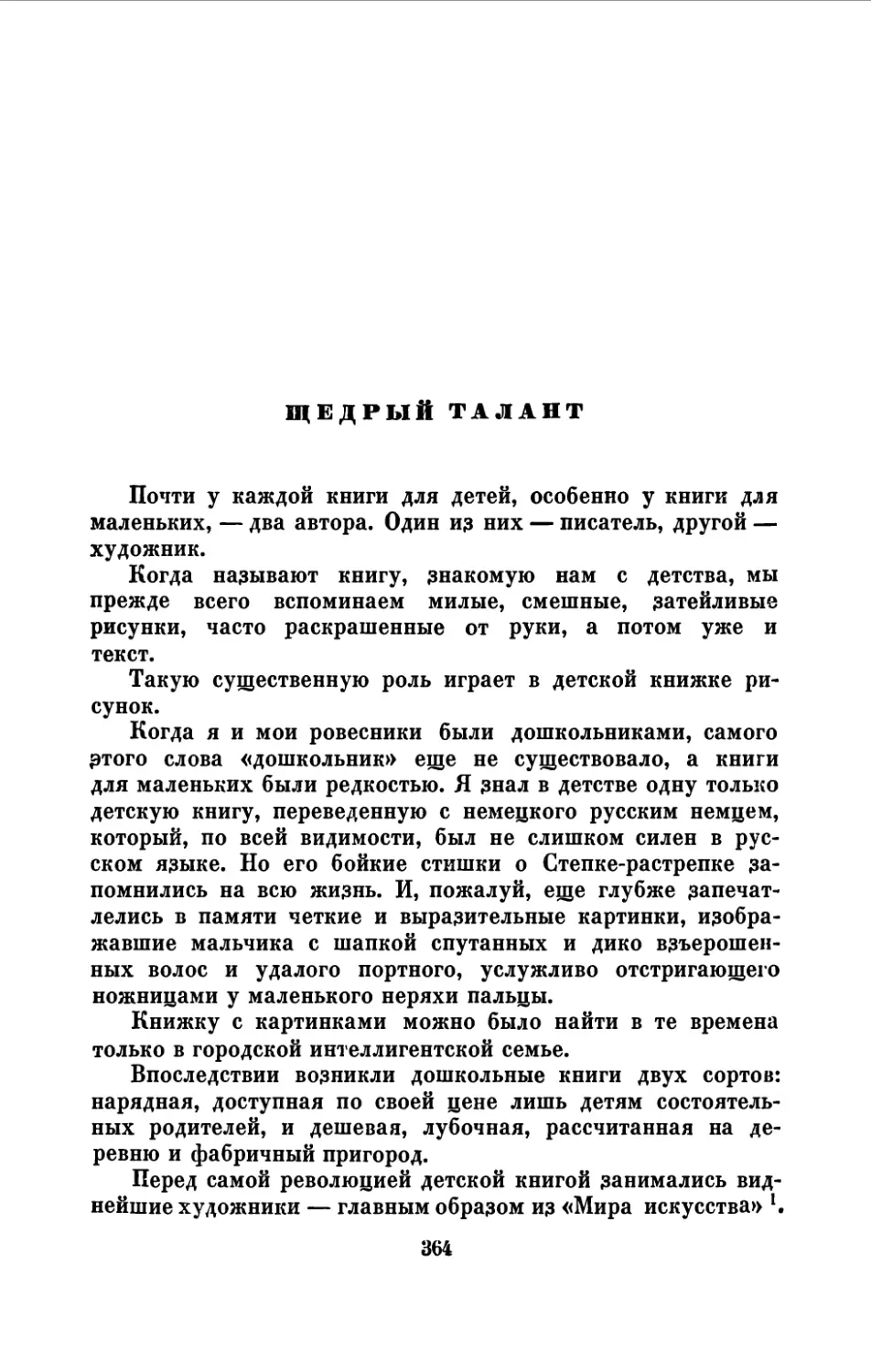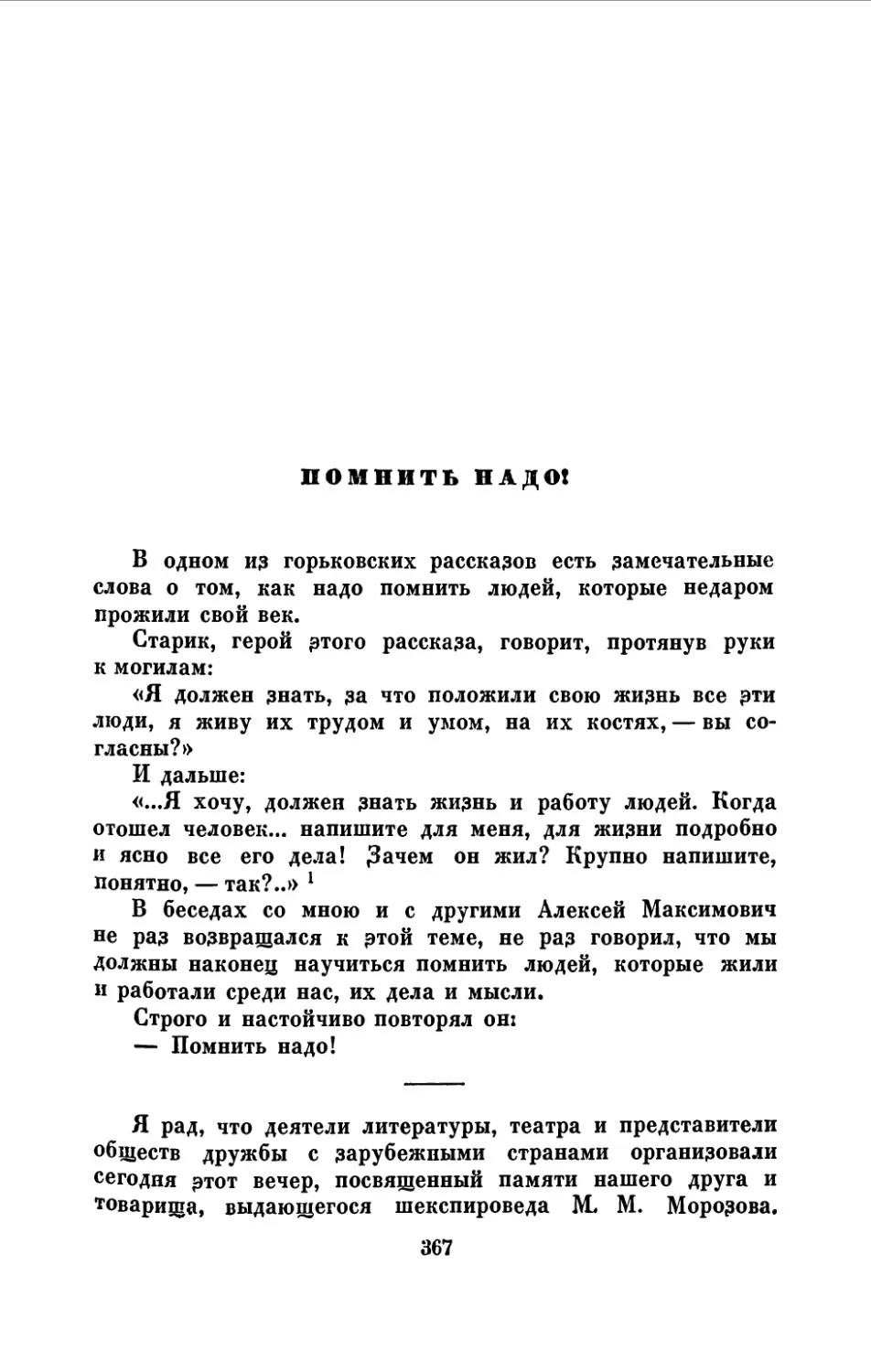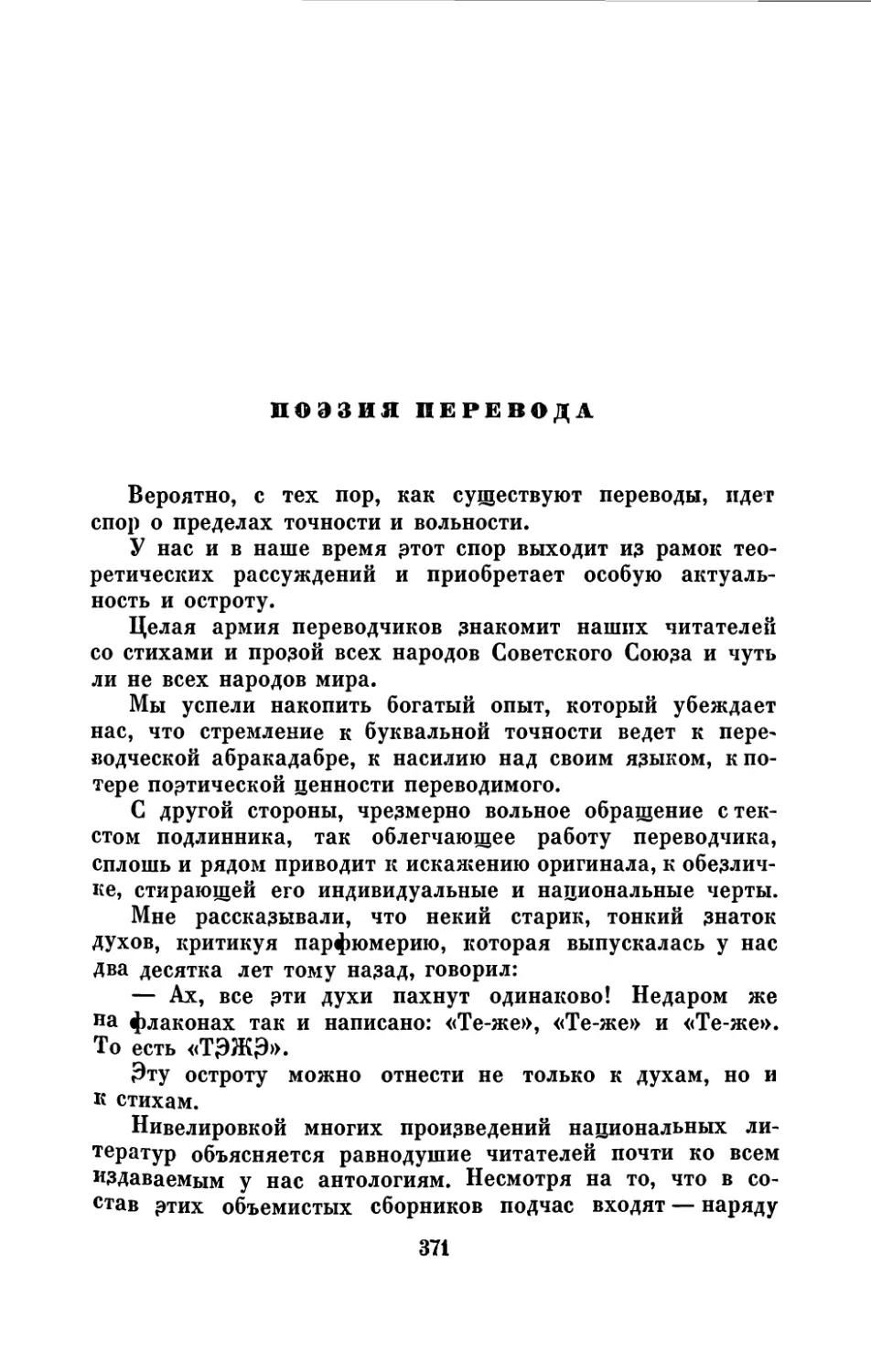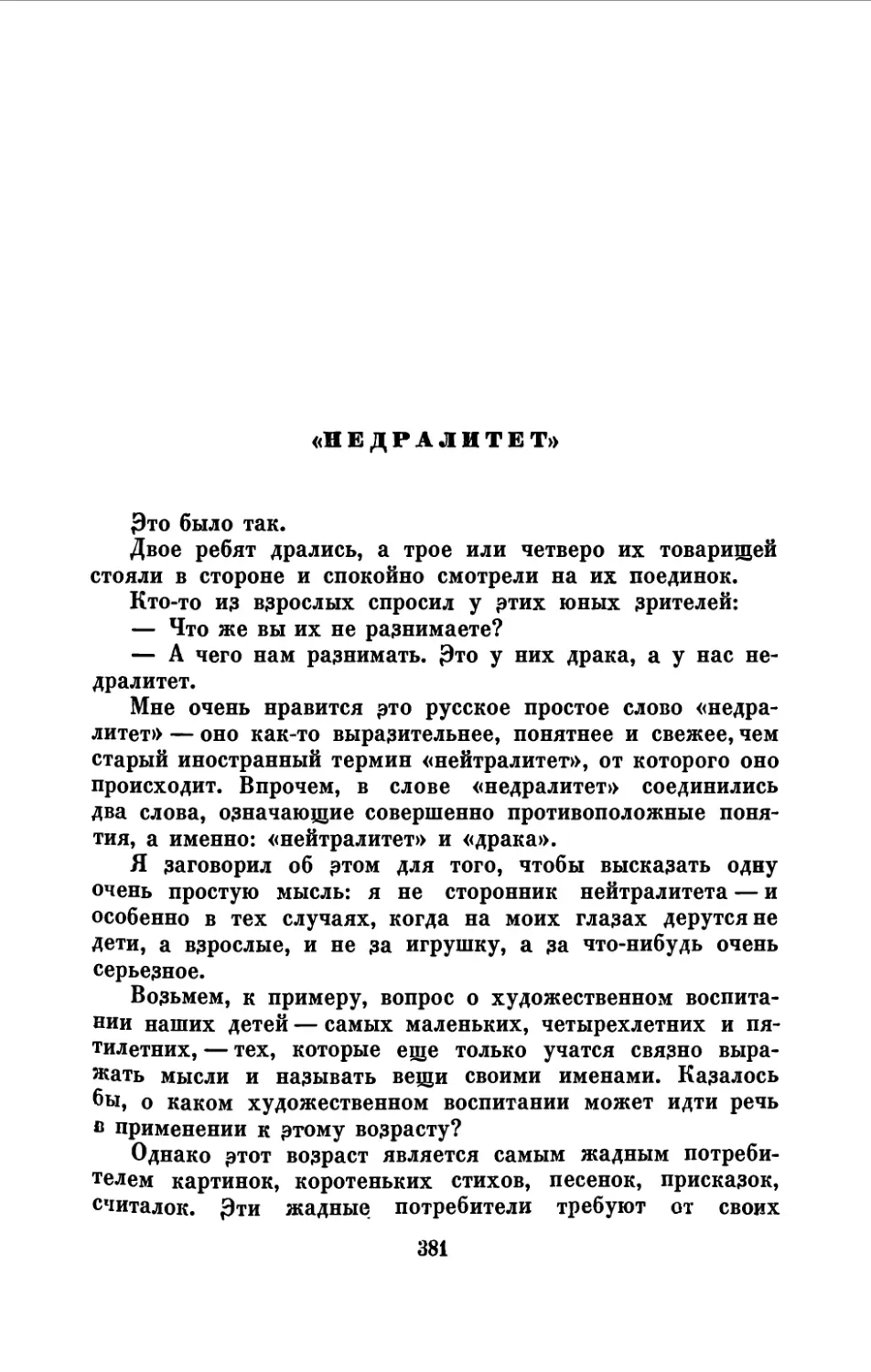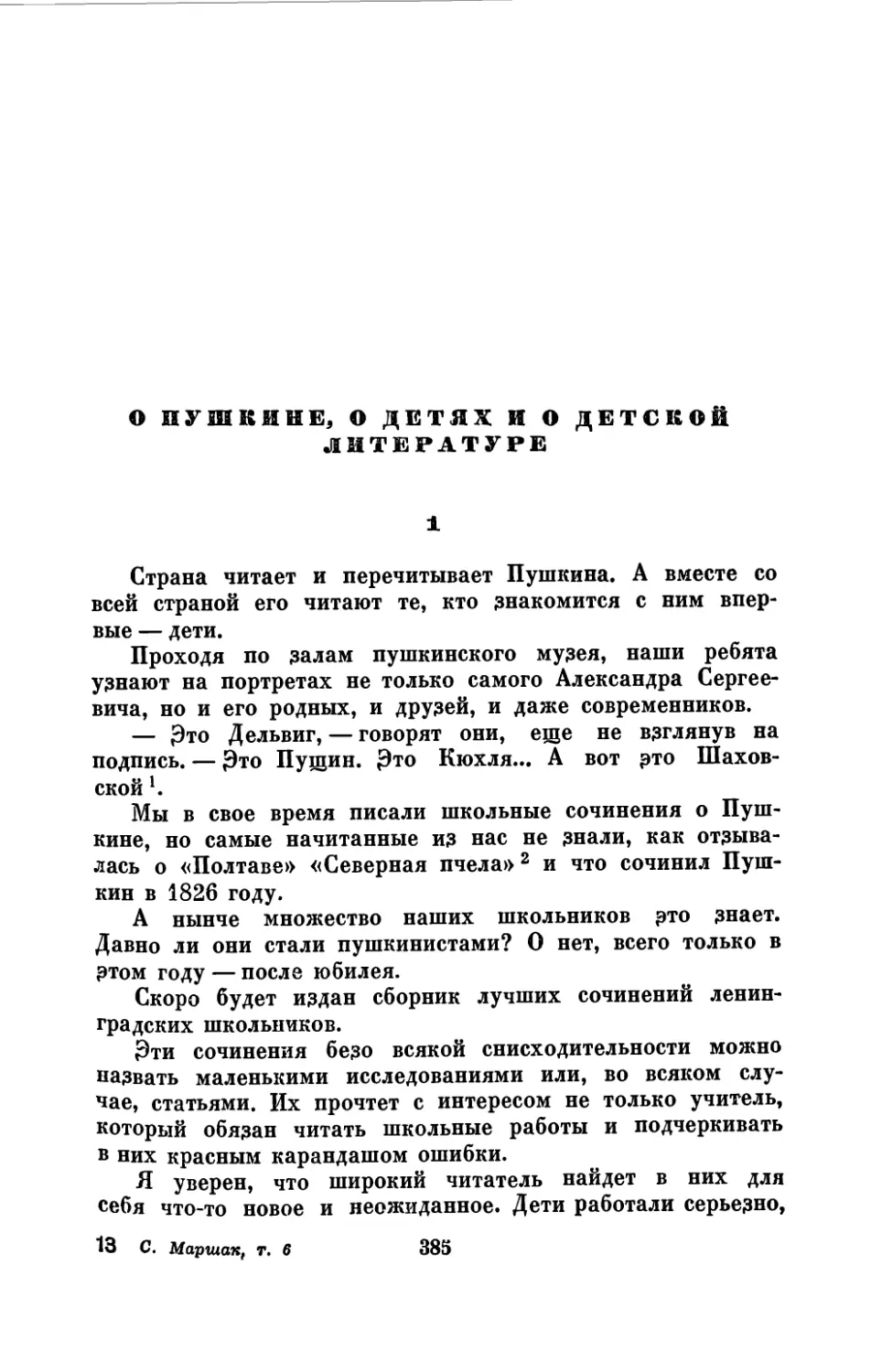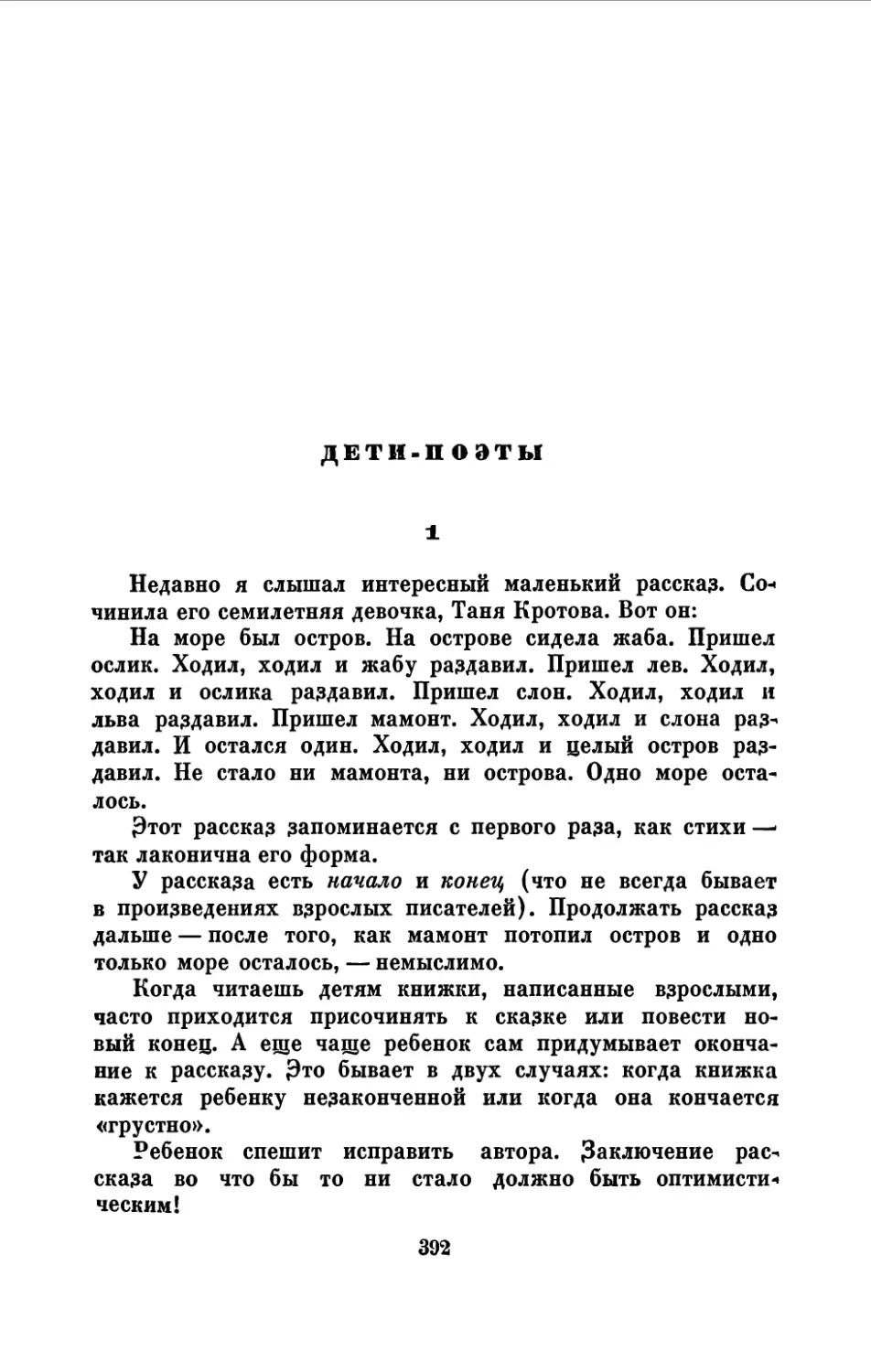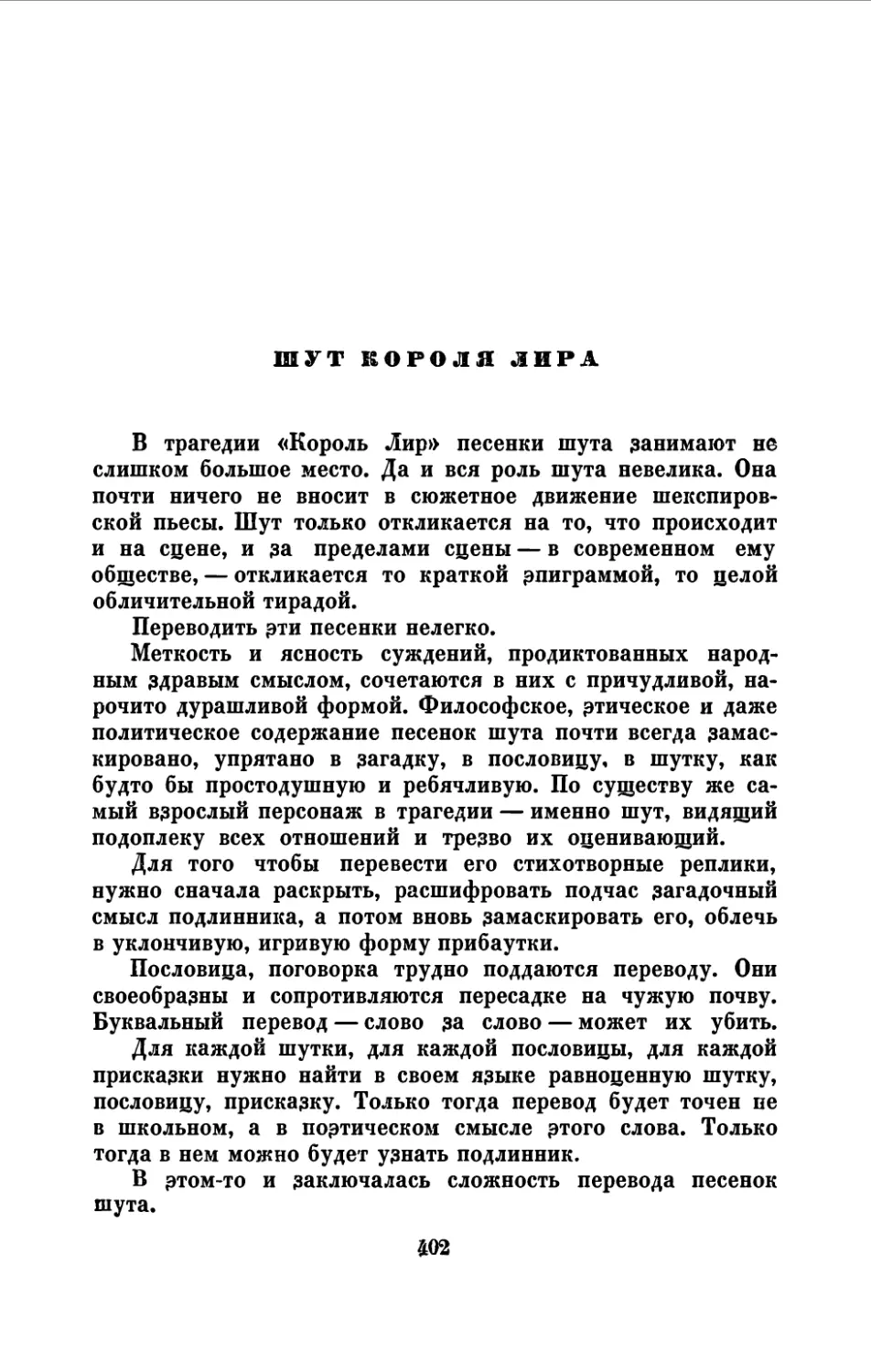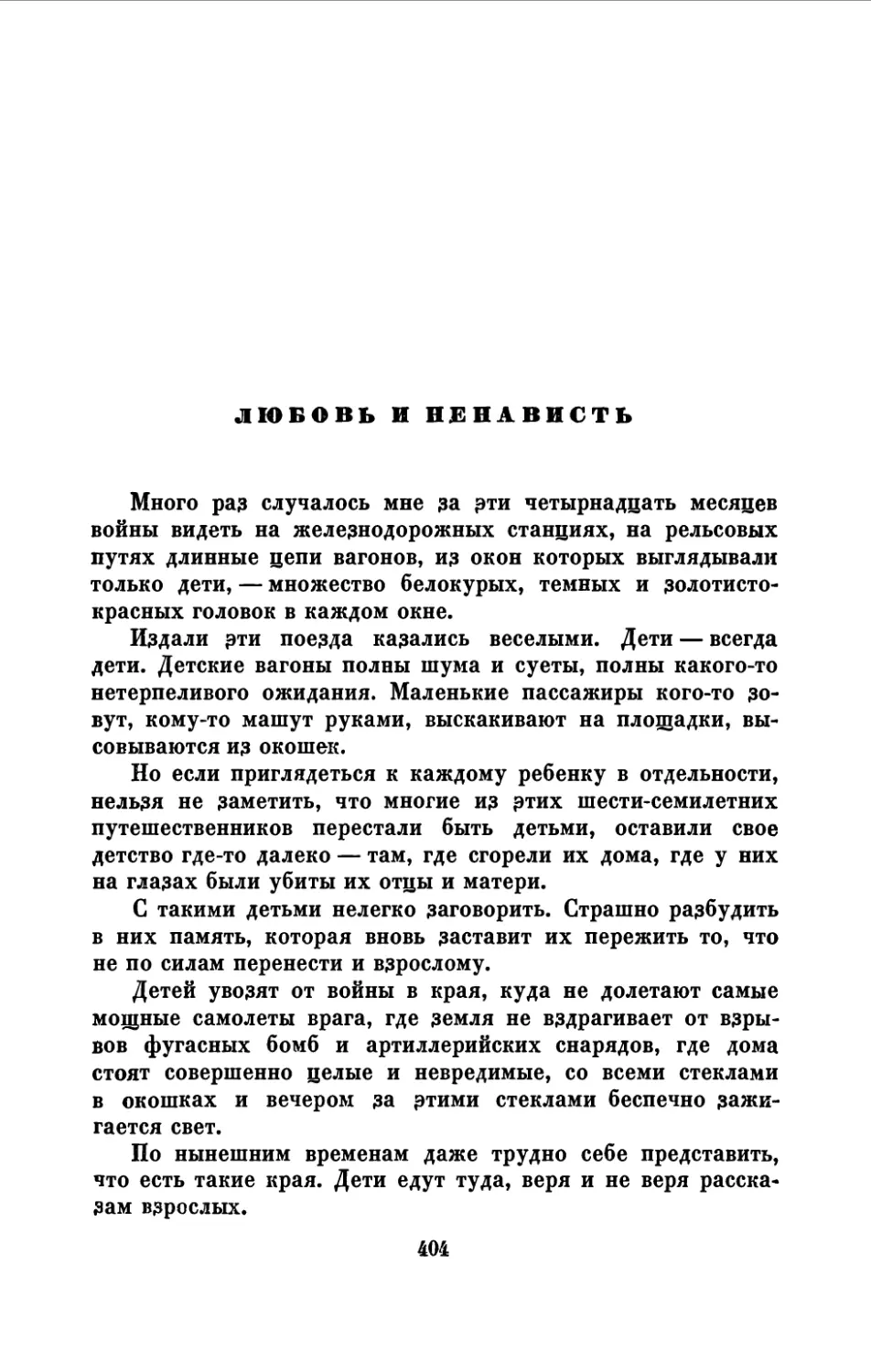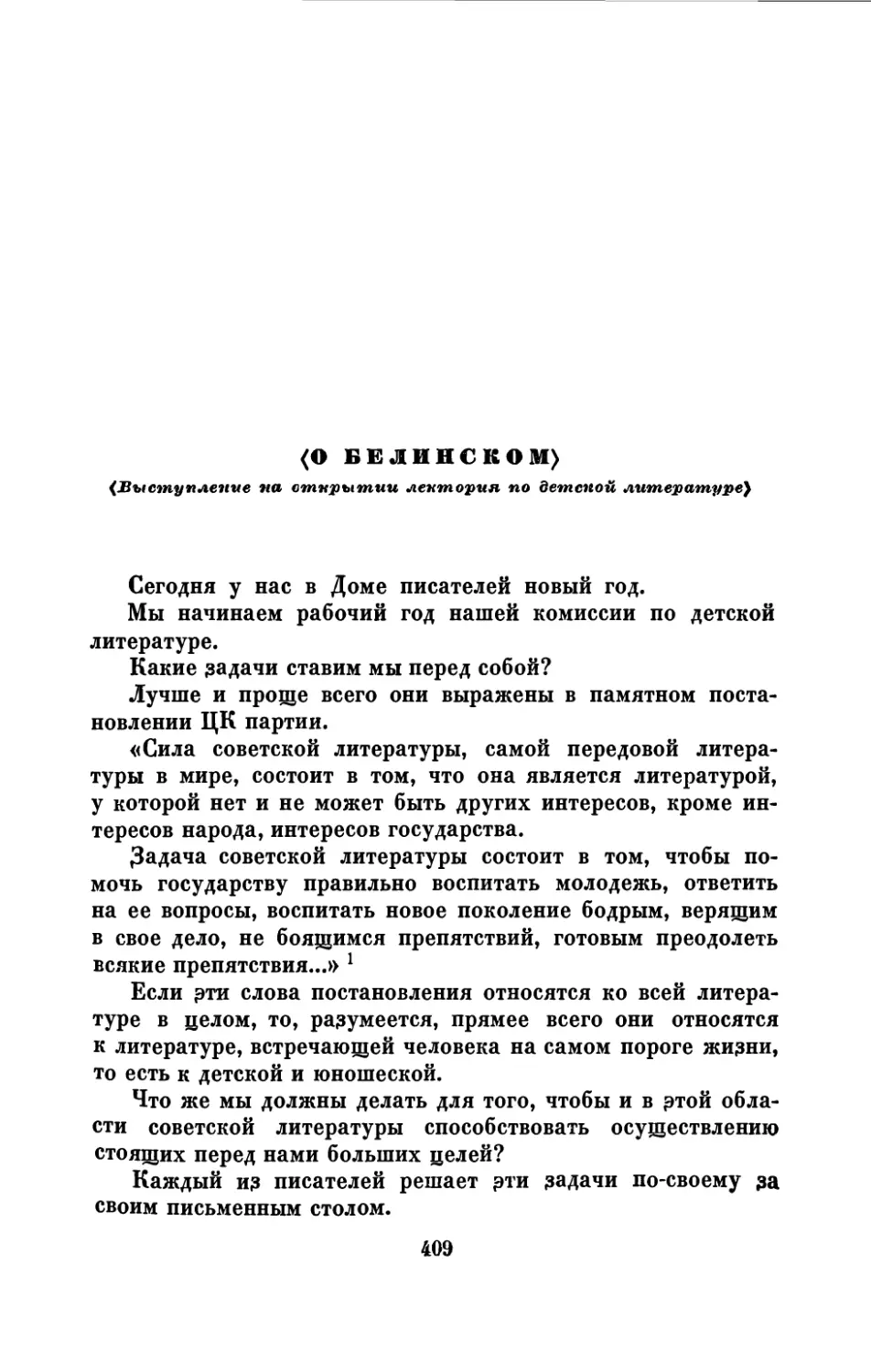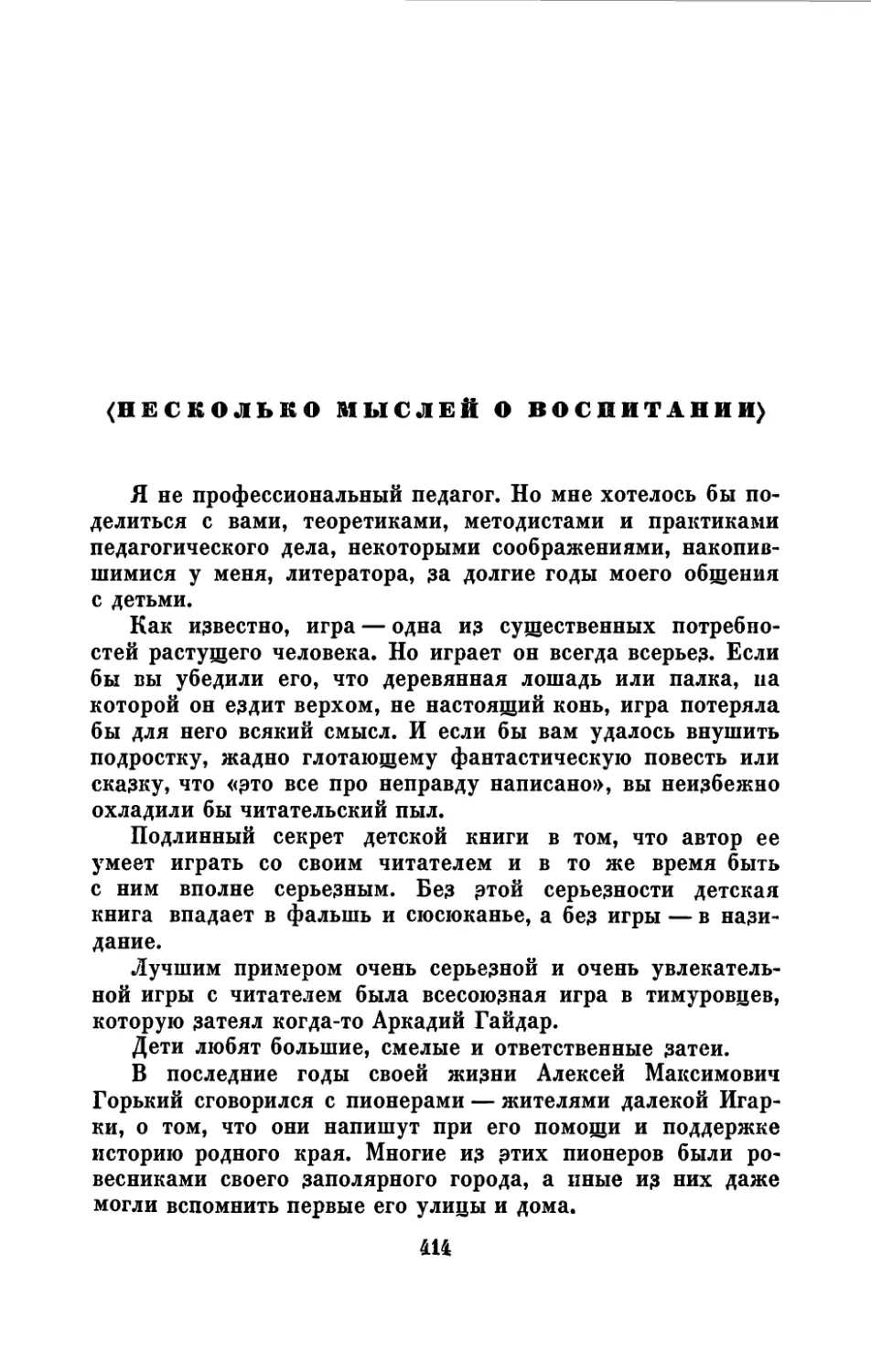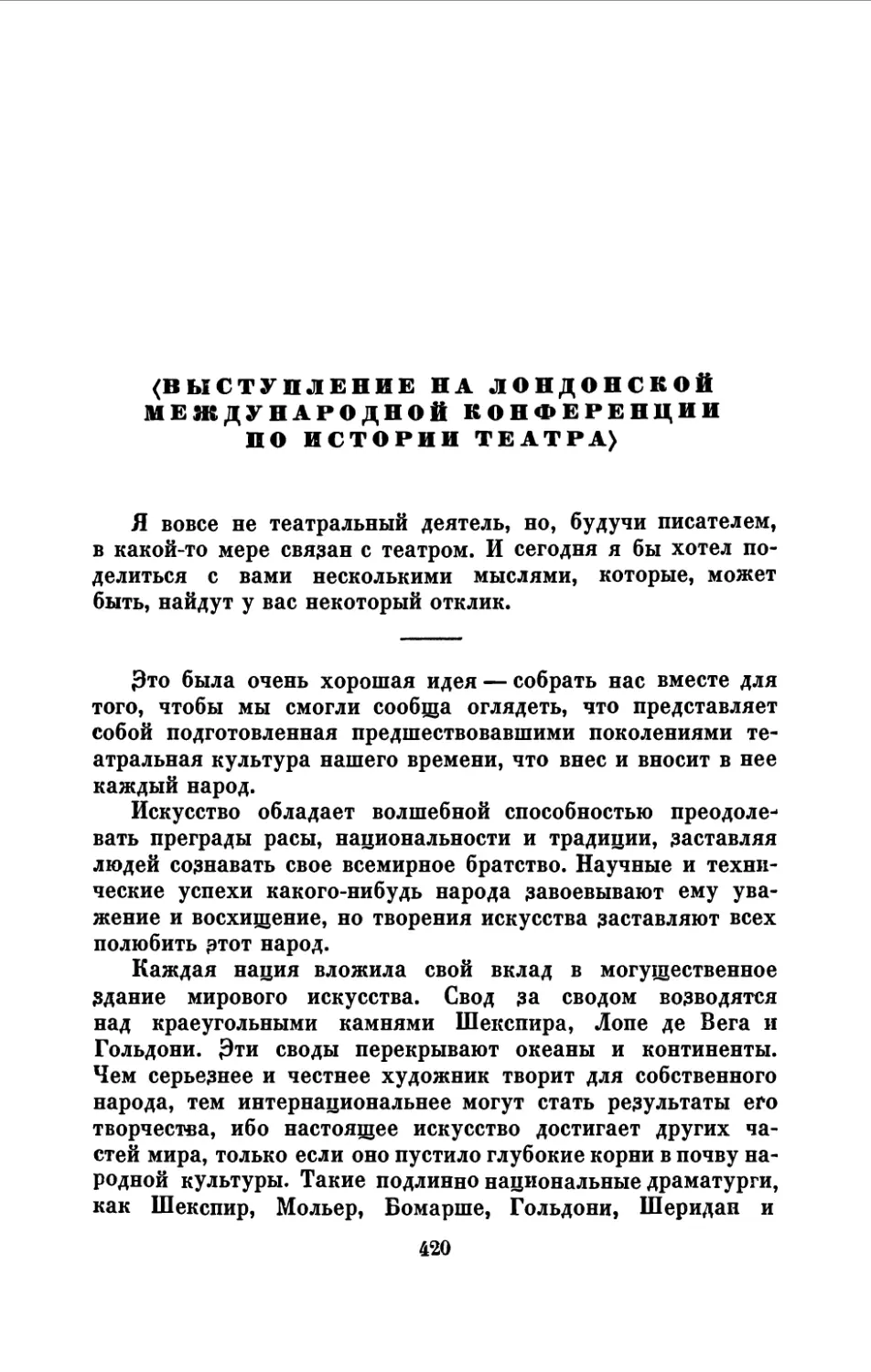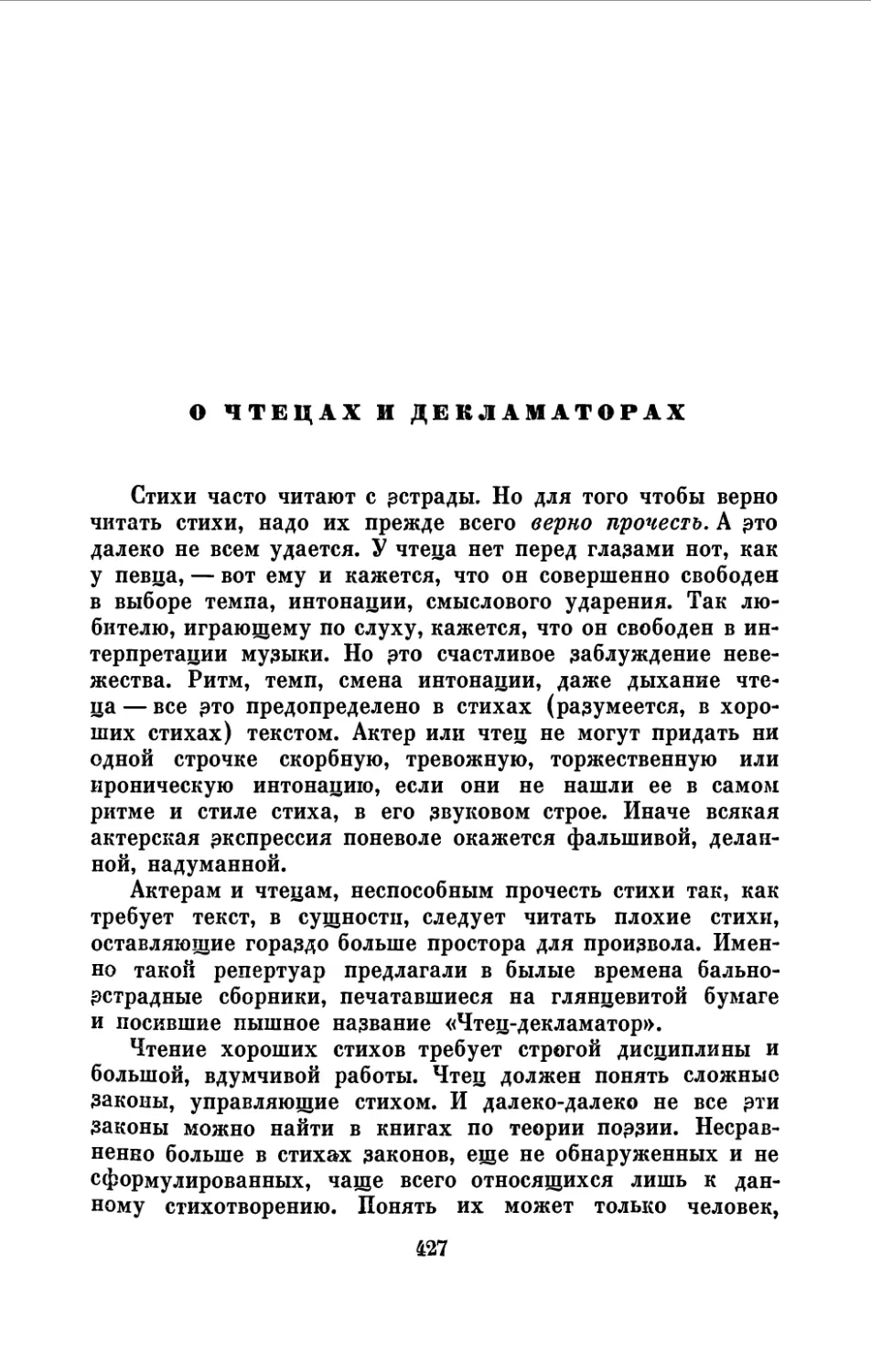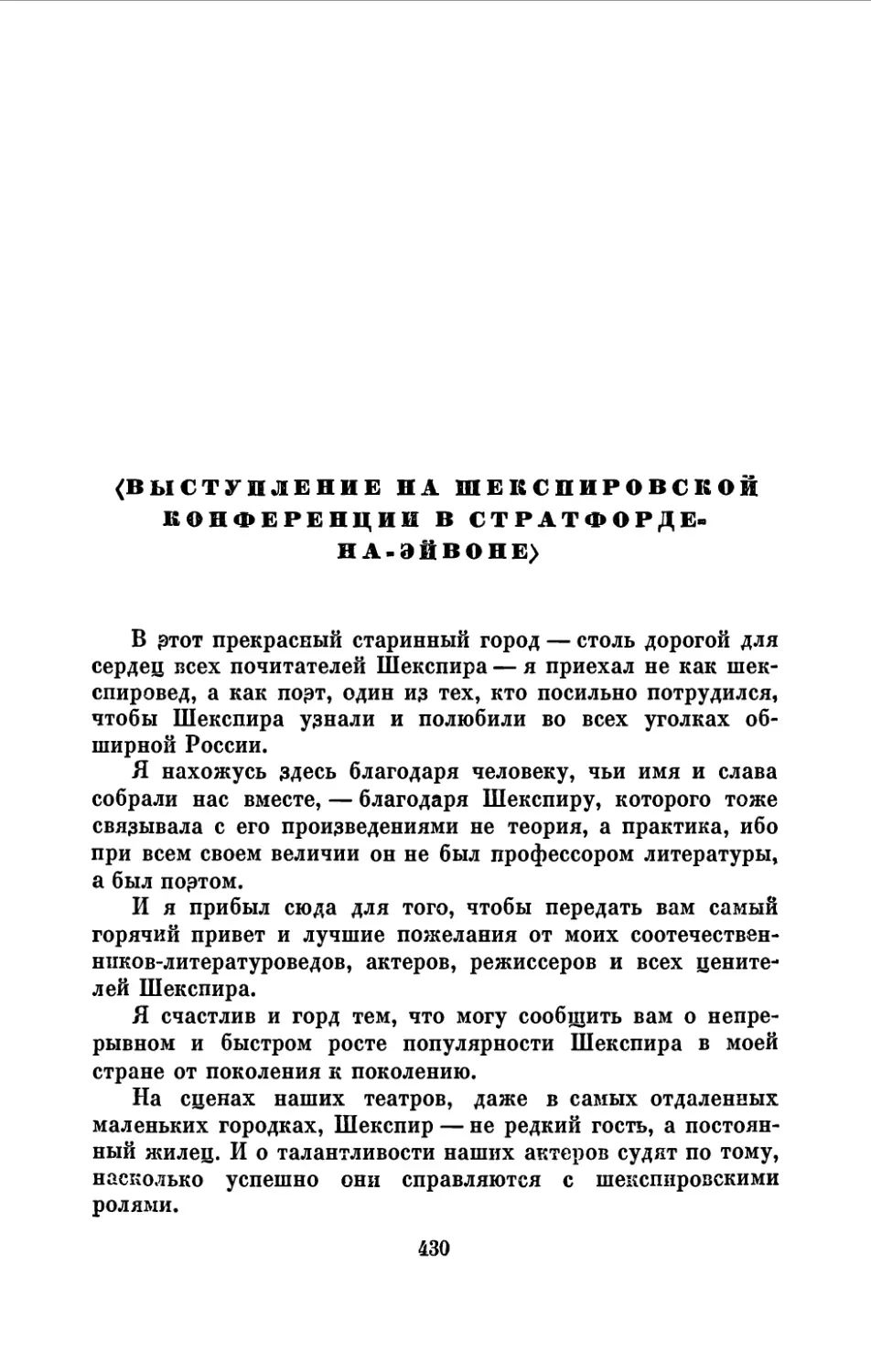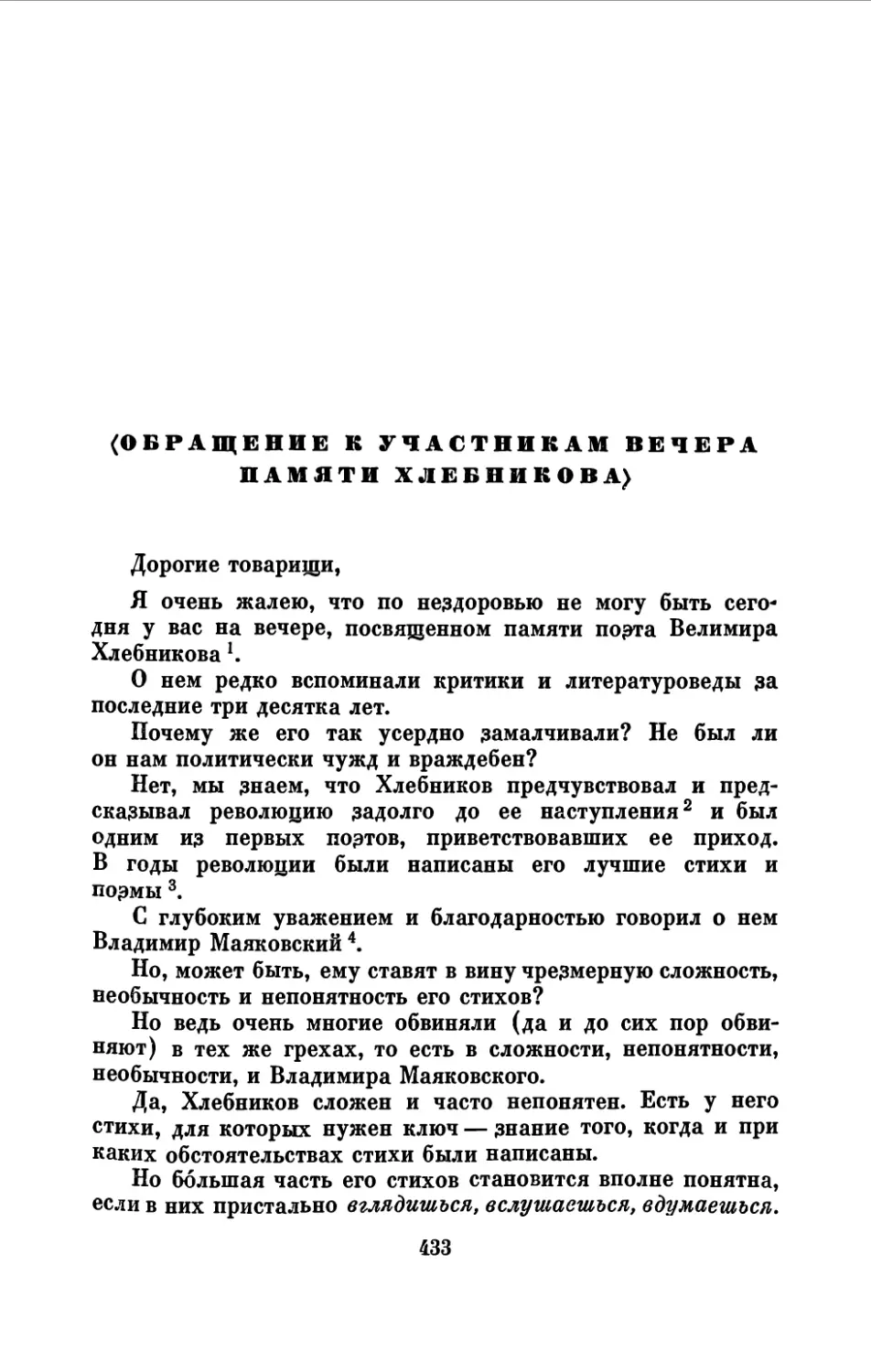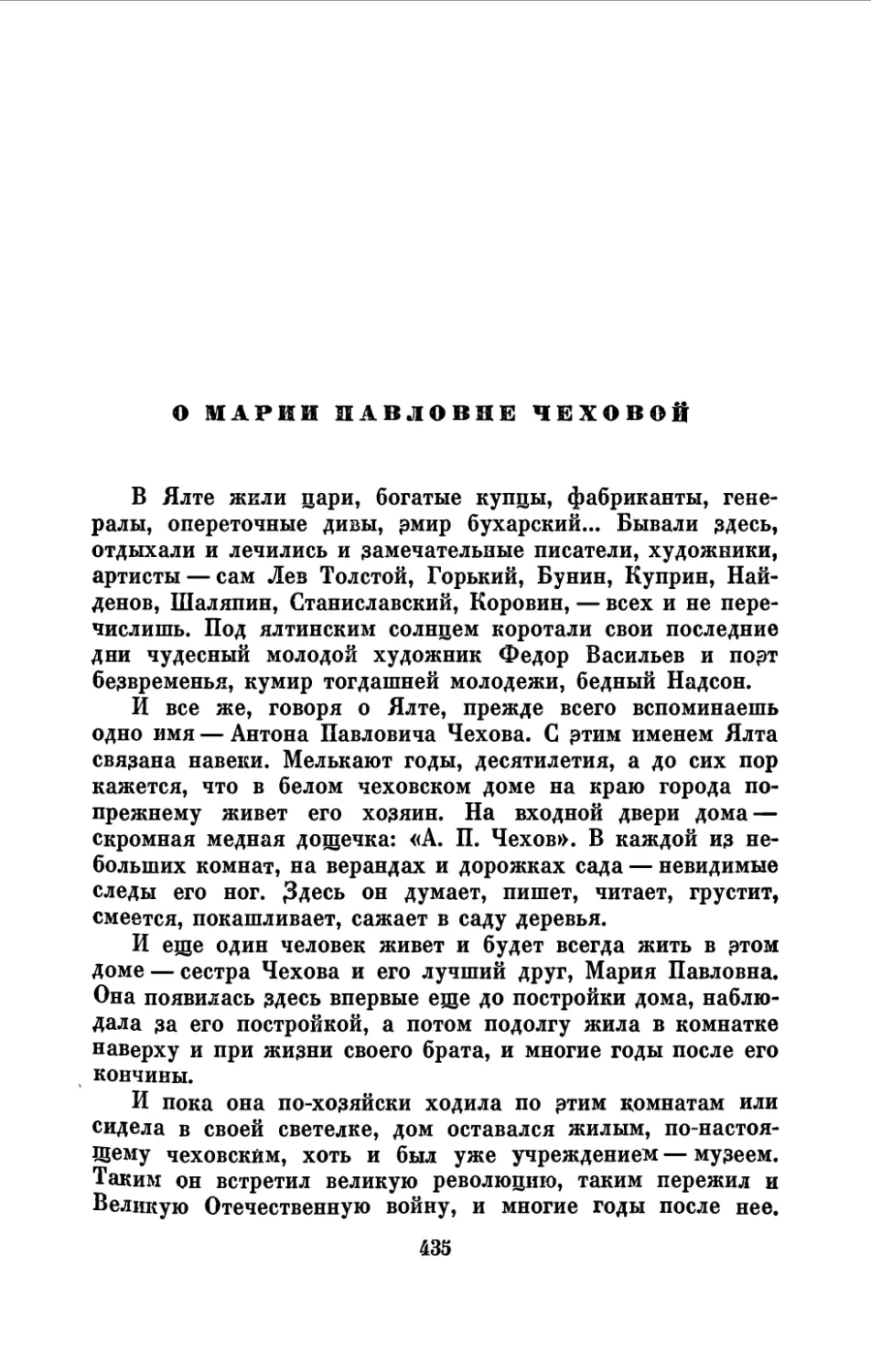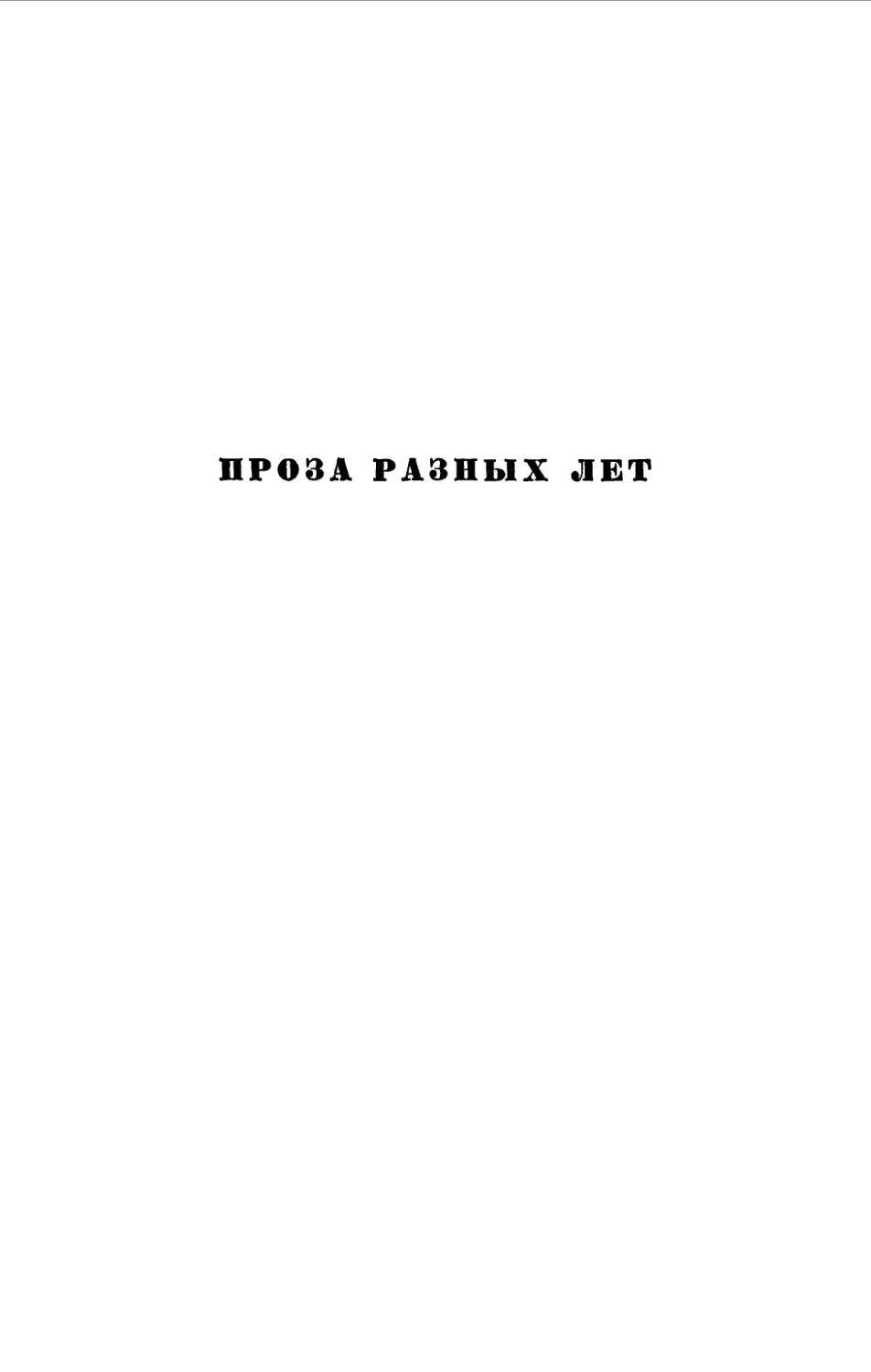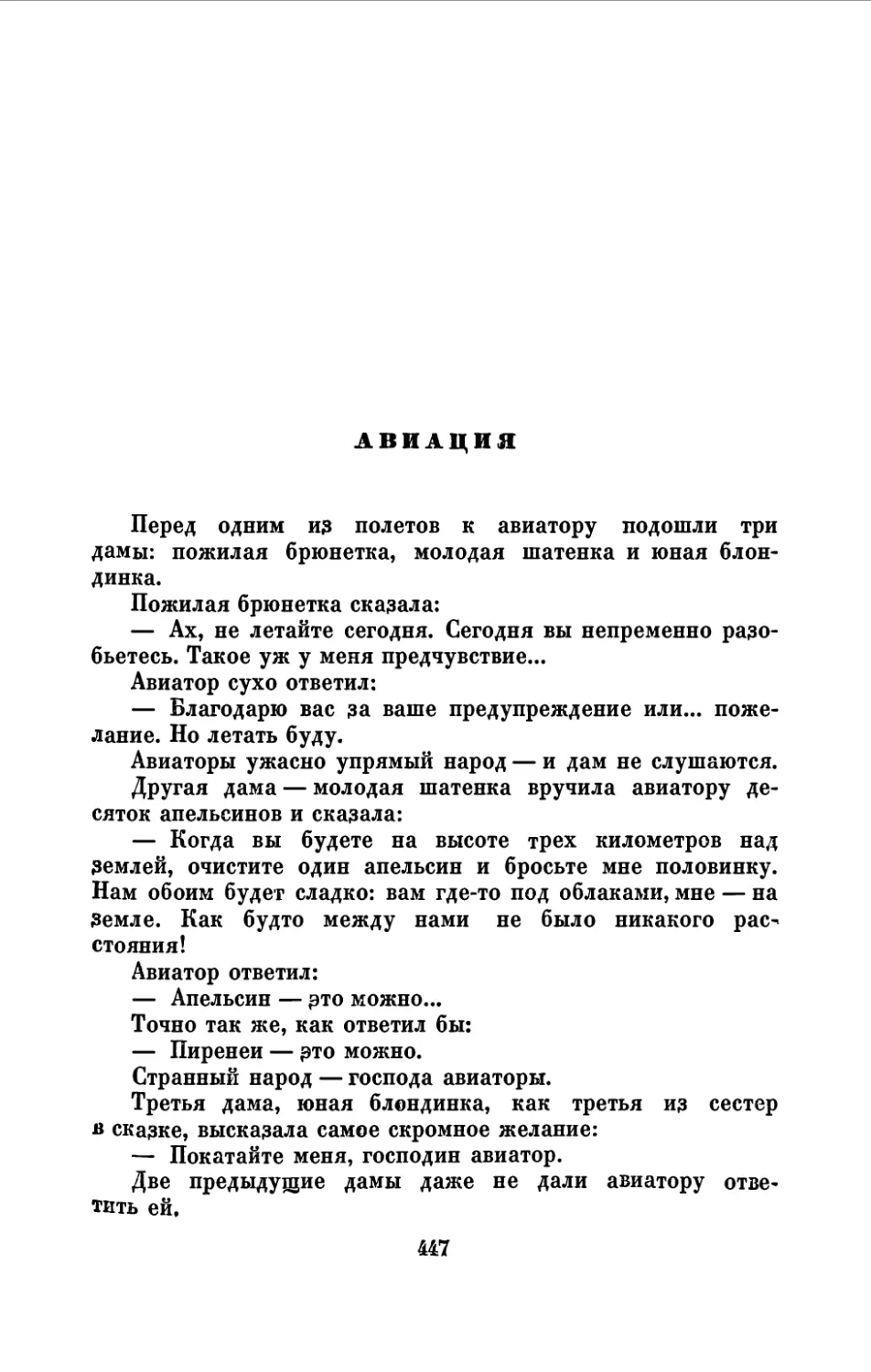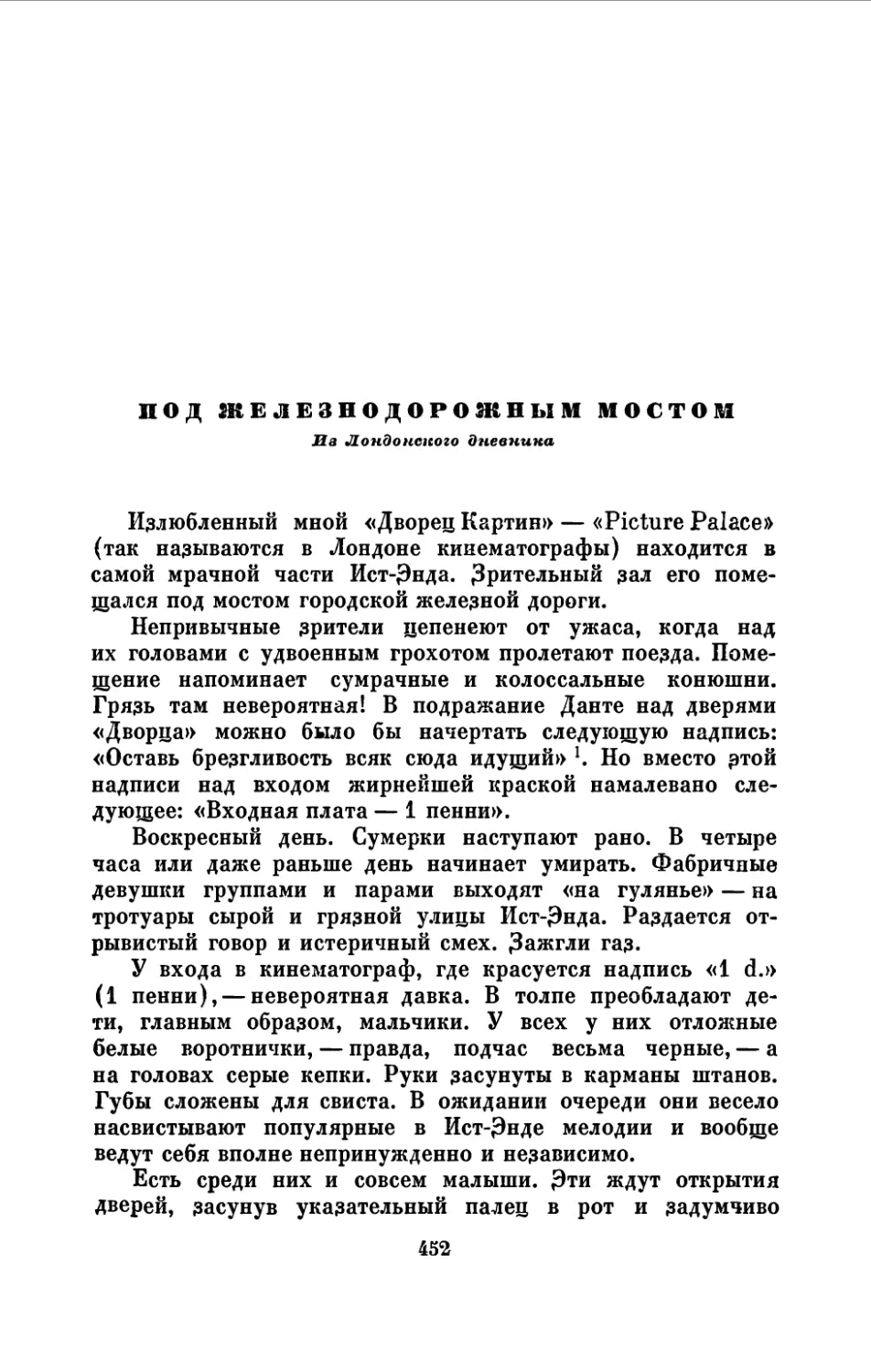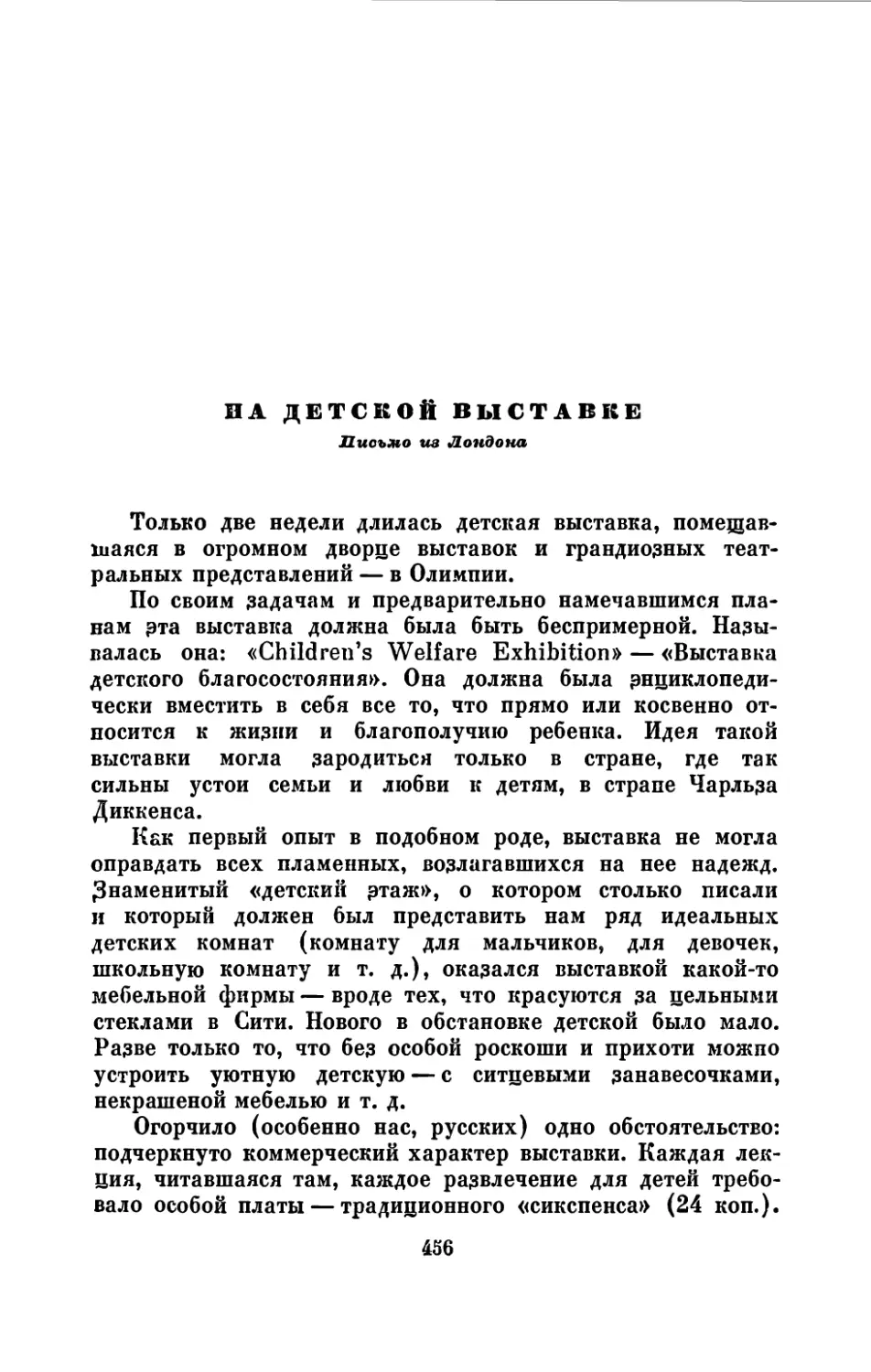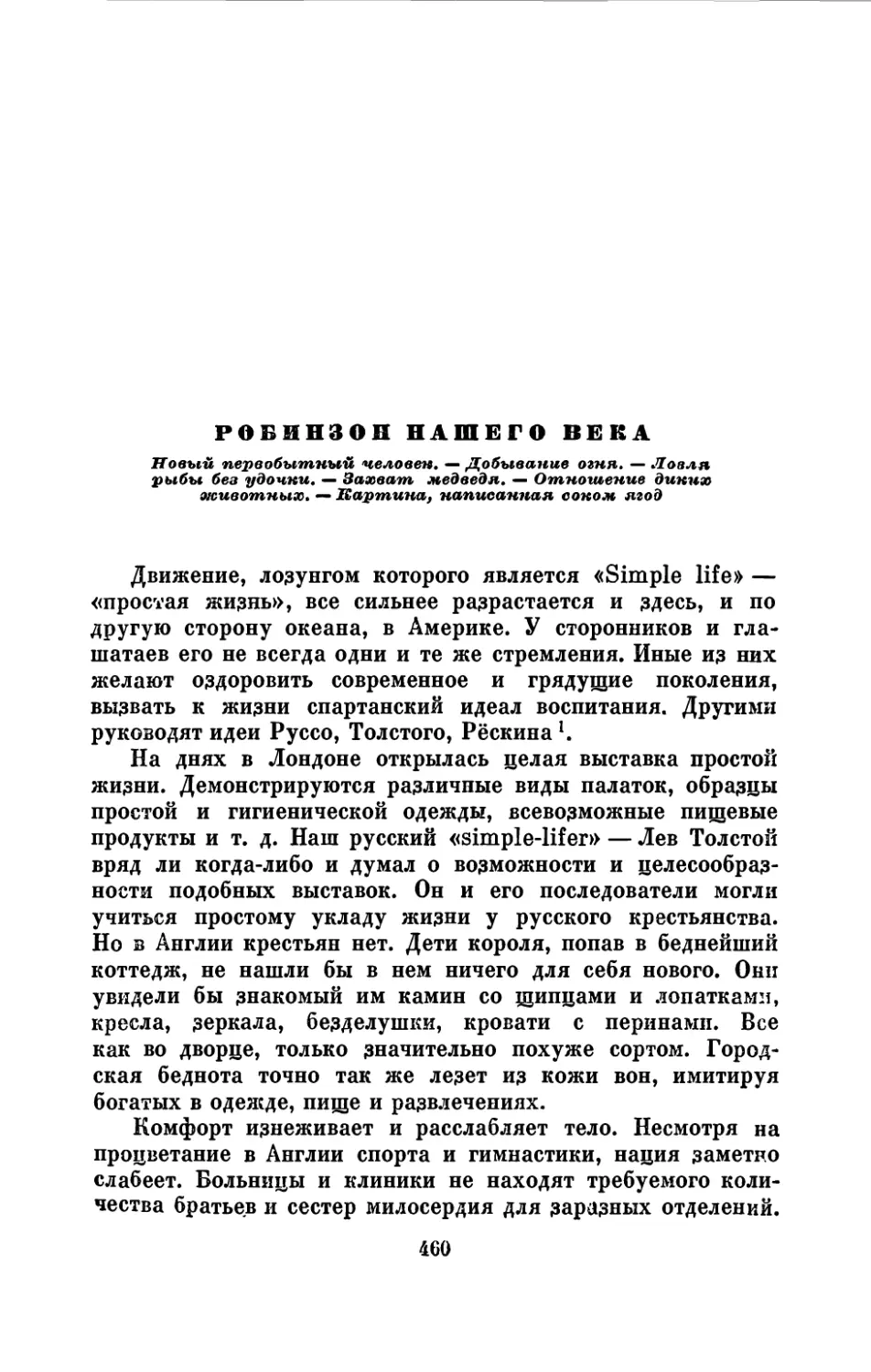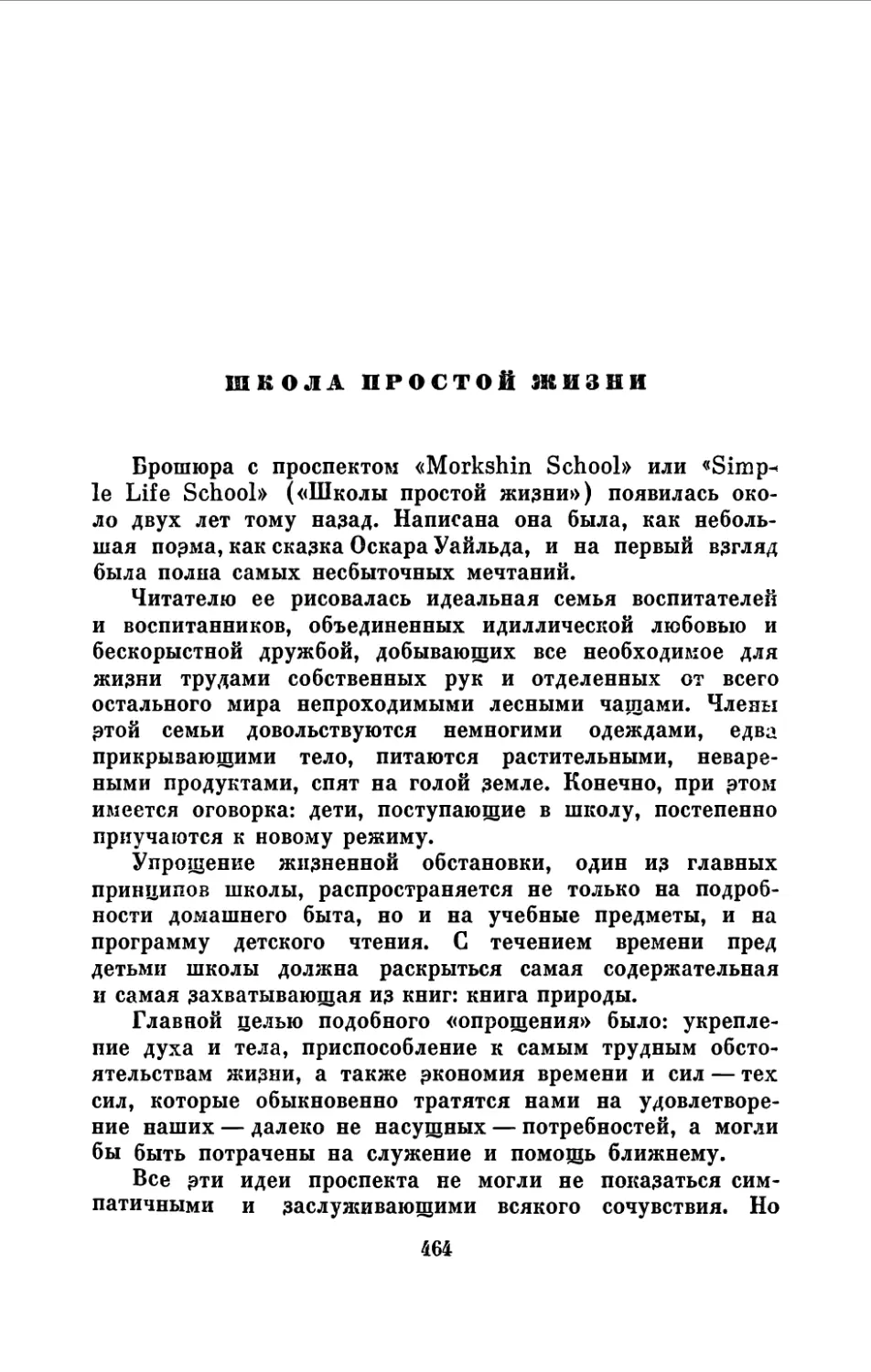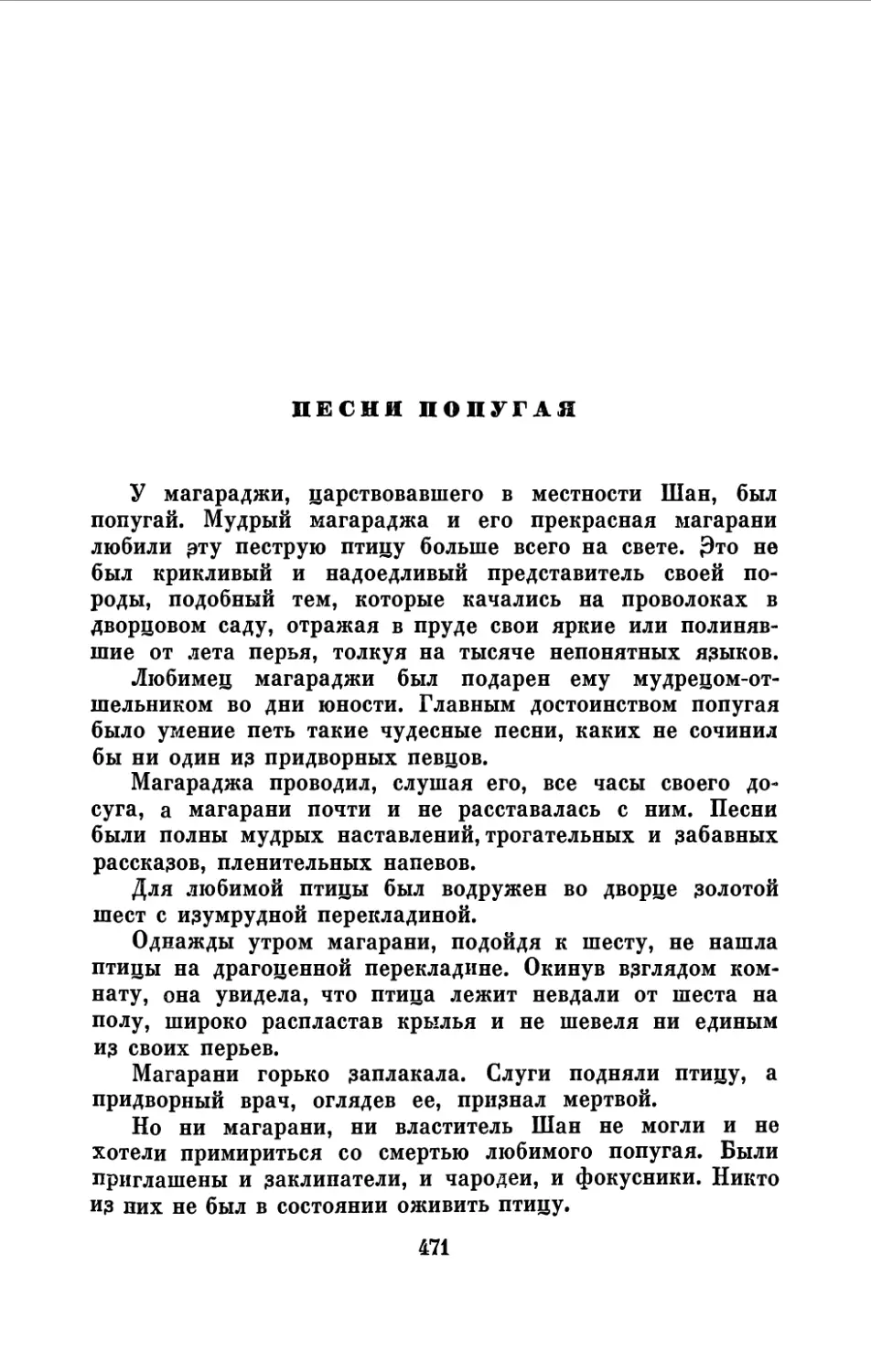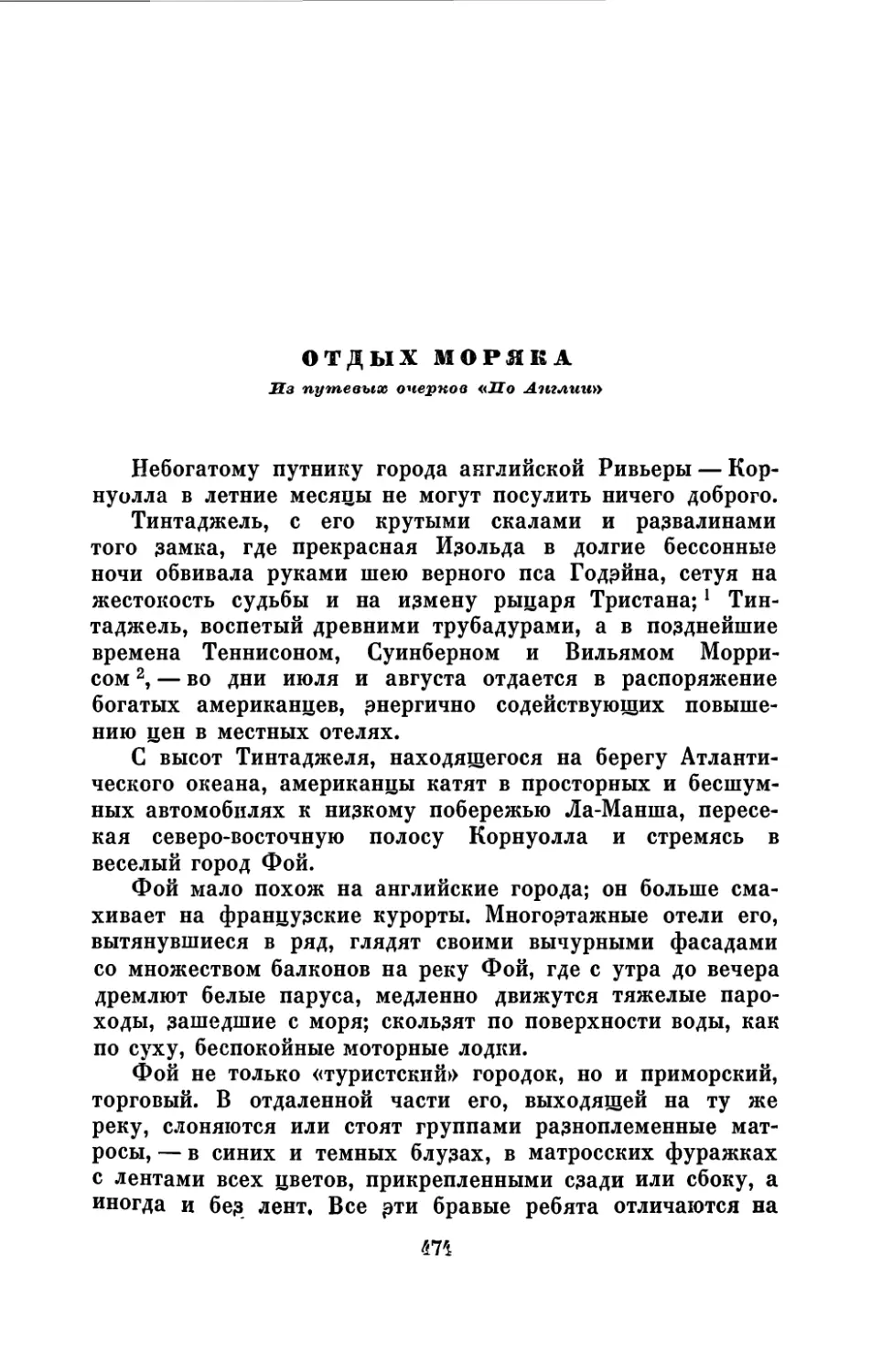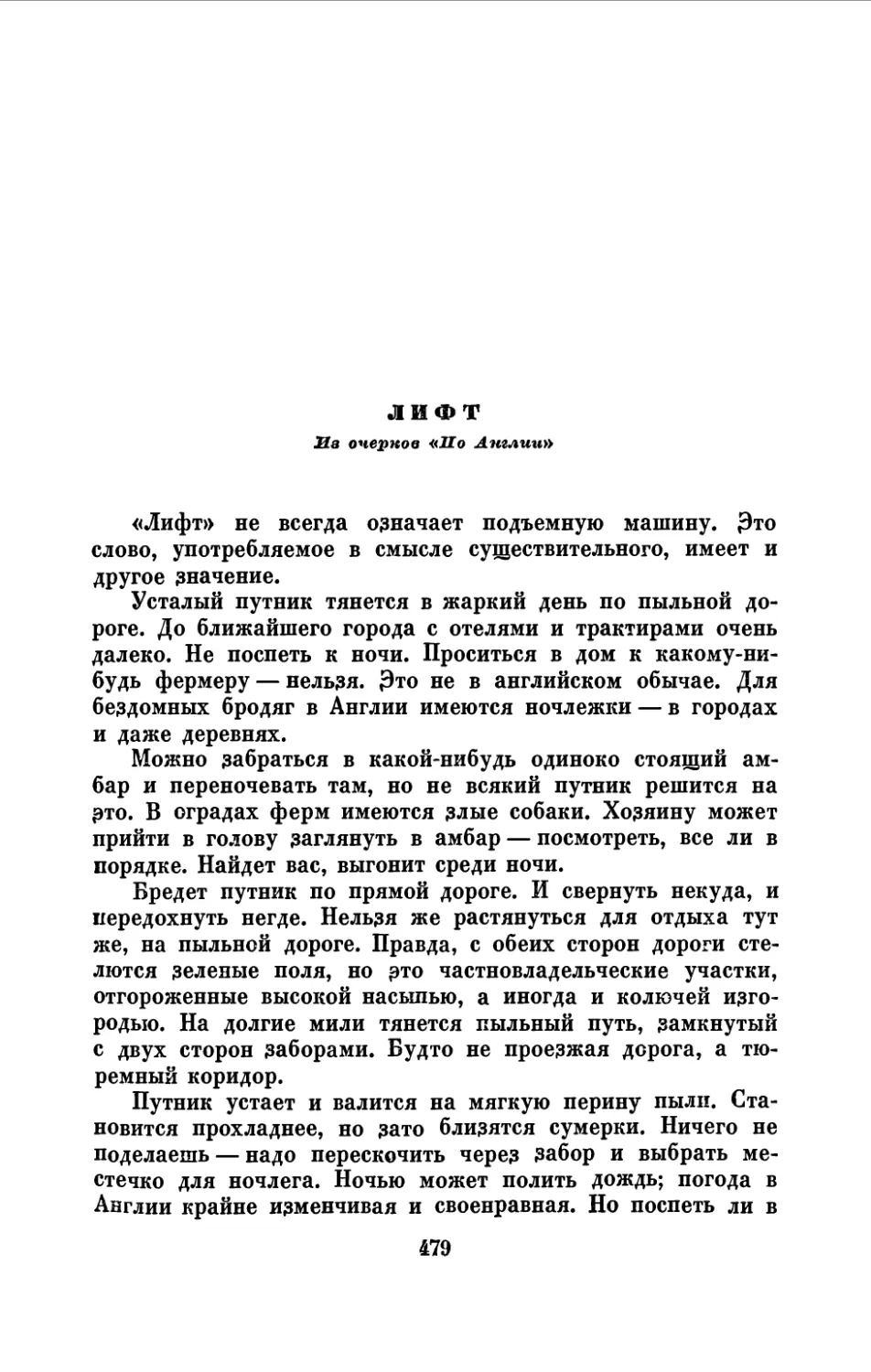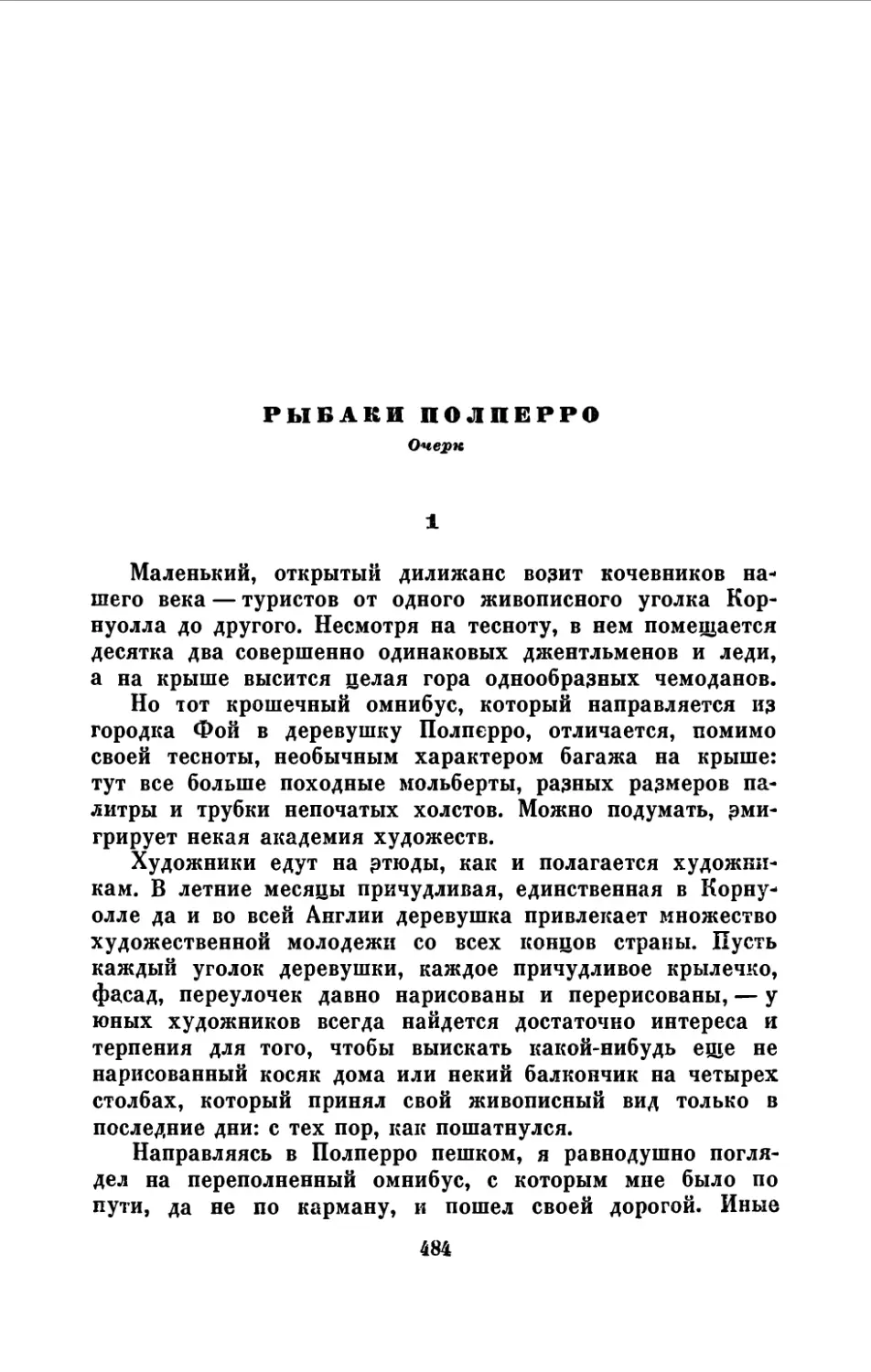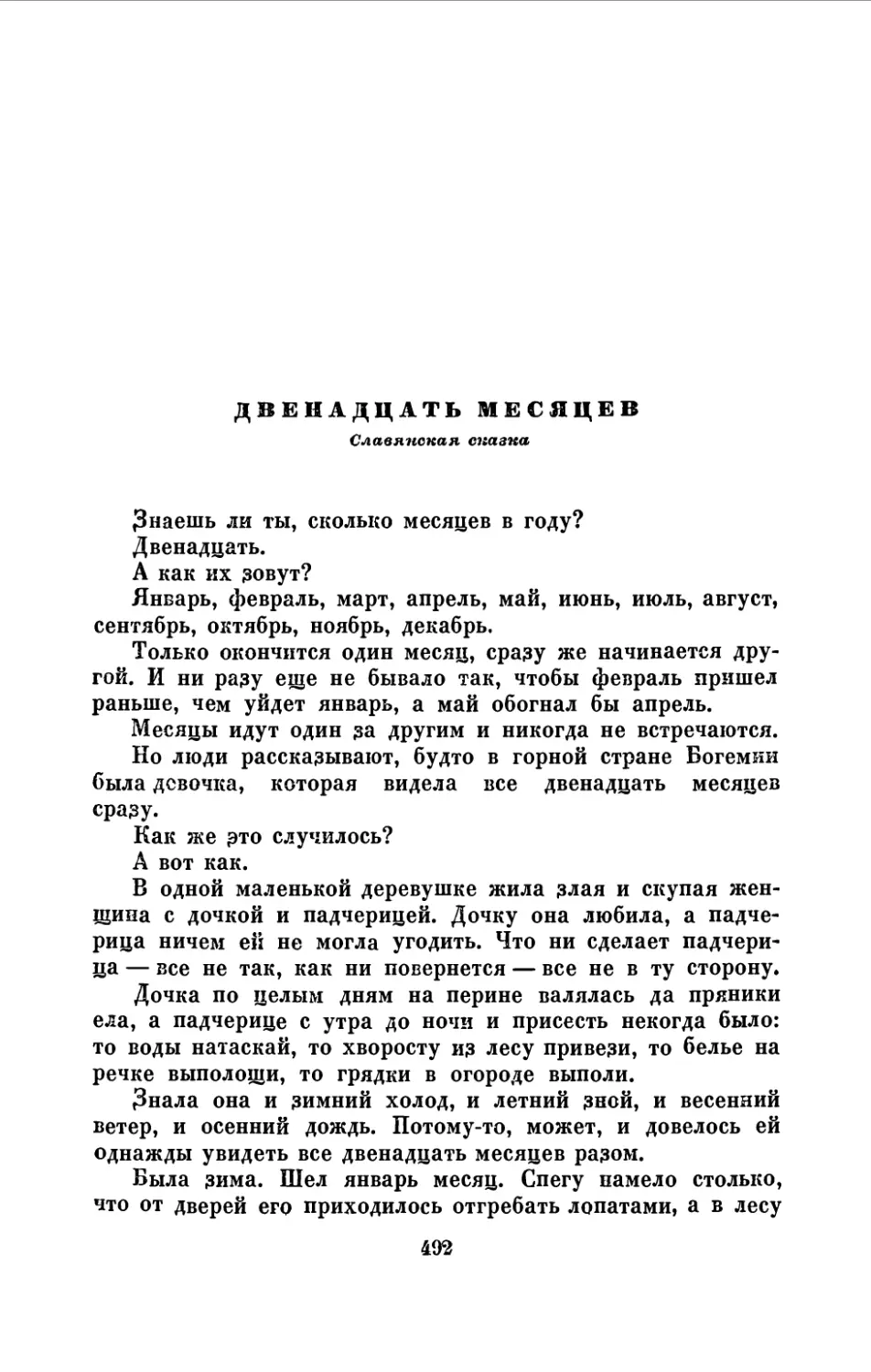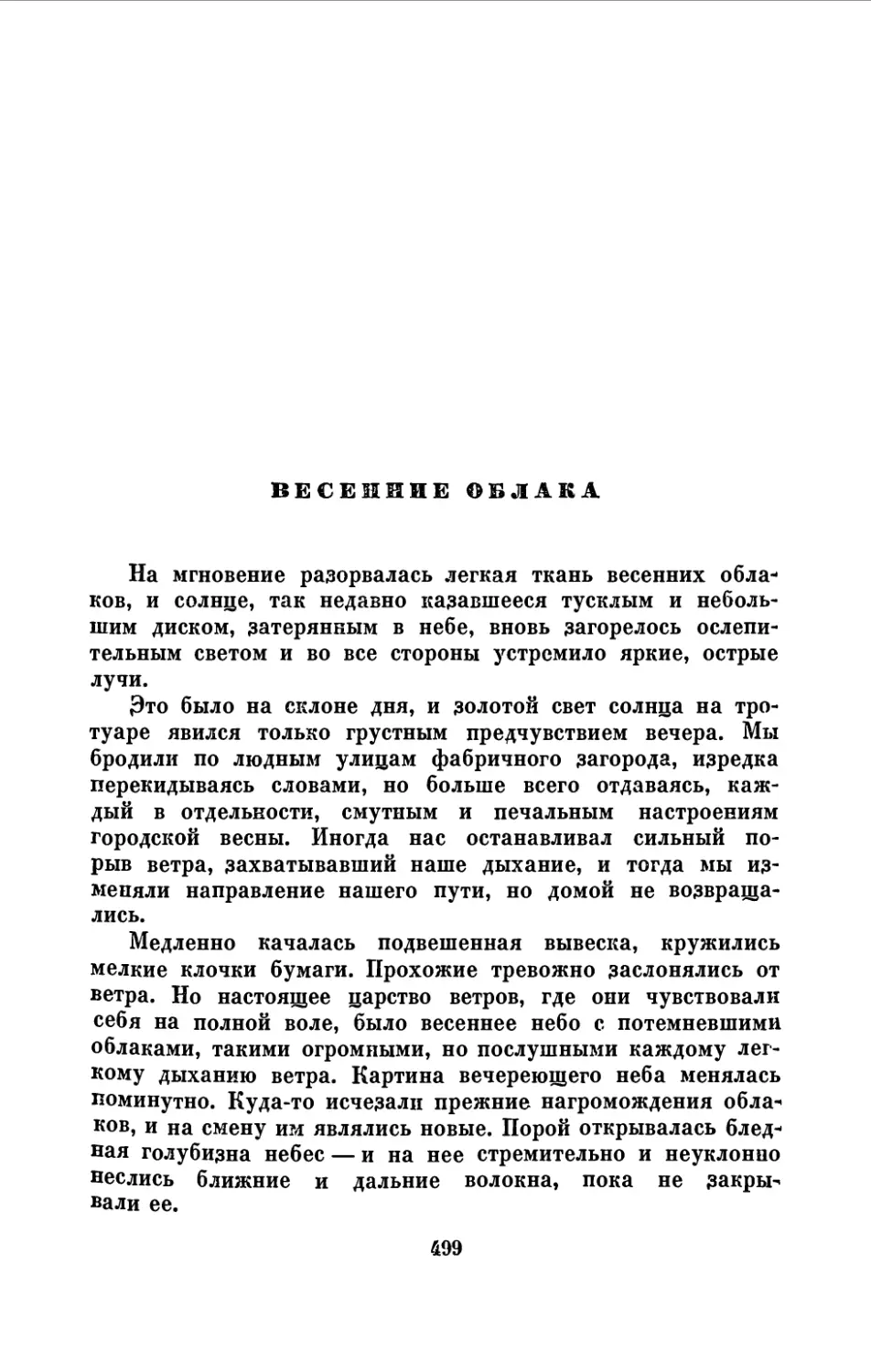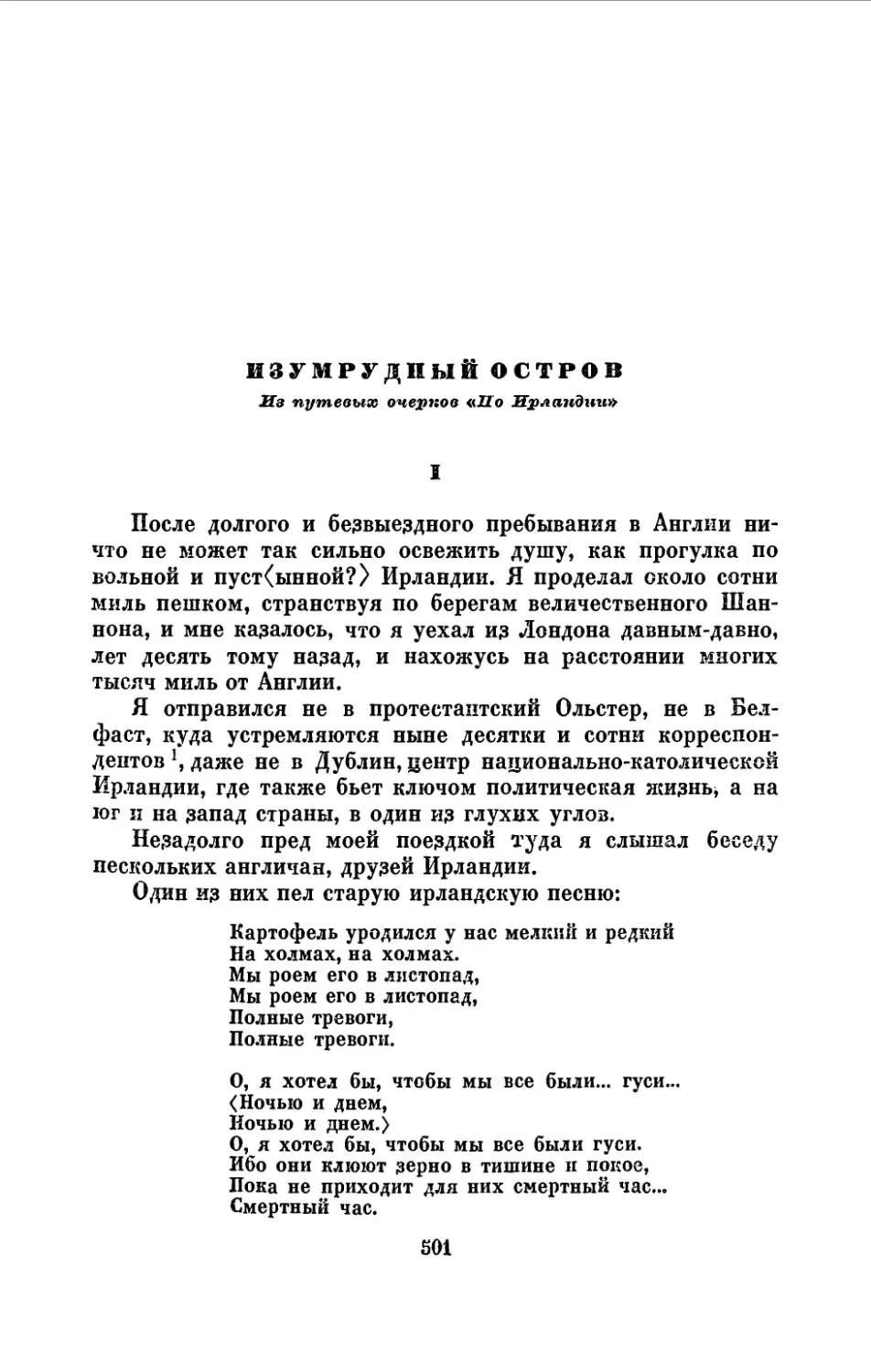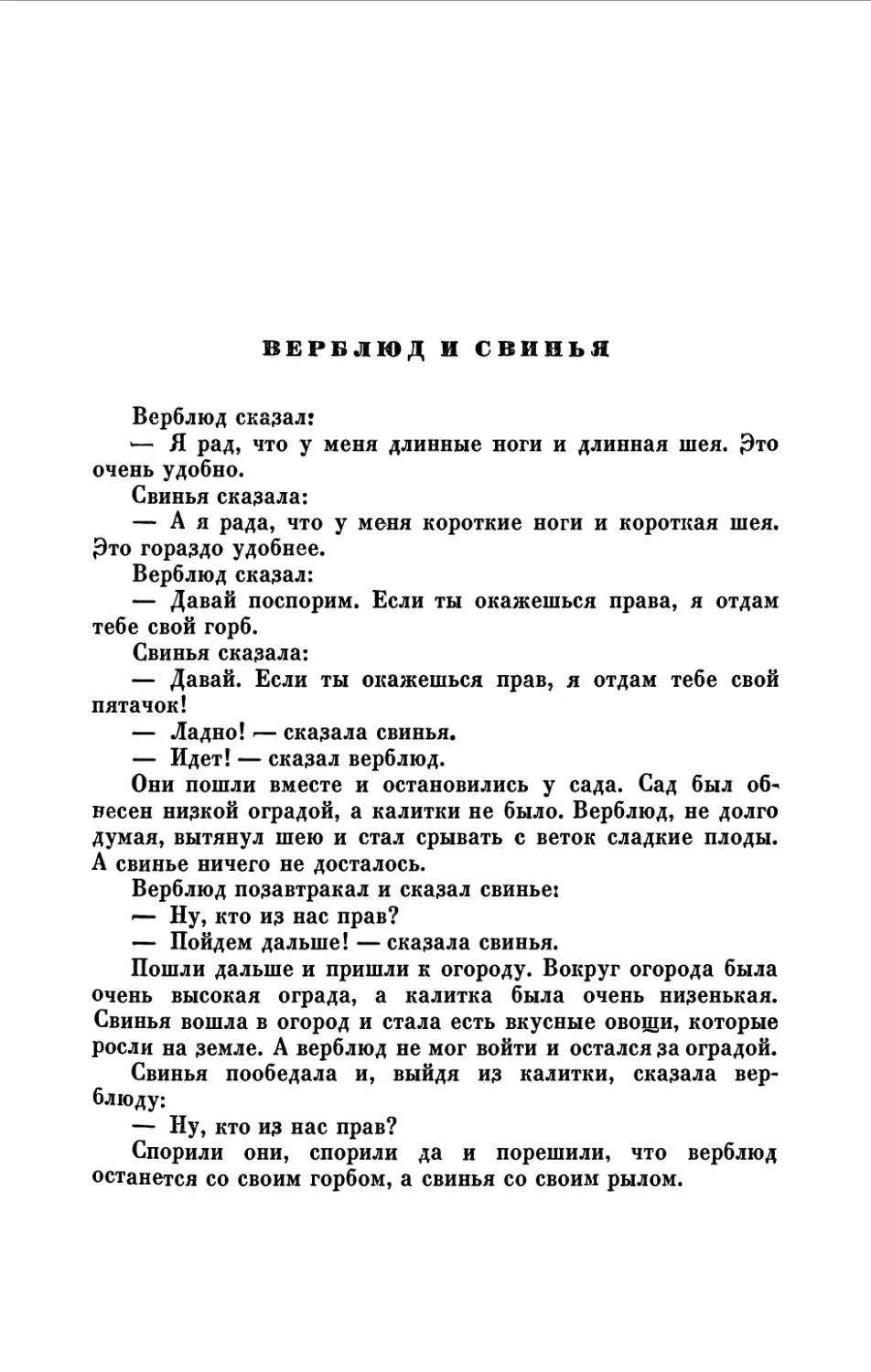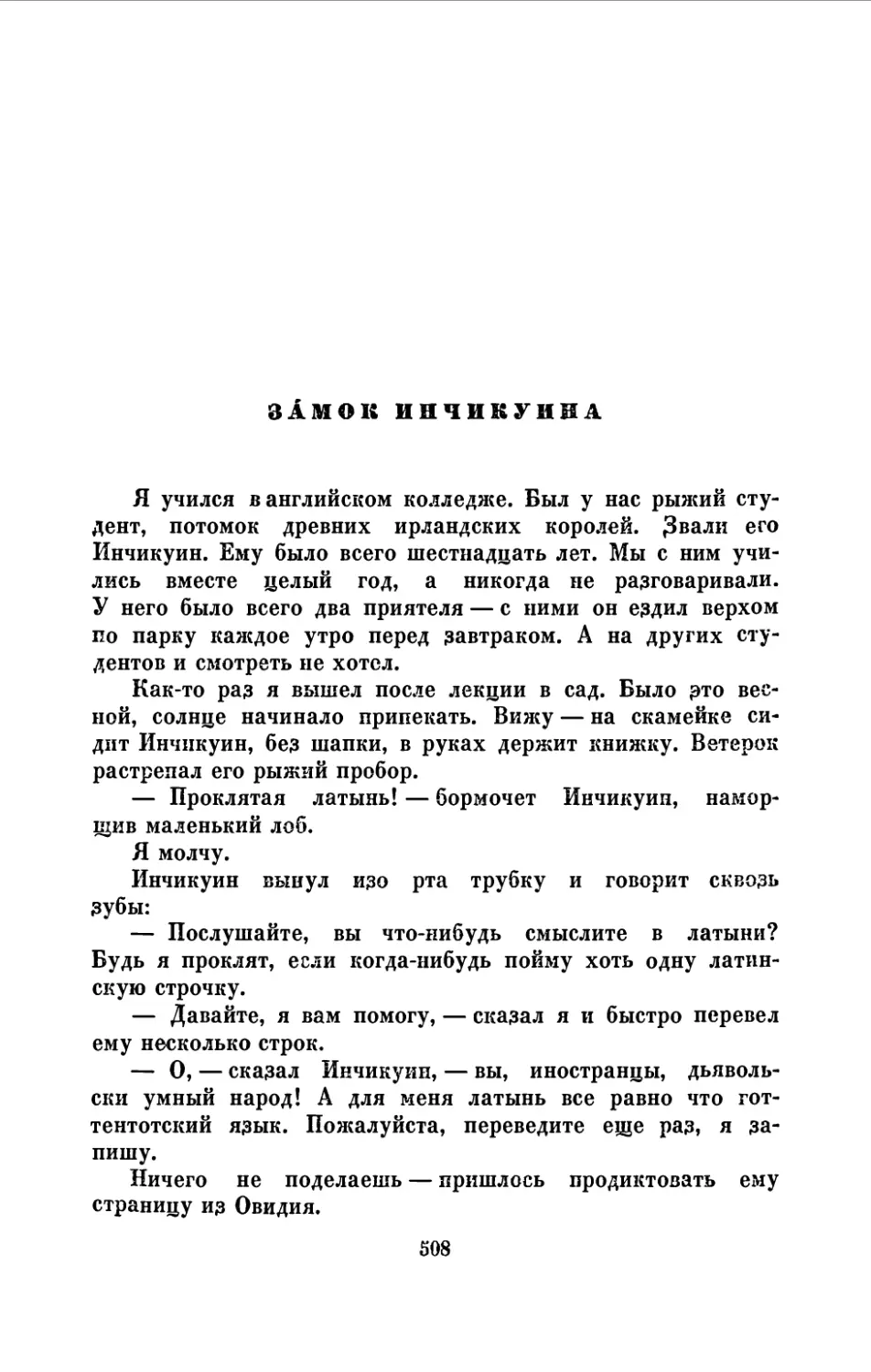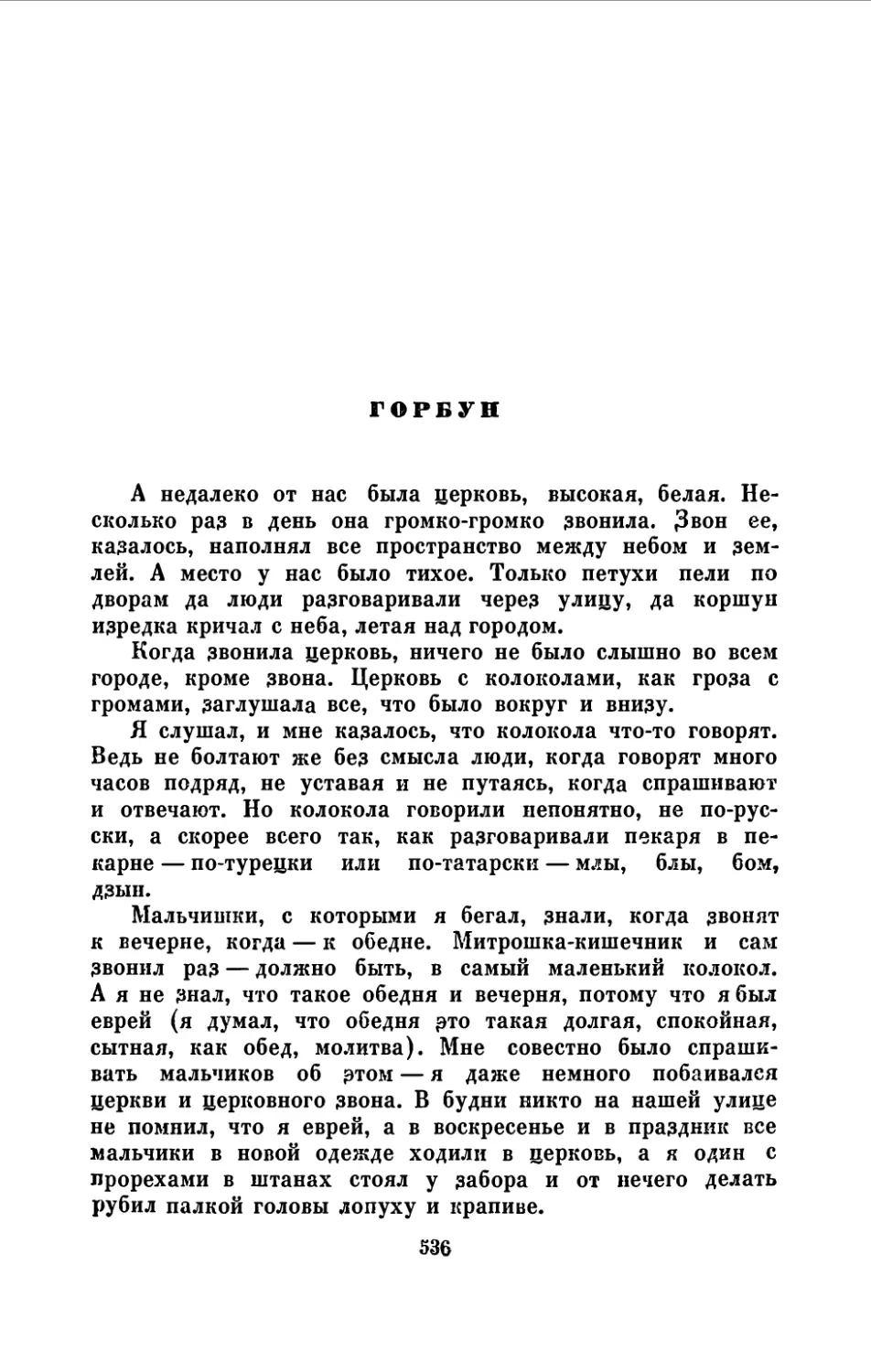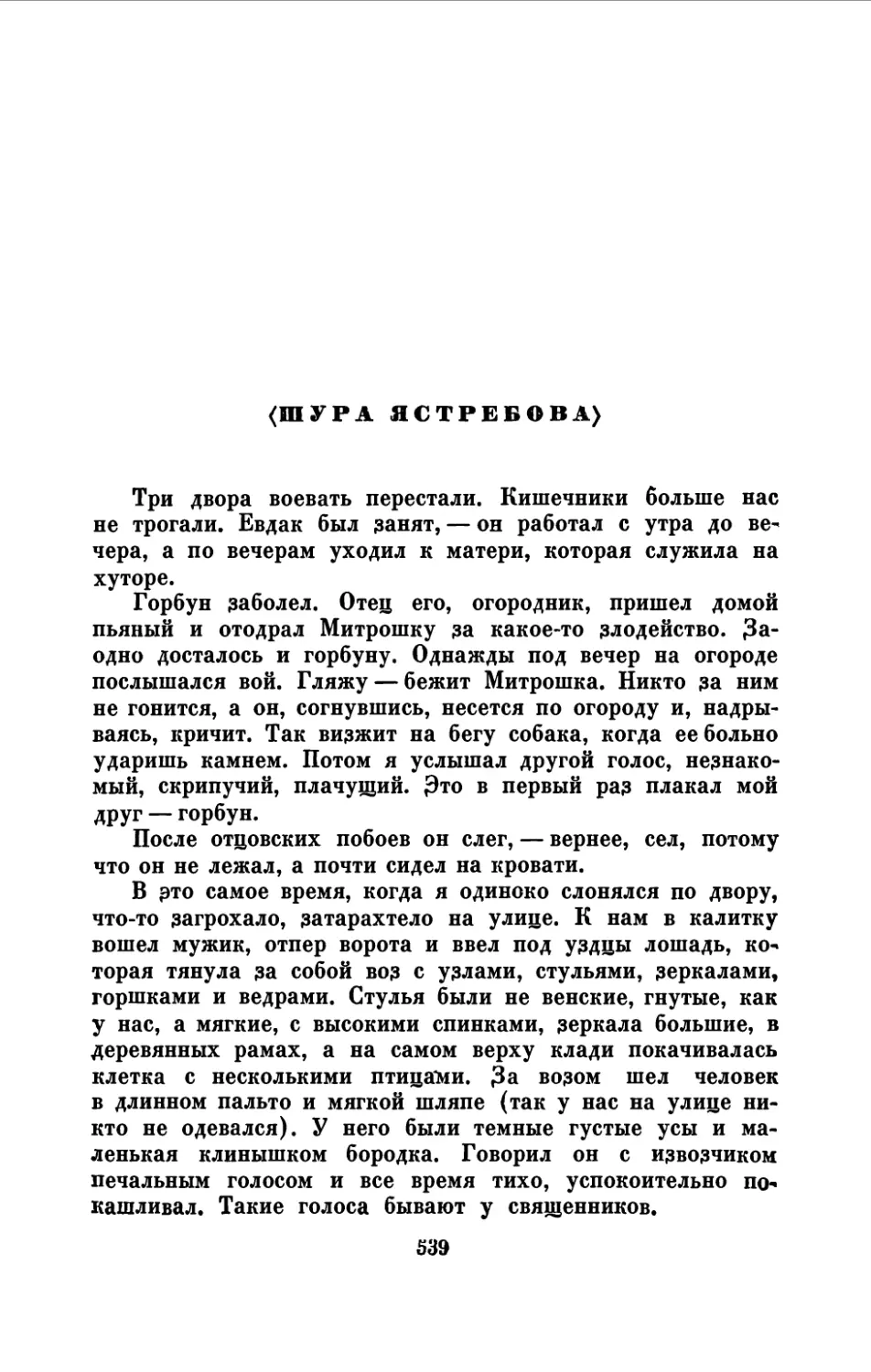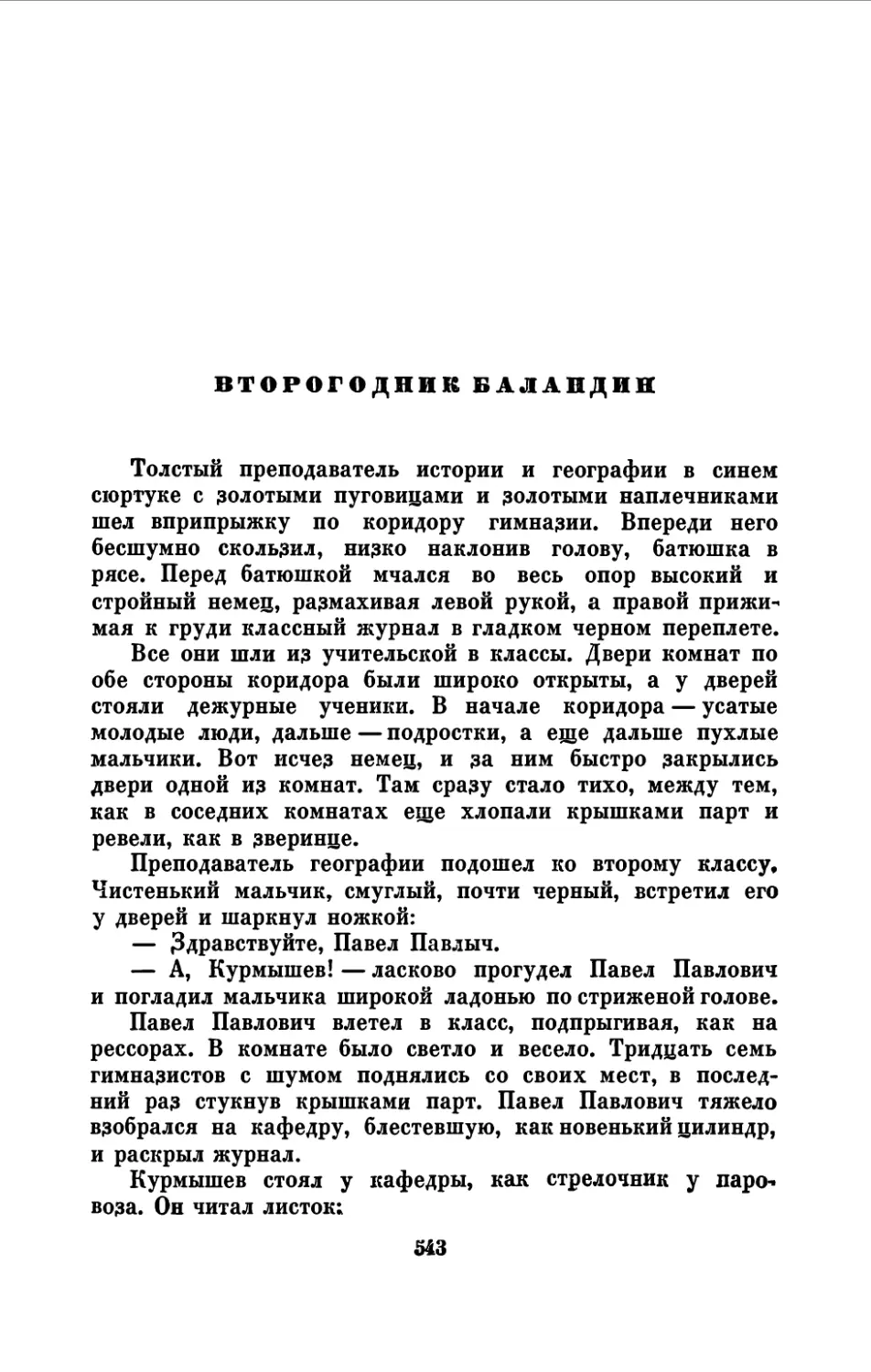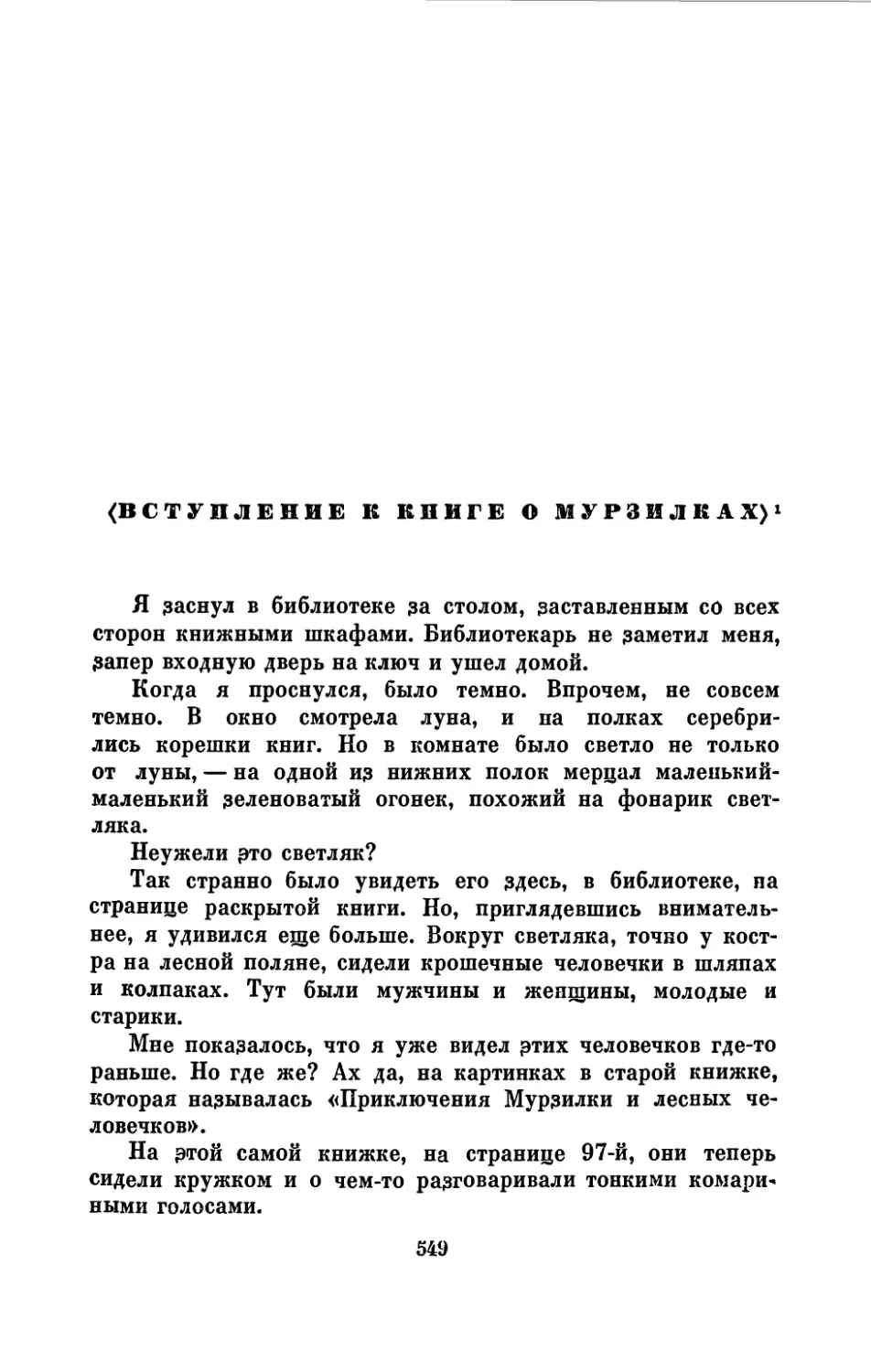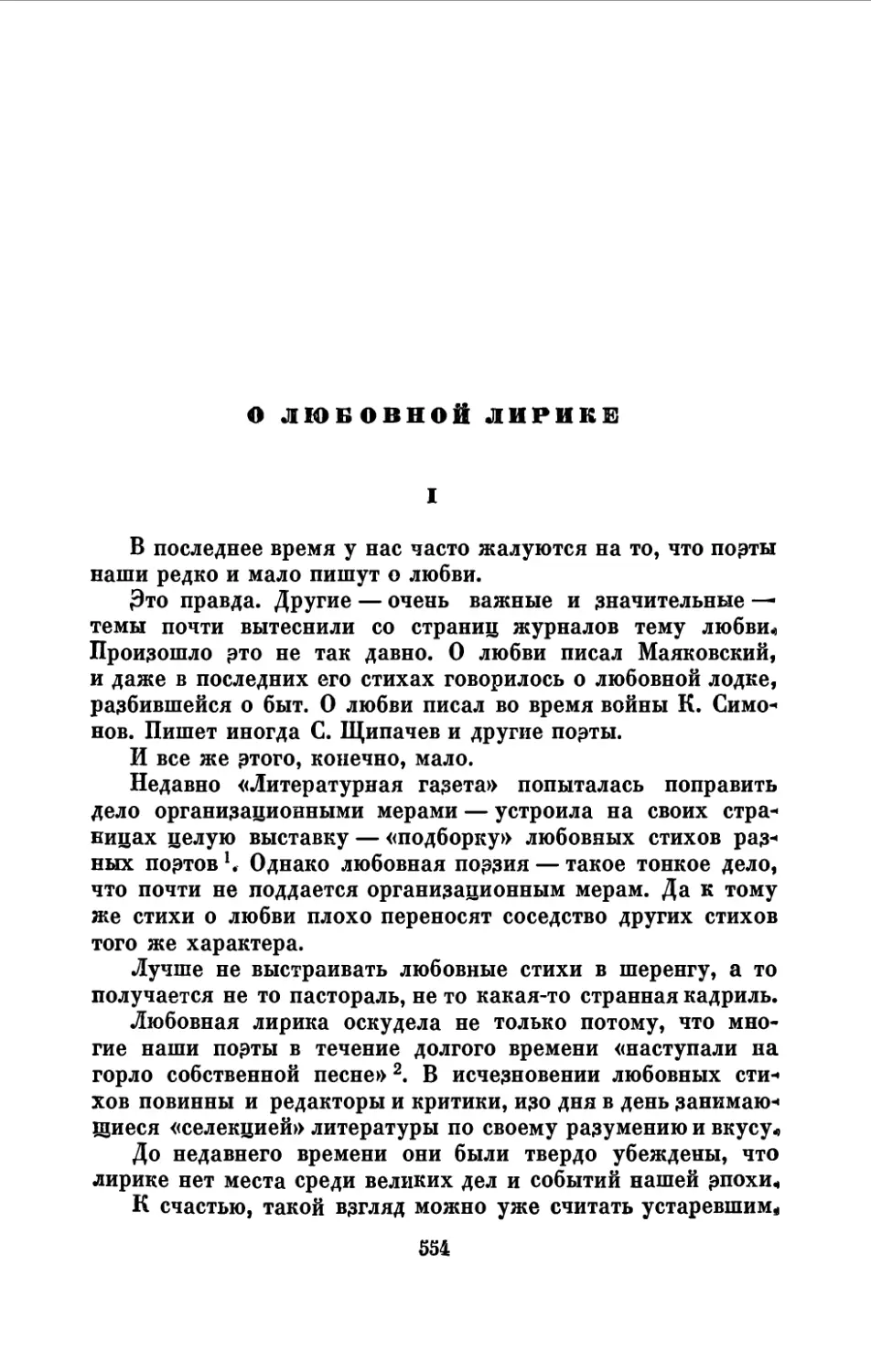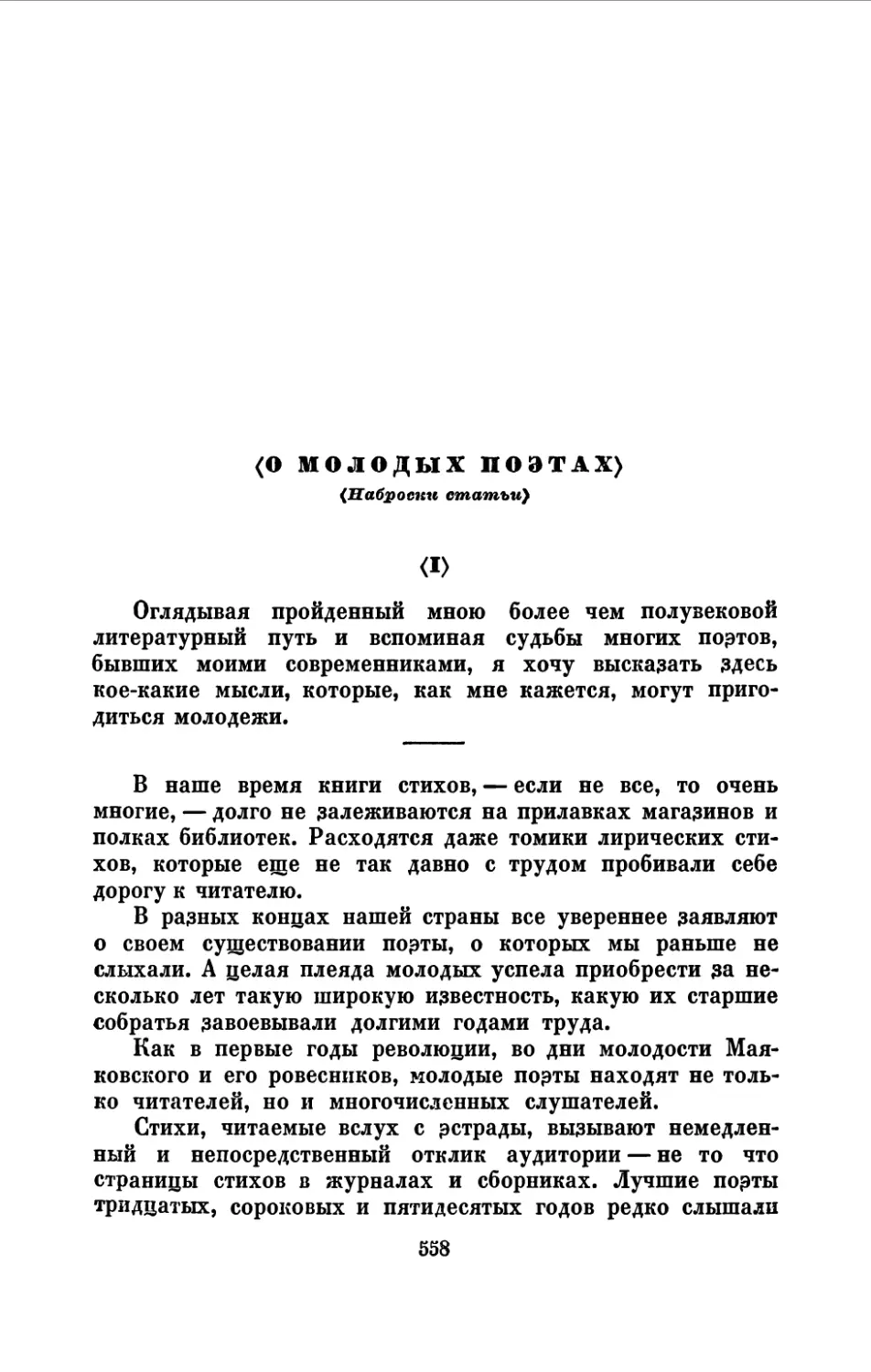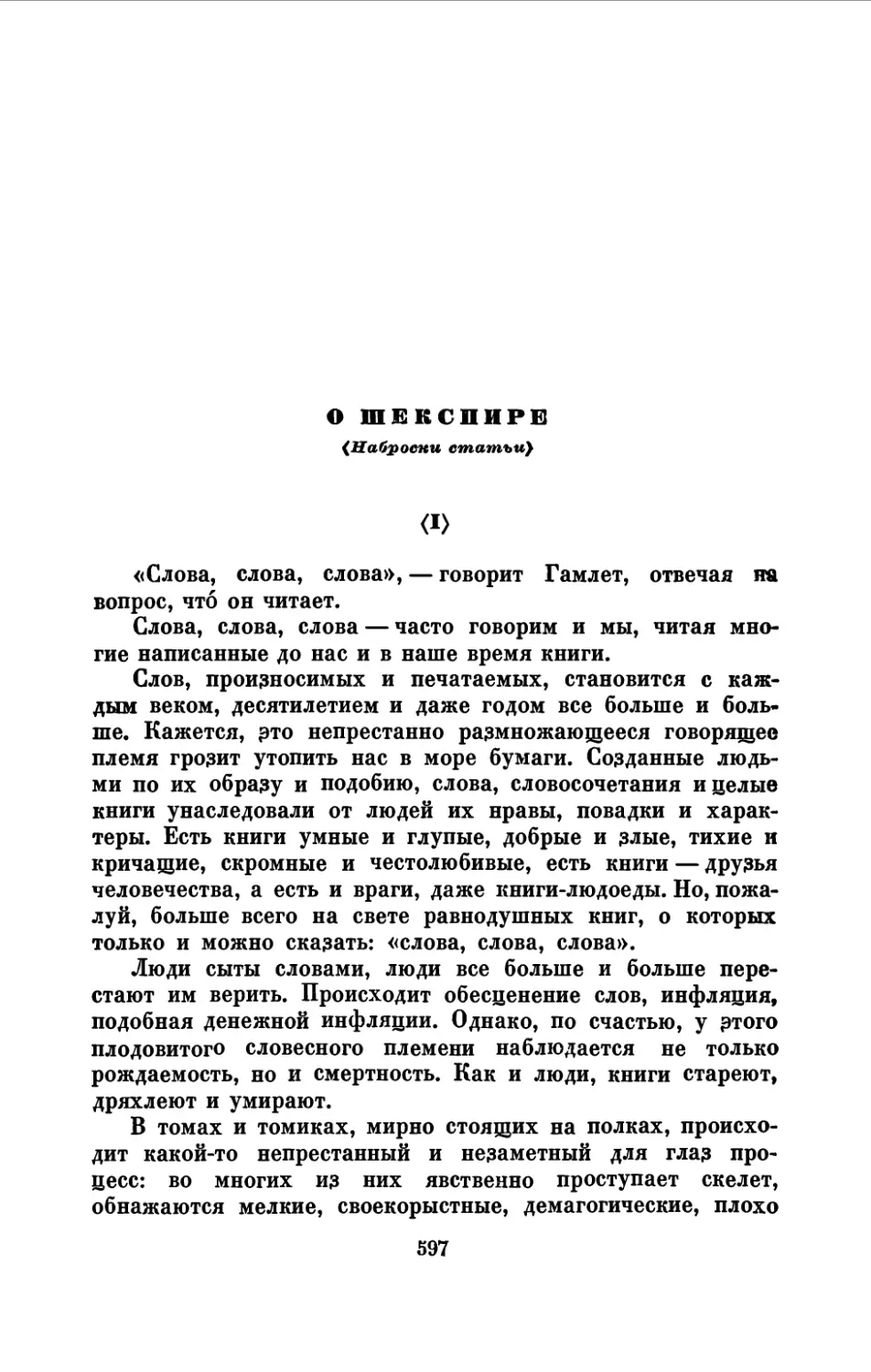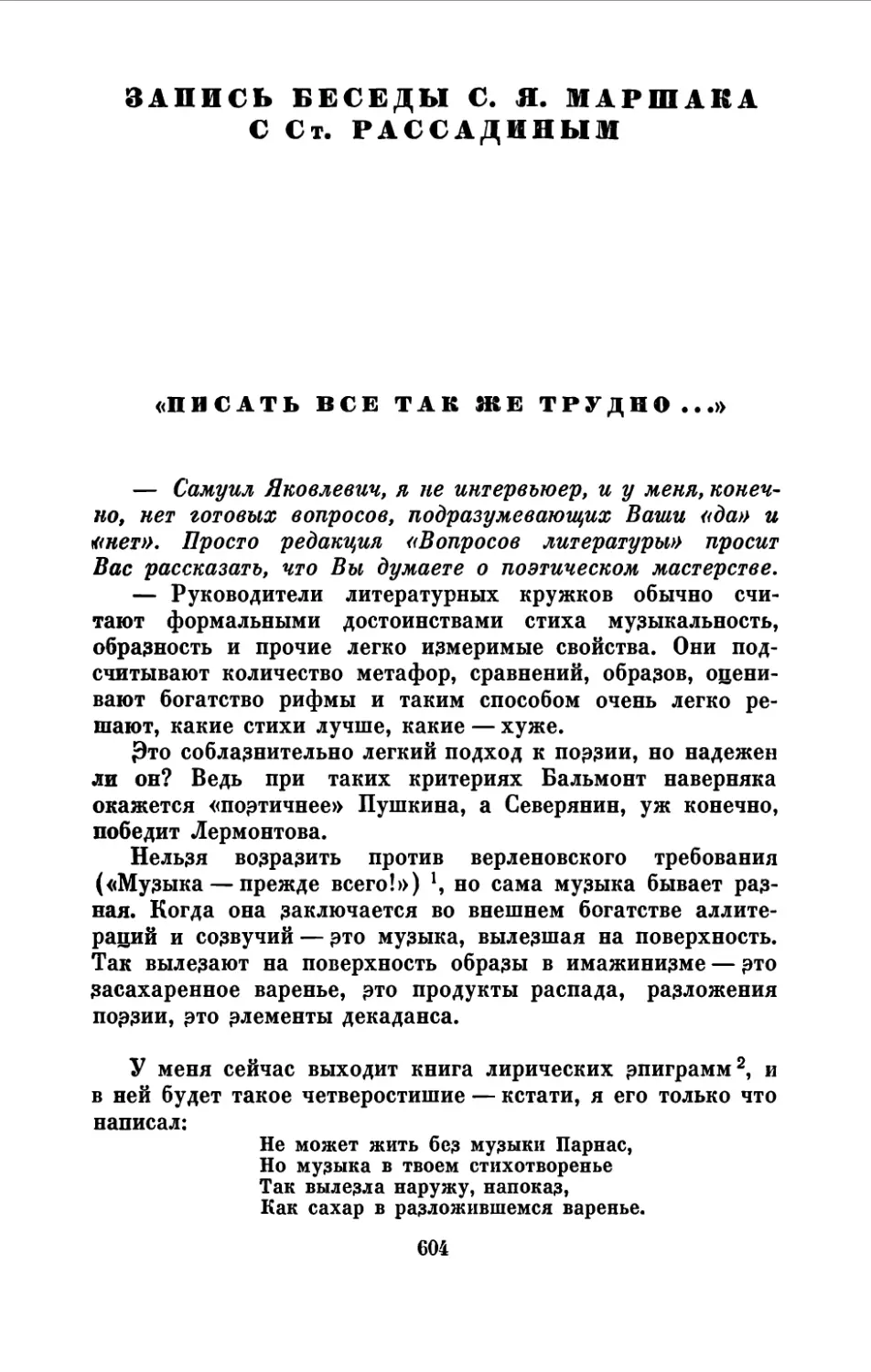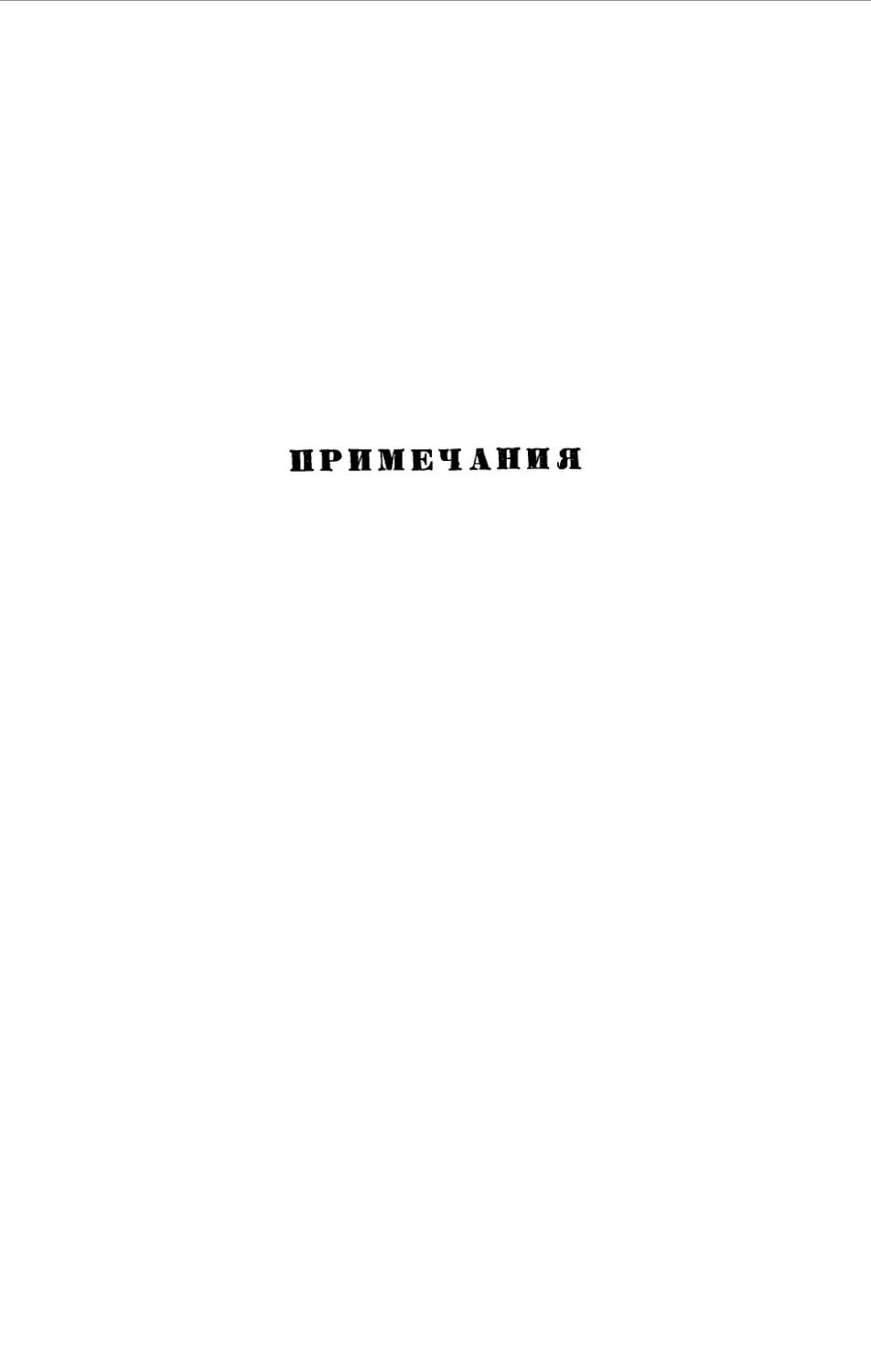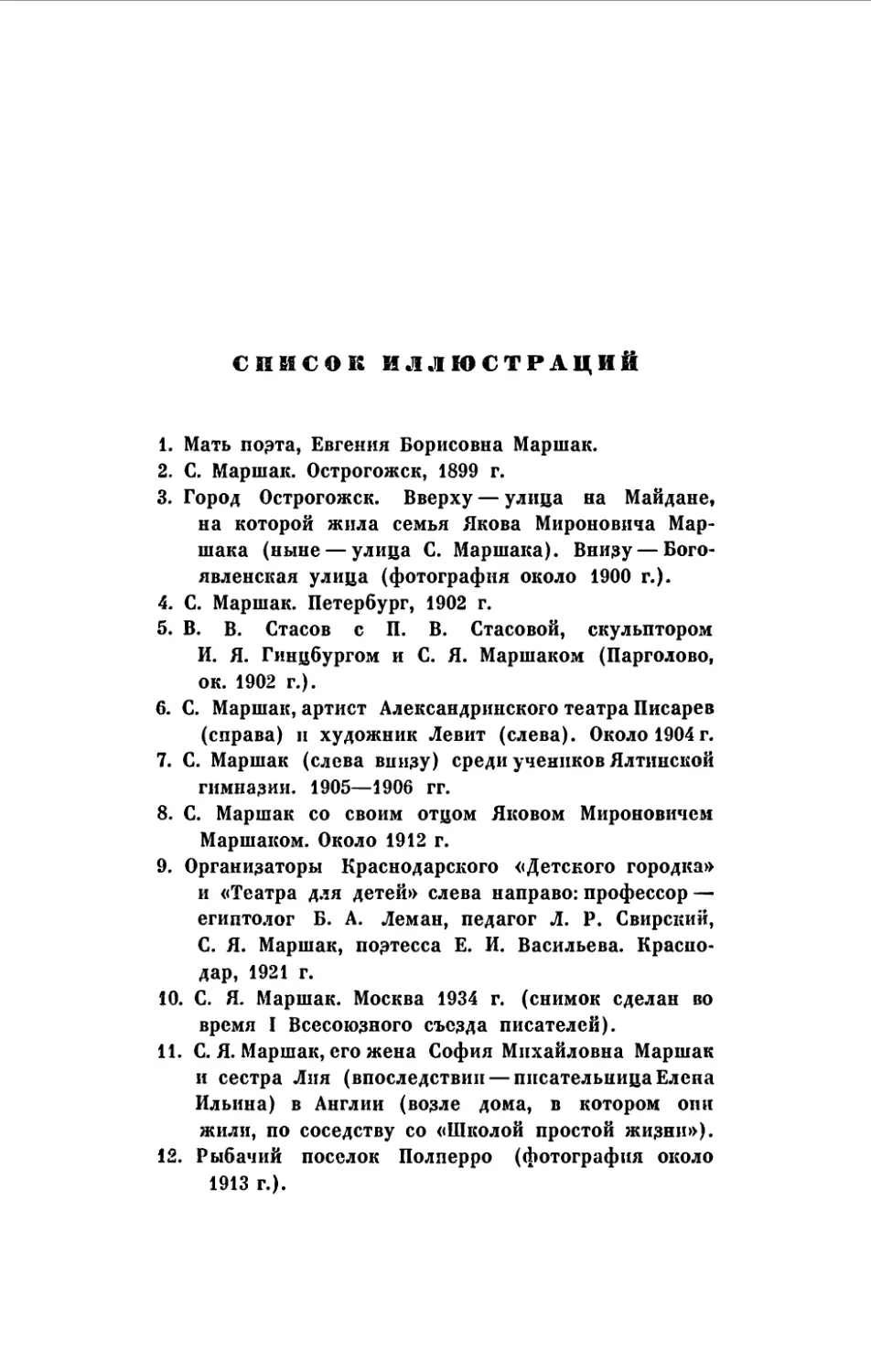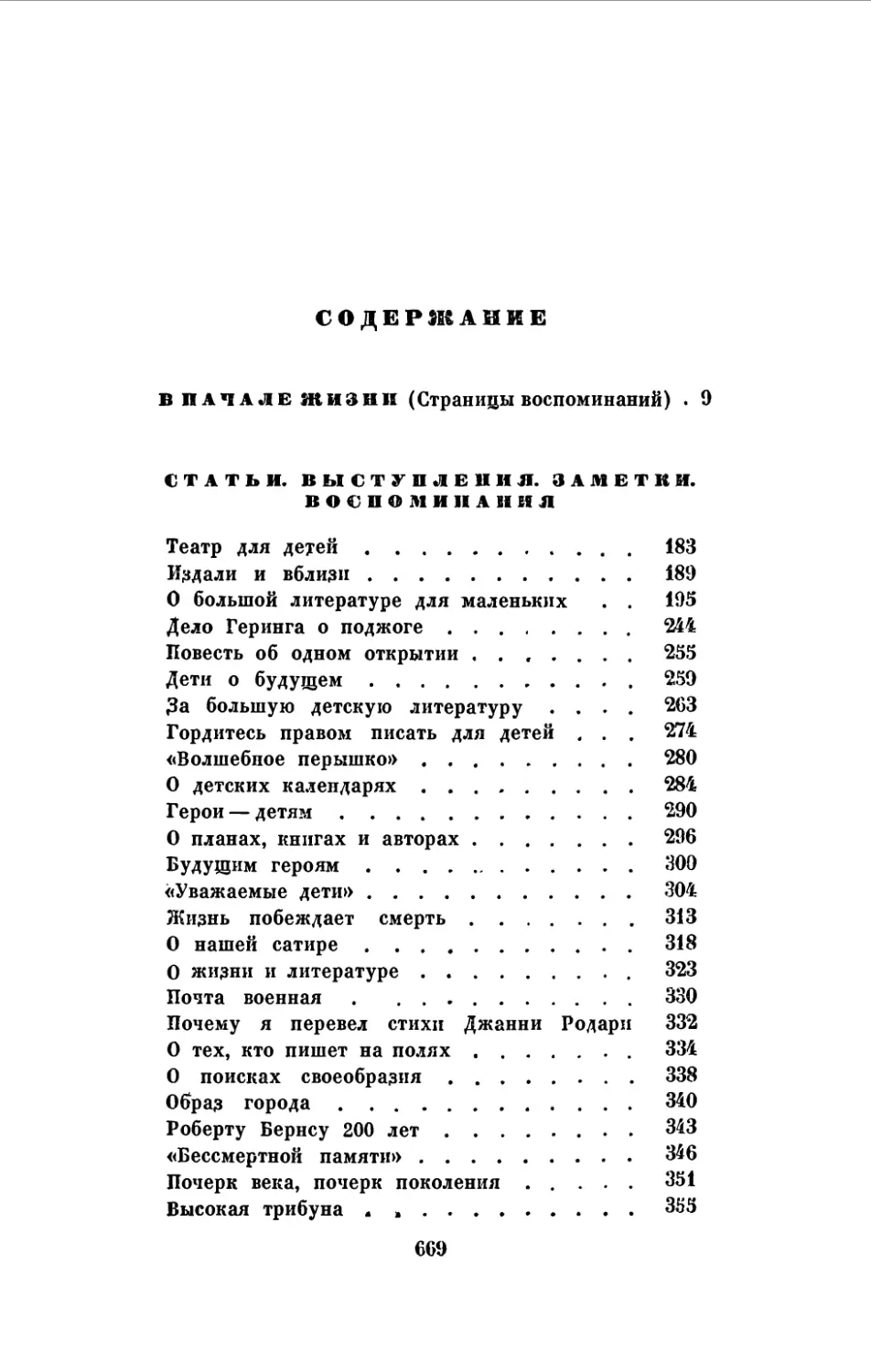Автор: Маршак С.Я.
Теги: детская литература художественная литература собрание сочинений собрание сочинений маршака
Год: 1971
Текст
С. МАРШАК
йхл
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННА Я
•111 Т Е Р А Т У Р А))
С. МАРШАК
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ
В ВОСЬМИ ТОМАХ
Издание осуществляется под редакцией:
| В, М. ЖИРМУНСКОГО"}, И. С. МАРШАКА,
С. в. МИХАЛКОВА. А. И. ПУЗИКОВА,
А. Т. ТВАРДОВСКОГО
Издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1971
<• МАРШАК
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ШЕСТОЙ
В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ
(страницы воспоминаний)
СТАТЬИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ
ЗАМЕТКИ. ВОСПОМИНАНИЯ
ПРОЗА РАЗНЫХ ЛЕТ
Издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1971
Р2
М-30
Подготовка текста и примечания
Е. Б. Скороспелое ой и
С. С. Чулкова
Оформление художника
М. 3. Шлосберга
7—3—2
Лодп. изд
В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ
(СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ)
Памяти
Тамары Григорьевны Габбе
ОТ АВТОРА
В этих записках о годах моего детства и ранней юности
нет вымысла, но есть известная доля обобщения, без кото-
рого нельзя рассказать обо многих днях в немногих словах.
Некоторые эпизодические лица соединены в одно лицо. Из-
менены и кое-какие фамилии.
Столько дней прошло с малолетства,
Что его вспоминаешь с трудом.
И стоит вдалеке мое детство,
Как с закрытыми ставнями дом.
В этом доме все живы-здоровы —
Те, которых давно уже нет.
И висячая лампа в столовой
Льет по-прежнему теплый свет.
В поздний час все домашние в сборе:
Братья, сестры, отец и мать.
И так жаль, что приходится вскоре,
Распрощавшись, ложиться спать.
В начале жизни школу помню я...
А. Пушкин
В Р Е МЕ ИА НЕЗАПАМЯТНЫЕ
Семьдесят лет — немалый срок не только в жизни че-
ловека, но и в истории страны.
А за те семь десятков лет, которые протекли со времени
моего рождения, мир так изменился, будто я прожил на
свете по меньшей мере лет семьсот.
Нелегко оглядеть такую жизнь. Для того, чтобы увидеть
ее начало — время детства, — приходится долго и напря-
женно всматриваться в даль.
Конец восьмидесятых годов. Город Воронеж, пригород-
ная слобода Чижовка, мыловаренный завод братьев Ми-
хайловых. При заводе, на котором работал отец, — дом, где
я родился.
Собственно говоря, никаких «братьев Михайловых» мы
и в глаза не видели, а знали только одного хозяина — флег-
матичного, мягко покашливающего Родиона Антоновича
Михайлова и его сына — воспитанника кадетского корпуса
в коротком мундирчике с белым поясом и красными пого-
нами.
Годы, когда отец служил на заводе под Воронежем, были
самым ясным и спокойным временем в жизни нашей семьи.
Отец, по специальности химик-практик, не получил ни сред-
него, ни высшего образования, но читал Гумбольдта и Гете
в подлиннике и знал чуть ли не наизусть Гоголя и Салты-
кова-Щедрина. В своем деле он считался настоящим масте-
ром и владел какими-то особыми секретами в области мыло-
варения и очистки растительных масел. Его ценили и напе-
ребой приглашали владельцы крупных заводов. До Воронежа
9
он работал в одном из приволжских городов на заводе бога-
чей Тер-Акоповых. Но служить он не любил и мечтал о сво-
ей лаборатории.
Однако мечты эти так и не сбылись.
У него не было ни денег, ни дипломов, и рассчитывать
на большее, чем на должность заводского мастера, он не
мог, несмотря на то, что отличался неисчерпаемой энергией
и несокрушимой волей.
Немногие оказались бы в силах так решительно и круто
повернуть свою жизнь, как это сделал отец в ранней мо-
лодости.
Детство и юность провел он над страницами древнееврей-
ских духовных книг. Учителя предсказывали ему блестящую
будущность. И вдруг он, к великому их разочарованию,
прервал эти занятия и на девятнадцатом году жизни пошел
работать на маленький заводишко — где-то в 3°лотоноше
или в Пирятине — сначала в качестве ученика, а потом и
мастера. Решиться на такой шаг было нелегко: книжная
премудрость считалась в его среде почетным делом, а в ре-
месленниках видели как бы людей низшей касты.
Да и не так-то просто было перейти от старинных по-
желтевших фолиантов к заводскому котлу.
Много тяжких испытаний и горьких неудач выпало на
долю отца прежде, чем он овладел мастерством и добился
доступа на более солидный завод.
И, однако, даже в эти трудные годы он находил время
для того, чтобы запоем читать Добролюбова и Писарева,
усваивать по самоучителю немецкий язык и ощупью разби-
раться в текстах и чертежах иностранной технической ли-
тературы.
Человек он был мягкий, по-детски простодушный, но са-
молюбивый до крайности, и его гордый, непоклонный нрав
мешал ему уживаться с хозяевами в поддевках и сапогах
бутылками — людьми невежественными, но требовавшими
от своих подчиненных почтительного повиновения. Не ла-
дил отец и с властями предержащими.
Был у него в молодости случай, который надолго сохра-
нился в наших семейных преданиях.
Отец только что поступил на большой завод в одном из
губернских городов Поволжья. Встретили его с распростер-
тыми объятиями и сразу же отвели ему квартиру во втором
Этаже флигеля, расположенного на заводской территории.
Кажется, это была первая в его жизни отдельная квартира.
10
С удовольствием, не торопясь, принялся он разбирать и
раскладывать вещи, как вдруг раздался громкий стук в
дверь, — это пожаловал не кто иной, как сам полицейский
пристав, особа по тем временам довольно значительная.
Приехал он якобы для того, чтобы проверить, в порядке ли
у отца документы и есть ли у него «право жительства» вне
«черты оседлости», где евреям разрешалось тогда селиться.
В сущности, пристав мог бы вызвать отца к себе в поли-
цейский участок повесткой, но предпочел явиться лично,
чтобы с глазу на глаз, из рук в руки получить установлен-
ную обычаем дань.
Не дождавшись полусотенной, на которую он рассчиты-
вал, величавый пристав потерял терпение и позволил себе
какую-то грубость. Отец вспылил, а так как силы он был
в то время незаурядной, незваный гость и оглянуться не
успел, как очутился на лестничной площадке и от одного
толчка полетел вниз по крутым деревянным ступенькам...
Слушать эту историю нам никогда не надоедало. Мы
представляли себе — вместо того, незнакомого, — нашего
воронежского пристава, большого, статного с полукружиями
белокурых пушистых усов, шагающего, словно на пружи-
нах, в своей голубоватой офицерской шинели и лакирован'
ных сапогах.
И вот такой-то пристав кубарем катился по всем сту-
пенькам, гремя шашкой и медными задниками калош. Об
одном только мы жалели: отчего отец жил в ту пору во
втором этаже, а не в третьем или даже в четвертом...
Впрочем, и этот полет пристава со второго этажа мог бы
дорого обойтись отцу. Не знаю, какие громы небесные обру-
шились бы на его буйную голову, если бы хозяин завода
не съездил к губернатору, с которым частенько играл
в карты, и не убедил его замять это щекотливое дело.
Должно быть, отец был в ту пору необходим на заводе —
иначе хозяин вряд ли вмешался бы в эту историю, а скорей
всего предоставил бы строптивого мастера его судьбе.
Однако через некоторое время он предпочел расстаться
с отцом, поручив заблаговременно своим служащим выве-
дать у него кое-какие из его профессиональных секретов.
На заводе «братьев Михайловых» отец не чувствовал над
собой — особенно в первые годы — хозяйской руки. Был он
в это время молод, здоров, полон надежд и сил. Да и мать
11
наша, не отличавшаяся крепким здоровьем, была еще тогда
довольно весела и беззаботна, несмотря на то, что ее никогда
не покидала тревога о детях. Неподалеку от завода прости-
ралось поле, за ним роща, и у матери пока еще хватало досу-
га, чтобы иной раз под вечер выходить с отцом на прогулку.
Мне дорого смутное воспоминание о молодости моих ро-
дителей. Эта счастливая пора их жизни длилась недолго.
Правда, огца я и в более поздние годы помню сильным, ши-
рокоплечим, жизнерадостным, но глубокая морщинка заботы
рано пролегла между его бровей, а рыжеватые усы и малень-
кая острая бородка поседели задолго до старости. Только
густые, черные с блеском волосы, круто зачесанные вверх,
ни за что не хотели поддаваться седине.
Мать постарела и поблекла гораздо раньше отца, хоть
и была много моложе его. Но, помнится мне, в эти воро-
нежские годы ее синие, пристальные, глубоко сидящие глаза
еще смотрели на мир доверчиво, открыто и немного удив-
ленно. Приподнятые и чуть сведенные к переносице брови
придавали ее взгляду оттенок настороженности, напряжен-
ного внимания.
Может быть, я даже не самое ее помню в эти годы, а по-
бледневшую от времени фотографическую карточку, на ко-
торой она казалась такой юной и миловидной в скромной
кофточке с модными тогда «буфами» на плечах. Волосы ее,
коротко остриженные во время болезни, не успели отрасти,
и от этого она выглядела еще моложе, чем была на самом
деле. Под фотографией значилась фамилия московского
фотографа.
Это была память о тех праздничных месяцах, которые
мать провела до замужества в гостях у сестры и брата
в Москве. Там-то она и встретилась с моим отцом. Покинув
строгую, патриархальную семью, которая жила в Витебске,
она впервые попала в столицу, в круг молодых людей —
друзей брата, ходила с ними в театр смотреть Андреева-
Бурлака, любимца тогдашней молодежи, слушала страст-
ные студенческие споры о политике, о религии, морали,
о женском равноправии, зачитывалась Тургеневым, Гончаро-
вым, Диккенсом.
«Давида Копперфильда» она и отец читали вслух по
очереди.
Московские друзья брата приняли ее в свой кружок как
свою. Показывали ей город, доставали для нее билеты то
в оперу, то в драму.
12
Не часто доводилось ей бывать в театре и на дружеских
вечеринках в последующие годы ее жизни, омраченные нуж-
дой и заботой. Вероятно, потому-то она и вспоминала с та-
кой благодарностью немногие дни, прожитые в Москве.
Впрочем, мать моя никогда не была слишком словоохот-
ливой и, в противоположность отцу, не умела да и не любила
выражать свои сокровенные чувства. Но и по ее немного-
словным, скупым рассказам в памяти у меня навсегда за-
печатлелось, быть может, не вполне отчетливое и точное, но
живое представление о молодежи восьмидесятых годов, о мо-
сковских «старых» студентах в косоворотках и поношенных
тужурках, об их шумной, дружной и, несмотря на бедность,
по-своему широкой жизни. Я не запомнил их имен, за
исключением одного, которое чаще других упоминала мать.
Ни разу в жизни не видел я человека, носившего это имя,
да и родители мои никогда больше не встречались с ним.
Знаю только, что он был так же беспечен, как и беден. За
душой у него не было гроша медного, но это не мешало ему
быть душой своего кружка. И фамилия его казалась мне
словно нарочно придуманной: «Душман». Я был тогда совер-
шенно уверен, что это не зря.
Воронежские знакомые моих родителей были людьми
совсем иного круга и другого возраста. Солидные, семейные,
они изредка приезжали к нам из города отдохнуть и пообе-
дать. В таких случаях обедали дольше, чем всегда, и нас, де-
тей, кормили отдельно. По совести сказать, нам были не
слишком по вкусу эти приезды. Ради гостей приходилось
надевать праздничные костюмчики, в которых нельзя было
забираться под кровать, если туда закатывался мяч, или
прятаться за большим сундуком в передней. Правда, гости
привозили из города конфеты, а иной раз игрушки, но зато
без конца приставали к нам с вопросами: сколько нам лет,
деремся ли мы друг с другом и кого больше любим — папу
или маму.
Уклоняясь от таких никому не интересных разговоров,
мы выбегали во двор и любовались лошадьми, которые ожи-
дали у крыльца. Засунув морды до самых глаз в торбы
с овсом, они мигали длинными бесцветными ресницами и
помахивали хвостами, а мы наперебой расспрашивали ку-
черов, смирные ли у них лошади или горячие и можно ли
покормить их с ладони хлебом.
Каждую лошадь мы сравнивали с нашим Ворончиком, и
он всегда оказывался лучше всех.
13
Это был молодой, норовистый конь, которого ХОЗЯИН
завода предоставил в распоряжение отца, так как жили мы
далеко от города.
Ворончиком назвали его, вероятно, потому, что шерсть
у него была черная и лоснистая, как вороново крыло, но для
меня рта кличка была больше связана с именем города. Во-
рончик — воронежский конь.
Когда отцу надо было съездить в город, Ворончика за-
прягали в легкие, узкие дрожки. Правил отец сам. Я и мой
брат, который был на два года старше меня, не упускали
случая полюбоваться рослым, статным, огнеглазым Ворон-
чиком, когда он легко и весело выносил дрожки из рас-
пахнутых ворот. А как гордились мы отцом, который спо-
койно и уверенно держал в вожжах непокорного, резвого
коня.
Я был еще очень мал в это время — и поэтому Ворончик
навсегда остался у меня в памяти каким-то сказочным ко-
нем-великаном. Он был очень страшен, когда закидывал го-
лову или подымался на дыбы, пытаясь освободиться от стес-
нявшей его упряжи.
Видно было, что и хозяйский кучер не на шутку побаи-
вался Ворончика. Уж очень осторожно оглаживал он его,
ласково приговаривая: «Ну, не шали, не шали, малый!»
Но «малый» был не прочь пошалить. Однажды он чуть
не разнес в щепки сани, в которых ехали хозяин завода и
кучер. После этого мать каждый раз с тревогой ожидала
возвращения отца из города, особенно в те дни, когда он за-
держивался там дольше обычного.
Мы, дети, в городе бывали редко. Помню только две по-
ездки. Первый раз, когда я еще и говорить как следует не
умел, мы ездили смотреть на человека, который ходил над
площадью по канату.
В другой раз нас повезли в городской сад, где в круглой
беседке играли военные музыканты.
У меня дух захватило, когда я впервые услышал медные
и серебряные голоса оркестра. Весь мир преобразился от
Этих мерных и властных звуков, которые вылетали из бле-
стящих, широкогорлых, витых и гнутых труб. Ноги мои не
стояли на месте, руки рубили воздух.
Мне казалось, что эта музыка никогда не оборвется...
Но вдруг оркестр умолк, и сад опять наполнился обычным,
будничным шумом. Все вокруг потускнело — будто солнце
зашло за облака. Не помня себя от волнения, я взбежал
14
по ступенькам беседки и крикнул громко — на весь город-
ской сад:
— Музыка, играй!
Солдаты, продувавшие свои трубы, разом обернулись
в мою сторону. А человек, стоявший перед маленьким
столиком, прикрепленным к подставке, постучал по краю
столика тоненькой палочкой и что-то сказал музыкан-
там.
Оркестр заиграл еще веселее. Снова солнце выглянуло
из-за тучи.
После этого памятного дня я долго упрашивал мать по-
везти нас еще раз в городской сад.
Но в город повезли не меня, а старшего брата. И не
в городской сад, а в больницу. Брат заболел скарлатиной.
До того мы с ним почти всегда болели вместе, и это нам
даже нравилось. Мы переговаривались друг с другом или
играли в какую-нибудь игру, лежа, сидя, а иногда и стоя
в кроватках. Лечить нас приезжал из города щеголеватый
военный доктор, фамилия которого была Чириковёр.
Я любовался его блестящей формой, его военной вы-
правкой.
Самая фамилия доктора казалась мне звонкой, боевой.
«Чириковёр» — в этих звуках слышалось треньканье шпор,
как и в нарядном слове «офицер».
К словам — даже к именам и фамилиям — дети отно-
сятся гораздо серьезнее и доверчивее, чем взрослые. В лю-
бом сочетании звуков они предполагают какую-то закономер-
ность. Слова для них неотделимы от значения, а значение —
от образа.
Но брата лечили в городе какие-то неизвестные мне док-
тора без фамилий — и потому я никак не мог представить
их себе.
Мать осталась с братом в городе на все время его бо-
лезни.
Помню нашу опустевшую квартиру. Отец работает в не-
большой комнате за письменным столом у окна, а я, при-
таившись в углу, перебираю какие-то вещички — чурки,
гвоздики, винтики, пустые коробочки.
Вот этот гвоздик лучше всех — он еще совсем новень-
кий, блестящий, с широкой шляпкой, похожей на солдат-
скую фуражку. Как он, должно быть, понравится брату!
Если играть в войну, такой замечательный гвоздик может
быть у нас самым храбрым солдатом или даже офицером.
15
Отец слышит мое бормотанье, оборачивается и спраши-
вает, что я делаю. Узнав, что я собираю игрушки к приезду
брата, он хвалит меня — ласково и щедро, как умеет хва-
лить только отец.
После этого я и в самом деле чувствую себя «хорошим
мальчиком» и уже ничего не жалею для брата. Я готов от-
дать ему все свои игрушки — даже граненое цветное стек-
лышко, даже тяжелую, широкую подкову, которую нашел
за воротами.
Признаться, я очень редко бывал «хорошим мальчиком».
То ввязывался на дворе в драку, то уходил без спросу в гос-
ти, то разбивал абажур от лампы или банку с вареньем.
В раннем детстве я не ходил, а только бегал — да так стре-
мительно, что все хрупкие, бьющиеся вещи как будто сами
подворачивались мне под руки и под ноги. Был у меня на
совести еще один грех: часто, потихоньку от матери, я убе-
гал обедать к рабочим, которые угощали меня серой ква-
шеной капустой и солониной «с душком», заготовленной па
зиму хозяевами.
Впрочем, наведывался я к ним не только ради этого ла-
комого и запретного угощения. Мне нравилось бывать среди
взрослых мужчин, которые на досуге спокойно крутили ци-
гарки, изредка перекидываясь двумя-тремя не всегда мне по-
нятными словами. Помню одного из них — огромного, чер-
нобородого, с густыми сросшимися бровями и серебряной
серьгой в ухе. Он мне «показывал Москву» — сажал к себе
на ладонь и поднимал чуть ли не до самого потолка. Гово-
рил этот великан хриплым басом, заглушая все другие го-
лоса, и каждое его словцо вызывало взрыв дружною
хохота.
Я был слишком мал, чтобы разобрать, о чем шла речь,
но хохотал вместе со всеми.
С такой же готовностью делил я с ними и обед. Они по-
хваливали меня, говорили, что я «енарал Бородин — на
всю губернию один», а я уплетал солонину, виновато погля-
дывая на дверь, — не застигнет ли меня на месте преступ-
ления кто-нибудь из моих домашних.
Почему-то я думал в то время, что человеческая душа
находится где-то в животе и похожа на маленькую муфту.
Сначала душа у всех золотая, а потом понемногу чернеет
от грехов.
И я был глубоко убежден, что у старшего моего 6paia
пет на душе ни единого пятнышка, а моя душа-муфта
16
давно уж черным-черна от всего, что я натворил на своем
веку...
Впрочем, тогда я еще редко отчитывался перед своей
совестью.
Как ни напрягаешь память, добраться до истоков жизни,
до раннего детства почти невозможно.
Два-три эпизода, отдельные минуты, выхваченные из мра-
ка, — вот и все, что остается от прожитых нами первых лет.
Отчего же мы так плохо помним свои младенческие
годы? Оттого ли, что они были очень давно и заслонены по-
следующими десятилетиями? Но ведь обычно память проч-
нее удерживает впечатления далекого прошлого, чем отпе-
чатки наших недавних, но уже поздних дней.
А может быть, мы не помним своих первых лет просто
потому, что были в эти годы слишком глупы, ничего не ви-
дели, не замечали, не понимали?
Нет, всякий, кому приходилось наблюдать ребят двух-
трех лет, — я уж и не говорю о четырехлетних, — знает, как
они приметливы, сообразительны, догадливы, сколько у них
сложных чувств и переживаний.
В сущности, в первые годы детства человек проходит
самый трудный из своих университетов. Школьники изучают
языки несколько лет, но редко овладевают хотя бы одним
из них ко времени окончания школы. А ребенок усваивает
всю речевую премудрость — по крайней мере, настолько,
чтобы довольно бегло и правильно говорить, — к двум годам.
Он изучает язык без посредства другого — знакомого — язы-
ка, а наряду с этим приобретает множество самых важных и
существенных сведений о мире: узнает на опыте, что такое
острое и что такое горячее, твердое и мягкое, высокое и
низкое. Но всего, что входит в сознание ребенка за эти пер-
вые годы, не перечислишь. Жизнь его полна открытий. Са-
мые заурядные случаи и происшествия повседневной жизни
кажутся ему событиями огромной важности.
Так почему же все-таки эти события, глубоко поразив-
шие двухлетнего-трехлетнего человека, только редко и слу-
чайно удерживаются в его памяти?
Я думаю, это происходит оттого, что ребенок отдается
всем своим впечатлениям и переживаниям непосредственно,
без оглядки, то есть без той сложной системы зеркал, кото-
рая возникает у него в сознании в более позднем возрасте.
17
Не видя себя со стороны, целиком поглощенный потоком со-
бытий и впечатлений, он не запоминает себя, как «не пом-
нит себя» человек в состоянии запальчивости или головокру-
жительного увлечения.
Вот почему, должно быть, мое воронежское детство оста-
вило у меня в памяти только очень немногое, только самое
яркое и необычное: первую в жизни музыку, первую раз-
луку с братом, первый пожар, окрасивший багровым заре-
вом завешенное на ночь окно.
Помню первого увиденного мною в жизни вора, моло-
дого конторщика, который попался на заводе в какой-то
мелкой краже. Его не арестовали, не отдали под суд, а толь-
ко уличили и с позором прогнали с завода. Никогда не за-
буду, с каким интересом смотрел я издали на этого стри-
женого, рябоватого молодого человека, который, нахохлив-
шись, сидел у стола в ожидании попутной лошади. В нем не
было ничего особенного, но каким загадочным и необыкно-
венным сделало его в моих глазах страшное слово «вор»...
Вор! Мне казалось, что только у воров бывают такие помя-
тые парусиновые штаны и куртки, такие крупные рябины
на щеках, такие красные подбритые затылки.
Еще более ясно и четко припоминаю гостивших у нас на
заводе хозяйских племянников — двух больших мальчиков
в круглых шапочках с лентами, в белых блузах с откидными
матросскими воротниками и якорями па рукавах. Впрочем,
большими эти мальчики казались только мне и брату, а на
самом деле старшему из них было, по словам моей матери,
не больше одиннадцати — двенадцати лет, младшему — лет
девять.
В одном из дальних закоулков заводского двора мы
строили с ними настоящий завод, чтобы варить настоящее
мыло. Раздобыли у рабочих все, что для этого требуется:
несколько больших кусков белого, но не слишком свежего
бараньего сала, от запаха которого у меня подступала к гор-
лу тошнота, банку едкого щелока, немножко силиката.
Оставалось только устроить топку и вмазать над ней в гли-
ну старый, ржавый котелок, который мы нашли на дворе
среди груды железного хлама.
Гордые тем, что эти нарядные городские мальчики, не-
смотря на разницу лет, играют с нами, как с равными, мы
трудились, не жалея сил.
18
А так как приезжие ребята боялись испачкать свои но-
венькие матроски, то всю черную грязную работу они пору-
чили мне с братом. Мы укладывали кирпичи, месили глину.
Сначала нам это очень нравилось, но скоро мы оба устали
и проголодались.
Вытирая рукавом лоб, брат робко и тихо сказал мальчи-
кам, что дома у нас сейчас завтракают... Но старший из
них, рыжий, с веснушками на носу, возмутился. «Поду-
маешь— завтракают!.. Да как же это можно бросать дело
на середине? Если так, то уж лучше было бы и не начинагь
совсем!»
Когда топка была наконец готова, мальчики велели нам
набрать щепок и хворосту и попробовать развести огонь.
Но сколько мы ни старались, как ни дули в топку, присев
перед ней на корточки, огонь не разгорался. Рыжий послал
моего брата на завод за керосином, а мне велел раздобыть
еще растопки.
За собой он оставил только самое приятное дело: зажи-
гать спички, которых у него было более чем достаточно —
целых два коробка!
Наконец из топки клубами повалил черный дым, щепки
и хворост затрещали.
Мы думали, что уж теперь-то мальчики отпустят нас
домой. Но рыжий только руками замахал.
— Вон чего выдумали! Пока огонь горит, самое время
варить мыло. Маленькие вы, что ли? Такого простого дела
не понимаете? А еще заводские!..
Нам стало совестно, и мы снова взялись за работу. Вы-
валили из мешка в котел сало, вылили из жестянки щелок
и присели отдохнуть. Рабочие-то ведь тоже отдыхают. Ци-
гарки сворачивают, курят...
— Помешивать, помешивать надо, а то пригорит! — не
переставая подгонял нас рыжий.
Но тут огонь опять погас. Пришлось снова дуть, под-
кладывать растопку, поливать щепки керосином.
Я поглядел на брата и ужаснулся. Он был весь — с го-
ловы до ног — в глине и копоти. Даже на ресницах у него
была глина. За версту от него несло керосином и отврати-
тельным до тошноты, протухшим бараньим салом.
Верно, я тоже был хорош в эту минуту, но себя я не ви-
дел и только чувствовал, что от усталости у меня подги-
баются коленки, а от дыма болят и слезятся глаза.
19
У нас уже не было никакой охоты варить мыло, — так
осточертела нам эта игра. Но все-таки мы продолжали рабо-
тать без передышки и даже больше не заговаривали о том,
что нас ждут дома к завтраку. Да уж какой там завтрак!
Мы пропустили и обед. Наверно, домашние беспокоятся
о нас, ищут на заводе и по всему двору.
Где-то вдали прогрохотал гром. Приближалась гроза,
а мы все еще возились с топкой.
Не то чтобы мы очень боялись приезжих мальчишек
в матросских костюмчиках. Силой они не могли бы удержать
нас на работе. Но обоих нас как бы приковали к месту слова
рыжего о том, что нельзя же бросать работу на середине,
что если так, то уж лучше было бы и не начинать.
Я едва удерживался от слез. У брата тоже кривился рот.
Но плакать на глазах у этих больших мальчиков было бы
слишком позорно.
И все же мы дали волю слезам, когда нас наконец
разыскала мама. Мы бросились к ней с громким ревом, но
она в ужасе отшатнулась от нас.
— Что это вы делали? — спросила она.
— Завод строили, а потом варили...
— Варили?.. Что варили?
— Мы-ы-ыло!
— Но как можно было так измазаться? Ведь вот маль-
чики тоже играли с вами, а почти совсем не выпачкались...
Ни я, ни брат ничего не ответили маме. Мы плакали
навзрыд не то от обиды, не то от радости, что наконец-то
нас освободили из плена.
Мне шел в это время пятый год, брату седьмой, но нам
на всю жизнь запомнился день, когда мы варили мыло.
А еще — где-то в самой глубине памяти — осталась у ме-
ня первая дальняя поездка на лошадях.
Гулкие, размеренные удары копыт по длинному-длин-
пому деревянному мосту.
Мама говорит, что под нами река Дон.
«Дон, дон», — звонко стучат копыта. Мы едем гостить
в деревню. Въезжаем на крестьянский двор, когда тонкий
серп месяца уже высоко стоит в светлом вечереющем небе.
Смутно помню запах сена, горьковатого дыма и кислого
хлеба. Сонного меня снимают с телеги, треплют, целуют
и поят топленым молоком с коричневой пенкой из широкой
глиняной крынки, шершавой снаружи и блестящей внутри...
20
СТАРЫЙ ДОМ В СТАРОМ ГОРОДЕ
Не знаю, что побудило отца покинуть завод братьев
Михайловых и Воронеж. Но только помню, что с тех пор
началась у нас полоса неудач и непрерывных скитаний.
Почти полгода после отъезда нашего из Воронежа про-
жили мы у дедушки и бабушки в городе Витебске. Приехали
мы туда вчетвером: мама, я, брат и маленькая сестренка,
только что научившаяся говорить и ходить. Отца с нами не
было — он странствовал где-то в поисках работы.
Я был слишком мал, чтобы по-настоящему заметить раз-
ницу между Воронежом, где я родился и провел первые свои
годы, и этим еще незнакомым городом, в котором жили ма-
мины родители. Но все-таки с первых же дней я почувст-
вовал, что все здесь какое-то другое, особенное: больше
старых домов, много узких, кривых, горбатых улиц и совсем
тесных переулков. Кое-где высятся старинные башни и
церкви. В каждом закоулке ютятся жалкие лавчонки и убо-
гие, полутемные мастерские жестяников, лудильщиков, порт-
ных, сапожников, шорников. И всюду слышится торопливая
и в то же время певучая еврейская речь, которой на воро-
нежских улицах мы почти никогда не слыхали.
Даже с лошадью старик извозчик, который вез нас с вок-
зала, разговаривал по-еврейски, и, что удивило меня больше
всего, она отлично понимала его, хоть это была самая
обыкновенная лошадь, сивая, с хвостом, завязанным в
узел.
Месяцы, прожитые у дедушки и бабушки, я припоминаю
с трудом. Города и городишки, где нам пришлось побывать
после Витебска, почти совсем вытеснили из моей памяти
тихий дедушкин дом, который мы, ребята, с первого же дня
наполнили оглушительным шумом и суетой, как ни стара-
лась мама урезонить и утихомирить нас. Труднее всего было
ей справиться со мной. Я так привык к простору нашей во-
ронежской полупустой квартиры, что и здесь, в этих неболь-
ших, загроможденных тяжеловесной мебелью и старинными
книгами комнатах, пробовал разбежаться во всю прыть, на-
летая при этом на кресла, этажерки и тумбочки или вскаки-
вая со всего разгона на старый диван, который покорно
подбрасывал меня, хоть и стонал подо мной всеми своими
дряхлыми пружинами.
Моя бесшабашная удаль приводила маму в отчаянье —
особенно по утрам, когда дедушка молился или читал свои
21
большие, толстые, в кожаных переплетах книги, и в после-
обеденные часы, когда старики ложились отдыхать. Потре-
вожить дедушку было не так уж страшно: за все время на-
шего пребывания в Витебске никто из нас не слышал от
него ни одного резкого, неласкового слова. А вот сурового
окрика нашей властной и вспыльчивой бабушки я не на
шутку побаивался. Она горячо любила своих внуков, но сво-
бодно и легко чувствовали мы себя только тогда, когда опа
куда-нибудь уходила и в комнатах не слышно было ее хо-
зяйски-ворчливого говорка и позвякивания ключей, с кото-
рыми она почти никогда не расставалась.
Наш приезд заставил потесниться всех обитателей ста-
рого дома, где выросла наша мать. Братья и сестра, которые
были старше ее, давно уже покинули родительский кров и
успели обзавестись собственными семьями. Младшие же пока
оставались дома. Их было трое: двое моих дядюшек, еще не
вышедших из юношеского возраста, и тетка, учившаяся в то
время в гимназии. Мы запросто называли их всех по именам,
без добавления почтительного слова «дядя» или «тетя». Да
они и сами бы удивились, если бы кто-нибудь вздумал их
так величать.
Дядюшки мои готовились к каким-то экзаменам, но осо-
бенного рвения к наукам не проявляли. Зато У старшего из
них — красивого, сильного юноши с голубыми глазами,
мягким голосом и мягкими усиками — было множество раз-
нообразных способностей и увлечений: он мастерил замеча-
тельные шкатулки, выпиливал рамки для портретов, играл
на трубе и — что поражало меня больше всего — умел ни-
келировать самовары. На моих глазах красный медный само-
вар становился зеркально-серебряным, и это казалось мне
не меньшим чудом, чем сказочное превращение лягушки
в принцессу или частого гребешка в лесную чащу.
Я считал своего дядюшку настоящим волшебником, но
скоро убедился, что бывают случаи, когда и ему не под силу
сотворить чудо.
В дедушкином доме была одна комната, не слишком
большая, которая торжественно именовалась «гостиной».
Она была тесно уставлена уже порядком поблекшей и потер-
той плюшевой мебелью. Но главным ее украшением были
два совершенно одинаковых узких зеркала, почти доходив-
ших до потолка. Привязанные к железным крюкам в стене
веревками, они были слегка наклонены вперед, и от этого
отраженная в них комната со всей мебелью как бы уходила
22
куда-то вверх. Мне это очень нравилось: опрокинутая
в зеркало гостиная казалась гораздо красивее и таинст-
веннее.
Но скоро я придумал, как сделать, чтобы отражение
стало еще интересней.
У каждого зеркала был подзеркальник — полочка из чер-
ного дерева вроде столика — с выгнутыми резными подпор-
ками, которые старый столяр, чинивший дедушкину мебель,
называл «кронштейнами».
Однажды, когда никого не было в комнате, я ухватился
за эти подпорки обеими руками и стал раскачивать зеркало,
то прижимая его вплотную к стене, то откидываясь вместе
с ним на всю длину веревки.
Оказалось, что на зеркале можно отлично качаться, как
на качелях. Да нет, куда занятнее, чем на качелях! Вы рас-
качиваетесь все быстрее и быстрее, а перед вашими глазами
мелькают в зеркале самые разнообразные вещи: висячая
лампа со всеми своими блестящими подвесками, кресла,
стол с лиловой плюшевой скатертью, бисерная подушка на
диване, портрет какого-то старика в раме под стеклом на
противоположной стене.
И вдруг все это понеслось куда-то кувырком. Я лечу
вместе с зеркалом и слышу, как оно грохается об пол и
рассыпается вдребезги. Подзеркальник тяжело стукается над
самой моей головой. В сущности, этот узкий столик, кото-
рый мог размозжить мне голову, спас меня, мое лицо и глаза
от града осколков.
Прикрытый рамой разбитого зеркала, я тихо лежу, боясь
пошевелиться, и тут только понемногу начинаю соображать,
что я натворил. Если бы я обрушил на землю весь небесный
свод с его светилами, я не чувствовал бы себя более несчаст-
ным и виноватым.
Вбежавшие в комнату родные — мама, бабушка, дедуш-
ка — не сразу обнаружили меня. Когда же они поняли, что
я лежу среди груды осколков под тяжелой рамой разбитого
Зеркала — и при этом лежу совершенно неподвижно, молча,
не плачу, не зову на помощь — они так и замерли от ужаса.
Медленно и осторожно приподняли раму и все втроем на-
клонились надо мной.
— Жив!—сказала мама и заплакала. Она подхватила
меня на руки и принялась ощупывать с ног до головы.
И тут оказалось, что я цел и невредим, если не считать
нескольких царапин от мелких осколков.
23
Все до того обрадовались, что не только не стали бра-
нить меня, а бросились обнимать, целовать, расспрашивать,
не ушибся ли я и не очень ли испугался.
Никому и в голову не пришло наказать меня за мое
преступление. А мне, пожалуй, было бы даже легче, если бы
я за него как-нибудь поплатился. С грустью смотрел я на
осиротевшее второе зеркало, оставшееся таким одиноким
в своем простенке.
В глубине души я еще лелеял надежду, что мой дядя, ко-
торый так ловко превращает медные самовары в серебряные,
как-нибудь соберет и склеит все осколки, а потом ловко по-
кроет их своим самоварным серебром.
Но оказалось, что даже и его ловкие руки тут ничего не
могут поделать. Правда, он смастерил из самых крупных
осколков несколько маленьких зеркал в рамках и без рамок,
но все они вместе не могли заменить то большое, которое
я разбил.
Так и осталось навсегда в доме у дедушки и бабушки
вместо двух парных зеркал одно, как у инвалида остается
одна рука или одна нога.
И, вероятно, заходя в свою маленькую гостиную и глядя
на это уцелевшее зеркало, старики не раз вспоминали шаль-
ного, непоседливого внука.
Несколько дней в доме только и было разговору, что
о гибели зеркала и о моем чудесном спасении. Потом об
ртом происшествии перестали говорить. Однако с той поры
не только я, но и мама и брат ясно почувствовали, что мы
слишком загостились у дедушки и бабушки. Прямо нам этого
никто не говорил, но бабушка все чаще и чаще заводила
с мамой разговор о том, что наш папа не умеет устраиваться,
что он строит воздушные замки и мало думает о семье.
Я видел, что маму такие разговоры огорчают, и очень сер-
дился на бабушку.
Мне было непонятно, какие такие воздушные замки
строит папа, и очень хотелось увидеть хотя бы один из этих
воздушных замков. И все же я чувствовал, что в словах
бабушки есть что-то обидное для нашего папы. Почему она
говорит, что он мало думает о нас? Ведь мама часто полу-
чает от него очень толстые письма, в которых он заботливо
и нежно расспрашивает о каждом из нас — о брате, обо мне
24
и даже о нашей сестренке, хотя что интересного можно рас-
сказать о ней, когда она еще такая маленькая!
Обычно эти досадные разговоры прерывал дедушка. Он
был не охотник до споров и ссор, не хотел перечить бабушке
и поэтому, желая утешить маму, только ласково трепал ее
по щеке, как маленькую, и примирительно повторял:
— Ну, ну, душенька... Все будет хорошо... Все будет
хорошо!
Но тянулись неделя за неделей, месяц за месяцем, а папа
так и не приезжал за нами, не вызывал нас к себе и, дол-
жно быть, все еще строил свои воздушные замки, — уж не
знаю, сколько он их там успел настроить. Наверно, целую
тысячу!
Видно было, что нам долго еще придется прожить в Ви-
тебске. И вот дедушка, бабушка и мама решили, что больше
нельзя терять время зря и пора усадить моего старшего
брата за книги. Еще до приезда в Витебск он умел довольно
бегло читать и отчетливо выводил буквы. Давать ему уроки
вызвалась теперь наша тетушка-гимназистка. Это было для
нее совсем нетрудно: ученик относился к делу, пожалуй, с
большей серьезностью и усердием, чем его молодая и весе-
лая учительница, которая сразу же прерывала урок, если
к пей приходили подруги, или кончала его раньше времени,
чтобы примерить новое платье.
Так как во время уроков я постоянно вертелся около
стола и не на шутку мешал занятиям, тетушка решила уса-
дить за букварь и меня. И тут вдруг обнаружилось, что я
не только знаю буквы, но даже довольно порядочно читаю
по складам. Не помню сам, когда и как я этому научился.
Младшие братья и сестры часто незаметно для себя и
других перенимают у старших начала школьной премуд-
рости.
Когда наши занятия понемножку наладились, дедушка
осторожно предложил добавить к ним еще один предмет —
древнееврейский язык. Мама опасалась, что нам это будет
не по силам, но дед успокоил ее, пообещав найти такого
учителя, который будет с нами терпелив, ласков и не станет
задавать на урок слишком много.
И в самом деле, новый учитель оказался добрее даже
нашей учительницы-тетки. Та могла, рассердившись, стук-
нуть своим маленьким кулачком по столу или, блеснув се-
рыми, потемневшими от минутного гнева глазами, сдви-
нуть над переносицей темные пушистые брови.
25
А этот, видно, и совсем не умел сердиться. Через день
приходил он к нам на урок, худой, узкоплечий, с черной
курчаво-клочковатой бородкой. Он долго вытирал у входа
ноги в побелевших от долгой службы башмаках, ставил
в угол палку с загнутой в виде большого крюка ручкой
и, покашливая в кулак, шел вслед за нами в комнаты.
Бабушка, которая ценила в жизни успех и удачу, относи-
лась к нему довольно небрежно. Зато дед встречал его при-
ветливо и уважительно, подробно расспрашивал о здоровье
и предлагал закусить с дороги. Но учитель всегда решительно
и даже как-то испуганно отказывался, повторяя при этом,
что он только что сытно позавтракал.
И правда, мы с братом не раз видели, как завтракает
наш учитель. Прежде чем войти в дом, он усаживался на
лавочке возле наших ворот и, развязав красный в крупную
горошину платок, доставал оттуда ломоть черного хлеба,
одну-две луковицы, иногда огурец и всегда горсточку соли
в чистой тряпочке.
Не знаю почему, мне было очень грустно смотреть, как
он сидит один у наших ворот и, высоко подняв свои костля-
вые плечи, задумчиво жует хлеб с луком.
В порыве внезапной нежности я встречал его на самом
пороге, рассказывал ему все наши новости и даже пытался,
хоть и безуспешно, повесить на крюк его старое и почему-то
очень тяжелое пальто.
Он ласково гладил меня по голове, и мы шли учиться.
Но должен сознаться, что, несмотря на всю свою нежность
к нему, уроков я никогда не учил и даже не пытался при-
думать сколько-нибудь убедительное оправдание для своей
лени.
Я попросту рассказывал ему, что готовить уроки мне
было некогда: сначала надо было завтракать, потом гулять,
потом обедать, потом к бабушке пришли гости и мы все
пили чай с вареньем, а потом нас позвали ужинать, а после
ужина послали спать...
Слегка прикрыв глаза веками и посмеиваясь в бороду,
он терпеливо выслушивал меня и говорил:
— Ну, хорошо, хорошо. Давай будем готовить уроки вме-
сте, пока тебя опять не позвали пить чай с вареньем. Ну,
прочитай это слово. Верно! А это? Хорошо! Ну, а теперь
оба слова вместе... Совсем даже хорошо. Умница!
И он щедро ставил мне пятерку, а то и пятерку с
плюсом.
•26
На прощанье учитель задавал к следующему разу новый
урок, должно быть, уже и не надеясь, что я что-нибудь при-
готовлю.
И он был прав.
Я не слишком отчетливо запомнил то, что мы с ним про-
ходили, хотя учился у него на круглые пятерки. Зат0 сам
он запечатлелся в моей памяти неизгладимо — весь целиком,
со всей своей бедностью, терпением и добротой.
Даже странная фамилия его запомнилась мне на всю
жизнь. Тысячи фамилий успел я с той поры узнать и поза-
быть, а эту помню.
Звали его Халамейзер.
И вот наконец мы дождались приезда отца. Так и не
устроившись по-настоящему, он забрал нас с собой, и мы
начали кочевать вместе. Переезжали из города в город, про-
жили год с чем-то в Покрове, Владимирской губернии, около
года в Бахмуте — ныне Артемовске — и, наконец, снова
обосновались в Воронежской губернии, в городе Острогожске,
в пригородной слободе, которая называлась Майданом, на
заводе Афанасия Ивановича Рязанцева.
Как ни различны были великорусские и украинские го-
рода, в которых довелось побывать нашей семье, — окраины
Этих городов, предместья, пригороды, слободки, где ютилась
мастеровщина, были всюду почти одинаковы. Те же широкие,
немощеные улицы, густая белая пыль в летние месяцы,
непролазная грязь осенью, сугробы до самых окон
Зимою.
И квартиры наши в любом из таких пригородов были по-
хожи одна на другую: просторные, полупустые, с некраше-
ными полами и голыми стенами.
Впрочем, мы, ребята, мало обращали внимания на квар-
тиру, где нам приходилось жить. Целые дни мы проводили
на дворе, а в комнаты возвращались только к вечеру, когда
уже закрывали ставни и зажигали свет.
Почти все детство мое прошло при свете керосиновой
лампы — маленькой жестяной, которую обычно вешали на
стенку, или большой фарфоровой, сидевшей в бронзовом
гнезде, подвешенном цепями к потолку. Лампы чуть слышно
мурлыкали. А за окном мигали тусклые фонари. На окраин-
ных улицах их ставили так далеко один от другого, что пе-
шеход, возвращавшийся поздней ночью домой, мог свалиться
27
по дороге от фонаря к фонарю в канаву или стать жертвой
ночного грабителя. Фонарям у нас не везло. Мальчишки
немилосердно били стекла, а взрослые парни состязались
в силе и удали, выворачивая фонарные столбы с комлем из
земли. Где-то в столицах уже успели завести, как рассказы-
вали приезжие, газовое и даже электрическое освещение,
а в деревнях еще можно было увидеть и лучину.
Это были времена на стыке минувшего и нынешнего века.
Прошлое еще жило полной жизнью и как будто не собира-
лось уступать место новому. Не только старики, но и пожи-
лые люди помнили ту пору, когда они были «господскими».
На скамейке у ворот богадельни сидели севастопольские
ветераны, увешанные серебряными и бронзовыми меда-
лями, а по городу ходили, постукивая деревяшками, участ-
ники боев под Шипкой и Плевной.
Но понемногу, год от году, все гуще становилась паутина
железных дорог. Узкие стальные полосы, проходя через леса,
болота и степи, сшивали, связывали между собой дальние
края и города. От этого менялось представление о простран-
стве и времени.
Правда, в наших краях железная дорога все еще казалась
новинкой. Поезд называли тогда машиной, как теперь назы-
вают автомобиль, и о нем пели частушки:
Д’эх, машина-пассажирка,
Куда милку утащила?
Утащила верст за двести.
Мое сердце не на месте.
Эх, машина с красным флакон.
Как прощались, милой плакал...
Много разговоров было в то время о крушениях на же-
лезной дороге, и жители наших мест с опаской доверяли
свою судьбу поездам. Недаром на станциях, расположенных
обычно вдали от городов, люди провожали отъезжающих, как
провожают солдат на войну, — с плачем, с причитаниями.
Самые усовершенствованные новейшие электровозы ни-
кого теперь не удивляют. А как поражали нас, тогдашних
ребят, впервые увиденные нами паровозы — черные, закоп-
ченные, с высокой трубой и огромными колесами. Они выле-
тали из-за поворота дороги, как сущие дьяволы, сея искры,
оглушая людей пронзительным шипением пара из-под колес,
бодро и мерно размахивая шатунами. А вагоны — зеленые,
желтые, синие, — постукивая на ходу, манили нас в неиз-
28
вестные края бессчетными окнами, из которых глядели незна-
комые и такие разные, не похожие один на другого, проез-
жие люди.
Не только поезд, но даже и случайно найденный проезд-
ной билет сохранял для нас, мальчишек, все обаяние желез-
ной дороги, ее мощи, скорости, деловитости, ее строгого
уклада. Зеленые, желтые, синие билеты, плотные и акку-
ратно обрубленные, напоминали нам своей формой и цветом
вагоны — третьего, второго и первого класса. Мы знали,
что билеты эти уже использованы и не имеют никакой силы,
но цифры, пробитые в них кондукторскими щипцами, только
увеличивали для нас их ценность. Бережно хранили мы каж-
дый билет, на котором черными, четкими буковками были
обозначены названия станций:
ОСТРОГОЖСК — лиски
ВОРОНЕЖ — ГРАФСКАЯ
ХАРЬКОВ — МОСКВА
И почему-то все эти города казались нам куда интерес-
нее и привлекательнее нашего, хоть и наш уездный город
представлялся мне чуть ли не столицей по сравнению с при-
городной слободой, где не было ни одного двухэтажного
дома, если не считать заводских построек.
А заводы в те времена были так неуютны и мрачны, что
мне иной раз бывало до боли жаль отца, когда в утренних
сумерках он торопливо надевал свое будничное, старое, по-
рыжевшее пальто и отправлялся на работу — в копоть и
грязь, в жар и сырость, в лязг и грохот завода.
НА МАЙДАНЕ
Первое знакомство с новыми местами всегда было для
нас, ребят, праздником. Еще не отдохнув с дороги, мы живо
обегали свои новые владения, открывая то полуразрушенный
Завод, который может служить нам крепостью, то овраг
в конце двора, то большой, кипящий своей сокровенной
жизнью муравейник за сараем.
Такую радость открытия испытали мы и на этот раз, при-
ехав в Острогожскую пригородную слободу.
У самого дома начинались луга и рощи. На большом и
пустынном дворе было несколько нежилых и запущенных
служебных построек с шаткими лестницами и перебитыми
29
стеклами. Из окон верхних этажей с шумом вылетали птицы.
Все это было так интересно, так загадочно.
А в конце двора прямо на земле лежали полосатые зеле-
но-черные арбузы и длинные, желтые, покрытые сетчатым
узором дыни.
В первый раз увидел я их не на прилавке и не на возу,
а на земле. Должно быть, здесь их так много, что девать не-
куда. Потому-то они и разбросаны у нас по двору.
Я попробовал взять обеими руками самый крупный и тя-
желый арбуз, но оказалось, что он крепко держится за
землю.
— Мама! — крикнул я во все горло. — Смотри, арбузы
валяются!
Но мама не обрадовалась.
— Не трогай, — сказала она, — это чужие!
— Да ведь двор-то теперь наш!
— Двор наш, а дыни и арбузы не наши.
В тот же день за воротами меня и брата окружила це-
лая орава мальчишек, которые сразу же принялись нас драз-
нить.
— Где вы живете? — спросил я одного из них.
— Где живете? У черта на болоте!—ответил косо-
глазый мальчишка и показал мне язык. Другие засмея-
лись.
— А есть у вас альчики? — спросил косоглазый.
— Что такое альчики?
— Ну, лодыжки.
— А что такое лодыжки?
Косоглазый рассердился и плюнул.
— Вот чумовой! Ну бабки!
— Нет, — сказал я. — Мы в бабки не играем.
— А хочешь кобца? — спросил другой мальчишка, широ-
коплечий и скуластый.
Мне было совестно признаться, что я и этого слова не
знаю. Я подумал немного, а потом сказал тихо и нереши-
тельно:
— Хочу.
— Ну, коли хочешь, так получай!
И мальчишка проехался по моей голове суставом большо-
го пальца.
Я закричал от боли. Брат вступился было за меня, но
его схватили и для острастки насыпали ему за шиворот не-
сколько горстей земли.
30
После этого первого знакомства с улицей мы долго не
выходили за ворота без старших и водили знакомство только
со взрослым парнем — слепым горбуном, который жил по со-
седству с нами.
Горбун был степенный, серьезный и очень добрый малый.
Буйная и озорная молодежь соседних дворов не принимала
его в компанию, да и сам он чуждался своих ровесников и
проводил целые дни совсем один.
Это был первый слепой, которого я встретил на своем
веку.
Помню, после знакомства с ним я крепко-накрепко заж-
мурил глаза, чтобы представить себе, как должны чувство-
вать себя слепые и что стоит перед их невидящими гла-
зами.
Долго держать глаза закрытыми я не мог — это было
очень, очень страшно!
Но отчего же наш слепой так спокоен, добродушен и
приветлив? Чему улыбается он, сидя в ясную погоду на ска-
мейке у своей хаты?
Об этом я часто думал в постели перед сном, перебирая
в памяти все, что прошло передо мной за день.
Дома у нас во всех комнатах тушили на ночь свет.
Однако я никогда не боялся темноты. В семье нашей я
считался бесстрашным малым, удальцом. И если порой
мне в душу закрадывался страх, я никому об этом не го-
ворил.
Но вот однажды мне случилось проснуться в самую глу-
хую пору осенней безлунной ночи, когда, как говорится,
«хоть глаз выколи». Тут я сразу вспомнил слепого и с не-
вольным страхом подумал: «А что, если я тоже ослеп?» Серд-
це у меня похолодело.
Повернувшись лицом в сторону, где было окно, я стал
пристально и напряженно вглядываться, надеясь увидеть в
щели между ставнями хоть слабый просвет или, по крайней
мере, не такую уж черную тьму. Нет, куда бы я ни повора-
чивался, всюду стояла та же густая чернота, в которой глаза
становились бессильными и ненужными.
Что же делать? Ждать рассвета? Но когда еще он насту-
пит! Стенные часы в соседней комнате только что мягко и
глухо пробили один раз. Либо это час ночи, либо половина
какого-то другого часа. Может быть, ночь только начинается?
У меня не было ни малейшего представления, в котором
31
часу я заснул и сколько времени проспал... Нет, невозможно
ждать так долго!
Ах, как было бы хорошо, если бы удалось разыскать
спички, хоть одну-единственную спичку и коробок! Все было
бы так просто: чиркнул раз — и узнал бы, ослеп я или нет.
Но пройти на кухню, не разбудив кого-нибудь из нашей боль-
шой семьи, было невозможно. Да и найдешь ли коробок
спичек в полной тьме!
И все же я решился. Тихо ступая босыми ногами и ста-
раясь ничего не задеть по пути, направился я к двери. Но
там, где была дверь, оказалась глухая степа. Значит, я
заблудился в своей же комнате? Я уже готов был вер-
нуться в постель и как-нибудь потерпеть до утра, но и
кровать не так-то просто было найти. Долго блуждал
я по комнате, вытянув руки вперед, пока наконец не
наткнулся на большой сундук, на котором спал старший
брат.
— Что это? Кто это? — забормотал он спросонья.
— Это я, я!
Услышав мой тревожный шепот, брат спросил — тоже ше-
потом:
— Что ты бродишь? Почему не спишь?
Я сказал, что хочу пить, но не выдержал и тут же решил
открыть ему страшную правду. Может быть, от этого мне
станет хоть немножечко легче.
— Понимаешь, я, кажется, ослеп... Ничего не вижу!
— Совсем ничего?
— Ни-че-го!
— Ну, так знаешь, мы оба с тобой ослепли! Я тоже ни-
чего не вижу.
И брат засмеялся.
Мне сделалось стыдно. Я сказал, что пошутил, и, найдя
свою постель, юркнул с головой под одеяло.
От этого не стало ни светлей, ни темней, но зато тише,
теплее, уютнее.
Счастливый тем, что беда миновала, я скоро уснул.
Днем никакие страхи не тревожили меня.
Каждое утро открывало передо мной необъятный день,
в котором можно было найти место для чего угодно.
Хочешь — носись по двору, пока ноги носят, хочешь — за-
32
Мать поэта, Евгения Борисовна Маршак.
С. Маршак. Острогожск, 1899 г.
берись на стропила под самую крышу заброшенного завод-
ского строения и, сидя верхом на балке, распевай во все
горло:
Ой, на гори
Та женцй жнуть,
Ой, на гори
Та женцй жнуть,
А по-пид горою
Яром-долиною
Козаки йдуть,
Козаки йдуть!
Голос твой гулко отдается во всех углах пустого здания,
ему вторит эхо, и тебе кажется, что твою песню подхваты-
вает целый полк, который на рысях движется за тобой, за
своим храбрым командиром.
А то можно спуститься в глубокий овраг, искать клады,
рыть пещеры.
Чего-чего не успеешь до обеда, если только тебя не по-
шлют в лавочку или в пекарню.
А впрочем, бегать в пекарню, зажав в кулаке гривен-
ник, — тоже дело не скучное.
Пекарня у нас турецкая. Черноусый, белозубый пекарь,
ловко перебросив с руки на руку огромный каравай с корич-
невым глянцевитым верхом, кроил его па прилавке широ-
ким, острым, как бритва, ножом, похожим на разбойничий.
Весело подмигнув своим карим — в мохнатых ресницах—
глазом, он щедро прикидывал к весу лишнюю осьмушку и
легким, почти незаметным движением скатывал мне на руки
полкаравая с довеском.
И вот уже я пду назад, прижимая к животу теплую, мяг-
кую краюху ситного, и с наслаждением жую пухлый до-
весок, полученный мною в знак дружбы от черноусого
турка.
Но все эти радости разом исчезали, как только нас при*
нималась трепать лихорадка. Нам и в голову не приходило,
что зеленые луговины и рощицы, в которых терялись улицы
нашей окраины, веяли болотистым дыханием малярии.
Чуть ли не через день метались мы в жару и в ознобе
на своих кроватках, а мать терпеливо переходила от одной
постели к другой, укрывая нас чем придется — шалями,
платками, пальтишками.
— Нет, надо поскорее бежать отсюда, надо перебраться
н город, ведь на детях лица пет! — без конца повторяла
мать, подавая ужин усталому после заводского дня отцу.
2 С. Маршак, т. 6 33
— Скоро, скоро! —отвечал отец, не отрывая глаз от объ-
емистой — должно быть, скучной — книги без картинок, а
только с буквами и цифрами.
— Да ты не слушаешь меня, — с горечью говорила
мать. — «Скоро, скоро!» — а мы все на том же месте.
Отец смущенно и растерянно снимал очки и смотрел на
мать кроткими, какими-то безоружными глазами.
— Ну потерпите еще немного, — говорил он, будто обра-
щаясь сразу ко всей семье. — Еще полгода, ну, самое боль-
шее — год, и все у нас пойдет по-другому. Я тут кое-что
начал — совершенно новое... И если только дело удастся, —•
рто будет...
Отец не успевал договорить.
Безнадежно махнув рукой, мать принималась собирать со
стола тарелки. Мы видели по выражению ее лица, по уста-
лому взмаху ее руки, что она давно уже не верит отцовским
обещаниям и надеждам.
А мы верили. Без отцовских надежд жизнь у нас была
бы во много раз беднее и бесцветнее. В худшие времена, ко-*
торые переживала наша семья, мы не сомневались в том, что
нас ждет самое счастливое, самое замечательное будущее^
И оно уже тут, за порогом.
Мы с братом любили играть в это будущее.
Лежа в постели — один на кровати, другой на сундуке,—»
мы наперебой сочиняли длинную и необыкновенную историю.
Отцовские опыты, о которых ни я, ни брат не имели ни
малейшего понятия, наконец удались. Приходит телеграмма^
Отца вызывают в Петербург. Мы второпях укладываем ве-
щи, зовем извозчика — нет, двух!—и катим на вокзал. Но-
сильщики в белых фартуках, с большими бляхами на груди
несут наш багаж. Вот мы уже заняли места в зеленом ва-
гоне — родители и младшие дети па длинных скамьях, а
мы с братом на коротких по обе стороны окошка. Первый
звонок, второй, третий. Свисток, гудок...
Продолжение этой истории каждый из пас по-своему ви-
дел во сне.
Время показало, что отец был прав в своих надеждах и
ожиданиях.
Его открытия и опыты по принесли нашей семье богат-
ства, но через несколько лет в ее жизни и в самом деле
произошли большие перемены.
34
Мае же судьба готовила такие неожиданные, почти ска-
зочные приключения, каких я не видел и во сне.
Да и жизнь вокруг меня тоже не стояла на месте. Она
держала курс на 1905, а потом на 1917 год.
Наш двор был как будто нарочно предназначен для маль-*
чишеских игр. Два этажа покинутого и запущенного завода,
обветшалое здание какого-то склада с шаткими площадками
без перил и трясущимися от каждого шага лестницами, ов-
раг в конце двора — все это как нельзя более подходило
для непрерывной игры в войну, в индейцев, в пиратов, в
рыцарей.
Но была у нас еще одна игра, которую выдумали мы
сами, — я и мой старший брат. Впрочем, брат к ней скоро
охладел и даже подтрунивал надо мной, когда я упор-
но и увлеченно продолжал играть в нее один, без его
участия.
В этой игре наш двор превращался в какую-то огромную,
еще не до конца исследованную страну. Овраг был морем,
Заросли лопухов к бурьяна вставали непроходимыми лесами.
А на всем пространстве двора были разбросаны деревни, сло-
женные из маленьких дощечек или щепочек, уездные
городишки, построенные из мелких обломков кирпичей и,
наконец, большие города с рядами домов в четверть или
даже в половину кирпича. На подготовку к игре, то есть на
постройку всех этих бесчисленных деревень, городишек и
городов, соединенных воображаемыми дорогами — проселоч-
ными, шоссейными и железными,— уходила добрая половина
дня. И только тогда, когда вся страна становилась обитае-
мой, можно было спокойно приниматься за игру.
А суть ее заключалась в следующем. Где-то в одной из
самых глухих деревушек, затерянных среди просторов на-
шего двора, рождался на свет мальчик, главный герой этой
повести-игры. Он подрастал и отправлялся в первое свое пу-
тешествие — в ближайший уездный городок. Там он учился,
а затем его ждали бесконечные странствия и приключения.
Постепенно на его пути вставали все большие и большие
города. В конце концов он попадал в столицу, о которой, по
правде сказать, у меня у самого было в то время весьма
смутное представление.
Судьба моего героя складывалась каждый раз по-иному.
Он становился то путешественником, то великим полковод-
2* $5
Кем, то капитаном корабля, то знаменитым дрессировщиком
львов, тигров, пантер, мустангов и орангутангов.
Но во всех этих разнообразных вариантах игры было и
нечто общее. Преодолевая препятствия, герой выходил из
дремучей глуши, из нужды и безвестности на широкую до-
рогу жизни.
Очевидно, мне и самому мерещился в это время где-то
За тесными пределами нашей слободы — Майдана — еще не-
известный мир: большие города, полная приключений жизнь,
в которой человек перестает чувствовать себя существом не-
заметным и затерянным.
Историю этого человека я придумывал целыми часами,
сочинял молча, про себя, и все же не мог обойтись в своей
игре без чего-то вещественного — без разбросанных по двору
щепочек и кирпичей, без палки, которой я водил по земле,
бродя от деревни до деревни, от города до города.
Подшучивая надо мной, брат грозил снять моего героя
с конца палки, а иной раз даже делал вид, будто и в са-
мом деле снимает его кончиками пальцев. И — как это
ни странно — игра сразу теряла для меня всякую досто-
верность, и мне уж не к чему было водить по земле пал-
кой, на которой больше не было моего воображаемого чело-
вечка...
В сущности, в ту пору я еще не знал никакого мира,
кроме нашей слободской улицы да нескольких улиц уезд-
ного города, где, запрокидывая голову, я разбирал на выве-
сках непонятные мне слова: «Нотариальная контора», «Об-
щество взаимного кредита» или «Коммерческие номера».
(Кстати, по ошибке, я долго читал «кдмера» и никак не мог
понять, почему на этой вывеске слово «камера» пишется че-
рез «о» — «номера».)
Впрочем, город в течение первых лет нашей жизни на
Майдане был от нас за тридевять земель.
Жили мы в это время обособленно и одиноко. Матери
было не до знакомых, — так погружена она была в свои до-
машние заботы. Да и у нас, ребят, не сразу нашлись на сло-
бодке сверстники и товарищи.
Хоть семья наша подчас нуждалась в самом необходимом
и обстановка нашей призаводской квартиры была более чем
скромной — несколько венских стульев, столов, дешевых же-
лезных кроватей, самый простой буфет и ни одного кресла
или дивана, ни одной картины на стенах в просторных и
36
почти пустых комнатах, — все же босоногие ребята с пашей
улицы относились к нам, как к барчукам.
Мы не играли ни в бабки, ни в карты, не занимались
меной голубей. Да и одевались не так, как все.
Не подозревая, на какое глумление обрекает нас, мама
сшила мне и брату по журнальной картинке пальтишки из
материи кремового цвета с пелеринками. Много раз стано-
вилась она перед нами во время примерки на колени, что-то
подшивая и перешивая, то отрывая рукав, то снова приметы-
вая его к плечу.
Наконец пальтишки были готовы. В первый же празд-
ничный день мы вышли в них на улицу, отправляясь в го-
род, и тут только с ужасом почувствовали, до чего мы
смешны!
Косоглазый мальчишка из компании, игравшей у ворот
в карты, подскочил к нам и, скривив в усмешке щеку,
спросил:
— Чего это вы балахончики такие надели?
А другой, взлохмаченный, черный, с лицом, измазанным
грязью, — будто он только что умылся землей,— дернул меня
за пелеринку и заорал во все горло:
— Ну-ка, скидавай юбку! Я ее бабке нашей снесу!
— Это певчие, певчие из ихней церквы! — послышался
чей-то голос. — А ну-ка спойте нам чего-нибудь, копеечку
дадим!
Больше мы в этих пальтишках без сопровождения взрос-
лых за ворота не выходили. Но прозвище «певчие» надолго
осталось за нами.
Не мудрено, что в первую пору нашей слободской жизпн
мы почти все дни проводили у себя на дворе и на улицу вы-
глядывали редко.
На дворе-то я и познакомился с первым моим прияте-
лем — слепым горбуном Митрошкой. Ни он у меня, ни я у
него никогда не бывали, а встречались мы у плетня, который
отделял наш двор от соседнего. Плетень был невысокий — не
то что деревянный забор со стороны улицы. Во время наших
разговоров Митрошка пристраивался по одну сторону плетня,
я — по другую. Мне было тогда лет семь-восемь, а ему не
меньше восемнадцати, но мы были почти одного роста. Мо-
жет быть, потому-то я и считал его своим сверстником и вел
с ним долгие душевные беседы обо всем на свете — о маль-
чишках, которые обижали его и меня, о том, что люди
37
должны обращаться друг с другом по-доброму, по-хорошему
и что, может быть, когда-нибудь так оно и будет... Говорили
о разных странах, о боге, о земле, о звездах, о хвостатой ко-
мете, про которую тогда было так много толков.
— Как ты думаешь, что будет с землей, если опа столк-
нется с кометой?.. — спрашивал я.
— Даст бог, цела останется, — говорил горбун, немного
помолчав. — В ней ведь камня да железа много. Она проч-
ная — авось выдержит.
Разговор с горбуном всегда успокаивал мои детские стра-
хи и тревоги. Я верил ему — может быть, потому, что он от-
вечал на мои вопросы не сразу, а после серьезного раз-
думья.
А главное, он всегда надеялся, что все обернется к луч-*
шему.
В ненастную погоду горбун сидел где-нибудь в уголке,
нахохлившись и плотно сжав бледные губы.
Когда же светило яркое солнце, он обращал к нему
свои незрячие глаза, и рябое лицо его светлело, будто улы-
балось.
Ходил он медленно, говорил тихо, вкладывая в каждое,
слово свой особенный смысл.
По воскресеньям, когда его брат Матюшка, вихрастый,
озорной парень, играл со своим приятелем Колькой Гамаю-
ном в карты, пересыпая разговор нехорошими словами, Мит-
рошка стоял рядом, слушал и сосредоточенно молчал, но вид
у него был такой, будто и он участвует в игре.
Жизнь у горбуна была до отупения унылая, скучная, и
все же он никогда ни на что не жаловался, не сердился, не.
выходил из себя.
Его отец, сапожник, человек угрюмый и несловоохотли-
вый, вполне оправдывал старую поговорку «пьет как сапож-
ник». Во хмелю бывал буен и частенько бил жену и сына
Матюшку смертным боем. Жена металась по двору и выла,
а Матюшка одним махом перелетал через забор, спасаясь
у нас на дворе.
Один только горбун никуда не бежал, а сидел на зава-
линке с окаменевшим лицом, с которого никогда не сходило
выражение равнодушной покорности. Обычно отец не трогал
его, но однажды, взбешенный кротким видом Митрошки, уда-
рил его изо всей силы кулаком по горбу. Митрошка как-то
смешно засеменил по земле, пробежал немного, а потом по-
шел дальше своим обычным степенным шагом»
38
Таким он и запомнился мне на всю жизнь « тихим, со-
лидным, в поношенном, но чистом коричневом пиджаке почти
до колен, в жилетке и брюках навыпуск, в старом синем
картузе на слегка запрокинутой из-за переднего горба голове.
Постепенно к нам стали привыкать и те соседские ре-
бята, которые еще недавно не давали нам на улице проходу.
Примирению нашему особенно помогло одно неожиданное
происшествие.
Мальчишки на улице поссорились между собой. Пере-
бранки и даже драки возникали у них за игрой в орлянку,
в карты или же тогда, когда кто-нибудь переманивал у дру-
гого породистых голубей. Не знаю, из-за чего загорелся сыр-
бор на ртот раз, но только вся наша улица восстала против
двух своих главных коноводов, которым до тех пор беспре-
кословно подчинялась.
По отдельным выкрикам, доносившимся издалека, мы
смогли догадаться, что Гришку — младшего брата Кольки
Гамаюна, и Саньку Косого обвиняют в каком-то тяжком пре-
ступлении против всего товарищества.
В самый разгар драки калитка наша настежь распахну-
лась, и к нам во двор заскочили Гришка и Санька, разго-
ряченные, расцарапанные, в разодранных рубахах. Наш дво-
ровый пес с лаем бросился на них, но брат поймал его за
веревку, которой он был привязан, а я успел вовремя запе-
реть калитку. По ней сразу же забарабанила дюжина кула-
ков. Через минуту несколько лохматых мальчишеских голов
показалось над забором.
— Тут они! Тута!—послышались голоса, но перемахнуть
через забор среди бела дня мальчишки, как видно, не реши-
лись — то ли боялись нашей собаки, то ли ожидали подкреп-
ления.
Знаками показали мы Гришке и Саньке на старый разру-
шенный завод за оврагом. Там можно было отлично укрыться
на тот случай, если вся рта орава все-таки отважится про-
никнуть к нам во двор. Гришка и Санька попялп нас без
слов и пошли за нами по направлению к заводу, то и дело
оборачиваясь и угрожая кулаками своим преследователям,
которые остались по ту сторону забора.
По шаткой, трясучей заводской лестнице мы взобрались
на второй ртаж, который давно уже перестал быть вторым
39
Этажом, так как пола у него не было и только балки
отделяли верхнее помещение от нижнего, загроможденного
железным хламом.
На всякий случай мы заперли щелявую дверь на крючок,
а сами устроились на балках, с тревогой поглядывая вниз.
Да и было чего опасаться. Сорвешься с балки на груду же-
леза в нижнем ртаже — и поминай как звали!
При нашем появлении где-то в углу захлопала крылья-
ми, а потом вылетела через окошко какая-то большая птица,
ютившаяся под крышей. Всполошилась она до того шумно и
неожиданно, что мы все так и замерли на месте. Скоро наш
страх прошел, но еще долго не могли мы отделаться от ка-
кой-то смутной тревоги, которую нагнала на нас эта жилица
заброшенного чердака. Несколько минут мы даже говорили
друг с другом шепотом. Но постепенно у нас завязался са-
мый спокойный, мирный разговор. В конце концов брат пред-
ложил Гришке и Саньке зайти к нам в дом, пообещав по-
казать им какую-то большую книгу о птицах, в которой были
нарисованы голуби всех пород — дутыши, хохлатые, труба-
стые, бородавчатые и т. д. Гришка и Санька, которые были
завзятыми голубятниками, заинтересовались этой книгой.
— Ладно, придем другим разом! — пообещал Гришка.
Нам очень не хотелось расставаться с нашими новыми
приятелями, но уговаривать их было бесполезно: нельзя же
в самом деле ходить в чужой дом с царапинами и синяками
под глазами и на лбу, в разодранных рубахах и штанах.
На прощанье Гришка поклялся нам, что он будет не он,
если завтра же не кликнет на помощь своего брата Кольку
и не рассчитается со всеми обидчиками.
Не знаю, как добрались он и Санька в этот вечер до
дому, но на другой день прятаться на задворках пришлось
уже не им, а тем ребятам, которые загнали их к нам во двор.
В этот день на улицу вышел сам Колька Гамаюн, стар-
ший брат Гришки. Он давно уже работал у сапожника под-
мастерьем, турманов больше не запускал, а в праздничные
дни ходил по слободке в пиджаке и красной рубахе навы-
пуск, с новенькой гармошкой, поблескивающей черным ла-
ком и ярко-белыми клавишами.
Сильнее его не было на нашей улице никого, — разве что
Матюшка, брат горбуна. Но с Матюшкой у него давно уже
был уговор «не замать» друг друга.
Неторопливо и тяжело ступая, прошелся Колька вместе
с младшим братом раз-другой по улице, грозно поглядывая
40
по сторонам, и этого немого предупреждения было вполне
достаточно. Мальчишки сразу поняли, что оно значит. Не-
сколько дней после этого они далеко обходили Гришку и
Саньку при встрече, потом долго и осторожно мирились с
ними п наконец снова признали их власть.
А меня с братом Гришка и Санька взяли с тех пор под
свое покровительство.
Скоро нам удалось зазвать их к себе в гости.
Пришли они утром в одно из воскресений, умытые, глад-
ко причесанные, в новых, чистых рубахах, в целых, хоть и
заплатанных штанах с карманами, полными жареных се-
мечек.
Мы опять побывали с ними на старом заводе— и наверху
и внизу, — а потом Гришка вызвался научить нас ловить
па дворе тарантулов. Дело это нехитрое. Надо опустить в
норку кусочек воска, привязанный к нитке. Тарантул обяза-
тельно за него ухватится, и тут-то наступит самая страшная
минута: нужно вытащить живого тарантула из норки и по-
садить его в спичечную коробку с такой быстротой и ловко-
стью, чтобы он не успел укусить вас.
Правда, поймать тарантула нам так и не удалось. То ли
он в это время спал, то ли отлучился по какому-нибудь делу,
а может быть, его никогда и не было в этой норке... Зато
Санька Косой обучил нас другому искусству. Он отлично
мастерил из папиросной бумаги и пробки парашютики,
которые необыкновенно красиво поднимались вверх, пока
наконец не исчезали где-то в вышине. Жаль только, что
улетавшие парашюты к нам уже не возвращались, а папи-
росной бумаги и пробок было у нас мало.
В конце концов мы очень подружились с Гришкой и
Санькой, на которых даже и прежде, во времена нашей
вражды, смотрели с невольным восхищением, — такими лов-
кими, лихими и бывалыми они нам казались. Дружба с
ними льстила нашему самолюбию. И когда мама позвала
нас пить чай, мы стали горячо убеждать их пойти с нами.
Мама несколько удивилась таким нежданным гостям, но
усадила их вместе с нами за стол и дала каждому из нас по
блюдечку еще теплого, только что сваренного вишневого
варенья.
Гришку и Саньку нельзя было и узнать. Переступив
порог нашего дома, эти отчаянные парни, которые на улице
за игрой в орлянку так смачно переругивались между собой
и так далеко плевались, — вдруг сделались смирными,
41
робкими ребятами и заговорили какими-то не своими, то-
ненькими голосами.
После чая мы повели их в другую комнату, где
они почувствовали себя немного свободнее. Брат показал
им книжку с птицами, глобус и географическую карту на
стене.
— «Соединенные Штаны»,— прочел Санька, и это нам
так понравилось, что мы еще долго после этого называли
Штаты штанами.
С тех пор мы не раз встречались с Гришкой и Санькой.
Но пришло время, и оба они стали редко появляться на
улице. Саньку отдали в уездное училище, а Гришку — в уче-
ники к тому самому сапожнику, у которого был подма-
стерьем его брат, Колька Гамаюн.
Однако наша дружба с ними, хотя и довольно кратковре-
менная, как-то сразу помирила нас со всей улицей. Во вся-
ком случае, мальчишки перестали нас дразнить. А ведь они
были великими мастерами этого дела. Помню, какой нево-
образимый гомон подымали они, когда в нашем пригороде
появлялся кто-нибудь из местных юродивых — тихая, роб-
кая, еще довольно молодая женщина, дурочка Лушка, тол-
стая, краснолицая Васька Макодёриха, отличавшаяся весьма
строптивым и буйным нравом* или же старый Хрок, безбо-
родый, сморщенный, хмурый человечек с нахлобученным на
голову по самые брови медным котлом. Прозвище свое он
получил из-за того, что, приплясывая, издавал какие-то
хриплые звуки, вроде: «Хрок! Хрок! Хрок! Хрок!»
Гулом восторга приветствовали мальчишки юродивых,
особенно Хрока.
Даже петрушечника, изредка приходившего на Майдан
с пестрой ширмой на спине, не встречали и не провожали
таким неистовым гомоном и хохотом, как угрюмого Хрока,
когда он принимался топтаться, кружиться на месте, под-
прыгивать и приседать. И все это с такой невозмутимой
и торжественной серьезностью!
Ребята свистели, улюлюкали, колотили по медному кот-
лу Хрока палками, пока их не разгоняли взрослые, которые
любили и жалели «блаженненьких». Из всех калиток пода-
вали юродивым ломти хлеба, бублики, бросали медные
гроши и копейки.
Глубокая, дремучая старина окружала мое детство на
слободке. Хрока с котлом на голове или Ваську Макодёриху
так легко можно было бы представить себе на улицах вре«
42
мен Ивана Грозного, а то и в еще более ранние времена.
Да и крытые соломой хаты, в которых обитало большинство
жителей пригорода, вряд ли намного отличались от жилищ
их дальних предков.
НЕДОЛГОВЕЧНЫЕ ЛАВРЫ
Работа на маленьком, почти кустарном заводишке была
слишком мелка для отца и не могла утолить его постоянной
жажды нового. Он любил изобретать, делать опыты, а дол-*
жен был с утра до глубокой ночи простаивать у горячих кот-
лов сырого и полутемного завода. Приходил он домой поздно,
но пользовался любой минутой отдыха, чтобы раскрыть кни-
гу и уйти в нее с головой. Читал он так самозабвенно, что
мать, которая весь вечер ждала его, чтобы поговорить о са-
мых насущных делах — о том, что надо заплатить долг
в лавку, сшить детям новые пальтишки к зиме, — не реша-
лась оторвать его от книги. Сама она весь день, безо всякой
помощи, стряпала, мыла некрашеные полы, стирала белье,
одевала и обшивала пятерых, а потом шестерых ребят. Ей-то
уж совсем не удавалось передохнуть и почитать книжку.
Даром пропадали ее прекрасные способности, ее редкая
память.
Только вечером, под стук швейной машинки, она иногда
вполголоса пела, но пела грустные песни.
Помню время, когда работа на заводе приостановилась
и отец надолго уехал из дому искать счастья.
Мы одни на пустынном дворе. Ставни у нас наглухо за-
крыты, да еще приперты железными болтами. Со всех сто-
рон доносится яростный, хриплый лай собак, да изредка за
нашим забором постучит колотушкой обходящий свой круг
ночной сторож.
Мать, склонясь над шитьем, поет песню про чумака, хо-
дившего в Крым за солью и погибшего в пути, и про его
товарища, который пригнал домой пару волов, оставшихся
без хозяина.
Я лежу, съежившись, в постели, и слова этой простой
песни наполняют мое сердце страхом и тоской. Мне по-
чему-то кажется, что в песне говорится о нашем отце, что
Это он шел-шел, «тай упав» где-то в дороге, и кто-то чужой
принес нам весть о его гибели...
43
Рано утром во всех наших комнатах открывались ставни.
Вместе с темнотой уходили ночная грусть и ночные тревоги,
и для нас, ребят, начинался новый день — огромный, как
бывает только в детстве, до краев наполненный дружбой,
дракой, игрой, беготней...
Но вот наступила для нас новая пора: мне с братом на-
няли репетитора, веснушчатого гимназиста седьмого — пред-
последнего — класса, и мы стали готовиться к экзамену.
Старший брат поступил в гимназию первым. Это был
не по летам серьезный мальчик. Задолго до гимназии успел
он прочесть множество книг, не истрепав, в противополож-
ность мне, ни одной из них. Книги он бережно хранил в око-
ванном железом сундуке, куда мне не было доступа.
Помню, как, забравшись в сундук, брат приводил свои книги
в порядок. В эти минуты он напоминал мне пушкинского
«Скупого рыцаря». Мы часто с ним дрались из-за книг или
еще из-за чего-нибудь, — но вдруг ни с того пи с сего он пре-
рывал самую бешеную нашу схватку совершенно необычным
в борьбе приемом: принимался осыпать меня нежными и го-
рячими поцелуями. Смущенный и обезоруженный, я бывал,
конечно, вынужден в этих случаях мириться, так и не до-
дравшись до конца, хоть и чувствовал в братских объятиях
не то военную хитрость, не то обидную снисходительность
старшего.
Поступив в гимназию, брат как бы совершенно переро-
дился. Это был уже не прежний, не домашний мальчик, не
мой сверстник в коротких штанишках и в детской курточке,
а гимназист с блестящим гербом на фуражке и с двумя ря-
дами серебряных пуговиц на серой, почти офицерской ши-
нели. Возвращался он из гимназии, как со службы. Обедал
один, окруженный всеми домочадцами, и между одной лож-
кой супа и другой торопливо и взволнованно рассказывал
о гимназических порядках, о строгих и добродушных, тол-
стых и тонких учителях в синих сюртуках с золотыми пого-
нами, о товарищах по классу, отличавшихся друг от друга
и ростом, и возрастом, и наружностью, и характером.
Я жадно слушал рассказы брата и старался представить
себе всех этих незнакомых людей и обстановку, так мало
похожую на все, что мне случалось видеть до тех пор.
Каждый день там происходили какие-нибудь события —.
пе то что у нас на Майдане.
44
Казалось, мой брат, который был старше меня всего
двумя годами, уже вошел в настоящую, деятельную жизнь,
в мир, где каждый человек на виду и каждый час полон
событий и происшествий.
И этот особенный, не всем доступный мир, блещущий
форменными пуговицами и лакированными козырьками,
назывался гимназией.
А через год после того, как брат надел фураяску с гер-
бом и серую шинель с темно-синими петлицами, должен
был держать экзамен и я.
Всю осень и зиму, в дождь и снег, к нам на слободку
ходил из города наш репетитор-гимназпст, так успешно под-
готовивший в гимназию брата. Со мной занятия у него шли
не совсем гладко. Я был беспечен и рассеян, не всегда гото-
вил уроки, пропускал в диктовке буквы и целые слова, ста-
вил в тетради кляксы. Кроткий и терпеливый Марк Наумо-
вич мне все прощал. А я мало думал о том, что только ради
меня шагает он каждый день через лужи или снежные
сугробы, пробираясь на Майдан и обратно в город, и что
родителям моим не так-то легко платить ему за уроки по
десять целковых в месяц.
Только иногда среди ночи я просыпался в тревоге и
начинал считать остающиеся до экзамена дни. Я давал себе
клятву не тратить больше ни одной минуты даром и на сле-
дующее утро просыпался, полный решимости взяться нако-
нец за дело как следует и начать жить по-новому. Весь день
у меня был расписан по часам.
Но чуть ли не ежедневно происходили события, которые
налетали, как вихрь, и разбивали вдребезги это старательно
составленное расписание.
Как будто нарочно, чтобы помешать мне, у самых ворот
нашего дома останавливался любимец слободских ребят —
петрушечник. Мог ли я усидеть на месте, когда над яркой,
разноцветной ширмой трясли головами, размахивали руками
и со стуком выбрасывали наружу то одну, то другую ногу
знакомые мне с первых лет жизни фигуры: длинноносый и
краснощекий Петрушка в колпакё с кисточкой, тощий «док-
тор-лекарь — из-под каменного моста аптекарь» в блестя*
Щей, высокой, похожей на печную трубу шляпе, усатый и
толстомордый городовой с шашкой на боку... Я знал и все
же не верил, что шевелит руками кукол и говорит за них то
45
пискливым, то хриплым ГОЛОСОМ ЭТОТ пожилой, мрачный,
небритый человек, надевающий их на руку, как перчатку.
А на другой день ребята соседнего двора запускали боль-
шого бумажного змея — да не простого, а с трещоткой. На
третий — я как-то нечаянно, между делом, зачитывался
.«Всадником без головы» или какой-нибудь другой заманчи-
вой книжкой из сундука, который был в полном моем распо-
ряжении до прихода из гимназии брата.
Но вот однажды мой репетитор объявил мне, что должен
поговорить со мной серьезно.
Я насторожился. До этого времени серьезные разгово-
ры — о книгах, об экспедициях на Северный полюс, о ко-
мете, про которую в те дни так много писали в газетах, —
бывали у Марка Наумовича только с моим старшим братом,
а со мною он добродушно пошучивал — даже тогда, когда
объяснял мне правила арифметики или грамматики. Он был
теперь уже учеником последнего — восьмого — класса и
обращался со мною, как взрослый с ребенком.
Но на этот раз он уселся за стол не рядом со мною, а
напротив меня, и, глядя мне прямо в глаза, спросил:
— Послушай-ка, ты и в самом деле хочешь держать
Экзамены в этом году? Или, может быть, собираешься отло-
жить это дело на будущий год?..
— Нет, не собираюсь, — как-то нерешительно ответил я,
еще не понимая, к чему он клонит.
— Ну так вот что, голубчик. Пойми, что ты, в сущности,
не учишься, а только играешь в занятия. Не думай, что
экзамены — это тоже игра. Отвечать ты будешь не так, как
отвечаешь мне. Сидеть вот этак, развалясь на стуле, тебе
не позволят. Ты будешь стоять у стола, и экзаменовать тебя
будет не один, а несколько учителей. Может быть, инспек-
тор и даже сам директор! И на каждый заданный вопрос
ты должен будешь ответить коротко, четко, без запинки.
Понял?
Я задумался. Нет, отвечать коротко, четко, без запинки
я вряд ли смогу...
А Марк Наумович продолжал смотреть на меня в упор,
то и дело мигая красными от бессонницы глазами (он и сам
в это время готовился к экзаменам, да еще каким — к вы-
пускным, на аттестат зрелости! — и работал чаще всего по
ночам).
— Ну да ладно, попробуем! — сказал он уже менее
строго. — Только знай: с нынешнего дня и я начну спраши-
46
вать тебя, как спрашивают у пас в гимназии. А ты забудь,
что перед тобою Марк Наумович, и вообрази, что тебя экза-
менует сам Владимир Иванович Теплых или Степан Гри-
горьевич Антонов!
Об этих учителях, приводивших в трепет всю гимназию,
я много слышал от брата. Но представление о них никак не
вязалось у меня с образом доброго Марка Наумовича, та-
кого худого, веснушчатого, в серой гимназической блузе с
тремя пожелтевшими пуговичками по косому вороту и в по-
ношенных серых брюках, из которых он давно уже вырос.
И все же после этого серьезного разговора я почувство-<
вал ту же острую тревогу, которая охватывала меня по но-
чам при воспоминании о предстоящих экзамена^. Ну, ко-
нечно же, я провалюсь! Разве такие в гимназию поступают?
Да я, чего доброго, разом позабуду все, что знаю, когда меня
вызовут к большому столу, за которым будут сидеть учителя
в золотых погонах, инспектор, директор... Может быть, мне
и готовиться уже не стоит? Как хорошо было бы сейчас
простудиться и заболеть на все время, пока идут экзамены.
Это все же лучше, чем провалиться. Да нет, нарочно не
заболеешь!..
У меня уже подступали к горлу слезы, когда на пороге
неожиданно появился отец, который вчера только вернулся
домой на несколько дней и сейчас отдыхал в соседней ком-
нате.
— Простите меня, Марк Наумович, — сказал он, проти-
рая очки. — Конечно, вы абсолютно правы: готовиться к
Экзамену надо серьезно и основательно. Однако вы нарисо-
вали сейчас такую мрачную картину, что и я, пожалуй,
не отважился бы после этого идти на экзамен! Но знаете,
дорогой, поговорку: «Своих не стращай, а наши и так не
боятся». Уверяю вас, мы выдержим, да еще на круглые пя-
терки! Я в этом нисколько не сомневаюсь.
— Ах, ты никогда ни в чем не сомневаешься! — с го-
речью прервала его мать, вошедшая в комнату вслед за
ним. — Марк Наумович дело говорит, и я так благодарна ему
За то, что он беспокоится о своем ученике. А ты только
портишь его. Вот увидишь, теперь он и совсем забросит
книжки и уж наверное провалится.
— Нет, — сказал отец, — вы его не знаете!
— Это я-то его не знаю? — удивилась мать.
— Ну, может быть, знаешь, да не веришь в то, что у него
есть сила воли. А я верю. Ведь ты не подведешь меня, а?
47
Я молчал.
До экзамена оставался всего один месяц. Меня перестали
посылать в лавку и в пекарню. Сестрам и маленькому брату
было строжайше запрещено отрывать меня от занятий.
Они проходили мимо моего стола на цыпочках и говорили
друг с другом шепотом.
С самого раннего утра я сидел за столом, как приклеен-
ный. Сидел час, другой, третий, пока меня не начинало кло-
нить ко сну.
Помню, как однажды около полудня, когда солнце смо-
трело с вышины прямо в наши окна, я встал, чтобы раз-
мяться немного, и как-то нечаянно заглянул в соседнюю
комнату, где сияли белизной и свежестью застланные с утра
кровати.
Младшие ребята играли в это время на дворе. Мать ушла
на рынок.
«Отчего бы мне не прилечь на несколько минут? — поду-
мал я и сам удивился этой неожиданной мысли. — Все рав-
но за столом я сейчас трачу время даром и только клюю
носом».
Никогда еще в жизни не случалось мне ложиться в по-
стель в такую пору дня. Вероятно, от новизны ощущения
Этот дневной отдых казался мне чертовски соблазнитель-
ным.
Поколебавшись немного, я лег на одну из кроватей,
сладко жмурясь от солнца, бившего мне прямо в глаза. По
и сквозь плотно закрытые веки я видел солнце. В радужной
полутьме так отчетливо доносились ко мне все звуки со
двора: протяжный петушиный крик, резвый лай собачонки,
звонкие голоса детей... Я заснул крепким, блаженным сном
и проспал несколько часов подряд.
Вернувшись домой, мама пожалела меня и не стала бу-
дить. Вот, мол, до чего доработался бедный ребенок!
Более шестидесяти лет прошло с тех пор, но в памяти
моей этот счастливый и безмятежный дневной сон запечат-
лелся ярче и сильнее, чем даже экзамены, стоившие мне так
много тревог и волнений.
В последние дни перед экзаменом я то и дело перехо-
дил от одной крайности к другой: то непоколебимо верил
в свой успех (это я-то провалюсь? Нет, такого и быть не
может!), то впадал в отчаянье и считал себя неспособным
ответить на самый простой вопрос, который зададут мне
восседающие за столом экзаменаторы.
48
Должно быть, я унаследовал в равной мере и счастливую
веру в будущее, присущую моему отцу, и вечные тревоги
матери.
Когда мною овладевала, эта мучительная, бросающая то
в жар, то в холод лихорадка тревоги, я с ужасом представ-
лял себе свое возвращение домой после провала на экзаме-
не. Понурив голову, я плетусь за матерью. Избегаю рас-
спросов соседей. Не слушаю утешений отца, который уверяет
меня, что в будущем году я уж непременно выдержу на
круглые пятерки.
И вот опять тянутся унылые дни за днями, и ко мне по-
прежнему каждый день шагает из города Марк Наумо-
вич, — если только он не поступит в этом году в универ-
ситет...
Ну, а если не Марк Наумович, то какой-нибудь другой
гимназист-репетитор, которому тоже надо будет платить за
меня десять целковых в месяц!
Наконец наступил день Страшного суда — первый день
моих экзаменов. Мама надела темное праздничное платье и
соломенную шляпку с вуалью, аккуратно причесала меня,
одернула на мне курточку, и мы отправились пешком в
город.
Ночной дождь сменился ясным солнечным утром. За
длинными плетнями и заборами доцветали яблони. Кусты
сирени наклонялись, будто предлагая прохожим сорвать гу-
стую, тяжелую гроздь.
Мама отломила влажную ветку, и я видел, что на ходу
она старательно ищет звездочку с пятью лепестками —
«счастье».
На этот раз мама была или, по крайней мере, казалась
бодрой и веселой. Против своего обыкновения, она всю до-
рогу убеждала меня, что я отлично подготовился и непре-
менно выдержу.
Я совершенно иначе представлял себе это шествие в
гимназию на экзамен — думал, что мама будет беспокойно
поглядывать на меня и спрашивать по пути таблицу умно-
жения или «слова на ять». И мне было приятно, что сегодня
она такая спокойная и ласковая.
Мы говорили с ней о посторонних вещах, о которых ни-
когда не разговаривали раньше: о том, когда открываются
49
в городе магазины, когда зажигают и тушат па улицах
фонари и сколько примерно в Острогожске извозчиков—•
сто или больше...
Вот наконец и гимназия — белое одноэтажное здание со
множеством чисто вымытых, голых окон и с тяжелой вход-
ной дверью.
Я много раз до того проходил мимо каменной ограды,
которой был обнесен гимназический двор, но никогда еще
не открывал ртой заповедной двери. Гимназия казалась мне
каким-то особым царством, живущим своей загадочной
жизнью. У нее была даже своя домовая церковь с малень-
кой звонницей, в которой так уютно жили колокола и го-
луби.
Этот майский день, когда мы с мамой без конца ходили
взад и вперед по длинному, гулкому коридору или стояли у
окна в ожидании минут, решающих мою судьбу, был для
меня не только первым днем экзаменов.
Впервые я очутился в большом городском каменном доме,
где было столько дверей, окон и просторных комнат с высо-
кими потолками.
В первый раз я видел так много ребят, и почти все они
казались такими чистенькими, умытыми, старательно при-
чесанными. А все взрослые, кроме родителей, пришедших с
детьми, были здесь одеты в форменные синие сюртуки с
золотыми квадратиками на плечах и с двумя рядами блестя-
щих пуговиц. Поодиночке или по двое, по трое, они с дело-
вым видом, словно пчелы из улья, появлялись из какой-то
таинственной комнаты, на дверях которой была дощечка с
надписью: «Учительская». Одни из этих людей добродушно
улыбались — не знаю, нам или солнечному свету, щедро за-
топившему в это утро весь коридор, — другие смотрели
хмуро, озабоченно и как будто даже не замечали наших
поклонов.
Первый человек, которому я поклонился при встрече, был
маленький старичок с лицом, изборожденным морщинками,
и реденькой, седовато-рыжей бородкой. Он осклабился и при-
ветливо закивал мне головой. По широким золотым галунам
на рукавах я принял его за директора или, по крайней мере,
за инспектора гимназии и очень удивился, когда через не-
50
сколько минут увидел его со шваброй в руках. Позже я
узнал, что это был гимназический сторож Родион, надевший
по случаю начала экзаменов свою парадную форму.
Понемногу ребята, теснившиеся в коридоре и в неболь-
шой комнате, которая называлась «Приемной», стали зна-
комиться друг с другом; толстый мальчик в крахмальпом
отложном воротничке и пестром галстуке бантом, собрав
вокруг себя ребят, показывал фокусы: глотал копейки и
большие пуговицы, а потом вынимал их из кармапа пид-
жачка или из-за воротника сзади.
Я смотрел на него и думал: какой удивительный маль-»
чик!.. Сейчас начнутся экзамены, а он, ничуть пе тревог
жась, потешает ребят фокусами.
Высокая нарядная дама в широкой шляпе с цветами то
и дело строго и настойчиво звала его к себе:
— Степа!
Он подбегал к ней на минуту, торопливо кивал ей го-*
ловой, словно что-то обещая, а потом вновь оказывался в
толпе ребят, строил невероятные гримасы или жонглировал
маленьким костяным шариком, который то вертелся, словно
живой, у него на ладони, то внезапно исчезал.
В другом конце коридора увидел я своего старого зна-
комого— долговязого и вихрастого Сережку Тищенко, сына
лавочника с нашего Майдана.
Сережка и в прошлом году держал экзамены, прова-
лился чуть ли не по всем предметам, а теперь рассказывал
ребятам о гимназических порядках так, будто был здесь
своим человеком.
— Нет, — говорил он, — если по русскому будет спраши-
вать Сапожник, — крышка: хоть кого срежет!..
— Сапожник?.. — испуганно спрашивали ребята.
— Ну, Антонов Степан Григорьевич. Прозвище у него та-
кое, кличка. А вот ежели экзаменовать будет Пустовойтов...
— Это тоже прозвище?
— Да нет, фамилие. Так вот, если спрашивать будет
Пустовойтов Яков Константиныч, тогда другое дело. Он
Даже сам подскажет, коли собьешься. А самый злющий из
всех учителей — это, уж конечпо, Барбоса.
— И вовсе не Барбоса, а Барбаросса, — поправил его
мальчик в бархатной курточке. — Я его знаю, мой брат
У него в седьмом классе учится.
— Ну, все равно — Барбоса или Бабароса, а только он
такие задачки подбирает, что и семикласснику не решить.
51
Они так и называются: «неопределенные»... Всех до одного
проваливает!
Я слушал Сережку, и у меня от страха сосало под ло-
жечкой.
Но вот наконец нас построили в ряды и развели по клас-
сам. Сейчас должны были начаться письменные экзамены.
Мама проводила меня до самых дверей, еще раз одер-
нула на мне курточку и пригладила мои волосы.
— Только будь спокоен и не торопись, — сказала она,
но я видел, что и сама она не слишком-то спокойна.
В первый раз в жизни сел я за парту — желтую с чер-
ной блестящей крышкой и с двумя чернильницами в углуб-
лениях. Рядом со мной оказался Сережка Тищенко, а сза-
ди — тот веселый, круглощекий мальчик, который показы-
вал в коридоре фокусы, Степа Чердынцев.
В полуоткрытую дверь еще заглядывали родители. Широ-
кая шляпа Степиной матери совсем заслонила мою маму.
Я стал искать ее глазами, но тут дверь плотно закрыли, и
все мы почувствовали, что с этой минуты предоставлены
самим себе.
Скоро в класс вошел медленной, тяжеловесной походкой
пожилой, темнобородый, широкоплечий человек в очках.
Кое-кто из ребят при его появлении встал. Потом, один за
другим, поднялись и остальные.
— Сапожник!—шепнул мне в ухо Тищенко. — Беда!..
Учитель привычным, равнодушным взглядом окинул
пебтрые ряды ребят в курточках, матросках, пиджачках,
косоворотках.
— Здравствуйте, — сказал он, четко произнося все
буквы, в том числе и оба «в». — Приготовьтесь писать дик-
тант!
И он не торопясь роздал нам листки линованной бу-
маги.
Мы обмакнули перья в чернила и с тревогой уставились
на этого спокойного, медлительного человека в форменном
сюртуке.
Не переставая ходить по классу — от двери до окна, от
окна до двери и по всем проходам между партами, — он на-
чал диктовать громко и отчетливо, но как бы скрадывая те
гласные, в которых было легче всего ошибиться.
1— Белка жила в чаще леса...
— «Белка» через «ять» или через «е»? —шепотом спро-
сил меня Тищенко.
52
— Ять, — так же тихо ответил я.
— А «лес»?
— Тоже.
Не знаю, уловил ли Сапожник этот почти беззвучный
шепот, но только вдруг он остановился и сказал спокойно и
твердо, обращаясь ко всем нам:
— Предупреждаю: тот, кто будет подсказывать другим
или списывать, получит неудовлетворительный балл и не
будет допущен к следующему экзамену. Понятно?
В классе и до того стояла тишина, а тут стало еще тише.
Не дожидаясь ответа, Антонов продолжал тем же ров-
ным, монотонным голосом:
— ...На самой верхней ветке дерева... Повторяю: на са-
мой верхней ветке дерева.
— «Верхней» — «ять» или «е»? — еле слышно спросил
Тищенко.
Я написал на промокашке букву «е» и с ужасом поду-
мал, что Сережка будет, чего доброго, донимать меня до
конца диктовки.
— Сеня спал в сенях на свежем сене... — слышался из
дальнего угла гудящий голос Сапожника.
Я знал, что «свежий» и «сено» пишутся через «ять»,
«Сеня» — через «е». А вот как пишутся «сени»?..
Тищенко упорно шептал что-то в самое мое ухо, но мне
было не до него...
«Ять» или «е»? Как будто «е». Нет, конечно, «ять»!
Вдруг я почувствовал, что кто-то сзади дышит мне в за-
тылок. На мгновенье обернувшись, я увидел, что Степа Чер-
дынцев, приподнявшись, заглядывает в мой листок.
Антонов находился в это время далеко от нас, но, должно
быть, у него было какое-то особенное чутье. Грузно шагая,
направился он прямо в нашу сторону и — как видно, надол-
го — остановился перед партой, где сидели мы с Тищенко.
Сережка больше ни о чем меня не спрашивал, а Степа
оказался хитрее. Он то и дело брал у меня промокашку,
потом возвращал ее мне и при этом каждый раз бросал бег-
лый, почти неуловимый взгляд на мой листок.
— Ты что там делаешь?.. — строго окликнул его Са-
пожник.
Степа с самым невинным видом показал ему промо-
кашку.
— А глаза твои куда глядят?..
Степа затряс головой.
53
— Ей-богу, я ничего не вижу. Я близорукий. Мне даже
очки доктор прописал.
Сапожник недоверчиво посмотрел на него, потом напра-
вился к кафедре, взял розовый листок промокательной бу-»
маги и торжественно вручил его Степе.
— Большое спасибо, — сказал Степа.
Снова в классе стало тихо. Слышался только однообраз-»
ный и непрерывный, как жужжание большой мухи, голос
Антонова.
Но вот диктовка кончилась, и Сапожник сразу же стал
собирать наши листки. Я отдал свой, так и не успев его
проверить, и с тревогой смотрел, как Антонов, аккуратно
сложив листки, уносит их из класса со всеми нашими ошиб-
ками, кляксами и помарками... Вот он идет по коридору,
медленно и важно, будто сознавая, что держит в руках наши
судьбы.
Теперь уже ничего не вернешь. Ну, будь что будет!
Я бросаюсь к маме и пытаюсь припомнить все слова,
в которых сомневался. Но одни из них совершенно вылетели
у меня из головы, а в других мама и сама как будто не
слишком уверена. Может быть, она даже и не задумалась бы,
если бы ей пришлось написать с разбегу какую-нибудь
фразу, в которой встречаются эти слова. А тут ее берет
сомнение. Она пытается припомнить, сообразить, что как
пишется, а мне уже не до диктовки.
Пора думать о следующем экзамене — письменном по
арифметике. Говорят, экзаменовать будет Макаров — тот
самый злющий учитель, которого Тищенко называл «Барбо-
сой», а другой мальчик «Барбароссой».
Ждать нам приходится очень долго, — так, по крайней
мере, кажется мне. Мама уговаривает меня съесть бутер-
брод, который она принесла из дому, но я только головой
мотаю.
— Нет, нет, потом, после экзамена!
И вот мы снова в том же классе, где писали диктовку.
Опять закрываются плотные двери, отделяя нас от всего
мира. Но теперь рядом со мной уж не Сережка Тищенко, а
спокойный, неторопливый голубоглазый мальчик в косово-
ротке. Нам с ним не до разговоров, но я все же спрашиваю:
— Как тебя зовут?,
— Зуюс.
54
— Это что же — имя такое?
— Нет, фамилия. Имя — Константин.
Но вот в класс входит Барбоса или Барбаросса, высокий,
с огненно-рыжей бородой. Борода его сверкает золотом в
ярком солнечном свете, как и пуговицы вицмундира.
На этот раз ребята все сразу поднимаются с мест.
Макаров милостиво кивает головой, разглаживает пышную
бороду и, бодро постукивая мелом, пишет на классной
доске две задачи: одну для тех, кто сидит на партах справа,
другую — для сидящих слева. Мне выпала на долю задача,
в которой надо разделить груши между четырьмя братьями
так, чтобы первому досталось больше, чем второму, второму
больше, чем третьему, и так далее. А Костя Зуюс должен
решить задачу про купца, который купил и продал сколько-
то цибиков чая.
Разные задачи даются нам, должно быть, для того, чтобы
мы не списывали у соседа по парте.
В первые минуты я ровно ничего не могу сообразить,
хоть с Марком Наумовичем не раз делил между братьями и
яблоки, и груши, и орехи. Но тогда я решал такие задачи не
торопясь, не волнуясь, а теперь особенно раздумывать неко-
гда: того и гляди, у тебя отберут листок, решишь ли ты за-
дачу или не решишь.
А тут еще перед самой твоей партой торчит этот рыже-
бородый учитель, так похожий на генерала, портрет кото*
рого я видел в цветном календаре. Он благодушно улы-
бается в бороду, и все же под его взглядом мысли путаются
у меня в голове. Мой сосед по парте тоже, видно, никак
не может подступиться к своей задаче. Он ерзает, сопит,
и уши у него горят от волнения.
Наконец Макаров отходит от нашей парты и, бережно
расправив фалды сюртука, величаво усаживается на ка-
федре.
Я облегченно вздыхаю и только теперь принимаюсь за
дело, забыв и учителя, поглядывающего на нас с высоты
своей кафедры, и соседей по парте, и быстро бегущее время.
Наконец мне как будто удается справиться с задачей: верно
или неверно, а груши между братьями поделены. Прежде
нем приняться за проверку, я оглядываюсь по сторонам.
Все ребята в классе еще сидят, хмурые и озабоченные, низко
наклонившись над своими листками. Степа Чердынцев, чуть
привстав, просит у соседа, сидящего впереди, промокашку.
Макаров, задумчиво поглаживая бороду, смотрит с кафедры
55
в окно, за которым живет своей жизнью еще безлюдный в
эти часы сад со всеми своими птицами, шмелями, жуками,
стрекозами.
Меня охватывает тревога. Неужели я и в самом деле пер-
вым решил задачу? Уж нет ли где-нибудь ошибки? А вре-
мени остается, должно быть, совсем немного. С бьющимся
сердцем, уже торопясь, я снова складываю, множу, вычитаю,
делю... Нет, как будто все правильно — ответ получается тот
же, что и в первый раз. Должно быть, верно! Смотрю — и у
Кости Зуюса лицо прояснилось, даже появилась на губах
улыбка.
— Решил? — спрашиваю я тихонько.
— Ага! — отвечает он одним дыханьем.
А Матвей Иванович уже отбирает листки у тех, кто до-
вел дело до счастливого конца, и у тех, кто запутался во
всех этих грушах и цибиках.
Ну, если только я не провалился по русскому письмен-
ному, значит, у меня все в порядке. Правда, самое трудное
еще впереди. Завтра на устных экзаменах спрашивать меня
будет не один учитель, а целая комиссия в сюртуках с зо-
лотыми пуговицами и отвечать надо будет быстро, отчетли-
во, без запинки...
После тревожной ночи мы опять отправились с мамой
в гимназию.
В этот день ребят экзаменовали не в классе, а в про-
сторном зале, где со стен смотрели на пас изображенные во
весь рост царь в военной форме с широкой голубой лентой
через плечо и царица в высоком жемчужном венце вроде
кокошника, в нарядном платье, похожем на сарафан, и тоже
с лентой через плечо.
Нас, ребят, по очереди вызывали к длинному, покрытому
тяжелым сукном столу, за которым среди учителей в синих
вицмундирах сидел сам директор, безбородый, моложавый,
в темно-зеленом форменном фраке без наплечников. Во всей
его повадке было нечто такое, что отличало его от учителей.
Он держался свободнее, проще и смотрел на нас как будто
приветливее.
И все же я с трепетом ждал той минуты, когда меня вы-
зовут. Как это я буду стоять совсем один перед огромным
столом, за которым сидит столько взрослых, важных людей
в форме!
56
В ту пору я был очень мал ростом, — меньше всех ребят,
которые пришли экзаменоваться. А тут, в ртом высоком зале
с большими окнами, с большими дверями и портретами, я
почувствовал себя совсем затерянным. Да меня, чего добро-
го, и не услышат, когда я начну говорить!..
Поглядывая по сторонам, я видел, что и другие ребята
боятся не меньше, чем я. Один только Степа Чердынцев и
здесь не унывал: он показывал ребятам, как шевелить уша-
ми. Для этого он морщил лоб и старательно поднимал и опу-
скал брови, пока уши у него и в самом деле не начинали
слегка шевелиться. В другое время ребятам, наверно, очень
понравился бы новый фокус и каждому захотелось бы обу-
читься этому искусству, но сейчас Степа не имел никакого
успеха. Мельком поглядев в его сторону, ребята отворачи-
вались и опять впивались глазами в стол, покрытый зеленым
сукном.
Мне тоже было не до Степиных ушей. Очередь уже до-
шла до буквы «м». Передо мной пошел отвечать высокий,
стриженный наголо мальчик в длинных брюках, в косово-
ротке, подпоясанной шелковым шнурком и вышитой по во-
роту и подолу. Когда назвали его фамилию — Малафеев, —
он тайком, торопливо перекрестился, одернул косоворотку
и с какой-то отчаянной решимостью ринулся к столу.
Антонов скрипучим, безучастным голосом предложил ему
прочесть вслух сказку «Лиса и Журавль».
Малафеев взял раскрытую книгу и медленно, по складам,
будто ворочая камни, прочел несколько строк.
— Довольно, — прервал его Сапожник. — Скажите мне,
какого рода существительное «журавль».
— Женского, — нерешительно ответил Малафеев.
— Почему женского?
— Потому что кончается на мягкий знак.
Директор улыбнулся.
— Но ведь слово «учитель» тоже кончается на мягкий
знак. Или, скажем, слово «парень». Что же, по-твоему, и
«парень» женского рода?
— Нет, мужеского, — виновато сказал Малафеев.
В голосе его уже слышались слезы.
— Ну, ладно, не робей!—приободрил его директор.—
Со всяким случается... Прочитай-ка лучше какое-нибудь
стихотворение.
— Какое? — спросил Малафеев.
— Да какое хочешь.
57
Малафеев помолчал, подумал немного и вдруг загудел,
словно заиграл на дудке, не повышая и не понижая голоса
и не останавливаясь на знаках препинания:
— «Школьник». Стихотворение Некрасова.
Ну пошел же ради бога
Небо ельник и песок
Невеселая дорога
Эй садись ко мне дружок...
Тут он перевел дух и опять понесся вперед без удержу:
Ноги босы грязно тело
И едва прикрыта грудь
Не стыдися что за дело
Это многих славный путь.
Славных путь!—поправил Антонов.
— Славных путь! — повторил Малафеев.
Я слушал его и думал: ну разве так читают стихи? Вот
я бы им показал, как надо читать!
И вдруг мне страстно захотелось, чтобы меня поскорее
вызвали. На вопросы я как-нибудь отвечу, — только пускай
дадут мне прочитать стихи...
В эту минуту громко — на весь зал — прозвучала моя
фамилия.
Хорошо, что именно в эту минуту, пока еще мой задор
не успел остыть.
Не помню, о чем спрашивали меня Сапожник и другой
учитель с длинными, опущенными книзу усами, но только
отвечал я на этот раз и в самом деле без запинки, как ни-
когда не отвечал Марку Наумовичу. А когда дело дошло до
стихов, я, не задумываясь, сказал, что прочту отрывок из
«Полтавы» — «Полтавский бой».
— Пожалуйста, — согласился директор.
Я пабрал полную грудь воздуха и начал пе слишком
громко, приберегая дыхание для самого разгара боя. Мне
казалось, будто я в первый раз слышу свой собственный
голос.
Горит восток зарею новой.
Уж па равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Стпхи эти я не раз читал и перечитывал дома — и по
книге, и наизусть, — хотя никто никогда не задавал их мне
58
на урок. Но здесь, в ртом большом зале, они зазвучали
как-то особенно четко и празднично.
Я смотрел на людей, сидевших за столом, и мне каза-
лось, что они так же, как и я, видят перед собой поле бит-
вы, застланное дымом, беглый огонь выстрелов, Петра на
боевом коне.
Идет. Ему коня подводят.
' Ретив и смирен верный конь<
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могучим седоком...
Никто не прерывал, никто не останавливал меня. Торже-*
ствуя, прочел я победные строчки:
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает..;
Тут я остановился.
С могучей помощью Пушкина я победил своих равнодуш-
ных экзаменаторов. Даже Сапожник — Антонов не сделал мне
ни единого замечания и не предложил разобрать отдельные
слова поэмы по родам, числам и падежам. Длинноусый, по-
хожий на украинца учитель, сидевший рядом с ним, сказал
«славно», а директор подозвал меня, усадил к себе на ко-
лени и стал расспрашивать, какие еще стихи я люблю и
знаю наизусть.
Я сказал, что больше всего люблю пушкинского «Дели-
баша» да еще «Двух великанов» Лермонтова и с полной го-
товностью предложил тут же прочитать оба стихотворения.
Директор засмеялся.
— В другой раз! — сказал он. — А сейчас беги к своим,
скажи, что получил пятерку.
Не помня себя от радости, я выбежал в коридор.
Домой мы ехали на извозчике. По дороге остановились
У магазина и купили гимназическую фуражку — темно-
синюю, с блестящим козырьком и белым кантом. Тут же ку-
пили и герб с буквами «О. Г.» над двумя скрещенными
лавровыми веточками из какого-то светлого, серебристого
металла. Мы сразу же прицепили герб к фуражке, и я вер-
нулся к себе на Майдан гимназистом. Отец и старший брат
59
увидели нас из окна и бросились нам навстречу. По моей
гимназической фуражке они сразу поняли, что дело в шля-
пе — я выдержал!
— На круглые пятерки? — спросил отец.
— На круглые!
— Ну, а что я говорил? — сказал он, победоносно улы-
баясь.
Сестры и младший брат стали по очереди примерять
мою новенькую фуражку, но мама отняла ее и спрятала в
шкаф.
А мне так хотелось показаться в ней соседским ребятам.
— Погоди, — сказала мама. — Мы еще не знаем, принят
ли ты в гимназию.
— Как это не знаем? Ведь у меня круглые пятерки!..
Увы, через несколько дней выяснилось, что мама сомне-
валась не зря.
Первые мои «лавры» оказались недолговечными. Какая-
то непонятная мне «процентная норма» закрыла для меня
доступ в гимназию. Приняли и Степу Чердынцева, и Се-
режку Тищенко, и Саньку Малафеева, и Костю Зуюса, а
меня не приняли.
Своими руками сняла мама герб с моей фуражки и спря-
тала у себя в шкатулке.
досуг поневоле
Погоревав немного, я по-прежнему втянулся в будничную
слободскую жизнь — дрался с босыми мальчишками, пускал
Змея, смотрел, как наши голубятники швыряют в небо своих
турманов. Гимназия в городе, учителя, директор, так обла-
скавший меня на экзамене, — все это отошло куда-то дале-
ко и стало казаться не то сном, не то страницей из прочи-
танной и полузабытой книги.
И вдруг я опять увидел всех учителей гимназии во
главе с директором. И где увидел? У нас, на Майдане, за
стеклами новенькой витрины фотографа, который, видимо,
недавно поселился на слободке.
Среди множества довольно бледных фотографических
карточек «визитного» и «кабинетного» формата, изображав-
ших молодых людей с выпученными глазами и застывших
в оцепенении девиц со взбитыми прическами и буфами на
плечах, была выставлена большая групповая фотография, на
60
которой красовался весь педагогический совет гимназии во
главе с директором. Учителей фотограф расположил тремя
рядами. Я стал внимательно разглядывать этУ поразившую
меня фотографию. Тут оказался и классный наставник мо-
его брата — латинист Владимир Иванович Теплых, которого
я видел мельком в гимназическом коридоре перед экзаме-
ном, и рыжебородый Барбаросса, и Сапожник, и толстый
географ.
Я не верил своим глазам. На этот раз я мог спокойно,
в упор рассматривать этих необыкновенных людей, от ко-
торых зависела судьба стольких ребят.
А нельзя ли купить фотографию? Наверно, она стоит, —
если только продается простым смертным, — никак не
меньше ста рублей!
Я отважился зайти к фотографу и робко справился о
цене. Рыхлый и бледный человек спокойно и деловито от-
ветил мне:
— Один рубль.
Ах, это было очень, очень дешево — двадцать или три-
дцать учителей гимназии в полной парадной форме — за
один рубль!.. Но и такая цена была мне не по карману. Гри-
венник еще можно было попросить у мамы на тетради или
на воскресное гулянье в саду, но где достать десять гривен-
ников — рубль, целый рубль?
Вовсе не надеясь раздобыть такую крупную сумму, я
как-то рассказал отцу, что видел у фотографа на карточке
всю гимназию, и, если бы мне посчастливилось найти
на улице рубль (ведь это же бывает — некоторые нахо-
дят, правда?..), я бы непременно купил себе такую кар-
точку...
Отец ласково потрепал меня по голове, порылся в кар-
манах и, не говоря ни слова, высыпал мне на ладонь целую
горсть монет, медных и серебряных. Я пересчитал их: ровно
рубль, копеечка в копеечку.
В тот же день большая фотография была изъята из вит-
рины и перешла в мои руки. Я не был принят в гимназию, —
зато сама гимназия оказалась у меня дома. Жаль только, что
некоторые учителя вышли на фотографии без ног, то есть
ноги их были заслонены головами незнакомых мне учителей,
сидевших в нижнем ряду.
Я решил поправить дело и, вооружившись ножницами,
аккуратно вырезал и директора Владимира Андреевича Ко-
норова, и латиниста Владимира Ивановича Теплых, и мате-
61
матика — Барбароссу, и географа Павла Ивановича Силь-
ванского. Кому не хватало ног, я приделал их, пожертвовав
нижним рядом учителей. Меня мало смущало то, что на
брюках у них оказались чьи-то головы или части голов. Зато
все теперь были с ногами.
Вырезанных учителей я положил в коробку и на досуге
разыгрывал целые сцены из жизни гимназии, которая так
незаслуженно отвергла меня, несмотря на все мои пятерки.
Постепенно и я — по примеру старшего брата — прист-
растился к чтению. Доставать книги было нелегко, и читал
я все, что попадалось под руку. Не меньше двадцати раз
подряд перечел роман Жюля Верна «Север против Юга», где
изображались подвиги, поражения и победы северных аме-
риканцев в борьбе зя освобождение негров.
Снабжал меня книгами наш сосед, сивоусый, строгий и
рассудительный красильщик, у которого был большой выбор
третьесортных, изобилующих дешевыми приключениями
«романов» из приложений к мещанскому журналу «Родина».
Сосед очень гордился своими книгами, от которых за версту
несло мышами и затхлостью. И до сих пор журнал «Родина»
и даже фамилия его редактора-издателя Каспари неразрыв-
но связаны у меня в памяти с этим едким и душным за-
пахом.
Другим моим поставщиком литературы был молодой па-
рень с красивым, по-девичьи нежным лицом, похожий на
царевича из тех русских сказок, которые он сам же мне да-
вал. Целые дни проводил он в лабазе своего отца или дяди
за конторкой, на которой, как на аналое, всегда лежала рас-
крытая книга. От книги молодой Мелентьев отрывался только
тогда, когда нужно было отсыпать покупателю-извозчику
овса или ячменя. Пощелкав на счетах и получив деньги, он
опять садился на свой высокий табурет и погружался в ро-«
май, пьесу или в сборник сказок.
Читая запоем книги, он зачастую не знал имени автора
и даже заглавия, так как обложки большинства его книг бы-
ли потеряны.
Таким образом, не имея ни малейшего представления,
что за «роман» дал мне Мелентьев, прочел я знаменитого
«Рокамболя» и еще десяток переводных книжек с иностран-
ными именами героев, с тайными интригами, заговорами, по-
гонями и убийствами t
62
Но в том же лабазе я впервые нашел среди книг «Ты-
сячу и одну ночь», и с тех пор волшебные сказки Шехе-
резады овеяны для меня едва уловимым запахом овса и
ячменя.
Внимательно перебирая воспоминания, связанные с пер-<
выми годами жизни, видишь, как глубоко и сильно врезается
в нашу память каждое услышанное в детстве слово.
Мне было лет шесть-семь, когда я впервые прочел или
услышал басню Крылова «Волк и Кот».
Волк из лесу в деревню забежал.
Не в гости, но живот спасая...
До сих пор я отчетливо помню — будто сам, своими гла-»
зами видел — этого забежавшего в деревню волка. Помню и
высокий дощатый забор, на котором сидит кот. Низко наклон
нив серую с черными полосами голову, мудрый и спокойный,
он деловито разговаривает с усталым, затравленным вол-<
ком, за которым по пятам гонятся охотники.
И все соседи, чьи имена называет кот (Степан, Демьян,
Трофим, Клим), кажутся мне знакомыми людьми, живущими
на Майдане где-то поблизости от нас.
Ведь в басне так и сказано: «Беги ж, вон там живет
Трофим». Это «вон там» придавало особую реальность сло-
вам крыловского кота.
Сквозь каждое слово, как сквозь прозрачное стекло, ре-
бенок видит названный предмет, видит живую и подлинную
действительность.
Даже сюжеты книг, прочитанных в более позднем возра-
сте — лет в десять — одиннадцать, — переплелись у меня в
памяти с реальными событиями нашей жизни.
В эти годы скитавшийся по Руси в поисках работы отец
познакомился где-то с обедневшим помещиком, отставным
подполковником Адамом Николаевичем Лясковским. Именно
его было заложепо-перезаложено. И вот отец обнаружил по
каким-то признакам в этом имении железную руду.^ поме-
щика не было и сотни рублей на то, чтобы начать изыска-
ния. Отец на последние свои деньги привез к нему горных
инженеров, серьезно заинтересовавшихся этим делом.
Когда же отец навестил Лясковского через несколько ме-
сяцев, он нашел у него за богато накрытым столом целую
ораву прихлебателей, которые называли теперь отставного
63
подполковника не иначе, как «пане полковнику» или «гос-
подин полковник». Самолюбивый и вспыльчивый отец сразу
же перессорился со всей этой разношерстной и подозри-
тельной компанией дельцов, и расчетливому хозяину при-
шлось потратить немало усилий, чтобы успокоить и уми-
ротворить отца, который в то время все еще был ему
нужен.
Месяц тянулся за месяцем. Изыскательские работы в име-
нии шли полным ходом. И отец ни на минуту не терял уве-
ренности в том, что его труды будут в конце концов достоя-
но вознаграждены, хотя у него не было не только официаль-
ного договора с подполковником, но даже п простой записки,
подтверждающей щедрые обещания Лясковского.
А между тем вся наша семья жила в это время только
отцовскими надеждами да еще той скудной помощью, кото-
рую оказывали ей родственники. Я был тогда слишком мал,
чтобы запомнить все подробности этой печальной истории.
Но у меня остались в памяти два письма — гневные строки
отца, в которых он спрашивает у Лясковского: «Адам Нико-
лаевич, где бог, где совесть, где честь?» — и спокойно скеп-
тический ответ подполковника: «Ах, Яков Миронович, бог
высоко, совесть далёко, а честь — это дело растяжимое».
Помню, как тяжело пережила наша семья полное круше-
ние всех падежд. А мне было обидно, что мой умный и ви-
давший виды отец позволил так легко обмануть себя и те-
перь никакими усилиями не может добиться самой простой
правды и справедливости.
В эти дни я зачитывался «Дубровским». И как-то неза-
метно в сознании моем слились помещик Троекуров с поме-
щиком Лясковским, а Владимир Дубровский — с моим отцом.
Правда, отец пе стал атаманом разбойников и ничем не
отомстил вероломному подполковнику, но события, про-
исшедшие в действительности, и эпизоды пушкинской пове-
сти так тесно переплелись между собой, что и до сих пор
живут в моей памяти рядом.
ГИМНАЗИЯ
Совершеппо неожиданно пришла весть о том, что я при-
нят в гимназию. Не бывать бы счастью, да несчастье помог-
ло. В один и тот же день за какую-то провинность из муж-
ской гимназии исключили ученика, и из женской — ученицу.
64
Город Острогожск. Вверху — улица на Майдане, на которой жила
семья Якова Мироновича Маршака (ныне — улица С. Маршака).
Внизу — Богоявленская улица (фотография около 1900 г.).
С. Маршак. Петербург, 1902 г.
Оба они были не то в последнем, не то в предпоследнем
классе.
И вот вакансия, освободившаяся в мужской гимназии,
была предоставлена мне. На фуражке у меня снова забле-
стел герб, и я среди учебного года очутился за партой.
Мне купили такой же мохнатый, покрытый седой бар-
сучьей щетиной ранец и такую же серую шинель с двумя
рядами светлых пуговиц, как у моего старшего брата, и
я был бесконечно горд, когда мы с ним — два гимназиста —
шагали рядом по дороге в город, разговаривая об учителях,
о товарищах по классу, о школьных новостях. Моя шинель
была новее, герб и пуговицы блестели ярче, по зато у брата
был вид старого, заправского гимназиста. Верх его фуражки
был нарочно примят по бокам, как у Марка Наумовича, а
у меня он пока что упрямо топорщился. Да и все гимназиче-
ское обмундирование еще выглядело на мне, как на вешалке
в магазине^ С первого же взгляда можно было узнать, что
я новичок.
В классе я встретил много старых знакомых — тех са-
мых ребят, которые держали со мной вместе экзамены.
Почти все они очень изменились за эти несколько месяцев —
подросли и утратили что-то свое, домашнее, детское.
Длинный, сухопарый Сережка Тищенко усвоил повадки
матерого, стреляного волка, побывавшего во многих передел-
ках. Учителей называл он — конечно, за глаза — уменьшитель-
ными именами илп прозвищами: «Пашка», «Яшка», «Шваб-
ра», «Губошлеп». Отвечать выходил нехотя, неторопливо и,
получив очередную двойку, медленно, вразвалку возвращал-
ся на место, задевая ногами и локтями сидевших за партами
товарищей или строя такие невообразимые рожи, что даже
самые примерные из ребят не могли не прыснуть громко,
на весь класс.
Степа Чердынцев тоже за это время вполне освоился с
гимназической обстановкой п чувствовал себя в классе как
Дома: на уроках играл со своим соседом в шашки, а на пере-
менах выменивал почтовые марки разных стран на перья,
а перья — на марки.
На нем уже не было пышного, пестрого галстука бантом
и нарядного отложного воротничка. В гимназической форме
°н казался еще толще, чем в прежнем пиджачке и коротких
штанишках, был коротко острижен и от других ребят отли-
чался только тем, что из рукавов серой блузы выглядывали у
него белые накрахмаленные манжеты с блестящими запонками.
3 С. Маргиап, т. 6 65
Как я узнал позже, манжеты он носил не из одного щеголь-
ства: они были нужны ему для фокусов и для шпаргалок.
К счастью для меня, моим соседом по парте оказался спо-
койный и толковый Костя Зуюс, с которым я впервые встре-
тился па письменном экзамене по арифметике.
Он подробно рассказал мне, что прошли в классе с на-
чала учебного года по каждому предмету, и самым обстоя-
тельным образом познакомил меня с гимназическими поряд-
ками и правилами.
Если бы не Костя, я бы не раз стоял в углу. Накануне
того дня, когда по расписанию была у нас география, он
заботливо напоминал мне, чтобы я не забыл принести атлас.
Всех, кто являлся в класс без атласа, Павел Иванович не-
укоснительно ставил к стенке и записывал в классный жур-
нал.
Атлас был очень велик и пе влезал в ранец, а носить его
под мышкой было неудобно. В ненастную погоду его мочил
дождь, в мороз из-за пего коченели руки. Но Павел Ивано-
вич был неумолим.
Перед началом урока этот грузный человек, казавшийся
нам настоящим великаном, бесшумно, чуть ли не па цыпоч-
ках, обходил ряды парт в поисках очередной жертвы.
Ребята, уже прошедшие осмотр, пытались иной раз пе-
редать из-под парты свои атласы тем, у кого их пе было,
но зоркий Павел Иванович рано или поздно обнаруживал
Этот маневр и выстраивал вдоль стены добрую половину
класса.
Впрочем, такое наказание сулило и некоторые выгоды:
стоящих в углу наш географ почти никогда нс вызывал
отвечать урок. Этим пользовались самые заядлые лодыри.
Угол спасал их от двойки.
Павел Иванович учил нас географии несколько лет, пока
прямо из гимназии не угодил в сумасшедший дом. Говорили,
что на одном из уроков он взобрался на подокопник и пы-
тался пролезть сквозь форточку. После долгой борьбы сто-
рожа сняли его с подоконпика и увезли на пзвозчике.
Больше мы никогда его не видали.
В первые годы моего пребывания в гимназии нашим клас-
сным наставником, переходившим с памп из класса в класс,
был Владимир Иванович Теплых, о котором я столько слы-
шал от старшего брата*
66
И до сих пор я бережно храню в своей памяти навсегда
отпечатавшийся в ней облик этого особенного, не совсем по-
нятного, но по-своему необыкновенно привлекательного че-
ловека.
Как сейчас, вижу его высокую, стройную фигуру в от-
лично сшитом форменном сюртуке. Белоснежно поблескивает
грудь его крахмальной рубашки, безупречно свежи воротни-
чок и манжеты. Светло-русые волосы уже слегка поредели,
но зачесаны так, что лысина почти не видна, хоть он и лю-
бит шутливо повторять латинскую поговорку: «Calvitium
non est vitium sed prudentiae judicium» — «Лысина не по-
рок, а свидетельство мудрости».
Легкими и уверенными шагами поднимается он на ка-
федру, свободным, красивым движением раскладывает книги
и открывает классный журнал. Даже отметки он ставит
красиво — изящным тонким почерком. А как умеет он
радовать нас метким, шутливым словцом, веселой, чуть лу-
кавой улыбкой в те минуты, когда хорошо настроен. От
этой улыбки и сам он светлеет — светлеют глаза, волосы,
острая золотистая бородка — да и вокруг как будто стано-
вится светлей.
Ни один учитель не умел так держать в руках класс, как
умел Владимир Иванович. Он никого не ставил в угол, не
оставлял без обеда, но ученики боялись его проницательных,
слегка прищуренных глаз, его холодного и спокойного не-
одобрения больше, чем ворчливой ругани Сапожника или
визгливых и резких выкриков Густава Густавовича Рихмапа,
учителя немецкого языка.
До моего поступления в гимназию любимцем Владимира
Ивановича был мой старший брат. Как бы по наследству его
расположение перешло и ко мне.
Он преподавал нам с первого класса латынь, а с третьего
и греческий язык, но, в сущности, ему, а не учителям рус-
ского языка — Антонову и Пустовойтову — обязаны мы тем,
что по-настоящему почувствовали и полюбили живую, не-
книжную русскую речь.
Не много встречал я на своем веку людей, которые бы
так талантливо, смело, по-хозяйски владели родным языком.
В речи его не было и тени поддельной простонародности, и
в то же время она ничуть не была похожа на тот отвлечен-
ный, малокровный, излишне правильный, лишенный склада
и лада язык, на котором объяснялось большинство наших
Учителей.
3*
67
Огвечая ему урок, мы чувствовали по выражению его
лица, по легкой усмешке или движению бровей, как оцени-
вает он каждое наше слово. Он морщился, когда слышал
банальность, вычурность или улавливал в нашей речи фаль-
шивую интонацию. В сущности, таким образом он постепен-
но и незаметно воспитывал наш вкус.
Не знаю, был ли Владимир Иванович хорошим педаго-
гом в общепринятом значении ртого слова. Занимался он
главным образом со способными и заинтересованными в изу-
чении языка ребятами. К тупицам и неряхам относился с не-
скрываемым пренебрежением. Зато лучшие ученики шагали
у него семимильными шагами. Они изучали латинский и гре-
ческий языки как бы на фоне истории Рима и Греции,—
так увлекательно рассказывал Теплых в промежутках между
грамматическими правилами о героях Троянской войны, о
походах Юлия Цезаря, об одежде, утвари и обычаях древ-
них времен.
Однажды он явился к нам на урок географии вместо от-
сутствовавшего в эт(>т день Павла Ивановича. Он не стал
проверять, есть ли у нас атласы, никого не вызвал к доске
а рассказал нам о своем путешествии в Японию.
Уж одно то, что рассказывал он о далекой, почти ска-
зочной стране не с чужих слов, должно было покорить нас,
ребят уездного городка, которым даже поездка в Москву или
в Харьков представлялась далеким и заманчивым путешест-
вием. Мы читали книги о дальних плаваньях, но впервые ви-
дели перед собой человека, который сам пересек на корабле
синие пространства, занимавшие столько места на нашей
карте.
Незадолго перед тем я и Костя Зуюс не отрываясь про-
чли «Фрегат «Палладу» Гончарова и даже проследили по кар-
те весь путь этого корабля. И вот теперь Владимир Иванович
так приблизил к нам все, о чем мы узнали из книги, словно
подал надежду, что и нам доведется когда-нибудь постранст-
вовать по белу свету.
Среди учителей Теплых держался особняком. Он почти
не скрывал своего презрения к Сапожнику — Антонову, к
недалекому и невежественному Густаву Густавовичу Рихма-
ну, к словоохотливому и самодовольному географу, а водил
дружбу только со скромным учителем рисования Дмитрием
Семеновичем Коняевым, которого большинство сослуживцев,
в сущности, и за преподавателя не считало, — экий, поду-
маешь, важный предмет — рисование!
68
С этим мягким, простодушным, чуждым служебного че-
столюбия и далеким от всяких дрязг человеком, которому
судьба помешала стать художником, Владимира Ивановича
связывали какие-то общие интересы и вкусы. Они вместе
ездили на охоту или на рыбную ловлю.
Но чаще всего Владимир Иванович бывал один.
Почему этот одаренный, тонкий, знающий себе цену че-
ловек жил безвыездно в нашем уездном городе, отказываясь
от перевода в другие города, где ему предлагали должность
инспектора и даже директора, — попять трудно.
Нас, учеников, пленяли его гордость и независимость.
Когда к нам в гимназию пожаловал однажды сам попечитель
Харьковского учебного округа, впоследствии товарищ мини-
стра, тайный советник фон Анрсп во фраке с большой ор-
денской звездой, — Владимир Иванович продолжал как ни в
чем не бывало свой очередной урок и будто нарочно вызы-
вал к доске самых посредственных, пе блещущих способно-
стями и познаниями учеников. Фон Анреп, долго сохраняв-
ший на своем лице благосклонную улыбку вельможи, в
конце концов нахмурился и валено удалился, не сказав ни
слова.
Теплых был загадкой для всего города. Толки п пересуды
сопровождали каждый его шаг. Рассказывали, будто изредка
он заходит в городской клуб и в полном одиночестве выпи-
вает бутылку шампанского или рюмку коньяку с черным
кофе. Но ничего более предосудительного в его поведении
обнаружить не могли:
Очевидно, он не был по своему происхождению аристо-
кратом (об этом свидетельствовала его сибирская, крестьян-
ская фамилия), но как не похож он был па других учителей
провинциальной гимназии, которые давно опустились, забы-
ли о своих университетских годах п стали чиповпиками и
обывателями.
До поступления в гимназию я слышал много разговоров
о его строгости, о том, что заслужить у него пятерку труд-
нее, чем Георгиевский крест на войне.
Но, видно, моему старшему брату и мне повезло. Нас
обоих он называл «триарпями» (отборными воинами рим-
ской армии), редко вызывал к доске, а с места спрашивал
только тогда, когда долго не мог добиться от других верного
ответа. В таких случаях он шутливо говорил: «Res venit ad
triarlos!» — «Дело доходит до триариев!»
69
Каждую субботу я приносил домой заполненную и под-
писанную им страницу ученического дневника, пестревшую
тщательно, с удовольствием выведенными пятерками, и даже
пятерками с крестом.
Меня — в отличие от старшего брата — он обычно звал
«Маршачком».
— А ну-ка, пусть Маршачок расскажет нам про двух
Аяксов, — Аякса Теламоновича и Аякса Оилеевича!
Героев «Илиады» я знал в то время не хуже, чем многие
из нынешних ребят знают наших чемпионов футбола, хок-
кея, бокса. Я мог, не задумавшись, сказать, кто из ахеян и
троянцев превосходит других силой, весом, ловкостью, кто
из них первый в метании копья и кому нет равного в стрель-
бе из лука.
Еще в младших классах гимназии я перевел стихами це-
лую оду Горация «В ком спасение» — «In quo salus est».
До сих пор помню несколько строчек из этого перевода:
Когда стада свои па горы
Погнал из моря бог Протей,—
В лесных деревьях, бывших прежде
Убежищем для голубей,
Застряли рыбы. Лани плыли
По Тибру. Тибр поворотил
Свое течение и волны
На храм богини устремил
И памятник царя...
Так сумел заинтересовать нас Владимир Иванович древ-
ними языками и античной литературой — предметами, столь
ненавистными большинству учеников классических гимназий.
Но, как ни уважали мы нашего латиниста, мы все же
порядком побаивались его.
Гораздо проще и свободнее чувствовал себя наш класс на
уроках Якова Константиновича Пустовойтова, который вре-
менно заменял у нас Антонова. Он еще не дослужился до
чина, и потому па его золотых наплечниках не было ни од-
ной звездочки. Говорил он грудным, хриплым, словно надса-
женным голосом. Часто покрикивал на ребят и давал им
самые невероятные прозвища — по большей части из Досто-
евского — «Свидригайлов», «Лебезятников» и проч. Однако
все мы чувствовали, что на самом-то деле наш мрачноватый
Яков Константинович сердечен и незлобив и только из ка-
кой-то понятной детям застенчивости, а может быть, и ради
70
самозащиты скрывает свою душевную мягкость и доброту.
Роста он был небольшого, и синий форменный сюртук era
казался непомерно длинным, даже как будто мешал ему хо-
дить.
Не знаю, сколько лет было в это время Пустовойтову.
Должно быть, он был еще довольно молод, но уже произво-
дил впечатление неудачника, который давно махнул на все
рукой и не надеется больше ни на какое будущее.
Но почему-то таких, не слишком счастливых людей, ребя-
та особенно любят.
Мне нравился его добродушно-ворчливый юмор, его хму-
рая улыбка и глуховатый голос. Я жалел его до глубины
души, когда он приходил в класс на пять минут позже обыч-
ного, чем-то огорченный (видпмо, какими-нибудь объясне-
ниями с директором или инспектором). Не раз хотелось мне.
выразить ему свою нежность, но для этого не было подхо-
дящего случая.
Однажды весной вся наша гимназия отправилась за город
на традиционную прогулку со своим духовым оркестром, с
корзинами, полными бутербродов, и сверкающими па солнце
большими самоварами. Все мы — от директора до самого
младшего приготовишки — были в том счастливом, припод-
нятом настроении духа, когда исчезают преграды между
людьми разных возрастов и положений.
В чуть позеленевшей загородной роще я отозвал Пусто-
войтова в сторону и после минутного молчания сказал ему,
задыхаясь от волнения:
— Яков Константинович, я вас люблю!
Он пожал плечами, чуть-чуть улыбнулся п ответил мне
своим негромким, с легкой хрипотцой голосом:
— Ну и что же нам теперь делать?
Я смутился. Он заметил это и ласково похлопал меня по
плечу.
— Ладно, ступайте, ступайте, побегайте!
Так окончилось первое мое объяснение в любви.
Пробыл у нас в гимназии Яков Константинович недолго
и ушел как-то незаметно.
Из учителей, у которых не было чина и звездочек на по-
гонах, запомнился мне еще один. Эт° был преподаватель
Уездного училища, явившийся к нам однажды на урок вме-
сто заболевшего математика Макарова.
71
Ребята знали, что Барбароссы в этот день не будет, и,
как всегда на «пустом» уроке, уютно занялись самыми раз-
нообразными делами: одни читали книгу, другие играли в
перышки, третьи, сдвинув парты, проделывали между ними
замысловатые акробатические упражнения. Как вдруг дверь
открылась, и на пороге появился толстый, тяжело отдуваю-
щийся надзиратель, по прозвищу «Самовар». Он велел всем
сесть на свои места и привести в порядок парты, а потом
громогласно объявил, что заниматься с нами будет в этот
день Серафим Иванович Кобозев.
В ответ послышался гул неодобрения, но быстрый и энер-
гичный Самовар сразу же водворил порядок. Едва он уда-
лился, в класс вошел, сияя улыбкой, завитой и напомажен-
ный молодой человек в синем вицмундире, ничем не отли-
чавшемся от вицмундиров наших гимназических учителей.
Только пуговицы и золотые наплечники были у него, пожа-
луй, поярче и поновее.
Ученики с насмешливым любопытством разглядывали
Этого белокурого франта с задорным хохолком и шелкови-
стыми усиками.
Большинство гимназистов смотрело свысока на «уездни-
ков» — учеников местного Уездного училища, которые не-
редко появлялись на улицах босиком, без формы с дешевы-
ми желтыми гербами па помятых картузах. Из них чаще
всего выходили приказчики, конторщики, счетоводы.
Да и преподаватели Уездного училища казались гимна-
зистам птицами невысокого полета.
При появлении Кобозева всего лишь пятеро или шестеро
ребят встало с мест; остальные даже не пошевелились или
только слегка приподнялись.
Серафим Иванович покраснел, но но сделал никому за-
мечания. Взойдя на кафедру, оп уселся поудобнее, — будто
он и в самом деле был учителем гимназии, — и спросил, что
нам на сегодня задано.
— Ничего не задано! —коротко п хмуро ответил за всех
Тищенко.
Кобозев недоверчиво пожал плечами.
— Ну, а что же вы в последнее время проходили?
— Пройденное повторяли!—глухо отозвался Колька
Дьячков, сосед Тищенко по парте.
Кобозев нахмурился.
— Ах, вот как? Пройденное? Ну так не угодно ли вам,
господа, решить задачку? На пройденное...
72
Этого никто не ожидал. Кажется, еще никогда не бывало
такого случая, чтобы учитель, временно заменяющий дру-
гого, давал классу письменную работу.
— Итак, — продолжал Серафим Иванович, — раскройте,
пожалуйста, свои тетрадки и запишите условие.
И он принялся диктовать медленно и четко.
У нас не было ни малейшего желания решать задачу, но
и не хотелось ударить в грязь лицом перед этим красавчи-
ком из Уездного училища. Чего доброго, он и пришел-то к
нам только для того, чтобы посрамить ненавистных гимна-
зистов.
Ребята перестали перешептываться и склонились над
тетрадками. Каждый понимал, что если мы не решим задачи,
это будет позором не только для нашего класса, но и для
всей гимназии.
На первый взгляд задача казалась довольно простой, но
почему-то, как я ни бился над ней, она мне не давалась.
Несколько раз перечитывал я условие и с каждым разом все
больше запутывался.
Искоса поглядел я по сторонам. Все сидели озабоченные
и смущенные. Только Степа Чердынцев беспечно посматри-
вал в окно: списывать было ему пока еще не у кого. Даже
наш лучший математик, маленький Митя Лихоносов, серди-
то покусывал ноготь большого пальца, вмесго того чтобы
выводить у себя в тетрадке всегда послушные ему цифры.
— Что же вы задумались, господа? — слегка усмехаясь,
спросил Кобозев. — Кажется, я вас немного озадачил этой
задачкой? Ну, подумайте, подумайте!
И, довольный своей шуткой, он сошел с кафедры и,
поскрипывая новыми, до блеска начищенными ботинками,
прошелся между рядами парт.
— А вы как будто и вовсе сложили оружие? — спросил
он, остановившись у парты, за которой сидели Дьячков и
Тищенко.
— Да уж очень трудная! — пробормотал Дьячков.
— Ну, разве? — удивился Серафим Иванович. — А вот
у нас в Уездном и потруднее задачки решают!
Это уже был прямой вызов.
Мы представили себе, с каким удовольствием будет рас-
сказывать этот белокурый Серафим своим «уездникам» о
том, как оскандалились у него на уроке гимназисты.
Все головы снова склонились над тетрадками. Перья за-
скрипели. Однако никто не поднимался с места, чтобы поло-
73
жить на кафедру тетрадку и сказать: «Готово, Серафим Ива-
нович! Я решил».
Но вот в конце класса послышалось какое-то движение.
Стукнула крышка парты. Мы разом обернулись: неужели у
кого-то задача решена?
Да, так и есть. Толстый Баландин поднял руку и весь
тянется к Серафиму Ивановичу.
Кобозев, слегка улыбаясь, шагнул в его сторону.
— Додумались? Вот и прекрасно!
Баландин смущенно потупился.
— Да нет, выйти позвольте!
В классе засмеялись. Усмехнулся и Кобозев.
— Ступайте! — сказал он небрежно. — А вы, господа,
поторапливайтесь. До звонка уже немного осталось.
Но нас всех словно кто-то заколдовал. Мы делили, мно-
жили, вычитали, складывали, но всё без толку.
И вот в ту минуту, когда мне наконец со всей ясностью
представилось решение, по всему коридору пронесся длин-
ный дребезжащий звонок.
Серафим Иванович взял с кафедры классный журнал,
озарил нас лукаво-приветливой улыбкой и сказал на про-
щанье громко и отчетливо:
— До свиданья, господа! Советую вам еще разок повто-
рить пройденное!
Я дружил почти со всеми ребятами моего класса, осо-
бенно с мечтательным, голубоглазым Костей Зуюсом» но
чаще всего проводил свободное от уроков время в обществе
старшеклассников и чувствовал себя среди них довольно
свободно. Это была молодежь конца девяностых годов, мно-
го читавшая и горячо спорившая. Молодые люди зачитыва-
лись Добролюбовым и Чернышевским, ревностно занимались
естествознанием, рассуждали о смысле жизни и о призвании
человека. Но все это не мешало им веселиться, петь хором
студенческие песни и даже влюбляться. Вот только танцы
были у них тогда не в моде: это считалось делом легкомыс-
ленным и даже пошлым. Ведь они были люди серьезные!
Про одного из них — рослого, широкоплечего и скуластого
восьмиклассника Вячеслава Лебедева — в городе рассказы-
вали, будто он для изучения анатомии вырыл ночью на го-
родском кладбище скелет. Не знаю, были ли справедливы
ртп слухи. А впрочем, по внешнему облику Вячеслава, та-
74
пому решительному и загадочному, можно было предполо-
жить, что он способен перекопать во славу науки не одну
могилу, а целую кладбищенскую аллею.
Но, пожалуй, душой кружка молодежи был не он, а его
белокурая сестра — семиклассница Лида Лебедева. Несмотря
па то, что она еще носила школьную форму — коричневое
платье и черный передник, а под скромным плоским бантом
ее круглой шляпки стыдливо прятался крошечный гимнази-
ческий герб, Лида была больше похожа на столичную кур-
систку, чем па гимназистку из глухой провинции. Она была
не менее серьезна, чем ее брат, но гораздо мягче, приветли-
вее и даже в самых ожесточенных спорах сохраняла веселое
изящество.
Когда собравшиеся на домашнюю вечеринку рослые гим-
назисты, окружив рояль, увлеченно, до самозабвения, тянули
«Дубинушку» или «Назови мне такую обитель», Лида по
слуху подбирала аккомпанемент, но стоило ей уступить ме-
сто кому-нибудь другому, хор почему-то сразу редел, и пес-
ня уже не звучала так истово и горячо.
Я был очень горд тем, что старшеклассники так радушно
и дружелюбно принимают меня в свою среду, и ради их
скромных вечеринок с шумными спорами и разноголосым
пением готов был отказаться даже от вечернего гуляния в
городском саду.
А ведь еще недавно мне казалось, что на свете нет боль-
шего наслаждения, чем это воскресное гуляние, за которое
надо было платить гривенник. Раздобыть гривенник было не
так-то легко. Иной раз приходилось целых два дня отказы-
ваться на большой перемене от бутерброда с колбасой, сто-
ившего всего только пять копеек. Но эта жертва так щедро
вознаграждалась, когда с билетом в руке вы свободно и уве-
ренно входили в охраняемые контролером ворота и вас
мгновенно подхватывали размеренные, сверкающие серебром
и медью звуки духового оркестра.
Под музыку, то бодрую, то задумчиво-печальную, вы не-
слись, как на крыльях, по широким, освещенным поверху
аллеям в дальнюю глубь сада, где можно было бродить в
полутьме и в прохладе, не рискуя попасться на глаза шны-
рявшим в поисках очередной жертвы гимназическим надзи-
рателям.
Если бы в придачу к единственному гривеннику у вас в
кармане оказалось еще три-четыре, вы могли бы проникнуть
в таинственное двухэтажное здание в самом начале сада,
75
откуда до вас случайно долетали то мужские, то женские
голоса, то раскатистый хохот, то неудержимые, захлебываю-
щиеся рыдания.
У входа в этот необыкновенный дом были расклеены
большие разноцветные листы тонкой бумаги, на которых —
во всю ширину — красовалось непонятное слово: «Триль-
би», а под ним напечатанные разными шрифтами — ю
крупным, то мелким — ряды фамилий, по большей части
двойных.
Это был театр, летний городской театр. Играли в нем
иной раз приезжие актеры, но чаще всего местные врачи,
адвокаты, чиновники, жены аптекарей, офицерские дочки,
а режиссером у них был пламенный любитель театраль-
ного искусства — земский начальник, капитан в отставке
Левицкий.
Как они играли, хорошо или плохо, я не знаю. Да в те
времена такого вопроса у меня и не возникало. С восхище-
нием и благодарностью смотрел я на сцену, когда передо
мною взвивался театральный занавес.
Все пленяло меня в театре: и частые огоньки рампы, и
торопливый перестук молотков перед поднятием занавеса,
и смена довольно примитивных декораций, изображавших то
гостиную с атласной мебелью и золочеными столиками, то
перекресток дороги, то аллею в саду, а иной раз и нечто
совершенно неопределенное.
Но больше всего меня поражало то, что взрослые люди,
суетящиеся на сцене, заняты игрой, словно серьезным и
важным делом.
Мне казалось, что самое трудное в актерском искусстве—
Это умение как будто по-настоящему смеяться и плакать.
Но, пожалуй, еще труднее удерживаться от смеха там, где
смеяться не положено.
А как удивляла меня необычайная память актеров, бы-
стро обменивавшихся репликами и произносивших без еди-
ной остановки и запинки длиннейшие монологи.
Впрочем, удивление мое несколько ослабело, когда до
моего слуха донесся сиплый, но довольно явственный шепот
из будки перед сценой.
Почти каждая фраза, которую должны были произнести
актеры, долетала до меня заранее из этой загадочной
будки.
Эх, не умеют подсказывать! Поучились бы у нашего
Степки Чердынцева.
76
ПРИГЛАШЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ
Начало двадцатого века было и началом резкого пере-
лома в моей жизни.
Через некоторое время после того, как я поступил в гим-
назию, семья наша навсегда покинула заводской двор и при-
городную слободку и переселилась наконец в городскую
квартиру — в двухэтажный деревянный дом, над калиткой
которого было написано крупными буквами:
ДОМ АГАРКОВЫХ
С переездом в город кончилось, в сущности, мое детство.
Быстрее понеслось время. Как будто кто-то придал ча-
совым стрелкам новую скорость.
На заводском дворе мне порой некуда было девать часы
и целые дни. Лето тянулось бесконечно долго — куда доль-
ше, чем летпие каникулы моей гимназической поры.
Хоть прямое, сознательное любование природой было мне,
как и другим ребятам в ртом возрасте, чуждо, по как-то на
ходу, на бегу, между делом и среди игры я в глубине души
радовался, как никогда потом, нашим старым, ветвистым де-
ревьям, о корни которых столько раз спотыкался, оркестру
кузнечиков в жаркий полдень, круженью ласточек на закате
и даже предвечерней перекличке ворон над мрачным, полу*
разрушенным заводом...
После нескольких лет жизни на Майдане город с десят-»
ком тысяч жителей показался мне настоящей столицей. Orf
поразил меня не только своими каменными домами (изредка
даже двухэтажными!), но и какой-то своеобразной свободой,
которою пользуются горожане по сравнению с жителями
пригорода.
Город гораздо меньше зависит от погоды, чем слободка,
где после проливного дождя улица становится непроходимой.
В городе вы пе связаны с какой-нибудь одной хлебопекар-
ней или лавочкой: столько здесь булочных и пекарен — вы-
бирай любую!
Здесь вам не надо, как на слободке, просить лошадь у
соседа, чтобы съездить куда-нибудь. По улицам катят взад
и вперед, зазывая седоков, извозчики в пролетках с двумя
прозрачными фонарями по бокам. За гривенник вы можете
проехаться барином, разглядывая вывески лавок по обеим
сторонам улицы.
77
А как сочно, как вкусно называются эти городские лав-
ки — бакалея, галантерея, торговля москательными товара-
ми. И в каждой лавке свой запах, свой уклад, свои особен-
ные повадки у продавцов. Солидный, неторопливый, упитан-
ный приказчик отпускает крупу, отвешивает сахар или режет
для вас колбасу в бакалейной лавке. Гораздо более гибкий,
проворный, обладающий светскими манерами продавец об-
служивает покупательниц в галантерее. И такие рослые, сте-
пенные, неразговорчивые дядьки грохочут своим товаром в
железоскобяных лавках.
В самом сердце города живет своей особой жизнью це-
лый каменный городок, состоящий из множества лавок и
крытых переходов. Это Гостиный ряд, так приветливо маня-
щий прохожих нарядными витринами днем — и такой непри-
ступный, замкнутый на все замки и охраняемый цепными
псами ночью.
А есть на одной из главных улиц большой, двухэтажный
дом, где в любое время суток — и днем и ночью — радушно
встречают приходящих и приезжающих. Над крышей этого
дома, во всю ее длину, прибита вывеска, которую я с та-
ким трудом разбирал в те времена, когда приходил в город
с Майдана:
КОММЕРЧЕСКИЕ НОМЕРА
Я знал, что этот дом — гостиница и что люди здесь жи-
вут не так, как в других домах, не постоянно, а день-другой,
самое большее — неделю или две. У дверей гостиницы всегда
стоят и разговаривают между собой или со швейцаром при-
езжие. Среди них часто встречаются люди, бреющие не толь-
ко бороду, но и усы (что в то время было еще редкостью).
Люди эти завязывают галстуки широким бантом и говорят
какими-то особенными — звучными и раскатистыми — голо-
сами. С ними — дамы в больших шляпах с перьями и в
нарядных платьях, каких не носят у нас в городе.
Это — те самые приезжие актеры и актрисы, которые так
великолепно рыдают и смеются в театре.
Но чаще всего из дверей гостиницы выходит усатый и
бородатый народ — в картузах, в поддевках и в сапогах
бутылками.
У тех, кто носит только усы, — поддевки несколько более
щеголеватые, в талию, да и картузы у них поаккуратнее, с
высоким верхом наподобие военных фуражек. А у людей бо-
78
родатых картузы помягче, пониже, поддевки потолще и по-
шире в поясе.
Усачи — это мелкие помещики нашего уезда или управ-
ляющие имениями. Бородачи — купцы.
Я не раз заглядывал в открытую дверь гостиницы, ста-
раясь представить себе, как живут все эти незнакомые люди
в таинственных комнатах, называемых «номерами».
Неожиданно мне представился случай побывать в «Ком-
мерческих номерах». Произошло это так.
На одной из вечеринок в квартире у Лебедевых, где ча-
ще всего собиралась молодежь — гимназисты и гимназистки
старших классов, — увидел я как-то необычного гостя, пе-
тербургского студента. Это был первый встреченный мною,
однако же совсем незаурядный студент. Он был сыном бо-
гатого, но весьма либерального помещика Бобровского уезда
и приезжал из отцовского имения на собственной тройке с
колокольчиками и бубенцами. Носил студенческую фуражку
с голубым околышем и щегольскую шинель офицерского по-
кроя с широкой пелериной (такую шинель называли «нико-<
лаевской»).
Собою он был хорош, статен, высок. Черты лица были
у него строгие, правильные, глаза — веселые, блестящие,
светло-голубые. Небольшая русая бородка была аккуратно
расчесана.
Наши серьезные и самолюбивые гимназисты-старшеклас-
сники глядели на него искоса, исподлобья — отчасти потому,
что считали его баричем и «белоподкладочником», отчасти,
может быть, из ревности, — так представителен и великоле-
пен был он в своем форменном студенческом сюртуке, так
непринужденно и весело смеялся, сверкая ровными белыми
Зубами. А бородку он как будто нарочно отпустил для того,
чтобы всем было видно, что он давно уже перешел из юно-
шеского в более солидный возраст.
Впрочем, он всячески старался держаться с нашими уса-
тыми гимназистами запросто, на равной ноге, пел с ними
вольные и задорные студенческие песни, вроде:
У студента под конторкой
Пузырек нашли с касторкой.
Динамит — не динамит,
А без пороха палит.
79
Или:
У курсистки под подушкой
Нашли пудры фунт с осьмушкой...
Там, где тинный Булак
Со Казанкой-рекой,
Точно братец с сестрой,
Обнимаются.
От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты
Шатаются.
А Харлампий святой
С золотой головой,
Сверху глядя на них,
Улыбается.
Он и сам бы не прочь
Погулять с ними ночь,
Да на старости лет
Не решается...
Аккомпанировала, как всегда, Лида Лебедева. Однако
присутствие петербургского гостя ее немного смущало. Она
сбивалась и, покраснев, уступала место у рояля студенту,
который легко и ловко подбирал любой мотив длинными,
сильными пальцами с двумя перстнями — на указательном
и безымянном.
Я был значительно моложе всех присутствующих и в
пении участия не принимал — стыдился показать, что голос
у меня еще совсем детский.
Однако студент обратил свое внимание и на меня. Узнав
от кого-то — вероятно, от Лиды Лебедевой, — что я пишу
стихи, он дружески похлопал меня по плечу и предложил
пристроить несколько моих стихотворений в одном из пе-
тербургских толстых журналов — по моему выбору — напри-
мер, в «Русском богатстве» или в «Мире божьем»... Но пред-
варительно он и сам бы хотел познакомиться с моей поэ-
зией.
В конце концов мы условились, что я приду к нему на
следующее утро в «Коммерческие номера». На всю жизнь
Запомнил я номер, в котором проживал мой студент: пятна-
дцатый.
Еще бы не запомнить! Взрослый человек, остановившийся
в гостинице, студент петербургского университета (это зва-
ние казалось мне тогда равным чуть ли не званию профес-
80
сора или академика) приглашает меня к себе в номер, чтобы
послушать мои стихи и потолковать об устройстве их в од-
ном из столичных журналов... Все это было так невероятно,
что я решил ничего не рассказывать своим домашним до
завтрашнего дня.
Вернувшись домой, я долго ходил по комнате, разду-
мывая о том, какие из моих стихов больше всего подошли
бы для толстых журналов. Это была неразрешимая задача.
Петербургских журналов я еще никогда не читал, а только
видел на столах в библиотеке. Кто знает, какие стихи мо-
гут понравиться редакторам «Русского богатства» и «Мира
божьего»!..
После долгих сомнений и размышлений я решил перепи-
сать начисто всю тетрадку стихов.
Бережно и старательно до глубокой ночи переписывал
я стихотворение за стихотворением, тут же на ходу исправ-
ляя строчки, которые мне казались слабыми.
Утром я проснулся позже, чем предполагал, и, за-
хватив с собой тетрадку, опрометью помчался в гостиницу,
где, как мне представлялось, меня уже давно поджидает
мой великолепный студент в том же самом щегольском, за-
стегнутом на все пуговицы сюртуке, в каком я его видел
накануне.
Вот они наконец — эти «Коммерческие номера»!
Вместе с несколькими взрослыми людьми — с двумя офи-
церами и дамой в широкой шляпе — вошел я в подъезд го-
стиницы. Бородатый старик швейцар в поношенной ливрее
с давно потускневшими пуговицами и позументами покло-
нился вошедшим взрослым, а меня спросил:
— Ты к кому, мальчик?
Я назвал студента.
— А, в пятнадцатый! — сказал бородач. — Только их,
кажись, дома нету. С вечера не вернулись.
И он указал рукой на доску, на которой под номерами
висели ключи от комнат.
Я поколебался немного, но все-таки решил постучаться
к студенту. Не может быть, чтобы такой серьезный человек
меня обманул.
По обе стороны длинного, полутемного коридора я уви-
дел множество дверей. Одни из них были полуоткрыты —
так, что я мог разглядеть бреющегося перед стенным зерка-
лом толстого человека в синих штанах с красными кантами
н с болтающимися сзади подтяжками пли целую компанию
81
мужчин и женщин, завтракавшую за столом, уставленным
графинами, тарелками, чайниками и пестрыми чашками.
Другие двери были плотно и таинсФвенно закрыты, и пе-«
ред ними, точно на страже, стояли туфли, ботинки или вы-
сокие сапоги со шпорами.
Вот и номер, где живет мой студент. Я тихонько посту-
чался, но ответа не было. Подождав минуты две, я постучал-
ся сильней, но и на этот раз никто не ответил. Неужели сту-
дент и в самом деле не вернулся с вечера? Где же и когда
я его теперь найду?
Вот тебе и «Мир божий»!
Я был не на шутку огорчен. Не оттого, что терял надеж-
ду увидеть свои стихи напечатанными в толстом журнале.
Нет, мне было жаль какого-то обещанного и несостоявшегося
праздника...
Пробегавший мимо меня с подносом на вытянутой руке
молодой парень в белой рубахе навыпуск и в белых штанах
крикнул мне на ходу:
— А вы заходите без стука! Чего стучать — соседей бу-
дить? Нонче воскресенье, —проезжающие спят допоздна!
От его подноса, накрытого салфеткой, вкусно пахло бли-
нами, топленым маслом и какой-то копченой рыбой. У меня
даже засосало под ложечкой, — ведь я ушел из дому без
завтрака.
Послушавшись совета, я нажал ручку двери и вошел
в номер.
Первое, что попалось мне на глаза в просторной и все
же душной комнате, была роскошная шинель студента, не-
брежно брошенная на спинку кресла. Со спинки другого
кресла свешивались синие студенческие брюки со штрипками.
Значит, он дома, в номере. Но почему ясе его не видно?
Тут только я услышал громкий храп из-за пестрой шир-
мы, которая была похожа на те, что носят на спине бродячие
петрушечники.
Спит.
Я тихонько уселся на стул у небольшого, накрытого
узорчатой скатертью стола, на котором стояли пустой гра-
фин, бутылка темно-красного вина с черно-золотым загра-
ничным ярлыком и сифон сельтерской воды.
Я стал внимательно разглядывать номер: умывальник
с большой фарфоровой чашкой и кувшином, несколько по-
золоченных стульев с потертыми плюшевыми сиденьями и
такой же диванчик. А над диванчиком на стене — картина
82
в золотой раме, изображающая румяную красавицу в крас-
ном платье с распущенными по плечам пышными волосами.
Почему-то по одну сторону пробора волосы были иссиня-
черные, а по другую — белокурые.
Под изображением было напечатано крупными золотыми
буквами: «Туалетное мыло Ралле и К0».
Осмотрев все, что было в помере, я стал невольно при-
слушиваться к храпу. Оп вовсе не был так однообразен, как
показалось мне вначале: в нем было и хрипение, и мурлы-
канье, и бульканье, и свист.
Как-то незаметно я и сам задремал и выронил из рук
толстую книгу, между страницами которой была у меня моя
новенькая тетрадка со стихами. Я заложил ее в книгу, чтобы
она не полмялась дорогой.
— Ммм... кто там? — сонным и недовольным голосом
спросил студент.
Я не знал, что и ответить. Вряд ли он'запомнил мою фа-
милию.
— Это я... Вы помните, вчера у Лебедевых... Вы просили
занести вам стихи для журналов...
— А, поэт! — уже более бодрым голосом сказал сту-
дент. — Отлично. Сейчас я буду весь к вашим услугам!
Через несколько минут он вышел из-за ширмы в каком-
то полосатом халате, подпоясанном шнурком с красными
кистями. Волосы прилипли у пего ко лбу, нерасчесапная
бородка сбилась и смотрела куда-то вкось.
После долгого умыванья с фырканьем и плеском он при-
гладил свои, уже слегка поредевшие, волосы, расправил бо-
родку и, поморщившись, сказал:
— Фу, какой вкус во рту противный!.. Будто всю ночь
медный ключ сосал... Сельтерской, что ли, выпить?
И, нажав ручку сифона, он нацедил себе полный стакан
шипучей, пенистой воды.
— Так-с, — сказал он, усаживаясь в кресло, на котором
висели его брюки. — Самоварчик закажем, а? И, может
быть, осетринки с хреном... — добавил он медленно и задум-
чиво.
Вызвав звонком полового и заказав самовар, осетрину
и графинчик зубровки, оп снова уселся в кресло и уста-
вился на меня своими голубыми, но на этот раз несколько
мутноватыми глазами с красными прожилками в белках.
— Значит, вы мне стишки принесли? Вот и отлично.
Давайте-ка их сюда, давайте!
83
Я молча протянул ему свою тетрадку. Он небрежно рас-
крыл ее и перевернул страницу, другую.
— Так, так, — сказал он. — Почерк у вас отличный.
Превосходный. Вероятно, по чистописанию пятерка? А?
Немного обиженный, я пробормотал, что чистописания
у нас уже давно нет.
— Ах, простите! Конечно, нет... Но пишете вы все-таки
прекрасно, — сказал он, вновь раскрывая мою тетрадку.
— Вы сами прочтете стихи или мне вам прочесть? —
нерешительно спросил я, видя, как рассеянно перебрасывает
он страницы.
— Нет, зачем же?.. — сказал студент, позевывая. — Кто
же это с самого утра — да еще натощак — стихи читает?
Стихи приятно декламировать вечером и, разумеется, в об-
ществе женщин. Не так ли?
И он с размаху бросил мою бедную тетрадку в раскры-
тый чемодан, где лежали носки, платки, крахмальные во-
ротнички и сорочки.
В это время дверь отворилась, и в номер, скользя на
мягких подошвах и поигрывая подносом с графинчиком и
тарелками, вбежал половой.
— Что ж, закусим? — спросил студент, разворачивая
салфетку. — Присаживайтесь, порт!
— Спасибо, не хочу, — сказал я сдавленным голосом и,
неловко поклонившись, вышел в коридор.
Я уже ясно понимал, что стихи мои не увидят ни «Мира
божьего», ни «Русского богатства»... Но взять их обратно
у меня не хватило храбрости.
«ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ»
Если бы судьба случайно не свела меня с этим столич-
ным студентом, мне бы и в голову не пришла мысль послать
свою рукопись в редакцию какого-нибудь журнала.
Насколько я себя помню, пристрастие к стихам появи-
лось у меня с самого раннего возраста. В сущности, «писать
стихи» я начал задолго до того, как научился писать.
Я сочинял двустишия, а иногда и четверостишия устно, про
себя, но скоро забывал придуманные на лету строчки. По-
степенно от этого «устного творчества» я перешел к пись-
менному.
84
Мне было лет пять-шесть, когда я впервые участвовал
в детском утреннике. На маленькой сцене, специально по-
строенной по этому случаю в саду у наших знакомых, стар-
шие ребята представляли какую-то пьеску, а мы, младшие,
выступали в дивертисменте — пели, читали стихи или пля-
сали русского в красных рубашках, подпоясанных шнур-
ками. Публика разместилась на стульях, расставленных пе-
ред сценой. Когда очередь дошла до меня, я быстро сбежал
по лесенке со сцены и, шагая по проходу между рядами
стульев, стал громко и размеренно читать стихи, отбивая
шагами такт. Где-то в задних рядах публики меня наконец
задержали и вернули на сцену, объяснив мне, что во время
чтения стихов надо не ходить, а стоять смирно. Это меня
очень удивило и даже огорчило. Разве устоишь на месте,
когда строчки стихов так и подмывают двигаться, шагать,
отстукивать такт...
По совести говоря, я и до сих пор думаю, что был тогда
прав. Известно, что в греческом театре хор не стоял на од-
ном месте, а мерно двигался. Да и самое деление стиха на
«стопы» оправдывает мое детское представление о том, как
надо читать стихи.
Но переубедить взрослых пятилетнему человеку нелегко.
Мне пришлось дочитать стихотворение со сцены, но уже
безо всякого удовольствия.
Однако придумывать стихи я не перестал.
К двенадцати — тринадцати годам я сочинял целые поэ-
мы в несколько глав и был сотрудником и соредактором ли-
тературно-художественного журнала «Первые попытки».
Другим редактором этого рукописного журнала был мой
приятель Леня Гришанин. Как и большинство друзей моего
детства, он был значительно старше меня — лет на шесть, на
семь, по крайней мере. В школе он никогда не учился, так
как с малых лет был калекой: ноги у него были согнуты
в коленях, и ходил он будто на корточках, сильно шаркая
на ходу ногами. Из дому он почти никогда не отлучался и
учился в одиночку — по гимназической программе. И все же
успевал куда больше своих сверстников-гимназистов, а книг
прочел столько, сколько иной не прочтет за целую жизнь.
Пальцы обеих рук были у него тоже сведены и не разги-
бались. Но он каким-то чудом ухитрялся вкладывать левой
рукой в сложенные щепоткой пальцы правой перо, рейсфе-
дер или карандаш и не только писал и чертил, но даже
и рисовал превосходно. Недаром каждый номер нашего
85
журнала выходил с красочным заголовком и с тонкими ри-
сунками пером в тексте.
Леня был не только редактором журнала, но и нашей
типографией: все номера от первой до последней строчки
переписывал начисто он один, так как считал мой почерк
слишком детским. Хорошо еще, что номера состояли всего
лишь из нескольких страничек и выходили в одном-единст-
венном экземпляре. Впрочем, больше и не требовалось. Жур-
нал читали, кроме Лени и меня, только мои товарищи по
классу, мой брат и Лёнина сестра.
Семья у Гришаниных была маленькая, но тесно спаян-
ная одиночеством и каким-то особенным умением понимать
друг друга с полуслова. Я очень любил бывать в этом доме,
где как будто совсем не было старших, — так просто, по-дру-
жески, шутливо и в то же время серьезно относились друг
к другу Леня, его мать и шестнадцатилетняя сестра-гимна-
зистка Маруся. Леня подчас едко подтрунивал над веселым
и прихотливо-изменчивым нравом своей младшей сестры, но
к его добродушно-насмешливым замечаниям она уже давно
привыкла и никогда на них не обижалась.
Приехали Гришанины в наш город откуда-то с Украины,
где служил в последние годы своей жизни отец семьи, ар-
мейский офицер. Похоронив мужа, Александра Михайловна,
оставшаяся с двумя маленькими детьми на руках, долго
бедствовала и не могла вовремя полечить больного сына.
После многих мытарств ей удалось получить место сиделицы
винной лавки в городе Острогожске, когда торговля водкой
стала монополией государства. Как ни жалка была эт&
должность, добиться ее было не так-то легко. Нужно было
солидное поручительство, чтобы бедной офицерской вдове
была наконец предоставлена честь отпускать покупателям
бутылки, запечатанные белым или красным сургучом. «Бе-
лые головки» стоили дороже, чем красные.
Винная лавка, которую в просторечии именовали «ка-
зенкой», «монополькой» или «винополькой», была нисколько
не похожа на обыкновенные лавки.
Над входом ее красовалась темно-зеленая вывеска с дву-
главым орлом и строгой, четкой надписью:
КАЗЕННАЯ ВИННАЯ ЛАВКА
Частая железная решетка разделяла помещение на две
половины. В одной, куда не было доступа посторонним, ца-
рил чинный и даже торжественный порядок, точно в аптеке,
86
в казначействе или в банке. На многочисленных полках
стояли, выстроившись, как солдаты по ранжиру, сороковки,
сотки и двухсотки, которым потребители дали свои, более
сочные и живописные прозвища — шкалики, мерзавчики,
полумерзавчики и т. д.
А по ту сторону решетки толклась самая разношерстная
публика. Людям, которые были, как говорится, «на взводе»
или «под мухой», отпускать водку не полагалось, но завсег-
датаи казенки не сдавались и подолгу, заплетающимся язы-
ком, убеждали сиделицу, что они «как стеклышко». Если
уговоры и мольбы не действовали, они переходили к угро-
зам и к самой отборной ругани.
В таких случаях сиделица имела право вызвать городо-
вого, который всегда дежурил неподалеку от казенки. Но,
кажется, Александре Михайловне не пришлось ни разу при-
бегнуть к содействию властей. Из маленькой двери, которая
вела в жилые комнатки, выходил, с трудом переступая сог-
нутыми в коленях и далеко выставленными вперед ногами,
Леня. Этот человек, поднимавшийся всего на полтора ар-
шина от пола, никогда не ввязывался в споры с покупате-
лями. Но было, должно быть, нечто устрашающее в строгом
юношеском лице с пронзительными голубыми глазами и
в придавленном к земле паучьем теле. Во всяком случае, по-
глядев на него, даже самый отъявленный буян умолкал и
пятился к дверям.
Обычно, пока торговля в казенке шла тихо и мирно,
Леня относился к своим обязанностям и к тому хмельному
заведению, которое обслуживала его семья, с трезвым и
печальным юмором. Только такое снисходительное, фило-
софское отношение и могло примирить его с делом, кото-
рым ему приходилось заниматься отнюдь не по влечению
сердца.
Напряженно думая о чем-то своем, он живо и ловко рас-
ставлял по полкам сотни бутылок, которые привозили со
склада в корзинах, разделенных на гнезда, или взбирался
на лесенку, чтобы достать для покупателя сороковку или
шкалик, если нижние полки были уже пусты.
После обеда Леню сменяла на посту мать или Маруся,
а он уходил в свою комнату рисовать что-нибудь или читать
книжки.
От него я впервые узнал о Писареве, которого он читал
не отрываясь, со страстным увлечением.
87
И когда года через три-четыре я сам стал читать Писа-
рева, я понял, кому был обязан мой приятель своим уме-
нием спорить остро и колко, хотя, впрочем, какая-то едкая,
подчас горькая ирония была присуща и ему самому.
Со мной он обращался, как старший с младшим, — ведь
у него было гораздо больше знаний и житейского опыта, чем
у меня. И все же ему, видимо, нравилось подолгу болтать
со мной о самых разных материях. Может быть, он просто
отдыхал от своих мыслей и тревог в обществе мальчика, ко-
торый нисколько не досаждал ему обидным сочувствием и
с открытой душой встречал каждую его шутку, каждое мет-
кое словцо.
Наш рукописный журнал «Первые попытки» был для
меня важным и серьезным делом, а для него, по всей вероят-
ности, только забавой. Однако он старательно рисовал заго-
ловки журнала и аккуратно снабжал его прозой — коротень-
кими юмористическими рассказами и заметками «из мира
науки» — в то время как я мог предложить журналу только
стихи.
В комнате, где мы работали, всегда стоял острый, во-
дочный запах, которым была пропитана насквозь вся квар-
тира.
Иногда под вечер, когда на столе у Лени уже горела ке-
росиновая лампа, нашу редакционную работу неожиданно
прерывала Маруся. Некоторое время она неподвижно, с за-
крытыми глазами, сидела в старом кресле, отдыхая от гим-
назии и от занятий с учениками, которых она репетировала.
А потом, как-то сразу стряхнув с себя усталость, приносила
брату мандолину и начинала упрашивать его еще разок по-
вторить с ней романс, который она готовила для гимназиче-
ского вечера. У Лени был прекрасный слух, и Маруся ни-
когда не выступала на вечерах без его одобрения.
Поворчав немного, Леня все же брал мандолину и, на-
клонившись над ней, принимался теребить струны, а Ма-
руся становилась в позу, складывала руки коробочкой, как
это делают профессиональные певицы, и пела:
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты...
Не знаю, нравилось ли Марусино пение клиентам «ка-
зенной винной лавки», до которых долетал такой неожидан-
ный для этого заведения лирический романс Чайковского, но
мне казалось, что лучше петь нельзя.
88
— Фальшивите, фальшивите, сударыня, — говорил ей
Леня и опять наклонялся над мандолиной.
Я смотрел на его быстро мелькающие руки и думал
о том, как отлично справляются с любым делом эти урод-
ливо скрюченные, несгибающиеся пальцы.
Брат и сестра были очень похожи друг на друга — те же
немного прищуренные голубые глаза, те ясе мягкие светло-
русые волосы. Должно быть, Леня был бы очень хорош
собой, если бы его не изувечила болезнь.
Когда в лавке не было покупателей, в комнату к Лене
приходила Александра Михайловна, темноволосая, худоща-
вая, преждевременно состарившаяся женщина в очках. Она
пристраивалась где-нибудь в углу, видимо радуясь возмож-
ности побыть с детьми, — ведь эта маленькая семья так ред-
ко бывала в сборе.
Но раздавался резкий, назойливый звонок из лавки, изве-
щавший о приходе покупателя.
— Вот вам и «тревога мирской суеты»!—с усмешкой
говорил Леня и, шаркая ногами, отправлялся торговать ка-
зенным вином.
Как из горного озера река, так из детства, которому весь
мир представляется извечно неизменным и неподвижным,
вытекает своенравная, стремительная юность.
В первые годы жизни мы обходимся без календаря, да,
в сущности, и без часов. В календарь заглядываем главным
образом перед днем рождения, а часы напоминают нам о
себе только тогда, когда время идет к обеду или ко сну.
Все в детстве кажется пам устойчивым, незыблемым,
первозданным: город, улицы, названия улиц и лавок; да и са-
мые лавки, где продают крупу и соль в «фунтиках», а са-
харные головы в обертке из плотной сипей бумаги. Моро-
женщики с тарахтящими на ходу ящиками на колесах, пет-
рушечники с пестрыми ширмами — все это как будто
существует с незапамятных времен, чуть ли не с начала
мира...
В эти годы жизни вполне полагаешься на взрослых, ко-
торым известно, что бывает и чего не бывает на свете, что,
когда и как надо делать. Мир представляется нашему вообра-
жению загадочным, но вполне разумным, хоть пока еще нам
Знакома только очень небольшая его частица — наш двор да
еще несколько прилегающих к нему улиц. Мы забрасываем
89
взрослых бесчисленными вопросами, но далеко не всегда
получаем от них вразумительные, утоляющие ответы.
Но вот наступает юность. Мир с необыкновенной быстро-
той разрастается — в пего входят уже целые страны, мате-
рики и далекие звездные миры. Время становится считанным
и раздвигается в обе стороны — в прошедшее и будущее.
Все па свете оказывается непостоянным, изменчивым и
не всегда разумным. Мы начинаем замечать, что взрослые
не так уж надежны — они часто ошибаются, колеблются, не
согласны друг с другом, а иной раз даже противоречат себе
самим и далеко не все на свете знают.
Нам теперь часто приходится действовать на свой собст-
венный страх и риск. Дороги разветвляются, и на каждом
перекрестке перед нами встает трудная задача выбора пути.
Кое-какой житейский опыт у нас уже накоплен, и мы с не-
терпением ждем и жаждем нового опыта.
Весь мир приходит в движение за какие-нибудь два-три
года.
Он становится огромным и в то же время, — хоть это и
может показаться странным и даже противоречивым — как-
то уменьшается в нашем сознании.
Нам больше не кажутся великанами деревья на дворе.
Не так заметен теперь замшелый камень, глубоко вросший
в землю за старым заводом. Мы уже не следим с таким при-
стальным вниманием за катящимися по оконному стеклу
дождевыми каплями, которые делятся и дробятся по пути
вниз, словно блестящие шарики ртути.
Зато перед нами открывается даль, как в бинокле, ко-
торый повернули другой стороной.
К тому же с приходом юности наши дни наполняются
несметным множеством разнообразных впечатлений, навсегда
заслоняющих от нас первоначальную пору жизни.
ГОЛОС НОВОГО ВЕКА
Юность людей моего поколения была особенно напря-
женной и тревожной, потому что совпала с началом нынеш-
него века, а этот век с первых же дней показал свои льви-
ные когти.
Во время моего детства и отрочества мы еще не знали
(как странно представить себе это сейчас!) ни электриче-
ского света, ни телефона, ни трамваев, ни автомобилей, ни
90
аэропланов, ни подводных лодок, ни кинематографа, ни ра-
дио, ни телевидения.
В столичных журналах рассказывали, как о чуде, об
электрическом освещении на Парижской всемирной выстав-
ке. А среди иллюстраций к новостям техники время от вре-
мени появлялись изображения прадедушек и дедушек ны-
нешнего автомобиля.
Говорить по телефону мне впервые довелось только че-
рез несколько лет — после переезда в Питер. На моих глазах
по петербургским улицам покатили первые, еще новенькие
вагоны трамвая, заменившие собою медленно ползущую,
громоздкую конку.
Первые годы столетия были временем напряженного ожи-
дания новых открытий. Не сегодня-завтра должен был ро-
диться подводный корабль, который мелькал уже на стра-
ницах романов Жюля Верпа; со дня на день ждали, что вот-
вот оторвется от земли летающий аппарат тяжелее воздуха.
Все более возможным и вероятным казалось открытие Се-
верного полюса.
И хотя в небольшом уездном городке, где я встретил на-
чало века, не было еще сколько-нибудь заметных перемен, лю-
ди чувствовали, что скоро наступят какие-то новые времена.
То и дело до нас доходили ошеломительные известия о
последних изобретениях.
Я хорошо помню, как нам, ученикам острогожской гим-
назии, однажды объявили, что двух последних уроков у нас
не будет, а вместо этого нас куда-то поведут. Мы построи-
лись парами на дворе гимназии, и вышедший к нам препода-
ватель математики и физики, прозванный Барбароссой, по-
обещал продемонстрировать перед нами нечто весьма лю-
бопытное.
Мы пошли по главной улице и остановились перед дверью
какого-то магазина, куда нас начали впускать по очереди.
В просторном, почти пустом помещении мы увидели столик,
на котором стоял загадочный продолговатый ящик с двумя
шнурами.
Один за другим мы подходили к ящику, строя всякие
догадки о том, что в нем таится.
Барбаросса долго молчал и только поглаживал рыжую
бороду.
— Вы видите перед собой, — заговорил он наконец, —
недавно изобретенный аппарат, который воспроизводит лю-
бые звуки, — в том числе и звуки человеческой речи
91
Изобретатель этого аппарата Эдисон дал ему греческое на-
звание «фонограф», что по-русски значит «звукописец». Со-
благоволите присесть к этому «столику и вложить себе в уши
концы проводов. Всех же остальных присутствующих здесь
я попросил бы соблюдать абсолютную тишину. Итак, начи-
наем!
От старшеклассников мы знали, что физические опыты
редко удаются нашему степенному преподавателю матема-
тики и физики, и поэтому не ждали успеха и на этот раз.
Вот сейчас он вытрет платком лысину и скажет, сохраняя
полное достоинство: «Однако этот прибор сегодня не в ис-
правности», или: «Очевидно, нам придется вернуться к этому
опыту в следующий раз!»
Но на самом деле вышло иначе. В ушах у нас что-то за-
шипело, и мы явственно услышали из ящика слова: «Здравст-
вуйте! Хорошо ли вы меня слышите? Аппарат, с кото-
рым я хочу вас познакомить, называется фонограф. Фо-но-
граф...»
После короткого объяснения последовала пауза, а затем
раздались звуки какого-то бравурного марша.
Мы были поражены, почти испуганы. Никогда в жизни
мы еще не слышали, чтобы вещи говорили по-человечьи, как
говорит этот коричневый, отполированный до блеска ящик.
Музыка удивила нас меньше, — музыкальные шкатулки были
нам знакомы.
А Барбаросса поглаживал рыжую бороду и торжест-
вующе поглядывал на нас, как будто это он сам, а не Эдисон
изобрел говорящий аппарат.
Конец прошлого и начало нынешнего столетия как-то
сразу приблизили нашу уездную глушь к столицам, к далеко
уходящим железным дорогам, к тому большому, полному
жизни и движения миру, который я еще так смутно представ-
лял себе, играя на просторном заводском дворе в города из
обломков кирпича и в деревни из щепочек.
Понаслышке я знал, что в этом большом мире есть люди,
известные далеко за пределами своего города и даже своей
страны. Там происходят события, о которых чуть ли не в
тот же день узнает весь земной шар.
Сам-то я жил с детства среди безымянных людей безвест-
ной судьбы. Если до нашей пригородной слободы и долетали
порой вести, то разве только о большом пожаре в городе, об
92
очередном крушении на железной дороге или о каком-то
знаменитом на всю губернию полусказочном разбойнике Чур-
кине, лихо ограбившем на проезжей дороге почту или угнав-
шем с постоялого двора тройку лошадей.
Но вот до нас стали докатываться издалека отголоски и
более значительных событий.
Мне было лет семь, когда царский манифест, торжествен-
ные панихиды и унылый колокольный звон возвестили, что
умер — да не просто умер, а «в Бозе почил» — царь Алек-
сандр Третий.
Еще до того в течение нескольких лет слышал я разго-
воры о каком-то таинственном покушении на царя и об его
«чудесном спасении» у станции Борки, где царский поезд
чуть было не потерпел крушение.
А вот теперь царь «почил в Бозе». Я решил, что «Бо-
за» — это тоже какая-то станция железной дороги. В Бор-
ках царь спасся от смерти, а в Бозе, как видно, ему спас-
тись не удалось.
Года через полтора я услышал новое слово «иллюмина-
ция». В Острогожске, как и в других российских городах,
зажгли вдоль тротуаров плошки по случаю восшествия на
престол нового царя, и все население окраин — Майдана и
Лушниковки — прогуливалось в этот вечер вместе с горо-
жанами по освещенным, хоть и довольно тускло, главным
улицам. Даже наш сосед — слепой горбун — шагал по горо-
ду в шеренге слободских парней. Любоваться огоньками
плошек он не мог, но долго с гордостью вспоминал день,
когда «ходил на люмипацию».
Однако празднества были скоро омрачены новыми зло-
вещими слухами. Из уст в уста передавали страшные и за-
гадочные вести о какой-то «Ходынке». Страшным это слово
казалось оттого, что его произносили вполголоса или ше-
потом, охая и покачивая головами. Из обрывков разговоров
я в конце концов понял, что Ходынка — это Ходынское поле
в Москве, где во время коронации погибло из-за давки великое
множество народа. Рассказывали, что несметные толпы устре-
мились в этот день на Ходынку только ради того, чтобы по-
лучить даром эмалированную кружку с крышечкой и с вен-
зелями царя и царицы под короной и гербом.
Неспокойно начиналось новое царствование.
Встречаясь на улице или переговариваясь через плетень,
соседи толковали о холере, о голоде, о комете. А приезжие
привозили известия о том, что в больших городах — в Пи-
93
тере, в Москве, в Киеве, в Харькове — все чаще и чаще
«фабричные» бастуют, а студенты бунтуют и что студентов
сдают за это в солдаты.
Одни из наших соседей — особенно соседки — жалели
студентов, другие говорили, что так им и надо, — пускай,
мол, не бунтуют, а учатся!
Все новости разносила в то время устная молва. Газета
была редкой гостьей на Майдане, да и в городе.
Маленькую газетку «Свет» получал ежедневно из Питера
усатый красильщик — тот самый, что зачитывался приложе-
ниями к журналу «Родина». Отец говорил, что рта газетка
все врет и «скверно пахнет». Я понимал его слова совершен-
но буквально — может быть, потому, что от книг, которые
давал мне красильщик, и в самом деле веяло затхлостью чу-
лана, набитого всяким хламом.
Презрительно морщился отец и тогда, когда при нем упо-
минали другую столичную газету гораздо большего формата
и объема, которая печаталась на бумаге лучшего качества и
носила название, набранное крупным, четким и красивым
шрифтом, — «Новое время».
И когда я впервые заметил широкие листы «Нового вре-
мени» в руках у нашего классного наставника Теплых, я да-
же не решился рассказать об ртом отцу, который никогда и
в глаза не видал Владимира Ивановича, но давно уже влю-
бился в него по моим рассказам.
В нашей семье газета появлялась редко — только в те
дни, когда дома бывал отец. Помнится, чаще всего читал он
«Неделю», которую называли «Неделей» Гайдебурова. 3&
газетой велись жаркие споры.
Особенно часто и шумно спорили одно время о событиях
во Франции, хотя от нашего Майдана до Парижа было так
же далеко, как от тех мест, откуда, по словам Гоголя, «три
года скачи, ни до какого государства не доедешь».
У меня о Франции и французах было в те времена до-
вольно смутное представление. Помню песню, которую над-
рывными голосами распевали девицы на соседнем дворе:
Жил-был во Хранцыи
Король молодой,
Имел жену-красавицу
И двох дочерей.
Одна была красавица,
Что царская дочь,
Другая смуглявица,
Что темная ночь...
84
Знал я о нашествии Бонапарта на Москву. А еще па*
мять моя сохранила несколько названий парижских бульва-
ров и предместий да десяток французских имен из тех «ро-
манов», которыми снабжали меня торговавший в лабазе Ме-
лентьев и сосед-красильщик.
Но все это казалось мне таким далеким — либо вымыт*
ленным, книжным, либо относящимся к давним временам.
А тут разговор шел о делах, которые творились во Франции
в наши дни, и о людях, в самом деле существующих.
Целый поток звучных иностранных фамилий ворвался в
нашу будничную жизнь и запомнился па долгие годы.
Генерал Кавеньяк, генерал Буадефр, полковник Пикар,
офицер генерального штаба Эстергази, Клемансо, Лаборхт,
Бернар Лазар, Пати де Клам, Эмиль Золя...
Но чаще всего упоминалось одно имя: Дрейфус. Капитан
Альфред Дрейфус.
Мы, ребята, прислушивались к разговорам взрослых и
жадно ловили все, что могли узнать от них о суде над Дрей-
фусом, о его разжаловании и ссылке па Чертов остров.
Казалось, мы читаем повесть, у которой еще пет конца.
Виновен ли Дрейфус в измене или не виновен? Будет ли
он в конце концов оправдан или останется навеки па пустын-
ном острове?
В том возрасте, в каком я был тогда, достаточно несколь-
ких самых незначительных подробностей, чтобы представить
себе вполне зримо незнакомую обстановку и неизвестных лю-
дей, о которых говорят вокруг.
Совершенно отчетливо видел я пред собой сцену разжа-
лования Дрейфуса.
Черноволосого, бледного офицера, невысокого, но строй-
ного, выводят под барабанную дробь па плац. С пего сры-
вают эполеты, ломают над его головой шпагу. Мне очень
жаль офицера и, признаться, даже немного жалко сломан-
ной пополам шпаги.
Я никогда пе видел Дрейфуса на портретах и не имел ни
малейшего понятия о его наружности. Но почему-то — мо-
жет быть, только потому, что он был офицер, — я невольно
представлял его себе в образе нашего знакомого воен-
ного врача Чириковёра, который когда-то лечил нас в Воро-
неже...
И вот корабль-тюрьма везет осужденного на вечную
ссылку офицера на Чертов остров, который находится,
95
как сказал мне брат, где-то недалеко от берегов Южной
Америки.
Чертов остров! Само это название как бы говорит о том,
что попавший туда человек обречен на гибель. Посреди ост-
рова высится башня, раскаленная от солнечного жара днем
и веющая холодом и сыростью ночью. Долго в такой клетке
не проживешь.
Правда, отец уверяет, что во Франции все больше и боль-
ше людей требуют отмены приговора. Особенно часто упоми-
нается в газетах имя французского писателя Эмиля Золя>
который написал в защиту осужденного письмо в газету
под названием: «Я обвиняю». Но и Эмиля Золя приговорили
за это письмо к тюрьме.
Видно, недаром паша мама так часто говорит, что
добиться па этом свете справедливости нелегко.
Помню, к нам па Майдан приехали как-то двое прияте-
лей отца. Для нас пх приезд всегда был настоящим праздни-
ком. Оба они были люди веселые, любили поесть, выпить,
поболтать, пошутить, да к тому же никогда не являлись в
дом без щедрых подарков для нас, детей. Обычно приезжа1
ли они порознь, а тут случайно нагрянули вместе.
Один из них был землемер Семен Семеныч Ничипоренко,
высокий, бородатый, худощавый, в поношенной форменной
тужурке со светлыми пуговицами, человек бывалый, обошед-
ший пешком и объездивший чуть ли не всю Россию. Дру-
гой — пышпоусый Егор Данилыч Селезнев, плотный, широко-
плечий, в темпо-синей поддевке и в ярко начищенных высо-
ких сапогах. Был он, кажется, управляющим каким-то мас-
лобойным заводом и приезжал к нам без кучера на узких
беговых дрожках.
Семен Семеныч привез брату альбом марок со всех кон-
цов света — там была даже марка острова Мартиника, — а
мне большую коробку оловянных солдатиков, среди которых
были и пешие, и конные, и артиллеристы с пушечками на
колесиках, и стрелки, и трубачи, и знаменосцы.
Егор Данилыч не успел ничего купить нам и попросил у
наших родителей позволения подарить нам по целковому,
чтобы мы сами купили для себя конфеты или игрушки.
Отец никогда не позволял нам брать деньги у чужих, ио
на этот раз вынужден был согласиться,
Как всегда, весь наш дом ожил, едва только из передней
послышались голоса этих добрых, разговорчивых и таких
беззаботных с виду людей.
96
Обедали долго. За столом Егор Данилыч рассказывал
анекдоты, а после обеда Семен Семеныч пел шутливые
украинские песни.
Жалилася попадья,
Що пип з бородою...
Запрягала попадья
Гуси та индыки,
Поихала попадья
У Киив до владыки...
Перед вечерним чаем гости прилегли на часок отдохнуть,
а потом все опять собрались за столом, на котором уже пел
свою песенку большой, светло начищенный самовар с чайни-
ком на макушке.
Мы с братом сидели с края стола и с нетерпением ждали
от мамы клубничного варенья, а от гостей — новых смешных
рассказов и песен. Но вместо этого гости завели долгий,
шумный разговор, в котором снова и снова повторялись все
те же, уже знакомые нам, имена: Дрейфус, Эстергази и
Эмиль 3°ля» которого Егор Данилыч называл по-русски:
«Зола». Его могучий, густой бас гремел на весь дом, а Се-
мен Семеныч отвечал ему своим высоким, звонким тенором,
в котором слышались и задор и насмешка, то веселая, то
злая.
Мой брат и я давно уже считали себя настоящими «дрей-
фусарами» и сейчас были целиком на стороне Семена Семе-
ныча, ко вмешаться в разговор по молодости лет не смели
и только поминутно поглядывали па отца, который на этот
раз, против своего обыкновения, не принимал участия в спо-
ре и только постукивал по столу пальцами да хмурил брови.
Но вот и его терпению пришел конец. Он отодвинул от себя
недопитый стакан чая и так напустился на Егора Данилыча,
что тому стало невмочь отбиваться на обе стороны. Он вытер
лоб и шею красным платком и пробасил, видимо желая поло-
жить конец пререканиям:
— А ну их к шуту, вашего Дрейфуса вместе с Емилем
Золой! Вас двоих не переспоришь.
Спор на время утих, а потом как-то незаметно раз-
горелся снова. Но па этот раз заспорили о студенческих
беспорядках. Егор Данилыч и тут оказался в одиноче-
стве. Он сердито махнул рукой и, пи на кого не глядя,
буркнул:
— А я бы их всех тоже отправил к чертовой матери —
на Чертов остров, и дело с концом!
4 С. Маршак, т. в 97
Никто ничего ему не ответил. Наступило долгое напря-
женное молчание. Разрядить его попыталась мама.
— Довольно вам горячиться, — сказала она спокойно. —’
Давайте-ка лучше свои стаканы. Я вам налью еще чайку.
И разговор опять принял как будто бы самый мирный
оборот. Странные люди эти взрослые! Как это они могут
после такого спора разговаривать как ни в чем не бывало
обо всяких пустяках?
Нет, ни я, ни мой брат не могли так скоро простить Его-*
ра Данилыча. И когда он наконец собрался домой и протя*
нул мне на прощанье свою большую широкую руку, я вти-
снул ему в ладонь подаренный мне целковый и сказал, за-
дыхаясь от волнения:
— Возьмите, пожалуйста... Мне не надо!..
— И мне не надо! — сказал брат и тоже протянул Егору
Данилычу свой целковый.
— Это еще почему? — спросил Егор Данилыч и даже
слегка покраснел.
— Вы очень нехороший человек, — сказал я. — Вот по-*
чему.
А брат только молча кивнул головой.
Егор Данилыч криво усмехнулся:
— Эх вы, Емели Зола!
Он положил оба новеньких целковых на столик в перед-
ней и, холодно простившись со взрослыми, переступил порог.
Мама была ужасно смущена и даже огорчена. Она побра-
нила нас и сказала, что больше не позволит нам сидеть за
общим столом, когда приезжают гости, и слушать, что гово-
рят взрослые.
Отец ничего не сказал, но по легкой усмешке, которую
он старался скрыть от нас, мы поняли, что он не сердится.
Почти так же много и горячо, как о деле Дрейфуса, го-
ворили в течение нескольких лет о войне между англичана-
ми и бурами в Южной Африке.
Войны, в которых участвовали наши, русские, казались
мне очень давними. Сердитый старик, стороживший арбузы
на бахче, рассказывал нам, мальчишкам, в редкие минуты
благодушия, как он оборонял Севастополь.
На лавочке у лабаза, где торговал Мелентьев, часами про-
сиживал инвалид с деревянной ногой и двумя серебряны-
ми медалями на груди. Он еще помнил Шипку и «белого
98
генерала», но по его сбивчивым рассказам мы не могли ура-
зуметь толком, что это была за война. Одно было ясно, что
русские всегда побеждали. И когда у нас на улице играли в
войну, мальчишки обычно делились на русских и турок.
Но с того времени, как взрослые вокруг нас заговорили о
войне в Трансваале, мы, ребята, превратились в буров и ан-
гличан, хоть и не слишком ясно представляли себе, где он
находится, этот самый Трансвааль. А так как охотников бьпь
англичанами всегда оказывалось меньше, то побеждали ча-
ще всего буры.
Буром был и я, играя в войну сначала на улицах слобод-
ки, а потом и на гимназическом дворе.
ПРОИСШЕСТВИЯ И СОБЫТИЯ
Многое менялось вокруг нас. Не менялась только гимна-
зия. Ничто в мире не казалось таким прочным и неизмен-
ным, как издавна установившиеся в ней порядки.
Надев гимназическую форму, мы с малых лет начинали
жить по расписанию.
Так чувствует себя человек, когда садится в поезд или
на пароход. Он уже не располагает своим временем, а под-
чиняется общему распорядку. То же было и с нами. Гимнази-
ческие уроки чередовались с переменами в точно определен-
ные часы и минуты, как в дороге остановки следуют за пе-
регонами.
Привыкнуть к строгому расписанию было нелегко после
беспорядочной и довольно вялой домашней жизни. Гимна-
зия как бы подстегивала нас и заставляла быть бодрее. Да
к тому же дома мы никогда не переживали таких волнений,
какие испытывали почти ежедневно на уроках в ожидании
вызова к доске или перед письменной работой.
Школа, как поезд, мчала нас из спокойного детства
в жизнь, подчиненную времени, полную заботы и тревоги.
По сравнению с неприглядным бытом пригородной сло-
боды и уездного города тогдашнего времени гимназия ка-
залась необыкновенно богатой и парадной.
Портреты в золотых рамах, блещущие лаком кафедры,
учителя в форменных сюртуках, а в особые дни даже в ор-
денах и при шпагах, торжественные молебны и церемон-
ные «акты», на которых выдавались аттестаты зрелости
и произносились пышные речи, а вслед за тем устраивался
4* 99
«силами учащихся» концерт, где старшеклассники в празд-
ничных мундирах играли на скрипке какой-нибудь ноктюрн
или «berceuse» 1 и декламировали стихи Апухтина, — все это
не могло не поражать новичков, в особенности тех, кто
впервые переступал порог гимназии.
Но постепенно, день за днем ребята привыкали к новой
обстановке и начинали видеть за показной ее стороной уны-
лые гимназические будни.
Будничным и однообразным было большинство уроков.
Такие учителя, как Степан Григорьевич Антонов или Павел
Иванович Сильванский, оживлялись только тогда, когда
в них просыпалась страсть охотника, преследующего усколь-
зающую добычу. Так, Павел Иванович из года в год охо-
тился на тех, у кого не было атласа. Да и «немая» карта
на стене служила этому зверолову западней, куда попадала
чуть ли не половина класса. Океаны, моря, острова, проливы,
горы, пампасы, джунгли — все то, что так увлекает подрост-
ков в книгах о путешествиях, становилось на уроках геогра-
фии волчьей ямой, в которую каждый из нас мог угодить.
У Степана Григорьевича была своя западня — грамма-
тика. Вызывал он обычно тех, на чьем лице видел явные
признаки беспокойства, неуверенности. Ребята это давно
уже поняли и намотали себе на ус. Тот, кто хотел, чтобы
его вызвали, ерзал на месте и тревожно перелистывал стра-
ницы учебника, уклоняясь от взгляда учителя. А его сосед,
не приготовивший урока, принимал самую невозмутимую
позу и не сводил с Антонова глаз.
В конце концов в западню попадал сам охотник.
Заядлыми егерями — или, вернее сказать, охотничьими
собаками — были и два гимназических надзирателя, кото-
рые официально именовались «помощниками классного на-
ставника». Они проводили весь день в коридоре, а в классы
заглядывали только во время перемен или на «пустых»
уроках.
Один из них — по прозвищу «Самовар» —служил до по-
ступления в гимназию полицейским надзирателем. Но,
в сущности, он и на новой службе оставался полицейским.
Он ловил гимназистов в городском саду или зимою на
катке, если они задерживались на десять минут дольше до-
зволенного правилами часа, ловил их в театре, если они при-
ходили на спектакль без особого разрешения начальства; на
1 «Berceuse» колыбельная песня (франц.).
100
улице требовал от них предъявления «ученического билета»,
а иной раз даже навещал их на квартире, чтобы узнать, как
они живут, с кем встречаются и что почитывают.
Особенно придирался он к ученикам-евреям. Однако это
ничуть не мешало ему напрашиваться к ним на празднич-
ные дни в гости.
Переваливаясь с ноги на ногу, подходил он во время
большой перемены к тем, кт о побогаче, и шутливо, будто
между прочим, спрашивал:
— А правду ли говорят, будто твой батька получил
к праздникам хорошую «пейсахбвку»?
Ссориться с надзирателем было невыгодно, и добрый
стакан «пейсаховки» (пасхальной водки) всегда ожидал его
прихода.
Гораздо свободнее чувствовали себя гимназисты, когда
в коридоре дежурил другой надзиратель, Аркадий Констан-
тинович Мигунов, прозванный «Шваброй».
Длинный и тощий Аркадий Константинович тоже ловил
нас на улице и в театре, но он не был так энергичен, как
Самовар. А на перемене или на «пустом» уроке мы забла-
говременно узнавали о приближении Швабры по его гром-
кому и судорожному кашлю, который был слышен изда-
лека.
Однажды во время «пустого» урока ребятам удалось ка-
ким-то образом похитить из учительской классный журнал
п пронести его по коридору под самым носом Аркадия Кон-
стантиновича.
У нас было два классных журнала — большие плоские
книги в аккуратных черных переплетах. Переплеты были
такие плотные, что их крышки откидывались со стуком.
Журналы эти казались нам книгами наших судеб. В одном
отмечались наши успехи и поведение, в другом — заданные
на дом уроки. Заглядывать в журнал с отметками нам было
строго запрещено, и только по движению руки учителя опыт-
ные второгодники иной раз догадывались, какую цифру вы-
вел он в графе журнала.
И вот этот неприкосновенный и таинственный журнал
очутился на короткое время в руках у Чердынцева, Балан-
дина и Дьячкова. Первые двое раскрыли его на кафедре,
а третий остался сторожить у дверей.
Сначала Чердынцев огласил отметки, полученные нами
за последние дни. Потом он и Баландин настолько расхраб-
рились, что стали переправлять плохие отметки на хорошие
101
или ставить рядом с единицами и двойками тройки и даже чет*
верки, похожие на те, что ставили учителя. Особенно щедро
дарили они хорошие отметки по предметам, которые препо-
давали рассеянные и забывчивые педагоги. Такими были,
например, географ Павел Иванович, историк Кемарский и
«француз» Леонтий Давыдович, который никак не мог за-
помнить ни одной фамилии и вызывал нас при помощи ука-
зательного пальца.
Добрых полчаса Чердынцев и Баландин трудились над
поправками в журнале.
Несколько раз во время этой опасной операции Дьячков
подавал из коридора тревожные сигналы, и журнал мгно-
венно исчезал под крышкой кафедры.
Наконец Чердынцев сказал: «Ну, на этот раз хватит!» —
и отложил перо. Классный журнал со всеми новенькими
пятерками, четверками и тройками отнесли обратно в учи-
тельскую, но только после того, как Дьячков объявил, что
путь свободен.
В этот день у нас было еще несколько уроков. Однако
никто из учителей не заметил в журнале никаких перемен.
Казалось, все обойдется благополучно. Но вот наш гео-
граф, придя в класс на следующий день, откинул крышку
журнала и стал пристально вглядываться в страницу, при-
щурив один глаз.
— Елкин! —сказал он удивленно. — Разве я тебя спра-
шивал на этой неделе?
Смущенный и перепуганный Елкин не успел встать
с места, как за него ответило несколько голосов.
— Спрашивали, Павел Иванович, — сказал Баландин.
— Конечно, спрашивали! — подтвердил Чердынцев.
— Ия поставил тройку?
— Откуда ж я знаю, — пробормотал Елкин. — Я же не
смотрел в журнал!..
Павел Иванович покрутил головой.
— Нет, тут что-то неладно! В прошлый раз я у себя от*
метил, кого из отстающих надо вызвать до конца четверти,
чтоб они могли переправить двойку на тройку. Первым у ме-
ня в списке стоял Елкин... И вдруг — извольте радовать-
ся! — против его фамилии уже стоит троечка.
Елкин неловко поднялся с места и сказал заикаясь:
— Я не виноват, Павел Иванович, ей-богу, не виноват!,
Вы просто забыли...
102
После урока Елкина потребовали к директору, а на дру-
гой день вызвали в гимназию его отца. Но на все вопросы
Елкин-младший отвечал только одно:
— Что ж, я сам себе тройку поставил, что ли?
Елкин-старший, крупный человек с головой, как бы
вросшей в плечи, молча выслушал директора и Павла Ива-
новича, а потом высказал твердое убеждение, что сын его
и в самом деле ни при чем. Будь он хоть малость виноват,
он бы непременно сознался до того, как получил свою пор-,
цию сполна. А «порция», ежели правду сказать, была на
этот раз солидная!
На это отвечать было уже нечего, и начальство в конце
концов решило отпустить Елкина-младшего с миром.
Тем дело и кончилось. Только на всякий случай — в ви-
де предупреждения — весь наш класс оставили «без обеда».
Вот и все.
Как ни требовало начальство от гимназистов дисциплины,
справиться с буйной вольницей ему не удавалось. Самых
отчаянных ребят ставили в угол, «под часы», к стенке,
оставляли на час, на два, на три после уроков, но все было
напрасно. В классах по-прежнему играли в «тесную бабу»
или «жали масло», то есть усаживались по пять, по шесть
человек на одну скамью и так сильно тискали сидящих по-
середине, что у них перехватывало дух. Чуть ли не каждый
день происходили во время большой перемены жаркие
кровопролитные сражения. Шли класс на класс, не щадя ни
носов, ни зубов, ни стекол, ни парт. Бывали и конные сра-
жения: ребята мчались в бой верхом на своих товарищах,
которые с полным удовольствием изображали резвых боевых
коней.
А изредка, когда поблизости не было надзирателей, чуть
ли не вся гимназия строила на перемене «слона».
Делалось это таким образом. На плечи к самым рослым
парням усаживались ребята поменьше, к ним на плечи взби-
рались те, кто был еще меньше, и, наконец, на самый верх
влезали малыши-приготовишки, почти упиравшиеся голо-
вами в потолок. Нужно было ухитриться выйти целым и
невредимым из такой игры, когда все это огромное живое
сооружение внезапно рассыпалось при появлении начальства
или по прихоти верзил-старшеклассников, составлявших его
основу.
103
Иногда устраивали поединок между двумя «слонами».
Это была опасная забава. В лучшем случае кое-кто из участ*
ников набивал себе шишку на лбу, в худшем — дело конча-
лось вывихом, а то и переломом ноги или руки.
Еще более удалые игры и развлечения затевались в гим-
назии тогда, когда в пятый класс поступали ребята, окон-
чившие четырехклассную прогимназию в городе Боброве.
Это были дюжие добродушные парни, которым некуда было
девать свою силушку. Они устраивали настоящие, нешуточ-
ные бои — «стенка на стенку», а ночью выворачивали в саду
и на улице скамейки и фонари.
Таких «мальчиков» не оставляли без обеда и не ставили
«под часы», а вызывали к директору и после двух-трех
предупреждений отсылали восвояси.
Чаще всего жаловался на поведение гимназистов учитель
немецкого языка, которого наш латинист за глаза шутливо
называл «немца».
В часы, когда все преподаватели покидали учительскую
и, один за другим, шли по длинному коридору в классы,
впереди всех несся Густав Густавович Рихман. Высокий, не
слишком полный, но довольно-таки упитанный, он шел, оза-
боченно приподняв правое плечо и крепко прижимая к груди
оба журнала — для отметок и для записи заданных уроков.
Лицо у него было свежее, розовое, губы сочные. Мягкая,
закругленная каштановая бородка аккуратно подстрижена.
Пуговицы ярко блестели, на вицмудире — ни пылинки. Вы-
ражение лица такое, будто он только что проглотил очень
вкусную и ароматную конфету.
Но стоило Густаву Густавовичу войти в класс, как на-
строение его мгновенно менялось.
Ученики все разом, как по команде, вставали с мест, а
когда Рихман милостивым кивком головы позволял им
сесть, парты начинали медленно, чуть заметно двигаться по
направлению к учительской кафедре. Густав Густавович
подозрительно и тревожно оглядывал ряд за рядом. Ученики
чинно и спокойно сидели на своих местах, а парты все-таки
двигались. Это было какое-то почти бесшумное, но грозное
наступление. Прекращалось оно только тогда, когда Густав
Густавович, распахнув свой сюртук, вынимал из кармашка
жилета с золотыми пуговичками крошечную записную кни-
жечку и говорил:
Ж
— На, довольна! Я хорошо знай, кто тут есть глявни
машинист. Я запишу его в эта маленькая книжечка, а потом
он будет беседоваль с господин директор!
— Густав Густавович! Это не мы, это парты сами дви-
гаются. Пол очень скользкий, только сегодня натерли!..
Если немецкий урок шел первым, дежурный по классу
должен был читать перед началом занятий короткую мо-
литву.
Но, желая затянуть время, эту молитву обычно повторя-
ли два, три, а то и четыре раза подряд.
Убедившись, что Густав Густавович ничего не замечает,
молитву стали постепенно удлинять, прибавляя к ней слова
других молитв, в том числе и заупокойных.
Рихман терпеливо слушал это странное попурри, стоя
перед кафедрой и низко наклонив — из уважения к чужому
вероисповеданию — слегка лысеющую голову.
Наконец ребята совсем обнаглели и начали служить пе-
ред немецким уроком целые молебны и панихиды.
Дежурный возглашал дьяконским голосом:
— Паки, паки, миром господу помолимся!
А все другие ребята торопливо, скороговоркой подхваты-
вали:
— Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!
Но Густав Густавович уже ясно видел, что его водят
за нос.
— На, довольна! Никакой больше паки! Это не есть мо-
литва перед урок!
— Да ведь теперь же у нас великий пост, Густав Густа-
вович! — оправдывался самый старший из ребят, второгодник,
пытавшийся петь басом.— Вот мы и читаем великопостную!
Но Густав Густавович твердо решил положить конец
Этим песнопениям. Он достал у нашего законоучителя, свя-
щенника Евгения Оболенского, подлинный текст молитвы и,
придя на урок, торжественно вынул свою шпаргалку из
кармана.
— На, теперь шитайт ваша молитва. Я буду провериаль
каждый слёво!
Что бы ни происходило в городе или в стране, — гимна-
зия, как заведенная, жила по своему уставу и расписанию.
Однако по временам и она ощущала какие-то подземные
толчки — отзвуки больших событий.
105
В один из февральских дней 1901 года среди уроков
пас выстроили в коридоре и повели в гимназическую цер-
ковь. Пропустить один-два урока ребята были рады, но
терялись в догадках, по какому поводу назначено богослу-
жение. День был не праздничный, не царский, не юби-
лейный.
Только в.церкви мы узнали, что молебен будет о здравии
министра народного просвещения Боголепова, на жизнь ко-
торого было совершено в Санкт-Петербурге «злодейское по-*
кушение» !.
Помню, как бледно горели в этот снежный февральский
полдень церковные свечи и как равнодушно крестились мои
соклассники, молясь о выздоровлении человека, имя кото-
рого слышали первый раз в жизни. Ученики старших клас-
сов о чем-то перешептывались, вызывая явное неодобрение
начальства, стоявшего впереди с благочестиво склоненными
головами.
После молебна занятия возобновились. Мы ждали, что
наш классный наставник, Владимир Иванович Теплых, придя
на урок, объяснит нам, кто же и за что «злодейски покушал-
ся» на министра. Сами же начать разговор не решались —
тем более что Владимир Иванович был в этот день как-то
особенно холоден, сух и несловоохотлив. Обычно он позво-!
лял себе надолго отвлекаться от предмета занятий и беседо-
вать с нами на темы, очень далекие от грамматических
правил и от латинского текста, который мы переводили. Но
на этом уроке он как будто нарочно занимался одними
только неправильными глаголами, которых в латинском
языке больше чем достаточно.
Мы слыхали от старшеклассников, что Владимир Ивано-
вич не слишком одобрительно отзывается о «студенческих
беспорядках» в Петербурге и в ближайшем к нам универси-
тетском городе — Харькове. Но в то же время мы не могли
не заметить, с какой презрительной брезгливостью
относится он к тем из учителей, которые, подобно Сапож-
нику — Антонову, первыми являлись поздравлять директо-
ра в день его ангела и первыми же протискивались на
панихидах и молебнах в передний ряд — к самому иконо-
стасу.
Когда Теплых бывал не в духе, никто не смел и присту-
питься к нему. В глазах у него появлялось выражение хму-
рой волчьей скуки, лоб прорезала глубокая морщина, а щеки
106
как-то втягивались, отчего лицо казалось еще худощавее,
чем обычно.
Он покинул класс после звонка, так ничего и не сказав
нам о событиях, которые взбудоражили нашу гимназию и
весь город.
А недели через две с лишним всех гимназистов — от при-
готовишек до восьмиклассников — опять построили в ряды
и повели в церковь. Так же горели среди бела дня свечи, но
на этот раз священник служил уже не молебен о здравии, а
панихиду по тому же министру Боголепову.
— Во блаженном успении вечный покой!..
О том, кто и за что убил Боголепова, я узнал позже.
В классе у нас не было по этому поводу никаких особых
разговоров. Ребята простодушно радовались, что по случаю
кончины министра народного просвещения их отпустили по
домам раньше обычного. Степа Чердынцев даже сказал, что
хорошо бы каждую неделю устраивать по такой панихидке.
Прямо из гимназии я отправился к Лебедевым. Уж у них-
то я наверное кое-что узнаю.
И в самом деле, когда я вошел в знакомую, беспорядочно
заваленную книгами комнату Вячеслава, там говорили о
министре, за упокой души которого только что молились
в гимназической церкви.
Вячеслав крупно шагал из угла в угол. На стульях, на
кровати, на подоконнике разместилось несколько его това-
рищей-старшеклассников.
В стороне за столиком сидела Лида Лебедева и, подперев
ладонью лоб, с увлечением читала какую-то книгу в зелено-
ватой обложке. Но время от времени и она, не выпуская из
рук раскрытой книги, поднимала голову и вмешивалась
в разговор.
Здесь министра поминали не так, как в гимназии. Назы-
вали его не Боголеповым, а Чертонелеповым и рассказывали,
что это именно он приказал отдать в солдаты сто восемьде-
сят студентов Киевского университета и разогнал лучших
профессоров.
А застрелил его студент Карпович.
Я не мог точно представить себе, каков он с виду, но
воображению моему рисовалась какая-то в высшей степени
героическая фигура — некто, похожий на легендарного стрел-
ка Вильгельма Телля, о котором я недавно читал.
107
Я не думал тогда, что через одиннадцать лет мне дове-
дется встретить в Лондоне, в русском клубе имени Герцена,
живого Карповича — бывшего студента, который когда-то
убил всесильного царского министра и был приговорен к
двадцати годам каторжных работ.
Карпович оказался совсем непохожим на того Вильгель-
ма Тел ля в студенческой фуражке, которого я выдумал
в юности. Это был еще довольно молодой, темноволосый,
смуглый, крепкий с виду украинец. Он громко и весело
смеялся и ни разу при мне пе напомнил, что он-то и есть
тот самый Карпович, о котором говорила в начале девятисо-
тых годов вся Россия.
Уходя от Лебедевых, я бегло посмотрел на обложку
книги, которую держала в руках Лида. Мне бросилось в глаза
имя автора: «М. Горький».
ОТЦОВСКИЕ ПОДАРКИ
В те годы, когда литературой снабжали меня сосед-
красильщик и румяный юноша Мелентьев, я был глубоко
убежден, что все без исключения писатели — покойники, а
все книги напечатаны в какие-то незапамятные времена, —
недаром же они были так истрепаны, так покоробились и
пожелтели.
Наши домашние книжки выглядели чуть-чуть попригляд-
нее, но и они были далеко не первой молодости. Приобрели
их в лучшую пору, когда у родителей была еще возможность
тратить деньги на книги, да и время для того, чтобы их чи-
тать. По мере того как мы росли, книжки постепенно пере-
ходили с отцовских полок в окованный железом сундук мо-
его старшего брата. Кое-что перепадало и мне.
Помню, как брату подарили ко дню рождения — ему
исполнилось тогда тринадцать лет — большой и толстый том
сочинений Глеба Успенского в старом, но прочном коричне-
вом переплете, а мне — такой же увесистый том, состоявший
из нескольких номеров журнала «Северный вестник», пере-
плетенных вместе.
Старый журнал девяностых годов, в котором печатались
превыспренние и туманные рассуждения Акима Волынского,
густо пересыпанные иностранными словами и многослож-
ными философскими терминами, вряд ли мог в это время
заинтересовать даже самого усердного литературоведа, а уж
108
для меня, одиннадцатилетнего мальчика, он был таким же
подходящим чтением, как синтаксис древнеассирийского
языка. Подарили же мне его только потому, что ничего
другого под рукой не оказалось, а по внешнему виду «Се-
верный вестник» ничем не отличался от «Сочинений Глеба
Успенского», подаренных брату, — ни объемом, ни весом,
ни прочностью переплета.
Я принял подарок с благодарностью, но, конечно, ни
одной страницы не прочел. Однако гордился тем, что и у
меня есть настоящая книга в настоящем переплете.
Это был первый журнал в моей личной библиотеке. Я и
не знал в то время, что на свете есть другие журналы, более
понятные и привлекательные для моего возраста, чем «Се-
верный вестник».
Но вот вскоре после нашего переезда в город, в дом
Агарковых, отец с каким-то таинственным видом подозвал
меня и брата и объявил нам, что выписал для нас из Петер-
бурга журнал. Не старый журнал вроде «Северного вестни-
ка», а новый, который печатается сейчас и называется «Во-
круг света». Получать его мы будем каждую неделю, а
кроме того — за те же деньги — нам пришлют еще сочинения
Фенимора Купера и Густава Эмара и две картины (олеогра-
фии) : одну — художника Айвазовского, другую — Лагорио.
Какими звучными показались мне все эти имена — Купер,
Эмар, Лагорио, Айвазовский!
День за днем провожали мы жадными глазами хромого
почтальона, который упорно обходил наши ворота. Но од-
нажды, когда мы его вовсе не ждали, он деловито завернул
к нам во двор и сунул мне в руки что-то вроде тонкой книж-
ки в белой обертке с наклейкой, на которой значился напе-
чатанный в типографии адрес.
Много писем и посылок получал я на своем веку и
продолжаю получать до сих пор, но никогда я так не радо-
вался, как в тот день, когда была получена эта первая
почта, предназначенная не для наших родителей, а для меня
и брата: свеженький номер «Вокруг света» с четким, черным
шрифтом на белой блестящей бумаге, со множеством рисун-
ков, а главное — с нашими именами и фамилией на банде-
роли.
Для ребят, выросших в глуши, это было событием, запо-
минающимся на всю жизнь.
Вы только подумайте! Для вас печатается где-то в Петер-
бурге особый — детский — журнал. Какие-то неизвестные
109
друзья заботливо преподносят вам каждую неделю новую
главу повести и два-три рассказа с картинками, которые вы
долго рассматриваете, прежде чем приступить к чтению. Вас,
точно взрослого, обслуживает почта, посылающая к вам на
дом такого занятого человека, как почтальон. Вам присвоено
Звание — «подписчик», и вы числитесь где-то в Петербурге,
в «конторе редакции» под определенным номером — 3709-м.
Вашу фамилию и адрес печатают в типографии, чтобы на-
клеить на бандероль, опоясывающую номер журнала. Все это
повышает ваше уважение к себе и приобщает вас к большой
жизни.
День, когда мы наконец получили первый номер «Вокруг
света», был праздником не только для нас, но и для отца,
который умел входить во все наши радости и огорчения. Не
так-то легко было ему уделить из своих скудных заработков
деньги на журнал, но он готов был отказывать себе в са-
мом необходимом, чтобы хоть на несколько дней или
часов скрасить чем-нибудь нашу довольно однообразную
жизнь.
Все, что мы получали от матери, которая не жалела по-
следних сил для того, чтобы мы были сыты, одеты, обуты,
казалось нам таким будничным, насущно необходимым по
сравнению с подарками отца.
В этом сопоставлении таилась какая-то глубокая неспра-
ведливость. Чем щедрее бывал отец, тем более расчетливой
приходилось быть матери. В сущности, она была единствен-
ным в нашей семье взрослым человеком, беспокоившимся о
завтрашнем дне. До самой старости отец оставался в душе
ребенком, увлекающимся, непрактичным, способным приду-
мывать себе и другим радости даже тогда, когда суровая и
трудная жизнь в них отказывала.
Я никогда не забуду, как однажды зимой я и мой стар-
ший брат — в то время еще совсем маленькие ребята — еха-
ли с ним в поезде. На каком-то полустанке мы увидели за
окном вагона старика в дубленом полушубке, продававшего
пестро и весело раскрашенные глиняные игрушки — лошадок
с золотыми гривами, уточек, петушков, человечков. Я не
удержался и со вздохом сказал отцу, что мне очень, очень
нравятся такие лошадки. Ничего не ответив, отец схватил
шапку и выбежал из вагона.
Но как раз в эту минуту продавец, словно нарочно, ото-
шел от нашего вагона вместе со своим лотком, уставленным
такими заманчивыми яркими вещицами, и зашагал куда-то
110
вдоль поезда. Мы видели, как отец бросился его догонять и
тоже исчез.
Раздался третий звонок, и поезд тронулся.
Мы так и замерли от ужаса. Что-то теперь будет с отцом,
с нами?..
Соседи по вагону стали успокаивать нас. Они наперебой
говорили, что отец, наверно, успел вскочить в один из по-
следних вагонов и скоро придет к нам.
Но он не пришел.
Шуба его, раскачиваясь на крючке, ехала вместе с на-
ми, и я с отчаянием думал о том, что я натворил. Ведь это
из-за меня, по моей вине отец отстал от поезда и теперь,
должно быть, бредет вслед за нами по шпалам пешком,
без пальто, под холодным зимним ветром. А с нами что
будет? Ведь у нас нет ни билетов, ни денег... Вот тебе и ло-
шадка с золотой гривой!..
Брат, кажется, думал то же, что и я. Он ничего не го-
ворил, только смотрел на меня печально и укоризненно. Но
вот в вагон пришел главный кондуктор поезда и высадил
меня и брата, а заодно и отцовскую шубу на какой-то
станции...
Эта станция — Козлов — глубоко запечатлелась у меня
в памяти. Здесь мы должны были ждать отца, который по-
слал вдогонку телеграмму с просьбой задержать нас.
Никогда за всю мою жизнь мне не было так чертовски
скучно, как в Козлове, в маленьком зале буфета первого и
второго класса, где мы сидели, точно арестованные, на жест-
ком диванчике у окна.
Буфетчик, сонный человек с бледными, одутловатыми
Щеками, получил от начальника станции строжайшее прика-
зание никуда не отпускать нас до приезда отца. Днем это
ожидание еще не было так томительно. Мы с любопытст-
вом разглядывали сверкающий и кипящий, невиданных раз-
меров самовар на буфетной стойке, смотрели, как суетится,
прислуживая компании офицеров, смуглый, черноглазый
человек с переброшенной через руку салфеткой, как за дру-
гим столиком пьет чай с домашними булочками и вареньем
семья священника.
Почему-то мы привлекали к себе внимание всех входят
Щих в зал. Одни обращались с вопросами к буфетчику, дру-<
гие — непосредственно к нам.
Ш
Буфетчик сначала отвечал довольно охотно и подробно.
Говорил, что нас высадили из скорого по телеграмме отца,
который должен приехать за нами ночью почтовым. Другим
отвечал коротко и сухо: отца, мол, ожидают — отстал в до-
роге. А напоследок уже еле-еле цедил сквозь зубы: «Па-
пашу ждут!»
С нами пассажиры разговаривали ласково и так жалост-
ливо, что нам начинало казаться, будто мы навсегда оста-
немся здесь на диване и никто за нами не приедет. И когда
большая, толстая попадья в лисьей шубе сунула- нам по
сдобной булочке, я чуть не заплакал от жалости к себе.
Наконец зал опустел. Последним вошел, отряхиваясь от
снега и топая ногами, высокий, жилистый жандарм в длин-
ной шинели. Подойдя к стойке, он мигом опрокинул себе
в рот под усы большую рюмку водки и, уходя, сказал бу-
фетчику, что почтовый опаздывает на три часа.
Стало совсем тихо. Только с платформы время от вре-
мени слышались то протяжные, то короткие гудки, шипе-
ние пара и гул колес. 3& большим окном проносились паро-
возы, метавшие в воздух красные искры, а за ними покорно
бежали бесконечные вереницы томительно однообразных то-
варных вагонов. Промелькнул как-то и пассажирский поезд.
Но нас теперь даже и поезда не интересовали. Смуглый
человек, прислуживавший пассажирам, рассчитался с буфет-
чиком и, позевывая, ушел, а буфетчик запер дверь, ведущую
на платформу, просунув сквозь дверную ручку половую
щетку, и скоро захрапел за своим огромным, давно уже
остывшим самоваром.
Потянулись последние и самые тоскливые часы ожида-
ния. Нас клонило ко сну, но мы всячески боролись с дремо-
той, так как должны были сторожить отцовскую шубу, кор-
зину и чемодан. Разговаривать друг с другом вслух мы не
решались, боясь разбудить угрюмого буфетчика, а делать
нам было решительно нечего... В конце концов я все-таки
уснул, оставив на попечение брата шубу и наш багаж.
Только глубокой ночью прикатил на станцию отец,
взволнованный, растерянный* но с двумя глиняными ло-
шадками в руках.
Об этом происшествии в дороге мы рассказали одной
только матери. Нам не хотелось, чтобы родные и знакомые
посмеивались над нашим добрым, щедрым без оглядки
отцом.
Ш
И без того уже они считали его неисправимым мечтате-
лем, фантазером, чудаком. Но, в сущности, только немногие
из них знали и понимали его.
Он был простодушен, а не прост, по-юношески горяч и
по-детски доверчив, способен бесконечно увлекаться новыми
людьми и новыми идеями, но умел управлять своими чувст-
вами и свято держал слово, данное себе самому и другим.
Это был человек неукротимой воли и стойкого терпе-
ния. Всякое дело он изучал серьезно и досконально. Каза-
лось, легче разбудить спящего самым крепким сном чело-
века, чем вывести его из того глубокого внимания, с каким
он погружался в химическую формулу или даже в газету.
Когда мы его спрашивали, почему он читает так медленно,
он отвечал не то в шутку, не то всерьез:
— Вы небось только строчки читаете, а я и между
строчек.
Так же сосредоточен бывал он в лаборатории или на за-
водском помосте у громадных клокочущих котлов. Напря-
женно думая о чем-пибудь, он бывал рассеян и нередко по-
падал в беду: то обожжет о горячее стекло пальцы, то нечаян-
но хлебнет вместо воды щелоку. Но всякую боль, как бы
сильна она ни была, он переносил кротко и мужественно.
Гораздо больше страдал он от неудач и разочарований,
которые преследовали его на каждом шагу. У него не было
той житейской сноровки, которая помогает иной раз и без-
денежному человеку выбиться на дорогу. Мелкие дельцы-
предприниматели, в руки которых он нередко попадал, су-
лили ему золотые горы, а потом, воспользовавшись его на-
ходками, всячески старались избавиться от человека, в
котором больше не нуждались.
Оставалось одно: смириться, махнуть рукою на все не-
осуществленные замыслы и несбывшиеся надежды и пойти
на какой-нибудь мыловаренный или маслоочистительный за-
вод обыкновенным мастером. Служить, а не изобретать. Это
давало хоть и скромное, да зато определенное жалованье.
Так отец впоследствии и сделал. Проработав многие годы
в провинции и в Питере и уже перевалив за пятьдесят, он
поступил на завод под Выборгом, принадлежавший старой
и солидной фирме братьев Сергеевых.
Название этой фирмы («Sergejeff») можно было увидеть
и на ящиках мыла, и на пивных бутылках, и на вывеске
лесопильного* завода. Во главе дела стоял сухой, крепкий
старик, сочетавший облик русского церковного старосты со
113
сдержанно-деловитыми манерами богатого финского ком-
мерсанта. Его подчиненные, среди которых было много фин-
нов с русскими фамилиями (Макеефф, Ёфимофф), обычно
начинали службу с должности «мальчика» и не теряли поч-
тительности и расторопности даже тогда, когда становились
бухгалтерами и «прокуристами».
Все служащие Сергеева вместе составляли как бы еди-
ную семью, возглавляемую хозяином-патриархом. Среди
Этой публики мой отец всегда оставался одиноким и чужим.
И хоть в своем деле он считался знающим и опытным ма-
стером, хозяева после нескольких лет работы уволили его —
под тем предлогом, что он, дескать, становится староват,
а производство расширяется и требует руки помоложе и
покрепче.
Больше года отец искал работы. Странно и горько было
видеть праздным поневоле этого еще полного сил и энергии
человека, который и сам знал себе цену, и с давних пор
Заслужил уважение своих товарищей по профессии.
Теперь у него хватало досуга, чтобы читать книги, по
чтение уже не шло ему на ум. В его близоруких, доверчивых
глазах появилось такое несвойственное ему выражение оза-
боченности.
Наконец, уже незадолго до революции, он попытался
устроиться на Кубани. Там в это время начинал работать
большой нефтеперегонный завод, оборудованный на загра-
ничный лад.
Долго пришлось ему ждать ответа.
Как стало известно потом, дирекция боялась доверить
новые шведские машины русскому мастеру и собиралась вы-
писать специалиста-шведа.
Но, по всей видимости, в Швеции не нашлось охотника
ехать в Россию во время войны. К немалому удивлению
администрации завода, шведы порекомендовали ей обра-
титься к мастеру, которого они знали по своим делам с фир-
мой Сергеевых, — к моему отцу.
Тут только администрация согласилась взять его на ра-
боту.
До последних своих дней работал отец на заводах. В со-
ветское время он служил в Нижнем Новгороде — в нынеш-
нем Горьком, и, когда мой старший брат, узнав о его тяж-
кой болезни, поехал за ним из Ленинграда, он застал ста-
рого мастера на высоком заводском помосте —= у кипящих
котлов.
114
Он мало изменился, наш отец. Голову держал все так
же прямо и гордо, как во дни молодости, по-прежнему заче-
сывал вверх свои черные, почти не тронутые сединой волосы.
И только в минуты усталости одна прядка льнула к его боль-
шому и чистому лбу, прорезанному у переносицы такой
умной и доброй, издавна знакомой нам морщинкой.
Я говорю здесь так подробно о своем отце не только из
желания запечатлеть, сохранить дорогие мне черты. Но мне
кажется, что я ничего не мог бы рассказать о ранних го-
дах моей жизни, не уделив несколько страниц человеку,
который как бы пережил со мною свое второе детство.
Он знал весь мой класс от первой до последней парты.
Знал, конечно, с моих слов. Но рассказывал я ему обо всем
так охотно и подробно, что от него не ускользала ни одна
мелочь нашей школьной жизни. Сам он ни в каких гимна-
зиях не учился. Однако слушал меня не из простого любо-
пытства. По его вопросам и замечаниям, то одобрительным,
то негодующим, я чувствовал, что он видит в моей жизни как
бы «исправленное, дополненное и улучшенное издание»
своей, которая началась в глухом захолустье и в глухие вре-
мена. Вместе со мною и моим братом он как будто и сам
проходил гимназию класс за классом и потому так глубоко
вникал во все наши школьные дела, придавая значение даже
тем событиям, которые показались бы всякому взрослому
человеку мелкими и ничтожными.
Правда, некоторые эпизоды отец оценивал по-своему и
проявлял иной раз свои особые, не всегда мне понятные
предубеждения и пристрастия. Так, например, он неизменно
одобрял все, что бы ни делал и что бы ни говорил пришед-
шийся ему по сердцу Владимир Иванович Теплых. Зат° °н
Заранее осуждал все, что исходило от Сапожника — Ан-
тонова. Всячески выгораживал и брал под свою защиту на-
шего немца Густава Густавовича, хотя и не мог удержаться
от улыбки, когда слышал в моей передаче рассказ слово-
охотливого Рихмана о том, как он хотел было «фехтовайт»
с ворами, похитившими у него ночью из погреба «клюбнич-
кино» варенье, но только, к сожалению, не мог вовремя
отыскать свою шпагу.
Одним моим товарищам по классу отец прощал даже
самые озорные проделки, других подозревал во всех смерт-
ных грехах.
115
Ничего не поделаешь — таков был характер моего отца.
У него ни в чем не было середины. Людей он делил на
две категории. Одна состояла сплошь из «светлых лич-
ностей», другая — из отъявленных злодеев. Любопытно
было то, что очень многие из людей, которых мы знали, по
очереди побывали в обеих категориях — ив «светлых лич-
ностях», и в злодеях.
Но, может быть, именно это по-детски горячее, неровное,
пристрастное отношение ко всему окружающему и сближало
его с нами — ребятами.
После разговоров с отцом и гимназическая жизнь каза-
лась нам гораздо богаче, разнообразнее, и прочитанная
книжка интереснее, и вся жизнь шире и заманчивее.
Он редко приезжал домой на долгий срок. Вероятно, по-
этому недели и месяцы, которые он проводил с нами, каза-
лись нам особенно праздничными и заполненными. Не толь-
ко мы, но и мать становилась в его присутствии спокойнее
и веселее и даже позволяла себе иной раз уходить с ним па
целый вечер в гости или в театр.
Он придавал всему дому какую-то бодрость и уверен-
ность. Все яркое, необычное исходило от него: первые стихи,
первые рассказы из истории, первые вести о событиях за
пределами нашего дома и города.
И, наконец, тот первый детский журнал, который как
бы открыл нам ворота в большой мир и назывался
«ВОКРУГ СВЕТА»
Я верил тогда названиям, и мне казалось, что журнал
«Вокруг света» со всеми его бесплатными приложениями —
Купером, Эмаром, картинами Айвазовского п Лагорио —»
в самом деле обещает мне кругосветное путешествие.
НОВОСТИ В ГОРОДЕ И В ГИМНАЗИИ
Я еще не знал тогда, что журнал можно критиковать,
находить в нем недостатки. Нам не с чем было его сравни-
вать. Мы принимали всё, как должное: вот, думали мы, ка-
кие бывают журналы.
Не только я, но и мой старший брат прочитывали каж-
дый номер от первой строчки до подписи редактора в кон-*
це последней страницы и были от души благодарны за все,
что журнал нам дарил.
116
Я и сейчас помню, — хоть с тех пор прошло уже более
шестидесяти лет, — печатавшуюся с продолжениями пере-
водную повесть о двух мальчиках, которых в разное время
похитил бродячий цирк. Мальчики эти становятся самыми
близкими друзьями и в конце концов оказываются родными
братьями, сыновьями французского офицера. Младший из
них, Жан, прозванный в цирке Фанфаном, благополучно
возвращается домой, а старшего — по имени Клодинр —
родители находят слишком поздно: он безнадежно болен и
красиво умирает на глазах у читателя, — как те бледные
мальчики в бархатных курточках, чью безвременную смерть
с таким удовольствием изображала Лидия Чарская.
Трудно понять, как могла эта сентиментальная мело-
драма заинтересовать меня в ту пору жизни, когда я уже
читал и перечитывал Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Но, как
Это ни странно, «Капитанская дочка», «Шинель», «Герой
нашего времени» мирно уживались у меня на полке, да и
в моем сознании с такими детскими книгами, как «Малень-
кий лорд Фаунтлерой» Бернет или «Князь Илико» Жели-
ховской.
Вероятно, эти повести привлекали меня тем, что их ге-
рои были моими ровесниками, а читатель-ребенок, при всем
своем жадном интересе к жизни взрослых, все же нуж-
дается и в книге, рассказывающей о приключениях и пере-
живаниях юности.
А может быть, детские романтические повести, лишен-
ные особой глубины, но полные событий, были для меня
в известной мере отдыхом и развлечением. Во всяком слу-
чае, Густав Эмар, Майн Рид, а несколько позже Александр
Дюма более всего увлекали меня и моих сверстников тем
стремительным развитием сюжета, которое современные
дети и подростки находят на экране.
Да, эти сюжетные книги с иллюстрациями были нашими
фильмами до изобретения кинематографа.
Я проглатывал их залпом, пропуская подчас строчки и
даже целые страницы, чтобы поскорее узнать развязку за-
путанного клубка событий.
Подобно американцам, я любил «счастливые концы» и
потому предпочитал книги, в которых рассказ ведется от
первого лица. Это давало мне уверенность, что герой ро-
мана, рассказывающий о самом себе, не умрет от чахотки,
пс утонет и не застрелится. Но оказалось, что и это не
всегда гарантирует герою безопасность. Бывает и так, что
117
рассказ от первого лица где-то на последних страницах вне-
запно прерывается несколькими рядами точек, а затем —
уже от третьего лица — спокойно сообщается, что герой
приказал долго жить...
Наиболее острые, загадочные, запутанные сюжеты я на-
ходил в переводных романах. Одолев такой роман, я мог
пересказать довольно подробно его содержание, но в па-
мяти моей редко удерживались строчки подлинного текста,
реплики действующих лиц.
А из Пушкина, Гоголя, Лермонтова, из «Кавказского
пленника» Льва Толстого запоминались не только отдельные
строчки, но иной раз целые страницы. На всю жизнь вре-
зались мне в память тихие слова Акакия Акакиевича Баш-
мачкина из «Шинели», которую я прочел в десятилетнем
возрасте: «Зачем вы меня обижаете?..»
Вероятно, в ту же пору жизни я накрепко запомнил
диалог из лермонтовского «Маскарада».
— Что стоят ваши эполеты?
ь- Я с честью их достал, — и вам их не купить...
Меня пленяла четкость и острота этих двух беглых реп-
лик, похожих на звонкие удары скрестившихся рапир.
Правда, мне было не совсем понятно, что значит «с честью
их достал», но я чувствовал и едкий цинизм насмешливого
вопроса, и молодое, эффектно-благородное негодование в от-
вете офицера.
«Маскарад» я читал еще в пригороде — на Майдане.
У меня не было, да и не могло быть тогда ни малейшего
понятия о нравах светского общества, и единственным офи-
цером, которого я знал до того времени, был все тот же во-
ронежский военный врач, лечивший меня в раннем детстве.
И все же до меня полностью дошла сущность колкого раз-
говора между князем Зв®здичем и его партнером по карточ-
ному столу.
Детских библиотек и читален в это время у нас в го-
роде еще не было, если не считать той маленькой библио-
течки, которая целиком умещалась в небольшом книжном
шкафу, стоявшем у нас в классе под «научной» картиной
с надписью: «Тропический лес». Такие же скромные биб-
лиотечки были и в других классах.
118
Книги выдавал раз в неделю — по субботам — наш «за-
коноучитель», еще довольно молодой священник, отец Евге-
ний Оболенский, носивший шелковую лиловую рясу и за-
ботливо холивший свои темно-каштановые, кудрявые, не
слишком длинные волосы и небольшую бородку.
Книг в его шкафу было очень мало, а интересных и того
меньше. И объяснялось это, как я узнал позднее, не бед-
ностью, а строгим отбором, не допускавшим в гимназические
библиотеки книг, в которых были малейшие признаки воль-
ного духа.
Басни Крылова, «Детские годы Багрова-внука» и «Тарас
Бульба» стояли здесь рядом с «Юрием Милославским», «Ле-
дяным домом» и «Аскольдовой могилой», а дальше шли
книги авторов, имена которых я забыл или никогда не
знал, — о «белом генерале», о «царе-освободителе» да еще
о каком-то «Мехмед-Бее, мамелюке тунисском».
Были здесь и сборники детских пьес, по своему языку и
стилю запоздавших более чем на полвека. И все же назва-
ния некоторых из этих пьес остались у меня в памяти. На-
верно, это потому, что я со своими одноклассниками тщетно
п долго искал среди них что-нибудь такое, что можно было
бы разыграть на гимназическом вечере.
Почему-то авторы этих пьес скрывались под инициа-
лами— «С-н» или «Э. Гр-р», — а пьесы назывались:
«Избалованное дитя. Комедия в 1 действии».
«Ленивица. Драма (!) в 1 действии».
«Бедность, честность, счастье, или Марсельская сирота.
Драма в 5 действиях». И все в таком же роде.
Как-то недавно мне попала в руки книжка, тоже оказав-
шаяся моей старинной знакомой. Прочитав заглавие «Очерки
жизни и сочинений Жуковского, составленные П. Басисто-
вым», я сразу вспомнил, что видел точно такую же в нашем
классном книжном шкафу. Тогда она мало заинтересовала
меня, а теперь даже ее поблекший переплет и старин-
ный шрифт так трогательно напомнили мне давние вре-
мена, что у меня возникло желание познакомиться с ней по-
ближе.
Одна из ее глав называлась торжественно и таинственно:
«История души Жуковского по его стихотворениям».
Другую главу составитель назвал короче: «Черта благо-
творительности Жуковского». В ней обстоятельно рассказы-
валось, как Жуковский, получив от одной дамы-писатель-
119
ницы в подарок книжку, послал ей с камер-лакеем сто руб-
лей, а затем лично навестил эту даму и долго беседовал с ее
прелестной в своей наивности маленькой дочкой о пользе
изучения русской грамматики.
С необыкновенной деликатностью и грацией говорит
автор книги о происхождении Василия Андреевича Жуков-
ского, который, как известно, был незаконнорожденным
сыном богатого помещика Бунина и пленной турчанки
Сальхи.
«У помещика... Афанасия Ивановича Бунина, — пишет
этот биограф, — было несколько взрослых дочерей, но ни
одного сына, — и он охотно усыновил мальчика, родивше-
гося почти сиротою (!); мать Жуковского, Лизавета Де-
ментьевна, была также принята в дом Афанасия Ивано-
вича...»
По счастью, немногие из моих соклассников довольство-
вались тем запасом книг, которым заведовал отец Евгений
Оболенский. Мы охотились за книгами, где только могли, и
обменивались своими находками друг с другом.
Пожалуй, я был счастливее в своих поисках, чем очень
многие из моих сверстников. Меня снабжали книгами и Ле-
бедевы и Гришанины. Да к тому же я читал все, что доста-
вал для меня и для себя старший брат.
Скоро я свел знакомство с владельцем нового, только что
открывшегося у нас в городе «Писчебумажного и книжного
магазина». Здесь я впервые обнаружил «Библиотечку Сту-
пина», а потом и целую серию изданий «Посредника» и «Пе-
тербургского комитета грамотности».
Помимо того, что эти книжки были дешевы, они казались
мне — особенно «Библиотечка Ступина» — необыкновенно
привлекательными.
Ребята любят все маленькое. Вернее сказать, они любят
видеть маленьким то, что обычно бывает большим. При этом
маленькое должно быть настоящим, то есть сохранять все
черты и пропорции большого.
Такими казались мне издания Ступина при всей их ми-
ниатюрности. Вероятно, издатель нашел удачный формат;
шрифт, цвет обложки и хорошо выбрал рассказы, подхо-
дящие для дешевой общедоступной библиотечки.
Самая фамилия издателя не казалась мне случайной;
Как-то невольно и подсознательно я осмыслил ее, связав
со словом «ступенька». Каждая книжка этой библиотечки
была для меня ступенькой какой-то лестницы.
1ЗД
Я помню далеко не все имена авторов книг, прочитан-»
ных в ртом возрасте, а вот фамилию издателя почему-то хо^
рошо запомнил.
Не я один сохранил добрую память о книжечках Сту-
пина. Многие из моих современников рассказывали мне, что
их тоже радовали эти маленькие, словно игрушечные, но
вполне «всамделишные» книжки.
Дети знают, что такое благодарность, и умеют сохранять
ее надолго.
До сих пор, закрыв глаза, я могу совершенно отчетливо,
до мельчайших подробностей, представить себе острогож-
ский «Писчебумажный и книжный магазин». Впервые в жиз-
ни увидел я там на полках так много превосходной чистой
бумаги — целые стопы аккуратно обрубленных белых, глад-
ких листов с голубоватыми линейками и клеточками и безо
всяких линеек и клеточек.
Да и, кроме бумаги, чего-чего там только не было! Тол-
стые книги в тисненных золотом переплетах и тонкие в яр-
ких, лихо разрисованных обложках, объемистые общие тет-
ради в глянцевитой клеенке. И тут же на прилавке под про-
зрачным стеклом еще более заманчивые вещи: перочинные
ножички — нарядные, перламутровые и темненькие, попро-
ще, — раскрашенные пеналы, альбомы для стихов, резинки
с напечатанными на них черными или красными слонами,
линейки, циркули, перышки — богатейший набор перьев от
маленького, тоненького, почти лишенного веса, до крупных,
желтых, с четко выдавленным номером: «86».
Ни один магазин в городе не казался мне таким интерес-
ным и богатым, как этот, хоть вывеска у него была поскром-
нее и помещение потеснее, чем у бакалейщиков и галанте-
рейщиков. Да и народу бывало в нем меньше.
Забежит, бывало, на несколько минут шумная компания
гимназистов, гимназисток или «уездников», потолчется
У прилавка, накупит всякой всячины — тетрадок с розовыми
промокашками, бумаги для рисования и черчения, блестя-
щих, гладких, так вдусно пахнущих деревом и лаком каран-
дашей, а заодно и полюбуется переводными картинками.
Впрочем, маленькие гимназистки предпочитали картинки
«налепные» — штампованные, выпуклые, изображавшие яр-
ко-пупцовые венчики роз и пухлых ангелочков.
Таким покупателям владелец магазина — тихий и серьез-
ный человек, с виду похожий на поэта Некрасова, — долго
Задерживаться у прилавка не давал. Зато любителям книг
121
он благосклонно и беспрепятственно разрешал проводить
у книжных полок целые часы. Они спокойно, не торопясь,
раскрывали книгу за книгой и вели между собой и с хозяи-
ном долгие разговоры о том, что именно «хотел сказать»
автор своей повестью или романом.
Меня владелец магазина на первых порах причислял
к той категории покупателей, которые интересуются перыш-
ками да картинками, и только потом — через по л го да или
год, — почувствовав во мне страстного читателя, милостиво
допустил меня к полкам. Я бережно перелистывал: толстые
романы и повести, а томики стихов проглатывал тут же,
не сходя с места.
Чуть ли не через день заглядывал я в «Писчебумажный
и книжный магазин».
Книгами торговали у нас в городе и прежде. А вот та-
кого просветителя, как владелец нового магазина, у нас еще
не бывало. Эт° было своего рода знамение времени.
Знамением времени было и появленье у нас в гимназии
нового преподавателя русского языка и литературы — Нико-
лая Александровича Поповского.
Старый преподаватель словесности Антонов был неслово-
охотлив, сух и не допускал никакой вольности — ни в мыс-
лях, ни в стиле изложения. Его пугал малейший отход от
буквальности. Встретив в работе восьмиклассника выраже-
ние «глубокая мысль», он дважды подчеркивал его и писал
на полях: «Глубокой может быть только яма».
Почему только яма, а не море, не океан, — это было
понятно одному лишь Степану Григорьевичу. Может быть,
он и не верил в существование океанов, которых поблизости
от Острогожского уезда нет и никогда не было.
Он был глубоко прозаичен, презрителен и грубоват, наш
учитель словесности. Во время урока лицо его казалось ока-
меневшим. Он мало интересовался тем, как относятся к нему
гимназисты, которых он едва удостаивал беглым взглядом
из-под очков.
Так смотрит на пассажиров, подходящих к окошечку,
старый усталый железнодорожный кассир, который замечает
своих клиентов только в случае каких-нибудь недоразумений
или пререканий.
Степана Григорьевича было трудно вообразить без меш-
коватого форменного сюртука с золотыми наплечниками. Он
122
отнюдь не был безобразен: напротив, черты его лица отли-«
чались правильностью и отсутствием особых примет — до«
стоинствами, которые он так ценил в классных работах уче-
ников.
Сидел он на своем преподавательском стуле прочно и не-*
подвижно до самого конца урока, и если шевелил рукой, то
только для того, чтобы почесать в раздумии щеку, погладить
бороду или поставить в классном журнале двойку, тройку,
в лучшем случае четверку. Пятерками он своих учеников ба-*
ловал редко. Зато излюбленной его отметкой была единица*
Кол.
Нам казалось, что Сапожник будет неразлучен с нами
до конца наших гимназических дней. Но вышло иначе^
Классы поделили между ним и новым преподавателем.
Новый появился у нас в одно прекрасное утро безо вся-*
кого предупреждения. Он весело и бодро взошел на кафедру,—•
молодой, прямой, высокий, чуть ли не на голову выше своего
предшественника, тоже отличавшегося немалым ростом, но
как-то раньше времени осевшего.
Молодой преподаватель был родом с юга. Это было видно
по матово-смуглому цвету лица, по черным блестящим воло-
сам и бородке, по темно-карим глазам, глядевшим смело и
открыто из-под крутых сросшихся бровей.
В первые же дни после прихода в наш класс Николая
Александровича Поповского гимназистам стали известны
мельчайшие подробности его жизни.
Они разведали, где он живет и у кого столуется, узнали,
что окончил он духовную семинарию, а затем и университет,
что в наш город он приехал не один, а со своей сестрой-
курсисткой, очень похожей на него, и что между собой рта
пара чаще всего говорит по-молдавски, на своем родном
языке, хоть и русским владеет в совершенстве.
В классе нового учителя встретили с интересом, даже
с некоторым любопытством. Да и было чему удивляться.
Поповский был так не похож на своего предшественника и
па других сослуживцев по гимназии! С учениками был веж-
лив, всем говорил «вы». После первой письменной работы
очень скоро возвратил тетрадки, не поставив ни одной от-
метки.
Вместо цифры, выведенной красными чернилами, каждый
из моих соклассников нашел под своей работой несколько
кратких замечаний Поповского. В тетради Коли Ястребцева,
одного из первых наших учеников, было написано:
123
«Все правильно, ни одной ошибки, но язык беден, бес-
цветен. Надо больше читать. Н. П.»
На первых своих уроках Николай Александрович по-
просту разговаривал с нами обо всякой всячине и только
потом начал «спрашивать» — да и то с места, то есть без
вызова к доске или кафедре. Тем, кто знал урок не слишком
твердо, это было на руку, так как с места легче и подсказку
услышать, и заглянуть в раскрытую, лежащую под крышкой
парты книгу. Так многие и делали: отвечали Поповскому то
под суфлера, то по книге. А другие, глядя на них, посмеива-
лись над простоватым новичком-учителем и были уверены,
что он ничего не видит перед собой, кроме книги, которую
держит в руках, ничего не слышит, кроме звуков собствен-
ного голоса.
Понемногу самые искусные и опытные мастера подсказки
и шпаргалки совершенно перестали церемониться на уроках
Поповского.
Особенной изворотливостью отличался наш Степа Чер-
дынцев. Все свои способности он тратил на то, чтобы водить
за нос учителей и поражать товарищей неожиданными и
дерзкими проделками. Дома его баловали, учителя с вели-
ким трудом перетаскивали из класса в класс. В первый же
год своего пребывания в гимназии Степа отличился тем, что,
обжигаясь и дуя на руки, украл из печки сторожа Родиона
горшок гречневой каши. Украл, конечно, не с голоду, а так,
скорее из удальства. Но все же кашу уплел до последней
крупинки. Несколько лет после этого его дразнили «Кашей».
Товарищи подтрунивали над ним и в то же время
искренне восхищались его непревзойденной ловкостью. С ис-
кусством и усердием паука опутал он чуть ли не весь класс
нитками, по которым передвигались от одной парты к другой
шпаргалки. Отвечая урок, он каким-то образом ухитрялся
приклеивать шпаргалку к стенке кафедры под самым носом
преподавателя.
В конце учебного года учитель математики обычно пре-
доставлял ему возможность переправить двойку на тройку.
Но, готовясь к вызову, Чердынцев не занимался, как другие,
зубрежкой или решением задач, но и пе сидел без дела, а
старательно исписывал цифрами всю оборотную сторону
классной доски, перенося на нее со шпаргалки решение за-
дач, которые — по неизвестно откуда добытым сведениям —
мог предложить ему учитель. А когда его наконец вызывали,
он так яростно и энергично выводил на доске цифру за циф-
124
рой, что мел крошился у него в руке и он должен был чуть ли
не каждую минуту заглядывать за доску, где хранились за-*
паевые кусочки мела. После этого он более или менее бла-*
гополучно справлялся с задачей и получал тройку. Больше
ему и не нужно было.
Когда задачу приходилось решать не на доске, а в тет-
ради, Степу выручала шпаргалка, спрятанная в рукаве. Она
была на резинке и при первой же опасности мгновенно ухо-
дила в рукав. Вероятно, специально для этой цели Степа —
один во всем классе — носил накрахмаленные манжеты.
Впрочем, на уроках Поповского никто не торопился пря-
тать шпаргалки, и секретный телеграф, по которому Степа
Чердынцев переговаривался с другими партами, действовал
вовсю.
Но вот однажды, когда урок отвечал долговязый Сыро-
ваткин, а Степа спокойно и почти беззвучно подсказывал
вхму, глядя в раскрытую на парте книгу, Николай Александ-
рович вдруг нахмурился, покраснел и сказал громко и
твердо:
— Садитесь, Сыроваткин. Довольно. Вам я ставлю двойку
за ответ, а Чердынцеву двойку за поведение.
И, со стуком откинув толстую крышку классного жур-
нала, Поповский решительным движением вывел на его стра-
нице две крупные двойки. Первые двойки с тех пор, как он
пришел в наш класс.
Никто этого не ожидал. Класс затих, а Сыроваткин и
Чердынцев почти в один голос спросили:
— За что, Николай Александрович?.. За что?
Поповский поднялся с места.
— Как за что? И вы еще осмеливаетесь спрашивать!
Больше месяца терпел я это издевательство. Ведь я все ви-
дел, но только мне было стыдно — понимаете ли, стыдно —
ловить вас за руку, как мелких воришек. Кого вы обманы-
ваете?.. Если вы хотите остаться безграмотными, оставай-
тесь — воля ваша. Но в таком случае вам незачем занимать
Эти места за партами. Ведь на них могли бы сидеть честные
и способные юноши, из которых вышел бы толк.
Николай Александрович немного помолчал, а потом заго-
ворил более спокойно:
— Вот что, господа. Не для того я стал учителем, чтобы
Донимать учеников единицами и двойками, оставлять без
°6еда, выгонять из класса. Дайте мне возможность учить
вас, а не воевать с вами!
125
Он опять помолчал, как будто ожидая ответа. Молчали
и мы.
И вдруг он улыбнулся и сказал своим обычным ровным
и звучным голосом:
— Итак, я надеюсь, вы прекратите рту нелепую коме-
дию, и мы будем жить с вами в мире. А вас, Чердынцев,
я попрошу на первой же перемене убрать подальше все ваши
хитроумные изобретения. Надеюсь, они вам больше не пона-
добятся. Попробуйте жить честно. Я предлагаю вам такой
уговор. ЗавтРа У нас в классе будет письменная работа.
Я освобождаю вас от нее, но зато вы должны будете тут же,
при мне, выучить урок, который я вам задам. Не бойтесь, —1
всего две-три странички, не больше! За Это я поставлю вам
в году тройку, а может быть, и четверку, и вы перейдете
в следующий класс без переэкзаменовки. Идет? Согласны?
Чердынцев кивнул головой.
— Ну вот и хорошо. А пока прощайте.
За дверью уже заливался, обегая все коридоры, гулкий
Звонок. Урок был окончен.
На следующий день наш новый учитель пришел в класс
в самом лучшем настроении. День был весенний — ветреный,
но теплый. Деревянные дома, которых в городе было немало,
потемнели от сырости. Почернели и голые деревья. Казалось,
весь город был нарисован черным угольным карандашом.
В классе у нас была открыта форточка в еще влажный
городской сад. Легкий ветер то и дело вздувал на стенах
огромные карты Европы и Азии с темно-коричневыми го-
рами, зелеными низменностями и синими морями.
От весеннего тепла и крепкого, свежего воздуха нас одо-
левала дремота, и минутами нам чудилось, что сверкающая
желтым и черным лаком кафедра вместе с учителем уплы-
вает куда-то вдаль, становясь все меньше и меньше. Нужно
было усилие воли, чтобы преодолеть это приятное оцепе-
нение.
Вдруг из городского сада явственно донесся какой-то
низкий, лениво-добродушный женский голос:
— Мишутка, а, Мишутка, где же ты? Хочешь молочка,
детка?..
Почему-то во время школьного урока все постороннее,
неожиданное, частное, врывающееся в класс из вольного,
живущего своей жизнью мира, всегда кажется странным и
126
смешным. Так было и на этот раз. Ребята засмеялись, а кто-
то на последней парте проговорил нараспев таким же густым
голосом:
— Мишутка, а, Мишутка!..
Николай Александрович не обратил никакого внимания
на эту вольность. Он только слегка улыбнулся и захлопнул
журнал, в котором уже успел отметить, кого нет в классе.
После этого он задал нам письменную работу, прошелся раз-
другой по комнате и подсел к Степе Чердынцеву.
— Ну вот, Чердынцев, — сказал он, — сегодня мы с вами
докажем всему классу, что умеем работать. Верно? Давайте-
ка выучим до конца урока эти полторы странички. Если вы
ответите мне хоть на тройку, лето у вас не будет испорчено.
Но дело, в сущности, даже не в этом, а в том, чтобы вы
научились наконец ходить прямыми дорогами, а не петлять,
как заяц. Ну, в добрый час!
В классе было тихо. Слышался только скрип наших
перьев да спокойные шаги Николая Александровича, который,
заложив руки за спину, медленно прохаживался по классу..
Время от времени все мы невольно прерывали работу и
с любопытством поглядывали на Степу, учившего урок. Это
было невиданное зрелище! Он сидел, не подымая головы,
подперев кулаками пухлые щеки и зажмурив свои и без того
узкие, обычно такие лукавые глаза. Наши взгляды, видимо,
смущали его. Он так любил козырять перед нами своей бес-
шабашной удалью, а теперь сидел тихо и смирно, как сдав-
шийся в плен и обезоруженный наездник-головорез.
Урок приближался к концу. Один за другим отдавали мы
свои тетрадки Николаю Александровичу или сами несли их
на кафедру. Окончив работу, мы уже не отрывали глаз от
Степы.
В книгу он больше не смотрел, а занимался самыми раз-
нообразными делами: то с трудом вытаскивал из тесного
переднего карманчика брюк новенькие черные часы, то за-
совывал их обратно и принимался тщательно оттачивать ка-
рандаш.
Эх, не попадись он вчера так глупо, не пришлось бы ему
сейчас сидеть без дела. Не теряя ни одной минуты зря, он
бы ловко и быстро орудовал испытанным арсеналом своих
Шпаргалок. Да уж теперь ничего не поделаешь! Сам свалял
Дурака — поддался на уговоры этого хитрого халдея, кото-
рый целый месяц прикидывался блаженным только ради того,
чтобы вернее поймать на удочку бедного Степу.,
127
Но вот Николай Александрович подошел к парте, за кото-
рой сидел Чердынцев, и остановился, вопросительно на него
поглядывая.
Чердынцев молчал.
— Ну, как дела? Надеюсь, вы готовы? — спросил Попов-
ский.
Степа только ниже опустил свою круглую, коротко ост-
риженную голову.
— Что же вы молчите? Я спрашиваю, можете ли вы уже
отвечать?
Степа тяжело встал с места и, глядя куда-то в сторону,
сказал сквозь зубы:
— Не могу...
— Но хоть что-нибудь вы за этот час приготовили? —
все еще с надеждой спросил Поповский. — Ну, страницу,
полстраницы?
Степа как-то странно надулся, засопел, и вдруг неудер-
жимые слезы горохом посыпались у него из глаз. Он заре-
вел, как маленький, — всхлипывая, захлебываясь, вытирая
глаза кулаками.
Николай Александрович даже испугался.
— Что с вами, Чердынцев?..
— Не могу, Николай Алексаныч! Ей-бо, не могу!
— Чего не можете?
— Ничего запомнить не могу!
— Но ведь вы же не тупица, Чердынцев! Подумать
только, сколько труда, хитрости, изобретательности тратили
вы на то, чтобы несколько лет обманывать своих учителей!..
А на честную работу вы не способны?
— Не способен! — едва слышным шепотом сказал Чер-
дынцев.
БЕЗ СТАРШИХ
В те дни, когда на пустынном заводском дворе Я водил
палочкой по земле, переходя от одного построенного мною
городка к другому и сочиняя историю некоего странствую-
щего героя, я и не предполагал, что эта игра была кате бы
предчувствием моей собственной судьбы.
Разница была только в том, что мой герой выходил из
глуши и безвестности в большой, полный событий мир, уже
достигнув зрелого возраста, а в моей жизни такой перелом
произошел гораздо раньше.
128
В. В. Стасов с П. С. Стасовой, скульптором И. Я. Гинцбургом
и С. Я. Маршаком (Парголово, ок. 1902 г.).
С. Маршак, артист Александрийского театра Писарев (справа)
и художник Левит (слева). Около 1904 г.
После переселения нашей семьи с окраины в город мы
не прожили на месте и двух лет, как стали готовиться к но-
вому переезду — и не куда-нибудь, а прямо в столицу, в Пи-
тер, в Санкт-Петербург! Это не было осуществлением широ-
ких планов нашего отца. Просто ему предложили в Петер-
бурге работу на небольшом, еще только строившемся в то
время заводе.
Я и мой старший брат уже успели мысленно обойти все
улицы столицы, известные нам по Пушкину и Гоголю, когда
выяснилось, что нам обоим придется остаться в Острогож-
ске, так как нет никакой надежды добиться нашего перевода
в какую-нибудь из петербургских гимназий.
Мать утешала нас тем, что в Питер мы будем ездить два
раза в год — на летние и зимние каникулы. Остальное же
время будем жить в Острогожске, у дяди.
И вот, как мы когда-то мечтали, к вокзальной платформе
шумно подкатил поезд* но увез он из Острогожска не всю
нашу семью, а только мать, сестер и маленького брата (отец
был уже в это время в Петербурге).
Впервые я и старший брат были оторваны от большой и
дружной семьи. Мы оба очень скучали, но в то же время
у нас было какое-то новое, непривычное ощущение свободы
и самостоятельности. Без старших мы зажили почти по-сту-
денчески. Правда, брат считал своим долгом следить за тем,
чтобы я не слишком поздно ложился спать и не пропускал
уроков. Это давалось ему нелегко, так как он был по горло
занят своими собственными уроками — всякими там грече-
скими глаголами и тригонометрическими формулами — и к
тому же в первый раз в жизни влюблен.
Я знал или, вернее, догадывался об этом только по об-
рывкам его разговоров с товарищем. Меня в свою тайну он
не хотел допустить — должно быть, по привычке все еще
считал меня маленьким.
Он был так скромен и застенчив, мой старший брат, что
Даже не пытался познакомиться с веселой, смуглой и кудря-
вой гимназисткой, завладевшей его сердцем. Он считал себя
вполне счастливым, если ему удавалось бросить на нее бег-
лый взгляд в городском саду или на улице.
Мне было обидно, что от меня что-то скрывают, и я ре-
шил доказать брату и его товарищу, что давно уже вышел
из младенческого возраста.
Я познакомился с двоюродным братом черноглазой гим-
назистки (он был одним классом старше меня), потом и с
Б С. Мариину т. в 15Ю
нею самой — и очень скоро получил приглашение на ее име-«
НИНЫ.
Трудно передать, как был ошеломлен мой брат, когда
я как-то вскользь, мимоходом, сказал ему, где собираюсь
провести вечер.
Карманных денег у нас с ним было очень мало, и все
же он купил мне ради этого торжественного случая крах-
мальный бумажный воротничок, а потом — к вечеру — нанял
для меня за гривенник извозчичью пролетку с двумя велико-
лепными фонарями.
Помню, с каким грохотом покатил я по булыжной мосто-
вой, а брат остался на перекрестке, грустно и задумчиво
глядя мне вслед.
Вернулся я в этот вечер довольно поздно — часов в две-
надцать, — но брат еще не спал.
Долго и осторожно расспрашивал он меня обо всех, кто
был на именинах, стараясь не показать виду, что больше
всего его интересует сама именинница.
Уже засыпая, я отвечал ему нехотя и невпопад.
Таким допросам подвергал он меня каждый раз, когда
мне случалось бывать в этом доме. «Ну, а она что? А ты
что? А он что?»
Скоро я стал настолько своим человеком в семье моих
новых знакомых, что мне уже ничего не стоило намекнуть,
чтобы туда пригласили и брата.
Он долго готовился к этому посещению, гладил брюки,
чистил ботинки себе и мне.
Но на первых порах визит был не слишком удачен. Брат
стеснялся, молчал, а на черноглазую гимназистку, которая
и всегда была смешлива, ни с того ни с сего напал такой
бешеный порыв беспричинного смеха, что она только кусала
губы, и на ее густых ресницах дрожали крупные капли слез.
Мать укоризненно поглядывала на нее, а брат мой краснел
и хмурился, видимо, подозревая, что виновником этого бур-
ного веселья был именно он.
Чтобы как-нибудь спасти положение, я на правах старого
знакомого хозяев предложил брату прочесть что-нибудь
вслух. Я чувствовал, что это избавит его от необходимости
поддерживать вялый, натянутый разговор и поможет ему
преодолеть застенчивость. В гимназии он считался отличным
чтецом и не раз участвовал в литературных вечерах. Но,
должно быть, он гораздо меньше волновался, выступая пе-
130
ред публикой в актовом зале, чем здесь, в маленькой, скром-
ной гостиной под взглядом любопытных и насмешливых чер-
ных глаз.
Долго перелистывал он томик Чехова, не зная, на чем
остановиться.
Я тихонько толкнул его под локоть:
— «Хирургию» прочти!
Брат благодарно кивнул головой, слегка откашлялся,
и вот в комнате неожиданно зазвучали, перебивая друг
друга, два голоса: один — ноющий, гнусавый, другой — хрип-
лый, басистый.
С первых же строк внимание слушателей было завоевано.
Я гордился братом, а наша юная хозяйка была, должно
быть, от души благодарна ему за то, что могла нако-
нец дать волю неудержимому смеху, не боясь кого-ни-
будь обидеть.
В общем, все остались очень довольны, хвалили брата и,
провожая, просили заходить почаще.
На этот раз, укладываясь в постель, мы почти не разго-
варивали друг с другом. Брат был погружен в свои мысли,
а я радовался тому, что не должен, борясь со сном, отвечать
на его бесконечные вопросы.
Я был совершенно уверен, что в ближайшее время он
непременно воспользуется приглашением заходить почаще,
но этого не случилось. Только изредка бывал он у новых
знакомых, да и мне не советовал «злоупотреблять гостепри-
имством».
Я смотрел тогда на вещи гораздо проще, и мне была
непонятна такая чрезмерная щепетильность. Только много
лет спустя я понял, как бережно относился брат к этим встре-
чам. Каждая из них была для него настоящим событием.
В эти месяцы моей вольной, почти самостоятельной жиз-
ни я стал все чаще и чаще заглядывать в наш новый «Писче-
бумажный и книжный магазин», где можно было не только
найти свежую, только что полученную из столицы книжку,
но и поговорить о современной литературе с любителями
чтения, среди которых особенно рьяным был, пожалуй, сам
Длинноволосый и остробородый хозяин лавки.
В сущности, только теперь, в первые годы нынешнего
столетия, я и мои сверстники узнали, что тако$ «современ-
ная литература»%
б*
131
В гимназии литературу проходили не дальше Тургенева
и Гончарова, да и то в самых старших классах, но добира-
лись мы до них — а еще раньше до Жуковского, Пушкина и
Гоголя — медленно и долго через Антиоха Кантемира, Сума-
рокова, Хераскова. Для нас это было путешествием по уны-
лой пустыне, в которой почти не было оазисов.
Если в гимназии оказывался умный и талантливый учи-
тель, нас еще могли заинтересовать отдельные, наименее
устаревшие отрывки из Ломоносова и Державина. С удивле-
нием различали мы в этих старинных строчках могучие и
своеобразные голоса.
А у заурядных преподавателей словесности даже Держа-
вин казался продолжением кантемиро-херасковской пу-
стыни.
Да и не только Державина, но и Пушкина заодно с Лер-
монтовым и Гоголем ухитрялись состарить и притушить та-
кие словесники, как наш тяжеловесный и скрипучий Степан
Григорьевич Антонов, недаром получивший от своих благо-
дарных учеников пожизненное прозвище «Сапожник».
Как прививают людям вакцину, для того чтобы они не
заболели по-настоящему, так постепенно — скучной зубреж-
кой отрывков из «Евгения Онегина» (главным образом о вре-
менах года) да еще писанием сравнительных характеристик
Онегина и Ленского или Татьяны и Ольги — вырабатывали
у нас иммунитет к Пушкину, как бы заботясь только о том,
чтобы мы не «заболели» им всерьез.
И это нашим словесникам удавалось в полной мере. Не-
легко было после них почувствовать прелесть и свежесть
строчек, вырванных из пушкинских поэм. Словно какие-то
мозоли оставались у нас в мозгу от бесконечного повторения
лирических отрывков из гоголевской прозы.
Однако все же, хоть по казенному шаблону, с классикой
гимназия нас кое-как знакомила. А вот литературы наших
дней она и совсем не признавала, — будто дойдя до «Обры-
ва» Гончарова, кончалась обрывом и вся наша изящная сло-
весность!
Новых, современных изданий пуще огня боялась гимна-
зическая библиотека. Она была похожа на остановившиеся
часы, показывающие давно прошедшее время.
Но вот наши крылья настолько подросли и окрепли, что
мы сами пустились на поиски чтения, которое могло бы
утолить юношеский жадный интерес к новым чувствам и
мыслям.
132
Где только можно было, у товарищей и знакомых, искали
мы последние издания классиков и современных писателей —
книги, пахнущие не пылью и затхлостью чулана, а свежей
типографской краской.
Не помню, как и когда попал в руки брату, а потом и
мне тонкий, большого формата номер еженедельного жур-
нала с крупным узорным заголовком «Нива». В ртом номере
на видном месте была напечатана глава из нового романа
Толстого «Воскресение» с рисунками художника Пастер-
нака.
О Толстом толковали тогда много и противоречиво. Его
жизнью, ученьем, спорами с церковью и правительством
интересовались самые разные люди. Одни называли его учи-
телем, подвижником, другие ни за что не хотели поверить
в искренность этого графа, который почему-то сам себе
шьет сапоги и ходит босой.
Не мудрено, что мы с жаром ухватились за эту случайно
попавшую нам на глаза главу толстовского романа. Не так-то
легко было собрать роман целиком, разыскать все тетрадки
«Нивы» от первой до последней. И, однако же, мы нашли
их и были щедро вознаграждены за свои старания: впервые
открылась нам в книге та самая жизнь, которая окружала
нас, как воздух.
Самые увлекательные из романов, прочитанных нами до
того — Тургенева, Гончарова, Григоровича, — все-таки отно-
сились к прошлому, хоть и к недавнему. А тут современность
подступила к нам вплотную, к самым нашим глазам, да еще
современность, прошедшая перед суровым и мудрым судом
такого художника, как Толстой.
В сущности, именно с толстовского «Воскресения» и на-
чалось для нас знакомство с новой литературой, которую так
осторожно обходила наша гимназия.
Одно за другим узнавали мы новые имена, различали
голоса, которых раньше не слышали.
Увлечение писателями-современниками начиналось для
нас почти так, как обычно начинается любовь. Вот среди
прочих лиц мелькнуло незнакомое, но чем-то привлекатель-
ное лицо. Мы еще не выделяем его из множества других,
а наша память уже бережет его на всякий случай, почти без
участия сознания. Но вот вторая встреча, и мы уже радуемся
знакомым чертам и всматриваемся в них гораздо присталь-
нее. А там, глядишь, знакомство, которое еще недавно каза-
лось таким случайным, уже становится частью нашей жизни,
133
определяет нашу судьбу, и мы даже представить себе не
можем, как это мы могли существовать без того, что теперь
для нас так дорого и важно.
Помню, как впервые для меня прозвучал со сцены на-*
смешливый, полный веселого задора голос молодого Чехова.,
Я еще не знал тогда, что такое Чехов, и раньше запомнил
названия его маленьких пьес — «Медведь», «Предложение»,—.
чем имя их автора. Потом как-то незаметно у нас вошло
в обычай читать вслух короткие чеховские рассказы. Мы
наслаждались их легкостью, простотой, безупречной вер-
ностью наблюдения.
Трудно припомнить, когда и как научились мы узнавать
в каждой новой чеховской странице тот пристальный, серьез-
ный и внимательный взгляд, устремленный в самую глубь
нашего времени, который, пожалуй, стал для нас вернейшей
приметой Чехова.
Он входил в нашу жизнь исподволь, легкой поступью,
как будто бы ничего особенного не обещая, но оставляя в
нашем сознании все более глубокий и прочный след.
Такой постепенности не было в нашем знакомстве с дру-
гим большим писателем, появившимся на рубеже двух ве-
ков, — с Горьким.
Это имя я услышал задолго до того, как впервые рас-
крыл небольшой томик в зеленоватой обложке.
Было что-то тревожащее и притягательное в доходивших
до нас обрывках биографии этого нового писателя, в самом
облике его и даже в имени.
Горький. Имя это как бы говорило о горькой судьбе, род-
ственной многим судьбам на Руси. И в то же время оно
звучало как протест, как вызов, как обещание говорить горь-
кую правду.
А какой причудливой, разнообразной, правдивой до гру-
бости и в то же время поэтической жизнью пахнуло на нас
со страниц его молодых рассказов. Словно ветер, прилетев-
ший откуда-то из степи или с моря, разом распахнул у нас
все окна и двери.
Мы вдруг узнали и поверили, что и в наше время есть на
земле смелые, вольнолюбивые люди, непоклонные головы, и
что жизнь свою можно выбирать, а не идти по готовым,
давно проложенным дорожкам.
131
Самые имена горьковских героев пленяли нас своим не-»
ожиданным, непривычным для слуха, почти сказочным зву-
чанием.
Многие из взрослых недоверчиво покачивали головами,
пытаясь уверить нас, что Горький — это какой-то самозва-
нец, насильно вторгшийся в тургеневские сады русской ли-
тературы, что краски его грубы, а герои надуманы.
Но никакие скептические замечания не могли расхоло-
дить уже влюбленную в него молодежь.
Помню, как прочли мы впервые широкие, полные сдер-
жанной силы, неторопливо размеренные строчки «Буревест-
ника»:
Над седой равниной моря ветер тучи собирает...
Набрав полную грудь воздуха, мы читали эти стихи во
всю силу голоса, стараясь передать то пронзительные, то глу-
бокие трубные звуки, которые мы так явственно различали
в этих зовущих словах:
Он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы...
...То кричит пророк победы: «Пусть сильнее грянет буря!..»
Мне было лет тринадцать — четырнадцать, когда я вме-
сте со старшеклассниками внимательно разглядывал перехо-
дившую из рук в руки открытку, на которой был изображен
широкоскулый молодой человек с мечтательно-хмурым ли-
цом, с крутым изломом прямых, падающих на висок во-
лос. На нем была белая косоворотка, подпоясанная ре-
мешком.
Это был Горький.
В то время я и не предполагал, что скоро мне доведется
встретиться с ним и эта встреча окажет решающее влияние
на всю мою дальнейшую судьбу.
БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ
Наконец наступили каникулы — те самые, которые нам
предстояло провести в Петербурге.
Невский проспект, набережные с памятником Петра по
°Дну сторону Невы и сфинксами по другую, Петропавлов-
ская крепость и Адмиралтейство, Зимний дворец и Летний
СаД — вот что рисовалось нам, когда мы пытались вообразить
135
Этот великолепный, такой знакомый и такой загадочный го-
род — Санкт-Петербург.
Впрочем, мы уже знали, что жить нам придется не на
Английской или Французской набережной и не на Невском
проспекте. Но и проспект, который был обозначен на кон-
вертах писем, полученных нами от родных, представлялся
нам блестящим и праздничным. Как-никак, а все-таки это не
простая улица, а проспект! И какое у него звучное назва-
ние — «Забалканский»!
Родные ни разу не писали нам, как выглядит Забалкан-
ский проспект и дом, в котором они поселились. На открыт-
ках, полученных от матери, едва умещались ее бесчислен-
ные вопросы о пашем здоровье, о том, как мы учимся, и не
протерлись ли у нас рукава, и не износились ли подметки.
А в редких, но пространных письмах отца было много
щедрой ласки, много добрых наставлений, но ни слова о том,
в котором этаже они живут, во дворе или в квартире, выхо-
дящей окнами на улицу, в центре или на окраине.
Все это оставалось для нас загадкой до самого приезда
в Питер.
Собрались мы в дорогу легко и быстро — не так, как со-
биралась когда-то наша семья, начинавшая укладывать вещи
чуть ли не за две недели до отъезда.
Всю заботу об упаковке взял на себя брат, никогда не
доверявший мне дел, требующих особого порядка и аккурат-
ности. Однако и для меня нашлось ответственное поручение:
сторговаться с извозчиком и позаботиться о том, чтобы
он рано утром без малейшего опоздания был у наших во-
рот.
Я обошел целую шеренгу извозчиков, прежде чем мне
удалось найти такого, который согласился отвезти нас на
вокзал за шесть гривен.
Было еще совсем темно, когда копыта извозчичьей ло-
шади застучали по настилу моста неподалеку от вокзала.
В пролетке вместе с нами ехали две спутницы, неожиданно
вызвавшиеся проводить нас до ближайшей станции Копа-
нище, — черноглазая гимназистка, которая так нравилась
моему брату, и ее подруга. Всю дорогу мы болтали, смеялись,
пели и не заметили, как перед нами внезапно выросло одно-
этажное кирпичное здание с высокими и узкими окнами.
Это и был вокзал.
136
Спуская с козел нашу корзину, извозчик покрутил голо-
вой и сказал:
— Ну и веселые господа! Сколько вожу, а таких не
видывал. Надо бы по этому случаю прибавить гривенничек!..
И мы прибавили.
Кажется, еще никогда так стремительно и шумно не под-
катывал к платформе паровоз, никогда еще так ярко и ве-
село не блестели желтые вагонные скамейки, как в это
утро.
С беззаботной легкостью — не так, как другие пассажиры,
долго прощавшиеся и хлопотавшие около своих вещей, —
сели мы в поезд. Впрочем, пассажиров было на этот раз
немного. В нашем вагоне, кроме нас четверых, не оказалось
пи души. Мы чувствовали себя свободно и непринужденно,
и спутницы наши вздумали даже потанцевать друг с друж-
кой между рядами скамеек. Однако они тут же вспомнили,
что времени у нас не слишком-то много, и предложили нам
наскоро позавтракать вместе с ними. В корзинке у них ока-
зались завернутые в бумагу тарелочки, вилки, ножи, а еще
глубже были аккуратно уложены пирожки, котлеты, бутер-
броды, яблоки. К нашим припасам они запретили нам даже
прикасаться, — ведь у нас впереди была еще такая долгая
дорога.
Солнце только всходило за окнами, обещая ясную погоду.
Как жалко, что мы не можем провести вместе весь этот
чудесный майский день!
Длинный и гулкий гудок паровоза внезапно напомнил
вам, что пора прощаться.
Провожая наших приятельниц до вагонной площадки,
брат обещал часто писать им и дал каждой из них наш пе-
тербургский адрес. Но они обе только покачали головой. Не-
ужели мы будем помнить о них, очутившись в шумной сто-
лице!
Они уже говорили с нами, как скромные, затерянные
в глуши провинциалки — с людьми, живущими в Петербурге
светской, рассеянной жизнью.
Брат не успел еще ничего ответить им, когда наш поезд
остановился, подался назад, чуть не свалив нас всех с ног,
и остановился снова.
Девочки быстро пожали нам руки и сбежали со ступенек
платформу.
137
В петербургской извозчичьей пролетке с поднятым над
нашими головами кожаным верхом — в это время моросил
дождь — въехали мы во двор дома на За^алканском ПР°“
спекте.
Это был двор, каких мы еще не видывали — чистый, про-
сторный, гладко вымощенный, с двухэтажным каменным до-
мом, садиком в углу и со множеством статуй из белого и
черного мрамора, разбросанных в беспорядке от ограды до
ограды. Статуи чаще всего изображали печальных, склонив-
шихся перед алтарем женщин в покрывалах, спадающих вол-*
нистыми складками, и маленьких кудрявых ангелов, граци-
озно простирающих ввысь круглые, в мраморных жилках,
ручонки.
Неужели же мы будем жить на этом дворе, в этом не-
большом, уютном и нарядном доме? Нет, оказывается, здесь
живет сам хозяин, владелец скульптурной мастерской, италь-
янец Ботта. А мы едем дальше — во второй двор. Дома здесь
похуже. Кирпичные их стены не облицованы гладкими розо-
вато-серыми плитами, как хозяйский дом, и даже не оштука-
турены. Но и это еще не наш двор. Извозчик везет нас
дальше — на третий, окруженный невысокими флигелями и
весь загроможденный огромными телегами с поднятыми
кверху оглоблями.
Едва только мы въехали на этот третий двор, нас оглу-
шил разноголосый шум: удары молотка по железу, надрыв-
ный плач ребенка, хриплая песня гармошки, ржанье и дроб-
ный топот лошадей в конюшне.
По узкой, полутемной, грязноватой лестнице поднимаемся
мы во второй этаж одного из флигелей.
Это и есть наша столичная, петербургская квартира!
О том, что она наша, можно догадаться и безо всяких объяс-
нений: достаточно взглянуть на плюшевую — слегка потер-
тую — скатерть, памятную нам еще со времен Майдана, на
старый комод, украшенный знакомой парой серебряных под-
свечников, на висящую над столом большую керосиновую
лампу.
Отец замечает наше разочарование и, как всегда, бод-
рым, полным уверенности голосом говорит нам, что это
жилье — только временный привал и что скоро мы отсюда
переедем. У нас будет прекрасная, просторная квартира при
заводе за Московской заставой.
А пока он обещает показать нам Петербург. Для этого
он освободится завтра пораньше и, если только не будет
138
дождя, прокатит нас на пароходике по Фонтанке и по Неве,
поведет в зоологический сад, угостит на Невском знамени-
тыми филипповскими пирожками.
По старой памяти он, видно, считает нас еще малень-
кими и предлагает нам программу, которая года два тому
назад привела бы нас в полный восторг. А впрочем, откро-
венно говоря, мы и сейчас не прочь проехаться на пароходе
и отведать филипповских пирожков, хоть и знаем, что Пе-
тербург может дать гораздо больше того, что обещает нам
от своего щедрого сердца отец.
Мы и в самом деле чувствовали себя чуть ли не детьми,
во всяком случае моложе своего возраста, в тот чудесный
праздничный день, когда отец впервые возил нас по Петер-
бургу, покупал для нас билеты на плавучей, слегка покачи-
вающейся под ногами пристани, усаживал за мраморный
столик открытого кафе и заботливо спрашивал, не хотим ли
мы еще мороженого. За несколько месяцев разлуки мы
успели отвыкнуть от такой заботы, и теперь она особенно
трогала нас.
Но сколько ни увидели мы в тот первый день, пожалуй,
гораздо полнее и глубже узнал и почувствовал я город через
несколько дней, когда решился постранствовать по его ули-
цам совсем один.
Само путешествие доставляло мне радость. Взобравшись
по узкой лесенке на империал конки, я скользил глазами по
стройным рядам высоких строгих домов, как бы сливающихся
в один огромный дом от перекрестка до перекрестка.
Конка движется так неспешно, что я успеваю прочесть
чуть ли не все вывески парикмахерских, кондитерских, ре-
сторанов, банков, страховых обществ, бюро похоронных про-
цессий, винных погребов и ломбардов.
В Острогожске у нас только один книжный магазин, а
здесь их целые кварталы. Есть огромные, с зеркальными
витринами, а попадаются и такие, где еле-еле умещаются
продавец и покупатель.
Меня так и подмывает соскочить на ходу с подножки
конки и нырнуть в этУ непроходимую книжную чащу. Но
мне некогда. Меня ждут Невский проспект, Сенатская пло-
щадь, Нева.
И вот уже я шагаю по Невскому. Впереди бледным золо-
том сияет игла Адмиралтейства с кружевным корабликом на
139
острие. Невский так широк, что дома по обеим его сторонам
кажутся ниже, чем на самом деле. Да они и вправду не
слишком высоки, и от этого здесь светлее, просторнее, чем
на других улицах. А как весело и празднично звучит пере-
стук множества копыт на торцовой мостовой!
Два потока людей движутся навстречу один другому по
широким панелям из каменных плит.
Я совсем один в этой пестрой толпе куда-то спешащих
или чинно прогуливающихся людей. И оттого, что меня здесь
никто не знает да и сам я не знаю никого, я чувствую себя
свободным — будто кто-то подарил мне шапку-невидимку.
Я брожу по незнакомому городу без провожатых, но все
узнаю: мосты, статуи, соборы, дворцы, арки. Можно поду-
мать, что я когда-то уже бывал здесь и потому так уверенно
нахожу дорогу к Сенатской площади, к Неве и памятнику
Петра.
И если несколько дней тому назад, разъезжая по Питеру
с отцом, я казался самому себе маленьким, то здесь, у гра-
нитной ограды Невы или у подножья скалы, на которой за-
стыл на всем скаку Медный Всадник, я чувствую себя вполне
взрослым человеком, причастным к жизни взрослых, к исто-
рии, к поэзии.
Северные летние сумерки обманули меня: я и не заметил,
как подошла белая ночь. Улицы стали понемногу пустеть.
Я шел домой, прислушиваясь к четкому стуку своих шагов,
вглядываясь в серовато-голубой сумрак, легкий, прозрачный,
не мешающий глазам видеть.
В скверах над стрижеными газонами лежали белые
волокнистые полосы тумана. Пахло сыростью и землей,
будто я не в Петербурге, а где-то на окраине, на огоро-
дах.
И этот простой, неожиданный запах делал еще более
странной эту ночь без темноты, так непохожую на другие
ночи.
Пока я шел, край неба заалел. Ранняя заря заиграла на
стеклах верхних окон.
Дома в тревоге ждали меня родные. Они так обрадова-
лись моему возвращению, что не стали меня бранить, а я
был благодарен им за то, что они ничем не омрачили мою
первую белую ночь.
140
Наши каникулы кончались, а мы и сами не знали, радует
нас или печалит предстоящее возвращение в Острогожск.
Грустно было скова расставаться с родными, жалко поки-*
дать только что открывшийся нам во всем своем великоле-
пии Петербург. Но с каждым днем все милее казался и брату
и мне далекий, маленький, почти сплошь деревянный Остро-
гожск, где была наша гимназия, где жили все наши сверст-
ники, товарищи, друзья.
Не знаю, куда, в какую сторону побежал бы я сначала,
кого из товарищей повидал бы первым, если бы внезапно
очутился в Острогожске. Хотелось увидеть всё и всех сразу,
снова оказаться по горло занятым, всем и каждому нужным,
каким был я до отъезда в Питер.
Так чувствует себя, должно быть, человек, возвращаю-
щийся из отпуска в далекий полк, где у него есть опреде-
ленное положение, точные обязанности, издавна установив-
шиеся отношения с людьми.
Мы и сами не заметили, как стали считать остающиеся
до отъезда дни. Особенно не терпелось брату. Он аккуратно
переписывался с Острогожском и бережно хранил приходив-
шие оттуда на его имя письма. Я был гораздо легкомыслен-
нее и за все время каникул не написал ни одного письмеца.
Вспоминая об ртом, я мучился угрызениями совести и
еще больше скучал по затерянному где-то вдалеке Остро-
гожску.
Этот скромный город, где не было ни одного дворца, ни
одной триумфальной арки и памятника на площади, казался
мне в те времена гораздо более жилым, населенным, чем
торжественный и многолюдный Петербург.'
Я уже довольно свободно разбирался в петербургских
улицах, многие из них измерил шагами из конца в конец,
наблюдал их и в дневные часы, и вечером при свете газовых
фонарей. Но за каменными стенами многоэтажных зданий
я не чувствовал еще живущих там людей, не представлял
себе их обстановки и уклада.
Те семьи, с которыми успели познакомиться в столице
мои родители, в сущности, оставались и здесь провинциаль-
ными и жили во временных, случайных и неуютных квар-
тирах.
А вот настоящих, коренных петербуржцев я еще не
ьстречал.
Однако вскоре — еще до отъезда нашего в Острогожск —•
мне довелось познакомиться и даже коротко сойтись с ними»
141
Вот как это случилось.
Один из новых знакомых нашей семьи прочел мои стихи
и рассказал обо мне известному в городе меценату. А тот, в
свою очередь, расхвалил мои нормы и переводы — да не
кому-нибудь, а самому Стасову.
Владимир Васильевич Стасов позвал меня к себе.
Этот человек, которому шел в то время — летом 1902 го-
да — семьдесят девятый год, встретил меня приветливо, по-
стариковски ласково, но с какой-то скрытой насторожен-
ностью. Должно быть, не раз приводили к нему всяких мало-
летних музыкантов, художников, портов, и он прекрасно
знал, как редко они оправдывают те большие надежды, ка-
кие на них возлагают друзья и родственники.
А может быть, он попросту был очень утомлен после дол-
гого, наполненного разнообразными встречами дня. Во вся-
ком случае, начиная читать свои стихи, я видел его крупные
опущенные веки, и мне казалось, что он спит.
И вдруг его глаза открылись, и я увидел перед собой со-
всем другое лицо — оживленное, помолодевшее. Таким он
становился всегда, когда был чем-нибудь заинтересован или
растроган.
Я начал с переводов, потом читал собственные стихи и,
наконец, расхрабрившись, прочел целую шуточную норму
о нашей острогожской гимназии. Слушая меня, Стасов гром-
ко хохотал, вытирая слезы, и некоторые, особенно хлесткие
места заставлял повторять дважды.
С этого дня в моей жизни и начались события, круто
изменившие весь ее ход.
Петербург перестал быть для меня чужим, незнакомым
городом, однообразным строем многоэтажных, наглухо за-
крытых домов. Дом Стасова, такой петербургский по своему
характеру и вкусу, широко открыл передо мной двери и
сразу породнил меня с этим строгим и умным городом.
Чуть ли не каждый день бывал я у Владимира Василье-
вича то дома, то в Публичной библиотеке.
С каким жадным любопытством, с каким счастливым
ожиданием чего-то нового поднимался я всякий раз по широ-
кой, устланной красным ковром лестнице, которая вела не
в читальный зал, а в просторные, тихие комнаты книгохра-
нилища, где по одному, по двое работали ученые сотрудники
библиотеки.
У Стасова не было своего отдельного служебного каби-
нета. Перед большим окном, выходившим на улицу, стоял его
142
тяжеловесный письменный стол, огороженный щитами. Это
были стенды с гравированными в разные времена портре-
тами Петра Первого. На одних гравюрах он был изображен
по пояс, в стальных латах, на других — в мантии, во весь
рост. На третьих — это был всадник на вздыбленном коне.
Гневные, полные воли и энергии черты Петра и его боевой
наряд придавали мирному уголку книгохранилища какой-то
своеобразный, вдохновенно-воинственный характер. Впрочем,,
стасовский уголок библиотеки никак нельзя было назвать
«мирным». Здесь всегда кипели споры, душой которых был
Этот рослый, широкоплечий, длиннобородый старик с круп-
ным, орлиным носом и тяжелыми веками. Он никогда не
сутулился и до самых последних своих дней высоко нес не-
преклонную седую голову. Говорил громко и, если даже хо-
тел сказать что-нибудь по секрету, почти не снижал голоса,
а только символически заслонял рот ребром ладони, как это
делали старинные актеры, произнося слова «в сторону»<
Со мною Стасов обращался безо всякой снисходительно-
сти, как со взрослым, хоть и говорил мне «ты» и называл
меня «Маршачком». Впоследствии при каждой встрече он
прибавлял мне какое-нибудь новое шутливое прозвище: «Мар-
шачок-Судачок-Чудачок-Усачок» и т. д.
Впрочем, чаще всего он называл меня короче—«Сам»
(уменьшительное от «Самуил») и на книге, которую он мне
подарил, написал: «Сам, пожалуйста, будь всегда сам и
меня никогда не забывай. Желаю поскорей большой рост —
в сажень!»
Помню, в одну из первых наших встреч я задержался
в библиотеке у Владимира Васильевича до конца его за-
нятий.
Вместе мы вышли из подъезда библиотеки и свернули
на Невский, продолжая разговаривать.
Было уже около пяти часов вечера, но все еще ярко све-
тило солнце. На улицах было много народу. Прохожие то
и дело оглядывались на идущего большими шагами седоборо-
дого великана и еле поспевающего за ним мальчика* в гимна-
зической фуражке с гербом, в котором поблескивают две
буквы «О. Г.» («Острогожская гимназия»).
Пройдя несколько шагов, Стасов нанял извозчика на
Пески, на Седьмую Рождественскую, где была его квартира,
но по дороге остановился у книжного магазина Суворина..
Продавцы встретили его, как старого знакомого. Пошу-
тив с ними (Владимир Васильевич редко обходился без
143
шутки), он попросил подобрать для него целую библиотечку
дешевых суворинских изданий. Тут были томики Пушкина,
Лермонтова, Баратынского, Гоголя — все в одинаковых кар-
тонных переплетах.
Когда мы вышли на улицу, Владимир Васильевич сказал
мне своим громким шепотом:
— Это все тебе. Повезешь в свой Острогожск!
С тех пор я не раз заходил за Стасовым, чтобы вместе
ехать к нему на Седьмую Рождественскую.
Как запомнились мне эти наши поездки! Мне нравилось
сидеть в широкой пролетке рядом с Владимиром Васильеви-
чем, разговаривать с ним, посматривая по сторонам и не-
вольно прислушиваясь к мягкому постукиванию копыт по
торцовой мостовой и звонкому — по булыжной.
Вот перед нами подъезд многоэтажного серого дома на
Песках.
Щедро расплатившись с извозчиком, Стасов выходит из
пролетки и быстро поднимается по лестнице, обгоняя меня и
продолжая на ходу, через плечо, начатый разговор.
Сильно дергает он ручку звонка, и домашние сразу дога-
дываются, что это возвратился хозяин.
Перекинувшись с ними несколькими приветливыми, шут-
ливыми словами, он проходит к себе в кабинет — в довольно
тесную, узкую комнату, уставленную строгой старинной ме-
белью и увешанную портретами. Больше всего мне запомни-
лись два репинских портрета: один Льва Толстого, другой —
сестры Владимира Васильевича, Надежды Васильевны, заме-
чательной женщины, одной из основательниц Бестужевских
женских курсов. Стенная лампа с рефлектором мягко осве-
щает умное, сосредоточенно-суровое лицо, гладкие волосы
под темной наколкой, скрещенные худые руки.
Владимир Васильевич укладывается на старинный неши-
рокий диван с намерением отдохнуть до обеда, но отдыхать
он не любит и не умеет. Через полчаса он опять на ногах,
и мы усаживаемся обедать за большой стол, за которым не
раз сидели Мусоргский, Бородин, «Римлянин» (как называл
Стасов Римского-Корсакова), Репин, Шаляпин.
Пожалуй, еще больше любил я бывать у Стасова за горо-
дом — в деревне Старожиловке, близ Парголова.
На даче Владимир Васильевич укладывал меня на ночь
в своей комнате, наверху, и часто будил меня громовым, ста-
совским, шепотом:
Сам, ты спишь?
144
После этого обращения я уже, конечно, не спал и, поль-
зуясь стариковской бессонницей хозяина, забрасывал его
множеством вопросов.
Кого только не знал он на своем веку! Мне даже не ве-
рилось, что рта рука, которую я так часто держу в своей,
пожимала когда-то руку баснописца Ивана Андреевича Кры-
лова, руку автора «Былого и дум» и редактора «Колокола»
Александра Ивановича Герцена.
У Стасова была давняя дружба со «Львом Великим», как
он неизменно называл Льва Толстого. Он был близко знаком
с Гончаровым и с Тургеневым, с которым вел бесконечные
споры о музыке, о литературе.
Он рассказывал мне, как однажды он и Тургенев завтра-
кали вместе в ресторане (Стасов говорил: «в трактире»).
Беседуя о чем-то, они неожиданно сошлись во мнениях. Тур-
генева это так удивило, что он тут же вскочил из-за стола,
подбежал к открытому окну и крикнул своим очень высо-
ким, почти женским голосом:
— Вяжите меня, православные! Тургенев с ума спятил —
он согласился со Стасовым!
На все мои бесчисленные вопросы Владимир Васильевич
отвечал охотно и подробно.
Но один мой вопрос ошеломил его.
Не подумав, я как-то брякнул:
— Ас Державиным вы встречались, Владимир Василье-
вич?
— С Державиным?! — медленно и удивленно повторил
Стасов. — Да ты еще, чего доброго, спросишь, знал ли я
старика Мафусаила!
С тех пор я старался не задавать Владимиру Василье-
вичу таких опрометчивых вопросов.
Уж очень было бы жаль, если бы он махнул на меня
рукой и решил, что не стоит толковать со мной о далеких
временах, о которых у меня имеется самое смутное пред-
ставление.
А между тем эти устные рассказы Стасова были для меня
мостом к очень давней и великой эпохе. Владимир Василье-
вич родился в 1824 году, в год смерти Байрона. Во время
его детства и юности взрослые говорили еще об Отечествен-
ной войне, как о событии, лично ими пережитом. И еще
совсем свежа была память о восстании декабристов со всеми
Допросами, доносами и карами, которые за ним последовали.
145
Когда погиб Пушкин, Владимиру Васильевичу было трина-*
дцать лет. Юношей — студентом Училища правоведения —*
читал он многие, впервые напечатанные, страницы Гоголя.
Он был единственным человеком, провожавшим вместе с
Людмилой Ивановной Шестаковой ее брата, Михаила Ивано-*
вича Глинку, когда тот в последний раз уезжал за границу,
А уж о Мусоргском и Бородине Стасов мог бы рассказать
больше, чем кто-либо из оставшихся в живых современ-
ников.
К сожалению, я был еще слишком молод и не мог как
следует воспользоваться щедрой готовностью Владимира Ва-
сильевича делиться со мною тем, что хранила его необъят-i
ная память.
С трогательной заботливостью старался он приобщить
меня ко всему, что было ему самому дорого.
Он повез меня в Академию художеств и попросил Иванэ
Ивановича Толстого, вице-президента Академии, показать
мне библейские рисунки Александра Иванова. Он брал меня
с собой на органные концерты, где исполнялась музы-
ка композитора, которого он ставил выше всех других, —»
Баха.
Помню, как после одного из таких концертов он реши-
тельно тряхнул головой и сказал:
— И после всего этого помирать? Нет, не согласен!
В то время, когда я готовился к отъезду из Петербурга,
Стасов тоже собирался в путь — ко Льву Николаевичу Тол-
стому в Ясную Поляну. Для Владимира Васильевича это не
было простой поездкой в гости, а настоящим паломни-
чеством.
«Лев Великий» занимал в его жизни особое — значитель-
ное и важное — место. Знакомство их было давнее. Они по-
стоянно переписывались друг с другом, и всякий раз Стасов
по-детски радовался, увидав на конверте крупные, тонкие,
не вполне разборчивые буквы толстовского почерка.
Не жалея времени и сил, подбирал он для Льва Нико-
лаевича исторические материалы, относящиеся то к следст-
вию по делу декабристов, то к войне с Шамилем. Толстой
не скупился на просьбы, зная, что добрый, издавна влюблен-
ный в него Владимир Васильевич готов добыть все необхо-
димые ему документы хоть со дна морского. На стасовском
столе в Публичной библиотеке мне часто случалось видеть
объемистые пакеты, предназначенные к отправке в Ясную
Поляну,
146
Впрочем, с такой же самоотверженной заботливостью
подбирал когда-то Стасов материалы для Бородина и Мусорг-
ского, а в мое время — для совсем еще молодых, никому не
известных композиторов и художников.
За несколько дней до нашего расставания Владимир Ва-
сильевич повел меня к известному и модному в то время
фотографу, Карлу Карловичу Булла, мастерская которого
помещалась на Невском в двух шагах от Публичной библио-
теки.
Старый и совершенно лысый Карл Карлович, сохранивший
на память о своей давно минувшей молодости только густые,
черные как смоль брови, чрезвычайно обрадовался приходу
Стасова и сразу же направил на него чуть ли не всю тяже-
лую артиллерию своих аппаратов.
Но Владимир Васильевич закрыл лицо обеими руками и
сказал, что на этот раз он привел сниматься своего молодого
приятеля.
Приветливый Булла, у которого даже лысина сияла ве-
село и празднично, выразил по этому поводу живейшее удо-
вольствие и двинул свои аппараты на меня.
Вероятно, если бы я пришел к нему в ателье один, он
поручил бы мою особу заботам своих младших помощников.
Но так как привел меня Стасов, Булла счел своим долгом за-
няться мною лично. Он много раз пересаживал меня с кресла
на диван, а с дивана — на пуф, легкими, осторожными дви-
жениями наклонял мою голову то направо, то налево и долго
следил за выражением моего лица, прежде чем открыл и
снова закрыл круглой крышкой блестящий глаз большого
аппарата.
Через несколько дней мы вместе с Владимиром Василье-
вичем зашли в фотографию за снимками. Они ждали нас в
конверте, четко отпечатанные и тщательно отретуширо-
ванные.
Много лет в доме у нас хранилась ничуть не выцветшая
и не потускневшая карточка, изображающая мальчика в бе-
лой гимназической блузе, глубоко задумавшегося над тол-
стой книгой. Книгу рту заботливо раскрыл передо мной Карл
Карлович Булла, и называлась она, сколько мне помнится,
«Каталог новейших фотографических аппаратов и объекти-
вов фирмы Цейс».
147
Другую — точно такую же — карточку получил Стасов,
Он бережно положил ее в свой бумажник и спрягал во внут-
ренний карман сюртука.
А через Два дня мы расстались.
Я простился с Владимиром Васильевичем до зимних ка-
никул. Однако нам довелось увидеться гораздо раньше.
Три дня пути с пересадками и долгими остановками, и
мы опять очутились в Острогожске. По-прежнему живем у
дяди в узкой комнате с окошком во двор — будто и не было
в нашей жизни Петербурга, будто он нам только приснился.
Через несколько дней мы начнем ходить в гимназию, и время
потянется так, как тянулось и в прошлом и в позапрошлом
году.
И все же за эти два-три летних месяца что-то вокруг
меня неузнаваемо изменилось. Не тот стал Острогожск, не
те дома и люди.
Чуть ли не прямо с поезда обежал я всех своих друзей
и товарищей, побывал у Лебедевых, у Гришаниных, точно на
крыльях облетел весь город — ив первый раз почувствовал,
какой он маленький, как легко исходить его вдоль и по-
перек.
В Петербурге мне казалось, что все мои новые встречи,
впечатления, события только для того и выпали на мою долю,
чтобы мне было о чем рассказывать в Острогожске. А здесь
я почувствовал, что все мои мысли в Петербурге и я жду
зимних каникул еще до начала осенних занятий.
Да тут еще вдобавок па нас свалилось неожиданное огор-
чение. Наши приятельницы-гимназистки, с которыми брат
так усердно переписывался летом, не пожелали даже встре-
титься с нами.
Это было так странно и необъяснимо, — ведь еще совсем
недавно они сами вызвались проводить нас, и даже не до
вокзала, а до ближайшей станции.
Вскоре выяснилось, что эти-то проводы и были всему
виной. Кто-то из знакомых увидел девочек на станции,
когда они садились в вагон вместе с нами, и толки об их
поездке пошли по всему городу. Об этом сами они узнали
только перед началом занятий, когда их матерей вызвали
для объяснения к гимназическому начальству.
В первые дни мы всячески искали случая поговорить с
девочками, уверить их, что мы готовы на любую жертву,
148
чтобы только защитить их от сплетен и пересудов. Но все
было напрасно, — они словно отгородились от нас непрони-
цаемой стеной.
Особенно горевал мой брат. Он ходил из угла в угол
по комнате, упорно думая, как восстановить справедливость
и спасти так внезапно и нелепо прерванную дружбу. Но он
слишком ясно понимал, что всякий неосторожный шаг может
только повредить нашим и без того напуганным приятель-
ницам.
Что касается меня, то я по-настоящему сочувствовал и
брату и девочкам, но в самой глубине души были у меня
другие тревоги и заботы. Я догадывался, что не сегодня-
завтра в жизни моей должен произойти решительный по-
ворот.
Однако я исправно ходил в гимназию, сочинял шутливые
стихи для журнала, который мы по-прежнему выпускали с
Леней Гришаниным, бывал у Лебедевых, где старшеклассни-
ки вели ожесточенные споры о литературе и политике, но со
дня на день ждал чего-то, сам не зная чего.
И вот однажды, придя домой из гимназии, я нашел на
столе конверт, на котором необычным, похожим на узор,
почерком был написано:
Его высокородию
Самуилу Яковлевичу
Маршаку
Торопливо вскрыл я конверт и в правом верхнем углу
листа почтовой бумаги увидел надпись:
Москва, 15 августа 1902 г.
Письмо было от Стасова.
Он писал, что в одном из разговоров с Толстым упомя-
нул и о встрече со мной.
«...среди всех наших разговоров и радостей я нашел одну
минуточку, когда стал рассказывать ему про -новую свою
радость и счастье, что встретил какого-то нового человечка,
светящегося червячка, который мне кажется как будто бы
обещающим что-то хорошее, чистое, светлое и творческое
впереди. Он слушал — но с великим недоверием, как я впе-
ред ожидал и как оно и должно быть. Он мне сказал потом,
с чудесным выражением своих глубоких глаз и своею мощ-
ною, но доброю улыбкою: «Ах, рти мне «Wunderkinder»!
149
Сколько я их встречал и сколько раз обманывался! Так они
часто летают праздными и ненужными ракетами! Полетит,
полетит светло и красиво, а там и скоро лопнет в воздухе
и исчезнет! Нет! Я уже теперь никому и ничему между
ними не верю! Пускай наперед вырастут, и окрепнут, и ДО’*
кажут, что они не пустой фейерверк!..»
Слово «вундеркинд» было мне до тех пор незнакомо,
но все же я догадался, что оно значит, и немного оби-
делся.
Зато конец письма не только утешил, но и взволновал
меня чуть ли не до слез.
Стасов писал:
«Я и сам то же самое думаю, — и я тоже не раз обма-
нывался. Но на этот раз немножко защищал и выгораживал
своего новоприбылого, свою новую радость и утешение! Я рас-
сказывал, что, на мои глаза, тут есть какое-то в самом деле
золотое зернышко. И мой ЛЕВ как будто склонял свою могу-
чую гриву и свои царские глаза немножко в мою сторону.
Тогда я ему сказал: «Так вот что сделайте мне, ради всего
святого, великого и дорогого: вот, поглядите на этот малень-
кий портретик, что я только на днях получил, и пускай Ваш
взор, остановясь на этом молодом, полном жизни личике, по-
служит ему словно благословением издалека!» И он сделал,
как я просил, и долго-долго смотрел на молодое, начинаю-
щее жить лицо ребенка-юноши».
Трудно сказать, что больше всего тронуло меня в этом
письме: молчаливое ли благословение Толстого или эта уди-
вительная просьба доброго и восторженного Владимира Ва-
сильевича, чне забывшего обо мне и в Ясной Поляне.
А через месяц он уже добился моего перевода в петер-
бургскую гимназию, и я навсегда распрощался с Острогож-
ском.
Провожало меня на этот раз много народу — родствен-
ники, товарищи, друзья. Но в вагон со мною вошел только
мой брат. И тут я по-настоящему понял, что первый раз в
жизни мы с ним расстаемся надолго. Мне хотелось сказать
ему на прощанье какие-то особенные, нежные слова, но он
не слушал меня. Задвигая одну корзинку под лавку вагона
и пристраивая другую на верхней полке, он умолял меня не
выходить на станциях, не терять денег и билета и немедлен-
но телеграфировать ему по приезде в Петербург.
Только четкие и гулкие три звонка на платформе заста-
вили его наконец покинуть вагон„
150*
ТРИ ПЕТЕРБУРГА
И вот я снова в столице.
Если в прошлый приезд я считал себя в Петербурге го-
стем и, осматривая город, старался увидеть и запомнить как
можно больше, то на этот раз я уже не проявлял такой жад-
ности. Я был здесь дома и знал, что от меня никуда не
уйдут ни Сенатская площадь, ни сфинксы над Невой, ни
Острова.
Но зато теперь мне открылась новая, еще незнакомая
часть Питера, его рабочая окраина — Московская застава.
Огромные чугунные триумфальные ворота, построенные
по проекту архитектора Василия Петровича Стасова, отца
Владимира Васильевича, завершали собой Петербург двор-
цов, памятников, казарм, гранитных набережных и узорных
решеток с золочеными копьями и львиными масками.
А за Московскими воротами и за железнодорожным Пу-
тиловым мостом уже начиналось широкое и пустынное шос-
се, по сторонам которого тянулись ряды однообразных де-
ревянных домов вперемежку с кирпичными, такими же одно-
образными, высились фабричные трубы, пыльно зеленели
кусты сирени в палисадниках.
Здесь, неподалеку от Чесменской богадельни, окруженной
старыми редкими деревьями, находился завод, где работал
отец, и скромная квартира в переулке, куда незадолго перед
тем переселилась наша семья.
Сейчас, когда я припоминаю первые годы моего пребы-
вания в Петербурге, мне кажется, что жил я здесь не в од-
ном, а в трех различных, таких несхожих между собою и
почти не соприкасающихся мирах.
Один был тот, в который ввел меня седобородый вели-
кан — бурный, кипучий, но бесконечно заботливый Влади-
мир Васильевич Стасов. О его щедрой доброте лучше не ска-
жешь, чем говорит в своих воспоминаниях Шаляпин:
«Этот человек как бы обнял меня душою своей» 2.
С первых дней моего приезда я проводил целые часы
то у него дома, то в просторных залах Публичной библиоте-
ки. Врал он меня с собою и к своим друзьям — композито-
рам, художникам, писателям.
Так, нежданно-негаданно, попал я в круг взрослых лю-
Ае®, у которых было достаточно свободы и досуга, чтобы
151
подолгу, среди бела дня, с жаром толковать о какой-нибудь
новой симфонии, опере, картине или книге. Э'ги известные и
вполне уверенные в себе люди рассуждали об искусстве сме-
ло, серьезно и весело, как хозяева, как мастера, его создаю-
щие. Имена многих из них доходили до меня еще в Остро-
гожске — задолго до моей встречи с ними. И теперь, прислу-
шиваясь к их шумным спорам, я чувствовал себя так, будто
раскрыл какую-то очень интересную книгу где-то на сере-
дине и по отдельным беглым намекам должен догадываться,
что же было раньше, кто такие герои этой книги и чем они
связаны между собой.
Каждый из них занимал такое большое место в жизни
да и в моем представлении, что мне было даже как-то стран-
но видеть их так близко перед собою в самых обыкно-
венных костюмах и ботинках, в самой обычной обста-
новке.
Неужели же этот невысокий, добродушный человек с ма-
ленькими, лукаво прищуренными глазами, с волнистой ше-
велюрой и подстриженной клинышком, слегка седеющей бо-
родкой — ив самом деле Илья Ефимович Репин? Ведь если
бы я встретил его на улице в этой же самой мягкой шляпе
и в крылатке, мне бы и в голову не пришло, что передо
мной знаменитый на всю Россию художник. Скорей уж оя
похож на служащего земской управы или на нашего остро-
гожского библиотекаря.
А вот строгий, длиннобородый, остро и сосредоточенно
поглядывающий на своих собеседников сквозь двойные стекла
очков Римский-Корсаков. Волосы его щеткой стоят над вы-
соким лбом, сюртук наглухо застегнут. Со мною он сдержан-
но учтив и приветлив, но я все-таки почему-то немножко
побаиваюсь его, почти как директора нашей гимназии.
Гораздо проще держится большой, грузный, смущенно
улыбающийся Глазунов. У него тяжелые плечи, короткая
шея, а косой разлет бровей и небольшие, опущенные книзу
усы придают лицу что-то монгольское.
Стасов за глаза любовно называет его «Глазун».
Почти у всех в стасовском кружке свои домашние, ла-
сковые прозвища.
Я еще не знал музыки Мусоргского, а уже слышал так
много о «Мусорянине» или «Мусиньке», что мне казалось,
будто он сам только что побывал здесь, оставив в комнатах
отголоски своего громкого смеха и тепло своих рук на кла-
вишах рояля..
152
в сущности говоря, квартира Стасова на Песках могла
бы с полным правом называться по-нынешнему «Домом ис-
кусств» и прежде всего — музыки.
Здесь всегда были раскрыты настежь двери для старых и
молодых мастеров — композиторов, певцов, пианистов. От-
сюда они уходили с новыми силами, а подчас и с новыми
замыслами.
Я был моложе большинства этих людей лет на двадцать,
тридцать, сорок, а то и на шестьдесят с чем-то, но почти
все они разговаривали со мною, как с младшим членом своей
семьи, а не как с ребенком. От этого я как будто и в самом
деле становился взрослее, свободнее, увереннее,
Но совсем другим казался я своим товарищам и самому
собе за партой в казенных и строгих стенах гимназии, куда
меня перевели по ходатайству Стасова.
Тут я был школьником, да еще и новичком среди три-
дцати мальчиков, которые уже несколько лет учились вме-
сте, дружили, дрались п вели исподтишка бесконечные вой-
ны с учителями и надзирателями. Сойтись с ними поближе
было не так-то легко. Наши острогожские ребята могли под-
ставить новичку ножку, дать ему «кобца» или «загнуть са-
лазки», но очень скоро привыкали к нему, как волчата к
приблудному волчонку, и уже не отличали его от своих.
А петербургские мои соклассники изводили новичка еще
похлеще, чем острогожцы, но и после всех испытаний дале-
ко не сразу принимали в свою среду.
Эта столичная гимназия3, просуществовавшая уже более
полувека и сохранившая после недавней реформы полный
курс древних языков, считалась гимназией аристократиче-
ской.
В Острогожске на весь наш класс был одпп только кня-
зек, да и тот захудалого кавказского рода. А здесь в мое
время учились и графы Шереметевы, которые очепь обижа-
лись, если их фамилию писали с мягким знаком после «т»,
и князь Вяземский, и сын адмирала Дубасова. Впрочем, были
У нас ребята и не столь знатного происхождения — сыновья
профессоров, инженеров, врачей, коммерсантов, но и они по
большей части при встрече с новичками напускали на себя
какую-то гвардейскую чопорность и надменность.
Может быть, мне было бы легче сблизиться со своими
°Дноклассниками, если бы мое появление в гимназии про-
153
шло незамеченным. Но наш добрейший классный наставник
Вячеслав Васильевич Щербатых, имевший обыкновение сво-
бодно и по-приятельски беседовать с классом о последних
новостях, счел необходимым представить меня моим новым
товарищам.
Толстый и всегда благодушно настроенный, он уселся на
скрипящий под ним стул и начал урок примерно такими сло-
вами:
— А у нас, господа, приятная новость. К нам переведен
из провинции юный порт, подающий, как говорят, ба-а-аль-
шие надежды. Прошу любить его и жаловать!
Этого было вполне довольно, чтобы я стал мишенью для
нескольких самых заядлых гимназических остряков. Выра-
жение «подающий большие надежды», почему-то показав-
шееся им очень забавным, повторялось несколько дней на все
лады. Меня так и звали: «подающий большие надежды» или
«приятная новость». К счастью, эти прозвища скоро забыли.
Гимназия, как и казарма, не терпит ничего нарушающего
общий строй. А я выделялся из всего класса не только тем,
что сочинял стихи, но и своим внешним видом. Гимназиче^
ская форма, которой когда-то при поступлении в острогож-
скую гимназию я так радовался, сильно отличалась от сто-
личной. Да к тому же мой форменный костюм был далеко не
первой молодости: блестящие пуговицы, которыми застеги-
вался косой ворот моей серой блузы, давно пожелтели, ко-*
жаный пояс потрескался, а из брюк я уже порядком вырос.
В довершение всего я был в то время не по возрасту мал
и худощав. (Только впоследствии, уже на границе юности,
догнал я своих ровесников и ростом, и шириною плеч.) Сре-
ди новых моих соклассников, в большинстве своем бойких,
плотных, хорошо упитанных мальчиков в черных брюках и
в ладных черных куртках, туго стянутых в талии лакирован-
ными поясами, я чувствовал себя одиноким и беззащитным,
как в те далекие дни, когда впервые встретился с буйными
босоногими мальчишками в Острогожске на Майдане.
Еще больше отличался я от столичных гимназистов на
улице или на школьном дворе. У них были голубовато-серые,
почти офицерские шинели, а на фуражках красовались очень
маленькие, изящные гербы из какого-то металла, похожего
на матовое серебро.
Какой нескладной, будто дубовой, казалась мне теперь
моя шинель грубого, шершаво-серого сукна! Каким нелепым
и неуклюжим был огромный герб на моей помятой фуражке!
154
Правда, через некоторое время меня одели по форме, но
в первые дни я выглядел рядом с моими щеголеватыми пе-
тербургскими товарищами каким-то очень невзрачным про-
винциалом.
А ведь всего только несколько недель тому назад — на
платформе Острогожского вокзала и в грохочущем, унося-
щем меня на север поезде — я уже воображал себя настоя-
щим, коренным петербуржцем.
Впрочем, этот великолепный город не казался мне чужим
и теперь, когда по праздникам или после уроков я бродил по
его прямым и широким проспектам или сидел на гранитной
скамье в полукруглом выступе ограды над Невой.
И только в гимназии я все еще оставался новичком — и
для товарищей, и для всех учителей, начиная с молодого,
только что выписанного из Парижа француза, весело побле-
скивающего стеклами пенсне, и кончая старым, желчным
учителем греческого языка Цинзерлингом.
В Острогожске я несколько лет шел в классе первым, и
даже самые придирчивые из учителей обращались со мной ува-
жительно и учтиво, редко беспокоили меня вопросами и того
реже вызывали отвечать урок. А здесь у меня еще не было
сколько-нибудь установившейся репутации, и заработать ее
мне было трудновато: из-за переезда я отстал от класса, да
и учебники, за исключением одного-двух, были в петербург-
ских гимназиях другие.
Первым учеником считался тут большой и очень толстый
мальчик с круглой головой, гладко причесанной на косой
пробор, — Ваня Передельский. Он был сыном какого-то вы-
служившегося чуть ли не из нижних чинов генерала.
Я слушал, как обстоятельно, плавно и красноречиво от-
вечает он на все вопросы учителей, и невольно думал о том,
что Владимир Иванович Теплых, пожалуй, не одобрил бы ни
его усердия, ни красноречия.
Вероятно, у него и в самом деле были все основания
числиться первым учеником — незаурядные способности, от-
личная память, редкая усидчивость. Но учителя гимназии,
пожалуй, больше ценили в нем другие качества: он казался
таким положительным, степенным, воспитанным. Его легко
можно было представить себе будущим прокурором или до-
кладчиком в сенате, а может быть, профессором, выступаю-
щим с лекцией перед большой аудиторией. Для этого ему
Даже не надо было меняться, — разве только дать устано-
виться еще ломающемуся голосу..
155
Такой примерный ученик был как нельзя более под стать
всей этой классической казенной гимназии, где среди учи-
телей не было таких ископаемых, как Сапожник — Антонов,
но зато нельзя было найти и молодых, пылких, только что
со студенческой скамьи педагогов нового типа вроде Попов-
ского.
Однако бывали здесь и по-настоящему образованные, за-
интересованные в своем предмете учителя, ост явившие по
себе добрую память. Многие поколения гимназистов с благо-
дарностью вспоминали латиниста Реймана. До сих пор я
четко вижу перед собой чистенького, седенького старичка
на кафедре, слышу его тихий, ровный голос, вспоминаю при-
ветливый, внимательный взгляд из-под золотых очков. С не-
запамятных времен преподавал он в этой сугубо классиче-
ской гимназии древние языки, не теряя терпения даже тогда,
когда ученики варварски искажали эллинскую и латинскую
речь. По душе нам был и географ Николай Федорович Аре-
фьев, человек спокойный, умный и простой. Несмотря па
свой форменный вицмундир, он не был чиновником и не
сводил географию к перечню островов и полуостровов, зали-
вов и проливов. На уроках он охотнее рассказывал сам, чем
вызывал нас, а во время объяснений читал нам целые стра-
ницы из дневников экспедиций и записок путешественников.
И уж совсем ничего казенного не было в Павле Григорьеви-
че Мижуеве. Автор книг о Новой Зеландии, сотрудник пере-
довых толстых журналов, он почему-то преподавал у нас
немецкий язык.
Однако же не эти учителя задавали в гимназии тон. Вме-
сте с древними языками она сохранила в полной неприкос-
новенности свой сложившийся за полвека чинный порядок,
от которого веяло холодом.
Нашего директора, строгого и суховатого Шебеко, дослу-
жившегося до первого генеральского чина, мы редко видели
во время уроков, а когда он появлялся в коридоре на одной
из перемен, гимназические надзиратели мигом водворяли ти-
шину в классах на всем пути его следования.
И все-таки, несмотря на дисциплину, которой славилась
гимназия, ребята позволяли себе здесь иной раз такие про-
делки, какие и не снились самым отчаянным головорезам
в Острогожске.
Чаще всего это бывало на уроках «грека» Роберта Авгу-
стовича Цинзерлинга, с которым гимназисты вели ожесточен-
ную войну в течение целых десятилетий. Он подозревал
156
своих учеников во всех смертных грехах, а они, в свою оче-
редь, всей душой ненавидели его геморроидально-поджарую
фигуру, его узкую, длинную, прямоугольную бороду, кото-
рую он то засовывал куда-то под воротник, то с трудом вы-
таскивал наружу. Невозможно сосчитать, сколько единиц и
двоек наставил он на своем веку в классных журналах и
сколько воды и лампадного масла было подмешано в его
чернила.
В гимназии ходили легенды о тех бесконечных «розы-
грышах», которые устраивали Цинзерлингу его щедрые на вы-
думки ученики. Рассказывали, будто однажды старшеклас-
сники, сыновья состоятельных родителей в складчину зака-
зали для Роберта Августовича в самом богатом бюро похо-
ронных процессий пышный катафалк с вереницей траурных
карет и целой армией факельщиков в черных ливреях и ци-
линдрах. У наших острогожцев не хватило бы на такую за-
тею ни денег, ни дерзости.
Говорят, что Цинзерлинг и в самом деле чуть не умер
от ужаса и злости, когда увидел у себя под окнами чер-
ных лошадей, мерно покачивающих траурными султанами,
а потом услышал из передней незнакомый торжественно-
печальный голос, возвещающий о прибытии погребальной
колесницы.
Шел месяц за месяцем, а я все еще не мог привыкнуть к
новой гимназии. Каждое утро, подходя к ее дверям, я не-
вольно сравнивал с ней свою прежнюю — острогожскую. Та
стояла в городе особняком, за белой каменной оградой. Окна
ее с одной стороны выходили на просторный двор, с дру-
гой — противоположной — смотрели в городской сад.
А здание нашей петербугской гимназии с виду ничем
не отличалось от соседних, вплотную примыкающих к нему
домов. Такой же фасад в несколько этажей, такой же сум-
рачный парадный подъезд с темно-коричневой дубовой дверью
и с бородатым швейцаром в длинной ливрее. Правда, эта
гимназия была несравненно лучше обставлена, ее библиотека,
физический кабинет и гимнастический зал значительно бо-
гаче, ее паркетные полы блестели гораздо ярче, и завтрака-
ли мы здесь не в классах и не в коридоре, а в специальной
столовой, где служители в форменных сюртуках неторопливо
обходили длинные столы, накрытые скатертями, предлагая
каждому из нас по очереди блюдо с кушаньем.
157
И все же мне было здесь как-то неуютно, — может быть,
потому, что я попал в класс, где давно уже установились
отношения и репутации, да при ртом еще начал ходить на
занятия среди учебного года.
Казалось, будто на какой-то промежуточной станции я
вскочил в поезд, где все уже успели удобно устроиться, пе-
резнакомиться между собой и с неудовольствием встречают
нового, нежданного пассажира.
Сильнее всего я чувствовал свою отчужденность, когда
кончался школьный день и гимназисты наперегонки устрем-
лялись к выходу.
Из ворот острогожской гимназии мы почти всегда высы-
пали целою гурьбой п долго провожали один другого до до-
му, перепрыгивая то через канаву, то через тумбу и болтая
обо всем, что только взбредет на ум или попадется на глаза.
Особенно много провожатых бывало у меня, так как по
дороге я обычно рассказывал товарищам какую-нибудь выду-
манную тут же на ходу историю, которая у моих соклассни-
ков называлась «суматохой».
— А ну, Маршак, рассказывай дальше свою «сумато-
ху» ! — торопил меня самый постоянный из моих слушате-
лей, добрый, мечтательный Костя Зуюс.
Такое название дали моим устным рассказам потому, что
первая выдуманная мною история начиналась словами: «Су-
матоха страшная...»
Из подъезда петербургской гимназии я выходил один. Да
и почти все мои товарищи по классу обычно расходились
порознь. За одними присылали щегольскую коляску с важ-
ным, толстым кучером на козлах, другие нанимали на углу
извозчика или шагали до ближайшей конки пешком.
Я добирался до родительского дома на двух конках. Одна
везла меня по Литейному и Загородному, другая—по бес-
конечному Забалканскому через Обводный канал, мимо
двух огромных железных быков, стоявших перед городскими
бойнями, мимо пустынного Горячего поля, на котором но-
чевали питерские золоторотцы.
Несколько оживленнее становилось наше путешествие
перед Обводным каналом. Здесь в тяжелую двухэтажную
конку на помощь клячам впрягали пару более резвых за-
пасных лошадей. Эта процедура сопровождалась обыкновен-
но криком, свистом, звонким щелканьем кнута.
Дребезжа, громыхая и позванивая на ходу, конка доби-»
ралась наконец до Московских ворот. Тут лошадей выпря-*
158
гали и переводили на противоположную сторону вагона, так
что задняя его площадка становилась передней. После этого
конка пускалась в обратный путь, а я, потуже подтянув рем-
ни ранца, шагал по высокой деревянной панели в три доски
к Путилову мосту.
Здесь со вс$х сторон обступал меня тот третий мир, ко-
торый открылся мне в Петербурге наряду с первыми двумя,
гораздо более благоустроенными.
Эта питерская окраина, будничная и деловитая, чем-то
напоминала те пригороды, предместья, слободки, в которых
протекало мое провинциальное детство. Правда, дома здесь
были чаще всего двухэтажные, а по сторонам дороги, вымо-
щенной крупным, крутолобым булыжником, тянулись водо-
сточные канавы с переброшенными через них мостками и
дощатые панели.
Но тот же озабоченный, скудный, суровый быт чувство-
вался во всем. Здесь люди так же рано просыпались, так же
много работали, так же пьяно гуляли по праздникам. И лавки,
насквозь пропахшие селедкой, керосином, карамелью и огу-
речным рассолом, были почти такие же, как на Майдане.
Да и квартира, где поселилась наша семья, мало чем от-
личалась от всех прежних квартир, в которых мы жили в
провинции. Вопаки надеждам и обещаниям отца, она была
неприглядна и неуютна. Маленькие, тесные комнатки в пер-
вом этаже деревянного флигеля, затерянного в глубине густо
заселенного двора; низкие окна, в которые может заглянуть
любой прохожий; дощатые некрашеные полы... Зато у моих
младших сестер и брата полон двор подруг и товарищей, с
которыми можно играть с утра до вечера в колдуны, в зо-
лотые ворота или в пятнашки и прятаться в закоулках по-
луразрушенного дома, как мы со старшим братом прятались
когда-то в развалинах заброшенного здания на остро-
гожском дворе.
Я возвращался из гимназии уже под вечер. В столовой
горела знакомая мне с давних лет висячая лампа под белым
абажуром, отбрасывая на середину стола светлый круг. По
кРУгу, как по поверхности воды, все время ходила легкая
рябь от еле заметной дрожи заключенного в ламповом стекле
°гонька.
В этой единственной освещенной комнате коротала вечер
Вся наша семья4 Примостившись у нагретой печки, шила,
159
вязала или штопала мать, а младшие дети — две сестренки
и меньшой брат — сидели у стола, каждый со своей книж-
кой. Кто читал про себя, кто шепотом, но все были одина-
ково захвачены чтением. Забавно и трогательно было смот-
реть со стороны, как эти маленькие читатели, из которых
старшим было одиннадцать и девять лет, а младшему семь,
подперев кулачками щеки, водят глазами по строчкам, ни-
чего не замечая вокруг. Старшая сестра озабоченно хмурит
лоб, другая плачет над своей книгой, а брат так и подпры-
гивает на стуле и громко хохочет: он в первый раз читает
«Приключения Макса и Морица» 4.
Одного только отца нет дома. Он еще на заводе.
Завод, на котором служил теперь отец, был значительно
больше прежних. Но и здесь люди работали чуть ли не с
самого рассвета дотемна и все делалось вручную. На высо-
кий деревянный помост, охватывавший со всех сторон огром-
ный котел, рабочие вкатывали тяжело груженные тачки и
носили ушаты со щелоком.
В котле бурлило, как море, обдавая людей острым, горя-
чим дыханием, жидкое синее мыло. Сверху оно было похоже
на пышное атласное, сшитое из лоскутьев разного оттенка
одеяло. Когда мыло начинало вздуваться и брызгать едкой
пеной, рабочие помешивали его длинными железными шеста-
ми, а мастер — мой отец — то и дело брал деревянной ло-
паточкой пробу. Для этого ему приходилось подниматься
по железной отвесной лесенке, которая вела с помоста к
самому краю котла. Рыжее его пальто, щеки, брови, усы, бо-
родка клинышком, даже очки — все это было в белых нале-
тах застывшего мыла. Сквозь густые мыльные пары трудно
было при входе сразу различить людей на помосте.
Я смотрел на отца, берущего пробу, и с тревогой думал
о том, как легко потерять равновесие на скользких от налип-
шего мыла ступеньках.
Гораздо легче дышалось и веселее шла работа в цеху
рядом, где худощавый и усатый Василий Иванович Простов,
бывший унтер-офицер лейб-гвардии полка, резал еще не впол-
не затвердевшее «мраморное» пли «кокосовое» мыло тонкой
проволокой, а его сподручные, оборванные, вихрастые под-
ростки с Горячего поля, проворно, как заправские фокусни-
ки, заворачивали куски мыла в бумагу с печатью фирмы и
складывали в ящики. Работали они сдельно и потому не те-
ряли времени зря. Но стоило Василию Ивановичу отвернуть-
ся, как фунт мыла, а то и целый брусок мгновенно исчезал
160
с. Маршак (слева внизу) среди учеников Ялтинской гимназии.
1905—1906 гг.
С. Маршак со своим отцом Яковом Мироновичем Маршаком.
Около 1912 г.
у кого-нибудь из них за пазухой. При выходе с завода их
частенько обыскивали, но они только ухмылялись, когда из-
под рубахи у них вытаскивали кусок разогретого и слегка
размякшего мыла. Терять им было нечего: их выгоняли, а
через несколько дней брали снова, если нужны были рабо-
чие руки.
Я с любопытством разглядывал ртих столичных жителей,
бесшабашных, вороватых, грязных, голодных, битых, живу-
щих на птичьих правах и никогда не унывающих. До при-
езда в Питер я таких не видывал. Завести с ними разговор
мне никак не удавалось, — они только шмыгали носом, пе-
редергивали плечами да перемигивались между собой. Я пы-
тался расспрашивать о них Василия Ивановича Простова, но
он отделывался только короткими отрывистыми фразами:
— Да что тут говорить! Шатуны. Погиблый народ. Голо,
босо, беспоясо!
И, однако же, он обращался с этими лукавыми, озорными
оборванцами по-человечески. Делился с ними махоркой, да-
вал им в долг без отдачи пятиалтынный или двугривенный,
если они еще не успевали заработать на обед, хоть сам еле
дотягивал до ближайшей получки. Впрочем, по крайней мере,
половину своего заработка он пропивал. Пил главным обра-
зом по воскресеньям, а иной раз прихватывал и понедель-
ник. В остальное же время был хмур, серьезен и работал
аккуратно, как машина.
Каждое воскресенье, перед тем как выбить ладонью проб-
ку из первой сороковки, он долго и тщательно чистил свои
сапоги и праздничную черную «тройку», хоть никуда в этот
день не собирался.
— И зачем только ты пьешь, Василий? — спрашивал я
его.
— А что же еще холостому человеку в праздник делать?
— Ну почитал бы книжку, что ли. Ведь ты же гра-
мотный!
— К чтению, милый человек, привычка нужна, а я только
мыло резать привычен. Во сне и то режу.
— А хочешь, я тебе что-нибудь почитаю? — предлагал я
и, усевшись на ящик от мыла, принимался читать ему вслух
«Севастопольские рассказы» Толстого.— Да ты слушай! Это
тебе, как военному человеку, интересно будет!
Страницу-другую он еще выдерживал, а потом его чер-
®ая с проседью, коротко остриженная голова начинала опу-
скаться все ниже и ниже.
6 С. Маршак t т. 6 161
Я обиженно умолкал, а он, встрепенувшись, будто его
застали спящим на посту, смущенно оправдывался:
— Прошу прощения! Да только не в коня корм. Говорил
же я тебе, что не приучен книжки читать, а приучаться уже
поздно.
Почти так же отвечал он, когда кто-нибудь спрашивал,
почему он не женится.
— Опоздал малость. Для семейной жизни, братец, время
нужно иметь. Ну и средства тоже!
Мне почему-то очень нравился этот одинокий, суровый,
всегда подтянутый человек, даже в нетрезвом виде не те-*
ряющий степенного достоинства.
Зря он слов не тратил, и только его слегка насмешливые
черные глаза из-под нахмуренных бровей, гвардейские усы
да глубокие, резкие складки вдоль щек говорили о пережи-
тых им годах военной службы и о десятке лет фабричного
труда, оставлявшего так мало досуга, что его и девать было
некуда.
Это был первый питерский рабочий, с которым мне дове-
лось познакомиться за Московской заставой. Завод этот был
довольно захудалый, и его немногочисленные рабочие стояли
в стороне от кружков, которых было уже. тогда немало на
крупных заводах Питера.
повыв ТОВАРИЩИ
Не всегда по окончании уроков я сразу же возвращался
домой за Московскую заставу.
Когда погода казалась подходящей, — а она часто каза-
лась мне подходящей, потому что я любил и ветер с Невы,
и летящие вдоль аллей Летнего сада осенние листья, и лег-
кие звездочки сухого снега, и крупные хлопья влажного, —
я отправлялся бродить по городу.
Стоя перед памятником Петра или у сфинксов, спокойно
лежащих друг против друга над каменными, полого спускаю-
щимися к реке ступенями, я старался одним взглядом охва-
тить бегущие по небу рваные облака, ширь Невы и строгие*
линии гранитных набережных. И мне казалось, что я уже не
школьник, не подросток, только что вырвавшийся из тесно
уставленного одинаковыми партами класса, айв самом деле
поэт, на чью долю выпало счастье видеть перед собою вели-
чавые дороги, по которым шла и до сих пор идет история.
162
Вскоре для моих прогулок нашелся спутник. Как-то не-
заметно у меня завязалась молчаливая дружба с одним из
моих соклассников, сыном художника, Баулиным. Белокурый
и очень бледный, словно вылепленный из воска, Баулин был
неутомимым пешеходом и отлично знал город. Скоро, безо
всякой просьбы с моей стороны, он стал для меня неизмен-
ным и незаменимым проводником по питерским улицам, за-
коулкам, мостам и набережным каналов.
Это он впервые показал мне Новую Голландию с вели-
колепными, огромными воротами, через которые мог пройти
по водной дороге многопарусный корабль.
Он научил меня видеть деловитую прелесть петровской
архитектуры и в маленьком двухэтажном дворце, примостив-
шемся в углу Летнего сада между Фонтанкой и Невой, и в
двенадцати звеньях университета, напоминающих о том,
что это здание было когда-то построено для «двенадцати
коллегий».
Вдвоем мы прошли с ним немало верст по Петербургу.
Как бы ни был занят мой новый товарищ — рисовал ли он
или читал какую-нибудь книгу по искусству, — он никогда
не отказывался отправиться со мною пешком в Гавань или
па Острова.
Подчас мне было трудно угнаться за ним. Легкий, не
знающий устали, несмотря на свою кажущуюся хрупкость,
он с малых лет привык шагать по бесконечным проспектам
Этого широко раскинувшегося города, а мне еще так недавно
расстояние от Острогожска до нашего пригородного Майдана
или до железнодорожной станции казалось непомерно боль-
шим.
Изредка бывал я у Баулина дома. Это был необычный
дом. В маленьких светлых комнатах уютно и спокойно раз-
местились на стенах картины, гравюры, лубки, старинные
иконы. В невысоких шкафах стояли за стеклом фарфоро-
вые и костяные фигурки — танцовщицы, пастушки, солдаты
в киверах, китайские уличные торговцы со своими корзинами
и жаровнями. А у противоположной стены на дубовых пол-
ках громоздились большие, тяжелые книги.
Мы снимали с полки один том за другим и, усевшись в
Углу дивана, принимались осторожно перелистывать огром-
ные страницы, рассматривая собрания русских, итальянских*
Французских, испанских картин. Многие из них мы уже ви-
дели в Эрмитаже или в Русском музее, — тогда он назьь
6‘ 163
вался Музеем Александра III, — и узнавать их было особен-
но интересно.
В ртом путешествии по книгам и альбомам Баулин тоже
был моим проводником, как и в странствованиях по городу..
Он знал чуть ли не каждую страницу и, не пускаясь в долгие
объяснения, обращал мое внимание на самое характерное для
каждого художника и его времени.
Казалось, во всем доме мы одни. Но вот кто-то тихонько
стучится к нам в дверь и, слегка приоткрыв ее, протягивает
Баулину поднос с двумя стаканами чая и мягкими, еще теп-
лыми, напудренными белой мукой калачами. Значит, взрос-
лые дома, но только не хотят стеснять нас.
Я чувствовал себя здесь спокойно и свободно, и каждый
раз мне было жалко расставаться с Баулиным, с его карти-
нами, книгами и причудливыми фигурками в прозрачном
шкафу.
Этот первый мой петербургский товарищ и тихая, стро-
гая обстановка квартиры, где он жил, навсегда неразрывно
связаны в моей памяти с городом, который я в те дни по-
настоящему узнал и полюбил.
Полной противоположностью дому Баулиных был другой
дом, не менее для меня привлекательный, куда я попал со-
вершенно случайно.
Как-то на империале конки, который шутливо называли
в те времена «верхотурой», моим соседом оказался рослый
и худощавый гимназист. Слово за слово, мы разговорились.
Он был уже в последнем классе и всеми своими повадками
напоминал прежних моих приятелей — острогожских старше-
классников. Держался он так же серьезно и просто и, не-
смотря на свою гимназическую фуражку, производил впе-
чатление вполне взрослого, положительного, думающего че*
ловека, хоть ни в малейшей степени не пытался казаться
старше своих лет, как многие из моих теперешних товари-
щей по классу.
За полчаса нашего путешествия на «верхотуре» мы успе-
ли не только познакомиться, но даже и подружиться. Под
Звон, грохот и дребезжанье конки он рассказал мне, что
больше всего на свете интересуется ботаникой и уже твердо
решил пойти на естественный факультет университета, а я,
еще не решаясь признаться, что пишу стихи, сказал ему о
своем пристрастии к поэзии.
164
В эт°й области он был не слишком сведущ и, кроме Пуш-
кина и Лермонтова, знал, кажется, одного только Некрасова.
На прощанье мой новый приятель Володя Алчевский по-
советовал мне непременно прочесть замечательную книгу
Тимирязева «Жизнь растения», дал свой адрес и, уже спу-
скаясь по крутой железной лесенке, крикнул мне наверх:
— Обязательно приходите!
В первое же воскресенье я отправился к нему в гости,
на Выборгскую сторону, в один из корпусов Военно-меди-
цинской академии.
Среди многочисленных флигелей, в которых помещались
клиники и лаборатории, я с трудом отыскал квартиру Ал-
чевских и уже из передней услышал громкие молодые го-
лоса и смех.
— У вас гости? — смущенно спросил я у моего приятеля,
отворившего мне дверь.
— Да нет, все свои, — успокоительно ответил Володя. —
А что, шумно очень? Эт0 У нас всегда так. Заходите, не
стесняйтесь!
Я переступил порог и очутился в большой, низкой ком-
нате со старинными окнами в глубоких проемах. На столе
кипел самовар, а за столом сидела целая компания молодых
людей, на первый взгляд очень похожих друг на друга. Чай
разливала пожилая женщина, сидевшая в кресле на колесах,
а напротив нее читал газету сухощавый, сутуловатый, почти
седой человек в старенькой военной тужурке без погон.
С первой же минуты меня встретили здесь, к&к доброго,
старого знакомого. Навстречу мне, одна за другой, протяну-
лось из-за стола несколько сильных, твердых, крупных рук.
Мой приятель Володя был в этой семье самым младшим.
Все его братья были уже студентами: один — медик послед-
него курса с двумя косыми серебряными полосами на пого-
нах, двое универсантов в серых куртках с темно-синими пет-
лицами и двумя рядами золоченых пуговиц, четвертый —
«лесник» с блестящими вензелями на темно-зеленых бархат-
ных погончиках.
Никогда в жизни я еще не видел за одним столом так
много студентов. И даже их родители держались как-то по-
студенчески, очевидно, сохраняя привычки той поры, когда
отец был таким же студентом-медиком, как его старший сын,
а мать, прикованная теперь болезнью к своему глубокому
креслу, бегала на курсы, стриженая, в накинутом на плечи
клетчатом пледе.
165
В этот день вся семья была в сборе.
За столом сидели долго, курили, шутили, спорили о по*
литике, о статьях в последнем номере научного журнала^
В спорах на равных со всеми правах участвовал и Володя.
Но, пожалуй, самым горячим спорщиком был здесь отец, ни-»
чуть не обижавшийся, если его на полуслове перебивали
сыновья.
Только впоследствии я узнал, что этот седоватый чело-*
век — один из самых популярных в студенческой среде пре*
подавателей, любимец молодежи, ее неизменный друг и за*
щитник.
Говорили, что в молодости он был так похож всем своим
внешним обликом на Виссариона Белинского, что даже по-
зировал художнику для известной картины, изображающей
больного Белинского в минуту, когда за порогом его ком-*
наты появляется усатый жандарм 5.
С того времени, как была написана эта картина, отец
моего приятеля успел порядком измениться. Но и сейчас еще,
если только он бывал чем-нибудь задет за живое, тронут или
возмущен, в его впалых щеках и утомленных, будто через
силу поднятых веках можно было уловить эт0 почти уте-*
рянное сходство.
После первого знакомства я не раз бывал в доме у Ал*
чевских. Приходил я не только к Володе, а именно «в дом»,
потому что меня с одинаковым радушием встречали здесь
и отец, и мать, и братья-студенты, такие решительные и рез*
кие в своих суждениях, но, в сущности, очень простые и
славные парни. Студенты просвещали меня, каждый по своей
специальности. Но, кроме того, я узнал здесь, что слово
литература означает иногда нелегальные издания, и впервые
услышал о существовании газеты «Искра», издающейся за
границей..
«КНИГОХРАНИЛИЩА, КУМИРЫ И КАРТИНЫ»
Пожалуй, эти годы на рубеже отрочества и юности —*
девятьсот второй, третий, четвертый — были одними из са-
мых счастливых лет начала моей жизни.
Петербург, который я на первых порах увидел как бы
«с черного хода» — с грязного, мрачного, оглушительно-шум-
ного третьего двора на З^балканском проспекте, — повер*
нулся ко мне парадной своей стороной*
166
Я учился в гимназии, которая считалась одной из луч-
ших в городе, а в свободное время передо мной были ши-
роко открыты двери великолепного книгохранилища, где
изо дня в день шла неторопливая, сосредоточенная работа
над сухо шелестящими страницами рукописей и тяжелыми
фолиантами в темной коже, по где был и такой уголок,
куда, прерывая на час-другой размеренное течение обычных
занятий, бурно вторгался сегодняшний день со своими тол-
ками, шутками, спорами, новостями и находками. В сущно-
сти, рто было тоже работой — может быть, не менее важной,
чем изучение рукописей, гравюр и толстых фолиантов.
У большого письменного стола в узкой комнате, образуе-
мой высокими шкафами и стендами, шел оживленный разго-
вор о вчерашнем концерте Гофмана, о гастролях московских
«художников» (так называли тогда в Петербурге молодой
Художественный театр), о русском многоголосом пении, о
вологодских кружевах или о последних лихих статейках
нововременских критиков Иванова и Буренина, которым
обязательно нужно дать немедленный и решительный
отпор.
Кого только пе видел я на этой стасовской дозорной
вышке! Вот неторопливо, но бодро входит старичок генерал
в полной форме с аксельбантами. Золотые очки и довольно
длинная, аккуратно подстриженная борода с густой проседью
придают ему ученый, профессорский вид. Глядя на его тем-
но-зеленый сюртук с блестящими широкими погонами, я пы-
таюсь угадать, что привело этого генерала в художествен-
ный отдел библиотеки.
— А я опять к вам нынче с просьбой, Владимир Василье-
вич, — говорит генерал.
— Цезарь не просит, а повелевает, — с веселой готов-
ностью отзывается Стасов, и я сразу же догадываюсь, что
старичок в аксельбантах — это композитор и музыкальный
критик Цезарь Антонович Кюи из той «Могучей кучки», о
которой мне так много рассказывал Владимир Васильевич.
Не помню, о чем он просит Стасова. То ли ему нужны
какие-то материалы для новой оперы, то ли редкостная кни-
га по искусству, но не успевает он проститься с хозяином
Этого книжного заповедника, как уже на смену ему, легко
ступая и шелково шурша на ходу, является дама в души-
стых мехах и в большой шляпе с пышными, кудрявыми
керьями. Известная пианистка, она сама привезла Влади-
миру Васильевичу билеты па свой концерт, а так как я
167
оказываюсь тут же, то и мне достается билет, — да еще с
такой блистательной, ласковой улыбкой в придачу.
Точно в театре, мне любопытно смотреть, как эта наряд-
ная женщина, не переставая болтать, стягивает с руки тес-
ную перчатку, как усаживается в кресло, заботливо и ловко
расправляя вокруг себя складки платья, а Владимир Ва-
сильевич шутливо и почтительно склоняет перед ней свою
крупную седую голову и целует ей обе руки по очереди.
А руки у нее большие, сильные, с длинными крепкими паль-
цами и коротко остриженными ногтями. И я уже заранее
представляю себе, как эти руки взлетят над клавишами,
ударят по ним и побегут, то встречаясь, то расходясь и за-
полняя все вокруг певучим и гулким рокотом.
Другая дама, которая приходит вслед за первой, — ни-
чуть не похожа на нее. Это издательница женского журна-
ла и поборница женского равноправия. Поэтому на ней
скромная шляпа лодочкой, крахмальный воротничок с гал-
стучком и платье, слегка напоминающее покроем мужской ко-
стюм. Это не мешает ей задорно и кокетливо смеяться, ожив-
ляя деловой разговор приправой из самых свежих новостей.
Ее беседу с Владимиром Васильевичем прерывает какой-то
почтенный библиограф, весь заросший густым сивым воло-
сом — бровями, усами, бородой. Лица его почти не разгля-
дишь сквозь дебри этой буйной растительности. Она даже
мешает ему говорить, и Владимир Васильевич внимательно
и напряженно слушает его, приставив ладонь к ушной ра-
ковине.
Мне давно пора уходить, но так интересно видеть эту
смену разнообразных, новых для меня людей, что я никак
не решаюсь покинуть удивительную комнату, которая, слов-
но магнит, притягивает к себе археологов, музыкантов, ху-
дожников, литераторов.
А какой неожиданный мир открылся для меня в огром-
ном, великолепном здании Академии художеств на Васильев-
ском острове!
Несколько раз, со своей обычной щедростью и готовно-
стью подарить другим все, что дорого ему самому, приводил
меня сюда Владимир Васильевич — сначала в библиотеку,
где хранились акварели, рисунки и офорты замечательных
русских мастеров, а потом и в мастерские своих друзей”
художников.
168
Вскоре я и здесь почувствовал себя так же свободно,
как в Публичной библиотеке. Я приходил сюда обычно не
со стороны Невы, не с главного подъезда, над которым воз-
вышались колонны и статуи, а через боковую дверь с Чет-
вертой линии. В сумрачном, высоком коридоре было про-
хладно и пахло пылью. По сторонам стояли огромные гип-
совые статуи античных богов и богинь. Сгибы мощных рук,
складки туник, крутые завитки кудрей и бород были словно
обведены серо-коричневой тенью давно скопившейся пыли.
От пыльного налета у богов и богинь потемнели носы и
округлые выступы мускулов.
Так неожиданно и странно было попадать из этого мрач-
ного и холодного коридора прямо в мастерские художников.
Сколько света и цвета бросалось в глаза, едва только вы
переступали их порог. Я был еще подростком и, в сущно?
сти, очень мало понимал, что представляли собой живописцы
или скульпторы, работавшие в этих мастерских. Но уж одно
то, что из-под рук у них выходили картины или статуи, по-
ражало меня свыше всякой меры. Мне так нравился запах
свежей масляной краски, так интересно было следить по
Эскизам, как ищет и находит художник то или иное поло-
жение руки, поворот головы, выражение лица. А какой таин-
ственной и даже страшноватой казалась мне обмотанная
мокрыми тряпками глиняная фигура в мастерской скульп-
тора! С жадным и тревожным любопытством смотрел я, как
постепенно освобождается она от тяжелых влажных пелен,
и вот уже перед глазами у меня встает небольшая, стройная
фигура, в которой тем не менее угадывается огромный рост
и повелительная сила человека в преображенской треуголке
и с тростью в руке. По страстной напряженности круглых,
почти выступивших из орбит глаз, по сжатым губам и туго
обтянутым скулам я сразу узнаю Петра. И так странно, что
мягкая, зеленоватая глина, пористая и сырая, приняла этот
строгий, величавый образ.
А рядом с мастерскими у художников обычно были свои
маленькие приемные. После яркого света мастерской, ее
суровой наготы и деловитости эти маленькие комнатки ка-
зались такими жилыми и уютными. Тут стояли на столе
Цветы, на полу был разостлан ковер, на кресле валялась
ГИтара. Сюда приходили друзья художника, острили, спори-
ли» Рисовали карикатуры.
Эта просторная, всегда приподнятая жизнь, где не было
гРаниц между истовым, страстным трудом и досугом, пол-
169
ным мысли, юмора, изобретательной выдумки, казалась мне
необыкновенно счастливой.
Запомнилась мне еще одна мастерская — уже не в зда-
нии Академии художеств, а в сосновом финском лесу. В яр-
кий зимний день мы поехали с Владимиром Васильевичем
к Репину. Маленькая рыжая лошадка со светлым хвостом и
такой же гривой так бойко бежала по накатанной дороге
среди высоких сосен, будто она вовсе и не лошадь, запря-
женная в санки, а какая-то вольная лесная зверушка, кото-
рая бежит по своему делу и по своей охоте, радуясь солнцу
и морозцу.
Странная вещь — память. Я не помню, какие гости были
у Репина в тот день, о чем шли разговоры, но запомнил
нашу поездку так, словно это было вчера. До сих пор вижу
со всей яркостью игру сине-золотого зимнего света на стек-
лянных выступах — верандах, балконах, вышках — репин-
ской дачи. Вижу, как заглядывают со всех сторон в окна
его мастерской деревья и кусты, отягощенные хрупким,
пышным грузом свежего снега, сверкающего искрами на
солнце и голубого в тени.
Все здесь какое-то необычное. Я еще никогда не видел
такого дома со множеством пристроек, внутренних лестниц,
открытых и закрытых балконов, никогда не видел такого
сада, где причудливые беседки разбросаны среди рослых,
строгих сосен и заснеженных древних валунов.
Да и сам Репин здесь совсем не тот, что в городе. Он
праздничный, благодушный, тихий. На нем финская мехо-
вая шапка-ушанка, теплая куртка, поверх которой наброшен
плащ, пестрые узорные рукавицы. Кажется, будто он всю
жизнь провел среди этих сугробов, камней, сосен и знает
язык зверей, валунов и деревьев.
Так хорошо, вволю набродившись по морозному лесу,
стряхнуть у порога снег и войти в уютное тепло этого при-
чудливого деревянного дома, а потом, примостившись в
углу мастерской, смотреть, как тонкая, легкая рука Репина
набрасывает на лист картона знакомые черты Владимира
Васильевича, белого и величавого, как зима за окном.
За работой Репин рассказывает Стасову что-то смеш-
ное — насколько мне помнится, про какого-то своего учени-
ка, которому он с великим трудом достал билет на концерт
Шаляпина.
— И что же вы думаете? Парень ровно ничего не слышал,
потому что весь вечер был занят очень важным делом: ри-
170
совал затылки сидящей впереди публики. Ну кому нужны
рти затылки и как можно было променять Шаляпина на
чьи-то лысины, которые так легко увидеть в изобилии на лю-
бом концерте несравненно менее талантливого артиста.
А ведь он еще думал, что я похвалю его за такое усердие!
Мы приехали к Репину в среду — в единственный день
недели, когда он принимал гостей и позволял себе отдохнуть
от работы.
Но вот ему подают — пе помню уже что — письмо или
телеграмму из города. Один из его почитателей, которому
какие-то обстоятельства помешали побывать в Куоккала в
ртот день, просит позволения приехать завтра.
Я не узнаю нашего радушного и тихого хозяина. Он весь
багровеет — даже уши и шея у него залиты густой краской.
— Да что же рто такое? Уж если он сам бездельник,
так, верно, думает, что и другим делать нечего. Нет, благо-
дарю покорно! Не успел в рту среду, милости просим в сле-
дующую!..
И, отведя душу, он сразу успокаивается и опять стано-
вится таким же, как был, — добродушным, спокойным, чуть
задумчивым, чуть лукавым.
Публичная библиотека, Академия художеств, театраль-
ные и концертные залы, какие до приезда в Питер мне даже
и во сне не снились, — все рто так захватывало меня, что
поздно вечером от избытка впечатлений мне трудно было
уснуть.
Подумать только! После незатейливых любительских
спектаклей в острогожском городском театре, куда я так
редко проникал, с трудом раздобыв полтинник и рискуя по-
пасться на глаза гимназическому начальству, мне — словно
по волшебству — открылся доступ в самые знаменитые пе-
тербургские театры, где играли Варламов, Давыдов, Савина,
Комиссаржевская. Я сидел здесь не на галерке, а в партере
и чувствовал себя полноправным зрителем в этом нарядном
бархатном, блещущем позолотой и хрусталем зале, который
то погружался в мягкий полумрак, когда начиналось дейст-
вие, то вновь озарялся сотнями огней во время антрактов.
Но, пожалуй, всего ртого было чересчур много для под-
ростка, попавшего в столицу из тихого уездного города^
'Кадно, без оглядки отдавался я всем разнообразным впе-
чатлениям, можно сказать, захлебывался ими и не понимал,
171
почему так озабоченно хмурится отец, когда я рассказываю
ему о том, где побывал и кого видел.
Почему-то его, человека таких широких интересов, те-
перь больше всего занимало одно: успел ли я догнать свой
класс. Он чувствовал, что гимназия заслонена от меня дру-
гими впечатлениями, несравненно более сильными, и это не
на шутку тревожило его.
По старой памяти он ожидал, что я, как и в Острогож-
ске, стану рассказывать ему самым подробным образом обо
всех учителях, товарищах по классу, о своих школьных
успехах и неудачах, и его гораздо больше радовала пятерка
у меня в табеле, чем известие о том, что Глазунов и Лядов
написали музыку на мои слова.
Мне было жаль огорчать отца, но гимназия и в самом
деле как бы отступила для меня на второй план.
Со своими одноклассниками я встречался главным обра-
зом на уроках, а все самое увлекательное, праздничное ожи-
дало меня за стенами класса.
Да и преподаватели в этой новой гимназии уже не могли
всецело завладеть моими мыслями и чувствами, хотя в боль-
шинстве своем они были гораздо более знающими и уме-
лыми людьми, чем острогожские учителя. Но там во всем
городе не было для меня никого умнее, чем Владимир Ива-
нович Теплых или Поповский. А здесь даже самые лучшие
из педагогов уступали в талантливости и широте моим но-
вым взрослым друзьям.
Какой гимназический учитель мог бы разговаривать со
мною по поводу былин или «Слова о полку Игореве» так,
как Владимир Васильевич Стасов, который был одним из
лучших знатоков русского эпоса и дал Бородину тему и ма-
териал для оперы «Князь Игорь»? И разве узнал бы я в
гимназии о русском театре столько, сколько мог рассказать
мне актер Модест Иванович Писарев, современник и друг
Островского?
Каждый день приносил мне что-нибудь новое, и всему
Этому новому надо было найти место, связать, соразмерить
с тем немногим, что я знал раньше. Я стал уставать. А так
как еще из Острогожска я вывез последствия малярии — ма-
локровие и какое-то сердечное недомогание, давно уже тре-
вожившее моих родителей, — то теперь, в пору особенно ин-
тенсивной, полной душевного напряжения жизни, — да еще
на переломе между отрочеством и юностью, — я стал хво-
рать не на шутку.
172
С беспокойством поглядывая на меня, Стасов хмурился,
качал головой и говорил:
— Надо тебя отправить куда-нибудь в теплые края —
только вот куда бы?
Вскоре этот вопрос решился сам собою, да так неожи-
данно и чудесно, как я и представить себе не мог.
ИЗ ОТРОЧЕСТВА В ЮНОСТЬ
Это случилось в конце лета, в теплый августовский день
1904 года на даче у Владимира Васильевича.
Из года в год — более двадцати лет подряд — проводил
он летние месяцы в деревне Старожиловке, близ Парголова.
Там он снимал всегда одну и ту же дачу у местных жите-
лей Безруковых. Просторный бревенчатый дом в два этажа,
со стеклянной верандой в каждом, был всегда открыт для
друзей. Сколько бывало здесь импровизированных концер-
тов, литературных чтений, семейных праздников со всякими
затеями — с гирляндами флажков, цветными фонариками и
прочей милой, причудливой бутафорией! Все дачники и зи-
могоры Старожиловки с любопытством следили за тем, что
делается на этой необыкновенной даче. Бывало, во время
стасовских домашних концертов множество людей собира-
ется за оградой, прислушиваясь к звукам, вылетающим из
открытых окон.
В тот день ждали гостей, которыми особенно дорожил
Владимир Васильевич. К их приему готовились весело, за-
тейливо и старательно, «не без страхов, испугов и опасений:
а вдруг не приедут!» — как говорил Стасов.
Все домашние принимали деятельное участие в этих при-
готовлениях, которые уже и сами по себе были праздником.
Среди прочих затей Владимир Васильевич надумал под-
нести гостям шуточный и вместе с тем торжественный ад-«
рес. На большом листе картона скульптор Гинцбург нарисо-
вал пером дачу Стасова, а под рисунком было оставлено
место для текста. Написать приветствие поручили мне —
и притом в самый короткий срок, потому что до прибытия
гостей надо было еще переписать текст и украсить его узор-
ными, золотыми и алыми заглавными буквами.
Не слишком задумываясь, я живо сочинил нечто вроде
величания в старинном стиле под названием «Трем бога-
тырям». По былинному обычаю, первое место занимал у
меня Илья — только не Муромец, а Репин. За ним следовали
173
новые, не былинные имена: Максим Горький и Федор Ве-
ликий — Шаляпин.
Считая, что дело мое сделано, я с чувством облегчения
съехал по перилам крыльца и побежал по песчаным дорож-
кам сада, пересеченным узловатыми корнями сосен, радуясь
нежаркому августовскому солнцу и мягкому ветру, пропи-
танному запахом смолы и вереска. Как вдруг меня снова
позвали в дом — на нижнюю веранду — и опять усадили за
работу. Оказалось, что в тексте у меня пропущен еще один
почетный гость — Глазунов. Как же быть? Ведь теперь уже
нет времени переписать все заново. Но тут на помощь мне
подоспел Владимир Васильевич. Он ободрил меня или, как
сам он выражался, «анкуражировал», и посоветовал при-
бавить к заголовку всего одно слово, а к тексту одну строфу.
И заглавие получилось даже занятнее, чем было: «Трем
богатырям со четвертыим», — а самое величание заверша-
лось теперь строчками, относящимися к Глазунову:
Это брат меньшой, богатырь большой —
Александр-свет Константинович!
Ничего удивительного не было в том, что я забыл упо-
мянуть в своем приветствии одного из самых именитых го-
стей. Больше всего ждал я в этот день встречи с Горьким.
Репина я уже встречал, и не один раз. Да и Шаляпина мне
довелось видеть правда, только издали и в том обособлен-
ном, торжественном мире, каким представлялись мне теат-
ральные подмостки.
А вот Горький бывал в Петербурге редко, и у Стасова
его ждали впервые. Но имя это значило для меня больше,
чем имена других гостей, которые были старше Горького и
возрастом и славой. Да и слава у него была какая-то осо-
бенная. Не только то, что он писал, но и самая фигура его
привлекала всеобщее любопытство, горячее восхищение или
такую же страстную ненависть.
Даже Владимир Васильевич Стасов, всегда отзывчивый
на все сильное и самобытное, далеко не сразу признал его.
На первых порах он отзывался о Горьком сдержанно, слегка
недоверчиво. И не удивительно: это были люди различных
Эпох. Старик Стасов — младший современник Гоголя и
Глинки, человек, который был на четыре года старше Тол-
стого, на шесть лет моложе Тургенева и на двенадцать Гер-
цена, — должен был проделать большую и сложную работу,
чтобы оценить стиль и направление Горького. Он прошел
174
ртот путь и вскоре стал самым усердным читателем, а по-
том и почитателем горьковской прозы.
Читая томики в зеленоватых обложках, он как будто мо-
лодел. Угощал отрывками из Горького всех приходивших к
нему знакомых и незнакомых людей и говорил радостно:
— Какая силища! Какой талант оригинальнейший! Да
ведь это поэт и мыслитель первостатейный под стать
Байрону и Виктору Гюго.
Я слушал Владимира Васильевича и радовался, что в спо-
ре о Горьком он заодно с молодежью. А молодежи Горький
казался самым современным из всех современных писателей.
Его голос был для моего поколения голосом времени — и не
только настоящего, но и будущего.
И вот этот человек, о котором мы столько думали и спо-
рили, сейчас запросто войдет сюда, поднимется по этим сту-
пенькам и будет разговаривать, шутить, слушать музыку
вместе со всеми нами. И может быть, мне удастся разгля-
деть в нем нечто такое, чего я еще не уловил ни в его книж-
ках, ни в толках и пересудах о нем»
Они приехали втроем — Репин, Шаляпин и Горький,
У ворот стасовской дачи затарахтели колеса финских тара-
таек, скрипнула калитка, и в сад вошли, весело разговари-
вая, не три богатыря, а три самых обыкновенных и в то же
время таких необыкновенных человека.
Шутейный церемониал встречи был выполнен во всех
подробностях. Шумно играли туш, если не ошибаюсь, на
Двух роялях. Поднесли адрес. Читать приветствие приш-
лось автору — самому младшему из гостей, подростку в гим-
назической куртке с блестящими пуговицами и резными
буквами на пряжке пояса.
Меня хвалили, пожимали мне руку, обнимали. Только
Горький не сказал ни слова. Да он и вообще-то был не слиш-
ком словоохотлив на первых порах и медленно вступал в
общую беседу.
Я смотрел на всех троих, не спуская глаз. Репин и Ша-
ляпин выглядели нарядно, особенно Шаляпин. Казалось,
скуповатое осеннее солнце освещает его щедрее, чем всех.
1ак светлы были его легкие, словно приподнятые ветром во-
лосы, его открытое, веселое, смелое лицо с широко вырезан-
ными, как будто глубоко дышащими ноздрями и победитель-
ньхм взглядом прозрачных глаз. И одет он был в светлое -=*
175
под стать солнечному дню. Летний костюм ловко и ладно си-
дел на этом красивом человеке, таком большом и статном.
Ни тени нарядности не было в облике Горького. Одет
он был так, как одевается какой-нибудь железнодорожный
мастер или строительный десятник. Наглухо закрытая тем-
ная куртка со стоячим воротником, брюки, вправленные в
голенища мягких русских сапог. Но во всей его фигуре, су-
хощавой и стройной, несмотря на легкую сутуловатость, в
небольшой, хорошо посаженной голове с крутым крылом па-
дающих на висок каштановых волос, в пристальном взгляде
серо-синих глаз, опушенных длинными ресницами, чувство-
валась та подобранность, та целеустремленная и сдержанная
сила, что придает каждому движению человека значитель-
ность, достоинство и даже изящество. Он ничуть не проиг-
рывал рядом с великолепным Шаляпиным, а Репин даже в
своем праздничном светло-сером костюме казался возле него
не то немножко будничным, не то чуть-чуть простоватым.
Как это часто бывало в стасовском доме, весь вечер был
Заполнен пением, музыкой, «каляканьем велиим» — по шут-
ливому выражению Владимира Васильевича. И все время я
невольно посматривал в сторону Горького, прислушивался
к его глуховатому, окающему говору, примечал его особен-
ную усмешку, подчас такую озорную и задорную, словно
он затеял какую-то забавную мальчишескую каверзу.
Это был совсем не тот человек, какого мы знали по
открыткам. Я предполагал увидеть мечтательно-хмурого,
длинноволосого юношу в косоворотке, а предо мною был
зрелый, уверенный в себе человек. Все в нем было для меня
неожиданно: и огромный рост, и этот глухой бас, и спокой-
ная деловитость, с которой он говорил о современной лите-
ратуре, о петербургских журналах, о новом издательстве,
где он был руководителем 6.
Всякий раз, когда мне случалось гостить на даче в Ста-
рожиловке, дело не обходилось без чего-нибудь нового, за-
нятного. Но такого удачного дня, как этот, на моей памяти
еще не случалось. Владимир Васильевич был оживлен и при-
ветлив, как никогда, и, должно быть, именно от этого все
.чувствовали себя удивительно свободно и легко.
Тяжеловесный и очень серьезный на вид Глазунов без
,тени улыбки рассказывал за обедом невероятную историю
о том, как на улице какой-то пьяный принял его однажды
За конку и даже пытался вскарабкаться на империал.
176
Скульптор Гинцбург, маленький, сухонький и необйкно-
венно подвижной человек, показывал в лицах местечкового
портного за работой, извозчика-балагулу, дремлющего с
вожжами в руках, спор двух старух соседок из-за яйца, ко-
торое курица снесла на чужом дворе. Помнится, для этой
сцены ему понадобился платок, чтобы скрыть бородку и
лысину, удлинявшую его и без того высокий лоб.
Весь этот спектакль он разыгрывал с таким юмором,
мастерством, с такой тонкой наблюдательностью, что в памяти
у зрителя оставался каждый жест его маленьких рук, каждое
движение бровей и приспущенных век. Недаром, по расска-
зам очевидцев, Лев Толстой, глядя на него, хохотал до слез
и невольно вторил ему, то собирая морщины на лбу, то ше-
веля губами.
А потом пел Шаляпин. Пел щедро, много, выбирая то,
что особенно любил Владимир Васильевич. Тут были такие
разные вещи, как величавая, по-военному строгая и в то же
время таинственная баллада «В двенадцать часов по но-
чам...», и разухабисто-отчаянный, зловещий «Трепак» Му-
соргского, а вслед за ним рубленая скороговорка «Семина-
риста», повторяющего без смысла и толку латинские ис-
ключения — те самые, что и мне приходилось заучивать на-
изусть в гимназии:
Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis... *
Эта зубрежка постепенно переходила в простодушную,
горькую и вместе с тем комическую жалобу великовозраст-
ного бурсака, сетующего на свое незадачливое житье-бытье:
Вот так задал поп мне таску —
За загривок да по шее!..
И это пел тот же самый голос, в котором еще так не-
давно звенела колокольная медь, которому повиновалась
могучая, мерная поступь призрачных войск, голос, в кото-
ром только что слышалось беснованье вьюги, ее колдовская
песня, заставляющая убогого, пьяного мужичонку плясать
До упаду, а потом убаюкивающая его навсегда.
Может быть, именно в этот вечер я впервые ощутил не
только силу музыки, но и великую власть слова, когда оно
понято до конца и стоит на своем месте, поддержанное всей
широтой дыхания, всей мощью ритма, всей глубиной образа.
* Хлеб, рыба, волос, конец,
Огонь, камень, пыль, пепел... (лат.)
177
Мудрено ли, что у меня чуть не перехватило дух, когда
после шаляпинского пения и музыки Глазунова Владимир
Васильевич вдруг предложил мне прочесть мои стихи.
И все-таки я их прочел. Не помню, что именно, — ведь
с тех пор прошло без малого шестьдесят лет. Кажется, это
был отрывок из пормы Мицкевича в моем переводе да еще
какие-то лирические стихи. Одно только отчетливо запечат-
лелось у меня в памяти. С первых же строк я почувствовал
то серьезное, доброе внимание, которое сразу придало мне
уверенность и позволило овладеть собой.
Когда я кончил, Горький сел со мною рядом, ласково
похлопал меня по руке и стал расспрашивать, что я читаю,
какие книги люблю, откуда взялся и где учусь.
И вдруг я почувствовал, что мне как-то удивительно лег-
ко и просто разговаривать с этим человеком, который еще
вчера был для меня только именем и книгой. С таким при*
стальным вниманием слушал он, слегка пригнувшись ко мне,
мою короткую историю. Можно было подумать, что для него
нет ничего более интересного, чем жизнь мальчика, кото-
рого он увидел впервые.
Но тут в наш разговор вмешался Владимир Васильевич»
Обняв меня за плечи своей большой рукой, он стал подробно
рассказывать Горькому, что в последнее время я часто хво-
раю и Питер мне, по всей видимости, вреден.
Горький задумался, помолчал минутку, а потом спросил
прямо и просто:
— Хотите жить в Ялте? Мы с Федором это устроим.
Верно, Федор?
— Непременно устроим! — весело отозвался Шаляпин
через головы окружавших его людей.
Прошел месяц-другой. И вдруг к нам за Московскую за-
ставу, за Путилов мост, пришли три телеграммы: одна на
имя отца и две — на мое.
Кажется, это были первые телеграммы, полученные мною
в жизни. Обе от Горького из Ялты. До сих пор дословно
помню их текст. Одна состояла всего из нескольких слов»
«Вы приняты ялтинскую гимназию подробно пишу
Пешкова.
Вторая была немного длиннее:
«Выезжайте остановитесь Ялте угол Морской и Аутской
дача Ширяева спросите Катерину Павловну Пешкову мою
жену Пешков»*
178
Телеграмма, присланная отцу, была подписана: «Дирек-
тор Готлиб». В ней сообщалась та же новость, но только в
более официальной форме.
Имя директора было мне уже знакомо. Еще недавно
Этот крупный, осанистый человек с волнистой шевелюрой
преподавал у нас в гимназии латынь.
Итак, все было решено. Оставалось собрать кое-какие
вещи и книжки и пуститься в новое странствование — к Чер-
ному морю. Почему-то в детстве мне казалось, что я увижу
море, только когда вырасту. И вот оно уже на расстоянии
всего каких-нибудь трех-четырех дней от меня. Что ж, может
быть, я и в самом деле уже вырос и только не заметил этого?..
В поезде я почти не отходил от окна. Северные леса
сменились полями и перелесками средней России, и на меня
пахнуло знакомыми с детства местами.
Поезд неутомимо бежал из осени в лето. В белом ка-
менном Севастополе меня впервые ослепили южное солнце
и дробящая его лучи морская синь. Еще несколько часов на
пароходе — настоящем, морском, с двумя палубами, сверка-
ющими свежей краской и медью, — и вот уже перед нами
Ялта: полукруг набережной, многоярусный город, взбираю-
щийся вверх по склонам гор, ржавые кудри виноградников
и кипарисы, похожие на монахов, закутанных с ног до го-
ловы в темные плащи.
Объявляя о своем прибытии сиплым, нестерпимо-пронзи-
тельным гудком, пароход замедлил бег и, весь дрожа, стал
боком-боком подбираться к молу. Винты ого вспарывали
морскую гладь, как бы выворачивая ее наизнанку. Теперь
вместо переливчатой синевы между бортом и молом клу-
билась рваная, белая, шумная пена, блещущая на солнце
цветными искрами.
В пестрой толпе приезжих сошел я по трапу на пристань
и зашагал со своим легким багажом сначала по набережной,
а потом по каменистой улице, идущей вверх. Все здесь было
ново, неожиданно, — словно я не в настоящем городе, жи-
лом, серьезном, деловитом, а где-то среди театральных де-
кораций, праздничных, но временных. Так непохожи были
на все, что я до сих пор видел, эти кружевные железные
ограды, увитые плющом, уже забрызганным багряной кра-
ской осени, белые дачи с широкими балконами, нарядные
сады с плотной, словно металлической, листвой лавров и
Длинными кистями лиловых глициний.
179
Вот наконец и дача Ширяева на углу Морской и Аутской.
Осторожно открыв железную калитку, я оказываюсь пе-
ред домом, сложенным из дикого камня, на площадке, окай-
мленной аккуратно подстриженным густым кустарником с
мелкими жесткими листочками.
Поднимаюсь наверх, и на пороге меня встречает молодая
женщина, легкая, энергичная, с гладко причесанными и все
же пушистыми темно-каштановыми волосами. Лицо у нее
как будто строгое, но губы чуть тронуты милой, приветли-
вой улыбкой, и та же улыбка светится в глубине серо-зе-
леноватых — в темных ресницах — глаз.
Так вот она какая — Екатерина Павловна! В ней нет
ничего кокетливого, нарочитого, дамского. И все-таки она
кажется очень изящной, даже нарядной, несмотря на про-
стоту ее платья и прически.
Пожав мою руку своей небольшой, крепкой рукой, она
ведет меня в дом, весь пронизанный солнцем, морским вет-
ром и сухим ароматом южного сада. Я иду за ней, еще не
догадываясь, что эти несколько шагов ведут меня не только
из комнаты в комнату, но и в другую пору моей жизни —
из отрочества в юность.
Здесь, в горьковской семье, в этом морском городе, до-
велось мне встретить годы, предчувствием которых были
овеяны знакомые нам издавна широкие строчки стихов:
«Над седой равниной моря ветер тучи собирает...»
Сюда вскоре после заключения в Петропавловской кре-
пости приехал и сам Горький, заметно похудевший и от это-
го казавшийся еще выше ростом. В тюрьме он оброс корот-
кой и жесткой рыжеватой бородой и стал чем-то похож на
северного капитана-помора.
Да и весь горьковский дом напоминал в это время ко-
рабль, который еще стоит на приколе, но вздрагивает от каж-
дой волны и все выше поднимается с нарастанием прилива.
Шел девятьсот пятый год — преддверье новой историче-
ской поры, преддверье моей молодости.
СТАТЬИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ
ЗАМЕТКИ. ВОСПОМИНАНИЯ
Театр для детей
«Детский театр» мыслился до сих пор как театр, в кото*
ром участвуют дети. Профессиональных детских театров
(труппа Чистякова1 и др.) у нас было немного. Зато люби-
тельские детские спектакли устраивались часто — в гимна-
зиях, институтах, и в прежние времена, а сейчас еще чаще,
чуть ли не в каждой школе, детском доме и очаге.
О создании особого детского репертуара думали и думают
до сих пор очень мало. В случае надобности берется с запы-
ленной полки какая-нибудь пьеска про зайчиков, фей, гно-
мов или из якобы «детской жизни», в слащавой и фаль-
шивой трактовке. Постановка пьесы носит обыкновенно
все черты любительщины, плохого подражания театру
взрослых.
Но в театре взрослых идет постоянная ломка, постоян-
ные искания. Детский же театр берет грим, бутафорию, за-
навес, бороды, костюмы — как непреложный закон. Если
детские спектакли и напоминают «настоящий театр», то, во
всяком случае, — очень плохой театр, лишенный твор-
чества.
Заученные слова и наклеенные бороды не есть детское
искусство. Это скучно и ненужно, хотя, может быть, и до-
ставляет удовольствие участвующим в спектаклях детям, как
доставляет многим детям удовольствие чтение произведений
Чарской 2.
Если в рисовании или в рукодельной работе нам важ-
нее всего свободное выявление индивидуальности ребенка,
Этого маленького дикаря, в дикости и самобытности ко-
торого таятся неисчерпаемые возможности, то в детских
183
представлениях должна также выявиться самобытная инди-
видуальность ребенка.
В детской жизни есть искусство, весьма близкое к сце-
ническому: это свободная игра. С нее и надо начинать. Ведь
уже трехлетние дети не только «представляют», но и сочи-
няют целые пьесы, играя в лошадки, в поезд, трамвай, по-
жарных и т. д. Такие импровизированные спектакли в ты-
сячу раз интересней и талантливей специально устроенных
спектаклей в гимназиях или детских домах. Посмотрите, —
горят щеки и блестят глаза у ребят, преследующих изворотли-
вого «разбойника», или ведущих войну,, или бегущих тушить
воображаемый пожар, — это ли не вдохновение, это ли не
искусство, хотя тут нет ни костюмов, ни бород, ни бутафо-
рии. Детям доступно высшее искусство — импровизация. Не
заменяйте ее там, где не надо, нарочитостью и скучной под-
готовкой.
Автору этих строк случилось наблюдать свободную дет-
скую игру, представлявшую собою уже не зачатки драма-
тического искусства, а вполне развитое сценическое дей-
ствие.
В Англии, в свободной школе Ф. Ойлера (в Тинтерне^
Уэльс) руководители часто читали детям старые легенды,
сказания и современные повести о короле Артуре и рыцарях
Круглого стола3. Дети, увлеченные рыцарским эпосом, обра-
зовали свой собственный «Круглый стол» и распределили
между собой имена важнейших рыцарей. Распределение ро-
лей было как нельзя более удачно. Роль сэра Ланселота, ве-
ликодушного, безупречного и скромного рыцаря, была дана
мальчику, превосходившему всех других товарищей прямо-
той, честностью и выдержкой характера. Другому мальчику,
пылкому и отважному, было присвоено имя рыцаря Тристана
и т. д. Как в мистериях, происходящих в Обераммергау4,
роли э^и были постоянными и могли передаваться другим
мальчикам только в случае недостойного поведения носителя
славного имени. Я наблюдал эту игру в течение целого лета.
Она неизменно происходила на лесной поляне. Вначале
игра была совершенно произвольной и несогласованной. По
мере ее развития вырабатывались постоянные формы, уста-
навливались характеры, вводились костюмы (панцири,
шлемы и т. п.), случайные слова заменялись постоянными
репликами, определялся общий режиссерский план — игра
естественно и незаметно переходила в театральное пред-
ставление.
184
Другой пример игры-пьесы я наблюдал в детской коло-
нии на берегу Онежского озера в Олонецкой губернии.
Среди воспитанников колонии был юноша пятнадцати лет,
испытавший, несмотря на свой юный возраст, много пре-
вратностей судьбы. Чуть ли не с двенадцати лет он работал
на дальнем севере при постройке дороги, заболел цингой и,
подобранный кем-то на улице, попал в колонию — не то
в качестве воспитанника, не то в роли технического помощ-
ника.
Рассказами о своей жизни, о работе на железной дороге,
на заводе, у подрядчика он до того увлек детей, что они ре-
шили изобразить «Жизнь Никифора» (так называлась им-
провизированная пьеса) в лицах. На небольшой площадке во
дворе колонии были условно обозначены деревня, где ро-
дился Никифор, рядом с ней железная дорога, тут же За-
вод и т. д.
Никифор играл роль своего отца, а роль Никифора играл
другой мальчик. Деревенские сцены были изображены
с большим реализмом: полати, на которых спали отец с ма-
терью (роль матери играл мальчик), полевые работы, брань
между родителями Никифора, избиение сына, его бегство
и т. д. Так же реалистично были изображены и железная
дорога и фабрика.
Таков подлинный детский театр. Его можно развивать,
но, конечно, не путем вмешательства взрослых в игру, а по-
средством общего культурного развития детей, которое будет
естественно обогащать содержание их игры. Если дети увле-
каются «Пинкертоном»5, они, естественно, будут играть в
сыщиков.
Если вы их увлечете более благородными и значитель-
ными сюжетами, содержание игры будет иное. Если вы
разовьете их музыкальные способности, разовьете их художе-
ственный вкус, дадите им представление о пластике и
ритме, игра обогатится пением, грацией движений — всем
тем, чего, увы, недостает и рутинному театру взрослых.
В деле художественного воспитания большое значениё
может иметь не детский театр, а «театр для детей», то есть
такой театр, в котором участниками являются взрослые,
а зрителями дети.
Я решаюсь высказать эту мысль (которая многим педа-
гогам покажется рискованной, т. к. она отводит детям пас-
сивную роль) только после того, как я высказал свой взгляд
На развитие подлинного детского театра, возникающего из
185
свободной игры. Но п этот свободный детский театр — не
есть искусство, могущее служить образцом художественного
воспитания, как не может служить образцом музыкального
искусства детская игра на рояле. Для целей художественного
воспитания нужен серьезный, а не игрушечный театр. Та-
ким театром может быть «театр для детей», если он удовлет-
воряет следующим строгим требованиям.
Прежде всего должны быть тщательно подобраны актеры.
Не надо забывать, что все фальшивые интонации, все неле-
пые и развязные движения, которые так свойственны зна-
чительной части актеров-профессионалов, могут быть легко
усвоены детьми. У актера театра для детей должна быть спе-
циальная подготовка в области пластики, музыки, понимав
ния грима и костюма.
Актер должен быть достаточно живым и гибким для
того, чтобы чувствовать связь с непосредственной в смысле
ощущений и восприятий аудиторией.
Конечно, таких актеров подобрать нелегко. Еще труднее
подобрать репертуар. Прежде всего надо отказаться от боль-
шей части существующего ныне детского репертуара. Не
надо забывать, что лучшие сказки, как, например, Андер-
сена 6, Уайльда7, народные сказки, не создавались специаль-*
но для детей, как не для них были написаны «Дон-Кихот» 8,
«Робинзон Крузо»9, «Гулливер»10, «Хижина дяди То-
ма»и,— все те великие произведения, которые будили и
воспитывали мысль ребенка на протяжении многих поколе-
ний. Ребенку нужен не суррогат искусства, а настоящее
искусство, — конечно, доступное его пониманию. Помимо
того, ребенку более, чем взрослому, нужны в искусстве зна-
чительные, многообъемлющие образы, приближающиеся
к символам. Взрослый, более или менее знакомый с жизнью
в целом, может довольствоваться случайными образами, от-
дельными деталями, отдельными штрихами. Ребенок в каж-
дой сказке, в каждом художественном произведении хочет
увидеть всю жизнь, он не развлекается, а учится. Поэтому
театр для детей должен давать пьесы, заключающие в себе
большие идеи, — конечно, не в скучной, не в тенденциозной
форме, а в живых образах.
Готовых пьес мало. Лучше всего начать с инсценировок
сказок, рассказов, повестей. Прекрасным материалом могут
служить русские народные сказки, среди которых многие
содержат прекрасный для сценической обработки материал.
186
Борьба противоположных начал, столь обычная в сказках,
является в то же время основой, на которой строится всякая
драма. Глубоким драматизмом полны такие русские сказки,
как «Финист — Ясный Сокол», «Василиса Прекрасная» и др.
Характер постановок в театре для детей должен опреде-
ляться одним принципом: поменьше связывать фантазию
Зрителя реалистическими подробностями. Ребенок больше лю-
бит палку, изображающую лошадь, чем искусно сделанную
игрушечную лошадь; смутное подобие паровоза, состоящее
из куска дерева и гвоздя в виде трубы, он часто предпочи-
тает модели паровоза. Он ищет работы для своей фан-
тазии и отказывается от тщательно разжеванной умствен-*
ной пищи. Поэтому и в постановках надо избегать реали-
стических декораций. Покойный художник С. В. Воинов12
сделал для нас ряд макетов условных декораций-ширм, при-*
менимых к различным постановкам.
Каждая из декораций сама по себе не имела определен-
ного значения. Это была архитектурная фантазия: стены,
выступы, зубцы, нечто напоминающее башни, купола и т. д.
При различных перестановках отдельных ширм создавалось
впечатление то крепости, то монастыря, то улицы старин-
ного города и т. д. Это был очень интересный опыт, по-*
пытка освобождения художника от слишком определенного,
иллюстративного, прикладного характера декоративного
искусства.
Но и в декорациях, написанных для определенной пьесы
и по специальному заданию, также может проявиться сво-
бодная фантазия художника. В одной из виденных мною по-
становок лето было изображено кустами гигантской малины
(каждая ягода величиною с арбуз) и подвешенными на фоне
темных сукон большими пестрыми бабочками из картона.
Кажется, больше ничего и не было, но ощущение лета, кото-*
рое требовалось по пьесе, было дано.
«Театр для детей» является новым делом. Поэтому опре-
делить его сущность сразу, в нескольких словах, невозмож-
но* В ближайших выпусках журнала мы еще вернемся к не-
му* Пока же скажем несколько слов о существующем
У нас, в области, театре для детей.
Существует он полтора года. За это время было постав-
лено около двадцати новых пьес. Наиболее крупные из них:
«Петрушка» (народная кукольная комедия в обработке),
«Финист — Ясный Сокол», «Аленький цветочек» (по Акса-
187
кову) 13, «Летающий сундук» Андерсена; намечены к поста-
новке «Молодой король» Уайльда, «Золотой петушок» (по
Пушкину) и др. К десяти пьесам написана специальная му-
зыка. Спектакли ставятся четыре раза в неделю: один для
дошкольного возраста, два для младшего и среднего школь-
ного возраста и один для старшего.
Делаются попытки наблюдения впечатлений детей.
«Театр для детей» является частью краснодарского «Детского
городка», объединяющего различные стороны внешкольной
работы среди детей.
Для того чтобы работа театра вышла за пределы «Дет-
ского городка» и могла послужить если не примером, то хотя
бы материалом для тех, кто интересуется подобными начи-
наниями, областной Отдел народного образования предпри-
нимает в настоящее время издание «Сборника пьес театра
для детей» 14.
ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ
Впервые о Горьком я узнал в 1901 году от гимназистки
восьмого класса Лиды Лебедевой. Ей было семнадцать лет,
а мне двенадцать. Я очень уважал Лиду Лебедеву и потому
отнесся к новому имени с полным доверием.
У Лиды Лебедевой был в руках томик в зеленоватой
обложке. Книжка была непохожа на те, что мы брали
в гимназии. Те были в переплетах, заклеенные и трепан-
ные. От них пахло библиотекой, а от эт°й книги — свежей
типографской краской. И печать в ней была свежее и чер-
нее, чем в библиотечных книгах.
В Воронежскую губернию, в наше захолустье, проникла
новая, литература.
В эту пору жизни мы были уверены, что авторы книг —•
все без исключения покойники. Вот только один Лев Тол-
стой остался. О писателях говорили с единодушным и при-
вычным почтением. Юбилей Пушкина отслужили у нас
в гимназии как молебен. Биографии казались предани-
ями.
Но о Горьком говорили не так, как о других писателях.
Нго можно было и совсем «не признавать». Высокий, краси-
вый студент в серой шинели, приезжавший к нам на лоша-
дях из Бобровского уезда, заявлял просто, что Горький—<
«босовня».
В окошке табачного и писчебумажного магазина появи-
лись первые открытки с портретом Горького. Косоворотка,
189
длинные прямые волосы; лицо скуластое, хмурое и меч-
тательное. Неужели это и есть Горький? Похож на
послушника или на молодого странника. Должно быть, он
небольшого роста, стройный, застенчивый.
А через два года я встретил живого Горького. Это было
уже не в Воронежской губернии, а под Петербургом, в Пар-
голове.
Я гостил летом на даче у Стасовых. В одно из воскресе-
ний был большой съезд гостей. По этому случаю я нарядился
в свой гимназический мундир с широким белым галуном и
большими светлыми пуговицами. Был я моложе всех со-
бравшихся лет на 40, 50, 60 и потому чувствовал себя
немножко неловко.
Наш хозяин, Владимир Васильевич Стасов, старик боль-
шого роста, в красной рубахе и в зеленых сафьяновых са-
погах, встречал на крыльце гостей. Гости были все знамени-
тые. Благодушный Репин, говоривший замогильно-глухим
голосом. Глазунов, молодой, но уже грузный (в этот день
Глазунов рассказывал, как однажды ночью на улице пьяный
мастеровой принял его за конку). Ждали Шаляпина, ста-
рого знакомого Стасовых, с Горьким.
Чухонская таратайка на высоких колесах подвезла
к двухэтажному деревянному дому их обоих.
Я был очень встревожен, и в голове у меня был туман.
Помню, вначале у меня в сознании оказалось два Мак-
сима Горьких. Один — тот отвлеченный, смутный, занимаю-
щий большое пространство и пахнущий типографской
краской. А другой — вот этот человек, имеющий право на-
зывать себя Максимом Горьким.
Было странно подумать, что весь Горький у нас и что
с приездом его к нам никакого Горького за стенами этого
дома не осталось. Будто к нам в дом привезли с площади
известный памятник и площадь опустела.
Горький оказался человеком огромного роста, слегка
сутулым и совсем не таким, как на открытке. Вместо блузы,
на нем была короткая куртка, наглухо застегнутая. Волосы
были коротко острижены. Ничего монастырского или стран-
нического в настоящем Горьком не было. Он был похож,
как мне тогда показалось, на солдата. Глаза мне понрави-
лись — серо-синие, с длинными ресницами. Ресницы прида-
вали взгляду необыкновенную пристальность.
130
Горький стоял в дверях и говорил неожиданным басом.
— Я провинциал, — говорил он Стасову застенчиво и
угрюмо.
«О» в ртом слове «провинциал» звучало так, будто на
нем ударение.
Это еще был нижегородский Горький.
Весь вечер я держался вдали от Горького. Да и о чем
мне было говорить с ним? Если бы он оказался таким сим-
патичным, как на открытке, я бы, пожалуй, подошел к нему
и заговорил. А то вдруг — этакий рост, этакий бас, да еще
волком глядит. Нет, тут не заговоришь.
Но я следил за ним из угла, пока Глазунов играл на роя*
ле, пока пел Шаляпин. Горький разговаривал мало и часто
хмурился. Когда он улыбался, лицо его делалось немножко
хитрым и задорным, как у нашего слободского парня. Будто
он затеял мальчишескую каверзу.
Только к концу вечера, после того как я продекламиро*
вал свои детские стихи, я очутился рядом с Горьким в углу.
Мои друзья рассказывали Горькому, что я болен и мне необ*
ходимо уехать на юг.
Горький нахмурился, подумал, а потом сказал уверен*
но и просто, как человек, который все может сделать:
— Хотите жить в Ялте? Ладно, я это устрою.
Через неделю я получил телеграмму из Ялты:
«Вы приняты ялтинскую гимназию приезжайте спро*
сите катерину павловну Пешкову мою жену Пешков».
Другая телеграмма — на имя моего отца:
«Ваш сын принят четвертый класс ялтинской гимназии
директор готлиб».
С тех пор прошло двадцать пять лет, но я помню обе
телеграммы от первого до последного слова.
Пешков. Мне казалось, что эта скромная фамилия су*
Шествует для того, чтобы служить завесой, скрывающей сия-
ние знаменитого имени «Максим Горький». Ведь неловко же
всегда именоваться громким титулом. Директор Готлиб —•
какой, должно быть, сердечный человек этот директор, по*
сылающий телеграмму только для того, чтобы обрадовать
неизвестного ему мальчика!
Обе телеграммы с моря. Про море я читал у Роберта
•Дьюиса Стивенсона 1 и почему-то думал, что к морю я по*
Паду, только когда вырасту.
191
И вдруг — какой неожиданный поворот событий.
Я один — без провожатых — еду на берег моря и посылаю
с пути гордые и восторженные письма своим пятерым
братьям и сестрам.
Вот как далеко залетели мы, воронежцы. К Черному
морю катим, к Максиму Горькому, к директору Готлибу.
В Ялте меня ласково встретила Екатерина Павловна
Пешкова, о которой говорилось в телеграмме. С ней бы-
ло двое ребят, шестилетний Максим и двухлетняя Ка-
тюша. Это была небольшая, но дружная и веселая семья.
Жили они на даче Ярцева, в белом доме на горе Дарсан.
Народу был у них всегда полон дом. То и дело грели са-
мовар.
Здесь я прожил года полтора. Близился 1905 год. На да-
че Ярцева я узнал, что значит «массовка», и впервые потро-
гал холодный и плоский браунинг, оружие тогдашних рево-
люционеров. Постоянно появлялись у нас незнакомые люди,
вроде студентов, только более серьезные и занятые, — аги-
таторы и организаторы. Они были у нас как у себя дома:
подолгу спорили и курили за неурочным чаем. Но, бывало,
не успеешь как следует познакомиться с приятным челове-
ком, как он уже исчезает, а. вместо него появляется другой.
На свиданье к ним приходили снизу из города рабочие —
отчаянная молодежь (помню трех Петров, всегда готовых
в бой).
Все эти люди были так не похожи на обычных ялтинцев.
Ялтинцы — это грустные и одинокие чахоточные, лежавшие
на верандах, и та нарядная публика, которая ела мороженое
в кондитерских и скакала на татарских лошадях по набереж-
ной.
Вокруг дачи постоянно шныряли шпики. Часто у нас
в доме по ночам лихорадочно пересматривали и уничтожали
письма в ожидании обыска.
Однажды рано утром в комнату вбежал маленький Мак-
сим и отрывисто, как его отец, сказал:
— Там какой-то дяденька... кажись, генерал пришел.
— Не генерал, а полицейский пристав, — прозвучал из
передней вежливый голос.
Но, несмотря на все бедствия и угрозы, на даче Ярцева
люди жили легко и бодро. Всем было просторно, всем
хорошо.
192
И свои, и чужие чувствовали, что всем живется так
славно потому, что в этом доме хозяйка — Екатерина Пав-
ловна Пешкова, такая молодая и приветливая, такая строгая
и молчаливая.
Алексей Максимович приехал в Ялту после своего сиде-
ния в Петропавловской крепости. Он пожелтел, осунулся и
отпустил небольшую бороду — жесткую и рыжеватую.
Вокруг него роем зажужжали люди всех званий, занятий,
возрастов.
Помню его высокого, в широкополой черной шляпе,
с палкой в руке. Он идет по пыльной белой дороге в полдень,
когда нет тени. Всюду за ним следуют люди. Любопытные.
Они показывают пальцами и говорят:
— Это Максим Горький.
И про меня:
— Это сын Максима Горького.
Таких сыновей, как я, у Горького было довольно много.
Однажды он пришел ко мне и сказал:
— Вот что. У меня есть для вас два ученика. Хорошие
ребята. Такие великолепные круглые затылочки. Пришли
ко мне учителя просить. Я их послал к вам.
На другой день явились маленькие стриженые ребя-
тишки. Я прежде всего посмотрел на их гладкие, круглые
Затылки, о которых говорил Горький.
— Нас к вам Максим Хоркий прислал, — сказали ре-
бята, — он велел, чтобы вы нас учили.
В одном из них Горький не ошибся: он действительно
хотел учиться.
А другой оказался дрянным мальчишкой. На уроках он
издевался надо мной, строил рожи, показывал язык, нарочно
ставил кляксы на своих и на моих тетрадях.
Из любви к Горькому я долго терпел обиды и по-
ношения, но наконец не выдержал и прогнал своего му-
чителя.
После этого он несколько дней бегал за мной по улице и
кричал мне вслед:
— Максим Хоркий — арештант!
Горького тогда уже в Ялте не было. Скоро уехала и его
семья. Исчезли и таинственные революционеры. Остались
в Ялте одни чахоточные.
7 С. MapuiaKt т. 6 193
А спустя некоторое время директор Готлиб — тот самый,
что послал телеграмму, — вызвал меня к себе и скорбно
сказал:
— Знаете, голубчик, генерал Думбадзе намерен вас вьь
слать из Ялты. Лучше бы вам самому уехать, чтобы вас не
арестовали. Только уезжайте не пароходом, а омнибусом.
Это безопаснее.
На другой же день рано утром я проехал по пустынной
Ялте в тесном омнибусе. Я сидел у окошка, низко нагнув
голову, чтобы меня не увидели с улицы. Так я покинул
Ялту, в которую когда-то въехал триумфатором.
За что рассердился на меня генерал? Вероятно, за
Горького.
Так закончилась сочиненная Горьким необыкновенная
история одного воронежского мальчика.
О БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ*
1. КНИГА, КОТОРАЯ ВОСПИТЫВАЕТ
БУДУЩЕЕ
Вопрос о детской литературе поставлен в ряду первых и
важнейших вопросов на Первом Всесоюзном съезде писа-
телей. И это, конечно, недаром. Книги, которые воспиты-
вают наше будущее, заслуживают первоочередного вни-
мания.
У наших портов и прозаиков есть все, что нужно для со-
здания замечательной сказки, великолепного фантастиче-
ского романа, героической эпопеи, какой еще не бывало.
Каждый день исправно поставляет нам героические сюжеты.
Сюжеты можно найти и над землей, и под землей, и в шко-
ле, и в поле, и в настоящем, и в прошлом, и в будущем, по-
тому что будущее нам открывается с каждым днем, а па
прошлое мы смотрим новыми глазами. Как ни высоки герои-
ческие дела сегодняшнего дня, — завтра их обгоняют дру-
гие, еще выше. Сегодня — это первый прыжок парашю-
тиста сквозь облака, завтра — беспримерный по стойкости
поединок подсудимых с фашистскими судьями.
Юный читатель любит молодых героев. Вспомните, как
увлекались мы когда-то подвигами юного Роланда1 и при-
ключениями пятнадцатилетнего капитана из повести Жюля
* В основу этой статьи положен доклад, прочитанный на
I Съезде советских писателей. (Прим, автора,)
7* 195
Верна2. А разве мало у нас молодых героев, чьи биографии
кажутся поистине сказочными? Мало ли у нас водителей
кораблей, самолетов, мало ли замечательных людей, прошед-
ших подлинно героический путь от беспризорщины военных
лет до командных постов в науке, технике, искусстве?
В нашей стране может возникнуть превосходная детская
литература еще и потому, что у нас превосходный читатель.
Найдите другого такого читателя, который был бы способен
отшагать десять километров туда и десять обратно, чтобы
принести из районной библиотеки «стоящую», как он гово-
рит, «книжечку».
У нас растет сильное и одаренное поколение. И писать
детские книжки — великая честь для наших литераторов.
2. «КОРЕНЬ УЧЕНИЯ ГОРЕК...»
Такой съезд, как наш, был бы немыслим в дореволю-
ционной России.
А серьезный разговор о детской литературе на съезде
писателей — еще более беспримерное явление.
Детскую литературу в годы, непосредственно предше-
ствовавшие революции, принято было считать делом компи-
ляторов, маломощных переводчиков и пересказчиков.
В молодости я знал дюжего человека с Волги, надорвав-
шего в Питере свое здоровье беспробудным пьянством и
ядовитым самолюбием. Этот человек носил рыжую шляпу,
рыжие сапоги, редко брился и сохранял на лице горькую
мизантропическую улыбку неудачника. Про него говорили,
что он пишет детские книжки, но сам он этих книжек ни-
кому из нас не показывал. Помню, только однажды, в по-
исках завалявшейся трешки, он вытащил нечаянно из кар-
мана несколько измятых книжек в цветных обложках с кар-
тинками. Это был ремесленник, проклинавший свое бездо-
ходное и бесславное ремесло.
Помню и другого пьяницу, талантливого и самобытного
математика, который все ночи напролет пил крепкий чай,
задыхался в табачном чаду и писал для детей книги, кото-
рые назывались «В царстве смекалки».
А еще были дамы. Дамы не пьянствовали, а очень серьез-
но, аккуратно и систематично писали книжку за книжкой
из институтской и псевдодеревенской жизни или пере-
краивали на русский лад заграничные повести идиллически*
196
семейного характера. Впрочем, иногда они брались и за на-:
учно-популярные темы, и любознательная французская де-
вочка Сюзанна превращалась у них в русскую Любочку, су-
ществующую только для того, чтобы задавать бесчисленные
вопросы3.
Настоящие литераторы редко занимались писанием книг
для детей или занимались между делом.
Правда, Лев Толстой подбирал и сам сочинял детские
сказки и рассказы, до сих пор служащие образцами мастер-
ства, простоты и содержательности4. Но Толстой был не
только великий писатель, но и замечательный педагог.
От времени до времени и другие литераторы сочиняли
рассказы для детей, но то, что писало большинство беллет-
ристов, было, по выражению Чехова, не детской, а «со-
бачьей» литературой (дескать, только о собаках и писали).
Сказки Толстого, сказки Горького5 и Мамина-Сибиря-
ка6, рассказы Куприна7, стихи Блока8 да и все то лучшее,
что шло в детскую литературу из русской и мировой клас-
сики и фольклора, — заглушалось сорной травой детского
чтива. Если бы в те времена мог состояться Всероссийский
съезд писателей и если бы — что уже совершенно невероят-
но! — на нем был поставлен вопрос о детской литературе, —
доклад об этой литературе должен был бы читать счастли-
вый автор «Княжны Джавахи» и «Записок институтки» —
Лидия Чарская или же те безымянные переводчики и пере-
сказчики, которые печатали под грубо размалеванными кар-
тинками такие стихи:
Мальчик маленький, калека,
Искаженье человека...
или:
Любит японочка рыбки поесть,
Любит и удит она.
Стоит ей только у речкй присесть,
Вазочка мигом полна.
Стихи Блока, печатавшиеся в детском журнале «Тропин-
ка» 9, стихи Аллегро-Соловьевой10, Саши Черного11 и Ма-
рии Моравской тонули в массе пестрой макулатуры, неустан-
но фабриковавшейся предприимчивыми издателями.
Радикально настроенные просветители и педагоги тоже
издавали книги, но они не могли конкурировать с коммер-
сантами издательского дела. Коммерсанты знали, на какого
червячка клюет читатель-ребенок. Самый маленький чита-
197
тель (или, вернее, его мамаша) клюет на розовые картинки,
изображающие ангелочков-детей и кудрявых собачек.
Девочка постарше клюет на Чарскую, а ее брат-гимназист
клюет на Пинкертона.
Но не в одной издательской демагогии тут было дело.
Стихи для детей, написанные поэтами, часто не могли вы-
держать конкуренции с ходкими стишками.
Порты писали в детских журналах:
Весело цветики в поле пестреют.
Их по утрам освежает роса.
Днем их лучи благодатные греют,
Ласково смотрят на них небеса...
А ребятам нужно было действие, нужен был песенный и
плясовой ритм, нужен был юмор.
Все это они находили в бойком переводном «Степке-
растрепке» 12, в смешных, хоть подчас и жестоких книжках
Вильгельма Буша о Максе и Морице, о Фрице и Франце 13,
в кустарных переводах замечательных английских народных
песенок («Гусиные песенки») 14.
Пожалуй, первым или, во всяком случае, одним из пер-<
вых предреволюционных писателей, сочетавших в своих
стихах для маленьких эти обе борющиеся линии — литерал
турную и лубочную, — был Корней Чуковский 15. Стихи его,
связанные с литературными традициями и в то же время
проникнутые задором школьной «дразнилки», считалки или
скороговорки, появились вслед за яростными критическими
атаками, которые он вел на слащавую и ядовитую роман-
тику Чарской и ей подобных.
«Убить» Чарскую, несмотря на ее мнимую хрупкость и
воздушность, было не так-то легко. Ведь она и до сих пор
продолжает, как это показала в своей статье писательница
Е. Я. Данько, жить в детской среде, хотя и на подпольном
положении 16.
Но революция нанесла ей сокрушительный удар. Одно-
временно с институтскими повестями исчезли с лица нашей
земли и святочные рассказы, и слащавые стихи, приурочен-
ные к праздникам. Правда, предпринимались неоднократные
попытки сохранить в советской литературе ангелочков под
видом образцовых девочек и мальчиков из детского сада.
Не раз пытались у нас декорировать мещански уютный до-»
машний уголок доброго старого времени под стиль «крас-
ного уголка».
198
Но лучшая часть нашей детской литературы, возникшей
после революции, рассчитана на ребят, растущих не в теп-
лице, а на вольном воздухе.
Эти ребята живут, а не только готовятся жить. Поэтому
их нельзя кормить сухой дидактикой, нравоучительной ли-
тературой, которой питались в детстве их бабушки и де-
душки, твердившие в виде утешения старинную пословицу
схоластической школы: «Корень учения горек, а плод его
сладок».
Для дедушек и бабушек во времена их детства мировая
история начиналась с Адама, а историческая беллетристика
охватывала период от «Аскольдовой могилы» до «белого
генерала» 17 — и больше напоминала пышно-декоративные
оперы и феерии, чем романы, повести и рассказы.
Мы должны, конечно, дать нашим ребятам прошлое,
даже далекое прошлое, начиная с пещерного человека, но
вместе с тем мы хотим показать им жизнь и с другого кон-
ца — с нынешнего, а то и с завтрашнего дня.
Для того чтобы показать им жизнь и в настоящем и
в прошлом, а не только бездушную схему жизни, мы привле-
каем к работе над детской книгой тех, кто сохраняет па-
мять детства и одарен поэтическим воображением.
Не только повести о людях должны делаться мастерами
художественного слова, но и книги о зверях, о странах,
о народах, даже книги по истории техники.
Это не значит, что все авторы детских книг, и художест-
венных и научных, должны быть профессиональными пор-
тами и беллетристами. Но для того, чтобы довести книгу до
воображения ребенка, а не только до его сознания, человек,
пишущий книгу, должен владеть конкретным образным
словом. Вспомните путешественника В. К. Арсеньева, ни-
когда не принадлежавшего к цеху писателей, но оставив-
шего и детям, и взрослым книгу, которая является образцом
художественно-документальной прозы («В дебрях Уссурий-
ского края», «Дереу Узала») 18.
Мы уверены, что среди наших ученых, изобретателей,
инженеров, красноармейцев, моряков, машинистов, охотни-
ков, летчиков найдется достаточно людей, одаренных наблю-
дательностью, памятью и воображением. Эти люди сумеют
передать детям огромный опыт, накопленный старшими
поколениями, — опыт, часто неведомый профессиональным
литераторам.
199
Чем старше ребенок, тем меньше нужна ему специфи-
чески детская книжка. Ведь почти вся наша литература с ее
широкими воспитательными задачами может быть доступ-
на старшим школьникам. Они зачитываются «Детством»
Горького, читают Фадеева, Фурманова, Николая Остров-
ского, Шолохова, Толстого, Сейфуллину, Новикова-Прибоя,
читают наших поэтов 19.
Но рядом с «Детством» Горького и «Дебрями Уссурий-*
ского края» Арсеньева им нужны «Том Сойер» Марка Тве-
на20, Жюль Верн, «Р. В. С.» и «Школа» Гайдара, «Пакет»
и «Часы» Пантелеева21, «Морские истории» Бориса Жит-<
кова22, повести Л. Кассиля23, сказочно-реалистическая дет-
ская пьеса Евгения Шварца24 и Шестакова25. Любопытную
просьбу высказывают ребята в письмах к Горькому: они про-
сят написать продолжение к повести Смирнова «Джек Вось-
меркин» 26.
Ребятам нужна художественно-научная, географическая,
историческая, биологическая, техническая книжка, дающая
не разрозненные сведения, а художественный комплекс
фактов.
Такая художественно-научная литература для детей
у нас уже создается. Ее читают не только у нас, но и за ру-
бежом, переводят и в Америке, и во Франции, и в Японии,
и в Индии, и даже в маленькой Исландии.
Книжкам Ильина, Паустовского27 и других выпала на
долю почетная задача рассказать нашей и зарубежной моло-
дежи о пятилетке, о социалистическом строительстве. На-
писанные для детей, рти книги оказались увлекательным
чтением и для взрослых.
В этом одна из типичных черт нашей литературы для
школьников. Ее читают и дети и взрослые.
3. «ПОКОРОЧЕ, ПОЯСНЕЕ, ПОПОНЯТНЕЕ,
ПОСЛОЖНЕЕ»
В нашей стране к детям относятся хорошо.
Дети для нас — не предмет утомительных забот и не-
винных семейных радостей. Это — люди, которым пред-
стоит много сделать и которых для этого надо хорошо под-
готовить.
Что можем сделать для подготовки нового человека
мы — не педагоги, не инструктора физкультуры, а литера-
200
торы — прозаики и порты? Казалось бы, ответ простой: дать
побольше хороших книг. Ведь ребята — это самые усердные,
самые постоянные читатели. Они читают не на сон гряду-
щий, не в амбулатории в ожидании зубного врача, не в вы-
ходные дни, а ежедневно — так же, как обедают и ходят
в школу.
Вы можете смело спросить любого школьника, что он
сейчас читает. Он ответит вам: «Дочитываю Фурманова и
перечитываю Жюля Верна». А попробуйте задать такой же
вопрос соседу по квартире и даже своему собрату писателю.
Не знаю, как сосед, а собрат писатель по большей частй
перечитывает самого себя, а читает лишь своих ближайших
друзей или соперников.
Советский школьник, и городской и деревенский, это не
просто читатель, это — страстный охотник за книгами.
В последнее время мне пришлось заняться изучением
множества детских писем, полученных М. Горьким со всех
концов нашего Союза. Часть этого материала была опубли-
кована в «Правде» и в альманахе «Год Семнадцатый» *.
Здесь же мне хотелось бы только установить сущность
этих требований — тот любопытный наказ, который дают
писателям советские ребята.
Отвечая М. Горькому на его вопрос, какая книга им
нужна, ребята со свойственной им буквальностью ждут, что
через два-три месяца, самое позднее — через полгода, к ним
придет по почте интересная толстая книга в толстом пере-
плете, в двух частях, со многими рисунками.
«Я очень люблю читать, но хожу-хожу, прошу-прошу
везде, и только очень редко удается мне достать интересную
книжку. Почему в библиотеке все дают тоненькие, рваные,
грязные книжки, плохо напечатанные, с безобразными ри-
сунками? Я люблю толстые, красивые книжки. Когда возь-
мешь такую, так спокойно и приятно становится, что на-
долго читать хватит и не надо опять просить. И знаешь, что
интересно будет, а не наспех писатель писал. Еще мне
очень хотелось бы, чтобы каждый ученый нашей страны
описал бы попроще то, над чем он работает, чтобы нам по-
нятно было. Это нам очень интересно и нужно...»
Лозунг «Дайте толстую книгу» проходит красной нитью
через множество писем. Но дело тут не в одной толщине.
* Речь идет о статье «Дети отвечают Горькому». (Прим, ав*
201
Вы подумайте, какой пыткой может быть для читателя тол-
стая, но скучная книга! А маленькие — те даже пишут: «Мы
любим тонкие книжки с большими буквами, потому что
толстую читаешь-читаешь и соскучишься».
Говоря о толстой, или о длинной, или о подробной книге,
старшие ребята хотят, видимо, одного: чтобы в книге была
Законченная эпопея» целая человеческая жизнь, со всеми
событиями, поражениями и победами.
Шесть пионеров из Ярославля пишут:
«Мы читаем много. Когда меняем в библиотеке книги,
то спрашиваем и выбираем все потолще, так как тоненькую
нам не хочется читать, потому что иногда жаль бывает рас-
ставаться с героем, которого мы уже успели полюбить. Мы
сердимся на писателя и думаем: что заставило его так
скоро расстаться с показанным им героем?
Наш наказ писателям:
1) Пишите большие книги, чтобы выведенные вами ге-
рои жили долго-долго.
2) Пишите о том, как дружба и хорошие примеры ме-
няют человека.
3) Напишите о жизни революционеров и изобретателей
побольше книг».
А вот наказ гораздо короче — от деревенского мальчика
со станции Дебессы:
«Алексей Максимович, статейку вашу я прочитал и ду-
маю, какие книги интересные. И придумал: 1) про всяких
зверей, 2) про диких всяких птиц, 3) и про всякие деревья.
И всё по одной книге».
Отсюда совершенно ясно, что ребята заботятся не только
о «длине» и «толщине» книги, но и об ее законченности и
полноте. Читатель со станции Дебессы не хочет, чтобы звери
были перемешаны с птицами и деревьями. Он боится, что
книжка от этого толще не станет, а зато на долю птиц или
на долю деревьев, чего доброго, придется меньше страниц,
меньше рассказов, меньше сведений.
Наш читатель хочет обеспечить себя книгой, по крайней
мере, «на неделю». Он читает непрерывно и поэтому лю-
бит большие книги и серии книг. Но его увлекает не самый
процесс чтения, он ничуть не похож на гоголевского Пет-
рушку, который не интересовался содержанием книги,
а только радовался, что «вот-де из букв вечно выходит
какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает, что и
Значит».
202
Дети читают внимательно, — пожалуй, внимательнее
пас, взрослых. К содержанию книг они предъявляют свои
особые требования и умеют черпать из книг новый для
себя опыт.
Послушайте, что дала им одна только книга — известная
книга В. К. Арсеньева «Дереу Узала».
«Мы познакомились, — пишут пионеры, — с жизнью Ус-
сурийского края, узнали повадки многих животных, птиц,
внешний вид их, окраску, узнали много новых слов. Многие
места в книге заставляли нас волноваться и тревожиться за
жизнь путешественников».
Вот чего ждут дети от книги — и новых сведений, и но-
вых переживаний, и новых слов.
К этому читателю нельзя идти с одними внешними эф-
фектами и выкрутасами, с литературным жеманством или
с бездушными готовыми схемами.
Нельзя — по двум причинам. Тот читательский авангард,
который умеет так хорошо и отчетливо формулировать свои
мысли и чувства, просто не поверит автору и, может быть,
навсегда сохранит недоверие к писателям и литературе. Те
же, кто слабее, пассивнее и доверчивее, сами научатся под-
менять настоящий опыт литературной или газетной фразео-
логией.
Перебирая письма ребят, можно выделить целую группу
голосов, неразличимо похожих один на другой. Словесный
трафарет заслонил в этих письмах содержание.
Но, по счастью, большинство писем свободно от общих
фраз. В этом особая удача переписки. То ли потому, что
ребята пишут Горькому, о детстве которого хорошо знают
из его же книги, то ли потому, что это пишет настоящий
читательский авангард, или, как у нас говорят, «библиотеч-
ный актив», но ребята на этот раз раскошелились, загово-
рили со щедрой откровенностью о книгах, которые только
что прочли и пережили.
«Мы очень волновались, когда читали о Трофимове
(«Пакет» Пантелеева) в том месте, где он в интересах ре-
волюции применял всю силу своей находчивости — борьба
За ценные документы. Его стойкость нас поразила. Мы про-
сим Пантелеева написать книгу потолще о герое. Он пишет
очень захватывающе. Главное, что его герои в тяжелые
минуты не унывают, бывают веселые, как, например, Трофи-
мов: перед расстрелом он еще шутил и говорил о своих боль-
ных мозолях» (Ярославль, пионеры).
203
Наши ребята любят героику, особенно героику револю-
ции, и понимают ее по существу, а не ходульно. Бытовая
юмористическая черта не принижает в их глазах героя,
а делает его трогательнее и ближе.
Дети умеют смеяться и прекрасно знают, какая сила и
какая помощь смех.
Вот письма одного из школьников Горькому:
«Прошу больше выпускать юмористических и смешных
рассказов, так как в детстве и даже в юности ребенку на-
носится много обид и маленьких невзгод. В таких случаях
я всегда хватал Чехова, забирался в шалаш, читал и под
конец чтения разражался хохотом, словно в шалаш мне на-
пустили газу, вызывающего смех. А в настоящее время, ко-
гда мне пятнадцатый год, мне нужны книги, показывающие,
как из подростка может выйти жизнерадостный, здоровый,
смелый человек, путь этого человека, который перестраивает
город, деревню, свою жизнь»*
Как великолепно сочетается в этом письме серьезность,
свойственная нашим ребятам, с простотой, наивностью и
детскостью! Кажется, что между строчек письма можно про-
честь биографию горьковского корреспондента.
По стилю и по житейскому опыту, который ощущается
в каждом слове, можно с уверенностью заключить, что это
пишет не избалованный ребенок, воспитанный в уютной
детской, а человек, немало испытавший за свою короткую
жизнь, и, пожалуй, из той новой демократической среды,
в которую совсем недавно проникла литература.
Значительная часть писем к Горькому пришла именно от
Этого нового читателя, который впервые заговорил о своих
вкусах, интересах, отношениях.
Часто он начинает письмо, по старому деревенскому
обычаю, с поклонов, он обращается к Горькому то на «ты»,
то на «вы», но зато у него есть настоящее любопытство, на-
стоящие желания, которые он умеет выражать полно и
сильно.
Он просит написать ему такие книги: «О борьбе и стра-
даниях заграничных пионеров», «Тайну полярных стран и
полюсов», «Про сухую и безводную пустыню Кара-Кум»,
«О последних индейцах в Америке», «О беспризорниках и
их горькой жизни».
Каждое из этих требований дает не только тему в узком
смысле слова, но и какой-то музыкальный ключ, которзд^
204
должен помочь писателю найти правильный той для детской
книги, если только писатель умеет слышать.
А сколько сведений требуют от нас эти ненасытные чи-
татели из городов, поселков, местечек, колхозов и ново-
строек! Вот небольшой список вопросов и тем, перечислен-
ных в одном только письме:
«Как раньше жили крестьяне и как дворяне?
Жизнь беспризорников.
Биография революционеров.
Гражданская война.
Приключения из жизни животных на Севере.
Путешествия в эпоху великих открытий и теперь.
Начало революционного движения в России.
Астрономия.
Археологические раскопки в Крыму, на Родосе и в Ми-
кенах.
Жизнь ребят в современной Америке.
Россия в эпоху Ивана Грозного.
Год великого перелома, коллективизация и классовая
борьба в колхозах.
Изобретатели: Эдисон, Фультон, Ньютон, Стефенсон,
Матросов, Казанцев.
Жизнь восточных народов: таджики, киргизы, узбеки.
Беломорстрой и превращение бывших преступников в
героев соцстройки».
В этом письме нет технических тем. Зато другие письма
с лихвой покрывают этот пробел. В них есть все, начиная
с межпланетных сообщений и кончая кормушкой для кро-
ликов.
Такую же россыпь естествоведческих, исторических и
географических тем найдете вы в других письмах ребят.
А уж о военных темах и говорить нечего. Трудно сосчитать,
сколько раз повторяется в письмах просьба написать про
будущую войну, как она начнется и чем она кончится, ка-
кова будет ее техника, чем могут помочь пионеры армии,
если на нас нападут враги.
И на все их бесконечные вопросы мы должны ответить
не суррогатами, не снисходительной популяризацией или
сокращением книг для взрослых, — дети всегда чувствуют эту
снисходительность и не доверяют «сокращенным изданиям».
Да и можно ли говорить о снисходительной популяриза-«
Ции, когда речь идет о читателе, который предъявляет к ли-»
тературе высшие требования?
205
Мальчик из села Дуденова, ученик шестого класса, пи-
шет, обращаясь к литераторам: «Товарищи, научитесь пи-
сать покороче, пояснее, попонятнее, посложнее».
Нелегко найти писателя, которому такая мерка пришлась
бы впору. Еще труднее найти критика, который сумел бы
так коротко, так ясно, так понятно и сложно сформулиро-
вать свои требования к литературе.
Но школьник из села Дуденова — вовсе не критик. Он
ничего не оценивает и никого не поучает. Он просто чита-
тель. Ему, как и другим его тринадцатилетним сверстникам,
до крайности нужна новая, интересная книжка. Вот о чем’
он и. хлопочет. Но при этом он нисколько не забывает
о своем возрасте. Он достаточно скромен и очень трезво
взвешивает свои силы, учитывая, что будет для него доступ-»
но и что недоступно, с чем он справится и чего не одолеет.
«Мы хотим книг о гражданской войне на детском язы*
ке», — пишут ребята.
«Книжек про звезды на нашем детском языке нет», —&
пишут другие.
Детский язык — это не упрощение и не сюсюкание.
Не всякая понятная книжка любима детьми. Очевидно,
дело не в доступности, а в каком-то подлинном соответствии
книги с мироощущением ребенка.
Если в книге есть четкая и законченная фабула, если
автор не равнодушный регистратор событий, а сторонник
одних героев повести и враг других, если в книге есть рит-<
мическое движение, а не сухая рассудочная последователь-»
ность, если моральный вывод из книги — не бесплатное при-
ложение, а естественное следствие всего хода событий, да еще
если ко всему этому книгу можно разыграть в своем вообра«
жении, как пьесу, или превратить в бесконечную эпопею,
придумывая для нее все новые и новые продолжения, —«
это и значит, что книга написана на настоящем детском
языке.
Поиски этого языка — трудный путь для писателя. Ни
собирание отдельных детских словечек и выражений, пи
кропотливая запись особенностей поведения ребят, ни кол-
лекционирование анекдотов из жизни очага и школы еще не
могут научить писателя говорить «детским языком». Во вся-
ком случае, это будет не тот язык, который имеют в виду
ребята, когда просят: дайте нам книгу про гражданскую
войну или про звезды на детском языке.
206
Мы не должны подлаживаться к детям. Да они и сами
терпеть не могут, когда мы к ним подлаживаемся, корчим
гримасы и щелкаем перед ними пальцами, как доктор, ко-
торый собирается смазать им горло йодом.
Задача наша не в том, чтобы потрафить всем разнооб-
разным интересам и вкусам читателя. Мы должны знать эти
интересы и вкусы, но знать для того, чтобы направлять и
развивать их.
Мы обязаны внимательно изучать каждое из детских пи-
сем, каждый отзыв ребенка на книгу, но мы не собираемся
строить всю программу детского чтения только на основа-
нии читательских требований. Задачи детской литературы
гораздо шире и глубже всего того, что могут предложить
сами дети.
Но счастливая особенность наших отношений с детьми
в том, что основные идеи, руководящие у нас всей жизнью,
находят и среди ребят быстрый и верный отклик.
Ведь даже в самых глухих углах Союза дети ожесто-»
ченно воюют за эти идеи, часто доверяя больше словам,
впервые услышанным в школе и в отряде, чем старым про-*
писным истинам, унаследованным их отцами и дедами от да*
лекого прошлого.
Нелегко воевать с прошлым, если тебе всего десять
двенадцать лет.
От своей литературы дети ждут помощи, одобрения, на-*
учных и житейских фактов, утверждающих в них новое, еще
только складывающееся мировоззрение.
4. О СТАРОЙ И ПОВОЙ СКАЗКЕ
Когда разговор заходит о детской литературе и о дет-
ском языке, — профессиональные литераторы обычно скла-
дывают оружие.
Это уже, говорят они, не наше дело. Кто его знает, что
именно нужно и чего не нужно детишкам, как и о чем с ни-
ми разговаривать. Тут надо предоставить слово педагогу—•
емУ> мол, и книги в руки.
Спору нет, у детской литературы есть педагогические
задачи. Но ведь всякое серьезное и ответственное искусство
Решает в той или другой мере воспитательные задачи,
если их понимать не в прикладном, а в самом широком
смысле.
207
Умный, талантливый педагог может направить интересы
читателя-ребенка. Иногда даже может ввести в круг дет-
ского чтения какую-то новую, смелую книгу, которая до не-
го вовсе и не предназначалась для детей. Но непосредствен-
но участвовать в создании детской литературы он способен
только в том случае, если он и педагог и писатель. А это
бывает редко.
Правда, к услугам детской литературы всегда целая ар-
мия людей, готовых излагать своими словами любые факты
и сведения, готовых писать картинки из жизни животных
по Брему28, очерки о путешествиях по Скотту29, Нансену30
и Пржевальскому31.
Но эта холодная стряпня не дает ребенку ни мысли, ни
чувства. Ведь ребята хотят таких героев, «с которыми жаль
расставаться». Им нужен юмор, от которого улыбаются не
уголком рта, а громко хохочут. Они требуют и познаватель-
ной книжки, которую можно переживать, как роман.
Этого не достигнешь никакими приправами, никакими
занимательными приемами. Детская литература должна быть
делом искусства.
Многие из нас еще не понимают этой простой истины.
Удивляться тут нечему. Когда люди говорят о детской лите-
ратуре, они обычно вспоминают книжки, которые сами дер-
жали в руках когда-то в детстве.
Но ведь вольфовские подарочные томики32 и сытинские
рыночные книжонки33 литературой не назывались. Так,,—
детское чтение!
Они и не заслуживали названия литературы. Эт<> были
главным образом отходы беллетристики для взрослых, сла-
бый раствор научных сведений, выжимки из классической
литературы, обесцвеченные остатки фольклора.
У меня нет возможности подробно останавливаться здесь
на предреволюционной детской литературе, но об отдельных
ее участках поговорить все-таки необходимо.
Возьмем хотя бы сказку.
У многих людей, которые помнят еще предреволюцион-
ные издания сказок в цветных глянцевитых обложках или
в тисненных золотом переплетах, существует представление,
будто бы сказку убила революция.
Я думаю, что это ложное представление.
Правда, наши педологи-методисты детского чтения и
«левацки» настроенные литературные критики изгнали на
208
короткое время из библиотеки старого Андерсена и отва-
дили наших детских писателей от сказочных образов.
Но дело не в этом. Сказке уже давно подрезали крылья
и за рубежом, и у нас до революции.
Где сейчас в Западной Европе Асбьернсен34, Гофман35,
Гауф36, Андерсен, Лабуле37, Топелиус?38 Где их наслед-
ники — новые сказочники той же смелости и того же та-
ланта?
Вы не найдете ни одного имени, достойного хотя бы
в малой степени числиться в этой плеяде.
А кто у нас перед революцией — в последние дни старой
России писал сказки для детей? Сказок печаталось много.
Сказка и детская книжка были почти равнозначащими по-
нятиями.
В святочных номерах даже взрослых газет и еженедель-
ных журналов очень часто печатались сказки.
Но что это были за сказки? Из всего сказочного богат-
ства в них уцелел только прокатный ассортимент ангелов,
фей, русалок, эльфов, гномов, троллей, леших, принцесс и
говорящих лягушек.
А кто из вас, если говорить по совести, знает хотя бы
основное различие между эльфом, гномом и кобольдом?
Вы смешиваете их потому, что они мало чем отличались
друг от друга в нашей предреволюционной сказке. У эльфов,
ангелов, русалок были одинаковые золотые волосы и бирю-
зовые глаза. У леших, гномов и троллей — одинаковые ват-
ные бороды.
А ведь в старой народной сказке у каждого гнома, ко-
больда и эльфа была своя родина, свой характер и даже
своя профессия. Одни жили в горах Силезии и занимались
рудокопным делом, другие ковали щиты и мечи в подземных
пещерах Шварцвальда, третьи пасли стада на лесных поля-
нах Англии и Франции. Недаром химический элемент ко-
бальт получил свое название от маленького легендарного
рудокопа-кобольда в острой шапочке.
Но в предреволюционной детской сказке от всей характе-
ристики гнома и кобольда только и уцелела острая ша-
почка.
Сказочные существа сделались безработными, безрод-
ными, бездушными и безличными, превратились в блестящие
и дешевые вороха елочных украшений. В их пеструю и бес-
принципную компанию попали заодно и ангелы, которых
209
лавочники и лавочницы наделяли своими чертами — само-*
довольством и румянцем.
От близкого соседства все персонажи сказок перепутав
лись. Хитрые и злые русалки стали похожи на кротких ан-*
гелов, у ангелов выросли стрекозиные крылья, как у эль-,
фов, тролли и гномы начали разносить по домам подарки
для добрых детей, как это обычно делал рождественский дед.
Теряя подлинность, сказка вместе с тем теряла и свои
бытовые черты, свой ритм и фабулу. В самом приступе
к сказке, в первых ее строках не чувствовалось уже того
юмора и вкуса, с которыми приступал когда-то к своему
повествованию Ганс Христиан Андерсен («В Китае, как из-1
вестно, все жители китайцы и сам император китаец»).
Исчезла великолепная слаженность эпизодов, которую вы
найдете в народной сказке или андерсеновском «Соловье».
Да и действия стало маловато.
Я не говорю уже о доморощенных дамских изделиях
вроде «Сказок голубой феи» Лидии Чарской.
Такие безличные и бесцветные — несмотря на всю пест-»
роту заемных декораций — сказки не проникали глубоко
в память и сердце маленького читателя и только портили
его вкус.
Хорошо еще, если в противовес им на детской книжной
полке оказывались сказки Пушкина, «Ашик-Кериб» Лер-»
монтова, «Конек-Горбунок» Ершова, «Аленький цветочек»;
Аксакова, сказки Льва Толстого, В. М. Гаршина39, М. Горь«
кого, «Корейские сказки» Н. Г. Гарина-Михайловского40,
«Аленушкины сказки» Д. II. Мамина-Сибиряка.
Эти сказки — вместе с «Тысячей и одной ночью» 41, Ан-»
дерсеном, Гауфом, Перро 42, братьями Гримм43 — обога-»
щали воображение ребенка, открывали ему сказочный мир,
в основе которого лежит мир живой и реальный с подлип-»
пыми и разнообразными характерами героев ♦.
В лучших литературных и народных притчах и сказках
была своя тенденция — борьба за справедливость, сочувст-»
вие обездоленным, — но эта тенденция никогда не перехо-»
дила в назойливую назидательность.
Зато многочисленные сказочницы — поставщицы пред-
приимчивых издательств и большинства детских журналов —
♦ В статье «Сказка крылатая и бескрылая» (см. кн. «Воспи-
тание словом», 1964), написанной на основе 4 главы доклада,
упоминаются также русские народные сказки, «Алиса в стране
чудес» Кэрролла и «Путешествие Нильса на гусях» Лагерлеф,
210
пропитывали свои сказки от первого до последнего слова
густым сиропом морали. Каждое действующее лицо в сказке
было у них глашатаем добродетели.
В начале века у нас перевели премированную на одном
пз конкурсов немецкую сказку Эллы фон Краузе «Короле-
ва — жалость». Она не была лишена известных литератур-
ных достоинств. И, однако, даже в такой достаточно ква-
лифицированной сказке водяной и русалки, безбожно
забыв свое языческое происхождение, высовываются из во-
ды и, обращаясь к принцессе, убедительно произносят,
будто с церковной кафедры: «Люби и страдай, люби и
страдай!..»
Это водяной-то и русалки!
Сейчас на ЗапаДе авторы детских сказок все больше и
больше отказываются от такой примитивной добродетели и
постепенно заражаются скептицизмом литературных снобов.
Мне попалась как-то современная английская сказка
о «Принцессе, на которой никто не хотел жениться». В ртой
сказке все навыворот. Принцессу зовут «Prettyflower» —
«Прелестный цветок», — а она так безобразна, что люди при
встрече поворачиваются к ней спиной и берут в рот кусочек
сахару. Страшный дракон в сказке питается... туалетным
мылом.
С лордов, кронпринцев и «полукронпринцев» *, которые
выражают желание сразиться с мыльным чудовищем, король
требует залога в тысячу гиней, как требуют с подрядчиков
на торгах.
Полное издевательство над сказочными персонажами!
Чистейшая пародия на сказку!
Дети, которые будут воспитаны на таких сказках, вряд
ли разовьют творческое воображение, способность «талант-
ливо мечтать», о которой говорит Горький.
Но зато они вырастут вполне светскими людьми, обла-
дающими богатым запасом каламбуров и анекдотов и го-
товыми прикрыть любой компромисс элегантным скепти-
цизмом.
Сейчас среди взрослых на Западе в большом ходу анек-
доты с вывернутой наизнанку моралью. Основная схема их
такова:
* Слова «кронпринц» и «полукронпринц» автор сказки произ-
водит от названий монет — «крона» и «полукрона». (Прим, ав-
тора.)
211
«У меня ужасная неприятность: я остался к завтраку без
поджаренного хлеба». — «Как же это случилось?» — «Очень
просто. Моя бабушка, поджаривая хлеб, упала в камин и
сгорела до ботинок».
Такова же приблизительно мораль множества современ-
ных сказок и детских стихов.
Есть в нынешней французской литературе для детей
сборник сказок, который называется «Зеленая Шапочка».
Это откровенная пародия на «Красную Шапочку», «Спящую
красавицу» и другие сказки Перро.
В старинной «Спящей красавице» принц будит от долго-
го сна свою невесту и женится на ней.
В новой сказке принц тоже будит спящую красавицу и
тоже женится на ней. Но красавица, проспавшая сто лет,
так старомодно одевается и так странно ведет себя в обще-
стве, что принц вынужден обратиться к фее с просьбой снова
усыпить спящую красавицу...
Это тоже сказка навыворот, тоже перелицованная
сказка.
Для чего писателям перелицовывать сказки? На этот
вопрос ответить трудно.
Правда, элементы пародии есть и в лучших сказках ста-
рых мастеров. Вы найдете их у Андерсена.
Даже «Дон-Кихот» Сервантеса можно считать пародией,
или, вернее, сатирой на рыцарские романы. Но при всей
своей ироничности Сервантес создал поэтический образ по-
следнего странствующего рыцаря, переживший на много
веков ходульные образы предшествовавших ему рыцарских
романов. А «Зеленая Шапочка» вряд ли переживет «Красную
Шапочку».
Такие пародии возникают из какой-то внутрилитератур-
ной полемики, щеголяющей остротой и оригинальностью и
рассчитанной на изысканного, а не на простого, непосредст-
венного в своих чувствах читателя.
Но поиски оригинальности — всегда безнадежное дело.
Человек, стремящийся освободиться от банальности, похож
на муху, которая пытается оторваться от смазанного клеем
листа — «тэнгльфута». Освободишь от клея банальности
одну ногу — увязнет другая!
Настоящая оригинальность может быть только там, где
есть новые мысли и свежие чувства. А поисками оригиналь-
ных приемов, своеобразных сюжетных поворотов делу не
поможешь.
212
Прежде всего пародийность современных сказок объяс-
няется глубоким и безнадежным скептицизмом их авторов.
Скептический взгляд на жизнь считается у литературных
снобов главным условием хорошего тона и вкуса.
Недавно вышла талантливая книга известного француз-
ского писателя Андре Моруа «Страна тридцати шести тысяч
желаний».
Моруа рассказывает очень причудливо и остроумно
историю одной девочки, которую дома всегда бранили за
то, что у нее «тридцать шесть тысяч желаний». Однажды во
сне девочка попала в сказочную страну. Эта страна так и на-
зывается — «Страна тридцати шести тысяч желаний». Все
желания детей в сказочной стране мгновенно исполняются.
Беда только в том, что желание одного ребенка убивает
желание другого. Скажем, вы пожелаете, чтобы появился
шоколадный торт, а ваш сосед пожелает, чтобы этот торт
провалился сквозь землю. Вы захотите поиграть в мяч, а ваш
сосед захочет, чтобы этот мяч лопнул.
Казалось бы, вывод отсюда простой. В эту анархию
тридцати шести тысяч желаний следовало бы внести какой-
то порядок. Или еще проще: надо научиться желать чего-
нибудь хорошего не только для себя, но и для других. Однако
Моруа делает другой вывод: разочаровавшись в сказочной
стране, девочка возвращается к себе в детскую, смиренно
подчиняется скучному домашнему режиму, против которого
она так бунтовала, а через год ее уже не принимают
в «Страну тридцати шести тысяч желаний». Да ей там и де-
лать больше нечего!
В «Стране тридцати шести тысяч желаний» суждено по-
бывать нам всем, пока мы не выросли и не поумнели, — ка-
кая это, в сущности, грустная и скептическая мораль! Как
противоречит она морали настоящей сказки, которая учит
человека желать и добиваться осуществления своих желаний!
Справедливость требует, чтобы, оглядываясь на недав-
нее прошлое, мы отметили кое-какие сказки, которые еще
имеют право называться сказками. В них бутафория не вы-
теснила сказочных образов. Таковы, например, сказки Кип-
линга 44, в которых слышится живой и особенный голос
Рассказчика, умеющего завоевать внимание и доверие ма-
ленького читателя *.
* В статье «Сказка крылатая и бескрылая» упоминаются
также «причудливые сказки в стихах и в прозе английского порта
Александра Мильна».
213
Но разве и эти шутливые истории не напоминают по
своей сути пародии на детскую сказку с моралью?
Ведь именно в этой пародийности — их неожиданность и
острота.
Отчего у носорога шкура в складках? Да оттого, что под
шкуру попали хлебные крошки. Почему у слоненка длин-
ный нос? Потому, что слоненок был любопытен и совал нос
куда не следует.
Это хорошие и талантливые сказки. Да и могут ли они
быть плохими, если их рассказывает человек, умеющий
изобретать причудливые игры, говорить с читателем то гром-
ко, то вкрадчиво-тихо, то насмешливо, то ласково.
И все же такие сказки могли появиться только в литера-
туре, пресыщенной сказочными образами и не знающей, что
с ними делать дальше.
А киплинговские «Джунгли» — это, конечно, не сказка.
Это повесть, от которой пошли все современные англо-аме-
риканские рассказы об охотниках и животных, полунатура-
листические и полуромантические. Главный стержень «по-
вести», как и почти всей западной зоологической беллет-
ристики, — это закон зверя-охотника, «закон джунглей».
Упрощенная в своей законченности философия хищника
суживает, а не расширяет мир. Сказке здесь делать нечего.
Одряхление сказки, идейное и формальное, знаменательно
для литературы, которая теряет перспективу и веру в
будущее.
У сказки есть замечательная возможность охватывать
сразу бесконечные пространства, перелетать из края в край,
сталкивать различные времена, сочетать самые крупные вещи
с вещами самыми маленькими, преодолевать непреодоли-
мые препятствия.
Если сказка этими возможностями не пользуется, значит,
плохо ее дело. Оторвавшись от почвы, от реальности, она
теряет все: и свою веселую энергию, и мудрость, и чувство
справедливости, и дар воображения и предвидения.
Ну, а как у нас?
Если делать простой и здравый вывод из всего того,
что здесь сказано, то наши дети уже должны читать
толстые книги новых сказок, разнообразных, веселых и
героических.
Ведь для того, чтобы говорить о героях, нам не надо
вспоминать Ричарда Львиное Сердце45 или выдумывать ка-
214
кого-нибудь доблестного рыцаря в серебряных латах, с бе-
лыми перьями на шлеме. Героическое от нас совсем близко,
мы отделены от него всего только каким-нибудь десятком
лет, а иногда даже одним днем.
Расспросите любого нашего современника — молодого
ученого, порта, командира, — кем он был и что он делал на
своем веку. И окажется, что он пас гусей, а потом пас ко-
ров, а потом бунтовал, а потом воевал, и еще много было
у него всяческих приключений — больше, чем у того удач-
ливого солдата, который нашел подземный клад в андерсе-
новской сказке «Огниво».
Рассказать про такого нашего современника — это еще
пе значит написать сказку. Это значит — написать биогра-
фию. Но когда кругом тысячи таких биографий, то как пе
родиться настоящей сказке.
Нужно только не регистрировать, а сочинять и вообра-
жать. Нужно не обкрадывать свое время, а помогать ему
работать.
Героическая биография — еще не сказка. Очерк о новом
блюминге и комбайне — это тоже не сказка.
«Техника на грани фантастики» — сама по себе только
материал для научно-технической книжки или для какого-
нибудь детского «вундербуха», книги чудес, которую под
разными названиями выпускают предприимчивые загранич-
ные издатели. Ребенка удивляют до тех пор, пока он не пе-
рестает удивляться.
Сказка о ковре-самолете не тем хороша, что человек
в ней летает по воздуху. Это был бы тоже своего рода «вун-
дербух», и больше ничего. Но человек, летящий на ковре-
самолете, летит не зря. Без ковра-самолета он не поспел бы
вовремя за тридевять морей, за тридесять земель, а это ему
нужно до смерти.
Ковер позволяет обогнать время.
Мы не собираемся возрождать в Советской стране старую
сказку. Нам не к чему воскрешать гномов и эльфов, даже
тех гномов и эльфов, которые еще были рудокопами и пас-
тухами.
Мы знаем, что напрасно и наивно было бы ожидать воз-
рождения тех художественных форм, которые были когда-то
Целиком основаны на мифологическом отношении к природе.
И если бы порты попытались теперь механически воссоздать
народный эпос, у них получилась бы, по выражению Маркса,
«Генриада» взамен «Илиады» 46.
215
Недаром так бесплодны были усилия предреволюцион-
ных писателей-эстетов, пытавшихся дать новую жизнь ста-
рой сказке, реставрируя ее словесные причуды, ее затейли-
вый орнамент.
Это было похоже на те попытки дать волосам «новую
жизнь на голове другой», о которых говорит Шекспир.
Стилизованные сказки исчезают вместе с модой, их по-
родившей.
Нам дороги накопленные веками богатства народной
поэзии, но мы верим, что наши сказочники будут пользо-
ваться этим наследством умело и смело, черпая из фоль-
клора то, что в нем живо и в самой сущности своей совре-
менно, как это делали, создавая сказки, Пушкин, Лев Тол-
стой, Андерсен.
Мы будем внимательно изучать народный эпос, старую
сказку, легенду, былину. Но у нас уже настало время для
создания новой сказки.
И дело здесь не только в том, что у нас люди вступили
в состязание со временем, что они прокладывают пути
в тех местах, где еще не ступала нога человеческая, нет,
главное в том, что они чувствуют свою правоту. Эта правота
позволяет делать большие моральные выводы, без которых
возможна только стилизация или шутливая пародия на
сказку.
Ну и что же? Возникла ли у нас детская сказка, то есть
поэтически-фантастическое повествование, утверждающее
новые идеи и факты, а не та прежняя сказка — пародийная
или откровенно-дидактическая?
Надо прямо сказать: у нас еще нет такой сказки. Во
всяком случае, то немногое, что в этом роде написано, еще
не может заменить по своей простоте, законченности и за-
нимательности старинную «Красную Шапочку» или «Алень-
кий цветочек»?
В чем же тут дело? Может быть, в тенденциозности на-
ших детских сказок, в их морали? Но ведь и в «Красной Ша-
почке» есть мораль, да еще какая назидательная! Ежели
тебя послали по делу, так не останавливайся по дороге и
не разговаривай с незнакомыми, а то еще, чего доброго,
незнакомец окажется волком. Да ведь это такое наставление,
которое ни одному ребенку не может быть по вкусу! А меж-
ду тем «Красную Шапочку» дети готовы слушать двадцать
раз подряд. Это потому, что каждое положение в этой
сказке так ясно по своей обстановке, последовательности и
216
логике мотивов, что любой ребенок может поставить себя
ва место героини сказки, может играть в Красную Шапочку.
Даже в андерсеновских сказках, с более сложной моралью,
рта мораль подается в таких конкретных, умно и бережно
подобранных деталях, что ребята радуются каждому пово-
роту, видят и переживают каждую мелочь. А вывод? Вывод
они невольно делают сами — и не в конце сказки, а на
всем ее протяжении.
Беда наших новых сказок не в их морали, а в аллего-
ризме. Детали играют в них второстепенную, декоративную
роль. А самое действие лишено какой бы то ни было кон-
кретности.
Почему «Мальчиш Плохиш» в сказке Гайдара «О воен-
ной тайне» предает «буржуинам» своих товарищей, помо-
гающих Красной Армии? Очевидно, только потому, что его
зовут Плохиш. Никакими характерными чертами — ни лич-
ными, ни социальными — он не наделен. А между тем, при
всей условности, сказка нуждается в отчетливой мотиви-
ровке поступков, в разнообразии характеров и голосов. Не
то вместо сказки получается какая-то аллегория в духе
XVIII века, где герои охарактеризованы одними только
именами: княгиня Ветрона, королевич Добронрав, царевна
Отрада или Услада.
Только временами улавливаем мы в этой сказке живую,
смелую, по-мальчишески веселую интонацию Гайдара, умею-
щего говорить с малышами так ласково и просто («Ушел
Мальчиш, лег спать, но не спится ему, ну никак не засы-
пается...»). Основной же стиль сказки однообразно-припод-
нятый, без модуляций. Почти в одном тоне и ритме разго-
варивают «Краснозвездный всадник», отец и брат «Маль-
чиша» и даже «Главный буржуин».
«Ах вы, негодные трусищи-буржуищи! — восклицает
предводитель всех «буржуинов». — Как это вы не можете
разбить такого маловатого?»
Эта однообразная мажорность ослабляет эффект сказки,
в замысле которой есть и поэтичность, и неподдельная
искренность.
Совсем по-другому написаны повести Гайдара —
«Р.В.С.» и «Школа», — произведения не менее романтиче-
ские, но гораздо больше связанные с реальностью.
В «Школе» поступки героев вполне убедительны. Чита-
тель верит, что Борис Гориков, сын расстрелянного солдата-
217
большевика, должен в конце концов разобраться в разно-
голосых политических спорах Февральской революции и
сделаться большевиком. И все же это происходит не так
просто. Герой повести зарабатывает свои убеждения той
ценой, какой они действительно достаются живому человеку.
И красноармейцем он становится тоже не сразу: в первом
же горячем деле он бросает бомбу, забыв о предохранителе,
а вместо того чтобы ударить врага прикладом винтовки, по-
ребячьи кусает его за палец.
В повести есть настоящие наблюдения, которые позво-
ляют верить в правдивость автора и его книжки. Как прочно
запоминается, например, сухая травинка, прилипшая к пись-
му, которое привез с фронта солдат, весь пропитанный тя-
желым запахом йодоформа.
Есть в ней и та теплота и верность тона, которые вол-
нуют читателя сильнее всяких художественных образов
(«Рядом с матерью стоял перепачканный в глине, про-
мокший до нитки, самый дорогой для меня солдат — мой
отец»).
Красноармейский командир в этой повести, бывший са-
пожник, надел в Октябрьские дни праздничный костюм и
только что сшитые им на заказ хромовые сапоги и с тех
пор, как выражается он сам, «ударился навек в револю-
цию».
Прочитав книгу, двенадцатилетний читатель чувствует,
что автор, как и его герой, тоже ударился навек в рево-
люцию.
И за это читатель любит Гайдара.
Отчего же на сказку у Гайдара не хватило теплоты, на-
блюдательности, драматизма? Ведь и в сказке вы узнаете
его почерк, его манеру говорить с маленьким читателем,
как с товарищем и будущим соратником. И пишет он о той
же гражданской войне, которую сам пережил. И даже герой
у него в сказке почти такой же, как и в повести, —мальчик,
который попал на войну.
Очевидно, автор считал, что в сказке не может быть
места подробностям — сухим травинкам и хромовым сапо-
гам, что в сказке нужно только самое крупное обобщение.
Вот красные, а вот белые, вот доблестный герой, а вот
гнусный изменник.
Ну что же, в каком-то смысле это правильно. Сказка
действительно живет не разрозненными бытовыми подроб-
ностями, а обобщением.
218
Но обобщение не должно быть общим местом.
И повести и сказке в равной мере нужен материал: быт,
люди, вещи. Разница только в том, что для сказки надо из
груды материала отбирать самое принципиальное, самое
меткое и самое простое.
Не только бытовая, по даже и волшебная сказка требует
реальных подробностей. Вспомните пестрые и шумные во-*
сточные базары «Тысячи и одной ночи». Вспомните цере-»
монный императорский двор в андерсеновском «Соловье»
и почти такой же церемонный птичий двор в «Гадком
утенке». Вспомните, наконец, любую из былин о кулачных
боях на новгородском мосту или о богатырской заставе под
Киевом. Везде — быт, живые люди, характеры. Да еще ка-
кие характеры, — сложные, с юмором, с причудой!
Если есть такие характеры в сказке, в ней может быть
и живое действие, и настоящая борьба без предрешенного
исхода, а не аллегория и риторика под видом сказочной
фабулы *.
5. ПОВЕСТЬ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ
Когда-то, в самую раннюю пору революции, о детской
повести можно было сказать почти то же, что мы говорим
сейчас о сказке. Первая повесть была так же бедна содер-
жанием и условна, как та сказка, которая появилась у нас
только теперь, после снятия с нее педагогического за-«
прета 47.
Новая повесть о новом быте, адресованная новому чита-
телю — ребенку, была не только нужна, — в ней чувствовав
лась уже настоятельная необходимость.
А между тем вырваться из круга традиций предреволкр
ционной детской литературы было не так-то легко.
От недавнего прошлого наша детская библиотека полу-
чила наследство большое, но весьма сомнительное. Ката-
логи книг, изданных перед революцией для детей, — рто
объемистые томы аннотаций.
* В последнем издании статьи («Воспитание словом», 1964)
автором сделано следующее подстрочное примечание: «Статья эта
писалась в то время, когда еще не было таких современных
сказочников, как талантливая шведская писательница Астрид
Линдгрен и замечательный итальянский порт и прозаик Джанни
родари.
219
Чего тут только не было! Астрономия, зоология, руко-
водство для собирателей бабочек, жизнь и быт разных па-
родов, мифы Древней Греции...
А какой длинный перечень романов для юношества, по-
вестей для старшего возраста, сказок и рассказов для млад-
шего!
В ртом перечне изредка мелькали имена Доде48, Дик-
кенса, Гюго, Толстого, Тургенева, Короленко, попадались
книжки Элизы Ожешко49 и Марии Конопницкой50, но, по-
жалуй, больше всего было популярных повестей, принадле-
жавших неутомимому перу англо-американских детских
писательниц и их менее преуспевавших сестер, писавших
по-русски.
В западных повестях для детей было больше выдумки.
Некоторая сентиментальность иной раз уживалась в них
с юмором. А наши поставщики ходких повестей особым
юмором не блистали.
Но родственное сходство переводной и отечественной
специфически детской литературы было несомненно. Та и
другая интересовались преимущественно сиротками и най-
денышами таинственного происхождения. Та и другая
проповедовали скромность, милосердие и терпение. Впрочем,
в конце концов всегда оказывалось, что эти добродетели
представляют собой самый краткий и верный путь к благо-
получию и карьере.
Весь мир — вернее, мирок — этой условной, идилличе-
ской литературы, отечественной и переводной, неподвижно
и прочно покоился на своих устоях. Общественные перего-
родки были почти непроницаемы. Если какой-нибудь ма-
ленькой уличной певице удавалось проникнуть в графский
замок и даже положить голову на костлявое плечо старого
графа, то скоро выяснялось, что дитя улицы приходится
владельцу замка родной внучкой. Конечно, эта внучка
навсегда сохраняла в памяти годы, прожитые в бедности,
и становилась лучшим другом для бедняков.
А кто такие были эти бедняки? Трудно сказать. В одной
повести — это бедные крестьяне, живущие в «избушке»,
в другой — сапожник, которому не хватает денег на елку»
А в знаменитой книжке «Отчего и почему маленькой
Сюзанны» девочка-аристократка, мадемуазель де Сануа,
щедро отправляет все свои новогодние подарки дочкам од-
ного бедного лавочника.
Это происходит после такого разговора:
220
«— Не все девочки получают новогодние, подарки, —
сказала горничная.
— Что ты говоришь? — спросила Сюзанна с неподдель-
ным удивлением. — Девочки целый год ведут себя хорошо
и не получают подарков?
— Да, барышня.
.— Отчего же?
— Оттого, что они бедные.
— А! — проговорила Сюзанна и после небольшого раз**
думья сказала, вздохнув: — Это правда».
Так легко и грациозно говорили о бедности французские
повести для детей. Наши сотрудницы «Задушевного сло-
ва» 51 этак не умели.
Даже наиболее реакционные из них невольно заража-
лись от нашей радикальной и народнической беллетристики
склонностью к деревенским выражениям, — таким, как «мы-
кать горе», «ноженьки подкосились», «тошнехонько», «страд-
ная пора», «лишние рты».
Даже Лидия Чарская, которая на всю жизнь сохранила
институтские манеры, и та старалась говорить как можно
простонароднее, когда речь заходила о бедности.
После изысканного обеда в богатом доме, куда он слу-
чайно попал, «Ваня с полным удовольствием уписывает за
обе щеки краюху черного хлеба, густо посыпанную солью.
Его родители приучили своего мальчика с самого раннего
детства к таким простым завтракам, и они кажутся ему,
Ване, лучше всяких разносолов...»
Но на той же странице той же книги голодный мальчик
говорит о голоде приблизительно так, как говорили о нем
проголодавшиеся корнеты перед легким завтраком у До-
нона: 52
«Только бы заморить червячка!» (Повесть Л. Чарской
«Счастливчик».)
Мальчики и девочки могли разговаривать у Чарской, как
им вздумается. На детскую книжку критика редко обра->
Щала внимание. Да и стоило ли всерьез говорить о ней, если
она чаще всего донашивала обноски западной специально
детской литературы, а та в свою очередь кроила и пере-
краивала лоскутья сюжетов Фильдинга53, Диккенса и
Гюго?
В сущности, все отвергнутые внуки, сыновья и дочери,
все таинственные найденыши и похищенные наследники из
Детских книжек были в каком-то отдаленном свойстве с.
221
героями из большой литературы— с «Человеком, который
смеется» Гюго, с Флоренс Домби54, с Эсфирью из «Холод-
ного дома» и с Давидом Копперфильдом Диккенса.
Но подумать только, во что превратила идиллически бла-
гополучная книга для детей сложные судьбы героев большой
литературы! Куда девались социальная сатира и причудли-
вый быт романов Чарльза Диккенса? Где обличительный
пафос и острота положений Виктора Гюго, превращающего
циркового урода в одного из пэров Англии для того, чтобы
он мог разглядеть пороки своего круга и навсегда отречься
от него?
По счастью, дети не ограничивались литературой, изго-
товленной специально для них. Они читали русские народ-
ные сказки, «Царя Салтана», «Конька-Горбунка», а потом —
когда становились постарше, — «Дубровского», «Тараса
Бульбу», «Вечера на хуторе», повести Л. Толстого, рассказы
Тургенева. В руки к ним попадали и настоящий Диккенс55,
и настоящий Гюго56, и Фенимор Купер57, и Жюль Верн, и
Марк Твен. Издавна стали их друзьями и любимцами Гул-
ливер, Робинзон Крузо, Дон-Кихот.
Иной раз и в собственно детской библиотеке появлялись
хорошие книги — Андерсен, Перро, Братья Гримм, Топелиус,
повесть Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» 58. Для детей
были написаны «Кавказский пленник» Толстого, «Каштан-
ка» Чехова, «Зимовье на Студеной» Мамина-Сибиряка, «Во-
круг света на «Коршуне» Станюковича59, «Белый пудель» и
другие рассказы Куприна.
Только эти, в сущности говоря, считанные книги —
с придачей еще двух-трех десятков названий — и уцелели
в детской библиотеке после революции. Институтские по-
вести Лидии Чарской и крестьянские рассказы Клавдии Лу-
кашевич60 умерли в один и тот же день, вместе со многими
переводными и подражательными книгами для детей. В рам-
ки традиционно-детской, сентиментальной повести нельзя
было втиснуть новый жизненный материал, новые идеи, ге-
роев нашего времени. Да и на прошлое мы взглянули дру-
гими глазами.
Старая — дореволюционная литература для взрослых не
пережила в первые дни революции такого потрясения, какое
испытала литература для детей. Пушкина и Толстого, Тур-
генева и Гоголя, Некрасова и Щедрина, Короленко, Чехова
и Горького не надо было упразднять. Революция взяла па
себя почетную обязанность передать их самым широким
222
массам читателей, сделать их всенародным достоянием,
д вот детская библиотека — особенно предреволюционных
лет — была почти полностью обречена на слом вместе со
всей системой буржуазного воспитания.
В библиотеке для взрослых ведущей была прогрессивная
литература. Значительная часть детской библиотеки была
снабжена казенными ярлыками: «проверено», «одобрено»,
«рекомендовано».
Только сейчас, при глубоком и внимательном отборе, мы
можем взять из детских книжек самых разных времен и
разных типов то, что еще может послужить нам на пользу*
Большая же часть книг, перечисленных в старых толстых
каталогах, погибла безвозвратно.
Не удивительно, что наши первые советские повести для
детей, лишенные настоящей преемственности и не успевшие
по-новому осмыслить мир, были по большей части собра-*
нием случайных фактов и эпизодов, хроникой событий,
а иногда наивным лубком.
Как-то странно перечитывать теперь даже такую талант-*
ливую и связанную с реальностью книгу, как «Ташкент—*
город хлебный» Неверова61. Сколько в ней народнического
«горя горького», сколько ругани, кряхтения, «чвоканья»!
А какое изобилие натуралистических подробностей! Тут и
засаленные лохмотья, и вши, и гниды, и дерьмо. На протя-
жении всей повести тащится из Бузулука в Ташкент облеп-
ленный умирающими мужиками поезд.
Где-то на станциях мелькают комиссары и чекисты,
люди времени военного коммунизма. Но вся их роль заклю-*
чается в том, чтобы снять Мишку Додонова с поезда или
посадить его на поезд, а больше нечего им делать в этой
повести, написанной, в сущности, в запоздалых традициях
народнической литературы. Только теплушечный поезд в ней
новость.
Впрочем, писатели первых лет революции, не только
Детские, но и те, которые писали книги для взрослых, часто
изображали теплушки и голод.
Я не думаю, что в детских книжках нельзя рассказы-*
вать о голоде и о страшной голодной смерти. Пусть
наши двти знают, какой ценой завоеван их сегодняшний
День.
Но детская повесть должна открывать широкие перспек-
тивы, должна быть способна к обобщениям больше, чем
книга для взрослых.
223
А у нас выходило одно из двух: либо неверовское «горе
горькое», либо романтически бесшабашная удаль очень по-
пулярных в свое время бляхинских «Красных дьяволят»62,
которые взяли в плен аж самого батьку Махно! Где-то в про-
межутке между «Ташкентом — городом хлебным» и «Дья-
волятами» оказались повести Сергея Григорьева «С мешком
за смертью» и «Тайна Ани Гай» 63.
В этих книгах тоже есть теплушки, и голод, и мешоч-
ники. Но постепенно темп повести все ускоряется, и вот
уже вместо скучных теплушек перед нами мелькают таинст-
венные автомобили заграничных авантюристов. На наших
глазах совершается загадочное похищение героини повести.
Ее спасает благородный шестнадцатилетний бандит. По-
весть о революции незаметно превращается в традиционный
детектив с примесью идиллического детского романа о маль-
чике и девочке, разлученных и ищущих друг друга.
Но Сергей Григорьев — писатель, а не случайный чело-
век в литературе. У Сергея Григорьева есть книги, в основу
которых положен более подлинный материал — такие, как
«Мальчий бунт», «Берко-кантонист», «Красный бакен». По-
этому даже авантюрная его повесть не могла докатиться до
прямой бульварщины.
А вот Остроумов в своем «Макаре Следопыте»64 ухит-
рился перещеголять самого Пинкертона.
Пинкертон в свое время изготовлялся по заграничным
образцам. Поэтому он был несколько суховат и по-своему
лаконичен — ему отпускалось не больше десяти страничек
на каждый подвиг. Никакой психологии, никакой лирики!
А в пухлых книжках Остроумова хватает места для
всего: и для лирических сцен, в которых участвуют красный
разведчик Макар и позабывшая свои классовые интересы
дочь помещика Любочка, и для сцен бытовых с участием
патентованных корчмарей-евреев, которые визжат и цеп-
ляются за полы барских кафтанов. Это Уже напоминает не
Пинкертона, а одно из приложений к старинному черносо-
тенно-мещанскому журналу «Родина» 65.
Старая рутина долго тяготела над детской литературой.
Наши повести либо скатывались в унылый натурализм, и
тогда у них не было ни задачи, ни размаха, ни чувства вре-
мени; либо взлетали в лжеромантические туманы, теряя
всякую почву, всякое подобие материала и фактов.
А нужна была другая книга, сочетающая смелый реализм
с еще более смелой романтикой, книга, которая бы не боя-
224
лась неизбежных в наши дни суровых фактов, но умела бы
поднимать их на такую оптимистическую высоту, откуда они
не были бы страшны.
Такие книги у нас стали появляться. Конечно, мы еще
не можем успокоить себя сознанием того, что наши чита-
тели-дети получили от художественной литературы все, что
нужно для их роста, для воспитания их убеждений, интере-
сов и вкусов. До этого еще очень далеко.
Но какие-то принципиальные позиции у нас уже нащу-
паны и постепенно завоевываются.
У нас есть смелые, поэтические и в то же время не ото-
рванные от реальности повести Гайдара, о которых мы уже
говорили. В дореволюционной детской литературе была бы
немыслима такая книга, как «Республика Шкйд» Г. Белых
и Л. Пантелеева.
Написали ее еще юноши, только что сами вышедшие из
школы, где воспитываются беспризорные. Казалось бы, они
легко могли потонуть в куче мелких наблюдений, превратить
свою повесть в бесформенный дневник. Но этого не случи-
лось. «Республика Шкид» — одна из первых книг о пере-
воспитании человека в нашей стране. Не экзотический быт
беспризорных, не «блатная музыка» — главное содержание
повести (а ведь мы знаем, как соблазнительны для молодых
писателей причудливый быт и причудливый язык).
Пожалуй, больше всего любят ребята эту книгу за то,
что в ней есть пролог и эпилог, начало и конец.
История ее героев начинается на заросших травой пи-
терских улицах, на барахолках, у вокзалов, где толпятся
в ожидании мешочников мальчишки с тележками. А кон-
чается история вступлением в жизнь ребят, воспитанных но-
вой школой и советской жизнью, возмужавших и полных
надежд.
Все эти герои встречаются друг с другом на последних
страницах книги. Один из них появляется в длинной серой
шинели и новеньком синем шлеме. Он — командир РККА.
Другого своего товарища авторы, которые и сами служат
героями повести, находят за кулисами заводского театра.
— режиссер. Третий вваливается, когда его совсем не
шдут, в непромокаемом пальто и высоких охотничьих сапо-
гах. Он — агроном и только что приехал из совхоза.
Я думаю, что далеко не все писатели из литературы для
взрослых оценят такой простой и наивный конец повести.
«Ну что ж, — скажут они, — это очень традиционно».
8 с- Маршак, т. 6 225
Совершенно верно, это очень традиционный мотив,
встречающийся в самых разнообразных литературных произ-
ведениях, посвященных школе, — в том числе и в стихах
Пушкина о лицейской годовщине. Вспомните «19 октября
1825 года»:
Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
Счастливый путь... С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя...
Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе — фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Все тот ясе ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.
Царскосельский лицей — это, конечно, не «ШКИД», не
школа имени Достоевского на Петергофском проспекте.
Молодой блестящий дипломат князь Горчаков — это пе
Цыган, агроном из совхоза. И, наконец, лирическое посла-
ние Пушкина к друзьям — это совсем не то, что детская
повесть, написанная двумя начинающими писателями ровно
через сто лет после пушкинских стихов.
Но есть в этой суровой и шершавой советской повести
что-то напоминающее ту гордость, с которой Пушкин гово-
рит о своих друзьях, которые, «ступая в жизнь», разошлись
по разным путям.
Уж не потому ли это, что юноши нашего времени, пи-
томцы любого детдома, любой окраинной школы и фабза-
вуча, видят перед собой такие же открытые дороги, какие
лежали когда-то только перед немногими баловнями
судьбы?
Вступление ребят в жизнь, в борьбу, в работу — это глав-
ное содержание наших лучших детских повестей.
«Швамбрания» Кассиля — талантливая повесть, в кото-
рой рассказывается о том, как революция ворвалась в ком-
натный мирок интеллигентской семьи и вынесла оттуда на
широкую дорогу советской жизни двух маленьких гимнази-
226
стов — двух «швамбранов», жителей выдуманной страны;
«Тансык» Алексея Кожевникова 66 — книга о казахском юно-
ше-кочевнике, которого перевоспитал Турксиб, и, наконец,
маленькая повесть Пантелеева «Часы», в которой расска-
зана история о том, как золотые часы, зарытые Петькой
Валетом во дворе детского дома, неожиданно оказались под
штабелями березовых дров и вынудили маленького бродягу
остаться в детдоме до тех пор, пока он не стал настоящим
человеком, гражданином Советского Союза, — во всех этих
книгах говорится о юном человеке, который находит свое
место в жизни.
И даже в повести, где герои лежат прикованные к кой-
кам туберкулезного санатория, и там главная тема —
участие ребят в той созидательной жизни, которая идет за
стенами санатория. Я говорю о повести К. Чуковского
«Солнечная».
Если бы книга на такую тему была написана кем-нибудь
из дореволюционных детских писателей, в ней были бы
грустные, лирические размышления, белые розы на могиле
всеобщего любимца и счастливый отъезд его краснощекого
маленького друга, который нехотя покидает добрых докторов
и ангелоподобных сестер милосердия.
в. О КОРАБЛЯХ ИКАРАВАПАХ
Революция поставила перед нами требование говорить
с детьми без ложной сентиментальности, без фальшивых
идиллий, говорить с ними о реальной жизни, суровой и ра-
достной.
Эта реальная жизнь, в которой столько еще незнакомых
людей и столько трудных, заманчивых дел, всегда привле-
кала и привлекает подростка, который заранее примеряет
яа себе судьбы самых разных героев, обязанности и задачи
самых различных профессий.
Но о реальных судьбах и о настоящих профессиях наши
старые детские книги говорили мало. И вот ребята чуть
ли не с десяти лет набрасывались на авантюрную лите-
ратуру, на пестрые номера какого-нибудь «Мира приклю-
чений» 67.
Тут, по крайней мере, были капитаны, водолазы, лет-
чики, изобретатели, таинственные адские машины, алыш-
яисты, охотники и цирковые наездницы. А в детских книгах
8* 227
и не пахло морской солью, — там держался нагретый ком-
натный воздух и пахло манной кашей.
Наша советская литература для детей еще молода, еще
мало у нас книг, открывающих детям ворота в серьезную и
ответственную жизнь. Но уже стало ясно, что легковесной,
полунаучной, полубульварной литературе, в которой нельзя
отличить геолога-разведчика от частного сыщика, — не место
в Советской стране. Недаром хиреют у нас всякие «Всемир-
ные следопыты»68 и другие журналы, пытающиеся возро-
дить рыночную литературу сильных ощущений.
Напрасно пытаются они спасти свой контрабандный груз,
поднимая над ним иной раз советский флаг. Такой контра-
банды у нас не утаишь.
Конечно, нельзя сказать, что мы уже навеки освободи-
лись от той фальсификации жизни и борьбы, которая так
хитро была пущена в оборот предприимчивыми издателями
в буржуазных странах.
В какой-нибудь грубо тенденциозной, сухой и програм-
мной книжке для ребят, среди едва подкрашенной прото-
кольной прозы, вдруг «послышится со дна пропасти грозный
голос рассерженного зверя, орлы и коршуны глухо закле-
кочут», выражая свое неудовольствие по поводу того, что
герой повести «очнулся и помешал их пиру, сытному и
обильному».
А герой повести, который только что свалился вместе
с конем с узкой горной тропинки в зияющую пропасть, са-
дится и оглядывается...
Мы узнаем этот орлиный клекот и голос рассерженного
Зверя. Мы слышали их в бульварных лесах и ущельях ми-
стера Кервуда69, самого опытного организатора прыжков
и полетов в пропасть.
Пора нам по достоинству оценить все эти патентован-
ные «сальто-мортале».
Когда детские писатели перестанут излагать принципи-
альное содержание своих повестей в виде сухих и пресных
протоколов, тогда им не понадобится больше подсыпать
в книгу для вкуса кервудовской соли и пипкертоновского
перца.
Лучшим доказательством этого служат те немногочис-
ленные детские книги, которые написаны на основании на-
стоящего жизненного материала и проникнуты настоящей
идеей.
228
Такие книги не нуждаются ни в какой посторонней при-
праве. Им не приходится подкреплять свой сюжет готовыми
приключениями, взятыми напрокат из арсенала бульварной
литературы. У них есть свои волнующие эпизоды, свои при-
ключения, естественно вытекающие из самого существа
дела.
Несмотря на реализм, в их стиле и положениях есть даже
какая-то сказочность.
Открываем одну из таких книг и читаем:
«До сих пор все следы были известны наперечет. Зем“
зем оставляет треугольные следики. Джейран, пустынная
антилопа, — разделенные печати копытец. Навозный жук
имеет тройной след, так как посередине тащит хвостик. Но
Этот новый след не похож на все известные до сих пор. Две
широкие полосы протянулись по песку. На каждой поперек
отпечатаны палочки, как бы елкой. Можно подумать, что
две невиданных размеров змеи ползли все время рядом,
беседуя и держа между собою одну и ту же дистанцию.
Тогда еще никто из местных старожилов не знал, что
лапы, оставившие след в елочку, сделаны из прочной и тол-
стой резины марки «Красный треугольник». Автомобили
«Рено-Сахара» провели крепкую зарубку через пески».
Достаточно прочесть эти несколько строк М. Лоскутова
из книги «Тринадцатый караван»70, чтобы поверить, что на-
писавший их человек действительно побывал в песках и
своими глазами видел первые следы наших автомобилей
в пустыне.
А вот еще несколько строк из другой книги:
«За многие годы скитаний не видел я берегов, столь
мрачных и как бы угрожающих мореплавателям... До бухты
Киндерли мы плыли, преодолевая моряну — южный ветер,
несущий из пустыни пыль и запах серы, ибо в пустыне,
как говорят, лежат серные горы. Ветер этот рождает стес-
ненное дыхание и, надо полагать, весьма вреден для всего
живого...
Вода в заливе была малопрозрачна, в ней плавали мерт-
вые рыбы, занесенные из моря. На берегу мы нашли вели-
кое множество этих мертвых соленых рыб. По словам мат-
росов, их пробовавших, они вполне годились в пищу».
Вы читаете эти строки и вспоминаете какого-нибудь
Синдбада-морехода, осторожно причаливающего на своем
корабле к неисследованному и, может быть, враждебному
людям острову.
229
А между тем этот отрывок из вполне реалистической
книги Константина Паустовского о Кара-Бугазе, мертвом
заливе Каспийского моря.
У Паустовского, наряду с чувством ответственной проб-
демы, есть конкретность, теплота и юмор собственных на-
блюдений. А ведь ни теплоты, ни юмора никогда не было
у тех компиляторов, которые писали когда-то книги о земле,
природе и людях, не видя по-настоящему ни людей, ни при-
роды, ни земли.
Но главная удача лучших книг о строительстве и об от-
крытии новой страны в пределах наших границ заключается
в том, что они действительно проникнуты пониманием «диа-
лектики природы».
Эти книги враждебны прежней, будто бы объективной
и беспристрастной географии и этнографии. Вместо непо-
движных представлений о природе, людях и обычаях, они
стремятся показать читателям меняющуюся связь явлений,
дать такое пристрастное и неравнодушное описание земли,
после которого возникает желание бороться и перестраи-
вать жизнь и природу.
Такова, например, новая книга М. Ильина71, которую,
быть может, уже знают по нескольким главам, напечатан-
ным в журналах.
Книга эта — о переделке природы, о постройке новых
рек, о «приходо-расходной книге» Каспия, о завоевании
пустыни и тундры, о том, как люди идут по следам
геологических процессов в поисках богатств, скрытых в
земле.
Вот несколько отрывков из одной главы этой новой
книги:
«...Есть живая фотография — кино. Живой географиче-
ской карты еще нет. Но если бы такая живая карта суще-
ствовала, мы увидели бы на карте странные вещи.
На наших глазах Америка тихо снялась бы со своего
места и поплыла по направлению к Азии — через Великий
океан. Она плыла бы пе очень быстро, всего только три
метра в год или около этого* Но если бы можно было уско-
рить ее движение на карте, мы увидели бы, что в конце
концов Америка причалила бы к Азии, подмяв и поломав
ее восточные берега. И тогда они вместе составили бы один
великий азиатско-американский материк. Так будет когда-»
нибудь, если правильно учение геолога Вегенера о пере-
мещении материков...
230
Мы заметили бы, что моря не остаются неизменными,
что они меняют свои очертания, как вода на тарелке, если
тарелку покачивать. Наступая на сушу, море затопляло бы
целые страны, образуя все новые и новые заливы, острова,
перешейки.
И вслед за тем обратным движением оно открывало бы
опять огромные площади дна...
...Реки, сбегающие с гор, растащили бы при нас эти
горы по песчинке и унесли бы в море...
...Еще быстрее передвигались бы на карте леса, степи,
пустыни... Черные веточки рек шевелились бы и росли. Нам
стало бы ясно, что у каждой реки своя жизнь, полная при-
ключений... Реки на живой карте воевали бы между собой,
отнимая друг у друга притоки, захватывая у соседок вер-
ховья и бассейны.
Так было когда-то с Маасом, у которого правые притоки
отнял Рейн, левые отняла Сена. 06 этом пишет француз-
ский геолог Огг...
...То, что раньше казалось случайным и загадочным, —•
поворот реки, разорванная горная цепь, извилина морского
берега, — теперь стало бы понятным, как внезапно решен-
ная задача.
При взгляде на живую карту нам стало бы ясно, почему
восточные берега Америки повторяют западные берега Афри-
ки. Там, где у Америки выемка, у Африки выступ. Геолог
Вегенер говорит, что Америка когда-то оторвалась от Ста-*
рого Света, как огромная глыба, и пошла на Запад.
Мы узнали бы, что Великий океан — это не просто океан,
а рубец, рана на теле планеты, образовавшаяся еще в те
времена, когда Луна оторвалась от Земли, чтобы идти соб-»
ственной дорогой (гипотеза Пикеринга)».
Все, что я здесь привел, — это только отрывки из вступ-
ления к рассказу о том, как переделывает у нас Землю
социалистический труд.
«Я сказал, — говорится в этой книге дальше, — что жи-
вой карты еще нет. Но это неверно. Я сам видел живую
карту. Это было в Академии наук осенью 1933 года.
В конференц-зале около кафедры докладчика (Глеба
Максимилиановича Кржижановского) высилась чуть ли не
До самого потолка карта СССР.
И вдруг карта ожила. Поворот выключателя — и на пей
вспыхнули красные черточки плотин, голубые пространства
°Рошенных полей, красные капилляры каналов, зеленые
231
полосы лесов» Как вены на руке, перетянутые шнуром, взду-
лись выше плотин голубые веточки рек, разлились голубыми
пятнами озера-водохранилища. Побежали зеленым пункти-
ром линии электропередач, связывая между собой города и
области. Загорелись белые огни электростанций. Вот Са-
марская ГЭС, вот Ярославская, Пермская, а вот и це-
лое сверкающее созвездие — плеяда валдайских электро-
станций.
Это то, чего еще нет. Еще нет этих озер, этих плотин,
этих электростанций. Перед нами была карта нашей страны,
какой она будет через три пятилетки...»
В сущности, новая книга Ильина — это продолжение его
«Рассказа о великом плане». В обеих книгах автор ставит
одну и ту же задачу — связать самые различные геологиче-
ские, географические, технические проблемы с нашим строи-
тельством, связать в образах и ощущениях, как они связы-
ваются в жизни, — то есть дать о науке и строительстве
художественную книгу.
В этом принципиальное отличие наших новых книг от
старой юношеской литературы, которая давала науку от-
дельно от жизни, жизнь отдельно от науки и внушала чи-
тателю убеждение в том, что все на свете неизменно: реки,
горы, границы, троны, парламенты, оседлый и кочевой об-
раз жизни, характер народов и даже промыслы того или
ипого российского уезда. В одном уезде вечно будут «бить
баклуши» — делать деревянные ложки, в другом — катать
валенки.
Кстати, о профессиях. Старая, дореволюционная книжка
о плотниках, о стрелочниках или о водолазах ухитрялась
изображать каждую профессию так, будто она пожизненна,
наследственна и обособленна. В книжках о железнодорожни-
ках не было железной дороги и, уж во всяком случае, не
было транспорта. В них изображались будка и семафор,
а сюжетом рассказа было какое-пибудь бедствие или чу-
десное спасение. Без этого ничего интересного не полу-
чалось.
У нас рассказы о профессиях, рассказы о труде только
начинают появляться.
Нельзя же считать рассказами те унылые худосочные
«производственные» книги, которые кормили ребят гайками,
опилками и стружками.
Трудно сказать, что хуже: старая «будочная» мелодрама
или эти беллетристические реестры гаек?
232
Но разве не может быть такой книжки, которая расска-
зывала бы о железнодорожниках, не впадая в мелодраму
чудесных спасений и не превращая всю железную дорогу
в склад буферов и шпал?
Может — и даже есть.
В этом году Н. Григорьев72 написал рассказ «Полтора
разговора».
В рассказе этом столько материала, сколько вмещает
самый добросовестный очерк. Тут и диспетчерская работа
во всех ее подробностях, и паровозы всех систем — от виз-
гливой «Овечки», которая таскает вагоны на Сортировоч-
ную станцию и обратно, до басовитой «Щуки», тянущей за
собой тяжелый хвост товарных вагонов — этак в полкило-
метра длиной.
А есть еще на железной дороге великолепный паровоз
«Элька».
«Видали вы Эльку? Ее и по голосу сразу узнаешь. Не
гудок — оркестр. Восемьдесят километров в час, сто кило-
метров дает паровоз.
В топке рев; голову высунешь в окно — не то что фураж-
ку, волосы с головы сорвет. А ход ровный, плавный. Маши-
нист нацедит себе стаканчик чаю, примостит его на котел,
к арматурному патрубку, — даже не расплещется чаек. Вот
это ход! Когда «Эльку» на график примешь, будто кто но-
жом полоснет по сетке...
«Элька» не всякие поезда водит.
Случалось вам ездить на «Красной стреле»? Вот это —
Элька!
Но главный герой рассказа — не паровоз, а человек, ма-
шинист «Щуки» Каратаев.
Отправляют в Магнитогорск срочный груз — доменные
воронки. Падо их насильно вогнать в расписание, втиснуть
в график, а в графике и без того тесно. «Десять минут — и
поезд. Десять минут — и поезд. Вот уже пора «Красную
стрелу» отправлять, а ведь перед пей па пятьдесят кило-
метров путь должен быть чист».
Если не пройдет «Щука» перед «Красной стрелой», зна-
чит, дело отложено на завтра.
И вот взялся машинист Каратаев удрать на «Щуке» от
«Эльки». Целых шестьдесят три километра должен он уди-
рать. Удерет или не удерет?
Отсюда рассказ идет без замедления, без передышки до
233
тех пор, пока не решится спор между доменными ворон-
ками и «Красной стрелой».
И спор этот — не азартная игра, не гонки, не скачки.
Это одна из диспетчерских задач, которые приходится ре-
шать ежедневно.
В старину, когда Октябрьская дорога была еще Нико-
лаевской и на билетах печатались орлы, — в те времена
каждая станция действовала за себя, без всякого диспет-
чера. Да ведь и движение, в сущности, небольшое было.
Какова промышленность, таково и движение.
Диспетчерская служба появилась у нас с революции.
«В хозяйстве — план, на заводах — план, значит, и грузы
надо возить по плану».
Этот вывод делает автор книжки, и тот же самый вывод
делает читатель, который только что вместе с диспетчером
решил труднейшую железнодорожную задачу. Книжка дала
читателю не голые лозунги, не декламацию и не те деко-
ративные подробности, которыми часто бесцельно щего-
ляют авторы, лишенные замысла и материала.
Новое отношение к хозяйству, к труду, к социалистиче-
ской ответственности разительно отличает книжку о дис-
петчере и машинисте от старых рассказов о стрелочниках
и вагонных бандитах.
Еще труднее было проявить новое отношение к труду
в книге о той экзотической профессии, которою издавна
интересуются все подростки. Я говорю о водолазах. Водо-
лазы с незапамятных времен мелькали на обложках и
картинках авантюрных журналов. Занятие у них было та-
кое: добывать со дна моря черные жемчужины для невесты
индийского раджи, сражаться с осьминогами и разгадывать
тайны затопленных четыреста лет тому назад испанских
каравелл.
Недавно о водолазах написал книгу водолаз К. 3°л°"
товский73. В этой книге водолазы выведены не подводными
бродягами и кладоискателями, а подводными мастерами.
Вот что пишут об этой книге ребята: «Когда я взял книгу
в руки, то с первого же взгляда мне показалось, что книга
будет рассказывать о каких-то фантастических похождениях
водолазов. Но, прочитав несколько страниц, я разочаровался.
Я понял, что в ней описывается жизнь тех водолазов, кото-
рых я встречал часто на Фонтанке. «Ну, чего здесь интерес-
ного?» — подумал я. Но меня заинтересовала простота изло-
жения в книге. Я стал читать и, к своему удивлению, не мог
234
оторваться. Странно, никогда я не думал, что водолазы
играют такую роль в строительстве социализма! В этой
книге я не нашел недостатков».
Книга, в которой читатель не находит недостатков, —
вряд ли скучная книга. Ведь от скуки и самый кроткий чи-
татель становится придирчивым и видит в книге тысячи не-
достатков: и язык ему нехорош, и герои как-то несимпа-
тичны, и психология не вполне понятна.
В «Подводных мастерах», как видите, все оказалось на
месте. Очевидно, книга заставила читателя в конце концов
забыть пристрастие к лжеромантическим водолазам, увлекла
его какой-то новой романтикой.
Это потому, что «подводный мастер» — каждый день под-
вергает свою жизнь опасности — и не ради жемчужин ин-
дийской принцессы. Спускаться на многосаженную глубину
ему приходится для того, чтобы прорыть тоннель под зато-
нувшим миноносцем, осмотреть заросший губками и водо-
рослями ледокол на дне Полярного моря.
А насколько причудливее и богаче морское дно, по ко-
торому тянет кабель озабоченный и серьезный водолаз, чем
отвлеченные таинственные глубины «Мира приключений»!
И все же отдельные очерки и рассказы о железнодорож-
никах, водолазах, летчиках еще не решают задачи, стоящей
перед нами. Нам надо создать повести и романы, полные
событий и приключений, но связанные с реальностью и по-
казывающие беспредельные возможности .человеческой
мысли и труда.
7. ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, ЗВЕРИ, ГЕРОИ
Я взял для примера всего несколько книжек — Гайдара,
Пантелеева, Паустовского, Лоскутова, Ильина, Григорьева,
Золотовского.
Жаль, что время не позволяет мне рассказать подробно
и о других книжках, не менее принципиальных и достой-
ных внимания.
Следовало бы хоть вкратце остановиться на нашей гео-*
графической книге — книге о путешествиях.
В анкетах читателей-детей чаще всего упоминаются
Два литературных жанра: «приключения» и «путешествия».
«Приключения» на языке ребят далеко не всегда озна-
чают авантюру. Чаще всего — эт° события, эпизоды, факты.
235
Требуя «приключений», читатели настаивают на сюжетной
книге, а иногда даже на целой серии сюжетных книг с об-
щими героями.
К путешествиям они предъявляют точно такие же требо-
вания. В своих письмах к Горькому ребята говорят о це-
лых библиотечках путешествий. В одних письмах такие би-
блиотечки охватывают мореплавателей эпохи великих откры-
тий, в других — все путешествия на полюс, в третьих —
экспедиции советских ученых.
И все эти книги должны, по мнению ребят, быть либо
героическими романами, вроде «Капитана Гаттераса» 74, либо
подлинными дневниками путешественников.
По совести говоря, это вполне законное требование,
исходящее из правильного понимания задач литературы.
Либо документ, либо свободный роман. Географическую ком-
пиляцию, за неимением лучшего, наш читатель тоже, конеч-
но, примет, но без особой радости.
Ведь обычная компилятивная книжка, чаще всего состря-
панная из сведений, которые можно найти в энциклопеди-
ческом словаре, из случайных цитат, взятых из записок
путешественников с придачей бутафорских псевдобеллетри-
стических подробностей, — всегда выдает свое суррогатное
происхождение, отдает маргарином.
После такой книжки не захочешь сделаться исследова-
телем полярных стран и непроходимых горных ущелий.
Географические повести не должны фабриковаться с
помощью ножниц и клея.
Разве мало у нас замечательных воспоминаний о путе-
шествиях разных времен — от старинных «хождений» в
чужие земли до кругосветных перелетов? Надо научиться на-
ходить их и обрабатывать так, чтобы они становились увле-
кательными и понятными, не теряя ничего в своей подлин-
ности. А разве нельзя использовать дневники, доклады,
записки наших советских ученых, моряков п летчиков, воз-
вращающихся чуть ли не каждый день из самых смелых и
ответственных экспедиций?
Если из ста участников экспедиций найдется хотя бы
один, умеющий свободно и живо записывать свои наблюде-
ния, а из ста литераторов тоже окажется один, способный
дать нам эпопею арктического или каракумского похода, —
у наших ребят скоро будет своя географическая библиотека
настоящего художественного качества и документальной
точности.
236
К сожалению, наши путешественники редко печатают
путевые записки, ограничиваясь только докладами и статья?
ми. А писатели хоть и начали у нас путешествовать, во
уехали пока не слишком далеко, не дальше путевого очерка.
Еще редки у нас такие книги, как «В дебрях Уссурий-
ского края» В. К. Арсеньева. Эта книга написана настоящим
путешественником и настоящим писателем и одинаково лю-
бима взрослыми и подростками.
Еще меньше книг о путешествиях для младшего возраста.
И не удивительно. Для этого возраста чаще всего писали
о путешествиях двоюродные племянницы путешественников
и присяжные компиляторы.
Сейчас у нас есть такие замечательные писатели, как
Борис Житков, автор смелых и свободных «Морских исто-
рий», человек, написавший классическую книжку для детей,
которая называется «Про слона». В этой маленькой книжке
дается совершенно реалистическое и вместе с тем сказочное
представление об Индии. Вот, например, прибытие в индий-
ский порт: «Ведь это, знаете, когда сушей едешь... все по-
степенно меняется. А тут две недели океан, вода и вода, —
и сразу новая страна. Как занавес в театре подняли...»
Первый спуск на берег. Первая встреча со слоном па до-
роге.
Все эти подробности запоминаются читателем надолго —
почти как собственные впечатления. И не мудрено: Борису
Житкову нигде не изменяет точность наблюдений, меткость
глаза и меткость слова. Именно эти качества делают его,
В сущности, довольно сложную и своеобразную прозу понят-
ной и доступной маленьким читателям.
До революции сюжетные повести о животных были у
нас почти исключительно переводные — Сетон-Томпсон75,
Робертс76, Лонг77 и др.
Правда, в детской библиотеке можно было найти корот-
кие рассказы о животных из «Четырех книг для чтения»
Л. Толстого, «Муму» Тургенева, «Каштанку» Чехова. Но
не Толстым и не Чеховым определялось качество наших дет-
ских книг о животных. Больше всего места на книжных
полках в библиотеке для ребят занимали жалостливые рас-
сказы о клячах, на которых возят слишком много воды, или
° птичках, которые умирают в клетках.
237
Я до сих пор помню две книжки, которые были у меня
ь детстве. Одна называлась: «Любите животных», а другая
«Уж и жаба, бедные зверьки».
В книгах этих не было ни научной основы, ни свежих на-
блюдений и, уж во всяком случае, не было голоса писателя.
Такие книги, изготовленные ремесленниками литератур-
ного дела, не могли, разумеется, послужить образцом для
нашей детской литературы о животных.
Сейчас наш молодой писатель может не только изучать
рассказы Льва Толстого, но он может опереться и на опыт
книг для детей, написанных М. Пришвиным («Записки еге-
ря Михал Михалыча» и др.) 78, на повести и рассказы Бо-
риса Житкова79, В. Бианки80, на книжки, написанные и
нарисованные Евгением Чарушиным 81.
Михаил Пришвин — писатель для взрослых. Пожалуй, не
всякий ребенок, а только прирожденный натуралист, путе-
шественник и охотник согласится обойтись без внешне за-
конченной фабулы и полюбит книги Пришвина за поэтиче-
ское виденье мира, за богатство языка и материала. Но
Зато всякий писатель, который захочет писать о природе,
оценит пришвинские рассказы для детей и многому на*
учится у них.
Романтическая фабула и серьезные знания естественни-
ка — вот что привлекает ребят в рассказах и повестях Ви-
талия Бианки. Это, пожалуй, первый из наших детских
писателей, который ввел в свои книги настоящий биологиче-
ский материал, не отказываясь в то же время от создания
сюжетной повести. Это не очень легкая задача, и поэтому
не удивительно, что Бианки ради сюжета иной раз впадает
в ту же облегченную англо-американскую беллетристич-
ность, которая вполне очевидна в его повести о «Мурзуке»,
но зато совершенно отсутствует в строгих, богатых материа-
лом книгах типа «Лесной газеты» и «Аскыра».
Эта статья — не обзор. Я не могу здесь говорить сколь-
ко-нибудь подробно о замечательных по своей тонкости и
точности охотничьих рассказах Евгения Чарушина, не могу
остановиться на книгах Лесника82, оригинального и талант-
ливого лесного корреспондента, который приносит город-
скому жителю в рассказах, очерках и фельетонах освежаю-
щие сведения о погоде, об охоте, о рыбной ловле, о том, что
делается в лесах, реках, в парках и заповедниках.
Нет у меня места и для подробной оценки книжек Ольги
Перовской83, а ее книжки было бы интересно рассмотреть
238
хотя бы потому, что ей свойственно понимание читателя,
верный учет его возраста и требований.
Важнее всего здесь отметить то, что книжка о зверях,
играющая огромную роль в мировоззрении ребенка, отре-*
шается у нас от двух своих главных грехов.
Она уже перестала говорить о «немой и страдающей
душе зверя», запрятанной в грубую и мохнатую шкуру, и
понемногу перестает подменять живого зверя этой самой
мохнатой шкурой, заготовленной пушторгом для экспорта.
Исторических книг для детей у нас мало.
Если наш ребенок прочтет даже самый полный их комп-»
лект, вся мировая история расположится в его сознании при-*
близительно таким образом: Спартак — Иван Грозный —•
Петр Первый — Пугачевский бунт — декабристы — Николай
Первый — Николай Второй — 1905 год — 1917 год.
Получается лестница, которая должна вести на десятый
Этаж, а состоит всего-навсего из девяти ступенек, или, вер-
нее, из тысячи зияющих провалов.
А может случиться еще хуже. Все ступеньки перепута-*
ются. Пугачевский бунт окажется после декабристов, а Ни-*
колай Первый станет перед Петром Первым.
Разумеется, нельзя и не следует надеяться, что все про-
валы и пустоты в этой лестнице исторических сведений бу-*
дут в ближайшее время заполнены художественными произ-
ведениями: повестями и романами. Да и какие бы это были
романы, если бы они писались последовательными сериями —>
по триста страниц на каждую эпоху!
Дать ребятам историческую перспективу может только
школа. Даже для того, чтобы понять и оценить историче-
ский роман, ребята должны располагать хотя бы минимумом
представлений и сведений.
Но все-таки большинство людей начинают по-настоя-
щему любить историю или отдельную ее эпоху после хоро-
шей исторической повести или увлекательной драмы, уви-
денной в театре. Для одного человека это хроника Шекспи-
ра84, для другого — «Борис Годунов», для третьего — «Князь
Серебряный» А. К. Толстого, романы Вальтера Скотта85, а
может быть, и Дюма 86.
В старой детской литературе были сотни повестей и
«Шерков о самых различных эпохах.
239
«Чудеса древней страны пирамид»87, «Три тысячи лет
тому назад» («Книга о воинах, о мирной жизни греческого
народа и о греческих мудрецах») 88, «Печать Цезаря»89,
«Дети-крестоносцы» 90, «Под гром пушек» (рассказы из фран-
ко-прусской войны) 91, «Кто были паши предки славяне и
как они жили»92, «За царевича» — историческая трилогия
Авенариуса93 и т. д.
Это были целые шкафы книг, толстых и тонких, «роскош-
ных» и «народных», написанных немецкими доцентами и
русскими литераторами, о которых в рецензиях обычно гово-
рилось:
«Один из плодовитейших писателей, автор множества
популярно-исторических романов и повестей. Произведения
его не отличаются художественностью, но их смело можно
рекомендовать детям среднего и старшего возраста. Они бу-
дут прочитаны не без удовольствия».
Воскрешать все эти «смело рекомендованные» книги нам
незачем. Даже традиции и методы большинства из них были
бы нам чужды и враждебны. Нам нечему учиться у плодо-
витейшего романиста Авенариуса, но надо вспомнить, что
в старой исторической библиотеке для детей были: «Жиз-
неописания» Плутарха (в сокращении и в обработке) 94,
«Песнь о Роланде», «Песни скальдов»95, «Илиада», «Одис-
сея», Тит Ливий96, Бенвенуто Челлини97, русские летописи,
былины, исторические песни.
Надо вспомнить, что на одну повесть приходилось не-
сколько серьезных книжек, содержащих исторические очер-
ки и документы с комментариями.
Пожалуй, эти научные книжки так же малопригодны
для советского школьника, как и роман «За царевича». И все-
таки, перелистывая их, мы можем сделать важные практи-
ческие выводы.
Если мы хотим создать для детей настоящую историче-
скую библиотеку, которая будет служить основой их куль-
туры, мы не должны гнаться за скороспелой и поверхност-
ной фабрикацией исторической беллетристики.
Нам следует отобрать из мировой литературы и заново
перевести или тщательно подготовить к изданию историче-
ские поэмы, баллады, сказания и романы, которые дадут
детям представление о далеких эпохах.
Нам надо взять все, что возможно, из нашей лучшей
современной исторической беллетристики для взрослых, иной
раз подвергая ее переработке, но никогда не допуская ме-*
240
панического сокращения и вульгаризации. Вспомним, как
пересказал Шекспира Чарльз Лэм 98. Этот пересказ завоевал
в английской литературе почетное место.
Но одной беллетристики мало.
Мы должны обратиться к нашим серьезным специали-
стам-историкам и с их помощью смело дать ребятам в руки
настоящие исторические исследования, — конечно, доступ-
ные их возрасту.
Мы знаем, как любит читатель-ребенок и подросток—*
чувствовать себя исследователем, искателем потерянных
следов.
Такого читателя легко увлечь серьезной задачей — рас-
шифровкой загадочной надписи, восстановлением эпохи по
ее осколкам и обломкам, поискам исторической истины там,
где она была искажена и затушевана чуждыми нам идеоло-
гами.
Мы должны дать детям исторические документы — ле-
тописи, хроники, записки, — с новыми комментариями. Но
только надо помнить, что комментарий — это не унылые и
обязательные примечания редакции, а подлинный голос на-
шего времени. Комментарий может не только осветить по-
новому старую книгу, но и обогатить ее.
Отбирая материал для создания исторической библио-
теки, мы должны учесть, что у каждой эпохи были свои
сюжеты, свои любимые герои. Мы тоже должны облюбо-
вать своих героев, находя их на самых различных страни-
цах истории. Нам нечего бояться далеких эпох. Смотрите,
с каким интересом расспрашивают ребята в переписке с
Горьким о строителях пирамид, о финикийских моряках, о
средневековых ученых, которых сжигала инквизиция.
Но это не значит, что нужно заслонить стариной те не-
давние события, очевидцы которых еще находятся среди
нас. Во множестве писем читателей повторяется настойчиво
просьба о том, чтобы старые большевики рассказали
про свае революционное прошлое, про жизнь в ссылке, про
бегство из тюрьмы, про то, как они работали в военных под-
польных организациях на фронте, как онп брали Кронштадт
и Перекоп.
Все дело в правильном и принципиальном подборе исто-
рических сюжетов. В ряду событий, которые станут темой
наших будущих очерков и повестей, одни факты будут
впервые найдены или выдвинуты нашей исторической ли-
241
тератур ой, другие заново пересмотрены и поданы в новых
соотношениях, соответствующих подлинной правде истории.
И вот тогда, когда мы создадим целую историческую
библиотеку из классических романов, научных книг и доку-
ментов, — станут на место и те наши детские исторические
повести, которые представляют собой сейчас редкие и порой
довольно шаткие ступеньки лестницы, ведущей на десятый
этаж.
Их еще очень мало, новых исторических повестей.
Нашим писателям-историкам, пишущим для детей, рабо-*
тать трудно. Они работают на читателя, который так мало
Знает, который чуть не путает Александра Первого с Алек-
сандром Македонским. ЭТ0МУ читателю ничего не говорят
тонкие литературные намеки и цитаты. Он никогда не слы-
хал о том, что Екатерина Вторая переписывалась с Ферней-
ским отшельником ", он даже не догадывается, что женские
прически в два аршина высотой знаменуют времена Людо-
вика XVI и близость революции.
Для него книга должна говорить обо всем с начала до
конца, монументально и просто, а такая задача по плечу
только мастеру.
Но дело не в одной монументальности.
Дореволюционному историческому беллетристу, автору
какой-нибудь «Византийской орлицы», было легко писать
потому, что работал он по определенному рецепту. Он брал
готовую идею казенного образца, тысячу раз уже использо-
ванную, разношенную, как старый башмак; брал готовые
декорации из оперы «Рогнеда» 100 и костюмы с картины «По-
целуйный обряд» 101 и, не задумываясь, писал роман для
юношества со звонким эпиграфом: «Славянские ль ручьи
сольются в русском море...»
Взрослому квалифицированному читателю такая книжка
в руки не попадала. Она шла в «народ» и в детскую.
Наши писатели, работающие над исторической книгой
для детей, — даже самые рядовые писатели, — отлично зна-
ют, что одной бутафорией им не обойтись. На них лежит
слишком ответственная задача; увидеть подлинные социаль-
ные основы событий и в то же время не обезличить
истории.
Тут уж материал приходится искать не в опере.
Есть у нас небольшая повесть Татьяны Богданович102
под названием «Ученик наборного художества». В ней гово-
рится о «наборщиках академической типографии времен
242
Елисаветы Петровны. Весь материал, все человеческие жиз-
ни, о которых рассказывается в повести, — не отсебятина.
В основе книги лежат документы, собранные с бережным
вниманием в архивах старейшей типографии. Тут и прика-
зы, и прошения, и даже счета. Зачем все Это понадобилось
автору? Затем, чтобы дать картину эпохи, верную истори-
ческой правде.
Не одной только Т. Богданович, по и Елене Данько 103,
Георгию Шторму104, Александру Слонимскому105, Сергею
Григорьеву и всякому талантливому и добросовестному ав-
тору нашего времени приходится заново собирать свой ма-
териал для того, чтобы по-новому осмыслить историю.
Степан Злобин, написавший книгу о Салавате Юлаеве,
долго собирал и документы, и устные башкирские преда-
ния, прежде чем решился взяться за повесть.
Надо по достоинству оценить смелость и трудность за-
дачи Злобина, который попытался посмотреть на пугачевский
бунт глазами башкира Салавата и для этого собрал новый,
еще никем не использованный материал 10е.
Ремесленникам детской книги дореволюционных лет ни-
когда не приходилось решать столь серьезные задачи. Они
были эпигонами и нахлебниками большой литературы.
ДЕЛО ГЕРИНГА О ПОДЖОГЕ
I
Чаще всего пишут письма в редакцию англичане. Это
настоящие мастера эпистолярного дела.
В любом номере многоколонной, убористой, невозмути-
мой, из века в век газеты «Таймс» вы найдете целую стра-
ницу, заполненную самыми неожиданными и разнообразными
мыслями и чувствами читателей.
Викарий какой-нибудь Кауфордской церкви сообщает
редактору о своем удачном опыте разведения гиацинтов или
иерусалимских артишоков. Отставной полковник напоми-
нает о забытой 175-й годовщине охотничьего клуба, членом
которого он состоит вот уже сорок седьмой год. Мисс та-
кая-то из Йоркшира обращает внимание на судьбу племени
Ням-Ням, до сих пор не просвещенного светом истинного
учения. А леди такая-то из Ланкашира рекомендует всем
читательницам не пить натощак кофе.
Все эти письма от первого до последного слова состав-
лены по строгой форме, начиная с любезного обращения
к редактору и кончая горделивым названием усадьбы, замка
или дома, откуда послано письмо.
За последнее время мне пришлось много заниматься
письмами, полученными в редакциях наших советских газет
со всех концов Союза.
Нельзя сказать, чтобы эти письма были написаны по
всей форме. Английские викарии пишут изящнее и глаже.
244
Но я уверен, чго в количестве и в разнообразии сюжетов
наши письма нисколько не уступают «письмам к редактору»
газеты «Таймс».
Особенно примечательны письма одной многочисленной
категории читателей, которая обычно обращается к редак-
тору «Правды» или «Известий» так:
«Дядя редактор».
Или:
«Дорогой дяденька редактор».
Или:
«Дорогой дядя автор».
Нетрудно догадаться, что читатели, которые называют
редактора дяденькой, годятся по своему возрасту ему в пле-
мянники.
И в самом деле, в конце каждого письма обязательно
стоит цифра 8, 10, 12 или 13, и эта цифра означает возраст
корреспондента.
II
В этом году нам повезло. Дважды представился нам
случай узнать из первоисточника, чем живут дети нашего
Союза, о чем они думают, к чему готовятся.
Казалось бы, что мудреного в такой задаче? Порасспро-
сите первых встречных школьников, как они поживают, что
поделывают, что читают, — и вы сразу узнаете, кто они та-
кие. Так обычно думают взрослые люди с долгим жизнен-
ным опытом и короткой памятью. Эти взрослые часто забы-
вают, что они и сами были когда-то детьми и что не так-то
легко доверялись они в то время расспросам первого встреч-
ного.
Для того чтобы ребенок заговорил с вами полным го-
лосом, искренне, смело, не стыдясь ни своих радостей, ни
своих огорчений, — так, как разговаривает он с товари-
щем, — вы должны либо заработать его доверие, либо как-то
особенно ему понравиться, до того понравиться, чтобы он
влюбился в вас по уши.
Два человека добились в этом году у наших ребят и
того и другого. Они вызвали не одну тысячу школьников,
пионеров и даже ребят из детского сада на большой, серьез-
ный разговор, слышный всему Союзу и даже за его пределами.
Эти люди — М. Горький и Георгий Димитров.
245
Ill
Переписка детей с Горьким уже опубликована. А о том,
что писали дети Георгию Димитрову, до сих пор еще мало
знают. Мне хотелось бы познакомить читателей с эти-
ми письмами, потому что в них, как и в письмах, получен-
ных Горьким, слышен подлинный голос наших советских
ребят.
Горькому дети подробно писали о том, что они читают
и что хотят прочитать. А заодно рассказывали о себе, о сво-
ем быте, о своих желаниях и затруднениях.
Димитрову ребята пишут всего только на одну тему —
о самом Димитрове, о его революционном подвиге, о том,
как они рады его пребыванию в СССР.
Но и в эти письма проникают мысли и факты, по кото-
рым можно угадать характер корреспондента, представить
себе его деревню, город или городишко, его родителей и то-
варищей, почувствовать его двенадцатилетнюю удаль.
IV
Почти в каждом письме есть несколько слов, обращен-
ных к редактору или к редакции.
«Я очень прошу напечатать это письмо, а если не можете
напечатать, то пошлите письмо по почте, а если не можете
по почте, то пришлите мне адрес, я сам отнесу».
Вот какие это настойчивые корреспонденты! Даже ав-
торы любовных писем не могли бы с ними состязаться. Они
с удовольствием взяли бы на себя роль собственных поч-
тальонов, лишь бы только доставить письмо прямо в руки
адресату.
Но хорошо тем, кто живет в Москве. Из какого-нибудь
Большого Сундыря или из Гуляй-Поля письмо в Москву не
понесешь. Да и по железной дороге его не так-то просто
отвезти.
«Я не могу поехать в Москву, — жалуется девятилет-
няя Наталья Пушкина из гор. Горького, — я не знаю, на ка-
кой поезд садиться».
Зато все авторы писем уверены в том, что т. Димитров
Знает, «на какой поезд садиться», и смело приглашают его
к себе.
246
Приглашают в Ленинград, в Кременчуг, в Архангельск,
в Одессу, в Кривой Рог, в деревню Притыкино, в Ойротию и
в Красную Чувашию.
Если бы т. Димитров принял все эти приглашения, ему
пришлось бы бросить всякие дела и посвятить ближайшие
три года своей жизни путешествию на пароходе, в поезде,
в автомобиле, на лошадях, а кое-где и пешком.
«Приезжайте к нам в гости в г. Минск, хотя бы на не*
сколько дней, мы все хотим вас видеть — я, и мой папа, и
мама, и наша работница Люся, Я хожу в детский сад-ну-
левку».
Так пишут маленькие. Те, кто ходит уже в 3-й или
в 4-й класс, приглашают т. Димитрова не только от имени
своей семьи и работницы Люси, а от всего своего звена,
от всей школы, от всего города.
У каждого есть чем похвалиться:
«Дядя Димитров, мы бы хотели, чтобы вы приехали
к нам на Краммашстрой и увидели, какой завод здесь пост-
роили. А пока до свиданья. Вова Краков, 9 лет».
«Можно ли т. Димитрова попросить приехать к нам
в Шатуру, можно ли с ним лично поговорить? Если можно,
то как это сделать? Мы бы его сводили на нашу электро-
станцию. Пионеры 2-го отряда».
«Дядя Димитров, пишите, как вы живете, как вообще де-
ла и все остальное. Дядя Димитров, наши пионеры просят
вас приехать к нам в Гуляй-Поле посмотреть, как школа
работает, как колхозы к посевной кампании подготовились,
как наш завод работает и все остальное. Пионер Каменев».
«Дорогие дяди Димитров, Попов и Танев, приезжайте
к нам на Крив Буд (Кривой Рог) к пуску домны Комсо-
молки. Шура Шройфельд, 8 лет».
По этим пригласительным билетам можно отлично изу-
чить первую и вторую пятилетку.
Все ребята зпают наизусть, чем гордится их город или
колхоз. В одном письме упоминается электростанция, в дру-
гом новая домна, в третьем всего только инкубатор, где «вы-
водятся и воспитываются цыплята» и где работает мама
пионерки Таси Хреновой.
Только в очень немногих письмах ребята пытаются за-
манить т. Димитрова в гости не домной или нефтяным фон-
таном, а красотами природы.
«Я очень прошу, чтобы вы приехали к нам в Киев.
Город очень красивый, много цветов и зелени. По своим
247
природным богатствам Киев берет одно из первых мест по
СССР. У нас вы бы отдохнули. Жду вашего приезда. Леня
Хватов».
Когда-то семь городов спорили из-за Гомера.
Георгий Димитров может с полным правом сказать, что
из-за него спорят 77 городов и 777 колхозов.
Даже Большой Сундырь предъявляет на него права.
«Мы просим приехать к нам в Красную Чувашию, как
мы хорошо живем и строим хорошие дороги... Нашего Боль-
шого Сундыря Райисполком премировал двумя легковыми
машинами за дорожное строительство».
Кто чем, а Большой Сундырь гордится дорогами»
Читая это письмо, можно себе представить, как
радовались все сундырцы от мала до велика в тот день,
когда новая машина пронеслась у них первый раз по новой
дороге.
Одни москвичи и ленинградцы убеждены, что т. Димит-
ров и без их указаний знает все, что есть примечательного
у них в городе, и поэтому пишут просто:
«Наш адрес — Ленинград, улица Халтурина, д. 4//,
кв. 30, второй этаж, дверь направо».
Или:
«Приезжайте ко мне, мне очень хочется лично побеседо-
вать с вами. Я ученик 2 класса. Учусь от 1 до 5 ч. Выход-
ные дни 5, 11, 17, 23, 29. Н. Полоцкий 9 лет (Москва)».
В один из этих дней — 5-го, 11-го или 17-го — т. Полоц-
кий, очевидно, будет ждать т. Димитрова у себя дома.
Но может ли т. Димитров обойти все московские и ле-
нинградские квартиры, в которых его ждут по выходным
дням пионеры и школьники?
Большинство ребят не задумываются над этим во-
просом.
Только один деловой парень лет 11 написал в редакцию
такое трезвое и обстоятельное письмо:
«Просим тебя, редакция, чтобы вы нам устроили свида-
ние с т. Димитровым, Поповым и Таневым. Но если нельзя,
то напишите, почему нельзя. Некоторые ребятишки просят,
чтобы т. Димитров к ним в гости ходил. Это невозможно,
чтобы к каждому на квартиру ходить, помереть можно. Ско-
рей помрешь, чем всех обойдешь. Вы, товарищи из редак-
ции, устройте нам свидание и объявите через газету. Мы все
соберемся. Дорогая редакция, постарайся».
248
V
Начиная, примерно, с девяти — одиннадцати лет, человек
ищет для себя подходящего героя.
У каждого времени всегда был свой детский герой и свой
герой юности, образец ума, доблести, находчивости, силы.
Большинство ребят в прежние времена находило таких
героев в романах о рыцарях или в повестях о суровых и бла-
городных индейцах.
Но подумайте, что почувствовал бы двенадцатилетннй
школьник, если бы в его город прибыл собственной персоной
«Последний из Могикан» 1 или Ричард Львиное Сердце!
К сожалению, таких сюрпризов никогда не бывало. Все
детские герои в конце концов оказывались либо покойни-
ками, либо вымыслом беллетриста.
Но мы живем в исключительную пору. Наш ребенок мо-
жет встретиться со своим героем лицом к лицу. Если это
не полярный капитан Гаттерас, то это летчик, спасавший
челюскинцев, если это не Овод из романа Войнич, то это
революционер Георгий Димитров.
Много месяцев следили наши ребята за великолепным
поединком Георгия Димитрова с фашистскими судьями.
И, наконец, их герой победил своих врагов, его вырвали из
темницы и перенесли по воздуху прямо в Москву — чуть ли
не в объятья к его двенадцатилетним друзьям.
Теперь его можно встретить на московской улице, ему
можно послать по почте письмо. И вот ученик 1 класса
Георгий Паниотов из города ЗапоРожья взволнованно и то-
ропливо пишет:
«Я все знаю, как был суд, и что ты говорил, и как вы
прилетели. Я знаю, что рабочие нашего города пригласили
тебя на Днепрострой. Так если будешь здесь, то заходи, по-
жалуйста, к нам. Я так рад, дядя Димитров, что я ношу твое
имя, и буду стараться стать таким, как ты».
VI
Чем же завоевал Георгий Димитров всех этих ребят
из Запорожья, всех подростков из Большого Сундыря и
Гуляй-Поля?
Ребята сами отвечают на это:
249
«Товарищ Димитров, мы следили за каждым твоим сло-
вом на Лейпцигском фашистском суде, мы чувствовали, что
их замыслы о поджоге неверны. Каждое твое слово на суде
звучало справедливостью...»
А один десятилетний школьник, Борис Курганов из Вла-
димира, посылает Димитрову чуть ли не почетную грамоту:
«Я очень доволен вашей речью. Как геройски вы защи-
щали компартию и своих товарищей. Вы больше защищали
товарищей, чем себя самого, и не помогли Герингу угрозы
о смерти».
О Геринге, о фашистских судьях ребята говорят язви-
тельно, насмешливо, злорадно.
«Я читала, как фашисты хотели вас обвинить и как вы
сами их здорово крыли. Я особенно радовалась, когда вы
своими вопросами выводили из терпенья председателя».
Это пишет школьница 4 класса, девочка лет двенадцати,
Нина Ольховская.
К председателю Лейпцигского суда, которого фашист-
ские газеты называли «симпатичной фигурой в сединах»,
она относится как к своему личному врагу.
Но еще острее ненавидят ребята подлинного поджигателя
рейхстага — Геринга. Димитров и Геринг стали для них
главными фигурами процесса. Один — коммунист, другой —-
фашист, один — герой, другой — провокатор.
«Мне очень понравилась ваша выдержка на суде, — пи-
шет Димитрову московский третьеклассник. — Особенно тот
момент суда, когда Геринг сказал вам: у меня бы рука не
дрогнула уничтожить ваше существование. — А вы спокойно
ему ответили: на это вы способны!»
Не один московский третьеклассник — тысячи наших ре-
бят с восторгом повторяли каждое меткое слово Димитрова
на суде.
Сейчас, вспоминая это время, они говорят Димитрову:
«Вы были нашим учителем по чтению газет. Приходя из
школы, я прежде всего бросался к газете, так как я боялся,
что вас убьют или замучают в тюрьме».
Зато какая шумная радость была у ребят, когда газеил
сообщили о том, что Георгий Димитров уже в Москве!
Каждый из ребят переживал эту радость по-своему:
У пионера Каменева из Гуляй-Поля «от радости сердце
перестало стучать».
У десятилетнего Бориса Курганова из Владимира «серд-
це от радости забегало».
250
У кузнецких пионеров «сердце забилось, и по телу про-*
бежала дрожь».
Я думаю, что ребята говорят о своих сердцах всерьез»
а не фигурально. Сердца у них действительно в рти минуты
бегали, стояли и прыгали.
Как не поверить в искренность писем, если в них рядом
с торжественными декларациями можно найти самые про-
стые и наивные признания:
«Дядя Димитров, когда я прочитал газету, что вы выехали
в Москву, я с газетой побежал к своему товарищу, но его не
оказалось дома. И по радио передавали, когда вы приехали,
но перед этим днем нам кто-то перервал провод».
Вот сколько неудач в один день! И товарища дома не
было, и провод перервали.
Но разве могут такие мелочи испортить человеку «са-
мые счастливые дни в его жизни»?
Об этих днях лучше всего рассказывают ребята из та-
тарской школы. Они пишут по-восточному, несколько цве-
тисто, зато очень выразительно:
«Мы, ученики школы села Татаро-Башмаковки, уже
три дня ходим в редко бывающем восторге и радости.
Иногда, сами забывая, в чем дело, мы задаем друг другу
вопрос: почему я чувствую себя веселым? Почему у меня
сердце прыгает в какой-то радости? И отвечаем друг другуз
«И у меня, и у меня!» Тогда кто-нибудь из нас напоминаетз
«А Димитров?» И начинается пляска с криками: «Приехали9
вырвались, герои, молодцы!»
VII
Какое дело Герингу, Геббельсу, Бюнгеру2 до того, что
думают о них советские школьники? Разве может сколько-
нибудь обеспокоить их негодование Лени Хватова, ученика
3-го класса киевской школы, или возмущение Лиды Белоус
из 2-го класса краматорской школы?
А между тем и Лида Белоус и Леня Хватов пишут так,
как будто выносят приговор по делу Геринга о поджоге
рейхстага.
Они обвиняют и оправдывают, утверждают и отрицают.
Вот их приговор по пунктам:
1* «Тов. Димитров! Вы не дали обвинить германскую
компартию в поджоге, не испугались фашистского суда и
251
разоблачили его перед всем миром». (Пионеры завода
«Шарикоподшипник», Москва.)
2. «Мы, пионеры, знаем, что компартия и Коминтерн
террористическими актами не занимаются. Мы учили это
на уроках обществоведения». (Полтава, 17-я школа.)
3. «Тов. Димитров, в споре с Герингом вы неустрашимо
и мужественно доказали, что он, а не коммунисты подожгли
рейхстаг». (Одесса, 49-я школа.)
4. «Тов. Димитров, на суде вы боролись за хорошую
жизнь рабочих, еще вы боролись за революцию». (Тася
Хренова, гор. Дмитров.)
Этот детский приговор окончателен и обжалованию пе
подлежит.
В сущности, это суд будущего поколения, суд истории.
VIII
Письмо к своему герою — для ребят не частное дело,
а важное и ответственное выступление. Они стараются пи-
сать как можно лучше, торжественнее и умнее.
В некоторых случаях это приводит их к тому, что они, —
подобно многим неопытным ораторам и публицистам, — за-
путываются в пышной фразе. Но они выбираются из словес-
ного лабиринта, как только заговорят о том, что их трево-
жит и занимает.
Вот начало одного из таких писем:
«Многоуважаемые тт. Димитров, Попов и Танев, при-
вет вам от учеников 6-й и 7-й группы Архангельской деся-
тилетней политехнической школы.
Ценны вы для нас в историко-культурном процессе тем,
что вы были в тяжелом положении в Германии и боролись
за освобождение пролетариата за границей»...
А вот конец того же письма:
«Дорогие товарищи Димитров, Попов и Танев, сообщите
нам, где делся Тельман3, почему его не слышно. Мы за по-
следние дни в газете не встречали его имени. Пожалуйста,
сообщите по адресу С. Малороссийская-Архангельская, уче-
нику 6-й группы Каяку Михаилу».
Очевидно, судьба Тельмана по-настоящему беспокоит ре-
бят. «Где Тельман? Почему его не слышно?» — такими сло-
вами люди говорят обычно о своем пропавшем товарище,
252
о близком родственнике, который давно не шлет о ce6q
вести.
А ведь Тельмана никто из них и в глаза не видел. Ну-
жен был целый год тревог и волнений за судьбу человека,
чтобы его незнакомое имя стало звучать, как имя друга.
В письмах ребята много рассказывают о том, как жадно
ждали они почтальона с газетой, как бегали к приятелям
слушать радио для того, чтобы узнать последнюю судебную
новость.
«Мы вместе с вами пережили страданья и мученья», —
пишут Димитрову ученики одесской 49-й школы.
IX
Что рассказывают наши ребята Димитрову о себе?
Только в письмах самых маленьких упоминается иногда
их семья, родственники, товарищи, домработница Люся. Они
посылают трогательный привет Димитрову и его маме от
себя и от своей мамы.
Школьники говорят в письмах о своем ученье. И гово-
рят с какой-то удивительной честностью, не скрывая даже
своих плохих отметок.
Юра Новожилов из Москвы сообщает:
«Я сейчас имею отметки больше на «удовлетворительно»
потому, что я писал очень толсто и каждая буква сливалась
с другой и получалось грязно. А теперь я обещаю испра-
виться и с лучшими пионерами и комсомольцами строить
социализм, чтобы прогнать фашизм».
Ребята не сомневаются в том, что т. Димитров понимает
их условный школьный язык, похожий на телеграфный код.
Наталья Пушкина пишет ему «Я учусь на 8х., 1 в. х. и
1 УД» («Хорошо», «весьма хорошо» и «удовлетворительно»).
А восьмилетняя Р. Войман с Украины говорит: «Учусь
па «добре», обещаю учиться на «дуже добре».
Кое-кто из ребят посылает Димитрову нечто вроде своего
послужного списка.
«Дядя Димитров, я расскажу вам, каким я был во 2-й
и 3-й группе и каким я стал в 4-й группе. Когда я был во
3-й группе, то не было ни одной перемены, чтобы я не был
в канцелярии за плохие дела (или побью кого-нибудь, или
ведро с водой перекину и другие дела). То же самое я делал
6 3-й группе. Меня в год выкидывали из школы раз пять,
253
наверно, и принимали. Я давал обязательство больше не де-
лать таких штук, а не выполнял. А когда я перешел в 4-ю груп-
пу, я понял, что больше таких штук не надо делать, что нужно
себя взять в руки. Теперь я стал ударником и на доске кра-
суюсь. Дядя Димитров, я даю вам слово быть первым удар-
ником на всю школу, какая имеет 840 учеников, и продол-
жать дело так, как вы продолжали».
Все эти сообщения о школьных успехах и неуспехах
больше всего похожи на военный рапорт. В рапорте все
должно быть точно и честно. В рапорте не должно быть
утайки и прикрас.
«Мы, ученики глухого уголка Ойротии, Турчатского
Аймака, Гурьяновского сельсовета, Айнской школы, прочитав
в газете, что вы, товарищ Димитров, приехали в Москву,
решили написать вам поздравительное письмо. Мы, хоть и
с опозданием на 22 дня, а все же узнали о вашем прибытии!
Нас в школе 34 человека, 3 группы. Все мы дети колхозни-
ков и трудящихся единоличников. Скажем вам, как мы
учимся.
В 1-й группе учится плохо Дмитриев Коля и Загород-
нева Маня, во 2-й группе — Казанцева Нюра, в 3-й группе
учится плохо Дьянкова Валя, Полосухин Игнаша, Караваев
Миша. Получают «неуды» по некоторым предметам Касмы-
нин Ваня, Загороднев Ваня и Караваева Тоня. Но мы вам,
товарищи, обещаем, в честь вашего приезда к нам, подо-
гнать по всем предметам, наблюдать чистоту, приходить
в школу умытыми, чисто одетыми, с вытертыми ногами, за
горячим завтраком не шуметь, не шалить, не хулиганить».
Дальше следует еще двадцать два обещания.
Но какое отношение имеют все эти школьные отметки,
горячие завтраки и опрокинутые ведра к лейпцигскому про-
цессу, к товарищу Димитрову и его соратникам?
Такое же, какое имеет дисциплина в одном отряде к бое-
вой готовности всей армии.
ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОМ ОТКРЫТИИ
В этом альманахе печатается научный очерк М. Брон-*
штейна, написанный для детей старшего возраста, но инте-*
ресный — я полагаю — и для взрослых.
Научный очерк для детей рядом с художественной про-
зой и стихами для взрослого читателя — это сочетание мо-
жет показаться необычным и странным.
Все так давно привыкли к тому, что детская литера-
тура помещается на особой полке — самой нижней в
шкафу.
С незапамятных времен «детская» литература так же,
как и ее сестра — литература «народная», была вне поля
зрения людей, обладающих хорошим вкусом, вне суда и за-
кона литературной критики.
Под пестрыми обложками дореволюционных книжек для
Детей и для «народа» можно было найти все что угодно: и
безыменные слащавые стишки про ангелов и птичек, и бойко
состряпанную смесь из чудес природы и фокусов со спичка-
ми, и даже — иной раз — повесть Н. В. Гоголя, на обложке
которой фамилия автора была обозначена так: «В. М. Доро-
шевич» L
Невежество, безграмотность, неумелое и беспомощное
любительство, примитивный дидактизм — вот что прежде
всего бросается в глаза, когда извлекаешь из архива роскош-
ные томики сусально-«золотых библиотек», и невзрачные
книжонки научно-популярных серий.
^Мы предъявляем к нашей советской литературе для де-
тей высокие требования — идеологические и художествен-
нее. В области научной детской книги у нас проделаны
255
опыты, которые в общей литературе ставились до сих пор
очень редко и случайно.
Создаете^ новый литературный жанр — детская научно-
художественная книга, и работают над этим новым жанром
не присяжные посредники между наукой и литературой —
компиляторы и популяризаторы, а серьезные научные работ-
ники и писатели.
Это дает детской литературе право на интерес широких
читательских кругов — без различия возраста.
Недавно американский рецензент, разбирая одну из
советских научных книг для детей, сказал о ней сле-
дующее:
«Мы даже не представляли себе, что детям можно да-
вать такой крепкий раствор науки».
Очевидно, рецензента больше всего удивило то, что в
детской научно-популярной книге и в самом деле говори-
лось о науке. Ведь все так давно привыкли находить в кни-
гах этого рода только гомеопатические дозы научных мыс-
лей и фактов, растворенные в водянистых рассуждениях о
пользе науки, о красоте и стройности мироздания, о «тай-
нах природы», о «чудесах науки и техники».
Этот слабый раствор мысли подслащали обыкновенно,
как микстуру, сахарином так называемой занимательности.
По-видимому, ремесленники научно-популярного цеха, изо
дня в день поставлявшие публике тощие приложения к дет-
ским журналам и роскошные альбомы с факелом науки на
переплете, мало верили в занимательность самой науки. Для
того чтобы сделать свой предмет занимательным, они приду-
мывали всевозможные аттракционы. Через каждые пять или
шесть страниц читателям обычно предлагался отдых от нау-
ки в прохладном беллетристическом оазисе.
Правда, и беллетристика эта была под стать науке — то-
же не настоящая. Нельзя же считать художественным обра-
зом какой-либо персонаж из задачника, например, того
знаменитого пешехода, который вышел когда-то из города
А и пошел навстречу пешеходу, вышедшему из города Б.
А между тем именно такие призрачные пешеходы шага-
ли по страницам заурядной научно-популярной литературы
для детей. Но здесь они выступали в роли старших братьев,
показывающих младшим опыты по электричеству, или в ро-
ли просвещенных отцов из «Вселенной» Герштеккера2,
Забавляющих Ваню и Машу ежевечерними беседами по
географии.
256
Не перевелись такие книги и в наше время. Правда, они
несколько подновились. Отцы-резонеры заменены в них
ударниками-педагогами, а братья — любители опытов — всту-
пили в комсомол и угощают друг друга научно-технически-
ми докладами. Но, вглядевшись, вы сразу узнаете в этих
бесплотных комсомольцах классических пешеходов из задач-
ника. У тех и других — одна и та же цель, одна и та же
забота: обмануть читателя, подсунуть ему под беллетристи-
ческим соусом заплесневелый сухарь науки.
Когда-то вся эта кухня нужна была потому, что ребенка
и подростка считали неспособным усвоить настоящую науч-
ную пищу — неподслащенную и неразбавленную. С ребен-
ком не принято было говорить искренне, говорить серьезно.
Автор сентиментальной и даже восторженной научно-попу-
лярной книжки нисколько не обязан был переживать всерьез
те чувства, которые он высказывал ребенку. Все его санти-
менты были притворные, ханжеские, дидактические.
В наше время и в нашей стране отношение к читателю —
ребенку и подростку — иное.
Лукавая и фальшивая дидактика нам не к лицу. Мы
уважаем науку и уважаем ребенка. Мы помним особенности
детского возраста, но это обязывает нас не к упрощению,
а к простоте, к последовательности и ясности мысли.
Конечно, ребенок требует от книги занимательности,
но занимательность должна быть достигнута не посторон-
ними средствами, не развлекательными интермедиями, а
самой сущностью книги, ее темпераментом, ее идейным
богатством.
А это возможно только тогда, когда автор сам увлечен
научной проблемой, когда он имеет право свободно и уве-
ренно, по-хозяйски, распоряжаться своим научным мате-
риалом.
Но и это еще не все. Автор, владеющий терминологией
науки, должен уметь отказываться от терминов там, где
возможно без них обойтись. Такое умение дается лишь
тому, кого точность научных формулировок не отучила на-
всегда от живой речи.
Итак, воображение, темперамент, живая и свободная
речь, богатый материал, идеологический и фактический, —
вот условия, без которых невозможна хорошая научная
книга для детей. Другими словами, она подчинена тем же
законам, что и всякое произведение искусства. Ее можно и
Должно мерить меркой, приложимой ко всем видам худо-
9 С. Маршак, т. в 257
жественной литературы, — то есть степенью ее искренно-
сти, идейной высоты и литературного вкуса.
Есть ли у нас уже такая литература? Она создается на
наших глазах. Книги Житкова, Ильина, Паустовского, Би-
анки, Н. Григорьева и других дают нам право надеяться,
что научно-популярная литература уступит наконец место
литературе научно-художественной.
Автор рассказа о «Солнечном веществе» М. Бронштейн —
физик, сотрудник Ленинградского физико-технического ин-
ститута.
В литературе (я имею в виду не специально-научную
литературу, а общую) он выступает впервые. Его «Солнеч-
ное вещество» выйдет отдельной книгой с дополнениями и
иллюстрациями в ленинградском Детиздате 3.
Книга М. Бронштейна — это не перечень успехов науки
и техники, обычный в популярной литературе. Это рассказ
о тех барьерах и затруднениях, которые стоят на пути вся-
кого открытия. Это рассказ о коллективной работе множест-
ва ученых на протяжении десятков лет. Рассказ о единстве
науки.
Несколько лет тому назад М. Горький писал: *
«Прежде всего наша книга о достижениях науки и тех-
ники должна не только давать конечные результаты чело-
веческой мысли и опыта, но вводить читателя в самый про-
цесс исследовательской работы, показывая постепенное пре-
одоление трудностей и поиски верного метода» 4.
Именно эту задачу и поставил перед собой автор «Сол-
нечного вещества», рассказывая историю одного из самых
замечательных открытий физики и химии.
Удалось ли ему решить свою задачу—пусть судит читатель,
• М. Горький, О литературе. Сборник статей, стр. 145*
Изд-во «Советская литература», 1933. (Прим, автора.)
ДЕТИ О БУДУЩЕМ
Меня давно уже интересовал вопрос о том, как пред-
ставляют себе наши дети будущее, о чем они мечтают, чего
ждут.
Недавно под Ленинградом в одном из пионерских ла-
герей я спросил об этом ребят. Лил сумасшедший, гро-
зовой дождь, и нам всем не оставалось ничего другого,
как сидеть в лагерной столовой, похожей не то на летний
театр, не то на барак, и беседовать. Тут было полторы
сотни детей разных возрастов — от восьми до пятнадцати
лет.
Вероятно, мой вопрос показался ребятам неожиданным.
Мы только что читали с ними книгу, и они настроились слу-
шать, а не говорить сами. И вдруг — извольте: как вы пред-
ставляете себе жизнь лет через десять, двадцать, пятьде-
сят, сто?
Наш разговор начался с молчания.
Потом ребята переглянулись между собой, и по их взгля-
дам я понял, что хоть мой вопрос и застал их врасплох, по
беседа все-таки состоится.
И в самом деле, с одной из дальних скамеек раздался
голос:
— Не знаю, что будет. Не угадаешь! Думаю только, что
будет очень хорошо.
— Ну, еще бы! — отозвались в другом углу.
9*
259
— А как вы думаете, — спросил я, — какие у ребят бу-
дут лагеря лет через десять или пятнадцать?
Тут разговор сразу принял деловой и хозяйственный
оборот.
— Ну, будет много мячей, игр... И все кровати будут
с сетками, чтобы не проваливаться.
Это сказал маленький пионер, лукаво посматривая на
вожатого.
Вероятно, этому пионеру не раз случалось проваливаться
на пол вместе с тюфяком и одеялом.
— Вот тоже! Нашел о чем говорить! — засмеялся кто-
то рядом. — Я думаю, в каждом лагере будет своя парашют-
ная вышка!
Парашютная вышка сразу оторвала нас не только от ла-
герных кроватей, но и от земли. Следующий пионер загово-
рил уже о Марсе:
— Я не могу дождаться, когда люди долетят до Марса.
Это надо сделать поскорее, и люди будут туда летать, вот
как теперь ездят из Ленинграда в Москву.
— А первая остановка будет на Луне!
После этого ребят уже не надо было вызывать на разго-
вор. Одна за другой стали подниматься руки.
— Но ведь на Луне нет воздуха. Человек не может жить
без воздуха и воды, — сказал какой-то скептик.
— Ну, и что ж с того! Будут брать с собой воду и воз-
дух. Как сгущенное молоко в банках.
— Зачем в банках? В баллонах!
Долго говорили ребята о межпланетных путешествиях
на «ракетопланах».
— Может, удастся устроить хозяйство на Луне или на
Марсе! — сказала одна из девочек.
Очевидно, пионерка имела в виду не собственное хозяй-
ство, а что-то вроде лунного совхоза или марсианского кол-
хоза.
Та же девочка сказала:
— Государств на Земле не будет. Люди будут жить не
в государствах, а в климатах. Неграм, например, я думаю,
нужен жаркий климат.
В этом разговоре я заметил одну особенность.
Для наших ребят «будущее» и «коммунизм» — равно-
значащие понятия. В разговоре то и дело одно слово заме-
нялось другим, и этого никто даже не замечал.
260
Девочка, которая утверждала, что неграм нужен жар-
кий климат, так описывала будущее:
— Трамваев не будет, а только аэропланы. Кондуктор
скажет: «Площадь Льва Толстого!» Гражданин выскочит н
спрыгнет на парашюте... Если не на остановке спрыгнет,
воздушная милиция его оштрафует.
— А если его ветром отнесет? — спросили ребята.
— Ветра при коммунизме не будет!
— Почему ж это не будет?
— Да научатся погодой управлять, вот и все.
— При коммунизме, — сказал мальчик, которого мне
представили как лучшего музыканта в лагере, — при ком-
мунизме музыку знать будут все, как теперь умеют читать
и писать. Я читал, что животные и те хорошо воспринимают
звук. Ведь вот телефон, радио передают звук на расстояние.
Я думаю, что диких зверей можно будет приманивать зву-
ками, и звуками можно будет сообщаться с разными плане-
тами.
Много еще говорили ребята о будущем. Одни — о пла-
нетах, другие — о том, можно ли устроить в будущих горо-
дах движущиеся тротуары разных скоростей — для тех, кто
гуляет, и для тех, кто идет по делу; третьи спрашивали,
нельзя ли искусственно провести в человеческом мозгу но-
вые извилины, чтобы люди стали умнее; четвертые говорили
о подвижных домах; пятые — о воздушных велосипедах;
шестые — о газонаполненных скафандрах для гигантских
прыжков над землей; седьмые — о притяжении к Арктике
теплых течений.
Впрочем, у всех ребят было одно общее: будущее пред-
ставлялось им счастливым.
— Но у меня есть еще такое желание — сказал девяти-
летний мальчик с узенькими черными глазами и с челкой
на лбу. — Часто бывает, чго два товарища уговариваются,
что им делать. Один говорит: пойдем гулять, а другой гово-
рит: не хочу, буду лучше читать. Так вот я бы хотел, чтобы
в будущем люди научились так сговариваться, чтобы никто
Друг другу не отказывал.
Не знаю, осуществится ли когда-нибудь мечта мальчика
о том, чтобы на свете не осталось неразделенных желаний.
Но высказал он эту мечту от всей души.
Да и не он один, а все ребята — и большие и малень-
кие — говорили о будущем с настоящей искренностью и с
261
чувством ответственности. Было похоже на то, что в сосед-
ней комнате сидит волшебник, от которого зависит осущест-
вление всех этих желаний. И потому ребята ожесточенно
оспаривали всякое легкомысленное предложение. Да таких
предложений почти и не было.
Только один из младших пионеров не то в шутку, не то
всерьез высказал совершенно невероятную гипотезу:
— Я думаю, что дома будут золотые, в тысячу эта-
жей, автобусы будут тысячеместные, а легковики — сто-
местные!
Должно быть, этот мальчуган еще не вышел из того воз-
раста, когда все, что блестит, кажется прекрасным и тысяча
всегда кажется лучше сотни, а сотня — десятка.
ЗА БОЛЬШУЮ ДЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ
1
Всего несколько лет тому назад стране нужны были
только пятитысячные и десятитысячные тиражи детских
книжек. Сейчас речь идет о стотысячных и даже миллион-
ных тиражах. Отчего это произошло? Оттого ли, что наши
книги стали в десять или во сто раз интереснее? Нет, это —
результат всеобщей грамотности.
Для литературы расширили и углубили фарватер.
Если книга требуется в таких тиражах, это означает,
что она идет в самую глубь страны, в те места, где еще дет-
ской книги не знали, ко всем народам и племенам нашего
Союза.
Давайте прежде всего вообразим себе этого небывалого
по численности и по своему социальному облику читателя
детской книги.
Наша обязанность — дать множеству растущих людей
представление о широком и сложном мире, в котором они
будут со временем жить и действовать.
Разговаривая с нашим читателем, детство которого про-
текает в тридцатых годах нашего столетия, мы имеем дело
с человеком пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годов!
Мы должны дать этому человеку мировоззрение борца
и строителя, дать ему высокую культуру.
Ведь нельзя же рассчитывать на то, что школа сама
по себе, без помощи художественной книги осуществит эту
задачу. По одной схеме, без того сложного материала, кото-
рый дает искусство, человек никогда не станет грамотным»
263
не научится понимать слов, терминов и тех оборотов речи,
которые связаны с многовековой жизнью человечества.
У него не будет исторической перспективы.
Если мы с вами не путаем Людовика Девятого с Людо-
виком Восемнадцатым, то только потому, что мы читали
в свое время исторические романы и повести. А наши ребя-
та зачастую путают между собой не только восемнадцать
французских Людовиков, но и трех русских Александров.
Нужно так готовить и вооружать наших ребят, чтобы они
могли читать, ценить и понимать большую литературу.
Интернациональное воспитание, которое получают наши
дети, не будет иметь под собой прочного фундамента до
тех пор, пока они не будут представлять себе достаточ-
но реально и рельефно весь мир с его странами и наро-
дами.
У детской литературы — широкие универсальные задачи.
Вот почему Детиздат нельзя сравнивать ни с одним из су-
ществующих издательств. Ведь оп в одно и то же время по
своим задачам — и Литиздат, и научное издательство, и
техническое, и социально-экономическое, и какое хотите.
А при всем том он еще должен создавать книги на трех
различных языках, потому что в пять лет человек говорит
на одном языке, в десять — на другом, а в пятнадцать — на
третьем.
Но универсальность детской литературы не превращает
ее в какой-то ГУМ со множеством обособленных разделов
и полок. Детская художественная книга должна быть по-
знавательной; познавательная — художественной.
Ни одна научная истина и ни один житейский факт пе
дойдут до ребенка, если не будут обращены к его вообра-
жению, к его чувству. Об этом надо помнить.
Ни один ученый не сможет написать для детей хорошую
книгу, если он чужд и враждебен искусству. Ни один лите-
ратор не создаст хорошей повести, если он пренебрегает
подлинным материалом, научным или житейским.
При помощи тех или других литературных приемов, при
известном умении обращаться со словами можно, конечно,
произвести на читателя впечатление. Но ведь впечатления,
как сказал где-то Горький, бывают и во сне, — какая им
цена!
Нет, нам нужны те впечатления, которые остаются на-
долго и через много лет отражаются на поступках человека,
на его чувствах и мыслях.
264
А вызвать такие впечатления не так-то просто.
Для этого нужна плотная художественная ткань, а не
реденькие, лишь кое-где пересекающиеся нитки фактов и
сведений.
А ведь в большинстве детских книжек, написанных не-
умелыми любителями или небрежными профессионала-
ми по заказу, вы только и найдете эти четыре ниточки
основы.
Вот у Диккенса — дело другое. Не так-то легко распле-
сти его на отдельные прядки или даже вытянуть из него
хоть одну ниточку. Недаром мы, которые читали его в две-
надцать лет, помним то, что прочли, и в тридцать, и в сорок,
и в пятьдесят лет. Да и не одного Диккенса можно приве-
сти в пример. Все то, что называется искусством, даже са-
мым примитивным, — всегда сложная ткань. Вспомните
«Красную Шапочку» или «Морозко», любимую народную
песню и присказку. Какое сложное взаимодействие ритма,
фабулы, бытовой обстановки и простой поэтической при-
чуды! Вот почему так трудно подражать этим образцам.
Попробуйте выбросить хоть одно слово из народной присказ-
ки или песни. Нет, из песни слова не выкинешь.
А вот из книжки «Люлик в детском саду» — издание
1935 года — я бы выкинул все слова.
Я бы выбросил их за то, что у автора ничего не было
за душой, когда он писал эту книжку, кроме одного только
весьма похвального желания показать, как хорошо у нас в
детском саду.
Я бы выбросил за то, что автор пишет о детях и не видит
детей, не находит ни одного запоминаемого образа или
слова.
Вы прочитали книжку и узнали, что в детском саду есть
парикмахерская, докторская приемная, живой уголок и ком-
ната, где танцуют. Но для одного этого не стоило писать
книжку.
Вряд ли в памяти у ребенка останется после этой жал-
кой и реденькой книжки что-нибудь, кроме жеманных, грам-
матически неправильных фраз, вроде следующих:
«...Люлику ужасно захотелось... слушаться команды уди-
вительной пианинной тети».
«Удивительная пианинная тетя» — это, и правда, удиви-
тельно.
Или вот еще фраза: «Может быть, доктор был хороший
человек, но где мама, он определенно не знал».
265
Мы столько говорим о языке, говорим где надо и где не
надо, а в то же время позволяем засорять книжку для ма-
леньких самым скверным жаргоном.
Мне это «определенно» не нравится. Так же «опреде-
ленно» не нравится мне, что автор этой книжки Р. Энгель
позволяет себе искажать слова. Он говорит «Люликмиы
кудряшки», «малышовая группа» и т. д.
Все это из кокетства, из жеманства, из желания зама-
скировать полное отсутствие мыслей, наблюдений, пережи-
ваний.
Но, может быть, вы подумаете, что у этой фальшивой
и схематичной книжки есть, по крайней мере, свой при-
кладной смысл — ну, хоть такой, какой бывает у стихов,
которые издает Наркомздрав?
Ничуть не бывало.
У вдумчивого человека книжка способна вызвать ужас.
Вы только подумайте! Мать привела Лю лика в детский сад
и ненадолго оставила его во дворике у кучи песка. Ребенок
соскучился без матери и пошел ее разыскивать. И что же?
В первой комнате его без всяких разговоров остригли на-
голо, во второй комнате забинтовали с ног до головы. Потом
он прогулялся по всему детскому саду, выпустил из коробки
живых лягушек, прошелся по коридорам, и никто его даже
не остановил и не заметил. Ходит себе мальчик и ходит.
Но вот наконец мать увидела его.
Энгель описывает эту сцену так:
«Мама приоткрыла дверь и видит — Люлик марширует
среди ребят. Люлик или не Люлик? Голова у него вовсе не
кудрявая, а остриженная, в руке синий флажок, на другой
руке белый бинтик, на ноге — бинтище с этаким громадным
бантом, а мордашка, мордашка у Люлика ужасно доволь-
ная...»
Интересно, какая мордашка была у его матери в ту ми-
нуту, когда она увидела своего остриженного и забинтован-
ного сына.
Выходит, что детский сад — это что-то вроде мясорубки.
Попал в воронку, и тебя уже закрутило.
И пойдешь ты, как по конвейеру, по всем парикмахер-
ским и амбулаториям, пока тебя так не отделают, что собст-
венная мать — и та не узнает тебя.
Вот какая бестактность получается в результате механи-
ческого, равнодушного писания, без настоящего материала
и без художественной задачи.
266
Я потому так долго говорю о такой книжке, как «Люлик
в детском саду», что этого самого Люлика очень удобно
принять за измерительную единицу — вроде киловаттчасов,
калорий или градусов. Это единица измерения пустоты, рав-
нодушия, фальши в детской литературе. Может быть, и в
книжках писателей получше, чем Энгель, вы тоже найдете
иной раз этих Люликов в том или ином проценте.
Вот, например, возьмите книжку, мало похожую на про-
изведение Энгель.
Это книжка о спасении экспедиции, погибающей среди
льдов Арктики. Книжка на замечательную тему — о герои-
ческом походе «Красина». Написал ее Миндлин, способный
литератор-очеркист.
Но вот что подарил он детям младшего возраста.
Тетрадка из тридцати двух страниц, с тремя десятками
фотографий, с коротким текстом, набранным самыми раз-
нообразными шрифтами.
На титульном листе книжки напечатано, что рассказал ее
для малышей участник похода «Красина».
Если бы этой надписи не было, я бы никогда не поверил,
что Миндлин плавал на «Красине».
Нужно ли было так далеко ездить, чтобы сказать, на-
пример, что «на далеком севере всегда зима», что «шуба
у белого медведя теплая» или что «в море встречались пла-
вучие ледяные горы, которые иногда раздавливав
ли корабли» (выражение автора, разрядка моя).
В книжке нет ни одного человека, которого можно было
бы себе представить.
Вот как разговаривают в ней люди:
«— Начинается буря, — сказал начальник Нобиле.
— Не пробиться нам, — говорили капитану красинцы.
— Попробуем, — сказал капитан, — надо добраться!»
И все реплики в таком же телеграфном стиле.
Но любопытнее всего рассказано в книжке об одном че-
ловеке по фамилии Вильери. Кто такой Вильери, зачем его
понесло на полюс, — об этом автор не говорит ни слова.
И все же этому загадочному Вильери посвящена целая
страница из тридцати двух, имеющихся в книжке.
Четверть страницы занимает его фотографический порт-*
Рет. Молодой человек в кепке и с шарфом. Руки засунуты
в карманы. На лице улыбка.
А рядом с портретом текст, набранный крупнейшим
Пфифтомг
267
«Был среди спасенных один, которого звали Вильери».
Что же сделал или сказал этот Вильери?
«Теперь, — заявил Вильери, — никогда в жизни я не от-
правлюсь больше в страну вечной зимы».
Вот и все, что сказал и сделал этот замечательный ино-
странец Вильери.
Стоило из-за этого огород городить, печатать его портрет
в книжке, которая вышла у нас недавно пятым изданием
для детей!
Читатели никогда не узнают из книжки Миндлина, как
звали капитана «Красина». Они не получат ни малейшего
представления о том, что такое полярная экспедиция. Име-
на Нобиле, Цаппи, Мариано, Чухновского, Мальмгрена сва-
лены просто в кучу. Нет ни одного участника экспедиции,
который стал бы для детей героем.
Трагически погибший Мальмгрен, герой Чухновский и
загадочный Вильери занимают в ней одинаковое место. Все
они уравнены, все сведены к нулю. Книжка щеголяет только
крупными шрифтами разных кеглей. Но эти претенциозные
шрифты еще больше выделяют, как бы выставляют напоказ
стилистическую неряшливость автора.
В книжке говорится:
«Летит дирижабль. Вот уже миновал города, не видно
под ним зеленых полей. Все дальше летит он на север.
С каждым часом становится холоднее».
Что становится с каждым часом холоднее — дирижабль
или погода? Об этом Миндлин не думает.
Через несколько страниц он опять строит фразу точно
таким же образом:
«Возвращается «Красин» домой. Чем дальше идет, тем
теплее становится».
Этак недолго и взорвать пароход!
В книжке так мало текста, что легко пересчитать все
слова — от первого до последнего.
При такой краткости каждое слово должно быть взве-
шено и проверено. Ведь по этим коротеньким книжкам де-
ти учатся и мыслить, и чувствовать, и говорить.
Монтаж шрифтов и фотографий — это самый легкий и
колодный способ отделаться от темы.
Но дело не в шрифтах и не в фотографиях. Тем или
иным холодным способом часто фабрикуются у нас книги
на самые горячие, самые патетические, самые ответственные
темы дня!
268
Маленькая книжка не должна быть ничтожной книжкой.
Я не требую, конечно, чтобы крошечная сказочка была
подробна, обстоятельна и длинна.
Ведь вот поморские песни и сказки, в которых говорится
о море, о звере, о промысле, тоже не претендуют на то,
чтобы быть эпопеями. Однако сколько в них глубины! Ка-
кое знание моря, промыслового быта вложено в каждую
из них!
Мне могут сказать: вы сравниваете поэтическое произ-
ведение народного творчества с деловым очерком, написан-
ным по свежим следам событий. Разве могут быть в таком
очерке отстоявшиеся образы? Ведь задачей автора была не
глубина, а скорость.
Все это так, но тогда встает вопрос: нужна ли нам ско-
рость, которая не позволяет автору заметить, почувствовать
или пережить главное содержание своей книги? Нужна
ли злободневная книжка, которая беднее газетной заметки?
Нужен ли очерк, который считает своим правом быть су-
хим, скучным и неряшливым?
2
Нам, детским писателям, предстоит огромная работа.
Мы должны дать детям тысячи томов повестей, рассказов,
стихов, научных книг, приключений, путешествий.
Вот передо мной объемистый справочник Старцева по
детской литературе Ч Он издан в 1933 году «Молодой гвар-
дией».
В этом справочнике перечислено около 11 тыс. назва-
ний. Если даже исключить отсюда 2—3 тыс., которые при-
ходятся на переиздания, то ведь и тогда останется 8—9 тыс.
книг.
Тысячи детских книг! Да ведь это же целое богатство!
Если бы можно было переиздать все это хорошими тира-
жами, полки наших детских библиотек трещали бы под тя-
жестью своего груза, прилавки книжных магазинов были
бы завалены литературой, и мы перестали бы наконец слы-
шать вечные жалобы родителей, детей и педагогов на то,
что детских книг нет и читать нечего.
Просматриваешь тематический указатель в конце этого
справочника и только удивляешься. Чего-чего здесь нет! Тран-
спорт — 30 названий. Трамвай — около десятка названий.
269
Соя — 2 названия. За^мы и сбережения — 5 названий.
Заяц — 20 названий. Кролик — 10 названий. Кавказ —
26 названий. Китай — около 40 названий.
Какая богатая и разнообразная тематика. Вот бы сейчас
кинуть все это в детские библиотеки!
Но страшная беда в том, что, по крайней мере, девя1ь
десятых из этих тысяч никуда не годятся.
Некоторые из причин смертности детских книг совер-
шенно очевидны. Их поймет каждый, кто внимательно про-
смотрит хотя бы страницы справочника и хоть десяток книг
из тех, что перечислены на этих страницах.
Часть этих книг заслуженно и справедливо отмела ре-
волюция. По темам и по содержанию они были нам чужды.
Об этих не стоит сейчас и говорить.
Гораздо большего внимания заслуживают книги, напи-
санные с самыми лучшими намерениями, — книги о живот-
ных, растениях, о машинах, а иногда и на политические те-
мы. Возьмем на выборку несколько названий.
«Зрей, ячмень!» (стихи).
«Ваняткина курочка» (рассказ).
«Похождения разбойника Капризки» (из рассказов де-
душки).
«Молебен или трактор?» (что нужно знать каждому ре-
бенку на праздник рождества Христова).
«Сказку — на пионерский суд!» (детская пьеса).
«Будь почище!» (шутка).
Каждый человек, который небезразлично относится к ис-
кусству и к детям, сразу почувствует, как много в этих на-
званиях фальши и как мало вкуса, как много тенденциоз-
ности и как мало идейности.
Кто же авторы этих книжек, написанных неизвестно для
кого?
Большей частью это случайные люди. Ведь и по технике,
и по географии, и по геологии, и по ботанике, и по эконо-
мике писали для детей чаще всего случайные любители, до-
бровольцы.
Не мудрено, что их книжки, содержащие жиденькие
сведения, были рассчитаны всего лишь на один день. А уж
что касается рассказов и особенно стихов, так их можно
было писать без всяких сведений и даже без всяких способ-
ностей.
Как же это случилось? Откуда вторглась в советскую
библиотеку для детей эта безличная орда?
270
Да очень просто. В нашу детскую литературу в первые
ее годы очень легко было попасть. Она строилась почти на
голом месте, традиций у нее никаких не было, или, вернее
сказать, были, но очень опасные и плохие.
Какие традиции могла оставить нам канареечная доре-
волюционная литература, в которой корифеями были Чар-
ская, Лукашевич и Авенариус? Правда, с ними конкуриро-
вали иностранцы — Жюль Верн, Марк Твен и Андерсен.
Но русские писатели учиться у них не умели, вероятно,
не хватало культуры. А кроме того, почти до самого послед-
него времени старый Андерсен был, как известно, выстави
лен за ворота наших библиотек вместе с Чарской и Лука-
шевич 2.
Вся рта любительщина долго держаться не могла.
Была еще категория книг, написанных не любителями,
а профессионалами по срочному заказу.
Среди них вы найдете книжки о том, что «школа есть
цех завода», что главная обязанность школьников и пионе-
ров заключается в сборе лома и утильсырья, что каждый
октябренок должен воспитать дюжину кроликов и перевос-
питать свою бабушку.
Все левацкие загибы школы отразились в этой сомни-
тельной публицистике или беллетристике для детей.
Детская литература добросовестно отражала все ошибки
последних лет РАПП, уже накануне его ликвидации, все
левацкие ошибки школы 3.
Но довольно о покойниках.
Поговорим о живых книгах. Сколько бы ни было у нас
брака, аварий, неудач, — все же мы можем сказать, что эти
годы мы работали недаром.
До революции у нас в стране не было ни одного талант-
ливого мастера, который занимался бы детской книгой. Сей-
час у нас есть сильные мастера, есть ученики, которые ско-
ро будут мастерами.
Детская литература взялась за большие темы. Она реша-
ет сложные вопросы искусства и жизни. У нее есть методы,
найденные в результате серьезной, творческой работы.
Я думаю, что научно-художественной книжке положено
основание. Это сделали и М. Ильин, и Борис Житков, и
К. Паустовский, и др.
У нас есть и начало повести о детях.
Детская повесть для детей и во все времена была ред-
ким явлением.
271
В сущности, о детстве обычно писали по воспоминаниям,
и не для детей, а для взрослых.
Только англичане считались мастерами детской повести.
Недаром во всех странах Звиада до сих пор читают англий-
ские детские книги, да еще итальянскую повесть де Ами-
чиса 4.
У нас возникает своя школьная повесть.
Правда, наша школа из года в год меняется — нелегко о
ней писать. В сущности, о моральной, здоровой, веселой
школе, какой она у нас должна быть и какой она становится
на наших глазах, повестей еще нет. Есть только книги о
трудной эпохе перелома.
Но пришла уже пора для рождения и другой, новой
книги. И героями в ней будут не те, кто в первые годы сво-
ей жизни испытал столько крутых перемен в быту, в семье,
в школе, а нынешние дети, гораздо более счастливые, имею-
щие право и возможность жить законными интересами свое-
го возраста.
Эта «счастливая» книжка отнюдь не должна быть лаки-
рованной, нарочито разукрашенной, поверхностной. Мы не
должны и не имеем права возвращаться к благополучной
апгло-американской детской повести вроде книжки Бернет
о «Маленьком лорде Фаунтлерое» 5 или повести о «Малень-
ких женщинах» Олькотт 6.
Такой идиллии с готовым, заранее придуманным концом
нам не надо.
Пусть их фабрикует нынешний Запад, где хозяевами ли-
тературного вкуса в области детской книги давно перестали
быть крупные и принципиальные писатели.
Я уверен, что авторы, которые создали у нас первые
талантливые книги о детях революции, — Гайдар, Пантеле-
ев, Будогоская7, Кассиль (и многие другие, которые идут
им на помощь), — найдут новый материал и правильный
угол зрения, чтобы написать книги о тех наших детях, кото-
рые живут спокойнее и легче, чем жили их старшие братья.
Но не одной школьной повестью живет читатель-ребенок.
Его интересуют жизнь взрослых, война и мир, наша страна
и чужие страны, путешествия, приключения, природа.
Что же, и для этого всего у нас есть и найдутся люди!
Правда, их еще мало.
Но надо уметь искать, товарищи. В обсерваториях, в ла-
бораториях, на опытных полях, в походных палатках экспе-
диций всегда найдется на сотню человек один, умеющий
272
увлекательно рассказывать или писать интересные письма.
И вот из этих-то людей надо вербовать сотрудников-коррес-
пондентов детских и юношеских журналов, а иногда, в слу-
чае большой удачи, и настоящих писателей.
Нам нужно каждый день находить нового человека.
Каждый день нам надо вспоминать, какую еще книгу
из классической литературы, из советской литературы для
взрослых и из современной западной надо ввести в круг
чтения детей.
Мы должны широко использовать литературу народов
нашего Союза. А у нас до сих пор ничего не переведено из
стихов своеобразного и талантливого порта Л. Квитко8, ни-
кто не знает лучших украинских писателей: Наталью За“
билу 9, Копыленко 10, Панча п, Трублаини 12, Иваненко13 и др.
Еще менее известна у нас детская литература Белорус-
сии, Грузии, Армении и других республик Союза.
Всей этой литературой мы должны обогатить наших
детей.
У нас должна возникнуть всесоюзная детская литература.
ГОРДИТЕСЬ ПРАВОМ ПИСАТЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Это совещание, так же как и прошлогоднее, поможет
нам объединиться в коллектив, который возьмет на себя
большую творческую задачу — создание детской литературы.
У нас, по правде говоря, литературы для детей, вполне
современной и отвечающей на все запросы ребенка, еще
нет, а есть только строительство — «литературстрой». Пер-
вая очередь его уже вступила в работу, но многое еще толь-
ко строится...
Детский писатель должен знать, какова та книга, кото-
рую дети читают, перечитывают и зачитывают до дыр, а не
только лениво перелистывают; в чем особенность тех счаст-
ливых книг, которые ребенок запоминает надолго — на це-
лые годы.
Повесть (а это для читателей-подростков — самый лю-
бимый жанр) должна быть настоящей повестью, то есть рас-
сказывать, повествовать о жизни, о событиях, о людях доста-
точно глубоко, интересно и связно. У повести должно быть
свое стремительное течение, которое с первых же страниц
захватывает читателя и несет его до тех пор, пока автор не
захочет отпустить его на покой. Эту стремительность и связ-
ность повествования вы найдете во всех книгах, люби-
мых детьми: и в «Принце и нищем», и в «Айвенго», ц в «Чело-
веке, который смеется», и в «Давиде Копперфильде».
То, что дети именуют «приключениями», в различные
времена называлось в литературе по-разному: «подвиги»,
«странствования», «похождения», «путешествия». Большая
эпическая линия, проходящая через всю мировую литера-
туру» указывает нам направление, по которому должна идти
274
наша повесть для детей. Повествование о подвигах Ахилла
или Роланда и похождения Павла Ивановича Чичикова
или мистера Пиквика в равной мере могут быть названы эпо-
пеями.
Нам нужны эпопеи патетические и шутливые, а не от-
дельные лоскутные сцены и эпизоды, наскоро связанные
ученически взятой темой. Читатель хочет войти в самую
жизнь героя, делить с ним на протяжении всей книги его
скорби и радости. Читатель не может и не хочет удовлетво-
риться только шапочным знакомством с действующими ли-
цами повести.
Но в том-то и беда, что большинство наших повестей
и рассказов, — за редкими исключениями, — лишено самого
существа повествования. Прочтешь одну главу — и не испы-
таешь большого разочарования, если тебе почему-либо не
удастся прочесть следующую. В первой главе появляются
действующие лица, во второй они пропадают. Автор часто
сам не помнит обликов и характеров своих героев, не знает,
как они должны действовать. Чего уж там ждать от таких
героев читателю, если автор ничем их не одарил! Они вхо-
дят в повесть или роман с пустыми руками, а иной раз и
с пустыми головами. Писатели не умеют «изобретать» своих
героев, как Сервантес изобрел Ддн-Кихота и Санчо Панса.
А между тем в этом удачном «изобретении» персонажа по-
вести или пьесы — половина успеха. Самые характеры Дон-
Кихота, Тиля Уленшпигеля1, Санчо Панса, Фальстафа2 —
вместе со всей ситуацией, которая дается в произведении,—
определяет линию их действия, обещает читателю или зри-
телю множество заманчивых и необыкновенных приключе-
ний и эпизодов.
Но даже и тогда, когда автору не нужно «изобретать»
своего героя, а можно взять его прямо из жизни, герои у
нас почти никогда не получаются.
Во всей нашей детской литературе почти нет персонажей,
с которыми читатель может подружиться надолго, на годы.
Разве только один «Чапаев»? Но он написан не для детей
и завоевал внимание ребят лишь после удачного фильма.
Мы не чувствуем самого жанра эпопеи и в лучшем слу-
чае создаем только отдельные героические эпизоды. Нам
нужно создать повесть, которая не только рассказывает о
героях, но и воспитывает героев, А это может сделать толь-
ко правдивая и в то же время поэтическая книга. Каким же
образом она создается?
275
Для этого нет никаких рецептов, но одно можно ска-
зать с уверенностью: надо быть ближе к жизни сегодняшнего
дня, надо пристально ее изучать и вместе с тем ни на мину-
ту не забывать о той многовековой культуре, которая стоит
у нас за плечами. Эта культура помогает писателю видеть,
чувствовать и оценивать явления окружающей жизни. Для
того, чтобы написать настоящую повесть, надо знать и лю-
бить искусство повести. Иначе книга не найдет своего чита-
теля, письмо будет без адреса.
Особенно важно помнить это сейчас, когда перед писа-
телем столько новых и смелых тем, когда материалом ему
служат великие события.
Вот передо мною выступал поэт Квитко. У него есть
счастливое свойство; он просто говорит и просто пишет. Э^а
простота объясняется верным ощущением настоящей боль-
шой поэзии. Свежо и непосредственно чувствовать умеют в
нашей стране многие, но свежо и непосредственно писать
умеет только поэт, владеющий общей культурой и культурой
своего мастерства. Квитко таков. Его стихи одинаково ясны
и прочувствованны и тогда, когда он пишет «Письмо Воро-
шилову», и тогда, когда он рассказывает о жуке, которого
унесла дождевая вода. Он находит к самым ответственным
темам ту дорогу, по которой идет к ним и ребенок.
Это очень важно для детского писателя. Он всегда дол-
жен чувствовать ребенка своим спутником. Он должен гор-
диться своим правом показать ребенку в первый раз город
или целую страну, звезды, леса, людей и зверей.
Вспомните, какое удовольствие бродить с ребенком по
зоосаду, или путешествовать с ним по Волге, или осматри-
вать какой-нибудь новый завод.
Вы снова чувствуете себя тогда десятилетним мальчиком
и замечаете то, чего не замечают многие взрослые.
Но не думайте, что путешествовать вместе с ребенком
легко. Бывает иной раз так: писатель совершает свои эк-
скурсии и не замечает, что ребенка давно уже нет возле
него. Юный спутник вырвал свою руку из руки экскурсово-
да и ушел по своим делам.
Ребенок легко и с готовностью отзывается на всякое
предложение взрослого товарища. Он рад вместе с ним и
развлекаться, и дело делать. Но нужно, чтобы развлечение
было развлечением, а дело — делом.
Возьмем, например, книги о моделях. Эти книги должны
быть деловыми, практичными, точными книгами. Ребенок
276
с трудом осуществляет программу, которую предписывает
ему автор. Нелегко добыть нужные материалы, добыть инст-
рументы и научиться владеть ими. Подумайте же, какое pro
преступление — обмануть маленького мастера! А ведь у нас
рто иной раз случается.
Точность, строгость, добросовестность, умение ставить
перед собой литературную и техническую задачу — все рто
тоже невозможно без настоящей культуры. Другими сло-
вами, даже для того, чтобы написать самую скромную при-
кладную детскую книгу, надо быть серьезным специалистом
п культурным мастером, надо чувствовать жанр, в котором
работаешь.
Иногда бывает, что повесть о деятелях науки перегружают
техникой науки. В одной книге рта техника науки необхо-
дима, а другой она не нужна. Не надо превращать легковой
автомобиль в грузовик, а грузовик в легковую машину.
У каждого жанра своя задача. У нас об ртом часто забы-
вают. Забывают, для кого пишут, для чего и о чем. И вот
повесть превращается в бессистемный учебник, а учебник —
в сомнительную повесть.
Не следует думать, что отчетливость жанра, поэтиче-
ская законченность являются требованиями, которые отно-
сятся только к большим произведениям искусства.
Даже школьники знают, что пословицы, поговорки, ско-
роговорки, загадки — рто тоже произведения искусства.
А вот веселые странички в журналах, подписи под картин-
ками, шутливые двустишия и четверостишия до сих пор
существуют как бы вне законов искусства. Их чаще всего
стряпают между прочим, любительски, развязно и небрежно.
И тогда шутка превращается в зубоскальство, карикатура
перестает быть рисунком.
Я видел недавно итальянские и немецкие журналы для
детей — развлекательные еженедельники. В них, на первый
взгляд, почти не было никакой политики. Но каждому вид-
но, что и карикатуры, и рисунки с подписями, и стишки,
и анекдоты — все рто рассчитано на то, чтобы воспитать из
читателей плоских, бездушных и самодовольных людей —
фашистских лейтенантов.
Нам очень нужен юмор, нужен анекдот, веселая шутка,
смешная песенка. Но мы знаем и помним, что рто не без-
родные жанры литературы. Считалка, присказка, прибаутка
состоят в родстве с большой литературой, и, если они сохра-
няют связь с искусством, они имеют право на жизнь. Иначе
ОТ
их никто не запомнит, не заметит, не почувствует. Мало
того, вне связи с искусством они попросту превращаются
в пошлость.
Самые коротенькие стихи или маленькие рассказы для
дошкольников должны быть так же законченны, как боль-
шая повесть, как большой роман, как поэма.
Итак, для нас, детских писателей, кем бы мы ни были —
романистами или авторами подписей к рисункам, — не су-
ществует легкой работы.
Перед нами и перед Детиздатом стоят сложные задачи.
Во время выступления К. И. Чуковского А. В. Коса-
рев 3 подал очень интересную реплику. Он сказал, что
книги на ответственные темы надо писать без излишней
торопливости, потому что спешка может погубить все
дело.
Как же нам быть?
Надо спешить, и в то же время вредно слишком торо-
питься. Надо дать много книг, но нельзя снижать их ка-
чество. Это трудно.
Однако нам не следует пугаться трудностей и слож-
ностей. Мы вовсе не новички в своем деле. С начала
революции проделано много опытов, пожалуй, больше,
чем за все время существования детской литературы. Эти
опыты не пропали бесследно. У нас есть книги, которые
могут послужить положительными или отрицательными об-
разцами, есть люди, которые хранят накопленный опыт.
А главное, что должно обеспечить нам успех, — это
высокий идейный уровень нашего дела.
Ведь нам мало изготовить удовлетворительные пере-
воды, создать грамотные, понятные и нарядные книжки
для чтения, составить толковые технические и научно-по-
пулярные серии.
У нашей школы две задачи. Одна — сделать ребенка
грамотным, другая — воспитать из него гражданина со-
циалистического общества, смелого, разностороннего, твор-
ческого человека.
Те же две задачи стоят перед детской литературой.
Для решения их на помощь к нам приходят и люди науки,
и люди искусства, и руководители политической жизни на-
шей страны. Ни в одной стране созданием детской лите-
ратуры не занимается такой мощный коллектив.
Это залог того, что никогда у нас не возникнет и не
может возникнуть безыдейное потребительское издатель-
278
ство вроде Вольфа и К0. Но для того, чтобы нам даже в
отдельных частных случаях не опускаться до уровня воль-
фовского ширпотреба, необходимо, чтобы у нас ни на ми-
нуту не переставала биться здоровая критическая мысль.
Прочитайте письма портов пушкинской поры друг к дру-
гу — Пушкина к Вяземскому, Вяземского к Жуковскому.
Какие рто были суровые, требовательные, насмешливые
редакторы! И дружба их не страдала от этой острой и бес-
пощадной взаимной критики.
Между всеми людьми, которые работают над детской
книгой самых различных жанров и типов — от сказки до
технической энциклопедии, должна быть постоянная связь.
Иначе будут утрачены общие художественные принципы
и детские книги, сколько бы их ни было, не будут произве-
дениями искусства.
Этой связи могут очень помочь профессиональные, кон-
кретные обсуждения отдельных вопросов детской литера-
туры.
В заключение скажу только одно. Если мы хотим, что-
бы наша работа шла широко и крупно, нужно привлечь к
работе над детской книгой и «взрослых» писателей. Так
называемые «взрослые» писатели должны писать не толь-
ко для взрослых, но и для детей. Детские же писатели не
должны писать для педагогов и рецензентов, а тоже для
детей.
Забудьте, товарищи, рецензентов, когда вы пишете:
помните читателя и помните большие задачи своего ис-
кусства и своего времени.
«ВОЛШЕБНОЕ ПЕРЫШКО»
Обычно сказки начинались так:
«В некотором царстве, в некотором государстве...»
А рта сказка начинается по-новому:
«В одной колонии жили два мальчика: Петька и Вань-
ка-дурак».
Герой сказки, конечно, Ванька-дурак. «В одной дик-
товке он ухитрялся наборонить тридцать две ошибки.
Однажды дурак спал на поляне в лесу. Вдруг он
услышал шум. Встал он, пошарил в кустах, а оттуда выско-
чила лисица. Ванька кинулся за ней, но не догнал ее и
решил вернуться на прежнее место, чтобы узнать, кого
лисица хотела задрать. И кого же он увидел? Гуся. Кра-
сивый белый гусь важно шел ему навстречу со своими ма-
ленькими гусятами.
— Здравствуй» Ваня, — сказал гусь... — За то, что ты
спас меня и моих детей от лисы-разбойницы, я награжу
тебя. Чего хочешь? Говори!
В это время маленькие гусята запищали тоненькими
голосками:
— Мама, мама, мы знаем, что ему нужно. Ему нужно
волшебное перышко, чтобы оп ошибок в диктовке не де-
лал...
Ванька покраснел: как, оказывается, что и гусенята
знают, какой он грамотей.
— Ладно, мальчик, не красней, — сказал гусь, —
пойдем в наше государство.
И они пошли к очень красивому городу, который не-
ожиданно вырос впереди за кустами. На главной площадц
280
находилось голубое озеро. В нем купалось много гусей и
уток со своими детьми.
— Здравствуйте, Иван Васильевич, здравствуйте! —
кричали со всех сторон. Ванька поворачивался то направо,
то налево, кланялся и отвечал:
— ЗдРавствУЙте, граждане...»
Дальше в сказке говорится о том, как Ваньку привет-
ствовал вышедший из дворца павлин «с настоящими пав-
линьими перьями в хвосте». Павлин поблагодарил Ваньку
и велел дать ему волшебное перо, которое «будет писать
без единой ошибки».
«Гусь развернул свое крыло и сказал:
— Выбирай любое!
Ванька вытащил крайнее перо и, к своему удивлению,
увидел, что оно уже очинено и даже обмакнуто в красные
чернила.
В тот же день Ванька-дурак вернулся в колонию и
сказал ребятам:
— Не думайте, что я дурак. Я знаю больше вашего...
И писать умею лучше вас всех».
В диктовке у Ваньки не оказалось ни одной ошибки.
Стал он «в классе первым учеником, стал Ваней-умницей».
Осенью послали его вместе с другими лучшими учени-
ками в город, на рабфак.
Но по дороге с ним приключилась беда. Подул ветер
и унес волшебное перышко. Ваня-умница стал опять
Вапькой-дураком и с треском провалился на экзамене.
«Вернулся он домой, повесив нос».
Ему стало ясно: волшебное перышко — хорошая шту-
ка, но слишком ненадежная — подведет в самую горячую
минуту!
Эту сказку написал пятнадцатилетний Володя П., член
литературного кружка Ленинградской трудколопии НКВД
«Красная славянка». Сказка переписана на машинке и по-
мещена в альманахе «Веселые ребята», № 1, за 1937 год.
Мы, литераторы, знаем, как трудно написать настоя-
щую сказку — такую, которая содержала бы все элементы
фольклора — смелый вымысел, живую и складную речь,
неожиданный и крепкий юмор. Но еще труднее сочинить
новую сказку — с новыми персонажами, новым бытом и
новой моралью.
Даже не подозревая, очевидно, обо всех этих наших
писательских трудностях, Володя П. сочинил в свободные
281
минуты, между работой в цеху и классными уроками, вол-
шебную сказку, где действие происходит не за тридевять
земель, а в той же самой колонии, в которой живет и ра-
ботает автор, бывший беспризорник.
В тот день, когда со станции «Северный полюс» при-
шла первая радиограмма, я встретился с компанией ленин-
градских школьников.
— А вы согласились бы зимовать на льдине, как Па-
панин и Кренкель? — спросил я у них.
— Еще бы! — ответили ребята в один голос.
И, как бы подтверждая искренность и серьезность это-
го единодушного ответа, один из мальчиков спросил у дру-
гого вполголоса:
— А ты приучаешься спать зимой при открытой фор-
точке?
— Приучаюсь. А ты?
— Тоже приучаюсь.
Мы заговорили об Арктике, и тут обнаружилось, что
многие из ребят отлично знают маршруты почти всех по-
лярных экспедиций, предшествовавших завоеванию полюса
советскими героями.
Все то, что волнует нас, взрослых, не менее горячо
захватывает наших детей.
Гражданские темы звучат в их стихах и прозе, как ли-
рические темы. Говоря о своей стране, о больших государ-
ственных делах, они говорят в то же время о себе, о своем
будущем.
Вот стихи ленинградского школьника Илюши М., оза-
главленные «Кем я хочу быть».
Больше всего в этих стихах трогает и пленяет простое
и непосредственное отношение к вещам и явлениям круп-
ного порядка, — то самое отношение, которое я почувство-
вал в словах моих знакомых школьников, рассуждавших
о зимовке на полюсе и об открытой форточке.
Каждая строчка выражает настойчивую и непреклон-
ную волю автора.
Двенадцатилетний мальчик пишет:
О, хоть бы скорее я вырасти мог,
Чтоб стать боевым командиром,
Чтоб школу сменить на коня и клинок
Для дела свободы и мира.
282
И ждать мне недолго. Промчатся года.
Настанет прекрасное время.
На шлеме моем загорится звезда,
Упрусь я в железное стремя.
И буду я мчаться на верном коне,
Его понукая и шпоря,
Стрелой по полям, точно в сказочном сне,
С ветрами веселыми споря.
И если прикажут, с дивизией в бой
Помчусь я. Я буду комдивом.
Мой верный товарищ помчится со мной,
Испытанный, быстрый, игривый.
И если нарком мне прикажет: «Веди!» —
Я в бой кавалерию двину.
Помчится лавина, а я — впереди —
Веду боевую лавину.
Ни чащи лесов, ни просторы степей.
Ни горы, ни рвы, ни овраги
Не сдержат лихого напора цепей,
Стремительной конной атаки.
И, в битве кровавой врага разгромив,
Разбив его главные силы,
Пойдут эскадроны галопом в прорыв
Гулять по глубокому тылу...
Сколько веселой и благородной удали в этих стихах
нашего будущего Дениса Давыдова, поэта-кавалериста.
Только в юности можно написать такие прекрасные и
такие наивные строчки, полные игры и мальчишеского са-
молюбования и в то же время проникнутые отвагой и му-
жеством:
Помчится лавина, а я — впереди—.
Веду боевую лавину...
Не знаю, выйдут ли из этих ребят поэты и сказочники.
Но ясно одно. Те атакующие силы, которые бушуют
в стихах двенадцатилетнего поэта и многих его сверстни-
ков, не могут заглохнуть. Поэтическое вдохновение необ-
ходимо у нас в любом деле, на любом поприще.
О ДЕТСКИХ КАЛЕНДАРЯХ
Взрослые люди даже и представить себе не могут (если
только сами когда-то не пережили таких минут), какое
Это великое и незабываемое счастье — получить в детстве
первый номер своего первого журнала, сорвать бандероль,
перелистать страницы, бегло просмотреть картинки, а по-
том, усевшись поудобнее, как при выезде в дальнюю доро-
гу, углубиться в чтение рассказов с таинственными и мно-
гообещающими заглавиями.
Это и в самом деле выезд в дальнюю дорогу — в свет.
Аккуратно сброшюрованная, еще пахнущая свежей типо-
графской краской тетрадка журнала обещает интересное
и долгое путешествие по неизведанным областям жизни,
разнообразные встречи и знакомства, смешные и волну-
ющие эпизоды.
Еще большим событием в жизни ребенка может быть
детский календарь.
Это — 365 страниц, целая библиотека в одном томе;
Это — маленькая энциклопедия, справочник, хрестоматия,
собрание веселых приключений, шарад, игр, загадок, бес-
конечная галерея картинок.
Создание такого календаря — дело нелегкое.
Календарь не должен быть сборником случайной, пе-
строй, занимательной смеси. У него есть свои воспитатель-
ные задачи.
Ж
Но он не должен быть чересчур серьезен, слишком по-
следователен и систематичен. От этого он потеряет свою
привлекательность и разнообразие.
Для того, чтобы не впасть ни в ту, ни в другую край-
ность — ни в излишнюю серьезность, пи в беспредельное
легкомыслие, — составители должны четко ограничить
свои задачи в каждой из областей жизни, охватываемых
календарем. Надо ясно представить себе, что такое, ска-
жем, биография политического деятеля, ученого или писа-
теля, рассказанная для детей на одной или двух странич-
ках отрывного календаря. Надо ясно знать, какие факты
из истории могут и должны быть отмечены за год, какие
темы из области естествознания могут быть затронуты в
календаре, который стремится помочь ребятам вырабо-
тать мировоззрение, но отнюдь не претендует на сколько-
нибудь основательное и систематическое изложение научных
теорий.
Детских календарей, достойных того, чтобы послужить
нам образцами, в сущности, еще нет.
Заграничные календари — передо мною их несколько
штук — отражают тот условный и тесный детский мир,
вернее — «мирок», который мало меняется на протяжении
десятилетий.
Один из этих календарей — немецкий 1936 года — так
и называется «Die Kinderwelt» («Детский мир»). Когда
просматриваешь его — кажется, что время остановилось. Но
Это только кажется на первый взгляд. Наряду со старин-
ными сусальными ангелочками и упитанными свиньями*
представляющими собою эмблему счастья, на страницах
календарей последних лет попадаются аэропланы новейше-
го типа, а в календаре немецкого общества покровительст-
ва животным на первой странице изображен сам Адольф
Гитлер со своею собакой. В тексте того же календаря
среди изречений Заратустры!, Сенеки, Тацита, Шекспи-
ра, Шопенгауэра встречаются афоризмы новейших «мыс-
лителей» — Гитлера и Муссолини.
Широких просветительных задач эти календари перед
собою не ставят. Очевидная и главная цель их составите-
лей — ограничить круг интересов ребенка, представить ему
МиР в виде голубых небес, в которых реют сусальные ан-
геды, и земли, по которой бродят аппетитные розовые
свиньи.
285
У англичан дело обстоит несколько лучше. Прислан-
ный мне ежегодник для маленьких детей «Ваву’з Own
Annual» за 1937 год тоже не выходит далеко за пределы
«детского мира», но этот мир не так сусален и гораздо
более красочен и просторен, чем «Die Kinderwelt».
Но и английский календарь, благополучный и самодо-
вольный, не может служить для нас образцом. Единствен-
ное, чему мы могли бы позавидовать в нем, — это чистые
и яркие краски, так радующие ребенка.
В нашей стране детских календарей было очень мало.
Из дореволюционных изданий известен календарь
Клавдии Лукашевич — писательницы, хорошо знавшей
детские требования и вкусы, но не отличавшейся слишком
широким кругозором.
Советские издательства этим делом почти не занима-
лись. Передо мной три календаря, изданных в 1932,
1933 и в 1938 годах. Других детских календарей советско-
го времени я не мог найти ни в одном из наших книго-
хранилищ.
Сопоставить издания 1932 и 1933 годов с календарем,
выпущенным в нынешнем году, очень полезно и поучи-
тельно. Сравнивая их, видишь, как растут наши требова-
ния к детской литературе, как превозмогаем мы болезни,
препятствующие этому росту.
Отрывной календарь 1933 года, выпущенный издатель-
ством настольных игр «Труд и творчество», представляет
собою удивительное сочетание всех ошибок того времени,
когда в литературе царил РАПП, а в школе — педоло-
гия.
На лицевых страницах этого календаря — мазня вместо
рисунков и стихотворные лозунги вроде следующих:
Пусть современная игра
Даст нам навыки труда!
Продажа на западе нашей пушнины
Колхозам и фабрикам даст машины!
Наладим в школе политехнизм,
К станку, к машине ребят приблизим!
В кабак отец уж не ходок,
Коль дома Красный Уголок!
Календарь 1932 года (издание Огиза) тоже изобилует
стихами утилитарного характера, но посвящен он главным
образом куроводству и кролиководству, как единственным
286
утехам золотого детства («Две курочки и петушок — вот и
все хозяйство»).
Много места отведено в нем «санитарной» поэзии.
Вот громовая «филиппика», направленная против мух:
...Мухи, мухи, мухи, мухи!
Развелось их — и не счесть!
На подносе, на краюхе
Три, пятнадцать, двадцать шесть.
И жужжит и вьется тучей
Весь кусучий — рой летучий.
Зу-ЗУ-Зу! Зу-зу-зу!
Вмиг заразу разнесу!..
Всего несколько лет отделяют нас от того времени,
когда такими стихами заполнялись не только детские ка-
лендари, но и хрестоматии, журналы, чуть ли не вся дет-
ская литература.
Нужно было нанести сокрушительный удар всем схо-
ластам от педологии, чтобы избавить детей от их
опеки и освободить детскую литературу от гнета утилита-
ризма.
В новом детском календаре, изданном в нынешнем го-
ду Соцркгизом, нет уже и следов «политехнической» и
«санитарной» поэзии. Вместо нее календарь дает стихи
Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова и современных
поэтов. Темы календаря стали гораздо разнообразнее.
Школьник-моделист найдет в нем для себя схему и чертеж
самолета. Юннат узнает, чем кормить рыб в аквариуме и
как устроить ловушку для птиц. Будущие исследователи
Арктики прочтут рассказы о замечательных перелетах и
морских походах последних лет, рассказы, написанные са-
мими участниками героических экспедиций (Водопьяно-
вым 2, Богоровым 3, проф. Визе 4).
Искать интересных тем в наши дни не приходится. Не
хватает страничек календаря, чтобы рассказать обо всем,
чем богата жизнь. Испании уделено пять-шесть страничек,
подвигам пограничников — четыре странички, каналу Моск-
ва-Волга и Беломорскому каналу — всего по одной стра-
ничке.
Но недостаток места, строгие и точные лимиты — это
особенность, присущая календарю. Ее устранить нельзя.
Ина обязывает к предельной краткости, выразительности,
Четкости, мастерству.
287
Составители календаря не всегда об этом помнят.
Разве можно назвать метким такое определение Че-
хова:
«Чехов писал небольшие рассказы из жизни мелких
чиновников, торговцев, ремесленников при царизме. В сво-
их произведениях он высмеивал трусость, забитость, угод-
ливость перед высшими одних людей, грубость, жадность
и самодурство других».
Это определение может быть с успехом отнесено ко
многим десяткам беллетристов, писавших рассказы из
жизни чиновников, торговцев, ремесленников «при цариз-
ме»... Но Чехова оно не характеризует.
А можно ли назвать выразительной заметку о 1-ом Мая?
В ней нет почти ничего, что не было бы известно любому
школьнику нашего Союза.
«Первое мая — это день боевого смотра революцион-
ных сил рабочих всего мира, праздник труда и пролетар-
ской солидарности».
Нельзя ли было заменить или хотя бы дополнить эту
формулировку фактами живыми и волнующими? Голые
формулы или — что еще хуже! — трескучие тирады мало
говорят уму и сердцу ребенка.
Нехваткой места нельзя оправдать многие пробелы в
календаре. Ведь если места мало, то, значит, его надо
использовать для самого важного, самого значитель-
ного.
А просмотрите повнимательнее один из самых сущест-
венных для мировоззрения ребенка разделов календаря —
естествознание. Чего в нем не хватает? Очень немногого.
Сведений о жизни и работе Дарвина, Тимирязева, Мичури-
на. Правда, в день рождения Дарвина (12 февраля) кален-
дарь посвящает ему целую страничку, но эта страничка
рассказывает только о встрече Дарвина с Тимирязевым.
А кто они такие оба — читатель из календаря узнать не
может. Ученые, естествоиспытатели — вот и все.
Вообще биографии — слабая сторона календаря. Так,
например, из биографии Энгельса даны только юношеские
годы. Из воспоминаний о Марксе — только те, в которых
рассказывается об его отношениях с детьми (да еще при-
ведена речь Энгельса на могиле Маркса).
Все это не случайные ошибки, а серьезные пробелы в
самом плане календаря. В будущем году эти пробелы не
288
Организаторы Краснодарского «Детского городка» и «Театра для
детей», слева направо: профессор-египтолог Б. А. Леман, педагог
Л. Р. Свирский, С. Я. Маршак, поэтесса Е. И. Васильева.
Краснодар, 1921 г.
С. Я. Маршак, Москва, 1934 г. (снимок сделан во время
I Всесоюзного съезда писателей).
обходимо исправить. Надо придать каждому разделу и
циклу, как бы кратки они ни были, законченность и пол-
ноту.
Только тогда календарь, рассчитанный на сотни тысяч
читателей, станет той маленькой, занимательной энцикло-
педией, какою должен быть детский календарь в нашей
стране.
И еще одно пожелание. Дети — народ веселый. В их
календаре должно быть больше юмора, больше радости,
больше красок.
Начало делу положено. Детский календарь у нас су-
ществует. А так как время никогда не останавливается, то
надо полагать, что в редакции Соцркгиза уже идет работа
над календарем 1939 года.
10 С. Маршак, т. в
ГЕРОИ—ДЕТЯМ
1
Я слышал недавно небольшое стихотворение, которое
сразу запомнилось мне от слова до слова. Посвящено оно
полету наших героев через полюс в Америку. Эт® всего
только четверостишие, звонкое и крепкое, по лаконично-
сти своей похожее на стихотворную загадку. Вот оно:
Сан-Францпско — далеко,
Если ехать низко.
Если ехать высоко,
Сан-Франциско — близко!
Написала эти стихи молодая писательница Н. Артю-
хова 1. Ей удалось дать в короткой и веселой песенке-счи-
талке идею и тему, от которых не отказался бы и автор
Эпопеи.
В те времена, когда начинало жизнь мое поколение,
таких песен у нас в обиходе не было. Считалки и песенки,
которые мы любили повторять, были старше нас на многие
десятки лет, если не на целое столетие. Кто знает, какой
из наших прапрадедов первый спел: «Гори, гори ясно, что-
бы не погасло» или «Солнышко-ведрышко»?!
И песни наши, и сказки, и любимые игры — все было
получено нами по наследству от дедов и мало походило на
то, что делалось вокруг нас.
Мы росли, переставали играть и принимались за книги.
Как и всем ребятам на свете, нам нужны были герои, —
для того чтобы следовать их примеру, учиться у них жизни.
Мы находили своих героев в романах о рыцарских походах
290
и о покорении Сибири, в чудесных приключениях капитана
Гаттераса и завоевателя воздуха Робюра 2.
Они нам нравились, эти герои, мы были в них влюб-
лены, но учиться у них поведению, борьбе и работе было
несколько затруднительно. Уж очень резко отличался их
быт от всего того, что мы видели каждый день.
«Сан-Франциско» было невероятно далеко от нас в те
времена.
Героев мы встречали только на сцене и в книгах.
2
В наши дни слово «герой» перестало быть словом древ-
ним, античным, экзотическим.
Многие школьники расскажут вам, как принимали они
у себя в школе человека, совершившего беспримерный под-
виг. К ним еще так недавно запросто приходил Валерий
Чкалов3 — слава и гордость нашей страны. Этот сказоч-
ный богатырь усаживался среди ребят за парту и, пересы-
пая рассказ летными терминами и веселыми шутками, до-
кладывал советским школьникам о своем историческом
перелете.
Ребята взволнованно слушали своего гостя, открывше-
го Америку с Севера, и задавали ему тот вопрос, с кото-
рым они не могли бы обратиться ни к Ермаку, ни к Хри-
стофору Колумбу, ни к Гаттерасу:
— Как вы стали героем?
Гость понимал, что это не праздный вопрос, а значи-
тельный и серьезный. И он по-товарищески рассказывал
школьникам о том, как он рос и учился, какие у него
были ошибки и промахи, удачи и победы.
Он знал, что среди его слушателей-подростков могут
оказаться такие, которым предстоит не менее трудный и
блистательный путь.
8
В 1938 году издана целая серия детских книг о замеча-
тельных путешествиях по воздуху, совершенных нашими лет-
чиками.
Авторы этих книг в литературу вошли совсем недавно,
хотя имена их уже знамениты далеко за пределами нашей
10* 291
страны. Эти имена: Георгий Байдуков, Анатолий Ляпидев-
ский, Павел Головин, Константин Кайтанов *.
Все, кто сколько-нибудь знаком с ребятами, прекрасно
Знают, как жадно ищут они на библиотечных полках прик-
лючений, путешествий, героических историй, в которых
главными персонажами являлись бы их современники —
советские люди.
Книги, написанные летчиками-героями, как будто сразу
отвечают на все эти настоятельные требования наших ре-
бят: в них есть и путешествия, и приключения, и люди
сегодняшнего дня. А заодно внимательный читатель найдет
в них немало самых разнообразных сведений по геогра-
фии, по метеорологии, по технике летного дела. И ни на
одну минуту эти сведения не покажутся ему приложением,
научной приправой к повести.
Когда Головин рассказывает о восходящих и нисходя-
щих воздушных потоках, читатель следит за его рассказом,
не отрываясь ни на минуту, потому что от этих потоков
зависит успех рекордного полета, о котором герой и автор
книги мечтал с детства.
Да вдобавок в эту лекцию о воздушных течениях не-
ожиданно влетает орел, которому, как обнаруживается из
книжки, нужны для парения те же восходящие потоки, ко-
торые нужны и планеристу.
Когда Байдуков говорит о том, какими опасностями
угрожают летчику белоснежные облака, которые кажутся
снизу такими безобидными, читатель запоминает каждое
слово из этой боевой практической лекции. Еще бы! Ведь
обо всем этом рассказывает человек, который пробил на своем
пути не одну облачную гряду.
В редких повестях и романах для юношества вы най-
дете такое множество эпизодов и приключений, как в кни-
ге летчика-парашютиста К. Кайтанова. Прыжки из мертвой
петли, из пикирующего самолета, прыжки из стратосферы,
спуск на полотно железной дороги в момент, когда навст-
речу на полном ходу несется поезд... И тут же — рядом
с самыми удивительными приключениями — деловые стра-
* Г. Байдуков, Через полюс в Америку; А. Ляпи-
девский, Челюскинцы; П. Г. Головин, Как я стал летчи-
ком; К. Кайтанов, Мои прыжки, Детиздат, М. 1938. (Прим,
автора,)
292.
ницы, объясняющие читателю все особенности и сложности
летного и парашютного искусства.
И, однако, читателю ни на минуту не кажется, что
книжка раздваивается, делится на части, познавательную и
приключенческую.
Все сведения, которые дают в своих книгах лет-
чики, неразрывно связаны с действием; действие же требует
от читателя неослабного внимания к каждой деловой
строке.
Но воспитательная ценность этих книг не только в зна-
ниях, которые они дают читателю. Они учат его закалять
волю, относиться просто, строго и вдумчиво к удачам и
неудачам.
К. Кайтанов подробно останавливается на нескольких
случаях, когда парашютисты-новички перед полетом «тру-
сили». Серьезный разбор каждого такого случая заставляет
читателя заново проверить свои обычные представления
о мужестве и малодушии.
Никто из авторов-летчиков, вероятно, не ставил пе-
ред собой прямо и в упор педагогических задач. И тем не
менее книги их проникнуты настоящей воспитательной
идеей.
Быть может, наиболее выразительна в ртом отношении
книга Павла Головина «Как я стал летчиком». С какой-то
особенной теплотой и товарищеской откровенностью рас-
сказывает он ребятам о самых различных фактах и обсто-
ятельствах своей жизни. Вот Павлик Головин — школьник.
Он уже мечтает стать летчиком, но думает, что для этого
только и нужно, что вырасти большим. Учиться незачем —
ведь на самолете не задачи решают, а летают. Но вот, по-
работав немного в мастерской у незадачливого провинци-
ального планериста, Павлик Головин начинает понимать,
что летное дело требует науки: «Садясь вечерами за уро-
ки, я стискивал упрямо зубы, угощал себя подзатыльником
и уговаривал сам себя:
— Не ленись, Пашка! Летчик должен все знать!»
Щедро и просто открывает Головин перед ребятами всю
свою жизнь, показывает им, как он выходил из неудач и за-
труднений— когда сам, когда с помощью товарищей-ком-
сомольцев.
Прочитав этУ книгу, школьник почувствует себя так,
будто кто-то уверенно и осторожно поднял его на большую
высоту.
293
4=
Книги летчиков различны по своему объему, по литера-*
турному качеству и предназначены для читателей разных
возрастов.
Георгий Байдуков и Анатолий Ляпидевский обраща-
ются к младшим ребятам и рассказывают им об экспеди-
циях, в которых сами авторы были участниками. Пер-
вый — о полете через полюс в Америку. Второй — о спасе-
нии челюскинцев4.
Книги П. Головина и К. Кайтанова предназначены для
ребят постарше. Это автобиографии, или, вернее сказать,
повести о том, как человек становится мастером своего дела.
Все четыре книги отличаются одна от другой так же
явственно, как отличны друг от друга их авторы.
И тем не менее каждая повесть как будто продолжает
и дополняет другую. Все они — части какой-то большой
Эпопеи, рассказывающей о молодых людях советской эпохи.
На вопрос о том, что открыло этим молодым людям
путь к их ответственной и героической деятельности, про-
ще и яснее всего отвечает Георгий Байдуков.
Он пишет:
«Теперь, когда я исколесил полмира, видел много стран,
морей и океанов, я, вспоминая свое суровое детство, думаю:
что б я делал, если бы не было советской власти!.. Навер-
но, остался бы кровельщиком.
Больше восьми лет я проработал летчиком в разных
отрядах воздушных сил и только после этого начал меч-
тать о больших воздушных путешествиях. Мне хотелось
летать там, где никто еще не летал».
Все авторы пишут о своих подвигах скромно и строго.
Гордость их только в том, что они осуществляют надежду
своей страны, волю своего правительства и партии, и лишь
из рассказов других участников экспедиций вы узнаете
иной раз, чего стоили героям их победы и успехи.
Поэтому-то особенно интересно сличать книги разных
авторов об одних и тех же событиях.
В книге П. Головина, на странице 102-й, говорится
вскользь, мимоходом:
«Четвертый самолет летчика Алексеева — не долетел
до острова. Пришлось сесть на льдину за 250 километров
от Рудольфа. Через несколько дней я на своем самолете
отвез Алексееву бензин».
294
Кажется, факт не слишком примечательный. Отвез бен-
зин — вот и все. Недаром автор посвятил эпизоду всего
три строки.
Но совсем по-иному рассказывает о том же самом слу-
чае другой участник экспедиции, корреспондент «Правды»
Л. Бронтман в своей очень интересной и обстоятельной
книге «На вершине мира»:
«Как только самолеты (возвратившиеся с полюса. —
С. М.) опустились на снежный наст острова Рудольфа,
Шмидт выпрыгнул из самолета и побежал в штабной до-
мик к телефону. Вскоре он вернулся опечаленный: связи
с Алексеевым еще не было. Вместе с ним пришел Головин.
Голова пилота была перевязана широким бинтом. За
время нашего отсутствия он перенес тяжелое воспаление
среднего уха. Доктор категорически запретил ему вставать
с постели. Но Павел, видя сплошную облачность над ост-
ровом Рудольфа, умчался на аэродром, завел самолет Н-36,
пробился сквозь облака, встретил нас и указал дорогу.
— Могу лететь к Алексееву, — сказал он Шмидту. —
Моя машина полностью заправлена, экипаж готов».
Этот пример со всей очевидностью показывает нам,
как сдержанны и скромны в рассказах о себе люди, кото-
рыми гордится вся наша страна. И тем дороже кажется
нам каждое слово в их простых лаконических книгах,
5
Алексей Максимович Горький много раз говорил о том,
что в детскую литературу необходимо привлечь бывалых
людей, обладающих богатым жизненным опытом.
Вот они и пришли — «бывалые» люди!
То, что они принесли детям, — большой и щедрый по-
дарок. Ребята наши примут его с благодарностью и лю-
бовью. А для писателей-профессионалов эти книги — вызов,
товарищеский, требовательный и задорный.
Если наши герои-летчики в простых отчетах о своей
жизни и деятельности могут подняться чуть ли не до эпо-
неи, то каких же книг надо требовать от людей, профес-
сия которых — искусство!
Они должны дать нашим детям такую поэму о герое,
которая была бы достойна гордого имени Валерия Чкалова. i
295
О ПЛАНАХ, КНИГАХ И АВТОРАХ
Доклад издательства о тематическом плане обычно да-
ет писателям и редакторам очень ценную возможность поду-
мать и поговорить о перспективах развития литературы. А
между тем па совещании в ЦК комсомола по плану 1939 года
Детиздат не представил пи итогов прошлой работы, пи
доклада о плане. План, розданный участникам совещания,
состоял только из перечня названий или тем книжек.
Чем руководствовалась редакция, составляя этот пере-
чень? Очевидно, наличием тех или иных рукописей в ре-
дакционном портфеле и наметками отдельных редакторов.
Но ведь всего этого далеко не достаточно.
Почему, например, не использованы те замечательные
темы и предложения, которые рассыпаны в статьях Алек-
сея Максимовича Горького, в его статье, которая так и
называется «О темах», и в другой статье, озаглавленной
«Литературу — детям»?
В частности, Горький неоднократно говорил и писал,'
что нам необходимо дать ребятам представление о жизни
и быте различных народов и стран. Он указывал на то,
что когда-то до революции дети с интересом читали книж-
ки Е. Н. Водовозовой ’, не отличавшиеся, правда, особой
глубиной, но все же дававшие детям возможность хотя бы
поверхностно и бегло познакомиться с жизнью голландцев,
англичан, шведов, французов, сербов.
Книжки Е. Водовозовой не могут нам служить прямым
образцом — нам нужна книга вполне советская, вполне со-
временная, да притом, пожалуй, и более талантливая, чем
книги Е. Водовозовой.
Для того чтобы литература такого рода появилась, разу-
меется, нужно затратить много труда.
296
У нас часто думают, что это дело простое и легкое.
В стране немало географов, этнографов, экономистов.
Есть и писатели-очеркисты, много ездившие и много видав-
шие. Достаточно заказать кому-нибудь из них книжку, и
дело в шляпе.
Но почему же все-таки в детской библиотеке до сих пор
отсутствуют те серии книжек, о которых говорил Горький?
Издательства их не заказывает? Нет, иной раз и за-
казывает. Авторы не выполняют заказов? Нет, иной раз
и выполняют. Но только книжки, выполненные по этому
заказу, редко оседают в детской библиотеке надолго.
В чем же тут дело?
Я думаю, вот в чем.
Наши издательства слишком полагаются на то, что
книжку вывезет тема или квалификация автора (профес-
сор, академик, очеркист из толстого журнала и т.д.). А меж-
ду тем ни одна художественная работа не делается просто
и легко, как бы ни был талантлив и образован ее автор.
Всякая художественная работа каждый раз — новая
и неизведанная работа. Она требует от автора вложения
нового капитала, а не процентов со старых работ. Об этом
часто забывают и авторы и редакторы.
Беда в том, что в течение нескольких лет издательство
систематически отказывалось от углубленной работы с ав-
торами.
Я уверен, что значительная часть неудач издательства
объясняется недостатком планомерной, квалифицирован-
ной редакторской работы.
Но даже и в тех случаях, когда книгу надо признать
удачной, в ней зачастую можно обнаружить промахи и
пробелы, в которых повинен не столько автор, сколько
редактор.
Недавно Детиздат выпустил целую серию книг, напи-
санных нашими героями-летчиками. Почти все эти книги
хороши. Они проникнуты настоящими чувствами, настоя-
щими мыслями, человеческим опытом 2.
Но вот, например, в очень содержательной, талантли-
вой, сердечной книге летчика П. Головина мало продумана
самая композиция книги, и тем не менее я никак не ре-
щился бы упрекнуть в этом автора-летчика. Во-первых, он
Ве профессиональный писатель и не обязан чувствовать
себя за письменным столом так же уверенно, как чувствует
себя за рулем самолета. А во-вторых, я не сомневаюсь в
297
том, что, если бы редакция поработала над его книгой
несколько более тщательно, книга могла быть построена
гораздо лучше.
Другой пример — книга Кайтанова «Мои прыжки».
Книга в высшей степени интересна. Она увлекает чита-
теля и дает ему много знаний.
Тем более досадно видеть в ней промахи и недочеты
стилистического характера. Нельзя было оставлять в кни-
ге такие фразы: «Самолет истерично заскакал» или «гово-
рить начальствующим тоном» (вместо — начальствен-
ным). За все эти небрежности отвечает, разумеется, не
Кайтанов, а его редактор.
Вообще мы недооцениваем роли редактора в деле соз-
дания книги. В плане издательства я, кажется, никогда не
встречал упоминания о том, какой именно редактор будет
вести ту или иную книгу.
Да что говорить об имени редактора, когда в плане
1939 года зачастую нет указания даже на имя автора кни-
ги. И чаще всего это относится к самым важным, самым ответ-»
ственным книгам, например, к таким, как «Рассказы о Ленине».
Иной раз и название, упомянутое в плане, ничего не го-
ворит даже самому пытливому воображению. Кто сможет
объяснить, что значит «Рассказы об остроумном применении
техники». Ведь это совершенно необъятная тема: и паровоз
придуман остроумно, и дизель изобретен не без острой сме-
калки, и электрический звонок вряд ли придуман каким-ни-
будь тупицей, да и простое тележное колесо тоже потребовало
некоторой находчивости и остроумия.
Очевидно, и составление плана требует известного
остроумия, способности отобрать наиболее ценное, четко
формулировать задачи.
Это по плечу только талантливому и серьезному редак-
тору.
Даже рубрики плана, которые на первый взгляд кажут-
ся вполне благополучными, и те при более пристальном рас-
смотрении внушают некоторую тревогу.
Вот примеры. Один и тот же автор должен в этом году
дать ребятам две книги: О Пушкине и о Ленине. Как бы ни
был добросовестен и самоотвержен автор, — я думаю, с
такими огромными задачами ему за один год справиться
невозможно.
Другой литератор берется в этом году написать книжку
о Маяковском и книжку... о неграх. Полагаю, что такая раз-
298
нообразная тематика говорит не столько о многогранности
автора, сколько о легкомыслии издательства.
В плане мало места уделено молодым авторам. Целой
группе таких авторов отведен один сборник «для начинаю-
щих».
«Начинающие» так же отличаются друг от друга, как и
кончающие. Незачем загонять их всех в особую загород-
ку— в какой-то хлев для молодняка. Тем более что самое
слово «начинающие» на обложке вряд ли обеспечит детской
книге доверие читателей и их родителей. Кто по доброй
воле поручит своего ребенка начинающему врачу или начи-
нающему педагогу, когда на свете есть более опытные.
Но не только молодежь оказалась в плане забытой и об-
деленной.
Нашим ребятам так нужны книжки по русской истории,
их так мало, а между тем издательство не отводит месза
в плане хорошим и полезным книгам Т. А. Богданович
(«Ученик наборного художества», «Соль Вычегодская»
и др.).
Точно так же забыло издательство о таком талантливом
писателе, как Л. Пантелеев.
Пантелеев и Гайдар всегда пользовались любовью детей.
В детских письмах к Горькому, которые мне несколько лет
тому назад пришлось разбирать, эти два имени встречались
несчетное число раз.
Ребята требуют от книги острого сюжета, настоящею
драматизма, юмора. А детское издательство забывает имен-
но о тех авторах, которые лучше многих других способны
ответить на эти требования.
В результате в плане сплошь да рядом находят себе
место книжки ровные, гладкие, не внушающие педагогам
никаких опасений, но зато лишенные каких бы то ни было
подлинных чувств и мыслей, — а за пределами плана оказы-
ваются авторы, от которых можно ждать смелой, свежей,
талантливой книги.
Этот упрек не столько относится к плану 1939 года,
сколько к деятельности издательства в зелом, потому что
всякий план — и хороший и плохой — есть отражение лица
издательства.
БУДУЩИМ ГЕРОЯМ
Передо мной две книги — толстая и тонкая. Обе посвя-
щены одному и тому же событию — завоеванию полюса.
Автор обеих книг — один и тот же: И. Д. Папанин.
Толстая — называется «Жизнь на льдине» и предназ-
начается для взрослых; тонкая — озаглавлена «На полюсе»
и выпущена для читателей самого младшего возраста *.
Иван Дмитриевич Папанин — не профессиональный лите-
ратор, а между тем, создав из своей арктической эпопеи
книгу для дошкольников, он разрешил очень трудную за-
дачу. Несмотря на тесные размеры книжки, он ухитрился
втиснуть в нее огромный материал.
Перелет Москва — полюс, жизнь и работа на льдине,
возвращение па родину, — обо всем этом рассказано в крат-
кой повести Папанина, и рассказано не сухо, не прото-
кольно, а богато, свободно, со множеством самых причудли-
вых подробностей, с лирическими и шутливыми отступле-
ниями.
Детям, для которых эта книжка издана, она вряд ли по-
кажется слишком краткой. Они будут читать ее долго, чи-
тать и перечитывать. Для ребят этого возраста какая-нибудь
немногословная сказка о «Красной Шапочке» или об «Але-
нушке» то же, что для взрослых целый роман, вроде «Анны
Карениной», а каждая главка сокращенных «Путешествий
* И. Д. П а п а н и н, На полюсе, Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1939.
Рисунки В. Щеглова. Ответств. редактор М. Белякова, (Прим, ав-
тора.)
300
Гулливера» — настоящая эпопея, запоминающаяся на всю
жизнь.
«Хозяину Северного полюса» Герою Советского Союза
И. Д. Папанину удалось написать для наших детей — или,
вернее, рассказать им — очень правдивую, документальную
и вместе с тем сказочную историю.
Книжка эта возникла из живой, устной речи. Автор ее
заехал однажды в детский сад железнодорожников и, уса-
див вокруг себя малышей, рассказал им о своих путешест-
виях и приключениях. Этот устный, простой и непринужден-
ный рассказ и послужил основой для будущей книжки.
Недаром она начинается так, как могла бы начинаться
сказка:
«— Я собрал, — говорит тов. И. Д. Папанин, — своих
товарищей — Кренкеля, Ширшова, Федорова — и сказал:
— Давайте, братки, думать, что нам нужно для полюса.
Кренкель сказал:
— Мне нужна хорошая радиостанция, чтобы я мог гово-
рить с полюса по радио с Москвой, со всеми, со всей землей.
Ширшов сказал:
— Я буду изучать глубины Ледовитого океана. Мне надо
лебедку с длинным стальным тросиком (тоненькой проволо-
кой), микроскоп, и еще шелковые сетки и всякие приборы.
Федоров сказал:
— Я буду по звездам и по солнцу определять, где мы.
Буду следить, куда везет нас льдина. Мне надо много астро-
номических приборов.
А я сказал:
— Ребятки, мы едем на полюс на целый год. Нам надо
хорошую палатку, и электричество для радио, и резиновые
лодки, и посуду, и папиросы, и топоры, и еще много всякой
всячины...»
Так знакомит И. Д. Папанин читателя с героями своей
книги. А дальше он показывает их во весь рост, в движе-
нии, в работе.
Особый, папанинский юмор, проникнутый житейской
мудростью и простодушием, позволяет рассказчику говорить
На одной и той же странице об огромных событиях истори-
ческого значения и о фактах самых мелких, будничных и,
казалось бы, незначительных.
«Я подстриг «косы», выросшие у Кренкеля...»
«Ширшов налил себе на руки скипидару. А руки
У «профессора», признаться, были не первой чистоты — в
301
копоти, в масле... Вот он стал растирать меня. Что такое? От
скипидара руки у «профессора» стали чистые, зато у меня
спина стала полосатая, как у зебры...»
В книге нигде нет и тени фальшивого, лжегероического
пафоса. О самых жестоких испытаниях и лишениях,
пережитых на льдине, автор говорит спокойно и даже шут-
ливо.
Вскользь, мимоходом рассказывает он о тех днях, когда
солнце растопило вокруг лагеря снег и папанинцев стала
«донимать» разлившаяся вода.
Так же бегло говорится в книге о трудной, подчас непо-
сильной работе, которой Папанин и его товарищи занима-
лись изо дня в день («Шесть часов подряд мы, сменяясь,
крутили лебедку... Мы впрягались в нарты и, как добрые
кони, перевозили за один прием по двадцати пяти пудов
груза...»).
И, наконец, почти с той же спокойной деловитостью опи-
сывает Папанин «памятную ночь», когда льдина «покрылась
полосочками, точно ножом ее изрезали», а потом эти «по-
лосочки разошлись, стали громадными — в пять метров ши-
рины!..»
В изображении бедствий автор и участник событий неиз-
менно сдержан и скуп. «Льдинка» все крошилась», — гово-
рит он в одной из самых драматических глав книги.
Зато гораздо щедрее и свободнее становится он, когда
вспоминает о радостных днях, которые выпадали иной раз
на долю папанинцев.
Люди на льдине готовились к встрече великого празд-
ника — годовщины 7 Ноября.
«Засверкали бритвы, мыльная пена покрыла лица, за-
пахло одеколоном. Мы впервые помылись как следует...»
«Скорей — к радиоприемнику, скорей слушать родную
Москву!
Десять часов.
И вот мы слышим бой часов на Спасской башне. Молча
улыбаемся друг другу.
— Тише, тише! — шепчет Кренкель. — Ворошилов вы-
езжает!
Нарком выезжает на площадь. Мы даже слышим цоканье
копыт его коня...
...Тускло горит лампа, в палатке температура ниже нуля,
а мы сидим закутанные, слушаем передачу из Москвы,
302
и нам кажется, будто мы вместе со всеми на Красной пло-
щади...»
Дети — да и взрослые — прочтут этУ книгу, как хоро-
шую сказку.
Сказочно ее начало, сказочен и конец: последнее тор-
жество героев, их приезд в Москву, в Кремль, встреча со
Сталиным.
Миллионы ребят в нашей стране давно уже играют
в Папанина и в папанинцев.
Но, прочитав все то, о чем им рассказал «хозяин Север-
ного полюса», они захотят стать настоящими папанинцами
и поймут, что для этого от них требуется.
Книга адресована будущим героям.
«УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ»
I
В литературном наследстве Горького нет ни одной книги,
целиком посвященной воспитанию.
Он не устраивал для детей школы, как Лев Толстой, не
составлял для них азбуки и «Книги для чтения».
Однако среди писателей нашего времени едва ли най-
дется во всем мире еще один человек, который бы сделал
для детей так много, как Горький.
Если собрать воедино все его статьи, начиная с боевого
и задорного фельетона в «Самарской газете» 1895 года
о трех сотнях мальчиков, для которых не нашлось места
в городской школе;1 если пересмотреть его последние, зре-
лые статьи, в которых речь идет уже о миллионах ребят,
о развитии их способностей, дарований, характеров;2 если
перечесть множество его писем, коротеньких и длинных, на-
писанных в разные времена маленьким адресатам, мы уви-
дим, как по-своему, по-горьковски, шутливо и серьезно,
оптимистично и вместе с тем трезво подходил он к людям,
главное дело которых — расти.
В его письмах к ребятам нередко можно встретить такое
обращение: «Уважаемые дети».
И это — не шутка, не условный оборот речи.
Алексей Максимович и в самом деле относился к ребятам
серьезно и уважительно. Он знал, какое это трудное и от-
ветственное время — детство, которое обычно называют сча-
стливым и «золотым». Как много страхов и недоумений, как
304
много нового и сложного узнает ребенок чуть ли не каждый
день, как легко его обидеть!
Если в молодости Горький усердно хлопотал о елке для
ребят нижегородской окраины, то в последние годы жизни
заботы его охватывали самые разные стороны быта всей
нашей советской детворы.
Он думал, говорил и писал о детских книгах, об игруш-
ках, о стадионах, о детском театре и кино, о глобусах и
картах.
Ранней весной 1936 года — это была последняя весна
в его жизни — он пригласил меня к себе на южный берег
Крыма и там во время наших прогулок по парку поделился
со мной своими новыми планами и затеями.
Алексей Максимович рассказывал, как представляет он
себе большой, «толстый» литературный журнал — с беллет-
ристикой и публицистикой, — всецело посвященный воспи-
танию.
Читателей у этого журнала должно быть, по крайней
мере, столько, сколько родителей у нас в стране.
Такой журнал прежде всего надо сделать увлекательным,
чтобы его и в самом деле читали, а не «прорабатывали»
где-нибудь в методических кабинетах. Только тогда он мог
бы влиять на взрослых — и на детей.
Талантливейшие наши писатели, лучшие педагоги долж-
ны быть привлечены к делу. А кроме них, надо призвать еще
одну категорию людей.
Эту категорию Алексей Максимович чрезвычайно ценил.
Она состоит не из педагогов, не из литераторов, а просто
из людей, умеющих дружить с детьми.
Их можно найти в самой различной среде. Это те непро-
фессиональные, но настоящие воспитатели, которые рады во-
зиться с ребятами в свободные часы, любят и умеют рас-
сказывать им сказки и смешные истории, мастерить для них
кукольные театры, корабли и самолеты, показывать им фо-
кусы, собирать с ними гербарии и коллекции камней, объяс-
нять им расположение звезд, обучать их стрельбе, пла-
ванью.
Именно о таких людях писал Алексей Максимович в од-
ной из своих статей 1927 года:
«Детей должны воспитывать люди, которые по природе
своей тяготеют к этому делу, требующему великой любви
к ребятишкам, великого терпения и чуткой осторожности
в обращении с будущими строителями нового мира» 3.
305
Сам Алексей Максимович тоже принадлежал к этой осо-
бенной категории.
Он умел видеть в детях и «будущих строителей нового
мира», и попросту «ребятишек», с которыми у него были
свои особые — серьезные и шутливые отношения.
Помню стихи его, сочиненные экспромтом для малень-
ких внучек, Марфы и Дарьи. Стихи эти не были напеча-
таны, и я цитирую их по памяти.
Ах, несчастные вы дети,
Как вам трудно жить на свете<
Всюду папы, всюду мамы,
Непослушны и упрямы.
Ходят бабки, ходят деды
И рычат, как людоеды.
И куда вы ни пойдете,
Всюду дяди, всюду тети.
И кругом учителя
Ходят, душу веселя.
В разговоре с детьми он не докучал им поучениями. Его
многочисленные письма к ребятам проникнуты неподдель-
ным, мягким, не лишенным веселого озорства юмором.
Замечательны его письма к нескольким бакинским
школьникам, ребятам из «Школы шалунов», затеявшим
с ним переписку. В своем ответе Алексей Максимович пи-
сал им:
«Я хотя и не очень молод, но не скучный парень и умею
недурно показывать, что делается с самоварцем, в который
положили горячих углей и забыли налить воду. Могу также
показать, как ленивая и глупая рыба «перкия» берет наживу
с удочки и много других смешных вещей...» 4
Обращаясь к тем же бакинским ребятам, Горький гово-
рит:
«Я очень люблю играть с детьми, это старая моя при-
вычка; маленький, лет десяти, я нянчил своего братишку—>
он умер маленьким, — потом нянчил еще двух ребят, и, на-
конец, когда мне было лет двадцать, я собирал по праздни-
кам ребятишек со всей улицы, на которой жил, и уходил
с ними в лес на целый день, с утра до вечера.
Это было славно, знаете ли! Детей собиралось до шести-
десяти, они были маленькие, лет от четырех и не старше
десяти; бегая по лесу, они часто, бывало, не могли уже идти
домой пешком. Ну, у меня для этого было сделано такое
кресло, я привязывал его на спину и на плечи себе, в него
306
садились уставшие, и я их превосходно тащил полем домой.
Чудесно!» 5
Как старший товарищ и друг, пишет он с острова Капри
своему десятилетнему сыну Максиму. Даже подпись в кон-
це письма — «Алексей» — говорит о том, какие простые,
подлинно товарищеские отношения существовали между от-
цом и сыном. Если есть в этом письме какое-то отеческое
наставление, то выражено оно так поэтично, с таким дове-
рием к способности мальчика понять серьезные и важные
для самого Горького мысли, что письмо отнюдь не кажется
ни снисходительным, ни назидательным.
«Ты уехал, а цветы, посаженные тобою, остались и ра-*
стут. Я смотрю на них, и мне приятно думать, что мой сы-
нишка оставил после себя на Капри нечто хорошее — цветы.
Вот если бы ты всегда и везде, всю свою жизнь оставь
лял для людей только хорошее — цветы, мысли, славные вое-*
поминания о тебе — легка и приятна была бы твоя жизнь.
Тогда ты чувствовал бы себя всем людям нужным, и это
чувство сделало бы тебя богатым душой. Зна3, что всегда
приятнее отдать, чем взять.
*.......................................................
Ну, всего хорошего, Максим!
Алексей» \
В отсутствии отца Максим очень скучал, хоть и старался
не показывать своих чувств окружающим.
Но отец догадывался об этом, и в те времена, когда
большие обязанности писателя-революционера мешали его
встрече с Максимом, писал ему:
«Спроси маму, что я делаю, и ты поймешь, почему я не
могу теперь видеть тебя, славный ты мой!
Алексей» 7.
II
Не все взрослые люди умеют помнить свое детство. Жи-
вая, точная память о нем — это настоящий талант.
Горький был одарен этим талантом, как немногие. И по-
тому-то он считал ребенка не четвертью, не третью или по-
ловиной взрослого человека, а целым человеком, достой-
ным самого серьезного обращения.
307
Среди ребят, с которыми ему приходилось встречаться
впервые, Алексей Максимович бывал иной раз так же за-1
стенчив, как и в обществе незнакомых взрослых. Он погла-
живал усы или постукивал пальцами по столу, пока разговор
не задевал его за живое.
Тут он сразу молодел на много лет, лицо его как-то
светлело, и казалось даже, что морщины у него на щеках
разглаживаются. Он принимался рассказывать. Рассказывал
с удовольствием, со вкусом, не торопясь, то улыбаясь, то
хмурясь. Даже самый несложный и маловажный эпизод при-
обретал в его передаче значение и вес. Помню, как однажды
он рассказал — вернее, показал — небольшой компании, со-
стоявшей из мальчиков и девочек «немую» сцену, которую
ему когда-то случилось наблюдать.
Старуха полоскала с мостков белье, а по мосткам, накло-
нив голову набок, шел прямо на нее одноглазый гусь. Он
подошел к перепуганной старухе, потрепал клювом мокрое
белье и важно удалился, как будто сделал дело. Двумя паль-
цами Алексей Максимович изобразил, как шагал вперевалку
одноглазый гусь.
Ребята смеялись, а Горький поглядывал то на одного из
них, то на другого и говорил, ласково смягчая свой низкий,
глуховатый голос:
— Ну вот и вся история. Я сам это видел, честное
слово!
Забавных историй было у Алексея Максимовича в запасе
много. Но, разговаривая с детьми, он не таил от них и своих
печальных, иной раз даже страшных воспоминаний.
— Вы яблоки когда-нибудь крали? — спросил он как-то
у своих гостей-школьников.
Ребята, которые сидели с ним рядом за столом и с удо-
вольствием грызли великолепные, крупные и прозрачные
яблоки, немного смутились и перестали жевать.
— Да, да, яблоки воровать вам случалось?
Гости молчали.
Но Алексей Максимович не стал добиваться ответа. Во-
прос его был только началом рассказа.
В детстве у Горького был товарищ, веселый парнишка,
замечательный рассказчик и фантазер. Однажды он полез
в чужой сад за яблоками. В те времена это было обычным
делом. Кому из мальчиков не случалось забираться в сосед-
ский сад, когда там поспевали яблоки и груши?
Если ребят ловили на месте преступления, их драли за
308
уши. Тем дело и кончалось. Но приятелю Алексея Макси-
мовича не повезло. Его стащили с яблони на землю и пре-
проводили в полицейский участок. А потом послали в испра-
вительную колонию. «Исправляли» там парнишку недолго —
после нескольких месяцев недоедания и побоев он тяжело
заболел и помер.
— Много было у нас, у ребят, в ту пору врагов, — гово-
рил Алексей Максимович. — Городовой был нам враг, извоз-*
чик — враг, лавочник — враг. Если у кого из взрослых случа-
лась какая-нибудь неприятность — стекло в окошке оказы-
валось разбитым или кошелек исчезал из кармана, за все
отвечал первый попавшийся на глаза мальчишка. Трудно
и опасно было нам, ребятам, существовать на ртом свете!..
III
Наши дети любят серьезные и ответственные задачи и
берутся за них с воодушевлением. Горький это знал. Дове-
ряя силам детей, он предложил им такое важное и серьезное
дело, как собирание фольклора — сказок, песен, поговорок,
прибауток.
Его бесконечно радовало всякое новое подтверждение
талантливости, смелости и предприимчивости наших ребят.
С какой нежностью и гордостью говорил он о сибирских
пионерах, которые сообща написали книжку с задорным
названием «База курносых»!8 Больше всего ценил в этой
книжке Алексей Максимович то, что дети в ней остались
детьми и сумели избежать унылой и безнадежной литера-
турщины, в которую впадают многие из взрослых.
Горький помнил имена «курносых», следил за судьбой
каждого из них; живя в Крыму или под Москвой, поддержи-
вал с Иркутском живейшую связь.
А в последние месяцы жизни Алексея Максимовича у
него завязалось знакомство с целой армией ребят, живу-
щих в другом отдаленном углу Советского Союза, за шесть
тысяч километров от Москвы. Пионеры из заполярного го-
рода Игарка обратились к Горькому с просьбой помочь им
написать книгу о своем крае.
Чуть ли не в тот же самый день он ответил игарским
пионерам.
Алексей Максимович нашел для них самые глубокие и
самые нежные слова. Его ответ — настоящая поэма, напи-
309
санная тем же пером, которое писало когда-то «Песнь о
буревестнике».
Обращаясь к ребятам, живущим в краю пурги и поляр-
ной ночи, он спешит показать им просторы родной земли
во всем их богатстве и разнообразии.
Он как бы охватывает взглядом страну, по которой столь-
ко бродил и ездил за свою жизнь и которую так хорошо
знал.
Он пишет:
«Сердечный привет вам, будущие докторы, инженеры,
танкисты, поэты, летчики, педагоги, артисты, изобретатели,
геологи!
Хорошее письмо прислали вы. Богато светится в про-
стых и ясных словах его ваша бодрость и ясность сознания
вами путей к высочайшей цели жизни, — путей к цели, ко-
торую поставили перед вами и перед всем трудовым народом
мира ваши отцы и деды. Едва ли где-нибудь на земле есть
дети, которые живут в таких же суровых условиях природы,
в каких вы живете, едва ли где-нибудь возможны дети такие,
как вы, но будущей вашей работой вы сделаете всех детей
Земли гордыми смельчаками...
...Большие изумительные радости ждут вас, ребята! Че-*
рез несколько лет, когда, воспитанные суровой природой,
вы, железные комсомольцы, пойдете на работу по строитель-*
ству и дальнейшую учебу, перед вами развернутся разнооб-
разнейшие красоты нашей страны. Вы увидите Алтай, Па-
мир, Урал, Кавказ, поля пшеницы, размером в тысячи гек-
таров, гигантские фабрики и заводы, колоссальные электро-
станции, хлопковые плантации Средней Азии, виноградники
Крыма, свекловичные поля и фабрики сахара, удивительные
города: Москву, Ленинград, Киев, Харьков, Тифлис, Эри^
вань, Ташкент, столицы маленьких братских республик —
например, Чувашии, столицы, которые до революции очень
мало отличались от простых сел.
У вас — снег, морозы, вьюга, а вот я живу на берегу
Черного моря. Сегодня — 13 января — первый раз в этом
году посыпался бедненький редкий снежок, но тотчас же
конфузливо растаял. Весь декабрь и до вчерашнего дня
светило солнце с восьми часов утра и почти до половины
шестого вечера. 3ИМУЮТ чижи, щеглы, зяблики, синицы...»
В конце письма Алексей Максимович приветствует же-
лание игарских пионеров написать книжку.
310
«Действуйте смелее», — говорит он и тут же прилагает
подробный план, в котором заботливо и тонко учтены и от-
ветственность задачи, и возраст авторов.
«Когда рукопись будет готова, — пишет Алексей Макси-
мович, — пришлите ее мне, а я и Маршак, прочитав, возвра-
тим вам, указав, что — ладно и что неладно и требует ис-
правления» 9.
Я уверен, что когда-нибудь соберутся и выпустят отдель-
ной книгой переписку Горького с детьми на протяжении де-
сятков лет.
Эпиграфом к этой книге могли бы послужить слова Пуш-
кина:
...Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздпий возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего...
Вероятно, те же мысли о «младом, незнакомом племени»
были у Горького, когда он читал бесчисленные письма с
крупными буквами и не всегда ровными строчками, полу-
ченные со всех концов страны. Он сосредоточенно и внима-
тельно читал эти странички, будто вглядываясь в черты но-
вого племени, идущего за нами вслед.
Он не упускал случая поддержать и ободрить ребят в
любой их затее, которая казалась ему интересной и значи-
тельной.
И в то же время он относился к ребятам строго и требо-
вательно, не снимая с них ответственности, не прощая им
неряшливости и небрежности.
Сурово, без снисхождения, отвечает он пензенским
школьникам, пожелавшим вступить в переписку с Максимом
Горьким и наделавшим при первом же дебюте множество
грамматических ошибок.
«Стыдно ученикам 4-го класса писать так малограмотно,
очень стыдно», — говорил им Горький в своем ответном
письме 10.
Возможно, что школьники не заслужили бы такой отпо-
веди, если бы Алексей Максимович обнаружил в их письме
что-нибудь большее, чем желание получить собственноруч-
ное письмо от знаменитого человека.
311
Алексей Максимович не был и отнюдь не считал себя
педагогом.
Он очень осторожно касался вопросов воспитания, в ко-
торых признавал себя недостаточно компетентным.
Всерьез и шутя Горький неоднократно говорил о том,
что он не воспитатель и не претендует на какой-либо авто-
ритет в этой области.
Осенью 1935 года он писал своим внучкам-школьницам:
«... если вы, многоуважаемые ученые девочки, расска-
жете про меня учительницам, так они мне зададут перцу
за то, что я вам пишу ерунду...» 11
Конечно, Горький прекрасно знал, что настоящие педа-
гоги не боятся ни игры, ни шутки, ни всей той милой «ерун-
ды», которая так чудесно сближает детей и взрослых. Он
Знал, что настоящие педагоги рады, когда к ним на помощь
со стороны приходят люди с талантом, юмором, с богатым
жизненным опытом.
ЖИЗНЬ ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ
Я видел страшную фотографию, которую, вероятно, не
смогу забыть никогда. Тяжело привалившись к стене, сидит
мертвый ребенок — мальчик лет двенадцати. Немцы не по-
жалели на него пуль. Лицо его обезображено, глаза выбиты.
В руках он сжимает комок окровавленных перьев, — это
все, что осталось от его любимого голубя.
В московской больнице лежит подросток, которому нем-
цы отпилили руку. У себя дома, в родных местах, он сла-
вился своей ловкостью, изобретательностью, способностью
к любому ремеслу.
— Это будет мастер, — говорили про него соседи, — зо-
лотые руки.
И вот фашисты искалечили маленького мастера, лишили
одной из его «золотых» рук...
Какой методичной, спокойной и тупой жестокостью надо
обладать, чтобы проделать над ребенком такую операцию.
Кажется, достаточно одного этого факта, чтобы навсегда
поколебать всякую веру в человека, в его разум и сердце,
в его способность от столетия к столетию подниматься по
ступеням этической лестницы.
Но в наше время сталкиваются друг с другом не только
армии и народы, но и враждующие между собой факты.
Рядом с падением всякой человечности мы видим и ее не-
бывалый подъем.
В осажденный, томящийся от голода большой город
партизаны доставили сквозь линию фронта целый обоз с
313
продовольствием — вереницы крестьянских телег с хлебом,
мясом, картошкой.
Все это по горсти собрали жители оккупированных де-
ревень, беспощадно ограбленных немцами. Собрали за спи-
ной у своих поработителей, ежеминутно рискуя жизнью.
И уж совсем на верную смерть шли люди, которые взя-
лись провезти эти телеги по занятой немцами земле, мимо
вражеских дозоров, под угрозой нападения фашистских са-
молетов. Но, видно, смерть отступает перед теми, кто мало
думает о ней и о себе!
Петляя по лесам и болотам, партизаны добрались нако-
нец до своей цели и доставили городу драгоценный подарок
из вражеского тыла.
Недавно я был в Москве на одном замечательном собра-
нии. Это было «двухэтажное собрание». Наверху, в зале
Московского отдела народного образования, собрались взрос*
лые, а этажом ниже — в детской комнате — ребята четырех,
пяти, шести лет.
Взрослые наверху говорили и слушали речи, как это
обычно бывает на собраниях, а маленькие сидели на низень-
ких стульях или на ковре, смотрели картинки, строили что-то
из кубиков и только иногда прерывали игру нетерпели-
вым и встревоженным зовом:
— Мама! Отчего моя мама так долго не идет!
— Подожди немножко, сейчас придет, — успокаивала их
заведующая детской комнатой.
Но вот матери и в самом деле пришли, закончив свое
собрание.
Светловолосая женщина подошла к такой же белокурой
маленькой девочке.
— На ручки, — скомандовала девочка.
Мать подняла ее.
— А ведь дочка-то похожа на вас, — сказал кто-то.
— Еще бы, — со смехом ответила молодая женщина. —=»
На то опа и дочка!
Во всем этом не было бы ничего удивительного, если бы
светловолосая женщина и вправду была матерью своей бе-
ленькой дочки. На самом же деле эта девочка — круглая
сирота. Родителей ее — и отца, и мать — всего лишь не*
сколько месяцев тому назад убили немцы.
Девочка еще очень мала, но в памяти у нее осталось
что-то страшное. Когда ее спросили однажды: «Где твой
папа?», она ответила: «Ручки завязали и бросили в яму».
814
Конечно, больше ее никто ни о чем не стал расспраши*
вать.
Свою родную мать девочка никогда не вспоминает. Мо-
жет быть, здоровый инстинкт жизни подсказывает ей, чю
лучше забыть непоправимую утрату и целиком довериться
новой семье, новой матери.
А новая мать стоит доверия ребенка.
Это она — Овчинникова, работница завода «Бога-
тырь», — первая предложила советским людям усыновить
детей, потерявших в этой войне своих родителей. Множество
женщин и мужчин в городах и селах откликнулись на ее
призыв.
Пожилая учительница Прыткова, работающая в школе
двадцать первый год, и молодая девушка 3°я Мартьянова,
которая и всего-то на свете прожила восемнадцать лет,
берут на себя ответственность за судьбу осиротевших
детей.
Женщины, проводившие сыновей на фронт, вспоминают
свою молодость и становятся матерями двухлетних и трех-
летних ребят.
Берут на воспитание детей не только бездетные или уже
вырастившие своих собственных ребят женщины, но и та-
кие, у которых на руках по четверо, по пятеро дочек и
сыновей.
Глядя на хорошенькую белокурую Надю Овчинникову,
невольно думаешь:
«А ведь, пожалуй, всякому было бы приятно взять
к себе в дом такого веселого, красивого и нарядного ре-
бенка!»
А между тем когда фабричная работница Овчинникова
впервые принесла свою приемную дочку к себе домой, ее
собственная дочь с ужасом воскликнула:
«Мама, это урод!»
Девочка казалась страшной: так распухли от голода и
от мороза ее лицо, ручки, ножки.
Должно быть, почти все ребята, собранные в компа! е
нижнего этажа, — эти веселые мальчики и девочки, дело-
вито катающие в автомобиле куклу, зайца и мячик, — пере-
жили за свою короткую жизнь не меньше, чем Надя Овчин-
никова.
С какой гордостью их новые родители говорят о том,
нто за три-четыре месяца дети стали совсем неузнаваемы.
315
«Моя Лелечка, когда я брала ее, была совсем больная,
лежала в кроватке. Бледненькая была, как рта стенка. Она
плохо ходила, говорила. А теперь только и слышен дома ее
голосок».
Ребята крепко привязываются к людям, которые их
приютили и усыновили.
Вероятно, ранняя и внезапная утрата родного дома,
семьи, матери научила их больше дорожить домашним теп-
лом и заботой, чем дорожат дети, еще никогда ничего и ни-
кого не терявшие.
С какой-то ревнивой страстностью повторяют они по
всякому подходящему и неподходящему поводу отнятое
у них и вновь подаренное им слово «мама».
«Где моя мама? Пусть моя мама возьмет меня на
руки».
Одна из новых матерей — школьная учительница — рас-
сказывает:
«Как-то раз я взяла своего Алика с собой в школу. Там
он разговорился с девочкой из первого класса. Алик сказал:
«Вот моя мама. Она пришла на собранье». А девочка го-
ворит: «Это совсем не твоя мама, она чужая, она — моя
учительница». Мальчик долго не мог успокоиться. Дома он
целый вечер плакал и повторял: «Разве ты не моя мама?
Я не чужой, я свой. Ты — моя мама. Разве ты только де-
вочкина учительница? Я не чужой, я свой...»
Бывают случаи, когда приемные родители, чтобы не раз-
лучать между собой братьев и сестер, берут в дом сразу
двоих и даже троих детей.
А там, где оказывается им не под силу, где братьев и
сестер приходится разъединять, брать в разные семьи,—
там эти семьи вступают между собой в новые родственные
отношения.
Об ртом трогательно рассказывает одна из матерей, учи-
тельница Вишняковской сельской школы Егерева:
«И вот мы, две учительницы, живущие недалеко друг от
друга, сроднились и стали близкими из-за наших ребят. Мы
взяли двух братьев: я — старшего, Аркадия, она — млад-
шего, пятилетнего Вовочку. Теперь я чувствую, что она мне
как родная сестра, такие мы близкие!..»
Эта связь, возникающая между отдельными семьями, как
бы сливает их в одну огромную семью, объединенную от-
цовской, материнской, братской любовью.
316
Дети перестают быть сиротами, переступая через порог
незнакомого, чужого дома.
Впрочем, и самое слово «сирота» теряет у нас право па
существование.
«Давайте, выкинем это слово из нашего обихода, — гово-
рит учительница Егерева. — Не может быть сирот в стране,
где мы все матери... Давайте говорить о наших родных де-
тях, а не о сиротах».
Все, кто слышал рту простую, глубоко сердечную речь
учительницы Егеревой, не мог не почувствовать счастливой
гордости за человека, за наш народ.
Нет, фашистам не удастся отнять у наших детей буду-
щее, разрушить наши семьи, наши дома!
Люди у нас сильны и на фронте, и в тылу. Бесконечны
жизненные силы нашего народа, а жизнь всегда побеждает
смерть!
О НАШЕЙ САТИРЕ
I
То, что стало смешным, перестает быть страшным.
Сатира — отличное противоядие вредоносным идеям и
лженаучным теориям.
Она умеет бороться с изощренной ложью и самой зло-
стной клеветой.
У нее богатый многовековый опыт в борьбе с мрако-
бесием и тупой косностью. Это она пером Рабле и Сер-
вантеса одолела упорные и живучие предрассудки средне-
вековья.
Подумать только — у наших сатириков сегодняшнего дня
такие предки, как Эразм из Роттердама и Свифт, Вольтер
и Беранже, Гоголь, Салтыков и Чехов.
Вольно же нам отказываться от всей этой блестящей гале-<
реп предков и заменять ее одной фотографической карточ-
кой Аркадия Тимофеевича Аверченко \
Нечего и говорить, Аверченко был талантливым писа-
телем, а в последние годы жизни, когда предметом его
юмора сделался он сам и его собратья-эмигранты, этот
юмор стал глубже, горячей, достиг остроты сатиры.
Но все же не у Аверченко должны мы учиться. Даже
от самых лучших его страниц отдает некоторым самодо-
вольством и обывательщиной, Дононом и скетинг-ринком
протопоповских времен 2.
Наш Зощенко имеет больше прав на место в ряду рус-
ских сатириков. Мысли его серьезнее, литературные задачи
крупнее, а стиль своеобразнее.
318
Вспоминая нашу юность, мы часто переоцениваем юмор
предреволюционных лет. А между тем сатирические стихи
Маяковского своим пафосом, силой, неожиданностью и све-
жестью мысли далеко оставили позади «Сатирикон», в ко-
тором он сам же работал смолоду.
В предреволюционные годы молодые прозаики не реша-
лись браться за такие смелые дела, как сатирический роман,
написанный Ильфом и Петровым.
Ни у одного из тогдашних молодых портов не было
запаса наблюдений и чувств, чтобы взяться за такую ге-
роическую и в то же время шутливую стихотворную по-
весть, как «Василий Теркин» Твардовского.
Не надо прибедняться. У советской литературы было не-
мало побед. Это сознание и радует нас, и обязывает.
И
Во времена народной, Отечественной войны у сатиры
много дела.
С первых боевых дней она заговорила у нас цветными
плакатами на улицах, рупорами громкоговорителей на пере-
крестках. Не только сатирические фельетоны в прозе, но
и стихотворные эпиграммы стали все чаще и чаще появ-
ляться в углах наших больших газет.
Вновь ожила традиция времен гражданской войны, когда
стихи Маяковского и басни Демьяна Бедного перемежались
в газетах с боевыми сводками.
Карикатуры и эпиграмматические надписи заняли место
и в ежедневной печати, и на армейских пакетах с концент-
ратами, как острая приправа к гороховому супу или к пшен-
ной каше. Рисунки и стихи, воспроизведенные на броне
танка, участвовали с ним вместе в жарких боях, а когда
осколки вражеских снарядов сбивали и стирали их с брони,
танковая бригада бережно обновляла изображение и слова.
Во всех фронтовых газетах, в листовках, переправляемых
партизанами и забрасываемых в тыл врага, — всюду нашла
себе применение советская сатира.
Оружие проверяется во время войны.
Приходит пора проверить качество нашего колющего
и Рубящего словесного оружия.
Есть ли оно у нас?
Да, есть.
319
Служит ли оно тому делу, которое сейчас для нас важ-
нее важного, — войне с фашизмом?
Да, служит.
Но будем говорить прямо — не всегда оно у нас доста-
точно остро.
Мы еще не научились подслушивать и улавливать тот
устный юмор, которым так богат наш народ, а народ на вой-
не в особенности. Улавливать и подслушивать не для под-
ражания и механической переработки фольклора, а для того,
чтобы заразиться задором, горячностью, силой и непосредст-
венностью, которая так радует нас в ответном письме защит-
ников Ханко барону Маннергейму3 или в меткой поговорке
и частушке.
На фронте острое, крепкое слово зачастую идет рядом
с подвигом, и жаль пропускать рти слова мимо ушей.
Во времена войны сатира приобретает широко народный
характер. Она проявляется в боевых лозунгах, в эпиграм-
мах, в насмешливых частушках.
Но и во время войны не следует забывать о тех огром-
ных возможностях, которыми располагает писатель-са-
тирик.
Сатира столь же многообразна, как и вся литература
в целом. От эпиграммы в две — четыре строчки до поэмы,
стихотворной или прозаической, от прутковского афоризма
до щедринского «исследования нравов», — все это могло
бы быть нашим хозяйством.
Комедия, басня, сказка, лукиановский диалог4, роман
в письмах, дневник, шутливая баллада, анекдоты, купле-
ты, — да мало ли еще литературных форм и видов, в кото-
рых может найти свое воплощение сатирическая мысль.
А мы чаще всего ограничиваем себя несколькими, уже
знакомыми нам жанрами, ходим по хорошо изученным до-
рожкам.
То же самое можно сказать и о содержании нашей
сатиры.
Ш
Само собой разумеется, до победы над фашистами на-
шей основной темой останется и должна остаться тема
военная.
Совершенно естественно, враг оказывается в центре
внимания писателя-сатирика. Тем более что враг этот
320
С. Я. Маршак, его жена София Михайловна Маршак и сестра Лия
(впоследствии — писательница Елена Ильина) в Англии (возле
дома, в котором они жили, по соседству со «Школой простой
жизни»).
Рыбачий поселок Полперро
(фотография около 1913 г.).
счастливо соединяет в себе все черты, которые когда-либо
осмеивались сатириками всех времен.
Лживость, чванство, жадность, тупая жестокость, при-
правленная лицемерием, мещанство, украсившее себя рога-
тым рыцарским шлемом, глупость и мракобесие в обличии
лженаучных теорий.
Характер и повадку нашего врага мы успели хорошо
узнать.
Но мы часто топчемся на месте, говорим все об одних
и тех же его чертах, забывая, что он все время меняется,
изворачивается, принимает то одну, то другую защитную
окраску. Надо уметь хватать его за руку при каждом дви-
жении, ловить с поличным.
У сатирика должен быть глаз разведчика.
В некоторой нашей неподвижности, в топтании па месте
повинны и мы сами, и редакции, не умеющие вовремя воору-
жить пас материалом, которым автор не всегда располагает.
Некоторое однообразие пашей работы заключается и
в том, что военную тему мы ограничиваем по преимуществу
сатирой на врага.
Нельзя забывать, что от нашего поведения, от того, как
проявляет себя каждый из нас па своем месте в армии
или в тылу, зависит очень многое.
Мы несем полную ответственность за все дурное, чю
еще сохранилось у нас в быту.
Русская сатира всегда была сильна своей этической
стороной. Сатирики, которыми гордится наша литература,
умели не щадить себя, умели так любить свой народ, чю
ради его блага, не содрогаясь, брали в руки каленое железо.
Каждый из нас должен пожелать себе и своему товарищу
побольше смелости — литературной и гражданской.
Без этого наше дело немыслимо.
IV
И последнее — о злободневности.
Снижает ли злободневность качество сатиры, лишает
ли она ее монументальности и долговечности?
Никто не знает, долго ли будет жить на свете он сам и
то, что он пишет сегодня.
Через день, через месяц наши злободневные строки не-
сомненно устареют, умрут. А вот через три года или через
И С. Маршак* т. 6 321
тридцать лет некоторые из них, может быть, и оживут. Чем
горячее, точнее и злободневнее написанная нами вещь, тем
больше у нее шансов ожить. Чем лучше выполняет она свою
сегодняшнюю задачу, тем долговечнее может оказаться.
Какие-нибудь два стиха греческой эпиграммы о малень-
ком происшествии, случившемся более двух тысяч лет тому
назад, до сих пор радуют нас своей остротой, точным ощу-*
щением времени и места:
Раз довелось увидать Антиоху тюфяк Лисимаха,
И не видал с этих пор своего тюфячка Лисимах5.
Будем думать о своих современниках, радовать их, сер-
дить, заставлять действовать, а потомки, если захотят, —
подумают о нас сами.
О ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ
Еще так свежи в памяти времена, когда, для того чтобы
писатель поближе познакомился с жизнью страны и народа,
устраивались так называемые «творческие командировки».
Но как эти времена от нас далеки! Мы можем с полной
ответственностью сказать, что весь период Великой Отече-
ственной войны литература наша без всяких творческих ко-
мандировок провела с народом и среди народа, переживая
с ним трудности, невзгоды и радости. А быть с народом —
Это значит прикоснуться к земле, к жизни, к житейским
будням, без которых немыслима реалистическая литература.
На деле это значит проводить дни и месяцы в землянке
или блиндаже, мерить ногами километры или трястись
в грузовике, ожидать отправки на вокзалах, на пристанях и
переправах, ночевать в степи, работать среди заводской
сутолоки в редакциях многотиражек и встречать людей в са-
мые трудные и суровые дни их жизни, когда характер их
раскрывается до дна.
Это прикосновение к народу не может не повести к бога-
тому и небывалому литературному урожаю. Литература, до
такой степени сомкнувшаяся с жизнью, несомненно, станет
и реалистичнее и романтичнее.
Война научила писателей многому. Прежде всего научила
писать много, и при этом в самых неблагоприятных усло-
виях. А ведь еще Чехов говорил, что если писать мало,
то испишешься прежде, чем начнешь писать по-настоя-
Щему.
Война научила нас наблюдать точнее, запоминать береж-’
нее, чувствовать сильнее и глубже, чем мы умели прежде.
11* 323
Научила ценить простые и прямые проявления душевной
жизни. Не оттенки настроения, а чувства и страсти.
Мы теперь хорошо знаем цену смеха и цену слез. И зна-
ем, что людей, переживших эти военные годы, не развесе-
лишь тем, что не слишком весело, и не растрогаешь санти-
ментами.
Все это относится к литературе в целом — и к прозе, и
к стихам, и к драме.
Своих урожаев ждет и детская литература. Она заслу-
живает, чтобы мы отнеслись к ней сейчас особенно внима-
тельно, потому что дело воспитания детей в эти послевоен-
ные годы приобретает значение еще более глубокое и серь-
езное, чем прежде. Да к тому' же разговор о детской книге
неизбежно затрагивает основные вопросы, которые волнуют
и всю литературу в целом.
В своем докладе на пленуме Союза писателей Н. Тихо-
нов сказал, что в прозе и поэзии для детей наблюдается сей-
час некоторое оживление. Разумеется, успехи в этой области
далеко еще не соответствуют огромности наших задач и чи-
тательского спроса, но тем не менее они очевидны.
Это совершенно верно. У детской литературы есть боль-
шие удачи. В ней работают не литераторы второго сорта, не
бедные неудачники, которые занимались детской книжкой
когда-то, а настоящие писатели, люди со своим характером,
лицом, почерком.
Для детей писал Алексей Толстой !, пишут Михаил Приш-
вин, Катаев, Тихонов2, Федин3, Аркадий Кулешов, Сергей
Михалков, М. Ильин, Паустовский, Каверин, Пантелеев, Кас-
зпль, Фраерман, К. Чуковский, Лев Квитко, Агния Барто,
Иехода4, Забила, Копыленко, Оксана Иваненко. Всех уже
и не перечислишь. Желание Горького, чтобы вся наша боль-
шая литература принимала участие в создании детских
книг, уже близко к осуществлению.
Недаром многие заметные книги последних лет могут
быть с полным правом названы книгами для детей и юно-
шества.
Таковы, например, повесть о краснодонцах Александра
Фадеева, «Два капитана» Каверина, «Дорогие мои маль-
чишки» Льва Кассиля и другие.
Писать о войне для читателя-ребенка не так-то просто.
Записью фактов, документом, хотя бы и самым точным,
этого читателя уж никак не удовлетворишь. Война должна
предстать перед ним неприкрашенной и в то же время
324
романтической, суровой, даже грозной, но без излишнего
количества окровавленных бинтов.
Одной из лучших наших книг о войне и при этом вполне
соответствующей запросам маленьких читателей я назвал
бы повесть Валентина Катаева «Сын полка», хотя написана
она не только для детей.
Катаев не пожалел на нее душевной теплоты и наблюда-
тельности — тонкой, точной, любовной. Поэтому ему так
удался главный герой повести — мальчик с копной волос,
похожих на соломенную крышу, и ногами, темными, как
картофель.
Ваня Солнцев — это подлинный романтический герой,
со своей сложной судьбой, подвигами, приключениями, на-
стоящими дружбами, — и в то же время обыкновенный дере-
венский мальчишка, совершенно живой и неподдельный.
И окружен этот герой такими же, как он сам, живыми
людьми, хорошими, простыми, — теми солдатами Красной
Армии, которые победили в этой беспримерной войне.
Книжка полна прелестных подробностей, но главная
ее удача, быть может, в каком-то особом писательском
такте.
Мальчик, будучи героем повести, занимает в ней скром-
ное и надлежащее место. Он — лирический, а не историче-
ский центр книги о войне.
И поэтому, несмотря на то, что, читая повесть, мы чаще
всего смотрим вокруг глазами этого мальчика, любуясь
вместе с ним то ярко-алым башлыком и черной кубанкой ка-
валериста, то пушечками на артиллерийских погонах, то на-
стоящими пушками в натуральную величину, — война ни на
минуту не кажется нам обстановкой, фоном для условного
детского спектакля, как это часто бывает в повестях, и не
только детских.
Мальчик изображен во весь рост, но он не заслоняет со-
бой войны и тех серьезных человеческих отношений, кото-
рые создаются на фронте.
Катаев нисколько не щеголяет фронтовым жаргоном,
а уж если и ловит словечко, то вовремя и к месту.
Вот первый разговор мальчика с разведчиками, испытан-
ными мастерами разведки:
— Я, дяденька, — маленький. Я всюду пролезу, — с ра-
достной готовностью сказал Ваня. — Я здесь вокруг каждый
кустик знаю.
~ Это и дорого, — серьезно отвечает разведчик.
325
Читатель с хорошим слухом непременно уловит и оценит
благородную точность интонации этих трех простых слов:
«Это и дорого». Тут и мужская густота голоса, и спокойная
уверенность, которая сразу обнаруживает, что говорит спе-
циалист, и тот оттенок поощрительного уважения, с каким
умный взрослый разговаривает с ребенком. Это и дорого!
Я так подробно остановился здесь на небольшой повести
Катаева отнюдь не потому, что считаю ее «Войной и миром»
нашего времени. Война у нас позади, а мир со всеми своими
сложностями и трудностями еще впереди.
Повесть Катаева радует своим здоровьем, как может
радовать хороший, красивый в своей нормальности ребенок.
За последнее время мы прочли довольно много повестей
и рассказов о детях в войне. Что отличает их от повести Ка-
таева? В большинстве этих книжек героями являются тоже
дети — сироты войны, совершающие подвиги или пережи-
вающие сложные события.
Вот, например, в повести Копыленко «Солнце» есть, ка-
залось бы, все основания для удачи. Трудно придумать по-
ложения более острые и драматические, чем те, которые
лежат в основе книжки.
Маленький деревенский мальчик Гордей живет в зем-
лянке со своей старой, больной бабушкой. Деревня их за-
нята немцами, хата сожжена. Родные убиты. Мальчик ге-
роически несет все трудности этой страшной жизни, да при
этом еще с беззаветной смелостью прячет у себя в землянке
раненого командира и делится с ним последним куском.
Этому мальчугану сдается в плен солдат немецкой армии —
чех, и мальчик сам передает своего пленника Красной
Армии, когда первые ее отряды выбивают немцев из деревни.
Во время этих событий умирает бабушка мальчугана, и
он остался бы совсем один на свете, если бы раненый ко-
мандир не заявил о своем желапии усыновить своего малень-
кого спасителя.
Уж, кажется, трудно найти сюжет более трогательный по
самому существу своему.
Местами у Копыленко находятся и какие-то точные и
нежные слова, соответствующие его литературной задаче, —
скажем, там, где мальчик спрашивает бабушку, жива ли
она еще, и очень просит ее не умирать.
Но таких мест, к сожалению, не слишком много.
Ткань повести редковата, и от этого сюжет, такой прав-
доподобный в наше время, кажется подчас искусственным,
326
придуманным. Достаточно было автору ввести в повесть при-1
поднятый до ходульности разговор мальчика Гордея с солн-
цем, чтобы скомпрометировать правдивость и убедительность
фабулы.
Копыленко — талантливый, искренний и опытный писа-
тель, и поэтому мы вправе задать и себе и ему вопрос: чего,
собственно, не хватило ему для того, чтобы его «Солнце»
и в самом деле грело? Почему такой трагический, взятый
из самой жизни сюжет породил столь привычный и не слиш-
ком глубокий рассказ? Почему, читая самые грустные стра-
ницы книжки, уже заранее угадываешь благополучную раз-
вязку, как это бывает в святочных рассказах?
Ведь вот удалось же Катаеву, при всем оптимизме его
повести, тоже обещающей (но как-то очень осторожно и не-
уловимо) благополучную судьбу героя, избежать «святоч-
ности», поверхностности, сентиментальности. Чем это до-
стигнуто? Прежде всего отсутствием служебных мест, бу-
тафорских мостиков, ведущих от эпизода к эпизоду. На
самую мелкую и как будто второстепенную деталь Катаев
тратит настоящее воображение, темперамент, подлинные
наблюдения. Лихой и щеголеватый четырнадцатилетний ка-
валерист в ярко-алом башлыке, в черной кубанке с алым
верхом упоминается всего один раз, а как властно занял он
свое место в повести, как ясно и весело входит оп в память.
Такова настоящая поэтическая ткань всякой живой
талантливой повести.
Жизнь пе просто тянется от события к событию, она вся
играет, перекликается удивительными и причудливыми под-
робностями, дарит каждую минуту что-то неожиданное, го-
ворит разными голосами.
Начало повести, как и начало жизни, не должно быть
всего только скучным вступлением, предисловием. И раз-
вязка, конец не может быть только необходимой расплатой
по всем выданным в повести векселям. Не будем забывать
о той зеленой ветке, которая так неожиданно радует нас
иной раз осенью.
К сожалению, во многих детских повестях вы не найдете
ни поэтической игры, ни разнообразия голосов, ни богат-
ства счастливо найденных подробностей.
И во «взрослых» книгах всего этого не так много.
А в детских и того меньше. Между тем книжка даже пе
смеет именоваться детской, если в ней нет ни игры, ни
тепла, ни воображения.
327
Часто у нас говорят: надо мириться и со «средней» кни-
гой, если она своей темой и материалом отвечает нуждам
сегодняшнего дня. В ртом есть свой резон. «Средняя» книга
имеет право па существование. Но нельзя мириться с кни-
гой тусклой, посредственной.
Типичным образцом такой «посредственной» книги мо-
жет служит повесть Н. Раковской «Мальчик из Ленин-
града» 5. С этого мальчика все — как с гуся вода. Ему только
одиннадцать лет. Он первый раз расстался с матерью, кото-
рая ушла на фронт, а сам он уезжает из осажденпого Ле-
нинграда куда-то в неизвестность, в эвакуацию. Заметна ли
в повести душевная тревога этого мальчика, то смятение,
которое неизбежно связано со страшным поворотом в лич-
ной судьбе героя и в судьбе его родного города?
Увы, только бледные, незапоминаемые слова нашлись
для всего этого у писательницы Раковской:
«Я заплакал. Тут кто-то схватил меня за плечо. Это был
вожатый Гриша. «Ты чего, Юлька, — сказал он, — разню-
нился? Срам какой... А говорил, путешествовать любишь!»
Он подмигнул мне и втолкнул в вагон... «Бедная мама! —
подумал я. — Когда мы опять будем вместе?» Гудело под
полом, колеса стучали, «уф, уф, уф!» — сопел паровоз. На
крыльце стояли две девочки в платках. «Они останутся
тут?» — подумал я. И мне стало жаль девочек, этот домик,
крылечко. Я перестал плакать, прижался к стеклу и сказал
тихо: «Погодите, фашисты! Отомстим вам за все... Рас-
каетесь!»
Так, без грамматических ошибок, но и без всякого вооб-
ражения, без малейшего признака собственных наблюдений
пишет автор обо всем: о том, как мальчик под обстрелом от-
стал от своего эшелона, потеряв все деньги и мешок с про-
визией (это в такие-то времена!), о том, как он один доб-
рался до Поволжья к бабушке и узнал, что бабушка умерла,
о том, как он поехал к дяде в Коканд и узнал, что дядю
призвали в армию, а тетя уехала в Баку...
Писательница провела своего героя через всю страну
в самые трудные времена героической войны и умудрилась
так мало рассказать и показать на всех своих ста пяти-
десяти страницах.
Не жизнь, великолепная, сложная, играющая даже в тра-
гические минуты, была перед Н. Раковской, а какие-то
образчики школьных повестей, да при этом и не самые
лучшие.
328
Я упомянул здесь всего три книги людей разного уровня,
разных талантов и характеров, но книги эти показались мне
достаточно выразительными в своем облике и дающими ма-
териал для заключений.
Я не думаю, что всем нам нужпо писать только трагиче-
ские, глубокомысленные повести, романы и поэмы. Всему
есть место в литературе, — и короткому веселому рассказу,
и самой причудливой новелле, и фантастической сказке, и
задорной шутке. Но все это может и должно быть правдиво,
искренне и обогащено теми великими событиями и чувст-
вами, которые мы пережили за эти годы. Шутка должна
стать еще веселее, серьезный разговор — серьезнее.
Мы не должны мириться со «средними» книжками, сред-
ними чувствами и мыслями. Однако тут надо сделать ого-
ворку. Рядом с пушкинскими стихами могут показаться
средними стихи Кондратия Рылеева. А ведь какая это вы-
сота поэтической честности, поэтического напряжения.
В «Войнаровского» Рылеев вложил все, чем владел.
Я — за высокую «среднюю» книгу. Эта высокая средняя
книга поддерживает в литературе то, что является верши-
ной своего времени.
ПОЧТА ВОЕННАЯ
Каждый из нас — литераторов, пишущих для детей, —•
нередко встречается со своими читателями. Эти встречи
почти всегда остаются у нас в памяти, но бывают среди них
такие, которые мы храним в душе особенно бережно.
Лет десять тому назад мне довелось встретиться с чита-
телями в самой неожиданной обстановке. Это было на сено-
вале в жаркий летний день. Плотным кольцом окружали
меня мои слушатели. Все было так привычно и знакомо.
Внимательные и серьезные глаза, сдержанный смех, шутли-
вые и меткие замечания.
Но происходило это не в пионерском лагере, не на даче,
а на фронте, и слушали меня не дети, а молодые бойцы во
время короткого и неверного досуга между боями. Мне было
странно, что под гудение самолетов, под бухание артилле-
рийских орудий, хоть и отдаленное, но довольно явствен-
ное, можно с таким живым интересом слушать стихи. Сна-
чала я читал стихи для взрослых, все больше на военные
темы, — мне казалось, что именно это интересно и нужно
моим слушателям.
Но вот один из них слегка откашлялся и сказал застен-
чиво:
— А не можете ли вы прочитать нам какую-нибудь из
ваших сказок. Ведь мы их с малых лет знаем.
Его сразу поддержало несколько голосов.
И я с волнением принялся читать этим взрослым людям,
несущим такое тяжелое бремя повседневного военного труда
и ежеминутной опасности, веселые и беспечные строчки,
которые, может быть, потому и понадобились им сейчас, чю
330
напоминали о доме, о летнем лагере, о детстве, о юности,
из которой они, в сущности, еще так недавно вышли.
Я был рад, что мог доставить им несколько минут от-
дыха, а они щедро вознаградили меня, навсегда оставив
в моей памяти этот летний день во всей его неповторимой
п простой значительности.
А заодно они подарили мне тему для нового рассказа
в стихах — «Почта военная». Написать этот рассказ я обе-
щал военным почтальонам, которые горько жаловались на
то, что обо всех, дескать, писатели вспоминают — о летчи-
ках, танкистах и саперах, о пехоте и об артиллерии — и
только их, военных почтальонов, всегда забывают. А если
и вспомнят, то чаще всего бранят, — ведь всякую почту при-
нято бранить.
Я покинул моих слушателей взволнованный и растроган-
ный, мне казалось, что я провел этот день среди людей,
с которыми не расставался с самого их детства. Они были
все те же. Та же веселая серьезность, та ясе готовность щедро
и горячо сочувствовать всему хорошему, человечному и сте-
ной стоять за справедливость.
ПОЧЕМУ Я ПЕРЕВЕЛ СТИХИ
ДЖАННИ РОДАРИ?
Народная поэзия, источники которой питают поэзию ли-
тературную, создала множество колыбельных, игровых, по-
тешных песенок для детей, бессчетное число стихов-заклина-
ний, обращенных к дождю («Дождик, дождик, перестань!»),
к огню («Гори, гори ясно!..»), к божьей коровке («Божья
коровка, улети на небо!»), сотни и тысячи веселых и метких
«дразпилок», скороговорок, перевертышей, считалок.
Эти двустишия и целые цепочки двустиший запоми-
наются нами с самого раннего детства. В них слышится вы-
сокий и чистый детский голос; в них заключено так мною
детской непосредственной радости и энергии. Они повели-
тельны в своем обращении к стихиям, к миру.
Маяковский и наши лучшие из современных поэтов, пи-
шущих для детей, приняли, как наследие, опыт народной
поэзии, лубка, считалки, дразнилки.
Отрадно отметить, что ритмом народной детской песни
проникнуты и стихи для детей в современной демократиче-
ской поэзии Запада.
Таковы, например, стихи молодого итальянского поэта
Джанни (Джованни) Родари, хорошо знакомые юным чита-
телям его страны. Многие стихотворения Родари написаны
по просьбе, по заказу читателя-ребенка. Они находят доступ
в каждый городской и деревенский дом, где живет юный чи-
татель, и вместе с детьми их читают и повторяют нараспев
взрослые.
Лаконичные, действенные, полные огня и задора строчки
прославляют честный труд, свободу, мир. Серьезная и
332
значительная тема сочетается в этих стихах с живым и свое-
образным юмором. Они как нельзя более соответствуют дет-
скому восприятию, детскому голосу. В них есть та причуд-
ливая игра, без которой немыслимы стихи, входящие в дет-
ский обиход. Почти каждое из стихотворений затейливо
задумано, полно неожиданностей.
В простых и немногословных стихах нашел свое прав-
дивое отражение быт детей и взрослых из рабочих кварта-
лов Италии, а по форме они так похожи на те песенки-счи-
талки, которые твердят и распевают в своих играх итальян-
ские дети.
Сочинять стихи, достойные стать рядом с народной пес-
ней и считалкой, умеют только те порты, которые живут
с народом общей жизнью и говорят его языком. Таким пор-
том представляется мне Джованни Родари. В его стихах я
слышу звонкие голоса ребят, играющих на улицах Рима,
Болоньи, Неаполя.
В некоторых из своих переводов я отошел от буквальной
точности, стремясь передать самую сущность свежих и не-
посредственных стихов итальянского порта. Но иначе, я ду-
маю, и нельзя переводить свободные и причудливые, часю
основанные на забавной рифме стихи для детей.
О ТЕХ, КТО ПИШЕТ НА ПОЛЯХ
Когда на собраниях или в печати идет разговор об успе-
хах и неудачах нашей художественной литературы, о при-
чинах этих успехов и неудач, редко и мало говорят об од-
ном из самых деятельных и ответственных участников лите-
ратурного дела — о редакторе.
А между тем редакторы издательств и периодических
изданий—это селекционеры, которые изо дня в день, из года
в год не слишком заметно, но существенно влияют на разви-
тие литературы — влияют отбором, утверждением одних
признаков и отрицанием других. Воздействие этих селек-
ционеров на качество и направление нашего словесного ис-
кусства почти не учитывается. Правда, от времени до вре-
мени мы обсуждаем отчеты и планы издательств и журна-
лов, но на этих довольно редких и ограниченных временем
отчетных собраниях невозможно проследить деятельность
отдельных редакторов, ту повседневную, будничную работу
редакций, которая подчас не меньше отражается на судьбе
писателей и всей литературы в целом, чем статьи наших кри-
тиков. Не всякую книгу критики замечают. А сколько сти-
хов, рассказов и повестей не доходит до суда критики только
потому, что их уже судил и осудил редактор. Спору нет,
большинство неизданных произведений погибает по причине
их нежизнеспособности. Но можно с уверенностью сказать,
что немалая часть этих погребенных в издательствах стра-
ниц могла бы увидеть свет, если бы попала в более береж-
ные и умелые руки. Редактор, которому доверена судьба книги
и ее автора, должен быть способен метко и точно, а не при-
близительно оценить достоинства и недочеты писательского
тРУДа, должен вовремя (и это особенно важно) заметить
334
и поддержать молодой и смелый задор, который знаменует
рождение нового таланта, почувствовать возможности, скры-
тые в еще несовершенном труде.
Для этого редактору надо быть не ниже автора по сво-
ему развитию, вкусу, знанию жизни.
Редакторами — в самом буквальном и лучшем смысле
этого слова — были Пушкин, Некрасов, Чернышевский, Сал-
тыков-Щедрин, Короленко, Горький, Маяковский.
Не подлежит никакому сомнению, что и у нас есть ли-
тераторы, которые с честью продолжали и продолжают Э'У
замечательную традицию.
Однако еще очень часто мы недооцениваем значение ре-
дакторской работы и узнаем имя того или иного редактора
только тогда, когда обсуждаем какую-нибудь его ошибку.
А между тем каждый из работников редакций, выпустивший
в свет за своей подписью хотя бы несколько книг, заслужи-
вает общественной оценки — положительной или отрица-
тельной. Деятельность его не должна протекать в замкнутой,
келейной обстановке.
Обычно редакции опираются в своей работе на так назы-
ваемых «внутренних рецензентов».
Конечно, редактор не может быть энциклопедистом. По-
этому вполне естественно, если он направляет книгу, затра-
гивающую вопросы науки или техники, соответствующему
специалисту.
Но такая экспертиза производится в редакциях не только
по отношению к научным или техническим книгам. Стихи
и художественная проза тоже посылаются на отзыв — и не
одному, а иной раз двоим или даже троим рецензентам.
В этом нет ничего дурного. Коллегиальное обсуждение ру-
кописи может быть только полезно. Плохо только то, ч<о
Эти «внутренние рецензии» часто бывают сырые, небреж-
ные, необоснованные. Пишут их подчас менее обдуманно и
ответственно, чем писали бы для печати.
При этом далеко не всегда рецензентами стихов или
прозы являются подлинные ценители литературы — критики,
поэты или беллетристы.
Но даже в лучшем случае, если оценка поручена настоя-
щему специалисту, есть ли хоть какая-нибудь гарантия, чю
отзыв этот в самом деле поможет писателю?
Представьте себе, что стихи направлены на рецензию
таким несхожим между собою поэтам, как А. Твардовский
и С. Кирсанов или И. Сельвинский и М. Исаковский. Оценки
335
их вряд ли сойдутся. Лежит ли истина где-то посередине
между этими оценками? Вряд ли. Что же делать редактору
и автору? Кому из рецензентов должны они поверить?
А ведь бывают случаи, что рецензий на одну и ту же руко-
пись набирается чуть ли не до десятка и все они разноре-
чивы. Как же быть?
Ответ один: «внутренние» рецензии пишутся не для ав-
тора, а для редактора, а у редактора должно быть собствен-
ное мнение, свой голова на плечах. Он может обсудить ру-
копись с людьми, мнением которых дорожит. Но одно дело —
советоваться, чтобы проверить свое суждение. И совсем дру-
гое дело — подшивать к рукописи отзывы ради перестра-
ховки.
Сколько-нибудь известные писатели редко страдают от
такого рода рецензий. А вот для молодого литератора бег-
лые, противоречивые и подчас невнятные отзывы рецензен-
тов часто являются не помощью, а помехой.
Нередко автор получает из редакции свою рукопись, ис-
пещренную черточками, вопросительными и восклицатель-
ными знаками или весьма робкими, краткими и большей
частью довольно неразборчивыми пометками на полях.
Это — голос застенчивого редактора, не рискующего выра-
зить свои мысли громко и уверенно. А порой на тех же по-
лях рукописи автор находит и более энергичные отклики на
прочитанное: «Вздор!», «Чушь!», «Сумбур!», «Ералаш!»,
«Ой-ой!», «Ха-ха!»
Этакими критическими восклицаниями приветствует ав-
тора какой-нибудь собрат по перу, которому редакция пору-
чила прочесть рукопись.
А ведь литератор, даже неизвестный, безусловно, заслу-
живает того же вежливого и уважительного отношения, что
и всякий советский гражданин.
К тому же это веселое улюлюканье на полях рукописи —
верный признак недостаточно серьезного и отнюдь не благо-
желательного отношения к труду товарища.
Рецензент, который берется судить будущую книгу, дол-
жен быть горячо заинтересован в ее судьбе, должен глубоко
сознавать, что речь идет не только об участи рукописи (хотя
и это совсем не малость!), но иной раз и обо всей дальней-
шей работе писателя.
В консультанты следует брать людей не только основа-
тельно знающих свой предмет, но и хорошо понимающих
задачи, стоящие перед каждым художественным жанром.
336
Пожалуй, консультанты-историки обнаружили бы не одну
погрешность — действительную или мнимую — в романе
«Война и мир», если бы он был послан им «на предвари-
тельную рецензию».
Мы знаем, что писатели-беллетристы не считали в свое
время Жюля Верна настоящим художником, а ученые не ви-
дели в его романах ни науки, ни техники. Интересно, какой
отрыв дали бы они на «Путешествие к центру земли»?
Редакционная работа — один из самых сложных и ответ-
ственных видов литературной деятельности. Беречь все та-
лантливое, что накоплено нашей литературой, и в то же
время открывать дорогу новому, направлять работу автора,
ничего ему не навязывая, но ставя перед ним значительные
и увлекательные задачи, могут только люди литературно
одаренные, с широким кругозором и подлинной идейностью.
Таким и должен быть советский редактор.
О ПОИСКАХ СВОЕОБРАЗИЯ
Чаще всего начинающих авторов упрекают в том, что
они еще «не нашли себя», не проявили своей поэтической
индивидуальности.
Это серьезное обвинение. Подлинная поэзия не бывает
безличной. Поэт должен иметь свой собственный, отличный
от других голос, свой характер, «лица необщее выраженье»,
как говорил Баратынский L
Но можно ли побуждать человека к тому, чтобы оп со-
знательно и намеренно искал своеобразия?
Я помню, как в предреволюционные годы молодые стихо-
творцы, старавшиеся быть как можно более модными, спо-
рили между собой, подобно Бобчинскому и Добчинскому,
о том, кто первый из них сказал «э», то есть кто первый
ввел в обиход какое-нибудь словцо, рифму или размер. Они
спешили взять патент на ту или иную едва уловимую ма-
неру или на весьма ограниченный круг тем. Так, некий мо-
лодой порт специализировался на иронически-лирических
стихах о парикмахерских куклах с завитками па лбу и не
позволял ни одному своему сопернику даже близко подхо-
дить к витринам с восковыми манекенами.
Но, несмотря на все ухищрения, большинство этих обла-
дателей патентов на оригинальность в конце концов тонуло
в толпе подобных им оригиналов и бесследно исчезало в реке
Забвения.
Чем богаче подлинная индивидуальность, тем труднее
определять ее несколькими внешними чертами, тем меньше
поддается она подражанию, пародии, карикатуре.
Подметить характерные черты Кольцова куда легче, чем
охватить поэтическую индивидуальность Пушкина.
338
Личность порта складывается не сразу. И ничего зазор-
ного нет в том, что в процессе своего развития молодой порт
поддается воздействию и даже прямому влиянию предше-
ственников и современников — отечественных и зарубеж-
ных. Ведь рто и есть питание, усвоение культуры.
Разумеется, речь здесь идет пе о холодном и расчетли-
вом заимствовании чужих образов, ритмов, рифм. Искрен-
нее, глубокое увлечение мастерством портов-учителей не
может пе сказаться на работах учеников. Но в то же время
оно постепенно и незаметно способствует возникновению
новой, вполне оригинальной манеры письма.
Руководитель литературного кружка должен отличать
признаки благородного ученичества от рабского подража-
ния и механического заимствования в стихах или прозе мо-
лодого автора.
Кстати, такое заимствование обычно само выдает себя
очевидным несоответствием содержания и стиля. К тому же,
перенимая стихотворный ритм, подражатель обычно, сам
того не сознавая, вырывает из текста то или иное слово или
несколько слов чужого лексикона, ибо ритм запоминается
чаще всего не отвлеченно, а вместе с текстом, с которым
он связан.
От начинающего автора нельзя и не нужно требоваэь
нарочитого и намеренного своеобразия. Но, однако, руко-
водитель может и должен указать ему на те его строки или
страницы, где он впадает в штамп, в шаблон. Только не
надо при ртом пугать его жупелом банальности, ибо это
чаще всего ведет к тому, что у автора тормоза становятся
сильнее двигателей, и он начинает бояться простоты.
«Словечка в простоте не скажет — все с ужимкой»2.
Говоря о «штампах», надо объяснить начинающему, что
банальность почти всегда знаменует отсутствие мысли, чув-
ства, наблюдения.
О чем бы вы ни писали — о родине, о герое, о любви
или о природе, — вы неизбежно повторите то, что говорили
по этому поводу многие другие, если будете писать без
мысли, без страсти, без материала, без своего отношения
к предмету.
Надо научиться смело думать и сильно чувствовать. Только
Этим путем и возможно избежать «штампов» — общих мест.
ОБРАЗ ГОРОДА
Можно без преувеличения сказать, что прекрасный город
над Невой создали не только Петр Первый и его сподвиж-
ники, не только замечательные архитекторы и оставшиеся
безымянными строители-рабочие, но и Пушкин, Гоголь, До-
стоевский, Некрасов, Александр Блок.
Вряд ли светилась бы так ярко Адмиралтейская игла,
если бы ее не озарил блеском своих стихов Пушкин. А ка-
кое величие и какую энергию придали пушкинские с?грофы
вдохновенному, полному движения памятнику на Сенат?ской
площади!
Набережные и улицы, по которым ночью скакал Медный
всадник и гнался за богатыми санями призрак бедною
чиновника Башмачкина, Невский проспект, навсегда не-
разлучный с «Петербургскими повестями» Гоголя, стали
в равной степени достоянием нашей истории и нашей
поэзии.
И совсем другой город — иного времени — встает перед
нами в стихах Некрасова.
Огни зажигались вечерние,
Выл ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный входил *.
Это — тот Питер, где толкутся перед тяжелой дубовой
дверью парадного подъезда ходоки, пришедшие из деревни
За правдой, где на Сенной площади бьют кнутом крестьянку
молодую; это — город промышленных хищников, акционе-
ров и биржевых маклеров, типографских наборщиков,
340
извозчиков, рассыльных, город балетных феерий и военных
парадов... Не тех блистательных и стройных парадов, кото-
рые пленяют нас в стихах Пушкина:
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою2.
У Некрасова не сияют медные шапки, «кивера не бле-
стят». Парад происходит у него при самой ненастной, про-
мозглой питерской погоде:
На солдатах едва ли что сухо,
С лиц бегут дождевые струи,
Артиллерия тяжко и глухо
Подвигает орудья свои3.
Да и Пушкин, создавая образ северной столицы, видел
не только ее блеск и стройность.
Он писал:
Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит...4
Эта двойственность образа проходит через всю дореволю-
ционную поэзию.
В памяти старших поколений еще живет Петербург —
Петроград Александра Блока:
Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюбленной.
И хруст песка и храп коня...5
А рядом с этим поэтическим Петербургом возникает су-*
ровый образ военного Петрограда четырнадцатого года, уже
овеянный предчувствием надвигающейся бури.
Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон °.
341
От этих стихов идет уже прямая тропа к завьюженным
переулкам «Двенадцати», к тем настороженным, опустелым
улицам, по которым шагает в поисках притаившегося врага
патруль:
Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!7
Со всей силой, на какую способен подлинный порт рево-
люции, запечатлел в своих четких, резких, как пулеметная
очередь, строчках живую хронику Петрограда семнадцатого
года Владимир Маяковский:
И снова
ветер,
свежий, крепкий,
валы
революции
поднял в пене.
Литейный
залили
блузы и кепки.
«Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!» 8
В краткой и беглой статье невозможно, конечно, охва-
тить все то, что внесла в наше представление о Питере —
Ленинграде современная поэзия. Ленинграду-строителю и
Лепинграду-воину посвящали стихи все наши лучшие совет-
ские порты, свидетели и участники его титанического мир-
ного труда, его беспримерного боевого подвига.
Этот строгий и величавый город, дышащий морем, город
труда, искусства, науки, навсегда останется славой нашей
страны и неиссякающим источником вдохновения для портов.
РОБЕРТУ БЕРНСУ 200 ЛЕТ
Минуло двести лет со дня рождения Бернса, но мно-
гие из его строк звучат так, будто написаны в наше
время.
О мире и братстве между народами говорил он и в тор->
жественных стихах:
Пусть золотой настанет век
И рабство в бездну канет,
И человеку человек
Навеки братом станет \ —
и в стихах шутливых, полных здорового народного юмора:
Я славлю мира торжество,
Довольство и достаток.
Создать приятней одного,
Чем истребить десяток!2
У нас в стране Бернс обрел как бы вторую родину. Пе-
реводить его начали более ста лет тому назад.
Томик его стихов лежал на столе у величайшего нашего
поэта — Пушкина и до сих пор хранится в пушкинской квар-
тире-музее. Четыре строчки из стихотворения Бернса, по-
служившие эпиграфом к «Абидосской невесте» Байрона, пе-
ревел другой великий русский поэт — Лермонтов.
Известно, что поэт Некрасов, не знавший языка, на ко-
тором писал Бернс, просил Тургенева сделать для него под-
строчный перевод песен шотландского барда, чтобы дать ему
возможность перевести их стихами.
343
И все же первым переводчиком, по-настоящему познако-
мившим русского читателя с Бернсом, надо считать nopia-
подвижника, сосланного царским правительством в Сибирь
на каторгу, — М. Л. Михайлова.
Это он впервые подарил своим соотечественникам пере-
воды таких знаменитых стихов, как «Джон Ячменное Зерно»,
«Полевой мыши», «Горной маргаритке», «Джон Андерсон»
и др.
И все же только после революции поэзия великого шот-
ландца была оценена по достоинству в нашей стране. Его
стали переводить не только на русский, но и на языки мно-
гих народов Советского Союза.
Немало стихов Бернса положено на музыку нашими луч-
шими композиторами — Шостаковичем, Свиридовым, Каба-
левским, Хренниковым3.
Гравюры к его «Балладам и песням» сделаны таким
замечательным русским художником, как В. А. Фавор-
ский 4.
Я счастлив, что на мою долю выпала честь дать моим
современникам и соотечественникам наиболее полное собра-
ние переводов из Бернса. Более двадцати лет посвятил я
Этому труду и до сих пор еще считаю свою задачу не-
завершенной.
Русский читатель знает и любит «Тэма О’Шентера» и
«Веселых нищих», «Двух собак» и множество лирических
стихотворений, посланий и эпиграмм, — однако все это еще
не исчерпывает сокровищницы, оставленной миру Робертом
Бернсом.
Много чудесных часов и дней провел я за этой работой,
но побывать на родине великого поэта Шотландии довелось
мне только недавно — всего три года тому назад.
Я увидел крытый соломой дом, где он родился, поля, по
которым он ходил за плугом, полноводную реку Нит, на зеле-
ном берегу которой сочинял он своего бессмертного «Тэма
О’Шентера».
Побывал я и в гостинице «Глоб» в Дамфризе, где на
стекле порт вырезал алмазом только что сочиненные им
стихи, и в таверне — «Пузи Нэнси», где пили и пели когда-
то «Веселые нищие».
Возлагая венок у подножия памятника в городе Эйр, я
смотрел на статую, изображающую стройного молодого чело-
века со сложенными на груди руками, и думал о том, как
много потрудились эти руки при жизни.
344
Мне приходили на память строки, посвященные Бернсом
своему собрату по поэзии Фергюссону, погибшему от нужды
и лишений в ранней молодости:
Зачем певец, лишенный в жизни места,
Так чувствует всю прелесть этой жизни?
А на другой день, выступая на большом собрании в па-
мять великого барда, я сказал, что, может быть, никогда бы
не попал в Шотландию, если бы меня не привели туда тро-
пинки, идущие через поэзию Бернса.
И когда я высказал пожелание, чтобы народы ходили
друг к другу такими тропинками, а не дорогами войны, весь
многолюдный зал отозвался дружными аплодисментами, а
лорд-мэр города Глазго, облаченный в горностаевую мантию,
поднялся с места и сказал, обращаясь ко всем, кто был в
зале:
— Как говорила моя старая бабушка, — пусть слова эти
будут для вас уроком!
Продолжая мысль этой умной старушки, я сказал бы:
пусть стихи Бернса, щедрые, скромные и великодушные, по-
служат уроком молодым поколениям всего мира!
«БЕССМЕРТНОЙ ПАМЯТИ»
К 300-летию со дня рождения Роберта Бернса
Мы чтим великих портов минувших веков — Шекспира,
Гете, Пушкина — не потому, что они были когда-то при-
знаны гениями и навсегда зачислены в разряд классиков, а
потому, что рти порты до сих пор находят живой отклик
в душах людей.
Можно сказать, что они держат экзамен у каждого нового
поколения и блестяще выдерживают рти испытания. Иначе
бы их сдали в архив или, в лучшем случае, в музей.
Из портов прошлого нам в первую очередь нужны те, что
в свое время были портами будущего. Они оказываются на-
шими современниками и деятельно участвуют в жизни, не-
смотря на то, что кости их давно истлели в земле.
Каждая рпоха ищет и находит в прошлом своих любим-
цев, своих избранников, родственных ей по духу.
Сегодня во весь рост встает перед нами фигура великого
барда Шотландии — смелого, веселого и жизнелюбивого
Роберта Бернса, неугомонного Робина, голосом которого
впервые заговорил простой народ его страны.
Читая стихи Бернса, удивляешься, как могли загрубелые
руки землепашца создать все рти непревзойденные по изя-
ществу и тонкости песни, баллады, послания, эпиграммы.
И еще удивительнее то, что тяжелый, подчас непосильный
труд и постоянная нужда в самом насущном не заглушили
в порте бьющей ключом веселости, веры в человека и в бу-
дущее его счастье.
Ведь, в сущности, о себе, о своей судьбе говорит он в
скорбных строчках, посвященных Роберту Фергюссону,
346
порту, тоже писавшему на шотландском диалекте и погиб-
шему от нищеты и голода в ранней молодости.
Бернс на свои скудные средства соорудил ему памятник,
а под его портретом написал:
Проклятье тем, кто, наслаждаясь песней,
Дал с голоду порту умереть.
О старший брат мой по судьбе суровой,
Намного старший по служенью музам,
Я горько плачу, вспомнив твой удел.
Зачем певец, лишенный в жизни места,
Так чувствует всю прелесть ртой жизпи? 1
Но наперерез и наперекор ртим полным слез и гнева
стихам несутся задорные, проникнутые отвагой и силой
строчки, написанные тою же рукой:
Мы с горем
Поспорим.
Нам старость — нипочем!
Да и нужда —
Нам не беда.
И с ней мы проживем 2.
Или:
У которых есть, что есть, — те подчас не могут есть,
А другие могут есть, да сидят без хлеба.
А у нас тут есть, что есть, да при ртом есть, чем есть,—
Значит, нам благодарить остается небо!3
Кажется, ни один порт, которого судьба наделила богат-
ством и славой, не знал такой радости, как Бернс. Он ни-
когда не жалуется на судьбу, а бросает ей гордый вызов.
Не плут, пе мошенник,
Не нажил я денег.
Свой хлеб добываю я сам, брат.
Немного я трачу,
Нисколько не прячу,
Но пенса пе должен чертям, брат!..4
Порт знает, что ничего по-настоящему ценного нельзя
купить за деньги — ни любви, ни дружбы, ни вдохновенья.
Он не раз повторяет в различных вариантах дорогую ему
мысль:
У нас любовь — любви цена!5
347
А в песне о любимой девушке он говорит:
Она не прекрасна, но многих милей.
Я знаю, приданого мало за ней,
Но я полюбил ее с первого дня
За то, что она полюбила меня! 6
Немногие народы так ценят и любят поэтов, как шот-
ландцы своего Роби Бернса. Он стал для них как бы симво-
лом единства нации, выразителем дум и чаяний простых
людей страны.
Когда несколько лет тому назад мне довелось объехать
города, городки и деревни, связанные с биографией поэта,
меня наперебой угощали чтением его стихов и целых поэм
люди самых различных званий, положений, возрастов — по-
жилой шахтер и старый рыбак, странствующий агент ком-
пании швейных машин и молодая девушка, так похожая на
Highland Магу — строгую и скромную горянку Мэри, как ее
изображают художники.
Бернс — поэт народный в самом подлиннохМ и глубоком
значении этого слова. В его стихах живет и дышит сама
природа Шотландии —
Скалистые горы, где спят облака,
Где в юности ранней резвится река,
Где в поисках корма сквозь вереск густой
Птенцов перепелка ведет за собой7.
В поэмах, проникнутых метким и крепким народным
юмором, в «Тэме О’Шентере» и «Веселых нищих», в песнях
о ткачах и пахарях шотландцы узнают себя и своих земля-
ков, смеются их шуткам и повторяют вслед за бродячим поэ-
том бушующие буйным задором строфы из «Веселых
нищих»:
Вам, милорд, в своей коляске
Нас в пути не обогнать,
И такой не знает ласки
Ваша брачная кровать,
Жизнь — в движенье бесконечном:
Радость — горе, тьма и свет.
Репутации беречь нам
Не приходится — их нет!
Роберт Бернс неотделим от Шотландии, от ее земли и
народа. Но кругозор этого национального поэта не был огра-
ничен пределами родной страны.
348
Бернс, никогда не выезжавший из Шотландии не то что за-
границу, но даже в Англию, говорит в одной из своих поэм
о путешествии некоего лорда по Испании, Италии, Германии.
И говорит он о чужих странах не менее уверенно и
метко, чем Байрон, так много постранствовавший на своем
веку.
Однако существенное его отличие от Байрона заключает-
ся хотя бы в том, что, изображая увеселительную поездку
великосветского бездельника по Испании, он не теряет своей,
крестьянской, точки зрения. Он пишет про путешествующего
лорда так:
Заглянет по пути в Мадрид,
И на гитаре побренчит,
Да полюбуется картиной
Боев испанцев со скотиной 8.
Описывая бой тореадоров и матадоров с разъяренным
быком, никто из портов высшего круга не назвал бы pi о
могучее животное так запросто и по-деревенски «ско-
тиной».
Бернс иной раз пугал критиков своего времени непривыч-
ной для их слуха простонародностью выражений, но при
желании он умел быть пе менее изысканным и галантным,
чем его светские собратья по перу.
Сам он пишет о себе:
Как важная знать,
Не могу я скакать,
По моде обутый, верхом, брат.
Но в светском кругу
Я держаться могу
И в грязь не ударю лицом, брат9.
В былое время о Бернсе не раз говорили и писали, как
о стихотворце-самоучке. Правда, он, как и наш Горький, не
окончил ни одной школы, но за короткую жизнь он добросо-
вестно прошел свои житейские «университеты», отлично раз-
бирался в политике, имел представление о мировой истории,
читал Вергилия 10 и французских портов, а в области англий-
ской порзии и родного фольклора был настоящим зна-
током.
Природный ум, поэтическая интуиция и широкая начи-
танность вместе с богатым жизненным опытом — все рто
позволило ему стать на голову выше своей среды и так
Далеко заглянуть в будущее, чтобы спустя полтора с лишним
столетия иметь право считаться нашим современником.
349
Разве не вполне современны его шутливые и вместе
с тем очень серьезные, доходящие до сердца любого про-
стого человека строчки о войне:
Прикрытый лаврами разбой,
И сухопутный и морской,
Не стоит славословья.
Готов я кровь отдать свою
В том жизнетворческом бою,
Что мы зовем любовью.
Я славлю мира торжество,
Довольство и достаток.
Создать приятней одного,
Чем истребить десяток! 11
Как стихи нашего современника, написанные не далее
чем вчера, читали мы во время последней войны маленькую
лирическую балладу:
Где-то девушка жила.
Что за девушка была!
И любила парня славного она.
По расстаться им пришлось
И любить друг друга врозь,
Потому что началась война...12
И уже музыкой не вчерашнего, а самого сегодняшнего
и даже завтрашнего дня звучат сейчас его пророческие
слова, призывающие разумные существа на земле к братству
и миру.
Забудут рабство и нужду
Народы и края, брат,
И будут люди жить в ладу,
Как дружная семья, брат!13
Читая и перечитывая эти написанные в восемнадцатом
веке стихи и поэмы, понимаешь, почему шотландцы, провоз-
глашая тост в память своего любимого национального поэта,
даже не упоминают лишний раз его имени, а говорят ко-
ротко и просто:
— Бессмертной памяти!
— То the Immortal Memory!
И всем присутствующим понятно, что речь идет о Бернсе,
о чудесном поэте, который оставил миру такое четкое и
властное завещание:
Настанет день, и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте!14
350
ПОЧЕРК ВЕКА, ПОЧЕРК ПОКОЛЕНИЯ
Подвиг тех, кто за несколько десятилетий перевел на
родной язык целую библиотеку классической и современ-
ной литературы, лучшие образцы величавого народного
Эпоса и тончайшей лирики, по достоинству оценен читате-
лями.
Еще больше должны ценить его мы, литераторы. Те из
нас, чьи книги переведены на другие языки, знают, как редко
выпадает на долю автора счастье увидеть свои стихи или
прозу в переводах, сделанных рукою настоящего художника,
а не ремесленника литературного цеха.
Только такие переводы по праву входят в золотой фонд
поэзии, а не остаются мертвыми душами в библиографи-
ческих списках.
Великая русская литература сохранила и усыновила
немало вдохновенных переводов различных времен. Вспо-
мним «Илиаду» Гнедича1, «Одиссею» Жуковского2, «Горные
вершины» и «На севере диком» Лермонтова3, Коринфскую
невесту и «Бога и баядеру» Алексея Константиновича Тол-
стого4, «Не бил барабан перед смутным полком» И. Коз*
лова 5, «Во Францию два гренадера» М. Михайлова 6, «Песнь
о Гайавате» Ивана Бунина...7
Разве не стали русскими стихами полные лиризма и
юмора пеенп Беранже — Курочкина:8
Как яблочко румян,
Одет весьма беспечно,
Не то, чтоб очень пьян —
А весел бесконечно...9 —
351
или знаменитые стихи ирландца Томаса Мура в переводе
И. Козлова:
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он...
Правда, речь здесь идет о портах, занимавшихся не
только переводами. Но ведь именно в переводах проявилось
особенно сильно и ярко дарование В. Курочкина и М. Ми-
хайлова.
Впрочем, история литературы знает и портов, прославив-
шихся исключительно переводами. Таковы, например, пере-
водчики Омара Хайяма — англичанин Эдуард Фицдже-
ральд 10 и русский Иван Тхоржевский п, или известный уче-
ный Л. В. Блуменау 12, который посвятил много лет жизни
русскому переводу «Греческих рпиграмм». (Эта книга пре-
восходных, поражающих своей остротой и лаконичностью
переводов была издана в 1935 году благодаря стараниям и
заботам Алексея Максимовича Горького и с тех пор, к со-
жалению, не переиздавалась 13.)
Организуя в первые годы революции беспримерное по
размаху издательство «Всемирная литература», Горький вся-
чески заботился о том, чтобы переводы стали важной и не-
отъемлемой областью нашей большой литературы.
Можно с полным правом сказать, что поэты и прозаики,
занимающиеся у нас переводом художественной литературы,
в значительной степени оправдали надежды и ожидания
Горького.
Настоящим искусством, кровно и неразрывно связанным
со всей нашей литературой, являются переводы К. Чуков-
ского, М. Лозинского, М. Исаковского, Н. Заболоцкого,
М. Рыльского, М. Бажана, П. Антокольского, Л. Мартынова,
В. Левина, В. Державина, В. Рождественского, Н. Любимова,
М. Зенкевича, Л. Пеньковского, С. Липкина, И. Кашкина,
Н. Волжиной, М. Лорие, Евг. Калашниковой, О. Холмской,
В. Марковой, А. Адалис, В. Потаповой, В. Звягинцевой,
М. Петровых, Арс. Тарковского, Л. Гинзбурга, Е. Благини-
ной, Н. Гребнева, Т. Спендиаровой... Но перечислить все
имена выдающихся мастеров художественного перевода,
к сожалению или к счастью, невозможно.
И все же нам могут возразить, что далеко не все пере-
водчики прозы и поэзии имеют право называться полноцен-
ными писателями, что есть среди них и весьма посредствеп-
352
ные мастера и подмастерья переводного искусства, коих и
следует, дескать, выделить в особую категорию.
Но ведь не собираемся же мы создавать особые объеди-
нения или союзы посредственных портов и прозаиков, кото-
рых тоже немало среди литераторов.
Каждый трудится в меру своих сил и таланта. Нередко
писатель, не суливший нам до сих пор ничего значительного,
нежданно-негаданно радует нас превосходными страницами,
и, напротив, недавний призер может глубоко разочаровать
своих читателей. То же относится и к переводчикам.
Но будем говорить о переводчиках-художниках, богато
или скромно одаренных талантом, а не о простых перелага-
телях чужих мыслей, чувств и наблюдений.
Ведь стоит — сознательно или бессознательно — подме-
нить одно понятие другим, чтобы окончательно и беспово-
ротно запутать вопрос или придать ему ложное направ-
ление.
Переводя «Гайавату», Бунин отнюдь не занимался меха-
ническим переложением поэмы Генри Лонгфелло, простой
заменой английских слов и предложений русскими. Он внес
в свой труд присущее ему тонкое и свежее — «бунинское» —
чувство природы, поэтическое видение мира и то богатство
образов, красок и звуков, которое заключено в самом рус-
ском словаре.
Оттого-то русский «Гайавата» оказался ничуть не слабее
английского. Я бы не побоялся сказать больше: русский
перевод этой поэмы, при всей его близости к оригиналу,
живет своей жизнью и подчас лучше и непосредственнее
передает благоуханную прелесть и причудливость народного
сказания, чем английский подлинник.
Переводчик поэтических творений неизбежно окажется
механическим перелагателем, если для него мысли, чувства,
воля переводимого поэта не станут живыми и своими. К та-
кому переложению остается равнодушен и читатель.
Но дело не только в том, чтобы заново глубоко и по-
своему пережить то, что переводишь.
Одного этого мало.
Поэт-переводчик (стихотворец или прозаик) не может
и не должен быть глух к голосу своего времени. Недаром
каждая эпоха переводит наиболее близких и созвучных ей
писателей. Одно поколение выбирает Байрона, другое —
Эдгара По14, Бодлера15, Метерлинка, третье — Уитмена,
Роберта Бернса, Петефи.
12 С. Маршак, т. 6 353
Переводчик ке стоит вне идеологической борьбы и не
освобождается от идеологической ответственности.
Мы знаем, как сильно отличался первый перевод «Ком-
мунистического манифеста», сделанный Бакуниным, от пере-
вода Плеханова и какие значительные, глубоко принципиаль-
ные поправки вносил Ленин в плехановский перевод*.
Переводя Бернса, В. Костомаров16 и некоторые другие
дореволюционные стихотворцы превращали этого бунтую-
щего порта в мирного и благочестивого поселянина, певца
идиллической «Скоттии»:
Но стол накрыт, и уж паррич здоровый.
Родное блюдо Скоттии, их ждет.
И сливки, дань единственной коровы,
Что, чай, траву в хлеву теперь жует..<
Нельзя перекрашивать писателя другой эпохи в цвет
своего времени — это было бы фальсификацией, подделкой.
Однако художественный перевод — не нотариальный. Он не
бесстрастен. Внимательный глаз читателя и критика всегда
уловит в нем почерк века, почерк поколения, индивидуаль-
ный почерк поэта-переводчика.
И глубоко заблуждаются те, кто считает, что перевод-
чику стихов и прозы нужны всего только письменный стол
с креслом, самопишущая ручка, знание языка, с которого
он переводит (или хороший подстрочник), да еще некоторая
степень формального мастерства.
Нет, ему нужны также — и прежде всего!—тесное об-
щение с людьми, с народом, знание жизни и живого совре-
менного языка, богатый опыт чувств. Без всего этого пере-
водимые стихи и проза будут также бескровны и мертвы,
как и оригинальные произведения, созданные людьми, за-
слонившимися от жизни шорами и шторами.
* См.: И. И. П р е й с, «Манифест Коммунистической партии» в
русских переводах». «Вестник Академии наук CCCP»t № 2, 1948.
(Прим, автора.)
ВЫСОКАЯ ТРИБУНА
В эти дни, когда происходит далеко не заурядное на
«улице младшего сына» событие — пленум трех правлений
Союза писателей, посвященный детской литературе, мне
хотелось бы высказать несколько мыслей о нашем общем
деле.
Книга для детей, о которой в разные времена думали и
заботились крупнейшие писатели века— такие, как Лев Тол-<
стой и Горький, — заняла видное и ответственное место в
нашей большой литературе. Она давно перестала зависеть
от вкусов и коммерческих целей частных издательств, среди
которых лишь очень немногие ставили перед собой воспи-<
тательные задачи.
Партия и Советское правительство не только создали не-
бывалое по масштабу государственное издательство детской
книги, но и дали нам — после введения в стране всеобщей
грамотности — великое множество читателей.
Детские книги выходят в баснословных тиражах.
И вот когда я смотрю на шестизначные и семизначные
числа тиражей, обозначенные таким скромным, мелким
шрифтом на оборотной стороне обложек, я и в самом деле
вижу перед собой это море детских голов и думаю: на ка-
кую же высокую трибуну поднимаемся мы каждый раз,
выступая перед сотнями тысяч и даже миллионами, ребят
нашей страны!
Перед тем как взобраться на такую трибуну, надо серь-
езно подумать, с чем же мы идем к нашим многочисленным
питателям, какими мыслями, чувствами, знаниями, наблюде-
ниями можем с ними поделиться; есть ли у нас для них
12’ 355
какая-нибудь счастливая находка — интересный, сюжетный,
целеустремленный рассказ, в котором идея, мораль не выле-
зают наружу, как пружины из старого матраца, а заложены
достаточно глубоко; или, может быть, мы припасли для них
полновесные строчки стихов, не изготовленных холодным
способом, а продиктованных настоящим поэтическим чувст-
вом и потому запоминающихся надолго; или, наконец, мы
хотим порадовать ребят доброй шуткой — веселой и причуд-
ливой историей, которая тоже нужна им для питания и здо-
рового роста.
У нас есть несомненные успехи, заметные удачи и в ху-
дожественной и в познавательной книге (а в детской лите-
ратуре эти два понятия почти совпадают). Есть писатели,
Заслужившие прочную любовь детей всей нашей страны.
Но что греха таить! — среди авторов детских книжек встре-
чаются еще люди, которые смотрят на работу в этой области
как на отхожий промысел, — этакие «холостые» (конечно,
не в буквальном смысле) дяденьки и тетеньки, которым,
в сущности, нет никакого дела до ребенка с его сложным
и не слишком доступным для взрослых внутренним
миром.
Пора осознать, что книжка, которая учит детей говорить,
чувствовать, мыслить, не может быть равнодушной и бес-
цветной, что браться за нее имеет право только тот, кого
Белинский называл «детским праздником»1, то есть чело-
век, чья душа открыта детям и кому ребенок охотно откры-
вает свою душу.
Нашей детской литературе часто не хватает поэтического
воображения, затейливой выдумки, которою отмечены, ска-
жем, повести и рассказы Аркадия Гайдара и Джанни Ро-
дари. А можно ли представить себе детского писателя, ли-
шенного фантазии, да еще в то время, когда действитель-
ность открывает беспредельные возможности для смелой
романтической повести и не менее смелой сказки.
Без поэтического воображения невозможно говорить
с детьми о делах и событиях такой эпохи, когда вся наша
страна, даже улица, на которой мы живем, преображается
у нас на глазах не по дням, а по часам, когда Земля всту-
пила в общение с космосом, разглядела скрытую от нас сто-
рону Луны, послала Солнцу нового спутника, а на самой
Земле идет борьба между старым миром и новым, между
дряхлым, жадным Кощеем и молодым богатырем, у которого
силы прибывают с каждым часом.
356
Какой широкий кругозор должен быть у писателя, кото-
рый берется за современную тему. И вместе с тем как ну-
жен ему богатый жизненный материал!
Если в иных наших повестях и рассказах слабо развит
или даже совсем не найден сюжет, способный увлечь юного
читателя, то это чаще всего объясняется нехваткой живых
и метких наблюдений у автора. Ведь на оригинальный и
увлекательный сюжет можно набрести только тогда, когда
из множества наблюдений отберешь наиболее примечатель-
ные и ценные.
Правда, ребенка и подростка может подчас прельстить
и самая легковесная интрига, для которой автору не нужно
ни живого воображения, ни подлинного материала.
Это похоже на известный опыт в лаборатории Павлова,
где животных, привыкших получать пищу по сигналу —
Звуковому или световому, — перестают после сигнала кор-
мить, а у них все еще «слюнки текут» и происходит отделе-
ние желудочного сока, едва только послышится звонок или
вспыхнет свет.
Таково же воздействие книжек, соблазняющих ребят од-
ной только голой фабулой, приманкой легко придуманных
приключений. Это — тот же звонок без питания.
К сожалению, подобные повести и романы у нас еще
иногда издаются и пользуются большим спросом.
Детская книга нуждается в двойной проверке: ее должен
оценить не только ребенок или подросток, но и требователь-
ный, обладающий хорошим вкусом и слухом взрослый че-
ловек.
Если книга нравится только взрослым, — значит, она
направлена не по адресу.
Если же она имеет успех только у детей, это отнюдь не
гарантирует ее идейного и художественного качества.
Ведь вот прислушайтесь к игровым «считалкам», широко
распространенным среди ребят.
Например:
Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана.
Буду резать, буду бить.
Все равно тебе ловить.
Или:
Пришла курица в аптеку
И сказала: кукареку.
Дайте пудры и духов
Для приманки петухов.
357
Эти озорные, порочные по своему содержанию стишки
имеют успех именно потому, что они озорные, неожиданные.
А еще потому, что детская литература не удосужилась или
не сумела противопоставить им другие считалки — не ме-
нее забавные и лихие, но без хулиганских мотивов и без
пошлой «приманки петухов».
Сорняки буйно разрастаются там, где культурные расте-
ния слишком слабы, изнежены и в то же время лишены на-
стоящей заботы.
Пресные, хилые, чрезмерно назидательные и благонаме-
ренные стихи для детей всегда уступят дорогу грубым и
наглым сорнякам.
Казалось бы, детская литература, рассчитанная на са-
мого жизнерадостного читателя (или слушателя), должна
искриться самым непосредственным, счастливым юмором.
Между тем детских писателей, умеющих весело смеяться
или хотя бы улыбаться, не так уж много.
К сожалению, у меня нет сейчас возможности заняться
оценкой отдельных книг.
Я мог бы сказать много добрых слов по адресу целой
плеяды детских писателей — старых и молодых. Но думаю,
что гораздо важнее разговор о наших нуждах и про-
белах.
Сейчас вся страна занята решением серьезной задачи —•
проведением в жизнь идеи трудового воспитания.
Разумеется, и детская литература не может пройти мимо
Этого жизненно важного вопроса или отделаться торопли-
вым изготовлением примитивно нравоучительных книжек,
моральных прописей.
По-настоящему ведет за собой та книга, из которой чи-
татель делает выводы сам. Только такая книга влияет на его
поведение.
Надо писать о труде как можно менее назидательно, как
можно более увлекательно. Труд может и не быть единствен-
ной и даже главной темой книги. Повесть, рассказ, стихи
теряют силу своего воздействия, если становятся программ-
ными. Но там, где автор говорит с детьми о труде, он дол-
жен увидеть в нем столько же интересного и заманчивого,
сколько читатель находит в книгах о далеких путешествиях
или о полетах в космос.
И это вполне достижимо.
Кстати, и космические полеты требуют, как известно,
огромного труда множества людей»
358
О работе ученых, изобретателей, авиаконструкторов
у нас написано немало книг для детей. Есть среди ник
однодневки, есть и книги, которые, несомненно, проживут
долго.
Но, пожалуй, ничуть не легче, а может быть, даже труд-
нее, писать о той работе, которая повседневно и повсечасно
идет на наших улицах и дорогах, на полях, заводах и
в шахтах, — о труде земледельцев, строителей, шахтеров,
Электриков, металлистов, сталеваров, нефтяников, ткачей.
Вспомним, как искусно, по-лесковски рассказал об удалом
и тонком мастерстве русского плотника Борис Житков.
С полным, почти профессиональным знанием дела и
с уважением к его мастерству написан рассказ Александра
Твардовского «Печники».
Это не производственный очерк, а настоящий рассказ
с живыми человеческими характерами.
Но каждый, кто прочтет его, не только подивится хит-
рому и ловкому искусству старого мастера печного дела, во
и поймет, что у любого мастерства есть свои строгие законы,
порядок и уклад, своя сноровка.
В наше время, несмотря на широкое распространение
автоматизации, труд квалифицированных рабочих-мастеров
становится все более сложным, умным, творческим.
И разве не интересно было бы рассказать в книгах для
подростков о слесарях-инструментальщиках, которые даже
на крупнейших заводах насчитываются единицами, о на-
ладчиках сложнейших автоматических линий, об ис-
кусных стеклодувах и кварцедувах, о модельщиках обуви,
кожевенных изделий, об электромеханиках и радиомеха-
никах, разрабатывающих опытные образцы тончайших
приборов.
Слово «штамп» в художественной литературе стало пре-
зрительным, даже бранным словом.
Но совсем по-иному относятся к штампу в технике.
От хорошо сделанных штампов зависит подготовка мас-
сового производства новых сложных изделий, например,
Электронно-лучевых трубок для современного телевизора,
всевозможных деталей из пластмасс и многого другого.
Для того, чтобы изготовить такой штамп, мастер должен
приложить к делу весь свой опыт, изобретательность, сно-
ровку.
Я думаю, что Детгиз мог бы затеять целую библиотечку
рассказов и очерков, которые сумели бы заинтересовать
359
ребят, готовящихся к трудовой жизни, работой не одних
только инженеров, но и тех мастеров, без которых самые
талантливые инженеры не могли бы создать первые образцы
приборов новейшей техники.
В ртом предложении есть только одна опасность: в ли-
тературе «серийность» ведет иной раз к тому, что некоторые
из книг, входящих в серию, оказываются слабее других и
носят печать не вдохновенья, а «штампа» (прошу прощения
за то, что я опять употребляю это слово без должного ува-
жения).
Впрочем, редакция может предотвратить этУ опас-
ность, позаботившись о том, чтобы все книги такой
библиотечки делались руками надежных, одаренных и
знающих людей.
Детские книги о науке и технике возникают у нас до-
вольно случайно. Для этого нужно, чтобы автор предложил
издательству свою работу или чтобы издательство по собст-
венной инициативе заказало ему книгу на какую-нибудь
тему, являющуюся злобой дня.
А ведь познавательную литературу для детей и юно-
шества гораздо легче планировать, чем повести, рассказы,
стихи.
С помощью талантливых и достаточно авторитетных
ученых и техников издательство может заранее — перед со-
ставлением плана — придумать темы, интересные не только
для читателей, но и для авторов книг. Мы знаем, что
хорошая тема — это настоящее изобретение, это иной
раз ядро будущей книги. Вспомните, что значили для Го-
голя темы «Мертвых душ» и «Ревизора», которые дал ему
Пушкин.
Но, конечно, писателя могут увлечь, наряду с замыслами,
которые приходят в голову ему самому, только близкие его
дарованию и талантливо придуманные темы.
Когда по просьбе Горького я и мои товарищи по работе
составляли проект плана будущих детских книг, нашей ра-
боте очень помогли ленинградские ученые, подсказавшие
нам несколько интересных и оригинальных тем. Помню
одну из них, предложенную весьма почтенным профессо-
ром-физиком: «Для чего ничего?» (о значении вакуума
в науке).
Детская литература не может и не должна быть делом
одних только детских писателей и Детгиза. Слишком боль-
360
шое и ответственное это дело, чтобы о нем заботился
сравнительно узкий круг людей.
К заботам о книге, имеющей огромное влияние на харак-
теры и судьбы наших наследников, должны быть привле-
чены лучшие писатели, талантливейшие инженеры и ученые,
самые одаренные из педагогов.
Для осуществления широкой программы детского чтения,
основы которой заложил когда-то Горький, найдется много
дела и для детских писателей, и для так называемых писа-
телей «взрослых», и для художников, и для людей
науки.
Детская литература должна и в самом деле стать «боль-
шой литературой для маленьких».
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК
Исполнилось семьдесят лет со дня рождения нашего вы-
дающегося художника — блестящего графика и превосход-
ного живописца — Владимира Васильевича Лебедева.
Я уверен, что вместе со мною его сердечно поздравят и
пожелают ему долгих лет счастливого труда и те поколения,
которым его рисунки прививали с детских лет любовь
к искусству, благородный вкус и способность остро видеть
действительность.
Многим обязана ему и наша литература, ибо немало вре-
мени, сил, любви и таланта вложил он в советскую книгу.
Мне довелось работать с ним в той области, где рисунок
ближе всего соприкасается со словом — в книге для детей.
Такое длительное содружество художника и писателя —
явление довольно необычное Ч
В. В. Лебедев никогда не был ни иллюстратором, ни
украшателем книг. Наряду с литератором — портом или про-
заиком — он может с полным правом и основанием считаться
их автором: столько своеобразия, тонкой наблюдательности
и уверенного мастерства вносит он в каждую книгу. И вме-
сте с тем его рисунки никогда не расходятся со словом
в самом существенном и главном. Они необычайно рит-
мичны и потому так хорошо согласуются со стихами или
с такой прозой, как, например, народные сказки и сказки
Льва Толстого.
У Лебедева зоркий и наблюдательный глаз. Как нельзя
более применимы к нему слова Маяковского:
И мы реалисты,
но не на подножном корму...2
362
Лебедев — всегда новатор, искатель новых путей.
Помню, как восторженно встретили ценители искусства
и у нас и за рубежом его книги «Цирк», «Вчера и сегодня»,
«Сказку о глупом мышонке».
От души радовался лебедевскому «Цирку» В. В. Мая-
ковский.
Лаконичность, меткость, остроумие, подлинная красоч-
ность (при наличии немногих красок)—все это сделало
детскую книгу произведением большого искусства.
Еще в 1927 году А. М. Горький, называя в письме ко мне
из Италии наиболее талантливых авторов нашей новой
книги для детей, особо отметил В. В. Лебедева 3.
Всем памятна целая галерея замечательных лебедевских
рисунков, запечатлевших с предельной остротой и правди-
востью эпоху нэпа.
К сожалению, в этой краткой газетной статье я лишен
возможности остановиться сколько-нибудь подробно на его
прекрасных портретах и натюрмортах, в которых высокая
культура и строгое мастерство так счастливо сочетаются со
свежестью и непосредственностью восприятия жизни.
Более полувека Лебедев остается непревзойденным ма-
стером — ищущим, требовательным, неутомимым — во всем,
что бы он ни делал.
Его семидесятилетний возраст — не старость.
Человек, любящий жизнь и знающий в ней толк, по-спор-
тивному бодрый, строго заботящийся о порядке в своей
мастерской и в своей работе, никогда не утратит молодости,
составляющей основу его таланта.
ЩЕДРЫЙ ТАЛАНТ
Почти у каждой книги для детей, особенно у книги для
маленьких, — два автора. Один из них — писатель, другой —
художник.
Когда называют книгу, знакомую нам с детства, мы
прежде всего вспоминаем милые, смешные, затейливые
рисунки, часто раскрашенные от руки, а потом уже и
текст.
Такую существенную роль играет в детской книжке ри-
сунок.
Когда я и мои ровесники были дошкольниками, самого
Этого слова «дошкольник» еще не существовало, а книги
для маленьких были редкостью. Я знал в детстве одну только
детскую книгу, переведенную с немецкого русским немцем,
который, по всей видимости, был не слишком силен в рус-
ском языке. Но его бойкие стишки о Степке-растрепке за-
помнились на всю жизнь. И, пожалуй, еще глубже запечат-
лелись в памяти четкие и выразительные картинки, изобра-
жавшие мальчика с шапкой спутанных и дико взъерошен-
ных волос и удалого портного, услужливо отстригающего
ножницами у маленького неряхи пальцы.
Книжку с картинками можно было найти в те времена
только в городской интеллигентской семье.
Впоследствии возникли дошкольные книги двух сортов:
нарядная, доступная по своей цене лишь детям состоятель-
ных родителей, и дешевая, лубочная, рассчитанная на де-
ревню и фабричный пригород.
Перед самой революцией детской книгой занимались вид-
нейшие художники — главным образом из «Мира искусства» 1
364
Одна за другой выходили книги с рисунками Чехони-
на 2, Добужинского3 и других видных мастеров графики.
Помню интересную художественную азбуку Александра
Бенуа4. Едва ли не самым младшим по возрасту был в этой
плеяде Владимир Михайлович Конашевич — ныне один из
старейших советских художников.
Но и лучшие образцы детской художественной книги
не вытесняли той дешевой, безвкусной, безымянной, а под-
час и безграмотной книжки, которую выбрасывали на рынок,
минуя все заставы литературной и художественной критики,
предприимчивые издатели.
Все больше разрасталась пропасть между сравнительно
дорогими книгами для избранных и грошовыми книжками
«для народа». Заполнила эту зияющую пропасть — да и то
далеко не сразу — революция.
Теперь нам даже странно представить себе деление дет-
ской литературы на различные сорта. Не все наши книжки
одного и того же художественного уровня, у нас есть удачи
и неудачи. Но в нашей массовой детской книжке, изда-
ваемой миллионными тиражами, участвуют те же худож-
ники, что и в более дорогой книге с ограниченным ти-
ражом.
Всей нашей стране известны имена художников, создаю-
щих вместе с писателями детскую книгу.
Это большой и сильный отряд. А первые места занимают
в нем и по степени таланта, и по уровню культуры, и по
своему влиянию на развитие детской книги два замечатель-
ных и очень различных по характеру дарований художни-
ка — Владимир Лебедев и Владимир Конашевич.
Им обоим за семьдесят лет. Оба они прошли долгий твор-
ческий путь и достигли высокого мастерства. Без них трудно
и даже невозможно представить себе историю советской
литературы для детей.
Они оба — и В. В. Лебедев и В. М. Конашевич — не толь-
ко художники-графики, не только мастера детской книги.
Мы знаем их как превосходных живописцев.
И все же значительным делом их жизни, подлинной ра-
ботой во имя будущего остается книга для детей.
Сейчас в Москве открыта выставка В. М. Конашевича.
Охватывая единым взглядом эту выставку — эту «жизнь
в искусстве», видишь, как разнообразно и многогранно
мастерство нашего художника, неустанно и вдохновенно
работающего почти полвека.
365
Ему известна тайна лаконичного и тонкого лирическою
пейзажа. Вспомним, как музыкально решена им труднейшая
задача — рисунки к стихам Фета. Глубоким лиризмом про-
никнуты и его иллюстрации к «Первой любви» Тургенева.
Но у того же художника хватает фантазии, причудливой
выдумки, щедрого юмора для участия в «Мухе-цокотухе» и
других забавных играх, которые затевает с детьми в своих
книжках Корней Чуковский.
С благодарностью и гордостью могу отметить, что пер-
вые мои книги для детей, вышедшие около сорока лет тому
назад («Дом, который построил Джек», «Пожар», «Сказка
о глупом мышонке»), были украшены рисунками В. М. Ко-
нашевича.
Сравнивая их с его же рисунками к моим книгам послед-
них лет («Плывет, плывет кораблик», «Веселый счет», «Ве-
селое путешествие от А до Я»), мы видим, как окрепло его
мастерство, ничуть не теряя своей молодой непосредствен-
ности и свежести.
Рисунки Владимира Конашевича пленяют детей своей
праздничностью. Он хорошо знает, что для ребенка под об-
ложкой каждой книги таится еще неведомый, обещающий
радость спектакль.
Немногие художники так глубоко, как он, понимают за-
коны, по которым строится книга, в частности ее переплет
или обложка. Детская книжка часто похожа по своему внеш-
нему виду на номер еженедельного журнала. Обложка
В. М. Конашевича придает самой тонкой детской книжке вид
настоящей книги.
Выставка В. М. Конашевича, охватывающая и самые
последние работы художника (чудесные рисунки к сказкам
Пушкина), показывает, сколько еще сил и возможностей
таит в себе его не стареющее с годами мастерство.
ПОМНИТЬ НАДО!
В одном из горьковских рассказов есть замечательные
слова о том, как надо помнить людей, которые недаром
прожили свой век.
Старик, герой этого рассказа, говорит, протянув руки
к могилам:
«Я должен знать, за что положили свою жизнь все эти
люди, я живу их трудом и умом, на их костях, — вы со-
гласны?»
И дальше:
«...Я хочу, должен знать жизнь и работу людей. Когда
отошел человек... напишите для меня, для жизни подробно
и ясно все его дела! Зачем он жил? Крупно напишите,
понятно, — так?..» 1
В беседах со мною и с другими Алексей Максимович
не раз возвращался к этой теме, не раз говорил, что мы
должны наконец научиться помнить людей, которые жили
и работали среди нас, их дела и мысли.
Строго и настойчиво повторял он:
— Помнить надо!
Я рад, что деятели литературы, театра и представители
обществ дружбы с зарубежными странами организовали
сегодня этот вечер, посвященный памяти нашего друга и
товарища, выдающегося шекспироведа I\L М. Морозова.
367
Десять лет прошло со дня его смерти, немало работ
о Шекспире написано за это время у нас и за рубежом, а
воззрения Михаила Михайловича до сих пор остаются пе-
редовыми, книги и статьи его до сих пор действенны, ибо
они говорят о народности и реализме Шекспира, борясь
с реакционно-романтическими истолкованиями творчества
великого драматурга.
Еще убедительнее, чем прежде, звучат сейчас, в свете
новых работ, слова М. М. Морозова о том, что теории, от-
рицающие авторство Шекспира, лопаются, как мыльные
пузыри.
Десять лет прошло со дня смерти Михаила Михайло-
вича, а нам кажется, что еще вчера он был среди нас.
Так свежа память о нем в аудиториях, где он выступал
с докладами и лекциями, в театрах, где он бывал не
только на спектаклях, но и на репетициях, во Всероссий-
ском театральном обществе, где он руководил кабинетом
Шекспира и проводил памятные шекспировские конфе-
ренции.
Многие из нынешних литературоведов и театроведов
студентами слушали его увлекательные лекции, в которых
богатая эрудиция так счастливо сочеталась с мастерством
изложения.
Мы не помним ни одной московской театральной
премьеры, ни одного вернисажа, где бы нам не бросалась
в глаза крупная и такая заметная фигура Михаила Михай-
ловича.
Все в нем было броско и ярко: остро глядящие, черные
с блеском глаза, звучный голос, громкий смех.
Несмотря на его большой рост, мы неизменно узнавали
в нем того жадно и пристально вглядывающегося в окру-
жающий мир ребенка — «Мику Морозова», которого так
чудесно изобразил когда-то великий русский художник
Валентин Серов.
В те дни, когда я работал над сонетами Шекспира,
и позже, во время нашей совместной с ним работы
над переводом «Виндзорских насмешниц» для Театра
имени Моссовета, Михаил Михайлович чуть ли не каждый
день бывал у меня. Помню, какое сильное впечатление
производили его внешность и голос на моего маленького
внука.
Однажды, сидя за общим столом в писательском доме
368
отдыха, мальчик с чувством гордости и даже не без неко-
торого хвастовства во всеуслышанье объявил:
— А у моего дедушки и бабушки есть Михаил Михай-
лович!
Вероятно, он казался моему пятилетнему внуку добрым
сказочным великаном.
Михаил Михайлович был не только замечательным ли-
тературоведом и знатоком театра, но и подлинным языко-
ведом.
Он глубоко знал родной язык. Русская речь звучала в
его устах вкусно, свежо и сочно — недаром он был корен-
ной москвич, да и английским языком он владел в совер-
шенстве.
Удивительно, как удавалось ему сочетать сосредоточен-
ный, иной раз кропотливый труд по изучению языка и
стиля Шекспира, его эпитетов и метафор со множеством
публичных докладов и лекций, с деятельным участием в
создании истории английской литературы, с постоянной ра-
ботой в журналах и газетах.
А как широк был круг тем его книг и многочисленных
статей! Значительная часть их посвящена драматургу, ко-
торого он любил глубоко и неизменно, — Шекспиру. Но на-
ряду с этой основной своей работой он писал и о современ-
нике Шекспира Кристофере Марло, и о шотландском поэте
Роберте Бернсе, и об английских народных балладах, и об
А. Н. Островском, как о переводчике Шекспира, и о наших
русских знаменитых актерах— таких, как Андреев-Бурлак,
Иванов-Козельский, Модест Писарев.
Неоценим скромный и самоотверженный труд М. М. Мо-
розова по созданию дословных, подстрочных переводов
«Гамлета» и «Отелло» и комментариев к ним.
При жизни Михаила Михайловича эти дословные пере-
воды были изданы Охраной авторских прав и напечатаны
на стеклографе всего только в количестве 150 экземпляров.
Только после его смерти по настоянию его друзей и почита-
телей эти переводы были включены в сборник его избран-
ных статей и переводов.
Да, в сущности, Михаил Михайлович Морозов на про-
тяжении многих лет был неизменным помощником и со-
ветчиком всех, кто переводил, ставил или играл на совет-
ской сцене Шекспира. Он принимал самое близкое и дея-
тельное участие в постановке шекспировских пьес не
369
только в Москве, но и во многих городах Советского Сою-
за — Ярославле, Горьком, Минске, Ереване, Тбилиси, Таш-
кенте, Риге, Воронеже...
Умный и талантливый исследователь, лингвист, теоре-
тик художественного перевода, блестящий лектор, щедрый
учитель молодежи, М. М. Морозов оставил после себя свет-
лый и глубокий след в истории нашего литературоведения,
в истории советского театра.
А те, кому довелось знать его лично, никогда не заву-1
дут милого Михаила Михайловича, до конца, до последних
своих дней так сильно, по-детски любившего жизнь.
ПОЭЗИЯ ПЕРЕВОДА
Вероятно, с тех пор, как существуют переводы, идет
спор о пределах точности и вольности.
У нас и в наше время этот спор выходит из рамок тео-
ретических рассуждений и приобретает особую актуаль-
ность и остроту.
Целая армия переводчиков знакомит наших читателей
со стихами и прозой всех народов Советского Союза и чуть
ли не всех народов мира.
Мы успели накопить богатый опыт, который убеждает
нас, что стремление к буквальной точности ведет к пере-
водческой абракадабре, к насилию над своим языком, к по-
тере поэтической ценности переводимого.
С другой стороны, чрезмерно вольное обращение стек-
стом подлинника, так облегчающее работу переводчика,
сплошь и рядом приводит к искажению оригинала, к обезлич-
ке, стирающей его индивидуальные и национальные черты.
Мне рассказывали, что некий старик, тонкий знаток
духов, критикуя парфюмерию, которая выпускалась у нас
Два десятка лет тому назад, говорил:
— Ах, все эти духи пахнут одинаково! Недаром же
на флаконах так и написано: «Те-же», «Те-же» и «Те-же».
То есть «ТЭЖЭ».
Эту остроту можно отнести не только к духам, но и
к стихам.
Нивелировкой многих произведений национальных ли-
тератур объясняется равнодушие читателей почти ко всем
издаваемым у нас антологиям. Несмотря на то, что в со-
став этих объемистых сборников подчас входят — наряду
371
с бесцветными — и замечательные, истинно поэтические пе-
реводы, мертвый груз тянет их ко дну, и они устилают
кладбища Книготорга. Об этом красноречиво говорят
цифры, показывающие, как мало разошлось у нас экзем^
пляров казахской и других антологий.
Что же, неужели наша читающая публика не ценит
богатой поэзии народов Советского Союза? Нет, вся беда
только в недостаточно тонком и строгом отборе.
Я убежден, что каждая издаваемая книга может и
должна стать событием.
В области перевода событиями были не только стихи
Жуковского, но и стихотворения, созданные менее круп-
ным, но настоящим поэтом Михаилом Илларионовичем
Михайловым (например, его перевод из Гейне «Гренаде-
ры»). Как события были встречены народом переводы
Ивана Козлова «Не бил барабан перед смутным полком» и
«Вечерний звон». Я не говорю уже о переводах Пушкина,
Лермонтова, Алексея Толстого, В. Курочкина, Ивана Бу-
нина.
Нет никакого сомнения в том, что, если отжать из на-
ших современных антологий всю ремесленно-переводческую
водянистую сыворотку, если работа над их составлением
будет любовной, серьезной и творческой, каждая из них
тоже окажется событием, а все они вместе внесут в нашу
поэзию еще невиданное богатство и разнообразие красок.
Ведь мы располагаем большими силами. В наши дни
уже трудно перечислить видных мастеров поэтического
перевода. Да и что может дать такое перечисление имен,
обязательное на всех писательских съездах и пленумах!
Для того, чтобы оценить огромную, я бы сказал, богатыре
скую по своей трудности и удаче работу этих мастеров,
следовало бы посвятить каждому из них критическую
статью, а в ином случае и целую книгу.
Какие замечательные переводы дали нам Борис Па-
стернак1, Анна Ахматова2, переводчик греческих эпи-
грамм — профессор Л. В. Блуменау.
А кто из наших критиков оценил, например, по до-
стоинству поэтический труд Наума Гребнева — «Песни безы-
мянных певцов» и «Песни былых времен»? Гребнев не
только чудесно переводит песни народов, но и сам ра-
зыскивает их, как ищут клады.
Успела ли наша критика заметить и отметить трудную
и большую победу, одержанную Верой Потаповой, которая
372
дала нам прекрасный перевод «Энеиды» Ивана Котлярев-
ского! 3
Не оценены или недостаточно оценены критикой до-
стижения даже наиболее известных и заслуженных поэтов-
переводчиков, таких, как Вильгельм Девик, Владимир Дер-
жавин, Михаил Зенкевич, Леонид Мартынов, Павел Анто-
кольский, Иван Кашкин, Лев Пеньковский, Вера Звягин-
цева, Николай Чуковский, Борис Слуцкий, Александр Ме-
жиров, Давид Самойлов, Инна Тынянова, Яков Козловский,
Татьяна Спендиарова.
Но, простите, совершенно нечаянно я занялся здесь все
тем же перечислением имен. И перечисляю их не в по-
рядке чинов и рангов и даже не по размерам дарований и
заслуг. Может быть, очень талантливые порты случайно
не пришли мне в рту минуту на память и не попали вртот
список.
Но дело не в списках.
Было бы лучше поговорить подробно и бережно хотя бы
о нескольких портах, подаривших нам отличные переводы.
Сказать, например, о том, какие чистые поэтические го-
лоса, какое тонкое чувство языка и стиля у Марии Петро-
вых, Веры Потаповой, Веры Марковой, как сильны и му-
скулисты Семен Липкин и более молодой порт-переводчик
Лев Гинзбург. Или сказать едва ли не впервые о талантли-
вых и совсем еще молодых портах, которые порадовали нас
прекрасными переводами, — о Белле Ахмадулиной, о Юрии
Вронском, которые переводят грузинскую порзию, о Юнне
Мориц и ее переводах с еврейского.
К сожалению, я пишу рто «письмо после очень тяжелой
болезни и поневоле должен ограничиться только несколь-
кими бегло набросанными строчками.
Но вернусь к первоначальной теме моего письма.
Как я уже говорил, в переводах мы иной раз наблю-
даем порочную точность и столь же недопустимую — я бы
сказал даже — преступную вольность.
Прочитав перевод из Гейне, из Шиллера, Горация или
Расула Гамзатова, читатель должен быть уверен, что он
и в самом деле прочел стихи Гейне, Шиллера, Горация и
Расула Гамзатова, что порт-переводчик донес до него под-
линные мысли и чувства портов, не утеряв ничего главного,
основного, существенного. При ртом степень вольности и
точности перевода может быть различная — есть целый
спектр того и другого. Важнее всего передать подлинный
373
облик переводимого поэта, его время и национальность, его
волю, душу, характер, темперамент. Переводчик должен не
только знать, что сказал автор оригинальных стихов, — на-
пример, Гейне или Бернс, — но и что, какие слова этот
автор сказал бы и чего бы он сказать не мог.
Актер может быть свободен, а не скован своею ролью,
если он глубоко, всем существом войдет в нее. То же отно-
сится и к переводчику. Он должен как бы перевоплотиться
в автора и, во всяком случае, влюбиться в него, в его ма-
неру и язык, сохраняя при этом верность своему язы-
ку и даже своей поэтической индивидуальности. Безлич-
ные переводы всегда бесцветны и безжизненны. Отнюдь
не насилуя и не искажая автора, хороший переводчик
невольно и неизбежно отражает и свою эпоху, и себя
самого.
Очень важно передать в переводе интонации и ритм
подлинника.
Иной переводчик — даже самый точный — может обо-
лгать автора самим ритмом.
Вот пример. Талантливый поэт К. Д. Бальмонт перевел
Знаменитые стихи великого английского поэта второй по-
ловины XVIII и начала XIX века Вильяма Блейка. Стихи
эти — о тигре — написаны четырехстопным хореем. Баль-
монт сохранил в своем переводе этот размер, но у Блейка
хорей звучит веско, величаво, даже грозно:
Ту ger! Ту ger! burning bright
In the forests of the night...
А у Бальмонта получилось:
Тигр, тигр, жгучий страх,
Ты горишь в ночных лесах..<
Почти:
Чижик, чижик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.
И читателю непонятно, почему же эти легковесные
стишки стали так знамениты, считаются классическими.
Так был упрощен и ограблен в переводе не один вели-
кий поэт.
К счастью, мы можем с уверенностью сказать, что луч-
шие образцы переводов русской школы передают не только
душу, но и форму стихов, форму, которая является их
плотью, — то, что Гейне называет «материей песни».
374
Перевод стихов — высокое и трудное искусство. Я вы-
двинул бы два — на вид парадоксальных, но по существу
верных — положения:
Первое. Перевод стихов невозможен.
Второе. Каждый раз это исключение.
Если переводчик именно так относится к своей работе
(да, в сущности, не только переводчик, но и всякий
Поэт),— у него может что-то получиться.
И какое это счастье, когда и в самом деле получается!
Тем более бывает обидно, когда эта нелегкая, но счаст-
ливая удача не находит отклика у критики, а еще раньше —
у издательств.
А что греха таить! Нередко самая большая художест-
венная удача переводчика остается незамеченной, тонет в
массе невыразительных и посредственных переводов.
Поэт-переводчик, помещая стихи в собрании какого-ни-
будь переводимого автора, в одной из антологий или в ка-
ком-нибудь другом сборнике переводов, остается как бы
комнатным или даже угловым жильцом.
Пора бы издательствам подумать о том, чтобы дать
наконец каждому из достойнейших переводчиков отдель-
ную «квартиру», то есть выпустить отдельно его избранные
переводы или издать книгу какого-нибудь национального
пли зарубежного поэта целиком в его переводе, даже в том
случае, если эта книга будет невелика по объему.
Такое же свое отдельное и достойное место должны
занимать талантливые поэты-переводчики и в статьях на-
ших критиков. А ведь чаще всего их имена даются в
статьях скопом, как и в этом моем письме.
Нечего и говорить о том, какое значение имеют пере-
воды в сближении национальных культур, в развитии и
упрочении дружбы между народами.
Критики, издатели, редакторы да и сами переводчики
отлично знают это, но часто забывают.
Пусть же нынешнее совещание внятно и громко на-
помнит всем нам, какое важное, значительное и ответствен-
ное дело — наша работа над поэтическим переводом.
КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ВЫСОКОГО
ИСКУССТВА
Тридцать лет тому назад возникло небывалое по харак-
теру и размаху учреждение. Сначала его называли Дет-
издатом, а потом — Детгизом.
В сущности, Детгиз не одно, а множество издательств
под общей крышей. Эт0 и Гослитиздат для детей, и детское
научное издательство, и детский госполитиздат, и много
других издательств. Книги выпускаются здесь не на одном,
а, по крайней мере, на трех языках: на дошкольном,
на языке младших школьников и, наконец, на языке
старших.
Задача у всех этих издательств одна: познакомить
юных, непрестанно растущих людей с большим миром, в
котором им предстоить жить и действовать, воспитать из
них хороших, честных, отзывчивых и бесконечно любозна-
тельных людей, которым по плечу будет продолжать вели-
кое дело отцов и дедов.
Сейчас мы все привыкли к тому, что у нас есть Дет-
гиз. Это знакомый нам каменный дом в Малом Черкас-
ском переулке, где находятся редакции, и другое зда-
ние на улице Горького — Дом детской книги. Есть отделе-
ние издательства и такой же Дом детской книги в Ленин-
граде.
А было время, когда Детгиз был только идеей, только
мечтой его инициатора — большого русского писателя Але-
ксея Максимовича Горького.
376
Я вспоминаю, как ранней весной 33-го года он при-*
гласил меня к себе в Италию, в Сорренто, чтобы обду-<
мать программу будущего издательства и подготовить
письмо — докладную записку в Центральный Комитет
партии.
Помню часы, которые мы проводили за работой в горь-
ковском кабинете, из больших окон которого был виден —
на фоне синего неба — дымящийся Везувий.
В письме было предусмотрено все, без чего не могло бы
жить и развиваться большое издательство, — полиграфиче-
ская база, бумажные фабрики и т. д.
Но временами, отрываясь от обсуждения моего проекта
письма, Горький позволял себе и помечтать вслух о том,
какие книги — о замечательных путешествиях и о еще бо-*
лее удивительных путях человеческой мысли — даст буду-*
щее издательство детям нашей страны. Вероятно, Алексей
Максимович ни на минуту не забывал при ртом, как трудно
доставалась книга Алеше Пешкову в то время, когда он
служил поваренком на пароходе или работал в казанской
пекарне. Всем, чего ему недодала жизнь, хотел он одарить
наших ребят.
Мы и не думали тогда, что рта идея осуществится так
скоро, что в ртом же году решением партии будет создано
Издательство детской литературы.
Мне хотелось бы, чтобы нынешние и будущие сотруд-*
ники Детгиза и работающие в нем писатели навсегда за-
помнили, с каким молодым волнением обдумывал в уже
преклонные годы своей жизни Горький нужды нового изда-
тельства и его читателей.
Пусть каждый из нас, приступая к работе, сохраняет
тот же сердечный жар, с каким относился к делу изда-
ния книжек для детей Алексей Максимович в те весенние
дни 33-го года.
Мы помним, что все рто время было полно значитель-
ными в истории детской литературы событиями: появление
статьи Алексея Максимовича в «Правде» — «Литературу —
детям», а потом его письмо в той же газете «Пионерам» —
о том, какие книги ребята читают и о чем еще хотели бы
почитать.
Отвечая на тысячи писем со всех концов Советского
Союза, Горький писал:
«Теперь «Детиздат» знает, что нужно ему делать, и,
наверное, вы скоро получите интересные книги.
377
О ваших требованиях будет сделан доклад на съезде
писателей, а сейчас для осведомления писателей и родите-
лей о ваших желаниях друг мой, Маршак, печатает часть
обработанного им материала, данного вами» 1.
И вот Детгиз родился на свет. Сегодня я хочу от всей
души поздравить весь экипаж Детгиза во главе с его опыт-
ным капитаном Константином Федотовичем Пискуновым,
а также и всех писателей — в том числе и себя самого —
с этим замечательным днем рождения.
Ио и в день праздника мы не должны забывать, что
нами сделана только малая часть великого дела, что за-
просы и потребности младших поколений читателей го-
раздо шире и глубже того, что уже охвачено вышедшими
книгами.
По-настоящему воспитывает юного человека только
подлинно художественная, поэтическая книга — в прозе и
в стихах. Каждая книга, выходящая для детей, должна быть
событием.
В заключение мне хотелось бы особо упомянуть тех
замечательных деятелей литературы, которые не дожили
до этого дня, — «Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?» 2
И в первую очередь, — Алексея Максимовича.
Я не хотел бы, чтобы в этом перечислении потонуло
любое из упоминаемых мною имен, — ведь о каждом из них
можно сказать очень много.
Это — Владимир Маяковский, который оставил в на-
следство детям целый раздел в своем собрании сочи-
нений.
Это — Аркадий Гайдар, всесоюзный пионерский вожа-
тый, который умел быть и веселым товарищем нашим ре-
бятам, и чуть лукавым, себе на уме, воспитателем, обхо-
дящимся без поучений. Смерть Гайдара так же доблестна,
как его жизнь. Он пал на поле боя и похоронен на берегу
Днепра, неподалеку от могилы Тараса Шевченко.
Нельзя не вспомнить такого замечательного поэта при-
роды, как Михаил Пришвин.
И одного из виднейших русских писателей Алексея Ни-
колаевича Толстого, подарившего детям нашим чудесное
«Детство Никиты» и затейливые «Приключения Буратино».
Большое, совсем особое место занимает в нашей лите*
ратуре тонкий художник, который сочетал в себе и «быва*
лого человека», и мастера на все руки, Борис Житков.
378
Все дети нашей страны помнят человека, знавшего язык
птиц и зверей, автора «Лесной газеты», Виталия Бианки.
В истории нашей детской литературы навсегда останется
поэт-ученый, зачинатель нашей научно-художественной
книги — Илья Яковлевич Ильин, автор всемирно известно-
го «Рассказа о великом плане».
В этом году наша литература понесла тяжелую, невоз-
вратимую потерю в лице Владимира Михайловича Конаше-
вича, талантливого художника, человека большой культу-
ры, который до конца сохранил в своих рисунках веселую
и причудливую игру, близкую пониманию самого требова-
тельного и разборчивого ценителя — маленького ребенка.
Наконец, я хочу упомянуть еще трех замечательных
писателей, которые к тому же были в свое время редак-
торами Детгиза.
Это — Тамара Григорьевна Габбе, автор высокопоэтиче-
ских пьес-сказок и в то же время тонкий критик и превос-
ходный редактор, неизменный друг писателей.
Много лет работали в издательстве и Евгений Шварц —
ныне широко известный драматург, и погибший на фронте
Великой Отечественной войны Леонид Савельев3, один из
самых образованных литераторов, написавший первую дет-
скую книгу об Октябре «Штурм Зимнего» и книгу «Следы
на камне», показывающую запечатленную на камне исто-
рию растительного и животного мира.
Все эти имена не должны быть забыты.
Оглядывая тридцатилетний путь, пройденный Детгизом,
а также годы, предшествовавшие его возникновению, ви-
дишь, как много таланта, мысли, знаний внесли за это
время в книгу для детей люди, ее создававшие.
По счастью, многие из ее талантливейших представите-
лей, прославленных и у нас в стране, и за ее рубежами, во
главе с ветераном детской литературы Корнеем Иванови-
чем Чуковским, ныне здравствуют и продолжают работать
в полную силу, а им на смену приходят все новые и новые
пополнения. Никогда еще детская литература не была
окружена таким вниманием и любовью общества, как в
наше время. Книга для детей навсегда вышла из тесного
мирка прежней «детской» и стала достоянием миллионов
читателей.
Но от больших тиражей, немыслимых в прежнее время
и в других странах, у нас не должна кружиться голова.
379
С каждым новым десятком, с каждой новой сотней ты-
сяч экземпляров все выше растет трибуна, на которую мы
поднимаемся для разговора с читателем.
Детская литература у нас давно уже отказалась от ка-
кой бы то ни было скидки на художественное качество.
Детская литература не должна уступать лучшим образцам
взрослой литературы в мастерстве, в тонкости, в свежести
мыслей и образов.
Таково было напутствие, данное Детгизу в день его
рождения Алексеем Максимовичем Горьким. Это напут-
ствие нам следует вспомнить и сейчас — в дни, когда Дет-
гиз отмечает свое тридцатилетие.
«НЕДРАЛИТЕТ»
Это было так.
Двое ребят дрались, а трое или четверо их товарищей
стояли в стороне и спокойно смотрели на их поединок.
Кто-то из взрослых спросил у этих юных зрителей:
— Что же вы их не разнимаете?
— А чего нам разнимать. Это у них драка, а у нас не-
дралитет.
Мне очень нравится эт° русское простое слово «недра-
литет» — оно как-то выразительнее, понятнее и свежее, чем
старый иностранный термин «нейтралитет», от которого оно
происходит. Впрочем, в слове «недралитет» соединились
два слова, означающие совершенно противоположные поня-
тия, а именно: «нейтралитет» и «драка».
Я заговорил об этом для того, чтобы высказать одну
очень простую мысль: я не сторонник нейтралитета — и
особенно в тех случаях, когда на моих глазах дерутся не
дети, а взрослые, и не за игрушку, а за что-нибудь очень
серьезное.
Возьмем, к примеру, вопрос о художественном воспита-
нии наших детей — самых маленьких, четырехлетних и пя-
тилетних, — тех, которые еще только учатся связно выра-
жать мысли и называть вещи своими именами. Казалось
бы, о каком художественном воспитании может идти речь
а применении к этому возрасту?
Однако этот возраст является самым жадным потреби-
телем картинок, коротеньких стихов, песенок, присказок,
считалок. Эти жадные потребители требуют от своих
381
бедных матерей, чтобы те по двадцать раз подряд читали им
одну и ту же сказочку или стихи из двадцати строчек. Ма-
терям иной раз становится очень скучно, и они рады бы
почитать ребятам что-нибудь новенькое, но под рукой
часто ничего новенького нет, и вот приходится припоми-
нать что-нибудь очень старенькое, в таком роде:
Ты лети, мой петушок,
Есть такие дети,
У которых близко нет
Никого на свете.
Мама ласковой рукой
Их не приголубит,
И игрушки никакой
Им никто не купит.
Я сам слышал, как одна родительница учила ребят на
детской площадке петь эту песенку. Родительница, верно,
никогда не задумывалась над тем, хорошая ли это песенка
или плохая. Ничего озорного в песне нет, — она вызывает
даже некоторое сочувствие к бедным сироткам, слова в ней
понятные, а главное, покуда дети ее поют, они заняты, не
шалят и не разбивают носов ни себе, ни другим. Значит,
ничего плохого в песне нет.
Я слушал, как женщина напевала вместе с детьми убо-
гие слова э™х уныло-приютских стишков, и с грустью ду-
мал о том, как трудно доказать ей, что стихи плохи, сла-
щавы, фальшивы по мысли и чувству.
Такие вещи объяснять очень трудно, если твой собесед-
ник никогда в жизни не задумывался над тем, какие стихи
хороши и какие плохи.
Человеку, который знает и любит стихи Пушкина, стихи
Некрасова, стихи Маяковского, какой-нибудь убогий «Пе-
тушок» вряд ли понравится.
Но беда в том, что и Пушкина и Некрасова люди знают
только по далекой памяти школьных лет.
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега...1 —- и т. д.
Или:
Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок
Невеселая дорога...
Эй! садись ко мне, дружок!..2—»и т. Д.
А такое знание стихов, конечно, ровно ничего не стоит.
Ко мне часто приходят поэтессы разных возрастов. При*
ходят или присылают по почте свои рукописи.
382
Наш разговор — письменный или устный — обычно на-
чинается так:
Поэтесса говорит или пишет: «У меня есть двое детей —
мальчик семи лет и девочка пяти лет. Мне решительно
нечего им читать, это и натолкнуло меня на мысль напи-
сать для них стишки. Стишки эти ребятам очень нравятся.
Вот они...»
Дальше следуют сто — двести рифмованных строчек о чем
попало: о плюшевом медведе, о пауках, о жуках, о том, как
Шура чистила зубочки,—
или о том, как
Котик вымазался сажей,
Лапочки покрасил даже,—>
и так далее, и тому подобное.
Иногда бывает, что на сотню самых небрежных, неряш-
ливых и необдуманных строк попадется две — четыре, даже
шесть строчек, не лишенных живости, темперамента и
остроумия.
Но эти удачи так случайны, нечаянны и редки!
Критиковать произведения этих поэтесс почти невоз-
можно. У них всегда готовы возражения.
1) Дети обожают эти стихи.
2) Стихи очень нравятся всем знакомым.
3) В детских журналах печатаются иной раз стихи
гораздо хуже этих.
4) Стихи предназначены для самых маленьких детей,
которые предъявляют к стихам гораздо менее строгие тре-
бования, чем я, Маршак.
Возражения, конечно, убедительные. Ничего не ска-
жешь.
Действительно, и рассказы в журналах печатаются
иногда плохие, действительно, маленькие дети не слишком
разбираются в качестве стихов, а среди добрых знакомых
всегда найдутся люди, которые будут в восторге от ваших
произведений.
Одни будут в восторге, другим стихи просто понравятся.
Наконец, третьи примут стихи без всякого удовольствия,
но и без возражений — то есть совершенно нейтрально.
«Стихи как стихи, — скажут они. — Вон в некоторых местах
даже рифма есть, и как будто размер чувствуется, отчего же
не дать их детям?»
383
Эти люди забывают о том, что первые детские книги
учат ребенка мыслить, чувствовать, говорить.
А на такую роль, имеет право далеко не всякая детская
книга.
Отбор и создание лучшей детской литературы — вот
какую задачу поставила перед нами партия. Каждый удач-
ный шаг на этом пути — это большая и радостная победа.
Но для того, чтобы победы эти были не случайны, надо
преодолеть то холодное безразличие, тот нейтралитет, с ко-
торым относятся к выбору детского чтения многие матери
и отцы.
Они должны быть в курсе тех споров, которые ведутся
у нас вокруг детской литературы, должны стать настоя-
щими ее ценителями, а не только покупателями детских
книг.
Для этого им следует проделать серьезную и основа-
тельную работу. Работа эта, в сущности, очень приятная,
и бояться ее не стоит. Если вашему ребенку через год пред-
стоит счастье читать сказки Пушкина, Андерсена или на-
родные сказки, прочтите их заранее, и не только для того,
чтобы объяснить ребенку непонятные слова, но и для того,
чтобы самому себе дать отчет, что хорошего в этих сказках.
Надо читать и лучшее из того, что есть в современной
детской литературе. И читать не только ради контроля,
придирчиво и опасливо, — ас тем напряжением и внима-
нием, какого требует к себе всякое произведение искус-
ства, даже если оно представляет собою всего только одно
четверостишие или рисунок пером.
У нас на заводах от всего работающего персонала тре-
буется так называемый техминимум. Я думаю, что не худо
было бы потребовать от родителей, занимающихся воспи-
танием и развитием своих детей, определенного «литмини-
мума». И тогда сам собой кончится этот обидный для вся-
кого искусства нейтралитет.
О ПУШКИНЕ, О ДЕТЯХ И О ДЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
1
Страна читает и перечитывает Пушкина. А вместе со
всей страной его читают те, кто знакомится с ним впер-
вые — дети.
Проходя по залам пушкинского музея, наши ребята
узнают на портретах не только самого Александра Сергее-
вича, но и его родных, и друзей, и даже современников.
— Это Дельвиг, — говорят они, еще не взглянув на
подпись. — Это Пущин. Это Кюхля... А вот рто Шахов-
ской Ч
Мы в свое время писали школьные сочинения о Пуш-
кине, но самые начитанные из нас не знали, как отзыва-
лась о «Полтаве» «Северная пчела» 2 и что сочинил Пуш-
кин в 1826 году.
А нынче множество наших школьников рто знает.
Давно ли они стали пушкинистами? О нет, всего только в
Этом году — после юбилея.
Скоро будет издан сборник лучших сочинений ленин-
градских школьников.
Эти сочинения безо всякой снисходительности можно
назвать маленькими исследованиями или, во всяком слу-
чае, статьями. Их прочтет с интересом не только учитель,
который обязан читать школьные работы и подчеркивать
в них красным карандашом ошибки.
Я уверен, что широкий читатель найдет в них для
себя что-то новое и неожиданное. Дети работали серьезно,
13 С. Маргиак, т. 6 385
подбирая и проверяя факты, пользуясь многочисленными
источниками, добросовестно изучая пушкинские тексты.
Из всех этих сочинений вместе может составиться
биография Пушкина, в достаточной степени обстоятельная
и правдивая (одно сочинение — «Детство и лицейские
годы», другое — «Пушкин и декабристы», третье — «Юж-
ная ссылка», четвертое—«Село Михайловское» и т. д.).
Вот возьмем к примеру сочинение «Пушкин в пути».
Тут и маршруты всех пушкинских поездок, и все почтовые
станции, на которых Пушкин останавливался, и сопостав-
ление его путешествий с путешествиями его героев, и все,
что говорил Пушкин в своих стихах и в прозе, в письмах
и дневниках о трактирах, ямщиках, кибитках, станционных
смотрителях и колокольчиках.
Есть среди школьных сочинений и темы более сложные,
теоретические: «Взгляды Пушкина на поэзию», «Политиче-
ские воззрения Пушкина», «Пушкин и народное творче-
ство».
Но гораздо больше, чем сочинений, написали в нынеш-
нем году ребята стихов, посвященных Пушкину.
Многие из этих стихов очень хороши. Их, пожалуй,
тоже следовало бы издать отдельным сборником. Когда-
нибудь через много лет этот сборник был бы замечатель-
ным документом 1937 пушкинского года.
Я бы не побоялся даже включить в него стихи, которые
не имеют к Пушкину никакого отношения, но показывают,
как усердно в этом году читали ребята Пушкина.
Десятилетний мальчик начинает свои стихи о возвра-
щении с дачи в город такими словами:
В крови горит огонь желанья
Скорее ехать в Ленинград.
А девочка, про которую рассказывает писательница Ильина
в журнале «Костер», сочинила вот такие «стансы»:
Я помню чудное мгновенье:
С тобой ходили мы гулять...
Гимназические порты тоже писали когда-то стихи, по-
священные Пушкину, о Пушкине, по поводу Пушкина.
Но в этих стихах не было ни живого Пушкина, ни его
времени, а было большей частью одно только излияние
самых восторженных и неопределенных чувств.
386
А вот посмотрите, как ощущает далекую эпоху наш
четырнадцатилетний порт Новиков.
Я приведу из его стихов только две строчки — портрет
Александра I тех времен, когда победоносный император
вернулся из Парижа.
Новиков пишет:
Он сам сиял, мундир сиял,
И плешь сияла на затылке.
Другой четырнадцатилетний порт Шура Гольдберг опи-
сывает поездку Пушкина из села Михайловского в Свято-
горский монастырь.
Дорогу дали хилые монахи,
Отвел слепцов в сторонку поводырь.
В крестьянской шляпе и простой рубахе
Какой-то всадник въехал в монастырь.
И дальше:
Он весел искренне, бродя между рядами,
И у него такой счастливый вид,
И Лазаря поет он со слепцами,
С крестьянами, как равный, говорит*
Но в небе запылал огонь закатный,
Базарного конец приходит дня,
И нехотя, сбираясь в путь обратный,
Опять садится Пушкин на коня.
Вероятно, наши дети на всю жизнь запомнят пушкин-
ские торжества 1937 года.
Дело тут не только в том, что они участвовали в кон-
цертах, карнавалах, написали множество стихов и внима-
тельно прочитали Пушкина.
Нет, этот пушкинский год сыграл в жизни наших детей
серьезную роль. Он, несомненно, наложил свою печать на
литературные вкусы тех поколений, которые не сегодня-
завтра будут решать судьбы советского искусства.
Это о детях.
А теперь несколько слов о Пушкине и о детской лите-
ратуре.
В последний месяц во всех городах и колхозах, на фаб-
риках и в красноармейских полках шли многочисленные
небывалые собрания читателей.
387
Собрание, которое происходит здесь сейчас, несколько
отличается от других. В нем участвуют не читатели, а пи-
сатели, то есть люди, которым имя Пушкина должно быть
особенно близко. Ведь они заняты тем делом, которым за-
нимался и сам Пушкин: пишут книги.
Наши поэты могут — с большим или меньшим правом —
претендовать на звание наследников Пушкина по поэтиче-
ской линии.
Наши повествователи — по линии прозаической.
Писатели-историки могут вести родословную своих по-
вестей и романов от «Капитанской дочки» и «Арапа Петра
Великого».
А вот какое отношение имеет к Пушкину детская ли-
тература? Как известно, Пушкин детским писателем
не был.
Естественнее всего было бы тут ухватиться за пушкин-
ские сказки. Ведь сказка — это излюбленный и основной
жанр детской литературы. Но я пока подожду говорить о
сказках — тем более что написаны они были не для детей,
а для всех читателей без различия возраста.
Итак, сказки мы оставим пока в стороне.
2
27 января 1837 года, за несколько часов до своей дуэли,
Пушкин написал несколько слов детской писательнице
А. О. Ишимовой.
Кончается его записка так:
«Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в расска-
зах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!..»
Это письмо было последним из его писем, а детская
книга, о которой он упоминает, была последней, или, во вся-
ком случае, одной из последних раскрытых Пушкиным книг.
Говоря здесь об этом, я вовсе не хочу сказать, что лите-
ратура для детей была настолько близка сердцу Пушкина,
что он отдал ей последние часы своей жизни.
Конечно, он раскрыл книгу Ишимовой случайно. Ко-
нечно, в этот день ему могла подвернуться под руку и
какая-нибудь другая книга — роман, поэма или драма.
Но как бы то ни было, он взялся за детскую книжку.
Она оказалась в числе других у него на столе, и что-то
в ней его, несомненно, заинтересовало. Ведь не стал бы он
388
читать в такие минуты то, что ему было совсем чуждо,
безразлично и скучно.
Для того, кто знает Пушкина, понятен его интерес к
Этой книге, которая только тем и знаменита, что Пушкин
читал ее перед смертью.
Он был литератором в настоящем и большом смысле
этого слова.
Его внимание привлекали все жанры отечественной ли-
тературы, в том числе и рассказы из русской истории для
детей.
И не только литератором был он. Его интересы прости-
рались значительно дальше. Он был государственным чело-
веком, несмотря на то, что в николаевском государстве не
было места для таких людей, как он.
3
Нам, людям, которые работают над созданием литера-
туры для детей, над исторической, географической, сказоч-
ной, научно-фантастической книгой нашего времени, — нам
следует помнить не только того Пушкина, которого забыть
невозможно, не только Пушкина-поэта.
Мы должны помнить, что Пушкин был одним из самых
разносторонних людей своего времени. Его интересовал
весь мир — и английская паровая машина, и камчатские
дела, и быт североамериканских индейцев.
В 1836 году он частью перевел, частью пересказал для
своего журнала записки Джона Теннера3, — человека, про-
жившего тридцать лет среди индейцев. Читая рту историю,
не знаешь, чему удивляться: редакторской ли самоотвер-
женности Пушкина, который не поленился перевести на
русский язык документальную, непритязательную прозу
Теннера, или замечательной политической остроте и мет-
кости пушкинского предисловия.
Пушкин был настоящим селекционером литературных
жанров. В его журнале «Современник» нет случайных
компромиссных статей. Каждая напечатанная там вещь, —
будь это повесть, или заметка, или рецензия, — проклады-
вает дорогу новым видам литературного искусства.
Лйтературу он понимал так широко, как не понимал
почти никто из людей его поколения. Он считал прямым
делом литератора занятие историей, географией, этнографией.
389
Все, за что брался Пушкин, сразу становилось искус-
ством. Казалось бы, что может быть скучнее примечаний?
Но откройте «Историю Пугачевского бунта», и вы увидите,
что можно сделать из самых служебных приложений и при-
мечаний.
В одном из своих «анекдотов» («table talk»4) Пуш-
кин рассказывает о том, что Екатерина Вторая обыкно-
венно говаривала:
«Когда хочу заняться каким-нибудь новым установле-
нием, я приказываю порыться в архивах и отыскать, не
говорено ли было уже о том при Петре Великом, — и почти
всегда открывается, что предполагаемое дело было уже им
обдумано».
В наше время, когда литература стала таким сложным
и многосторонним делом, когда ей приходится ежесекундно
соприкасаться и с политикой, и с наукой, и с проблемами
воспитания, — нам следует как можно чаще заглядывать
в пушкинский архив, потому что многое из того, что мы
в литературе начинаем, «было им уже обдумано».
И, пожалуй, больше всего это относится к писателям,
непосредственно связанным с делом воспитания миллион-
ных масс, — к детским писателям. Они найдут для себя
образцы в любом из пушкинских жанров.
4
Теперь несколько слов о пушкинских сказках.
Дети больше всего любят сказку о «Царе Салтане»,
хоть и она, как и все остальные, была написана Пушкиным
не для детей.
Любят ее за то, что она справедлива, весела и легка,
как настоящая народная сказка.
За то, что ее герой Гвидон молод и хорош собой.
За то, что сказка счастливо кончается.
Но не только в этом ее сила. Сказка полна движения.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна
К царству славного Салтана.
Вот такой веселый, легкий ветер подгоняет действие во
всех сказках Пушкина.
390
Дети и сами любят двигаться, и вещи они любят дви-«
гать, и в сказках любят движение.
В детстве человек бывает нетерпелив. Пушкин как бы
рассчитывает на это в своих сказках. Действие у него нигде
не замедляется и не застаивается. И даже внешнее по-
строение сказок таково, что кажется, будто они состоят из
отдельных, законченных звеньев, все время сменяющих
ДРУГ друга.
Детским писателям следует учиться у Пушкина этому
замечательному умению придавать отдельным двустишиям,
четверостишиям, восьмистишиям смысловую и ритмичен
скую завершенность и цельность.
Если бы вся сказка о царе Салтане не была бы напи->
сана, а существовали бы только четыре ее строки:
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут,
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет,—
то и они были бы замечательным и законченным произвел
дением искусства.
Народная сказка во времена Пушкина еще не имела
прав гражданства. Жила она где-то под спудом, и только
первые пионеры, вроде Сахарова, рисковали рыться в этой
еще не исследованной и не очищенной руде.
Пушкин не ждал, чтобы фольклористы и присяжные со-
биратели сказок вложили ему в руки нечто готовое.
Он добыл сказку сам, добыл из первых рук, и с тех
пор, как он к ней прикоснулся, она стала достоянием со-
знательного и культурного искусства.
Пушкин подарил нам сказку как литературный жанр,
и мы не имеем права выпустить этот подарок из рук.
Сейчас нам предстоит труднейшее дело — добыть и со-«
здать сказку нашего времени. Не будем же и мы рассчи-»
тывать на фольклористов и собирателей.
Это должно быть делом поэтов — так же, как во вре*
мена Александра Сергеевича Пушкина.
ДЕТИ-ПОЭТЫ
1
Недавно я слышал интересный маленький рассказ. Со-<
чинила его семилетняя девочка, Таня Кротова. Вот он:
На море был остров. На острове сидела жаба. Пришел
ослик. Ходил, ходил и жабу раздавил. Пришел лев. Ходил,
ходил и ослика раздавил. Пришел слон. Ходил, ходил и
льва раздавил. Пришел мамонт. Ходил, ходил и слона раз-
давил. И остался один. Ходил, ходил и целый остров раз-
давил. Не стало ни мамонта, ни острова. Одно море оста-
лось.
Этот рассказ запоминается с первого раза, как стихи—>
так лаконична его форма.
У рассказа есть начало и конец (что не всегда бывает
в произведениях взрослых писателей). Продолжать рассказ
дальше — после того, как мамонт потопил остров и одно
только море осталось, — немыслимо.
Когда читаешь детям книжки, написанные взрослыми,
часто приходится присочинять к сказке или повести но-
вый конец. А еще чаще ребенок сам придумывает оконча-
ние к рассказу. Это бывает в двух случаях: когда книжка
кажется ребенку незаконченной или когда она кончается
«грустно».
Ребенок спешит исправить автора. Заключение рас-
сказа во что бы то ни стало должно быть оптимисти*
ческим!
392
Правда, история «про жабу и про мамонта» кончается
гибелью всех действующих лиц и даже декорации (остров
погибает), но вряд ли кто-нибудь пожалеет героев этого
рассказа — жабу, ослика, льва, слона и мамонта. Все они
упоминаются мельком и выведены только для того, чтобы
можно было сравнить их силу и вес.
Путем таких сравнений (Кто больше? Кто сильнее?)
ребенок познает мир.
Та же тема, но в гораздо более сложной и тонкой трак-
товке звучит в драматической поэме «Человек все победит».
Поэму этУ написал двенадцатилетний мальчик. Но о ней
речь впереди.
Из стихотворений, сочиненных детьми, самым характер-
ным для маленьких портов Советской страны я считаю
следующее:
Челюскйнцы-дорогйнцы,
Как боялся я весны.
Как боялся я весны.
Зря боялся я весны:
Челюскйнцы-дорогйнцы,
Все равно вы спасены.
Существительного «дорогинцы» в русском языке до
Этих стихов не было. Слово это образовано от прилагатель-
ного «дорогой» и звучит очень ласково. Гораздо ласковее,
чем «дорогой».
А «челюскинцы» — это участники нашей полярной
Экспедиции, высадившиеся с погибшего парохода «Челю-
скин» на льдину и спасенные летчиками — Героями Совет-
ского Союза.
Вся наша страна принимала участие в спасении челю-
скинцев, — начиная с ее правительства и кончая каждым
отдельным рабочим, который срочно ремонтировал ледокол
и снаряжал аэропланы, посланные на выручку героической
Экспедиции.
Наши дети — даже самые маленькие — тоже не были
безучастны к судьбе челюскинцев.
Когда ребенок говорит, что он «боялся весны» (а ведь
мы знаем, с каким нетерпением и с какой радостью все
Дети мира обычно ждут весны), это значит, что весна гро-
зила ребенку каким-то личным горем.
Я уверен, что очень немногие профессиональные порты
могли бы отозваться на далекое от них событие такими
горячими, такими непосредственными стихами.
393
Как прекрасен этот неожиданный переход от глубокого
отчаяния к радости и торжеству в стихах маленького
поэта:
Как боялся я весны...
Зря боялся я весны:
Челюскйнцы-дорогйнцы,
Все равно вы спасены!
В этих стихах чувствуется настоящий детский голос,
искренний и звонкий.
2
Мне кажется, никогда и нигде нельзя было встретить
среди ребят такого множества стихотворцев и прозаиков,
как в нашей стране и в наше время.
Правда, и в пору моей юности в каждой гимназии был
обязательно свой поэт, чаще всего самонадеянный рифмо-
плет, выступавший с декламацией на всех торжественных
актах и вечерах.
Но такие поэты-лауреаты были украшением только
классических гимназий и кадетских корпусов. В школе, где
учились дети «простых» людей, — в городском училище и в
сельской школе, — стихописанием занимались редко. Мо-
жет, там и были никому не ведомые сочинители песен
или частушек, но это было творчество устное, которое
трудно поддается учету.
Сейчас вы не найдете класса без своих поэтов и про-
заиков.
У нас нет больше ни гимназий, ни кадетских корпусов.
Все дети учатся в «единой советской трудовой школе».
И эта школа необыкновенно богата поэтическими дарова-
ниями. На детский литературный конкурс, организован-
ный Ленинградским советом, было представлено около
12 000 рукописей.
Чем объяснить такой урожай?
Мало сказать, что воздух революции рождает поэтов
и героев.
Должны быть еще какие-то простые, конкретные при-
чины. А их-то не так легко установить.
Может быть, это влияние наших обыкновенных школь-
ных «стенгазет» с отчетами о лагерях и с шуточными
стихами.
394
Может быть, это влияние радио, выездных концертов и
спектаклей в колхозах и заводских клубах.
А вернее всего, расцвет школьной поэзии — прямое
следствие того демократического объединения городских,
окраинных и деревенских ребят, которое стало возможным
только в советской школе.
У одних ребят в этой школе есть какие-то наследствен-
ные книжные навыки, у других еще жива традиция народ-
ной песни или частушки.
Я думаю, что это хорошее сочетание. Оно много обе-
щает в будущем.
На одном из детских собраний я слышал, как читали
свои стихи разными голосами и разным говором ленин-
градские, пригородные и деревенские, вологодские ребята.
Один из школьников, недавно приехавший из колхоза,
читал такие стихи про старую русскую деревню:
Избенка наша маленька,
В ней сыро и темно,
Я не один у маменьки,—
Нас семеро было.
Другой мальчик, из интеллигентской семьи, торжествен-»
но скандировал:
...И над вершиной Кара-Дага
Летают горные орлы,
И Чертов Палец, точно шпага,
Вонзен средь неба синевы.
Я слушал обоих и думал о том, как несовместимы были
бы раньше, в годы моего детства, эта «избенка маленька» и
«вершина Кара-Дага».
Не знаю, из всех ли ребят, которые сидели передо мной
на собрании, выйдут настоящие поэты.
Но сейчас они учатся в какой-то новой поэтической
школе, — в единой советской трудовой поэтической школе.
3
Мы все знаем, что наши школьные библиотеки еще не
очень богаты. Ведь наша детская литература молода, как
наша революция. Тем удивительнее видеть, что у нас есть
ребята, рядовые советские школьники, которые сами нахо-*
Дят пути к подлинным богатствам мировой культуры.
395
Мы еще не успели ввести их в права наследства, а они
уже выбирают из большой литературы для себя то, что им
нужно на сегодняшний день.
Им нужна героическая эпопея, нужна трагедия, нужна
комедия нравов, философская лирика, баллада.
И нужно им все это потому, что их занимают серьезные,
ответственные темы.
«Человек все победит» — так называется драма в шести
частях, написанная школьником, которому двенадцать
лет.
Тема не новая. Она легла в основу множества весьма
холодных и дидактических аллегорий. Но автор шестиак-
товой драмы верит в эту тему всерьез, как верит в нее ре-
волюция.
Поэтому у него возникают не схематические, а живые
и причудливые образы — наивные, но зато величественные.
«Действующие лица драмы»: лев — царь; Парамона — царь
Вестигмона и брат льва (необходимое примечание автора:
«Вестигмон — дружественное льву царство»), тигр, слон,
лиса, человек, жена человека, заяц — гонец из Вестигмона,
звери, собаки.
Вот несколько стихов, показывающих, как говорят и
ведут себя эти разнообразные действующие лица.
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
Поляна, окруженная лесом. В скале — пещера, из которой
видна голова льва, лежащего там.
Лев
Хоть царь зверей я, но скрываюсь,
Хоть род мой знатен, но бегу;
От Человека я спасаюсь,
Вести войну с ним не могу.
Пусть я красив, громаден, мощен,
Пусть я свиреп, могуч, силен,
Пусть Человек так слаб, немощен,
Но ум зато имеет он.
И потому он побеждает
Зверей и все, что на пути,
И потому он сокрушает
Все, что не даст ему пройти.
С такими торжественными монологами выступают
только главные герои драмы — лев и человек.
Лиса, как ей и подобает, говорит рассудительным и
простым языком басни.
396
Лев
(озабоченно)
Но отчего твой мрачен взгляд?
Лиса
Он мрачен потому, что я не победила*
Лев
Проклятие! Но почему?
Лиса
Да потому,
Что там вкруг домика собачья стая,
Не помогла мне хитрость никакая.
Нельзя же к домику пройти,
Когда собаки на пути.
Героям вторит почти классический хор — остальные
Звери. Они жалуются льву на человека.
Палкой громовою
Множество зверей
В день он убивает
И еще грозит,
Что тебя убьет он,
Что с тебя сдерет он
Шкуру и продаст;
Кости ж с мясом даст
Острозубым псам.
Горе! Горе нам!
Даже по этим отрывкам можно сказать, какие литера-
турные воздействия — прямые или косвенные — испытал
двенадцатилетний драматург. Тут есть и отзвук гетевского
«Рейнеке-Лиса», и, вероятно, влияние шекспировских тра-
гедий.
Недавно я слышал, как на одном из библиотечных со-
браний один школьник 5 или 6 класса говорил другому
почти таинственно: «Ты хочешь, я дам тебе «Отелло»? Вот
интересная вещь. Я уже знаю, где ее достать».
Гете, Шекспир — мальчик выбрал себе хороших учите-
лей. Вряд ли многие из наших взрослых поэтов могут по-
хвастаться такими.
Чем же это объяснить? Как набрел двенадцатилетний
школьник на первоклассные образцы поэзии? Случайно ли
Это? Нет, не случайно.
В стихах и прозе его сверстников и товарищей тоже
чувствуется влияние крупнейших портов. Мы имеем в виду
397
не то вредное, засушливое воздействие классики, которое
приводило когда-то поэзию к убожеству, к эпигонству или
стилизации. Нет, у ребят эт° влияние выражается в стрем-
лении к торжественному и вескому слову, к строгому син-
таксису, а главное — большой героической теме.
Именно она, большая тема, указывает двенадцатилетним
ребятам дорогу к одам, трагедиям и философским стихам.
О чем эти ребята пишут?
Один о водном пути, прорезавшем массивы Карелии и
соединившем два моря, — о Беломорском канале:
Теснились гор угрюмые громады^
Озера разливалися весной,
Потоками струились водопады
В Карелии — стране лесной...
В тот край нетронутый, в озера и болота,
Пустынные от века в век,
Пришел с машиною разведчиком работы
Решительный и смелый человек...
Ожили гор угрюмые громады,
Бараками долины поросли.
Ручьи гремучие, крутые водопады
В размеренные русла потекли.
Вчерашние вредители и срывщики работы —=»
Теперь строительства отважные борцы,
Защитники Страны Советов
И полноправные ее творцы.
Они — в числе ударников-героев
Страны озер, лесов и рек...
Гигантский водный путь построен
И крепко перекован человек.
(Мальчик 12~ти лет)
Другой школьник, его ровесник, пишет о штурме гор-
ных богатств Советского Севера. Его стихи, посвященные
Хибинам, — это настоящая ода геологии и социалистиче-
скому строительству:
В далекой юности земли
Цветы кристаллов расцвели.
Эпохи там они лежали.
Теперь веселый молоток
Дробит блестящей сталью скалы,
Срывает за куском кусок...
Бесстрашно прыгая по скалам,
Но штайгер впереди идет..ч
398
Грозя горам своим запалом,
Геолог свой маршрут ведет,
Глядит на каменные стены
Обрывов. Там читает он
Историю времен нетленных,
Архея сумрачных времен.
(Мальчик 12-ти лет)
Кажется, после поэта XVIII века Ломоносова у нас еще
никто не писал таких пламенных од науке и природе.
Третий юный порт, тоже ровесник предыдущих, пишет
всего только о паровозе. Но послушайте эти стихи, и вам
станет ясно, чего требует вся наша страна от всех своих
паровозов, машинистов и кочегаров.
Паровоз, паровоз,
Силы в тебе сколько!
Ты везешь тыщи тонн,
Как не лопнешь только!
Ты идешь день и ночь.
И идешь ты быстро.
Нету друга у тебя
Лучше машиниста.
Впереди откос
И на рельсах балки,
Стой, стой, паровоз,
Коль не хочешь свалки!
Опозданья целый час-*з
Разве это можно?
Полетишь вперед сейчас
Ты, гудя тревожно.
И в Москву ты прилетел,
Обливаясь паром,
С машинистом удалым,
С черным кочегаром.
Может явиться мысль, Что все эти маленькие поэты
учатся в одной какой-нибудь исключительной школе, где
умный, очень культурный словесник воспитывает ребят на
строго подобранных образцах. Но это совсем не так. Стихи,
которые я цитирую, присланы учениками самых разнооб-
разных школ города и области на конкурс, устроенный Ле*
нинградсоветом.
Достаточно просмотреть все листки и тетради, исписан-
ные детским почерком, чтобы убедиться в том, что авторы
стихов и прозы — вовсе не воспитанники Петербургского
аристократического лицея прежних времен, а самые настоя*
Щие советские ребята.
399
Они растут вовсе не в какой-то особой теплице, а в
обычной школе, где рядом с сыном профессора и инженера
учится сын рабочего и крестьянина.
Я спросил у одного из мальчиков, который собрал ред-
кую коллекцию горных пород, что увлекает его в ртом
коллекционировании. Он мне ответил:
— Я все время изучаю землю снаружи и внутри.
— Почему ты заинтересовался этим делом?
— Я прочел когда-то путешествие «К центру земли»
Жюля Верна.
— А чем занимается твой отец?
— Кочегар. Работает на «Красном Гвоздильщике».
Эти ребята роются на полках детских библиотек в
поисках утоляющей кпиги.
Они учатся у классиков, но они вовсе не изолированы
и от современной советской поэзии.
Из всех песен они больше всего любят партизанскую
песню, которую сейчас поют красноармейцы.
По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с бою взять Приморье,
Белой армии оплот.
Они бережно хранят в памяти детские стихи, которые
читали еще до школы.
Среди длинных и торжественных стихов попадаются
такие:
Бортмеханик
И пилот
Быстро входят
В самолет.
Завертелся
Винт мотора,
Затрещал он
Скоро-скоро.
Быстро двинулся
На взлет
По площадке
Самолет.
Набирая
Быстроту,
Поднимаясь
В высоту.
Алюминиевые
Птицы
СССР
Хранят границы.
(Мальчик 11-ти лет)
400
В этих стихах, несомненно, сказалось влияние нашей
советской поэзии для детей. Тут есть и словесная скупость
(почти одни глаголы и существительные), и ритмическая
четкость, и тема движения, очень характерная для тех на-
ших поэтов, которые пишут стихи для маленьких чита-
телей.
Но все то, что ребята берут от современной поэзии, и
взрослой и детской, они как бы устанавливают на прочном
постаменте классического стиля, если понимать этот стиль
в самом широком смысле, включая сюда и большую, значи-
тельную тему, и строгую, чистую форму.
Это радостное и замечательное явление.
Значит, правда, что у нас уже создается большая и са-
мая демократическая из всех культур, если даже первая
прививка, первые годы всеобщей грамотности дают такие
ростки.
ШУТ КОРОЛЯ ЛИРА
В трагедии «Король Лир» песенки шута занимают не
слишком большое место. Да и вся роль шута невелика. Она
почти ничего не вносит в сюжетное движение шекспиров-
ской пьесы. Шут только откликается на то, что происходит
и на сцене, и за пределами сцены — в современном ему
обществе, — откликается то краткой эпиграммой, то целой
обличительной тирадой.
Переводить эти песенки нелегко.
Меткость и ясность суждений, продиктованных народ-
ным здравым смыслом, сочетаются в них с причудливой, на-
рочито дурашливой формой. Философское, этическое и даже
политическое содержание песенок шута почти всегда замас-
кировано, упрятано в загадку, в пословицу, в шутку, как
будто бы простодушную и ребячливую. По существу же са-
мый взрослый персонаж в трагедии — именно шут, видящий
подоплеку всех отношений и трезво их оценивающий.
Для того чтобы перевести его стихотворные реплики,
нужно сначала раскрыть, расшифровать подчас загадочный
смысл подлинника, а потом вновь замаскировать его, облечь
в уклончивую, игривую форму прибаутки.
Пословица, поговорка трудно поддаются переводу. Они
своеобразны и сопротивляются пересадке на чужую почву.
Буквальный перевод — слово за слово — может их убить.
Для каждой шутки, для каждой пословицы, для каждой
присказки нужно найти в своем языке равноценную шутку,
пословицу, присказку. Только тогда перевод будет точен пе
в школьном, а в поэтическом смысле этого слова. Только
тогда в нем можно будет узнать подлинник.
В этом-то и заключалась сложность перевода песенок
шута.
402
Мне хотелось сохранить в переводе и предельную лако-
ничность подлинника, и его свободную непринужденность,
которая заставляет верить в то, что каждая реплика шута
рождается тут же на сцене, как острое словцо, сказанное
вовремя и к месту, как счастливая импровизация.
Шут не лезет за словом в карман. Не задумываясь, он
бросает как будто бы первые пришедшие ему на язык слова,
по эти слова бьют метко, клеймят беспощадно.
В его песенках редко можно найти прямое обращение
к тому или другому герою трагедии, но и сценическим пер-
сонажам, и зрителям совершенно ясно, кого имеет в виду
шут, когда в присутствии неблагодарной королевской дочки
он произносит насмешливые стихи:
Вскормил кукушку воробей—*
Бездомного птенца,
А та возьми да и убей
Приемного отца!
А иной раз реплики шута направлены не против пер-
сонажей трагедии, находящихся тут же на сцене или за
кулисами, а метят дальше и шире. Голос шута становится
громким и патетичным:
Тогда-то будет Альбион
До основанья потрясен,
Тогда ходить мы будем с вами
Вверх головами, вниз ногами!
Живую и разнообразную импровизацию, врывающуюся
в текст трагедии Шекспира, мне хотелось донести до со-
ветского зрителя, не утратив ее непосредственности и остроты.
В поисках того варианта, который был бы наиболее вы-
разителен и более всего соответствовал бы требованиям
театра, я переводил каждую из песенок шута по три, по
четыре раза.
О том, удалось ли мне справиться со всеми трудностями,
пусть судят читатель и зритель. Мне же эта работа, сделан-
ная по предложению Малого театра в Москве и Большого
драматического в Ленинграде, доставила немало забот, но
и немало радости.
ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ
Много раз случалось мне за эти четырнадцать месяцев
войны видеть на железнодорожных станциях, на рельсовых
путях длинные цепи вагонов, из окон которых выглядывали
только дети, — множество белокурых, темных и золотисто-
красных головок в каждом окне.
Издали эти поезда казались веселыми. Дети — всегда
дети. Детские вагоны полны шума и суеты, полны какого-то
нетерпеливого ожидания. Маленькие пассажиры кого-то зо-
вут, кому-то машут руками, выскакивают на площадки, вы-
совываются из окошек.
Но если приглядеться к каждому ребенку в отдельности,
нельзя не заметить, что многие из этих шести-семилетних
путешественников перестали быть детьми, оставили свое
детство где-то далеко — там, где сгорели их дома, где у них
на глазах были убиты их отцы и матери.
С такими детьми нелегко заговорить. Страшно разбудить
в них память, которая вновь заставит их пережить то, что
не по силам перенести и взрослому.
Детей увозят от войны в края, куда не долетают самые
мощные самолеты врага, где земля не вздрагивает от взры-
вов фугасных бомб и артиллерийских снарядов, где дома
стоят совершенно целые и невредимые, со всеми стеклами
в окошках и вечером за этими стеклами беспечно зажи-
гается свет.
По нынешним временам даже трудно себе представить,
что есть такие края. Дети едут туда, веря и не веря расска-
зам взрослых.
404
А в Этих сказочных краях их ждут. Освобождают для
них, достраивают и приводят в порядок просторные дома.
Тысячи детей найдут приют в этих домах. Но многие из
ребят растекутся по городам и деревням, попадут в семьи
врачей, учителей, кузнецов, колхозников. И эти семьи ста-
нут для них родными.
В плодоносном Советском Узбекистане, где почти круг-
лый год что-нибудь цветет и зреет, пожилой кузнец Ахмед
Шамахмудов за один последний год стал отцом четверых
детей. И дети у него все разных национальностей и разных
фамилий: Рая Мальцева — белорусска, Малика Исламова —
татарка, Володя Урусов — русский, а четвертый сын Ахме-
да — безымянный двухлетний мальчик неизвестного про-
исхождения. Ахмед сам дал ему имя — Ногмат, что значит
«дар».
Весть о большой семье кузнеца Шамахмудова разнеслась
по всей нашей стране, дошла и до фронта.
Ахмед получил письмо и денежный перевод с передовых
позиций. Старший лейтенант Левицкий прислал ему не-
сколько сот рублей — большую часть того, что получает
в месяц командир его звания — и обещал посылать столько
же ежемесячно до тех пор, пока будет жив. Ему хочется
помочь Ахмеду хоть чем-нибудь в воспитании детей.
Ахмед не знал, как поступить с деньгами. Всех четверых
детей он уже привык считать своими, а брать у кого-то
деньги на то, чтобы кормить и одевать свою семью, ему ка-
залось странным. Отказать же хорошему человеку он тоже
не хотел — зачем обижать его!
Ахмед Шамахмудов подумал и взял на воспитание еще
одного сына — пятого — украинца Саню Брынина.
У Сани — два приемных отца: узбекский кузнец, кото-
рого он только что увидел, и русский лейтенант, которого
он, может быть, не увидит никогда.
У этого русского лейтенанта были и свои дети. Теперь
их нет — их совсем недавно убили немцы.
Человек, так жестоко и бессмысленно ограбленный, со-
храняет в душе только большие простые чувства. Эти чув-
ства — любовь и ненависть. Они тесно переплетаются между
собой и питают друг друга.
Лейтенанту Левицкому не нужно было видеть своего
маленького приемного сына, чтобы отдать ему нерастрачен-
ную нежность, чтобы по первому порыву взять на себя за-
боту о нем.
405
С такой же силой ненавидит русский лейтенант toro
неизвестного ему немца, с которым он завтра или даже
сегодня, — может быть, через какой-нибудь час встретится
в бою лицом к лицу. Этот неизвестный немец — родной
брат того, который убил детей лейтенанта, и соучастник его
преступления. Оба они послушны одной и той же злой воле,
которая снесла с лица земли столько теплых домашних
очагов и уничтожила на этой земле счастье.
Вот уже несколько лет люди чуть ли не на всей нашей
планете лишены самых простых и самых драгоценных своих
прав. Им мешают любить, создавать семью, воспитывать де-
тей, возводить дома и города, заниматься наукой, путешест-
вовать, строить планы будущего. Люди перестали верить
в прочность своего дома, своей семьи, своей собственной
жизни.
И чем дороже нам прелесть земного бытия во всем его
разнообразии, чем сильнее мы любим жизнь, тем глубже
ненавидим мы смертоносную машину, работающую день и
ночь для ограбления, уничтожения и порабощения человека.
В наши дни у нас нет и не может быть других желаний,
кроме желания остановить и уничтожить рту машину, кром-
сающую жизнь.
Во время защиты Севастополя пятеро черноморских мо-
ряков обвязали себя гранатами и бросились под гусеницы
неприятельских танков, чтобы ценой своей гибели задержать
и сломить напор врага.
А на Балтийском море краснофлотец Сидоренко бросился
в воду и руками отвел мину от своего корабля. Четыре
часа он провел в соседстве со смертью, предупреждая про-
ходящие суда.
— Осторожно! Мина!
На Южном фронте летчик, у которого во время боя за-
горелся самолет, бросил его, как зажигательный снаряд,
на немецкие цистерны с нефтью и бензином.
Это — не единственный случай.
Другой летчик, подбитый над вражеским аэродромом,
спокойно и трезво выбрал цель — несколько «мессершмит-
тов», стоявших рядом на линейке — и обрушился на них
с высоты. Его раненый истребитель при падении вспыхнул,
а вместе с ним загорелись ярким, высоким пламенем фа-
шистские «мессершмитты».
Гибель этих молодых людей и тысяч им подобных, всех этих
юношей, которые без оглядки отдают, свою единственную,
406
свою неповторимую жизнь, возлагает на нас, на каждого из
нас, огромную ответственность.
Не ради разрушения нескольких цистерн с горючим или
трех-четырех «мессершмиттов» обрекли они себя на
смерть, — слишком велика бы была цена этим цистернам
и «мессершмиттам»! — а для того, чтобы силой своей любви
и ненависти сломить жестокую, темную волю, направленную
на уничтожение всего, что нам дорого на земле.
В Москву, через линию огня, пришло письмо из отдален-
ного района, в котором уже целый год хозяйничают
немцы.
Таких писем приходит из глубокого немецкого тыла не-
мало, а сколько их, вероятно, пропадает в пути, вместе с
теми людьми, которые берутся их доставить. Но это письмо
трогает и волнует больше многих других — не менее заме-
чательных — писем.
Эти несколько страничек представляют собой скромный
и добросовестный отчет о простых делах, в которых не было
бы ничего удивительного, если бы они не совершались под
дулом вражеского автомата. В конце письма стоят подписи
нескольких десятков деревенских девушек.
«Вы знаете, — пишут они, — что почти все наши юноши
ушли в Красную Армию и партизанские отряды. На нашем
собрании присутствует только один молодой парень, а все
остальные — девушки. За время нашей работы мы приго-
товили больше 750 подарков для партизан и для Красной
Армии, сшили 250 рубашек, выстирали 1500 пар белья,
ухаживали за ранеными бойцами, помогали в сборе про-
дуктов...»
Письмо спокойное и обстоятельное. Шили рубашки, сти-
рали белье, ухаживали за ранеными...
Недосказано в письме только одно: в какой смертельной
опасности делались все эти простые дела.
Раненые бойцы или партизаны, за которыми ухаживали
девушки, лежали не на лазаретных койках, а где-нибудь
в сарае, в погребе или в лесу.
Перевязать им раны или выстирать их окровавленное
белье в деревне, занятой немцами, было не менее опасно,
чем руками отвести мину от борта корабля.
«У нас в селе, — говорится в этом самом письме, — рас-
стреляно 25 девушек и парней, а одну девушку — Нюру Ка-
занову— закопали в землю живьем за то, что она отказа-*
лась работать на фрицев...»
407
И все-таки девушки собираются и пишут в Москву это
тайное письмо, которое может стоить им жизни, и берут на
себя новые обязательства, и клянутся их выполнить.
Нет никакого сомнения — они выполнят свою клятву!
Их поддерживает уверенность в том, что они не напрасно
рискуют и жертвуют своей жизнью. Пусть только случайно,
только урывками доходят до них правдивые вести о тех ве-
ликих битвах, которые идут на «большой земле» — за вра-
жеским кольцом, окружившим их родной край. Они и без
вестей знают, что кольцо это рано или поздно будет про-
рвано, и делают все, что в их силах и даже больше их сил,
чтобы пробиться изнутри навстречу тем, кто идет к ним на
выручку.
Работая ночью над рубашкой для бойца или укрывая от
немцев собранный в поле хлеб, они сознательно и ответ-
ственно борются с бездушной и враждебной всему человече-
скому гитлеровской системой. Они знают, что с ними их ро-
дина, с ними лучшие люди «большой земли».
Их надежды должны быть оправданы. Их подвиг не бу-
дет напрасным!
<О БЕЛИНСКОМ)
(Выступление на открытии лектория по детской литературе}
Сегодня у нас в Доме писателей новый год.
Мы начинаем рабочий год нашей комиссии по детской
литературе.
Какие задачи ставим мы перед собой?
Лучше и проще всего они выражены в памятном поста-
новлении ЦК партии.
«Сила советской литературы, самой передовой литера-
туры в мире, состоит в том, что она является литературой,
у которой нет и не может быть других интересов, кроме ин-
тересов народа, интересов государства.
Задача советской литературы состоит в том, чтобы по-
мочь государству правильно воспитать молодежь, ответить
на ее вопросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим
в свое дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть
всякие препятствия...» 1
Если рти слова постановления относятся ко всей литера-
туре в целом, то, разумеется, прямее всего они относятся
к литературе, встречающей человека на самом пороге жизни,
то есть к детской и юношеской.
Что же мы должны делать для того, чтобы и в этой обла-
сти советской литературы способствовать осуществлению
стоящих перед нами больших целей?
Каждый из писателей решает эти задачи по-своему за
своим письменным столом.
409
Каждый педагог повседневно решает задачи коммуни-
стического воспитания у себя в школе, в детском саду, в дет-»
ском доме.
Каждый библиотекарь — у полки с книгами.
Но у всех у нас есть потребность и даже необходимость,
пройдя какой-то, хотя бы небольшой, участок пути, огля-
деться, сделать выводы, обменяться скопившимися мыслями
с товарищами, идущими бок о бок с нами.
Вот для ртой-то цели мы и создали этот наш так назы-
ваемый лекторий.
Собственно говоря, я не думаю, что название это вполне
соответствует задаче.
Когда мы, группа писателей, собирались в соседнем доме
или на Спиридоновке лет пятнадцать тому назад для встреч
с Алексеем Максимовичем Горьким и слушали его живые,
практичные и в то же время всегда высоко принципиальные,
философски направленные замечания и мысли по поводу
детской литературы, — мысли, вызывавшие непосредствен-
ный ответ слушателей, — нам и в голову не приходило, что
мы находимся в каком-то лектории.
Но дело не в названии. То, что мы называем здесь лек-
циями, есть попытка продолжить эти живые беседы людей,
непосредственно и горячо заинтересованных в судьбах нашей
детской литературы, занимающихся ею изо дня в день.
Писатель, педагог, библиотекарь, студент, изучающий эту
область литературы, должны найти здесь товарищескую
среду, с которой они могут поделиться результатами своей
работы, если эта работа касается боевых, сегодняшних на-
ших задач.
Мы начинаем наши занятия словом, посвященным Вис-
сариону Григорьевичу Белинскому.
«В. Г. Белинский и детская литература» — так назы-
вается нынешнее выступление Ивана Игнатьевича Халту-
рина 2.
Мы вспоминаем сегодня великого русского критика не
только в связи с его юбилейным годом.
Белинский — это не вчерашний день.
Он для нас непревзойденный образец критика, сочетав-
шего в себе публициста, борца, педагога в самом высоком
смысле этого слова, философа и поэта.
Его статьи о детской литературе полны мыслей о воспи-
тании, которые и до сих пор не утратили своей действенно-
сти, свежести и остроты.
410
Прочтите его статьи и рецензии, в которых он касается
отдельных детских книг, и вы найдете целый поток мыс-
лей — и не только о литературе для детей, но и о воспита-
нии в целом.
Вы найдете страстную и беспощадную критику, направ-
ленную не только против ремесленников, стряпающих по
скучному рецепту «плохо склеенные рассказы, приправлен-
ные резонерскими сентенциями» 3, но и против родителей,
беззаботно и бездумно относящихся к ответственной задаче
воспитания растущего человека.
Читая горячие, взволнованные строки Белинского, где
одна мысль обгоняет другую, видишь, что рти мысли роди-
лись не в процессе писания статьи, а задолго до того — вме-
сте с мыслями о путях развития русского общества, о судь-
бах родины. Да иначе и быть не может. Вопросы воспита-
ния неотделимы от всех больших, боевых вопросов совре-
менности.
Не надо быть профессиональным педагогом, чтобы ду-
мать о воспитании юношества.
Не надо быть специально детским писателем, чтобы ду-
мать о детском чтении, — и лучшим примером этому может
служить Горький.
Не надо быть критиком — специалистом по детской ли-
тературе, чтобы писать о ней с живейшим интересом и по-
ниманием ее большого значения и задач, — и этому при-
мер — Белинский.
Перед памятью Белинского да смутятся и покраснеют
многие из наших критиков, которые с академической важ-
ностью заявляют:
«Разумеется, детская литература — дело весьма почтен-
ное, но мы в ней ничего не понимаем. Пусть об ртом пишут
специалисты!»
И если наши журналы — толстые и тонкие, если наши
газеты — большие и маленькие, молчат о детской литера-
туре, только изредка прерывая свое молчание краткими со-
общениями ТАСС о результатах конкурса в Министерстве
народного просвещения, то это означает, что критики не
помнят ни Белинского, от которого они как будто бы ведут
свою родословную, ни постановления ЦК партии, так четко
говорящего о воспитательных задачах советской литературы.
Белинский нам дорог не как материал для удобных ци-
тат, не как позолоченная икона. Он бы не простил нам та-
кого отношения.
411
Мы чтим в нем страстного полемиста, пробивавшего
рыхлую толщу косности, равнодушия и благополучия.
Мы чтим в нем критика, умевшего от частности, от раз-
говора об одном стихотворении, рассказе или детской сказке
переходить к большой социальной и философской теме, ви-
деть в малом целый мир.
Пожалуй, статья Белинского о «Сказках дедушки Ири-
нея» дороже и ценнее для нашей литературы, чем самые
сказки, о которых идет речь в статье. Сказки-то к нашему
времени несколько устарели, а статья о них до сих пор го-
рит живой мыслью и вдохновляет нас на работу сегодняш-
него дня.
Ведь именно в этой статье о детских сказках дедушки
Иринея сказаны им знаменитые слова, так удивительно пе-
рекликающиеся с одной из важных тем нашего сегодняш-
него дня:
«Давайте детям больше и больше созерцание общего, че-
ловеческого, мирового, но преимущественно старайтесь зна-
комить их с этим чрез родные и национальные явления:
пусть они сперва узнают не только о Петре Великом, но и
об Иоанне III, чем о Генрихах, Карлах и Наполеонах. Об-
щее является только в частном: кто не принадлежит своему
отечеству, тот не принадлежит и человечеству».
Белинский с пренебрежением говорит о назидательных
или слащавых книжках, которые дарят детям богатые лите-
ратуры англичан, французов и немцев.
«У французов, например, — говорит Белинский, — писали
для детей Беркен, Бульи, Жанлис и прочие, написали бездну,
но дети от этого нисколько не богаче книгами для своего
чтения».
Любопытнее всего, что на Западе до сих пор кормят де-
тей книжками, которые значатся у Белинского под рубри-
кой «Жанлис и прочие».
Полтора десятка лет тому назад в Париже я видел в ру-
ках у детей и повести мадам Жанлис, и книжки мадам Се-
гюр, от которых, по словам Белинского, дети не стали богаче.
В противовес «дурно склеенным рассказам, пересыпан-
ным моральными сентенциями», цель которых «обманывать
детей, искажая в их глазах действительность», Белинский
бережно отбирает для детей книжку за книжкой из русской
и мировой литературы, как это делал на наших глазах осно-
воположник советской литературы Алексей Максимович
Горький.
412
Оба они боролись с попытками холодных резонеров
убить в детях воображение, «живость, резвость и шаловли-
вость, которые составляют необходимое условие юного воз-
раста».
Оба они говорили о высоком призвании детской литера-
туры.
У нашей советской литературы для детей замечательные
традиции. Она взлелеяна великим писателем-революционе-
ром Горьким и окружена заботой партии и Советского пра-
вительства. Ей предстоит светлое будущее, а наш долг —
долг портов, прозаиков, критиков и педагогов — собирать
ее день за днем, отмечать ее успехи и неудачи, не забывая
ни на минуту, что детская книга не в меньшей степени, чем
школа, призвана воспитывать строителей нашего будущего.
(НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ВОСПИТАНИИ)
Я не профессиональный педагог. Но мне хотелось бы по-
делиться с вами, теоретиками, методистами и практиками
педагогического дела, некоторыми соображениями, накопив-
шимися у меня, литератора, за долгие годы моего общения
с детьми.
Как известно, игра — одна из существенных потребно-
стей растущего человека. Но играет он всегда всерьез. Если
бы вы убедили его, что деревянная лошадь или палка, на
которой он ездит верхом, не настоящий конь, игра потеряла
бы для него всякий смысл. И если бы вам удалось внушить
подростку, жадно глотающему фантастическую повесть или
сказку, что «это все про неправду написано», вы неизбежно
охладили бы читательский пыл.
Подлинный секрет детской книги в том, что автор ее
умеет играть со своим читателем и в то же время быть
с ним вполне серьезным. Без этой серьезности детская
книга впадает в фальшь и сюсюканье, а без игры — в нази-
дание.
Лучшим примером очень серьезной и очень увлекатель-
ной игры с читателем была всесоюзная игра в тимуровцев,
которую затеял когда-то Аркадий Гайдар.
Дети любят большие, смелые и ответственные затеи.
В последние годы своей жизни Алексей Максимович
Горький сговорился с пионерами — жителями далекой Игар-
ки, о том, что они напишут при его помощи и поддержке
историю родного края. Многие из этих пионеров были ро-
весниками своего заполярного города, а иные из них даже
могли вспомнить первые его улицы и дома.
Ш
Горький написал пионерам Игарки замечательное, глу-
боко поэтическое письмо, благословляющее и вдохновляю-
щее авторов на это необычное дело»
Он предложил им самый общий, самый краткий план,
полагаясь на собственную инициативу юных историков.
И ребята вполне оправдали надежды Горького. Они осно-
вательно поработали и выпустили памятную книгу «Мы из
Игарки».
Дело воспитания требует терпеливой и кропотливой ра-
боты с детьми. Но наряду с этой кропотливостью нужен и
широкий размах, нужно полное доверие к силам и возмож-
ностям юного человека.
А главное, ребенок должен видеть перед собой цель, ради
которой стоит мобилизовать все силы.
Цель — близкую или далекую — ему непременно надо
видеть или угадывать и тогда, когда он играет гаммы, обу-
чаясь музыке, и тогда, когда он решает задачи, учась ариф-
метике или алгебре.
Я часто думал о том, как медленно и вяло обучаются
ребята в школе иностранным языкам. Целые годы пишут
они упражнения, учат слова, читают стишки и рассказцы,
а в конце концов выходят из школы, так и не зная
языка.
А между тем я встречал людей, которые в течение года
так овладевали английским языком, что свободно читали
Диккенса и даже Шекспира.
Но у этих людей была ясно осознанная цель. Они очень
хотели знать язык, они стремились запомнить как можно
больше слов и как можно лучше усвоить обороты чужой
речи.
Надо поставить перед собой большую задачу, чтобы идти
к ее разрешению широким, а не черепашьим шагом.
Я отнюдь не предлагаю прибавить лишнюю тяжесть
к той школьной нагрузке, которую несут наши ребята. Для
того, чтобы больше успевать, не всегда надо тратить больше
времени. Труд, окрыленный интересом к делу, легче, а не
тяжелее труда, выполняемого по обязанности.
Учение в школе и пионерская работа должны быть для
ребенка и подростка не только подготовкой к жизни,
но и самою жизнью в полном смысле слова. В игре да и
в решении интересной, увлекательной задачи дети живут этой
полной жизнью и готовы преодолевать любые трудности.
415
Чтобы пионерская работа была достаточно заманчивой,
она, как и детская литература, должна стать разнообраз-
нее, если можно так выразиться, «сюжетнее».
Я уже упоминал о чудесной инициативе Горького, спло-
тившей ребят вокруг интересного дела — истории города.
Такого рода затеи, способствующие углублению школь-
ных знаний, — по истории, географии, родному языку, фи-
зике, математике, естествознанию, прямое дело пионерской
дружины. Но не надо забывать, что Горький не просто посо-
ветовал ребятам изучать свой край, а дал им сюжет, при-
думал занятную задачу — создание книги.
Целый поток вполне конкретных и вполне осуществимых
дел показал детям их умный друг Гайдар, затеяв тимуров-
ское движение.
Конечно, нам незачем создавать среди ребят какую бы
то ни было новую организацию, параллельную пио-
нерской.
Но в самом пионерском движении должна постоянно
проявляться живая, свежая, новая инициатива, питающая
Это движение, как бьющие со дна ключи питают реку.
Как много инициативы и выдумки может проявить пио-
нерская организация, стремясь помочь юному ленинцу стать
умелым, ловким мастером на все руки, человеком, не теряю-
щимся ни при каких обстоятельствах. Пусть дружины спо-
рят между собой о том, какая из них лучше подготовит своих
пионеров к ботанической, геологоразведочной или археоло-
гической экспедиции.
В городе Аксае, еще недавно бывшем станицей, я видел
великолепный краеведческий музей, созданный руками пе-
дагогов и ребят. Собирание экспонатов — образцов краевой
флоры, раскопки, в результате которых были найдены кости
ископаемых животных, старинные монеты и утварь, — все
Это дало ребятам не только новые знания, но и прекрасную
техническую подготовку к будущим экспедициям. Процесс
подготовки иной раз ценнее конечной цели, но без увлека-
тельной цели не будет и подготовки.
В каждом маленьком деле целесообразность и целе-
устремленность — залог успеха.
Но не только расширение кругозора ребят и приобрете-
ние ими практических, полезных для деятельной жизни на-
выков может и должно быть содержанием воспитательной
работы среди пионеров. Пожалуй, существеннее всего — вос-
питание чувств, моральное воспитание.
416
Поверхностные беседы на всякого рода нравоучительные
темы, чтение беглых и схематичных книг, в которых герои
легко делятся на «положительных» и «отрицательных», а мо-
ральные проблемы решаются чрезвычайно просто и легко —
по «шпаргалке» автора, — во всем ртом мало проку.
Недавно директор одной из московских школ рассказал
на совещании в Центральном детском театре такой эпизод.
В классе писали сочинения на тему «Кем я хочу быть». Это
было в конце войны. Юноша, числившийся хорошим учени-
ком и неплохим комсомольцем, написал несколько патети-
ческих страниц о том, что у всякого истинного патриота
в эти дни одна дорога — на фронт.
Сочинение всем очень понравилось, произвело впечат-
ление.
Однако, окончив школу, автор сочинения избрал для
себя такое учебное заведение, которое бронировало его от
призыва на военную службу. И только по окончании войны
он перевелся в институт, более соответствовавший его вле-
чениям, но не защищавший в свое время от фронта.
На поверхностный взгляд юноша не совершил ничего
предосудительного. Формуляр его в полном порядке. Но,
может быть, именно такие внешне «безобидные» факты дают
более содержательный материал для обсуждения, чем случаи
явного нарушения дисциплины или этики.
Книга, конечно, может послужить прекрасным поводом
или трамплином для начала горячего спора о разных проб-
лемах поведения. Но для этого она должна быть достаточно
сложной, без подсунутых под руку ответов на все возни-
кающие вопросы. Надо уметь находить такие книги в клас-
сической и современной литературе, уметь связывать их
с сегодняшним днем.
Подрастающий человек воспитывается не только в школе
и в отряде. В сущности, у большинства городских ребят три
различных облика, три обособленных одна от другой жизни:
в школе, дома и на дворе или на улице.
И, конечно, активнее всего ребенок именно на улице,
на дворе. Иные родители, наблюдая своих ребят в уличной
обстановке со стороны, издали, не узнают их. Повадки, го-
лоса, обороты речи — все это у них на дворе другое, недо-
машнее, незнакомое. Оттуда, со двора, с улицы, ребята при-
носят домой такие лихие и зазвонистые словечки, что роди-
14 С, Маршал т. в 417
тели подчас только диву даются, = откуда это взялось? На
дворе, на улице ребят подстерегают самые серьезные испыта-
ния и опасности, самые неожиданные впечатления и влияния.
Я далек от мысли, что детей следует опекать и в школе,
и дома, и даже на дворе. Наоборот, им всюду надо предо-
ставлять достаточную долю свободной инициативы. Но нель-
зя упускать из виду ту значительную часть их жизни, кото-
рая протекает вне стен класса, пионерской комнаты и дворца
пионеров, — жизнь во дворе, на лестнице, у ворот гаража,
на каком-нибудь пустыре, который служит им импровизиро-
ванной футбольной площадкой, у дверей кино или в малень-
ком скверике — подальше от глаз взрослых.
Хотелось бы, чтобы пионерская работа проникала глубже
в быт наших ребят. Настоящие педагоги-общественники, та-
лантливые вожатые должны идти навстречу жизни — именно
туда, где они особенно нужны.
Я знаю, что для ребят, не имеющих возможности вы-
ехать за город, во дворах больших, густонаселенных домов
устраивают кое-где летние городские лагеря. Это хорошая
затея. Но таких лагерей пока еще мало, и далеко не всегда
они успешно справляются со своей задачей — стать центром
жизни слоняющихся по двору или по улице ребят. В луч-
шем случае эти лагеря организуют за лето несколько заго-
родных экскурсий или прогулок по городу. В худшем — во
дворе устраивают что-то вроде площадки, посреди которой
появляется беседка в виде гриба, качели да передвижная
библиотечка, которая раз в неделю выдает книги.
А между тем было бы очень хорошо, если бы двор боль-*
шого дома превратился бы в форпост пионерской работы,
который мог бы служить заслоном, предохраняющим ребят
от многих опасностей улицы.
Но нужно найти настоящее, живое и крупное дело, чтобы
оно могло отвлечь ребят от досужего пересмешничества,
драки или картежной игры на лестнице.
Этим делом могут быть и какие-нибудь очень интерес-
ные чтения, и драматическая постановка, и спорт, и созда-
ние сада там, где его до сих пор не было.
Прошлым летом мне довелось познакомиться с любопыт-*
ным и достойным всяческого уважения начинанием.
В одном из самых населенных районов Москвы талант-
ливая и энергичная женщина — деятельница общества озе-»
ленения Москвы — создала на клочке земли среди двора,
где прежде сваливали мусор, замечательный цветник. Этот
418
крошечный ботанический сад, в котором велась серьезная
селекционная работа, привлек к себе внимание ребят чуть
ли не всего района. Получая от садоводов семена, рассаду,
а также советы и указания, многие ребята завели и у себя
во дворах цветники, ютящиеся между домами, гаражами,
сараями и водосточными канавами. Нелегко им это далось:
они выдержали долгую и упорную борьбу не только с бес-
плодной, окаменевшей почвой, по и с хищниками — сосед-
скими ребятами, которые, подобно диким ордам, то и дело
вытаптывали и разоряли грядки.
Но эта непрестанная борьба воспитала в маленьких ми-
чуринцах такую любовь к природе и к своему делу, какую
редко можно наблюдать на благоустроенных станциях юных
садоводов.
Юннатская работа приобрела здесь характер боевой,
почти героический.
А ведь мобилизовать волю ребят, увлечь их каким-нибудь
делом, легче всего именно тогда, когда они чувствуют себя
партизанами, участниками идейного, боевого движения.
Всесоюзная пионерская организация — это большая сила.
Стоит положить много труда и много мысли, чтобы обога-
тить содержание ее работы.
Алексей Максимович Горький мечтал когда-то о созыве
большого съезда, посвященного делу воспитания подрастаю-
щих советских людей. В этом съезде, по его мысли, должны
были принять участие не только профессиональные, но и
не профессиональные педагоги, то есть люди самых разно-
образных специальностей, объединенные интересом и лю-
бовью к детям и желающие передать свой опыт будущим
поколениям. Быть может, со временем эта идея Горького
осуществится. А пока было бы чрезвычайно важно расши-
рить круг людей, способных проявить в деле воспитания жи-
вую инициативу, то есть привлечь к делу именно тех «не-
профессиональных» педагогов, о которых говорил Горький.
С помощью наших газет и журналов можно поднять,
всколыхнуть педагогическую мысль страны, вызвать к дея-
тельности новые, свежие силы и получить множество цен-
ных практических предложений и советов.
14*
(ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЛОНДОНСКОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ИСТОРИИ ТЕАТРА)
Я вовсе не театральный деятель, но, будучи писателем,
в какой-то мере связан с театром. И сегодня я бы хотел по-
делиться с вами несколькими мыслями, которые, может
быть, найдут у вас некоторый отклик.
Это была очень хорошая идея — собрать нас вместе для
того, чтобы мы смогли сообща оглядеть, что представляет
собой подготовленная предшествовавшими поколениями те-
атральная культура нашего времени, что внес и вносит в нее
каждый народ.
Искусство обладает волшебной способностью преодоле-
вать преграды расы, национальности и традиции, заставляя
людей сознавать свое всемирное братство. Научные и техни-
ческие успехи какого-нибудь народа завоевывают ему ува-
жение и восхищение, но творения искусства заставляют всех
полюбить этот народ.
Каждая нация вложила свой вклад в могущественное
здание мирового искусства. Свод за сводом возводятся
над краеугольными камнями Шекспира, Лопе де Вега и
Гольдони. Эти своды перекрывают океаны и континенты.
Чем серьезнее и честнее художник творит для собственного
народа, тем интернациональнее могут стать результаты его
творчества, ибо настоящее искусство достигает других ча-
стей мира, только если оно пустило глубокие корни в почву на-
родной культуры. Такие подлинно национальные драматурги,
как Шекспир, Мольер, Бомарше, Гольдони, Шеридан и
420
Бернард Шоу или Гоголь, Толстой, Чехов и Горький, стали
достоянием всего человечества.
Наш великий порт Александр Пушкин, русский до глу-
бины души, которому было свойственно тончайшее проник-
новение в искусство и литературу других народов, с неж-
ностью говорил: «Отец наш Шекспир» *. А сколько сегодняш-
них драматургов, в каком бы государстве они ни жили, могли
бы сказать о Чехове «Отец наш»?
Но художники не копируют друг друга. Они влияют один
на другого так, как итальянцы влияли на Шекспира или
как Шекспир влиял на драматургию Пушкина.
Такое влияние необходимо для расцвета искусства. Как
невозможно при закрытых окнах проветрить комнату, так
нельзя уловить свежих дуновений искусства, если окна стран
не будут распахнуты навстречу друг другу.
Этой встречей в Лондоне мы открываем окна и провет-
риваем комнату. И, быть может, никогда еще проветрива-
ние не было более своевременным. Духота и напряженность
атмосферы современного мира не могут не действовать на
художника. К счастью, появляются признаки ослабления
Этой напряженности, которому нам, деятелям искусства,
следует всячески способствовать. Кто же несет большую от-
ветственность, кто же сильнее влияет на мысли людей, чем
писатель, порт, артист?
Человеческими сердцами в собственной стране и за ру-
бежом драматургу легче завладеть, чем другим писателям.
Он говорит не только словами, но и действием — языком,
понятным всем людям, независимо от их опыта. Вот почему
у Шекспира такая большая, такая долгая мировая история.
Французский, немецкий, русский Шекспир — как он разли-
чен на каждом языке и как в то же время един.
Когда я переводил лирику Шекспира, его бессмертные
сонеты, я понял, насколько медленнее просачивается лири-
ческое слово, чем слово, произнесенное со сцены и подкреп-
ленное живым действием. Я был далеко не первым перевод-
чиком сонетов на русский язык2, но только в наше время
они наконец дошли у нас до сотен тысяч читателей. А между
тем самые первые, давние, робкие и приблизительные пере-
воды и даже пересказы трагедий и комедий Шекспира (они
появились у нас в середине XVIII века) сразу вышли на
русскую сцену и завоевали сердца зрителей. Чуть ли не каж-
дое поколение создавало у нас свои новые переводы Шекспира,
все более близкие к подлинникам и все более поэтические^
421
И это не только победа великого драматурга, но и по-
беда жанра, пользующегося звучащим словом, жестом, дви-
жением.
Драматургия, даже сложная, скорее окажется понятной
и доступной самому наивному и неподготовленному зрителю.
Но такая доступность ответственна и ко многому обязывает.
Тот, кто умеет говорить громко, должен говорить хорошо
и о достойных предметах.
Конечно, бывают случаи, когда громким голосом поль-
зуются для того, чтобы браниться, злословить, клеветать или
рекламировать с экрана и со сцены дурной товар. Но этот
шум — не искусство, и он никогда не удерживается на дол-
гое время.
Если оглянуться на произведения искусства, которые пе-
режили, не потеряв свежести и обаяния, хотя бы два поко-
ления, видишь, что они построены на крепкой этической
основе. Такое искусство человечно в самом прямом смысле
Этого слова.
У Чехова и Горького, как и у Бернарда Шоу, было много
современников-драматургов, пьесы которых пользовались
успехом. Однако эти пьесы сошли со сцены и забыты, и дело
Здесь не в недостатке таланта. Или, вернее сказать, недо-
статок таланта — это неумение говорить о главном, о самом
существенном для жизни человечества.
В наше время самое важное для жизни человечества —
Это мир и дружественное общение между народами и стра-
нами, какой бы политической системы и веры они ни при-
держивались. О чем бы ни говорил художник сегодня, он
пе может и не должен этого забывать.
В конце концов самая высшая оригинальность дости-
гается тогда, когда художник различает в беглой смене дней
движение истории, когда он видит в тысяче противоречи-
вых мелочей одну большую и простую правду. И быть
может, более всего художник отвечает перед молодежью,
которая будет продолжать наше дело, когда нас не станет.
В 1916 году, когда мир был охвачен пламенем первой
мировой войны, Максим Горький, смело борясь с царившим
тогда военным психозом, написал Ромену Роллану письмо,
в котором предлагал ему написать книгу для детей о жизни
Бетховена3. Тогда же он просил Уэллса написать биографию
Эдисона, а Нансена — биографию Христофора Колумба.
Сам он брался писать о Гарибальди, обещая организовать
издание всех этих книг.
422
«Наша дель, — писал Горький Роллану, — внушить мо-
лодежи любовь и веру в жизнь».
Разве в наши дни рта цель не является столь же важной?
Больше, чем когда бы то ни было, молодежь всего мира,
та молодежь, которая еще помнит последнюю войну и слиш-
ком много слышит о будущей, нуждается в том, чтобы ее
учили любить жизнь и верить в нее.
Лучший учитель в ртом деле — искусство. Искусство учит
по-своему: радостью, игрой, эстетическим наслаждением.
И настоящее искусство никогда не отрывает красоту от
правды, эстетику от этики.
Правда, все мы знаем, что искусство нередко низводят
до роли изнеженной, праздной, прихотливой любовницы,
у которой одна забота — быть обольстительной. Но гораздо
больше искусству идет величавая и скромная роль хозяйки
дома, полной материнской заботы о судьбах растущих по-
колений.
Я отнюдь не хочу сказать, что эта хозяйка дома должна
ходить в переднике, не расставаться с пыльной тряпкой и
читать по каждому поводу плоские наставления.
Подлинная мораль искусства слишком сложна для того,
чтобы преподноситься по заказу в готовом виде.
Невозможно уложить в какую-то формулу или часто
даже расшифровать мораль комедий или трагедий Шек-
спира. И все же они не лишены морали. Торжество ума, бес-
корыстия и благородства в комедиях и те катастрофы, ко-
торые так потрясают зрителя в трагедиях, — разве они не
ведут нас к моральному выводу, хоть мораль здесь не пла-
вает на поверхности, а обнимает нас, как вдыхаемый нами
воздух. И то же самое можно сказать о театре совсем дру-
гого времени и характера, — например, о пьесах Ибсена,
Гауптмана, Чехова и Горького.
Недаром же все эти пьесы так широко идут во всех стра-
нах. После 1917 года театры появились там, где так недавно
были непроходимые чащи и голые пустыни. Можно с уве-
ренностью сказать, что Шекспир, Мольер, Лопе де Вега,
Толстой и Чехов нигде не располагают такой огромной и
такой непосредственной аудиторией, как в нашей стране.
Театр стал частью и участником нашей жизни. В каж-
дой из республик Советского Союза растут свои драматурги,
режиссеры, актеры, художники сцены. Жители даже самого
маленького города с гордостью покажут вам свой театр.
А в деревне, в колхозе, вы почти повсюду найдете любитель-'
423
ские театры, в которых идут классические и современные
пьесы.
Среди всех этих театров я хотел бы отметить одну ка-
тегорию, возникшую после революции. Я говорю о театре
для детей, который обладает, быть может, самым ответ-
ственным воспитательным влиянием.
До революции столичные и крупные провинциальные
театры ставили иногда утренние спектакли для детей. Это
делалось по большим праздникам, чаще всего с коммерче-
ской целью. Репертуар этих утренников был случаен и бе-
ден, участниками их были большей частью второстепенные
и третьестепенные актеры, а зрителями — главным образом
дети узкого состоятельного круга, которые, кстати сказать,
охотнее ходили в цирк.
Чуть ли не с самых первых лет революции, еще в годы
гражданской войны и интервенции, суровой бедности и раз-
рухи, молодое Советское государство не жалело сил и средств
на то, чтобы наряду с многочисленными и многонациональ-
ными школами и библиотеками создавать театры для детей.
Это были театры со своими специальными сценами, труп-
пами, режиссерами и драматургами. Они были избавлены
от всяких коммерческих интересов. Зато на них была воз-
ложена ответственная, почетная обязанность: радовать и
воспитывать самых активных и чутких зрителей — детей.
Эту обязанность они приняли с горячим воодушевлением и
самоотверженностью. В этом они были продолжателями
лучших традиций прогрессивного русского театра, который
устами замечательного режиссера Станиславского так опре-
делил свои заДачи и цели в 1898 году, когда еще только
складывался Московский Художественный театр. «Мы, —
сказал Станиславский,— приняли на себя дело, имеющее не
простой, частный, а общественный характер... Мы стремимся
создать первый разумный, нравственный, общедоступный
театр. Этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь» 4.
В наше время общественным, общедоступным стал не
только Московский Художественный театр, основанный Ста-
ниславским и Немировичем-Данченко, а все наши театры.
У театров есть, конечно, свои удачи и^ неудачи, но все они
свободны от двух зол, которые нередко губили и губят са-
мые лучшие художественные начинания, а именно — от мер-
кантильности и от снобизма.
Только при таких условиях и стал возможен тот буйный
рост театров для детей — в том числе и кукольных, какой
424
мы наблюдали у нас в стране. Они пользуются государ-
ственной дотацией и повсеместно признаны одним из важ-
нейших средств воспитания. Сейчас в Советском Союзе су-
ществует 31 театр юного зрителя и 68 кукольных театров —
главным образом для зрителей самого младшего возраста.
И если детские театры, на сцене которых играют живые
профессиональные актеры, возникли в самых разных кон-
цах страны (на Украине, в Армении, в Грузии, в Азербай-
джане, в Узбекистане, Казахстане, Латвии, Эстонии, Тата-
рии, Чувашии и т. д.), то кукольные театры в своей пере-
движной работе проникают туда, где еще никогда не зажи-
гались огни рампы. Они расставляют свои ширмы на необо-
зримых полях, где работают трактора, в бараках сплавщиков
леса, в тайге и в тундре, куда кукловоды и ящики с игру-
шечными актерами и сложенными ширмами пробираются
на собачьих упряжках.
Создание театра для детей, соответствующего своему на-
значению, было делом не простым и не легким. Ведь речь
идет не только о том, чтобы построить театральное здание,
оборудовать сцену и организовать труппу. Надо было на-
учиться говорить с детьми без сюсюканья и без проповедни-
ческой наставительности. На вопрос, как играть для детей,
Станиславский ответил когда-то: «...так же, как для взрос-
лых, только лучше».
И, однако же, драматург, пишущий для детей, и актер,
играющий для них, не должны забывать, что перед ними
Зритель особенный.
Когда бываешь в детском театре, не знаешь порой, куда
смотреть — на сцену или в зрительный зал. Зрительный зал
отражает сцену, как увеличительное зеркало. Горят глаза,
пылают щеки, десятки голосов предупреждают героя о за-
падне, которая ему готовится, буря аплодисментов встречает
подоспевшую к нему подмогу.
Однажды мне пришлось разговаривать с мальчиком, ко-
торый только что видел на экране широко известный фильм
о Чапаеве.
— Тебе понравилось? — спросил я.
— Нет, — хмуро ответил мальчик.
Я удивился:
— Почему же?
— Потому, что Чапаев утонул. Завтра я пойду смотреть
Эту картину в другой кинематограф. Может быть, там он
выплывет!
425
Конечно, это был маленький мальчик. Но и зрители по-
старше, — которые уже не сердятся на театр за то, что ге-
рой гибнет, и вполне способны оценить качество пьесы и
мастерство актера, — даже эти зрители умеют так горячо
и быстро отзываться на всякую мысль, чувство и образ, что
невольно приходит в голову вопрос: не для них ли сочинил
Шиллер «Коварство и любовь», не для них ли написана
история Ромео и Джульетты?
Бесконечно увлекательна задача написать пьесу для зри-
теля с таким пылким и отзывчивым воображением. Недаром
один из опытнейших и старейших советских драматургов
Николай Погодин, никогда прежде не писавший для детей,
с горячностью взялся за детскую пьесу после того, как по-
бывал в детском театре, где шла комедия молодого драма-
турга Виктора Розова «В добрый час».
Что ж, в добрый час! Это доказывает, что наша молодая
драматургия театра для детей уже способна оказывать влия-
ние не только на юных зрителей, но и на своих учителей,
давно забывших, что такое детство.
И если театр для детей хорош тем, что он готовит своих
юных зрителей к большому будущему, то взрослому зри-
телю он не менее полезен, так как напоминает ему об исто-
ках жизни, о детстве.
Мы считаем знаменательным для нашего времени тот
факт, что театр все чаще берет на себя воспитательные за-
дачи, все чаще обращается к детям.
Из многих стран приходят к нам вести о талантливых, бе-
режно подготовленных спектаклях для детей. Мы слышим
об успехе таких спектаклей в Польше, Чехословакии, Венг-
рии, Болгарии, Китае, а в последнее время и в Японии.
Правда, мы еще не располагаем достаточными сведения-
ми обо всех странах, где театр ставит перед собой эту благо-
родную задачу, но уже то, что мы знаем, обещает очень многое.
Не будем забывать, что забота о молодежи, об ее эсте-
тическом и моральном воспитании более всего гарантирует
непрерывность культуры и ее расцвет в будущем.
Один из крупнейших писателей нашего века Максим
Горький сказал:
— Только дети бессмертны.
О ЧТЕЦАХ И ДЕКЛАМАТОРАХ
Стихи часто читают с эстрады. Но для того чтобы верно
читать стихи, надо их прежде всего верно прочесть. А это
далеко не всем удается. У чтеца нет перед глазами нот, как
у певца, — вот ему и кажется, что он совершенно свободен
в выборе темпа, интонации, смыслового ударения. Так лю-
бителю, играющему по слуху, кажется, что он свободен в ин-
терпретации музыки. Но это счастливое заблуждение неве-
жества. Ритм, темп, смена интонации, даже дыхание чте-
ца — все это предопределено в стихах (разумеется, в хоро-
ших стихах) текстом. Актер или чтец не могут придать ни
одной строчке скорбную, тревожную, торжественную или
ироническую интонацию, если они не нашли ее в самом
ритме и стиле стиха, в его звуковом строе. Иначе всякая
актерская экспрессия поневоле окажется фальшивой, делан-
ной, надуманной.
Актерам и чтецам, неспособным прочесть стихи так, как
требует текст, в сущности, следует читать плохие стихи,
оставляющие гораздо больше простора для произвола. Имен-
но такой репертуар предлагали в былые времена бально-
эстрадные сборники, печатавшиеся на глянцевитой бумаге
и посившие пышное название «Чтец-декламатор».
Чтение хороших стихов требует строгой дисциплины и
большой, вдумчивой работы. Чтец должен понять сложные
законы, управляющие стихом. И далеко-далеко не все эти
законы можно найти в книгах по теории поэзии. Несрав-
ненно больше в стихах законов, еще не обнаруженных и не
сформулированных, чаще всего относящихся лишь к дан-
ному стихотворению. Понять их может только человек,
427
умеющий вслушиваться и вдумываться в то, что читает, — в ту
или иную форму строфы, представляющей собой довольно
сложную постройку, в сочетание звуков, в стихотворный
размер и ритм, регулирующий дыхание.
Даже большие актеры, тщательно отделывающие каждую
свою роль, гораздо менее строги к себе, когда выступают
в качестве чтецов. Помню, как один из таких актеров читал
строчки Лермонтова:
Моей любви ты знала ль цену?
Ты знала, — я тебя не знал! 1
Во второй строчке он делал ударение на слово «тебя», при-
давая ртому слову адвокатски обличительную интонацию и
даже трагически указуя перстом на воображаемую особу,
которой посвящены стихи.
Ты знала, — я тебя-я-я не знал!
Но у Лермонтова нет ритмического ударения на слове
«тебя», нет ртого театрально-эффектного обличения, кото-
рое придумал актер. С глубоким огорчением и разочарова-
нием, но очень сдержанно и тихо произносит поэт слова:
Ты знала, — я тебя не знал.
Стихи написаны ямбом, и словом «я» кончается вторая
стопа. Следовательно, и стихотворный размер требует, чтобы
ударение — ритмическое и смысловое — падало на слово «я».
Нарушение ритма ведет не только к искажению смысла.
Оно мешает чтецу, а заодно и слушателю понять, в чем на-
стоящая сила стихов, в чем их поэтическая прелесть. Чтец
«украшает» стихи вместо того, чтобы почувствовать и пере-
дать их подлинную красоту. Любуясь собственным голосом
и эффектно демонстрируя его, чтец очень часто как бы за-
глушает слова порта, мешает слушателю воспринять всю их
серьезность и реальность.
В таких случаях происходит не сложение, а вычитание
сил. Если у автора и чтеца не сходятся интонации, темп,
ритм, исполнитель не дополняет и не обогащает произведе-
ние, а только грабит его, лишает здравого смысла и подлин-
ного чувства.
Шаляпин не был ни драматическим актером, ни чтецом.
Но как чуток был он к слову, как умел он проявлять каждое
слово, а не заглушать его своим великолепным голосом, как
строго выверена и точна была у него каждая интонация.
428
Казалось бы, чтец должен не менее бережно относиться
к слову, должен чутко чувствовать его силу, вес, возраст.
Таким чтецом был покойный Яхонтов. Временами он дости-
гал такой силы, что нам казалось, будто у нас на глазах
рождаются поэмы Пушкина и стихи Маяковского. Строго и
чутко относился к стиху Антон Шварц. Есть и в наше время
хорошие чтецы. Игорь Ильинский не только превосходно
чувствует подлинную интонацию поэтической речи, но и
умеет жить в ритме, сохраняя в то же время прелесть сво-
бодной импровизации.
Но все это — только исключения из общего правила.
В большинстве же случаев мы слышим со сцены и с эстрады
искаженное или слабое подобие стихов. И хорошо еще, если
исполнитель не перевирает и не путает текста. Уже за одно
Это можно простить ему многие прегрешения.
От актера и чтеца часто зависит судьба стихов. Правда,
люди не только слушают стихи, но и читают их сами. Од-
нако при этом большинство читателей теряет очень много.
Поэтическое слово требует полного и внятного звучания.
Чтение вслух нельзя заменять чтением про себя. Нам нужны
хорошие поэтические концерты, которые оживили бы умолк-
нувшие голоса Шекспира, Пушкина, Баратынского, Лермон-
това, Гете, Гейне, Бернса, Беранже, Шевченко, Фета, Тют-
чева, Блока, Маяковского — и заставили бы чаще и громче
звучать голоса современных поэтов. Какое огромное поэти-
ческое богатство таим мы под спудом, богатство, которое
так жизненно необходимо идущим нам на смену поколениям.
Об устройстве серьезных и надолго запоминающихся кон-
цертов поэзии должна позаботиться не одна только Гос-
эстрада. Эту почетную задачу должны взять на себя наши
большие академические театры, которым такое дело и по
плечу, и по пути.
(ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ШЕКСПИРОВСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ В СТРАТФОРДЕ»
Н А-ЭЙВОНЕ)
В этот прекрасный старинный город — столь дорогой для
сердец всех почитателей Шекспира — я приехал не как шек-
спировед, а как порт, один из тех, кто посильно потрудился,
чтобы Шекспира узнали и полюбили во всех уголках об-
ширной России.
Я нахожусь здесь благодаря человеку, чьи имя и слава
собрали нас вместе, — благодаря Шекспиру, которого тоже
связывала с его произведениями не теория, а практика, ибо
при всем своем величии он не был профессором литературы,
а был портом.
И я прибыл сюда для того, чтобы передать вам самый
горячий привет и лучшие пожелания от моих соотечествен-
ников-литературоведов, актеров, режиссеров и всех цените-
лей Шекспира.
Я счастлив и горд тем, что могу сообщить вам о непре-
рывном и быстром росте популярности Шекспира в моей
стране от поколения к поколению.
На сценах наших театров, даже в самых отдаленных
маленьких городках, Шекспир — не редкий гость, а постоян-
ный жилец. И о талантливости наших актеров судят по тому,
насколько успешно они справляются с шекспировскими
ролями.
430
Но если до революции тех, кто знал и ценил Шекспира,
насчитывались тысячи, то теперь их уже — миллионы.
Даже в самые трудные времена гражданской войны
любой московский театр, ставивший шекспировский спек-
такль, наполнялся до отказа. Недавно мне довелось
увидеть старую афишу, извещавшую о шести пьесах
Шекспира, представленных в один и тот же вечер 1920 го-
да, — а поверьте мне, 1920 год не был для нас легким
годом.
За сорок лет существования Советского Союза общее
количество изданных у нас на различных языках томов
с произведениями Шекспира только на одну или две тысячи
не дошло до трех миллионов.
С сонетами познакомились старики и молодежь городов
и деревень всех наших республик.
Первой и простейшей причиной роста у нас популяр-
ности Шекспира является всеобщее образование, открывшее
широкий доступ к литературе народным массам по всей
стране, включая многие нации, которые сорок лет тому
назад не имели даже своего собственного алфавита.
Другая причина заключена в самом Шекспире. Его мо-
гут понять самые простые, не умудренные культурой люди,
и в то же время он обогащает и тех, кто способен видеть
дальше и глубже.
Когда я переводил его сонеты, такие прекрасные п муд-
рые, я не раз задавал себе вопрос: Почему эти стихи (так
же как и многие отрывки из пьес) действуют на меня силь-
нее, чем самые мудрые и глубокие строчки всех других пор-
тов давних времен — портов, также, как и Шекспир, гово-
ривших о жизни, смерти, любви, вечности? Шекспир, по-
добно им, видел светлые и темные стороны жизни, постоян-
ство и непостоянство человеческих характеров. Но его
конечный вывод всегда оптимистичен — в подлинном смысле
ртого слова. Ромео и Джульетта могут погибнуть, и все же
они торжествуют над холодной старостью с ее холодными
старыми предрассудками.
Оптимизм Шекспира — оптимизм, сознающий все опас-
ности и ужасы жизни и все же имеющий смелость смотреть
па них с широко открытыми глазами — высшее проявление
человеческой сущности. Без него люди не смогли бы жить,
не смогли бы любить, не смогли бы бороться за лучшую
жизнь на земле..
431
То, что сближает людей, лежит не на поверхности душ,
которая у всех человеческих существ разная. Поверхностное
скорее разделяет, нежели объединяет людей. Сближают нас
наши более сокровенные мысли и чувства. Тончайший,
показанный Шекспиром пример этого — борьба между глу-
бокой любовью, объединившей Ромео и Джульетту, и мел-
кими предрассудками Монтекки и Капулетти, которые сили-
лись их разъединить.
Свойство, лежащее глубоко в нашем сердце, — любовь
к красоте и правде в искусстве и литературе (а оно при-
суще нам всем), — одна из величайших, связывающих нас
сил. И доказательством этому служит место, занимаемое
Шекспиром в мире и в сердце человека.
(ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ВЕЧЕРА
ПАМЯТИ ХЛЕБНИКОВА}
Дорогие товарищи,
Я очень жалею, что по нездоровью не могу быть сего-
дня у вас на вечере, посвященном памяти порта Велимира
Хлебникова L
О нем редко вспоминали критики и литературоведы за
последние три десятка лет.
Почему же его так усердно замалчивали? Не был ли
он нам политически чужд и враждебен?
Нет, мы знаем, что Хлебников предчувствовал и пред-
сказывал революцию задолго до ее наступления2 и был
одним из первых портов, приветствовавших ее приход.
В годы революции были написаны его лучшие стихи и
нормы 3.
С глубоким уважением и благодарностью говорил о нем
Владимир Маяковский 4.
Но, может быть, ему ставят в вину чрезмерную сложность,
необычность и непонятность его стихов?
Но ведь очень многие обвиняли (да и до сих пор обви-
няют) в тех же грехах, то есть в сложности, непонятности,
необычности, и Владимира Маяковского.
Да, Хлебников сложен и часто непонятен. Есть у него
стихи, для которых нужен ключ — знание того, когда и при
каких обстоятельствах стихи были написаны.
Но большая часть его стихов становится вполне понятна,
если в них пристально вглядишься, вслушаешься, вдумаешься.
433
А есть у него и совсем простые и ясные стихи, как на-
пример:
Мне мало надо —
Краюшка хлеба
II капля молока,
Да это небо,
Да эти облака5.
Или, скажем, стихи о Кавказе или о букве «Л».
А сложной его форма бывает часто оттого, что сложно
содержание.
Вы знаете, конечно, что я люблю в стихах предельную
ясность.
Но это ничуть не мешает мне ценить Хлебникова, поэта
большой силы, глубоко чувствующего слово, владеющего
необыкновенной меткостью и точностью изображения (вспо-
мните его «Сад»).
Конечно, к Хлебникову, как и ко всем поэтам, надо
подходить критически. На некоторых его стихах лежит
печать временных и случайных влияний, характерных для
тех лет, когда они были написаны.
Иной раз усложненность формы была у него протестом
против трафаретных, гладких, прилизанных и бедных
мыслью стихов, про которые можно было сказать то же, что
говорил художник Татлин6 по поводу многих столь же
трафаретных и поверхностных рисунков:
— Одна только пленка, а существа никакого нет!
Надо уметь отличать Хлебникова, поэта глубокого и серь-
езного, от тех его современников, которые превращали
высоко организованную человеческую речь в набор нечле-
нораздельных звуков или в язык дикаря. Хлебников не из
их числа. У него — своя система мысли и слова, сложная и
своеобразная.
Я много слышал о юных годах Хлебникова от его про-
фессоров и товарищей по Казанскому университету. Они
рассказывали, что еще в студенческом возрасте Хлебников
был полон достоинства и вызывал к себе всеобщее уважение.
Профессора находили у него замечательные математические
способности.
А по рассказам близко знавших его людей можно заклю-
чить, что это был человек редкой душевной чистоты, о-
рыстия, серьезности.
Да все это видно и по его стихам.
Москва,
19—IV—1961 г.
О МАРИИ ПАВЛОВНЕ ЧЕХОВОЙ
В Ялте жили цари, богатые купцы, фабриканты, гене-
ралы, опереточные дивы, эмир бухарский... Бывали здесь,
отдыхали и лечились и замечательные писатели, художники,
артисты — сам Лев Толстой, Горький, Бунин, Куприн, Най-
денов, Шаляпин, Станиславский, Коровин, — всех и не пере-
числишь. Под ялтинским солнцем коротали свои последние
дни чудесный молодой художник Федор Васильев и порт
безвременья, кумир тогдашней молодежи, бедный Надсон.
И все же, говоря о Ялте, прежде всего вспоминаешь
одно имя — Антона Павловича Чехова. С этим именем Ялта
связана навеки. Мелькают годы, десятилетия, а до сих пор
кажется, что в белом чеховском доме на краю города по-
прежнему живет его хозяин. На входной двери дома —
скромная медная дощечка: «А. П. Чехов». В каждой из не-
больших комнат, на верандах и дорожках сада — невидимые
следы его ног. Здесь он думает, пишет, читает, грустит,
смеется, покашливает, сажает в саду деревья.
И еще один человек живет и будет всегда жить в этом
доме — сестра Чехова и его лучший друг, Мария Павловна.
Она появилась здесь впервые еще до постройки дома, наблю-
дала за его постройкой, а потом подолгу жила в комнатке
наверху и при жизни своего брата, и многие годы после его
кончины.
И пока она по-хозяйски ходила по этим комнатам или
сидела в своей светелке, дом оставался жилым, по-настоя-
щему чеховским, хоть и был уже учреждением — музеем.
Таким он встретил великую революцию, таким пережил и
Великую Отечественную войну, и многие годы после нее.
435
И дело было не только в том, что тут живет сестра
Чехова, беззаветно посвятившая ему всю свою жизнь. Нет,
Мария Павловна была хранительницей его памяти, частицей
его живой души. Да и очень похожа она была на своего
брата. Похожа не только внешне, но и многими чертами
характера — скромностью, чуждой какой бы то ни было
фальши и ложного пафоса, редкой наблюдательностью и
юмором.
Помню один из разговоров с ней. Мы долго ходили по
дому, и я, старый курильщик, не мог удержаться от вопроса:
— Мария Павловна, где тут у Вас разрешается курить?
— Да курите, курите! — сказала она.
— А разве можно?
— В доме у Чехова все можно — и курить, и танцевать,
и даже на голове ходить!
Этот шутливый ответ сразу дал мне почувствовать
характер чеховского дома — не музея, а именно дома.
Еще больше я это почувствовал, когда Мария Павловна
у себя в верхней комнатке, напоминавшей капитанский
мостик корабля, рассказывала мне — не подряд, не обстоя-
тельно, как любят рассказывать старые люди, а урывками,
отдельными чертами и эпизодами — о жизни брата.
Бывало, он пишет внизу, в кабинете или примостясь
у подоконника в своей спаленке, а в верхней комнате у
Марии Павловны соберутся подруги, разговаривают, смеют-
ся. Услышав краем уха отголоски смеха, брат прервет на
минутку работу и, неслышно ступая по крутой лестнице,
придет послушать, о чем болтает молодежь.
Вспоминала она и таганрогские годы, времена юности
и ранней молодости Антона Павловича. Еще гимназистом он
очень любил ходить в театр, на что требовалось особое
разрешение инспектора. Но он ходил и без разрешения, сме-
нив гимназическую форму на штатское платье. Любила
театр и мать Чехова. И когда в конце действия опускался
занавес и зрители, аплодируя, шумно вызывали популярных
актеров, она слышала в хоре голосов и юношеский голос
своего сына сверху, с галерки. Но называл он из озорства
не актерские фамилии, а фамилии известных всему городу
тузов, солидных местных фабрикантов и банкиров. Тут
только мать, обернувшись назад, замечала на галерке его
худощавую и рослую фигуру.
Никто не мог лучше, живее, чем Мария Павловна, пере-
дать .черты прихотливого и всегда неожиданного юмора,
436
свойственного Антону Павловичу во все периоды его жизни,
но особенно бурного в юности.
И самой Марии Павловне никогда не изменяло чувство
юмора. Не изменяла ей и необыкновенная общительность.
До самых последних лет она любила принимать гостей
и устраивать у себя в чеховской гостиной за широко раздви-
нутым столом ужины, длившиеся до поздней ночи. Она
сидела во главе стола, прямая и стройная, живо откликаясь
на все, о чем шла речь. Трудно бывало поверить, что ей уже
девяносто и даже за девяносто лет.
Кстати, она терпеть не могла упоминания о ее воз-
расте и во время игры в лото шутливо, а может быть, и
всерьез сердилась, когда выпадало ненавистное ей число 90.
Мария Павловна была неутомимой и зоркой хозяйкой.
Несколько раз в день поднималась она и спускалась по
лестнице, ведущей в ее комнату. Помню, как после долгого
ужина, бережно, как ребенка, брал ее, легкую, почти неве-
сомую, на руки Иван Семенович Козловский и, несмотря на
ее протесты, уносил наверх.
Я знал немало стариков, хорошо помнивших далекое
прошлое. А Мария Павловна отлично помнила не только
давно прошедшие, но и недавние годы.
За несколько лет до ее смерти я как-то побывал у нее
со своим другом, драматургом и критиком, ныне покойной
Тамарой Григорьевной Габбе, блестящей собеседницей,
живым и остроумным человеком. Посидели мы у Марии
Павловны всего только полчаса. Она не запомнила имени
моей спутницы, но в продолжении двух-трех лет каждый раз
при нашей встрече спрашивала:
— А где сейчас рта белокурая и такая острая?..
До последних своих дней Мария Павловна любила
жизнь, любила радость и шутку. К одному из моих приез-
дов, чтобы порадовать меня, она даже выучила наизусть
одно из моих шутливых стихотворений. В ее возрасте рто
было настоящим подвигом.
После смерти Марии Павловны дом Чехова в Ялте вто-
рой раз осиротел. Но до тех пор, пока он стоит, в нем
будет жить вместе с Чеховым его самоотверженная, чистая
душой, умная и наделенная долей чеховского таланта сестра.
Ялта,
12 октября 1963 г.
<О ШЕКСПИРЕ)
{Выступление по английскому радио}
Книги, как и люди, не переходят из класса в класс без
Экзамена. Даже самым знаменитым книгам приходится
держать экзамен у каждого нового поколения в каждой
стране. И бывает, что книга, мирно и спокойно стоящая на
полке, как-то незаметно теряет свою жизненность и остроту.
С ней происходит какой-то невидимый химический процесс.
Проступает ее скелет-схема, которая была замаскирова-
на недолговечными покровами. Но, к счастью, есть книги, не
поддающиеся разоблачающему воздействию времени.
Столетия, прошедшие со дня смерти Шекспира, — доста-
точный срок для самой строгой и многократной проверки.
И какие столетия это были, как много великих событий
уместилось в них. В таком бурном океане времени мог бы
потерпеть крушение и пойти ко дну самый устойчивый и
хорошо оснащенный корабль. Этого не случилось с Шекспи-
ром. Его чествует весь мир, так сильно изменившийся
после него. В праздновании его 400-й годовщины наряду
с народами старой культуры принимают участие племена,
которые в его эпоху были «dull and speechless tribes» *
и которые наконец заговорили.
Даты юбилеев не назначаются по произволу. Они предо-
пределены. Но для юбилея Шекспира нельзя было бы вы-
брать более подходящего времени, чем наши дни — время
великих подвигов и великих преступлений, время решитель-
ной борьбы за гуманизм.
* Непросветленные и бессловесные племена (англ.), Шекспир,
сонет 107-й.
438
Если многим людям прошлого и начала нынешнего века
казались преувеличенными и неправдоподобными характеры
шекспировских трагедий и хроник — Калибан \ Макбет, леди
Макбет, Ричард Третий, Клавдий2, Яго и другие, — то
последние десятилетия полностью оправдали самую мрачную
фантазию великого драматурга. И тем дороже стали челове-
честву образы Гамлета, Ромео, Джульетты, Корделии3 —
всех тех, кто противостоит людям низменных страстей и
темных предубеждений.
Перечитывая Шекспира, с грустью думаешь: как это
могло случиться, что до сознания человечества до сих пор
не дошли такие простые, четкие, вещественно осязаемые
слова о равенстве людей всех рас и национальностей, вло-
женные Шекспиром в уста Шейлока:4 «...я жид. Да разве
у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов
тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же са-
мая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его,
разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же ле-
карства исцеляют его, разве не согревают и не студят его
те же лето и зима, как и христианина? Если нас уколоть —
разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать — разве мы
не смеемся? Если нас отравить — разве мы не умираем?»*
Разумеется, эти слова не могут дойти до слуха фашистов
или южноафриканских расистов, но они остаются на зна-
мени всего передового человечества и ждут своей полной
победы.
И чем больше становится у Шекспира читателей (а число
их растет с каждым годом), тем больше основания наде-
яться, что он дойдет наконец до сердец всех людей на зем-
ном шаре, что он не будет только развлекать зрителей
в театре и служить материалом исследований и лекций, а
будет воздействовать на жизнь всей силой своего светлого
и могучего таланта.
Я рад, что в нашей стране Шекспир становится достоя-
нием миллионов зрителей и читателей даже в тех отдален-
ных краях, где население до революции не умело читать.
В наших среднеазиатских республиках его читают и смот-
рят в театрах не меньше, чем в Москве, Ленинграде, Киеве.
Молодой актер Смоктуновский, которого в Англии и дру-
гих странах знают по фильму Козинцева «Гамлет», сумел
* Монолог Шейлока в автографе — по-английски. Здесь — в пе-
реводе Т. Щепкиной-Куперник. (Прим,, ред.)
439
дать в своем Гамлете образ современного молодого человека,
не модернизуя этот образ и оставаясь верным стилю под-
линника.
Смоктуновский имел на это право. Шекспировские
образы потому и живы, что люди каждого поколения^ нахо-
дят в них себя.
И не только Шекспир-драматург нашел у нас — можно
смело сказать — вторую родину, но и Шекспир-поэт, автор
поэм и сонетов.
Переводы сонетов, неоднократно издававшиеся у нас,
вышли отдельными изданиями, а также в собраниях произ-
ведений Шекспира с 1946 года по 1964 общим тиражом
девятьсот шестьдесят тысяч экземпляров. Книгу сонетов
можно увидеть в руках у рабочего или шофера такси. Такая
судьба редко выпадала на долю книги стихов.
Наши виднейшие композиторы — Прокофьев, Шостако-
вич— создали на темы Шекспира замечательную музыку.
Достаточно вспомнить балет Прокофьева — «Ромео и Джуль-
етта» и музыку Шостаковича к фильму «Гамлет».
Во всех краях Советского Союза так же благоговейно
и благодарно чествуют английского драматурга и поэта, как
и у него на родине.
На большой карте мира ярко сверкает в эти Дни едва
Заметная на ней точка — Стратфорд-на-Эйвоне.
ПРОЗА РАЗНЫХ ЛЕТ
ЗИМОВЬЕ НА ЮГЕ
Рассказ
Канун Нового года в южном курортном городе. Вчера
еще в воздухе пахло весной, а сегодня обычный зимний
день. В городском саду скорбно опустели длинные скамейки.
На ветвях — иней. С набережных сюда долетают холодные
брызги разбушевавшихся волн.
Больные редко выходят к своим креслам на балконах.
На юге холод кажется истинным проклятьем божьим, и в
Этом духе обмениваются впечатлениями люди, встречаю-
щиеся на улицах.
Но и в южном зимующем городе чувствуется близость
Нового года. Магазины бойко торгуют, а в семейных домах,
где есть дети, можно видеть обычное предпраздничное ожив-
ление.
В нашем доме семейных квартир нет. В верхнем этаже
одиноко грустит барышня-хохлушка, очень больная, но из
больных самая привлекательная и кроткая. С ней рядом
комнату снимает туберкулезный молодой человек, широко-
костый, большой, но с бледным, потерянным лицом. Эти
два жильца сейчас, как и всегда, тихо сидят в своих ком-
натах. Изредка в тишине раздается то кашель барышни,
сопровождаемый легким отзвуком ее нежного, грудного
голоса, то сердитый и нетерпеливый кашель молодого
немца.
Нижний этаж грустит по-своему. Здесь чаще всего по-
падаются люди здоровые, но чувствующие себя одержимыми
443
всеми недугами мира. С ними находятся их близкие, уверо-
вавшие в эти призрачные болезни: тут и заботливые жены,
и вечно испуганные родители, и нежные сестры.
Мой сосед — бывший земский начальник, когда-то ку-
тила и весельчак, а теперь не то добровольный инвалид, не
то ребенок.
Сейчас он отправляется в водолечебницу и, недовольный
холодом зимнего дождя, делает плачущую гримасу. На-
конец вспоминает, что болезнь дает ему право взять извоз-
чика, хотя бы и для пути в несколько шагов.
— Послушайте, — говорит он мне расслабленным голо-
сом. — Если вам у нас не скучно, — пауза и вздох, — то при-
ходите к нам встречать Новый год. Мы получили этакого
великолепного гуся с яблоками.
Минутное увлечение, а затем тяжкая реакция и вздох.
Я жду его в лечебнице, и мы вместе отправляемся
домой.
В комнате у него тепло, но эта теплота какая-то боль-
ничная, как от фуфайки.
— Эмма, — говорит он жене, — доктор сказал, что я вы-
гляжу сегодня гораздо лучше. Но сам я чувствую, что
сегодня непременно повторится сердечный припадок!
Красивая Эмилия Васильевна озабоченно смотрит на
него, а затем спокойно и не спеша готовит ему холодный
компресс на сердце.
С компрессом на груди Евгений Аркадьич начинает
хлопотать около елки и убирает ее, очень искусно работая
тонкими пальцами. А спокойная Эмилия Васильевна идет
Заниматься своим деревенским гусем.
Приближаются сумерки, и к обеду приходят гости —
барышня-хохлушка и молодой немец.
За обедом едят много. Жареный гусь из имения долгое
время высится на блюде, несмотря на огромные розданные
порции.
Из другой комнаты светится елка, увешанная самыми
причудливыми безделушками. К обеду подается коньяк, но
настоящего праздничного веселья не создается.
Евгений Аркадьевич рассказывает анекдоты из своей
деревенской деятельности: как он судил крестьян, как он
расправлялся с мордвой, «с которой иначе нельзя».
Девушка-хохлушка несочувственно смотрит на него, но
молодой немец все время добродушно улыбается^
444
Расходятся. Молодой немец идет домой и пишет родным
поздравления на красных, раскрашенных открытках. Его
комната поражает своей белизной и чистотой, — совсем
больничная палата. Изредка он прислушивается к кашлю
молодой девушки, и лицо его становится каким-то бессмы-
сленно-неясным. Потом опять принимается за писание и лу-
каво улыбается.
Вдруг шаги и стук в дверь: Эмилия Васильевна, Евгений
Аркадьич, ряженые. Плотные формы Эмилии Васильевны
всячески протестуют против тесного военного костюма, кото-
рый она напялила на себя.
— Эх, на тройке бы! — истерически восклицает муж.
Жена пользуется моментом и говорит:
— Милый, поедем в деревню. Там и покатаемся
всласть!..
На зов приходит молодая барышня-хохлушка. (Ее уси-
ленно звал Евгений Аркадьич.)
Он предлагает ей танцевать. Она отказывается, смеется
и кутается в шаль.
— Я так давно не думала о танцах!..
— Скажите, — обращается к немцу Евгений Аркадь-
ич. — Ведь у вас сегодня будни? Ваш Новый год был трина-
дцать дней тому назад по новому стилю.
Немец, который твердо решился не выходить сегодня
из праздничного настроения, отвечает ликующим то-
ном:
— О, нет! Я ведь не из Германии, а из Прибалтийского
края. У нас старый стиль!
— Разве вы не из Швабии?
«Швабия» почему-то приводит немца в состояние не-
сколько раздраженное.
— Я родился в России.
Больные любят ссориться. Кроме того, им, как и всем
людям, хочется иногда поиздеваться над слабейшим.
— Может быть, и в России. Но почему у вас чухонское
произношение и несколько монгольский тип?
— В вашем языке и в вас самих, — выпаливает не-
мец,— много монгольского! Ведь вы — татары. Да, да, та-
тары.
— Пусть так! — говорит Евгений Аркадьич.— А скажите,
давно ли вы закрыли свою булочную в Риге?
— Вы русский грубиян! — орет немец.
— Ну, ну, Эйтель-Трйтель. Не ругайся! А не то я..%
445
Они уже стоят друг против друга в самых угрожающих
позах.
Сжатые кулаки немца, желтые и костлявые, напоминают
два детских черепа.
Он тяжело дышит. Его успокаивает молодая барышня.
Между тем и Евгений Аркадьич схватился за сердце. Улы-
бавшаяся за минуту пред тем Эмилия Васильевна уводит
мужа вниз.
Они возвращаются к себе в комнату.
Поговорив с взволнованной барышней, я спускаюсь к
ним и сижу в кресле.
Зажигают елку, раздают подарки, угощают конспектами.
Но в ртом доме нет детей, а без детей на елке, как бы это
выразиться помягче, скучно...
АВИАЦИЯ
Перед одним из полетов к авиатору подошли три
дамы: пожилая брюнетка, молодая шатенка и юная блон-
динка.
Пожилая брюнетка сказала:
— Ах, не летайте сегодня. Сегодня вы непременно разо-
бьетесь. Такое уж у меня предчувствие...
Авиатор сухо ответил:
— Благодарю вас за ваше предупреждение или... поже-
лание. Но летать буду.
Авиаторы ужасно упрямый народ — и дам не слушаются.
Другая дама — молодая шатенка вручила авиатору де-
сяток апельсинов и сказала:
— Когда вы будете на высоте трех километров над
Землей, очистите один апельсин и бросьте мне половинку.
Нам обоим будет сладко: вам где-то под облаками, мне — на
Земле. Как будто между нами не было никакого рас-
стояния!
Авиатор ответил:
— Апельсин — это можно...
Точно так же, как ответил бы:
— Пиренеи — это можно.
Странный народ — господа авиаторы.
Третья дама, юная блондинка, как третья из сестер
в сказке, высказала самое скромное желание:
— Покатайте меня, господин авиатор.
Две предыдущие дамы даже не дали авиатору отве-
тить ей,
447
— Душечка, — сказали они юной девице, — в вашем
возрасте мы не летали. Благовоспитанные барышни вообще
не летают. И, наконец, это чудовищно опасно. Каждый день
мы узнаем о новых, вольных и невольных жертвах авиации.
Люди, которые могут быть полезны обществу, семье, близ-
ким, не имеют никакого права летать. Летать — это ужасный
Эгоизм.
Но категорические афоризмы дам только раззадорили
молодую девицу, и она промолвила решительно:
— Я буду летать!
И добавила вкрадчиво:
— Если только monsieur согласится взять меня с со-
бой.
Обе дамы с негодованием умолкли. Наступила пауза.
Наконец авиатор пробормотал, улыбаясь:
— Пожалуйста, барышня. Садитесь.
Дамы злорадно поглядели на юную девицу. Она стояла
у самого аппарата и с ужасом рассматривала эту штуку,
которая вблизи не похожа ни на стрекозу, ни на птицу.
Нисколько не изящна, и вовсе, как это говорится, «неустой-
чива»... Наоборот, далее на земле машина чуть-чуть пошаты-
валась.
Юная девица вспомнила, как это ужасно падать
с высоты даже во сне. Захватывает дыханье, нельзя крик-
нуть, и сердце вырывается из грудной клетки. С одной сто-
роны, пережить этот ужас во сне даже приятно: просы-
паешься на мягкой постели, у себя дома, как ни в чем
не бывало... Но с другой стороны, о таком подвиге в сно-
видениях в газетах не напишут и подруги изумляться не
будут. Другое дело — наяву...
К тому же известно, что умереть в юности замечательно
приятно!
Она стояла у крылатого эшафота и мысленно молила
воздушного палача о пощаде.
Но авиаторы — народ тугой на соображение, и нечуткий
авиатор продолжал улыбаться и бормотать:
— Пожалуйста, барышня. Садитесь.
Милая блондинка наконец нашла исход из столь за-
труднительного положения и, кокетливо улыбнувшись, ска-
зала авиатору:
— Хорошо. Я поеду с вами. Только ведь страшно!.%
Нельзя ли под хлороформом?
448
Дамы в ту же минуту изменили свое отношение к ми-
лой барышне. Они добродушно засмеялись и потрепали ее
по щеке:
— Как она наивна! Как мила в своей наивности!..
Но просвещенное внимание дам привлекла между тем
особа, одетая довольно скромно и стоявшая в группе людей
шоферского вида.
— Жена авиатора! — шепнул кто-то нашим дамам.
— Жена авиатора! Ах, как это интересно!
Обеим дамам вспомнилось что-то другое в том же роде.
Кажется, кинематографическая мелодрама под названием
«Жена моряка» или «Жена контрабандиста». Обе дамы
захотели быть немедленно представленными «жене авиа-
тора».
— Душечка! —обратились опи к скромной даме, — ведь
Это ужасно быть женой авиатора? Конечно, отчасти и инте-
ресно; популярность, сочувствие общества... Взор, устрем-
ленный в высоту, вслед парящему супругу! Супруг, возвра-
щающийся к вам из чистых небесных сфер, как орел к
своей орлице, как голубь к своей горлице!.. Это не только
интересно, — это бесконечно увлекательно и заманчиво! Но
с другой стороны, подумайте: вы не сегодня-завтра — вдова.
Вы не знаете, какой из поцелуев вашего мужа окажется
прощальным. Лаская своего мальчика или свою девочку, вы
не знаете: ласкаете ли вы сына (или дочь) своего мужа или
бедную сироту?.. Нет, вы подумайте: сколько шансов име-
ется за гибель! Разбился Мацпевич, погибли Матыевич-Ма-
цеевич, Смит; во Франции — Шавез, Монис, Берто. Поло-
жим, последние двое были только невольными жертвами
авиации. Тем большая опасность грозит самому авиатору!..
Давно ли вы замужем? Есть ли у вас дети? Вот что, ми-
лочка: у меня сегодня мрачное предчувствие... Я уж гово-
рила вашему мужу, но мужчины, а в особенности авиаторы,
так мало уделяют нашим словам внимания. Но вы должны
пойти к нему и запретить ему летать.
Жена авиатора только промолвила:
— Что я могу поделать! Он сам знает. Полеты — это
его жизнь, его душа.
— Но у меня предчувствие! — зловеще прошипела
дама.
— Благодарю вас, но я давно уже перестала верить в
предчувствия. Все это — дело случая,
15 С. Маршак^ т. 6 449
— Я предупреждаю вас, пока не поздно.
— Merci *.
— Какая бесчувственность! Какая жестокость! — про-
бормотала дама, отходя от «жены авиатора».
Невдали произошел переполох. Авиатор быстро спускал-
ся — казалось, падал — и притом над самыми трибунами.
Но паника длилась недолго: аппарат опять пошел в высоту.,
— Сегодня бог нас спас, — говорил в толпе кто-то, поч-
тенный, но перепуганный до крайности. — В другой раз я
ни за что не пойду на полеты. В конце концов не стоит..,
Надоело. Летают как летают. А от опасности не убе-
режешься. Уж если во Франции министров кромса1ь
стали, то нам, простым смертным, и совсем беды но
миновать.
— Да, но толпу удержать трудно: падка па зрелища.
Надо только оградить ее безопасность какими-нибудь зако-
нами. Позволить, что ли, авиаторам летать только над мо-
рем, да над Пиренейскими и Апеннинскими ущельями.
Пусть лучше один человек погибнет — и притом по своей
собственной воле, чем десятки и сотни ни в чем не повин-
ных зрителей.
— Ах, опускается! Опять опускается!.. Запретил бы я
Этим авиаторам совершенно опускаться на землю. Захотел
небесных пространств — вот и летай — и не надо тебе на
землю.
... У одного из ангаров с авиатором разговаривал поэт
лирической школы. Как это отметил некий критик, у рус-
ских поэтов авиация большим успехом не пользуется. Самое
незначительное из «душевных движений» интересует их
больше, чем сотни верст движения в воздухе. И они, по-
своему, правы.
— Видите ли, — говорил поэт, — зачем вся эта томи-
тельная процедура полета, когда мы в своем воображении
могли бы проделать то же самое — только в размерах куда
более грандиозных. Сегодня я мечтой в Мексике, завтра над
океаном...
Как ни был авиатор туг на соображение и неразвит, он,
не смущаясь, ответил поэту:
— Странно... У вас такой вкрадчивый голос и так много
женственности. Знаете, мне начинает казаться, что со
мной и на этот раз беседует дама..ь
* Спасибо ( франц.)
450
Сказав это, авиатор отвернулся от толпы назойливых
собеседников и вгляделся в далекую точку горизонта. Он
напряженно о чем-то думал. Думал, может быть, о товари-
щах своих, перемахнувших через высокие горы, перелетев-
ших из Парижа в Мадрид, в Рим. Над Пиренеями на них
напали орлы, вступившие в безнадежное сражение с новыми
птицами, как смелые горные племена с полчищами могуще-
ственной державы.
Но авиатор размышлял об этих делах вовсе не так
образно, как мы сейчас. Он только соображал с приблизи-
тельной точностью, мог ли бы он сам, со своей машиной и
при известных качествах своего мотора, совершить такой
же перелет...
15*
ПОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ мостом
На Лондонского дневника
Излюбленный мной «Дворец Картин» — «Picture Palace»
(так называются в Лондоне кинематографы) находится в
самой мрачной части Ист-Энда. ЗРительный зал его поме-
щался под мостом городской железной дороги.
Непривычные зрители цепенеют от ужаса, когда над
их головами с удвоенным грохотом пролетают поезда. Поме-
щение напоминает сумрачные и колоссальные конюшни.
Грязь там невероятная! В подражание Данте над дверями
«Дворца» можно было бы начертать следующую надпись:
«Оставь брезгливость всяк сюда идущий» !. Но вместо этой
надписи над входом жирнейшей краской намалевано сле-
дующее: «Входная плата — 1 пенни».
Воскресный день. Сумерки наступают рано. В четыре
часа или даже раньше день начинает умирать. Фабричные
девушки группами и парами выходят «на гулянье» — на
тротуары сырой и грязной улицы Ист-Энда. Раздается от-
рывистый говор и истеричный смех. Зажгли газ.
У входа в кинематограф, где красуется надпись «1 d.»
(1 пенни), — невероятная давка. В толпе преобладают де-
ти, главным образом, мальчики. У всех у них отложные
белые воротнички, — правда, подчас весьма черные, — а
на головах серые кепки. Руки засунуты в карманы штанов.
Губы сложены для свиста. В ожидании очереди они весело
насвистывают популярные в Ист-Энде мелодии и вообще
ведут себя вполне непринужденно и независимо.
Есть среди них и совсем малыши. Эти ждут открытия
дверей, засунув указательный палец в рот и задумчиво
452
глядя куда-то в сторону. Нетерпение обнаруживают только
грудные младенцы, которых матери принесли сюда за пол-
ной невозможностью оставить их дома. Младенцы жалобно
пищат, и иные кричат до хрипоты.
Заветная дверь открылась. Три четверти огромного зала
заполнила детвора. Задребезжал рояль; на верхушке экрана
замелькали ступни чьих-то ног; потом ноги исчезли, и, на-
конец, вся дрожащая и волнующаяся, как студень, картина
заняла свое настоящее место — во всю длину и ширину
Экрана.
Действие картины происходит в джунглях... О, дети зна-
ют и любят джунгли и ждут от этой картины много инте-
ресного.
Среди невысоких зарослей стоит избушка. В ней живут
старик и старуха с молодой дочерью, а также их работник.
Работник и дочь влюблены друг в друга. Но приезжает ка-
кой-то богатый всадник в пробковом шлеме и просит руки
молодой девушки. Узнав от девушки о ее любви к другому,
благородный всадник ставит ногу в стремя, заносит над сед-
лом другую ногу — и через мгновение скрывается в дале-
ких зарослях.
Вослед исчезнувшему всаднику раздается гром бурных
аплодисментов со скамей детворы. Мне кажется, это —
единственный кинематограф в Лондоне, где в обычай вве-
дены аплодисменты.
Молодые люди, что на экране, поженились. Живут своим
домком, правда, не совсем тихо и уютно: среди тигров,
львов, диких кабанов и прочих милых соседей.
Как в мелкой речке в ясный день мелькает рыбешка,
так в глубине зарослей то и дело шныряют тени свирепых
животных. Дети встречают и провожают их дружным лико-
ванием.
Итак, «молодые» живут припеваючи. Но вот к ним при-
езжает тот же самый всадник в пробковом шлеме и по пра-
ву старого друга целует молодую женщину. Ревнивый муж
ее хватает ружье и убегает в джунгли. На детских скамьях
кинематографа — неописуемое волнение... Ведь подумать
только, из-за чего хорошие люди могут иногда поссориться!
В результате молодая жена уезжает к родителям. В хи-
жину забираются львы и устраивают там свое логовище.
А господин в пробковом шлеме отправляется на поиски
оскорбленного мужа.
Вот они встречаются и мирятся.
453
Подготовленный предыдущими аплодисментами, я жду
в этот миг самых бурных кликов восторга. И, действитель-
но, в зале стоит буря, которую может заглушить только
грохот проходящего наверху поезда.
Одно только не вполне ясно для меня. К кому или к
чему относятся аплодисменты этих восторженных зрителей?
К директору, поставившему хорошие картины? Или к акте-
рам, исполняющим свои роли для кинематографической лен-
ты? О нет! Эти аплодисменты непосредственно приветст-
вуют высокие человеческие добродетели и достоинства: вели-
кодушие, благородство, бескорыстие, самопожертвование,
смелость...
Но гаснет последняя картина бесконечной воскресной
программы. На экране ярко вспыхивает марка кинемато-
графической фирмы — петух. Веселая аудитория отвечает
дружным «кукареку!».
Зажигают огни. Представление окончено и будет еще
повторено раз пять или шесть в течение одного дня. Взрос-
лые зрители уходят, но на детских скамьях подымается
бунт. Мальчишки не желают уходить. Служители гонят их
со скамей, но они, обежав весь зал, с гулом и свистом
возвращаются к своим насиженным местам.
Английские уличные дети — свободный и независимый
народ. На улицах им не воспрещено петь, свистать, гикать,
надевать причудливо-раскрашенные маски и даже драться.
В компании своих товарищей каждый из них совершенно
неукротим и бесстрашен. В одиночку же несколько другое
дело. Вероятно, родительские побои приучили детей Ист-
Энда внезапно вздрагивать и судорожно заслоняться рукой
в ответ на неожиданный вопрос, обращенный к ним случай-
ным прохожим.
Но под железнодорожным мостом они были представ-
лены в огромном количестве. Поэтому они решили не сда-
ваться.
Раздались голоса:
«— Билль, не уходи!
•— Сюда, Том!
— Назад, Джимми!
Служители, очевидно, никогда не служившие в войсках
и не участвовавшие в усмирении индийских восстаний, со-
вершенно растерялись. В зале появился блестящий цилиндр
директора. Узнав, в чем дело, он обратился к бунтовщикам
с успокоительной речьюа
454
— Господа, вы же видели все обещанные картины. За-
чем же вам видеть их еще раз?..
— А впрочем, оставайтесь! — добавил он, махнув рукой.
Дети победили.
И опять па экране замелькали заросли, львы, тигры,
замки, дворцы, мраморные лестницы и колоннады—и мно-
гое другое, столь далекое от мрачной и тусклой жизни в
беднейших кварталах Ист-Энда.
В полумраке несколько мальчиков встали и уныло по-
плелись к выходу.
— Билль!
— Джо!
Это взрослые явились сюда за детьми.
На улице было тихо. Туман и сырость рано разогнали
воскресную толпу.
НА ДЕТСКОЙ ВЫСТАВКЕ
Письмо из Лондона
Только две недели длилась детская выставка, помещав-
шаяся в огромном дворце выставок и грандиозных теат-
ральных представлений — в Олимпии.
По своим задачам и предварительно намечавшимся пла-
нам рта выставка должна была быть беспримерной. Назы-
валась она: «Children’s Welfare Exhibition» — «Выставка
детского благосостояния». Она должна была энциклопеди-
чески вместить в себя все то, что прямо или косвенно от-
носится к жизни и благополучию ребенка. Идея такой
выставки могла зародиться только в стране, где так
сильны устои семьи и любви к детям, в стране Чарльза
Диккенса.
Как первый опыт в подобном роде, выставка не могла
оправдать всех пламенных, возлагавшихся на нее надежд.
Знаменитый «детский этаж», о котором столько писали
и который должен был представить нам ряд идеальных
детских комнат (комнату для мальчиков, для девочек,
школьную комнату и т. д.), оказался выставкой какой-то
мебельной фирмы — вроде тех, что красуются за цельными
стеклами в Сити. Нового в обстановке детской было мало.
Разве только то, что без особой роскоши и прихоти можно
устроить уютную детскую — с ситцевыми занавесочками,
некрашеной мебелью и т. д.
Огорчило (особенно нас, русских) одно обстоятельство:
подчеркнуто коммерческий характер выставки. Каждая лек-
ция, читавшаяся там, каждое развлечение для детей требо-
вало особой платы — традиционного «сикспенса» (24 коп.).
456
Одна русская дама — бывшая бестужевка 1 и учительни-
ца — написала организаторам выставки горячее письмо,
предлагая свои безвозмездные услуги и помощь прекрасному
идейному делу. Организаторы ответили ей выражением жи-
вейшей признательности, но в тоне письма можно было
уловить некоторое недоумение по поводу такой самоотвер-
женности и идеализма русской дамы.
Но как бы то ни было, ни один родитель не ушел с вы-
ставки, не запомнив какой-нибудь новой детали по оборудо-
ванию детской, каких-нибудь новых черт детского воспита-
ния — из области гимнастики, музыки, детских танцев.
Великолепно были представлены на выставке детское твор-
чество и самодеятельность.
Вот «бойскауты» за работой. «Бойскауты», как, вероят-
но, известно читателю,— военно-спортивная организация
мальчиков. Дети готовятся к разведочной службе в войске,
а также к обязанностям «братьев милосердия» на войне, но
вместе с тем обучаются ремеслам и различным видам труда.
На выставке им было отведено большое отгороженное ме-
сто, устланное зеленью, в виде летней лужайки. Среди нее
были разбиты походные палатки, походная кухня, нахо-
дился маленький лазарет с фургонами Красного Креста.
Мальчики провели на выставке целых две недели, демонст-
рируя перед публикой свои спортивные упражнения, при-
емы первой медицинской помощи, а также трудясь с утра
до вечера в качестве кузнецов, плотников, сапожников,
портных, поваров, фотографов, монтеров и т. д.
А за их оградой то и дело пробегал маленький паровоз,
тащивший за собой много платформ-скамеечек с пассажи-
рами-детьми. Поезд останавливался в конце зала, у миниа-
тюрной станции. Там машинист, взрослый человек, слезал
с передней платформы, открывал крышку сундука с углем
и, насыпав лопаткой в печку «паровоза» порцию угля, по-
давал гудок, и поезд мчался дальше.
Казалось, что лагерь «бойскаутов» в самом деле нахо-
дится где-то среди полей, где пробегают поезда.
Такой же лагерь устроила организация девушек — буду-
щих сестер милосердия и поварих при войске — «гёрлгайд».
Видное место на выставке было предоставлено детским
рисункам, специально изготовленным детьми для выставоч-
ного конкурса. Но была там и отдельная выставка двена-
дцатилетней художницы Дафнр Аллен. Акварельные рисун-
ки на евангельские темы отличаются у нее удивительной
457
гармонией и мягкостью. Есть странные фантазии: «Духи
ветра», «Духи бури» (темная волна выносит груду странных,
смутно мелькающих младенцев). Имеется у нее один пей-
заж реки под мостом, в котором поразительно много порыва
и движения; называется этот пейзаж: «Реки спешат к
морю».
Было на выставке и творчество взрослых. Но это твор-
чество говорило очень много детскому воображению. Дет-»
ская писательница м-с Несбит воздвигла на большом
столе у себя в павильоне целый «Волшебный город» —•
«The Magic City». Озаренный изнутри красными фонари-»
ками, город производил, в самом деле, фантастическое впе-
чатление. Вдали высились греческие белые колоннады, еги-
петские обелиски, индусские пагоды, соборы, мечети и зда-
ния неизвестного стиля с бронзовыми слонами на крышах...
От смешения стилей «город» нисколько не проигрывал в
свой цельности и даже «стильности». Но диковиннее всего
было то, что строительными материалами для этого го-
рода послужили следующие предметы: подсвечники, книж-
ки в переплетах, письменные приборы, медные крышки от
чернильниц, лото, домино, шахматы, шашки, свинцовая бу-
мага, бронзовые фигурки с «папиного стола» (вот откуда
взялись слоны, лошади и собаки!), фарфоровые фигурки
из гостиной и т. д.
Конечно, для того чтобы по примеру г-жи Несбит по-
строить такой «волшебный город», ребенку пришлось бы
ограбить до нитки дом своих родителей!.. Кстати, некая
дама (кажется, из фребелевской школы) 2 демонстриро-
вала на этой же выставке те незатейливые предметы, кото-
рыми играют бедные дети в Лондоне. Тут было все, начиная
от старой подковы и кончая обломком пистолета или куклы.
Для того чтобы представить себе эту коллекцию, надо
вспомнить знаменитый карман Тома Сойера, со всем его
содержимым!
Довольно интересен был на выставке музей кукол. Там
были представлены европейские куклы всех времен и наро-
дов — в чепцах, капорах, фижмах, кринолинах. Китайские
куклы: мужчины в желтых балахонах, женщины—в шта-
нах и красных кофтах. Богатые куклы из Индии: красные,
с золотом чалмы, легкие золотистые шарфы, кольца, бра-
слеты, ожерелья. Кукла из Судана с глазами из жемчуга.
Куклы дикарей, куклы Гренландии, закутанные в густые
меха, и т. д.
458
Из развлечений главное место на выставке занимали
танцы. Общество, задавшееся целью возродить народные
танцы в Англии, устроило в Олимпии «пляски на лугу». На
широком зеленом ковре кружились бесконечные детские
хороводы и парочки в старинных крестьянских нарядах.
Гудела единственная скрипка, звучал благодушный плясовой
мотив, напоминавший о приволье полей и о тишине дере-
венского заката.
Единственным мрачным пятном на светлой детской вы-
ставке явился павильон общества защиты детей. Общество
демонстрировало плети, кнуты, железные прутья, башмаки
с гвоздями в подметках, цепи с замками и без замков...
Все эти орудия пытки, применявшейся к детям их озвере-
лыми родителями, фигурировали уже однажды, в качестве
вещественных доказательств, на судах в Лондоне.
Очевидно, детское благосостояние и благополучие еще
недостаточно обеспечены даже в самых культурных странах
Европы.
РОБИНЗОН НАШЕГО ВЕКА
Новый первобытный человек. — Добывание огня. — Ловля
рыбы без удочки. — Захват медведя. — Отношение дики»
животных. — Партина, написанная соком ягод
Движение, лозунгом которого является «Simple life» —
«простая жизнь», все сильнее разрастается и здесь, и по
другую сторону океана, в Америке. У сторонников и гла-
шатаев его не всегда одни и те же стремления. Иные из них
желают оздоровить современное и грядущие поколения,
вызвать к жизни спартанский идеал воспитания. Другими
руководят идеи Руссо, Толстого, Рёскина \
На днях в Лондоне открылась целая выставка простой
жизни. Демонстрируются различные виды палаток, образцы
простой и гигиенической одежды, всевозможные пищевые
продукты и т. д. Наш русский «simple-lifer» — Лев Толстой
вряд ли когда-либо и думал о возможности и целесообраз-
ности подобных выставок. Он и его последователи могли
учиться простому укладу жизни у русского крестьянства.
Но в Англии крестьян нет. Дети короля, попав в беднейший
коттедж, не нашли бы в нем ничего для себя нового. Онп
увидели бы знакомый им камин со щипцами и лопатками,
кресла, зеркала, безделушки, кровати с перинами. Все
как во дворце, только значительно похуже сортом. Город-
ская беднота точно так же лезет из кожи вон, имитируя
богатых в одежде, пище и развлечениях.
Комфорт изнеживает и расслабляет тело. Несмотря на
процветание в Англии спорта и гимнастики, нация заметно
слабеет. Больницы и клиники не находят требуемого коли-
чества братьев и сестер милосердия для заразных отделений.
460
Нездоровый и хилый организм, как известно, восприимчив
к заразе. Это явление рассматривается в Англии как серьез-
ный и угрожающий симптом.
Среди многочисленных попыток, направленных к воз-
рождению первобытной мощи в современном человечестве,
особенной смелостью отличается эксперимент, проделанный
американцем-художником не так давно.
Джозеф Ноульс — так зовут этого американца — раздел-
ся донага, отдал окружавшим его людям спички, нож, коше-
лек, гребенку, носовой платок и т. д. и отправился в дикие
леса на севере штата Мэн. Для первого раза он назначил
себе двухмесячный срок и поручился, что в течение этого
времени будет находить для себя в лесах пищу, одежду и
кров. В результате он вернется в мир первобытно могучим
человеком.
Осуществил он свой опыт минувшей осенью — в августе
и сентябре 1913 года. Вышедшая на днях его книга — отчет
об экспедиции («Один в пустыне») —вызвала сенсацию по
обе стороны океана.
Проникнув в леса, Джозеф Ноульс прежде всего позабо-
тился развести костер. Все в лесу было влажно от дождя,
но изобретательный человек добился своего.
Он сделал нечто вроде лука, тетивой для которого яви-
лись сплетенные ремешки коры. Посередине тетивы он свя-
зал круглую палочку. Нижний конец палочки упирался в
кусок древесного корня. Поддерживая верхний конец ее ла-
донью, Ноульс принялся двигать лук взад и вперед, отчего
палочка завертелась на своем основании. В результате дол-
гого трения получилась искра. Ноульс перенес ее на пучок
гнилой древесины, найденной в дупле, и кое-как ухитрился
раздуть.
Затем следовало позаботиться о жилище. Наш первобыт-
ный человек воткнул в землю на известном расстоянии две
палки с раздвоенными верхними концами. Поверх их он
положил поперечную палку. Скелет его жилища был готов.
Прислонив к перекладине ветви и палки, Ноульс получил на-
клонный навес. Оставалось только покрыть его хвоей, мхом
и корой. Точно так же накрыл он промежутки с боков.
С передней стороны шалаш остался открытым.
На протяжении всей книги Ноульс поет гимны огню.
Поддерживая костер с неусыпным рвением весталки, он не
чувствовал ни малейшего холода.. На огне он готовил себе.
461
пищу. Впрочем, ему случалось питаться и сырыми куро-
патками.
Огонь заменял Ноульсу топор и пилу. Не будучи в си-
лах волочить какое-нибудь бревно, он разводил под ним
костер и пережигал его на две или на четыре части. С по-
мощью огня он утоньшил и округлил дерево, из которого
изготовил свое первое оружие — лук.
В первые дни новый Робинзон питался исключительно
ягодами. Но в дальнейшем он позаботился о рыбе и мясе.
В ближайшем потоке была плотина бобров. Ноульс про-
рвал ее и понизил уровень воды. На мели он нашел мно-
жество форелей. Не желая причинять лишних хлопот тру-
долюбивым бобрам, он в конце концов не преминул почи-
нить плотину.
Затем он расставил западню на медведя. Устроил он ее
в виде ямы с падающей крышкой. Находясь в наклонном
положении, крышка опиралась на круглую палку, к которой
и была прикреплена приманка. Приманка висела так вы-
соко, что медведь, доставая ее, должен был стать на задние
лапы. Поверх крышки, насколько позволял ее наклон,
были нагромождены камни.
Медведь своевременно явился и очутился под крышкой.
Ноульс убил его, позволив ему высунуть голову и ударив
дубинкой по носу. Затем содрал с медведя шкуру. Это
был долгий и трудный процесс. Ноульс отыскал острый ка-
мень и принялся пилить шкуру вдоль одной из задних ног
медведя. В конце концов волосатая шкура закурчавилась
под острием и была прорвана.
Из всего этого явствует, что Ноульс в отличие от других
simple-lifer’oB не был вегетарианцем. Но он всячески под-
черкивает свое отвращение к тем приемам убоя животных,
к которым принудила его крайняя необходимость.
Значительно большее удовлетворение доставило ему мир-
ное соседство и дружба диких обитателей леса. По его сло-
вам, нет ни одного животного в первобытном лесу, которое
не пожелало бы завязать дружбу с человеком. Не надо
только обнаруживать ни малейшей стремительности и лю-
бопытства при встрече с ними. Идите своей дорогой, делайте
свое дело, — и животное само придет к вам, движимое любо-
пытством.
Некая лань часто навещала Ноульса вместе со своим
детенышем и брала пищу из его рук. Куропатки на ветвях
деревьев кокетничали с ним, как молодые дамы. Сердитый
462
чипманк (порода американской белки) однажды яростно
подрался с большой красной белкой, приревновав ее к Но-
ульсу.
Но те же дикие животные каким-то смутным инстинктом
отгадывают недобрый замысел со стороны человека. И тогда
они способны на борьбу, как, например, лось, или на необык-
новенно хитрые уловки (лисица и даже олень).
Бродя по первобытному лесу, Ноульс в большинстве слу-
чаев пользовался тропинками, проложенными зверями. Ком-
пасом ему служил мох, который обыкновенно растет на се-
верной стороне деревьев, где больше тени.
В высшей степени интересны пейзажи и сцены лесной
жизни, которые Ноульс нарисовал на клочках березовой
коры при помощи обугленных палочек. Писал он и краска-
ми. Кисти он смастерил из коротких и жестких волос мед-
ведя. Волосы он всунул в маленькую вставочку из отрезка
пера, залил растопленной смолой и приделал ручку. Крас-
ками ему служили ягодный сок и настой коры и корней.
Чистый ягодный сок, будучи разбавлен водой, становится
прозрачен и превосходно смешивается с глухими тонами
коры и кореньев.
Это была первая в мире картина, написанная соком ягод.
Лесной воздух, тяжелый труд, а главное — не странно
ли? — отсутствие регулярности в пище п сне подействовали
на здоровье Ноульса самым благоприятным образом, что
удостоверено профессором Гарвардского университета,
осмотревшим Ноульса до и после эксперимента.
Вернувшись в свой родной город, отважный американец
выглядел приблизительно следующим образом.
Его кожа сделалась медно-красной, как у индейца. Во-«
л осы были взлохмачены, как и его длинная борода. Верх-
няя часть его тела была покрыта медвежьей шкурой. Бедра
были обернуты кожей оленя. В руках у него были лук и
стрелы, а также нож, сделанный из оленьего рога.
Подводя итоги своей экспедиции, Ноульс призывает лю-
дей воспитывать своих детей на воздухе, закалять их тело
и дух и не пугать их страшными сказками о лесе.
Дремучий лес темен, по не страшен.
Лондон, 22 апреля (н. ст.) {1913 г.}
ШКОЛА ПРОСТОЙ ЖИЗНИ
Брошюра с проспектом «Morkshin School» или «Simp-
le Life School» («Школы простой жизни») появилась око-
ло двух лет тому назад. Написана она была, как неболь-
шая поэма, как сказка Оскара Уайльда, и на первый взгляд
была полна самых несбыточных мечтаний.
Читателю ее рисовалась идеальная семья воспитателей
и воспитанников, объединенных идиллической любовью и
бескорыстной дружбой, добывающих все необходимое для
жизни трудами собственных рук и отделенных от всего
остального мира непроходимыми лесными чащами. Члены
Этой семьи довольствуются немногими одеждами, едва
прикрывающими тело, питаются растительными, неваре-
ными продуктами, спят на голой земле. Конечно, при этом
имеется оговорка: дети, поступающие в школу, постепенно
приучаются к новому режиму.
Упрощение жизненной обстановки, один из главных
принципов школы, распространяется не только на подроб-
ности домашнего быта, но и на учебные предметы, и на
программу детского чтения. С течением времени пред
детьми школы должна раскрыться самая содержательная
и самая захватывающая из книг: книга природы.
Главной целью подобного «опрощения» было: укрепле-
ние духа и тела, приспособление к самым трудным обсто-
ятельствам жизни, а также экономия времени и сил — тех
сил, которые обыкновенно тратятся нами на удовлетворе-
ние наших — далеко не насущных — потребностей, а могли
бы быть потрачены на служение и помощь ближнему.
Все эти идеи проспекта не могли не показаться сим-
патичными и заслуживающими всякого сочувствия. Но
464
осуществимы ли они в наш век? И притом в какой стране? —
в Англии, где и на милю нельзя уйти от автомобильной
или железной дороги, в самом центре европейской цивили-
зации, позитивизма, материализма...
Я посетил «Morkshin School» или «Школу простой
жизни», на этих днях, то есть через полтора года после ее
возникновения.
Я убедился в том, что рта школа, действительно, воз-
никла и существует, и притом ни на йоту не отступила от
своей программы и от своих принципов.
В трех часах езды от Лондона, в графстве Hampshire,
среди сосновых лесов, одиноко высится красивое двухэтаж-
ное здание с садами, огородами, с разбросанными там и
здесь палатками.
У арки, увитой красными и белыми розами и отделяю-
щей площадку перед домом от широко и свободно раски-
нутого сада, встретил меня глава школы — м-р Ойлер. При
первом взгляде на этого человека можно было растеряться
от неожиданности впечатления. Я ожидал увидеть искон-
ного англичанина, наделенного дипломом и высокой уче-
ной степенью Оксфордского университета, бывшего не-
когда чемпионом крикета и, кажется, лаун-тенниса (бли-
стательное отличие англичанина!), а увидел человека с
наружностью знатного и благородного араба из Палестины,
или, еще лучше сказать, увидел живую копию с Иоанна
Крестителя1, каким его изобразил Александр Иванов. Рос,-
лый, статный, с ниспадающими на плечи темными волоса-
ми, с вьющейся темной бородой, с арабским профилем
лица, весь окрашенный ровным и навсегда осевшим зага-
ром, покрывающим и большой выпуклый лоб, и стройные
ноги,— он, казалось, никогда и не носил другого наряда, чем
Эта облегающая тело рубашка и короткие штаны до колен.
Радушно провел он меня на поляну сада, где (это было
на закате) дети совершали свою вечернюю трапезу. Распо-
ложились они порознь,— кто на скамье, кто на траве под от-
даленным деревом. В руках у каждого была тарелка, нагру-
женная доверху листьями салата и капусты, бразильскими
орехами, финиками, бананами и т. д. Дети были одеты, как
их учитель. Длинные волосы их были перевязаны ленточ-
ками или начесаны на лоб. Впрочем, в школе не оказалось
на этот счет общего правила, общего фасона: иные из
мальчиков были коротко острижены, иные причесаны по-
английски, с пробором.
465
Только у немногих были полные щеки, пухлые руки и
ноги. Большинство детей отличалось скорей худощавой,
чем полной комплекцией. Но все до одного обнаруживали
стройные и мускулистые члены, хорошо расправленные
плечи и грудь и отличались тем же ровным и нежным от-
тенком загара, что и их учитель. Здоровье и сила явствен-
но сказывались в каждом их движении, в каждом взгляде
покойных и уверенных глаз.
Тут были дети всевозможных возрастов. Школа прини-
мает и пятнадцатилетних юношей, и совсем малышей до
грудных младенцев включительно и, — можно ли идти еще
дальше? — до... родителей, которые являются в школу
учиться воспитанию ребенка. Большая часть детей посту-
пила в рту школу после долгих мытарств по другим —зау-*
рядным и «образцовым» — школам и, главным образом,
вследствие расшатанности здоровья и нервов.
Пока длился школьный ужин, я успел оглядеть овощи
на огородах, цветы и молодые деревья в саду, — результа-
ты трудов учителей и учительниц, учеников и учениц.
В школе нет разделения труда: девочки работают вместе
с мальчиками на огородах и по подрезке деревьев, а маль-
чики в свою очередь принимают деятельное участие в стир-
ке, которая, кстати сказать, является в школе большим
событием. За стиркой обыкновенно ведется оживленная
беседа на самые разнообразные темы. Такая «обыватель-
ская» беседа, на которую в обыкновенные дни не выпадает
достаточного времени, сильно облегчает и взрослым, и де-
тям этот малопривлекательный труд. Учителя и взрослые
дети стирают крупное белье; малыши — носовые платочки.
Во время ужина школьный сад навестил добрый прия-
тель детей — кролик Эрнест. Это не прирученный кролик
и не домашний, а самый «настоящий», то есть дикий, жи-
вущий собственным умом. При школе нет домашних жи-
вотных — ни собак, ни кошек, которые, по мнению м-ра
Ойлера, являются психически искалеченными существами.
М-р Ойлер и «его» дети были бы гораздо больше рады
завязать дружбу со свободными обитателями леса. При
добром и неизменно спокойном отношении к этим сущест-
вам, короткое знакомство с ними осуществимо. Первым
наглядным подтверждением правильности этого взгляда
явился кролик Эрнест, усвоивший себе привычку посещать
школьный сад в закатные часы.
Закат догорел; наступило время сна.
466
Дети, со свернутыми одеялами в руках, подошли про-
щаться с м-ром Ойлером и его голубоглазой женой, которую
природа одарила золотыми, ниспадающими до земли,волосами.
— Прощай, Питер! Прощай, Эльса! — прощебетала дет-
вора.
После прощаний и поцелуев все они, в своих длинных
ночных одеяниях, потянулись к воротам для того, чтобы
идти на ночлег в темный, темный лес. Только немногие
улеглись под деревьями или в палатках в саду.
Лунной ночью мы прошлись с Питером (м-ром Ойле-
ром) в лес к той отдаленной чаще, где находится место
его ночного покоя: это самая передовая позиция в лесу, где
учитель спит чутко, как часовой, готовый отозваться на
первый зов его питомцев.
В смутном сиянии луны, встававшей из-за сосновых
ветвей, мы разглядели по дороге под деревьями маленькие
аккуратно сложенные пакетики. Это были ребятишки,
спавшие в разных местах без подушек на одном одеяльце,
одна половина которого служит им простыней, а другая
выполняет свою прямую миссию — одеяла.
Дети м-ра Ойлера не боятся ночной темноты. Впрочем,
их маленькие, невозмутимые сердца не доступны никакому
чувству страха...
Утром их ожидали обычные занятия, обычная работа.
Это — прежде всего — работа по дому (после получасового
«пробега»), затем — после завтрака — работа в саду, чте-
ние, уроки. Гимнастику они проделывают не многосложную,
не утомительную. Главные движения ее преподал им Рай-
монд Дункан, брат Айседоры 2.
Если день выдается очень уж пасмурный, с проливным
дождем, — дети и учителя сидят в одной из комнат, ткут,
прядут, слушают музыку или ведут тихую беседу. В одну
из таких бесед Питер рассказывал детям, что у Эльсы че-
рез несколько месяцев должен родиться ребенок. Питер
просил детей, как преданных друзей своих, пожелать чего-
нибудь хорошего этому еще не рожденному младенцу. Дети
отнеслись с глубокой серьезностью к просьбе учителя, и
каждый по очереди пожелал младенцу таких прекрасных,
таких волшебных вещей, каких бы не выдумал никакой
мастер сказок, никакой Андерсен...
Лондон, 27 июля (9 августа) {1913 г.)
ПРАВЕДНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
Поедание индийские мусульман
В Могарам, или тигровый праздник Индии, среди шум-
ных игр, состязаний и пестрого маскарада тигровых шкур,
правоверные не забывают отдать дань одной очень древней
традиции. Заключается она в провозглашении проклятия
каким-то четырем братьям, чьи имена не известны никому
из ныне живущих.
Предание, объясняющее этот обряд, рассказывает, что
в незапамятно давние времена на севере Индии жил пра-
ведный старец. Умирая, он оставил своим сыновьям, а их
было четверо, сады, дома, десятки слонов и сотни верблю-
дов. Только одного из своих верблюдов он удержал за со-
бой...
Он сказал детям:
— Когда я умру, положите мое тело в простой, узкий
ящик. Взвалите его на спину моего верблюда, а на крышку
не забудьте положить мой Коран. Верблюда выведите из
города до ближайших джунглей. Там проститесь со мною
и уходите домой, не оглядываясь.
Сыновья удивились странной воле старика, но перечить
не могли. Только младший сын, любимец отца, не удер-
жался и спросил:
— Не собираешься ли ты, отец, предпринять после
смерти далекое путешествие? Не хочешь ли ты посетить
кабульских купцов, которые давно не возвращают нам де-
нежного долга?
Отец улыбнулся и ответил сыну:
468
— Да, я собираюсь совершить очень далекое путешест-
вие — через горы, пустыни и леса. На родину пророка, в
благочестивую Мекку. Когда выведете верблюда в чащу,
поверните его головой в сторону Мекки, а там не тревожь-
тесь, он сам донесет меня, куда следует.
Сыновья еще больше удивились, но по кончине отца
постарались исполнить его волю в точности. Ящик с телом
взвалили на верблюда, а на крышку положили Коран, с
которым отец не расставался до самой смерти. Верблюда
вывели в джунгли и поставили среди густых зарослей —
головой в сторону Мекки, как завещал отец.
По очереди они простились с прахом отца и поверну-
лись, чтобы идти в город. Но едва отошли на расстояние
нескольких шагов, у всех четырех явилось одновременно
настойчивое желание обернуться и поглядеть, на прежнем
ли месте стоит верблюд с гробом на спине.
Но священна предсмертная воля отца и страшно его за-
гробное проклятие. Братья остановились, не оглядываясь.
Легкий шум раздался позади их: будто ветер перевернул
несколько страниц раскрытого Корана.
Младший брат воскликнул:
— Увидите, братья, верблюд не тронется с места! Ни-
кто из нас даже не дернул его за повод. Верблюд ленив и
не пойдет, пока рука человека не принудит его. Вечером
его могут найти недобрые люди и уведут его, оставив на
произвол судьбы ящик с телом отца. Вернемся лучше и
похороним покойника по обряду правоверных на город-
ском кладбище.
Братья поколебались немного, но все еще не могли ре-
шиться нарушить, так дерзко и явно, волю отца. На мгно-
вение им послышался треск раздвигаемого тростника п
мерный звон колокольчиков, подвешенных на шею верб-
люда.
— Давайте оглянемся!—предложил тот же брат, в
душе которого невольный страх боролся с неудержимым
любопытством. — Если мы совершим грех, пусть падет он
на всех нас, четверых, поровну!
— Если мы совершим грех, пусть падет он на всех нас
поровну! — повторили братья и, не будучи более в состоя-
нии бороться с соблазном, обратили глаза в запретную сто-
рону. И вот что они увидели.
Заросли тростников в чаще раздвинулись, образовав
широкую дорогу на Запад. Верблюд свободно шел по ртой
469
дороге, как среди степного простора, раскачиваясь и звеня
глухими колокольчиками. В открытом ящике сидел отец и,
едва качаясь, читал свой Коран.
Зрелище это наполнило сердца братьев небывалым
ужасом. Они хотели было отвернуться вновь и бежать до-
мой, что есть мочи, но было уже поздно. Праведный старик
приподнялся в ящике по пояс и, нахмурив чело, сказал
детям:
— За то, что вы нарушили последнюю волю отца, ваши
имена будут отныне произноситься с проклятиями из года
в год — в день праздника Могарам.
С тех пор правоверные проклинают четырех братьев в
день тигрового праздника. И первым произносят они имя
младшего из братьев, который ввел трех старших в великий
соблазн.
ПЕСНИ ПОПУГАЯ
У магараджи, царствовавшего в местности Шан, был
попугай. Мудрый магараджа и его прекрасная магарани
любили этУ пеструю птицу больше всего на свете. Это не
был крикливый и надоедливый представитель своей по-
роды, подобный тем, которые качались на проволоках в
дворцовом саду, отражая в пруде свои яркие или полиняв-
шие от лета перья, толкуя на тысяче непонятных языков.
Любимец магараджи был подарен ему мудрецом-от-
шельником во дни юности. Главным достоинством попугая
было умение петь такие чудесные песни, каких не сочинил
бы ни один из придворных певцов.
Магараджа проводил, слушая его, все часы своего до-
суга, а магарани почти и не расставалась с ним. Песни
были полны мудрых наставлений, трогательных и забавных
рассказов, пленительных напевов.
Для любимой птицы был водружен во дворце золотой
шест с изумрудной перекладиной.
Однажды утром магарани, подойдя к шесту, не нашла
птицы на драгоценной перекладине. Окинув взглядом ком-
нату, она увидела, что птица лежит невдали от шеста на
полу, широко распластав крылья и не шевеля ни единым
из своих перьев.
Магарани горько заплакала. Слуги подняли птицу, а
придворный врач, оглядев ее, признал мертвой.
Но ни магарани, ни властитель Шан не могли и не
хотели примириться со смертью любимого попугая. Были
приглашены и заклинатели, и чародеи, и фокусники. Никто
из них не был в состоянии оживить птицу.
471
Тогда магарани сказала своему супругу:
— Покойный друг наш был большой любитель пенья
и музыки. Позови лучших наших придворных портов. Быть
может, пением своих стихов им удастся разбудить мерт-
вого попугая.
Оба придворных порта, Ватсантака и Вальмики, были
позваны пред лицо магараджи. По очереди они пропели
все свои песни. Но попугай лежал все на том же месте,
окоченевший и неподвижный.
Лучший из двух портов Вальмики был наделен, помимо
дара песен, любящим сердцем, полным чувства сострада-
ния. Ему было известно также переданное ему по наслед-
ству его предками удивительное искусство перевоплощения.
Исполнившись жалости к безутешному своему повели-
телю и прекрасной магарани, Вальмики побежал в одну из
отдаленных комнат дворца и запер за собой дверь на
замок.
В тот день его больше не видели, но вскоре после его
ухода попугай ожил, встрепенулся и взлетел на свой золо-
той шест, на свою изумрудную перекладину с той резво-
стью, какой никто за ним не помнил с самых дней его мо-
лодости.
Магарани и магараджа были обрадованы свыше всяких
границ. Как произошло чудо воскрешения, они не знали, но
они были так благодарны бесследно исчезнувшему Валь-
мики.
Между тем другой из портов, Ватсантака, возгорелся
чувством зависти и злобы. Сам он не был одарен дивной
способностью перевоплощения, но прекрасно знал о подоб-
ном искусстве Вальмики.
Первое, что он предпринял, было разыскать бездыхан-
ное тело своего соперника. Ему помогли в ртом подкуплен-
ные слуги дворца. В уединенной комнате на просторном
ложе Вальмики лежал неподвижно, будто спал. С помощью
слуг Ватсантака поднял его и тихонько вынес из ворот
дворца. Затем он, немедля, предпринял вместе с телом
своего врага далекое путешествие: он отправился в селенье,
находившееся в другом царстве — где жила семья Валь-
мики, откуда вышел он сам.
Встретив у дверей дома брата Вальмики, он передал
им бездыханное тело и сказал:
— Ваш брат попал в немилость у магараджи Шан и
умер в темнице. Но милостивый мой повелитель приказал
472
мне отвезти Вальмики на родину, где бы его близкие могли
бы совершить над ним надлежащие церемонии.
Тело певца было предано сожжению по обряду, а Ват-
сантака вернулся во дворец властителя Шан.
Во дворце ему сказали, что за время его отсутствия
попугай умирал несколько раз. В течение часов и дней
птица бывала неподвижной, пока наконец душа не возвра-
щалась в нее, усталая и тревожная, будто утомленная
долгими странствованиями и поисками. Птица билась и
трепетала или устало распластывала крылья по мрамор-
ному полу.
Но не прошло нескольких дней, как попугай совершенно
успокоился, будто забыв свои роковые дни. Ватсантака,
который в течение долгого времени не решался подходить
к золотому шесту, был бесконечно удивлен, когда птица
осталась совершенно безучастной и совершенно равнодуш-
ной при его приближении.
Очевидно, душа попугая забыла о своей прежней обо-
лочке. Только пенье ее стало еще прекраснее. До самой
своей смерти она пела свои песни, которые составили мно-
гочисленные священные томы, известные под именем «Пе-
сен попугая».
ОТДЫХ МОРЯКА
Из путевых очерков «Ио Англии»
Небогатому путнику города английской Ривьеры — Кор-
нуолла в летние месяцы не могут посулить ничего доброго.
Тинтаджель, с его крутыми скалами и развалинами
того замка, где прекрасная Изольда в долгие бессонные
ночи обвивала руками шею верного пса Годрйна, сетуя на
жестокость судьбы и на измену рыцаря Тристана;1 Тин-
таджель, воспетый древними трубадурами, а в позднейшие
времена Теннисоном, Суинберном и Вильямом Морри-
сом 2, — во дни июля и августа отдается в распоряжение
богатых американцев, энергично содействующих повыше-
нию цен в местных отелях.
С высот Тинтаджеля, находящегося на берегу Атланти-
ческого океана, американцы катят в просторных и бесшум-
ных автомобилях к низкому побережью Ла-Манша, пересе-
кая северо-восточную полосу Корнуолла и стремясь в
веселый город Фой.
Фой мало похож на английские города; он больше сма-
хивает на французские курорты. Многоэтажные отели его,
вытянувшиеся в ряд, глядят своими вычурными фасадами
со множеством балконов на реку Фой, где с утра до вечера
дремлют белые паруса, медленно движутся тяжелые паро-
ходы, зашедшие с моря; скользят по поверхности воды, как
по суху, беспокойные моторные лодки.
Фой не только «туристский» городок, но и приморский,
торговый. В отдаленной части его, выходящей на ту же
реку, слоняются или стоят группами разноплеменные мат-
росы, — в синих и темных блузах, в матросских фуражках
с лентами всех цветов, прикрепленными сзади или сбоку, а
иногда и без лент. Все эти бравые ребята отличаются на
47'1
берегу каким-то недоумевающим, никчемным видом, будто
не знают, куда приклониться. В их толпе нередко попа-
дается высокий, здоровенный негр, приехавший с африкан-
ского берега, или маленький, желтокожий, задорно смею-
щийся «ласкар» *, завезенный сюда с берегов Индо-Китая.
Придя по торной дороге из Тинтаджеля в Фой и состоя
в числе «небогатых туристов», я по неопытности стал
искать пристанища во всяких «Ривьерах», «Атлантах» и дру->
гих великолепных отелях на главной улице. Затем, осведо-
мившись о ценах, я поспешил завернуть в боковые улицы.
По мере отдаления от центра, вывески становились все
причудливее и загадочнее. Таким образом, я понемногу до-
катился до «Головы короля», «Ячменного колоса», «Чер-
ной» и «Белой лошади». В этих гостиницах нет того
мертвого, леденящего кровь спокойствия, которое царит в
«Атлантах» и «Ривьерах». В их нижних этажах неизменно
помещается «бар», откуда разносится по всему дому гул
сиплых голосов и бестолковый стук пивных кружек. Но и
в эти злачные места летом проникает лихорадка цен, вызы-
ваемая приездом туристов.
Потеряв всякую надежду на ночлег, я случайно поднял
глаза и прочел на одной из вывесок:
«Отдых моряка».
Название показалось мне хотя и не лишенным ориги-
нальности, но ничуть не более многозначительным, чем
«Птица в кулаке» или «Парень в синей куртке».
Нс успел я перешагнуть порог гостиницы, как меня
приветствовало почтительное:
— Чего изволите, сэр? Пожалуйте сюда, сэр!
Высокий джентльмен, в необычайно длинном фраке, со
строгим и безжизненным лицом, окаймленным с двух сто->
рон седыми бакенбардами, овладел моим чемоданом.
— Найдется ли у вас для меня комната с постелью?
— Разумеется, сэр. Я полагаю, господин может занять
капитанскую каюту, не правда ли, Мери? — обратился он
к нестарой женщине, бойкого вида, находившейся на верх-*
них ступеньках лестницы.
— О, да! Каюта капитана сегодня свободна, — ответила
женщина.
— Вас не потревожит, сэр, — предупредил меня седо-
власый джентльмен, — если по соседству с вами окажутся
* Моряк-индиец (от англ, Lascar).
475
матросы? Вы знаете, эти люди, когда входят, сильно стучат
сапогами, а иногда подымаются среди ночи для того, чтобы
попасть на пароход.
— Нет, меня это не пугает.
Комната моя оказалась крохотной каморкой. Но по со-
седству с ней находились еще меньших размеров клетушки без
окон. В них не было ничего, кроме кровати, или, вернее, кой-
ки. А у меня в комнате было и окно, и столик, и умывальник.
Из окна открывался чудесный вид. На закате залитая
розовым сиянием река разукрасилась парусами и флагами.
Поблескивая веслами, скользили вереницы лодок.
Но зачем это в конце террасы, примыкающей к нашему
дому и далеко вдающейся в реку, водружена высокая мачта?
Очевидно, «Отдых моряка» не случайное название гости-
ницы. Не предназначается ли она специально для моряков?
Не принял ли меня почтенный джентльмен за какого-ни-
будь шкипера или помощника капитана?
На столике оказалась книга в черном тисненом пере-
плете. Развернул — Библия. На стенах были развешаны
узорные полотенца, на которых вместо обычных пожела-
ний «спокойной ночи» или «приятных сновидений» были
вышиты отрывки молитвенных текстов.
На одном было выведено:
«Да святится имя твое».
На другом:
«Но избави нас от лукавого», —<
и так далее.
Разглядывая эти надписи, я впервые сообразил, что од-<
на из комнат нижнего этажа, мимо которой я проходил,
сильно напоминала молельню. Конечно, для какой же иной
цели могли там находиться длинные, во всю комнату, ска-
мьи и маленькое возвышение в виде амвона?
Я вышел исследовать коридор. В каждой из маленьких
клетушек, двери которых открывались в коридор, неизменно
находилась книга в тисненом переплете. Из окна коридора
можно было наблюдать тесную, людную уличку. Среди
толпы разноплеменных матросов взгляд мой случайно оты-
скал седовласого джентльмена, стоявшего на тротуаре. Он
вышел на улицу, как был, — путаясь в длинном фраке, без
шапки, — и пристал к какой-то группе матросов, видимо,
слонявшихся без дела.
— Что же, зайдем, господа, на пятнадцать минут? —
услышал я его скрипучий голос.
476
Матросы что-то пробормотали, рассмеялись и пошли
своей дорогой.
Мой хозяин только немного нахмурился и, растерянно
обернувшись, тронул за руку молодого черномазого матро-
сика, также проходившего мимо.
— Не зайдете ли вы сюда? — сказал джентльмен, ука-
зывая на дверь своего дома. — Вы найдете здесь хорошую
постель, сытный ужин и можете принять участие в нашей
вечерней молитве.
— Non, non, monsieur! * — ответил матросик, заметно
сконфузившись, и проследовал дальше. Очевидно, и у него
были другие планы на вечер.
Мой хозяин пытался было адресоваться к другим моря-
кам, предлагая им свой гостеприимный кров, но точно так
же потерпел фиаско. Разочарованный, он воротился домой,
в сопровождении единственного негра, высокого и необык-
новенно мрачного.
У меня явилось смутное предчувствие, что через не-
сколько минут я услышу размеренные, старческие шаги по
лестнице, ведущей в мой этаж. Но я успел заблаговременно
забраться к себе в комнату, запереть дверь и улечься
в постель, притворяясь спящим. В скором времени я и
в самом деле услышал шаги, затем кашель, а спустя ми-
нуту костлявая рука постучала в мою дверь.
— Сэр? — вопросительно проговорил мой хозяин.
— Сэр? — более настойчиво заметил он.
— Сэр, у нас начинается вечерняя служба.
В последних словах слышалось уже приказание, если
не угроза. Затем те же гулкие, исполненные достоинства и
невозмутимого спокойствия шаги снова прозвучали в кори-
доре и прокатились вниз по лестнице.
Разумеется, я спал; я крепко спал, пока из нижнего
Этажа доносилось жидкое пение, в котором принимало уча-
стие не больше трех голосов (два мужских и один
женский), а также во время долгой и монотонной проповеди,
урывками долетавшей до меня.
Удостоверившись в том, что служба окончена, я наконец
рискнул выглянуть в окно. Негр, провожаемый хозяином,
куда-то уходил, несмотря на то, что добросовестно выслу-
шал службу и тем вполне заслужил свой ужин и ночлег.
Но недоверчивый африканец, видимо, опасался повторения
• Нет, нет, господин! (франц.)
КП
той же истории, то есть получасового пения и не менее
продолжительной проповеди.
Мрачные предчувствия не покидали меня. Мне казалось
столь вероятным, что хозяин мой, проводив упрямого негра,
немедленно отправится в мою комнату для того, чтобы из-
лить на меня всю свою желчь и всю досаду... Но в прозрач-
ной тишине светлых сумерек я услышал только редкие
звуки мирной беседы, доносившейся с террасы. Терраса эта
была отгорожена невысоким забором, за которым возвышался
соседний дом с балконом. На балконе стояла молодая женщи-
на и, несмотря на дальность расстояния, приятельски бесе-
довала с седовласым проповедником, сидевшим на террасе.
— Он у нас жирный, миссис Браун, очень жирный.
Сливками, одними сливками питается, — говорил мой хо-
зяин, а затем, обращаясь, очевидно, к коту, сладко вытягивал:
— Ах ты, Пус! Ах ты, Пусси! Ах, жирный Пус!
— Зачем это вы ему на шею колокольчик привязыва-
ете, будто козлу? — осведомлялась соседка.
— А для того, чтобы мы знали, когда он в кладовую
ходит. Он у нас вор, он у нас мошенник, он у нас лакомка...
Давай, Пус, я тебе на хвост бумажку привяжу!
Согласился ли Пус на такую невинную забаву или, по-
добно матросам с улицы, деликатно отстранил приставания
моего хозяина, — не ведаю. Но джентльмен вовремя отка-
зался от своего намерения, ибо орлиный взор его заметил
меня, наблюдавшего эту сцену из окна второго этажа.
Благообразное лицо его снова приняло бесстрастное,
безжизненное выражение. Но, помолчав некоторое время и
поразмыслив, величавый старик, очевидно, решил не обра-
щать ни малейшего внимания на непрошенного свидетеля его
мирных забав. Да и правда, что толку было в человеке, ко-
торый и без того невысоко ставил его духовный авторитет?
Бедный Пус был пойман, и роковая бумажка была ловко
прицеплена к его пушистому хвосту, что привело в вели-
кий восторг молодую соседку моего пожилого почтенного
хозяина.
Решив, что после этой легкомысленной сцены на тер-
расе я могу безнаказанно пользоваться «Отдыхом моряка»
как гостиницей, без необходимости посещать вечерние и
утренние службы, — я отправился взглянуть на веселый го-
род Фой. Благо, еще не совсем стемнело.
ЛИФТ
Па очерков «По Англии»
«Лифт» не всегда означает подъемную машину. Это
слово, употребляемое в смысле существительного, имеет и
другое значение.
Усталый путник тянется в жаркий день по пыльной до-
роге. До ближайшего города с отелями и трактирами очень
далеко. Не поспеть к ночи. Проситься в дом к какому-ни-
будь фермеру — нельзя. Это не в английском обычае. Для
бездомных бродяг в Англии имеются ночлежки — в городах
и даже деревнях.
Можно забраться в какой-нибудь одиноко стоящий ам-
бар и переночевать там, но не всякий путник решится на
Это. В оградах ферм имеются злые собаки. Хозяину может
прийти в голову заглянуть в амбар — посмотреть, все ли в
порядке. Найдет вас, выгонит среди ночи.
Бредет путник по прямой дороге. И свернуть некуда, и
передохнуть негде. Нельзя же растянуться для отдыха тут
же, на пыльной дороге. Правда, с обеих сторон дороги сте-
лются зеленые поля, но это частновладельческие участки,
отгороженные высокой насыпью, а иногда и колючей изго-
родью. На долгие мили тянется пыльный путь, замкнутый
с двух сторон заборами. Будто не проезжая дорога, а тю-
ремный коридор.
Путник устает и валится на мягкую перину пыли. Ста-
новится прохладнее, но зато близятся сумерки. Ничего не
поделаешь — надо перескочить через забор и выбрать ме-
стечко для ночлега. Ночью может полить дождь; погода в
Англии крайне изменчивая и своенравная. Но поспеть ли в
479
ближайший городок, находящийся на расстоянии 10 или
15-ти миль, до наступления темноты?
Усталость и сладкая дремота заглушают чувство тре-
воги, и путник закрывает глаза.
Вдруг слышит:
— Добрый вечер, сэр! Далеко ли идете?
— Добрый вечер. Я иду в Лонстон.
— А ночевать где думаете, сэр?
— Если не поспею в Бодмин, переночую где-нибудь
под деревом.
Добрый человек (кто бы он ни был — шофер ли авто-
мобиля, возвращающегося порожняком, или кучер частного
Экипажа, а то и просто развозчик керосина) сочувственно
качает или кивает головой, а затем говорит:
— Я еду в Лифтон; оттуда до Лонстона рукой подать.
Если вы хотите, сэр, вы можете иметь «лифт».
Это значит, что добрый человек предлагает вам бесплат-
ный проезд — «подъем».
В эту счастливую ночь путник ночует не на поляне под
одиноким деревом, а на мягких перинах и под дюжиной
одеял в просторном номере «Колоса ржи».
В благодушном и гостеприимном Корнуолле вы всегда
можете рассчитывать на «лифт», отправляясь в дальний
путь пешком.
В конце июня — в пору жары, мух и наплыва тури-
стов — я бродил по Корнуоллу вместе с моей спутницей.
За заборами, по обе стороны дороги, шел сенокос. Кое-
где паслись голые, недавно остриженные овцы, выглядев-
шие, как тихие и кроткие девушки после тифа.
О недавней стрижке овец говорили нам и бесконечные
возы, нагруженные доверху мягкой шерстью всевозможных
оттенков.
Мы пришли в Тинтаджель, прославленный балладами,
воспевающими короля Артура и рыцарей «Круглого сто-
ла» 1. Нам не удалось покинуть высокое и скалистое побе-
режье Атлантического океана в заранее намеченный срок.
От старинного замка сохранились только груды камней.
Несколько грудок на том месте, где были ворота замка и
угловые башни. Но по какому-то чудесному совпадению со-
хранились (хотя бы в виде смутного очерка) некоторые из
наиболее характерных черт замка: круглый свод ворот, не-
480
сколько углов и выступов. Все это призрачно и хрупко. Ка-
жется, что жидкие груды камней вот-вот рассыплются.
Но в самой непрочности и хрупкости тинтаджельских
развалин заключается немало очарования. Когда вообра-
жение сопоставляет их с мощным образом древнего зам-
ка, в стенах которого находили приют и защиту лука-
вый король Марк, недостойный супруг Изольды, сэр Три-
стан и другие рыцари, — душу охватывают грусть и уми-
ление.
Замок рухнул, но картины окружающей природы уце-
лели. Прочны и массивно тяжелы круглые скалы Тинтад-
желя, вдающиеся в океан.
Покинули мы обаятельные тинтаджельские руины не
утром, как собирались, а после полудня. Ближайший пункт
нашего маршрута находился на расстоянии 20 миль. Мы
говорили себе: пройдем 10 миль до Бодмина, там отдохнем,
а к ночи будем у Ла-Манша.
Мы долго карабкались, взбираясь на крутые склоны гор
поблизости от Тинтаджеля. Солнце было высоко и роняло
на нас свои отвесные лучи. Зат° мы сократили путь и
снова очутились на пыльной проезжей дороге.
— Сэр! — раздалось за нами.
С нами поравнялась белая лошадь со щегольским эки-
пажем. Грум сидел на облучке, небрежно развалившись и
сбив котелок на затылок. Неизвестно, почему его лошадь
бежала так быстро: вожжи не были натянуты, а кнут торчал
на своем месте.
Кучер лукаво подмигнул, причем его красное и давно
не бритое лицо изобразило улыбку. Он сказал нам:
— В Камельфорд идете? На станцию? Я могу предло-
жить вам лифт, если пожелаете.
Мы сели.
Нам было отчасти совестно ставить свои пыльные ноги
на чистенький коврик щегольского экипажа. Но с этим ни-
чего нельзя было поделать.
Посадив седоков, кучер нежданно преобразился. Потя-
нул свой котелок с затылка на лоб. Сел прямо, подобрал
вожжи и даже потряс в воздухе длинным бичом. Лошадь,
пе нуждавшаяся в понукании, побежала быстрее.
— Халло, Том Пукер!—приветствовал нашего кучера
встречный шофер.
Но Том Пукер не удостоил его ответом — только сдер-
жанно кивнул.
16 С. Маршак, т. 6 481
Можно было подумать, что он везет не путников, вое-*
пользовавшихся «лифтом», а владельцев своего щегольского
Экипажа или, по меньшей мере, богатых американцев-тури-*
стов. Так серьезен и важен он стал.
Мне часто случалось видеть джентльменов типа Тома
Пукера, пляшущих и хлопающих от холода в ладони у
подъездов станций или гостиниц. В большинстве это — ко-
роткие и плотные люди, добродушные, нетрезвые, небри-
тые. Танцуя вокруг своих карет и экипажей в ожидании
седока, они непрестанно и скороговоркой болтают, как со-
роки.
Но Том Пукер был молчалив, как сфинкс.
— Много ли у вас бывает туристов? — спросил я на-
шего благодетеля.
— Много, сэр, в этом месяце много, — ответил Том и
замолчал.
— Что, американцы? — осведомился я снова.
— Много американцев, сэр.
— У американцев говорят с очень странным акцентом.
Не правда ли? — заметила моя дама.
Том Пукер обернулся к нам, и в «веселых глазах» его
зажегся юмористический огонек.
— С очень, очень странным акцентом, мэм (мэдэм).
Вы совершенно правы.
Подождав с минуту, он добавил:
— Они говорят сильно в нос, мэм.
Для пояснения он издал несколько соответствующих
носовых звуков.
Это нас рассмешило. Том Пукер окончательно ожи-
вился.
— У них выходит как-то «Амарэка», «Амарэкан».
Очень странно, мэм. Мы много их возим, сэр. Очень хоро-
шо платят, но любят хорошую езду. За двадцать лет я на-
учился подражать их говору. Мне случается часто разгова-
ривать с ними. Часто случается, сэр.
Том Пукер щелкнул в воздухе бичом, что испугало не
столько нашу лошадь, сколько проходившую по дороге ко-
рову. Корова взлезла передними ногами на зеленую изго-
родь, а Том продолжал:
— Видите ли, сэр, мы, кучера, никогда не заговариваем
первые. Иной раз скажешь что-нибудь седоку, а ему это
покажется глупым. Да некоторые седоки вовсе и не желают
разговаривать. Мы знаем, как обращаться с седоками, сэр-
482
Ии один порядочный кучер не заговорит с седоком первый.
Седок спросит: какова у вас здесь погода? Ответишь:
тепло и сухо, сэр. И замолчишь. Никто из нас не ввязы-
вается в разговор первый. Иному седоку наша речь может
показаться глупой...
Эта тема так полюбилась Тому, что он продолжал раз-
вивать ее до самого Камельфорда.
Том Пукер был и в самом деле порядочным и благовос-
питанным кучером. Но не все его коллеги отличались оди-
наковым джентльменством.
Тощий и угреватый малый, поравнявшись с нами, за-
кричал нам со своей линейки:
— Откуда, Том? Сколько взял?
Очевидно, малый догадывался, что мы только «лифт»,
а не платные седоки.
Том не ответил и еще больше приосанился.
Стремительно обернувшись, он спросил нас:
— Прикажете ехать быстрее, сэр?
У маленькой Камельфордской станции, терявшейся в
стороне от необъятно широкого полотна железной дороги,
мы очутились в веренице других экипажей и автомобилей.
Том подъехал к вокзалу, соскочил с козел и ловко помог
нам выбраться из экипажа.
Прощаясь с нами, он громко и явственно произнес:
— Благодарю вас, сэр. Доброй ночи! Счастливого пути!
Благодарить нас ему было решительно не за что. Бла-
годарить должны были мы. Если небо хочет облагодетель-
ствовать путника, оно должно послать ему вдогонку ка-
кого-нибудь Тома Пукера с его «лифтом».
Но у путника будет долго гудеть и жужжать в ушах от
сорочьей болтовни неугомонного возницы.
Лондон
16*
РЫБАКИ ПОЛПЕРРО
Очерк
1
Маленький, открытый дилижанс возит кочевников на-*
шего века — туристов от одного живописного уголка Кор-
нуолла до другого. Несмотря на тесноту, в нем помещается
десятка два совершенно одинаковых джентльменов и леди,
а на крыше высится целая гора однообразных чемоданов.
Но тот крошечный омнибус, который направляется из
городка Фой в деревушку Полперро, отличается, помимо
своей тесноты, необычным характером багажа на крыше:
тут все больше походные мольберты, разных размеров па-
литры и трубки непочатых холстов. Можно подумать, эми-
грирует некая академия художеств.
Художники едут на этюды, как и полагается художни-
кам. В летние месяцы причудливая, единственная в Корну-
олле да и во всей Англии деревушка привлекает множество
художественной молодежи со всех концов страны. Пусть
каждый уголок деревушки, каждое причудливое крылечко,
фасад, переулочек давно нарисованы и перерисованы, — у
юных художников всегда найдется достаточно интереса и
терпения для того, чтобы выискать какой-нибудь еще не
нарисованный косяк дома или некий балкончик на четырех
столбах, который принял свой живописный вид только в
последние дни: с тех пор, как пошатнулся.
Направляясь в Полперро пешком, я равнодушно погля-
дел на переполненный омнибус, с которым мне было по
пути, да не по карману, и пошел своей дорогой. Иные
484
чувства проявили те несколько джентльменов, которым не
удалось заблаговременно раздобыть места в этом Ноевом ков-
чеге. Одни из них принуждены были остаться в городе,
другие сделались моими невольными спутниками.
На половине дороги меня ждал крутой спуск к морю.
Полперро лежит в глубокой долине по соседству с малень-
кой бухтой Ла-Манша. Издали веет запахом сырости, а
над головой носятся вереницы чаек, указывающие путь
к морю.
Спускаясь к низинам Полперро, как-то неожиданно
оставляешь просторы сельской и пастушеской Англии и по-
падаешь в совершенно иной мир — в какую-то итальян-
скую рыбачью деревушку или в нашу Балаклаву.
Там, наверху, по сторонам проезжей дороги, идет сено-
кос. В огороженных участках полей нагружаются и мед-
ленно поворачивают к выходу неуклюжие возы с сеном.
Загорелые ребята в блузах, вправленных в брюки, в широко-
полых шляпах лениво работают вилами и тянут между де-
лом несвязную, монотонную, как жужжание шмелей в зной-
ный день, беседу. А едва только солнце начинает клониться
к закату, по дороге грохочут нескладные, старинного типа
велосипеды, на которых, пригнувшись и энергично дейст-
вуя педалями, катят по домам те же загорелые ребята,
сельские рабочие Корнуолла.
В других местах, где пет сенокоса, происходит стрижка
овец — страда пастушеской Англии. Среди нескольких зда-
ний, примыкающих к какой-нибудь ферме, центром ожив-
ления и деятельности является неглубокий погреб, откры-
тый со стороны проезжей дороги. В тени и прохладе трое-
четверо молодцов, оседлав по мохнатой овце, стригут ее
чистую, волнистую шерсть. Из-под искусных длинных нож-
ниц падают на землю пышные складки нераспадающейся
мантии и выступает темная, голая, покрытая полосами и
пятнами спина овцы.
Но в той глубокой котловине, где лежит рыбачье се-
ленье, люди не сеют, не жнут и не собирают пышных во-
локон овечьей шерсти. В кривых уличках и па базаре веет
нестерпимым запахом сырой рыбы. Сутулые рыбаки в своих
«кожах» (клеенчатых штанах), промокшие и просоленные
до костей, потрошат свой улов, ловко отделяя и отбрасывая
в сторону головы и внутренности крупной рыбы. Тощие со-
баки с длинными и узкими мордами, какие-то воистину
«орыбившиеся» четвероногие, кротко ждут своей доли до-
485
бычи. Менее спокойно ведут себя другого рода попрошай-
ки — морские птицы. Чайка доверчиво разгуливает подле
группы рыбаков. Но вот она снимается с места, будто вне-
запно чем-то разобиженная, и с визгом и плачем уносится
вдаль — по направлению к морю.
2
Для того чтобы основательно осмотреть деревушку и
даже коротко познакомиться с ней, довольно одного часа.
Размеры ее весьма ограниченные. К тому же деревня при-
выкла «сама себя показывать» приезжим людям.
В синей вязаной куртке, покуривая короткую трубочку,
греется на солнце один из патриархов деревни, Том Джо-
лиф. Стоит только единому туристу посетить селенье, как
старый Том вылезает из своей конуры и считает долгом
патриотизма продемонстрировать пред новым лицом «тип
старого Полперро». Его чистое, в юмористических мор-
щинках, лицо с бритой верхней губой и снегом окладистой
бороды, можно увидеть на бесчисленных открытках, продаю-
щихся в любой лавчонке Полперро, и на десятках холстов,
ежегодно выставляемых в Королевской Академии в Лондоне.
Нищий инвалид, ласково жмурящийся на пороге своей
лачуги, — не единственный представитель Полперро древ-
них лет. На берегу широкого бассейна, занимающего целую
площадь в центре деревушки и называемого рыбным база-
ром, в ряду каменных, давно не штукатуренных домиков
выдается деревянная пристроечка — закрытый с трех сто-
рон балкончик с крутой лестницей. Там неизменно сидит
другой из «патриархов» деревни, слишком богатый и неза-
висимый для того, чтобы служить любопытным образчиком
старого Полперро. С высоты второго этажа он снисходи-
тельно поглядывает на публику на тротуаре или читает га-
зету. Жена его, сморщенная старушка в платке поверх
белого чепца и широком переднике, тесно стянутом у пояса,
сидит на ступеньке своей лестницы и чинит вязаную рубаху^
С действительными рыбаками селенья, не инвалидами,
трудно познакомиться в один день. Иные из них на море,
иные отдыхают после ночной ловли по своим домам. Зато
художники, живущие в Полперро месяцами, успеваю^
быстро примелькаться новому лицу. Одна и та же девица-
художница в густо измазанном красками переднике, но
486
без малейшей краски в лице, просиживает с утра до ночи
у поворота в какой-нибудь тесный переулочек, где прячет-
ся мелководная речка с перекинутым в отдалении ветхим
мостиком.
Как бы ни бранили старые рыбаки Полперро наших
дней, приезжие туристы и художники ничуть не приручили
и не испортили коренного населения деревни. Рыбаки жи-
вут своим миром. Отчаливают, подымают паруса, вытяги-
вают на берег мокрые сети. На закате молодежь и пожи-
лые рыбаки — двумя отдельными группами — располагают-
ся на крутом берегу полукруглой бухты, где покачиваются,
будто связанные между собой, рыбачьи суда с длинными и
тонкими мачтами.
Строгие нравы господствуют в Полперро.
На лавочке у одного из домов селенья можно увидеть
в ясное утро или на закате трех девиц, трех темноволосых
и густо-румяных красавиц. Дом их — не груда камней с под-
слеповатыми окошками под самой крышей, а правильное
двухэтажное здание с большими окнами. Посередине перед-
него фасада расположены широкие, гостеприимные ворота,
за которыми открывается внутренний дворик, разубранный
клумбами цветов.
Не один молодой рыбак, проходя, оглядывается на трех
девиц и на пышный дворец их родителя, но и не подумает
остановиться и заговорить с красавицами. А девицы не от-
рывают глаз от синих джерси, которые они старательно вя-
жут для отца, для братьев. Бог весть для кого...
8
«Три макрели».
Маленькая вывеска качается от морского ветра у входа
в местный отель или трактир. Эта лачуга — прекрасная мо-
дель для этюдов «старого Полперро», но мало приспособлена
для целей жилья, хотя бы временного. На вывеске парисо-
ваны три рыбины, три макрели. Это и есть название отеля.
Физиономия хозяина, мистера Спарго, на вывеске не нари-
сована и, в отступлении от изобразительного метода, обо-
значена только его фамилия.
Но вот и он сам, толстый, с большими челюстями акулы,
с лицом в шрамах. Мистер Спарго — человек не рыбачьего
Звания и вида; вероятнее всего, пират, избравший на старое
сти лет надежную профессию кабатчика.
487
В баре у него сидят двое-трое рыбаков самого беспут-
ного вида. Остальная публика — приезжая.
Рыбаки, сидящие в баре, встречают новоприбывшего
гостя куда приветливее, чем хозяин трактира. Не успеет
он перешагнуть порог, как старый рыбак с красным лицом
и загорелой шеей моряка уже спешит заказать два стакана
мутного, зеленоватого пива — для себя и для гостя. А тупо-
лицая девушка, прислуживающая в баре, в течение несколь-
ких минут переводит взгляд с рыбака на гостя и обратно и
затем недоуменно спрашивает:
— Кто из вас платит?
Платит, конечно, не рыбак. Но если гость оказывается
человеком необщительным или недостаточно щедрым, оба
стакана убираются на дальнюю полку.
Старый рыбак и в таком случае не унывает. Он один и
поддерживает беседу в баре.
— Нет, Полперро не то, что было, — говорит он, го-
рестно вздыхая. — Мы, старики, в наше время не торчали
в деревне из года в год, мы уходили в Плимут, поступали
на службу к его величеству — или к какой-нибудь компа-
нии. Я-то сам плавал и под нашим флагом, и под американ-
ским, и на торговых судах. Я знаю, каково служить. А ты,
Чарли, на службу больше не собираешься?
Чарли, молодой рыбак, тяжело облокотившийся на стой-
ку, нехотя отвечает:
— Успею.
— Ждешь, пока отец умрет? Он у тебя крепкий старик,
сдастся не скоро.
У стройного, изворотливого в движениях Чарли — так же
резко выраженный тип пирата, как и у Спарго. Только глаза
его не бегают мошенническим образом, а смотрят нагло и
в упор.
Я обращаюсь к нему за своим делом. Хочу отправиться
с ним на ловлю ночью.
— Сколько возьмете с мепя?
— На этот счет мы сговоримся, сэр. Фунт, полтора.
— Трех «боб» * будет достаточно. Не так ли?
— Да, мы сойдемся, — неожиданно соглашается Чарли
и, наклоняясь к моему уху, шепчет: — Только не говорите
о деньгах при отце. Мы с ним вдвоем едем.
• Шиллингов (от англ. «bob»).
4S3
— Холодно будет, сэр, ночью, — вставляет свое замеча-
ние пьяный рыбак. — Бренди с собой захватите да ноги в
газетную бумагу заверните, когда поедете.
— Странные вещи творятся в Полперро нынче, — про-
должает он, неожиданно оставляя меня в покое и принима-
ясь опять за свою излюбленную тему. — Подумайте, сэр, —
«новые старые дома» строить начали.
— Как так «новые старые»?
— Это я старый дом строю, сэр, — замечает коренастый
краббер (ловец краббов), мужчина добродушного вида с
окладистой бородой. Он зашел к Спарго только на миг —
промочить горло. — Видите ли, сэр. Дом строится у меня
новый, но так, чтобы чуточку походил на старый. У меня
приезжие господа останавливаться будут, а они это
любят.
— Фасад грязноватый, — поясняет старый рыбак, —
крылечко покосившееся слегка. На лестнице ступеньку-дру-
гую пропустить можно. Обходится дешевле, а приезжим
господам нравится.
Рыбаки и крабберы сдержанно смеются.
Только у трезвой группы рыбаков, недавно заглянувшей
в трактир, идут разговоры на деловые темы. Вполголоса они
толкуют между собой о тучах па небосклоне, о перемене
ветра и о мерланах, которые пройдут пред рассветом стаей...
4
В назначенный час я нашел Чарли на берегу. Только его
огонек светился на пристани; другие рыбаки еще не со-
брались. Молодой рыбак был еще под влиянием дневного
хмеля. При свете сонного огонька он долго и нетерпеливо
распутывал «line», осмоленную и довольно толстую веревку,
с которой охотятся на ротозеев-мерланов. Приготовил и
удочку, предназначавшуюся для более шустрой и наблю-
дательной рыбки, макрелей. Занятый делом, Чарли не сразу
откликнулся на голос отца, который привел свою лодку к
концу мола и оттуда звал сына.
В тумане лунной ночи мы осторожно пробираемся сквозь
тесные ряды спящих лодок и, отталкиваясь от них, поки-
даем бухту.
Отъехав немного, Чарли и старик принялись подымать
парус.
489
— Я в Плимут собираюсь на днях, — нарушил молча-
ние Чарли. — Тут вы агента подговорили не брать меня на
службу, а в Плимуте меня возьмут.
Старик ничего не ответил на неожиданное заявление
сына и только обратился ко мне:
— Поберегитесь, сэр. Я перебрасываю парус.
— А если не возьмут, я в Фой пойду — в лодочники, —
продолжал неугомонный Чарли. — Меня лодочник из Фоя
звал — вчера в «Макрелях».
— Не болтай лишнего, малый. Да приготовь приманку,
смотри — хватит ли ее у тебя? А то опять придется макре-
лей на приманку крошить... Вот здесь мы якорь кинем.
— Каким образом вы узнаете места? — спросил я у
старика, видя, что он высматривает для остановки опреде-
ленный пункт.
— А у нас есть старинные меты. Слева на берегу дере-
во, справа дом, да маяк в море. Таких мет у нас множество.
Еще предками установлены.
И дом и дерево были почти неразличимы в сумраке.
Только маяк светился где-то, как неясная, низкая звездочка.
Но зоркий взгляд старика отыскал привычные меты.
Подняли тяжелый, заржавелый якорь и швырнули его
в темную глубину. Зыбкое суденышко закачалось, но при-
росло к месту так же надежно, как большой корабль, став-
ший на якорь. Через несколько мгновений выбросили «лайн»
и стали вытаскивать белых мерланов — сначала одного за
другим, а потом реже.
Хмельному Чарли не везло. Рыба поминутно срывалась
у него, и он ворчал. Старик удил молча, но зато чаще пере-
брасывал трепещущую рыбу в ведро, стоявшее на конце у
Чарли. Порой рыба падала на дно лодки и, очнувшись, мета-
лась от кормы до середины.
— Отец! — снова начал Чарли, забыв про ужение. —•
Если вы не отпустите меня, я убегу. Как-нибудь, когда буду
один в лодке, я поеду через пролив к французским
рыбакам.
— К французским рыбакам? — грозно переспросил ста-
рик. Сумасбродная идея Чарли нарушила наконец его ду-
шевное равновесие.
В эту самую минуту неудачливая полуаршинная рыбина
с огромной головой и чудовищной пастью, сродни акулам,
проглотила его крючок. ЭТУ рыбу, называемую по-английски
«dog-fish» (собака-рыба), рыбаки в пищу не употребляют,
490
но и не выбрасывают в море живой, так как считают
ее вредной хищницей, пожирающей множество мелкой ры-
бешки.
Старик схватил ее за хвост и с яростью ударил о борт
лодки. Длинное, узкое туловище «собаки-рыбы» изогнулось
и застыло в мучительном напряжении. Старик взглянул на
нее, когда она снова вытянулась и стала в его руках прямой,
как палка, — и хлопнул о борт.
Затем перебросил ее, всю окровавленную, но еще жи-
вую, сыну.
— Режь на приманку, когда вся выйдет. Все же лучше,
чем крошить макрелей.
Понемногу стало светать, хотя солнце появилось еще не
скоро. Наконец просветлели и нежно окрасились волны, и
жадные чайки, кружившиеся до того над нашей лодкой,
успокоились и закачались на волнах.
Только изредка одна из белых птиц подымалась над
волной, сжимая лапки и летя в неизвестном направлении с
голодным, печальным криком. Иногда ей удавалось схва-
тить что-нибудь перед полетом — какой-нибудь кровавый
остаток от dog-fish, выкинутый за борт, — и тогда в прон-
зительных криках птицы слышалось торжество.
Рыбаки удили до полудня.
В знойные часы на море было тихо и безветренно;
тише, чем на рассвете. Чайки — все до единой — исчезли с
нашего горизонта. Старик и Чарли прекратили ловлю и за-
стыли, каждый на своем конце лодки, ожидая ветра или по-
просту отдыхая после девяти часов однообразного труда.
Чарли низко наклонил голову, отяжелевшую от вчераш-
него хмеля, бессонницы и сумасбродных ночных дум. Быть
может, ему все еще мерещились французские рыбаки, о
которых он говорил ночью, или беспечные флотилии лодок
с флагами и музыкой в веселом городке Фой.
Старик, сонно мигая покрасневшими веками, смотрел в
сторону берега, и на лице его отражалась какая-то давняя,
тяжкая забота.
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
Славянская сказка
Знаешь ли ты, сколько месяцев в году?
Двенадцать.
А как их зовут?
Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август,
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Только окончится один месяц, сразу же начинается дру-
гой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел
раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель.
Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются.
Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии
была девочка, которая видела все двенадцать месяцев
сразу.
Как же это случилось?
А вот как.
В одной маленькой деревушке жила злая и скупая жен-
щина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падче-
рица ничем ей не могла угодить. Что ни сделает падчери-
ца — все не так, как ни повернется — все не в ту сторону.
Дочка по целым дням на перине валялась да пряники
ела, а падчерице с утра до ночи и присесть некогда было:
то воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то белье на
речке выполощи, то грядки в огороде выполи.
Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний
ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и довелось ей
однажды увидеть все двенадцать месяцев разом.
Была зима. Шел январь месяц. Спегу намело столько,
что от дверей его приходилось отгребать лопатами, а в лесу
492
на горе деревья стояли по пояс в сугробах и даже качаться
пе могли, когда на них налетал ветер.
Люди сидели в домах и топили печки.
В такую-то пору, под вечер, злая мачеха приоткрыла
дверь, поглядела, как метет вьюга, а потом вернулась к теп-
лой печке и сказала падчерице:
— Сходила бы ты в лес да набрала там подснежников.
Завтра сестрица твоя именинница.
Посмотрела на мачеху девочка: шутит она или вправду
посылает се в лес? Страшно теперь в лесу! Да и какие среди
зимы подснежники? Раньше марта месяца они и не по-
явятся на свет, сколько их ни ищи. Только пропадешь в лесу,
увязнешь в сугробах.
А сестра говорит ей:
— Если и пропадешь, так плакать о тебе никто не ста-
нет! Ступай да без цветов не возвращайся. Вот тебе кор-
зинка.
Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вы-
шла из дверей.
Ветер снегом ей глаза порошит, платок с нее рвет. Идет
она, еле ноги из сугробов вытягивает.
Все темнее становится кругом. Небо черное, ни одной
звездочкой на землю не глядит, а земля чуть посветлее. Эт0
от снега.
Вот и лес. Тут уж совсем темно — рук своих не разгля-
дишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все
равно, думает, где замерзать.
И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек — будто
Звезда среди ветвей запуталась.
Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонет в сугро-
бах, через бурелом перелезает. «Только бы, думает, огонек
не погас!» А он не гаснет, он все ярче горит. Уж и теплым
дымком запахло и слышно стало, как потрескивает в огне
хворост.
Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так
и замерла.
Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки
большой костер горит, чуть ли не до самого неба достает.
А вокруг костра сидят люди — кто поближе к огню, кто по-
дальше. Сидят и тихо беседуют.
Смотрит на них девочка и думает: кто же они такие?
На охотников будто не похожи, на дровосеков еще того
493
меньше: вон они какие нарядные — кто в серебре, кто в зо
лоте, кто в зеленом бархате.
Стала она считать, насчитала двенадцать: трое старых,
трое пожилых, трое молодых, а последние трое — совсем
еще мальчики.
Молодые у самого огня сидят, а старики — поодаль.
И вдруг обернулся один старик — самый высокий, боро-
датый, бровастый — и поглядел в ту сторону, где стояла де-
вочка.
Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает
ее старик громко:
— Ты откуда пришла, чего тебе здесь нужно?
Девочка показала ему свою пустую корзинку и гово-
рит:
— Нужно мне набрать в рту корзинку подснежников.
Засмеялся старик:
— Это в январе-то подснежников? Вон чего выдумала!
— Не я выдумала, — отвечает девочка, — а прислала
меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне
с пустой корзинкой домой возвращаться.
Тут все двенадцать поглядели на нее и стали между со-
бой переговариваться.
Стоит девочка, слушает, а слов не понимает — будто рто
не люди разговаривают, а деревья шумят.
Поговорили они, поговорили и замолчали.
А высокий старик опять обернулся и спрашивает:
— Что же ты делать будешь, если не найдешь подснеж-
ников? Ведь раньше марта месяца они и не выглянут.
— В лесу останусь, — говорит девочка. — Буду марта
месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой
без подснежников вернуться.
Сказала рто и заплакала.
И вдруг один из двенадцати, самый молодой, веселый,
в шубке на одном плече, встал и подошел к старику:
— Братец Январь, уступи мне на час свое место!
Погладил свою длинную бороду старик и говорит:
— Я бы уступил, да не бывать Марту прежде Февраля.
— Ладно уж, — проворчал другой старик, весь лохма-
тый, с растрепанной бородой. — Уступи, я спорить не стану!
Мы все хорошо ее знаем: то у проруби ее встретишь с вед*
рами, то в лесу с вязанкой дров. Всем месяцам она своя.
Надо ей помочь.
494
— Ну, будь по-вашему, — сказал Январь.
Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил:
Не трещите, морозы,
В заповедном бору,
У сосны, у березы
Не грызите кору!
Полно вам воронье
Замораживать,
Человечье жилье
Выхолаживать!
Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потре-
скивать от мороза деревья, а снег начал падать густо, боль-
шими, мягкими хлопьями.
— Ну теперь твой черед, братец, — сказал Январь и
отдал посох меньшому брату, лохматому Февралю.
Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел:.
Ветры, бури, ураганы,
Дуйте что есть мочи!
Вихри, вьюги и бураны,
Разыграйтесь к ночи!
В облаках трубите громко,
Вейтесь над землею.
Пусть бежит в полях поземка
Белою змеею!
И только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный,
мокрый ветер. Закружились снежные хлопья, понеслись по
Земле белые вихри.
А Февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и
сказал:
— Теперь твой черед, братец Март.
Взял младший брат посох и ударил о землю.
Смотрит девочка, а это уже не посох. Это большая ветка,
вся покрытая почками.
Усмехнулся Март и запел звонко, во весь свой мальчи-
шеский голос:
Разбегайтесь, ручьи,
Растекайтесь, лужи,
Вылезайте, муравьи,
После зимней стужи!
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.
495
Девочка даже руками всплеснула. Куда девались высо-
кие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой
ветке?
Под ногами у нее — мягкая весенняя земля. Кругом
каплет, течет, журчит. Почки на ветвях надулись, и уже
выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые ли-
стики.
Глядит девочка — наглядеться не может.
— Что же ты стоишь? — говорит ей Март. — Торопись,
нам с тобой всего один часок братья мои подарили.
Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники
искать. А их видимо-невидимо. Под кустами и под камнями,
на кочках и под кочками — куда ни поглядишь! Набрала
она полную корзину, полный передник — и скорее опять па
полянку, где костер горел, где двенадцать братьев сидели.
А там уже ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне,
да не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца,
что взошел над лесом.
Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и по-
бежала домой.
А месяц за нею поплыл.
Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей —
и только вошла в дом, как за окошками опять загудела зим-
няя вьюга, а месяц спрятался в тучи.
— Ну, что, — спросили ее мачеха и сестра,— уже домой
вернулась? А подснежники где?
Ничего не ответила девочка, только высыпала из перед-
ника на лавку подснежники и поставила рядом корзинку.
Мачеха и сестра так и ахнули:
— Да где же ты их взяла?
Рассказала им девочка все, как было. Слушают они обе
и головами качают — верят и не верят. Трудно поверить, да
ведь вот на лавке целый ворох подснежников, свежих, голу-
беньких. Так и веет от них мартом месяцем!
Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают:
— А больше тебе ничего месяцы не дали?
— Да я больше ничего и не просила.
— Вот дура, так дура! — говорит сестра. — В кои-ю
веки со всеми двенадцатью месяцами встретилась, а ничего,
кроме подснежников, не выпросила. Ну, будь я на твоем
месте, я бы знала, чего просить. У одного — яблок да груш
сладких, у другого — земляники спелой, у третьего — гри-
бов беленьких, у четвертого — свежих огурчиков!
496
«— Умница, доченька! — говорит мачеха. — Зим°й зем-
лянике да грушам цены нет. Продали бы мы все это и
сколько бы денег выручили! А рта дурочка подснежников
натаскала! Одевайся, дочка, потеплее да сходи на полян-
ку. Уж тебя они не проведут, хоть их двенадцать, а ты
одна.
— Где им!—отвечает дочка, а сама — руки в рукава,
платок на голову.
Мать ей вслед кричит:
— Рукавички надень, шубку застегни!
А дочка уже за дверью. Убежала в лес.
Идет по сестриным следам, торопится. «Скорее бы, ду-
мает, до полянки добраться!»
Лес все гуще, все темней. Сугробы все выше, бурелом
стеной стоит.
«Ох, — думает мачехина дочка, — и зачем только я в лес
пошла! Лежала бы сейчас дома в теплой постели, а теперь
ходи да мерзни! Еще пропадешь тут!»
И только она рто подумала, как увидела вдалеке ого-
нек — точно звездочка в ветвях запуталась.
Пошла она на огонек. Шла, шла и вышла на полянку.
Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра
сидят двенадцать братьев, двенадцать месяцев. Сидят и тихо
беседуют.
Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклони-
лась, приветливого слова не сказала, а выбрала место, где
пожарче, и стала греться.
Замолчали братья-месяцы. Тихо стало в лесу. И вдруг
стукнул Январь-месяц посохом о землю.
— Ты кто такая? — спрашивает. — Откуда взялась?
— Из дому, — отвечает мачехина дочка. — Вы нынче
моей сестре целую корзинку подснежников дали. Вот я и
пришла по ее следам.
— Сестру твою мы знаем, — говорит Январь-месяц. —
А тебя и в глаза не видали. Ты зачем к нам пожаловала?
— За подарками. Пусть Июнь-месяц мне земляники
в корзинку насыплет, да покрупней. А Июль-месяц — огур-
цов свежих и грибов белых, а месяц Август — яблок да
груш сладких. А Сентябрь-месяц — орехов спелых.
— Погоди, — говорит Январь-месяц. — Не бывать лету
перед весной, а весне перед зимой. Далеко еще до Июня-
месяца. Я теперь лесу хозяин, тридцать один день здесь
Царствовать буду.
497
— Ишь какой сердитый!—говорит мачехина дочка.—
Да я не к тебе и пришла — от тебя, кроме снега да инея, Ни-
чего не дождешься. Мне летних месяцев надо.
Нахмурился Январь-месяц.
— Ищи лета зимой! — говорит.
Махнул он широким рукавом, и поднялась в лесу метель
от земли до неба — заволокла и деревья и полянку, на ко-
торой братья-месяцы сидели. Не видно стало за снегом и
костра, а только слышно было, как свистит где-то огонь, по-»
трескивает, полыхает.
Испугалась мачехина дочка.
— Перестань! — кричит. — Хватит!
Да где там!
Кружит ее метель, глаза ей слепит, дух перехватывает.
Свалилась она в сугроб, и замело ее снегом.
А мачеха ждала-ждала свою дочку, в окошко смотрела,
за дверь выбегала — нет ее, да и только. Закуталась она по-
теплее и пошла в лес. Да разве найдешь кого-нибудь в чаще
в такую метель и темень!
Ходила она, ходила, искала-искала, пока и сама не за-
мерзла.
Так и остались они обе в лесу лета ждать.
А падчерица долго на свете жила, большая выросла, за-
муж вышла и детей вырастила.
И был у нее, рассказывают, около дома сад — да такой
чудесный, какого и свет не видывал. Раньше, чем у всех,
расцветали в ртом саду цветы, поспевали ягоды, наливались
яблоки и груши. В жару было там прохладно, в метель тихо.
— У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом го-
стят! — говорили люди.
Кто знает — может, так оно и было.
ВЕСЕННИЕ ОБЛАКА
На мгновение разорвалась легкая ткань весенних обла-
ков, и солнце, так недавно казавшееся тусклым и неболь-
шим диском, затерянным в небе, вновь загорелось ослепи-
тельным светом и во все стороны устремило яркие, острые
лучи.
Это было на склоне дня, и золотой свет солнца на тро-
туаре явился только грустным предчувствием вечера. Мы
бродили по людным улицам фабричного загорода, изредка
перекидываясь словами, но больше всего отдаваясь, каж-
дый в отдельности, смутным и печальным настроениям
городской весны. Иногда нас останавливал сильный по-
рыв ветра, захватывавший наше дыхание, и тогда мы из-
меняли направление нашего пути, но домой не возвраща-
лись.
Медленно качалась подвешенная вывеска, кружились
мелкие клочки бумаги. Прохожие тревожно заслонялись от
ветра. Но настоящее царство ветров, где они чувствовали
себя на полной воле, было весеннее небо с потемневшими
облаками, такими огромными, но послушными каждому лег-
кому дыханию ветра. Картина вечереющего неба менялась
поминутно. Куда-то исчезали прежние нагромождения обла-
ков, и на смену им являлись новые. Порой открывалась блед-
ная голубизна небес — и на нее стремительно и неуклонно
неслись ближние и дальние волокна, пока не закрьь
вали ее.
499
За каменным забором высились черные стволы деревьев.
Выглянуло солнце — и они стали еще чернее. Причудливо
застыли резко и остро изогнутые ветви.
— Я не люблю весну, — сказала моя приятельница. —
Весной бывает тоска и бессонница и я много плачу. А пом-
ню, когда-то, когда была девочкой, я любила ее. Я много
спала весной — и ночью и днем. Особенно сладко спалось
днем. А сны какие бывали!
Ветер утих. Облака плыли, как во сне. Солнце таяло за
белым, густым облаком.
— Какие же сны бывали у вас?
— Вот как эти облака. Быстрые, беспорядочные и не-
прерывные. И такие же тяжелые и бурные, как облака.
ИЗУМРУДНЫЙ ОСТРОВ
Из путевых очерков «По Ирландии»
I
После долгого и безвыездного пребывания в Англии ни-
что не может так сильно освежить душу, как прогулка по
вольной и пуст(ынной?> Ирландии. Я проделал около сотни
миль пешком, странствуя по берегам величественного Шан-
нона, и мне казалось, что я уехал из Лондона давным-давно,
лет десять тому назад, и нахожусь на расстоянии многих
тысяч миль от Англии.
Я отправился не в протестантский Ольстер, не в Бел-
фаст, куда устремляются ныне десятки и сотни корреспон-
дентов \ даже не в Дублин, центр национально-католической
Ирландии, где также бьет ключом политическая жизнь^ а на
юг и на запад страны, в один из глухих углов.
Незадолго пред моей поездкой туда я слышал беседу
нескольких англичан, друзей Ирландии.
Один из них пел старую ирландскую песню:
Картофель уродился у нас мелкий и редкий
На холмах, на холмах.
Мы роем его в листопад,
Мы роем его в листопад,
Полные тревоги,
Полные тревоги.
О, я хотел бы, чтобы мы все были... гуси...
< Ночью и днем,
Ночью и днем.)
О, я хотел бы, чтобы мы все были гуси.
Ибо они клюют зерно в тишине и покое,
Пока не приходит для них смертный час...
Смертный час.
501
Мелодия покорно-грустная и ленивая.
Ирландия пережила на своем веку очень трудные и
грустные времена: преследования, голод, нужду. Огромные
просторы ее пустынны и невозделаны. Восьмая часть страны
занята болотами. Картофель — главная пища ирландцев, и
неурожай его мог породить не одну песню скорби и отчая-
ния — наподобие той, какую мне привелось услы-
шать.
— Правда, население Ирландии небогато, — сказал один
из моих собеседников-англичан. — А между тем почва там
очень плодородная. С восьмидесятых годов прошлого столе-
тия парламент занимается очень серьезными земельными
реформами в Ирландии. Чуть ли не три четверти земли вы-
куплено у лордов и предоставлено земледельцам на самых
льготных условиях2. Для бедноты строятся прекрасные кот-
теджи, за которые они выплачивают очень небольшие про-
центы. Иной платит за свой участок земли два — пять шил-
лингов в год — и все-таки жалуется. Иной раз они жалуются
неискренне, не всерьез. В ртом проявляется особый юмор
ирландцев.
— Говорят, что ирландцы ленивы, — заметил другой
англичанин, — между тем в Америке, где их в десять раз
больше, чем на родине, они отлично преуспевают, богатеют
и играют большую роль в политической и общественной
жизни. Некоторые полагают, что влажно-теплый климат их
родины повинен в эт°й бездеятельности и лени населения.
А может быть, в этом виновата вековая борьба и вековые
преследования.
— Непременно побывайте в Ирландии, — посоветовал
мне один из моих собеседников, — вы почувствуете себя
там на полной воле. Ирландцы не признают правил, зако-
нов. В вагонах железных дорог набивается такое коли-
чество людей, которое явно противоречит числу пассажи-
ров, обозначенных в уставе. Вот вам пример ирландской
точности и аккуратности. На одной из веток железной до-
роги поезд подходит к пересечению линий. Там ворота —»
шлагбаум. Поезд издали дает свисток. Но сторожа на месте
не оказывается: ушел по своим делам. После нескольких
тщетных призывов поезд дает задний ход, а затем нале-
тает на ветхое заграждение и сшибает его. Вот что бывает
в Ирландии.
— Но какой это добрый, гостеприимный и поэтичный
народ, — единодушно вырывается у всех.
502
Мне уже не раз приходилось слышать об этой стороне
характера ирландцев, я знаю их легенды. Одна из них
рассказывает о четырех всадниках (The riders of the
Shee 0), которые стерегут весь мир, объезжая его кругом
днем и ночью и держа в руках четыре древних символа:
кольцо, чашу, голубя и крест.
Я слышал песни ирландцев. К сожалению, их маленькая
«галльская арфа» давно уже перестала быть национальным
инструментом в их стране. Теперь ее можно увидеть только
у какого-нибудь редкого любителя музыки или любителя
старины.
KI
Фишгардский экспресс примчал меня, пролетая сквозь
туннели и не останавливаясь на станциях, в Фишгард. За
окнами мелькали синие «сахарные головы» уэлльских гор.
Из Фишгарда до Роеслера, ирландской гавани, установлен
самый короткий из всех рейсов, которые только имеются
между Англией и Ирландией: всего 23/4часа. Но и в этот
короткий период бурное и своенравное Ирландское море
дает себя почувствовать. Пароход подбрасывает, как фут-
больный мяч. Брызги перелетают через палубу, и у пасса-
жиров остается на губах едкий, соленый привкус.
Но вот и невысокий берег Росслерской гавани.
После стремительного экспресса и плавания по бурному
морю приятно отдохнуть в покойном и неторопливом поезде
ирландской железной дороги. За окнами — мирная зеленая
равнина, озаренная закатом, догорающим за покатыми
холмами на горизонте. Вот они — просторы, где трудятся
земледельцы, терпеливо идущие за плугом. Деревни с из-
бами, крытыми соломой. Стада, вольно бродящие по диким
пастбищам без присмотра пастухов.
Даже в вагоне царит настроение, какого не бывает
в английских вагонах. Там пассажиры редко вступают
в разговор. Читают газету или смотрят в окно.
Здесь же очень быстро завязывается всеобщая беседа.
Старушка с дочерью возвращаются из Англии и ругают
англичан и все английское. К ним присоединяется старая
дева, учительница, пользующаяся случаем провести па-
* Всадники из Ши (англ.).
503
раллель между Ирландией и Англией, обычаями и нравами
обеих стран.
— Мама ни за что не хотела оставаться в Англии, —•
говорит бледная девушка.— Мне лично нравилось там жить.
Англичане живут богаче и веселее. Но мама настояла на
своем.
Старушка на вид кроткая-прекроткая. Но видно, что
у нее хватило решимости и упорства для того, чтобы на-
стоять на возвращении на родину. Губы у нее крепко
сжаты, а на лбу упрямая морщинка.
Она добилась своего и выглядит довольной и умиро-
творенной.
— Англичане очень много едят. Ах, как они много
едят. И всегда мясо.
— У англичан нет никакой религии. Вот только в цер-
ковь ходят по воскресеньям.
— Это правда, совершенная правда! — восклицает учи-
тельница. — Я часто дразнила моих знакомых англичан тем,
что их разводы недействительны. Их религия допускает
развод, но ведь мы, католики, знаем, что никто не может
развести супругов помимо святого престола. Я говорила
одной даме, которая развелась и снова вышла замуж, что
у нее теперь два мужа.
— Англичане ужасно любят деньги.
Кто-то, защищая англичан, говорит, что они энергичны,
культурны и свободны от суеверий — между тем ирландцы
до сих пор верят в фей и ведьм.
— Мама верит, — говорит бледная девушка.
Кроткая «мама» улыбается и кивает головой.
— Да, я верю.
— Какие же они бывают — феи? — спрашиваю я.
— Разные: добрые и злые, светлые и темные.
— А где они живут?
— В пещерах, в лесу, да и в домах иногда, — отвечает
старушка, улыбаясь...
Кто-то противопоставляет немузыкальность англичан му-
зыкальности ирландцев.
По этому случаю пожилая учительница даже спела куп-
лет одной народной песни:
Ах, продам тебя я, прялка.
Я продам веретено.
Мне себя самой не жалко,
Жизнь иль смерть — мне все равно.
504
Я мог бы проездить по английским железным дорогам
десяток лет, а не услышал бы песни — особенно из уст
старой девы...
В этот день я приехал в большой город Лимерик, где
я рассчитывал переночевать перед тем, как отправиться
в путь — по левому берегу реки Шаннон. Рано утром я вы-
шел побродить по улицам и заглянул в парк. У необычайно
высокого памятника с классически задрапированной фигу-
рой на скамье сидел молодой человек.
— Чей это памятник? — полюбопытствовал я.
— Сторонника Унии между Англией и Ирландией3, Си-
ринг Райса. Памятник, правда, красивый, но лучше бы он
не стоял здесь. Вот было бы время убрать его... теперь,
когда гомруль станет законом и уния тысяча восьмисотого
года будет уничтожена.
Худощавый молодой человек произнес эти слова очень
Энергично. Впалые глаза его засветились гневным огоньком.
Я сообщил ему, что я иностранец и нахожусь в Ирлан-
дии впервые.
Молодой человек счел своим долгом прочесть мне целую
лекцию об Ирландии и ее прошлом.
Об англичанах и их политике в Ирландии он говорил
с озлоблением, весь дрожа. В воздухе веяло сыростью и ран-
ней прохладой, и этим можно было отчасти объяснить дрожь
моего собеседника, который был в легком пиджачке без
пальто.
Я спросил его:
— Примирит ли вас с Англией ваша автономия?
— Не знаю, не думаю, — увлеченно ответил молодой
человек, — века преследований не забываются. Мы все были
бы счастливы, если бы какая-нибудь держава отторгла нас
от Англии... Сколько способностей и дарований погибало и
погибает в нашей стране даром. Сколько естественных
богатств не использовано из-за религиозной вражды. Капи-
талы находятся, главным образом, у протестантов. Все
крупные фермы в их руках. Вот отчего нашей молодежи
так трудно пробивать себе дорогу. Вы побродите по Ирлан-
дии, вы узнаете и полюбите наш народ. О, это прекрасный
народ. Пойдите в наши доки здесь в Лимерике, и вы услы-
шите много глубоких и остроумных вещей, каких бы не
сказал никакой писатель или профессор. Ни одного бран-
ного слова вы не услышите в наших тихих доках. На днях
я прихожу на почту рано утром. Вижу, стоят двое рабочих-
505
грузчиков. Дрожат от холода. «Что, спрашивают, пришли ли
газеты. Мы хотим узнать результат голосования в Палате
общин после второго чтения гомруля» 4. А еще говорят, что
наше простонародье не интересуется гомрулем.
Городские часы пробили девять. Молодой человек, еще
не остывший от недавнего волнения, поплелся на службу.
Город давно проснулся. По улицам ходили женщины
в черных шалях — без шляп. (В Англии последняя прачка
или деревенская жительница выходят на улицу не иначе,
как в шляпке. Даже цыганки — и те носят шляпы!)
На почте ко мне подошел высокий, прямой старик и
сказал мне строго и просто:
— Пишите мне телеграмму, — и не дожидаясь моего
согласия, продиктовал: — «Килдайсарт. О’Сёлливану. Везти
ли телят на базар или оставить их дома».
После высоко просвещенной Англии меня даже тронул
Этот экземпляр неграмотности, невежества. Старик напом-
нил мне родную мне Россию...
Мой утренний знакомый был прав. Доки Лимерика ока-
зались необычно тихими. Ни гулкой брани, ни выкриков.
Добродушные грузчики вели за работой тихую беседу,
столь несвойственную людям их профессии: будто старушки
у камина.
Если в воздухе и слышались здесь какие-нибудь крики,
то они принадлежали чайкам, галкам и воронам, носив-
шимся над доками.
Снежно-белые и черные птицы мелькали над водой и кру-
жились над мачтами парусных судов, прибывших издалека.
ВЕРБЛЮД В СВИНЬЯ
Верблюд сказал:
— Я рад, что у меня длинные ноги и длинная шея. Это
очень удобно.
Свинья сказала:
— А я рада, что у меня короткие ноги и короткая шея.
Это гораздо удобнее.
Верблюд сказал:
— Давай поспорим. Если ты окажешься права, я отдам
тебе свой горб.
Свинья сказала:
— Давай. Если ты окажешься прав, я отдам тебе свой
пятачок!
— Ладно! — сказала свинья.
— Идет! — сказал верблюд.
Они пошли вместе и остановились у сада. Сад был об”
несен низкой оградой, а калитки не было. Верблюд, не долго
думая, вытянул шею и стал срывать с веток сладкие плоды.
А свинье ничего не досталось.
Верблюд позавтракал и сказал свинье:
— Ну, кто из нас прав?
— Пойдем дальше! — сказала свинья.
Пошли дальше и пришли к огороду. Вокруг огорода была
очень высокая ограда, а калитка была очень низенькая.
Свинья вошла в огород и стала есть вкусные овощи, которые
росли на земле. А верблюд не мог войти и остался за оградой.
Свинья пообедала и, выйдя из калитки, сказала вер-
блюду:
— Ну, кто из нас прав?
Спорили они, спорили да и порешили, что верблюд
останется со своим горбом, а свинья со своим рылом.
ЗАМОК ИНЧИКУИНА
Я учился в английском колледже. Был у нас рыжий сту-
дент, потомок древних ирландских королей. Звали его
Инчикуин. Ему было всего шестнадцать лет. Мы с ним учи-
лись вместе целый год, а никогда не разговаривали.
У него было всего два приятеля — с ними он ездил верхом
по парку каждое утро перед завтраком. А на других сту-
дентов и смотреть не хотел.
Как-то раз я вышел после лекции в сад. Было это вес-
ной, солнце начинало припекать. Вимсу — на скамейке си-
дит Инчикуин, без шапки, в руках держит книжку. Ветерок
растрепал его рыжий пробор.
— Проклятая латынь! — бормочет Инчикуин, намор-
щив маленький лоб.
Я молчу.
Инчикуин вынул изо рта трубку и говорит сквозь
зубы:
— Послушайте, вы что-нибудь смыслите в латыни?
Будь я проклят, если когда-нибудь пойму хоть одну латин-
скую строчку.
— Давайте, я вам помогу, — сказал я и быстро перевел
ему несколько строк.
— О, — сказал Инчикуин, — вы, иностранцы, дьяволь-
ски умный народ! А для меня латынь все равно что гот-
тентотский язык. Пожалуйста, переведите еще раз, я за-
пишу.
Ничего не поделаешь — пришлось продиктовать ему
страницу из Овидия.
508
Он то и дело прерывал меня и спрашивал, как пишутся
слова.
— Да ведь я диктую вам не по-латыни, а по-анг-
лийски — на вашем же родном языке!
Инчикуин не смутился и сказал очень весело:
— Будь я проклят, если я когда-нибудь одолею анг-
лийское правописание! Для меня это китайская гра-
мота!
После этого случая не только Инчикуин, но и его това-
рищи стали при встрече улыбаться мне.
Я часто слышал, как они говорят между собой:
— О, эти иностранцы — чертовски умный народ! Жарят
Овидия, как «Отче наш».
Однажды я сидел в нашей маленькой тихой университет-
ской библиотеке. Инчикуин вошел в комнату, перелистал
журнал «Хоккей», а потом от нечего делать подсел к моему
столику. В библиотеке нельзя было курить — поэтому он
держал во рту потухшую трубку.
— Слушайте, — сказал он, — знали ли вы в России од-
ного человека, я забыл его фамилию. Кончается на «ский»...
Славный парень, ростом в шесть футов!
Я ничего не мог ему ответить, но он и не ждал моего
ответа.
— Слушайте, — сказал он опять. — А знакомы ли вы
с русским царем, то есть я хочу сказать — бываете ли во
дворце? Я в прошлом году видел вашего великого князя.
Позабыл только, как его зовут. Кажется, Михайловна.
Я очень любил читать книги о средневековых рыцарях.
Инчикуин увидел у меня в руках книгу, которая называлась
«Ирландский замок». На первой странице были изображены
развалины замка с деревьями на крыше.
— О, — сказал Инчикуин, — у меня у самого есть
в Ирландии замок. Ему восемьсот двадцать три года.
— А башни уцелели? — спросил я.
— Да, башни, подъемный мост и все прочее. На реке
Шаннон, недалеко от деревни Килдайсарт. Красивый вид.
Приезжайте посмотреть. Только мы живем не в замке,
а в двух милях от него. У меня дома отличные лошади.
509
Читали вы в газетах о Ирландской Девушке, которая взяла
приз на Дерби? Это моя кобыла.
Я записал адрес Инчикуина на обложке «Ирландского
замка».
Летом я жил в английской деревне у подножия высоких
гор, похожих на сахарные головы. Гладко вымощенная^
будто полированная дорога проходила через деревню, а по-
том вилась в горах.
Деревня была чистенькая, уютная, ,вся увитая розами и
диким виноградом. Я жил в небольшом двухэтажном доме,
а против моего окна высился столб с блестящей вывеской
гостиницы: «Королевская таверна. Автомобильный клуб».
По дороге то и дело проезжали автомобили.
Зашел я раз в бакалейную лавочку за папиросами «Зо-
лотой мундштук». В лавочке пахло всеми английскими ко-
лониями: тут были ящики кофе, какао и корицы, а на стене
висели целые ветви желтых, слегка почерневших бананов.
Перед прилавком стоял высокий и прямой юноша в ро-
говых очках. Не шевелясь, он смотрел на лавочника в упор
и допрашивал его, как следователь.
— Лучше всего, — говорил пискливым голосом лавоч-
ник, сидя на высокой табуретке, — лучше всего доехать по
железной дороге до гавани Фишгард. Оттуда есть пароход
в Ирландию, в Роеслер.
Когда я подошел к прилавку, лавочник весело пропищал:
— Доброе утро, сэр. Славная сегодня погода! Вот
мистер Робертсон собирается путешествовать по Ирлан-
дии— пешком. Забавная страна! Вы подумайте только —
Англия с Ирландией составляют одно королевство, а какая
разница! Вы там не бывали еще?
Я сказал, что давно собираюсь.
Высокий молодой человек, не поворачивая головы, ска-
зал мне:
— Если хотите, поезжайте со мною. Вдвоем веселее.
Вы умеете ходить? Захватите дорожный мешок и будьте
у «Королевской таверны» через два часа.
Потом он повернулся, оскалил лошадиные зубы и сказал:
— Та-та.
Так говорят для краткости вместо «гуд бай». «Гуд бай»
значит «прощай», а «та-та» что-то вроде нашего «пока».
510
Мы поехали. В поезде мистер Робертсон все время мол-<
чал и читал путеводитель, раскрыв маленькую карту.
На пароходе он лежал в длинном кресле на палубе. Лицо
у него было зеленое, как море зимой. Рот был широко от-
крыт. Шляпу он надвинул на глаза, чтобы не видеть мелких
перекатывающихся морских волн.
— Как вы чувствуете себя? — спросил я, проходя
мимо.
— Отлично, великолепно, наслаждаюсь путешест... —»
попробовал он соврать, но, не кончив слова, закрыл глаза
и склонил голову набок.
В несколько часов мы переправились через небольшое,
но бурное Ирландское море.
— Что же, пешком? — спросил я у Робертсона, когда
мы с ним сошли на землю.
— Да, я признаю только пешее передвижение.
Мы пошли по пыльной большой дороге. По одну сторону
виднелись круглые холмы, по другую только луга. На лугах
паслись овцы без пастухов и собак.
По дороге проходили женщины, закутанные в черные
платки и похожие на монахине.
Мистер Робертсон опустился у края дороги на
камень.
— Что с вами? — спросил я.
Притворно улыбаясь, он прошептал:
— Маленькое головокружение... от свежего воздуха.
— А вы можете дальше идти, мистер Робертсон?
Все с той же веселой улыбкой он отвечал:
— Конечно, могу, но лучше бы поехать.
Мимо нас бежал мелкой трусцой ослик, тащивший по-
возку вроде открытого ящика. В ящике стоял длинный че-
ловек в соломенной шляпе и колотил осла палкой.
— Ги-ги!—кричал он. — Двигай ногами, дармоед, а то
я тебе перешибу спину!
— Послушайте!—закричал я ему. — Моему товарищу
дурно, не подвезете ли вы нас немного?
— Он и меня везти не хочет, — отвечал человек в шля-
пе. — Садитесь, будем вместе погонять его!
Робертсон тяжело грохнулся в повозку, как заморожен-
ный труп. Я полез за ним.
— А не будет ли ослу тяжело? — спросил я.
— Спросите у него, — пробормотал человек в шляпе и
ткнул осла дубиной.
511
В это время нас догнала женщина. Из-под черного
платка виднелся только край ее красного лба и седые
космы волос.
— Пьяница! — закричала она. — Посадил черт знает
кого, а я должна пешком тащиться!
Осел, видимо, испугался крика и поскакал по дороге,
как хороший призовой конь.
— Вы знаете ее? — спросил я, когда женщина пропала
из виду.
— Знаю, — спокойно ответил возница.
— А кто она такая?
— Жена.
— Чья жена?
— Моя.
Осел остановился у маленькой железнодорожной стан-
ции. Робертсон стал шарить по карманам.
— Что потеряли? — спросил я.
Робертсон побледнел и сказал дрожащим голосом:
— Путеводитель...
Возница посмотрел на Робертсона с испугом и участием.
— Оставил в кресле на палубе, — сказал Робертсон. —
Проклятое Ирландское море!
— Что за беда, Робертсон. Будем путешествовать и без
путеводителя.
— Как же это можно! — возмутился Робертсон. — Там
указаны все замки, церкви, кладбища, все гостиницы, все
станции, все дороги шоссейные и проселочные. Я без нею
не пойду. Придется сесть на поезд. Я даже не знаю, где
здесь останавливаются на ночь. А новый путеводитель не
во всяком городе найдешь — особенно здесь, в этой дурац-
кой Ирландии.
— В Лимерике найдем, — успокоил я его.
Где-то близко свистнул паровоз. Мы торопливо прости-
лись с владельцем осла и побежали на станцию.
Через несколько минут мы сидели на полинялых дива-
нах в душном маленьком вагоне и мчались на запад Ирлан-
дии — в город Лимерик.
— Лимерик, — вспоминал Робертсон, — страница сто
семьдесят пятая в путеводителе... Кожевенные фабрики, па-
мятник Родсу... Расположен на реке Шаннон.
— Шаннон! — закричал я. — Там находится замок сту-
дента Инчикуина, потомка ирландских королей. Мы непре-
512
менно побываем у него. Мы увидим подъемный мост, баш-
ни, бойницы, деревья на крыше.
— Сначала надо найти путеводитель, — угрюмо сказал
Робертсон.
В Лимерике мы хорошо выспались. Робертсон опять по-
веселел и заходил большими шагами. Под мышкой у него
был новенький путеводитель в красном переплете.
Мы побывали в доках. Там грузили пароход, но никто при
ртом не кричал и не суетился. Это была самая тихая при-
стань в мире. Кричали одни только чайки.
— Знаете, Робертсон, — сказал я, — хорошо бы нам
сегодня отправиться в деревню Килдайсарт, в замок Инчи-
куина.
— Постойте, — ответил Робертсон, — надо сначала
узнать, есть ли на свете такая деревня и такой замок.
Он присел на перевернутую лодку и раскрыл свой но-
венький путеводитель.
— Деревня Килдайсарт, — прочел он. — Церковь, клад-
бище... А никакого замка Инчикуина поблизости нет. Ни-
какого. Есть, правда, замок в окрестностях Лимерика, но
совсем в другом направлении.
Я обиделся и сказал резко:
— Я иду в Килдайсарт. Я хорошо знаю, что замок Ин-
чикуина находится недалеко от деревни Этиа. Хотите —
идем вместе, а не хотите — мы можем здесь расстаться.
Робертсон притворно улыбнулся и сказал:
— Держу пари, что никакого Инчикуина на свете нет.
— Нет Инчикуина? Что же, я его выдумал?
— Нет, вы просто ошиблись. Его фамилия, вероятно,
не так произносится, а может быть, не так пишется. Ника-
кого замка вы не найдете. Пари на фунт табаку?
— Идет, — сказал я, — через три дня мы встретимся
в Лимерике и увидим, чей табак будем курить.
— Отлично, — сказал Робертсон, ласково и ехидно улы-
баясь. — Только имейте в виду, что в деревне нет гости-
ницы и вам негде будет ночевать.
— Переночую под деревом или у местных жителей.
— Под деревом? — изумился Робертсон. — Разве что
под деревом, а у жителей вряд ли. Ну, счастливого пути!
Пожимая мне руку, он еще раз улыбнулся.
17 С. Маршак, т. 6 513
— А где же вы будете ночевать? — крикнул он мне
вслед.
•— В рыцарском замке! — ответил я гордо.
Я шел зелеными лугами. Надо мной висели и дрожали,
как на резиновых ниточках, жаворонки. Я видел, как они
отрывались от земли, а потом падали в траву или в ко-
лосья. Только изредка попадался мне домик или церковь.
Перед церковью высилось распятие из белого или черного
мрамора.
Свернув с дороги, я чуть было не утонул с болоте. Сна-
чала я заметил только, что мои сапоги заблестели, а потом
у меня под ногами захлюпала и зачмокала трава. Я вер-
нулся на дорогу.
«Подвез бы меня кто-нибудь, — подумал я, — а то мне
и до вечера в деревню не поспеть».
Мимо пробежало несколько осликов с ящиками на коле-
сах — вроде того, в котором мы с Робертсоном тряслись
вчера. Но ящики были плотно набиты бидонами с молоком.
Вдруг сзади послышалось громкое, веселое ржанье.
Я обернулся и увидел в столбе пыли большой и высокий
Экипаж.
Должно быть, важная карета. Не подвезет, пожалуй.
Да, правда, карета. Везут ее две крупных лошади. Громко
щелкают длинные бичи. На козлах два человека. Должно
быть, кучер и лакей.
Уж не сам ли Инчикуин катит — потомок ирландских
королей?
Ближе, ближе, — я отхожу в сторону и пропускаю ло-»
шадей.
Что это значит? Карета без окон! На боковой стенке
надпись крупными буквами:
ДЖЕЛФС, ДЖЕЛФС И КОМПАНИЯ
ЛУЧШАЯ ПРАЧЕЧНАЯ В ЛИМЕРИКЕ
— Простите, — закричал я бородатому кучеру, — не мо-
жете ли довезти меня до деревни?
— Отчего же нет, — сказал бородач, осаживая лоша-
дей. — Место найдется, а лошади у нас, как видите, не
дохлые.
Я взобрался на высокое колесо, а оттуда полез на сиде-
нье. Вместо лакея я увидел на козлах маленькую сморщен-
514
ную старушонку. Я сел между нею и бородачом. Опять
щелкнул бич, и мы с грохотом покатили.
«Этак мы скоро домчимся», — подумал я, задыхаясь от
быстрой езды и от пыли. Но через пять минут фургон оста-
новился у ворот. За железной оградой я увидел великолеп-
ный парк. На ветвях каштанов качались, как султаны на
цирковых лошадях, белые цветы. По главной аллее, между
двумя рядами каштанов, шел важный мужчина в блестящем
цилиндре и вел под руку женщину.
Сморщенная старушонка скатилась с козел и быстро
побежала в ворота, кланяясь на ходу гулявшим по парку
людям.
Бородач тоже поклонился. Человек в цилиндре при-
стально посмотрел на меня.
Через несколько минут старушка воротилась с громад-
ным узлом. Отодвинув дверцу фургона, она впихнула туда
узел, а сама с ловкостью мальчишки взобралась к нам на
сиденье.
Так вот оно что! Мы собираем по усадьбам грязное белье
и развозим господам чистое. Только теперь я это понял.
Чем дальше, тем чаще мы останавливались в пути. Ко-
гда мы подъехали к седьмым воротам, я решил покинуть
прачечный фургон и продолжать путь пешком, хотя солнце
уже садилось.
Едва только я поставил ногу на колесо, как из ворот
вышли несколько молодых людей. Один из них, рыжий, без
шляпы, вел на привязи двух рыжих собак.
Я посмотрел на него и сразу узнал: Инчикуин. Я хотел
было его окликнуть, но в эту минуту проворная старушка
скатилась с козел, и обе собаки на нее залаяли.
— Тубо, дьяволы! — закричал Инчикуин. — Будь я про-
клят, если я не утоплю вас сегодня же в грязной луже!
— Добрый вечер, Инчикуин, — сказал я.
— Добрый вечер, — пробормотал он смущенно, накло-
няясь к собакам. Потом он пришел в себя и сказал: — А это
вы! Как вы здесь очутились? Куда это вы едете?
— Никуда, Инчикуин. Я путешествую по Ирландии.
— Путешествуете? А давно ли вы служите в прачечной?
Я расхохотался.
— Нет, я не служу в прачечной, Инчикуин. Я встретил
фургон по дороге и попросил этих людей подвезти меня.
Инчикуин посмотрел на своих спутников, будто хотел
спросить, верят ли мне они или не верят. Его спутники —
17*
515
тадие же мальчишки, как Инчикуин, — смотрели на меня
с любопытством.
— Простите, — сказал Инчикуин, наморщив лоб. —-
Я ничего не понимаю. Люди обыкновенно ездят в каретах,
в автомобилях, иногда на велосипедах. Но я никогда, нико-
гда не слыхал, чтобы кто-нибудь когда-нибудь совершал пу-
тешествие в прачечном фургоне!
Мне надоели его рассуждения, и я перебил его:
— Послушайте, Инчикуин, отчего в путеводителе ни-
чего не говорится о вашем замке?
Инчикуин пожал плечами и сказал:
— Спросите об этом людей, которые сочиняют путево-
дители.
— А можно ли посмотреть ваш замок?
— Сделайте одолжение.
— Вы мне дадите ключи от замка?
Товарищи Инчикуина переглянулись, а он сердито про-
бормотал:
— Не надо никаких ключей.
— А разве замок всегда открыт?
— Всегда открыт, — сказал Инчикуин и сейчас же за-
орал на своих собак: — Молчать, дьяволы! Ни с места!
Когда я отошел на далекое расстояние, я услышал голос
Инчикуина:
— Эй, подождите минутку!
Я остановился.
— Где вы будете сегодня ночевать? — крикнул Инчп-
куин.
— Буду ночевать в деревне. Спокойной ночи!
Мимо меня с грохотом прокатил прачечный фургон. Бо-
родач и старушка ласково кивали мне сверху.
Когда я пришел в деревню, уже темнело. Двери в до-
мах были заперты. Только одна дверь была открыта на-
стежь, — толстая женщина выгоняла из дома осла.
— Можно у вас переночевать? — спросил я.
Женщина покачала головой.
— Вам у нас не понравится, — сказала она.
— Ничего, понравится! Только найдется ли у вас место?
— Место найдется, — сын дома не ночует, теленка
в больницу повез.
Вот и отлично. Я вошел в дом и огляделся.
516
На полу под навесом тлела кучка торфу, и дым от нее
уходил к потолку, где была дыра. Пахло гарью и скотом.
Это была старинная курная изба. Я не заметил ни од-
ного окна. Верхняя половина двери открывалась, заменяя
окно. По земляному полу бегали цыплята, а из темного угла
резко хрюкала, будто резала ножницами жесть, большая
свинья.
Небогато живут в этой деревне.
Я стоял у огня, а хозяйка, миссис Сёливан, сложив руки
на животе, пристально меня разглядывала.
— Скажите, миссис Сёливан, далеко ли отсюда замок?
— Какой замок? Замок в Дублине. Там живет прави-
тельство.
— Да нет, старинный замок Инчикуина. Знаете вы его?
— А-а-а, — догадалась хозяйка, — ну бог с ним!..
Больше она ни слова не сказала.
Свинью на ночь выгнали — так же, как прежде выгнали
осла, которого я встретил у входа.
Меня заботливо уложили в пристройке — в небольшой
клетушке. Проснулся я на рассвете и поспешил выйти па
свежий воздух.
Толстая хозяйка бегала по двору за курицей.
— Где тут у вас можно умыться? — спросил я.
— А вон там за домом стоит кадушечка, — сказала хо-
зяйка и ткнула куда-то пальцем.
Я скоро нашел кадушечку за домом, но в эту самую ми-
нуту из нее пила воду большая черная свинья. Я пе стал ей
мешать и, махнув рукой, пошел назад в избу.
Миссис Сёливан накормила меня картошкой.
Во время еды я еще раз заговорил с хозяйкой о замке
Инчикуина.
— Там теперь живут злые феи, — сказала она. — Лучше
туда не ходить.
— А где это, миссис Сёливан?
— Я вам покажу дорогу, тольйо ничего хорошего там
нет. Вы поверьте мне.
После завтрака она показала мне тропинку, а сама вер-
нулась домой.
Я долго шел и все всматривался в даль, не видать ли
высоких башен с бойницами. Но башен не было. Тропинка
кончилась, и я пошел по пустырю, заросшему травой и за-
517
валенному грудами камня. Вдруг я услышал не то чиханье,
не то фырканье.
Я вздрогнул и огляделся кругом. В стороне я увидел
остаток стены в два человеческих роста. Кладка была ста-
рая, сухая. В стене было два отверстия: одно большое, дру-*
гое — на самом верху — поменьше. Это были, очевидно,
дверь и окно.
Опять послышалось фырканье сверху. Будто кто-то от-
туда плевался.
«Фея! — подумал я. — Фея сердится на меня и плюется».
Я отошел от стены на несколько шагов, и только тогда
увидел того, кто плевался. Это была худая рыжая кошка.
Она злобно водила усами и шипела. К ней прижимался ху-
дой рыжий котенок, очень похожий на Инчикуина.
А где же ров? Я обнаружил его только тогда, когда
оступился и полетел в яму, царапаясь о колючие кусты и
камни.
Вот и все, что я увидел. Стоило ли ради этого ссориться
с Робертсоном и тащиться целый день по пыльной дороге —.
сначала пешком, а потом на прачечной колеснице!
А табак я все-таки выиграл: я нашел замок древних Ин-
чикуинов и унес с собой на память грязный камень, оброс-
ший мхом.
Через три дня я встретился с Робертсоном в Лимерике.
Он сидел за столом в чистеньком номере гостиницы и спо-
койно читал книгу в красном переплете. Вид у него был
свежий и бодрый, а я притащился запыленный, немытый и
весь в царапинах.
Я положил на стол камень и рассказал Робертсону все,
что было.
Робертсон очень долго смеялся, а потом сказал мне:
— Вот что значит путешествовать без путеводителя[
КЛЮЧИК И ЗАМОЧЕК
Сказка
Жили-были два друга, ключик и замочек.
В одном доме жили, одну дверь сторожили. ЗамочеК
черный, а ключик белый. Замочек маленький, а ключик
еще меньше, хоть и с бородкой. Замочек всегда дома оста*
палея, а ключик гулять уходил.
Вернется ключик, а замочек висит себе на дверных коль-
цах, засунув палец в рот, и спит.
— Здравствуй, — скажет ключик. — Ты, верно, без меня
хорошо выспался? Отомкнись, пожалуйста.
Замочек щелкнет и вытащит палец изо рта. Дверь сразу
и откроется.
Любил ключик теряться. Потеряется на целый день. Его
ищут, ищут. А он лежит себе где-нибудь на полу и думает:
«Не там ищите. Вот он я!»
Час ищут, два ищут. Ведь без него в комнату попасть
нельзя. Маленький, крепкий замочек висит на дверных коль-
цах, держит палец во рту и никого в дом не пускает.
— Найдите, — говорит, — сначала ключик, тогда пущу!
Пробуют отомкнуть замочек другими ключами, — ничего
не выходит. Не слушается замочек других ключей.
Подберут наконец ключик точь-в-точь такой, как тот,
что потерялся. А замочек все не открывается.
— Не обманете, — говорит, — я свой ключ хорошо знаю!
Что тут делать? Замок ломать, кольца из двери вьшн
скивать или за слесарем идти?
Только пойдут за слесарем, сразу ключик найдется.
519
*— А? Что? — говорит. — Замок вам открыть? Пожа-
луйста!
Щелкнет раз, другой — и готово.
— Ох, — говорят люди, — надо на цепочке ключик но-
сить. Может быть, тогда не потеряется.
Посадили ключик на цепочку, как собаку. А он взял и
вместе с цепочкой потерялся.
Насилу нашли под кроватью.
Каждый вечер говорил ключик своему приятелю за-
мочку:
— Жалко мне тебя, замочек! Всегда ты на двери ви-
сишь, в темном коридоре, и ничего на свете не видишь.
То ли дело я! Где только я не побывал, чего только не
повидал! И в университете я был, и в доме культуры был, и
на вокзале, и на базаре, а один раз даже в милиции при-
шлось побывать.
— Верно ты говоришь, — отвечает ключику замочек. —
Я все дома торчу, а ты по городу гуляешь. Оттого-то ты та-
кой умный, а я глупый. Хоть бы один разок и меня куда-
нибудь взяли. Да разве возьмут!
— Ни за что не возьмут! — визжит старая желтая
дверь. — Я уже здесь тридцать лет служу, а меня ни разу
в город не взяли. Значит, и тебя не возьмут!
Но старая дверь ошиблась. Ее-то, конечно, никуда не
взяли, а замочек взяли.
Сняли его люди с дверных колец и повесили на новую
блестящую скрипучую корзину.
Замочку все едино — что дверь, что корзина. Висит оп
себе на корзине, засунув палец в рот, и ждет, что дальше
будет.
А дальше было вот что. Положили в корзину вещи, за-
перли ее на ключ и вынесли за дверь.
Завизжала старая дверь на прощанье:
— Будьте здоровы, замочек и ключик! Будьте здоровы!
Поскорее назад возвращайтесь!
— Ладно, ладно, вернемся, — ответил замочек, весело
постукивая о корзину.
520
Снесли корзину с лестницы. Повезли на автомобиле че-
рез весь город к вокзалу. А там уже поезд стоит — длинный
поезд с паровозом впереди.
Занесли корзину в вагон и поставили на самую верхнюю
полку над дверью. Очутилась корзина на другой корзине, а
та корзина стояла на новеньком желтом чемодане, а под
Этим чемоданом другой чемодан был, старый, коричневый,
а под ним еще третий чемодан, черный, блестящий, с двумя
серебряными замочками. Тронулся поезд, закачались за-
мочки из стороны в сторону, заболтали, заговорили между
собой:
— Далёко ли едете? Далёко ли едете?
— Сами не знаем куда, сами не знаем куда!
А ехали корзины и чемоданы в разные города и стра-
ны: и в Швецию, и в Грецию, и в Данию, и в Испанию, и в
Италию — и так далее. И дальше всех ехала корзина с чер-
ным блестящим замочком. С поезда попала она на пароход,
с парохода на самолет, с самолета опять на пароход.
На крышке ее и на боках появилось много-много раз-
ноцветных бумажных наклеек. На каждой наклейке было
написано большими буквами название страны и города, где
корзина побывала. А на одной бумажке была очень инте-
ресная картинка: синий слон с золотой палаткой на спине.
Под картинкой было напечатано непонятное слово:
«Калькутта»
Это город такой в Индии.
Старая дверь по-прежнему на своих петлях висела и
никуда из дому не выходила.
Вместо черного замочка висел на ней теперь огромный
ржавый замок. А отпирали этот замок большим ржавым
ключом.
Не ладили между собой ключ с замком. Не слушался
замок ключа. Целый час дверь отпирать приходилось. Воро-
чается ключ в замке, скрипит, ворчит, а толку нет. Захочет
ключ из замка вон вылезти, а замок его не пускает.
«Эх, — думает старая дверь, — возни с вами сколько!
Хоть бы поскорее мои друзья, замочек и ключик, назад
вернулись! За всю жизнь ни разу они между собой пе
поспорили. Такие были тихие, солидные. Где-то теперь они
странствуют? Может, потерялся ключик где-нибудь по до-
521
роге или в море утонул, а без ключика и замочек никому
не нужен стал. Вернется домой корзина, а на ней будет
болтаться какой-нибудь диковинный заграничный замочек.
Эх, жалко, жалко!»
Но опять ошиблась старая дверь.
Как-то раз утром приехала домой корзина. Поднялась
во второй этаж и остановилась отдохнуть перед самой
дверью. Смотрит дверь на корзину и не узнает: вся она
оклеена разноцветными бумажками.
А какой на ней замочек висит? Новый? Заграничный?
Нет, прежний — черненький, кругленький, похожий на
собачку, свернувшуюся клубком.
— Здравствуй, здравствуй, замочек, — завизжала ста-
рая дверь. — Цел ли ключик?
— Цел, цел, — защелкал замочек, постукивая о корзину.
На другой день утром сняли с двери большой ржавый
замок и вместе с ключом выкинули вон. А на дверь преж-
ний замочек повесили. Будто и не уезжал он никуда из
Дому.
— Ну, друзья, — сказала старая дверь, — рассказы-
вайте, что за границей делается. Есть ли, например, там в
домах двери или люди в окна лазают?
Первым начал рассказывать ключик. Он с хозяином
всюду ходил, всюду ездил. Куда хозяин — туда и он.
А замочек и за границей при вещах оставался, корзину
сторожил. Служба у него такая.
— Ах, — говорит ключик, — где только я не побывал,
чего только не повидал!
— Рассказывай, рассказывай! — визжит старая дверь.
— Ладно, — говорит ключик. — Начнем по порядку.
Выехали мы скорым поездом в 9.30. Я это потому знаю,
что со мной в одном кармане ехали часы со звоном. А еще
с нами ехала коробка папирос, спички, перочинный ножик
и два двугривенных. Ну, и толкались же мои соседи в до-
роге, особенно двугривенные. Хорошо, что их скоро истра-
тили.
— А какой вагон у вас был? — спросила дверь. — Рас-
скажи, пожалуйста. Я никогда в жизни железной дороги не
видела.
— Вагон? — переспросил ключик. — Я его как следует
не разглядел. Темно было.
522
— Что ты, ключик, это в кармане темно было, — ска-
зал замочек. — А в вагоне и днем и ночью свет был.
Мы с корзиной все время глядели с полки в окно и видели,
как мимо нас едут деревья, домики, башни, телеграфные
столбы, высокие перила мостов. А ночью окошко делалось
черным-черным, и в [нем] отражались электрические лам-
почки, которые горели у нас под потолком. Ты, ключик,
ничего этого не видел потому, что в кармане сидел.
— Верно, сидел, — говорит ключик. — А потом мы с за-
мочком поехали по морю на пароходе.
— По морю? — удивилась дверь. — Расскажи, какие
моря бывают и какие пароходы по ним плавают.
— Да что тут расскажешь, — пробормотал ключик. —
По-моему, ничего интересного в море не было. Со мной
вместе ехали большой толстый лимон и перочинный нож.
Лимон занимал очень много места. Потом лимон с ножи-
ком куда-то вышли, и в кармане стало просторнее. Лимона
я с тех пор больше не видел, а когда нож вернулся, от него
сильно пахло лимоном. Должно быть, он зарезал лимон.
Я в этом не сомневаюсь.
— И больше ты ничего про море не расскажешь?
— Больше ничего.
— Что ты! — сказал замочек. — Мы с корзиной и на
пароходе все время в окошко глядели. Окошки там круг-
лые, а стекла в них толстые-толстые и чистые-чистые. Каж-
дый день их по два раза моют и протирают. Очень интерес-
но было глядеть в окошко. Утром солнце прямо из воды
вылезало, а вечером опять падало в воду. И как только оно
до сих пор не потухло в воде — я не понимаю. А днем
мы в море летающих рыб видели и черных жирных дель-
финов, которые кувыркались в воде. Ты, ключик, ничего
Этого не видел, потому что в кармане сидел.
— Ну, расскажите теперь, пожалуйста, про южные жар-
кие страны, — попросила дверь.
— В жарких странах очень жарко, — сказал ключик. —
Наш хозяин все время белые полотняные брюки носил.
— Да ты не про хозяйские полотняные брюки расска-
зывай, а про жаркие страны.
— Больше мне нечего рассказывать, — сказал ключик.
— Как нечего? — удивился замочек. — Да ведь мы там
на слоне катались. Видала ли ты когда-нибудь слона,
дверь?
— Ни разу в жизни, — проскрипела дверь.
523
— И я не видал, — сказал ключик.
Замочек даже палец изо рта вынул.
— Что ты, что ты, ключик? Да ведь ты же сам в Индии
на слоне катался, вместе со мной. Только тебе из кармана
не видно было, на ком ты едешь. А это был самый настоя-
щий живой слон. Ну, если вы с дверью хотите, я попрошу
корзину показать вам слона. Он у нее на боку нарисован.
Вот вы и увидите слона хоть на картинке.
В тот же день ключик увидел в первый раз в жизни
слона. А так как на картинке слон был маленький и си-
ний, — он и подумал, что слоны бывают маленькие и синие.
А на самом деле они бывают серые и очень большие.
Когда я написал эту сказку, я прежде всего прочел ее
одному своему знакомому, который когда-то побывал в
Индии.
Он выслушал сказку и сказал мне:
— Про Индию у тебя мало говорится.
— Верно, — согласился я. — Про Индию я очень мало
Знаю. Не расскажешь ли ты мне о ней чего-нибудь.
— Ладно, расскажу.
Он уселся поудобнее на диване, поправил на носу очки,
положил ногу на ногу, нахмурил лоб и сказал:
— В Индии водятся слоны.
— Это я и без тебя знаю, — перебил я его. — А еще что
расскажешь?
— В Индии живут индусы.
Больше я не стал его слушать. Должно быть, он в
Индии все время в гостинице сидел и папиросы курил.
Оттого-то он ничего не знает про Индию. Знает только, что
в Индии живут индусы, женаты на индусках и говорят по-
индусски. Вот и все.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗ НЕЗАВЕРШЕННОГО
ВОЙНА ТРЕХ ДВОРОВ
У меня было пальто с пелеринкой. Пелеринка надева-
лась на плечи поверх пальто и застегивалась на шее. Та-
кое же пальто было и у старшего брата. Сшила нам обоим
мама по старой заграничной картинке.
Мы с братом чувствовали, что мама затевает что-то
неладное, когда она, вся в лоскутах и нитках, становилась
перед нами на колени и принималась в десятый раз запахи-
вать и распахивать на нас пальто, еще без пуговиц и рука-
вов. Мы стояли недовольные, часто моргали глазами и ду-
мали:
«На кого только мы похожи будем!»
И в самом деле, мы были ни на кого не похожи. Ни
у одного мальчика — ни в городе, ни у нас на слободке —
не было пелеринки. Мальчишки на улице не давали нам
проходу.
Мы ходили в такую школу, куда надо было носить свою
чернильницу. Чернильницы нам купили «непроливатель-
ные» — тяжелые баночки из толстого зеленого стекла с во-
ронкой внутри.
Идем мы как-то с братом по улице осенью, когда уже
холодеть стало. Шагаем по твердой земле, по самой сере-
дине улицы — чтобы собак у ворот не дразнить. Сумки
у нас — через плечо, чернильницы в руках.
Вдруг слышим голоса, смех. Мальчишки играют в баб-
ки. Пестрые, крашеные кости расставлены во всю ширину
улицы. А один из мальчишек отбежал немного назад и це-
лится в кости плоской свинцовой «биткой». Раз — и сшиб
пару.
527
Брат осторожно перешагнул через ряд костей. Я тоже
шагнул, но нечаянно задел бабку ногой.
Мальчишки рассердились. Один замахнулся на меня,
а другой — в рваных штанах, рыжий, рябой — подскочил
ко мне, скривил щеку и говорит:
— Разрешите перышко в вашу чернильницу обмак-
нуть — прошение в управу написать!
Я поднял руку с чернильницей, а он меня ударил под
самый локоть. Покатилась моя чернильница боком по до-
роге. Хорошо, что не разбилась — из толстого стекла была
сделана.
Брат закричал издали:
— Эх вы! На маленького напали!
Они — на него. Со всех сторон обступили. Дергают
За полы пальто, за пелеринку, дразнят:
— Какой это У вас фасончик?
— Чего-это вы юбочку на плечи надели?
Брат закричал не своим голосом:
— Дураки! Разбойники! Сумасшедшие арестанты!
И легонько ударил рыжего мальчишку левой рукой, —<
в правой у него была чернильница.
Мальчишки захохотали, сбили брата с ног и навалились
па него всей кучей. Чернильницу у него сразу отняли и
стали перебрасывать по всей улице, как мяч. Пропала чер-
нильница, разбилась о камень. Я подскочил к рыжему и
вцепился обеими руками ему в тело, — у него сзади в шта-
нах была дыра. Рыжий разом обернулся, поймал меня и
прижал коленом к земле. Не помня себя, я заколотил но-
гами по земле и заорал на всю улицу.
И вдруг мальчишка отпустил меня и кинулся удирать.
На бегу он успел крикнуть ребятам:
— Евдак... Те-кай!
Смотрю: за мальчишками гонится целая орава других
мальчишек, а впереди этой оравы несется рослый парень в
синей рубашке и в кожаном фартуке.
Тут и мы с братом замахали руками и пустились в по-
гоню.
Жарко, весело. Улица пустая, широкая. Ноги в осенней
траве путаются. Гоним мы мальчишек и такие слова кри-
чим, что и сами в первый раз слышим.
До самого кладбища гнали. А потом постояли немного,
посмотрели бегущим вслед и спокойно пошли назад.
528
Я иду рядом с большим парнем в кожаном фартуке и,
Задыхаясь от восторга и благодарности, спрашиваю;
— Это вас зовут Евдак?
— Меня.
— Какой вы сильный! Вас все мальчишки на улице
боятся.
А он отвечает:
— Нет. Они только на нашей улице драться не смеют.
На своей дерись сколько хочешь, а на чужой нельзя.
— А чьи они, эти мальчишки?
— С рязановского двора, кишечники. А сюда они ходят
с нашими ребятами в бабки играть. Ну, бабки одно дело,
а драться — другое. А вы чего такие чудные? — вдруг
спросил он меня.
— Как чудные?
— Да вот польта на вас такие... Будто у певчих из ко-
стела. И чернильницы...
Он прыснул, отвернувшись в сторону.
Его товарищи тоже засмеялись.
— Мы нездешние, — виновато сказал брат, — мы всего
три дня как в этот город приехали.
— А вы русские? — спросил рыжий.
— Да, — сказал я.
— Нет, — сказал брат. — Мы евреи.
— Ну, это ничего, — ответил рыжий. — У нас во дворе
тоже есть еврейчик, Жестянников Минька.
Тут мы расстались.
Больше мы в пелеринках и шляпах не ходили, а чер-
нильницы стали прятать в карман, — чернила из них не
выливались.
Только это не помогло. Кишечники нас запомнили.
Жили они совсем рядом с нами — на большом дворе с от-
крытыми настежь воротами. Через весь двор была там
протянута веревка, а на веревке висели сухие и легкие,
как папиросная бумага, кишки и пузыри. Они шелестели от
ветра и очень нехорошо пахли. Вся наша улица пахла
кишками.
У ворот встретил нас как-то одноглазый мальчишка-
кишечник. Он свистнул и сказал, озираясь по сторонам:
— Вам тут, на нашей улице, все равно не жить. Под-
караулим и убьем.
529
Мы с братом очень перепугались и не знали, что делать.
Большим жаловаться нельзя. Я отправился искать Евдака.
Сначала пошел по нашей улице, потом по переулку, по-*
том по той улице, где была драка. Вот и ворота, откуда вы-«
скочили сапожники. В самом конце двора маленький домик.
По двору бегает мальчишка, смуглый, краснощекий, и ло-
вит, подбрасывая на бегу, гимназическую фуражку без
герба.
— Злые тут у вас собаки? — закричал я издали.
— Не кусаются, — отвечал мальчишка. — А вы до кого,
до портного или до сапожника?
— Як сапожнику, — сказал я, — а вы кто?
— Мой отец портной Жестянников, а я Минька.
Он показал мне дверь к сапожнику. Я вбежал и оробел.
У перевернутого ящика сидели на скамеечках мальчишки,
а среди них сам сапожник. Глаза у сапожника были напо-
ловину закрыты, а лицо у него все заросло бровями, усами
и бородой. Когда я вошел, Евдак весело колотил молотком
по большому и неуклюжему сапогу, из которого торчали
деревянные гвозди, а другой мальчишка чистил грязными
руками картошку.
Сапожник хрипло кашлянул и спросил:
— Вы от кого?
Потом приставил руку к уху и сказал нетерпеливо:
— Ась?
Я не знал, что отвечать. Мальчишки засмеялись, а Евдак
покраснел.
— Они до меня, — сказал он, вставая. Потом взял меня
за плечи и выпроводил на двор.
Там я наконец перевел дух.
— Евдак, — прошептал я, — знаешь, тот кишечник,
одноглазый, сказал, что подкараулит нас и убьет.
— Ладно, — ответил Евдак хмуро, — коли что, покричи
меня, — я приду.
— Да!—сказал я.—А ты думаешь, он будет ждать,
пока ты придешь. Ведь от тебя до нас очень далеко.
— Где же далеко, — засмеялся Евдак, — наш забор
навпротй ваших ворот. Вот иди сюда.
Он повел меня к забору за домом. На заборе сидел
Минька.
Я тоже вскарабкался на забор и увидел через дорогу
наши ворота.
530
— Евдак, — сказал я с забора, — завтра воскресенье.
Приходи к нам.
Евдак молчал.
— И вы тоже приходите, — сказал я Миньке.
— Хорошо, придем оба, — сразу ответил Минька за
себя и за Ёвдака. — Завтра утром придем.
— У нас книг много, — сказал я на прощанье, переле-
зая через забор, — есть интересные, с картинками.
— Ладно, не обманем! —сказал Минька.
И в самом деле, на другой день пришли оба.
У нас было две комнаты — столовая с большой лампой
и столом, накрытым скатертью, и другая комната, где
ночью все спали, а днем занимались мы с братом. Минька,
не снимая в комнатах фуражки, бойко разговаривал с на-
шей мамой. А Евдак молчал и на мамины вопросы отвечал
очень тоненьким голоском.
Только потом, когда мы заперлись в спальне, он повесе-
лел и заговорил своим голосом. Мы достали с полки очень
большую и очень толстую книгу с картинками. Евдак не
Знал, что такие книги бывают на свете, и спросил:
— Это ваша еврейская книга?
— Нет, это русская, называется журнал, — сказал я.
Мы все взобрались, поджав под себя ноги на сундук и
стали перелистывать удивительную книгу. Скоро книгой
целиком завладел Минька. Он и переворачивал огромные
страницы, и читал подписи под картинками. Читал не-
верно: первые буквы кое-как прочтет, а остальные сам вы-
думает.
— Караван в Монпасье. (В книге было сказано: «Кар-
навал в Монпелье».)
— Пожар в Соединенных Штанах.
Мы все очень смеялись над Минькой.
В этот день наша мама собиралась в город. Она вызвала
меня и брата в другую комнату, показала, где в бу-
фете находится печенье для гостей, а на прощанье ска-
зала:
— Только по улице не гоняйте. Там вас мальчишки
поколотят. Сегодня праздник, — они все за воротами.
Мама ушла. Мы сразу поели все печенье. Потом Минька
сказал:
— Давайте в казаки-разбойники!
531
Мы побежали на двор. Только успели мы сосчитаться,
как услышали свист. Оглянулись — у нас на дворе чужой
мальчишка стоит, одноглазый кишечник!
На его свист ответили свистом на улице.
— Вы чего тут стоите? — спросил брат.
— Мы не до вас, — вежливо ответил ему одноглазый.
Мы до их.
И он указал на Евдака с Минькой.
— До нас? — закричал Минька, расстегивая свой тол-
стый кожаный кушак с медной пряжкой.
— Постой, Минька, — сказал Евдак, — не кипятись.
А чего вам от нас надо?
— Вы чего на нашу улицу ходите? — спросил одно-
глазый, беспокойно озираясь.
— Здесь не улица! — закричал Минька, — тут чужой
двор. Ждите нас у фортки на улице, не убежим!
Евдак поднял с земли большой кирпич и повернулся к
одноглазому боком.
А из-за дома крались уже длинной цепью мальчишки.
Тут был и рябой, и другие кишечники. Человек семь, а то
и больше. У всех были в руках рогатки, колья из плетня и
кирпичи.
— Вон их сколько, — сказал Евдак задумчиво. — Те-
кать надо.
Брат шепнул нам всем:
— На старый завод! Там спрячемся.
В конце двора за деревьями был у нас недостроенный
и давно заброшенный завод. Кажется, пивоваренный. Широ-
кие двери его были заперты. В завод можно было проник-
нуть только по шаткой лестнице, которая вела на чердак.
Не поворачиваясь, мы стали медленно и незаметно пя-
титься к заводу. Впереди нас прыгал, будто гарцевал на
коне, Минька, отстреливаясь обломками кирпича. У него
самого было уже поранено ухо, — кровь ниточкой текла за
воротник. Минька сам не замечал этого, а я, как только уви-
дел у него кровь, начал плакать.
— Жидовская команда, — кричали кишечники, — Минь-
ка — жид! Евдак — жидовский казак! Идите сюда, свинью
резать будем, салом губы намажем!
Но мы были уже у лестницы. Я никогда на нее не ре-
шался взобраться, а тут полез. Евдак с Минькой и брат
задержались немного. Перед лестницей они нашли груду
битых кирпичей. Набрав сколько можно было в кармапы
532
и в полы рубах, опи полезли за мной. Мы добрались до
небольшой площадки без перил. Посмотрели вниз — страш-
но. Я сунулся было в открытую дверь на чердак, но там
было еще страшнее: никакого пола не было, и только не-
сколько балок отделяли чердак от нижнего помещения.
Одна из балок шла от самого порога к той двери, что была
на противоположной стороне. Я кое-как уселся па пороге.
Рядом примостились Евдак, Минька и брат. Площадка была
ненадежная, оставаться на ней было опасно: того и гляди,
рухнет.
Внизу бесились кишечники. Они извивались, корчились,
показывали нам свиное ухо, зажав полу рубахи в кулак.
— Жидовская крепость! — кричали они. — Вот мы сей-
час вас оттуда вниз побросаем!
У лестницы они нашли целый склад артиллерийских
снарядов — груду кирпичей. Кирпичи полетели в нас.
— Ребята! — сказал Минька. Он был до того красен,
что рядом с ним было жарко стоять. — Ребята, я проберусь
по балке туда (он указал на дверь по другую сторону чер-
дака), слезу...
— Там нет лестницы! — перебил его брат.
— Ничего, как-нибудь сползу... Домой сбегаю и живо
наших ребят позову. А вы все оставайтесь здесь, кричите и
камни бросайте, чтобы они не видели, как я слезать буду.
— Почем кишки, — закричал он вниз. — Эй, вы, ки-
шечники, дохлую собаку съели, кишки продали!
Не давая врагам опомниться, Евдак продолжал за
Миньку:
— У нас па дворе старая кошка сдохла! За пятак про-
дам. Кишки первый сорт! Кошачьи кишки, кошачьи
кишки!
Мальчишки внизу совсем одурели и все разом полезли
на лестницу. Евдак и брат выбежали на площадку и запу-
стили в них десятком кирпичей. Лестница зашаталась. Не-
сколько раз мальчишки брали ее приступом, но дальше
середины не двинулись.
А Минька в рто время полз на брюхе по чердачной
балке, обхватив ее руками и ногами. Внизу под ним были
пустые железные баки. Сорвись Минька, он бы расшиб го-
лову.
У нас почти кончился запас кирпичей. Евдак сказал нам:
— Залезайте на чердак, ребята, мы дверь запрем, —
тут и крючок есть.
533
Я на четвереньках попятился с порога на балку. Вот
когда страшно стало! Я сидел верхом на бревне, держась
руками за порог.. Мне казалось, что балка подо мной ка-
чается, как лодка.
— Подвинься! — сказал брат. — Дай и мне сесть.
— Не подвинусь! — заревел я. — Я и так падаю!
Брат перелез через меня. Мы оба чуть не полетели вниз-
Наконец Евдак захлопнул дверь и накинул крючок.
Стало темно. Свет шел только с противоположной сто-
роны. Там у открытой двери сидел Минька. Он, видимо,
обдумывал, как ему спуститься без лестницы. Вдруг он по-
вернулся спиной к выходу, ухватился руками за порог и
спустил ноги. Потом он исчез.
Тут заколотили в нашу дверь — кулаками, ногами, кам-
нями, палками. Мне показалось, что бревно подо мною
треснуло.
— Евдак! — закричал я, — открой дверь! Слышишь,
Евдак! Я не могу держаться больше! Я упаду!
— Ничего, я тебя держу, — ответил Евдак, крепко об-
хватывая меня рукою и дыша мне в шею. — Не упадешь.
Дверь стали рвать. Попробовали подсунуть под нее
палку.
И вдруг мы услышали снизу рев. Будто голосов стало
гораздо больше, чем прежде. Будто весь двор полон народу.
Дверь перестали рвать. Палка так и осталась в щели.
— Текай! Текай!—закричали на площадке. Заскри-
пела, затрещала лестница от топота.
Евдак открыл дверь, и мы вылезли опять на площадку.
Видим, мальчишки бегут, кто куда. Рябой барахтается на
Земле. Одноглазый сидит на заборе, а Евдаков товарищ—.
сапожник — его за ногу держит. Минька носится по двору,
размахивает ремнем и орет:
— Не пускай к забору! Гони назад! Держи ворота!
Когда мы спустились по лестнице, никого на дворе уже
не было. Кишечникам удалось прорваться на улицу. Минь-
ка с сапожниками гнал их до кладбища.
Жалко, что мне не пришлось гнать их на этот раз-
Очень это весело мчаться по дороге за убегающим врагом.
Когда я выбежал за ворота, толпа была уже далеко. Толь-
ко звериный вой разносился по всей улице.
После этого кишечники нас больше не трогали. Как-то
подошел к нам на улице рябой и сказал, что он с одногла-
зым поссорился и больше компании с ним водить не будет.
534
А в другой раз подошел к нашим воротам сам одно-
глазый и стал вызывать меня и брата знаками на улицу.
Мы вышли.
— Не найдется ли у вас, — сказал одноглазый тихо и
мирно, — какой-нибудь плохонькой, завалящей книжки?
Почитать охота.
Мы вынесли ему журнал с картинками.
Он взял книжку и спросил:
— А вы евреи?
— Да, евреи, — сказал я; на этот раз я не побоялся
сказать правду. — А зачем ты спрашиваешь?
— Я хочу еврейской грамоте учиться. Очень мне жиды
нравятся!.. А вы скажите Евдаку и Миньке, чтобы они меня
не трогали.
— Ладно, скажу, — обещал я.
С тех пор мы больше не дрались. А с Евдаком я до сих
пор дружен. Он в Ленинграде на «Скороходе» работает.
Миньку на войне убили.
ГОРБУН
А недалеко от нас была церковь, высокая, белая. Не-
сколько раз в день она громко-громко звонила. Звон ее,
казалось, наполнял все пространство между небом и зем-
лей. А место у нас было тихое. Только петухи пели по
дворам да люди разговаривали через улицу, да коршун
изредка кричал с неба, летая над городом.
Когда звонила церковь, ничего не было слышно во всем
городе, кроме звона. Церковь с колоколами, как гроза с
громами, заглушала все, что было вокруг и внизу.
Я слушал, и мне казалось, что колокола что-то говорят.
Ведь не болтают же без смысла люди, когда говорят много
часов подряд, не уставая и не путаясь, когда спрашивают
и отвечают. Но колокола говорили непонятно, не по-рус-
ски, а скорее всего так, как разговаривали пекаря в пе-
карне — по-турецки или по-татарски — млы, блы, бом,
дзын.
Мальчишки, с которыми я бегал, знали, когда звонят
к вечерне, когда — к обедне. Митрошка-кишечник и сам
звонил раз — должно быть, в самый маленький колокол.
А я не знал, что такое обедня и вечерня, потому что я был
еврей (я думал, что обедня это такая долгая, спокойная,
сытная, как обед, молитва). Мне совестно было спраши-
вать мальчиков об этом — я даже немного побаивался
церкви и церковного звона. В будни никто на нашей улице
не помнил, что я еврей, а в воскресенье и в праздник все
мальчики в новой одежде ходили в церковь, а я один с
прорехами в штанах стоял у забора и от нечего делать
рубил палкой головы лопуху и крапиве.
536
Внутрь церкви я, кажется, никогда не заглядывал.
А может быть, мимоходом, вскользь я как-нибудь и загля-
нул, потому что смутно помню много золота и серебра
в темноте и чей-то спокойный, громкий, гудящий голос,
который казался мне голосом великана.
Мальчики на улице называли меня жидом. Они все
были православные. Мне казалось, что они сами себя так
назвали из самохвальства. Славным называют человека,
когда хвалят его. Правым бывает тот, кто говорит и посту-
пает, как надо. Они, значит, и правые и славные. А что
такое жид? Жадина, жаднюга, жила — вот что это такое.
Я не знал, как мне дразнить русских мальчишек. Никто
на нашей улице еще не придумал для них обидной клички.
А если сам выдумаешь, кличка не пристанет. Мой старший
брат читал книжку об инквизиторах. Это такие монахи,
которые судили [и] жгли хороших людей на кострах. Са-
мого злого инквизитора звали Торквемада.
И вот, когда Митрошка-кишечник начинал дразнить
меня жидом, я кричал ему, сжимая кулачки:
— Инквизитор! Инквизитор! Торквемада!
Но Митрошка только смеялся.
В воскресенье у Митрошки и у всех был праздник. Об
этом громко и весело на весь мир болтали и гудели коло-
кола. И когда ударял большой колокол, мне казалось, что
сверху на головы роняли длинную и прямую рельсу, и она
звенит, падая и выпрямляясь. Вся земля дрожала от звона.
В такие дни я к Митрошке и не лез. Колокольня со
всеми колоколами, земля, небо, воздух — все было в эти
дни за него. Много людей шло по нашей улице к церковной
площади, и все они были, конечно, православные. А я был
по праздникам совсем один. Правда, у меня был верный
товарищ, мой старший брат, но он не запускал змея, не го-
нял голубей, не играл в бабки, как православные. Он почти
всегда читал книжки. У него был целый сундук с книжка-
ми. Он часто забирался в этот сундук с ногами и разгля-
дывал свои сокровища, как скупой рыцарь.
Был у меня и другой приятель, Митрошкин брат. Мне
было восемь лет, а ему двадцать, но мы были с ним одного
роста. Мы не ходили друг к другу в гости, а встречались
у низкого плетня, отделявшего его огород от нашего двора.
Он стоял по одну сторону плетня, я по другую.
Голова у него была закинута назад. На голове — но-
венький картуз с блестящим козырьком. Все лицо будто
537
истыкано иголкой — это от оспы. Глаза закрыты, как у
спящего, — только ресницы часто-часто дрожат. Он был
слепой. А маленьким он остался оттого, что у него вы-
росло два горба — спереди и сзади.
Никто не знал его имени, — звали его на улице просто
«Слепой» или «Горбатый». Мальчишки звали еще коно-
патым.
Его всегда можно было найти у плетня. Он стоял там
прочно, будто вкопанный в землю. Когда мне становилось
скучно, я бежал к плетню и видел издалека новенький си-
ний картуз с блестящим козырьком.
Горбун меня ждал. Мы говорили с ним друг другу
только приятные вещи. Мы жаловались друг другу на Мит-
рошку и на других мальчишек-босяков. Мне они мазали
губы салом, то есть не мазали салом, а просто терли мне
губы кулаком, говоря, что в кулаке сало. А у слепого они
стаскивали с головы картуз и вырывали из руки короткую
суковатую палку.
Слепой соглашался со мною. Я тоже с ним никогда не
спорил. Нам с ним было хорошо, до того хорошо, что у меня
горло сжималось и дух захватывало. Я любил, когда со
мной разговаривают терпеливо и ласково, а слепой был
добрый и спокойный человек. Делать ему было нечего, и
он никуда не торопился.
Я рассказывал ему об инквизиторах и спрашивал, вол-
нуясь:
— Разве это хорошо жечь людей, которые совсем не
виноваты?
Слепой у себя дома говорил по-хохлацки, а мне он отве-
чал по-русски — пронзительным, но сдавленным голосом,
как утка крякает.
Солнце палило, и мне казалось, что ресницы у слепого
закрыты оттого, что он греется и нежится, как наша кошка,
которая сидит зажмурившись на крыльце.
На колокольне звонили вовсю. Казалось, звонари вот-
вот раскачают вместе с колоколами и высокую колокольню,
и всю нашу церковную площадь. Но уши привыкали к этому
медному звону, и у плетня было совсем тихо...
(ШУРА ЯСТРЕБОВА)
Три двора воевать перестали. Кишечники больше нас
не трогали. Евдак был занят, — он работал с утра до ве-
чера, а по вечерам уходил к матери, которая служила на
хуторе.
Горбун заболел. Отец его, огородник, пришел домой
пьяный и отодрал Митрошку за какое-то злодейство. За-
одно досталось и горбуну. Однажды под вечер на огороде
послышался вой. Гляжу — бежит Митрошка. Никто за ним
не гонится, а он, согнувшись, несется по огороду и, надры-
ваясь, кричит. Так визжит на бегу собака, когда ее больно
ударишь камнем. Потом я услышал другой голос, незнако-
мый, скрипучий, плачущий. Это в первый раз плакал мой
друг — горбун.
После отцовских побоев он слег, — вернее, сел, потому
что он не лежал, а почти сидел на кровати.
В это самое время, когда я одиноко слонялся по двору,
что-то загрохало, затарахтело на улице. К нам в калитку
вошел мужик, отпер ворота и ввел под уздцы лошадь, ко-
торая тянула за собой воз с узлами, стульями, зеркалами,
горшками и ведрами. Стулья были не венские, гнутые, как
у нас, а мягкие, с высокими спинками, зеркала большие, в
деревянных рамах, а на самом верху клади покачивалась
клетка с несколькими птицами. За возом шел человек
в длинном пальто и мягкой шляпе (так у нас на улице ни-
кто не одевался). У него были темные густые усы и ма-
ленькая клинышком бородка. Говорил он с извозчиком
печальным голосом и все время тихо, успокоительно по-
кашливал. Такие голоса бывают у священников.
539
Наша семья занимала только небольшую часть длин-
ного одноэтажного дома во дворе. Недалеко от нашей про-
стой белой двери была другая дверь, обитая зеленой клеен-
кой и всегда закрытая. Теперь ее открыли. Я стоял у воза
и смотрел, как перетаскивали в дом зеркала, стулья, столы.
Я даже принял участие в работе — занес в квартиру одно
ведро и клетку с птицами. Человек в шляпе спросил, как
меня зовут, и дал мне серебряный двугривенный.
Вечером, когда я лежал уже в постели, прислушиваясь
к тому, как двигали мебель за стеной, опять послышался
па дворе скрип колес и топот копыт. Потом женские го-
лоса. Я не скоро заснул в этот вечер, а рано утром, когда
все спали, был уже на дворе. Соседская дверь была за-
крыта. Около нее стояло ведро с углем и открытый ящик
с растрепанными книгами без обложек и переплетов.
Я дождался минуты, когда из двери вышел вчерашний
человек без пиджака, в подтяжках. Потом вышла сонная
старуха с опухшей щекой и вынесла пустой и холодный
самовар. Потом показалась женщина помоложе, толстая,
в мелких рыжеватых кудряшках.
Эта женщина сказала:
— Павел, а ведь место-то тут сыроватое.
Человек с бородкой ответил ей, тихо покашливая:
— Ничего, Саша, вот только пустим завод, так сейчас
и переедем в город. А здесь у нас будет конторка и ком-
натка для меня при заводе.
Скоро они оба зашли в дом, а старуха стала разво-
дить самовар.
Я уже хотел было вернуться домой, чтобы рассказать
брату обо всем, что я видел и слышал, как вдруг дверь
опять открылась и через порог легко перескочила девочка
лет двенадцати в голубом платье.
В соседних дворах было много девочек, но такой я еще
не видел. Не то, чтобы платье на ней было лучше, чем
у других девочек, — платье было самое обыкновенное, хоть
и голубое. И сама она была, я думаю, не какая-нибудь осо-
бенная. Только очень новая, незнакомая. Я еще был босой,
неумытый и заспанный, а она уже гладко причесана и чи-
сто одета, будто собралась в город.
Выйдя из дому, она было пустилась вскачь, но потом,
увидев меня, важно нахмурилась, отвернулась в сторону и
пошла по дорожке среди травы спокойным шагом. Я из-
дали следил за ней.
540
Она дошла до старого завода, поднялась по шаткой
лестнице на площадку без перил. Заглянула в открытую
дверь чердака, а потом, не поворачиваясь, попятилась к
краю площадки.
— Упадете! — хотел я крикнуть ей, но было уже
поздно: она упала. Как она падала, я даже не заметил.
Услышал только визг, а потом что-то негромко шлепнулось
в траву. Подбегаю — она лежит и молчит. Глаза закрыты.
Расшиблась, умерла. Я заорал во все горло, сам не помню
что. Она вскочила, прижала обе ладони к моим губам и
шепчет:
— Молчи, дрянь, молчи, дрянь.
А у самой по щекам бегут слезы и губы в крови.
Я замолчал.
Она стерла кровь с губы и стала осматривать себя со
всех сторон. Не себя осматривала, а одежду. На одной ноге
у нее оборвалась подвязка, чулок спустился. На платье
пояс разорвался.
— Мальчик, — сказала она, — ты можешь иголку с бе-
лой ниткой достать?
— Могу, — говорю я, — но у вас кровь с губы бежит,
надо позвать кого-нибудь.
— Не надо никого звать, — отвечает она сердито. —
Я губу прикусила, когда падала. У тебя есть платок, маль-
чик? А то я свой пачкать не хочу, чтобы дома не узнали.
А ты скажешь, что через забор лез и ногу поцарапал. Вон
у тебя и, правда, царапина на ноге.
Я дал ей платок. Она помочила его в бочке, которая
стояла под ржавой водосточной трубой, и приложила к губе.
Потом вытерла все лицо и, наклонившись над бочкой,
стала глядеться в воду, как в зеркало.
Я украдкой раздобыл дома иголку с белой ниткой и
живо принес девочке. Она успела уже привести в порядок
смятое платье и пригладить волосы.
— Как вас зовут? — спросил я ее.
— Шурой зовут, — сказала она, — а ты отвернись, по-
жалуйста.
Через несколько минут все было пришито.
— Слушай, мальчик, — прошептала она, наклоняясь к
самому моему уху. — Если ты кому-нибудь скажешь, что я
слетела сверху, я тебе...
Она подумала немного, а потом сказала:
— Яс тобой навсегда поссорюсь...
541
Она опять подумала, потом схватила мою руку и под-
несла ее к моему лбу.
— Перекрестись, что никому не скажешь.
Я был очень испуган и готов был поклясться всем свя-
тым, что никому не скажу. Но перекреститься я не мог.
В нашей семье никто никогда не крестился.
— Я не умею, мне нельзя, — сказал я ей.
— Как не можешь? — Спросила она гневно. — Ты что,
креститься не умеешь? Разве ты собака или кот, а не че-
ловек?
И она громко рассмеялась.
— Ну ладно, — сказала она потом и стала озабоченно
рыться в кармане платья.
— Вот что, мальчик. Хочешь, я тебе подарю зеркальце?
Видишь, тут круглая крышечка, она отодвигается и опять
задвигается. А когда я пойду в город, я тебе куплю писто-
лет и пистоны или коробку папирос.
Я отказался от зеркальца, пистолета и папирос. Я по-
клялся ей, как умел, что до самой своей смерти никогда
никому не скажу о ее падении.
Тогда девочка взяла меня за плечи и сказала, улыбаясь
сквозь слезы:
— Ты очень хороший мальчик. Я тебя люблю. — И она
крепко поцеловала меня в щеку.
Она выстирала в бочке мой платок и разостлала на
траве сохнуть.
Так я познакомился с Шурой.
Это была та самая Шура Ястребова, из-за которой в
продолжение многих лет шла потом между тремя дворами
ожесточенная война.
ВТОРОГОДНИК БАЛАНДИН
Толстый преподаватель истории и географии в синем
сюртуке с золотыми пуговицами и золотыми наплечниками
шел вприпрыжку по коридору гимназии. Впереди него
бесшумно скользил, низко наклонив голову, батюшка в
рясе. Перед батюшкой мчался во весь опор высокий и
стройный немец, размахивая левой рукой, а правой прижи-
мая к груди классный журнал в гладком черном переплете.
Все они шли из учительской в классы. Двери комнат по
обе стороны коридора были широко открыты, а у дверей
стояли дежурные ученики. В начале коридора — усатые
молодые люди, дальше — подростки, а еще дальше пухлые
мальчики. Вот исчез немец, и за ним быстро закрылись
двери одной из комнат. Там сразу стало тихо, между тем,
как в соседних комнатах еще хлопали крышками парт и
ревели, как в зверинце.
Преподаватель географии подошел ко второму классу.
Чистенький мальчик, смуглый, почти черный, встретил его
у дверей и шаркнул ножкой:
— Здравствуйте, Павел Павлыч.
— А, Курмышев! — ласково прогудел Павел Павлович
и погладил мальчика широкой ладонью по стриженой голове.
Павел Павлович влетел в класс, подпрыгивая, как на
рессорах. В комнате было светло и весело. Тридцать семь
гимназистов с шумом поднялись со своих мест, в послед-
ний раз стукнув крышками парт. Павел Павлович тяжело
взобрался на кафедру, блестевшую, как новенький цилиндр,
и раскрыл журнал.
Курмышев стоял у кафедры, как стрелочник у паро-
воза. Он читал листок:
543
— Отсутствующие — Барабанов, Гарбуз, Зуюс, Миро-
носицкий, Панчулидзе, Расторгуев и Цыпкин.
Павел Павлович взял в пухлые пальцы перо и что-то
записал в журнал.
Не успел Курмышев добраться до своей парты, как с
кафедры прозвучал густой бас Павла Павловича:
— Курмышев!
Курмышев вернулся к кафедре.
— Откройте окошко, — сказал Павел Павлович.
Курмышев влез на подоконник и с треском открыл окно.
Окна открывались в первый раз этой весной. Подул ветер
и зашелестел географическими картами. В класс ворвался
из сада посторонний голос:
— Мишенька! Мишенька! Вернись!—кричала в саду
женщина.
В классе засмеялись.
Павел Павлович грозно посмотрел на класс и сказал:
— Если так, господа, сидите при закрытых окнах.
Курмышев!
Курмышев, который еще не успел слезть с подоконни-
ка, захлопнул окно.
— Теперь Павлушка рассердился — резать будет, —
сказал Курмышеву мальчик на передней парте. — Он све-
жий воздух любит, а в классе духота.
И правда, Павел Павлович сидел на кафедре и тяжело
дышал.
— Чем это у вас здесь пахнет? — сказал он, нюхая воз-
дух. — Дежурный!
— Не знаю, Павел Павлыч, — сказал Курмышев.
— Говорите, что у кого на завтрак. У тебя? — ткнул
он пальцем мальчика на первой парте.
— Пирог.
— У тебя?
— Жареная печенка.
— У тебя?
— Бутерброд с колбасой.
— У тебя?
— Яичница, — сказал смущенно толстый мальчик, си-
девший в конце класса на «Камчатке».
Весь класс захохотал.
— Яичница! — передразнил Павел Павлович, — зав-
тракали бы дома, а то превращают класс в кухмистерскую.
Яичница!
544
Классу стало весело.
— Дудкин суп в класс принес! — крикнул кто-то.
Павел Павлович встал во весь рост.
— Кто это сказал? — спросил он.
Все молчали.
— Кто сказал про суп?
Никто не отзывался.
— В таком случае Дудкина вон из класса, пока винов-
ный не сознается.
Дудкин направился к двери.
— А ну-ка вернись! — закричал Павел Павлович, ко-
гда Дудкин уже закрывал за собой дверь.
Дудкин вернулся.
— Ты что это сделал ногой, когда выходил?
— Ничего, Павел Павлович.
— Это у него походка такая, Павел Павлович, — крик-
пул с места Баландин.
— Я тебе покажу, как коленца выкидывать, — сказал
Павел Павлович. — Сейчас же ступай вон до конца урока.
И ты, Баландин, тоже.
Рыжий, веснушчатый Баландин встал и медленно пошел
между партами, незаметно задевая на ходу товарищей.
— Быстрее! —крикнул Павел Павлович.
— Я быстрее не могу, — буркнул Баландин. Он вышел
наконец из прохода между партами и, описывая дугу, мед-
ленно направлялся к выходу.
Гимназисты давились от смеха.
— Ну и Баланда! Вот так рыжий!
Павел Павлович пристально смотрел на Баландина,
Баландин на Павла Павловича.
Вдруг Баландин упал на пол.
— Что это? — спросил Павел Павлович. — Ты изде-
ваешься, что ли?
Баландин встал, сморщил гримасу и стал тереть колено.
— Я подскользнулся, Павел Павлович.
— Поскользнулся? Вот ты у меня поскользнешься в
последней четверти! Иди-ка отвечать за весь год.
Этого никто не ждал. В классе затихли.
— Павел Павлович, — сказал Баландин серьезно, — вы
ведь обещали не спрашивать меня эту неделю. Я ведь обе-
щал вам подготовиться к следующему понедельнику.
Я лучше выйду из класса, Павел Павлович.
Павел Павлович злорадно улыбался.
18 С. Маршак, т. в 545
— Нет, дорогой мой, все равно перед смертью не на-
дышишься.
Стоя, он раскрыл толстый журнал и, с шумом перели-
стывая страницы, стал читать:
— Баландин... Отсутствовал... Отсутствовал... Отсут-
ствовал. Ел на уроке... Свистел... Сидел на полу... От-
казался от ответа по причине желудочного расстройства...
Отказался отвечать ввиду смерти бабушки... Явился в гим-
назию в порванных брюках...
Павел Павлович раскрыл другой журнал — потоньше, и
прочее:
— Баландин... Три с минусом... Четыре с минусом...
Два с минусом... Единица... Единица... Единица...
— Павел Павлович, — сказал Баландин, — спросите
меня послезавтра.
— Так, — сказал Павел Павлович, усаживаясь на бле-
стящий венский стул. — Послезавтра? Это мне нравится.
А может быть, послепослезавтра, господин Баландин, а мо-
жет быть, послепослепослезавтра? Нечего разговаривать, из-
вольте отвечать.
Баландин успокоился, сжал губы и шагнул к карте.
Карта была немая — без надписей.
— Какие вы знаете полуострова? — спросил Павел
Павлович, раскачиваясь на стуле.
Баландин, глядя в сторону, угрюмо пробормотал:
— Кольский, Канин, Скандинавский, Ютландия, Пире-
нейский...
— Недурно для начала, — сказал Павел Павлович, —
а не укажете ли вы мне на карте полуостров Канин?
Баландин повернулся к огромной разноцветной карте и
обвел рассеянным взглядом все части света.
— Возьмите указку и покажите.
Баландин взял тонкую палочку, покрутил ею в нере-
шительности, а потом куда-то ткнул.
— Это интересно, — сказал Павел Павлович, торже-
ственно вставая со стула и подходя к краю кафедры. — По-
кажите еще раз полуостров Канин.
Баландин ткнул в другое место карты.
Павел Павлович радостно улыбнулся.
— Вот оно что. Значит, этот полуостров переезжает с
места на место, ведет кочевой образ жизни. А скажите! —•
спросил он. — Сколько в острове полуостровов?
-— В острове полуостровов? Два, — сказал Баландин»
546
— Совершенно верно, два. Два будет у вас в последней
четверти и в годовой.
Баландин положил указку и равнодушно пошел на
место.
Курмышев и Баландин жили на одном дворе. Курмышев
в доме, выходившем на улицу. Баландин — в небольшом
флигеле. Отец Курмышева был судья, а у Баландина отца
не было.
Когда гимназистов распустили на лето, Курмышев вер”
нулся из гимназии, сбросил пальто и ранец и выбежал на
двор.
Было еще свежо. Курмышев разбежался, перепрыгнул
через скамейку, потом поднял с земли камень и запустил
в небо. Потом подозвал к себе сонную лохматую собаку»
стал теребить ее за уши. Собака завизжала и вырвалась.
Курмышев подошел к флигелю и стукнул в последнее
окошко справа.
— Заходите, господин Курмышев, — сказала пожилая
женщина в очках и в красных сережках, открывая форточку.
Курмышев вбежал в темную переднюю. Там в углу ку-*
дахтали куры.
— Пожалуйте, господин Курмышев, — говорила жен-
щина, отворяя дверь. — Жоржик, к тебе пришли!
Баландин вскочил в соседней комнате с кровати, на ко-
торой он валялся одетый, и бросился к товарищу. Лицо у
него было красное и [изрядно] помятое.
— Кончили курс и теперь гулять? — говорила женщина,
мать Баландина. — Ну, гуляйте, гуляйте, молодые люди.
— Она ничего не знает про меня, — шепнул Баландин.—
Молчи!
За столом сидел растрепанный и небритый мужчина и
читал какую-то бумажку.
— Сведения об успехах, поведении, прилежании и вни-
мании, — читал он, — ученика второго класса Баландина Ге-
оргия. Закон божий три, география... тут что-то неразбор-
чиво... тоже три... А тут и совсем разобрать нельзя... Пере-
водится в третий класс... Кто это у вас сведения пишет?
— Помощник письмоводителя, — сказал Курмышев.
е— Молчи! *— шепнул ему прямо в ухо Баландин.
Так, >— сказал отчим, — а почему у тебя, обормот,
все тройки? Хоть бы одну четверку принес?
18* 547
— Ну уж и на том спасибо, — сказала женщина, — хо-
рошо, что не сел во втором классе.
— Не сел,— угрюмо проворчал отчим,— ему бы в его го-
ды в четвертом быть, а не во втором, попробовал бы он у
меня сесть.
Баландин взял бумажку, сложил ее и сунул в ящик стола.
— Шагаем? — сказал он Курмышеву.
— Шагаем!
И оба выскочили на двор.
— Курмышев, — сказал Баландин шепотом, когда они
очутились на противоположном конце двора. — Мне све-
дения Дудкин исправил, он хорошо пишет. Только молчи.
Я отчима не боюсь, — ну пусть он меня зарежет, повесит,—
мне не страшно. Мне только маму жалко.
— А как же ты... — сказал Курмышев, — как же ты
осенью?
— Погоди, — прервал его Баландин, — мы выйдем на
улицу, тогда скажу.
Оба мальчика вышли за ворота. Курмышев шел, весело
перепрыгивая через лужи, Баландин шагал, не глядя под
ноги.
— Как же ты от домашних скрывать будешь? — спро-
сил Курмышев. — Ведь каждую неделю подпись нужна в
дневнике? Да и книги у тебя будут те же самые, что в этом
году.
— Ничего,— сказал Баландин отчаянно, — осенью я из
дому убегу... Скоплю пять рублей и уеду в Одессу. Там в
порту работать буду или на корабль наймусь. А потом,
когда большой буду, мать к себе возьму.
— Тише, — прошептал Курмышев, а потом снял фураж-
ку и сказал громко: — Здравствуйте, Павел Павлович.
По улице шагал, обходя лужи, Павел Павлович. В паль-
то он оказался еще толще. Форменные пуговицы и кокарда
блестели на солнце. Он тяжело отдувался и осторожно пере-
двигал толстые ноги в новеньких галошах.
— Здравствуй, Курмышев, — широко улыбаясь, сказал
Павел Павлович. Потом он перевел взгляд на Баландина и
перестал улыбаться.
Баландин смотрел в землю.
(ВСТУПЛЕНИЕ К КНИГЕ О МУРЗИЛКАХ)*
Я заснул в библиотеке за столом, заставленным со всех
сторон книжными шкафами. Библиотекарь не заметил меня,
Запер входную дверь на ключ и ушел домой.
Когда я проснулся, было темно. Впрочем, не совсем
темно. В окно смотрела луна, и на полках серебри-
лись корешки книг. Но в комнате было светло не только
от луны, — на одной из нижних полок мерцал маленький-
маленький зеленоватый огонек, похожий на фонарик свет-
ляка.
Неужели рто светляк?
Так странно было увидеть его здесь, в библиотеке, на
странице раскрытой книги. Но, приглядевшись вниматель-
нее, я удивился еще больше. Вокруг светляка, точно у кост-
ра на лесной поляне, сидели крошечные человечки в шляпах
и колпаках. Тут были мужчины и женщины, молодые и
старики.
Мне показалось, что я уже видел этих человечков где-то
раньше. Но где же? Ах да, на картинках в старой книжке,
которая называлась «Приключения Мурзилки и лесных че-
ловечков».
На этой самой книжке, на странице 97-й, они теперь
сидели кружком и о чем-то разговаривали тонкими комари-
ными голосами.
549
Один из человечков, старичок в фуражке с большим ко-
зырьком, говорил громче всех других. Он жужжал, как
шмель.
— В этой книжке, *— кричал старичок, — нет ни слова
правды. И картинки в ней неверные. Вот тут нарисован порт-
рет, а под ним подписано мое имя «Заячья губа». А разво
Этот урод похож на меня?
— Похож, похож! Этот урод очень похож на тебя! —
сказал другой человечек в длинном узком пальто и в высо-
кой шляпе, похожей на пробку от графина.
— Ты, должно быть, шутишь, Мурзилка, — пропищал
первый человечек.
— Нет, Заячья губа, мне не до шуток, — пропищал
второй.
Тут первый человечек страшно рассердился. Он надви-
нул на нос фуражку и сказал:
— Ты, Мурзилка, всегда любишь спорить. Недаром
тебя зовут «Пустая голова». Давай спросим у доктора
Мазь-Перемазь, похож ли я на свой портрет или не
похож.
•— А где доктор?
— Он медицинский словарь читает.
— Доктор! Мазь-Перемазь! Доктор!—закричали чело-
вечки хором.
Никто не отзывался.
Я оглядел полку и отыскал среди книг толстый том ме-
дицинского словаря. Он стоял на своем месте, но был слегка
раскрыт. Заглянув в него сверху, я заметил человечка в
очках, который раскачивался, как маятник, между страни-
цами словаря, ухватившись обеими руками за шелковую
голубую нитку-закладку. Прочитав одну строку, он спол-
зал ниже и принимался читать следующую. Наконец доктор
услышал голоса своих товарищей и быстро, как паучок по
паутинке, выбрался из книги.
— Мазь-Перемазь! — пищали человечки снизу.
Я с любопытством разглядывал доктора Мазь-Перемазь,
самого маленького из всех докторов на свете.
Из одного кармана его торчала крошечная докторская
трубочка, а из другого кармана — блестящий докторский мо-
лоточек. У него была лысая, похожая на хлебный шарик,
голова и острая седенькая бородка.
<— Мазь-Перемазь! — сказал я громко»
550
Доктор заткнул уши, будто оглушенный ударом грома,
и, прихрамывая, пустился бежать по краю полки.
Добежав до своих товарищей, он что-то пискнул. Чело-
вечки мигом вскочили на ноги и засуетились.
Не давая им опомниться, я накрыл всю их компанию
шляпой, как накрывают мотыльков или кузнечиков. Готово!
Человечки у меня в плену! Я чуть-чуть приподнял шляпу
и пошарил под ней рукой. Но, к великому моему удивлению,
ни одного человечка под шляпой не оказалось. Когда же
Это они успели удрать? На книге, где они только что мирно
сидели, остался один только светлячок, да и тот потушил
свой фонарик и сделался простым червяком. Я был очень
огорчен своей неудачей. Надев на голову шляпу, я пошел к
выходу и тут только обнаружил, что дверь библиотеки за-
перта на ключ. По счастью, в это время на лестнице послы-
шались шаги. Я забарабанил в дверь кулаками. Ночной сто-
рож услышал мой стук, отпер дверь и выпустил меня на
улицу.
Дома я долго думал о том, что произошло в библиотеке-
Неужели человечки мне только приснились? Нет, не может
быть. Я так ясно помню, как сидели они на книге, как забе-
гали при появлении доктора, как я накрыл их шляпой. На
всякий случай я взял свою шляпу и осмотрел ее еще раз.
И вдруг из-под кожаной подшивки шляпы на стол вывалился
крошечный человечек. Он забегал по столу, взобрался на
самую верхушку будильника и, спрыгнув оттуда, чуть не
угодил в чернильницу. Я поймал его двумя пальцами и под-
нес к своим глазам.
Человечек был пучеглазый, остроносый, в коричневом
костюмчике, сшитом из коры дерева. На голове вместо шля-
пы у него была ореховая скорлупка, а на ногах серые чулки
из толстой паутины.
— Как тебя зовут? — спросил я шепотом, чтобы не испу-
гать его звуком своего голоса»
Человечек молчал.
— Есть хочешь?
Человечек молчал.
Я накрыл его стеклянным колпаком, которым накрывают
сыр, сунул ему под колпак кусочек хлеба с маслом и на-
персток с молоком, а сам принялся за работу.
Человечек не шевелился и не дотрагивался до еды..
Он сидел под стеклянной крышкой, низко склонив голову.
551
Я подумал: а может быть, этот малыш любит сладкое?
Не попробовать ли угостить его мармеладом и засахаренны-
ми фруктами? Я достал из буфета коробку, но в ней ничего
уже не было, кроме крошек на самом дне. [Мне показалось,
что с] моего гостя и этого угощения хватит. Я высыпал все,
что было в коробке, и предложил своему пленнику. Через
минуту я увидел, что он с жадностью уплетает сладкие крош-
ки. Видно, они пришлись ему по вкусу. Он съел всю кучку,
а заодно отведал молока и хлеба с маслом.
Я приготовил для него постель в маленькой кар-
тонной коробочке, уложил его спать и на прощанье
сказал:
— Я оставляю тебя на свободе. Если ты не убежишь
ночью, я тебя отпущу утром к твоим товарищам. Советую
тебе не пытаться бежать, потому что в нашей квартире
живут собака Филька и кот Васька. Если они тебя заметят,
они проглотят тебя, как муху, а если не заметят, могут раз-
давить лапой.
Вероятно, человечек меня понял.
Я проснулся рано утром и прежде всего бросился к коро-
бочке. Моего гостя там не оказалось. Но, обернувшись, я
нашел его на письменном столе. Он ходил по столу, как
по улицам незнакомого города, с любопытством осматривая
чернильницы с медными крышками, пресс-папье, будильник,
настольную лампу и другие вещи.
Я попытался с ним заговорить.
— Здравствуй, приятель. Как тебя зовут? — спросил я.
Человечек вздрогнул и отступил на шаг, но потом улыб-
нулся мне и чуть слышно пропищал:
— У меня три имени: Разиня, Раззява и Пучеглазый.,
— А кто ты такой?
— Мурзилкин двоюродный брат.
— А кто такой Мурзилка?
— Мой двоюродный брат.
Больше Пучеглазый мне ничего про себя не рассказал.
Я занялся приготовлением завтрака и на несколько
минут про него забыл. К завтраку в мою комнату обык-
новенно являются Филька, большой рыжий пес, и Васька,
белый кот.
Так было и в это утро. Не успел я вскипятить молоко
и нарезать хлеб, как в передней послышался лай, а потом
кто-то начал яростно царапать дверь.
552
Я впустил в комнату Фильку и Ваську. Увидев страшных
зверей, человечек пустился бежать по столу. Этим он чуть
не погубил себя. Кот Васька, вероятно, принял его за мышь
и мигом вскочил на стол, а Филька начал громко лаять.
Хорошо, что я успел вовремя накрыть Пучеглазого стек-
лянным колпаком. После этого я выпроводил обоих зверей
из комнаты и постарался успокоить Пучеглазого.
Скоро он забыл свой испуг и повеселел.
Пучеглазый оказался очень веселым и разговорчивым
человечком.
Мы сели с ним пить чай — я пил из стакана, а он из
наперстка.
За чаем я узнал от него много любопытного...
О ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКЕ
I
В последнее время у нас часто жалуются на то, что поэты
наши редко и мало пишут о любви.
Это правда. Другие — очень важные и значительные —
темы почти вытеснили со страниц журналов тему любви.]
Произошло э^о не так давно. О любви писал Маяковский,
и даже в последних его стихах говорилось о любовной лодке,
разбившейся о быт. О любви писал во время войны К. Симо-
нов. Пишет иногда С. Щипачев и другие поэты.
И все же этого, конечно, мало.
Недавно «Литературная газета» попыталась поправить
дело организационными мерами — устроила на своих стра-
ницах целую выставку — «подборку» любовных стихов раз-1
ных поэтов1. Однако любовная поэзия — такое тонкое дело,
что почти не поддается организационным мерам. Да к тому
же стихи о любви плохо переносят соседство других стихов
того же характера.
Лучше не выстраивать любовные стихи в шеренгу, а то
получается не то пастораль, не то какая-то странная кадриль.
Любовная лирика оскудела не только потому, что мно-
гие наши поэты в течение долгого времени «наступали на
горло собственной песне»2. В исчезновении любовных сти-
хов повинны и редакторы и критики, изо дня в день занимаю^
щиеся «селекцией» литературы по своему разумению и вкусу4
До недавнего времени они были твердо убеждены, что
лирике нет места среди великих дел и событий нашей эпохи«
К счастью, такой взгляд можно уже считать устаревшим^
554
Молодые порты смелее носят в редакцию лирические
стихи.
Однако у любовной поэзии, если она идет не на самом
высшем уровне, всегда есть опасность — измельчать, опош-
лить лирическую тему.
И
Когда видишь в старых журналах и альманахах стихи
о любви, иной раз задаешь себе вопрос:
—« Зачем это опубликовано для всеобщего сведения? Да
какое дело нам до того, любит ли он ее, она его, кто кого
бросил и почему?
Если это плохие стихи, автор представляется нам чело-
веком смешным, бестактным, развязно откровенным, не по-
нимающим, что печатать стихи для широкой публики — это
Значит обращаться к великому множеству незнакомых лю-
дей.
Если же стихи немного получше, посложней, они не вы-
зывают насмешки. Напротив, они даже могут понравиться
какому-то кругу людей, имеющих обыкновение пользоваться
цитатами из стихов в своих любовных письмах и дневниках.
Но читателю, который не ищет в лирике материала для
использования в случае надобности, такие стихи кажутся
столь же развязными, что и бездарные. Они не состоят из
общих слов альбомного обихода, а касаются реальных чувств,
но чувства эти настолько интимны, что, в сущности, не долж-
ны были бы становиться предметом широкой гласности.
Но ведь стихи о любви писали и такие поэты, как Пуш-
кин, Лермонтов, Тютчев, Некрасов, Фет, Шекспир, Гете,
Байрон, Бернс, Блок, Маяковский.
Да, конечно, с тех пор как существует лирическая поэ-
зия, одна из ее главных и постоянных тем —любовь.
Я помню чудное мгновеньем
Передо мной явилась ты...
Эти строчки, как известно, посвящены А. П. Керн.
Однако не об Александре Пушкине и не об Анне Керн
говорится в них. Они только посвящены Керн. А чувства,
которые в них выражены, читатель вправе считать своими
собственными, а не только чувствами автора. Поэт говорит
от своего имени, от первого лица,— «Я помню», — но чита-
тель вправе присвоить это лирическое «Я».
555
Поэтому-то любовные стихи Пушкина всенародны и бес-
смертны. Поколение за поколением читает и будет читать
их, вновь и вновь оживляя слова давно умершего поэта.
Такие любовные стихи звучат громко, величаво, а не
вполголоса, потому что в них выражены большие чувства.
Они звучат не как интимное любовное мурлыканье, а четко
и уверенно, словно лирический манифест:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Оставаясь самим собой, порт щедро делит с читателем
все богатства своей души — любовь, дружбу, грусть и вдох-
новение.
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может3.
По-своему, но для всех говорит о своем сердце Маяков-
ский:
На мне ж
С ума сошла анатомия:
Сплошное сердце —
Гудит повсеместно 4.
Большие поэты великодушны, человечны в стихах о люб-
ви и дружбе. Это-то и дает им право говорить о своей ду-
шевной жизни с несметным множеством людей и верить,
что стихи поймут и те поколения, которые придут через
много лет.
Шекспир говорит:
О, если ты тот день переживешь,
Когда меня накроет смерть доскою,
И эти строчки бегло перечтешь,
Написанные дружеской рукою,—
Сравнишь ли ты меня и молодежь?
Ее искусство выше будет вдвое.
Но пусть я буду по милу хорош
Тем, что при жизни полон был тобою.
Ведь если бы я не отстал в пути,
С растущим веком мог бы я расти
И лучшие принес бы посвященья
Среди певцов иного поколенья.
Но так как с мертвым спор ведут они,—
Во мне любовь, в них мастерство цени!5
556
Один из наших талантливых художников, иллюстрируя
стихи классического поэта, изобразил автора на коленях
перед дамой.
Правильно ли это?
Разумеется, нет. Нельзя изображать ни Пушкина на коле-
нях перед А. П. Керн в иллюстрации к стихам «Я помню
чудное мгновенье», ни Шекспира, склоняющего колени перед
«Черной дамой» в книге сонетов.
Это принижает стихи, вся сила которых в общечелове-
ческом значении частной любви, воспетой поэтом.
А. П. Керн и «Черная дама» были только поводом к
созданию замечательных стихов, им посвященных.
Лирика — не дневник автора, не простое и прямое вира*
жение всех его чувств и ощущений. Не дешевая откровен-
ность, а высокая искренность — достоинство поэта. Рекви-
ем — не частный некролог и не судорожный плач над мо-
гилой.
Стены искусства не должны нагреваться и коробиться от
того пламени, которое горит внутри него.
Сколько внутреннего жара и внешнего холода в лирике
Пушкина — в стихах «Я помню чудное мгновенье», «В сте-
пи мирской, печальной и безбрежной» или в восьми строчках
стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла».
Поток мыслей и чувств, самых бурных и безудержных,
не нарушает стройности стихотворения, не лишает его гра-
ции.
Дешевая откровенность чувств находит место на самых
низших ступенях искусства. Подлинная искренность — на
высших.
А народная поэзия? Ведь в ней, казалось бы, безыскус-
ность формы сочетается с непосредственной искренностью
чувства.
Я полагаю, что такой взгляд на поэзию народа ошибочен.
Настоящая, а не мнимая народная поэзия дает нам об-
разцы высокого, сложного, совершенного мастерства, часто
доходящего до нас в осколках и в искаженных вариантах.
(О МОЛОДЫХ ПОЭТАХ)
(Наброски статьи)
<1>
Оглядывая пройденный мною более чем полувековой
литературный путь и вспоминая судьбы многих портов,
бывших моими современниками, я хочу высказать здесь
кое-какие мысли, которые, как мне кажется, могут приго-
диться молодежи.
В наше время книги стихов, — если не все, то очень
многие, — долго не залеживаются на прилавках магазинов и
полках библиотек. Расходятся даже томики лирических сти-
хов, которые еще не так давно с трудом пробивали себе
дорогу к читателю.
В разных концах нашей страны все увереннее заявляют
о своем существовании порты, о которых мы раньше не
слыхали. А целая плеяда молодых успела приобрести за не-
сколько лет такую широкую известность, какую их старшие
собратья завоевывали долгими годами труда.
Как в первые годы революции, во дни молодости Мая-
ковского и его ровесников, молодые порты находят не толь-
ко читателей, но и многочисленных слушателей.
Стихи, читаемые вслух с рстрады, вызывают немедлен-
ный и непосредственный отклик аудитории — не то что
страницы стихов в журналах и сборниках. Лучшие порты
тридцатых, сороковых и пятидесятых годов редко слышали
558
столь шумные аплодисменты, какие выпали на долю моло-
дых поэтов последних лет.
Для Маяковского подмостки были трибуной. В сущ-
ности вся его поэзия — оратория, рассчитанная на чтение
вслух.
Но если эстрада не трибуна, а только эстрада, она
таит для портов серьезные опасности. К аплодисментам надо
относиться с осторожностью.
Я не хочу, пользуясь своим возрастом, читать молодежи
наставления, предостерегать ее словами Дмитриева —
Ах, дети, дети, как опасны ваши лета!1
Но разобраться в том, что такое успех, расшифровать
Это общее и довольно смутное понятие небесполезно.
Успехи бывают различного качества, разной цены.
Почти одновременно с Маяковским стал известен Игорь
Северянин2. Сенсацию в литературных, а еще больше в око-
лолитературных кругах вызвали его пышные и претенциоз-
ные «поэзы», щеголявшие звучными иностранными име-
нами и служившие одной только цели — самопрославлению
автора.
В наших газетах были опубликованы несколько лет тому
назад грустные и простые, проникнутые тоской по утрачен-
ной родине, стихи того же Игоря Северянина, написанные
пм в эмиграции 3.
Читая их, видишь, что пышный, жеманный и манерный
стиль «поэз», в которых было отведено так много места
самолюбованию и самопрославлению, не был органичен для
их автора, что порт мог легко снять его с себя, как теат-
ральный костюм или маску.
Таких «ряженых» — то в заграничном плаще, то в рус-
ской поддевке, то в кубанке и с шашкой наголо — было в
литературе немало.
И, может быть, одно из самых существенных отличий
настоящего порта от поддельного заключается в том чувстве
собственного достоинства, которое не позволяет порту ря-
диться в поисках дешевого успеха.
Каждый из сколько-нибудь известных литераторов полу-
чает немало писем от читателей. Многие из этих писем
полны комплиментов. Но по-настоящему радуют писателя
не похвалы, а подтверждение того, что самые заветные его
559
мысли и чувства, выношенные в тиши, полностью дошли до
читателей и тем самым приобрели какую-то объективную
ценность.
В драматических произведениях Пушкина есть два
сходных между собою эпизода.
В сцене у фонтана Григорий Отрепьев признается често-
любивой Марине Мнишек, что он не царевич, хоть это при-
знание для него и невыгодно и опасно. Ио он не хочет,
чтобы «гордая полячка» любила в его лице мнимого царе-
вича, а не его самого.
В «Каменном госте» дон Жуан, добившись свидания
с донной Анной, признается ей, что он не дон Дирго, чьим
именем он себя назвал, а дон Жуан, убийца командора, ее
мужа.
Такое неосторожное, опрометчивое признание должно
оттолкнуть от него донну Анну и может погубить его, но
он ревнует любимую женщину к тому, за кого себя вы-
дает, ему нужно, чтобы она любила его, именно его — дон
Жуана.
Таковы и настоящие порты. Они предстают перед чита-
телем не ряжеными, а со всей своей подлинной биографией,
своим характером и мировоззрением. И если читатели по-
любят его именно таким — без румян и маскарадного ко-
стюма, — он радуется своему успеху.
Нет карьеры порта, — есть судьба порта.
И только человек, лишенный чувства собственного до-
стоинства, может гордиться случайно завоеванным успехом,
успехом не по адресу, «тафтяными цветами моды»4, как
называл такой успех Евгений Баратынский.
Вспомните его стихи:
Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.
Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы,—
Прости, я громко негодую;
Прости, наставник и пророк!
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.
560
Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас упрямым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом.
«Тафтяными цветами» моды довольствовался Бенедик-
тов5, а на мое.й памяти очень многие стихотворцы и бел-
летристы. Достаточно назвать романиста Арцыбашева6,
ныне совершенно забытого. А ведь у него была, хоть и не-
долгая, но гораздо более шумная слава, чем, скажем,
у Чехова, слава которого росла медленно, но доросла до
славы одного из виднейших в мире писателей и продолжает
расти с каждым годом.
Дешевое тщеславие, желание всем нравиться приводит
подчас к самым неожиданным последствиям. Надо трезво
разбираться в том, кто именно и что у вас ценит, и не упо-
добляться той анекдотической солдатской невесте, которую
«вся рота хвалит».
Репутация такой невесты весьма сомнительна.
Многие из наших молодых портов слишком долго за-
сиживаются в молодых.
«Блажен, кто смолоду был молод»7. Но плохо, если
человек вовремя не почувствует, что ему пора повзрослеть.
Задержаться на определенном возрасте так же невозможно
и рискованно, как на эскалаторе метро.
Любопытно оглянуться на далекое и недавнее прошлое,
чтобы хоть на нескольких наиболее наглядных примерах
проследить, когда и при каких обстоятельствах взрослели
люди, оказавшие влияние на судьбы нашей литературы.
Резкую грань, отделяющую юность от зрелости, можно
обнаружить, перечитывая Лермонтова. Этой гранью был для
него роковой 1837 год, год гибели Пушкина.
Стихи Лермонтова «На смерть порта», не обнародован-
ные при его жизни, но ходившие по рукам в списках, при-
несли ему всенародную славу.
В этих стихах на всю Россию прозвучал голос зрелого
и мужественного порта. А ведь ему в это время шел всего
только двадцать третий год. И если раньше у него были
наряду с замечательными и посредственные стихи, то с
1837 года по 1841-й, то есть до последних его дней, всё,
что ни писал он в стихах и в прозе, было отмечено печатью
зрелого ума и глубокого жизненного опыта.
561
Эта резкая черта, разделяющая два периода в твор-
честве Лермонтова, убедительно показывает, что дело
тут не только в том, что поэт стал на какой-нибудь год
старше.
Нет, прощаясь с Пушкиным, Лермонтов явственно осоз-
нал свое место в русской поэзии, понял, что ему выпало
на долю быть прямым наследником, законным преемником
погибшего поэта.
И это высокое, ответственное сознание не изменяло
ему до конца жизни.
А разве не чувством ответственности, возникающим
тогда, когда слово становится делом, объясняется ранняя
Зрелость Грибоедова, Добролюбова, Писарева?
Мы были свидетелями того, как с первых лет революции
окреп, стал звучнее и богаче голос молодого Владимира
Маяковского.
Уже в первой своей поэме — в «Стране Муравии» —«
предстал перед нами вполне зрелым поэтом Александр
Твардовский.
За последние годы у нас появилось немало талантливой
молодежи. Пусть же она помнит, что настоящая зрелость
приходит к человеку вместе с чувством ответственности..
Надо требовать от себя гораздо большего, чем мог бы
потребовать самый строгий читатель или критик. Если бы
Чехов был удовлетворен тем успехом, каким он пользо-
вался смолоду в юмористических журналах, он остался
бы Антошей Чехонте и никогда не стал бы Антоном Че-
ховым.
Мы, старики, повинны во многих недостатках, прису-
щих нашей молодежи. То мы слишком захваливали ее, то
обрушивались на нее чересчур сурово. Такая резкая смена
температур вряд ли способствует росту и развитию молодых
талантов.
Наше самое доброе пожелание, обращенное к литератур-
ной молодежи, может быть выражено словами Пушкина:
...Наконец
Я слышу речь не мальчика, но мужа8.
Зрелость поэта, твердая его поступь и уверенность в
своих силах зависят также от того, насколько он знаком
с поэзией предшественников и современников и умеет от-
личать новые побеги от прошлогодней травы.
562
Помню, как в конце 20-х или в начале 30-х годов Борис
Пастернак, собираясь писать книгу в стихах для детей,
обратился ко мне в письме с просьбой посоветовать, что
ему прочесть, чтобы «узнать традицию» и тем самым
«избежать рутины» 9.
Без знания традиции невозможно подлинное новатор-
ство. Открыватели нового в искусстве, в науке, в технике
должны быть вооружены знанием. Иначе им грозит участь
наивных изобретателей, тщетно пытающихся разрешить
проблему «perpetuum mobile» или открывающих уже давно
открытую Америку.
Самые бедные в истории искусства эпохи характеризу-
ются короткой памятью, почти полным забвением всего, что
достигнуто мировым и отечественным искусством. Такова
была — за редкими исключениями — наша поэзия в 80-е и
90-е годы прошлого столетия. В стихах искреннего, далеко
не бездарного, но отмеченного печатью безвременья поэта
Надсона и большинства его современников трудно обнару-
жить какую бы то ни было родословную. Для многих поэтов
Этого периода будто вовсе и не существовало на свете не
только Данте, Шекспира, Гете и Гейне, но и нашего Пуш-
кина, Баратынского, Тютчева. Поэзия была похожа тогда
на провинциальное захолустье, откуда «три года скачи,
ни до какого государства не доскачешь», как говорится
в «Ревизоре». Да и реальная жизнь весьма тускло отража-
лась в поэзии, в которой преобладали риторика и дек-<
ламация. Консервативность формы, бедность языка, одно-»
образие размеров и ритмов, банальность сравнений и эпи-
тетов, превратившихся в какие-то стертые и шаблонные
типографские виньетки, — вот типичные черты этого вре-
мени.
И при первых же признаках оживления, которое было
подготовлено поэзией конца 90-х годов и наступило в девя-
тисотых годах вместе с назревавшей революцией, в поэзии
начинают возрождаться традиции нашей и мировой лите-
ратуры.
Правда, как протест против предшествовавшего застоя,
поэзия этого времени часто грешит чрезмерным модерниз-
мом, новаторством ради новаторства, подражанием зару-
бежным образцам.
И все же культура наиболее выдающихся поэтов этих
лет куда выше, чем у их предшественников. В отличие от
563
поэтов 80-х и 90-х годов Александру Блоку уже нужны
Данте, Шекспир и Гейне, Пушкин, Жуковский, Тютчев, Фет
и Некрасов. Особенно чувствуется пушкинское начало в его
строгих и четких стихах последних лет.
И все это глубоко и органически воспринятые традиции
нисколько не умаляют своеобразия поэзии Блока, а напро-
тив, обогащают ее.
Мы помним его прекрасное стихотворение о девушке-
самоубийце («Под насыпью, во рву некошеном») 104
Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.
Три ярких глаза набегающих—»
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...
...Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотись на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною...
Скользнул — и поезд в даль умчало.
...Да что — давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов...
Разве не напоминают эти стихи знаменитую Некрасов-
скую «Тройку»?
Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу—i
Все лицо твое вспыхнуло вдруг.
И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет...
Но при всем сходстве этих стихотворений («...жадно
глядишь на дорогу» — «Так много жадных взоров кинуто».
Гусар, облокотившийся на бархат алый, — и подбоченив-
шийся корнет), в каждом из них так отчетливо и ярко
проявилась индивидуальность их авторов, так явственно
чувствуются подлинные черты времени.
564
С теми же стихами Александра Блока в какой-то степени
перекликается и стихотворение английского порта XIX века
Томаса Гуда «Мост вздохов» — тоже о девушке-само-
убийце.
Почти вполне совпадают строчка Блока:
«Красивая и молодая»
со строчкой Томаса Гуда:
«Young and so fair» (Молодая и такая красивая).
Такая перекличка портов разных времен и стран объяс-
няется совпадением жизненных фактов, да еще и тем, что
чуткая память порта бережет — иной раз даже без участия
сознания — обрывок музыкальной фразы его собрата, пред-
шественника или современника.
Кстати, как я неоднократно наблюдал, совпадение сти-
хотворного размера и ритма часто влечет за собою и сло-
весное совпадение. Очевидно, ритм не запоминается нами
отвлеченно, отдельно от тех слов, в которых он дошел до
нас.
У Лонгфелло есть стихи, напоминающие своим размером
и ритмом известное стихотворение Гейне «Лорелей».
Очевидно, недаром, не случайно строчка Гейне:
«Und ruhig fliesst der Rhein» («И спокойно течет
Рейн») так похожа на строчку Лонгфелло:
«As the wind resembles the rain» («Как ветер напо-
минает дождь»).
Хоть заключительное и опорное слово у Гейне означает
реку Рейн, а у Лонгфелло — дождь, но звучание их почти
одинаково.
В стихотворении Лермонтова «Ветка Палестины» (1837)
слышатся явные отзвуки пушкинского стихотворения
«Цветок» (1828).
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя.
Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
...И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?
565
Не похожи ли эти мелодичные, проникнутые грустным
раздумьем вопросы на такие же лирические вопросы, кото-
рыми кончаются восемь четверостиший «Ветки Палестины»?
Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?..
...И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?
Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы...
«Ветка Палестины» осталась в памяти гораздо более
широкого круга читателей — и взрослых и юных, — чем не-
большое и скромное стихотворение Пушкина «Цветок».
Но для меня — и, вероятно, не только для меня одного —
в беглых и хрупких, как бы наскоро набросанных лириче-
ских строчках Пушкина таится больше очарования, как
в почерке по сравнению со шрифтом.
Не эти ли строчки Пушкина («И вот уже мечтою стран-
ной...») нашли отдаленный и менее явный отзвук и в стихах
Блока —
...Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман! и
Поэты-современники и поэты разных веков и националь-
ностей то и дело перекликаются между собою. Поэзия — это
как бы общее большое хозяйство, в которое каждый на-
род и каждый поэт в отдельности вносит свой вклад, ча-»
стицу своего гения. Это яснее ощущается в эпохи подъема,
менее заметно — в эпохи упадка. В росписи Сикстинской
Капеллы участвовало множество художников, не боявших-
ся, что их индивидуальность затеряется, потонет в общем
дружном хоре. Напротив, в эпоху декаданса каждый рев-*
пиво оберегает патент, взятый им на тот или иной стихе-'
творный жанр, размер, ритм, круг тем, образов, эпите.тов и
метафор.
666
Верно и глубоко чувствовал общность поэтов своей стра-
ны и эпохи Владимир Маяковский, обращаясь к собратьям:
Сочтемся славою,—
ведь мы свои ясе людих—
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм 12.
Чем крупнее поэт, тем больше чувствует он, что искус-'
ство — общее дело, а не какой-то отгороженный им участок.
Чувствует это даже тогда, когда полемизирует, как Маяков-
ский, с поэтами-современниками и классиками. Ведь при-
мерно такую же полемику вели в своих стихах и Пушкин,
и Лермонтов, и Байрон, и Бернс, и Гейне — ив наше время
Твардовский.
Пушкин установил далекие связи с поэзией и прозой раз*
личных времен — с греческими гекзаметрами, с Овидием 13
и Горацием, с латинской прозой, с французскими поэтами,
с Байроном, а потом с Шекспиром, с поэзией западных
славян, с русской народной и предшествовавшей ему лите-
ратурной поэзией, — всех его связей в беглом перечне не
охватишь.
Без питания нет роста. Добросовестно пройденный уче-
нический период ведет к выработке подлинного, а не по-
верхностного и мнимого своеобразия.
Только умственно ограниченный и наивный человек
может думать, что знакомство со стихами поэтов-современ-
ников и предшественников грозит ему потерей оригиналь-
ности и самобытности. Сравнивая между собой различные
Эпохи, лишний раз убеждаешься, что потеря связи с куль-
турой ведет к банальности, к бедности мысли, чувств и
поэтических средств.
У поэта, как у всякого художника, два источника пита-
ния. Один из них — жизнь, другой — само искусство. Без
первого нет второго. Недаром, как мы видели, во время па-
дения культуры стиха поэзия теряет не только стиль и
многообразие своих форм и средств, но и способность ви-
деть, слышать и чувствовать окружающую жизнь.
С другой стороны поэзия становится бескровной, фор-
мальной и книжной, если она оторвана от жизни и варится
в собственном — поэтическом — соку»
567
Для нас уже стало прописной истиной, что Пушкин
учился живой русской речи у простого народа — у нянюшки
Арины Родионовны, в деревне, на дорогах и базарах — и
что Лев Толстой — по его собственному признанию — учился
говорить по-русски не только у крестьян, но даже у кре-
стьянских ребят.
Не оттого ли стихи так часто похожи у нас на перевод
с какого-то иностранного языка, что авторы их не прислу-
шиваются к живой и естественной русской речи, не ста-
раются уловить те богатые устные интонации, без которых
фраза становится безжизненной, бессильной и бесцветной.
Эти интонации придают мощь и убедительность пуш-
кинским, лермонтовским, некрасовским, тютчевским стихам,
стихам Маяковского и Твардовского.
Пожалуй, многим портам следовало бы поучиться уме-
нию вслушиваться в народную речь у лучших прозаиков,
у классиков да и у современных писателей...
<И>
В произведениях искусства проявляется то, что у ху-
дожника на душе и за душой. Каков человек, таково и его
искусство. Этого-то человека требовательно и жадно ищет
в строчках книги — или, вернее, за строчками — чуткий
читатель.
Кормилида не столько заботится о своем молоке,
сколько о своем здоровье. Будет здоровье — и молоко будет
хорошее.
Так о своем духовном, нравственном здоровье должен
прежде всего заботиться писатель.
Если он беден мыслью и чувством, откуда же возьмется
богатое содержание в его стихах и в прозе? Если он полон
только самим собой, — в его душе и в литературных его
трудах не будет места жизни и тому неисчерпаемому богат-
ству, которое в ней заключено. О таких людях Пушкин
говорит:
... — Да ты чем полон, шут нарядный?
А, понимаю: сам собой;
Ты полон дряни, милый мой! 14
Самовлюбленность — одна пз главных болезней, которой
подвержены люди искусства. Она неизбежно ведет к обме-
лению души.
В искусстве, как на Монетном дворе, ничто не долж-
но прилипать к рукам. Нельзя без ущерба своему искус-
ству щеголять внешними данными, голосом, стихом, хоть
569
Заботиться о своем голосе и о качестве своего стиха надо
постоянно.
Сальери гораздо больше думал о своем месте в искус-
стве, чем гениальный, щедрый, бескорыстно преданный
искусству Моцарт.
Что ценим мы больше всего в Пушкине? Или, скажем,
что больше всего ценил в своей поэзии он сам?
В зрелых его стихах, где взвешено каждое слово
(«Я памятник себе воздвиг нерукотворный»), он говорит:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу...
В этих строчках речь идет не об эстетической, а об
Этической и гражданской ценности того, что оставил поэт
народу.
А разве не ценил Пушкин красоту, совершенство формы?
И все же он, непревзойденный мастер стиха, не считает
своей главной заслугой высокое мастерство само по себе.
Нет, это мастерство подчинено высшей цели.
Не о том ли самом говорит и Маяковский, обращаясь
к своим собратьям в стихотворении «Во весь голос»?
Сочтемся славою,—
ведь мы свои же люди,—
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.
В сущности, этим критерием — этическим — определя-
ется величие писателя. Замечательным поэтом был Фет,
но недостаток альтруизма, гражданственности, равнодушие
к бедам и нуждам порабощенного народа — вот что не дает
ему права стоять рядом с Пушкиным, как бы превосходны
ни были его стихи о природе.
Очевидно, подлинной красоты не может быть там, где
нет человечности и благородства.
Многие стихи Некрасова по сравнению со стихами Фета
кажутся прозаичными и даже газетными. Но, внимательно
перечитывая Некрасова, находишь образцы высокой поэзии
и гораздо больше узнаешь об его эпохе, чем по стихам
570
таких талантливых его современников, как Фет и Полон-
ский.
И потому стихи его богаче живыми интонациями, шире,
разнообразнее, народнее его словарь.
Любопытно, что стихи Некрасова могли в свое время
соревноваться в силе своего воздействия на читателей с
прозой Тургенева, Достоевского, Гончарова, Льва Тол-
стого.
А ведь позднее даже самые знаменитые поэты не могли
соперничать в успехе с Толстым, Чеховым, Горьким.
Говоря здесь о человечности и гражданственности, я
имею в виду не тенденции, плавающие на поверхности
литературных произведений, как жир в плохо сваренном
супе, не холодные декларации, а поэзию, которая выражает
глубоко личные чувства автора, живущего одной жизнью
с народом. В такой поэзии личное и общественное нераз-
делимы.
В одном из сонетов Шекспир говорит:
Красильщик скрыть не может ремесло.
Так на меня проклятое занятье
Печатью несмываемой легло.
О, помоги мне смыть мое проклятье 15<
Очевидно, речь здесь идет о ремесле актера. Па это
указывает строчка, в которой говорится, что автор сонета
осужден «зависеть от публичных подаяний».
Литературный цех, как и актерский, тоже накладывает
свою печать на человека, если этот цех оказывается для
него замкнутым кругом, заслоняющим широкий мир.
Мы знаем, что начинающему не слишком легко про-
биться в литературу, в семью профессиональных писателей.
И часто бывает так, что добившийся признания новичок
становится завсегдатаем редакций и литературных клубов
и встречается почти исключительно со своими собратьями
по перу. У него сразу же появляются друзья и враги.
Друзья — это те, кто признает его талант, враги — те, кто
отрицает. Успех, место, которое он занимает в литера-
туре, — вот что составляет главный его интерес в жизни.
С более широкой средой он встречается главным образом
на своих литературных выступлениях, как с публикой, или
тогда, когда ездит в командировку.
571
Разумеется, я говорю здесь не обо всех наших молодых
литераторах, но думаю, что те, кого я имел здесь в виду,
не являются исключением.
Писатель должен быть профессионалом, а не любителем,
но прежде всего он должен быть человеком и не терять
непосредственного — а не только писательского — интереса
к жизни и к людям.
Только при наличии такого интереса он не будет нуж-
даться в необходимом для литературной работы.
Он должен верить в свои силы — без этого невозможно
писать, — но нельзя придавать чрезмерное значение времен-
ному успеху и похвалам окружающих людей...
<Ш)
У нас часто говорят о том, что старые писатели дол-
жны помогать молодым, делиться с ними своим зрелым
опытом. Что ж, такое требование вполне справедливо и за-
конно.
Но если говорить конкретно, то чему, собственно, может
обучать молодых портов их старший собрат, накопивший за
свою долгую жизнь немалый опыт?
Технике стихосложения? Искусству рифмовать или поль-
зоваться разнообразными стихотворными размерами?
Но ведь мы знаем, что на рифмы и стихотворные раз-
меры, как на вкус и цвет, товарищей нет.
Возьмем портов одной и той же поры. Скажем, Маяков-
ского, Есенина и Пастернака. Как различны их рифмы и
размеры. Пастернак и Есенин не пользовались свободными
размерами и не располагали стихи «лесенкой», как Маяков-
ский или Асеев, и тем не менее стихи их звучали вполне
современно.
А ведь у иных портов те же формы и размеры, что у
Пастернака и у Твардовского, кажутся старообразными,
старомодными.
Значит, дело в содержании, в словаре и в интонациях,
которые заключены в ртих размерах.
Мы понимаем, для чего Маяковскому нужна была ею
«лесенка», без которой многие не могли бы прочесть его
еще необычный для того времени стих, но часто недоуме-
ваешь, зачем и чего ради пользуются той же лесенкой
многие стихотворцы, которым она вовсе не нужна.
573
Оценивать богатство или бедность рифм или тех или
иных стихотворных размеров нельзя без учета индиви-
дуального характера того или иного автора. Это ведь не
объективный товар, подлежащий рыночной оценке.
Правда, существуют бедные и богатые рифмы, простые
и сложные размеры и ритмы.
Но, пожалуй, только новичку надо объяснять, что чер-
пать рифмы из «мелочишки склонений и спряжений»16
есть путь наименьшего сопротивления и что стихотворных
размеров и форм на свете гораздо больше, чем те, на кото-
рые он случайно набрел.
Но и тут надо сделать оговорку. Желание блеснуть новой
и сложной рифмой часто ведет к механическому стихоплет-
ству — вроде известных стихов Д. Минаева 17 «Даже к фин-
ским скалам бурым обращаюсь с каламбуром» или
«Муж, побелев, как штукатурка, воскликнул: — Это штука
турка!»
Другое дело счастливо найденная и естественно состав-
ленная рифма Маяковского:
Лет до ста расти
Вам без старости,
Год от году расти
Вашей бодрости 18.
Интересно отметить, что новые, щегольские, в первый
раз найденные рифмы встречаются у Пушкина, главным
образом, в сатирических стихах, — например:
Благочестивая жена
Душою богу предана,
А грешной плотию
Архимандриту Фотию 19.
А в таких строгих стихах, как «Пророк», он спокойно
рифмует слова: «мечом» и «огнем», «лежал» и «воззвал»^
Ибо всему свое место и свое время.
Точно так же и Маяковский вводит в самые патетичес-
кие строфы своего стихотворения «Во весь голос», написан-
ного свободным размером, строгие классические ямбы.
Вообще можно сказать молодому порту: не сотвори себе
кумира из рифмы, из стихотворных размеров, из так назы-
ваемой инструментовки стиха. Все это живет в стихе вместе,
и гипертрофия каждого из этих слагаемых ведет к механи-
зации стиха.
574
Хороши стихи, богатые аллитерациями. Но ведь можно
назвать превосходные стихи, в которых никаких аллитера-*
ций нет. Особая прелесть этих стихов заключается именно
в разнообразии звуков. Найдите, например, аллитерации в
одном из самых замечательных стихотворений Пушкина
«Я вас любил. Любовь еще, быть может...».
Достоинством стихов обычно и по справедливости счи-
тается их образность. Но вы не найдете ни одного поэтиче-
ского образа, метафоры, сравнения в упомянутом выше ли-
рическом стихотворении Пушкина. А между тем оно в высо-
кой степени поэтично.
Значит, и поэтический образ тоже не должен быть ку-
миром.
Я знаю молодых портов, которые так стремятся украсить
свои стихи новыми, смелыми до дерзости образами и упо-
доблениями и так прошивают стихи аллитерациями, что и
слова не могут молвить в простоте.
Читая такие стихи, приходишь к мысли, что форма-
лист — это человек, не овладевший или не вполне овладев-
ший формой.
Я знал кружки, руководители которых рекомендовали
мялодым портам всевозможные стихотворные упражнения.
Они полагали, что, сочиняя по их заданию рондо, сонеты
и венки сонетов, участники кружка овладевают поэтиче-
ским мастерством. Но вряд ли кому-либо из них рто при-
несло сколько-нибудь существенную пользу. Писать стихи
«вхолостую», упражняясь в стихотворной технике, рто все
равно, что учиться плавать на суше.
<IV>
Каждое совещание, посвященное работе молодых писа-
телей, как бы открывает новую страницу нашей поэзии и
прозы.
К сожалению, я лишен возможности присутствовать па
нынешнем совещании и вынужден ограничиться сердечным
приветом его участникам да несколькими мыслями, со-
ображениями и пожеланиями, которыми хотел бы с ними
поделиться.
Мне довелось участвовать в первой — послевоенной —
встрече с литературной молодежью. Уже тогда можно было
различить в общем хоре свежие и новые голоса.
С несколькими молодыми портами мы познакомились в
годы войны. Мы приметили и запомнили тех, кто успел про-
явить свой облик и почерк, — Семена Гудзенко, Алексея
Недогонова, Александра Межирова, Сергея Наровчатова.
А других узнали еще до того, как они стали печататься.
Так вошли в литературу такие острые, думающие, свое-
образные порты, как Борис Слуцкий, Дав. Самойлов, Н. Кор-
жавин.
На первом совещании в Союзе писателей мы встрети-
лись с целой плеядой молодых и по возрасту и по стажу
прозаиков и портов. Это были младшие участники войны,
лишь недавно снявшие с себя армейскую шинель. И темы
их были по преимуществу фронтовые.
Некоторых из них и тогда уже нельзя было причислить
к начинающим, несмотря на их возраст. Такими были,
576
например, Евгений Винокуров и Константин Ваншенкин, те-
перь уже вполне зрелые поэты.
С тех пор каждый год открывал нам все новые и новые
имена. Их теперь не так-то легко перечислить. Даже наибо-
лее заметные среди них составили бы довольно большой
список.
И те, кто появился в литературе всего только лет пять —
семь тому назад, уже чувствуют себя почти стариками ря-
дом с молодежью, самоутверждающей и задорной, которая
пришла после них.
Об этом хорошо говорит в своем стихотворении один из
таких «стариков» — Евгений Евтушенко:
...Приходят мальчики,
надменные и властные.
Они сжимают кулачонки влажные
И, задыхаясь от смертельной сладости,
отважно обличают
мои слабости.
Спасибо, мальчики!
Давайте!
Будьте стойкими!
Вступайте в спор!
Держитесь на своем!
Переставая быть к другим жестокими,
быть молодыми мы перестаем...
Я возраст ощущаю со стыдливостью.
Вы — неразумнее,
но это не беда.
Ведь даже и в своей несправедливости
вы тоже справедливы иногда.
Давайте, мальчики!
Но знайте:
старше станете,
и, зарекаясь ошибаться впредь,
от собственной жестокости устанете
и потихоньку будете добреть.
Другие мальчики,
надменные и властные,
придут,
сжимая кулачонки влажные,
и, задыхаясь от смертельной сладости,
обрушатся они
на ваши слабости...20
(«Новый мир», июль 4962 г.)
Оглядывая вступающие в строй новые пополнения поэ-
тов, нельзя не радоваться. Во всяком случае, средний уро-
вень их значительно выше уровня дореволюционной поэзии,
19 Маршак{ т. 6 5Т7
в которой очень большие поэты одиноко высились над
довольно низкой порослью, состоявшей из талантливых поэ-
тов-неудачников и холодных подражателей-ремесленников.
Правда, и теперь можно обнаружить немало примеров
банальщины и подражательности. Однако наша молодежь
все яснее сознает, что право на вход в литературу дают не
перепевы, а подлинные мысли, чувства и наблюдения. Все
меньше у нас литературной провинции, живущей отголос-
ками и отходами искусства. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно почитать книги и сборники, выходящие в краях, да-
леких от центров. В них находишь немало страниц, проник-
нутых тем чувством собственного достоинства, которое не
позволяет человеку жить чужим умом и повторять уже
знакомое.
Но, пожалуй, еще больше, чем удачам и успехам нашей
молодежи, должны мы радоваться ее неуспокоенности, ее
все возрастающей требовательности к себе.
В этом смысле очень показательна статья одного из
молодых поэтов, Владимира Цыбина, написанная резко и
горячо.
Автор статьи * говорит:
«Вот уже наступило время, когда нам стало по двадцати
восьми — тридцати двум годам. Мы перешагнули «лермон-
товский», «есенинский» возраст. В наши годы уже были на-
писаны «Тихий Дон», «Разгром». А что сделали мы? И по
масштабу и по значению — неизмеримо меньше.
В чем же дело? Почему?..»
Ответить на это не так-то легко. Однако хорошо и то,
что кое-кто из молодых поэтов задает себе этот вопрос.
Хорошо, что молодежь не только мерится силами между со-
бой, но и подвергает себя строгому экзамену, сравнивая
свои успехи с тем, что успели сделать в ее возрасте круп-
ные поэты и прозаики.
Кстати, автор статьи мог бы вспомнить и Александра
Твардовского, которому и двадцати шести лет не было,
когда он написал такую значительную поэму, как «Страна
Муравия». Да и Владимира Маяковского, который был уже
настоящим, вполне зрелым Маяковским в том возрасте,
о котором идет речь в статье...
♦ «Литературная газета», 4 августа 1962 г, (Прим, автора J
<V>
В этих заметках я хочу поделиться с читателями кое-
какими своими впечатлениями от сборников стихов и от-
дельных стихотворений, прочитанных мною за последнее
время.
Это, конечно, только впечатления, а не оценка. По-на-
стоящему оценить поэта, как и всякого человека, с которым
мы знакомимся, можно лишь с течением времени —
после того, как он повернется к нам разными своими
сторонами.
Пушкина долгое время — даже после того, как он напи-
сал «Евгения Онегина», — читающая публика и критика
называли всего лишь певцом «Руслана и Людмилы», «Кав-
казского пленника» и «Бахчисарайского фонтана».
После «Стихов о Прекрасной Даме» и даже после «Не-
чаянной радости» еще трудно было увидеть в Александре
Блоке автора стихов «Петроградское небо мутилось дож-
дем...», «Под насыпью во рву некошеном...» и еще меньше
«Двенадцати» и «Скифов».
А кто мог узнать в Антоше Чехонте будущего Антона
Чехова?
Молодого поэта можно почувствовать или не почувство-
вать, принять его или не принять.
А рассматривать его стихи, как ученическую тетрадку,
подчеркивая строчки и предостерегая автора восклицатель-
ными знаками на полях, — дело бесполезное, да и обид-i
19* 579
ное, если только перед нами не первая робкая попытка
начинающего.
Но человек, выступающий в печати, да не с отдельным
стихотворением, а с целым сборником стихов, не может и
не должен ждать скидки на молодость.
Мой друг, зачем о молодости лет
Ты объявляешь публике читающей?
Тот, кто еще не начал, — не порт,
А кто уж начал, тот не начинающий 21«
Есть много признаков того, что за последние годы наша
поэзия заметно оживилась и помолодела.
Вероятно, этим она обязана, главным образом, освобож-
дению от сурового ригоризма и догматизма, связанного с
«культом личности».
Да к тому же все больше дает о себе знать такое
простое, но великое явление, как всеобщая грамотность,
охватившая всю нашу страну и бесконечно расширившая
резервуар, из которого выходят писатели, ученые, изо-
бретатели. Вместе с новыми пополнениями в литературу
врывается, обогащая ее, говор и быт разных краев и обла-
стей. А то, что большинство народа состоит у нас из
людей, связанных в нынешнем или в предыдущих поко-
лениях с землей, с природой и с трудом, придает или
еще должно придать нашей литературе новую силу и бо-
гатство.
Когда-то Пушкин и Лев Толстой учились языку у народа.
Теперь народ как бы сам заговорил о себе.
Это с наибольшей очевидностью сказывается в поэзии
Александра Твардовского.
Младшее поколение поэтов еще не успело проявить себя
в той же мере. Но уже сейчас ясно, что среди молодежи
немало сильных и своеобразных дарований.
Как всегда во время нового подъема поэтической волны,
в стихах молодых еще много пены. Ну чго ж, неплохо оку-
нуться в пену, обдающую свежестью.
Но надо помнить, что пена обманчива. Иной раз она
бьет через край, создавая впечатление изобилия и глубины.
А там, глядишь, пена схлынет, и тут окажется, что кое-где
никакой глубины под ней и не было.
580
Пусть же молодой задор не мешает новым поколениям
портов накапливать подлинное, а не мнимое богатство мыс-
лей, чувств, наблюдений.
От этого только и зависит их дальнейшая судьба — судь-
ба, а не карьера порта.
Один из самых «пенистых» — и вместе с тем один из
самых талантливых молодых портов — Андрей Вознесенский.
Он пишет размашисто, безоглядно, безудержно, порой
опрометчиво, сталкивая различные эпохи и стили. Подчас
он не заботится об укреплении своих позиций, веря, что
его поймут и с полуслова.
Неизвестно, куда бы завело порта стремление к остро-
те — движение «по лезвию», если бы его иной раз не спа-
сали неожиданные при такой стремительности присталь-
ность и зоркость.
Это особенно заметно в цикле стихотворений «Треуголь-
ная груша», который вызвал у нас столько споров.
В ртом цикле автора часто «заносит», берет в плен игра
созвучий, сумятица чувств и недовоплощенных мыслей.
И вдруг нас останавливает меткий и точный образ:
Я сплю, ворочаюсь спросонок
В ячейках городских квартир.
Мой кот, как радиоприемник,
Зеленым глазом ловит мир 22.
А как портично изображено стекло аэропорта, который
автор противопоставляет старым тяжеловесным зданиям
Нью-Йорка:
Вместо каменных истуканов
Стынет стакан синевы —
без стакана 2\
Или:
...в аквариумном стекле
Небо,
приваренное к земле 24.
Остро и до наглядности убедительно переданы ощуще-
ния поэта, когда американские «стукачи» — агенты.ФБР сни-
мают его своими фотоаппаратами врасплох, сквозь щелку,
за разговором с пришедшей к нему гостьей, за едой и питьем.
17 объективов щелкали,
17 раз в дверную щелку
Я вылетал, как домовой,
Сквозь линзу — книзу головой!..25
581
В поэзию наших молодых вполне законно и естественно
врывается много современных понятий, научных и техниче-
ских терминов.
Особенно это заметно у Вознесенского. Он как бы лю-
буется звучанием слов «парабола», «витраж», «дюрале-
вый», «неон», «реторта», «аквариумный», «аккредитован-
ный» и т. д.
Встречаются у него строфы, чуть ли не наполовину со-
стоящие из слов иностранного происхождения.
Брезжат дюралевые витражи...26
Поневоле вспоминаешь чеховскую героиню с ее пристра-
стием к иностранным словам вроде «атмосферы» 27.
Правда, современный язык не может обойтись без во-
шедших в нашу речь новейших терминов, из которых мно-
гие стали интернациональными.
В свое время и Пушкин смело вводил в русскую поэ-
зию — к ужасу Шишкова и «Любителей русской словесно-
сти» 28 — новые слова, заимствованные из иностранных язьь
ков и уже вошедшие в русскую разговорную речь.
Но панталоны, фрак, жилет—•
Всех этих слов по-русски нет29.
Однако Пушкин никогда не щеголял модернизмами. Они
были ему так же чужды, как и хвостовские архаизмы.
Времена менялись, менялся и ломался быт, и в русскую
поэзию от Некрасова до Блока и Маяковского то и дело
входили новые слова русского и нерусского происхождения.
И все же — в лучших своих образцах — она сохраняла чи-
стоту языка, не позволяла новым словообразованиям заму-
тить — из щегольства или из стремления к новизне — рус-
скую речь, драгоценное наследие веков.
Да и Вознесенскому такое щегольство свойственно да-
леко не всегда.
Мы знаем его как поэта, одаренного подлинным чувст-
вом русского языка и русской культуры.
Вспомним его поэму «Мастера» — о строителях храма
Василия Блаженного.
Стихи о древнем мастерстве далеки у него от эстет-
ского любования стариной, от стилизации, в которую впа-
дали многие, оглядываясь на прошлое. Его старинные рус-
ские мастера — товарищи современных строителей, возво-
дящих наши новые города. Василий Блаженный стоит у
582
него рядом с новейшими стеклянно-металлическими конст-
рукциями нынешнего и завтрашнего дня.
Он умеет отличать достойную уважения старину от до-<
живающих свой век и давно уже переживших себя остатков
прошлого.
С тонким мастерством и богатством словесных оттенков
написан им портрет молодого парня — служки Загарской
лавры.
Сопя носами сизыми
И подоткнувши рясы,
Кто смотрит телевизоры,
Кто просто точит лясы.
Я рядом с бледным служкою
Сижу и тоже слушаю
Про денежки, про ладанки
И про родню на Ладоге...
Я говорю: — Эх> парень,
Тебе б дрова рубить,
Па мотоцикле шпарить,
Девчат любить.
Тебе б не четки
И не клобук,—
Тебе б чечеткой
Дробить каблук.
Эх, вприсядку,
Чтоб пятки в небеса?
Уж больно девки падки
На синие глаза.
Он говорит: — Вестимо... —»
И прячет, словно вор,
Свой нестерпимо-синий,
Свой нестеровский взор.
И быстрою походкой
Уходит за решетку.
Мол, дружба — дружбой,
А служба — службой.
И колокол по парню
Гудит окрест.
Крест — на решетке.
На жизни—.
Крест 30.
Здесь Вознесенский нашел точные, веские, незаменимые
слова. Созвучия, которыми он играет, органичны и убеди-
583
тельны. Не случайно рифмуются «клобук» и «каблук»,
«четки» с «чечеткой». Точно так же полны значения алли-
терации в поэме «Мастера»:
«Ваятели» — «Воители», «Кисти» — «Кистени».
Созвучия как бы облекают в плоть и подтверждают поэ-
тическую мысль автора. Пользуясь аллитерациями, поэт
как бы вскрывает самую структуру языка, в котором созву-
чия далеко не случайны. То, что близко по смыслу, близко
и по звучанию: гром, гроза, грохот. А иные созвучия—»
иронические — подчеркивают противоположность понятий.
Нельзя было сильнее скомпрометировать слово «либерал»,
чем это сделал Денис Давыдов злою рифмой «сбирало»-
«либерала»31.
Такое опорочение, передразниванье слова смешным со-
звучием бывает не только в сатирической поэзии и в на-
родном лубке. Им часто пользуется народ в разговорной
речи.
У Андрея Вознесенского московские дьяки, издеваясь
над вдохновенным и дерзким трудом строителей храма Ва-
силия Блаженного, прыскают в ладони: «Не храм, а срам!..»
Но как часто встречаешь у Вознесенского случайные,
очень неглубокие созвучания — «купе» и «купаться», «ано-
нимки» и «анемоны».
Конечно, нельзя да и не к чему накладывать запрет на
такие мало значащие, модернистические аллитерации. Но
совершенно очевидно, что именно эта легкая, поверхност-
ная игра звуками порою заводит поэта — по его же собст-
венному выражению — «куда-то не туда».
Слишком кудрявая, как бы зацветшая образами и со-
звучиями речь ведет к тому, о чем так гневно сказал когда-
то Лев Толстой, получив письмо со стихами:
«Писать стихи — это все равно, что пахать и за со-
хой танцевать...» 32
Особенно много случайных рифм и аллитераций в цикле
стихотворений Вознесенского «Треугольная груша».
«Алкоголики» — «глаголешь», «прибитых» — «прибы-
тие», «небесных ворот» — «аэропорт».
Неизвестно, какое из слов в каждой из этих пар вызвало
другое, созвучное ему: «прибитые» — «прибытие» или на-
оборот.
Вполне реалистично и убедительно сравнение аэропорта
с «небесными воротами». Но в «Архитектурном отступле-
нии» Вознесенского аэропорт — не просто ворота, а некий
584
«апостол небесных ворот» (кроме того, что он еще и «ав-
топортрет» порта и «реторта неона»). А рто настраивает
автора на какой-то библейский, чуть ли не апокалиптиче-
ский лад. Отсюда и алкоголики-ангелы, которым арропорг
нечто «глаголет», возвещая некое «Прибытие». Речь здесь-
идет о прибытии самолетов, но рядом с глаголом «возве-
щая» — да еще и с большой буквы — рто слово звучит
почти мистически.
Портическое воображение позволяет нам видеть в самых
обычных явлениях нечто значительное, торжественное, даже
таинственное. Но в «Треугольной груше» на непосредствен-
ные ощущения автора воздействует еще цепь звуковых ас-
социаций, по-своему направляющая и отклоняющая в сто-
роны портическую мысль. Он как бы пьянеет от аллитера-
ций, найденных им же самим.
Вознесенский любит сближать идеи и понятия, которые
Ломоносов называл «далековатыми». Что же, в ртом-то и
заключается задача и путь порта — так же, как и ученого,
который постигает мир, находя общее в явлениях, далеких
одно от другого. Путь, а не самоцель.
И там, где рто сближение у Вознесенского естественно
и метко, оно доходит до ума и сердца читателя.
Вот отрывок из его «Сибирского блокнота»:
Ты куда, попрыгунья
С молотком на боку?
Ты работала в ГУМе,
Ты махнула в тайгу...
Ты о елочки колешься.
Там, где лес колдовал,
Забиваешь ты колышки:
«Домна». «Цех». «Котлован».
Как в шекспировских актах —
«Лес». «Развалины». «Ров».
Героини в палатках.
Перекройка миров.
Казалось бы, что общего между колышками, отмечаю-
щими в тайге расположение будущих построек, и условны-
ми обозначениями места действия в театре Шекспира?
А между тем рто меткое, осенившее автора сравнение
придает подлинное величие скромному труду московской
девушки, которой выпала честь обозначить колышками бу-
дущие стройки Сибири.
585
После этого так естественно звучат патетические строки,
которыми кончается стихотворение:
Героини в палатках.
Перекройка миров.
Неожиданное сближение далеких образов и понятий на-,
ходишь у Вознесенского и в цикле стихов «Треугольная
груша». Но здесь оно далеко не всегда оправдано и убеди-
тельно. Вспомним «Отступление, в котором бьют женщину»»
Быот женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
Как белые прожектора.
Эта строфа своим четким ритмом, аллитерациями
(бьют — блестит — белок — бьются — белые) и глухими уда-
рами мужских рифм выразительно передает и тесноту ма-
шины, в которой происходит избиение, и бешеную борьбу
в тесноте и темноте.
Но не слишком ли это изысканно и литературно? Не
слишком ли рассчитано на читателей из своего же портиче-*
ского цеха?
Несмотря на все ужасы изображенной сцены, она вряд
ли кого-нибудь по-настоящему взволнует.
Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
Срывает ручку, как рубильник,
Выбрасываясь на шоссе.
И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали, тормоша.
И волочили и лупили
Лицом по лугу и крапиве...
Ничего не скажешь, — даже чересчур изобразительно и
выразительно. Но почему-то все это больше похоже на пе-
ресказ эпизода из какого-то фильма, чем на непосредствен-
ные впечатления от жестокого и безобразного зрелища.
Даже сцена избиения лошади в стихотворении Некра-
сова трогает и потрясает нас куда сильнее.
...Ноги как-то расставив широко,
Вся дымясь, оседая назад,
Лошадь только вздыхала глубоко
И глядела... (так люди глядят,
Покоряясь неправым нападкам)...39
586
К женщине, которую избивают в стихах Вознесенского,
мы не чувствуем настоящего, сколько-нибудь глубокого со-
страдания, потому что ровно ничего не знаем о ней и ви-
дим только ее ноги, бьющиеся в потолок машины, «как
белые прожектора».
Александр Блок не слишком много рассказал нам о жен-
щине-самоубийце в стихотворении «Под насыпью во рву
некошеном...».
Мы знаем только, что она «красивая и молодая» и что
лежит она под железнодорожной насыпью «в цветном плат-
ке», на косы брошенном...».
Но как много говорят нам о ней немногие строчки:
Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.
...Да что — давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов...
Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена, — все больно.
Эти простые, поставленные в конце строфы да и в конце
всего стихотворения — на падающем дыхании — слова «все
больно» проникнуты такой глубокой, такой неподдельной
скорбью.
Я знаю, что не следует противопоставлять одного порта
другому, особенно портов разных времен. У каждого из них
свой мир, свой почерк, свои темы и ритмы.
И все же стоит иной раз напомнить современному порту
о глубине и высоте, достигнутой его предшественниками.
Разумеется, я далек от того, чтобы ставить рядом и
сравнивать между собой неизвестную женщину, выбросив-
шуюся из автомобиля в Ныо-Иорке, и русскую пригородную
девушку, жадно вглядывавшуюся в окна мимолетных поез-
дов и раздавленную «любовью, грязью иль колесами».
Но нельзя не почувствовать, что в стихах, в которых
так бесчеловечно избивают женщину, автор остается сто-
ронним наблюдателем.
Сминая лунную купаву,
Бьют женщину...
587
Даже гневное восклицание поэта по адресу истязате-
ля — «Стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!» — не согревает строк,
в которых так мало непосредственности и человечности.
Кстати, совершенно непонятно, почему Чайльд-Гарольд
попал в одну компанию со стилягой и битюгом. Может быть,
он и был в некотором смысле «стилягой» своего времени,
но уж с битюгом у него, кажется, нет ровно ничего общего.
В «Треугольной груше» есть и удачи. До предела впе-
чатлительный поэт не мог не почувствовать всем своим су-
ществом разнузданность, растленность нью-йоркских верте-
пов, не мог не услышать в печальных и протяжных мелодиях
негров, поющих низкими голосами, подавленную силу и
тяжелую мужскую скорбь.
Однако все это тонет в какой-то истерической сумятице
впечатлений и чувств.
Тот, кто ценит Андрея Вознесенского, его быструю
мысль и остроту ощущений, не может закрывать глаза и на
его слабости.
Надо помнить стихи Баратынского:
Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас упрямым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом 34.
В мою задачу не входит обзор нашей молодой поэзии.
Обозревать ряды поэтов, выстраивая их по росту и сравни-
вая между собой, могут только те, кто за лесом не видит
деревьев, а потому не видит и леса.
Нельзя складывать поэтов и говорить об их сумме. Это
американцы, любители больших сумм, придумали ансамбль
из тридцати «girls» в расчете на то, что тридцать девушек
пленят зрителей ровно в тридцать раз больше, чем одна.
И если я назову здесь несколько имен, то этот перечень
отнюдь не охватывает всех поэтов, которых я считаю до-
стойными внимания.
Я упомяну только тех, чье творчество представляется мне
характерным примером в разговоре о путях нашей поэзии.
Из всех молодых поэтов, появившихся за последние годы,
пожалуй, больше других сказал о себе и при этом с наи-
большей открытостью Евгений Евтушенко.
Должно быть, поэтому его и заметили больше и раньше,
чем многих других.
588
По традиции, проложенной Маяковским и так соответ-
ствующей революционной эпохе, Евтушенко и его сверст-
ники завоевали на первых порах популярность устными
выступлениями. Им были нужны не столько заочные чита-
тели, сколько непосредственные и зримые слушатели, от ко-
торых можно ждать прямого и немедленного отклика. Эт°
установило живую связь между поэтами и аудиторией и в
какой-то степени помогло им освободиться от налета книж-
ности, которым так часто покрывается лирическая поэзия.
Пожалуй, со времен Маяковского поэты никогда не
собирали так много слушателей, особенно из среды молоде-
жи, как в последние годы. Но эстрада, если она не трибуна,
а только эстрада, таит в себе и немало опасностей. Очень
часто она ведет к демагогии, к позерству, к поискам деше-
вого успеха. И нужна трезвая голова и подлинное чувство
собственного достоинства, чтобы устоять, не поддаться «чаду
упоительных похвал», о котором говорит в своих стихах Ба-
ратынский, чтобы научиться отличать самые бурные апло-
дисменты от настоящей и серьезной оценки поэтического
труда.
Нечего греха таить, и в наше время не всегда легко мо-
лодому поэту (хоть и много легче, чем поэтам предшеству-
ющих поколений) пробиться к читателю. Иной раз для этого
ему приходится изрядно поработать кулаками. И очень ча-
сто мы видим сначала кулаки этого пробивающего себе
дорогу поэта, а потом уже и его самого.
Такими «кулаками» были, например стихи молодого Ва-
лерия Брюсова — «О, закрой свои бледные ноги!», — в ко-
торых еще нельзя было провидеть классически уравнове-
шенного Брюсова поздних лет.
Аудитория, состоящая из молодежи, раньше признала
Евтушенко, чем мы, люди более зрелого возраста. Что-то
демагогическое, бьющее на эффект, какое-то самолюбова-
ние, а порой нескромная интимность заставляли нас насто-
раживаться при чтении его стихов, изредка и случайно до-
ходивших до нас.
Что-то изнеженное, родственное Игорю Северянину, а
то и Вертинскому35, чувствовалось иной раз в его стихах:
...И, улыбаясь как-то сломанно
И плача где-то в глубине,
Маслины косточку соленую
Губами протянула мне...36
589
Но день за днем мы стали все больше узнавать Евгения
Евтушенко, порта разнообразного, неровного, может быть,
еще не вполне проявившего себя, но всегда внятного и за-
ставляющего прислушиваться к своему голосу.
Хорошо сделала «Молодая гвардия», выпустив в ртом
году довольно большой том его стихов 37.
Многое в ртом сборнике оказалось для меня — думаю, и
для других читателей — неожиданным и новым.
По первым своим впечатлениям я никак не ожидал от
Евтушенко таких полновесных и зрелых стихов, как, напри-
мер, «Глубина».
Я не могу отказаться от желания процитировать их
Здесь полностью:
Будил захвоенпые дали
рев парохода поутру,
а мы на палубе стояли
и наблюдали Ангару.
Она летела озаренно,
и дно просвечивало в ней
сквозь толщу волн светло-зеленых
цветными пятнами камней.
Порою, если верить глазу,
могло казаться на пути,
что дна легко коснешься сразу,
лишь в воду руку опусти.
Пусть было здесь немало метров,
но так вода была ясна,
что оставалась неприметной
ее большая глубина.
Я знаю: есть порой опасность
в незамутненности волны —
ведь ручейков журчащих ясность
отнюдь не признак глубины.
Но и другое мне знакомо,
и я не ставлю ни во грош
бессмысленно-глубокий омут,
где ни черта не разберешь.
И я хотел бы стать волною
реки, зарей пробитой вкось,
с неизмеримой глубиною
и с каждым
камешком
насквозь!
Было бы хорошо, если бы Евтушенко всегда помнил
рти строчки:
...с неизмеримой глубиною
и с каждым камешком насквозь!
590
В этих прозрачных до дна стихах Евтушенко следует
основному направлению русской поэзии, ясной и глубокой,
верной пушкинскому началу.
И вместе с тем он умеет остро чувствовать время, наш
сегодняшний день.
Есть у него трогательные и умные стихи — о «вре-
менном»:
Рассматривайте временность гуманно.
На все невечное бросать не надо тень.
Есть временность недельного обмана
потемкинских поспешных деревень.
Но ставят и времянки-общежитья,
пока домов не выстроят других...
Вы после тихой смерти их
скажите
спасибо честной временности их38.
Евгению Евтушенко удалось здесь передать без громких
слов ту обстановку строящейся страны, образ которой дал
и Андрей Вознесенский в отличных стихах «Из Сибирского
блокнота».
Такую же вдумчивость и сосредоточенность мы находим
в стихах Евтушенко, посвященных родной природе:
...В грузовике на россыпях зерна
куда-то еду,
вылезаю где-то,
вхожу в тайгу,
разглядываю лето
и удивляюсь, как земля земна!
...Все говорит как будто:
«Будь мудрее
и в то же время слишком не мудри!..» 39
Поэт не только любуется природой, но и как бы сам
чувствует себя частью русской природы. Недаром же так
органично, так естественно рифмуются в его стихах о Волге
слова «России» и «меня растили», а в другом стихотворе-
нии — «российскому» и «росистому».
Ведь рифмы — не побрякушки, не внешние украшения
стихотворных строчек. По рифмам и ритму можно иной
раз безошибочно судить о степени искренности автора.
В стихах «Русская природа» Евтушенко говорит;
Я не умру!
Ты, как природу русскую,
природа русская,
прими в себя!
591
Это мужественное отношение к смерти не случайно в
нашей молодой поэзии. Его можно найти и у другого порта,
которого, впрочем, сейчас уже нельзя причислить к «моло-
дым», — у Евгения Винокурова:
Я, как в воду, войду в природу,
И она сомкнется надо мной... 40
Может быть, читая приведенные здесь строгие и ясные,
чуждые внешних эффектов строки Евгения Евтушенко, кое-
кто и не узнает его. Где тут свойственный ему буйный мо-
лодой задор, его разговорно-интимные интонации?
Какие девочки в Париже —
ай-ай-ай!
Какие девочки в Париже —
просто жарко!..
Из этих стихов («Парижские девочки») мы узнаем, что
с парижской точки зрения
Стиляжек наших платья — дилетантские
и что у настоящих — парижских — «стиляжек» голубые во-
лосы и ковбойские брючки.
По словам Евтушенко, при виде парижских девочек, по-
качивающих «мастерски боками», он и его спутники вы-
лезли «в окно автобуса по пояс»
И кое-кто из членов делегации,
про бдительность забыв, разинул рот.
Но вот на улицах Монмартра появляется девушка, «вся
строгая»,
с глазами красноярскими гранитными
и шрамом, чуть заметным над губой.
Она так не похожа на «парижских девочек», что Мон-
мартр замирает при ее появлении, а поэт восторженно
восклицает:
Всей Франции
она не по карману.
Эй, улицы,
понятно это вам?!
Неужели Евтушенко и в самом деле думал, что эта
громко сказанная фраза «Всей Франции она не по карма-
ну» может быть воспринята, как лестная аттестация строгой
красноярской девушки?
592
Здесь мы опять встречаемся с тем эстрадным Евтушен-
ко, который не жалеет пряностей при изготовлении горя-
чих и острых блюд.
А между тем в его парижском цикле мы находим такие
превосходные стихи, как «Верлен».
...Плохая память у Парижа,
и, как сам бог теперь велел,
у буржуа на полках книжных
стоит веленевый Верлен...
Естественны, метки и сатирически значительны и рифмы
и аллитерации в этом четверостишии («веленевый» — «Вер-
лен»). Это не то, что «кокосы» — «кокотки» и «луковый» —
«лукавый» в других его стихах.
Стихотворение о Верлене подымается до высокого обли-
чительного пафоса:
Вы под Верлена выпиваете
с набитым плотно животом.
Вы всех поэтов убиваете,
чтобы цитировать потом!
Столь же значительно и остро современно другое стихо-
творение из того же заграничного цикла — «Тень».
Вниманье, парижское утро!
Вдоль окон бистро и кафе
проходит по улице «ультра»,
обмотанный пестрым кашне...
Глаза он под шляпою прячет,
и каждую ночь или день
у дома Тореза маячит
его осторожная тень...
Джаны от страха немеют,
С ней встретясь в полночную темь.
Не только маячить умеет —
умеет стрелять эта тень...
И кончаются эти слова сильной и действенной строфой:
Париж, не поддайся смятенью.
Я верю — сомкнувшись тесней,
Расправишься с этою тенью
Ты, город великих теней!
Как убедительно звучит здесь обычная у Евтушенко
игра слов — «тень» и «город великих теней»\
Этот пример лишний раз показывает, что и рифмы, и
аллитерации, и словесная игра оправдывают себя лишь в
593
тех случаях, когда они мобилизованы поэтической мыслью,
а не слоняются без дела.
Евтушенко пишет много и разнообразно. И он не прочь
поиграть и даже подчас щегольнуть аллитерациями. Но он
не опутывает себя их сетями настолько, чтобы потерять
возможность свободного и толкового разговора с читателем.
Он отзывается на самые острые темы сегодняшнего дня.
Это существенная и важная черта его дарования. Без
живой связи с обществом, со своей страной и миром, без
чувства гражданственности немыслим настоящий поэт.
Но широта интересов идет порой у Евтушенко в ущерб
глубине, в ущерб той сосредоточенности, которая состав-
ляет главнейшее условие поэтической мысли.
Читая многие его стихи, задаешь себе иной раз вопрос:
почему те же мысли не изложены прозой?
Это чаще всего относится к его стихам, в которых за
смысловой темой не чувствуется темы музыкальной.
И я думаю, что не ошибусь, если скажу, что размеры и
ритмы у него часто случайны, а иной раз и расходятся с
содержанием.
То его стихи (по всей вероятности, нечаянно) ложатся
на мотив уличной песенки «Купите бублики», то в них слы-
шатся полузабытые «Кирпичики».
Он не задумывается над выбором стихотворных разме-<
ров, и они часто подводят его.
Возьмите стихотворение на такую значительную тему,
как «Песни революции»:
...Купите сборники.
Перечитайте пристально.
Не раз, не два должны вы их прочесть.
Себе вы напевайте
вслух и мысленно
и вашим детям,
если дети есть.
Услышите вы
скорбное и дальнее
тяжелое бренчание кандальное.
Увидите вы
схваченных и скрученных,
истерзанных,
расстрелянных,
замученных.
Не приторным и ложным гимнам времени —
они своим
заветным песням верили.
594
Они их пели,
крадучись,
вполголоса.
Им было петь не в полный голос
горестно...
Кто узнает в этих унылых и однообразных ритмах Ре-
волюцию, которая и в самые тяжелые свои годы была полна
Энергии, жизни, веры в победу? Сравните эти вялые строки
с подлинными песнями революции. Ведь даже «Похоронный
марш» звучал величаво, бодро, во славу жизни.
А здесь мы читаем:
Увидите вы схваченных и скрученных,
истерзанных,
расстрелянных,
замученных.
По интонации это скорее похоже на песню нищих слеп-
цов, просящих подаяния, чем на стихи о песнях революции.
А уж неверная музыкальная настроенность неизбежно
ведет автора ко множеству ошибок и неточностей.
Неужели до революции революционные песни пелись
только вполголоса? И разве нельзя было придумать для
гимнов царского времени более меткие эпитеты, чем «при-
торные и ложные»? А как искусственно и надуманно звучит
строчка:
Им было петь не в полный голос
горестно...
Я остановился так подробно на этом стихотворении, да-
леко не самом типичном для Евгения Евтушенко, отнюдь не
из желания выставить напоказ его слабые строчки.
Но расхождение ритма и содержания, столь заметное в
Этом стихотворении, для него не случайно.
И это объясняется прежде всего отсутствием сосредо-
точенности.
В лучших стихах размеры, ритмы, интонации рождаются
вместе с поэтической мыслью.
Вы не можете себе представить «На холмах Грузии»
Пушкина, «Выхожу один я на дорогу...» Лермонтова или
«Незнакомку» Блока написанными в другом размере и рит-
ме. Музыкальная их тема возникла вместе со смысловой.
«Не искушай меня без нужды...» Баратынского так и
родилось в форме романса. Оно было романсом еще до
того, как на него была написана знаменитая музыка.
595
Наши великие поэты знали, в каком ключе, роде, жанре
они пишут. И каждое их стихотворенье было не только поэ-
тическим, но и музыкальным произведением.
То «бормотание», которое предшествовало у Маяков-
ского писанию стихов, было, по всей видимости, нужно ему
для выбора того или иного размера и ритма.
Этот выбор не должен быть случайным. Надо быть уве-
ренным, что возок, на котором вы едете, — по выражению
Некрасова — «спокоен, прочен и легок»41 и довезет вас
до цели, — как уверен был Данте, что его терцины могут
с честью служить ему на протяжении всей его трилогии.
Многие из наших молодых поэтов берут случайные раз-
меры — такие, какие бог на душу положит.
Грешит этим — правда, далеко не всегда — и Евгений
Евтушенко...
О ШЕКСПИРЕ
(Набросни статьи)
<1>
«Слова, слова, слова», — говорит Гамлет, отвечая яа
вопрос, что он читает.
Слова, слова, слова — часто говорим и мы, читая мно-
гие написанные до нас и в наше время книги.
Слов, произносимых и печатаемых, становится с каж-
дым веком, десятилетием и даже годом все больше и боль-
ше. Кажется, это непрестанно размножающееся говорящее
племя грозит утопить нас в море бумаги. Созданные людь-
ми по их образу и подобию, слова, словосочетания и целые
книги унаследовали от людей их нравы, повадки и харак-
теры. Есть книги умные и глупые, добрые и злые, тихие и
кричащие, скромные и честолюбивые, есть книги — друзья
человечества, а есть и враги, даже книги-людоеды. Но, пожа-
луй, больше всего на свете равнодушных книг, о которых
только и можно сказать: «слова, слова, слова».
Люди сыты словами, люди все больше и больше пере-
стают им верить. Происходит обесценение слов, инфляция,
подобная денежной инфляции. Однако, по счастью, у этого
плодовитого словесного племени наблюдается не только
рождаемость, но и смертность. Как и люди, книги стареют,
дряхлеют и умирают.
В томах и томиках, мирно стоящих на полках, происхо-
дит какой-то непрестанный и незаметный для глаз про-
цесс: во многих из них явственно проступает скелет,
обнажаются мелкие, своекорыстные, демагогические, плохо
597
спрятанные побуждения автора, и они становятся неинтерес-
ными, а иной раз даже отталкивающими.
Но, пожалуй, еще чаще недолговечность их объясняется
тем, что они тонут, как в реке забвепия Лете, в массе по-
добных им книг.
Давайте же сегодня — в дни Шекспировского юбилея —
посмотрим свежими и непредубежденными глазами, жив ли,
здоров ли и жизнеспособен ли наш 400-летний юбиляр, или
же он остается в музеях и университетах только потому,
что был когда-то признан великим, что ему поставлены па-
мятники и что библиотека посвященных ему научных тру-
дов пополняется с каждым годом.
В разные времена бывали люди, которые пытались по-
колебать авторитет Шекспира, посмотреть, уж не голый ли
рто король. Как известно, Вольтер и другие французские
писатели XVIII века считали его гениальным, но лишен-
ным хорошего вкуса и знания правил. А величайший писа-
тель девятнадцатого и начала двадцатого века, оказавший
огромное влияние на умы своих современников и последую-
щих поколений во всем мире, Лев Толстой — особенно в по-
следние годы своей жизни — попросту не верил Шекспиру,
считал его драматические коллизии неправдоподобными, а
речи его героев неестественными, вычурными и ходульными.
Жизнь — диалектична, и каждый знаменитый писатель
должен быть готов к тому, что последующие поколения
посмотрят на него со своей точки зрения, что в одну эпоху
он будет на ущербе, в другую его не будет видно совсем,
а в третью он засияет полным своим блеском.
Так было и с Шекспиром. Чего только о нем не гово-
рили, чего только не писали! И наконец совсем было поте-
ряли его как личность, распространив среди широких кругов
читателей ничем не доказанное убеждение в том, что Шек-
спир был не Шекспиром, а кем-то другим. В этом меньше
всего повинно серьезное шекспироведение. Но достаточно
высказать сомнение в чем-либо, чтобы оно распространилось
и даже укоренилось глубже, чем точно проверенные факты.
В ту пору, когда автором произведений Шекспира
называли то Бэкона, то графа Редклиффа, то графа Дэрби,
то Марло (и даже королеву Елизавету!), виднейший рус-
ский писатель Максим Горький говорил:
— У народа опять хотят отнять его гения.
Однако, насколько мне известно, авторы оригинальных
и сенсационных гипотез, касающихся личности Шекспира,
598
постепенно перестают кружить над ним стаями и не омра^
чат для миллионов читателей земного шара шекспировских
торжеств этого года.
Юбилейные даты не назначаются людьми по произволу.
Но для чествования памяти Шекспира, пожалуй, нельзя
было выбрать более подходящее время, чем наше, полное
великих коллизий и потрясений.
Если в прошлом одним критикам казалось безвкусным,
а другим неестественным и неправдоподобным нагромож-
дение ужасов, интриг, преступлений и кровопролитий в
трагедиях и хрониках великого драматурга, то наш век
полностью оправдал его. Время оказалось лучшим его ком-
ментатором. Оно вернее всех литературоведов раскрыло
нам глаза на загадку Калибана, заставило наших совре-
менников ценою своего опыта понять, в чем сущность тра-
гедии юного Гамлета, диалектически разрешить многие
противоречия в речах и поступках героев трагедий.
Одно время казалось, что, по сравнению с очень слож-
ными характерами в романах конца XIX и начала XX века,
характеры персонажей Шекспира бедны, чуть ли не прими-
тивны.
Революционные эпохи резко отличаются от тех, когда
люди едва замечают замедленный ход истории, не чувствуя
подземных толчков и забывая, что эволюция неизбежно
прерывается время от времени взрывами революций.
Вот почему нам легче понять Шекспира, чем нашим
отцам и дедам. Нам довелось увидеть собственными глазами
и ощутить всем своим существом крутые повороты истории.
В такую эпоху, полную действия, в котором одни при-
нимают участие добровольно и по убеждению, а другие
поневоле, нам кажутся убедительными шекспировские кон-*
трасты. Мы, понимаем, что у его героев характеры не ме-*
нее сложны, чем у персонажей в романах более мирных
и спокойных лет, и даже превосходят их в сложности, но
в действии, в борьбе проявляются не все, а главные чело->
веческие черты.
<п>
Но этот правдивейший из поэтов особенно дорог людям
нашего времени своим великим оптимизмом — противопо-
ставлением Гамлета, Ромео, Джульетты, Дездемоны, — от-
чиму и матери Гамлета, Макбету, Ричарду Третьему, Го-
нерилье и Регане Ч
Это не наивный оптимизм поэт(ов) романтиков разных
времен, обольстивших и обманувших своими иллюзиями не
одно поколение.
Шекспир остается оптимистом в конечном итоге, за вы-
четом всего жестокого, страшного и мрачного, что он знал
и рассказал о человечестве. Но он верил, что в конце кон-
цов Человек с большой буквы преодолеет Калибана.
В наши дни Шекспир кажется понятнее и современнее
многих писателей девятнадцатого и даже нынешнего века.
Сейчас во время новой вспышки звериного расизма
красноречивее, чем заповедь «Люби ближнего», звучат
слова Шейлока: «Когда нас колют, разве у нас не идет
кровь, (когда) нас щекочут, разве мы не смеемся, когда
нам дают яд, разве мы не умираем?..»
Чернокожий африканец Отелло, ревность которого раз-
дувает, как пламя, искусный интриган Яго, навсегда сохра-
няет в глазах читателей и зрителей свой величавый и бла-
городный человеческий облик.
В нашей стране Шекспира ценят и любят давно. Вели-
чайший русский поэт говорил о нем: «Наш отец Шекспир».
Первый и лучший из русских критиков Белинский был его
восторженным почитателем.
600
Но только после революции, которая сделала грамотным
все многомиллионное население Советского Союза, Шекспир
стал достоянием всех читающих и мыслящих граждан на-
шей страны. Нет театра, который бы не ставил его пьес,
нет городской> и сельской библиотеки, где бы не было
Шекспира.
Мне лично выпали на долю счастье и большая ответ-
ственность— перевести на русский язык лирику Шекспира,
его сонеты.
Не мне судить о качестве моих переводов, но я могу
отметить с удовлетворением, что «Сонеты» расходятся у нас
в тиражах, немыслимых в другое время и в другой стране.
Их читают и любят и ценители поэзии, и самые простые
люди в городах и деревнях.
Шекспира часто трактовали как психолога, глубокого
знатока человеческой природы. Сонеты помогли многим
понять, что он прежде всего порт и в своих трагедиях...
<III>
Некоторые из критиков, весьма положительно оценивая
мои переводы сонетов Шекспира, в то же время очень дели-
катно и довольно бегло упрекают меня в том, что я будто
бы слишком «просветляю» Шекспира, лишая его известной
темноты и загадочности.
При ртом они неизменно ссылаются на то, что я и в
оригинальных своих стихах люблю ясность, прозрачность и
лаконизм.
Но справедлив ли их упрек? Полагаю, что нет.
В тех отдельных местах текста, которые остаются зага-
дочными и для всех современных комментаторов (как, на-
пример, «Свое затменье смертная луна пережила назло
пророкам лживым» — сонет 107-й), я целиком сохраняю
загадку, не пытаясь ее расшифровывать.
Иначе обстоит дело с распространенным предложением
или целым периодом. Как переводить непонятное? Слово за
словом, как переводят речь умалишенного?
Что же, придумывать что-нибудь свое непонятное?
Вспомните чеховскую акушерку Змеюкину, которая го-
ворила о непонятном примерно так (цитирую по памяти):
«Они хочут свою образованность показать и потому гово-
рят о непонятном...»
Работая над переводом, я вникал в каждую строчку
Шекспира — и в ее смысловое значение, и в звучание, и в
совпадения с пьесами Шекспира. Мне казалось, что у меня
в руках собственноручное завещание Шекспира.
Вероятно, после прежних корявых и косноязычных пере-
водов сонетов мой перевод мог показаться слишком сво-
бодным, естественным, живым?
602
Но ведь и в оригинале в сонетах звучит устная, непри-
нужденная светская речь — светская, как у Пушкина, как у
всех поэтов Возрождения, а не семинаристских периодов
литературы, когда «душили трагедией в углу».
Чем же объясняется моя большая ясность и отчетливость
по сравнению с оригиналом?
1) Язык Шекспира, хоть в общем он понятен англичанам,
несколько архаичен. А я пишу современным русским язы-
ком (хоть и всячески избегаю неуместных модернизмов).
2) Русские слова гораздо длиннее английских. Поэтому
приходится чем-то жертвовать. Я жертвую некоторыми эвфуи-
стическими украшениями. От этого — и большая ясность.
Мне было бы жаль, если бы некоторым критикам уда-
лось подорвать доверие русских читателей (а их миллионы)
к моему Шекспиру...
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С. Я. МАРШАКА
С Ст. РАССАДИНЫМ
«ПИСАТЬ ВСЕ ТАК ЖЕ ТРУДНО ...»
— Самуил Яковлевич, я не интервьюер, и у меня, конеч-
но, нет готовых вопросов, подразумевающих Ваши «да» и
«нет». Просто редакция «Вопросов литературы» просит
Вас рассказать, что Вы думаете о поэтическом мастерстве.
— Руководители литературных кружков обычно счи-
тают формальными достоинствами стиха музыкальность,
образность и прочие легко измеримые свойства. Они под-
считывают количество метафор, сравнений, образов, оцени-
вают богатство рифмы и таким способом очень легко ре-
шают, какие стихи лучше, какие — хуже.
Это соблазнительно легкий подход к поэзии, но надежен
ли он? Ведь при таких критериях Бальмонт наверняка
окажется «поэтичнее» Пушкина, а Северянин, уж конечно,
победит Лермонтова.
Нельзя возразить против верленовского требования
(«Музыка — прежде всего!») \ но сама музыка бывает раз-
ная. Когда она заключается во внешнем богатстве аллите-
раций и созвучий — это музыка, вылезшая на поверхность.
Так вылезают на поверхность образы в имажинизме — это
засахаренное варенье, это продукты распада, разложения
поэзии, это элементы декаданса.
У меня сейчас выходит книга лирических эпиграмм2, и
в ней будет такое четверостишие — кстати, я его только что
написал:
Не может жить без музыки Парнас,
Но музыка в твоем стихотворенье
Так вылезла наружу, напоказ,
Как сахар в разложившемся варенье.
604
Только те аллитерации радуют и поражают нас, кото-»
рые как бы приоткрывают перед нами основной путь
поэта — и они всегда невольные, неподстроенные, незапро-
граммированные. В пушкинском стихотворении «Вновь я
посетил» — в одном из самых зрелых и совершенных его
произведений — больше чем в восьмидесяти процентах
строк (я подсчитал) вы услышите звук «п» и ударную
гласную «о». Разумеется, нет никаких сомнений в том, что
Пушкин не занимался специальным подбором слов на «п»
и на «о»; смешно даже представить его за таким заняти-
ем. Но это не случайность: вникая в эти аллитерации, дума-
ешь, что «п» пришло в эти стихи как тихий звук — все сти-
хотворение очень тихое, что сочетание «п» и «о» из
слова «покой». Ведь покоем пронизано все это стихотво^
рение.
В стихах «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»,
начиная со строк «О, как милое ты, смиренница моя!» и
до конца (то есть как раз в той части, где речь идет уже
не о «вакханке молодой», а о любимой женщине), звучат
десять «м» и больше десяти «л» — всего только в восьми
строчках. Мне кажется (и я уже писал об этом), что звуки
Эти идут от слова «милый» — от слова, которое Пушкин так
любил.
Эти «м» и «л» — музыкальная тема стихотворения.
У настоящего поэта всегда рядом — и вместе — со смыслов
вой темой есть и музыкальная. Когда мы следим за пупь*
кинскими аллитерациями, мы словно идем по следу его пера,
словно находим какие-то музыкальные подтверждения его
чувства и мысли, подтверждения их истинности.
А щегольские, пустозвонные, именно подстроенные алли-
терации в стихах эпигонов и эклектиков говорят как раз
об обратном — о подстроенности самого чувства, о пусто*
звонстве самой мысли стихотворца.
Это уже не творчество, не мастерство. Это только не-
которое умение «делать стих».
Эти наблюдения, подтверждаются и Вашей поэтиче-
ской практикой?
— Да, иной раз я замечаю аллитерации в собственных
стихах много времени спустя после того, как напишу сти-
хотворение.
605
Например, когда я переводил 146-й сонет Шекспира о
душе, в перевод проникло множество «д» — вероятно, свя-
занных с самим словом «душа». Вот смотрите:
Моя душа, ядро земли греховной,
Мятежным силам отдаваясь в плен,
Ты изнываешь от нужды духовной
И тратишься на роспись внешних стен.
Недолгий гость, зачем такие средства
Расходуешь на свой наемный дом,
Чтобы слепым червям отдать в наследство
Имущество, добытое трудом?..
И так далее.
— Неужели Вы не заметили этих «д» сразу?
— Нет, может быть, только через год.
То же самое было, когда я переводил 116-й сонет:
Решать соединенью двух сердец
Я не намерен. Может ли измена
Любви безмерной положить конец?
Любовь не знает убыли и тлена.
Слышите, здесь уже повторяются два звука, «ме».
И дальше:
„..Не .меркнущий во мраке и тумане...
Определяет место в океане...
У времени, стирающего розы
На пламенных устах и на щеках...
Все это, конечно, получилось невольно, но теперь мпе
кажется, что этот тон стихам задало слово «измена», о ко-
торой и идет в сонете речь.
Повторяю: это все только догадки. Да и кто скажет вам
точно, как рождается музыка стиха? Этого не исчислишь.
Это все равно, что (как говорил Шелли) угадывать секрет
запаха фиалки, бросая ее в тигель... 3
Я мог бы привести еще много примеров. В моей детской
книжке «Цирк» то и дело слышатся звуки «ц», «р», «рц».
«Веселые сцены, дешевые цены, полные сборы, огромный
успех»; «выход борца Ивана Огурца» — и тому подобное.
Опять-таки, наверное, само слово «цирк» вошло в музыкаль-
ную тему стихов. Но я этого не программировал.
И уже написав стихотворение «Грянул гром нежданно,
наобум», я сообразил, что слово «наобум», завершающее
строку, как бы подтверждает своим звучанием простое
606
сообщение о том, что грянул гром. Оно даже подражает
удару грома: «нао-бум-м!»
...То, что я говорил об аллитерациях, относится и к риф-
ме. И здесь нет ничего хуже нарочитости.
Однажды я писал в статье «О хороших и плохих риф-
мах», о том, что не может быть абсолютной оценки рифмы
вне ее значения для данной строчки. Теперь я хочу кое-что
добавить к тому разговору.
Конечно, богатая рифма лучше бедной, новая и ориги-
нальная лучше затрепанной, рифма, охватывающая не-
сколько слогов, лучше «мелочишки суффиксов и флексий
в пустующей кассе склонений и спряжений»4. Но оценки
эти — вне строки, вне стиха — очень относительны. Какой
полководец будет вешать солдатам медали перед боем?
У того плечи косая сажень — ему медаль. У того грудь ши-
рока — ему тоже медаль. А этот ростом не вышел — ему
ничего. Конечно, и широкие плечи, и богатырская грудь —
все это отлично, но еще не заслуживает награды. Кто из
этих солдат настоящий воин, об этом мы узнаем только
в бою. И может быть, самый неприметный из них окажется
самым ловким и храбрым.
Рифма тоже познается в общем строю, в деле.
Нередко бывает, что самая бедная глагольная рифма
оказывается сильнее (потому что нужнее) богатой и при-
чудливой:
Так весь день она рыдала,
Божий промысел кляла,
Руки белые ломала,
Черны волосы рвала...5
В этих строчках Катенина глагольная рифма не слу-
чайна. Глаголы эти и по смыслу должны быть в конце
строчек; им как бы суждена участь рифмы уже потому, что
все они выражают очень активное действие: «рыдала»,
«кляла», «ломала», «рвала». В результате — очень сильные
стихи, искренне и взволнованно передающие отчаяние де-
вушки.
У Пушкина острые, оригинальные, в первый раз най-
денные рифмы вы обнаружите главным образом в эпиграм-
мах и сатирических стихотворениях:
Благочестивая жена
Душою богу предана,
А грешной плотию
Архимандриту Фотию.
607
А в «серьезных» стихах — например, в «Пророке» — ему
порою просто необходимы самые простые глагольные
рифмы:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,—.
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился...
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул...
Чувствуете, как нужна здесь эта простота? И как поме-
шала бы этой библейской величавости озорная или просто
очень броская рифма?
Все дело в естественности.
Хороша и богата рифма у Маяковского. Настоящей на-
ходкой были его рифмы, начала которых, кажется, прямо-
таки бесконечно удаляются от конца строки, так что риф-
муется уже чуть ли не вся строчка:
Лет до ста
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости...6
Это прекрасно. Эти рифмы вылились легко и свободно —
при всей своей сложности. Они врезаются в память, го-
дятся в поговорки. Но третья пара рифм (в последующих
строчках) кажется мне уже значительно менее удачной:
Славьте,
молот
и стих,
землю молодости7.
Эта рифма не менее богата и изобретательна, чем пре-
дыдущие, но уж не так естественна. Здесь чувствуется уже
некоторое усилие, особенно заметное рядом с полной есте-
ственностью первых рифм, которые словно сами родились
на свет, без подсказки поэта.
Значит, даже у Маяковского — великого мастера риф-
мы — малейшая «придуманность» сразу же дает себя знать.
608
А что бывает, когда иной поэт изо всех сил тужится, изо-
бретает сверхъестественные рифмы и сам не знает, для чего
они ему нужны!..
Если я не ошибаюсь, Гумилев рифмовал подобным
образом:
Угар н чад. В огне ведро мадеры.
«Уга»,— рычат во гневе драмодеры.
Но это он просто озорничал, а вот недавно мне попались
стихи, где все это делается всерьез, без всякой нужды, но
с претензией. Что-то вроде:
Крыли крышу, забивали молотком.
Ели кашу, запивали молоком...
Не помните, как там дальше?
— Помню. Это Юрий Панкратов:
На отчаянной бричке прикатил
Измочаленный, небритый бригадир...8
— Ведь у Пушкина тоже можно найти несколько при-
меров целиком рифмующихся строк:
В синем небе звезды блещут,
В сияем море волны хлещут®.
Или:
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет,в.
Здесь рифмуются не случайные созвучия, а сам смысл
строк. В них все параллельно — в том числе и конструкция
фраз, и порядок слов. Все здесь полно внутреннего смысла:
небо рифмуется с морем, звезды с волнами, туча с бочкой.
Кажется, что верхняя строчка отражается в нижней, как в
зеркале.
Видите, какая разница.
Настоящая рифма не должна служить только побря-
кушкой, только украшением, и, вероятно, там, где рифма
становится именно побрякушкой, она постепенно отмирает,
как отмирают пефункцпонирующие органы. Они исчезают
за ненадобностью.
То же относится и к стихотворным размерам. Если этот
размер не работает, не несет нагрузки, если он — пустая
формальность, он тоже обречен па отмирание;
20 С. Маршак, г. 6 609
«— Значит, в белых стихах рифма, исчезая, передает
свои функции? Ведь если она становится ненужной, зна-
чит, что-то ее заменяет?
— Прежде всего, белые стихи, очевидно, писать гораздо
труднее, чем рифмованные. Недаром замечательных стихо-
творений, написанных белым стихом, можно насчитать го-
раздо меньше, чем рифмованных.
Давайте вспоминать...
У Пушкина это, конечно, «Вновь я посетил...» Еще на-
чало «Сказки о медведихе»:
Как весенней теплою порою
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, из лесу из дремучего,
Выходила медведиха...
Далее: монологи и диалоги из «Бориса Годунова»; не-
сколько стихотворений, написанных гекзаметром; «Песни
западных славян».
У Лермонтова — «Песня про купца Калашникова».
У Некрасова — большая часть «Кому на Руси жить хо-
рошо».
У Блока — «Ночная фиалка». И стихи из «Вольных
мыслей». Помните:
Ландо подъехало. К его подушкам
Так бережно и нежно приложили
Цыплячью желтизну жокея...11
У Твардовского — стихи о матери («И первый шум
листвы, еще неполной, и след зеленый по росе зерни-
стой...»).
Видите, как нелегко все это приходит на память. И это
не случайно. Сколько бы мы с вами вспомнили шедевров,
если бы начали вспоминать рифмованные стихи...
— Но это, вероятно, объясняется еще и особенностями
именно русской поэзии — для нее белый стих не был так
характерен, как рифмованный...
— Да, но дело и в другом — в том, что белый стих тре-
бует гораздо более тонкой и трудной инструментовки. В нем
необходимо найти достойную замену рифме, которая очень
разработана в русской поэзии. А это нелегко.
610
Между прочим, уже по тому, как трудно найти этот
эквивалент, можно понять, каким драгоценным элементом
поэзии (пусть, как мы видим, и необязательным) является
рифма. Конечно, только в том случае, если она осмысленна
и естественна. В эпиграмме рифма может убивать наповал,
может опорочить кого-либо или что-либо одним созвучием
(вспомните у Дениса Давыдова «обирала» — «либерала»),
но и в лирике она роднит слова одного значения или,
наоборот, обнаруживает противоречия между поня-
тиями.
Трудно сказать, как дальше пойдет развитие стиха —
будет ли совершенствоваться рифма или восторжествует
белый или свободный стих. Возможно и второе — здесь есть
своя логика. Как на сцене с годами требуется все больше
реализма, разговорности, простоты, так и в поэзии может
произойти (да и происходит) сильное сближение стиха с
разговорной речью. Не зря Пушкин, который в молодости
смеялся над белыми стихами Жуковского, в зрелые годы
написал «Вновь я посетил...».
Одно, впрочем, ясно: что бы там ни было, простота бе-
лого стиха должна быть венцом сложности, а не той про-
стотой, что хуже воровства. Белый стих требует не меньшей,
а может быть, большей организованности, чем стихи риф-
мованные. Свободный стих, верлибр, не должен вести к по-
тере формы, к упрощению, к хаосу.
У меня есть такие строчки:
Свободный строй стиха я признаю,
Но будьте и при нем предельно кратки
И двигайтесь в рассыпанном строю,
Но в самом строгом боевом порядке 12<
Вот что необходимо понять: никакие нововведения в
поэзии, никакие ее завоевания в области формы, никакое
совершенствование общепоэтической техники не облегчают
работу поэта, не уменьшают его душевных затрат, не де-
лают поэтический труд общедоступным.
Писать стихи все так же трудно, как это было во вре-
мена Пушкина.
И эту трудность дано узнать не всякому, а только на-
стоящему таланту.
Иногда я с некоторой даже досадой думаю: какое не-
счастье изобретение легкого письма — пера, чернил, пишу-
щей машинки. Когда слова высекались на камне — вот ко-
20* 611
гда был лакбнизм! Вот когда каждое слово действительно
стойло дорого.
Поверьте, я почти не шучу. Поэтическое слово должно
стоить порту столько же, сколько оно стоило, когда его вы-
секали на камне.
Толстой восторгался историей об Иосифе и его братьях,
восторгался ее простотой, лаконизмом. Она в самом деле
прекрасна — и, может быть, как раз своей хроникальностью.
Если у автора этой истории есть время для того, чтобы на-
писать, как Иосиф увидел братьев, которые его не узнали,
как он ушей в другую комнату, поплакал и верйулся, — если
у автора есть для этого время, значит, ему очень важно
сообщить об этом. И мы ощущаем важность рассказан-
ного.
Я думаю, Толстой учился не только на прозе Пушкина
и Лермонтова, но и на такой вот прозе.
Нужно бояться обманчивой легкости, когда плуг сколь-
зит по поверхности. И мы должны заботиться о том, чтобы
молодые поэты не превращали в догму свободные законы
стиха, чтобы они не обучались механическому и легкому
писаПию стихов. Как я уже говорил однажды, формально
упрая<няться в искусстве версификации — все равно, что
учиться плавать на суше.
Мне очень нравится, что по этому поводу сказал Евгений
Винокуров: стихотворная техника — Это не способ, как сде-
лать манекен, а способ помочь рожденью живого ребенка.
Очень хорошо. Кстати, Винокуров — это как раз поэт,
который в последние годы приходит к настоящему мастер-
ству. Он находит свою музыку, свою мелодию. Я думаю, что
у всякого настоящего поэта — каким бы разнообразным ни
было его творчество — должна быть основная мелодия, даже
основной ритм. Это будет означать, что он сделал шаг от
ремесла к мастерству.
— Самуил Яковлевич, я вижу, Вы устали, но хотелось
бы договорить до конца. Вы говорили о музыке стиха, о риф-
ме — о естественном и нарочитом. Но вот чувство слова —
сводится ли оно только к ощущению слова в контексте, в
строю или же означает еще и ощущение слова самого по
себе, вне контекста?
— Мне легче ответить вам, начав издалека.
612
Очень часто у нас недостаточно понимают, что такое
банальность. Этим словом пугают, как жупелом. Молодые
люди ломают головы над тем, как бы сказать пооригиналь-
нее, посвоеобразнее, и, отрывая одну ногу от липкого листа
банальности, они увязают в нем другой ногой. Получается
банальность навыворот.
Для того, чтобы родились своеобразные и оригинальные
обороты речи, нужны оригинальные и своеобразные мысли
и чувства. Вялость мысли, отсутствие энергии рождает вя-
лость стиля. Одни и те же слова могут звучать шаблонно п,
напротив, могут поражать свежестью и новизной.
— Итак: только ((слово в строю»? 13
— Не торопитесь.
Поэт, как настоящий филолог, должен чувствовать воз-
раст слова, должен отличать коренные слова от временных
и жаргонных наслоений, общенародные — от кастовых,
кружковых. Он должен чувствовать вкус и температуру
слова.
146-й сонет Шекспира (мы о нем сегодня уже говорили)
начинается в подлиннике так: «Моя душа — центр этой гре-
ховной земли». В Англии слово «центр» вошло в обиход
чуть ли не со времен римского завоевания, со времен Це-
заря. В нашем же языке оно все еще остается не вполне
усвоенным, холодноватым, терминологическим. Для того,
чтобы перевести эту строчку Шекспира, я должен был ото-
рваться от слова «центр» и найти другое. В конце концов
получилось следующее:
Моя душа, ядро земли греховной...
Слова вызывают у нас множество ассоциаций. Вчиты-
ваясь в чеховское описание первого снега (в рассказе «При-
падок»), видишь, как поэт (я не оговорился — именно поэт)
доводит ощущение первого снега до всех наших внешних
чувств — зрения, слуха, обоняния, осязания.
«Недавно шел первый снег, и все в природе находилось
под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом,
под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья,
скамьи на бульварах — все было мягко, бело, молодо, и от
Этого дома выглядывали иначе, чем вчера, фонари горели
ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и
в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом про-
613
силось чувство, похожее на белый молодой, пушистый
снег...»
Настоящее художественное слово как раз и должно вы-
зывать эти рефлексы, должно быть видимо, осязаемо, слы-
шимо. В этом смысле слова различаются и сами по себе,
вне контекста: когда мы говорим: «строгать, пилить», — мы
чувствуем в руках пилу или рубанок. Когда говорим: «обра-
батывать дерево», — ничего не чувствуем. Но главное —
ощущение «слова в строю».
Если вы сравните маленьких писателей с большими, то
увидите, насколько большие одновременно и одухотвореннее
и физиологичнее. Это даже связано: если бы мы не воспри-
нимали так чувственно первый снег в рассказе Чехова, до
нас не дошла бы и одухотворенность этого отрывка.
Когда мы читаем у Пушкина:
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый...14 —
мы словно присутствуем при кровавой операции, нам пере-
дается эта высокая боль.
Эта пушкинская материальность — так же, как и одухо-
творенность — обычно пропадает при упадке поэзии. Нельзя
чувствовать и знать слово, если не чувствуешь и не знаешь
действительности. Иначе происходит то, о чем говорит Гам-
лет: «Слова, слова, слова...»
Когда люди сыты, вернее, пресыщены словами, происхо-
дит инфляция слов, полное их обесценивание. Поэт больше,
чем кто-нибудь другой, должен бороться за ценность и от-
ветственность слова, за связность мира и языка, за вечное
ощущение ценностей в том и в другом.
ПРИМЕЧАНИЯ
В шестой том настоящего Собрания сочинений включены:
книга «В начале жизни (Страницы воспоминаний)», статьи, вы-
ступления, заметки, воспоминания и проза разных лет*.
Раздел шестого тома «Статьи. Выступления. Заметки. Воспо-
минания» и седьмой том настоящего издания — книга «Воспита-
ние словом» — составят наиболее полное собрание статей, докла-
дов, выступлений, заметок, воспоминаний писателя.
Наряду с известными статьями и выступлениями Маршака в
томе широко представлено и его рукописное наследие.
В томе помещены рассказы и очерки писателя разных лет:
ранние произведения, печатавшиеся в различных периодических
изданиях 1911—1914 годов, и рассказы 1920—1930 годов, никогда
не публиковавшиеся и сохранившиеся в рукописях.
В разделе «Приложение» даются наиболее значительные неза-
вершенные работы Маршака, оставшиеся либо в трудночитаемых
черновых автографах, либо в набросках; кроме того, в ртом же
разделе помещена авторизованная запись беседы С. Маршака с
критиком Ст. Рассадиным о поэтическом мастерстве.
Материал в томе расположен в соответствии с жанрово-хроно-
логическим принципом. Внутри каждого раздела произведения
располагаются в хронологической последовательности — по вре-
мени их первой публикации, тексты, печатающиеся по рукопи-
си,— по времени их написания.
В начале раздела помещены произведения, печатавшиеся при
жизни автора, затем следуют произведения, публикуемые впервые.
* В составлении настоящего тома принимали участие члены
комиссии по литературному наследию С. Маршака — Б. Е. Гала-
нов, И. С. Маршак, Б. М. Сарнов.
Тексты произведений художественной прозы и примечания
к ним подготовлены С. С. Чулковым, раздел «Статьи, выступления,
заметки, воспоминания» и примечания к нему — Е. Б. Скороспе-
ловой.
617
Данные о времени написания приводятся в примечаниях; в
тех случаях, когда даты проставлены самим автором, они даются
в тексте.
Тексты произведений, опубликованных при жизни Маршака,
печатаются по последним прижизненным изданиям; иные случаи
оговариваются особо в примечаниях.
Произведения, не публиковавшиеся при жизни автора, печа-
таются по рукописям.
При публикации текстов по рукописям слова, зачеркнутые
Маршаком, по необходимые по смыслу, взяты в прямые скобки,
слова, прочитанные предположительно, даются в угловых скобках.
В угловые скобки заключены и все названия произведений, кото-
рые даны не автором, а редакционной коллегией.
Почти все автографы, использованные в настоящем издании,
хранятся в архиве порта.
В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ
(Страницы воспоминаний)
Впервые в журнале «Новый мир», 1960, № 1 и 2.
Замысел большого произведения о своих детских и отроче-*
ских годах вынашивался Маршаком в течение многих лет.
Тема воспоминаний о детстве была близка писателю — одному
из зачинателей советской детской литературы. В дорогих сердцу
воспоминаниях Маршак как бы проверял свои наблюдения над
жизнью ребенка, свое знание его внутреннего мира, психологии.
В самом начале творческого пути, когда еще не определились
четко основные творческие интересы молодого литератора, — в
1911 году — Маршак напечатал два рассказа, темой которых послу-
жили воспоминания об отроческих годах, проведенных в Остро-
гожске — родном городе порта. В рассказе «Полузабытое» («Всеоб-
щая иллюстрация», № 14—15, 10 апреля 1911 г.) был изображен
мальчик-горбун, товарищ детства; в другом рассказе — «Геогра-
фия» («Всеобщий ежемесячник», 1911, № 3)—дан остросатпри-
ческий портрет учителя географии острогожской гимназии Павла
Павловича Селивановского.
Тот же мальчик-горбун появился на страницах рассказа, напи-
санного Маршаком приблизительно в 1930 году; а учитель геогра-
фии Павел Павлович предстал перед читателем в рассказе «Второ-
годник Баландин», созданном в то же время. Оба рассказа вместе с
двумя другими («Война трех дворов» и «Шура Ястребова») вошли
в цикл рассказов о детстве, задуманный в эти годы писателем.
618
Другие замыслы со временем оттеснили на второй план этУ Ра^
боту. В письме от 29 апреля 1940 года к острогожскому зна-
комому— однокашнику по гимназии — Г. Н. Яковлеву порт при-
знавался: «Я отлично помню Острогожск, хоть и уехал из него
мальчиком. С Острогожском связано у меня очень много милых
воспоминаний — о школьных товарищах, о некоторых учителях...
Когда-нибудь, надеюсь, скоро, я напишу об этих далеких годах и
тогда непременно пришлю Вам свои воспоминания». Но этому не
суждено было сбыться вскоре: начавшаяся война нарушила мно-
гие планы поэта. Только через десять лет он возвратился к ста-
рому замыслу.
В 1951 году Маршак задумал создать автобиографическую
повесть в стихах (о планах создания такой повести он писал в
«Литературной газете» от 5 января 1952 года). Но со временем
план меняется; вместо повести порт пишет цикл стихотворений о
своих отроческих годах, который под названием «Времена и люди
(Из книги «Начало века»)» печатает в декабрьском номере жур-
нала «Новый мир» за 1954 год; в цикл вошли стихи «Владимир
Стасов», «Начало века», «Молодой Горький», «Шаляпин», «Ялта»
(см. т. 5 наст. изд.).
Опубликовав цикл стихов «Времена и люди», Маршак не отка-
зался от старого замысла, большого произведения о своем детстве.
Теперь работа идет над повестью в прозе; она активизируется в
1956—1957 годах в связи с подготовкой четырехтомного собрания
сочинений поэта, в четвертый том которого по плану издания дол-
жна была войти новая повесть. Уже в октябре 1957 года Маршак
сообщил острогожским пионерам, что он закончил «первую часть
автобиографической повести». Однако на окончательную отделку
повести понадобилось еще два года, и лишь в августе 1959 года
Маршак, наконец удовлетворенный результатами работы, передает
рукопись повести в журнал «Новый мир».
В 1959 году в двухтомнике автобиографий советских писателей
Маршак поместил несколько фрагментов из повести (текст пуб-
ликации несколько отличается от журнального текста). В публи-
кацию вошел также отрывок, впоследствии не включенный в
повесть (см. кн.: «Советские писатели. Автобиографии в 2-х ча-
стях», ч. 2, Гослитиздат, М. 1959, стр. 43—44).
Название повести «В начале жизни» имеет подзаголовок:
«Страницы воспоминаний», указывающий на наличие мемуарного
элемента в беллетристическом художественном произведении.
В письме к другу детства М. А. Канцер (от 28 декабря 1959 г.)
писатель подробно охарактеризовал своеобразие повести^
619
«...В этом году (в 1960 г.— С. Ч.) будут печататься страницы моих
воспоминаний о детстве. Это не хроника, не фотография реаль-
ных событий, а нечто вроде повести, где поэтический вымысел
окрашивает действительность. Имена людей, как и некоторые по-
дробности их быта, изменены. Ведь я пишу о событиях, которые
были около шестидесяти лет тому назад, и то, что утеряла память,
надо было восполнить воображением. Больше всего мне хотелось
правдиво передать время и мир чувств, которыми жил мой лири-
ческий герой». В другом письме к М. А. Канцер — уже после
выхода в свет первой части повести — 15 января 1960 года Мар-
шак вновь подчеркнул, что время и события описаны «не прото-
кольно, а с той беллетристической свободой, без которой невоз-
можно художественное обобщение». «Мне хотелось передать коло-
рит времени, — писал Маршак, — и это было главной моей за-
дачей».
В письме к венгерским друзьям Анталу и Агнессе Гидаш
(от 27 июля 1963 г.) Маршак заметил, что книга «В начале жиз-
ни» «не мемуары, а попытка увидеть себя на фоне пережитой
эпохи (или эпох) и проследить почти неуловимые переходы от
возраста к возрасту».
«Мне нужно было художественное обобщение фактов, а не их
буквальная — мемуарная — точность», — писал Маршак к М. А. Кан-
цер о своих творческих принципах при создании повести о дет-
стве. В письме к М. Канцер от 15 января 1960 года (в повести
она изображена под именем Маруси Гришаниной) порт призна-
вался: «Я и Вам — приписал черты и факты, которых, может
быть, в действительности не было. Я пишу о том, что было шесть-
десят лет тому назад, и за это время реальное перемешалось в
памяти с воображаемым». Однако к этому признанию следует
отнестись с некоторой осторожностью: писатель явно преувели-
чивает свою запамятливость. С другой стороны, по многим его
письмам к друзьям, землякам и по записям, сохранившимся в его
архиве, видно, с какой тщательностью собирал Маршак материал
для повести, отнюдь не полагаясь лишь на свою память.
Примечательно, что уже после выхода повести в свет Маршак
получил от одного читателя письмо с указаниями на ряд неточ-
ностей в описании биографии учителя словесности Н. А. Попов-
ского. Писатель незамедлительно внес соответствующие исправ-
ления в текст очередного издания книги.
В 1960 году повесть «В начале жизни» была напечатана в чет-
вертом томе собрания сочинений порта. В 1961 году она была
издана отдельной книгой с иллюстрациями художника Г. Филип-
повского издательством «Советский писатель». Для этого издания
620
Маршак еще раз просмотрел текст повести, внес немало стили-
стических исправлений, сделал ряд сокращений, мелких уточне-
ний по содержанию. Последний, раз Маршак редактировал текст
своей книги во время подготовки ее- к, изданию в издательстве
ч<Детская литература» в 1962 году.
Во многих письмах к друзьям и читателям Маршак не раз
говорил о своем заветном желании продолжить книгу о школьных
годах. Изданную повесть он называл первой частью большого
произведения о своей юности. «Очень хотелось бы мне, — писал
он к читателю Г. М. Сваричовскому в письме от 30 ноября
1961 года, -*продолжить повесть о прожитых годах. Если дозво-
лят силы (в последнее время я много и часто болею), буду
писать дальше, хоть задача у меня будет посложнее п потруднее».
Во второй части книги Маршак намеревался онисать свою жизнь
в семье А. М. Горького в Ялте, бурные революционные события
1905 года в Крыму, свидетелем которых он был сам.
Повесть была переведена на иностранные языки: она напе-
чатана в Польше, Болгарии, Англии, США, Японии и других
странах.
Эпиграф к повести — первая строка стихотворения А. С. Пуш-
кина 1830 года (без названия). — См.: А. С. Пушкин, Полное
собрание сочинений, т. 3, Изд-во АН СССР, М. 1948, стр. 254.
1 14 февраля 1901 годй студент П. Карпович совершил поку-
шение на министра просвещения Н. П. Боголепова й тяжело ра-
нил его. Через несколько дней министр умер. Боголепов ввел так
называемые «Временные правила», по которым министр просве-
щения мог отдать участников студенческих волнений в солдаты.
Студенчество ненавидело Боголепова — организатора системы
полицейского сыска и надзора над учащимися.
2 Цитата из книги воспоминаний Ф. И. Шаляпина «Страницы
из моей жизни». См. сб.: «Федор Иванович Шаляпин», т. I, «Искус-
ство», М. 1957, стр. 153.
3 Петербургская 3-я гимназия находилась на Гагаринской ули-
це (ныне улица Дм. Фурманова).
4 «Приключения Макса и Морица» — юмористиче-
ская повесть в стихах «Макс и Мориц» (1865) немецкого порта и
художника Вильгельма Буша (1832—1908) о веселых, а иногда
жестоких шалостях двух сорванцов. Впервые переведена на рус-
ский язык в 1890. году. Переводы С. Я. Маршака из В. Буша см.
в т. 4 наст. изд.
5 В конце 1902 года А. М. Горький возглавил товарищеское
издательство «Знание»с
621
6 Имеется в виду картина художника А. А. Наумова (1840-^
1895) «Некрасов и Панаев у больного Белинского» (1882).
Печатается по тексту книги; С. Маршак, В начале жизни
(Страницы воспоминаний), Детгиз, М. 1962.
СТАТЬИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. ЗАМЕТКИ.
ВОСПОМИНАНИЯ
В эт<>т раздел включены статьи, не вошедшие в книгу «Воспи-
тание словом» и либо не переиздававшиеся с момента первой
публикации, либо до сих пор не печатавшиеся.
Театр для детей. — Впервые в журнале «Просвещение», Крас-
нодар, 1922, № 3—4 (7—8), январь — март.
О работе С. Я. Маршака в Краснодарском театре для детей
подробнее см. комментарий к т. 2 наст. изд.
1 Труппа Чистякова — детская балетная труппа, кото-
рая в начале века выступала под руководством балетмейстера и
антрепренера Ивана Александровича Чистякова на детских утрен-
никах в театре «Пассаж».
2 Лидия Чарская (псевдоним Чуриловой Лидии Алексеев-
ны, 1875—1926) — автор повестей и романов из институтского и
«великосветского» быта. О судьбе Чарской в послеоктябрьскую
Эпоху см. <«Дом, увенчанный глубусом») (т. 7, наст, изд.), а также
книгу В. Шкловского «Старое и новое», «Детская литература»,
М. 1966.
3 Речь идет о цикле феодально-рыцарских романов, сложив-
шихся вокруг имени легендарного вождя бриттов V—VI веков,
героически защищавшихся от англосаксов. Романы о короле Ар-
туре и его рыцарях (Ланселоте, Тристане и др.) появляются
сначала на французском, а затем (XIII—XIV вв.) на английском
языке. Произведения на этот сюжет создавались и позднее.
В частности, им воспользовался в цикле своих поэм английский
поэт Альфред Теннисон (1809—1892).
4 Обераммергау — селение в Германии, где с XIX века
осуществляется постановка мистерий — жанра западноевропей-
ского религиозного театра XIV—XVI веков (показ «Мистерии
страстей господних»).
5 Имеется в виду бульварная разновидность литературы ©де-
тективах, излюбленным героем которой был Пат Пинкертон. Его
прототипом является американский сыщик А. Пинкертон, основав-
ший в 1850 году сыскное агентство. Низкий идейный и художе-<
622
ственный уровень «пинкертоновщины» не мешал многим издате-
лям дореволюционной России поощрять ее выпуск из коммерче-
ских соображений.
6 Андерсен Ханс Кристиан (1805—1875)—датский
писатель. Известность приобрел своими «Сказками для детей»
(1835—1837), «Новыми сказками» (1844—1848), «Историями»
(1852—1853).
7Уайльд Оскар Фингалл ОлФлаэрти (1856—1
1900) — английский писатель, прозаик и драматург, автор 2-х сбор-
ников сказок для детей: «Счастливый принц» (1888) и «Гранато-
вый домик» (1891).
8 Роман испанского писателя Мигеля Сервантеса де Сааведра
(1547—1616).
9 Речь идет о романе английского писателя Даниеля Дефо
(1660—1731).
10 Роман английского писателя-сатирика Джонатана Свифта
(1667—1745).
11 Роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу
(1811—1896).
12 Воинов Ростислав Владимирович (1881—
1919) — русский скульптор и художник, много работавший в обла-
сти создания детской игрушки.
13 «Аленький цветочек» — приложение к повести Сер-
гея Тимофеевича Аксакова (1791—1859) «Детские годы Багрова-
внука» (1856—1858). Это сказка, которую герой книги Сережа
слышал от ключницы Пелагеи.
14 Сб. пьес «Театр для детей», написанный С. Я. Маршаком
В соавторстве с Е. И. Васильевой, вышел в Краснодаре в 1922 году.
Печатается по тексту журнальной публикации.
Издали и вблизи. — Впервые в сб.: «Горький», Госиздат,
М. —Л. 1928.
К воспоминаниям о своих первых встречах с А. М. Горьким
С. Я. Маршак возвращается также в статье «Две встречи в Крыму»
(см. т. 7 наст. изд.).
1 Стивенсон Роберт Льюис (1850—1894) — английский
поэт и прозаик, автор приключенческих романов: «Остров сокро-»
вищ» (1883, русск. пер. —1889), «Черная стрела» (1888, русск.
пер. — 1914), «Похищенный» (1886, русск. пер. — 1901) и др. Пере*
вод баллады Стивенсона «Вересковый мед» см. в т. 3 наст. изд.
Печатается по тексту первой публикации.
О большой литературе для маленьких. — Впервые под тем же
названием (как текст доклада I Всесоюзному съезду писателей)
623
на правах рукописи с подзаголовком «Материалы к I Всесоюзному
съезду советских писателей», ГИХЛ, М. 1934.
В отрывках в «Литературной газете», 1931, № 41, 20 августа;
в Газетах: «Правда», 1934, № 229, 20 августа, «Комсомольская
правда», 1934, № 194j 21 августа.
Полностью в книге: «Первый Всесоюзный съезд советских пи-
сателей, 1934 г.». Стенографический отчет, «Худоэкественная лите-
ратура», М. 1934; в том же году издан отдельной брошюрой — «Ху-
дожественная литература», М. 1934.
В 1957 году С. Я. Маршак переработал текст своего доклада на
I Всесоюзном съезде писателей. Позже материал разделов IV и
VI был использовал автором в статьях «0 кораблях и караванах»
и «Сказка крылатая и бескрылая», вошедших в книгу «Воспитание
слоном#.
В данном издании редколлегия, учитывая последнюю волю
писателя, сочла возможным опубликовать доклад в виде статьи
полностью, как его переработал автор в 1957 году.
По предложению А. М. Горького, выступившего на I Всесоюз-
ном съезде писателей с основным докладом о советской литера-
туре, С. Я. Маршаку было поручено сделать вслед за ним содоклад
о советской детской литературе. Как пишет Лидия Чуковская:
«Мысли Маршака о литературе для детей, исходные положения
его редакторской практики были Горькому близки и родственны.
Всякий, кто даст себе труд внимательно сопоставить высказьь
ванпя о детской литературе Маршака с высказываниями Горького,
не может не заметить этой близости, этой идейной родственности,
и не только в обще идеологическом смысле» (Лидия Чуковская,
В лаборатории редактора, «Искусство», М. 1960, стр. 302—303).
Маршак' и близкие ему писатели сыграли значительную роль в
предыстории «Большой литературы для маленьких». В конце
1922 года при библиотеке детской литературы Педагогического
института дошкольного образования в Петрограде организовался
кружок детских писателем (С. Я. Маршак, Б. С. Житков, В. В. Би-
анки, О. И. Капица, Е. П. Привалова и др.). Члены кружка затем
вошли в состав редколлегии журнала «Новый Робинзон» (быв-
ший «Воробей»), издававшимся в 1923—1925 годах.
С. Я. Маршаку, вдохновителю дружного творческого коллектива,
удалось привлечь к детской литературе талантливых писателей,
педагогов, «бывалых» людей, художников. Л. Ф. Кон отмечает, что
«Новый Робинзон» «был творческой лабораторией, где создавалась
советская литература для детей, новая и по содержанию, и ио
форме. Там рождались новые темы, новые жапры, новые писатели.
Вклад «Нового Робинзона» в детскую литературу огромен» («Со*
ветская детская литература. 1917—1923», Детгиз» М. 196Q, стр, 305).
О «Новом Робинзоне» см. также в очерке С. Я. Марщака («Дом,
увенчанный глобусом») (т. 7, наст* изд.)*
Когда издание журнала было прекращено, С. Я. Маршак с
группой бывших сотрудников перешел в редакцию детской лите-
ратуры в Ленинградском отделении Госиздата. Горький высоко
оценивал работу Маршака и его коллег* В частности, в статье
«О безответственных людях и о детской книге наших дней» Горь-
кий писал, что работники детского отдела ГИЗа, «сумели выпу-
стить ряд весьма талантливо сделанных книг для детей» («Правда»
1936, № 68, 10 марта). Весной 1933 года Горький пригласил. Мар-
шака в Сорренто, с тем чтобы разработать проект специального
издательства детской книги и подготовить докладную записку
в ЦК ВКП(б). После того как 9 сентября 1933 года было принято
постановление об организации издательства детской литературы,
Горький опубликовал. «Обращение к пионерам СССР» («Правда»,
1933, № 192, 14 июля), в котором просил ребят сообщить, какие
книги они читают и желали бы прочитать. Анализ детских писем
А. М. Горький доверил Маршаку, написавшему статью «Дети отве-
чают Горькому» («Правда», 1934, Ж 135, 18 мая—см. т. 7. наст,
изд.). Выраженные в ней идеи в -значительной мере предваряли
основные теоретические положения доклада.
1 Речь идет о подвигах героя французского героического
рпоса «Песнь о Роланде».
2 Имеется, в. виду герой романа французского писателя Жюля
Верна (1828—1905) «Пятнадцатилетний капитан».
9 Русские популяризаторы научных сведений нередко исполь-
зовали в качестве образца детской книги известный в срое время
французский роман «Отчего и почему маленькой Сюзанны».
4 Анализ сказок и детских рассказов Л. Н. Толстого см. в
статье «Мир в картинах» (т. 7 наст. изд.).
5 В дореволюционные годы А. М. Горький написал ряд сказок
для детей: «Утро» (1910), «Воробьишко» (1912), «Случай с Евсей-
кой» (1912), «Самовар» (1013), «Про Иванушку-дурака» (1916).
6 Такие произведения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка
(псевдоним Д. Мамина, 1852—1912), как .«Аленушкины сказки»
41894—4896), «Емеля-охотник» (1884), «Зимовье на Студеной»
(1892), «Серая Шейка» (1893), переведены на многие языки мира
и вошли в фонд классической детской литературы-
7 Александру Ивановичу Куприну (1870—1938) принадлежат
такие известные рассказы для детей, как .«Белый пудель» (1904),
«Чудесный доктор» (1897), «Слон Зембо» (1913), «В зверинце»
(1905).
625
8 Александр Александрович Блок (1880—1921) выпустил две
книги для детей: «Круглый год. Стихи для детей», [М.], [т-во
И. Д. Сытина, Детск. отд.] 1913 г., и «Сказки. Стихи для детей»,
[М.], тип. т-ва И. Д. Сытина, [1913].
9 «Тропинка» (1906—1912) —<детский журнал. В нем печа-
тались поэты — А. Блок, А. Белый, К. Бальмонт, А. М. Ремизов,
Ф. Сологуб. «Цель и задачи журнала, — говорилось в редакцион-
ной статье первого номера, — развивать в детях художественное
чутье, давать им занимательное и полезное чтение, включающее
религиозный и сказочный элемент». Более подробную характери-
стику журнала см. в статье «О наследстве и наследственности в
детской литературе» (т. 7 наст. изд.).
10 Allegro — псевдоним поэтессы, драматурга и художницы
Поликсены Сергеевны Соловьевой (1867—1924). Выступала на
страницах журнала «Тропинка», издательницей которого она была.
Перевела повесть Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» (журнал
«Тропинка», 1909, №№ 2—5, 7—20). В последние годы сотрудничала
в журнале «Воробей» («Новый Робинзон»).
11 Саша Черный (псевдоним Гликберга Александра Ми-
хайловича, 1880—1932) — печатал произведения для детей в аль-
манахе «Жар-птица» (Детские сборники изд-ва «Шиповник», СПБ.
1911, т. I), в сборнике «Елка» (Парус, П. 1918), в ежемесячном
иллюстрированном приложении к журналу «Нива» — «Для детей»
(Пг. 1917, № 1—12), а также издал «Живую азбуку», изд. «Ши-
повник», СПБ. 1914. В 20—30-х годах неоднократно издавались
сборники его произведений для детей (сб. «Дети», изд. «Культура»,
Киев, 1929; «Детский остров», Гос. изд-во, М. — Л. 1928; «Трубо-
чист», Гос. изд-во, М. — Л. 1930, и др.).
12 Речь идет о книге немецкого писателя Генриха Гофмана.
13 См. прим. 4 к повести «В начале жизни».
14 Речь идет о «Nursery Rhymes» — сборнике английских на-
родных детских потешек, загадок, считалок. Пересказ этих песе-
нок вышел в 1910 году в издании И. Кнебеля под названием
«Гусиные песенки». Переводы С. Маршака из «Nursery Rhymes» —
см. т. 2 наст. изд.
15 Чуковский Корней Иванович (1882—1969) начал
работать в детской литературе еще до революции, выступив сна-
чала с критикой повестей Чарской и других образцов бульварного
чтива для детей («Лидия Чарская», газ. «Речь», 1912, 9 сентября;
«Матерям о детских журналах», «Русская скоропечатня», СПб.
1911; «Пат Пинкертон и современная литература», изд-во «Совре-
менное товарищество», М. 1908). Кроме того, им была создана
имевшая большой успех современная сказка «Крокодил» (1916).
62Б
После революции появились «Мойдодыр» (1923), «Тараканище»
(1923), «Мухина свадьба», издававшаяся впоследствии под назва-
нием «Муха-цокотуха» (1924), «Бармалей» (1925) и др. В 20—30-е
годы К. И. Чуковский неоднократно подвергался нападкам вульга-
ризаторской критики. Горький, уделявший много внимания разви-
тию детской литературы, накануне I Съезда писателей в доклад-
ной записке «О детской литературе», направленной членам комис-
сии по вопросу о программах школ и школьном режиме, называл
имена Чуковского, Пришвина, Григорьева и указывал, что они
«были осуждены на бездействие или не были использованы в до-
статочной мере из-за ошибочной политики литературных органи-
заций, критики и издательств» (сб. «М. Горький о детской лите-
ратуре», «Детская литература», М. 1968, стр. 111).
16 Имеется в виду статья Е. Я. Данько «О читателях Чарской»
(журн. «Звезда», 1934, № 3).
17 От «Аскольдовой могилы» до «Белого генерала». — «Асколь-
дова могила» (1833)—произведение Михаила Николаевича Заго-
скина (1789—1852). «Белый генерал» — повесть-хроника А. И. Крас-
ницкого из жизни генерала М. Д. Скобелева.
18 Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872—
1930) — ученый-географ, путешественник и писатель. Две книги
Арсеньева — «По Уссурийскому краю» и «Дереу Узала» (1921—
1923) в 1926 году были переработаны им и изданы под общим
названием «В дебрях Уссурийского края». В 1931 году эта книга
была выпущена в редакции, рассчитанной на детское чтение. Под
заглавием «Дереу Узала» она выдержала несколько изданий.
19 В 30-е годы литература для детей пополнилась лучшими
произведениями советской литературы в специальных изданиях
для юного читателя. В сокращенном для детей варианте вышли
«Чапаев» и «Мятеж» Д. Фурманова, переработанные главы фадеев-
ского «Разгрома» («Амгуньский полк» и «Метелица»). А. Толстой
и А. Новиков-Прибой подготовили для детей сокращенные редак-
ции своих романов «Петр I» и «Цусима».
20 Марк Твен (псевдоним Самюэля Ленгхорна Клеменса,
1835—1910) — американский писатель. В круг детского чтения
вошли его произведения «Приключения Тома Сойера» (1876, русск.
пер.—1886), «Приключения Гекльберри Финна» (1884, русск. пер.—•
1885), роман «Принц и нищий» (1881, русск. пер.—1884).
21 Леонид Пантелеев — псевдоним Алексея Ивановича
Еремеева (р. 1908). «Часы» (1928) и «Пакет» (1932)—'произведе-
ния, закрепившие успех молодого писателя, который в 1927 году
в соавторстве с Г. Белых выступил с повестью «Республика
Шкид». Рукопись книги попала к С. Я. Маршаку. По его настоянию
627
опа была отправлена на отзыв А. М. Горькому ir принята к печати.
Близкое знакомство с Маршаком сыграло большую роль в личной
и творческой судьбе Л. Пантелеева. В своем очерке «Маршак в
Ленинграде» писатель вспоминает: «Он открыл во мне какие-то
способности, кое-какой талант и ухватился за меня, как ухваты-
вался тогда за все мало-мальски яркое, самобытное, подающее на-
дежды.
На мое счастье и к моей бесконечной радости, рто увлечение
с годами не Остыло, а перешло в нечто большее — в дружбу.
А увлекался он — и тогда, и раньше, и позже — на каждом
шагу, постоянно, и всегда был в поисках, всегда выискивал, вы-
сматривал, где бы и за кого ухватиться, кому бЫ подать руку
помощи, кому бы пособйть стать на ноги. Этот дар открывателя
и воспитателя он унаследовал от своих учителей — от В. В. Ста-
сова п А. М. Горького. Очень и очень многих заметил, нашел,
выискал, высмотрел Самуил Яковлевич среди тех бывалых людей,
к которым принадлежал и штурман дальнего плавания Житков, к
натуралист Бианки, и пожарник Потулов, и водолаз Золотовский,
и полярник Безбородов, и медсестра Будогоская, и физик Брон-
штейн, и политработница Васильева, и почтенный академик Ферс-
ман, н безусый колхозник Шорин...» (Л. Пантелеев, Избранное,
«Художественная литература», М. 1967, стр. 472).
22 Первые произведения Бориса Степановича Житкова (1882—
1938) были напечатаны в детском журнале «Новый Робинзон»,
ведущую роль в котором играл С. Я. Маршак. По воспоминаниям
К. И. Чуковского, С. Я. «встретил Житкова как долгожданного
друга. Именно такого бывалого человека, «умельца», влюбленного
в путешествия, в механику, в технику и сочетавшего эту любовь
с талантом большого художника, не хватало детской литературе
тогда» (К. Чуковский, Детство. — В кн.: «Жизнь и творчество
Б. С. Житкова», Детгиз, М/ 1955, стр. 264).
23 Ко времени I Съезда ССП Кассиль Лев Абрамович (1905—•
1970) был известен как автор повестей «Кондуит» (1930) и «Швам-
брання» (1933).
24 Евгений Львович Шварц (1896—1958) — автор из-
вестных пьес-сказок «Ундервуд» (1930), «Клад» (1933)> «Голый
король» (1934), «Снежная королева» (1938), «Тень» (1940) и др.,
многое сделал в детской литературе. Как и Житков, Шварц со-
трудничал в журнале «Новый Робинзон». После того как было
прекращено издание «Нового Робинзона», Шварц работал редак-
тором в Ленинградском отделении Госиздата и в журнале «Еж»
(1928—1935). Первым редактором и наставником Шварца был
С. Я. Маршак, оказавший большое влияние на его творческую
628
судьбу. В своих воспоминаниях Е. Шварц пишет: «Все немногое,
что я сделал, — следствие встреч с Маршаком в 1924 году...
И я, подумав, перебрав все пережитое с ним или из-за него, со всей
беспощадностью утверждаю: встреча с Маршаком весной двадцать
четвертого года была счастьем для меня» (Е. Шварц, Из днев-
ника. См. сб. «Я думал, чувствовал, я жил...», «Советский писатель»,
М. 1971, стр. 119—122).
25 Шестаков Николай Яковлевич (р. 1894) — автор
ряда стихотворных книг и пьес для профессионального театра
юных зрителей.
26 Речь идет о книге Николая Григорьевича Смирнова (1890—<
1933) «Джек Восьмеркин — американец». Об авторе и его незаслу-
женно забытых остросюжетных произведениях см. в книге
И. Рахтанова «Рассказы по памяти», «Советский писатель»,
М. 1966.
27 Имеются в виду «Кара-Бугаз» (1932) Константина Георгие-
вича Паустовского и «Рассказ о великом плане» (1930) М. Ильина.
28 Брем Альфред Эдмунд (1829—1884) — немецкий зо-
олог, автор популярного труда «Жизнь животных» (1863—1869).
29 Скотт Роберт (1868—1912) — английский полярный
исследователь.
30 Нансен Фритьоф (1861—1930)—норвежский океано-
граф, исследователь Арктики.
31 П р ж е в а л ь с к и й Николай Михайлович (1839—
1888) — русский исследователь Центральной Азии.
32 Вольфовские подарочные томики. — Вольф
Маврикий Осипович (1825—1883)—издатель и книгопродавец,
основатель фирмы «Товарищество М. О. Вольф». Широко поставил
издание детской литературы, основал ряд журналов для детей.
Известно его подарочное издание «Золотая библиотека». Подчинял
свою издательскую деятельность главным образом коммерческим
соображениям.
33 Сытинские рыночные книжонки. — Сытин Иван
Дмитриевич (1851—1934)—русский издатель и книготорговец.
Созданное им печатно-издательское предприятие выпускало самую
разнообразую литературу, в том числе и низкосортную.
34Асбьёрнсен Петер Кристен (1812—1885)—круп-
ный норвежский фольклорист. Вместе с Йергеном Му издал «Нор-
вежские народные сказки» (1841), затем — «Норвежские волшеб-
ные сказки и народные сказания» (1845—1848).
35 Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) —
немецкий писатель-романтик. Для детей им написаны «Щелкунчик
и мышиный король», «Чужое дитя» и др.
629
звГауф Вильгельм (1802—1827)—немецкий писатель-
романтик, автор сказок, в которых использованы сюжеты и образы
немецкого фольклора и мотивы восточных сказок.
37Лабуле Эдуард-Рене (1811—1883)—французский
публицист, ученый и общественный деятель, автор сказки-памф-
лета «Принц-собачка» и нескольких серий политических сказок.
38Топпелиус Захарий (1818—1898) — шведско-финский
порт и прозаик, автор сказок для детей.
39 В круг детского чтения вошли следующие произведения
Всеволода Михайловича Гаршина (1855—1888): «Лягушка-путеше-
ственница» (1887) и «Attalea princeps» (1880).
40 Кроме «Корейских сказок», из произведений Н. Гарина
(псевдоним Михайловского Николая Георгиевича, 1852—1906) во-
шли в круг детского чтения повести «Детство Темы» (1892) и
«Гимназисты» (1893).
41 «Тысяча и одна ночь» — арабские сказки, получившие миро-
вую известность после появления французского перевода А. Гал-
лана (начало XVIII в.). Специально для детей выпускается в Рос-
сии с середины XIX века («Аладдин и волшебная лампа», «Али-
баба и сорок разбойников», «Синдбад-мореход» и др.).
42 Перро Шарль (1628—1703)—французский писатель.
Известен сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и
сказки былых времен с моральными наставлениями» (1697), куда
вошли сказки «Красная Шапочка», «Золушка» и др., созданные на
основе фольклора.
43 Братья Гримм, Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—•
1859) — немецкие ученые-филологи. Им принадлежит знаменитый
сборник «Детских и семейных сказок» (2 тт., 1812—1814).
44 Киплинг Редьярд Джозеф (1865—1936)—англий-
ский писатель. Ему принадлежат сборник «Просто так сказки для
маленьких детей» (1902) и «Книга джунглей» (1894—1895).
46 Ричард Львиное Сердце — положительный персонаж
романа английского писателя В. Скотта «Айвенго».
46 Имеется в виду следующее высказывание К. Маркса из его
работы «Теория прибавочной стоимости»: «...Так как в механике
и т. д. мы ушли дальше древних, то почему бы нам не создать
и свой рпос? И вот взамен «Илиады» появляется «Генриада»
(«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. I, «Искусство», М. 1967,
стр. 175).
47 В 20—30-х годах группа критиков-вульгаризаторов под пред-
логом защиты детей от влияния буржуазной идеологии, от мисти-
цизма и суеверия объявила вредным любое использование фанта-
зии и вымысла в детских книгах. Была сделана попытка наложить
630
запрет на произведения народного творчества, в частности, на
сказку. Еще большее недоверие этим критикам внушала современ-
ная сказка, прежде всего, произведения Чуковского (см. об ртом
главу «Борьба за сказку» в книге К. И. Чуковского «От двух до
пяти»). Эти же «теоретики» детского чтения выступали против
игрового начала в литературе для детей, утверждая, что «с ребен-
ком надо говорить всерьез». Статья под таким названием появи-
лась в 1929 году на страницах «Литературной газеты» (№ 37,
30 декабря). Ее автор, Е. Флерина — председатель комиссии по
детской книге НКП РСФСР, поддерживала нападки на Маршака и
Чуковского (Д. К а л ь м, Против халтуры в детской литературе. —►
«Литературная газета», 1929, № 35, 16 декабря). Е. Флерина пи-
сала, в частности, что не стоило бы говорить о Чуковском и Мар-
шаке, «если бы они не создавали направления, если бы объедине-
ние на их платформе вокруг журнала «Еж» и Ленгиза не было бы
столь организованным и значительным по талантливости авторов
данной группы. Мы далеки от того, чтобы ставить знак равенства
между К. Чуковским и С. Маршаком, но в основе своих тенденций
они солидаризируются. Тенденция позабавить ребенка, дураче-
ство, анекдот, сенсация и трюки даже в серьезных общественно-
политических темах — это есть не что иное, как недоверие к теме
и недоверие, неуважение к ребенку, с которым не хотят говорить
всерьез о серьезных вещах». Против подобной трактовки деятель-
ности С. Я. Маршака протестовали К. Федин, В. Каверин, Б. Па-
стернак и многие другие (см. «Литературная газета», 1929, № 37,
30 декабря). В защиту Ленинградской редакции и ее творческих
принципов выступил А. М. Горький (см. статьи: «Человек, уши
которого заткнуты ватой». — «Правда», 1930, № 19, 19 января, и
«О безответственных людях и о детской книге наших дней».—
«Правда», 1930, № 68, 10 марта).
Постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по улучшению
детской и юношеской печати» (1928) и «Об издательстве «Моло-
дая гвардия» (1931) указали на порочность идеологических пози-
ций вульгаризаторской критики. В своем докладе на Первом
съезде советских писателей А. М. Горький уделил особое место
роли сказки в социальном воспитании.
48 Доде Альфонс (1840—1897)—французский писатель.
Для детей и подростков издавалась «Прекрасная нивернезка»
(1886), «Малыш» (1868), «Удивительные приключения Тартарена
из Тараскона» (1872).
49 Ожешко Э^иза (1841—1910) — польская писательница.
Некоторые ее рассказы о тяжелой жизни крестьян издавались для
детей — «Добрая пани» (1883) и др.
631
50 Конопницкая Мария Юзефовна (1842—1910) j
польская писательница. В России для детей издавались ее произ-
ведения: «История о гномах и о сиротке Марысе» (1895), «Мендель
Гданьский» (1889) и др.
51 «3 а д у ш е в н о е слово» (1877—1918) — детский журнал
благонамеренного направления. Издавался для детей младшего и
среднего возраста. Печатал статьи познавательного характера,
оригинальные и переводные стихи, рассказы, повести. Значитель-
ное место на страницах журнала занимали рассказы и повести
Л. Чарской. Более подробный отзыв Маршака об этом журнале
см. в статье «О наследстве и наследственности» (т. 7 наст. изд.).
52 Д о н о н — содержатель известного в свое время петербург-
ского ресторана.
53 Фильдинг Генри (1707—1754) — английский писатель,
автор романа «История Тома Джонса, Найденыша» (1749).
54 Речь идет о героине романа Чарлза Диккенса (1812—1870)
«Домби и сын».
55 Ряд романов Чарлза Диккенса, принадлежащих к жанру
«романа воспитания», стали излюбленным детским чтением: «При-
ключения Оливера Твиста» (1838, русск. пер.—1841), «Домби и
сын» (1848, руссц. пер.— 1847—1848), «Дэвид Копперфильд» (1849,
русск. пер. —1849), «Большие ожидания» (1861, русск. пер.—
1861) и др.
58 Такие произведения Виктора Гюго (1802—1885), как «Ган
Исландец» (1823, русск. пер.— 1833), «Бюг Жаргаль» (1826,
русск. пер. —1887), «Собор Парижской богоматери» (1831, русск.
пер. —1862), «Отверженные» (1862, русск. пер.— 1862), «Труже-
ники моря» (1866, русск. пер. —1866), «Человек, который смеется»
(1869, русск. пер.— 1869), вошли в круг чтения детей всего мира.
57 Купер Джеймс Фен и мор (1789—1851) — американ-
ский писатель. Среди подростков пользуются популярностью его
романы, посвященные североамериканским индейцам («Зверобой»,
«Следопыт», «Последний из могикан», «Кожаный чулок» и «Пре-
рия») и морской теме («Лоцман» и др.).
58 Льюис Кэрролл (псевдоним Чарлза Латуиджа Додж-
сона, 1832—1898) — английский детский писатель, священник и ма-
тематик, профессор Оксфордского университета, автор сказочной
повести «Алиса в стране чудес» (1865) и ее продолжения—.
«В Зазеркалье» (1871).
59 Станюкович Константин Михайлович (1843—»
1903) —русский писатель. Его книги «Морские рассказы», «Вокруг
света на «Коршуне» и повесть «Севастопольский мальчик» вонми
в круг чтения детей и юношества.
632
00 Лукашевич Клавдия Владимировна (1859—
1937) —детская писательница, выступавшая в разных жанрах (по-
вести, рассказы, пьесы, биографии великих людей). В рассказах
из народной жизни идеализировала крестьянский быт. См. более
подробную характеристику ее творчества в статье Маршака «О на-
следстве и наследственности...» (т. 7 наст. изд.).
61 Повесть Александра Сергеевича Неверова (псевдоним Ско-
белева, 1886—1923) «Ташкент — город хлебный» (в переработке
для детей — «Мишка Додонов», 1925) была одним из самых попу-
лярных произведений детской литературы 20-х годов.
62 Блях пн Павел Андреевич (1887—1961)—автор по-
вести «Красные дьяволята», которая пользовалась большим успе-
хом в 20-е годы. «С нею, в сущности, впервые в детскую книгу
входила революционная героическая тема... Повесть Н. Бляхина
являлась, с одной стороны, попыткой заменить бульварную, пере-
водную приключенческую литературу, оживавшую в годы нэпа, и
одновременно — вывести на страницы детской книги нового юного
героя, воодушевленного идеалом современной революционной
борьбы. В этом было значение этой повести, хотя исключительные
ситуации в ней заслоняли характеры и мешали создать жизнен-
ный образ юного героя» (Л. И. Тимофеев, Введение. — В кп.:
История русской советской литературы, т. I. Изд-во АН СССР, М.
1958, стр. 80).
63 Григорьев (псевдоним Сергея Тимофеевича Григорьева-
Патрашкина, 1875—1953). Впервые выступил в детской литера-
туре с рассказом «Красный бакен» (1923). Повести, упоминаемые
Маршаком, разрабатывали историко-революционную тему в твор-
честве писателя. Григорьев был одним пз зачинателей историче-
ской повести для детей («Берко-кантонист» — 1927, «Мальчий
бунт» —1925) и принял участие в создании научно-художествен-
ной и фантастической литературы («Гибель Британии» — 1926,
«Радио на Маре-Сале», 1929).
64 Повесть Льва Евгеньевича Остроумова (1892—1955) «Макар-
Следопыт» (кн. 1—3, 1925—1928) рассказывала о приключениях
деревенского паренька, ставшего в годы гражданской войны раз-
ведчиком в Красной Армии, и пользовалась большой популяр-
ностью в детской аудитории.
65 «Родина» (1879—1917) — иллюстрированный журнал с
большим количеством бесплатных приложений. Авторы, печатав-
шиеся в журнале, в стихах и прозе прославляли царствующий дом.
66 Кожевников Алексей Венедиктович (р. 1891)
в 20—30-х годах писал в основном для детей, был постоянным со-
трудником пионерской периодической печати.
633
67 «Мир приключений» (1910—1930) — сначала ежемесяч-
ный иллюстрированный сборник, с 1914 года — журнал, печатав-
ший романы, повести, рассказы.
88 «Всемирный следопыт» (1925—1931)—журнал, пе-
чатавший приключения, путешествия и краеведческие статьи.
69Кервуд Джеймс Оливер (1878—1927)—канадский
писатель, охотник, натуралист и путешественник, автор авантюр-
но-психологических романов и повестей о животных («Казан»—•
1914, «Гризли»—1917 и др.).
70 Лоскутов Михаил Петрович (1906—1943) издал для
детей две книги об освоении пустыни: «Тринадцатый караван.
Записи о пустыне Кара-Кум», «Молодая гвардия», М. 1933, и «Рас-
сказы о дорогах», Детгиз, М. 1935.
71 Речь идет о книге М. Ильина (псевдоним Ильи Яковлевича
Маршака, 1896—1953) «Горы и люди (Рассказы о перестройке при-
роды)».
72 Григорьев Николай Федорович (р. 1896)—дет-
ский писатель. В детской литературе начал работать с 1931 года
при творческой поддержке С. Я. Маршака.
73 Имеется в виду книга Константина Дмитриевича Золо-
товского (р. 1904) «Подводные мастера (Повесть о водолазах)»,
«Молодая гвардия», Л. — М. 1933, над редактированием которой,
по свидетельству В. Беляева, много поработал С. Я. Маршак
(см. сб. «Я думал, чувствовал, я жил...», «Советский писатель»,
М. 1971).
74 Речь идет о романе Жюля Верна «Путешествия и приклю-
чения капитана Гаттераса» (1866).
75 Сетон-Томпсон Эрнест (1860—1946)—канадский
писатель и художник-анималист. Его книги «Животные-герои»,
«Маленькие дикари», «Рольф в лесах» многократно издавались
для детей.
76 Робертс Чарлз (1860—1943) — канадский писатель,
последователь Сетоп-Томпсона. Одно из лучших его произведе-
ний — «Рыжий лис» (русск. пер. — 1905).
77 Лонг Вильям (1866—1952) — американский писатель,
автор книг «Школа лесов» (русск. пер. —1905—1907), «В царстве
птиц» (русск. пер.— 1905), «Чаплаган» (русск. пер. — 1904).
78 Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954) —•
русский писатель. Для детей им созданы: «Матрешка в картошке»
(1925), «Ярик» (1927), «Еж» (1928), «Рассказы егеря Михал Ми-
халыча» (1928) и др. Итог работы писателя для ребят — сборник
«Золотой луч» (1955).
634
79 Маршак имеет в виду такие книги Б. С. Житкова, как «Про
слона» (1926), «Беспризорная кошка» (1927), «Про обезьянку»
(1928), «Про волка» (1930) и др.
80 Бианки Виталий Валентинович (1894—1959)
начал писать для детей в журнале «Новый Робинзон». В одном
из первых его номеров была напечатана сказка Бианки —
«Путешествие красноголового воробья». В 1924 году вышли
книги Бианки: «Кто чем поет», «Лесные домишки», «Первая
охота». Для более старших были написаны повести «Мурзук»
(1925) и «Аскыр» (1927). «Лесная газета» выросла из «газетного
отдела» «Нового Робинзона», где Бианки из номера в номер вел
фенологический календарь природы. Отдельной книгой «Лесная
газета» впервые вышла в 1928 году. Большую роль в становлении
В. В. Бианки — детского писателя сыграл С. Я. Маршак. В. В. Биан-
ки впервые пришел к С. Я. Маршаку со стихами. «Это были,—
говорит Лидия Чуковская, — стихи в прозе — длинные, туманные,
символические. Они Маршаку не понравились. Но автора упустить
он не хотел. Он знал, что В. Бианки — охотник, что отец его —
орнитолог. И он предложил молодому литератору поделиться
с детьми своим зоолого-охотничьим опытом. В ответ на это пред-
ложение В. Бианки написал свои первые книги: «Чей нос лучше»,
«Кто чем поет», «Лесные домишки» (Лидия Чуковская, В ла-
боратории редактора, стр. 264).
81 Чарушин Евгений Иванович (1901—1965)—рабо-
тал иллюстратором книг о животных и природе в детском отделе
Госиздата в Ленинграде. Первыми книгами, иллюстрированными
Чарушиным, были «Мурзук» В. Бианки и «Волк» Лесника (см.
ниже). С 1931 года начал писать для детей рассказы о животных.
«Появлением на свет писателя Е. Чарушина литература тоже обя-
зана редакторской проницательности Маршака. Художник Е. Ча-
рушин все просил в редакции, чтобы ему подобрали автора для
подписей к рисункам — к его медвежатам, олежкам, рысятам, вол-
чатам. Зная Е. И. Чарушина как отличного рассказчика, Маршак
настоял, чтобы он попробовал писать сам. И не ошибся» (Лидия
Чуковская, В лаборатории редактора, стр. 264).
82 Лесник (псевдоним Евгения Васильевича Дубровского,
1870—1941) — автор ряда очерков и рассказов о природе, написан-
ных для детей: «Волк», «Первый снег» и др.
83 Перовская Ольга Васильевна (1902—1961)—ав-
тор рассказов о животных. Наибольшую известность получила ее
книга «Ребята и зверята» (1925).
84 Речь идет о пьесах-хрониках В. Шекспира «Генрих IV»,
«Ричард III», «Ричард II», «Король Джон» и др<
635
85 Скотт Вальтер (1771—1832) — английский писатель,
создатель жанра исторического романа. Начиная с 40-х годов
XIX века романы Вальтера Скотта постоянно выпускаются для
детей: «Айвенго» (1820, русск. пер.— 1826), «Квентин Дорвард» (1823,
русск. пер.—>1827), «Роб Рой» (1818, русск. пер.—1829) и др.
86 Дюма Александр (1802—1870) — французский писа-
тель, автор приключенческих романов на историческую тему: «Три
мушкетера» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845), «Граф Монте-
Кристо» (1845—1846) и др.
87 Речь идет о книге немецкого писателя К. Оппеля «Чудеса
древней страны пирамид» (русск. пер.— 1867).
88 Имеется в виду книга В. Лукьянской «Три тысячи лет тому
назад (Книга о войнах и о мирной жизни греческого народа. Рас-
сказы из истории Греции)», изд. «Посредник», М. 1901.
89 Речь идет об историческом романе французского автора
Альфреда Рамбо (1842—1905)—«Печать Цезаря (Из воспоминаний
галльского солдата)».
90 Речь идет о книге Николая Петровича Аксакова «Дети-кре-
стоносцы. Историческая повесть для юношества», М. 1894.
91 «Под громом пушек. Из времен войны 1870 г.» — произведе-
ние немецкого автора К. Клейна.
92 «Кто были наши предки славяне и как они жили» — книга
из серии В. П. Алексеева «Русская история в рассказах для школ
и народа», тип. т-ва И. Д. Сытина, М. 1900—1905.
93 Авенариус Василий Петрович (1839—1923) —
русский писатель, начал свою деятельность в 60-е годы антиниги-
листическим романом «Бродящие силы», а затем подвизался на
поприще исторических романов для юношества. Трилогия «За ца-
ревича»— наиболее известное из его произведений.
94 Речь идет о «Сравнительных жизнеописаниях» древнегрече-
ского писателя Плутарха (ок. 46 — ок. 126).
95 «Песни скальдов» — сборник произведений скандинав-
ского героического эпоса.
96 Ливий Тит — римский историк (59 до н. Э-—17 н. э«)«
Извлечение из его произведений входили до революции в круг
школьного чтения и изучения.
97 «Ж и з н ь Бенвенуто Челлини» — автобиография зна-
менитого итальянского скульптора и ювелира XVI века (1500—*
1571). С. Я. Маршак высоко ценил русский перевод этой книги,
сделанный М. Л. Лозинским.
98 Л эм Чарлз (1775—1834)—английский писатель, автор
известных русскому читателю «Рассказов из Шекспира» (1807,
русск. пер.-^-1865).
636
99 Ф е р н е й с К и й отшельник — так принято называть
Вольтера, который последние двадцать лет своей жизни
(1758—1778) провел в имении Ферне, на границе Франции и
Швейцарии.
100 Речь идет об опере композитора А. Серова (1^20—1871)
«Рогнеда» (1865).
101 Имеется в виду картина художника Маковскбг'о Констан-
тина Егоровича (1839—1915).
102 О Татьяне Александровне Богданович (1873—1942), о ее
вступлении в детскую литературу й о той помощи, которую ока-
зал ей в работе С. Я. Маршак, см. <«Дом, увенчанный глобусом»),
а также главу «Маршак-редактор» в книге Лидии Чуковской «В ла-
боратории редактора», «Советский писатель», М. 1960, ctp. 265.
103 Данько Елена Яковлевна (1898—1942) — автор
таких исторических книг для детей, как «Китайский секрет»
(1929), «Деревянные актеры» (1931), «Иоганн Гуттенберг» (1925)
и др. «Многие годы писала стихи талантливая художница
Е. Данько, но вошла она в литературу, то есть в память читателя,
пе этими стихами, а детской книжкой «Китайский секрет». Мар-
шаку было известно, что Е. Данько работает в качестве худож-
ницы на заводе имени Ломоносова, и он сумел увлечь ее задачей
написать для ребят историю открытия фарфора вместе с исто-
рией одного из стариннейших и славнейших ленинградских за-
водов» (Лидия Чуковская, В лаборатории редактора,
стр. 265).
104 Щторм Георгий Петрович (р. 1898)—впервые
выступил с историческими очерками для детей на, страницах жур-
нала «Еж». В 1929 году вышла его первая книга — рассказ о вос-
стании крепостных крестьян во главе с JL Болотниковым. Рабо-
тает в историческом жанре («На поле Куликовом» — 1938, «Пол-
тава»—1939, «Подвиги Святослава»— 1947, «Потаенный Ради-
щев»— 1965 и др.).
105 Слонимский Александр Леонидович (1884—
1964) >—начал писать для детей на страницах «Нового Робинзона».
Создал повесть о декабристах — «Черниговцы» (1828), а также
«Рассказы о лицейской жизни Пушкина» (1937) и др.
106 Повесть Степана Павловича Злобина (1903—1965) «Сала-
ват Юлаев» (1930), как и «Повесть о Болотникове» Г. Шторма,
завоевала признание не только юного, но и взрослого читателя
30-х годов.
Публикуется по машинописному автографу 1957 года с автор-
ской правкой.
637
Дело Геринга о поджоге. — Впервые в газете «Известия», 1934,
№ 291, 14 декабря, под названием «Окончательный приговор»;
позднее, в переработанном виде — в журнале «Звезда», М. 1935,
№ 2.
Статья написана на основе писем советских ребят по поводу
героического поведения Г. Димитрова на Лейпцигском процессе.
Лейпцигский процесс (1933) был инсценирован немецкими фа-
шистами. В ночь па 28 февраля 1933 года гитлеровцы подожгли
здание рейхстага, обвинив в этом коммунистов и развернув
затем массовый террор. Болгарский коммунист Георгий Михай-
лович Димитров (1882—1949) был в числе обвиняемых. Он ис-
пользовал трибуну судебного заседания для разоблачения фа-
шизма. Чудовищная фашистская провокация вызвала волну про-
теста во всем мире.
В своих статьях, заметках, рецензиях С. Я. Маршак неодно-
кратно обращался к изучению детских писем, сочинений, твор-
ческих работ, на основании которых можно было бы составить
представление о мировосприятии ребенка. Сходные изыскания
несколько раньше начал вести К. И. Чуковский, создавший книгу
о детской психологии, детском словотворчестве, о формировании
у ребенка представлений о действительности («Маленькие дети»,
1928, впоследствии — под названием «От двух до пяти»). Но если
К. И. Чуковский в первую очередь стремился уловить некоторые
общие закономерности детского восприятия действительности и
детского творчества, то С. Я. Маршак проводил своего рода со-
циологическое исследование того влияния, которое оказывает на
формирование духовного облика ребенка советская действитель-
ность. Он исследовал мировосприятие советского ребенка. Кроме
«Дела Геринга о поджоге», С. Я. Маршаку принадлежат статьи
«Дети о будущем» (см. т. 6 наст, изд.), «Дети — порты» (см. т. 6
наст, изд.), «Дети отвечают Горькому» (см. т. 7 наст, изд.) и др.
Письма и стихи ребят интересны С. Я. Маршаку тем, что они дают
возможность понять со всей ясностью и убедительностью, чем
живет, о чем думает, чем интересуется сегодняшняя детвора. Ока-
зывается, дети посвящают стихи полярным перелетам, подвигам
наших пограничников, борьбе в Испании, Чапаеву, Ломоносову,
смерти Ленина... «Бедным «вундеркиндам» доброго старого вре-
мени,— пишет С. Маршак, — даже и не снились те ответственные
темы, за которые так смело берутся сейчас наши школьники. И это
не потому, что они слишком самоуверенный народ. Нет, все эти
большие и важные темы окружают наших ребят с первых дней их
существования. История не кажется им отвлеченным предметом»
(Предисловие к сб. «Стихи детей», Детиздат, Л. 1936, стр. 8)<
638
1 «Последний из могикан» — персонаж одноименного
романа Фенимора Купера.
2 Бюнгер — председатель суда в Лейпциге, тенденциозно
руководивший процессом.
3 Тельман Эрнст (1886—1944) — выдающийся деятель
германского и международного рабочего движения. После уста-
новления фашистской диктатуры в Германии стал одной из пер-
вых жертв фашистского террора. Был арестован в 1933 году и все
время находился в условиях строжайшей изоляции. 18 августа
1944 года был убит фашистами в концентрационном лагере Бу-
хенвальд.
Печатается по машинописному тексту с авторской правкой,
датированной секретарем С. Я. Маршака 25 апреля 1958 г.
Повесть об одном открытии. — Впервые в книге «Год восем-
надцатый», Альманах № 8, Гослитиздат, М. 1935.
Статья предваряла в альманахе очерк крупного советского
физика-теоретика, сотрудника института Иоффе Матвея Петровича
Бронштейна (1906—1938). С. Я. Маршак привлек ученого к созда-
нию нового типа книг о науке. М. П. Бронштейн написал для детей
еще два научно-художественных произведения: «Лучи Икс» (Дет-
издат, М. — Л. 1937) и «Изобретение радиотелеграфа» («Костер»,
1936, №4 и 5). С. Я. Маршак редактировал все работы Бронштейна
для детей.
В своей статье С. Я. Маршак обосновывает необходимость
создания нового — научно-художественного жанра в детской ли-
тературе.
1 Имеется в виду книга: «Тарас Бульба. Повесть из ка-
зачьей жизни запорожцев». В. М. Дорошевич, изд. И. А. Морозова,
М. 1908.
2Герштеккер Фридрих (1816—1872) — немецкий пи-
сатель и путешественник, автор путевых очерков, романов и
рассказов, насыщенных этнографическим материалом.
3 Книга М. Бронштейна вышла отдельным изданием в
1936 году и переиздана в 1959 году с послесловием академика
Л. Д. Ландау.
4 Из статьи А. М. Горького «Литературу — детям» («Правда»,
1933, № 159, 11 июня).
Печатается по тексту альманаха.
Дети о будущем. — Впервые в газете «Правда», 1935, № 196,
18 июля.
Печатается по газетной публикации с учетом авторской прав-
ки 50-х годов.
639
За бблъшую детскую литературу. — Впервые в газете «Ком-
сомольская Правда», 1936, М 18, 22 января, и в журнале «Дет-
ская литература», 1936, № 1, январь.
Сокращенная и обработанная стенограмма доклада на Пер-
вом совещании по детской литературе при ЦК ВЛКСМ.
Совещание происходило 15—17 января 1936 года.
1 Речь идет о библиографическом справочнике: Стар-
ц е в И. И., Детская литература. Библиография. 1918—1931, «Мо-
лодая гвардия», М. 1933.
2 Маршак имеет в виду гонение на сказку, организованное
в 20—30-е годы критиками-вульгаризаторами. См. примечания к
статье «О большой, литературе для маленьких».
3 Критические суждения о лжеэкспериментаторстве в поре-
волюционной школе более подробно развиты в статье С. Мар-
шака «Растущий счет» (газ. «Литературный Ленинград», 1935,
№ 18, 20 апреля), написанной в связи с годовщиной постановле-
ния о ликвидации РАППа *. Школа, говорится в ртой статье, в
20-е годы «служила чем-то вроде опытного поля для всевозмож-
ных псевдометодов. Эти «человеки в футляре» забыли в азарте
отвлеченного прожектерства самые главные задачи воспитания,
забывали и самого ребенка. На диспутах о детской кнлиске схо-
ласты с пеной у рта предавали проклятию всякий намек па
сказку, всякий даже самый скромный поэтический образ, всякую
попытку игры.
На детской книжке сказались все недостатки школы того
времени, да вдобавок еще и все ошибки литературы последних
лет РАППа.
Если старая литература для детей (я говорю об основной ее^
массе) пыталась надолго удержать ребенка в игрушечном, ку-
кольном мире, — то книга, которой требовали от писателя наши
педагоги-рационализаторы, шла мимо ребенка, не давая ему ни-
какой радости воображения... Мы, детские писатели, кроме 23 ап-
реля, отмечаем в своем календаре еще две даты — 5 сентября
1931 года и 25 августа 1932 года **. В эти дни партия определила
для социалистической школы настоящий путь так же, как в
апреле 1932 года она проложила просторную дорогу нашей лите-
ратуре.
* РАПП — Российская Ассоциация Пролетарских писателей
(1923—1932), была распущена постановлением ЦК. ВКП(б) от
23 апреля 1932 г.
** Речь "идет о постановлениях ЦК ВКП(б) «О начальной и
средней школе» (1931} и «Об учебных программах и режиме в
начальной и средней школе» (1932),.
640
Детская книга сразу же это почувствовала. Мы вспомнили
о ребенке, о его живых, насущных интересах, о его праве на
игру и воображение, на Андерсена в одном возрасте и на Жюля
Верна в другом...» (газета «Литературный Ленинград», 1935, № 18,
20 апреля).
4 Речь идет о повести итальянского писателя Эдмондо Де
Амичпса (1846—1908) «Сердце» (1886), в русском переводе —
«Записки школьника» (1892), принесшей автору мировую извест-
ность. С. Я. Маршак отрицательно относился к этой книге. В за-
метке «Я побывал в трех странах», в частности, говорится «Помню
мой жестокий спор с одним серьезным и вдумчивым итальянским
врачом-педагогом. Я имел неосторожность обругать «Дневник
школьника» так же откровенно, как ругал его в Ленинграде.
Обругал за дидактичность, за слащавость и фальшивую мора-
листику, за скучную и неубедительную сентиментальность» (га-
зета «Литературный Ленинград», 1933, № 10, 5 октября).
5 Бернет Фрэнсис Элиза (1849—1924) — американская
детская писательница. В России издавались ее книги: «Маленький
лорд Фаунтлерой», «Сарра Кру», «Маленькая подвижница» и др.
6 Олькотт Луиза (1832—1888) — американская детская
писательница. Автор популярных книг: «Маленькие мужчины» и
«Маленькие женщины».
7 Будогоская Лидия Анатольевна (р. 1898)—автор
«Повести о рыжей девочке» (1929), «Повести о фонаре» (1936).
См. о ней в статье <«Дом, увенчанный глобусом») (т. 7 наст, изд.)»
а также в статье Лидии Чуковской «О книгах забытых пли незаме-
ченных» (Журнал «Вопросы литературы», 1958, № 2).
8 Квитко Лев Моисеевич (1890—1952) — еврейский
поэт. Творчество Квитко для детей наиболее полно представлено
на русском языке книгой стихов «Моим друзьям», вышедшей в
1957 году в Детгизе. Стихи Квитко переводили С. Маршак,
М. Светлов, С. Михалков и др.
9 Забила Наталья Львовна (р. 1903) — украинская
детская писательница, выступила в литературе для детей в 20-е
годы с прозаическими произведениями на историческую тему.
В 30-е годы известность приобрели стихи Забилы (считалки,
сказки, лирические стихотворения).
10 Копыленко Александр Иванович (1900—1958) —
украинский писатель. Его повесть из школьной жизни «Очень
хорошо» была довольно популярна в 30-е годы. Об этой повести
см. «Истоки чувств» (т. 7 наст. изд.). О другой повести Копы-
ленко— «Солнце», см. «О жизни и литературе» (т. 6 наст. изд.).
21 С. Маршак, т. 6 641
11 Петро Панч (псевдоним Петра Иосифовича Панченко,
р. 1891)—украинский писатель. Автор книг для детей: «Будем
летать» (1935), «Сын Таращанского полка» (1937), «Эрик ищет
счастья» (1950) и др.
12 Микола Трублаини (псевдоним Николая Петровича
Трублаевского, 1907—1941)—украинский писатель. Первая книга
для детей — «Володька-рыболов» (1933). Большинство произведем
ний написапо в приключенческом жанре («Лахтак» (1936), «Шхуна
Колумб» (1951) и др.).
13 Иваненко Оксана Дмитриевна (р. 1906) —
украинская детская писательница. С 1925 года начала печататься
в детском журнале «Красные цветы». В 30-е годы работала пре-
имущественно в жанре сказки. В 1939 году написала книгу о дет-
стве Шевченко — «Тарасова доля» (впоследствии в переработке —
«Шляхи Тараса»).
Печатается по тексту журнальной публикации.
Гордитесь правом писать для детей. — Впервые в газете
«Комсомольская правда», 1937, № 7, 9 января, и в журнале «Дет-
ская литература», 1937, № 2, январь.
Выступление на Втором совещании по вопросам детской ли-
тературы при ЦК ВЛКСМ, которое состоялось 27—30 декабря
1936 года.
Выступавшие отмечали огромный сдвиг в переиздании книг
для детей. Дети получили произведения классиков, лучших пи-
сателей русской и мировой литературы, произведения фольклора.
Одним из главных вопросов Второго совещания стал вопрос о
книге на современную тему.
1 Т и л ь Уленшпигель — герой народного эпоса, персо-
наж романа бельгийского писателя Шарля Де Костера (1827—1879)
«Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных
и достославных деяниях во Фландрии и в других краях» (1867).
2 Фальстаф — действующее лицо исторической хроники
В. Шекспира «Генрих IV» и его же комедии «Виндзорские насмеш-
ницы».
3 Косарев Александр Васильевич (1903—1939) —
деятель коммунистического движения молодежи. С 1929 по 1939 —
ген. секр. ЦК ВЛКСМ.
Печатается по тексту журнальной публикации.
«Волшебное перышко». — Впервые в газете «Правда», 1937,
№ 214, 5 августа.
Печатается по тексту газетной публикации.
О детских календарях. — Впервые в газете «Правда», 1938,
№ 56, 26 февраля.
642
Рецензия на детский календарь 1938 года, выпущенный
Соцэкгизом.
1 Речь идет об извлечениях из книги немецкого философа
Фридриха Ницше (1844—1900) «Так говорил Заратустра».
2 Водопьянов Михаил Васильевич (р. 1899)—•
полярный летчик; один из первых героев Советского Союза; уча-
ствовал в спасении пассажиров и экипажа парохода «Челюскин»,
погибшего во льдах Чукотского моря. Автор ряда очерков и рас-
сказов о полярной авиации («Полюс», Детиздат, М. 1939; «Поляр-
ный летчик», Детиздат, М. — Л. 1952, и др.).
3Богоров Вениамин Григорьевич (р. 1904)—'
советский океанолог.
4 Визе Владимир Юльевич (1886—1954)—советский
ученый, полярный исследователь.
Печатается по автографу, содержащему ряд мест, опущен-
ных при публикации в газете.
Герои — детям. — Впервые в журнале «Литературный кри-
тик», 1939, № 1, январь. Частично (3 и 4, 5 главки) — в газете
«Правда», 1938, № 350, 21 декабря, под названием «Книги о ге-
роизме».
1 Артюхова Нина Михайловна (р. 1901)—детская
писательница.
2 Речь идет о герое романа Жюля Верна «Робюр-Завоева-
тель».
3 Чкалов Валерий Павлович (1904—1938) советский
летчик-испытатель. Вместе с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым
совершил беспосадочные перелеты Москва — о. Удд (1936) и
Москва — Ванкувер (США) через Северный Полюс (1937).
4 Челюскинцы — участники экспедиции на пароходе «Че-
люскин» (1933—1934 гг., руководитель — О. Ю. Шмидт). Целью
плавания было пройти из Мурманска во Владивосток за одну на-
вигацию. В Беринговом проливе «Челюскин» был затерт льдами,
а затем вынесен в Чукотское море и в 1934 году раздавлен
льдами. Участники плавания высадились на льдину, откуда были
спасены советскими летчиками.
Печатается по тексту журнальной публикации.
О планах, книгах и авторах. — Впервые в «Литературной га-
зете», 1939, № 6, 30 января.
Сокращенная и обработанная стенограмма выступления
С. Я. Маршака на совещании при ЦК ВЛКСМ 28 декабря 1938 го-
да, где обсуждался план Детиздата на 1939 год. С незначитель-
ными изменениями под названием «О планах, темах и авторах»
21*
643
была опубликована в журнале «Детская литература», 1939, № 2,
февраль.
Водовозова Елизавета Николаевна (1844—
1923)—педагог, детская писательница, мемуаристка, автор по-
пулярной в свое время книги «Жизнь европейских народов»
(т. 1—3, 1875—1883).
2 Речь идет о книгах: П. Г. Головин, Как я стал летчиком,
Детиздат, М. 1938, и К. Кайтанов, Мои прыжки, Детиздат,
М. 1938.
Печатается по тексту газетной публикации.
Будущим героям. — Впервые в газете «Правда», 1939, № 140,
22 мая.
Печатается по тексту газетной публикации.
Уважаемые дети. — Впервые в «Литературной газете», 1939,
№ 33, 15 июня, и в газете «Комсомольская правда», 1939, № 135,
15 июня.
1 Речь идет о фельетоне «Между прочим», напечатанном
А. М. Горьким в «Самарской газете» (1895, сентябрь, № 201) под
псевдонимом Иегудиил Хламида (см. М. Горький (Иегудиил
Хламида), Между прочим. Фельетоны 1895—1896 гг., Куйбышев,
1941).
2 Речь идет о статьях: «Человек, уши которого заткпуты
ватой», «О безответственных людях и о детской книге наших
дней», «Литературу — детям», «О темах».
3 Из статьи А. М. Горького «О старом и новом» («Известия»,
1927, № 250, 30 октября).
4 А. М. Горький, «Школе шалунов», конец декабря 1909—
начало января 1910 года, Капри. — См. Собр. соч. в 30-ти тт.,
т. 29, ГИХЛ, М. 1954, стр. 105—106.
5 Из того же письма.
6 Из письма М. А. Пешкову от 26 января (18 февраля) 1907
года, Капри. — См. Собр. соч., т. 29, стр. 7.
7 Из письма М. А. Пешкову, около 18(31) марта 1906 года,
Глион, Швейцария. — См. Собр. соч., т. 28, стр. 413.
8 «База курносых. Пионеры о себе» — книга, написанная
учащимися 6-й средней школы г. Иркутска, издана в 1934 году
Восточно-Сибирским краевым издательством. Известно письмо
Горького «Пионерскому кружку 6 ФЗД» школы в Иркутске». — См.
Собр. соч., т. 27, стр. 204.
9 Из письма А. М. Горького «Двум тысячам пионеров заполяр-
ного города Игарки». — См. Собр. соч., т. 30, стр. 421—424. Книга
«Мы из Игарки» была издала Детиздатом в 1938 году при участии
С. Я. Маршака под редакцией Т. Г. Габбе. Об этой книге см. за-
644
метки С. Я. Маршака в газетах «Известия» (1937, № 103, 1 мая),
«Правда» (1939, № 86, 28 марта), «Пионерская правда» (1937, № 45,
2 апреля).
10 Из письма «Пензенским пионерам» (1935, октябрь, Тессе-
ли). — См. Собр. соч., т. 30, стр. 403.
11 Письмо А. М. Горького М. и Д. Пешковым от 29 сентября
1935 года (Архив Горького; частично опубликовано в газете
«Пионерская правда», 1938, № 43, 28 марта).
Печатается по машинописному тексту 50-х годов.
Жизнь побеждает смерть, — Впервые в журнале «Октябрь»,
1942, № 8, август.
В годы Великой Отечественной войны С. Я. Маршак вел на-
пряженную публицистическую работу. О том, до какой степени
она поглощала писателя, дает представление заметка «Моему
читателю»: «Мой шестилетний корреспондент спрашивает меня,
почему я, которого дети считают своим собственным писателем,
изменил им и в последний год писал только для больших — в
газетах, на плакатах, в журналах, — почему мои последние
книжки изданы не для детей, а для взрослых.
Я хотел бы ответить шестилетнему художнику и другим
моим читателям так.
Я по-прежнему верен детям, для которых всю жизнь писал
сказки, песни, смешные книжки. По-прежнему я очень много
думаю о них.
Думать о детях — это значит думать о будущем.
И вот, думая о будущем, я не могу не отдавать себя цели-
ком простой и скромной службе писателя военного времени.
И я буду писать для взрослых, которые воюют на фронте и
в тылу, — до тех пор, пока счастье наших детей не будет обес-
печено победой» (газ. «Литература и искусство», 1943, № 1,
1 января).
Печатается по тексту журнальной публикации.
О нашей сатире. — Впервые в газете «Литература и искус-
ство», 1943, № 29, 17 июля.
’Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881—1925) —
сотрудник, а затем редактор журнала «Сатирикон» (1908—1914),
позднее редактор «Нового сатирикона» (1913—1918), автор юмо-
ристических рассказов.
2Ответное письмо защитников Ханко барону
Маннергейму. — В октябре 1941 года, в один из напряжен-
нейших моментов Великой Отечественной войны, героические
защитники полуострова Ханко в ответ на листовки, сброшенные
им по приказу главнокомандующего финляндской армией барона
645
Маннергейма (Карл Густав Эмиль, 1867—1951), послали ему
письмо, опубликованное в корреспонденции Р. Июльского «Хан-*
ко смеется над вами, барон!» («Комсомольская правда», 1941,
№ 268, 14 ноября).
3 Лукиановский диалог. — Древнегреческий писатель
Лукиан (ок. 117 — ок. 190) прославился своими сатирическими
диалогами («Гермотим», «Пир», «Продажа жизней» и др.),
направленными против религии, философского догматизма, пороков
рабовладельческого класса периода кризиса Римской империи.
4 Эпиграмма порта Лукиллия (I в. н. р.) в переводе Л. В. Блу-*
менау («Греческие рпиграммы», Academia, М. — Л. 1935, стр. 187)*
Цитируется неточно. У Блуменау:
Раз довелось увидать Антиоху тюфяк Лисимаха —
И не видал тюфячка после того Лисимах.
Печатается по тексту газетной публикации с учетом автор-
ской правки конца 50-х годов.
О жизни и литературе, — Впервые в «Литературной газете»,
1945, № 24, 2 июня.
1 Произведения для детей занимают значительное место в
творчестве Алексея Николаевича Толстого (1883—1945). В 1909—
1912 годах он печатался в журнале «Тропинка». В 1911 году им
написана сказка «Жар-птица». В 1918 году в горьковском сбор-
нике «Елка» напечатана сказка «Фофка». В эмиграции была
создана автобиографическая повесть для детей «Детство Ники-
ты». В 20-е годы написал ряд сказок и рассказов. В 30-е годы по
мотивам сказки итальянского писателя К. Коллоди «Пиноккио,
или Похождения деревянной куклы» А. Толстой создал ориги-
нальную повесть «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
«Когда Алексей Николаевич принес в редакцию свой перевод
«Пиноккио» Карло Коллоди, — рассказывает Лидия Чуковская,—•
Маршак сказал ему, что он хотел бы видеть не Толстого-перевод-
чика, а Толстого-рассказчика; редактор предложил Алексею Ни-
колаевичу заново рассказать итальянскую сказку, вспомнив, как
он воспринимал ее, когда ее читали ему в детстве» (Лидия Чу-
ковская, В лаборатории редактора, стр. 266).
В авторской переработке издавались для детей «Аэлита», «Ги-
перболоид инженера Гарина», «Петр Первый». Толстой подготовил
I том свода русских народных сказок для детского чтения.
2 «Отцом своей прозы назвал Маршака на юбилейном чест-
вовании порт Н. С. Тихонов: заметив, сколько географического,
исторического материала, сколько наблюдений, сделанных во
время путешествий, остается за бортом его стихов, Маршак убе-
дил Н. С. Тихонова попробовать свои силы в прозе для подрост-.
646
ков, и порт написал для ребят повести «От моря до моря»,
«Вамбери», рассказ «Симон-большевик» и целый цикл рассказов
«Военные кони» (Лидия Чуковская, В лаборатории редак-
тора, стр. 267).
3 Федин Константин Александрович (р. 1892)
написал для детей сказку «Еж» (1923), рассказ «Бочки» (1925),
«Абхазские рассказы» (1926), сборник рассказов «Мальчики»
(1944).
4 Нехо д а Иван Иванович (р. 1910) — украинский порт,
автор стихов и сказок для детей.
5 «Мальчик из Ленинграда» (1945)—первая дет-
ская книга Нины Евгеньевны Раковской (р. 1905)<
Печатается по тексту газетной публикации.
Почта военная. — Впервые в «Литературной газете», 1952,
№ 66, 31 мая.
В период Великой Отечественной войны С. Я. Маршак триж-
ды выезжал на фронт. В архиве хранится удостоверение, выдан-
ное Политическим отделом 7-й Стрелковой дивизии: «Порт
С. Я. Маршак находился в 7-й Стрелковой дивизии Действующей
Армии с 20 сентября по 24 сентября 1941 г.
После проведения политработы в частях и подразделениях
тов. Маршак возвращается в город Москву.
На ч. политотдела 7 СД батальонный комиссар Н. Охапкин.
Секретарь политотдела Жданов».
О второй поездке, состоявшейся в июльские дни 1942 года,
рассказывает генерал П. Ф. Иванов: «По просьбе Самуила Яков-
левича мы собрали солдат, выполняющих на передовой обязан*
ности письмоносцев. С. Я. Маршак внимательно и подробно рас*
спрашивал их, как доставляются письма, просил вспомнить раз*
личные боевые эпизоды, рассказать о чувствах бойцов, полу-
чающих вести от родных и любимых» (П. Ф. Иванов, В Пя-
той Армии. — Архив С. Я. Маршака). О третьей поездке, во время
которой, очевидно, окончательно оформился замысел «Почты
военной, см. письмо С. Я. Маршака С. М. Маршак и Я. С. Мар-
шаку от 19 февраля 1943 года (Комментарий к I т. наст. изд>«
стр. 534).
Печатается по тексту газетной публикации.
Почему я перевел Джанни Родари. — Впервые в «Литератур*
ной газете», 1952, № 141, 22 ноября.
Написано по случаю публикации «Литературной газетой»
стихов Д. Родари в переводах С. Я. Маршака.
Печатается по тексту газетной публикации с учетом позд*
нейшей правки.
647
О тех, кто пишет на полях. — Впервые в «Литературной га-
зете», 1955, № 21, 17 февраля.
Суждения С. Я. Маршака о творчестве редактора обобщают
и его собственный редакторский опыт, прежде всего ту работу,
которую он вел в 1924—1937 годах, в Ленинградской редакции
детского отдела Госиздата (впоследствии Детиздата, «Молодой
гвардии», Детгиза). «Редакторская работа Маршака это пе только
одна из славных страниц истории советской литературы для детей.
Пет, это страница из ненаписанной теории редакторского искус-
ства...» — пишет Лидия Чуковская (Лидия Чуковская, В ла-
боратории редактора, стр. 273). Сотрудниками Маршака в Ленин-
градской редакции были Б. С. Житков, Е. Л. Шварц, Н. М. Олейни-
ков, Т. Г. Габбе, 3- М. Задунайская, А. И. Любарская, Л. К. Чуков-
ская, художник В. Лебедев и др. «Редакция, возглавляемая
Маршаком, — вспоминает Лидия Чуковская, — благодаря его увле-
ченности (мало сказать: увлеченности! — одержимости) никогда
не твердила задов. Чуть не каждая книга была экспериментом,
поиском, риском. Увлечение заразительно. Маршаку было во имя
чего увлекать, организовывать, вербовать людей, он чувствовал
себя главой определенного течения в советском искусстве, деяте-
лем родной литературы, он сел за редакторский стол не с пустой
душой и пе с пустыми руками. У него было «накопленное»: он знал
читателя и знал литературу. Он искал новых для литературы ме-
тодов воздействия на душу читателя» («В лаборатории редактора»,
стр. 233—234). Поэтому Ленинградская редакция понимала «свою
деятельность как творческую, созидательную деятельность в лите-
ратуре, а пе как труд контролера, задача у которого одна: ставить
препоны идейным и стилистическим заблуждениям автора»
(там же, стр. 216—217).
Печатается по тексту газетной публикации.
О поисках своеобразия. — Впервые в журнале «Молодая
гвардия», 1956, № 1, июль — август.
1 Из стихотворения Е. А. Баратынского «Муза».
2 С. Я. Маршак цитирует монолог Фамусова из комедии
А. С. Грибоедова «Горе от ума». У Грибоедова: «Словечка в про-
стоте пе скажут, все с ужимкой...»
Печатается по машинописному автографу, содержащему бо-
лее позднюю редакцию. На рукописи рукой секретаря С. Я. Мар-
шака проставлена дата — 5.5.58.
Образ города. — Впервые в «Литературной газете», 1957,
№ 75, 22 июня.
Заметка написана в связи с 250-летием со дня основания
Ленинграда.
648
1 Из стихотворения Н. А. Некрасова «Секрет (Опыт совре-
менной баллады)».
2 Из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».
3 Из цикла Н. А. Некрасова «О погоде» («До сумерек»).
4 Стихотворение А. С. Пушкина «Город пышный, город бед-
пый...».
5 Из стихотворения А. А. Блока «На островах».
6 Из стихотворения А. А. Блока «Петроградское небо мути-
лось дождем...».
7 Из поэмы А. А. Блока «Двенадцать».
8 Из поэмы В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин».
Печатается по тексту газетной публикации.
Роберту Бернсу 200 лет. — Впервые в журнале «Культура и
жизнь», 1959, № 1, январь.
1 Из стихотворения «Зачем терпеть в расцвете сил ярмо по-
рабощенья?».
2 Из стихотворения «Строчки о войне и любви».
3 Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, Д. Б. Кабалевский и
Т. Н. Хренников в песнях и романсах на слова Р. Бернса исполь-
зовали главным образом переводы С. Я. Маршака.
4 Фаворский Владимир Андреевич (1886—1964) —
русский советский художник, мастер книжной гравюры на де-
реве.
Печатается по тексту журнальной публикации.
Бессмертной памяти. — Впервые в «Литературной газете»,
1959, № 25, 26 февраля.
1 «К портрету Роберта Фергюссона, шотландского поэта».
2 Из «Послания к собрату-поэту».
3 «Заздравный тост».
4 Из стихотворения «Девушки из Тарболтона».
5 Из стихотворения «Подруга угольщика».
6 Из стихотворения «Скалистые горы, где спят облака...».
7 Оттуда же.
8 Из поэмы «Две собаки».
9 Из стихотворения «Девушки из Тарболтона».
10 «Строчки о войне и любви».
11 Из «Маленькой баллады».
12 Из стихотворения «Дерево свободы».
13 Из стихотворения «Честная бедность».
Печатается по тексту газетной публикации.
Почерк века, почерк поколения. — Впервые в «Литературной
газете», 1959, № 41, 4 апреля, в разделе «Предсъездовская три-
буна».
649
Написано в связи с подготовкой к Ш Всесоюзному съезду
писателей. В более раннем автографе статья называлась «Право
на чин». Имеется еще несколько абзацев, относящихся к дискус-
сии в печати о приеме переводчиков в Союз писателей.
1 Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт,
создатель первого полного перевода «Илиады» Гомера на рус-
ский язык (1829). Этот труд, занявший 20 лет его жизни,— вы-
дающееся явление русской национальной культуры, сохраняет
свое значение и в наши дни.
2 Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) —
русский поэт-романтик, крупнейший поэт-переводчик XIX века.
Полный перевод «Одиссеи» (1849) Гомера — последний большой
переводческий труд Жуковского.
3 «Г о р н ы е вершины» — вольный перевод стихотворения
Гете «Uber alien Gipfeln». «На севере диком» («Сосна») — пере-
вод стихотворения Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsem».
4 T о л с т о й Алексей Константинович (1817—
1875)—поэт, драматург и прозаик. «Коринфская невеста» и «Бог
и баядера» — переводы баллад Гете.
5 «Не бил барабан перед смутным полком...» —•
стихотворение И. И. Козлова (1779—1840) «На погребение гене-
рала сира Джона Мура», являющееся вольным переводом одно-
именных стансов ирландского поэта Чарлза Вульфа (1791—1823),
6 Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865) —
порт, прозаик, переводчик-профессионал. «Во Францию два гре-
надера...»— перевод стихотворения Гейне «Die Grenadiere».
7 Бунин Иван Алексеевич (1870—1953)—русский
писатель. «Песнь о Гайавате» Генри Лонгфелло (1807—1882) в
переводе Бунина вышла в 1896 году (2 изд.— 1898).
8 Курочкин Василий Степанович (1831—1875)—»
поэт-сатирик, редактор передового сатирического журнала
1860-х годов «Искра», завоевал популярность как переводчик
П.-Ж. Беранже (1780—1857).
9 Речь идет о стихотворении П. Беранже «Как яблочко ру-
мян...» (перевод В. С. Курочкина).
10 Фицджеральд Эдуард (1809—1883) — английский
писатель. Его перевод произведений выдающегося таджикско-пер-
сидского поэта Омара Хайяма (1040—1123) считается классиче-
ским в английской литературе.
11 Тхоржевский Иван Иванович (псевдоним Иван-
да-Марья) — выдающийся русский переводчик начала XX века.
|2 Блумепау Леонид Васильевич (1862—1931) —
видный русский ученый-невропатолог.
650
13 Переводы Л. В. Блуменау составили основу сборника «Гре-
ческая эпиграмма», ГИХЛ, М. 1960.
14 По Эдгар Аллан (1809—1849)—американский писа-
тель, поэт, критик. На русский язык его произведения начали
переводить Д. С. Мережковский, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов,
15 Бодлер Шарль (1822—1867)—французский порт-ли-
рик, зачинатель символизма. Первыми переводчиками Бодлера в
России были Э^лис (псевдоним Л. Л. Кобылянского), Ф. Сологуб
(псевдоним Ф. К. Тетерникова), Вяч. Иванов.
18 Костомаров Всеволод Дмитриевич (1837—
1865)—литератор, порт-переводчик, сыграл предательскую роль
в деле порта-революционера М. Л. Михайлова.
Печатается по тексту газетной публикации.
Высокая, трибуна, — Впервые в «Литературной газете», 1960,
№ 145, 8 декабря.
1 С. Я. Маршак цитирует рецензию В. Г. Белинского на
«Детские сказки дедушки Иринея» В. Ф. Одоевского («Про вся-
кого из таких у нас на Руси говорят: «Это детский праздник».
Вот таких-то «детских праздников» нужно и для детской литера-
туры»).
Печатается по тексту газетной публикации.
Замечательный художник. — Впервые в газете «Литература и
жизнь», 1961, № 63, 28 мая.
Написано по случаю семидесятилетия со дня рождения вы-
дающегося советского графика и живописца Владимира Василье-
вича Лебедева (1891—1967).
1 О творческих взаимоотношениях С. Я. Маршака и В. В. Ле-
бедева см. в книге Ст. Б. Рассадина «Так начинают жить стихом»
(«Детская литература», М. 1967) и предисловии И. Л. Андроникова
в книге: С. Маршак — В. Лебедев, Детям («Детская литера-
тура», М. 1967) и в сб. «Я думал, чувствовал, я жил», стр. 69.
Ст. Рассадин, определяя место В. В. Лебедева в истории
советской детской книги, в частности, в творчестве С. Я. Маршака,
пишет: «Настоящее содружество стиха и рисунка возможно тогда,
когда они и друзья и соперники, и связаны друг с другом и самостоя-
тельны. Так было в замечательных книжках-картинках, создан-
ных в 20-е годы... Маршаком и Лебедевым. Недаром па облож-
ках этих книжек и авторство обозначалось равноправно — напри-
мер, так: «С. Маршак, В. Лебедев. Багаж» («Так начинают жить
стихом», стр. 171).
2 Из стихотворения В. В. Маяковского «Письмо писателя
Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Макси-
мовичу Горькому».
651
3 Речь идет о письме А. М. Горького С. Я. Маршаку от 21 мар-
та 1927 года, Сорренто. — Опубликовано в «Литературной газете»,
1966, № 98, 20 августа.
Печатается по тексту газетной публикации.
Щедрый талант. — Впервые в «Литературной газете», 1962,
№ 56, 12 мая.
Написано в связи с выставкой работ известного советского
графика и живописца Владимира Михайловича Конашевича
(1888—1963).
1 «Мир искусства» — объединение художников-модерни-
стов, возникшее в 1899 году. Его участникам удалось создать но-
вый тип художественной книги, в частности, книги для детей — как
правило, большого формата, с крупными цветными рисунками.
2 Чехонин Сергей Васильевич (1878—1937) — пред-
ставитель младшего поколения «мирискусников», русский график,
художник театра. Иллюстрировал ряд произведений Маршака и
Чуковского. В конце 20-х годов эмигрировал.
3Добужинский Мстислав Валерьянович
(1875—1957)—русский график, живописец, художник театра.
С 1926 года жил за границей. Наиболее известны иллюстрации
к сказкам «Свинопас» Андерсена и «Три толстяка» Олеши.
4 Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) —
русский художник, историк искусства и художественный критик.
Много сделал для развития книжной графики. Широко известна
его «Азбука в картинах» (1904).
Печатается по тексту газетной публикации.
Помнить надо! — Впервые в газете «Советская культура»,
1962, № 59, 17 мая.
Письмо С. Я. Маршака, зачитанное на вечере, посвященном
памяти выдающегося советского шекспироведа Михаила Михай-
ловича Морозова (1897—1952).
1 Речь идет о высказывании героя горьковского рассказа
«Кладбище» (сб. «По Руси»).
Печатается по тексту газетной публикации.
Поэзия перевода. — Впервые в «Литературной газете», 1962,
№ 64, 31 мая.
Письмо С. Я. Маршака обращено к участникам проходившего
в мае 1962 года в Москве совещания, посвященного проблемам
перевода.
1 Борису Леонидовичу Пастернаку (1890—1960)
принадлежат переводы из Гете, Шекспира, Шелли, Китса, Верлена,
Петефи, Ганса Сакса, Клейста, Бен Джонсона, а также многих гру-
зинских портов.
652
2 Анне Андреевне Ахматовой (1889—1966) принад-
лежат переводы из восточной, западноевропейской, латышской,
еврейской, славянской поэзии.
3 Потапова Вера Аркадьевна (наст, фамилия —
Длигач, 1910) — советская поэтесса, переводчик. Ей принадлежит,
в частности, перевод травестйрованной поэмы «Энеида», автором
которой является украинский писатель Иван Петрович Котлярев-
ский (1769—1838).
Печатается по тексту газетной публикации.
Книга для детей должна быть произведением высокого искус-
ства. — Впервые в «Литературной газете», 1963, № 150, 17 декабря.
Письмо С. Я. Маршака собранию, посвященному тридцатиле-
тию издательства «Детская литература».
1 Из обращения А. М. Горького «Пионерам».
2 Из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» («Роняет лес
багряный свой убор...»).
3 Савельев Л. (псевдоним Липавского Леонида Савелье-
вича, 1904—1941)—в детской литературе впервые выступил в
середине двадцатых годов. Работал редактором в Ленинградском
отделении Госиздата. Наиболее известные произведения: «Часы и
карта Октября», «Ночь съезда Советов», «Штурм Зимнего», «На
земле, на воде, в воздухе», «Следы на камне».
Печатается по тексту газетной публикации.
«Недралитет». — Публикуется впервые.
1 Из поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
2 Из стихотворения Н. А. Некрасова «Школьник».
Печатается по машинописному автографу, условно датируе-
мому второй половиной 30-х годов.
О Пушкине, о детях и о детской литературе. — Публикуется
впервые.
В основе статьи лежит выступление С. Я. Маршака 22 фев-
раля 1937 года в Москве на праздновании юбилея Пушкина.
В архиве Маршака хранится черновой автограф, относящийся,
видимо, к 1937 году. На нем — более поздняя правка и добавления.
Этот вариант перепечатан, машинопись не содержит авторских
пометок.
Печатается по машинописи, со сверкой по черновому авто-
графу.
1 Шаховской Александр Александрович (1777—
4846) — русский драматург, представитель классицизма.
2 Имеется в виду отрицательный отзыв о «Полтаве», который
был помещен в «Северной пчеле». «Северная пчела» (1825—
653
1864) — журнал, основанный Ф. В. Булгариным. После декабрь-
ских событий 1825 года вел травлю прогрессивной литературы.
3 Имеется в виду статья А. С. Пушкина «Джон Теннер» (опуб-
ликованная в журнале «Современник», 1936, кн. 3).
4 «Table-talk» — сборник анекдотов и размышлений, записан-
ных Пушкиным.
Дети-поэты. — Полностью публикуется впервые.
Главка 3 (в первоначальной редакции) входила в статью «За-
мечательное явление», напечатанную в газете «Правда», 1934,
№ 120, 1 мая, главки 2 и 3 — в статью «Единая поэтическая
школа», напечатанную в журнале «Резец», 1934, № 10, май. В пере-
работанном и дополненном виде статья была подготовлена в фев-
рале 1935 года для предполагавшегося к изданию сборника,
посвященного детскому творчеству. Позднее С. Я. Маршак написал
книгу «Дети и искусство СССР», изданную в Москве на английском
языке в 1939 году («Children and Art in the USSR» by S. Marshak,
Moscow, 1939). В архиве С. Маршака хранится его письмо к редак-
тору книги.
Детскому творчеству С. Я. уделял много времени и сил.
В 1934 году по его инициативе и при поддержке С. М. Кирова
в Ленинграде был проведен конкурс детского творчества и открыт
клуб-студия под названием «Дом детской литературы» —j ДДЛ.-
С литературно одаренными ребятами, кроме С. Я. Маршака, вели
занятия Т. Г. Габбе, 3- М. Задунайская, А. И. Любарская. Маршак
привозил к ребятам «бывалых людей», выдающихся ученых, лите-
раторов, политических деятелей, стремился дать одаренным ребя-
там как можно более широкие представления о мире. «И, может
быть, этим своим неистощимым любопытством ко всем проявле-
ниям человеческой деятельности Маршак, — вспоминает один из
воспитанников ДДЛ А. Гольдберг, — давал нам самый главный
пример того, как надо учиться жизни и воспринимать жизнь»
(А. Гольдберг, Дом па Исаакиевской площади. — Журнал
«Нева», 1967, № 12, стр. 175).
Печатается по машинописному автографу с авторской
правкой.
Шут короля Лира. — Публикуется впервые.
Переводы песенок шута из «Короля Лира» предшествовали
работе С. Я. Маршака над «Сонетами» Шекспира.
Печатается по машинописному автографу с авторской прав-
кой, условно датируемому 1940—1941 годами (на основании упо-
минания о премьере «Короля Лира» в Ленинградском Большом
драматическом театре имени Горького, состоявшейся в 1941 г.).
654
Любовь и ненависть, — Публикуется впервые.
Печатается по машинописи, сверенной с черновым автогра-
фом. Условно датируется августом 1942 года.
{О Белинском, Выступление на открытии лектория по дет*
ской литературе}. — Публикуется впервые.
Вступительная речь на собрании комиссии по детской лите-
ратуре Союза писателей СССР (27.IX.1948).
В архиве С. Я. Маршака хранится: рукописный автограф с
первым вариантом выступления; машинопись, воспроизводящая
черновой вариант с авторской правкой; последний вариант (ма-
шинопись с новой правкой, включающая рукописную вставку).
1 Из Постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года
«О журналах «Звезда» и «Ленинград».
2 Халтурин Иван Игнатьевич (1902—1969) — прозаик,
очеркист, критик; работал в области детской литературы (редак-
тор изд-в «Молодая гвардия» и «Детгиз», журналов «Пионер» и
«Мурзилка», консультант по детской литературе Союза писате-
лей СССР).
3 Здесь и далее С. Я. Маршак цитирует рецензию В. Г. Бе-*
линского на книгу В. Ф. Одоевского. «Детские сказки дедушки
Иринея». Цитируется неточно. У Белинского: «Чем обыкновенно
отличаются, например, повести для детей? — Дурно склеенным рас-
сказом, пересыпанным моральными сентенциями».
Печатается по последнему машинописному автографу.
{Несколько мыслей о воспитании). — Посмертно опубликовано
в газете «Комсомольская правда», 1970, № 8, 11 января, под на-
званием «Когда дети растут».
Печатается по автографу. Дата написания статьи определяется
условно, по упоминанию г. Аксая, где С. Я. Маршак побывал
в 1952 году.
{Выступление на Лондонской международной конференции по
истории театра), — Публикуется впервые.
В июле 1955 года С. Я. Маршак принял участие в Междуна-
родной конференции по истории театра, происходившей в Лон-
доне. Окончательный текст выступления был отредактирован ав-
тором на английском языке (в архиве хранится машинопись на
английском языке с авторской правкой). Здесь приводится пере-
вод этого текста, сделанный И. С. Маршаком, при выполнении
которого была использована русская черновая редакция.
1 В наброске предисловия к «Борису Годунову» (1827)
А. С. Пушкин писал: «...я расположил свою трагедию («Борис Го-
дунов») по системе отца нашего Шекспира...» (см. «Русские писа-
тели о литературе» в 3 тт., т. 1, «Сов. писатель», Л. 1939, стр. 123).
655
2 О первых переводах сонетов Шекспира см. комментарий
к т. 3 наст, изд., стр. 752.
3 Речь идет о письме, которое А. М. Горький написал Р. Рол-
лану в конце декабря 1916 — в начале января 1917 года. В письме,
в частности, говорилось: «Мне хотелось бы при участии лучших
современных писателей создать целую серию книг для детей, со-
держащих биографии великих умов человечества (см. Собр. соч.,
т. 29, стр. 374).
4 С. Я. Маршак имеет в виду «Речь перед открытием Художе-
ственного Общедоступного театра» 14 июня 1898 года.
О чтецах и декламаторах. — Публикуется впервые.
1 Из стихотворения М. 10. Лермонтова «К ***» («Я не унижусь
пред тобою...»).
Печатается по машинописному автографу.
(Выступление на 8 Шекспировской конференции в Стратфор-
де-на-Эйвоне). — Публикуется впервые.
Конференция была организована университетами Бирмингема
и Манчестера, Институтом Шекспира, Шекспировским мемориаль-
ным театром и Британским советом 1—6 сентября 1957 года.
Русского текста выступления не сохранилось, а может быть,
и не существовало. В архиве С. Я. Маршака хранится ксерокопия
па английском языке. Здесь приводится перевод этого текста,
сделанный сыном поэта, И. С. Маршаком.
(Обращение к участникам вечера памятгс Хлебникова). — Пуб-
ликуется впервые.
1 В е л и м и р (наст. имя — Виктор) Владимирович
Хлебников (1885—1922) — поэт-футурист, представитель экспе-
риментальной линии в развитии русской поэзии.
2 См., например, поэмы «Война в мышеловке» (1916), «Не-
вольничий берег» (1916), где Хлебников предсказывает и привет-
ствует будущее освобождение народов. Однако сам Хлебников
осознавал свое социальное бунтарство как анархическое: «...Чер-
ное знамя безволода поднято рукой человека и уже подхвачено
рукой вселенной» («Воззвание председателей земного шара», 1917).
3 В 1918—1922 годах Хлебников написал 13 больших поэм:
«Ночь в окопе» (1918, напечат. в 1921), «Уструг Разина» (1922,
опубл, посмертно), «Ночь перед Советами» (1921, опубл, посмерт-
но) и др., а также десятки стихов, статей, заметок, отразив сти-
хийное начало в Октябрьской революции.
4 См., например, статью Маяковского «В. В. Хлебников» (1922).
6 Здесь и далее С. Я. Маршак ссылается на издание: Велимир
Хлебников, Стихи, М. 1923, которое он считал наиболее
удачным.
G56
6 Татлин Владимир Евграфович (1885—1953)—со-
ветский художник-конструктивист.
Печатается по машинописному автографу.
О Марии Павловне Чеховой. — Опубликовано посмертно в кн.:
«Хозяйка чеховского дома», Симферополь, «Крым», 1965.
Печатается по машинописному автографу с авторской
правкой.
О Шекспире {Выступление по английскому радио}. — Публи-
куется впервые.
В архиве хранится в папке, на которой рукой С. Я. Маршака
написано: «<0 Шекспире по радио>».
1 Калибан — персонаж пьесы «Буря».
2 Клавдий — персонаж трагедии «Гамлет».
3 Корделия — героиня трагедии «Король Лир».
4 Шейлок — персонаж пьесы В. Шекспира «Венецианский
купец».
Печатается по машинописному автографу 1964 года.
ПРОЗА РАЗНЫХ ЛЕТ
Зимовье на юге. — Впервые во «Всеобщей газете», СПб. 1911,
№ 470, 1 января, за подписью: С. Яковлев.
Печатается по тексту газеты.
Авиация. — Впервые в журнале «Всеобщий ежемесячник»-,
СПб. 1911, № 6, за подписью: Панди, в разделе «Фельетон Всеоб-
щего ежемесячника».
Печатается по тексту журнала.
Под железнодорожным мостом. — Впервые в «Неделе «Совре-
менного слова», СПб. 1913, № 260, 1 апреля.
В конце августа 1912 года Маршак уехал в Англию, догово-
рившись с рядом петербургских газет и журналов о публикации
его корреспонденций. Это давало ему средства для учебы в Лондон-
ском университете. Данный очерк — один из первых в этой серии.
1 Имеется в виду известная строка из «Божественной Коме-
дии» Данте: «Оставь надежду всяк, сюда идущий» («Ад», песня 3,
стих 9; перевод Д. Мина).
Печатается по тексту газеты (приложения).
11а детской выставке. — Впервые в газете «Биржевые ведбмо-
сти», СПб. 1913, 10 апреля, вечерний выпуск, за подписью: Д-р Ф—и
(сокращенный вариант псевдонима С. Маршака: Доктор Фрикен).
1 Слушательница Бестужевских курсов — жен-
ского высшего учебного заведения при Петербургском универси-
657
тете. Слушательницы, окончившие курсы, получали право препо-
давать в женских средних учебных заведениях. Курсы получили
название по фамилии профессора русской истории Константина
Николаевича Бестужева-Рюмина (1829—1897), первого их руко-
водителя.
2Фребелевская школа — школа, созданная на основе
идей немецкого педагога Фридриха Фребеля (1782—1852), разра-»
ботавшего систему дошкольного воспитания.
Печатается по тексту газеты.
Робинзон нашего времени. — Впервые с подзаголовком
«(Корреспонденция «Биржевых ведомостей»)», в газете «Биржей
вые ведомости», СПб. 1913, 14 апреля, за подписью: Д-р Фрикен.
Впоследствии, в мае 1914 года, Маршак перевел книгу
Дж. Ноульса. Книга выпущена в сентябре 1914 года издательством
«Прометей» под заглавием «Два месяца в лесах» и без указания
имени переводчика.
1 Реек ин Джон (1819—1900) — английский теоретик искус-
ства и публицист; считал возможным преодоление социальных
уродств буржуазного общества путем художественного и нрав-
ственного воспитания человека в духе «религии и красоты».
Печатается по тексту газеты.
Школа простой жизни. — Впервые с подзаголовком «(От на-
шего корреспондента)» в газете «Биржевые ведомости», СПб. 1913,
2 августа, вечерний выпуск, за подписью: Д-р Фрикен.
В очерке описывается первое посещение Маршаком школы
английского педагога Филиппа Ойлера (род. в 1880 г.). Впослед-
ствии весной и в начале лета 1914 года Маршак вместе с женой
Софией Михайловной принимал участие в деятельности школы.
1 Имеется в виду фигура Иоанна Крестителя с картины
А. А. Иванова (1806—1858) «Явление мессии народу» (1837—1857).
2 Дункан Айседора (1878—1927) — танцовщица, искала
новых путей развития танцевального искусства, проповедовала
идею всеобщего художественного воспитания детей.
Печатается по тексту газеты.
Праведное завещание. — Впервые в «Неделе «Современного
слова», 1913, № 291, 4 ноября:
Третья из цикла индийских легенд, написанных Маршаком в
1913 году во время его пребывания в Англии. Цикл состоит из
пяти легенд: 1. Испытание. 2. Поручение раджи. 3. Праведное за-»
вещание. 4. Песни попугая. 5. Бедный судра.
Печатается по тексту газеты.
Песни попуган. — Впервые под названием «Попугай» в «Не-
деле «Современного слова», СПб. 1913, № 293, 18 ноября.
658
Четвертая из цикла индийских легенд Маршака 1913 года.
В 1957 году Маршак обратился к рукописи первоначального
варианта легенды, весьма отличавшегося от газетного текста, и
внес ряд исправлений в свое юношеское произведение.
Печатается по тексту машинописи 1957 года.
Отдых моряка. — Впервые в приложении к газете «День»,
СПб. 1914, 23 февраля.
Первый очерк из цикла путевых очерков «По Англии», напи-
санных Маршаком на основе впечатлений от путешествия по Кор-
нуоллу и Девонширу (графствам на юго-западе Англии).
С 20 июня по 7 июля 1913 года Маршак и его жена преодолели
расстояние 140 миль (около 224 км.) — большей частью пешком.
Они посетили порт Плимут, городок Тинтаджель (26—27 июня),
курорт Фой (29—30 июня).
В архиве порта сохранился стихотворный дневник путеше-
ствия. Отрывок из него был опубликован Маршаком в 1917 году
под названием «Армия спасения» (см. т. 5 наст. изд.).
1 Герои кельтской легенды о трагической любви Изольды,
жены корнуоллского короля Марка, к его племяннику Тристану.
Легенда легла в основу французского рыцарского романа. Мар-
шак имеет в виду английскую версию романа.
2 Теннисон Альфред (1809—1892), Моррис Уильям
(1834—1896), Суинберн Алджерон Чарлз (1837—1909) —
английские порты.
Печатается по тексту газеты с исправлением по рукописи
очерка (слово «амвон» было заменено цензурой на «трибуну»).
Лифт. — Впервые в газете «Петербургский курьер», 1914,
14 апреля, за подписью: Урллер.
В очерке упоминаются Бодмин, Лонстон — города, в которых
побывал Маршак вместе со своей женой во время путешествия
по Корнуоллу и Девонширу летом 1913 года.
1 Легендарный король британцев Артур, живший в Корнуолле,
и его 12 приближенных рыцарей. Как самые храбрые и благород-
ные приверженцы короля, рти рыцари имели право заседать
вместе с ним за одним круглым столом.
Печатается по тексту газеты.
Рыбаки Полперро. — Впервые в журнале «Аргус», СПб. 1914,
№18, июнь.
Полперро — рыбацкая деревня на берегу Ла-Манша в7ми-
лях (11 км.) от курорта Фоя. С. Я. и С. М. Маршаки побывали в
Полперро 30 июня — 2 июля 1913 года.
Печатается по тексту журнала.
659
Двенадцать месяи^ев. — Впервые напечатано одновременно в
сборнике «Новый год», Детгиз, М. — Л. 1943, с подзаголовком:
«Новогодняя сказка», и в кн.: С. Маршак, Двенадцать месяцев,
Детгиз, М. — Л. 1943, с подзаголовком: «Славянская сказка».
Прозаический вариант драматической сказки «Двенадцать ме-
сяцев», написанной и напечатанной одновременно с данной
сказкой.
Печатается по кн.: С. Маршак, Двенадцать месяцев, Детгиз,
М. —Л. 1943.
Весенние облака. — Рукопись отрывка — в тетради автографов
стихотворений, написанных во время путешествия Маршака по
Ближнему Востоку, в 1911 году.
Печатается по автографу.
Изумрудный остров. — Первый из цикла путевых очерков «По
Ирландии», задуманного Маршаком после его путешествия пеш-
ком по берегам реки Шаннон в мае 1914 года. Однако начавшаяся
в августе 1914 года мировая война помешала осуществлению ртого
замысла.
1 В Бельфасте, центре графства Ольстер (на севере Ирлан-
дии), весной — летом 1913 года под влиянием английской реакции
среди протестантской части населения шла активная подготовка
к вооруженному выступлению против католиков — сторонников
гомруля (см. ниже).
2 Это заявление собеседника Маршака насквозь лицемерно.
На самом деле английское правительство на кабадьных условиях
финансировало «выкуп» ирландским крестьянством у лендлордов
земли, некогда принадлежавшей его предкам.
3 Согласно «Акту об унии» (вступил в силу 1 января 1801 г.)
ирландский парламент был упразднен посредством объединения
его с английским парламентом.
4 Билль о гомруле (самоуправлении — от англ, home rule),
предусматривавший создание ирландского парламента, был вне-
сен английским правительством либералов в парламент в
1912 году, был принят Палатой общин, но консерваторское боль-
шинство Палаты лордов отклонило билль. По английским зако-
нам, правительство имело право еще раз внести билль на рас-
смотрение парламента. Этим правом оно воспользовалось в сле-
дующем, 1913 году.
Печатается по автографу 1914 года.
Верблюд и свиньи. — Пересказ одноименной индийской сказки
из английской книги: «Indian Fables. Collected and edited by
P. Y. Ramaswami Raju», London, 1887.
Печатается по автографу начала 1920-х годов.
660
Замок Инчикуина. — Впервые посмертно в газете «Литера-
турная Россия», 1966, № 34, 19 августа.
В рассказе нашли свое отражение воспоминания об учебе в
Лондонском университете и путешествии пешком по Ирландии в
мае 1914 года. В письме от 13 мая 1914 года к своим родным Мар-
шак описал случайную встречу с бароном Инчикуином («прямым
потомком короля Ирландии Браян Бору, победителя англичан»),
одпако барон из рассказа не имеет ничего общего с реальным
Инчикуином.
Печатается по автографу середины 1930-х годов.
Ключик и замочек. — Впервые посмертно в газете «Литера-
турная Россия», 1966, № 8, 19 февраля.
Маршак работал над сказкой в основном в 1935 году.
Печатается по автографу.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Из незавершенного
Война трех дворов. — Первый из цикла рассказов о детских
годах порта, задуманного Маршаком в середине 1920-х годов.
В рассказах должны были действовать одни и те же «сквозные»
персонажи: товарищи детских игр в слободе на Майдане — Мит-
рошка-горбун, Митюха Гамаюн и другие ребята.
Работа над рассказом была начата примерно в 1924 году, но
часто прерывалась па долгое время: сохранилось семь вариантов
начала рассказа. Последний, самый полный, вариант рассказа на-
писан приблизительно в 1930 году.
В 1957 году Маршак просмотрел машинопись рассказа, по
никаких исправлений в текст его не внес.
Печатается по черновому автографу приблизительно 1930 года.
Горбун. — Из цикла рассказов о детских годах Маршака. Рас-
сказ датирован: «Токсово, 1930 г.», следовательно, написан в
июле — августе 1930 года.
Печатается по черновому автографу.
{Шура Ястребова}. — Из цикла рассказов о детских годах
Маршака. В рукописи расположен вслед за предыдущим рас-
сказом.
Печатается по черновому автографу приблизительно 1930 года.
Второгодник Баландин. — Из цикла рассказов о детских годах
Маршака.
Печатается по черновому автографу приблизительно 1930 года.
661
{Вступление к сказке о Мурзилках). — Прозаический вариант
сказки для детей в стихах «Приключения Мурзилки» (см. т. 2,
наст. изд.).
1 Мурзилка — эльф, персонаж из книги А. Б. Хвольсон
«Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков»,
СПб. — М. 1898.
С. Маршак высоко ценил фольклорную основу книги, но от-
носился критически к этому дореволюционному русскому изда-
нию. Он намеревался написать новую большую книгу о Мурзилках.
Печатается по черновому незаконченному автографу.
О любовной лирике. — Публикуется впервые.
Неоконченная статья.
1 Речь идет о подборке стихов Н. Грибачева, В. Тушновой,
Л. Ошанина, Е. Евтушенко, опубликованной в «Литературной га-
зете», 1953, № 52, 1 мая.
2 Из поэмы В. В. Маяковского «Во весь голос».
3 Из стихотворения А. С. Пушкина «На холмах Грузии лежит
ночная мгла...».
4 Из поэмы В. В. Маяковского «Люблю».
6 С. Я. Маршак цитирует 32 сонет В. Шекспира.
Печатается по черновому автографу, который условно можно
датировать 1953 годом (на основе ссылки на подборку стихов,
опубликованных «Литературной газетой»).
{О молодых поэтах, наброски статьи). — Посмертно опубли-
ковано в журнале «Новый мир», 1965, № 9, сентябрь.
В архиве С. Я. Маршака сохранились заготовки для статьи
о молодых поэтах, с которой он намеревался обратиться к Все-
союзному совещанию, посвященному работе молодых писателей
(1962).
Позднее он продолжал писать статью, «не связывая ее с каким-
нибудь определенным поводом или датой» (см. преамбулу
И. С. Маршака, подготовившего публикацию статьи в «Новом
мире», 1965, № 9, сентябрь). Судя по воспоминаниям И. С. Мар-
шака, а также по сохранившимся в папке выпискам из сборни-
ков, по упомянутому в статье газетному выступлению В. Цыбина,
работа над статьей шла в период с начала июня по декабрь
1962 года.
Заготовки представляют собой 5 самостоятельных отрывков:
I. Машинопись с правкой автора и продолжающей ее рукопис-
ный автограф со сквозной пагинацией. (Печатается полностью.)
II. Два черновых автографа, один из них более ранний и пол-
ный (весь текст отрывка), второй — новая редакция половины
662
первого автографа. Пять последних фраз повторяют текст I от-
рывка.
Печатается ранний автограф с учетом позднейшей правки.
Пять последних фраз купируются.
Ш. Черновой автограф с авторской пагинацией. Печатается
полностью.
IV. Черновой автограф, часть текста совпадает с I отрывком.
Печатается с купированием текста, повторяющего текст I от-
рывка.
V. Машинописный автограф и продолжающий его незакончен-
ный черновой автограф. Этот отрывок, по свидетельствуй. С.Мар-
шака, представляет собой первоначальный вариант статьи. Судя
по сохранившимся подготовительным материалам (выписки из
стихов), С. Я. Маршак собирался дать анализ стихотворений
Б. Ахмадулиной, В. Берестова, Р. Казаковой, Н. Коржавина,
Ст. Куняева, Н. Матвеевой, 10. Мориц, Р. Рождественского. Суще-
ствует опубликованная статья о творчестве Е. Винокурова («Уве-
ренная поступь». — «Известия», 1963, № 17, 19 января). Она хра-
нится в папке, на которой рукой С. Я. Маршака написано: «От-
рывок из «материалов о стихах молодых».
Печатаются оба автографа.
Отрывки публикуются в той последовательности, в какой,
по свидетельству сына порта, И. С. Маршака, намеревался печа-
тать их автор.
1 Из басни Ивана Ивановича Дмитриева (1760—1837) «Петух,
кот и мышонок».
2 Игорь Северянин (псевдоним Игоря Васильевича
Лотарева, 1887—1941)—русский порт, представитель эгофуту-
ризма.
3 Публикация последних стихов И. Северянина появилась в
журнале «Огонек», 1962, № 29, стр. 20 (вступит, заметка Б. В. Сми-
ренского). Ранее см. журнал «Красная новь», 1941, № 3 («Привет
Союзу», «Стихи о реках»).
4 Из стихотворения Евгения Абрамовича Баратынского
(1800—1844) К*** («Не бойся едких осуждений...»). Далее цити-
руется рто стихотворение.
6 Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—
1873)—русский порт. Шумный успех, сопровождавший выход его
сборника «Стихотворения» (1835), оказался преходящим.
6 Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927)—рус-
ский писатель, представитель упадочной литературы начала
XX века. Его роман «Санин» получил скандальную известность.
7 Из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
663
8 Из драмы А. С. Пушкина «Борис Годунов».
9 Письмо Б. Л. Пастернака в архиве С. Я. Маршака не сохра-
нилось. По всей вероятности, письмо относится к моменту рабо-
ты Пастернака над «Каруселью» (Гос. изд., Л. 1926) — книгой сти-
хов для детей. В библиотеке Маршака хранятся «Избранные сти-
хи» Бориса Пастернака (М. 1926) с дарственной надписью: «Са-
муилу Яковлевичу Маршаку в память лета, когда я ему надоедал,
дань восхищения его «Мышонком». Б. Пастернак, LVIII/26».
10 Речь идет о стихотворении А. А. Блока «Иа железной до-
роге».
11 Из стихотворения А. А. Блока «Ты помнишь? В нашей
бухте сонной...» («Разные стихи», 1908—1916).
12 Из поэмы В. В. Маяковского «Во весь голос».
13 Публий Овидий Назон (43 г. до н. э- —17 г. н. э*) —
римский порт.
14 С. Я. Маршак цитирует эпиграмму А. С. Пушкина «Хоть,
впрочем, он порт изрядный...» (1821).
15 Из 1 сонета В. Шекспира («О, как ты прав, судьбу мою
браня...»).
16 С. Я. Маршак имеет в виду стихотворение В. В. Маяков-
ского «Разговор с фининспектором о поэзии». У Маяковского:
«мелочишка суффиксов и флексий в пустующей кассе склонений
и спряжений...».
17 Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889) —1
русский поэт-сатирик некрасовской школы. Славился как «король
рифмы». В области каламбурной рифмы был одним из предшест-
венников Маяковского.
18 Из нормы В. В. Маяковского «Хорошо».
19 Эпиграмма на гр. Орлову-Чесменскую, приписываемая
А. С. Пушкину.
20 Из стихотворения Е. Евтушенко «Давайте, мальчики!».
21 Стихотворение С. Я. Маршака «Начинающему порту».
В одном из черновых вариантов статьи далее следует: «В сущ-
ности, таким запоздалым несовершеннолетием страдают пе только
молодые литераторы, но и многие из пашей молодежи. Взрослые
парни и девушки часто называют себя уменьшительными имена-
ми — Васей, Шурой, Наташей, Дусей. Вероятно, ответственность за
рто песет и семья и школа. Родители и учителя иной раз не за-
мечают, что с какого-то момента перед ними уже пе мальчики
в коротких штанишках и пе девочки в коротких платьицах, а
взрослые люди, отвечающие за свои поступки. Надо еще с млад-
ших классов, а в старших и подавно, относиться к ним с подлип-
664
пым уважением. Тогда они и сами будут больше уважать себя, и
вовремя перестанут считать себя детьми.
Уважительно и требовательно должны мы относиться и к на-
шей литературной молодежи...»
22 Из стихотворения А. Вознесенского «Антимиры» (сб. «Тре-
угольная груша»).
23 Из стихотворения А. Вознесенского «Ночной аэропорт в
Нью-Йорке».
24 Оттуда же.
25 Из стихотворения А. Вознесенского «Вынужденное отступ-
ление».
26 Из стихотворения А. Вознесенского «Ночной аэропорт в
Нью-Йорке».
27 Речь идет о Зме1<>киной, персонаже чеховского водевиля
«Свадьба».
28 Шишков Александр Семенович (1754—1841) —
русский писатель и государственный деятель. Возглавлял обще-
ство «Беседа любителей русского слова», которое славилось рев-
ностной заботой о чистоте русского языка и выступало против
Карамзина с его ориентацией на расширение лексической базы
русского литературного языка и упрощение синтаксических кон-
струкций.
29 Из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
30 Речг; идет о стихотворении А. Вознесенского «Загорская
лавра».
31 Из стихотворения Дениса Васильевича Давыдова (1784—
1839) «Современная песня».
32 См. письмо Л. Н. Толстого С. В. Гаврилову (14 января
1908 г. Ясная Поляна): «Я вообще считаю, что слово, служащее
выражением мысли, истины, проявления духа, есть такое важное
дело, что примешивать к нему соображения о размере, ритме и
рифме и жертвовать для них ясностью и простотой есть кощун-
ство и такой же неразумный поступок, каким был бы поступок
пахаря, который, идя за плугом, выделывал бы танцевальные
па, нарушая этим прямоту и правильность борозды» (Л. И. Тол-
стой о литературе. Статьи, письма, дневники», Гослитиздат, М.
1955, стр. 588).
33 Из цикла Н. А. Некрасова «О погоде» («До сумерек»).
34 Из стихотворения Е. А. Баратынского «К***» («Не бойся
едких осуждений...»).
35 Вертинский Александр Николаевич (1889—
1957)—русский артист эстрады, по,эт и композитор, создатель
жанра музыкальной новеллы.
665
86 Из стихотворения Е. Евтушенко «В вагоне шаркают и ша-
мают...».
37 Речь идет о сборнике Е. Евтушенко «Взмах руки», «Мо-
лодая гвардия», М. 1962.
38 Из стихотворения Е. Евтушенко «Рассматривайте времен-
ность гуманно...» (сб. «Взмах руки»).
39 Из стихотворения Е. Евтушенко «Партизанские могилы»
(там же).
40 Из стихотворения Е. Винокурова «Природа» (сб. «Лирика»,
Гослитиздат, М. 1962).
41 Из поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины (Дека-
бристки)».
(О Шекспире (Наброски статьи)).— Судя по сохранившимся
в архиве материалам, работа над статьей была начата примерно
в январе 1964 года (первый по времени фрагмент — «Слова, сло-
ва, слова...» — был продиктован Л. Я. Прейс 12/1 —1964 г.) в связи
с подготовкой к празднованию четырехсотлетней шекспировской
годовщины.
Публикуются три сохранившихся фрагмента.
Первый из них имеет два автографа: черновой (записанный
под диктовку С. Маршака рукой Л. Я. Прейс) и более поздний,
машинописный, с авторской правкой, продолженный рукописным
черновиком. Текст дается по второму автографу.
Второй отрывок — неоконченный черновой автограф, в кото-
ром последняя строка неразборчива.
Третий — черновой автограф.
1 Г он е р и л ь я и Регана — дочери короля Лира, персона-
жи трагедии «Король Лир».
Запись беседы С. Я. Маршака
с Ст. Рассадиным
«Писать все так же трудно...» — Опубликовано посмертно в
журнале «Вопросы литературы», 1964, № 9 со следующим редак-
ционным примечанием: «По поручению редакции «Вопросов лите-
ратуры» наш корреспондент Ст. Рассадин обратился к С. Я. Мар-
шаку с просьбой поделиться своими соображениями о поэтическом
мастерстве. Эта беседа, запись которой мы публикуем, к несчастью,
оказалась последним критическим выступлением выдающегося
русского писателя».
1 Из программного стихотворения французского поэта, родо-
начальника символизма Поля-Мари Верлена (1844—1896) «Искус-
ство поэзии».
666
2 Речь идет о сборнике С. Я. Маршака «Лирические эпи-
граммы», изданном «Советским писателем» в 1965 году.
3 С. Я. Маршак, видимо, имеет в виду следующее высказыва-
ние Перси Биши Шелли (1792—1822) из его трактата «Защита
поэзии»: «...стремиться перенести создание поэта с одного языка
на другой — эт<> то же самое, как если бы мы бросили фиалку в
тигель, с целью открыть основное начало ее красок и запаха».
4 Из стихотворения В. В. Маяковского «Разговор с финин-
спектором о поэзии».
5 Из баллады Павла Александровича Катенина (1792—1853)
«Ольга». Перевод баллады немецкого поэта Готфрида Августа
Бюргера (1747—1794).
6 Из поэмы В. В. Маяковского «Хорошо».
7 Оттуда же.
8 Стихотворение Ю. Панкратова «Крыли крышу, забивали мо-
лотком...».
9 Из «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина.
10 Оттуда же.
11 Из стихотворения А. А. Блока «О смерти» (Посвящ. Г. Чул-
кову) из цикла «Вольные мысли».
12 Из стихотворения С. Я. Маршака «Бывало, полк стихов
маршировал».
13 Имеется в виду статья С. Я. Маршака «Слово в строю»
(см. т. 7 наст. изд.).
14 Из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк».
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. Мать поэта, Евгения Борисовна Маршак.
2. С. Маршак. Острогожск, 1899 г.
3. Город Острогожск. Вверху — улица на Майдане,
на которой жила семья Якова Мироновича Мар-
шака (ныне — улица С. Маршака). Внизу — Бого-
явленская улица (фотография около 1900 г.).
4. С. Маршак. Петербург, 1902 г.
5. В. В. Стасов с П. В. Стасовой, скульптором
И. Я. Гинцбургом и С. Я. Маршаком (Парголово,
ок. 1902 г.).
6. С. Маршак, артист Александрийского театра Писарев
(справа) и художник Левит (слева). Около 1904 г.
7. С. Маршак (слева внизу) среди учеников Ялтинской
гимназии. 1905—1906 гг.
8. С. Маршак со своим отцом Яковом Мироновичем
Маршаком. Около 1912 г.
9. Организаторы Краснодарского «Детского городка»
и «Театра для детей» слева направо: профессор —
египтолог Б. А. Леман, педагог Л. Р. Свирский,
С. Я. Маршак, поэтесса Е. И. Васильева. Красно-
дар, 1921 г.
10. С. Я. Маршак. Москва 1934 г. (снимок сделан во
время I Всесоюзного съезда писателей).
11. С. Я. Маршак, его жена София Михайловна Маршак
и сестра Лия (впоследствии — писательница Елена
Ильина) в Англии (возле дома, в котором они
жили, по соседству со «Школой простой жизни»).
12. Рыбачий поселок Полперро (фотография около
1913 г.).
СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ (Страницы воспоминаний) . 9
СТАТЬИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. ЗАМЕТКИ.
ВОСПОМИНАНИЯ
Театр для детей....................... 183
Издали и вблизи....................... 189
О большой литературе для маленьких . . 195
Дело Геринга о поджоге............... 244
Повесть об одном открытии ....... 255
Дети о будущем........................259
За большую детскую литературу .... 263
Гордитесь правом писать для детей . . . 274
«Волшебное перышко»..................280
О детских календарях.................284
Герои — детям........................290
О планах, книгах и авторах...........296
Будущим героям....................... 300
«Уважаемые дети».....................304
Жизнь побеждает смерть...............313
О нашей сатире.......................318
О жизни и литературе..................... 323
Почта военная........................330
Почему я перевел стихи Джанни Родари 332
О тех, кто пишет на полях........... . 334
О поисках своеобразия................338
Образ города.........................340
Роберту Бернсу 200 лет...............343
«Бессмертной памяти».................346
Почерк века, почерк поколения .......... 351
Высокая трибуна < »..................355
669
Замечательный художник ...................362
Щедрый талант .......................... 364
Помнить надо!.......................367
Поэзия перевода.....................371
Книга для детей должна быть произведе-
нием высокого искусства..................376
«Недралитет»........................381
О Пушкине, о детях и о детской литературе 385
Дети-поэты..........................392
Шут короля Лира.....................402
Любовь и ненависть..................404
(О Белинском).......................409
(Несколько мыслей о воспитании) .... 414
(Выступление на Лондонской Международной
конференции по истории театра) . . . 420
О чтецах и декламаторах .... ... 427
(Выступление на Шекспировской конферен-
ции в Стратфорде-на-Эйвоне) .... 430
(Обращение к участникам вечера памяти
Хлебникова)..............................433
О Марии Павловне Чеховой............435
(О Шекспире)........................438
ПРОЗА РАЗНЫХ ЛЕТ
Зимовье на юге..........................443
Авиация.................................447
Под железнодорожным мостом..............452
На детской выставке . ..................456
Робинзон нашего века....................460
Школа простой жизни.....................464
Праведное завещание.....................468
Песни попугая ..........................471
Отдых моряка............................474
Лифт................................. 479
Рыбаки Полперро.........................484
Двенадцать месяцев.....................492
Весенние облака........................499
Изумрудный остров..................... ^01
Верблюд и свинья.......................307
Замок Инчикуина........................308
Ключик и замочек........................319
670
ПРИЛОЖЕНИЕ
Из незавершенного
Война трех дворов..........527
Горбун.....................................536
<Шура Ястребова)...........................539
Второгодник Баландин.......................543
(Вступление к книге о Мурзилках) . . . 549
О любовной лирике . ....................554
(О молодых портах)
<1>....................................558
<П>....................................569
<Ш>.................................... 573
<IV>................................... 576
<V>................................... 579
О Шекспире
<1>....................................597
<П>....................................600
<1П>....................................602
Запись беседы С. Я. Маршака
с Ст. Рассадиным
«Писать все так же трудно...»....604
Примечания ......................617
Список иллюстраций...............668
Самуил Яковлевич
МАРШАК
Собрание сочинений
том 6
Редактор Т Аверьянова
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
Ж. Примак
Корректоры
Р. Пунга и А. Юрьева
Сдано в набор 2/IV-1971 г. Подписа-
но к печати А04115 4/VIII-1971 г.
Бумага типографская № 1 84X108732.
21 печ. л. 35,28 усл. печ. л. 33,99 уч,-
изд. л.+З накидки» 34,59 л. Зак. 1689.
Тираж 100 000. Цена 1 р. 50 к.
Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19
Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 1 «Пе-
чатный Двор» им. А. М Горького
Главполиграфпрома Комитета по
печати пои Совете Министров СССР,
г, Ленинград, Гатчинская ул., 26