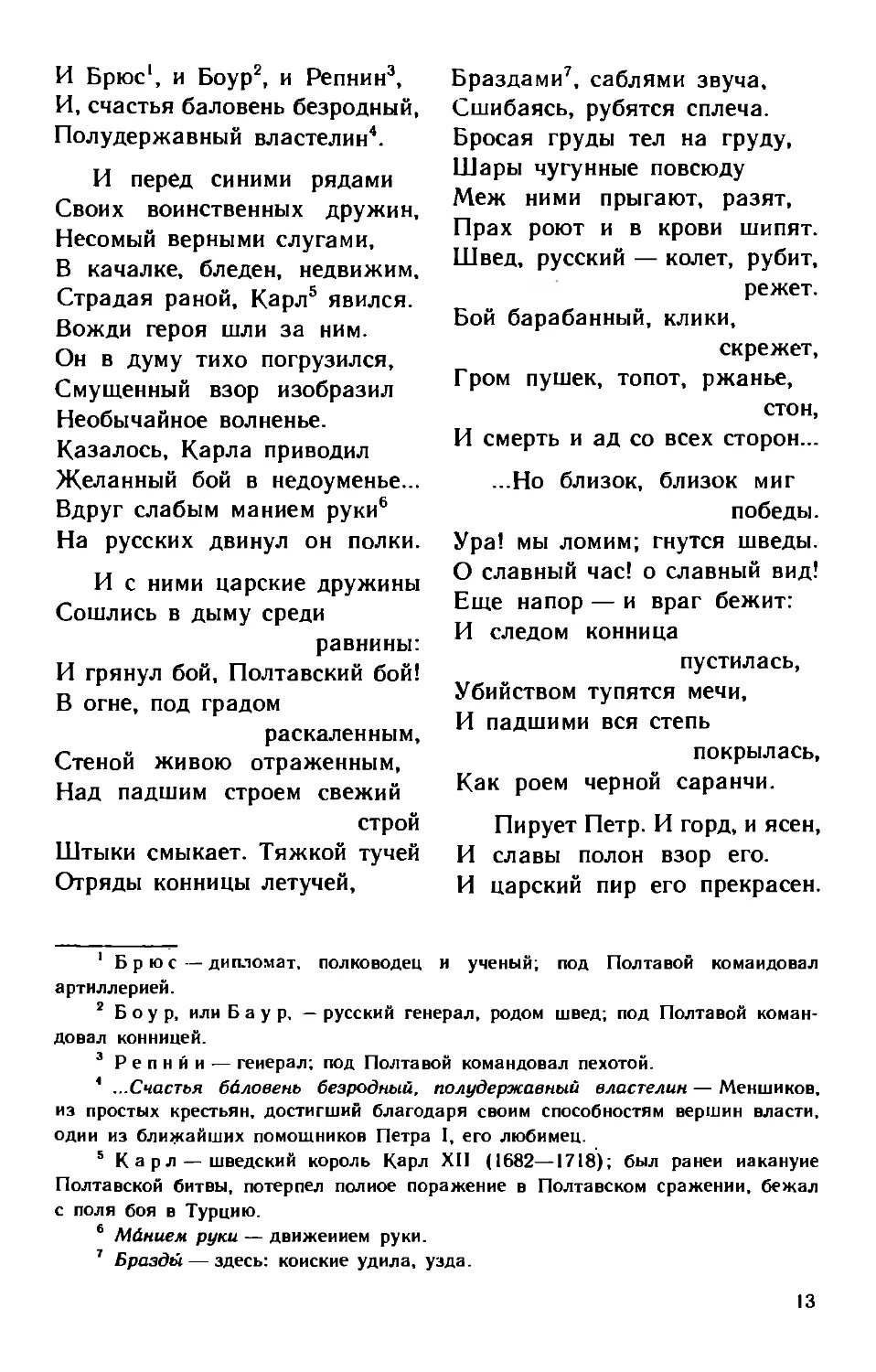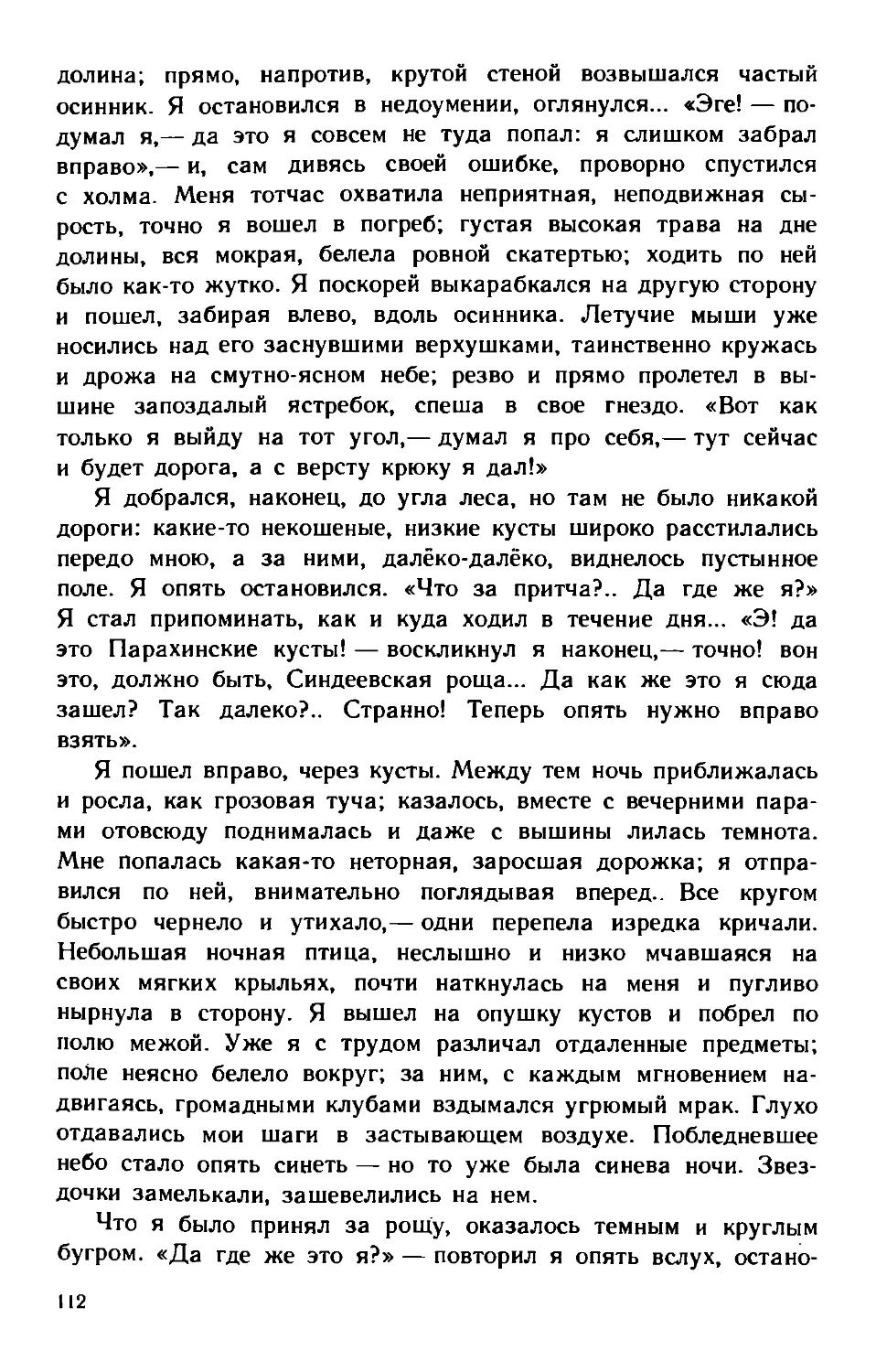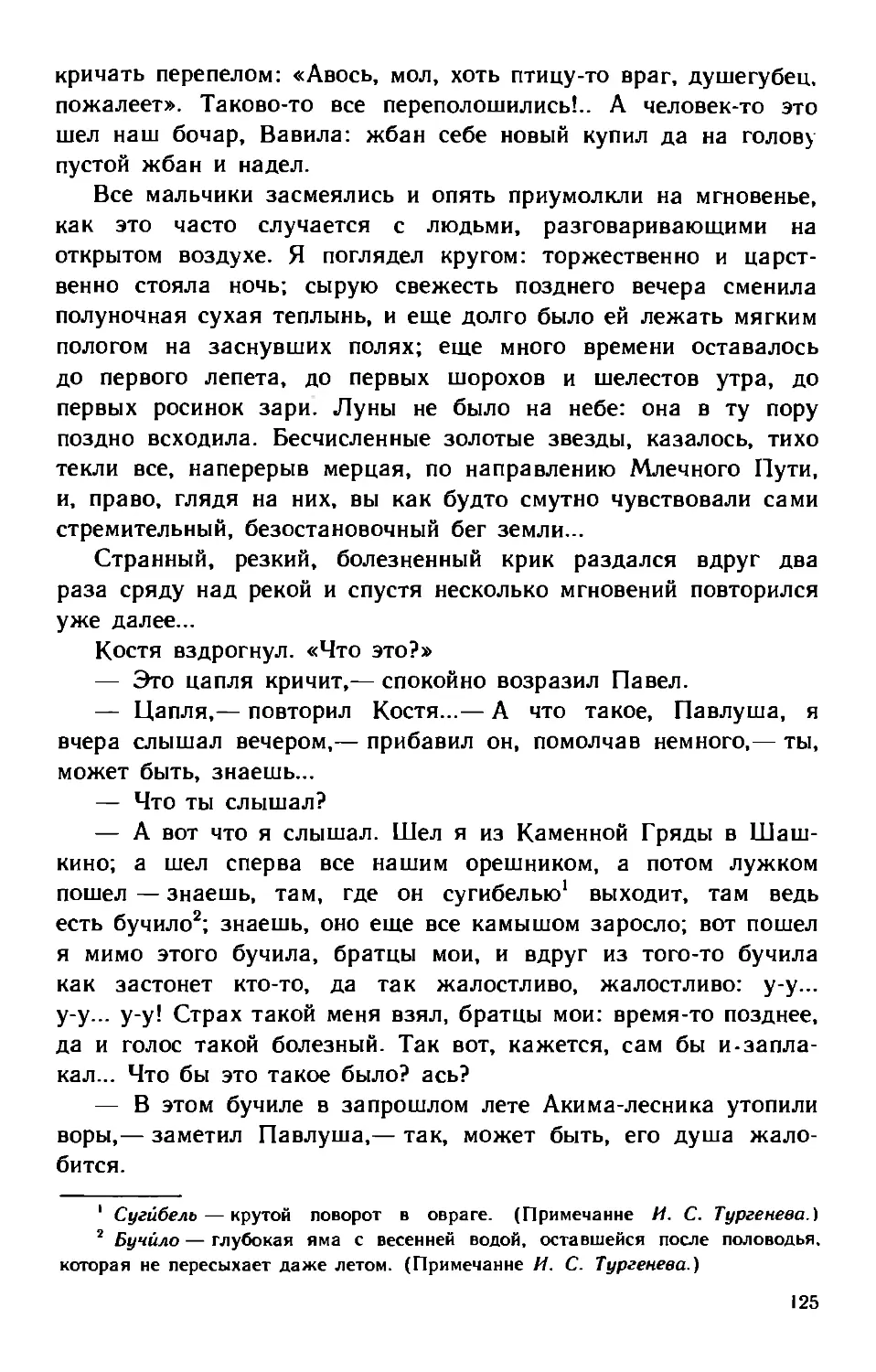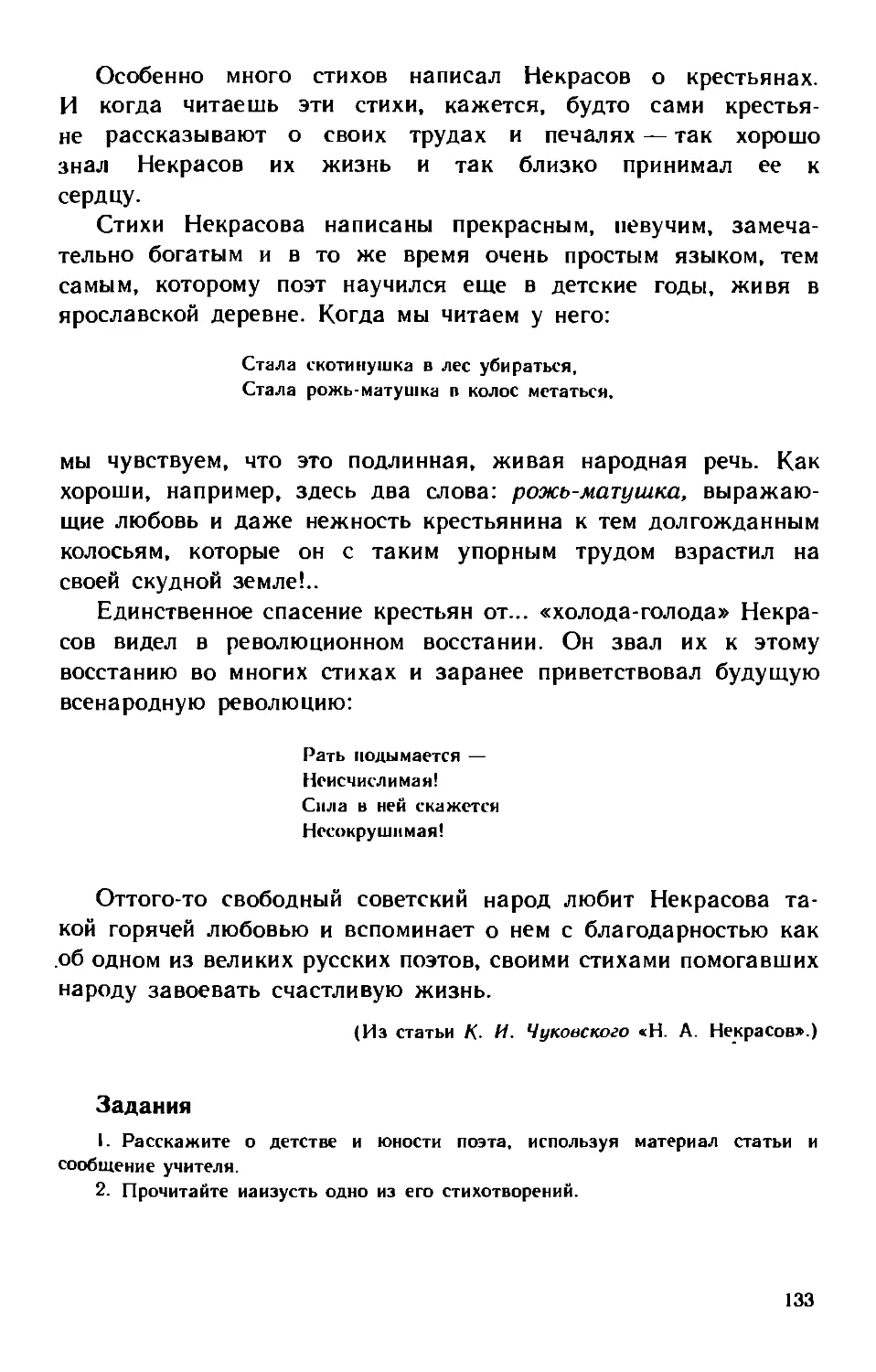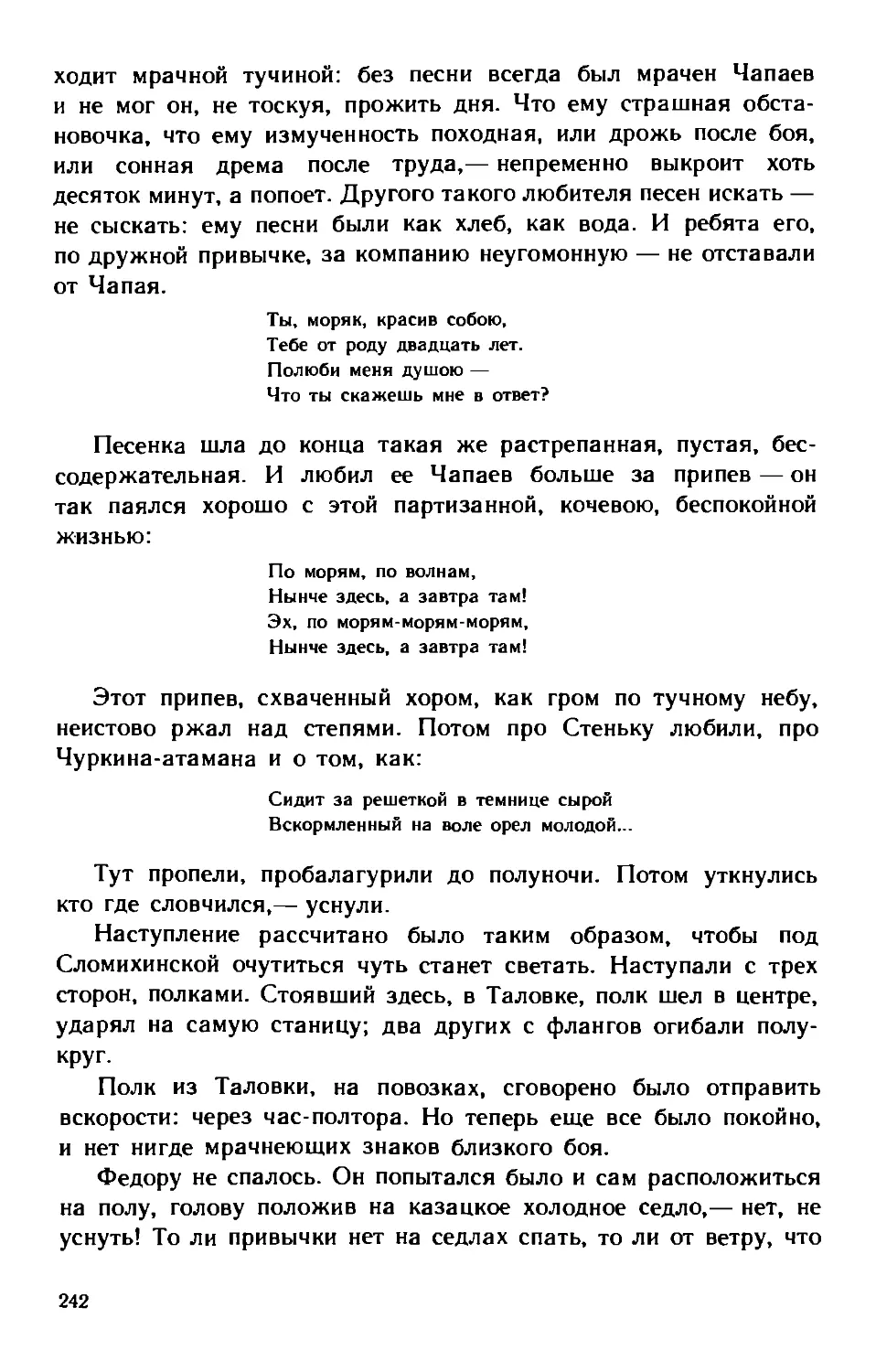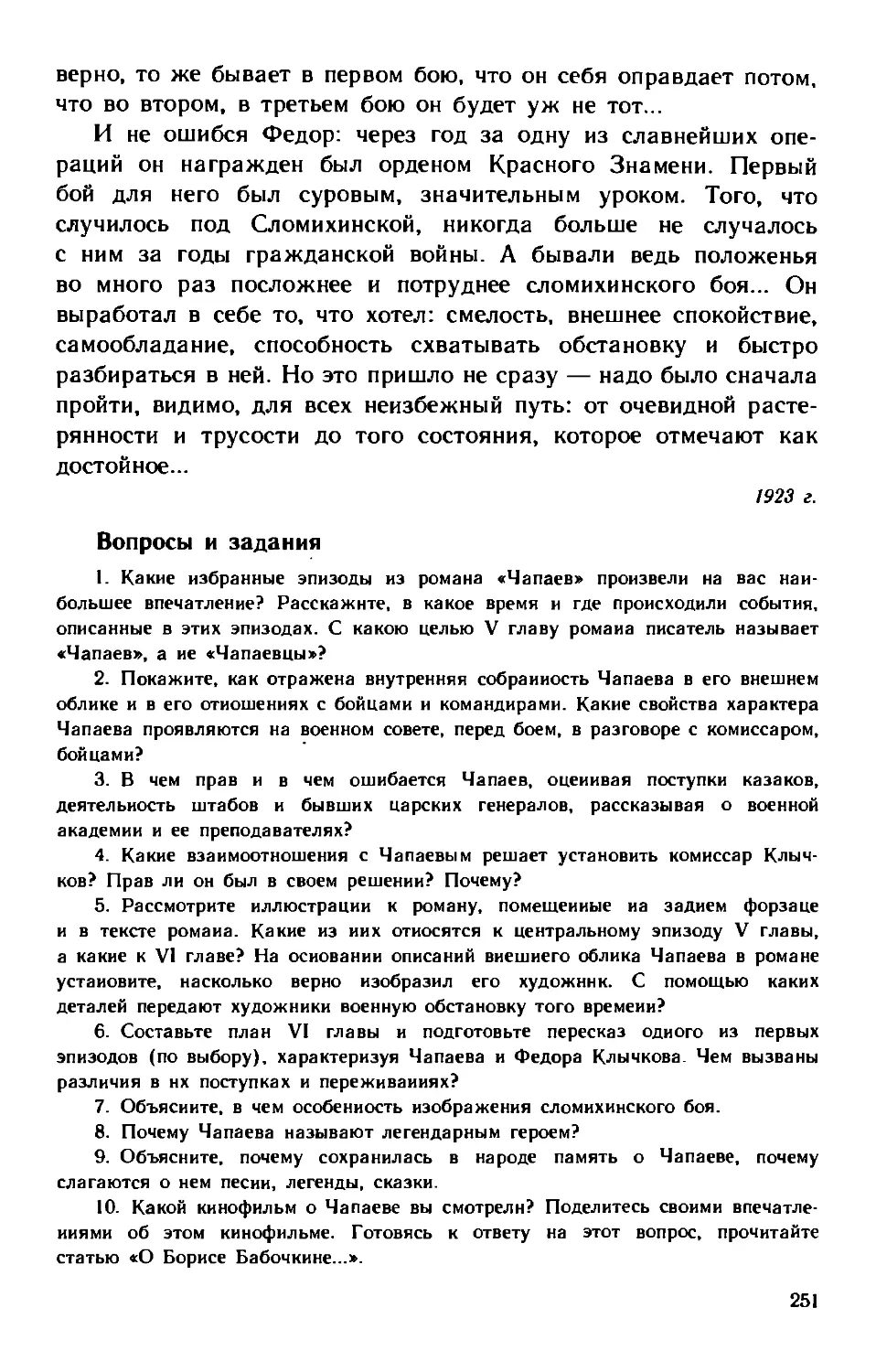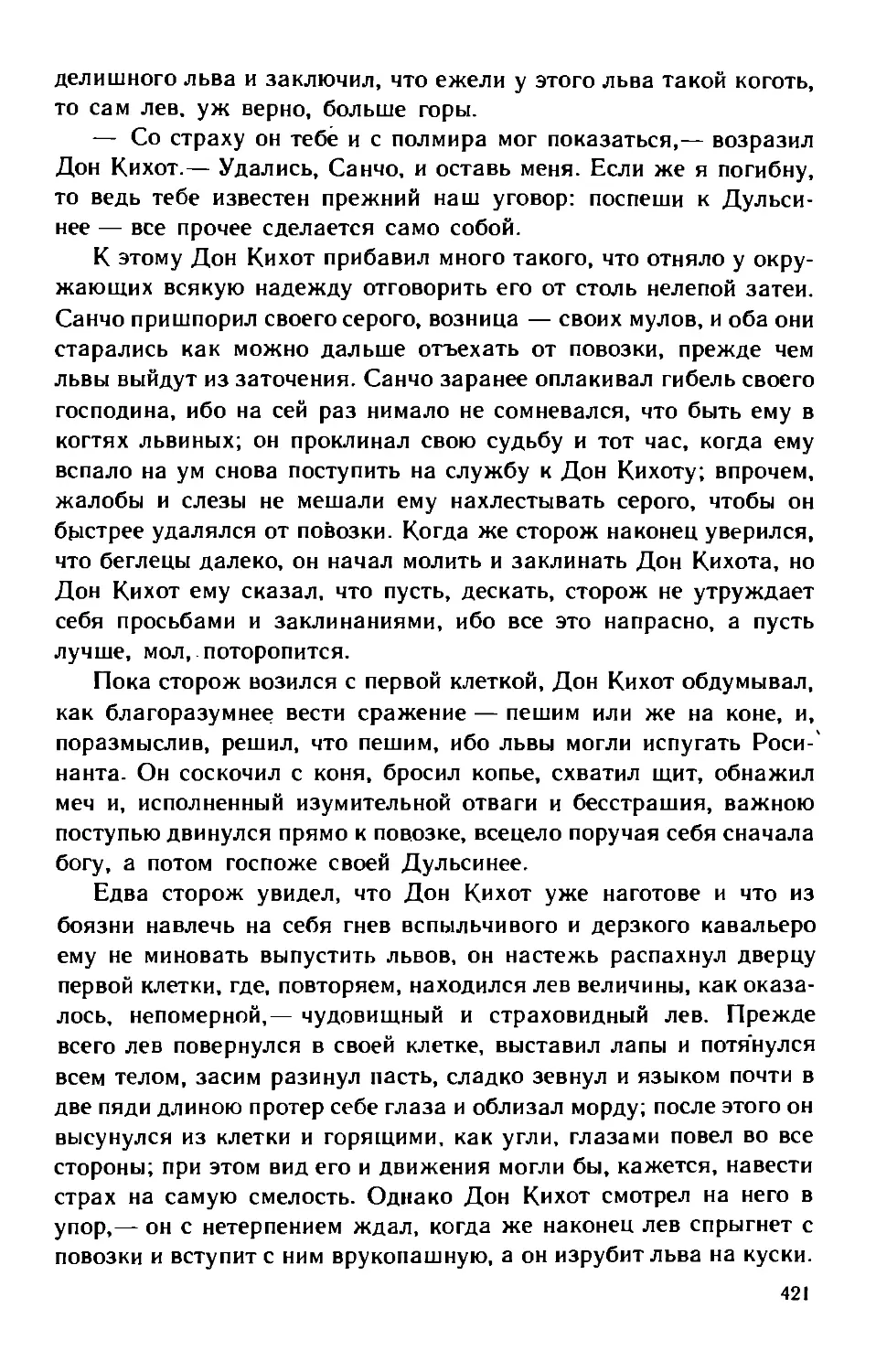Автор: Снежневская М.А. Шевченко П.А. Курдюмова Т.Ф. Коровина В.Я.
Теги: литературоведение художественная литература
ISBN: 5-09-003203-3
Год: 1991
Текст
РОДНАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Учебник-
хрестоматия
для
7
класса
Утверждено
Министерством просвещения РСФСР
I (ЗДАНИЕ ПЕРЕРАНОТА 11 НОР
МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1991
Составители:
М. А. Снежневская, П. А. Шевченко, Т. Ф. Курдюмова, В. Я. Коровина
Р60 Родная литература: Учеб.-хрестоматия для 7 кл. / Сост.
М. А. Снежневская и др.— Изд. перераб.— М.: Просвеще-
ние, 1991.—447 с., 4 л. ил.: ил.—ISBN 5-09-003203-3
4306020300—106
103(03)—91
инф. письмо—91, № 66
ББК 83я72
ISBN 5-09-003203-3
© Издательство «Просвещение», 1985
© Издательство «Просвещение», 1989 с изменениями.
ДОРОГИЕ
СЕМИКЛАССНИКИ!
Эта учебная книга будет служить
вам и вашим товарищам в будущем.
Относитесь к ней бережно, с уваже-
нием к труду создавших ее людей.
Каждый из вас знает, как прият-
но держать в руках чистую, хорошо
сохранившуюся книгу,— доставьте
же эту радость тем, кто придет в
7 класс вслед за вами.
УМНЫЕ И ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
Человек, любящий и умеющий читать,— счастливый человек.
Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья
эти — книги.
Книги встречают нас в самом раннем детстве и сопровождают
нас всю жизнь. Они заставляют нас непрерывно совершенство-
ваться, чтобы мы могли стать настоящими передовыми людьми —
гражданами коммунистического общества.
Огромный мир — заманчивый и разнообразный — врывается
к нам в комнату со страниц любимых книг...
Мы пересекаем экватор на фрегате «Паллада»1 и вместе с
бесстрашным адмиралом Беллинсгаузеном2 слышим зловещий
гул прибоя о ледяной материк Антарктиды.
Мы сталкиваемся с Пугачевым во время бурана и, взволно-
ванные, видим слезы дикарей Новой Гвинеи, когда они прово-
жают своего великого защитника и друга Миклухо-Маклая3.
Мы склоняемся перед мужеством Чапаева и слышим громовой
залп «Авроры»...
1 «Фрегат Паллада» — произведение русского писателя Гончарова
Ивана Александровича (1812—1891).
2 Б е л л и н с г а у з е н Фаддей Фаддеевич (1778—1852)—русский море-
плаватель.
3 Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846—1888)—выдающийся
русский ученый-этнограф, изучавший быт и культуру народов мира, путешест-
венник.
1*
3
Мы слышим рог Роб Роя1 в туманных шотландских горах,
скрежет заржавленных лат Дон Кихота, топот Конька-Горбунка.
Мы работаем с командой Тимура и сражаемся на баррикадах
Парижа вместе с Гаврошем.
Мы опускаемся на морское дно с капитаном Немо и вместе
с Водопьяновым2 садимся на вечные льды Северного полюса.
Мы слышим радостный визг Каштанки и видим, как из полена
высовывается длинный нос любопытного Буратино.
Всего не перечислишь, не расскажешь. Поэтому каждый из
нас волнуется, когда видит стопку новых книг. Что скрыто в них?
Какие прекрасные мысли и новые события? Какие интересные
люди и увлекательные познания?
Читайте, читайте и читайте! Читайте не торопясь, чтобы
не терять ни одной капли драгоценного содержания книг. Че-
ловек, «глотающий» книги, похож на путешественника, знакомя-
щегося со страной из окна вагона. Заставляйте себя читать
медленно, запоминая, обдумывая, представляя самого себя в
гуще тех событий и той обстановки, какими наполнена книга,
делая себя как бы их непосредственным свидетелем и даже
участником. Только тогда перед вами до конца откроется создан-
ный писателем большой и прекрасный мир.
Говорят, что некоторые ребята не любят описаний природы
и часто пропускают их в книгах. Но ведь в каждой травинке,
в каждом цветке и листочке, в каждой поющей птице, в облаках,
ветрах, в глубине прозрачных рек — всюду скрыты интересней-
шие вещи...
Читайте, но умейте сдерживать себя, если чтение отрывает
вас от учения, от работы... Сначала учение, потом чтение. Это —
закон. Ведь человек, чтобы приобщиться к великолепному миру
книг, должен сначала одолеть грамоту, должен научиться читать.
Каждая область знаний, будь то математика, география, физика,
история, ботаника, подготовляет нас к наилучшему восприятию
книг.
Мощь, мудрость и красота литературы открываются во всей
своей широте только перед человеком просвещенным и знающим.
Учитесь у героев книг любить нашу советскую землю — ее
'Роб Рой — герой романа «Роб Рой> английского писателя Вальтера
Скотта (1771 — 1832).
2 Водопьянов Михаил Васильевич (1899—1980)—знаменитый совет-
ский летчик, писатель.
4
поля и леса, ее города и заводы, ее небо, ее реки, ее язык и
искусство.
Многих из писателей уже нет на свете, но мы слышим их
голоса. Они обращаются к нам — голоса Пушкина и Льва Тол-
стого, Лермонтова и Чехова, Горького и Маяковского. Прислу-
шивайтесь к этим дружеским голосам.
Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли
хотя бы одной страницы из новой книги.
К- Паустовский
Вопросы и задания
1. Какие советы К. Г. Паустовского важно помнить, чтобы открылись муд-
рость и красота книги, большой н прекрасный мир, созданный писателем? Что
известно вам о жизни Паустовского?
2. Каких писателей и героев книг вспоминает Паустовский? Расскажите
об одном из произведений примерно по такому плану: его тема и идея, герои,
их взаимоотношения, окружающая обстановка и время изображенных событий,
причины столкновений героев; не забудьте сказать и о вашем отношении к ге-
роям: что вас в них привлекает и почему, кого вы осуждаете и за что?
3. Вы уже знаете, что художественная литература знакомит нас с окружаю-
щим миром. Но о чем бы ни говорилось в книге, в центре внимания писателя
всегда — человек. Чтобы убедиться в этом, вспомните любую из прочитанных
книг.
4. Создавая произведения, писатель стремится выразить свое понимание
жизни и людей, свое представление о том, каким должен быть человек. На
примере одного из произведений, прочитанных в 6-м классе, докажите справед-
ливость этого.
Чем лучше мы будем знать про-
шлое, тем легче, тем более глу-
боко и радостно поймем великое
значение творимого нами на-
стоящего.
М. Горький
ИЗ
ЛИТЕРАТУРЫ
XIX ВЕКА
Александр
Сергеевич
ПУШКИН
(1799—1837)
...И долго буду тем любезен я
народу.
Что чувства добрые я лирой
пробуждал,
Что в мой жестокий век
восславил я свободу...
А. С. Пушкин
Г| ушкина мы знаем и любим как певца свободы, как прекрас-
11 ного и благородного русского человека, всю свою недолгую
и трудную жизнь отдавшего служению отчизне.
Добрый и умный, он напоминает нам о великих богатствах
русской души, о ее свободолюбии, мужественной борьбе за
счастье, мир и справедливость.
Все это можно найти в его стихах, если задуматься над тем,
какие чувства и мысли владели поэтом, когда он создавал свои
произведения. Пушкин писал только о том, что его волновало,
на что он не мог не откликнуться своей чуткой и всеобъемлющей
душой. Его и в отроческом возрасте занимали мысли о судьбах
родины.
6
Все мы помним картину И. Е. Репина «Пушкин на лицейском1
экзамене»... В центре — приподнявшийся с кресла видный санов-
ник2, уже дряхлый старик, приложил ладонь к уху, чтобы лучше
слышать. Слезы восторга текут по морщинистым щекам, лицо
озарено отблеском внезапно воскреснувшей молодости. Это
Гавриил Романович Державин — старейший и самый прослав-
ленный поэт того времени. Не отрываясь смотрит он на курчавого
подростка, который с высоко поднятой рукой восторженно и
самозабвенно декламирует сочиненные им на торжественный
случай стихи.
Интересно вспомнить, как было описано это памятное в жизни
юного Пушкина событие одним из ближайших его друзей —
И. И. Пущиным3.
«...Державин державным своим благословением увенчал
юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились
этим торжеством. Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в
Царском Селе». В этих великолепных стихах затронуто все
живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным
одушевлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегал
у меня. Когда же патриарх4 наших певцов, в восторге, со слезами
на глазах, бросился целовать поэта и осенил его кудрявую
голову,— мы все, под каким-то неведомым влиянием, благого-
вейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца,— его уже
не было: он убежал».
Все это происходило 8 января 1815 года. Юному лицеисту
было тогда пятнадцать с небольшим лет...
Незадолго до экзамена по распоряжению лицейского началь-
ства Пушкину надлежало сочинить стихи ко дню торжественного
акта, на котором будут присутствовать «высокие особы».
Как всегда в подобных случаях, предполагалось, что это
будет восхваление царствующего дома, и в первую очередь са-
мого императора, надменного и властолюбивого Александра.
Но не таким был самостоятельно мыслящий, живой и остроумный
1 Лицей — привилегированное учебное заведение, которое помещалось
в Царском Селе, недалеко от Петербурга.
2 Сановник — лицо, занимающее высокое и почетное общественное поло-
жение.
3 Пущин Иван Иванович (1798—1859) —близкий друг А. С. Пушкина;
за активное участие в восстании 14 декабря 1825 года был лишен чинов и дво-
рянства, сослан на каторжные работы в Сибирь.
1 Патриарх — здесь: глава русских поэтов.
7
Царское Село. Лицей. Гравюра Ж. Майера.
юноша Пушкин: полагавшиеся по правилам монархические
славословия1 смело заменил он словами любви к родине, к род-
ному русскому народу.
Пушкинское приветствие было названо необычно: «Воспоми-
нания в Царском Селе». В этом простом названии таился глу-
бокий смысл. Тому, кто знает и любит историю своего народа,
есть что вспомнить, гуляя по тенистым аллеям великолепных
парков Царского Села. Все дышит здесь историей русской воин-
ской славы. Памятные обелиски2 и колонны в честь знаменитых
битв и побед говорят о несокрушимом мужестве и патриотизме
народа...
Мысль юного поэта прежде всего обращалась к далеким,
еще петровским и послепетровским временам, когда холмы, воз-
вышающиеся над болотистой невской низиной, впервые могли
спокойно вздохнуть после военных гроз, промчавшихся в этих
местах. Тогда еще только зарождался при наследниках Петра
...прекрасный царскосельский сад,
Где, льва сразив, почил орел России мощный
На лоне мира н отрад.
1 Славословие - восторженное и обычно неумеренное восхваление кого-либо.
2 Обелиск суживающийся кверху граненый каменный столб.
Я
Пушкин на лицейском экзамене. Художник И. Репин.
«Лев», о котором идет здесь речь,— символ воинственной
и могучей в те времена Швеции, побежденной в многолетней
ожесточенной борьбе за выход нашей родины к морским про-
сторам, к берегам Балтики...
Говоря о воинской доблести предков, перечислив имена слав-
ных полководцев прошлого, Пушкин рядом с ними называет
и скромного труженика войны, русского солдата, вынесшего на
своих плечах всю тяжесть военных походов, жертвовавшего
своей кровью и жизнью за родную землю.
(Из книги Вс. Рождественского «Читая Пушкина».)
Гораздо позднее, в 1828 году, в поэме «Полтава» Пушкин
снова обратится к славным страницам истории нашей родины.
Смело и широко он нарисует Полтавскую битву, от исхода кото-
рой, как вы знаете, зависело существование России как великой
нации... Оценивая эту битву, Пушкин писал, что шведский король
Карл XII, много лет воевавший с Россией, мечтал свергнуть
Петра с престола, уничтожить регулярное войско и разделить
Россию на малые княжества. Речь шла, таким образом, не о том,
чтобы выиграть или проиграть войну, а о свободе, чести и нацио-
нальной независимости русского народа...
9
i io окончании лицея Пушкин задумается над судьбами родной
страны и ее будущим. Он увидит и поймет, что народ стонет в
цепях векового рабства и страстно жаждет своего освобождения.
И тогда музою1 Пушкина станет Свобода.
Вопросы и задания
1. Составьте план статьи о Пушкине и подготовьте рассказ о лицейском
экзамене поэта, используя материал статьи, репродукцию картины И. Е. Репина
«Пушкин на лицейском экзамене» и сообщение учителя о лицейских годах поэта.
2. Какие события из истории нашей родины легли в основу поэмы Пушкина
«Полтава»? Прочитайте полностью эту поэму. О том, какие произведения мы
называем поэмой, узнайте в кратком словаре литературных терминов (с. 445).
3. Прочитайте книгу А. Слонимского «Юность Пушкина» о детских и ли-
цейских годах поэта.
А. С. Пушкин. Автопортрет.
УЗНИК
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом.
Кровавую пищу клюет под окном.
Клюет и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края.
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!»
1822 г.
Окно.
Рисунок А. С. Пушкина.
1 Муза — в греческой мифологии — одна из девяти богинь, покровительниц
искусства и науки. В переносном значении — источник творческого вдохновения.
10
Вопросы и задания
1. Прочитайте стихотворение «Узник». Каким образом, ие упоминая слово
«свобода», поэт выражает мечту о ней?
2. Объясните, почему нельзя читать одинаково все четверостишия.
3. Готовясь к выразительному чтению этого стихотворения, подумайте, как
выразить в чтении стремление поэта к свободе, почему необходима пауза после
первой строчки, с какой интонацией следует прочитать каждую строчку послед-
него четверостишия.
4. Выучите стихотворение наизусть.
ПОЛТАВСКИЙ БОЙ*
Из поэмы «Полтава»
Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули.
В кустах рассыпались стрелки
Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые победы,
Сквозь огнь окопов рвутся
шведы;
Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжкой твердостью своею
Ее стремление крепит.
И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там,
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен* 2 сквозь
теснины3;
Сдается пылкий Шлипенбах4.
Тесним мы шведов рать за
ратью;
Темнеет слава их знамен.
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.
Тогда-то свыше
вдохновенный
Раздался звучный глас Петра5:
«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он
прекрасен.
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
Полтавское сражение произошло в 1709 году.
2 Розен — шведский генерал; во время Полтавского сражения отвел
войска в крепостные укрепления, ио был атакован и сдался.
3 Теснина — здесь: узкий проход между холмами.
Шлипеибах — шведский генерал, командовавший конницей в Полтав-
ском сражении; был взят в плен Меншиковым.
5 Петр — русский царь Петр I (1672—1725).
11
Полтавский бой. Художник И. Репин.
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.
Уж близок полдень. Жар
пылает.
Как пахарь, битва отдыхает.
Кой-где гарцуют казаки.
Равняясь, строятся полки.
Молчит музыка боевая.
На холмах пушки, присмирев,
Прервали свой голодный рев.
И се1 — равнину оглашая.
Далече грянуло ура: * В
Полки увидели Петра.
И он промчался пред
полками,
Могущ и радостен, как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда
Петрова2 —
В пременах жребия земного3,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев4 благородный.
1 Се нот.
Сии птенцы гнезда Петрова - - выражение употреблено в переносном
смысле: Петром обученные и воспитанные.
В пременах жребия земного — в различных обстоятельствах жизни.
Шереметев — генерал-фельдмаршал, главнокомандующий.
12
И Брюс1, и Боур2, и Репнин3,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин4.
И перед синими рядами
Своих воинственных дружин.
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим.
Страдая раной, Карл5 явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился,
Смущенный взор изобразил
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье...
Вдруг слабым манием руки6
На русских двинул он полки.
И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди
равнины:
И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом
раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий
строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами7, саблями звуча.
Сшибаясь, рубятся сплеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят.
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский — колет, рубит,
режет.
Бой барабанный, клики,
скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье,
стон,
И смерть и ад со всех сторон...
...Но близок, близок миг
победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит:
И следом конница
пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь
покрылась,
Как роем черной саранчи.
Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
1 Брюс—дипломат, полководец и ученый; под Полтавой командовал
артиллерией.
2 Боур, или Баур, — русский генерал, родом швед; под Полтавой коман-
довал конницей.
3 Репнин — генерал; под Полтавой командовал пехотой.
1 ...Счастья баловень безродный, полудержавный властелин — Меншиков,
из простых крестьян, достигший благодаря своим способностям вершин власти,
одни из ближайших помощников Петра I, его любимец.
5 Карл — шведский король Карл XII (1682—1718); был ранен накануне
Полтавской битвы, потерпел полное поражение в Полтавском сражении, бежал
с поля боя в Турцию.
6 Мйнием руки — движением руки.
7 Бразды — здесь: конские удила, узда.
13
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих1
Заздравный кубок подымает...
1828 г.
Вопросы и задания
1. Проследите по тексту поэмы последовательность событий Полтавского
боя. Какое из них выделяет А. С. Пушкин? Почему? С помощью каких слов
передает поэт напряжение боя и его стремительность? Что помогает «услышать»
гул сражения?
2. Сопоставьте строки, посвященные Петру I и Карлу XII; обратите внима-
ние на внешний облик, поступки и настроение полководцев. Чем вызваны различия
в изображении Петра I, Карла XII и их военачальников?
3. Прочитайте описание боя в поэме А. С. Пушкина (с. 13) и в стихотво-
рении М. Ю. Лермонтова «Бородино». Докажите справедливость слов писателя
И. Л. Андроникова о том, что Пушкин показывает Полтавскую битву «сверху»,
словно с командного пункта, «крупно», а Лермонтов изображает войну так,
как видит ее рядовой солдат. Какие чувства к родине объединяют поэтов?
4. Выучите наизусть отрывок из «Полтавского боя»: «Уж близок полдень...»,
кончая словами: «И смерть и ад со всех сторон...» Готовясь к чтению, подумайте,
как передать гордость поэта славой русского оружия и его восхищение воинской
отвагой Петра I.
5. Рассмотрите рисунок И. Е. Репина и подберите к нему соответствующие
строчки из «Полтавского боя». Как передает художник радость и торжество
Петра I в этой великой битве?
* ОБВАЛ2
Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.
Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могучий вал
Остановил.
Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев.
Свои брега.
И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал,
И пылью вод
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.
1 И за учителей своих — за шведов, в борьбе с которыми выросла мощь
русской армии при Петре I.
Звездочкой («) отмечены произведения для самостоятельного чтения и
обсуждения в классе.
14
И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вёл
Степной купец,
Где ныне мчится лишь Эол1,
Небес жилец.
1829 г.
*ТУЧА
Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.
Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.
1835 г.
ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ ЯЗЫКА.
МЕТАФОРА
Вы уже знакомы с олицетворением, эпитетом, сравнением.
Обратимся к очень важной особенности художественного язы-
ка — метафоре. «Метафора» — слово древнегреческое, и озна-
чает оно «перенесение». Мы говорим: «звезды гаснут», «заря
разгорается», хотя, конечно, в небе нет никакого пламени, подоб-
ного разведенному костру, никто не зажигал и не гасил звезды.
Мы перенесли свойства и признаки одного явления на другое,
сходное с ним.
Вдумайтесь в привычные выражения: бородка ключа, крылья
мельницы, зубья пилы, твердость характера, и вы увидите в каж-
1 Эол — в греческой мифологии — повелитель ветров.
15
дом из них самую настоящую метафору. Вы, вероятно, заметили,
что в основе этих метафор лежит простое сравнение. Так, лопасти
ветряной мельницы народ сравнивает с птичьими крыльями,
и отсюда возникает выражение «крылья мельницы». Так же
возникли и выражения «бородка ключа», «зубья пилы».
Однако метафора отличается от сравнения. В сравнении
всегда известно, что с чем сравнивается:
... И падшими вся степь покрылась.
Как роем черной саранчи...
(«Полтава».)
А в метафоре сравнение не названо, оно скрыто, но о нем мы
догадываемся:
...И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там...
...Ура! мы ломим; гнутся шведы.
(«Полтава».)
Вы понимаете, конечно, что поэт употребил выделенные слова
не в прямом, а в переносном смысле, подчеркнув сходство изо-
бражаемых событий с пламенем пожара, гнущимися деревьями.
Метафора — могучее средство воздействия на наше вообра-
жение, заставляющее нас пережить те чувства, которые вкла-
дывает автор в свое произведение.
Таким образом, употребление слова в переносном смысле
и перенесение действий и признаков одних предметов на другие,
сходные с ними, называется метафорой.
(Из книги Вс. Рождественского «Читая Пушкина».)
Задания и вопросы
I. Прочитайте заключительный отрывок из «Полтавского боя»: «Но близок,
близок миг победы...» (до конца). Объясните, какова роль сравнений, эпитетов
и метафор в художественном описании боя и Петра I. Какие чувства они
выражают?
2. Прочитайте стихи, рекомендованные для самостоятельного чтения и обсуж-
дения в классе. На примере одного из стихотворений А. С. Пушкина покажите,
как изобразительно-выразительные средства языка помогают передать чувства
и мысли поэта, его переживания.
16
Михаил
Юрьевич
ЛЕРМОНТОВ
(1814—1841)
Мы узнаем в нем поэта русско-
го, народного, в высшем и бла-
городнейшем значении этого
слова.
В. Г. Белинский
О Дни трагической гибели Пушкина Россия внезапно услы-
шала голос молодого поэта, которому суждено было стать
преемником Пушкина в осиротевшей русской литературе. Это
был двадцатидвухлетний офицер императорской гвардии Михаил
Юрьевич Лермонтов, написавший стихи на смерть Пушкина —
скорбные, гневные, обличительные. Он сказал в этих стихах, что
руку убийцы направляли вельможи, окружавшие императорский
трон. Он грозил им народной расправой, предрекал, что их, пала-
чей Гения, Свободы и Славы России, ждет суд истории. Стихи
переписывались и ходили по рукам, как прокламации.
Так началась всенародная слава Лермонтова. Как солдат
в бою, он подхватил знамя русской поэзии, выпавшее из рук
убитого Пушкина, и встал на его место.
Правительство Николая I расценило стихи Лермонтова как
призыв к революции. Оно сразу почувствовало в новом поэте
преемника декабристов и Пушкина и поторопилось принять суро-
вые меры. Лермонтов был арестован и сослан на Кавказ, под
пули горцев.
...Он ехал на Кавказ, где бывал еще в детстве, когда бабушка
Елизавета Алексеевна Арсеньева возила его на Воды — в Горя-
чеводск, как называли тогда нынешний Пятигорск, и на Терек.
С детских лет открылся ему героический мир — сражающийся
Кавказ, где царское самодержавие вело долголетнюю войну с
горцами. Лермонтов запомнил черкесов в мохнатых шапках и
17
бурках, скачки джигитов, огненные пляски и хороводы, слышал
горские песни, легенды, предания. С малых лет поражали его
рассказы о кровавой мести, кровопролитных сражениях и схват-
ках. Все в этом крае было необыкновенно и ново — обычаи,
нравы и горцев, и русских: казаков, солдат, офицеров, на которых
наложили свой отпечаток кавказская жизнь и законы долголет-
ней войны. Жизнь, полная тревог, опасностей и лишений, рождала
героев. Много было на Кавказе людей, неугодных правительству,
недовольных порядками царской России. И Кавказ с ранних лет
вошел в сознание Лермонтова как край свободы и чести, как
родина благородных и возвышенных стремлений.
Теперь он снова ехал на Кавказ, но уже не по своей воле,
а как изгнанник. И вот снова — уже зрелым человеком, уже
поэтом — увидел он этот край. И снова соприкоснулся с бытом
и нравами народов Кавказа. Побывал в Пятигорске и Кисло-
водске, проехал вдоль Кубани и Терека, ночевал в казачьих
станицах.
Год спустя Лермонтов вернулся в Петербург. Скитания по
Кавказу, впечатления и замыслы поэта начали оживать в его сти-
хах и поэмах. Однако вскоре его сослали вторично. Правительство
Николая I опасалось все возрастающей славы молодого поэта.
Сохранилось предание, что перед отъездом из Петербурга
Лермонтов заехал проститься с друзьями, в доме которых по-
стоянно бывал... Из окна были видны тучи, плывшие над Фон-
танкой1 и деревьями Летнего сада. И будто бы тут же Лермонтов
сочинил и прочел стихотворение «Тучи», заключавшее в себе
иносказательный смысл, намекавший на личную и политическую
судьбу опального2 автора...
Снова потянулись тряские дороги, замелькали подорожные
столбы и раскинулся бесконечный горизонт...
В последний раз Лермонтов приезжал в Петербург лишь на
короткий отпуск, разрешенный ему для свидания с бабушкой.
Накануне отъезда, после того как ему было предписано покинуть
столицу в сорок восемь часов, он написал гневное стихотворение
«Прощай, немытая Россия...». Это было одно из самых сильных
и смелых политических произведений Лермонтова...
Вскоре Лермонтов погиб на дуэли в окрестностях Пятигорска,
15 июля 1841 года...
1 Фонтанка — название реки.
2 Опальный — находящийся в опале, в немилости.
18
Эпизод сражения при Валерике. Рисунок М. Лермонтова и Г. Гагарина.
Каждый раз, когда мы произносим имя Лермонтова, к глубо-
кому раздумью и бесконечному восхищению, которые всегда
возбуждает его поэзия, примешиваются чувства сожаления
и горечи. Вряд ли во всей мировой литературе можно вспомнить
столь же великого поэта, жизнь которого оборвалась так рано.
А поэзия его составила целый этап в развитии литературы. Имя
Лермонтова стоит вторым в ряду имен величайших русских
поэтов: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, Маяковский...
Проходят годы, десятилетия. Но не тускнеет, не бледнеет
поэтическое слово Лермонтова. Перелистывая томики его сочи-
нений, мы всегда проникаемся героическим духом его поэзии,
ее неповторимым лирическим содержанием и думаем о нем, как
об одном из величайших поэтов мира и как о живом!
Ираклий А ндроников.
Вопросы и задания
1. Как отнесся Лермонтов к тибели Пушкина?
2. Рассмотрите рисунки ДА. Ю. Лермонтова. Что изображено на них? Как
связаны они с жизнью поэта?
19
3. Подготовьте устный рассказ на тему «Кавказ в жизни Лермонтова»,
используя материал статьи, рисунки поэта, сообщение учителя. Составьте план
своего рассказа.
4. Прочитайте в книге «Рассказы литературоведа» И. Аидроиикова главу
«Подпись под рисунком».
ТУЧИ
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные.
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
1840 г.
Вопросы и задания
1. Каким настроением проникнуто это стихотворение?
2. Каков скрытый смысл второго четверостишия? Почему вначале поэт
сравнивает, а потом противопоставляет себя вечно холодным и свободным
тучам? Какие изобразительные средства языка помогают нам понять его пере-
живания?
3. Готовясь к выразительному чтению, подумайте, как передать переживания
гонимого поэта и его глубокую любовь к родине. Выучите стихотворение наизусть.
Прощай, немытая Россия, Быть может, за стеной Кавказа
Страна рабов, страна господ. Сокроюсь от твоих пашей3,
И вы, мундиры голубые1, От их всевидящего глаза,
И ты, им преданный2 народ. От их всеслышащих ушей.
1841 г.
1 Мундиры голубые носили во времена Лермонтова офицеры корпуса жан-
дармов.
2 Преданный — здесь: отданный во власть.
3 Паши — военные сановники в султанской Турции. В России народ в
насмешку звал пашами царских жандармов.
20
Вопросы
1. Что вызывает у поэта чувство боли, гнева и возмущения?
2. Почему это стихотворение можно назвать смелым вызовом, обличающим
самодержавную Россию?
* КИНЖАЛ
Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал.
На грозный бой точил черкес свободный.
Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
Но светлая слеза — жемчужина страданья.
И черные глаза, остановись на мне,
Исполненны таинственной печали.
Как сталь твоя при трепетном огне.
То вдруг тускнели, то сверкали.
Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.
1838 г.
*
Горные вершины Не пылит дорога,
Спят во тьме ночной; Не дрожат листы...
Тихие долины Подожди немного,
Полны свежей мглой; Отдохнешь и ты.
1840 г.
*УТЕС
Ночевала тучка золотая Но остался влажный след
На груди утеса-великана; в морщине
Утром в путь она умчалась Старого утеса. Одиноко
рано, Он стоит, задумался глубоко,
По лазури весело играя; И тихонько плачет он
в пустыне.
1841 г.
21
*
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой1, она.
И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход.
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.
1841 г.
Вопросы и задания
1. Прочитайте стихи поэта, рекомендованные для самостоятельного чтения
и обсуждения в классе. Какое из этих стихотворений вам понравилось? Почему?
Передайте в чтении выбранного вами стихотворения чувства поэта.
2. Какие другие стихотворения поэта вам известны? В каких произьедсниь'
советской литературы вспоминаются стихи М. Ю. Лермонтова?
ЧТО ТАКОЕ СТИХИ.
ДВУСЛОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ СТИХА
Каждый человек безошибочно отличает стихи от прозы. В этом
в первую очередь ему помогает слух. Стихотворная речь резко
выделяется своим ритмическим построение^ и музыкальностью.
Сейчас мы постараемся понять, в чем тут дело. Всякое слово,
которое мы произносим, обязательно несет на себе ударение,
падающее на один из гласных звуков: ветер, берёза, поясок.
Каждое отдельное слово, как известно, делится на слоги, и один
из этих слогов всегда будет отмечен ударением...
Возьмем отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «Зимняя
дорога» и запишем его так: «По зимней скучной дороге бежит
борзая тройка»... Никакого музыкального впечатления от этой
простой фразы мы не получим.
Но стоит только переставить те же слова, и мы сразу ощутим
музыкальный характер фразы и узнаем в ней стих.
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит.
Что же случилось? Почему так неузнаваемо преобразилась
обычная фраза: «По зимней скучной дороге бежит борзая трой-
1 Раза — парадное церковное одеяние, вытканное золотом или серебром
22
ка». Если мы сравним ес го стихами, io убедимся, что в стихо-
творении те же самые слова расположены в иной, строгой систе-
ме. Стихотворные строки отличаются особой организованностью,
размеренным и правильным чередованием ударных слогов с не-
ударными, то есть ритмичностью.
Для того чтобы убедиться в этом, разделим слова в стихо-
творной строчке на слоги и расставим ударения:
По-до-ро-ге-зим-ней-скуч-ной
Трой-ка-бор-за-я-бе-жит.
Вы сами видите, что после ударного слога следует неударный,
что они чередуются в определенном порядке. Это станет еще
понятнее, если взглянуть на схему:
II - - II - - II - - II - - II
II - - II - - II------11-11
Вы, вероятно, заметили, что все слоги разбиваются на группы
в каждой из которых ударный слог сочетается с неударным
Такая группа в поэзии носит название стопы.
В зависимости от количества слогов стопа может быть дву-
сложной или трехсложной. Вот, например, двусложные стопы:
II - - II - - II
а вот стопы трехсложные:
-I-------|| - - - ||----------- ||
Порядок расположения ударных и неударных слогов в стопе
называется размером. Если ударение падает на первый слог
в двусложной стопе, то этот размер носит название хо-
рей: — — ||.
Стихотворение А. С. Пушкина «Зимняя дорога», пример из
которого приводится выше, написано хореем. А вот несколько
строк из другого стихотворения поэта, которое также написано
хореем:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То,.как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...
(«Зимний вечер».)
23
Второй двусложный стихотворный размер — ямб. Ударение
в этом случае падает на второй слог: сначала — неударный,
а потом — ударный. В схеме это будет выглядеть так:
II - - II - - II - - II - - II
Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
(«Полтава».)
Конечно, не одним только размером определяется музыкаль-
ный характер поэтического произведения... Но стихотворный
размер всегда является первичной основой стиха. При этом не
следует забывать, что самое главное в произведении — это
мысль, чувство его творца.
(Из книги Вс. Рождественского «Читая Пушкина».)
Вопросы и задания
1. Чем отличается стихотворная речь от прозаической?
2. Что такое стопа? Выпишите в тетради первые строчки из «Полтавского
боя» и стихотворения «Узник». Обозначьте условными знаками ударные и не-
ударные слоги и определите, где двусложные и трехсложные стопы.
3. Какие стихотворные размеры вы знаете? Приведите примеры. (Вспомните
знакомые вам стихотворения А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.)
Николай
Васильевич
ГОГОЛЬ
(1809—1852)
Мысли мои, мое имя, мои труды
будут принадлежать России...
Н. В. Гоголь
О начале 1830 года в журнале «Отечественные записки» была
напечатана повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана
Купала...».
Василий Андреевич Жуковский, известный поэт и переводчик,
был от повести в восторге, он непременно хотел познакомиться
с автором и пригласил его к себе на «субботу»: по субботам
у него собирались друзья — писатели, музыканты, артисты. Зна-
комство Гоголя с Жуковским скоро перешло в дружбу...
Подошел и 1831 год — один из самых знаменательных в
жизни Гоголя: он познакомился с Пушкиным. Ничего на свете
не было для него выше и дороже Пушкина, вся жизнь его осве-
тилась, хотелось быть лучше, чище, сделать что-то большое.
«Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему»,—
говорил Гоголь. А Пушкин, встречавший как праздник все моло-
дое, талантливое, с первой минуты и навсегда полюбил Гоголя.
На лето Гоголь уехал в Павловск, в дачную местность не-
далеко от Петербурга. Здесь он жил в качестве учителя в одном
семействе.
В нескольких верстах от Павловска, в Царском Селе, посе-
лился в то лето и Пушкин, там же жил Жуковский. И Гоголь
часто по вечерам уходил к ним. Пушкин тогда готовил к печати
«Повести Белкина», писал «Сказку о царе Салтане».
Поздно вечером возвращался Гоголь домой. И как много
прекрасных, возвышенных мыслей и чувств будили в нем эти
необыкновенные вечера, как хотелось работать,— казалось, что
25
весь мир можно перевернуть. Одну за другой писал он теперь
свои повести: «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или Утоп-
ленница», «Пропавшая грамота», «Заколдованное место».
К августу ночи стали прохладнее, угрюмее становилось петер-
бургское небо, а перед глазами все жарче горела любимая сол-
нечная Украина со своими песнями, сказками, знойными летними
днями и темными ночами.
«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!» —
так начинается «Сорочинская ярмарка», повесть о первой юной
любви парубка Грицко и гордой девушки Параски... Много раз
переделывал, переписывал он каждую свою повесть. Ему радо-
стно, когда удается верно схватить и передать мягкий ритм
украинской речи, вставить кстати меткое украинское словечко.
Он вырос на Украине, хорошо знал и любил ее песни, сказки,
украинский язык. И потому, может быть, герои его повестей
часто говорят так, как песню поют...
Все больше и больше захватывала Гоголя эта работа: «За-
нятия мои теперь составляют неизъяснимое удовольствие для
души. Я более нежели когда-либо тружусь и более нежели
когда-либо весел»,— писал он матери. В Петербургской типогра-
фии уже печаталась первая книга «Вечеров на хуторе близ
Диканьки». «Что-то скажут читатели?» — думал Гоголь, и на
душе у него становилось беспокойно. Правда, первым читателям
книги — наборщикам — она очень понравилась. Как-то пришел
он в типографию, только заглянул в дверь, а наборщики «давай
каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к
стенке».
«Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки»...— писал Пушкин.—
Они изумили меня... Поздравляю публику с истинно веселою
книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов...»
Как-то в самом конце 1833 года Гоголь зашел к Пушкину.
Слуга провел его в небольшой кабинет, заставленный книжными
полками. Пушкин был дома один. Как всегда, увидев Пушкина,
Гоголь просиял. Пушкин вносил в его жизнь столько света,
радости, так умел хорошо, вовремя похвалить, сказать нужные
и важные слова, подбодрить! И теперь, посидев и поговорив,
Гоголь вдруг вытащил из кармана свернутую тетрадку.
«Славная бекеша1 у Ивана Ивановича! отличнейшая! А ка-
1 Бекеша — мужское пальто (на меху или на вате) со сборками в талии
и разрезом сзади.
26
кие смушки1! Фу-ты пропасть, какие смушки! сизые с моро-
зом!»— так начал он и с чуть заметной лукавой усмешкой
в глазах прочел всю «Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем».
Что это — веселый анекдот? Но Гоголь дочитывает последнюю
страницу, и веселый анекдот становится грустной повестью о не-
лепой и смешной ссоре двух Иванов, о бесполезно прожитой ими
жизни. Повесть кончается так: «Скучно на этом свете, господа!»
Но разве нет и не было на Украине других людей — смелых,
сильных? Разве народ, у которого так много чудесных сказаний
о воле, о счастье, о любви, не боролся за другую жизнь — свет-
лую, прекрасную? И разве он не сумеет рассказать о таких людях?
И все больше и больше погружается Гоголь в изучение
истории украинского народа, настойчиво, терпеливо роется он
в исторических сочинениях, читает летописи, продолжает соби-
рать народные песни, предания, записывает их. И, овеянная
народной поэзией, встает перед ним живая, яркая история наро-
да, а воображение рисует битвы, вольные и дикие степи. Бури
народные, борьба за национальную независимость — вот что
привлекало Гоголя в истории Украины XV—XVII веков.
На украинских землях западнее Днепра хозяйничали в то
трудное время польские паны. Они угнетали крестьян, беря с них
непосильную дань, преследовали все национальное, украинское.
Многие крестьяне, не выдержав гнета, бежали от кабалы на юг,
в широкие степи, в низовья Днепра. На острове Хортица у днеп-
ровских порогов возник укрепленный лагерь беглых крестьян.
Они стали называться запорожскими козаками, так как жили
«за порогами» Днепра. Защищаясь от врагов, устраивали засеки,
то есть преграды из наваленных деревьев. Засека — по-украински
«сечь». Поэтому и лагерь их стал называться Запорожской
Сечью. Запорожское козачество боролось и с польской шляхтой,
и с турками, которые часто нападали на эти земли. В этой упор-
ной борьбе за родную землю формировались могучие характеры,
крепкие натуры, так привлекавшие Гоголя своей удалью и героиз-
мом, укреплялось товарищество, росла «русская сила козаче-
ства».
(Из книги Н. С. Шер «Рассказы о русских писателях».)
Задание
Расскажите о дружбе Н. В. Гоголя с А. С. Пушкиным.
1 Смушки — здесь: воротник и манжеты из шкурок ягнят.
27
ТАРАС БУЛЬБА
(В сокращении)
I
— А поворотись-ка, сын! Экий ты смешной какой! Что это
на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии?
Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих,
учившихся в киевской бурсе1 и приехавших уже на дом к отцу.
Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие
молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные
семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым
пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень
смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив
глаза в землю.
— Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько,—
продолжал он, поворачивая их,— какие же длинные на вас
свитки2! Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было.
А побеги который-нибудь из вас! я посмотрю, не шлепнется ли
он на землю, запутавшися в полы.
— Не смейся, не смейся, батьку! — сказал, наконец, старший
из них.
— Смотри ты, какой пышный3! А отчего ж бы не смеяться?
— Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то,
ей-богу, поколочу!
— Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька?..— сказал Тарас
Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад.
— Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого.
— Как же хочешь ты со мною биться? разве на кулаки?
— Да уж на чем бы то ни было.
— Ну, давай на кулаки! — говорил Бульба, засучив рукава,—
посмотрю я, что за человек ты в кулаке!
И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки,
начали садить друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в
грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.
— Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил
с ума! — говорила бледная, худощавая и добрая мать их,
стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных
1 Бурса — духовное училище.
2 Свитка — верхняя длинная одежда.
Пышный — здесь: гордый, недотрога.
28
детей своих.— Дети приехали домой, больше года их не видели,
а он задумал нивесть что: на кулаки биться!
— Да он славно бьется! — говорил Бульба, остановившись.—
Ей-богу, хорошо! — продолжал он, немного оправляясь,— так,
хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здорово,
сынку! почеломкаемся! — И отец с сыном стали целоваться.—
Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому
не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство: что это за
веревка висит? А ты, бейбас1, что стоишь и руки опустил? — го-
ворил он, обращаясь к младшему,— что ж ты, собачий сын, не
колотишь меня?
— Вот еще что выдумал! — говорила мать, обнимавшая меж-
ду тем младшего.— И придет же в голову этакое, чтобы дитя
родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя молодое,
проехало столько пути, утомилось... (это дитя было двадцати
с лишком лет и ровно в сажень ростом). Ему бы теперь нужно
опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться!
— Э, да ты мазунчик2, как я вижу! — говорил Бульба.— Не
слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знает. Какая
вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь: вот
ваша нежба! А видите вот эту саблю! вот ваша матерь! Это всё
дрянь, чем набивают головы ваши: и академия, и все те книжки,
буквари и философия, и всё это ка зна що3, я плевать на все
это!..— А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на За-
порожье. Вот где наука, так наука! Там вам школа; там только
наберетесь разуму.
— И всего только одну неделю быть им дома? — говорила
жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха мать.—
И погулять им, бедным, не удастся; не удастся и дому родного
узнать, и мне не удастся наглядеться на них!
— Полно, полно выть, старуха! Козак не на то, чтобы во-
зиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбки да
и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай,
да ставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек,
медовиков, маковников и других пундиков4; тащи нам всего
барана, козу давай, меды сорокалетние! Да горелки побольше.
1 Бёйбас — балбес.
2 Мазунчик — избалованный, маменькин сын.
3 Ка зна що — черт знает что.
’ Пундики — сладости.
29
не с выдумками горелки, с изюмом и всякими вытребеньками1,
а чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела, как бешеная.
Бульба повел сыновей своих в светлицы, откуда проворно
выбежали две красивые девки-прислужницы, в червонных мони-
стах2, прибиравшие комнаты. Они, как видно, напугались приезда
паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели
соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опро-
метью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от силь-
ного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того вре-
мени, о котором живые намеки остались только в песнях да в на-
родных думах, уже не поющихся более на Украине бородатыми
старцами-слепцами, в сопровождении тихого треньканья банду-
ры3 и в виду обступившего народа; во вкусе того бранного,
трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и
битвы на Украйне за унию4. Все было чисто, вымазано цветной
глиною. На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода
и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка
на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были
маленькие, с круглыми, тусклыми стеклами, какие встречаются
ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя
было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон
и дверей были красные отводы5. На полках по углам стояли
кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные
серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: вене-
цейской6, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы
всякими путями через третьи и четвертые руки, что было весьма
обыкновенно в те удалые времена. Берестовые7 скамьи вокруг
всей комнаты; огромный стол под образами в парадном углу;
широка'я печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая
цветными, пестрыми изразцами,— всё это было очень знакомо
нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на
каникулярное время, приходившим потому, что у них не было
еще коней, и потому, что не в обычае было позволять школярам
1 Вытребёньки — причуды, затеи.
Червонное монисто — красное ожерелье.
3 Бандура — народный украинский музыкальный инструмент.
4 Уния — объединение православной церкви с католической под властью
римского папы.
Отводы — деревянные украшения.
6 Венецёйская — венецианская.
' Берестовые — сделанные из вяза, который на Украине называют берестом.
30
ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог
выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба только при
выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.
Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотни-
ков и весь полковой чин, кто только был налицо; и когда пришли
двое из них и есаул1 Дмитро Товкач, старый его товарищ, он
им тот же час их представил, говоря:
— Вот, смотрите, какие молодцы! На Сечь их скоро пошлю.
Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей и сказали им,
что доброе дело делают и что нет лучшей науки для молодого
человека, как Запорожская Сечь.
— Ну ж, паны браты, садись всякий, где кому лучше за стол.
Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки! — так говорил Буль-
ба.— Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап,
и ты, Андрий! Дай же боже, чтоб вы на войне всегда были
удачливы! Чтобы бусурманов2 били, и турков бы били, и татарву
били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить,
то и ляхов бы били! Ну, подставляй свою чарку; что, хороша
горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были
латынцы: они и не знали, есть ли. на свете горелка. Как бишь,
того звали, что латинские вирши3 писал? Я грамоте разумею
не сильно, а потому и не знаю; Гораций4, что ли?
«Вишь, какой батько! — подумал про себя старший сын,
Остап,— всё, старый собака, знает, а еще и прикидывается».
— Я думаю, архимандрит5 не давал вам и понюхать горел-
ки,— продолжал Тарас.— А признайтесь, сынки, крепко стегали
вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что ни
есть у козака? А может, так как вы сделались уже слишком
разумные, так, может, и плетюганами пороли? Чай, не только
по субботам, а доставалось и в середу и в четверги?
— Нечего, батько, вспоминать, что было,— отвечал хладно-
кровно Остап: — что было, то прошло!
— Пусть теперь попробует! — сказал Андрий,— пускай толь-
ко теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется
1 Есаул — средний офицерский чин в казачьих войсках.
2 Бусурман (басурман) — иноверец; здесь: иноземец.
3 Вирши — стихи.
Гораций — знаменитый древнеримский поэт.
5 Архимандрит — монашеский чин; здесь: настоятель, то есть начальник
духовного училища.
31
теперь какая-нибудь татарва, будет знать она, что за вещь
козацкая сабля!
— Добре, сынку! ей-богу, добре! Да когда на то пошло, то
и я с вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне здесь ждать!
Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за
свиньями, да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не
хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запо-
рожье, погулять. Ей-богу, еду! — И старый Бульба мало-помалу
горячился, гор’ячился, наконец, рассердился совсем, встал из-за
стола и, приосанившись, топнул ногою.— Завтра же едем! Зачем
откладывать! Какого врага мы можем здесь высидеть? На что
нам эта хата? К чему нам всё это? На что эти горшки? — Ска-
завши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки.
Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего
мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего
говорить; но, услыша о таком страшном для нее решении, она
не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с кото-
рыми угрожала ей такая скорая разлука,— и никто бы не мог
описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось,
трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. (...)
Тарас был один из числа коренных, старых полковников:
весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой
прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже
оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже
польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги,
соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу.
Он любил простую жизнь Козаков и перессорился с теми из
своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне,
называя их холопьями польских панов. Неугомонный вечно, он
считал себя законным защитником православия. Самоуправно
входил в села, где только жаловались на притеснения аренда-
торов и на прибавку новых пошлин с дыма1 2. Сам с своими
козаками производил над ними расправу и положил себе пра-
вило, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, имен-
2
но: когда комиссары не уважили в чем старшин и стояли пред
ними в шапках; когда поглумились над православием и не
почтили предковского закона и, наконец, когда враги были
бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае
1 С дыма — здесь: с каждой хаты.
2 Комиссары — здесь: польские сборщики податей.
32
позволительным поднять оружие во славу христианства. Теперь
он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями
своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов
привел к вам!»; как представит их всем старым, закаленным
в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в
ратной науке1 и бражничестве, которое почитал тоже одним из
главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить
их одних. Но при виде их свежести, рослости, могучей телесной
красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день
решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была
одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выби-
рал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в ко-
нюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра
С ними ехать. Есаулу Товкачу передал свою власть вместе с
крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если
только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был
и навеселе и в голове еще бродил хмель, однако ж не забыл
ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли
крупной и первой пшеницы, и пришел усталый от своих забот.
— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать
то, что бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель.
Мы будем спать на дворе.
Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился
рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом,
потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что
Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре
захрапел, и за ним последовал весь двор; всё, что ни лежало
в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул
сторож, потому что более всех напился для приезда паничей.
Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих
сыновей своих, лежавших рядом; она расчесывала гребнем их
молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами;
она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превра-
тилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила
их собственною грудью, она возрастила, взлелеяла их — и только
на один миг видеть йх перед собою. «Сыны мои, сыны мои
милые! что будет с вами? что ждет вас?» — говорила она,
и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то
прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая * 2
1 Ратная наука военная наука.
2. Зак. 2348. М. А. Снежневская
33
женщина того удалого века. (...) Она видела мужа в год два-
три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуха. Да и когда
виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была?
Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости
только оказываемые ласки, она была какое-то странное суще-
ство в этом сборище безженных рыцарей, на которых раз-
гульное Запорожье набрасывало суровый колорит1 свой. (...)
Вся любовь, все чувства, всё, что есть нежного и страстного
в женщине, всё обратилось у ней в одно материнское чувство.
Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась
над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от
нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает,
может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она
не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет
хищная подорожная птица и за каждый кусочек которых, за
каждую каплю крови она отдала бы всё. Рыдая, глядела она
им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и ду-
мала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на
два отъезд; может быть, он задумал оттого так скоро ехать,
что много выпил».
Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, напол-
ненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором
потонул частокол, окружавший двор. Она всё сидела в головах
милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих
и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву
и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-
помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она
просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне
желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи
понеслось звонкое ржание жеребенка; красные полосы ясно
сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень
хорошо помнил всё, что приказывал вчера.
— Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней!
А где стара?—(так он обыкновенно называл жену свою).—
Живее, стара, готовь нам есть, потому, что путь великий лежит!
Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло
поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила всё,
что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возил-
ся на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства.
1 Колорит — оттенок.
34
Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних
запачканных сапогов, сафьянные1 красные, с серебряными под-
ковами; шаровары, шириною в Черное море, с тысячью складок
и со сборами, перетянулись золотым очкуром2; к очкуру при-
цеплены были длинные ремешки, с кистями и прочими побря-
кушками, для трубки. Казакин3 алого цвета, сукна яркого, как
огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие писто-
леты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам их. Их
лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели;
молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их
и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными
бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать! Она как
увидела их, она и слова не могла промолвить, и слезы остано-
вились в глазах ее.
— Ну, сыны, всё готово! нечего мешкать! — произнес, на-
конец, Бульба.— Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед
дорогою всем присесть.
Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно
у дверей.
— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба,—
моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда
честь лыцарскую4, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не
то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете!
Подойдите^ дети, к матери: молитва материнская и на воде и на
земле спасает.
Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие
иконы, надела им, рыдая, на шею.
— Пусть хранит вас... божья матерь... Не забывайте, сынки,
мать вашу... пришлите хоть весточку о себе...
Далее она не могла говорить.
— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба.
У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего
Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двад-
цатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжел
и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней,
она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось
Сафьян — кожа высокого качества.
Очкур - шнурок, которым затягивали шаровары.
, Казакин мужское верхнее платье на крючках со сборками сзади.
Рыцарскую.
2*
35
Тарас. Художник Е. Кибрик.
более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она
прилипнула к седлу его и с отчаяньем во всех чертах не вы-
пускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно
и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всею
легкостью дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за
ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла
36
одного из сыновей с какою-то помешанною, бесчувственною
горячностию; ее опять увели. Молодые козаки ехали смутно1
и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же,
с своей стороны, тоже был несколько смущен, хотя не старался
этого показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы
щебетали как-то в разлад. Они, проехавши, оглянулись назад:
хутор их как будто ушел в землю; только стояли на земле две
трубы от их скромного домика да одни только вершины дерев,
по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний
луг еще стлался перед ними,— тот луг, по которому они могли
припомнить всю историю жизни, от лет, когда катались по
росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую
козачку, боязливо летевшую через него с помощию своих све-
жих, быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем
СУ
с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит на
небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали
горою и всё собою закрыла.— Прощайте и детство, и игры,
и всё, и всё!
II
Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал
о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его
протекшие лета, о которых всегда почти-плачет козак, желавший
бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого
он встретит на Сечи из своих прежних сотоварищей. Он вы-
числял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо
круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло пону-
рилась.
Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно ска-
зать поболее о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому
году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники
тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание
своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно
позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу,
дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно не-
сколько шлифовались2 и получали что-то общее, делавшее их
похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое
поприще, что в первый год еще бежал-. Его возвратили, высекли
страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой
1 Смутно — здесь: печально.
Шлифовать — здесь: воспитывать, обучать, улучшать.
37
Остап. Художник Е. Кибрик.
букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно,
покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в
пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания про-
держать его в монастырских служках целые двадцать лет и не
поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не
выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил
тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость
и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею.
С этого времени Остап начал с необыкновенным старани-
ем сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучши-
ми. (...)
Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко
предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обо-
брать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из
первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака,
и никогда, ни в каком случае, не выдавал своих товарищей.
Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать.
Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной
пирушки; по крайней мере никогда почти о другом не думал.
Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде,
в каком она могла только существовать при таком характере
и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной
38
матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво
опустить голову.
Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее
и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения,
с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер.
Он был более изобретателен, нежели его брат; чаще являлся
предводителем довольно опасного предприятия и иногда, с по-
мощью изобретательного ума своего, умел увертываться от
наказания, тогда как брат его Остап, отложивши всякое попе-
чение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая
просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но
вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. (...)
Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-
нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном
закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низень-
ких домиков, заманчиво глядевших на улицу.^Иногда он заби-
рался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где
жили малороссийские и польские дворяне и домы были выстроены
с некоторою прихотливостью. Один раз, когда он зазевался,
наехала почти на него колымага какого-то польского пана,
и сидевший на козлах возница с престрашными усами хлыснул
его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безум-
ною смелостию хватил он мощною рукою своею за заднее колесо
и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по
лошадям, они рванули,— и Андрий, к счастию, успевший отхва-
тить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый
звонкий и гармонический1 смех раздался над ним. Он поднял
глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не
видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный
утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех
придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторо-
пел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая
с лица своего грязь, которою еще более замазывался/.Кто бы
была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая
кучею, в богатом убранстве, стояла за воротами, окруживши
игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех,
увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом.
Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время
ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною
Гармонйческий — здесь: нежный, благозвучный, красивый.
39
Андрий. Художник Е. Кибрик.
одним бурсакам дерзостию, он пролез чрез частокол в сад,
взлез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшимися в самую
крышу дома; с дерева перелез на крышу и через трубу камина
пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время
сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги.
Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед
собою незнакомого человека, что не могла произнесть ни одного
слова; но, когда увидела, что бурсак стоял, потупив глаза и не
смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же
самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех
вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было
страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась
и долго забавлялась над ним. (...) Он представлял смешную
фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные
очи. Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. Она
велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство
прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала
ей приказание осторожно вывесть его в сад и оттуда отправить
через забор. (...) Вот о чем думал Андрий, повесив голову
и потупив глаза в гриву коня своего.
А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые
объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только
40
козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями.
_____ Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал,
наконец, Бульба, очнувшись от своей задумчивости.— Как будто
какие-нибудь чернецы1 *! Ну, разом, разом! Все думки к нечистому!
Берите в зубы люльки да закурим, да пришпорим коней, да
полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!
И козаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве.
Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только быстрая
молния сжимаемой травы показывала бег их.
Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живитель-
ным, теплотворным светом своим облило степь. Всё, что смутно
и сонно было на душе у Козаков, вмиг слетело; сердца их встре-
пенулись, как птицы.
Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь
юг, всё то пространство, которое составляет нынешнюю Ново-
россию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною
пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам
диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как
в лесу, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше
их. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океа-
ном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь
тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лило-
вые волошки3; желтый дрок4 выскакивал вверх своею пирами-
дальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками
пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос
пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли
куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью
разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы,
распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои
в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался
бог знает в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными
взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха.
Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною
точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солн-
цем. Черт вас возьми, степи, как вы хороший Наши путешествен-
ники несколько минут только останавливались для обеда, причем
1 Чернец — монах.
Люлька — здесь: трубка для курения.
Волошки — васильки.
Дрок — степное растение нз семейства бобовых.
41
ехавший с ними отряд из десяти Козаков слезал с лошадей,
отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употреб-
ляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи,
пили только по одной чарке, единственно для подкрепления,
потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в до-
роге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совер-
шенно переменялась. Всё пестрое пространство ее охватывалось
последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так
что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась
темно-зеленою; испарения подымались гуще, каждый цветок,
каждая травка испускала амбру1, и вся степь курилась благо-
вонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою2
кистью наляпаны были широкие по/осы из розового золота;
изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый
свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва
колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался до щек.
Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою.
Пестрые овражки3 выползывали из нор своих, становились на
задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков
становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уеди-
ненного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе.
Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег,
раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили
себе кулиш4; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе.
Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных
коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо
глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчис-
ленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист,
краканье; всё это звучно раздавалось среди ночи, очищалось
в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим.
Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то
ему представлялась степь усеянною блестящими искрами све-
тящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освеща-
лось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого
тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг
1 Амбра — ароматическое вещество; здесь: аромат, приятный запах.
’ Исполинский — огромный, большой, гигантский.
3 Овражки — здесь: суслики.
4 Кулиш — жидкая каша с салом.
42
освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что
красные платки летели по темному небу.
Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не
попадались им деревья, всё та же бесконечная, вольная, пре-
красная степь. По временам только в стороне синели верхушки
отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только
раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней
траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!»
Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них
узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как
серна, пропала, увидевши, что Козаков было тринадцать человек.
«А ну, дети, попробуйте догнать татарина!., и не пробуйте —
вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж
Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся
засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся
Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими
и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже,
выбравшись на берег, они продолжали далее путь. Чрез три
дни после этого они были уже недалеко от места, служившего
предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело; они почув-
ствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною
полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами
и расстилался ближе, ближе и, наконец, обхватил половину
всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он,
дотоле спертый порогами, брал, наконец, свое и шумел, как
море, разлившись по воле; где брошенные в середину его острова
вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались по
самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки
сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания
были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сечь, так
часто переменявшая свое жилище. Куча народа бранилась на
берегу с перевозчиками. Козаки оправили коней. Тарас при-
осанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою
по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы
с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, и все
вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от
Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов,
Ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и выры-
тых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец
на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари
43
под ятками* сидели с кучами кремней, огнивами и порохом.
Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах
бараньи катки с тестом1 2. (...) Но первый, кто попался им на-
встречу, это был запорожец, спавший на самой средине дороги,
раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться
и не полюбоваться на него.
— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигу-
ра! — говорил он, остановивши коня.
В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец,
как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захва-
тывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна
были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения.
Полюбовавшись, Бульба пробирался далее сквозь тесную улицу,
которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими
ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявшими это пред-
местие Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало
и кормило Сечь, умевшую только гулять да палить из ружей.
Наконец они минули предместие и увидели несколько раз-
бросанных куреней3, покрытых дерном или, по-татарски, войло-
ком. Иные уставлены были пушками. Нигде не видно было
забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких
деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой
вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали
страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших
с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них до-
вольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно
проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте,
Панове!» — «Здравствуйте и вы!» — отвечали запорожцы. Везде,
по всему полю, живописными кучами пестрел народ. По смуглым
лицам видно было, что все они были закалены в битвах, испро-
бовали всяких невзгод. Так вот она. Сечь! Вот то гнездо, откуда
вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда раз-
ливается воля и козачество на всю Украйну! Путники выехали
на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада4. На
1 Крамара под ятками — торговцы под навесами.
2 Ворочал на рожнах бараньи катки с тестом — жарил на вертеле куски
баранины в тесте.
3 Курень — подразделение запорожского войска; здесь: шалаши, в которых
жили запорожцы.
4 Рйда — совет; здесь: военный совет запорожского войска.
44
большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки;
он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им
опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в середине
которых отплясывал молодой запорожец, заломивши чертом
свою шапку и вскинувши руками. Он кричал только: «Живее
играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным
христианам!» (...)
— Эх, если бы не конь!—-вскрикнул Тарас,— пустился бы
право, пустился бы сам в танец!
А между тем меж народом стали попадаться и степенные,
уваженные по заслугам всею Сечью, седые, старые чубы, бывав-
шие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество зна-
комых лиц. (...)
III
Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на
Сечи. Остап и Андрий мало занимались военною школою. Сечь
не любила затруднять себя военными упражнениями и терять
время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним
опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти непре-
рывны. Промежутки козаки почитали скучным занимать изуче-
нием какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель
да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах;
всё прочее время отдавалось гульбе — признаку широкого раз-
мета душевной воли. Вся Сечь представляла необыкновенное
явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начав-
шийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались
ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая
часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала воз-
можность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей
и шинкарей1. (...) Остапу и Андрию показалось чрезвычайно
странным, что при них же приходила на Сечь гибель народа,
и хоть бы кто-нибудь спросил их, откуда они, кто они и как их
зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращались в свой
собственный дом, из которого только за час пред тем вышли.
Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно
говорил: «Здравствуй! Что, во Христа веруешь?» — «Верую!» —
отвечал приходивший...— «И в церковь ходишь?» — «Хожу!» —
«А ну, перекрестись!» Пришедший крестился. «Ну, хорошо,—
1 Шинкарь — хозяин кабака, шинка.
45
отвечал кошевой1,— ступай же, в который сам знаешь, курень».
Этим оканчивалась вся церемония. <...> Сечь состояла из шести-
десяти с лишком куреней, которые очень походили на отдельные,
независимые республики, а еще более походили на школу и
бурсу детей, живущих на всем готовом. Никто ничем не заво-
дился и не держал у себя. Всё было на руках у куренного
атамана, который за это обыкновенно носил название батька.
У него были на руках деньги, платья, весь харчь, саламата2,
каша и даже топливо; ему отдавали деньги под соХран. (...)
Остап и Андрий кинулись со всею пылкостию юношей в это
разгульное море и забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу, и всё,
что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Всё
занимало их: разгульные обычаи Сечи и немногосложная управа
и законы, которые казались им иногда даже слишком строгими
среди такой своевольной республики. Если козак проворовался,
украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением
всему козачеству: его, как бесчестного, привязывали к позорному
столбу и клали возле него дубину, которою всякий проходящий
обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали
его насмерть. Не платившего должника приковывали цепью
к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь
из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него
долг. Но более всего произвела впечатление на Андрия страшная
казнь, определенная за смертоубийство. Тут же, при нем, вырыли
яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили
гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали
землею. Долго потом всё чудился ему страшный обряд казни
и всё представлялся этот заживо засыпанный человек вместе
с ужасным гробом.
Скоро оба молодые козака стали на хорошем счету у Коза-
ков. (...) Они стали уже заметными между другими молодыми
прямою удалью и удачливостью во всем. Бойко и прямо стреляли
в цель, переплывали Днепр против течения — дело, за которое
новичок принимался торжественно в козацкие круги. Но старый
Тарас готовил другую им деятельность. Ему не по душе была
такая праздная жизнь — настоящего дела хотел он. Он всё
придумывал, как бы поднять Сечь на отважное предприятие,
где бы можно было разгуляться, как следует, рыцарю. (...)
1 Кошевой — атаман.
' Саламата — мучная похлебка.
46
IV
(...) Тарас Бульба уже совещался с новым кошевым, как
поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кошевой был умный
и хитрый козак, знал вдоль и поперек запорожцев и сначала
сказал: «Не можно клятвы преступить, никак не можно.— А
потом, помолчавши, прибавил: — Ничего, можно; клятвы мы не
преступим, а так кое-что придумаем. Пусть только соберется
народ, да не то, чтобы по моему приказу, а просто своею
охотою. Вы уж знаете, как это сделать. А мы с старшинами
тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем».
Не прошло часу после их разговора, как уже грянули
в литавры1. Нашлись вдруг и хмельные и неразумные козаки.
Миллион козацких шапок высыпал вдруг на площадь. (...)
В тот же час отправились несколько человек на противо-
положный берег Днепра, в войсковую скарбницу, где, в не-
приступных тайниках, под водою и в камышах, скрывалась
войсковая казна и часть добытых у неприятеля оружий. Другие
все бросились к челнам осматривать их и снаряжать в дорогу.
Вмиг толпою народа наполнился берег...
В это время большой паром начал причаливать к берегу.
Стоявшая на нем куча людей еще издали махала руками. Это
были козаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд —
у многих ничего не было, кроме рубашки и коротенькой трубки
в зубах — показывал, что они или только что избегнули какой-
нибудь беды, или же до того загулялись, что прогуляли всё,
что ни было на теле. Из среды их отделился и стал впереди
приземистый, плечистый козак, человек лет пятидесяти. Он
кричал и махал рукою сильнее всех, но за стуком и криками
рабочих не было слышно его слов.
— Ас чем приехали? — спросил кошевой, когда паром
приворачивал к берегу. Все рабочие, остановив свои работы,
подняв топоры, долота, прекратили стукотню и смотрели в ожи-
дании.
— С бедою! — кричал с парома приземистый козак.
— С какою?
— Позвольте, Панове запорожцы, речь держать?
— Говори!
— Или хотите, может быть, собрать раду?
1 Литавры — ударный музыкальный инструмент.
47
Запорожцы. Художник И. Репин.
Говори, мы все тут.— Берег весь стеснился в одну кучу.
- Л вы разве ничего не слыхали о том, что делается на
Гетьманщине1?
- А что? — произнес один из куренных атаманов.
— Э! что? Видно, вам татарин заткнул клейтухом2 уши, что
вы ничего не слыхали.
Говори же, что там делается?
— А то делается, что и родились и крестились, еще не
видали такого.
— Да говори нам, что делается, собачий сын! — закричал
один из толпы, как видно потеряв терпение.
- Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь
не наши.
Как не наши? (...)
-- Стой, стой! — прервал кошевой, дотоле стоявший, углу-
бивши глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных
делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и
1 Гетманщина (гетманщина) — область, управляемая начальником козли-
ного войска и верховным правителем, гетманом.
’ Клёйтух-пыж - комок войлока, пеньки или шерсти.
48
между тем в тишине совокупляли грозную силу негодования.—
Стой! и я скажу слово. А что ж вы,— что ж вы делали? Разве
у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому
беззаконию?
— Э, как попустили такому беззаконию? А попробовали бы
вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов, да — и нечего
греха таить — были тоже собаки и между нашими, уж приняли
их веру.
— А гетьман ваш, а полковники что делали?
— Наделали полковники таких дел, что не приведи бог и
нам никому.
— Как?
— А так, что уж теперь гетьман, зажаренный в медном
быке, лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят
по ярмаркам напоказ всему народу. Вот что наделали полков-
ники!
Колебнулась вся толпа. Сначала на миг пронеслося по
всему берегу молчание, которое устанавливается перед свирепою
бурею, и потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил бе-
рег. (...)
— ...Чтобы вот так поступали с полковниками и гетьманом!
Да не будет же сего, не будет!
Такие слова перелетали по всем концам. Зашумели запо-
рожцы и почуяли свои силы. Тут уже не было волнений легко-
мысленного народа: волновались всё характеры тяжелые и
крепкие, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно
и долго хранили в себе внутренний жар. (...)
Теперь уже все хотели в поход, и старые и молодые; все,
с совета всех старшин, куренных, кошевого и с воли всего
запорожского войска, положили идти прямо на Польшу, отмстить
за всё зло и посрамленье веры и козацкой славы, набрать
добычи с городов, пустить пожар по деревням и хлебам и
пустить далеко по степи о себе славу. Всё тут же опоясывалось
и вооружалось. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не
был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного на-
рода; это был неограниченный повелитель. (...)
Со всех сторон раздавались топот коней, пробная стрельба
из ружей, бряканье саблей, бычачье мычанье, скрыл повора-
чиваемых возов, говор и яркий крик и понуканье. И скоро
далеко-далеко вытянулся козачий табор по всему полю. И много
49
досталось бы бежать тому, кто бы захотел перебежать все
пространство от головы до хвоста его. В деревянной небольшой
церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою;
все целовали крест. Когда тронулся табор и потянулся из Сечи,
все запорожцы обратили головы назад.
— Прощай, наша мать! — сказали они почти в одно слово,—
пусть же тебя хранит бог от всякого несчастья! (...)
V
Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха.
Всюду пронеслись слухи: «Запорожцы!., показались запорож-
цы!..» Всё, что могло спасаться, спасалось. Всё подымалось
и разбегалось в сей нестройный, изумительно беспечный век,
когда не воздвигалось ни крепостей, ни замков, а просто как
попало становил на время соломенное жилище свое человек,
думая: «Не тратить же на него работу и деньги, когда оно
и без того будет снесено дотла татарским набегом!» Всё вспо-
лохнулось: кто менял волов и плуг на коня и ружье и отправ-
лялся в полки; кто прятался, угоняя скот и унося, что только
было можно унесть. Попадались иногда по дороге такие, которые
встречали (хотя бесплодно) вооруженною рукою гостей, но
больше было таких, которые бежали заране. Все знали, что
трудно иметь дело с сей закаленной вечной бранью толпой,
известной под именем запорожского войска... А старому Тарасу
любо было видеть, как оба сына его были одни из первых.
Остапу, казалось, был на роду написан битвенный путь и труд-
ное знанье вершить ратные дела. Ни разу не растерявшись
и не смутившись ни от какого случая, с хладнокровием, почти
неестественным для двадцатидвухлетнего, он в один миг мог
вымерить всю опасность и всё положение дела, тут же мог
найти средства, как уклониться от нее, но уклониться с тем,
чтобы потом верней преодолеть ее. Уже испытанной уверенно-
стью стали теперь означаться его движения, и в них не могли
не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепкое слыша-
лось в его теле, и рыцарские его качества уже приобрели широ-
кую силу качеств льва.
— О! да этот будет со временем добрый полковник! — гово-
рил старый Тарас,— ей-ей, будет добрый полковник, да еще
такой, что и батька за пояс заткнет!
Андрий весь погрузился в очаровательную музыку пуль и
50
мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчиты-
вать, или измерять заране свои и чужие силы. Бешеную негу
и упоенье он видел в битве. Пиршественное зрелось ему в те
минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах всё мель-
кает и мешается, летят головы, с громом падают на землю
кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном
блеске и в собственном жару, нанося всем удары и не слыша
нанесенных. И не раз дивился старый Тарас, видя, как Андрий,
понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устрем-
лялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный
и разумный, и одним бешеным натиском своим производил
такие чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях.
Дивился старый Тарас и говорил:
— И это добрый — враг бы не взял его! — вояка! не Остап,
а добрый, добрый также вояка!
Войско решилось идти прямо на город Дубно, где, носились
слухи, было много казны, богатых обывателей. В полтора дня
поход был сделан, и запорожцы показались перед городом.
Жители решились защищаться до последних сил и крайности
и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими
порогами, чем пустить неприятеля в домы. Высокий земляной
вал окружал город; где вал был ниже, там высовывалась ка-
менная стена или дом, служивший батареей, или, наконец,
дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность
своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал, но были
встречены сильною картечью. Мещане и городские обыватели,
как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучею
на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное
сопротивление; даже женщины решились участвовать, и на
головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий
вар и, наконец, мешки песку, слепившего очи. Запорожцы не
любили иметь дело с крепостями, вести осады была не их часть.
Кошевой повелел отступить и сказал:
— Ничего, паны браты, мы отступим. Но будь я поганый
татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из
города! Пусть их все передохнут, собаки, с голоду!
Войско, отступив, облегло весь город... запорожцы, протянув
вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились
так же, как и на Сечи, куренями, курили свои люльки, менялись
добытым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет и посматри-
51
вали с убийственным хладнокровием на город... Молодым, и
особенно сынам Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь.
Андрий заметно скучал. «Неразумная голова,— говорил ему
Тарас.— Терпи, козак,— атаманом будешь! Не тот еще добрый
воин, кто не потерял духа в воинском деле, а тот добрый воин,
кто и на безделье не соскучит, кто всё вытерпит, и хоть ты ему
что хочь, а он все-таки поставит на своем». Но не сойтись
пылкому юноше с старцем. Другая натура у обоих, и другими
очами глядят они на то же дело.
А между тем подоспел Тарасов полк, приведенный Товкачем;
с ним было еще два есаула, писарь и другие полковые чины;
всех Козаков набралось больше четырех тысяч. Было между
ними немало и охочекомонных1, которые сами поднялись своею
волею, без всякого позыва, как только услышали, в чем дело.
Есаулы привезли сыновьям Тараса благословенье от старухи
матери и каждому по кипарисному образу из Межигорского
киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата
и невольно задумались, припомнив старую мать свою. Что-то
пророчит им и говорит это благословенье? Благословенье ли
на победу над врагом и потом веселый возврат на отчизну
с добычей и славой на вечные песни бандуристам, или же?..
Но неизвестно будущее, и стоит оно пред человеком подобно
осеннему туману, поднявшемуся из болот. Безумно летают в нем
вверх и вниз, черкая крыльями, птицы, не распознавая в очи друг
друга, голубка — не видя ястреба, ястреб — не видя голубки,
и никто не знает, как далеко летает он от своей погибели...
Остап уже занялся своим делом и давно отошел к куреням.
Андрий же, сам не зная отчего, чувствовал какую-то духоту на
сердце. Уже козаки окончили свою вечерю, вечер давно потух-
нул; июльская чудная ночь обняла воздух; но он не отходил
к куреням, не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую
перед ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и
острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными
по нем возами с висячими мазницами2, облитыми дёгтем, и вся-
ким добром и провиантом, набранным у врага. Возле телег, под
телегами и подале от телег — везде были видны разметавшиеся
на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях:
кто, подмостив себе под голову куль или шапку или употребивши
1 Охочекомонные козаки — конные добровольцы.
2 Мазницы — ведра для дегтя.
52
просто бок своего товарища. Сабля, ружье-самопал, коротко-
чубучная трубка, с медными бляхами, железными провертками
и огнивом, висели почти у каждого пояса. Тяжелые волы лежали,
подвернувши под себя ноги, большими беловатыми массами
и казались издали серыми камнями, раскиданными по отлогости
поля. Со всех сторон из травы уже стал подыматься густой
храп спящего воинства, на который отзывались из поля звон-
кими ржаньями жеребцы, негодующие на свои спутанные ноги.
А между тем величественное и грозное примешалось к Красоте
июльской ночи. Это были зарева вдали догоравших окрестно-
стей. <•••> Над огнем вились вдали птицы, казавшиеся кучею
темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город,
казалось, уснул. Шпицы, и кровли, и частокол, и стены его тихо
вспыхивали отблесками отдаленных пожарищ. Андрий обошел
козацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа,-готовились
ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, как видно,
перекусивши сильно чего-нибудь во весь козацкий аппетит. Он
подивился немного такой беспечности, подумавши: «Хорошо,
что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опа-
саться». Наконец, и сам подошел он к одному из возов, взлез
на него и лег на спину, подложивши себе под голову сложенные
назад руки; но не мог заснуть и долго глядел на небо. Оно
всё было открыто пред ним; чистота и прозрачность стояли
в воздухе. Гущина звезд, составлявшая Млечный путь, косвен-
ным поясом переходившая небо, вся была залита в свету. Вре-
менами он как будто позабывался, и какой-то легкий туман
дремоты заслонял на миг пред ним небо, и потом оно опять
очищалось и вновь становилось видно. В это время, показалось
ему, мелькнул пред ним какой-то странный образ человеческого
лица. Думая, что было то простое обаяние сна и сей же час
рассеется, он раскрыл сильнее глаза свои и увидел, что к нему,
точно, наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и
смотрело прямо ему в очи. Длинные и черные, как уголь, волосы,
неприбранные, растрепанные, лезли из-под темного наброшен-
ного на голову покрывала. И странный блеск взгляда, и мерт-
венная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заста-
вили бы скорее подумать, что это был призрак. Он схватился
невольно рукой за пищаль1 и произнес почти судорожно: — Кто
Пищаль — старинное тяжелое ружье, заряжаемое со ствола.
53
ты? Коли дух нечистый, сгинь с глаз; коли живой человек, не
в пору завел шутку,— убью с одного прицела.
В ответ на это привидение приставило палец к губам и,
казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал вгляды-
ваться в него внимательней. По длинным волосам, шее и полу-
обнаженной смуглой груди распознал он женщину. Но она
была не здешняя уроженка. Все лицо было смугло, изнурено
недугом; широкие скулы выступали сильно над опавшими под
ними щеками; узкие очи подымались дугообразным разрезом
кверху, и чем более он всматривался в черты ее, тем более
находил в них что-то знакомое. Наконец, он не вытерпел, чтобы
не спросить:
— Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или
видел где-нибудь?
— Два года назад тому в Киеве.
— Два года назад... в Киеве...— повторил Андрий, стараясь
перебрать всё, что уцелело в его памяти от прежней бурсацкой
жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрик-
нул во весь голос: — Ты — татарка! служанка панночки, Воево-
диной дочки!..
— Чшш! — произнесла татарка, сложив с умоляющим видом
руки, дрожа всем телом и обороти в то же время голову назад,
чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного
вскрика, произведенного Андрием.
— Скажи, скажи, отчего, как ты здесь? — говорил Андрий,
шёпотом, почти задыхающимся и прерывающимся всякую минуту
от внутреннего волнения.— Где панночка? жива еще?
— Она тут, в городе.
— В городе? — произнес он, едва опять не вскрикнувши,
и почувствовал, что вся кровь вдруг прихлынула к сердцу,—
отчего ж она в городе?
— Оттого, что сам старый пан в городе. Он уже полтора
года, как сидит воеводой в Дубне.
— Что ж, она замужем? Да говори же,— какая ты стран-
ная! что она теперь?..
— Она другой день ничего не ела.
— Как?..
— Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска
хлеба, все давно едят одну землю.
Андрий остолбенел.
54
— Панночка видала тебя с городского валу вместе с запо-
рожцами. Она сказала мне: «Ступай, скажи рыцарю: если он
помнит меня, чтобы пришел ко мне; а не помнит,— чтобы дал
тебе кусок хлеба для старухи, моей матери, потому что я не
хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде,
а она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги. У него
также есть старая мать,— чтоб ради ее дал хлеба!»
Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой
груди козака.
— Но как же ты здесь? Как ты пришла?
— Подземным ходом.
— Разве есть подземный ход?
— Есть.
- Где?
— Ты не выдашь, рыцарь?
— Клянусь крестом святым!
— Спустись в яр и перейдя проток, там, где тростник.
— И выходит в самый город?
— Прямо к городскому монастырю.
— Идем, идем сейчас!
— Но, ради Христа и святой Марии, кусок хлеба!
— Хорошо, будет. Стой здесь возле воза или, лучше, ложись
на него: тебя никто не увидит, все спят; я сейчас ворочусь.
И он отошел к возам, где хранились запасы, принадлежавшие
их куреню. Сердце его билось. (...)
Он шел, а биение сердца становилось сильнее, сильнее при
одной мысли, что увидит ее опять, и дрожали молодые колени.
Пришедши к возам, он совершенно позабыл, зачем пришел:
поднес руку ко лбу и долго тер его, стараясь припомнить, что
ему нужно делать. Наконец вздрогнул, весь исполнился испуга:
ему вдруг пришло на мысль, что она умирает от голода. Он
бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов
себе под руку, но подумал тут же: не будет ли эта пища,
годная для дюжего, неприхотливого запорожца, груба и не-
прилична ее нежному сложению. Тут вспомнил он, что вчера
кошевой попрекал кашеваров за то, что сварили за один раз
всю гречневую муку на саламату, тогда как бы ее стало на
добрых три раза. В полной уверенности, что он найдет вдоволь
саламаты в казанах1, он вытащил отцовский походный казанок
1 Казан — котел.
55
и с ним отправился к кашевару их куреня, спавшему у двух
десятиведерных казанов, под которыми еще теплилась зола.
Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было
нечеловеческих сил, чтобы все это съесть, тем более, что в их
курене считалось меньше людей, чем в других. Он заглянул
в казаны других куреней,— везде ничего. Поневоле пришла
ему в голову поговорка: «Запорожцы, как дети: коли мало —
съедят, коли много — тоже ничего не оставят». Что делать?
Был однако же где-то, кажется, на возу отцовского полка,
мешок с белым хлебом, который нашли, ограбивши монастыр-
скую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на
возу уже его не было: Остап взял его себе под головы и,
растянувшись возле на земле, храпел на всё поле. Он схватил
мешок одной рукой и дернул его вдруг так, что голова Остапа
упала на землю, а он сам вскочил впросонках и, сидя с закры-
тыми глазами, закричал, что было мочи: «Держите, держите
чёртова ляха, да ловите коня, коня ловите!» — «Замолчи, я тебя
убью!» — закричал в испуге Андрий, замахнувшись на него
мешком. Но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел
и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на
которой он лежал. Андрий робко оглянулся на все стороны,
чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из Козаков сонный
бред Остапа. Одна чубатая голова, точно, приподнялась в бли-
жайшем курене и, поведя очами, скоро опустилась опять на
землю. Переждав минуты две, он, наконец, отправился с своею
ношею. Татарка лежала, едва дыша. «Вставай, идем! Все спят,
не бойся! Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне
будет несподручно захватить все?» Сказав это, он взвалил себе
на спину мешки, стащил, проходя мимо одного воза, еще один
мешок с просом, взял даже в руки те хлебы, которые хотел
было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под
тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев.
«Андрий!» — сказал старый Бульба в то время, когда он
проходил мимо его.
Сердце его замерло. (...)
Андрий стоял ни жив, ни мертв, не имея духа взглянуть
в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него,
увидел, что уже старый Бульба спал, положив голову на ладонь.
Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще
скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взгля-
56
путь на татарку, она стояла перед ним, подобно темной гранит-
ной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного
зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, одеревеневшие,
как у мертвеца. Он дернул за рукав ее, и оба пошли вместе,
беспрестанно оглядываясь назад, и наконец опустились отло-
гостью в низменную лощину,— почти яр, называемый в некото-
рых местах балками,— по дну которой лениво пресмыкался
проток, поросший осокой и усеянный кочками. Опустясь в сию
лощину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого
запорожским табором. (...) Пробираясь меж тростников, оста-
новились они перед наваленным хворостом и фашинником1.
Отклонив хворост, нашли они род земляного свода — отверстие,
мало чем большее отверстия, бывающего в хлебной печи. Татар-
ка, наклонив голову, вошла первая; вслед за нею Андрий, нагнув-
шись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться с
своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте.
VI
Андрий едва двигался в темном и узком земляном коридоре,
следуя за татаркой и таща на себе мешки хлеба. (...) Они пере-
шли через церковь, не замеченные никем, и вышли потом на
площадь, бывшую перед нею. Заря уже давно румянилась на
небе: всё возвещало восхождение солнца. (...) Они поворотили
в улицы и были остановлены вдруг каким-то беснующимся,
который, увидев у Андрия драгоценную ношу, кинулся на него,
как тигр, вцепился в него, крича: «Хлеба!» Но сил не было
у него, равных бешенству; Андрий оттолкнул его: он полетел
на землю. Движимый состраданием, он швырнул ему один хлеб,
на который тот бросился, подобно бешеной собаке, изгрыз,
искусал его и тут же на улице в страшных судорогах испустил
дух от долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждом
шагу поражали их страшные жертвы голода. (...) При виде
сих поражающих свидетельств Андрий не вытерпел не спросить
татарку:
— Неужели они, однако ж, совсем не нашли, чем пробавить
жизнь? Если человеку приходит последняя крайность, тогда,
делать нечего, он должен питаться тем, чем дотоле брезгал;
он может питаться теми тварями, которые запрещены законом;
всё может тогда пойти в снедь.
1 Фашинник — прутья; фашина — связка прутьев хвороста, камыша.
57
— Всё переели,— сказала татарка,— всю скотину. Ни коня,
ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас
в городе никогда не водилось никаких запасов; всё привозилось
из деревень.
— Но как же вы, умирая такою лютою смертью, всё еще
думаете оборонить город?
— Да, может быть, воевода и сдал бы, но вчера утром пол-
ковник, который в Буджаках, пустил в город ястреба с запиской,
чтобы не отдавали города; что он идет на выручку с полком, да
ожидает только другого полковника, чтоб идти обоим вместе.
И теперь всякую минуту ждут их... Но вот мы пришли к дому.
(...) Андрий уже было хотел идти'прямо в широкую дубовую
дверь, украшенную гербом и множеством резных украшений, но
татарка дернула его за рукав и указала маленькую дверь в бо-
ковой стене. (...) Он не помнил, как взошел и как затворилась
за ним дверь. В комнате горели две свечи; лампада теплилась
перед образом: под ним стоял высокий столик, по обычаю ка-
толическому, со ступеньками для преклонения коленей во время
молитвы. Но не того искали глаза его. Он повернулся в другую
сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую
в каком-то быстром движении. (...)
В это время вошла в комнату татарка. Она уже успела наре-
зать ломтями принесенный рыцарем хлеб, несла его на золотом
блюде и поставила перед своею панною. Красавица взглянула
на нее, на хлеб и возвела очи на Андрия,— и много было в очах
тех. (...)
Она взяла хлеб и поднесла его ко рту...
— Довольно! не ешь больше! Ты так долго не ела, тебе
хлеб будет теперь ядовит.
И она опустила тут же свою руку, положила хлеб на блюдо
и, как покорный ребенок, смотрела ему в очи... И глаза ее
вдруг наполнились слезами...
— Отчего же ты так печальна? Скажи мне, отчего ты так
печальна?
Бросила прочь она от себя платок, отдернула налезавшие
на очи длинные волосы косы своей и вся разлилася в жалост-
ных речах, выговаривая их тихим-тихим голосом. (...)
— Не обманывай, рыцарь, и себя и меня,— говорила она,
качая тихо прекрасной головой своей,— знаю, и, к великому
моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить
58
меня; и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут твои отец,
товарищи, отчизна, а мы — враги тебе.
— А что мне отец, товарищи и отчизна? — сказал Андрий,
встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надреч-
ная осокорь1, стан свой.— Так если ж так, так вот что: нет
у меня никого! Никого, никого! — повторил он тем голосом
и сопроводив его тем движеньем руки, с каким упругий, не-
сокрушимый козак выражает решимость на дело неслыханное
и невозможное для другого.— Кто сказал, что моя отчизна
Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего
ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты!
Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моем,
понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-
нибудь из Козаков вырвет ее оттуда! И всё, что ни есть, продам,
отдам, погублю за такую отчизну! (...) В это время вбежала
к ним с радостным криком татарка. «Спасены, спасены! — кри-
чала она, не помня себя.— Наши вошли в город, привезли
хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев». Но не слышал
никто из них, какие «наши» вошли в город, что привезли с собою
и каких связали запорожцев. (...)
И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцарства! Не
видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих,
ни церкви божьей! Украйне не видать тоже храбрейшего из
своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас
седой клок волос из своей чуприны2 и проклянет и день, и час,
в который породил на позор себе такого сына.
VII
Шум и движение происходили в запорожском таборе. Сна-
чала никто не мог дать верного ответа, как случилось, что
войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь Пере-
яславский курень, расположившийся перед боковыми городскими
воротами, был пьян мертвецки; стало быть, дивиться нечего,
что половина была перебита, а другая перевязана прежде,- чем
все могли узнать, в чем дело. Покамест ближние курени, раз-
буженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже
уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устре-
мившихся на них в беспорядке сонных и пол у протрезвившихся
1 Осокорь — серебристый тополь.
Чуприна — чуб, хохол на голове.
59
запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем, и, когда все
стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал:
— Так вот что, Панове братове, случилось в эту ночь. Вот
до чего довел хмель! Вот какое поруганье оказал нам неприятель!
У вас, видно, уже такое заведение: коли позволишь удвоить
порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова
воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо
вам начихает, так вы того не услышите.
Козаки все стояли, понурив головы, зная вину; один только
незамайновский куренной атаман Кукубенко отозвался.
— Постой, батька! — сказал он,— хоть оно и не в законе,
чтобы сказать какое возражение, когда говорит кошевой перед
лицом всего войска, да дело не так было, так нужно сказать.
Ты не совсем справедливо попрекнул всё христианское войско.
Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились
в походе, на войне, на трудной, тяжкой работе. Но мы сидели
без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни дру-
гого христианского воздержанья не было: как же может статься,
чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет. А мы
вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей.
Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пят не
унесут домой.
Речь куренного атамана понравилась козакам. Они припод-
няли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобри-
тельно кивнули головой, примолвивши:
— Добре сказал Кукубенко!
А Тарас Бульба, стоявший недалеко от кошевого, сказал:
— А что, кошевой, видно, Кукубенко правду сказал? Что
ты скажешь на это?
— А что скажу? Скажу: блажен и отец, родившцй такого
сына! Еще не большая мудрость сказать укорительное слово,
но большая мудрость сказать такое слово, которое бы, не пору-
гавшись над бедою человека, ободрило бы его, придало бы
духу ему, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем.
Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко
догадался прежде.
— Добре сказал и кошевой! — отозвалось в рядах запорож-
цев.— Доброе слово! — повторили другие. И самые седые, стояв-
шие, как сизые голуби, и те кивнули головою и, моргнувши
седым усом, тихо сказали:
60
— Добре сказанное слово!
— Слушайте же, Панове! — продолжал кошевой.— Брать
крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужезем-
ные, немецкие мастера — пусть ей враг прикинется! — и непри-
лично и не козацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель
вошел в город не с большим запасом; телег что-то было с ним
немного. Народ в городе голодный; стало быть, всё съест духом,
да и коням тоже сена... уж я не знаю, разве с неба кинет им
на вилы какой-нибудь их святой... только про это еще бог знает;
а ксендзы-то их горазды на одни слова. За тем или за другим,
а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и ста-
новись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными
воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Дядькив-
ский и Корсунский курень на засаду! Полковник Тарас с полком
на засаду! Тытаревский и Тымошевский курень на запас с пра-
вого бока обоза! Щербиновский и Стебликивский верхний —
с левого. Да выбирайтесь из ряду, молодцы, которые позубастее
на слово, задирать неприятеля! У ляха пустоголовая натура:
брани не вытерпит; и, может быть, сегодня же все они выйдут
из ворот. Куренные атаманы, перегляди всякий курень свой:
у кого недочет, пополни его останками Переяславского. (...)
Так распоряжал кошевой, и все поклонились ему в пояс и,
не надевая шапок, отправились по своим возам и таборам и,
когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки.
Все начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали
порох из мешков в пороховницы, откатывали и становили возы
и выбирали коней. Уходя к своему полку, Тарас думал и не
мог придумать, куда девался Андрий, полонили ли его вместе
с другими и связали сонного? Только нет, не таков Андрий,
чтобы отдаться живым в плен. Между убитыми козаками тоже
не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед пол-
ком. (...)
Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за
лесом, который один был не выжжен еще козаками. А запорож-
цы, и пешие, и конные, выступали на три дороги к трем воротам.
В городе услышали козацкое движение. Все высыпали на вал,
и предстала перед козаками живая картина: польские витязи1,
один другого красивей, стояли на валу. Медные шапки сияли,
как солнца, оперенные белыми, как лебедь, перьями. На других
Витязь — здесь: воин.
61
были легкие шапочки, розовые и голубые, с перегнутыми набек-
рень верхами; кафтаны с откидными рукавами, шитые и золотом
и просто выложенные шнурками; у тех сабли и оружья в до-
рогих оправах, за которые дорого приплачивались паны,— й
много было всяких других убранств. Напереди стоял спесиво
в красной шапке, убранной золотом, буджаковский полковник.
Грузен был полковник, всех выше и толще, и широкий дорогой
кафтан в силу облекал его. На другой стороне, почти к боковым
воротам, стоял другой полковник, небольшой человечек, весь
высохший; но малые зоркие очи глядели живо из-под густо
наросших бровей, и оборачивался он скоро на все стороны,
указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая прика-
занья; видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он
хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял хорунжий1, длин-
ный-длинный, с густыми усами, и, казалось, не было у него
недостатка в краске на лице. Любил пан крепкие меды й добрую
пирушку. И много было видно за ним и всякой шляхты2, воору-
жившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну. (...)
Козацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни
на ком золота, только разве кое-где блестело оно на сабельных
рукоятях и ружейных оправах. Не любили козаки богато выря-
жаться на битвах; простые были на них кольчуги и свиты, и
далеко чернели и червонели черные червоноверхие бараньи их
шапки.
Два козака выехало вперед из запорожских рядов: один
еще совсем молодой, другой постарее, оба зубастые на слово,
на дело тоже не плохие козаки: Охрим Наш и Мыкыта Голо-
копытенко. Следом за ними выехал и Демид Попович, коре-
настый козак, уже давно маячивший на Сечи, бывший под
Адрианополем и много натерпевшийся на веку своем: горел
в огне и прибежал на Сечь с обсмаленною, почерневшею голо-
вою и выгоревшими усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил
за ухо оселедец3, вырастил усы густые и черные, как смоль.
И крепок был на едкое слово Попович.
— А, красные жупаны4 на всем войске, да хотел бы я знать,
красная ли сила у войска?
1 Хорунжий — знаменосец; хоругвь — знамя.
2 Шляхта — польское дворянство.
3 Оселедец — прядь волос на темени.
4 Жупан — верхняя одежда у поляков и украинцев.
62
— Вот я вас! — кричал сверху дюжий полковник,— всех
перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видели, как пере-
вязал я ваших? Выведите им на вал запорожцев! — И вывели
на вал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был
куренной атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства,—
так, как схватили его хмельного. Потупил в землю голову ата-
ман, стыдясь наготы своей перед своими же козаками и что
попал в плен, как собака, сонный. И в одну ночь поседела
крепкая голова его.
— Не печалься, Хлиб! Выручим! — кричали ему снизу козаки.
— Не печалься, друзьяка! — отозвался куренной атаман
Бородатый.— В том нет вины твоей, что схватили тебя нагого.
Беда может быть со всяким человеком; но стыдно им, что
выставили тебя на позор, не прикрывши прилично наготы
твоей.
— Вы, видно, на сонных людей храброе войско! — говорил,
поглядывая на вал, Голокопытенко.
— Вот, погодите, обрежем мы вам чубы! — кричали им
сверху.
— А хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы! —
говорил Попович, поворотившись перед ними на коне. И потом,
поглядевши на своих, сказал: — А что ж? Может быть, ляхи
и правду говорят. Коли выведет их вон тот, пузатый, им всем
будет добрая защита.
— Отчего ж, ты думаешь, будет им добрая защита? — ска-
зали козаки, зная, что Попович, верно, уже готовился что-нибудь
сказать.
— А оттого, что позади его упрячется всё войско, и уж, чёрта
с два из-за его пуза достанешь которого-нибудь копьем!
Все засмеялись козаки. И долго многие из них еще покачи-
вали головою, говоря: «Ну, уж Попович! Уж коли кому закру-
тит слово, так только ну...» Да уж и не сказали козаки, что
такое «ну».
— Отступайте, отступайте скорей от стен! — закричал коше-
вой. Ибо ляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и пол-
ковник махнул рукой.
Едва только посторонились козаки, как грянули с валу кар-
течью. На валу засуетились, показался сам седой воевода на
коне. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехали
ровным конным строем шитые гусары. За ними кольчужники,
пз
потом латники1 с копьями, потом все в медных шапках, потом
ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему.
Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими, и у
которого не было команды, тот ехал один с своими слугами.
Потом опять ряды, и за ними выехал хорунжий; за ним опять
ряды, и выехал дюжий полковник; а позади всего уже войска
выехал последним низенький полковник. «Не давать им, не
давать им строиться и становиться в ряды! — кричал коше-
вой.— Разом напирайте на них все курени! Оставляйте прочие
ворота! Тытаревский курень, нападай сбоку! Дядькивский ку-
рень, нападай с другого! Напирайте на тыл, Кукубенко и Па-
лывода! Мешайте, мешайте и розните их!» И ударили со всех
сторон козаки, сбили и смешали их, и сами смешались. Не
дали даже и стрельбы произвести; пошло дело на мечи да на
копья. Все сбились в кучу, и каждому привел случай показать
себя. (...)
И польстился корыстью Бородатый: нагнулся чтобы снять...
дорогие доспехи... И не услышал Бородатый, как налетел на
него сзади красноносый хорунжий, уже раз сбитый им с седла
и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он
со всего плеча и ударил его саблей по нагнувшейся шее. (...)
Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными
крылами, вдруг останавливается распластанный на одном месте
и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца-
перепела,— так Тарасов сын, Остап, налетел вдруг на хорунжего
и сразу накинул ему на шею веревку. Побагровело еще сильнее
красное лицо хорунжего, когда затянула ему горло жесткая
петля: схватился он было за пистолет, но судорожно сведенная
рука не могла направить выстрела, и даром полетела в поле
пуля. Остап тут же, у его же седла отвязал шелковый шнур,
который возил с собою хорунжий для вязания пленных, и его
же шнуром связал его по рукам и ногам, прицепил конец веревки
к седлу и поволок его через поле, сзывая громко всех Козаков
Уманского куреня, чтобы шли отдать последнюю честь атаману.
Как услышали уманцы, что куренного их атамана Бородатого
нет уже в живых, бросили поле битвы и прибежали прибрать
его тело; и тут же стали совещаться, кого выбрать в куренные.
Наконец сказали: «Да на что совещаться? Лучше не можно
1 Латник — воин, который носит латы; латы — металлическая броня, за-
щищавшая грудь и спину воина от удара холодного оружия.
64
поставить в куренные никого, кроме Бульбенка Остапа. Он,
правда, младший всех нас, но разум у него, как у старого
человека». Остап, сняв шапку, всех поблагодарил козаков-
товарищей за честь, не стал отговариваться ни молодостью, ни
молодым разумом, зная, что время военное и не до того теперь,
а тут же повел их прямо на кучу и уж показал им всем, что
недаром выбрали его в атаманы. Почувствовали ляхи, что уже
становилось дело слишком жарко, отступили и перебежали
поле, чтоб собраться на другом конце его. А низенький полковник
махнул на стоявшие отдельно, у самых ворот, четыре свежих
сотни, и грянули оттуда картечью в козацкие кучи. Но мало
кого достали: пули хватили по быкам козацким, дико глядев-
шим на битву. Взревели испуганные быки, поворотили на козац-
кий табор, переломали возы и многих перетоптали. Но Тарас
в это время, вырвавшись из засады с своим полком, с криком
бросился навпереймы1. Поворотилось назад всё бешеное стадо,
испуганное криком, и метнулось на ляшские полки, опрокинуло
конницу, всех смяло и рассыпало.
— О, спасибо вам,'волы! — кричали запорожцы,— служили
всё походную службу, а теперь и военную сослужили! — И уда-
рили с новыми силами на неприятеля.
Много тогда перебили врагов. Многие показали себя: Ме-
телыця, Шило, оба Пысаренки, Вовтузенко, и немало было
всяких других. Увидели ляхи, что плохо наконец приходит,
выкинули хоругвь и закричали отворять городские ворота. Со
скрыпом отворились обитые железом ворота и приняли толпив-
шихся, как овец в овчарню, изнуренных и покрытых пылью
всадников. Многие из запорожцев погнались было за ними, но
Остап своих уманцев остановил, сказавши: «Подальше, по-
дальше, паны братья, от стен. Не годится близко подходить
к ним». И правду сказал, потому что со стен грянули и посы-
пали всем, чем ни попало, и многим досталось. В это время
подъехал кошевой и похвалил Остапа, сказавши: «Вот и новый
атаман, а ведет войско так, как бы и старый!» Оглянулся
старый Бульба поглядеть, какой там новый атаман, и увидел,
что впереди всех уманцев сидел на коне Остап, и шапка за-
ломлена набекрень, и атаманская палица в руке. «Вишь ты
какой!» — сказал он, глядя на него; и обрадовался старый,
и стал благодарить всех уманцев за честь, оказанную сыну. * 3
1 Навпереймы — наперерез.
3. Зак 2.34Н М. А Снслневскаи
65
Козаки вновь отступили, готовясь идти к таборам, а на го-
родском валу вновь показались ляхи, уже с изорванными епан-
чами1 2 3. Запеклася кровь на многих дорогих кафтанах, и пылью
покрылися красивые медные шапки.
— Что, перевязали? — кричали им снизу запорожцы.
— Вот я вас! — кричал всё так же сверху толстый полков-
ник, показывая веревку; и всё еще не переставали грозить
запыленные, изнуренные воины и перекинулись с обеих сторон
все бывшие позадорнее бойкими словами.
Наконец, разошлись все. Кто расположился отдыхать, исто-
мившись от боя; кто присыпал землей свои раны и драл на
перевязки платки и дорогие одежды, снятые с убитого неприяте-
ля. Другие же, которые были посвежее, стали прибирать тела
и отдавать им последнюю почесть...
VIII
Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы
собрались в круги. Из Сечи пришла весть, что татары, во время
отлучки Козаков, ограбили в ней всё, вырыли скарб, который
втайне держали козаки под землею, избили и забрали в плен
всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и
табунами направили путь прямо к Перекопу. Один только
козак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук,
2 3
заколол мирзу , отвязал у него мешок с цехинами и на татар-
ском коне, в татарской одежде полтора дни и две ночи уходил
от погони, загнал насмерть коня, пересел дорогою на другого,
загнал и того, и уже на третьем приехал в запорожский табор,
разведав на дороге, что запорожцы были под Дубной. Только
и успел объявить он, что случилось такое зло; но отчего оно
случилось, курнули ли оставшиеся запорожцы по козацкому
обычаю и пьяными отдались в плен, и как узнали татары место,
где был зарыт войсковой скарб,— того ничего не сказал он.
Сильно истомился козак, распух весь, лицо пожгло и опалило
ему ветром; упал он тут же и заснул крепким сном.
В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту же
минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге,
потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой
Епанча — длинный и широкий плащ.
2 Мирза — татарский князь.
3 Ц.ехйны — турецкие деньги.
66
Азии, в Смирне, на Критском острову, и бог знает, в каких
местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот
отчего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в
шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по на-
чальству атаманский приказ, но совещаться как равные между
собою.
— Давай совет прежде старшие! — закричали в толпе.
— Давай совет кошевой! — говорили другие.
И кошевой снял шапку, уж не так, как начальник, а как
товарищ, благодарил всех Козаков за честь и сказал:
— Много между нами есть старших и советом умнейших,
но, коли меня почтили, то мой совет: не терять, товарищи,
времени и гнаться за татарином. Ибо вы сами знаете, что за
человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать
нашего прихода, а мигом размытарит1 его, так что и следов
не найдешь. Так мой совет: идти. Мы здесь уже погуляли.
Ляхи знают, что такое козаки; за веру, сколько было по силам,
отмстили; корысти же с голодного города не много. Итак, мой
совет — идти!
— Идти! — раздалось голосно в запорожских куренях.
Но Тарасу Бульбе не пришлись по душе такие слова, и на-
весил он еще ниже на очи свои хмурые, исчерна-белые брови
подобные кустам, повыраставшим по высокому темени горы,
которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней.
— Нет, не прав совет твой, кошевой! — сказал он.— Ты не
так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши,
захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтоб мы не уважили
первого, святого закона товарищества, оставили бы собратьев
своих на то, чтобы с них с живых содрали кожу или, исчетверто-
вав на части козацкое тело, развозили бы их по городам и селам,
как сделали они доселе с гетьманом и лучшими русскими витя-
зями на Украйне. Разве мало они поругались и без того над
святынею? Что ж мы такое? спрашиваю я всех вас. Что’ж за
козак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как
собаку, пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий
ни во что ставит козацкую честь, позволив себе плюнуть в седые
усы свои и попрекнуть себя обидным словом, так не укорит же
никто меня. Один остаюсь!
Поколебались все стоявшие запорожцы.
1 Размытарить — растратит^
3*
67
— А разве ты позабыл, бравый полковник,— сказал тогда
кошевой,— что у татар в руках тоже наши товарищи, что если
мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное
невольничество язычникам, что хуже всякой лютой смерти?
Позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая
христианскою кровью?
Задумались все козаки и не знали, что сказать. Никому не
хотелось из них заслужить обидную славу. Тогда вышел вперед
всех старейший годами во всем запорожском войске Касьян Бов-
дюг. В чести был он от всех Козаков; два раза уже был изби-
раем кошевым и на войнах тоже был сильно добрый козак, но
уже давно состарёлся и не бывал ни в каких походах; не любил
тоже и советов давать никому, а любил старый вояка лежать
на боку у козацких кругов, слушая рассказы про всякие быва-
лые случаи и козацкие походы. Никогда не вмешивался он
в их речи, а всё только слушал да прижимал пальцем золу
из своей коротенькой трубки, которой не выпускал изо рта,
и долго сидел он потом, прижмурив слегка очи, и не знали
козаки, спал ли он или всё еще слушал. Все походы оставался
он дома, но сей раз разобрало старого. Махнул рукою по-козацки
и сказал: «А не куды пошло! пойду и я: может, в чем-нибудь
буду пригоден козачеству!» Все козаки притихли, когда выступил
он теперь перед собранием, ибо давно не слышали от него ника-
кого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бовдюг.
— Пришла очередь и мне сказать слово, паны братья! — так
он начал.— Послушайте, дети, старого. Мудро сказал кошевой;
и, как голова козацкого войска, обязанный приберегать его
и печись о войсковом скарбе1, мудрее ничего он не мог сказать.
Вот что! Это пусть будет первая моя речь. А теперь послушайте,
что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая
речь: большую правду сказал и Тарас-полковник,— дай боже
ему побольше веку и чтоб таких полковников было побольше
на Украйне! Первый долг и первая честь козака есть соблюсти
товарищество. Сколько ни живу я на веку, не слышал я, паны
братья, чтобы козак покинул где или продал как-нибудь своего
товарища. И те и другие нам товарищи; меньше их или боль-
ше — всё равно, все товарищи, все нам дороги. Так вот какая
моя речь: те, которым милы захваченные татарами, пусть
отправляются за татарами, а которым милы полоненные ляхами
' Печйсь о войсковом скарбе — заботиться о войсковом имуществе и казне.
68
и не хочется оставлять правого дела, пусть остаются. Кошевой
по долгу пойдет с одною половиною за татарами, а другая
половина выберет себе наказного атамана. А наказным ата-
маном, коли хотите послушать белой головы, не пригоже быть
никому другому, как только одному Тарасу Бульбе. Нет из
нас никого равного ему в доблести.
Так сказал Бовдюг и затих; и обрадовались козаки, что
навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх
шапки и закричали:
— Спасибо тебе, батько! Молчал, молчал, долго молчал, да
вот, наконец, и сказал. Недаром говорил, когда собирался в
поход, что будешь пригоден козачеству: так и сделалось.
— Что, согласны вы на то? — спросил кошевой.
— Все согласны! — закричали козаки.
— Стало быть, раде конец?
— Конец раде! — кричали козаки.
— Слушайте же теперь войскового приказа, дети! — сказал
кошевой, выступил вперед и надел шапку, а все запорожцы,
сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокры-
тыми головами, утупив очи в землю, как бывало всегда между
козаками, когда собирался что говорить старший.
— Теперь отделяйтесь, паны братья! Кто хочет идти, ступай
на правую сторону; кто остается, отходи на левую! Куды боль-
шая часть куреня переходит, туды и атаман; коли меньшая
часть переходит, приставай к другим куреням.
И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сто-
рону. Которого куреня большая часть переходила, туда и курен-
ной атаман переходил; которого малая часть, та приставала
к другим куреням; и вышло без малого не поровну на всякой
стороне. Захотели остаться: весь почти Незамайноеский курень,
большая половина Поповичевского куреня, весь Уманский ку-
рень, весь Каневский курень, большая половина Стебликивского
куреня, большая половина Тымошевского куреня. Все остальные
вызвались идти в догон за татарами. Много было на обеих
сторонах дюжих и храбрых Козаков. Между теми, которые
решились идти вслед за татарами, был Череватый, добрый
старый козак, Покотыполе, Лемиш, Прокопович Хома; Демид
Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завзятого
нрава козак — не мог долго высидеть на месте; с ляхами попро-
бовал уже он дела, хотелось попробовать еще с татарами.
69
Куренные были: Ностюган, Покрышка, Невылычкий; и много
еще других славных и храбрых Козаков захотело попробовать
меча и могучего плеча в схватке с татарином. Немало было
также сильно и сильно добрых Козаков между теми, которые
захотели остаться: куренные Демытрович, Кукубенко, Верты-
хвист, Балабан, Бульбенко Остап. Потом много было еще
других именитых и дюжих Козаков: Вовтузенко, Черевыченко,
Степан Гуска, Охрим Гуска, Мыкола Густый, Задорожный,
Метелыця, Иван Закрутыгуба, Мосий Шило, Дегтяренко, Сыдо-
ренко, Пысаренко, потом другой Пысаренко, потом еще
Пысаренко, и много было других добрых Козаков. Все бы-
ли хожалые, езжалые: ходили по анатольским берегам, по
крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и
малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам и днепров-
ским островам; бывали в молдавской, волошской, в турецкой
земле; изъездили всё Черное море двухрульными козацкими
челнами; нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие
и превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и
много-много выстреляли пороху на своем веку. (...) Такие-то
были козаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам за верных
товарищей и Христову веру! Старый козак Бовдюг захотел
также остаться с ними, сказавши: «Теперь не такие мои лета,
чтобы гоняться за татарами, а тут есть место, где опочить
доброю козацкою смертью. Давно уже просил я у бога, чтобы,
если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войне
за святое и христианское дело. Так оно и случилось. Славнейшей
кончины уже не будет в другом месте для старого козака».
Когда отделились все и стали на две стороны в два ряда
куренями, кошевой прошел промеж рядов и сказал:
— А что, Панове братове, довольны одна сторона другою?
— Все довольны, батько! — отвечали козаки.
— Ну, так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощанье,
ибо, бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте
своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете,
что велит козацкая честь.
И все козаки, сколько их ни было, перецеловались между
собою. Начали первые атаманы и, поведши рукою седые усы
свои, поцеловались навкрест и потом взялись за руки и крепко
держали руки. Хотел один другого спросить: «Что, пане брате,
увидимся или не увидимся?» — да и не спросили, замолчали,—
70
и загадались обе седые головы. А козаки все до одного про-
щались, зная, что много будет работы тем и другим; но не
повершили, однако ж, тотчас разлучиться, а повершили дож-
даться темной ночной поры, чтобы не дать неприятелю увидеть
убыль в козацком войске. Потом все отправились по куреням
обедать. После обеда все, которым предстояла дорога, легли
отдыхать и спали крепко и долгим сном, как будто чуя, что,
может, последний сон доведется им вкусить на такой свободе.
Спали до самого заходу солнечного; а как зашло солнце и немно-
го стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед
возы, а сами, пошапковавшись1 еще раз с товарищами, тихо
пошли вслед за возами. Конница чинно, без покрика и посвиста
на лошадей, слегка затопотела вслед за пешими, и скоро стало
их не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь
да скрып иного колеса, которое еще не расходилось или не
было хорошо подмазано за ночною темнотою.
Долго еще остававшиеся товарищи махали им издали ру-
ками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились
по своим местам, когда увидели при высветивших ясно звездах,
41 о половины телег уже не было на месте, что многих, многих
нет, невесело стало у всякого на сердце, и все задумались
против воли, утупивши в землю гульливые свои головы.
Тарас видел, как смутны стали козацкие ряды и как уныние,
неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкие головы,
но молчал: он хотел дать время всему, чтобы пообвыклись они
и к унынию, наведенному прощаньем с товарищами. (...)
IX
В городе не узнал никто, что половина запорожцев высту-
пила в погоню за татарами. С магистратской2 башни приметили
только часовые, что потянулась часть возов за лес; но подумали,
что козаки готовились сделать засаду; то же думал и фран-
цузский инженер. А между тем слова кошевого не прошли да-
ром, и в городе оказался недостаток в съестных припасах. По
обычаю прошедших веков войска не разочли, сколько им было
нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков
была тут же перебита козаками, а половина прогнана в город
ни с чем. (...) Полковники (...) готовились дать сражение.
1 Пошапковавшись — попрощавшись, сняв шапкн.
2 Магистрат — городское управление.
71
Тарас уже видел то по движенью и шуму в городе и расторопно
хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три
таборы курени, обнесши их возами в виде крепостей,— род
битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы; двум куре-
ням повелел забраться в засаду; убил часть поля острыми
кольями, изломанным оружием, обломками копьев, чтобы при
случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда всё
было сделано, как нужно, сказал речь козакам, не для того,
чтобы ободрить и освежить их,— знал, что и без того крепки
они духом,— а просто самому хотелось высказать всё, что
было на сердце.
— Хочется мне вам сказать, Панове, что такое есть наше
товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести
у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царь-
града брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и
князья, князья русского рода, свои князья. (...) Всё взяли
бусурманы, всё пропало. Только остались мы, сирые, да, как
вдовица после крепкого мужа, сирая так же, как и мы, земля
наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на брат-
ство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее
товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя,
дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь
свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови,
может один только человек. Бывали и в других землях това-
рищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей.
Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине;
видишь, и там люди! также божий человек, и разговоришься
с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать
сердечное слово,— видишь: нет, умные люди, да не те; такие
же люди, да не те! Нет братцы, так любить, как русская ду-
ша,— любить не то, чтобы умом или чем другим, а всем, чем
дал бог, что ни есть в тебе, а...— сказал Тарас и махнул рукой,
и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: — Нет,
так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на
земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебное
стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погре-
бах запечатанные меды их. Перенимают чёрт знает какие бу-
сурманские обычаи: гнушаются языком своим; свой с своим
не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную
тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не
72
короля, а паскудная милость польского магната1, который
желтым чоботом2 своим бьет их в морду, дороже для них вся-
кого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть,
хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у
того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-
нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит
"себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый
муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что
такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то
пошло, чтобы умирать,— так никому ж из них не доведется
так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной
натуры их!
Так говорил атаман и, когда кончил речь, всё еще потрясал
посеребрившеюся в козацких делах головою. Всех, кто ни стоял,
разобрала сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца.
Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые
головы в землю; слеза тихо накатывалася в старых очах; мед-
ленно отирали они ее рукавом. И потом все, как будто сгово-
рившись, махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми
головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас
знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умуд-
ренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни,
или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодою
жемчужною душою на вечную радость старцам-родителям,
родившим его.
А из города уже выступало неприятельское войско, выгрем-
ливая в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны,
окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал
приказы. И стали наступать они тесно на козацкие таборы,
грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными
доспехами. Как только увидели козаки, что подошли они на
ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали и,
не прерывая, всё палили они из пищалей. Далеко понеслось
громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь
в беспрерывный гул; дымом затянуло всё поле, а запорожцы
всё палили, не переводя духу: задние только заряжали да пере-
давали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего
понять, как стреляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно
1 Магнат — крупный помещик.
2 Чобот — сапог.
73
было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство, не
видно было, как то одного, то другого не ставало в рядах; но
чувствовали ляхи, что густо летели пули и жарко становилось
дело; и когда попятились назад, чтобы посторониться от дыма
и оглядеться, то многих не досчитались в рядах своих. А у Ко-
заков, может быть, другой-третий был убит на всю сотню. И
всё продолжали палить козаки из пищалей, ни на минуту не
давая промежутка. Сам иноземный инженер подивился такой,
никогда им не виданной тактике, сказавши тут же, при всех:
«Вот бравые молодцы-запорожцы! Вот как нужно биться и
другим в других землях!» И дал совет поворотить тут же на
табор пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунные
пушки; дрогнула, далеко загудевши, земля, и вдвое больше
затянуло дымом всё поле. Почуяли запах пороха среди пло-
щадей и улиц в дальних и крайних городах. Но нацелившие
взяли слишком высоко: раскаленные ядра выгнули слишком
высокую дугу. Страшно завизжав по воздуху, перелетели они
через головы всего табора и углубились далеко в землю, взорвав
и взметнув высоко на воздух черную землю. Ухватил себя за
волосы французский инженер при виде такого неискусства и
сам принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили
и сыпали пулями беспрерывно козаки.
Тарас видел еще издали, что беда будет всему Незамай-
новскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнул зычно: «Вы-
бирайтесь скорей из-за возов и садись всякий на коня!» Но
не поспели бы сделать то и другое козаки, если бы Остап не
ударил в самую середину; выбил фитили у шести пушкарей,
у четырех только не мог выбить. Отогнали его назад ляхи.
А тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль,
чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из Козаков
не видывал дотоле. Страшно глядела она широкою пастью,
и тысячи смертей глядело оттуда. И как грянула она, а за
нею следом три другие, четырехкратно потрясши глухо-ответную
землю,— много нанесли они горя! Не по одному козаку взрыдает
старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси1.
Не одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове
и других городах. Будет, сердечная, выбегать всякий день на
базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого
из них в очи, нет ли между их одного, милейшего всех. Но
1 Пёрси — грудь.
74
много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет
между ними одного, милейшего всех.
Так, как будто и не бывало половины Незамайновского ку-
реня! Как градом выбивает вдруг всю ниву, где, что полно-
весный червонец, красовался всякий колос, так их выбило и
положило.
Как же вскинулись козаки! Как схватились все! Как закипел
куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины
куреня его нет! Разом вбился он с остальными своими неза-
майновцами в самую середину. В гневе иссек в капусту первого
попавшегося, многих конников сбил с коней, доставши копьем
и конника и коня, пробрался к пушкарям, и уже отбил одну
пушку. А уж там, видит, хлопочет уманский куренной атаман,
и Степан Гуска уже отбивает главную пушку. Оставил он тех
Козаков и поворотил с своими в другую неприятельскую гущу.
Там, где прошли незамайновцы — так там и улица, где пово-
ротились— так уж там и переулок! Так и видно, как редели
ряды и снопами валились ляхи! А у самых возов Вовтузенко,
а спереди Черевиченко, а у дальних возов Дегтяренко, а за
ним куренной атаман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял
на копье Дегтяренко, да напал, наконец, на неподатливого
третьего. Увертлив и крепок был лях, пышной сбруей украшен
и пятьдесят одних слуг привел с собою. Погнул он крепко
Дегтяренка, сбил его на землю и уже, замахнувшись на него
саблей, кричал:
— Нет из вас, соба к-коза ков, ни одного, кто бы посмел
противустать мне!
— А вот есть же! — сказал и выступил вперед Мосий Шило.
Сильный был он козак, не раз атаманствовал на море и много
натерпелся всяких бед. (...)
— Так есть же такие, которые бьют вас, собак! — сказал
он, кинувшись на него.
И уж так-то рубились они! И наплечники, и зерцала1 погну-
лись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий лях железную
рубашку, достав лезвием самого тела: зачервонела козацкая
рубашка. Но не поглядел на то Шило, а замахнулся всей жили-
стой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушил его
внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался
1 Зерцало — здесь: доспехи воина — блестящий металлический нагрудник
вместе с наспинником.
75
и грянулся лях, а Шило принялся рубить и крестить оглушен-
ного. Не добивай, козак, врага, а лучше поворотись назад!
Не поворотился козак назад, и тут же один из слуг убитого
хватил его ножом в шею. Поворотился Шило и уж достал
было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех
сторон поднялось хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шило
и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку
на свою рану и сказал, обратившись к товарищам:
— Прощайте, паны братья, товарищи! Пусть же стоит на
вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная
честь!
И зажмурил ослабевшие свои очи, и вынеслась козацкая
душа из сурового тела. А там уже выезжал Задорожный с
своими, ломил ряды куренной Вертыхвист и выступал Балабан.
— А что, паны? — сказал Тарас, перекликнувшись с курен-
ными.— Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли ко-
зацкая сила? Не гнутся ли козаки?
— Есть еще, батько, порох в пороховницах. Не ослабела
еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!
И наперли сильно козаки: совсем смешали все ряды. Низко-
рослый полковник ударил сбор и велел выкинуть восемь мале-
ванных1 знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко
по всему полю. Все бежали ляхи к знаменам; но не успели они
еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил
вновь с своими незамайновцами в середину и напал прямо на
толстопузого полковника. Не выдержал полковник и, поворотив
коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гнал его через всё
поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то с бокового
куреня, Степан Гуска пустился ему навпереймы, с арканом в
руке, всю пригнувши голову к лошадиной шее, и, улучивши
время, с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь побагро-
вел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и силясь
разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот
гибельную пику. Так и остался он, пригвожденный к земле.
Но не сдобровать и Гуске! Не успели оглянуться козаки, как
уже увидели Степана Гуску, поднятого на четыре копья. Только
и успел сказать бедняк: «Пусть же пропадут все враги, и ликует
вечные веки Русская земля!» И там же испустил дух свой.
Оглянулись козаки, а уж там, сбоку, козак Метелыця угощает
1 Малёванный — разрисованный, расписной.
76
ляхов, шеломя* того и другого; а уж там, с другого, напирает
с своими атаман Невылычкий; а у возов ворочает врага и
бьется Закрутыгуба; а у дальних возов третий Писаренко
отогнал уже целую ватагу. А уж там, у других возов, схва-
тились и бьются на самых возах.
— Что, паны? — перекликнулся атаман Тарас, проехавши
впереди всех.— Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли
козацкая сила? Не гнутся ли еще козаки?
— Есть еще, батько, порох в пороховницах; еще крепка
козацкая сила; еще не гнутся козаки!
А уж упал с воза Бовдюг. Прямо под самое сердце пришлась
ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал: «Не жаль
расстаться с светом! Дай бог и всякому такой кончины! Пусть
же славится до конца века Русская земля!» И понеслась к
вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отошедшим стар-
цам, как умеют биться на Русской земле и, еще лучше того,
как умеют умирать в ней за святую веру.
Балабан, куренной атаман, скоро после него грянулся также
на землю. Три смертельные раны достались ему: от копья, от
пули и от тяжелого палаша. А был один из доблестнейших
Козаков. (...) Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные
муки, и тихо сказал: «Сдается мне, паны браты, умираю хо-
рошею смертью: семерых изрубил, девятерых копьем исколол.
Истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал
пулею. Пусть же цветет вечно Русская земля!..» И отлетела
его душа.
Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета вашего войска!
Уже обступили Кукубенка, уже семь человек только осталось
изо всего Незамайновского куреня; уже и те отбиваются через
силу; уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду
его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели козаки: уже
успело ему углубиться под сердце копье прежде, чем были
отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки
подхватившим его козакам, и хлынула ручьем молодая кровь,
подобно дорогому вину, которое несли в стеклянном сосуде из
погреба неосторожные слуги, подскользнулись тут же у входа
и разбили дорогую сулею* 2: всё разлилось на землю вино, и
схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его
' Шеломя-(шеломить) —ударяя в бою по шлему.
2 Сулея — плоская бутыль; здесь: драгоценный сосуд.
77
про лучший случай в жизни, чтобы, если приведет бог на ста-
рости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть
бы вместе с ним прежнее, иное время, когда иначе и лучше
веселился человек... Повел Кукубенко вокруг себя очами и
проговорил: «Благодарю бога, что довелось мне умереть при
глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучше,
чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!»
И вылетела молодая душа. (...)
— А что, паны? — перекликнулся Тарас с оставшимися ку-
ренями.— Есть ли еще порох в пороховницах? Не иступились
ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила? Не погнулись ли
козаки?
— Достанет еще, батька, пороху! Годятся еще сабли; не
утомилась козацкая сила; не погнулись еще козаки!
И рванулись снова козаки так, как бы и потерь никаких не
потерпели. Уже три только куренных атамана осталось в живых.
Червонели уже всюду красные реки; высоко гатились мосты из
козацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, а уж по небу
потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то пожива! А уж
там подняли на копье Метелыцю. Уже голова другого Пыса-
ренка, завертевшись, захлопала очами. Уже подломился и
бухнулся о землю начетверо изрубленный Охрим Гуска. «Ну!» —
сказал Тарас и махнул платком. Понял тот знак Остап и ударил
сильно, вырвавшись из засады, в конницу. Не выдержали
сильного напора ляхи, а он их гнал и нагнал прямо на место,
где были убиты в землю колья и обломки копьев. Пошли спо-
тыкаться и падать кони и лететь через их головы ляхи. А в
это время корсунцы, стоявшие последние за возами, увидевши,
что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов.
Все сбились и растерялись ляхи, и приободрились козаки. «Вот
и наша победа!» — раздались со всех сторон запорожские го-
лоса, затрубили в трубы и выкинули победную хоругвь. Везде
бежали и крылись разбитые ляхи. «Ну, нет, еще не совсем
победа!» — сказал Тарас, глядя на городские стены, и сказал
он правду.
Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса
всех конных полков. Под всеми всадниками были все, как один,
бурые аргамаки1. Впереди перед другими понесся витязь всех
бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под мед-
1 Аргамак — восточная породистая верховая лошадь.
78
ной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый
руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел,
что это был Андрий. А он между тем, объятый пылом и жаром
битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся,
как молодой борзый пес, красивейший, быстрейший и молодший
всех в стае. Атукнул на него опытный охотник — и он понесся,
пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись
на бок всем телом, взрывая снег и десять раз выпереживая
самого зайца в жару своего бега. Остановился старый Тарас
и глядел на то, как он чистил перед собою дорогу, разгонял,
рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас
и закричал: «Как?.. Своих?.. Своих, чёртов сын, своих бьешь?..»
Но Андрий не различал, кто перед ним был, свои или другие
какие; ничего не видел он...
— Эй, хлопьята! заманите мне только его к лесу, заманите
мне только его! — кричал Тарас. И вызвалось тот же час трид-
цать быстрейших Козаков заманить его. И, поправив на себе
высокие шапки, тут же пустились на конях прямо наперерез
гусарам. Ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от
задних, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко
хватил плашмя по спине Андрия, и в тот же час пустились
бежать от них, сколько достало козацкой мочи. Как вскинулся
Андрий! Как забунтовала по всем жилкам молодая кровь!
Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за
козаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только
двадцать человек успело поспевать за ним. А козаки летели
во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался
на коне Андрий и чуть было уже не настигнул Голокопытенка,
как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня.
Оглянулся Андрий: перед ним Тарас! Затрясся он всем телом
и вдруг стал бледен...
Так школьник, неосторожно задравши своего товарища и
получивши за то от него удар линейкою по лбу, вспыхивает,
как огонь, бешеный выскакивает из лавки и гонится за испу-
ганным товарищем своим, готовый разорвать его на части, и
вдруг наталкивается на входящего в класс учителя: вмиг при-
тихает бешеный порыв, и упадает бессильная ярость. Подобно
ему, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрия.
И видел он перед собою одного только страшного отца.
— Ну, что ж теперь мы будем делать? — сказал Тарас,
79
смотря прямо ему в очи. Но ничего не умел на то сказать
Андрий и стоял, утупивши в землю очи.
— Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
Андрий был безответен.
— Так продать? продать веру? продать своих? Стой же,
слезай с коня!
Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив,
ни мертв перед Тарасом.
— Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью,! —
сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье.
Бледен, как полотно, был Андрий; видно было, как тихо шеве-
лились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было
имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрас-
ной полячки. Тарас выстрелил.
Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой бара-
шек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он
головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.
Остановился; сыноубийца и глядел долго на бездыханный
труп. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его,
недавно исполненное силы и непобедимого для жен очаро-
ванья, всё еще выражало чудную красоту; черные брови, как
траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты. «Чем бы
не козак был? — сказал Тарас,— и станом высокий, и черно-
бровый, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою!
Пропал, пропал бесславно, как подлая собака!»
— Батько, что ты сделал? Это ты убил его? — сказал подъ-
ехавший в это время Остап.
Тарас кивнул головою.
Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему
стало брата и проговорил он тут же:
— Предадим же, батько, его честно земле, чтобы не пору-
гались над ним враги и не растаскали бы его тело хищные
птицы
— Погребут его и без нас! — сказал Тарас,— будут у него
плакальщики и утешницы!
И минуты две думал он, кинуть ли его на расхищенье вол-
кам-сыромахам, или пощадить в нем рыцарскую доблесть, ко-
торую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как
видит, скачет к нему на коне Голокопытенко: «Беда, атаман,
окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила!..»
80
Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко: «Беда,
атаман, новая валит еще сила!..» Не успел сказать Вовтузенко,
Пысаренко бежит уже без коня: «Где ты, батьку? Ищут тебя
козаки. Уж убит куренной атаман Невылычкий, Задорожный
убит, Черевиченко убит. Но стоят козаки, не хотят умирать,
не увидев тебя в очи: хотят, чтобы взглянул ты на них перед
смертным часом».
«На коня, Остап!» — сказал Тарас и спешил, чтобы застать
еще Козаков, чтобы поглядеть еще на них и чтобы они взглянули
перед смертью на своего атамана. Но не выехали они еще из
лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон лес, и
меж деревьями везде показались всадники с саблями и копьями.
«Остап!.. Остап, не поддавайся!..» — кричал Тарас, а сам, схва-
тивши саблю наголо, начал честить первых попавшихся на все
боки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро; но не в добрый
час, видно, наскочило: с одного полетела голова, другой пере-
вернулся, отступивши; угодило копье в ребро третьего; четвертый
был поотважней, уклонился головой от пули, и попала в конскую
грудь горячая пуля,— вздыбился бешеный конь, грянулся о
землю и задавил под собою всадника. «Добре, сынку!.. Добре,
Остап!..— кричал Тарас.— Вот я следом за тобою!..» А сам
всё отбивался от наступавших. Рубится и бьется Тарас, сыплет
гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит всё вперед
на Остапа, и видит, что уже вновь схватилось с Остапом мало
не восьмеро разом. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..» Но уж
одолевают Остапа; уже один накинул ему на шею аркан, уже
вяжут, уже берут Остапа. «Эх, Остап, Остап!..— кричал Тарас,
пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных.—
Эх, Остап, Остап!..» Но, как тяжелым камнем, хватило его
самого в ту же минуту. Все закружилось и перевернулось в
глазах его. На миг смешанно сверкнули пред ним головы, копья,
дым, блески огня, сучья с древесными листьями, мелькнувшие
ему в самые очи. И грохнулся он, как подрубленный дуб, на
землю. И туман покрыл его очи.
X
— Долго же я спал! — сказал Тарас, очнувшись, как после
трудного хмельного сна, и стараясь распознать окружавшие
его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва
метались пред ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец
81
заметил он, что пред ним сидел Товкач и, казалось, прислуши-
вался ко всякому его дыханию.
«Да,— подумал про себя Товкач,— заснул бы ты, может
быть, и навеки!» Но ничего не сказал, погрозил пальцем и дал
знак молчать.
— Да скажи же мне, где я теперь? — спросил опять Тарас,
напрягая ум и стараясь припомнить бывшее.
— Молчи ж! — прикрикнул сурово на него товарищ,— чего
тебе еще хочется знать? Разве ты не видишь, что весь изрублен!
Уж две недели, как мы с тобою скачем не переводя духу и как
ты в горячке и жару несешь и городишь чепуху. Вот в первый
раз заснул покойно. Молчи ж, если не хочешь нанести сам
себе беду.
Но Тарас всё старался и силился собрать свои мысли и
припомнить бывшее. «Да ведь меня же схватили и окружили
было совсем ляхи? Мне ж не было никакой возможности вы-
биться из толпы?»
— Молчи ж, говорят тебе, чертова детина! — закричал Тов-
кач сердито, как нянька, выведенная из терпения, кричит неуго-
монному повесе-ребенку.— Что пользы знать тебе, как выбрал-
ся? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя
не выдали,— ну, и будет с тебя! Нам еще немало ночей скакать
вместе. Ты думаешь, что пошел за простого козака? Нет, твою
голову оценили в две тысячи червонных.
— А Остап? — вскрикнул вдруг Тарас, понатужился при-
подняться и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали
в глазах его и что он теперь уже в ляшских руках. И обняло
горе старую голову. Сорвал и сдернул он все перевязки ран
своих, бросил их далеко прочь, хотел громко что-то сказать —
и вместо того понес чепуху; жар и бред вновь овладели им,
и понеслись без толку и связи безумные речи. А между тем
верный товарищ стоял перед ним, бранясь и рассыпая без
счету жестокие укорительные слова и упреки. Наконец схватил
он его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, поправил все
перевязки, увернул его в воловью кожу, увязал в луки и,
прикрепивши веревками к седлу, помчался вновь с ним в
дорогу.
— Хоть неживого, да довезу тебя! Не попущу, чтобы ляхи
поглумились над твоей козацкою породою, на куски рвали бы
твое тело да бросали его в воду. Пусть же, хоть и будет орел
82
высмыкать1 из твоего лоба очи, да пусть же степовой, наш
орел, а не ляшский, не тот, что прилетает из польской земли.
Хоть неживого, а довезу тебя до У крайни!
Так говорил верный товарищ. Скакал без отдыху дни и ночи
и привез его, бесчувственного, в самую Запорожскую Сечь.
Там принялся он лечить его неутомимо травами и смачивань-
ями... Лекарства ли или своя железная сила взяла верх, только
он через полтора месяца стал на ноги; раны зажили, и только
одни сабельные рубцы давали знать, как глубоко когда-то был
ранен старый козак. Однако же заметно стал он пасмурен и
печален. Три тяжелые морщины насунулись на лоб его и уже
больше никогда не сходили с него. Оглянулся он теперь вокруг
себя: всё новое на Сечи, все перемерли старые товарищи. Ни
одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство.
И те, которые отправились с кошевым в угон за татарами,
и тех уже не было давно: все положили головы, все изгибли,
кто, положив на самом бою честную голову, кто от безводья
и бесхлебья среди крымских солончаков, кто в плену пропал,
не вынесши позора, и самого прежнего кошевого уже давно
не было на свете, и никого из старых товарищей; и уже давно
поросла травою когда-то кипевшая козацкая сила. Слышал он
только, что был пир, сильный, шумный пир: вся перебита вдре-
безги посуда; нигде не осталось вина ни капли, расхитили
гости и слуги все дорогие кубки и сосуды,— и смутный стоит
хозяин дома, думая: «Лучше б и не было того пира». Напрасно
старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые,
седые бандуристы, проходя по два и по три, расславляли его
козацкие подвиги. Сурово и равнодушно глядел он на всё, и
на неподвижном лице его выступала неугасимая горесть, и,
тихо, понурив голову, говорил он: «Сын мой! Остап мой!»
(...) Он уходил в луга и степи, будто бы за охотою, но
заряд его оставался невыстреленным. И, положив ружье, полный
тоски, садился он на морской берег. Долго сидел он там, понурив
голову и всё говоря: «Остап мой, Остап мой!» Перед ним- свер-
кало и расстилалось Черное море; в дальнем тростнике кричала
чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою.
И не выдержал наконец Тарас. «Что бы ни было, пойду
разведать, что он: жив ли он? в могиле? или уже и в самой
могиле нет его? Разведаю во что бы то ни стало!» (...)
1 Высмыкать (высмоктать) — вытянуть; здесь: выклевывать.
83
XI
(...) Площадь, на которой долженствовала производиться
казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сто-
рон. (...) Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались
голоса: «Ведут... ведут!., козаки!..»
Они шли с открытыми головами, с длинными чубами; бороды
у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но
с какою-то тихою горделивостью; их платья из дорогого сукна
износились и болтались на них ветхими лоскутьями; они не
глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.
Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа?
Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не
проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к
лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось
выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку
вверх и произнес громко: «Дай же, боже, чтобы все, какие тут
ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится хри-
стианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!»
После этого он приблизился к эшафоту.
«Добре, сынку, добре!» — сказал тихо Бульба и уставил в
землю свою седую голову.
Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки
и ноги в нарочно сделанные станки, и... Не будем смущать
читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись
бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, сви-
репого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних
воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя челове-
чества... Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни
крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали пере-
бивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их
послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда
панянки1 отворотили глаза свои,— ничто, похожее на стон, не
вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял
в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи,
и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»
Но когда подвели его к последним смертным мукам, каза-
лось, как будто стала подаваться его сила. И повел он очами
вокруг себя: боже, всё неведомые, всё чужие лица! Хоть бы
Панянка — знатная девица.
84
Остап перед качнью. Художник Е Кибрик.
кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не
хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или
безумных воплей супруги, исторгающей волосы и биющей себя
в белые груди; хотел бы он теперь увидеть твердого мужа,
который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине.
85
И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: «Батько!
где ты? Слышишь ли ты?»
— Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины, и весь
миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всад-
ников бросилась заботливо рассматривать толпы народа... Но
Тараса уже... не было: его и след простыл.
XII
(...) А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим
полком, выжег восемнадцать местечек, близ сорока костелов1
и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты,
разграбил богатейшие и лучшие замки; распечатали и пораз-
ливали по земле козаки вековые меды и вина, сохранно сбере-
гавшиеся в панских погребах; изрубили и пережгли дорогие
сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не
жалейте!» — повторял только Тарас. (...) И такие поминки
по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское пра-
вительство не увидело, что поступки Тараса были побольше
чем обыкновенное разбойничество, и (...) Потоцкому поручено
было с пятью полками поймать непременно Тараса.
Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами от всех
преследований; едва выносили кони необыкновенное бегство
и спасали Козаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возло-
женного поручения; неутомимо преследовал он их и настиг на
берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную
развалившуюся крепость.
Над самой кручей у Днестра-реки виднелась она своим обо-
рванным валом и своими развалившимися останками стен.
Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса,
готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут-то, с двух
сторон, прилеглых к полю, обступил его коронный гетьман По-
тоцкий. Четыре дня бились и боролись козаки, отбиваясь кирпи-
чами и каменьями. Но истощились запасы и силы, и решился
Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки,
и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони,
как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул:
«Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька
досталась вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал
отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопут-
1 Костёл — католический храм.
86
ницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем временем
набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи.
Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на
землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки1. «Эх,
старость, старость!» — сказал он, и заплакал дебелый2 старый
козак. Но не старость была виною: сила одолела силу. Мало
не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам. «По-
палась ворона! — кричали ляхи.— Теперь нужно только приду-
мать, какую бы ему, собаке, лучшую честь воздать». И при-
судили, с гетьманского разрешения, сжечь его живого в виду
всех. Тут же стояло нагое дерево, вершину которого разбило
громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу,
гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы
отовсюду был виден козак, принялись тут же раскладывать
под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне
он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный,
в ту сторону, где отстреливались козаки: ему с высоты всё было
видно, как на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорее,—
кричал он,— горку, что за лесом: туда не подступят они!» Но
ветер не донес его слов. «Вот, пропадут, пропадут ни за что!» —
говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр.
Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за
кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса и зычно
закричал: «К берегу! к берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной
дорожкой, что налево. У берега стоят челны, все забирайте,
чтобы не было погони!»
На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были
услышаны козаками. Но за такой совет достался ему тут же
удар обухом по голове, который переворотил все в глазах
его. (...)
Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр,
уже козаки были на челнах и гребли веслами: пули сыпались
на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи
у старого атамана.
— Прощайте, товарищи! — кричал он им сверху.— Вспоми-
найте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь. (...)
А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги
и разостлался пламенем по дереву... Да разве найдутся на
1 Гайдуки — легковооруженные пехотинцы.
2 Дебёлый — крепкий, большой, грузный.
87
Смерть Тараса. Художник Е. Кибрик.
свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила
русскую силу!
Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных
густых камышей, отмелей и глубокодонных мест; блестит речное
зеркало, оглашенное звонким ячаньем1 лебедей, и гордый го-
Ячанье стон, жалобный крик лебедей Сччать стонать, жалобно кли-
кать) .
88
голь1 быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых
курухтанов2 и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях.
Козаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно греб-
ли веслами, осторожно минали отмели, всполашивая подымав-
шихся птиц, и говорили про своего атамана.
1842 г.
Вопросы и задания
Какие чувства охватывали вас при чтении повести Н. В. Гоголя? Что
взволновало, запомнилось, какие герои понравились, а какие вызвали осуждение?
О каком «бранном», «трудном времени» рассказывает Н. В. Гоголь? Где
развертываются события, изображенные в повести?
К главам I—VIII
1. Как характеризует автор Тараса Бульбу: что выделяет в его внешности,
взаимоотношениях с женой и старыми товарищами? О каком настоящем деле
для своих сыновей мечтал старый Тарас?
2. Чему дивился Тарас, наблюдая за Андрием? Чем отличается, по его
мнению, Андрий от Остапа? Как эти мысли о сыновьях характеризуют Тараса
Бульбу?
3. Прочитайте описание степи в повести. Какие чувства у ее героев и автора
вызывает степь? В чем особенность ее описания?
4. Расскажите о нравах и обычаях Запорожской Сечи Почему Гоголь
восторженно относится к запорожцам и Сечи?
К главам IX—XII
1. Перечитайте речь о товариществе. В чем, по мнению Тараса, сила това-
рищества и братства русских людей? Как отнеслись к речи наказного атамана
старейшие и молодые козаки?
2. Проследите, как,изображает Гоголь вторую битву под Дубно. Что объеди-
няет запорожцев? В чем проявляется их героизм? Как усиливает автор впечат-
ление о силе и храбрости козаков-незамайиовцев?
3. Как кончилась битва под Дубно для Тараса, Остапа и Андрия? Почему
в последний свой час Остап вспоминает отца и обращается к нему?
4. Что изменилось в характере, поведении и внешности Тараса Бульбы
после битвы под Дубно и казни Остапа? Как погиб Тарас?
Ко всей повести
1. Какие мысли и чувства Гоголя выражены в следующих словах: «Да разве
найдутся на свете такие огнн, муки и такая сила, которая бы пересилила
русскую силу!»? Как связаны они с содержанием всей повести?
2. На кого из былинных богатырей и героев «Повести о Евпатии Коловрате»
похож Бульба? В чем их сходство?
1 Гоголь — птица из семейства утиных.
2 Курухтан — болотная птица.
89
3. Выучите наизусть один из отрывков: описание степи (гл. II), эпизод
битвы под Дубно (гл. VII, IX), речь о товариществе (гл. IX), гибель Тараса
Бульбы (гл. XII).
4. Рассмотрите иллюстрации художника Е. Кибрика. Что изображено иа
них? Как передал художник стойкость и мужество Остапа, непреклонную волю
и героизм Тараса?
5. Прочитайте высказывание В. Г. Белинского о повести «Тарас Бульба».
В чем, по мнению В. Г. Белинского, достоинство повести Н. В. Гоголя?
6. Рассмотрите репродукцию картины И. Е. Репина «Запорожцы». Чем
близки герои повести Н. В. Гоголя героям этой картины? Какие слова из статьи
В. Г. Белинского могут служить эпиграфом к картине И. Е. Репина и повести
Н. В. Гоголя?
О ПОВЕСТИ
«ТАРАС БУЛЬБА»
«Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи'
жизни целого народа... И в самом деле, разве здесь не все
козачество, с его странною цивилизацией, его удалью,, разгуль-
ной жизнию, его беспечностию и ленью, неутомимостью и дея-
тельностью... Скажите мне, чего нет в этой картине? Чего не-
достает к ее полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни,
не бьется ли здесь огромный пульс всей этой жизни? Этот
богатырь Бульба с своими могучими сыновьями; эта толпа
запорожцев, дружно отдирающая на площади трепака; этот
козак, лежащий в луже для показания своего презрения к до-
рогому платью, которое на нем надето, и как бы вызывающий
на драку всякого дерзкого, кто бы осмелился дотронуться до
него хоть пальцем...; эта мать, которая является как бы мимо-
ходом, чтобы заживо оплакивать детей своих... а любовь Андрия
и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа, его воззвание к отцу
и «слышу» Бульбы и, наконец, героическая гибель старого фана-
2 о
тика , который не чувствовал своих ужасных мук, потому что
чувствовал одну жажду мести... И какая кисть, широкая, раз-
машистая, резкая, быстрая! какие краски, яркие и ослепитель-
ные!.. И какая поэзия, энергическая, могучая, как эта Запо-
рожская Сечь!..
(Из статьи В. Г. Белинского «О русской
повести и повестях г. Гоголя».)
1 Эпопея — здесь: крупное и значительное историческое событие.
2 Фанатик — человек, страстно преданный какому-либо делу.
90
ХАРАКТЕР ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ
Характер литературного героя раскрывается в поступках, в
поведении, во взаимоотношениях с другими действующими ли-
цами, в оценке различных явлений общественной и личной жизни,
в его отношении к миру.
Так, горячая любовь Тараса Бульбы к родине и его мужество
проявляются и тогда, когда он сражается с врагами, и тогда,
когда произносит свою речь о товариществе, и тогда, когда
медленно погибает на костре. Он верный товарищ и храбрый
воин. Его любят и ценят козаки, недаром они выбирают его
своим наказным атаманом и беспрекословно подчиняются его
распоряжениям в бою.
Не меньшее значение в раскрытии характера имеют описания
внешнего облика героя, его манеры говорить, его жестов, речи,
окружающей обстановки. Описание светлицы в доме Бульбы,
например, не только знакомит с бытом козачьей семьи XVI века,
но характеризует и его владельца. Перед нами жилище воина,
козака, большая часть жизни которого прошла в Запорожской
Сечи и в военных походах, много повидавшего на своем веку.
Суровая жизнь того времени, когда мужчины не расставались
с оружием, редкие встречи с семьей сказались и на характере
Тараса: он суров, иногда жесток, решителен в поступках, убеж-
ден, что место козака — в Запорожской Сечи или в бою с вра-
гами родной земли. Своим сыновьям он говорит: «Ваша нежба —
чистое поле да добрый конь; вот ваша нежба! А видите вот
эту саблю? Вот ваша матерь!»
Переживания героя, его думы, чувства либо описываются
автором, либо раскрываются с помощью речи самого героя,
обращенной к себе (внутренний монолог): «Он уходил в луга
и степи, будто бы за охотою, но заряд его оставался невыстре-
лянным. И, положив ружье, полный тоски, садился он на морской
берег. Долго сидел он там, понурив голову и все говоря: «Остап
мой, Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилалось Черное
море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его сереб-
рился, и слеза капала одна за другою.
И не выдержал наконец Тарас. «Что бы ни было, пойду
разведать, что он: жив ли он? в могиле? или уже и в самой
могиле нет его? Разведаю во что бы то ни стало!»
Не меньшее значение в понимании характера героя имеют
91
авторские оценки и образные авторские характеристики героев.
Стремительность и отвага Остапа, точность его удара по врагу
сравниваются с ударом ястреба, который, высмотрев с высоты
добычу, бьет оттуда стрелой. Рыцарские качества Остапа, его
сила и благородство сравниваются с могучими качествами льва.
С развернутой авторской характеристикой Тараса Бульбы встре-
чаемся мы в первой главе повести: «Тарас был один из числа
коренных старых полковников...»
Таким образом, поступки героя, его речь, окружающая его
обстановка, взаимоотношения с другими действующими лицами,
внутренний монолог и авторская характеристика помогают нам
не только представить себе того или иного героя прочитанной
книги, но и понять его сущность, его характер. Характер лите-
ратурного героя, изображенный в художественном произведении,
принято называть литературным характером. Не случайно
М. Горький назвал литературу «искусством создания характе-
ров».
Чтобы охарактеризовать литературного героя, нам необхо-
димо:
1) Внимательно прочитать художественное произведение.
2) Выбрать из произведения эпизоды, наиболее полно раскры-
вающие характер героя.
3) Перечитывая выделенные эпизоды, обратить внимание:
а) на внешний облик героя, его жесты, речь, его интонацию,
манеру говорить; б) нВ его поведение, взаимоотношения с дру-
гими персонажами произведения; в) на окружающую героя
обстановку, время и место действия; г) на то, какими средствами
выражается авторское отношение к нему (авторская характе-
ристика и авторская оценка жизни героя).
4) Определить свое отношение к герою: к его поступкам,
поведению, взглядам, его моральным качествам и жизненной
позиции.
5) Определить тему сочинения или устного рассказа о том
или ином литературном герое и составить план своего сообщения.
Вопросы и задания
1. Перечитайте авторскую характеристику Тараса Бульбы (гл. I). Что, по
вашему, является главным в характере Тараса? Под влиянием кацчх событий
сложился его могучий и несгибаемый характер?
2. Когда обращаемся мы к терминам: «литературный характер», «характе-
92
ристнка литературного героя»? Что необходимо знать, чтобы охарактеризовать
героя литературного произведения?
3. Подготовьте устный рассказ и сочинение на тему: «Тарас Бульба —
герой повести Н. В. Гоголя». В качестве примера приводим два плана к данной
теме сочинения: простой и сложный. Сравните нх и объясните, какой нз них
вам нравится больше. Какие изменения вы предлагаете внести в выбранный
вами план? Почему?
Полные ответы на вопросы выбранного вами плана, подтвержденные при-
мерами из повести, помогут составить характеристику главного героя повести —
Тараса Бульбы.
Первый план. 1. В чем видит Тарас Бульба смысл своей жизни? 2. Почему
стремится он в Запорожскую Сечь? 3. Как относится он к своим сыновьям?
Чем гордится и с чем не примиряется? 4. Как выражает Тарас заботу о коза-
ках, являясь их наказным атаманом? О чем думает он в последние минуты
своей жизни? 5. Что говорит Тарас о товариществе и братстве русских людей,
к чему призывает Козаков? 6. Чем особенно дорог Тарас Бульба автору? 7. Что
привлекает нас в характере и в поступках Тараса Бульбы?
Второй план. Вступление. Каким событиям посвящается повесть
Н. В. Гоголя и кто ее главный герой? Основная часть. I. Что узнали
мы из первой главы о Тарасе Бульбе? 2. К чему стремится Тарас и в чем
видит смысл своей жизни? 3. Как проявляет себя Тарас Бульба: а) в отно-
шении к сыновьям; б) в его речи о товариществе; в) при подготовке к бою
и в битве под Дубио; г) в момент гибели? 4. Чем особенно дорог Тарас Бульба
автору? Заключение. Что привлекает нас в характере и в поступках Тараса
Бульбы?
4. Подготовьте устный рассказ на тему «Сыновья Тараса Бульбы», исполь-
зуя такой план: а) внешний облик братьев; б) учение в бурсе; в) отношение
к отцу и матери; г) жизнь в Запорожской Сечи; д) поведение □ бею и в момент
их гибели; е) подвиг Остапа и предательство Андрия; ж) отношение писателя
к Остапу и Андрию и средства выражения этого отношения; з) ваша оценка
героев повести, их поступков в различных жизненных ситуациях. Готовясь к
выступлению, подберите примеры из повести.
Тарас
Григорьевич
ШЕВЧЕНКО
(1814—1861)
Все он изведал: тюрьму
петербургскую,
Справки, доносы, жандармов
любезности,
Все — и раздольную степь
Оренбургскую
И ее крепость...
Н. А. Некрасов
р одился Тарас в семье крепостного крестьянина Григория
Шевченко в селе Моринцах Киевской губернии. Семья
Шевченко принадлежала помещику Энгельгардту... Когда Эн-
гельгардту, жившему в Вильно, понадобились новые слуги, Та-
раса вместе с другими дворовыми отправили в далекую Литву.
В донесении о новых слугах управляющий против имени Тараса
написал: «Годен на комнатного живописца».
Вместо комнатного живописца барин сделал его комнатным
казачком... Однажды Энгельгардт уехал на бал. Бал должен
был затянуться до утра. Когда в большом гулком доме все
успокоились, Шевченко зажег свечу, прокрался в барские ком-
наты и начал срисовывать портрет генерала Платова1.
Шевченко увлекся. Свеча оплывала. Ночь медленно прибли-
жалась к рассвету. Шевченко не слышал стука в дверь, суеты,
грозных окриков... Очнулся он оттого, что рука барина схватила
его за ухо и сбросила со стула.
— На конюшню! — кричал Энгельгардт.— Не твое холопское
дело производить копии с этих портретов.
Утром Шевченко выпороли на конюшне... Порка не испугала
Тараса, он был упрям и продолжал втихомолку срисовывать
портреты. Тогда Энгельгардт сдался. Он решил сделать из Та-
раса крепостного художника...
1 Платов Матвей Иванович (1751 —1818) —генерал, герой Отечественной
войны 1812 года, соратник А. В. Суворова и М. И. Кутузова.
94
В Петербурге Энгельгардт отдал Шевченко в учение к ком-
натному живописцу Ширяеву. Ширяев держал малярное и
стекольное заведение.
Шевченко вместе с другими учениками жил у Ширяева на
чердаке, носил ветхий тиковый халат и ходил на работу — кра-
сить стены, расписывать потолки и вывески.
О том, чтобы научиться у него даже самым простым приемам
живописи, нечего было и думать. Никто не мог поиочь Шевченко
в трудном искусстве, и он начал изучать его сам По пути с ра-
боты на ширяевский чердак он заходил в Летч ч сад и срисо-
вывал мраморные статуи. В Летнем саду Тарас начал писать
и свои первые стихи.
Днем рисовать было некогда. Помогали белые ночи. Их
сумрак был светел. Он не скрывал очертаний статуй. Шевченко
сидел около статуй и рисовал. Никто не мешал ему.
В одну из таких ночей преподаватель Академии художеств
Сошенко проходил через Летний сад и увидел мальчика, сидев-
шего на перевернутом малярном ведре перед статуей Сатурна1.
Сошенко тихо подошел. Мальчик обернулся и что-то быстро
спрятал за пазуху.
— Что ты здесь делаешь? — спросил Сошенко.
— Да ничего,— ответил растерянно мальчик.— Ничего я не
делаю такого... шел с работы и зашел в сад.
Сошенко молчал.
— Я рисую,— прошептал мальчик и покраснел.
— Покажи.
Мальчик показал художнику измятый набросок статуи Са-
турна. Набросок был очень хорош.
Сошенко дал мальчику свой адрес и наказал непременно
прийти в ближайшее воскресенье и принести свои рисунки.
С этой встречи начался перелом в жизни Шевченко. Сошенко
первый открыл в Летнем саду этот «алмаз в кожухе», как он
называл впоследствии Шевченко...
С тех дор Тарас все свободное время проводил в мастерской
у Сошенко. Здесь он встретился с блиставшим в то время в
Петербурге Карлом Брюлловым2.
1 Сатурн — в древнеримской мифологии — бог плодородия, покровитель
земледелия у древних рнмлян.
2 Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — знамеинтый русский худож-
ник, самая известная его картина — «Последний день Помпеи».
95
Хата родителей Шевченко в Кирилловне. Рисунок Т. Шевченко.
После встречи с Брюлловым Тарас несколько дней ходил,
ничего не видя, не слыша. Он беспричинно смеялся, забывал
о работе, не замечая ругани Ширяева.
Брюллов рассказал о судьбе талантливого украинского юноши
Жуковскому. Сообща было решено добиться освобождения
Тараса.
Брюллов поехал к Энгельгардту. Он вернулся от помещика
в бешенстве.
«Это самая грязная свинья, какую я когда-либо встречал
в жизни! — сказал он Сошенко.— Завтра он обещал назначить
цену за Шевченко. Сходите к нему и узнайте, сколько он за-
просит».
Так начался страшный торг с Энгельгардтом за свободу
Шевченко. Торг длился долго. Энгельгардт в конце концов
назначил выкуп за Шевченко в две тысячи пятьсот рублей и
не захотел уступить ни копейки. Сумма была огромна. Она
делала освобождение Шевченко почти невозможным.
Шевченко страшно волновался. Он знал, что нигде двух
с половиной тысяч достать нельзя, что не стоит думать о сво-
боде, и с каждым днем томился все больше. Он притих, был
подавлен, растерян. Тарас не выдержал этого напряжения и
заболел горячкой.
Болезнь Тараса заставила его друзей торопиться с поисками
денег. Жуковский и Брюллов придумали выход. Брюллов напи-
сал портрет Жуковского. Портрет этот был разыгран в лотерею.
Лотерея дала две с половиной тысячи рублей. Деньги тотчас
96
отвезли Энгельгардту и получили у него «вольную» на «...кре-
стьянина Тараса Григорьевича Шевченко».
Освобождение Шевченко почти совпало со смертью Пушкина.
Пушкин умер только за год до этого. Только год назад Тарас
робко вошел, вместе с притихшей толпой, в небогатую квартиру
поэта. Пушкин лежал в гробу, в прихожей...
Тарас принес с собой лист бумаги и огрызок карандаша.
Он спрятался в угол и начал срисовывать безжизненную голову
поэта. Он смущался, вздрагивал, когда кто-нибудь задевал его
полой тяжелой шубы. Тогда уже Пушкин вошел в жизнь Тараса
как недосягаемый друг, как величайший учитель поэзии...
Тарас поселился у Сошенко и начал работать в Академии
художеств под руководством Брюллова. Брюллов открыл Шев-
ченко свою богатую библиотеку. Шевченко впитывал содержа-
ние книг, как земля впитывает внезапный ливень. Годы учения
в Академии художеств были самым легким временем в жизни
Шевченко...
Портреты работы Шевченко вскоре стали славиться в Пе-
тербурге. Посыпались заказы. Нужда кончилась... __/
Оставаясь наедине с собой в пыльной комнате, заваленной
начатыми холстами, Шевченко до слез грустил по Украине,
и все думы, вся страсть, вся любовь были далеко от Петербурга,
были со своим обездоленным народом. Оставаясь один в своей
каморке, Тарас писал стихи о родине. О стихах этих никто не
знал, и, может быть, о них долго бы не узнали, если бы не
случай...
Шевченко писал портрет полтавского помещика Мартоса.
Однажды Мартос заметил на полу комнаты исписанный клочок
бумаги. Он поднял его и прочел украинские стихи, поразившие
его ясностью языка, певучестью, скорбью о судьбе Украины.
— Что это? — спросил Мартос.— Чьи это стихи?
— Мои,— неохотно ответил Шевченко.— Так... Баловство.
Когда плохо делается на сердце, я и начинаю портить бумагу.
У меня их много, этих стихов.
Шевченко вытащил из-под кровати корзину, доверху наби-
тую изорванными, скомканными листами, исписанными крупным
неправильным почерком.
— Вот все мое добро,— сказал.— Тут сам черт вывихнет
лапу...
С большим трудом Мартосу удалось добиться от Шевченко
4. Зак. 2348. М. А. Снежнеоскай
97
В Орской казарме. Рисунок Т. Шевченко.
разрешения напечатать стихи отдельной книгой. Она была
названа «Кобзарь»1 и вышла в свет в феврале 1840 года.
Петербург заговорил о новом «мужицком» поэте. На Украине
появление «Кобзаря» произвело потрясающее впечатление. Его
выучивали наизусть, над ним плакали, его хранили в сундуках.
Чудесным казалось, что из северного Петербурга раздался сво-
бодный голос бывшего раба-украинца, и голос этот прозвучал
по всей стране как плач о бедняках, как призыв к освобожде-
нию от рабства.
Летом 1843 года сбылась, наконец, мечта Тараса. Он вернулся
к себе на Украину прославленным поэтом и художником.
Украина встретила Тараса ласково, но вскоре нанесла удар
его юношеским представлениям о родине... Как только Тарас
переступил порог первого же помещичьего дома, он понял, что
он крепостной, хотя и носит в кармане «вольную». Его прини-
мали охотно, но давали временами почувствовать, что он быв-
ший холоп и ему не по плечу равняться со шляхтой и дворянст-
вом. Шевченко не мог смотреть в глаза казачкам, подававшим
1 Кобзарь — украинский народный певец; здесь: сборник стихотворений
Г. Г. Шевченко.
98
трубки, дворне, снимавшей шапки перед ним, знатным столичным
человеком.
Он был кость от кости этих холопов, он был поэтом бедняцкой
Украины. Ненависть к помещикам, к панам, независимо от того,
кто они были — украинцы, поляки или русские,— вошла с тех
пор в его сердце и крепла с каждым годом.
Во время скитаний по Украине Шевченко много времени
проводил среди крепостных крестьян. По ночам в темных хатах
собирались родные его «гречкосеи» и безнадежно жаловались
на угнетения, на обиды, на жестокости панов и шляхтичей.
Для помещиков и шляхтичей, наводнявших Украину, «гречкосеи»
были только «быдлом» — рабочим скотом. Гнев охватывал Шев-
ченко — великий беспощадный гнев поэта, трибуна, революцио-
нера. Этот гнев сообщал его стихам характер неистовых прокля-
тий.
— Что делать, Тарас? — спрашивали измученные крипаки1.—
Вот ты вышел в люди — дай совет, открой очи, научи, как
добиться до правды.
Шевченко в то время уже знал, что делать. Сбросить царя
и помещиков. Взять землю. Он открыто звал к этому крестьян.
Он писал об этом.
Шевченко арестовали пятого апреля 1847 года. Семнадца-
того апреля Шевченко под конвоем был доставлен в Петербург
и заключен в Петропавловскую крепость. Началось следствие.
Шевченко был приговорен к ссылке рядовым солдатом в
Оренбургский батальон «с правом выслуги», то есть на неопре-
деленное время, почти на пожизненную каторгу...
На приговоре о ссылке Шевченко Николай I написал слова,
изумившие даже жандармов: «Под строжайший присмотр, за-
претив писать и рисовать». Это была гражданская смерть для
Шевченко. Художнику связали руки, поэту заткнули рот и бро-
сили в каторжную жизнь захолустного гарнизона.
Второго июня Шевченко выехал с жандармами в Оренбург.
Из Оренбурга Шевченко отправили в Орскую крепость, в
пятый линейный батальон.
Если бы Шевченко не обладал мужеством и волей, если бы
он не был «одарен крепким телосложением», как было сказано
даже в приговоре о ссылке, он не вынес бы десятилетней ссыль-
ной тоски...
' Крипак — крепостной.
4
99
Наказание колодкой. Рисунок Т. Шевченко.
Больше полугода Шевченко просидел в тюрьмах Оренбурга,
Орска и Уральска и был, наконец, поздней осенью 1850 года
выслан в Новопетровское укрепление, на полуостров Мангы-
шлак, на восточный бесплодный берег Каспийского моря. Это
было место, носившее у видавших виды николаевских солдат
название «могилы» или «вонючего пекла»...
В Новопетровском Шевченко не написал за семь лет ни
100
одного стихотворения. Казалось, что воображение иссякло,
пролилось, как воды на сухую землю. И все чаще ярость поды-
малась к горлу, и Шевченко проклинал страшным, неистовым
проклятием палача Николая, обрекшего поэта на медленную
смерть в изгнании.
В 1855 году до глухого форта дошла радостная весть —
Николай умер.
Шевченко ждал освобождения, ждал амнистии1 со стороны
нового царя — Александра.
Александру II были поданы списки ссыльных, подлежавших
освобождению. Он прочел их и тщательно вычеркнул из списков
имя Шевченко. Он вежливо улыбнулся и сказал: «Этот слишком
сильно оскорбил мою бабку и моего отца, чтобы я мог его
простить».
Последняя надежда на освобождение пропала...
Шевченко не знал, что Федор Толстой2 обивал в это время
в Петербурге пороги дворцовых приемных и требовал освобож-
дения поэта.
И вот, наконец, свершилось: второго мая 1857 года Шевченко
получил письмо от друга Михаила Лазаревского. Лазаревский
поздравлял Шевченко со свободой.
Казалось, ничто не предвещало нового испытания. Но в
Нижнем Новгороде3 Шевченко узнал еще об одной подлости
правительства... В предписании губернатору было сказано, что
Шевченко запрещен въезд в обе столицы — Петербург и
Москву.
Всю зиму поэт прожил в Нижнем Новгороде. Местное обще-
ство встретило его ласково... Шевченко впервые встретился в
Нижнем Новгороде с декабристом. Это был Анненков4. Шевченко
отнесся к нему с величайшей почтительностью. Анненков был
седой, величавый старик — настоящий «благовеститель свободы».
Преклонение Шевченко перед декабристами было безгранич-
ным. Он разыскал в Новгороде дочь декабриста Пущина, нари-
совал ее портрет и всячески ее баловал.
1 Амнистия — помилование.
2 Толстой Федор Петрович (1783—1873) — русский скульптор, художник.
3 Нижний Новгород — в настоящее время город Горький.
' Аниеиков Иван Александрович (1802—1878) — за участие в подготовке
восстания 14 декабря 1825 года был сослан на каторгу, после амнистии жил
и умер в Нижнем Новгороде.
101
Декабристам он посвятил взволнованные строки:
...Я думой полечу в Сибирь
И в Забайкалье: гляиу в горы,
В вертепы' темные и норы
Без дна, глубокие, и вас,
Поборников священной воли.
Из тьмы, из смрада и неволи.
Царям и людям напоказ.
Вперед вас выведу, суровых.
Рядами длинными, в оковах...
В марте 1858 года пришло из Петербурга известие о том,
что Шевченко разрешено жить в столице.
Ссылка кончилась. Петербург радостно встретил поэта. В нем
видели мученика, его приветствовали как страшную жертву
николаевского царствования.
(Из повести К- Г. Паустовского «Тарас Шевченко».)
Вопросы и задания
1. Что помогло Т. Г. Шевченко вынести десятилетнюю ссылку? Как вы
думаете, почему декабристы вызывали у Шевченко безграничное восхищение?
2. Какие события в жизни Т. Г. Шевченко можно назвать переломными?
Расскажите об одном из них. Подготовьте план своего рассказа.
3. Какие рисунки Т. Г. Шевченко помогают представить трагические собы-
тия его жизни? Что изображено на этих рисунках и какие чувства они у вас
вызывают?
И ВЫРОС я в
И вырос я в чужом краю,
И вот седею на чужбине;
И одинок я, как в пустыне,
И оттого мечту мою
Наш славный край и Днепр
наш синий
Чаруют так. Но вижу сам,
Что правда: хорошо лишь там,
Где нас нет. В черную годину
Меня ненастье занесло
Туда, в родную Украину
ЧУЖОМ КРАЮ...
И в то найлучшее село,
Где мать когда-то пеленала
Меня малюткой, не спала,
Гроши работой добывала
На свечи, в церковь их несла,
Пречистой ставила, молила,
Чтоб доля добрая любила
Ее ребенка... Благо, мать,
Что ты легла заране спать:
Не раз бы прокляла ты бога
За мой удел1 2...
1 Вертеп — здесь: пещера.
2 Удел — здесь: судьба.
102
Как горя много
В хорошем том родном селе!
Земли чернее, по земле
В нем бродят люди. Поредели
Его зеленые сады.
Избушки белые осели;
Осокой заросли пруды;
Село как будто погорело.
Село как будто оглупело,—
Молчат — на барщину идут
И за собой детей ведут.
И я, заплакавши, назад
Уехал снова на чужбину.
И не в одном селе родном,—
Везде на славной Украине
Людей гоняют под ярмом
Паны лукавые. Гнут спины
Свободных рыцарей сыны:
В неволе жить и умирать им.
А их презренные паны
Ростовщикам, своим собратьям,
Продать готовы и штаны...
Ох, тяжело, страдая втайне,
В пустыне этой пропадать;
Но хуже, хуже на Украйне
Смотреть, и плакать, и молчать!
Когда не видишь тех страданий,
То кажется, что всюду рай,
Что счастлив мой родимый край.
Вот старый Днепр блестит
в тумане
Улыбкою сыну,
Красуется, любуется
На всю Украину.
А над ним в садах зеленых
Раскинулись села,
А в веселых этих селах
И народ веселый...
Так бы, может быть, и сталось,
Если б не осталось
Панского следа на Украине.
1848 г.
Перевод А. Колтоновского.
Вопросы и задания
1. Какие картины бесправной жизни рисует поэт, вспоминая Украину?
Можно ли назвать это стихотворение автобиографическим? Почему?
2. Что вызывает у -поэта чувство горечи н гнева?
3. Вспомните стихотворение Н. А. Некрасова «На Волге» и сравните его
со стихотворением Т. Г. Шевченко. Чем близки эти произведения?
ЗАВЕЩАНИЕ
Как умру, похороните
На Украйне милой,
Посреди широкой степи
Выройте могилу.
Чтоб лежать мне на кургане,
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.
И когда с полей Украины
Кровь врагов постылых
Понесет он... вот тогда я
Встану из могилы —
Подымусь я и достигну
Божьего порога,
Помолюся... А покуда
Я не знаю бога.
юз
Схороните и вставайте,
Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите.
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте — помяните
Добрым, тихим словом.
1845 г.
Перевод А. Г. Твардовского.
Вопрос и задания
1. О какой родине мечтал поэт? Подумайте, как передать в чтении обра-
щения поэта к потомкам, чувство гнева и призыв его к борьбе. Выучите стихотво-
рение наизусть.
2. Прочитайте статью Ал. Суркова и стихотворения Т. Г. Шевченко, реко-
мендованные для самостоятельного чтения и обсуждения в классе. Объясните,
почему стихотворения поэта дороги народам нашей многонациональной Родины.
...Десятки лучших стихотворений Шевченко живут в городах
и селах Украины и, переступив ее границы, звучат на языках
других братских народов.
Разве не стала «Реве та стогне Дшпр широкий» такой же
всеобще распевной русской народной песней, как «Ермак»
Рылеева или «Коробейники» Некрасова?.. Переведенное на все
языки и наречия народов нашей Родины, слово Тараса находит
отклик в сердцах всех народов, которым Великая Октябрьская
революция открыла широкие просторы для яркого цветения их
национальных культур.
Сбылась мечта поэта, исполнилась его заветная просьба:
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой.
Не забудьте — помяните
Добрым, тихим -словом.
(Из статьи Ал. Суркова «Великий кобзарь Украины».)
*
Сам удивляюсь. Кто ответит,—
Что делать мне, с чего начать?
Людей и долю проклинать
Напрасно. Но как жить на свете
В цепях, в далекой стороне?
Вот если перегрызть бы мне
По силам было цепи эти,—
Грыз понемногу б... Так не те.
104
Не те их кузнецы ковали.
Не так железо закаляли.
Чтоб перегрызть их. Горе нам,
Невольникам и сиротам,
В степи бескрайной за Уралом!
Мне золотую, дорогую
Свою судьбу совсем не жаль.
Не жаль мне долю молодую;
А все же иногда печаль
Найдет такая, что заплачу!
Когда еще, к тому в придачу,
Мальчишку встречу. Одинок,
Как с ветки сорванный листок.
Сидит он, прислонившись
к тыну,
Одетый в рваную холстину,—
И мнится мне, что это я!
1847 г.
Орская крепость
Перевод с украинского Н. Ушакова
И мнится мне: в суровой доле
Он не увидит вольной воли.
Священной воли... И вот так —
Напрасно—прахом пролетят
Все лучшие его года.
Нигде не сыщет он привета
И, побродив по белу свету.
Пойдет батрачить... Ну, а тут —
Чтоб он не плакал, не грустил.
Чтоб как-нибудь пристроен
был,—
Его в солдаты отдадут.
1849 г.
Кос-Арал
Перевод с украинского В. Звягинцевой
Я, чтоб не сглазить, не хвораю,
Но за собою замечаю —
Неладно с сердцем у меня.
Как бы голодное дитя,
Чего-то ждет оно, рыдает,
Не спит. Быть может, ожидает
Дурного? Доброго не жди —
Напрасно воли поджидаем:
Придавленная Николаем,
Заснула. Чтобы разбудить
Беднягу, надо поскорее
Всем миром закалить обух
Да наточить топор острее
И вот тогда уже будить.
А то, пожалуй, так случится —
До Страшного суда заспится!
Паны помогут крепко спать:
Все будут храмы воздвигать
И своего царя хмельного
Да византийство прославлять,
И не дождемся мы другого.
1858 г.
Перевод с украинского Н. Ушакова
105
О РОДАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ЭПИЧЕСКИЕ, ЛИРИЧЕСКИЕ
И ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
Вы прочитали много рассказов, повестей и, вероятно, обра-
тили внимание на то, что в рассказе чаще всего повествуется
об одном событии из жизни человека, а в повести событий
много, изображаются они гораздо полнее и шире. Наиболее
сложное произведение — роман. В отличие от рассказа и повести
в романе много действующих лиц, интересы которых сталкива-
ются и пересекаются, как, например, в романах Ф. Купера,
А. Дюма. Поэтому лишь вчитываясь в описания и рассуждения
писателя, внимательно следя за развитием событий, поступками и
переживаниями действующих лиц, возможно глубоко воспринять
прочитанное. Роман, повесть, рассказ — это виды (жанры) эпоса.
Слово эпос в переводе с греческого означает рассказ, повест-
вование. Разные художественные произведения — рассказ «Му-
му» И. С. Тургенева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Н. По-
левого, сказка-быль «Кладовая солнца» М. М. Пришвина, ро-
ман «Дон Кихот» М. Сервантеса — объединяет повествование
о человеке и событиях, в которых он участвует.
Такие произведения, в которых повествуется о людях, их
судьбах, их жизни, рассказывается об окружающем их мире,
называются эпическими.
Эпосом называют также и произведения устной народной
поэзии, представляющие собой широкое изображение великих
исторических событий из жизни народа (былины, легенды, ска-
зания) .
Произведения, относящиеся ко второму роду — лирике, на-
зываются лирическими. Читая лирические произведения, мы
проникаем в мир чувств, настроений, раздумий автора или его
героя. Вспомните стихотворения «Зимнее утро», «Няне», «Узник»
А. С. Пушкина, «Тучи», «Парус» М. Ю. Лермонтова. Главное
в этих стихотворениях — выражение чувств и дум поэта, а не
рассказ о событиях, не изображение картин действительности,
как в эпосе.
Произведения, в основе которых чувства, мысли и пережи-
вания писателя, вызванные различными обстоятельствами жиз-
ни, называются лирическими.
Первоначально лирическое произведение было песней. Древне-
греческие стихи, например, исполнялись под аккомпанемент
106
музыкального инструмента. Слово лирика в переводе с греческого
означает исполняемый под аккомпанемент лиры. В дальнейшем
лирические произведения стали записываться и печататься и
музыкальное сопровождение стало необязательным. Наверное,
вы и сами обратили внимание на то, что звучность и особую
красоту стихи обретают тогда, когда они произносятся вслух.
Поэтому каждому важно научиться читать выразительно.
К какому же роду литературы можно отнести известную
вам пьесу-сказку С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев»?
Читая это произведение, вы, вероятно, заметили, что в «Две-
надцати месяцах» отсутствует речь автора. Текст этого про-
изведения представляет диалогическую и монологическую речь
действующих лиц, делится он не на главы, а на действия,
явления, сцены. В самом начале пьесы помещен список дейст-
вующих лиц, он предваряет первое действие. Слова автора в
«Двенадцати месяцах» появляются лишь в ремарках, кратких
пояснениях, характеризующих обстановку действия и поведение
героев пьесы. Это произведение предназначается для постановки
на сцене и называется драматическим. Слово драма — греческое,
в переводе означает «действие».
Литературные произведения, предназначенные для театраль-
ных постановок, с напряженно развивающимся действием,
написанные в форме разговора действующих лиц, в которых
авторская речь появляется лишь в авторских ремарках, на-
зываются драматическими.
Таким образом, в зависимости от того, как изображается
человек в художественном произведении, литература делится
на три рода: эпический, лирический и драматический.
Вопросы и задания
1. Прочитайте статью и расскажите о родах художественной литературы
по заранее составленному плану.
2. Назовите известные вам эпические произведения. Почему вы относите
их к эпосу?
3. Прочитайте стихотворения А. С. Пушкина «Узник», М. Ю. Лермонтова
«Прощай, немытая Россия...» и Т. Г. Шевченко «Завещание». Объясните, по-
чему эти стихотворения относятся к лирическим произведениям.
4. Какие произведения мы называем драматическими? Приведите примеры.
Чем отличается драматическое произведение от эпического и лирического?
5. Проведите урок внеклассного чтения, посвященный лирическим произ-
ведениям. Готовясь к уроку, выберите для выразительного чтения одно-два
стихотворения из вашей учебной хрестоматии или из книги «В мире русской
литературы» для 6 класса.
Иван
Сергеевич
ТУРГЕНЕВ
(1818—1883)
В крепостном крестьянине Тур-
генев показал человека, кото-
рый так же, как и все люди,
достоин иметь человеческие
права.
М. И. Калинин
г> одном из самых красивых и поэтичных мест средней
полосы России, недалеко от Орла, прошло детство Ивана
Сергеевича Тургенева. Семья его жила «дворянской, медленной,
просторной... жизнью с обычной обстановкой гувернеров и учи-
телей, швейцарцев и немцев, доморощенных дядек и крепостных
нянек». Все в этом доме было подчинено произволу своевольной
хозяйки Спасского-Лутови нова — матери Ивана Сергеевича
Варваре Петровне, от жестокости которой он нередко страдал.
Тургенев писал, что с детства он «пропитался любовью к
родной почве своих полей, лесов» и «сохранил в душе образ
страданий населяющего их люда». Он проникся ненавистью
к угнетению, которое его окружало. Протестуя против неспра-
ведливости, он дал Аннибалову клятву1 всю жизнь бороться
с крепостным правом и сдержал ее.
Первый сборник рассказов Тургенева — «Записки охотника»
современники оценили как «батальонный огонь против поме-
щичьего быта». Обратите внимание на фамилии помещиков,
которых он изобразил в этих рассказах,— сразу видно, как
относится к ним автор, что хочет подчеркнуть в их характерах:
Зверков, Пеночкин... «Добрейший» помещик Мардарий Аполло-
Аннипалова клятва это выражение связано с именем знаменитого вар-
фагенского полководца Ганнибала (Аннибале) (246 или 247 183 годы до
нашей эры), который поклялся до конца своей жизни бороться с Римом, врагом
его родного города, и сдержал клятву. С тех пор его именем клянутся, выражая
1нердук> решимость бороться до конца, не отступать от своих целей.
108
ныч Стегунов с наслаждением ловит звуки порки, которые доно-
сятся из конюшни, и в такт им приговаривает: «Чюки-чюки-
чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!» Он вызывает у читателя то чувство
гнева против жестокости и несправедливости, которое испытывал
Тургенев к своим «героям».
Как же изображены в «Записках охотника» крестьяне?
Несчастный старик, по прозвищу Сучок, с удивительным
спокойствием рассказывает о своей судьбе:
«— Сперва точно был поваром, а то и в кофйшенки попал.
— Во что?
— В кофишенки.
— Это что за должность такая?
— А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном
назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила».
Потом он был «ахтером», казачком, кучером, учился сапож-
ничать... Охотник встретил его, когда Сучок состоял рыбаком
при пруду, в котором не было рыбы (рассказ «Льгов»),
Так показал Тургенев несправедливость, унижение челове-
ческого достоинства, угнетение народа. Но писатель сумел по-
казать и другие его качества. Вы помните, с какой симпатией
он изобразил немого богатыря Герасима в рассказе «Муму».
К простым людям обращены все надежды Тургенева. В рассказе
«Певцы» писатель восхищается талантливостью русского народа,
верит в богатейшие его возможности. Песня «Не одна во поле
дороженька пролегала...» описана так, что кажется, будто
слышишь эту всем знакомую песню.
Скоро вы прочтете рассказ «Бежин луг» — в нем вам откро-
ется красота природы, и вы сумеете найти новые слова для
описания нашей родной природы средней полосы России.
Вера в силу духа русского народа, ясный, красивый, звуч-
ный язык каждой строчки рассказов Тургенева вызвали отклик
у читателей. Писатель заслужил славу «певца русской природы».
Однажды Тургенев ехал из Орла в Москву. Когда он вышел
на одном из полустанков на платформу, к нему приблизились
два человека. По одежде, по манерам видно было, что это
мещане или мастеровые.
— Позвольте узнать,— заговорил один из них,— вы будете
Иван Сергеевич Тургенев?
— Я,— последовал ответ.
— Тот самый, что написал «Записки охотника»?
109
— Тот самый...
Тогда оба сняли шапки и поклонились писателю в пояс.
— Кланяемся вам,— сказал один,— в знак уважения и бла-
годарности от лица всего русского народа...
Вопрос и задание
I. За что благодарили писателя повстречавшиеся с ним иа одном из
полустанков мастеровые?
2. Прочитайте самостоятельно рассказы «Два помещика», «Певцы», «Би-
рюк».
РУССКИЙ язык
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах
моей родины,— ты один мне поддержка и опора, о великий,
могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя —
как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается
дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому
народу!
Июнь 1882 года.
Задание
Выучите наизусть стихотворение в прозе «Русский язык».
БЕЖИН ЛУГ
Из «Записок охотника»
Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые
случаются только тогда, когда погода установилась надолго.
С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает
пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не
огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не
тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-луче-
зарное1 — мирно всплывает над узкой и длинной тучкой, свежо
просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий
край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подо-
бен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие
лучи,— и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается мо-
гучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множе-
ство круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными
Лучезарное — сверкающее, сияющее.
ПО
белыми краями. Подобно островам, разбросанным по беско-
нечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными
рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее,
к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними
уже не видать; но сами они так же лазурны1 2, как небо: они все
насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, лег-
кий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом
одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где
протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва
заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из
них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми
клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно зака-
тилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое
сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо
мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечер-
няя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не
ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости.
В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже
«парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает на-
копившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак
постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по
дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет по-
лынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не
чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для
уборки хлеба...
В такой точно день охотился я однажды за тетеревами
в Чернском уезде. Тульской губернии. Я нашел и настрелял
„ 2
довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал
мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еше
светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца,
начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я ре-
шился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами
прошел я длинную «площадь»3 кустов, взобрался на холм и,
вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо
и низенькой белой церковью в отдалении, увидал совершенно
другие, мне неизвестные места. У ног моих тянулась узкая
1 Лазурный — цвета лазури, светло-синий.
2 Ягдташ — охотничья сумка для.дичи.
3 Площадями называются в Орловской губернии большие сплошные массы
кустов. (Примечание И. С. Тургенева.)
111
долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый
осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге! — по-
думал я,— да это я совсем не туда попал: я слишком забрал
вправо»,— и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился
с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сы-
рость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне
долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней
было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону
и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже
носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась
и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вы-
шине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как
только я выйду на тот угол,— думал я про себя,— тут сейчас
и будет дорога, а с версту крюку я дал!»
Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой
дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались
передо мною, а за ними, далёко-далёко, виднелось пустынное
поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?»
Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да
это Парахинские кусты! — воскликнул я наконец,— точно! вон
это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда
зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо
взять».
Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась
и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними пара-
ми отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота.
Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отпра-
вился по ней, внимательно поглядывая вперед.. Все кругом
быстро чернело и утихало,— одни перепела изредка кричали.
Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на
своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо
нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по
полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы;
поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением на-
двигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо
отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее
небо стало опять синеть — но то уже была синева ночи. Звез-
дочки замелькали, зашевелились на нем.
Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым
бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух, остано-
112
вился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою англий-
скую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо
всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей
только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками
и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно
перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг дога-
дался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглу-
бокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас
овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла
с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько боль-
ших белых камней,— казалось, они сползлись туда для тайного
совещания,— и до того в ней было немо и глухо, так плоско,
так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось.
Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я
поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще
не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно
удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже ни-
сколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем
потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам — науда-
лую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги.
Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не
мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий
холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями,
кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом.
Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра,
как вдруг очутился над страшной бездной.
Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрач-
ный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину.
Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; сталь-
ные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее
теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти
отвесным обрывом; его громадные очертанья отделялись, чернея,
от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в .углу,
образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая
в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой
кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле
дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались
тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой
и кудрявой головы...
Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших
113
околотках под названием Бежина Луга... Но вернуться домой
не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги
подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти
к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртов-
щиков1, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но
не успел выпустить из рук последнюю, ухваченную мною ветку,
как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным
лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались
вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я
откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко
мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появ-
ление моей Дианки, и я подошел к ним.
Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за
гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из
соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю
пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем
мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером
и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для
крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушуб-
ках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем
и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают,
звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается
и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади
бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспре-
станно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репей-
никами в спутанной гриве.
Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они
спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного
поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть
кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как
будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отра-
жение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того
круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья
лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на
мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак
боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок
света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставля-
лась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или
1 Гуртовщикй — хозяева и погонщики гуртов; гурт — стадо скота, которое
гонят на продажу.
114
вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя
длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только
слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась.
Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в по-
темках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной
завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно вид-
нелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и не-
объятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным
великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный,
томительный и свежий запах — запах русской летней ночи.
Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка
в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба
и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный
набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.
Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки,
которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не
могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь
и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством
собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка виз-
жали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание.
Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя
и Ваня. (Из разговоров я узнал их имена и намерен теперь же
познакомить с ними читателя.)
Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четыр-
надцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими,
немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми воло-
сами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурас-
сеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой
семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На
нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; неболь-
шой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его
узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги
его с низкими голенищами были точно его сапоги — не -отцов-
ские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклокоченные,
черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот
большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится,
с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был нека-
зистый — что и говорить! — а все-таки он мне понравился:
глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала
сила. Одеждой своей он щеголять не мог: йСя она состояла из
115
простой замашной рубахи1 2 да из заплатанных портов. Лицо
третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое,
вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, бо-
лезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдви-
нутые брови не расходились — он словно всё щурился от огня.
Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами
из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими ру-
ками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти
и онучи ; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана,
тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и
Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый,
Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим
задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико,
худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва
было можно различить; но странное впечатление производили
его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза; они,
казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке,— на его
языке, по крайней мере,— не было слов. Он был маленького
роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Послед-
него, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле,
смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только из-
редка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому
мальчику было всего лет семь.
Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на
мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней;
в нем варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и,
стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал,
опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша
сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя
понурил немного голову и глядел куда-то вдаль, Ваня не шеве-
лился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу
мальчики опять разговорились.
Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах,
о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы во-
зобновляя прерванный разговор, спросил его:
— Ну, и что ж ты, так и видел домового?
— Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя,— отвечал
Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя
1 Замашная рубаха — рубаха нз замашки (холста).
2 Онучи — портянки, обмотки для ног под сапог или лапоть.
116
более соответствовал выражению его лица,— а слышал... Да
и не я один.
— А он у вас где водится? — спросил Павлуша.
— В старой рольне1 2.
— А разве вы на фабрику ходите?
— Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках2
состоим.
— Вишь ты — фабричные!..
— Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя.
— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Фе-
дором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой,
что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да
еще были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек
десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне зано-
чевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, над-
смотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой
таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не
ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка
говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не
успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами
у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он
наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и
гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода
вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит ко-
лесо, завертится; но а заставки у дворца-то3 спущены. Дивимся
мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо
повертелось, повертелось да и стало. Пошел тот опять к двери
наверху, да по лестнице слушаться стал, и этак слушается,
словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут...
Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал — дверь
вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим —
ничего... Вдруг, глядь, у одного чана форма4 зашевелилась,
поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху,
словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого
1 Рольней и черпальней на бумажных фабриках назыьается то строение,
где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом.
(Примечание И. С. Тургенева.)
2 Лисдвщики гладят, скоблят бумагу. (Примечание И. С. Тургенева.)
1 Дворцом называется у нас место, по которому вода бежит на колесо.
(Примечание И. С. Тургенева.)
* Форма — сетка, которой бумагу черпают. (Примечание И. С. Тургенева.)
117
чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто
кто-то к двери пошел, да вдруг как закашляет, как заперхает,
словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и сва-
лились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались
о ту пору!
— Вишь как! — промолвил Павел.— Чего ж он раскашлялся?
— Не знаю; может, от сырости.
Все помолчали.
— А что,— спросил Федя,— картошки сварились?
Павлуша пощупал их.
— Нет, еще сыры... Вишь, плеснула,— прибавил он, повернув
лицо в направлении реки,— должно быть, щука... А вон звездочка
покатилась.
— Нет, я вам что, братцы, расскажу,— заговорил Костя
тонким голоском,— послушайте-ка, намеднись что тятя при мне
рассказывал.
— Ну, слушаем,— с покровительствующим видом сказал
Федя.
— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?
— Ну да; знаем.
— А знаете ли, отчего он такой всё невеселый, всё молчит,
знаете? Вот отчего он такой невеселый: пошел он раз, тятенька
говорил,— пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он
в лес по орехи да и заблудился; зашел — бог знает куды зашел.
Уж он ходил, ходил, братцы мои,— нет! не может найти дороги;
а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол,
дождусь утра,— присел и задремал. Вот задремал и слышит
вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал —
опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке
русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает
со смеху, смеется... А месяц-то светит сильно, так сильно,
явственно светит месяц — всё, братцы мои, видно. Вот зовет
она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на
ветке, словно плотичка какая или пескарь, а то вот еще карась
бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник
так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе
этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было
русалки, братцы мои, да, знать, господь его надоумил: положил-
таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть,
братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается...
118
Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои,
русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет...
Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса
у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на
нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье,
плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы
тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до
конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да
не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней».
Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно
стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор вот
он все невеселый ходит.
— Эка! — проговорил Федя после недолгого молчанья,— да
как же это может этакая лесная нечисть хрестиянскую душу
спортить,— он же ее не послушался?
— Да вот поди ты! — сказал Костя.— И Гаврила баил1, что
голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.
— Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.
— Сам. Я лежал на полатях, все слышал.
— Чудное дело! Чего ему .быть невеселым?.. А, знать, он ей
понравился, что позвала его.
— Да, понравился! — подхватил Ильюша.— Как же! Заще-
котать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело,
этих русалок-то.
— А ведь вот и здесь должны быть русалки,— заметил Федя.
— Нет,— отвечал Костя,— здесь место чистое, вольное. Од-
но — река близко.
Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяж-
ный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных
ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой
тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся
наконец, как бы замирая. Прислушаешься — и как будто нет
ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под
самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему
в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист
промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...
— С нами крестная сила! — шепнул Илья.
— Эх вы, вороны! — крикнул Павел,— чего всполохнулись?
Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к ко-
1 Баять — говорить, рассказывать.
119
Бежим луг. Рисунок К. Лебедева.
тельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не
шевельнулся.) Что же ты? — сказал Павел.
Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь
опорожнился.
— А слыхали вы, ребятки,— начал Ильюша,— что намеднись
у нас на Варнавицах приключилось?
— На плотине-то? — спросил Федя.
— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое
место, так нечистое, и глухое такое. Кругом все такие буераки,
овраги, а в оврагах всё казюли1 водятся.
— Ну, что такое случилось? сказывай...
— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь,
а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-
давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще видна,
да и та чуть видна: так — бугорочек... Вот на днях зовет при-
казчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту».
Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих
поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не
жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за
' Казюли (по-орловскому) — змеи. (Примечание И. С. Тургенева.)
120
пощтой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он
хмелён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет
Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он
этак, псарь Ермйл, и видит: у утопленника на могиле барашек,
белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает
Ермил: «Сем возьму его,— что ему так пропадать», да и слез,
и взял его на руки... Но а барашек — ничего. Вот идет Ермил
к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет;
однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять,
барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек
ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то
псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза
смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить,
говорить: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы,
да ему тоже: «Бяша, бяша...»
Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как
вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем рину-
лись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепу-
гались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с кри-
ком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся...
Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Пав-
луша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько
мгновений лай замолк; голос Павла принесся уже издалека...
Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением пере-
глядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался
топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого
костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Пав-
луша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас
сели, высунув красные языки.
— Что там? что такое? — спросили мальчики.
— Ничего,— отвечал Павел, махнув рукою на лошадь,—
так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк,— прибавил он равно-
душным голосом, проворно дыша всей грудью.
Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош
в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой
ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хво-
ростинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал
один на волка... «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя
на него.
— А видали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка
Костя.
121
— Их всегда здесь много,— отвечал Павел,— да они беспо-
койны только зимой.
Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил
он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не пово-
рачивало головы обрадованное животное, с признательной
гордостью посматривая сбоку на Павлушу.
Ваня опять забился под рогожку.
— А какие ты нам, Ильюшка,. страхи рассказывал,— заго-
ворил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходи-
лось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь
уронить свое достоинство).— Да и собак тут нелегкая дернула
залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.
— Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз,
говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит,
говорят, в кафтане долгополом и все это этак охает, чего-то
на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что,
мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?»
— Он его спросил? — перебил изумленный'Федя.
— Да, спросил.
— Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот?
— Разрыв-травы1, говорит, ищу. Да так глухо говорит,
глухо: — разрыв-травы.— А на что тебе, батюшка Иван Ива-
ныч, разрыв-травы? — Давит, говорит, могила давит, Трофимыч:
вон хочется, вон...
— Вишь какой! — заметил Федя,— мало, знать, пожил.
— Экое диво! — промолвил Костя.— Я думал, покойников
можно только в родительскую субботу2 видеть.
— Покойников во всяк час видеть можно,— с уверенностью
подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше
других знал все сельские поверья...— Но а в родительскую
субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, й том
году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть3
на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя
по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом
году баба Ульяна на паперть ходила.
1 Разрыв-трава — в народных сказках волшебная трава, с помощью кото-
рой, по народным поверьям, открываются любые замкн и запоры.
2 Родительская суббота — одна из суббот в октябре, которая, по старому
русскому обычаю, посвящалась поминанию умерших родственников.
3 Паперть — площадка перед входом в церковь.
122
— Ну, и видела она кого-нибудь? — с любопытством спро-
сил Костя.
— Как же. Перво-наперво она сидела долго, долго, никого
не видала и не слыхала... только все как будто собачка этак
залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке маль-
чик в одной рубашонке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев
идет...
— Тот, что умер весной? — перебил Федя.
— Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его
Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться,
вглядываться — ах ты, господи! — сама идет по дороге, сама
Ульяна.
— Неужто сама? — спросил Федя.
— Ей-богу, сама.
— Ну что ж, ведь она еще не умерла?
— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем
душа держится.
Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на
огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пла-
мени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая
обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа,
во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись
белый голубок,— налетел прямо в это отражение, пугливо по-
вертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и
исчез, звеня крылами.
— Знать, от дому отбился,— заметил Павел.— Теперь будет
лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до
зари.
— А что, Павлуша,— промолвил Костя,— не праведная ли
эта душа летела на небо, ась?
Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.
— Может быть,— проговорил он наконец.
— А скажи, пожалуй, Павлуша,— начал Федя,— что. у вас
тоже в Шаламове было видать предвидёнье-то небесное1?
— Как солнца-то не стало видно? Как же.
— Чай, напугались и вы?
— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам
напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело,
1 Так мужики называют у нас солнечное затмение. (Примечание И. С. Тур-
генева. )
123
сам, говорят, так перетрусился, что на поди. А на дворовой избе
баба стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да
ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, гово-
рит, наступило светопреставление». Так шти и потекли. А у нас
на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки
по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит,
а то и самого Тришку1 увидят.
— Какого это Тришку? — спросил Костя.
— А ты не знаешь? — с жаром подхватил Ильюша,— ну,
брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же
у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка — эвто
будет такой человек удивительный, который придет; а придет
он, когда наступят последние времена. И будет он такой уди-
вительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему
сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек.
Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с
дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет — так отведет
им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его
посадят, например,— он попросит водицы испить в ковшике:
ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как
звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется —
они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по
селам да по дорогам; и будет этот Тришка, лукавый человек,
соблазнять народ хрестиянскии.. ну, а сделать ему нельзя
будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый че-
ловек.
— Ну да,— продолжал Павел своим неторопливым голо-
сом,— такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что
вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Триш-
ка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ
на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место
видное, привольное. Смотрят — вдруг от слободки с горы идет
какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная...
Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» — да
кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подво-
ротне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку
так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес;
а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай
1 В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антнхрнсте.
(Примечание И. С. Тургенева.)
124
кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец,
пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это
шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову
пустой жбан и надел.
Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновенье,
как это часто случается с людьми, разговаривающими на
открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царст-
венно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила
полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким
пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось
до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до
первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору
поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо
текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути,
и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами
стремительный, безостановочный бег земли...
Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два
раза сряду над рекой и спустя несколько мгновений повторился
уже далее...
Костя вздрогнул. «Что это?»
— Это цапля кричит,— спокойно возразил Павел.
— Цапля,— повторил Костя...— А что такое, Павлуша, я
вчера слышал вечером,— прибавил он, помолчав немного,— ты,
может быть, знаешь...
— Что ты слышал?
— А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шаш-
кино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком
пошел — знаешь, там, где он сугибелью1 выходит, там ведь
есть бучило2; знаешь, оно еще все камышом заросло; вот пошел
я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила
как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у...
у-у... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее,
да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и-запла-
кал... Что бы это такое было? ась?
— В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили
воры,— заметил Павлуша,— так, может быть, его душа жало-
бится.
1 Сугйбель— крутой поворот в овраге. (Примечание И. С. Тургенева.)
2 Бучило — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья,
которая не пересыхает даже летом. (Примечание И. С. Тургенева.)
125
— А ведь и то, братцы мои,— возразил Костя, расширив
свои и без того огромные глаза...— Я и не знал, что Акима
в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.
— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие,— продол-
жал Павел,— которые так жалобно кричат.
— Лягушки? Ну нет, это не лягушки... какие это... (Цапля
опять прокричала над рекой.) — Эк ее! — невольно произнес
Костя,— словно леший кричит.
— Леший не кричит, он немой,— подхватил Ильюша,— он
только в ладоши хлопает да трещит...
— А ты его видал, лешего-то, что ли? — насмешливо перебил
его Федя.
— Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие
видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил
его по лесу, и все вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой
добился.
— Ну, и видел он его?
— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный,
скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь,
словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то,
моргает ими, моргает...
— Эх ты! — воскликнул Федя, .слегка вздрогнув и передер-
нув плечами,— пфу!..
— А зачем эта погань в свете развелась? — заметил Па-
вел.— Не понимаю, право!
— Не бранись: смотри, услышит,—заметил Илья.
Настало опять молчание.
— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки,— раздался вдруг детский
голос Вани,— гляньте на божьи звездочки,— что пчелки роятся!
Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на
кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза.
Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.
— А что, Ваня,— ласково заговорил Федя,— что, твоя сестра
Анютка здорова?
— Здорова,— отвечал Ваня, слегка картавя.
— Ты ей скажи — что она к нам, отчего не ходит?..
— Не знаю.
— Ты ей скажи, чтобы она ходила.
— Скажу.
— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.
126
— А мне дашь?
— И тебе дам.
Ваня вздохнул:
— Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас
добренькая.
И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал
и взял в руки пустой котельчик.
— Куда ты? — спросил его Федя.
— К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.
Собаки поднялись и пошли за ним.
— Смотри, не упади в реку! — крикнул ему вслед Ильюша.
— Отчего ему упасть? — сказал Федя,— он остережется.
— Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет
черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе.
Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А ка-
кое упал?.. Во-вон, в камыши полез,— прибавил он, прислуши-
ваясь.
Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.
— А правда ли,— спросил Костя,— что Акулина дурочка
с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?
— С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде кра-
савица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее
скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.
(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями,
страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взо-
ром и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам
на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые
руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно
дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни
говорили, и только изредка судорожно хохочет.)
— А говорят,— продолжал Костя,— Акулина оттого в реку
и кинулась, что ее полюбовник обманул.
— От того самого.
— А помнишь Васю? — печально прибавил Костя.
— Какого Васю? — спросил Федя.
— А вот того, что утонул,— отвечал Костя,— в этой вот
самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик
был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то!
И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель
произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятками, летом
127
в речку купаться,— она так вся и встрепещется. Другие бабы
ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста
поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол,
вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, гос-
подь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгре-
бала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает,—
глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет.
Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да
и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и
затянет песенку,— помните, Вася-то все такую песенку певал,—
вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу
жалится...
— А вот Павлуша идет,— молвил Федя.
Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.
— Что, ребята,— начал он, помолчав,— неладно дело.
— А что? — торопливо спросил Костя.
— Я Васин голос слышал.
Все так и вздрогнули.
— Что ты, что ты? — пролепетал Костя.
— Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг
зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды:
«Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Пав-
луша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.
— Ах ты, господи! ах ты, господи! — проговорили мальчики,
крестясь.
— Ведь это тебя водяной звал, Павел,— прибавил Федя...—
А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.
— Ах, это примета дурная,— с расстановкой проговорил
Ильюша.
— Ну, ничего, пущай! — произнес Павел решительно и сел
опять,— своей судьбы не минуешь.
Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла про-
извели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться
перед огнем, как бы собираясь спать.
— Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову.
Павел прислушался.
— Это кулички летят, посвистывают.
— Куда же они летят?
— А туда, где, говорят, зимы не бывает.
— А разве есть такая земля?
128
— Есть.
— Далеко?
— Далеко, далеко, за теплыми морями.
Костя вздохнул и закрыл глаза.
Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился
к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил:
так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была
все так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились
к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко
стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкно-
венно затихает все только к утру: все спало крепким, непод-
вижным, предрассветным сном. В воздухе уже не так сильно
пахло,— в нем снова как будто разливалась сырость... Недолги
летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями...
Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить при
чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали,
понурив головы... Сладкое забытье напало на меня; оно перешло
в дремоту.
Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза:
утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забеле-
лось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом.
Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали
слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья,
кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий,
ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею.
Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно
встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг
тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и при-
стально поглядел на меня.
Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымив-
шейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились
кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди по зазеле-
невшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной
дороге, по сверкающим, обагренным кустам, и по реке, стыд-
ливо синевшей из-под редеющего тумана,— полились сперва
алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света...
Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило.
Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне
навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней
прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня,
5. Злк. 234 Н. AV А. Сне ж iiciuk;i и
129
погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший
табун...
Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году
Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади.
Жаль, славный был парень!
1852 г.
Вопросы и задания
1. В одной из записей И. С. Тургенева читаем: «Описать, как мальчики
гоняют лошадей в пустыри на ночь.— Огни». Какие описания Тургенев ввел
в свой рассказ для осуществления этого замысла?
2. Тургенев называл истории, о которых говорят мальчики, сначала россказ-
нями, затем преданиями и, наконец, повериями. Почему, как вам кажется, он
предпочел, слово поверье? Как вы понимаете каждое из этих слов?
3. Расскажите об одном из героев «Бежииа луга». Подготавливая рассказ,
используйте ту последовательность знакомства с героем, которой придержива-
ется автор. Особое внимание обратите на то, как автор, рисуя портрет, помогает
понять характер каждого мальчика.
4. Сравните Павлушу с Ильюшей, устанавливая, что между ними общего
и чем они отличаются друг от друга. Подготавливая сравнительную характе-
ристику, составьте план своего рассказа. Какие чувства вызывают у автора
эти мальчики? Попробуйте обосновать свои предположения.
5. Рассмотрите иллюстрацию К. В. Лебедева «Бежин луг». Как, по-вашему,
художник относится к своим героям и как помогает нам понять их характеры?
6. Найдите слова, в которых Тургенев особенно ярко выразил чувство любви
к своей родине, ее природе, ее народу. Подготовьте выразительное чтение
эпизодов, в которых описывается родная природа, мальчики, сидящие у костра.
Николай
Алексеевич
НЕКРАСОВ
(1821 — 1878)
Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый
ему,
Но я ему служил — и сердцем я
спокоен...
Н. А. Некрасов
j-j иколай Алексеевич Некрасов — один из самых любимых
русским народом поэтов. С детских лет и до самой смерти
Некрасов был искренним другом народа, певцом его жизни,
борцом за его счастье.
«Я призван был воспеть твои страдания, терпеньем изумля-
ющий народ» — так сам поэт определял цель своей жизни и
деятельности. Крестьяне его родного села видели в нем не вла-
дельца-помещика, а в детстве — товарища своих игр, в среднем
возрасте — приятеля.
Вот как об этом рассказывает сестра Некрасова: «За нашим
садом непосредственно начинались крестьянские избы. Я помню,
что это соседство было постоянным огорчением для нашей ма-
тери: толпа ребятишек, нарочно избравшая для своих игр место
по ту сторону садового решетчатого забора, как магнит, при-
тягивала туда брата — никакие преследования не помогали...
Он проделал лазейку и при каждом удобном случае вылезал
к ним в деревню, принимал участие в их играх, которые нередко
оканчивались общей дракой...
Впоследствии, когда брат был уже в гимназии и приезжал
в деревню на каникулы, сношения с приятелями возобновились:
он пропадал по целым дням, бродил с ними по лесам и отправ-
лялся на реку удить рыбу. Еще позднее, когда приезжал уже
из Петербурга (с 1844 г.), те же приятели возили его в своих
незатейливых экипажах на охоту...»
5*
131
Такие приятели-охотники из крестьян, кроме друзей детства,
завелись позднее у Некрасова и в Ярославской, и в Костромской
губерниях. Во время охотничьих странствований с ними поэт
узнавал немало разных историй из крестьянской жизни и сам
наблюдал быт деревни.
* * *
Некрасову шел семнадцатый год, когда он покинул родитель-
ский дом и в ямщицкой телеге впервые приехал в столицу.
Приехал не с пустыми руками: при нем была большая тетрадь
его полудетских стихов. Уже несколько лет Некрасов тайком
сочинял стихи и теперь мечтал напечатать их в столичных
журналах.
В Петербурге Некрасову жилось очень трудно. Отец хотел,
чтобы сын поступил в военную школу, а сын стал хлопотать,
чтобы его приняли в университет. Отец рассердился и заявил,
что не вышлет ему больше ни копейки денег. Юноша остался
без всяких средств к жизни. С первых же дней по приезде в
столицу Некрасову пришлось добывать себе пропитание тяжелым
трудом. «Ровно три года,— вспоминал он впоследствии,— я
чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Приходилось
есть не только плохо, но и не каждый день...»
Через несколько лет в его жизни случилось большое событие:
он познакомился с великим русским критиком Виссарионом
Григорьевичем Белинским. Белинский полюбил молодого поэта
и целыми часами беседовал с ним.
Белинский ненавидел порядки, существовавшие в то время
в России. Больше всего возмущало его, что крестьяне были
крепостными рабами помещиков, которые могли даже продавать
своих рабов, как скот. Он был убежден, что крестьяне завоюют
себе счастье только тогда, когда восстанут против своих при-
теснителей...
Некрасов с увлечением слушал вдохновенные речи Белин-
ского. Эти речи волновали его, так как он по собственному
опыту знал, как притесняют бедняков богачи.
Стихи, которые он стал писать после знакомства с Белин-
ским, поразили всех своей силой и смелостью. В них Некрасов
рассказывал, как тяжко живется трудящимся людям в крепост-
ной деревне.
132
Особенно много стихов написал Некрасов о крестьянах.
И когда читаешь эти стихи, кажется, будто сами крестья-
не рассказывают о своих трудах и печалях — так хорошо
знал Некрасов их жизнь и так близко принимал ее к
сердцу.
Стихи Некрасова написаны прекрасным, певучим, замеча-
тельно богатым и в то же время очень простым языком, тем
самым, которому поэт научился еще в детские годы, живя в
ярославской деревне. Когда мы читаем у него:
Стала скотинушка в лес убираться.
Стала рожь-матушка в колос метаться.
мы чувствуем, что это подлинная, живая народная речь. Как
хороши, например, здесь два слова: рожь-матушка, выражаю-
щие любовь и даже нежность крестьянина к тем долгожданным
колосьям, которые он с таким упорным трудом взрастил на
своей скудной земле!..
Единственное спасение крестьян от... «холода-голода» Некра-
сов видел в революционном восстании. Он звал их к этому
восстанию во многих стихах и заранее приветствовал будущую
всенародную революцию:
Рать подымается —
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!
Оттого-то свободный советский народ любит Некрасова та-
кой горячей любовью и вспоминает о нем с благодарностью как
об одном из великих русских поэтов, своими стихами помогавших
народу завоевать счастливую жизнь.
(Из статьи К- И. Чуковского «Н. А. Некрасов».)
Задания
I. Расскажите о детстве и юности поэта, используя материал статьи и
сообщение учителя.
2. Прочитайте наизусть одно из его стихотворений.
133
МОРОЗ, красный НОС
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СМЕРТЬ КРЕСТЬЯНИНА
1
Савраска увяз в половине
сугроба —
Две пары промерзлых лаптей
Да угол рогожей покрытого
гроба
Торчат из убогих дровней.
Старуха в больших рукавицах
Савраску сошла понукать.
Сосульки у ней на ресницах,
С морозу — должно полагать.
II
Привычная дума поэта
Вперед забежать ей спешит:
Как саваном1, снегом одета,
Избушка в деревне стоит,
В избушке — теленок
в подклети2,
Мертвец на скамье у окна;
Шумят его глупые дети.
Тихонько рыдает жена.
Сшивая проворной иголкой
На саван куски полотна,
Как дождь, зарядивший
надолго.
Негромко рыдает она.
III
Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом
повенчаться,
Вторая — быть матерью сына
раба,
А третья — до гроба рабу
покоряться,
И все эти грозные доли
легли
На женщину русской земли.
Века протекали — всё к
счастью стремилось,
Всё в мире по нескольку раз
изменилось,
Одну только бог изменить
забывал
Суровую долю крестьянки.
И все мы согласны, что тип
измельчал
Красивой и мощной славянки.
Случайная жертва судьбы!
Ты глухо, незримо страдала,
Ты свету кровавой борьбы
И жалоб своих не вверяла,—
Но мне ты их скажешь, мой
друг!
Ты с детства со мною знакома.
Ты вся — воплощенный испуг.
Ты вся — вековая истома3!
Тот сердца в груди не носил.
Кто слез над тобою не лил!
Саван — погребальное одеяние для покойников из белой ткаии.
2 Подклеть — нижнее помещение избы.
3 Истома — усталость, расслабленность.
134
IV
Однако же. речь о крестьянке
Затеяли мы, чтоб сказать.
Что тип величавой славянки
Возможно и ныне сыскать.
Есть женщины в русских
селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом
цариц,—
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце
осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»
Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идет,
Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет.
Цветет
Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива.
Ко всякой работе ловка.
И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна...
Я видывал, как она косит:
Что взмах — то готова копна!
Платок у ней на ухо сбился.
Того гляди косы падут.
Какой-то парнек изловчился
И кверху подбросил их,
шут!
1 Перл — здесь: жемчужина.
Тяжелые русые косы
Упали на смуглую грудь.
Покрыли ей ноженьки босы,
Мешают крестьянке взглянуть.
Она отвела их руками,
На парня сердито глядит.
Лицо величаво, как в раме,
Смущеньем и гневом горит...
По будням не любит безделья.
Зато вам ее не узнать.
Как сгонит улыбка веселья
С лица трудовую печать.
Такого сердечного смеха
И песни, и пляски такой
За деньги не купишь.
«Утеха!» —
Твердят мужики меж собой.
В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет,— спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
Красивые, ровные зубы,
Что крупные перлы1 у ней.
Но строго румяные губы
Хранят их красу от людей —
Она улыбается редко...
Ей некогда лясы точить,
У ней не решится соседка
Ухвата, горшка попросить;
Не жалок ей нищий убогий —
Вольно ж без работы гулять!
Лежит на ней дельности
строгой
И внутренней силы печать
135
В ней ясно и крепко сознанье.
Что всё их спасенье в труде,
И труд ей несет воздаянье:
Семейство не бьется в нужде,
Всегда у них теплая хата,
Хлеб выпечен, вкусен квасок,
Здоровы и сыты ребята.
На праздник есть лишний
кусок.
Идет эта баба к обедне
Пред всею семьей впереди:
Сидит, как на стуле,
двухлетний
Ребенок у ней на груди,
Рядком шестилетнего сына
Нарядная матка ведет...
И по сердцу эта картина
Всем любящим русский народ!
V
И ты красотою дивила,
Была и ловка, и сильна,
Но горе тебя иссушило,
Уснувшего Прокла жена!
Горда ты — ты плакать не
хочешь,
Крепишься, но холст гробовой
Слезами невольно ты мочишь,
Сшивая проворной иглой.
Слеза за слезой упадает
На быстрые руки твои.
Так колос беззвучно роняет
Созревшие зерна свои...
VI
В селе, за четыре версты,
У церкви, где ветер шатает
Подбитые бурей кресты,
Местечко старик выбирает;
Устал он,. работа трудна,
Тут тоже сноровка нужна —
Чтоб крест было видно с дороги,
Чтоб солнце играло кругом.
В снегу до колен его ноги,
В руках его заступ и лом,
Вся в инее шапка большая.
Усы, борода в серебре.
Недвижно стоит, размышляя,
Старик на высоком бугре.
Решился. Крестом обозначил,
Где будет могилу копать.
Крестом осенился и начал
Лопатою снег разгребать.
Иные приемы тут были,
Кладбище не то, что поля:
Из снегу кресты выходили,
Крестами ложилась земля.
Согнув свою старую спину,
Он долго, прилежно копал,
И желтую мерзлую глину
Тотчас же снежок застилал.
Ворона к нему подлетела.
Потыкала носом, прошлась:
Земля как железо звенела —
Ворона ни с чем убралась...
Могила на славу готова,—
«Не мне б эту яму копать!»
(У старого вырвалось слово):
«Не Проклу бы в ней почивать.
Не Проклу!..» Старик
оступился,
136
Из рук его выскользнул лом
И в белую яму скатился,
Старик его вынул с трудом.
Пошел... по дороге шагает...
Нет солнца, луна не взошла...
Как будто весь мир умирает:
Затишье, снежок, полумгла...
VII
В овраге, у речки Желтухи,
Старик свою бабу нагнал
И тихо спросил у старухи:
«Хорош ли гробок-то попал?»
Уста ее чуть прошептали
В ответ старику — Ничего —
Потом они оба молчали,
И дровни так тихо бежали,
Как будто боялись чего...
Деревня еще не открылась,
А близко — мелькает огонь.
Старуха крестом осенилась,
Шарахнулся в сторону конь —
Без шапки, с ногами босыми,
С большим заостренным колом.
Внезапно предстал перед ними
Старинный знакомец Пахом.
Прикрыты рубахою женской,
Звенели вериги1 на нем;
Постукал дурак деревенский
В морозную землю колом.
На вас он работал довольно,
И ваша пришла череда!
Мать сыну-то гроб покупала.
Отец ему яму копал,
Жена ему саван сшивала —
Всем разом работу вам дал!..»
Опять помычал — и без цели
В пространство дурак
побежал.
Вериги уныло звенели,
И голые икры блестели,
И посох по снегу черкал.
VIII
У дома оставили крышу2,
К соседке свели ночевать
Зазябнувших Машу и Гришу
И стали сынка обряжать.
Медлительно, важно, сурово
Печальное дело велось:
Не сказано лишнего слова,
Наружу не выдано слез.
Уснул, потрудившийся в поте!
Уснул, поработав земле!
Лежит, непричастный3 заботе.
На белом сосновом столе.
Лежит неподвижный, суровый,
С горящей свечой в головах,
В широкой рубахе холщовой
И в липовых новых лаптях.
Потом помычал сердобольно, Большие, с мозолями руки.
Вздохнул и сказал: «не беда! Подъявшие4 много труда,
1 Вериги — железные цепи.
‘ Крыша — здесь: крышка гроба.
3 Непричастный — здесь: чуждый.
' Подънвише — поднявшие; здесь: в знесшие, вытерпевшие.
137
Красивое, чуждое муки
Лицо — и до рук борода...
IX
Пока мертвеца обряжали.
Не выдали словом тоски
И только глядеть избегали
Друг другу в глаза бедняки,
Но вот уже кончено дело,
Нет нужды бороться с тоской,
И что на душе накипело.
Из уст полилося рекой.
Не ветер гудит по ковыли.
Не свадебный поезд1 гремит,—
Родные по Прокле завыли,
По Прокле семья голосит:
«Голубчик ты наш сизокрылый!
Куда ты от нас улетел?
Пригожеством, ростом и силой
Ты ровни в селе не имел.
Родителям был ты советник,
Работничек в поле ты был,
Гостям хлебосол и приветник,
Жену и детей ты любил...
Что ж мало гулял ты по свету?
За что нас покинул, родной?
Одумал ты думушку эту,
Одумал с сырою землей —
Одумал — а нам оставаться
Велел во миру, сиротам,
Не свежей водой умываться,
Слезами горючими нам!
Старуха помрет со кручины2,
Не жить и отцу твоему.
Береза в лесу без вершины —
Хозяйка без мужа в дому.
Ее не жалеешь ты, бедной,
Детей не жалеешь... Вставай!
С полоски своей заповедной
По лету сберешь урожай!
Сплесни, ненаглядный, руками,
Сокольим глазком посмотри.
Тряхни шелковыми кудрями,
Сахарны уста раствори!
На радости мы бы сварили
И меду, и браги хмельной.
За стол бы тебя посадили:
Покушай, желанный,
родной!
А сами напротив бы стали —
Кормилец, надёжа семьи!
Очей бы с тебя не спускали,
Ловили бы речи твои...»
X
На эти рыданья и стоны
Соседи валили гурьбой:
Свечу положив у иконы,
Творили земные поклоны
И шли молчаливо домой.
На смену входили другие.
Но вот уж толпа разбрелась,
Поужинать сели родные —
Капуста да с хлебушком квас.
1 Свадебный поезд — здесь: несколько повозок, едущих одна за другой.
2 Кручина — горе, печаль.
138
Рисунок Б. Рыт мана.
Старик бесполезной кручине
Собой овладеть не давал:
Подладившись ближе к лучине,
Он лапоть худой ковырял.
Протяжно и громко вздыхая,
Старуха на печку легла,
А Дарья, вдова молодая,
Проведать ребяток пошла.
Всю ноченьку, стоя у свечки,
Читал над усопшим1 дьячок
И вторил ему из-за печки
Пронзительным свистом
сверчок.
XI
Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно.
Савраска, запряженный в сани,
Понуро стоял у ворот;
Без лишних речей, без рыданий
Покойника вынес народ.
— Ну трогай, саврасушка!
трогай!
Натягивай крепче гужи2!
Усопшие — умершие.
Гуж — кожаная петля у хомута, скрепляющая оглобли.
139
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!
В торговом селе Чистополье
Купил он тебя сосунком.
Взрастил он тебя на приволье,
И вышел ты добрым конем.
С хозяином дружно старался.
На зимушку хлеб запасал.
Во стаде ребенку давался,
Травой да мякиной1 питался,
А тело изрядно держал...
Когда же работы кончались
И сковывал землю мороз,
С хозяином вы отправлялись
С домашнего корма в извоз2.
Немало и тут доставалось —
Возил ты тяжелую кладь,
В жестокую бурю случалось,
Измучась, дорогу терять.
Видна на боках твоих впалых
Кнута не одна полоса,
Зато на дворах постоялых
Покушал ты вволю овса.
Слыхал ты в январские ночи
Метелей пронзительный вой,
И волчьи горящие очи
Видал на опушке лесной.
Продрогнешь, натерпишься
страху,
А там — и опять ничего!
Да видно, хозяин дал маху —
Зима доконала его!..
XII
Случилось в глубоком сугробе
Полсуток ему простоять,
Потом то в жару, то в ознобе
Три дня за подводой шагать:
Покойник на срок торопился
До места доставить товар.
Доставил, домой воротился —
Нет голосу, в теле пожар!
Старуха его окатила
Водой с девяти веретен
Да в жаркую баню сводила,
Да нет — не поправился он!
Тогда ворожеек созвали —
И поят, и шепчут, и трут —
Всё худо! Его продевали
Три раза сквозь потный хомут.
Спускали родимого в пролубь3,
Под куричий клали насест...
Всему покорялся, как голубь,—
А плохо — не пьет и не ест!
Еще положить под медведя,
Чтоб тот ему кости размял,
Ходебщик4 сергачевский
Федя —
Случившийся тут — предлагал.
Но Дарья, хозяйка больного,
Прогнала советчика прочь:
Мякина остатки колосьев, стеблей. отходы при молотьбе.
Н и:нюз здесь: на заработки.
3 Пролубь крорубь.
1 Ходебщик мелкий торговец, разносивший товары по домам.
I40
Испробовать средства иного
Задумала баба: и в ночь
Пошла в монастырь отдаленный
(Верстах в десяти от села),
Где в некой иконе явленной
Целебная сила была.
Пошла, воротилась с иконой —
Больной уж безгласен лежал,
Одетый как в гроб,
причащенный.
Увидел жену, простонал
И умер...
XIII
...Саврасушка, трогай.
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!
Чу! два похоронных удара!
Попы ожидают — иди!..
Убитая, скорбная пара.
Шли мать и отец впереди.
Ребята с покойником оба
Сидели, не смея рыдать,
И, правя савраской, у гроба
С вожжами их бедная мать
Шагала... Глаза ее впали,
И был не белей ее щек
Надетый на ней в знак печали
Из белой холстины платок.
За Дарьей — соседей, соседок
Плелась негустая толпа,
Толкуя, что Прокловых деток
Теперь незавидна судьба,
Что Дарье работы прибудет.
Что ждут ее черные дни.
«Жалеть ее некому будет»,—
Согласно решили они...
XIV
Как водится, в яму спустили.
Засыпали Прокла землей;
Поплакали, громко повыли.
Семью пожалели, почтили
Покойника щедрой хвалой.
Сам староста, Сидор Иваныч,
Вполголоса бабам подвыл,
И «мир тебе, Прокл
Севастьяныч! —
Сказал: — благодушен ты был.
Жил честно, а главное:
в сроки,—
Уж как тебя бог выручал,—
Платил господину оброки
И подать царю представлял!»
Истратив запас красноречья,
Почтенный мужик покряхтел,
«Да, вот она, жизнь
человечья!»
Прибавил — и шапку надел.
«Свалился... а то-то был
в силе!..
Свалимся... не минуть и нам!..»
Еще покрестились могиле
И с богом пошли по домам.
Высокий, седой, сухопарый.
Без шапки, недвижно-немой.
Как памятник, дедушка старый.
Стоял на могиле родной!
141
Потом старина бородатый
Задвигался тихо по ней.
Ровняя землицу лопатой.
Под вопли старухи своей.
Когда же, оставивши сына,
Он с бабой в деревню входил:
«Как пьяных, шатает кручина!
Гляди-тко!..» — народ говорил.
XV
А Дарья домой воротилась —
Прибраться, детей накормить.
Ай-ай! как изба настудилась!
Торопится печь затопить,
Ан глядь — ни полена
дровишек!
Задумалась бедная мать:
Покинуть ей жаль ребятишек,
Хотелось бы их приласкать.
Да времени нету на ласки.
К соседке свела их вдова
И тотчас, на том же савраске.
Поехала в лес по дрова...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС
XVI
Морозно. Равнины белеют под
снегом.
Чернеется лес впереди.
Савраска плетется ни шагом,
ни бегом,
Не встретишь души на пути.
Как тихо! в деревне
раздавшийся голос
Как будто у самого уха гудет,
О корень древесный
запнувшийся полоз
Стучит и визжит, и за сердце
скребет.
Кругом — поглядеть нету мочи,
Равнина в алмазах блестит...
У Дарьи слезами наполнились
очи —
Должно быть, их солнце
слепит...
XVII
В полях было тихо, но тише
В лесу и как будто светлей.
Чем дале — деревья всё выше,
А тени длинней и длинней.
Деревья, и солнце, и тени,
И мертвый, могильный покой...
Но — чу! заунывные пени1,
Глухой, сокрушительный
вой!
Осилило Дарьюшку горе,
И лес безучастно внимал.
Как стоны лились
на просторе,
И голос рвался и дрожал,
И солнце, кругло и бездушно,
Как желтое око совы.
Глядело с небес равнодушно
На тяжкие муки вдовы.
Пени — жалобы
142
И много ли струн оборвалось
У бедной крестьянской души,
Навеки сокрыто осталось
В лесной нелюдимой глуши.
Великое горе вдовицы
И матери малых сирот
Подслушали вольные птицы,
Но выдать не смели в народ...
XVIII
Не псарь по дубровушке
трубит,
Гогочет, сорви-голова,—
Наплакавшись, колет и рубит
Дрова молодая вдова.
Срубивши, на дровни
бросает —
Наполнить бы их поскорей,
И вряд ли сама замечает,
Что слезы все льют из очей:
Иная с ресницы сорвется
И на снег с размаху падет —
До самой земли доберется,
Глубокую ямку прожжет;
Другую на дерево кинет,
На плашку,— и, смотришь, она
Жемчужиной крупной
застынет —
Бела и кругла и плотна.
А та на глазу поблистает,
Стрелой по щеке побежит,
И солнышко в ней поиграет...
Управиться Дарья спешит,
Знай, рубит,— не чувствует
стужи'
Не слышит, что ноги знобит,
И, полная мыслью о муже,
Зовет его, с ним говорит...
XIX
«Голубчик! красавицу нашу
Весной в хороводе опять
Подхватят подруженьки Машу
И станут на ручках качать!
Станут качать.
Кверху бросать.
Маковкой звать,
Мак стряхать1!
Вся раскраснеется наша
Маковым цветиком Маша
С синими глазками, с русой
косой!
Ножками бить и смеяться
Будет... а мы-то с тобой,
Мы на нее любоваться
Будем, желанный ты мой!..
XX
Умер, не дожил ты веку.
Умер и в землю зарыт!
Любо весной человеку,
Солнышко ярко горит.
1 Известная народная игра, называемая: сеять мак. Маковкой садится
в середине круга красивая девочка, которую под конец подкидывают вверх
представляя тем отряхиванье мака; а то еще маком бывает простоватый детина
которому при подкидывании достается немало колотушек. (Примечание
Н. А. Некрасова.}
143
Солнышко всё оживило.
Божьи открылись красы,
Поле сохи запросило.
Травушки просят косы.
Рано я, горькая, встала,
Дома не ела, с собой не брала.
До ночи пашню пахала,
Ночью я косу клепала.
Утром косить я пошла...
Крепче, вы. ноженьки, стойте!
Белые руки, не нойте!
Надо одной поспевать!
В поле одной-то надсадно1,
В поле одной неповадно2,
Стану я милого звать!
Ладно ли пашню
вспахала?
Выди, родимый, взгляни!
Сухо ли сено убрала?
Прямо ли стоги сметала?..
Я на граблях отдыхала
Все сенокосные дни!
Некому бабью работу
поправить!
Некому бабу на разум
наставить...
XXI
Стала скотинушка в лес
убираться,
Стала рожь-матушка в колос
метаться,
Бог нам послал урожай!
Нынче солома по грудь
человеку.
Бог нам послал урожай!
Да не продлил тебе веку,—
Хочешь — не хочешь, одна
поспевай!..
Овод жужжит и кусает.
Смертная жажда томит.
Солнышко серп нагревает,
Солнышко очи слепит,
Жжет оно голову, плечи.
Ноженьки, рученьки жжет,
Изо ржи, словно из печи,
Тоже теплом обдает,
Спинушка ноет с натуги.
Руки и ноги болят.
Красные, желтые круги
Перед очами стоят...
Жни-дожинай поскорее.
Видишь — зерно потекло...
Вместе бы дело спорнее,
Вместе повадней бы шло...
XXII
...Жать принялась я проворно.
Жну, а на шею мою
Сыплются крупные зерна —
Словно под градом стою!
Вытечет, вытечет за ночь
Вся наша матушка-рожь...
Где же ты, Прокл
Сев'астьяныч?
Что пособлять не идешь?..
1 Надсадно — трудно, тяжко.
2 Неповадно — неудобно, неловко.
1*14
Стану без милого жать,
Снопики крепко вязать,
В снопики слезы ронять!
Слезы мои не жемчужны.
Слезы горюшки-вдовы.
Что же вы господу нужны,
Чем ему дороги вы?..
XXIII
Долги вы, зимние ноченьки,
Скучно без милого спать,
Лишь бы не плакали оченьки,
Стану полотна я ткать.
Много натку я полотен.
Тонких добротных новин1,
Вырастет крепок и плотен,
Вырастет ласковый сын.
Будет по нашему месту
Он хоть куда женихом,
Высватать парню невесту
Сватов надежных пошлем...
Кудри сама расчесала я Грише,
Кровь с молоком наш
сынок-первенец,
Кровь с молоком и невеста...
Иди же!
Благослови молодых под венец!..
Этого дня мы как праздника
ждали.
Помнишь, как начал Гришуха
ходить,
Целую ноченьку мы толковали,
Как его будем женить,—
Стали на свадьбу копить
понемногу...
Вот — дождались, слава
богу!
Чу, бубенцы говорят!
Поезд2 вернулся назад,
Выди навстречу проворно —
Пава-невеста, соколик-жених! —
Сыпь на них хлебные зерна,
Хмелем осыпь молодых!3..
XXIV
Стадо у лесу у темного бродит.
Лыки в лесу пастушонок дерет,
Из лесу серый волчище
выходит.
Чью он овцу унесет?
Черная туча, густая-густая,
Прямо над нашей деревней
висит,
Прыснет из тучи стрела
громовая,
В чей она дом сноровит?
Вести недобрые ходят в народе,
Парням недолго гулять на
свободе,
Скоро — рекрутский набор!
Наш-то молодчик в семье
одиночка.
Всех у нас деток — Гришуха
да дочка.
1 Новина — суровая, небеленая холстина.
2 Поезд — здесь: несколько повозок, едущих одна за другой.
3 Хмелем и хлебным зерном осыпают молодых в знак будущего богатства.
(Примечание Н. А. Некрасова.)
145
Да голова1 у нас вор —
Скажет: мирской приговор!
Сгибнет ни за что ни про что
детина,
Встань, заступись за родимого
сына!
Нет! не заступишься ты!..
Белые руки твои опустились,
Ясные очи навеки закрылись...
Горькие мы сироты!..
<••>
XXIX
Окончив привычное дело,
На дровни поклала дрова,
За вожжи взялась и хотела
Пуститься в дорогу вдова.
Да вновь пораздумалась, стоя,
Топор машинально взяла
И тихо, прерывисто воя,
К высокой сосне подошла.
Едва ее ноги держали,
Душа истомилась тоской,
Настало затишье печали —
Невольный и страшный покой!
Стоит под сосной чуть живая,
Без думы, без стона, без слез.
В лесу тишина гробовая —
День светел, крепчает мороз.
XXX
Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
1 Г олова — здесь: сельский староста.
Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?
Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?
Идет — по деревьям шагает.
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.
Дорога везде чародею,
Чу! ближе подходит, седой.
И вдруг очутился над нею,
Над самой ее головой!
Забравшись на сосну большую,
По веточкам палицей бьет
И сам про себя удалую,
Хвастливую песню поет:
XXXI
— Вглядись, молодица, смелее,
Каков воевода Мороз!
Навряд тебе парня сильнее
И краше видать привелось?
Метели, снега и туманы
Покорны морозу всегда,
Пойду на моря-окияны —
Построю дворцы изо льда.
Задумаю — реки большие
Надолго упрячу под гнет.
Построю мосты ледяные.
Каких не построит народ.
146
Где быстрые, шумные воды
Недавно свободно текли,—
Сегодня прошли пешеходы.
Обозы с товаром прошли.
Люблю я в глубоких могилах
Покойников в иней рядить,
И кровь вымораживать
в жилах,
И мозг в голове леденить.
На горе недоброму вору,
На страх седоку и коню,
Люблю я в вечернюю пору
Затеять в лесу трескотню.
Бабенки, пеняя на леших,
Домой удирают скорей.
А пьяных, и конных, и пеших
Дурачить еще веселей.
Без мелу всю выбелю рожу,
А нос запылает огнем,
И бороду так приморожу
К вожжам — хоть руби
топором!
Богат я, казны не считаю,
А всё не скудеет добро;
Я царство мое убираю
В алмазы, жемчуг, серебре.
Войди в мое царство со мною
И будь ты царицею в нем!
Поцарствуем славно зимою,
А летом глубоко уснем.
Войди! приголублю, согрею,
Дворец отведу голубой...—
И стал воевода над нею
Махать ледяной булавой.
XXXII
— Тепло ли тебе, молодица? —
С высокой сосны ей кричит.
«Тепло!» отвечает вдовица,
Сама холодеет, дрожит.
Морозко спустился пониже,
Опять помахал булавой
И шепчет ей ласковей, тише:
— Тепло ли?..— «Тепло,
золотой!»
Тепло — а сама коченеет.
Морозко коснулся ее:
В лицо ей дыханием веет
И иглы колючие сеет
С седой бороды на нее.
И вот перед ней опустился!
— Тепло ли? — промолвив
опять,
И в Проклушку вдруг
обратился
И стал он ее целовать.
В уста ее, в очи и в плечи
Седой чародей целовал
И те же ей сладкие речи,
Что милый о свадьбе, шептал.
И так-то ли любо ей было
Внимать его сладким речам,
Что Дарьюшка очи закрыла,
Топор уронила к ногам.
Улыбка у горькой вдовицы
Играет на бледных губах.
Пушисты и белы ресницы,
Морозные иглы в бровях...
147
Рисунок Б. Рытмана
XXXIII
В сверкающий иней одета.
Стоит, холодеет она.
И снится ей жаркое лето —
Не вся еще рожь свезена.
Но сжата,— полегче им стало!
Возили снопы мужики,
А Дарья картофель копала
С соседних полос у реки.
Свекровь ее тут же, старушка.
Трудилась; на полном мешке
Красивая Маша, резвушка,
Сидела с морковкой в руке.
Телега, скрипя, подъезжает —
Савраска глядит на своих,
И Проклушка крупно шагает
За возом снопов золотых.
«Бог помочь! А где же
Гришуха?»
Отец мимоходом сказал.
— В горохах,— сказала старуха.
«Гришуха!» отец закричал.
На небо взглянул: «Чай, не
рано?
Испить бы...» Хозяйка встает
И Проклу из белого жбана
Напиться кваску подает.
Гришуха меж тем отозвался:
Горохом опутан кругом,
Проворный мальчуга казался
Бегущим зеленым кустом.
148
Рисунок Б. Рытмана.
«Бежит!., у!., бежит,
постреленок.
Горит под ногами трава!»
Гришуха черен, как галчонок.
Бела лишь одна голова.
Крича, подбегает вприсядку
(На шее горох хомутом).
Попотчевал баушку, матку.
Сестренку — вертится вьюном!
От матери молодцу ласка.
Отец мальчугана щипнул;
Меж тем не дремал и
савраска:
Он шею тянул да тянул.
Добрался,— оскаливши зубы.
Горох аппетитно жует.
И в мягкие добрые губы
Гришухино ухо берет...
XXXIV
Машутка отцу закричала:
«Возьми меня, тятька,
с собой!»
Спрыгнула с мешка — и упала,
Отец ее поднял: «Не вой!
Убилась — неважное дело!..
Девчонок не надобно мне.
Еще вот такого пострела
Рожай мне, хозяйка, к весне!
Смотри же!..» Жена
застыдилась:
- Довольно с тебя одного!
149
(А знала, под сердцем уж
билось
Дитя...) «Ну! Машук, ничего!»
И Проклушка, став на телегу,
Ма шутку с собой посадил.
Вскочил и Гришуха с разбегу,
И с грохотом воз покатил.
Воробушков стая слетела
С снопов, над телегой взвилась.
И Дарьюшка долго смотрела,
От солнца рукой заслонясь,
Как дети с отцом приближались
К дымящейся риге своей,
И ей из снопов улыбались
Румяные лица детей...
Чу, песня! знакомые звуки!
Хорош голосок у певца...
Последние признаки муки
У Дарьи исчезли с лица,
Душой улетая за песней,
Она отдалась ей вполне...
Нет в мире той песни
прелестней,
Которую слышим во сне!
О чем она — бог ее знает!
Я слов уловить не умел,
Но сердце она утоляет,
В ней дольнего счастья предел. В
В ней кроткая ласка участья.
Обеты1 любви без конца...
Улыбка довольства и счастья
У Дарьи не сходит с лица.
XXXV
Какой бы ценой ни досталось
Забвенье крестьянке моей,
Что нужды? Она улыбалась.
Жалеть мы не будем о ней.
Нет глубже, нет слаще покоя,
Какой посылает нам лес,
Недвижно, бестрепетно стоя
Под холодом зимних небес.
Нигде так глубоко и вольно
Не дышит усталая грудь,
И ежели жить нам довольно,
Нам слаще нигде не уснуть!
XXXVI
Ни звука! Душа умирает
Для скорби, для страсти.
Стоишь
И чувствуешь, как покоряет
Ее эта мертвая тишь.
Ни звука! И видишь ты синий
Свод неба, да солнце, да лес,
В серебряно-матовый иней
Наряженный, полный чудес.
Влекущий неведомой тайной.
Глубоко бесстрастный... Но вот
Послышался шорох
случайный —
Вершинами белка идет.
Ком снега она уронила
На Дарью, прыгнув по сосне.
А Дарья стояла и стыла
В своем заколдованном сне...
1863 г.
Обёт — обещание.
150
* * *
Вскоре после появления поэмы1 сын декабриста Волконского2
прислал поэту такое письмо:
«Сейчас я прочел Ваш «Мороз». Он пробрал меня — не до
костей и не холодом, а до глубины души тем теплым чувством,
которым пропитано это прекрасное произведение. Ничто, до сих
пор мною читанное, не потрясло меня так сильно и глубоко, как
Ваш рассказ, в котором нет ни одного слова лишнего: каждое
так и бьет по сердцу. Все это как нельзя более знакомо и близко
мне, до 25-летнего возраста то и дело переезжавшему из деревни
в деревню, от одного мужика к другому. Художественность же,
с которой изложен Ваш рассказ, а главное, теплота чувства,
которым он дышит, просто перевернули меня. Дайте мне воз-
можность поделиться им с моим отцом, доказавшим на деле,
как он любит русского мужика... Пришлите мне один экземпляр,
а я тотчас же отправлю его в письме моему отцу... Он скажет
Вам за него в душе самое искреннее русское спасибо».
Вопросы и задания
Чем «Мороз, Красный нос» Н. А. Некрасова так сильно взволновал сына
декабриста Волконского? Почему он был уверен, что и его отец, прочитав поэму,
скажет поэту «искреннее русское спасибо»?
К первой части поэмы
1. Как вы думаете, почему Некрасов изменил первоначальное название
«Смерть Прокла» первой части поэмы на «Смерть крестьянина»?
2. Расскажите о жизни Прокла (гл. VIII, IX, XI, XIIJ. Почему, рассказывая
о смерти Прокла, Некрасов обратился к устному творчеству народа?
3. Какие чувства и раздумья поэта о женской доле и труде крестьянки
отразились в III, IV главах (авторских отступлениях)? Как связаны эти главы
с содержанием поэмы?
4. Расположите главы первой части поэмы в том порядке, в каком происхо-
дили события. Почему поэт нарушил временную последовательность в развитии
действия?
Ко второй части поэмы
1. Расскажите, какой вы представляете Дарью: внешний облик ее, характер,
душевные качества, ее отношение к труду и семье (гл. XIX—XXIV, XXXIII,
XXXIV).
1 См. определение поэмы в «Кратком словаре литературоведческих терми-
нов» в конце книги, на с. 445.
2 Волконский Сергей Григорьевич • (1788—1865) пробыл на каторге
и в ссылке 30 лет.
151
2. Рассмотрите иллюстрации. Соответствуют ли оии вашему представлению
о героях поэмы?
3. Прочитайте описания природы:
Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно.
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оио.
(Первая часть поэмы.)
Осилило Дарьюшку горе,
И лес безучастно внимал.
Как стоны лились на просторе,
И голос рвался и дрожал.
И солнце, кругло и бездушно.
Как желтое око совы.
Глядело с небес равнодушно
На тяжкие муки вдовы.
(Вторая часть поэмы.)
Что общего в этих картинах природы н чем отличаются они друг от друга?
Как помогают эти описания понять переживания семьи Прокла?
4. Прочитайте конец поэмы Некрасова в первом варианте:
Оиа не погибла. Лукавый
Хотел погубить, да не мог.
Служивший семейству со славой
Савраска — и тут ей помог...
Коснулось знакомое ржанье
До слуха крестьянки моей,
И быстро проснулось сознанье...
Почему впоследствии поэт изменил конец поэмы?
Ко всей поэме
I. Найдите и прочитайте вслух главы, раскрывающие трудолюбие крестьян,
их мастерство и трудовую сноровку. Как выражается в этих главах авторское
отношение к крестьянскому труду?
2. Чем близка поэма «Мороз, Красный нос» произведениям устного народного
творчества? Приведите примеры (гл. IX, XIX, XX, XXI, XXX, XXXI).
3. Выучите наизусть одну из глав поэмы: IV или XXXIII.
4. Расскажите, что изображено иа репродукции картины 3. Е. Серебря-
ковой «Крестьяне. Обед» (см. цветную вклейку). Что сближает эту картину
с поэмой?
5. Подготовьте устный рассказ или сочинение на одну из тем: «Доля русской
крестьянки», «Есть женщины в русских селеньях...» (характеристика Дарьи).
При составлении плана к этим темам воспользуйтесь вопросами и заданиями
к поэме (к первой части поэмы см. 3-й вопрос, ко второй части поэмы 1-е
и 4-е задания).
О ТРЕХСЛОЖНЫХ РАЗМЕРАХ СТИХА
Вы уже познакомились с двусложными размерами стиха.
Существуют и трехсложные размеры. Они отличаются от хорея
и ямба тем, что в их стопе не два, а три слога. Рассмотрим
152
эти размеры на примерах из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз,
Красный нос»:
Вся раскра II снеется II наша
Маковым || цветиком || Маша
Вот схема этого стихотворного размера:
II ------II --------II - — II
Последняя стопа имеет всего два слога, но она считается
полноправной стопой, так как в ней есть ударный слог. Трех-
сложный размер стиха с ударением на первом слоге называется
дактилем (—---------).
Дактиль — слово греческое, в переводе означает «палец».
Такое название дактиль получил потому, что строение его стопы
напоминает строение пальца, у которого три фаланги (косточ-
ки): одна длинная, две более короткие.
Прочитаем другие стихотворные строчки из поэмы Н. А. Нек-
расова:
Привычна || я дума || поэта
Вперед за || бежать ей || спешит
Вот схема:
II - - - II - - - II - - - II
В этой стопе, состоящей из трех слогов, ударный слог нахо-
дится между неударными. Такой трехсложный размер называ-
ется амфи брахием (-----------).
Амфибрахий также греческое слово: амфи — «вокруг», «с
обеих сторон» и брахос — «краткий» или «безударный». Назы-
вается эта стопа так потому, что ударный слог находится между
безударными слогами.
Возьмем пример из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка»:
Что ты жад || но глядишь || на доро II гу
В стороне || от весе || лых подруг ||
Схема этого размера:
II-------II--------- II------- II
В этой стопе, состоящей из трех слогов, ударный слог тре-
153
тий. Трехсложный размер с ударением на последнем слоге на-
зывается анапестом (--------------)•
И анапест — слово греческое, в переводе означает «отражен-
ный», то есть противоположный дактилю; ударение падает не
на первый слог, как у дактиля, а на третий.
Таким образом, дактиль — это трехсложная стопа с ударе-
нием на первом слоге (-----------•);
амфибрахий — трехсложная стопа с ударением на втором
слоге (---------);
анапест — трехсложная стопа с ударением на третьем слоге
(------)•
Вопросы и задания
I. Назовите двусложные и трехсложные размеры стиха. Начертите схемы
этих стихотворных размеров. Приведите примеры.
2. Во второй части поэмы «Мороз, Красный нос» (гл. XIX, XXX) найдите
примеры дактиля и амфибрахия.
3. Определите стихотворный размер каждой строфы из XIX главы. Поду-
майте, почему соединяются в ней строфы, написанные разным стихотворным
размером.
4. Определите стихотворный размер произведений А. С. Пушкина «Узник»,
М. Ю. Лермонтова «Тучи», «Горные вершины», Т. Г. Шевченко «И вырос я
в чужом краю...».
5. Прочитайте отрывок из стихотворения и определите его размер и рифму.
В полном разгаре страда деревенская...
Доля ты! — русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.
Не мудрено, что ты вянешь до времени,
Всевыносяшего русского племени
Многострадальная мать!
Кто автор этих строк? Чем близки они поэме «Мороз, Красный иос»?
Михаил
Евграфович
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН
(1826—1889)
Салтыков-Щедрин был одним
из любимых писателей Ленина.
А. В. Луначарский
жд ихаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился в Тверской
'* губернии1, в селе Спас-Угол 27 января 1826 года. Детство
его было на редкость безотрадное. Он родился и вырос в богатой
помещичьей семье. Жизнь в семье Салтыковых была грубая,
чуждая серьезным умственным и общественным интересам. Же-
стокая действительность крепостнического быта пробудила в нем
сознание несправедливости существующего строя и первые наст-
роения протеста против него.
В память ребенка с самых ранних лет врезались картины
крепостного насилия. «Я вырос на лоне крепостного права,
вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепост-
ными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамо-
теем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе». «Не
только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика.
Я любил говорить, расспрашивать. Крепостное право, тяжелое
и глубокое в своих формах, сближало меня с подневольною
массой»,— с горечью вспоминал позднее писатель.
Учиться Салтыков начал рано. В возрасте семи-восьми лет
он обучился русской грамоте и вскоре пристрастился к чтению,
которое стало неиссякаемым источником его быстро растущих
знаний. Щедрин успешно выдержал экзамены и поступил в тре-
тий класс Московского дворянского института, из стен которого
вышли многие деятели науки, искусства, литературы...
1 Тверская губерния — в настоящее время Калининская область.
155
М. Е. Салтыков-Щедрин, как один из лучших воспитанников
дворянского института, был отправлен в Царскосельский лицей,
который когда-то окончил Александр Сергеевич Пушкин. В ли-
цее началась литературная деятельность Щедрина. В своем
первом стихотворении «Лира» он выразил чувство огромной
любви к Пушкину. Воспоминания о Пушкине укрепляли твор-
ческие наклонности воспитанников. В лицее существовал обычай
ежегодно выбирать из числа выпускников «Пушкина». Тринад-
цатый выпуск лицея выбрал своим «Пушкиным» Михаила Сал-
тыкова. Печатал он свои стихотворения в «Библиотеке для
чтения». В его стихотворениях преобладало чувство неудовлет-
воренности действительностью. Вскоре Салтыков понял, что
поэзия — не его призвание.
После лицея Салтыков был определен в канцелярию Воен-
ного министерства, но карьера чиновника не прельщала его.
Он стал серьезно заниматься писательской деятельностью. «Любя
«Россию до боли сердечной», Щедрин гневно бичевал в своих
произведениях ее врагов — крепостное право, прогнивший цар-
ский режим и порожденные им пороки.
Без преувеличения можно сказать, что писатель показал
нам полную картину жизни всех слоев и классов России за
полвека. Мы видим крепостную деревню, изнуренную непосиль-
ной работой на барина, и деревню после освобождения крестьян,
когда место барина занял новый эксплуататор — деревенский
кулак.
В последние годы Салтыков-Щедрин создал знаменитые
«Сказки для детей изрядного возраста», то есть сказки для
взрослых.
Сказка — занимательный и любимый читателями вид народ-
ного творчества. Дети и взрослые с увлечением следят за при-
хотливыми вымыслами народной фантазии, за чудесными собы-
тиями из жизни сказочных героев. Поэты и прозаики разных
народов вдохновлялись народной сказкой. Пушкин, Перро,
Андерсен сочиняли свои сказки, в которых мы чувствуем и отпе-
чаток личности писателя, и тот родник народной фантазии, из
которого он черпал свои мотивы.
Первыми сказками Салтыкова-Щедрина были «Дикий поме-
щик» и «Повесть о том, как один мужик двух генералов про-
кормил».
Большинство сказок написано в первой половине восьми-
156
десятых годов, когда правительство расправлялось с револю-
ционными волнениями. Не затрагивая прямо тему революции,
писатель приводит читателя к мысли о неизбежности револю-
ционного пути борьбы.
В 1889 году Салтыков-Щедрин умер. «В лице его Россия
лишилась лучшего, справедливого и энергичного защитника
правды и свободы, борца против зла, которое он своим сильным
умом и словом разил в самом корне...» — писали тифлисские
рабочие в год его смерти.
Щедрин был одним из любимых писателей Маркса. «Когда
Марксу было уже 50 лет,— вспоминал один из его друзей,— он
принялся за изучение русского языка и, несмотря на трудность
этого языка, настолько овладел им... что мог с удовольствием
читать русских поэтов и прозаиков, из которых особенно ценил
Пушкина, Гоголя и Щедрина».
Очень любил Щедрина В. Й. Ленин. В своих речах и статьях
он постоянно цитировал меткие фразы Щедрина. Среди многих
образов Салтыкова-Щедрина, заново оживших в произведениях
В. И. Ленина, мы находим и героев щедринских сказок.
(По материалам статей Б. Я. Бухштаба «М. Е. Салтыков-Щедрин»
и В. Н. Баскакова в кн.: «Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин в портретах, иллюстрациях, документах».)
Вопросы и задание
1. Что писал Салтыков-Щедрин о крепостном праве и какие писатели
разделяли его мысли и чувства?
2. Как вы понимаете слова: «вековая кабала», «подневольная масса»,
«протест», «бичевал», «преобладал», «не прельщала», «пристрастился к чте-
нию», «крепостной», «прогнивший царский режим», «изнуренный»?
3. Прочитайте самостоятельно сказку «Дикий помещик». Расскажите о
своих впечатлениях от прочитанного.
ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК
ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ
Жили да были два генерала, и так как оба были легкомыс-
ленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хо-
тению, очутились на необитаемом острове.
Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там
родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не
понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уве-
рение в совершенном моем почтении и преданности».
157
Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили ге-
нералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Пе-
тербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели
каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очути-
лись на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним
одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли, и стали
разговаривать, как будто ничего с ними не случилось.
— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снил-
ся,— сказал один генерал,— вижу, будто живу я на необитае-
мом острове...
Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.
— Господи! да что ж это такое! где мы! — воскликнули оба
не своим голосом.
И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву
с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уве-
рить себя, что все это не больше как сновидение, пришлось
убедиться в печальной действительности.
Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой
стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось
все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый
раз после того, как закрыли регистратуру.
Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в
ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.
— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один гене-
рал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась,
и во второй раз заплакал.
— Что же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь
слезы,— ежели теперича доклад написать — какая польза из
этого выйдет?
— Вот что,— отвечал другой генерал,— подите вы, ваше
превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру
опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.
Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как на-
чальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то
встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое».
Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали
все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре,
то ничего не нашли.
— Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо,
а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, кото-
158
рый, кроме регистратуры, служил еще в школе военных канто
нистов1 учителем каллиграфии2 и, следовательно, был поумнее.
Сказано — сделано. Пошел один генерал направо и видит —
растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал до-
стать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно
лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку
изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в
садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.
«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал
генерал и даже в лице изменился от аппетита.
Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева то-
куют, зайцы бегают.
— Господи! еды-то! еды-то!—сказал генерал, почувствовав,
что его уже начинает тошнить.
Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное
место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж до-
жидается.
— Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-ни-
будь?
— Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей»3,
и больше ничего!
Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То
беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то при-
поминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева,
зайцы.
— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что чело-
веческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на
деревьях растет? — сказал один генерал.
— Да,— отвечал другой генерал,— признаться, я и до сих
пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром
к кофею подают!
— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть,
то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить...
Только как все это сделать?
1 Школа военных кантонистов — низшая военная школа для солдатских
детей.
2 Каллиграфия — искусство красивого и четкого письма.
3 «Московские ведомости» — реакционная газета. М. Е. Салтыков-Щедрин
издевается над ее бессодержательностью и казенной восторженностью.
159
Рисунок Кукрыниксов.
— Как все это сделать? — словно эхо, повторил другой ге-
нерал.
Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно
отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед
глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями
и другим салатом.
160
— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! —
сказал один генерал.
— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! —
вздохнул другой генерал.
Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их
светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало
глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу
и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раз-
дался визг и оханье; генерал, который был учителем каллигра-
фии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил.
Но вид текущей крови как будто образумил их.
— С нами крестная сила! — сказали они оба разом.— Ведь
этак мы друг друга съедим! И как мы попали сюда! кто тот
злодей, который над нами такую штуку сыграл!
— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором
развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один
генерал.
— Начинайте! — отвечал другой генерал.
— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восхо-
дит, а потом заходит, а не наоборот?
— Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь
и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом
ложитесь спать?
— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва
ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?
— Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте,
всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом
подадут ужинать — и спать пора!»
Но упоминовение об ужине обоих повергло в уныние и пре-
секло разговор в самом начале.
— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое
время своими собственными соками питаться,— начал опять
один генерал.
— Как так?
— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят
другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так
далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся...
— Тогда что ж?
— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...
— Тьфу!
6. Зак 234К М. A, Che жисаскан
161
Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он
постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более
раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить и,
вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно
принялись читать его.
«Вчера,— читал взволнованным голосом один генерал,— у
почтенного начальника нашей древней столицы был парадный
обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изуми-
тельною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву1 на
этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь
золотая»2, и питомец лесов кавказских,— фазан, и, столь редкая
в нашем севере в феврале месяце, земляника...»
— Тьфу ты, господи! да неужто ж ваше превосходительство
не может найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии
другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее:
«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в
реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже
старожилы, тем более что в осетре был опознан частный при-
став3 Б.), был в здешнем клубе фестиваль4. Виновника торже-
ства внесли на громадном деревянном блюде, обложенного
огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П.,
бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблю-
дал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая
разнообразная и даже почти прихотливая...»
— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не
слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый гене-
рал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:
«Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел
следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв жи-
вого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения,
печень его увеличится...»
Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обра-
тили взоры,— все свидетельствовало об еде. Собственные их
мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались
отгонять представления о бифштексах, но представления эти
пробивали себе путь насильственным образом.
1 Рандеву — свидание (франц.).
2 «Шекснинска стерлядь золотая» — цитата из стихотворения Державина
«Приглашение к обеду».
Частный пристав — начальник полицейского участка в городе.
1 Фестиваль — здесь: пиршество.
162
Рисунок Н. Муратова.
И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, оза-
рило вдохновение...
— А что, ваше превосходительство,— сказал он радостно,—
если бы нам найти мужика?
— То есть как же... мужика?
6*
163
— Ну, да, простого мужика... какие обыкновенно бывают
мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы
наловил, и рыбы!
— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда
его нет?
— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поис-
кать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлы-
нивает!
Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили,
как встрепанные и пустились отыскивать мужика.
Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, нако-
нец, острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел
их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под го-
лову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным
образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела
не было.
— Спишь, лежебок! — накинулись они на него,— небось и
ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода
умирают! сейчас марш работать!
Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было
дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в
него.
И зачал он перед ними действовать.
Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по де-
сятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом
покопался в земле — и добыл оттуда картофелину; потом взял
два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь.
Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика.
Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что
генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу
частичку?»
Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у
них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли
с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами —
нигде не пропадешь!»
— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между
тем мужичина-лежебок.
— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! —отвеча-
ли генералы.
— Не позволите ли теперь отдохнуть?
164
— Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку.
Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде,
поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Этою ве-
ревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег,
а сами легли спать.
Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился,
что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши гене-
ралы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот
они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем
пенсии ихние все накапливаются да накапливаются.
— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли
деле было вавилонское столпотворение1, или это только так,
одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому,
позавтракавши.
— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле,
потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют
разные языки!
— Стало быть, и потоп был?
— И потоп был, потому что в противном случае как же
было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем
более, что в «Московских ведомостях» повествуют...
— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?
Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до
доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани —
и ничего, не тошнит!
* * *
Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще
и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петер-
бурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.
— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходи-
тельство? — спрашивал один генерал другого.
— И не говорите, ваше превосходительство! все сердце изны-
ло! — отвечал другой генерал.
— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а все, знаете,
как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!
1 Вавилонское столпотворение — по библейской легенде, жители древнего
Вавилона пытались построить столб (башню) вышиной до неба; в наказание за
дерзкую попытку бог «смешал» их языки, и строители перестали понимать друг
друга.
165
— Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так
на одно шитье посмотреть, голова закружится1!
И начали они нудить мужика: представь да представь их
в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже
Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло,
в рот не попало!
— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались ге-
нералы.
— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике
на веревке, и стену краской мажет, или по крыше словно муха
ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.
И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих гене-
ралов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и му-
жицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль — не
корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море пере-
плыть вплоть до самой Подьяческой.
— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали ге-
нералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.
— Будьте покойны, господа генералы, не впервой!— отвечал
мужик и стал готовиться к отъезду.
Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно
лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестив-
шись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время
пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужи-
чину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке
сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов
селедками.
Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский слав-
ный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки
руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да
веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и
надели мундиры. Поехали они в казначейство и сколько тут
денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!
Однако и об мужике не забыли: выслали ему рюмку водки
да пятак серебра: веселись, мужичина!
1869 г.
1 Чины делились на 14 классов. Высшим был первый класс. Чин четвертого
класса в гражданской службе — действительный статский советник. Мундиры
чиновников первых классов были украшены золотым шитьем.
166
Вопросы и задания
1. Как вы думаете, почему свое произведение «Повесть о том, как один
мужик двух генералов прокормил» Салтыков-Щедрин включил в сборник
«Сказки»?
2. Что необычного в изображении генералов? Приведите примеры.
3. Как вы понимаете слова и выражения: «упразднили», «за ненадобно-
стью», «примите уверение», «почтение»; определите, что хочет подчеркнуть
этими словами автор?
4. Проследите по тексту, как в зависимости от обстоятельств меняется
отношение генералов к мужику. С помощью каких слов, обращений, интонаций
автор разоблачает это отношение?
5. Прочитайте и расскажите, как трудовая сноровка мужика помогает
генералам не только выжить на необитаемом острове, но и оказаться снова
дома. В чем смысл противопоставления мужика генералам?
6. Как мужик относится к себе и своему положению? Прочитайте об этом
в сказке. Что нравится писателю и что осуждает он в поведении мужика?
7. Подумайте, чем сказка Салтыкова-Щедрина отличается от знакомых вам
литературных сказок. Какой обличительный смысл заключен в ее названии?
8. Рассмотрите рисунки Кукрыниксов и Муратова. Какие эпизоды щедрин-
ской сказки проиллюстрированы художниками? Как каждый из художников
высмеивает беспомощность и никчемность генералов?
9. Подготовьте выразительное чтение отрывка «Первый день жизни гене-
ралов на необитаемом острове». Когда в интонациях генералов звучит растерян-
ность, удивление и отчаяние? Прочитайте отрывок так, чтобы прозвучала едкая
насмешка, разоблачающая героев.
О СМЕШНОМ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
Давайте поговорим о смешном в произведении, о задаче,
которую выполняет смех. Разве смех может выполнять задачи?
Да ведь смех — это просто когда смешно!
Верно. Однако смех смеху рознь, и писателю вовсе не без-
различно, каким смехом будешь смеяться ты, его читатель,—
пустым, глупым или умным. И ему не все равно, над чем ты
будешь смеяться.
Создавая рассказ, он заранее обдумал, на кого и почему
направит веселые стрелы смеха. А эти стрелы разят метко и
могут по желанию автора либо задеть легонько, либо уколоть
посильнее, а то и пригвоздить к позорному столбу того, кто
это заслужил.
Веселые стрелы смеха могут на лету сбить пышные одежды,
в которые вырядилось ничтожное, чванливое существо, и пока-
зать, каково оно есть на самом деле. И, рассмеявшись, все
увидят и скажут: а король-то гол!
167
Это меткое выражение пришло к нам из веселой и острой
сказки Андерсена «Новое платье короля». Стоило в этой сказ-
ке простодушному, не умеющему лгать ребенку сказать во все-
услышание правду, как мигом растаяли пышные одежды, из
трусости, из лести выдуманные лжецами и придворными. И на-
род увидал: король просто гол! И стал смеяться. А какое ува-
жение может быть к осмеянному королю, кто же станет ему
покоряться?
Вот что сделали веселые стрелы смеха.
Писатели в своих книгах не только определяют цель, куда
направить огонь смеха, но и точно рассчитывают силу этого
огня. Ведь иные поступки и события достойны лишь улыбки,
лукавой, насмешливой, а в другой раз — и сочувственной. А не-
которые заставляют прямо-таки хохотать. Вот и смеемся мы
в этих случаях по-разному.
Но ни в одной книжке, читатель, ты не засмеешься, если
так заранее не предназначено тебе писателем. Вот ты читаешь
и совсем забыл о нем, увлеченный событиями. А он тут, с тобой.
Это он заставляет тебя смеяться именно на этой, а не на другой
странице, и вместе со смехом он дарит тебе мысль и чувство,
сквозь шутку помогает что-то зорче разглядеть, понять и само-
стоятельно, критически оценить...
Смех бывает веселый, добрый — юмористический (юмор),
как в повести Катаева «Сын полка», а бывает злой — сатириче-
ский (сатира), как у Салтыкова-Щедрина. Он зовет людей
к протесту, вызывает презрение, заставляет людей что-то уви-
деть и понять по-новому, действовать... Разный бывает смех.
Сатирические произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина остро
и метко изобличали пороки тогдашнего строя, поэтому были
ненавистны царскому правительству.
В то же время передовые люди отмечали ценность щедрин-
ских сказок. В сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина есть сильные
преувеличения (гиперболы) и даже гротеск*. Например, «из
собственных волос сделал силок и поймал рябчика», научился
варить в пригоршне суп; генерал, который был учителем кал-
лиграфии, «откусил у своего товарища орден и немедленно
проглотил». Преувеличения (гипербола и гротеск) помогают
1 Гротёск — в литературе и искусстве художественный прием, основанный на
преувеличении, на сочетании неожиданных контрастов реальности и фантастики.
Гротеск широко использовался Н. В. Гоголем, М. Е. Салтыковым-Щедриным.
168
писателю беспощадно высмеять социальное зло крепостнического
строя, воздействовать на душу читателя.
(Из книги Э. Ю. Цюрупы «Умеешь ли ты читать?».)
Вопросы и задания
1. Какие эпизоды из сказки «Царевна-лягушка», повестей Н. В. Гоголя
«Тарас Бульба» и В. П. Катаева «Сын полка» вызывают веселый, добродушный
смех?
2. Какие эпизоды в «Повести о том, как один мужик двух генералов про-
кормил» Салтыкова-Щедрина кажутся вам смешными? Объясните, какую роль
выполняет смех в этом произведении.
3. Вы знаете, что в сатирических произведениях обличаются пороки обще-
ства и недостатки людей. Объясните, почему можно назвать сказку М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина сатирическим произведением.
Антон
Павлович
ЧЕХОВ
(1860—1904)
Он обладал искусством всю-
ду находить и оттенять пош-
лость,— искусством, которое
доступно только человеку вы-
соких требований к жизни,
которое создается лишь горя-
чим желанием видеть людей
простыми, красивыми, гармо-
ничными...
А. М. Горький
]~| рошло более восьмидесяти лет со дня смерти Чехова, а его
® * произведения по-прежнему доставляют радость, вызывают
смех и грусть, заставляют задуматься о смысле жизни. Пьесы
Чехова не сходят со сцен театров многих стран, его книги
издаются почти на всех языках мира.
Эпоха, в которую жил и писал Чехов, была мрачной. Это
было тяжелое время в истории России. Люди боялись откровен-
но говорить и высказывать свои взгляды, боялись доносов.
В стране преследовали не только революционеров, но и вся-
кое свободомыслие. Восьмидесятые годы прошлого века знаме-
ниты, однако, не только этим. В эти годы жили, работали, писали
такие замечательные люди, как Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-
Щедрин, В. Г. Короленко, А. П. Чехов.
Антон Павлович Чехов родился 17 января 1860 года в Та-
ганроге, в семье мелкого торговца. У Антоши, как звали его
в семье, было четверо братьев и сестра. Жизнь семьи была
трудной. Поэтому шестнадцатилетний Антон зарабатывал себе
на жизнь частными уроками и даже помогал родителям, кото-
рые в это время жили в Москве. Уже в эти годы проявился его
писательский талант: Чехов участвовал в рукописном гимна-
зическом журнале, сочинял юмористические пьесы.
После окончания гимназии Чехов переехал в Москву и по-
ступил на медицинский факультет Московского университета.
Ои готовился быть врачом и продолжал писать. Больше всего
170
смешных рассказов Антон Павлович написал в студенческие
годы. Он подписывался псевдонимом1 Антоша Чехонте. Сколько
ни перечитываешь такие рассказы, как «Толстый и тонкий»,
«Хамелеон», «Экзамен на чин», «Лошадиная фамилия», «Зло-
умышленник», всегда смешно и... немного грустно. Он высмеивал
все дурное, все, что мешало жить честно и справедливо: наглость
сильных и заискивание слабых, грубость, трусость и равноду-
шие. Вот Червяков, герой рассказа «Смерть чиновника». Он — в
театре, смотрит пьесу и «чувствует себя на верху блаженства».
И вдруг чихнул, обрызгав лысину старичка, в котором узнал
генерала. Он извинился, но извинения не успокоили Червякова.
От страха он умирает. Грустно и смешно. Жалко этого чинов-
ника, но как отвратительны и гадки его угодничество, его страх
и ужас перед высшим чином. Смешной случай, анекдот под
пером Антоши Чехонте превратился в сатиру, обличающую
царский режим.
Многие рассказы Чехова занимают не больше нескольких
страниц. Нужно было обладать особенным мастерством худож-
ника, чтобы уметь так кратко и просто, так смело и правдиво
рассказать о русской жизни, о людях своего времени.
(По статье А. А. Белкина «А. П. Чехов».)
Вопрос и задания
1. Перечитайте эпиграф к статье. Как вы понимаете его смысл?
2. В статье о Чехове упоминаются его рассказы. Прочитайте их. Об одном
из этих рассказов напишите отзыв, в котором объясните, почему выбранный
вами рассказ понравился больше других.
3. Прочитайте книгу «Из школьных лет Антона Чехова. Сборник воспо-
минаний».
ХАМЕЛЕОН2
Через базарную площадь идет полицейский надзиратель
Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает
рыжий городовой3 с решетом, доверху наполненным конфиско-
ванным4 крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души...
1 Псевдоним — вымышленное имя, которое принимают писатели, артисты.
2 Хамелеон — порода ящериц, быстро меняющих цвет кожи в зависимости
от окружающей среды.
3 Городовдй — низший чин полицейской охраны в городе.
4 Конфискованный — от конфисковать', здесь: отобрать, отнять.
171
Рисунок Д. Кардовского.
Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло,
как голодные пасти; около них нет даже нищих.
— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов.—
Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!
Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит:
из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах
и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситце-
172
вой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за
ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает
собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик:
«Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и
скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, соби-
рается толпа.
— Никак беспорядок, ваше благородие!..— говорит горо-
довой.
Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу.
Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный че-
ловек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку,
показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице
его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» да и самый
палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов
узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, расто-
пырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам
виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и
желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение
тоски и ужаса.
— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов,
врезываясь в толпу.— Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто
кричал?
— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю...— начинает
Хрюкин, кашляя в кулак.— Насчет дров с Митрий Митричем,—
и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня
извините, я человек, который работающий... Работа у меня
мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может,
неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе
нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то
лучше и не жить на свете...
— Гм!.. Хорошо...— говорит Очумелов строго, кашляя и
шевеля бровями.— Хорошо... Чья собака? Я этого так не остав-
лю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить вни-
мание на подобных господ, не желающих подчиняться поста-
новлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня,
что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу
Кузькину мать!.. Елдырин,— обращается надзиратель к городо-
вому,— узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку
истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная... Чья это
собака, спрашиваю?
173
— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из
толпы.
— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня
пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем...
Одного только я не понимаю: как она могла тебй укусить? —
обращается Очумелов к Хрюкину.— Нешто она достанет до
пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты,
должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла
в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь... известный народ!
Знаю вас, чертей!
— Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а
она — не будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благо-
родие!
— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать?
Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет,
а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пущай
мировой1 рассудит. У него в законе сказано... Нынче все
равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите
знать...
— Не рассуждать!
— Нет, это не генеральская...— глубокомысленно замечает
городовой.— У генерала таких нет. У него всё больше легавые...
— Ты это верно знаешь?
— Верно, ваше благородие...
— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые,
а эта — чёрт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна
только... И этакую собаку держать?! Где же у вас ум? Попадись
этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было
бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши!
Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно
проучить! Пора...
— А может быть, и генеральская...— думает вслух городо-
вой.— На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него
такую видел.
— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.
— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то
ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь
там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не
1 Мировой — судья, разбиравший единолично мелкие дела, устанавливавший
мир между спорящими сторонами.
174
выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каж-
дый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испор-
тить. Собака — нежная тварь... А ты, болван, опусти руку!
Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..
— Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор!
Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?
— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!
— И спрашивать тут долго нечего,— говорит Очумелов.—
Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал,
что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и всё.
— Это не наша,— продолжает Прохор.— Это Генералова
брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых.
Брат ихний охоч...
— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? —
спрашивает Очумелов, и всё лицо его заливается улыбкой
умиления.— Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить при-
ехали?
— В гости...
— Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь
и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее...
Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец!
Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... сердится, шельма...
цуцык этакий...
Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада...
Толпа хохочет над Хрюкиным.
— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, за-
пахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной
площади.
1884 г.
Вопросы и задания
1. Как вы думаете, почему рассказ называется «Хамелеон»? Проследите,
как меняется поведение Очумелова в зависимости от обстоятельств (обратите
внимание на его речь, обращение к Хрюкину и «виновнику скандала»). Как
это его характеризует?
2. Прочитайте о сюжете и кульминации на с. 444—445. Найдите кульминацию
рассказа «Хамелеон». Каково значение ее в раскрытии характера Очумелова?
3. Какую роль играют детали (шинель Очумелова, узелок в его руке, решето
конфискованного крыжовника и окровавленный палец Хрюкина) в раскрытии
характеров и взаимоотношений действующих лиц?
4. Что смешного и что грустного в этом рассказе? Как вы думаете, почему
мы относим его к произведениям сатирическим?
175
5. Рассмотрите рисунок Д. Кардовского к рассказу «Хамелеон». Такими ли
вы представляете героев Чехова?
6. Инсценируйте или прочитайте в лицах весь рассказ, стараясь передать
его обличительный смысл.
Вопросы и задания к первому разделу
1. Каких писателей и поэтов XIX века можно считать совремеиииками
(см. таблицу)? Какие чувства к родине и народу сближают их?
1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900
А. С. Пушкин Н. В. Гоголь Т. Г. Шевченко М. Ю. Лермонтов И. С. Тургенев Н. А. Некрасов М. Е. Салтыков- Щедрин А. П. Чехов 1799 1809 1814 1814 1818 1821 1826 1837 1841 1852 1861 1860 1878 1883 1889 1904
2. Перечитайте эпиграф к разделу, посвященному произведениям XIX века.
Как знание прошлого помогает более глубоко понять великое значение настоя-
щего?
3. Подумайте, почему «Узник» Пушкина, «Бородино» Лермонтова стали
народными песнями.
4. Какие произведения литературы XIX века посвящены защите родины?
Перескажите близко к тексту или прочитайте наизусть строки, выражающие
патриотические чувства писателя.
5. Какие герои произведений XIX века вам особенно понравились? Рас-
скажите об одном из героев, характеризуя его поступки, чувства, переживания.
Подготовьте план своего рассказа.
6. Какие описания природы вы запомнили? Перескажите или прочитайте
полюбившиеся вам описания. Какое значение для понимания смысла произве-
дения имеет пейзаж?
7. Составьте устный рассказ по репродукции картины И. И. Шишкина
«Дубовая роща». Готовясь к рассказу, прочитайте справку о художнике; вос-
пользуйтесь вопросами и заданиями к этой картине (см. цветную вклейку).
8. Объясните, какие произведения мы называем эпическими, а какие лири-
ческими. Какие повести, рассказы и сказки вам известны и какие из них вы
можете назвать сатирическими? Почему?
9. Какие произведения русской литературы XIX века вы прочитали в книге
«В мире русской литературы» и какие из них вам запомнились? Какие музы-
кальные произведения, картины, иллюстрации в связи с прочитанными произ-
ведениями вам известны? Какие из них произвели на вас наибольшее впечат-
ление? Почему?
176
Книги для внеклассного чтения:
Н. В. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород.
В. А. Жуковский. Баллады.
А. И. Куприн. Тапер.
М. Ю. Лермонтов. Три пальмы. Воздушный корабль.
Беглец.
Н. С. Лесков. Левша.
Н. А. Некрасов. Орина, мать солдатская. Школьник. За-
бытая деревня. На смерть Шевченко.
А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. Повести Белкина.
Л. Н. Толстой. Детство. Отрочество.
И. С. Тургенев. Бирюк. Певцы. Два помещика.
А. П. Чехов. Толстый и тонкий. Смерть чиновника. Хирур-
гия. Беззащитное существо. Пересолил. Переполох.
Творческий труд советского писателя нераз-
рывно связан с жизнью всего народа, ибо
советская литература тем и отличается от
литературы буржуазной, что она утверждает
веру в человека, веру в народ. Именно в этом
ее великая сила и мировое значение.
С. В. Михалков
ИЗ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Алексей
Максимович
ГОРЬКИЙ
(1868—1936)
...Горький — безусловно круп-
нейший представитель проле-
тарского искусства, который
много для него сделал и еще
больше может сделать.
В. И. Ленин
удьба многих русских писателей была трудной... Максим
Горький рано ощутил всю тяжесть своей жизни и ужас
существования тех, кто его окружал...
Четырех лет Горький болел холерой, восьми — оспой. Рабо-
тая «мальчиком» в магазине обуви, жестоко обварил себя щами.
Его избивали дома и в людях так, что однажды пришлось везти
в больницу, и доктор вынул из его тела сорок две щепочки: били
его в тот раз пучком сосновой лучины. Он служил посудником
на пароходе, работал у чертежника и в иконописной мастерской,
занимался собиранием разного старья и ловлей птиц. Смер-
тельные болезни, озверелые люди и несчастные случаи запол-
няют биографию молодого Горького.
И вот этот мальчик, которому суждено было пройти беско-
178
нечно трудный и мучительный путь, став писателем, принес в
литературу не только самую черную правду о том, как жил на
дне униженный русский человек, но и радостный призыв к луч-
шей жизни.
Откуда почерпнул Горький эту удивительную бодрость?
Много бодрости он получил в дар от отца, столяра и обой-
щика Максима Савватеича. Ее укрепляла в мальчике Акулина
Ивановна, чудесная горьковская бабушка. Позже Алеша Пеш-
ков1, обитатель нижегородских чердаков и подвалов, черпал
бодрость и жизнерадостность в книгах.
Но могло ли хватить этой бодрости надолго?
Одна из героинь Горького говорит: «Когда человек любит
подвиги, он всегда сумеет их сделать и найдет, где это можно.
В жизни, знаешь ли, всегда есть место подвигу».
Подвигом, который совершил Горький, была сама жизнь,
им прожитая. Слава пришла к нему рано, но все же путь Горь-
кого к своему искусству был долгий...
Этому искусству, очень трудному искусству писать просто,
Горький учился долго и неутомимо. Многому учился у других
писателей и многому у народа, этого творца языка. Внимательно
перечитывал он классиков, любимые книги — Толстого, Чехова,
Диккенса... неустанно прислушивался к речи людей, среди ко-
торых жил: мастеровых, купцов, солдат, бурлаков, актеров,
булочников, матросов, певчих...
Еще в детстве Горький поражал своей памятью — дед на-
зывал ее «лошадиной». Увидев однажды у своего друга карту
Австралии, Горький взял ее посмотреть и на другой день уже
запомнил наизусть все острова, горы и города на этой карте.
Когда Горький стал писателем, его удивительная память
возрождала уже не Австралию, а Россию — жизнь на берегах
Волги, в горах Крыма и Кавказа, во множестве российских
городов. Это была карта жестоких несправедливостей и без-
мерных человеческих страданий...
Первые книги Горького принесли ему подлинную славу, а
эта слава — высшую для Горького награду: знакомство с Львом
Толстым и дружбу с Антоном Чеховым, двумя великими совре-
менниками Горького.
При первой встрече с Горьким Толстой сказал: «Вам будет
1 Алексей Максимович Пешков; Максим Горький — псевдоним
А. М. Пешкова.
179
трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите
всегда так, как чувствуете. Выйдет грубо — ничего. Умные
люди поймут». А по уходе Горького Толстой занес в свой днев-
ник: «Был Горький. Очень хорошо говорили. И он мне понра-
вился. Настоящий человек из народа».
Надвигались решающие дни революции 1905 года. В это
время Горький жил в Москве. Он собирал деньги. «На сапоги
нужно»,— говорил Горький усмехаясь. Это у него значило на
помощь революционерам, на оружие.
Горький был свидетелем того, как рабочие строили барри-
кады, как отряды солдат осыпали свинцом улицы, как пушки
громили Пресню1.
Восстание было подавлено, но не была подавлена революция.
По всей России ходили переписанные на машинке листки —
письмо Горького к рабочим. В этом письме говорилось: «Проле-
тариат не побежден, хотя и понес потери. Революция укреплена
новыми надеждами, кадры ее увеличились колоссально...»
В 1905 году, накануне восстания в Москве, Горький позна-
комился с Лениным. Это знакомство перешло затем в дружбу.
Владимир Ильич приезжал к Горькому на Капри2. Здесь,
отдыхая от напряженной своей работы, Ленин играл в шахматы,
удил рыбу, ходил по каменистым тропам, любовался золотыми
цветами дрока...
По вечерам и на прогулках Горький рассказывал о своих
странствиях по России, о своем детстве, о бабушке Акулине
Ивановне, о своей юности... Вспоминал отца, много говорил
о дедушке.
Ленин слушал его с огромным вниманием, блестя прищу-
ренными по привычке глазами, и раз как-то, вспоминает
М. Ф. Андреева3, сказал Горькому: «Написать бы вам все это,
батенька, надо! Замечательно, поучительно все это, замеча-
1 Пресня — промышленный район Москвы, был центром Декабрьского во-
оруженного восстания 1905 года. Рабочие Пресни, руководимые большевиками,
былн в первых рядах восставших. После Велнкой Октябрьской революции Пресня
была переименована в Красную Пресню.
2 А. М. Горький жил в Италии, на острове Капри, около семи лет. В конце
1913 года, когда царское правительство объявило политическую амнистию, он
вернулся в Россию.
3 Эпизод из воспоминаний русской актрисы, видной общественной деятель-
ницы М. Ф. Андреевой «Встречи с Лениным».
180
тельно...» Горький сразу осекся, замолчал, покашлял смущенно
и невесело сказал:
«Напишу... Когда-нибудь...»
В 1913 году, накануне первой мировой войны, появились
в печати главы из «Детства» — первой из трех больших авто-
биографических повестей Горького... Вспоминая о своем детстве,
Горький писал сурово и правдиво, писал с великим гневом
в душе, гневом писателя-революционера.
(Из книгн А. Роскина «Максим Горький».)
Задания
1. Подготовьте устный рассказ на тему «Подвиг писателя». Готовясь
к выступлению, перечитайте статью о Горьком, составьте план своего рассказа
и подберите к нему эпиграф.
2. Прочитайте целиком повесть «Детство», которая в хрестоматии дана
в сокращении.
ДЕТСТВО
(Избранные главы)
[Алеше было четыре года, когда умер его отец. После похорон отца
Алеши его мать и бабушка, которая приехала к ним в Астрахань, решили
вернуться в Нижний Новгород, где жил дед Алеши.]
I
...Пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как
солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась,
что-то нашептывая...
Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко
укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласко-
вые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни,
зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом,
улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на
множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось мо-
лодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с разду-
тыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из
черной табакерки, украшенной серебром. Вся она — темная,
но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, веселым и
теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а
двигалась легко и ловко, точно большая кошка,— она и мягкая
такая же, как этот ласковый зверь.
181
До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась
она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в не-
прерывную нить, сплела все в разноцветное кружево и сразу
стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему,
самым понятным и дорогим человеком,— это ее бескорыстная1 2
любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для
трудной жизни.
Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до
Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насы-
щения красотою.
Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой
на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шел-
ками шитых берегов Волги. ,Не торопясь, лениво и гулко бухая
2 «
плицами по серовато-синеи воде, тянется вверх по течению
светло-рыжий пароход, с баржой на длинном буксире. Баржа
серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой
солнце; каждый час все вокруг ново, все меняется;--зеленые
горы — как пышные складки на богатой одежде земли; по
берегам стоят города и села, точно пряничные издали; золотой
осенний лист плывет по воде.
— Ты гляди, как хорошо-то! — ежеминутно г<?зирит бабушка,
переходя от борта к борту, и вся сияет, а гла’а у нее радостно
расширены.
Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит
у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах
слезы. Я дергаю ее за темную, с набойкой цветами, юбку.
— Ась? — встрепенется она.— А я будто задремала да сон
вижу.
— А о чем плачешь?
— Это, милый, от радости да от старости,— говорит она,
улыбаясь.— Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны
мои перекинулись-пошли.
И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то
диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях,
о всяком зверье и нечистой силе.
Сказки она сказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему
1 Бескорыстный — не стремящийся к личной выгоде, наживе; корысть — вы-
года. нажива.
2 Плицы — лопасти пароходного колеса.
182
лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно
вливая в сердце мое силу, приподнимающую меня. Говорит,
точно поет, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать
ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:
— Еще!
— А еще вот как было: сидит в подпечке старичок-домовой,
занозил он себе лапу лапшой, качается, хнычет: «Ой, мышеньки,
больно, ой, мышата, не стерплю!»
Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на
весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.
Вокруг стоят матросы — бородатые, ласковые мужики,—
слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят:
— А ну, бабушка, расскажи еще чего!
Потом говорят:
— Айда ужинать с нами!..
Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая
за руку, она толкала меня к борту и кричала:
— Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то!
Вот он какой, богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!
И просила мать, чуть не плача:
— Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся!
Мать хмуро улыбалась.
Когда пароход остановился против красивого города, среди
реки, тесно загроможденной судами, ощетинившейся сотнями
острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множест-
вом людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один
за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди
всех быстро шел небольшой сухонький старичок, в черном длин-
ном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом
и зелеными глазками.
— Папаша! — густо и громко крикнула мать и опрокинулась
на него, а он, хватая ее за голову, быстро гладя щеки ее ма-
ленькими красными руками, кричал, взвизгивая:
— Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх вы-и...
Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь,
как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:
— Ну, скорее! Это — дядя Михайло, это — Яков... Тетка
Наталья, это — братья, оба Саши, сестра Катерина, это все
наше племя, вот сколько!
Дедушка сказал ей:
183
— Здорова ли, мать?
Они троекратно поцеловались. Дед выдернул меня из тесной
кучи людей и спросил, держа за голову:
— Ты чей таков будешь?
— Астраханский, из каюты...
— Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дож-
давшись ответа, отодвинул меня, сказав:
— Скулы-те отцовы... Слезайте в лодку!
Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду1, мощен-
ному крупным булыжником, между двух высоких откосов, по-
крытых жухлой, примятой травой.
Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку
ей. шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз,
точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: черный
гладковолосый Михаил, сухой, как дед; светлый и кудрявый
Яков, какие то толстые женщины в ярких платьях и человек
шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой
и маленькой теткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огром-
ным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:
— Ой, не могу!
— Нашто они тревожили тебя? — сердито ворчала бабуш-
ка.— Эко неумное племя!
И взрослые и дети — все не понравились мне, я чувствовал
себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отда-
лилась.
Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нем
врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое
любопытство.
Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь
к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый
одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахло-
бученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он
показался мне большим, но внутри его, в маленьких полутемных
комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью,
суетились сердитые люди, стаей вороватых воробьев метались
ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.
Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь за-
9
вешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с
1 Съезд — здесь: спуск к реке.
’ Чан — деревянная или металлическая бочка.
184
густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу,
в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова
в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко
говорил странные слова:
— Сандал1 — фуксин2—купорос...
II
Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая,
невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая
сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым
гением3. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю,
что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить,
отвергнуть,— слишком обильна жестокостью темная жизнь
«неумного племени».
Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю,
а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором
жил,— да и по сей день живет,— простой русский человек.
Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды
всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали
в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я
узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья
настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное
возвращение матери еще более обострило и усилило их желание
выделиться4. Они боялись, что моя мать потребует приданого,
назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла
замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что
это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже
давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть
мастерскую в городе, кому — за Окой, в слободе Куна вине.
Уже вскоре после приезда, в кухне во время обеда, вспыхнула
ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через
стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы
и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по_ столу,
покраснел весь и звонко — петухом — закричал:
— По миру пущу!5
1 Сандал — здесь: название красителя, извлекаемого из древесины сандала.
2 Фуксин — красная краска.
3 Гений — здесь: талантливый сказочник.
' Выделиться — здесь: жить отдельно, самостоятельно.
5 По миру пущу! — здесь: заставлю жить подаянием, сделаю нищим.
185
Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:
— Отдай им все, отец,— спокойней тебе будет, отдай!
— Цыц, потатчица! — кричал дед, сверкая глазами, и было
странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглу-
шительно.
Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, по-
вернулась ко всем спиною.
Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот
взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрипя, охая,
ругаясь.
Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тетка На-
талья; моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку; веселая
рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья;
молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на
спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый,
бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки
дяди полотенцем.
Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и
хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскри-
кивал:
— Братья, а! Родная кровь! Эх вы-и...
Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда
в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из
медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он
плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом:
— Окаянные, дикое племя, опомнитесь!
Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:
— Что, ведьма, народила зверья?
Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потря-
сающе воя:
— Пресвятая мати божия, верни разум детям моим!
Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опро-
кинуто, пролито, тихо проговорил:
— Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут,
чего доброго...
— Полно, бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...
И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб;
он же,— маленький против нее,— ткнулся лицом в плечо ей;
— Надо, видно, делиться, мать...
— Надо, отец, надо!
186
Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал
шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке
пальцем и громко шептал:
— Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой —
езуит1, а Яшка — фармазон2! И пропьют они добро мое, про-
мотают...
Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по
ступеням влаза3, он шлепнулся в лохань с помоями.
Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть
в лицо мне так, как будто видел меня впервые.
— Кто тебя посадил на пёчь? Мать?
— Я сам.
— Врешь.
— Нет, сам. Я испугался.
Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.
— Весь в отца! Пошел вон...
Я был рад убежать из кухни.
Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими
зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось
спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед
злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая
и стараясь рассердить всякого.
— Эх вы-и! — часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда
вызывал у меня скучное, зябкое чувство.
В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и ра-
ботники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками,
окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязан-
ными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу
кухни,— в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая
зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними.
Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый
шелками, глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха
измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а
все-таки он казался одетым и чище и красивей сыновей, носив-
ших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях.
Через несколько дней после приезда он заставил меня учить
1 Езуйт (правильно: иезуит) — здесь: хитрый, нзворотливый, жестокий.
2 Фармазон (правильно: франкмасон) —здесь: безбожник, вольнодумец, на
рушитель порядка.
3 В лаз — ступеньки, по которым взбираются на русскую печь.
187
молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у
дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из
окон дома.
Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина
с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне
казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы.
Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не
мигая; она щурилась, вертела головою и просила тихонько,
почти шепотом:
— Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси...»
И если я спрашивал: «Что такое — яко же?» — она, пугливо
оглянувшись, советовала:
— Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною:
«Отче наш»... Ну?
Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же»
принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:
— «Яков же», «я в коже»...
Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла
голосом, который все прерывался у нее:
— Нет, ты говори просто: «яко же»...
Но и сама она и все ее слова были не просты. Это раздра-
жало меня, мешая запомнить молитву.
Однажды дед спросил:
— Ну, Олешка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по жел-
ваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажить! А «Отче
наш» заучил?
Тетка тихонько сказала:
— У него память плохая.
Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.
— А коли так,— высечь надо!
И снова спросил меня:
— Тебя отец сек?
Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала:
— Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.
— Это почему же?
— Говорил, битьем не выучишь.
— Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости
господи! — сердито и четко проговорил дед.
Меня обидели его слова. Он заметил это.
— Ты что губы надул? Ишь ты...
188
И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он при-
бавил:
— А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду.
— Как это пороть? — спросил я.
Все засмеялись, а дед сказал:
— Погоди, увидишь...
Притаившись, я соображал: пороть — значит расшивать пла-
тья, отданные в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо.
Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют
персиян,— это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били
маленьких, и хотя здесь дядья щелкали своих то по лбу, то по
затылку,— дети относились к этому равнодушно, только поче-
сывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:
— Больно?
И всегда они храбро отвечали:
— Нет, нисколечко!
Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами, от чая
до ужина, дядья и мастер сшивали куски окрашенной материи
в одну «штуку» и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая
пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девя-
тилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера.
Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч,
сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория,
спрятался за печку, но как раз в этот момент пришел дедушка,
сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток.
Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись
за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал:
— Чье дело, басурмане?
Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток
пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали
по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись
за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка терла на терке
сырой картофель.
— Это Сашка Яковов устроил,— вдруг сказал дядя Михаил.
— Врешь! — крикнул Яков, выскочив из-за печи.
А где-то в углу его сын плакал и кричал:
— Папа, не верь. Он сам меня научил!
Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил
к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собою
меня.
189
Все говорили — виноват дядя Михаил. Естественно, что за
чаем я спросил — будут ли его сечь и пороть?
— Надо бы,— проворчал дед, искоса взглянув на меня.
Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:
— Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!
Мать сказала:
— Попробуй, тронь...
И все замолчали.
Она умела говорить краткие слова как-то так, точно оттал-
кивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умалялись1.
Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка
говорил с нею не так, как с другими,— тише. Это было приятно
мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:
— Моя мать — самая сильная!
Они не возражали.
Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к
матери.
До субботы я тоже успел провиниться.
Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета
материй: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя
делается густо-синей — «кубовой»; полощут серое в рыжей воде,
и оно становится красноватым — «бордо». Просто, а — непо-
нятно.
Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об
этом Саше Яковову, серьезному мальчику; он всегда держался
на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески
услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но
дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:
— Экой подхалим!
Худенький, темный, с выпученными, рачьими глазами, Саша
Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда
таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то,
спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но, когда он
возбуждался, дрожали вместе с белками.
Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился мало-
заметный увалень Саша Михаилов, мальчик тихий, с печаль-
ными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою
Умаляться — делаться незаметным, уменьшаться.
190
кроткую мать. У него были некрасивые зубы; они высовывались
изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень
занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая,
пытаясь выдернуть зубы заднего ряда и покорно позволял
щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного
я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил
одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна.
С ним хорошо было молчать — сидеть у окна, тесно прижав-
шись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечер-
нем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются-
мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз
и, вдруг покрыв угасающее небо черною сетью, исчезают
куда-то, оставив за собою пустоту. Когда смотришь на это,
говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет
грудь.
А Саша дяди Якова мог обо всем говорить много и солидно,
как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красиль-
щика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную
скатерть и окрасить ее в синий цвет.
— Белое всего легче красится, уж я знаю! — сказал он
очень серьезно.
Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но
когда опустил край ее в чан с «кубовой», на меня налетел
откуда-то Цыганок, вырвал скатерть, и, отжимая ее широ-
кими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моей
работой:
— Зови бабушку скорее!
И, зловеще качая черной, лохматой головою, сказал мне:
— Ну, и попадет же тебе за это!
Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно
ругая меня:
— Ах ты, пермяк, солены уши! Чтоб те приподняло да шлеп-
нуло!
Потом стала уговаривать Цыганка:
— Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу
дело; авось, обойдется как-нибудь...
Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разно-
цветным передником:
— Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедни-
чал бы!
191
— Я ему семишник1 дам,— сказала бабушка, уводя меня
в дом.
В субботу, перед всенощной2, кто-то привел меня в кухню;
там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени
и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох
дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел
сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу
у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерил их,
складывал один с другим и со свистом размахивал ими по
воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак
и ворчала:
— Ра-ад... мучитель...
Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками
глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:
— Простите Христа ради...
Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат
и сестра, плечом к плечу.
— Высеку — прощу,— сказал дедушка, пропуская длинный
влажный прут сквозь кулак.— Ну-ка, снимай штаны-то!..
Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня маль-
чика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки — ничто
не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким
закопченным потолком.
Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, под-
держивая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье.
Смотреть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали
ноги. Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью
вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за
шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил
черными руками ноги его у щиколоток.
— Лексей,— позвал дед,— иди ближе!.. Ну, кому говорю?..
Вот гляди, как секут... Раз!..
Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому
телу. Саша взвизгнул.
— Врешь,— сказал дед,— это не больно! А вот этак больней!
И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная
полоса, а брат протяжно завыл.
1 Семишник — так называли прежде двухкопеечную монету.
2 Всенощная — вечерняя служба в церкви.
192
— Не сладко? — спрашивал дед, равномерно поднимая и
опуская руку.— Не любишь? Это за наперсток!
Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось
вместе с нею; падала рука — и я весь точно падал.
Саша визжал страшно тонко, противно:
— Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я
сказал...
Спокойно, точно Псалтырь читая1, дед говорил:
— Донос — не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот
тебе за скатерть!
Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:
— Лексея не дам! Не дам, изверг!
Она стала бить ногою в дверь, призывая:
— Варя, Варвара!..
Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес
к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил
ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку,
разбив мне лицо. Помню дикий его крик:
— Привязывай! Убью!..
Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала
вдоль лавки и хрипела:
— .Палаша, не надо!.. Отдайте...
Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я
хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в
маленькой комнате с одним окном и красной неугасимой лампа-
** 2
дои в углу пред киотом со множеством икон.
Дни нездоровья были для меня большими днями жизни.
В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал
что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное вни-
мание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало
невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.
Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью:
в тесноте комнаты бабушка, черная и большая, лезла на мать,
заталкивая ее в угол, к образам, и шипела:
— Ты что не отняла его, а?
— Испугалась я.
1 Точно Псалтырь читая — читая монотонно.
‘ Киот - - место для икон в углу комнаты.
' Зак. 2Э4К. М. Л. < jicaivulkuh
193
— Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я — старуха,
да не боюсь! Стыдись!..
— Отстаньте, мамаша: тошно мне...
— Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!
Мать сказала тяжело и громко:
— Я сама на всю жизнь сирота!
Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать
говорила:
— Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить
в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет...
— Кровь ты моя, сердце мое,— шептала бабушка.
Я запомнил: мать—не сильная; она, как все, боится деда.
Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было
очень грустно. Вскоре мать .действительно исчезла из дома.
Уехала куда-то гостить.
Как-то вдруг, точно. с потолка спрыгнув, явился дедушка,
сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою:
— Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что
ли?..
Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошеве-
литься. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова
его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене.
Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка,
яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку,
к носу моему.
— Вот, видишь, я тебе гостинца принес!
Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо
поглаживая голову мою маленькой, жесткой рукой, окрашен-
ной в желтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих
ногтях.
— Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил
ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда,
что ты лишнее перетерпел,— в зачет пойдет! Ты знай: когда
свой, родной бьет,— это не обида, а наука! Чужому не давайся,
а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так
били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так
обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел — плакал! А что
вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошел до своего
места,— старшиной цеховым сделан, начальник людям.
Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рас-
194
сказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми,
складывая их одно с другим легко и ловко.
Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись
золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо
мне:
— Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости
сам, своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа — по
воде, я — по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да
так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то,
голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели,—
косточки скрипят,— идешь да идешь, и пути не видать, глаза
потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится,— эхма,
Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и выва-
лишься, мордой в землю — и тому рад; стало быть, вся сила
чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у бога
на глазах, у милостивого господа Исуса Христа!.. Да так-то
я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска,
от Саратова досюдова, да от Астрахани до Макарьева, до
ярмарки,— в этом многие тысячи верст! А на четвертый год
уж и водоливом пошел1,— показал хозяину' разум свой!..
Говорил он и — быстро, как облако, рос предо мною, прерра-
щаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказоч-
ной,— он один ведет против реки огромную серую баржу...
Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, пока-
зывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду;
пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кро-
вать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:
— Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером,
в Жигулях, где-нибудь, под зеленой горой поразложим, быва-
лоче, костры — кашицу варить, да как заведет горевой бурлак
сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, аж
мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрей пойдет,—
так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков!’ И вся-
кое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что,
бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу
половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!
Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:
— Не уходи!
Водоливом пошел — стал старшиной в артели бурлаков.
7*
195
Он, усмехаясь, отмахивался от людей:
— Погодите там...
Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково
простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен.
Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко
избил меня, но и забыть об этом я не мог.
Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до
вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позаба-
вить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно.
Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной
кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал
мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой
головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую
шелковую рубаху, плисовые1 штаны и скрипучие сапоги гармо-
никой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза
под густыми бровями и белые зубы под черной полоской моло-
дых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неуга-
симой лампады.
— Ты глянь-ка,— сказал он, приподняв рукав, показывая
мне голую руку, до локтя в красных рубцах,— вон как разнесло!
Да еще хуже было, зажило много! Чуешь ли: как вошел дед
в ярость, и вижу, запорет он тебя, так начал я руку эту под-
ставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдет за дру-
гим, а тебя и утащит бабаня али мать! Ну, прут не перело-
мился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало,—
видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый!..
Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разгляды-
вая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:
— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую!
Беда! А он хлещет...
Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить
что-то про деда, сразу близкий мне, детски-простой.
Я сказал ему, что очень люблю его,— он незабвенно-просто
ответил:
— Так ведь и я тебя тоже люблю,— за то и боль принял, за
любовь! Али я стал бы за другого за кого! Наплевать мне...
Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь:
— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты гляди, не сжимайся.
' Плисовые — из хлопчатобумажного бархата.
196
не сжимай тело-то,— чуешь? Вдвойне больней, когда тело со-
жмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было,— кисе-
лем лежи! И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом,—
ты это помни, это хорошо!
Я спросил:
— Разве еще сечь будут?
— А как же? — спокойно сказал Цыганок.— Конешно, бу-
дут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...
— За что?
— Уж дедушка сыщет...
И снова озабоченно стал учить:
— Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу,— ну,
тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет,—
ударит да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять,— так и ты
виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!
Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:
— Я в этом деле умнее самого квартального1! У меня, брат,
из кожи хоть голицы2 шей!
Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины
сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.
III
Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает
в доме особенное место; дедушка кричал на него не так часто
и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь
и покачивая головою:
— Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое
слово: не мал человек растет!
Дядья тоже обращались с Цыганкой ласково, дружески и
никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григорием, кото-
рому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное
и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье
его стула гвоздь вверх острием или подложат, полуслепому,
разноцветные Куски материи,— он сошьет их в одну «штуку»,
а дедушка ругает его за это.
Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатях,
1 Квартальный — полицейский, под надзором которого находилась часть
города (квартал).
2 Голицы — рукавицы из грубой кожи и без подкладки.
197
ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной,
страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна
очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий
на язык.
Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер все
сносил молча, только крякал тихонько да прежде, чем дотро-
нуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно
смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за
обедом, перед тем как взять нож или вилку, он мусолил паль-
цы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его
большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув
по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.
Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но
бабушка грозила им кулаком и кричала:
— Бесстыжие рожи, злыдни!
Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо,
порицали его работу, ругали вором и лентяем.
Я спросил бабушку, отчего это.
Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне.
— А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда
у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и
хают его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят.
А еще боятся, что не пойдет к ним Ванюшка, останется с дедом,
а дед — своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой
завести может,— дядьям-то это невыгодно будет, понял?
Она тихонько засмеялась:
— Хитрят всё, богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти
видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю,— говорит,—
Ивану рекрутскую квитанцию1, чтобы его в солдаты не забрали:
мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется,
и денег жаль,— квитанция-то дорогая!
Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый
вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь,
тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи — о выделе
детей, о покупке дедом нового дома для себя — она говорила
посмеиваясь, отчужденно, как-то издали, точно соседка, а не
вторая в доме по старшинству.
Я узнал от нее, что Цыганок — подкидыш; раннею весной,
в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.
1 Рекрутская квитанция — документ, освобождающий от военной службы.
198
— Лежит, в запои1 обернут,— задумчиво и таинственно ска-
зывала бабушка,— еле попискивает, закоченел уж.
— А зачем подкидывают детей?
— Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где
недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.
Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая,
глядя в потолок:
— Бедность все, Олеша; такая бывает бедность, что и го-
ворить нельзя!.. Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию
нести, да я отговорила: возьмем, мол, себе; это бог нам послал
в тех место2, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было
рожено; кабы все жили,— целая улица народу, восемнадцать-то
домов!..
Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная чер-
ными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на
медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый лес-
ной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую, чистую грудь,
она тихонько смеется, колышется вся:
— ...Очень я обрадовалась Иванке,— уж больно люблю вас,
маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живет хорош.
Я его вначале Жуком звала,— он, бывало, ужжал особенно,—
совсем жук, ползет и ужжит на все горницы. Люби его,— он
простая душа!
Я и любил Ивана и удивлялся ему до немоты.
По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за
неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неописуемо
забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи черных тара-
канов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги
сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала
четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной,
возбужденно визжал:
— За архереем3 поехали!
Приклеивал на спину таракана меленькую бумажку, гнал
его за санями и объяснял:
— Мешок забыли. Монах бежит, тащит!
Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь
головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:
1 Запои - фартук, передник.
2 Я тех место вместо тех.
3 Архерёй (правильно: архиерей) — высший церковный чин.
199
— Дьячок из кабака к вечерней идет!
Он показывал мышат, которые под его команду стояли и
ходили на задних лапах, волоча за собой длинные хвосты,
смешно мигая черненькими бусинами бойких глаз. С мышами
он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта
сахаром, целовал и говорил убедительно:
— Мышь — умный житель, ласковый, ее домовой очень
любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик1 мирво-
9
ЛИТ ... ,
Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше
всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети,
играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз
кряду,— он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил
игру, а потом жаловался мне, шмыгая носом:
— Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты
совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать
я сам умею не хуже...
Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас
четверых, взятых вместе.
Но особенно он памятен мне в праздничные вечера; когда
дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудря-
вый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала
чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными
цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком
вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил
мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья,
рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми
глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый
успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди,
похожие на щук и налимов.
Все много пили, ели, вздыхая тяжко, детям давали гостинцы,
по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но
странное веселье.
Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив — гово-
рил всегда одни и те же слова:
— Ну-с, я начну-с!
Дед-домовйк — домовой, по народному поверью, сказочное существо, живу
шее в каждом доме.
Мнрвд-нпь помогать, оберегать.
200
Рисунок Ь. Пехтерева.
Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал
шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось
сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масляном тумане,
и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое1,
невольно поднимавшее на ноги.
Его музыка требовала напряженной тишины; торопливым
ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь
пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство,
грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко
всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и
все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.
Особенно напряженно слушал Саша Михаилов; он все вы-
тягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и
через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до
того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, если это
случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие
глаза.
И все застывали, очарованные; только самовар тихо поет,
не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких
Разымчивое грустное, печальное, трогательное.
201
окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко
постукивает в них. На столе качаются желтые огни двух
сальных свеч, острые, точно копья...
Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, за-
пустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапы-
вая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:
— Эх, кабы голос мне,— пел бы я как, господи!
Бабушка, вздыхая, говорила:
— Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка,
поплясал...
Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, но, бывало, что
музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом,
сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то неви-
димое, беззвучно и ухарски кричал:
— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!
Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осто-
рожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни;
его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он
просил:
— Только почаще, Яков Васильич!
Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе
и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал
Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, не-
заметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался
золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк,
содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.
Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что,
если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице,
по городу, неизвестно куда...
— Режь поперек! — кричал дядя Яков, притопывая.
И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкри-
кивал прибаутки:
Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей.
Убежал бы от жены и от детей!
Людей за столом подергивало, они тоже порою вскрикивали,
подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал
себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне
и покрыв мягкой бородою плечо мое, сказал прямо в ухо,
обращаясь, словно к взрослому:
202
— Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда,— он бы дру-
гой огонь зажег! Радостный был муж, утешный. Ты его пом-
нишь ли?
— Нет.
— Ну? Бывало, он да бабушка,— стой-ко, погоди!
Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на
образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно
густым голосом:
— Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок! Как,
бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утешь!
— Что ты, свет, что ты, сударь, Григорий Иваныч? — по-
смеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка.— Куда уж мне
плясать! Людей смешить только...
Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, опра-
вила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла
по кухне, вскрикивая:
— А смейтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни
музыку-то!
Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл
медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив,
пошел вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бес-
шумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя
куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смеш-
ной, я фыркнул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все
взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.
— Не стучи, Иван! — сказал мастер, усмехаясь; Цыганок
послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенья,
выгнув кадык, запела низким, приятным голосом:
Всю неделю, до субботы.
Плела девка кружева,
Истомилася работой,—
Эх, просто чуть жива!
Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она
идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг
из-под руки, и все ее большое тело колеблется нерешительно,
ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугав-
шись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло
доброй, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая
кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла.
203
прислушиваясь, улыбаясь все веселее,— и вдруг ее сорвало
с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше
ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее — так буйно
красива и мила становилась она в эти минуты чудесного воз-
вращения к юности!
А нянька Евгенья гудела, как труба:
В воскресенье от обедни
До полуночи плясала.
Ушла с улицы последней.
Жаль,— праздника мало!
Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару;
все хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила:
— А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуний.
А вот у нас в Балахне была девка одна,— уж и не помню чья,
как звали,— так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в
радости! Глядишь, бывало, на нее,— вот тебе и праздник,
и боле ничего не надо! Завидовала я ей, грешница!..
Моя дружба с Иваном все росла; бабушка от восхода
солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я
почти весь день вертелся около Цыганка. Он все так же под-
ставлял под розги руку свою, когда дедушка сек меня, а на дру-
гой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне:
— Нет, это все без толку! Тебе — не легче, а мне — гляди-ка
вот! Больше я не стану, ну тебя!
И в следующий раз снова принимал ненужную боль.
— Ты ведь не хотел?
— Не хотел, да вот сунул... Так уж, как-то, незаметно...
Вскоре он погиб...
IV
...Однажды... дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голо-
сом сказал:
— Ну, мать, посетил нас господь,— горим!
— Да что ты! — крикнула бабушка, вскинувшись с пола,
и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной
комнаты.
— Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! — строго,
крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:
— И-и-ы...
Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало, точно золотое;
204
по полу текли-скользили желтые пятна; босой дядя Яков, обувая
сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:
— Это Мишка поджег, поджег да ушел, ага!
— Цыц, пес,— сказала бабушка, толкнув его к двери так,
что он едва не упал.
Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастер-
ской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. В тихой
ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко
над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть се-
ребряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены
построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол
двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели
в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми
гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая
ее, извивались золотые, красные ленты; среди них крикливо
торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск,
шелковый шелест бился в стекла окна; огонь все разрастался;
мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас
в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.
Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то
сапоги, я вы волокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослепленный
яркой игрой огня, оглушенный криком деда, Григория, дяди,
треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на
голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо
в огонь и сунулась в него, вскрикивая:
— Купорос, дураки! Взорвется купорос...
— Григорий, держи ее! — выл дедушка.— Ой, пропала...
Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головцй,
согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купо-
росного масла.
— Отец, лошадь выведи! — хрипя, кашляя, кричала она.—
Снимите с плеч-то,^- горю, али не видно!..
Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь
пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья
снега; дядя прыгал около него с топором в руках; дед бежал
около бабушки, бросая в нее снегом; она сунула бутыль в сугроб,
бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим
людям, говорила:
— Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар,
на сеновал,— наше все дотла сгорит и ваше займется! Рубите
205
Рисунок Б. Бехтерева.
крышу, сено — в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю
мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Ба-
тюшки-соседи, беритесь дружней,— бог вам на помочь.
Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнем,
который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду
поспевая, всем распоряжаясь, все видя.
На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасы-
вая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкну-
20G
ли; лошадь захрапела, уперлась передними ногами; дедушка
выпустил повод из рук й отпрыгнул, крикнув:
— Мать, держи!
Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед
ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь
на пламя.
— А ты не бойся! — басом сказала бабушка, похлопывая
его по шее и взяв повод.— Али я тебя оставлю в страхе этом?
Ох ты, мышонок...
Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам
и фыркал, оглядывая красное ее лицо.
Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших
детей и закричала:
— Василий Васильич, Лексея нет...
— Пошла, пошла! — ответил дедушка, махая рукой, а я
спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.
Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие
жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей; внутри
постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные
вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпив-
шихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами.
В огне Яростно кипели- котлы, густым облаком поднимался пар
и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из
глаз; я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке.
— Уйди! — крикнула она.— Задавят, уйди...
На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Ры-
жая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой,
орал, грозя:
— Раздайсь!
Весело и торопливо звенели колокольчики, все было празд-
нично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:
— Я кому говорю? Уйди!
Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню,
снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже
не видно огня,— только медные шлемы сверкают среди зимних
черных шапок и картузов.
Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, поли-
ция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.
— Это кто? Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, все уж
кончилось...
207
Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо,
что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.
Дед вошел, остановился у порога и спросил:
— Мать?
— Ой?
— Обожглась?
— Ничего.
Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо
хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торо-
пясь, сел рядом с бабушкой.
— Умылся бы,— сказала она,— тоже вся в саже, пропахшая
едким дымом.
Дед вздохнул:
— Милостив господь бывает до тебя, большой тебе разум
дает...
И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы:
— На краткое время, на час, а дает!..
Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед
нахмурился.
— Григория рассчитать надо,— это его недосмотр! Отрабо-
тал,мужик, отжил! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак...
Пошла бы ты к нему...
Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальцы,
а дед, не глядя на меня, тихо спросил:
— Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха
ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх, вы-и...
V
К весне дядья разделились; Яков остался в городе, Михаил
уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на По-
левой улице, с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой
уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался в
овраг, густо ощетинившийся голыми прутьями ивняка.
— Розог-то! — сказал дед, весело подмигнув мне, когда,
осматривая сад, я шел с ним по мягким, протаявшим дорож-
кам.— Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они годятся...
Помню, был тихий вечер; мы с бабушкой пили чай в комнате
деда; он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв
плечи длинным полотенцем, щ ежеминутно отирая обильный
пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо
208
опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые
уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно
тряслась. Был он кроток и не похож на себя...
В саду, вокруг берез, гудя, летали жуки, бондарь1 работал на
соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге,
шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень
манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.
Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко
шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня.
— Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись, скула
калмыцкая. Видишь фигуру? Это — йз. Говори: аз! Буки! Веди!2
Это — что?
— Буки.
— Попал! Это?
— Веди.
— Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть3,— что это?
— Добро.
— Попал! Это?
— Глаголь.
— Верно! А это?
— Аз.
Вступилась бабушка.
— Лежал бы ты, отец, смирно...
— Стой, молчи! Это мне впору, а то меня мысли одолевают.
Валяй, Лексей!
Он обнял меня за шею горячей, влажной рукою и через плечо
мое тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От
него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком, я поч-
ти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо
мне:
— Земля! Люди!4
Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им:
«земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулого Григория,
«я» — на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со
всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спра-
1 Бондарь — мастер, специалист по изготовлению бочек.
2 Аз, буки, веди — по старинной азбуке названия букв: а, б, в.
Глаголь, добро, есть — названия букв: г, д, е.
Земля, люди — буквы: з, л.
209
Рисунок Б. Дехтерева.
шивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня своей горячей
яростью, я тоже вспотел и кричал во все горло. Это смешило его;
хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:
— Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах лихорадка астрахан-
ская, чего ты орешь, чего?
Это вы кричите...
Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, обло-
котясь о стол, упираясь кулаком в щеки, смотрела на нас и
негромко смеялась, говоря:
— Да будет вам надрываться-то!
Дед объяснил мне дружески:
— Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?
И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:
— А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него
нету; память, слава богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!
Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.
— Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без
ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак...
Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня все
внимательнее и все реже сек, хотя, по моим соображениям, сечь
меня следовало чаше прежнего: становясь взрослее и бойчей,
я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы, а он
только ругался да замахивался на меня.
Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно
бил, и я однажды сказал ему это.
Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и,
мигая, протянул:
— Чего-о?
И дробно засмеялся, говоря:
— Ах ты, еретик1! Да как ты можешь сосчитать, сколько
тебя сечь надобно? Кто может знать это, кроме меня? Сгинь,
пошел!
Но тотчас же схватил меня за плечо и снова, заглянув в
глаза, спросил:
— Хитер ты али простодушен, а?
— Не знаю...
— Не знаешь? Ну, так я тебе скажу: будь хитер, это лучше,
а простодушность — та же глупость, понял? Баран простодушен.
Запомни! Айда, гуляй...
VII
...Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком
возбуждала меня, я точно хмелел от ее впечатлений и почти
всегда становился виновником скандалов и буйств...
Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я
слышал веселый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на
1 Еретйк — здесь использовано как «несогласный».
211
дедов запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно
возмущала жестокость уличных забав — жестокость, слишком
знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть,
когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек,
гоняли еврейских коз, издевались над пьяными нищими и бла-
женным Игошей, Смерть в Кармане...
Другим и, может быть, еще более тяжким впечатлением
улицы был мастер Григорий Иванович. Он совсем ослеп и ходил
по миру, высокий, благообразный, немой. Его водила под руку
маленькая серая старушка; останавливаясь под окнами, она
писклявым голосом тянула, всегда глядя куда-то вбок:
— Подайте, Христа ради, слепому, убогому...
А Григорий Иванович молчал. Черные очки его смотрели
прямо в стену дома, в окно, в лицо встречного; насквозь прокра-
шенная рука тихонько поглаживала широкую бороду, губы его
были плотно сжаты. Я часто видел его, но никогда не слыхал
ни звука из этих сомкнутых уст, и молчание старика мучительно
давило меня. Я не мог подойти к нему, никогда не подходил,
а напротив, завидя его, бежал домой и говорил бабушке:
— Григорий ходит по улице!
— Ну? — беспокойно и жалостно восклицала она.— На-ко,
беги, подай ему!
Я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за
ворота и долго разговаривала с ним, стоя на тротуаре. Он
усмехался, тряс бородой, но сам говорил мало, односложно.
Иногда бабушка, зазвав его в кухню, поила чаем, кормила.
Как-то раз он спросил: где я? Бабушка позвала меня, но я убе-
жал и спрятался в дровах. Не мог я подойти к нему,— было
нестерпимо стыдно перед ним, и я знал, что бабушке — тоже
стыдно. Только однажды говорили мы с нею о Григории: про-
водив его за ворота, она шла тихонько по двору и плакала,
опустив голову. Я подошел к ней, взял ее руку.
— Ты что же бегаешь от него? — тихо спросила она.— Он
тебя любит, он хороший ведь...
— Отчего дедушка не кормит его? — спросил я.
— Дедушка-то?
Она остановилась, прижала меня к себе и почти шепотом
пророчески сказала:
— Помяни мое слово: горестно накажет нас господь за
этого человека! Накажет...
212
Она не ошиблась: лет через десять, когда бабушка уже
успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий
и безумный, жалостно выпрашивая под окнами:
— Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то
мне бы! Эх. вы-и...
Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучее,
волнующее душу:
— Эх, вы-и...
VIII
Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой, по
Канатной улице; немощеная, заросшая травою, чистая и тихая,
она выходила прямо в поле й была снизана из маленьких, пестро
окрашенных домиков...
Весь дом был тесно набит невиданными мною людями: в пе-
редней половине жил военный из татар, с маленькой круглой
женою; она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на
богато украшенной гитаре и высоким, звонким голосом пела...
Военный, круглый, как шар, сидя у окна, надувал синее лицо
и, весело выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил
трубку, кашлял странным, собачьим звуком:
— Вух, вух-вух-хх...
В теплой пристройке над погребом и конюшней помещались
двое ломовых извозчиков: маленький сивый дядя Петр, немой
племянник его Степа, гладкий, литой парень, с лицом, похожим
на поднос красной меди,— и невеселый, длинный татарин Ва-
лей, денщик. Все это были люди новые, богатые незнакомым
для меня.
Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлеб-
ник1 Хорошее Дело. Он снимал в задней половине дома ком-
нату рядом с кухней, длинную, в два окна — в сад и на
двор.
Это был худощавый, сутулый человек, с белым лицом в чер-
ной раздвоенной бородке, с добрыми глазами, в очках. Был он
молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить,
неизменно отвечал:
— Хорошее дело.
Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.
1 Нахлебник — здесь: тот, кто живет и питается в чужой семье.
213
— Ленька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее
Дело, что мало кушаете?
Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящи-
ками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати;
всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди
и железа, прутья свинца. С утра до вечера он, в рыжей кожаной
куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то
красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил
свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на
маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на
них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев
очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым,
странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди
комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо,
остолбеневший, безмолвный.
Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним
в открытое окно, видел синий огонь спиртовой лампы на столе,
темную фигуру; видел, как он пишет что-то в растрепанной
тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины,—
колдовская работа этого человека часами держала меня на
крыше, мучительно разжигая любопытство.
Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину,
смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это
очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое,
рылся на нем.
Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет,
но он был беден: над воротником его куртки торчал измятый,
грязный ворот рубахи, штаны — в пятнах и заплатках, на босых
ногах — стоптанные туфли. Бедные — не страшны, не опасны,
в этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним
бабушки и презрительное — со стороны деда.
Никто в доме не любил Хорошее Дело; все говорили о нем
посмеиваясь; веселая жена военного звала его «меловой нос»,
дядя Петр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником1,
фармазоном.
— Чего он делает? — спросил я бабушку. Она строго отклик-
нулась:
— Не твое дело; молчи знай...
1 Чернокнижник — старинное: тот, кто занимался колдовством.
214
Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спро-
сил, едва скрывая волнение:
— Ты чего делаешь?
Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протя-
нув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал:
— Влезай...
То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через
окно, еще более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик,
поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и на-
конец спросил негромко:
— Ты — откуда?
Это было странно: я четыре раза в день сидел на кухне за
столом около него! Я ответил:
— Здешний внук...
— Ага, да,— сказал он, осматривая свой палец, и замолчал.
Тогда я счел нужным пояснить ему:
— Я не Каширин, а — Пешков...
— Пешков? — неверно повторил он.— Хорошее дело.
Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал:
— Ну, сиди смирно...
Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем
кусок меди, зажатый в тиски; на картон под тисками падают
золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал
в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой, как
соль, облил чем-то из темной бутылки,— в чашке зашипело,
задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся,
замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил:
— Скверно пахнет?
- Да!
— То-то же! Это, брат, весьма хорошо!
«Чем хвастается!» — подумалось мне, и я строго сказал:
— Если скверно, так уж — не хорошо...
— Ну? — воскликнул он, подмигивая.— Это, брат, не всегда,
однако. А ты в бабки играешь?
— В козны?
— В козны, да?
— Играю.
— Хочешь налиток сделаю? Хорошая битка будет!
— Хочу!
— Неси, давай бабку.
215
Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке,
заглядывая в нее одним глазом, подошел и сказал:
— Я тебе налиток сделаю; а ты за это не ходи ко мне,—
хорошо?
Это меня прежестоко обидело.
— Я и так не приду никогда...
Обиженный, я ушел в сад...
Спустя некоторое время после того, как Хорошее Дело пред-
ложил мне взятку за то, чтобы я не ходил к нему в гости, ба-
бушка устроила... вечер. Сыпался и хлюпал неуемный осенний
дождь, выл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену,—
в кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг ко другу,
все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость
щедро рассказывала свои сказки одна другой лучше.
Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок,
наклоняясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной
лампы; уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась
на печь, объясняя:
— Мне сверху надо говорить,— сверху-то лучше!
Я поместился у ног ее, на широкой приступке, почти над
головою Хорошего Дела. Бабушка сказывала хорошую историю
про Ивана-воина и Мирона-отшельника1; мирно лились сочные,
веские слова:
А Иван-то воин стоит около.
Меч его давно в пыль рассыпался.
Кованы доспехи съела ржавчина,
Добрая одежда поистлела вся.
Зиму и лето гол стоит Иван,
Зной его сушнт — не высушит,
Г нус ему кровь точит — не выточит.
Волки, медведи не трогают.
Вьюги да морозы не для него.
Сам-то он не в силе с места двинуться.
Ни руки поднять и ин слова сказать.—
Это, вишь, ему в наказанье дано:
Злого бы приказу не слушался.
За чужую совесть не прятался!..
Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что Хорошее
Дело чем-то обеспокоен: он странно, судорожно двигал руками,
снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов,
1 Отшельник человек, удалившийся от мира, живущий один.
216
кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами,
и все вытирал быстрым движением ладони лоб и щеки, как
сильно вспотевшие. Когда кто-либо из слушателей двигался,
кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел:
— Шш!
А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая
руками, как-то неестественно закружился, забормотал:
— Знаете, это удивительно, это надо записать, непременно!
Это — страшно верное, наше...
Теперь ясно было видно, что он плачет...
— Запишите, что же, греха в этом нету; я и еще много знаю
эдакого...
— Нет, именно это! — Это — страшно русское,— возбужден-
но вскрикивал нахлебник и, вдруг остолбенев среди кухни, начал
громко говорить, рассекая воздух правой рукой, а в левой дро-
жали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притопывая
ногою, часто повторяя одни и те же слова:
— Нельзя жить чужою совестью, да, да!
Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел
на всех и тихонько, виновато ушел, склонив голову. Люди
усмехались, сконфуженно переглядываясь, бабушка отодвину-
лась глубоко на печь, в тень, и тяжко вздыхала там.
Отирая ладонью красные толстые губы, Петровна спросила:
— Рассердился будто?
— Не,— ответил дядя Петр.— Это он так себе...
Бабушка слезла с печи и стала молча подогревать самовар,
а дядя Петр, не торопясь, говорил: \
— Господа все такие — капризники!
Валей угрюмо буркнул:
— Холостой всегда дурит!
Все засмеялись, а дядя Петр тянул:
— До слез дошел. Видно: бывало, щука клевала, а ноне и
плотва — едва...
Стало скучно, какое-то уныние щемило сердце. Хорошее
Дело очень удивил меня, было жалко его,— так ясно помнились
его утонувшие глаза.
Он не ночевал дома, а на другой день пришел после обеда,
тихий, измятый, явно сконфуженный.
— Вчера я шумел,— сказал он бабушке виновато, словно
маленький.— Вы — не сердитесь?
217
— На что же?
— А вот, что я вмешался, говорил?
— Вы никого не обидели...
Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо
ему и говорит необычно — тихо слишком.
Он подошел вплоть к ней и сказал удивительно просто:
— Видите ли, я страшно один, нет у меня никого! Молчишь,
молчишь,— и вдруг — вскипит в душе, прорвет... Готов камню
говорить, дереву...
Бабушка отодвинулась от него.
— А вы бы женились...
— Э! — воскликнул он, сморщившись, и ушел, махнув рукой.
Бабушка, нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табаку
и потом строго сказала мне:
— Ты гляди, не очень вертись около него; бог его знает,
какой он такой...
А меня снова потянуло к нему.
Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он
сказал «страшно один»,— в этих словах было что-то понятное
мне, тронувшее меня за сердце...
Я быстро и крепко привязался к Хорошему Делу, он стал
необходимым для меня и во дни горьких обид и в часы радостей.
Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всем, что при-
ходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окри-
ком:
— Не болтай, бесова мельница!
Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не
принимала чужого.
Хорошее Дело всегда слушал мою болтовню внимательно
и часто говорил мне, улыбаясь:
— Ну, это, брат, не так, это ты сам выдумал...
И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необ-
ходимы,— он как будто насквозь видел все, что делалось в
сердце и голове у меня, видел все лишние, неверные слова
раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя
ласковыми ударами:
— Врешь, брат!
Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способ-
ность; бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю, как бывшее,
но он, послушав немножко, отрицательно качал головою:
218
— Ну, врешь, брат...
— А почему ты знаешь?
— Уж я, брат, вижу...
Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и
остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге
моем Клюшникове, бойце из Новой улицы, толстом, больше-
головом мальчике, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он
меня. Хорошее Дело внимательно выслушал горести мои и
сказал:
— Это — ерунда; такая сила — не сила! Настоящая сила —
в быстроте движения; чем быстрей, тем сильней — понял?
В следующее воскресенье я попробовал действовать кула-
ками быстрее и легко победил Клюшникова. Это еще более
подняло мое внимание к словам нахлебника.
— Всякую вещь надо уметь взять,— понимаешь? Это очень
трудно — уметь взять!
Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные
слова,— именно потому запоминал, что в простоте этих слов
было нечто досадно таинственное: ведь не требовалось никакого
особого уменья взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток!
А в доме Хорошее Дело все больше не любили; даже ласко-
вая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как
лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это,
трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал ее не бояться че-
ловека.
— У меня одежда пахнет кислотами — вот кошка и не идет
ко мне,— объяснял он, но я знал, что все, даже бабушка,
объясняли это иначе, враждебно нахлебнику,—неверно и обидно.
— Пошто ты торчишь у него? — сердито спрашивала ба-
бушка.— Гляди, научит он тебя чему-нибудь...
А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлеб-
ника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, ко-
нечно, не говорил Хорошему Делу о том, что мне запрещают
знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся
к нему в доме.
— Бабушка тебя боится, она говорит — чернокнижник ты,
а дедушка тоже, что ты богу — враг и людям опасный...
Он дергал головою, как бы отгоняя мух; на меловом его
лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось
сердце и зеленело в глазах.
219
— Я, брат, вижу уж! — тихонько говорил он.— Это, брат,
грустно, а?
- Да!
— Грустно, брат...
Наконец, его выжили.
Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что
он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько
напевая...
— Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю...
— Зачем?
Он пристально посмотрел на меня, говоря:
— Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери...
— Это кто сказал?
— Дедушка...
— Врет он!
Хорошее Дело потянул меня за руку к себе, и, когда я сел
на пол, он заговорил тихонько:
— Не сердись! А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не
сказал мне; это нехорошо, подумал я...
Было грустно и досадно на него за что-то.
— Послушай-ко,— почти шепотом говорил он, улыбаясь,—
ты помнишь, я тебе сказал — не ходи ко мне?
Я кивнул головой.
— Обиделся ты на меня, да?
- Да-
— А я, брат, не хотел тебя обидеть, я, видишь ли, знал:
если ты со мной подружишься — твои станут ругать меня,—
так? Было так? Ты понял, почему я сказал это?
Он говорил словно маленький, одних лет со мною; а я страш-
но обрадовался его словам; мне даже показалось, что я давно,
еще тогда понял его; я так и сказал:
— Это я давно понял!
— Ну вот! Так-то, брат. Вот это самое, голубчик...
У меня нестерпимо заныло сердце.
— Отчего они не любят тебя никто?
Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув:
— Чужой — понимаешь? Вот за это самое. Не такой...
Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать.
— Не сердись,— повторил он и шепотом, на ухо, добавил: —
Плакать тоже не надо...
220
А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков.
И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь
изредка перекидываясь краткими словами.
Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко
обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге,
разминавшей колесами кочки мерзлой грязи. Тотчас после его
отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату,
а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей.
— Уйди! — кричала она, натыкаясь на меня.
— Вы зачем прогнали его?
— А ты поговори!
— Дураки вы все,— сказал я.
Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича:
— Да ты ошалел, пострел!
— Не ты, а все другие дураки,— поправился я, но это ее
не успокоило.
За ужином дед говорил:
— Ну, слава богу! А то, бывало, как увижу его,— нож в
сердце: ох, надобно выгнать!
Я со зла изломал ложку и снова потерпел.
Так кончилась моя дружба с первым человеком из беско-
нечного ряда чужих людей в родной своей стране — лучших
людей ее...
XII
...Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни,
я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом?
И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо
это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день.
Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы
с корнем же и выдрать ее из памяти, из_души человека, из
всей жизни нашей, тяжкой и позорной.
И есть другая, более положительная причина, понуждающая
меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят
нас, до смерти расплющивая множество прекрасных-душ,— рус-
ский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою,
что преодолевает и преодолеет их.
Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так пло-
довит н жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь
этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и твор-
22!
ческое, растет доброе — человечье, возбуждая несокрушимую
надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой.
XIII
...Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело
щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце
подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка,
точно из меди лита,— неизменна! А дед еще более ссохся, смор-
щился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность дви-
жений сменилась горячей суетливостью, зеленые глаза смотрят
подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе
имущества между ею и дедом: он отдал ей все горшки, плошки,
всю посуду и сказал:
— Это — твое, а больше ничего с меня не спрашивай!
Затем отобрал у нее все старинные платья, вещи, лисий
салоп, продал все за семьсот рублей, а деньги отдал в рост под
проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окон-
чательно заболел скупостью и потерял стыд: стал ходить по
старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной
управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорен детьми,
выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уваже-
нием, ему давали обильно, крупными билетами; размахивая
билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил ее, как
ребенок:
— Видала, дура? Тебе сотой доли этого не дадут!
Собранные деньги он отдавал в рост новому своему прияте-
лю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке
Хлыстом, и его сестре — лавочнице, дородной, краснощекой
бабе, с карими глазами, томной и сладкой, как патока.
Все в доме строго делилось: один день обед готовила бабуш-
ка из провизии, купленной на ее деньги, на другой день про-
визию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали
хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он — требуху, печенку,
легкие, сычуг1. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но
заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил:
— Постой, погоди,— ты сколько положила?
Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав
их, скажет:
Сычуг — здесь: желудок.
222
— У тебя чай-то мельче моего, значит — я должен положить
меньше, мой крупнее, наваристее.
Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему и себе
одной крепости и чтоб она выпивала одинаковое с ним количе-
ство чашек.
— По последней, что ли? — спрашивала она перед тем, как
слить весь чай.
Дед заглядывал в чайник и говорил:
— Ну, уж — по последней!
Даже масло для лампадки пред образом каждый покупал
свое,— это после полусотни лет совместного труда!
Мне было и смешно и противно видеть все эти дедовы фоку-
сы, а бабушке — только смешно.
— А ты — полно! — успокаивала она меня.— Ну, что такое?
Стар старичок, вот и дурит! Ему ведь восемь десятков,— от-
шагай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я себе да
тебе — заработаю кусок, не бойсь!
Я тоже начал зарабатывать деньги: по праздникам, рано
утром, брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам соби-
рать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги
ветошники покупали по двугривенному, железо — тоже, пуд
костей по гривеннику, по восемь копеек. Занимался я этим
делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных
товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше.
Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман
юбки и похваливала меня, опустив глаза:
— Вот и спасибо те, голуба душа! Мы с тобой не прокор-
мимся,— мы? Велико дело!
Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои
пятаки, глядела на них и молча плакала, одна мутная слеза
висела у нее на носу, ноздреватом, как пемза1...
В школе мне снова стало трудно, ученики—высмеивали меня,
называли ветошником, нищебродом, а однажды, после- ссоры,
заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя
сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой
жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее.
Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое
1 Пемза — легкий пористый камень.
223
утро и никогда не приходил в
школу в той одежде, в которой
собирал тряпье.
Но вот наконец я сдал экзамен
в третий класс, получил в награду
Евангелие, басни Крылова в пере-
плете и еще книжку без переплета,
с непонятным титулом — «Фата-
Моргана», дали мне также похваль-
ный лист. Когда я принес эти по-
дарки домой, дед очень обрадовал-
ся, растрогался и заявил, что все
это нужно беречь и что он запрет
книги в укладку1 себе. Бабушка
уже несколько дней лежала боль-
ная, у нее не было денег, дед охал
и взвизгивал:
Рисунок П. Дехтереиа.
- Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы-и...
Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять ко-
пеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил каки-
ми-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал
бумагу, не'развернув ее и не заметив моего озорства...
...Мать... переселилась к деду... скажет слово кипящим го-
лосом, а то целый день молча лежит в углу.
Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня...
Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:
— Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место
тебе, а иди-ка ты в люди...
И пошел я в люди.
1913 1914 гг.
Вопросы и задания
Какое впечатление пронзве.тн на вас герои повести «Дето во»?
К главам I — V
I. Какие картины русской жизни изображены в повести?
2. Что более всего поразило Алешу в семье Кашириных и как складыва-
лись его отношения с членами этой семьи? Кто из них стал для Алеши «самым
попятным и дорошм человеком»? Почему?
1 Л к ии)ки <дссь: небольшой cxii.ivk
224
3. В чем особенность изображения жизни «неумного племени»? Проследите
за тем, как раскрывается в первых главах повести характер одного из выбран-
ных вами персонажей повести.
4. В заметках из дневника Горький писал: «У каждого человека свой тон
речи, свои любимые словечки». Проследите, как писатель использовал эти
особенности речи в повести «Детство», создавая характеры бабушки и деда
Кашириных.
К главам VII—Х1П
1. Почему Алеше было «нестерпимо стыдно» подойти к мастеру Григо-
рию? Как характеризует Алешу его отношение к жестоким забавам сверст-
ников?
2. Расскажите о том, как Алеша подружился с квартирантом Хорошее
Дело. Какое влияние оказала эта дружба на Алешу?
Ко всей повести
1. О каких «свинцовых мерзостях дикой русской жизни» писал Горький
и что побудило его изобразить их?
2. Как выражена в повести вера Горького в силу русского народа, в его
светлое будущее?
3. Под влиянием каких людей и событий формировался характер Алеши
Пешкова, развивалась чуткость к хорошему и дурному в жизни, росло уваже-
ние к человеку труда?
4. Что такое автобиография? Чем отличается автобиография от авто-
биографического произведения? Приведите примеры автобиографических про-
изведений.
5. Какой из фрагментов кинофильма «Детство» («Пожар», «Бабуш-
ка», «Цыганок», «Как учили Алешу Пешкова») вам понравился больше?
Почему?
6. Составьте устный рассказ или подготовьте сочинение на одну из тем:
«Алеша Пешков», «Бабушка Акулина Ивановна», «Судьба деда Каширина».
Подумайте, какой план, простой или сложный, лучше составить при подготовке
к рассказу и сочинению.
7. Продолжите приведенные планы к первой и третьей темам сочинений
и объясните, чем первый план отличается от второго.
«Алеша Пешков»
I. Вступление. Алеша Пеш-
ков — главный герой повести
«Детство».
II. Основная часть. Чужой
в семье деда Каширина.
«Судьба деда Каширина»
1. Внешний облик деда Ка-
ширина.
2. «Сирота, нищей матери
сын...».
8. Зак. 2348. М. А. Снежневская
225
1. Взаимоотношения Алеши 3. От водолива до цехового
с бабушкой и остальными чле- старшины.
нами семьи Каширины'х. 4. Дед — глава большой
2. Отношение Алеши к жес- семьи.
токим забавам сверстников, к 5. .
«свинцовым мерзостям дикой 6. .
русской жизни».
3. Отзывчивость и чуткость
Алеши «ко всякой боли, своей
и чужой».
4. Дружба с Цыганком и по-
стояльцем Хорошее Дело. Вли-
яние их на Алешу.
5. . .
6. .
7
III. Заключение. Автобио-
графический характер повести
М. Горького «Детство».
8. Самостоятельно составьте план к устному рассказу на тему «Бабушка
Акулнна Ивановна».
Дмитрий
Андреевич
ФУРМАНОВ
(1891 — 1926)
...Это революционер с головы
до ног, это настоящий комму-
нист-марксист, который в тече-
ние всей войны отдавал свою
энергию, свой ум и свою кровь
делу борьбы за революцию.
А. В. Луначарский
g начале 1919 года с отрядом иваново-вознесенских рабочих
Фурманов отправился на Восточный фронт. В это время
наступление Колчака на Восточном фронте представляло самую
большую угрозу молодому Советскому государству. Фурманова
назначили комиссаром 25-й Чапаевской дивизии. Полки этой
славной дивизии нанесли решительное поражение колчаковцам
и освободили Уфу. Как вихрь носился Чапаев по заволжским и
уральским степям, преследуя колчаковцев и белоказаков. И
вместе с ним всегда был его неизменный друг комиссар Фурма-
нов. Они спаяли дивизию в одну боевую семью, готовую пере-
нести любые невзгоды и лишения, чтобы отстоять завоевания
революции...
После окончания гражданской войны Фурманов вернулся
в Москву. Он решил посвятить себя литературной работе. В
своих выступлениях и статьях он четко определил задачи пере-
дового советского писателя, заявляя, что каждое художественное
произведение должно стать «частичкой, крупицей того строи-
тельного материала, которым созидается коммунистическое
общество...». В советскую литературу, которая тогда еще только
начала формироваться, он принес с собой горячее, трепетное
ощущение романтики и героики тех дней, когда рушился старый
мир и в жестоких схватках возникал мир новый, дотоле неви-
данный. Характерно, что в 1925 году на вопрос одной из анкет:
«Специальность. В какой области считаете себя специали-
8*
227
стом?» — Фурманов ответил: «Литературная деятельность; как
историко-революционный писатель». Тема революции является
основной и ведущей темой его творчества, в разработку ее он
вложил весь жар своей души, весь свой личный опыт.
Главные произведения Фурманова, принесшие ему заслужен-
ную славу,— это роман о Чапаеве и роман «Мятеж».
Много талантливых полководцев вышло в годы гражданской
войны из среды народа. Но, как было справедливо замечено,
Чапаеву повезло больше других, так как рядом с ним находился
комиссар Фурманов, будущий писатель. Зорким взглядом худож-
ника всматривался Фурманов в самобытную фигуру Чапаева и
окружающих его чапаевцев, чтобы рассказать затем о героике
борьбы народа в годы гражданской войны.
На могильной плите Фурманова (он похоронен на Ново-Де-
вичьем кладбище в Москве) отлиты клинок и книга — символ
его жизни и деятельности. «В этом сочетании,— говорил Демьян
Бедный,— весь Фурманов: он был не только писателем, но и
бойцом».
(Из книги П. Куприяновского «Художник революции».)
Вопрос и задание
1. Какие события гражданской войны упоминаются в статье о Д. А. Фур-
манове?
2. Прочитайте эпиграф к статье. Как связан он с ес содержанием?
ЧАПАЕВ
Избранные эпизоды
V
ЧАПАЕВ
Рано утром, часов в пять-шесть, кто-то твердо постучал Федо-
ру в дверь. Отворил — стоит незнакомый человек.
— Здравствуйте. Я Чапаев!
Пропали остатки дремоты, словно кто ударил и мигом отрез-
вил от сна. Федор быстро взглянул ему в лицо, протянул руку
как-то слишком торопливо, старался остаться спокойным.
— Клычков. Давно приехали?
— Только со станции... Там мои ребята... Я лошадей послал...
Федор быстро-быстро обшаривал его пронизывающим взгля-
дом: хотелось поскорее рассмотреть, увидеть в нем все и все
228
понять. Так темной ночью на фронте шарит охочий сыщик-
прожектор, торопясь вонзиться в каждую щелку, выгнать мрак
из углов, обнажить стыдливую наготу земли.
«Обыкновенный человек, сухощавый, среднего роста, види-
мо, небольшой силы, с тонкими, почти женскими руками; жид-
кие темно-русые волосы прилипли косичками ко лбу; короткий
нервный, тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы,
блестящие чистые зубы, бритый начисто подбородок, пышные
фельдфебельские усы. Глаза... светло-синие, почти зеленые —
быстрые, умные, немигающие. Лицо матовое, свежее, чистое,
без прыщиков, без морщин. Одет в защитного цвета френч,
синие брюки, на ногах оленьи сапоги. Шапку с красным око-
лышем держит в руке, на плечах ремни, сбоку револьвер. Се-
ребряная шашка вместе с зеленой поддевкой брошена на сун-
дук...» — так записывал вечером Федор про Чапаева.
Известное дело — с дороги надо бы чаю напиться, а он чай
пить не стал, разговаривал стоя, вестового отослал к командиру
бригады, чтобы тот пришел в штаб, куда придет вослед и он,
Чапаев. Скоро шумною ватагою ввалились приехавшие с ним
ребята; закидали все углы вещами: на столы, на стулья, на
подоконники побросали шапки, перчатки, ремни, разложили
револьверы, иные сняли бутылочные белые бомбы и небрежно
сунули их тут же, среди жухлых шапок и рукавиц. Загорелые,
суровые, мужественные лица; грубые, густые голоса; угловатые,
неотесанные движения и речь, скроенная нескладно, случайно,
зато сильно и убедительно. У иных манера говорить была на-
столько странная, что можно было думать, будто они все время
бранятся: отрывисто и резко о чем-то спрашивают, так же
резко и будто зло отвечают; вещи летят швырком...
От разговоров и споров загудел весь дом: приехавшие живо
и всюду «распространились»...
Через две минуты Федор видел, как один из гостей развалился
у него на неубранной постели, вздернул ноги вверх по стене,
закурил и пепел стряхивал сбоку, нацеливаясь непременно по-
пасть на чемоданчик Клычкова, стоявший возле постели. Другой
привалился к «туалетному» слабенькому столу, и тот хрустнул,
надломился, покачнулся набок. Кто-то рукояткой револьвера
выдавил стекло, кто-то овчинным грязным и вонючим тулупом
накрыл лежавший на столе хлеб, и когда его стали потом есть,
воняло омерзительно. Вместе с этой ватагой, словно еще за-
229
долго до нее, ворвался в комнату крепкий, здоровенный, шум-
ливый разговор. Он не умолкал ни на минуту, но и не раз-
растался,— гудел-гудел все с той же силой, как вначале: то
была нормальная, обычная речь этих свежих степных людей.
Попробовали бы разобрать, кто у них тут начальник, кто под-
чиненный. Даже намеков нет: обращение одинаково стильное,
манеры одинаково резкие, речь самобытная, колоритная1, на-
сыщенная ядреной степной простотой. Одна семья! Но нет
никакой видимой привязанности одного к другому или предупре-
дительности, никаких взаимных забот, хотя бы в самомельчайших
случаях,— нет ничего. А в то же время видите и чувствуете,
что это одна и крепко свитая пачка людей, только перевита
она другими узами, только отчеканилась она в своеобразную
форму: их свила, спаяла кочевая, боевая, полная опасностей
жизнь, их сблизили мужество, личная отвага, презрение лише-
ний и опасностей, верная, неизменная солидарность, взаимная
выручка,— вся многотрудная и красочная жизнь, проведенная
вместе, плечом к плечу, в строю, в бою.
Чапаев выделялся. У него уже было нечто от культуры, он
не выглядел столь примитивным, не держался так, как все:
словно конь степной сам себя на узде крепил. Отношение к нему
было тоже несколько особенное,— знаете, как вот по стеклу
ползает муха. Все ползает, все ползает смело, наскакивает на
других таких же мух, перепрыгивает, перелезает, или столкнутся
и обе разлетаются в стороны, а потом вдруг наскочит на осу
и в испуге — чирк: улетела! Так и чапаевцы: пока общаются
меж собою — полная непринужденность; могут и ляпнуть, что
на ум взбредет, и двинуть друг в друга шапкой, ложкой, сапо-
гом, плеснуть, положим, кипяточком из стакана. Но лишь
встретился на пути Чапаев — этих вольностей с ним уже нет.
Не из боязни, не оттого, что неравен, а из особенного уваже-
ния: хоть и наш, дескать, он, а совершенно особенный, и со
всеми равнять его не рука.
Это чувствовалось ежесекундно, как бы вольно при Чапаеве
ни держались, как бы ни шумели, ни ругались шестиэтажно:
лишь соприкоснутся — картина меняется вмиг. Так любили и
так уважали...
Вошел Кочнев:
Колоритный — здесь: яркий, выразительный.
230
— Командир бригады в штабе, можно идти...
...В помещении штаба чисто сегодня не по-обычному. Все
сидят и все стоят на своих местах. Приготовились, не хотели
ударить в грязь лицом, а может, и опасались: горяч Чапаев-то,
кто знает, как взглянет?.. Когда пришли в кабинет командира
бригады, тот разостлал по столу отлично расчерченный план
завтрашнего наступленья. Чапаев взял его в руки, посмотрел
молча на тонкий чертеж, положил снова на стол. Подвинул
табуретку. Сел. За ним присели иные из пришедших.
— Циркуль.
Ему дали плохонький, оржавленный циркуль. Раскрыл, по-
дергал-подергал,— не нравится:
— Вихорь, поди у Аверьки из сумки мой достань!
Через две минуты Вихорь воротился с циркулем, и Чапаев
стал вымеривать по чертежу. Сначала мерил только по чертежу,
а потом карту достал из кармана — по ней стал выклевывать.
То и дело справлялся о расстояниях, о трудностях пути, о воде,
об обозах, об утренней полутьме, о степных буранах.
Окружавшие молчали. Только изредка комбриг вставит в
речь ему словечко или на вопрос ответит. Перед взором Ча-
паева по тонким линиям карты развертывались снежные долины,
сожженные поселки, идущие в сумраке цепями и колоннами
войска, ползущие обозы, в ушах гудел-свистел холодный утрен-
ник-ветер, перед глазами мелькали бугры, колодцы, замерзшие
синие речонки, поломанные серые мостики, чахлые кустарники.
Чапаев шел в наступленье!
Когда окончил вымеривать — указал комбригу, где какие
ошибки: то переход велик, то привал неудачен, то рано выйдут,
то поздно придут. И все соображения подтверждал отметками,
что делал, пока измерял. Комбриг соглашался не очень охотно,
иной раз смеясь тихомолком, в себя. Но соглашался, отмечал,
изменял написанное и расчерченное. По некоторым вопросам,
как бы за сочувствием и поддержкой, Чапаев обращался то
к Вихорю, то к Потапову, то к Шмарину:
— А ты што скажешь? Ну, как думаешь? Верно аль нет
говорю?
Не привыкли ребята разглагольствовать много в его присут-
ствии, да и мало что можно было им добавить: так подробно
и точно все бывало у Чапаева предусмотрено. На него и посло-
вицу перекроили:
231
Рисунок [1. Соколова-Скаля.
— Чапаеву всегда не мешай... Ему вот как: «Ум хорошо, а
два хуже...»
...Молчал почти все время и Федор: он-то не цепко еще раз-
бирался в военных вопросах и кой-какие пункты понимал с
трудом или вовсе никак себе не представлял,— это уж потом,
через месяцы, освоился он с боевой и иной фронтовой премуд-
ростью, а теперь — чего же со «шляпы гражданской» было
и спрашивать.
Заложив руки за спину, он стоял у самого стола и засмат-
ривал глубокомысленно на карту и на чертеж, то схмуривая
брови, то покашливая в сторону, с явным опасением помешать
деловой беседе. Вид у него серьезный, спокойный. Со стороны
можно было подумать, что и он тут всем равноценный собесед-
ник. Федор порешил давно, до встречи с Чапаевым, установить
с ним особую, осторожную, тонкую систему отношений: избегать
вначале разговоров чисто военных, чтоб не показаться оконча-
тельным профаном1; повести с ним политические беседы, где
Федор будет, бесспорно, сильнее; вызвать его на откровенность,
заставить высказаться по всем пунктам, включительно до
интимных2, личных особенностей и подробностей; больше гово-
рить о науке, образовании, общем развитии,— и тут Чапаев
будет больше слушать, чем говорить. Потом... потом зарекомен-
довать себя храбрым воином,— это уже непременно и как можно
скорее, ибо без этого все в глазах Чапаева, да и всех, пожалуй,
красноармейцев, прахом пролетит; никакая тут политика, наука,
личные качества не помогут!..
Что такое Чапаев? Как себе представлял Клычков Чапаева
и почему именно с ним он надумал установить в отношениях
особую, тонкую систему? Надо ли вообще это делать?
Федор, еще работая в тылу, слыхал, конечно, и читал много-
кратно о «народных героях», сверкавших то на одном, то на
другом фронте гражданской войны. И когда присматривался —
видел, что большинство их из крестьянства и очень мало — из
рядов городских рабочих. Герои-рабочие всегда были в ином
стиле. Выросший в огромном рабочем центре, привыкший видеть
стройную, широкую, организованную борьбу ткачей, он всегда
несколько косо посматривал на полуанархические, партизанские
1 Профан — ничего не знающий, невежда.
2 Интимный — глубоко личный; здесь: откровенный разговор.
233
затеи народных героев, подобных Чапаеву. Это не мешало ему
с глубочайшим вниманием к ним присматриваться и относиться,
восторгаться их героическими действиями. Но всегда-всегда
оставалась у него опаска. Так и теперь.
«Чапаев — герой,— рассуждал Федор с собою.— Он олице-
творяет собою все неудержимое, стихийное, гневное и проте-
стующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде.
Но стихия... черт ее знает, куда она может обернуться!..»
При таком-то подозрительном отношении к стихийной парти-
занщине и зародилось у Федора желание самым тонким спосо-
бом установить свои отношения с новой средой,— с тем расчетом
построить, чтобы не самому в этой среде свариться, а, наоборот,
взять ее под идейное влияние. Брать надо с головы, с вождя —
с Чапаева. На него и направил, на нем и сосредоточил Федор
все свое внимание.
Петька — так почти все по привычке звали Исаева — высу-
нул в дверь свою крошечную птичью головку, мизинцем поманил
Потапова и сунул ему записку. Там значилось:
«Лошыди и вся готовый дылажи Василий Иванычу».
Петька знал, что в некоторые места и при некоторой об-
становке вваливаться ему нельзя,— и тут действовал постоянно
подобными записками. Записка подоспела вовремя. Все было
сказано, отмечено, подписано: сейчас же приказ полетит по
полкам. Формалистика с приемом дел отняла немного времени.
— Я командовать приехал,— заявил Чапаев,— а не с бума-
жонками возиться. Для них писаря есть.
— Василь Иваныч,— шепнул ему Потапов,— вижу, ты кон-
чил. Все готово, ехать можно.
— Готово? Едем!
Поднялся Чапаев быстро со стула.
Все расступились, и он вышел первый так же, как первым
вошел сюда.
На воле, у крыльца собралась толпа красноармейцев,— услы-
хали, что приехал Чапаев. Многие вместе с ним воевали еще в
1918 году, многие знали лично, а слыхали, конечно, все до еди-
ного. Вытянутые шеи, горящие восторгом и изумлением глаза,
улыбки, расплывшиеся до ушей.
— Да здравствует Чапаев! — гаркнул кто-то из первых,
лишь только Чапаев сошел с лестницы.
— Ура-а-а!.. Ура-а-а!..
234
Со всех сторон сбегались красноармейцы, подходили жители,
толпа росла.
— Товарищи! — обратился Чапаев.
Вмиг все смолкло.
— Мне некогда сейчас говорить,— еду на позицию. А завтра
увидимся там, потому как мы приготовили казакам хорошую
закуску и завтра угостим... Поговорим потом, а теперь — про-
щайте!..
Раскатились новые раскаты «ура». Чапаев уселся в санки,
за ним поместился Потапов. Трое конных ждали тут же. Федору
подвели вороного шустрого жеребца.
Кони рванулись, толпа расступилась, закричала громче. Так
шпалерами и ехали до самой окраины Алтая...
Так прошло часа два с половиной. Чапаю1, видимо, надоело
сидеть недвижно,— остановил санки, посадил на свое место
одного из всадников, сам поехал верхом. Подъехал к Федору.
— Значит, вместе теперь, товарищ комиссар?
— Вместе,— ответил Федор и сразу заметил, как крепко,
плотно, будто впаянный, сидел Чапаев в седле. Потом оглядел
себя и показался привязанным.
«Тряхнуть покрепче — вот и полечу,— подумалось ему.— Вот
Чапаев, глянь-ка,— этот уж нипочем не выскочит».
— Вы давно воевать-то начали?
И Федору почуялось, будто тот ухмыльнулся, а в голосе
послышалась ирония. «Знает, дескать, что на фронте я только-
только, ну и подшучивает».
— Теперь вот начинаю...
— А то по тылам были? — опять спросил Чапаев.
И опять вопрос язвительный2.
Надо знать, что «тыловик» для бойцов, подобных Чапаеву,—
это самое презренное, недостойное существо. Об этом Федор
догадывался и прежде, а за последние недели убедился вполне,
едучи и беседуя многократно с бойцами и командирами.
— По тылам, говорите? Мы в Иваново-Вознесенске работа-
ли...— с деланной небрежностью обронил Федор.
— Это за Москвой?
— За Москвой, верст триста будет.
1 Близкие часто его звали просто «Чапай».
2 Язвительный — насмешливый, стремящийся досадить, унизить.
235
— Ну, и што там, как дела-то идут?
Федор обрадовался перемене темы, ухватился жадно за
последний вопрос и пояснил Чапаю, как трудно и голодно живут
иваново-вознесенские ткачи. Почему ткачи? Разве нет там
больше никого? Но уж так всегда получалось, что, говоря про
Иваново-Вознесенск, Клычков видел перед собой одну много-
тысячную рабочую рать, гордился тем, что близок был с этой
ратью, и в воспоминаниях своих несколько даже позировал.
— Выходит, плохо живут,— согласился серьезно Чапаев,—
а все из-за голоду. Кабы голоду не было — на-ка: да тут все и
дело по-другому пошло б... А жрут-то как, сукины дети, не
думают, небось, о том...
— Кто жрет? — не понял Федор.
— Казачье... Ништо ему нипочем...
— Ну, не все же казачество такое...
— Все! — вскрикнул Чапаев.— Вы не знаете, а я скажу: все!
Неча там... д-да!
Чапаев нервно забулькал в седле.
— Не может быть все,— протестовал Федор.— Хоть сколько-
нибудь, а есть же таких, что с нами. Да постойте-ка,— вспомнил
он с радостным волнением,— хоть бы и у нас вот тут, в бригаде,
из казаков вся разведка конная?
— В бригаде? — чуть задумался Чапаев.
— Да-да, у нас, в бригаде!
— А это, надо быть, городские... здешние вряд ли,— с трудом
поддавался на доводы Чапай.
— Я уж не знаю, городские ли, но факт налицо... Да и не
может быть, товарищ Чапаев, чтобы все казачество, ну, все
было против нас. По существу-то, дела этого не может быть...
— Отчего же? Вот побудете с нами, тогда...
— Нет, сколько бы ни был я — все равно не поверю!
Голос у Федора был крепок и строг.
— Про отдельных чего говорить,— стал слегка сдаваться
Чапаев.— Конечно дело, попадают — да мало...
— Нет, не отдельные... Вы это напрасно... Вон пишут из
Туркестана — на целую там область казацкие полки установили
советскую власть... А на Украине, на Дону... да мало ли?
— Надейтесь, они вот покажут... сукин хвост!
— Ну, чего же надеяться, я не надеюсь,— пояснил Чапаю
Клычков.— И в вашем мнении правды много... Это верно, что
236
казачество — воронье черное, верно... Кто ж против того? Цар-
ская власть на то о них и заботилась... Но вы посмотрите на
казацкую молодежь,— это уж не старикам чета... Из молодежи-
то больше вот к нам и идут. Седобородому казаку, ясное дело,
труднее мириться с советской властью... во всяком случае,
теперь трудно, пока не понял он ее...
— Иксплататары,— выговорил с трудом Чапаев.
— Именно,— сдержал Федор улыбку.— В эксплуатации-то
вся суть дела и есть. Богатые казаки эксплуатируют не только
ведь иногородних или киргизов, они и своим братом казаком не
побрезгуют... Тут вот разлад-то и происходит. Только старики,
хоть они и обиженные, помирились с этим, считают, что сам
бог так устроил, а молодежь — эта проще, посмелее на дело
смотрит, потому к нам больше и льнут молодые... Стариков —
этих не своротишь, этих только оружием и можно пронять...
— Оружием-то оружием,— встряхнул головою Чапаев,— да
воевать трудно, а то бы што...
Федор не понял, к чему Чапай это сказал, но почувствовал,
что не зря сказано, что тут разуметь что-то надо особое под
этими словами... Сам ничего не ответил и ждал, как тот пояснит,
разовьет свою мысль.
— Центры наши — вот што...— бросил неопределенно Чапаев
еще одну заманчивую, темную фразу.
— Какие центры?
— Да вот, напихали там всякую сволочь,— бормотал Чапаев
будто только для себя, но так бормотал, чтобы Федор все и ясно
слышал.— Он меня прежде под ружьем на морозе целыми сут-
ками держал, а тут пожалуйте... Вот вам мягкое кресло, господин
генерал, садитесь, командуйте, как вам захочется: дескать, мо-
жете дать, а можете и не давать патроны-то, пускай палками
дерутся...
Это Чапаев напал на самый свой острый вопрос — о штабах,
о генералах, о приказах и репрессиях за неисполнение,— вопрос,
в те времена стоявший поперек глотки не одному Чапаеву и не
только Чапаевым.
— Без генералов не обойдешься,— буркнул ему успокои-
тельно Клычков,— без генералов что же за война?
— Как есть обойдемся...
Чапаев крепко смял повода.
— Не обойдемся, товарищ Чапаев... Удалью одной большого
237
дела не сделаешь — знания нужны, а где они у нас? Кто их,
знания-то, кроме генералов, даст? Они же этому учились, они
и нас должны учить... Будет время — свои у нас учителя будут,
но пока же нет их... Нет или есть? То-то! А раз нет, у других
учиться надо!
— Учиться? Да-да! А чему они-то научат? Чему? — горячо
возразил Чапаев.— Вы думаете, скажут, что делать надо?.. По-
ди-ка, сказали!.. Был я и сам в академии у них, два месяца
болтался, как хрен во щах, а потом плюнул да опять сюда.
Делать нечего там нашему брату... Один — Печкин вот, про-
фессор есть, гладкий, как колено,— на экзамене:
— Знаешь,— говорит,— Рейн-реку?
А я всю германскую воевал, как же мне не знать-то? Только
подумал: да што, мол, я ему отвечать стану?
— Нет, дескать, не знаю. А сам-то ты,— говорю,— знаешь
Солянку-реку?
Он вытаращил глаза — не ждал этого, да.
— Нет,— говорит,— не знаю. А што?
— Значит, и спрашивать нечего... А я на этой Солянке
поранен был, пять раз ее взад и вперед переходил... што мне
твой-то Рейн, на кой он черт? А на Солянке я тут должен каж-
дую кочку знать, потому што с казаками мы воюем тут!
Федор рассмеялся, посмотрел на Чапаева изумленно и по-
думал:
«Это у народного-то героя, у Чапаева, какие же младенче-
ские мысли! Знать, всякому свое: кому наука, а кому и не дается
она. Два месяца вот побыл в академии человек и ничего-то
не нашел там хорошего, ничего не понял. А и человек-то ведь
умный, только сыр, знать, больно... долго обсушиваться надо...»
— Мало побыли в академии-то,— сказал Федор.— В два
месяца всего не усвоишь... Трудно это...
— Хоть бы и совсем там не бывать,— махнул рукой Ча-
паев.— Меня учить нечему, я и сам все знаю...
— Нет, оно как же не учиться? — возразил Федор.— Учиться
всегда есть чему.
— Да, есть, только не там,— подхватил возбужденный Ча-
пай.— Я знаю, што есть... и буду учиться... Я скажу вам... Как
фамилия-то ваша?
— Клычков.
— ...Скажу вам, товарищ Клычков, што почти неграмотный
238
я вовсе. Только четыре года, как я писать-то научился, а мне
ведь тридцать пять годов! Всю жизнь, можно сказать, в темноте
ходил. Ну, да што уж — другой раз поговорим... Да вон, надо
быть, и Таловку-то видно...
Чапаев дал шпоры. Федор последовал примеру. Нагнали
Потапова. Через десять минут въезжали в Казачью Таловку.
VI
сломихинекий БОЙ
Казачья Таловка — это крошечный, дотла сожженный посе-
лок, где уцелели три смуглые мазанки да неуклюже и долговязо
торчат обгорелые всюду печи. Халупа, где теперь они останови-
лись, была набита сидевшими и лежавшими красноармейцами,—
они прибились здесь в ожидании похода.
Их не трогали, не тревожили, никуда не выживали: как
лежали, так и остались лежать. Сидевшие потеснились, уступили
лавку, сами разбудили иных, храпевших особо рьяно, мешавших
разговору.
Уже набухли степными .туманами сумерки, в халупе было
темно. Неведомо откуда бойцы достали огарок церковной свечки,
приладили его на склизлое чайное блюдце, сгрудились вокруг
стола, разложили карту, рассматривали и обдумывали подроб-
ности утреннего наступления. Чапаев сидел посредине лавки.
Обе руки положены на стол: в одной — циркуль, в другой —
отточенный остро карандаш. Командиры полков, батальонные,
ротные и просто рядовые бойцы примкнули кольцом,— то обло-
котились, то склонились, перегнулись над столом и все всмат-
ривались пристально, как водил Чапаев по карте, как шагал
журавлиным ломаным шагом — маленьким белым циркулем.
Федор и Потапов уселись рядом на лавке. Тут, по сердцу ска-
зать, никакого совещанья и не было,— Чапаев взялся лишь
ознакомить, рассказать, предупредить.
Все молчали, слушали, иные записывали его отдельные ука-
зания и советы. В серьезной тишине только и слышно было
чапаевский властный голос, да свисты, да хрипы спящих бойцов.
Один, что в углу, рассвистелся веселой свирелью, и сосед гряз-
ной подошвой сапожища медленно и внушительно провел ему
по носу. Тот вскочил, тупо и неочуханно озирался спросонья —
не мог ничего сообразить.
239
— Тише ты, брюква,— погрозил парню сердито.
— Ково тише?
И спящие глаза его были бессмысленны и смешны.
Парня привели в себя, дав тумака в спину; он поднялся,
протер глаза, узнал, что тут Чапаев, и сам, приподнявшись
кротко на носки, до самого конца вслушивался внимательно
в его речь, может, и не понимая даже того, что говорит ко-
мандир.
Скоро подъехали из Александрова-Гая остальные чапаевцы.
Они подвалились в халупу, и давка теперь получилась густейшая.
Чапаев продолжал поучение:
— ...если не сразу — не выйдет тут ничего: непременно враз!
Как наскочил—тут ему некуда и шагу подать... Всех отсюда
спустить теперь же, часа через два. Поняли? У Порт-Артура до
зари надо быть. Штобы все в темноте, когда и свету нет настоя-
щего,— понятно?
Кивали ему согласными головами, тихо отвечали:
— Поняли... Конешно, в темноте... Она, темнота-то, как раз...
— Приказ у вас на руках,— продолжал Чапаев,— там у
меня часы все указаны, где остановиться, когда подыматься
в поход. Верить надо, ребята, што дело хорошо пройдет, это
главней всего... А не веришь когда, што победишь, так и не
ходи лучше... Я указал только часы и места, на этом одном не
победишь,— самому все надо доделать... И первое дело — осто-
рожность: никто не должен узнать, што пошли в наступление,
ни-ни... Узнают — пропало дело... Коли попал на дороге казак
али киргиз, да и мужик, все одно,— задержать, не пущать,—
потом разберем.
— Есть таковые,— молвил кто-то из угла.
— Есть и держи,— подхватил Чапаев весело.— Ты на него,
на казака-то, оглядывай со всех сторон. Знаешь, какой он есть:
выскочил враг с-под стола... Он тута дома, все дорожки, овраги
все знает... Это опять же запомни. Да не рассусоливай с ним,
с казаком... будешь сусолить, он тебя сам в жилу вытянет...
— Правильно... Это как есть... Казак повсегда за спиной.
Деловая часть беседы кончена.
Всемогущий Петька достал хлеба, вскипятил в котелочке
воды, раздобыл сахару — шесть обсосанных серых кусочков.
Компания весело зашумела. Гвалт в избушке вырос густой и
ядреный. Бойцы, спавшие доселе походным, чугунным сном.
240
попросыпались, недоуменные: кто от крика, кто от смелых
пинков, от шарканья по лицу сапогом, винтовкой, шинелью —
как угодит. Заторопились всяк со своей посудой. Через пяток
минут отодвинули столик на середку, а вкруг попритыкались
на седлах, на досках, на поленьях, а то и спустились на кор-
точки, приникли на полу. Церковная желтая свечушка поблески-
вала кротко, и были видны только оплывшие черные тени да
восковые пятна вместо лиц.
Федор чувствовал себя необычайно в этой удивительной,
новой обстановке. Ему казалось, что никто его вовсе не замечал.
Да и кому, зачем его было замечать? Ну, комиссар — так что ж
из того?! В военном деле он указать пока ничего не мог; по-
литикой тут не время пока заниматься,— откуда же его и за-
метить? «Будет время, сойдемся,— подумал он про себя,— а
теперь можно и в тени постоять».
Он даже одиноким себя почувствовал среди этой тесной
семьи боевых товарищей. Ему стало даже завидно, что каждый
из них — вот хотя бы и этот Петька, чумазый галчонок,— и он
тут всем ближе, роднее, понятнее его, Клычкова. А как они
все чтили своего Чапая! Лишь только обратился к которому —
обалдеет человек, за счастье почитает говорить с ним. Коли
похвалой подарит малой — хваленый ее никогда не забудет.
Посидеть за одним столом с Чапаевым, пожать ему руку — это
каждому величайшая гордость: потом о том и рассказывать
станут, да рассказывать истово1, рассказывать чинно, быль
сдобряя чудесной небылицей.
Федор вышел из халупы и пошел было в поле, но услышал,
что в избе поют. Он вернулся, протиснулся вновь к столу.
Слушал.
Запел сам Чапаев. Голос у Чапаева металлический, дребез-
жащий и сразу как будто неприятный. Но потом, как прислу-
шаться, привлекали искренняя задушевность и увлечение, с
которыми пел он любимые песни. Любимых было немного, всего
четыре или пять. Их знали до последнего слова все его това-
рищи: видно, часто певали! Чапаев мог забирать ноты неве-
роятной высоты, и в такие минуты всегда становилось жутко,
что оборвется. Но никогда, ни разу не сорвал Чапаев песню;
только уж очень ежели перекричит — охрипнет и дня четыре
Истово — очень усердно, ревностно.
241
ходит мрачной тучиной: без песни всегда был мрачен Чапаев
и не мог он, не тоскуя, прожить дня. Что ему страшная обста-
новочка, что ему измученность походная, или дрожь после боя,
или сонная дрема после труда,— непременно выкроит хоть
десяток минут, а попоет. Другого такого любителя песен искать —
не сыскать: ему песни были как хлеб, как вода. И ребята его,
по дружной привычке, за компанию неугомонную — не отставали
от Чапая.
Ты, моряк, красив собою.
Тебе от роду двадцать лет.
Полюби меня душою —
Что ты скажешь мне в ответ?
Песенка шла до конца такая же растрепанная, пустая, бес-
содержательная. И любил ее Чапаев больше за припев — он
так паялся хорошо с этой партизанкой, кочевою, беспокойной
жизнью:
По морям, по волнам,
Нынче здесь, а завтра там!
Эх, по морям-морям-морям.
Нынче здесь, а завтра там!
Этот припев, схваченный хором, как гром по тучному небу,
неистово ржал над степями. Потом про Стеньку любили, про
Чуркина-атамана и о том, как:
Сидит за решеткой в темнице сырой
Вскормленный на воле орел молодой...
Тут пропели, пробалагурили до полуночи. Потом уткнулись
кто где словчился,— уснули.
Наступление рассчитано было таким образом, чтобы под
Сломихинской очутиться чуть станет светать. Наступали с трех
сторон, полками. Стоявший здесь, в Таловке, полк шел в центре,
ударял на самую станицу; два других с флангов огибали полу-
круг.
Полк из Таловки, на повозках, сговорено было отправить
вскорости: через час-полтора. Но теперь еще все было покойно,
и нет нигде мрачнеющих знаков близкого боя.
Федору не спалось. Он попытался было и сам расположиться
на полу, голову положив на казацкое холодное седло,— нет, не
уснуть! То ли привычки нет на седлах спать, то ли от ветру, что
242
гудит неуемно1 в груди в эту первую ночь перед первым боем.
Им что! Десятки десятков раз бывали они в боях: вдрызг
переконтуженные, с перебитыми костями, пробитыми головами,
изрешеченные пулями сквозь,— им что! И ничего для них тут
нет диковинного. Эка невидаль: ночь перед боем! Они таких
ночей отхрапели немало, эти ночи не различны для них от
других, тихих ночей. Но у каждого, непременно у каждого была
здесь когда-то в жизни своя «первая боевая ночь»! И тогда
он, верно, как Федор, бушевал в этом хаосе нерешенных про-
тиворечий и мрачных ожиданий, беззвучно ныл от томительных
мыслей и чувств.
Не спалось. И не только не спалось — тяжело было необъяс-
нимо^, небывалой тяжестью...
Федор вышел из халупы, чувствовал, что не заснуть... А ночь
темнушая-темная. И строгая. Оползла кругом, опоясалась стра-
хами, рассыпалась в миллионах тонких шорохов,— они только
жутче заострили молчание степи.
В степи, у развалин, будто привиденья, ворочались плавно
и величественно огромные мохнатые верблюды. Ныряли шустро
во тьме какие-то странные тени. Из черного мрака на светлую
дрожащую полосу огня выскакивали вдруг человеческие фигуры
и так же внезапно, быстро исчезали в черную бездну ночи. Во
всем была неизъяснимая строгая сосредоточенность, явственное
ожидание чего-то крупного и окончательного: ожидание боя!
Сколько потом ни приходилось Федору проводить ночей в
ожидании утреннего боя — все они, эти ночи, похожи одна на
другую своею строгою серьезностью, своим углубленным и су-
мрачным величием. В такую ночь, проходя по цепям, шагая
через головы спящих красноармейцев, густо мозги наливаются
думами о нашей борьбе, о человеческих страданиях, об этих
вот искупительных жертвах, что трупами червивыми остаются
безвестные на полях гражданской войны...
Федор живо себе представил эти мертвые картины, остав-
шиеся в памяти от прошлой войны, когда подбирал й лечил
раненых солдат...
— Кто идет? — окликнул часовой.
— Свой, товарищ...
— Пропуск?..
Неуёмно — неудержимо, нельзя унять.
243
— Затвор...
Часовой с руки на руку перекинул грязную винтовку, пожал
от холода плечами и зашагал, пропал во тьму.
Федор вернулся в халупу — там неистовый метался храп и
свист. Прицелился в первую скважину меж спящими телами,
изловчился, протиснулся, изогнулся, лег... Лег — и уснул.
Было еще совсем темно, когда поседлали коней и из Таловки
зарысили на Порт-Артур. (Кстати, отчего это назвали «Порт-
Артуром» это маленькое, ныне дотла сожженное селенье?) Про-
бирала дрожь; у всех недосланная нервная дикая зевота. Перед
рассветом в степи холодно и строго: сквозь шинель и сквозь
рубаху впиваются тонкие ледяные шилья.
Ехали — не разговаривали. Только под самым Порт-Артуром,
когда сверкнули в сумрачном небе первые разрывы шрапнели,
обернулся Чапаев к Федору:
— Началось...
- Да...
И снова смолкли и ни слова не говорили до самого поселка.
Пришпорили коней, поскакали быстрее. Сердце сплющивалось
и замирало тем необъяснимым, особенным волненьем, которое
овладевает всегда при сближении с местом боя и независимо
от того, труслив ты и робок или смел и отважен: спокойных
нет, это одна рыцарская болтовня, будто есть совершенно
спокойные в бою, под огнем,— этаких пней в роду человеческом
не имеется. Можно привыкнуть казаться спокойным, можно
держаться с достоинством, можно сдерживать себя и не под-
даваться быстро воздействию внешних обстоятельств,— это
вопрос иной. Но спокойных в бою и за минуты перед боем —
нет, не бывает и не может быть.
И Чапаев, закаленный боец, и Федор, новичок,— оба полны
были теперь этим удивительным состоянием. Не страх это и не
ужас смерти, это — высочайшее напряжение всех духовных
струн, крайнее обострение мыслей и торопливость — невероят-
ная, непонятная торопливость. Куда надо торопиться, так вот
особенно спешить — этого не сознаешь и не понимаешь, но все
порывистые движения, все твои слова, обрывочные и краткие,
быстрые, чуткие взгляды — все говорит о том, что весь ты в
эти мгновенья — стихийная торопливость. Федор хотел что-то
спросить Чапаева, хотел узнать его мысли, его состояние, но
увидел серьезное, почти сердитое выражение чапаевского ли-
244
ца — и промолчал. Подъехали к Порт-Артуру; здесь стояли
обозы; на пепелище сожженного поселка сидели кучками обоз-
ники-крестьяне, наливали из котелков горячий чай и вкусно
так, сытно, аппетитно завтракали. Чапаев соскочил с коня,
забрался на уцелевшую высокую стену, сложенную из кизяка1,
и в бинокль смотрел в ту сторону, где рвалась шрапнель. Су-
мерки уже расползлись, было совсем светло. Здесь пробыли
несколько минут, и снова на коней,— поскакали дальше...
И впереди, к фронту, и с позиции тянулись повозки: одни со
снарядами, с патронами, пустые — за ранеными, другие, на-
встречу им, только с одним неизменным и страшным грузом: с
окровавленными человеческими телами.
— Далеко наши? — спросил Федор.
— А недалече, вот тут, верст за пяток будет...
...Все ближе, звучней гудит батарея, ближе, отчетливей
рвутся снаряды... Вот уж и цепи чернеют вдали. Какие же
пять тут верст? — почитай, и двух-то не было. Долга, видно,
показалась мужичку дорога под артиллерийским огнем!
Подъехал Федор ко второй цепи и тут увидел Чапаева. С ним
шел командир полка, они о чем-то серьезно, спокойно говорили:
— Посылал — не воротился,— отвечал на ранний вопрос
комполка.
— А еще послать! — рубанул Чапаев.
— И еще посылал — одинаково...
— Опять послать,— настаивал Чапаев.
Командир полка на минутку замолчал. У Чапаева гневом
загоралось сердце. Тронулись веки, хищно блеснули в ресницах
глаза, насторожились, как зверь в чаще.
— Оттуда были? — резко спросил Чапаев.
— И оттуда нет.
— Давно?
— Больше часу.
Чапаев крепко схлопнул брови, но ничего не сказал и дальше
разговор вести не стал. Федор понял, речь шла о связи. С одним
полком связь была отличная, с другим — нет ничего. Потом уж
только выяснилось, что бойцы усомнились в своем командире —
он бывший царский офицер. Они решили вдруг, что офицер
ведет их под расстрел. И не пошли, надолго задержались, все
галдели да выясняли, пробузили самое горячее время...
1 Кизяк — сушеный навоз, употребляется как топливо в степных районах.
245
До первой цепи' было с полверсты. Решили ехать туда. Но
вдруг сорвался резкий ветер, нежданный, внезапный, как это
часто бывает в степи, полетели хлопья рыхлого, раскисшего
снега, густо залепляли лицо, не давали идти вперед. Наступ-
ленье остановили. Но пурга крутила недолго,— через полчаса
цепи снова были в движенье. Клычков с Чапаевым разъехались
по флангам,— теперь они были уж в первой цепи. Показался
справа хутор Овчинников.
— Здесь, полагаю, засели казаки,— сказал Чапаев, указы-
вая за реку.— Надо быть, драка будет у хутора...
На этот раз Чапаев ошибся: гонимые казаки и не вздумали
цепляться в хуторишке — они постреляли только для острастки
и дали тёку, не оказав сопротивленья.
Подходили к Сломихинской. До станицы оставалось полторы-
две версты. Здесь гладкая широкая равнина, сюда из станицы
бить особо удобно и легко. А казаки молчат... Почему они
молчат? Это зловещее молчанье страшнее всякой стрельбы.
Не идет ли там хитрое приготовление, не готовится ли западня?
Схватывались лишь на том берегу Узеня, а здесь — здесь тихо.
Федор ехал впереди цепи, покуривал и бравировал своим
молодечеством: вот, мол, я храбрец какой, смотрите: еду верхом
перед цепью и не боюсь, что снимет казацкая пуля...
Это выхлестывало в нем ребячье бахвальство, но в те минуты
и оно, может, было необходимо. Во-первых, подымался авторитет
комиссара, а потом и цепь этот задор ободрял бесспорно: когда
едет конный перед цепью, она чувствует себя весело и бодро,—
об этом знает любой боец, ходивший в цепи. Но возможна эта
лихость, конечно, только перед боем; когда открылся огонь и
начались перебежки — тут долго не нагарцуешь.
Чапаев носился стремглав,— он был озабочен установкою
связи между полками, хлопотал о подвозке снарядов, справ-
лялся про обозы...
Федор проехал из конца в конец, воротился к правому
флангу, слез, с коня и сам пошел в цепи, держа коня на поводу.
Батарея сосредоточила огонь. Станица, как раньше, молчала.
И пока она молчала — шел Федор спокойный, пошучивая,
немножко позируя своей простотой и мнимой привычностью
к этаким делам: он разыгрывал чуть ли не старого ветерана,
закоптелого в пороховом дыму. Но ведь это же было лишь
его первое боевое крещение,— что с «гражданской шляпы» и
246
Рисунок П. Соколова-Скаля.
спрашивать? Вы лучше посмотрите, что стало с ветераном через
пять минут.
Подпустив саженей на триста, казаки ударили орудийным
огнем. За артиллерией с окраинных мельниц резнули пулеметы.
Федор сразу растерялся, но и виду не дал, как внутри что-то
вдруг перевернулось, опустилось, охолодело, будто полили жар-
247
кие внутренности мятными студеными каплями. Он некоторое
время еще продолжал идти, как шел до сих пор, но вот немного
отделился, чуть приотстал, пошел сзади, спрятался за лошадь.
Цепь залегала, подымалась, в мгновенную мчалась перебежку
и вновь залегала, высверлив наскоро в снегу небольшие ямки,
свесив туда головы, как неживые. Так, прячась за лошадь, и он
перебежал раза два, а там — вскочил в седло и поскакал...
Куда? Он сам того не знал, но прочь от боя скакать не хотел —
только отсюда, из этого места уйти, уйти куда-то в другое,
где, может быть, не так пронзающе свистят пули, где нет такой
близкой, страшной опасности... Он поскакал вдоль цепи, но
теперь уже не перед нею, а сзади, помчался зачем-то на край-
ний левый фланг. Выражение лица у него в тот миг было
самое серьезное, деловое — вы бы, встретившись, и не подумали,
что парень мчится с перепугу. Вы подумали бы непременно,
что он везет какое-то очень-очень важное сообщение или скачет
в трудное место к срочному делу... Орудия ревом крыли окрест-
ность. Шарахался по полю гул, будто метался в стороны и
смертно ревел гигантский зверь, загнанный в круг. В стоне,
в свисте и в реве шли веселее цепи, ободренные огнем.
В черной шапке с красным околышем, в черной бурке, будто
демоновы крылья, летевшей по ветру,— из конца в конец но-
сился Чапаев. И все видели, как здесь и там появлялась вдруг
и быстро исчезала его худенькая фигурка, впаянная в казацкое
седло. Он на лету отдавал приказанья, сообщал необходимое,
задавал вопросы. И командиры, так хорошо знавшие своего
Чапая, кратко, быстро сообщали нужные сведения — ни слова
лишнего, ни мгновенья задержки.
— Все пулеметы целы? — бросал на скаку Чапаев.
— Целы! — кричал ему кто-то из цепей.
— Сколько повозок снарядных?
— Шесть...
— Где командир?
— На левом...
Он мчал на левый фланг.
Цепи кидались стремительным бегом. В тот же миг срыва-
лись с цепей казачьи пулеметы. Цепи падали ниц, впивались
в снежную коросту — лежали замертво, ждали новую команду.
Позади цепей носился Чапаев, кратко, быстро и властно
отдавал приказанья, ловил ответы.
248
Вот он круто свернул коня, мчит к командиру батареи:
— Бить по мельницам!
— Все пулеметы с мельниц скосить!
— Станицу не трогать, пока не скажу!
И, быстро повернув, ускакал обратно к цепям. Чаще, крепче
и злей заговорили орудия. Станица нервно торопилась остано-
вить бегущие перебежками цепи. Мельницы взвыли и вдруг
разорвались, как лаем, сухим колючим треском: были спущены
все пулеметы враз. Обе стороны крепили огонь. Но с каждой
минутой ближе и ближе красноармейцы, все точней падают-
рвутся снаряды, дух мрет от мысли, что смерть так близка, что
близок враг, что надо смять его, у него на плечах ворваться
в станицу...
Возбужденный, с горящими глазами мечется Чапаев из
конца в конец. Шлет гонцов то к пулеметам, то к снарядам,
Тб к командиру полка, то снова скачет сам, и видят бойцы, как
мелькает повсюду его худенькая фигурка. Вот подлетел кава-
лерист, что-то быстро-быстро ему сказал.
— Где? На левом фланге? — вскинулся Чапаев.
— На левом...
— Много?
— Так точно...
— Пулеметы на месте?
— Все в порядке... Послали за подмогой...
И он скачет туда, на левый фланг, где грозно сдвинулась
опасность. Казаки несутся лавой1... уж близко видно скачущих
коней... Подлетел Чапай к командиру батальона.
— Ни с места! Всем в цепи... Залпом огонь!
И он пронесся по рядам припавших к земле бойцов.
— Не робей, не робей, ребята! Не вставать... подпустить — и
огонь по команде... Всем на месте... Огонь по команде!!!
Крепкое слово так нужно бойцам в эти последние, роковые
мгновенья! Они спокойны... Они слышат, они видят, что Чапаев
с ними. И верят, что не будет беды...
Как только лава домчалась на выстрел — ударил залп, за
ним другой... кинулась нервная пулеметная дрожь...
Тра-та-та... Тра-та-та... Тра-та-та...— играли бессменно пуле-
меты.
1 Лава — здесь: охват противника в конном рассыпном строю.
249
Ах...ххх! Ах...ххх! Ах...ххх! — вторили четкие, резкие, друж-
ные залпы...
Лава сбилась, перепуталась, замерла на мгновенье.
Ахх!.. Ахх!..— срывались сухие залпы. Еще миг — и лава не
движется... Еще миг — и кони мордами повернуты вспять. Ка-
заки мчатся обратно, а им вдогонку:
Тра-та-та... Аххх!.. Аххх!.. Тра-та-та... Аххх!.. Аххх!
Сбита атака. Уж бойцы от земли подымают белые головы.
У иных на лицах, неостывших и тревожных, чуть играет пуганая
улыбка... Цепи идут под самой станицей... Чаще, чаще, чаще
перебежки... Пулеметный казацкий огонь тонким визгом шара-
хает по цепи. И лишь она вскочит, цепь,— бьют казацкие залпы,
их покрывает мелкая волнующая рябь пулеметной суеты. Уж
бойцы забежали за первые мельницы, кучками спрятались где
за буграми, где у забора — все глубже, глубже, глубже — в
станицу...
И вдруг взорвалось нежданное:
— Товарищи! Ура... ура... ура!!!
Цепь передернулась, вздрогнула, винтовки схвачены напере-
вес,— это порывистой легкой скачью неслись в последнюю атаку.
Больше не слышно казацких пулеметов: изрублены на месте
пулеметчики. По станице — шумные волны красноармейцев...
Где-то далеко-далеко мелькают последние всадники...
Красная Армия вступала в станицу Сломихинскую...
Жалкий и смущенный выезжал Федор Клычков из своего
позорного приюта. Ехал опять к цепям. Не знал, что там дела-
ется, но слышно ему было, как пальба все тише, тише, а теперь
и вовсе стала.
«Верно, наши вошли в станицу,— подумал он.— А впрочем,
может быть и иное: наши были окружены, побились-побились и
сдались. Может быть, сейчас уж казаки справляют кровавое
похмелье. А через десять минут прискачут сюда, за обозами.
И вместе с обозом возьмут его, комиссара». О позор! Позорище-
позор! Как ему стыдно было сознать, что в первом бою не
хватило духу, что так вот по-кошачьи перетрусил, не оправ-
дал перед собою своих же собственных надежд и ожиданий.
А где же мужество, смелость, героизм, о которых так мно-
го думал, пока был далеко от цепей, от боя, от снарядов и
пуль...
...Он все успокаивал себя мыслью, что со всеми новичками.
250
верно, то же бывает в первом бою, что он себя оправдает потом,
что во втором, в третьем бою он будет уж не тот...
И не ошибся Федор: через год за одну из славнейших опе-
раций он награжден был орденом Красного Знамени. Первый
бой для него был суровым, значительным уроком. Того, что
случилось под Сломихинской, никогда больше не случалось
с ним за годы гражданской войны. А бывали ведь положенья
во много раз посложнее и потруднее сломихинского боя... Он
выработал в себе то, что хотел: смелость, внешнее спокойствие,
самообладание, способность схватывать обстановку и быстро
разбираться в ней. Но это пришло не сразу — надо было сначала
пройти, видимо, для всех неизбежный путь: от очевидной расте-
рянности и трусости до того состояния, которое отмечают как
достойное...
1923 г.
Вопросы и задания
1. Какие избранные эпизоды из романа «Чапаев» произвели на вас наи-
большее впечатление? Расскажите, в какое время и где происходили события,
описанные в этих эпизодах. С какою целью V главу романа писатель называет
«Чапаев», а ие «Чапаевцы»?
2. Покажите, как отражена внутренняя собраииость Чапаева в его внешнем
облике и в его отношениях с бойцами и командирами. Какие свойства характера
Чапаева проявляются на военном совете, перед боем, в разговоре с комиссаром,
бойцами?
3. В чем прав и в чем ошибается Чапаев, оценивая поступки казаков,
деятельность штабов и бывших царских генералов, рассказывая о военной
академии и ее преподавателях?
4. Какие взаимоотношения с Чапаевым решает установить комиссар Клыч-
ков? Прав ли он был в своем решении? Почему?
5. Рассмотрите иллюстрации к роману, помещенные иа заднем форзаце
и в тексте романа. Какие из иих относятся к центральному эпизоду V главы,
а какие к VI главе? На основании описаний внешнего облика Чапаева в романе
установите, насколько верно изобразил его художник. С помощью каких
деталей передают художники военную обстановку того времени?
6. Составьте план VI главы и подготовьте пересказ одного из первых
эпизодов (по выбору), характеризуя Чапаева и Федора Клычкова. Чем вызваны
различия в нх поступках и переживаниях?
7. Объясните, в чем особенность изображения сломихинского боя.
8. Почему Чапаева называют легендарным героем?
9. Объясните, почему сохранилась в народе память о Чапаеве, почему
слагаются о нем песни, легенды, сказки.
10. Какой кинофильм о Чапаеве вы смотрели? Поделитесь своими впечатле-
ниями об этом кинофильме. Готовясь к ответу на этот вопрос, прочитайте
статью «О Борисе Бабочкине...».
251
О БОРИСЕ БАБОЧКИНЕ,
ИСПОЛНИТЕЛЕ ГЛАВНОЙ РОЛИ
В ФИЛЬМЕ «ЧАПАЕВ».
В отличие от Фурманова, писавшего свой роман по горячим
следам событий, бр. Васильевы1 осмысливали героическую эпоху
гражданской войны, эпоху 20-х годов с позиций следующего
десятилетия — с позиций годов 30-х...
«Васильевы... сумели воскресить человека,— говорил Дов-
женко* 2,— в том смысле, что потеряно представление: кто Ча-
паев — «тот» Чапаев, или книга о Чапаеве, или Чапаев на
экране... имя, фамилия, оригинал и образ слились воеди-
но...»
Совершенно особая роль в создании образа Чапаева при-
надлежит, конечно, Борису Бабочкину. Ближайшие сподвижники
Чапаева говорили, что этому актеру удалось добиться макси-
мального сходства с Чапаевым, начиная с лица и манеры дер-
жаться и кончая интонациями речи...
Сам Борис Бабочкин подтверждает, что он мог становить-
ся Чапаевым, каким он его себе представлял, в любой мо-
мент...
«Я вырос в тех же местах, где потом гремела слава Ча-
паева,— рассказывает о себе Б. А. Бабочкин,— моя комсомоль-
ская юность привела меня на некоторое время в политотдел
4-й армии Восточного фронта, куда входила 25-я Чапаевская
дивизия. И если я не знал Чапаева, то скольких таких же или
очень похожих на него командиров я знал!
Я пел те же песни, которые пел Чапаев, я знал тот простой
и колоритный язык, на котором тогда говорили, я умел носить
папаху так, чтобы она неизвестно на чем держалась».
Интересно, что сын Чапаева в начале просмотра картины
как будто бы обиделся за отца: «Отец был щеголем и красивым,
а Бабочкин — не щеголь и не красив». Но после просмотра он
сказал: «Да, это мой отец...»
' Братья Васильевы (псевдоним однофамильцев) — советские киноре-
жиссеры и кинодраматурги. Совместно поставили фильмы «Чапаев» (1934 г),
«Волочаевские дни» (1937 г.), «Фронт» (1943 г.).
2 Довженко А. П. (1894—1956) — советский режиссер и писатель, созда-
тель фильмов «Земля», «Щорс», «Мичурин».
252
Глубоко прав был и Эйзенштейн1, который в одной из своих
лекций говорил: «Удача образа Чапаева заключается, в частно-
сти, в том, что каждый человек в рабоче-крестьянской аудитории
чувствует, что он смог бы быть таким же. Чапаев — герой,
человек необыкновенный, но разрыва между ним и любым в
такой аудитории нет. Чапаев — «свой», до конца «свой», он —
близок, он не на ходулях, и любой может быть таким же...
Каждая мелочь, которую делает Чапаев, берет за живое любого
человека. Человек сразу может чувствовать себя целиком с ним».
(Из книги М. Андрониковой «От прототипа к образу».)
1 Эйзенштейн С. М. (1898—1948)—выдающийся советский кинорежис-
сер. создатель фильмов «Александр Невский». «Иван Грозный». «Броненосец
«Потемкин».
Михаил
Александрович
ШОЛОХОВ
(1905—1984)
Как степной цветок, живым
пятном встают рассказы т. Шо-
лохова. Просто, ярко, и рас-
сказываемое чувствуешь — пе-
ред глазами стоит... Сжато, и
эта сжатость полна жизни, на-
пряжения и правды.
А. Серафимович1
|_| а пологом песчаном левобережье, над Доном, лежит ста-
1 ница Вёшенская, старейшая из верховых донских станиц.
Здесь долгие годы жил и работал замечательный советский
писатель Михаил Александрович Шолохов.
Он «с самого рождения... дышал чудесным степным воздухом
над бескрайным степным простором, и жаркое солнце палило
его, суховеи несли громады пыльных облаков и спекали ему
губы. И Тихий Дон, по которому чернели каюки казаков-рыбо-
ловов, неизгладимо отражался в его сердце. И покосы... и тя-
желые степные работы пахоты, сева, уборки пшеницы,— все
это клало черту за чертой на облик мальчика, потом юноши,
все это лепило из него молодого трудового казака, подвижного,
веселого, готового на шутку... Лепило его и внешне: широко-
плечий, крепко сбитый казачок с крепким степным бронзовым
лицом, прокаленным солнцем и ветрами» — так писал учитель
М. Шолохова А. Серафимович в предисловии к его «Донским
рассказам».
Рано прервала гражданская война годы его учения. «С
1920 года служил и мыкался по донской земле. Долго был
продработником. Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону
до 1922 года, и банды гонялись за нами. Все шло как поло-
' Серафимович Александр Серафимович (1863—1949) — советский пи-
сатель, автор романа «Железный поток».
254
жено. Приходилось бывать в разных переплетах...» — писал
Михаил Александрович Шолохов в автобиографии. В ней нет
ни слова об этих «переплетах», но известно, что однажды во
время боя с махновцами Шолохов был взят в плен: допрашивал
его сам Махно1 и хотел повесить, да только отпустил, потому
что пристыдила бандита старая казачка за то, что он воюет
с мальчишками.
Как только закончилась гражданская война, семнадцати-
летний Шолохов отправился в Москву. «В Москве я очутил-
ся,— вспоминает М. А. Шолохов,— в положении одного из
героев... который пришел после окончания гражданской войны
регистрироваться на биржу труда2. «Какая у вас профессия?» —
спросили его. «Пулеметчик»,— ответил он.
Но профессия пулеметчика тогда уже не так была нужна,
как во время гражданской войны». Не нужна была и профессия
продкомиссара. Шолохову пришлось работать каменщиком,
грузчиком, счетоводом, и при этом он писал о том, что пережито,
писал много и упорно...
Очень скоро в печати появились его сборники рассказов
о событиях гражданской войны. Вслед за ними Михаил Алек-
сандрович Шолохов создает произведения, которые принесли
ему всемирную славу,— «Тихий Дон» и «Поднятую целину».
В них отразилось бурное и богатое событиями время — граж-
данская война, время становления колхозов.
О жизни на Дону в эти сложные годы среди первых рас-
сказов писателя был и тот, с которым вы познакомитесь,—
рассказ «Нахаленок».
«Мы, советские писатели,— говорил М. Шолохов,— кровно
связаны со своим народом, мы служим ему. По-сыновнему
прислушиваясь к партийному голосу — народной совести, мы
обязаны с большой и строгой требовательностью... относиться
к своему творчеству».
Михаил Александрович Шолохов — Герой Социалистического
1 Махно Нестор-- анархист; в 1918—1921 годах возглавлял контрреволю-
ционные кулацкие банды на Украине. Разгромленный Красной Армией, бежал
за границу. Махновцы — члены банды Махно.
2 Биржей труда называлось учреждение, которое в первые послереволюцион-
ные годы разрухи и безработицы помогало стране трудоустраивать людей и
давать им заработок.
255
Труда. Его произведения вошли в сокровищницу всемирной ли-
тературы.
В последние годы своей жизни Михаил Александрович Шо-
лохов работал над романом о Великой Отечественной войне
«Они сражались за Родину», был активным участником всех дел
своего края как бессменный депутат Верховного Совета СССР.
Вопрос и задание
1. Что вы знаете о жизни М. А. Шолохова и какие пронзведення его вы
читали?
2. Готовясь к ответу на этот вопрос, составьте план своего рассказа,
включая в него пересказы известных вам произведений писателя.
НАХАЛЁНОК
Снится Мишке, будто дед срезал в саду здоровенную виш-
невую хворостину, идет к нему, хворостиной машет, а сам
строго так говорит:
— А ну, иди сюда, Михайло Фомич, я те полохану по тем
местам, откель ноги растут!..
— За что, дедуня? — спрашивает Мишка.
— А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы
все яйца покрал и на каруселю отнес, прокатал!..
— Дедуня, я нонешний год не катался на каруселях! — в
страхе кричит Мишка.
Но дед степенно разгладил бороду да как топнет ногой:
— Ложись, постреленыш, и спущай портки!..
Вскрикнул Мишка и проснулся. Сердце бьется, словно в са-
мом деле хворостины отпробовал. Чуточку открыл левый глаз —
в хате светло. Утренняя зорька теплится за окошком. При-
поднял Мишка голову, слышит в сенцах1 голоса: мамка визжит,
лопочет что-то, смехом захлебывается, дед кашляет, а чей-то
чужой голос: «Бу-бу-бу...»
Протер Мишка глаза и видит: дверь открылась, хлопнула,
дед в горницу бежит, подпрыгивает, очки на носу у него болта-
ются. Мишка сначала подумал, что поп с певчими пришел (на
Пасху, когда приходил он, дед так же суетился), да следом
за дедом прет в горницу чужой большущий солдат в черной
Сенцы, сени — помещение между жилой частью избы и крыльцом.
256
шинели и в шапке с лентами, но без козырька, а мамка на
шее у него висит, воет. Посреди хаты стряхнул чужой человек
мамку с шеи да как гаркнет:
— А где мое потомство?
Мишка струхнул, под одеяло забрался.
— Мйнюшка, сыночек, что же ты спишь? Батянька твой со
службы пришел! — кричит мамка.
Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат сграбастал
его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди и ну рыжими
усами, не на шутку, колоть губы, щеки, глаза. Усы в чем-то
мокром, соленом. Мишка вырываться, да не тут-то было.
— Вон у меня какой большевик вырос!.. Скоро батьку пере-
растет!.. Го-го-го!..— кричит батянька и знай себе пестает1
Мишку — то на ладонь посадит, вертит, то опять до самой
потолочной перекладины подкидывает.
Терпел, терпел Мишка, а потом брови сдвинул по-дедовски,
строгость на себя напустил и за отцовы усы ухватился.
— Пусти, батянька!
— Ан вот не пущу!
— Пусти! Я уже большой, а ты меня, как детенка, нянчишь!..
Посадил отец Мишку к себе на колено, спрашивает улыбаясь:
— Сколько ж тебе лет, пистолет?
— Восьмой идет,— поглядывая исподлобья, буркнул Мишка.
— А помнишь, сынушка, как в позапрошлом годе я тебе
пароходы делал? Помнишь, как мы в пруду их пущали?
— Помню!..— крикнул Мишка и несмело обхватил руками
батянькину шею.
Тут и вовсе пошло развеселье: посадил отец Мишку верхом
к себе на шею, за ноги держит и по горнице кругом, кругом,
а потом как взбрыкнет, как заржет по-лошадиному, у Мишки
от восторга аж дух занялся. Мать за рукав его тянет, орет:
— Иди на двор, играйся!.. Иди, говорят тебе, варнак эта-
кий! — И отца просит: — Пусти его, Фома Акимыч! Пусти,
пожалуйста!.. Не даст он и поглядеть на тебя, сокола ясного.
Два года не видались, а ты с ним займаешься!
Ссадил Мишку отец на пол и говорит:
— Беги, с ребятами играйся, опосля придешь, я тебе гостин-
цев дам. 9
1 Пёстить (правильно: пестовать) — здесь: нянчить ребенка.
9. Зак. 2348. М. А. Снежневская
257
Притворил Мишка за собой дверь, сначала думал послушать
в сенцах, о чем будет разговор в хате, но потом вспомнил: никто
еше из ребят не знает, что пришел батянька,— и через двор, по
огороду, топча картофельные лунки, пыхнул к пруду.
Выкупался Мишка в вонючей, застоявшейся воде, обвалялся
в песке, нырнул в последний раз и, чикиляя на одной ноге, на-
тянул штанишки. Совсем было собрался идти домой, но тут
подошел к нему Витька — попов сынок.
— Не уходи, Мишка! Давай искупаемся и пойдем к нам
играть. Тебе мамочка разрешила приходить к нам.
Мишка левой рукой поддернул сползающие штанишки, по-
правил на плече помочь и нехотя сказал:
— Яс тобой не хочу играть. У тебя из ушей воняет дюже!..
Витька ехидно прищурил левый глаз, сказал, стаскивая с
костлявых плеч вязаную рубашечку:
— Это от золотухи, а ты — мужик, и тебя мать под забором
родила!..
— А ты видал?
— Я слыхал, как наша кухарка рассказывала мамочке.
Мишка разгреб ногой песок и глянул на Витьку сверху вниз.
— Брешет твоя мамочка! Зато мой батянька на войне воевал,
а твой — кровожад и чужие пироги трескает!..
— Нахаленок!..— кривя губы, крикнул попович.
Мишка схватил обточенный водой камешек-голыш, но попо-
вич сдержал слезы и очень ласково улыбнулся:
— Ты не дерись, Миша, не сердись! Хочешь, я тебе отдам
свой кинжал, какой из железа сделал?
Мишкины глаза блеснули радостью, отшвырнул в сторону
голыш, но, вспомнив про отца, сказал гордо:
— Мне батянька получшей твоего с войны принес!
— Вре-ошь? — недоверчиво протянул Витька.
— Сам врешь!.. Раз говорю — принес, значится — принес!..
И заправское ружье...
— Подумаешь, какой ты стал богатый! — завистливо усмех-
нулся Витька.
— И ишо у него есть шапка, а на шапке висят махры и
золотые слова прописаны, как у тебя в книжках.
Витька долго думал, чем бы удивить Мишку, морщил лоб
и почесывал бледный живот.
258
— А мой папочка скоро будет архиреем, а твой был пасту-
хом. Ага, что?..
Мишке надоело стоять, повернулся и пошел к огороду. По-
пович его окликнул:
— Миша, Миша, я что-то скажу тебе!
— Говори.
— Подойди ко мне!..
Мишка подошел и подозрительно скосился:
— Ну, говори!
Попович заплясал по песку на тоненьких кривых ножках,
улыбаясь, злорадно крикнул:
— Твой отец — коммуняка! Вот как только помрешь ты и
душа твоя прилетит на небо, а бог и скажет: «За то, что твой
отец был коммунистом,— отправляйся в ад!..» И начнут тебя
там черти на сковородках поджаривать!..
— А тебя, думаешь, не зачнут поджаривать?
— Мой папочка — священник!.. Ты ведь дурак необразован-
ный и ничего не понимаешь...
Мишке стало страшно. Повернулся и молча побежал домой.
У огородного плетня остановился, крикнул, грозя поповичу ку-
лаком:
— Вот спрошу у дедушки. Коли брешешь — не ходи мимо
нашего двора!
Перелез через плетень, к дому бежит, а перед глазами ско-
вородка, и на ней его, Мишку, жарят... Горячо сидеть, а кругом
сметана кипит и пенится пузырями. По спине мурашки, скорее
бы до деда добежать, расспросить...
Как на грех, в калитке свинья застряла. Голова с той сто-
роны, а сама с этой, ногами в землю упирается, хвостом крутит
и пронзительно визжит. Мишка — выручать: попробовал ка-
литку открыть — свинья хрипеть начинает. Сел на нее верхом,
свинья поднатужилась, вывернула калитку, ухнула и по двору
к гумну1 вскачь. Мишка пятками в бока ее толкает, мчится
так, что ветром волосы назад закидывает. У гумна соскочил —
глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит.
— Подойди ко мне, голубь мой!
Не догадался Мишка, зачем дед кличет, а тут опять про
адскую сковородку вспомнил и — рысью к деду.
— Дедуня, дедуня, а на небе черти бывают?
— Я тебе зараз всыплю чертей!.. Поплюю в кой-какие места
1 /умно место дли хранения снопов или обмолота хлеба
259
9*
да хворостиной высушу!.. Ах ты, лихоманец вредный, ты на
что ж это свинью объезжаешь?..
Сцапал дед Мишку за вихор, зовет из горницы мать:
— Поди на своего умника полюбуйся!
Выскочила мать.
— За что ты его?
— Как же за что? Гляжу, а он по двору на свинье скачет,
аж ветер пыльцу схватывает!..
Не успел Мишка рта раскрыть в свое оправдание, как дед
снял ремешок, левой рукой портки держит, чтобы не упали,
а правой Мишкину голову промеж колен просовывает. Выпорол
и при этом очень строго говорил:
— Не езди на свинье!.. Не езди!..
Мишка вздумал было крик поднять, а дед и говорит:
— Значит, ты не жалеешь батяньку? Он с дороги уморился,
прилег уснуть, а ты крик подымаешь?
Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда ногой — не
достал. Подхватила мать Мишку — в хату толкнула:
— Сиди тут, сто чертов твоей матери!.. Я до тебя доберусь —
не по-дедовски шкуру спущу!..
Дед в кухне на лавке сидит, изредка на Мишкину спину
поглядывает. Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком
последнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом:
— Ну, дедунюшка... попомни!
— Ты что ж это, поганец, деду грозишь?
Мишка видит, как дед снова расстегивает ремень и заблаго-
временно чуточку приоткрывает дверь.
— Значит, ты мне грозишь? — переспрашивает дед.
Мишка вовсе исчезает за дверью. Выглядывая-в щелку, пыт-
ливо караулит каждое движение деда, потом заявляет:
— Погоди, погоди, дедунюшка!.. Вот выпадут у тебя зубы,
а я жевать тебе не буду!.. Хоть не проси тогда!
Дед выходит на крыльцо и видит, как по огороду, по зеленым
лохматым коноплям ныряет Мишкина голова, мелькают синие
штанишки. Долго грозит ему дед костылем, а у самого в бороде
хоронится улыбка.
* * *
Для отца он — Минька. Для матери — Мйнюшка. Для де-
да — в ласковую минуту — постреленыш, в остальное время,
260
когда дедовские брови седыми лох-
мотьями свисают на глаза — «эй,
Михайло Фомич, иди, я тебе уши
оболтаю!»
А для всех остальных: для со-
седок-пересудок, для ребятишек, для
всей станицы — Мишка и «нахале-
нок». Девкой родила его мать. Хотя
через месяц и обвенчалась с пасту-
хом Фомою, от которого прижила
дитя, но прозвище «нахаленок» яз-
вой прилипло к Мишке, осталось на
всю жизнь за ним.
Мишка собой щуплый, волосы
у него с весны были как лепестки
цветущего подсолнечника, в июне
солнце обожгло их жаром, взлохма-
тило пегими вихрами; щеки, точно
воробьиное яйцо, исконопатило вес-
нушками, а нос от солнышка и по-
стоянного купанья в пруду облупил-
ся, потрескался шелухой. Одним
хорош колченогенький1 Мишка —
глазами. Из узеньких прорезей вы-
сматривают они, голубые и плутов-
Рисунок А. Мосина.
ские, похожие на нерастаявшие
крупинки речного льда.
Вот за глаза-то да за буйную непоседливость и любит Миш-
ку отец.
Со службы принес он сыну в подарок старый-престарый,
зачерствевший от времени вяземский пряник и немножко при-
ношенные сапожки. Сапоги мать завернула в полотенце и
прибрала в сундук, а пряник Мишка в тот же вечер раскрошил
на пороге молотком и съел до последней крошки.
На другой день проснулся Мишка с восходом солнца.
Набрал из чугуна пригоршню степлившейся воды, разма-
зал по щекам вчерашнюю грязь, просыхать выбежал на
двор.
1 Колченогий — кривоногий.
261
Мамка возится возле коровы, дед на завалинке1 посижи-
вает. Подозвал Мишку:
— Скачи, постреленыш, под амбар! Курица там кудахтала,
должно, яйцо обронила.
Мишка деду всегда готов услужить: на четвереньках юркнул
под амбар, с другой стороны вылез и был таков! По огороду
взбрыкивает, бежит к пруду, оглядывается — не смотрит ли
дед? Пока добежал до плетня, ноги крапивой обстрекал. А дед
ждет, покряхтывает. Не дождался и пополз под амбар. Выма-
зался куриным пометом, жмурясь от парной темноты и больно
стукаясь головой о перекладины, дополз до конца.
— Экий ты дуралей, Мишка, право слово!.. Ищешь, ищешь
и не найдешь!.. Разве курица, она будет тут нестись? Вот тут,
под камешком, и должно быть яйцо. Где ты тут полозишь,
постреленыш?
Деду в ответ тишина. Отряхнул с портов прилипшие ко-
мочки навоза, вылез из-под амбара. Щурясь, долго глядел на
пруд, увидал Мишку и рукой махнул...
Ребята возле пруда окружили Мишку, спрашивают:
— Твой батянька на войне был?
— Был.
— А что он там делал?
— Известно что — воевал!
— Брешешь!.. Он вшей там убивал и при кухне мослы грыз!..
Захохотали ребята, пальцами в Мишку тычут, прыгают
вокруг. От горькой обиды слезы навернулись у Мишки на
глазах, а тут еще Витька-попович больно задел его.
— А твой отец коммунист?..— спрашивает.
— Не знаю...
— Я знаю, что коммунист. Папочка сегодня утром говорил,
что он продал душу чертям. И еще говорил, что всех комму-
нистов будут скоро вешать!..
Ребята примолкли, а у Мишки сжалось сердце. Батяньку его
будут вешать — за что? Крепко сжал зубы и сказал:
— У батяньки большущее ружье, и он всех буржуев поуби-
вает!
Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе:
— Руки у него коротки! Папочка не даст ему святого благо-
словения, а без святости он ничего не сделает!..
1 Завалинка — невысокая земляная насыпь около стен избы.
262
Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул Мишку
в грудь и крикнул:
— А ты не дюже со своим батянькой!.. Он у моего отца
товары забирал, как поднялась революция, и отец сказал: «Ну,
нешто не перевернется власть, а то Фомку-пастуха первого
убью!..»
Наташка, Прошкина сестра, топнула ногой:
— Бейте его, ребята, что смотреть?
— Бей коммунячьего сына!..
— Нахаленок!..
— Звездани его, Прошка!
Прошка взмахнул прутом и ударил Мишку по плечу, Вить-
ка-попович подставил ногу, и Мишка навзничь, грузно шлеп-
нулся на песок.
Ребята заорали, кинулись на него. Наташка тоненько виз-
жала и ногтями царапала Мишкину шею. Кто-то ногою больно
ударил в живот.
Мишка, стряхнув с себя Прошку, вскочил и, виляя по песку,
как заяц от гончих1, пустился домой. Вслед ему засвистали,
бросили камень, но догонять не побежали.
Только тогда перевел Мишка дух, когда с головой окунулся
в зеленую колючую заросль конопли. Присел на влажную
пахучую землю, вытер с расцарапанной шеи кровь и заплакал;
сверху, пробираясь сквозь листья, солнце старалось заглянуть
Мишке в глаза, сушило на щеках слезы и ласково, как ма-
манька, целовало его в рыжую вихрастую маковку.
Сидел долго, пока не высохли глаза; потом встал и тихонько
побрел во двор.
Под навесом отец смазывает дегтем колеса повозки. Шапка
у него съехала на затылок, ленты висят, а синяя рубаха на
груди в белых полосах. Подошел Мишка боком и стал возле
повозки. Долго молчал. Осмелившись, тронул батянькину руку,
спросил шепотом:
— Батя, ты на войне что делал?
Отец улыбнулся в рыжие усы, сказал:
— Воевал, сыночек!
— А ребята... ребята гутарят2, что ты там только вшей уби
вал!..
' Гончие порода охотничьих собак
Гутарить — говорить, болтать.
263
Слезы вновь перехватили Мишкино горло. Отец засмеялся и
подхватил Мишку на руки.
— Брешут они, мой родный! Я на пароходе плавал. Большой
пароход по морю ходит, вот на нем-то я и плавал, а потом
пошел воевать.
— С кем ты воевал?
— С господами воевал, мой любонький. Ты еще мал, вот и
пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и песня поется.
Отец улыбнулся и, глядя на Мишку, притопывая ногой, запел
потихоньку:
Ой, Михаил, Михаля, Михалятко ты мое!
Не ходи ты иа войну, нехай батько иде.
Батько — старенький, на свити иажився...
А ты — молоденький, тай ше не женився.
Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами, и за-
смеялся — оттого, что у отца рыжие усы затопорщились над
губой как сибирьки, из каких маманька веники вяжет, а под
усами смешно шлепают губы и рот раскрыт круглой черной
дыркой.
— Ты мне сейчас не мешай, Минька,— сказал отец,— я по-
возку буду чинить, а вечером спать ляжешь и я тебе про войну
все расскажу!
* * *
День растянулся, как длинная глухая дорога в степи. Солнце
село, по станице прошел табун, улеглась пыль, и с почерневшего
неба застенчиво глянула первая звездочка.
Мишку одолевает нетерпение, а мать, как нарочно, долго
провозилась у коровы, долго цедила молоко, в погреб полезла
и там прокопалась битый час. Мишка вьюном около нее кру-
тился.
— Скоро вечерять будем?
— Успеешь, непоседа, оголодал!..
Но Мишка ни на шаг не отстает от нее: мать в погреб — и он
за ней, мать на кухню — и он следом. Пиявкой присосался, за
подол уцепился, волочится.
— Ма-а-амка!.. Ско-реича вечерять!..
— Да отвяжись ты, короста липучая!.. Жрать захотел —
взял кусок и лопай!
264
А Мишка не унимается. Даже подзатыльник, схваченный от
матери, и тот не помог.
За ужином кое-как наспех поглотал хлёбова и — опрометью
в горницу. Далеко за сундук швырнул штанишки, с разбегу
нырнул в постель...
Дед лег к стенке, а Мишку положил с краю. Немного погодя
пришел отец. Придвинул к кровати скамейку, сел и закурил
вонючую цигарку.
— Видишь, оно какое дело было... Помнишь, за нашим гум-
ном когда-то был посев лавочника?..
Мишке припомнилось, как раньше бегал он по душистой
высокой пшенице. Перелезет через каменную огорожу гумна
и — в хлеба. Пшеница с головой его хоронит, тяжелые черноусые
колосья щекочут лицо. Пахнет пылью, ромашкой и степным
ветром. Маманька говорила, бывало, Мишке:
— Не ходи, Минюшка, далеко в хлеба, а то заблудишься!..
Батянька помолчал и сказал, гладя Мишку по голове:
— А помнишь, как ты со мной ездил за Песчаный курган?
Хлеб наш там был...
И опять припомнилось Мишке: за Песчаным курганом вдоль
дороги узенькая, кривая полоска хлеба. Приехал Мишка с отцом
туда, а полоса вся скотом потравлена. Лежат грязными воро-
хами втолоченные в землю колосья, под ветром качаются пустые
стебли. Помнит Мишка, как батянька, такой большой и сильный,
страшно кривил лицо и по запыленным щекам его скупо текли
слезы. Мишка тоже плакал тогда, глядя на него...
Обратной дорогой спросил отец у бахчевника1:
— Скажи, Федот, кто потравил2 хлеб мой?
Бахчевник сплюнул под ноги и ответил:
— Лавочник гнал скотину на рынок и нарочно запустил на
твою полосу...
...Отец придвинул скамью ближе, заговорил:
— Лавочник и остальные богатеи позаняли всю землю, а
бедным сеять было не на чем. Вот так везде было, не в одной
нашей станице. Шибко обижали они нас тогда... Жить стало
туго, нанялся я в пастухи, а потом забрали меня на службу.
1 Бахчевник — сторож бахчи — поля, на котором растут арбузы, дыни или
тыквы.
2 Потравить — истоптать, уничтожить.
265
На службе мне было плохо, офицеры за всякую малость в морду
били... А потом объявились большевики, и старшой у них — по
прозвищу Ленин. Сам-то собой он вроде немудрящий, но ума
дюже ученого, даром что наших, мужицких кровей. Задали
большевики нам такую заковырину, что мы и рты пораззявили.
«Что вы,— говорят,— мужики и рабочие, раззяву-то ловите?..
Гоните господ и начальство в три шеи да поганой метлой!
Все — ваше!..»
Вот этими словами и придавили они нас. Пораскинули мы
умишками — верно. Отобрали у господ землю и имения, но их
затошнило от поганого житья, нащетинились и прут на нас, на
мужиков и рабочих, войной... Понял, сынок?
А тот самый Ленин — старшой у большевиков — народ под-
нял, ровно пахарь полосу плугом. Собрал солдат и рабочих и ну
наколупывать господ! Аж пух и перья с них летят! Стали сол-
даты и рабочие прозываться Красной гвардией. Вот и я был
в Красной гвардии. Жили мы в большущем доме, звался он
Смольным. Сенцы там, сынок, длиннющие и горниц так много,
что заплутаться можно.
Стою я раз ночью, караулю вход. Холодно на дворе, а у меня
одна шинель. Ветер так и нижет... Только вышли из этого дома
два человека и идут мимо меня. Подходят они ближе, и угадываю
я в одном из них Ленина. Подошел ко мне, спрашивает ласково:
— Не холодно вам, товарищ?
А я ему и говорю:
— Нет, товарищ Ленин, не то что холод, но и никакие враги
не сломят нас! Не для того мы забрали власть в свои руки,
чтобы отдать ее буржуазам!..
Он засмеялся и руку мне жмет крепко, а потом пошел поти-
хоньку к воротам.
Отец помолчал, достал из кармана кисет1, зашелестел бума-
гой, закуривая, чиркнул спичкой, и на рыжем щетинистом усе
увидал Мишка светлую и блестящую слезинку, похожую на
каплю росы, какие по утрам висят на кончиках крапивных
листьев.
— Вот какой он был. Обо всех заботу нес. Об каждом
солдате сердцем хворал... После этого часто я его видал. Идет
мимо меня, увидит еще вон откель, улыбнется и спрашивает:
— Так не сломят нас буржуи?
1 Кисет — мешочек для табака.
266
Рисунок А. Мосина.
— В носе у них не кругло, товарищ Ленин! — бывало, скажу
ему.
По его слову и вышло, сынок! Землю и фабрики мы забрали,
а богатеев — кровососов наших — по боку!.. Вырастешь — не
267
забывай, что твой батянька матросом был и за коммунию четыре
года кровь проливал. К тем годам н я помру и Ленин помрет,
а дело наше до веку живо будет!.. Когда вырастешь — будешь
воевать за Советскую власть, как твой батька воевал?
— Буду! — крикнул Мишка, вскочил на кровати, хотел с
размаху повиснуть на батянькиной шее. да забыл, что рядом
дед лежит, ногой на живот ему наступил.
Дед как крякнет, руку протянул, хотел сцапать Мишку за
вихор, но батянька схватил Мишку на руки и понес в горницу.
На руках у него Мишка и уснул. Сначала долго думал о
диковинном человеке — Ленине, о большевиках, о войне, о паро-
ходах. Сначала сквозь дрему слышал сдержанные голоса, ощу-
щал сладкий запах пота и махорки,— потом глаза слиплись,
веки словно кто ладонями придавил.
Не успел уснуть, увидал во сне город: улицы широкие, куры
в просыпанной золе купаются; на что в станице их много мно-
жество, а в городе куда больше. Дома точь-в-точь, как отец
рассказывал: большущая хата, крытая свежим камышом, на
трубе у нее стоит еще одна хата, у той на трубе еще одна, а
труба самой верхней хаты в небо воткнулась.
Идет Мишка по улице, голову кверху задирает, рассматри-
вает, и вдруг, откуда ни возьмись, шасть ему навстречу высо-
ченный человек в красной рубахе.
— Ты, Мишка, почему без делов шляешься? — спрашивает
он очень ласково.
— Меня дедуня пустил поиграть,— отвечает Мишка.
— А ты знаешь, кто я такой?
— Нет, не знаю...
— Я — товарищ Ленин!
У Мишки со страху колени подогнулись. Хотел тягу задать,
но человек в красной рубахе взял его, Мишку, за рукав и
говорит:
— Совести у тебя, Мишка, и на ломаный грош нету! Хо-
рошо ты знаешь, что я за бедный народ воюю, а почему-то
в мое войско не поступаешь?
— Меня дедуня не пущает!..— оправдывается Мишка.
— Ну, как хочешь,— говорит товарищ Ленин,— а без тебя
у меня — неуправка! Должон ты ко мне в войско вступить, и
шабаш!..
Мишка взял его за руку и сказал очень твердо:
268
— Ну, ладно, я без спросу поступлю в твою войску и буду
воевать за бедный народ. Но ежели дедуня меня за это зачнет
хворостиной драть, тогда ты за меня заступись!..
— Обязательно заступлюсь! — сказал товарищ Ленин и с
тем пошел по улице, а Мишка почувствовал, как от радости
у него захватило дух, нечем дыхнуть, хочет он что-то крик-
нуть — язык присох...
Дрогнул Мишка на постели, брыкнул деда ногами и прос-
нулся.
Дед во сне мычит, жует губами, а в оконце видно, как за
прудом нежно бледнеет небо и розовой кровянистой пеной клу-
бятся плывущие с востока облака.
* * *
С тех пор каждый вечер рассказывал отец Мишке про войну,
про Ленина, про то, в каких краях бывал.
В субботу вечером сторож из исполкома привел во двор
низенького человека в шинели и с кожаным голенищем под
мышкой. Подозвал деда, сказал:
— Вот привел к вам на хватеру товарища советского сотруд-
ника. Он прибывши из города и будет у вас ночевать. Дадите
ему повечерять, дедушка.
— Оно, конечно, мы не прочь,—* сказал дед.— А мандаты1
у вас имеются, господин товарищ?
Мишка удивился дедовой учености и, засунув палец в рот,
остановился послушать.
— Есть, дедушка, все есть! — улыбнулся человек с кожаным
голенищем и пошел в горницу.
Дед за ним, а Мишка за дедом.
— Вы по каким же делам к нам прибыли? — дорогой спросил
дед.
— Я приехал перевыборы проводить. Будем выбирать пред-
седателя и членов Совета.
Немного погодя пришел с гумна отец. Поздоровался с чужим
человеком и велел маманьке собирать ужинать. После ужина
отец и чужак сели на лавке рядом, чужак расстегнул кожаное
голенище, достал оттуда пачку бумаг и начал отцу показывать.
1 Мандат — документ, удостоверяющий права, полномочия.
269
Мишке не терпится, вьется около, хочет взглянуть. Взял отец
одну бумажку. Мишке показывает:
— Гляди, Минька, вот это самый и есть Ленин!
Мишка вырвал у отца из рук карточку, впился в нее гла-
зами и рот от удивления раскрыл: на бумаге стоит во весь рост
небольшой человек, вовсе даже не в красной рубахе, а в пид-
жаке. Одна рука в штанах, в карман засунута, а другой вперед
себя показывает. Уперся Мишка в него глазами, в один миг
всего ощупал; крепко, навовсе, навсегда вобрал в память
изогнутые брови, улыбку, притаившуюся во взгляде и в углах
губ, каждую черточку лица запомнил.
Чужак взял из рук у Мишки карточку, защелкнул на замок го-
ленище и пошел спать. Уже разделся, лег и закрылся шинелью,
начал засыпать, когда услышал скрип двери. Приподнял голову:
— Кто это?
По полу шлепают чьи-то босые ноги.
Кто там? — спросил он снова и около кровати неожиданно
увидел Мишку.
— Тебе чего, малыш?
Мишка минуту постоял молча, потом, набравшись смелости,
шепотом сказал:
— Ты, дяденька, вот чего... ты... отдай мне Ленина!..
Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотрит на него.
Страх охватил Мишку: ну, как заскупится и не даст?
Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебываясь,
зашептал:
— Ты мне отдай его навовсе, а я тебе... я тебе подарю
жестяную коробку хорошую и ишо отдам все как есть бабки,
и...— Мишка с отчаянием махнул рукой и сказал: — И сапоги,
какие мне батянька принес, отдам!
— А зачем тебе Ленин? — улыбаясь, спросил чужак.
«Не даст!..» — мелькнула у Мишки мысль. Нагнул голову,
чтобы не видно было слез, сказал глухо:
— Значит, надо!
Чужак засмеялся, достал из-под подушки голенище и подал
Мишке карточку. Мишка ее под рубаху, к груди прижал, к
сердцу крепко-накрепко, и — рысью из горницы. Дед проснулся,
спрашивает:
— Ты чего бродишь, полуношник? Говорил тебе, не пей на
ночь молока!..
270
Мишка молчком лег, карточку обеими руками тискает, по-
вернуться страшно: как бы не измять. Так и уснул.
Проснулся ни свет ни заря. Маманька только корову вы-
доила и прогнала в табун. Увидала Мишку, руками всплеснула:
— Что тебя лихоманец мучает! Это зачем такую рань под-
нялся?
Мишка карточку под рубахой жмет, мимо матери на гумно,
под амбар юркнул.
Вокруг амбара растут лопухи и зеленой непролазной стеной
щетинится крапива. Заполз Мишка под амбар, пыль и куриный
помет разгреб ладонью, сорвал пожелтевший от старости лист
лопуха, завернул в него карточку и камешком привалил, чтобы
ветер не унес.
С утра до вечера шел дождь. Небо закрылось сизым поло-
гом, во дворе пенились лужи, по улице бежали наперегонки
ручьи.
Пришлось Мишке сидеть дома. Уже смеркалось, когда дед и
отец собрались и пошли в исполком на собрание. Мишка натянул
дедов картуз и пошел следом. Исполком помещается в церковной
сторожке. По кривым, грязным ступенькам влез, кряхтя, Мишка
на крыльцо и прошел в комнату. Под потолком ползает табачный
дым, народу полным-полно. У окна за столом сидит чужак, что-то
рассказывает собравшимся казакам.
Мишка потихоньку пробрался на самый зад и сел на скамью.
— Кто за то, товарищи, чтобы Фома Коршунов был предсе-
дателем? Прошу поднять руки!
Сидевший впереди Мишки Прохор Лысенков, зять лавочника,
крикнул:
— Гражданы!.. Прошу снять его кандидатуру. Он нечестного
поведения. Ишо когда пастухом табун наш стерег, замечен был!..
Мишка увидал, как Федот-сапожник встал с подоконника,
закричал, махая руками:
— Товарищи, богатеям нежелательно в председатели пастуха
Фому, но как он есть пролетарьят и за Советскую власть...
Зажиточные казаки, стоявшие кучей около двери, затопотали
ногами, засвистали. Шум поднялся в исполкоме.
— Не нужен пастух!
— Пришел со службы — нехай к миру в пастухи нанима-
ется!..
— К черту Фбму Коршунова!
271
Мишка глянул на бледное лицо отца, стоявшего возле скамьи,
и сам побелел от страха за него.
— Тише, товарищи!.. С собранья буду удалять! — орал чу-
жак, грохая по столу кулаком.
— Своего человека из казаков выберем!..
— Не нужен!..
— Не хо-о-тим...— шумели казаки, и пуще всех Прохор,
зять лавочника.
Здоровый рыжебородый казак с серьгой в ухе и в рваном,
заплатанном пиджаке — вскочил на скамью:
— Братцы!.. Вон оно куда дело заворачивает!.. Нахрапом
желают богатеи посадить в председатели своего человека!.. А
там опять...
Сквозь стонущий рев Мишка слышал только отдельные слова,
которые выкрикивал казак с серьгой:
— Землю... переделы... бедноте суглинок... чернозем заберут
себе...
— Прохора в председатели!..— гудели около дверей.
— Про-о-хо-ра!.. Го-го-го!.. Га-га-га!..
Насилу угомонились. Чужак, хмуря брови и брызгаясь слю-
ной, долго что-то выкрикивал.
«Должно, ругается»,— подумал Мишка.
Чужак громко спросил:
— Кто за Фому Коршунова?
Над скамьями поднялось много рук. Мишка тоже поднял
руку. Кто-то, перепрыгивая со скамьи на скамью, громко считал:
— Шестьдесят три... шестьдесят четыре,— не глядя на Миш-
ку, указал пальцем на его поднятую руку, выкрикнул: — Шесть-
десят пять!
Чужак что-то записал на бумажке, крикнул:
— Кто за Прохора Лысенкова, прошу поднять!
Двадцать семь казаков-богатеев и Егор-мельник дружно
подняли руки. Мишка поглядел вокруг и тоже поднял руку.
Человек, считавший голоса, поравнялся с ним, глянул сверху-
вниз и больно ухватил его за ухо.
— Ах ты, шпаненок!.. Метись отсель, а то я тебе всыплю!
Тоже голосует!..
Кругом засмеялись, а человек подвел Мишку к выходу,
толкнул в спину. Мишка вспомнил, как говорил отец, ругаясь
с дедом, и, сползая по скользким, грязным ступенькам, крикнул:
272
— Таких правое не имеешь!
— Я тебе покажу права!..
Обида была, как и все обиды, очень горькая.
Придя домой, Мишка всплакнул малость, пожаловался ма-
тери, но та сердито сказала:
— А ты не ходи, куда не след! Во всякую дыру нос суешь!..
Наказание мне с тобой, да и только!
На другой день утром — сели за стол завтракать, не успели
кончить, услышали далекую, глухую от расстояния музыку.
Отец положил ложку, сказал, вытирая усы:
— А ведь это военный оркестр!
Мишку как ветром сдуло с лавки. Хлопнула дверь в сенцах,
за окошком слышно частое — туп-туп-туп-туп...
Вышли во двор и отец с дедом, маманька до половины
высунулась из окна.
В конец улицы зеленой колыхающейся волной вливались
ряды красноармейцев. Впереди музыканты дуют в большущие
трубы, грохает барабан, звон стоит над станицей.
У Мишки глаза разбежались. Растерянно закружился на
одном месте, потом рванулся и подбежал к музыкантам. В груди
что-то сладко защемило, подкатилось к горлу... Глянул Мишка
на запыленные веселые лица красноармейцев, на музыкантов,
важно надувших щеки, и сразу, как отрубил, решил: «Пойду
воевать с ними!..»
Вспомнил сон, и откуда только смелость взялась. Уцепился
за подсумок1 крайнего.
— Вы куда идете? Воевать?
— А то как же? Ну да, воевать!
— А за кого вы воюете?
— За Советскую власть, дурашка! Ну, иди сюда, в середку.
Толкнул Мишку в середину рядов, кто-то, смеясь, щелкнул
его по вихрастому затылку, другой на ходу достал из кармана
измазанный кусок сахара, сунул ему в рот. На площади откуда-то
из передних рядов крикнули:
— Сто-о-ой!..
Красноармейцы остановились, рассыпались по площади, густо
легли в холодке, под тенью школьного забора. К Мишке подошел
1 Подсумок — небольшая сумка для патронов в обоймах; носят на пояском
ремне.
273
высокий бритый красноармеец с шашкой на боку. Спросил, морща
губы в улыбке:
— Ты откуда к нам приблудился?
Мишка напустил на себя важность, поддернул сползающие
штанишки.
— Я иду с вами воевать!
— Товарищ комбат, возьми его в помощники! — крикнул
один из красноармейцев.
Кругом захохотали. Мишка часто заморгал, но человек с
чудным прозвищем «комбат»1 нахмурил брови, крикнул строго:
— Ну, чего ржете, дурачье? Разумеется, мы возьмем его,
но с условием...— Комбат повернулся к Мишке и сказал: — На
тебе штаны с одной помочью, так нельзя, ты нас осрамишь своим
видом!.. Вот, погляди: на мне две помочи, и на всех по две.
Беги, пусть тебе матка пришьет другую, а мы тебя подождем
тут...— Потом он повернулся к забору, крикнул, подмигивая: —
Терещенко, пойди принеси новому красноармейцу ружье и ши-
нель!
Один из лежавших под забором встал, приложил руку к ко-
зырьку, ответил:
— Слушаюсь!..— и быстро пошел вдоль забора.
— Ну, живо беги! Пусть матка поскорее пришьет другую
помочь!..
Мишка строго взглянул на комбата:
— Ты, гляди, не обмани меня!
— Ну, что ты? Как можно!..
От площади до дома далеко. Пока добежал Мишка до во-
рот — запыхался. Дух не переведет. Возле ворот на бегу скинул
штанишки и, мелькая босыми ногами, вихрем ворвался в хату.
— Маманька!.. Штаны!.. Помочь пришей!..
В хате тишина. Над печью черным роем гудят мухи. Обежал
Мишка двор, гумно, огород — ни отца, ни матери, ни деда нет.
Вскочил в горницу — на глаза попался мешок. Отрезал ножом
длинную ленту, пришивать некогда, да и не умеет Мишка.
Наскоро привязал ее к штанам, перекинул через плечо, еще
раз привязал спереди и опрометью2 под амбар.
Отвалил камень, глянул мельком на ленинскую руку, указы-
вающую на него, Мишку, шепнул, переводя дух:
1 Комбат — командир батальона.
2 Опрометью — стремительно, быстро.
274
— Ну, вот видишь?.. И я поступил в твою войску!..
Бережно завернул карточку в лопух, сунул за пазуху и по
улице вскачь. Одной рукой карточку к груди жмет, другой
штанишки поддергивает. Мимо соседского плетня бежал, крик-
нул соседке:
— Анисимовна!
— Ну?
— Перекажи нашим, чтоб обедали без меня!..
— Ты куда летишь, сорванец?
Мишка махнул рукой:
— На службу ухожу!..
Добежал до площади и стал как вкопанный. На площади —
ни души. Под забором папиросные окурки, коробки от консервов,
чьи-то изорванные обмотки, а в самом конце станицы глухо
гремит музыка, слышно, как по утрамбованной дороге гоцают
шаги уходящих.
Из Мишкиного горла вырвалось рыданье, вскрикнул и что
есть мочи побежал догонять. И догнал бы, обязательно догнал,
но против двора кожевника лежит поперек дороги желтый
хвостатый кобель, зубы скалит. Пока перебежал Мишка на
другую улицу — не слышно ни музыки, ни топота ног.
* * *
Дня через два в станицу пришел отряд человек в сорок.
Солдаты были в седых валенках и замасленных рабочих пиджа-
ках. Отец пришел из исполкома обедать, сказал деду:
— Приготовь, папаша, хлеб в амбаре. Продотряд пришел.
Разверстка начинается.
Солдаты ходили по дворам: щупали штыками землю в са-
раях, доставали зарытый хлеб и свозили на подводах в обще-
ственный амбар.
Пришли к председателю. Передний, посасывая трубку, спро-
сил у деда:
— Зарывал хлеб, дедушка? Признавайся!..
Дед разгладил бородку и с гордостью сказал:
— Ведь у меня сын-то коммунист!
Прошли в амбар. Солдат с трубкой обмерил взглядом закро-
ма и улыбнулся.
— Отвези, дедушка вот из этого закрома, а остальное тебе
на прокорм и на семена.
275
Дед запряг в повозку старого Савраску, покряхтел, посто-
нал, насыпал восемь мешков, сокрушенно махнул рукой и повез
к общественному амбару. Маманька, хлеб жалеючи, немного
поплакала, а Мишка помог деду насыпать зерно в мешки и
пошел к попову Витьке играть.
Только что сели в кухне, разложили на полу вырезанных из
бумаги лошадей,— в кухню вошли те же солдаты. Батюшка,
путаясь в подряснике1, выбежал навстречу им, засуетился,
попросил пройти в комнату, но солдат с трубкой строго сказал:
— Пойдемте в амбар! Где у вас хлеб хранится?
Из горницы выскочила растрепанная попадья, улыбнулась
воровато:
— Представьте, господа, у нас хлеба ничуть нету!.. Муж
еще не ездил по приходу...
— А подпол у вас есть?
— Нет, не имеется... Мы хлеб раньше держали в амбаре...
Мишка вспомнил, как вместе с Витькой лазил он из кухни
в просторный подпол, сказал, поворачивая голову к попадье:
— А из кухни мы с Витькой лазили в подпол, забыла?..
Попадья, бледная, рассмеялась:
— Это ты спутал, деточка!.. Витя, вы бы пошли в сад по-
играли!..
Солдат с трубкой прищурил глаза, улыбнулся Мишке:
— Как же туда спуститься, малец?
Попадья хрустнула пальцами, сказала:
— Неужели вы верите глупому мальчишке? Я вас уверяю,
господа, что подпола у нас нет!
Батюшка, махнув полами подрясника, сказал:
— Не угодно ли, товарищи, закусить? Пройдемте в комнаты!
Попадья, проходя мимо Мишки, больно щипнула его за
руку и ласково улыбнулась:
— Идите, детки, в сад, не мешайте здесь!
Солдаты перемигнулись и пошли по кухне, постукивая по
полу прикладами винтовок. У стены отодвинули стол, сковырнули
дерюгу. Солдат с трубкой приподнял половицу, заглянул в под-
пол и покачал головой:
— Как же вам не стыдно? Говорили — хлеба нет, а подпол
доверху засыпан пшеницей!..
1 Подрясник — домашняя длинная одежда священников.
276
Попадья взглянула на Мишку такими глазами, что ему стало
страшно и захотелось поскорее домой. Встал и пошел на двор.
Следом за ним в сенцы выскочила попадья, всхлипнула и, вце-
пившись Мишке в волосы, начала его возить по полу.
Насилу вырвался, пустился без огляду домой. Захлебываясь
слезами, рассказал все матери; та только за голову ухватилась:
— И что я с тобой буду делать?.. Иди с моих глаз долой,
пока я тебя не отбуздала!..
С тех пор всегда, после каждой обиды, заползал Мишка под
амбар, отваливал камешек, разворачивал лопух и, смачивая
бумагу слезами, рассказывал Ленину о своем горе и жаловался
на обидчика.
Прошла неделя. Мишка скучал. Играть не с кем. Соседские
ребятишки не водились с ним, к прозвищу «нахаленок» приба-
вилось еще одно, заимствованное от старших. Вслед Мишке
кричали:
— Эй ты, коммуненок! Коммунячев недоносок, оглянись!..
Как-то пришел Мишка с пруда домой перед вечером; не
успел в хату войти, услышал, как отец говорит резким голосом,
а маманька голосит и причитает, ровно по мертвому. Проскольз-
нул Мишка в дверь и видит: отец шинель свою скатал и сапоги
надевает.
— Ты куда идешь, батянька?
Отец засмеялся, ответил:
— Уйми ты, сынок, мать!.. Душу она мне вынает своим
ревом. Я на войну иду, а она не пущает!..
— И я с тобой, батянька!
Отец подпоясался ремнем и надел шапку с лентами.
— Чудак ты, право! Нельзя нам обоим уходить сразу!.. Вот
я вернусь, потом ты пойдешь, а то хлеб поспеет, кто же его
будет убирать? Мать по хозяйству, а дед старый...
Мишка, прощаясь с отцом, сдержал слезы, даже улыбнулся.
Маманька, как и в первый раз, повисла у отца на шее, насилу
он ее стряхнул, а дед только крякнул, целуя служивого1, шепнул
ему на ухо:
— Фомушка... сынок!.. Может, не ходил бы? Может, без
тебя как-нибудь?.. Неровен час, убьют, пропадем мы тогда!..
— Брось, батя... Негоже так. Кто же будет оборонять нашу
1 Служивый — солдат, военнослужащий.
277
власть, коли каждый к бабе под подол хорониться полезет?
— Ну, что ж, иди, ежели твое дело правое.
Отвернулся дед и незаметно смахнул слезу. Провожать отца
пошли до исполкома. Во дворе исполкомском толпятся человек
двадцать с винтовками. Отец тоже взял винтовку и, поцеловав
Мишку в последний раз, вместе с остальными зашагал по улице
на край станицы.
Обратно домой шел Мишка вместе с дедом. Маманька, по-
качиваясь, тянулась сзади. По станице реденький собачий лай,
реденькие огни. Станица покрылась ночной темнотой, словно
старуха черным полушалком. Накрапывал дождик, где-то за
станицей, над степью резвилась молния и глухими рассыпча-
тыми ударами бухал гром.
Подошли к дому. Мишка, молчавший всю дорогу, спросил
у деда:
— Дедуня, а на кого батяня пошел воевать?
— Отвяжись!..
— Дедуня!
— Ну?
— С кем батянька будет воевать?
Дед заложил ворота засовом, ответил:
— Злые люди объявились по суседству с нашей станицей.
Народ их кличет бандой, а по-моему — просто разбойники...
Вот отец твой и пошел с ними сражаться.
— А много их, дедушка?
— Болтают, что около двухсот... Ну, иди, постреленыш, спать,
будет тебе околачиваться!
Ночью Мишку разбудили голоса. Проснулся, полапал по
кровати — деда нет.
— Дедуня, где ты?
— Молчи!.. Спи, неугомонный!
Мишка встал и ощупью в потемках добрался до окна. Дед
в одних исподниках сидит на лавке, голову высунул в раскрытое
окно, слушает. Прислушался Мишка и в немой тишине ясно
услышал, как за станицей часто затарахтели выстрелы, потом
размеренно захлопали залпы.
Трах!., тра-тра-рах!.. та-трах!
Будто гвозди вбивают.
Мишку охватил страх. Прижался к деду, спросил:
— Это батянька стреляет?
278
Дед промолчал, а мать снова заплакала и запричитала.
До рассвета слышались за станицей выстрелы, потом все
смолкло. Мишка калачиком свернулся на лавке и уснул тяже-
лым, нерадостным сном. На заре по улице к исполкому проскака-
ла куча всадников. Дед разбудил Мишку, а сам выбежал во двор.
Во дворе исполкома черным столбом вытянулся дым, огонь
перекинулся на постройки. По улице засновали конные. Один
подскакал к двору, крикнул деду:
— Лошадь есть, старик?
— Есть...
— Запрягай и езжай за станицу! В хворосте ваши комму-
нисты лежат!.. Навали и вези, нехай родственники зароют их.
Дед быстро запряг Савраску, взял в дрожащие руки вожжи
и рысью выехал со двора.
Над станицей поднялся крик, спешившиеся бандиты тащили
с гумен сено, резали овец. Один соскочил с лошади возле двора
Анисимовны, вбежал в хату. Мишка услышал, как Анисимовна
завыла толстым голосом. А бандит, брякая шашкой, выбежал
на крыльцо, сел, разулся, разорвал пополам цветастую празд-
ничную шаль Анисимовны, сбросил свои грязные портянки и
обернул ноги половинками шали.
Мишка вошел в горницу, лег на кровать, придавил голову
подушкой, встал только тогда, когда скрипнули ворота. Выбежал
на крыльцо, увидал, как дед с бородой, мокрой от слез, вводит
во двор лошадь.
Сзади на повозке лежит босой человек, широко разбросав
руки, голова его, подпрыгивая, стукается об задок, течет на
доски густая, черная кровь...
Мишка, качаясь, подошел к повозке, заглянул в лицо, искром-
санное сабельными ударами: видны оскаленные зубы, щека
висит, отрубленная вместе с костью, а на заплывшем кровью
выпученном глазе, покачиваясь, сидит большая зеленая муха.
Мишка, не догадываясь, мелко подрагивая от ужаса, перевел
взгляд и, увидев на груди, на матросской рубахе, синие и белые
полосы, залитые кровью, вздрогнул, словно кто-то сзади ударил
его по ногам,— широко раскрытыми глазами взглянул еще раз
в недвижное черное лицо и прыгнул на повозку.
— Батянюшка, встань! Батянюшка миленький!..— Упал с по-
возки, хотел бежать, но ноги подвернулись, на четвереньках
прополз до крыльца и ткнулся головой в песок.
279
У деда глаза глубоко провалились внутрь, голова трясется
и прыгает, губы шепчут что-то беззвучно.
Долго молча гладил Мишку по голове, потом, поглядывая
на мать, лежавшую плашмя на кровати, шепнул:
— Пойдем, внучек, во двор...
Взял Мишку за руку и повел на крыльцо. Мишка, шагая
мимо дверей горницы, зажмурил глаза, вздрогнул: в горнице на
столе лежит батянька, молчаливый и важный. Кровь с него
обмыли, но у Мишки перед глазами встает батянькин остекле-
невший кровянистый глаз и большая зеленая муха на нем.
Дед долго отвязывал у колодца веревку; пошел в конюшню,
вывел Савраску, зачем-то вытер ему пенистые губы рукавом,
потом надел на него узду, прислушался: по станице крики,
хохот. Мимо двора едут верхами двое, в темноте посверкивают
цигарки, слышны голоса.
— Вот мы и сделали разверстку!.. На том свете будут пом-
нить, как у людей хлеб забирать!..
Переборы лошадиных копыт умолкли, дед нагнулся к Миш-
киному уху, зашептал:
— Стар я, не влезу на коня... Посажу я тебя, внучек, верхом,
и езжай ты с богом на хутор Пронин... Дорогу я тебе укажу...
Там должен быть энтот отряд, какой с музыкой шел через нашу
станицу... Скажи им, нехай идут в станицу: тут, мол, банда!..
Понял?..
Мишка молча кивнул головой. Посадил его дед верхом, ноги
привязал к седлу веревкой, чтобы не упал, и через гумно, мимо
пруда, мимо бандитской заставы провел Савраску в степь.
— Вот в бугор пошла балка1, над ней езжай, никуда не
свиливай!.. Прямо в хутор приедешь. Ну, трогай, мой родный!..
Поцеловал дед Мишку и тихонько ударил Савраску ладонью.
Ночь месячная, видная. Савраска трюхает мелкой рысцой,
пофыркивает и, чуя на спине легонькую ногу, убавляет шаг.
Мишка трогает его поводьями, хлопает рукой по шее, трясется,
подпрыгивая.
Перепела бодро посвистывают где-то в зеленой гущине зрею-
щих хлебов. На дне балки звенит родниковая вода, ветер тянет
прохладой.
Балка — овраг.
280
Рисунок А. Мосина.
Мишке страшно одному в степи, обнимает руками теплую
Савраскину шею, жмется к нему маленьким зябким комочком.
Балка ползет в гору, спускается, опять ползет в гору. Мишке
страшно оглянуться назад, шепчет, стараясь не думать ни о
чем. В ушах у него застывает тишина, глаза закрыты.
Савраска мотнул головой, фыркнул, прибавил шагу. Чуточку
приоткрыл Мишка глаза — увидел внизу, под горой, бледно-
желтые огоньки. Ветром донесло собачий лай.
Теплой радостью на минуту согрелась Мишкина грудь. Толк-
нул Савраску ногами, крикнул:
281
— Но-о-о-о!..
Собачий лай ближе, видны на пригорке смутные очертания
ветряка1.
— Кто едет? — окрик от ветряка.
Мишка молча понукает Савраску. Над сонным хутором за-
голосили петухи.
— Стой! Кто едет?.. Стрелять буду!..
Мишка испуганно натянул поводья, но Савраска, почуявший
близость лошадей, заржал и рванулся, не слушаясь поводьев.
— Сто-о-ой!..
Около ветряка ахнули выстрелы. Мишкин крик потонул в
топоте конских ног. Савраска захрипел, стал в дыбки и грузно
повалился на правый бок.
Мишка на мгновение ощутил страшную, непереносимую боль
в ноге, крик присох у него на губах. Савраска наваливался на
ногу все тяжелее и тяжелее.
Лошадиный топот ближе. Подскакали двое, звякая шашками,
прыгнули, с лошадей, нагнулись над Мишкой.
— Мать родная, да ведь это парнишка!..
— Неужто ухлопали?!
Кто-то сунул Мишке за пазуху руку, близко в лицо дохнул
табаком. Чей-то обрадованный голос сказал:
— Он целенький!.. Никак, ногу ему конь раздавил?..
Теряя сознание, прошептал Мишка:
— Банда в станице... Батяньку убили... Сполком сожгли,
а дедуня велел вам скорейча ехать туда!
Перед тускнеющим Мишкиным взором поплыли цветные
круги...
Прошел мимо батянька, усы рыжие крутит, смеется, а на
глазу у него сидит, покачиваясь, большая зеленая муха. Дед
прошагал, укоризненно качая головой, маманька, потом малень-
кий лобастый человек с протянутой рукой, и рука указывает
прямо на него, на Мишку.
— Товарищ Ленин!..— вскрикнул Мишка глохнущим голо-
сом, силясь, приподнял голову — и улыбнулся, протягивая впе-
ред руки.
/92.5 г.
1 Нетряк ветряная мельница
282
Вопросы и задания
I. Как М. Шолохов знакомит читателя с суровой обстановкой классовой
борьбы в казачьей станице? Найдите эпизоды, которые передают остроту и
напряжение этой борьбы.
2. Автор несколько раз обращается в рассказе к портрету Мишки. Вот
один из них: «... сверху, пробираясь сквозь листья, солнце старалось заглянуть
Мишке в глаза, сушило на шеках слезы и ласково, как маманька, целовало
его в рыжую вихрастую маковку». Как относится автор к своему герою? Под-
твердите свое суждение другими примерами.
3. Внимательно перечитайте сон Мишки. Как вы объясните его? Почему
Мишка удивился, увидев настоящий портрет В. И. Ленина?
4. Подготовьте инсценировку «вступления» Мишки в ряды Красной Армии.
5. Как подвиг, который совершил Мишка, был подготовлен событиями
его жизни? Выразительно прочитайте завершающий эпизод рассказа. Интона-
цией, логическими ударениями, темпом и манерой чтения постарайтесь передать
то нежное и восторженное чувство, с которым автор рисует своего семилетнего
героя.
6. Согласны ли вы с тем, как художник А. Мосин изобразил Мишку? На
какой из иллюстраций вам более всего нравится герой рассказа?
7. Подготовьте рассказ об одном из фрагментов фильма «Нахаленок».
КОМПОЗИЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Композиция — это построение произведения, расположение
и взаимосвязь всех его частей, глав, эпизодов и сцен, это поря-
док изложения событий. Слово композиция происходит от ла-
тинского слова compositio, что означает в переводе на русский
язык «составление, соединение, связь».
Стремясь познакомить читателей с важнейшими и значитель-
ными явлениями жизни, ее характерными особенностями и
выразить свое отношение к ним, писатель не только выбирает
ту или иную тему для своего произведения, но определяет и
порядок изложения событий в нем, и расстановку действующих
лиц, и характер их взаимоотношений. И это не случайно. Ли-
тературное произведение представляет собой сложное целое,
в состав которого входят главные и второстепенные лица, цепь
их поступков, событий, происходящих с ними, описания окру-
жающей их обстановки. Таким образом, мастерство писателя
в области композиции состоит, во-первых, в выборе жизненно
важной темы, вызывающей общий интерес. Во-вторых, в рас-
становке персонажей и описываемых событий в такой последо-
вательности, чтобы полнее и достовернее рассказать о судьбах
и жизни людей, раскрыть идею произведения. В связи с этим
283
по-разному строится и повествование в художественном произ-
ведении: в хронологической последовательности («Тарас Буль-
ба»); с нарушением ее («Дубровский»); с включением в по-
вествование лирических или авторских отступлений («Мороз,
Красный нос»), вставных эпизодов («Нахаленок»), подробных
описаний («Бежин луг»).
Большое значение для выражения идейного смысла произ-
ведения имеет точка зрения повествователя. В одних случаях,
как известно, повествование ведется от лица автора («Тарас
Бульба»), в других от лица героя («Дети подземелья») или
от лица рассказчика («Бежин луг»). В драматических произ-
ведениях авторская речь сводится к авторским ремаркам. По-
строение произведения, характер повествования определяется,
следовательно, замыслом писателя, его идейной установкой,
его позицией художника. Вспомним избранные главы из романа
«Чапаев». Д. А. Фурманов, как известно, не только был знаком,
но и хорошо знал В. И. Чапаева, воевал вместе с ним на
Восточном фронте. Однако роман о Чапаеве и его бойцах на-
писан не от первого, как следовало ожидать, а от третьего
лица. Это позволило писателю показать события гражданской
войны и ее участников как с точки зрения комиссара Федора
Клычкова, так и с авторской точки зрения, то есть объективно
и широко, опуская все частное, личное, что связывало Фурма-
нова с Чапаевым. Именно так, как задумал Д. А. Фурманов.
Вот эту организованность произведения, соотношение всех его
частей и элементов, характер повествования принято называть
композицией произведения.
Вопросы и задания
1. Готовясь к устному выступлению о композиции произведения, составьте
план своего рассказа, используя материал статьи, сообщение учителя. Приве-
дите примеры.
2. Чем композиция драматического произведения отличается от композиции
эпического и лирического?
3. Составьте план рассказа «Нахаленок». Какие описания и события нару-
шают временную последовательность в развитии действия? Подумайте, какое
значение имеют они для характеристики Мишки Ц выражения авторской точки
зрения иа происходящие в рассказе события.
4. Определите композиционную роль Алеши Пешкова в повести «Детство»;
композиционную роль сюжета в рассказе «Хамелеон».
5. Прочитайте рассказ А. Г. Алексина «Домашнее сочинение» в книге для
внеклассного чтения «В мире русской литературы» для 6 класса и объясните,
в чем особенность композиции этого рассказа.
Николай
Алексеевич
ЗАБОЛОЦКИЙ
(1903—1958)
Литература должна служить
народу...
Н. Заболоцкий
аши предки происходят из крестьян деревни Красная Гора
Уржумского уезда1... Я родился в 1903 году 24 апреля под
Казанью, где отец служил агрономом... в 1910 году мы перебра-
лись в родной отцу Уржумский уезд, где отец получил место
агронома в селе Сернур.
Удивительные места в этом Сернуре и его окрестностях!
Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими
местами. Вдоволь наслушался я там соловьев, вдоволь насмот-
релся закатов и всей прелести растительного мира. Свою созна-
тельную жизнь я почти полностью прожил в больших городах,
но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе
и отобразилась во многих моих стихотворениях.
А человеческая жизнь вокруг была такая скудная! Особенно
бедствовали марийцы — исконные жители этого края. Нищета,
голод, трахома сживали их со свету.
В начальной школе я учился старательно. Но школа была
бедная и скудная, ученики — крестьянские мальчики, и среди
них — много марийцев, изнуренных нуждою.
Уржум, ближайший уездный город, был в 60 верстах от
нашего села. В Уржуме было реальное училище2. В 1913 году,
1 Уржумский уезд, город Уржум — ныне Уржумский район, Уржум —
районный центр Кировской области.
2 Реальное училище — среднее учебное заведение в дореволюционной России.
В программе этого училища, в отличие от гимназии, преобладали математические и
естественные науки.
285
десятилетним мальчиком, я сдавал туда вступительные экза-
мены. В списке принятых оказалась и моя фамилия.
Это было великое, несказанное счастье! Мой мир раздвинулся
до громадных пределов, ибо крохотный Уржум представлялся
моему взору колоссальным городом, полным всяческих чудес.
Но как тяжко вдали от дома... на каникулы отец увозил
меня домой, в Сернур.
Чудесные зимние дороги — одно из лучших моих детских
воспоминаний... зима, огромная, просторная, нестерпимо бли-
стающая на снежных пустынях полей, развертывала передо
мной свои диковинные картины. Поля были беспредельны, и
лишь далеко на горизонте темнела полоска леса. Снег скрипел,
пел и визжал под полозьями; дребезжал колокольчик; развевая
свои седые, покрытые инеем гривы, храпели лошади, и протяжно
покрикивал ямщик...
У моего отца была библиотека — книжный шкаф, наполнен-
ный книгами. Этот отцовский шкаф с раннего детства стал моим
наставником и воспитателем. За стеклянной его дверцей, на-
клеенное на картоночку, виднелось наставление, вырезанное
отцом из календаря. Я сотни раз читал его и теперь помню
его немудреное содержание: «Милый друг! Люби и уважай
книгу. Книги — плод ума человеческого. Береги их. Не рви и
не пачкай. Написать книгу нелегко. Для многих книги все равно
что хлеб».
Здесь около книжного шкафа... я навсегда выбрал себе про-
фессию и стал писателем, сам еще не вполне понимая смысл
этого большого для меня события...
(Из воспоминаний Н. А. Заболоцкого
«Ранние годы».)
Вопросы и задание
1. Какие впечатления детства остались в памяти Заболоцкого и какое
влияние на него оказали книги?
2. Объясните слова и выражения: «скудная», «изнуренные нуждою»,
«немудреное содержание». Что подчеркивается с помощью этих слов Н. А. За-
болоцким?
ходоки
В зипунах1 домашнего покроя.
Из далеких сел, из-за Оки,
1 Зипун — верхняя крестьянская одежда, обычно из самодельного сукна.
286
Шли они, неведомые, трое —
По мирскому делу1 ходоки.
Русь металась в голоде и буре,
Все смешалось, сдвинутое враз.
Гул вокзалов, крик в комендатуре,
Человечье горе без прикрас.
Только эти трое почему-то
Выделялись в скопище людей.
Не кричали бешено и люто,
Не ломали строй очередей.
Всматриваясь старыми глазами
В то, что здесь наделала нужда^
Горевали путники, а сами
Говорили мало, как всегда.
Есть черта, присущая народу:
Мыслит он не разумом одним,—
Всю свою душевную природу
Наши люди связывают с ним.
Оттого прекрасны наши сказки,
Наши песни, сложенные в лад.
В них и ум и сердце без опаски
На одном наречье говорят.
Эти трое мало говорили.
Что слова! Была не в этом суть.
Но зато в душе они скопили
Многое за долгий этот путь.
Потому, быть может, и таились
В их глазах тревожные огни
В поздний час, когда остановились
У порога Смольного они.
Но когда радушный их хозяин,
Человек в потертом пиджаке.
По мирскому делу — по делам сельской обшины, деревни.
287
Сам работой до смерти измаян,
С ними говорил накоротке.
Говорил о скудном их районе,
Говорил о той поре, когда
Выйдут электрические кони
На поля народного труда,
Говорил, как жизнь расправит крылья,
Как, воспрянув духом, весь народ
Золотые хлебы изобилья
По стране, ликуя, понесет,—
Лишь тогда тяжелая тревога
В трех сердцах растаяла, как сон,
И внезапно видно стало много
Из того, что видел только он.
И котомки сами развязались.
Серой пылью в комнате пыля,
И в руках стыдливо показались
Черствые ржаные кренделя.
С этим угощеньем безыскусным
К Ленину крестьяне подошли.
Ели все. И горьким был и вкусным
Скудный дар истерзанной земли.
1954 г.
Вопросы и задания
I. В чем смысл названия стихотворения? Какие чувства у поэта вызывают
ходоки?
2. Проследите по тексту, как описывает поэт трудное время, которое пере-
живала наша страна, на что обращает особое внимание?
3. В чем сила слов Ленина? Как отнеслись ходоки к его словам о будущем
нашей страны? Постарайтесь передать их чувства и настроение во время чтения.
4. Рассмотрите репродукцию картины В. А. Серова «Ходоки у В. И. Ле-
нина». Какой сюжет объединяет стихотворение Н. А. Заболоцкого я картину
В. А. Серова?
5. Подготовьте выразительное чтение стихотворения «Ходоки». Обратите
внимание на то, как горевали крестьяне-ходоки, видя «человечье горе без прикрас».
288
О РИФМЕ
Стихотворная речь отличается от прозаической не только рит-
мичностью, музыкальностью, но и рифмой.
Рифма' — это звуковые повторы, созвучия в конце стихотвор-
ных строк. Расположение созвучных слогов в строках стихотво-
рения может быть различным.
Прочитаем начало стихотворения Н. А. Заболоцкого «Ходоки»:
В зипунах домашнего покроя.
Из далеких сел, из-за Оки,
Шли они, неведомые, трое —
По мирскому делу ходоки.
В этом четверостишии последнее слово первой строки созвучно
последнему слову третьей, а конец второй строчки созвучен чет-
вертой. Такой порядок созвучий называется перекрестным. Услов-
но он изображается так: АБАБ.
В четверостишии стихотворения А. С. Пушкина «Туча»
Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури.
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день
иной порядок рифмующихся строк — парный (или смежный). Его
условное изображение: ААББ.
В песне девушки из горской легенды М. Ю. Лермонтова «Бег-
лец» расположение созвучных слов кольцевое (или опоясываю-
щее) .
Месяц плывет
И тих и спокоен.
А юноша воин
На битву идет.
Условно оно обозначается так: АББА.
Таким образом, в зависимости от порядка расположения
созвучных слов в стихотворных строках рифмы подразде-
ляются на парные (или смежные) — ААББ, перекрестные - -
АБАБ, кольцевые (или опоясывающие) - АББА.
Рифма от греческого слова rhylhmos — соразмерность.
Ю. Зак. 2348. М. А. Снежневска
289
О СТРОФЕ
Стихотворения обычно разделяются на небольшие части —
строфы. В печати строфы отделяются друг от друга интервалом,
цифрами или различными знаками: звездочкой, точками.
Строфа — это группа строк, объединенных содержанием и свя-
занных между собой определенной рифмовкой и интонацией.
Чаще всего встречаются строфы из четырех строк — четверо-
стишия, например стихотворения А. С. Пушкина «Узник», «Туча»,
Н. А. Заболоцкого «Ходоки». В стихотворении А. С. Пушкина
«Обвал» строфа состоит из шести строк, а стихотворение «Бороди-
но» М. Ю. Лермонтова написано семистишием, то есть каждая
строфа имеет семь строк.
Вопросы и задания
1. Что такое строфа? Приведите примеры.
2. Дайте определение рифмы. Подкрепите его примерами.
3. Прочитайте главу III первой части поэмы Н. А. Некрасова «Мороз,
Красный нос». Сколько в этой главе строф и чем они отличаются друг от друга?
4. Прочитайте строфу из стихотворения Н. А. Заболоцкого. Как называется
оно? Охарактеризуйте строфу (определите размер стихотворения, рифму):
Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод.
Вел вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ...
Аркадий
Петрович
ГАЙДАР
(1904—1941)
Аркадий Гайдар, сын социали-
стической революции, веселый,
задушевный друг миллионов
ребят, шагает сегодня с нами
рядом в строю борцов за мир,
за дружбу, за счастье народов!
Л. Кассиль
АВТОБИОГРАФИЯ
D августе 1914 года, когда мне стукнуло десять лет, отца
взяли в солдаты и послали на германский фронт.
Забежал он из казармы прощаться. Бритая голова, серая
папаха, тяжелые, кованные железом, сапоги.
Не узнала его наша рыжая собачонка Каштанка, зарычала,
залаяла. Самая младшая сестренка, Катюша, так до конца и не
поняла, в чем дело. Все таращила глаза, за шинель трогала, за
погоны тянула и смеялась:
— Солдат папа! Папа солдат!
Когда пришла минута прощанья, все заплакали. Поняла
Катюшка, что дело не до смеха, и подняла такой рев, как будто бы
ее кипятком ошпарили.
Я крепился.
За окном трещали барабаны, гремела военная музыка, и с мар-
шевой ротой ушел на вокзал мой отец.
Помню — вечерело. Крепко пахло на вокзале нефтью, карбол-
кой и антоновскими яблоками, которых уродилось в тот год не-
исчислимая сила.
И как раз помню, когда уже отошел поезд, остановился я на
мостике через овраг.
Удивительным цветом горело в тот вечер небо.
Меж стремительных, но тяжело-угрюмых туч над горизон-
10*
291
том блистали величаво-багровые зарева. И казалось, что где-то
там, куда скрылся эшелон1, за деревней Морозовкой, загоралась
иная жизнь. Уже отцеловались, отплакались, звякнули, загудели,
тронулись и поехали. «Прощайте, солдаты, прощайте!» Уезжали
под плач, с громом, свистом и с песнями. С чем-то назад вер-
нетесь? И они вернулись назад через четыре года.
Те, кто не были искалечены, отравлены, засыпаны землей
и убиты на полях Галиции, на Карпатах, под Трапезундом и под
Ригой,— те вернулись назад на помощь рабочим Москвы и Пет-
рограда, которые уже бились на баррикадах за лучшую долю, за
счастье, за братство народов, за Советскую власть.
Мне было всего четырнадцать лет, когда я ушел в Красную
Армию. Но я был высокий, широкоплечий и, конечно, соврал, что
мне уже шестнадцать.
Я был на фронтах: петлюровском, польском, кавказском,
внутреннем, на антоновщине и, наконец, близ границы Монголии.
Что я видел, где мы наступали, где отступали, скоро всего не пере-
скажешь. Но самое главное, что я запомнил.— это то, с каким
бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной
и беспредельной, сражалась Красная Армия одна против всего
белогвардейского мира.
Под Киевом, возле Боярки, умирал и бредил мой друг, курсант
Яша Оксюз. Уже розоватая пена дымилась на его запекшихся
губах, и он говорил уже что-то не совсем складное и для других
непонятное.
«Если бы,— бормотал он,— на заре переменить позицию. Да
краем по Днепру, да прямо за Волгу. А там письмо бросьте. Бомбы
бросайте осторожней! И никогда, никогда... Вот и все! Нет... не
все. Нет — все, товарищи!»
И что бы он там ни бормотал, лежа меж истоптанных огуреч-
ных и морковных грядок, мотал головой, шептал, хмурил брови,
я знал и понимал, что он хочет и торопится сказать,— чтобы били
мы белых и сегодня, и завтра, и до самой смерти, проверяли на
заре полевые караулы, что Петлюра убежит с Днепра, что Колча-
ка прогнали уже за Волгу, что наш часовой не вовремя бросил
бомбу, и от этого нехорошо так сегодня получилось, что письмо к
жене-девчонке у него лежит, да я и сам его вижу — торчит из
кармана потертого защитного френча. И в том письме, конечно.
Эшелон — поезд для перевозки войск и оружия.
292
все те же ей слова: прощай, мол, помни! Но нет силы, которая
сломала бы Советскую власть ни сегодня, ни завтра. И это все.
Кто знает под Киевом, где-то возле Боярки, деревеньку Ко-
жуховку? Какие-то, интересно, там сейчас и как называются
колхозы? «Заря революции», «Октябрь», «Пламя», «Вперед»,
«Победа» или просто какой-нибудь тихий и скромный «Рассвет»,—
вот там и схоронили мы Яшу. А потом хоронили еще и десять,
и двадцать, и сто, и тысячу. Но Советская власть жива, живет,
и никто с ней, товарищи, ничего не сделает.
В Красной Армии я пробыл шесть лет. Пятнадцати лет я окон-
чил Киевские командные курсы и тут же в августе 1919 года был
назначен командиром шестой роты второго полка бригады курсан-
тов. Потом я был командиром батальона, командиром сводного
отряда, командиром 23-го полка в Воронеже и, наконец, команди-
ром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом.
Я был тогда очень молод, командовал, конечно, не как Чапаев.
И то у меня не так, и это не эдак. Иной раз, бывало, закру-
тишься, посмотришь в окошко и подумаешь: а хорошо бы отстег-
нуть саблю, сдать маузер и пойти с ребятишками играть в лапту!
Частенько я оступался, срывался, бывало даже своевольничал,
и тогда меня жестоко за это свои же обрывали и одергивали,
но все это пошло мне на пользу.
Я любил Красную Армию и думал остаться в ней на всю жизнь.
Но в 23-м году из-за старой контузии в правую половину головы
я вдруг крепко заболел. Все что-то шумело в висках, гудело, и
губы неприятно дергались. Долго меня лечили, и, наконец, в апре-
ле 1924 года, как раз когда мне исполнилось двадцать лет, я
был зачислен по должности командира полка — в запас.
С тех пор я стал писать. Вероятно, потому, что в армии я был
еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам
и девчонкам — какая она была жизнь, как оно все начиналось да
как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало...
Какие книги я написал — вы знаете. Если выкинуть первые,
совсем еще слабые, то останутся: «Р.В.С.», «Школа», «Дальние
страны», «Четвертый блиндаж», «Военная тайна» и «Голубая
чашка».
Сейчас я заканчиваю повесть «Судьба барабанщика». Это
книга не о войне, но о делах суровых и опасных — не меньше,
чем сама война.
/937 г. Арк. Гайдар
293
Задания
1. Расскажите о жизни бойца и писателя Аркадия Гайдара.
2. Прочитайте полностью повесть «Школа», которая дана в хрестоматии
в сокращении, и книгу Б. К. Камова «Партизанской тропой Гайдара».
ШКОЛА
(Избранные главы)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ШКОЛА
Глава первая
Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных
ветхими заборами. В тех садах росло великое множество «роди-
тельской вишни», яблок-скороспелок, терновника и красных пио-
нов...
Через город, мимо садов, тянулись тихие зацветшие пруды,
в которых вся порядочная рыба давным-давно передохла и води-
лись только скользкие огольцы да поганая лягва. Под горою
текла речонка Теша...
Отец мой был солдатом 12-го Сибирского стрелкового полка.
Стоял тот полк на рижском участке германского фронта.
Я учился во втором классе реального училища. Мать моя,
фельдшерица, всегда была занята, и я рос сам по себе...
Глава пятая
...Письма от отца мы получали редко. Отец писал мало и все
одно и то же: «Жив, здоров, сидим в окопах, и сидеть, кажется,
конца-краю не предвидится».
Меня разочаровывали его письма. Что это такое на самом
деле? Человек с фронта не может написать ничего интересного.
Описал бы бой, атаку или какие-нибудь героические подвиги, а то
прочтешь письмо, и остается впечатление, что будто бы скука на
этом фронте хуже, чем в Арзамасе грязной осенью.
Почему другие, вот, например, прапорщик Тупиков, брат
Митьки, присылает письма с описанием сражений и подвигов и
каждую неделю присылает всякие фотографии? На одной фото-
графии он снят возле орудия, на другой — возле пулемета, на
третьей — верхом на коне, с обнаженной шашкой, а еще одну
294
прислал, так на той и вовсе голову из аэроплана высунул. А отец —
не то чтобы из аэроплана, а даже в окопе ни разу не снялся и ни
о чем интересном не пишет.
Однажды, уже под вечер, в дверь нашей квартиры постучали.
Вошел солдат с костылем и деревянной ногой и спросил мою мать.
Матери не было дома, но она должна была скоро прийти. Тогда
солдат сказал, что он товарищ моего отца, служил с ним в одном
полку, а сейчас едет навовсе домой, в деревню нашего уезда, и
привез нам от отца поклон и письмо.
Он сел на стул, поставил к печке костыль и, порывшись за
пазухой, достал оттуда замасленное письмо. Меня сразу же уди-
вила необычайная толщина пакета. Отец никогда не присылал та-
ких толстых писем, и я решил, что, вероятно, в письмо вложены
фотографии.
— Вы с ним вместе служили в одном полку? — спросил я, с лю-
бопытством разглядывая худое, как мне показалось, угрюмое лицо
солдата, серую измятую шинель с георгиевским крестиком1 и
грубую деревяшку, приделанную к правой ноге.
— Ив одном полку, и в одной роте, и в одном взводе, и в окопе
рядом, локоть к локтю... Ты его сын, что ли, будешь?
— Сын.
— Вот что! Борис, значит? Знаю. Слыхал от отца. Тут и тебе
посылка. Только отец наказывал, чтобы спрятал ты ее и не трогал
до тех пор, пока он не вернется.
Солдат полез в самодельную кожаную сумку, сшитую из го-
ленища; при каждом его движении по комнате распространялись
волны тяжелого запаха йодоформа. Он вынул завернутый в тряп-
ку и туго перевязанный сверток и подал его мне. Сверток был
небольшой, а тяжелый. Я хотел вскрыть его, но солдат сказал:
— Погоди, не торопись. Успеешь еще посмотреть.
— Ну, как у нас на фронте, как идут сражения, какой дух у на-
ших войск? — спросил я спокойно и солидно.
Солдат посмотрел на меня и прищурился. Пол его тяжелым,
немного насмешливым взглядом я смутился, и самый вопрос по-
казался мне каким-то напыщенным и надуманным.
— Ишь ты! — И солдат улыбнулся.— Какой дух? Известное
дело, милый... Какой дух в окопе может быть... Тяжелый дух.
Хуже, чем в нужнике.
1 Георгиевский крест — воинская награда за выдающуюся храбрость в боях.
295
Он достал кисет, молча свернул цигарку, выпустил сильную
струю едкого махорочного дыма и, глядя мимо меня на покрас-
невшее от заката окно, добавил:
— Обрыдло все, очертенело все до горечи. И конца что-то не
видно.
Вошла мать. Увидев солдата, она остановилась у двери и ухва-
тилась рукой за дверную скобку.
— Что... что случилось? — тихо спросила она побелевшими
губцми.— Что-нибудь про Алексея?
— Папа письмо прислал! — завопил я.— Толстое... наверное,
с фотографиями, и мне тоже подарок прислал.
— Жив, здоров? — спрашивала мать, сбрасывая шаль.—
А я как увидала с порога серую шинель, так у меня сердце ёкнуло.
Наверное, думаю, с отцом что-нибудь случилось.
— Пока не случилось,— ответил солдат.— Низко кланяется,
вот — пакет просил передать. Не хотел он по почте... Почта ныне
ненадежная.
Мать разорвала конверт. Никаких фотографий в нем не было,
только пачка замасленных, исписанных листков. К одному из них
пристал кусочек глины и зеленая засохшая травинка.
Я развернул сверток — там лежал небольшой маузер и за-
пасная обойма.
— Что еще отец выдумал! — сказала недовольно мать,—
Разве это игрушка?
— Ничего,— ответил солдат.— Что у тебя сын дурной, что
ли? Гляди-ка, ведь он уже какой, с меня ростом скоро будет.
Пусть спрячет пока. Хороший пистолет. Его Алексей в герман-
ском окопе нашел. Хорошая штука. Потом всегда пригодиться
может.
Я потрогал холодную точеную рукоятку и, осторожно завернув
маузер, положил его в ящик...
Всю эту ночь за стеною проплакала мама; шелестели один за
другим перевертываемые листки отцовского письма. Потом через
щель мелькнул тусклый зеленый огонек лампадки, и я догадался,
что мать молится.
Отцовского письма она мне не показала. О чем он писал и от-
чего в ту ночь она плакала, я так и не понял тогда.
Солдат ушел от нас утром.
Перед тем как уйти, он похлопал меня по плечу и сказал,
точно я его о чем спрашивал:
296
— Ничего, милый... Твое дело молодое. Эх! Поди-ка, ты и по-
чище нашего еще увидишь!
Он попрощался и ушел, притопывая деревяшкой, унося с собой
костыль, запах йодоформа и гнетущее настроение, вызванное
его присутствием, его кашляющим смехом и горькими словами.
Глава седьмая
...Сбросив одежду, я скользнул под одеяло, но не успел еще
перевернуться, как в передней раздался негромкий, осторожный
звонок.
— Кого еще это несет? — спросила удивленная мать.— Уж
не телеграмма ли от отца?.. Да нет, почтальон сильно за ручку
дергает. Ну-ка, пойди отопри.
— Я, мама, разделся уже. Это, мама, наверное, не почтальон,
а Федька, он у меня нужную тетрадку забыл, да, должно быть, по
дороге спохватился.
— Вот еще идол! — рассердилась мать.— Что он, не мог утром
забежать? Где тетрадь-то?
Она взяла тетрадь, надела на босую ногу туфли и ушла.
Мне слышно было, как туфли ее шлепали по ступенькам.
Щелкнул замок. И тотчас же снизу до меня донесся заглушенный,
сдавленный крик. Я вскочил. В первую минуту я подумал, что на
мать напали грабители, и, схватив со стола подсвечник, хотел
было разбить им окно и заорать на всю улицу. Но внизу раздался
не то смех, не то поцелуй, оживленный, негромкий шепот. Затем
зашаркали шаги двух пар ног, подымающихся наверх.
Распахнулась дверь, и я так и прилип к кровати раздетый и
с подсвечником в руке. В дверях, с глазами, полными слез,
стояла счастливая, смеющаяся мать, а рядом с нею — зарос-
ший щетиной, перепачканный в глине, промокший до нитки,
самый дорогой для меня солдат — мой отец.
Один прыжок — и я уже был стиснут его крепкими, загрубе-
лыми лапами.
За стеною в кровати зашевелилась потревоженная шумом се-
стренка. Я хотел броситься к ней и разбудить ее, но отец удержал
меня и сказал вполголоса:
— Не надо, Борис... не буди ее., и не шумите очень.
При этом он обернулся к матери:
— Варюша, если девочка проснется, не говори ей, что я при-
ехал. Пусть спит. Куда бы ее на эти три дня отправить?
297
Рисунок Б. Рытмана.
Мать ответила:
— Мы отправим ее рано утром в Ивановское... Она давно про-
силась к бабушке. Небо прояснилось, кажется. Борис раненько
утром отведет ее...
Тропка в Ивановское проходила по берегу Теши. Сестренка
бежала впереди, поминутно останавливаясь, то затем, чтобы под-
нять хворостину, то посмотреть на гусей, барахтавшихся в воде,
то еще зачем-нибудь. Я шел потихоньку позади. Утренняя све-
жесть, желто-зеленая ширь осенних полей, монотонное позвяки-
вание медных колокольчиков пасущегося стада — все это успокаи-
вающе действовало на меня.
И теперь уже та назойливая мысль, которая так мучила меня
ночью, прочно утвердилась в моей голове, и я уже не силился
отделаться от нее.
Я вспомнил комок глины, брошенный на подоконник. Конечно,
это не ветер бросил. Как мог ветер вырвать из грядки такой пере-
путанный корнями кусок? Это бросил отец, чтобы привлечь мое
внимание. Это он в дождь и бурю прятался в саду, выжидая, пока
298
уйдет от меня Федька. Он не хочет, чтобы сестренка видела
его, потому что она маленькая и может проболтаться о его приезде.
Солдаты, которые приезжают в отпуск, не прячутся и не скры-
ваются ни от кого...
Сомнений больше не было — мой отец дезертир...
На другой день вечером отец говорил мне:
— Борька, со дня на день к вам могут нагрянуть гости. Спрячь
подальше игрушку, которую я тебе прислал. Держись крепче! Ты
у меня вон уже какой взрослый. Если тебе будут в школе неприят-
ности из-за меня, плюнь на все и не бойся ничего, следи внима-
тельней за всем, что происходит вокруг, и ты поймешь тогда, о чем
я тебе говорил.
— Мы увидимся еще, папа?
— Увидимся. Я буду здесь иногда бывать, только не у вас.
— А где же?
— Узнаешь, когда будет надо, вам передадут...
Глава восьмая
Через три дня мать вызвали в полицию и сообщили ей, что
ее муж дезертировал из части. С матери взяли подписку о том, что
сведений «о его настоящем местонахождении она не имеет, а если
будет иметь, то обязуется немедленно сообщить об этом властям».
Через сына полицмейстера1 в училище на другой же день
стало известно, что мой отец — дезертир...
Наступили тяжелые дни. Позорная кличка «дезертиров сын»
крепко укрепилась за мной. Многие ученики перестали со мною
дружить. Другие хотя и разговаривали и не чуждались, но как-
то странно обращались со мной, как будто мне отрезало ногу или
у меня дома покойник.
Постепенно я отдалился от всех, перестал ввязываться в иг-
ры, участвовать в набегах на соседние классы и бывать в гостях у
товарищей.
Длинные осенние вечера я проводил у себя дома или у.Тимки
Штукина среди его птиц.
Я очень сдружился с Тимкой за это время. Его отец был ласков
со мной. Только мне непонятно было, почему он иногда начнет
сбоку пристально смотреть на меня, потом подойдет, погладит по
голове и уйдет, позвякивая ключами, не сказав ни слова...
1 Полицмейстер — начальник полиции.
299
Однажды, уже зимою, в школе ко мне подошел Тимка Шту-
кин и тихонько поманил меня пальцем. Меня скорее удивила,
чем заинтересовала его таинственность, и я равнодушно пошел
за ним в угол.
Оглянувшись, Тимка сказал мне шепотом:
— Сегодня под вечер приходи к нам. Мой батька обязательно
велел прийти.
— Зачем я ему нужен? Что ты еще выдумал?
— А вот и не выдумал. Приходи обязательно, тогда узнаешь.
Лицо у Тимки было при этом серьезное, казалось даже немного
испуганным, и я поверил, что Тимка не шутит.
Вечером я отправился на кладбище. Кружила метель, тусклые
фонари, залепленные снегом, почти вовсе не освещали улицы. Для
того чтобы попасть к перелеску и на кладбище, надо было перейти
небольшое поле. Острые снежинки покалывали лицо. Я глубже
засунул голову в воротник и зашагал по заметенной тропке к зе-
леному огоньку лампадки, зажженной у ворот кладбища. Заце-
пившись ногой за могильную плиту, я упал и весь вывалялся
в снегу. Дверь сторожки была заперта. Я постучал — открыли
не сразу, мне пришлось постучаться вторично. За дверями по-
слышались шаги.
— Кто там? — спросил меня строгий знакомый бас сторожа.
— Откройте, дядя Федор, это я.
— Ты, что ли, Борька?
— Да я же... Открывайте скорей.
Я вошел в тепло натопленную сторожку. На столе стоял само-
вар, блюдце с медом и лежала коврига хлеба. Тимка как ни в чем
не бывало чинил клетку.
— Вьюга? — спросил он, увидав мое красное, мокрое лицо.
— Да еще какая! — ответил я.— Ногу я себе расшиб. Ничего
не видно.
Тимка рассмеялся. Мне было непонятно, чему он смеется, и
я удивленно посмотрел на него.
Тимка рассмеялся еще звонче, и по его взгляду я понял, что
он смеется не надо мною, а над чем-то, что находится позади меня.
Обернувшись, я увидел сторожа, дядю Федора, и своего отца.
— Он уже у нас два дня,— сказал Тимка, когда мы сели за
чай.
— Два дня... И ты ничего не сказал мне раньше! Какой же
ты после этого товарищ, Тимка?
зоо
Тимка виновато посмотрел сначала на своего, потом на моего
отца, как бы ища у них поддержки.
— Камень! — сказал сторож, тяжелой рукой хлопая сына по
пЛечу.— Ты не смотри, что он такой неприглядный, на него поло-
житься можно.
Отец был в штатском. Он был весел, оживлен. Расспрашивал
меня о моих училищных делах, поминутно смеялся и говорил мне:
— Ничего... Ничего... плюнь на все. Время-то, брат, какое под-
ходит, чувствуешь?
Я сказал ему, что чувствую, как при первом же замечании
меня вышибут из школы.
— Ну и вышибут,— хладнокровно заявил он,— велика важ-
ность! Было бы желание да голова, тогда и без школы дураком
не останешься.
— Папа,— спросил я его,— отчего ты такой веселый и гого-
чешь? Тут про тебя и батюшка проповедь1 2 читал, и все-то тебя
как за покойника считают, а ты — вон какой!
С тех пор как я стал невольным сообщником отца, я и раз-
говаривал с ним по-другому: как со старшим, но равным. Я видел,
что отцу это нравится.
— Оттого веселый, что времена такие веселые подходят. Хва-
тит, поплакали!.. Ну ладно. Кати теперь домой! Скоро опять уви-
димся.
Было поздно. Я попрощался, надел шинель и выскочил на
крыльцо. Не успел еще сторож спуститься и закрыть за мной за-
сов, как я почувствовал, что кто-то отшвырнул меня в сторону
с такой силой, что я полетел головой в сугроб. Тотчас же в сенях
раздался топот, свистки, крики. Я вскочил и увидел перед собой
городового Евграфа Тимофеевича, сын которого, Пашка, учился
*» 2
со мной еще в приходском .
— Постой,— сказал он, узнав меня и удерживая за руку.—
Куда ты? Там и без тебя обойдутся. Возьми-ка у меня конец баш-
лыка да оботри лицо. Ты уж, упаси бог, не ушибся ли головой?
— Нет, Евграф Тимофеевич, не ушибся,— прошептал я.—
А как же папа?
— Что же папа? Против закона никто не велел ему идти.
Разве же против закона можно?
Из сторожки вывели связанного отца и сторожа. Позади них
1 Проповедь — речь, поучение священника.
2 Приходское училище — начальная школа в дореволюционной России.
301
с шинелью, накинутой на плечи, но без шапки, плелся Тимка. Он
не плакал, а только как-то странно вздрагивал.
— Тимка,— строго сказал сторож,— переночуешь у крестного,
да скажи ему, чтобы он за домом посмотрел, как бы после обыска
чего не пропало.
Отец шел молча и низко наклонив голову. Руки его были завя-
заны назад. Заметив меня, он выпрямился и крикнул мне под-
бадривающе:
— Ничего, сынка! Прощай пока! Мать поцелуй и Танюшку.
Да не горюй очень: время, брат, идет... веселое!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВЕСЕЛОЕ ВРЕМЯ
Глава первая
Двадцать второго февраля 1917 года военный суд шестого
армейского корпуса приговорил рядового 12-го Сибирского стрел-
кового полка Алексея Горикова за побег с театра военных дейст-
вий и за вредную антиправительственную пропаганду к расстрелу.
Двадцать пятого февраля приговор был приведен в исполне-
ние. Второго марта из Петрограда пришла телеграмма о том, что
восставшими войсками и рабочими занят царский Зимний дворец.
Первым хорошо видимым заревом разгорающейся революции
было для меня зарево от пожара барской усадьбы Полути-
ных. С чердака дома я до полуночи глядел на огненные языки,
дразнившие свежий весенний ветер. Тихонько поглаживая нагрев-
шуюся в кармане рукоятку маузера, самую дорогую память от
отца, я улыбался сквозь слезы, еще не высохшие после тяже-
лой утраты, радуясь тому, что «веселое время» подходит.
В первые дни Февральской революции школа была похожа
на муравьиную кучу, в которую бросили горящую головешку.
После молитвы о даровании победы часть ученического хора на-
чала было, как и всегда, гимн «Боже, царя храни», однако другая
половина заорала «долой», засвистела, загикала. Поднялся шум,
ряды учащихся смешались, кто-то запустил булкой в портрет
царицы, а первоклассники, обрадовавшись возможности безна-
казанно пошуметь, дико завыли котами и заблеяли козами.
Тщетно пытался растерявшийся инспектор перекричать толпу.
Визг и крики не умолкали до тех пор, пока сторож Семен не снял
302
царские портреты. С визгом и топотом разбегались взволнованные
ребята по классам. Откуда-то появились красные банты. Старше-
классники демонстративно заправили брюки в сапоги (что раньше
не разрешалось) и, собравшись возле уборной, нарочно, на глазах
у классных наставников, закурили. К ним подошел преподаватель
гимнастики офицер Балагушин. Его тоже угостили папироской.
Он не отказался. При виде такого, доселе небывалого, объедине-
ния начальства с учащимися окружающие закричали громко
«ура».
Однако из всего происходящего поняли сначала только одно:
царя свергли и начинается революция. Но почему надо было
радоваться революции, что хорошего в том, что свергли царя,
перед портретом которого еще только несколько дней тому назад
хор с воодушевлением распевал гимны,— этого большинство ре-
бят, а особенно из младших классов, еще не понимало.
В первые дни уроков почти не было. Старшеклассники запи-
сывались в милицию. Им выдавали винтовки, красные повязки,
и они гордо расхаживали по улицам, наблюдая за порядком.
Впрочем, порядка никто нарушать и не думал. Колокола три-
дцати церквей гудели пасхальными перезвонами. Священники в
блестящих ризах принимали присягу Временному правительству1.
Появились люди в красных рубахах. Сын попа Ионы, семи-
нарист Архангельский, два сельских учителя и еще трое, незна-
комых мне, называли себя эсерами2. Появились люди и в черных
рубахах, в большинстве воспитанники старших классов, учитель-
ской и духовной семинарий, называвшие себя анархистами3...
...Меня поразило, как удивительно много революционеров ока-
залось в Арзамасе. Ну, положительно все были революционера-
ми... В Петрограде и в Москве хоть бои были, полицейские с
крыш стреляли в народ, а у нас полицейские добровольно отдали
оружие и, одевшись в штатское, мирно ходили по улицам.
Однажды в толпе на митинге я встретился с Евграфом Тимо-
1 Временное правительство — буржуазно-помещичье правительство, которое
образовалось после свержения царизма Февральской революцией 1917 года и
просуществовало до Октябрьской революции.
2 Эсеры — мелкобуржуазная партия: в годы гражданской войны участво-
вали в контрреволюционных заговорах против Советской Республики.
3 Анархисты (от слова анархия — безвластие) отрицали всякую государст-
венную власть, выступали против партии рабочего класса. Во время гражданской
войны создавали банды для борьбы с Советской властью.
303
феевичем, тем самым городовым, который участвовал в аресте
моего отца.
Он шел с базара с корзиной, из которой выглядывала бутылка
постного масла и кочан капусты. Он стоял слушал, о чем говорят
социалисты. Заметив меня, приложил руку к козырьку и вежливо
поклонился.
— Как живы-здоровы? — спросил он.— Что... тоже послушать
пришли? Послушайте, послушайте... Ваше дело еще молодое!
Нам, старикам, и то интересно... Вишь ты, как дело обернулось!
Я сказал ему:
— Помните, Евграф Тимофеевич, как вы приходили папу арес-
товывать, вы тогда говорили, что «закон», что против закона
нельзя идти. А теперь — где же ваш закон? Нету вашего закона,
и всем вам, полицейским, тоже суд будет.
Он добродушно засмеялся, и масло в горлышке бутылки за-
колыхалось.
— И раньше был закон и теперь тоже будет. А без закона,
молодой человек, нельзя. А что судить нас будут, так это —
пускай судят. Повесить — не повесят. Начальников наших и то
не вешают... Сам государь император и то только под домашним
арестом, а уж чего же с нас спрашивать!.. Вон слышите? Оратор
говорит, что не нужно никакой мести, что люди должны быть
братьями и теперь, в свободной России, не должно быть ни
тюрем, ни казней. Значит, и нам не будет ни тюрем, ни каз-
ней...
И ушел вперевалку. Я посмотрел ему вслед и подумал: «Как
же так не нужно?.. Неужели же, если бы отец вырвался из тюрьмы,
он позволил бы спокойно расхаживать своему тюремщику и не
тронул бы его только потому, что все люди должны быть
братьями?»
Я спросил об этом Федьку.
— При чем тут твой отец? — сказал он.— Твой отец был де-
зертиром, и на нем все равно осталось пятно. Дезертиров и сейчас
ловят. Дезертир — не революционер, а просто беглец, который не
хочет защищать родину.
— Мой отец не был трусом, ответил я, бледнея. Ты врешь,
Федька! Моего отца расстреляли и за побег и за пропаганду.
У нас дома есть приговор.
Федька смутился и ответил примирительно:
Так что же, я сам выдумал? Об этом во всех газетах пи-
304
шут. Прочитай в «Русском слове» речь Керенского1 2 3. Хорошая
речь... ее когда на общем собрании в женской гимназии читали,
так ползала плакало. Там про войну говорится, что надо напрягать
все силы, что дезертиры — позор армии и что «над могилами пав-
ших в борьбе с немцами свободная Россия воздвигнет памятник
неугасаемой славы». Так прямо сказано — «неугасаемой»! А ты
еще споришь!
...На трибуну один за другим выходили ораторы. Охрипшими
голосами они рассказывали о социализме. Тут же записывали
желающих в партию и добровольцев на фронт. Были такие
ораторы, которые, взобравшись на трибуну, говорили до тех пор,
пока их не стаскивали. На их место выталкивали новых ора-
торов.
Я все слушал, слушал, и казалось мне, что от всего услышан-
ного голова раздувается, как пустой бычий пузырь. Перепутыва-
лись речи отдельных ораторов. И никак я не мог понять, чем
2
отличишь эсера от кадета , кадета от народного социалиста, тру-
довика от анархиста, и из всех речей оставалось в памяти только
одно слово:
— Свобода... свобода... свобода...
— Гориков,— услышал я позади себя и почувствовал, как
кто-то положил мне руку на плечо.
Около меня стоял неизвестно откуда появившийся ремеслен-
ный учитель Галка.
— Откуда вы? — спросил я, искренно обрадовавшись.
— Из Нижнего, из тюрьмы. Идем, милый, ко мне. Я здесь
неподалеку комнату снял. Будем пить чай, у меня есть булка и
мед. Я так рад, что тебя увидел! Я только вчера приехал и
сегодня хотел нарочно к вам зайти.
Он взял меня за руку, и мы стали проталкиваться через гомон-
ливую толпу. На соседней площади мы натолкнулись на но-
вую толчею. Здесь горели костры, и вокруг них толпились любо-
пытные.
1 Керенский А. Ф. — эсер, глава Временного правительства в России.
2 Кадеты — конституционно-демократическая партия, называвшая себя пар-
тией «народной свободы», стремилась сохранить царизм в форме конституцион-
ной монархии.
3 Трудовики — «Трудовая группа», выражала интересы мелких хозяев —
крестьян. В 1917 году поддерживала Временное правительство, ныступала
против Октябрьской революции.
305
— Что это такое?
— А... пустое,— ответил, улыбнувшись, Галка.— Анархисты
царские флаги жгут. Лучше бы разодрали ситец да роздали,
а то мужики ругаются. Сам знаешь, каждая тряпка теперь
дорога.
Руки у Галки были худые и длинные. Заваривая чай, он говорил
быстро, то и дело улыбаясь:
— Отец твой оставил письмо. Мы с ним вместе сидели, пока его
не отправили в корпусный суд. Только у меня сейчас письма нет,
оно в корзине на вокзале.
— Семен Иванович,— спросил я за чаем,— вот вы говорите,
что с отцом товарищами по партии были. Разве же он был в пар-
тии? Он мне про это никогда не говорил.
— Нельзя было говорить, вот и не говорил.
— И вы тоже не говорили. Когда вас арестовали, то про вас
Петька Золотухин рассказывал, что вы шпион.
Галка засмеялся:
— Шпион! Ха-ха-ха! Петька Золотухин! Ха-ха! Золотухину
простительно, он глупый мальчишка, а вот когда теперь про нас
большие дураки распускают слухи, что мы шпионы,— это, брат,
еще смешнее.
— Про кого это про вас, Семен Иванович?
— А про нас, про большевиков.
Я покосился на него.
— Так вы разве большевики, то есть, я хочу сказать, значит
и отец тоже был большевиком?
— Тоже.
— И что это с отцом все не по-людски выходит? — огорченно
спросил я, немного подумав.
— Как не по-людски?
— А так. Другие солдаты как солдаты: революционеры так уж
революционеры, никто про них ничего плохого не говорит, все их
уважают. А отец то дезертиром был, то вдруг оказывается
большевиком. Почему большевиком, а не настоящим революционе-
ром, ну, хотя бы эсером или анархистом? А то вот, как назло,
большевиком. То хоть бы я мог сказать в ответ всем, что моего от-
ца расстреляли за то, что он был революционером, и все бы заткну-
ли рты и никто бы не тыкал в меня пальцем, а то я если скажу, что
расстреляли отца как большевика, так каждый скажет — туда ему
и дорога, потому что во всех газетах напечатано, что большеви-
306
ки — немецкие наемники и ихний Ленин у Вильгельма1 на службе.
— Да кто «каждый»-то скажет? — спросил Галка, во время
моей горячей речи смотревший на меня смеющимися глазами.
— Да каждый. Кто ни попадется. Все соседи и батюшка на
проповеди, вот и ораторы...
— Соседи!.. Ораторы!..— перебил меня Галка.— Глупый! Да
отец твой был в десять раз более настоящим революционером, чем
все эти ораторы и соседи. Какие у тебя соседи? Монахи, выезднов-
ские лабазники2, купцы, божьи странники, базарные мясники да
мелкие обыватели. Ведь в том-то и беда, что среди соседей твоих
редко-редко стоящего человека найдешь. Мы всю эту ораву и не
агитируем даже. Пусть перед ними эти краснорубахие пустозвоны
рассыпаются. Нам здесь времени тратить нечего, потому что
монахи да лабазники все равно нашими помощниками не будут!
Ты погоди, вот я тебя сведу, куда мы на митинги ходим. В бараки
к раненым, в казармы к солдатам, на вокзал, в деревни. Ты вот там
послушай! А тут — нашел судей... Соседи!
Галка рассмеялся...
Глава вторая
Прошло несколько месяцев с тех пор, как я встретился с Гал-
кой.
На Сальниковой улице, рядом с огромным зданием духов-
ного училища, стоял маленький, окруженный садиком домик.
Обыватели, проходя мимо его распахнутых окон, через которые
виднелись окутанные махорочным дымом лица, прибавляли шагу
и, удалившись на квартал, злобно сплевывали:
— Заседают провокаторы!
Здесь находился клуб большевиков. Большевиков в городе
было всего человек двадцать, но домик всегда был набит до отка-
за. Вход в него был открыт для всех, но главными завсегдатаями
здесь были солдаты из госпиталя, пленные австрийцы и рабочие
кожевенной и кошмовальной фабрик3.
Почти все свободное время проводил там и я. Сначала я ходил
туда с Галкой из любопытства, потом по привычке, потом втянуло,
' Вильгельм II — германский император и прусский король; поддерживал
грабительскую политику германской буржуазии; в начале революции 1918 года в
Германии бежал в Голландию.
2 Лабазник — торговец.
3 Кошмовальная фабрика — где валяют кошмы, то есть войлок.
307
завертело и ошарашило. Точно очистки картофеля под острым
ножом, вылетала вся шелуха, которой до сих пор была забита моя
голова...
Помню, однажды в Каменке был митинг...
По широким улицам со всех концов двигались к площади кучки
мужиков из соседних селений. Митинг еще не начинался, но го-
мон и шум слышны были издалека.
В толпе я увидел Федьку. Он шнырял взад-вперед и совал
проходившим какие-то листовки. Заметив меня, он подбежал:
— Эгей! И ты пришел... Ух, сегодня и весело будет! На вот,
возьми пачку и помогай раздавать.
Он сунул мне десяток листовок.
Я развернул одну — листовки были эсеровские, за войну до
победы и против дезертирства. Я протянул пачку обратно:
— Нет, Федька, я не буду раздавать такие листовки. Раздавай
сам, когда хочешь.
Федька плюнул:
— Дурак ты... Ты что, тоже с ними? — И он мотнул головой
в сторону проходивших Галки и Баскакова.— Тоже хорош...
Нечего сказать. А я-то еще на тебя надеялся!
И, презрительно пожав плечами, Федька исчез в толпе.
«Он на меня надеялся,— усмехнулся я.— Что у меня своей
головы, что ли, нет?»...
Глава четвертая
...Только что начала забываться история с моим отцом, только
что начал таять холодок между мной и некоторыми из прежних
товарищей, как подул новый ветер из столицы; обозлились оби-
татели города на большевиков и закрыли клуб. Арестовала дум-
ская милиция Баскакова, и тут опять я очутился виноватым:
зачем с большевиками околачивался, зачем к 1 Мая над ихним
клубом на крыше флаг вывешивал, почему на митинге отказался
помогать Федьке раздавать листовки за войну до победы?..
Как же мог я взять у Федьки эсеровские листовки, когда мне
Баскаков только что полную груду своих прокламаций дал?
Как же можно раздавать и те и другие?..
Учеба в это время была плохая. Преподаватели заседали по
клубам, явные монархисты1 подали в отставку. Половину школы
заняли под Красный Крест.
1 Монархист — сторонник монархии, единовластия.
308
— Я, мать, уйду из школы,— говоривал я иногда.— Учебы все
равно никакой, со всеми я на ножах. Вчера, например, Коренев
собирал с кружкой в пользу раненых; было у меня двадцать ко-
пеек, опустил и я, а он перекосился и говорит: «Родина в подачках
авантюристов1 не нуждается». Я аж губу закусил. Это при всех-
то!..
С маузером, который подарил мне отец, я не расставался
никогда. Маузер был небольшой, удобный, в мягкой замшевой
кобуре. Я носил его не для самозащиты. На меня никто еще не
собирался нападать, но он дорог мне был как память об отце, его
подарок — единственная ценная вещь, имевшаяся у меня. И еще
потому любил я маузер, что всегда испытывал какое-то приятное
волнение и гордость, когда чувствовал его с собой. Кроме того, мне
было тогда пятнадцать лет, и я не знал да и до сих пор не знаю ни
одного мальчугана этого возраста, который отказался бы иметь
настоящий револьвер. Об этом маузере знал только Федька. Еще
в дни дружбы я показал ему его. Я видел, с какой завистью
осторожно рассматривал он тогда отцовский подарок.
На другой день после истории с Кореневым я вошел в класс, как
и всегда в последнее время, ни с кем не здороваясь, ни на кого не
ббращая внимания. Первым уроком была география... Я заметил,
что Федька пишет какие-то записки и рассылает их по партам.
Через плечо соседа в начале одной из записок я успел прочесть
свою фамилию. Я насторожился.
После звонка, внимательно наблюдая за окружавшими, я
встал, направился к двери и тотчас же заметил, что от двери
я отгорожен кучкой наиболее крепких одноклассников. Около меня
образовалось полукольцо; из середины его вышел Федька и напра-
вился ко мне.
— Что тебе надо? — спросил я.
— Сдай револьвер,— нагло заявил он.— Классный комитет
постановил, чтобы ты сдал револьвер в комиссариат думской
милиции. Сдай его сейчас же комитету, и завтра ты получишь от
милиции расписку.
— Какой еще револьвер? — отступая к окну и стараясь,
насколько хватало сил, казаться спокойным, переспросил я.
— Не запирайся, пожалуйста! Я знаю, что ты всегда носишь
маузер с собой. И сейчас он у тебя в правом кармане. Сдай лучше
1 Авантюрист — искатель приключений, проходимец, человек, участвующий и
бесчестном деле.
309
добровольно, или мы вызовем милицию. Давай! — И он протянул
руку.
— Маузер?
- Да.
— А этого не хочешь? — резко выкрикнул я, показывая ему
фигу.— Ты мне его давал? Нет. Ну так и катись к черту, пока не
получил по морде!
Быстро повернув голову, я увидел, что за моей спиной стоят
четверо готовых схватить меня сзади. Тогда я прыгнул вперед,
пытаясь прорваться к двери. Федька рванул меня за плечо.
Я ударил его кулаком, и тотчас же меня схватили за плечи
и поперек груди. Кто-то пытался вытолкнуть мою руку из кармана.
Не вынимая руки, я крепко впился в рукоятку револьвера.
«Отберут... Сейчас отберут...»
Тогда, как пойманный в капкан звереныш, я взвизгнул. Я вынул
маузер, большим пальцем вздернул предохранитель и нажал
спуск.
Четыре пары рук, державших меня, мгновенно разжались.
Я вскочил на подоконник. Оттуда я успел разглядеть белые, будто
ватные лица учеников, желтую плиту каменного пола, разбитую
выстрелом... Не раздумывая, я спрыгнул с высоты второго этажа
на клумбы ярко-красных георгин.
Поздно вечером по водосточной трубе, со стороны сада,
я пробирался к окну своей квартиры. Старался лезть потихоньку,
чтобы не испугать домашних, но мать услышала шорох, подошла
и спросила тихонько:
— Кто там? Это ты, Борис?
— Я, мама.
— Не ползи по трубе... сорвешься еще. Иди, я тебе дверь
открою.
— Не надо. мама... Пустяки, я и так...
Спрыгнув с подоконника, я остановился, приготовившись вы-
слушать ее упреки и жалобы.
— Есть хочешь? — все так же тихо спросила мать.— Садись,
я тебе супу достану, он теплый еще.
Тогда, решив, что мать ничего еще не знает, я поцеловал ее и,
усевшись за стол, стал обдумывать, как передать ей обо всем
случившемся. Рассеянно черпая ложкой перепрелый суп, я по-
чувствовал, что мать сбоку пристально смотрит на меня. От этого
мне стало неловко, и я опустил ложку на край тарелки.
зю
— Был инспектор,— сказала мать,— говорил, что из школы
тебя исключают и что если завтра к двенадцати часам ты не
сдашь свой револьвер в милицию, то они сообщат туда об этом и у
тебя отберут его силой. Сдай, Борис!
— Не сдам,— упрямо и не глядя на нее, ответил я.— Это па-
пин.
— Мало ли что папин! Зачем он тебе? Ты потом себе другой
достанешь. Ты и без маузера за последние месяцы какой-то
шальной стал, еще застрелишь кого-нибудь! Отнеси завтра и
сдай.
— Нет,— быстро заговорил я, отодвигая тарелку.— Я не хочу
другого, я хочу этот! Это папин. Я не шальной, я никого не заде-
ваю. Они сами лезут. Мне наплевать на то, что исключили, я бы и
сам ушел. Я спрячу его и не отдам.
— Бог ты мой! — уже раздраженно начала мать.— Ну, тогда
тебя посадят и будут держать, пока не отдашь!
— Ну и пусть посадят,— обозлился я.— Вон и Баскакова
посадили... Ну что ж, и буду сидеть, все равно не отдам... Не
отдам! — после небольшого молчания крикнул я так громко, что
мать отшатнулась.
— Ну, ну, не отдавай,— уже мягче проговорила она.— Мне-то
что?
Меня удивила уступчивость матери. Это было не похоже на нее.
Мать редко вмешивалась в мои дела, но зато уже когда заладит
что-нибудь, то не успокоится до тех пор, пока не добьется своего.
Спал крепко...
Проснулся, соскочил с кровати и заглянул в соседнюю ком-
нату — без пяти семь. Матери не было. Нужно было торопиться
и спрятать незаметно в саду маузер.
Накинул рубаху, сдернул со стула штаны — и внезапный холо-
док разошелся по телу: штаны были подозрительно легкими.
Тогда осторожно, как бы боясь обжечься, я протянул руку к
карману. Так и есть — маузера там не было: пока я спал; мать
вытащила его.
«Ах, вот оно... вот оно что!.. И она тоже против меня. А я-то
поверил ей вчера. То-то она так легко перестала уговаривать
меня... Она, должно быть, понесла его в милицию».
...Оглядевшись по углам, я заметил, что большой плетеной
корзины нет, и догадался, что мать ушла на базар. Но если ушла на
базар, то не взяла же она с собой маузер? Значит, она спрятала
311
его пока дома. Куда? И тотчас же решил: в верхний ящик шкафа,
потому что это был единственный ящик, который запирался на
ключ.
...Крак! Замок щелкнул. Потянул за ручку. Есть... маузер...
Кобура лежит отдельно. Схватил и то и другое. Запер ящик, ключ
через окно выбросил в сад и выбежал на улицу. Оглядевшись по
сторонам, я заметил возвращавшуюся с базара мать. Тогда я
завернул за угол и побежал по направлению к кладбищу.
На опушке перелеска остановился передохнуть. Бухнулся на
ворох сухих листьев и тяжело задышал, то и дело оглядываясь по
сторонам, точно опасаясь погони. Рядом протекал тихий, безмол-
вный ручеек. Вода была чистая, но теплая и пахла водорослями.
Не поднимаясь, я зачерпнул горсть воды и выпил, потом положил
голову на руки и задумался.
Что же теперь делать? Домой возвращаться нельзя, в школу
нельзя... Впрочем, домой можно... Спрятать маузер и вернуться.
Мать посердится и перестанет когда-нибудь. Сама же виновата —
зачем тайком вытащила? А из милиции придут? Сказать, что
потерял,— не поверят. Сказать, что чужой,— спросят, чей. Ничего
не говорить — как бы еще на самом деле не посадили! Подлец
Федька... Подлец!
Сквозь редкие деревья опушки виднелся вокзал.
У-у-у-у-у! — донеслось оттуда эхо далекого паровозного гудка.
Над полотном протянулась волнистая полоса белого пара, и
черный, отсюда похожий на жука паровоз медленно выкатился
из-за поворота.
У-у-у-у-у! — заревел он опять, здороваясь с дружески протяну-
той лапой семафора.
«А что, если...»
Я тихонько приподнялся и задумался.
И чем больше я думал, тем сильнее и сильнее манил меня
вокзал. Звал ревом гудков, протяжно-певучими сигналами путе-
вых будок, почти что ощущаемым запахом горячей нефти и глу-
биной далекого пути, убегающего к чужим, незнакомым гори-
зонтам.
«Уеду в Нижний,— подумал я.— Там найду Галку. Он в Сор-
мове. Он будет рад и оставит меня пока у себя, а дальше будет
видно. Все утихнет, и тогда вернусь. А может быть...— и тут что-то
изнутри подсказало мне: — может быть, и не вернусь».
«Будет так»,— с неожиданной для самого себя твердостью
312
решил я и, сознавая всю важность принятого решения, встал;
почувствовав себя крепким, большим, сильным, улыбнулся.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ФРОНТ
Глава первая
Прошло полгода. Письмо, адресованное мною к матери,
в солнечный апрельский день было опущено на вокзале.
«Мама!
Прощай, прощай! Уезжаю в группу славного товарища Си-
верса, который бьется с белыми войсками корниловцев и каледин-
цев1. Уезжает нас трое. Дали нам документы из сормовской
дружины, в которой состоял я вместе с Галкой. Мне долго давать
не хотели, говорили, что молод. Насилу упросил я Галку, и он
устроил. Он бы и сам поехал, да слаб и кашляет тяжело. Голова
у меня горячая от радости. Все, что было раньше,— это пустяки,
а настоящее в жизни только начинается, оттого и весело...»
На третий день пути, во время шестичасовой стоянки на ка-
кой-то маленькой станции, мы узнали о том, что в соседних во-
лостях не совсем спокойно: появились небольшие бандитские шай-
ки и кое-где были перестрелки кулаков с продотрядами2. Уже
поздно ночью к составу подали паровоз...
...Поезд шел тихо, должно быть на подъем. Огромное густое
зарево обволокло весь горизонт. Над заревом, точно опаленные
огнем пожара, потухали светлячки звезд и таяла побледневшая
луна.
— Земля бунтует,— послышалось из темного угла чье-то
спокойное бодрое замечание.
— Плети захотела, оттого и бунтует,— тихо и озлобленно от-
ветил противоположный угол.
Сильный треск оборвал разговоры. Вагон качнуло, ударило,
я слетел с нар на головы расположившихся на полу. Все смеша-
лось, и черное нутро вагона с воплями кинулось в распахнутую
дверь теплушки.
1 Корниловцы и калёдинцы — участники контрреволюционного движения,
возглавляемого генералами Корниловым и Калединым (1917-1918).
2 Продотряд — продовольственный отряд. Во время гражданской войны прод-
отряды снабжали хлебом Красную Армию и рабочих.
313
Крушение.
Я неловко бухнулся в канаву возле насыпи, еле успев вскочить,
чтобы не быть раздавленным спрыгивавшими людьми. Два раза
ударили выстрелы. Рядом какой-то человек, широко растопырив
дрожащие руки, торопливо говорил:
— Это ничего... Это ничего... Только не надо бежать, а то они
откроют стрельбу. Это же не белые, это здешние станичники. Они
только ограбят и отпустят.
К вагону подбежали двое с винтовками, крича:
— Зз...алезай!.. Зз...алезай обратно!.. Куда выскочили?
Народ шарахнулся к теплушкам. Оттолкнутый кем-то, я осту-
пился и упал в сырую канаву. Распластавшись, быстро, как
ящерица, я пополз к хвосту поезда. Наш вагон был предпоследним,
и через минуту я очутился уже наравне с тускло посвечивающим
сигнальным фонарем заднего вагона. Здесь стоял мужик с винтов-
кой. Я хотел было повернуть обратно, но человек этот, очевидно
заметив кого-то с другой стороны насыпи, побежал туда. Один
прыжок — ия уже катился вниз по скату скользкого глинистого
оврага. Докатившись до дна, я встал и потащился к кустам, еле
поднимая облипшие глиной ноги...
Ожил лес, покрытый дымкой молодой зелени. Где-то далеко
задорно перекликались петухи. С соседней поляны доносилось
кваканье вылезших погреться лягушек. Кое-где в тени лежали еще
островки серого снега, но на" солнечных просветах прошлогодняя
жесткая трава была суха. Я отдыхал, куском бересты счищая
с сапог пласты глины. Потом я взял пучок травы, обмакнул его
в воду и вытер перепачканное грязью лицо.
Места незнакомые. Какими дорогами выбираться на ближай-
шую станцию? Где-то собаки лают — должно быть, деревня
близко. Если пойти спросить? А вдруг нарвешься на кулацкую
засаду? Спросят — кто, откуда, зачем. А у меня документ да еще
в кармане маузер. Ну, документ, скажем, в сапог можно запря-
тать. А маузер? Выбросить.
Я вынул его, повертел. И жалко стало. Маленький маузер так
крепко сидел в моей руке, так спокойно поблескивал вороненой
сталью плоского ствола, что я устыдился своей мысли, погладил
его и сунул обратно за пазуху, во внутренний, приделанный к
подкладке потайной карман.
Утро было яркое, гомонливое, и, сидя на пенышке посреди
желтой полянки, не верилось тому, что есть какая-то опасность...
314
Глава вторая
...Не успел я пройти и двухсот шагов, как услышал гогот гусей,
хрюканье свиньи и сквозь листву увидел зеленую крышу одинокого
хутора.
«Подкрадусь,— решил я.— Посмотрю, если нет ничего по-
дозрительного, спрошу дорогу и попрошу немного поесть».
Встал за кустом бузины. Было тихо. Людей не было видно, из
трубы шел легкий дымок. Стайка гусей вперевалку направлялась
в мою сторону. Легкий хруст обломанной веточки раздался сбоку
от меня. Ноги разом напряглись, и я повернул голову. Но тотчас
же испуг мой сменился удивлением. Из-за куста, в десяти шагах
в стороне, на меня пристально смотрели глаза притаившегося там
человека. Человек этот не был, очевидно, хозяином хутора, потому
что сам спрятался за ветки и следил за двором. Так поглядели мы
один на другого внимательно, настороженно, как два хищника,
встретившиеся на охоте за одной и той же добычей. Потом по
молчаливому соглашению завернули подальше в чащу и подошли
один к другому.
Он был одного роста со мною. На мой взгляд, ему было лет
семнадцать. Черная суконная тужурка плотно обхватывала его
крепкую мускулистую фигуру, но на ней не было ни одной пугови-
цы — похоже, что пуговицы были не случайно оторваны, а нарочно
срезаны. К его крепким брюкам, заправленным в запачканные
глиной хромовые сапоги, пристало несколько сухих травинок.
Бледное, измятое лицо с темными впадинами под глазами
заставляло думать, что он, вероятно, тоже ночевал в лесу.
— Что,— сказал он негромко, кивая головой в сторону хуто-
ра,— думаешь туда?
— Туда,— ответил я.— А ты?
— Не дадут,— проговорил он.— Я увидел уже: там трое здо-
ровенных мужиков. Мало ли на что попасть можно!
— А тогда как же?.. Ведь есть-то надо!
— Надо,— согласился он.— Только не Христа ради. Нынче
милостыню не подают. Ты кто? — спросил он и, не дожидаясь
ответа, добавил:— Ладно... Мы и сами достанем. Одному трудно,
я пробовал уже, а вдвоем достанем. Тут в кустах гуси бродят,
здоровые.
— Чужие?
Он посмотрел на меня, как бы удивляясь нелепости моего
замечания, и добавил тихо:
315
— Нынче чужого ничего нет — нынче все свое. Ты зайди за
полянку и гони тихонько гуся на меня, а я за кустом спрячусь...
Долго гусь еще хлопал крыльями, дергал лапами и, обесси-
ленный, затих только тогда, когда мы очутились в укромном глу-
хом овраге. Тогда незнакомец отшвырнул гуся и, доставая табак,
сказал, тяжело дыша:
— Хватит... Здесь можно и остановиться.
Новый товарищ вынул перочинный нож и стал потрошить гуся,
молча и изредка поглядывая в мою сторону.
Я набрал хворосту, навалил целую груду и спросил:
— Спички есть?
— Возьми,— и окровавленными пальцами он осторожно про-
тянул коробок.— Не трать много.
Тут я как следует разглядел его. Налет пыли, осевший на коже,
не мог скрыть ровной белизны подвижного лица. Когда он говорил,
правый уголок его рта чуть вздрагивал и одновременно немного
прищуривался левый глаз. Он был старше меня года на два и, по-
видимому, сильнее. Пока украденный гусь жарился на вертеле,
распространяя вокруг мучительно аппетитный запах, мы лежали
на траве.
— Курить хочешь? — спросил незнакомец.
— Нет, не курю.
— Ты в лесу ночевал?.. Холодно,— добавил он, не ожидая
ответа.— Ты как сюда попал? Тоже оттуда? — И он махнул рукой
в сторону полотна железной дороги.
— Оттуда. Я убежал с поезда, когда его остановили.
— Документы проверяли?
— Нет,— удивился я.— Какие там документы — бандиты на-
пали.
— А-а-а...— и он молча запыхтел папироской.
— Ты куда пробираешься? — после долгого молчания неожи-
данно спросил он.
— Я на Дон...— начал было я и замолчал.
— На До-он? — протянул он привставая.— Ты... на Дон?
Быстрая и недоверчивая улыбка пробежала по его тонким
потрескавшимся губам, прищуренные глаза широко раскрылись,
но тотчас же потухли, лицо его стало равнодушным, и он спросил
лениво:
— Что же у тебя там, родные, что ли?
— Родные...— ответил я осторожно, потому что почувствовал,
316
как он старается выпытать все обо мне, а сам умышленно
остается в тени.
Он опять замолчал, повернул на другой бок гуся, с которого
скатывались капли шипящего жира, и сказал спокойно:
— Я тоже в те места пробираюсь, только не к родным, а в
отряд.
— К Сиверсу? — чуть не крикнул я, обрадовавшись.
Он улыбнулся.
— Не к Сиверсу, а к Саблину...
Он рассказал мне, что учился в Пензе, приехал к дяде-учителю
в находившуюся неподалеку отсюда волость, но в волости восста-
ли кулаки, и он еле успел убежать.
Уплетая разорванного на части, обгоревшего и пахнувшего
дымом гуся, мы долго и дружески болтали с ним. Я был счастлив,
что нашел себе товарища. Прибавилось сразу бодрости, и каза-
лось, что теперь вдвоем нетрудно будет выкрутиться из ловушки,
в которую мы оба попали.
— Ляжем спать, пока солнце,— предложил новый товарищ.—
Сейчас хоть выспимся, а то ночью из-за холода глаз не сомкнуть.
Мы растянулись на лужайке, и вскоре я задремал. Вероятно,
я и уснул бы, если бы не муравей, заползший мне в ноздрю.
Я приподнялся и зафыркал.
...После жирной еды мне захотелось пить. Воды поблизости не
было, я решил спуститься на дно оврага, где, по моим предположе-
ниям, должен был пробегать ручей. Ручей нашел, но из-за вязкого
берега подойти к нему было трудно. Я пошел вниз, надеясь ра-
зыскать более сухое место. По дну оврага, параллельно течению
ручья, пролегала неширокая проселочная дорога. На сырой глине
я увидел отпечатки лошадиных подков и свежий конский навоз.
Похоже было на то, что утром здесь прогоняли табун.
Наклонившись, чтобы поднять выпущенную из рук палочку,
я заметил на дороге какую-то блестящую, втоптанную в грязь
вещичку. Я поднял ее и вытер. Это была сорванная с зацепки
жестяная красная звездочка, одна из тех непрочных, грубовато
сделанных звездочек, которые красными огоньками горели в во-
семнадцатом году на папахах красноармейцев, на блузах рабочих
и большевиков.
«Как она очутилась здесь?» — подумал я, внимательно
оглядывая дорогу. И, опять наклонившись, заметил пустую гильзу
от трехлинейной винтовки.
317
Позабыв даже напиться, я понесся обратно к оставшемуся
товарищу. Товарищ почему-то не спал и стоял возле куста,
осматриваясь по сторонам и, по-видимому, разыскивая меня.
— Красные! — крикнул я во все горло, подбегая к нему сбоку.
Он отпрыгнул согнувшись, как будто сзади него раздался
выстрел, и обернулся ко мне с перекошенным от страха лицом.
Но, увидев только одного меня, он выпрямился и сказал
сердито, пытаясь объяснить свой испуг:
— Ч-черт... гаркнул под самое ухо...
— Красные,— гордо повторил я.
— Где красные? Откуда?
— Сегодня утром проходили. По всей дороге следы от подков,
навоз совсем свежий... Гильза стреляная и вот это...— Я протянул
ему звездочку.
Товарищ облегченно вздохнул:
— Ну, так бы и говорил.— И опять добавил, как бы оправ-
дываясь:— А то кричит... Я черт знает что подумал.
— Идем скорей... идем по той же дороге. Дойдем до первой
деревни, они, может быть, там еще отдыхают. Идем же,— торопил
я,— чего раздумывать?
— Идем,— согласился он, как мне показалось, после некоторо-
го колебания.— Да, да, конечно, идем...
Чем ближе мы подходили к незнакомой деревеньке, тем чаще
и чаще останавливался мой товарищ.
— Нечего торопиться,— убеждал он,— вечером в сумерках
удобнее подойти будет. В случае, если отряда там нет, нас никто не
заметит. Пройдем задами, да и только. А то сейчас чужому чело-
веку в незнакомой местности опасно!
Я соглашался с ним, что в сумерках разведать безопаснее, но
меня брало нетерпение скорее попасть к своим, и я еле сдерживал
шаг.
Не доходя до деревеньки, мой спутник остановился у заросшей
кустарником лощины, предложил свернуть с дороги и обсудить,
как быть дальше. В кустах он сказал мне:
— Я так думаю, что вдвоем на рожон переть нечего. Давай —
один останется здесь, а другой проберется огородами к деревне
и разузнает. Меня что-то сомнение берет. Тихо уж очень, и собаки
не лают. Красных там, может, и нет, а кулачье с винтовками
наверное найдется.
— Давай тогда вдвоем проберемся.
318
Вдвоем хуже. Чудак! — И он дружески похлопал меня по
плечу.— Ты останься, а я один как-нибудь управлюсь, а то зачем
тебе понапрасну рисковать? Ты ожидай меня здесь.
«Хороший парень,— подумал я, когда он ушел.— Странный
немного, а хороший. Иной бы опасное на другого свалил или
предложил жребий тянуть, а этот сам идти вызвался».
Вернулся он через час,— раньше, чем я ожидал. В руках его
была увесистая, по-видимому только что срезанная и обструганная
дубинка.
— Скоро ты! — крикнул я.— Ну что же?
— Нету,— еще издалека замотал он головой.— И нет и не бы-
ло вовсе! Должно быть, красные завернули на другую дорогу,
к Суглинкам, это недалеко отсюда.
— Да хорошо ли ты узнал? — переспросил я упавшим
голосом.— Неужели так и нет?
— Так-таки и нет. Мне в крайней избе старуха сказала, да еще
мальчишка в огороде попался, тот тоже подтвердил. Видно, брат,
заночуем здесь, а завтра дальше вслед.
Я опустился на траву и задумался. И тут-то подкралось ко
мне первое сомнение в правдивости слов моего спутника. Смутила
меня его палка. Палка была тяжелая, дубовая, вырезанная на-
лобком, то есть с шишкой на конце. Видно было, что он вырезал
ее только что. До деревни отсюда около часа ходьбы. Если кра-
дучись пробираться да порасспросить и вернутся, тут как раз в
два часа еле-еле управишься, а он ходил никак не больше часа
и за это время успел еще дубовую палку вырезать и обделать. А
над нею одной с перочинным ножом возни не меньше получаса!
Неужели он струсил, ничего не разузнал и просидел все время в
кустах? Нет, не может быть, он же сам вызвался идти разузнать.
Зачем же тогда было ему вызываться? Да он и не похож на труса.
Конечно страшно, нечего и говорить, но ему и самому надо ведь
как-то выбираться. Натаскали охапку сухих листьев и улеглись
рядом, укрывшись моим пальто. Так лежали молча с полчаса.
Сырость от земли начинала холодить бок. «Листьев набрали
мало»,— подумал я и поднялся.
— Ты чего? — полусонным недовольным голосом спросил то-
варищ.— Чего тебе не спится?
— Сыро... Ты лежи, я сейчас еще охапки две подброшу.
Рядом листву мы уже подобрали, и я пошел в кусты поближе
к дороге. Луна только еще всходила, и в темноте было трудно
319
разобраться. Попадались под руку сучья и ветки. Тихий стук
донесся со стороны дороги. Кто-то не то шел, не то ехал. Бросив
охапку и стараясь не задевать веток, я направился к дороге.
По сырой, мягкой земле неторопливо и почти бесшумно под-
вигалась крестьянская подвода. Разговаривали вполголоса двое.
— Да ведь как сказать,— спокойно говорил один.— Да ведь
если разобраться, он, может, и правильно говорил.
— Командир-от? — переспросил другой.— Конечно, может, и
правильно. Да кабы они тут постоянно стояли, а то нынче приеха-
ли, поговорили — и дальше. А там придут опять наши заправилы
и хотя бы мне, к примеру, скажут: «Ах, такой-разэдакий, ты
кулаков показывал, душа из тебя вон!» Красным что... Побыли,
а сегодня опять подводы наряжают, а наши-то всегда около. Вот
тут и почеши затылок!
— Подводы наряжают?
— А то как же. С вечеру стучал Федор, солдат ихний, чтобы,
значит, к двенадцати подводу.
Голоса стихли. Я стоял, не зная, что думать. Значит, правда,
значит, красные все-таки в деревне. Значит, мой спутник обманул
меня. Красные уезжают, а потом ищи их опять. Надо скорее. Но
зачем он обманул меня?
Первою мыслью было броситься одному и бежать по дороге на
деревню. Но тут я вспомнил, что. пальто мое осталось на полянке.
«Надо все-таки вернуться, успею еще. Да и этому сказать надо,
хоть он и трус, а все-таки свой же».
Сбоку шорох. Я увидел, что мой товарищ выходит из-за кустов.
Очевидно, он пошел вслед за мной и, так же спрятавшись,
подслушивал разговор проезжавших мужиков.
— Ты что же это? — укоризненно и сердито начал было я.
— Идем! — вместо ответа возбужденно проговорил он. '
Я сделал шаг в сторону дороги, он — за мной.
Сильный удар дубины сбил меня с ног. Удар был тяжел, хотя
его и ослабила моя меховая шапка. Я открыл глаза. Опустив-
шись на корточки, мой спутник торопливо разглядывал при лунном
свете вытащенный из кармана моих штанов документ.
«Вот что ему нужно было,— понял я.— Вот оно что: он вовсе
и не трус, он знал, что в деревне красные, и нарочно не сказал это-
го, чтобы оставить меня ночевать и обокрасть. Он даже и не пов-
станец, потому что сам боится кулаков, он — настоящий белый».
Я сделал попытку привстать, с тем чтобы отползти в кусты.
320
Незнакомец заметил это, сунул документы в свою кожаную сумку
и подошел ко мне.
— Ты не сдох еще? — холодно спросил он.— Собака, нашел
себе товарища! Я бегу на Дон, только не к твоему собачьему
Сиверсу, а к генералу Краснову.
Он стоял в двух шагах от меня и помахивал тяжелой дубиной.
Тук-тук...— стукнуло сердце. Тук-тук...— настойчиво заколоти-
лось оно обо что-то крепкое и твердое. Я лежал на боку, и правая
рука моя была на груди. И тут я почувствовал, как мои пальцы
осторожно, помимо моей воли, пробираются за пазуху, в потайной
карман, где был спрятан папин подарок — мой маузер.
Если незнакомец даже и заметил движение моей руки, он не
обратил на это внимания, потому что не знал ничего про маузер.
Я крепко сжал теплую рукоятку и тихонько сдернул предохрани-
тель. В это время мой враг отошел еще шага на три — то ли затем,
чтобы лучше оглядеть меня, а вернее всего затем, чтобы с разбегу
еще раз оглушить дубиной. Сжав задергавшиеся губы, точно
распрямляя затекшую руку, я вынул маузер и направил его
в сторону приготовившегося к прыжку человека. Я видел, как вне-
запно перекосилось его лицо, слышал, как он крикнул, бросаясь
на меня, и скорее машинально, чем по своей воле, нажал спуск...
Он лежал в двух шагах от меня со сжатыми кулаками,
вытянутыми в мою сторону. Дубинка валялась рядом.
«Убит»,— понял я и уткнул в траву отупевшую голову, гудев-
шую, как телеграфный столб от ветра.
Так, в полузабытьи, пролежал я долго. Жар спал. Кровь отлила
от лица, неожиданно стало холодно, и зубы потихоньку выбивали
дробь. Я приподнялся, посмотрел на протянутые ко мне руки, и мне
стало страшно. Ведь это уже всерьез! Все, что происходило в моей
жизни раньше, было в сущности похоже на игру, даже побег из
дома, даже учеба в боевой дружине со славными сормовцами, да-
же вчерашнее шатанье по лесу, а это уже всерьез. И страшно стало
мне, пятнадцатилетнему мальчугану, в черном лесу рядом с по-
настоящему убитым мною человеком... Голова перестала шуметь,
и холодной росой покрылся лоб. Подталкиваемый страхом, я
поднялся, на цыпочках подкравшись к убитому, схватил валяв-
шуюся на траве сумку, в которой был мой документ, и задом,
не спуская с лежавшего глаз, стал пятиться к кустам. Потом
обернулся и напролом через кусты побежал к дороге, к деревне,
к людям,— только бы не оставаться больше одному.
Ч. Зак. 2348. М. А. Снежневская
321
Глава третья
У первой хаты меня окликнули:
— Кого черт несет? Эй, хлопец! Да стой же ты, балда этакая!
Из тени от стены хаты отделилась фигура человека с винтов-
кой и направилась ко мне.
— Куда несешься? Откуда? — спросил дозорный, поворачивая
меня лицом к лунному свету.
— К вам...— тяжело дыша, ответил я.— Ведь вы товарищи...
Он перебил меня:
— Мы-то товарищи, а ты кто?
— Я тоже...— отрывисто начал было я. И, почувствовав, что
не могу отдышаться и продолжать говорить, молча протянул
ему сумку.
— Ты тоже? — уже веселее, но еще с недоверием переспросил
дозорный.— Ну, пойдем тогда к командиру, коли ты тоже!
Несмотря на поздний час, в деревне не спали. Ржали кони. Скри-
пели распахиваемые ворота — выезжали крестьянские подводы.
...Дзинь-динь!.. Дзик-дзак!..— послышался металлический лязг
сбоку. Человек в черной папахе, при шпорах, с блестящим
волочившимся палашом1, с деревянной кобурой маузера и нагай-
кой, перекинутой через руку, выводил коня из ворот. Рядом шел
горнист с трубой.
— Сбор,— сказал человек, занося ногу в стремя.
Та-та-ра-та... тэта...— мягко и нежно запела сигнальная
труба.— Та-та-та-та-а-а...
— Шебалов,— окрикнул мой провожатый,— погодь минутку!
Вот до тебя тут человека привел.
— На што? — не опуская занесенной в стремя ноги, спросил
тот.— Что за человек?
— Говорит, что наш... свой, значит... и документы...
— Некогда мне,— ответил командир, вскакивая на коня.— Ты,
Чубук, и сам грамотный, проверь... Коли свой, так отпусти, пусть
идет с богом.
— Я никуда не пойду,— заговорил я, испугавшись возможно-
сти опять остаться одному.— Я и так два дня один по лесам бегал.
Я к вам пришел. И я с вами хочу остаться.
— С нами? — как бы удивляясь, переспросил человек в черной
папахе.— Да ты, может, нам и не нужен вовсе!
1 Палаш — холодное оружие с прямым и широким клинком, на конце обою-
доострым.
322
— Нужен,— упрямо повторил я.— Куда я один пойду?
— А верно ж! Если вправду свой, то куда он один пойдет? —
вступился мой конвоир.— Нынче одному здесь прогулки плохие.
Ты, Шебалов, не морочь человеку голову, а разберись. Когда врет,
так одно дело; а если свой, так нечего от своего отпихиваться.
Слазь с жеребца-то, успеешь.
— Чубук! — сурово проговорил командир.— Ты как разгова-
риваешь? Кто этак с начальником разговаривает? Я командир или
нет? Командир я, спрашиваю?
— Факт,— спокойно согласился Чубук.
— Ну, так тогда я и без твоих замечаний слезу.
Он соскочил с коня, бросил поводья на ограду и, громыхая
палашом, направился в избу.
Только в избе, при свете сальной коптилки, я разглядел его как
следует. Бороды и усов не было. Узкое, худощавое лицо его было
коряво. Густые белесоватые брови сходились на переносице, из-
под них выглядывала пара добродушных круглых глаз, которые он
нарочно щурил, очевидно для того, чтобы придать лицу надлежа-
щую суровость. По тому, как долго он читал мой документ и при
этом слегка шевелил губами, я понял, что он не особенно грамотен.
Прочитав документ, он протянул его Чубуку и сказал с сомнением:
— Ежели не фальшивый документ, то, значит, настоящий. Как
ты думаешь, Чубук?
— Ага,— спокойно согласился тот, набивая махоркой кривую
трубку.
— Ну, а как ты сюда попал? — спросил командир.
Я начал рассказывать горячо и волнуясь, опасаясь, что мне не
поверят. Но, по-видимому, мне поверили, потому что, когда я
кончил, командир перестал щурить глаза и, обращаясь к Чубуку,
проговорил добродушно:
— А ведь если не врет, то, значит, вправду наш паренек! Как
тебе показалось, Чубук?
— Угу,— спокойно подтвердил Чубук, выколачивая пепел о
подошву сапога.
— Ну, так что же мы будем с ним делать-то?
— А мы зачислим его в первую роту, и пускай ему Сухарев
даст винтовку, которая осталась от убитого Пашки,— подсказал
Чубук.
Командир подумал, постучал пальцами по столу и приказал
серьезно:
11 * 323
— Так сведи же его, Чубук, в первую роту и скажи Сухареву,
чтобы дал он ему винтовку, которая осталась от убитого Пашки,
а также патронов, сколько полагается. Пусть он внесет этого
человека в списки нашего революционного отряда.
Дзинь-динь!.. Дзик-дзак!..— лязгнули палац), шпоры и мау-
зер. Распахнув дверь, командир неторопливо спустился к коню.
— Идем,— сказал солидный Чубук и неожиданно потрепал
меня по плечу.
Снова труба сигналиста мягко, переливчато запела. Громче
зафыркали кони, сильней заскрипели подводы. Почувствовав себя
необыкновенно счастливым и удачливым, я улыбался, шагая к
новым товарищам. Всю ночь мы шли. К утру погрузились в
поджидавший нас на каком-то полустанке эшелон. К вечеру при-
цепили ободранный паровоз, и мы покатили дальше, к югу, на
помощь отрядам и рабочим дружинам, боровшимся с захвативши-
ми Донбасс немцами, гайдамаками1 и красновцами2.
Наш отряд носил гордое название «Особый отряд революци-
онного пролетариата». Бойцов в нем оказалось немного, человек
полтораста. Отряд был пеший, но со своей конной разведкой
в пятнадцать человек под командой Феди Сырцова. Всем отрядом
командовал Шебалов — сапожник, у которого еще пальцы не за-
жили от порезов дратвой и руки не отмылись от черной краски.
Чудной был командир! Относились к нему ребята с уважением,
хотя и посмеивались над некоторыми его слабостями. Одной его
слабостью была любовь к внешним эффектам: конь был убран
красными лентами, шпоры (и где он их только выкопал, в музее,
что ли?) были неимоверной длины, изогнутые, с зубцами,— такие
я видел только на картинках с изображением средневековых
рыцарей; длинный никелированный палаш спускался до земли,
а в деревянную покрышку маузера была врезана медная пластин-
ка с вытравленным девизом: «Я умру, но и ты, гад, погибнешь!»
Говорили, что дома у него осталась жена и трое ребят. Старший
уже сам работает. Дезертировав после Февраля с фронта, он сидел
и тачал сапоги, а когда юнкера начали громить Кремль, надел
праздничный костюм, чужие, только что сшитые на заказ хромо-
1 Гайдамаки — здесь: контрреволюционные войска украинской Центральной
Рады.
2 Красндвцы — участники контрреволюционного движения, возглавляемого
генералом Красновым (1917—1918).
324
выё сапоги, достал на Арбате у дружинников винтовку и с тех пор,
как выражался он, «ударился навек в революцию».
Глава четвертая
...Отряду была дана задача: минуя разбросанные по деревень-
кам части противника, зайти в тыл и связаться с действующим
отрядом донецких шахтеров Бегичева...
Мимо прошел озабоченный Шебалов. Рядом упругой, крепкой
походкой шагал Федя и быстро говорил что-то командиру.
Остановились возле Сухарева.
До меня долетели слова:
— Разведка по оврагу.
— Конных?
— Конных нельзя, заметно слишком. Пошли трех своих,
Сухарев.
— Чубук,— негромко, как бы спрашивая, сказал Шебалов,—
ты за старшего пойдешь? С собой Шмакова возьми и еще выбери
кого-нибудь понадежнее.
— Возьми меня, Чубук,— тихо попросил я.— Я буду очень
надежным.
— Возьми Симку Горшкова,— предложил Сухарев.
— Меня, Чубук,— зашептал я опять,— возьми меня... Я буду
самый надежный.
— Угу! —сказал Чубук и мотнул головой.
Я вскочил, едва не завизжав, потому что сам не верил в то, что
меня возьмут на такое серьезное дело. Пристегнув подсумок
и вскинув винтовку на плечо, остановился, смущенный присталь-
ным, недоверчивым взглядом Сухарева.
— Зачем его берешь? — спросил он Чубука.— Он тебе все дело
испортить может — возьми Симку.
— Симку? — переспросил, как бы раздумывая. Чубук и, чир-
кая спичкой, закурил.
«Дурак! — бледнея от обиды и ненависти к Сухареву, про-
шептал я про себя.— Как он может при всех так отзываться обо
мне? А не возьмут, так я нарочно сам проберусь... Нарочно вот до
самой деревни, все разузнаю и вернусь. Пусть тогда Сухарев
сдохнет от досады!»
Чубук закурил, хлопнул затвором, вложил в магазин четыре
патрона, пятый дослал в ствол и, поставив на предохранитель,
сказал равнодушно, не чувствуя, как важно для меня его решение:
325
— Симку? Что ж, можно и Симку.— Он поправил патронташ
и, взглянув на мое побледневшее лицо, неожиданно улыбнулся
и сказал грубовато:— Да что ж Симку... Он... и этот постарается,
коли у него есть охота. Пошли, парень!
Я кинулся к опушке.
— Стой! — строго остановил меня Чубук.— Не жеребцуй, это
тебе не на прогулку. Бомба у тебя есть? Нету? Возьми у меня од-
ну. Погоди, да не суй ее в карман рукояткой, станешь вынимать,
кольцо сдернешь. Суй запалом вниз. Ну, так. Эх ты,— добавил
он уже мягче,— белая горячка!
Глава пятая
— Пробирайся по правому скату,— приказал Чубук.— Шма-
ков пойдет по левому, а я — вниз посередке. Как что заметите,
так мне знак подавайте.
Мы стали медленно продвигаться. Через полчаса на краю ле-
вого ската, чуть-чуть позади, я увидел Шмакова. Он шел согнув-
шись, немного выставив голову вперед. Обыкновенно добродуш-
но-плутоватое лицо его было сейчас серьезно и зло.
Овраг сделал изгиб, и я потерял из виду и Шмакова, и Чубука.
Я знал, что они где-то здесь неподалеку так же, как и я, продвига-
ются, укрываясь за кусты, и сознание того, что, несмотря на
кажущуюся разрозненность, мы крепко связаны общей задачей
и опасностью, подкрепляло меня. Овраг расширился. Заросли
пошли гуще. Опять поворот, и я пластом упал на землю.
По широкой, вымощенной камнем дороге, пролегавшей всего
в сотне шагов от правого ската, двигался большой кавалерий-
ский отряд.
Вороные, на подбор сытые кони бодро шагали под всадниками,
впереди ехали три или четыре офицера. Как раз напротив меня от-
ряд остановился, командир вынул карту и стал рассматривать, ее.
Пятясь задом, я сполз вниз и обернулся, отыскивая взглядом
Чубука, с тем чтобы скорее подать ему условленный сигнал.
Было страшно, но все-таки успела промелькнуть горделивая
мысль, что я недаром пошел в разведку, что не кто-нибудь другой,
а я первый открыл неприятеля.
«Где же Чубук? — подумал я с тревогой, поспешно огляды-
ваясь по сторонам.— Что же это он?» Я уже хотел скатиться вниз
и разыскать его, как внимание мое привлек чуть шевелившийся
куст на левом скате оврага.
326
С противоположного ската, осторожно высунувшись из-за
ветвей, Васька Шмаков подавал мне рукой какие-то непонятные,
но тревожные сигналы, указывая на дно оврага. Сначала
я думал, что он приказывает мне спуститься вниз, но, следуя
взглядом по направлению его руки, я тихонько ахнул и поджал
голову.
По густо разросшемуся дну оврага шел белый солдат и вел в
поводу лошадь. То ли он искал водопоя, то ли это был один из до-
зорных флангового разъезда, охранявшего движение колонны,
но это был враг, вклинившийся в расположение нашей разведки.
Я не знал теперь, что мне делать. Всадник скрылся за кустами.
Мне виден был только Васька. Но Ваське, очевидно, с противопо-
ложной стороны было видно еще что-то, скрытое от меня.
Он стоял на одном колене, упершись прикладом в землю,
и держал вытянутую в мою сторону руку, предупреждая, чтобы я
не двигался, и в то же время смотрел вниз, приготовившись
прыгнуть.
Топот, раздавшийся справа от меня, заставил меня обернуться.
Кавалерийский отряд свернул на проселочную дорогу и взял рысь.
В тот же момент Васька широко махнул мне рукой и сильным
прыжком прямо через кусты кинулся вниз. Я тоже. Скатившись на
дно оврага, я рванулся вправо и увидел, что возле одного из кустов
кубарем катаются два сцепившихся человека. В одном из них
я узнал Чубука, в другом — неприятельского солдата. Не помню
даже, как я очутился возле них. Чубук был внизу, он держал за
руки белого, пытавшегося вытащить из кобуры револьвер. Вместо
того чтобы сшибить врага ударом приклада, я растерялся, бросил
винтовку и потащил его за ноги, но он был тяжел и отпихнул меня.
Я упал навзничь и, ухватившись за его руку, укусил ему палец.
Белый вскрикнул и отдернул руку. Вдруг кусты с шумом раздви-
нулись, появился до пояса мокрый Васька и четким учебным
приемом на скаку сбил солдата прикладом.
Откашливаясь и отплевываясь, Чубук поднялся с травы.
— Васька,— хрипло и отрывисто сказал он и показал рукой на
щипавшего траву коня.
— Ага,— ответил Васька и, схватив тащившийся по земле
повод, дернул его к себе.
— С собой,— так же быстро проговорил Чубук, указывая на
оглушенного гайдамака.
Васька понял его.
327
— Вяжи руки!
Чубук поднял мою винтовку, двумя взмахами штыка перерезал
ружейный ремень и крепко стянул им локти еще не очнувшегося
солдата.
— Бери за ноги! — крикнул он мне.— Живее, шкура! —
выругался он, заметив мое замешательство.
Перевалили пленника через спину лошади. Васька вскочил
в седло, не сказав ни слова, стегнул коня нагайкой и помчался
назад по неровному дну оврага.
— Сюда! — прохрипел мне багровый и потный Чубук, дергая
меня за руку.— Кати за мной!
И, цепляясь за сучья, он полез наверх.
— Стой,— сказал он, останавливаясь почти у края,— сиди!
Только-только успели мы притаиться за кустами, как внизу
показалось сразу пятеро всадников. Очевидно, это и было ядро
флангового разъезда. Всадники остановились, оглядываясь; оче-
видно, они искали своего товарища. Громкие ругательства
понеслись снизу. Все пятеро сорвали с плеч карабины. Один со-
скочил с коня и поднял что-то. Это была шапка солдата,-впопы-
хах оставленная нами на траве. Кавалеристы тревожно заговори-
ли, и один из них, по-видимому старший, протянул руку вперед.
«Догонять Ваську,— подумал я,— у него ноша тяжелая. Их
пятеро, а он один».
— Бросай вниз бомбу! — услышал я короткое приказание
и увидел, как в руке Чубука блеснуло что-то и полетело вниз.
Тупой грохот ошеломил меня.
— Бросай! — крикнул Чубук и тотчас же рванул мою занесен-
ную руку, выхватил мою бомбу и, щелкнув предохранителем,
швырнул ее вниз.
— Дура! — рявкнул он мне, совершенно оглушенному взрыва-
ми и ошарашенному быстрой сменой неожиданных опасностей.—
Дура! Кольцо снял, а предохранитель оставил!
Мы бежали по свежевспаханному вязкому огороду. Белые,
очевидно, не могли через кусты верхами вынестись по скату наверх
и, наверно, выбирались спешившись. Мы успели добежать до
другого оврага, завернули в одно из ответвлений, опять побежали
по полю, затем попали в перелесок и ударились напрямик в чащу.
Далеко, где-то сзади, послышались выстрелы.
— Не Ваську нагнали? — дрогнувшим, чужим голосом спро-
сил я.
328
— Нет,— ответил Чубук, прислушиваясь,— это так... после
времени досаду срывают. Ну, понатужься, парень, прибавим еще
ходу! Теперь мы им все следы запутаем.
Мы шли молча. Мне казалось, что Чубук сердится и презирает
меня за то, что я, испугавшись, выронил винтовку и по-мальчи-
шески нелепо укусил солдата за палец, что у меня дрожали руки,
когда взваливали пленника на лощадь, и главное за то, что я
растерялся и не сумел даже бросить бомбу. Еще стыднее и горше
становилось мне при мысли о том, как Чубук расскажет обо всем
в отряде, и Сухарев обязательно поучительно вставит: «Говорил
я тебе, не связывайся с ним; взял бы Симку, а то нашел кого!»
Слезы обиды и злости на себя, на свою трусость вот-вот готовы
были политься из глаз.
Чубук остановился, вынул кисет с махоркой, и, пока он набивал
трубку, я заметил, что пальцы Чубука тоже чуть-чуть дрожат. Он
закурил, затянулся несколько раз с такой жадностью, как будто бы
пил холодную воду, потом сунул кисет в карман, потрепал меня по
плечу и сказал просто и задорно:
— Что... живы, брат, остались? Ничего, Бориска, парень ты
ничего. Как это ты его за руку зубами тяпнул! — И Чубук добро-
душно засмеялся.— Прямо как чистый волчонок тяпнул. Что ж, не
всё одной винтовкой — на войне, брат, и зубы пригодиться могут!
— А бомбу...— виновато пробормотал я.— Как же это я ее
с предохранителем хотел?
— Бомбу? — улыбнулся Чубук.— Это, брат, не ты один, это
почти каждый непривыкщий обязательно неладно кинет: либо с
предохранителем, либо вовсе без капсюля. Я, когда сам молодой
был, так же бросал. Ошалеешь, обалдеешь, так тут не то что
предохранитель, а и кольцо-то сдернуть позабудешь. Так вроде
бы как булыжником запустишь — и то ладно. Ну, пошли... Идти то
нам еще далеко!
Дальнейший путь до стоянки отряда прошел и легко и без
устали. На душе было спокойно и торжественно, как после школь-
ного экзамена... Никогда ничего обидного больше Сухарев обо
мне не скажет.
Доскакавши до стоянки отряда, Васька сдал оглушенного
пленника командиру. К рассвету белый очухался и показал на
допросе, что полотно железной дороги, которое нам надо было
пересекать, охраняет бронепоезд, на полустанке стоит немецкий
батальон, а в Глуховке расквартирован белогвардейский отряд
под командой капитана Жихарева...
Глава шестая
Мир между Россией и Германией был давно уже подписан, но,
несмотря на это, немцы не только наводнили своими войсками
украинскую контрреволюционную в то время республику, но
вперлись и в Донбасс, помогая белым формировать отряды.
Огнем и дымом дышали буйные весенние ветры...
...Однажды, выступая в поход с хутора Архиповки, отряд выст-
роился развернутым фронтом вдоль улицы. При расчете левофлан-
говый красноармеец, теперь убитый маленький Хорек, крикнул:
— Сто сорок седьмой неполный!
До тех пор Хорек был всегда сто сорок шестым полным.
Шебалов заорал:
— Что врете! Пересчитать снова!
Снова пересчитали, и снова Хорек оказался сто сорок седьмым
неполным.
— Пес вас возьми! — рассердился Шебалов.— Кто счет пу-
тает, Сухарев?
— Никто не путает,— ответил из строя Чубук,— тут же лиш-
ний человек объявился.
Поглядели. Действительно, в строю между Чубуком и Никиши-
ным стоял новичок. Было ему лет восемнадцать-девятнадцать.
Черный, волосы кудрявые, лохматые.
— Ты откуда взялся? — спросил удивленно Шебалов.
Парень молчал.
— А он встал тут рядом,— объявил Чубук.— Я думал, нового
какого ты принял. Пришел с винтовкой и встал.
— Да ты хоть кто такой? — рассердился Шебалов.
— Я... цыган... красный цыган,— ответил новичок.
— Кра-а-асный цы-га-ан? — вытаращив глаза, переспросил
Шебалов и, вдруг засмеявшись, добавил:— Да какой же ты цыган,
ты же еще цыганенок!
Он остался у нас в отряде, и за ним так и осталась кличка Цы-
ганенок. Теперь у Цыганенка была прохвачена грудь. Бледность
просвечивала через кожу его коричневого лица, и запекшимися гу-
бами он часто шептал что-то на чужом, непонятном наречии...
Глава седьмая
Через два дня Цыганенку стало лучше. Вечером, когда я по-
дошел к нему, он лежал на охапке сухой листвы и, уставившись
в черное звездное небо, тихонько напевал что-то.
ззо
— Цыганенок,— предложил я ему,— дай я около тебя костер
разожгу, чай согрею, пить будем, у меня в баклаге1 молоко есть.
Хочешь?
Я сбегал за водой, подвесил котелок на шомпол2, перекину-
тый над огнем через два воткнутых в землю штыка, и, подсажи-
ваясь к раненому, спросил:
— Какую это ты песню поешь, Цыганенок?
Он ответил не сразу.
— А пою я песню такую старую, в ней говорится, что нет у
цыгана родной земли и та ему земля родная, где его хорошо при-
нимают. А дальше спрашивают: «А где же, цыган, тебя хорошо
принимают?» И он отвечает: «Много я стран исходил, был у вен-
гров, был у болгар, был у туретчины, много земель исходил я
с табором и еще не нашел такой земли, где бы хорошо мой табор
приняли».
— Цыганенок,— спросил я его,— а зачем ты у нас появился?
Ведь вас же не забирают на службу.
Он сверкнул белками, приподнялся на локте и ответил:
— Я пришел сам, меня не нужно забирать. Мне надоело в та-
боре! Отец мой умеет воровать лошадей, а мать гадает. Дед мой
воровал лошадей, бабка гадала. И никто из них себе счастья не
украл, и никто себе хорошей судьбы не нагадал, потому что
дорога-то ихняя, по-моему, не настоящая. Надо по-другому...
Цыганенок оживился, приподнялся, но боль раны, очевидно,
давала себя еще чувствовать, и, стиснув губы, он с легким стоном
опустился опять на кучу листвы.
Вскипевшее молоко разом ринулось на огонь и загасило пламя.
Я не успел выхватить котелок с углей. Цыганенок неожидан-
но рассмеялся.
— Ты чего?
— Так.— И он задорно тряхнул головой.— Я вот думаю, что
и народ весь эдак: и русские, и евреи, и грузины, и татары тер-
пели старую жизнь, терпели, а потом, как вода из котелка, вспе-
нились и кинулись в огонь. Я вот тоже... сидел, сидел, не’вытер
пел, захватил винтовку и пошел хорошую жизнь искать!
— И найти думаешь?
— Один не нашел бы... а все вместе должны бы... потому —
охота большая.
1 Баклага жестяной плоский сосуд
2 Шомпол — стержень для чистки ствола в огнестрельном оружии.
331
Подошел Чубук. ,
— Садись с нами чай пить,— предложил я.
— Некогда,— отказался он.— Пойдешь со мной, Борис?
— Пойду,— быстро ответил я, не спрашивая даже о том,
куда он зовет меня.
— Ну, так допивай скорее, а то подвода уже ждет!
— Какая подвода. Чубук?
Он отозвал меня и объяснил, что отряд к рассвету снимается,
соединится недалеко отсюда с шахтерским отрядом Бегичева,
и вместе они будут пробираться к своим. Трех тяжело ранен-
ных брать с собой нельзя: пробиваться придется мимо белых
и немцев.
Отсюда недалеко пасека. Там место глухое, хозяин свой и со-
гласился приютить у себя раненых на время, пока поправятся.
Оттуда Чубук привел подводы, и сейчас надо, пока темно, ране-
ных переправить туда.
— А еще с нами кто?
— Больше никого. Вдвоем мы. Я бы и один управился, да ло-
шадь норовистая попала. Придется одному под уздцы вести,
а другому за товарищами присматривать. Так пойдешь, значит?
— Пойду, пойду, Чубук. Я с тобой Чубук, всегда и всюду
пойду. А оттуда куда, назад?
— Нет. Оттуда мы прямой дорогой вброд через речку, там со
своими и встретимся. Ну, трогаем.— И Чубук пошел к голове ло-
шади.— Винтовка моя, смотри, чтобы не выпала,— послышался
из темноты его голос.
Телега легонько дернула, в лицо брызнули капли росы, упав-
шие с задетого колесом куста, и черный поворот скрыл от наших
глаз догоравшие костры, разбросанные собиравшимся в поход
отрядом...
...Жиденький, наполовину вырубленный лесок казался сейчас
непроходимым, густым и диким. Затянувшееся тучами небо чер-
ным потолком повисло над просекой. Было душно, и казалось,
что мы ощупью движемся каким-то длинным извилистым кори-
дором .
Мне вспомнилось почему-то, как давно-давно, года три тому
назад, в такую же теплую темную ночь мы с отцом возвраща-
лись с вокзала домой прямой тропкой через перелесок. Так же
вот свиристела пигалица, так же пахло переспелыми грибами
и дикой малиной.
332
На вокзале, провожая своего брата Петра, отец выпил с ним
несколько рюмок водки. То ли от этого, то ли от того, что черес-
чур сладко пахло малиной, отец был особенно возбужден и раз-
говорчив. Дорогой он рассказывал мне про свою молодость и
про свое ученье в семинарии. Я смеялся, слушая рассказы о
его школьной жизни, о том, что их драли розгами, и мне каза-
лось нелепым и невероятным, чтобы такого высокого, крепкого чело-
века, как мой отец, кто-то когда-то мог драть.
— Это ты у одного писателя вычитал,— возражал я.— У не-
го есть про это книга. «Очерки бурсы» называется. Так ведь то
давно было, бог знает когда!
— А я, думаешь, недавно учился? Тоже давно.
— Ты в Сибири, папа, жил. А в Сибири страшно: там ка-
торжники. Мне Петька говорил, что там человека в два счета
убить могут и некому пожаловаться.
Отец засмеялся и начал мне объяснять что-то. Но что он хо-
тел объяснить мне, я так и не понял тогда, потому что по его
словам выходило как-то странно, что каторжники вовсе не ка-
торжники, и что у него даже знакомые были каторжники, и что в
Сибири много хороших людей, во всяком случае больше, чем в
Арзамасе.
Но все это я пропускал мимо ушей, как и многие другие раз-
говоры, смысл которых я начинал понимать только теперь.
«Нет... никогда, никогда в прошлую жизнь я не подозревал
и не думал, что отец мой был революционером. И вот то, что я
сейчас с красными, то, что у меня винтовка за плечами,— это не
потому, что у меня был отец революционер, а я его сын. Это вы-
шло как-то само собой. Я сам к этому пришел»,— подумал я.
И эта мысль заставила меня загордиться. Ведь правда, на са-
мом деле, сколько партий есть, а почему же я все-таки выбрал
самую правильную, самую революционную партию?
Мне захотелось поделиться этой мыслью с Чубуком. И вдруг
мне показалось, что возле головы лошади никого нет и конь дав-
но уже наугад тащит телегу по незнакомой дороге.
— Чубук! — крикнул я испугавшись.
— Ну! — послышался его грубоватый, строгий голос.— Чего
орешь?
— Чубук,— смутился я,— далеко еще?
— Хватит,— ответил он и остановился.— Поди-ка сюда,
встань и шинельку раздвинь, закурю я.
ззз
Трубка летящим светлячком поплыла рядом с головой ло-
шади. Дорога разгладилась, лес раздвинулся, и мы пошли ря-
дом.
Я сказал Чубуку, о чем думал, и ожидал, что он с похва-
лой отзовется о моем уме и дальнозоркости, которые толкнули
меня к большевикам. Но Чубук не торопился хвалить. Он
выкурил по крайней мере полтрубки и только тогда сказал
серьезно:
— Бывает и так. Бывает, что человек и своим умом дойдет...
Вот Ленин, например. Ну, а ты, парень, навряд ли...
— А как же, Чубук? — тихо и обиженно спросил я.— Ведь
я же сам.
— Сам... Ну, конечно, сам. Это тебе только кажется, что сам.
Жизнь так повернулась, вот тебе и сам! Отца у тебя убили —
раз. К людям таким попал — два. С товарищами поссорился —
три. Из школы тебя выгнали — четыре. Вот ежели все эти собы-
тия откинуть, то остальное, может, и сам додумал. Да ты не сер-
дись,— добавил он, почувствовав, очевидно, мое огорчение.—
Разве с тебя кто спрашивает больше?
— Значит, выходит. Чубук, что я нарочно... что я не крас-
ный? — дрогнувшим голосом переспросил я.— А это все неправда,
я и в разведку всегда с тобой, я и поэтому ведь на фронт ушел,
чтобы защищать... а, значит, выходит...
— Ду-ура! Ничего не выходит. Я тебе говорю — обстановка...
а ты — «я сам, я сам». Скажем, к примеру: отдали бы тебя в
кадетский корпус — глядишь, из тебя и калединский юнкер
вышел бы.
— А тебя?
— Меня! — Чубук усмехнулся.— За мной, парень, двадцать
годов шахты. А это никакой юнкерской школой не вышибешь!
Мне было несказанно обидно. Я был глубоко оскорблен сло-
вами Чубука и замолчал. Но мне не молчалось.
— Чубук... так, значит, меня и в отряде не нужно, раз я та-
кой, что и юнкером бы... и калединцем...
— Дура! — спокойно и как бы не замечая моей злости отве-
тил Чубук.— Зачем же не нужно? Мало что, кем ты мог бы быть.
Важно — кто ты есть. Я тебе только говорю, чтобы ты не зада-
вался. А так... что же, парень ты хороший, горячка у тебя наша.
Мы тебя, погоди, поглядим еще немного, да и в партию примем.
Ду-ура! — совсем уже ласково добавил он.
334
Я ведь знал, что Чубук любит меня, но чувствовал ли Чубук,
как горячо, больше, чем кого бы то ни было в ту минуту, любил
я его? «Хороший Чубук,— думал я.— Вот он и коммунист,
и двадцать лет в шахте, и волосы уже седеют, а всегда он со
мною... И ни с кем больше, а со мной. Значит, я заслуживаю.
И еще больше буду заслуживать. Когда будет бой, я нарочно не
буду нагибаться, а если меня убьют, то тоже ничего. Тогда мате-
ри напишут: «Сын ваш был коммунист и умер за великое дело
революции». И мать заплачет и повесит на стену мой портрет
рядом с отцовским, а новая светлая жизнь пойдет своим чере-
дом мимо той стены...
Уже рассветало, когда мы подъехали к маленькому хутору.
На стук телеги вышел к воротам заспанный пасечник — длинный
рыжий мужик с вдавленной грудью и острыми, резко выпирав-
шими из-под расстегнутой ситцевой рубахи плечами. Он повел
лошадь через двор, распахнул калитку, от которой тянулась еле
заметная, поросшая травой дорога.
— Туда поедем... У болотца в лесу клуня1, там им спокойнее
будет.
Глава восьмая
...Ночевали мы в сенокосном шалаше. В ночь ударила буря,
хлынул дождь, а мы были рады. Шалаш не протекал, и в такую
погоду можно было безопасно отоспаться. Едва начало светать,
Чубук разбудил меня.
— Теперь караулить друг друга надо,— сказал он.— Я уже
давно возле тебя сижу. Теперь прилягу маленько, а ты посторо-
жи. Неравно, как пойдет кто. Да смотри не засни тоже!
— Нет, Чубук, я не засну.
Я высунулся из шалаша. Под горой дымилась река. Вчера
мы попали по пояс в грязное вязкое болотце, за ночь вода обсох-
ла, и тина липкой коростой облепила тело. «Искупаться бы,—
подумал я.— Речка рядышком, только под горку спуститься».
С полчаса я сидел и караулил Чубука. И все не мог отвязать-
ся от желания сбегать и искупаться. «Никого нет кругом,— думал
я,— кто в этакую рань пойдет, да тут и дороги никакой около не
видно. Не успеет Чубук на другой бок перевернуться, как я уже
и готов».
Соблазн был слишком велик, тело зудело и чесалось. Скинув
никчемный патронташ2, я бегом покатился под гору.
' Клуня помещение для снопов и молотьбы хлеба.
2 Патронташ — сумка для ружейных патронов.
335
Однако речка оказалась совсем не так близко, как мне каза-
лось, и прошло, должно быть, минут десять, прежде чем я был
на берегу. Сбросив черную ученическую гимнастерку, еще ту,
в которой я убежал из дому, сдернув кожаную сумку, сапоги
и штаны, я бултыхнулся в воду. Сердце ёкнуло. Забарахтался.
Сразу стало теплее. У-ух, как хорошо! Поплыл тихонько на сере-
дину. Там, на отмели, стоял куст. Под кустом запуталось что-то:
не то тряпка, не то упущенная при полоскании рубаха. Раздви-
нул ветки и сразу же отпрянул назад. Зацепившись штаниной за
сук, вниз лицом лежал человек. Рубаха на нем была порвана,
и широкая рваная рана чернела на спине. Быстрыми саженками,
точно опасаясь, что кто-то вот-вот больно укусит меня, поплыл
назад. Одеваясь, я с содроганием отворачивал голову от куста,
буйно зеленевшего на отмели. То ли вода ударила крепче, то ли,
раздвигая куст, я нечаянно отцепил покойника, а только он выплыл,
его перевернуло течением и понесло к моему берегу.
Торопливо натянув штаны, я начал надевать гимнастерку,
чтобы скорей убежать прочь. Когда я просунул голову в ворот,
тело расстрелянного было уже рядом, почти у моих ног.
Дико вскрикнув, я невольно шагнул вперед и, оступившись,
едва не полетел в воду. Я узнал убитого. Это был один из трех
раненых, оставленных нами на пасеке, это был наш Цыганенок.
— Эгей, хлопец! — услышал я позади себя окрик.— Подходи-
ка сюда.
Трое незнакомых направлялись прямо ко мне. Двое из них
были с винтовками. Бежать мне было некуда — спереди они,
сзади река.
— Ты чей? — спросил меня высокий чернобородый мужчина.
Я молчал. Я не знал,, кто эти люди — красные или белые.
— Чей? Тебя я спрашиваю! — уже грубее переспросил он,
хватая меня за руку.
— Да что с ним разговаривать! — вставил другой.— Сведем
его на село, а там и без нас спросят.
Подъехали две телеги.
— Дай-ка кнут-то! — закричал чернобородый одному из му-
жиков-подводчиков, робко жавшемуся к лошади.
— Для че? — недовольно спросил другой.— Для че кнутом?
Ты веди к селу, там разберут.
— Да не драть. Руки я ему перекручу, а то вон как смотрит,
того и гляди, что стреканет.
336
Ловким вывертом закинули мне локти назад и легонько толк-
нули к телеге.
— Садись!
Сытые кони дернули и быстрой рысцой понесли к большому
селу, сверкавшему белыми трубами на зеленом пригорке.
Сидя в телеге, я еще надеялся на то, что мои провожатые —
партизаны одного из красных отрядов, что на месте все выяснится
и меня сразу же отпустят.
В кустах недалеко от села постовой окликнул:
— Кто едет?
— Свои... староста,— ответил чернобородый.
— А-а-а!.. Куда ездил?
— Подводы с хутора выгонял.
Кони рванулись и понеслись мимо постового. Я не успел рас-
смотреть ни его одежды, ни его лица, потому что все мое внима-
ние было приковано к его плечам. На плечах были погоны.
Глава девятая
Солдат на улице еще не было видно — вероятно, спали. Возле
церкви стояло несколько двуколок, крытый фургон с красным
крестом, а около походной кухни заспанные кашевары кололи на
растопку лучину.
— В штаб везти? — спросил возница у старосты.
— Можно и в штаб. Хотя их благородие спят еще. Не стоит
из-за такого мальца тревожить. Вези пока в холодную.
Телега остановилась возле низкой каменной избушки с ре-
шетчатыми окнами. Меня подтолкнули к двери, наспех прощу-
пав мои карманы, староста снял с меня кожаную сумку. Дверь
захлопнулась, хрустнула пружина замка.
В первые минуты острого, причинявшего физическую боль
страха я решил, что погиб, погиб окончательно и бесповоротно,
что нет никакой надежды на спасение. Взойдет солнце выше,
проснется его благородие, о котором упоминал староста, вызовет,
и тогда смерть, тогда конец.
Я сел на лавку и, опустив голову на подоконник, закоченел
в каком-то тупом бездумье. В виски молоточками стучала кровь:
тук-тук, тук-тук, и мысль, как неисправная граммофонная пластин-
ка, повторяла, сбиваясь все на одно и то же: «Конец... конец... ко-
нец...» Потом, навертевшись до одури, от какого-то неслышного
толчка острие сознания попало в нужную извилину мозга, и
3.37
мысли в бурной стремительности понеслись безудержной чередой.
«Неужели никак нельзя спастись? И так нелепо попался!
Может быть, можно бежать? Нет, бежать нельзя. Может быть, на
село нападут красные и успеют отбить? А если не нападут? Или
нападут уже потом, когда будет поздно? Может быть... Нет, ни-
чего не может быть, ничего не выходит».
Мимо окна погнали стадо. Тесно сгрудившись, колыхались
овцы, блеяли и позвякивали колокольцами козы, щелкал бичом
пастух. Маленький теленок бежал, подпрыгивая, и смешно пы-
тался на ходу ухватить вымя коровы.
Эта мирная деревенская картина заставила еще больше по-
чувствовать тяжесть положения, к чувству страха примешива-
лась и даже подавила его на короткое время злая обида: вот... ут-
ро такое... все живут. И овцы, и везде жизнь как жизнь, а ты
помирай!
И, как это часто бывает, из хаоса сумбурных мыслей, нелепых
и невозможных планов выплыла одна необыкновенно простая
и четкая мысль, именно та самая, которая, казалось бы, естест-
венней всего и прежде всего должна была прийти на помощь.
Я так крепко освоился с положением красноармейца и бойца
пролетарского отряда, что позабыл совершенно о том, что моя
принадлежность к красным вовсе не написана на моем лбу. То, что
я красный, как бы подразумевалось само собой и не требовало
никаких доказательств, и доказывать или отрицать казалось мне
вообще таким никчемным, как объяснять постороннему, что
волосы мои белые, а не черные...
«Постой,— сказал я себе, радостно хватаясь за спасительную
нить.— Ну ладно... я красный. Это я об этом знаю, а есть ли ка-
кие-нибудь признаки, по которым могли бы узнать об этом
они?»
Поразмыслив немного, я пришел к окончательному убеждению,
что признаков таких нет. Красноармейских документов у меня не
было. Серую солдатскую папаху со звездочкой я потерял,
убегая от кордона. Тогда же бросил я и шинель. Разбитая вин-
товка валялась в лесу на траве, патронташ, перед тем как идти
купаться, я оставил в шалаше. Гимнастерка у меня была черная,
ученическая. Возраст у меня был не солдатский. Что же еще ос-
тается? Ах, да! Маленький маузер, спрятанный на груди, и еще
что? Еще история о том, как я попал на берег речки. Но маузер мож-
но запихать под печь, а историю... историю можно и выдумать.
338
Чтобы не запутаться, я решил не усложнять обстоятельств вы-
думыванием нового имени и новой фамилии, возраста и места
рождения. Я решил остаться самим собой, то есть Борисом Гори-
ковым, учеником пятого класса Арзамасского реального училища,
отправившимся с дядей (чтобы не сбиться, дядю настоящего
вспомнил) в город Харьков к тетке (адрес тетки остался у дяди).
По дороге я отстал от дяди, меня ссадили с поезда за проезд без
пропуска и документов (они у дяди). Тогда я решил пройти вдоль
полотна, чтобы сесть на поезд со следующей станции. Но тут крас-
ные кончились и начались белые. Если спросят, чем жил, пока шел,
скажу, что подавали по деревням. Если спросят, зачем направлял-
ся в Харьков, раз не знаю адреса тетки, скажу, что надеялся уз-
нать в адресном столе. Если скажут: «Какие же, к черту, могут
быть сейчас адресные столы?» — удивлюсь и скажу, что могут, по-
тому уж на что Арзамас худой город, и то там есть адресный стол.
Если спросят: «Как же так, дядя надеялся пробраться из красной
России в белый Харьков?» — скажу, что дядя у меня такой
пройдоха, что не только в Харьков, а хоть за границу пробе-
рется. А я вот... нет, не пройдоха, не могу никак. На этом
месте нужно будет заплакать. Не особенно, а так, чтобы пе-
чаль была видна. Вот и все пока, остальное будет видно на
месте.
Вынул маузер. Хотел было сунуть его под печь, но раздумал.
Даже если отпустят, отсюда его уже не вытащишь. Комната имела
два окна: одно выходило на улицу, другое — в узенький проулок,
по которому пролегала тропка, заросшая по краям густой крапи-
вой. Тогда я поднял с полу обрывок бумаги, завернул маузер и
бросил небольшой сверток в самую гущу крапивы. Только что
успел я это сделать, как на крыльце застучали. Привели еще
троих: двух мужиков, скрывших лошадей при обходе за подво-
дами, и парнишку, уж не знаю зачем укравшего запасную возврат-
ную пружину с двуколки у пулеметчика.
Парнишка был избит, но не охал, а только тяжело дышал,
точно его прогнали бегом.
Между тем улица села оживилась. Проходили солдаты, ржали
кони, звякали котелки возле походной кухни. Показались связис-
ты, разматывающие на рогульки телефонный провод. Четко в ногу,
под командой важного унтера прошел мимо не то караул к раз-
воду, не то застава к смене.
Опять щелкнул замок, просунулась голова солдата. Остано-
339
вившись у порога, солдат вытащил из кармана смятую бумажку,
заглянул в нее и крикнул громко:
— Который тут Ваалд, что ли? Выходи.
Я посмотрел на своих соседей, те на меня — никто не поды-
мался.
— Ваалд... Ну, кто тут?
«Ваальд Юрий!» — ужаснулся я, вспомнив про бумаги, кото-
рые нашел в подкладке и о которых позабыл среди волнений по-
следнего времени. Выбора у меня не было. Я встал и нетвердо
направился к двери.
«Ну да, конечно,— понял я.— Они нашли бумаги и принимают
меня за того... за убитого. Ой, как это скверно! Какой хороший
и простой был мой первый план и как легко мне теперь сбиться
и запутаться. А отказаться от бумаг нельзя. Сразу же возникнет
подозрение — где достал документы, зачем?» Вылетела из головы
вся тщательно придуманная история с поездкой к тете с прой-
дохой-дядей... Нужно уж что-то сообразить новое, но что сооб-
разишь? Тут уж придется, видно, на месте...
Выпрямился и попробовал улыбнуться. Но как трудно иногда
быть веселым, как невольно, точно резиновые, сжимаются и
вздрагивают насильно растянутые в улыбку губы! С крыльца
штаба спускался высокий пожилой офицер в погонах капитана.
Рядом с ним, с видом собаки, которой дали пинка, шагал староста.
Заметив меня, староста остановился и развел руками: извините,
мол, ошибка вышла.
Офицер сказал старосте что-то резкое, и тот, подобострастно
кивнув головой, побежал вдоль улицы.
— Здравствуй, военнопленный,— немного насмешливо, но
совсем не сердито сказал капитан.
— Здравия желаю, господин капитан! — ответил я так, как
учили нас в реальном на уроках военной гимнастики.
— Ступай,— отпустил офицер моего конвоира и подал мне
руку.— Ты как здесь? — спросил он, хитро улыбаясь и доставая
папиросу.— Родину и отечество защищать? Я прочел письмо
к полковнику Коренькову, но оно ни к чему тебе теперь, потому
что полковник уже месяц как убит.
«И очень хорошо, что убит»,— подумал я.
— Пойдем ко мне. Как же это ты, братец, не сказался ста-
росте? Вот и пришлось тебе посидеть. Попал к своим, да сразу и в
кутузку.
340
— А я не знал, кто он такой. Погонов у него нет, мужик му-
жиком. Думал, что красный это. Тут ведь, говорят, шатаются,—
выдавил я из себя и в то же время подумал, что офицер, кажется,
хороший, не очень наблюдательный, иначе бы он по моему не-
естественному виду сразу бы догадался, что я не тот, за кого он
меня принимает.
— Знавал я твоего отца,— сказал капитан.— Давненько толь-
ко, в седьмом году на маневрах в Озерках у вас был. Ты тогда еще
совсем мальчуган был, только смутно какое-то сходство осталось.
А ты не помнишь меня?
— Нет,— как бы извиняясь, ответил я,— не помню. Маневры
помню чуть-чуть, только тогда у нас много офицеров было.
Если бы я не имел того «смутного сходства», о котором упоми-
нал капитан, и если бы у него появилось хоть маленькое подо-
зрение. он двумя-тремя вопросами об отце, о кадетском корпусе
мог бы вконец угробить меня.
Но офицер не подозревал ничего. То, что я не открылся ста-
росте, казалось очень правдоподобным, а воспитанники кадетских
корпусов на Дон бежали тогда из России табунами.
— Ты, должно быть, есть хочешь? Пахомов! — крикнул он
раздувавшему самовар солдату.— Что у тебя приготовлено?
— Куренок, ваше благородие. Самовар сейчас вскипит... да
попадья квашню вынула, лепешки скоро будут готовы.
— Куренок? Что нам на двоих куренок? Ты давай еще чего-
нибудь.
— Смалец со шкварками можно, ваше благородие, со вче-
рашними варениками разогреть.
— Давай вареники, давай куренка, да скоренько!
Тут в соседней комнате заныл вызов телефонного аппарата.
— Ваше благородие, ротмистр Шварц к телефону просит.
Уверенным, спокойным баритоном капитан передавал распо-
ряжения ротмистру Шварцу. Когда он положил трубку, кто-то
другой, по-видимому также офицер, спросил у капитана:
— Что Шварц знает нового об отряде Бегичева?
— Пока ничего. Заходили вчера двое красных на Кустарев-
скую усадьбу, а поймать не удалось! Да! Виктор Ильич, напиши-
те донесение, что, по агентурным сведениям Шварца, отряд Шеба-
лова будет пытаться проскочить мимо полковника Жихарева в
район завесы красных. Нужно не дать им соединиться с Бегиче-
вым. Ну-с, молодой человек, пойдемте завтракать. Покушайте,
341
отдохните, а тогда будем решать, как и куда вас пристроить.
Только что мы успели сесть за стол, денщик поставил плошку
с дымящимися варениками, куренка, который по размерам похо-
дил скорее на здорового петуха, и шипящую сковороду со шквар-
ками, только что успел я протянуть руку за деревянной ложкой
и подумать о том, что судьба, кажется, благоприятствует мне,
как возле ворот послышался шум, говор и ругательства.
— До вас, ваше благородие,— сказал вернувшийся денщик,—
красного привели с винтовкой. На Забелиной лугу в шалаше
поймали. Пошли пулеметчики сено покосить, глянули, а он в
палатке спит, и винтовка рядом и бомба. Ну, навалились и
скрутили. Завести прикажете?
— Пусть приведут... Не сюда только. Пусть в соседней комнате
подождут, пока я позавтракаю.
Опять затопали, застучали приклады.
— Сюда! — крикнул за стеной кто-то.— Садись на лавку да
шапку-то сыми, не видишь — иконы.
— Ты руки прежде раскрути, тогда гавкай!
Вареник захолодел в моем полураскрытом рту и плюхнулся
обратно в миску. По голосу в пленном я узнал Чубука.
— Что, обжегся? — спросил капитан.— А ты не наваливайся
очень-то. Успеешь, наешься.
Трудно себе представить то мучительно напряженное состоя-
ние, которое охватило меня. Чтобы не внушать подозрения, я дол-
жен был казаться бодрым и спокойным. Вареники глиняными
комьями размазывались по рту. Требовалось чисто физическое
усилие для того, чтобы протолкнуть кусок через сжимавшееся
горло. Но капитан был уверен в том, что я сильно голоден, да и я
сам еще до завтрака сказал ему об этом. И теперь я должен был
через силу есть. Тяжело ворочая одеревеневшими челюстями, ма-
шинально нанизывая лоснящиеся от жира куски на вилку, я был
подавлен и измят сознанием своей вины перед Чубуком. Это я ви-
новат в том, что его захватили в плен двое пулеметчиков. Это я,
несмотря на его предупреждения, самовольно ушел купаться.
Я виноват в том, что самого дорогого товарища, самого любимого
мной человека взяли сонным и привели во вражеский штаб.
— Э-э, брат, да ты, я вижу, совсем спишь,— как будто бы
издалека донесся до меня голос капитана.— Вилку с вареником
в рот, а сам глаза закрыл. Ляг поди на сено, отдохни. Пахомов,
проводи!
342
Я встал и направился к двери. Теперь нужно было пройти через
комнату телефонистов, в которой сидел пленный Чубук.
Это была тяжелая минута.
Нужно было, чтобы удивленный Чубук ни одним жестом, ни
одним восклицанием не выдал меня. Нужно было дать понять,
что я попытаюсь сделать все возможное для того, чтобы спасти
его.
Чубук сидел, низко опустив голову. Я кашлянул. Чубук при-
поднял голову и быстро откинулся назад.
Но, уже прежде чем коснуться спиной стены, он пересилил
себя, смял и заглушил невольно вырвавшийся возглас. Как бы
сдерживаясь от кашля, я приложил палец к губам, и по тому, как
Чубук быстро сощурил глаза и перевел взгляд с меня на шагав-
шего вслед за мной денщика, я догадался, что Чубук все-таки
ничего не понял и считает меня также арестованным по подозре-
нию, пытающимся оправдаться. Его подбадривающий взгляд го-
ворил мне: «Ничего, не бойся. Я тебя не выдам».
Вся эта молчаливая сигнализация была такой короткой, что ее
не заметили ни денщик, ни конвоир. Покачиваясь, я вышел во
двор.
— Сюда пожалуйте,— указал мне денщик на небольшой са-
райчик, примыкавший к стене дома.— Там сено снутри и одеяло.
Дверцу только заприте за собой, а то поросюки набегут.
г >
Глава десятая
Уткнувшись головой в кожаную подушку, я притих. «Что же
делать теперь? Как спасти Чубука? Что должен сделать я для
того, чтобы помочь ему убежать? Я виноват, я должен изворачи-
ваться, а я сижу, ем вареники, и Чубук должен за меня распла-
чиваться».
Но придумать ничего я не мог.
Голова нагрелась, щеки горели, и понемногу лихорадочное,
возбужденное состояние овладело мной. «А честно ли я посту-
паю, не должен ли я пойти и открыто заявить, что я тоже крас-
ный, что я товарищ Чубука и хочу разделить его участь?» Мысль
эта своей простотой и величием ослепила меня. «Ну да, конеч-
но,— шептал я,— это будет, по крайней мере, искуплением моей
невольной ошибки». Тут я вспомнил давно еще прочитанный
рассказ из времен Французской революции, когда отпущенный
на честное слово мальчик вернулся под расстрел к вражескому
343
офицеру. «Ну да, конечно,— торопливо убеждал и уговаривал
себя я,— я встану сейчас, выйду и все скажу. Пусть видят тогда
и солдаты, и капитан, как могут умирать красные. И когда меня
поставят к стенке, я крикну: «Да здравствует революция!» Нет...
не это. Это всегда кричат. Я крикну: «Проклятие палачам!» Нет,
я скажу...»
Все больше и больше упиваясь сознанием мрачной торжест-
венности принятого решения, все более разжигая себя, я дошел
до того состояния, когда смысл поступков начинает терять свое
настоящее значение.
«Встаю и выхожу.— Тут я приподнялся и сел на сено.— Так
что же я крикну?»
На этом месте мысли завертелись яркой, слепящей каруселью,
какие-то нелепые, никчемные фразы вспыхивали и гасли в созна-
нии, и, вместо того чтобы придумать предсмертное слово, уж не
знаю почему я вспомнил старого цыгана, который играл на свадь-
бах в Арзамасе на флейте. Вспомнил и многое другое, никак не
связанное с тем, о чем я пытался думать в ту туманную минуту.
«Встаю...» — подумал я. Но сено и одеяло крепким, вяжущим
цементом обволокли мои ноги.
И тут я понял, почему я не поднимаюсь. Мне не хотелось под-
ниматься, и все эти раздумья о последней фразе, о цыгане — все
было только поводом к тому, чтобы оттянуть решительный момент.
Что бы я ни говорил, как бы я ни возбуждал себя, мне окончатель-
но не хотелось идти открываться и становиться к стенке.
Сознавшись себе в этом, я покорно лег опять на подушку и тихо
заплакал над своим ничтожеством, сравнивая себя с великим
мальчиком из далекой Французской революции.
Деревянная стена, к которой было привалено сено, глухо
вздрогнула. Кто-то изнутри задел ее чем-то твердым: не то при-
кладом, не то углом скамейки. За стеной слышались голоса.
Проворной ящерицей я подполз вплотную, приложил ухо
к бревнам и тотчас же поймал середину фразы капитана:
— ...поэтому нечего чушь пороть. Хуже себе сделаешь. Сколько
пулеметов в отряде?
— Хуже уже некуда, а вилять мне нечего,— отвечал Чубук.
— Пулеметов сколько, я спрашиваю?
— Три... два «максима», один кольт.
«Нарочно говорит,— понял я.— У нас в отряде всего только
один кольт».
344
— Так. А коммунистов сколько?
— Все коммунисты.
— Так-таки и все? И ты коммунист?
Молчание.
— И ты коммунист? Тебя спрашиваю!
— Да что зря спрашивать? Сам билет в руках держит, а
спрашивает.
— Мо-ол-чать! Ты, как я смотрю, кажется, идейный. Стой
прямо, когда с тобой офицер разговаривает! Это ты в усадьбе был?
— Я.
— С тобой еще кто?
— Товарищ... Еврейчик один.
— Жид? Куда он делся?
— Убег куда-то... в другую сторону.
— В какую сторону?
— В противоположную.
Что-то стукнуло, двинулась табуретка, и баритон протяжно
заговорил.
— Я тебе дам «в противоположную»! Я тебя сейчас самого
пошлю в противоположную.
— Чем бить, распорядился бы лучше скорей, да и делу ко-
нец,— тише прежнего донесся голос Чубука.— Наши бы, если бы
вас, ваше благородие, поймали, дали бы раза два в морду — да и в
расход. А вы, глядите-ка, всего плетюгой исполосовали, а еще ин-
теллигентный.
— Что-о?.. Что ты сказал? — высоким, срывающимся голосом
закричал капитан.
— Я говорю, нечего человека зря валандать!
Вмешался прежний голос:
— Господин... командир полка, к аппарату!
Минут десять за стеной молчали. Потом с крыльца уже послы-
шался голос денщика Пахомова:
— Ординарец! Мусабеков!.. Ибрагишка!..
— Ну-у? — донесся из малинника ленивый отклик.
— И где ты, черт, делся? Седлай жеребца капитану.
За стеной опять баритон:
— Виктор Ильич! Я в штаб... Вернусь, вероятно, ночью. По-
звоните Шварцу, чтобы он срочно связался с Жихаревым. Жиха-
рев донес, что отряды Бегичева и Шебалова соединились возле
Разлома.
345
— Ас этим что?
— Этого... этого можно расстрелять. Или нет — держите его
до моего возвращения. Мы еще поговорим с ним. Пахомов! — по-
вышая тон, продолжал капитан.— Лошадь готова? Подай-ка мне
бинокль. Да! Когда этот мальчик проснется, накормишь его. Мне
обед оставлять не надо. Я там пообедаю.
Мелькнули через щели черные папахи ординарцев. Мягко за-
хлопали по пыли подковы. Через ту же щель я увидел, как конвои-
ры повели Чубука к избе, в которой я сидел утром.
«Капитан вернется поздно,— подумал я,— значит, в следующий
раз Чубука выведут для допроса ночью».
Робкая надежда легким, прохладным дуновением освежила
мою голову.
Я здесь на свободе... Никто меня ни в чем не подозревает, боль-
ше того: я гость капитана. Я могу беспрепятственно ходить, где
хочу, и, когда начнет темнеть, я, как бы прогуливаясь, пойду по
тропке, которая пролегает возле окошка, выходящего на зады.
Подниму маузер и суну его через решетку. Солдаты придут ночью
за Чубуком. Он выйдет на крыльцо и, пользуясь тем, что они будут
считать его безоружным, сможет убить и того и другого, прежде
чем хоть один из них успеет вскинуть винтовку. Ночи теперь тем-
ные: два шага отскочил — и пропал. Только бы удалось просунуть
маузер, а это сделать нетрудно. Избушка каменная, решетки креп-
кие, и поэтому часовой, не опасаясь побега через окно, сидит у
крыльца и сторожит дверь; только изредка подойдет он к углу, по-
смотрит и опять отойдет.
Я вышел из сарайчика. Чтобы скрыть следы слез, вылил себе
на голову полный ковш холодной воды. Денщик подал мне кружку
квасу и спросил, хочу ли я обедать. От обеда я отказался, пошел
на улицу и сел на завалинку.
Решетчатое окошко, за которым сидел Чубук, черной дырой
уставилось на меня с противоположной стороны широкой улицы.
«Хорошо, если бы Чубук заметил меня,— подумал я.— Это
ободрит его, он поймет, что раз я здесь на свободе, то постараюсь
спасти его. Как заставить его выглянуть? Крикнуть нельзя, рукой
помахать — часовой заметит... Ага! Вот как. Так же, как когда-то
в детстве я вызывал Яшку Цуккерштейна в сад или на пруд».
Сбегал в комнату, снял со стены небольшое походное зеркальце
и вернулся на завалинку. Сначала я занялся рассматриванием
прыщика, вскочившего на лбу, потом как бы нечаянно пустил сол-
346
нечного зайчика на крышу противоположного дома и оттуда не-
заметно перевел светлое пятно в черный провал окна. Часовому,
сидевшему на крыльце, был невидим острый луч, ударивший через
окно во внутреннюю стену избы. Тогда, не двигая зеркала, я закрыл
стекло, открыл опять и так несколько раз.
Расчет мой, основанный на том, что арестованный заинтере-
суется причиной вспышек в затемненной комнате, оправдался.
В следующую минуту в окне подлупами моего солнечного про-
жектора возник силуэт человека. Сверкнув еще несколько раз, что-
бы Чубук проследил направление луча, я отложил зеркало и, встав
во весь рост, как бы потягиваясь, поднял руку вверх, что на языке
военной сигнализации всегда означало: «Внимание! Будьте го-
товы!»
К крыльцу подошли два стройных юнкера в запыленных бес-
козырках, с карабинами, ловко перекинутыми наискосок за спину,
и спросили капитана. К ним вышел замещавший капитана млад-
ший офицер. Юнкера отдали честь, и один протянул пакет:
— От полковника Жихарева.
С завалинки я услышал жужжание телефона: младший офицер
настойчиво вызывал штаб полка. Четыре солдата, присланные от
рот для связи, выскочили из штабной избы и мерным солдатским
бегом понеслись в разные концы села. Еще через несколько минут
распахнулись ворота околицы, и десять черных казаков легкой
стайкой выпорхнули за деревню. Быстрота и четкость, с которой
выполнялись передаваемые штабом распоряжения, неприятно по-
разили меня.
Вышколенные юнкера и вымуштрованные казаки, из которых
состоял сводный отряд, были не похожи на наших храбрых, но
горластых и плохо дисциплинированных ребят.
Начинало темнеть. «Еще полчаса,— подумал я,— и надо будет
пробираться к каменной избушке». Я решил выйти на конец села,
пересечь большую дорогу и оттуда тропкой пробраться к решетча-
тому окну. Я хорошо знал место, на которое упал маузер. Белая
обертка бумаги немного просвечивала сквозь крапиву. Я решил, не
останавливаясь, поднять сверток, сунуть его через решетку и идти
дальше как бы ни в чем не бывало.
Завернув за угол, я очутился на пустыре. Здесь я увидел кучку
солдат и неожиданно лицом к лицу столкнулся с капитаном.
— Что ты тут ходишь? — удивившись, спросил он.— Или ты
тоже пришел посмотреть? Тебе ведь еще в диковинку.
.347
Рисунок А. Парамонова.
— Вы разве уже приехали? — заплетающимся языком глупо
выдавил я из себя, не понимая еще, о чем это он говорит.
Слова команды, раздавшиеся сбоку, заставили нас обернуться.
И то, что я увидел, толкнуло меня судорожно вцепиться в обшлаг
капитанского рукава.
В двадцати шагах, в стороне, пять солдат с винтовками, взя-
тыми наизготовку, стояли перед человеком, поставленным к глиня-
348
ной стене нежилой мазанки. Человек был без шапки, руки его были
стянуты назад, и он в упор смотрел на нас.
— Чубук,— прошептал я, зашатавшись.
Капитан удивленно обернулся и, как бы успокаивая, положил
мне руку на плечо. Тогда, не спуская с меня глаз и не обращая
внимания на команду, по которой солдаты взяли винтовки к плечу.
Чубук выпрямился и, презрительно покачав головой, плюнул.
Тут так сверкнуло, так грохнуло, что как будто бы моей головой
ударили по большому турецкому барабану.
И, зашатавшись, обдирая хлястик капитанского обшлага, я
повалился на землю.
— Кадет,— строго сказал капитан, когда я опомнился,— это
еще что такое? Баба... тряпка! Незачем было лезть смотреть, если
не можешь. Так нельзя, батенька,— уже мягче добавил он,— а еще
в армию прибежал.
— С непривычки это,— зажигая спичку и закуривая, вставил
поручик, командовавший солдатами.— Вы не обращайте на это
внимания. У меня в роте тоже телефонистик один из кадетов. Сна-
чала по ночам маму звал, а теперь такой аховый. А этот-то хо-
рош,— понижая голос, продолжал офицер.— Стоял, как на часах,
не коверкался. И ведь плюнул еще!
Глава одиннадцатая
В ту же ночь, захватив свой маузер и сунув в карман бомбу,
валявшуюся в капитанской повозке, с первого же пятиминутного
привала я убежал.
Всю ночь безостановочно, с тупым упрямством, не сворачивая
с опасных дорог, пробирался я к северу. Черные тени кустарников,
глухие овраги, мостики — все то, что в другое время заставило бы
меня насторожиться, ждать засады, обходить стороной, проходил
я в этот раз напролом, не ожидая и не веря в то, что может быть
что-нибудь более страшное, чем то, что произошло за последние
часы. Шел, стараясь ни о чем не думать, ничего не вспоминать,
ничего не желая, кроме одного только: скорей попасть к своим.
Следующий день, с полудня до глубоких сумерек, проспал я,
как под хлороформом, в кустах запущенной лощины; ночью под-
нялся и пошел опять. По разговорам в штабе белых я знал, при-
близительно, где мне нужно искать своих. Они должны были быть
уже недалеко. Но напрасно до полуночи кружил я тропками, про-
селочными дорогами — никто не останавливал меня.
349
Ночь, как трепыхающаяся птица, билась в разноголосом
звоне неумолчных пташек, в кваканье лягушек, в жужжанье ко-
маров. В шорохах пышной листвы, в запахах ночных фиалок и лес-
ной осоки беспокойной совой кричала раззолоченная звездами
душная ночь.
Отчаянье стало овладевать мной. Куда идти, где искать? Вы-
шел к подошве холма, поросшего сочным дубняком, и, обессилен-
ный, лег на поляну душистого дикого клевера. Так лежал долго, и
чем дольше думал, тем крепче черной пиявкой всасывалось созна-
ние той ошибки, которая произошла. Это на меня плюнул Чубук,
на меня, а не на офицера. Чубук не понял ничего, он ведь не знал
про документы кадета, я забыл ему сказать про них. Сначала Чу-
бук думал, что я тоже в плену, но когда увидел меня сидящим на
завалинке, а особенно потом уже, когда капитан дружески поло-
жил мне руку на плечо, то, конечно, Чубук подумал, что я пере-
шел на сторону белых, а может быть, даже, что я нарочно
оставил его в палатке. Ничем иным Чубук не мог объяснить себе
той заботливости и того внимания, которые были проявлены
ко мне белым офицером. Его плевок, брошенный в последнюю
минуту, жег меня, как серная кислота. И еще горше становилось
от сознания, что поправить дело нельзя, объяснить и оправдаться
не перед кем и что Чубука уже больше нет и не будет ни сегодня, ни
завтра, никогда...
Злоба на самого себя, на свой непоправимый поступок в шала-
ше туже и туже скручивала грудь. И никого кругом не было,
не с кем было поделиться, поговорить. Тишина. Только гам птиц да
лягушиное кваканье.
К злобе на самого себя примешалась ненависть к проклятой,
выматывающей душу тишине. Тогда, обозленный, раскаиваю-
щийся и оскорбленный, в бессмысленной ярости вскочил я, выхва-
тил из кармана бомбу, сдернул предохранитель, и сильным взма-
хом бросил ее на зеленый луг, на цветы, на густой клевер, на
росистые колокольчики.
Бомба разорвалась с тем грохотом, которого я хотел, и с теми
далекими, распугивающими тишину перегудами и перекатами
ошалелого эха.
Я упрямо зашагал вдоль опушки.
— Эй, кто там идет? — услышал я вскоре из-за кустов.
— Я иду,— ответил я, не останавливаясь.
— Что за я?.. Стрелять буду!
350
. — Стреляй! — с непонятной вызывающей злобой выкрикнул
я, вырывая маузер из-за пазухи.
— Стой, шальной! — раздался другой голос, показавшийся
мне знакомым и обращавшийся к невидимому для меня спутни-
ку.— Васька, стой же ты, черт! Да ведь это же, кажется, наш
Бориска.
У меня хватило здравого смысла опомниться и не бабахнуть
в бойца нашего отряда, шахтера Малыгина.
— Да откуда ты взялся? А мы тут недалече. Послали нас раз-
узнать: бомбой кто-то грохнул. Уж не ты ли?
— Я.
— Чего это ты разошелся так? И бомбами швыряешься, и на
рожон прешь. Ты уж не пьяный ли?
Все рассказал я товарищам: как попал к белым, как был захва-
чен и погиб славный Чубук, только о последнем, плевке Чубука, не
сказал я никому. И тогда же выложил заодно обо всем, что слы-
шал в штабе о планах белых, о расположении, о том, что отряды
Жихарева и Шварца постараются нагнать наших.
— Что же,— сказал Шебалов, опираясь на потемневший и
поцарапанный в походах палаш,— слов нету, жалко Чубука. Был
Чубук первый красноармеец, лучший боец и товарищ. Что и го-
ворить... Большую оплошку сделал ты, парень... Да, большую.—
Тут Шебалов вздохнул.— Ну, а как мертвого все равно не воро-
тишь, нечего мне тебе говорить, да и ты сам не нарочно, а с кем
беды не бывает.
— С кем беды не бывает,— подхватило несколько голосов.
— Ну, а вот за то, что узнал ты про Жихарева, про ихние пла-
ны, за то, что торопился ты сообщить об этом товарищам,— за это
тебе вот моя рука и крепкое спасибо!..
Глава двенадцатая
Однажды Шебалов приказал Феде:
— Седлай, Федор, коней и направляйся в деревеньку Выселки.
Второй полк по телефону разведать просил, нет ли там белых. У нас
своего провода к ним не хватает, приходится разговаривать через
Костырево, а они думают прямо через Выселки к нам связь протя-
нуть.
Федя заартачился. Погода дождливая, скверная, а до Выселок
надо было через болото верст восемь такой грязью переть, что
351
раньше чем к ночи оттуда вернуться и думать было нечего.
— Кто на Выселках есть? — возмутился Федя.— Зачем там
белые окажутся? Выселки вовсе в стороне, кругом болота. Если бе-
лым нужно, то они по большаку попрут, а не на Выселки.
— Тебя не спрашивают! Сказано тебе отправляться — и от-
правляйся,— оборвал его Шебалов.
— Мало ли что сказано! Ты, может, чертову бабушку разыски-
вать пошлешь меня! Так я и послушался! Нехай пехотинцы идут.
Я лошадей хотел перековывать, а кроме того, табаку фельдшер
два ведра напарил, от чесотки коням растирку сделать нужно,
а ты... на Выселки!
— Федор,— устало сказал Шебалов,— ты мне хоть разбейся,
а приказа своего я не отменю.
Шлепая по грязи, ругаясь и отплевываясь, Федя заорал нам,
чтобы мы собирались.
Никому из нас не хотелось по дождю и слякоти тащиться из-за
каких-то телефонистов на Выселки. Ругали ребята Шебалова,
обзывали телефонистов шкурами, пустозвонами, нехотя седлали
мокрых лошадей и нехотя, без песен, тронулись к окраине дере-
вушки.
Вязкая, жирная глина тупо чавкала под ногами. Ехать можно
было только шагом. Через час, когда мы были только еще на пол-
дороге, хлынул ливень. Шинели разбухли, глаза туманились струй-
ками воды, сбегавшими с шапок. Дорога раздваивалась. В полу-
версте направо, на песчаной горке, стоял хутор в пять или шесть
дворов. Федя остановился, подумал и дернул правый повод.
— Отогреемся, тогда поедем дальше,— сказал он.— А то на
дожде и закурить нельзя.
В большой просторной избе было тепло, чисто прибрано и пах-
ло чем-то очень вкусным, не то жареным гусем, не то свининой.
— Эге! — тихонько шепнул Федя, шмыгнув носом.— Хутор-то,
я вижу, еще того, еще не объеденный.
Хозяин попался радушный. Мигнул здоровой девке, и та, задор-
но глянув на Федю, плюхнула на стол деревянные миски, высыпа-
ла ложки и, двинув табуретом, сказала, усмехаясь:
— Что ж стали-то? Садитесь...
Уезжали мы уже поздно вечером. Долго не мог я попасть ногой
в стремя, а когда взобрался на коня, то показалось мне, что сижу
не в седле, а на качелях. Голову мутило и кружило. Накрапывал
мелкий дождь, кони слушались плохо, ряды путались, задние на-
352
езжали на передних. Долго шатало меня по седлу, и наконец я при-
ник к гриве коня, как неживой.
Утром болела голова. Вышел на двор. Было противно на самого
себя за вчерашнее. В торбе у моего коня овса не было. Вернувшись
вчера, я рассыпал овес спьяна в грязь. Зато у Федькиного жереб-
ца в кормушке было навалено доверху. Я взял ведерко и отсыпал
немного своему коню. В сенях встретил двоих разведчиков, оба
злые, глаза мутные, посоловелые.
«Неужели же и у меня такое лицо?» — испугался я и пошел
умываться. Мылся долго. Потом вышел на улицу. За ночь ударили
заморозки, и на затвердевшую глину развороченной дороги запа-
дали редкие крупинки первого снега. Нагнал меня сзади Федя
Сырцов и заорал:
— Ты что, сукин кот, из моей кормушки своему жеребцу от-
сыпал? Я тебя за этакие дела по морде бить буду!
— Сдачи получишь,— огрызнулся я.— Что твоему коню —
лопнуть, что ли? Ты зачем себе лишний четверик при дележке за-
брал?
— Не твое дело,— брызгаясь слюной и ругаясь, подскочил ко
мне Федя, размахивая плетью.
— Убери плеть, Федька! — взбеленившись, заорал я, зная его
самодурские замашки.— Ей-богу, если хоть чуть заденешь, я тебе
плашмя клинком по башке заеду!
— А, ты вот как!
Тут Федька разъярился вконец, и уж не знаю, чем бы кончился
наш разговор, если бы не появился из-за угла Шебалов.
Шебалова Федя не любил и побаивался, а потому со злостью
жиганул плетью по спине вертевшуюся под ногами собачонку и,
погрозив мне кулаком, ушел.
— Поди сюда,— сказал мне Шебалов.
Я подошел.
— Что вы с Федькой то в обнимку ходите, то собачитесь?
Зайдем-ка ко мне в хату.
Притворив за собой дверь, Шебалов сел и спросил:
— На Выселках и ты с Федькой был?
— Был,— ответил я и смутился.
— Не ври! Никто из вас там не был. Где прошатались это
время?
— На Выселках,— упрямо повторил я. не сознаваясь.
Хоть я и был зол на Федьку, но не хотел его подводить.
12. Зак, 23|М Ч \ (.исж тискан 353
— Ну ладно,— после некоторого раздумья сказал Шебалов и
вздохнул.— Это хорошо, что на Выселках, а я, знаешь, засомне-
вался что-то, Федьку не стал спрашивать: он соврет — недорого
возьмет. Байбаки его тоже как на подбор — скаженные. Мне со
второго полка звонили. Ругаются. «Мы,— говорят,— послали те-
лефонистов в Выселки, поверили вам, а их оттуда как жахнули!»
Я отвечаю им: «Значит, уже опосля белые пришли», а сам думаю:
«Пес этого Федьку знает, вернулся он что-то поздно, и вроде как
водкой от него несет».
Тут Шебалов замолчал, подошел к окну, за которым белой
россыпью отсеивался первый неустойчивый снежок, прислонился
лбом к запотевшему стеклу и так простоял молча несколько ми-
нут.
— Беда мне прямо с этими разведчиками,— сказал он обора-
чиваясь.— Слов нету, храбрые ребята, а непутевые! И Федька этот
тоже — никакой в нем дисциплины. Выгнал бы — да заменить
некем.
Шебалов посмотрел на меня дружелюбно; белесоватые насу-
пившиеся брови его разошлись, и от серых, всегда прищуренных
для строгости глаз, точно кругами, как после камня, брошенного
в воду, расплылась по морщинкам необычная для него смущенная
улыбка, и он сказал искренне:
— Знаешь, ведь беда как трудно отрядом командовать! Это не
то что сапоги тачать. Сижу вот целыми ночами... к карте привыкаю.
Иной раз в глазах зарябит даже. Образования нет ни простого,
ни военного, а белые упорные. Хорошо ихним капитанам, когда
они ученые и сроду на военном деле сидят, а я ведь приказ даже по
складам читаю. А тут еще ребята у нас такие. У тех дисциплина.
Сказано — сделано! А у нас не привыкли еще, за всем самому надо
глядеть, все самому проверять. В других частях хоть комиссары
есть, а я просил-просил — нету, отвечают: «Ты пока и так обой-
дешься, ты и сам коммунист». А какой же я коммунист?..— Тут
Шебалов запнулся.— То есть, конечно, коммунист, но ведь образо-
вания никакого...
Мне было стыдно за то, что я соврал Шебалову. «Шебалов,—
думал я,— командир. Он не спит ночами, ему трудно. А мы... мы
вон как относимся к своему делу. Зачем я соврал ему, что наша
разведка была в Выселках? Вот и телефонистов из соседнего полка
подвели. Хорошо еще, что никого не убило. А ведь это уж нечестно,
нечестно перед революцией и перед товарищами».
354
Пробовал было я оправдаться перед собой тем, что Федя —
начальник и это он приказал переменить маршрут, но тотчас же
поймал себя на этом и обозлился: «А водку пить тоже начальник
приказал? А старшего командира обманывать тоже начальник
заставил?» Из окна высунулась растрепанная Федина голова, и он
крикнул негромко:
— Бориска!
Я сделал вид, что не слышал.
— Борька! — примирительно повторил Федька.— Брось ко-
бениться. Иди оладьи есть. Иди... У меня до тебя дело... Жри!
как ни в чем не бывало сказал Федя, подвигая ко мне сковородку,
и с беспокойством заглянул мне в лицо.— Тебя зачем Шебалов
звал?
— Про Выселки спрашивал,— прямо отрезал я.— Не были
вы, говорит, там вовсе!
— Ну, а ты?
Тут Федя заерзал так, точно его вместе с оладьями посадили на
горячую сковороду.
— Что я? Надо было сознаться. Тебя только, дурака, пожалел.
— Но-но... ты не очень-то,— заносчиво завел было Федя, но,
вспомнив, что он еще не все выпытал у меня, подвинулся и
спросил с тревожным любопытством:—А еще что он говорил?
— Еще говорил, что трусы вы и шкурники,— нагло уставив-
шись на Федю, соврал я.— «Побоялись,— говорит,— на Выселки
сунуться да отсиделись где-то в логу. Я,— говорит,— давно за-
мечаю, что у разведчиков слабить стало».
— Врешь! — разозлился Федя.— Он этого не говорил.
— Поди спроси,— злорадно продолжал я.— «Лучше,— гово-
рит,— вперед пехоту на такие дела посылать, а то разведчики толь-
ко и горазды, что погреба со сметаной разведывать».
— Вре-ешь! — совсем взбеленился Федор.— Он, должно быть,
сказал: «Байбаки, от рук отбились, порядку ни черта не призна-
ют». а про то, что разведчикам слабо стало, он ничего не говорил.
— Ну и не говорил,— согласился я, довольный тем, что довел
Федьку до бешенства.— Хоть и не говорил, а хорошо, что ли. на са-
мом деле? Товарищи надеются на нас, а мы вон что. Соседний
полк из-за тебя в обман ввели. Как на нас теперь другие смбтреть
будут? «Шкурники,— скажут,— и нет им никакой веры. Сообщи-
ли, что нет на Выселках белых, а телефонисты пошли провод раз-
матывать — их оттуда и стеганули».
* — Кто стеганул? — удивился Федя.
— Кто? Известно, белые.
Федя смутился. Он ничего еще не знал про телефонистов, по-
павших из-за него в беду, и, очевидно, это больно задело его. Он
молча ушел в соседнюю комнату. И по тому, что Федя, сняв свой
хриплый баян, заиграл печальный вальс «На сопках Маньчжу-
рии», я понял, что у Феди дурное настроение. Вскоре он резко
оборвал игру и. нацепив свою обитую серебром кавказскую шаш-
ку, вышел из хаты. Минут через пятнадцать он появился подокном.
— Вылетай к коню! — хмуро приказал он через стекло.
— Ты где был?
— У Шебалова. Вылетай живей!
Немного спустя наша разведка легкой рысцой потрусила мимо
полевого караула по слегка подмерзшей, корявой дороге.
Глава тринадцатая
...С гиканьем, с остервенелым свистом ворвалась в деревеньку
наша продрогшая кавалерия с той стороны, откуда нас белые ни-
как не могли ожидать. Расшвыривая бомбы, пронеслись мы к
маленькой церкви, возле которой находился штаб белого отряда.
В Выселках мы захватили десять пленных и один пулемет. Ко-
гда, усталые, но довольные, возвращались мы большой дорогой к
своим, Федя, ехавший рядом со мною, засмеялся зло и задорно:
— Шебалов-то!.. Утерли мы ему нос. То-то удивится!
— Как утерли? — не понял я.— Он и сам рад будет.
— Рад, да не больно. Досада его возьмет, что все-таки хоть не
по его вышло, а по-моему, и вдруг такая нам удача.
— Как не по его, Федька? — почуяв что-то недоброе, пере-
спросил я.— Ведь тебя же Шебалов сам послал.
— Послал, да не туда, он в Новоселове послал Галду там
дожидаться. А я взял да и завернул на Выселки. Пусть не соба-
чится за вчерашнее. Ну, да ему теперь крыть нечем. Раз мы плен-
ных и пулемет захватили, то ему ругаться уж не приходится.
«Удача-то удачей,— думал я, поеживаясь,— а все-таки как-то
не того. Послали в Новоселове, а мы — в Выселки. Хорошо еще,
что все так кончилось. Вдруг бы не пробрались мы через болото,
тогда что? Тогда и оправдаться нечем!» Еще не доезжая до села,
где стоял наш отряд, мы заметили какое-то необычайное в нем
оживление. По окраине бежали, рассыпаясь в цепь, красноар-
мейцы. Несколько всадников проскакало мимо огородов.
И вдруг разом от села застрочил пулемет. Рыжий горнист
356
Пашка, тот самый, который советовал повернуть с болота назад,
грохнулся на дорогу.
— Сюда! — заорал Федя, повертывая коня в лощину.
Прозвенела вторая очередь, и двое задних разведчиков, не
успевших заскочить в овраг, полетели на землю.
Нога у одного застряла в стремени, конь испугался и потащил
раненого за собой.
— Федька! — крикнул я, догадываясь.— Ведь это наш кольт
шпарит. Ведь наши не ожидают тебя с этой стороны. Мы же
должны быть в Новоселове.
— А я вот им зашпарю! — злобно огрызнулся Федор, соска-
кивая с коня и бросаясь к захваченному нами у белых пулемету.
— Федька! — деревенея, пробормотал я, — что ты, сумасшед-
ший?! По своим хочешь? Ведь они же не знают, а ты знаешь!
Тогда, тяжело дыша, остервенело ударив нагайкой по голенищу
хромового сапога, Федька поднялся, вскочил на коня и открыто
вылетел на бугор. Несколько пуль завизжало над его головой, но
как ни в чем не бывало Федька во весь рост встал на стремена и,
надев шапку на острие штыка, поднял ее высоко над своей головой.
Еще несколько выстрелов раздалось со стороны села, потом
все стихло. Наши обратили внимание на сигнализацию одинокого,
стоявшего под пулями всадника.
Тогда, махнув нам рукой, чтобы мы не двигались раньше време-
ни, Федька, пришпорив жеребца, карьером понесся по селу. Обо-
ждав немного, вслед за ним выехали и мы. На окраине нас встре-
тил серый, окаменевший Шебалов. Дымчатые глаза его потускне-
ли, лицо осунулось, палаш был покрыт грязью, и запачканные
шпоры звенели глухо. Остановив разведку, он приказал всем от-
правляться по квартирам. Потом, скользнув усталым взглядом по
всадникам, велел мне слезть с коня и сдать оружие. Молча, перед
всем отрядом, соскользнул я с седла, отстегнул шашку и передал
ее вместе с карабином нахмурившемуся кривому Малыгину.
Дорого обошелся отряду смелый, но самовольный набег.раз-
ведки на Выселки. Не говоря уже о трех кавалеристах, попавших
по Ошибке под огонь своего же пулемета, была разбита в Новосело-
ве не нашедшая Феди вторая рота Галды, и сам Галда был убит.
Обозлились тогда красноармейцы нашего отряда и сурового суда
требовали над арестованным Федей.
— Эдак, братцы, нельзя. Будет! Без дисциплины ничего не
выйдет. Эдак и сами погибнем и товарищей погубим. Не для чего
357
тогда и командиров назначать, если всяк будет делать по-
своему.
Ночью пришел ко мне Шебалов. Я рассказал ему начистоту,
как было дело, сознался, что из чувства товарищества к Феде со-
врал тогда, когда меня спрашивали в первый раз, были мы или нет
на Выселках. И тут же поклялся ему, что ничего не знал про Федь-
кин самовольный поступок, когда повел он нас вместо Новоселова
на Выселки.
— Вот, Борис,— сказал Шебалов,— ты уж раз соврал мне,
и если я поверю тебе еще один раз, если я не отдам тебя под суд
вместе с Федором, то только потому, что молод ты еще. Но смотри,
парень, чтобы поменьше у тебя было эдаких ошибок! По твоей
ошибке погиб Чубук, через вас же нарвались на белых и телефони-
сты. Хватит с тебя ошибок! Я уж не говорю про этого черта Федьку,
от которого беды мне было, почитай, больше, чем пользы. А теперь
пойди ты опять в первую роту к Сухареву и встань на свое старое
место. Я и сам, по правде сказать, маху дал, что отпустил тебя к
Федору. Чубук, тот... да, возле того было тебе чему поучиться...
А Федор что?.. Ненадежный человек! А вообще, парень, что ты то к
одному привяжешься, то к другому? Тебе надо покрепче со всеми
сойтись. Когда один человек, он и заблудиться и свихнуться легше
может!..
И в ту же ночь, выбравшись через окно из хаты, в которой он
сидел, захватив коня и четырех закадычных товарищей ускакал
Федя по первому пушистому снегу куда-то через фронт на юг. Го-
ворили, что к батьке Махно.
Глава четырнадцатая
Красные по всему фронту перешли в наступление.
Наш отряд подчинен был командиру бригады и занимал не-
большой участок на левом фланге третьего полка.
Недели две прошло в тяжелых переходах. Казаки отступали,
задерживаясь в каждом селе и хуторе.
Все эти дни у меня были заполнены одним желанием — загла-
дить свою вину перед товарищами и заслужить, чтобы меня при-
няли в партию.
Но напрасно вызывался я в опасные разведки. Напрасно, стис-
нув зубы, бледнея, вставал во весь рост в цепи, в то время когда
многие даже бывалые бойцы стреляли с колена или лежа Никто
358
не уступал мне своей очереди на разведку, никто не обращал вни-
мания на мое показное геройство.
Сухарев даже заметил однажды вскользь:
— Ты, Гориков, эти Федькины замашки брось!.. Нечего перед
людьми бахвалиться... Тут похрабрей тебя есть, и те без толку
башкой в огонь не лезут.
«Опять «Федькины замашки»,— подумал я, искренне огорчив-
шись.— Ну, хоть бы дело какое-нибудь дали. Сказали бы: выпол-
нишь — все с тебя снимется, будешь опять по-прежнему друг и
товарищ».
Чубука нет. Федька у Махно. Да и не нужен мне Федька. Друж-
бы особой нет ни с кем. Мало того, косятся даже ребята. Уж на что
Малыгин всегда, было раньше, поговорит, позовет с собой чай
пить, расскажет что-нибудь — и тот теперь холодней стал...
Один раз я слышал из-за дверей, как сказал он обо мне Ше-
балову:
— Что-то скучный ходит. По Федору, что ли, скучает? Небось,
когда Чубук из-за него пропал, он не скучал долго!
Краска залила мне лицо.
Это была правда: я как-то скоро освоился с гибелью Чубука, но
неправда, что я скучал о Федоре,— я ненавидел его.
Я слышал, как Шебалов звенел шпорами, шагая по земляному
полу, и ответил не сразу:
— Это ты зря говоришь,, Малыгин! Зря... Парень он не спор-
ченный. С него еще всякое смыть можно. Тебе, Малыгин, сорок,
тебя не переделаешь, а ему шестнадцатый... Мы с тобой сапоги
стоптанные, гвоздями подбитые, а он как заготовка: на какую ко-
лодку натянешь, такая и будет. Мне вот Сухарев говорит: у него-де
Федькины замашки, любит-де в цепи вскочить, храбростью без
толку похвастаться. А я ему говорю: «Ты, Сухарев, бородатый...
а слепой. Это не Федькины замашки, а это просто парень хочет
оправдаться, а как — не знает».
На этом месте Шебалова вызвал постучавший в окно верховой.
Разговор был прерван.
Мне стало легче.
Я ушел воевать за «светлое царство социализма». Царство это
было где-то далеко; чтобы достичь его, надо было пройти много
трудных дорог и сломать много тяжелых препятствий.
Белые были главной преградой на этом пути, и, уходя в армию,
я еще не мог ненавидеть белых так, как ненавидел их шахтер Ма-
359
лыгин или Шебалов и десятки других, не только боровшихся за бу-
дущее, но и сводивших счеты за тяжелое прошлое.
А теперь было уже не так. Теперь атмосфера разбушевавшейся
ненависти, рассказы о прошлом, которого я не знал, неотплаченные
обиды, накопленные веками, разожгли постепенно и меня, как го-
рящие уголья раскаляют случайно попавший в золу железный
гвоздь.
И через эту глубокую чужую ненависть далекие огни «светлого
царства социализма» засияли еще заманчивее и ярче.
В тот же день вечером я выпросил у нашего каптера лист белой
бумаги и написал длинное заявление с просьбой принять меня в
партию.
С этим листом я пошел к Шебалову. Шебалов был занят: у него
сидели наш завхоз и ротный Пискарев, назначенный взамен уби-
того Галды.
Я присел на лавку и долго ждал, пока они кончат деловой раз-
говор. В продолжение этого разговора Шебалов несколько раз под-
нимал голову, пристально глядел на меня, как бы пытаясь уга-
дать, зачем я пришел.
Когда завхоз и ротный ушли, Шебалов достал полевую книжку,
сделал какую-то заметку, крикнул посыльному, чтобы тот бежал
за Сухаревым, и только после этого обернулся ко мне и спросил:
— Ну... ты что?
— Я, товарищ Шебалов... я к вам, товарищ Шебалов...— от-
ветил я, подходя к столу и чувствуя, как легкий озноб пробежал
по моему телу.
— Вижу, что ко мне! — как-то мягче добавил он, вероятно,
угадав мое возбужденное состояние.— Ну, выкладывай, что у тебя
такое.
Все то, что я хотел сказать Шебалову, перед тем как просить его
поручиться за меня в партию, все заготовленное мною длинное
объяснение, которым я хотел убедить его, что я хотя и виноват за
Чубука, виноват за обман с Федькой, но, в сущности, я не такой,
не всегда был таким вредным и впредь не буду,— все это вылетело
из моей памяти.
Молча я подал ему исписанный лист бумаги.
Мне показалось, что легкая улыбка соскользнула из-под его
белесоватых ресниц на потрескавшиеся губы, когда он углубился в
чтение моего пространного заявления.
Он дочитал только до половины и отодвинул бумагу.
360
Я вздрогнул, потому что понял это как отказ. Но на лице Ше-
балова я не прочел еще отказа. Лицо было спокойное, немного
усталое, и в зрачках дымчатых глаз отражались перекладины раз-
рисованного морозными узорами окна.
— Садись,— сказал Шебалов.
Я сел.
— Что же ты. в партию хочешь?
— Хочу,— негромко, но упрямо ответил я.
Мне показалось, что Шебалов спрашивает только для того, что-
бы доказать всю невыполнимость моего желания.
— И очень хочешь?
— И очень хочу,— в тон ему ответил я, переводя глаза на угол,
завешанный пыльными образами, и окончательно решив, что Ше-
балов надо мною смеется.
— Это хорошо, что ты очень хочешь,— заговорил опять Ше-
балов, и только теперь по его тону я понял, что Шебалов не смеет-
ся, а дружески улыбается мне.
Он взял карандаш, лежавший среди хлебных крошек, рас-
сыпанных по столу, подвинул к себе мою бумагу, подписал под ней
свою фамилию и номер своего билета. Сделав это, он обернулся
ко мне вместе с табуреткой, шпорами и палашом и сказал
совсем добродушно:
— Ну, брат, смотри теперь. Я теперь не только командир, а как
бы крёстный папаша... Ты уж не подведи меня...
— Нет, товарищ Шебалов, не подведу,— искренне ответил я,
с ненужной поспешностью сдергивая со стола лист.— Я ни за что
ни вас, ни кого из товарищей не подведу!
— Погоди-ка,— остановил он меня.— А вторую-то подпись
надо... Кого бы еще в поручители?.. А-а! — весело воскликнул он,
увидев входящего Сухарева.— Вот как раз кстати.
Сухарев снял шапку, отряхнул снег, неуклюже вытер об мешок
огромные сапожищи и, поставив винтовку к стене, спросил, при-
слоняя к горячей печке закоченевшие руки.
— Зачем звал?
— Звал за делом. Насчет караула... На кладбище надо будет ре-
бят в церковь определить... Не замерзать же людям... Сейчас поп
придет, тогда сговоримся. А теперь вот что...— Тут Шебалов хит-
ро усмехнулся и мотнул головой на меня:— Как у тебя парень-то?
Что как? осторожно переспросил Сухарев, ухмыляясь во
все свое красное, обветренное лицо.
Ну... солдат какой? Н\. аттестуй его мне по форме.
•ТО 1
— Солдат ничего,— подумав, ответил Сухарев.— Службу хо-
рошо справляет. Так ни в чем худом не замечен. Только шальной
маленько. Да с ребятами после Федьки не больно сходится. Серди-
ты у нас дюже ребята на Федьку, чтоб его бомбой разорвало.
Тут Сухарев высморкался, вытер нос полой шинели; лицо еще
больше покраснело, и он продолжал сердито:
— Чтоб ему гайдамак башку ссек! Такого командира, как
Галда, загубил! А какой ротный был! Разве же ты найдешь еще
такого ротного, как Галда? Разве ж Пискарев... это ротный?.. Это
чурбан, а не ротный... Я ему сегодня говорю: «Твои дозоры для
связи... Я вчера лишних десять человек в караул дал», а он...
— Ну, ну! — прервал Шебалов.- - Это ты мне не разводи... Это
ты теперь Галду хвалишь, а раньше, бывало, всегда с ним соба-
чился. Какие еще там десять лишних человек? Ты мне очки не
втирай. Ну да ладно, об этом потом... Ты вот что скажи... Парень
в партию просится. Поручишься за него? Что глаза-то уставил?
Сам же говоришь: и боец хороший, и не замечен ни в чем, а что
насчет прошлого — ну, об этом не век помнить!
— Оно-то так,— почесывая голову и растягивая слова, согла-
сился Сухарев.— Да ведь только черт его знает!
— Черт ничего не знает! Ты ротный, да еще партийный. Ты луч-
ше черта должен знать, годится твой красноармеец в коммунисты
или нет.
— Парень ничего, - подтвердил Сухарев,— форс только лю-
бит. Из цепи без толку вперед лезет. А так ничего.
— Ну, не назад все же лезет. Это еще полбеды! Так как же,
смотри сам... Подписываешь ты или нет?
— Я-то бы подписал, этот парень ничего,— повторил осторож-
но Сухарев.— А еще кто подпишет?
— Еще я!.. Давай садись за стол, вот заявление.
— Ты подписал!..— говорил Сухарев, забирая в медвежью ла-
пу карандаш.— Это хорошо, что ты... Я же говорю, парень — зо-
лото, драли его только мало!
Глава пятнадцатая
Уже несколько дней шли бои под Новохоперском. Были втянуты
все дивизионные резервы, а казаки всё еще крепко держали по-
зиции.
На четвертый день с утра наступило затишье.
Ну, братцы! — говорил Шебалов. подъезжая к густой цепи
:и>2
отряда, рассыпавшегося по оголенной от снега вершине пологого
холма.— Сегодня после обеда общее наступление будет... Всей
дивизией ахнем.
Пар валил от его посеребренного инеем коня. Ослепительно
сверкал на солнце длинный тяжелый палаш, красная макушка
черной шебаловской папахи ярко цвела среди холодного снежного
поля.
— Ну, братцы,— опять повторил Шебалов звенящим голо-
сом,— сегодня день такой... серьезный день. Выбьем сегодня —
тогда до Богучара белым зацепки не будет. Постарайтесь же на-
последок, не оконфузьте перед дивизией меня, старика!
— Что пристариваешься? — хриплым простуженным голосом
гаркнул подходивший Малыгин.— Я, чать, постарше тебя, и то за
молодого схожу.
— Ты да я — сапоги стоптанные,— повторил Шебалов свою
обычную поговорку.— Бориска,— окликнул он меня приветливо,—
тебе сколько лет?
— Шестнадцатый, товарищ Шебалов,— гордо ответил я,—
с двадцать второго числа уже шестнадцатый пошел!
— «Уже»! — с деланным негодованием передразнил Шеба-
лов.— Хорошо «уже»! Мне вот уже сорок седьмой стукнул. А-а!
Малыгин, ведь это что такое — шестнадцатый? Что, брат, он уви-
дит, того нам с тобой не видать...
— С того свету посмотрим,— хрипло и с мрачным задором от-
ветил Малыгин, кутая горло в рваный офицерский башлык с
галуном.
Шебалов тронул шпорами продрогшего коня и поскакал вдоль
линии костров.
— Бориска, иди чай пить... Мой кипяток — твой сахар! —
крикнул Васька Шмаков, снимая с огня закопченный- котелок.
— У меня, Васька, сахару тоже нет.
— А что у тебя есть?
— Хлеб есть, да дам яблоки мороженые.
— Ну, кати сюда с хлебом, а то у меня вовсе ничего нет! Голая
вода.
— Гориков! — крикнул меня кто-то от другого костра.— Поди-
ка сюда.
Я подошел к кучке споривших о чем-то красноармейцев.
— Вот ты скажи,— спросил меня Гришка Черкасов, толстый
рыжий парень, прозванный у нас псаломщиком1.— Вот послушай-
Iliii.tnMUiHK низший церковный служитель.
363
те, что вам человек скажет. Ты географию учил?.. Ну, скажи, что
отсюда дальше будет...
— Куда дальше? На юг дальше Богучар будет.
— А еще?
— А еще... Еще Ростов будет. Да мало ли! Новороссийск, Вла-
дикавказ, Тифлис, а дальше Турция. А что тебе?
— Много еще! —смущенно почесывая ухо, протянул Гриш-
ка.— Эдак нам полжизни еще воевать придется... А я слышал, что
Ростов у моря стоит. Тут, думаю, все и кончится?
Посмотрев на рассмеявшихся ребят, Гришка хлопнул руками
о бедра и воскликнул растерянно:
— Братцы, а ведь много еще воевать придется!
Разговоры умолкли.
По дороге из тыла карьером несся всадник. Навстречу ему вы-
ехал рысью Шебалов. Орудие на фланге ударило еще два раза...
— Первая рота, ко мне-е! — протяжно закричал Сухарев, под-
нимая и разводя руки.
Несколько часов спустя из белых сугробов поднялись залегшие
цепи. Навстречу пулеметам и батареям, под картечью, по колено
в снегу двинулся наш рассыпанный и окровавленный отряд для по-
следнего, решающего удара. В тот момент, когда передовые части
уже врывались в предместья, пуля ударила меня в правый бок.
Я пошатнулся и сел на мягкий истоптанный снег.
«Это ничего.— подумал,— это ничего. Раз я в сознании —
значит, не убит... Раз не убит — значит, выживу»
Пехотинцы черными точками мелькали где-то далеко впереди.
«Это ничего,— подумал я, придерживаясь рукой за куст и при-
слоняя к ветвям голову.— Скоро придут санитары и заберут меня».
Поле стихло, но где-то на соседнем участке еще шел бой. Там
глухо гудели тучи, там взвилась одинокая ракета и повисла в небе
огненно-желтой кометой.
Струйки теплой крови просачивались через гимнастерку. «Л что,
если санитары не придут и я умру? — подумал я, закрывая глаза.
Большая черная галка села на грязный снег и мелкими шажка-
ми зачастила к куче лошадиного навоза, валявшегося неподалеку
от меня. По вдруг галка настороженно повернула голову, искоса
посмотрела на меня и, взмахнув крыльями, отлетела прочь.
Галки не боятся мертвых. Когда я умру от потери крови, она
прилетит и сядет, не пугаясь, рядом.
Голова слабела и тихо, точно укоризненно, покачивалась. На
364
правом фланге глуше и глуше гудели взрываемые снежные сугро-
бы, ярче и чаще вспыхивали ракеты.
Ночь выслала в дозоры тысячи звезд, чтобы я еще раз посмот-
рел на них. И светлую луну выслала тоже. Думалось: «Чубук жил,
и Цыганенок жил, и Хорек... Теперь их нет и меня не будет». Вспом-
нил, как один раз сказал мне Цыганенок: «С тех пор я пошел ис-
кать светлую жизнь».— «И найти думаешь?» — спросил я. Он от-
ветил: «Один не нашел бы, а все вместе должны найти... Потому —
охота большая».
— Да, да! Все вместе,— ухватившись за эту мысль, прошеп-
тал я,— обязательно все вместе.— Тут глаза закрылись, и долго
думалось о чем-то незапоминаемом, но хорошем-хорошем.
— Бориска! — услышал я прерывающийся шепот.
Открыл глаза. Почти рядом, крепко обняв расщепленный сна-
рядом ствол молоденькой березки, сидел Васька Шмаков.
Шапки на нем не было, а глаза были уставлены туда, где
впереди, сквозь влажную мглу густых сумерек, золотистой рос-
сыпью мерцали огни далекой станции.
— Бориска,— долетел до меня его шепот,— а мы все-таки за-
няли...
— Заняли,— ответил я тихо.
Тогда он еще крепче обнял молодую сломанную березку, по-
смотрел на меня спокойной последней улыбкой и тихо уронил голо-
ву на вздрогнувший куст.
Мелькнул огонек... другой... Послышался тихий, печальпыи
звук рожка. Шли санитары.
19:111
Вопросы и задания
Почем} черпан часть повести А. II. Гандара называется «Школа», нторай
«Веселое время», а третья - «Фронт»?
В чем особенность композиции этой повести?
Часть первая. «Школа»
Проследите по тексту и расскажите об отношении каждого из героев этой
части повести к военным событиям 1914 года. Как это их характеризует?
Часть вторая «Веселое время»
I. Каким образом Борис стал «невольным сообщником» своего отца и как
повлияло это на поведение Бориса и его отношения с товарищами по школе?
Понял ли Борис, о каком «веселом времени» говорил его отец?
2. Кто и при каких обстоятельствах помог Борису разобраться и поли-
тических событиях «веселого времени»?
365
3. Рассмотрите репродукции картин М. Б. Грекова и Г. М. Коржева. В чем
идейная близость этих картин с повестью «Школа»?
Часть третья. «Фронт»
I. Объясните, прав ли был Борис, утверждая, что «настоящее в жизни только
начинается». Как его слова подтвердились последующими событиями?
2. Какую роль в изображении героев первой главы играет их противопостав-
ление друг другу? С помощью каких художественных средств передает писатель
ужас Бориса после смертельной схватки его с врагом?
3. Расскажите о первой разведке Бориса. Почему после разговора с Чубуком на
душе у Бориса было спокойно и торжественно?
4. О чем разгорелся спор между Борисом и Чубуком, когда они везли ране-
ных? Кто из них прав (гл. VII)?
5. Как случилось, что Чубук и Борис оказались в плену у белых? Что спасло
Бориса от расстрела и почему не удалось ему выручить Чубука? Как вы оцениваете
поступок Бориса?
6. Как вел себя Чубук в плену у белых? Сопоставьте сцену допроса Чубука с
допросом Метелицы («Метелица» А. А. Фадеева). Обратите внимание на их пове-
дение и переживания. В чем сходство этих героев?
7. Что пережил Борис в момент расстрела Чубука И после его гибели (гл. X,
XI)? Почему Борис решил вернуться в отряд Шебалова? Как это характеризует
Бориса?
8. Сравните, как поступают в одних и тех же случаях Борис и Федор Сырцов.
Чем отличается Борис от Федора?
9. Для выразительного чтения или чтения в лицах выберите одни из эпизодов:
«Разговор Бориса с Чубуком» (гл. VII). «Вступление Бориса в партию» (гл. XIV),
«Наступление красных» (гл. XV).
Ко всей повести.
I. Каким вы представляете Бориса в первой и последней частях повести (внеш-
ность, поведение, характер, взгляды на жизнь н классовую борьбу)? Под влиянием
каких людей и событий Борис принял революцию «как свое дело», стал коммунис-
том?
2. Почему Гайдар назвал жизненный путь Бориса «обыкновенной биогра-
фией». а время, когда рос и мужал Борис,— «необыкновенным»?
Как вы понимаете смысл названия повести «Школа»?
3. Составьте рассказ о жизни одного из коммунистов старшего поколения
(отец Бориса, учитель Галка. Шебалов. Чубук). Что объединяет их?
4. На основании анализа ключевых эпизодов (встреча Бориса с солдатом,
фронтовым другом отца; расстрел отца; столкновение Бориса с товарищами по
школе; митинг в Каменке; дружба с большевиком Галкой; первая встреча с классо-
вым врагом; гибель Чубука; возвращение Бориса в отряд Шебалова; дружба Бо-
риса с Федором Сырцовым; разговор с Шебалиным о чести н долге бойца Крас-
ной Армии; заявление в партию; бой под Новохоперском) составьте план сочинения
на тему «Трудные и важные уроки, которые Борис получил от жизни».
5. Какие книги об участии детей и подростков в гражданской войне вы читали?
Что общего у Бориса Горикова с героями этих книг?
Эдуард
Георгиевич
БАГРИЦКИЙ
(1895—1934)
Нас водила молодость
В сабельный поход...
Э. Багрицкий
тихи я начал писать очень давно,— кажется с третьего
или четвертого класса. В реальном училище я издавал
школьный журнал, из-за которого много раз имел большие не-
приятности...
В 1917 году, после революции, я попал на фронт... Там я пробыл
до 1918 года и вернулся обратно в Одессу.
Началась гражданская война. Одесса была городом бес-
прерывных боев — городом, в котором жестоко боролись ре-
волюция и контрреволюция...
В 1919 году... поступил в Красную Армию. Действительность
была очень суровая. Я многого не понимал. Но культурная
работа, которую я там вел, меня сильно увлекла...
Впервые по-настоящему я задумался над тем, что я делаю,
уже будучи взрослым, уже пройдя опыт гражданской войны и
революции...
(Из статьи Э. Багрицкого «Как я пишу» )
Мы с Валей1 были двоюродными сестрами-ровесницами и
очень дружили. Как и все дети в мире, начитавшись романтических
Девочка, события аиши которой легли в основу стихотворения «Смерть
пионерки».
367
книг, мы мечтали о путешествиях, опасных приключениях и встре-
чах с людьми мужественными, благородными, как прославленные
герои романов Жюля Верна. Да, все мечтают, но не все с ними
встречаются. Нам повезло. В Валином доме, сняв комнату у ее
родителей, поселился Багрицкий.
И странно, всего лишь один человек прибавился на сером,
скучном, утоптанном до каменности хозяйственном дворе, а все
изменилось до неузнаваемости. Мы, десятилетние, не знали тогда,
что этот человек был настоящим поэтом и как поэт обладал вол-
шебным свойством — обновлять мир.
Этот мир мы увидели впервые через открытую дверь. Он был
изумрудный, как первая трава на выгоне, и таинственный, как
африканские джунгли. С плоской крыши сарая, где мы с Валей
растянулись на животах, хорошо были видны и прозрачные аква-
риумы в окнах, и качающиеся под потолком птичьи клетки, и
какие;то диковинные цветы в банках. И подумать только, что все
это было в комнате! И щебет птиц, и стеклянный плеск разно-
цветных рыб и сказочный полумрак...
Там не было ни ковров, ни мягких диванов, ни семейных портре-
тов в резных рамках — ничего из того, к чему мы привыкли и что
в изобилии наполняло комнаты Валиных родителей. Это был
другой мир, глубоко волнующий детское воображение, и обита-
тели его были другие. О них мы почему-то говорили полуше-
потом.
— Смотри, смотри: это Он! — шептала Валя, и мы замирали,
прижавшись к крыше.
А он, поэт Эдуард Багрицкий, выходил из своих «джунглей»,
медлительный, добродушный и тяжелый, как гризли1. Постояв с
минуту в дверях, он садился на крыльцо. Конечно, он видел нас,
притаившихся, но, наверное, считал, что незачем мешать востро-
глазым девчонкам учиться наблюдать жизнь, и поворачивался к
сачкам и удочкам, прислоненным к стене дома. И только, когда
появлялся его сын Севка, голоногий, кареглазый, всегда поцара-
панный и шумный, он кивал в нашу сторону большой густоволосой
головой:
— Зови товарищей. Пойдем за тритонами!
«За тритонами!» Это звучало не хуже майнридовского «за
/ри.ч.ш большой серый медведь, живущий н горных леслх.
36Н
мустангами». Мы скатывались с крыши и шли вчетвером к боло-
тистому пруду на окраине Кунцева...
На том же тритоньем пруду мы как-то встретили человека с
широким и добрым лицом. Он отделился от толпы мальчишек и
обнял Багрицкого, как друга. О том, что это был Гайдар, я узнала
позднее. Он жил в то время на Большой Кунцевской улице и
писал свои удивительные «Дальние страны» — о строительстве
большого завода на соседнем полустанке. Тогда я ничего
этого не знала. Но теперь, оглядываясь назад, я уверена, что
мальчишки, бывшие вместе с Гайдаром, выросли настоящими
людьми.
А с нами был Багрицкий. Он читал стихи о веселом Диде-
ле-птицелове и рассказывал о гражданской войне. Как и Гайдар,
он больше всего на свете любил Красную Армию...
Валя впервые увидела марширующий пионерский отряд
возле фабрики имени Ногина. Помню ее вспыхнувшее, восхи-
щенное лицо и упрямый взгляд, когда она мне сказала:
— Обязательно буду пионеркой!
— Все он со своими бреднями! — решила тетка, поняв, что
Валю не переломить.
Это было и так, и не так. Багрицкий помог Вале увидеть другой
мир, заразил ее мечтой о революционной борьбе, но дальше она
пробивалась сама...
И вот наступил момент, когда она вошла в свой чистый утрам-
бованный двор, где каждая вещь имела свою цену, а каждая тра-
винка росла с пользой, вошла в красном пионерском галстуке и
остановилась перед матерью. Та поднялась на мгновение от кадуш-
ки, в которой толкла картошку для поросенка, покосилась на
сидевшего на крыльце Багрицкого и ушла в сарай, ничего не
сказав.
(Из воспоминаний о Багрицком Галины Севериной.)
Вопросы и задание
I. Расскажите, что узнали вы о жизни поэта.
2. В какой степени Э. Багрицкий помог Вале увидеть другой мир, «заразить
ее мечтой о революционной борьбе...»?
3. В чем проявилась стойкость Вали, ее способность отстоять свои убежде-
ния?
369
СМЕРТЬ ПИОНЕРКИ
Грозою освеженный. Подрагивает лист. Лх. пеночки зеленой Двухоборотный свист!
Валя, Валентина, Всё хозяйство брошено.
Что с тобой теперь? Не поправишь враз.
Белая палата. Грязь не по-хорошему
Крашеная дверь. В горницах у нас.
Тоньше паутины Куры не закрыты.
Из-под кожи щек Свиньи без корыта;
Тлеет скарлатины И мычит корова
Смертный огонек. С голоду сердито.
Говорить не можешь — Не противься ж, Валенька
Губы горячи. Он тебя не съест,
Над тобой колдуют Золоченый, маленький,
Умные врачи. Твой крестильный крест».
Гладят бедный ежик Стриженых волос. На щеке помятой
Валя, Валентина, Длинная слеза.
Что с тобой стряслось? А в больничных окнах
Воздух воспаленный. Черная трава. Движется гроза.
Почему от зноя Открывает Валя
Ноет голова? Смутные глаза.
Почему теснится От морей ревучих
В подъязычье стон? Пасмурной страны
Почему ресницы Наплывают тучи,
Обдувает сон? Ливнями полны.
Двери отворяются. Над больничным садом.
(Спать. Спать. Спать.) Вытянувшись в ряд.
Над тобой склоняется За густым отрядом
Плачущая мать: Движется отряд. Молнии, как галстуки.
«Валенька, Валюша! Тягостно в избе. По ветру летят.
Я крестильный крестик В дождевом сиянье
Принесла тебе. Облачных слоев
370
Словно очертанье
Тысячи голов.
Рухнула плотина —
И выходят в бой
Блузы из сатина
В синьке грозовой.
Трубы. Трубы. Трубы.
Подымают вой.
Над больничным садом.
Над водой озер
Движутся отряды
На вечерний сбор.
Заслоняют свет они
(Даль черным-черна).
Пионеры Кунцева,
Пионеры Сетуни,
Пионеры фабрики Ногина.
А внизу склоненная
Изнывает мать:
Детские ладони
Ей не целовать.
Духотой спаленных
Губ не освежить.
Валентине больше
Не придется жить.
«Я ль не собирала
Для тебя добро?
Шелковые платья.
Мех да серебро,
Я ли не копила.
Ночи не спала,
Всё коров доила,
Птицу стерегла,
Чтоб было приданое.
Крепкое, недраное.
Чтоб фата к лицу —
Как пойдешь к венцу!
Не противься ж, Валенька!
Он тебя не съест.
Золоченый, маленький.
Твой крестильный крест».
Пусть звучат постылые.
Скудные слова —
Не погибла молодость.
Молодость жива!
Нас водила молодость
В сабельный поход.
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.
Но в крови горячечной
Подымались мы.
Но глаза незрячие
Открывали мы.
Возникай содружество
Ворона с бойцом,—
Укрепляйся мужество
Сталью и свинцом.
Чтоб земля суровая
Кровью истекла.
Чтобы юность новая
Из костей взошла.
371
Чтобы в этом крохотном
Теле — навсегда
Пела наша молодость.
Как весной вода.
Валя, Валентина,
Видишь — на юру1
Базовое знамя2
Вьется по шнуру.
Красное полотнище
Вьется над бугром.
«Валя, будь готова!» —
Восклицает гром.
В прозелень лужайки
Капли как польют!
Валя в синей майке
Отдает салют.
Тихо подымается.
Призрачно-легка,
Над больничной койкой
Детская рука.
«Я всегда готова!» —
Слышится окрест.
На плетеный коврик
Упадает крест.
И потом бессильная
Валится рука —
В пухлые подушки,
В мякоть тюфяка.
А в больничных окнах
Синее тепло.
От большого солнца
В комнате светло.
И, припав к постели.
Изнывает мать.
За оградой пеночкам
Нынче благодать.
Вот и всё!
Но песня
Не согласна ждать.
Возникает песня
В болтовне ребят.
Подымает песню
На голос отряд.
И выходит песня
С топотом шагов
В мир, открытый настежь
Бешенству ветров.
Апрель — август. 1932 г
Вопросы и задания
I. Какие события из жизни Вали стали главной темой стихотворения
смерти пионерки? Как выражена тревога поэта о Валентине, сочувствие
восхищение ее подвигом?
1 Юр — открытое возвышенное место.
Базовое знамя — пионерское знамя; база — пионерская организация
годов, то же, что современная дружина.
372
2. В чем причина разного отношения Вали и ее матери к жизни? Спой ответ
подтвердите примерами из стихотворения.
3. Почему поэт сравнивает пионерские отряды с грозовыми тучами? Какова
роль изобразительно-выразительных средств языка (метафоры, эпитеты, сравне-
ния) в художественном описании грозы и движущихся отрядов?
4. В чем особенность композиции этого стихотворения и какова ее роль в
выражении авторского отношения к Вале, ее матери и пионерскому движению?
5. Выразительно прочитайте все стихотворение. Выучите наизусть отрывок
«Нас водила молодость...». Почему, рассказывая о Вале, поэт вспоминает героев
гражданской войны?
6. Прочитайте рассказ поэта о создании стихотворения «Смерть пионерки»
и объясните, какое значение имеет пионерская песня для понимания главной
мысли стихотворения.
Э. Г. БАГРИЦКИЙ О СВОЕМ
СТИХОТВОРЕНИИ «СМЕРТЬ ПИОНЕРКИ»
...Я написал стихотворение «Смерть пионерки» в виде сказки.
Я ясно представлял себе, что его надо писать как можно проще.
Рассказать о том, почему Валя дорога мне. Мне хотелось пока-
зать, что смерть ее незабываема, и, несмотря на то, что Валя
умерла, песнь о ней останется жива, с этой песней о ней пойдут
пионеры.
Грозу в стихотворении я ввел для того, чтобы ярче подчерк-
нуть пионерство Вали, показать, что даже мир, который находится
за окном комнаты, он также идет вместе с отрядом, и в тот момент,
когда мать наклоняется над ней и говорит о крестике, ей кажется,
что за окном идут пионеры Кунцева, пионеры Сетуни, пионеры
фабрики Ногина...
Я очень медленно работаю, поэтому у меня так мало книжек.
Хочу писать так, чтобы я мог отвечать за каждую строчку,
мною написанную. Даже к запятым я отношусь очень внимательно.
Вот, например, «Смерть пионерки» я писал два месяца. Обраба-
тывал — и замечал, что все как будто чего-то не хватает. И однаж-
ды, помню, читаю — и вдруг мысль — не хватает в стихотворении
моего личного отношения к этой пионерке. Тогда я ввел туда песню.
И когда написал и стал читать снова, ясно стало, что вот этого-то и
не хватало. Попробуйте — выкиньте из стихотворения песню и вы
увидите, что будет чего-то не хватать.
(Из беседы Э. Багрицкого с дсткорамп
«Пионерской правды» в начале 1933 г.)
Алексей
Николаевич
ТОЛСТОЙ
(1883—1945)
Это — моя родина, моя родная
земля, мое отечество,— и в
жизни нет горячее, глубже и
священнее чувства, чем любовь
к тебе...
А. Н. Толстой
Целую галерею русских характеров создал Алексей Толстой.
Он отразил самые возвышенные свойства русского ума и
души. А русский язык!.. Он любил его вдохновенно...
Олицетворением совершенства русской речи был для Толстого
Пушкин. Да в нем самом есть многое, идущее от пушкинской
традиции1, от классической русской литературы.
...Им созданы замечательный исторический роман и драмати-
ческие произведения об Иване Грозном и о Петре, он изобразил
уходящее российское дворянство, воспел Великую Октябрьскую
революцию, создал удивительную эпопею гражданской войны
«Хождение по мукам», рассказы о героях Великой Отечественной
войны. Стремясь заглянуть в будущее, он сочинил фантастический
роман «Гиперболоид инженера Гарина», который, как показало
время, не такой уж фантастический. Он описывал жизнь советс-
ких людей и капиталистический Запад, его творческое воображе-
ние, словно ему тесно показалось на земном шаре, унесло в романе
«Аэлита» межпланетный корабль инженера Лося на Марс. Про-
шлое. Настоящее. Будущее. Россия. Европа. Космическое про-
странство... Казалось, нет больших тем, неинтересных для этого
большого писателя. И во всех произведениях он остается оптими-
стом: такая у него была любовь к жизни, к людям, к бытию.
(Из воспоминаний Ираклия Андраникова об А. Н Толстом )
Традиция то. что унаследовано от нре.инестнующнх поколений.
...С первых же дней Великой Отечественной войны весь свой
талант, весь свой накал души отдает он делу победы. Вся страна
читает его гневные и страстные статьи «Родина», «Москве угро-
жает враг», «Что мы защищаем», «Разгневанная Россия».
Но не только как публицист1 выступает Толстой в годину фа-
шистского нашествия. Помимо работы над «Петром Первым» и
дилогией2 об Иване Грозном, он пишет «Рассказы Ивана Сударе-
ва», где стремится передать лучшие черты русского национального
характера... Героика событий порождала героические характеры.
Сильные и смелые люди, соль русской земли, встали на пути
гитлеровского вала. «Русский характер» — так назвал А. Толстой
рассказ о лейтенанте Егоре Дремове... Рассказ воспринимается
не просто как «литература», — становится чем-то большим, чем
литература...
«Человеческой красоте», красоте русского человека — в совре-
менности или в далеком историческом прошлом — посвящены
лучшие произведения А. Толстого.
(Из статьи Олега Михайлова «Я с гордостью
шагаю по моей земле».)
Вопрос и задание
I. Что узнали вы о жизни А. Н. Толстого и каине произведения его вы
читали?
2. Прочитайте повести А. Н. Толстого «Аэлита», «Гиперболоид инженера
Гарина».
РУССКИЙ ХАРАКТЕР
(Из «Рассказов Ивана Сударева»)
Русский характер! — для небольшого рассказа название
слишком многозначительное. Что поделаешь,— мне именно и хо-
чется поговорить с вами о русском характере.
Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о
героических подвигах? Но их столько, что растеряешься,— ко-
торый предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель не-
большой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рас-
1 Публицист — писатель, ставящий в своих произведениях общественно-
политические вопросы.
2 Дилогия — два романа нли два драматических произведения одного авто-
ра. связанных единством замысла.
175
сказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и поло-
вина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновен-
ный,— колхозник из приволжского села Саратовской области. Но
среди других заметен сильным и соразмерным сложением и кра-
сотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни тан-
ка,— бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает
шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и не-
пременно улыбнется от душевной приязни1.
На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются
лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после
солнечного ожога, и остается в человеке — ядро. Разумеется —
у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро
с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным
товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был
строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью
Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой —
человек степенный,- первое — он себя уважает. Ты, говорит, сы-
нок, многое увидишь на свете и за границей побываешь, но рус-
ским званием — гордись...»
У него была невеста из того же села на Волге. Про невест
и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье,
стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужи-
нали. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например:
«Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе
уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка,
человек любит не только жену, но отца с матерью и даже
животных...» — «Тьфу, бестолковый! — скажет третий,— лю-
бовь — это, когда в тебе всё кипит, человек ходит вроде, как
пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старши-
на, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую
суть... Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров,
только вскользь помянул мне о невесте,— очень, мол, хорошая
девушка, и уж если сказала, что будет ждать,— дождется, хотя
бы он вернулся на одной ноге...
Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать:
«О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит.
Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в осо
бенности удивлял слушателей водитель Чувилев.
Приязнь - доброжелательство, доброе отношение.
376
«...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горуш-
ки вылезают... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра1!» — «Вперед,—
кричит,— полный газ!..» Я и давай по ельничку маскировать-
ся — вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой,
ударил — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок,—
брызги! Как даст еще в башню,— он и хобот задрал... Как даст в
третий,— у тигра изо всех щелей повалил дым,— пламя как рва-
нется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запас-
ной люк... Ванька Лапшин из пулемета повел,— они и лежат,
ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять
минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты
кто куда... А — грязно, понимаешь,— другой выскочит из сапо-
гов и в одних носках — порск2. Бегут все к сараю. Товарищ лей-
тенант дает мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы
отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По
броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые
сидели под крышей... А я еще — и проутюжил,— остальные руки
вверх — и Гитлер капут...»
Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось
с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже
истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре на пшенич-
ном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты,
от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочив-
ший через передний люк, опять взобрался на броню и успел
вытащить лейтенанта,— он был без сознания, комбинезон на нем
горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой
силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев
кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голо-
ву, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к
воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? —
рассказывал Чувилев,— слышу, у него сердце стучит...»
Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его
было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь меся-
цев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пласти-
ческие операции3, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши.
Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на
1 «Тиграми» н годы дойны называли мощные фашистские танки.
Порскнуть стремительно бежать, убежать.
1 Пластическим операция пересадка кожи.
377
свое и теперь не свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое
зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул
зеркальце.
— Бывает хуже,— сказал он,— с этим жить можно.
Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто
ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла
его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и
сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк».— «Но
вы же инвалид»,— сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это
делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То,
что генерал во время разговора старался не глядеть на него,
Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми,
как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для
полного восстановления здоровья, поехал домой к отцу с ма-
терью. Это было как раз в марте этого года.
На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пеш-
ком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро,
пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой
тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были
сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скри-
пел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановил-
ся, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наиско-
сок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку,
увидел мать,— при тусклом свете привернутой лампы, над сто-
лом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая,
неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох,
знать бы,— каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два
словечка...» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, ку-
сок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом,
сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошеч-
ко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы
у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.
Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыль-
це постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он
ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».
У него так заколотилось сердце — привалился плечом к при-
толоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый
раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций,—
хриплый, глухой, неясный.
— Батюшки, а чего тебе надо-то? — спросила она.
378
— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего
лейтенанта Дремова.
Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватив за руки:
— Жив Егор-то мой? Здоров? Батюшки, да ты зайди в
избу.
Егор Дремов сел на лавку у стола на то самое место, где си-
дел, когда еще у него ноги не доставали до полу и мать, бывало,
погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, каса-
тик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя,—
подробно, каК он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здо-
ров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим
танком.
— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебила она, глядя
ему в лицо темными, его не видящими глазами.
— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.
Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы,—
бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, пото-
пал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф,
снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку,— ах,
знакомая была, широкая, справедливая родительская рука!
Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно —
зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полу-
прикрыв глаза.
Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рас-
сказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыть-
ся,— встать, сказать: да признайте же вы меня, урода, мать,
отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.
— Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь
для гостя.— Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчи-
ка, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной
коробке,— они там и лежали,— и стоял чайник с отбитым носи-
ком, он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой
шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином,— всего на два
стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как
в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов
заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой
с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болез-
ненно задрожало.
Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли
народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.
379
— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо
ждать конца войны?
— Народ осерчал,— ответил Егор Егорович,— через смерть
перешли, теперь его не остановишь, немцу — капут.
Марья Поликарповна спросила:
— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск,— к нам съез-
дить на побывку. Три года его не видала, чай взрослый стал,
с усами ходит... Эдак — каждый день — около смерти, чай и го-
лос у него стал грубый?
— Да вот приедет — может и не узнаете,— сказал лейтенант.
Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич,
каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке.
Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается
и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей.
За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала,
не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони. «Неужто так
и не признала, думал,— неужто не признала? Мама, мама...»
Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно
возилась у печи; на протянутой веревке висели его выстиранные
портянки, у двери стояли вымытые сапоги.
— Ты блинки пшенные ешь? — спросила она.
Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затя-
нул пояс и — босой — сел на лавку.
— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея
Степановича Малышева дочь?
— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей.
А тебе ее повидать надо?
— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.
Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел
и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые гла-
за ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный
румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный
платок, лейтенант даже застонал про себя: поцеловать бы эти
теплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему по-
друга,— свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот во-
шла, и вся изба стала золотая...
— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету
и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его
жду и день и ночь, так ему и скажите...
Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка
з«о
ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил
уйти,— сегодня же.
Мать напекла пшенных блинов с топленым молоком. Он
опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воин-
ских подвигах,— рассказывал жестоко и не поднимал глаз на
Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего урод-
ства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную
лошадь,— но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был
очень угнетен всем происшедшим, даже останавливаясь, ударял
ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то
теперь?»
Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на по-
полнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней
радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни
спать, ни есть, ни дышать. Решил так,— пускай мать подольше
не знает о его несчастье. Что же касается Кати,— эту занозу он
из сердца вырвет.
Недели через две пришло от матери письмо:
«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать,
не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя,— чело-
век очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да
сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи,— ка-
жется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за
это,— совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он
наш сын — разве бы он не открылся... Чего ему скрываться, если
это был бы он,— таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал,
гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское
сердце — все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на
печи, я шинель его вынесла на двор — почистить, да припаду
к ней, да заплачу,— он это, его это!.. Егорушка, напиши мне,
Христа ради, надоумь ты меня,— что было? Или уж вправду,—
с ума я свихнулась...»
Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и,
рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот,
говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее
матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума... Очень ей
нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».
Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители
Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за не-
вежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее и так
381
далее — на четырех страницах мелким почерком,— он бы и на
двадцати страницах написал — было бы можно.
Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне,— при-
бегает солдат и Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спраши-
вают...» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей фор-
ме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок,
подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в се-
бе,— все покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы».
Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу:
«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка
припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и дру-
гая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красави-
цы, не одна же она такая, но лично я — не видал.
Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке,— а я уже
поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны.
«Катя! — говорит он,— Катя, зачем вы приехали? Вы того обе-
щали ждать, а не этого...»
Красивая Катя ему отвечает,— а я хотя ушел в сени, но слы-
шу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить
верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...»
Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек,
а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается
в нем великая сила — человеческая красота.
1944 г.
Вопросы и задания
1. Самостоятельно проследите, как раскрывается характер Егора Дремова в
его поступках, думах н переживаниях. Что более всего ценит рассказчик в ха-
рактере Егора Дремова?
2. Какова роль Ивана Сударева в рассказе?
3. Перечитайте конец рассказа. В чем проявилась самоотверженность и
цельность характера Кати, «человеческая красота» других героев рассказа?
4. Как вы понимаете смысл названия рассказа А. Толстого «Русский ха-
рактер»?
Евгений
Иванович
НОСОВ
(1925 г.)
Евгений Иванович Носов при-
надлежит к поколению, которое
пришло в литературу опален-
ное огнем войны.
И. Васкевич
р? вгений Иванович Носов родился в 1925 году в селе Толмаче-
ве под Курском, на высоком берегу Сейма,— в краю, отме-
ченном летописями, воспетом автором «Слова о полку Игореве»,
Тургеневым и Фетом, Никитиным, Кольцовым и Буниным...
Отец Евгения Ивановича, Иван Георгиевич Носов, был по-
томственным мастеровым, перенявшим кузнечное ремесло от деда,
походившего на былинных ковалей. «Помню,— писал Е. Носов,—
как ходил с дедом в ночное: сизотуманный луг, блекло, призрачно
мерцающий под луной росными травами, темные силуэты коней,
скрип коростеля, кизячий костерок с булькающим кулешом, уютное
тепло старого полушубка...» Сам уклад жизни, не располагающий
к праздности (шли годы коренного, социалистического пере-
устройства деревни), естественным образом воспитывал и разви-
вал в будущем писателе любовь и уважение к труду и людям неза-
метных, но жизненно необходимых профессий, к неброской и
печальной природе среднерусской полосы...
Повседневные житейские нужды вполне уживались в ребенке с
любовью и интересом к таинственной жизни трав, деревьев, птиц
и зверей. Увлечение живой природой разделял и отец: по
воскресеньям, надев чистую рубаху, он «брал ножницы и
принимался вырезать из бумаги фигурки... однотипные, прими-
тивные подобия лошадей и наклеивал их на оконное стекло...
«А сейчас собаку сделаем»,— приговаривал он и вырезал такую
же лошадиную фигурку, но только с крючкообразным хвостом...
383
Отцовские «наскальные» кони,— вспоминал Е. Носов,— побудили
меня внимательно вглядываться в окружающий мир, разожгли
негасимый мальчишеский интерес ко всему живому, страстное
желание воспроизвести все это с помощью ножниц, а затем и
карандашом. Рисовать я научился рано, что-то с пяти лет. Этим
я обязан своему отцу, о чем он даже не подозревал...»
Е. Носову было шестнадцать лет, когда на нашу страну напали
фашистские полчища. Пережив тяготы фашистской оккупации на
родной земле, будущий писатель ... восемнадцатилетним юношей
попадает на фронт, становится артиллеристом противотанковой
бригады, доходит с боевыми друзьями до цитадели1 немецкого
фашизма — Восточной Пруссии. «Доподлинный окопник, рядовой
боец ... он воевал в расчете семидесятимиллиметровой пушки,
самой боевой и опасной на прошлой войне»,— пишет о нем Виктор
Астафьев...
На подступах к Кенигсбергу (ныне Калининград) будущий
писатель был тяжело ранен и май сорок пятого года встретил
в госпитале, в старинном подмосковном городе Серпухове...
Осенью сорок пятого года, выписавшись из госпиталя, Е. Носов
решает продолжить учебу в средней школе (до войны он окончил
восемь классов), однако, вспоминает писатель, «когда я впервые
зашел в класс в гимнастерке и при боевых орденах, все встали,
думая, что это новый учитель...», и мысль о школьном образова-
нии пришлось оставить, тем более что надо было зарабатывать
на жизнь. Будущий прозаик уезжает в Среднюю Азию, в Ка-
захстан, работает в газете — художником-оформителем, затем
литературным сотрудником. Именно война и послевоенная разъ-
ездная, полная встреч со вчерашними фронтовиками, журна-
листская работа довершили воспитание и образование Е. Носова
как гражданина и художника. В 1951 году он возвращается
с семьей в родной Курск, в котором живет и поныне.
Первый рассказ — «Радуга» — Е. Носов опубликовал в об-
ластном альманахе2 для детей в 1957 году, а первую книгу - -
«На рыбачьей тропе» — в пятьдесят восьмом. Через год увидел
свет новый сборник Е. Носова «Рассказы». Это были не робкие
ученические шаги начинающего автора, а проза обещающего
крупного писателя. Он был принят в Союз писателей. С этой
1 Цитадель здесь: опора, оплот, крепость.
' Альманах — литературный сборник нроизнеденнй разных писателей.
384
1. Дубовая роща. Картина И. И. Шишкина.
Иван Иванович Шишкин (1832—1898). Извест-
ный русский художник И. И. Шишкин считал, что
«в природе иа каждом шагу встречаются картины,
к которым нечего прибавить, из которых нечего вы-
бросить». Шишкин поражал современников настой-
чивостью, упорством, трудолюбием. Он создал много
картин, изображающих родную природу, и его спра-
ведливо называют певцом русского леса. Картина
<Дубовая роща» была написана в 1887 году. Это
одна из самых лучших картин художника. Верность
жизни, четкость компознции, яркость красок отли-
чают это живопнсное полотно.
Вопросы и задание. 1. Какие картины Шишкина
вы знаете? 2. Жаркое русское лето изобразили ху-
дожник Шишкин и писатель Тургенев в «Бежином
луге». Сопоставьте эти картины, обратите внимание
на состояние природы, детали описания, настрое-
ине, которое создают они. Что сближает литератур-
ный и живописный пейзажи?
13. Зак 2.ЫН М. А. Спел нсв« кап. вкаинка
2. Крестьяне. Обед. Картина 3. Е. Серебряковой.
Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1884 —
1967) с большой любовью рисовала картины
русской природы, крестьянского труда: <Беленне
холстам, «Спящая крестьянкам.
Вопросы. 1. Какой момент в жизни крестьянской
семьн изображен на картине? 2. Что можно сказать
о характере и жнзни героев картины на основании их
внешнего облика? В чем особенность построения
этой картины?
3. Поднимающий знамя. Картина Г. М. Коржева.
Гелий Михайлович Коржев (р. 1925). Главная
тема его работ — тема революции. Самым известным
его произведением является триптих «Коммунис-
ты» — картина из трех частей, объединенных общим
содержанием. На левой части, названной «Интер-
национал», изображен трубач, разучивающий рево-
люционный гимн, в центре картнна — «Поднимаю-
щий знамя», правая часть называется «Гомер», на
ней — рабочий, создающий бюст Гомера.
Вопросы. 1. Какое событие изображено на этой
картине? В какие героические годы оно могло прои-
зойти? 2. Как передает художник преданность рабо-
чего делу революции? 3. Что необычного в пост-
роении этой картины? 4. Каким литературным ге-
роям близок герой картины Коржева? В чем их
общность?
4. Ходоки у В. И. Ленина. Картина В. А. Серова.
Владимир Александрович Серов (1910—1968)
создал много картнн, посвященных истории нашего
государства: «В. И. Ленин провозглашает Советскую
власть», «Выступление В. И. Ленина на II Всероссий-
ском съезде Советов». «Ходоки у В. И. Ленина» —
одна нз самых удачных картнн. посвященных об-
разу великого вождя.
Вопрос и задание. В какие годы могла произой-
ти встреча, изображенная на картине? Расскажите
об участниках этой встречи.
5. Трубачи Первой Конной армии. Картина М Б. Грекова.
Митрофан Борисович Греков (1882—1934)
начал создавать картины, посвященные гражданской
войне, в 1920 году, затем возглавил студию советских
художников-баталистов (художники, изображающие
военные события). Ему принадлежат картины «От-
ряд Буденного отбивает атаку», «В отряд к Буден-
ному», «Трубачи Первой Конной армии».
Вопросы и задание. 1. Рассмотрите картину
«Трубачи Первой Конной армии». Какие произведе-
ния литературы напоминает это полотно? Что сбли-
жает эти произведения литературы и живописи?
2. Какую роль в понимании главной мысли картины
играет развевающееся Красное знамя?
6. Оборона Севастополя. Картина А. А. Дейнеки.
Александр Александрович Дейнека (1899—1969)
писал: «Я люблю Севастополь, до войны там часто
бывал, плавал на катерах, на крейсерах... любил
севастопольских моряков. И вот, когда я увидел фото-
графию разбитого города, я понял, что должен это
написать». А. А. Дейнеке принадлежат картины:
«Будущие летчики», «Эстафета», «Окраина Москвы»,
«Оборона Ленинграда».
Вопросы. 1. Каким образом удается художнику
убедить зрителя, что краснофлотцы не сломлены?
2. Что в построении картины и в изображении
ее героев помогает понять подвиг советских моряков?
3. Какую роль в противопоставлении героев кар-
тины и прославлении подвига краснофлотцев играет
цветовая гамма?
7. Внтя-подпасок. Картина А. А. Пластова.
Аркадий Александрович Пластов (1893—1972)
родился и провел большую часть своей жизни в
селе Прнслоннха Ульяновской области. Художник
ярко и выразительно писал о людях труда, их жизни
в будни, и в праздники, и в тревожные дни войны:
«Покос», «На выборы», «Фашист пролетел».
Вопросы. 1. Как еще можно назвать картину
«Витя-подпасок»? Почему? 2. Картина написана с
большой симпатией к главному герою. На основании
чего можно предположить, что автору дорог этот
мальчик? 3. С какими героями литературных произ-
ведений можно было бы сравнить Витю-подпаска?
Чем ои отличается от этих героев?
8. Подмосковье. Картина Г. Г. Нисского.
Георгий Григорьевич Нисский (1903—1987) со-
ветский художник. Каждый из его пейзажей изобра-
жает природу, которую изменил человек. Прн этом
ои показывает, что окружающая иас природа стала
еще более красивой и близкой человеку.
Вопросы. 1. Как доказать, что художник изобра-
зил современную картину Подмосковья? 2. Как че-
ловек изменяет природу, сохраняя красоту окрест-
ностей столицы?
поры, оставив службу в газете, Е. Носов целиком посвящает свои
силы литературному труду: учится в Москве на Высших литера-
турных курсах, занимается самообразованием, много пишет,
широко печатается в журналах «Огонек», «Новый мир», «Наш
современник»; к нему приходит заслуженная слава подлинно
народного писателя России.
(По статье Вл. Васильева «Слово о Родине».)
Задания
I. Прочитайте статью о Е. Носове и эпиграф к ней. Объясните, как отра-
жает эпиграф содержание статьи, если известно, что древнегреческое слово
«эпиграф» в переводе означает «заглавие, оценка».
2. Расскажите, какое влияние оказали отец и дед писателя на его отношение
к родной природе и людям труда.
В ЧИСТОМ ПОЛЕ ЗА ПРОСЕЛКОМ
1
Кузница стояла у обочины полевого проселка, стороной обе-
гающего Малые Серпилки. С дороги за хлебами видны были
только верхушки серпилковских садов, сами же хаты прятались
за сплошной стеной вишняков и яблонь. По безветренным утрам
над садами поднимались ленивые печные дымы, сытно, запашисто
отдававшие кизяком и хмызой1. Летом оттуда на гречишную цветь,
огибая дымную кузницу, со знойным гудом летели пчелы. Осенью
же, когда после первых несмелых утренников недели на две уста-
навливалось задумчиво-кроткое бабье лето с глубоким небом и
русоволосыми скирдами молодой соломы, из серпилковских садов
далеко в поле проникал горьковато-винный запах яблочной прели,
и на все лады неумело и ломко кричали кочетки-сеголетки.
Из всех строений со стороны проселка видна была одна только
семилетняя школа. Несколько лет назад ее построили взамен ста-
рой, изначальной и сильно обветшавшей углами. Поставили ее на
задах деревни, на ровном муравистом выгоне, и теперь она чисто
белела на темной зелени садов, а при восходе солнца полыхала
широкими и ясными окнами.
Кузница же была выстроена у проселка еще в стародавние вре-
мена каким-то разбитным серпилковским мужиком, надумавшим,
как паучок, поохотиться за всяким проезжим людом. Сказывают.
1 Хмыз — хворост.
14. Зак 234Н. М А Снежнсвская
385
будто, сколотив деньгу на придорожном ковальном дельце, мужик
тот впоследствии поставил рядом с кузницей еще и заезжий двор с
самоварным и винным обогревом. И еще сказывают, будто брал он
за постой не только живую денежку, но не брезговал ни овсом, ни
нательным крестом.
В революцию серпилковцы самолично сожгли этот заезжий
двор начисто. Распалясь, подожгли заодно и кузницу. Однако
вскорости смекнули, что кузницу палили зря. Тем же временем рас-
чистили пожарище, прикатили новый ракитовый пень под нако-
вальню, сшили мехи, покрыли кирпичную коробку тесом, и с той
поры кузница бессменно и справно служила сначала серпилков-
ской коммуне, а потом уже и колхозу.
Правда, был случай, имеющий самое непосредственное отно-
шение к этому повествованию, когда кузница в Малых Серпилках
вдруг умолкла. Нежданно-негаданно помер кузнец Захар Панков.
А надо сказать, что Захар Панков был не просто кузнец, а
такой тонкий мастер, что к нему ездили со всякими хитроумны-
ми заказами даже из соседних районов. Бывало, лопнет в горячей
работе какая деталь в тракторе — механики туда-сюда: нет ни в
районе, ни в области такой детали. Всякие прочие* запчасти
предлагают, а такой точно нету. Они к Панкову: так, мол, и так,
Захар, сам понимаешь, надо бы сделать... Повертит молча Захар
пострадавшую деталь (виду он был сурового, волосы подвязы-
вал тесьмой по лбу, борода смоляная на полфартука, точь-в-
точь как старинный оружейник, но в современной технике толк
вот как знал!), даже иной раз зачем-то в увеличительное
стеклышко поглядит на излом. Ни слова, ни полслова не скажет,
а только бережно завернет деталь в тряпочку и опустит в карман.
Тут уж и без слов понятно: раз взял, стало быть, выручит. Да и не
только поглядеть на Захарову работу, а даже издали послушать
было любо. Как начнут с молотобойцем Ванюшкой отби-
вать — что соборная звонница: колоколят молотки на всевозмож-
ные голоса. И баском и заливистым подголоском. Праздник, да и
только в Серпилках! Особенно по весне, перед посевной: небо си-
нее, чистое, с крыш капает, теплынь, а они вызванивают на весь
белый свет... Сколько помнят Захара, все годы провисел его
портрет на колхозной Доске почета. И когда помер, не сняли.
Навсегда оставили.
Похоронили Захара честь по чести. В Серпилковской школе
даже занятия были отменены. Три его медали (он на войне
386
служил в саперах) школьники несли на красных подушечках...
Той же осенью призвали на воинскую службу Ванюшку. Совсем
осиротела кузница, стоит в чистом поле с угрюмо распахнутыми
воротами. Серпилковцы, привыкшие к веселому перезвону молот-
ков за садами, чувствовали себя так, будто в их хатах остано-
вились ходики. Сразу стало как-то глухо и неуютно в Серпилках:
очень уж не хватало им этого перестука на выгоне. Да и из хозяй-
ственного обихода выпала кузница: ни отковать чего, ни подла-
дить. Сильно жалели серпилковцы, что в свое время не поставили
к Захару какого-нибудь смышленого мальца, чтобы усвоил и пере-
нял тонкое Захарово искусство. И вдруг с пустых осенних полей
через сквозные облетевшие сады до Серпилок явственно долетело:
«Дон-дон-дилинь... дон-дон-дилинь...»
2
Зазвонило, затюкало глухим темным вечером, в канун Октябрь-
ских праздников, когда серпилковцы еще не укладывались спать.
В каждой, почитай, хате бабы запускали тесто на пироги, ощи-
пывали кочетов или разбирали поросячьи ножки на завтрашний
холодец, так что многие услыхали этот неожиданный перезвон в
поле и, высыпав во дворы, слушали, не зная, что и подумать.
Но прежде других странный стук молотка в ночи за деревней
услыхал Доня Синявкин, сухонький, беспорядочно волосатый де-
док, у которого бороденка росла не сплошняком, а пучками.
Даже на узком утином носу, на самом его заострении упорно
и неистребимо пробивался сивый жесткий кустарничек. За эту
пучковатую поросль Доню Синявкина окрестили «квадратно-
гнездовым», или попросту Квадратом. Будучи одиноким челове-
ком (впоследствии к нему приедет из города племянница Верка),
в хате которого от самой смерти старухи некому было печь
пирогов и студить холодцы, дед Квадрат в тот день с самого утра
начал обходить Серпилки и поздравлять односельчан с наступаю-
щим праздником. Делал он это на старинный манер христосла-
вия: открывал дверь, стаскивал у порога шапку и, кашлянув
для верности голоса, тотчас начинал забубенной скороговоркой:
— С праздничком вас, люди добрые, мир и согласье вашему
дому, быть пирогу едому, яичку крутому, сальцу — смальцу, ча-
рочке в пальцы.
Пропевши такие слова, Квадрат поясно кланялся в красный
угол и присаживался на лавку.
14
387
Правда, серпилковцам было не до Квадрата: белили хаты, вы-
колачивали перины, возились со стряпней. Однако в двух, не то в
трех домах дедок все же зацепился, всласть набеседовался о том
о сем и к вечеру был в самом благовеселом расположении души.
Тут бы ему и отправиться спать, но, проходя мимо хаты председа-
теля колхоза Дениса Ивановича, не мог преодолеть искушения
на минутку заскочить к нему, потому как очень уж уважал Дениса
Ивановича.
«Кого тогда и поздравлять с праздником, ежели не Дениса
Ивановича!» — почтительно сказал сам себе Квадрат и толкнул
калитку.
В хате было жарко топлено, празднично пахло едой, на столе
ворохом высилась горка кучерявой, только что обжаренной ка-
пусты для пирога. Жена Дениса Ивановича, сдобная, крутобедрая
Дарья Ильинична, возилась у дежи1, сам же Денис Иванович, в
чистой исподней рубахе, с очками на носу, сидел тут же, подле
капусты, и, пощипывая серебряный ус, читал районную газету, а
точнее сказать, разглядывал сводку. Когда Квадрат зашел и за-
тянул было свое «быть пирогу едому, яичку крутому», Денис
Иванович в самый раз ударил по газете пальцами на манер того,
как если бы стряхивал с нее комашку2, и сказал, усмехнувшись,
но, однако же, и в сердцах:
— Вот ведь сукины дети! Ну и ловкачи!
— Ты кого так? — спросил дед Квадрат, в знак приветствия
потрогав хозяйку выше локтя, поскольку кисти рук у нее были за-
ляпаны горчично-желтым тестом.
— Да россошанский «Верный путь»,— отложил газету Денис
Иванович.— По сводке у них вся зябь поднята, а я давеча проез-
жал — до сего дня заовражье не тронуто. А вот поди ж ты, на
второе место по району выскочили! Ну и ловкач этот Посвистов!
— Сказывают, Тимирязевскую академию кончил,— вставил
Квадрат.— И еще штой-то...
— Тимирязевская тут не виновата...
— Да и я ж говорю,— поспешно согласился Квадрат.— К
ученой голове еще должон быть порядочный доклад от себя лично. Не
та шинель, что пуговицами блестит, а та, что греет. Вот хоть тебя.
1 Дежа (или квашня) — деревянная или глиняная посудина для закваски
теста.
- Комашка — комаришка, мошка.
388
Денис Иванович, взять. Образования у тебя почти что никакого.
На живом деле да на людях сам себя образовывал. А хозяйст-
вом правишь куда с добром.
— Гм...— кашлянул Денис Иванович и загородился газетой.
— Все сыты и справны, и Серпилки наши, слава те господи,
не прорежены бегами да вербовками,— продолжал гомонить
Квадрат, подсаживаясь к жареной капусте.— Я вот нынче прохо-
дил: любо-дорого поглядеть, какая у нас деревня. Хаты белые,
окошки протертые, плетни не проломлены скотиною на манер
Россошек.
— Ну и долдон ты, я погляжу,— сказал Денис Иванович.—
У кого, может, хаты и побелены, а твоя опять рябая, как лепар-
да1. Соседку попросил бы обмазать, что ли... Людей бы посовес-
тился.
— Ображу, ей-бо, ображу,— заморгал бесцветными веками
Квадрат.— Я ведь к чему? Вот ты меня поругал, а мне приятно.
От хорошего человека и замечание приятно послушать. Потому
как ты настоящий хозяин нашей жизни. И не столько образова-
нием, сколь сердцем что к чему угадываешь.
— Ну ладно, будя...— поморщился Денис Иванович.— Не
люблю... закуси лучше.
— Закушу, закушу,— кивнул Квадрат, поглядывая, как Дарья
Ильинична, убрав со стола капусту, взамен выставляла из шкаф-
чика тарелки со снедью и графинчик с Морозовым узором и ряби-
новыми ягодами на дне.— Опять же и колхоз наш получше ихнего
называется: «Нива»! А то «Верный путь»... Это в Россошках-то
верный путь? Прошлой зимой тринадцать теленков издохло... С
названиями, я тебе скажу, надо поаккуратней. Чтоб смущения
потом не получалось...
— Закуси, закуси... Что впустую языком молоть...
Всего только две рюмочки рябиновки и выпил дед Квадрат, од-
нако уже начал было и задремывать за разговором. Денис Ива-
нович, сунув босые ноги в сапоги и накинув ватник, сказал:
— Осовел ты, Квадрат, пойдем/доведу...
И вот, когда они проходили мостком у старой школы, с которо-
го, если бы не Денис Иванович, дедок не преминул бы оступиться
впотьмах, в это время и долетел до Серпилок странный пере-
звон.
1 Лendpda леопард.
3«9
— С-слышь? — навострился дедок и поднял в темноте палец.
Постояли, послушали: из-за темных, окостенелых, осенних са-
дов, из глухой полевой темени еще отчетливей, чем прежде, до-
неслось: «Дон-дон-дилинь-дон... Дон-дон-дилинь-дилинь...»
— Ей-бо, в кузне это...— определил Квадрат.
— Какого лешего...— возразил Денис Иванович.
— Секи мне голову — в кузне!
— Кому это приспичило ночью да еще под праздник?
—' А вот и гадай...
— Чепуху мелешь, дед.
— Нет, ты послухай. Вот энти два глухих удара — это он по
заготовке молотком тюкает, по раскаленному... по мягкому...
потому и глухо... Ты послухай... А энтот, со звоном, то уже по нако-
вальне...
— Кто это он? — спросил Денис Иванович.
— А вот, должно, он и есть...
— Да кто он, черт тя дери! — озлился Денис Иванович.
— Кто, кто... Може, сам Захар тюкает...— понижая голос до
шепота, знобко выдохнул дедок.
— Тьфу! — сплюнул Денис Иванович.
— Его подчерк1. Слышь, легкость-то руки какая. Не работает,
а благовест2 вызванивает...
— Спятил ты, что ли?
— Помер-то он прямо за работою... Разрыв сердца вышел. Го-
ворят, осколок от войны близко к сердцу сидел... Прибежали —
он лежит замертво, а сошник от культиватора еще на земле ды-
мится. Вот как довелось помереть человеку!
— Человеком был — человеком помер,— сказал Денис Ива-
нович.
— Вот я и говорю: восстал Захар с погоста за незаконченным
делом.
— Однако ты хватил сегодня,— сказал с досадливой укориз-
ной Денис Иванович.— Зря я тебе подливал рябиновки.
— Ты мене хмелем не попрекай... Кузня без него совсем оси-
ротелая осталась... Никакого ни стука, ни грюка не слыхать...
Никто его дела не подхватил... Вот он, может, и поднялся... Забота
человека одолела...
1 Подчерк — почерк.
2 Благовест — колокольный звон перед началом церковной службы.
390
— Ну это ты... того...— буркнул Денис Иванович, однако
стук молотка в темном осеннем поле — ни луны, ни просяного
зернышка в небе — показался ему странным и даже стал раздра-
жать своей реальностью, на которую не приходило никакого
объяснения.
— Гм,— сказал Денис Иванович так, как сказал бы в его
положении норовистый бык, увидевший на дороге красную тряпку.
Как человек, не терпящий никаких загадок, он добавил со всей
решительностью:— А вот мы сейчас поглядим!
Денис Иванович сошел с мостика и направился в темный проу-
лок, что резал Серпилки поперек и выводил в поле.
Квадрат, однако, замешкался на мостике.
— Денис Иванович,— позвал он.— А может, не надо мешать?
Пусть себе тюкает...
— А вот мы разберемся! — упрямо твердил в темноте проулка
Денис Иванович.
— Погодь, можа, народ шумнуть?
— Нечего тут. Тебе лишь бы шуметь. Идем, говорю!
Дедку, возбудившему себя всякими предположениями, очень
уж хотелось в теплую хату, но, поборов в себе такое желание,
он все-таки спустился с мостика и сторожко последовал за Дени-
сом Ивановичем, для верности окликая:
— Идешь, Денис Иванович?
— Да иду. Где ты там?
— Як тому, что... Идешь ли?
3
Выйдя за сады и чувствуя, что теряет последнюю связь с Сер-
пилками, уютно пахнущими в темноте теплыми, настоянными хле-
вами, дедок остановился, пяля глаза в черную пустоту, в то место,
где должна была стоять кузница. Но строение совсем не прогля-
дывалось, будто его вовсе и не было. Зато с еще большей явствен-
ностью, обдавшей дедка колючим холодом, доносилось это таин-
ственное «дон-дон-дилинь»... Он даже уловил носом запах того
самого дыма со сладковатой тухлинкой, который при живом За-
харе Панкове полевой ветер доносил до Серпилок. И уже рисо-
валось ему, как в закопченном нутре брошенной кузни молча-
ливо и сосредоточенно стучит молотком Захар и на его лбу, пере-
хваченном тесемкой, красным взблеском играет отсвет горнила...
391
Но впереди упрямо крошили зяблевые* 1 * комья сапоги Дениса
Ивановича, и дед Доня, окликнув еще раз председателя, побежал
за ним мелкой трусцой.
Между тем стук молотка в кузнице прекратился. Теперь они
шли к чему-то, безмолвно затаившемуся в ночи.
— Денис...— негромко позвал Квадрат.
— Чего?
— Бегишь-то больно швыдко... Погодь...
Денис Иванович приостановился.
— Угораздил ты меня, ей-богу.
Денис Иванович не отвечал.
— Настырный ты... ужасть! Тюкает, ну и пусть себе тюкает...
Сошлись вместе, постояли.
— Затихло что-то...— сказал дедок.
Поле затаилось в глухой осенней неподвижности. Не было
даже видно огней деревни, спрятавшейся за садами. Только креп-
ко, свежо пахло нахолодавшей соломой да еще сладким кузнечным
дымом.
— Денис... Гля-ка...
— Вижу.
Впереди проступил проем кузнечных ворот, слабо, призрачно
подсвеченный изнутри.
— Пошли,— твердо сказал Денис Иванович.
— Ты, Денис, как хочешь, а я тут постою...
Денис Иванович фыркнул и пошел один. Было слышно, как
сердито и упрямо топали его сапоги. Через некоторое время
черная коренастая фигура Дениса Ивановича замаячила в осве-
щенных воротах и исчезла в глубине кузницы.
Прошли долгие минуты тишины и безвестности. Дед Квадрат,
онемев и напрягшись, готовый задать стрекача, ожидал, что вот-
вот в кузнице что-то загремит, рухнет, Денис Иванович выскочит
2
опрометью, а вслед ему полетят лемехи и раскаленное железо
Но время шло, ничего не обвалилось, а Денис Иванович исчез,
будто вошел в преисподнюю. Мелко покрестив кадык щепотью, де-
док прокрался к воротам и, прячась за створкой, заглянул во-
внутрь.
На столбе, подпиравшем кровельную матицу3, висела кероси-
.З.чбь поле, вспаханное с осени.
1 Лемех часть плуга.
* Матица - потолочная балка.
392
Рисунок Б. Рытмана.
новая коптилка — пузырек с кружалкой сырой картошки, сквозь
который был продернут ватный фитиль. Красновато-дымный
шнур огня и копоти ронял тусклый и ломкий свет в закопчен-
ную темноту кузницы. В горне среди шлака малиновым пятном
догорал, остывая, уголь... Денис Иванович стоял у наковальни и,
оттопырив губы в тусклом серебре усов, задумчиво вертел в
руках какую-то железяку, и по тому, как он ее перекидывал
из ладони в ладонь, будто печеную картошку, было видно, что
железяка это еще не совсем остыла.
— Денис Иванович...— окликнул из-за створки ворот дедок.
— Ну?
— Никого... нетути?
Денис Иванович не ответил, продолжая вертеть в руках по-
ковку...
— А ведь уголья в горне горят... Стало быть, кто-то...
Тут рот Квадрата онемел и остался раскрытым, будто в него
вставили распорку. В углу, за тесовым сундуком, в который старый
393
кузнец Захар складывал свой инструмент, дедок узрел чьи-то ноги,
обутые в стоптанные кирзовые сапоги. Даже пупырышки разгля-
дел на подошвах.
— У-у... У-у...— произнес дедок и вытянул трясущийся палец
в сторону ящика.— У-у...
Денис Иванович, сощурясь, склонив голову набок, долго глядел
на торчащие головки сапог, потом подошел к сундуку, запустил
за него короткопалую руку и вытащил на свет за балахонистый
ватник насмерть перепуганного и по-кутячьи обмягшего маль-
чонку.
— Ты кто такой? — спросил он.
— М-митька я...— захныкал малец и заслонил свою треуголь-
ную, с остреньким подбородком и широким лбом рожицу длинным,
обвислым ватным рукавом.
— Какой такой Митька?
— Это Агашкин сорванец! — тотчас взъерепенным воробьем
залетел в кузницу Квадрат.— Агашки проулочной, у которой гру-
шу молоньей расшибло... Ах ты, чирий подштанниковый. Это
ты тюкал? Я т-те...
Дедок проворно ухватил оттопыренное Митькино ухо и стал его
накручивать, как если бы это была ручка сельсоветского телефона.
— Я т-те покажу, разбулдяй сыромятный, как народ смущать!
Люди Октябрьскую революцию собираются отмечать, а он, стер-
вец, тюкает... Я т-те потюкаю...
— Это не я-а-а! — заголосил мальчонка.— Я только меха ка-
чал... Это все Аполошка...
— Я и Аполошке ухи накручу!
— Погоди ты,— отпихнул дедка Денис Иванович.— Сразу и
уши откручивать. Аполошка, где ты тут?
— Вылазь немедля! — выкрикнул Квадрат.
— Ну, я...— глухо долетело откуда-то сверху.
С поперечницы под самой крышей свесились похожие на утюги
солдатские ботинки, из которых торчали портянки, а потом уже
заголившиеся мальчишеские ноги. Обметая многолетнюю сажу, с
дегтярно-черной матицы спустился неуклюже-длинный, вислопле-
чий Аполошка, старший Митькин брат. Конфузливо подшмыги-
вая носом, Аполошка уставился себе под ноги. Большой вислый
нос его был покрыт угольной копотью.
Денис Иванович с любопытством и даже как будто с удивле-
нием оглядел ребятишек.
394
— Чистые сапустаты1! — подсказал дед Квадрат.
— Погоди, не лотоши,— поморщился Денис Иванович и спро-
сил Аполошку, повертев перед его закопченным носом найденной
на наковальне железякой.
— Ты ковал?
— Я...— отворачиваясь, сознался Аполошка.
— Это что ж такое будет?
Аполошка промолчал.
— Это дышляк,— сказал за него малец.
— Что за дышляк?
— Это что колеса вертит,— быстро заговорил Митька, заблес-
тев непросохшими глазами.— Мы тут паровоз делали. И все обрат-
но положим, как было...
Митька с поспешностью подскочил к груде'железного хлама и
вытащил оттуда самоварно блеснувшую артиллерийскую гильзу
крупного калибра.
— Это вот котел самый... Куда воду наливают... Мы вот тута
дырку заклепаем, и котел будеть... А тут колеса... Пар сначала
пойдет здеся, потом здеся и здеся...
Денис Иванович еще раз оглядел «котел» и поставил на нако-
вальню.
— Ты вот что, Аполошка... Паровоз — это ладно... Ты мне
скажи: болт отковать сможешь?
Аполошка перемялся ботинками.
— Ну что ж молчишь? Экий ты козюлистый!
— С нарезкой? — глядя куда-то в сторону, спросил Аполошка.
— Как положено.
— Если с нарезкой, то плашки надо.
Говорил он медленно, тягуче, словно брел по вязкой топи и
с превеликим трудом выволакивал слова-ноги.
- А ты откуда это знаешь, что плашками?
Аполошка поддернул носом, и даже что-то презрительное про-
мелькнуло в его сумрачном чумазом лице.
— А как же?
— Гм...— пожевал губами Денис Иванович.— Ладно, делай
пока без нарезки.
— Простого болвана?
— Давай простого.
1 Сапустат (супостат) — противник, недруг.
395
— Сейчас прямо? — недоверчиво спросил Аполошка.
— Сейчас и валяй.
— Да какой надо? На три четверти, на пять восьмых или какой?
— Валяй на три четверти.
Аполошка потянул из вороха железа длинный прут и кивнул
Митьке:
— Ну-ка, качни.
Митька с радостной готовностью подскочил к мехам, схватил
за ремешок, перехлестнутый за деревянную вагу1 над головой, и
повис на ремешке обезьянкой, задрав кверху сапоги. Оттянув ры-
чаг, он снова ступил на землю и ослабил ремень.
4
Внутри горна, над шлаком, что-то загудело, зашипело, малино1
вое пятно остывающих углей живо брызнуло искрами и засинело
огоньками. Аполошка пошурудил огонь и сунул прут в угли.
Красный летучий отсвет озарил Аполошкин подбородок, мосла-
тые скулы, бугристый лоб, все. что было упрямого в этом несклад-
ном подростке, оставив в тени лишь его раздумчиво-синие, широко
распахнутые глаза. И от этого озарения, а может, и от чего иного,
невидимого, загоревшегося в самом Аполошке. он враз как-то по-
взрослел, сурово построжал, будто заказанное ему дело прибавило
целый десяток лет. Оно и всегда так: серьезная работа старого
мастера молодит, юнца — мужает.
Придвинулись к огню и дедок с Денисом Ивановичем, стоят,
смотрят, как Аполошка клещами поправляет, нагартывает на
огонь уголь. И глядели они на Аполошкины руки, на длинные в
сивой окалине клещи, на гневно ревущий огонь так, будто отродясь
ничего диковиннее и не зрели. То ли ночь тут смешала все понятия,
то ли сам Аполошка удивлял — ведь огурец зеленый, опупок —
а поди ж ты! Но скорее всего оттого завороженно стояли старики,
что никогда не привыкнет человек смотреть с мертвым сердцем на
то, как калится, краснеет металл в жарком нутре горнила; на
самое изначальное ремесло свое, прошагавшее с ним всю людскую
историю, начиная от бронзы, и породившее все прочие хитро-
умные обращения с металлом.
— А ну, примай паровоз! — крикнул Аполошка так, будто это
не был Агафьин Аполошка, в огороде которой молнией разбило
1 Нага — шест для поднятия тяжести.
396
грушу, а сам огненный бог, свершавший свое таинство в ночи.
Дедок вздрогнул и, подчиняясь спешности дела, мигом подлетел к
наковальне и смахнул паровоз. Аполошка выхватил из горна
бело-желтый, почти прозрачный прут, истекающий светом и жа-
ром, припадая на хромую ногу, шагнул к наковальне, очертив
в темноте ослепительную полу-дугу. Черная Аполошкина тень из-
ломанно пронеслась по стенам и потолку кузницы.
— Зубило! — крикнул Аполошка, и белки его сверкнули в тем-
ных провалах глазниц.
Митька бросил мехи, подхватил зубило на длинном держаке,
приставил его к пруту, спросил Аполошку только взглядом: «Зде-
ся?» — и Аполошка, кивнул, одним взмахом молота отсек конец
прута. Тут же подхватил отрубленный кусок клещами, поставил
его на попа, торопко затюкал по концу молотком, осаживая
прут и проворачивая клещи то вправо, то влево. И при каждом по-
вороте пускал удар вхолостую, по наковальне, вызванивая ту са-
мую паузу, то веселое кузнецкое «дилинь», непременное для
всякого порядочного мастера, во время которого он успевает
мгновенно оценить сработанное, прицелиться и поправить по-
ковку. Живой, податливый металл, рассыпая колкие звезды,
послушно, стеариново осел и утолщился и, остывая, помали-
новел.
Сунув опять заготовку в горн, Аполошка кивнул своему подруч-
ному, тот, бросив зубило, метнулся к ваге. И пока тяжко сопели
где-то над головой мехи и гудел огонь, выплевывая из горна раска-
ленную угольную крошку, Аполошка снова был молчаливо-суров
и строг лицом, как хирург.
— Шестигранник или четыре угла? — обернулся он погодя к
Денису Ивановичу.
— Давай на шесть.
Аполошка выхватил болванку, сноровисто огранил, поправил в
обжимке и швырнул в корыто с водой.
Денис Иванович выхватил еще парившую поковку и внима-
тельно оглядел, можно сказать, даже обнюхал ее со всех сторон.
— Да, болт...— сказал он.
— Нарезать? — спросил Аполошка.
— Не надо. Верю.— И, повернувшись, протянул болт дедку.
Квадрат принял штуковину обеими руками, долго держал ее в
пальцах за концы, поворачивал и все качал головой.
— Поди ж ты...
397
— Дед Захар за один нагрев болт делал,— сказал Аполошка,
глядя куда-то в угол.— А я два раза грел...
— Ишь ты... какой,— покосился на него Денис Иванович.— А
колесо ошинуешь?
— Ошиную.
— И концы сваришь?
— Дядя Захар показывал... А так — не знаю...
— Показывал, говоришь?.. Гм... Ну, а сошник?
— Культиваторный?
— Он самый.
— Можно и сошник. Только сталь хорошая требуется. Рессор-
ная.
— Ты мне пока так, одну форму.
— Один не оттянешь. С молотобойцем надо.
— А ну, давай попробуем,— сказал Денис Иванович и, захва-
ченный азартом живой и горячей кузнецкой работы, ее древней и
дивной затягивающей силой, добавил молодцевато:
— Поищи-ка Ванюшкин молот. А ты, дед, покачай нам, а то
малец умаялся.
Дедок ухватился за вагу, а спустя минуту, разойдясь, расстег-
нув шубейку и по-мальчишески заблестев глазами, говорил под
тяжкие, воловьи вздохи мехов:
— Вот, Денис Иванович, штука-то какая... Гляжу я, нету на
русской земле, которая хлеб родит... нету ничего приветнее для
души... окромя когда деревенская кузня гомонит молотками...
Вот и ракеты теперь пошли и все прочее. А все ж таки кузня —
всему голова... Как хочешь...
— Ты давай качай, качай, старый! — буркнул Денис Ивано-
вич.
— Да уж стараюсь... Раздуваю... А я было думал: опосля Заха-
рия кончилась у нас династия... Ан перенялась... Поросло семя...
5
Долго еще в предпраздничной ночи долетал до Серпилок
спор молотков. Стучали они то сердито и торопко, то со звонкой
веселостью. Всполошенные серпилковцы никак не могли взять в
толк, что происходит там, в чистом поле, какая такая откры-
лась непонятная всенощная* перед самым Октябрем. Прибежав-
ший на деревню Митька запальчиво рассказывал:
1 Всенощная — вечерняя церковная служоа.
398
— Ой, что делается! Сам Денис Иванович куеть... Ватник снял,
в одной исподней рубахе... Перемазался — ужасть... Денис Ива-
нович куеть, а Квадрат качаить... Денис Иванович Аполошке:
«А это сделаешь?» — «Сделаю».— «А это?» — «Сделаю»... Апо-
лошка не сдается ни в какую. Все экзамены повыдержал. Сколько
всего понаковали — ужасть!
— Да ты-то куда опять? — спрашивали Митьку.— Мать вся
избегалась.
— А! — махнул спущенным рукавом малец.— Скажите ей:
мол, некогда... Послали за водой. И за куревом.
1965 г.
Вопросы и задания
I. Какое впечатление на вас произвел рассказ Е. И. Носова «В чистом
поле за проселком»? Как вы понимаете смысл названия этого рассказа?
2. Устно нарисуйте иллюстрации к рассказу, воспроизводя историю села Ма-
лые Серпилки, начиная с дореволюционных времен и кончая нашими днями.
Подумайте, какие чувства писателя и какие приметы того или иного времени
должны быть отражены в иллюстрациях. Обратите внимание на детали рассказа,
описание села и его жителей. Придумайте названия к вашим иллюстрациям.
3. Назовите персонажей рассказа и объясните, в каких взаимоотношениях
они находятся. Дайте самостоятельно характеристику одному из этих персо-
нажей. Рассказывая о нем, придерживайтесь последовательности его изображения
в произведении (см. статью о характере литературного героя, с. 91).
4. В чем особенность композиции этого рассказа и как помогает она выра-
зить мысль писателя о связи поколений, об отношении писателя к труду как
главному делу в жизни каждого человека в нашей стране.
5. Прочитайте рассказ Е. И. Носова «Варька» (см. книгу «В мире русской
литературы» для 6 класса). Как вы думаете, что сближает Варьку с Аполошкой
и Митькой?
6. Какие герои рассказа «Бежин луг» И. С. Тургенева вспоминаются
вам, когда вы читаете рассказы Е. И. Носова? Что общего между ними и что
отличает их от героев Тургенева? Готовя ответ, обратите внимание и иа особен-
ности изображения персонажей Тургенева и Носова.
Вопросы и задания ко всему разделу
1. В каких произведениях, прочитанных вами в этом году, рассказывается
о В. И. Ленине? Прочитайте наизусть одно из понравившихся вам стихотворе-
ний о Ленине.
2. Какие события истории Советской страны нашли отражение в прочи-
танных вами художественных произведениях? Какие из этих произведений вам
особенно запомнились? Почему?
3. Кого из литературных героев можно назвать настоящим Советским чело-
веком? Расскажите о своем любимом герое советской литературы.
4. Что сближает произведения Э. Багрицкого и А. Гайдара? Какие строчки
из стихотворения «Смерть пионерки» близки по идее повести «Школа»?
399
5. В каких произведениях советской литературы рассказывается о трудовых
профессиях, которые вам нравятся больше других? Свой ответ подтвердите
примерами из самостоятельно прочитанных повестей, рассказов и стихотворений.
6. Какие произведения советской литературы из книги «В мире русской
литературы» для 6 класса вам запомнились? Если это стихотворение — вырази-
тельно прочитайте его, если рассказ — перескажите.
7. Какие кинофильмы и телефильмы, близкие по теме прочитанным произ-
ведениям советской литературы, вы смотрели в этом году и какие из этих фильмов
произвели иа вас наибольшее впечатление? Почему?
8. Рассмотрите репродукции картин А. А. Дейиеки и Г. Г. Нисского (см.
цветную вклейку). По одной из них подготовьте устный рассказ или сочине-
ние. Воспользуйтесь справкой о художнике и вопросами к картине. Подберите
эпиграф к своему рассказу (сочинению).
Книги для внеклассного чтения:
А. Г. Алексин. В тылу как в тылу.
Ч. Айтматов. Солдатенок.
А. Р. Беляев. Голова профессора Доуэля.
В. О. Богомолов. Иван.
К- Я. Ваншенкин. Мальчишки.
Е. М. Винокуров. Я эти темы написал не сразу. Москвичи.
Р. Гамзатов. Горцы у Ленина.
А. П. Гайдар. Судьба барабанщика.
М. Горький. Дед Архип и Ленька. Челкаш.
М. А. Дудин. Считайте меня коммунистом.
Ю. П. Казаков. Арктур — Гончий пес.
Л. А. Кассиль. Кондуит. Швамбрания.
А. А. Лиханов. Родное.
К. Г. Паустовский. Старик в потертой шинели.
В. Г. Распутин. Уроки французского.
Л. С. Соболев. Батальон четверых.
В. А. Солоухин. Каравай заварного хлеба.
А. Т. Твардовский. Памяти Ленина.
Г. Н. Троепольский. Белый Бим Черное ухо.
...По-настоящему любить и по-
нимать незнакомый нам народ
мы начинаем только после того,
как нас пленит и тронет его
искусство...
С. Я. Маршак
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Мигель
де Сервантес
СААВЕДРА
(1547—1616)
...Сервантес был чрезвычайно
благородным человеком, гото-
вым на всякое самопожертво-
вание и на всякие подвиги...
А. В. Луначарский
^2 ервантес родился 29 сентября 1547 года в бедной семье идаль-
го1. В поисках заработка отец Сервантеса и его семья часто
переезжали с места на место. Они жили в Вальядолиде, Кордове,
Мадриде. В семье Сервантеса была в ходу любимая поговорка
отца: «Три вещи: церковь, море и дворец. Избери одну — и нужде
конец». Мигель Сервантес избрал море. Военная жизнь изменила
его. Из худого, скромного он превратился в крепкого и смелого
солдата. Его загорелое лицо весело глядело из-под железной кас-
ки. Солдаты любили и уважали Сервантеса. Он знал много исто-
рий и прибауток, любил смех и острую шутку, был отважным и
жизнерадостным человеком, добрым товарищем и храбрым вои-
1 Идальго мелкопоместный испанский днорнппп (до XIX н ).
401
ном. Однажды в морском бою с турками Сервантес был тяжело ра-
нен. После выздоровления он решил вернуться в Испанию. На-
дежды отца не оправдались: море не избавило Сервантеса от
нужды. Он ехал домой без единого дуката1 в кармане.
Близ Марселя галеру «Солнце», на которой плыли Сервантес
и его младший брат, захватили в плен алжирские пираты. С боль-
шим трудом семья и друзья Сервантеса собрали денег для брать-
ев. Однако для выкупа обоих денег не хватило. Поэтому Мигель
предложил выкупить сначала младшего брата. И еще несколько
лет находился в ужасном положении.
Возвратясь из плена, Сервантес бродил по Испании в поисках
работы и голодал. Наконец, он получил место сборщика недоимок2
в провинции Гренады. Эта тяжелая работа закончилась новой
бедой для Сервантеса. Бесследно исчезли казенные деньги, кото-
рые доверил он для большей сохранности одному из своих зна-
комых. Сервантес был арестован и заключен в тюрьму. Его наве-
щали друзья; они договорились с тюремщиком о переводе Серван-
теса в отдельную комнату и уговорили Сервантеса писать заявле-
ние с просьбой об освобождении. Ошибка была слишком очевид-
ной.
Однако Сервантес не торопился. Впервые в жизни он имел до-
суг. Странное довольство овладело им. Должен же человек хоть
раз всмотреться в самого себя. Ведь он уже не молод. Он хотел
вспомнить прошлое, хотя все спутывалось и переплеталось. Надеж-
ды, мечты, а в действительности — тяжелые раны, неудачная
попытка хирургов спасти левую руку, плен и рабство в Алжире,
голодная жизнь в Испании и потом тюрьма.
Сервантес не стал писать заявление, вместо него появился
рисунок. Он набросал свое лицо, худое, преувеличенно длинное и
горбоносое. Изобразил себя верхом на муле, выезжающем камени-
стой дорогой на проклятую службу. Получился, правда, не пра-
вительственный сытый мул с огненными глазами, а убогий, исто-
щенный лошадиный скелет. На скелете царственно высилось тощее
тело всадника. Он украсил себя родом панциря и шлемоподобным
сооружением без забрала. Теперь еще шпоры к сапогам.
Рыцарь! Наконец-то привелось ему слезть с коня и распо-
ложиться на отдых в тюрьме. Грустно и смешно, что только в тюрь-
1 Дукат — старинная золотая монета.
Недоимка — не уплаченный в срок налог (или часть налога).
402
ме можно отдохнуть, собраться с мыслями. В Испании не было
свободы, не было благополучия. Он вспомнил бедные испанские
деревни, где крестьяне сокрушаются о цене куриного яйца, и
богатые дома испанской знати, где исполняются все прихоти и
забавы. Вспомнились ему и тяжелые корабли Филиппа II, лежа-
щие на дне английского канала,— чудовищное поражение Вели-
кой армады, поглотившей все средства Испании. Королю католи-
ческого мира остался лишь его собственный обескровленный на-
род. Всюду нищета и страдания. При зыбком свете огарка вгля-
делся в свой неискусный рисунок. Нет, его рыцарь не прелестный
юноша, а бодрый костлявый старик, поверивший, что не прошли
еще рыцарские времена, что можно с одним мечом и копьем восста-
новить справедливость, помочь бедным и угнетенным, защитить
обиженных и гонимых. По дорогам Испании едет рыцарь, готовый
каждую минуту броситься в бой, защищая рыцарскую честь.
И всюду он получает побои, и снова встает, и едет дальше.
Сервантес забыл о заявлении, которое должен был писать. Он
схватил перо. Под нацарапанным рисунком появились первые
слова знаменитой книги:
«В некоем селе Ламанчском, название которого у меня нет охо-
ты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго, чье
имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей
кляче и борзой собаке...»
Так появилось на свет в королевской тюрьме Севильи великое
произведение Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-
манчский».
Первая часть «Дон Кихота» имела колоссальный успех. Все
знали фамилию автора, все знали прославленного Дон Кихота.
Вскоре Сервантес был освобожден. Несмотря на это, он по-преж-
нему нуждался. За год до смерти Сервантес написал вторую часть
своей великой книги и умер в полной бедности. Такова судьба
этого человека, создавшего всемирно известный роман.
(По книге Бруно Франка «Сервантес».)
Вопрос и задания
I. Что вы знаете об эпохе Сервантеса?
2. Расскажите, в чем проявились благородство Сервантеса и готовность его
«на всякое самопожертвование и на всякие подвиги».
3. Прочитайте роман о Дон Кихоте, изданный в серии «Школьная библиотека»
(Москва, 1985), и книгу Э. И. Выгодской «Необыкновенные приключения испан-
ского солдата Сервантеса, автора «Дон Кнхота».
403
ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО
ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ
Избранные главы
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I,
повествующая о нраве и образе жизни славного идальго
Дон Кихота Ламанчского
В некоем селе Ламанчском, название которого у меня нет охоты
припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго, чье
имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей
кляче и борзой собаке... При нем находилась ключница, коей
перевалило за сорок, племянница, коей не исполнилось и двадцати,
и слуга для домашних дел и полевых работ, умевший и лошадь
седлать и с садовыми ножницами обращаться. Возраст нашего
идальго приближался к пятидесяти годам; был он крепкого сложе-
ния, телом сухопар, лицом худощав, любитель вставать спозаранку
и заядлый охотник.
Надобно знать, что вышеупомянутый идальго в часы досуга —
а досуг длился у него чуть ли не весь год — отдавался чтению
рыцарских романов с таким жаром и увлечением, что почти совсем
забросил не только охоту, но даже свое хозяйство; и так далеко
зашли его любознательность и помешательство на этих книгах,
что, дабы приобрести их, он продал несколько десятин пахотной
земли и таким образом собрал у себя все романы, какие только ему
удалось достать...
Одним словом, идальго наш с головой ушел в чтение, и сидел
он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра... Воображение его
было поглощено всем тем, о чем он читал в книгах: чародейством,
распрями, битвами, вызовами на поединок, ранениями, объясне-
ниями в любви, сердечными муками и разной невероятной чепухой;
и до того прочно засела у него в голове мысль, будто все это нагро-
мождение вздорных небылиц — истинная правда, что для него в
целом мире не было уже ничего более достоверного...
И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему
пришла такая странная мысль, какая еще не приходила ни одному
безумцу на свете, а именно: он почел благоразумным и даже не-
обходимым как для собственной славы, так и для пользы отечества
404
сделаться странствующим рыцарем, сесть на коня и, с оружием в
руках отправившись на поиски приключений, начать заниматься
тем же, чем, как это ему было известно из книг, все странствующие
рыцари, скитаясь по свету, обыкновенно занимались, то есть
искоренять всякого рода неправду и в борении со всевозможными
случайностями и опасностями стяжать1 себе бессмертное имя и
почет... Первым делом принялся он за чистку принадлежавших его
предкам доспехов, некогда сваленных как попало в угол и покрыв-
шихся ржавчиной и плесенью. Когда же он тщательнейшим обра-
зом вычистил их и привел в исправность, то заметил, что недостает
одной весьма важной вещи, а именно: вместо шлема с забралом он
обнаружил обыкновенный шишак; но тут ему пришла на выручку
его изобретательность: смастерив из картона полушлем, он при-
крепил его к шишаку, и получилось нечто вроде закрытого шлема.
Не скроем, однако ж, что когда он, намереваясь испытать его
прочность и устойчивость, выхватил меч и нанес два удара, то
первым же ударом в одно мгновенье уничтожил труд целой недели.
Легкость, с какою забрало разлетелось на куски, особого удоволь-
ствия ему не доставила; чтобы предотвратить подобную опасность,
он сделал его заново, подложив внутрь железные пластинки, так
что в конце концов остался доволен его прочностью, и, найдя
дальнейшие испытания излишними, признал его вполне годным к
употреблению и решил, что это настоящий шлем с забралом, уди-
вительно тонкой работы.
Затем он осмотрел своего коня... это была настоящая кляча, что
называется — кожа да кости... Несколько дней раздумывал он, как
его назвать, ибо, говорил он себе, коню столь доблестного рыцаря,
да еще такому доброму коню, нельзя не дать какого-нибудь достой-
ного имени. Наш идальго твердо держался того мнения, что если
произошла перемена в положении хозяина, то и конь должен пере-
менить имя и получить новое, славное и громкое, соответствую-
щее новому сану и новому поприщу хозяина,— вот он и старался
найти такое, которое само показывало бы, что представлял-собой
этот конь до того, как стал конем странствующего рыцаря, и что
он представляет собой теперь. Итак, он долго придумывал разные
имена, роясь в памяти и напрягая воображение,— отвергал,
отметал, переделывал, сызнова принимался составлять,— и в
конце концов остановился на Росинанте, имени, по его мнению.
Стяжать — приобретать.
405
благородном и звучном, поясняющем, что прежде конь этот был
обыкновенной клячей, ныне же, опередив всех остальных, стал
первой клячей в мире.
Столь удачно, как ему казалось, назвав своего коня, решился
он подыскать имя и для себя самого и, потратив на это еще неделю,
назвался наконец Дон Кихотом... Однако ж, вспомнив, что добле-
стный Амадис1 не пожелал именоваться просто Амадисом, но при-
совокупив к этому имени название своего королевства и отечества,
дабы тем прославить его, и назвался Амадисом Галльским, решил
он, что и ему, как истинному рыцарю, надлежит присовокупить к
своему имени название своей родины и стать Дон Кихотом Ла-
манчским, чем, по его мнению, он сразу даст понять, из какого
он рода и из какого края, и при этом окажет честь своей отчизне.
Вычистив же доспехи, сделав из шишака настоящий шлем,
выбрав имя для своей лошаденки и окрестив самого себя, он при-
шел к заключению, что ему остается лишь найти даму, в которую он
мог бы влюбиться, ибо странствующий рыцарь без любви — это
все равно что дерево без плодов и листьев или же тело без души...
Должно заметить, что, сколько нам известно, в ближайшем селе-
нии жила весьма миловидная деревенская девушка, в которую он
одно время был влюблен, хотя она, само собою разумеется, об этом
не подозревала и не обращала на него никакого внимания. Звали
ее Альдонсою Лоренсо, и вот она-то и показалась ему достойною
титула владычицы его помыслов; и, выбирая для нее имя, которое
не слишком резко отличалось бы от ее собственного и в то же вре-
мя напоминало и приближалось бы к имени какой-нибудь принцес-
сы или знатной сеньоры, положил он назвать ее Дульсинеей2 * То-
босскою, ибо родом она была из Тобосо9,— именем, по его мнению,
приятным для слуха, изысканным и глубокомысленным, как и все
ранее придуманные им имена...
Глава II,
повествующая о первом выезде хитроумного Дон Кихота
из его владений
Покончив со всеми этими приготовлениями, наш идальго
решился тотчас же осуществить свой замысел, ибо он полагал, что
1 Амадис — герой рыцарского романа.
2 Дульсинея — от слова dulce — сладкая, нежная
1 Тобосо — местечко в Ламанче.
406
всякое промедление с его стороны может пагубно отозваться на
человеческом роде: сколько беззаконий предстоит ему устранить,
сколько кривды выпрямить, несправедливостей загладить, зло-
употреблений искоренить, скольких обездоленных удовлетворить!
И вот чуть свет в один из июльских дней, обещавших быть весьма
жарким, никому ни слова не сказав о своем намерении и оставшись
незамеченным, облачился он во все свои доспехи, сел на Росинан-
та, кое-как приладил нескладный свой шлем, взял щит, прихватил
копье и, безмерно счастливый и довольный тем, что никто не по-
мешал ему приступить к исполнению благих его желаний, через
ворота скотного двора выехал в поле. Но как скоро он очутился за
воротами, в голову ему пришла страшная мысль, до того страшная,
что он уже готов было отказаться от задуманного предприятия,
и вот почему: он вспомнил, что еще не посвящен в рыцари, и что,
следовательно, по законам рыцарства, ему нельзя и не должно
вступать в бой ни с одним рыцарем. Эти размышления поколебали
его решимость, однако же безумие взяло верх над всеми доводами,
и, по примеру многих рыцарей, о которых он читал в тех самых ро-
манах, что довели его до такого состояния, вознамерился он обра-
титься с просьбой о посвящении к первому встречному; и, порешив
на том, продолжал свой путь — вернее, путь, который избрал его
конь, ибо Дон Кихот полагал, что именно так и надлежит искать
приключений. Весь этот день Дон Кихот провел в пути, а к вечеру
он и его кляча устали и сильно проголодались. Тогда, оглянувшись
по сторонам в надежде обнаружить какой-нибудь замок, то есть
шалаш пастуха, где бы можно было подкрепиться и расправить
усталые члены, заметил он неподалеку от дороги постоялый двор1.
Он тронул поводья и поехал туда, как раз когда стало смеркаться...
Глава 111,
в коей рассказывается о том, каким забавным способом
Дон Кихот был посвящен в рыцари
...Дон Кихот, быстро покончив со своим скудным трактирным
ужином, подозвал хозяина, удалился с ним в конюшню, пал на
колени и сказал:
— Доблестный рыцарь, я не сдвинусь с места до тех пор, пока
1 Постоялый двор — помещение для ночлега с двором для лошадей, экипа-
жей.
407
ваша любезность не соизволит исполнить мою просьбу. Исполне-
ние же того, о чем я прошу, покроет вас неувядаемой славой, а
также послужит на пользу всему человеческому роду.
Увидев, что гость опустился перед ним на колени, и услышав
такие речи, хозяин оторопел: он не знал, что делать и что говорить,
а затем стал убеждать его подняться с колен, но тот поднялся лишь
после того, как хозяин дал слово исполнить его просьбу.
— Меньшего, государь мой, я и не ожидал от вашего несказан-
ного великодушия,— заметил Дон Кихот.— Итак, да будет вам
известно, что просьба, с которой я к вам обратился и которую ваше
человеколюбие обещало исполнить, состоит в том, чтобы завтра ут-
ром вы посвятили меня в рыцари. Ночь я проведу в часовне вашего
замка в бдении над оружием, а завтра, повторяю, сбудется то, чего
я так жажду, и я обрету законное право объезжать все четыре
страны света, искать приключений и защищать обиженных, тем
самым исполняя долг всего рыцарства, а таже долг рыцаря
странствующего...
Хозяин, будучи изрядной шельмой, отчасти догадался, что
гость не в своем уме, при этих же словах он совершенно в том
уверился и, решившись потакать всем его прихотям, дабы весело
провести ночь, сказал Дон Кихоту, что у него в замке нет часовни,
где бы можно было бодрствовать над оружием... но что, сколько
ему известно, в крайнем случае бодрствовать над оружием дозво-
ляется где угодно, так что Дон Кихот может провести эту ночь на
дворе, а завтра, бог даст, все приличествующие случаю церемонии
будут совершены, и он станет настоящим рыцарем, да еще таким,
какого свет не производил...
Дон Кихот начал готовиться к ночи, которую ему надлежало
провести на обширном скотном дворе в бдении над оружием. Он
собрал свои доспехи, разложил их на водопойном корыте, стояв-
шем возле колодца, и, схватив копье и щит, с крайне независимым
видом стал ходить взад и вперед; и только он начал прогуливаться,
как наступила ночь.
Хозяин рассказал своим постояльцам о сумасшествии Дон
Кихота, о его намерении провести ночь в бдении над оружием и
о предстоящей возне с посвящением его в рыцари. Присутство-
вавшие подивились и пошли посмотреть на Дон Кихота издали.
А Дон Кихот между тем то чинно прохаживался, то, опершись на
копье, впивался глазами в свои доспехи и долго потом не отводил
их. Дело было глухою ночью, однако ясный месяц вполне заменял
408
дневное светило, коему он обязан своим сиянием, так что все
движения новоиспеченного рыцаря хорошо видны были зрителям.
В это время одному из погонщиков, ночевавших на постоялом
дворе, вздумалось напоить мулов, для чего надлежало снять с
водопойного корыта доспехи нашего рыцаря; и, едва увидев погон-
щика, Дон Кихот тотчас же заговорил громким голосом:
— Кто б ни был ты, о дерзкий рыцарь, осмеливающийся
прикасаться к оружию самого доблестного из всех странствующих
рыцарей, какие когда-либо опоясывались мечом, помысли о том,
что ты делаешь, и не прикасайся к нему, не то жизнью попла-
тишься ты за свою предерзость!
Погонщик и в ус себе не дул,— а между тем лучше было бы,
если бы он дул: по крайней мере его самого тогда бы не вздули,—
он схватил доспехи и постарался зашвырнуть их как можно даль-
ше. Тогда Дон Кихот возвел к небу очи и, по-видимому обращаясь
мысленно к госпоже своей Дульсинее, сказал:
— Помоги мне, госпожа моя, отомстить за оскорбление, впер-
вые нанесенное моему сердцу. Ныне предстоит мне первое испыта-
ние — не лишайте ж меня защиты своей и покрова.
Продолжая взывать к своей даме, Дон Кихот отложил в сторо-
ну щит, обеими руками поднял копье и с такой силой опустил его
на голову погонщика, что тот упал замертво, так что если б за этим
ударом последовал второй, то ему уж незачем было бы обращаться
к врачу. Засим Дон Кихот подобрал свои доспехи и как ни в чем не
бывало снова стал прогуливаться...
Хозяину надоели выходки гостя, и чтобы положить им конец,
вознамерился он сей же час, пока не стряслось горшей беды, совер-
шить над ним этот треклятый обряд посвящения. Он тотчас сбегал
за книгой, где записывал, сколько овса и соломы выдано погонщи-
кам, и вместе со слугой, державшим в руке огарок свечи, и двумя
девицами подошел к Дон Кихоту, велел ему преклонить колено,
сделал вид, что читает некую священную молитву, и тут же изо
всех сил треснул его по затылку, а затем, все еще бормоча себе под
нос что-то вроде молитвы, славно огрел рыцаря по спине его же
собственным мечом. После этого он велел одной из девиц пре-
поясать этим мечом рыцаря, что та и исполнила, выказав при этом
чрезвычайную ловкость и деликатность. В самом деле, немало ис-
кусства требовалось для того, чтобы во время этой церемонии
в любую минуту не лопнуть от смеха...
Дон Кихот не чаял, как дождаться минуты, когда можно
409
будет снова сесть на коня и отправиться на поиски приключе-
ний, и, после того, как были закончены все эти доселе невидан-
ные церемонии, совершенные с такою быстротою и поспешно-
стью, он тот же час оседлал Росинанта, сел верхом и, обняв
хозяина, в столь мудреных выражениях изъявил ему свою благо-
дарность за посвящение в рыцари, что передать их нам было бы не
под силу. В ответ хозяин на радостях, что отделался от него,
произнес не менее высокопарную, хотя и не столь пространную
речь и, ничего не взяв за ночлег, отпустил его с миром.
Глава IV.
О том, что случилось с рыцарем нашим, когда он выехал
с постоялого двора
Уже занималась заря, когда Дон Кихот, ликующий, счастливый
и гордый сознанием, что его посвятили в рыцари, от радости под-
скакивая в седле, выехал с постоялого двора. Но как скоро пришли
ему на память наставления хозяина, порешил он возвратиться
домой, чтобы запастись всем необходимым, главное,— деньгами
и сорочками; в оруженосцы же себе прочил он одного хлебопашца,
своего односельчанина, бедного, многодетного, однако ж для
исполнения таковых обязанностей как нельзя более подходившего.
С этой целью он поворотил Росинанта в сторону своей деревни,
и Росинант, словно почуяв родное стойло, обнаружил такую рез-
вость, что казалось, будто копыта его не касаются земли.
Только успел Дон Кихот немного отъехать, как вдруг справа,
из чащи леса, до него донеслись тихие жалобы, точно кто-то сто-
нал, и, едва заслышав их, он тотчас воскликнул:
— Хвала небесам за ту милость, какую они мне явили, за то,
что так скоро предоставили они мне возможность исполнить мой
рыцарский долг и пожать плоды моих благих желаний. Не под-
лежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный или же
беззащитная, нуждающиеся в помощи моей и защите.
С этими словами он дернул поводья и устремился туда, откуда
долетали стоны. Проехав несколько шагов по лесу, увидел он
лошадь, привязанную к дубу, а рядом, к другому дубу, привязан
был голый до пояса мальчуган лет пятнадцати, и вот этот-то
мальчуган и стонал, и стонал не зря, ибо некий дюжий сельчанин
нещадно стегал его ремнем, сопровождая каждый удар попреками
и нравоучениями.
410
Рисунок Гюстава Доре.
- - Смотри в оба, а язык держи за зубами! — приговаривал он.
А мальчуган причитал:
— Больше не буду, хозяин, Христом-богом клянусь, не буду!
Обещаю вам глаз не спускать со стада!
Увидев, что здесь происходит, Дон Кихот грозно воскликнул:
— Неучтивый рыцарь, как вам не стыдно нападать на того,
кто не в силах себя защитить! Садитесь на коня, возьмите копье
(надобно заметить, что у сельчанина тоже было копье: он при-
слонил его к тому дубу, к коему была привязана лошадь), и я вам
докажу всю низость вашего поступка.
Сельчанин, обнаружив у себя над головой увешанную доспеха-
ми фигуру, перед самым его носом размахивавшую копьем, по-
думал, что пришла его смерть.
— Сеньор кавальеро,— вкрадчивым голосом заговорил он,—
я наказываю мальчишку, моего слугу, который пасет здесь отару
моих овец: из-за этого ротозея я каждый день не досчитываюсь
овцы. И наказываю я его за разгильдяйство, вернее,— за плу-
товство, а он говорит, что я из скупости возвожу на него напрас-
лину — чтобы не платить ему жалованья, но я клянусь богом и
спасением души, что он врет.
411
— Мерзкий грубиян! — воскликнул Дон Кихот.— Клянусь
солнцем, всех нас освещающим, что я сию минуту вот этим
самым копьем проткну вас насквозь! Без всяких разговоров упла-
тите ему, не то, да будет мне свидетелем всевышний, я с вами
разделаюсь и уложу на месте! Ну, отвязывайте его, живо!
Сельчанин, понурив голову, молча отвязал своего слугу. Тогда
Дон Кихот спросил мальчика, сколько ему должен хозяин. Маль-
чик ответил, что всего за девять месяцев, считая по семи реалов1
за месяц. Дон Кихот высчитал, что в сумме это составляет шесть-
десят три реала, и сказал сельчанину, чтоб он немедленно раско-
шелился, если только ему дорога жизнь. На это испуганный сель-
чанин возразил, что долг его вовсе не так велик, ибо надлежит
принять в расчет и сбросить со счетов стоимость трех пар обуви,
которые износил пастух, да еще один реал за два кровопускания,
которые были ему сделаны, когда он занемог.
— Это все так,— возразил Дон Кихот,— однако вы ни за что
ни про что отхлестали его ремнем,— пусть же это пойдет в уплату
за обувь и кровопускание: ведь если он порвал кожу на башмаках,
которые вы ему купили, то вы, в свою очередь, порвали ему собст-
венную его кожу. И если цирюльник2 пускал ему кровь, когда он
был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он находится в добром
здравии. Таким образом, тут вы с ним в расчете.
— Беда в том, сеньор кавальеро, что я не взял с собой денег,—
придется Андресу пойти со мной, и дома я уплачу ему все до по-
следнего реала.
— Чтобы я с ним пошел? — воскликнул мальчуган.— Час от
часу не легче! Нет, сеньор, ни за что на свете! Если я останусь
с ним наедине, то он сдерет с меня кожу вроде как со святого Вар-
фоломея или с кого-то там еще.
— Он этого не сделает,— возразил Дон Кихот,— я ему при-
кажу, и он не посмеет меня ослушаться. Пусть только он покля-
нется тем рыцарским орденом, к которому он принадлежит, и я
отпущу его на все четыре стороны и поручусь, что он тебе заплатит.
— Помилуйте, сеньор, что вы говорите! — воскликнул маль-
чуган.— Мой хозяин вовсе не рыцарь и ни к какому рыцарскому
ордену не принадлежит! Это Хуан Альдудо, богатый крестьянин
из деревни Кинтанар.
1 Реал — старинная испанская серебряная монета.
~ Цирюльник (устар.) — парикмахер, выполнявший также некоторые обя-
занное гн лекаря, врача.
412
Рисунок Гюстава Доре.
ПК-'
— Это ничего не значит, — возразил Дон Кихот,— и Альдудо
могут быть рыцарями. Тем более, что каждого человека должно
судить по его делам.
— Это верно,— согласился Андрес,— но, в таком случае, как
же прикажете судить моего хозяина, коли он отказывается платить
мне жалованье, которое я заработал в поте лица?
413
— Брат мой Андрес, да разве я отказываюсь? — снова заго-
ворил сельчанин.— Сделай милость, пойдем со мной! Клянусь
всеми рыцарскими орденами, сколько их ни развелось на свете, что
уплачу тебе, как я уже сказал, все до последнего реала, с радостью
уплачу!
— Можно и без радости,— сказал Дон Кихот.— Уплатите
лишь ту сумму, которую вы ему задолжали, это все, что от вас
требуется. Но бойтесь нарушить клятву, иначе, клянусь тою же
самою клятвою, я разыщу вас и накажу. Будь вы проворнее яще-
рицы, я все равно вас найду, куда бы вы ни спрятались. Если же
вы хотите знать, от кого получили вы этот приказ, дабы тем рев-
ностнее приняться за его исполнение, то знайте, что я — доблест-
ный Дон Кихот Ламанчский, заступник обиженных и утесненных.
Засим оставайтесь с богом и под страхом грозящей вам страшной
кары не забывайте обещанного и скрепленного клятвою.
С этими словами он пришпорил Росинанта и стал быстро уда-
ляться. Сельчанин посмотрел ему вслед и, удостоверившись, что он
миновал рощу и скрылся из виду, повернулся к слуге своему Андре-
су и сказал:
— Поди-ка сюда, сынок! Сейчас я исполню повеление этого
заступника обиженных и уплачу тебе долг.
— Я в этом нимало не сомневаюсь, ваша милость,— заметил
Андрес.— В ваших же интересах исполнить повеление доброго
рыцаря, дай бог ему прожить тысячу лет: он такой храбрый и
такой справедливый, что если вы мне не уплатите, клянусь
святым Роке, он непременно вернется и приведет угрозу свою
в исполнение.
— Я тоже в этом не сомневаюсь,— сказал сельчанин,— но я
так люблю тебя, желанный мой, что желаю еще больше тебе за-
должать, чтобы затем побольше заплатить.
Тут он схватил мальчугана за руку и, снова привязав его к дубу,
всыпал ему столько горячих, что тот остался чуть жив.
— Теперь зовите заступника обиженных,— сеньор Андрес,—
посмотрим, как он за вас заступится,— сказал сельчанин.—
Полагаю, впрочем, что я вас еще недостаточно обидел —
у меня чешутся руки спустить с вас шкуру, чего вы как раз и
опасались...
414
Глава VI.
О втором выезде доброго нашего рыцаря
Дон Кихота Ламанчского
...Дон Кихот вступил в переговоры с одним своим односель-
чанином. Это был человек добропорядочный (если только подоб-
ное определение применимо к людям, которые не могут похвас-
таться изрядным количеством всякого добра), однако ж мозги у
него были сильно набекрень. Дон Кихот такого ему наговорил, та-
кого наобещал и так сумел его убедить, что в конце концов бедный
хлебопашец дал слово отправиться вместе с ним в качестве его
оруженосца. Между прочим, Дон Кихот советовал ему особенно не
мешкать, ибо вполне, дескать, может случиться, что он, Дон Кихот,
в мгновение ока завоюет какой-нибудь остров и сделает его губер-
натором такового. Подобные обещания соблазнили Санчо Пан-
су,— так звали нашего хлебопашца,— и он согласился покинуть
жену и детей и стать оруженосцем своего односельчанина.
Затем Дон Кихот принялся раздобывать деньги: кое-что про-
дал, кое-что заложил с большим для себя убытком и в конце кон-
цов собрал значительную сумму. Кроме того, он взял на время
у одного из своих приятелей круглый щит и, починив как мог раз-
битый свой шлем, предуведомил оруженосца Санчо о дне и часе
выезда, чтобы тот успел запастись всем необходимым, а главное,
не забыл взять с собой дорожную суму. Санчо дал слово, что не
забудет, но, сославшись на то, что он не мастак1 ходить пешком,
объявил, что у него есть очень хороший осел и что он поедет на нем.
Это обстоятельство слегка озадачило Дон Кихота: он перебирал в
памяти, был ли у кого-нибудь из странствующих рыцарей такой
оруженосец, который прибегал к ослиному способу передвижения,
но так и не припомнил; однако в надежде, что ему не замедлит
представиться случай отбить коня у первого же неучтивого рыца-
ря, который встретится ему на пути, и передать это куда более по-
четное четвероногое во владение своему оруженосцу, он позволил
Санчо Пансе взять осла... Когда же все было готово и приведено в
надлежащий вид, Дон Кихот, не простившись ни с племянницей,
ни с ключницей, в сопровождении Санчо Пансы, который тоже не
простился ни с женой, ни с детьми, однажды ночью тайком выехал
Мастак — мастер своего дела, искусный и опытный в каком-нибудь деле,
ремесле.
415
из деревни; и за ночь им удалось отъехать на весьма значительное
расстояние, так что, когда рассвело, они почувствовали себя в
полной безопасности: если б и снарядили за ними погоню, то все
равно уже не настигли бы их.
Санчо Панса не забыл приторочить1 суму и бурдюк2, и теперь
он, горя желанием сделаться губернатором обещанного острова,
как некий патриарх3, восседал на осле. Между тем Дон Кихот
избрал тот же самый путь и двинулся по той же самой дороге,
по которой ехал он в прошлый раз, то есть по Монтьельской равни-
не, только теперь он чувствовал себя несравненно бодрее, ибо
время было еще раннее и косые лучи солнца не очень его беспокои-
ли. Тут-то и обратился Санчо Панса к своему господину:
— Смотрите же, ваша милость, сеньор странствующий рыцарь,
не забудьте, что вы мне обещали насчет острова, а уж я с каким
угодно островом управлюсь.
Дон Кихот ему на это сказал:
— Надобно тебе знать, друг мой Санчо Панса, что в былые
времена странствующие рыцари имели обыкновение назначать
правителями завоеванных ими островов и королевств своих же
собственных оруженосцев, а уж за мной дело не станет, ибо я
положил восстановить похвальный этот обычай...
Глава VII.
О славной победе, одержанной доблестным Дон Кихотом
в страшной и доселе неслыханной битве с ветряными
мельницами, равно как и о других событиях, о которых мы
не без приятности упомянем
Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных
мельниц, стоявших среди поля, и как скоро увидел их Дон Кихот,
то обратился к своему оруженосцу с такими словами:
— Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг
Санчо Панса: вон там виднеется тридцать, если не больше, чу-
довищных великанов,— я намерен вступить с ними в бой и пере-
бить их всех до единого, трофеи же, которые нам достанутся, явят-
ся основою нашего благосостояния. Эта война справедливая:
1 Приторочить — привязать ремнями к седлу.
2 Бурдюк — мешок, сшитый из шкуры животного и служащий для хране-
ния вина и других жидкостей.
3 Патриарх — духовное лицо, обладающее высшей духовной властью.
416
стереть дурное семя с лица земли — значит верой и правдой по-
служить богу.
— Где вы видите великанов? — спросил Санчо Панса.
— Да вон они, с громадными руками,— ответил его госпо-
дин.— У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль.
— Помилуйте, сеньор,— возразил Санчо,— то, что там вид-
неется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы, то же, что вы
принимаете за их руки,— это крылья: они кружатся от ветра и
приводят в движение мельничные жернова.
— Сейчас видно неопытного искателя приключений! — заме-
тил Дон Кихот.— Это великаны. И если ты боишься, то отъезжай
в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий
и неравный бой.
С последним словом, не внемля голосу Санчо, который преду-
преждал его, что не с великанами едет он сражаться, а, вне всякого
сомнения, с ветряными мельницами, Дон Кихот дал Росинанту
шпоры. Он был совершенно уверен, что это великаны, а потому,
не обращая внимания на крики оруженосца и не видя, что перед
ним, хотя находился совсем близко от мельниц, громко восклик-
нул:
— Стойте, трусливые и подлые твари! Ведь на вас нападает
только один рыцарь!
В это время подул легкий ветерок, и, заметив, что огромные
крылья мельниц начинают кружиться, Дон Кихот воскликнул:
— Машите, машите руками! Если б у вас их было больше, чем
у великана Бриарея1, и тогда пришлось бы вам поплатиться!
Сказавши это, он всецело отдался под покровительство гос-
пожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбою помочь ему вы-
держать столь тяжкое испытание и, заградившись щитом и пустив
Росинанта в галоп, вонзил копье в крыло ближайшей мельницы;
но в это время ветер с такой бешеной силой повернул крыло, что от
копья остались одни щепки, а крыло, подхватив и коня и всадника,
оказавшегося в весьма жалком положении, сбросило Дон Кихота
на землю. На помощь ему во весь ослиный мах поскакал Санчо
Панса и, приблизившись, удостоверился, что он не может по-
шевелиться — так тяжело упал он с Росинанта.
— Ах ты господи! — воскликнул Санчо.— Не говорил ли я
1 Бриарёй — герой мифа, сторукий великан, обладавший невероятной силой н
изрыгавший пламя.
15. Зак. 234В М. А. Снежневская
417
вашей милости, чтобы вы были осторожнее и что это всего-навсего
ветряные мельницы? Их никто бы не спутал, разве тот, у кого
ветряные мельницы кружатся в голове.
— Помолчи, друг Санчо,— сказал Дон Кихот.— Должно за-
метить, что нет ничего изменчивее военных обстоятельств. К тому
же, я полагаю, и не без основания, что мудрый Фрестон* ... превра-
тил великанов в ветряные мельницы, чтобы лишить меня плодов
победы,— так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его
чары не устоят пред силою моего меча.
— Это уж как бог даст,— заметил Санчо Панса.
Он помог Дон Кихоту встать и усадить его на Росинанта, ко-
торый тоже был чуть жив. Продолжая обсуждать недавнее проис-
шествие, они поехали по дороге к Ущелью Лаписе, ибо Дон Кихот
не мог упустить множество разнообразных приключений, какое, по
его словам, на этом людном месте их ожидало; одно лишь огорчало
его — то, что он лишился копья, и, поведав горе свое оруженосцу,
он сказал:
— Помнится, я читал, что один испанский рыцарь, по имени
Дьего Перес де Варгас1 2, утратив в бою свой меч, отломил от дуба
громадный сук и отдубасил и перебил в этот день столько мавров,
что ему потом дали прозвище Дубае, и с тех пор он и его потомки
именуются Варгас-Дубас. Все это я говорю к тому, что я тоже на-
мерен отломить сук от первого же дуба, который попадется мне по
дороге, такой же величины, какой, я себе представляю, должен
был быть у Варгаса, и при помощи этого сука совершить такие
подвиги, что ты почтешь себя избранником судьбы, ибо удостоился
чести быть очевидцем и свидетелем деяний, которые впоследствии
могут показаться невероятными.
— Все в руках божиих,— заметил Санчо.— Я верю всему, что
говорит ваша милость. Только сядьте прямее, а то вы все как будто
съезжаете набок — верно, оттого, что ушиблись, когда падали.
— Твоя правда,— сказал Дон Кихот,— и если я не стону от
боли, то единственно потому, что странствующим рыцарям в слу-
чае какого-либо ранения стонать не положено, хотя бы у них выва-
лились кишки.
— Коли так, то мне возразить нечего,— сказал Санчо,— но
довелись до меня, так я начну стонать от самой пустячной боли,
1 Фрестон — один из героев рыцарского романа.
2 Дьего Перес де Варгас (XIII в.) — прославленный воин, воспет в народ-
ных романсах.
418
если только этот закон не распространяется и на оруженосцев
странствующих рыцарей.
Дон Кихот не мог не посмеяться простодушию своего оруже-
носца, а затем объявил, что тот волен стонать, когда и сколько ему
вздумается, как по необходимости, так и без всякой необходи-
мости, ибо в рыцарском уставе ничего на сей предмет не сказано...
Эту ночь они провели под деревьями. От одного из них Дон
Кихот отломил засохший сук и приставил к нему железный
наконечник — таким образом у него получилось нечто вроде
копья...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава XVII,
из коей явствует, каких вершин и пределов могло достигнуть
и достигло неслыханное мужество Дон Кихота,
и в коей речь идет о приключении со львами,
которое Дон Кихоту удалось счастливо завершить
...Немного погодя Санчо свернул с дороги, чтобы попросить
молока у пастухов, доивших неподалеку овец, а Дон Кихот между
тем поднял голову и увидел, что навстречу едет повозка, расцве-
ченная королевскими флагами, и, решив, что это, уж верно, какое-
нибудь новое приключение, он громко стал кричать Санчо, чтобы
тот подал ему шлем... Санчо... направился к Дон Кихоту, дабы
узнать, что ему требуется, а тот при его приближении молвил:
— Друг мой, подай мне шлем. Или я мало смыслю в приклю-
чениях, или же то, что там виднеется, представляет собою такое
приключение, которое должно принудить меня и уже принуждает
взяться за оружие... А теперь будь что будет, у меня достанет
мужества схватиться с самим сатаною.
Тем временем повозка с флажками подъехала ближе, и тут
оказалось, что кроме погонщика верхом на одном из мулов и еще
одного человека на передке повозки, никто больше ее не сопровож-
дал. Дон Кихот выехал вперед и молвил:
— Куда, братцы, путь держите? Что это за повозка, что вы
в ней везете и что это за стяги?
Погонщик же ему ответил на это так:
— Повозка — моя, а везу я клетку с двумя свирепыми львами,
которых губернатор Оранский отсылает ко двору в подарок его
величеству, флаги же — государя нашего короля в знак того, что
везем мы его достояние.
15
419
— А как велики эти львы? — осведомился Дон Кихот.
— Столь велики,— отвечал человек, сидевший на передке,—
что крупнее их или даже таких, как они, еще ни разу из Африки
в Испанию не привозили... Это лев и львица; лев в передней клет-
ке, а львица в задней, и сейчас они голодные, ... так что, ваша ми-
лость, уж вы нас пропустите, нам надобно поскорее добраться до
какого-нибудь селения и покормить их.
Дон Кихот же, чуть заметно усмехнувшись, ему на это сказал:
— Львят — против меня? Теперь против меня — львят? Ну,
так эти сеньоры, пославшие их сюда, вот как перед богом говорю,
сейчас увидят, такой ли я человек, чтобы устрашиться львов!
Слезай с повозки, добрый человек, и если ты сторож, то открой
клетки и выпусти зверей — назло и наперекор тем волшебникам,
которые их на меня натравили, я сейчас покажу, кто таков Дон
Кихот Ламанчский!
Возница, видя, что это вооруженное пугало преисполнено
решимости, молвил:
— Государь мой, будьте настолько любезны, сжальтесь вы
надо мной и велите выпустить львов не прежде, чем я распрягу
мулов и отведу их в безопасное место, а то если львы их растерза-
ют, то мне тогда всю жизнь придется терзаться: ведь мулы и повоз-
ка — это все мое достояние.
— О маловер! — вскричал Дон Кихот.— Слезай, распрягай
мулов, словом, поступай как знаешь,— сейчас ты увидишь, что
напрасно хлопочешь и что все старания твои ни к чему.
Возница спешился и, нимало не медля, распряг мулов, а сторож
между тем заговорил громким голосом:
— Призываю во свидетели всех здесь присутствующих, что я
против воли и по принуждению открываю клетки и выпускаю
львов, и объявляю этому сеньору, что за весь вред и ущерб от этих
зверей отвечает он, и он же возместит мне мое жалованье и то, что
я имею сверх жалованья. Вы, сеньоры, спасайтесь бегством, преж-
де нежели я открою, а насчет себя я уверен, что звери меня не
тронут.
Тут Санчо со слезами на глазах взмолился к Дон Кихоту, чтобы
он отказался от этого предприятия, в сравнении с коим приключе-
ние с ветряными мельницами... и все подвиги, которые он на своем
веку совершил, это, дескать, только цветочки.
— Поймите, сеньор,— говорил Санчо,— тут нет колдовства,
ничего похожего тут нет: сквозь решетку я разглядел коготь всам-
420
делишного льва и заключил, что ежели у этого льва такой коготь,
то сам лев, уж верно, больше горы.
— Со страху он тебе и с полмира мог показаться,— возразил
Дон Кихот.— Удались, Санчо, и оставь меня. Если же я погибну,
то ведь тебе известен прежний наш уговор: поспеши к Дульси-
нее — все прочее сделается само собой.
К этому Дон Кихот прибавил много такого, что отняло у окру-
жающих всякую надежду отговорить его от столь нелепой затеи.
Санчо пришпорил своего серого, возница — своих мулов, и оба они
старались как можно дальше отъехать от повозки, прежде чем
львы выйдут из заточения. Санчо заранее оплакивал гибель своего
господина, ибо на сей раз нимало не сомневался, что быть ему в
когтях львиных; он проклинал свою судьбу и тот час, когда ему
вспало на ум снова поступить на службу к Дон Кихоту; впрочем,
жалобы и слезы не мешали ему нахлестывать серого, чтобы он
быстрее удалялся от повозки. Когда же сторож наконец уверился,
что беглецы далеко, он начал молить и заклинать Дон Кихота, но
Дон Кихот ему сказал, что пусть, дескать, сторож не утруждает
себя просьбами и заклинаниями, ибо все это напрасно, а пусть
лучше, мол, поторопится.
Пока сторож возился с первой клеткой, Дон Кихот обдумывал,
как благоразумнее вести сражение — пешим или же на коне, и,
поразмыслив, решил, что пешим, ибо львы могли испугать Роси-'
нанта. Он соскочил с коня, бросил копье, схватил щит, обнажил
меч и, исполненный изумительной отваги и бесстрашия, важною
поступью двинулся прямо к повозке, всецело поручая себя сначала
богу, а потом госпоже своей Дульсинее.
Едва сторож увидел, что Дон Кихот уже наготове и что из
боязни навлечь на себя гнев вспыльчивого и дерзкого кавальеро
ему не миновать выпустить львов, он настежь распахнул дверцу
первой клетки, где, повторяем, находился лев величины, как оказа-
лось, непомерной,— чудовищный и страховидный лев. Прежде
всего лев повернулся в своей клетке, выставил лапы и потянулся
всем телом, засим разинул пасть, сладко зевнул и языком почти в
две пяди длиною протер себе глаза и облизал морду; после этого он
высунулся из клетки и горящими, как угли, глазами повел во все
стороны; при этом вид его и движения могли бы, кажется, навести
страх на самую смелость. Однако Дон Кихот смотрел на него в
упор,— он с нетерпением ждал, когда же наконец лев спрыгнет с
повозки и вступит с ним врукопашную, а он изрубит льва на куски.
421
Вот до какой крайности дошло его доселе невиданное безумие.
Однако благородный лев, не столь дерзновенный, сколь учтивый,
оглядевшись, как уже было сказано, по сторонам и не обращая
внимания на Дон-Кихотово ребячество и молодечество, повернулся
и, показав Дон Кихоту зад, прехладнокровно и не торопясь снова
вытянулся в клетке; тогда Дон Кихот велел сторожу ударить его,
чтобы разозлить и выгнать из клетки.
— Этого я делать не стану,— возразил сторож,— ведь коли
я его раздразню, так он первым делом разорвет в клочки меня.
Пусть ваша милость, сеньор кавальеро, удовольствуется уже сде-
ланным, ибо по части храбрости лучшего и желать невозможно,
испытывать же судьбу дважды не годится. В клетке у льва дверца
отворена: он волен выходить или не выходить, но ежели он до сей
поры не вышел, стало быть, и до вечера не выйдет. Твердость
духа вашей милости уже доказана,— от самого храброго бой-
ца, сколько я понимаю, требуется лишь вызвать недруга на
поединок и ожидать его на поле брани, если же неприятель не
явился, то позор на нем, а победный венок достанется ожи-
давшему.
— И то правда,— молвил Дон Кихот.— Закрой, приятель,
дверцу и в наилучшей форме засвидетельствуй все, что здесь на
твоих глазах произошло, а именно: как ты открыл льву, как я его
ждал, а он не вышел, как я его снова стал ждать, а он опять не
вышел и снова улегся. Мой долг исполнен, прочь колдовские чары,
и да поможет господь разуму, истине и истинному рыцарству, ты
же закрой, повторяю, клетку, а я тем временем знаками подзову
бежавших и отсутствующих, дабы они услышали из твоих уст о
моем подвиге.
Сторож так и сделал, а Дон Кихот, нацепив на острие копья
платок... стал звать беглецов, которые все еще мчались и поминут-
но оборачивались; когда же Санчо увидел, что Дон Кихот машет
белым платком, то сказал:
— Убейте меня, если мой господин не одолел этих диких зве-
рей,— ведь он нас кличет!
Беглецы остановились и уверились, что делал знаки не кто
иной, как сам Дон Кихот; это их несколько ободрило. Они осторож-
но двинулись обратно, и вскоре до них явственно донеслись крики
Дон Кихота, который их звал. В конце концов они приблизились
к повозке, и тогда Дон Кихот сказал вознице:
— Запрягай, братец, своих мулов и трогайся в путь, а ты, Сан-
422
чо, выдай ему два золотых — один для него, другой для сторожа —
за то, что я у них отнял время.
— Выдать-то я им с великим удовольствием выдам,— сказал
Санчо,— но, однако же, что сталось со львами? Живы они или
мертвы?
Тут сторож обстоятельно и с расстановкой принялся рассказы-
вать об исходе схватки, преувеличивая как мог и умел доблесть
Дон Кихота, при одном виде которого лев якобы струхнул и не по-
желал и не посмел выйти из клетки, хотя дверца долгое время оста-
валась открытою; и только после того как он, сторож, сказал этому
кавальеро, что дразнить льва и силком гнать из клетки — значит
испытывать долготерпение божие, а кавальеро, дескать, именно
добивался, чтобы льва раздразнили, он неохотно и скрепя сердце
позволил запереть клетку.
— Что ты на это скажешь, Санчо? — спросил Дон Кихот.—
Какое чародейство устоит против истинной отваги? Чародеи воль-
ны обрекать меня на неудачи, но сломить мое упорство и мужество
они не властны.
Санчо выдал деньги, возница запряг мулов, а сторож поцело-
вал Дон Кихоту руки за оказанное благодеяние и пообещал рас-
сказать о славном этом подвиге самому королю, когда приедет в
столицу.
— Буде же его величество спросит, кто этот подвиг совершил,
скажите, что Рыцарь Львов, ибо я хочу, чтобы прежнее мое
прозвание Рыцарь Печального Образа изменили, переменили, за-
менили и сменили на это, и тут я следую старинному обычаю стран-
ствующих рыцарей, которые меняли имена, когда им этого хоте-
лось или же когда это напрашивалось само собой.
Повозка двинулась своею дорогой, а Дон Кихот и Санчо —
своею.
Глава XXVII.
О том, что произошло между Дон Кихотом и прекрасной
охотницей
...Случилось так, что на другой день на закате солнца Дон Ки-
хот, выехал из лесу, окинул взглядом зеленый луг и в самом конце
его обнаружил скопление народа; приблизившись, он догадался,
что это соколиная охота. Тогда он подъехал еще ближе и увидел
статную даму на белоснежном иноходце; сбруя на нем была зеле-
423
ная, седло же серебряное. Дама также была во всем зеленом, и
одеяние ее было столь богато и изящно, что казалось, будто это
само изящество. На левой руке у нее сидел сокол, и по этому при-
знаку Дон Кихот догадался, что перед ним некая знатная особа,
прочие же охотники — ее свита, и так оно и было на самом деле;
и по сему обстоятельству он сказал Санчо:
— Беги, дружочек Санчо, и скажи этой сеньоре на белом коне
и с соколом на руке, что я. Рыцарь Львов, падаю ниц пред ее вели-
колепием и что если ее величие позволит, то я приближусь к ней,
дабы облобызать ей руки и исполнить все, что только в моих силах
и что бы ее светлость мне ни приказала. Но только смотри, Санчо,
не наговори лишнего и не вздумай уснащать посольскую свою речь
любимыми твоими поговорками.
— Нашли какого уснастителя! — возразил Санчо.— Не из-
вольте беспокоиться! Слава богу, мне не впервой выезжать с по-
сольством к высокопоставленным и важным сеньорам!..
Санчо погнал серого во весь дух и, подъехав к прекрасной охот-
нице, спешился, пал на колени и сказал:
— Прелестная сеньора, вон тот рыцарь, которого зовут Рыца-
рем Львов,— это мой господин, а я — его оруженосец, и дома меня
зовут Санчо Пансой. Так вот, этот самый Рыцарь Львов, который
еще недавно прозывался Рыцарем Печального’Образа, послал ме-
ня попросить ваше величие, чтобы вы соблаговолили позволить
ему явиться с вашего соизволения, разрешения и согласия сюда...
— Поистине, добрый оруженосец,— молвила в ответ сеньо-
ра,— ты ничего не упустил из того, что требуется при исполнении
подобных поручений. Встань же: оруженосцу столь великого рыца-
ря, каков Рыцарь Печального Образа, о котором мы здесь уже мно-
го наслышаны, неприлично стоять на коленях. Встань же, друг
мой, и передай своему господину, что он прибыл как раз вовре-
мя и что я и мой муж, герцог, приглашаем его в наш летний
дворец.
Санчо поднялся с колен; его столько же поразила красота доб-
рой сеньоры, сколько любезность ее и приветливость, но больше
всего он был поражен тем, что, оказывается, она уже слышала
о Рыцаре Печального Образа; правда, Рыцарем Львов она его не
называла, но это, верно, потому, что Дон Кихот взял себе это на-
звание совсем недавно...
— Так поезжай же, друг мой Панса, и передай своему господи-
ну, что он будет дорогим и желанным гостем в моих владениях и
424
что большего удовольствия, чем его посещение, мне ничего на
свете не могло доставить.
Получив столь благоприятный ответ, Санчо с чувством глубо-
кого удовлетворения направился к своему господину, передал ему
все, что сказала эта знатная сеньора, и на свой деревенский лад
превознес до небес необычайную ее красоту, великую приятность
и обходительность. Дон Кихот приосанился, вытянулся на стреме-
нах, поправил забрало, дал шпоры Росинанту и с крайне независи-
мым видом отправился лобызать герцогине руки; герцогиня же,
пока Дон Кихот ехал, подозвала своего мужа, герцога, и рассказа-
ла о его посольстве, а так как супруги читали первую часть истории
Дон Кихота и знали из нее о его причудах, то с великою радостью
поджидали его и жаждали с ним познакомиться, заранее решив,
что они будут потворствовать всем его прихотям, поддакивать ему
и все то время, что он у них прогостит, обходиться с ним, как со
странствующим рыцарем, соблюдая все церемонии, обыкновенно
описываемые в читанных ими рыцарских романах, до которых они
были большие охотники...
Глава XXVIII,
повествующая о многих великих событиях
Санчо был в совершенном восторге, ибо вообразил, что на-
ходится в милости у герцогини; ...он обожал довольство, и как ско-
ро ему представлялся случай понаслаждаться жизнью, он неукос-
нительно хватал его за вихор. До того, как все приблизились к лет-
нему дворцу, герцог поехал вперед и отдал распоряжения всем
своим слугам, как должно обходиться с Дон Кихотом... Когда все
вошли в обширный внутренний двор, две прелестные девушки на-
бросили Дон Кихоту на плечи великолепную алую мантию, и в тот
же миг во всех галереях появились слуги и служанки и начали
громко восклицать:
— Добро пожаловать, краса и гордость странствующего ры-
царства!
И при этом все они, или почти все, опрыскивали из флаконов
герцога, герцогиню и Дон Кихота душистою жидкостью, что при-
вело Дон Кихота в крайнее изумление; и тут он впервые оконча-
тельно убедился и поверил, что он не мнимый, а самый настоящий
странствующий рыцарь, ибо все обходились с ним так же точно,
как обходились с подобными рыцарями во времена протекшие.
425
о чем ему было известно из романов. Затем ему предложили под-
няться по лестнице и провели в залу... Когда с Дон Кихота сняли
доспехи, он, тощий, высокий, долговязый, с такими впалыми щека-
ми, что казалось, будто они целуют одна другую изнутри, остался в
узких шароварах и в камзоле из верблюжьей шерсти, и вид у него
был такой, что если бы девушки не делали над собой усилия, чтобы
не прыснуть (а на сей предмет они получили от своих господ осо-
бый наказ), они бы, уж верно, покатились со смеху. Нимало не
медля, Дон Кихот проследовал вместе с Санчо в соседний покой,
переменил сорочку, препоясался мечом, накинул на плечи алую
мантию, на голову надел зеленого атласа берет, который ему по-
дали прислужницы, и в таком виде вышел в обширную залу, где
его уже ожидали девушки, выстроившиеся в два ряда и державшие
сосуды для омовения рук; весь этот обряд был совершен со мно-
жеством поклонов и разных церемоний. Затем явились двенадцать
пажей и с ними дворецкий, чтобы отвести Дон Кихота в столовую,
где его дожидались владельцы замка. Обступив Дон Кихота, пажи
торжественно провели его в другую залу, где стоял роскошно
убранный стол, накрытый всего лишь на четыре прибора. У порога
встретили его герцог, герцогиня и некий важный священник из чис-
ла тех, которые у владетельных князей состоят в духовниках1...
Герцог предложил Дон Кихоту занять почетное место; тот сначала
было отнекивался, но в конце концов сдался на уговоры. Духовник
сел напротив Дон Кихота, герцог же и герцогиня — справа и слева
от него...
Герцогиня спросила Дон Кихота, имеет ли он вести от сеньоры
Дульсинеи и сколько великанов и лиходеев отослал он ей в подарок
за последнее время, ибо, по всей вероятности, он над многими из
них успел одержать победу...
Духовник, слышавший весь этот разговор про великанов, ду-
шегубов и колдовство, догадался, что это и есть Дон Кихот Ла-
манчский, историю которого герцог читал постоянно, между тем
духовник порицал его за это многократно и уверял, что глупо с его
стороны читать подобные глупости. И вот теперь совершенно удо-
стоверившись в правильности своих предположений, он в пре-
великом гневе заговорил с герцогом:
— Ваша светлость! Вам, государь мой, придется давать ответ
богу за выходки этого молодца. Я склонен думать, что этот самый
1 Духовник — священник, принимающий исповедь.
426
Дон Кихот, Дон Остолоп или как его там, не столь уж слабоумен,
каким его представляет себе ваша светлость, а потому и не след
вам потворствовать его дурачествам и сумасбродствам.
Затем он обратился к Дон Кихоту и сказал:
— Послушайте, вы, пустая голова, кто это вам втемяшил, что
вы странствующий рыцарь и что вы побеждаете великанов и бере-
те в плен лиходеев? Опомнитесь и попомните мое слово: возвра-
щайтесь к себе домой, растите детей, если у вас есть таковые,
занимайтесь хозяйством и перестаньте мыкаться по свету, ловить в
небе журавля и смешить всех добрых людей, знакомых и незнако-
мых. Откуда вы взяли, что были на свете и сейчас еще существуют
странствующие рыцари, не к ночи будь они помянуты? Где же это
в Испании водятся великаны или в Ламанче — душегубы и где эти
Дульсинеи и вся эта уйма чепухи, которая про вас написана?
Дон Кихот со вниманием выслушал почетного сего мужа, а ког-
да тот умолк, он, несмотря на свое уважение к герцогской чете,
вскочил с места и, всем своим видом выражая гнев и возмущение,
заговорил...
Впрочем, ответ его заслуживает особой главы.
Глава XXIX.
О том, как Дон Кихот ответил своему хулителю,
а равно и о других происшествиях, и важных, и забавных
Итак, Дон Кихот вскочил с места, весь затрясся и, задыхаясь
от волнения, заговорил:
— ...Я прошу вашу милость ответить: какие-такие вы нашли во
мне дурачества, которые дают вам право бичевать меня, клеймить
и посылать домой заниматься хозяйством и заботиться о жене и
детях, хотя вы даже не знаете, есть ли они у меня? Неужели доста-
точно на правах духовника втереться в чужую семью, неужели
достаточно получить воспитание в каком-нибудь дешевом пансио-
не, видеть свет не далее чем на двадцать-тридцать миль в окруж-
ности, чтобы так, с налета, диктовать законы странствующему
рыцарству и судить о странствующих рыцарях?.. Когда б меня при-
знали за слабоумного рыцаря блестящие и великодушные вель-
можи, я почел бы это за несмываемое для себя бесчестье, а коли
обзывают меня глупцом разные буквоеды, которые никогда не
вступали на путь странствующего рыцарства, то я не придаю этому
ровно никакого значения: я — рыцарь и, коли будет на то воля
427
всевышнего, рыцарем и умру. Одни шествуют по широкому полю
надутого честолюбия, другие идут путем низкой и рабьей угодли-
вости, третьи — дорогою лукавого лицемерия, четвертые — стезею
истинной веры; я же, ведомый своей звездою, иду узкой тропой
странствующего рыцарства, ради которого я презрел житейские
блага, но не честь. Я вступался за униженных, выпрямлял кривду,
карал дерзость, побеждал великанов и попирал чудовищ. Я неиз-
менно устремляюсь к благим целям, а именно: всем делать добро и
никому не делать зла. Судите же теперь, ваши светлости, высоко-
родные герцог и герцогиня, можно ли обзывать глупцом того, кто
так думает, так поступает и так говорит.
— Ей-богу, здорово сказано!— воскликнул Санчо.— И боль-
ше вы, сеньор и господин мой, ничего не говорите в свое оправда-
ние, все равно лучше не скажешь, не придумаешь и не убедишь.
И потом, если этот сеньор уверяет, будто странствующих рыцарей
прежде не было и сейчас нет, то разве он хоть что-нибудь в этих
делах смыслит?
— А ты, любезный, уж не Санчо ли Панса, о котором пишут,
будто Дон Кихот обещал пожаловать ему остров?
— Я самый,— отвечал Санчо,— и заслужил я этот остров не
хуже всякого другого. Про таких, как я, говорят: «К добрым лю-
дям пристанешь — сам добрым станешь», а потом еще: «С кем по-
ведешься, от того и наберешься», и еще: «Доброго дерева сень су-
лит тебе добрую тень». Вот я к доброму сеньору и прилепился. Уж
несколько месяцев, как я при нем состою, и, господь даст, скоро
сам стану вроде него, и ему хорошо и мне хорошо: что там ни гово-
ри, быть ему императором, а мне — губернатором.
— Разумеется, друг Санчо,— прервал его тут герцог:— из
уважения к сеньору Дон Кихоту я передам тебе во владение один
свободный остров довольно хорошего качества.
— На колени, Санчо! — сказал Дон Кихот.— Припади к сто-
пам его светлости за оказанную тебе милость.
Санчо повиновался. Тут священник вскипел и, встав из-за
стола, обратился к герцогу с такими словами:
— Мой сан повелевает мне сказать вам, ваша светлость, что
вы так же точно помешаны, как и эти греховодники. Да как же им
не быть безумными, когда люди здравомыслящие потакают их без-
умствам! Принимайте их у себя, ваша светлость, а я, пока они
будут у вас, побуду у себя и перестану порицать то, что исправле-
нию не поддается.
428
И, не прибавив более ни слова и так и не кончив обеда, духов-
ник удалился, невзирая на уговоры герцога; впрочем, герцог осо-
бенно не настаивал, оттого что нелепая эта вспышка сильно его
смешила. Наконец, перестав смеяться, он повел с Дон Кихотом
такую речь:
— Ваша милость, сеньор Рыцарь Львов, так великолепно за
себя постояла, что теперь вам уже не стоит требовать удовлетво-
рения.
— Ваша правда,— заметил Дон Кихот.
В конце концов Дон Кихот успокоился, обед кончился...
Глава XXXIII.
О советах, которые Дон Кихот преподал Санчо Пансе перед тем,
как тот отправился управлять островом...
...Герцог сказал Санчо, чтобы тот привел себя в надлежащий
порядок и был готов занять пост губернатора.
— Я жалую тебе самый настоящий остров, в высшей степени
плодородный и обильный,— промолвил герцог.
— Я не из корысти мечу в высокие начальники и залетаю в
барские хоромы,— заметил Санчо,— просто мне хочется попробо-
вать, какое оно, это губернаторство...
В это время вошел Дон Кихот и, узнав, о чем идет речь и что
Санчо спешно принимает бразды правления, взял его за руку и
с дозволения герцога увел к себе, чтобы преподать советы, как ему
в той должности подобает себя вести.
Итак, войдя в свой покой, он запер дверь, почти насильно уса-
дил Санчо рядом с собою и нарочито медленно заговорил:
— Прежде всего, сын мой, тебе надлежит бояться бога, ибо
в страхе господнем заключается мудрость; будучи же мудрым, ты
избежишь ошибок...
О своем худородстве, Санчо, говори с гордостью и признайся
не краснея, что ты из крестьян, ибо никому не придет в голову тебя
этим стыдить, коль скоро ты сам этого не стыдишься...
Ни в коем случае не руководствуйся законом личного произво-
ла: этот закон весьма распространен среди невежд, которые вы-
дают себя за умников.
Пусть слезы бедняка вызовут в тебе при одинаково сильном
чувстве справедливости большие сострадания, чем жалобы бога-
429
ча. Всячески старайся обнаружить истину, что бы тебе ни сулил и
ни преподносил богач и как бы ни рыдал и ни молил бедняк.
Если тебе когда-нибудь случится разбирать тяжбу недруга
твоего, то гони от себя всякую мысль о причиненной тебе обиде и
думай лишь о том, на чьей стороне правда...
Все эти назидания должны послужить к украшению твоей ду-
ши, а теперь послушай назидания, имеюшие своею целью украше-
ние тела.
Глава XXXIV.
О второй части советов, преподанных
Дон Кихотом Санчо Пансе
...На протяжении великой нашей истории не раз было замечено,
что он [Дон Кихот] начинал нести околесную, только когда речь
заходила о рыцарстве, рассуждая же о любом другом предмете, он
высказывал ум ясный и обширный, так что поступки его неизменно
расходились с его суждениями, а суждения — с поступками; что
же касается второй части правил, коим он обучал Санчо, то здесь
он выказал остроумие чрезвычайное... Санчо слушал его с неослаб-
ным вниманием и старался удержать в памяти его советы: видно
было, что он намерен хорошенько запомнить их, дабы с их по-
мощью рождение нового губернатора протекло благополучно. Дон
Кихот между тем продолжал:
— Касательно того, как надлежит держать свой дом и самого
себя, Санчо, то прежде всего я советую тебе соблюдать чистоту
и стричь ногти, а ни в коем случае не отращивать их. как это де-
лают некоторые, по невежеству своему воображающие, будто
длинные ногти составляют украшение рук, меж тем как если не об-
стригать грязные эти наросты, то они смахивают на когти хищной
птицы; это — чудовищное безобразие и нечистоплотность.
Никогда не ходи, Санчо, распоясанным и неопрятным: беспоря-
док в одежде есть признак расслабленности духа...
Не потребляй ни чеснока, ни лука, дабы по запаху нельзя было
догадаться, что ты из мужиков.
Ходи медленно, говори раздельно, но не до такой степени, чтобы
можно было подумать, будто ты сам себя слушаешь, ибо всякая
напыщенность противна.
За обедом ешь мало, а за ужином еще меньше, ибо здоровье
всего тела куется в кузнице нашего желудка.
430
Будь умерен в питье из тех соображений, что человек, выпив-
ший лишнее, не хранит тайн и не исполняет обещаний...
Спи умеренно: кто не встает вместе с солнцем, тот не знает
радостей дня: прими в соображение, Санчо, что расторопность есть
мать удачи, врагиня же ее, леность, всегда препятствует достиже-
нию благой цели...
Вот пока и все, о чем мне пришло в голову поговорить с
тобою, Санчо...
Глава XXXV.
О том, как премудрый Санчо Панса вступил во владение своим
островом и как он начал им управлять
...Итак, Санчо выехал; его окружала многочисленная свита,
на нем был костюм, какой носят важные судейские, верхняя одеж-
да, весьма широкая, была сшита из рыжеватого с разводами кам-
лота, а на голове у него красовалась такой же материи шапочка;
восседал он на муле, а за мулом, по особому распоряжению герцо-
га, шел серый в новенькой шелковой сбруе и соответствующих
ослиному его званию украшениях. Время от времени Санчо огляды-
вался на осла, общество которого доставляло ему такое большое
удовольствие, что он не поменялся бы местами с самим импера-
тором германским. Прощаясь с герцогом и герцогинею, он поцело-
вал им руки, а затем попросил своего господина благословить его,
и тот благословил его со слезами. Санчо же принял его благосло-
вение, вот-вот готовый расплакаться.
В конце концов он со всею своею свитою прибыл в городок,
насчитывавший до тысячи жителей и являвшийся одним из лучших
владений герцога. Санчо Пансе сообщили, что остров называется
Баратария1: может быть, название это было образовано от назва-
ния городка, а быть может, оно намекало на то, что губернаторство
досталось Санчо Пансе дешево. Как скоро губернатор со свитою
приблизился к воротам обнесенного стеною города, навстречу вы-
шли местные власти, зазвонили колокола, жители, единодушно
изъявлявшие свой восторг, с великою торжественностью повели
Санчо в собор, и там было совершено благодарственное молебст-
вие, а засим с уморительными церемониями вручили ему ключи от
города и объявили его пожизненным губернатором острова Бара-
тария. Одеяние, борода, брюшко и низкорослость нового губерна-
1 Баратйрия — от испанского слова barato — дешевый.
431
тора приводили в изумление не только тех, кто понятия не имел,
в чем здесь загвоздка, но даже и людей, осведомленных обо всем,
а таких было множество. Наконец из собора Санчо Пансу провели
в судебную палату, усадили в кресло, и тут герцогский домоправи-
тель сказал:
— На нашем острове, сеньор губернатор, издревле ведется
обычай: кто вступает во владение славным этим островом, тому
задают некоторые вопросы, иногда довольно запутанные и труд-
ные, он же обязан на них ответить, и по его ответам горожане со-
ставляют себе мнение о сметливости нового своего губернатора и
радуются его прибытию или же, напротив, приунывают.
Пока домоправитель это говорил, Санчо занимался рассматри-
ванием длинной надписи, выведенной крупными буквами на стене
прямо против кресла; а так как он читать не умел, то спросил, что
это там намалевано. Ему ответили следующим образом:
— Сеньор, там записан и отмечен день, когда ваше превосходи-
тельство изволило вступить во владение островом, а гласит эта
надпись следующее: «Сегодня такого-то числа, месяца и года,
вступил во владение этим островом сеньор дон Санчо Панса, мно-
гие ему лета».
— А кого это зовут дон Санчо Панса? — спросил Санчо.
— Вас, ваше превосходительство,— отвечал домоправитель,—
ибо на наш остров не прибыло никакого другого Пансы,
кроме того, Который сейчас восседает на этом кресле.
— Ну, так запомни, братец,— объявил Санчо,— что я не дон
и никто в моем роду не был доном: меня зовут просто Санчо Пан-
сою, и отца моего звали Санчо, и Санчо был мой дед, и все были
Панса, безо всяких этих донов да распродонов. И мне сдается, что
на вашем острове донов куда больше, чем камней. Ну да ладно,
господь меня разумеет, и, если только мне удастся погубернаторст-
вовать хотя бы несколько дней, я всех этих донов повыведу: коли
их тут такая гибель, то они, уж верно, надоели всем хуже комаров...
В это время в судебную палату вошли... два старика: одному из
них трость заменяла посох, другой же, совсем без посоха, повел
такую речь:
— Сеньор, я дал взаймы этому человеку десять золотых, ибо
хотел уважить покорнейшую его просьбу, с условием, однако ж,
что он мне их возвратит по первому требованию. Время идет, а я у
него долга не требую: боюсь поставить его этим в еще более за-
труднительное положение, нежели в каком он находился, когда у
432
меня занимал. Наконец вижу, что он и не собирается платить долг,
ну и стал ему напоминать, а он мало того, что не возвращает, но
еще и отпирается — говорит, будто никогда я ему этих десяти эс-
кудо взаймы не давал, а если, дескать, и был такой случай, то он
мне их давным-давно возвратил. У меня нет свидетелей ни займа,
ни отдачи, да и не думал он отдавать мне долг. Нельзя ли,
ваша милость, привести его к присяге? И вот если он и под при-
сягой скажет, что отдал мне деньги, то я его прощу немедленно,
вот здесь, перед лицом господа бога.
— Что ты на это скажешь. Старикан с посохом? — спросил
Санчо.
Старик же ему ответил так:
— Сеньор, я признаю, что он дал мне взаймы эту сумму,—
опустите жезл, ваша милость, пониже,— и коли он полагается на
мою клятву, то я клянусь в том, что воистину и вправду возвра-
тил и уплатил ему долг.
Губернатор опустил жезл, после чего старик с посохом попро-
сил другого старика подержать посох, пока он будет приносить
присягу, как будто бы посох ему очень мешал, а затем положил
руку на крест губернаторского жезла и объявил, что ему, точно,
ссудили десять эскудо, ныне с него взыскиваемые, но что он их пе-
редал заимодавцу из рук в руки, заимодавец же, мол, по ошибке
несколько раз потом требовал долг. Тогда великий губернатор
спросил заимодавца, что тот имеет возразить противной стороне, а
заимодавец сказал, что должник, вне всякого сомнения, говорит
правду, ибо он, заимодавец, почитает его за человека порядочного
и за доброго христианина, что, по-видимому, он запамятовал,
когда и как тот возвратил ему десять эскудо, и что больше он их
у него не потребует. Должник взял свой посох и, отвесив поклон,
направился к выходу; тогда Санчо, видя, что должник как ни в чем
не бывало удаляется, а истец покорно на это смотрит, опустил го-
лову на грудь и, приставив указательный палец правой руки к бро-
вям и переносице, погрузился в раздумье, но очень скоро поднял
голову и велел вернуть старика с посохом, который уже успел
выйти из судебной палаты. Старика привели. Санчо же, увидев его.
сказал:
— Дай-ка мне, добрый человек, твой посох, он мне нужен.
— С великим удовольствием,— сказал старик,— нате, сеньор.
И он отдал ему посох. Санчо взял посох, передал его другому
старику и сказал:
433
— Ступай с богом, тебе заплачено.
— Как так, сеньор? — спросил старик.— Разве эта палка стоит
десять золотых?
— Стоит,— отвечал губернатор,— а если не стоит, значит, глу-
пее меня никого на свете нет. Сейчас вы увидите, гожусь я управ-
лять целым королевством или не гожусь.
И тут он велел на глазах у всех сломать и расколоть трость.
Как сказано, так и сделано, и внутри оказалось десять золотых.
Все пришли в изумление... Наконец старик устыженный и старик
удовлетворенный вышли из судебной палаты, оставшиеся были
изумлены, тот же, кому было поручено записывать слова, действия
и движения Санчо, все еще не мог решить: признавать и почи-
тать Санчо за дурака или же за умника.
Глава XLII.
О том, что случилось с Дон Кихотом на пути в Барселону
Их светлости с самого начала не раскаивались, что сыграли
шутку с Санчо Пансой, дав ему погубернаторствовать; когда же
к ним в тот самый день явился домоправитель и обстоятельней-
шим образом доложил почти обо всех словах и поступках, сказан-
ных и совершенных губернатором за эти дни, а в заключение живо-
писал набег неприятельских войск, испуг Санчо и его отъезд, то
они получили от всего этого немалое удовольствие.
Дон Кихот между тем начинал тяготиться той праздною
жизнью, какую он вел в замке; он полагал, что с его стороны это
большой грех — предаваясь лени и бездействуя, проводить дни в
бесконечных пирах и развлечениях, которые для него, как для
странствующего рыцаря, устраивались хозяевами, и склонен был
думать, что за бездействие и праздность господь с него строго
взыщет,— вот почему в один прекрасный день он попросил у их
светлостей позволения уехать. Их светлости позволили, не преми-
нув, однако ж, выразить глубокое свое сожаление по поводу его
отъезда...
...Простившись с их светлостями, рано утром, облаченный в
доспехи, появился [Дон Кихот] на площади перед замком. С га-
лереи на него глазели все обитатели замка; герцог и герцогиня так-
же вышли на него посмотреть. Санчо восседал на своем сером,
при нем находились его дорожная сума, чемодан и съестные при-
пасы, и был он рад-радехонек, оттого что герцогский домоправи-
434
тель вручил ему кошелек с двумя сотнями золотых на путевые
издержки.
Учтиво поклонившись герцогу с герцогиней, а равно и всем
присутствующим, Дон Кихот поворотил Росинанта и, сопровож-
даемый Санчо верхом на осле, выехал за ворота замка. И как
скоро он выехал в открытое поле, то почувствовал себя в своей сти-
хии, почувствовал, что у него вновь явились душевные силы для
того, чтобы продолжать дело рыцарства, и тут он повернулся ли-
цом к Санчо и сказал:
— Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот,
которые небо изливает на людей: с нею не могут сравниться ни-
какие сокровища — ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что со-
крыты на дне морском. Ради свободы, так же точно, как и ради
чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя
есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться
с человеком...
Глава XLIV,
повествующая о приключении, которое принесло Дон Кихоту
больше горя, нежели все, какие до сих пор у него были
Однажды утром Дон Кихот, облаченный во все свои доспехи,
ибо он любил повторять, что его наряд — это его доспехи, а в лю-
той битве — его покой, и оттого не расставался с ними ни на мгно-
вение, выехал прогуляться по набережной и вдруг увидел, что на-
встречу ему едет рыцарь, вооруженный, как он, с головы до ног,
при этом на щите у него была нарисована сияющая луна; прибли-
зившись на такое расстояние, откуда его должно быть слышно,
рыцарь возвысил голос и обратился к Дон Кихоту с такой речью:
— Преславный и еще недостаточно оцененный рыцарь Дон
Кихот Ламанчский! Я тот самый Рыцарь Белой Луны, коего бес-
примерные деяния, уж верно, тебе памятны. Я намерен сразиться
с тобою и испытать мощь твоих дланей1, дабы ты признал 'и под-
твердил, что моя госпожа, кто бы она ни была, бесконечно прекрас-
нее твоей Дульсинеи Тобосской, и если ты открыто в этом призна-
ешься, то себя самого избавишь от смерти, меня же — от труда
умерщвлять тебя. Если же ты пожелаешь со мною биться и я тебя
одолею, то в виде удовлетворения потребую лишь, чтобы ты сло-
1 Длань рука.
435
жил оружие и, отказавшись от дальнейших поисков приключений,
удалился и уединился в родное свое село сроком на один год и, не
притрагиваясь к мечу, стал проводить свои дни в мирной тишине и
благодетельном спокойствии... Буде же ты меня одолеешь, то в
этом случае ты волен отсечь мне голову, доспехи мои и конь доста-
нутся тебе, слава же о моих подвигах прибавится к твоей славе.
Итак, выбирай любое и с ответом не медли, потому что я намерен
нынче же с этим делом покончить.
Дон Кихот был поражен и озадачен как дерзким тоном Рыцаря
Белой Луны, так и причиною вызова, и он строго, впрочем сохра-
няя наружное спокойствие, ему ответил:
— Рыцарь Белой Луны, о подвигах ваших я доселе не был на-
слышан, и я готов поклясться, что вы никогда не видели сиятель-
нейшую Дульсинею Тобосскую: я уверен, что если б вы ее видели,
то воздержались бы от подобного вызова, ибо... не было и не мо-
жет быть на свете красавицы, которая сравнилась бы с Дульси-
неей. Поэтому я не стану говорить, что вы лжете, а скажу, что вы
заблуждаетесь; вызов же, который вы мне сделали, я на указан-
ных вами условиях принимаю и предлагаю сразиться сей же час, не
откладывая до другого дня. Единственно, на что я не могу со-
гласиться,— это чтобы слава о ваших подвигах перешла ко мне,
ибо мне неизвестно, каковы они и что они собой представляют;
с меня довольно моих, каковы бы они ни были. Выбирайте же себе
любое место на поле битвы, я выберу себе, а там что господь даст.
В городе уже заметили Рыцаря Белой Луны и уведомили вице-
короля1 как о самом рыцаре, так и о том, что он вступил в разговор
с Дон Кихотом Ламанчским. Вице-король вместе с доном Антоньо
и множеством других кавальеро поспешил на набережную и при-
был туда как раз в ту минуту, когда Дон Кихот поворачивал Роси-
нанта, чтобы взять разбег. Увидев, что всадники вот-вот налетят
друг на друга, вице-король встал между ними и спросил, что за
причина столь внезапной битвы. Рыцарь Белой Луны ответил,
что спор у них зашел о том, кто первая красавица в мире, и, вкрат-
це повторив все то, о чем он уже говорил Дон Кихоту, перечислил
условия поединка, принятые обеими сторонами. Вице-король при-
близился к дону Антоньо и тихо спросил, знает ли он, кто таков
Рыцарь Белой Луны, и не намерен ли он подшутить над Дон Кихо-
том. Дон Антоньо ему ответил, что рыцаря он не знает и не знает
1 Вице-король — наместник испанского короля в Каталонии.
436
также, в шутку или по-настоящему вызывает он Дон Кихота на
поединок. Ответ дона Антоньо привел вице-короля в замешатель-
ство, и он колебался, позволить или воспретить единоборство;
и все же он не мог допустить мысли, что это не шуточный поединок,
а потому отъехал в сторону и сказал:
— Сеньоры кавйльеро, коль скоро у каждого из вас нет иного
выхода, кроме как признать правоту своего противника или же
умереть, между тем сеньор Дон Кихот продолжает стоять на своем,
а ваша милость, Рыцарь Белой Луны, на своем, то начинайте с
богом.
Рыцарь Белой Луны в изысканных и остроумных выражениях
поблагодарил вице-короля за то, что он им позволил сразиться,
и с такою же речью обратился к вице-королю Дон Кихот. Затем,
всецело отдавшись под покровительство сил небесных, а равно и
под покровительство Дульсинеи (как он это имел обыкновение
делать перед началом всякого боя), Дон Кихот снова взял неболь-
шой разбег, ибо заметил, что его противник также берет разгон,
после чего, без трубного звука и без какого-либо другого сигнала к
бою, рыцари одновременно поворотили коней и ринулись навстре-
чу друг другу. Но конь Рыцаря Белой Луны оказался проворнее и
успел пробежать две трети разделявшего их расстояния, и тут Ры-
царь Белой Луны, не пуская в ход копья (которое он, видимо, на-
рочно поднял вверх), с такой бешеной силой налетел на Дон Кихо-
та, что тот вместе с Росинантом совершил рискованное падение.
Рыцарь Белой Луны мгновенно очутился подле него и, приставив к
его забралу копье, молвил:
— Вы побеждены, рыцарь, и вы умрете, если не пожелаете
соблюсти условия нашего поединка.
Дон Кихот, ушибленный и оглушенный падением, не поднимая
забрала, голосом слабым и глухим, как бы доносившимся из под-
земелья, произнес:
— Дульсинея Тобосская — самая прекрасная женщина в ми-
ре, я же самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не
может поколебать эту истину. Вонзай же копье свое, рыцарь, и
отними у меня жизнь, ибо честь ты у меня уже отнял.
— Ни в коем случае,— объявил Рыцарь Белой Луны,— пусть
все так же идет по миру слава о красоте сеньоры Дульсинеи Тобос-
ской. Я удовлетворюсь тем, что досточтимый Дон Кихот уда-
лится в свое имение на год,— словом, впредь до особого моего
распоряжения, о чем у нас было условлено перед началом
схватки. ,Ч7
Все это слышали вице-король, дон Антоньо и многие другие,
при сем присутствовавшие, и слышали они также ответ Дон Ки-
хота, который объявил, что коль скоро ничего оскорбительного для
Дульсинеи с него не требуют, то он, будучи рыцарем добросовест-
ным и честным, все остальное готов исполнить. Выслушав это при-
знание, Рыцарь Белой Луны поворотил коня и, поклонившись ви-
це-королю, поскакал коротким галопом в город.
Вице-король попросил дона Антоньо поехать за ним и во что бы
то ни стало допытаться, кто он таков. Дон Кихота подхватили на
руки, и когда подняли ему забрало, то все увидели его бледное и
покрытое потом лицо. Росинант же пребывал в столь жалком со-
стоянии, что всё еще не мог сдвинуться с места. Санчо, опечален-
ный и удрученный, не знал, что сказать и как поступить; у него бы-
ло такое чувство, будто все это происходит во сне и словно все это
сплошная чертовщина. На глазах Санчо его господин признал себя
побежденным и обязался в течение целого года не браться за ору-
жие, и казалось Санчо, что слава о великих подвигах Дон Кихота
меркнет... Он боялся, не повреждены ли кости у Росинанта, и еще
он боялся, что у его господина прошло повреждение ума (а между
тем какое это было бы счастье!). В конце концов Дон Кихота по-
несли в город на носилках, которые были сюда доставлены по при-
казу вице-короля, а за ним последовал и вице-король, ибо ему
любопытно было знать, кто такой Рыцарь Белой Луны, который
столь безжалостно поступил с Дон Кихотом.
Глава XLV,
в коей сообщается о том, кто был Рыцарь Белой Луны
Дон Антоньо Морено поехал следом за Рыцарем Белой Луны,
и еще следовали за ним гурьбою и, можно сказать, преследовали
его мальчишки до тех пор, пока он не укрылся в одной из городских
гостиниц. Побуждаемый желанием с ним познакомиться, дон Ан-
тоньо туда вошел. Рыцаря встретил слуга, чтобы снять с него до-
спехи; рыцарь прошел в залу, а за ним — дон Антоньо, которого
подмывало узнать, что же это за человек. Заметив, что кавальеро
от него не отстает, Рыцарь Белой Луны обратился к нему с такими
словами:
— Я вижу, сеньор, что вы пришли узнать, кто я таков, а так как
мне скрываться не для чего, то пока слуга будет снимать с меня до-
спехи, я вам рассажу все без утайки. Да будет вам известно.
438
сеньор, что я бакалавр Самсон Карраско, односельчанин Дон Ки-
хота Ламанчского, коего помешательство и слабоумие вызывают
сожаление у всех его знакомых, и к числу тех, кто особенно о нем
сокрушается, принадлежу я. Полагая же, что залог его выздоров-
ления — покой и что ему необходимо пожить на родине и у себя
дома, я придумал способ, как принудить его возвратиться. И вот
месяца три тому назад, переодевшись странствующим рыцарем и
назвавшись Рыцарем Зеркал, я настиг его по дороге: у меня
было намерение сразиться с ним и, не причинив ему ни малейшего
вреда, одолеть; при этом я предполагал биться на таких условиях,
что побежденный сдается на милость победителя, а потребовать я
с него хотел... чтобы он возвратился в родное село и никуда оттуда
не выезжал в течение года, а за это время он, мол, поправится. Од-
нако ж судьба распорядилась иначе, то есть одолел не я, а он,— он
вышиб меня из седла, и таким образом замысел мой не был при-
веден в исполнение: он поехал дальше, а я, побежденный, посрам-
ленный, оглушенный падением, которое, должно заметить, могло
дурно для меня кончиться, возвратился восвояси. И все же у меня
не пропала охота снова его разыскать и одолеть, чего мне и уда-
лось достигнуть сегодня у вас на глазах. А так как он строго при-
держивается законов странствующего рыцарства, то, разумеется,
во исполнение данного им слова не преминет подчиниться моему
требованию. Вот, сеньор, и все, больше мне вам сказать нечего, но
только я вас прошу: не выдавайте меня, не говорите Дон Кихоту,
кто я таков, иначе не осуществится доброе мое намерение воз-
вратить рассудок человеку, который так умеет здраво рассуждать,
когда дело не касается всей этой рыцарской гили1.
— Ах, сеньор! — воскликнул дон Антоньо.— Да простит вас
бог за то, что вы наносите столь великий урон всему миру, стремясь
образумить забавнейшего безумца на свете...
Карраско на это сказал, что дело его, несомненно, идет на лад
и что он твердо верит в благоприятный его исход. Дон Антоньо
объявил, что он всегда к его услугам, после чего они распроща-
лись, и Самсон Карраско, велев навьючить свои доспехи на мула и
не задерживаясь долее ни минуты, на том самом коне, что участво-
вал в битве с Дон Кихотом, выехал из города и прибыл в родные
края, причем в пути с ним не произошло ничего такого, о чем следо-
вало бы упомянуть на страницах правдивой этой истории. Дон
1 Гиль — вздор, чепуха.
439
Антоньо передал вице-королю все, что ему рассказал Карраско, от
чего вице-король в восторг не пришел, ибо он полагал, что удале-
ние Дон Кихота на покой лишит удовольствия всех, кто имел воз-
можность получать сведения о его безумствах.
Дон Кихот, ослабевший, унылый, задумчивый и мрачный, про-
лежал в постели шесть дней, и все это время его неотступно пре-
следовала мысль о злополучной этой битве, кончившейся его пора-
жением. Санчо сколько мог его утешал и, между прочим, сказал
ему следующее:
— Выше голову, сударь мой, постарайтесь рассеяться и воз-
благодарите господа бога за то, что, сверзившись с коня, вы ни
одного ребра себе не сломали. Известно, что где дают, там же и
бьют, дом с виду — полная чаша, а зайдешь — хоть шаром покати.
Так вот, стало быть, наплюйте на всех лекарей, потому никакого
лекаря для вашей болезни не требуется, и поедемте домой,
а поиски приключений в неведомых краях и незнакомых местах да-
вайте-ка бросим. И ежели вдуматься, то больше всего на этом деле
пострадал я, хотя, впрочем, досталось больше вашей милости. Ког-
да я покинул свое губернаторство, то у меня пропала всякая охота
еще когда-нибудь губернаторствовать, но зато меня не покинуло
желание стать графом, а ведь этому уж не бывать, потому что ва-
ша милость покидает рыцарское поприще, а значит, вам уж не бы-
вать королем: вот и выходит, что надеждам моим, как видно, не
сбыться.
— Оставь, Санчо! Ведь тебе же известно, что мое заточение и
затворничество продлится не более года, а затем я снова возвра-
щусь к моему почтенному занятию и не премину добыть себе коро-
левство, а тебе графство.
— В добрый час сказать, в худой помолчать,— заметил Сан-
чо.— Мне частенько приходилось слышать, что лучше на что-
нибудь хорошее надеяться, чем иметь в руках что-нибудь дрянное.
Дон Кихот все никак не мог оправиться после своего падения,
а потому он и Санчо выехали из города только спустя несколько
дней: Дон Кихот — без оружия, в дорожном одеянии, а Санчо —
пешком, оттого что на серого навьючены были доспехи.
/6/5 г.
Перевод с испанского Н. Любимова
440
И. С. ТУРГЕНЕВ И М. ГОРЬКИЙ
О «ДОН КИХОТЕ»
В 1847 году, после того как Тургенев приступил к изучению
испанского языка, «Дон Кихот» стал одной из его любимейших
книг (он даже хотел перевести ее на русский язык).,. Тургенев
писал, что «жить для себя, заботиться о себе Дон Кихот почел бы
постыдным. Он весь живет (если можно так выразиться) вне себя,
для других, для братьев, для истребления зла, для противодейст-
вия враждебным человечеству силам — волшебникам, велика-
нам — то есть притеснителям». При этом Тургенев отказывался
видеть в донкихотстве всего лишь нелепость, он обнаруживал в
донкихотстве высокое начало самопожертвования... Давая свою
характеристику Дон Кихота, Тургенев видит и слабость этого ге-
роя, заключающуюся в склонности к самообольщению. Но эта
склонность ведь помогает Дон Кихоту сохранить свой энтузиазм.
Да разве была бы возможна свойственная Дон Кихоту вера в доб-
ро и справедливость, не будь он при этом столь смешно довер-
чив и наивно простодушен? И для Тургенева смешные стороны
в Дон Кихоте не подавляют величия духа и непреклонности воли,
верности убеждению и нравственной крепости...
Неуемная жажда справедливости, мятежная непримиримость
к злу — вот что привлекло в Дон Кихоте основоположника совет-
ской литературы М. Горького, чьи высказывания о романе Серван-
теса, перекликающиеся с высказываниями корифеев русского ис-
кусства XIX века, помогают нам, людям XX века, выразить наше
современное отношение к рыцарю из Ламанчи... Горький относит
Дон Кихота к числу «изумительно выдуманных образов», помога-
ющих понять, что «человек значит неизмеримо больше того, что он
сам думает о себе». Поэтому в устах Горького вполне естественно
прозвучала мысль, что назвать человека Дон Кихотом — это зна-
чит сказать о нем самое лучшее, что может быть сказано о чело-
веке.
(Из книги Н. Снетковой «„Дон Кихот" Сервантеса».)
Вопросы и задания
I. О каком времени, каких героях и событиях рассказывает Сервантес в книге
о Дон Кихоте Ламанчском?
2. О чем мечтал Дон Кнхот. отправляясь в странствия?
441
3. Что побудило Санчо Пансу стать оруженосцем Дон Кихота и отправиться с
ним на поиски приключений?
4. Какие рыцарские подвиги совершил Дон Кихот? Расскажите об одном из
них. Как вы думаете, почему не осуществились благородные стремления и добрые
намерения Дон Кихота?
5. Прочитайте диалог Дон Кихота с духовником герцога, передавая в чтении
характер их взаимоотношений. Кто из них, по-вашему, прав? Почему?
6. Какие советы давал Дон Кихот Санчо Пансе? Как они характеризуют
самого Дон Кихота?
7. Каким образом Санчо Панса стал губернатором и как действовал в труд-
ных и сложных обстоятельствах?
8. Расскажите о поединке между Дон Кихотом и Рыцарем Белой Луны.
Как вы относитесь к его участникам и зрителям? Какие душевные качества
Дои Кихота раскрываются в этом эпизоде?
9. Кто из героев романа сочувствует Дон Кихоту, а кто относится к нему
враждебно и смеется над ним? Объясните, в чем причина такого отношения
окружающих к Дон Кихоту.
10. В каких случаях говорят: «битва с ветряными мельницами»?
II. Почему Сервантес называет Дон Кихота «хитроумным идальго», «слав-
ным идальго», «доблестным и добрым рыцарем»?
12 Составьте устный рассказ на одну из тем: «Благородный рыцарь Дон
Кихот», «Дон Кихот и его верный оруженосец».
13. Что более всего ценили в Дон Кихоте Тургенев и Горький? Какие чувства
у вас вызывает Дон Кихот?
14. Рассмотрите иллюстрации художника Г. Доре и подберите из текста
романа подписи к ним. Какие особенности героев (их внешность, характеры,
взаимоотношения) .передал художник? Какие иллюстрации других художников вам
известны? Какие из них нравятся? Почему?
15. Какие диафильмы и кинофильмы о Дон Кихоте и его авторе вы видели?
Насколько верно, по-вашему, переданы в них внешний облик и характеры героев
романа?
16. Какие герои прочитанных вами книг близки Дон Кихоту? Что общего
между ними? Встречали ли вы в жизни людей, похожих на Дон Кихота?
Книги для внеклассного чтения:
Ч. Диккенс. Приключения Оливера Твиста.
Ш. де Косте р. Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке.
Ф. Купер. Последний из Могикан.
Д. Лондон. Белый клык. Мексиканец.
Т. М а й н Рид. Всадник без головы.
Д. Олдридж. Последний дюйм.
В. Скотт. Квентин Дорвард.
Р. Стивенсон. Остров сокровищ.
М. Твен. Янки при дворе короля Артура.
Г. Уэллс. Человек-невидимка.
442
Вопросы и задания для повторения
1. Советский скульптор С. Т. Коненков писал: «Все замечательные произве-
дения искусства помогают человеку жить и бороться, лучше и глубже понимать
природу и жизнь. Они возбуждают высокую гордость за великих предков и за тех,
кто с нами сегодня в одном строю. Искусство, как надежный поводырь1, ведет
нас к вершинам человеческого духа, делает более зоркими, чуткими и благородными.
Подлинная красота искусства вечно живет в памяти народов и поколений...»
Объясните смысл сопоставления искусства с надежным и верным поводырем.
Перечитайте вступление к хрестоматии «Умные и верные друзья» и сравните его
с высказыванием С. Т. Коненкова. Что сближает эти высказывания?
2. Какие произведения из прочитанных в классе вы отнесете к эпическим, а
какие к лирическим? Почему?
3. Назовите элементы сюжета. Найдите кульминационные события в рассказе
«Русский характер». Какое они имеют значение для характеристики действующих
лиц? В чем особенность композиции этого рассказа?
4. Какие художественные произведения, прочитанные на уроках и во внеклас-
сное время, вас особенно заинтересовали? Об одном из них расскажите. Поду-
майте, что взволиовало вас во время чтения (тема, герои, их взаимоотношении,
события, описания природы, обстановки, авторская позиция, идея произведения).
Какие идейно-нравственные проблемы произведения близки современности и тре-
буют коллективного обсуждения? В чем, по-вашему, ценность этого произведения?
1 Поводырь — человек, который водит кого-либо, сопровождает.
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Амфибрахий — см. с. 153—154.
Анапест — см. с. 154.
Басня — небольшой поучительный рассказ в прозе или стихах
с иносказательным смыслом.
Былйна — героическая песня, произведение устной народной
поэзии о русских богатырях.
Вид (жанр) — см. с. 106.
Гипербола — сильное преувеличение свойств изображаемого
предмета.
Дактиль — см. с. 153—154.
Диалог — разговор двух или нескольких лиц в произведении.
Драматические произведёния — см. с. 107.
Завязка — событие, с которого начинается развитие действия
в художественном произведении.
Иносказание — выражение, содержащее иной, скрытый смысл
(аллегория).
Композйция — см. с. 283—284.
Кульминация — момент наивысшего напряжения в развитии
действия художественного произведения.
Дирйческие произведёния — см. с. 106.
Метафора — см. с. 15—16.
Монолог — речь одного действующего лица в литературном
произведении.
Олицетворёние — такое изображение, когда неодушевленные
предметы, явления природы наделяются свойствами живого
существа, даром речи, способностью мыслить и чувствовать.
Прототип — реальное лицо, характер и судьба которого
послужили писателю основой для создания литературного героя.
Псевдонйм — вымышленное, ложное имя или знак, под кото-
рым писатель издает свое произведение.
Пейзаж — картина природы в художественном произведении.
Повесть — эпическое произведение, в котором, в отличие от
рассказа, изображается не одно, а ряд событий из жизни челове-
ка, больше действующих лиц, шире и подробней показана жизнь.
Портрёт — изображение внешности героя: его лица, фигуры,
одежды, манеры держаться. В портрете отражаются характер
и внутренний мир героя, его положение в обществе, авторская
оценка.
444
Поэма — стихотворно-сюжетное повествование, рассказ или
повесть в стихах.
Развязка — событие, которым завершается развитие действия
в художественном произведении.
Рассказ — небольшое эпическое произведение, обычно по-
священное отдельному событию в жизни человека (героя).
Ритм — см. с. 23.
Рифма — см. с. 289.
Роман — большое эпическое произведение, которое отражает
обширный круг жизненных явлений, охватывает судьбы ряда
действующих лиц.
Сатйра — гневное осуждение и беспощадное высмеивание
пороков общественной и личной жизни.
Сатирический — обличительный, исполненный злой насмешки.
Сказка — произведение в прозе или в стихах, в котором
речь идет о событиях фантастического характера. Сказка, сочи-
ненная писателем, называется ’литературной.
Сравнение — выразительное средство языка, с помощью кото-
рого происходит сопоставление одного предмета или явления
с другим, имеющим с ним общие признаки.
Стопа — см. с. 23.
Строфа — см. с. 290.
Сюжет — ряд связанных между собой и последовательно
развивающихся (от завязки до развязки) жизненных событий,
составляющих основу эпических и драматических произведений.
Характер литературный — см. с. 91—92.
Хорей — см. с. 23.
Экспозиция — вступительная, исходная часть сюжета. Изо-
бражение общественной среды и жизненных обстоятельств, в ко-
торых действуют герои. Экспозиция не влияет на развитие дейст-
вия.
Эпйтет — слово, определяющее предмет или явление, выра-
жающее чувства писателя и его отношение к изображаемому.
Эпические произведения (эпос) — см. с. 106.
Юмор — изображение смешного в жизни людей и общества.
Ямб — см. с. 24.
СОДЕРЖАНИЕ
К. Паустовский. Умные и верные друзья . 3
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Александр Сергеевич Пушкин ... 6
Узник................................................. 10
Полтавский бой (из поэмы «Полтава») . ..11
Обвал 14
Туча ...................... ... . 15
Об изобразительных средствах языка. Метафора —
Михаил Юрьевич Лермонтов 17
Тучи.................................................. 20
«Протай, немытая Россия...» . —
Кинжал 21
«Горные вершины...».................................... —
Утес . .................... ... ___
«На севере диком стоит одиноко...».................... 22
Что такое стихи. Двусложные размеры стиха ___
Николай Васильевич Гоголь . 25
Тарас Бульба, (в сокращении) ........................ 28
О повести «Тарас Бульба».............................. 90
Характер литературного героя . . . 91
Тарас Григорьевич Шевченко . ............. . 94
И вырос я в чужом краю . 102
Завещание 103
Сам удивляюсь. Кто ответит 104
Мне золотую, дорогую . 105
Я, чтоб не сглазить, не хвораю . —
О родах художественной литературы . . 106
Иван Сергеевич Тургенев .... 108
Русский язык 110
Бежин луг .......... ................
Николай Алексеевич Некрасов.......................... 131
Мороз, Красный нос . ............ ... 134
О трехсложных размерах стиха...................... 152
446
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин . . 155
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил 157
О смешном в литературном произведении . . . . . 167
Антон Павлович Чехов 170
Хамелеон 171
ИЗ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Алексей Максимович Горький.......................... 178
Детство (избранные главы) . . . 181
Дмитрий Андреевич Фурманов 227
Чапаев (избранные эпизоды) .... 228
О Борисе Бабочкине, исполнителе главной роли в фильме
«Чапаев» . . ........... 252
Михаил Александрович Шолохов . ................254
Нахаленок (в сокращении) ... 256
Композиция литературного произведения.............283
Николай Алексеевич Заболоцкий 285
Ходоки . . . 286
О рифме . 289
О строфе . . . 290
Аркадий Петрович Гайдар . . .......... 291
Автобиография....................................... —
Школа (избранные главы)................ . . 294
Эдуард Георгиевич Багрицкий . 367
Смерть пионерки 370
Э. Г. Багрицкий о своем стихотворении «Смерть пио-
нерки» . ............373
Алексей Николаевич Толстой . 374
Русский характер 375
Евгений Иванович Носов . 383
В чистом поле за проселком . 385
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Мигель де Сервантес Сааведра.........................401
Хитроумный идальго Дон Кнхот Ламанчский (избранные
главы) . .......... ... 404
И. С. Тургенев н М. Горький о Дон Кихоте . .441
Краткий словарь литературоведческих терминов . 444
447
Учебное издание
Майя Андреевна Сиежиевская,
Прасковья Андреевна Шевченко,
Тамара Федоровна Курдюмова,
Вера Яновна Коровина
РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Учебник-хрестоматия
для 7 класса
Заведующий редакцией В. П. Журавлев.
Редакторы Л. Б. Миронова, Л. И. Фартышева.
Художник Б. Л. Рытман.
Художественный редактор Н. М. Ременникова.
Технический редактор Е. С. Юрова.
Корректоры Л. С. Вайтман, Т. В. Воробьева
ИБ № 13165
Подписано и печати с диапозитивов 12.12.69 г. А 05782. Формат 60X90'/i6- Бум. оф-
сетная № 2. Гарнит. Литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 28+0.5 вил.+
+ 0,25 форз. Усл. кр.-отт. 31,25. Уч.-изд. л. 24,98+ 0,43 вкл. +0,42 форз. Тираж
1480000 (1 завод I—880000) экз. Заказ № 2348. Цена 85 к Цена с припрессовкой
пленки 95 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государствен-
ного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи. 41.
Смоленский поли граф комбинат Госкомиздата РСФСР. 214020, Смоленск,
ул. Смольянинова, I.