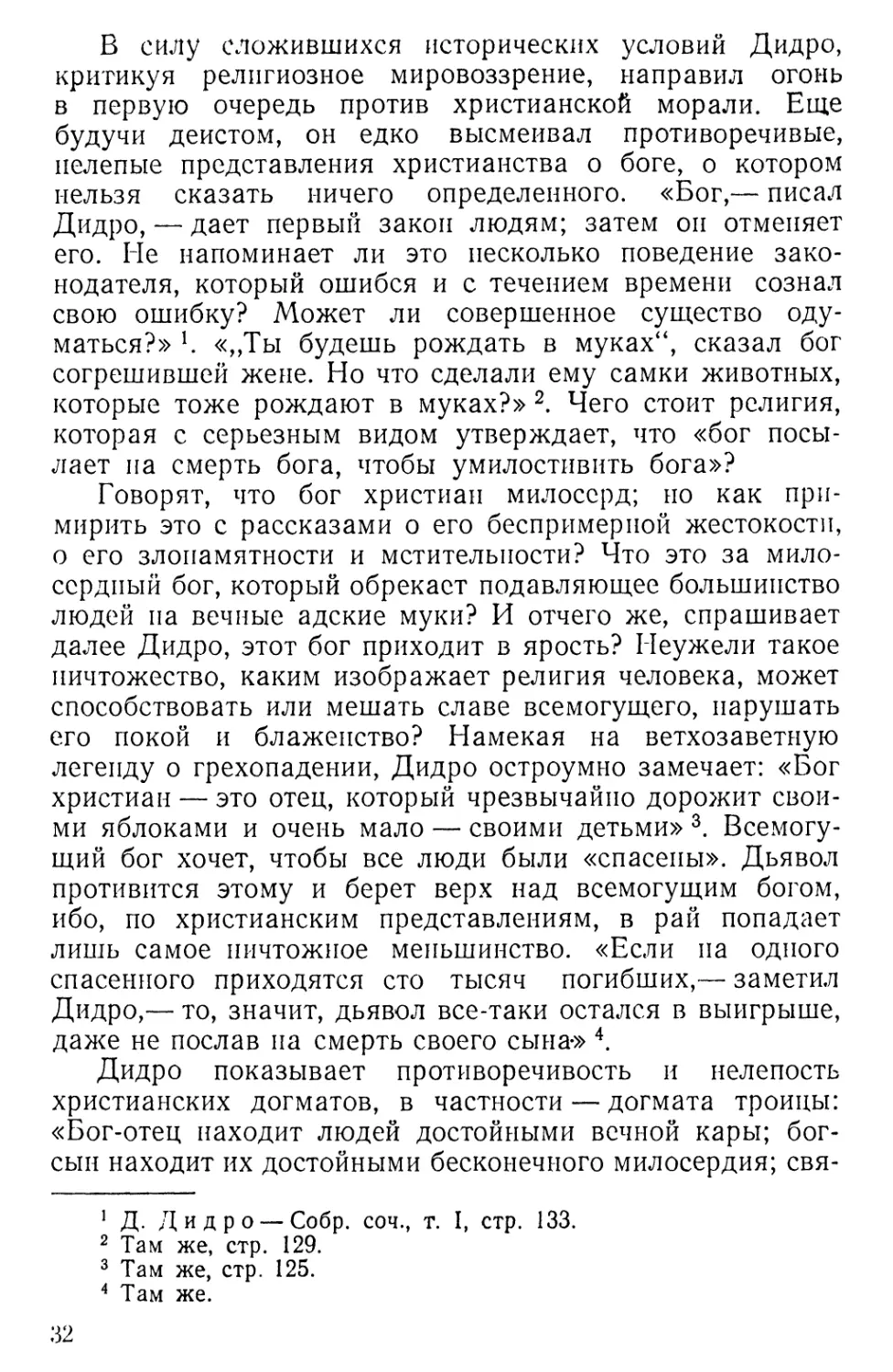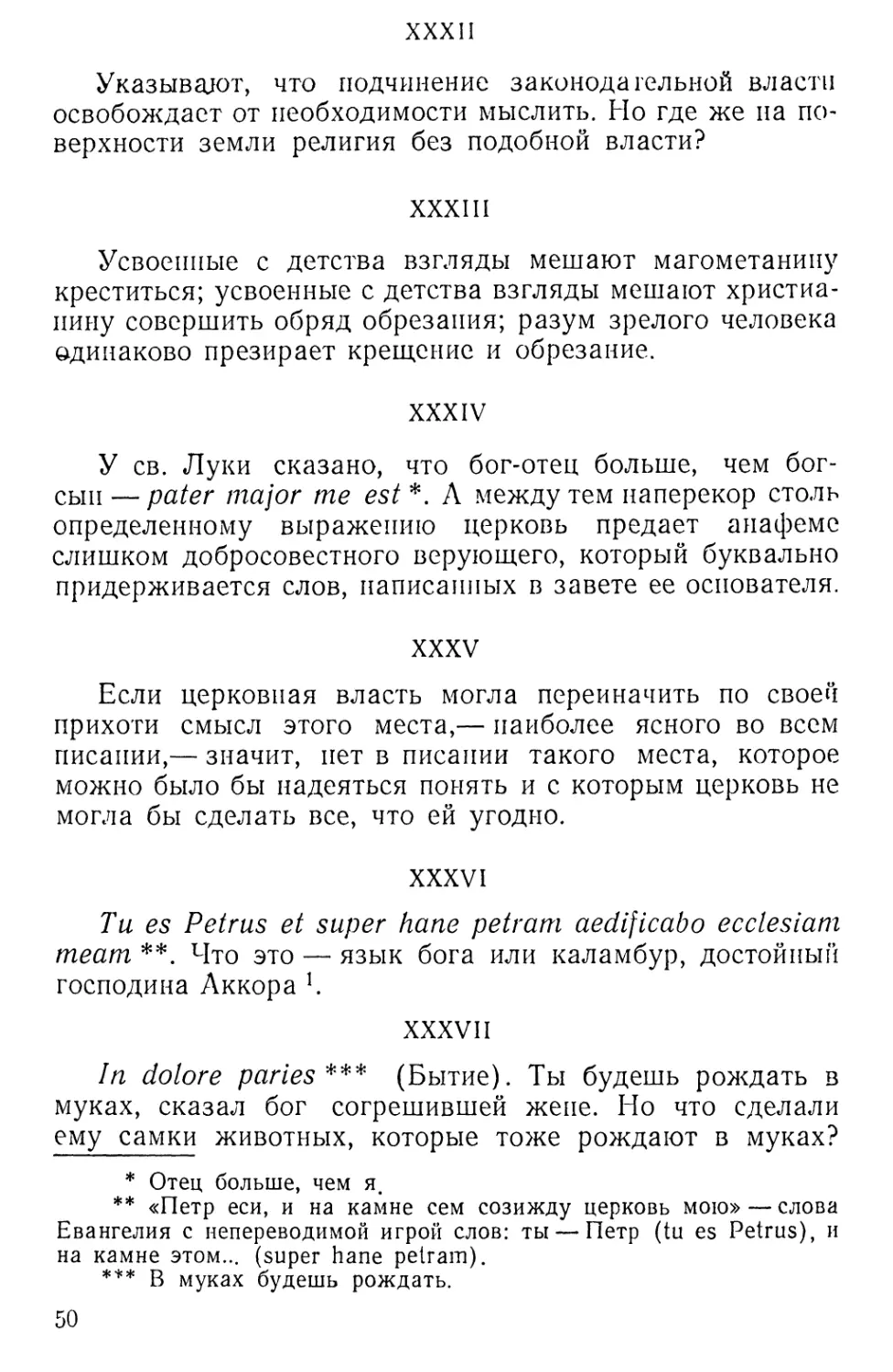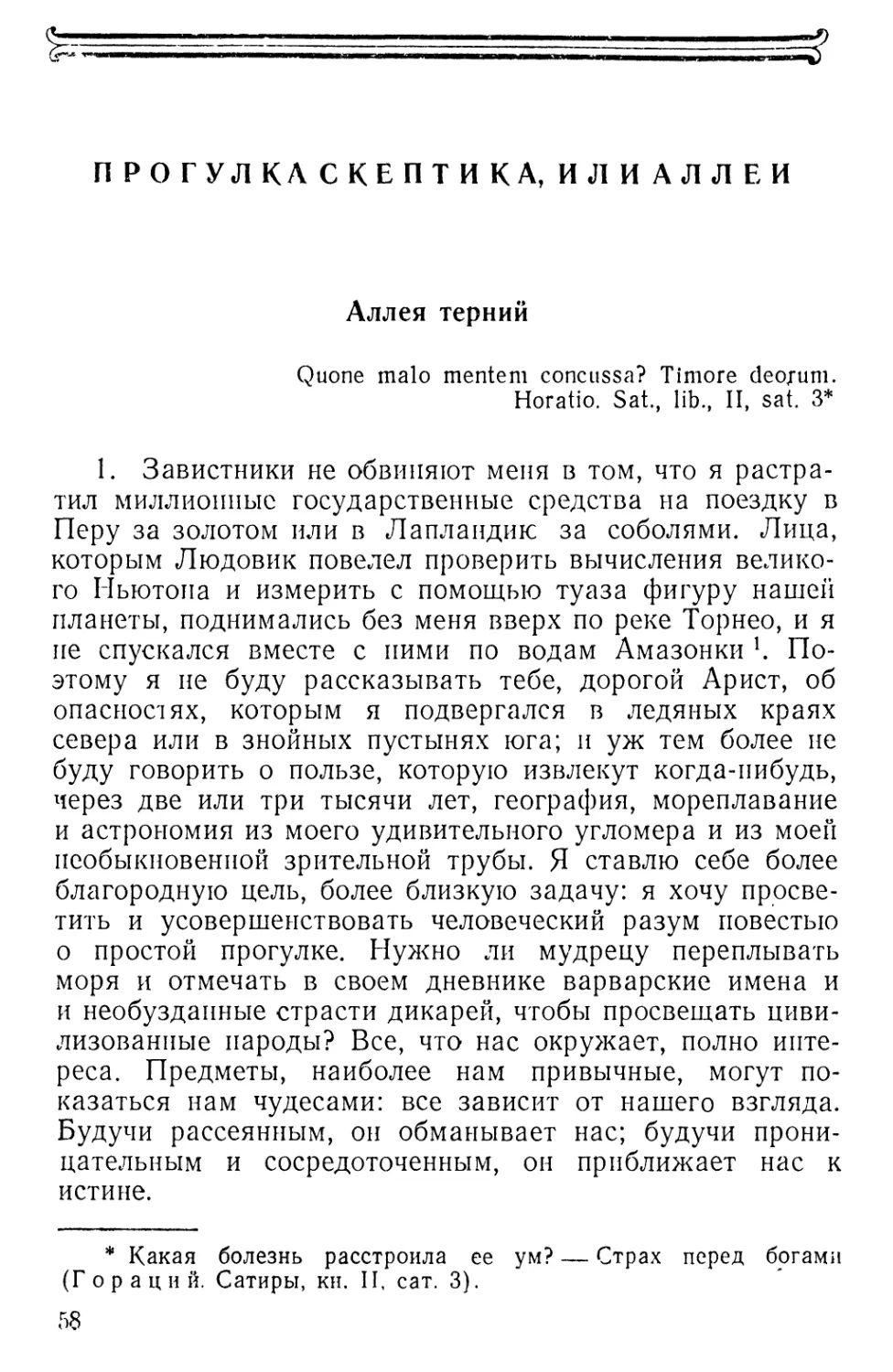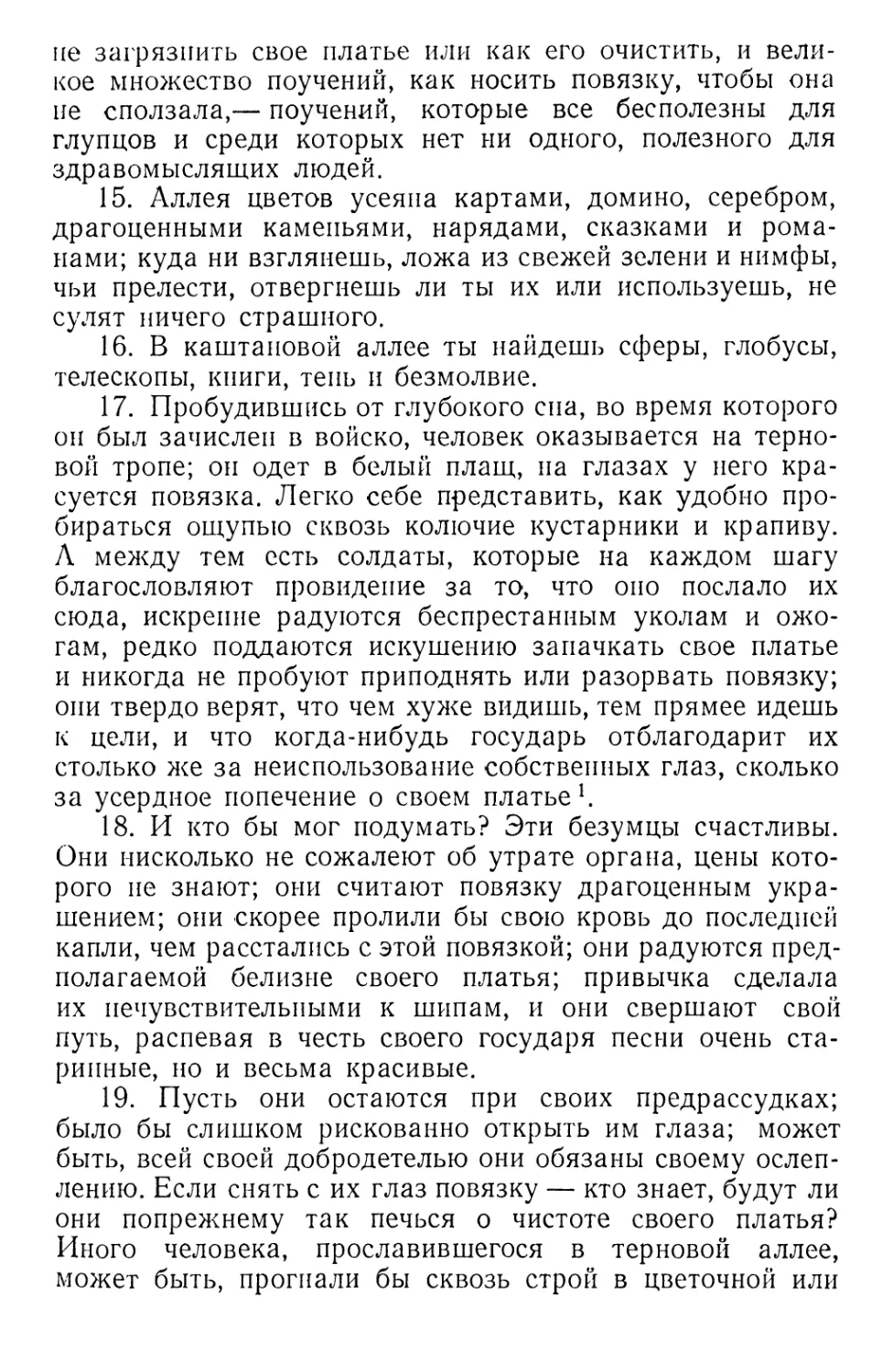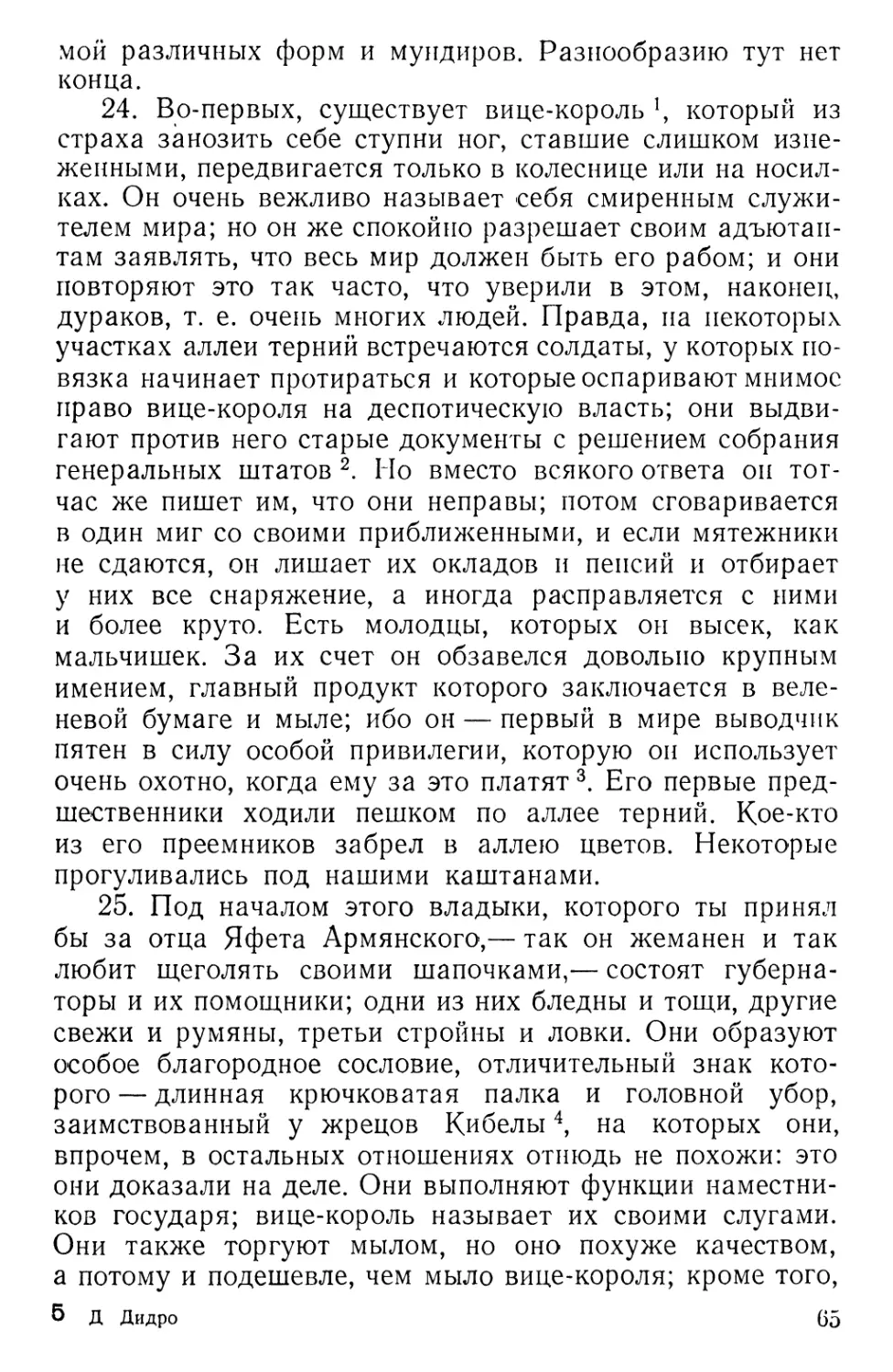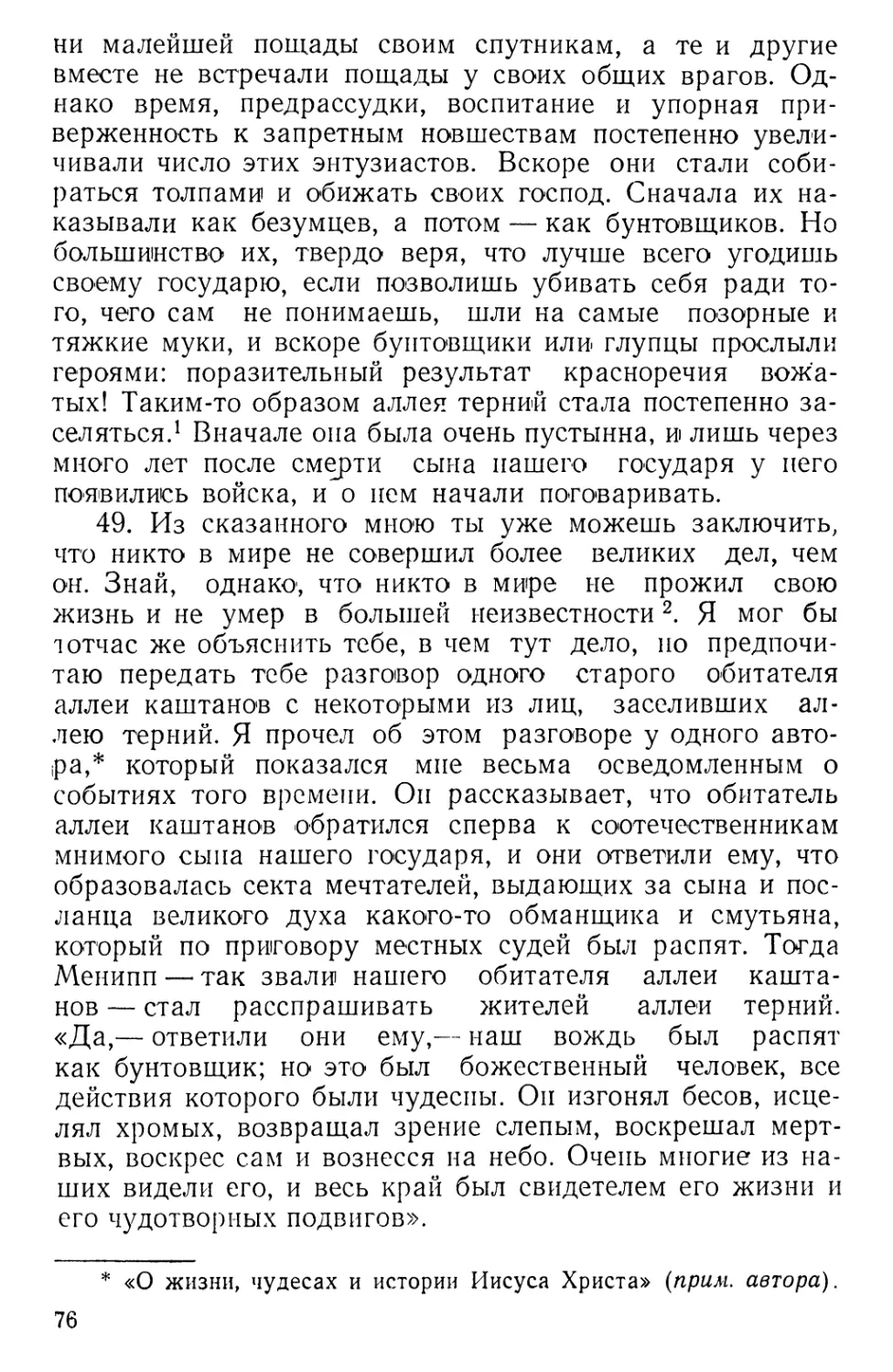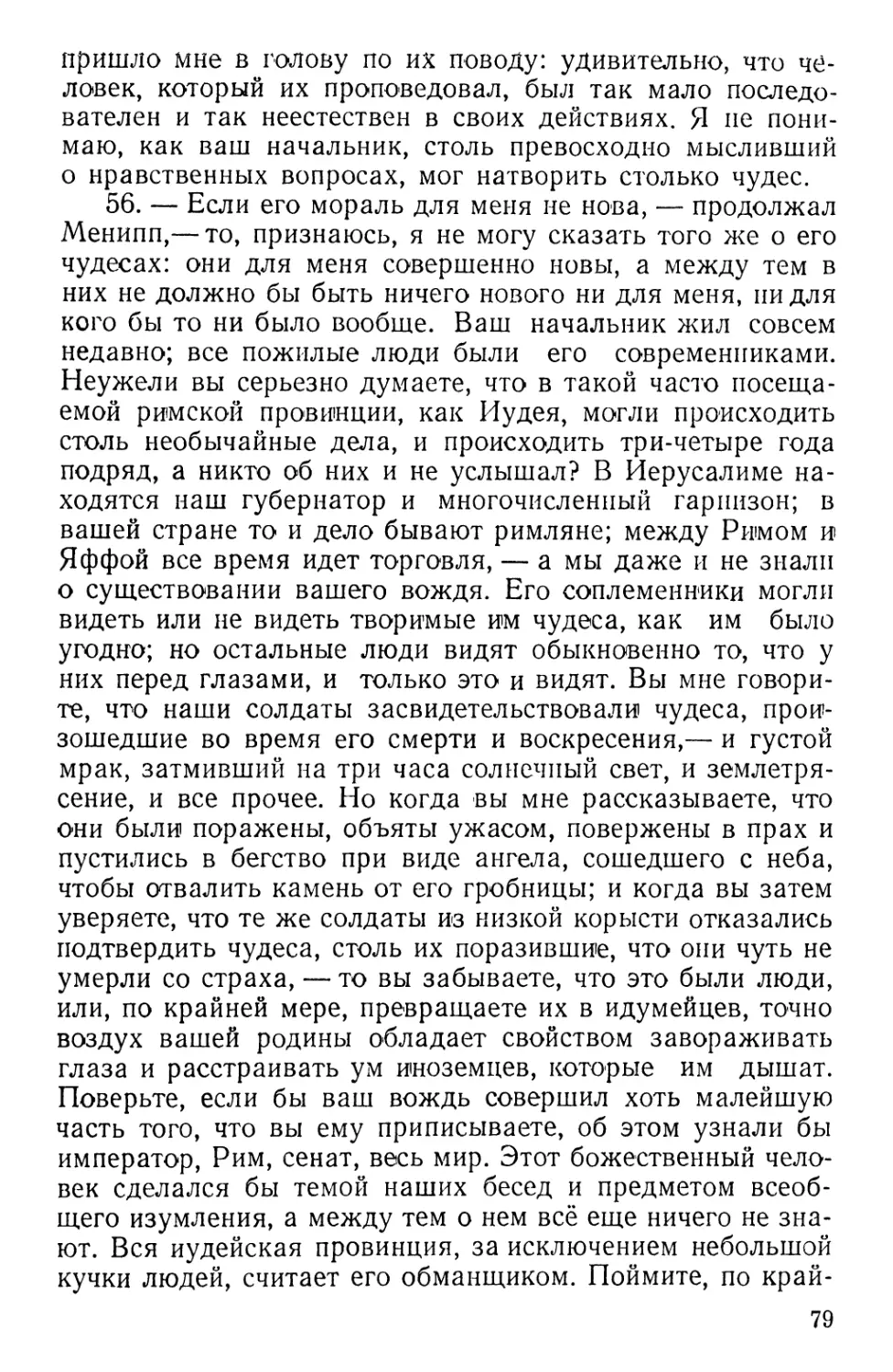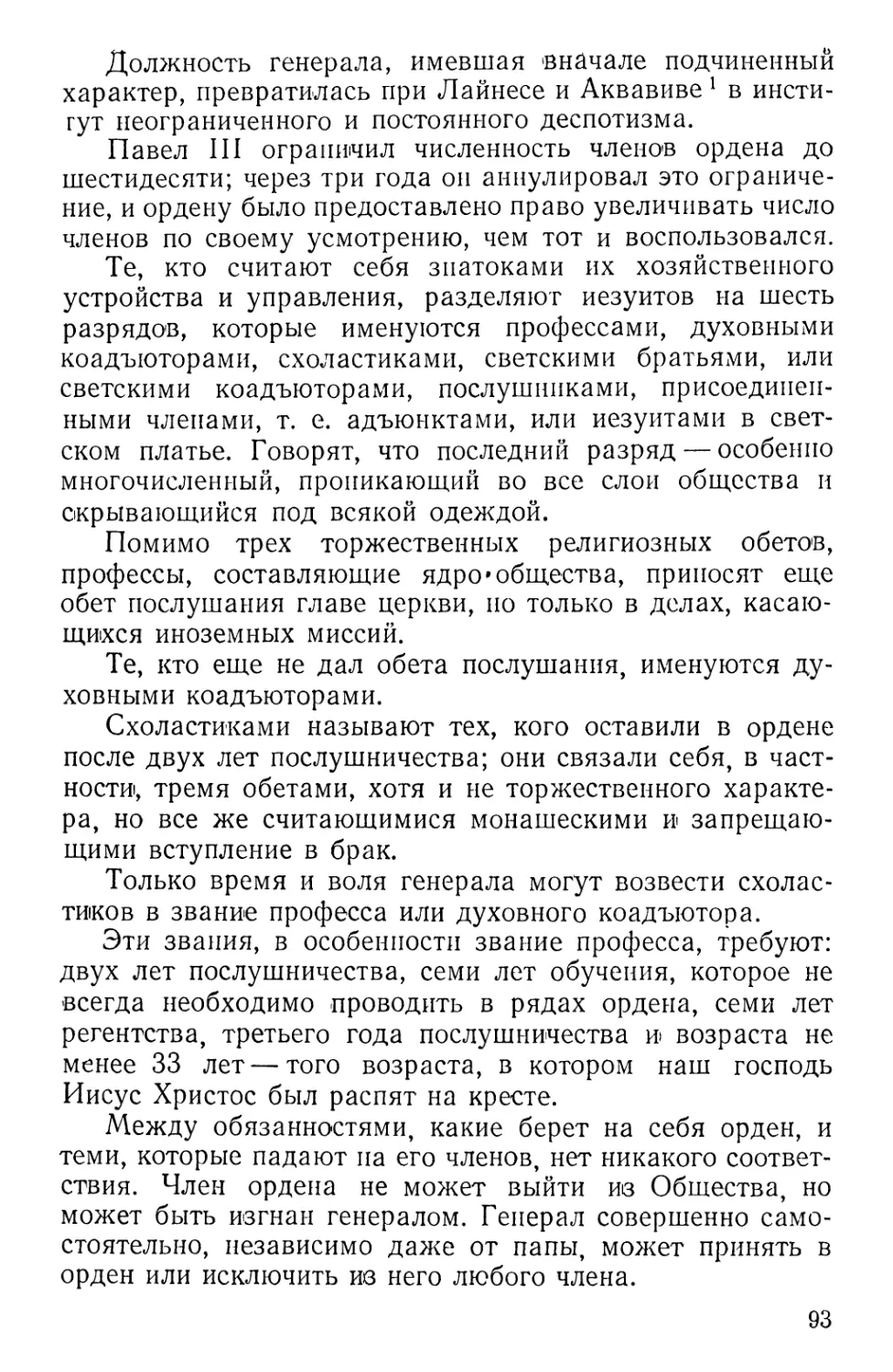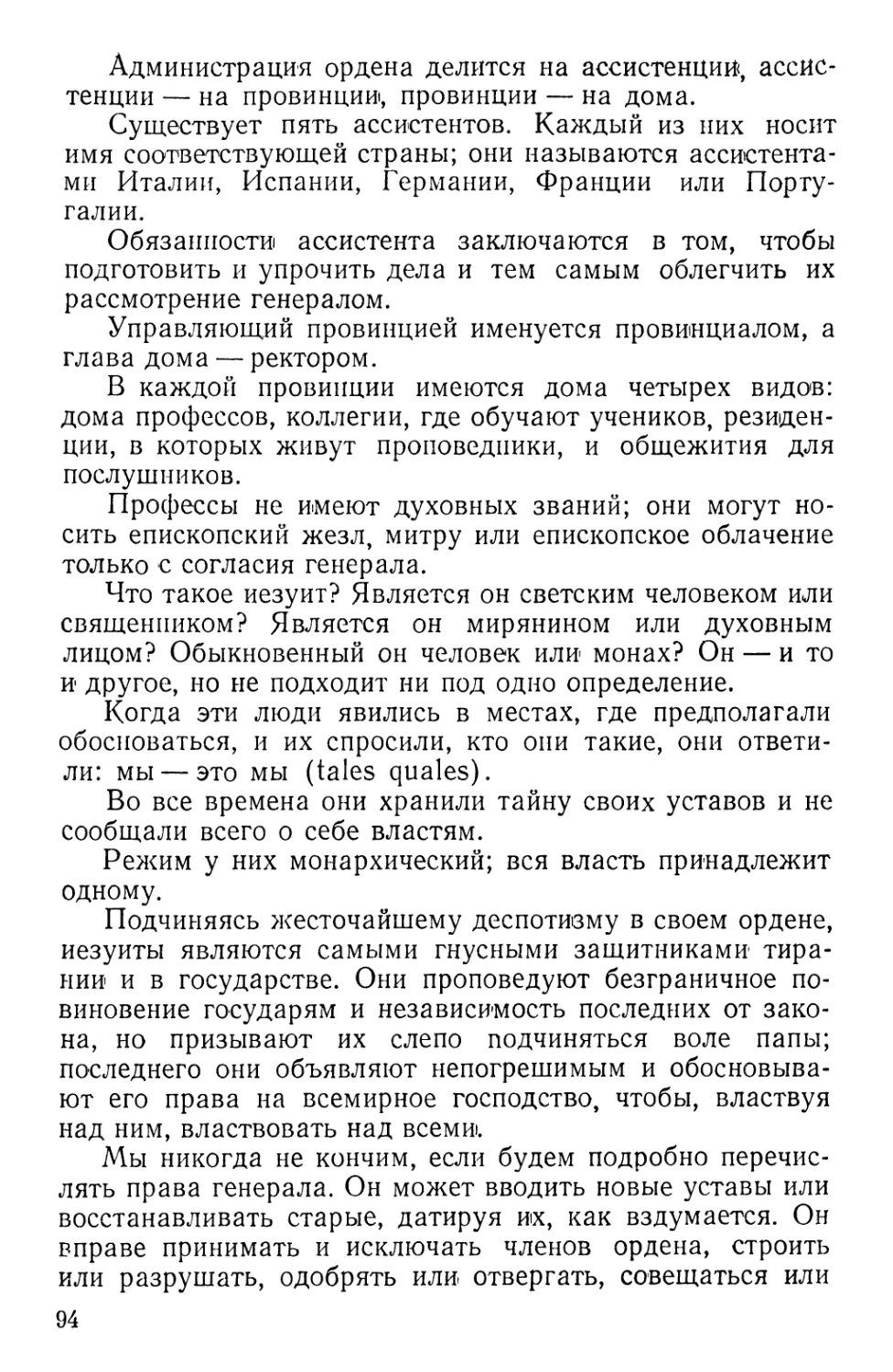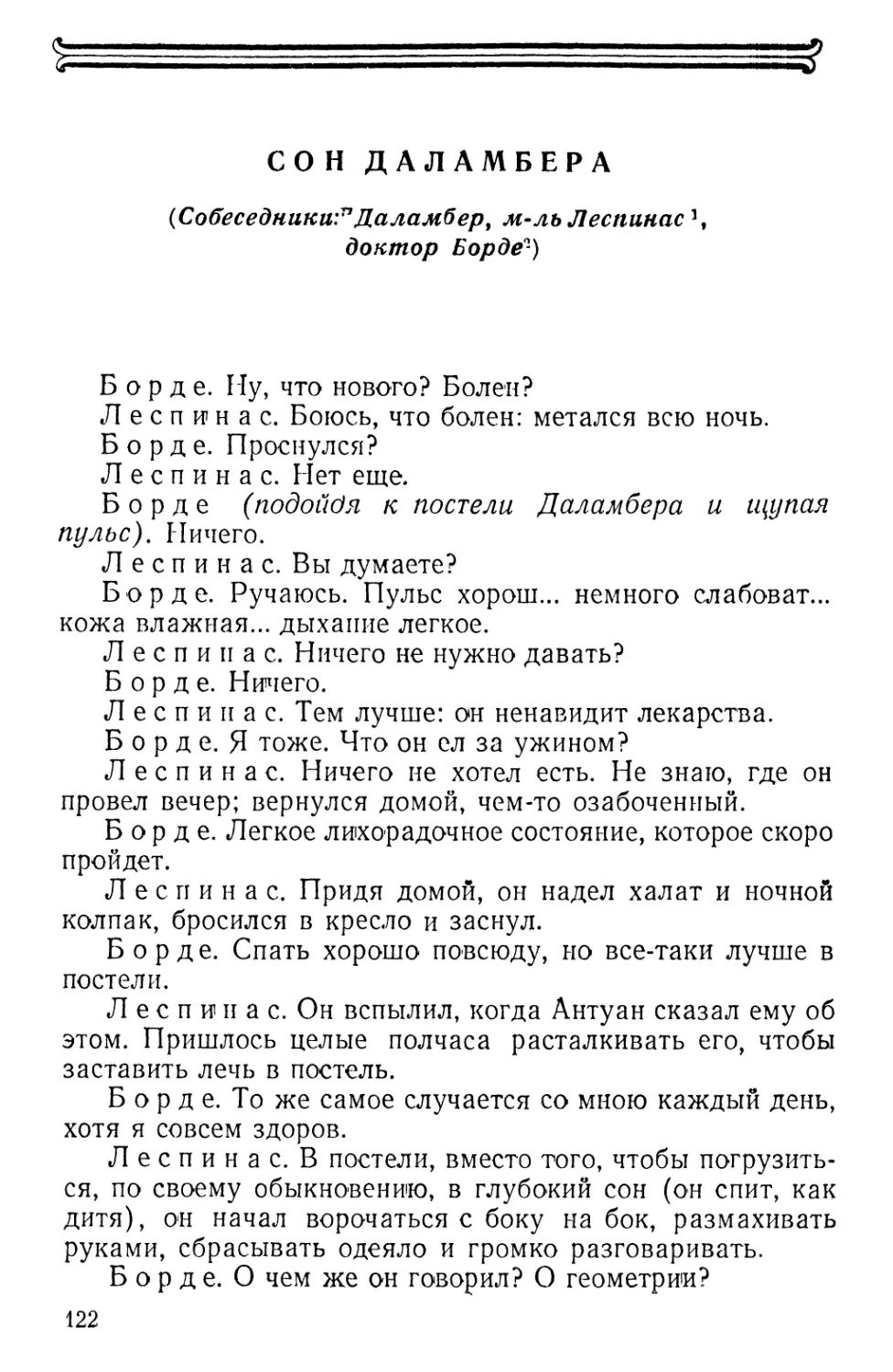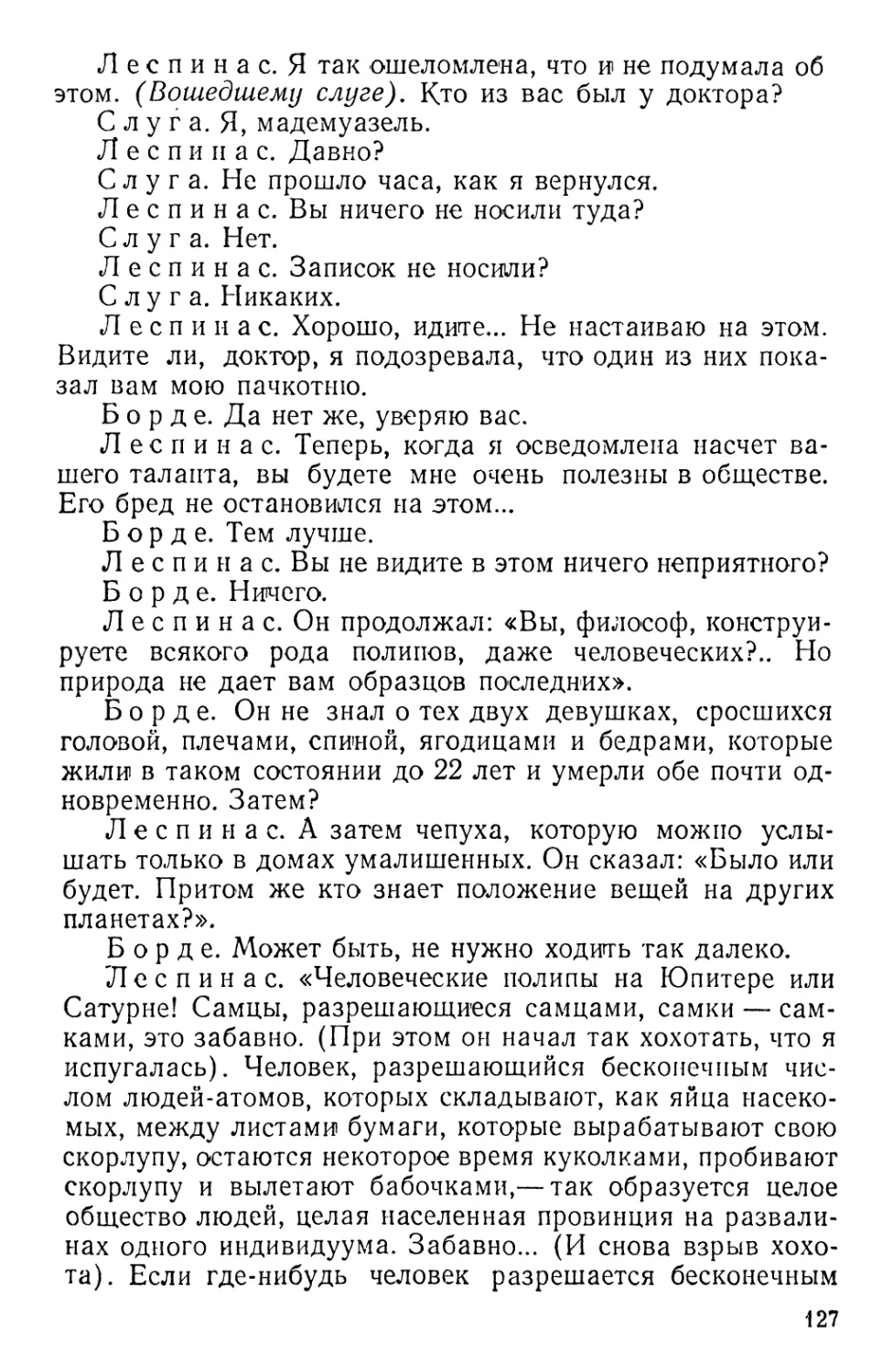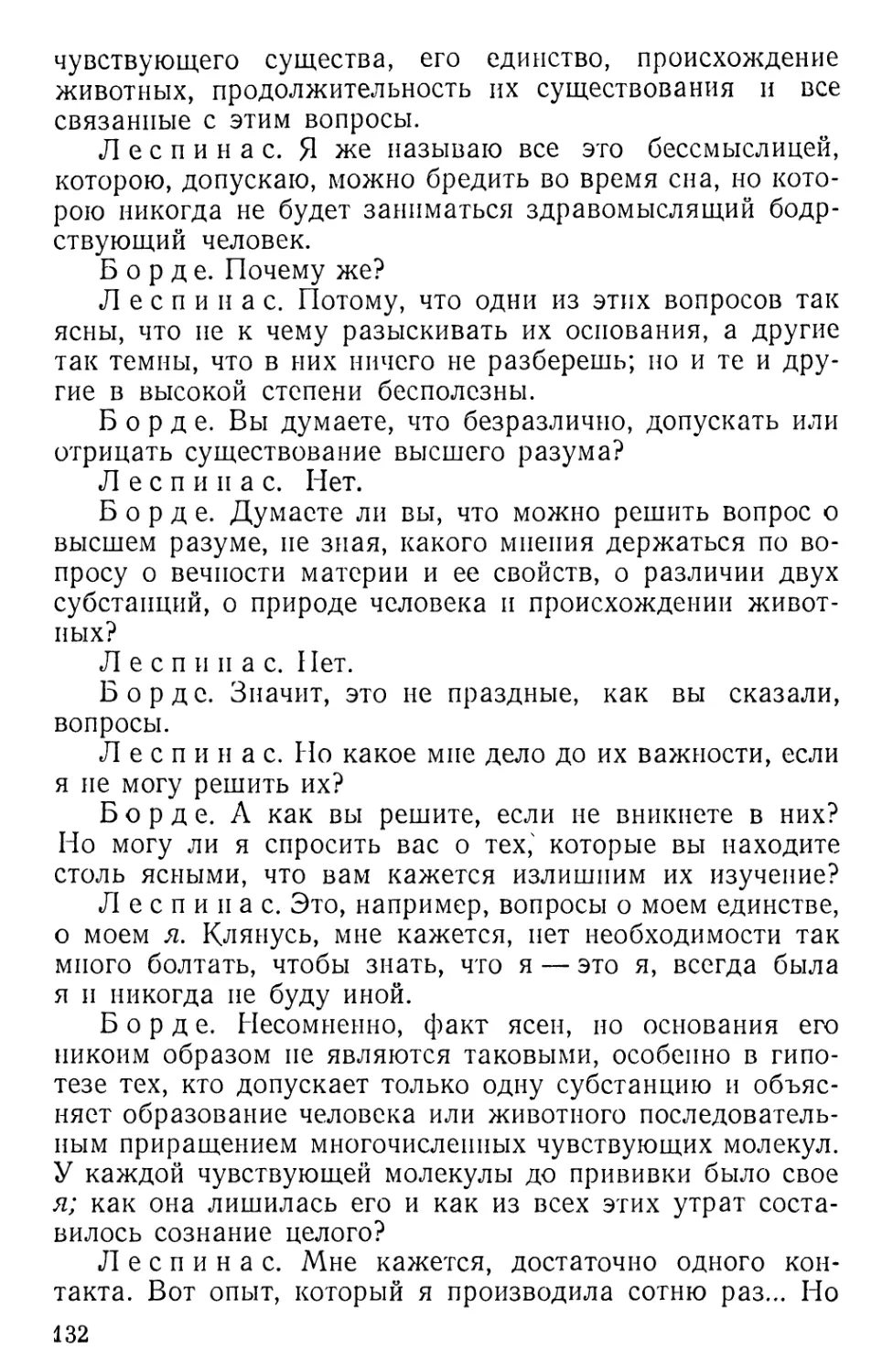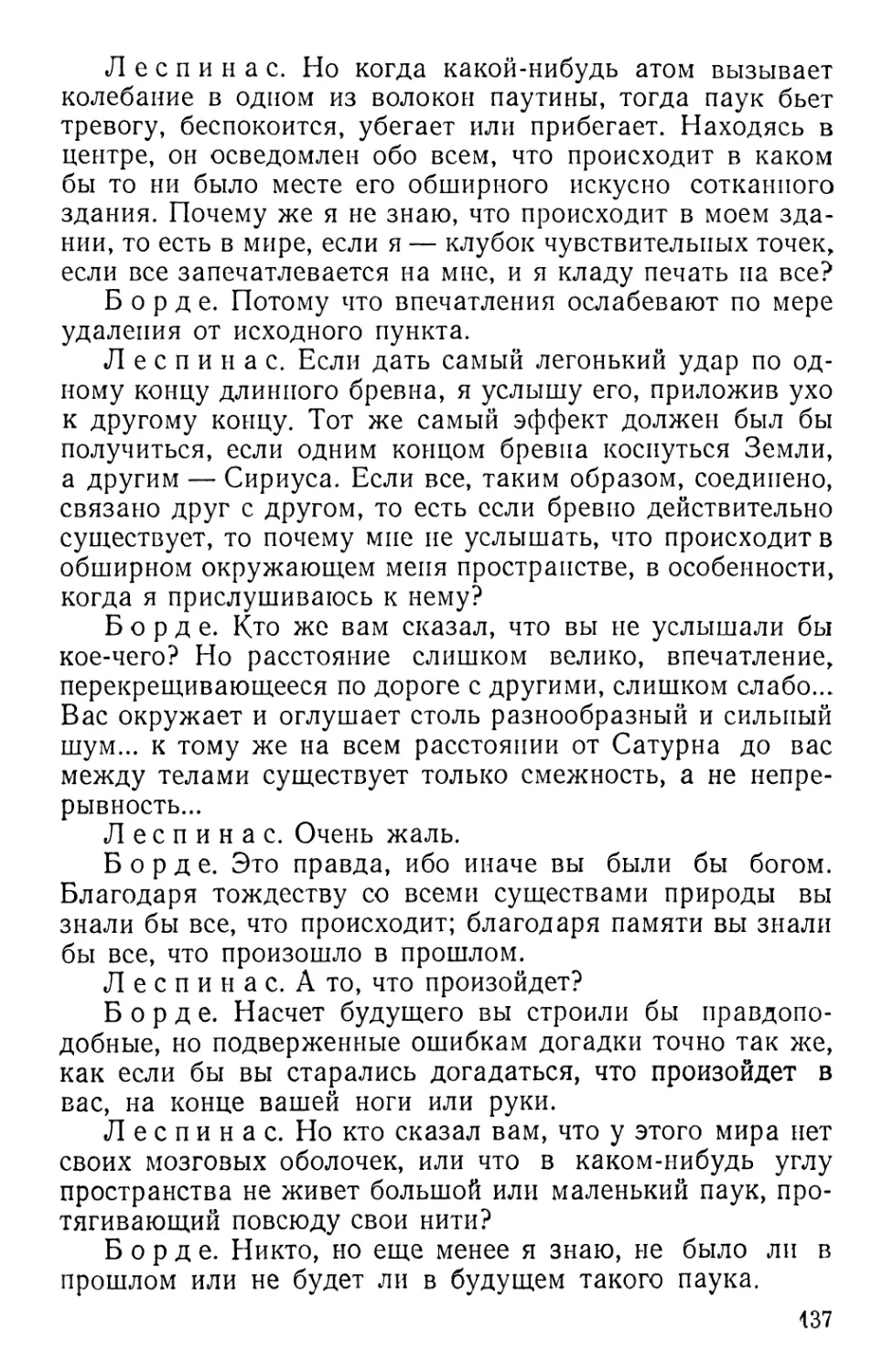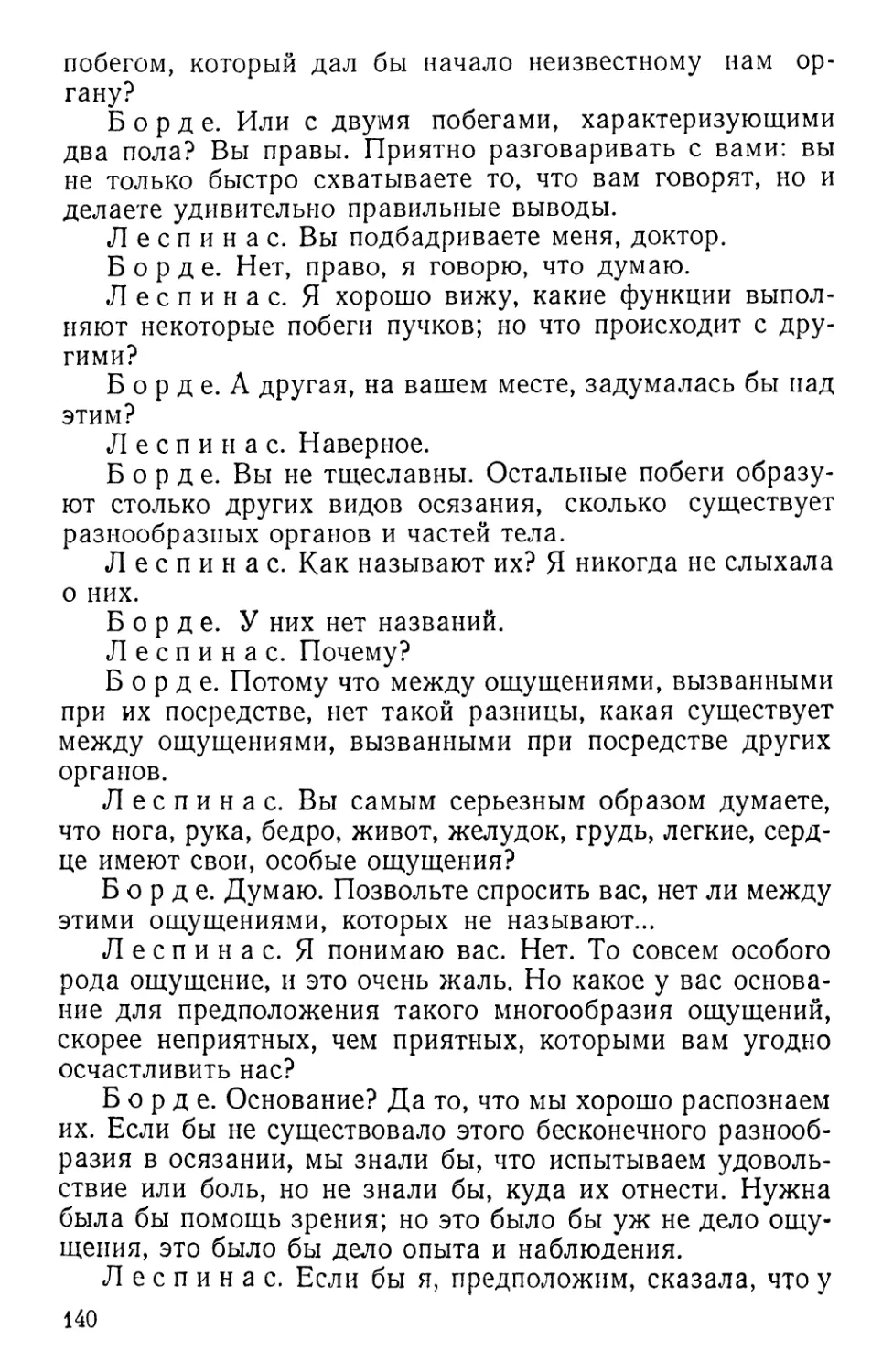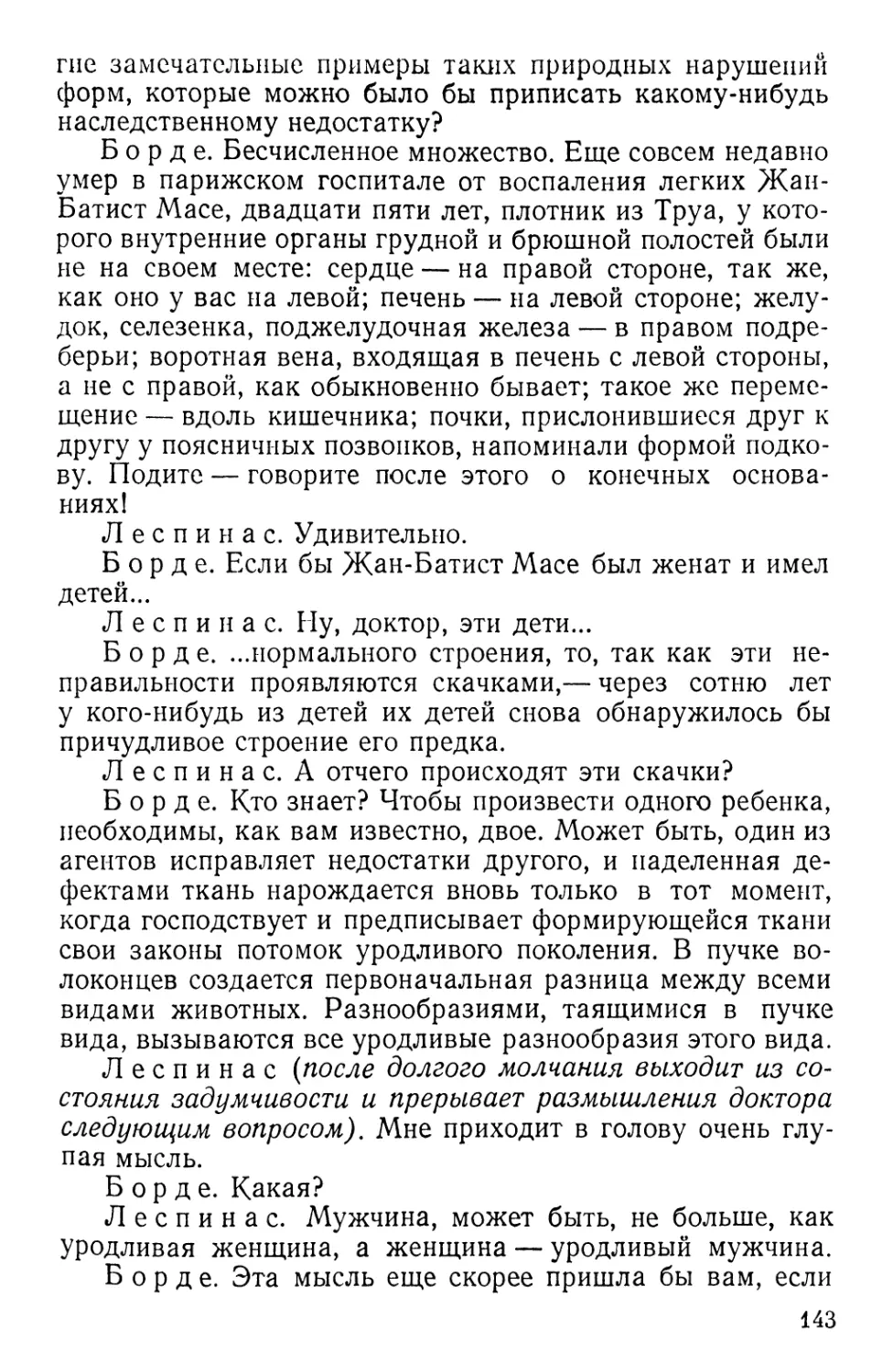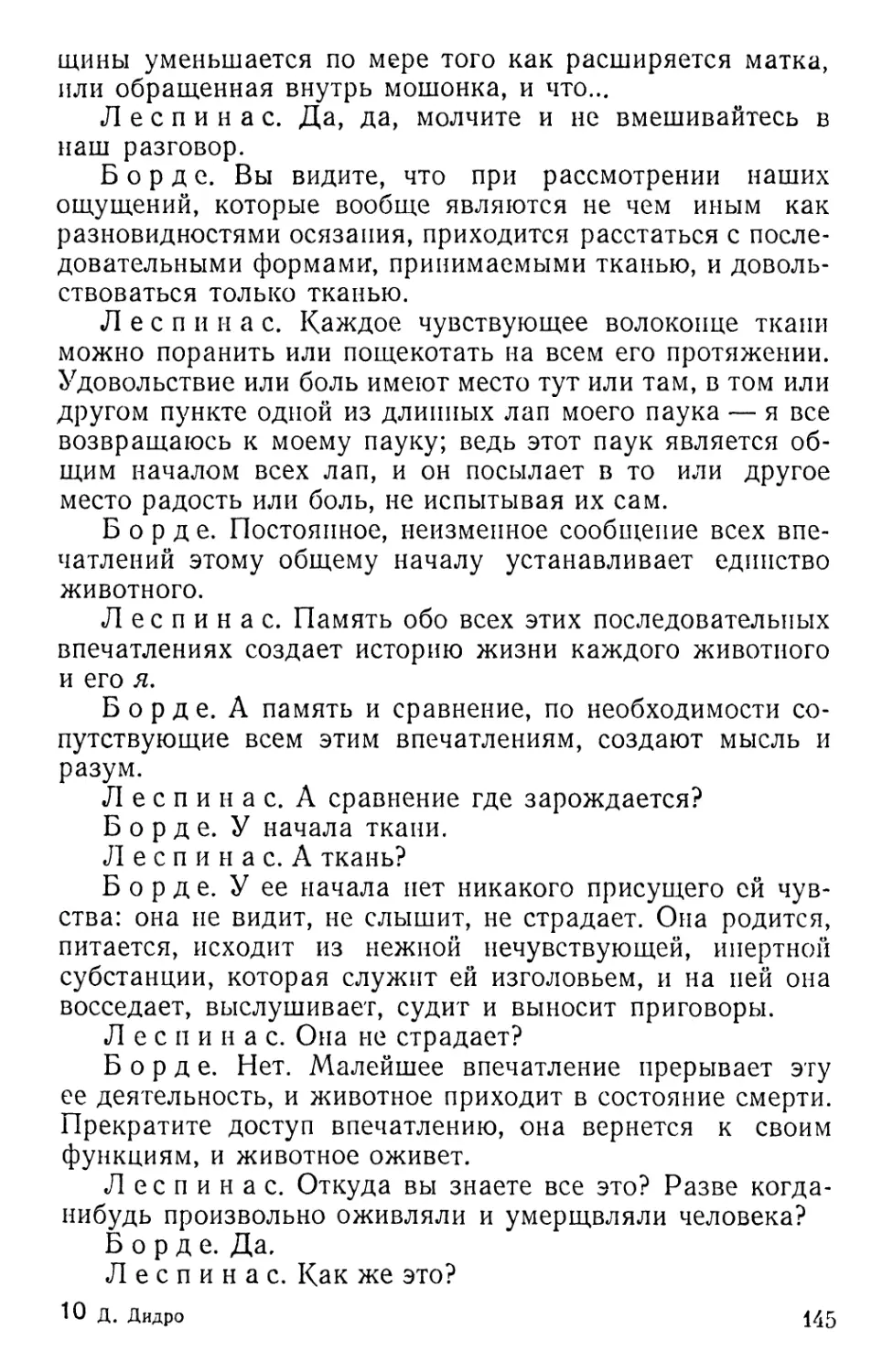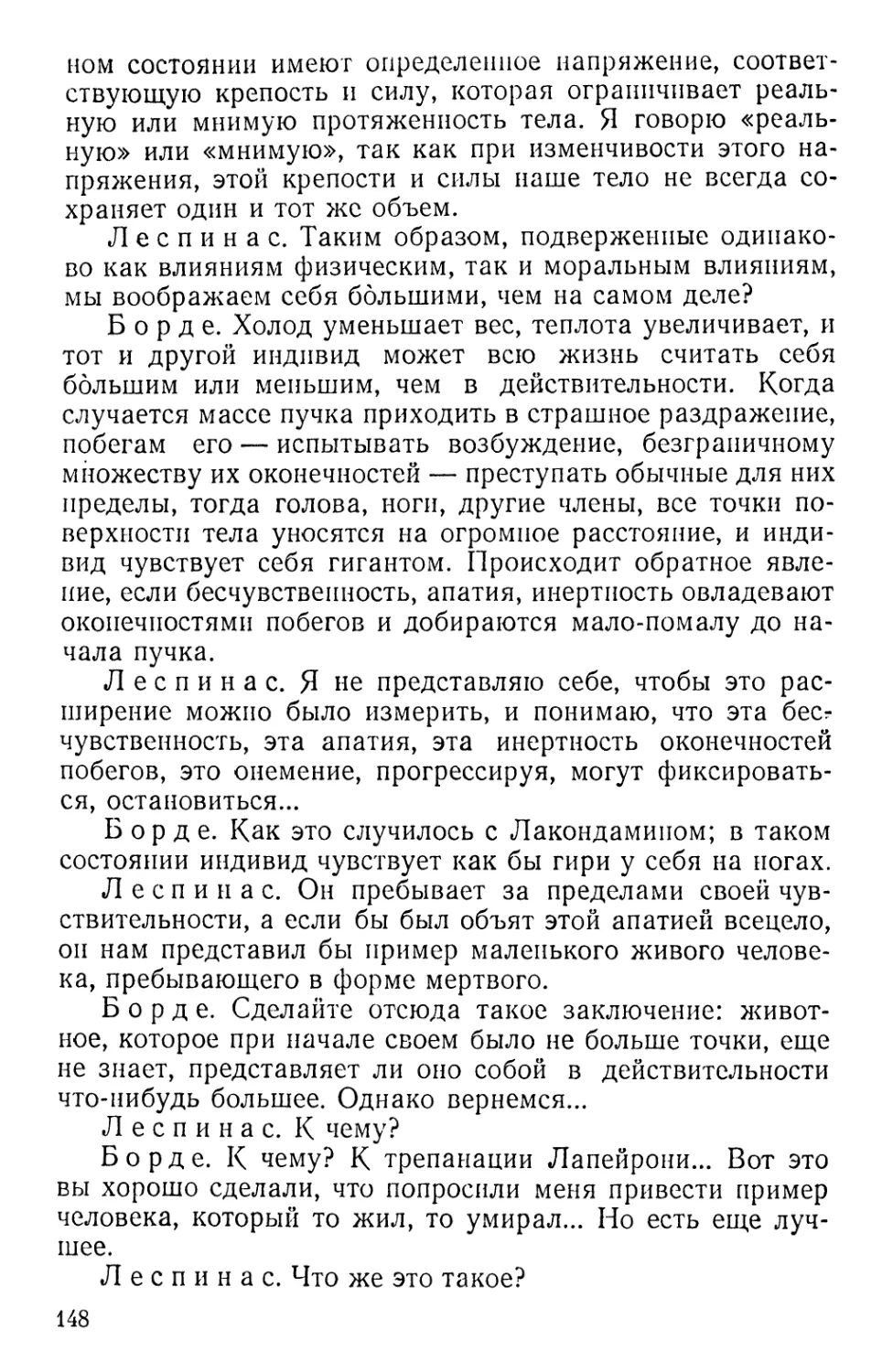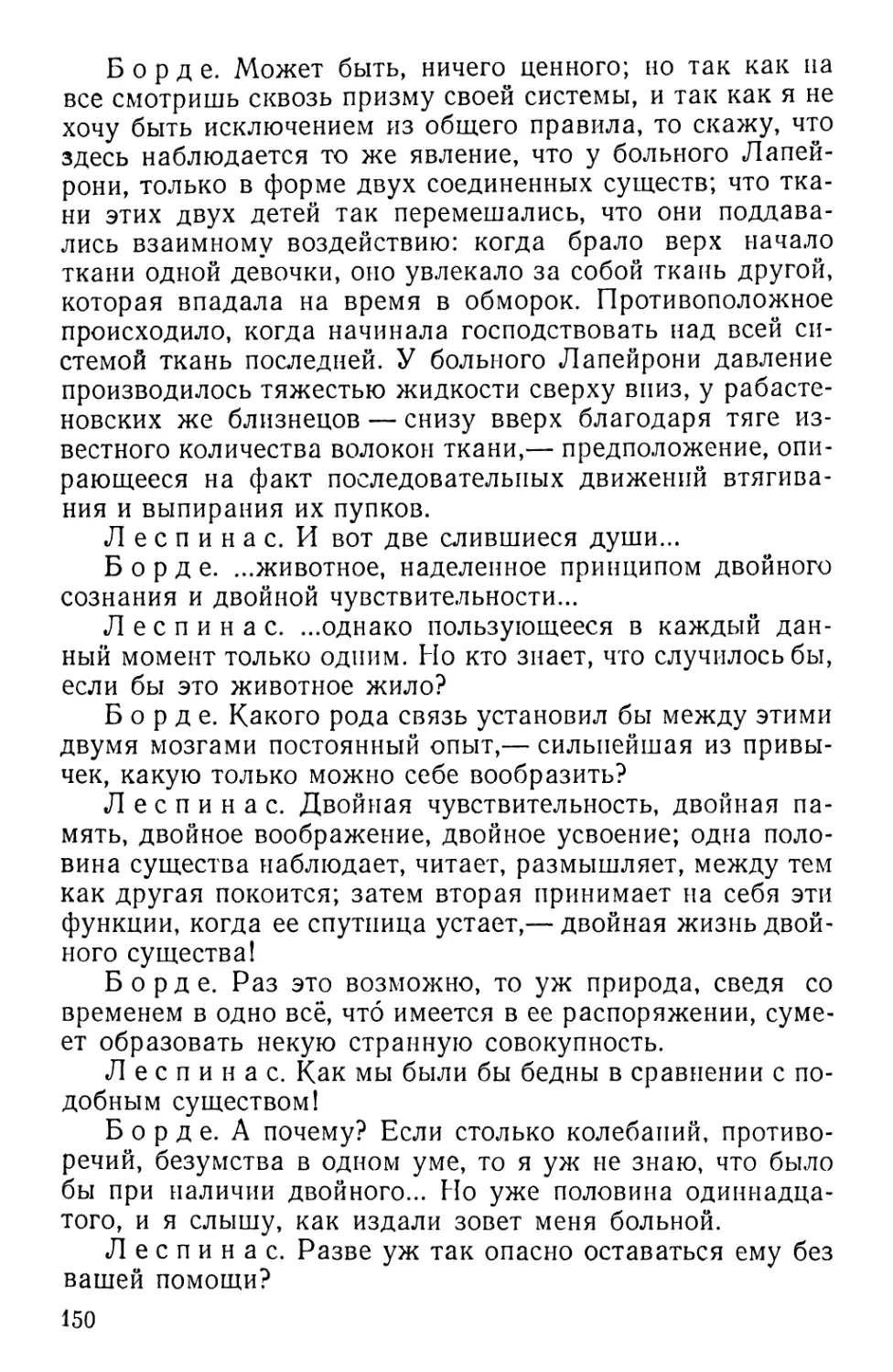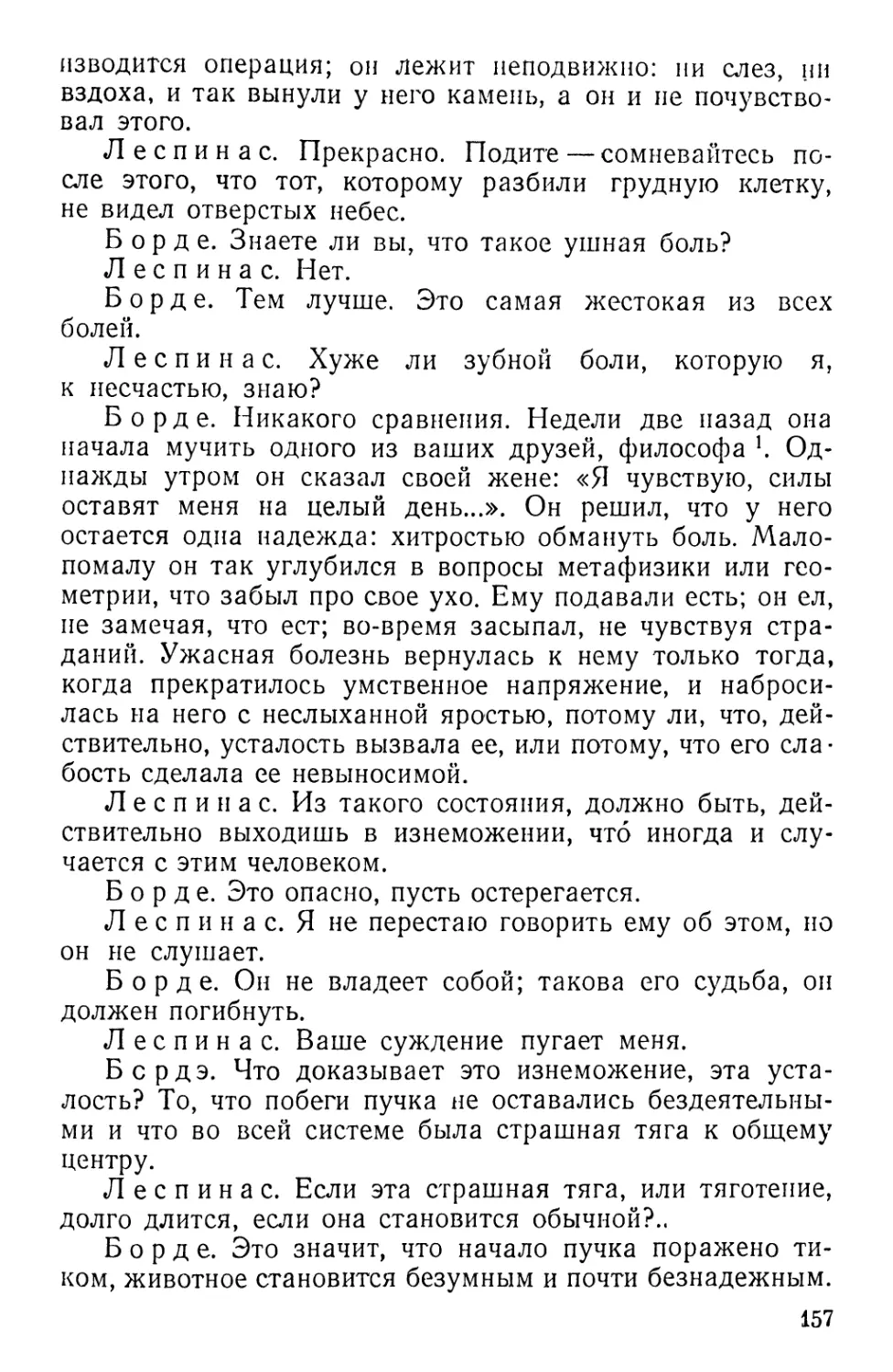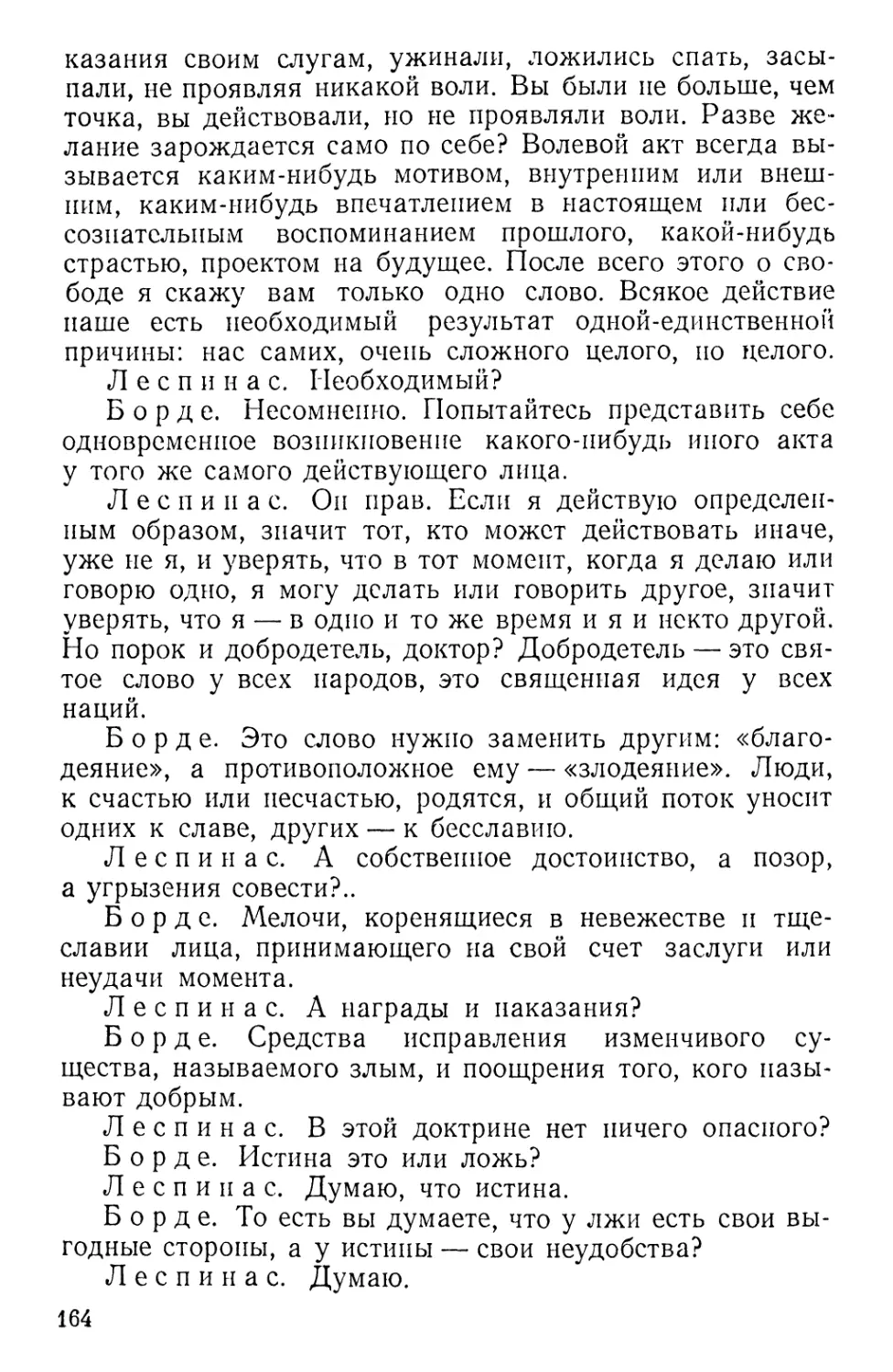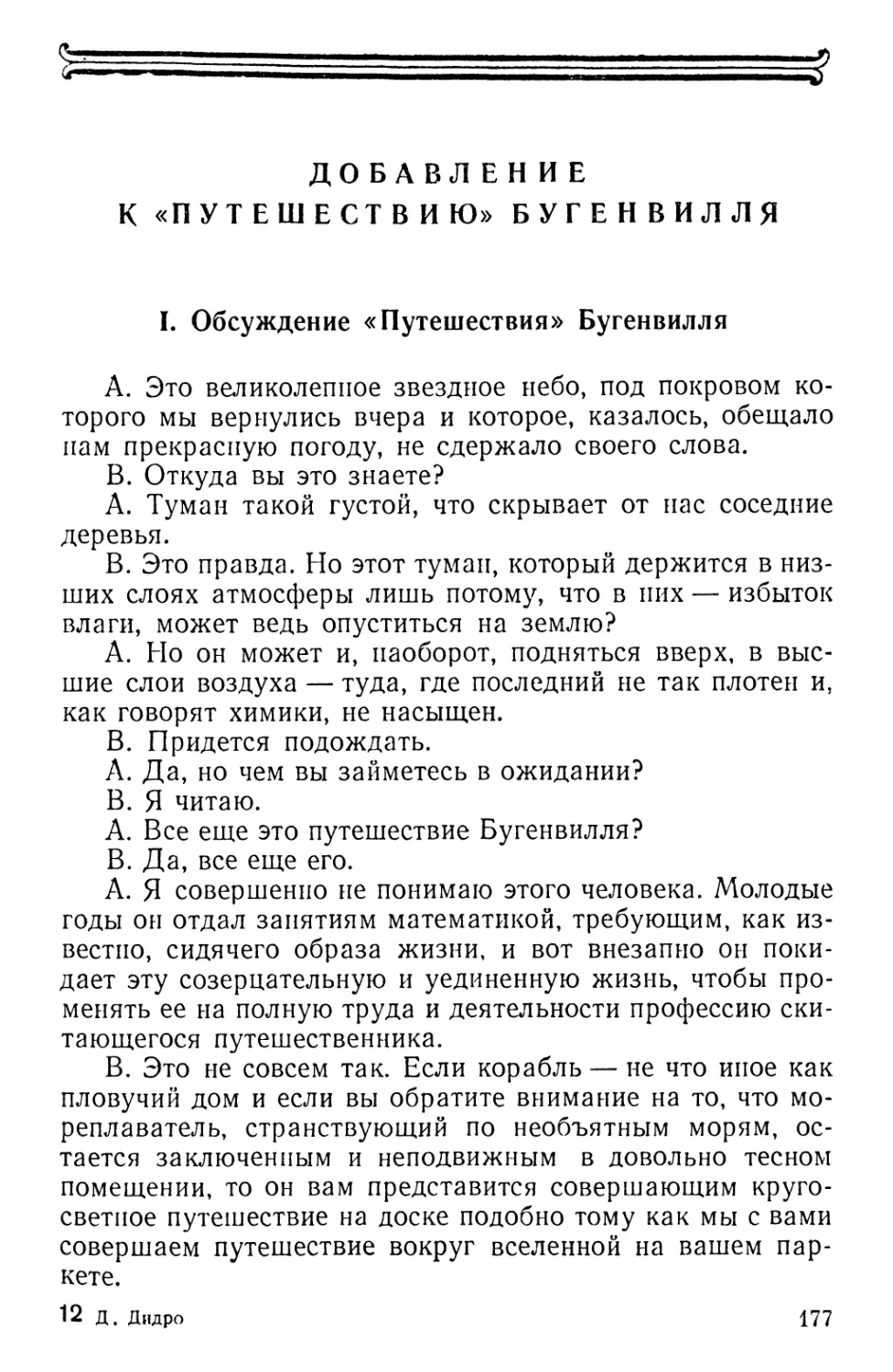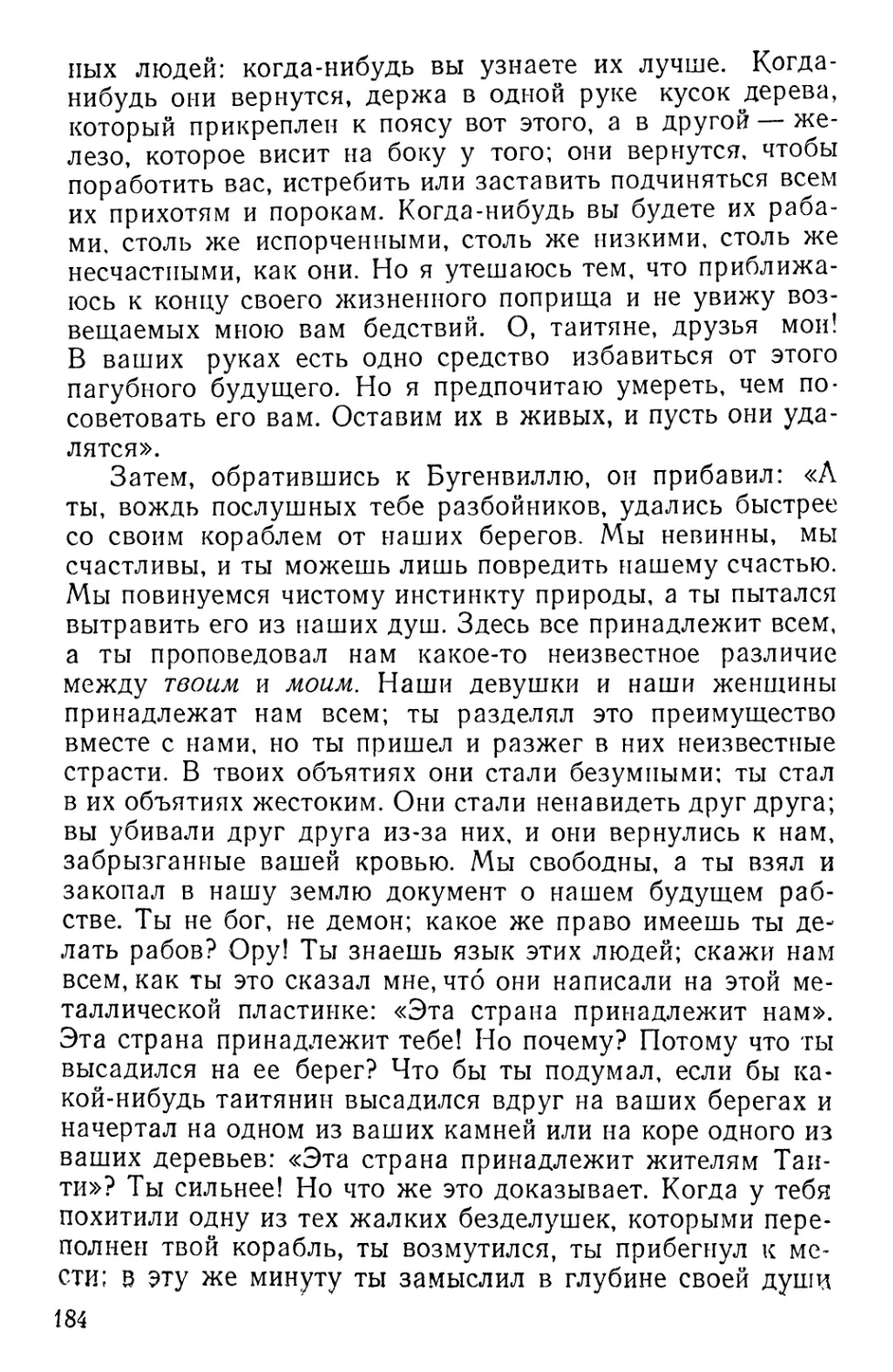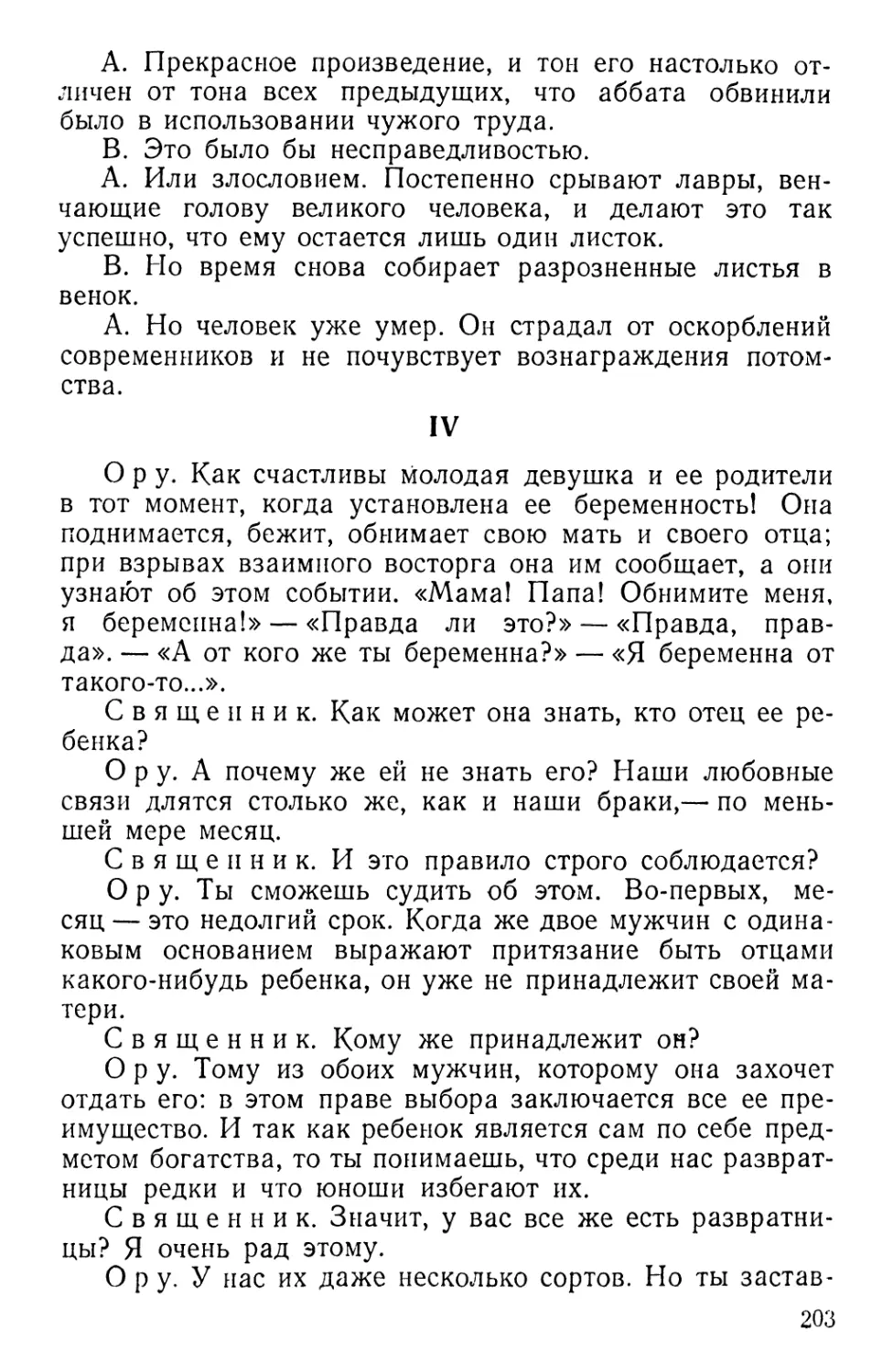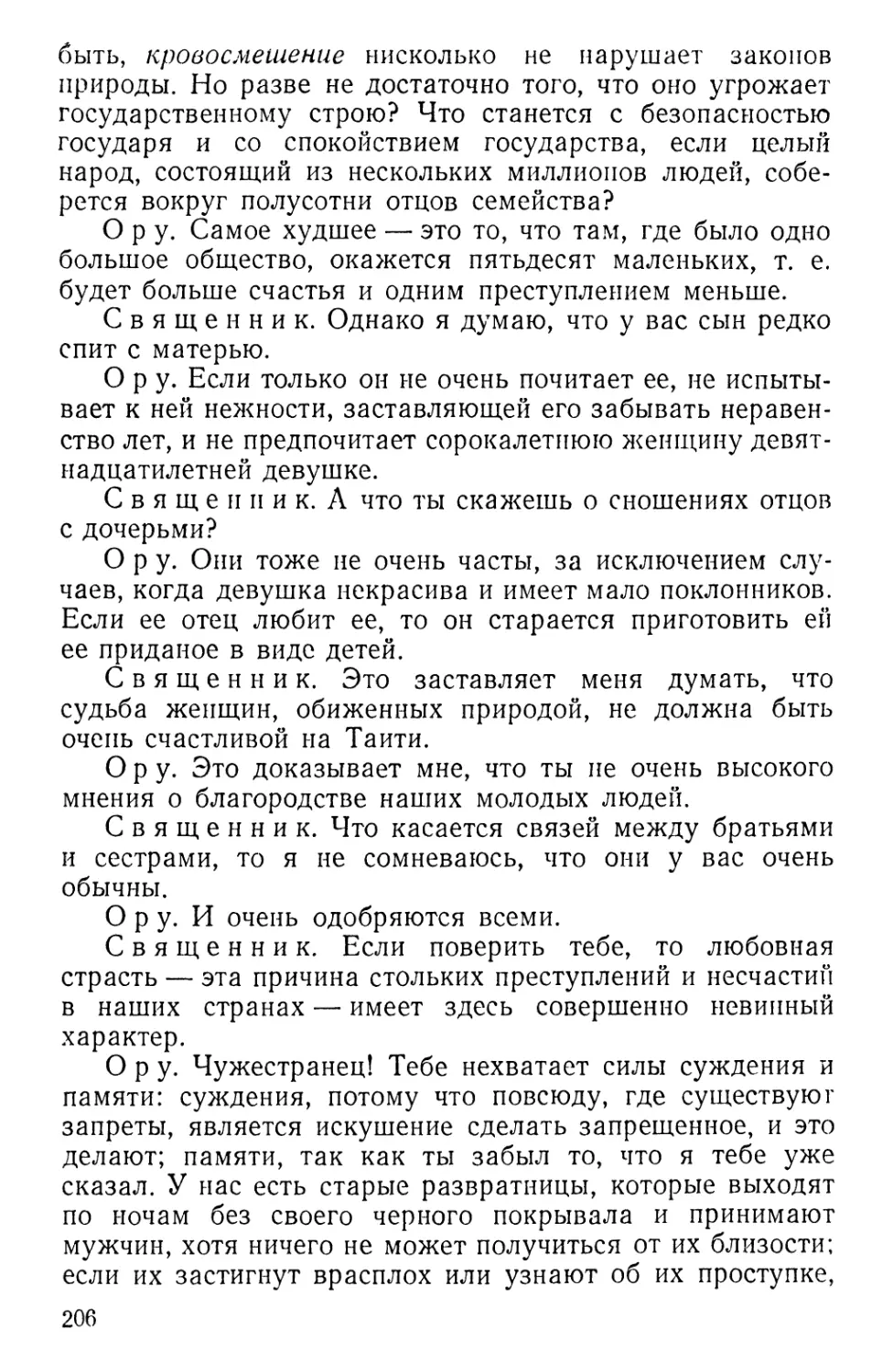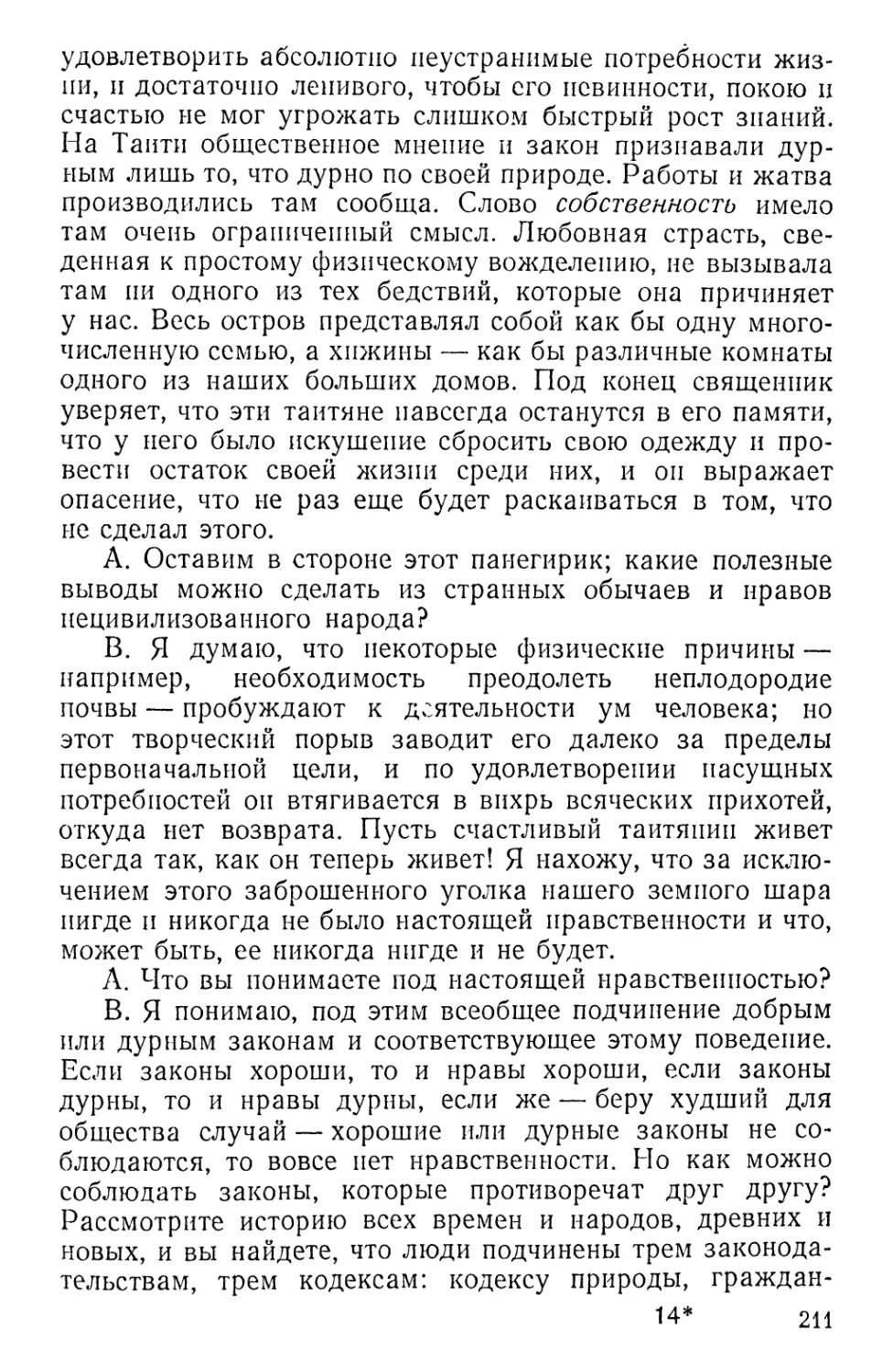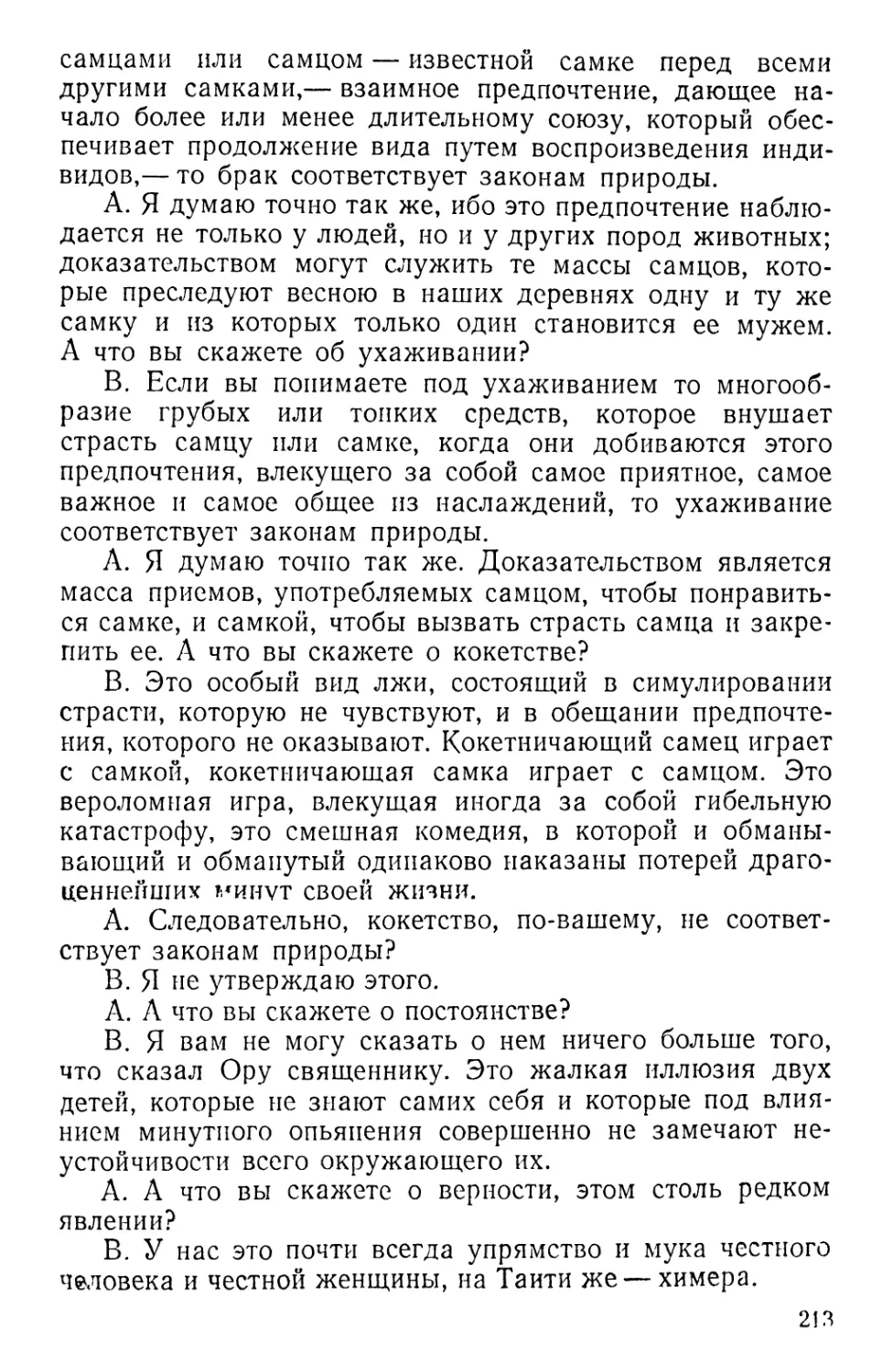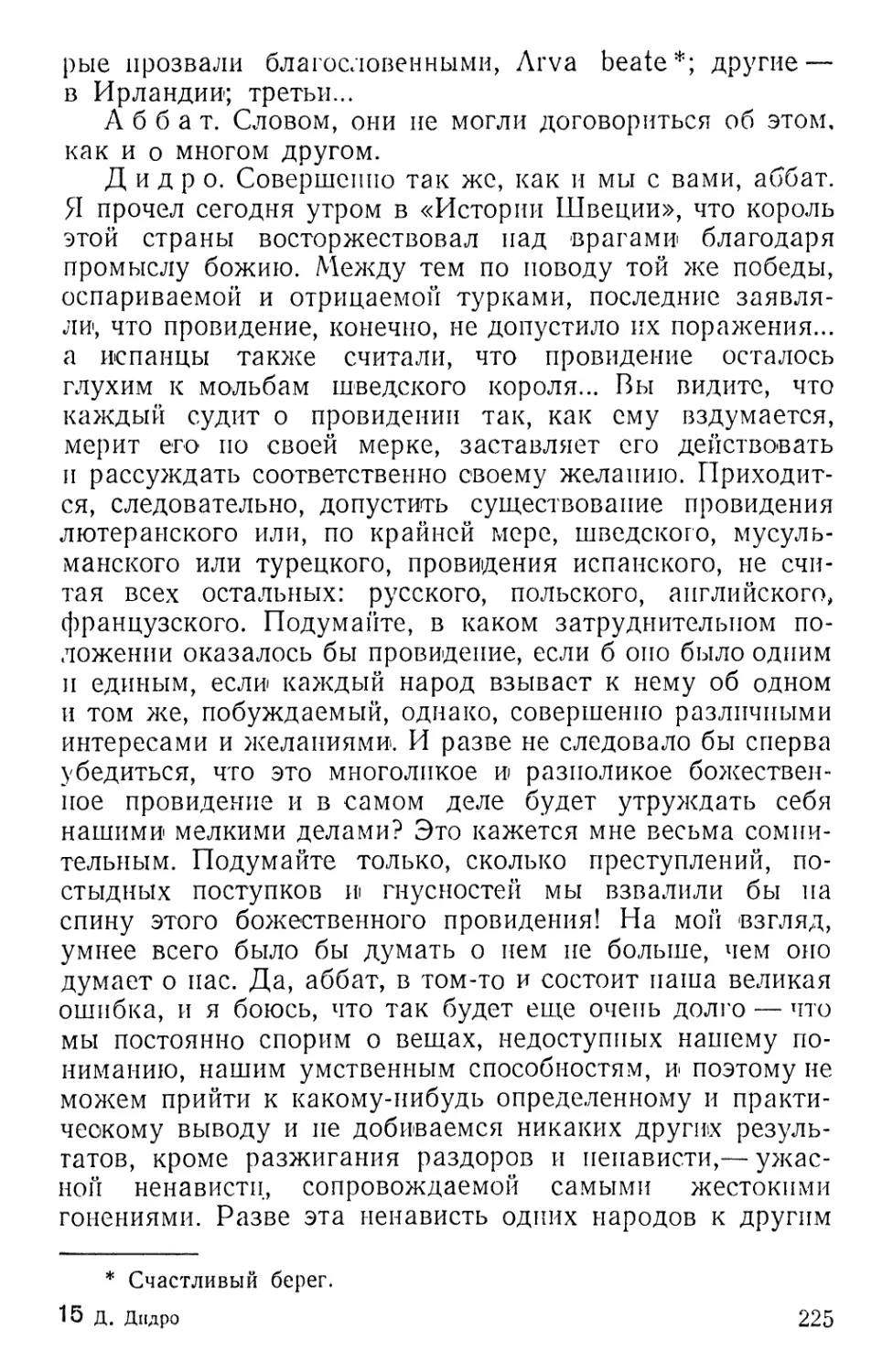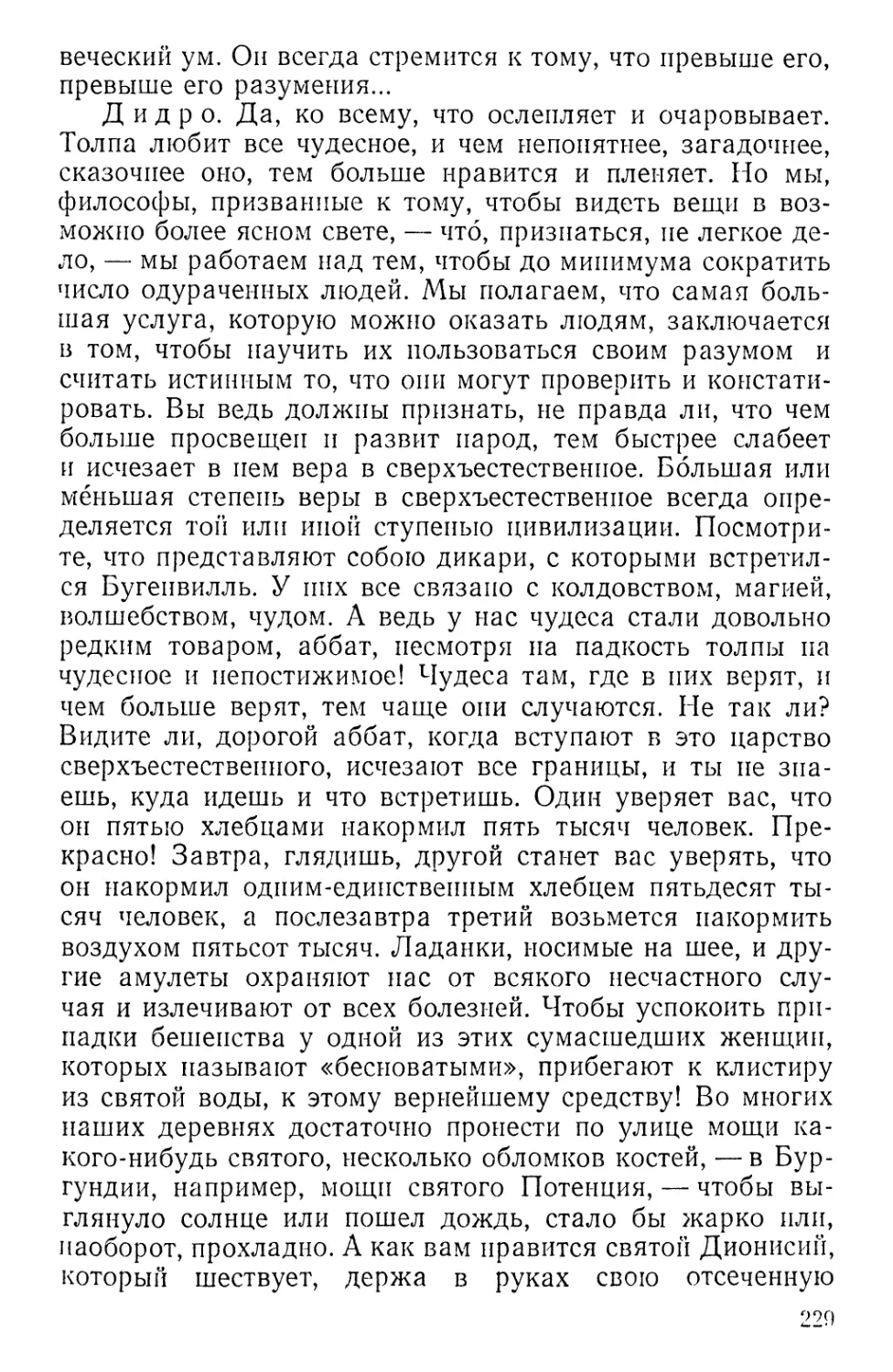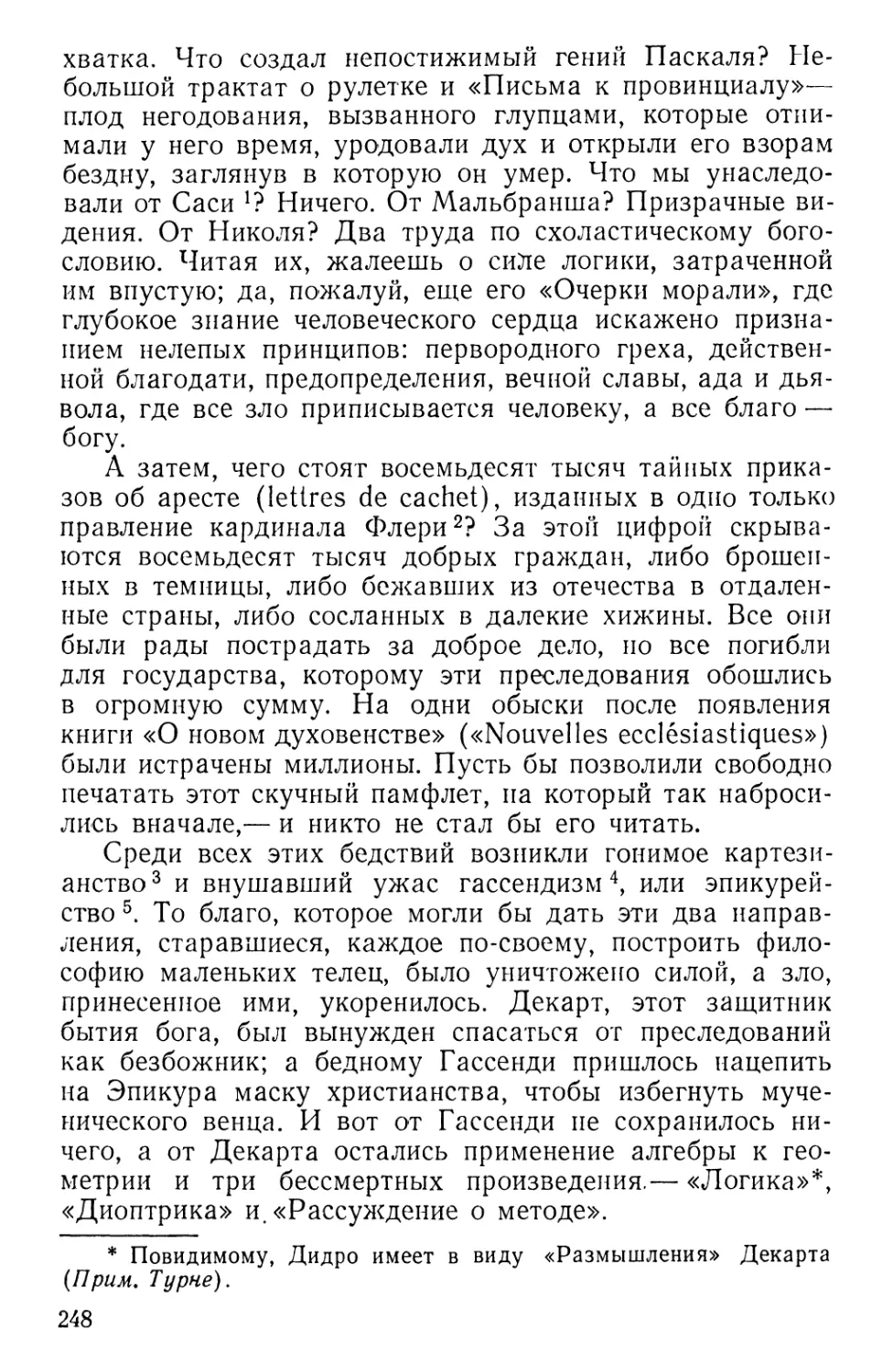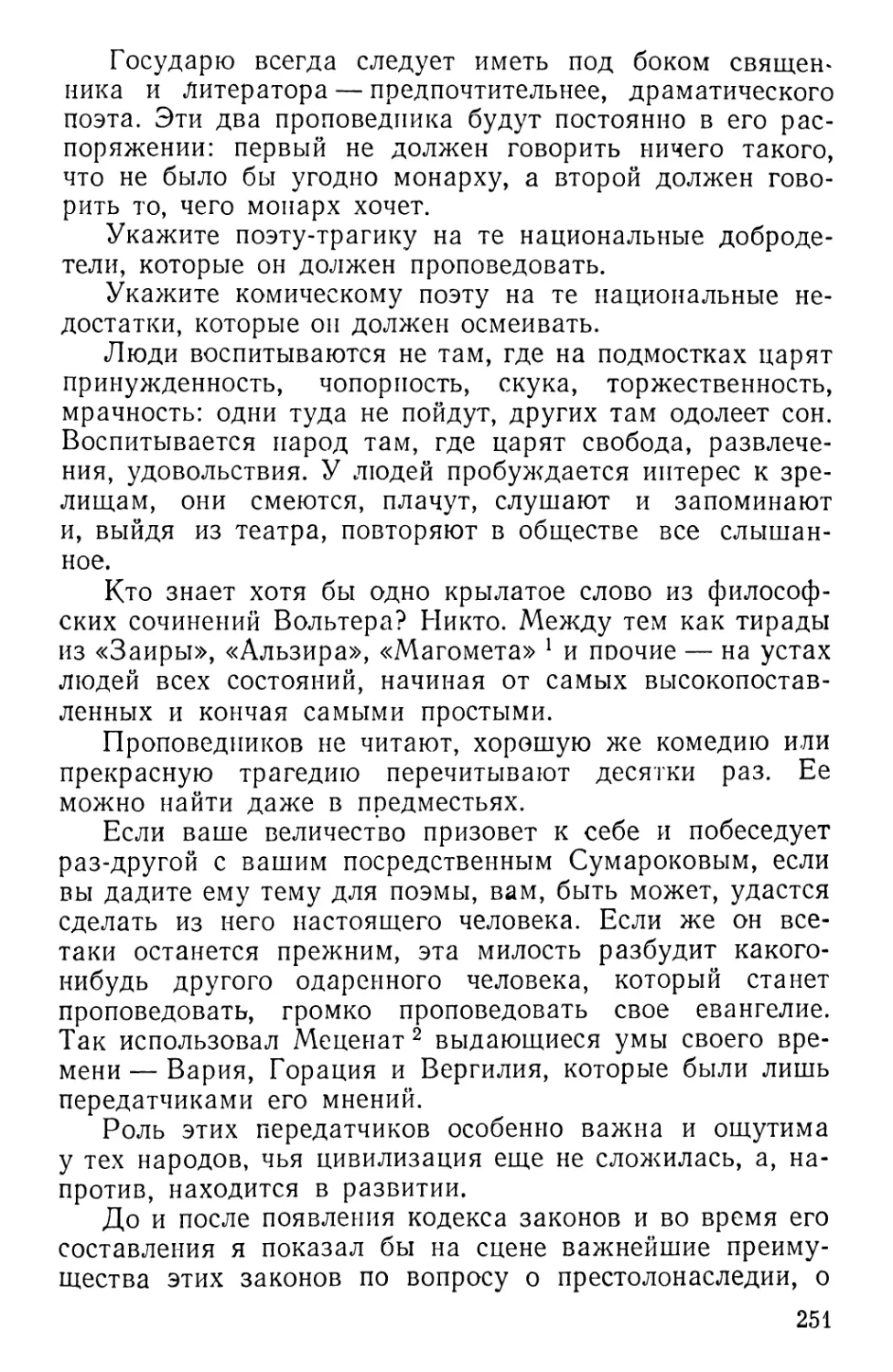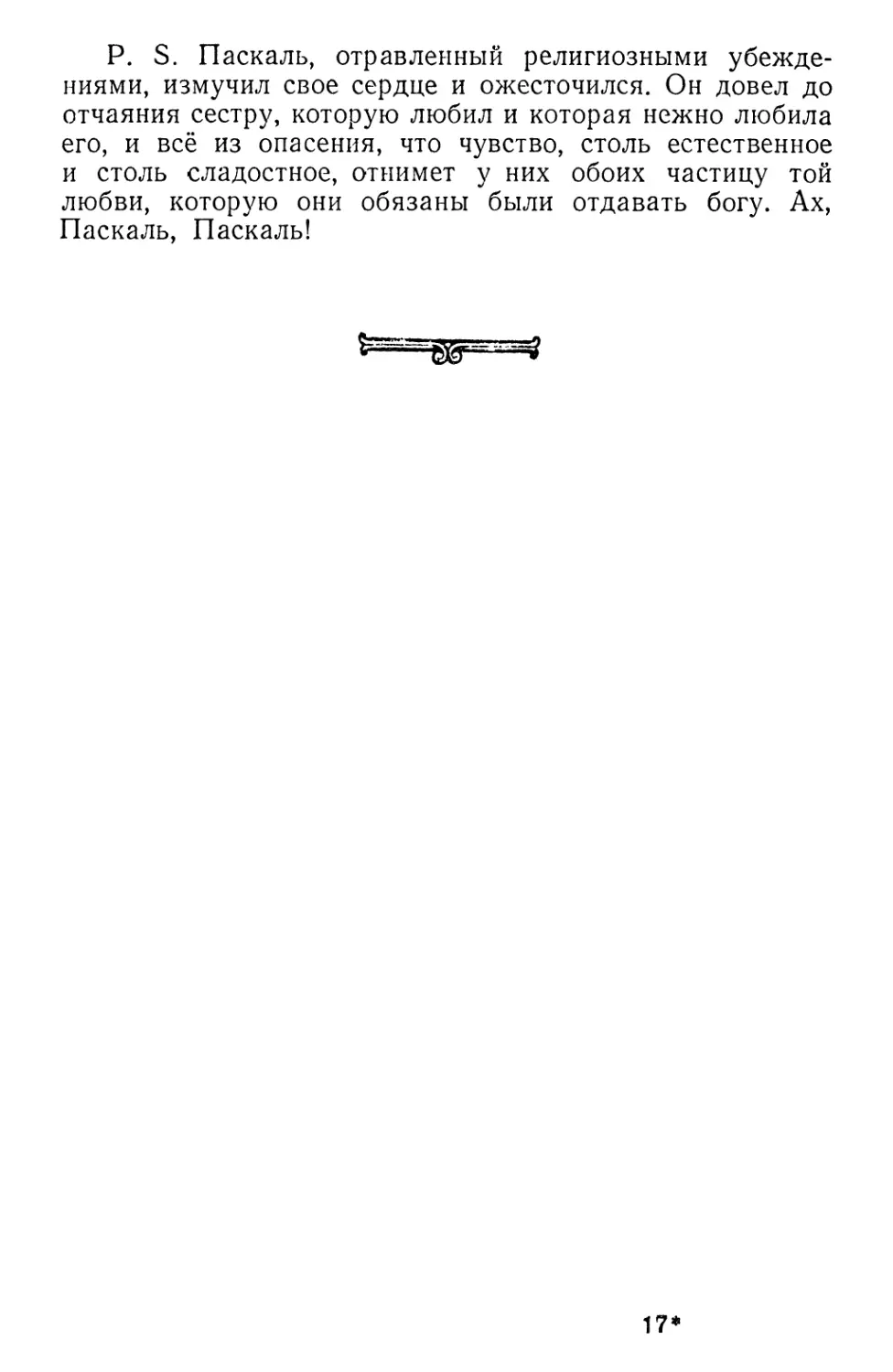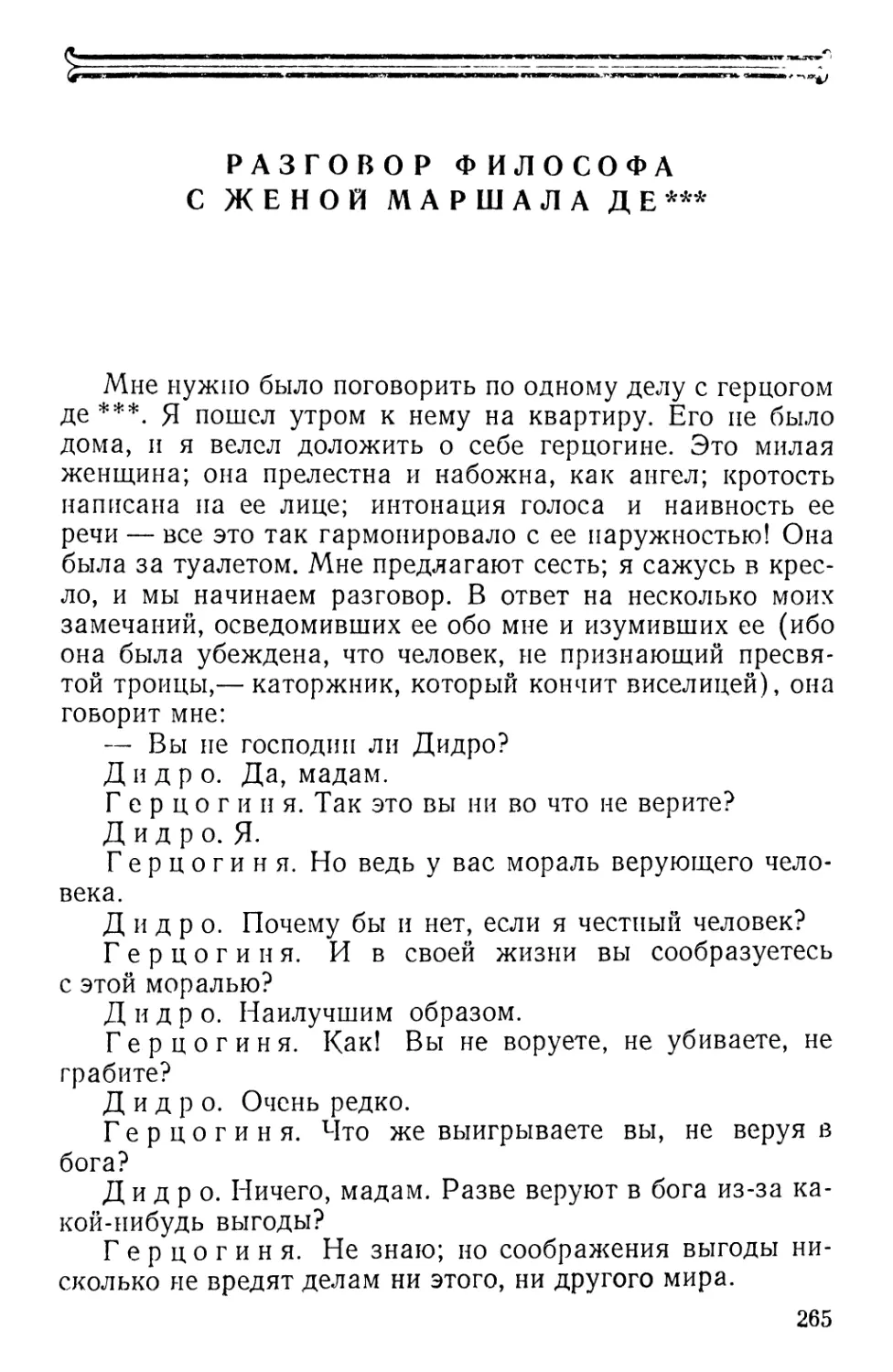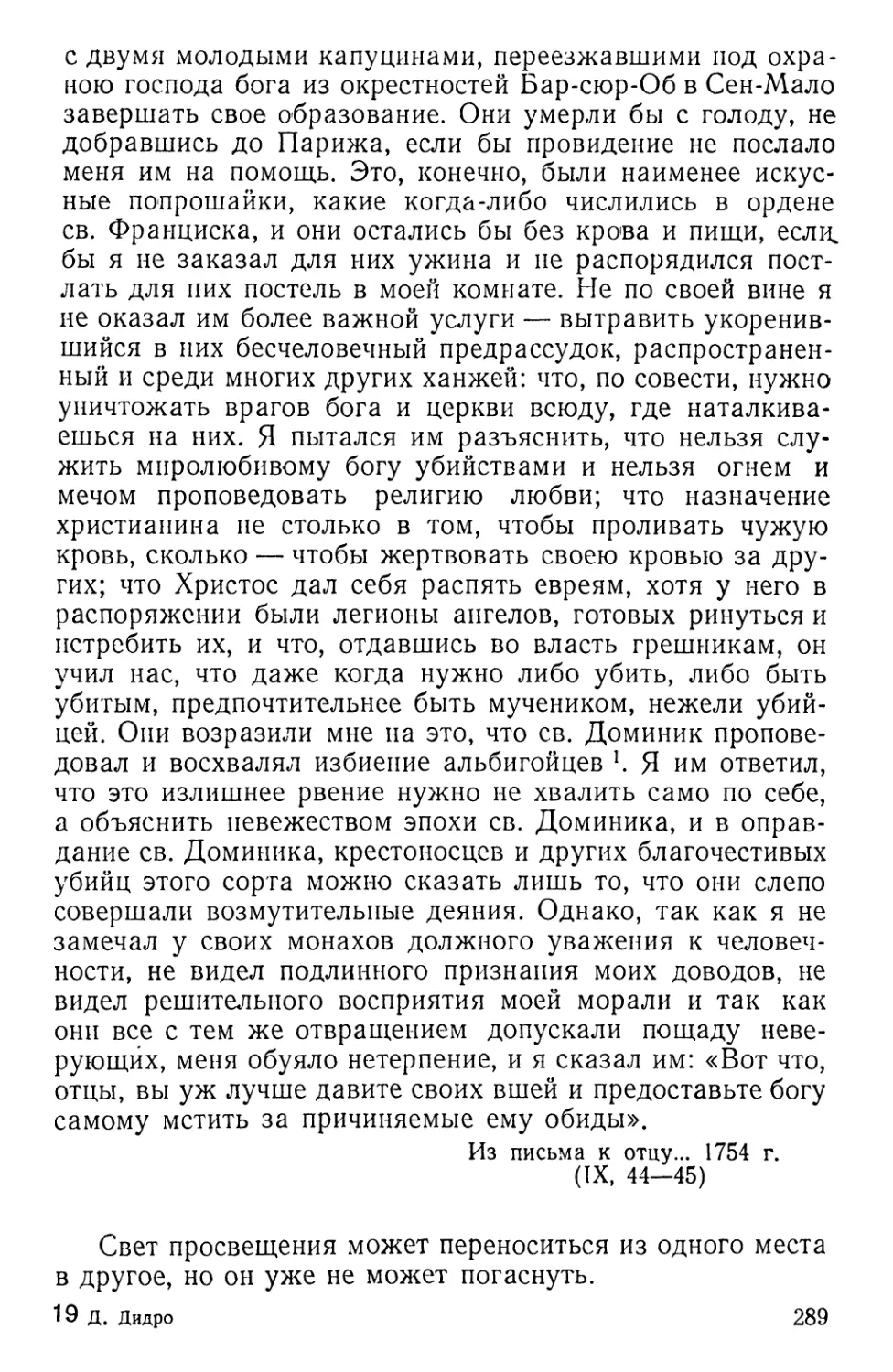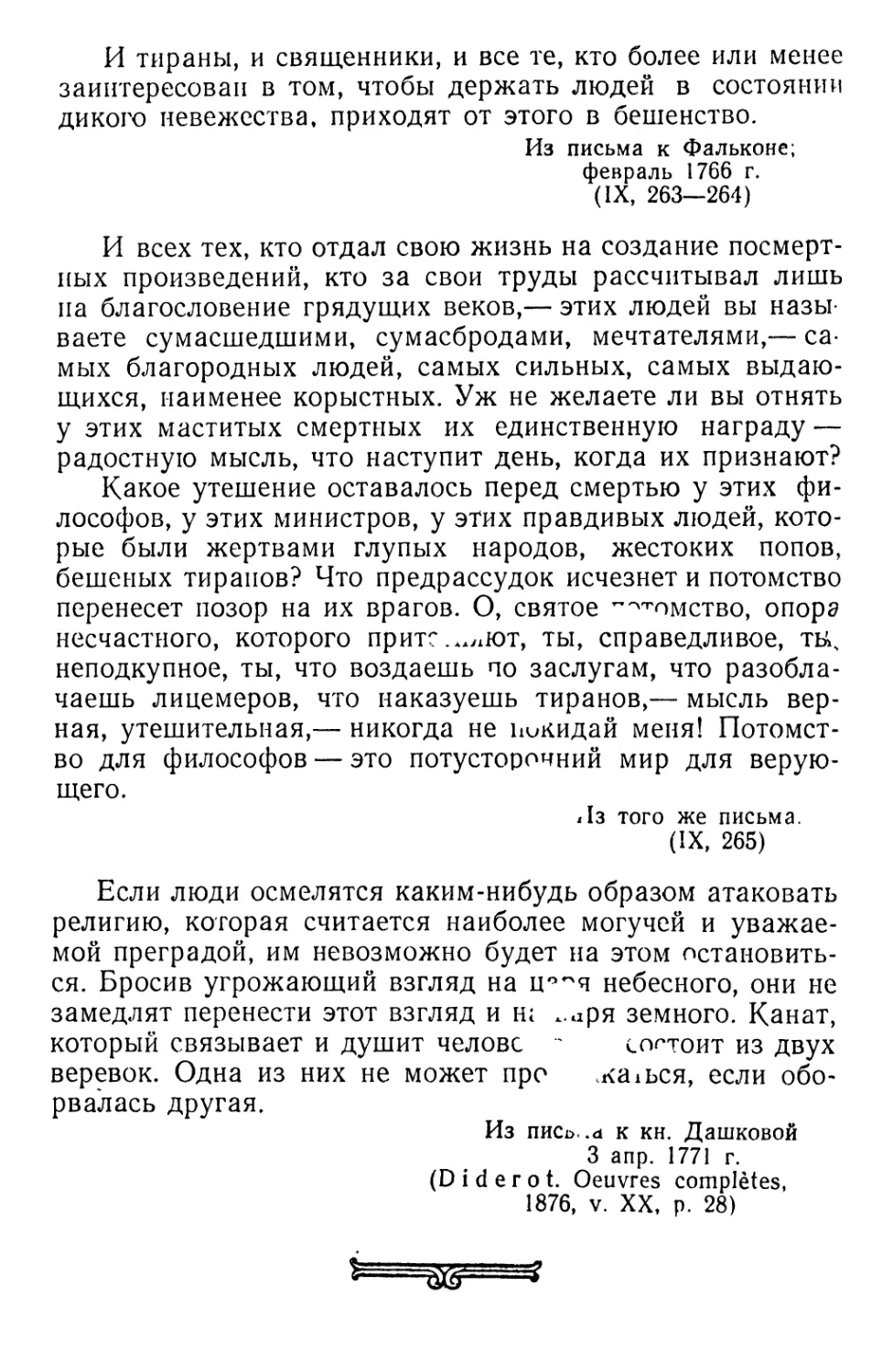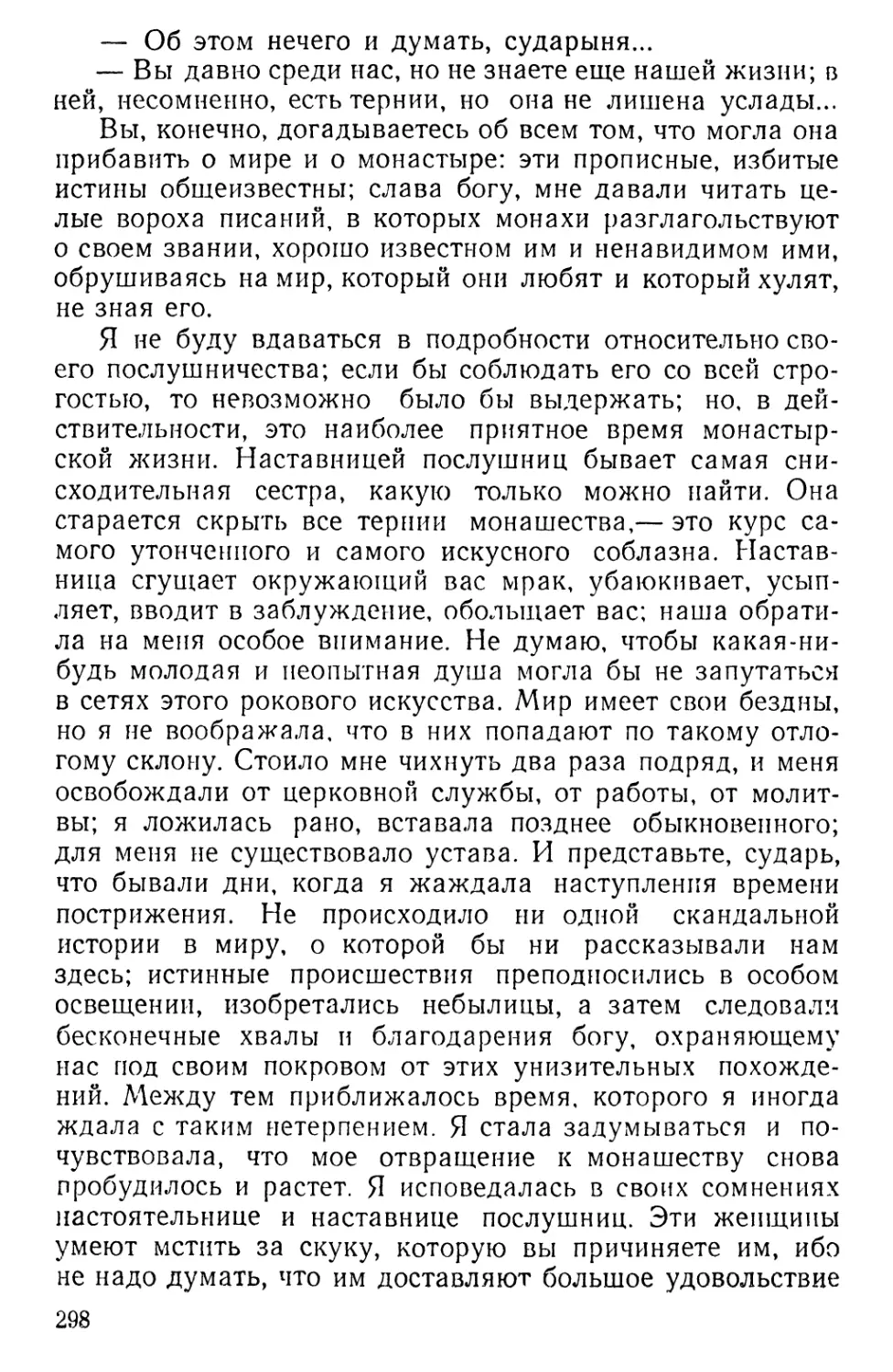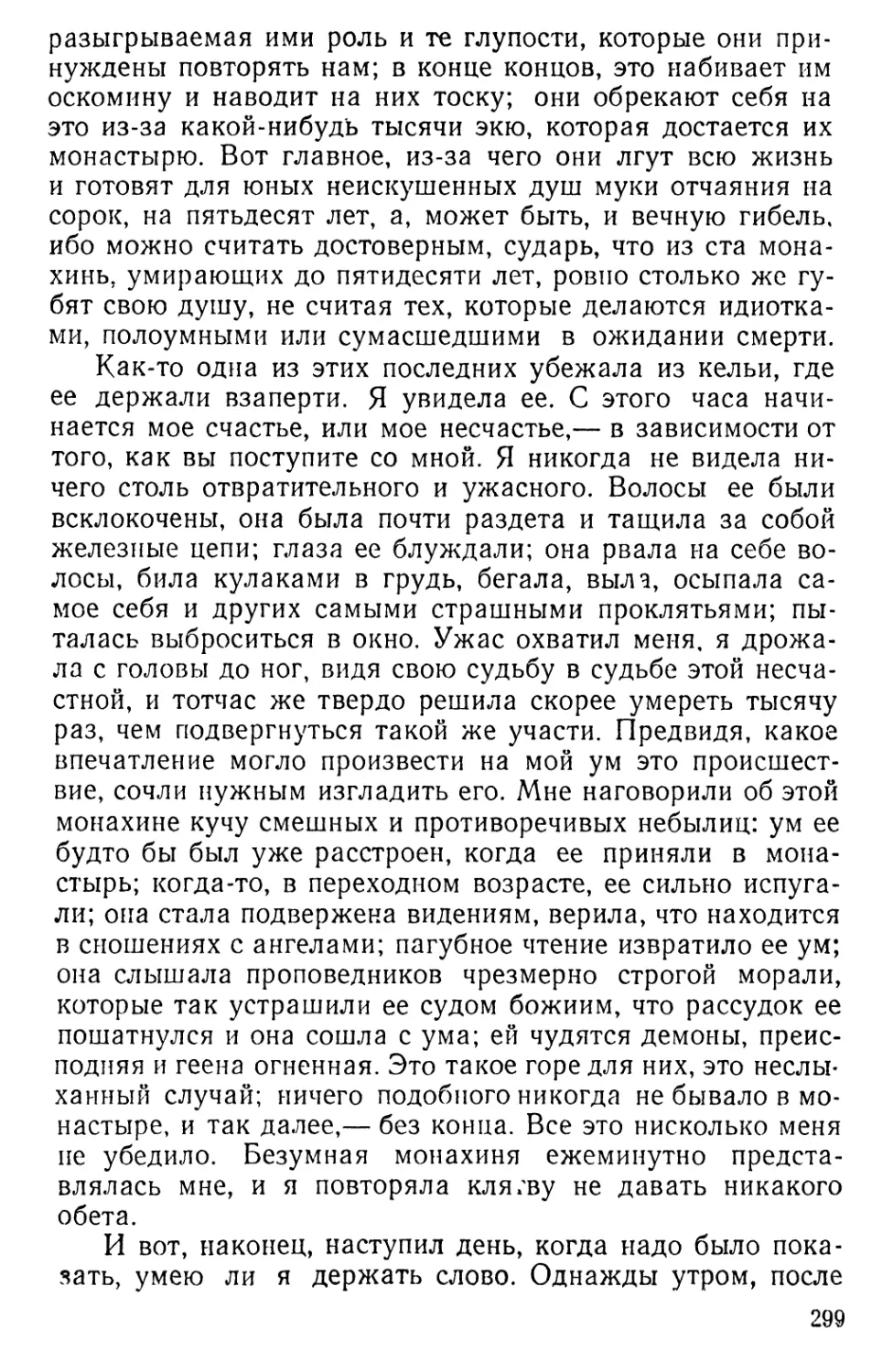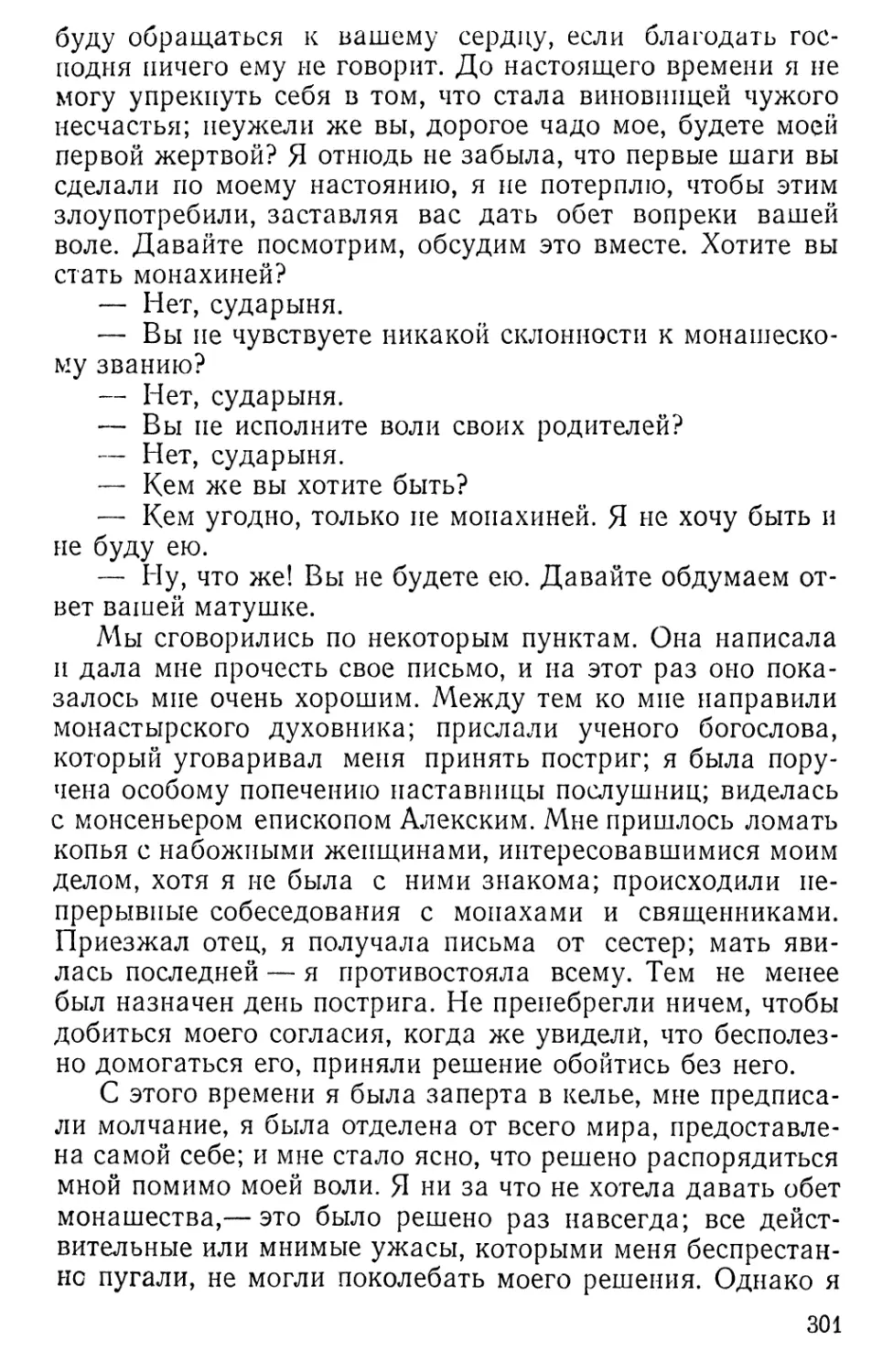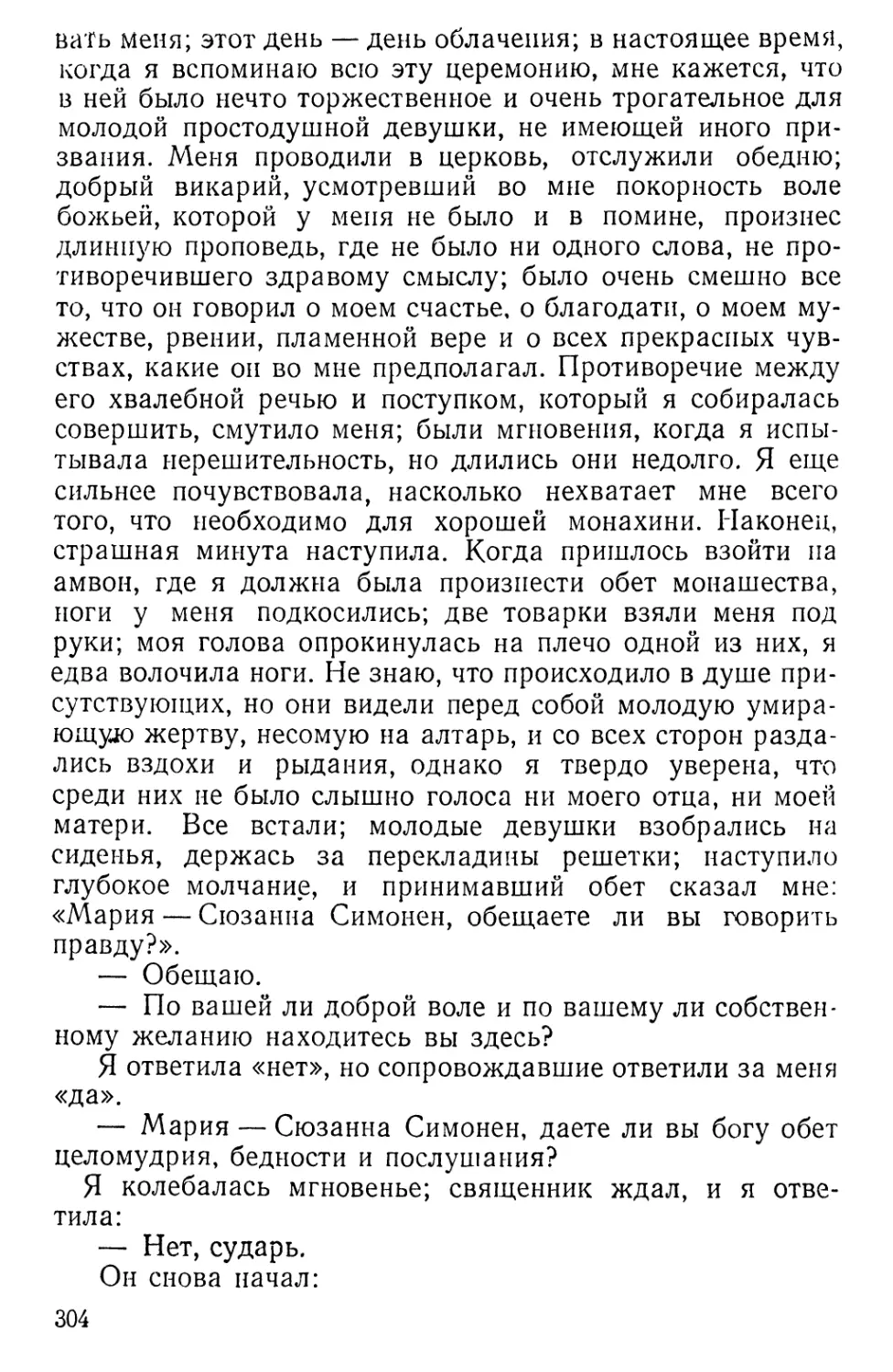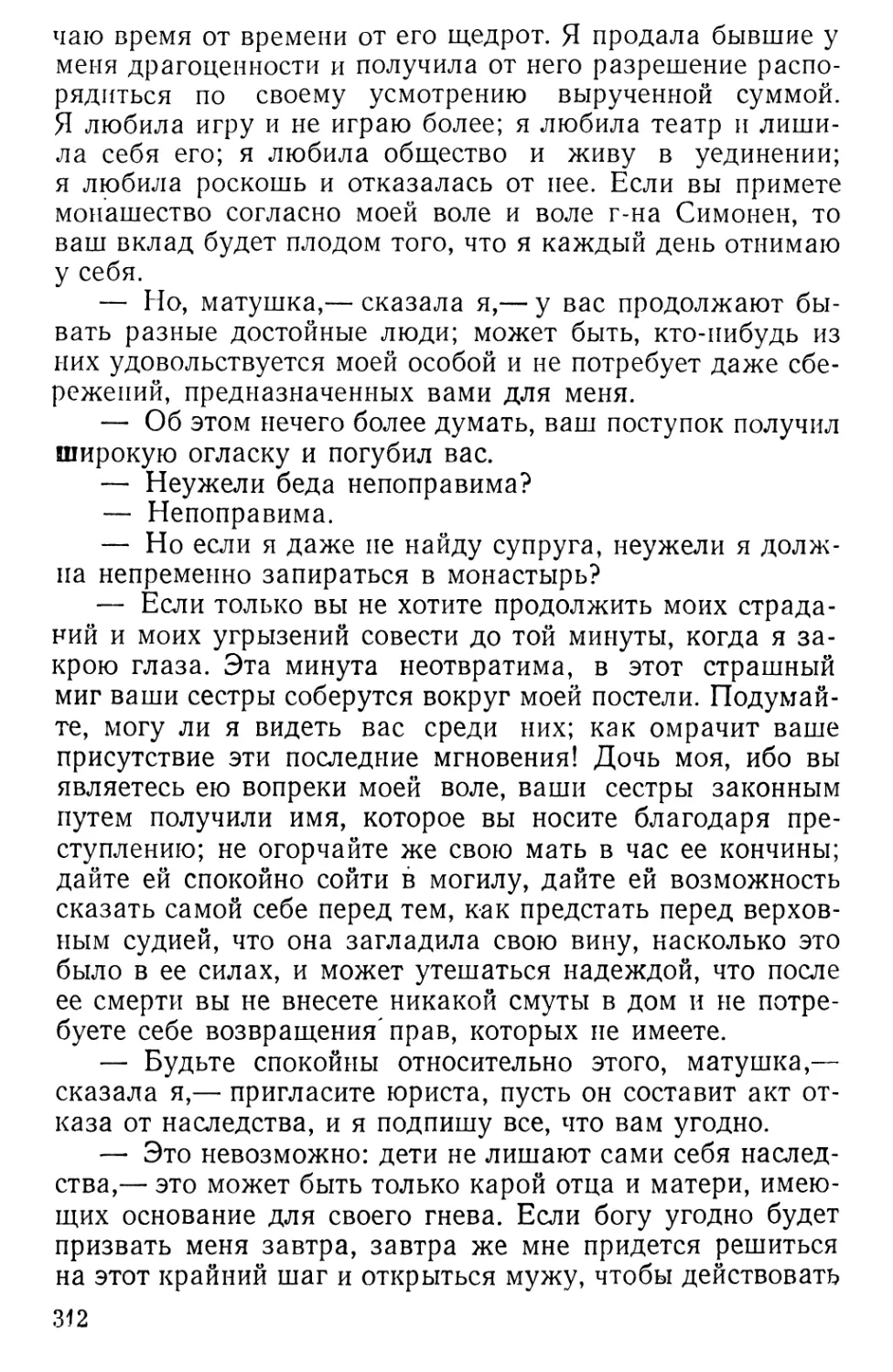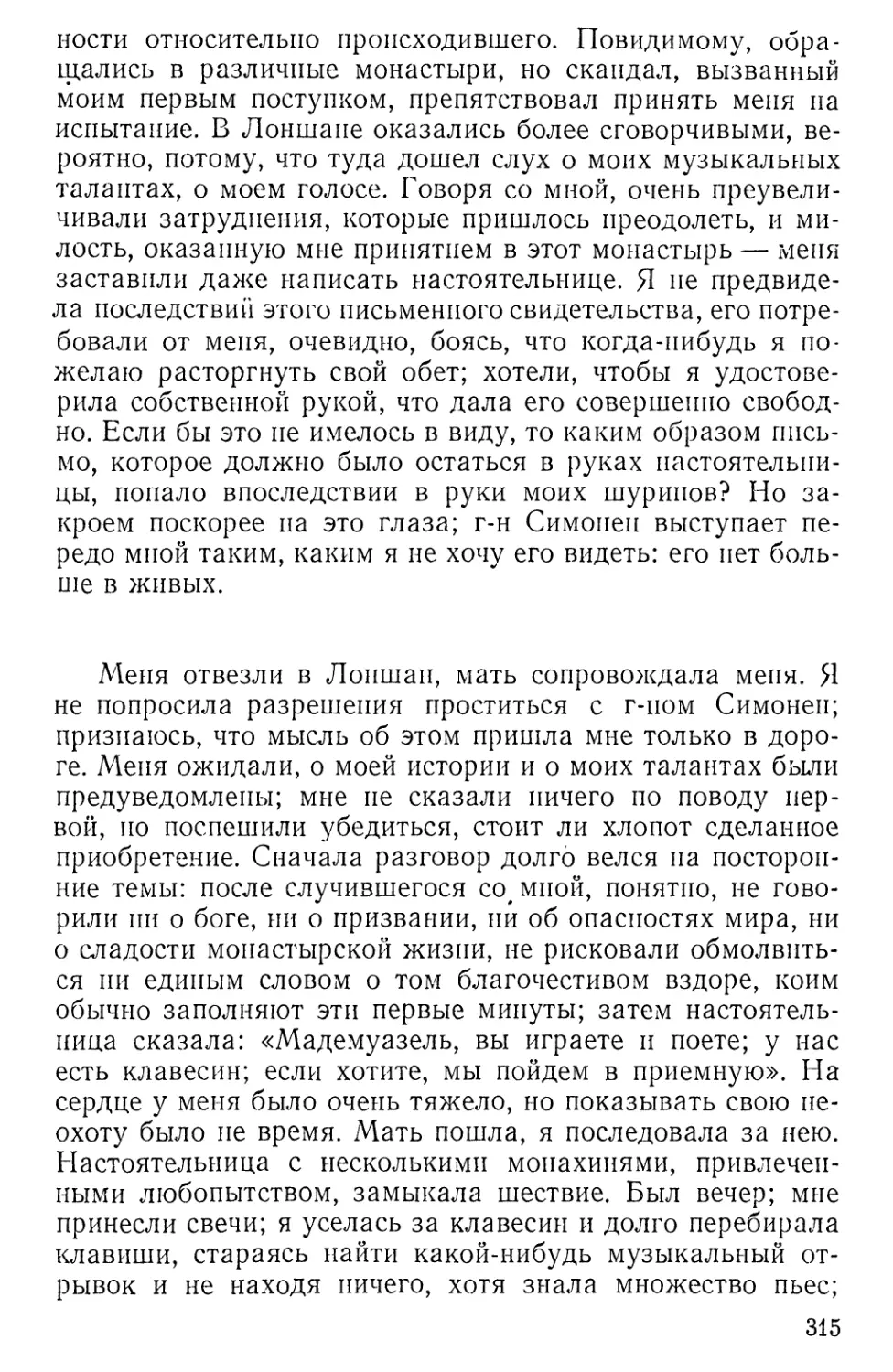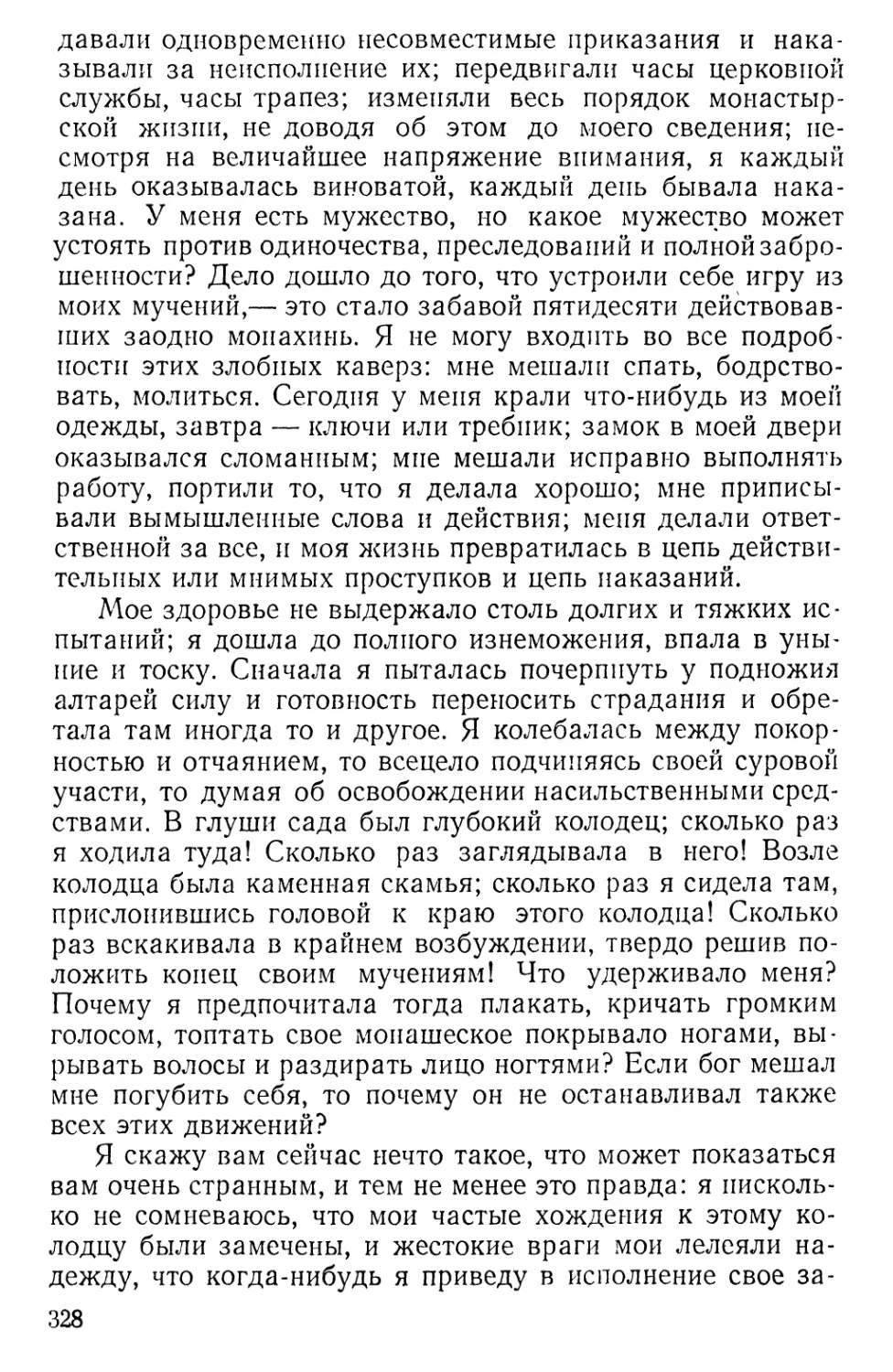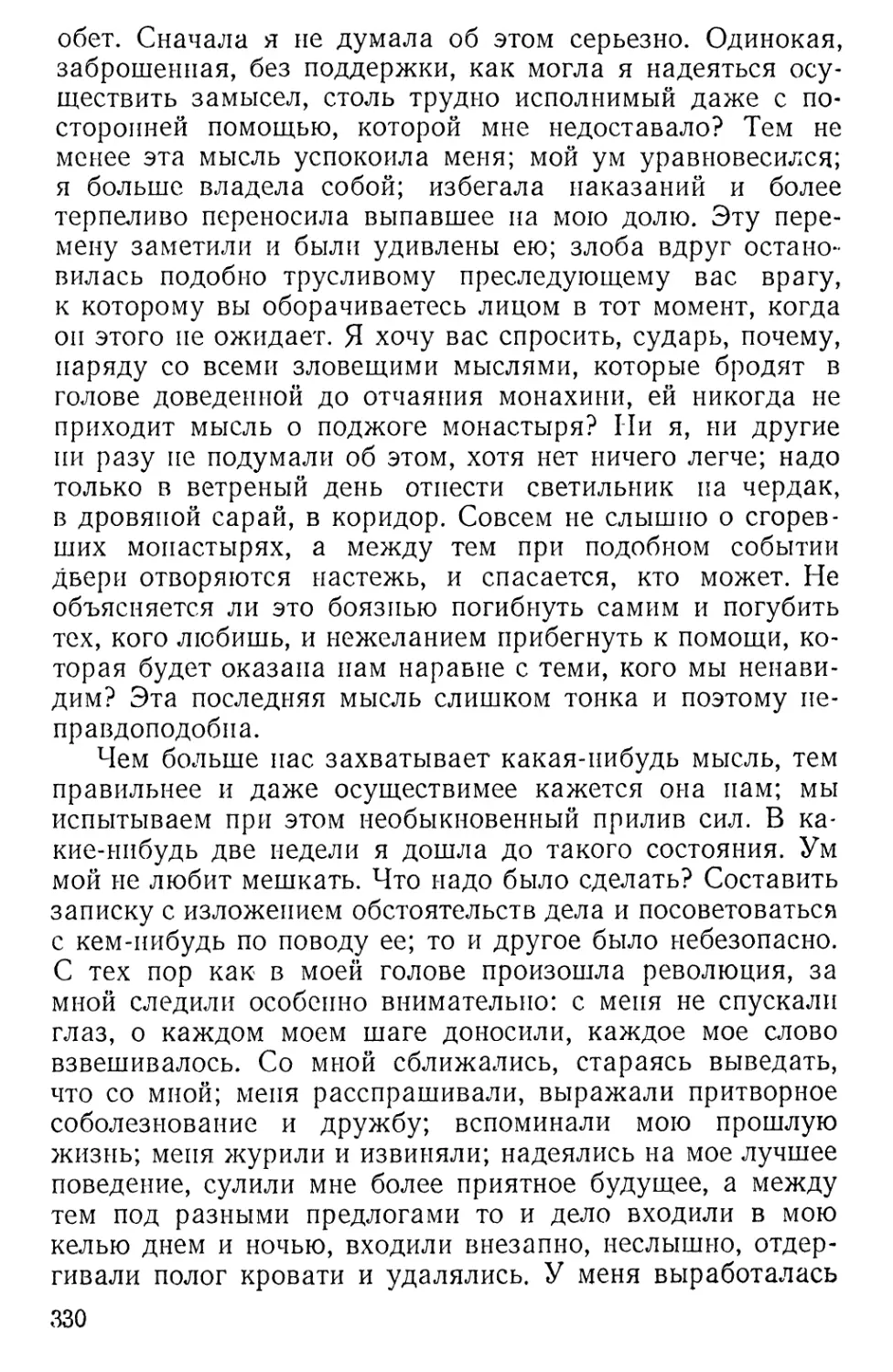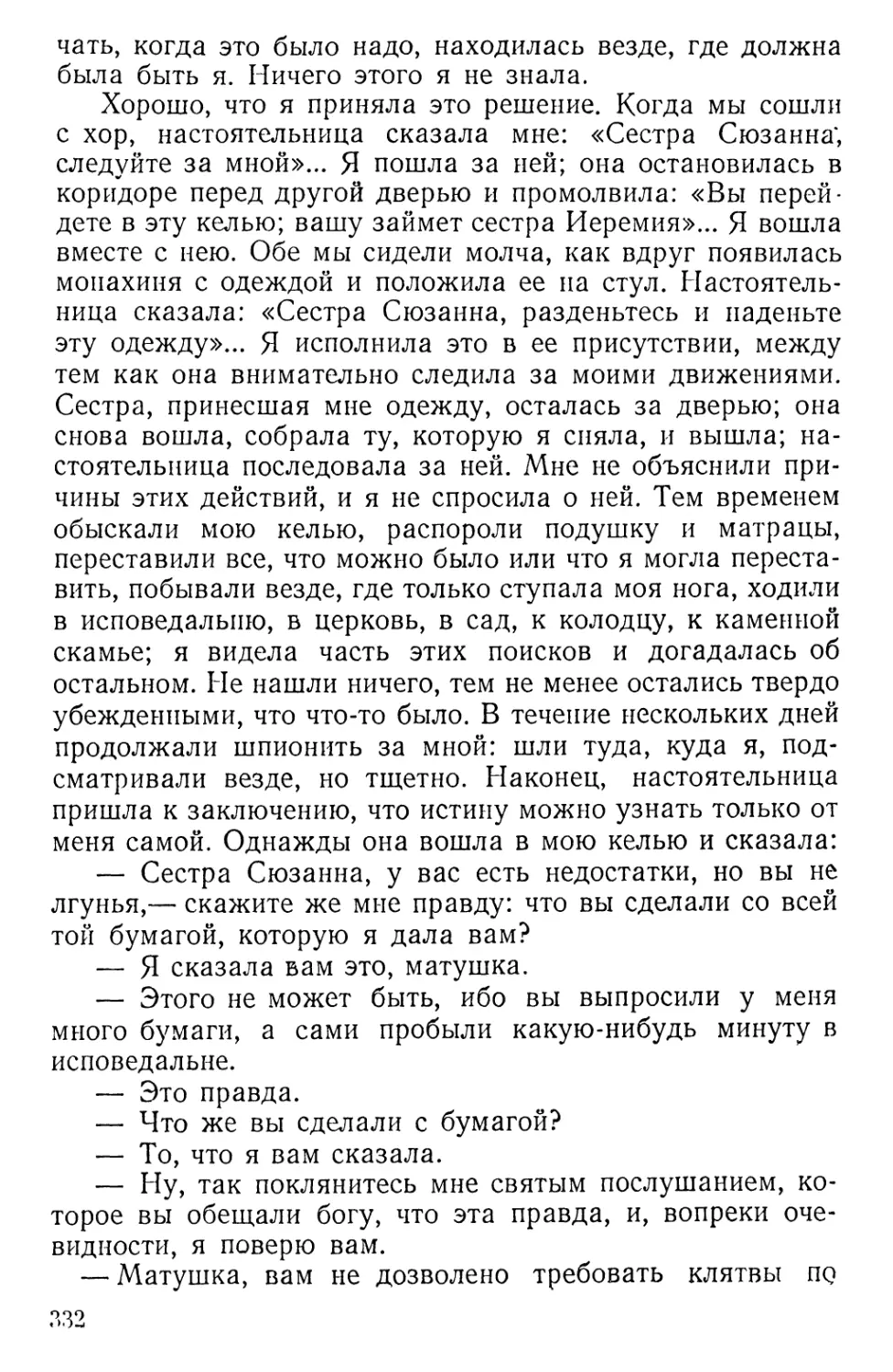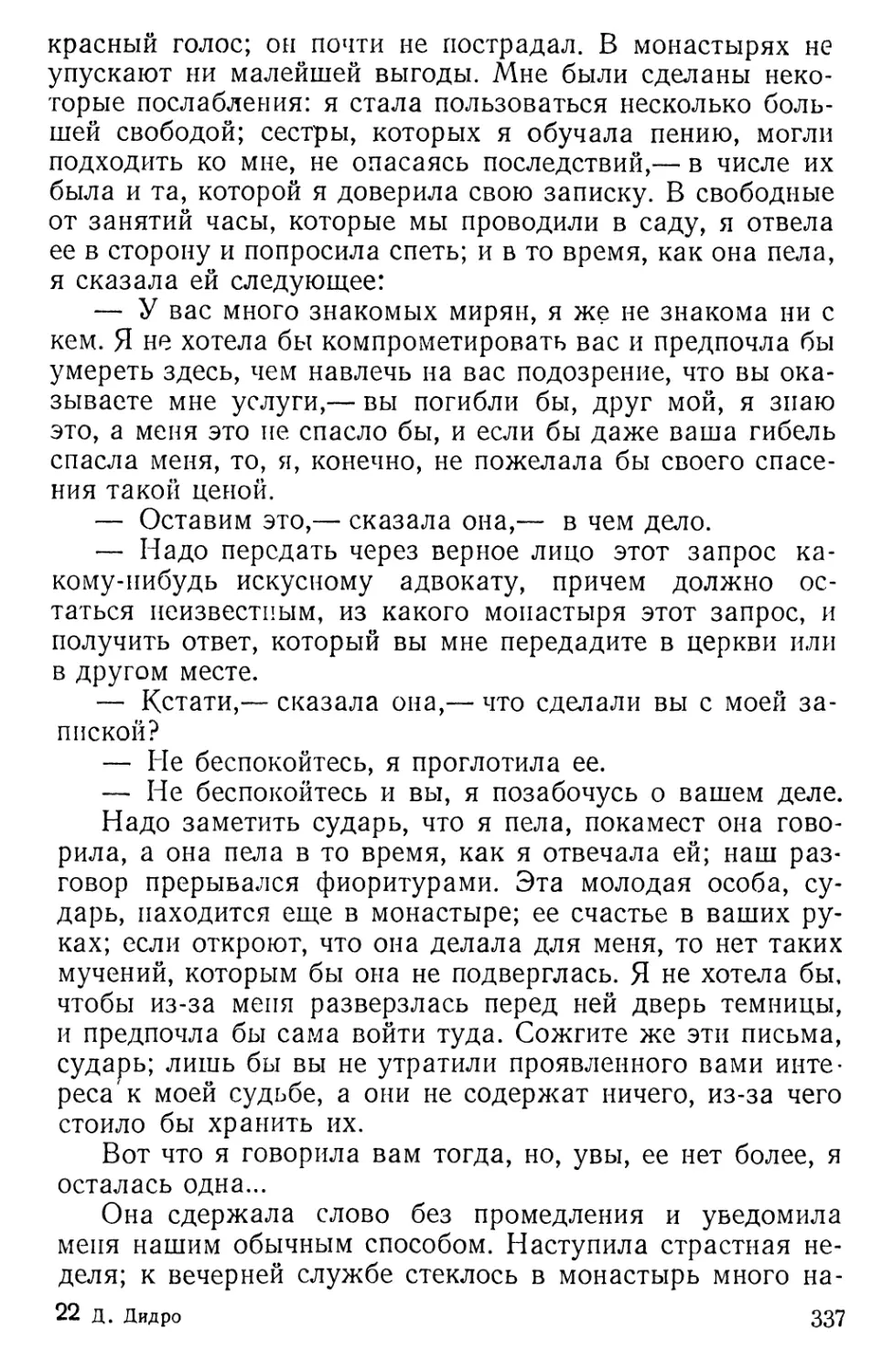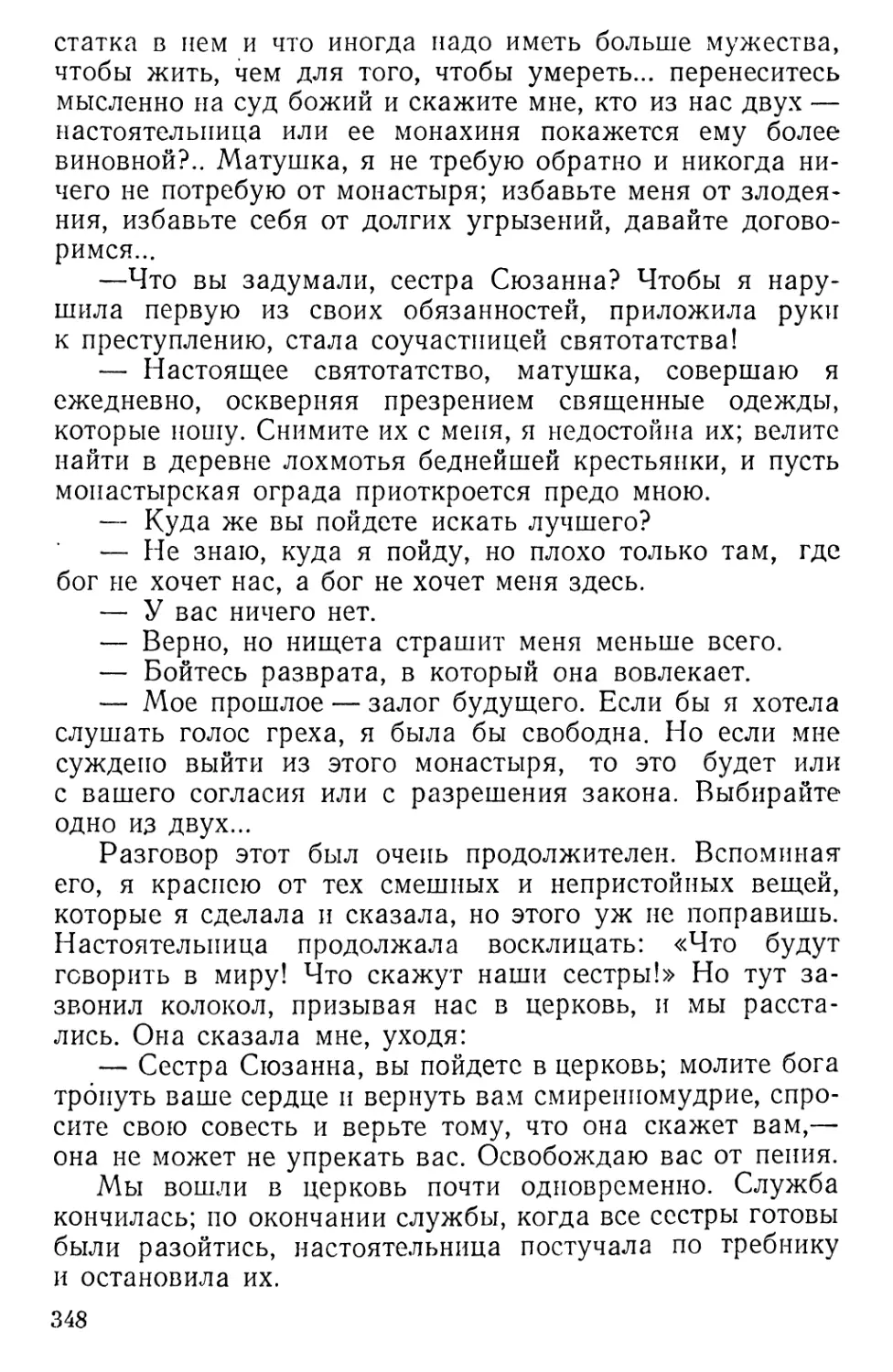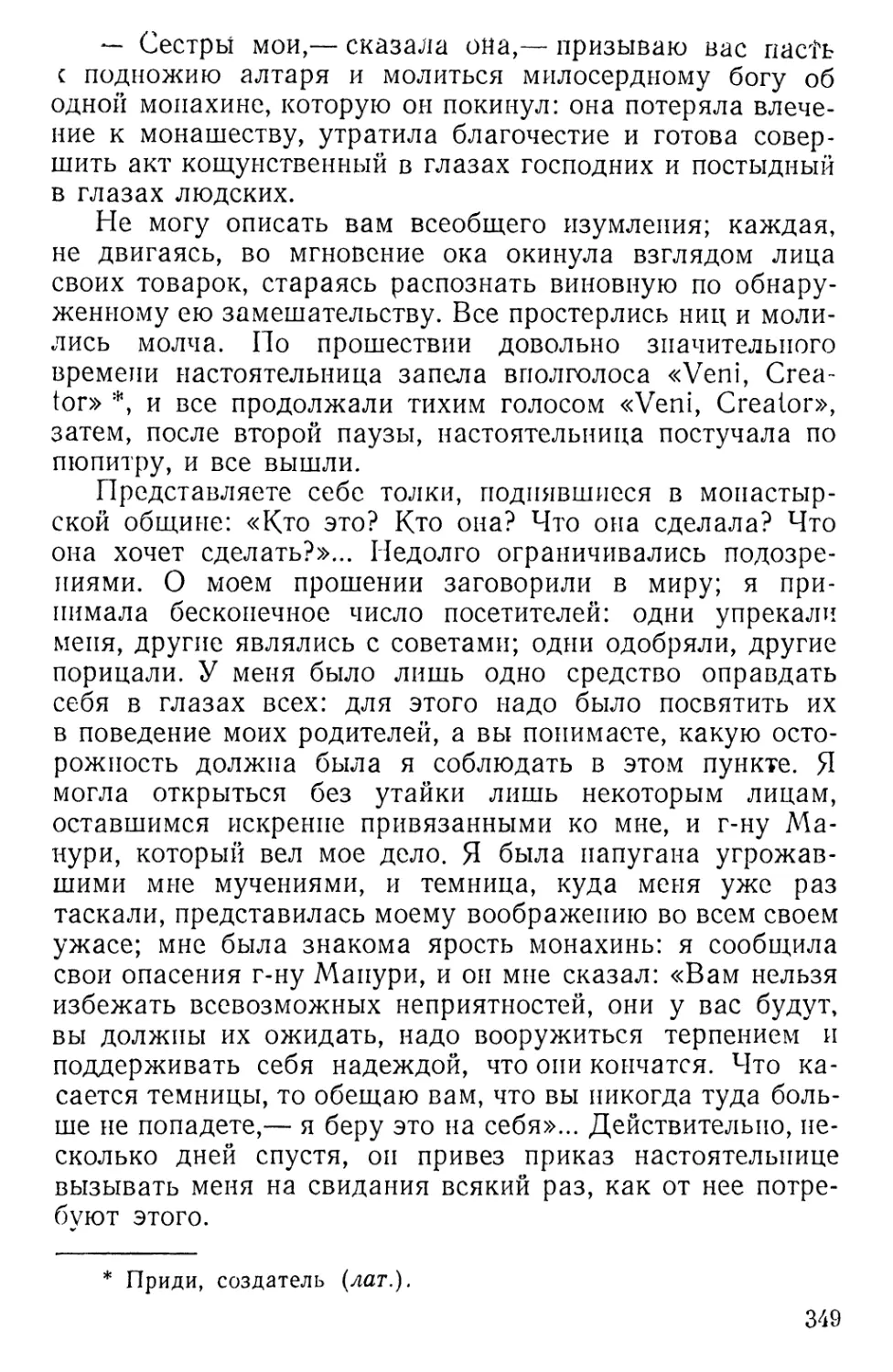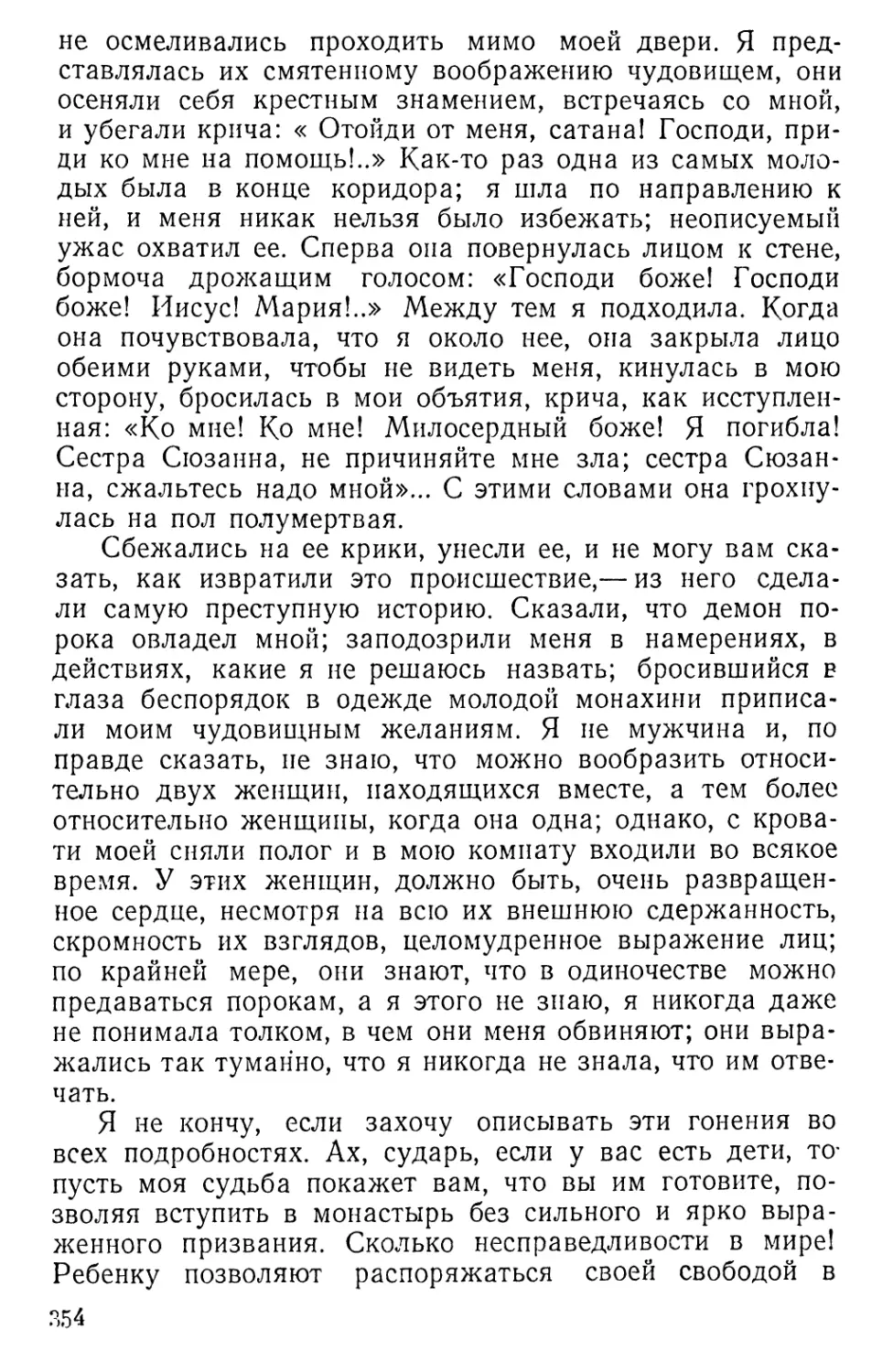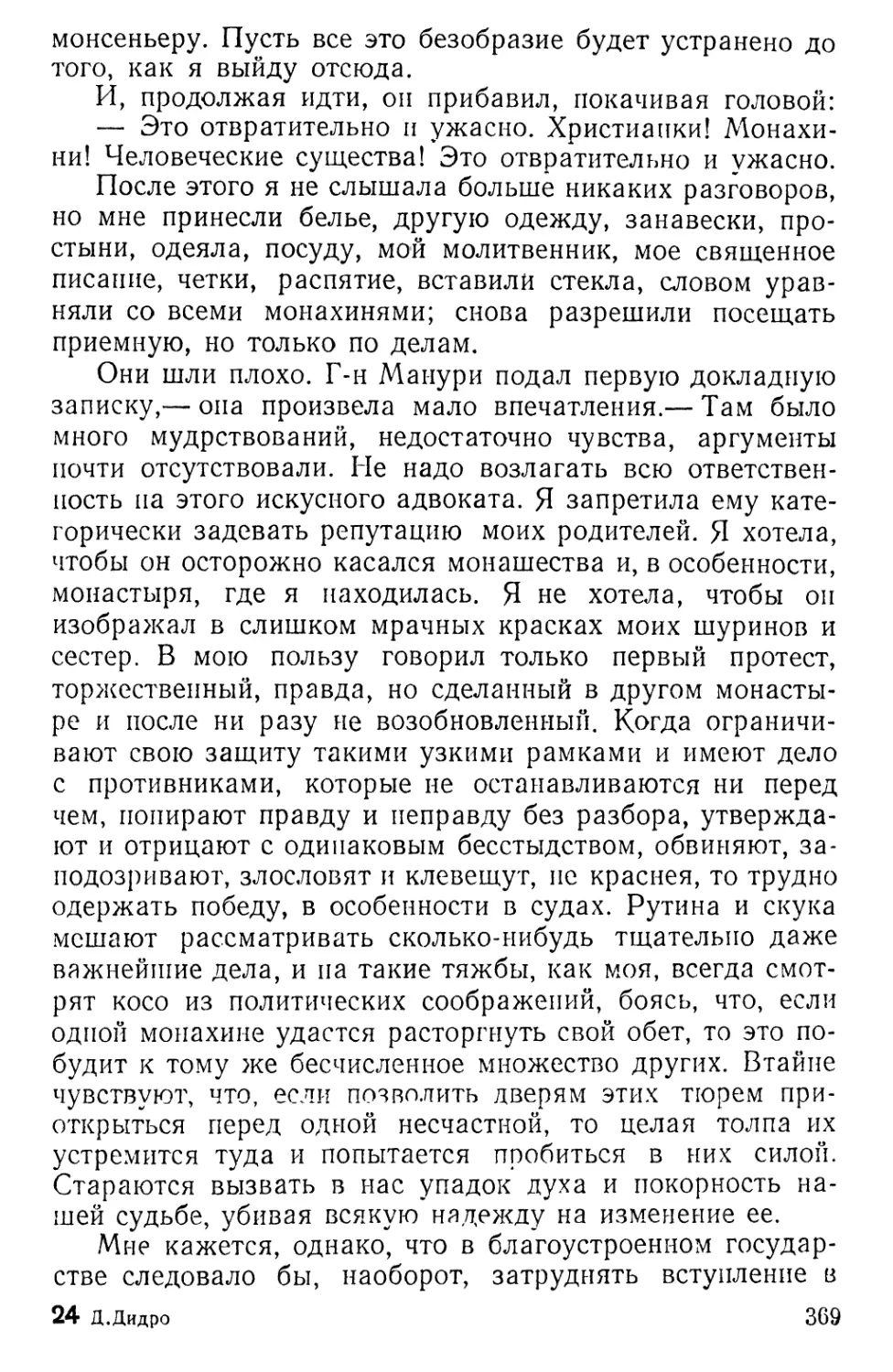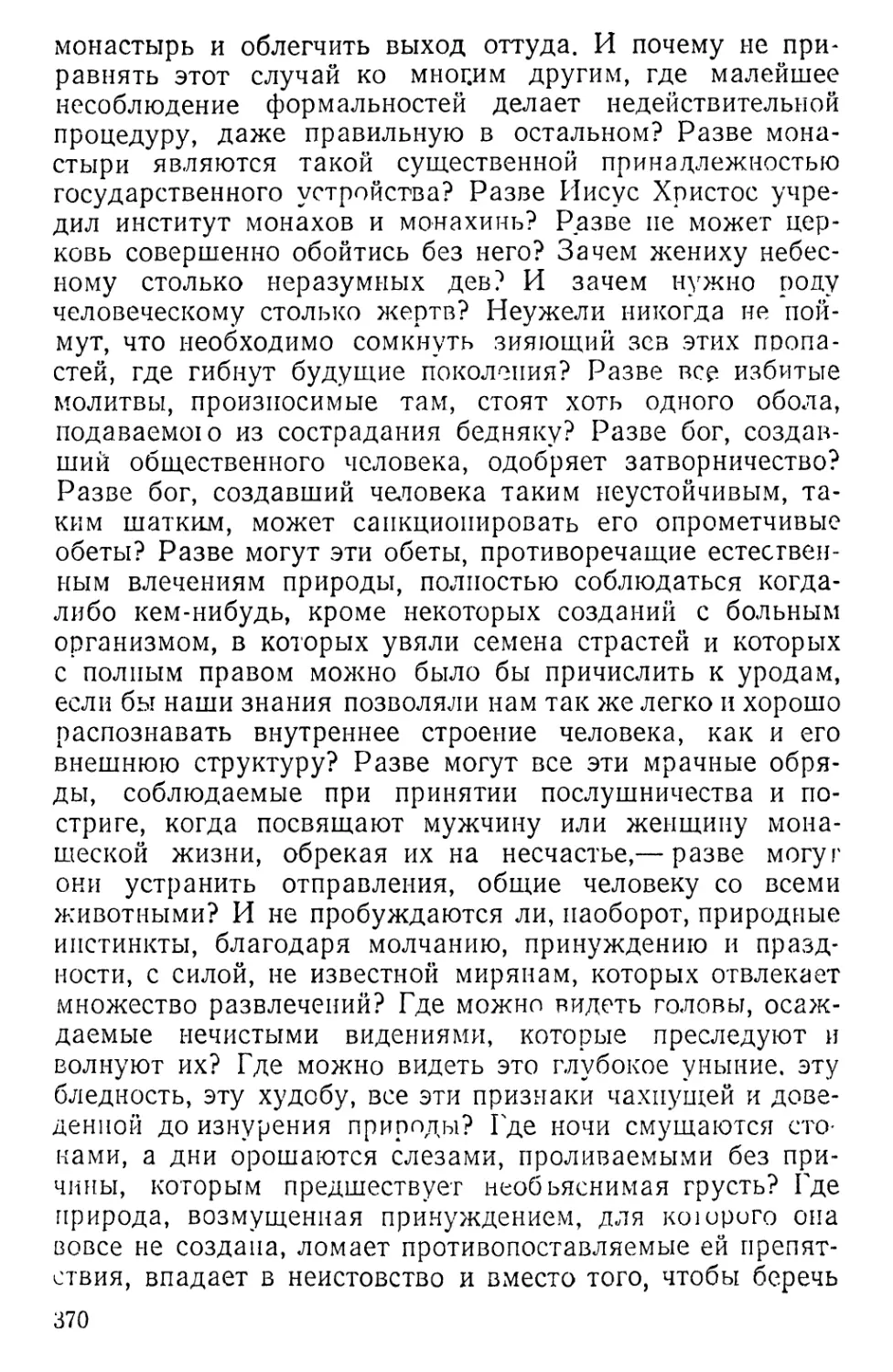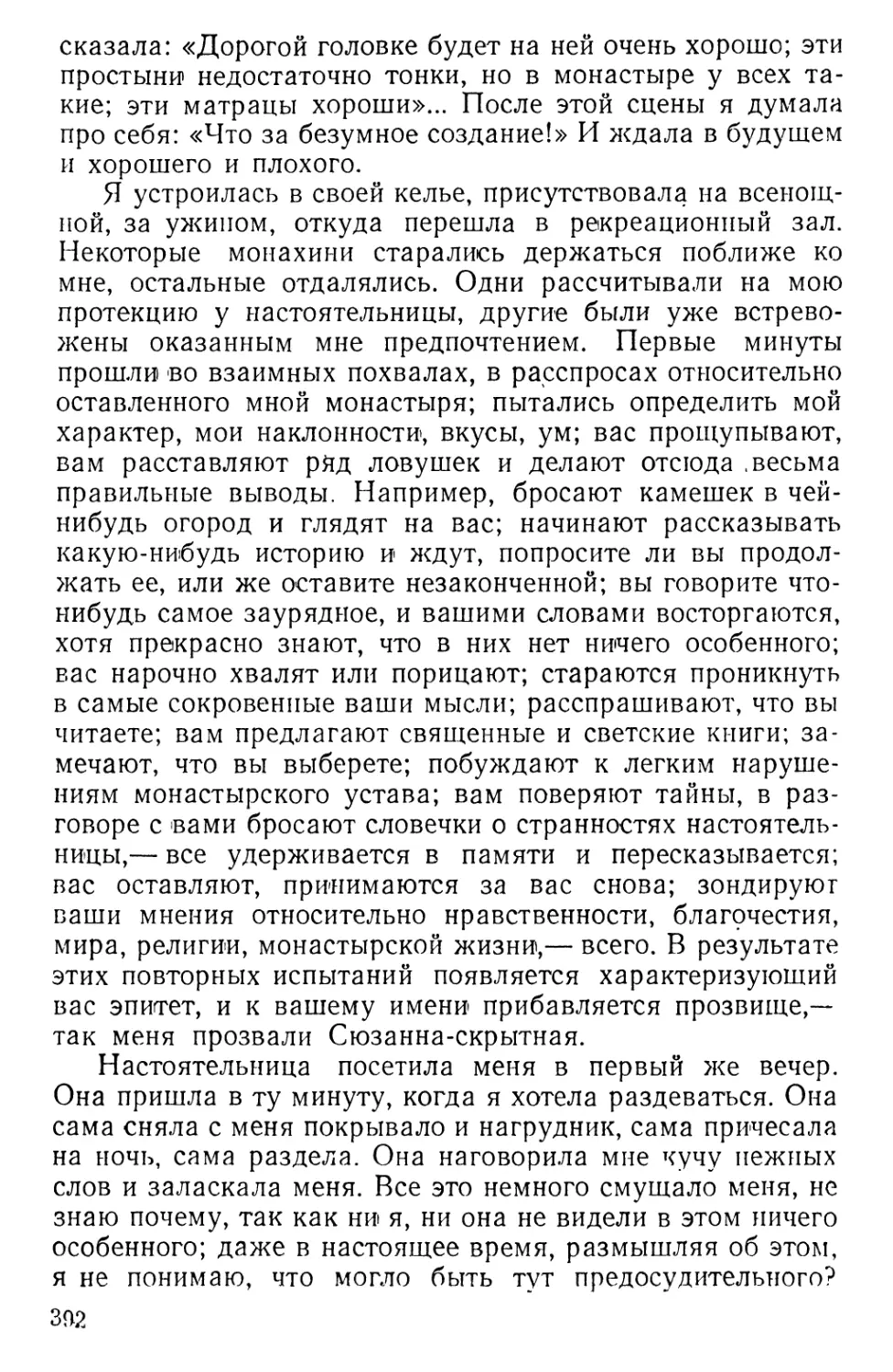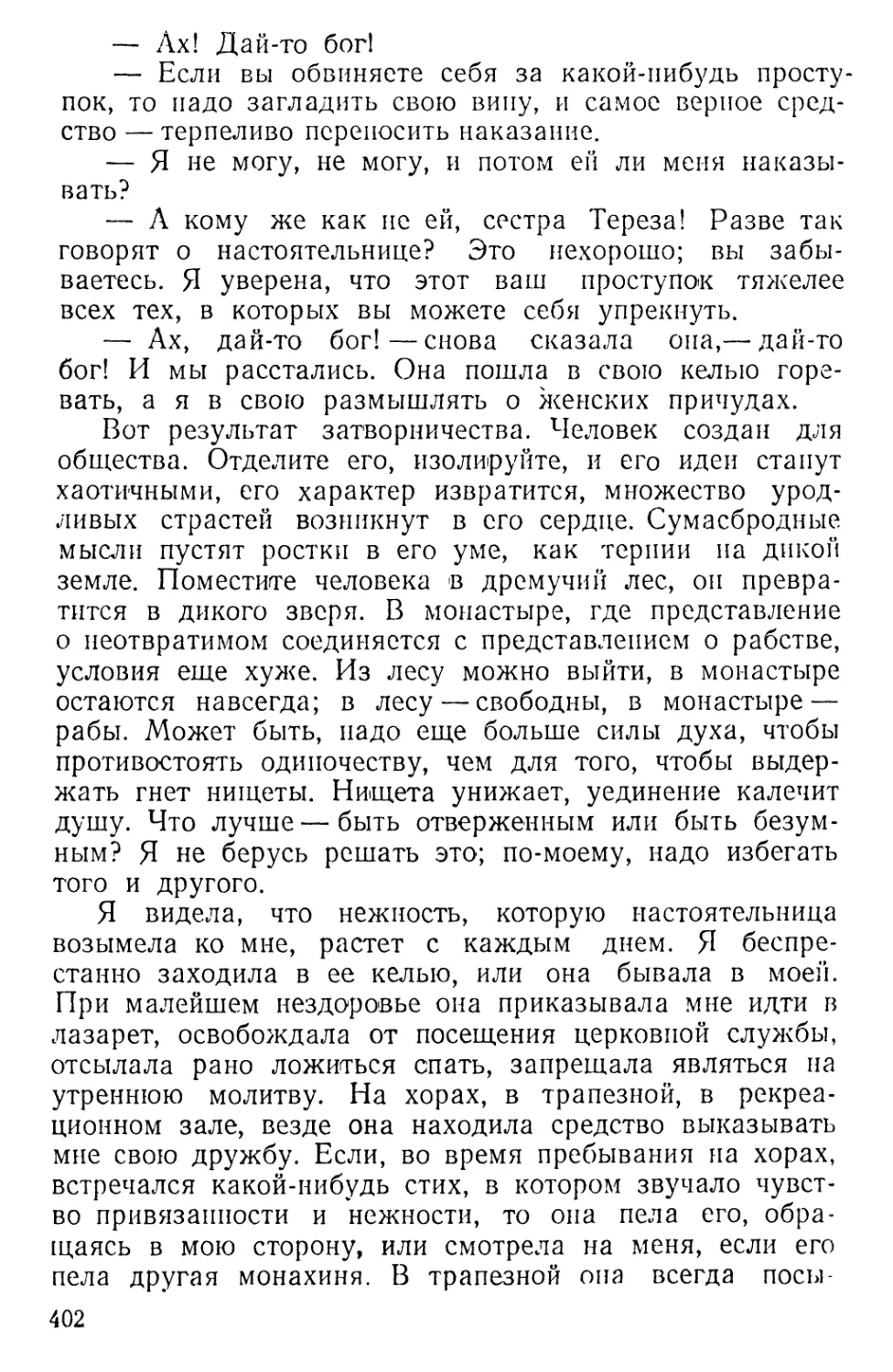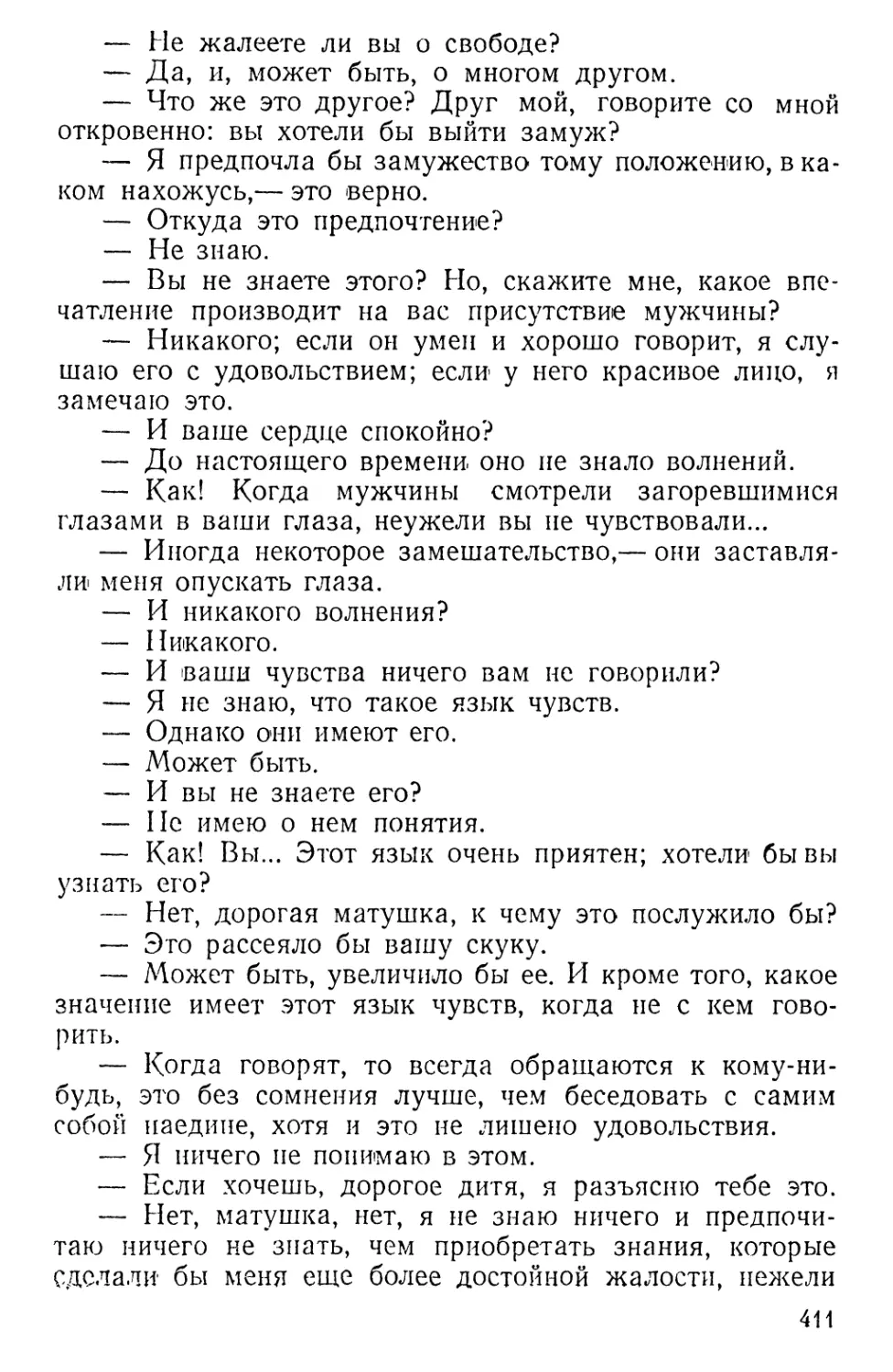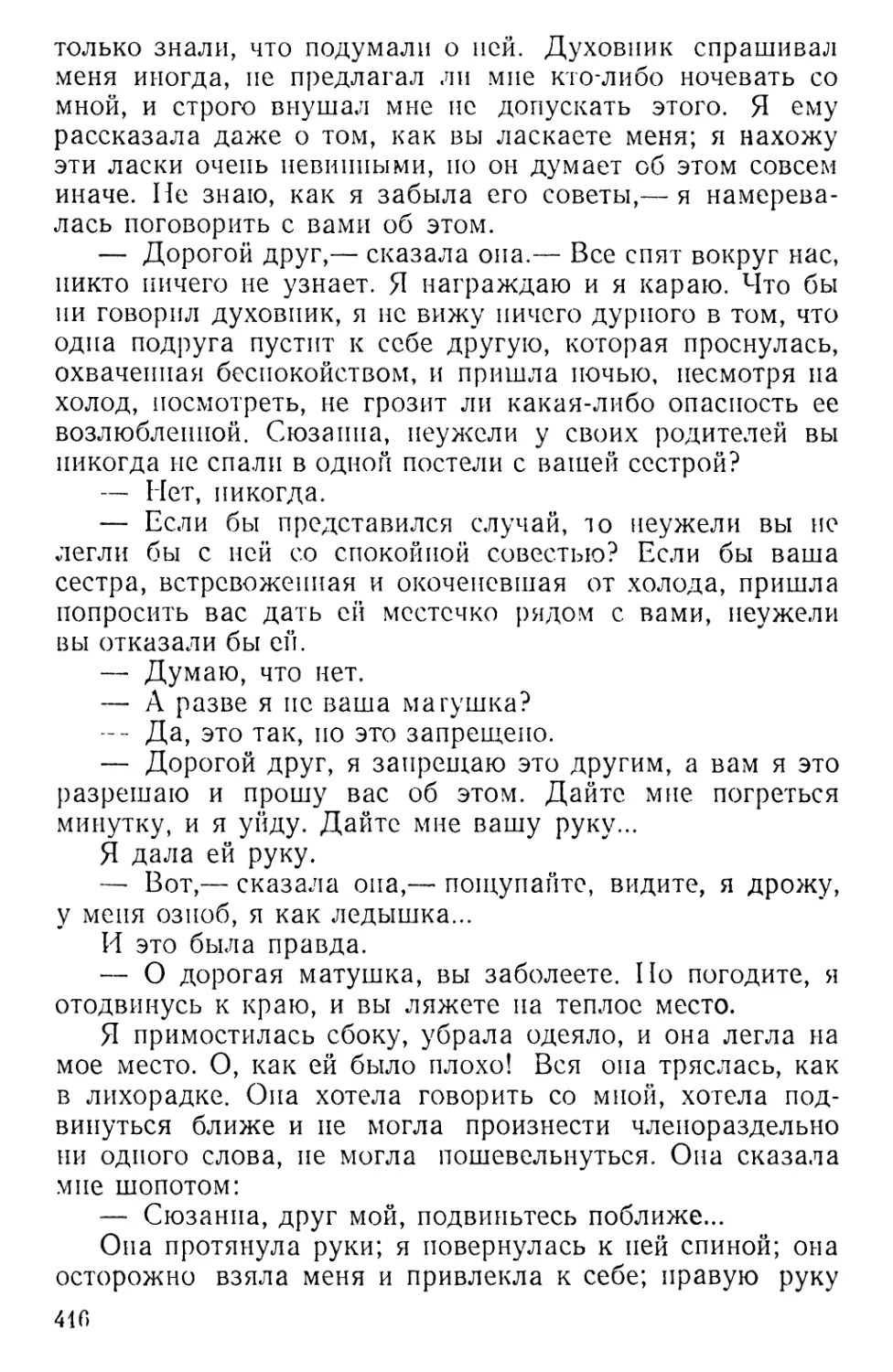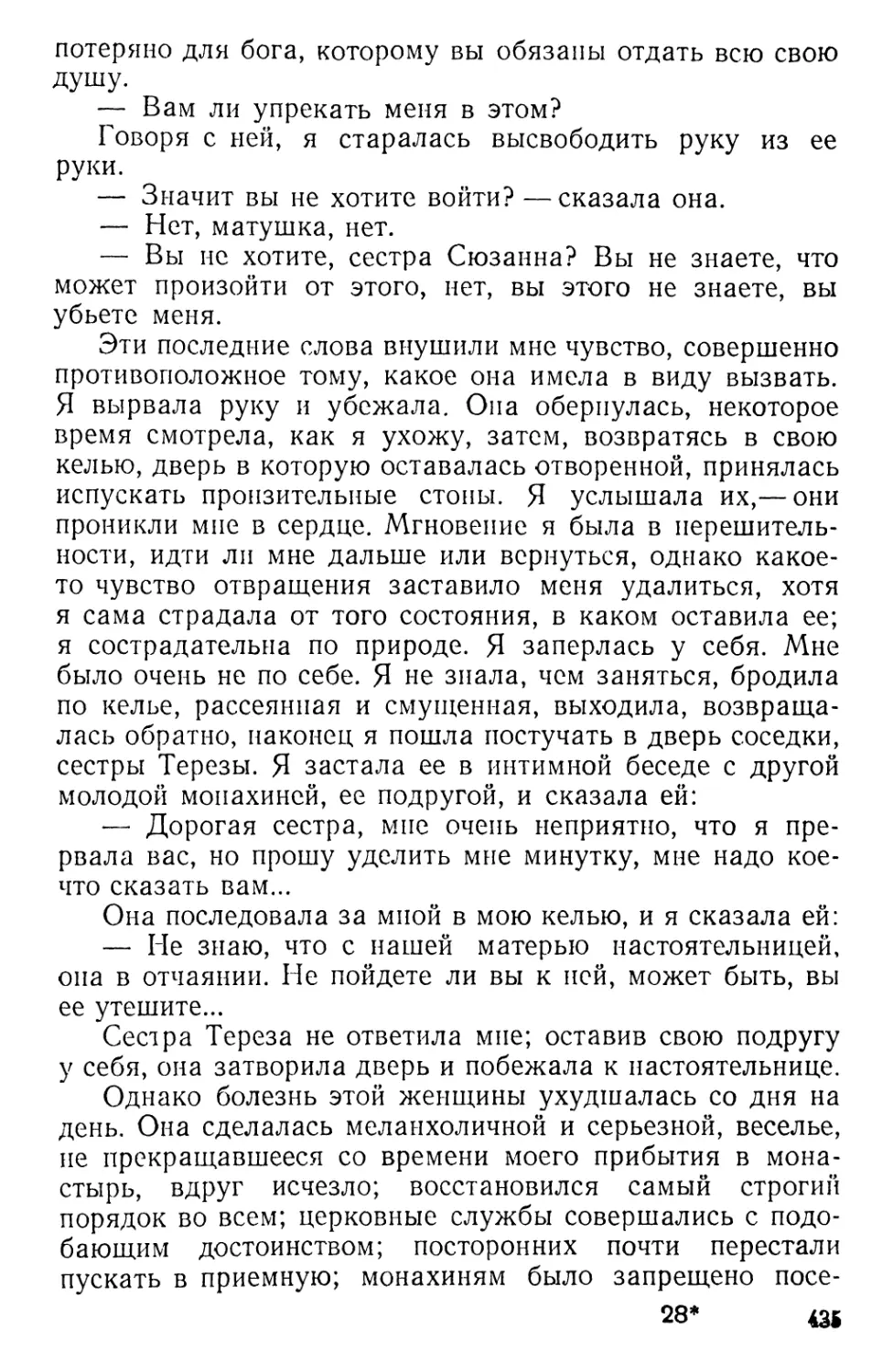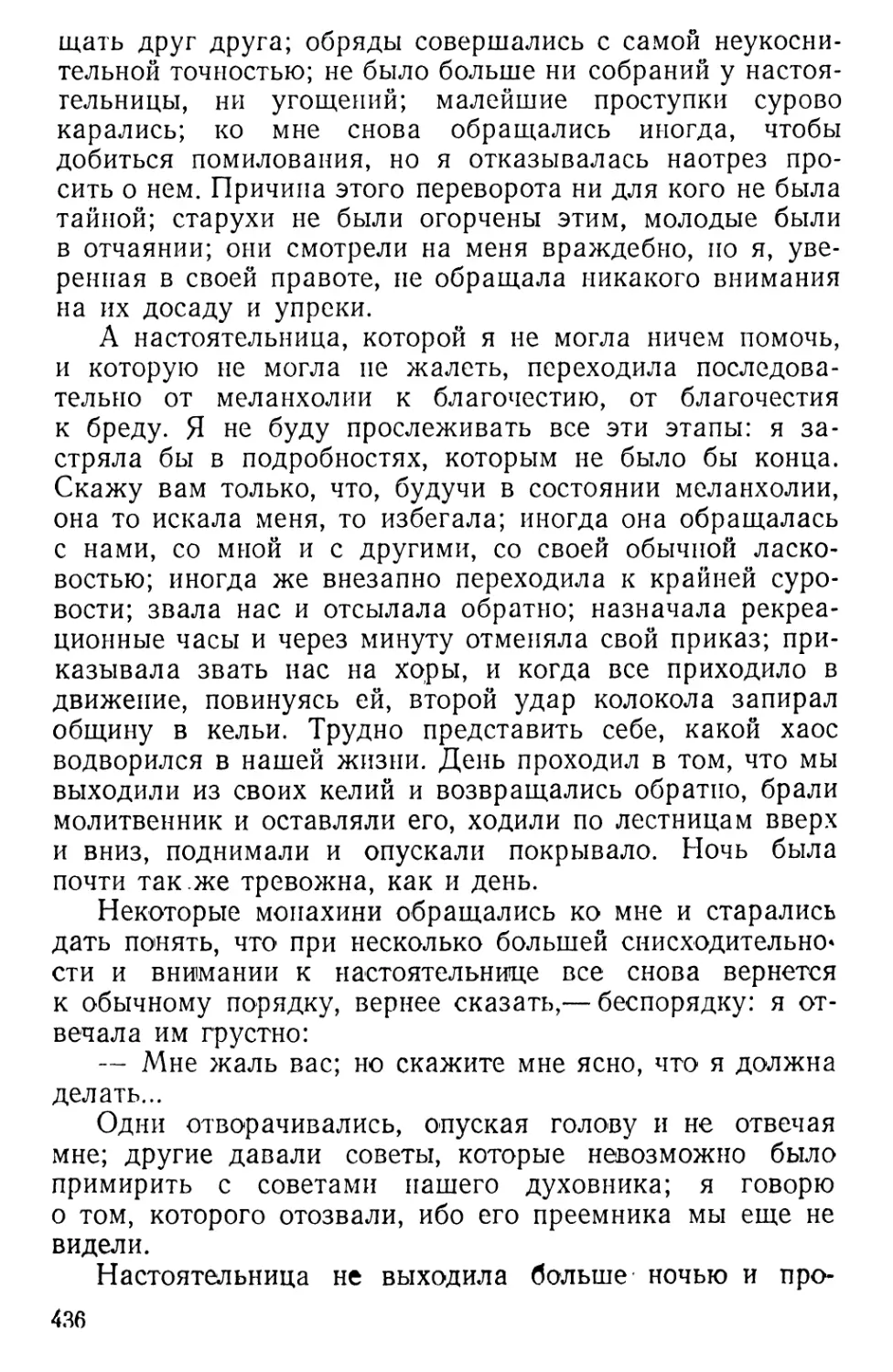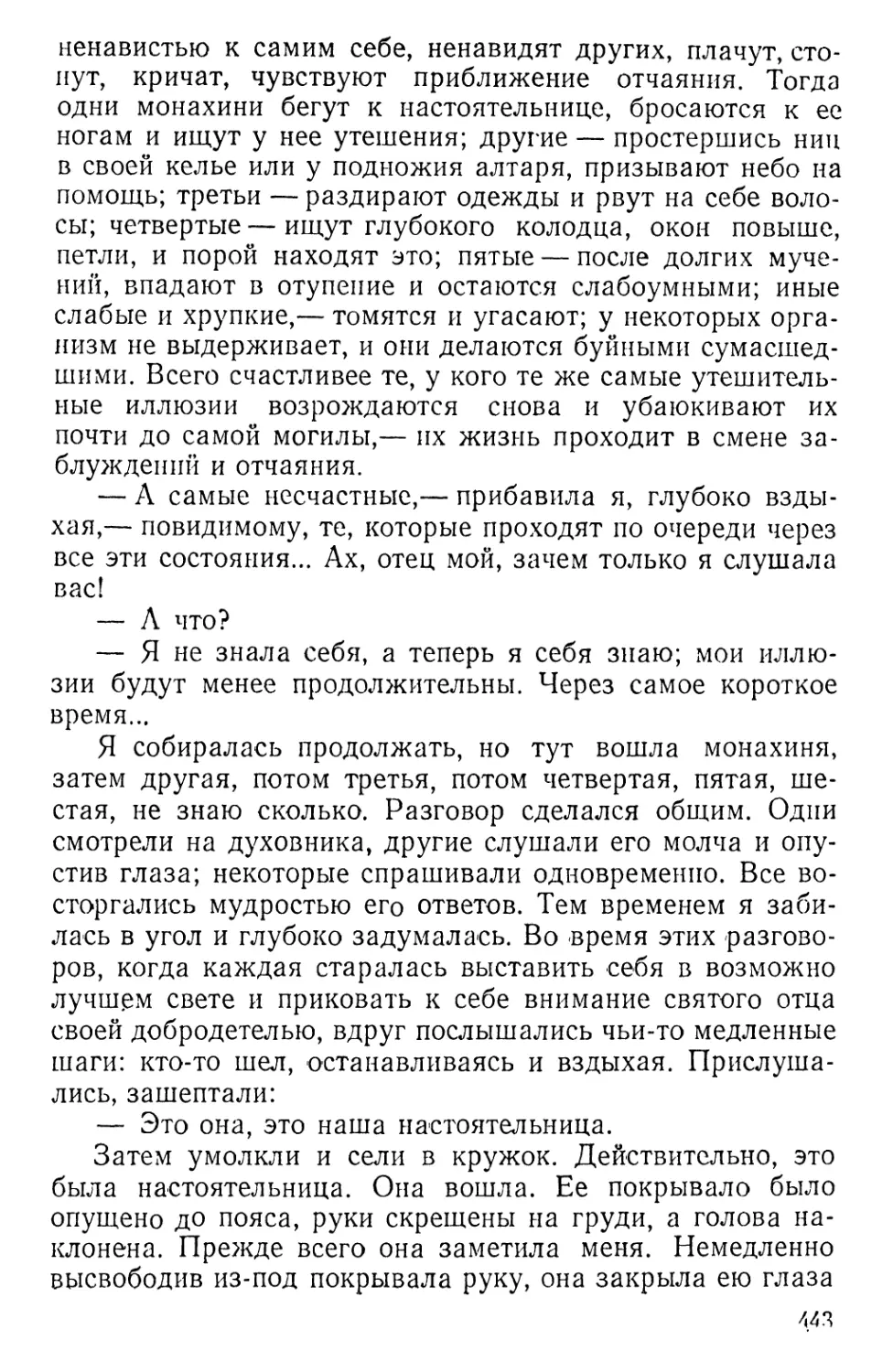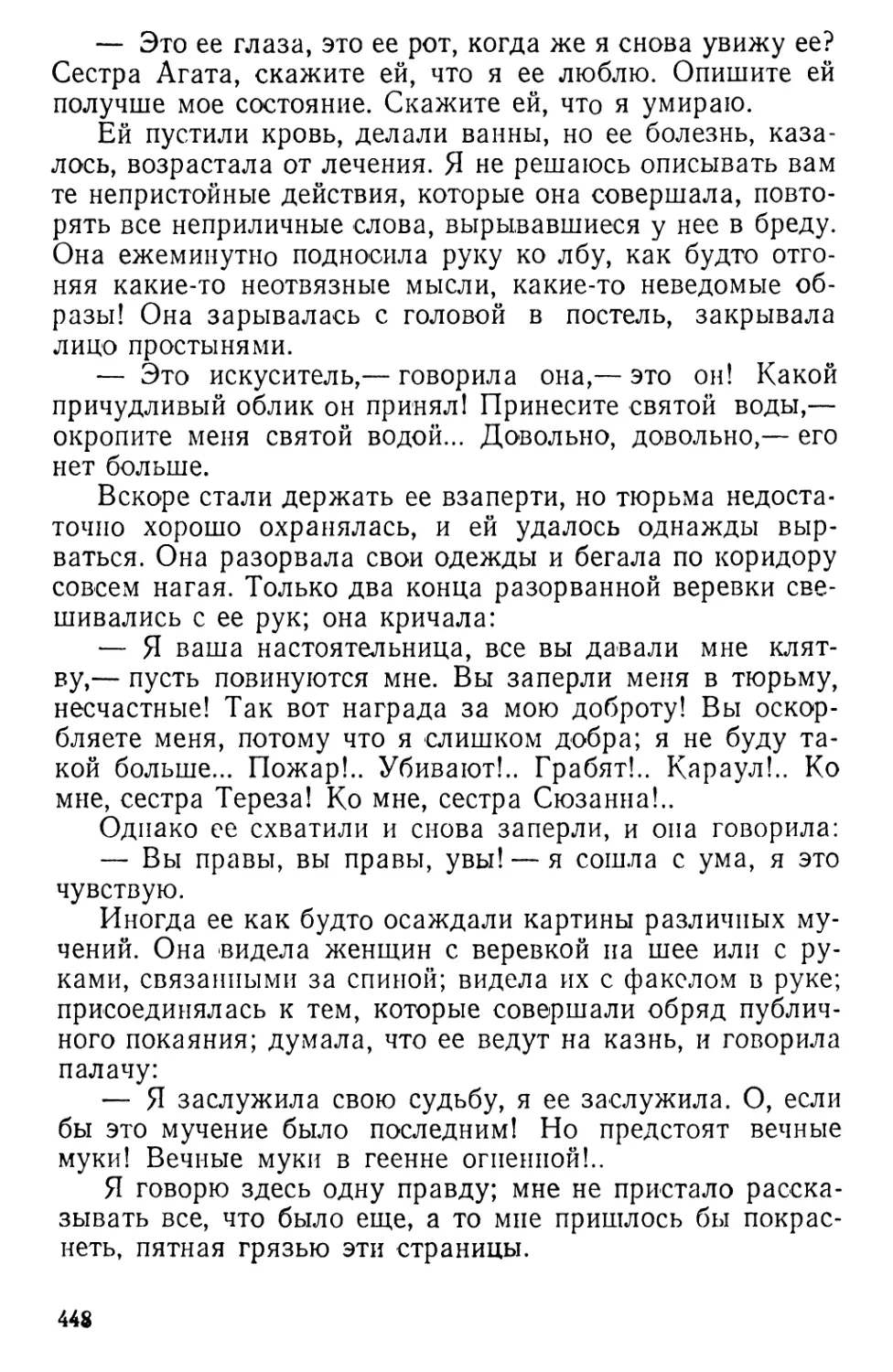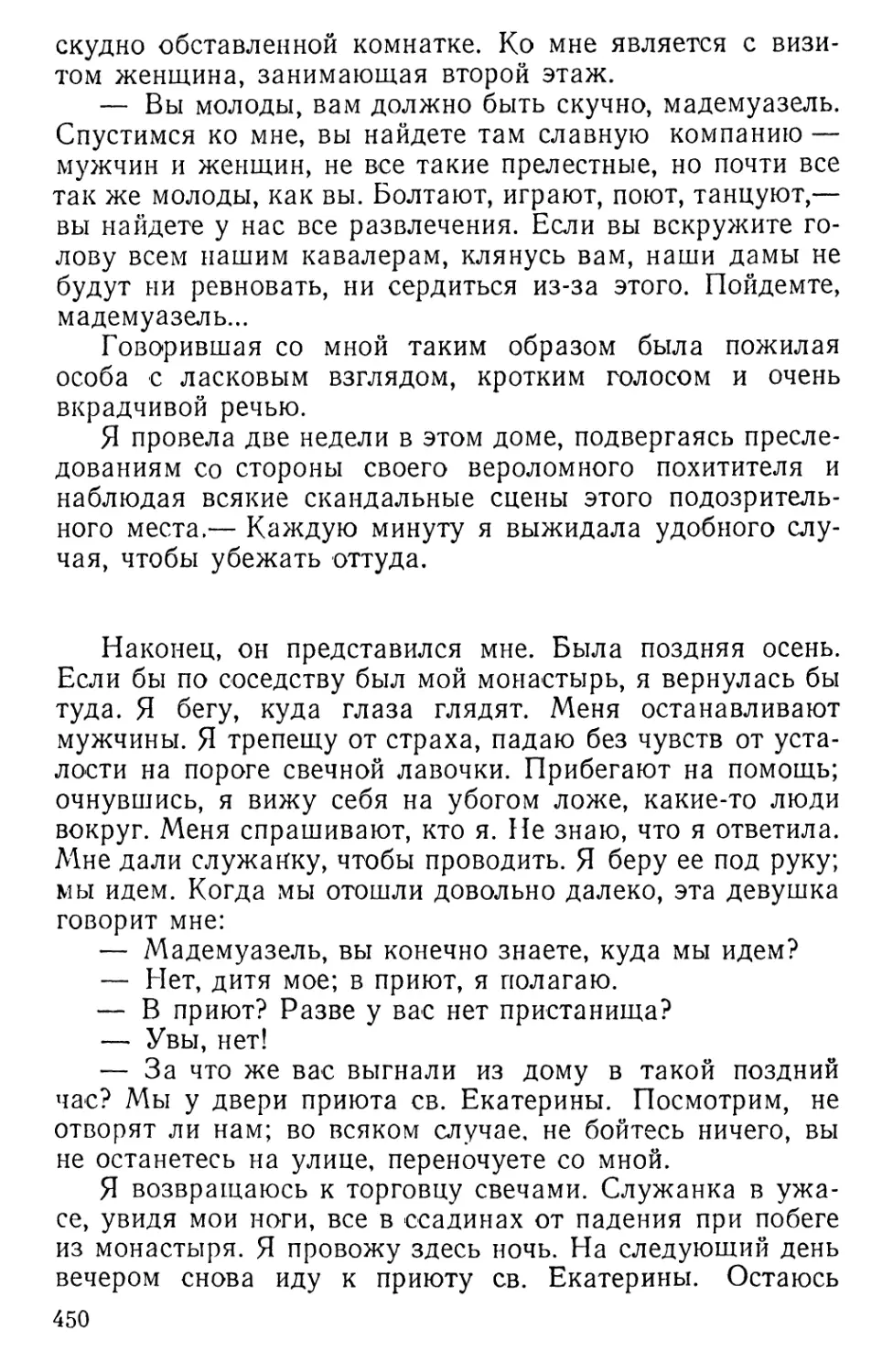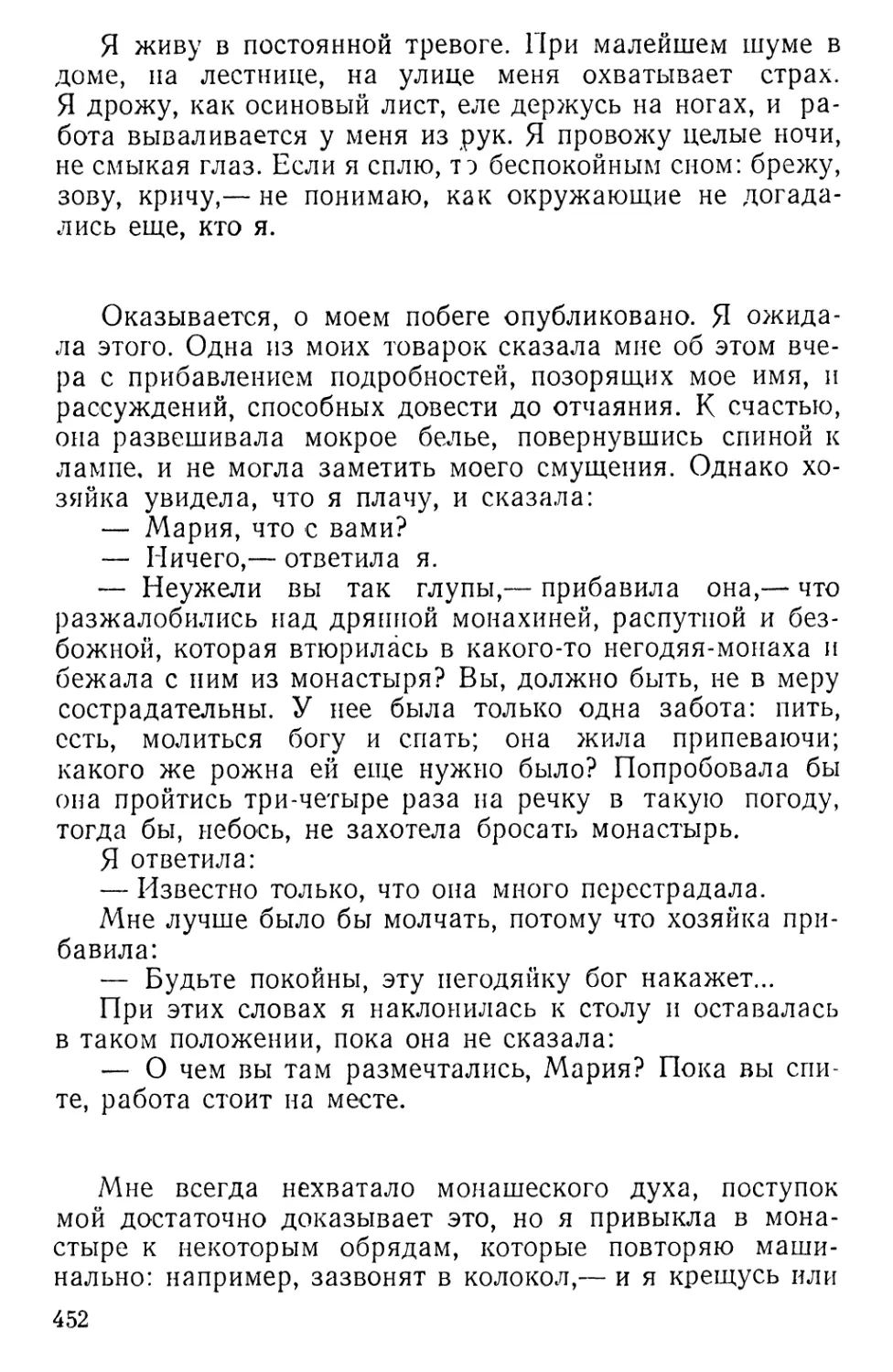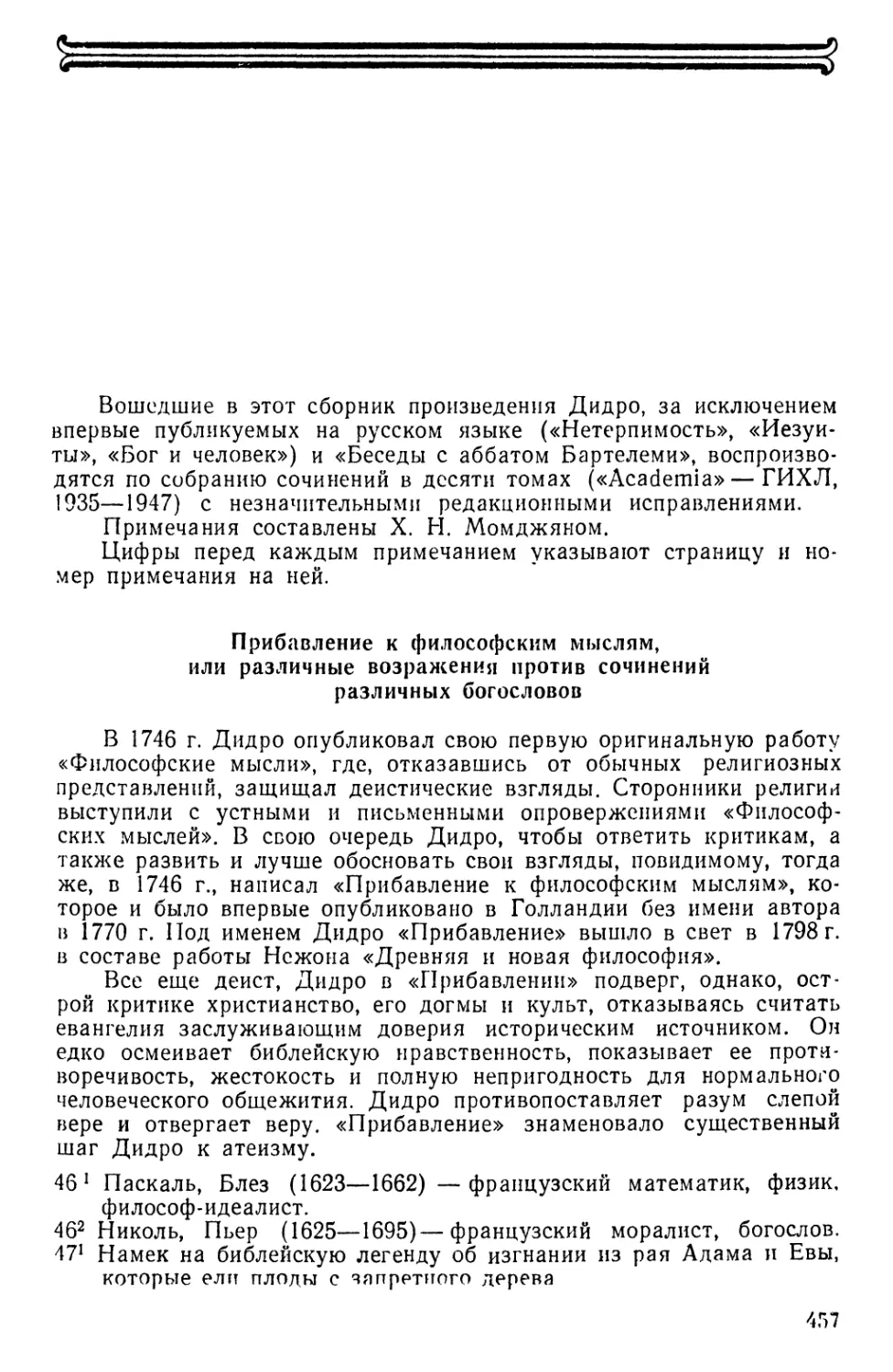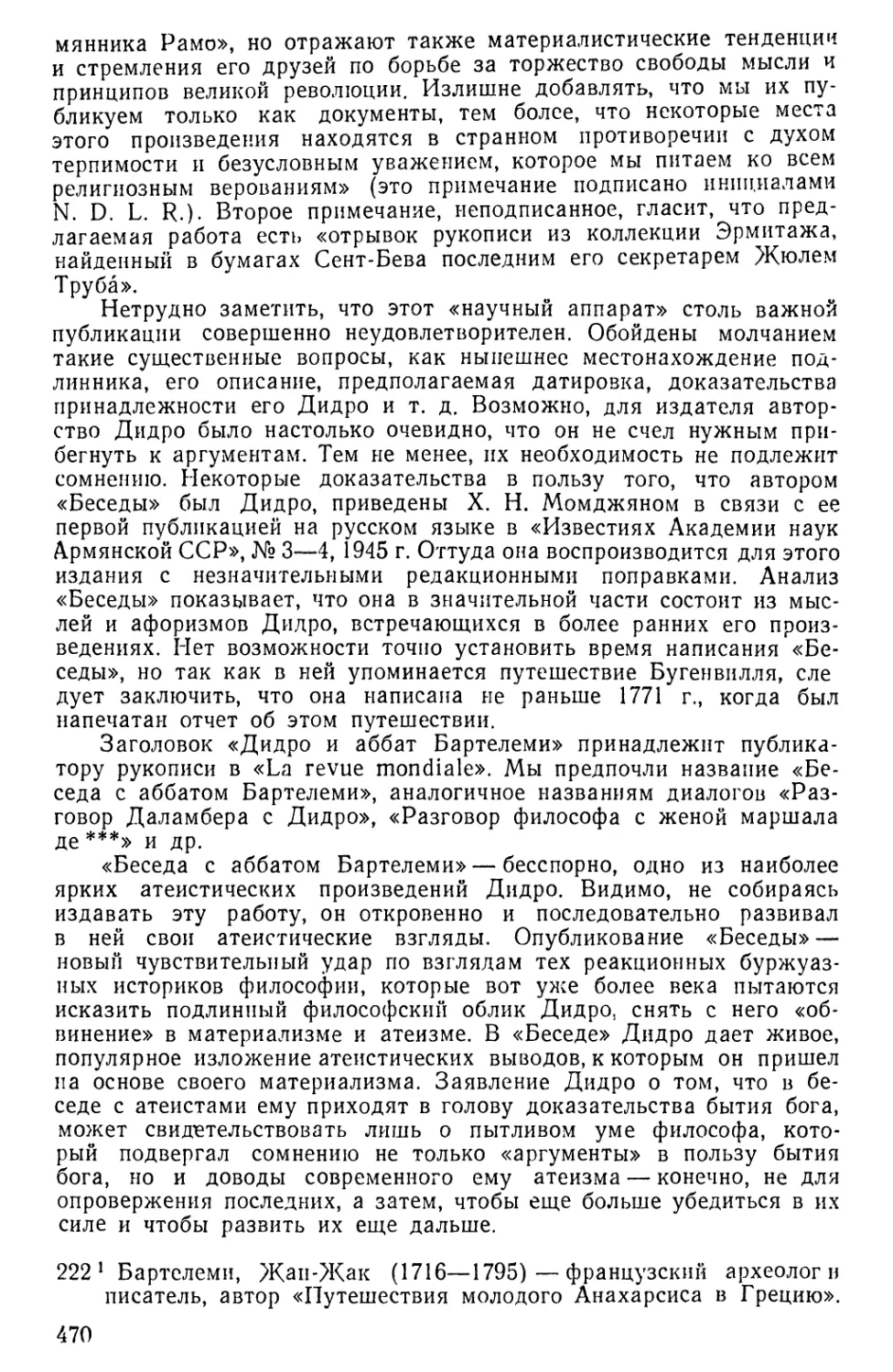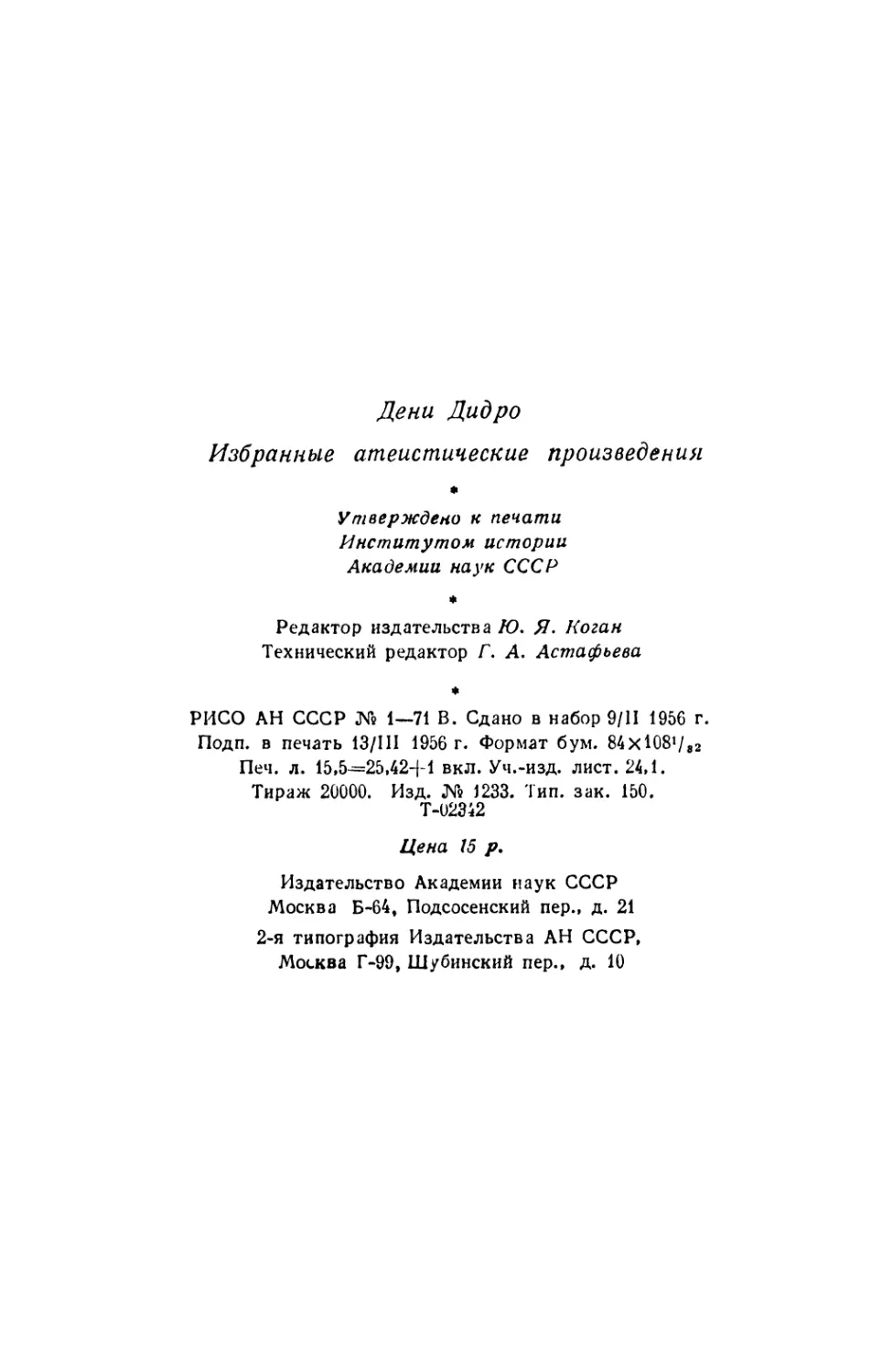Текст
НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ДИДРО
ИЗБРАННЫЕ
АТЕИСТИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДЕНИ ДИДРО
С гравюры Деланнуа по портрету Гарана
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
институт истории
Д. ДИДРО
ИЗБРАННЫЕ
АТЕИСТИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
РЕДАКЦИЯ И СТАТЬЯ
Х.Н.МОМДЖЯНА
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1956
Ответственный редактор
доктор исторических наук
В. Д. Бонч-Бруевич
АТЕИЗМ ДИДРО
1
В конце XVIII в. свершился один из крупнейших
революционных переворотов в истории человечества —
восставшие народные массы нанесли смертельный удар
феодальной системе во Франции. Развившиеся в недрах
феодального строя производительные силы пришли в
столкновение с отжившими свой век феодальными произ-
водственными отношениями. Революция уничтожила пра-
ва и привилегии дворян и духовенства, низложила и каз-
нила короля Людовика XVI. Буржуазия, уже господство-
вавшая в экономике страны, пришла к власти. Феодаль-
ная Франция превратилась в капиталистическую страну;
это было большим шагом вперед на пути общественного
развития. Крушением феодальной системы во Франции
было ускорено падение феодализма и в других европей-
ских странах.
Прежде чем погибнуть в ходе революции, феодальный
строй во Франции был теоретически осужден в произве-
дениях дореволюционной буржуазной интеллигенции. По
мере развития и укрепления своей экономической мощи
буржуазия выдвигала передовых мыслителей-борцов, ко-
торые, несмотря на репрессии феодальных властей, дока-
зали и пропагандировали необходимость и неизбежность
падения феодальных порядков. Политический строй, пра-
во, философия, мораль, искусство, литература, все сторо-
ны загнившей общественной системы еще задолго до ре-
волюции были подвергнуты жесточайшему обстрелу,
потрясены и расшатаны этими буржуазными просветите-
лями. Неотразима и грозна была сила их революционной
критики, ибо в тот период идеологи буржуазии выражали
5
гнев, чаяния, интересы не только своего класса, по также
всех бесправных и угнетенных.
«Нельзя забывать,— писал В. И. Ленин,— что в ту
пору, когда писали просветители XVIII века (которых
общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии),
когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов,
все общественные вопросы сводились к борьбе с крепо-
стным правом и его остатками. Новые общественно-эконо-
мические отношения и их противоречия тогда были еще
в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия поэто-
му тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напро-
тив, и на Западе и в России они совершенно искренно ве-
рили в общее благоденствие и искренно желали его,
искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) про-
тиворечий в том строе, который вырастал из крепо-
стного» 1.
Все святыни феодального мира предстали перед су-
дом разума, революционной мысли; предстал перед ним
и вековечный враг разума — религия. Никогда раньше
она не была подвергнута такой смелой и прямолинейной,
беспощадной и уничтожающей критике. Впервые борьба
против религиозных вымыслов и жрецов «царства тьмы»
была так открыто и прямо связана с политической борь-
бой. Ошеломленная поповщина увидела перед собой не
разрозненных, не одиночных борцов, но спаянную и ор-
ганизованную философско-атеистическую школу, встре-
тившую большое сочувствие в «третьем сословии», воору-
женную печатным словом, располагающую разветвленной
агентурой для распространения «нечестивых» книг, имев-
шую свой организационный центр, своих признанных та-
лантливых вождей.
Каков был размах этого интеллектуального движения,
можно судить хотя бы по тону и содержанию речи госу-
дарственного обвинителя, выступившего в августе 1770 г.
против «Системы природы» — произведения одного из
виднейших просветителей, Гольбаха. Он говорил о «зло-
вредной секте» просветителей и в следующих словах вы-
разил свой панический страх перед натиском новых идей:
«Стремясь развратить все и вся, она, если так можно
выразиться, отравила все источники, из которых общество
1 В И. Ленин — Соч., т. 2, стр. 473
6
утоляло свою духовную жажду. Ораторское искусство,
поэзия, история, романы, даже словари, ничто не избегло
этой заразы. Она проникла даже в театр. Словом, в на-
стоящее время почти все так называемые философы, ко-
торыми кичится литература, являются смертельными вра-
гами церкви. Правительство трепещет, терпя в среде
общества эту секту безбожников, которая старается воз-
мутить против него народы под предлогом их просвеще-
ния».
Обвинитель был устрашен размахом этого движения —
тем, что «зараза» действует не только в столице, но что
писания этих философов лавиной обрушиваются на про-
винции, проникают даже в мастерские и хижины 1.
Во Франции и до XVIII в. существовала серьезная
атеистическая и антиклерикальная традиция. Бессмертная
антирелигиозная сатира Рабле, легкая, но ядовитая на-
смешка Деперье, зловещий для религии скептицизм Мон-
теня уже в XVI в. основательно расшатывали феодально-
клерикальное мировоззрение. XVII век был не более уте-
шителен для служителей «всевышнего». Физика Декарта,
новая атомистика Гассенди, разъедающий религиозную
догматику скептицизм Бейля были идейными предпосыл-
ками нового, еще более грозного наступления на рели-
гию. Но то, что сделали французские атеисты XVIII в. с
идеей бога, не может идти ни в какое сравнение с преж-
ними нападками на религиозное мировоззрение. В грозо-
вой атмосфере предреволюционной Франции сравнительно
умеренные идеи философских трактатов Локка и Толанда
воспринимались в переосмысленном виде и в руках атеи-
стов сделались боевым оружием. С духовенства была
окончательно сорвана маска святости и благочестия. Ре-
лигия была признана источником всех зол и всех заблуж-
дений рода человеческого. Ее сравнивали с ящиком Пан-
доры, называли «чудовищной гадиной», цербером старого
мира.
Во французском просветительстве XVIII в. были раз-
личные течения политической и философской мысли. Сре-
ди строителей «новой вавилонской башни нечестия», как
реакционеры называли знаменитую «Энциклопедию», мож-
1 См. Ф. Рокен — «Движение общественной мысли во Франции
в XVIII веке». СПб., 1902, стр 299
7
но было встретить атеистов и деистов, скептиков и теи-
стов; но не было среди них человека, сколько-нибудь мир-
но относившегося к господствовавшей религии и уж во
всяком случае — к католической церкви и духовенству.
«Раздавите гадину!» — это был не только личный девиз
Вольтера, но боевой клич всей антирелигиозной и анти-
католической философии XVIII в.
Эта клокочущая ненависть к религии и церкви имела
глубокие социальные, классовые корни. Борьба буржуа-
зии против религии и ее философского обоснования —
идеализма объяснялась весьма реальными земными ин-
тересами. Идеологи революционной буржуазии с полным
основанием рассматривали религию как один из самых
прочных устоев старого мира. Религия была официаль-
ной идеологией феодального строя. Она укрепляла фео-
дальную систему, окружала власть короля, права и пре-
имущества господствовавших сословий дворян и попов
ореолом святости. Она учила о божественном происхож-
дении королевской власти и феодальных отношений. Цер-
ковь, по определению Энгельса, была «наиболее общим
синтезом и наиболее общей санкцией» феодального строя 1.
В дореволюционной Франции, особенно в XVII в., ду-
ховенство не раз открыто сопротивлялось «божественной»
воле монарха, энергично отстаивало свои сословные при-
вилегии от посягательств придворной знати и дворян. Но
вместе с тем оно никогда не переставало наставлять угне-
тенные, ограбленные и бесправные народные массы в
духе рабского повиновения власть имущим. Роль религии
в феодальной Франции весьма точно охарактеризована
в следующих строках: «Религия учит народы пе-
реносить иго с покорностью и безропотно
и подчиняться цепям деспотизма»2. Можно
подумать, что эти слова взяты из какого-либо антирели-
гиозного памфлета Гольбаха; на самом же деле мы нахо-
дим их в обращении собрания французского высшего ду-
ховенства к верующим (1770 г.). К этой аттестации, вы-
данной духовенством самому себе, поистине ничего не ос-
тается прибавить.
Буржуазия была кровно заинтересована в том, чтобы
1 Ф. Энгельс — Крестьянская война в Германии. М., 1952,
стр. 34.
2 См. Ф. Рокен —Указ. соч., стр. 296 (разрядка моя.- X. М-).
8
сорвать с феодального строя его религиозно-мистическое
облачение. «Для того чтобы возможно было нападать на
существующие общественные отношения,— писал Эн-
гельс,— нужно было сорвать с них ореол святости»1.
Именно это сделали французские материалисты XVIII в.
Подготовляя умы к уничтожению старых порядков,
предреволюционная буржуазная интеллигенция восстала
против религиозного принижения человека, против его
превращения в пассивного, безмолвного, покорного «раба
божьего». Сделать человека-раба гражданином — такова,
писал Гольбах, одна из возвышеннейших задач филосо-
фии. Религиозно-аскетическая мораль находилась в пря-
мом противоречии с практикой и мировоззрением пред-
приимчивой, деятельной, рвавшейся к власти буржуазии.
Передовые буржуазные идеологи неизбежно должны
были бороться с религией, ибо последняя освящала и уве-
ковечивала феодальную собственность, феодальные формы
эксплуатации, феодально-сословное неравенство людей
перед законом; между тем развивавшийся капитализм
нуждался в людях, свободно распоряжающихся своей лич-
ностью, продающих свою рабочую силу свободно.
По мере развития капитализма шел процесс образова-
ния нации, постепенно стирались социально-экономиче-
ские, этнические и прочие особенности отдельных провин-
ций и районов. Этот прогрессивный процесс встречал со-
противление духовенства, которое неустанно разжигало
ненависть между гражданами — католиками и протестан-
тами, папистами и янсенистами. Религиозные войны и
другие кровавые распри на почве вероисповедных разли-
чий создавали в общественной жизни разлад и беспоря-
док, тормозили развитие промышленности и торговли,
отвлекали «третье сословие» от борьбы против главного
врага — привилегированных феодальных сословий и всей
феодальной системы.
Буржуазия той поры нуждалась в развитии науки и
техники, религия же душила науку. Защищая догмы ре-
лигии, церковь издавна подвизалась как палач пере-
довой науки и ученых. «Вместе с расцветом буржуазии,—
писал Энгельс,— шаг за шагом шел гигантский рост пау-
ки. Возобновились занятия астрономией, механикой, физи-
1 Ф. Энгельс — Указ соч., стр. 34.
9
кой, анатомией, физиологией. Буржуазии для развития ее
промышленности нужна была наука, которая исследовала
бы свойства физических тел и формы проявления сил
природы. До того же времени наука была смиренной слу-
жанкой церкви, и ей не позволено было выходить за рам-
ки, установленные верой: короче — она была чем угодно,
только не наукой. Теперь наука восстала против церкви;
буржуазия нуждалась в науке и приняла участие в этом
восстании» 1.
Наконец, буржуазия боролась против духовенства как
одного из господствовавших феодальных сословий — ак-
тивнейшего в политической жизни страны. Высшее духо-
Бенство занимало прочные позиции в судебных и иных
административных органах. В свое время кардиналы Ри-
шелье, Мазарини, Флери и другие были фактически пра-
вителями феодальной Франции. Духовенство неограничен-
но хозяйничало в школах, в том числе и в высших, кото-
рые находились под ее неусыпным надзором и были
(базами феодальной реакции. Несмотря на огромные до-
ходы, духовенство не платило налогов. Лишь время от
времени оно в виде добровольного дара вносило в госу-
дарственную казну ту или иную сумму. При этом каждый
раз церковь выторговывала себе у королевской власти но-
вые права и преимущества, новые репрессии против своих
врагов. В руках церкви находилось около трети всех зе-
мельных богатств Франции.
В стране насчитывалось более тысячи монастырей, ко-
торые были не только очагами мракобесия и разврата, по
и крупнейшими феодально-эксплуататорскими хозяйства-
ми. Одно только аббатство Клюни получало 1 800 000 лив-
ров ежегодного дохода. Князья церкви были богатейшими
людьми. Кардинал Роган, например, имел 1 000 000 лив-
ров годового дохода. Только из трех источников (земель-
ная собственность, феодальные права и десятина) церковь
ежегодно извлекала 350 000 000 ливров.
Буржуазия с завистью смотрела на громадные ценно-
сти, сосредоточенные в руках паразитического духовенства.
Характерны в этом отношении следующие строки совре-
менника, английского путешественника Артура Юнга: «Я
1 К. Маркс и Ф. Э нгел ье-Избранные произведения. М.,
1952, т. II, стр. 93.
10
был в Сен-Жерменском аббатстве... Это самое богатое
аббатство во всей Франции; аббат получает 300 тысяч
ливров дохода. Я теряю терпение, когда вижу подобное
распределение таких крупных доходов; это годится для
X, но не для XVIII века. Сколько ферм можно было бы
основать на четвертую часть этого дохода! Какую репу,
капусту, картофель, клевер, каких баранов и какую шерсть
можно бы получить! Разве они не лучше, чем толстый бо-
ров — священник?.. Я ищу хороших фермеров, а встре-
чаю лишь монахов и государственные тюрьмы!» 1.
В дореволюционной Франции было более 130 тысяч
церковнослужителей. Эта алчная и ненасытная армия
паразитов кормилась за счет народа. Она поедала плоды
каторжного труда нищих и бесправных народных масс,
закабаленных феодальными повинностями. Не трудно по-
нять ту глухую вражду, которую питало к поповщине
«третье сословие». Эта вражда обострялась по мере даль-
нейшего загнивания феодального строя. Насколько глу-
бока была ненависть населения, в особенности парижан,
к духовенству, можно увидеть из следующих строк совре-
менника, маркиза д'Аржансона, написанных в 1754 г.:
«...Революции можно опасаться теперь более, чем когда-
либо. Если она случится в Париже, то дело начнется с
растерзания на улицах некоторых священников, даже са-
мого парижского архиепископа, потом набросятся и на
других, так как народ смотрит на них как на истинных
виновников всех наших бед» 2. Эти слова в некотором от-
ношении оказались пророческими: известно, что накану-
не взятия Бастилии, 13 июля 1789 г., восставшие народ-
ные массы Парижа разгромили один из монастырей.
Боевой французский атеизм XVIII в. был теоретиче-
ским выражением этой всенародной ненависти к попов-
щине и к освященному ею феодальному строю. Многие
атеистические и антиклерикальные идеи французских про-
светителей впервые зародились в народной среде, в гор-
ниле прямой борьбы против духовенства. Еще задолго до
Вольтера, Дидро, Гельвеция, Гольбаха эти идеи имели
широкое хождение в народе.
1 См. «Новая история в документах и материалах». М., 1934,
вып. 1, стр. 111.
2 Ф. Рокен — Указ. соч , стр. 193.
11
2
Одним из крупнейших представителей французского
материализма и атеизма XVIII в. был Дени Дидро, обще-
признанный вождь «философского переворота», душа и
организатор монументального памятника эпохи — знаме-
нитой «Энциклопедии наук, искусства и ремёсел». Нужно
было обладать таким смелым, глубоким и всесторонне
развитым умом, какой был у Дидро, чтобы возглавить ре-
шительную переоценку всех ценностей старого, феодаль-
ного мира, пересмотр всех областей знания с позиций
нового, тогда революционного буржуазного мировоззре-
ния. «Если кто-нибудь, — писал Энгельс, — посвятил всю
свою жизнь служению «истине и праву» (в хорошем по-
нимании этих слов), то именно Дидро» 1.
Дидро родился в 1713 г. в небольшом городе Лангре.
Отец его был зажиточным ремесленником-ножовщиком.
Он не жалел средств, чтобы обеспечить сыну хорошую
карьеру. Юноша был отдан на воспитание в местную иезу-
итскую школу — коллеж. Иезуиты очень скоро заметили
выдающиеся способности своего ученика и старались
сделать его фанатичным защитником религии и церкви.
Никто, разумеется, не мог тогда предполагать, что со вре-
менем воспитанник иезуитов станет одним из самых гроз-
ных противников религии и церкви. Пятнадцати лет Дид-
ро был отправлен для дальнейшего обучения в Париж.
Окончив здесь коллеж Даркур, он в 1732 г. получил в Па-
рижском университете звание магистра искусств.
Тщетны были надежды Дидро-отца — сын и слышать
не хотел о духовной карьере. Идя на компромисс, старый
ножовщик на худой конец предлагал сыну избрать про-
фессию врача или адвоката, но сын упорно стоял на сво-
ем: он хотел посвятить себя литературе. Выведенный из
терпения отец предложил ему вернуться в Лангр, угрожая
в противном случае лишить материальной поддержки. Сын
не подчинился и остался в Париже.
Целое десятилетие (1733—1743) Дидро влачил полу-
голодное существование, ютился на чердаке, но это не
сломило его. С огромным увлечением он знакомился с
произведениями античной философии, с книгами англий-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс — Соч , т XIV, стр. 654.
12
ских философов Бэкона, Гоббса, Локка, Толанда, с тру-
дами Декарта, Бейля и других передовых французских
мыслителей. Громадное впечатление производили на мо-
лодого Дидро талантливые, остроумные сочинения «вели-
кого насмешника», неутомимого борца против религиоз-
ного обскурантизма и фанатизма—Вольтера. Под влия-
нием просветительской литературы Дидро рано примкнул
к лагерю врагов католической церкви. Еще в коллеже
Даркур он, по свидетельству Нежона, чувствовал неодо-
лимое отвращение к богословию.
В самом начале своей литературной деятельности Дид-
ро довелось испытать «милосердие» духовных отцов.
В 1743 г. в письме к своей будущей жене Анне-Туанете
Шампьон он сообщал: «Отец довел жестокость до того,
что распорядился запереть меня у монахов, которые пу-
стили в ход против меня все, что может измыслить самая
отъявленная преступность» 1. Чтобы предотвратить бег-
ство Дидро, монахи-тюремщики остригли ему полголовы.
Дидро все же вырвался из их рук и вынужден был при-
нять меры, чтобы не попасть к ним вновь.
В 1745 г. Дидро издал переведенную им па француз-
ский язык четвертую часть сочинения английского мысли-
теля-моралиста Шефтсбери «Исследование о заслуге и
добродетели», посвятив перевод своему брату-канонику.
В посвящении он пытался доказать, что фанатизм чужд
духу религии и что человек должен стремиться быть не
только религиозным, по и добродетельным.
В начале 1746 г. Дидро написал «Философские мы-
сли». Этой первой самостоятельной работой он начал свой
тернистый, но славный творческий путь. Проникнувшись
передовыми идеями своего века, он уже в этой работе
выступил как решительный противник «истин» господ-
ствовавшей церкви. В духе просветительства Дидро поет
здесь гимн в честь всемогущего и неограниченного в сво-
их возможностях человеческого разума и ополчается на
слепую, отупляющую веру в иррациональное, метафизи-
ческое, сверхъестественное. Таково направление «Фило-
софских мыслей». Фронтиспис книги, на котором Истина
срывает благочестивую маску с отвратительного лица
Суеверия, ясно показывал, куда держал путь Дидро.
1 Д. Дидро —Собр. соч., т. IX, М.—Л., 1940, стр. 12
13
В 1746—1749 гг. Дидро пережил пору лихорадочных
философских исканий и преодолел свои деистические пред-
ставления. В «Письме о слепых в назидание зрячим»
(1749) он окончательно порвал с идеей бога и прочно стал
на позиции материализма и атеизма. Его первые рабо-
ты — «Философские мысли», «Прибавление к философ-
ским мыслям», «Прогулка скептика, или аллеи» (1747) —
еще не были атеистическими; в них Дидро отвергал вся-
кую религию, основанную на признании личного бога
(«Истинная религия,— писал он,— важная для всех лю-
дей всегда и повсюду, должна бы быть вечной, всеобщей
и очевидной; но нет ни одной религии с тремя этими при-
знаками. Тем самым трижды доказана ложность всех» 1).
однако этого отрицания он не распространял на «естест-
венную религию» — на деизм. Тогда Дидро не осмеливал-
ся окончательно порвать с идеей сверхъестественного, так
как еще на решил для себя коренные вопросы мировоз-
зрения, в первую очередь — о целесообразности в природе.
В самом деле — мог ли столь сложно организованный
мир возникнуть стихийно, а не по воле разумного творца?
Может ли быть крылышко бабочки или глаз клеща ре-
зультатом случайного сцепления частиц матерки? Нет, не
может, отвечал деист Дидро и, обращаясь к атеисту,
заявлял: «Я выдвинул против вас только крылышко ба-
бочки, только глаз клеща, а ведь я мог бы раздавить вас
всей тяжестью вселенной» 2.
Деизм, однако, был у Дидро, как и у многих других
просветителей XVIII в., ступенью к атеизму. Через не-
сколько лет Дидро отверг и «откровенную», и «естествен-
ную» религию. Для этого не понадобилось «всей тяжести
вселенной»: уже одного понимания естественного разви-
тия яйца от бесчувственной массы до живого организма
достаточно, согласно Дидро, чтобы отвергнуть сверхъесте-
ственное начало в природе. Яйцо — вот что, по твердому
убеждению Дидро, «ниспровергает все теологические шко-
лы и все храмы на земле» 3.
В 1745—1749 гг. Дидро еще не был в состоянии окон-
чательно преодолеть идею сверхъестественного, но против
1 Д. Дидро—-Собр. соч., т. 1, стр. 126.
2 Там же, стр. 100.
3 Там же, стр. 376.
14
«бородатого» библейского бога, против догматов и обря-
дов христианства уже тогда выступал чрезвычайно остро,
брал под сомнение историчность Христа, осмеивал вы-
мыслы о его чудесном рождении, деяниях и смерти.
Уже первые философские произведения Дидро вос-
становили против него всесильную французскую попов-
щину и вообще реакционные круги Парижа. Ни деистиче-
ская ограниченность этих работ, ни предусмотрительные
заявления Дидро о его верности католицизму не могли
уже обмануть никого. В июле 1746 г. «Философские мы-
сли» Дидро вместе с «Естественной историей души» дру-
гого просветителя — Ламеттри были по приговору париж-
ского парламента сожжены рукой палача. Парламент
охарактеризовал «Философские мысли» как опасную кни-
гу, где «с напускным притворством все религии ставились
на один уровень, чтобы не признавать в конце концов ни
одной из них» 1.
Началась неусыпная полицейская слежка за Дидро.
Шпиками были церковники. Один из них, священник церк-
ви св. Медара, доносил директору полиции: «Дидро, не
имеющий никакой профессии и никаких средств к суще-
ствованию,— молодой человек, придерживающийся воль-
нодумства и гордый своим нечестием. Им написано
несколько философских работ, в которых он нападает
на религию... Теперь он пишет новое, весьма опасное со-
чинение».
Защитники религии разразились устными и письмен-
ными «опровержениями» работ Дидро и угрожали ему
расправой.
Старый мир был далек от того, чтобы сложить оружие.
Феодальная Франция умирала отнюдь не безропотно. Ре-
акция неистовствовала тем больше, чем сильнее колеба-
лась почва под ее ногами. Королевская власть свирепо
расправлялась со своими врагами. Каменные мешки Ба-
стилии были готовы поглотить неосторожных глашатаев
«опасных идей». Парижский парламент запрещал и одно
за другим сжигал произведения передовых мыслителей.
Но «сжечь — не значит опровергнуть»; Дидро и его со-
ратникам были близки эти слова великого мученика нау-
ки — Джордано Бруно. Один из представителей француз-
1 Ф. Рокен — Указ. соч., стр. 129
15
ского просвещения — Мармонтель — писал в «Велиза-
рии»: «Истина светит своим собственным светом, и людей
нельзя просветить пламенем костров». В этих словах было
презрение революционного класса к судорожным усили-
ям реакционеров, топором и анафемой навязывавших
свои «истины».
Отвечая репрессиями на рост антифеодального движе-
ния, королевская власть в 1749 г. арестовала многих пред-
ставителей оппозиционной интеллигенции. В их числе
был и Дидро. Однако это не устрашило его, он не соблаз-
нился преимуществами мирного сожительства с власть
имущими. В годы, предшествовавшие грозным социальным
катаклизмам, он пришел в лагерь тех, кто был еще слаб
и гоним; но это были носители общественного прогресса,
и им, следовательно, принадлежало будущее. Неразрыв-
ное единство с народом, с передовыми силами эпохи де-
лало Дидро мыслителем-революционером. Он предпочел
идти в рядах тех отважных людей, которые бросили вы-
зов окостеневшему феодальному миру, его мрачной идео-
логии и социальным институтам, этическим нормам и ли-
тературным вкусам. Дидро глубоко возненавидел мир
феодального бесправия и угнетения. Эти настроения были
позднее чрезвычайно ярко отражены в его «Элевтерома-
нах»:
Гнетет немая боль. И ненависть глухая
Вскипает яростно: грабителей орда,
На подлой трусости престолы утверждая,
Без колебанья и стыда
Весь мир насилует от края и до края 1.
Па челе этого дряхлого мира Дидро видел печать не-
минуемого падения и гибели. Он с презрением смотрел на
господствовавшие сословия, на их безумно роскошную
и развратную жизнь, на шумные балы и маскарады, кото-
рые все же не могли заглушить еще отдаленного, но все
нараставшего гула всенародного возмущения. Дидро-поэт,
обращаясь к королю, пророчески восклицал:
Твой подданный любой лишь поневоле нем,
И не спасут тебя ни зоркая охрана,
Ни пышность выходов, ни обольщенья сана.
Порыва к мятежу не заглушить ничем 2.
1 Д. Дидро — Собр. соч., т IV, стр. 525.
2 Там же, стр. 526.
16
Находясь в заключении в Венсеннском замке, Дидро
неустанно трудился. По выходе из тюрьмы он посвятил
себя «Энциклопедии».
Более двадцати лет отдал он созданию этого грозного
оружия, направленного против реакции и обскурантизма.
В «Энциклопедии» приняли участие наиболее видные дея-
тели французского просвещения XVIII в. Много сил стои-
ло Дидро довести ее до завершения через все невзгоды
и преследования. Заслуженно занял он президентское
кресло в «литературной республике». Быть может, ни один
из его соратников не отразил с такой глубиной и точно-
стью беспокойный дух эпохи, ее стремительный бег, ее
творческие порывы.
Огромная редакторская работа не помешала Дидро
написать для «Энциклопедии» множество статей по самым
важным вопросам. В эти же годы (1751 —1772) он создал
выдающиеся произведения по философии, этике и эстети-
ке, а также шедевры художественного творчества — «Мо-
нахиня», «Племянник Рамо», «Жак-фаталист и его хозя-
ин». В относящихся к тому же времени произведениях:
«Мысли об объяснении природы», «Философские принци-
пы. О материи и движении», «Разговор Даламбера с
Дидро», «Сон Даламбера», «Добавление к „Путешествию"
Бугенвилля», «Беседа с аббатом Бартелеми» Дидро раз-
рабатывал принципы боевого материализма и атеизма
XVIII в., которые впоследствии так высоко были оцене-
ны классиками марксизма-ленинизма.
Весной 1773 г. Дидро по настоятельной просьбе Ека-
терины II, заигрывавшей с французскими просветителями,
выехал в Петербург. Почти год прожил он в столице Рос-
сии. В беседах с императрицей мыслитель затронул важ-
нейшие вопросы экономики, политики, народного просве-
щения. Он советовал Екатерине провести в России
коренные преобразования вплоть до отмены крепостного
права и передачи законодательной власти представителям
народа. Екатерина с едва сдерживаемым раздражением
слушала «фантастические теории» Дидро, отлично пони-
мая, что осуществить их значило бы (по ее собственным
словам в письме к Гримму) «перевернуть все вверх дном
в России».
В последние годы жизни Дидро написал новые сочи-
нения, в которых развил свои материалистические, атеи-
17
стические принципы. К числу этих работ относятся «Речь
философа, обращенная к королю», «Разговор философа
с женой маршала де***» и «Элементы физиологии».
Умер Дидро 31 июля 1784 г., за пять лет до француз-
ской буржуазной революции, в идейной подготовке кото-
рой он сыграл выдающуюся роль.
Два века отделяют нас от Дидро; но смерть не косну-
лась его творений. Наследство Дидро и поныне находится
на вооружении у передового человечества. За все то мно-
гое, что он сделал, Дидро просил для себя весьма малого:
утешительного доверия будущих поколений. И он тысячу
раз заслужил это.
з
Корифей материализма XVIII в., Дидро был неприми-
римым врагом религии. Последовательно и решительно
отвергал он любые уступки религиозному мировоззрению.
Согласно Дидро, не может быть истинной та филосо-
фия, которая не освобождена до конца от примеси веры
в сверхъестественное. Истинная философия в познании
природы не выходит за ее пределы, не прибегает при ре-
шении тайн вселенной к религиозным вымыслам. «Если
природа,—писал Дидро,—представляет нам какую-нибудь
загадку, какой-нибудь трудно распутываемый узел, то
оставим его таким, каков он есть, и не будем стараться
разрубить его рукой существа (бога.— X. М.), которое
становится затем для нас новым узлом, еще труднее рас-
путываемым, чем первый» 1.
Вольтера Дидро уважал как отважного борца против
христианской религии и церкви; но это не мешало ему ви-
деть, что «фериейский патриарх» остановился на полпути
и не осмелился или не захотел окончательно освободить
свою философию от деизма. Вольтерианство, по мнению
Дидро, — вовсе не последнее слово истинной философии.
Дидро отлично понимал, что при всем величии Вольтера
есть во Франции люди, которые опередили, превзошли его
в радикализме воззрений: «У французской нации найдет-
ся десяток людей, которые, даже не становясь на цыпоч-
ки, будут на целую голову выше его (Вольтера.— X. М.)» 2.
1 Д. Дидро —Собр. соч., т. I, стр. 252.
2 Там же, т. VIII, стр. 272—273.
18
Вопрос о религии был одной из причин разрыва между
Дидро и Руссо. Известно, что Руссо, принадлежавший к
числу наиболее глубоких и радикальных политических
мыслителей своей эпохи, в области философии не поднялся
до материализма и атеизма. За свои нападки на атеизм
деист Руссо заслужил резкую отповедь Дидро 1. Сурово
осудил Дидро также своего соратника в материалистиче-
ском и атеистическом лагере — Гельвеция за то, что он
из тактических соображений порою делал церкви и теоло-
гии далеко ведущие «комплименты». Дидро решительно
отвергал такие приемы, считая их недостойными человека
науки, философа-материалиста.
«Душа,—писал Гельвеций в произведении «Человек»,—
это принцип жизни, к познанию и к природе которого нель-
зя подняться без помощи крыльев теологии». Дидро отве-
чал ему: «Но к чему поднимешься при помощи этих
чудесных крыльев летучей мыши? Ни к чему; будешь па-
рить во мраке. Зачем портить книгу подобной низкой
лестью? Потомство вас не поймет, а современные вам тео-
логи не станут любить вас от этого больше» 2.
Восторженно отзывался Дидро о смелом, последова-
тельном атеизме Гольбаха. Дидро говорил, что предпочи-
тает ясную, свободную философию, изложенную Гольба-
хом в «Системе природы» и «Здравом смысле». «Автор
„Системы природы", — писал Дидро, — не является ате-
истом на одной странице, а деистом на другой; его фило-
софия монолитна» 3.
Дидро был противником любой недоговоренности,
способной оставить лазейку для религии. Религию надо
отвергнуть полностью, не стремясь сохранить какой-ни-
будь ее элемент. «Деист,— писал Дидро,— отсек дю-
жину голов у гидры, но та голова, которую он пощадил,
вновь породила все остальные» 4. Дидро решительно осуж-
дал попытки противопоставлять религию суевериям. «Мне
скажут, — писал он, — что источником всех зол служит
суеверие, а не религия. Но ведь понятие божества неиз-
бежно вырождается в суеверие» 5. Вслед за Гоббсом он
1 Д. Дидро —Собр. соч., т. VIII, стр. 252.
2 Там же, т. II, стр. 144.
3 Там же, стр. 265.
4 Там же, т. X, стр. 139—140.
5 Там же, стр. 139.
19
считал, что религия есть суеверие, признанное данным го-
сударством, и что, напротив, суеверие есть та религия, ко-
торая данным государством не признается.
Нет никакого сомнения в том, что французский воин-
ствующий атеизм XVIII в. получил свое философское обо-
снование в первую очередь в работах Дидро.
В отличие от английских материалистов XVII в. и от
Спинозы Дидро сделал из материализма прямые, ничем
не прикрытые атеистические выводы. Он видел неразрыв-
ную связь между религией и идеализмом и понимал, что
для теоретического разоружения поповщины необходима
последовательная критика идеалистических взглядов. «Ду-
маете ли вы, — спрашивает Дидро устами доктора Бор-
де, — что можно решить вопрос о высшем разуме (боге. —
X. М.), не зная, какого мнения держаться по вопросу о
вечности материи и ее свойств, о различии двух субстан-
ций, о природе человека и происхождении животных?» 1.
По глубокому убеждению Дидро, для того чтобы раз-
венчать идею бога и вообще идею сверхъестественного,
нужно твердо стоять на позициях материализма, матери-
алистической теории познания; нужно научно решить во-
прос о материи и движении, о материи и сознании, разоб-
лачить несостоятельность идеи божественной целесообраз-
ности и доказать всеобщий характер материалистической
причинности. Эти задачи были блестяще для XVIII в. ре-
шены в философских произведениях Дидро.
Он дал совершенно четкое материалистическое решение
основного вопроса философии — об отношении мышления
к бытию. Материя, полагал он, существует вне сознания
и независимо от него. Наши ощущения, представления
и понятия суть отражения объективно существующих ве-
щей и явлений. Имеется внешний возбудитель наших
ощущений — материя. «Мы рассматриваем материю,—
писал Дидро, — как всеобщую причину наших ощуще-
ний» 2. Будучи сенсуалистом, т. е. признавая ощущения
единственным источником познания, Дидро делал из сен-
суализма последовательно-материалистические выводы,
рассматривая ощущения, представления и понятия только
как отражения объективно существующих вещей и явле-
1 Д. Д и д р о — Собр. соч., т. I, стр. 394.
2 Там же, т. VII, стр. 156.
20
ний. В отличие от английского философа Локка Дидро
делал из сенсуализма последовательные материалистиче-
ские выводы. Он отверг идею «внутреннего опыта», кото-
рый, по мнению Локка, наряду с внешним миром являет-
ся вторым самостоятельным источником познания. «Ду-
мать, — писал Дидро, — что душа сама создает представ-
ления, независимо от движения или впечатления объекта...
значит отрицать всякую связь между причиной и след-
ствием» 1.
Дидро подверг острой критике идеализм, в частности
субъективный идеализм Беркли. Еще в «Прогулках скеп-
тика», осмеивая субъективных идеалистов, отрицающих
существование материи вне сознания и независимо от него,
Дидро писал, что они признают только собственное суще-
ствование и существование своих впечатлений, отчего и
получается, что «каждый из них есть одновременно любов-
ник и возлюбленная, отец и ребенок, цветочная грядка
и тот, кто ее топчет» 2. В статье «Ощущения», помещенной
в «Энциклопедии», Дидро называл субъективных идеали-
стов людьми, утратившими здравый рассудок. В «Разго-
воре Даламбера с Дидро» он сравнивал субъект беркли-
анского идеализма с пианино, которое сошло с ума и
вообразило, что оно — единственный инструмент в мире
и что вся мировая гармония происходит в нем.
Теория познания Дидро имела недостатки, характерные
для домарксовского материализма. Так, она не придавала
общественной практике большого значения как основе и
критерию познания и не в состоянии была диалектически
истолковать переход от ощущений к представлениям, а от
последних — к понятиям. Но при всем том материалисти-
ческая теория познания Дидро была в свое время силь-
нейшим оружием в борьбе против религиозно-идеалисти-
ческого мировоззрения. Субъективный идеалист Беркли
отрицал объективное существование материи и провозгла-
шал одного бога источником человеческих ощущений; ма-
териалист Дидро в полном согласии с наукой и человече-
ской практикой доказывал существование материи как
объективной реальности. Рассматривая ощущения, пред-
ставления и понятия как отражения внешнего мира, он
1 Д. Дидро —Собр. соч., т. I, стр. 167.
2 Там же, стр. 181—182.
21
изгонял идею бога, вообще идею сверхъестественного из
сферы познания. В самом деле, если познание отражает
явления внешнего мира, а объективно существующие вещи
суть непосредственные источники ощущений, значит ру-
шатся религиозные вымыслы о разуме как божественном
даре, опровергаются все мистические взгляды на сущность
познания. Бог, согласно Дидро, — химерическое, нереаль-
ное существо. Все действительно существующее обладает
способностью прямо или косвенно воздействовать на ор-
ганы чувств; бог же, по словам самих богословов, не мо-
жет быть ни ощущаем, ни познан человеком. Существо,
принципиально недоступное органам чувств и разуму,
есть, по мнению Дидро, ничто, вымысел, плод воображе-
ния.
Материалистическая философия Дидро в корне враж-
дебна агностицизму, отрицающему познаваемость мира.
По убеждению Дидро, человеческий разум в принципе
способен познать весь окружающий мир. Постепенно ра-
зум сбрасывает с вещей и явлений завесу, за которой они
до поры до времени скрывались от всепроникающей чело-
веческой мысли.
Способность человека познать мир Дидро обосновы-
вал единством материи и сознания, тем, что нет разрыва
между ними, ибо сознание, мышление — это свойство
материи. Доказывая познаваемость мира, Дидро выступал
против религии, которая принижает разум и стремится
выдать веру за «высшую форму знания»; возвышая разум,
Дидро и его единомышленники тем самым защищали и
прославляли науку, этот антипод религии.
Атеизм ярко обнаруживается в учении Дидро о мате-
рии. Он считал, что материя есть единственная субстанция,
самостоятельное начало; причина существования материи
заключена в самой материи. Уже из этого следует, что
Дидро отвергал дуализм, признание двух начал бытия —
материи и духа, или материи и бога. Он критиковал не
только субъективный идеализм, но также попытки объек-
тивных идеалистов, в частности Платона, объяснять
чувственный, материальный мир как порождение мира
идей, божественного духа, разума и т. п. Материя, эта
основа всех явлений, бесконечна в пространстве и вечна
во времени. Она никогда не возникала и никогда не исчез-
нет. Движение Дидро рассматривал как главное и неотъ-
22
емлемое свойство материи, как форму ее существования.
Он унаследовал и развил учение английского материали-
ста и атеиста Толанда о единстве материи и движения:
нет движения без материи, как нет и материи, лишенной
движения.
«Тело, — писал Дидро, — по мнению некоторых фило-
софов, не одарено само по себе ни действием, ни силой.
Это — ужасное заблуждение, стоящее в прямом противо-
речии со всякой физикой, со всякой химией. Само по себе,
по природе присущих ему свойств, тело полно действия и
силы, будете ли вы рассматривать его в молекулах или
в массе» 1. Дидро утверждал, что движение есть и в дви-
жущемся теле, и в неподвижном. Он не сводил движения
только к перемещению тел в пространстве. Больше того,
он утверждал, что такое перемещение еще не есть движе-
ние, а только следствие последнего. Абсолютный покой,
согласно Дидро, — лишь абстракция, а движение — столь
же реальное свойство материи, как длина, ширина и глу-
бина. Сила, действующая на молекулу, пишет Дидро, ис-
сякает, но сила, внутренне присущая молекуле, не исчезает
никогда, ибо она вечна.
Вся природа находится в вечном движении и развитии,
«все гибнет в одной форме и восстанавливается в другой».
«Всеобщее брожение во вселенной», активность материи
Дидро объяснял ее гетерогенностью (разнородностью).
Материя состоит из бесчисленных элементов, причем каж-
дому из них присуще свое, особое качество. Столкновени-
ем и соединением разнокачественных элементов создается
многообразие форм материи.
Из учения о единстве материи и движения Дидро сде-
лал прямые атеистические выводы. Материя активна по
своей природе, значит, чтобы придти в движение, она
не нуждается в постороннем двигателе, в сверхъестествен-
ном «первом толчке». Так рушатся не только основы бого-
словия, но и ньютоновский деизм, одним из главных гла-
шатаев которого во Франции XVIII в. был Вольтер.
Дидро писал: «Если материя была и будет вечна, если
движение расположило ее в известный порядок и изначала
сообщило ей все те формы, которые оно же, как мы видим,
сохраняет за нею посейчас, то на что же твой государь
1 Д. Дидро —Собр. соч., т. I, стр. 358
23
(бог.— X. М.)?» 1. На этот вопрос, сформулированный еще
в «Прогулке скептика», исчерпывающий ответ дан в позд-
нейших работах Дидро: бог — ненужный вымысел; дви-
жущаяся материя — вот конечная причина всех явлений
мира. В вечном процессе развития и изменений материя
порождает все свои бесконечно разнообразные формы.
Но Дидро не удовлетворялся общеметодологическим
решением вопроса. Он ставил науке задачу конкретно по-
казать, что даже самые сложные явления природы возни-
кают, развиваются и исчезают по необходимым, естествен-
ным законам, без всякого вмешательства вымышленных
сверхъестественных сил. Задача была чрезвычайно трудна
в то время, при еще невысоком уровне развития естествен-
ных наук.
«Нужно признать величайшей заслугой тогдашней
философии,— писал Энгельс,— что, несмотря на ограни-
ченное состояние современных ей естественно-научных
знаний, она не сбилась с толку, что она, начиная от Спи-
нозы и кончая великими французскими материалистами,
настойчиво пыталась объяснить мир из него самого, пре-
доставив детальное оправдание этого естествознанию бу-
дущего» 2. Обнаруживая прогрессивную сущность мате-
риалистической философии, Дидро указывал естествоис-
пытателям правильные, плодотворные пути научных изы-
сканий, которые должны были полностью вытеснить бога
из природы.
Целесообразное строение живых существ долго рас-
сматривалось как одна из неприступных цитаделей рели-
гии. Сам Дидро вначале задержался на деистических по-
зициях, не умея объяснить сложное и целесообразное строе-
ние живых существ без ссылки на «разумного творца».
Но в позднейших работах он блестяще показал реакцион-
ность и несостоятельность религиозно-идеалистического
учения, согласно которому все в мире направлено волей
бога к тому, чтобы удовлетворить потребности «венца
творения» — человека.
«Обширный пустырь,— иронически замечает Дидро,—
засыпан разбросанными наугад обломками; среди этих
обломков червяк и муравей находят для себя очень удоб-
ные жилища. Что сказали бы вы об этих насекомых, если,
1 Д. Дидро —Собр. соч., т. I, стр. 187.
2 Ф. Энгельс. Диалектика природы. М., 1952, стр. 7.
24
приняв за реальные сущности отношения между местом
своего пребывания и своей организацией, они стали бы
восторгаться красотой этой подземной архитектуры и вер-
ховным разумом садовника, устроившего вещи таким об-
разом для них?» 1.
В этих словах было бы ошибочно видеть отрицание
целесообразности вообще. Дидро отрицает лишь то мне-
ние, что все в мире целесообразно и что это свидетельству-
ет о «мудрости всевышнего». Чтобы по достоинству оце-
нить это мнение, достаточно, говорит он, взглянуть на об-
щество, где большинство людей влачит бесправное, жал-
кое существование, а меньшинство утопает в роскоши.
Неоспоримо, однако, то, что действительно существует в
общем целесообразное строение живых существ, известная
согласованность между организмами и средой, а также
между органами одного и того же организма. Но эта це-
лесообразность, утверждает Дидро, должна быть, как и
все другие явления, объяснена исключительно естествен-
ными причинами. Верный этому материалистическому
принципу, он задолго до Ламарка и Дарвина пытался уло-
вить естественнонаучные закономерности развития видов.
Он предлагал отбросить ту мысль, что животные и расте-
ния всегда были таковы, как сейчас: «Кто знает породы
животных, которые были до нас? Кто знает породы, кото-
рые сменят ныне существующие? Все изменяется, все ис-
чезает, только целое остается. Мир зарождается и умирает
беспрерывно, каждый момент он находится в состоянии
зарождения и смерти...» 2.
Если вся вселенная находится в вечном «брожении»,
в развитии, то, естественно, не мог остаться неизменным
животный и растительный мир земли, эта частица космоса.
«Я могу, например, спросить у вас, — говорит Дидро, —
спросить у Лейбница, Кларка, Ньютона, откуда они знают,
что животные при первоначальном своем образовании не
были одни без головы, а другие без ног. Я могу утвер-
ждать, что некоторые из них не имели желудка, а другие
не имели кишок, что животные, которым наличие же-
лудка, нёба и зубов обещало как будто длительное суще-
ствование, вымерли из-за какого-нибудь недостатка в серд-
це или легких, что постепенно вывелись чудовища, что
1 Д. Дидро—Собр. соч., т. I, стр. 294.
2 Там же, стр. 391.
25
исчезли все неудачные комбинации и что сохранились
лишь те из них, строение которых не заключало в себе
серьезного противоречия и которые могли существовать
и продолжать свой род» 1.
Не трудно видеть, что Дидро вплотную подошел здесь
к идее естественного отбора. Природа уничтожает те ор-
ганизмы, которые устроены нецелесообразно, не приспо-
соблены к среде; и, напротив, природа сохраняет те су-
щества, которые «могут более или менее сносно существо-
вать совместно со столь прославляемым панегиристами
природы общим порядком» 2.
Предвосхищая некоторые идеи Ламарка, Дидро ука-
зывал, что употребление или неупотребление органов ве-
дет к их развитию или атрофии. Он считал неоспоримым
влияние потребностей на строение живых существ. «Это
влияние,— писал он,— может быть настолько велико, что
иногда оно порождает органы и всегда изменяет их» 3.
Таким образом, разумное строение существ есть
результат многовекового активного преобразующего влия-
ния на них среды. Не бог, а природа в своем непрерыв-
ном развитии создавала и изменяла организмы, в их
числе и человека. Таковы те смелые для XVIII в. и чрез-
вычайно опасные для религии выводы, которые делал
Дидро из материалистического учения о единстве мате-
рии и движения.
Откровенные атеистические выводы делались Дидро
также из учения о единстве материи и сознания. Мате-
риалистическое решение основного вопроса философии не
оставляет места для духовной субстанции; и действитель-
но, вслед за Ламеттри Дидро отверг субстанциальность
души. Душа — так он называет совокупность психиче-
ских явлений — есть лишь свойство материи: «Душа —
ничто без тела. Я утверждаю, что ничего нельзя объяс-
нить без тела»4. Он допускал, что ощущение может
быть постоянным, неотъемлемым свойством материи,
таким, например, как движение. Мысль эта была заост-
рена против религии, объявляющей сознание сверхъесте-
ственным, божественным даром.
1 Д. Дидро —Собр. соч., т. I, стр. 254.
2 Там же, т. II, стр. 340—341
3 Там же, стр. 433.
4 Там же, стр. 480.
26
Разбирая книгу Гельвеция «Об уме», Дидро писал:
«Гельвеций приписывает, повидимому, чувствительность
материи вообще: эта точка зрения очень подходяща для
философов: защитники религиозного суеверия, высказы-
ваясь против нее, рискуют запутаться в больших трудно-
стях» 1. Точно так же в «Разговоре Даламбера с Дидро»
он высказывал предположение, что отказ считать чувстви-
тельность всеобщим свойством материи или свойством
особо организованной материи приводит к противоречию
со здравым смыслом, к мистическим, абсурдным выво-
дам 2.
Несмотря на эти ясные высказывания Дидро, некото-
рые буржуазные историки философии объявляли его
идеалистом и религиозно мыслящим человеком именно
из-за признания им гипотезы о том, что ощущение есть
всеобщее свойство материи. Они пытались представить
дело так, будто он наделял и мертвую и живую материю
однокачественной чувствительностью. В действительности
Дидро нигде не утверждал этого; напротив, он указывал,
что наряду со скрытым и открытым движением материи
существует скрытая и открытая ее чувствительность.
Инертная, скрытая чувствительность присуща неоргани-
ческой материи, органическая же обладает деятельной,
открытой чувствительностью; «как живая сила прояв-
ляется при передвижении, а мертвая — при давлении, так
деятельная чувствительность характеризуется у живот-
ного и, может быть, у растения теми или другими замет-
ными действиями, а в существовании инертной чувстви-
тельности можно удостовериться при переходе ее в со-
стояние деятельной» 3.
Приведя в труде «Материализм и эмпириокритицизм»
высказывание Дидро об ощущении как всеобщем свой-
стве материи, В. И. Ленин писал: «Материализм в полном
согласии с естествознанием берет за первичное данное
материю, считая вторичным сознание, мышление, ощуще-
ние, ибо в ясно выраженной форме ощущение связано
только с высшими формами материи (органическая мате-
рия), и «в фундаменте самого здания материи» можно
1 Д. Дидро —Собр. соч., т. II, стр. 109—110.
2 Там же, т. I, стр. 377
3 Там же, стр. 368.
27
лишь предполагать существование способности, сходной
с ощущением. Таково предположение, например, изве-
стного немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля,
английского биолога Ллойда Моргана и др., не говоря
о догадке Дидро, приведенной нами выше» 1.
Итак, источник сознания — в самой материи. Переход
инертной, скрытой чувствительности в чувствительность
деятельную, открытую, связан с развитием материи, с пере-
ходом материи неорганической в органическую. Дидро
отстаивал мысль о возникновении живого из неживого:
«Растительное царство может быть, есть и было источни-
ком животного царства, зародившись само в минераль-
ном царстве, а последнее произошло из всеобщей гетеро-
генной материи» 2.
Учение Дидро о единстве материи и сознания послу-
жило ему философской основой отрицания бессмертия
души и загробного мира. Мысль о существовании загроб-
ной жизни допустима лишь в том случае, иронически
замечает Дидро, «если можно поверить, что будешь
видеть, не имея глаз; будешь слышать, не имея ушей;
будешь мыслить, не имея головы; будешь любить, не имея
сердца; будешь чувствовать, не имея чувств; будешь суще-
ствовать, хотя нигде тебя не будет; будешь чем-то непро-
тяженным и виепространственным» 3.
Таковы основные атеистические выводы, к которым
пришел Дидро, опираясь на свой философский материа-
лизм.
4
Непримиримо враждебное отношение к религии было
вызвано у Дидро в первую очередь двумя обстоятель-
ствами: несовместимостью религии с научным мировоз-
зрением и тем, что она освящает деспотизм.
Старый вопрос об отношении разума и веры, науки и
религии нашел у Дидро четкое решение. Уже в одной из
ранних работ он писал: «Если разум — дар неба и если
то же самое можно сказать о вере, значит небо ниспо-
слало нам два дара, которые несовместимы и противоре-
1 В. И. Ленин — Соч., т. 14, стр. 34.
2-Д. Дидро —Собр. соч., т. II, стр. 353.
3 Там же, стр. 99.
28
чат друг другу. Чтобы устранить эту трудность, надо
признать, что вера есть химерический принцип, не суще-
ствующий в природе» 1. Наука, согласно Дидро, стремится
вооружить человека правильными представлениями о при-
роде и обществе, о законах их существования, и тем
самым сделать людей сильнее; религия же есть мир фан-
тастических вымыслов, которые не имеют ничего общего
с реальной жизнью, коренным образом искажают ее и тем
самым дезориентируют человека. Дидро неоднократно
возвращался к той мысли, что в религии отразились самые
примитивные, путаные, противоречивые, фантастические
представления дикарей о природе и человеке. Прошли
века, по эти жалкие представления преподносятся цер-
ковью как непреложные и священные истины.
В отличие от истин научных, которые подтверждаются
экспериментом и подчинены законам логики, религиозные
«истины» являются лишь предметом слепой веры. Религия
и наука расходятся во всем. Поэтому учение о двойствен-
ности истины, признающее существование двух параллель-
ных рядов истин (научных и религиозных), Дидро считал
отвратительной смесью неверия и суеверия.
Религиозная вера не только противоречит разуму;
она стремится раздавить, вытеснить его. Эту мысль Дидро
выразил в образном сравнении: «Я заблудился ночью
в дремучем лесу, и слабый огонек в моих руках — мой
единственный путеводитель. Вдруг предо мной вырастает
незнакомец и говорит мне: „Мой друг, задуй свою свечу,
чтобы верней найти дорогу". Этот незнакомец — бого-
слов» 2. Религия, писал Дидро, мешает человеку вырабо-
тать правильный взгляд на общество, познать настоящие
причины социальных зол и пути к их уничтожению. Более
того, она освящает и укрепляет неразумные и несправед-
ливые феодальные порядки, тираническую королевскую
власть — строй, который обрекает на голод и бесправие
всех честных, работающих граждан страны. Религия про-
возглашает смертным грехом всякую попытку преобразо-
вания общества на разумных началах.
С огромной силой Дидро обрушивался на религиозную
мораль, которая стремится убить в человеке дух актив-
1 Д. Дидро—-Собр. соч., т. I, стр. 124.
2 Там же.
29
ности, воспитать людей в рабской покорности перед
судьбой. В противовес религиозной нравственности, низ-
водившей людей до положения «рабов божьих», Дидро
провозгласил человека высшей ценностью на земле. Он
восставал против религии, которая пытается убить
в людях все человеческое, все естественные чувства, вну-
шить презрение к земной жизни, к земному счастью:
«Люди перестают быть людьми и превращаются в исту-
канов, желая стать истинными христианами» 1. Нужно
разорвать религиозные цепи, сковывающие людей; нужно
вытеснить религию, чтобы развязать творческие способ-
ности человека. Дидро и его друзья старались внушать
людям мужество, веру в человека, в мощь разума для
борьбы за разумную перестройку жизни.
Трудно преувеличить революционность этой решитель-
ной критики религиозного унижения человека, аскетиче-
ских религиозных идеалов. В условиях предреволюцион-
ной Франции это был призыв к действию, к борьбе.
Дидро, как и его соратники Гельвеций и Гольбах,
резко выступил против церковного учения о том, что
мораль немыслима без религии. Он указывал, что рели-
гия — весьма слабая узда для дурных поступков и что
атеизм, отрицающий идею загробного воздаяния, вовсе не
ведет к росту преступности: «...Искушение слишком
близко, а мучения ада слишком далеки; не ждите ничего
хорошего от системы странных воззрений, которые можно
внушать только детям, которые надеждой на искупление
подстрекают к преступлению, которые посылают прови-
нившегося просить у бога прощения за обиду, нанесен-
ную человеку, и подтачивают строй естественных и
моральных обязанностей, подчиняя его строю призрачных
обязанностей» 2.
Дидро показывал лицемерие, ханжество религиозной
нравственности, ее противоречивость. Не ускользнула от
его внимания и та истина, что многих религиозных пра-
вил, которые навязываются простому народу, чтобы дер-
жать его в кротости и смирении, нисколько не придержи-
ваются власть имущие.
1 Д. Дидро—Собр. соч., т. I, стр. 93
2 Там же, т. II, стр. 97.
30
Религиозная мораль противоречит естественным
склонностям человека, калечит, извращает человеческую
натуру. Эта мысль подробно развита Дидро в «Добавле-
нии к „Путешествию" Бугенвилля» и в «Разговоре фило-
софа с женой маршала де ***». В «Монахине» он раскрыл
потрясающую картину морального разложения в мона-
стырской среде. Устами верующей Сюзанны, героини
этого романа, Дидро рассказал о вопиющем аморализме,
защищаемом религией. «Монахиня» стала документом
огромной обличительной силы. Дидро подверг беспощад-
ному бичеванию не только монастырскую среду, неиз-
бежно порождающую пороки; социальный смысл романа
гораздо глубже: «Монахиня» развенчивала всю феодально-
религиозную нравственность. Затхлый, насквозь прогнив-
ший монастырский быт показан Дидро лишь как частный
пример антиобщественной религиозной нравственности.
Придерживаясь учения, согласно которому интеллек-
туальный и моральный облик человека формирует среда,
Дидро призывал упразднить феодальные отношения, раз-
вращающие нравы. Человек от природы не зол и не добр,
утверждал он,— «дурное воспитание, дурные примеры,
дурное законодательство—вот что развратило нас»1.
Не в религиозной нравственности нужно искать спасения
от зла, а в устроении жизни на новых началах.
И Дидро формулирует такие требования: надо, чтобы
законы связали благо отдельных людей с общим благом
и чтобы гражданин не мог вредить обществу, не вредя
самому себе; человеку должно быть выгодно творить
благо. Нужно также, чтобы законы беспристрастно карали
зло и награждали добродетель; критерием же доброде-
тели Дидро считал общественное благо, не противореча-
щее справедливым интересам личности. Только такими,
реальными общественно-политическими средствами, а не
религиозной проповедью можно победить зло.
При всей своей классовой и исторической ограничен-
ности эта утилитаристская этика, защищаемая Дидро и
его единомышленниками, была прогрессивна, так как
опровергала реакционную феодальную нравственность,
якобы санкционированную богом.
1 Д. Дидро —Собр. соч., т. VIII, стр. 162.
31
В силу сложившихся исторических условий Дидро,
критикуя религиозное мировоззрение, направил огонь
в первую очередь против христианской морали. Еще
будучи деистом, он едко высмеивал противоречивые,
нелепые представления христианства о боге, о котором
нельзя сказать ничего определенного. «Бог,— писал
Дидро, — дает первый закон людям; затем он отменяет
его. Не напоминает ли это несколько поведение зако-
нодателя, который ошибся и с течением времени сознал
свою ошибку? Может ли совершенное существо оду-
маться?» 1. «,,Ты будешь рождать в муках", сказал бог
согрешившей жене. Но что сделали ему самки животных,
которые тоже рождают в муках?» 2. Чего стоит религия,
которая с серьезным видом утверждает, что «бог посы-
лает па смерть бога, чтобы умилостивить бога»?
Говорят, что бог христиан милосерд; но как при-
мирить это с рассказами о его беспримерной жестокости,
о его злопамятности и мстительности? Что это за мило-
сердный бог, который обрекает подавляющее большинство
людей па вечные адские муки? И отчего же, спрашивает
далее Дидро, этот бог приходит в ярость? Неужели такое
ничтожество, каким изображает религия человека, может
способствовать или мешать славе всемогущего, нарушать
его покой и блаженство? Намекая на ветхозаветную
легенду о грехопадении, Дидро остроумно замечает: «Бог
христиан — это отец, который чрезвычайно дорожит свои-
ми яблоками и очень мало — своими детьми» 3. Всемогу-
щий бог хочет, чтобы все люди были «спасены». Дьявол
противится этому и берет верх над всемогущим богом,
ибо, по христианским представлениям, в рай попадает
лишь самое ничтожное меньшинство. «Если па одного
спасенного приходятся сто тысяч погибших,— заметил
Дидро,— то, значит, дьявол все-таки остался в выигрыше,
даже не послав па смерть своего сына» 4.
Дидро показывает противоречивость и нелепость
христианских догматов, в частности — догмата троицы:
«Бог-отец находит людей достойными вечной кары; бог-
сын находит их достойными бесконечного милосердия; свя-
1 Д. Д и д р о — Собр. соч., т. I, стр. 133.
2 Там же, стр. 129.
3 Там же, стр. 125.
4 Там же.
32
той дух остается нейтральным. Как примирить это католи-
ческое пустословие с единством божественной воли?» 1.
Христианство, писал Дидро, целиком соткано из чудес,
а время чудес миновало. «Религия Иисуса Христа, воз-
вещавшаяся невеждами, создала первых христиан. Та же
религия, проповедуемая учеными и профессорами, со-
здает ныне только неверующих» 2. Опираясь на высказы-
вания Вольтера, Дидро ставит под сомнение историчность
Христа. Никто из современников Христа, заявляет он,
ничего о нем не знал. Не знали Христа пи Филон из Але-
ксандрии, ни Юстус Тивериадский, ни даже Иосиф Фла-
вий. Историки первого века нашей эры сообщают мель-
чайшие подробности о тогдашней Иудее; они сохранили
для потомства имена гораздо более мелких деятелей: Иуды
Галилейского, Ионафана, Тевды и других, но почему-то
«позабыли» сообщить о такой личности, как Христос!
«Неужели они (историки.— X. М.) не различили его
в толпе плутов, которые восставали в Иудее и, едва по-
явившись, тотчас же исчезали бесследно?» 3. Дидро указы-
вает, что отцы церкви, понимая, как опасно для христиан-
ства умолчание Иосифа Флавия о Христе, вписали
в работу этого иудейского историка несколько строк, где
упоминается Христос; но ревнители веры христовой «не
сумели ни придать правдоподобия сочиненному ими от-
рывку, ни выбрать для него подходящее место», и «подлог
вышел совершенно явным» 4.
Итак, история молчит о Христе. Где же, в таком слу-
чае, источники наших сведений о предполагаемом осно-
вателе христианской религии? Это главным образом
евангелия. Но что представляют собой эти книги? Дидро
указывает, что в. первые века нашей эры существовало
шестьдесят евангелий, которые пользовались почти одина-
ковым авторитетом. Пятьдесят шесть из них были отбро-
шены как вздорные. Но что такое четыре уцелевшие?
Не страдают ли они теми же пороками, что и их незадач-
ливые конкуренты? Дидро отвечает без колебания, что и
в так называемых канонических евангелиях кишмя кишат
нелепости и противоречия. «Беспримерное бесстыдство,—
1 Д. Дидро — Собр. соч., т. I, стр. 130.
2 Там же, стр. 128.
3 Там же, стр. 173.
4 Там же, стр. 174.
33
заключает он,— ссылаться на согласованность еванге-
лий» 1.
Серьезным шагом к доказательству неисторичности
Христа оказались указания Дидро на преемственную связь
между христианской и античной мифологией. Нельзя
сказать, что он не имел здесь предшественников. Однако
это не умаляет значения его плодотворных мыслей.
Троица, как и многие другие христианские догматы, об-
ряды и праздники, говорит он, взяты из более ранних
религий. «...Все ваши непреложные догмы: ваш бог в трех
лицах, ваши злые ангелы, которые восстают против своего
творца и пытаются свергнуть его с тропа; ваша Ева,
созданная из ребра Адама; ваша пресвятая дева, которую
посещают молодой человек и голубь и которая береме-
неет, но не от молодого человека, а от птицы; пресвятая
дева, которая родит и остается девственницей; этот бог,
который умирает па кресте, чтобы умилостивить бога, а
затем воскресает и возносится па небо (куда на небо?),—
все это... мифология, язычество, всему этому та же цепа,
что и мифам об Уране, Сатурне, Титанах, о Минерве,
выходящей в полном вооружении из головы Юпитера,
о Юноне, забеременевшей от Марса только потому, что
она вдохнула запах цветка, об Аполлоне — Фебе, управ-
ляющем колесницей солнца... Все это один и тот же
бред» 2.
Аргументы Дидро против историчности Христа были
в дальнейшем полностью подтверждены. Как и Вольтер,
Дидро в этом вопросе, бесспорно, является прямым пред-
шественником Дюпюи, Штрауса и Бруно Бауэра. Дидро,
конечно, не мог открыть социально-экономических, полити-
ческих и идейных предпосылок христианской религии. Тем
не менее многие его мысли помогли разоблачению нагро-
можденной церковью вековой лжи о Христе и христиан-
стве.
Дидро, непримиримо враждебный религии, разумеется,
был столь же враждебен церкви и духовенству. Уже в
«Аллеях, или прогулке скептика» он дал убийственную
характеристику духовенства, нарисовал отвратительный
облик этого паразитического сословия, занятого одурма-
1 Д. Дидро —Собр. соч., т. I, стр. 130.
2 Д. Д и д р о — Беседа с аббатом Бартелеми (стр. 230—231
наст, издания).
34
ниванием людей в интересах деспотизма. Святоши —
«самая скверная порода людей...»; «спесивые, скупые,
лицемерные, коварные, мстительные, а главное чудо-
вищно сварливые, они унаследовали... тайну как убивать
своих врагов...; бывают моменты, когда они умертвили бы
друг друга из-за одного слова, если бы им любезно раз-
решили это сделать» 1.
Особенной ненавистью дышат строки, направленные
против черной гвардии Ватикана — иезуитов. Они «про-
поведовали народу слепое подчинение королю, непогре-
шимость папы, чтобы, господствуя над одним, господство-
вать над всеми» 2.
В литературе о Дидро можно встретить мнение о его
симпатиях к противникам иезуитов в церковном лагере —
к янсенистам. Некоторые буржуазные историки филосо-
фии пытались даже найти преемственную связь между
янсенизмом и взглядами Дидро. Нелепость этого обнару-
живается в высказываниях самого Дидро. В 1762 г., когда
приближалось изгнание иезуитов из Франции и япсенисты
уже торжествовали победу, он писал: «Они не представ-
ляют себе, что их самих ожидает забвение: это басня
про две подпорки, которые вступили в спор с крышей
дома; хозяину надоело их несогласие: он срубил одну,
другая же упала сама». Дидро с нескрываемым отвраще-
нием отзывался о «жалких доктринах» яисенистов.
Весьма остры были нападки Дидро на католическое
вероучение, которое он считал самым нелепым и жесто-
ким. Своей крайней запутанностью оно дает повод к раз-
дорам, расколам и кровавым столкновениям между
людьми. Католицизм означает самое жестокое подавление
свободы вероисповедания, свободы совести.
Дидро глубоко возмущался насильственным насажде-
нием веры в бога. Он клеймил церковь за то, что она
требует веровать наперекор совести и разуму в самые
нелепые вымыслы, в самые вздорные догматы. Дидро раз-
вивал принципы свободы совести, разработанные до него
Спинозой, Локком и Бейлем. Он требовал полной сво-
боды в делах веры. Государство, по его убеждению, не
должно насильственно навязывать гражданам ту или
1 Д. Дидро-—Собр. соч., т. I, стр. 154—155.
2 Там же, т. VIII, стр. 271.
35
иную религию. Понятие о боге должно быть изгнано из
гражданских законов. Во имя естественных прав человека
нельзя преследовать людей за разрыв с государственной
религией или религией вообще. Дидро стоял не только за
свободу вероисповедания, но также и за свободу неверия.
Независимо от того, к какой религии принадлежит чело-
век, и вообще исповедует ли он какую-либо из них, госу-
дарство должно предоставлять ему одинаковые со всеми
права. Дидро высказывался за полное упразднение цер-
ковной опеки над школой, требовал, чтобы образование
было светским. Вместе с тем он не настаивал на отде-
лении церкви от государства. Напротив, для обуздания
духовенства он считал необходимым превратить священно-
служителей в обыкновенных государственных служащих,
предназначенных для отправления религиозного культа.
Ему казалось, что материальная зависимость духовенства
от государства даст возможность держать церковь под
постоянным контролем. Чтобы подорвать политическое
влияние церкви, он рекомендовал меры для уничтожения
ее экономической мощи. «Вы,— обращался Дидро к вооб-
ражаемому «просвещенному» монарху,— разумеется, из-
бавились бы от них (священников.— X. М.), а вместе
с ними от всей той лжи, которою они заразили ваш парод,
если бы вам удалось сделать их бедными. Ибо, став бед-
ными, они впадут в унижение, а кто же захочет избрать
профессию, где нельзя будет ни составить себе состоя-
ния, ни добиться почета?» 1.
Уничтожение или ослабление влияния религии Дидро
связывал с уничтожением или, по крайней мере, с ослабле-
нием духовенства. Здесь отчетливо проявилась буржуаз-
но-просветительская ограниченность атеизма Дидро, ко-
торый, как и все другие представители домарксистского
материализма, в объяснении общественной жизни стоял
на идеалистических позициях и потому не мог видеть со-
циально-экономических корней религии. Как и многие
другие просветители XVIII в., он полагал, что религия
своим существованием обязана невежеству людей и со-
знательному обману человечества служителями церкви.
Отсюда не трудно было прийти к столь же ошибоч-
ному выводу, что для преодоления религии достаточно
1 Д. Дидро—Собр. соч., т. II, стр. 85.
3G
распространять просвещение и уничтожить духовенство.
«Сколько бы философы ни доказывали нелепость христи-
анства,— писал Дидро,— эта религия погибнет лишь
тогда, когда у врат Собора богоматери или св. Сульпиция
нищие в разодранных рясах станут предлагать со скидкой
обедни, отпущение грехов и причащение...» 1.
Французская буржуазная революция XVIII в. показала
всю глубину этого заблуждения Дидро и его единомыш-
ленников. В ходе революции была основательно разруше-
на экономическая мощь феодальной церкви. Революцион-
ная власть вела энергичную просветительскую пропаган-
ду против религии и ие остановилась перед суровыми
репрессиями в отношении контрреволюционного духовен-
ства. Однако религия во Франции не исчезла, и она ие
могла исчезнуть, ибо, как учит марксизм-ленинизм, ее со-
циальные корпи таятся в эксплуатации человека челове-
ком, в нищете, полуголодном существовании трудящихся
масс, лишенных уверенности в завтрашнем дне. Страшные,
бесчеловечные условия существования этих масс в частно-
собственническом обществе — вот чем в первую очередь
питаются религиозные иллюзии о загробном «спасении» и
воздаянии.
Просвещение — важное средство преодоления религии;
однако Дидро не мог не задать себе вопроса — в состоя-
нии ли просвещение достаточно охватить массы людей,
во всем испытывающих нужду и лишения? В этом он
усумнился, а заодно (и для пего это было вполне логич-
но) — в возможности полного преодоления религии.
В «Систематическом опровержении книги Гельвеция „Че-
ловек"» Дидро писал: «Вообще мы не знаем, как у како-
го-нибудь народа возникают предрассудки, и еще менее
знаем мы, как они исчезают» 2. В другом месте он указы-
вал, что «религия — это очень живучее, никогда не гибну-
щее растение» 3. Более обстоятельно Дидро высказался в
«Плане университета, или школы публичного преподава-
ния всех наук, для российского правительства»: «Большая
часть нации всегда останется невежественной, бояз-
ливой и, следовательно, суеверной. Атеизм может быть
1 Там же, стр. 133
2 Там же.
3 Там же, стр. 87.
37
доктриной небольшой школы, но никогда не станет убеж-
дением большого числа граждан, в особенности граждан,
принадлежащих к малоцивилизованной нации. Вера в су-
ществование бога, этот корень предрассудков, останется
навсегда» 1.
Из этого Дидро, конечно, не делал вывода о бесполез-
ности борьбы против религии; но все же он суживал поле
атеистической пропаганды и считал атеизм достоянием
лишь просвещенных буржуазных верхов.
Указывая на классовую и историческую ограничен-
ность атеизма Дидро, мы не должны, однако, забывать ре-
волюционной сущности этого атеизма в условиях XVIII в.,
его роли в уничтожении того ореола святости, которым
церковь окружала реакционные, феодальные порядки.
Атеизм Дидро и его боевых соратников не утратил своего
значения и в последующей борьбе против религиозных
предрассудков.
б
Никто при жизни Дидро не сомневался в его атеизме—
в том, что в лице этого мыслителя религия и церковь обре-
ли непримиримого и талантливого врага. Лишь после ре-
волюции 1789—1794 гг., когда пришедшая к власти бур-
жуазия стала в своих классовых интересах подновлять
идею бога, начались поиски «сверхъестественного» в убеж-
дениях Дидро. Желая в угоду вкусам пореволюционной,
уже реакционной буржуазии превратить Дидро в добропо-
рядочного мещанина, многие буржуазные идеологи пыта-
лись снять с него обвинение в материализме и атеизме.
Эта фальсификация идейного облика Дидро заметно уси-
лилась во второй половине XIX в.
Так, в 1881 г. Поль Жане «доказывал»2, будто мате-
риализм Дидро имел пантеистическую тенденцию, а в
последнем периоде творчества у него началась якобы
«реакция» против материализма и атеизма.
С двусмысленной оценкой воззрений Дидро выступил
в 1894 г. Ж. Рейнак. В ложном освещении этого истори-
ка философии Дидро — непоследовательный, противоречи-
1 «Oeuvres completes de Diderot», т. III, стр. 517.
2 Paul Janet —La philosophic de Diderot. Le dernier mot d'un
materialiste («The Nineteenth Century», т. IX, 1881)
38
вый мыслитель, то отвергающий, то признающий бытие
бога,— мыслитель, который долгое время был деистом и
пантеистом и о котором «нельзя твердо сказать, не при-
шел ли бы он позднее к идее бога как „души мира"» 1. Мы
увидим далее, что и на смертном одре Дидро холодеющи-
ми устами объявил отрицание бога исходным началом
«истинной философии».
Другой исследователь творчества Дидро, К. Розен-
кранц, пытался убедить читателей, что в «Монахине»
будто бы дана критика не религиозной морали вообще,
а лишь ее извращений 2. С той же идеей носился П. Лан-
фре, который утверждал, что философы XVIII в. и в их
числе Дидро не только не задевали «чистой» христиан-
ской морали, но даже... способствовали ее развитию. «Ес-
ли под христианством,— писал Ланфре,— подразумевать
сумму моральных истин, изложенных в Евангелии, тогда
нет противоречия между религией и философией XVIII в.
Напротив, между ними имеется связь, гармония...» 3. Таким
образом, Дидро, считавший моральные принципы Еванге-
лия нелепыми и совершенно негодными для нормальной
практической жизни, попал с легкой руки Ланфре в адеп-
ты «чистого», «евангельского» христианства. Нелишне
в этой связи напомнить, что Дидро отвергал противопо-
ставление «истинного» христианства современному, так
как находил порочными самые принципы этой религии.
«Мне не нравится,— писал он,— это вздорное различие
между религией Иисуса и религией священника. Фактиче-
ски это одно и то же» 4.
Иной способ «защиты» Дидро от обвинений в атеизме
нашел Р. Думик. Видя несуразность превращения этого
корифея материализма и атеизма XVIII в. в религиозно-
го мыслителя, он свалил «вину» па Нежона — верного дру-
га и соратника Дидро и Гольбаха, Во всем, по мнению
Думика, виноват Нежон, «атеизировавший» рукописи Дид-
ро в качестве его душеприказчика5. Само собой
1 Joseph Re i n ach — Diderot, Париж, 1894, стр. 161.
2 К. Ro senk r a n z — Diderot's Leben und Werke, 1866.
3 P. Lanfrey — L'Eglise et les philosophies au dix-huitieme
siecle, стр. 364.
4 Д. Дидро —Собр. соч., т. II, стр. 325.
5 R. Dournic — Les manuscrits de Diderot («Revues des deux
mondes», 15 окт. 1902)
39
разумеется, что в подтверждение своей выдумки Думик не
смог привести никаких серьезных аргументов.
Многие из тех, кто не хотел считать Дидро атеистом,
пытались найти оправдание своим неправильным взгля-
дам в обстоятельствах последних лет его жизни. Были
созданы легенды о том, что будто бы к концу жизни Дид-
рб всем своим поведением и даже в прямых высказыва-
ниях отвергал собственные былые атеистические убежде-
ния. Но в этом нет и тени правды. Англичанин С. Ро-
мильи, который встретился с Дидро в 1781 г., писал, что
тот был полон сил, говорил о политике, философии и ре-
лигии, отмечал заслуги англичан в борьбе за здравую
философию и одновременно указывал, что французы опе-
редили их благодаря своей умственной отваге. «Вы,—
говорил Дидро,— примешиваете к вашей философии тео-
логию; это значит все портить и смешивать ложь с истиной;
нужно отбросить теологию (il faut sabrer la theologie)» 1.
Дидро, по словам Ромильи, восторженно заявлял о своем
полном неверии в бога и, чтобы «завершить мое изле-
чение от моих жалких заблуждений, прочел мне с начала
до конца небольшое написанное им сочинение» 2 (имеет-
ся в виду «Разговор философа с женой маршала де ***»).
Перед смертью Дидро его посещал священник церкви
св. Сульпиция, который пытался уговорить умиравшего
философа отречься от материалистических и атеистиче-
ских идей. Однажды он сказал Дидро, что это произвело
бы на всех хорошее впечатление. Философ ответил: «Я
верю, господин священник, что это произвело бы хорошее
впечатление, по согласитесь, что это было бы бесстыдной
ложью с моей стороны» 3. Как свидетельствует дочь фи-
лософа, последними словами, услышанными ею из уст
отца, были: «Неверие — первый шаг в философии» 4.
Такие факты убедительно показывают, как тенденци-
озны суждения реакционной буржуазной историографии
о Дидро. В наши дни в особенности на родине фило-
софа наиболее реакционные элементы из буржуазной
1 Memoirs of sir Samuel Romilly. т. I, стр. 63 (цит. по кн.
Д. Морлей—-Дидро и «Энциклопедия», стр. 422).
2 Там же.
3 «Oeuvres completes de Diderot», т. I, стр. 56.
4 «Memoires pour servir a l'histoire de la vie et des ouvrages de
Diderot par m-me Vandeul, за fille» (см. «Oeuvres completes de Di-
derot», т, I, стр. 57),
40
интеллигенции сражаются с идеями Дидро и его сорат-
ников как с живыми врагами. Это понятно: Дидро и его
друзья были глашатаями прогресса, они возвеличивали
человека и человеческий разум, ратовали за демократию
и гуманизм, мечтали о мире и счастьи для всех людей.
В противоположность им идеологи современной реакции
хотят остановить восхождение человечества на высшую
ступень развития общества, увековечить капиталистиче-
ский строй, оправдать эксплуатацию и порабощение тру-
дящегося человека, в ущерб разуму дать простор религии
и мистике. Они хотят предать забвению имена великих
просветителей и материалистов XVIII в.
На страже идейного наследства выдающихся людей
прошлого, среди которых видное место занимают фран-
цузские материалисты XVIII в.,. стоят все прогрессивные
силы современности — все, кто ведет борьбу за светлое
будущее человечества, за мир, демократию и социализм.
Творчество Дидро и его соратников дорого французским
коммунистам, которые, как пишет М. Торез, «разоблача-
ют и борются с теми, кто порочит национальную культу-
ру Франции и толкает ее к упадку...». «Мы, — продолжает
он,— законные наследники революционной мысли энци-
клопедистов XVIII в., философского материализма Дидро,
Гельвеция и Гольбаха. Мы продолжаем дело тех, кто бо-
ролся в первых рядах человечества, а вырождающаяся
буржуазия превозносит писания эстетов, потомков пети-
метров старого режима» 1.
В. И. Ленин настоятельно советовал издавать для па-
рода произведения французских атеистов XVIII в. Он пи-
сал, что «бойкая, живая, талантливая, остроумно и откры-
то нападающая на господствующую поповщину публи-
цистика старых атеистов XVIII века...»2 может сыграть
полезную роль в освобождении трудящихся масс от влия-
ния религии. Атеизм Дидро и других материалистов
XVIII в. и для нас не только имеет исторический интерес,
но остается идейным оружием в борьбе против религиоз-
ных пережитков.
X. Н. Момджян
1 Морис Торез —Сын народа, 1950, стр. 82
2 В. И. Лен и н — Соч , т. 33, стр. 204.
41
Д. ДИДРО
ИЗБРАННЫЕ
АТЕИСТИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПРИБАВЛЕНИЕ К ФИЛОСОФСКИМ МЫСЛЯМ,
ИЛИ РАЗНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ
СОЧИНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ БОГОСЛОВОВ
I
Сомнения в религиозных вопросах, отнюдь не будучи
проявлением нечестия, должны, наоборот, считаться доб-
рым делом, когда они высказываются человеком, смирен-
но признающим свое невежество, и проистекают из стра-
ха прогневить бога чрезмерным доверием к силе разума.
II
Допускать некоторое соответствие между разумом че-
ловека и вечным разумом, т. е. богом, и думать, что бог
требует отказа от человеческого разума, значит утвер-
ждать, что бог чего-то хочет и не хочет одновременно.
III
Если бог, от которого мы получили разум, требует от-
каза от пего, значит он фокусник, который тут же отнимает
то, что дал.
IV
Отрекшись от своего разума, я останусь без путево-
дителя: мне придется тогда принять вслепую какой-нибудь
вторичный принцип и предполагать доказанным то, что
требует доказательства.
V
Если разум — дар неба и если то же самое можно ска-
зать о вере, значит небо ниспослало нам два дара, которые
несовместимы и противоречат друг другу.
45
VI
Чтобы устранить эту трудность, надо признать, что
вера есть химерический принцип, не существующий в при-
роде.
VII
Паскаль1*, Николь 2 и другие утверждают: «Положе-
ние, что бог за грех одного виновного отца наказывает
всех его невинных детей вечными муками, превышает ра-
зум, а не противно разуму». Но найдется ли положение,
противное разуму, если ему не противно то, в котором со-
держится явное кощунство?
VIII
Я заблудился ночью в дремучем лесу, и слабый ого-
нек в моих руках — мой единственный путеводитель.
Вдруг предо мной вырастает незнакомец и говорит мне:
«М ой друг, задуй свою свечу, чтобы верней
найти дорог у». Этот незнакомец — богослов.
IX
Если мой разум дан мне свыше, значит через него со
мною говорит небо; я должен внимать ему.
X
Понятия заслуги и провинности неприменимы к упо-
треблению разума, потому что никакая добрая воля в ми-
ре не поможет слепому различать цвета. Я вынужден
усмотреть очевидность там, где она есть, и отсутствие оче-
видности там, где ее нет, если только я не совсем слабо-
умен; но слабоумие — беда, а не порок.
XI
Если творец природы не вознаградит меня за мой ум,
он также и не осудит меня за мою глупость.
* Примечания к произведениям Дидро см. в конце книги.
46
XII
И он не осудит тебя даже за то, что ты был злым. Раз-
ве твоя злоба уже не сделала тебя достаточно несчастным?
XIII
Каждый добродетельный поступок сопровождается чув-
ством внутреннего удовлетворения; каждое преступле-
ние — раскаянием. Но ум признает без стыда и без рас-
каяния свое отвращение от известных предложений; зна-
чит, нет ни добродетели, ни преступления в том, чтобы
их принять или отвергнуть.
XIV
Если для праведности еще требуется благодать, то к
чему была смерть Иисуса Христа?
XV
Если на одного спасенного приходятся сто тысяч погиб-
ших, то, значит, дьявол все-таки остался в выигрыше,
даже не послав на смерть своего сына.
XVI
Бог христиан это отец, который чрезвычайно доро-
жит своими яблоками и очень мало — своими детьми1.
XVII
Отнимите у христианина страх перед адом, и вы отни-
мете у него веру.
XVIII
Истинная религия, важная для всех людей всегда и
повсюду, должна была бы быть вечной, всеобщей и оче-
видной; но нет ни одной религии с тремя этими признака-
ми. Тем самым трижды доказана ложность всех.
47
XIX
События, свидетелями которых могут бьть только не-
сколько человек, недостаточны для доказательства истин-
ности религии, в которую должны одинаково верить все.
XX
События, которые кладутся в основу религий, древни
и чудесны, т. е. самое сомнительное, что только может
быть, приводится в доказательство самого невероятного.
XXI
Доказывать Евангелие с помощью чуда значит доказы-
вать нелепость с помощью противоестественного явления.
XXII
Но что сделает бог тем, которые ничего не слышали о
его сыне? Неужели он накажет глухих за то, что они не
слышали?
XXIII
Что сделает он тем, которые слышали о его религии, но
не могли ее постигнуть? Неужели он накажет пигмеев за
то, что они не сумели угнаться за гигантами?
XXIV
Почему чудеса Иисуса Христа истинны, а чудеса Эску-
лапа 1, Аполлония Тианского2 и Магомета ложны?
XXV
По, конечно, все евреи, бывшие в Иерусалиме, обрати-
лись при виде чудес Иисуса Христа? Нисколько! Они не
только не поверили в него, они его распяли. Следует при-
знать, что подобных людей больше не сыщешь; все дру-
гие народы теряли голову от одного-единственного ложно-
го чуда, а Иисус Христос ничего не мог поделать с евре-
ями, несмотря па бесконечное множество сотворенных им
истинных чудес.
48
XXVI
Вот над этим-то чудом неверия евреев стоит призаду-
маться, а вовсе не над чудом воскресения Иисуса Христа.
XXVII
Несомненно, как дважды два четыре, что Цезарь су-
ществовал; существование Иисуса Христа столь же не-
сомненно 1, как существование Цезаря. Значит, воскре-
сение Иисуса Христа столь же несомненно, как то, что он
или Цезарь существовал. Какая логика! Существование
Иисуса Христа и Цезаря ведь не чудо.
XXVIII
Мы читаем в «Жизнеописании г. де Торенна», что ко-
гда загорелся один дом, пожар был приостановлен нахо-
дившимися в доме святыми дарами. Согласен. Но мы чи-
таем также в истории, что когда какой-то монах отравил
причастие, германский император умер, едва только про-
глотил его.
XXIX
Здесь было нечто большее, чем только внешний вид
хлеба и вина,— или же придется утверждать, что яд про-
ник в плоть и кровь Иисуса Христа.
XXX
Эта плоть покрывается плесенью, эта кровь окисляет-
ся. Этого бога пожирают клещи на его собственном алта-
ре. Слепой люд, слабоумный египтянин, раскрой же глаза!
XXXI
Религия Иисуса Христа, возвещавшаяся невеждами,
создала первых христиан. Та же религия, проповедуемая
учеными и профессорами, создает ныне только неверую-
щих.
49
XXXII
Указывают, что подчинение законодательной власти
освобождает от необходимости мыслить. Но где же на по-
верхности земли религия без подобной власти?
ХХХШ
Усвоенные с детства взгляды мешают магометанину
креститься; усвоенные с детства взгляды мешают христиа-
нину совершить обряд обрезания; разум зрелого человека
одинаково презирает крещение и обрезание.
XXXIV
У св. Луки сказано, что бог-отец больше, чем бог-
сыи — pater major me est *. Л между тем наперекор столь
определенному выражению церковь предает анафеме
слишком добросовестного верующего, который буквально
придерживается слов, написанных в завете ее основателя.
XXXV
Если церковная власть могла переиначить по своей
прихоти смысл этого места,— наиболее ясного во всем
писании,— значит, нет в писании такого места, которое
можно было бы надеяться понять и с которым церковь не
могла бы сделать все, что ей угодно.
XXXVI
Ти es Petrus et super hane petram aedificabo ecclesiam
meam **. Что это — язык бога или каламбур, достойный
господина Лккора 1.
XXXVII
In dolore paries*** (Бытие). Ты будешь рождать з
муках, сказал бог согрешившей жене. Но что сделали
ему самки животных, которые тоже рождают в муках?
* Отец больше, чем я.
** «Петр еси, и на камне сем созижду церковь мою» — слова
Евангелия с непереводимой игрой слов: ты — Петр (tu es Petrus), и
на камне этом... (super hane petram).
*** В муках будешь рождать.
50
XXXVIII
Если понимать буквально выражение pater major те
est *, то Иисус Христос не бог. Если понимать буквально
слова hos est corpus meum **, то он давал апостолам свое
тело собственными руками; но это так же нелепо, как
рассказ о том, что св. Дионисий облобызал свою отруб-
ленную голову.
XXXIX
Написано, что он удалился на Елеонскую гору и там
молился. Кому же он молился? Самому себе.
XL
Бог, который посылает на смерть бога, чтобы умило-
стивить бога — превосходное выражение барона де ла
Онтана 1. Сто фолиантов, написанных за или против хри-
стианства, не содержат в себе столько убедительности,
сколько две эти смехотворные строчки.
XLI
Сказать, что человек состоит из силы и слабости, из
понимания и ослепления, из ничтожества и величия, это
значит не осудить его, а определить его сущность.
XLH
Человек таков, каким его создали бог или природа;
а бог или природа не создают ничего дурного.
XLIII
То, что мы называем первородным грехом, Нинон де
Ланкло2 называла оригинальным грехом***.
* Отец больше, чем я.
** Сие есть тело мое.
*** Игра слов: первородный — original-, оригинальный — origi-
nal.— Ред.
4* 51
XLiV
Беспримерное бесстыдство ссылаться ыа согласован-
ность евангелий; как известно, в одних евангелиях пове-
ствуется об очень важных событиях, о которых ни словом
не упоминается в других 1.
XLV
Платон рассматривал божество под тремя видами —
благости, мудрости и могущества. Надо сознательно за-
крыть глаза, чтобы не увидеть в этом христианскую
троицу2. Около трех тысяч лет назад афинский философ
называл логосом то, что мы называем словом 3.
XL VI
Божественные ипостаси, это — либо три акциденции 4,
либо три субстанции 5. Ничего третьего быть не может.
Если это три акциденции, то мы атеисты или деисты;
если три субстанции, то мы язычники.
XLVII
Бог-отец находит людей достойными вечной кары; бог-
сын находит их достойными бесконечного милосердия;
святой дух остается нейтральным. Как примирить это
католическое пустословие с единством божественной
воли?
XLVIII
Уже давно просят богословов примирить догмат о веч-
ных наказаниях с бесконечным милосердием бога; а они
всё ни с места.
XLIX
И к чему только наказывать виновного, когда из его
наказания уже нельзя извлечь никакой пользы?
L
Надо быть очень жестоким и злым, чтобы наказывать
ради одного себя.
52
LI
Ни один добрый отец не захотел бы походить на наше-
го отца небесного.
LII
Есть ли какая-нибудь соразмерность между оскорби-
телем и оскорбленным? Между оскорблением и наказа-
нием? Какое нагромождение глупостей и жестокостей!
LIII
И отчего он приходит в такую ярость, этот бог? Не
похоже ли на то, что я могу как-то способствовать или
противодействовать его славе, его покою, его блаженству?
LIV
Вы говорите, что бог заставляет гореть грешника, со-
вершенно бессильного перед ним, в вечном огне; а чело-
веку едва ли разрешат казнить преходящей смертью сво-
его сына, который поставил на карту его жизнь, его честь
и его имущество.
LV
О, христиане! Значит, у вас два различных представ-
ления о добре и зле, об истине и лжи. Значит, вы — самые
нелепые из догматиков или самые необузданные из пир-
роиистов 1.
LVI
Все зло, на какое способен человек, не есть все
возможное зло; но только тот, кто мог сотворить все
возможное зло, мог бы заслужить вечную кару. В своем
стремлении представить бога существом бесконечно мсти-
тельным вы превращаете ничтожного червя в бесконечно
могущественное существо.
LVII
Когда слушаешь, как какой-нибудь богослов безмерно
раздувает поступок человека, который родился по воле
бога распутником и провел ночь со своей соседкой,
53
любезной и красивой по воле того же бога,— то кажется,
что речь идет, по крайней мере, о пожаре всей вселенной!
Ах, мой милый, послушай Марка Аврелия 1, и ты поймешь,
что твоего бога приводит в такую ярость лишь запретное
и приятное трение двух слизистых оболочек.
LVIII
То, что эти свирепые христиане перевели словом веч-
ный, означает по-еврейски всего лишь долгий. Невежество
какого-то гебраиста2 и мрачная ярость какого-то пере-
водчика — вот источник догмата о вечных наказаниях.
LIX
Паскаль сказал: «Если ваша религия есть ложь, вы
ничем не рискуете, считая ее истинной; если она истинна,
вы рискуете всем, считая ее ложной». Какой-нибудь
имам 3 мог бы сказать то же самое, что Паскаль.
LX
Что Иисуса Христа, бога, искушал дьявол,— это сказка,
достойная «Тысяча и одной ночи».
LXI
Я весьма желал бы, чтобы какой-нибудь христианин,
и особенно — чтобы какой-нибудь янсенист4 объяснил
мне, ради кого совершилось воплощение. Во всяком слу-
чае, не следовало увеличивать числа осужденных до бес-
конечности, если имелось в виду извлечь какую-нибудь
пользу из этого догмата.
LXII
Одна молодая девушка жила очень уединенно; однаж-
ды ее посетил молодой человек с птицей в руках, и она
забеременела. Спрашивается: кто произвел ребенка?
Странный вопрос! Конечно, птица 5.
LXIII
Но почему лебедь Леды 6 и огоньки Кастора и Поллу-
кса 7 вызывают у нас смех, а над голубями и огненными
языками Евангелия мы не смеемся?
54
LXIV
В первые века христианской эры существовало шесть-
десят евангелий, которые пользовались почти одинаковым
авторитетом. Пятьдесят шесть из них были отброшены
как ребяческие и вздорные. Не осталось ли кое-что из
этого и в тех, которые были сохранены?
LXV
Бог дает первый закон людям; затем он отменяет-
его1. Не напоминает ли это несколько поведение законо-
дателя, который ошибся и с течением времени сознал
свою ошибку? Может ли совершенное существо оду-
маться?
LXVI
Существует столько же видов веры, сколько религий
на земном шаре.
LXVII
Все сектанты в мире суть не что иное, как еретические
деисты.
LXVIII
Если человек несчастен, не будучи виновным, не зна-
чит ли это, что он предназначен для вечного блаженства,
которого, однако, он никогда не может заслужить по своей
природе?
LXIX
Вот что я думаю о христианском догмате; о христиан-
ской морали скажу только два слова. Возьмем отца
семейства, католика, убежденного, что надо буквально
выполнять евангельские наставления, чтобы не попасть
в так называемый ад; ввиду крайней трудности достиг-
нуть такой степени совершенства, несовместимой с чело-
веческой слабостью, я не вижу для этого отца иного
выхода, как взять своего ребенка за ноги и размозжить
ему голову о землю или задушить его в момент рождения.
Этим он спасет его от мук ада и обеспечит ему вечное
блаженство2; и я утверждаю, что этот поступок не только
55
не будет преступным, но должен считаться бесконечно
добродетельным как основанный на чувстве отцовской
любви, которая требует, чтобы отец делал все возможное
для блага своих детей.
LXX
Заповедь религии и гражданский закон, воспрещаю-
щий убийство невинного, не оказываются ли, в самом де-
ле, крайне нелепыми и крайне жестокими, раз, убивая его,
мы обеспечиваем ему вечное блаженство, а оставляя в
живых, обрекаем, почти наверное, на вечное мучение?
LXXI
Как, господин Лакондамин1! Можно сделать своему
сыну прививку, чтобы гарантировать его от оспы, и нельзя
убить его, чтобы гарантировать его от ада? Да вы просто
издеваетесь.
LXXII
Для истины — достаточный триумф, когда ее прини-
мают немногие, но достойные: быть угодной всем — не ее
удел.
*
В древние времена на острове Тернате решительно
никому, даже священникам, не разрешалось говорить о
религии. Существовал только один храм; особым законом
было воспрещено одновременное существование двух
храмов. В храме не было ни алтаря, ни статуй, ни обра-
зов. Сто священников, получавших приличный доход,
служили в нем. Они не пели и ничего не говорили, но
в глубочайшем безмолвии указывали пальцем на пира-
миду, на которой были начертаны следующие слова:
«Смертные, поклоняйтесь богу, любите ваших братьев и
будьте полезны вашему отечеству».
*
Один человек был предан своими детьми, своей женой
и своими друзьями; неверные сотоварищи по делу разо-
рили его и ввергли в нищету. Проникнутый ненавистью и
56
глубоким презрением к человеческому роду, он покинул
общество людей и удалился в пещеру. Там, закрыв лицо
руками и погрузившись в размышления, как утолить
жажду мести, он шептал: «Негодяи! Что предпринять,
чтобы наказать их за беззакония и причинить им такое
горе, какое они заслужили? О, если бы я мог измыслить...
если бы мог вбить им в голову какую-нибудь небылицу,
которою они стали бы дорожить больше, чем собственной
жизнью, и относительно которой никогда не могли бы
сговориться!..». И вдруг он бросился вон из пещеры, вос-
клицая: «Бог! бог!». Тысячеустое эхо повторяет за ним:
«Бог! бог!». Это страшное имя проносится от одного
полюса до другого, поражая всех, кто его слышит. Сна-
чала люди падают ниц, затем поднимаются, вопрошают
друг друга, спорят, раздражаются, предают друг друга
анафеме, ненавидят и убивают один другого: роковое
желание нашего человеконенавистника исполнилось, ибо
такова была в прошлом и таковою останется навек роль
существа, всегда для нас в равной мере важного и непо-
стижимого.
ПРОГУЛКА СКЕПТИК А, ИЛИ АЛЛЕИ
Аллея терний
Quone malo mentem concussa? Timore deorum.
Horatio. Sat., lib., II, sat. 3*
1. Завистники не обвиняют меня в том, что я растра-
тил миллионные государственные средства на поездку в
Перу за золотом или в Лапландию за соболями. Лица,
которым Людовик повелел проверить вычисления велико-
го Ньютона и измерить с помощью туаза фигуру нашей
планеты, поднимались без меня вверх по реке Торнео, и я
не спускался вместе с ними по водам Амазонки !. По-
этому я не буду рассказывать тебе, дорогой Арист, об
опасностях, которым я подвергался в ледяных краях
севера или в знойных пустынях юга; и уж тем более не
буду говорить о пользе, которую извлекут когда-нибудь,
через две или три тысячи лет, география, мореплавание
и астрономия из моего удивительного угломера и из моей
необыкновенной зрительной трубы. Я ставлю себе более
благородную цель, более близкую задачу: я хочу просве-
тить и усовершенствовать человеческий разум повестью
о простой прогулке. Нужно ли мудрецу переплывать
моря и отмечать в своем дневнике варварские имена и
и необузданные страсти дикарей, чтобы просвещать циви-
лизованные народы? Все, что нас окружает, полно инте-
реса. Предметы, наиболее нам привычные, могут по-
казаться нам чудесами: все зависит от нашего взгляда.
Будучи рассеянным, он обманывает нас; будучи прони-
цательным и сосредоточенным, он приближает нас к
истине.
* Какая болезнь расстроила ее ум? — Страх перед богами
(Гораций. Сатиры, кн. II, сат. 3).
58
2. Ты знаешь нашу землю: реши сам, под каким мери-
дианом расположена небольшая страна, которую я тебе
опишу и которую я исследовал недавно как философ,
потеряв сперва немало времени на то, чтобы объездить
ее в качестве географа. Предоставляю также тебе самому
дать различным слоям ее населения имена, подходящие
к их нравам и характерам, которые я тебе обрисую. Как
ты будешь изумлен, узнав, что мы живем среди них!
Но так как этот странный народ состоит из различных
классов 1, то тебе, может быть, неизвестно, к какому из
них принадлежишь ты сам, и я заранее смеюсь над
твоим затруднением, если ты не сумеешь сказать, кто ты,
или над твоим стыдом, если окажется, что твое место в
толпе глупцов.
3. Царство, о котором я говорю, управляется госуда-
рем2, имя которого почти не вызывает разногласий среди
его подданных; но нельзя сказать того же о его существо-
вании. Никто его не видел, а те из его приближенных,
которые будто бы разговаривали с ним3, высказались о
нем в таких темных выражениях и приписали ему такие
странные, противоречивые свойства, что одна часть на-
рода не перестала с тех пор строить разные системы
для объяснения этой загадки или драться между собой
за торжество своих мнений; другая же часть предпочла
сомневаться во всем, что говорят про государя, а некото-
рые даже решили ничему этому совсем не верить.
4. Тем не менее его считают бесконечно мудрым, про-
свещенным, преисполненным нежности к своим поддан-
ным; но так как он решил быть недоступным, по крайней
мере на время, и так как всякое общение с народом, оче-
видно, унизило бы его, то способ, который он избрал для
обнародования законов и изъявления своей воли, чрезвы-
чайно неясен. Люди, якобы посвященные в его тайны, так
часто оказывались безумцами или мошенниками, что
поневоле начинаешь думать, что они и впредь всегда
будут такими же. Два толстых тома 4, наполненных чу-
десами и постановлениями, то весьма странными, то впол-
не разумными, содержат в себе его волеизъявления. Эти
книги написаны так неровно, что надо думать, что он был
не слишком внимателен при выборе своих писцов или что
часто злоупотребляли его доверием. В первом томе со-
держатся всевозможные предписания, подкрепляемые
59
длинным рядом чудес; второй же том отменяет эти старые
жалованные грамоты и вводит новые, точно так же опи-
рающиеся на чудеса: отсюда распря между получателями
грамот. Новые избранники считают себя исключитель-
ными обладателями государевых милостей и презирают
старых как слепцов, а те ненавидят их как втируш и за-
хватчиков 1. Но в дальнейшем я изложу тебе подробнее
содержание этого двойного кодекса, а пока вернемся к
государю.
5. Он обитает, по слухам, в каком-то лучезарном,
волшебном и блаженном месте, которое описывается весь-
ма различно в зависимости от фантазии описывающего.
Туда придем, в конце концов, мы все. Двор государя —
общее место свиданий, к которому мы все время прибли-
жаемся; и говорят, что мы будем там награждены или
наказаны, смотря по тому, как мы вели себя в пути 2.
6. Мы рождаемся солдатами; но способ, каким нас
зачисляют в войско, исключительно странен 3. Когда мы
погружены в такой глубокий сои, что никто из нас даже не
помнит, спал он в ту минуту или бодрствовал, к нам
приставляют двух свидетелей; затем спящего спрашива-
ют, хочет ли он вступить в войско; свидетели отвечают за
него «да», подписывают обязательство, и дело сделано:
он — солдат.
7. Во всяком военном государстве установлены воен-
ные знаки, дающие возможность распознавать лиц воен-
ной профессии и налагать на них наказания как на дезер-
тиров, если они оставят службу не в узаконенном порядке
или не по крайней необходимости. Так, у римлян на ново-
бранцах ставили клеймо, прикреплявшее их к военной
службе под страхом смертной казни. Та же мера была
принята и в нашем государстве; и в первом томе кодекса
было предписано делать всем воинам отметку как раз
на той части тела, которая знаменует мужеский пол4. Но
либо наш государь сам передумал, либо прекрасный пол,
всегда склонный оспаривать у нас наши преимущества,
счел себя не менее способным к военному делу и заявил
протест,— во всяком случае, во втором томе этот пункт
был отменен. Штаны перестали быть отличительным при-
знаком военных. Появились войска в юбках; и государева
армия состоит теперь из героев и амазонок, одетых в
одинаковую форму. Военный министр, которому было
GO
поручено выработать ее, выбрал повязку на глаза [ и
белый плащ. Таков наш военный мундир, и он без со-
мнения больше подходит для лиц обоего пола, чем пер-
вый,— удивительное средство увеличить по крайней мере
вдвое количество войск! Замечу между прочим к чести
прекрасного пола, что мало найдется мужчин, умеющих
носить повязку так ловко, как женщины.
8. Обязанность солдат заключается в том, чтобы хо-
рошо носить свою повязку и не дать сесть ни пятнышку
на свое платье. Повязка делается то более толстой, то
более тонкой от употребления. У одних она превращается
в кусок чрезвычайно плотной материи, у других — в
легкий газ, ежеминутно готовый разорваться. Платье без
пятнышка и две одинаково плотные повязки — вот чего
никто еще не видел. Вы прослывете негодяем, если дадите
запачкать ваше платье; а если ваша повязка разорвется
или упадет, вас назовут дезертиром 2. О моем платье я
не скажу тебе, мой друг, ни слова. Считается, что хвалить
его значит его пачкать, а отзываться о нем с презрением
значило бы навести тебя на мысль, что оно грязно. Что
до моей повязки, то я уже давно избавился от нее: она
ли сама недостаточно твердо сидела, или я тут постарал-
ся, но, во всяком случае, она упала.
9. Нас уверяют, что наш государь — сама просвещен-
ность; однако наш кодекс, изданный будто бы им, необы-
чайно темен. Насколько разумно все, что написано в нем
о платьи воина, настолько же смешны пункты, касаю-
щиеся повязки. Утверждается, например, что, когда она
сделана из плотной материи, она не только не мешает
видеть, но сквозь нее даже можно узреть бесчисленное
множество чудес, невидимых для простого глаза; и что у
нее есть одно свойство, общее с гранеными стеклами,—
показывать один и тот же предмет в нескольких местах.
В доказательство этих нелепостей приводится такое мно-
жество других, что некоторым дезертирам пришло в го-
лову, не мелкие, ли это бесы внушили нашему законо-
дателю свои мысли и внесли в новый кодекс столько
ребяческой чепухи, которой нет и следа в старом. Но вот
что особенно удивительно: они еще добавили, что знание
этих бредней совершенно необходимо, чтобы быть допу-
щенным во дворец нашего монарха. Ты меня, конечно,
спросишь, что сталось со всеми теми, кто жил до
61
обнародования нового кодекса. Право, не могу тебе ска-
зать... Лица, уверяющие, что они в курсе дела, говорят в
оправдание государя, что он сообщил обо всем этом по
секрету своим старым генералам; но они не объясняют, по-
чему он распустил всех своих старых солдат 1, которые жи-
ли себе без тревог и были, конечно, весьма удивлены,
когда, прибыв ко двору, встретили такой скверный прием
за незнание вещей, которых они никак не могли знать.
10. Войска стоят лагерем в местностях, о которых
мало известно. Напрасно оглашают во всеобщее сведение,
что все там имеется в изобилии; надо думать, что живется
там плохо. В самом деле, те, что зачисляют нас в вой-
ско, не сообщают ничего определенного, ограничиваются
общими фразами, боятся прибавить лишнее слово и стара-
ются уйти обратно как можно позднее.
11. Три дороги ведут туда: одна, по левую руку, счи-
тается наиболее верной, хотя в действительности она
только самая мучительная. Это длинная узкая тропинка,
крутая, каменистая и заросшая терниями 2; путнику она
внушает страх, он идет по ней нехотя и всегда готов свер-
нуть в сторону.
12. Впереди простирается другая дорога — широкая,
заманчивая, вся усеянная цветами 3; она кажется приятно
пологой. Невольно хочется итти по ней; она сокращает
путь, что, впрочем, вовсе не достоинство, ибо ввиду ее
привлекательности всякий был бы непрочь итти по ней
подольше. Но если путник благоразумен и внимательно
присматривается к этой дороге, он скоро убеждается, что
она неровна, извилиста и далеко не безопасна. Он заме-
чает, что она круто опускается вниз; он видит пропасти
под цветами; он боится сделать неверный шаг; он свора-
чивает в сторону, но нехотя; едва забывшись, он возвра-
щается снова — а нет такого человека, который не забыл-
ся бы на мгновение.
13. Направо идет небольшая темная аллея4, обсажен-
ная каштанами и усыпанная песком, более удобная, чем
терновая тропа, менее привлекательная, чем аллея цветов,
более верная, чем они обе; но ее трудно пройти до конца,
потому что песок на ней становится все более зыбучим.
14. В аллее терний ты встретишь власяницы, рубища,
бичи для умерщвления плоти, маски, сборник благочести-
вых раздумий, мистические побрякушки, наставления, как
62
не загрязнить свое платье или как его очистить, и вели-
кое множество поучений, как носить повязку, чтобы она
не сползала,— поучений, которые все бесполезны для
глупцов и среди которых нет ни одного, полезного для
здравомыслящих людей.
15. Аллея цветов усеяна картами, домино, серебром,
драгоценными каменьями, нарядами, сказками и рома-
нами; куда ни взглянешь, ложа из свежей зелени и нимфы,
чьи прелести, отвергнешь ли ты их или используешь, не
сулят ничего страшного.
16. В каштановой аллее ты найдешь сферы, глобусы,
телескопы, книги, тень и безмолвие.
17. Пробудившись от глубокого сна, во время которого
он был зачислен в войско, человек оказывается на терно-
вой тропе; он одет в белый плащ, на глазах у него кра-
суется повязка. Легко себе представить, как удобно про-
бираться ощупью сквозь колючие кустарники и крапиву.
Л между тем есть солдаты, которые на каждом шагу
благословляют провидение за то, что оно послало их
сюда, искренне радуются беспрестанным уколам и ожо-
гам, редко поддаются искушению запачкать свое платье
и никогда не пробуют приподнять или разорвать повязку;
они твердо верят, что чем хуже видишь, тем прямее идешь
к цели, и что когда-нибудь государь отблагодарит их
столько же за неиспользование собственных глаз, сколько
за усердное попечение о своем платье1.
18. И кто бы мог подумать? Эти безумцы счастливы.
Они нисколько не сожалеют об утрате органа, цены кото-
рого не знают; они считают повязку драгоценным укра-
шением; они скорее пролили бы свою кровь до последней
капли, чем расстались с этой повязкой; они радуются пред-
полагаемой белизне своего платья; привычка сделала
их нечувствительными к шипам, и они свершают свой
путь, распевая в честь своего государя песни очень ста-
ринные, но и весьма красивые.
19. Пусть они остаются при своих предрассудках;
было бы слишком рискованно открыть им глаза; может
быть, всей своей добродетелью они обязаны своему ослеп-
лению. Если снять с их глаз повязку — кто знает, будут ли
они попрежнему так печься о чистоте своего платья?
Иного человека, прославившегося в терновой аллее,
может быть, прогнали бы сквозь строй в цветочной или
каштановой; и наоборот, человек, отличившийся в одной
из этих двух последних аллей, был бы, может быть,
достоин бичевания в первой.
20. На дорожках, подводящих к этой мрачной тропе,
ты встретишь людей, которые тщательно ее изучили,
которые считают себя ее великими знатоками и знакомят
с ней прохожих, но не так-то наивны, чтобы самим итти
по ней 1.
21. Это вообще самая скверная порода людей, какую
я только знаю. Спесивые, скупые, лицемерные, коварные,
мстительные, а главное — чудовищно сварливые, они
унаследовали от брата Жана Дезантоммера, блаженной
памяти, тайну, как убивать своих врагов древком знамени;
бывают моменты, когда они умертвили бы друг друга
из-за одного слова, если бы им любезно разрешили это
сделать. Им удалось, не знаю как, убедить новобранцев,
что они обладают исключительной привилегией очищать
платья2, благодаря этому они сделались крайне необхо-
димыми для людей, которые с повязкой на глазах легко
верят на слово, что их платье запачкано.
22. Эти ханжи днем торжественно прогуливаются по
терновой аллее, а ночи преспокойно проводят в цветоч-
ной. Они утверждают, что какими-то государевыми зако-
нами им воспрещено иметь собственных жен; но они
не удосужились прочесть в тех же законах, что трогать
чужих жен им воспрещается точно так же, и поэтому
охотно ласкают жен путников. Ты не поверишь, до чего
им трудно скрыть эти похождения от своих ближних; ибо
они усердно занимаются срыванием масок друг у друга.
Когда им это удается, что бывает нередко, в их аллее
начинают по этому поводу благочестиво вздыхать и
охать, в цветочной громко хохочут, а в нашей лукаво
посмеиваются. Если из-за их проделок мы теряем кое-
кого из наших, это искупается для нас тем, что мы можем
поднять их насмех; ибо, к стыду человека, острая шутка
опасна им не меньше, а даже больше, чем разумное рас-
суждение.
23. Чтобы дать тебе о них еще более точное понятие,
я должен теперь описать, как эта весьма многочисленная
корпорация вожатых образует своего рода главный штаб
с высшими и низшими чинами, с большими или меньшими
окладами в зависимости от ранга, с очень сложной систе-
64
мой различных форм и мундиров. Разнообразию тут нет
конца.
24. Во-первых, существует вице-король 1, который из
страха занозить себе ступни ног, ставшие слишком изне-
женными, передвигается только в колеснице или на носил-
ках. Он очень вежливо называет себя смиренным служи-
телем мира; но он же спокойно разрешает своим адъютан-
там заявлять, что весь мир должен быть его рабом; и они
повторяют это так часто, что уверили в этом, наконец,
дураков, т. е. очень многих людей. Правда, на некоторых
участках аллеи терний встречаются солдаты, у которых по-
вязка начинает протираться и которые оспаривают мнимое
право вице-короля на деспотическую власть; они выдви-
гают против него старые документы с решением собрания
генеральных штатов 2. Но вместо всякого ответа он тот-
час же пишет им, что они неправы; потом сговаривается
в один миг со своими приближенными, и если мятежники
не сдаются, он лишает их окладов и пенсий и отбирает
у них все снаряжение, а иногда расправляется с ними
и более круто. Есть молодцы, которых он высек, как
мальчишек. За их счет он обзавелся довольно крупным
имением, главный продукт которого заключается в веле-
невой бумаге и мыле; ибо он — первый в мире выводчик
пятен в силу особой привилегии, которую он использует
очень охотно, когда ему за это платят3. Его первые пред-
шественники ходили пешком по аллее терний. Кое-кто
из его преемников забрел в аллею цветов. Некоторые
прогуливались под нашими каштанами.
25. Под началом этого владыки, которого ты принял
бы за отца Яфета Армянского,— так он жеманен и так
любит щеголять своими шапочками,— состоят губерна-
торы и их помощники; одни из них бледны и тощи, другие
свежи и румяны, третьи стройны и ловки. Они образуют
особое благородное сословие, отличительный знак кото-
рого— длинная крючковатая палка и головной убор,
заимствованный у жрецов Кибелы4, на которых они,
впрочем, в остальных отношениях отнюдь не похожи: это
они доказали на деле. Они выполняют функции наместни-
ков государя; вице-король называет их своими слугами.
Они также торгуют мылом, но оно похуже качеством,
а потому и подешевле, чем мыло вице-короля; кроме того,
65
они знакют секрет приготовления самого чудодейственного
бальзама 1.
26. За ними идут многочисленные кадры офицеров2,
рассеянных по отдельным служебным постам. Каждый
из них получает, как сипай у турок, более или менее
доходный хутор; поэтому большинство их ходит пеш-
ком, некоторые ездят верхом и очень немногие в коляс-
ках. Их обязанность — проводить занятия с рекрутами,
комплектовать войска, усыплять новобранцев речами
о том, что необходимо как следует носить повязку и
отнюдь не пачкать своего платья,— две задачи, к кото-
рым они сами относятся довольно небрежно, будучи, оче-
видно, слишком заняты заботой о повязках и платьи
других, ибо это тоже входит в их обязанности.
27. Я чуть было не забыл упомянуть о небольшом от-
дельном отряде, члены которого носят шапочку, украшен-
ную пионом с накидкой из кошачьей шкурки. Они выдают
себя за официальных защитников прав государя, сущест-
вования которого большинство их не признает3. Не так
давно в этом отряде одно место оказалось вакантным.
Трое выступили претендентами на него: один глупец,
один негодник и один дезертир, иначе сказать — невеж-
да, распутник и атеист; место досталось дезертиру. Они
все время спорят на варварском жаргоне о государевом
кодексе, который толкуют и комментируют вкось и вкривь
и над которым явным образом потешаются. Поверишь ли,
что один из их начальников утверждал, будто, когда сын
государя производит генеральный смотр подданных свое-
го отца, он может с таким же успехом воплотиться в
корову *, как в человека. Старики из этого отряда бол-
тают вздор так ловко, точно они всю жизнь ничего дру-
гого не делали. Молодым начинает надоедать их повязка;
у них осталась от нее только тонкая косынка, а иногда
и той уже нет. Они довольно свободно разгуливают
по цветочной аллее и общаются с нами под нашими каш-
танами, но всегда под вечер и тайком.
28. Наконец, есть еще вспомогательные войска 4 под
командой очень богатых начальников5. Это настоящие
бандиты, живущие грабежом путников. О большинстве их
* Мог ли бог воплотиться в корову? Александр Галесский
поставил этот вопрос и ответил, что мог. (Прим. автора).
66
рассказывают, что они когда-то искусно обирали лиц,
которых доставляли в лагерь,— у одного захватывали за-
мок, у другого ферму, у этого лес, у того пруд, и таким
путем создали себе свои просторные приюты отдохнове-
ния, расположенные между аллеей терний и аллеей цветов.
Некоторые из их стариков ходят с протянутой рукой из
дома в дом и продолжают раздевать прохожих. Эти пре-
зренные войска разделены на полки, из которых каждый
имеет свое знамя, странную форму и еще более странные
уставы. Не жди от меня описания их разнообразного
оружия. Почти все носят вместо каски нечто вроде по-
движного слухового окна или покрышку конической фор-
мы, которая то скрывает их голову, то ниспадает им на
плечи. Они сохранили усы сарацин и римские сандалии.
Из этих именно войск рекрутируются в некоторых местах
аллеи терний судьи, стрелки и палачи армии 1. Этот воен-
ный совет весьма суров: он приказывает сжигать живьем
путников, которые отказываются надеть повязку или
носят ее не так, как следует, а также дезертиров, кото-
рые ее бросают,— причем все это делается из милосер-
дия. Из этих же войск, и особенно из одного большого
черного отряда2, выходят толпы вербовщиков, которые
заявляют, что государь поручил им работать за границей,
вербовать солдат в чужих краях и убеждать подданных
других монархов, что они должны бросить присвоенную
им одежду, кокарду, шапку и повязку и надеть форму,
принятую в аллее терний. Когда эти смутьяны попадают-
ся, их вешают, если только они сами не становятся пере-
бежчиками; и по большей части они предпочитают пере-
метнуться, чем быть повешенными.
29. Не все так предприимчивы, не все ищут приклю-
чений в далеких варварских странах. Многие, замкнув-
шись в более узкую сферу, выбирают себе занятия,
смотря по своим способностям и по указанию начальни-
ков, которые искусно используют их в интересах своих
отрядов. Тот, кого природа одарила верной памятью,
красивым голосом и некоторой дозой нахальства, будет
без устали кричать прохожим, что они идут не туда, не
указывая им, однако, правильного пути; он будет загре-
бать плату за свои советы, хотя вся его заслуга состоит
в повторении того, что уже тысячу раз до него говорили
другие, не более осведомленные. Тот, у кого есть смекалка
67
и кто умеет болтать вздор и интриговать, станет жить
в помещении, похожем на ящик1, где будет проводить
добрую половину своего времени, выслушивая призна-
ния— редко занимательные, по большей части лживые,
но всегда прибыльные. Уныние и тоска обычно царят в
этих жилищах. По бывали случаи, что в них тай-
ком проникала запретная любовь, овладевала неискушен-
ными сердцами и увлекала юных паломниц в аллею
цветов, которую им показывали под тем предлогом,
что, ознакомившись с нею, легче будет итти по аллее
терний. В этих жилищах, похожих на ящик, раскрывается
все: тайны, богатства, дела, любовные похождения, инт-
риги, муки ревности. Все используется, и советы редко
даются даром.— Тот, у кого нет ни воображения, ни
таланта, погрузится в науку о числах или займется пере-
писыванием чужих мыслей. Иной ослепнет над заржаве-
лым куском бронзы, стараясь определить по нему, когда
был основан город, о котором уже тысячу лет ничего не
слышно, или будет мучиться десять лет подряд над тем,
чтобы оболванить какого-нибудь способного от рождения
ребенка, и, наконец, достигнет своей цели. Некоторые
владеют кистью, заступом, пилой или рубанком; очень
многие предпочитают совсем ничего не делать и лишь
трубить о своей великой важности. Тот, кто знает этих
людей, бежит от них, как от чумы; и многие думают, что
знают их, хотя мало кто знает их до конца.
30. Поразительно, с каким доверием и восторгом от-
носятся к тем, кто живет в ящиках. Послушать их са-
мих — они владеют средством исцелять все беды. Это
средство состоит в следующем: ревнивому мужу говорят,
что его жена вовсе не кокетка или что он должен ее лю-
бить, несмотря на ее кокетство; женщине легкого по-
ведения — что она обязана жить со своим шестидесяти-
летним супругом; министру — что он должен быть че-
стен; коммерсанту — что он напрасно занимается ростов-
щичеством; неверующему — что следовало бы верить; и
так далее. Ты хочешь исцелиться? — говорит врач боль-
ному. Да, хочу,— отвечает тот. Иди же, и ты будешь ис-
целен. Простаки уходят вполне удовлетворенные и, по-
жалуй, действительно чувствуют себя лучше.
31. Недавно среди вожатых образовалась довольно
многочисленная секта крайне суровых людей2, которые
68
начали пугать путников требованием, чтобы их платье
блистало совершенной белизной: они стали вопить в до-
мах и храмах, на улицах и на крышах, что малейшее
пятнышко — неизгладимый порок; что мыло вице-короля
и губернаторов никуда не годится; что надо достать мыло
непосредственно из складов государя и разводить его
собственными слезами; что государь раздает его бес-
платно, но в очень небольшом количестве, и получить его
может далеко не всякий. И, как будто колючих терний,
которыми заросла дорога, было мало, эти бешеные люди
усеяли ее капканами и рогатками, так что итти по ней
стало уже совершенно невозможно. Путники пришли в
отчаяние; со всех сторон стали раздаваться вопли и сто-
ны. Ввиду невозможности продолжать путь по столь
мучительной дороге многие были готовы броситься в
аллею цветов или перейти под наши каштаны — но чер-
ный отряд во-время одумался и стал раздавать пуховые
туфли и бархатные рукавицы. Эта мера предотвратила
повальное бегство.
32. Кое-где встречаются большие птичьи клетки 1, в
них содержатся исключительно самки. Здесь богомольные
самки попугаев гнусавят чувствительные речи или поют
на жаргоне, которого сами не понимают; там стонут моло-
дые горлинки, оплакивая утрату своей свободы; еще даль-
ше порхают и неугомонно чирикают коноплянки, которых
вожатые дразнят для развлечения, подходя к решеткам
их клетки. Те из вожатых, или бродячих шарманок, у
которых есть кое-какие связи в аллее цветов, приносят им
оттуда букетики из ландышей и роз. Главная мука этих
пленниц в том, что они слышат, как мимо них проходят
путники, и не могут упорхнуть вслед за ними. Впрочем,
их клетки просторны, опрятны и хорошо снабжены про-
сом и леденцами.
33. Теперь ты имеешь представление об армии и ее
начальниках. Обратимся к военному кодексу.
34. Это своего рода мозаика, составленная сотней
различных мастеров, из которых каждый добавлял свои
камешки по собственному вкусу; каков был этот вкус —
суди сам.
35. Наш кодекс состоит из двух томов 2. Первый начал
создаваться около 45317 года китайской эры стараниями
одного старого пастуха, отлично умевшего жонглировать
69
посохом и слывшего впридачу великим магом 1, что он
и доказал своему хозяину, который не хотел ни умень-
шить его оброк, ни освободить от барщины его и его
родственников. Преследуемый стражниками, он покинул
свой родной край и бежал к одному хуторянину, у кото-
рого сорок лет пас баранов в пустыне, где одновременно
занимался колдовством. Он уверяет — честное слово! —
что однажды видел нашего государя, не видя его, и был
им возведен в звание главного наместника с маршальским
жезлом. Вооруженный такими полномочиями, он воз-
вращается на родину, подстрекает к бунту своих родных
и друзей и призывает их следовать за ним в страну, ко-
торая, по его словам, принадлежала когда-то их предкам
и в которой те, действительно, бывали. В один момент
бунтовщики собираются на его призыв, и он заявляет о
своем намерении хозяину имения; тот отказывается от-
пустить их и поступает с ними как с мятежниками. Тогда
старый пастух бормочет себе под нос несколько слов, и
все пруды нашего барона оказываются отравленными.
На другой день он портит овец и лошадей. Еще через
несколько дней он насылает на помещика и всех его
домочадцев понос и чесотку. После ряда таких проделок
он поражает смертоносной язвой его старшего сына и всех
взрослых парией деревни. Тогда помещик соглашается,
наконец, отпустить бунтовщиков: они выселяются, опу-
стошив предварительно его замок и ограбив остальных
жителей. Барон, возмущенный этим последним обстоя-
тельством, садится на коня и пускается в погоню во главе
своей челяди. Но бандиты уже успели благополучно пе-
рейти вброд какую-то реку; к еще большему их благо-
получию, их бывший хозяин, не знавший этой реки, по-
пытался переехать ее несколько ниже и утонул почти со
всеми своими людьми.
36. Прежде чем добраться до страны, которая была
им обещана, они долго блуждали в пустыне, где вождь
развлекал их своими колдовскими фокусами так долго,
пока они все не перемерли. Как раз в это время он за-
нялся от скуки сочинением истории своего народа и со-
ставлением первой части кодекса.
37. Написанная им история целиком основана на
рассказах, которые деды передавали у домашнего очага
своим детям, усвоив их в свою очередь от дедов, и так
70
далее вплоть до первого прадеда. Самый верный секрет,
как не извратить истину событий.
38. В этой истории рассказывается, как наш монарх,
основав свое государство, взял немножко глины, дунул на
нее, вдохнул в нее жизнь и сотворил таким образом пер-
вого солдата 1; как жена, которую он ему дал, съела
скверное блюдо и этим запятнала своих детей и всех их
потомков 2 так, что они стали ненавистны государю; как
войско стало умножаться; как солдаты сделались на-
столько дурными, что государь утопил их всех, за исклю-
чением небольшой группы, начальник которой был поря-
дочным человеком3; как дети этого последнего вновь
заселили мир и распространились по лицу земли; как наш
государь, чуждый всякого лицеприятия, возлюбил, однако,
только часть нового человечества, признав ее своим на-
родом, и как по его воле этот народ родился от женщины,
уже утратившей способность рожать детей, и от старика,
который изредка спал со своей служанкой. Тут-то и
начинается, собственно говоря, история тех первых из-
бранников, о которых я тебе говорил,— тут мы входим
в детали их родословий и приключений.
39. Об одном из этих родоначальников рассказывает-
ся, например, что государь повелел ему зарезать соб-
ственного сына и что тот был уже готов повиноваться, как
вдруг явился нарочный с известием, что невинный ребе-
нок помилован 4; а о другом мы читаем, что его дядька
нашел ему, поя водой его лошадь, хорошенькую любов-
ницу; о третьем — что он обманывал своего будущего
тестя, обманув сначала собственного отца и старшего
брата, что он спал с двумя сестрами и затем с их двумя
служанками; о четвертом — что он спал с женой своего
сына; о пятом — что он нажил большое богатство отгады-
ванием загадок и превосходно устроил свою семью в
вотчине одного важного господина, у которого служил
управляющим; и почти обо всех — что их посещали чу-
десные сны, что они видели воочию всякие небылицы,
встречались с духами и отважно дрались с домовыми.
Таковы великие события, о которых старый пастух по-
ведал потомству.
40. Что касается кодекса, то вот его главнейшие статьи.
Я уже сказал о черном пятне, из-за которого мы сдела-
лись ненавистны государю. Угадай, что было предпринято
71
для возвращения его милости, столь странным образом
потерянной! Нечто еще более странное: у всех детей
отрезали крошечный кусочек плоти (об этой операции я
уже говорил) и обязались ежегодно съедать, собравшись
всей семьей, сухарь без масла и без соли с салатом из су-
хих одуванчиков. Другое обстоятельство заключалось в
том, чтобы один день в неделю проводить со связанными
па спине руками. Каждому было приказано обзавестись
повязкой и белым платьем и под страхом смертной казни
мыть последнее в крови ягненка и в чистой воде: проис-
хождение повязок и белых платьев относится, как видишь,
к очень древним временам. Для этой цели в войсках были
учреждены роты мясников и водовозов. Десять коротких
строчек заключали в себе все приказы государя; началь-
ник наших переселенцев огласил их во всеобщее сведение
и затем спрятал в ларец из палисандрового дерева, кото-
рый по части прорицаний ничуть не уступал треножнику
дельфийской Сивиллы. Остальное представляло собою
беспорядочный набор постановлений о форме рубашек и
плащей, о распорядке трапез, о качестве разных вин, о
большей или меньшей удобоваримости различных сортов
мяса, о времени для прогулок, для сна и для других ве-
щей, которые человек делает, когда не спит.
41. Старый пастух, опираясь на поддержку одного из
своих братьев, которого он обеспечил крупным доходом,
ставшим наследственным в его семье, захотел насиль-
ственно подчинить своих спутников всем этим постановле-
ниям. Но тут поднялся ропот, люди собрались толпой,
стали спорить против его власти, и он потерял бы ее без-
возвратно, если бы не уничтожил мятежников, проведя
подкоп под тот участок земли, на котором они жили. Это
событие было понято как месть неба, и наш чудотворец
никого не разубеждал в этом.
42. После ряда приключений стали приближаться к
стране, которую предстояло завоевать. Вождь переселен-
цев, не желавший брать на себя ручательство за это дело
и любивший воевать лишь издалека, ушел от своих под-
данных в пещеру и умер там голодной смертью, предвари-
тельно крепко заповедав им не давать пощады своим вра-
гам и быть великими ростовщиками — две заповеди, кото-
рые они выполнили на диво.
43. Я не буду останавливаться ни на их победах, ни на
72
том, как они основали новое государство, ни на разных
переворотах, происходивших в нем. Обо всем этом ты
должен прочесть в самой книге, в которой ты познако-
мишься, если сможешь, с историками, поэтами, музыкан-
тами, романистами и глашатаями, возвещавшими о буду-
щем прибытии сына нашего монарха 1 и о реформе зако-
нодательства.
44. Наконец, он действительно явился — но не в пыш-
ном окружении, которое приличествовало его высокому
рождению, а как один из тех искателен приключений, ко-
торым удавалось когда-то создавать или завоевывать
царства с кучкой смелых и решительных сподвижников.
Такая была уж тогда мода. Его соотечественники долго
принимали его за обыкновенного человека; но в один
прекрасный день они с удивлением услышали, что он
приписывает себе титул государева сына и власть отме-
нить старый кодекс, за исключением лишь десяти заклю-
ченных в нем строк, и заменить его новым. Он был прост
в своих нравах и речах. Он утвердил под страхом смертной
казни ношение повязки и белого платья. Относительно
последнего он дал превосходные предписания, еще гораз-
до более трудные для выполнения; но он высказал стран-
ные мысли о повязке. Некоторые из них я уже сообщил те-
бе; выслушай теперь другие. Он утверждал, например, что
с этой повязкой на глазах можно явственно увидеть, как
его отец, он сам и еще третье лицо, являющееся одновре-
менно его братом и его сыном, сливаются в нераздельное
единство 2. Ты конечно, вспомнишь тут о Герионе древних.
Но я прощаю тебе свою попытку объяснить чудо с по-
мощью басни. Несчастный, ведь ты не знаешь тайны кру-
говращения. Ты ничего не слыхал о божественной пляске,
в которой три государя «вечно обращаются один вокруг
другого. Сын говорил даже, что он будет со временем
большим вельможей и что его уполномоченные будут за-
давать пиры. Это предсказание оправдалось. Первые из
тех, кто получил это почетное звание, устраивали недур-
ные обеды и основательно выпивали за здоровье своего
господина; но их преемники стали бережней. Они открыли,
не знаю как, что их господин обладает таинственной спо-
собностью вмещаться в кусочек хлеба3 и чю его могут
тогда проглатывать целиком, в одно мгновение, сотни ты-
сяч его друзей, не испытывая при этом никакой тяжести в
73
желудке, хотя он и был ростом в пять футов и шесть дюй-
мов; в связи с этим было решено заменить обеды простыми
завтраками без выпивки. Некоторые солдаты, любившие
выпить, возроптали. Дело дошло до взаимных оскорблений,
а там и до драки; было пролито много крови; и эта распря,
повлекшая за собой две другие, привела к тому, что насе-
ление аллеи терний уменьшилось вдвое 1 и идет к полному
исчезновению. Упоминаю об этом обстоятельстве как об
образчике того мира, который новый законодатель принес
в царство своего отца. Об остальных его идеях скажу
лишь несколько слов; они были наскоро записаны его сек-
ретарями, из которых двумя главнейшими были продавец
свежей рыбы и сапожник из бывших дворян 2.
45. Этот последний, весьма речистый от природы, на-
говорил что-то неслыханное о чудодейственных свойствах
некоей невиданной трости, которую государь подает, по
его словам, всем своим друзьям 3. Понадобились бы томы,
чтобы передать тебе хотя бы в самых беглых чертах все
то, что выдумали, написали, наговорили вожатые, рас-
правляясь при этом друг с другом кулаками, по поводу
природы этой палки, ее действенной силы и свойств. Одни
утверждали, что без нее нельзя ступить ни шагу; дру-
гие — что она совершенно бесполезна, если только у чело-
века есть здоровые ноги и искреннее желание ходить.
Одни заявляли, что она жестка или гибка, сильна или
слаба, коротка или длинна в зависимости от размеров
руки и трудности дороги и что тот, у кого ее нет, виноват
сам; другие уверяли, что государь никому Fie обязан да-
вать ее, что он многим отказывает в ней и даже иногда
отнимает ее у тех, кому дал раньше. Все эти мнения осно-
вывались на большом трактате о тростях, сочиненном од-
ним бывшим преподавателем риторики 4 в качестве ком-
ментария к тому, что было написано продавцом свежей
рыбы по поводу важного значения костылей.
46. А вот другой вопрос, вызвавший не меньше разно-
гласий, — о бесконечной благости нашего монарха, кото-
рую упомянутый ритор будто бы примирил с его заранее
принятым непреклонным решением навсегда удалить от
своего двора и бросить без надежды на помилование в
темницу всех тех, кто не был записан в его войска, т. е.
бесчисленные народы, никогда ничего не слыхавшие и не
имевшие возможности слышать о нем, а также многих
74
отдельных лиц, которых он не удостоил милостивого
взгляда или подвергнул опале за непослушание их праде-
да, лаская в то же время других, не менее виновных, слов-
но он играет судьбами людей в орла и решетку 1. Наш ри-
тор, впрочем, и сам сознавал нелепость своих мыслей. И
уж бог ведает, как он выпутывается из им же самим соз-
данных чудовищных затруднений. Когда, выбившись из
сил, он, наконец, совсем теряет голову, он вдруг воскли-
цает: «Эй, берегись!» И все, кто вслед за ним изобража-
ет нашего государя таким же варварским самодуром,
повторяют хором: «Эй, берегись!» Все эти выверты и мно-
жество других такого же достоинства пользуются огром-
ным уважением в аллее терний. Путники, идущие по ней,
считают их истиной и даже находят, что, окажись хотя бы
только один из них ложью, то же самое пришлось бы
сказать обо всех.
47. Между тем сторонники старого кодекса возмути-
лись против сына государя и потребовали, чтобы он
предъявил свою родословную и соответствующие доказа-
тельства. «Мои дела, — гордо сказал он им, — должны
доказать мое происхождение». Прекрасный ответ, но
едва ли способный понравиться многим аристократам.
Стали говорить, что он поносит память старого пастуха,
и под этим предлогом роты мясников и водовозов, которые
он грозил раскассировать и заменить отрядами сукно-
валов и выводчиков пятен, составили заговор против не-
го1. Заговорщики подкупили его казначея2; сам он был
схвачен, приговорен к смерти и, что хуже, действительно
казнен. Его друзья объявили, что он умер и не умер,
что через три дня после своей смерти он явился вновь3,
но что воспоминание о пережитом удержало его в доме
отца, так что с тех пор его больше не видели. Уходя, он
поручил друзьям собрать его законы, огласить их во все-
общее сведение и настаивать на их немедленном соблю-
дении.
48. Ты понимаешь, конечно, что немые законы под-
даются всевозможным толкованиям; так и случилось с
его законами. Одни нашли их слишком снисходитель-
ными, другие — слишком суровыми; кое-кто усмотрел в
них нелепости. По мере своего образования и роста новая
корпорация начала сталкиваться с внутренними раздора-
ми и внешними препятствиями. Мятежники не давали
75
ни малейшей пощады своим спутникам, а те и другие
вместе не встречали пощады у своих общих врагов. Од-
нако время, предрассудки, воспитание и упорная при-
верженность к запретным новшествам постепенно увели-
чивали число этих энтузиастов. Вскоре они стали соби-
раться толпами и обижать своих господ. Сначала их на-
казывали как безумцев, а потом — как бунтовщиков. Но
большинство их, твердо веря, что лучше всего угодишь
своему государю, если позволишь убивать себя ради то-
го, чего сам не понимаешь, шли на самые позорные и
тяжкие муки, и вскоре бунтовщики или глупцы прослыли
героями: поразительный результат красноречия вожа-
тых! Таким-то образом аллея терний стала постепенно за-
селяться.1 Вначале она была очень пустынна, и лишь через
много лет после смерти сына нашего государя у него
появились войска, и о нем начали поговаривать.
49. Из сказанного мною ты уже можешь заключить,
что никто в мире не совершил более великих дел, чем
он. Знай, однако, что никто в мире не прожил свою
жизнь и не умер в большей неизвестности2. Я мог бы
тотчас же объяснить тебе, в чем тут дело, но предпочи-
таю передать тебе разговор одного старого обитателя
аллеи каштанов с некоторыми из лиц, заселивших ал-
лею терний. Я прочел об этом разговоре у одного авто-
ра,* который показался мне весьма осведомленным о
событиях того времени. Он рассказывает, что обитатель
аллеи каштанов обратился сперва к соотечественникам
мнимого сына нашего государя, и они ответили ему, что
образовалась секта мечтателей, выдающих за сына и пос-
ланца великого духа какого-то обманщика и смутьяна,
который по приговору местных судей был распят. Тогда
Менипп — так звали нашего обитателя аллеи кашта-
нов — стал расспрашивать жителей аллеи терний.
«Да,— ответили они ему,— наш вождь был распят
как бунтовщик; но это был божественный человек, все
действия которого были чудесны. Он изгонял бесов, исце-
лял хромых, возвращал зрение слепым, воскрешал мерт-
вых, воскрес сам и вознесся на небо. Очень многие из на-
ших видели его, и весь край был свидетелем его жизни и
его чудотворных подвигов».
* «О жизни, чудесах и истории Иисуса Христа» (прим. автора).
76
50.— Это поистине прекрасно,— возразил Менипп;
очевидцы стольких чудес, конечно, все перешли к нему на
службу: все жители страны поспешили обзавестись белым
платьем и повязкой... — Увы, нет! — ответили те, — чис-
ло людей, которые пошли за ним, было ничтожно по срав-
нению с остальными: у этих последних были глаза, но они
не видели, были уши, но они не слышали...— Ага! — ска-
зал Менипп, несколько оправившись от своего смуще-
ния, — теперь я понимаю, в чем дело: здесь были замеша-
ны заклинания, столь обычные у вашего народа. Но ска-
жите мне прямо: действительно ли все было так, как вы
рассказываете? В самом ли деле великие подвиги вашего
начальника были известны всему населению?.. Еще
бы!—ответили те, — они совершались на глазах у всего
края. Всякий, каким бы недугом он ни страдал, если он
только мог прикоснуться к краю его одежды, исцелялся в
ту же минуту. Он несколько раз накормил пять или шесть
тысяч добровольцев едой, которой еле хватало на пять-
шесть человек. Не говоря уже о бесконечном множестве
других чудес, скажем только, что он однажды воскресил
мертвого, которого несли хоронить. Другой раз он воскре-
сил покойника на четвертый день после похорон.
51.— Что касается этого последнего чуда,— сказал
Менипп, — то я убежден, что все видевшие пали к его но-
гам и стали почитать его как бога. — Да, кое-кто поверил
и перешел к нему, но не все. Большинство тут же побе-
жало рассказать о виденном мясникам и водовозам, его
смертельным врагам, чтобы еще больше ожесточить их
против него. Остальные его дела всегда приводили к точ-
но такому же последствию. Если немногие из тех, кто был
их очевидцами, следовали за ним, то потому лишь, что он
от века предназначил их к этому пути. Тут в его поведе-
нии была даже некоторая странность: он особенно любил
бить в барабан как раз в тех местах, где, как он сам пред-
видел, не обнаруживалось никакой склонности итти к нему
на службу.
52. — Право же, — ответил Менипп,— либо вы сами
слишком простоваты, либо ваши противники круглые иди-
оты. Я легко представляю себе (и ваш пример утверждает
меня в этой мысли), что люди могут быть настолько глу-
пы, чтобы вообразить себя очевидцами чудес, которых они
и не думали видеть; но невозможно представить себе
77
людей настолько тупых, чтобы они отказались поверить в
такие поразительные чудеса, как те, о которых вы расска-
зываете. Следует признать, что ваша страна рождает лю-
дей, нисколько не похожих на людей других стран. У вас
происходят вещи, которых не увидишь ни в каком другом
месте земного шара.
53. Менипп изумлялся легковерию этих простаков,
которые казались ему фанатиками высшей пробы. Но, что-
бы удовлетворить свое любопытство полностью, он при-
бавил таким тоном, словно хотел взять обратно свои пос-
ледние слова: «То, что я слышал от вас, так чудесно, так
странно и ново, что я весьма хотел бы узнать подробнее
все, что касается вашего вождя. Вы очень обяжете меня,
если поделитесь со мною всем, что вам о нем известно.
Столь божественный человек заслуживает, конечно, что-
бы весь мир был осведомлен о малейших событиях его
жизни...
54. Не успел он это сказать, как Марк,1 один из первых
поселенцев аллеи терний, надеявшийся, может быть, за-
вербовать Мениппа в свое войско, принялся подробно рас-
сказывать обо всех художествах своего начальника, о том,
как он родился от девы, как волхвы и пастухи признали
его божественность, когда он был еще в пеленках, о чуде-
сах, сотворенных им в детстве и в последние годы, о его
жизни, смерти и воскресении. Ничто не было позабыто.
При этом Марк не ограничился одними делами сына чело-
веческого (так называл себя иногда его господин, особен-
но в тех случаях, когда было опасно величать себя более
пышными титулами), но воспроизвел также его речи,
проповеди и заповеди. Словом, это было исчерпывающее
изложение как его биографии, так и установленных им
законов.
55. Когда Марк кончил, Менипп, слушавший его терпе-
ливо и не перебивая, взял слово и стал говорить, но таким
тоном, который явно показывал, что он не очень-то наме-
рен увеличить собою войска Марка... — Правила вашего
вождя, — сказал он, — нравятся мне. Они, как я вижу,
совпадают с правилами, которые проповедовались всеми
разумными людьми в течение четырехсот лет и больше до
него. Вы считаете их новыми, и они, может быть, действи-
тельно новы для такого неразвитого и грубого народа, как
вы; но они стары для остальных людей. Вот что, однако,
78
пришло мне в голову по их поводу: удивительно, что че-
ловек, который их проповедовал, был так мало последо-
вателен и так неестествен в своих действиях. Я не пони-
маю, как ваш начальник, столь превосходно мысливший
о нравственных вопросах, мог натворить столько чудес.
56. — Если его мораль для меня не нова, — продолжал
Менипп,— то, признаюсь, я не могу сказать того же о его
чудесах: они для меня совершенно новы, а между тем в
них не должно бы быть ничего нового ни для меня, пи для
кого бы то ни было вообще. Ваш начальник жил совсем
недавно; все пожилые люди были его современниками.
Неужели вы серьезно думаете, что в такой часто посеща-
емой римской провинции, как Иудея, могли происходить
столь необычайные дела, и происходить три-четыре года
подряд, а никто об них и не услышал? В Иерусалиме на-
ходятся наш губернатор и многочисленный гарнизон; в
вашей стране то и дело бывают римляне; между Римом и
Яффой все время идет торговля, — а мы даже и не знали
о существовании вашего вождя. Его соплеменники могли
видеть или не видеть творимые им чудеса, как им было
угодно; но остальные люди видят обыкновенно то, что у
них перед глазами, и только это и видят. Вы мне говори-
те, что наши солдаты засвидетельствовали чудеса, прои-
зошедшие во время его смерти и воскресения,— и густой
мрак, затмивший на три часа солнечный свет, и землетря-
сение, и все прочее. Но когда вы мне рассказываете, что
они были поражены, объяты ужасом, повержены в прах и
пустились в бегство при виде ангела, сошедшего с неба,
чтобы отвалить камень от его гробницы; и когда вы затем
уверяете, что те же солдаты из низкой корысти отказались
подтвердить чудеса, столь их поразившие, что они чуть не
умерли со страха, — то вы забываете, что это были люди,
или, по крайней мере, превращаете их в идумейцев, точно
воздух вашей родины обладает свойством завораживать
глаза и расстраивать ум иноземцев, которые им дышат.
Поверьте, если бы ваш вождь совершил хоть малейшую
часть того, что вы ему приписываете, об этом узнали бы
император, Рим, сенат, весь мир. Этот божественный чело-
век сделался бы темой наших бесед и предметом всеоб-
щего изумления, а между тем о нем всё еще ничего не зна-
ют. Вся иудейская провинция, за исключением небольшой
кучки людей, считает его обманщиком. Поймите, по край-
79
пей мере, Марк, что потребовалось чудо более огромное
чем все чудеса вашего вождя, чтобы погрузить во мрак та-
кую открытую, такую блистательную, такую необычайную
жизнь, какая выпала ему на долю. Признайте же свое за-
блуждение и откажитесь от своих бредней; ведь ясно, что
всеми чудесными свойствами, которыми вы украшаете его
биографию, он обязан исключительно вашему вообра-
жению.
57. Марк помолчал несколько минут, смущенный сло-
вами Мениппа, но затем воскликнул тоном энтузиаста:
—Наш вождь — сын всевышнего; он наш мессия, наш спа-
ситель, наш царь. Мы знаем, что он умер и воскрес. Бла-
женны те, что видели его и поверили; но еще блаженнее
те, что поверят в него, не видя. Рим, откажись от своего
неверия! Надменный Вавилон, покройся врет ищем и пеп-
лом; покайся; спеши, ибо времени мало, твое падение
близко, твое владычество идет к концу. Но что я говорю
о твоем владычестве? Весь мир изменит свой лик, сын че-
ловеческий появится на облаках и будет судить живых
и мертвых. Он грядет, он уже у дверей. Многие из живу-
щих ныне будут очевидцами этих событий 1.
58. Менипп, которому этот ответ пришелся не по нутру,
распростился с группой энтузиастов и покинул аллею тер-
ний, предоставив Марку ораторствовать вволю и вербо-
вать новых приверженцев.
59. Ну, так как же, Арист, что ты думаешь об этой бе-
седе? Я предвижу твой ответ. Согласен, — скажешь ты, —
что эти идумейцы наверное были большими дураками; но
невозможно, чтобы в целом народе не нашлось ни одного
человека с головой. У фивян, самого тупоумного греческо-
го племени, был свой Эпамиионд, свой Пелопид2, свой
Пиндар 3; и мне хотелось бы услышать беседу Мениппа не
только с апостолом Иоанном или евангелистом Марком,
но также с историком Иосифом 4 или философом Фило-
ном 5. Толпе дураков всегда было позволительно верить в
то, что не гнушались признать даже немногие разумные
люди; и безмозглая доверчивость первых никак не может
опорочить просвещенного свидетельства вторых. Поведай
же мне: что говорит Филон о начальнике аллеи терний?..
Ничего. Что думал о нем Иосиф?.. Ничего. Что рассказы-
вает о нем Юстус Тивериадский 6. Ничего. И как же ты
хочешь, чтобы Менипп беседовал о жизни и делах этого
80
человека с лицами, хоть и весьма образованными, но ни-
когда ничего о нем не слыхавшими? Они не забыли ни об
Иуде Галилейском, ни о фанатике Ионафане, ни о бунтов-
щике Тевде; но они умолчали о сыне твоего государя. Как
же это так? Неужели они не различили его в толпе плу-
тов, которые восставали один за другим в Иудее и, едва
появившись, тотчас же исчезали бесследно?
60. Обитатели аллеи терний были задеты унизитель-
ным для них молчанием современных историков об их
вожде и еще большим презрением, которое испытывали к
ним старинные обитатели аллеи каштанов. Что же они на-
думали в этом тяжелом положении? Они решили уничто-
жить следствие, уничтожив причину. «Как это,— восклик-
нешь ты, — уничтожив причину? Я тебя не понимаю. Неу-
жели же они заставили говорить Иосифа через несколько
лет после его смерти?..». Представь себе, что ты догадался:
они вставили в его историю похвалу их начальнику1. По
подивись их неумелости: так как они не сумели ни придать
правдоподобие сочиненному ими отрывку, ни выбрать для
него подходящее место, то подлог вышел совершенно
явным. Иосифу, еврейскому историку, человеку священ-
нического звания, очень преданному религиозным зако-
нам своего народа, они вложили в уста слова своих вожа-
тых; и куда же они вставили эти слова? В такое место, где
они нарушают весь смысл речи автора. «Но мошенники
не всегда понимают свои собственные интересы, — гово-
рит автор, у которого я заимствовал беседу Мениппа с
Марком. — Гоняясь за слишком многим, они часто не вы-
гадывают ничего. Две строчки, умно вставленные в дру-
гом месте, принесли бы им больше пользы. К злодеяниям
Ирода, так подробно описанным у еврейского историка,
который его не любил, они должны были бы прибавить
избиение вифлеемских младенцев, о котором тот не гово-
рит ни слова».
61. Ты сам обдумаешь все это; а пока вернись со мной
еще раз в аллею терний.
62. Среди тех, что влачатся по ней ныне, есть некото-
рые, придерживающие повязку обеими руками, точно она
стремится вырваться изо всех сил. По этому признаку ты
тотчас отличишь людей с хорошими головами; ибо издавна
замечно, что повязка держится на лбу тем лучше, чем этот
лоб уже и уродливей. Но что случается из-за сопротивле-
81
ния повязки? Одно из двух: либо придерживающие
ее руки устают — и она падает; либо человек упорно
стремится удержать повязку и з конце концов достигает
цели. Те, чьи руки утомляются, вдруг оказываются в по-
ложении слепорожденного, у которого раскрылись бы гла-
за. Все предметы внешнего мира предстали бы перед ним
совсем не в том виде, в каком он их воображал. Эти про-
зревшие переходят в нашу аллею. С каким наслаждением
отдыхают они под нашими каштанами и дышат нашим
чистым воздухом! С какой радостью следят за тем, как
с каждым днем все больше зарубцовываются страшные
раны, нанесенные ими себе! С каким состраданием взды-
хают над участью несчастных, оставленных ими в аллее
терний! Но они не решаются протянуть им руку. Они
боятся, что те не найдут в себе сил следовать за ними и
будут вновь увлечены — собственной тяжестью или уси-
лиями вожатых — в еще более дремучие дебри. Никогда
не случается, чтобы эти перебежчики покинули нас. Они
доживают до старости под сенью наших деревьев; но
когда для них наступает время отправляться на общее
свидание, они видят себя окруженными множеством вожа-
тых; и так как они иногда впадают в маразм, то вожатые
пользуются этим состоянием или мгновением летаргиче-
ского сна, чтобы поправить у них на лбу повязку или
слегка почистить их платье,— этим они будто бы оказы-
вают великую услугу. Те среди нас, чей разум сохраняет
всю свою силу, не мешают вожатым в этом, ибо они убе-
дили весь мир, что неприлично появляться перед госуда-
рем без повязки, в невыстиранном и невыутюженном
платье. У благовоспитанных людей это называется прилич-
ным завершением путешествия, а наш век любит приличия.
63. Я перешел из аллеи терний в аллею цветов, где
пробыл недолго, а из нее удалился под сень каштанов; но
я не льщу себя уверенностью, что останусь здесь до по-
следней минуты: нельзя ручаться ни за что. Вполне воз-
можно, что я окончу свой путь ощупью, как многие дру-
гие. Но как бы то ни было, сейчас я убежден, что наш
государь безгранично благ и что он обратит больше внима-
ния на мое платье, чем на повязку. Он знает, что, как пра-
вило, мы более слабы, чем преступны. И к тому же муд-
рость начертанных им законов так велика, что мы не
можем отклониться от них безнаказанно. Если верно то,
82
в чем старались меня убедить когда-то в аллее терний
(а тамошние управители живут хоть и скверно, но говорят
иногда превосходные вещи),— если верно, говорю я, что
степень нашей добродетели есть точная мера нашего дей-
ствительного счастья, то наш государь мог бы уничтожить
нас всех, не поступив несправедливо ни с одним из нас.
Но признаюсь, что лично я желал бы иного; я неохотно
иду навстречу уничтожению; я хотел бы жить после смер-
ти, будучи уверен, что со мной не может случиться ничего
дурного. Я думаю, что наш государь, который не менее
мудр, чем благ, ничего не делает зря; ну, а что мог бы он
иметь в виду, наказывая дурного солдата? Свое собствен-
ное удовлетворение? Не думаю; я жестоко оскорбил бы
его, предположив, что он злее меня. Удовлетворение доб-
рых людей? Это значило бы допустить в них чувство ме-
сти, которое несовместимо с их добродетелью и с которым
наш государь, не сообразующийся с прихотью других,
никогда не стал бы считаться. Нельзя также сказать, что
он будет наказывать для примера,— ибо ведь тогда уж не
будет людей, которых могла бы устрашить казнь преступ-
ника. Если земные владыки карают за преступления, то
лишь в надежде отпугнуть этим других от подражания
виновным.
64. Однако, прежде чем покинуть аллею терний, ты
должен еще узнать, что путники, идущие по ней, все под-
вержены одному странному заблуждению. А именно, им
кажется, что они одержимы неким коварным соблазните-
лем 1 и что этот старый, как мир, соблазнитель, смертель-
ный враг государя и его подданных, невидимо вьется
около них, старается их совратить и непрестанно нашеп-
тывает им, чтобы они бросили свою палку, испачкали свое
платье, разорвали свою повязку и перешли в аллею цветов
или под наши каштаны. Когда они чувствуют, что им слиш-
ком уж хочется последовать его советам, они делают пра-
вой рукой символический жест2, который обращает со-
блазнителя в бегство, особенно если они предварительно
окунут кончик пальца в особую воду, приготовлять кото-
рую дано одним вожатым.
65. Я никогда бы не кончил, если бы стал подробно
рассказывать о свойствах этой воды и о необычайном дей-
ствии этого знамения. О самом соблазнителе написаны
тысячи томов, которые единогласно свидетельствуют, что
83
наш государь — глупец по сравнению с ним, что он сотни
раз обкручивал государя вокруг пальца и что он в тысячу
раз более искусен в похищении у него подданных, чем тот
в их сохранении. Но чтобы не навлечь на себя упрека,
сделанного Мильтону1, и чтобы этот проклятый соблазни-
тель не был превращен также в героя моего сочинения
(его, наверное, провозгласят автором последнего), замечу
еще только следующее: его изображают приблизительно в
таком же гнусном виде, какой придали обольстителю
Фрестону у герцога Медокского в скучном продолжении
превосходного романа Сервантеса 2; и в аллее терний по-
лагают, что те, кто послушаются его в пути, будут выданы
в его руки у ворот лагеря и будут делить с ним до окон-
чания века, в огненной пучине, уготованную ему страш-
ную участь. Если это действительно так, это будет самое
пестрое сборище честных людей и негодяев, какое когда-
либо было видано,— и притом собравшееся в самом сквер-
ном месте.
Н ЕТЕРП ИМОСТЬ
Слово «нетерпимость» в обычном его понимании озна-
чает жестокую страсть, заставляющую ненавидеть и пре-
следовать тех, кто заблуждается. Но, чтобы не смешивать
понятий, весьма несходных, нужно различать нетерпи-
мость церковную и гражданскую.
Нетерпимость церковная считает ложной всякую рели-
гию, кроме той, которая признается данной церковью.
Этого убеждения она держится, несмотря на самые жесто-
кие преследования, попирающие человеческое достоинство,
посягающие на жизнь людей. Здесь мы не будем касаться
того героизма, который во все века давал церкви столько
мучеников.
Нетерпимость гражданская ставит вне закона и подвер-
гает самым жестоким гонениям тех, чьи взгляды на бога
и отправление культа отличаются от общепринятых.
Несколько строк из священного писания, высказываний
отцов церкви или решений вселенских соборов достаточно
убедительно показывают, что человек, проявляющий граж-
данскую нетерпимость, является дурным человеком, пло-
хим христианином, скверным политиком и негодным граж-
данином.
Прежде чем перейти к существу вопроса, нужно, к че-
сти католических богословов, заметить, что многие из них
без малейших оговорок принимали то, что мы собираемся
изложить, опираясь на самые уважаемые авторитеты.
Тертуллиан говорит:
Apolog ad scapul: Humani juris et naturalis potestatis est unicui-
que quod putaverit, colere, nec alii obest aut prodest alterius religio.
Sed nec religionis est cogere religionem quoe sponte suscipi debeal,
non vi; cum et hostioe ab animo lubenti expotulentur *.
* По естественному, прирожденному праву человеку свойствен-
но почитать то, что он находит нужным; религия, исповедуемая
85
Вот что говорили беззащитные и преследуемые христи-
ане язычникам, которые хотели силой заставить их по'кло-
няться своим богам.
Желая обратить тех, кто придерживается иной веры,
нечестиво было бы подвергать ее жестоким, несправедли-
вым преследованиям, противным человеческим законам.
Разум приемлет то, что кажется ему истинным; сердце
способно любить то, что кажется ему добрым. Насилие
сделает слабого человека лицемером, чело-века мужествен-
ного — мучеником. Слаб он духом или силен, он почув-
ствует несправедливость преследования и возмутится.
Просвещение, убеждение, молитва — вот единственные
законные средства внушения веры.
В делах религии все средства, возбуждающие нена-
висть, негодование, презрение,— нечестивы.
Все средства, возбуждающие страсти и корыстный ин-
терес,— нечестивы.
Все средства, разрывающие естественные узы, отвра-
щающие отцов от детей, братьев от братьев, сестер от се-
стер,— нечестивы.
Все средства, направленные к тому, чтобы поднять лю-
дей и целые нации друг против друга, залить землю
кроеью,— нечестивы.
Нечестиво подчинять совесть тем или иным законам,
ибо совесть сама должна управлять всеми действиями че-
ловека. Нужно убеждать, но не принуждать. Людей, иск-
ренне впадающих в заблуждение, надо жалеть, а не на-
казывать.
Нельзя преследовать людей за их принадлежность к
той или иной вере. Предоставим судить их боту.
Не значит ли это, что, отворачиваясь от неверующих,
мы порвем и с теми, кого называем скупыми, безнравст-
венными, честолюбивыми, вспыльчивыми, порочными? И в
последнем случае двух-трех нетерпимых хватит для того,
чтобы разрушить целое общество.
Если допустимо бросить камень в человека инакомыс-
лящего, не значит ли это посягнуть на его жизнь? Ведь нет
предела несправедливости. Большее или меньшее зло, ка-
одним, не может ни служить препятствием, ни приносить пользу
другому. Религию не подобает распространять посредством принуж-
дения, так как она должна приниматься добровольно, а не насильно;
ведь и жертвоприношения необходимы только добровольные.
86
кое могут причинить, будет определяться корыстными це-
лями, фанатизмом, вообще любыми обстоятельствами.
Если бы неверующий земной владыка спросил миссио-
неров, нетерпимых к другим вероисповеданиям, как они
поступают с неверующими, им пришлось бы либо со-
знаться в недостойных поступках, либо солгать, либо хра-
нить позорное молчание.
Чему поучал Христос учеников своих, посылая их к
народам? Убивать или умирать? Преследовать или стра-
дать?
Св. Павел писал фессалоникийцам: если кто-либо воз-
вестит вам иного Христа, предложит иной символ веры,
будет проповедовать новое Евангелие,— терпите его.
Нетерпимые, так ли вы поступаете даже с тем, кто ни-
чего не возвещает, ничего не предлагает, ничего не про-
поведует?
Он писал еще: не считай врагом того, кто не разделяет
мыслей твоих, но по-братски просвещай его. Нетерпимые,
так ли поступаете вы?
Если ваши взгляды позволяют ненавидеть меня, то
почему мои не могут позволить мне ненавидеть вас?
Если вы кричите: истиной владеем мы, не позволи-
тельно ли мне возопить еще громче: истиной владею я.
Но я добавлю: не все ли равно, кто из нас неправ, только
бы между нами царил мир? Если я слеп, то можно ли за
это бить меня по лицу?
Если бы человек нетерпимый до конца раскрыл себя,
вряд ли во вселенной нашелся бы для него клочок земли.
И какой здравомыслящий человек рискнул бы посетить
страну, где царит нетерпимость?
Ориген, Минуций Феликс 1 и отцы церкви первых трех
веков христианства учили: религией проникаются, ей не
подчиняются. Человек должен быть свободен в выборе
культа; гонитель лишь вызывает ненависть к своему бо-
гу; гонитель оскверняет свою веру. Ответьте мне, разве
эти изречения — плод невежества или обмана?
В государстве, где царит нетерпимость, властитель —
лишь палач на жалованьи у служителей церкви; монарх
же должен быть отцом своих подданных, его долг —
заботиться о счастьи всех.
Неужели одно только издание закона дает право пре-
следовать? Но тогда не существовало бы деспотов.
87
Бывают случаи, когда одинаково веришь и в правоту
свою и в заблужденье. Это может оспаривать лишь тот,
кто никогда искренне не заблуждался.
Если во имя вашей истины вы преследуете меня, то
во имя моего заблуждения, которое для меня истина, я
имею право преследовать вас.
Перестаньте свирепствовать или перестаньте упре-
кать в лютости язычников и мусульман.
Когда вы ненавидите ближнего своего и проповедуете
ненависть, неужели вы думаете, что вдохновлены духом
божьим?
Христос сказал: царство мое не от мира сего. А вы,
ученики его, хотите обрушить гонения на мир земной.
Он сказал: я смиренен и кроток; а вы смиренны ли и
кротки ли?
Он сказал: благословение мое всем смиренным, миро-
любивым, милосердным. Вопросите совесть вашу, может
ли пасть это благословение на вас? Смиренны ли, крот-
ки ли, милосердны ли вы?
Он сказал: я тот агнец, который покорно пошел на за-
клание. А вы готовы занести нож мясника и убить того,
за кого пролилась кровь агнца.
Он сказал: если вас будут преследовать — уйдите от
зла. А вы преследуете тех, кто не только не восстает про-
тив вас, а желал бы мирно жить рядом с вами.
Он сказал: вы желаете, чтобы л низвел огонь небесный
на ваших врагов; поистине, вы не ведаете, какой дух гово-
рит вашими устами. Я повторяю вслед за Христом: нетер-
пимые, вы не ведаете, какой дух говорит вашими устами.
Внемлите св. Иоанну: дети мои, любите друг друга...
Св. Афанасий: если они преследуют нас, то уже одно
это доказывает, что у них нет ни благочестия, ни страха
божил. Благочестию свойственно не принуждать, а убеж-
дать, подобно спасителю, который каждому предоставлял
свободу следовать или не следовать за ним. И только
дьявол, которому чужда истина, несет с собой секиру и
дубину.
Св. Иоанн Златоуст: Иисус Христос спрашивает учени-
ков, хотят ли они удалиться вместе с ним; это слова того,
кто не хочет никого принуждать.
Сальвиан: эти люди заблуждаются, но они не ведают
этого. Они заблуждаются с нашей точки зрения, но не
88
заблуждаются со своей. Они считают себя столь хорошими
католиками, что нас называют еретиками. Они относятся
к нам, как мы к ним; они обманываются, но намерения
у них добрые. Какова будет их судьба? Об этом знает
лишь великий судья. Пока он терпит их.
Св. Августин: пусть жестоко поступают с вами те, кто
не знает, с каким трудом находят истину и как трудно
уберечь себя от заблуждений. Пусть жестоко поступают
с вами те, кто не знает, как трудно осилить искушение
плоти и как редко это удается. Пусть жестоко поступают
с вами те, кто не знает, какими стенаниями и вздохами
достигается их большое знание о боге. Пусть поступают
с вами жестоко те, кто никогда не впадал в ошибки.
Св. Иларий: вы принуждаете там, где нужен только
разум; вы употребляете силу там, где нужно лишь убеж-
дение.
Из установлений папы св. Климента: спаситель дал
людям свободную волю, не карая их смертью, а требуя,
чтобы они на том свете дали отчет о своих поступках.
Отцы Толедского собора: не понуждайте никого си-
лой стать верующим, ибо бог по своей воле либо оказыва-
ет милосердие людям, либо ожесточает их.
Этими цитатами, забытыми христианами наших дней,
можно заполнить целые книги.
Св. Мартин всю жизнь каялся в том, что общался с
преследователями еретиков.
Все разумные люди осуждали императора Юстиниана
за насилие, учиненное им над самаритянами 1.
Сочинители, которые советовали издавать карательные
законы против неверующих, внушали отвращение.
В последнее время человек, восхваляющий отмену
Нантского эдикта 2, считается человеком кровожадным, с
которым нельзя жить под одной кровлей.
Каков путь человечества? Путь преследователя, нано-
сящего удар, или путь преследуемого, который плачется
на судьбу?
Если неверующий государь владеет неоспоримым пра-
вом власти над своим подданным, то неверующий поддан-
ный имеет неоспоримое право на покровительство своего
государя. Это — взаимное обязательство.
Если государь говорит, что неверующий подданный
недостоин жить, ему следует опасаться, что подданный
89
объявит неверующего государя недостойным царствовать.
Нетерпимые, кровожадные люди, смотрите, каковы послед-
ствия ваших принципов, и трепещите! Люди, любимые
мною, каковы бы ни были ваши чувства, к вам я обращаю
эти мысли и заклинаю вас подумать об этом. Подумайте,
и вы откажетесь от системы, которая противоречит пря-
моте ума и доброте сердца.
Порадейте о спасении своей души. Молитесь за меня
и верьте: все, что вы позволите себе за пределами сказан-
ного мною,— отвратительная несправедливость в глазах
бога и людей.
ИЕЗУИТЫ
(Из истории современных суеверий)
Иезуиты — религиозный орден, основанный Игнатием
Лойолой и известный под названием «Компании» или
«Общества Иисуса».
В этой статье мы не будем говорить ничего от себя.
Она представляет собой не более, как совокупность вы-
держек из кратких, но верных отчетов генерал-прокуро-
ров, судебных учреждений, из докладных записок, опубли-
кованных по приказу парламентов, из различных пригово-
ров, из работ по древней и новой истории, из сочинений,
во множестве опубликованных в последнее время.
В 1521 г. Игнатий Лойола, отдавший свою молодость
воинскому ремеслу и любовным утехам, посвятил себя
в Монферрате, в Каталонии, служению божьей матери,
а затем уединился в Манрезе, где, очевидно, сам бог вну-
шил ему сочинение под названием «Духовные-упражне-
ния», ибо, когда Лойола писал этот труд, он еще не умел
читать (см. «Краткую историю ордена Иисуса»).
Удостоившись звания рыцаря Иисуса Христа и девы
Марии, он принялся с усердием и успехом поучать, про-
поведовать и обращать людей, проявляя большое рвение
и столь же большое невежество (см. названное сочине-
ние).
В 1538 г. к концу великого поста он собрал в Риме
десять последователей, избранных им для осуществления
своих целей.
После обсуждения многих проектов Игнатий и его
друзья решили посвятить себя наставлению детей, обраще-
нию неверующих и защите веры от еретиков. В это время
португальский король Иоанн III, усердно пропагандировав-
ший христианство, обратился к Игнатию с просьбой на-
править миссионеров в Японию и Индию, чтобы просветить
91
жителей этих стран светом Евангелия. Игнатий пред-
ложил ему Родригеса и Ксаверия. Последний направился
в эти далекие страны, где совершил множество чудес, в ко-
торые мы верим, но в которые не верит иезуит Акоста 1.
Утверждение «Общества Иисуса» встретило некоторые
трудности, но после того как иезуиты обещали ради спа-
сения души и распространения веры во всем и везде по-
виноваться только папе, Павел III задумал создать из них
нечто вроде воинских организаций, распространенных
по всей земле и подчиненных римской курии. В 1540 г.
все препятствия были устранены, организация Игнатия
получила одобрение, и «Общество Иисуса» было учре-
ждено.
Бенедикт XIV, носитель многих добродетелей и автор
стольких прекрасных изречений, утрату которого мы еще
долго будем оплакивать, рассматривал иезуитское воин-
ство как янычаров святого престола. Он считал иезуит-
ские отряды непослушными и опасными, но способными
хорошо драться.
К обету повиновения папе и своему генералу, пред-
ставляющему Иисуса Христа на земле, иезуиты добавили
обет бедности и целомудрия 2. Как соблюдали они до сих
пор этот обет — общеизвестно. Со времени папской бул-
лы, утвердившей орден и давшей его членам наименова-
ние иезуитов, последним было адресовано еще девяносто
две буллы, о которых все знают и. которые иезуитам луч-
ше было бы скрыть; существует, быть может, еще столь-
ко же неизвестных нам булл.
Эти буллы, именуемые «апостольскими посланиями»,
предоставляют иезуитам множество привилегий, начиная
с привилегии монашеского состояния и кончая правом на
независимость от римской курии.
Не довольствуясь этими прерогативами, они изобрели
странный способ умножать их повседневно. Если тот или
иной папа случайно произносил какое-либо слово, благо-
приятное для ордена, иезуиты тотчас же выдавали это за
указ и вносили в летописи Общества, в особую главу,
которую называли «Устные изречения» (vivae vocis ora-
cula). Если какой-нибудь папа ничего не говорил, его
легко было заставить говорить.
Игнатий, избранный генералом ордена, приступил к
исполнению обязанностей в день пасхи 1541 г,
92
Должность генерала, имевшая 'Вначале подчиненный
характер, превратилась при Лайнесе и Аквавиве 1 в инсти-
тут неограниченного и постоянного деспотизма.
Павел III ограничил численность членов ордена до
шестидесяти; через три года он аннулировал это ограниче-
ние, и ордену было предоставлено право увеличивать число
членов по своему усмотрению, чем тот и воспользовался.
Те, кто считают себя знатоками их хозяйственного
устройства и управления, разделяют иезуитов на шесть
разрядов, которые именуются профессами, духовными
коадъюторами, схоластиками, светскими братьями, или
светскими коадъюторами, послушниками, присоединен-
ными членами, т. е. адъюнктами, или иезуитами в свет-
ском платье. Говорят, что последний разряд — особенно
многочисленный, проникающий во все слои общества и
скрывающийся под всякой одеждой.
Помимо трех торжественных религиозных обетов,
профессы, составляющие ядро общества, приносят еще
обет послушания главе церкви, но только в делах, касаю-
щихся иноземных миссий.
Те, кто еще не дал обета послушания, именуются ду-
ховными коадъюторами.
Схоластиками называют тех, кого оставили в ордене
после двух лет послушничества; они связали себя, в част-
ности, тремя обетами, хотя и не торжественного характе-
ра, но все же считающимися монашескими и запрещаю-
щими вступление в брак.
Только время и воля генерала могут возвести схолас-
тиков в звание професса или духовного коадъютора.
Эти звания, в особенности звание професса, требуют:
двух лет послушничества, семи лет обучения, которое не
всегда необходимо проводить в рядах ордена, семи лет
регентства, третьего года послушничества и возраста не
менее 33 лет — того возраста, в котором наш господь
Иисус Христос был распят на кресте.
Между обязанностями, какие берет на себя орден, и
теми, которые падают на его членов, нет никакого соответ-
ствия. Член ордена не может выйти ив Общества, но
может быть изгнан генералом. Генерал совершенно само-
стоятельно, независимо даже от папы, может принять в
орден или исключить ив него любого члена.
93
Администрация ордена делится на ассистенции, ассис-
тенции — на провинции, провинции — на дома.
Существует пять ассистентов. Каждый из них носит
имя соответствующей страны; они называются ассистента-
ми Италии, Испании, Германии, Франции или Порту-
галии.
Обязанности ассистента заключаются в том, чтобы
подготовить и упрочить дела и тем самым облегчить их
рассмотрение генералом.
Управляющий провинцией именуется провинциалом, а
глава дома — ректором.
В каждой провинции имеются дома четырех видов:
дома профессов, коллегии, где обучают учеников, резиден-
ции, в которых живут проповедники, и общежития для
послушников.
Профессы не имеют духовных званий; они могут но-
сить епископский жезл, митру или епископское облачение
только с согласия генерала.
Что такое иезуит? Является он светским человеком или
священником? Является он мирянином или духовным
лицом? Обыкновенный он человек или монах? Он — и то
и другое, но не подходит ни под одно определение.
Когда эти люди явились в местах, где предполагали
обосноваться, и их спросили, кто они такие, они ответи-
ли: мы — это мы (tales quales).
Во все времена они хранили тайну своих уставов и не
сообщали всего о себе властям.
Режим у них монархический; вся власть принадлежит
одному.
Подчиняясь жесточайшему деспотизму в своем ордене,
иезуиты являются самыми гнусными защитниками тира-
нии и в государстве. Они проповедуют безграничное по-
виновение государям и независимость последних от зако-
на, но призывают их слепо подчиняться воле папы;
последнего они объявляют непогрешимым и обосновыва-
ют его права на всемирное господство, чтобы, властвуя
над ним, властвовать над всеми.
Мы никогда не кончим, если будем подробно перечис-
лять права генерала. Он может вводить новые уставы или
восстанавливать старые, датируя их, как вздумается. Он
вправе принимать и исключать членов ордена, строить
или разрушать, одобрять или отвергать, совещаться или
94
решать самолично, созывать или распускать собрание,
обогащать или ввергать в нищету, миловать, связывать
или развязывать, посылать или задерживать, признавать
виновным или невинным, обвинять в легком проступке или
тяжком преступлении, расторгать или утверждать договор,
признавать завещание законным или незаконным, одо-
брять или запрещать какую-либо книгу, давать индуль-
генцию или предавать анафеме, приобщать или отлу-
чать,— короче говоря, он обладает всей полнотой власти
над своими подданными, какую только можно вообразить;
он является их светом, душой, волей, руководителем и
совестью.
Если бы этот деспотический начальник и макиавеллист
был человеком вспыльчивым, мстительным, честолюби-
вым, злым и если бы среди множества тех, над кем он
властвует, оказался хоть один фанатик1,— какой монарх,
какой простой человек мог бы спокойно сидеть на троне
или у своего домашнего очага?
Провинциалы обязаны писать генералу раз в месяц;
ректоры, начальники домов и начальники новициатов —
каждые три месяца.
Каждый провинциал обязан входить во все подроб-
ности жизни домов, коллегий,— всего, что касается про-
винции; каждый ректор обязан посылать два списка: в
одном он должен сообщить о возрасте, месте рождения,
звании, успехах в обучении и поведении учеников; в дру-
гом— дать сведения об их уме, способностях, характере,
нравах, одним словом, об их пороках и добродетелях.
В результате генерал ежегодно получает около двух-
сот докладов из каждого государства и из каждой провин-
ции каждого государства. В этих докладах сообщается и
о светских и о духовных делах.
Представьте, что этот генерал продался какой-нибудь
иностранной державе, стал в силу своего характера или
из корыстных интересов вмешиваться в политические
дела,— сколько бед он может натворить!
Генерал, у которого сосредоточены все государствен-
ные и семейные тайны, даже тайны царствующих семей;
человек, столь же осведомленный, как и непроницаемый,
диктующий свою абсолютную волю и никому не повиную-
щийся, исполненный опаснейших мыслей о необходимости
увеличения и охраны ордена, о прерогативах духовной
95
власти; способный вложить орудие в руки тех, к кому
нельзя питать доверия,— кому только на свете не мог бы
причинить зла этот генерал, если бы, поощренный неглас-
ностью и безнаказанностью, он осмелился в один прекрас-
ный день позабыть о святости своего звания?
В важных случаях генералу пишут шифрованные
письма.
По своеобразному обычаю «Общества Иисуса» члены
его дают обет шпионить друг за другом и доносить один
на другого.
Едва успел этот орден возникнуть, как стал богатым,
многочисленным и мощным. За короткое время он об-
основался в Испании, Португалии, Франции, Италии, Гер-
мании, Англии, на Севере и Юге, в Африке, Америке,
Китае, Индии, Японии. Повсюду иезуиты проявляли свое
честолюбие, устрашали, неистовствовали; повсюду они
ставили себя выше законов, утверждали и отстаивали
свою независимость; всем своим поведением они как бы
давали знать, что призваны управлять миром.
Со времени учреждения ордена не проходило года без
того, чтобы иезуиты не прославили себя каким-нибудь
громким злодеянием. Вот, к примеру, краткая хронология
ордена, воспроизведенная в приговоре парижского пар-
ламента от 6 августа 1762 г. По этому приговору орден
был упразднен как секта нечестивцев, фанатиков, развра-
тителей, цареубийц и т. д., руководимая иностранным под-
данным 1 и макиавеллистом 2 по убеждению.
В 1547 г. Бобадилья, один из товарищей Игнатия, был
изгнан из Германии за то, что выступил в печати против
аугсбургского интерима 3.
В 1560 г. Гонзалес Сильверия был казнен в Мономота-
пе как шпион Португалии и ордена иезуитов.
В 1578 г. иезуиты были изгнаны из Антверпена за от-
каз признать Гентское умиротворение 4.
В 1581 г. иезуиты Кампиан, Скервин и Бриан были
осуждены на смерть за участие в заговоре против Елиза-
веты Английской.
В течение царствования этой великой государыни
иезуиты организовали пять покушений на ее жизнь.
В 1588 г. они вдохновляли Лигу5, созданную во Фран-
ции против Генриха III.
В том же году иезуит Молина опубликовал свои пагуб-
96
ные домыслы о совместимости божественной благодати и
свободы воли.
В 1593 г. иезуит Варад вложил меч в руку Барьера
для убийства лучшего из королей 1.
В 1594 г. иезуиты изгнаны из Франции за соучастие
в покушении на цареубийство, совершенном Жаном Ша-
телем.
В 1595 г. иезуит Гиньяр, пойманный на подстрекатель-
стве к убийству Генриха IV, предан казни на Гревской
площади.
В 1597 г. были созваны конгрегации de auxiliis для
обсуждения нового иезуитского учения о благодати, и
папа Климент VIII сказал им: «Сварливцы, вы сеете сму-
ту во всей церкви».
В 1598 г. они подстрекают одного негодяя, благослов-
ляют его именем бога, вкладывают ему в руку кинжал,
обещают небесный венец и посылают убить Морица Нас-
сауского; за это преступление их изгоняют из Голландии.
В 1604 г. милосердный кардинал Фредерик Борромей
изгоняет их из коллегии Бреда за преступления, которые
сделали их достойными сожжения на костре.
В 1605 г. иезуиты Олдекорн и Гариет, зачинщики «по-
рохового заговора» 2, были приговорены к смертной казни.
В 1606 г. венецианские власти были вынуждены из-
гнать иезуитов из своих владений за их сопротивление
декретам Сената.
В 1610 г. Равальяк убивает Генриха IV. Иезуитов по-
дозревают в подстрекательстве к убийству. Питая намере-
ние вселять ужас в сердца монархов, иезуит Мариана
в том же году публикует вместе со своим «De rege et re-
gis institutione» (О монархе и монархии) апологию царе-
убийства.
В 1618 г. иезуитов изгоняют из Богемии как людей,
нарушающих общественный покой, возмущающих под-
данных против государственной власти, отравляющих умы
вредным учением о непогрешимости и всемирном господ-
стве папы, сеющих раздоры в стране.
В 1619 г. они изгнаны из Моравии по тем же при-
чинам.
В 1631 г. их клика вызывает беспорядки в Японии, и
всю империю заливает кровь язычников и христиан.
В 1641 г. они разжигают в Европе пламя нелепой
97
борьбы против япсенистов, нарушившей покой и разо-
рившей столько честных ревнителей веры.
В 1643 г. власти Мальты, возмущенные развращенно-
стью и жестокостью иезуитов, изгоняют их с острова.
В 1646 г. в Севилье они отказываются от уплаты дол-
гов, что ввергает в нищету множество семейств. Как види-
те, банкротство, которое произошло в паши дни 1, не пер-
вое по времени.
В 1709 г. их низкая зависть приводит к разрушению
Пор-Рояля 2, к разрытию могил и выбрасыванию костей
покойников, к разрушению священных стен, камни кото-
рых падают сегодня на головы самих иезуитов.
В 1713 г. они добывают из Рима папскую буллу «Uni-
genilus» 3, послужившую им поводом для множества зол,
в том числе для восьмидесяти тысяч королевских указов
об аресте самых честных людей в государстве.
В том же году иезуит Жуванси в написанной им исто-
рии Общества осмеливается причислить к мученикам
убийц наших королей; власти отдали приказ о сожжении
этого сочинения.
В 1723 г.4 Петр Великий в целях охраны своей лично-
сти и умиротворения своего государства изгоняет иезу-
итов.
В 1728 г. иезуит Беррюйе переделал историю Моисея
в роман, вложив в уста патриархов фривольные и раз-
вратные речи.
В 1730 г. иезуит Турнемии в одной из церквей города
Кана в проповедях, обращенных к христианам, сомневался
в том, что Евангелие является священным писанием5...
В 1731 г. развратителю и святотатцу иезуиту Жирару
удалось с помощью подкупа и связей избежать смерти на
костре.
В 1743 г. бесстыдный иезуит Бенчи создает в Италии
секту маммиляров 6.
В 1745 г. иезуит Бишоп проституирует таинства искуп-
ления и евхаристии и бросает священный хлеб собакам.
В 1755 г. иезуиты Парагвая повели на бой организо-
ванных в воинские отряды жителей этой страны против
их законных государей 7.
В 1757 г. на жизнь нашего монарха Людовика XV по-
кушался человек8, живший под сенью «Общества Иису-
са»,— человек, которому оно покровительствовало и ко-
98
торого помещало в различных своих обителях; в том же
году иезуиты переиздали сочинение одного из главных
своих авторов, превозносившего доктрину цареубийства.
То же самое они сделали в 1610 г., тотчас после убий-
ства Генриха IV. Один и тот же прием при одних и тех же
обстоятельствах.
В 1758 г. был убит1 португальский король. Заговор
был задуман и приведен в исполнение иезуитами Мала-
гридой, Матосом и Александром.
В 1759 г. вся эта банда религиозных убийц была из-
гнана из португальских владений.
В 1761 г. один из иезуитов, взяв в свои руки торговлю
на острове Мартиника, полностью разорил своих клиен-
тов. Во Франции потребовали суда над злостным банкро-
том; орден был признан ответственным за ущерб, нане-
сенный людям его представителем, патером Лавалеттом.
Общество весьма неудачно для себя передавало дело
из одной инстанции в другую. Суду стал известен устав
Общества: было признано, что устав этот противозако-
нен; в результате во Франции орден был упразднен.
Вот важнейшие даты деятельности иезуитского орде-
на. Вся его история наполнена подобными делами.
Сколько же, кроме этого множества раскрытых престу-
плений, можно предположить таких, которые остались
неизвестными?
Сказанное убеждает в том, что нет таких преступлений,
которые не были бы совершены иезуитами за два века их
существования.
Добавлю, что нет более развращенных учений, чем
те, которые распространялись ими. Один только «Lu-
cidarium» Позы содержит больше, чем могла бы вместить
сотня томов, написанных самыми заядлыми фанатиками.
Между прочим, у него можно прочитать, что божья
матерь — одновременно и бог-отец и бог-мать и что хотя
она не была подвержена никаким естественным отправле-
ниям, тем не менее в акте формирования организма Иису-
са Христа она принимала участие в качестве и мужчины
и женщины, secundum generalem naturae tenorem ex
parte mariset ex parte feminae * и тысячу других глупостей.
* Следуя основному направлению природы, отчасти мужской
отчасти женской.
99
Учение о пробабилизме 1 является измышлением
иезуитов.
Учение о философском грехе — также выдумка иезуитов.
Прочтите книгу под названием «Утверждения», напе-
чатанную в 1762 г. по постановлению парижского парла-
мента, и вы придете в ужас от всего, что богословы это-
го ордена за все время его существования наговорили о
симонии2, богохульстве, святотатстве, магии, неверии,
астрологии, бесстыдстве, блуде, педерастии, клятвопре-
ступлении, лжи, фальши, злонамеренности, лжесвидетель-
стве, вероломстве судей, краже, оккультизме, убийстве,
самоубийстве, проституции и цареубийстве; совокупность
взглядов, которые, как писал королевский прокурор пар-
ламента Бретани в своем втором отчете на 73-й странице,
открыто оскорбляют самые священные принципы, стре-
мятся уничтожить естественные законы, подорвать чело-
веческую веру, разрушить основы гражданского обще-
ства нарушением законов, подавлять чувство гуманности,
уничтожать королевскую власть, проповедью цареубий-
ства вызвать смуту и разорение в государстве, опрокинуть
основы откровения и подменить христианство всякого рода
предрассудками.
Прочтите в решении парижского парламента от 6 ав-
густа 1762 года позорный перечень приговоров, которые
были вынесены иезуитам во всех судах христианского
мира, и еще более позорный список определений, кото-
рые были даны иезуитам этими судами.
Здесь можно бы, пожалуй, остановиться, чтобы задать
вопрос, как же укрепилось такое Общество, несмотря на
все, что оно сделало для собственной гибели; как могло
оно прославиться после того как всячески унижало себя;
как оно приобрело доверие государей, убивая их;— по-
кровительство духовенства, унижая его;— такое большое
влияние на церковь, внося в нее раздор, извращая ее мо-
раль и догматы?
Дело в том, что в одно и то же время в одном и том
же организме уживались рядом разум и фанатизм, до-
бродетель и порок, религия и нечестие, аскетизм и распу-
щенность, наука и невежество, благочестие и дух про-
исков и интриг, — короче говоря, сочетались все контра-
сты. Только смирение никогда не находило прибежища
среди этих людей.
100
Среди них были поэты, историки, ораторы, философы,
математики и эрудиты.
Не знаю, может быть таланты и добродетельная
жизнь некоторых членов ордена на очень короткое
время снискали ему большую славу; не боясь возраже-
ний, я утверждаю, что только эти качества должны бы
быть закреплены Обществом, однако оно пренебрегало
именно ими.
Отдавшись торговле, интригам, политике, занятиям,
чуждым их положению и недостойным их звания, они
неминуемо должны были снискать презрение к себе, ко-
торое преследовало и всегда будет преследовать рели-
гиозные организации, пренебрегающие наукой и терпя-
щие развращенность нравов.
Нет, святые отцы! Ни золото, ни влиятельные связи
не могли гарантировать существования такой небольшой
организации, как орден иезуитов; только уважение, ка-
кое всегда внушают знания и добродетель, могло бы
поддержать вас и парализовать деятельность ваших вра-
гов; так бывает, когда почитаемый человек остается не-
поколебимым и спокойным перед лицом бушующей
толпы, отделенный от нее непроходимым пространством,
созданным всеобщим уважением. Вы отреклись от этих
простых истин, и проклятие вашего третьего генерала,
св. Франциска Борджа, тяготеет над вами. Этот добрый
человек говорил вам: «Придет время, и не будет границ
вашему честолюбию и вашей гордыне, вы будете заняты
лишь приумножением ваших богатств и вашего кредита,
вы позабудете о добродетели; и не окажется силы на
земле, которая сумела бы вернуть вас к первоначальному
совершенству, и если возможно будет вас уничтожить,
вы будете уничтожены».
Те, кто основывал свое существование на том же
фундаменте, который поддерживает существование и бо-
гатство сильных мира сего, должны бы исчезнуть, как
исчезали последние. Преуспеяние иезуитов было лишь
сном, но более продолжительным.
Когда же рухнул этот колосс, казавшийся столь ве-
ликим и крепким? В момент, когда он казался сильным
и устойчивым, как никогда. Иезуиты заполняли дворцы
нашего короля; дети наиболее знатных семей нашего
государства обучались в их школах, церковь даровала
101
им свое доверие, и они стали самыми близкими людьми
нашего монарха, его супруги и его детей; менее покро-
вительствуемые, чем покровители нашего духовенства,
они были душой этого огромного организма. Как много
они мнили о себе! Я видел, как эти горделивые дубы
касались вершинами небес, но отвернулся на миг, и их
не стало.
Всякое событие имеет свои причины. Каковы же при-
чины столь быстрого и неожиданного падения этого
Общества? Вот некоторые из них.
Философский дух осудил безбрачие, и иезуиты, по-
добно другим религиозным орденам, почувствовали, на-
сколько монастырская жизнь утратила привлекатель-
ность.
Иезуиты поссорились с писателями именно в тот мо-
мент, когда последние собрались напасть на их непри-
миримых и мрачных врагов 1. Что тогда последовало?
Вместо того, чтобы прикрыть свою слабую сторону, иезу-
иты выставили ее напоказ, указав мрачным энтузиастам,
которые им угрожали, самое уязвимое свое место.
Среди них не нашлось ни одного, кто отличался бы
большим талантом, ни одного значительного поэта, фило-
софа, оратора, эрудита, пи одного значительного писате-
ля, — и их стали презирать.
Уже несколько лет внутренняя анархия разделяла
их; и если случайно среди них оказывался какой-нибудь
хороший человек, они не могли удержать его в своих
рядах.
Их признали виновниками всех наших внутренних
смут, от них устали.
Их журналист, выступавший на страницах «Треву» 2,
неплохой, по слухам, человек, является, однако, ничтож-
ным писателем и жалким политиком. Своей неумной
книжкой он нажил ордену тысячу опасных врагов и ни
одного друга.
Он возбудил против своего братства нашего Воль-
тера, который излил презрение и насмешки на орден и
на автора, обрисовав последнего дураком, а его собрать-
ев — порой людьми опасными и злыми, порой же — не-
веждами, показывающими пример и задающими тон
всем нашим мелким шутам. Вольтер показал нам пример
безнаказанного издевательства над иезуитами, а свет-
102
скнх людей научил смеяться над ними без боязни по-
следствий.
Иезуиты с давних пор были в плохих отношениях
с судебными органами и не думали, что судьи в конце
концов окажутся сильнее.
Они не знали разницы между полезными людьми и
наглыми монахами и не понимали, что государство в слу-
чае необходимости стать на сторону тех или других
с отвращением отвернется от людей, уже не внушающих
доверия.
Добавьте, что когда над ними разразилась гроза,
в момент, когда даже земляной червь, которого топчут
ногами, находит в себе какую-то энергию, они оказались
столь бедны талантами и способностями, что во всем их
ордене не нашлось ни одного человека, способного ска-
зать веское слово и заставить себя слушать. Они уже не
обладали голосом. Они заранее заставили смолкнуть
уста, которые могли бы высказаться в их пользу.
Их ненавидели или им завидовали.
Когда в университете росло влияние науки, в иезуит-
ских коллегиях оно падало, хотя все наполовину были
уже убеждены, что для лучшего употребления времени,
для развития и сохранения нравов и здоровья нельзя
даже сравнивать между собой общественное и домашнее
воспитание 1.
Эти люди слишком вмешивались в разные дела; они
чересчур верили в свой авторитет.
Их генерал до смешного был убежден, что треуголь-
ная шапка сидит на его голове, как королевская корона;
он наносил оскорбления там, где надо было просить ми-
лости.
Процесс, начатый кредиторами иезуита Лавалетта,
покрыл орден позором.
Иезуиты были очень неосторожны, опубликовав свои
уставы. Еще неосторожнее они поступили, когда, забыв,
как ненадежно их положение, поставили своих ненавистни-
ков-судей в известность о своем управлении и дали им воз-
можность сравнить иезуитскую систему фанатизма, про-
извола и макиавеллизма с государственной законностью.
Разве возмущение парагвайских жителей не должно
было привлечь внимание государей и заставить их заду-
маться? А два покушения на цареубийство за один год2?
103
Наконец, роковая минута наступила, фанатизм 1 понял
это и воспользовался ею.
Что могло спасти орден при таком стечении обстоя-
тельств, приведшем его на край пропасти? Быть может,
лишь один человек, но такой, как Бурдалу 2, если бы он
нашелся среди иезуитов; надо было бы ценить его, свет-
ским людям предоставить приумножать их богатства, а са-
мим думать о воскрешении ордена из пепла.
Не из ненависти и гнева к иезуитам пишу я эти строки;
моей целью было оправдать правительство, которое поки-
нуло их, и судей, которые осудили их; я хотел бы расска-
зать членам этой организации о том, как они смогут удер-
жаться во Франции, если когда-нибудь вновь захотят
вернуться сюда и получат на то разрешение.
СВЯЩЕННИКИ
(Религия и политика)
Этим словом обозначают всех тех людей, которые об-
служивают религиозные культы, установленные у всех
народов земли.
Внешний культ предполагает церемонии, имеющие
целью воздействовать на чувства людей, укрепить в них
благоговение к божеству, которому они воздают почести.
Суеверие умножило церемонии различных культов,
а лица, назначенные для их обслуживания, не преминули
образовать особое сословие, которое предназначалось
исключительно для служения алтарям. Стали верить, что
те, кому поручаются столь важные занятия, превра-
щаются в божества. С тех пор эти люди начали разделять
почести с богами. Обычные труды стали казаться ниже
их достоинства, и народы сочли себя обязанными поддер-
живать существование этих людей, облеченных самыми
святыми и самыми важными обязанностями. Эти люди,
замкнувшись внутри своих храмов, вели уединенную
жизнь, что должно было еще увеличить уважение к ним.
На них привыкли смотреть как на любимцев богов, как на
хранителей и истолкователей божьих велений, как на по-
средников между богами и смертными.
Сладко властвовать над подобными себе. Священники
сумели воспользоваться высоким мнением, которое они
насадили в умах сограждан; стали думать, что боги откры-
ваются им; объявляли их веления; обучали догматам;
предписывали, во что следует верить и что нужно отверг-
нуть; указывали, что нравилось или не нравилось боже-
ству; занимались прорицаниями; предсказывали будущее
беспокойному и любопытному человеку; заставляли его
трепетать от страха перед мучениями, которыми боги
угрожали смельчакам, сомневавшимся в миссии священ-
ников или подвергавшим обсуждению их учение.
105
Чтобы прочнее обосновать свою власть, они изобра-
жали богов свирепыми, мстительными, неумолимыми; они
ввели церемонии, посвящения, таинства, жестокость кото-
рых сделала людей подверженными меланхолии, столь
благоприятной для господства фанатизма. И тогда еще
более широкими потоками полилась человеческая кровь
по алтарям. Народы, порабощенные страхом и одурма-
ненные суеверием, не жалели ничего для оплаты благо-
склонности небес. Матери, не проронив слезы, ввергали
своих нежных детей в пожирающее пламя; тысячи людей
падали под ножами жрецов. Люди покорились множеству
обязанностей, бессмысленных для них и возмутительных,
но полезных священникам; самые нелепые суеверия ста-
ли распространяться и укреплять власть священников.
Освобожденные от забот и уверенные в своем господ-
стве, эти священники, дабы скрасить скуку своего одино-
чества, стали заниматься загадками природы и тайнами,
неизвестными простым людям. Отсюда — столь прослав-
ленные знания египетских священников. Вообще можно
заметить, что почти у всех диких и невежественных наро-
дов медициной и служением религии занимались одни и
те же люди. Польза, которую священники приносили на-
родам, тоже способствовала укреплению их власти. Неко-
торые из них пошли еще дальше; занятия физикой дали
им средства поражать зрение необычайными опытами, ко-
торые считались сверхъестественными, ибо люди не знали
их причин. Отсюда это множество диковин, чар и чудес.
Пораженные люди думали, что их жрецы властвуют над
стихиями, раздают по своему усмотрению кары и милости
неба и должны разделять с богами благоговение и страх
смертных.
Трудно было столь почитаемым людям долго дер-
жаться в пределах подчинения, необходимого для проч-
ного общественного порядка: духовенство, возгордив-
шееся своей властью, нередко оспаривало права у коро-
лей. Государи сами, как и их подданные, подчиненные
законам религии, не имели достаточно сил, чтобы про-
тестовать против узурпации и тирании ее служителей; фа-
натизм и суеверие держали нож над головами монархов;
их троны начинали колебаться тотчас же, как они делали
попытки обуздать или наказать священнослужителей,
чьи интересы соединялись с интересами божества. Со-
106
противляться им — значило восставать против неба; при-
касаться к их правам — кощунствовать; желать ограни-
чения их власти — подрывать основы религии.
Таковы были те ступени, по которым языческие свя-
щенники взошли на вершину своего могущества. У егип-
тян цари подлежали надзору жрецов. Монархи, неугод-
ные богам, получали от их служителей повеление покон-
чить с собой; и такова была власть суеверия, что государь
не мог ослушаться этого. Друиды у галлов пользовались
безраздельной властью над народом; не удовлетворяясь
положением служителей культа, жрецы были судьями
при раздорах в народе. Мексиканцы втайне сетовали, что
священники-варвары именем богов заставляли их творить
жестокости; цари не могли отказаться даже от самых не-
справедливых войн, когда жрец возвещал им веления
неба. «Бог алкает»,— говорили они; тотчас же правители
вооружались против своих соседей, и каждый старался
брать побольше пленных, чтобы предавать их на заклание
в жертву идолам, или, вернее, свирепому и тираническому
суеверию их слуг.
Пароды были бы еще слишком счастливы, если бы
священнослужители лжи злоупотребляли только той вла-
стью над людьми, которую давал им сан. Вопреки покор-
ности и мягкости, столь настойчиво проповедуемым Еван-
гелием, века мрака видели священников, служителей
божьих, которые поднимали знамена восстаний, воору-
жали подданных против государей, нагло приказывали
королям сойти с трона, присваивали себе право разры-
вать священные узы, связующие народы с их правителя-
ми, объявляли тиранами государей, сопротивлявшихся их
дерзким затеям, добивались для себя независимости от
законов, созданных одинаково для всех граждан. Эти
суетные притязания иногда стоили потоков крови; они
поддерживались невежеством народов, слабостью госуда-
рей и хитростью священников. Этим последним нередко
удавалось удерживать захваченные права; в тех странах,
где была введена ужасная инквизиция, было много чело-
веческих жертвоприношений, которые по варварству ни-
сколько не уступают жертвоприношениям мексиканских
священников. Иначе обстоит дело в странах, освященных
светом разума и философии: священник там никогда не
забывает, что он человек, подданный и гражданин.
107
РАЗГОВОР ДАЛАМБЕРА
С ДИДРО
Даламбер. Я признаю: трудно допустить бытие
существа,1 которое где-то пребывает и не сообщается ни
с одной точкой вселенной; которое непространственно и
занимает пространство, целиком находясь в каждой ча-
стице его; которое существенно отличается от материи
и связано с нею, следует за нею и приводит ее в движение,
оставаясь само неподвижным, воздействует на нее и под-
вержено всем ее изменениям,— бытие существа, у
которого столь противоречивая природа и о котором
я не имею ни малейшего представления. Но перед
тем, кто отвергает его существование, встают другие
трудности; ведь если та чувствительность, которою вы
наделяете материю, является общим и существенным
свойством ее, то нужно предположить, что и камень чув-
ствует?
Дидро. Почему бы нет?
Даламбер. Трудно поверить этому.
Дидро. Да, тому, кто режет его, точит, толчет и не
слышит его крика.
Даламбер. Мне хотелось бы знать, какова, по ва-
шему мнению, разница между человеком и статуей, мра-
мором и телом.
Дидро. Очень незначительная. Из мрамора делают
тело, из тела — мрамор.
Даламбер. Но тело не то, что мрамор.
Дидро. Как то, что вы называете живой силой,—не
то, что мертвая сила.
Даламбер. Не понимаю вас.
Дидро. Объяснюсь. Перемещение тела с одного ме-
ста на другое не есть движение, а только его действие.
Движение есть и в движущемся теле и в неподвижном.
108
Даламбер. Это — новый метод воззрения.
Дидро. И все же правильный. Уберите препятствие
с пути неподвижного тела, и оно передвинется. Разреди-
те внезапно воздух, окружающий ствол этого огромного
дуба, и вода, содержащаяся в дубе, под влиянием внезап-
ного расширения разорвет его на сотни частиц. То же
скажу я о вашем теле.
Даламбер. Так. Но в чем связь между движением
и чувствительностью? Уж не признаете ли вы существо-
вание деятельной и инертной чувствительности наподо-
бие живой и мертвой силы? Как живая сила проявляется
при передвижении, а мертвая — при давлении, так дея-
тельная чувствительность характеризуется у животного
и, может быть, у растения теми или другими заметными
действиями, а в существовании инертной чувствительно-
сти можно удостовериться при переходе ее в состояние
деятельной.
Дидро. Великолепно. Вы указали эту связь.
Даламбер. Таким образом, у статуи — только
инертная чувствительность, а человек, животное и, может
быть, растение одарены деятельной чувствительностью.
Дидро. Есть, несомненно, такое различие между
куском мрамора и тканью тела, но вы хорошо понимаете,
что это не единственное различие.
Даламбер. Само собой разумеется. Как бы чело-
век ни походил по внешности па статую, между их внут-
ренними организациями нет никакого соотношения. Резец
самого искусного скульптора не создаст ни одной части-
цы телесного покрова. Но есть очень простой способ пре-
вращения мертвой силы в живую; такой опыт повторяет-
ся на наших глазах сотни раз на день; между тем, я вов-
се не знаю случая, чтобы тело переводили из состояния
инертной чувствительности в состояние чувствительности
деятельной.
Дидро. Потому что вы не хотите знать. Это тоже
обычное явление.
Даламбер. Тоже обычное? Скажите, пожалуйста,
что же это за явление?
Дидро. Я вам назову его, если вам не стыдно об
этом спрашивать. Это происходит всякий раз, как вы
едите.
Даламбер. Всякий раз, как я ем?
109
Дидро. Да. Что делаете вы, когда едите? Вы устра-
няете препятствия, мешающие появлению в продуктах
деятельной их чувствительности. Вы ассимилируете про-
дукты, делаете из них тело, одушевляете их, делаете их
чувствительными, и то, что вы проделываете с продукта-
ми, я проделаю, когда угодно, с мрамором.
Даламбер. Каким образом?
Дидро. Каким образом? Сделаю его съедобным.
Даламбер. Сделать мрамор съедобным — это, ка-
жется, не так легко.
Дидро. Это уже мое дело... Я беру вот эту статую,
кладу ее в ступку и пестом...
Да л а м б е р. Поосторожней! Ведь это шедевр Фаль-
коне. 1 Если бы это было произведение Гюэ 2 или какого-
нибудь другого...
Дидро. Для Фальконе это ничего не значит: за ста-
т}ю заплачено, а с общественным мнением он мало счи-
тается, отзыв же потомства вовсе не интересует его.
Даламбер. Нy, начинайте же толочь!
Дидро. Превратив кусок мрамора в мельчайший
порошок, я ссыпаю его в черноземную, или плодородную,
почву, смешиваю, поливаю, оставляю гнить год, два, сто
лет,— время для меня не важно. Когда вся эта смесь
претворится в материю почти однородную, в чернозем,—
знаете ли вы, что я сделаю?
Даламбер. Уверен, что не будете есть чернозем.
Дидро. Нет, но есть какая-то связь между мною и
черноземом, что-то сближающее нас, какой-то, как ска-
зал бы химик, latus.
Даламбер. И этот latus — растение?
Дидро. Очень хорошо. Я засеваю чернозем горо-
хом, бобами, капустой и другими бобовыми растениями.
Растения питаются землею, а я питаюсь растениями.
Даламбер. Верно это или нет, но мне нравится
этот переход от мрамора к чернозему, от чернозема к
растительному царству и от последнего к царству живот-
ных, к телу.
Дидро. Следовательно, я из тела и души, как гово-
рит моя дочь, делаю деятельно-чувствительную материю,
и если я не разрешаю предложенной вами проблемы, то,
во всяком случае, я очень близок к ее разрешению, ибо
вы согласитесь со мной, что между куском мрамора и
МО
чувствующим существом большее расстояние, чем между
чувствующим и мыслящим существами.
Даламбер. Согласен. И все-таки чувствующее су-
щество не есть еще мыслящее.
Дидро. Прежде чем перейти к дальнейшему, по-
звольте мне рассказать историю одного из величайших
геометров Европы 1. Чем сначала было это замечательное
существо? Ничем.
Даламбер. Как ничем? Из ничего нельзя ничего
сделать.
Дидро. Вы понимаете слишком буквально. Я хочу
сказать, что прежде чем его мать, прекрасная и преступ-
ная канонисса Тансэн 2, достигла зрелого возраста, преж-
де чем военный Латуш3 стал юношей, молекулы, из кото-
рых должны были формироваться первичные зачатки
моего геометра, были рассеяны в незрелых и хрупких ма-
шинах того и другой, фильтровались вместе с лимфой,
циркулировали вместе с кровью до тех пор, пока, нако-
нец, не поместились в назначенных для их соединения
резервуарах — в половых железах его отца и матери. Вот
это редкостное зерно сформировано; вот оно введено по
фаллопиевым трубам, по общему признанию, в матку и
прикреплено к ней длинным стебельком; последователь-
ный рост и развитие привели его в состояние зародыша;
вот наступил момент выхода зародыша из мрачного за-
ключения; вот он рожден, брошен на паперть St.— Jean
le-Rond, от которого и получил свое имя; взят из воспи-
тательного дома, выкормлен грудью доброй стекольщи-
цы, г-жи Руссо: вырос крепкий телом и душой, стал лите-
ратором, инженером, геометром. Как произошло все это?
Благодаря принятию пищи и другим чисто механическим
действиям. Вот в нескольких словах формула: ешьте,
переваривайте, перегоняйте in vast licito et flat homo se-
cundum artem *.
И тому, кто стал бы излагать в Академии процесс
образования человека или животного, пришлось бы при-
бегать только к материальным факторам, последователь-
ными результатами действия которых явилось бы суще-
ство инертное, чувствующее, мыслящее, решающее про-
* В соответствующем сосуде, и пусть получится человек по пра
вилам искусства.
111
блему процессий равноденствий, существо величествен-
ное, достойное удивления, стареющее, угасающее, уми-
рающее, разложившееся и вернувшееся в плодородную
землю.
Даламбер. Вы, следовательно, не верите в пред-
существующие зародыши? 1.
Дидро Нет.
Даламбер. Ах, как это хорошо!
Дидро. Это не согласуется ни с опытом, ни с разу-
мом: опыт безуспешно стал бы искать эти зародыши в
яйце и у большинства животных, не достигших известно-
го возраста; а разум учит, что в природе есть предел де-
лимости материи, хотя мысленно она делима до беско-
нечности; а потому ни с чем не сообразно представление
о том, что в атоме содержится вполне сформированный
слои, а в атоме этого слона — другой слон, и так далее до
бесконечности.
Даламбер. Но без них невозможно объяснить по-
явление первого поколения животных?
Дидро. Если вас смущает вопрос о приоритете яйца
перед курицей или курицы перед яйцом, то это происхо-
дит оттого, что вы предполагаете, что животные вначале
были такими же, какими мы их видим теперь. Какая бес-
смыслица! Ведь совершенно же неизвестно, чем они были
прежде, равно как неизвестно и то, чем они будут впо-
следствии. Невидимый червячок, который возится в грязи,
находится, может быть, на пути к превращению в боль-
шое животное, а огромное животное, которое ужасает
нас своей громадой, является, может быть, случайным,
эфемерным произведением нашей планеты.
Даламбер. Как так?
Дидро. Я сказал бы вам... Но это отвлечет нас в
сторону от предмета нашей беседы.
Даламбер. Так что же из этого? От нас зависит
вернуться или не вернуться к нему.
Д ид р о. Позволите ли вы мне отступить на несколь-
ко тысячелетий назад?
Даламбер. Отчего же нет? Для природы такие
сроки — ничто.
Дидро. Вы, следовательно, соглашаетесь, чтобы я
потушил наше солнце?
112
Даламбер. Тем охотнее, что до него другие поту-
хали.
Дидро. Что же произойдет? Солнце потухло. Пла-
неты и животные погибнут, и земля превратится в немую
пустыню. Зажгите вновь это светило, и в миг восстано-
вится действие причины, необходимой для зарождения
бесконечной цепи новых поколений, и я не осмелился бы
утверждать, возродятся или не возродятся, спустя века,
современные нам животные и растения 1.
Даламбер. Но почему бы одним и тем же элемен-
там, рассеянным по вселенной, не дать одних и тех же
результатов, когда они соединятся?
Дидро. Потому, что все связано в природе, и кто
в своих построениях предполагает какое-нибудь новое
явление или вводит один из моментов прошлого, тот вос-
создает новый мир.
Даламбер. Глубокий мыслитель не станет отри-
цать этого. Но — чтобы вернуться к человеку, которому
отведено место в мироздании,— припомните, что вы оста-
новились на переходе от чувствующего существа к
мыслящему.
Дидро. Припоминаю.
Даламбер. Откровенно скажу, вы очень обяжете
меня, выведя меня из этого затруднения. Я немного за-
бегаю вперед в своих мыслях.
Дидро. Если бы мне не удалось до конца развить
свою мысль, разве можно было бы на основании этого
что-нибудь возразить против совокупности бесспорных
фактов?
Даламбер. Ничего, нам пришлось бы только за-
держаться на несколько минут на этом вопросе!
Дидро. И позволительно ли было бы изобретать
какой-то противоречивый в своих атрибутах фактор, ка-
кое-то лишенное смысла слово, чтобы итти дальше?
Даламбер. Нет.
Дидро. Можете ли вы сказать, в чем выражается
бытие чувствующего существа по отношению к самому
себе?
Даламбер. В сознавании себя с первого момента
пробуждения своего мышления и до настоящего времени.
Дидро. А на чем основано это сознавание?
Даламбер. На памяти о своих действиях.
113
Дидро. А что было бы, если бы не было памяти?
Д а л а м б е р. Без памяти не было бы осознания себя,
так как, чувствуя свое существование только в момент
восприятия, существо не имело бы истории своей жизни.
Его жизнь представляла бы собой беспрерывный ряд
ощущений, ничем не связанных взаимно.
Дидро. Очень хорошо. А что такое память? Откуда
происходит она?
Даламбер. От определенной организации, которая
сначала растет и крепнет, потом слабеет и в известный
момент целиком погибает.
Дидро. Если существо, которое чувствует и имеет
такую способную к памяти организацию, связывает по-
лучаемые ощущения, создает благодаря этой связи исто-
рию своей жизни и приобретает сознание своего л, то,
следовательно, оно может отрицать, утверждать, заклю-
чать, мыслить.
Даламбер. Кажется, так; у меня остается только
одно затруднение.
Дидро. Вы ошибаетесь: у вас остается их гораздо
больше.
Даламбер. Но главное — одно; мне кажется, что
мы можем мыслить зараз только об одной вещи, и, чтобы
составить — не скажу: бесконечную цепь рассуждений,
охватывающих в своем развитии тысячи представлений,
но одно простое предложение — нужно, пожалуй, иметь
налицо следующее условие: предмет должен, повидимо-
му, оставаться как бы перед взорами разума все время,
пока разум занят рассмотрением того или другого из его
свойств, наличность которого он подтвердит или отвергнет.
Дидро. Я того же мнения. Это-то обстоятельство за-
ставляло меня иногда сравнивать фибры наших органов
с чувствительными вибрирующими! струнами. Чувствитель-
ная вибрирующая струна дрожит и звучит еще долго спу-
стя после того, как ударили по ней. Вот именно такое
дрожание, нечто вроде такого резонанса, необходимо для
того, чтобы предмет стоял пред разумом, в то время как
разум занят рассмотрением присущего ему свойства. Но
вибрирующие струны имеют еще другое свойство: они за-
ставляют звучать другие струны, и точно таким же обра-
зом первая мысль вызывает вторую, они обе — третью, все
три — четвертую и т. д., так что нельзя поставить границ
114
мыслям, пробуждающимся и сцепляющимся в голове фи-
лософа, который размышляет или прислушивается к своим
мыслям в тиши полумрака. Этот инструмент делает уди-
вительные скачки, и пробудившаяся мысль иногда застав-
ляет дрожать созвучную мысль, стоящую с первоначаль-
ной в непонятной связи. Если такое явление наблюдается
у звучащих струн, инертных и отделенных друг от друга,
то почему бы не иметь ему места среди точек, одаренных
жизнью и связанных между собою,— среди фибр, располо-
женных без промежутков и одаренных чувствительностью?
Даламбер. Если это и неверно, то, во всяком случае,
очень остроумно. Но я склонен думать, что вы поневоле
наталкиваетесь на затруднение, которого хотели избежать.
Дидро. На какое?
Даламбер. Вы не миритесь с мыслью о существова-
нии двух различных субстанций.
Д и д р о. Я не скрываю этого.
Даламбер. Присмотревшись поближе, вы увидите,
что из разумения философа вы делаете существо, отличное
от инструмента, нечто вроде музыканта, который прислу-
шивается к вибрирующим струнам и высказывается на-
счет согласованности или несогласованности их звуков.
Дидро. Возможно, что я дал вам повод к такому воз-
ражению, которого вы, может быть, не сделали бы, если
бы приняли в соображение разницу между инструментом-
философом и музыкальным инструментом. Инструмент-
философ одарен чувствительностью, он — музыкант и
инструмент в одно и то же время. Как в существе чувст-
вующем, в нем возникает сознание звука тотчас же, как
только он производит его, а как животное он удерживает
его в памяти. Эта органическая способность, связывая в
нем звуки, производит и сохраняет в нем мелодию. Пред-
положите музыкальный инструмент, одаренный чувстви-
тельностью и памятью, и скажите, разве он не будет само-
стоятельно повторять арии, которые вы раньше исполнили
на его клавишах? Мы — инструменты, одаренные чувстви-
тельностью и памятью. Наши чувства — клавиши, по кото-
рым ударяет окружающая нас природа и которые часто
ударяют сами себя; вот что, по моему мнению, происходит
в музыкальном инструменте, организованном так, как вы
и я. Причиной, лежащей в инструменте или вне его, вызы-
вается известное впечатление; от впечатления рождается
115
ощущение, более или менее длительное, так как невоз-
можно представить, чтобы оно возникло и замерло в неде-
лимое мгновение; за ним следуют другое впечатление, при-
чина которого равным образом кроется вне или внутри
инструмента, другое ощущение и голоса, выражающие их
в естественных или условных звуках.
Даламбер. Понимаю. Следовательно, если бы этот
чувствующий и одушевленный инструмент был к тому же
одарен способностью питаться и воспроизводиться, он жил
бы и производил бы один или вместе со своей самкой ма-
ленькие одаренные жизнью и звучащие музыкальные ин-
струменты?
Дидро. Без сомнения. Что же иное, по-вашему, пред-
ставляют собой зяблик, соловей, музыкант, человек? И ка-
кую иную разницу находите вы между чижом и органчи-
ком, с помощью которого чиж научается петь? Возьмите,
например, яйцо. Оно ниспровергает все теологические
школы и все храмы на земле 1. А что такое яйцо? Бесчув-
ственная масса, пока не введен туда зародышевый пузы-
рек. А когда он введен туда, что оно представляет собой?
Опять-таки бесчувственную массу, так как зародышевый
пузырек сам по себе является лишь инертной и простой
жидкостью. Что может сообщить этой массе другую орга-
низацию, чувствительность, жизнь? Теплота. Что создает
теплоту? Движение. Каковы будут последовательные ре-
зультаты движения? Не торопитесь отвечать, присядьте, и
будем наблюдать за стадиями развития. Сначала это —
колеблющаяся точка, затем — ниточка, которая растяги-
вается, окрашивается; потом — формирующееся тело, у
которого появляются клюв, концы крыльев, глаза, лапки;
желтоватая материя, которая развертывается и производит
внутренности; наконец, это — животное. Животное дви-
жется, волнуется, кричит; я слышу его крики сквозь скор-
лупу, оно покрывается пушком, видит. От тяжести голова
его качается, клюв постоянно приходит в соприкосновение
с внутренней стеной его тюрьмы. Но вот она пробита:
животное выходит на волю, разгуливает, летает, раздра-
жается, бегает, приближается, жалуется, страдает, любит,
жалеет, наслаждается; оно подвержено таким же аффек-
там и совершает такие же действия, как и вы. Будете ли
вы вместе с Декартом утверждать, что это — настоящая,
одаренная способностью подражания, машина? Но дети
116
осмеют вас, а философы возразят вам, что если это маши-
на, то вы тоже машина. Если вы признаете, что между жи-
вотным и вами разница только в организации, вы обнару-
жите здравый смысл и разум, вы окажетесь добросовест-
ным мыслителем, но отсюда сделают против вас вывод,
что инертная материя, известным образом расположенная,
пропитанная другой инертной материей, теплотой и движе-
нием, получает чувствительность, жизнь, память, сознание,
страсти, мысль. И вам придется остановиться на одном из
двух выводов: либо представить себе наличность в инерт-
ной массе яйца скрытого элемента, который ждет процесса
развития, чтобы обнаружить свое присутствие, либо пред-
положить, что в определенный момент развития этот неви-
димый элемент проникает туда через скорлупу. Но что это
за элемент? Занимает он пространство или нет? Как он
проникает туда или развертывается там, не двигаясь? Где
был он? Что делал там, или где-нибудь в другом месте?
Был ли он создан в момент, когда понадобился, или су-
ществовал раньше и ждал жилища? Если он был чем-то
однородным, то он был материальным, если же — разно-
родным, то нельзя понять ни его инертности до процесса
развития, ни его энергии в развившемся животном. До-
верьтесь себе, и вы проникнетесь сожалением к своей осо-
бе: вы почувствуете, что, для того, чтобы не допустить про-
стого, все объясняющего предположения — чувствитель-
ности как общего свойства материи или продукта
организации, вы противоречите здравому смыслу и низвер-
гаетесь в пропасть, полную тайн, противоречий и абсурд-
ных выводов.
Даламбер. Предположение! Легко сказать. Но что,
если это свойство по существу своему несовместимо с ма-
терией?
Дидро. А откуда вы знаете, что чувствительность по
существу своему несовместима с материей,— вы, который
не знаете сущности чего бы то ни было: ни материи, ни
чувствительности? Разве вашему пониманию больше до-
ступны природа движения, его существование в теле и пе-
реход из одного тела в другое?
Даламбер. Не понимая ни природы чувствительно-
сти, ни природы материи, я вижу, что чувствительность —
свойство простое, единое, неделимое и несовместимое с де-
лимым предметом или членом какого-нибудь целого.
117
Дидро. Метафизико-богословская галиматья! Как?
Разве вы не видите, что все свойства, все осязаемые фор-
мы, в которые облечена материя, по существу неделимы?
Не существует ни больше, ни меньше непроницаемости.
Существует половина круглого стола, но не существует
половины круглоты; существует движение в большей или
меньшей степени, но движения как понятия нет в большей
или в меньшей степени; не существует ни половины, ни
трети, ни четверти головы, уха, пальца, равно как поло-
вины, трети, четверти мысли. Если во вселенной пет мо-
лекулы, похожей на другую, а в молекуле нет точки, по-
хожей на другую точку, то согласитесь, что даже атом
одарен свойством неделимости, неделимой формой; согла-
ситесь, что делимость несовместима с сущностью форм,
потому что уничтожает их. Будьте физиком и примиритесь
со следствием, когда оно возникло на ваших глазах, хотя
вы и не можете объяснить его связи с причиной. Следуйте
правилам логики и не подставляйте на место одной причи-
ны, которая существует и все объясняет, другую 1, кото-
рая непонятна, связь которой со следствием еще менее
понятна, которая таит в себе бесконечное множество труд-
ностей и не решает ни одной из них.
Даламбер. Так что же, если я откажусь от этой
причины?
Дидро. Останется признать существование только од-
ной субстанции во вселенной, в человеке, в животном.
Органчик для чижа сделан из дерева, человек— из плоти,
чиж —из плоти, музыкант — тоже из плоти, только иначе
организованной; но оба они одного происхождения, одной
формации, с одинаковыми функциями, и ждет их один
конец.
Даламбер. Но как же устанавливается согласие
звуков между вашими двумя музыкальными инструмен-
тами?
Дидро. Так как животное — чувствующий инстру-
мент, совершенно похожий на всякий другой одной с ним
конструкции, с одними и теми же струнами, одинаково с
ним подверженный радости, боли, голоду, жажде, болезни,
удивлению, ужасу, то невозможно допустить, чтобы на
полюсе или под экватором оно издавало различные звуки.
Вот почему вы находите почти одинаковые междометия
во всех мертвых и живых языках. Происхождение услов-
118
ных звуков следует объяснить необходимостью и срод-
ством. Чувствующий инструмент или животное по опыту
узнали, что, когда они издавали определенный звук, за
ним следовал вне его определенный результат, что, на-
пример, другие подобные им чувствующие инструменты
или животные подходили, уходили, просили, давали, оби-
жали, ласкали, и все такие результаты связывались в их
памяти и в памяти других с образованием звуков. Заметь-
те, что люди в общении между собою прибегают только
к звукам и действиям. А чтобы признать за моей системой
всю присущую ей силу, заметьте еще то, что она считается
с той непреоборимой трудностью, на которую указал
Беркли 1, выступив против существования вещей. Это был
припадок бреда, когда чувствующий инструмент вообра-
зил, что он единственный инструмент в мире и что вся ми-
ровая гармония происходит в нем.
Даламбер. По этому поводу многое можно сказать.
Дидро. Это верно.
Даламбер. Например, не совсем понятно, как, со-
гласно вашей системе, мы образуем силлогизмы и выво-
дим следствия.
Дидро. Мы не выводим их: все они выведены приро-
дой. Мы только регистрируем соприкасающиеся известные
нам из опыта явления, между которыми существует необ-
ходимая или условная связь,— необходимая в математи-
ке, физике и других точных науках, условная — в морали,
политике и других не-точных науках.
Даламбер. Разве связь между явлениями в одном
случае менее необходима, чем в другом?
Дидро. Нет, но причина подвержена слишком мно-
гим особым, ускользающим от нашего внимания колеба-
ниям, чтобы можно было безошибочно рассчитывать на
ожидаемое от нее следствие. Что обида приведет в гнев
вспыльчивого человека — об этом мы можем сказать с
меньшей уверенностью, чем о том, что какое-нибудь тело,
прикоснувшись к другому, меньшему, приведет его в дви-
жение.
Даламбер. А что вы скажете об аналогии?
Дидро. В самых сложных случаях аналогия не что
иное как тройное правило в применении к одаренному
чувствительностью инструменту. Если за известным явле-
нием в природе следует другое известное явление, то
119
спрашивается, каково будет четвертое явление, которое
следует за третьим, данным природой или вымышленным
в подражание природе? Если длина копья обыкновенного
воина — десять футов, какой длины будет копье Аякса 1?
Если я могу бросить четырехфунтовый камень, то Диомед2
должен бы метнуть целую каменную глыбу. Размеры ша-
гов богов и скачков их лошадей соответствуют воображае-
мому отношению роста богов к росту человека. Аналогия
это четвертая струна, созвучная и пропорциональная трем
другим, и ее резонанса ожидает животное; этот резонанс
всегда происходит в нем, но не всегда в природе. Поэтам
нет до него никакого дела — и, однако, от этого он не ме-
нее реален. Иное дело для философа: ему необходимо
спросить природу, которая часто показывает явление со-
вершенно не таким, как он предполагал, и тогда он заме-
чает, что аналогия ввела его в заблуждение.
Даламбер. Прощайте, мой друг, спокойной ночи.
Дидро. Вы шутите, но вам приснится этот разговор;
если же он не оставит в вас прочного следа, тем хуже для
вас,— вы будете принуждены придерживаться очень
вздорных гипотез.
Даламбер. Вы ошибаетесь: я лягу скептиком и
встану скептиком.
Дидро. Скептиком! Разве существуют скептики?
Даламбер. Что за странный вопрос? Уж не будете
ли вы убеждать меня, что я не скептик? Кто же знает это
лучше меня?
Дидро. Подождите минутку.
Даламбер. Поскорее, мне хочется спать.
Дидро. Я буду краток. Думаете ли вы, что есть хоть
один спорный вопрос, при обсуждении которого у человека
были бы в одинаковой мере веские доводы за и против?
Даламбер. Нет, это было бы положение буридано-
ва осла.
Дидро. В таком случае, не существует скептиков, так
как, за исключением математических вопросов, которые
не допускают ни малейшего колебания, во всех остальных
уместны за и против, и никогда нет между ними равнове-
сия; невозможно допустить, чтобы весы, на которых вы
взвешиваете за и против, не склонялись в ту сторону, где,
по вашему предположению, больше вероятия.
120
Даламбер. Но я вижу утром вероятие на правой
стороне, а после обеда на левой.
Дидро. То есть утром вы настроены догматически за,
а после обеда догматически против.
Даламбер. А вечером, когда я вспоминаю скоропа-
лительность своих решений, я ни во что не верю: ни в
утреннее за, ни в послеобеденное против.
Д и д р о. То есть вы не помните, за каким из двух мне-
ний, между которыми вы колебались, остался перевес;
этот перевес вам кажется слишком ничтожным, чтобы
фиксировать прочное суждение, и вы решаете не зани-
маться больше такими спорными предметами, предоста-
вить решение их другим, а самому не вмешиваться в спор.
Даламбер. Это возможно.
Дидро. Но если бы кто-нибудь отвел вас в сторону
и дружески спросил, к какому решению вам, по совести,
легче всего склониться, разве вы затруднились бы ответить
и изобразили бы собой буриданова осла?
Даламбер. Думаю, что нет.
Дидро. Так вот, друг мой, если вы хорошо подумаете
об этом, вы найдете, что во всех случаях нашим истинным
мнением является не то, в правильности которого мы ни-
когда не сомневались, а то, к которому мы чаще всего
возвращались.
Даламбер. Кажется, вы правы.
Д и д р о. И мне тоже кажется. Добрый вечер, мой друг,
и memento quia pulvis es, et in pulverem reverteris *.
Даламбер. Это печально.
Дидро. И необходимо. Дайте человеку, не скажу бес-
смертие, а только вдвое большую продолжительность жиз-
ни, и вы увидите, что из этого выйдет.
Даламбер. Что же именно? Но какое мне дело до
всего этого? Пусть будет то, что будет. Я хочу спать. Доб-
рый вечер!
* Помни, что ты прах и в прах возвратишься.
СО Н ДАЛАМБЕРА
(Собеседники: Даламбер, м-ль Леспинас 1,
доктор Борде)
Б о р д е. My, что нового? Болен?
Леспинас. Боюсь, что болен: метался всю ночь.
Б о рд е. Проснулся?
Леспинас. Нет еще.
Б о р д е (подойдя к постели Даламбера и щупая
пульс). Ничего.
Л е с п и н а с. Вы думаете?
Борде. Ручаюсь. Пульс хорош... немного слабоват...
кожа влажная... дыхание легкое.
Леспинас. Ничего не нужно давать?
Борде. Ничего.
Леспинас. Тем лучше: он ненавидит лекарства.
Б о р д е. Я тоже. Что он ел за ужином?
Леспинас. Ничего не хотел есть. Не знаю, где он
провел вечер; вернулся домой, чем-то озабоченный.
Борде. Легкое лихорадочное состояние, которое скоро
пройдет.
Леспинас. Придя домой, он надел халат и ночной
колпак, бросился в кресло и заснул.
Борде. Спать хорошо повсюду, но все-таки лучше в
постели.
Л е с п и н а с. Он вспылил, когда Антуан сказал ему об
этом. Пришлось целые полчаса расталкивать его, чтобы
заставить лечь в постель.
Б о р д е. То же самое случается со мною каждый день,
хотя я совсем здоров.
Леспинас. В постели, вместо того, чтобы погрузить-
ся, по своему обыкновению, в глубокий сон (он спит, как
дитя), он начал ворочаться с боку на бок, размахивать
руками, сбрасывать одеяло и громко разговаривать.
Борде. О чем же он говорил? О геометрии?
122
Л е с п и н а с. Нет, это был, по всей вероятности, бред...
Какая-то галиматья о вибрирующих струнах и чувствую-
щих фибрах... Мне показалось это столь диким, что я ре-
шила не оставлять его на ночь одного и, не зная, что де-
лать, пододвинула к его кровати маленький столик и села
записывать то, что могла уловить из бреда.
Б о р д е. Отличная мысль, достойная вас. А можно
посмотреть, что вы записали?
Леспинас. Пожалуйста, но я готова умереть, если
вы поймете там что-нибудь.
Б о р д е. Может быть, пойму.
Леспинас. Доктор, вы готовы слушать?
Б орд е. Да.
Леспинас. Слушайте... «Живая точка... Нет, не так...
Сначала ничего, потом живая точка... К этой живой точке
прививается другая, затем еще третья, и как следствие
этих последовательных прививок является некое существо,
единое, ибо я единое существо,— в этом я не усомнился
бы (при этом он начал ощупывать себя). Но как сложи-
лось это единство? (Э, мой друг,— сказала я ему, какое
вам дело до этого? Спите... Он смолк. Помолчав минуту,
он снова начал, как бы обращаясь к кому-то). Вот, фило-
соф, я вижу некий агрегат, некую ткань маленьких чувст-
вующих существ, но животного!., целого! единую систему,
я, сознающего свое единство! — этого я не вижу, нет, не
вижу...». Доктор, вы понимаете что-нибудь?
Б о р д е. Великолепно.
Леспинас. Вы очень счастливы... «Мои затруднения
вытекают, может быть, из ложной идеи».
Б о р д е. Это вы говорите?
Леспинас. Нет, он, в бреду.
Я продолжаю... Обращаясь к самому себе, он прибавил:
«Друг мой, Даламбер, будьте осторожны; вы предполагае-
те одну лишь смежность там, где имеет место непрерыв-
ность... Да, он довольно зол, чтобы говорить мне об этом...
А образование этой непрерывности? Оно нисколько не за-
труднит его... Как капля ртути смешивается с другой кап-
лей ртути, так чувствующая и живая молекула смешивает-
ся с другой чувствующей и живой молекулой... Вначале
были две капли, после соприкосновения стала лишь одна...
До ассимиляции были две молекулы, после ассимиляции
стала лишь одна молекула... Чувствительность становится
123
общей у всей массы... Действительно, почему бы нет?..
Мысленно я могу представить себе в фибре животного
произвольное число частей, но фибра останется непрерыв-
ной, единой... Да, единой... Соприкосновение двух однород-
ных молекул, совершенно однородных, образует непрерыв-
ность... и это есть случай соединения, сцепления, комбина-
ции, самого полного тождества, какое только можно себе
представить... Да, философ, если это — элементарные и
простые молекулы; но если это — агрегаты, сложные
тела ?... Сочетание, тем не менее, произойдет, а следова-
тельно, будет тождество и непрерывность... И затем обыч-
ное действие и противодействие... Ясно, что контакт двух
живых молекул — не что иное, как смежность двух инерт-
ных масс... Дальше, дальше... Можно было бы вас поддеть,
но у меня нет к этому охоты, я не любитель придираться...
Однако продолжим. Нить чистейшего золота,— помню, он
такое сравнение привел...— однородная сеть, между моле-
кулами которой располагаются другие и образуют, может
быть, другую однородную сеть; ткань чувствующей мате-
рии, ассимилирующий контакт, деятельная чувствитель-
ность здесь, инертная там, которые, подобно движению,
сообщаются друг с другом, не говоря уже, как он очень
хорошо сказал, о том, что должна быть разница между
контактом двух чувствующих молекул и контактом двух
нечувствующих молекул. А какова может быть эта разни-
ца?.. Обычные действие, противодействие... и притом с осо-
бым характером... Словом, все направлено к тому, чтобы
произвести особого рода единство, существующее только
в животном... Клянусь честью, если это не истина, то очень
похоже на нее». Вы смеетесь, доктор? Находите ли вы
смысл во всем этом?
Б о р д е. Большой.
Леспинас. Так он сумасшедший?
Б о р д е. Нисколько.
Леспинас. После такого вступления он начал кри-
чать: — М-ль Леспинас, м-ль Леспинас! — «Что вам угод-
но?» — Видели ли вы когда-нибудь, как рой пчел вылетает
из своего улья? Мир, или вся масса материи, это — улей...
Вы видели, как они образуют на конце ветки длинную
гроздь маленьких крылатых животных, схватившихся друг
за друга лапками?.. Эта гроздь — существо, индивид, некое
животное... Но эти гроздья должны были бы все походить
124
друг на друга... Да, если предположить только одну одно-
родную материю... Вы видели их? — «Да, видела».— Вы
их видели? — «Да, мой друг, говорю, что видела».— Если
одна из этих пчел вздумает ужалить каким-нибудь обра-
зом другую пчелу, за которую она ухватилась,— как вы
думаете, что произойдет тогда? Скажите-ка.— «Совершен-
но не знаю».— Скажите все-таки... Вы, значит, не знаете,
а философ-то знает. Если вы когда-нибудь увидите его,—
а вы его увидите, ибо он обещал мне это,— он скажет вам,
что эта вторая пчела ужалит следующую, что во всей гроз-
ди будет столько укусов, сколько в ней маленьких живот-
ных, что все заволнуется, задвигается, изменит положение
и форму, что поднимется шум, писк и что человек, никогда
не видевший, как образуется подобная гроздь, примет ее за
животное с пятью — шестьюстами голов и с тысячью, ты-
сячью двумястами крыльев...— Ну, доктор?
Б о р д е. Знаете ли, это — прекрасный сон, и вы хоро-
шо сделали, что записали его.
Леспинас. Вы тоже бредите?
Б о р д е. Нисколько, и, пожалуй, готов сказать вам
продолжение.
Леспинас. Вам не удастся сделать это.
Б о р д е. Не удастся?
Леспинас. Думаю, что нет.
Б о р д е. Но если я отгадаю?
Леспинас. Если вы отгадаете, я обещаю... я обещаю
считать вас величайшим безумцем в мире.
Б о р д е. Смотрите на ваши записки и слушайте меня.
Человек, который принял бы эту гроздь за животное,
ошибся бы. Но я предполагаю, мадемуазель, что он про-
должал обращаться к вам. Хотите, чтобы он судил более
здраво? Хотите превратить гроздь пчел в одно единствен-
ное животное? Уничтожьте лапки, которыми они держатся;
из смежных сделайте их беспрерывными. Между этим но-
вым состоянием грозди и предыдущим есть, конечно, зна-
чительное различие; но в чем ином состоит это различие,
как не в том, что теперь гроздь — нечто целое, единое жи-
вотное, между тем как раньше она была совокупностью
животных... Все наши органы...
Леспинас. Все наши органы?
Б о р д е... для того, кто занимался медициной и делал
наблюдения...
125
Л е с п и н а с. Дальше!
Б о р д е. Дальше?.. Они не что иное, как отдельные
животные, между которыми закон непрерывности поддер-
живает общую симпатию, единство, тождество.
Леспинас. Я смущена: именно так, и почти слово в
слово. Теперь я могу засвидетельствовать перед всем ми-
ром, что нет никакой разницы между бодрствующим вра-
чом и спящим философом.
Б о р д е. Об этом догадывались. Это все?
Леспинас. О, нет, это не все. После этого — вашего
или своего — вздора он сказал мне:— Мадемуазель!—
«Друг мой».— Подойдите поближе... еще... еще... Мне хо-
чется кое-что предложить вам. — «Что?» — Вот эта гроздь,
вы видите ее, вот она. Произведем опыт. — «Какой?» —
Возьмите ножницы. Хорошо ли режут они? «Восхити-
тельно». — Подойдите тихо, тихо и разрежьте пчел, но
только осторожно, не угодите по телу какой-нибудь пче-
лы, режьте как раз в том месте, где они сцепились лапка-
ми. Не бойтесь, вы только немного раните их, но не убье-
те... Очень хорошо, у вас ловкость феи... Видите, как они
взлетают? По одной, по две, по три... Сколько их! Если вы
хорошо поняли меня... вы хорошо поняли меня? — «Очень
хорошо!» — Предположите теперь... предположите... —
Дальше, признаться, доктор, я так плохо слышала все то,
что здесь записала, он так тихо говорил, и это место моих
записок так перепачкано, что я едва ли сумею прочесть.
Б о р д е. Я дополню его, если хотите.
Леспинас. Если вы можете.
Б о р д е. Нет ничего легче. Представьте пчел такими
маленькими, такими маленькими, что их тело ускользает
от грубого острия ваших ножниц; вы можете продолжать
ваше сечение, сколько угодно, но вы не умертвите ни од-
ной из них, и это целое, образованное из невидимых пчел,
будет настоящим полипом, которого вы сможете уничто-
жить не иначе, как раздавив его. Разница между гроздью
непрерывных пчел и гроздью смежных пчел точно такая
же, какая существует между обыкновенными животными,
вроде нас и рыб, и червями, змеями и полиповыми живот-
ными; в эту теорию можно внести еще некоторые измене-
ния... (В этот момент м-ль Леспинас внезапно направляет-
ся к звонку). Тише, тише, мадемуазель, вы разбудите его;
ему нужно отдохнуть.
126
Леспинас. Я так ошеломлена, что и не подумала об
этом. (Вошедшему слуге). Кто из вас был у доктора?
С л у г а. Я, мадемуазель.
Леспинас. Давно?
Слуга. Не прошло часа, как я вернулся.
Леспинас. Вы ничего не носили туда?
Слуга. Нет.
Леспинас. Записок не носили?
Слуга. Никаких.
Леспинас. Хорошо, идите... Не настаиваю на этом.
Видите ли, доктор, я подозревала, что один из них пока-
зал вам мою пачкотню.
Б о р д е. Да нет же, уверяю вас.
Леспинас. Теперь, когда я осведомлена насчет ва-
шего таланта, вы будете мне очень полезны в обществе.
Его бред не остановился на этом...
Б о р д е. Тем лучше.
Л е с п и ы а с. Вы не видите в этом ничего неприятного?
Б о р д е. Ничего.
Леспинас. Он продолжал: «Вы, философ, конструи-
руете всякого рода полипов, даже человеческих?.. Но
природа не дает вам образцов последних».
Б о р д е. Он не знал о тех двух девушках, сросшихся
головой, плечами, спиной, ягодицами и бедрами, которые
жили в таком состоянии до 22 лет и умерли обе почти од-
новременно. Затем?
Леспинас. А затем чепуха, которую можно услы-
шать только в домах умалишенных. Он сказал: «Было или
будет. Притом же кто знает положение вещей на других
планетах?».
Б о р д е. Может быть, не нужно ходить так далеко.
Леспинас. «Человеческие полипы на Юпитере или
Сатурне! Самцы, разрешающиеся самцами, самки — сам-
ками, это забавно. (При этом он начал так хохотать, что я
испугалась). Человек, разрешающийся бесконечным чис-
лом людей-атомов, которых складывают, как яйца насеко-
мых, между листами бумаги, которые вырабатывают свою
скорлупу, остаются некоторое время куколками, пробивают
скорлупу и вылетают бабочками,— так образуется целое
общество людей, целая населенная провинция на развали-
нах одного индивидуума. Забавно... (И снова взрыв хохо-
та). Если где-нибудь человек разрешается бесконечным
127
числом людей-атомов, там смерть должна вызывать мень-
ше отвращения; там так легко восстанавливается утрата
человека, что она должна вызвать мало огорчения».
Б о р д е. Это вздорное предположение — почти подлин-
ная история всех видов существующих и будущих живот-
ных. Если человек и не разрешается бесконечным числом
людей, то все-таки он разрешается бесконечным числом
маленьких животных, метаморфозы и будущую оконча-
тельную организацию которых невозможно предвидеть.
Кто знает, не является ли человек рассадником другого
поколения существ, отделенного от первого бесконечно
длинным промежутком веков и последовательных раз-
витий?
Леспинас. Что вы бормочете про себя, доктор?
Б о р д е. Ничего, ничего, я тоже начал бредить. Про-
должайте читать, мадемуазель.
Леспинас. «Однако, хорошо обдумав все это, я
предпочитаю наш способ размножения,— прибавил он.—
Философ,— вы, который знаете, что происходит здесь и
повсюду, скажите мне, растворение различных частей не
производит ли людей различного характера?... Мозг, серд-
це, грудь, ноги, руки, половые железы... О, как это упро-
стило бы мораль!.. Родился мужчина, женщина... (Док-
тор, позвольте мне пропустить это...). Теплая комната,
уставленная маленькими баночками, и на каждой баноч-
ке надпись: воины, судьи, философы, поэты, баночка при-
дворных, баночка распутных женщин, баночка королей...».
Б о р д е. Очень забавно и очень сумасбродно. Вот это
называется бредить! Но это видение опять-таки наводит
меня на мысль о некоторых довольно странных явлениях.
Леспинас. Затем он начал бормотать о каких-то
зернах, о частях тела, намокших в воде, о различных по-
родах животных, последовательную смену, рождение и
гибель которых он наблюдал. В правой руке у него будто
бы был микроокоп, а в левой — какой-то сосуд. Он смот-
рел в сосуд через микроскоп и говорил: «Вольтер может
сколько угодно смеяться, а Ангийар 1 прав; я верю своим
глазам, я вижу их. Сколько их! Как они бегают по всем
направлениям!..». Сосуд, в котором он наблюдал столько
мимолетных поколений, он сравнивал со вселенной.
В капле воды он видел историю мира. Эта мысль казалась
ему великой; он находил ее совершенно уместной в истин-
128
ной философии, изучающей большие тела на основании
наблюдений над малыми. Он говорил: «В капле воды
Нидгема все совершается, все происходит в мгновение
ока. В мире то же явление занимает немного больше вре-
мени; но что такое продолжительность в нашей жизни по
сравнению с вечностью? Меньше, чем капля, которую я
взял концом иголки, по сравнению с окружающим меня
безграничным пространством. Бесконечная цепь малень-
ких животных в атоме, находящемся в состоянии броже-
ния, точно такая же бесконечная цепь маленьких живот-
ных в другом атоме, который называется Землей! Кто
знает породы, которые сменят ныне существующие? Все
изменяется, все исчезает, только целое остается. Мир за-
рождается и умирает беспрерывно, каждый момент он
находится в состоянии зарождения и смерти; никогда не
было другого мира, никогда и не будет другого».
«В этом безмерном океане материи нет ни одной мо-
лекулы, похожей на другую, ни одной молекулы, похо-
жей на себя самое в каждый последующий момент. Re-
rum novus nascitur ordo *— вот его вечный девиз...». За-
тем, вздохнув, он прибавил: «О, тщета наших мыслей!
О, мизерность нашей славы и наших трудов! О, бедность
и ничтожество наших взглядов! Пить, есть, жить, любить
и спать,— нет ничего прочнее этого... М-ль Леспинас, где
вы?»— Здесь.— Лицо его побагровело. Я хотела пощу-
пать пульс, но он куда-то спрятал руку. Судорога, пови-
димому, схватила его. Рот был полуоткрыт, дыхание
сдавлено; он глубоко вздохнул, потом вздохнул послабее,
еще раз поглубже, поворочал головой на подушке и за-
снул. Я внимательно смотрела на него с невольным волне-
нием; сердце у меня билось, но не от страха. Через не-
сколько минут легкая улыбка пробежала по его губам, и
он тихо заговорил: «На планете, где люди размножались
бы, как рыбы, где икра мужчины, прижавшись к икре
женщины... Я меньше сожалел бы об этом... Ничего не
следует терять из того, что может быть полезно. Мадемуа-
зель, если бы это можно было собрать, влить во флакон
и утром отослать Нидгему...». И вы, доктор, не назовете
это безрассудством?
Б о р д е. Рядом с вами? Безусловно.
* Рождается новый порядок вещей.
129
Леспинас. Рядом со мной, вдали от меня,— это
все равно. Вы не знаете, что говорите. Я надеялась, что
к утру будет поспокойнее.
Б о р д е. После этого обыкновенно наступает успокое-
ние.
Леспинас. Не тут-то было: в два часа он вернулся
к своей капле воды, которую он называл ми... кро...
Б орде. Микрокосмом.
Леспинас. Именно так. Он удивлялся проница-
тельности древних философов, говорил или заставлял го-
ворить своего философа,— не знаю, которого из двух:
«Что ответили бы Эпикуру, если бы он, уверяя, что земля
содержит в себе зародыши всего сущего и что живот-
ные — продукт брожения, предложил бы показать в ма-
лом виде изображение того, что делалось в крупном виде
от начала веков?.. Но вот оно перед вами, это изображе-
ние, и оно ничему не научает нас... Кто знает, истощились
ли брожение и его продукты? Кто знает, к какому момен-
ту в последовательной цепи этих животных поколений
относимся мы? Кто знает, не является ли образом поги-
бающего вида то деформированное двуногое существо,
ростом только в четыре фута, которое около полюса назы-
вают еще человеком, но которое, деформировавшись еще
немного, тотчас же потеряло бы это имя? Кто знает, не
то же ли самое происходит со всеми видами животных?
Кто знает, не стремится ли все свестись к инертному и не-
подвижному осадку? Кто знает, какова будет продолжи-
тельность этой инертности? Кто знает, какая новая раса
может вновь возникнуть из такого громадного скопления
чувствующих и живых точек? А может быть, только одно
животное? Чем был слон вначале? Может быть, огром-
ным животным, каким мы видим его, а может быть, ато-
мом,— одинаково возможно то и другое, так как и то и
другое предполагает лишь движение и различные свой-
ства материи... Слон, эта огромная организованная мас-
са — внезапный продукт брожения! Почему бы нет? От-
ношение между этим громадным четвероногим и тем, из
чего оно произошло, менее значительно, чем между чер-
вячком и произведшей его молекулой муки; но червя-
чок — только червячок..., то есть мизерность его органи-
зации, трудно поддающейся наблюдению, не позволяет
130
нам судить, насколько чудесно его существование...
Чудо — это жизнь, чувствительность; иных чудес нет...
После того как я наблюдал, как материя переходит
из состояния инертности в состояние чувствительности,
я ничему больше не должен удивляться... Какое сравне-
ние между маленьким количеством элементов в состоя-
нии брожения, умещающихся в горсти моей руки, и этим
безграничным резервуаром различных элементов, рассе-
янных в недрах земли, на поверхности ее, в глубинах мо-
рей, в беспредельности воздушных слоев!.. Но почему же
действия должны быть иными, если причины остаются
одни и те же? Почему же мы не видим больше быка,
пронзающего своим рогом землю, упирающегося в нее
ногами и направляющего все свои силы, чтобы высвобо-
дить из нее свое грузное тело?.. Пусть исчезнут породы
существующих ныне животных; предоставьте громадному
инертному осадку свободно действовать в течение не-
скольких миллионов веков. Для возрождения видов по-
требуется, быть может, в десять раз больше времени, чем
отпущено им на существование. Подождите, не спешите
с заключением насчет великого дела природы. У вас име-
ются два великих явления: переход из состояния инерт-
ности в состояние чувствительности и самопроизвольные
зарождения; довольно с вас этого. Сделайте из них над-
лежащие выводы и остерегайтесь софизма однодневки
при порядке вещей, где нет ни безусловно великого или
малого, ни безусловно вечного или преходящего...». Док-
тор, что такое софизм однодневки?
Борде. Это софизм преходящего существа, которое
верит в бессмертие вещей.
Л е с п и и а с. Вроде розы Фонтенеля 1, которая гово-
рила, что на ее памяти еще не умер ни один садовник.
Б орде. Именно так; это сказано очень изящно и
глубоко.
Леспинас. Почему ваши философы не выражаются
так грациозно, как Фонтенель? Нам легче было бы пони-
мать их.
Б о р д е. Откровенно скажу: не знаю, приличен ли та-
кой фривольный тон в серьезных предметах.
Леспинас. А что именно вы называете серьезными
предметами?
Б о р д е. Всеобщую чувствительность, образование
131
чувствующего существа, его единство, происхождение
животных, продолжительность их существования и все
связанные с этим вопросы.
Леспинас. Я же называю все это бессмыслицей,
которою, допускаю, можно бредить во время сна, но кото-
рою никогда не будет заниматься здравомыслящий бодр-
ствующий человек.
Б о р д е. Почему же?
Леспинас. Потому, что одни из этих вопросов так
ясны, что не к чему разыскивать их основания, а другие
так темны, что в них ничего не разберешь; но и те и дру-
гие в высокой степени бесполезны.
Б о р д е. Вы думаете, что безразлично, допускать или
отрицать существование высшего разума?
Леспинас. Нет.
Б о р д е. Думаете ли вы, что можно решить вопрос о
высшем разуме, не зная, какого мнения держаться по во-
просу о вечности материи и ее свойств, о различии двух
субстанций, о природе человека и происхождении живот-
ных?
Леспинас. Пет.
Б орде. Значит, это не праздные, как вы сказали,
вопросы.
Леспинас. Но какое мне дело до их важности, если
я не могу решить их?
Б о р д е. А как вы решите, если не вникнете в них?
Но могу ли я спросить вас о тех, которые вы находите
столь ясными, что вам кажется излишним их изучение?
Леспинас. Это, например, вопросы о моем единстве,
о моем я. Клянусь, мне кажется, нет необходимости так
много болтать, чтобы знать, что я — это я, всегда была
я и никогда не буду иной.
Б о р д е. Несомненно, факт ясен, но основания его
никоим образом не являются таковыми, особенно в гипо-
тезе тех, кто допускает только одну субстанцию и объяс-
няет образование человека или животного последователь-
ным приращением многочисленных чувствующих молекул.
У каждой чувствующей молекулы до прививки было свое
я; как она лишилась его и как из всех этих утрат соста-
вилось сознание целого?
Леспинас. Мне кажется, достаточно одного кон-
такта. Вот опыт, который я производила сотню раз... Но
132
подождите... Нужно пойти посмотреть, что делается там,
за этими занавесками... Спит... Когда я прикладываю руку
к бедру, я хорошо сначала чувствую, что рука не то, что
бедро, но спустя некоторое время, когда теплота станет
одинаковой в обеих частях, я перестаю различать их; гра-
ницы обеих частей смешиваются, и получается нечто
единое.
Б о р д е. Да, пока не уколют ту или другую часть: тог-
да возобновляется различие. Есть, следовательно, в вас
нечто, что знает, руку или бедро вам укололи, и это
нечто — ни ваша нога, ни даже ваша уколотая рука; ваша
рука испытывает боль, но нечто другое знает об этом и не
испытывает само никакой боли.
Леспинас. Это, думается мне, моя голова.
Б о р д е. Вся ваша голова?
Леспинас. Нет, доктор, но я поясню мою мысль
сравнением. Сравнение — почти исключительный довод у
женщин и поэтов. Представьте себе паука...
Даламбер. Кто это там?.. Это вы, м-ль Леспинас?
Леспинас. Т-с, т-с... (Некоторое время Леспинас и
доктор хранят молчание, затем Леспинас говорит тихо).
Кажется, снова заснул.
Б о р д е. Нет, мне опять что-то послышалось.
Леспинас. Вы правы. Однако, не начал ли он сно-
ва бредить?
Б о р д е. Послушаем.
Даламбер. Почему я такой? Разве нужно было,
чтобы я был таким?.. Здесь — да, а в другом месте? На
полюсе? Под экватором? На Сатурне?.. Если на расстоя-
нии нескольких тысяч лье мой вид изменяется, то что же
может произойти на расстоянии нескольких тысяч земных
диаметров?.. Если все находится в общем водовороте, то
что могут произвести здесь и в других местах продолжи-
тельность и смена нескольких миллионов веков? Кто зна-
ет, что такое мыслящее и чувствующее существо на Сатур-
не?.. Но есть ли на Сатурне чувство и мысль?.. Почему бы
нет?.. Быть может, у мыслящего и чувствующего существа
на Сатурне больше чувств, чем у меня?.. Если это так,—
о, как он несчастен, этот житель Сатурна!.. Чем больше
чувств, тем больше потребностей.
Б о р д е. Он прав: органы производят потребности, и,
наоборот, потребности производят органы.
133
Леспинас. Доктор, вы тоже бредите?
Б о р д е. Почему это кажется вам невероятным? Я ви-
дел, как из двух обрубков с течением времени выросли
две руки.
Леспинас. Вы лжете.
Б о р д е. Это правда. Но я видел, как за отсутствием
рук лопатки стали удлиняться, двигаться наподобие клеш-
ней и превращаться в зачатки рук.
Леспинас. Какая бессмыслица!
Б о р д е. Это факт. Предположите длинный ряд без-
руких поколений, предположите наличность беспрестан-
ных усилий, и вы увидите, как обе эти оконечности все
больше и больше удлиняются, сокращаются на спине, вы-
тягиваются спереди, образуют, может быть, пальцы и пре-
вращаются в руки. Первоначальное их строение изменяет-
ся или совершенствуется под влиянием необходимости и
отправления их обычных функций 1. Мы так мало двига-
емся, так мало занимаемся физическим трудом и так мно-
го работаем умственно, что я не теряю надежды на то, что
человек в конце концов превратится в сплошную голову.
Леспинас. В сплошную голову? Одной головы
мало! Надеюсь, что безудержное волокитство... Вы наво-
дите меня на очень игривые мысли.
Б о р д е. Т-с!
Даламбер. Я, следовательно, стал таким потому,
что нужно было, чтобы я был таким. Измените все, и вы
безусловно измените и меня; все беспрерывно изменяется...
Человек — обычное явление, урод — явление исключитель-
ное, но оба одинаково естественны, одинаково необходи-
мы, одинаково входят в общий порядок вещей... Что же
удивительного в этом?.. Все существа взаимно скрещива-
ются, следовательно, и все виды их... и все находится в со-
стоянии беспрерывного изменения. Всякое животное —
более или менее человек; всякий минерал— более или ме-
нее растение; всякое растение — более или менее живот-
ное. Нет ничего определенного в природе... Лента отца
Кастеля 2. Да, отец Кастель, это ваша лента, не больше.
Всякая вещь более или менее представляет собою что-
нибудь, есть более или менее земля, или вода, или воздух,
пли огонь, более или менее то или другое царство... Нет
ничего, что принадлежало бы к сущности какого-нибудь
особого существа... Несомненно, нет, так как нет в природе
134
такого свойства, к которому не было бы причастно вся-
кое существо... А вы говорите об индивидах, бедные фило-
софы! Оставьте ваших индивидов и отвечайте мне. Сущест-
вует ли в природе хоть один атом, безусловно похожий на
другой?.. Нет... Разве вы не согласны, что все в природе
взаимно обусловлено и невозможно допустить, чтобы в
цепи вещей недоставало одного звена? Что же вы хотите
сказать своими индивидами? Их нет, их нет и в помине...
Есть только один великий индивид — целое. В этом целом,
как в машине, как в каком-нибудь животном, есть одна
какая-нибудь часть, которую вы назовете так или иначе,
но, называя эту часть целого индивидом, вы поступаете
так же неправильно, как в том случае, когда даете на-
звание индивида птичьему крылу, перу от крыла... И вы
говорите о сущностях, бедные философы! Оставьте ваши
сущности. Окиньте взором всю громаду мироздания; если
же у вас слишком ограниченное воображение, останови-
тесь мысленно на вашем начале и на вашем конце... О,
Лрхит 1, измеривший земной шар, что ты теперь? Горсть
пепла... Что такое существо?.. Совокупность известных тен-
денций... Могу ли я быть чем-нибудь иным?.. Нет, я иду
к определенному пределу... А виды?.. Виды — не что иное,
как только тенденции с общим свойственным им преде-
лом... А жизнь?.. Жизнь — последовательный ряд дейст-
вий и противодействий... Пока я жив, я действую и проти-
водействую в форме массы... Умерший, я действую и про-
тиводействую в форме молекул... Следовательно, я вовсе
не умираю?.. Несомненно, нет; в этом смысле я нисколько
не умираю,— ни я, ни что бы то ни было... Родиться, жить,
исчезать — это значит менять формы... А не все ли равно:
та или другая форма? С каждой формой связаны свойст-
венные ей счастье и несчастье. От слона до мошки... от
мошки до чувствующей и живой молекулы, начала всего,
нет во всей природе ни одной точки, которая не страдает
или не наслаждается.
Л е с п и н а с. Больше он ничего не говорит.
Б о р д е. Нет. Он совершил довольно хорошую экскур-
сию. Вот поистине возвышенная философия; приведенная
только что в систему, она тем более будет себя оправды-
вать, чем больше будут прогрессировать человеческие зна-
ния.
Л еспина с. На чем же мы остановились?
135
Б о р д е. Уж не помню, право: столько вещей пришло
мне на память, пока я слушал его!
Леспинас. Подождите, подождите... я остановилась
на пауке.
Борде. Да, да.
Леспинас. Подойдите, доктор. Представьте себе
паука, сидящего в центре паутины. Разорвите одно воло-
конце, и вы увидите, как проворно подскочит к этому мес-
ту паук. Так вот, если бы волокна паутины, которые насе-
комое извлекает из своих внутренностей и втягивает обрат-
но, когда захочет, составляли чувствующую часть его
самого...
Борде. Понимаю. Вы представляете себе, что где-то
внутри вас, в каком-то уголке вашей головы, в том, напри-
мер, который называется мозговыми оболочками, есть один
или несколько пунктов, куда сносятся все ощущения, вы-
званные в волокнах.
Леспинас. Правильно.
Борде. Ваша мысль как нельзя более верна; но разве
вы не видите, что это почти то же, что знакомая нам
гроздь пчел?
Леспинас. Ах, это правда! Я говорила прозой, сама
не подозревая этого.
Б о р д е. И очень хорошей прозой, как вы увидите. Кто
знает человека только в том виде, в каком он представ-
ляется при рождении, тот не имеет ни малейшего понятия
о нем. Его голова, ноги, руки, все его члены, все его сосу-
ды, все его органы, нос, глаза, уши, сердце, легкие, внут-
ренности, мускулы, кости, нервы, перепонки,— собственно
говоря, не что иное, как простые отростки ткани, которая
формируется, растет, расширяется, разбрасывает множест-
во невидимых волоконцев.
Леспинас. Так вот, возьмем паутину; исходным
пунктом всех ее волокон является паук.
Борде. Великолепно.
Леспинас. Где находятся волокна и где помещается1
паук?
Борде. Волокна повсюду; нет ни одного пункта на по-
верхности вашего тела, куда бы они не проникали; а паук,
гнездится в той части вашей головы, которую я назвал
мозговыми оболочками и к которой почти невозможно при-
коснуться, не вызвав оцепенения во всей машине.
136
Леспинас. Но когда какой-нибудь атом вызывает
колебание в одном из волокон паутины, тогда паук бьет
тревогу, беспокоится, убегает или прибегает. Находясь в
центре, он осведомлен обо всем, что происходит в каком
бы то ни было месте его обширного искусно сотканного
здания. Почему же я не знаю, что происходит в моем зда-
нии, то есть в мире, если я — клубок чувствительных точек,
если все запечатлевается на мне, и я кладу печать на все?
Б о р д е. Потому что впечатления ослабевают по мере
удаления от исходного пункта.
Леспинас. Если дать самый легонький удар по од-
ному концу длинного бревна, я услышу его, приложив ухо
к другому концу. Тот же самый эффект должен был бы
получиться, если одним концом бревна коснуться Земли,
а другим — Сириуса. Если все, таким образом, соединено,
связано друг с другом, то есть если бревно действительно
существует, то почему мне не услышать, что происходит в
обширном окружающем меня пространстве, в особенности,
когда я прислушиваюсь к нему?
Б о р д е. Кто же вам сказал, что вы не услышали бы
кое-чего? Но расстояние слишком велико, впечатление,
перекрещивающееся по дороге с другими, слишком слабо...
Вас окружает и оглушает столь разнообразный и сильный
шум... к тому же на всем расстоянии от Сатурна до вас
между телами существует только смежность, а не непре-
рывность...
Леспинас. Очень жаль.
Б о р д е. Это правда, ибо иначе вы были бы богом.
Благодаря тождеству со всеми существами природы вы
знали бы все, что происходит; благодаря памяти вы знали
бы все, что произошло в прошлом.
Л е с п и н а с. А то, что произойдет?
Б о р д е. Насчет будущего вы строили бы правдопо-
добные, но подверженные ошибкам догадки точно так же,
как если бы вы старались догадаться, что произойдет в
вас, на конце вашей ноги или руки.
Леспинас. Но кто сказал вам, что у этого мира нет
своих мозговых оболочек, или что в каком-нибудь углу
пространства не живет большой или маленький паук, про-
тягивающий повсюду свои нити?
Б о р д е. Никто, но еще менее я знаю, не было ли в
прошлом или не будет ли в будущем такого паука.
137
Леспинас. Каким образом этот своего рода бог...
Б о р д е. Единственный мыслимый...
Леспинас. ...мог бы когда-то существовать или по-
явиться и исчезнуть?
Б о р д е. Несомненно, он старел и умирал, так как
он — материя во вселенной, частица вселенной, подвер-
женная изменениям.
Леспинас. Но мне приходит в голову еще одна
странная мысль.
Б о р д е. Можете не говорить — я знаю ее.
Леспинас. Какая же именно?
Б о р д е. Вы представляете себе разум соединенным с
самыми деятельными частями материи и возможность воз-
никновения самых разнообразных чудесных явлений. Дру-
гие думали так же, как вы.
Леспинас. Вы догадались, но от этого не возросло
мое уважение к вам. Надо думать, что вы весьма предрас-
положены к умопомешательству.
Б о р д е. Согласен. Но что ужасного в этой мысли?
Был бы урожай на добрых и злых гениев — самые незыб-
лемые законы природы нарушались бы естественными
факторами; стали бы более тяжелыми общие условия на-
шего физического существования, но совершенно исчезли
бы чудеса.
Леспинас. Поистине нужно очень критически отно-
ситься к тому, что утверждаешь или отрицаешь.
Б о р д е. Тот, кто стал бы рассказывать вам о явлении
такого рода, был бы похож на большого лжеца. Однако
оставим зсе эти воображаемые существа вместе с пауком
в беспредельных сетях и вернемся к вашему пауку и его
организации.
Леспинас. Согласна.
Д а л а м б е р. М-ль Леспинас, вы не одна, с кем это вы
разговариваете?
Леспинас. С доктором.
Даламбер. Здравствуйте, доктор. Что вы делаете
здесь так рано?
Б о р д е. Узнаете потом, спите.
Даламбер. Поистине я в этом нуждаюсь. Кажется,
я никогда еще не спал так беспокойно. Вы не уйдете, пока
я не встану?
Б орде. Пет. Бьюсь об заклад, мадемуазель, что, по
138
вашему мнению, вы всегда были женщиной данной фор-
мы, хотя в двенадцать лет вы были ростом наполовину
меньше, в четыре года — еще меньше, зародышем — еще
меньше, в яичниках матери — совсем маленькой, так что
только последовательно взятые нами стадии роста произ-
водили разницу между вами при вашем зарождении и ва-
ми в настоящем виде.
Леспинас. Согласна.
Б о р д е. Между тем пет ничего ошибочнее этой мысли.
Сначала вы были ничем. Затем, в самом начале возникно-
вения, вы были неуловимой точкой, образованной из мель-
чайших молекул, рассеянных в крови и лимфе вашего отца
или матери; затем эта точка стала тонким волоконцем,
потом — пучком волоконцев. До этого момента нет ни ма-
лейшего следа той милой формы, какую вы имеете сейчас:
ваши глаза, ваши прекрасные глаза, так же мало походи-
ли на глаза, как коготок анемоны на анемону. Каждый
побег пучка трансформировался в особый орган благода-
ря только питанию и своей конформации; исключение
представляют те органы, в которых с побегами происходят
эти метаморфозы и которым они дают 'начало. Пучок —
это целая система непосредственных чувств; если бы он
всегда оставался в таком виде, он был бы способен к вос-
приятию всех доступных непосредственной чувствитель-
ности впечатлений: холода, теплоты, мягкости, жесткости...
Эти последовательные впечатления, взаимно варьируя и
изменяясь в интенсивности, произвели бы, может быть,
память, сознание своего я, очень ограниченный ум. Но эта
непосредственная и простая чувствительность, этот комп-
лекс осязания разнообразится в зависимости от органов,
образующихся из побегов: побег, образующий ухо, дает
начало особому роду осязания, которое вызывается в нас
шумом или звуком; другой побег, образующий нёбо, дает
начало другому роду осязания, называемому нами вкусом;
третий, образующий нос, дает начало третьему роду ося-
зания — запаху; четвертый, образующий глаз, дает начало
четвертому роду осязания, который мы называем цветом.
Леспинас. В таком случае, если я хорошо поняла
вас, безрассудны те, которые отрицают возможность шес-
того чувства, этого истинного гермафродита. Кто им ска-
зал, что природа не может образовать пучок с особенным
139
побегом, который дал бы начало неизвестному нам ор-
гану?
Б о р д е. Или с двумя побегами, характеризующими
два пола? Вы правы. Приятно разговаривать с вами: вы
не только быстро схватываете то, что вам говорят, но и
делаете удивительно правильные выводы.
Л е с п и н а с. Вы подбадриваете меня, доктор.
Б орде. Нет, право, я говорю, что думаю.
Леспинас. Я хорошо вижу, какие функции выпол-
няют некоторые побеги пучков; но что происходит с дру-
гими?
Б о р д е. А другая, на вашем месте, задумалась бы над
этим?
Леспинас. Наверное.
Б о р д е. Вы не тщеславны. Остальные побеги образу-
ют столько других видов осязания, сколько существует
разнообразных органов и частей тела.
Леспинас. Как называют их? Я никогда не слыхала
о них.
Б о р д е. У них нет названий.
Леспинас. Почему?
Б о р д е. Потому что между ощущениями, вызванными
при их посредстве, нет такой разницы, какая существует
между ощущениями, вызванными при посредстве других
органов.
Леспинас. Вы самым серьезным образом думаете,
что нога, рука, бедро, живот, желудок, грудь, легкие, серд-
це имеют свои, особые ощущения?
Б о р д е. Думаю. Позвольте спросить вас, нет ли между
этими ощущениями, которых не называют...
Леспинас. Я понимаю вас. Нет. То совсем особого
рода ощущение, и это очень жаль. Но какое у вас основа-
ние для предположения такого многообразия ощущений,
скорее неприятных, чем приятных, которыми вам угодно
осчастливить нас?
Б о р д е. Основание? Да то, что мы хорошо распознаем
их. Если бы не существовало этого бесконечного разнооб-
разия в осязании, мы знали бы, что испытываем удоволь-
ствие или боль, но не знали бы, куда их отнести. Нужна
была бы помощь зрения; но это было бы уж не дело ощу-
щения, это было бы дело опыта и наблюдения.
Леспинас. Если бы я, предположим, сказала, что у
140
меня болит палец, и меня спросили бы, почему я уверяю,
что боль именно в пальце, нужно было бы ответить не то,
что я чувствую это, а то, что я чувствую боль и вижу, что
болен мой палец.
Б о р д е. Так. Позвольте обнять вас.
Леспинас. С удовольствием.
Даламбер. Доктор, вы обнимаете мадемуазель, это
очень похоже на вас.
Б о р д е. Я много размышлял над этим, и мне казалось,
что недостаточно одного места и направления боли для
того, чтобы составить себе заключение о начале пучка.
Леспинас. Я ничего этого не знаю.
Б о р д е. Ваше сомнение мне нравится. У нас так обыч-
но принимают естественные свойства за приобретенные и
почти такие же старые, как мы, привычки.
Леспинас. И наоборот.
Б о р д е. Как бы там ни было, но вы видите, что в во-
просе о формировании животного слишком поспешно оста-
навливать свой взгляд и размышления на окончательно
сформировавшемся животном; что следует восходить до
его первоначальных зачатков и что вам необходимо от-
влечься от вашей настоящей организации и вернуться к
тому моменту, когда вы были только мягким, волокнис-
тым, бесформенным, червеобразным веществом, скорее
похожим на луковицу и корень растения, чем на живот-
ное.
Леспинас. Если бы существовал обычай ходить по
улицам совсем голой, мне пришлось бы сообразоваться с
ним. Так делайте из меня, что хотите, лишь бы просветить
меня. Вы мне сказали, что каждый побег пучка образует
особый орган, но как доказать это?
Б о р д е. Сделайте мысленно то, что иногда делает при-
рода: отнимите у пучка один из побегов, например, тот,
который образует глаза; как вы думаете, что произойдет?
Леспинас. У животного, может быть, не будет глаз.
Б о р д е. Или будет только один — посреди лба.
Леспинас. Это будет Циклоп.
Б о р д е. Циклоп.
Леспинас. Следовательно, Циклоп может оказаться
вовсе не мифическим существом.
Б о р д е. До такой степени не мифическим, что я готов,
когда вам угодно, показать одного такого циклопа.
141
Л с с п п и а с. Л кто знает причину такой странной осо-
бенности?
Б о р д е. Тот, кто производил вскрытие этого урода и
нашел у него только один зрительный нерв. Сделайте мыс-
ленно то, что делает иногда природа. Уничтожьте другой
побег пучка, который должен образовать, например, нос,—
п животное будет без носа. Уничтожьте побег, который
должен образовать ухо,— и животное будет без ушей или
с одним ухом, и анатом не найдет при вскрытии пи обоня-
тельных, ни слуховых нервов, или найдет только по одно-
му. Продолжайте дальше уничтожать побеги, и животное
будет без головы, без ног, без рук; жизнь его станет коро-
че, но оно будет жить.
Л е с п и н а с. Существуют ли в действительности такие
примеры?
Б о р д е. Безусловно. Но это не все. Удвойте число не-
которых побегов у пучка, и у животного будут две головы,
четыре глаза, четыре уха, три ноги, четыре руки, по шести
пальцев на каждой руке. Переместите побеги пучка — и
органы разместятся иначе: голова займет место посреди
груди, легкие окажутся на левой стороне, сердце — на
правой. Склейте два побега, и органы сольются: руки —
с телом, ноги, бедра соединятся, и у вас получатся всевоз-
можные уроды.
Леспинас. Но мне кажется, что такой сложный ме-
ханизм, как животное, который родится от одной точки, от
одной взбудораженной, а может быть, от двух случайно
смешанных жидкостей,— ибо в тот момент почти не зна-
ешь, что делаешь,— что механизм, который движется к
своему совершенству по бесконечному ряду ступеней по-
следовательного развития, правильное или неправильное
образование которого зависит от пучка тонких, не связан-
ных между собою и эластичных волоконцев, от некоего
клубка, где без вреда для целого не может быть порвана,
нарушена, смещена ни одна даже малейшая частичка,—
что такой механизм должен был бы еще чаще сбиваться в
месте своего формирования, чем мой шелк на прялке.
Б о р д е. И оно страдает от этого чаще, чем думают.
Недостаточно часто прибегают к вскрытию, и потому наши
представления об его формировании очень далеки от
истины.
Леспинас. Кроме горбатых и хромых, есть ли дру-
142
гие замечательные примеры таких природных нарушений
форм, которые можно было бы приписать какому-нибудь
наследственному недостатку?
Б о р д е. Бесчисленное множество. Еще совсем недавно
умер в парижском госпитале от воспаления легких Жан-
Батист Масе, двадцати пяти лет, плотник из Труа, у кото-
рого внутренние органы грудной и брюшной полостей были
не на своем месте: сердце — на правой стороне, так же,
как оно у вас на левой; печень — на левой стороне; желу-
док, селезенка, поджелудочная железа — в правом подре-
берьи; воротная вена, входящая в печень с левой стороны,
а не с правой, как обыкновенно бывает; такое же переме-
щение — вдоль кишечника; почки, прислонившиеся друг к
другу у поясничных позвонков, напоминали формой подко-
ву. Подите — говорите после этого о конечных основа-
ниях!
Леспинас. Удивительно.
Б о р д е. Если бы Жан-Батист Масе был женат и имел
детей...
Леспинас. Ну, доктор, эти дети...
Б о р д е. ...нормального строения, то, так как эти не-
правильности проявляются скачками,— через сотню лет
у кого-нибудь из детей их детей снова обнаружилось бы
причудливое строение его предка.
Леспинас. А отчего происходят эти скачки?
Б о р д е. Кто знает? Чтобы произвести одного ребенка,
необходимы, как вам известно, двое. Может быть, один из
агентов исправляет недостатки другого, и наделенная де-
фектами ткань нарождается вновь только в тот момент,
когда господствует и предписывает формирующейся ткани
свои законы потомок уродливого поколения. В пучке во-
локонцев создается первоначальная разница между всеми
видами животных. Разнообразиями, таящимися в пучке
вида, вызываются все уродливые разнообразия этого вида.
Леспинас (после долгого молчания выходит из со-
стояния задумчивости и прерывает размышления доктора
следующим вопросом). Мне приходит в голову очень глу-
пая мысль.
Б о р д е. Какая?
Леспинас. Мужчина, может быть, не больше, как
Уродливая женщина, а женщина — уродливый мужчина.
Б о р д е. Эта мысль еще скорее пришла бы вам, если
143
бы вы знали, что у женщины есть все органы мужчины;
что единственная разница между ними состоит в положе-
нии мешочка, который у мужчины висит снаружи, а у жен-
щины обращен внутрь; что женский зародыш похож на
мужской так, что их не различишь; что у женского заро-
дыша часть, которая вводит в заблуждение, опадает, по
мере того как расширяется внутренний мешочек; что она
никогда не опадает до такой степени, чтобы утратить свою
первоначальную форму; что она сохраняет эту форму в
уменьшенном виде; что она восприимчива к тем же самым
движениям; играет ту же роль стимула страсти; имеет
свою головку, свою крайнюю плоть, и на оконечности ее
замечается точка, которая, повидимому, была отверстием
закрывшегося мочевого канала; что у мужчины между зад-
ним проходом и мошонкой имеется так называемая про-
межность, а от мошонки до конца полового члена тянется
шов, который, повидимому, представляет собой воспроиз-
ведение рудиментарных наружных женских половых орга-
нов; что женщины с чрезмерным клитором имеют бороду;
что у евнухов нет бороды, что ляшки у них становятся
крупнее, бедра шире, колени круглее и что, утрачивая ха-
рактерные черты организации одного пола, они, повиди-
мому, возвращаются к характерному строению другого. Те
из арабов, которые не расстаются с лошадью, становятся
скопцами, лишаются бороды, приобретают тонкий голос,
одеваются по-женски, располагаются среди женщин на
арбах, мочатся, сидя на корточках, и во всем ведут себя,
как женщины. Однако мы слишком уклонились от нашего
предмета. Вернемся к нашему пучку живых и одушевлен-
ных волокон.
Д а л а м б е р. Доктор, вы, кажется, говорите пакости
м-ль Леспинас.
Б орде. Приходится прибегать к техническим выра-
жениям, когда говоришь о научных предметах.
Даламбер. Правильно; тогда от этих выражений
отпадает их дополнительный смысл, благодаря которому
они становятся неприличными. Продолжайте, доктор.
Итак, вы говорили, что матка — не что иное как мошонка,
обращенная извне внутрь, причем мужские яички были
выброшены из мошонки, в которой они находились, и раз-
мещены в правой и левой полостях тела; что клитор —
мужской член в миниатюре, что этот мужской член у жен-
144
щины уменьшается по мере того как расширяется матка,
или обращенная внутрь мошонка, и что...
Леспинас. Да, да, молчите и не вмешивайтесь в
наш разговор.
Б о р д е. Вы видите, что при рассмотрении наших
ощущений, которые вообще являются не чем иным как
разновидностями осязания, приходится расстаться с после-
довательными формами, принимаемыми тканью, и доволь-
ствоваться только тканью.
Леспинас. Каждое чувствующее волоконце ткани
можно поранить или пощекотать на всем его протяжении.
Удовольствие или боль имеют место тут или там, в том или
другом пункте одной из длинных лап моего паука — я все
возвращаюсь к моему пауку; ведь этот паук является об-
щим началом всех лап, и он посылает в то или другое
место радость или боль, не испытывая их сам.
Б о р д е. Постоянное, неизменное сообщение всех впе-
чатлений этому общему началу устанавливает единство
животного.
Леспинас. Память обо всех этих последовательных
впечатлениях создает историю жизни каждого животного
и его я.
Борде. А память и сравнение, по необходимости со-
путствующие всем этим впечатлениям, создают мысль и
разум.
Леспинас. А сравнение где зарождается?
Б о р д е. У начала ткани.
Леспинас. А ткань?
Б о р д е. У ее начала нет никакого присущего ей чув-
ства: она не видит, не слышит, не страдает. Она родится,
питается, исходит из нежной нечувствующей, инертной
субстанции, которая служит ей изголовьем, и на пей она
восседает, выслушивает, судит и выносит приговоры.
Леспинас. Она не страдает?
Б о р д е. Нет. Малейшее впечатление прерывает эту
ее деятельность, и животное приходит в состояние смерти.
Прекратите доступ впечатлению, она вернется к своим
функциям, и животное оживет.
Леспинас. Откуда вы знаете все это? Разве когда-
нибудь произвольно оживляли и умерщвляли человека?
Б о р д е. Да.
Леспинас. Как же это?
145
Б о р д е. Я вам скажу. Это очень интересный факт.
Лапейрони 1 позвали к одному больному, который полу-
чил тяжелый удар в голову. Больной чувствовал в месте
поранения пульсацию. Хирург не сомневался, что в мозгу
образовался нарыв и что нельзя терять ни минуты. Он
бреет больного и производит трепанацию черепа. Острие
инструмента попадает в самую середину нарыва. Он уда-
ляет гной и спринцовкой очищает нарыв. Как только он
вводит жидкость в нарыв, больной закрывает глаза, в его
членах прекращается всякая деятельность, всякое движе-
ние, не видно ни малейшего признака жизни; но как толь-
ко хирург снова вбирает в спринцовку жидкость и осво-
бождает начало пучка от тяжести и давления введенной
жидкости, больной снова открывает глаза, приходит в дви-
жение, говорит, чувствует, возрождается и живет.
Л е с п и и а с. Странно. И что же, больной выздоровел?
Б о р д е. Выздоровел, и когда он стал здоровым, к не-
му вернулась способность размышления, он начал мыс-
лить, рассуждать, к нему вернулись прежний ум, прежняя
рассудительность и сообразительность.
Леспинас. Этот вот судья ваш — весьма необыкно-
венное существо.
Б о р д е. Он сам иногда ошибается; гнет привычки гос-
подствует над ним: чувствуешь, например, боль в члене,
которого больше уже нет. При желании его можно было
обмануть: скрестите, например, два ваших пальца один над
другим, дотроньтесь до какого-нибудь маленького шари-
ка, и он скажет, что шариков два.
Леспинас. Следовательно, с ним происходит то же,
что со всеми судьями в мире, и он нуждается в опыте, что-
бы не принимать ощущения холода за ощущение огня.
Б о р д е. Он делает еще кое-что: он принимает в инди-
виде почти безграничные размеры или, наоборот, концен-
трируется почти в одной точке.
Леспинас. Не понимаю.
Б о р д е. Что ограничивает вашу реальную протяжен-
ность, истинную сферу вашей чувствительности?
Леспинас. Мои зрение и осязание.
Б о р д е. Днем. А ночью, в темноте, особенно, когда вы
размышляете над каким-нибудь отвлеченным вопросом,
или даже днем, когда ваш ум чем-нибудь занят?
Леспинас. Ничто. Я существую тогда как бы в од-
но
ной точке; я почти перестаю быть материей; я чувствую
только свою мысль; для меня не существует больше ни
места, ни движения, ни тел, ни расстояния, пи простран-
ства: вселенная исчезает для меня, и я исчезаю для нее.
Б о р д е. Вот это — последний предел концентрации ва-
шего существования, но его воображаемое расширение
может быть безграничным. Когда превзойдены истинные
пределы вашей чувствительности,— благодаря ли тому,
что вы сосредоточиваетесь в себе самой, или благодаря
тому, что вы распространяетесь во вне,— тогда неизвест-
но, что может случиться.
Л е с п и п а с. Вы правы, доктор. Много раз во время
дум мне казалось...
Борде. ...и больным в припадке подагры...
Л е с п и н а с. ...что я становлюсь огромной...
Борде. ...что своей ногой они касаются полога над
кроватью.
Л е с п и п а с. ...что мои руки и ноги удлиняются до
бесконечности; что все части тела становятся такими же
огромными; что мифический Энкелад в сравнении со мной
не больше, чем пигмей; что овидиева Амфитрита 1, длин-
ные руки которой опоясывали землю,— карлица и что я
взбираюсь по небу и обнимаю оба полушария.
Борде. Очень хорошо. А я знал одну женщину, у ко-
торой то же самое происходило в обратном направлении.
Леспинас. Как! Она уменьшалась и сокращалась?
Борде. До такой степени, что чувствовала себя с
иголку. Она видела, слышала, мыслила, рассуждала, смер-
тельно боялась погибнуть, дрожала при малейшем шорохе
и не решалась двигаться с места.
Леспинас. Вот странное видение, очень прискорб-
ное и очень неудобное.
Борде. Это не видение, это один из случаев при пре-
кращении месячных.
Леспинас. И долго ли оставалась она в такой кро-
шечной, незаметной форме маленькой женщины?
Борде. Час, два часа, после чего начинала постепен-
но возвращаться к своему первоначальному, естественному
размеру.
Леспинас. Какова же причина таких странных ощу-
щений?
Борде. Побеги пучка в своем естественном и спокой-
147
ном состоянии имеют определенное напряжение, соответ-
ствующую крепость и силу, которая ограничивает реаль-
ную или мнимую протяженность тела. Я говорю «реаль-
ную» или «мнимую», так как при изменчивости этого на-
пряжения, этой крепости и силы наше тело не всегда со-
храняет один и тот же объем.
Л е с п и н а с. Таким образом, подверженные одинако-
во как влияниям физическим, так и моральным влияниям,
мы воображаем себя большими, чем на самом деле?
Б о р д е. Холод уменьшает вес, теплота увеличивает, и
тот и другой индивид может всю жизнь считать себя
большим или меньшим, чем в действительности. Когда
случается массе пучка приходить в страшное раздражение,
побегам его — испытывать возбуждение, безграничному
множеству их оконечностей — преступать обычные для них
пределы, тогда голова, ноги, другие члены, все точки по-
верхности тела уносятся на огромное расстояние, и инди-
вид чувствует себя гигантом. Происходит обратное явле-
ние, если бесчувственность, апатия, инертность овладевают
оконечностями побегов и добираются мало-помалу до на-
чала пучка.
Л е с п и н а с. Я не представляю себе, чтобы это рас-
ширение можно было измерить, и понимаю, что эта бес-
чувственность, эта апатия, эта инертность оконечностей
побегов, это онемение, прогрессируя, могут фиксировать-
ся, остановиться...
Борде. Как это случилось с Лакондамипом; в таком
состоянии индивид чувствует как бы гири у себя на ногах.
Л е с п и и а с. Он пребывает за пределами своей чув-
ствительности, а если бы был объят этой апатией всецело,
он нам представил бы пример маленького живого челове-
ка, пребывающего в форме мертвого.
Б о р д е. Сделайте отсюда такое заключение: живот-
ное, которое при начале своем было не больше точки, еще
не знает, представляет ли оно собой в действительности
что-нибудь большее. Однако вернемся...
Леспинас. К чему?
Борде. К чему? К трепанации Лапейрони... Вот это
вы хорошо сделали, что попросили меня привести пример
человека, который то жил, то умирал... Но есть еще луч-
шее.
Леспинас. Что же это такое?
148
Б о р д е. Осуществился миф о Касторе и Поллуксе: как
только один из близнецов оживал, другой умирал, и па-
оборот.
Леспинас. О, сказка! И долго ли это продолжа-
лось?
Б о р д е. Жизнь этих существ продолжалась два дня,
которые они распределили между собою поровну и в не-
сколько приемов, так что каждое имело для себя день
жизни и день смерти.
Леспинас. Я боюсь, доктор, что вы немного зло-
употребляете моим доверием. Берегитесь: если вы обмане-
те меня один раз, я больше не буду верить вам.
Б о р д е. Читаете ли вы когда-нибудь «Gazette de
France»?
Леспинас. Никогда, хотя это — шедевр двух умных
людей.
Б о р д е. Достаньте номер от четвертого сентября, и вы
найдете там, что в Рабастене (округ Альби) родились две
девочки, сросшиеся спинами, в поясничных позвонках, в
ягодицах и в подвздошной области. Одну нельзя было по-
ставить без того, чтобы другая не оказалась головою вниз.
Когда они лежали, то глядели друг на друга. Их бедра
были согнуты между корпусами, а ноги подняты. Посреди
общей кругообразной линии, которая связывала их в под-
вздошной области, различали их пол, и между правым
бедром одной сестры, которому соответствовало левое бед-
ро другой, в полости был маленький задний проход, через
который протекал меконий.
Леспинас. Действительно, странное явление.
Б о р д е. Они принимали молоко с ложки. Они жили,
как я говорил, двенадцать часов: одна впадала в обмороч-
ное состояние, а другая выходила из него, одна была мерт-
ва в то время, когда другая жила. Первый припадок
обморока одной и первые моменты жизни другой продол-
жались четыре часа, следующие обмороки и моменты жиз-
ни были менее продолжительны; скончались они одновре-
менно. Было также замечено, что их пупки то втягивались
внутрь, то выходили наружу: у той, которая впадала в об-
морок, он втягивался внутрь, а у той, которая возвраща-
лась к жизни, он выступал наружу.
Леспинас. Что же скажете вы об этих последова-
тельных сменах жизни и смерти?
149
Борде. Может быть, ничего ценного; но так как па
все смотришь сквозь призму своей системы, и так как я не
хочу быть исключением из общего правила, то скажу, что
здесь наблюдается то же явление, что у больного Лапей-
рони, только в форме двух соединенных существ; что тка-
ни этих двух детей так перемешались, что они поддава-
лись взаимному воздействию: когда брало верх начало
ткани одной девочки, оно увлекало за собой ткань другой,
которая впадала на время в обморок. Противоположное
происходило, когда начинала господствовать над всей си-
стемой ткань последней. У больного Лапейрони давление
производилось тяжестью жидкости сверху вниз, у рабасте-
новских же близнецов — снизу вверх благодаря тяге из-
вестного количества волокон ткани,— предположение, опи-
рающееся на факт последовательных движений втягива-
ния и выпирания их пупков.
Леспинас. И вот две слившиеся души...
Борде. ...животное, наделенное принципом двойного
сознания и двойной чувствительности...
Леспинас. ...однако пользующееся в каждый дан-
ный момент только одним. Но кто знает, что случилось бы,
если бы это животное жило?
Б о р д е. Какого рода связь установил бы между этими
двумя мозгами постоянный опыт,— сильнейшая из привы-
чек, какую только можно себе вообразить?
Леспинас. Двойная чувствительность, двойная па-
мять, двойное воображение, двойное усвоение; одна поло-
вина существа наблюдает, читает, размышляет, между тем
как другая покоится; затем вторая принимает на себя эти
функции, когда ее спутница устает,— двойная жизнь двой-
ного существа!
Борде. Раз это возможно, то уж природа, сведя со
временем в одно всё, что имеется в ее распоряжении, суме-
ет образовать некую странную совокупность.
Леспинас. Как мы были бы бедны в сравнении с по-
добным существом!
Б о р д е. А почему? Если столько колебаний, противо-
речий, безумства в одном уме, то я уж не знаю, что было
бы при наличии двойного... Но уже половина одиннадца-
того, и я слышу, как издали зовет меня больной.
Леспинас. Разве уж так опасно оставаться ему без
вашей помощи?
150
Б о р д е. Может быть, менее опасно, чем с моей по-
мощью. Если природа не выполнит своей задачи без меня,
мы постараемся решить задачу вместе, но без помощи при-
роды я уж, наверное, ее не выполню.
Л е с п и н а с. Посидите еще.
Д а л а м б е р. Еще одно слово, доктор, и я отпущу вас
к пациенту. Каким образом я мог остаться самим собой и
для других и для себя после стольких превратностей, пе-
ренесенных мною в жизни, и не имея, может быть, теперь
ни одной из тех молекул, которые я принес с собой при
рождении?
Б о р д е. Вы нам сказали об этом во время бреда.
Даламбер. Разве я бредил?
Леспинас. Всю ночь; у вас был такой кошмар, что
я послала утром за доктором.
Даламбер. И все из-за лапок паука, которые дви-
гались сами собой, подавали сигналы пауку и заставляли
его говорить. Что же животное говорило?
Б о р д е. Что, благодаря памяти, оно осталось самим
собой для других и для себя, а я прибавил бы: и благодаря
длительности перенесенных превратностей. Если бы вы во
мгновение ока перешли из детского возраста в старческий,
вы оказались бы таким, каким были в первый момент рож-
дения; вы не существовали бы ни для других, ни для себя,
и другие не существовали бы для вас. Все связи были бы
нарушены, погибла бы вся история вашей жизни для меня
и вся история моей жизни для вас. Каким образом вы мог-
ли бы знать, что вот этот опирающийся на палку человек
с угасшими глазами, с трудом влачащий ноги и еще менее
похожий на себя внутри, чем снаружи, был тем самым, ко-
торый накануне так легко шагал, поднимал довольно боль-
шие тяжести, мог отдаваться глубочайшим размышлениям,
предаваться самым приятным и самым бурным упражне-
ниям? Вы не поняли бы своих собственных работ, не узна-
ли бы самого себя, не узнали бы никого, и никто вас не
узнал бы, изменилась бы вся картина мира. Подумайте,
что между вами в момент рождения и вами — ребенком
разницы меньше, чем между вами — ребенком и вами,
вдруг ставшим дряхлым человеком. Подумайте, что, хотя
ваше рождение было связано с первыми годами детства
целым рядом беспрерывных ощущений, все же три первые
года вашего существования никогда не составят всей
151
истории вашей жизни. Что же представляло бы для вас
время вашего детства, которое ничем не было бы связано
с моментом вашей дряхлости? У дряхлого Даламбера
не было бы ни малейшего воспоминания о Даламбере-
ребенке.
Л е с п и н а с. В грозди пчел не было бы ни одной, ко-
торая имела бы время освоиться с духом целого организма.
Даламбер. Что вы там говорите?
Леспинас. Я говорю, что монастырский дух сохра-
няется, потому что сам монастырь обновляется постепенно,
и когда поступает новый монах, он находит там сотню ста-
рых, которые заставляют его думать и чувствовать, как
они. В грозди на место одной улетевшей пчелы появляет-
ся другая, которая тотчас же осваивается с целым.
Даламбер. Ну, вы говорите пустяки о ваших мона-
хах, о пчелах, о грозди и о монастыре.
Б о р д е. Не такие пустяки, как вы думаете. У живот-
ного только одно сознание, зато бесконечно много жела-
ний; у каждого органа свое.
Даламбер. Как вы сказали?
Б о р д е. Я сказал, что желудок хочет пищи, а нёбо не
хочет ее, и что разница между всем животным и желудком
состоит в том, что животное знает, чего оно хочет, а желу-
док и нёбо хотят, не зная этого; что желудок и нёбо отно-
сятся друг к другу приблизительно так же, как человек к
скоту. Пчелы теряют свое сознание и сохраняют аппетит
или волю. Фибра — животное простое, а человек — живот-
ное сложное; но оставим это до другого раза. Достаточно
наступить какому-нибудь событию, менее важному, чем
дряхлость, чтобы отпять у человека сознание своего я.
Умирающий принимает св. дары с глубоким благочестием;
он раскаивается в грехах, просит прощения у жены, обни-
мает детей, созывает друзей, говорит с врачом, отдает рас-
поряжения прислуге, диктует свою последнюю волю, при-
водит в порядок свои дела и все это проделывает в вполне
здравом уме и с полным присутствием духа. Он выздорав-
ливает, силы возвращаются к нему, и он не имеет ни ма-
лейшего представления о том, что говорил или делал во
время болезни. Этот промежуток, иногда очень длинный,
исчезает из его жизни. Есть даже примеры, когда некото-
рые лица возвращались к тому разговору или действию,
которые были прерваны внезапным приступом болезни.
152
Д а л а м б е р. Я припоминаю, как в одном публичном
споре педант из коллежа, преисполненный сознанием соб-
ственной учености, был, что называется, заведен в тупик
одним презираемым им капуцином. Он — и вдруг посажен
в калошу! И кем? Капуцином! И по какому вопросу? По
вопросу о сущности предопределения, над которым он раз-
мышлял всю жизнь. И при каких обстоятельствах? Перед
многочисленным собранием! Перед своими учениками! По-
зор! Его голова так усиленно работает над этим, что он
впадает в летаргию, которая лишает его всех приобретен-
ных им знаний.
Леспинас. Но это было счастьем для него.
Даламбер. Клянусь, вы правы. Рассудок остался у
него, но он все забыл. Его снова научили говорить, читать,
и он умер, когда начинал очень бегло разбирать слова.
Этот человек был не без способностей, его признавали да-
же до некоторой степени красноречивым.
Леспинас. Так как доктор выслушал ваш рассказ,
то следует, чтобы он послушал и мой. Один молодой чело-
век, восемнадцати — двадцати лет, имени которого я не
припомню...
Б о р д е. Это — г. Шуллемберг из Винтертура; ему
было только пятнадцать — шестнадцать лет.
Леспинас. Этот молодой человек упал и при паде-
нии получил страшное сотрясение головы.
Б о р д е. Страшное сотрясение! Он упал с высокого
амбара, разбил себе голову и шесть недель оставался без
сознания.
Леспинас. Как бы там ни было, но знаете ли вы
последствия этого случая? Такие же, как у вашего педан-
та: он забыл все, что знал, вернулся к своим младенческим
годам, впал в детство, из которого долго не выходил. Сде-
лался боязливым и малодушным, начал забавляться
игрушками. Если он делал какую-нибудь шалость и его
бранили, он уходил и прятался где-нибудь в углу. Его
научили читать и писать, но я забыла сказать вам, что
пришлось снова учить его ходить. Впоследствии он вновь
стал способным человеком и оставил после себя труд по
естественной истории.
Б орде. Вы говорите об атласе насекомых с гравюра-
ми г-на Зюлье, составленном по системе Линнея 1. Я знал
этот факт; это было в Цюрихском кантоне, в Швейцарии.
153
Есть много подобных примеров. Разрушьте начало пучка,
и вы измените животное, которое заключается в нем как
бы целиком, то господствуя над разветвлениями пучка,
то подчиняясь им.
Леспинас. И животное находится под гнетом деспо-
тизма или в состоянии анархии.
Б о р д е. Под гнетом деспотизма, это хорошо сказано.
Начало пучка отдает приказания, а все остальное пови-
нуется. Животное — господин над собой, mentis compos.
Леспинас. В состоянии анархии, когда все волокна
ткани взбунтовались против своего господина и когда нет
больше высшей власти.
Б орде. Великолепно. Когда господин в момент силь-
ного приступа страсти, в тисках кошмара или пред ли-
цом грозной опасности стягивает все силы своих поддан-
ных к одному пункту, самое слабое животное проявляет
невероятную силу.
Леспинас. Особенно характерна анархия, насту-
пающая во время припадков.
Б орде. Это картина административной слабости, ко-
гда каждый присваивает власть господина. Я знаю только
одно средство излечиться от этого, тяжелое, но верное;
оно состоит в том, чтобы начало чувствующей ткани, этой
конституирующей личность части, было одержимо
непреодолимым желанием восстановить свой авторитет.
Леспинас. И что же получается?
Б орде. Получается то, что оно действительно восста-
навливает свою власть или животное погибает. Если бы
у меня было время, я привел бы вам по этому поводу два
необыкновенных факта.
Леспинас. Но, доктор, час вашего визита уже про-
шел, и больной вас не ждет больше.
Б о р д е. Сюда нужно приходить только тогда, когда
нечего делать: не скоро выберешься от вас.
Леспинас. Вот приступ прямодушной откровенно-
сти. А ваши факты?
Б о р д е. На сегодня вы удовлетворитесь вот этим.—
У одной женщины после родов началась страшная припа-
дочная болезнь: непроизвольные слезы и смех сменялись
припадками одышки, конвульсий, спазм в горле, мрачным
молчанием, пронзительными криками,— всем, что только
можно представить себе наихудшего. Так продолжалось
154
несколько лет. Она страстно любила, и ей показалось, что
возлюбленный, которому надоела ее болезнь, стал избе-
гать ее; тогда она решила выздороветь или умереть. В ней
поднялась гражданская война, в которой одерживали
верх то власть, то подданные. Если случалось, что дей-
ствие волокон ткани было равно противодействию ее нача-
ла, женщина падала замертво, ее укладывали в постель,
где она оставалась целыми часами без движения, почти
мертвая. В другой раз у нее наступали такая усталость,
такой упадок сил, такое общее изнеможение, что, каза-
лось, конец был близок. Шесть месяцев продолжалась
такая борьба. Бунт начинался всегда с волокон. Она чув-
ствовала его приближение. При первых же симптомах она
вставала, начинала бегать, заниматься самыми рискован-
ными упражнениями: бегала по лестницам, пилила дрова,
копала землю. Орган ее воли—начало пучка—укреплялся;
она говорила себе: победить или умереть. После бесконеч-
ных побед и поражений господин остался у власти, а под-
данные сделались такими послушными, что не было больше
речи о припадках, хотя эта женщина исполняла всякого
рода домашние работы и перенесла различные болезни.
Леспинас. Молодец! Мне кажется, что я поступила
бы так же, как она.
Б о р д е. Это значит, что вы любили бы сильно, если
бы полюбили, и что вы сильный человек.
Леспинас. Понимаю. Люди бывают сильны, если
вследствие привычки или благодаря организации начало
пучка господствует над волокнами, и, наоборот, слабы-
ми, если над ним господствуют волокна.
Борде. Можно и другие выводы сделать отсюда.
Л е с п и н а с. А ваш другой факт? Выводы вы сделаете
потом.
Б орде. Одна молодая женщина немного свихнулась.
Однажды она приняла решение отказаться от удоволь-
ствий. И вот, она одна, задумчива и угрюма. Она позвала
меня. Я посоветовал ей одеться по-крестьянски, копать
целый день землю, спать на соломе и питаться черствым
хлебом. Такой режим не понравился ей. Ну, отправляй-
тесь путешествовать,— говорю я. Она объехала всю Ев-
ропу и во время путешествия вновь обрела здоровье.
Леспинас. Это не то, что вы хотели сказать, но
не важно, вернемся к вашим выводам.
Б о р д е. Этому конца не будет.
Л е с п и н а с. Тем лучше. Говорите, говорите без конца.
Б о р д е. У меня нехватает смелости.
Леспинас. Почему?
Б о р д е. Потому что при таком темпе, каким мы идем,
можно слегка коснуться всего, но нельзя углубиться.
Леспинас. Разве это важно? Мы не сочиняем, а
разговариваем.
Б о р д е. Если, например, начало пучка стягивает все
силы к себе, если вся система начинает, так сказать, об-
ратное движение, как это происходит, думается мне, в чело-
веке, погруженном в размышление, в фанатике, видящем
отверстые небеса, в дикаре, поющем в объятиях пламени,
во время экстаза и безумия...
Леспинас. Ну?
Б орд е. Ну, животное становится бесстрастным, оно
существует только в одной точке. Я не видел того калам-
ского священника, о котором говорит св. Августин и кото-
рый углублялся в себя до такой степени, что не чувство-
вал пылающих углей. Я не видел на костре тех дикарей,
которые улыбаются своим врагам, издевающимся над
ними и готовящим им еще более изысканные пытки, чем
те, от которых они страдают; я не видел в цирке тех гла-
диаторов, которые, умирая, припоминали позы и уроки
гимнастики, но я верю всем этим фактам, потому что
видел своими собственными глазами такое необычайное
напряжение сил, какого нет пи в одном приведенном
случае.
Леспинас. Расскажите мне об этом, доктор. Я, как
дитя, люблю чудеса, особенно, когда они делают честь
человеческому роду; мне редко отучается заниматься уче-
ными спорами.
Б орде. В маленьком городке Лангре, в Шампани,
жил кюре по имени Мони, очень убежденный в истинно-
сти религии. С ним приключилась каменная болезнь:
нужно было оперировать. В назначенный день хирург, его
помощник и я отправляемся к нему. Он принимает
нас со спокойным видом, раздевается, ложится; его хотят
связать, он отказывается. «Только положите меня, как
следует»,— говорит он. Его кладут. Он просит подать ему
большой крест, стоявший в ногах у кровати. Ему дают;
он сжимает его в руках, прикладывает к нему губы. Про-
156
изводится операция; он лежит неподвижно: ни слез, ни
вздоха, и так вынули у него камень, а он и не почувство-
вал этого.
Леспинас. Прекрасно. Подите — сомневайтесь по-
сле этого, что тот, которому разбили грудную клетку,
не видел отверстых небес.
Б о р д е. Знаете ли вы, что такое ушная боль?
Леспинас. Нет.
Б орде. Тем лучше. Это самая жестокая из всех
болей.
Леспинас. Хуже ли зубной боли, которую я,
к несчастью, знаю?
Б орд е. Никакого сравнения. Недели две назад она
начала мучить одного из ваших друзей, философа 1. Од-
нажды утром он сказал своей жене: «Я чувствую, силы
оставят меня на целый день...». Он решил, что у него
остается одна надежда: хитростью обмануть боль. Мало-
помалу он так углубился в вопросы метафизики или гео-
метрии, что забыл про свое ухо. Ему подавали есть; он ел,
не замечая, что ест; во-время засыпал, не чувствуя стра-
даний. Ужасная болезнь вернулась к нему только тогда,
когда прекратилось умственное напряжение, и наброси-
лась на него с неслыханной яростью, потому ли, что, дей-
ствительно, усталость вызвала ее, или потому, что его сла-
бость сделала ее невыносимой.
Леспинас. Из такого состояния, должно быть, дей-
ствительно выходишь в изнеможении, что иногда и слу-
чается с этим человеком.
Б о р д е. Это опасно, пусть остерегается.
Л е с п и н а с. Я не перестаю говорить ему об этом, но
он не слушает.
Борде. Он не владеет собой; такова его судьба, он
должен погибнуть.
Леспинас. Ваше суждение пугает меня.
Бсрдэ. Что доказывает это изнеможение, эта уста-
лость? То, что побеги пучка не оставались бездеятельны-
ми и что во всей системе была страшная тяга к общему
центру.
Леспинас. Если эта страшная тяга, или тяготение,
долго длится, если она становится обычной?..
Б о р д е. Это значит, что начало пучка поражено ти-
ком, животное становится безумным и почти безнадежным.
157
Л е с п и н а с. Почему?
Борде. Потому что тик начала не то, что тик одною
из побегов. Голова может распоряжаться ногами, но нога
не может распоряжаться головой, начало может распоря-
жаться побегами, а не побег — началом.
Леспинас. А в чем, скажите, пожалуйста, разница?
Действительно, почему я думаю не всеми частями тела?
Этот вопрос должен был бы сейчас же прийти мне в го-
лову.
Б о р д е. Потому что сознание находится только в од-
ном месте.
Леспинас. Быстро сказано.
Б о р д е. Оно может быть только в одном месте, в цен-
тре всех ощущений: там, где находится память; там, где
делаются сравнения. Каждый побег способен воспринять
только определенное число впечатлений, ощущений, после-
довательных, изолированных, не задерживающихся. На-
чало воспринимает их все, регистрирует, хранит в памяти
или беспрерывно ощущает, и животное с первого момента
своего формирования связывается с ними, фиксирует их
в себе и существует с ними.
Леспинас. А если бы мой палец мог иметь память?
Борде. Ваш палец мыслил бы.
Леспинас. Что же такое память?
Борде. Свойство центра, специфическое чувство на-
чала ткани, подобно тому как зрение есть свойство глаза,
и нет ничего удивительного в том, что память не сосредо-
точена в глазу, как не удивительно то, что зрение не на-
ходится в ухе.
Леспинас. Доктор, вы скорее уклоняетесь от моих
вопросов, чем отвечаете на них.
Борде. Я вовсе не уклоняюсь, я говорю вам то, что
знаю, и я знал бы больше, если бы организация начала
ткани мне была так же известна, как организация ее по-
бегов, если бы я мог с такой же легкостью наблюдать ее.
Но если я слаб относительно частных явлений, зато силен
в явлениях общих.
Леспинас. Каковы же эти общие явления?
Борде. Разум, суждение, воображение, безумие, глу-
пость, дикость, инстинкт.
Леспинас. Понимаю. Все эти свойства — не что
158
иное как следствия первоначального или приобретенного
привычкой отношения начала пучка к его разветвлениям.
Б о р д е. Чудесно. Раз основа, или ствол, слишком
могуча по сравнению с ветвями, появляются поэты, арти-
сты, люди, одаренные воображением, малодушные, энту-
зиасты, безумцы. От системы вялой, слабой, неэнергич-
ной рождаются глупцы. Система энергичная, хорошо орга-
низованная и согласованная, дает хороших мыслителей,
философов, мудрецов.
Леспинас. И смотря по тому, какая тираническая
ветвь стоит у власти: инстинкт ли, изменяющийся у жи-
вотных, или ум, изменяющийся у людей — получаются раз-
личные результаты: у собаки развивается обоняние,
у рыбы — слух, у орла — зрение, Даламбер становится
геометром, Вокансон 1 — инженером, Гретри 2 — музы-
кантом, Вольтер — поэтом,— различные следствия того,
что одна из нитей пучка у них развита сильнее, чем все
остальные и чем соответственные нити у всех существ,
принадлежащих к тому же виду.
Борде. ...Привычки, гнетущие людей... старец, любя-
щий женщин. Вольтер, все еще пишущий трагедии... (Док-
тор погрузился в думы.)
Леспинас. Доктор, вы думаете?
Борде. Да.
Леспинас. О чем думаете вы?
Борде. По поводу Вольтера.
Леспинас. Ну?
Борде. Я думаю о том, как происходят великие
люди.
Леспинас. Как же?
Борде. Каким образом чувствительность...
Леспинас. Чувствительность?
Борде. ...или крайняя подвижность некоторых воло-
кон ткани является преобладающим свойством посред-
ственностей...
Леспинас. Ах, какое святотатство, доктор!
Борде. Я ждал этого. Но что такое чувствующее су-
щество? Существо, отданное в распоряжение диафрагмы.
Трогательное слово коснулось уха, необычное явление по-
разило глаз, и вот вам внутри поднимается шум; все по-
беги пучка в ажитации, разливается по всему телу озноб,
охватывает страх, льются слезы, душат вздохи,
159
прерывается голос; начало пучка не знает, что делать; нет
больше ни хладнокровия, ни разума, ни рассудительности,
ни инстинкта, ни надежды.
Леспинас. Узнаю себя.
Б о р д е. Если великий человек по несчастной случай-
ности получил от природы такое предрасположение, он
без замедления направит свои старания на то, чтобы осла-
бить его, подчинить себе, сделать господином своих
душевных движений и сохранить свою власть над нача-
лом пучка. И тогда среди величайших опасностей он бу-
дет владеть собой, будет рассуждать холодно, но здраво.
От его внимания не ускользнет все то, что может служить
его целям. Его нелегко будет удивить; в сорок пять лет
он будет великим королем, великим министром, великим
политиком, великим артистом, в особенности великим ак-
тером, великим философом, великим поэтом, великим
музыкантом, великим врачом; он будет господствовать
над собой и над всем, что его окружает. Он не будет бо-
яться смерти, для него не будет страха — этого, по пре-
красному выражению стоика, буксира, за который бе-
рется сильный, чтобы вести слабого повсюду, куда он за-
хочет. Он порвет эту связь и в то же время сбросит с себя
всякую тиранию. Чувствительные существа или. сума-
сшедшие — на сцене, а он в партере,— это он, мудрец.
Леспинас. Боже, спаси меня от общества такого
мудреца!
Б о р д е. Стараясь не походить на него, вы будете
испытывать то безумные страдания, то безумные наслаж-
дения, будете проводить жизнь то в смехе, то в слезах,
и навсегда останетесь ребенком.
Леспинас. Я готова на это.
Б о р д е. И вы надеетесь быть от этого более счаст-
ливой?
Леспинас. Не знаю.
Борде. Мадемуазель, это столь ценимое качество
в своих сильных проявлениях почти всегда причиняет
боль, а проявляясь слабо, нагоняет скуку: с ним или зе-
ваешь, или опьяняешься страстями. То вы без меры от-
даетесь наслаждениям роскошной музыкой, красотой па-
тетической сцены, то ваше веселье прошло, ваша диа-
фрагма сжалась, и целый вечер вас душат спазмы
в горле.
160
Л е с п и и а с. Но что же делать, если только при та-
ких условиях я могу наслаждаться возвышенной музыкой
и трогательными сценами?
Б о р д е. Ошибаетесь. Я тоже умею наслаждаться и
восхищаться, но никогда не страдаю, за исключением тех
случаев, когда у меня колики. Я испытываю чистое на-
слаждение, моя оценка гораздо строже, моя похвала ос-
мысленнее и соблазнительнее. Есть ли хоть одна плохая
трагедия для таких впечатлительных душ, как ваша?
Сколько раз, читая трагедию, вы краснели за те восторги,
которые вы испытывали в театре, глядя на сцену, и на-
оборот?
Л е с п и н а с. Это случалось со мной.
Б о р д е. Следовательно, не вам, существу чувстви-
тельному, а мне, спокойному и холодному, надлежит
сказать: верно, хорошо, прекрасно!.. Будем укреплять на-
чало ткани: это лучшее, что мы можем сделать. Знаете
ли вы, что здесь идет дело о жизни?
Леспинас. О жизни! О, это дело серьезное, док-
тор.
Б о р д е. Да, о жизни. Нет ни одного человека, кото-
рый не имел бы иногда отвращения к ней. Одного какого-
нибудь события достаточно, чтобы такое настроение стало
непроизвольным и обычным. Тогда не помогут ни увесе-
ления, ни разнообразие наслаждений, ни советы друзей,
ни собственные усилия; побеги с неотвратимой силой на-
носят началу пучка гибельные потрясения; несчастный
может сколько угодно отбиваться; мраком застилается
вселенная пред ним; тучи роковых идей неотвязно шест-
вуют за ним, и он кончает самоубийством.
Леспинас. Вы пугаете меня, доктор.
Даламбер (поднявшись, в халате и ночном кол-
паке) . А что скажете вы, доктор, о сне? Это — хорошая
штука.
Борде. Сон это такое состояние, когда из-за уста-
лости или по привычке вся ткань отдыхает и остается
неподвижной, но когда, как во время болезни, каждое
волоконце ткани волнуется, движется, передает к общему
началу массу часто несвязных, отрывочных, неясных ощу-
щений; а иногда эти ощущения столь связны, столь по-
следовательны, столь отчетливы, что человек, проснув-
шись, лишается и разума, и речи, и воображения; време-
161
нами они столь бурны, столь дики, что человек, проснув-
шись, теряет представление о реальности окружающего.
Л е с п и н а с. Но что же такое сон?
Б о р д е. Это такое состояние животного, когда не
существует целого; вся гармония нарушается, всякое
подчинение прекращается. Властелин отдан во власть
своих вассалов и необузданной энергии собственной ак-
тивности. Затронут глазной нерв — начало ткани стало
видеть; оно начинает слышать, если толчок идет от слу-
хового нерва. Только действие и противодействие взаимно
перемежаются, что является результатом центрального
свойства, закона непрерывности и привычки. Если дей-
ствие начинается с полового побега, который природа
предназначила для наслаждения любовью и для продол-
жения рода, то последствием реакции в начале пучка
будет воскресший образ любимого предмета. Если же,
наоборот, этот образ воскреснет сперва у начала пучка,
последствия реакции выразятся в напряжении полового
побега и бурном истечении семенной жидкости.
Даламбер. Таким образом, возбуждение во время
сна бывает в восходящей и нисходящей степени: я испы-
тал такое состояние в эту ночь, но какое у него было на-
правление, не знаю.
Б о р д е. Во время бодрствования ткань подчиняется
впечатлениям от внешнего предмета. Во время сна всё,
что происходит в ней, рождается в игре ее собственной
чувствительности. Во время сна внимание человека ничем
не отвлекается: отсюда — интенсивность сна, которая
почти всегда является признаком мимолетного приступа
болезни или следствием возбуждения. У начала ткани —
беспрерывная смена состояний пассивности и активности;
отсюда — беспорядочность сна. Понятия во сне време-
нами бывают так отчетливы, так связны, как у бодр-
ствующего животного, отдающегося впечатлениям при-
роды. Только картины природы, воскресшие во сне, снова
воссоздают впечатления от них; отсюда — правдоподоб-
ность сна, невозможность отличить его от бодрствова-
ния, и пет иного средства распознать их, кроме опыта.
Леспинас. А с помощью опыта всегда можно рас-
познать?
Б о р д е. Нет, не всегда.
Леспинас. Если сон дает мне образ друга, кото-
162
рого я потеряла, правдоподобный образ, как бы суще-
ствующий в действительности; если он говорит со мной,
и я слышу его; если я дотрагиваюсь до него, и в моих
руках остается впечатление от его тела; если я просы-
паюсь с душой, полной нежности и боли, со слезами на
глазах; если мои руки еще простерты к тому месту, где
он являлся мне,— кто скажет, что я на самом деле не
видела его, не слышала его голоса, не дотрогивалась до
него?
Б о р д е. Его отсутствие. Но если невозможно отли-
чить бодрствование от сна, кто же определит его продол-
жительность? Спокойный сон это — короткий промежуток
забытья между моментом, когда ложатся спать, и момен-
том, когда встают. Беспокойный тянется иногда целые
годы. В первом случае безусловно целиком прекращается
сознание самого себя. Назовете ли вы такое состояние
сном?
Л е с п и и а с. Да, потому что существует другое.
Даламбер. Во втором случае нет только сознания
себя но имеется сознание и своей воли и своей свободы.
Что такое свобода, что такое воля спящего?
Б о р д е. Что? То же самое, что свобода или воля
бодрствующего: конечный импульс желания или нежела-
ния, конечный результат всего, что было с рождения до
настоящего момента, и я отказываюсь признать, чтобы
самый проницательный ум способен был открыть здесь
малейшую разницу.
Даламбер. Вы думаете?
Б о р д е. И это вы задаете мне такой вопрос! Вы, от-
давшийся глубочайшим размышлениям, проведший две
трети своей жизни в бреду с открытыми глазами и в дея-
тельности вопреки своей воле, да, вопреки своей воле,
хотя и в бреду. В бреду вы распоряжались, отдавали при-
казания, вам повиновались, вы были довольны или недо-
вольны, вы испытывали противоречия, наталкивались на
препятствия, возмущались, любили, ненавидели, пори-
цали, уходили, приходили. По утрам, едва открыв глаза,
вы возвращались к прерванным накануне размышлениям,
одевались, садились за стол, думали, чертили фигуры,
делали вычисления, обедали, снова принимались за свои
математические комбинации, иногда вставали из-за стола,
чтобы проверить их в разговоре с другими, отдавали при-
163
казания своим слугам, ужинали, ложились спать, засы-
пали, не проявляя никакой воли. Вы были не больше, чем
точка, вы действовали, но не проявляли воли. Разве же-
лание зарождается само по себе? Волевой акт всегда вы-
зывается каким-нибудь мотивом, внутренним или внеш-
ним, каким-нибудь впечатлением в настоящем или бес-
сознательным воспоминанием прошлого, какой-нибудь
страстью, проектом на будущее. После всего этого о сво-
боде я скажу вам только одно слово. Всякое действие
наше есть необходимый результат одной-единственной
причины: нас самих, очень сложного целого, по целого.
Л е с п и н а с. Необходимый?
Б о р д е. Несомненно. Попытайтесь представить себе
одновременное возникновение какого-нибудь иного акта
у того же самого действующего лица.
Л е с п и и а с. Он прав. Если я действую определен-
ным образом, значит тот, кто может действовать иначе,
уже не я, и уверять, что в тот момент, когда я делаю или
говорю одно, я могу делать или говорить другое, значит
уверять, что я — в одно и то же время и я и некто другой.
Но порок и добродетель, доктор? Добродетель — это свя-
тое слово у всех народов, это священная идея у всех
наций.
Борде. Это слово нужно заменить другим: «благо-
деяние», а противоположное ему — «злодеяние». Люди,
к счастью или несчастью, родятся, и общий поток уносит
одних к славе, других — к бесславию.
Леспиыас. А собственное достоинство, а позор,
а угрызения совести?..
Б о р д е. Мелочи, коренящиеся в невежестве и тще-
славии лица, принимающего на свой счет заслуги или
неудачи момента.
Леспинас. А награды и наказания?
Б о р д е. Средства исправления изменчивого су-
щества, называемого злым, и поощрения того, кого назы-
вают добрым.
Леспинас. В этой доктрине нет ничего опасного?
Б о р д е. Истина это или ложь?
Леспинас. Думаю, что истина.
Б о р д е. То есть вы думаете, что у лжи есть свои вы-
годные стороны, а у истины — свои неудобства?
Леспинас. Думаю.
164
Б о р д е. Я тоже. Но выгодные стороны лжи прехо-
дящи, а выгоды истины вечны, зато неудобные послед-
ствия истины, если они есть, проходят быстрр, а неудоб-
ные последствия лжи прекращаются только вместе с ней
Проследите последствия лжи в голове человека и в его
поведении. В голове его ложь или переплетается так или
иначе с истиной (и голова работает непоследовательно),
или стройно и последовательно связывается с другой
ложью (и голова заблуждается). Но какого поведения
можете вы ожидать от головы, непоследовательной в рас-
суждениях или последовательной в заблуждениях?
Леспинас. Последнего недостатка, менее достой-
ного презрения, нужно, может быть, больше бояться, чем
первого.
Даламбер. Очень хорошо. Таким образом, все
сведено к чувствительности, памяти, органическим дви-
жениям. С этим я согласен. Но воображение и абстрак-
ции?
Б о р д е. Воображение...
Леспинас. Один момент, доктор. Подведем итог.
Мне кажется, что, согласно вашим принципам, прибегая
к чисто механическим операциям, я сведу гения мира
к массе неорганизованного тела, у которой осталась
только чувствительность, и что эту бесформенную массу
можно опять вывести из состояния невыразимо глубокой
бессмысленности и поднять до степени человека-гения
Первая из этих операций состоит в том, чтобы искалечить
первоначальный моток нитей и внести беспорядок во все
остальное, а вторая в том, чтобы восстановить в мотке
разорванные нити и предоставить все прочее свободному
развитию. Пример. Я отнимаю у Ньютона оба слуховых
побега, и он не воспринимает больше звуков; я отнимаю
у него носовые, и он не чувствует запаха; я отнимаю зри-
тельные, и он не видит цвета; я отнимаю вкусовые, и он
лишается вкуса; затем я разрушаю или спутываю осталь-
ные, и гибнет вся организация мозга: память, способность
к суждению, желания, страсти, воля, сознание самого
себя, и вот вам бесформенная масса, в которой сохрани-
лись лишь жизнь и чувствительность.
Б о р д е. Два свойства почти идентичные: жизнь —
агрегат, чувствительность — ее элемент.
Леспинас. Я снова беру эту массу и восстановляю
165
последовательно побеги: носовые — она чувствует запах,
слуховые — она слышит, зрительные — она видит, вкусо-
вые — она различает вкус. Я предоставляю свободу раз-
вития остальным побегам и вижу, как возрождаются па-
мять, способность к сравнению и суждению, разум, жела-
ния, страсти, талант, все способности организма, и вот
снова предо мною человек-гений, и все это сделано без
вмешательства какого-нибудь постороннего и непонят-
ного фактора 1.
Б о р д е. Чудесно. Придерживайтесь этих принципов,
а остальное — галиматья... Но абстракции и воображе-
ние? Воображение — это память о формах и цветах. Вид
какой-нибудь сцены, какого-нибудь предмета по необхо-
димости известным образом настраивает чувствующий
инструмент, а затем он или сам по себе уже настраивается
на воспоминание об этом, или какая-нибудь посторонняя
причина вызывает в нем это воспоминание, и он тихо
звучит внутри или гремит снаружи, бесшумно перераба-
тывает в себе полученные впечатления или изливается
в соответствующих звуках.
Д а л а м б е р. Но в его рассказе есть преувеличения;
он игнорирует некоторые обстоятельства, прибавляет дру-
гие, искажает факт или прикрашивает его; смежные чув-
ствующие инструменты воспринимают впечатления, заим-
ствованные у того инструмента, который звучит, а не от
исчезнувшей вещи.
Борде. Правда. Рассказ бывает историческим или
поэтическим.
Д а л а м б е р. Но как эта поэзия или эта ложь вво-
дятся в рассказ?
Борде. С помощью последовательно пробуждаю-
щихся идей; они пробуждаются одна за другой, потому
что всегда связаны одна с другой... Если вы взяли на себя
смелость сравнивать животное с клавесинами, то, ко-
нечно, позволите мне сравнить поэтический рассказ с пе-
нием.
Даламбер. Сравнение правильное.
Борде. В каждой мелодии есть гамма, у гаммы —
свои интервалы, у каждой струны — созвучные ей струны.
Таким образом вводятся в мелодию модуляции, и песнь
обогащается разнообразием звуков. Дан только извест-
№
ный мотив, и уж каждый музыкант чувствует его по-
сЬоему.
Леспинас. Но для чего затемнять вопрос этим
фигуральным стилем? Я сказала бы, что каждый, имея
свои глаза, видит и рассказывает различно. Я сказала
бы, что каждое представление пробуждает другие пред-
ставления и что каждый сообразно со своей головой или
своим характером придерживается представлений, точно
воспроизводящих факт, или вводит в них воскресшие
в нем представления; что можно сделать между ними
выбор; что можно написать целую книгу по одному
этому предмету, если основательно рассматривать его.
Даламбер. Вы правы. Это не помешает мне спро-
сить доктора, убежден ли он в том, что форма, ни на что
не похожая, никогда не зародится в воображении и не
воспроизведется в рассказе.
Б о р д е. Убежден. Порождаемый этой способностью
энтузиазм играет роль таланта у тех шарлатанов, которые
из множества раскромсанных животных создают чудо-
вище, какого никогда не видели в природе.
Даламбер. А абстракции?
Б о р д е. Их нет. Существуют только обычные фигуры
умолчания, эллипсисы, которые делают предложения
более общими и речь — более быстрой и удобной. Словес-
ными знаками языка порождены абстрактные науки. Ка-
чество, общее многим действиям, дало начало словам:
«порок», «добродетель»; качество, общее многим суще-
ствам, дало начало словам: «уродливость» и «красота».
Сначала говорили: один человек, одна лошадь, два жи-
вотных, а потом стали говорить: один, два, три; отсюда
зародилась вся наука о числах. Представления о том, что
выражено в абстракции, у людей нет. Были подмечены
во всех телах три измерения: длина, ширина, высота;
занялись каждым из них — отсюда все математические
науки. Всякая абстракция — не что иное, как пустой знак
представления. Представление исключили, отделив знак
от физического предмета, и познание представлений ста-
новится возможным только при условии сведения знаков
к физическим предметам; отсюда необходимость часто
обращаться в разговорах и литературных работах к при-
мерам. Когда вы, прослушав пространную комбинацию
словесных знаков, просите примера, вы обязываете собе-
167
седника ни к чему иному, как к тому, чтобы он придал
своим звукам телесную оболочку, оформил их, сделав
реальными, сведя к испытанным ощущениям.
Даламбер. Ясно ли это вам, мадемуазель?
Леспинас. Не совсем, но доктор ведь объяснит?
Б о р д е. Вам понятно и без объяснений. Остается,
может быть, внести кое-какие поправки и многое приба-
вить к тому, что я сказал, но сейчас половина двенадца-
того, а у меня в полдень консультация на Маре 1.
Даламбер. Этот ответ, конечно, весьма удобен!
Разве люди точно понимают друг друга, доктор?
Б о р д е. Почти всякий разговор есть таблица гото-
вых ответов... Где же моя палка?.. В головах собеседни-
ков нет ясных представлений... А шапка?.. И в силу того,
что ни один человек не бывает совершенно похож на дру-
гого, мы никогда точно не понимаем и никогда не бываем
точно поняты; есть всегда кое-что большее или меньшее
того, что понятно; наша речь всегда или не исчерпывает
ощущения, или переступает его пределы. Всякий заме-
чает, какое существует различие в суждениях людей; на
самом деле оно в тысячу раз больше, но мы не замечаем
его и, к счастью, может быть, не заметим... До свидания.
Леспинас. Еще одно слово, пожалуйста.
Б о р д е. Говорите поскорее.
Леспинас. Вы помните скачки, о которых вы го-
ворили мне?
Борде. Да.
Леспинас. Думаете ли вы, что глупцы и умные
люди делают такие скачки в ряде поколений?
Борде. Почему бы нет?
Леспинас. Тем лучше для наших внуков — может
быть, вернется какой-нибудь Генрих IV.
Борде. Может быть, все вернется.
Леспинас. Доктор, вы должны прийти к нам обе-
дать.
Борде. Если смогу, не обещаю; ведь вы примете
меня, если я приду?
Леспинас. Мы будем ждать вас до двух часов.
Борде. Согласен.
ФИЛОСОФСКИЕ ПРИНЦИПЫ;
О МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИИ
Я не знаю, какой смысл надо придавать предположе-
нию философов о том, что материя индиферентна к дви-
жению и покою. Несомненно, что все тела тяготеют друг
к другу, что все в этой вселенной находится или в состоя-
нии перемещения, или in nisu, или одновременно и в том
и в другом состоянии.
Это предположение философов походит, может быть,
на предположение геометров, которые допускают суще-
ствование точек без измерения, линий без ширины и глу-
бины, поверхностей без плотности. Или, может быть, они
говорят об относительном покое, о покое одной массы по
отношению к другой. Все находится в относительном по-
кое на судне, терзаемом бурей. Нет ничего там в абсо-
лютном покое, даже составные молекулы судна, заклю-
чающихся в нем тел, не находятся в абсолютном покое.
Если философы полагают, что во всяком теле одина-
кова тенденция и к покою и к движению, то они, оче-
видно, считают материю гомогенной 1, абстрагируют от
нее все присущие ей свойства, смотрят па нее как на
неизменяемую в почти неделимый момент их спекуляции,
рассуждают, об относительном покое, о покое одного
агрегата по отношению к другому; забывают, что в то
время как они рассуждают об индиферентности тела
к движению или покою, в глыбе мрамора происходит
процесс разложения; уничтожают мысленно и всеобщее
движение, одушевляющее все тела, и их взаимное дей-
ствие, которое их все разрушает; эта индиферентность,
хотя и мнимая сама по себе, но мгновенная, не сделает
законы движения неправильными.
Тело, по мнению некоторых философов, не одарено
само по себе ни действием, ни силой. Это — ужасное за-
169
блуждение, стоящее в прямом противоречии со всякой
физикой, со всякой химией. Само по себе, по природе
присущих ему свойств, тело полно действия и силы, бу-
дете ли вы рассматривать его в молекулах или в массе.
Чтобы представить себе движение,— прибавляют
они,— вне существующей материи, следует вообразить-
силу, действующую на нее. Это не так. Молекула, ода-
ренная присущим ей свойством, сама по себе есть сила
активная. Она воздействует на другую молекулу, которая
в свою очередь воздействует на первую. В основе всех
этих паралогизмов 1 лежит ложное предположение о го-
могенной материи. Представляя себе так хорошо материю
спокойной, можете ли вы вообразить себе огонь в состоя-
нии покоя? В природе все обладает разнообразным дей-
ствием подобно той совокупности молекул, которую вы
называете огнем. Каждая молекула этой совокупности,
называемой огнем, имеет свою природу, свое действие.
Вот истинная разница между покоем и движением:
абсолютный покой — абстрактное понятие, не существую-
щее в природе; движение же есть такое же реальное
свойство, как длина, ширина, глубина. Какое мне дело
до того, что происходит в вашей голове? Какое мне дело
до того, что вы рассматривали материю как гомогенную
или гетерогенную? Какое мне дело до того, что, отвле-
каясь от ее свойств и принимая во внимание лишь ее су-
ществование, вы увидели ее в состоянии покоя? Какое
мне дело до того, что вследствие этого вы искали причину,
приводящую ее в движение? Вы можете делать из гео-
метрии и метафизики все, что угодно; но я, физик и хи-
мик, который берет тела такими, каковы они бывают
в природе, а не в моей голове,— я вижу их жизнедеятель-
ными во всем их разнообразии, одаренными свойствами,
способностью к действиям и подвижными во вселенной
так же, как и в лаборатории, где искра в соединении
с тремя комбинированными молекулами селитры, угля и
серы неизбежно вызывает взрыв.
Тяжесть не есть тенденция к покою; это — тенденция
к местному движению.
Чтобы материю привести в движение, говорят еще,
нужно действие, нужна сила. Да, или сила внешняя по
отношению к молекуле, или внутренняя, интимная, при-
сущая молекуле, конституирующая ее природу, делающая
170
ее молекулой огня, воды, селитры, азота, щелочи; какова
бы ни была ее природа, из нее исходит сила, действую-
щая вне ее, и из других молекул тоже исходят силы, дей-
ствующие на нее.
Сила, действующая на молекулу, иссякает; сила, при-
сущая молекуле, не иссякает; она неизменна, вечна. Эти
две силы могут производить два рода nisus: первый —
прекращающийся, второй — никогда не прекращающийся.
Следовательно, абсурдно говорить, что у материи имеется
реальное противодействие движению.
Количество силы постоянно в природе, но сумма nisus
и сумма транслаций 1 переменны. Чем больше сумма
nisus, тем меньше сумма транслаций, и обратно: чем
больше сумма транслаций, тем меньше сумма nisus. По-
жар, охвативший город, увеличивает сумму транслаций
внезапно на чудовищную величину.
Атом движет мир; нет ничего вернее этого положения;
это так же верно, как и то, что атом движим миром; по-
скольку у атома есть собственная сила, она не может
оставаться без действия.
Физику никогда не следует говорить: тело — как тело,
ибо тогда нечего делать физике; это — дело абстракции,
которая ни к чему не приводит.
Не следует смешивать действия с массой. Возможны
большая масса и маленькое действие. Возможны неболь-
шая масса и большое действие. Молекула воздуха взры-
вает стальную глыбу. Четырех гран пороха достаточно,
чтобы рассечь скалу.
Да, конечно, когда сравнивают гомогенный агрегат
с другим агрегатом из той же гомогенной материи, когда
говорят о действии и противодействии этих двух агрега-
тов, тогда энергии прямо пропорциональны массам. Но
когда речь идет о гетерогенных агрегатах, о гетерогенных
молекулах, тогда действуют другие законы. Существует
столько разнообразных законов, сколько разнообразия
в силе, свойственной и присущей каждой элементарной и
конститутивной молекуле тел.
Тело сопротивляется горизонтальному движению. Что
это значит? Хорошо известно, что есть общая всем моле-
кулам обитаемого нами шара сила, которая оказывает
давление в известном направлении, перпендикулярном
или почти перпендикулярном поверхности шара, но эта
171
главная и всеобщая сила встречает противодействие от
сотни тысяч других. Нагретая стеклянная трубочка за-
ставляет развеваться листочки золота. Ураган наполняет
воздух пылью; жар заставляет воду испаряться, испаряю-
щаяся вода уносит с собой молекулы соли. Между тем
как медная масса давит на землю, воздух действует на
медь и окисляет ее поверхность, вследствие чего начи-
нается разрушение этого тела; сказанное мною о массах
относится и к молекулам.
Всякую молекулу нужно рассматривать как одушев-
ленную тремя родами действий: действием тяжести, или
тяготения, действием ее интимной силы, свойственной ее
природе как молекулы воды, огня, воздуха, серы, и дей-
ствием всех других молекул на нее. Может случиться, что
эти три действия будут сходящимися или расходящимися.
Если они сходящиеся, молекула будет одарена самым
сильным действием, какое только может у нее быть. Что-
бы составить себе представление об этом величайшем
действии, нужно было бы вообразить, так сказать, целую
кучу абсурдных предположений, поставить молекулу
в совершенно метафизическое положение.
В каком смысле можно сказать, что тело тем больше
сопротивляется движению, чем больше его масса? Не
в том, что, чем больше его масса, тем слабее его давление
на препятствие. Нет носильщика, который не знал бы, что
это не так: это так только относительно направления,
обратного его давлению. В этом направлении, конечно,
оно тем больше сопротивляется движению, чем больше
его масса. Несомненно также, что в том направлении,
в котором давит тяжесть, его давление, или сила, или
тенденция к движению увеличивается пропорционально
его массе. Какое все это имеет значение? Никакого.
Я не удивляюсь, видя, как падает тело, как пламя под-
нимается вверх, как вода давит во все стороны и давит
в зависимости от высоты и основания с такой силой, что
небольшим количеством жидкости я могу разбить очень
крепкие вазы; как расширяющийся пар растворяет самые
крепкие тела в папиновом котле 1 и поднимает самые тя-
желые в паровых машинах. Но я останавливаю свои
взоры на общей массе тел и вижу все в состоянии дей-
ствия и противодействия: все гибнет в одной форме и
восстанавливается в другой, повсюду — всевозможные
172
сублимации 1, диссолюции 2, комбинации — явления, не-
совместимые с гомогенностью материи. Отсюда я делаю
вывод, что материя гетерогенна; что существует в при-
роде бесконечное количество разнообразных элементов;
что у каждого из этих элементов благодаря его разно-
образию имеется своя, особая внутренняя непреложная
вечная, неразрушимая сила и что эти присущие телу
силы имеют свои действия вне тела; отсюда рождается
движение или всеобщее брожение во вселенной.
Что делают философы, ошибки и паралогизмы кото-
рых я опровергаю здесь? Они хватаются за одпу-едии-
ственную силу, может быть, общую всем молекулам ма-
терии. Я говорю: может быть, ибо я не был бы удивлен,
если бы в природе была такая молекула, которая, соеди-
нившись с другой, делала бы происходящую в результате
смесь более легкой. Каждый день в лаборатории подвер-
гают испарению одно инертное тело с помощью другого
инертного, и когда те, которые, видя во вселенной одно
только действие тяготения, заключают отсюда об ипди-
фереитности материи к покою или движению, или, лучше
сказать, о тенденции материи к покою, и думают, что они
решили вопрос,— на самом деле они его даже не затро-
нули.
Когда рассматривают тело как более или менее со-
противляющееся, а не тяжелое или стремящееся к центру
тяготения, в нем уже признают присутствие силы, свой-
ственного и присущего ему действия; но есть много дру-
гих сил и действий, из которых одни оказывают всесто-
роннее воздействие, а другие имеют особые направления.
Предположение о каком-нибудь существе, стоящем
вне материальной вселенной, невозможно. Микогда не
следует делать подобных предположений, потому что из
них никогда нельзя сделать никакого вывода.
Все, что говорят о невозможности ускорения движе-
ния или быстроты, наносит удар гипотезе о гомогенной
материи. Но что от этого тем, которые выводят движение
в материи из ее гетерогенности? Предположение о гомо-
генной материи чревато многими другими несообраз-
ностями.
Когда люди откажутся рассматривать вещи в своей
голове и будут рассматривать их во вселенной, тогда они
на основании разнообразия в явлениях убедятся в раз-
173
нообразии элементарных веществ, в разнообразии сил,
в разнообразии действий и противодействий, в необходи-
мости движения; а допустив все эти истины, они не будут
больше говорить: я вижу материю существующей, я вижу
ее сначала в покое,— ибо спи почувствуют, что это значит
допускать абстракцию, из которой нельзя сделать ника-
ких выводов. Существование не вызывает ни покоя, ни
движения; но существование не есть единственное свой-
ство тел.
Физики, предполагающие материю индиферентной
к движению и покою, не имеют ясного представления
о сопротивлении. Для того, чтобы они могли сделать
какой-нибудь вывод из факта сопротивления, нужно было
бы, чтобы это свойство проявлялось безразлично во всех
направлениях и чтобы его энергия оставалась одинако-
вой во всяком направлении. Но тогда это была бы при-
сущая телу сила,— такая, какая есть у всякой молекулы;
но это сопротивление варьирует сообразно направле-
ниям, по которым могут толкать тело; оно больше в вер-
тикальном, чем в горизонтальном направлении.
Разница между тяжестью и силой инерции заклю-
чается в том, что тяжесть сопротивляется неодинаково во
всех направлениях, а сила инерции одинаково во всех
направлениях.
И почему бы силе инерции не вызывать эффекта удер-
жания тела в состоянии покоя и в состоянии движения
только благодаря понятию сопротивления, пропорцио-
нального количеству материи? Понятие чистого сопро-
тивления одинаково прилагается к покою и к движению;
к покою, когда тело в движении, к движению, когда тело
в покое. Без такого сопротивления не могло бы быть
толчка перед движением и остановки после толчка, ибо
тело было бы ничто.
В опыте с шаром, подвешенным на нитке, тяжесть
уничтожается. Шар тянет нитку с такой же силой, с ка-
кой нитка тянет шар. Следовательно, сопротивление тела
исходит только из силы инерции.
Если бы нитка тянула шар сильнее, чем тяжесть его,
шар поднялся бы. Если бы тяжесть тянула шар сильнее
нитки, он опустился бы вниз, и т. д. и т. д.
БОГ И ЧЕЛОВЕК
Сочинение де Вальмира
Я совершенно не знаю господина де Вальмира. Его
сочинение, несмотря на всю свою бессмысленность, могло
бы произвести достаточно шума, чтобы поставить под
угрозу свободу автора, если бы оно было написано с тем-
пераментом и фантазией. Господин де Вальмир обязан
своим спокойствием схоластической темноте и плохому
стилю произведения. Этот метафизик признает существо-
вание бога, но одновременно объясняет все функции души
механическими и материальными причинами. Он из кожи
лезет вон, чтобы доказать возможность троицы; он рас-
сматривает разум, силу и любовь как три разные субстан-
циальные начала, но отказывается признать их тремя ипо-
стасями бога. Несмотря на все свое уважение к богосло-
вам, он не может переварить эту ерунду. Он выступает
как защитник свободы мысли. По его мнению, идеи,
мысли суть свойства материи. Свобода воли является са-
мой невероятной мыслью, которая когда-либо рождалась
в голове существа, скованного мировым порядком вещей.
Свобода воли могла бы быть лишь в том случае, если бы
во вселенной существовало немного свободы, и молекула
влекла бы за собой время вместо того, чтобы быть им вле-
комой. Следовательно бог не обладает свободой. Не сво-
боден и человек. Однако каким образом человек, не обла-
дая свободой, чтобы грешить, может обрести заслуги пе-
ред богом? Каким образом? По той причине, что человек,
без всякой вины подвергнутый наказаниям, должен же
быть вознагражден 1. Господин де Вальмир всячески ко-
кетничает с богословами. Он берется обосновать первород-
ный грех, таинство пресуществления и все остальное. Этот
человек совершенно не раскусил богословов, с которыми
имеет дело. Они ни в какой степени не будут ему призна-
175
тельны за те убогие аргументы, которые даны им в защи-
ту богословия. Но они сожгут его живьем за одно слово,
способное шокировать их. Светские люди не узнают даже
о существовании этой книги. Она будет перелистана
разве только такими мрачными мечтателями, как я. У су-
масбродов, подобных нашему автору, отсутствует одна хо-
рошая черта, значения которой они не почувствовали, но
которой умеем пользоваться мы. Скольких людей эта про-
клятая метафизика превратила в сумасшедших! О, мои
друзья! Какое вам дело до того, существуют ли бог, дья-
вол, ангелы, рай и ад! Разве вы не знаете, что хотите быть
счастливыми и что это желание имеется также у других.
Разве вам не известно, что настоящее блаженство заклю-
чается в том, что все люди нуждаются друг в друге, и что
вы ожидаете помощи от себе подобных точно так же, как
они ждут ее от вас 1. Разве для вас тайна, что если вас не
будут любить, уважать и почитать, то на вашу долю до-
станутся презрение и ненависть? Разве не ясно, что лю-
бовь, уважение и почтение обретаются добрыми людьми?
Итак, совершайте добро, пока вы существуете, и усни-
те вечным сном, также мало беспокоясь о том, что с вами
будет после вашей смерти, как мало вы беспокоитесь о
том, чем вы были за несколько сот лет до своего рожде-
ния. Нравственный мир так тесно связан с миром физиче-
ским, что трудно предположить, чтобы они не были ча-
стями одной и той же машины. Вы были лишь атомом
этого великого целого, время вновь превратит вас в его
мельчайшую частицу. Пройдя это расстояние между
двумя атомами, вы претерпели множество метаморфоз. Из
этих метаморфоз наиболее важна та, при которой вы хо-
дили на двух ногах. Только с нею связано наличие созна-
ния. Только в этом состоянии вы благодаря воспоминанию
о ваших последовательных действиях осознаете себя инди-
видом, называемым л. Сделайте так, чтобы это я уважало
и почитало себя и пользовалось уважением и почтением
современников и тех, кто придет после них.
Вы будете в мире с самим собой, если находитесь в
мире с другими, и наоборот. И не смешивайте цикуту с
петрушкой. Это легче сделать, чем ошибиться в наиболее
простых истинах метафизики.
ДОБАВЛЕНИЕ
К «ПУТЕШЕСТВИЮ» БУГЕН БИЛЛЯ
I. Обсуждение «Путешествия» Бугенвилля
A. Это великолепное звездное небо, под покровом ко-
торого мы вернулись вчера и которое, казалось, обещало
нам прекрасную погоду, не сдержало своего слова.
B. Откуда вы это знаете?
A. Туман такой густой, что скрывает от нас соседние
деревья.
B. Это правда. Но этот туман, который держится в низ-
ших слоях атмосферы лишь потому, что в них — избыток
влаги, может ведь опуститься на землю?
A. Но он может и, наоборот, подняться вверх, в выс-
шие слои воздуха — туда, где последний не так плотен и,
как говорят химики, не насыщен.
B. Придется подождать.
A. Да, но чем вы займетесь в ожидании?
B. Я читаю.
A. Все еще это путешествие Бугенвилля?
B. Да, все еще его.
A. Я совершенно не понимаю этого человека. Молодые
годы он отдал занятиям математикой, требующим, как из-
вестно, сидячего образа жизни, и вот внезапно он поки-
дает эту созерцательную и уединенную жизнь, чтобы про-
менять ее на полную труда и деятельности профессию ски-
тающегося путешественника.
B. Это не совсем так. Если корабль — не что иное как
пловучий дом и если вы обратите внимание на то, что мо-
реплаватель, странствующий по необъятным морям, ос-
тается заключенным и неподвижным в довольно тесном
помещении, то он вам представится совершающим круго-
светное путешествие на доске подобно тому как мы с вами
совершаем путешествие вокруг вселенной на вашем пар-
кете.
177
Л. Другая бросающаяся в глаза странность — это про-
тиворечие между характером Бугенвилля и его затеей.
У Бугенвилля есть склонность к светским развлечениям,
он любит женщин, зрелища, хороший стол. Он с такой же
легкостью втягивается в вихрь светской жизни, с какой
полагается на непостоянство водной стихии. Он любезен и
весел: это настоящий француз плюс, с одной стороны,
трактат по дифференциальному и интегральному исчис-
лению, а с другой стороны, кругосветное путешествие.
В. Он поступает так, как все люди: он старается рас-
сеяться после занятий и занимается после того как вел
рассеянный образ жизни.
A. Что вы думаете о его «Путешествии»?
B. Насколько я могу судить о нем на основании до-
вольно поверхностного чтения, положительные результаты
его можно свести к трем главным пунктам: благодаря ему
мы теперь будем лучше знать наше старое жилище и — его
обитатели — будем чувствовать себя безопаснее на тех
морях, которые Бугенвилль объехал с лотом в руках, и
наши географические карты будут составлены лучше.
Бугенвилль отправился в свое путешествие, обладая необ-
ходимыми для этой цели знаниями и качествами: фило-
софским складом ума, мужеством, правдивостью, взгля-
дом, быстро улавливающим положение вещей и сокра-
щающим время наблюдений, осторожностью, терпением,
желанием наблюдать и учиться, знанием математики, ме-
ханики, геометрии, астрономии и достаточными сведения-
ми в естественной истории.
A. А что вы скажете о его стиле?
B. Он лишен вычурности. Естествен, прост и ясен, осо-
бенно для человека, владеющего языком моряков.
A. Долог ли был его путь?
B. Я начертил его на этом глобусе. Видите ли вы эту
линию из красных точек?
A. Которая начинается у Нанта?
B. И направляется до Магелланова пролива, входит
в Тихий океан, извивается между этими островами, обра-
зующими огромный архипелаг, который простирается от
Филиппинских островов до Новой Голландии, почти ка-
сается Мадагаскара, мыса Доброй Надежды, продолжает-
ся в Атлантическом океане, следуя вдоль берегов Африки,
178
И заканчивается у исходного пункта путешествия нашего
мореплавателя.
A. Он много страдал?
B. Любой мореплаватель идет добровольно на риск
всяких опасностей, связанных с воздухом, огнем, землей и
водой. Но как тяжело, проскитавшись многие месяцы
между морем и небом, между жизнью и смертью, пере-
нося бури, рискуя погибнуть от кораблекрушения, болез-
ней, недостатка воды и хлеба, быть вынужденным, уми-
рая от усталости и нужды, с разбитым кораблем, пасть к
ногам бесчувственного чудовища, которое отказывает ему
или безжалостно заставляет его ожидать столь необходи-
мой помощи!..
Л. Такое преступление заслуживает наказания.
В. Это одно из тех бедствий, на которые путешествен-
ник не рассчитывал.
A. И не должен был рассчитывать. Я думал, что евро-
пейские державы ставили во главе своих заморских вла-
дений только порядочных и добрых людей, людей гуман-
ных, способных отнестись сострадательно...
B. Да, очень это их интересует!
A. В «Путешествии» Бугенвилля есть любопытные ме-
ста?
B. Много.
A. Не уверяет ли он, будто дикие животные прибли-
жаются к человеку, будто птицы садятся на него, не зная,
как опасно это фамильярное обращение с ним?
B. Другие писали об этом еще до него.
A. Как объясняет он присутствие известных животных
па островах, отделенных от всякого материка огромными
пространствами моря? Кто занес туда волка, лисицу, со-
баку, оленя, змею?
B. Он ничего не объясняет; он только констатируем
факты.
A. А как вы объясняете их?
B. Кто знает первобытную историю земного шара?
Сколько разрозненных теперь частей суши составляли не-
когда непрерывное целое? Некоторую догадку можно со-
ставить себе только об одном явлении — это о направле-
нии водных масс, разделивших их между собою.
A. Каким образом?
B. Благодаря форме разрывов земной поверхности.
179
Когда-нибудь, если вам угодно, мы займемся этим вопро-
сом. А теперь, видите ли вы этот островок, который назы-
вают островом Копейщиков? Глядя на место, зани-
маемое им па земном шаре, нельзя не спросить себя: кто
поселил там людей? Каким образом общались они некогда
с остальным человечеством? Как могут они размножаться
на пространстве не более одного лье в диаметре?
A. Они истребляют и поедают друг друга. И этим, мо-
жет быть, объясняется первая, древнейшая и вполне есте-
ственная эпоха людоедства, имеющая таким образом
островное происхождение.
B. А может быть, размножение там ограничено каким-
нибудь религиозным законом. Мать, послушная велениям
жрицы, душит ребенка еще в своей утробе.
A. Или же мужчина умирает под ножом жреца. Или
же там прибегают к кастрированию мужчин...
B. Либо к замыканию кольцом половых частей жен-
щины; и этим объясняется вся та масса диких, жестоких и
необходимых обычаев, причина которых затерялась во
мраке времен, не давая покоя философам. Можно заме-
тить как довольно постоянный факт, что религиозные и
божественные установления укрепляются и упрочиваются,
превращаясь в конце концов в гражданские и государ-
ственные законы, и что гражданские и государственные
установления освящаются и превращаются, вырождаясь,
в религиозные и божественные предписания.
A. Это одна из самых пагубных форм палингенезии 1.
B. Лишнее звено в той цепи, которою сковали нас.
A. Не находился ли Бугенвилль в Парагвае в то самое
время, когда там происходило изгнание иезуитов 2?
B. Да.
A. Что пишет он об этом?
B. Меньше, чем он мог бы написать. Но достаточно все
же, чтобы сообщить нам, что эти жестокие спартанцы в
черной рясе обращались со своими рабами-индейцами
так, как лакедемоняне с илотами, что они обрекли их на
непрерывный труд, жирели от плодов их пота, не оста-
вив им совершенно права собственности, держали их в
тисках суеверия, требовали от них величайшего почита-
ния, ходили среди них с бичом в руках, стегая им одина-
ково старцев и детей, мужчин и женщин. Если бы это по-
ложение вещей продлилось еще сто лет, их нельзя было
180
бы изгнать без длительной войны между монахами и госу-
дарем, авторитет которого они мало-помалу потрясли 1.
A. А что говорит Бугепвилль о патагонцах, о которых
так нашумели доктор Мати и академик Лакондамин 2?
B. Это — славные люди, которые подходят к вам и об-
нимают вас, восклицая: «Шауа»; сильные, крепкие, но ро-
стом во всяком случае не больше пяти футов и пяти или
шести дюймов, они — только крупного телосложения, с
большой головой и крупными членами.
Может ли человек с его природной склонностью к чу-
десному, преувеличивающей все вокруг него, сохранить
правильную пропорцию в вещах, когда ему приходится,
так сказать, оправдать свой длинный и мучительный путь,
проделанный, чтобы увидеть их?
A. А что думает Бугепвилль о дикарях?
B. Наблюдаемая у них иногда жестокость объясняется,
повидимому, необходимостью повседневной защиты от
диких зверей. Дикари невинны и кротки там, где ничто не
нарушает их покоя и безопасности. Всякая война имеет
своим корнем общее притязание на одну и ту же собствен-
ность. У цивилизованного человека имеется общее с дру-
гим цивилизованным человеком притязание на обладание
полем, обоими концами которого они владеют, и это поле
становится предметом раздора между ними.
A. А у тигра общее с дикарем притязание на обладание
лесом, и это — первое из всех притязаний и причина древ-
нейших войн... Видели ли вы того таитянина, которого Бу-
гепвилль привез с собой сюда?
B. Да, его звали Аотуру. Первую увиденную им землю
он принял за родину путешественников; потому ли, что от
него скрыли продолжительность путешествия, потому ли,
что он был естественно обманут незначительным, как ему
казалось, расстоянием, отделяющим берег моря, где он
жил, от того места, где небо как будто сходится с гори-
зонтом, ибо он не знал истинных размеров земли. Пред-
ставление об общности женщин так крепко сидело в его
мозгу, что он набросился на первую встретившуюся ему
европеянку и собирался поступить с ней по таитянским
правилам вежливости. Он скучал среди нас. Так как таи-
тянский алфавит не имеет ни b, ни с, ни d, ни f, ни g, ни
q, ни х, ни y, ни z, то он никогда не мог научиться нашему
языку, в котором оказалось слишком много странных ар-
181
тикуляций и новых звуков для его мало гибких органов
речи. Он не переставал тосковать по своей стране, и я
нисколько не удивляюсь этому. Путешествие Бугенвилля—
единственное, описание которого вызвало у меня интерес
к другой стране, помимо своей родины. До того как про-
читал его, я думал, что нигде не чувствуешь себя так хо-'
рошо, как у себя дома. Я думал, что то же самое чувство
испытывают все люди и что это объясняется естественны-
ми чарами родной почвы — чарами, зависящими от
удобств, которыми пользуешься дома и найти которые в
другом месте нет уверенности.
A. Как! вы полагаете, будто парижанин может сомне-
ваться, что в окрестностях Рима пшеница растет так же,
как и на полях провинции Бос?
B. Право, сомневаюсь. Бугенвилль отослал назад Ао-
туру, взяв на себя все издержки по переезду и уверившись
в том, что его доставят домой.
A. О Аотуру! С какой радостью ты увидишь снова сво-
его отца, свою мать, своих братьев, своих сестер, свою
возлюбленную, своих соотечественников! Что ты им рас-
скажешь о нас?
B. Вероятно, весьма немногое, да и этому они не по-
верят.
A. Почему весьма немногое?
B. Потому что он понял немногое и потому что он не
найдет в своем языке никаких слов, соответствующих тем
вещам, о которых он себе составил некоторое представле-
ние.
A. А почему они не поверят этому?
B. Потому что, сравнивая свои нравы с нашими, они
предпочтут принять Аотуру за лгуна, чем счесть нас столь
безумными.
A. Вы это серьезно говорите?
B. Я в этом не сомневаюсь; дикая жизнь так проста,
а наши общества представляют собой столь сложные
строения! Таитяне находятся у начала мира, а европейцы
у конца его. Расстояние, отделяющее их от нас, больше
расстояния от новорожденного ребенка до дряхлого стар-
ца. Они ничего не понимают в наших обычаях, в наших
законах, в которых они видят только облеченные в сотни
различных форм препятствия, способные вызвать лишь
182
негодование или презрение со стороны существа, у кото-
рого чувство свободы — самое глубокое из чувств.
A. Неужели вы готовы поверить всем этим басням на-
счет Таити?
B. Это вовсе не басни, и вы перестали бы сомневаться
в правдивости Бугеивилля, если бы познакомились с «До-
бавлением» к его путешествию.
A. А где можно найти это «Добавление»?
B. Вот там, на том столе.
A. Можете ли вы мне дать его на дом?
B. Нет, но, если вы хотите, мы можем пробежать его
вместе.
A. Разумеется, я хочу этого. Но вот туман начинает
рассеиваться, и показывается уже небесная синева. Мне,
кажется, по отношению к вам суждено быть неправым
даже в мелочах; только моя редкая доброта позволяет
мне прощать вам столь постоянное превосходство.
B. Возьмите, возьмите, читайте. Пропустите это неин-
тересное предисловие и приступите сразу к прощальным
словам, с которыми обратился один из вождей острова к
нашим путешественникам. Это даст некоторое представ-
ление о красноречии этих людей.
A. Как мог Бугенвилль понять прощальные слова, про-
изнесенные на незнакомом ему языке?
B. Вы это узнаете из дальнейшего.
II. Прощальные слова старика
Эти прощальные слова были сказаны одним стариком;
он был отцом многочисленного семейства. По прибытии
европейцев он взглянул на них с пренебрежением, не вы-
разив ни удивления, ни страха, ни любопытства. Они за-
говорили с ним, он отвернулся от них и удалился в свою
хижину. Его молчание и озабоченный вид достаточно ясно
обнаруживали его мысли; в глубине души он скорбел о
том, что закатились прекрасные дни его родины. При отъ-
езде Бугеивилля, когда островитяне сбежались толпой на
берег, хватались за его платье, обнимали его товарищей
и плакали, этот старец вышел вперед с суровым лицом и
произнес следующую речь:
«Плачьте, несчастные таитяне, плачьте, но только по
поводу прибытия, а не отъезда этих честолюбивых и дур-
183
ных людей: когда-нибудь вы узнаете их лучше. Когда-
нибудь они вернутся, держа в одной руке кусок дерева,
который прикреплен к поясу вот этого, а в другой — же-
лезо, которое висит на боку у того; они вернутся, чтобы
поработить вас, истребить или заставить подчиняться всем
их прихотям и порокам. Когда-нибудь вы будете их раба-
ми, столь же испорченными, столь же низкими, столь же
несчастными, как они. Но я утешаюсь тем, что приближа-
юсь к концу своего жизненного поприща и не увижу воз-
вещаемых мною вам бедствий. О, таитяне, друзья мои!
В ваших руках есть одно средство избавиться от этого
пагубного будущего. Но я предпочитаю умереть, чем по-
советовать его вам. Оставим их в живых, и пусть они уда-
лятся».
Затем, обратившись к Бугенвиллю, он прибавил: «Л
ты, вождь послушных тебе разбойников, удались быстрее
со своим кораблем от наших берегов. Мы невинны, мы
счастливы, и ты можешь лишь повредить нашему счастью.
Мы повинуемся чистому инстинкту природы, а ты пытался
вытравить его из наших душ. Здесь все принадлежит всем,
а ты проповедовал нам какое-то неизвестное различие
между твоим и моим. Наши девушки и наши женщины
принадлежат нам всем; ты разделял это преимущество
вместе с нами, но ты пришел и разжег в них неизвестные
страсти. В твоих объятиях они стали безумными; ты стал
в их объятиях жестоким. Они стали ненавидеть друг друга;
вы убивали друг друга из-за них, и они вернулись к нам,
забрызганные вашей кровью. Мы свободны, а ты взял и
закопал в нашу землю документ о нашем будущем раб-
стве. Ты не бог, не демон; какое же право имеешь ты де-
лать рабов? Ору! Ты знаешь язык этих людей; скажи нам
всем, как ты это сказал мне, что они написали на этой ме-
таллической пластинке: «Эта страна принадлежит нам».
Эта страна принадлежит тебе! Но почему? Потому что ты
высадился на ее берег? Что бы ты подумал, если бы ка-
кой-нибудь таитянин высадился вдруг на ваших берегах и
начертал на одном из ваших камней или на коре одного из
ваших деревьев: «Эта страна принадлежит жителям Таи-
ти»? Ты сильнее! Но что же это доказывает. Когда у тебя
похитили одну из тех жалких безделушек, которыми пере-
полнен твой корабль, ты возмутился, ты прибегнул к ме-
сти; в эту же минуту ты замыслил в глубине своей души
184
украсть целую страну. Ты не раб; ты предпочтешь смерть
рабству, а между тем ты хочешь поработить нас! Ты, зна-
чит, думаешь, что таитянин не способен защищать свою
свободу и умереть? Таитянин, которым ты хочешь овла-
деть, как скотиной,— твой брат. Вы оба — дети природы.
Имеешь ли ты какое-нибудь право на него, которого он
не имел бы на тебя? Ты пришел к нам; набросились ли
мы на тебя? разграбили ли мы твой корабль? схватили ли
мы тебя и сделали ли мишенью для наших врагов? заста-
вили ли мы тебя обрабатывать вместе с животными наши
поля? Мы чтили в тебе наш образ. Оставь нам наши нра-
вы. Они мудрее и добродетельнее твоих; мы не желаем
променять того, что ты называешь нашим невежеством,
на твое бесполезное знание. Мы обладаем всем, что необ-
ходимо и полезно нам. Неужели мы заслуживаем презре-
ния за то/ что не сумели создать себе излишних потребно-
стей? Когда мы голодны, у нас есть что поесть; когда нам
холодно, у нас есть во что одеться. Ты был внутри наших
хижин: чего в них нехватало, по твоему мнению? Гоняйся,
сколько хочешь, за тем, что ты называешь жизненными
удобствами, но позволь благоразумным людям остано-
виться, когда они замечают, что могут получить от про-
должения своего тягостного труда лишь мнимые блага.
Если тебе удастся уговорить нас переступить тесные пре-
делы того, что необходимо, то когда перестанем мы тру-
диться, когда сможем мы наслаждаться? Мы постарались
сделать как можно меньшей сумму наших годовых и еже-
дневных усилий, ибо ничто нам не кажется дороже покоя.
Поезжай к себе домой волноваться и мучиться, сколько
тебе угодно, а нас оставь наслаждаться покоем. Не вну-
шай нам ни твоих мнимых потребностей, ни твоих химери-
ческих добродетелей. Взгляни на этих мужчин, посмотри,
какие они стройные, крепкие, здоровые. Взгляни на этих
женщин, посмотри, какие они стройные, здоровые, свежие
и красивые. Возьми этот принадлежащий мне лук, призо-
ви к себе на помощь одного, двух, трех, четырех своих
товарищей и попытайся натянуть его. А я натягиваю его
один. Я обрабатываю землю, я взбираюсь на горы, я рас-
чищаю лесную чащу, я легко прохожу целое лье меньше
чем в час. Твои молодые товарищи с трудом следовали за
мной, а мне уже больше девяноста лет. Горе этому
острову! Горе теперешним таитянам и всем будущим таи-
185
тянам с того дня как ты нас посетил! Мы знали лишь одну
болезнь, которой подвержены одинаково человек, живот-
ное, растение,— мы знали лишь старость, а ты принес нам
другую болезнь,— ты заразил нашу кровь. Нам, может
быть, придется истребить собственными руками своих до-
черей, жен, детей, тех из нас, которые приблизились к
твоим мужчинам. Наши поля оросятся нечистой кровью,
перешедшей из твоих жил в наши; или же наши дети бу-
дут обречены носить в себе ту болезнь, которую ты сооб-
щил отцам и матерям и которую они передадут навсегда
своему потомству. Несчастный! Ты будешь виновен либо
в бедствиях, которые последуют за тлетворными ласками
твоих спутников, либо в убийствах, которые мы должны
будем совершить, чтобы остановить действие их яда. Ты
говоришь о преступлениях! Но знаешь ли ты какое-нибудь
большее преступление, чем совершенное тобой? Как на-
казывают у тебя того, кто убивает своего соседа? Мечом.
Как наказывают у тебя негодяя, который отравляет сво-
его соседа? Огнем. Сравни свое преступление со злоде-
янием этого последнего и назови сам, отравитель наро-
дов, заслуженную тобою казнь. Только недавно молодая
таитянка отдавалась восторгам в объятиях молодого
таитянина, ожидала с нетерпением, чтобы ее мать (при-
няв во внимание, что дочь уже возмужала) сняла с нее
покрывало и обнажила ее грудь. Она гордилась тем, что
возбуждала желание и что влюбленные взгляды незна-
комцев, родных, брата останавливались на ней. Без стыда
и страха она принимала в нашем присутствии, посреди
круга невинных таитян, при звуке флейт, среди плясок,
ласки того, кого намечали ей ее юное сердце и тайный
голос ее чувственности. Вместе с тобой среди нас появи-
лись идея преступления и опасность болезни. Наши неког-
да столь радостные наслаждения отравлены угрызениями
совести и страхом. Этот черный человек, стоящий подле
тебя и слушающий теперь меня, говорил с нашими юноша-
ми; я не знаю что он сказал нашим дочерям, но наши
юноши смущены, но наши дочери краснеют. Удались, если
тебе это нравится, в лесной мрак с извращенной подругой
твоих удовольствий, но разреши добрым и простодушным
таитянам соединяться без стыда перед лицом неба, при
свете дня. Способен ли ты заменить каким-либо более доб-
лестным и великим чувством то чувство, которое мы им
186
внушили и которое воодушевляет их? Они думают, что
наступил момент подарить народу и семейству нового
гражданина, и они гордятся этим. Они едят, чтобы жить
и расти, они растут, чтобы размножаться, и не находят
в этом ничего позорного и постыдного. Выслушай дальней-
шую повесть твоих злодеяний. Едва показался ты среди
них, как они стали ворами. Едва ты сошел па наш берег,
как наша земля задымилась кровью. Вы убили того таи-
тянина, который побежал тебе навстречу и принял тебя
с криками: «Тайо! Друг, друг!». Почему же вы убили его?
Потому что он соблазнился блеском твоих маленьких
змеиных яиц1. Он дал тебе свои плоды, он предложил
тебе свою жену и дочь, он уступил тебе свою хижину, а ты
убил его за горсть этих зерен, которые он взял без спроса.
Л мой народ? При звуке твоего смертоносного оружия,
охваченный страхом, он убежал в горы. Но поверь, что он
скоро спустился бы с них, поверь, что без меня вы погибли
бы все в одну минуту. Ах, почему же я успокоил их? По-
чему же я сдержал их? Почему же я сдерживаю их еще
в эту минуту? Я этого не знаю, ибо ты не заслуживаешь
вовсе сострадания, ибо у тебя жестокое сердце, ни разу не
испытавшее сострадания. Ты вместе со своими прогули-
вался по нашему острову. Тебе оказывали почтение; ты
пользовался всем; на своем пути ты не встречал ни прегра-
ды, ни отказа; тебя приглашали к себе, ты усаживался
среди нас; перед тобой раскрывали все богатства страны.
Если ты хотел молодых девушек, то, за исключением тех,
которые не имеют еще права открывать своего лица и
груди, матери предлагали тебе всех других нагими. Ты
пользовался нежной жертвой долга гостеприимства; для
тебя и для нее устилали землю листьями и цветами; музы-
канты настраивали свои инструменты; ничто не нарушало
сладости и не мешало свободе твоих и ее ласк. Вокруг вас
пели гимн, призывавший тебя стать мужчиной, а наше
дитя — быть женщиной, женщиной уступчивой и сладо-
страстной. Вокруг вашего ложа предавались пляскам, и
вот, выйдя из объятий этой женщины, испытав на ее груди
сладчайшее опьянение, ты убил ее брата, ее друга, может
быть, ее отца. Ты поступил еще хуже. Взгляни в эту сто-
рону, посмотри на эту ограду, утыканную стрелами. Это
оружие, которое должно было угрожать только нашим
врагам, теперь обращено против наших собственных дс-
187
тей; посмотри на несчастных подруг наших удовольствий,
посмотри, как они печальны, посмотри, как скорбят их
отцы, посмотри, в каком отчаянии их матери: здесь они
обречены погибнуть или от наших рук, или от переданной
им тобою болезни. Удались отсюда, если только твои же-
стокие глаза не находят удовольствия в зрелище смерти;
удались, уезжай, и пусть преступное море, пощадившее
тебя в твоем путешествии, очистится от своего греха и
отомстит за нас, поглотив тебя до твоего возвращения до-
мой! А вы, таитяне, вернитесь все в свои хижины. И пусть
эти недостойные чужестранцы услышат при своем отъезде
лишь рев волн и увидят лишь белую пену их, яростно ли-
жущую пустынный берег!».
Едва он окончил свою речь, как вся толпа исчезла; на
всем острове воцарилось молчание, и слышен был только
пронзительный свист ветра и глухой шум воли, ударявших
о побережье. Казалось, будто воздух и море, вняв голосу
старца, готовились повиноваться ему.
В. Ну, что вы думаете об этом?
A. Эта речь кажется мне пламенной. В ней что-то ди-
кое, несвязное, но сквозь эту дикость, мне кажется, про-
глядывают европейские идеи и обороты речи.
B. Не забудьте, что это перевод с таитянского на испан-
ский и с испанского на французский. Старый вождь посе-
тил ночью того самого Ору, к которому он обратился в
своей речи и в хижине которого с незапамятных времен
продолжали пользоваться испанским языком. Ору записал
по-испански речь старца, и у Бугенвилля была в руках
копия, когда таитянин произносил ее.
A. Теперь я понимаю, почему Бугенвилль уничтожил
этот отрывок. Но это еще не все, и мне любопытно узнать
также остальное.
B. Дальнейшее, может быть, вас не заинтересует так
сильно.
A. Все равно.
B. Это — разговор корабельного священника с одним
из островитян.
A. С Ору?
B. Да, с ним. Когда корабль Бугенвилля подошел к
Таити, на воду было спущено бесчисленное множество
выдолбленных стволов; в одно мгновение его судно было
окружено ими. Куда бы он ни обращал свои взоры, он
188
повсюду встречал проявления изумления и благожела-
тельности. Таитяне бросали ему пищу, протягивали ему
руки, цеплялись за веревки, карабкались по доскам на
корабль, забирались в его шлюпку, кричали по направ-
лению к берегу, откуда раздавались ответные крики.
Островитяне сбежались со всех сторон. Когда путеше-
ственники спустились на землю, жители овладели ими,
разделили их между собою; каждый повел гостя в свою
хижину; мужчины обнимали их за талию, женщины гла-
дили их щеки своими руками. Представьте себе мысленно
это зрелище гостеприимства и скажите мне: каким вы на-
ходите человеческий род?
A. Прекрасным.
B. Но я забыл, кажется, рассказать вам о довольно
любопытном происшествии. Эта сцепа благожелательного
человеческого отношения была вдруг нарушена криками
человека, призывавшего к себе па помощь: это был слуга
одного из офицеров Бугенвилля. Молодые таитяне набро-
сились на него, растянули на земле, раздели и намерева-
лись поступить с ним, как предписывали их представления
о вежливости.
A. Как, эти столь простодушные люди, эти столь доб-
рые и славные дикари...
B. Вы заблуждаетесь. Оказывается, что этот слуга
был переодетой в мужское платье женщиной. Весь эки-
паж за все время долгого плавания не догадывался об
этом, а таитяне с первого же взгляда разгадали ее пол.
Она родилась в Бургундии и называлась Барре; она не
была ни красива, ни безобразна; ей было двадцать шесть
лет. Она никогда не покидала своей деревушки, и когда
пустилась в странствие, ее первой мыслью было совер-
шить кругосветное путешествие. Она всегда обнаружи-
вала благоразумие и мужество.
A. В этих хрупких организмах заключаются иногда
очень сильные души.
III. Разговор священника и Ору
B. Когда таитяне разобрали между собой экипаж Бу-
генвилля, священник достался Ору. Священник и таитянин
были почти одного возраста, около тридцати пяти — трид-
цати шести лет. У Ору были тогда лишь его жена и трое
дочерей по имени Асто, Палли и Тиа. Они раздели свя-
189
щенника, обмыли ему лицо, руки и ноги и подали ему здо-
ровый и незатейливый обед. Когда он собирался лечь
спать, Ору, отлучившийся было со своей семьей, появил-
ся снова, представил ему свою жену и своих трех дочерей
обнаженными и сказал ему:
— Ты поужинал, ты молод, ты здоров; если ты бу-
дешь спать один, то будешь спать плохо; мужчина нуж-
дается ночью в подруге рядом с собой. Вот моя жена, мои
дочери; выбери из них ту, какую тебе угодно; но если ты
хочешь сделать мне одолжение, то отдай предпочтение
младшей из моих дочерей, которая не имела еще детей.
Мать прибавила к этому:
— Увы! Я не имею оснований жаловаться на нее. Бед-
ная Тиа! Это не по ее вине.
Священник ответил на это, что его религия, его поло-
жение и благопристойность не позволяют ему принять
предложение.
Ору возразил ему:
— Я не знаю, что такое то, что ты называешь религи-
ей. Но я не могу подумать о пей ничего хорошего, ибо
она препятствует тебе наслаждаться невинным удоволь-
ствием, к которому призывает нас всех природа, эта вер-
ховная повелительница. Религия мешает тебе дать суще-
ствование, одному из тебе подобных; оказать услугу, о
которой просят тебя отец, мать и дети; расквитаться с хо-
зяином, который хорошо принял тебя, и обогатить народ,
дав ему еще одного гражданина. Я не знаю, что такое то,
что ты называешь положением; но первый твой долг —
это быть человеком и быть благодарным. Я не предлагаю
тебе ввести в своей стране нравы Ору, но Ору, твой хо-
зяин и твой друг, умоляет тебя подчиниться здесь нравам
Таити. Нетрудно решить, лучше или хуже нравы Таити
ваших нравов. Если на твоей родине больше людей, чем
она может прокормить их, то ваши нравы ни хуже, ни
лучше наших. Если же она может прокормить людей боль-
ше, чем есть, то наши нравы лучше. Что касается возра-
жения насчет благопристойности, то я понимаю тебя; со-
знаюсь, что я неправ, и прошу у тебя прощения. Я не
требую, чтобы ты повредил своему здоровью. Если ты
устал, ты должен отдохнуть, но я надеюсь, что ты не бу-
дешь продолжать огорчать меня. Посмотри, какими оза-
боченными стали все эти лица; они боятся, что ты, может
190
быть, нашел в них какие-нибудь недостатки и поэтому
отвергаешь их. Но если бы даже ты и нашел такие недо-
статки, неужели тебе не достаточно удовольствия почтить
одну из моих дочерей среди ее подруг и сестер и сделать
хорошее дело? Будь благородным!
Священник. Не в этом дело: они все четыре оди-
наково прекрасны. Но моя религия! Мое положение!
Ору. Они принадлежат мне, и я предлагаю их тебе;
они принадлежат себе, и они отдаются тебе. Чего бы ни
требовали от тебя религия и положение, ты можешь взять
их без угрызения совести. Я не злоупотребляю своим авто-
ритетом и убежден, что я знаю и почитаю права людей.
Здесь правдивый священник понял, что никогда еще
провидение не подвергало его такому искушению. Он был
молод, он волновался, мучился; он отвращал свои взгля-
ды от милых просительниц, он снова обращал их на них;
он поднимал свои руки и взоры к небу. Самая младшая
из девушек, Тиа, обнимала его колени и говорила ему:
— Чужестранец, не огорчай моего отца, не огорчай
моей матери, не огорчай меня! Почти меня в хижине среди
моих; подними меня до положения моих сестер, которые
смеются надо мной. У старшей, Асто, уже трое детей; у
Палли, второй, уже двое, а у Тии — ни одного ребенка!
Чужестранец, благородный чужестранец, не отталкивай
меня! Сделай меня матерью! Дай мне ребенка, с которым
я смогу когда-нибудь гулять под руку на Таити, который
через девять месяцев будет прикреплен к моей груди, ко-
торым я буду гордиться и который войдет в мое прида-
ное, когда я перейду из хижины моего отца в другую хи-
жину. С тобой у меня, может быть, будет больше удачи,
чем с нашими молодыми таитянами. Если ты окажешь мне
эту милость, я никогда уже не забуду тебя, я буду тебя
благословлять всю свою жизнь. Я напишу твое имя на
моей руке и на руке твоего сына; мы будем постоянно с
радостью произносить его; и когда ты покинешь этот бе-
рег, мои благословения будут сопровождать тебя по океа-
ну, пока ты не вернешься на свою родину.
Наивный священник рассказывает, что она сжимала
ему руки, глядела на него так выразительно и трогатель-
но; что она плакала; что ее отец, мать и сестры удали-
лись; что он остался наедине с ней и что, продолжая по-
вторять слова: «но моя религия, но мое положение...», он
191
проснулся на следующий день рядом с молодой девушкой,
которая осыпала его ласками и приглашала своего отца,
свою мать и своих сестер, когда они утром подошли к их
ложу, присоединить свою благодарность к ее благодарно-
сти.
Асто и Палли, которые удалились, вернулись с мест-
ными яствами, напитками и плодами. Они обнимали свою
сестру и благословляли ее. Они позавтракали все вместе.
Затем Ору, оставшийся наедине со священником, сказал
ему:
— Я вижу, что дочь моя довольна тобой, и я благо-
дарю тебя. Но можешь ли ты объяснить мне, что означает
слово религия, которое ты повторял так часто и с такой
болью?
Священник, задумавшись на минуту, ответил:
— Кто сделал твою хижину и всю находящуюся в ней
утварь?
Ору. Я.
Священник. Ну, вот, мы думаем, что мир и все за-
ключающееся в нем—дело рук одного работника.
Ору. Он, значит, имеет руки, ноги, голову?
Священник. Нет.
Ору. Где его жилище?
Священник. Повсюду.
Ору. Даже здесь?
Священник. Даже здесь.
Ору. Мы никогда не видели его.
Священник. Его нельзя видеть.
Ору. Вот довольно равнодушный отец! Он должен
быть старым, ибо он по меньшей мере того же возраста,
что его творение.
Священник. Он не стареет. Он говорил с нашими
предками, он предписал им законы и угодный ему способ
его почитания; он приказал им совершать известные по-
ступки как хорошие, запретил им другие как дурные.
Ору. Понимаю. И одним из запрещенных им в каче-
стве дурных поступков являются сношения с женщиной
и девушкой. Почему же он создал два пола?
Священник. Чтобы они соединялись между собою.
Но при определенных условиях, после совершения опре-
деленных предварительных церемоний, в результате ко-
торых известный мужчина начинает принадлежать извест-
192
ной женщине и только ей, и известная женщина начинает
принадлежать известному мужчине и только ему.
Ору. На всю свою жизнь?
Священник. На всю свою жизнь.
Ору. Так что, если бы случайно какая-нибудь женщи-
на спала не со своим мужем, а какой-нибудь мужчина
спал не со своей женой... Но ведь это не может случиться,
ибо, так как он вездесущ и это ему не угодно, он в состоя-
нии воспрепятствовать этому.
Священник. Нет, он дает им поступать по их же-
ланию, и они грешат против закона, установленного богом
(ибо так мы называем великого работника), против за-
кона страны, и они совершают преступление.
Ору. Мне было бы неприятно оскорбить тебя своими
речами; но, если ты позволишь, я выскажу свое мнение.
Священник. Говори.
О р у. Я нахожу, что эти странные предписания про-
тиворечат природе и разуму. Они созданы только для
того, чтобы увеличить число преступлений и постоянно
сердить старого работника, который сделал все без рук,
без головы и без орудий; который находится повсюду и
которого нельзя нигде видеть; который существует сегод-
ня и завтра и который не становится старше ни на один
день; который отдает приказания и которому не повину-
ются; который может помешать совершению известных
поступков и, однако, не мешает. Они противоречат при-
роде, ибо допускают, что мыслящее, чувствующее и сво-
бодное существо может быть собственностью другого, по-
добного ему существа. Па чем может основываться подоб-
ное право? Разве ты не понимаешь, что в твоей стране ту
вещь, которая не обладает ни чувствительностью, ни
мыслью, ни желанием, ни волей, которую покидают, берут,
хранят, обменивают без страдания и без жалоб с ее сто-
роны, смешали с вещью, которую нельзя обменять, нельзя
приобрести; которая обладает свободой, волей, желанием;
которая может отдаваться или не соглашаться отдаваться
на время, навсегда; которая способна жаловаться и стра-
дать и которая не может стать предметом торговли без
насилия над природой и над ее свойствами? Они проти-
воречат общему закону всех существ. Есть ли, в самом
деле, что-либо безрассуднее предписания, игнорирующего
присущую нам изменчивость, требующего от нас невоз-
193
можного для нас постоянства и нарушающего свободу
мужчины и женщины, приковывая их навеки друг к дру-
гу? Есть ли что-нибудь нелепее верности, стремящейся
ограничить самое прихотливое из наслаждений одним и
тем же индивидом, нелепее клятвы двух телесных существ
в неизменности перед лицом неба, которое ни на мгнове-
ние не остается одним и тем же, под сводами пещер, угро-
жающих разрушением, у подножия скалы, рассыпающейся
в прах, или дерева, потрескавшегося от старости, на сотря-
сающемся камне? Поверь мне, вы сделали положение
человека худшим, чем положение животного. Я не знаю,
кто такой твой великий работник, но радуюсь тому, что
он не говорил с нашими отцами, и желаю, чтобы он никог-
да не говорил с нашими детьми, ибо он мог бы вдруг
сообщить им те же самые глупости, а они в свою очередь
могли бы по глупости поверить ему. Вчера за ужином ты
нам рассказывал о судьях и священниках. Я не знаю, что,
собственно, представляют собой эти судьи и священники,
авторитет которых направляет ваше поведение. Но скажи
мне, являются ли они господами над добром и злом? Мо-
гут ли они сделать так, чтобы справедливое стало неспра-
ведливым, а несправедливое — справедливым? В состоя-
нии ли они связать добро с вредными поступками, а зло —
с невинными или полезными? Ты не можешь так думать,
ибо в этом случае не было бы ни истины, ни лжи, ни добра,
ни зла, пи красоты, ни безобразия, за исключением того,
что угодно было бы называть так твоему великому работ-
нику, твоим судьям и твоим священникам; а тогда ты дол-
жен был бы каждую минуту менять свои взгляды и свое
поведение. Сегодня какой-нибудь из трех твоих господ ска-
зал бы тебе: «убей», и ты обязан был бы по совести убить;
завтра: «укради», и ты вынужден был бы украсть, — или
же: «не ешь этого плода», и ты не осмеливался бы есть
его; «я запрещаю тебе употреблять в пищу эти овощи или
это животное», и ты опасался бы прикоснуться к ним.
Нет такого доброго дела, которое тебе нельзя было бы
запретить, и такого дурного дела, которое нельзя было бы
тебе приказать. А что бы ты сделал, если бы твои три
господина, между которыми нет особого согласия, взду-
мали вдруг разрешить, приказать и запретить тебе одно
и то же,— как это, на мой взгляд, должно часто случаться?
В этом случае, чтобы угодить священнику, ты должен
194
будешь поссориться с судьей; чтобы удовлетворить судью,
ты должен будешь вызвать неудовольствие великого ра-
ботника, ты должен будешь отречься от природы. И зна-
ешь, к чему все это приведет? К тому, что ты станешь пре-
зирать их всех трех и что ты не будешь ни человеком,
ни гражданином, ни правоверным; ты будешь ничем; ты
будешь в ссоре со всякого рода авторитетами, в ссоре
с самим собою; ты станешь злым и будешь сам терзать
себя; тебя будут преследовать твои безрассудные господа,
и ты будешь несчастным, таким, каким я видел тебя вчера
вечером, когда предлагал тебе своих дочерей и свою жену
и когда ты восклицал: «Но моя религия! но мое положе-
ние!». Хочешь ты знать, — везде и всегда, — что хорошо
и что дурно? Для этого обрати внимание на природу вещей
и поступков, на свои отношения к ближним, на влияние
твоего поведения на твою частную выгоду и на общее
благо. Ты предаешься бредням, если воображаешь, что
существует что-нибудь во вселенной — на небе или на
земле, — что можно прибавить или отнять от законов при-
роды. Неизменная воля природы гласит, что следует пред-
почитать добро злу и общее благо — частному. Ты мо-
жешь предписывать обратное поведение, но тебя не послу-
шаются. Страхом, наказаниями и угрызениями совести
ты только умножишь число преступников и несчастных;
ты растлишь совесть людей; ты развратишь их умы; они
не будут знать, что им делать и чего не делать. Испыты-
вая тревогу в невинности, оставаясь спокойными при зло-
деянии, они потеряют путеводную звезду своей жизни.
Отвечай мне искренно: неужели в твоей стране моло-
дой человек никогда не нарушает предписаний трех за-
конодателей и не спит без их разрешения с молодой де-
вушкой?
Священник. Я солгал бы, если бы стал утверждать
это.
О р у. А женщина, которая поклялась принадлежать
только своему мужу, никогда не отдается другому муж-
чине?
Священник. Нет ничего чаще этого.
Ору. Либо твои законодатели принимают крутые
меры против нарушителей их воли, либо не принимают;
если принимают, то это жестокие животные, оскорбляющие
природу; если не принимают, то это глупцы, выставляющие
195
На всеобщее посмешище свой авторитет бесполезными
запретами.
Священник. Виновные, ускользающие от строгости
законов, наказываются всеобщим порицанием.
Ору. Иначе говоря, правосудие имеет своим орудием
отсутствие здравого смысла у всего народа, и на место
законов становится безумие общественного мнения.
Священник. Обесчещенная девушка не находит
себе мужа.
Ору. Обесчещенная! А почему?
Священник. Неверную жену все презирают.
Ору. Презирают! А почему?
Священник. Молодого человека называют подлым
соблазнителем.
Ору. Подлым! Соблазнителем! А почему?
Священник. Отец, мать и дитя в отчаянии. Ветре-
ного супруга называют распутником; супруг, которому
изменили, разделяет позор своей жены.
Ору. Какую массу чудовищных и странных вещей ты
мне рассказываешь! И ведь ты говоришь еще не всё: ибо
лишь только люди начинают распоряжаться бесконтроль-
но идеями справедливости и собственности, произвольно
придавать вещам или отнимать у них те или иные свой-
ства, соединять с поступками или отнимать у них добро
и зло, считаясь только со своими прихотями, — как они
начинают порицать, обвинять, подозревать и тиранить
друг друга; начинают лицемерить, прятаться друг от друга,
следить и ловить друг друга, ссориться между собою,
лгать; девушки обманывают своих родителей, мужья своих
жен, жены своих мужей; девушки — да, я не сомневаюсь,
девушки — начинают убивать своих детей; преисполнен-
ные подозрения отцы пренебрегают своими детьми; мате-
ри покидают их на произвол судьбы, — и преступления
и разврат обнаруживаются во всех своих видах. Я знаю
все это, как если бы жил среди вас. Это так, ибо это дол-
жно быть так. И твое общество, прекрасный порядок кото-
рого прославляет ваш вождь, должно быть скопищем
лицемеров, попирающих тайком законы, либо несчастных,
которые являются орудиями своих страданий, подчиняясь
им, либо глупцов, в которых предрассудки совсем заглу-
шили голос природы, либо дурно организованных существ,
к которым природа не взывает даже о своих правах.
190
Священник. Все сказанное тобой похоже на дей-
ствительность. Но неужели у вас вовсе не существует
брака?
О р у. У нас существует брак.
Священник. Что представляет собой ваш брак?
Ору. Согласие жить в одной и той же хижине и спать
в одной и той же постели, пока нам это нравится.
Священник. А если это перестает вам нравиться?
Ору. Мы расходимся.
Священник. А что становится с вашими детьми?
Ору. О, чужестранец! Твой последний вопрос окон-
чательно раскрыл мне всю глубину падения твоей страны.
Знай, мой друг, что здесь рождение ребенка — всегда
счастливое событие, а его смерть — предмет горести и слез.
Ребенок — это драгоценное благо, ибо он должен стать
взрослым человеком; поэтому мы о нем заботимся совер-
шенно иначе, чем о своих животных и растениях. Ново-
рожденный ребенок доставляет радость своим домашним
и всему пароду. Он означает увеличение богатства для
хижины и увеличение силы для парода. Он приносит с
собой добавочные руки для Таити. Мы видим в нем земле-
дельца, рыболова, охотника, воина, супруга, отца. Женщи-
на, возвращаясь из хижины своего мужа в хижину своих
родителей, уводит детей, которых она принесла в виде
приданого; детей же, родившихся во время сожительства,
разделяют между супругами, уравнивая по возможности'
число мальчиков и девочек, так что у каждого остается их
приблизительно поровну.
Священник. Но прежде чем дети станут полез-
ными, они являются долгое время обузой.
Ору. На содержание детей и стариков мы назначаем
шестую часть всех продуктов страны, и эта их доля сле-
дует за ними всюду. Поэтому, чем многочисленнее семья
таитянина, тем он богаче.
Священник. Шестую часть!
Ору. Да. Это верное средство поощрить рост населе-
ния, заставить почитать стариков и беречь детей.
Священник. Сходятся ли у вас супруги когда-
нибудь снова?
Ору. Очень часто. Но самый короткий срок брака —
это месяц.
Священник. За исключением, конечно, случаев бе-
107
ременности; ведь тогда сожительство длится по меньшей
мере девять месяцев?
Ору. Ты ошибаешься. Отцовство, как и причитаю-
щаяся ребенку доля, следует за ним повсюду.
С в я щ е н н и к. Ты мне говорил о детях, которых жен-
щина приносит в приданое мужу.
Ору. Верно. Вот у моей старшей дочери трое детей.
Они ходят, они здоровы, красивы, обещают быть силь-
ными. Когда ей придет в голову выйти замуж, она их уве-
дет с собой. Это ее дети, ее муж примет их с радостью,
и его жена будет ему только дороже, если она окажется
беременной четвертым ребенком.
Священник. От него?
Ору. От него или от кого-нибудь другого. Наших де-
вушек тем больше ищут, чем больше у них детей. Чем
сильнее и крепче наши юноши, тем они богаче. Поэтому,
насколько мы бережем девушек от близости мужчины, а
юношей от сношений с женщинами до половой зрелости,
настолько убеждаем их иметь детей, когда они созрели.
Ты не знаешь, какую огромную услугу ты оказал моей
дочери Тии, если у нее будет от тебя ребенок. Ее мать
не будет уже говорить ей каждый месяц: «Но, Тиа, о чем
ты думаешь? Ты все еще не беременна; тебе девятнад-
цать лет, ты должна была бы уже иметь двух детей, а не
имеешь ни одного. Кто будет думать и заботиться о тебе?
Если ты потеряешь свои молодые годы, то что ты станешь
делать на старости лет? Тиа, у тебя, должно быть, есть
какой-нибудь недостаток, который удаляет от тебя муж-
чин. Исправься, мое дитя; в твои годы я уже трижды была
матерью».
Священник. Какие предосторожности предприни-
маете вы, чтобы оберегать своих девушек и юношей в
отроческом возрасте?
Ору. Это у нас главный предмет домашнего воспита-
ния и важнейшая сторона общественных нравов. Наши
юноши до двадцатидвухлетнего возраста — два или три
года по наступлении половой зрелости — носят длинную
тунику, а вокруг бедер маленькую цепь. Наши девушки
до наступления половой зрелости не осмеливаются выхо-
дить без белого покрывала. Снять свою цепь, поднять по-
крывало — это преступления, которые совершаются ред-
ко, ибо мы с ранних лет объясняем их пагубные послед-
198
ствия. Но в тот момент, когда мужчина вошел в полную
силу, когда обнаруживаются все признаки мужской зре-
лости и когда количество и качество истекающей семен-
ной жидкости дает нам в этом уверенность; в тот момент,
когда молодая девушка начинает тосковать, когда она
созрела настолько, что способна испытывать желания,
внушать и удовлетворять их с пользой, отец снимает цепь
с своего сына и отрезывает у него ноготь на среднем
пальце правой руки, а мать поднимает покрывало у своей
дочери. Юноша может искать себе женщину и быть в свою
очередь предметом ее исканий; девушка может прогули-
ваться публично с обнаженным лицом и грудью и при-
нимать или отвергать ласки мужчин. Заранее только ука-
зывают юноше девушек, а девушке юношей, которых они
должны предпочитать. День совершеннолетия девушки
или юноши является у нас большим праздником. Если
дело идет о девушке, то накануне вокруг ее хижины со-
бираются молодые юноши, и в течение всей ночи разда-
ются пение и звуки музыкальных инструментов. На сле-
дующий день отец и мать отводят ее в огороженное место,
где все предаются пляскам и занимаются упражнениями
в прыжках, в борьбе и беге. Ей показывают обнаженного
мужчину во всех видах и во всех положениях. Если же
речь идет о юноше, то празднество устраивается в его
присутствии молодыми девушками, которые показывают
ему без всяких стеснений обнаженную женщину. Осталь-
ная часть церемонии заканчивается на ложе из листьев,
как ты это видел у нас. К концу дня девушка возвра-
щается в хижину своих родителей или же переходит в хи-
жину того, на кого пал ее выбор, и остается там, сколько
ей хочется.
Священник. Таким образом, этот праздник или яв-
ляется, или не является днем бракосочетания?
Ору. Правильно...
A. Что это там на полях?
B. Это — примечание, в котором добрый священник
рассказывает, что предписания родителей о выборе юно-
шей и девушек полны здравого смысла и очень тонких и
полезных наблюдений. Но он уничтожил этот сборник со-
ветов, который показался бы столь испорченным и по-
верхностным людям, как мы, непростительно развратным.
Но к этому он прибавляет, что не без сожаления устра-
ню
пил подробности, из которых можно было бы, во-первых,
увидеть, к чему могут привести народ, непрерывно зани-
мающийся каким-нибудь важным предметом, поиски без
помощи физики и анатомии; а во-вторых, усмотреть раз-
личие взглядов па красоту между народом, где оценивают
внешние формы с точки зрения мгновенного удоволь-
ствия, и народом, где глядят на них с точки зрения более
постоянной пользы. У нас от красивой женщины требуют
яркого цвета кожи, высокого лба, больших глаз, тонких
и деликатных черт лица, легкой талии, маленького ро-
тика, маленьких рук, маленькой ноги. Таитяне же не
признают почти пи одного из этих качеств. У них взгляды
и желания устремляются на ту женщину, которая обе-
щает много детей (жена кардинала Досса) и которая
обещает создать их активными, умными, мужественными,
здоровыми и крепкими. Нет почти ничего общего между
афинской Венерой и таитянской Венерой: первая — это
галантная Венера, вторая — плодородная Венера. Одна
таитянка говорила однажды с презрением другой туземке:
«Ты красива, по рожаешь некрасивых детей; я некрасива,
но рожаю красивых детей, и мужчины предпочитают меня».
После этого примечания священника Ору продолжает...
Л. Прежде чем он станет продолжать, я попрошу вас
напомнить мне об одной истории, случившейся в Новой
Англии.
В. История эта такова: девица мисс Полли Бекер, бе-
ременная в пятый раз, была предана суду в Коннекти-
куте, близ Бостона. Закон присуждает особ ее пола, обя-
занных материнством лишь своей распутной жизни, к
штрафу или телесному наказанию, если они не в состоя-
нии уплатить штраф. Мисс Полли, войдя в зал, где собра-
лись судьи, обратилась к ним с такой речью:
«Позвольте мне, господа, сказать вам несколько слов.
Я — несчастная и бедная девушка и не имею возможно-
сти нанять адвокатов для своей защиты. Я не стану вас
долго задерживать. Я не льщу себя надеждой, что, вы-
нося мне приговор, вы отступите от закона, но смею на-
деяться, что вы соблаговолите склонить ко мне милость
правительства, чтобы оно избавило меня от необходимо-
сти платить штраф. Вот уже пятый раз, господа, я пред-
стаю перед вами по одному и тому же поводу: два раза
я уплатила обременительную для меня сумму штрафа и
200
два раза подвергалась позорному публичному наказанию,
потому что не в состоянии была платить. Может быть, это
соответствует закону, не спорю, но законы бывают иногда
несправедливыми, и их отменяют, они бывают и слишком
суровыми, и законодательные власти могут избежать их
применения.
Осмелюсь сказать, что закон, осуждающий меня, в
одно и то же время несправедлив сам по себе и слишком
суров ко мне. Я никогда никого не оскорбила в той ме-
стности, где живу, и пусть враги, если только они у меня
есть, приведут хотя бы малейшее доказательство моей
вины перед кем бы то ни было,— будь то мужчина, жен-
щина или ребенок. Разрешите мне забыть на минуту о су-
ществовании закона, и я не смогу понять, в чем мое пре-
ступление. С опасностью для жизни я произвела на свет
пятерых прекрасных детей, я вскормила их своим моло-
ком, и содержала своим трудом, и сделала бы для них
еще больше, если бы дважды взысканный с меня штраф
не лишил меня средств. Разве это преступление — увели-
чивать число подданных его величества в малонаселенной
стране? Я не отняла мужа ни у одной женщины, не сов-
ратила пи одного юноши,— в этих преступлениях меня
никогда не обвиняли, и если кто-нибудь может на меня
пожаловаться, то это только министр, которому я не уп-
латила брачного налога. Но разве я в этом виновата?
Взываю к вам, господа, вы, конечно, считаете меня до-
статочно здравомыслящей, чтобы допустить, что я пред-
почту почтенное звание жены тому позорному положению,
в котором я прожила до сих пор.
Я всегда желала и теперь хочу выйти замуж, и я но
боюсь сказать, что буду вести себя достойно, буду искус-
ной и умелой в хозяйстве, как подобает настоящей жен-
щине, какою я была и в своей плодовитости. И пусть кто-
нибудь, кто бы он ни был, решится сказать, что я отка-
залась выйти замуж.
Я согласилась па первое и единственное предложение,
которое мне было сделано. Я была еще девушкой и имела
наивность доверить свою честь человеку, у которого ее
не было вовсе. Он бросил меня, когда у меня родился ре-
бенок.
Вы все знаете этого человека. Он судья, как и вы, и
занимает место в ваших рядах. Я надеялась, что сегодня
201
он будет на суде, что он возбудит в вас жалость ко мне,
к той, которая стала несчастной из-за него. И тогда я
была бы неспособна заставить его краснеть, напоминая
ему о том, что было между нами. И разве я не права,
когда жалуюсь здесь на несправедливость законов? Ви-
новник моих заблуждений, мой соблазнитель, пользуется
властью и почетом благодаря правительству, которое в то
же время наказывает меня за мои несчастья плетью и по-
зором.
Мне ответят, что я преступила законы религии; если
я грешила против бога, предоставьте ему самому позабо-
титься о моем наказании! Вы уже отлучили меня от церк-
ви, разве этого недостаточно?
Зачем вы мучаете меня плетью и денежными взыска-
ниями вдобавок к тем адским мучениям, которые, как
вы думаете, ждут меня на том свете? Простите, господа,
эти рассуждения, я не богослов, но мне трудно поверить,
что можно считать преступлением то, что я родила пре-
красных детей, которые верят в бога, давшего им бес-
смертную душу.
Если вы создаете законы, изменяющие сущность ве-
щей, превращая их в преступления, обратите эти законы
против холостых, число которых растет с каждым днем.
Они вносят соблазн, распутство в семьи, они совращают
девушек, как это было со мной, заставляют их жить в том
позорном положении, в каком живу я, в обществе, кото-
рое их презирает и отвергает. Это они нарушают обще-
ственный порядок — вот преступления, заслуживающие
больше, чем мои, порицания со стороны закона».
Эта необыкновенная речь произвела впечатление, на
которое рассчитывала мисс Бекер. Судьи освободили ее
от штрафа и заменяющего его наказания. Ее соблазни-
тель, узнав о случившемся, почувствовал угрызения сове-
сти за свое прежнее поведение и, захотев его исправить,
через два дня женился на мисс Бекер, сделав честной
женой ту, которую пять лет назад сделал публичной жен-
щиной.
A. И эта история не выдумана вами?
B. Нет.
A. Это меня очень радует.
B. Не захочет ли аббат Рейналь внести этот эпизод
и эту речь в свою «Историю обеих Индий» 1?
202
A. Прекрасное произведение, и тон его настолько от-
личен от тона всех предыдущих, что аббата обвинили
было в использовании чужого труда.
B. Это было бы несправедливостью.
A. Или злословием. Постепенно срывают лавры, вен-
чающие голову великого человека, и делают это так
успешно, что ему остается лишь один листок.
B. Но время снова собирает разрозненные листья в
венок.
А. Но человек уже умер. Он страдал от оскорблений
современников и не почувствует вознаграждения потом-
ства.
IV
Ору. Как счастливы молодая девушка и ее родители
в тот момент, когда установлена ее беременность! Она
поднимается, бежит, обнимает свою мать и своего отца;
при взрывах взаимного восторга она им сообщает, а они
узнают об этом событии. «Мама! Папа! Обнимите меня,
я беременна!» — «Правда ли это?» — «Правда, прав-
да». — «А от кого же ты беременна?» — «Я беременна от
такого-то...».
Священник. Как может она знать, кто отец ее ре-
бенка?
О р у. А почему же ей не знать его? Наши любовные
связи длятся столько же, как и наши браки,— по мень-
шей мере месяц.
Священник. И это правило строго соблюдается?
Ору. Ты сможешь судить об этом. Во-первых, ме-
сяц— это недолгий срок. Когда же двое мужчин с одина-
ковым основанием выражают притязание быть отцами
какого-нибудь ребенка, он уже не принадлежит своей ма-
тери.
Священник. Кому же принадлежит он?
Ору. Тому из обоих мужчин, которому она захочет
отдать его: в этом праве выбора заключается все ее пре-
имущество. И так как ребенок является сам по себе пред-
метом богатства, то ты понимаешь, что среди нас разврат-
ницы редки и что юноши избегают их.
Священник. Значит, у вас все же есть развратни-
цы? Я очень рад этому.
О р у. У нас их даже несколько сортов. Но ты застав-
203
ляешь меня уклоняться от моей темы. Когда одна из на-
ших девушек беременна, то, если отец ребенка — краси-
вый, хорошо сложенный, мужественный, умный и трудо-
любивый молодой человек, надежда на то, что ребенок
унаследует качества своего отца, лишь увеличивает ра-
дость. Наши дети стыдятся только дурного выбора. Тебе
следует попять, какое значение мы придаем здоровью,
красоте, силе, трудолюбию, мужеству. Тебе следует по-
нять, что без всякого нашего вмешательства хорошая по-
рода должна закрепляться среди нас. Ты объехал много
стран; скажи мне, заметил ли ты где-нибудь столько кра-
сивых мужчин и столько красивых женщин, как на Таити?
Посмотри на меня; каким ты меня находишь? Так вот,
здесь есть десять тысяч мужчин, более высоких, чем я, и
столь же сильных, но нет ни одного храбрее меня. По-
этому матери часто указывают на меня своим дочерям.
Священник. Но кого ты получаешь из всех тех
детей, которых можешь родить вне дома?
Ору. Четвертого ребенка — безразлично, мальчика
или девочку. Среди нас производится своего рода обмен
мужчинами, женщинами и детьми, т. е. людьми всякого
возраста и всякого занятия,— обмен, который гораздо
серьезнее вашего обмена товарами, являющимися лишь
продуктом труда людей.
Священник. Я понимаю это. Что означают черные
покрывала, которые я иногда встречал?
Ору. Это признак природного или пришедшего с го-
дами бесплодия. Женщина, снимающая это покрывало и
сходящаяся с мужчинами,— развратница; мужчина, под-
нимающий это покрывало и сходящийся с бесплодной
женщиной,— развратник.
Священник. А эти серые покрывала?
Ору. Знак периодической болезни. Женщина, сни-
мающая это покрывало и сходящаяся с мужчинами,—
развратница. Мужчина, поднимающий это покрывало и
сходящийся с больной женщиной,— развратник.
Священник. Существуют ли у вас наказания за
этого рода разврат?
Ору. Только порицание.
Священник. Может ли у вас отец спать со своей
дочерью, мать — со своим сыном, брат — со своей сестрой,
муж — с женой другого мужчины?
204
О р у. А почему бы нет?
Священник. Ну ладно, оставим разговор о пре-
любодеянии. Но кровосмешение, нарушение супружеской
верности!
Ору. Что ты имеешь в виду, произнося эти слова:
прелюбодеяние, кровосмешение, нарушение супружеской
верности?
Священник. Преступления, чудовищные преступ-
ления, за одно из которых на моей родине сжигают людей.
Ору. Меня мало интересует, сжигают или не сжигают
людей у тебя на родине. Но так как ты не станешь судить
о нравах Европы по нравам Таити, то не станешь судить
и о нравах Таити по нравам своей родины. Нам нужно
более надежное правило; какое же? Знаешь ли ты более
надежное правило, чем общее благо и частная выгода?
А теперь скажи мне, в чем преступление, называемое
тобою кровосмешением, противоречит этим двум главным
целям наших поступков? Ты ошибаешься, мой друг, если
думаешь, что достаточно издать какой-нибудь закон,
сочинить какое-нибудь позорящее слово, назначить какое-
нибудь наказание и что этим все сказано. Отвечай же мне,
что ты понимаешь под кровосмешением?
Священник. Но кровосмешение...
Ору. Кровосмешение?.. Много ли времени прошло
с тех пор как твой великий работник, не имеющий головы,
рук, орудий, создал мир?
Священник. Нет.
Ору. Создал ли он сразу весь человеческий род?
Священник. Нет, он создал только одного мужчину
и одну женщину.
Ору. Имели ли они детей?
Священник. Конечно.
Ору. Предположим, что оба эти прародителя имели
только дочерей и что мать их умерла раньше или что они
имели только мальчиков и что муж умер раньше жены.
Священник. Ты приводишь меня в замешатель-
ство. Но, что бы ты ни говорил, кровосмешение — ужас-
ное преступление, и перейдем лучше к другой теме.
Ору. Тебе это так угодно. Но я не умолкну, пока ты
мне не объяснишь, что за ужасное преступление представ-
ляет собой кровосмешение.
Священник. Отлично, я готов уступить тебе: может
205
быть, кровосмешение нисколько не нарушает законов
природы. Но разве не достаточно того, что оно угрожает
государственному строю? Что станется с безопасностью
государя и со спокойствием государства, если целый
народ, состоящий из нескольких миллионов людей, собе-
рется вокруг полусотни отцов семейства?
Ору. Самое худшее — это то, что там, где было одно
большое общество, окажется пятьдесят маленьких, т. е.
будет больше счастья и одним преступлением меньше.
Священник. Однако я думаю, что у вас сын редко
спит с матерью.
Ору. Если только он не очень почитает ее, не испыты-
вает к ней нежности, заставляющей его забывать неравен-
ство лет, и не предпочитает сорокалетнюю женщину девят-
надцатилетней девушке.
С в я щ е и п и к. А что ты скажешь о сношениях отцов
с дочерьми?
Ору. Они тоже не очень часты, за исключением слу-
чаев, когда девушка некрасива и имеет мало поклонников.
Если ее отец любит ее, то он старается приготовить ей
ее приданое в виде детей.
Священник. Это заставляет меня думать, что
судьба женщин, обиженных природой, не должна быть
очень счастливой на Таити.
Ору. Это доказывает мне, что ты не очень высокого
мнения о благородстве наших молодых людей.
Священник. Что касается связей между братьями
и сестрами, то я не сомневаюсь, что они у вас очень
обычны.
О р у. И очень одобряются всеми.
Священник. Если поверить тебе, то любовная
страсть — эта причина стольких преступлений и несчастий
в наших странах — имеет здесь совершенно невинный
характер.
Ору. Чужестранец! Тебе нехватает силы суждения и
памяти: суждения, потому что повсюду, где существуют
запреты, является искушение сделать запрещенное, и это
делают; памяти, так как ты забыл то, что я тебе уже
сказал. У нас есть старые развратницы, которые выходят
по ночам без своего черного покрывала и принимают
мужчин, хотя ничего не может получиться от их близости;
если их застигнут врасплох или узнают об их проступке,
206
то наказанием является изгнание их на север острова
либо рабство; у нас есть преждевременно созревшие
девушки, которые приподнимают без ведома родителей
свое белое покрывало (и для них у нас есть в хижине
запертое помещение); у нас есть молодые люди, которые
снимают свою цепь до срока, предписанного природой
и законом (и мы за это делаем выговор их родителям);
у нас есть женщины, которым беременность кажется слиш-
ком долгой; есть женщины и девушки, мало думающие
о том, что не следует снимать своего серого покрывала.
Но, действительно, мы не придаем большого значения
всем этим проступкам. И ты не можешь себе представить,
как очищающе действует на наши нравы мысль о частном
или общественном богатстве в связи с мыслью о росте
населения.
Священник. Не вызывает ли у вас раздоров
страсть двух мужчин к одной и той же женщине или же
склонность двух женщин, либо двух девушек к одному
и тому же мужчине?
Ору. Мне еще не привелось видеть и четырех приме-
ров этого: с выбором мужчины или женщины все закан-
чивается. Насилие со стороны кого-нибудь было бы
тяжелым проступком, но для этого необходима публичная
жалоба; однако у нас является чем-то почти неслыханным,
чтобы какая-нибудь девушка или женщина жаловалась
на это. Я заметил только одно — что паши женщины
меньше жалеют некрасивых мужчин, чем молодые люди —
некрасивых женщин. Но мы не недовольны этим.
Священник. Насколько я вижу, вам мало знакомо
чувство ревности. Но зато здесь должны быть очень
слабы, а может быть, и совсем неизвестны супружеская
нежность, материнская любовь — эти два столь могучих
и сладостных чувства.
Ору. Мы заменили их другим, несравненно более
общим, сильным и длительным чувством — интересом.
Загляни к себе в сердце, оставь похвальбу добродетелью,
которая постоянно на устах твоих товарищей, но не в глу-
бине их души. Скажи мне, найдется ли в какой бы то ни
было стране отец, который не предпочел бы, если бы его
не удерживал стыд, потерять своего ребенка; муж, кото-
рый не предпочел бы скорее потерять свою жену, чем
свое состояние и благополучие всей своей жизни? Поверь
207
мне, что повсюду, где человек будет заинтересован в со-
хранении своего ближнего так же, как в своей постели,
в своем здоровье, в своем покое, своей хижине, своих пло-
дах, своих полях,— он сделает для него все, что только
можно сделать. Именно у нас слезы орошают ложе боль-
ного ребенка; именно у нас ценят плодовитую женщину,
взрослую девушку, совершеннолетнего юношу; именно
у нас заботятся об их воспитании, ибо их сохранение
является всегда приростом богатства, а их гибель — все-
гда уменьшением его.
Священни к. Я очень боюсь, что этот дикарь прав.
Паш несчастный крестьянин, замучивающий жену, чтобы
дать отдых лошади, дает погибнуть ребенку без медицин-
ской помощи и зовет врача к своему быку.
О р у. Я плохо расслышал, что ты только что сказал.
По когда ты вернешься на свою столь цивилизованную
родину, постарайся ввести там этот стимул поведения, и
тогда у вас поймут цену новорожденного ребенка и все зна-
чение вопроса о народонаселении. Хочешь я раскрою тебе
один секрет, но постарайся не разглашать его. Вы при-
были сюда. Мы вам отдали наших жен и наших дочерей;
вы удивлялись этому и выражали нам благодарность,
которая заставляла пас хохотать. Вы нас благодарили
в то время как мы взимали с тебя и с твоих товарищей
самый тяжкий из всех налогов. Мы не попросили у тебя
денег; мы не набросились на твои товары и пренебрегли
твоими продуктами; но наши женщины и наши дочери
пришли, чтобы высосать кровь из твоих жил. Когда ты
покинешь нас, ты нам оставишь детей. Как ты думаешь,
не стоит ли этот налог, наложенный на тебя, на подлин-
ное твое существо, любого другого налога? Чтобы понять
все его значение, представь себе, что тебе нужно объехать
двести лье побережья и что каждые двадцать миль с тебя
будут брать такую подать. У нас масса еще невозделан-
ных земель, у нас нехватает рабочих рук, и мы потребо-
вали их у тебя. Нам нужно возместить огромные потери,
причиненные эпидемическими болезнями, и мы восполь-
зовались тобой, чтобы пополнить убыль населения. Нам
приходится воевать с соседями, нам нужны воины, и мы
попросили тебя сделать их нам. Женщин и девушек у пас
больше, чем мужчин, и мы взяли тебя себе в помощь.
Среди этих девушек и женщин есть такие, от которых мы
208
не смогли получить детей, и их мы первыми бросили
в ваши объятия. Мы должны уплатить контрибуцию
людьми угнетающему нас соседу, и вот ты и твои това-
рищи заплатите за нас эту подать; через пять или шесть
лет мы ему пошлем ваших сыновей, если те окажутся
хуже наших. Мы здоровее и сильнее вас, но мы заметили,
что вы превосходите нас умом, и немедленно мы решили,
чтобы некоторые из наших красивейших женщин и дочерей
зачали от высшей, чем мы, расы. Таким образом мы сде-
лали особый опыт, который, может быть, удастся нам.
Мы извлекли из тебя и из твоих товарищей все, что
только могли извлечь, и поверь, что, хотя мы — дикари,
мы тоже умеем рассчитывать. Где бы ты ни очутился,
люди всегда окажутся не глупее тебя. Человек всегда
даст тебе лишь то, что ему не нужно. Если он тебе даст
кусок золота в обмен на кусок железа, это значит, что
ему совершенно не нужно золото и очень важно иметь
железо. Но объясни: почему ты одет иначе, чем твои спут-
ники? Что означает это длинное одеяние, окутывающее
тебя с головы до ног, и этот остроконечный мешок, кото-
рый ты то опускаешь на плечи, то надвигаешь на уши?
Священник. Дело в том, что я вступил в сообще-
ство людей, которых называют на моей родине монахами.
Самый священный и? их обетов — не иметь никогда
близости ни с одной женщиной и не иметь детей.
Ору. Что же вы делаете?
Священник. Ничего.
О р у. И неужели твой судья терпит этот худший из
видов лености?
Священник. Мало того, он почитает и заставляет
других почитать ее.
Ору. Моя первая мысль была, что либо природа,
либо какой-нибудь несчастный случай, либо какие-нибудь
жестокие меры лишили вас способности производить детей
и что из жалости решили оставить вас живыми, а не
убить. Но, монах, моя дочь сказала мне, что ты муж-
чина— такой же здоровый мужчина, как таитяне, и что
она надеется, что твои повторные ласки не будут бесплод-
ными. Теперь я понимаю, почему ты вчера вечером вос-
клицал: «Но моя религия! Но мое положение!». Можешь
ли ты, однако, объяснить мне, почему судьи относятся
к вам милостиво и почтительно?
209
Священник. Я не знаю этого.
Ору. Но ты хотя бы знаешь причину, почему, будучи
мужчиной, ты добровольно отказался быть им.
Священник. Это было бы слишком долго и трудно
объяснять тебе.
О р у. Верны ли монахи этому обету безбрачия?
Священник. Нет.
О р у. Я был уверен в этом. Есть ли у вас также жен-
щины-монахи?
Священник. Да.
Ору. Столь же мудрствующие, как и мужчины-
монахи?
Священник. Так как они живут более замкнуто,
то чахнут от горя, вянут от скуки.
Ору. И нарушение законов природы получает свое
воздаяние. О, гнусная страна! Если все в ней устрое-
но так, как ты мне говоришь, то вы — более варвары,
чем мы.
Добродушный священник рассказывает, что остальную
часть дня он гулял по острову, заходил в хижины тузем-
цев, и что вечером, после ужина, отец и мать умоляли его
спать со второй из их дочерей, Палли, которая пришла
столь же обнаженной, как Тиа; он рассказывает, что
в течение ночи он несколько раз восклицал: «Но моя
религия! Но мое положение!», что на третью ночь у него
были те же угрызения совести со старшей дочерью, Асто,
и что четвертую ночь он из любезности уделил жене своего
хозяина.
A. Мне правится этот любезный священник.
B. А мне гораздо больше — нравы таитян и речь Ору.
V. Продолжение диалога между А и В
A. Хотя она звучит далеко не по-европейски.
B. Я не сомневаюсь в этом.
Далее добродушный священник жалуется на кратко-
временность своего пребывания на Таити и на трудность
лучше ознакомиться с обычаями народа, достаточно
благоразумного, чтобы удовольствоваться скромным об-
разом жизни, либо достаточно счастливого, чтобы жить
в стране, плодородие которой обеспечивает ему длитель-
ное спокойствие, достаточно деятельного, чтобы суметь
210
удовлетворить абсолютно неустранимые потребности жиз-
ни, и достаточно ленивого, чтобы его невинности, покою и
счастью не мог угрожать слишком быстрый рост знаний.
На Таити общественное мнение и закон признавали дур-
ным лишь то, что дурно по своей природе. Работы и жатва
производились там сообща. Слово собственность имело
там очень ограниченный смысл. Любовная страсть, све-
денная к простому физическому вожделению, не вызывала
там ни одного из тех бедствий, которые она причиняет
у нас. Весь остров представлял собой как бы одну много-
численную семью, а хижины — как бы различные комнаты
одного из наших больших домов. Под конец священник
уверяет, что эти таитяне навсегда останутся в его памяти,
что у него было искушение сбросить свою одежду и про-
вести остаток своей жизни среди них, и он выражает
опасение, что не раз еще будет раскаиваться в том, что
не сделал этого.
A. Оставим в стороне этот панегирик; какие полезные
выводы можно сделать из странных обычаев и нравов
нецивилизованного народа?
B. Я думаю, что некоторые физические причины —
например, необходимость преодолеть неплодородие
почвы — пробуждают к деятельности ум человека; но
этот творческий порыв заводит его далеко за пределы
первоначальной цели, и по удовлетворении насущных
потребностей он втягивается в вихрь всяческих прихотей,
откуда нет возврата. Пусть счастливый таитянин живет
всегда так, как он теперь живет! Я нахожу, что за исклю-
чением этого заброшенного уголка нашего земного шара
нигде и никогда не было настоящей нравственности и что,
может быть, ее никогда нигде и не будет.
A. Что вы понимаете под настоящей нравственностью?
B. Я понимаю, под этим всеобщее подчинение добрым
или дурным законам и соответствующее этому поведение.
Если законы хороши, то и нравы хороши, если законы
дурны, то и нравы дурны, если же — беру худший для
общества случай — хорошие или дурные законы не со-
блюдаются, то вовсе нет нравственности. Но как можно
соблюдать законы, которые противоречат друг другу?
Рассмотрите историю всех времен и народов, древних и
новых, и вы найдете, что люди подчинены трем законода-
тельствам, трем кодексам: кодексу природы, граждан-
211
скому кодексу и религиозному кодексу, и что они вынуж-
дены попеременно нарушать эти три законодательства,
между которыми никогда не было согласия. Благодаря
этому — как правильно заметил о нашей родине Ору — пи
в одной стране не было ни просто человека, ни гражда-
нина, ни богобоязненного человека.
A. Отсюда, несомненно, вы станете умозаключать, что,
если основывать нравственность на вечных, существующих
между людьми отношениях, то религиозный закон стано-
вится, может быть, излишним, и что гражданский закон
должен быть лишь выражением законов природы.
B. Конечно, если не желать увеличивать числа дурных
людей вместо того, чтобы делать хороших людей.
A. Либо же, если считать необходимым сохранить все
три законодательства, нужно, чтобы оба последних были
точными копиями первого кодекса, который начертан
в глубине наших сердец и который всегда будет наиболее
могучим.
B. Это не совсем точно. Мы получаем от рождения
лишь одинаковую с другими существами организацию,
те же самые потребности, что у других, стремление к тем
же самым удовольствиям и боязнь тех же самых страда-
ний: вот что делает человека тем, что он есть, и что должно
быть основой его морали.
A. Это нелегко.
B. Это настолько трудно, что я готов думать, что
самый дикий из народов на земле, таитяне, которые
строго придерживаются закона природы, ближе к хоро-
шему законодательству, чем любой цивилизованный
народ.
A. Потому что им легче избавиться от своей излишней
грубости, чем нам вернуться назад и устранить наши
злоупотребления.
B. Особенно те из них, которые касаются отношений
между мужчиной и женщиной.
A. Возможно, что так. Но начнем сначала. Станем
честно вопрошать природу и рассмотрим беспристрастно,
что она ответит нам по этому пункту.
B. Отлично.
A. Соответствует ли брак законам природы?
B. Если вы понимаете под браком предпочтение, ока-
зываемое самкой известному самцу перед всеми другими
212
самцами или самцом — известной самке перед всеми
другими самками,— взаимное предпочтение, дающее на-
чало более или менее длительному союзу, который обес-
печивает продолжение вида путем воспроизведения инди-
видов,— то брак соответствует законам природы.
A. Я думаю точно так же, ибо это предпочтение наблю-
дается не только у людей, но и у других пород животных;
доказательством могут служить те массы самцов, кото-
рые преследуют весною в наших деревнях одну и ту же
самку и из которых только один становится ее мужем.
А что вы скажете об ухаживании?
B. Если вы понимаете под ухаживанием то многооб-
разие грубых или тонких средств, которое внушает
страсть самцу или самке, когда они добиваются этого
предпочтения, влекущего за собой самое приятное, самое
важное и самое общее из наслаждений, то ухаживание
соответствует законам природы.
A. Я думаю точно так же. Доказательством является
масса приемов, употребляемых самцом, чтобы понравить-
ся самке, и самкой, чтобы вызвать страсть самца и закре-
пить ее. А что вы скажете о кокетстве?
B. Это особый вид лжи, состоящий в симулировании
страсти, которую не чувствуют, и в обещании предпочте-
ния, которого не оказывают. Кокетничающий самец играет
с самкой, кокетничающая самка играет с самцом. Это
вероломная игра, влекущая иногда за собой гибельную
катастрофу, это смешная комедия, в которой и обманы-
вающий и обманутый одинаково наказаны потерей драго-
ценнейших минут своей жизни.
A. Следовательно, кокетство, по-вашему, не соответ-
ствует законам природы?
B. Я не утверждаю этого.
A. А что вы скажете о постоянстве?
B. Я вам не могу сказать о нем ничего больше того,
что сказал Ору священнику. Это жалкая иллюзия двух
детей, которые не знают самих себя и которые под влия-
нием минутного опьянения совершенно не замечают не-
устойчивости всего окружающего их.
A. А что вы скажете о верности, этом столь редком
явлении?
B. У нас это почти всегда упрямство и мука честного
человека и честной женщины, на Таити же — химера.
213
Л. А о ревности?
В. Это страсть убогого, скаредного животного, бояще-
гося потери; это — чувство, не достойное человека, плод
наших гнилых нравов и права собственности, распростра-
ненного на чувствующее, мыслящее, желающее, свобод-
ное существо.
A. Значит, ревность, по вашему мнению, не соответ-
ствует законам природы?
B. Я не утверждаю этого. И пороки и добродетели оди-
наково соответствуют законам природы.
A. Ревнивец угрюм и мрачен.
B. Подобно тирану, ибо у него такая же совесть.
Л. Что вы скажете о стыдливости?
В. Но вы заставляете меня прочесть целый курс лю-
бовной морали. Человек не любит, чтобы ему мешали в
его наслаждениях. За любовными наслаждениями сле-
дует состояние слабости, которое может отдать человека
во власть его врагов. В этом заключается вся естествен-
ная сторона чувства стыдливости; все остальное носит
условно-социальный характер.
Священник замечает в третьем отрывке, которого я
вам не прочел, что таитянин не краснеет от непроизволь-
ных движений, возникающих у пего от близости его жены
в присутствии его дочерей, и что последние, наблюдая это,
иногда испытывают волнение, но смущение — никогда. Но
лишь только женщина стала собственностью мужчины,
лишь только стали считать происходившее украдкой на-
слаждение девушкою каким-то воровством, как появились
понятия стыдливость, скромность, пристойность, появи-
лись какие-то мнимые добродетели и пороки; одним сло-
вом, захотели воздвигнуть между обоими полами пре-
граду, которая помешала бы им призывать друг друга
к нарушению навязанных им законов и которая, распа-
ляя воображение и возбуждая желания, приводила ча-
сто к совершенно противоположным результатам. Когда
я вижу посаженные вокруг наших дворцов деревья и на-
кидку, полускрывающую и полупоказывающую грудь
женщины, я вижу в этом какой-то тайный возврат к лес-
ной жизни и призыв к первобытной свободе нашего древ-
нейшего жилища. Таитянин сказал бы нам: «Почему ты
прячешься? Чего ты стыдишься? Неужели ты поступаешь
дурно, уступая священнейшему повелению природы?
214
Мужчина, явись свободно, если ты нравишься. Женщина,
прими этого мужчину с той же свободой, если он нра-
вится тебе.
A. Не сердитесь. Если мы вначале ведем себя, как ци-
вилизованные люди, то в конце мы редко не поступаем,
как таитяне.
B. Да, но все эти предварительные условности спо-
собны отнять полжизни у какого-нибудь гениального че-
ловека.
A. Я согласен, но что из того, если пагубный порыв
человеческого духа, против которого вы только что вы-
сказались, замедляется благодаря этому? Когда одного
современного философа спросили, почему мужчины уха-
живают за женщинами, а не женщины за мужчинами, он
ответил, что естественно спрашивать у того, кто всегда
может давать.
B. Это соображение всегда казалось мне более остро-
умным, чем основательным. Природа — непристойно, если
вам угодно,— толкает одинаково оба пола друг к другу,
и когда человек находится в животном и диком состоя-
нии, которое можно представить себе теоретически, но
которое не существует, может быть, нигде...
A. Даже на Таити?
B. Нет... то расстояние, отделяющее мужчину от жен-
щины, проходится тем из них, кто испытывает более силь-
ную страсть. Если они выжидают, избегают, преследуют
друг друга, если они нападают и защищаются друг от
друга, то потому, что страсть развивается неодинаковым
образам и неодинаково сильно. Благодаря этому наслаж-
дение может расти, достигать своего максимума и уга-
сать у одного из партнеров в то время, как у другого оно
только пробуждается, вызывая в силу этого у них обоих
печаль. Вот верное изображение того, что должно про-
исходить между двумя молодыми свободными и вполне
невинными существами. Но когда женщина узнала на
основании опыта или воспитания более или менее
тяжкие последствия сладкого мгновения, ее сердце стало
трепетать при приближении мужчины. Сердце мужчины
не трепещет, его чувственность отдает приказания, и он
повинуется. Чувственность женщины рассуждает, и она
боится слушать ее. Обязанность мужчины рассеять ее
опасения, довести ее до опьянения и соблазнить... У муж-
215
чины сохраняется все его естественное тяготение к жен-
щине. Естественное тяготение женщины к мужчине, как
сказал бы математик, прямо пропорционально страсти и
обратно пропорционально страху. Это отношение ослож-
няется в нашем обществе еще массой различных элемен-
тов, которые почти все содействуют усилению страха од-
ного пола и продолжительности преследования со стороны
другого пола. Это своего рода тактика, где средства за-
щиты и нападения совершенствовались параллельно друг
другу. Общественное мнение освятило сопротивление жен-
щины и назвало бесчестным насилие мужчины; это на-
силие, являющееся легким проступком па Таити, стано-
вится преступлением в нашем обществе.
A. Но как случилось, что акт, цель которого столь воз-
вышенна и который природа наделила самыми могучими
чарами, как случилось, что величайшее, сладчайшее, не-
виннейшее из наслаждений стало обильнейшим источни-
ком нашей испорченности и нашего злосчастья?
B. Ору повторял это священнику десятки раз. Выслу-
шайте это объяснение еще раз и постарайтесь запомнить
его.
Причиной этого является тирания мужчины, сделав-
шего из обладания женщиной собственность.
Нравы и обычаи, усложнившие брачное сожительство
массой всякого рода условий.
Гражданские законы, подчинившие брак бесконечному
множеству формальностей.
Наш общественный строй, где благодаря различию
состояний и положения создались понятия о приличном и
неприличном.
Странное и присущее всем теперешним обществам
противоречие, согласно которому рождение ребенка, при-
знаваемое всегда увеличением народного богатства, яв-
ляется чаще всего и вернее всего увеличением семейной
нужды.
Политические представления государей, которые рас-
сматривают всё с точки зрения своих интересов и своей
безопасности.
Религиозные взгляды, которые стали называть поро-
ками и добродетелями поступки, не имеющие никакого
отношения к нравственности.
Как далеки мы от природы и счастья! Власть природы
216
нельзя уничтожить; сколько бы ни ставить ей препят-
ствий, она будет существовать. Вы можете писать, сколько
вам угодно, на медных таблицах, что — пользуюсь выра-
жением мудрого Марка Аврелия — сладострастное трение
двух эпидерм есть преступление, но человеческое сердце
всегда будет чувствовать себя стиснутым между угрозами
ваших законов и пылкостью своих страстей. Это непо-
слушное сердце никогда не перестанет требовать своих
прав, и сотни раз в течение жизни ваши грозные надписи
будут нами забываться. Вы можете начертать на мра-
море: «Ты не должен есть ни иксиона, ни грифона, ты
должен знать только свою жену, ты не должен быть му-
жем своей сестры», но вам придется только усиливать на-
казания пропорционально странности ваших запретов. Вы
станете свирепыми, но вам не удастся исказить мою при-
роду.
A. Сколь простым было бы законодательство народов,
если бы его строго согласовали с законодательством при-
роды! От скольких заблуждений и пороков был бы избав-
лен человек!
B. Хотите вкратце узнать историю почти всех наших
злосчастий? Вот она. Жил-был естественный человек.
Внутрь этого человека ввели искусственного человека.
И вот в этой внутренней пещере загорелась гражданская
война, длящаяся всю жизнь. То естественный человек ока-
зывается победителем, то его одолевает моральный, ис-
кусственный человек. Но и в том, и в другом случае бед-
ное чудовище испытывает муки и терзания. Оно постоянно
стонет и вечно несчастно — безразлично, находится ли
оно в опьянении, под влиянием ложного энтузиазма сла-
вы, или же в угнетенном состоянии, под влиянием ложной
мысли о позоре. Однако существуют исключительные об-
стоятельства, когда человек возвращается к своей перво-
бытной простоте.
A. Это два великих заклинателя: нищета и болезнь.
B. Вы угадали. Действительно, чем становятся тогда
все эти условные добродетели? В нищете человек не имеет
никаких угрызений совести, а больная женщина лишена
стыдливости.
A. Я действительно заметил это.
B. Но от вашего внимания не ускользнуло, конечно,
и другое обстоятельство: по мере выздоровления человека
217
вместе с восстановлением здоровья возвращается и искус-
ственный, моральный человек. Вместе с прекращением
болезни возгорается снова внутренняя междоусобица, и
почти всегда ко вреду для пришельца.
A. Это верно. Я сам испытал, что при выздоровлении
естественный человек приобретал силу, гибельную для
искусственного, морального человека. Но скажите мне,
наконец, следует цивилизовать человека или предоставить
его власти его инстинктов?
B. Ответить ли вам откровенно?
A. Разумеется.
B. Если вы хотите быть его тираном, цивилизуйте его,
отпавите его учениями морали, противоречащей природе,
ставьте ему всякого рода препятствия, всячески мешайте
его движениям, создайте пугающие его призраки, увеко-
вечьте войну в пещере, и пусть естественный человек там
будет всегда рабом морального человека. Но если вы хо-
тите, чтобы он был счастлив и свободен, не вмешивайтесь,
в его дела: найдется достаточно непредвиденных обстоя-
тельств, которые поведут его по пути просвещения и ис-
порченности. И будьте уверены, что эти мудрые законо-
датели сделали вас таким, какой вы есть, в своих инте-
ресах, а не в ваших. В доказательство этого я сошлюсь
на все политические, гражданские и религиозные учреж-
дения. Изучите их внимательно, и, я не сомневаюсь, вы
должны будете убедиться, что история человечества на
протяжении веков — это история его угнетения кучкой
мошенников. Не доверяйте человеку, который хочет вво-
дить порядок. Упорядочивать — это значит стать госпо-
дином других людей, стеснять их движения. Разве только
одни калабрийцы 1 не поддались на обман и на улещива-
иия законодателей.
А. Неужели вам нравится эта анархия в Калабрии?
В. Обратимся к опыту. Я готов идти на пари, что их
варварство менее порочно, чем наша городская цивили-
зация. Сколько мелких злодеяний приходится у нас на
несколько больших преступлений, о которых так шумят!
Я рассматриваю нецивилизованных людей как массу раз-
розненных и разбросанных пружин. Разумеется, если не-
которые из этих пружин столкнутся между собой, то одна
из них, либо обе сломаются. Чтобы помешать этому, ка-
кой-то необычайно мудрый и гениальный человек собрал
218
эти пружины и построил из них машину. В этой машине,
называемой обществом, все пружины стали непрерывно
работать, воздействуя друг на друга; и в состоянии циви-
лизации их сломалось больше в один день, чем ломалось
в течение года в состоянии природной анархии. Но какое
происходит колоссальное уничтожение и истребление ма-
леньких пружин, когда с силой сталкиваются между со-
бой две, три, четыре огромных машины!
A. Значит, вы предпочитаете дикое и грубое естествен-
ное состояние?
B. Право, я не решаюсь высказать это. Но я знаю, что
нередко горожане скидывали одежду и возвращались в
леса, но никогда еще ни один обитатель лесов не надевал
одежды и не поселялся в городе.
A. Мне часто приходило в голову, что сумма добра и
зла для каждого индивида является переменной величи-
ной, но что счастье или несчастье какой-нибудь животной
породы имеет свой предел, которого нельзя переступить,
и что, может быть, все наши усилия дают в конце концов
столько же плюсов, сколько и минусов, так что мы му-
чаемся лишь для того, чтобы увеличить оба члена урав-
нения, между которыми существует вечное и необходимое
равенство. Однако я не сомневаюсь, что в среднем жизнь
цивилизованного человека продолжительнее жизни ди-
кого человека.
B. Но что можно заключить на основании длительного
существования какой-нибудь машины, раз оно является
точной мерой перенесенных ею тягот?
A. Насколько я понимаю, вы склонны в конце концов
считать людей тем более несчастными и дурными, чем они
цивилизованнее?
B. Я не стану рассматривать все страны на земле; я
вас предупреждаю только, что человек счастлив лишь
на Таити и живет сносно лишь в одном уголке Европы.
В этом уголке мрачные и вечно озабоченные мыслью о
своей безопасности повелители постарались держать че-
ловека в том состоянии, которое вы называете отупением.
A. Вы говорите, может быть, о Венеции?
B. А почему бы нет? Вы ведь не станете отрицать
того, что нигде нет меньше просвещения, меньше искус-
ственной нравственности и меньше иллюзорных пороков
и добродетелей?
219
A. Я не ожидал, что вы станете прославлять это пра-
вительство.
B. Но я этого и не делаю. Я вам указываю только на
изнанку рабства, отмеченную всеми путешественниками.
A. Бедная изнанка!
B. Может быть. Греки изгнали того, кто прибавил
лишнюю струну к лире Меркурия.
A. И это постановление является кровавой сатирой на
их первых законодателей. Надо было отрезать первую
струну.
B. Вы меня поняли. В каждой лире обязательно име-
ются и струны. Знайте, что до тех пор, пока будут пы-
таться извращать естественные склонности, будут суще-
ствовать злые женщины.
A. Как Лареймер.
B. Жестокие мужчины.
A. Как Гардейль.
B. И люди, несчастные из-за пустяков.
A. Как Танье, мадемуазель де ла Шо 1, кавалер де Рош
и мадам де ла Карльер 2.
Несомненно, на Таити мы тщетно искали бы таких
испорченных людей, как оба первых, и таких несчастных,
как трое последних. Что же нам делать? Вернуться к при-
роде? Подчиниться законам?
B. Мы будем выступать против нелепых законов до
тех пор, пока их не преобразуют; а в ожидании этого мы
будем подчиняться им. Тот, кто самочинно нарушает дур-
ной закон, дает этим повод всякому другому человеку на-
рушать хорошие законы. Гораздо лучше быть безумцем
с безумцами, чем мудрецом в одиночку. Будем говорить
самим себе, будем постоянно твердить вслух, что невинные
сами по себе поступки назвали позорными, бесчестными,
наказуемыми, но не будем совершать этих поступков, ибо
позор, бесчестие и наказание—величайшие из всех бед-
ствий. Станем подражать добродушному священнику —
монаху во Франции, дикарю на Таити.
A. Станем надевать одежду страны, куда мы отправ-
ляемся, сохраняя одежду страны, где мы находимся.
B. А в особенности постараемся быть честными и
правдивыми до последней степени с хрупкими сущест-
вами, которые не могут доставить нам счастья, не отка-
зываясь от самых ценных преимуществ наших обществ.
220
Mo что же стало с туманом?
A. Он рассеялся.
B. Стало быть, от пас будет зависеть, остаться после
обеда дома или выйти?
Л. Это будет, кажется, зависеть несколько больше от
женщин, чем от нас.
В. Постоянно женщины! Нельзя сделать ни шагу, не
встретив их на своем пути.
A. Не прочесть ли им разговор священника с Ору?
B. Как вы думаете, что они о нем скажут?
A. Совершенно не знаю этого.
B. А что они о нем подумают?
А. Может быть, обратное тому, что скажут.
Дидро. Я полагаю, аббат, кто вам не захотелось бы
разговаривать с кем-нибудь, кто никогда не отвечал бы на
ваши вопросы?
Аббат. Конечно.
Дидро. Ну, а когда вы молитесь, т. е. обращаетесь с
речью к богу или деве Марии, какой ответ вы получаете?
Аббат. Я и не жду ответа.
Дидро. Но к чему же тогда разговаривать?
Аббат. Вы ошибаетесь, дорогой философ. Вы смеши-
ваете два понятия. Молитва — на разговор.
Дидро. Что же это? Монолс
Аббат. Да, если хотите. Это восхождение нашей
души к богу. Это — излияние чувств перед ним, это — до-
казательство и дань нашей любви и нашей благодарности
ему; очень часто это — также просьба, мольба.
Дидро. Но какова цель такой просьбы? Где гаран-
тия ее выполнения, раз она всегда упорно и неизменно
остается без ответа? Словом, дорогой аббат, ваш бог —
это вечное безмолвие,— так, кажется, сказал Флешье 2.
Вы никогда не слышите его голоса. Вы напрасно будете
взывать к нему: «Отче! Отче! Сжалься! Прости! Умоляю
тебя!.,». Как бы ваши молитвы пи были пламенны и пыл-
ки, умилительны, трогательны и убедительны, вы никогда
даже не узнаете, дошли ли они до него. Вы никогда не
услышите, чтобы этот милосердый отец, к которому вы так
страстно взываете о помощи, ответил вам: «Дитя мое!».
Помните женщину, которую мы как-то видели в церкви
Сен-Рош распростертой перед статуей богородицы? Она
молилась, плакала, рыдала... Это раздирало душу. Вы
были так растроганы, что подошли и заговорили с ней.
Аббат. Вспоминаю. Она молилась за свою пятна-
дцатилетнюю дочь, которая умирала.
222
Дидро. И как она молилась и рыдала! Несчастная!
Ее скорбь тронула бы камень. Но каменная богородица
даже не повела бровью, не сдвинулась... по крайней мере,
мы этого не заметили... Ну, а ребенок? Был он спасен?
Аббат. Нет, он умер, и как раз в то самое время,
когда его мать стояла на коленях в церкви.
Дидро. Бог, вероятно, спешил призвать к себе эту
молодую душу. Ему нехватало ангелов.
Аббат. Может быть. Но ее душа, конечно, взошла
на небо. Это было милостью, оказанной ей богом.
Дидро. Кому — ей? Матери?
Аббат. И матери, и девочке — обеим. Разве мы знаем,
что нам нужно? Разве всемогущий бог в своей бесконеч-
ной мудрости не знает лучше нас самих, что является бла-
гом для нас?
Дидро. Почему же он нам этого не скажет? Зачем
было допускать, чтобы эта бедная женщина плакала, ры-
дала и корчилась от боли? Вы помните? Это раздирало
душу, это было ужасна. А ведь достаточно было одного
слова: «Я призываю к тебе тех, которым оказываю пред-
почтение. Возрадуйся поэтому, женщина, вместо того,
чтобы предаваться отчаянию...».
Аббат. Да, это сущая правда. Это именно так.
Д и д р о. А вот этого-то несчастная мать не допускала
и не понимала. И сколько других матерей находятся
в том же неведении; они предпочитают сохранять своих
детей при себе в этой долине слез, чем видеть, как воз-
носятся они на небеса. И когда я говорю: «видеть, как
они возносятся»,— это только слова, способ выражения,
так как мы ровно ничего не видим... Веки закрываются,
голос слабеет и угасает, разум затемняется и исчезает,
никакого больше движения, ничего больше...
Аббат. Для вас, Дидро, смерть, действительно, яв-
ляется концом всего.
Д и д р о. Не вынуждайте меня говорить об этом, аббат.
Не будем заходить так далеко. Хотя я могу с успехом
возразить, рассказав вам известную легенду по поводу
воскрешения Лазаря: «Что ты видел там, после своей
смерти?» — «Да ничего, учитель. Там нет ничего»,— от-
вечает Лазарь. И Иисус шепчет ему на ухо: «Да, там
ничего нет, но не говори об этом никому».
Аббат. Это легенда, конечно! Чистейшая легенда!
223
Дидро. Согласен. Но что касается меня, я признаю
только то, что вижу. О нашей же душе, о ее сущности,
происхождении, о том, что будет с нею после нашей
смерти, и прежде всего о том, действительно ли мы об-
ладаем душой — так как, в конце концов, я этого не
узнаю,— я ничего не могу утверждать. И мне кажется,
что те, кто так легко и охотно говорят об этих вещах
с амвона, знают не больше меня.
Аббат. Однако, если вы отрицаете существование
души...
Дидро. Я ничего не отрицаю. Я не знаю.
Аббат. ...тогда вы должны отрицать и существова-
ние бога.
Дидро. Нет, это не причина. Но еще раз повторяю,
аббат: я ничего не хочу отрицать. Я всего-навсего несве-
дущий человек, который, однако, настолько искренен
и смел, что не боится сознаться в своем незнании. Я имею
смелость заявлять: «Я не знаю». И я замечаю, что мы
постоянно рассуждаем о многих вещах, которых не только
не знаем, но и не можем знать, так как они находятся за
пределами нашего разума. А это обстоятельство, скажем
в скобках, должно бы убедить нас в их бесполезности,
ибо всё, что является предметом вечных споров, уже тем
самым для нас бесполезно, как недавно писал Вольтер.
И в силу какого-то рока именно те вещи, о которых всего
больше говорят, менее всего понятны.
Сколько наших самых употребительных оборотов речи
не имеют вообще никакого смысла! «Бог призвал его к
себе». Откуда вы это знаете? Разве бог удостоил вас своих
откровений? «Бог поспешил призвать его». Не особенно-
то спешил, раз покойник прожил добрых девяносто лет.
«Она вознеслась на небо»,— только что сказали вы
о девочке, похищенной у ее набожной матери. Но что
такое небо? Где оно расположено? Возносятся ли туда?
Вы говорите: «Там, наверху». Но то, что сейчас «наверху»,
сегодня вечером будет «внизу», потому что Земля вер-
тится, если только вы не будете вместе с папой Урбаном 1
и святой инквизицией отрицать вращение Земли.
Аббат. До этого я не дошел, мой друг.
Дидро. Древние по крайней мере знали, где располо-
жить свой рай; во всяком случае, они пытались... Одни
считали, что он находится на Канарских островах, кото-
224
рые прозвали благословенными, Arva beate*; другие —
в Ирландии; третьи...
Аббат. Словом, они не могли договориться об этом,
как и о многом другом.
Дидро. Совершенно так же, как и мы с вами, аббат.
Я прочел сегодня утром в «Истории Швеции», что король
этой страны восторжествовал над врагами благодаря
промыслу божию. Между тем по поводу той же победы,
оспариваемой и отрицаемой турками, последние заявля-
ли, что провидение, конечно, не допустило их поражения...
а испанцы также считали, что провидение осталось
глухим к мольбам шведского короля... Вы видите, что
каждый судит о провидении так, как ему вздумается,
мерит его по своей мерке, заставляет его действовать
и рассуждать соответственно своему желанию. Приходит-
ся, следовательно, допустить существование провидения
лютеранского или, по крайней мере, шведского, мусуль-
манского или турецкого, провидения испанского, не счи-
тая всех остальных: русского, польского, английского,
французского. Подумайте, в каком затруднительном по-
ложении оказалось бы провидение, если б оно было одним
и единым, если каждый народ взывает к нему об одном
и том же, побуждаемый, однако, совершенно различными
интересами и желаниями. И разве не следовало бы сперва
убедиться, что это многоликое и разноликое божествен-
ное провидение и в самом деле будет утруждать себя
нашими мелкими делами? Это кажется мне весьма сомни-
тельным. Подумайте только, сколько преступлений, по-
стыдных поступков и гнусностей мы взвалили бы па
спину этого божественного провидения! На мой 'взгляд,
умнее всего было бы думать о нем не больше, чем оно
думает о нас. Да, аббат, в том-то и состоит паша великая
ошибка, и я боюсь, что так будет еще очень долго — что
мы постоянно спорим о вещах, недоступных нашему по-
ниманию, нашим умственным способностям, и поэтому не
можем прийти к какому-нибудь определенному и практи-
ческому выводу и не добиваемся никаких других резуль-
татов, кроме разжигания раздоров и ненависти,— ужас-
ной ненависти., сопровождаемой самыми жестокими
гонениями. Разве эта ненависть одних народов к другим
* Счастливый берег.
225
не порождается чаще всего религиозными расколами и
притом в прямой пропорции к рвению, воодушевляющему
эти народы на божьи дела? Если бы у нас только хватило
ума и здравого смысла остановиться на этом гнусном
пути и перестать терзать друг друга, душить и сжигать
живьем лишь потому, что мы рассматриваем Абсолютное
с различных точек зрения или думаем различно о таинст-
ве воплощения, или евхаристии! Для чего нам блуждать
в этом тумане? Почему нам не заниматься просто вопро-
сами обыденной жизни, тем, что мы можем видеть,
наблюдать и проверять? Несчастья скольких людей по-
рождены исканием и манией сверхъестественного!..
Аббат. Не только несчастья, но и утешение и ра-
дость.
Дидро. Бывают, конечно, утешительные заблужде-
ния. Я не оспариваю этого. Врач убеждает больного, что
ему лучше, говорит умирающему, что он выздоравливает
и через неделю будет на ногах. А этот несчастный испус-
кает дух в тот же вечер. Но днём луч надежды согрел
его сердце и утешил его. Ложь врача облегчила послед-
ние минуты больного. Это уже много. Но пусть это
доброе не мешает нам видеть, что оно порождено ложью.
Аббат. Позвольте! То утешение, которое мы полу-
чаем от религии, и надежда, которой она нас озаряет,—
отнюдь не ложь.
Дидро. Конечно, аббат, и я не смею спорить... Но
эти обещания ведь лишены гарантий и доказательств,— я
подразумеваю: ясных и осязаемых доказательств. Вы
уверяли эту несчастную мать, о которой мы только что
говорили, что ее дочь вознеслась прямо на небо и пребы-
вает в лоне всевышнего. Но ведь это только слова, hoec
sunt verba — больше ничего. В действительности же бед-
ный ребенок был заколочен в дубовый или сосновый ящик
hi зарыт в землю. Вот все, что можно было точно конста-
тировать. Остальное, потустороннее, это уже дело вообра-
жения, предположений и желаний... Это область грёз. Что
вы утешили мать, гарантировав ей воскрешение и спасе-
ние ее дочери, «с которою она встретится когда-нибудь на
небесах в обители избранных»,— это очень хорошо, это
прекрасно. Но, разрешите сказать, аббат, вы желаете,
чтобы вам поверили па слово; мудрец же не довольствует-
ся простым утверждением: sapiens nihil affirmat quod
220
поп probet... Quod gratis asseritur gratis negatur*; мы,
надеюсь, можем позволить себе немного латыни, не-
правда ли?..
Аббат. Тем не менее, вы никогда не сумеете поме-
шать толпе искать этих высших утешений, жаждать
сверхъестественного и находить их в нем.
Дидро. Может быть. Но разве ваша паства получает
от вас только утешение? Эге! Далеко не так. Посмотрите
на нашего бедного друга Демаи. Человек с таким весе-
лым, приветливым и очаровательным характером, с такой
природной жизнерадостностью, — и вот он охвачен ужа-
сом от мысли, что ему суждено гореть в аду, и ему пред-
ставляется даже, что он уже жарится и поджаривается на
вечном огне во искупление своих грехов. Разве это не
ужасно?
А б ба т. Это безумие, конечно.
Дидро. Безумие это или нет, но разве религия уте-
шила его? И сколько других находятся в таком же по-
ложении, испытывают тот же вполне объяснимый, но от-
вратительный страх перед так называемой гееиой огнен-
ной? Вспомните проповедь Массильона 1 с амвона церкви
св. Евстахия о том, что «много званных, но мало избран-
ных». Много званных, но мало избранных, аббат! Полу-
чается, что, все-таки, несмотря на подвиг нашего божест-
венного искупителя, победа остается за дьяволом. Вспом-
ните, какой всеобщий ужас, какую страшную панику вы-
звала эта проповедь Массильона у его слушателей! Они
ничуть не считали себя утешенными. Вы рисуете вашей
пастве две перспективы, два исхода: рай и ад. Обратите
внимание при этом, что преобладает ад, он торжествует.
Нет, не утешение вы приносите; вы устрашаете, террори-
зуете людей. Чтобы навсегда устранить эти страхи и не
дать торжествовать сатане, быть может, гораздо осмотри-
тельнее и разумнее было бы каждого новорожденного
после его крещения, широко отворяющего перед ним вра-
та неба, немедленно отправить туда — вверх или вниз...
Аббат. Отправить его? Как это так? Убить?
Дидро. Вот именно... Еще совсем недавно англий-
ский писатель Джонатан Свифт2 в своем «Скромном
предложении» высказал мысль, что неплохо было бы ир-
* Мудрый не утверждает того, чего не испытал.. От того,, что
легко достается, легко отказываются
227
ландских детей из бедных семейств, все равно обреченных
па голодную смерть, хорошо откормить, а затем зарезать,
как режут телят или ягнят, и продавать их мясо в спе-
циальных мясных лавках, открытых для джентльменов с
особенно изысканным вкусом. Я не столь требователен и
не настаиваю на предварительном откармливании детей.
Я просто советую возможно быстрее отправить этих анге-
лочков к господу богу. В этом случае они избавятся от
почти неминуемой для них участи — очутиться после смер-
ти в аду и всю вечность вариться там в котлах или же жа-
риться на сковородах. Стоит призадуматься над этим, аб-
бат! Дело не шуточное! Геенна огненная, где будут плач и
скрежет зубовный! И это навеки, навеки! На самом деле,
разве не в тысячу раз предпочтительнее без промедления
отправить этих детей к богу? Я пойду еще дальше; не сле-
довало ли бы таким же образом поступать и со взрослы-
ми: обязать духовников исповедать и причастить их и, как
только грехи им будут отпущены, немедленно отправить
их?.. Вы отлично понимаете, что в этом деле не следует
медлить!
А б б а т. Но ведь это безумие!
Д и д р о. Безумие? Напротив, это было бы весьма муд-
ро. Подумайте только, ведь речь идет об избавлении от
вечных мук. Я вам делаю самое разумное предложение,
очень радикальное, правда, но ведь это делается для спа-
сения от вечных мук, для того, чтобы обмануть, провести,
обойти ангела мрака, проклятого сатану, который неустан-
но подстерегает наши души, чтобы схватить и насадить их
на вилы. Вы, надеюсь, помните историю того преступника,
который в руанском театре ударом кинжала убил сидев-
шую рядом с ним молодую девушку. Он ее не знал и ни-
когда раньше не видел. Он ее убил только потому, что
хотел быть приговоренным к смерти. Это давало ему воз-
можность получить отпущение грехоз перед тем как его
будут колесовать или вешать. При самоубийстве же он
не получил бы отпущения грехов и умер бы, совершив
смертный грех.
Аббат. Станем говорить серьезно, Дидро!
Дидро. Мы говорим вполне серьезно.
Аббат. Сколько бы вы ни спорили и ни возражали,
все равно вы не можете, повторяю, отнять у народа его
стремление к сверхъестественному. Так уж устроен чело-
228
веческий ум. Он всегда стремится к тому, что превыше его,
превыше его разумения...
Дидро. Да, ко всему, что ослепляет и очаровывает.
Толпа любит все чудесное, и чем непонятнее, загадочнее,
сказочнее оно, тем больше нравится и пленяет. Но мы,
философы, призванные к тому, чтобы видеть вещи в воз-
можно более ясном свете, — что, признаться, не легкое де-
ло, — мы работаем над тем, чтобы до минимума сократить
число одураченных людей. Мы полагаем, что самая боль-
шая услуга, которую можно оказать людям, заключается
в том, чтобы научить их пользоваться своим разумом и
считать истинным то, что они могут проверить и констати-
ровать. Вы ведь должны признать, не правда ли, что чем
больше просвещен и развит парод, тем быстрее слабеет
и исчезает в нем вера в сверхъестественное. Большая или
меньшая степень веры в сверхъестественное всегда опре-
деляется той или иной ступенью цивилизации. Посмотри-
те, что представляют собою дикари, с которыми встретил-
ся Бугенвилль. У них все связано с колдовством, магией,
волшебством, чудом. А ведь у нас чудеса стали довольно
редким товаром, аббат, несмотря на падкость толпы на
чудесное и непостижимое! Чудеса там, где в них верят, и
чем больше верят, тем чаще они случаются. Не так ли?
Видите ли, дорогой аббат, когда вступают в это царство
сверхъестественного, исчезают все границы, и ты не зна-
ешь, куда идешь и что встретишь. Один уверяет вас, что
он пятью хлебцами накормил пять тысяч человек. Пре-
красно! Завтра, глядишь, другой станет вас уверять, что
он накормил одиим-едипствеиным хлебцем пятьдесят ты-
сяч человек, а послезавтра третий возьмется накормить
воздухом пятьсот тысяч. Ладанки, носимые на шее, и дру-
гие амулеты охраняют нас от всякого несчастного слу-
чая и излечивают от всех болезней. Чтобы успокоить при-
падки бешенства у одной из этих сумасшедших женщин,
которых называют «бесноватыми», прибегают к клистиру
из святой воды, к этому вернейшему средству! Во многих
наших деревнях достаточно пронести по улице мощи ка-
кого-нибудь святого, несколько обломков костей, —в Бур-
гундии, например, мощи святого Потенция, — чтобы вы-
глянуло солнце или пошел дождь, стало бы жарко пли,
наоборот, прохладно. А как вам правится святой Дионисий,
который шествует, держа в руках свою отсеченную
220
голову, — фокус, который у него спешит заимствовать
святой Савиниан после того как его обезглавил импера-
тор Аврелий. А святой Николай! Он, оказывается, начал
поститься со дня своего рождения: по средам и пятницам
он сосал грудь своей кормилицы только раз в день. А эта
благочестивая знатная дама, которая забеременела в от-
сутствии мужа? Святая, имя которой она носила, свер-
шила с божьей помощью чудо: у дамы не только исчезла
беременность, но эта беременность перешла на упомяну-
тую святую, — не помню уже, святую Пелагею или какую-
то другую, — которая таким образом взяла на себя грех
или, вернее, последствие греха. А что вы думаете о двух
черепах святого Панкратия, память которого почитается
и празднуется в двух соперничающих друг с другом церк-
вях: один череп принадлежал Панкратию, когда ему было
22 года, а другой — когда ему было 36 лет. Нет ничего
более развлекательного, дорогой аббат, чем чтение житий
святых, и у меня часто было желание описать все это...
По это уже сделано: мы имеем «Золотую легенду» 1.
Аббат. Но никто не заставляет вас верить ей.
Дидро. Позвольте. Этот вздор преподносят нам ва-
ши самые знаменитые агиографы 2.
Аббат. Это не догматы веры.
Дидро. Ага, вы уже и отступаете, аббат, вы прячетесь.
Если можно выбирать между всеми вашими чудесами...
Аббат. Конечно, можно и даже нужно.
Дидро. Попробуйте убедить в этом наших деревен-
ских священников! Сколько у них этих самых святых По-
тенциев! И даже все ваши непреложные догмы: ваш бог
в трех лицах, ваши злые ангелы, которые восстают против
своего творца и пытаются свергнуть его с трона; ваша
Ева, созданная из ребра Адама: ваша пресвятая дева, ко-
торую посещают молодой человек и голубь и которая бе-
ременеет, но не от молодого человека, а от птицы; пресвя-
тая дева, которая родит и остается девственницей; этот
бог, который умирает на кресте, чтобы умилостивить бога,
а затем воскресает и возносится на небо (куда на небо?),
— все это, дорогой аббат, мифология, язычество, всему
этому та же цена, что и мифам об Уране, Сатурне, Тита-
нах, о Минерве, выходящей в полном вооружении из
головы Юпитера, о Юноне, забеременевшей от Марса
только потому, что она вдохнула запах цветка, об А пол-
230
лоне — Фебе, управляющем колесницей солнца... Все это
один п тот же бред. Наш друг Гольбах охотно заявляет,
что «сверхъестественное его не интересует». Оно ничего
не говорит ему: это заблуждение и безрассудство. Думать,
что простыми словами, то есть сотрясением воздуха вслед-
ствие движения языка, можно изменить законы природы,
то, что называют велениями судьбы, — разве это не безу-
мие, в самом деле?
Аббат. Да нет же, философ, нет. Ведь эти слова об-
ращены к верховному существу, ко всемогущему, беско-
нечно совершенному, бесконечно доброму отцу, который
выслушивает их и отмечает...
Дидро. И- который внемлет им? Пусть будет так! И
вот вам пример: несчастная женщина, которую мы видели
в церкви Сен-Рош. Но где же доказательство, что этот
отец, столь добрый и милосердный, к помощи которого
вы прибегаете, слышит вас? Никто не обладает этим до-
казательством. Что касается меня, я был бы действитель-
но рад получить его. Но нет ничего, решительно ничего,
всегда одно непостижимое и нерушимое молчание. Какой-
то правитель области, а может быть даже епископ или
кардинал,— я уж не помню теперь,— упрекал другого
епископа за нарушение его инструкции: «Монсеньор, —
ответил тот с благородной уверенностью, — я молился, я
просил совета у бога, я обращался к распятию...». — «Ну,
и надо было, глупец, делать то, что сказали тебе бог и
твое распятие», — прервал его первый. Иными словами,
нужно было сидеть смирно и ничего не делать. Бог! Ведь
это просто слово, одни обыкновенный слог для объяснения
существования мира. И заметьте при этом, что в общем
это слово ничего не объясняет, так как, если вы мне воз-
разите, что ни одни часы не были сделаны без часовщи-
ка, я спрошу вас, кто же сотворил этого часовщика, и,
таким образом, мы окажемся снова на той же точке, вер-
нее, при одном и том же вопросительном знаке.
Аббат. Однако, Дидро, разве вы сами не провозгла-
шали некогда существование этого часовщика?
Дидро. «Провозглашали» — это слишком сильно
сказано!
Аббат. Но по рукам ходило одно ваше письмо, где
вы буквально заявляли следующее: «Я верю в бога, хотя
и живу в мире с атеистами...».
2.41
Дидро. Письмо к Вольтеру1 ...Это было написано,
чтобы доставить ему удовольствие... Что же, вы видели
эту мазню? Вот что со мною бывает, аббат: когда я на-
хожусь среди атеистов, если только они существуют, мне
приходят в голову все аргументы в пользу бытия бога;
когда же я среди верующих, происходит обратное: в моем
сознании совершенно непроизвольно возникают все аргу-
менты, опровергающие, подрывающие и разрушающие по-
нятие о боге.
Аббат. После этого признания вы уже не станете
отрицать, мой дорогой Дидро, что в вас сидит дух проти-
воречия.
Дидро. Конечно, противоречие, или, по крайней мере,
возражение, есть стимул, услада и приправа всякого раз-
говора. Если бы мы все были всегда одного мнения, как
все было бы однообразно, скучно и плоско! На земле не-
возможно было бы жить. Различие мнений так же необхо-
димо и неизбежно, как и разнообразие лиц и характеров.
Нужно это признать и нужно согласиться, что то, что
нравится одним, не может нравиться всем другим. Но
нет, не думайте, дорогой друг, что доводы против того,
что защищает мой собеседник, возникают у меня в голове
только в силу моей суетной любви к возражению. Это про-
сто свойство моей природы, странность, которую я кон-
статирую и признаю, но которую я не могу объяснить.
Как хотите, но это так.
Аббат. Подумайте, какие преимущества дает вам ве-
ра. Если бы вы верили...
Дидро. Конечно, тогда исчезают все затруднения.
Так Паскаль и рассуждает: истинна или ложна наша свя-
тая религия, — говорит он, — вы ничем не рискуете, при-
знавая ее истинной, но вы рискуете всем, считая ее лож-
ной. Но ведь то же самое могут сказать и иудей, и му-
сульманин, и гугенот. Это седло, которое подходит всем
лошадям, это — кресло цирюльника, пригодное для всех
задов. Но, к сожалению, дорогой аббат, я не обладаю
этим целебным средством, этой панацеей, которую вы на-
зываете верой, то есть способностью верить в такие вещи,
про которые мы знаем, что они явно ложны, немыслимы
и невероятны. В моих глазах стол это стол, стул — стул,
хлеб — только хлеб и вино—тоже только вино. И я не
могу сказать, чтобы это отсутствие веры меня очень бес-
2'Л2
покоило, чтобы оно угнетало, расстраивало, отравляло и
мучило меня днем и ночью. Я не могу сказать, что от от-
сутствия веры я теряю способность пить и есть. Отнюдь
нет. Я не могу этого сказать, так как, напротив, это не-
верие или незнание ни в чем не нарушает моего душев-
ного равновесия. Но утверждать и защищать некоторые
вещи, которые недоступны нашему разуму и которые со-
вершенно ускользают от нашего понимания, уверять, что
это истина, и упрямо провозглашать их,— вот что кажет-
ся мне столь же дерзким, как и смешным. Но если это
сверхъестественное стараются навязать другим, что слу-
чается всегда с теми людьми, которые уверены, что они
одни владеют дарованным свыше знанием, абсолютной
истиной,— истиной, от которой зависит паше вечное бла-
женство,— тогда... «Думай, как я, иначе бог накажет те-
бя! Думай, как я, иначе я убью тебя!» — вот вывод и
заключение из слов этих людей. Разве Библия, например,
книга «Второзаконие», не призывает убивать тех граж-
дан, которые не разделяют наших религиозных верова-
ний? «Будь то брат, сын, дочь, мать, супруга, — не делай
никакого исключения; не спорь с ними, а немедленно
убей!». Это сказано ясно и откровенно. Очаровательная
программа, и составлена она от имени бога! Заметьте,
аббат, что, предлагая таким образом кому-нибудь переме-
нить веру, вы требуете от него поступка, который сами от-
казываетесь совершить. Что же это за логика, а?
Аббат. Но...
Дидро. Я знаю, я угадываю ваше возражение. Вы
скажете, что ваша вера хороша и истинна, что это един-
ственно хорошая и единственно истинная вера, тогда как
моя не стоит и гроша. Помните письма, которыми обменя-
лись когда-то папа и герцог де Сюлли 1? Святой отец вы-
ражал гугенотскому министру одобрение его политики и
прекрасного образа правления и как добрый пастырь, же-
лающий вернуть в стадо заблудшую овцу, заканчивал
письмо, заклиная Сюлли не отвращать глаз от божествен-
ного света, видеть правду там, где она действительно на-
ходится, и вернуться в лоно церкви. «Именно об этом я
и прошу каждый день небо, когда молюсь за вас,— от-
ветил ему Сюлли,— и никогда не перестану просить бога
об обращении вашего святейшества в истинную веру».
Аббат. Какой цинизм!
233
Дидро. Это ответ овцы пастырю. Но вернемся... вер-
немся к нашим овцам. Если хорошенько подумать, разве
бог является нам как-нибудь иначе, чем только в воздавае-
мом ему поклонении? Разве вы видели какие-нибудь иные
его проявления, аббат?
Аббат. Но позвольте, дорогой философ, достаточно
лишь открыть глаза и поглядеть вокруг себя. Вся при-
рода...
Дидро. Значит, слепые, которые никогда ничего не
видели, не способны представить себе...
Аббат. Оставим слепых.
Дидро. Хорошо, но нам, всем зрячим, разве не одни
наши молитвы, приношения, религиозные церемонии сви-
детельствуют нам о существовании бога? Но я не могу
скрыть от вас, что меня и некоторых других это не может
удовлетворить. Мы хотели бы, чтобы свидетельства о су-
ществовании бога не всегда исходили только от нас, но
хотя бы изредка — от самого бога, которого так прослав-
ляют и величают, которому так поклоняются и которого
так покорно умоляют.
Аббат. Некогда были и такие свидетельства. Они за-
писаны в священных книгах.
Дидро. Да, но у вас одни священные книги, а у ва-
ших соседей другие; все они различны. И, кроме того, мне
хотелось бы самому видеть все это и самому констатиро-
вать... Почему-то, в конце концов, от имени бога говорят
всегда люди, и они же претендуют быть представителями
всевышнего на земле. Но эти доверенные лица никогда не
предъявляют нам своих верительных грамот, никогда!
Аббат. Нет, предъявляют, только вы упорно не хо-
тите их видеть.
Дидро. Но я только этого и требую, и сверх того,
чтобы эти грамоты были хоть сколько-нибудь ясны, точны
и убедительны,— но этого-то, увы, никогда и не бывает!
И заметьте, кроме того, — это соображение отнюдь не в
пользу божества, по крайней мере, того божества, какое
нам рисуют, — что повсюду, где признают бога, существу-
ет культ, а повсюду, где есть культ, нарушен естественный
порядок нравственных обязанностей.
Аббат. Нарушен? Каким это образом?
Дидро. Безусловно. Пропустить в воскресенье обед-
ню или съесть в пятницу кусок баранины является более
234
тяжким преступлением, чем украсть кошелек у соседа или
обесчестить его дочь. Да это и понятно! В первом случае
вы наносите оскорбление самому богу, во втором — только
вашему ближнему. Вы читали историю этого пастуха из
окрестностей Неаполя, который при случае, но довольно
часто, занимался разбоем и который на исповеди призна-
вал себя виновным только в том, что нарушил пост, про-
глотив по ошибке немного скоромного. О всех его грабе-
жах, покушениях и убийствах ничего не говорилось на
исповеди. Все это не шло в счет. А вот история другого раз-
бойника, перепачканного кровью его жертв. Он каялся,
что съел в пятницу кусок хлеба с салом. У нас достаточно
человеку перед смертью получить отпущение грехов, что-
бы прямым путем направиться в рай, несмотря на его по-
ведение при жизни, несмотря на его постыдные и гнусные
дела. У индусов, если человек умер на берегу Ганга или
его прах брошен в эту реку, он будет спасен и сразу до-
пущен в рай. Подумайте немного, дорогой аббат, как эта
мысль о боге и геенне огненной искажает и нарушает весь
ход наших рассуждений. Разве не эта мысль, как сказано
в «Духе законов» 1, заставляет нас считать необходимым
то, что в действительности должно быть для нас безраз-
личным, и в то же время заставляет нас считать безраз-
личным то, что является строго необходимым? И разве не
эта самая мысль толкает нас на убийство десятков тысяч
людей только потому, что они верят иначе, чем мы! Валь-
денсы 2, альбигойцы 3, Варфоломеевская ночь, инквизиция,
драгонады 4 — всего не упомнишь,— ясно это доказывают.
А человеческие жертвоприношения, предназначенные для
того, чтобы умилостивить высшее существо — всеблагого
и милосердного бога? Вы сами писали, аббат,— я вспоми-
наю одно из ваших сочинений: «Долгое время люди не
знали иного средства, чтобы отвратить от себя гнев божий,
как пролить на жертвеннике человеческую кровь...».
Аббат. Речь шла о язычниках.
Дидро. В этом отношении мы не изменились. Мы
сожгли на кострах множество иудеев и замучили мно-
жество неверных... Так что один из ваших собратьев,
аббат де Лонгрю, который занимается халдеями и древ-
ней Францией, как вы занимаетесь греками, полагает,
что, если судить по тому, сколько крови было пролито
во имя религий, то они принесли больше зла, чем добра.
235
Аббат. Конечно, де Лонгрю ученый, но он слишком
экстравагантен. Во всяком случае, дорогой философ, ка-
ковы бы ни были эти религии, без них вы обойтись не
можете.
Дидро. Не можем?
Аббат. Нет, и никогда не сможете; народ всегда
будет нуждаться в каких-нибудь обрядах при браках и
рождениях, в погребальном пении, в трауре при похо-
ронах, в святой воде для окропления могил. Иначе он
боялся бы уподобиться животным, которые совокупля-
ются и умирают без всяких обрядов и трупы которых
кидают потом в навозную кучу.
Дидро. Позвольте, аббат, разве мы не родим со-
вершенно так же, как животные? Разве мы не дышим и
не едим, как они? Разве мы не схожи с ними во всех
отправлениях нашего организма? Разве Соломон не учит
пас, что существование человека не отличается от су-
ществования животного и что после человека остается
не больше, чем после животного? К чему же такое рез-
кое разграничение и это презрение? Животные являют-
ся и должны быть для нас меньшими братьями; у них,
правда, несколько меньше разума, чем у пас, но те же
потребности, те же желания, те же страсти... Неужели,
по-вашему, мы должны отказаться от еды, чтобы не похо-
дить на животных?
Аббат. Мы должны стремиться не походить на них
в дурном. Мы должны стараться, по возможности, обра-
щать свои помыслы к небу.
Дидро. А также наши взоры: os sublime dedit.
Аббат. Конечно!
Дидро. Еще один вопрос тревожит меня и не дает
мне покоя. Миллионы и миллиарды звезд носятся в бес-
конечном пространстве, и они обитаемы подобно нашему
маленькому земному шару. Так думают, по крайней ме-
ре. Так вот, неужели обитатели этих миров также совер-
шили первородный грех, или оригинальный грех — да,
да! — оригинальный*—и нуждаются в искупителе-мес-
сии, в деве, которая рождает?..
Аббат. Вы слишком много хотите знать, дорогой
философ. Для таких любопытных, как вы, и уготован ад.
* Игра слов: originel — первородный; original — оригинальный.
236
Дидро. Вы шутник! Вы принимаете меня за Демаи.
А б б а т. Нисколько. Но так как вы сами признаете,
что все эти вопросы обсуждаются безрезультатно уже
от самого сотворения мира, я вас спрашиваю: какая
польза продолжать спорить по этим вопросам?
Дидро. На этот раз, аббат, я слышу из ваших
уст золотые слова. Мы попусту теряем время. Паскаль
предупреждал нас об этом: всякий философский спор,
говорил он, даже вся философия не стоит и часа труда.
Аббат. Это относится к нашей, человеческой, земной
философии, но...
Дидро. Ах, богословие! Оно в тысячу раз хуже!
Аббат. И все-таки человек инстинктивно и неизбеж-
но обращает и будет обращать свои взоры к небу. И ни-
когда стремление к потустороннему миру не покинет его,
не угаснет в нем. И, заметьте, между прочим, что мы,
христиане, обладаем надежным руководством поведения:
мы имеем свод законов, кодекс, или, точнее говоря, кате-
хизис. А у вас этого нет и не может быть.
Дидро. Гм! Гм!
Аббат. Да, не может быть. Нельзя создавать зако-
ны, нельзя учить людей, имея в запасе только отрицание
и сомнение. Чтобы учить людей и составлять своды зако-
нов, надо иметь ряд бесспорных положений, и в особен-
ности тогда, когда речь идет о том, что затрагивает нас
всего ближе,— о вековечных и самых насущных для нас
вопросах: о нашем происхождении, о создании человека,
о сотворении мира...
Дидро. В шесть дней с отдыхом па седьмой.
Аббат. У нас есть катехизис, и в этом наша сила.
Дидро. Кроме того у вас имеются обряды, о кото-
рых вы только что говорили, крестные ходы, праздники,
песнопения, органы, всякого рода музыка, все эти замеча-
тельно искусно поставленные зрелища, цель которых —
привлечь, пленить и покорить толпу. Вот еще одна из при-
чин вашего успеха и вашей силы. Я не забываю, дорогой
аббат, ни одного из ваших преимуществ. Но мы, фило-
софы, не будем отрицать и наших преимуществ и конста-
тируем, что мы преуспели, что мы совершили громадный
и бесспорный прогресс. Недавно отец Уп 1 рассказывал
мне в Гранвале2, что когда в одной швейцарской деревне
католический священник куда-то отлучился или заболел,
237
вместо него пришел протестантский пастор, который
стал выполнять обязанности этого священника; вечером
он обучал католических детей их катехизису, а утром
преподавал закон божий маленьким протестантам; все
это происходило в одном и том же помещении, которое
было, таким образом, одновременно или, точнее, пооче-
редно то католическим костелом, то протестантской
киркой.
Аббат. Но я думаю, что этот пастор не дошел до
того, чтобы решиться служить обедню?
Дидро. Пока еще нет, но мы придем и к этому. Тер-
пимость постепенно внедряется и проникает всюду. Като-
лики и гугеноты перестают сжигать друг друга. Это уже
кое-что. А так как терпимость неизбежно ведет к равно-
душию, я считаю, что христианство продержится еще
не больше двух-трех веков.
Аббат. Разрешите ему прожить немного дольше.
Ти es Petrus, et super hanc pet ram...*
Дидро. Увы, дорогой аббат, на земле нет ничего веч-
ного. Монтескье считает, что вы просуществуете еще
максимум 500 лет. Шотландец Жан Крег 1, умерший,
правда, полтораста лет назад, определил этот срок
в 1350 лет. Что касается меня, то я не так великодушен:
я дарую вам только 200'—300 лет. Но, быть может, я не-
прав, и вы заслуживаете большего срока. Непреложно
только то, что на нашем земном шаре все преобразуется
и изменяется, все увядает, блекнет, потухает, умирает
и исчезает. Это общий закон, и вы от него никуда не
уйдете, несмотря на все ваши пророчества и на то, что
сказано: Ти es Petrus... И как вы спустились с ваших
высот! Где то время, когда благодаря вашим папам, их
влиянию и весу вы были хозяевами мира? А разве до вас
Юпитер не восседал на своем Олимпе, окруженный сон-
мом богов. Он так мудро царствовал и был так могущест-
вен, что во время Тридентского собора 2, то есть всего-
навсего два века назад, два ученых в самом Триденте еще
признавали его бытие и взывали к нему о помощи: «Что
бы они ни говорили и ни делали там... рано или поздно
мы будем вынуждены вернуться к твоему культу. Да,
Юпитер, мы верим в тебя! Но когда ты снова вернешь
* Ты — Петр, и на сем камне...8.
2:«
себе свое положение и свое верховное владычество, не
забудь о пас. Соблаговоли, о, Юпитер, вспомнить тогда,
что мы остались верны тебе!».
Аббат. Мечтатели и фанатики!
Дидро. Конечно! Но что касается мечтателей
и фанатиков, господин аббат, то пальма первенства при-
надлежит безусловно вам — вам и вашим собратьям.
И если припомнить все превращения, через которые про-
шла ваша церковь со времени святого Петра, если уста-
новить, насколько она отлична теперь от той, какою была
вначале, ...сам святой Петр не узнал бы ее, вы это знаете
не хуже меня. И вы знаете также, что этот кодекс, или
катехизис, который составляет вашу силу, представляет
собою ткань, сотканную из нелепости, вымыслов...
Аббат. Из чего вам угодно, дорогой философ. Но
эта ткань крепка от начала до конца. Она составляет
прочное целое.
Дидро. Прочное?!
Аббат. Для людской массы этот катехизис достато-
чен: она находит в нем ответы на все вопросы. А вы,
господа энциклопедисты, вы не отвечаете и не можете от-
ветить ни на один из больших вопросов, которые мучают
человеческий ум: «Как был создан мир? Кем? Что такое
бог? Как появился на земле человек? и т. д.». Но вас,
философов, или, по крайней мере, большинство из вас, я
не обвиняю в том, что вы преисполнены гордостью и чван-
ством. Нет, наоборот. У вас всегда на устах только ваше:
«Я не знаю, не ведаю!..».
Дидро. Это правда, и со мной это бывает чаще
всего. Вот вы, аббат, поступаете совсем наоборот; вы
всегда все знаете и никогда ни в чем не сомневаетесь.
Аббат. Совершенно верно.
Дидро. Вы постоянно утверждаете вещи, которые
паука все больше и больше опровергает.
Аббат. Да, человеческая наука!
Дидро. Не говорите о ней плохо. Вы сами прибегае-
те к ней в ваших рассуждениях и спорах. Никто не дол-
жен хулить науку, и меньше всего вы, аббат, вы, который
живете среди ваших книг и рукописей, нумизматических
коллекций и всех прочих остатков греческой и римской
древности. Вы знаете, как вас уважают те, кого вы назы-
ваете энциклопедистами.
239
Л б б а т. Я знаю, Дидро, что вы чрезвычайно снисхо-
дительны и что у вас чувствительная и нежная душа.
Дидро. И верите ли, дорогой друг,— иногда мне ка-
жется, что кроме глубоких познаний, вы обладаете еще
и настолько большим здравым смыслом, чтобы знать цену
католическим догматам и иметь, подобно мне, свое собст-
венное мнение обо всем этом. Вы, конечно, не признаетесь
и в глубине души будете считать меня ужасно нескром-
ным... по скажите мне, наконец, почему вы католик?
Аббат. Как — почему?
Д и д р о. Да, почему?
Л б б а т. Но...
Дидро. В таком случае я сам вам скажу. Это слу-
чилось единственно потому, что вы родились во Франции,
были воспитаны и «вскормлены» католиками. Именно
поэтому! Представьте себе на минуту, что вы родились у
антиподов, в Занзибаре, в Натале или в Патагонии, и по-
думайте, что произошло бы в подобном случае. Вы стали
бы даже не иудеем, лютеранином, кальвинистом или му-
сульманином, а вероятнее всего буддистом, брамани-
стом, идолопоклонником или зверопоклонником. Кто
знает! Выбор велик. Как видите, дорогой аббат, все
это — дело географической широты, дело случая, удачи.
Аббат. Вы правильно выразились, Дидро: удачи.
Пусть будет так. И я пользуюсь ею, этой удачей.
Дидро. На здоровье! Но согласитесь со мной, что
самое важное для человека, спасение его души, другими
словами, его религия, зависит исключительно от удачи, от
прихоти судьбы. Велика ли тут ваша заслуга?
Аббат. Потому я и благословляю провидение.
Дидро. И вы правы, аббат. Я как неверующий
лишен этой удачи... Но, простите меня... Простите мне
мои вопросы... Вы знаете, я очень несдержан и говорю
все, что приходит мне в голову.
Аббат. Что касается меня, то я живу вдали от вся-
ких споров. Я работаю и общаюсь больше с мудрецами
Афин, и Рима, и даже Палестины, чем с моими современ-
никами.
Дидро. Работать... Да! Вот наш жребий и наше на-
значение здесь, на земле. Стараться оставить после себя
больше знаний и счастья, чем их было раньше, улуч-
шать и умножать полученное нами наследство,— вот над
240
чем мы должны трудиться! И добавлю: надо делать воз-
мож'но больше добра и избавлять возможно большее
число людей, всех, встреченных на нашем жизненном
пути, от страданий. Прежде всего надо быть добрым.
Труд и доброта — вот мои единственные догматы веры,
аббат. Остальное? Мне нет дела, мне нет никакого дела
до всего бесконечного, так же как и Гольбаху. Когда и
кем был создан мир? Где мы будем после нашей смерти?
Что будет с нами? Все эти вопросы, которым вы при-
даете такое большое значение, нисколько не мешают мне
спать. И никому вот уже сотни и тысячи веков не только
не удалось их решить, но даже хоть немного уяснить.
Итак! Бог, душа, загробная жизнь — я верю и не верю
в это. Я отбрасываю эти вопросы, я живу этой жизнью
и вместе со Спинозой считаю, что всякое размышление
о потустороннем и о смерти — бесполезное, тщетное и
унизительное занятие.
Аббат. О, мой бедный Дидро! Как мы с вами не
сходимся. Наоборот, разве истинная мудрость не есть
вечное размышление о смерти, как поучительно доказал
это нам Бурдалу 1?
Дидро. Да благословит его бог! Что касается меня,
то мой взгляд недостаточно остёр и зорок, и я ограничи-
ваюсь настоящим, тем, что я есть, и тем, что я вижу;
и оттого, что я не узнаю, что думать о существовании вер-
ховного существа и о бессмертии души, я испытывал огор-
чение не больше, чем от того, что у меня нет двух голов,
трех рук или четырех ног. Я беру жизнь как она есть,
стараясь прожить ее настолько честно, скромно и при-
ятно, насколько это мне под силу. И если позднее,— во
что, признаться, я не верю,— мне суждено по ту сторожу
Стикса встретить некоего судью, то я полагаюсь. на его
мудрость и милосердие. Он не накажет меня за незнание,
за мое смирение, а также за мою смелость. Иначе я имел
бы право сказать ему: «Господи, ты должен был выра-
жаться яснее. Виновен ли я, если не умею отгадывать
загадок? Мог ли я думать, что для продвижения в том
мраке, куда ты меня погрузил, я должен был с самого
начала потушить мой фонарь, мой светоч, мой маленький
огарок, этот бедный, слабый разум, которым ты же меня
и одарил?».
РЕЧЬ ФИЛОСОФА,
ОБРАЩЕННАЯ К КОРОЛЮ
Государь, если вы желаете иметь священников, вы не
можете желать философов, а если желаете философов, не
можете желать священников. Ведь философы по самой
профессии своей —друзья разума и науки, а священ-
ники— враги разума и покровители невежества, и если
первые делают добро, то вторые делают зло; вы же не
можете желать в одно и то же время добра и зла.
Вы имеете, по вашим словам, и философов и священ-
ников: философов — бедных и не очень страшных; свя-
щенников — очень богатых и очень опасных. Вы не очень
озабочены тем, чтобы сделать своих философов богаты-
ми,— ибо богатство вредит философии,— но все-таки
хотите сохранить их подле себя; и вы очень хотели
бы сделать бедными своих священников и избавиться от
них. Вы, разумеется, избавились бы от них, а вместе с
ними от всей той лжи, которою они заразили ваш народ,
если бы вам удалось сделать их бедными. Ибо, став бед-
ными, они впадут в унижение, а кто захочет избрать про-
фессию, где нельзя будет ни составить себе состояния,
ни добиться почета? Но как же сделать их бедными? Я
расскажу вам это.
Берегитесь трогать их привилегии и не старайтесь
сразу же уравнять их со всеми прочими гражданами. Это
было бы неправильно, потому что их привилегии при-
надлежат им так, как ваша корона принадлежит вам; по-
тому что они владеют привилегиями, и если вы затронете
права на их владения, начнут затрагивать права на ваши
владения; потому что самое лучшее для вас — это чтить
закон давности, выгодный для вас по меньшей мере так
же, как и для них; потому что эти привилегии — дары
ваших предков и предков ваших подданных, и потому что
242
нет более чистой вещи, чем дар; потому что вы взошли на
трон лишь при условии оставить за каждым сословием его
прерогативы; потому что, если вы нарушите свою клятву
по отношению к одной из корпораций своего королевства,
почему бы вам не стать клятвопреступником и по отноше-
нию к другим корпорациям? Потому что вы вызовете тре-
вогу у всех сословий; потому что вы потрясете основы
собственности, без которой нет ни короля, ни поддан-
ных, а есть только тираны и рабы; и это показывает
не только несправедливость, но и неловкость такой поли-
тики.
Как же поступить вам? Вы оставите вещи в том поло-
жении, в котором они находятся. Ваше надменное ду-
ховенство предпочитает давать вам добровольные дары,
а не платить налоги 1. Потребуйте у него добровольных
даров. Так как ваше духовенство безбрачно и поэтому
очень мало думает о своих преемниках, оно не захочет
платить из своего кармана, а предпочтет сделать заем
у ваших подданных. Тем лучше. Не мешайте ему в этом,
помогите ему сделать огромный заем у остальной части
народа, а тогда поступите по справедливости и заставьте
духовенство заплатить его долг. Оно сможет уплатить,
только отчуждая часть своего имущества. Какой бы свя-
щенный характер ни имело это имущество, будьте уве-
рены, что ваши подданные не постесняются взять его,
если перед ними встанет альтернатива: или принять его в
возмещение своих денег, или разориться, потеряв свой
вексель. Поступая таким образом, переходя от одного
добровольного дара к другому, вы заставите их войти в
долги во второй раз, в третий раз, в четвертый раз; вы-
нужденные расплатиться с этими долгами, они впадут в
нужду и станут столь же жалки, сколь они бесполезны.
От вас и от ваших преемников будет зависеть, чтобы в
один прекрасный день народ увидел их оборванными,
предлагающими со скидкой под портиками пышных хра-
мов свои молитвы и свои жертвоприношения.
Но, скажете вы мне, у меня не будет больше религии!
Вы ошибаетесь, государь: у вас всегда будет религия, ибо
религия — это очень живучее, ползучее, никогда не гиб-
нущее растение. Она только меняет свою форму. Рели-
гия, которая получится в результате обнищания и уни-
жения духовенства, будет наименее неудобной, наименее
16* 243
печальной, самой спокойной и самой невинной. Посту-
пите с господствующим теперь суеверием так, как Кон-
стантин 1 поступил с язычеством. Он разорил языческих
жрецов, и вскоре в глубине великолепных храмов можно
было видеть только какую-нибудь старуху с вещей пти-
цей, гадающую для черни, а у ворот храмов — каких-то
несчастных, предающихся порокам и занимающихся лю-
бовными интригами; дело дошло тогда до того, что отец
умер бы от стыда, если бы его сын стал жрецом.
Если вы удостоите выслушать меня, я окажусь из всех
философов самым опасным для священников, ибо самый
опасный философ тот, который показывает монарху,
каких колоссальных сумм стоят его государству эти над-
менные и бесполезные бездельники;
который говорит ему,— как это делаю я,— что у вас
сто пятьдесят тысяч человек получают от вас и ваших
подданных ежедневно почти сто пятьдесят тысяч экю за
'ю, чтобы бормотать чепуху в храмах и оглушать нас
своими колоколами;
который говорит ему, что эти люди сто раз в году в
определенный час обращаются с проповедью к восемна-
дцати миллионам ваших подданных, готовым верить и де-
лать все то, что приказывают им священники во имя
божье;
который говорит ему, что король — ничто, полное ни-
что там, где люди могут распоряжаться в его государстве
во имя какого-то существа, считаемого господином
короля;
который говорит ему, что эти сочинители празднеств
закрывают лавки его народа во все те дни, когда они
открывают свою лавочку, то есть в течение трети года;
который говорит ему, что духовенство — это обоюдо-
острый нож, оказывающийся в зависимости от интересов
церкви или в руках короля, чтобы резаль народ, или в
руках народа, чтобы резать короля;
который говорит ему, что если бы король сумел взять-
ся за это, ему легче было бы дискредитировать все свое
духовенство, чем опорочить какую-нибудь суконную фаб-
рику, потому что сукно — полезная вещь, и гораздо лег-
че бывает обойтись без обедни и проповеди, чем без баш-
маков;
который лишает этих святых особ их мнимой свято-
244
сти,— как это делаю я в данный момент,— и который
советует вам пожрать их без зазрения совести, когда
вас будет мучить голод;
который советует вам в ожидании решительных мер
приняться за массу этих бенефиций 1 по мере того как они
будут становиться вакантными и назначать туда лишь
тех лиц, которые согласятся принять их за треть дохода,
оставив для вас и для нужд вашего государства две дру-
гие трети на пять лет, па десять лет, навсегда, как это у
нас в обычае;
который убеждает вас, что если вы могли добиться
без всяких неприятных последствий сменяемости судей,
то гораздо легче сделать сменяемыми священников; что
пока вы будете считать их необходимыми, вы должны
держать их на жалованьи, ибо получающий жалованье
священник — это малодушное существо, боящееся, что
его прогонят и таким образом погубят;
который показывает вам, что человек, получающий
средства к существованию от вас, теряет мужество и не
решается делать ничего великого и рискованного: свиде-
тели этого — те лица, которые заполняют ваши академии
и на которых страх потерять свое место и свою пенсию
действует так сильно, что без произведений, прославив-
ших их раньше, об их существовании не знали бы ровно
ничего.
Обладая секретом заставить молчать философов, по-
чему вы не воспользуетесь им, чтобы заставить молчать
священников? Последнее гораздо важнее первого.
О ТЕРП ИМОСТИ
Sanguis martirum, semen christianorum * — кровь му-
чеников это семя христианства. Такова история рели-
гиозной нетерпимости во все века у всех наций и в от-
ношении всего сущего.
Человеку свойственно особое качество, весьма, на мой
взгляд, важное: способность итти на любое рискованное
предприятие.
За расклейку мятежных и оскорбительных для короля
афиш выносят смертный приговор. На другой день рас-
клеивают их в двадцать раз больше и притом еще более
свирепых. С того момента, когда возникает угроза смер-
ти, поступок, бывший раньше низким, становится героиче-
ским. Есть какое-то упоение в том, чтобы рисковать сво-
ей жизнью.
Нетерпимость, в особенности у государя, придает важ-
ность самым незначительным по своему характеру по-
ступкам.
Нетерпимость, в особенности у государя, становится
источником всевозможных обвинений и всяческой кле-
веты.
Нетерпимость, в особенности у государя, приводит к
отстранению от должностей и к назначению па должно-
сти, тогда как это должно бы происходить лишь по за-
слугам.
Нетерпимость рождает злобные доносы и сеет не-
нависть среди подданных.
Нетерпимость ограничивает умы и увековечивает пред-
рассудки.
Нетерпимость всегда враждебна истине и выгодна
* Тертуллиан — «Апологетика».
246
лишь лжи. Истина любит критику, от нее она только вы-
игрывает; ложь боится критики, ибо проигрывает от нее.
Нетерпимость была одним из страшных бичей моей
родины. Она не только привела к кровопролитиям и к
изгнанию бесчисленного множества превосходных людей
всякого рода, обогативших соседние королевства, она
привела, кроме того, к гибели многие превосходные умы.
Было время, когда разрешалось преподавать только
философию Аристотеля. Существовали древние, средне-
вековые и новые последователи Аристотеля. Пробегая из
любопытства произведения этих людей, поражаешься? глу-
бине, силе ума и неимоверному труду, вложенному в них,
и говоришь себе: «Чего только не создали бы эти ред-
костные качества, если бы они были применены к вещам
более полезным?». А как этого можно было бы достичь?
Па пути свободы.
Человек, сказавший: «Opportet esse haereses in Ec-
clesia»*, то есть: «Следует, чтобы и церковь имела ере-
си», не сознавал всей глубины этих слов. Драка начинает-
ся из-за пустяков. Этим пустякам начинают придавать
важность. Рождается одаренный человек. Он ищет богат-
ства или славы. Если он ищет славы, он примыкает к
преследуемой стороне; если он ищет богатства, он стано-
вится под знамена преследующей стороны, и он опять-
таки потерян для общества. Таков ответ на вопрос, поче-
му столько талантливых людей вступило в число христи-
ан при возникновении этой религии: потому, что родились
в те времена, когда разгорелась драка между Юпитером
и Иисусом Христом.
В чем же состоит великое зло, причиненное нации
янсенизмом и молинизмом 1? В том, что жизнь таких
людей, как Арно2, Николь, Паскаль, Мальбранш3, «Нан-
село и множество других, прошла бесследно для разви-
тия наук и искусств моей родины. На что были упо-
треблены все их таланты и вся их жизнь? На создание
сотен томов полемических произведений, из которых при
всей их талантливости нельзя почерпнуть ни одной стро-
чки. Из двухсот больших томов Арно сохранилась лишь
его «Общая рациональная грамматика» — произведение
на нескольких листках, но глубокое — подлинно львиная
* Апостол Павел, Первое послание к коринфянам, XI, 19.
247
хватка. Что создал непостижимый гений Паскаля? Не-
большой трактат о рулетке и «Письма к провинциалу»—
плод негодования, вызванного глупцами, которые отни-
мали у него время, уродовали дух и открыли его взорам
бездну, заглянув в которую он умер. Что мы унаследо-
вали от Саси 1? Ничего. От Мальбранша? Призрачные ви-
дения. От Николя? Два труда по схоластическому бого-
словию. Читая их, жалеешь о силе логики, затраченной
им впустую; да, пожалуй, еще его «Очерки морали», где
глубокое знание человеческого сердца искажено призна-
нием нелепых принципов: первородного греха, действен-
ной благодати, предопределения, вечной славы, ада и дья-
вола, где все зло приписывается человеку, а все благо —
богу.
А затем, чего стоят восемьдесят тысяч тайных прика-
зов об аресте (letlres de cachet), изданных в одно только
правление кардинала Флери2? За этой цифрой скрыва-
ются восемьдесят тысяч добрых граждан, либо брошен-
ных в темницы, либо бежавших из отечества в отдален-
ные страны, либо сосланных в далекие хижины. Все они
были рады пострадать за доброе дело, но все погибли
для государства, которому эти преследования обошлись
в огромную сумму. На одни обыски после появления
книги «О новом духовенстве» («Nouvelles ecclesiastiques»)
были истрачены миллионы. Пусть бы позволили свободно
печатать этот скучный памфлет, на который так наброси-
лись вначале,— и никто не стал бы его читать.
Среди всех этих бедствий возникли гонимое картези-
анство3 и внушавший ужас гассендизм4, или эпикурей-
ство 5. То благо, которое могли бы дать эти два направ-
ления, старавшиеся, каждое по-своему, построить фило-
софию маленьких телец, было уничтожено силой, а зло,
принесенное ими, укоренилось. Декарт, этот защитник
бытия бога, был вынужден спасаться от преследований
как безбожник; а бедному Гассенди пришлось нацепить
на Эпикура маску христианства, чтобы избегнуть муче-
нического венца. И вот от Гассенди не сохранилось ни-
чего, а от Декарта остались применение алгебры к гео-
метрии и три бессмертных произведения.— «Логика»*,
«Диоптрика» и. «Рассуждение о методе».
* Повидимому, Дидро имеет в виду «Размышления» Декарта
(Прим. Турне).
248
Но вот были основаны три академии — язык, эрудиция
и все науки развиваются с невероятной быстротой. Вдруг
в голове одного министра рождается нелепая идея, будто
просвещение вредит благоденствию нации; в переводе с
придворного языка на язык обычный это значит, что
когда нация будет просвещенной, министр не посмеет
делать любые глупости, которые взбредут ему на ум.
В одно мгновение издается запрет печатать что-либо о
правах, о религии, о правительстве, о налогах, их объек-
тах, их распределении и взимании, о торговле — словом,
обо всем, что достойно занять хороший ум.
К чему это привело? Люди пришли в негодование и
раздражение, стали писать только на эти темы. Иначе и
быть не могло. Случилось то же, что в Риме, когда запре-
тили произведения Кремуция 1,—в мгновение ока их
было распространено десять тысяч копий. Властям, по
крайней мере в первое время, не сразу удается овладеть
умами. Со временем дело меняется и власть подавляет
нацию.
Всякая вспышка энтузиазма преходяща. Он завладе-
вает лишь современным поколением. Работа, остающаяся
втайне, лишает славы и выгоды. Энтузиасты умирают, не
оставив после себя потомства. Люди перестают мыслить,
когда перестают читать. Перестают же читать, когда утра-
чивают интерес к чтению. Наступает период огрубения.
Язык начинает вырождаться. Всегда язык считался пока-
зателем состояния умов в народе. Если бы я воскрес
через сто лет, то для того, чтобы узнать, что сталось с на-
цией, я попросил бы дать мне последнее вышедшее из пе-
чати произведение литературы.
То, что я сказал о гибели крупных умов во Франции,
служит правдивой историей их гибели и в Италии, и
в Германии, Испании и Португалии.
Теология, эта наука о химерах, вызывала и всегда
будет вызывать такие же последствия.
В сознании человека возникает понятие бога, оно не-
избежно становится важнейшим из понятий. И так как
всегда опасно сравнивать портрет с оригиналом, естест-
венно, что портрет становится источником ожесточенней-
ших разногласий в обществе и предметом семейных ссор.
Покровитель свободы мысли, или враг нетерпимости,
должен держать теологию в загоне, а духовенство — в
249
унижении и невежестве. Если страна желает избежать
великих бедствий, она должна свести всю теологию к
двум страничкам.
Именно при таком гонении на умы возникла секта
сумасшедших— конвульсионеров 1. Правительство начи-
нает их преследовать, и этих одержимых становится все
больше и больше. К счастью, хватило соображения не
карать их смертью. И, к еще большему счастью, нашелся
умный чиновник, который позволил им разыгрывать пуб-
лично свой фарс, где только они пожелают, и даже по-
строил для них балаган на ярмарке. С тех пор одержи-
мых не стало.
Вывелись и янсенисты. Лишь изредка встречались
кое-где тощие, печальные, измученные и отвратительные
сторонники их, которые проповедовали перед уличным
сбродом свои жалкие доктрины и оплакивали участь
церкви подобно тому как при Юлиане 2 евреи и галилеяне
оплакивали: одни — разрушение Иерусалима, а другие —
разрушение их фанатических школ. Некий тупоумный и
упрямый аббат поднял гонение на этих несчастных
последышей, и в мгновение ока секта возродилась, став
еще более многочисленной и дерзкой, чем когда-либо
прежде. Из-под каждого камня мостовой выскакивал
янсепист, и не будь изгнаны иезуиты, подстрекающие
к раздору, я думаю, что янсенизм и молинизм привели бы
нас когда-нибудь в Долину Гренель 3.
Между тем этот раскол, повлекший потерю стольких
прекрасных умов и стольких миллионов, служивший
источником всяческих притеснений в течение полутораста
лет, мог бы окончиться шуткой. Для этого достаточно
было бы двух шутовских представлений. Следовало в
течение двух недель ставить на площади Сен-Лоран или
Сен-Жермен во время ярмарки пьесу «Янсенистский поли-
шинель» — молинисты бы изрядно потешались,— а затем
в виде реванша две недели спустя объявить и разыграть
пьесу «Г-жа Жигонь, молинистка». Словом, прибегали
к запрету там, где надо было поднять насмех: выпускали
Сартина 4 вместо Пирона.
Я уже говорил, что частное воспитание ни в одной
стране не приведет к желаемым результатам, пока оно
лишено национальной и общественной основы.
То же скажу об изящных искусствах.
250
Государю всегда следует иметь под боком священ-
пика и литератора — предпочтительнее, драматического
поэта. Эти два проповедника будут постоянно в его рас-
поряжении: первый не должен говорить ничего такого,
что не было бы угодно монарху, а второй должен гово-
рить то, чего монарх хочет.
Укажите поэту-трагику на те национальные доброде-
тели, которые он должен проповедовать.
Укажите комическому поэту на те национальные не-
достатки, которые он должен осмеивать.
Люди воспитываются не там, где на подмостках царят
принужденность, чопорность, скука, торжественность,
мрачность: одни туда не пойдут, других там одолеет сон.
Воспитывается народ там, где царят свобода, развлече-
ния, удовольствия. У людей пробуждается интерес к зре-
лищам, они смеются, плачут, слушают и запоминают
и, выйдя из театра, повторяют в обществе все слышан-
ное.
Кто знает хотя бы одно крылатое слово из философ-
ских сочинений Вольтера? Никто. Между тем как тирады
из «Заиры», «Альзира», «Магомета» 1 и поочие — на устах
людей всех состояний, начиная от самых высокопостав-
ленных и кончая самыми простыми.
Проповедников не читают, хорошую же комедию или
прекрасную трагедию перечитывают десятки раз. Ее
можно найти даже в предместьях.
Если ваше величество призовет к себе и побеседует
раз-другой с вашим посредственным Сумароковым, если
вы дадите ему тему для поэмы, вам, быть может, удастся
сделать из него настоящего человека. Если же он все-
таки останется прежним, эта милость разбудит какого-
нибудь другого одаренного человека, который станет
проповедовать, громко проповедовать свое евангелие.
Так использовал Меценат 2 выдающиеся умы своего вре-
мени — Вария, Горация и Вергилия, которые были лишь
передатчиками его мнений.
Роль этих передатчиков особенно важна и ощутима
у тех народов, чья цивилизация еще не сложилась, а, на-
против, находится в развитии.
До и после появления кодекса законов и во время его
составления я показал бы на сцене важнейшие преиму-
щества этих законов по вопросу о престолонаследии, о
251
партиях и т. п. Нет такого закона, который не мог бы
дать темы для трагедии исторической либо вымышлен-
ной.
Ваше величество хорошо знает пороки и смешные
стороны наций: я сделал бы из них добычу парнасских
псов.
Перед тем как первый рой моих девиц и юношей вый-
дет из воспитательных учреждений, я показал бы их со
сцены, противопоставив всем глупцам, дурам и наглым
людям, всем тем, с кем придется этой молодежи встре-
титься и столкнуться в свете и кто попытается смутить
молодежь и лишить ее тех преимуществ, которые дает
хорошее воспитание. Только ваши национальные поэты
или вы сами, ваше величество, могли бы выполнить эту
задачу. Если вы выступите сами, эффект будет наиболь-
шим, и я знаю, что вы это можете сделать. Одна хорошая
пьеса могла бы составить счастье этих детей.
Где, в каком уголке земли задумывались над тем, что-
бы направить развитие искусств к полезной и справедли-
вой цели? Оттого мы видим в собраниях поэм некоторых
авторов похвалу пороку наряду с похвалой добродетели;
в картинных галереях — проституцию наряду с благород-
ной Виргинией; в общественных садах — похищение Ори-
теи наряду с Энеем, несущим на себе своего отца; повсю-
ду— изображения властителей, и нигде нет изображений
великих людей; нигде не показана национальная добро-
детель, между тем как, воплощая в искусстве образы
великих людей, мы воспитываем в молодежи добродетель
на всю жизнь.
Первый же подвиг, совершенный русским, кем бы он
ни был бы по своему состоянию, я велел бы изобразить
при помощи кисти или резца, либо воспеть с кафедры и
па театре: пусть все знают, что в Карраре хватит мра-
мора для всякого, кто заслужит быть увековеченным в
мраморе.
Характерно, что эта склонность к восхвалению исти-
ны, красоты и добра столь естественна в искусстве, что
редко можно встретить подлинно великого художника, ко-
торый создал бы недостойное себя произведение.
Государю стоит только шепнуть словечко и улыбнуть-
ся, чтобы привлечь художников к борьбе против дурных
нравов.
252
При всем том я вовсе не капуцин 1, и мне было бы
очень досадно, если бы Лафонтен не написал своих
«Басен» и «Рассказов», но более всего я люблю те басни,
в писании которых ему не приходилось никогда раскаи-
ваться.
Быть может, все это только мои грезы, но я чувствую,
что уже близко пробуждение.
ПЕРВОЕ ДОБАВЛЕНИЕ
К ЗАПИСКЕ О ТЕРПИМОСТИ
Я ничего не скажу о боге из уважения к вашему вели-
честву. Вы любите убеждать себя, будто есть на небе
какой-то образец, существо, глаза которого открыты на
ваши поступки и которое при виде вашей доброты, благо-
родства, величия и гуманности улыбается вам и радуется
зрелищу, столь редко встречающемуся на земле. Я с ува-
жением отношусь к этой прекрасной химере, которой на-
ряду с вами были подвластны Сократ1, Фокион 2, Тит3,
Траян4 и Марк Аврелий 5. Но все же я осмеливаюсь, не-
смотря на испытания, которым уже подверг вашу сни-
сходительность, рассмотреть опасности религиозной мо-
рали.
Признавая существование бога, тем самым признают,
что есть некто, способный гневаться и умиротворять. Та-
кие идеи крепко засели в умах самых просвещенных
деистов, не говоря уже о простом народе. Отослать бо-
гов, как это сделал Эпикур, в дальние миры и погрузить
их там в состояние глубокого безразличия — вполне чест-
ный способ разделаться с ними 6.
Богу, который гневается, а затем успокаивается, нужен
культ. Но культ требует жертвоприношений, а жертво-
приношения невозможны без жрецов. А что такое культ?
Совокупность обязанностей перед существом, никогда
не показывающимся, но принимающим столько разно-
образных форм, сколько имеется голов. Не бог создал
людей по своему образу, а люди ежедневно создают его
по своему. Бог магометанина не таков, как бог христиа-
нина. Бог протестанта не таков, как бог католика. Бог
взрослого отличается от бога ребенка и от бога стариков.
Есть столько же представлений о божестве, сколько раз-
личных темпераментов среди его почитателей в зависи-
254
мости от их душевного состояния. Я лично не верю в бога;
быть может, я уверую перед лицом смерти: предсмертная
судорога сворачивает самые крепкие головы 1.
Но рассмотрим, к чему может привести система обя-
занностей, которые поставлены над природными и чело-
веческими обязанностями, основанными на важнейших
отношениях одинаково организованных существ. К чему
сводятся естественные законы для человека, который про-
сит прощения у бога за зло, содеянное ближнему; кото-
рый считает первой своей обязанностью послушание выс-
шему существу; который ставит правила веры выше
указаний совести и велений закона; который воображает,
что ожидание будущего счастья требует, чтобы он при-
носил в жертву реальные блага?
Что сталось с государственными законами или пра-
вами? Повсюду я вижу ненависть: ненависть магомета-
нина к христианину, ненависть католика к протестанту;
я знаю, что пет такого уголка в мире, где различие в рели-
гиозных воззрениях не орошало бы землю кровью; люди
не станут мудрее в этом отношении и не достигнут согла-
сия, ибо дорожат этими заблуждениями больше, нежели
своей жизнью. Что сталось с законами гражданскими?
Они обратились в ничто. Укажите мне, в каком неруши-
мом гражданском законе признается существо более
могущественное, чем государь. Где то право, тот принцип
собственности, то понятие справедливости, та идея порока
или добродетели, которые предусматривали бы существо,
могущее повелевать всем, могущее даже повелеть отцу
зарезать своего первенца и признающее всякое сопротив-
ление себе преступным? Перелистайте историю всех наро-
дов земли: везде религия превращает невинность в пре-
ступление, а преступление объявляет невинным.
Что сталось с законами, правами и обязанностями
семейными? Никто не знает этого лучше, чем я. Различие
во мнениях ослабляет самые священные узы. В семье
водворяются равнодушие, взаимная ненависть. Нет боль-
ше ни отцов, ни матерей, ни братьев, ни сестер, ни дру-
зей. Христос сказал: «Я пришел принести на землю меч;
я пришел.разлучить жену с мужем, отца с ребенком, бра-
та с братом». Не говорил ли того же и Моисей? Но что
породили эти слова в тех и других нациях? Вооружив-
шись мечом Магомета, это мировоззрение опустошило
255
Азию. Пусть только разрешат во Франции приходским
священникам напасть на философов, и вы увидите, что
останется от тех через какие-нибудь двадцать четыре часа.
Людовик Святой 1, добрый, справедливый, святой
Людовик, говорил Жуанвилю 2: «Первому же, кто будет
перед тобою дурно говорить о боге (то есть о боге святого
Людовика и Жуанвиля), проткни брюхо шпагой». И если
подумать, что святой Людовик основывал всю мораль,
всю общественную частную безопасность, все узы между
людьми, все добродетели на понятии божества,— его
слова не покажутся жестокими. В его глазах неверующий
был хуже и ненавистнее всякого злодея. Если назначается
смертная казнь тому, кто нападает на частное лицо, то
почему щадить жизнь посягающего на общество в самых
его основаниях? Карают ведь смертной казнью того, кто
отнимает у своего ближнего бренное существование;
почему же щадить обрекающего его на вечное проклятие?
Мы считаем трусом того, кто допустил, чтобы в его при-
сутствии оскорбительно отзывались о его друге; почему
же мы должны полагать, что верующий станет терпеливо
слушать, как будут дурно отзываться или думать о том,
кого он должен возлюбить превыше всех? Это нелепость.
Людовик Святой был фанатиком, но фанатиком весьма
последовательным. Из этого видно, что терпимость — ско-
рее свойство характера, нежели дело разума. У нас свя-
щенники не считают нужным скрывать это и заявляют
почти открыто, что проповедь терпимости — это пропо-
ведь равнодушия в делах религии.
Терпимость всегда есть система преследуемого: он
тотчас же отказывается от этой системы, как только ста-
новится достаточно сильным, чтобы самому стать пресле-
дователем.
Христиане, когда были слабее язычников, требовали
терпимости для себя: став сильнее язычников, они потре-
бовали искоренения язычества.
Если идеальная терпимость есть, в чем я уверен, как
бы голос разума — у государя, судьи и священника,
у главы семьи,— то судите, каким источником несправед-
ливостей и раздоров служит нетерпимость.
Мне скажут, что источником всех зол служит суеве-
рие, а не религия. Но ведь понятие божества неизбежно
вырождается в суеверие. Деист отсек у гидры дюжину
25G
голов, но та голова, которую он пощадил, вновь породила
все остальные.
Если бы бог спустился с небесных высей в атмосферу
и обратил свои взоры к земле, он, совершая круговраще-
ние вместе с нашей планетой, увидел бы, как люди,
истолковывая его волю, убивают друг друга.
Ничто не остается чистым в руках людей, и это — одно
из неопровержимых возражений против всякого откро-
вения.
Откровение лишь в момент своего возникновения
остается таким, как оно есть. Уже отец передает его сыну
в измененном виде. История, недостоверная с самого
начала, неизбежно превращается в волшебную сказку.
Чем больше свидетелей, тем больше версий, а священные
рассказы не допускают никаких вариантов.
Всякое понятие, в особенности же понятие сложное —
о явлении, не имеющем себе подобных, не может быть
единообразным. Об этом свидетельствуют различные
системы деистов. Одни из них признают, другие же отри-
цают божественный промысл. Эти верят в свободу, а те
не верят. Бессмертие души и будущие кары и награды
служат предметом спора между ними, и они разделяются
на мелкие секты, которые только потому терпимы друг
к другу, что их общий враг — суеверие — заставляет их
объединяться. Фанатизм и нетерпимость не являются
несовместимыми даже с атеизмом. Люди склонны прези-
рать того, кто думает иначе, чем они, о столь важном
вопросе; от этого недостатка нас могут спасти лишь
известная душевная мягкость и величайшая снисходитель-
ность; еще лучше — не придавать большого значения всей
этой туманной метафизике; к несчастью, сильные души
встречаются редко.
Итак, понятие о боге — верю я в него или нет — дол-
жно быть изгнано из кодекса. Я свел бы все к мотивам
простым и естественным, столь же неизменным, как и род
человеческий.
Вообще я ограничился бы изданием постановлений
лишь о таких предметах, идея которых ясна и общедо-
ступна. Все то, что может породить различные истолко-
вания при всем желании быть точным (понятия вольно-
думства, злословия, клеветы и прочее), вообще не должно
входить в состав моего законодательства.
257
Я никогда не намеревался говорить вашему величеству
ничего, кроме истины, и вы это знаете гораздо лучше,
нежели я сам. Но вы, вероятно, улыбаетесь, думая о том,
какая пропасть отделяет умозрение философа, который
устраивает счастье общества, лежа на боку, от мыслей
великой государыни, которая с утра до ночи встречает бес-
численные препятствия любому задуманному ею улучше-
нию. Только опыт и знание позволяют видеть разные
трудности, а бедняга-философ зачастую сбрасывает их
со счетов.
Согласитесь, ваше величество, что в моем кратком
рассуждении о роскоши, где я приравниваю себя
к королю, из меня получился довольно забавный король.
Я сам смеялся над этими страницами. Но для моего уте-
шения, прошу вас, посмейтесь немного и над другими
философами, ибо без всякого тщеславия я заявляю
вашему величеству, что все они не более глубокомыслен-
ны и не менее забавны. Писательство — вещь хорошая.
Знание того, какими вещи должны быть, характеризует
человека умного; знание того, каковы вещи на самом
деле, характеризует человека опытного; знание же того,
как их изменить к лучшему, характеризует человека
гениального.
Я закончу тремя словами Гоббса 1 — философа, конеч-
но, известного вашему величеству.
Декарт говорил: «Я мыслю, следовательно, я сущест-
вую». Гоббс сказал Декарту: «Когда рассуждают фило-
софски, следует ступать более твердо», и заявил: «Я мы-
слю, следовательно, частица организованной материи,
подобная мне, может мыслить».
Он определяет затем религию как суеверие, предпи-
сываемое законом, а суеверие — как религию, воспрещае-
мую законом.
Этот философ написал небольшой трактат о челове-
ческой природе 2, из которого я сделал бы катехизис для
своего ребенка, если бы имел возможность воспитывать
его по своей воле; но, к несчастью, детей надо воспиты-
вать для общества, в котором им предстоит жить, а пото-
му будем надеяться на их рассудительность,— она помо-
жет им исправить многие положения, противные истине
и счастью, и послужит как бы некоей тайной философией,
на которую можно положиться.
258
P. S. Паскаль, отравленный религиозными убежде-
ниями, измучил свое сердце и ожесточился. Он довел до
отчаяния сестру, которую любил и которая нежно любила
его, и всё из опасения, что чувство, столь естественное
и столь сладостное, отнимет у них обоих частицу той
любви, которую они обязаны были отдавать богу. Ах,
Паскаль, Паскаль!
ВТОРОЕ ДОБАВЛЕНИЕ
О РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЯХ
Народ строит свои религиозные верования в соответ-
ствии с имеющимися у него представлениями о божестве,
священные же книги странным образом видоизменяют
эти представления. Смутные сами по себе, эти верования
становятся еще более туманными вследствие чтения
таких книг. Самый светлый ум заходит в тупик и теряется.
В самом деле, в чем смысл священной книги? Она
стремится показать, что человек ничтожен пред лицом
бога, что он — атом в руке того, кто располагает им по
своей воле. Какова мораль священных книг? Ее нет, да
и не должно быть. Достаточно показать в них высшее
существо,- верховного владыку всего — всего справедли-
вого и несправедливого.
Что из этого следует? То, что такая книга неизбежно
заполняется описанием жестоких поступков, оправданных
велением бога, рассказами о карах, постигающих самых
невинных людей только за то, что они шли против воли
бога. Эта книга — бессвязный свод честных и бесчестных
принципов.
Нет ничего такого, чего не могла бы доказать священ-
ная книга либо с помощью правил, либо с помощью при-
меров.
В этой книге соединены мудрость с безумием, истина
с ложью, порок с добродетелью; она учит убивать хоро-
ших и дурных королей, щадить или истреблять нации.
Не знаю, сумел бы я или нет составить священную
книгу, но знаю, какова должна быть ее поэтика; это —
сочетание туманного и возвышенного, мудрого и бессмыс-
ленного, способного вызвать у одних веру, у других —
ужас, это — нагромождение противоречий. Произведение
логичное, продиктованное добродетелью и разумом, но
свободное от восторженности, есть дело рук человека,
а не творение бога.
260
О НЕТЕРПИМОСТИ
Абсолютная и совершенная терпимость — это почти
химера, коснется ли дело министра, священника или
частного человека.
Люди, придерживающиеся различных мнений о боже-
стве, кончают тем, что начинают ненавидеть друг друга;
та же рознь наблюдается между семьями, между горо-
дами, между государствами.
В Константинополе не может найти справедливости
человек, над которым не совершен обряд обрезания.
Священник нетерпим уже по самому своему положе-
нию: он превратил бы свой культ в ничто, если бы при-
знал, что и другие культы угодны богу. Он вбил себе
в голову, что вся мораль покоится на религии, то есть
на его религии. Без веры в бога, то есть в его бога, нет
и социальных уз. Неверующий или тот, кто не верит в то,
во что верует сам священник, есть враг бога, и бог есть
его враг; он является величайшим злодеем, величайшим
преступником в этом мире и проклятым в загробной
жизни. Нельзя любить его, помогать ему, нельзя жить
вместе с ним, и народ всегда согласен со священником
в этом вопросе.
Министр, если он не безбожник, а таковым он быть
не может, всегда будет, не обращая внимания на заслуги,
отдавать предпочтение тому, кто разделяет его мнения.
Только долгий опыт нации учит ее понимать, что
государь должен требовать от человека лишь одного —
быть просвещенным и честным.
Религиозная мораль состоит из многочисленных обя-
занностей, которые занимают в сознании людей всегда
более важное место, нежели гражданская мораль или
естественные обязанности. Нет, вероятно, такого религи-
озного человека, который не считал бы осквернение свя-
щенного сосуда большим злом, чем развращение невин-
261
ной молодой девушки; для обозначения первого из этих
проступков придумали даже особое слово — «свято-
татство».
Но в таком случае ясно, что если попрана одна мораль,
нельзя ожидать уважения к другой. Поэтому и дурной
пастырь, и светская биготка 1 одинаково опасны.
Пусть священник проповедует свою религию, но у сту-
пеней трона только добродетель и добрые нравы должны
иметь цену. Это — единственное средство поставить
со временем религию на надлежащее место.
Гоббс говорит: человек, который не следит за тем, что
люди ставят превыше собственной жизни, забывает об
общественном спокойствии.
КАК МОЖНО ИЗВЛЕЧЬ ПОЛЬЗУ
ИЗ РЕЛИГИИ И СДЕЛАТЬ ЕЕ
НА ЧТО-НИБУДЬ ГОДНОЙ
Магометане танцуют в своих храмах. Если бы я был
султаном и хотел воспитать в своих подданных общитель-
ность, я начал бы с того, что заставил бы танцевать
в храмах сначала мужчин и женщин отдельно, затем
мужчин с женщинами. Потом с помощью имамов я пере-
нес бы религиозные танцы из храмов в частные дома,
из домов — на улицы, так чтобы религиозный характер
танцев забылся и они стали общим публичным развле-
чением.
Я уже говорил вашему величеству, что национальная
честность связана невидимыми нитями с весьма сущест-
венными качествами и что невозможно внушить честность
людям низшего состояния, не воспитывая их. Я созна-
вался вашему величеству, что подходящего средства для
этого я не знаю. Когда я позже пораздумал над этим,
мне пришла в голову такая нелепая идея. Хождение
в баню здесь — почти религиозный обычай. Я поручил бы
священникам усердно проповедовать святость бани. От
утверждения святости бани они естественно перешли бы
к похвалам гребню и щетке, изобразив чистоплотность
как дело важное, серьезное и угодное богу. Таким путем
священники избавили бы постепенно наших мужиков
от насекомых. Ваши священники в Петербурге делали
бы то же самое дело, что в Амстердаме делают почитае-
мые там всеми журавли и аисты, являющиеся грозой для
мышей, крыс и всех водяных насекомых.
У вас имеются монастыри, мужские и женские. Муж-
ские настолько же грязны, насколько чисты женские, ибо
женщины с большим вниманием заботятся о чистоте
263
жилища. Следовало бы поэтому пользоваться женской
прислугой, а толпу праздных мужчин вернуть обратно
на землю. Они лишь прибавляют свою грязь к хозяйской
грязи и целыми толпами живут в частных домах, не делая
ничего. Пусть бы они лучше стали ремесленниками или
земледельцами.
РАЗГОВОР ФИЛОСОФА
С ЖЕНОЙ МАРШАЛА Д Е ***
Мне нужно было поговорить по одному делу с герцогом
де***. Я пошел утром к нему на квартиру. Его не было
дома, и я велел доложить о себе герцогине. Это милая
женщина; она прелестна и набожна, как ангел; кротость
написана па ее лице; интонация голоса и наивность ее
речи — все это так гармонировало с ее наружностью! Она
была за туалетом. Мне предлагают сесть; я сажусь в крес-
ло, и мы начинаем разговор. В ответ на несколько моих
замечаний, осведомивших ее обо мне и изумивших ее (ибо
она была убеждена, что человек, не признающий пресвя-
той троицы,— каторжник, который кончит виселицей), она
говорит мне:
— Вы не господии ли Дидро?
Дидро. Да, мадам.
Герцогиня. Так это вы ни во что не верите?
Дидро. Я.
Герцогиня. Но ведь у вас мораль верующего чело-
века.
Дидро. Почему бы и нет, если я честный человек?
Герцогиня. И в своей жизни вы сообразуетесь
с этой моралью?
Дидро. Наилучшим образом.
Герцогиня. Как! Вы не воруете, не убиваете, не
грабите?
Дидро. Очень редко.
Герцогиня. Что же выигрываете вы, не веруя в
бога?
Дидро. Ничего, мадам. Разве веруют в бога из-за ка-
кой-нибудь выгоды?
Герцогиня. Не знаю; но соображения выгоды ни-
сколько не вредят делам ни этого, ни другого мира.
265
Дидро. Поэтому-то я немножечко огорчен за наш
бедный человеческий род. Поэтому-то мы не стоим боль-
шего.
Герцогиня. Как! Вы не веруете?
Дидро. Нет, клянусь честью.
Герцогиня. Если вы не вор, не убийца, то согла-
ситесь, по крайней мере, что вы непоследовательны.
Дидро. Почему же?
Герцогиня. Мне кажется, что если бы не на что
было надеяться и нечего было бояться, когда меня здесь
не будет, я не отказывалась бы от тех маленьких наслаж-
дений, которых так много представляется в этой жизни.
Признаюсь, я ссужаю богу деньги под ростовщические
проценты.
Дидро. Вы воображаете?
Герцогиня. Это не воображение, а факт.
Дидро. Л можно ли вас спросить, что еще вы позво-
лили бы себе, если бы вы были неверующей?
Герцогиня. Извините, это предмет моей исповеди.
Дидро. Что касается меня, то я получаю со своего
капитала ренту.
Герцогиня. Нищенский доход.
Дидро. Разве вы предпочитаете видеть во мне
ростовщика?
Герцогиня. Ну, да ведь... тут можно, сколько угод-
но, заниматься ростовщичеством... не разоришь. Я знаю
хорошо, что это несколько неделикатно, но что же делать?
Вся суть в том, чтобы попасть на небо, хитростью или си-
лой, не все ли равно: нужно все поставить в счет, не пре-
небрегать никакой выгодой. Увы! Нам предстоит много
хлопот, наш вклад всегда очень скуден по сравнению с
ожидаемым доходом. А вы ничего не ждете?
Дидро. Ничего.
Герцогиня. Печально. Согласитесь же, что вы или
очень злы, или очень безумны!
Дидро. По правде сказать, не знаю, мадам.
Герцогиня. Какое побуждение у неверующего
быть добрым, если он не безумен? Я очень хотела бы знать
это.
Дидро. И я скажу вам.
Герцогиня. Вы обяжете меня.
Дидро. Представляете ли бы себе, что можно быть
266
так счастливо рожденным, что будешь находить большое
удовольствие делать добро?
Герцогиня. Представляю.
Дидро. ...что можно получить превосходное воспи-
тание, которое укрепляет естественную склонность к благо-
деяниям?
Герцогиня. Конечно.
Дидро. ...и что в зрелом возрасте мы по опыту узна-
ём, что для нашего собственного счастья в этом мире луч-
ше быть, в конце концов, честным человеком, чем мошен-
ником?
Герцогиня. О, да, но как можно быть честным че-
ловеком, когда дурные принципы, объединяясь со стра-
стями, влекут нас ко злу?
Дидро. По непоследовательности; что может быть
проще, чем быть непоследовательным?
Герцогиня. Увы, к несчастью, нет ничего проще
этого: веруешь, а ведешь себя ежедневно, как неверую-
щий!
Дидро. И, не веруя, ведешь себя почти как верую-
щий.
Герцогиня. В добрый час, но разве есть какое-ни-
будь неудобство иметь один лишний повод — религию —
делать добро и один лишний повод — неверие — делать
зло?
Дидро. Никакого, если бы религия была поводом
делать добро, а неверие — поводом делать зло.
Герцогиня. Разве есть какое-нибудь сомнение в
этом? Разве дух религии не способен сдерживать пашу
мерзкую, развращенную природу, а дух неверия, избавляя
ее от страха, не предоставляет ли ее дурным ее наклон-
ностям?
Дидро. Это, мадам, поведет нас к длинной дискуссии.
Герцогиня. Что же из этого? Герцог не скоро вер-
нется, а для нас лучше говорить умные вещи, чем сплетни-
чать о ближних.
Дидро. Придется начать немного издалека.
Герцогиня. Как хотите, лишь бы я поняла вас.
Дидро. Если вы не поймете меня, виною этому буду
я.
Герцогиня. Это очень вежливо, но вы должны
знать, что я никогда ничего, кроме часослова, не читала
267
и занималась почти исключительно тем, что выполняла
предписания Евангелия и рожала детей.
Дидро. Обе эти обязанности вы исполняли прекрасно.
Герцогиня. Да, что касается детей: их шесть у
меня, а седьмой стучится в дверь. Однако начинайте.
Дидро. Мадам, есть ли в этом мире какое-нибудь
добро, которое не влекло бы за собой некоторого неудоб-
ства?
Герцогиня. Нет.
Дидро. ...и какое-нибудь зло, которое не приносило
бы некоторой выгоды?
Герцогиня. Нет.
Дидро. Что же вы называете злом или добром?
Герцогиня. Зло — это то, что создает больше не-
удобств, чем дает пользы, а добро, наоборот, создает боль-
ше выгод, чем неудобств.
Дидро. Будете ли вы, мадам, любезны потом припо-
мнить свое определение добра и зла?
Герцогиня. Припомню. Вы называете это опреде-
лением?
Дидро. Да.
Герцогиня. Следовательно, это философия?
Дидро. Превосходная!
Герцогиня. И я философствую?
Дидро. Таким образом вы убеждены, что религия
дает больше выгод, чем неудобств, и потому вы называете
ее благом?
Герцогиня. Да.
Дидро. Что касается меня, то я не сомневаюсь, что
ваш управляющий обворовывает вас накануне пасхи не-
много меньше, чем после, и что время от времени религия
мешает совершиться целому ряду маленьких зол и создает
ряд маленьких благ.
Герцогиня. Мало-помалу создается великое.
Д и д р о. Но думаете ли вы, что ужасные опустошения,
произведенные религией в истекшие времена, и те, кото-
рые она произведет в будущем, достаточно компенсируют-
ся этими нищенскими выгодами? Подумайте: она создала
и поддерживает самую разнузданную вражду между на-
циями. Нет мусульманина, который не воображал бы, что,
искореняя христиан, которые, со своей стороны, не более
его веротерпимы, он делает дело, угодное богу и святому
268
пророку. Подумайте: она создала и поддерживает такие
раздоры среди народов одной и той же страны, которые
редко утихают без пролития крови. Паша история пред-
ставляет в этом отношении слишком свежие и слишком
мрачные примеры. Подумайте: она создала и питает силь-
нейшую и упорнейшую вражду в обществе между гражда-
нами, в семье между родными. Христос сказал, что он
пришел отделить мужа от жены, мать от детей, брата от
сестры, друга от друга; предсказание исполнилось слишком
точно.
Герцогиня. Вот это-то и есть злоупотребления, по
не в этом суть.
Дидро. Именно в этом, если злоупотребления неотде-
лимы от религии.
Герцогиня. А как вы докажете, что злоупотребле-
ния религией неотделимы от нее?
Дидро. Очень легко. Скажите мне: если бы какой-
нибудь мизантроп задался целью навлечь несчастье на
род человеческий, что мог бы он изобрести лучше веры
в непостижимое существо, насчет понимания которого лю-
ди никогда не могли бы согласиться и которое они ставили
бы выше своей жизни. Возможно ли, таким образом, от-
делить от понятия божества представление о глубочайшей
непостижимости и величайшей важности?
Герцогиня. Нет.
Дидро. Сделайте же вывод.
Герцогиня. Я сделала тот вывод, что такая мысль
в голове безумцев не остается без выводов.
Дидро. И прибавьте, что безумцы всегда были и бу-
дут в большинстве и что самые опасные из них — те, кото-
рых делает религия и из которых умеют при случае из-
влечь выгоду общественные смутьяны.
Герцогиня. По нужно же иметь что-нибудь, что
устрашало бы людей и удерживало бы их от дурных по-
ступков, ускользающих от строгости законов. Что же вы
поставите на место религии, когда устраните ее?
Дидро. Все-таки существовало бы одним ужасным
предрассудком меньше, если бы мне даже было бы нечем
заменить ее. Я уже не говорю о том, что ни в одну эпоху и
ни у какой нации религиозные мнения не служили основой
для национальных нравов. Боги, которым поклонялись
древние греки и римляне, честнейшие на земле люди, были
269
самыми разнузданными канальями: Юпитера следовало
бы заживо сжечь, Венеру — заключить вместе с прости-
тутками в Сальпетриер 1, Меркурия — вместе с бродягами
в Бисетр 2.
Герцогиня. И вы думаете, что совершенно безраз-
лично: христиане мы или язычники; будучи язычниками,
мы не стали бы от этого хуже и как христиане не стоим
большего?
Дидро. Право, я убежден, что, помимо всего прочего,
мы были бы к тому же еще немного жизнерадостнее.
Герцогиня. Это невозможно.
Дидро. Но, мадам, разве существуют христиане?
Я их никогда не видел.
Герцогиня. И это вы говорите мне?
Дидро. Нет, не вам, мадам. Это я говорю одной моей
соседке, честной и благочестивой, как вы, женщине, мня-
щей себя, как и вы, лучшей христианкой в мире.
Герцогиня. И вы доказали ей, что она ошибалась?
Дидро. Моментально.
Герцогиня. Как вам удалось это?
Д и д р о. Я развернул Новый Завет, который она часто
читала,— книга была сильно истрепана,— и прочел ей
Нагорную проповедь3. По прочтении каждого стиха я
спрашивал ее: «Это вы исполняете? А это? А вот это?».
Я пошел еще дальше. Она прекрасна, и, хотя она очень
благонравна и очень набожна, она хорошо знает это. У нее
очень белая кожа, и, хотя она не придает большого значе-
ния этому преходящему качеству, однако не обижается,
когда ей говорят комплименты; у ней роскошнейший бюст,
и, хотя она очень скромна, ей нравится, когда замечают это.
Герцогиня. Лишь бы об этом знали только она и
муж.
Дидро. Я думаю, что муж ее знает это лучше кого-
либо другого; но для женщины, которая рисуется своей
религиозностью, этого недостаточно. «Не написано ли
в Евангелии,— сказал я ей,— что пожелавший жены
ближнего своего совершил прелюбодеяние с ней в сердце
своем?»
Герцогиня. Она вам ответила: да?
Дидро. «И не осуждает ли оно,— прибавил я,— пре-
любодеяние, совершённое в сердце, так же строго, как
прелюбодеяние, удачно обставленное?»
270
Герцогиня. Она ответила вам: да?
Дидро. «И если мужчину осуждают,— продолжал
я,— за совершённое в сердце прелюбодеяние, какова же
будет участь женщины, соблазняющей на это преступле-
ние всех мужчин, приближающихся к ней?». Последний
вопрос смутил ее.
Герцогиня. Понимаю: она не особенно тщательно
закрывала сбой блиставший красотой бюст.
Дидро. Верно. Она ответила мне, что это обычная
вещь,— как будто необычная вещь называться христиани-
ном и не быть им; что не следует быть посмешищем из-за
своего костюма,— как будто бы есть какое-нибудь сравне-
ние между жалкой насмешкой людей и вечным осужде-
нием ее и ее ближнего; что она полагается на вкус своей
модистки, — как будто она скорее готова отказаться
от своей религии, чем сменить свою модистку; что это —
фантазия мужа,— как будто муж настолько безрассуден,
что требует от жены забыть о приличиях и своих обязан-
ностях, а истинная христианка должна простирать свое по-
виновение сумасбродному мужу до забвения воли божьей
и угроз своего искупителя!
Герцогиня. Я наперед знала все эти пустяки; я,
может быть, так же ссылалась бы на них, как ваша соседка;
по мы обе поступали бы недобросовестно. Какое же реше-
ние приняла она после вашего увещания?
Дидро. На следующий день после этого разговора
(это было в праздник) я поднимался к себе, а моя набож-
ная прекрасная соседка спускалась из своей квартиры,
чтобы идти в церковь.
Герцогиня. Одетая, как всегда?
Дидро. Одетая, как всегда. Я улыбнулся, она тоже,
и мы разошлись, не сказав друг другу ни слова. Вы ви-
дите, мадам; честная женщина, христианка, набожная!
И после этого примера и сотни тысяч других подобного же
рода какое действительное влияние на нравы я могу при-
писать религии? Почти никакого, и тем лучше.
Герцогиня. Как, тем лучше?
Дидро. Да, мадам: если бы двадцати тысячам жите-
лей Парижа пришла фантазия строго сообразовать свое
поведение с Нагорной проповедью...
Герцогиня. Ну, так несколько прекрасных бюстов
было бы более закрыто.
271
Дидро. И было бы столько сумасшедших, что поли-
ция не знала бы, что с ними делать, так как нехватало бы
смирительных домов. В боговдохновенных книгах есть две
морали: одна — главная и общая всем нациям, всем куль-
там, и ей кое-как следуют; другая — свойственная каждой
отдельной нации и каждому культу; ей верят, ее пропове-
дуют в храмах, прославляют в частных домах, но ей вовсе
не следуют.
Герцогиня. Отчего же происходит такая стран-
ность?
Дидро. Оттого, что невозможно угнетать народ пра-
вилами, подходящими лишь для нескольких меланхоликов
и скроенными по их характеру. Религии, как и монастыр-
ские уставы, со временем увядают. Это — безумие, кото-
рое не может устоять против постоянного напора природы,
возвращающей нас под сень своих законов. Сделайте так,
чтобы благо отдельных лиц было тесно связано с общим
благом; чтобы гражданин не мог повредить обществу, не
повредив самому себе. Обеспечьте за добродетелью на-
граду, как вы обеспечили злому делу наказание; дайте
доступ к высшим постам в государстве всем достойным
людям без различия религиозных воззрений, к каким бы
общественным слоям они пи принадлежали, и тогда у вас
останется незначительное меньшинство злых людей, тяго-
теющих к пороку по своей испорченной природе, которую
ничто не может исправить. Мадам, искушение слишком
близко, а мучения ада слишком далеки; не ждите ничего
хорошего от системы странных воззрений, которые можно
внушать только детям, которые надеждой на искупление
подстрекают к преступлению, которые посылают прови-
нившегося просить у бога прощения за обиду, нанесенную
человеку, и подтачивают строй естественных и моральных
обязанностей, подчиняя его строю призрачных обязан-
ностей.
Г е р ц о г и н я. Я не понимаю вас.
Дидро. Я объяснюсь... Но вот подъезжает, кажется,
карета господина герцога; он возвращается как раз
кстати, чтобы помешать мне сказать глупость.
Герцогиня. Скажите, скажите вашу глупость, я не
пойму ее: я привыкла понимать только то, что мне
нравится.
Я подошел к ней и сказал ей тихо на ухо:
272
Дидро. Мадам, спросите у викария вашего прихода,
что более преступно: осквернить священный сосуд или
запятнать репутацию честной женщины? Он содрогнется
от ужаса при мысли о первом преступлении, он поднимет
вопль о святотатстве, и гражданский закон, который, на-
казывая сожжением за святотатство, почти не знает кле-
веты, приведет к полному смешению понятий и совраще-
нию умов.
Герцогиня. Я знала нескольких женщин, кото-
рые воздерживаются от скоромной пищи по пятницам
и, которые... я чуть было не сказала глупости. Продол-
жайте.
Дидро. Но, мадам, мне абсолютно необходимо пого-
ворить с господином герцогом.
Герцогиня. Еще минутку, и мы пойдем к нему
вместе. Я, собственно, не знаю, что ответить вам, но в то
же время ваша речь неубедительна для меня.
Д и д р о. Я не задаюсь целью убеждать вас. С религией
обстоит дело так же, как с браком. Брак, приносящий
несчастье столь многим людям, принес вам и господину
герцогу счастье: вы оба хорошо сделали, что поженились.
Религия, которая произвела, производит и будет произво-
дить столько злых людей, сделала из вас лучшую жен-
щину — вы сделаете хорошо, если сохраните ее. Вам при-
ятно воображать рядом с собой, над своей головой,
великое и могущественное существо, видящее, как вы ве-
дете себя на земле, и эта мысль укрепляет вас. Продол-
жайте, мадам, пользоваться этим святым верховным руко-
водителем ваших мыслей, этим блюстителем и высоким
образцом ваших поступков.
Герцогиня. Вы не заражены, как я вижу, манией
прозелитизма 1.
Дидро. Нисколько.
Герцогиня. За это я еще больше уважаю вас.
Дидро. Я предоставляю каждому думать по-своему,
лишь бы мне позволили думать так, как я хочу; к тому же
люди, которым дано сбросить с себя предрассудки, почти
не нуждаются в наставлениях.
Герцогиня. Думаете ли вы, что человек может об-
ходиться без суеверий?
Дидро. Нет, поскольку он останется невежествен-
ным и трусливым.
273
Герцогиня. Ну, так вместо одного суеверия, на-
шего, появится какое-нибудь другое.
Дидро. Этого я не думаю.
Герцогиня. Скажите мне по правде, разве вам не
прискорбно превратиться после смерти в ничто?
Дидро. Я предпочел бы жить, хотя не знаю, почему
бы дважды не позабавиться надо мною существу, которое
однажды могло сделать меня несчастным без всякого по-
вода.
Герцогиня. Если вопреки этому неудобству надеж-
да на грядущую жизнь кажется вам утешительной и при-
ятной, зачем отнимать ее у нас?
Д и д р о. У меня пет такой надежды, потому что одного
желания иметь такую жизнь в будущем недостаточно,
чтобы унять мое легкомыслие, но я ни у кого не отнимаю
этой надежды. Если возможно поверить, что будешь ви-
деть, не имея глаз; будешь слышать, не имея ушей; будешь
мыслить, не имея головы; будешь любить, не имея сердца;
будешь чувствовать, не имея чувств; будешь существовать,
хотя нигде тебя не будет; будешь чем-то непротяженным
и внепространственным,— тогда я согласен.
Герцогиня. По кто сделал этот мир?
Дидро. Об этом я спрашиваю вас.
Герцогиня. Бог.
Д и д р о. А что такое бог?
Герцогиня. Дух.
Дидро. Если дух делает материю, почему бы материи
не делать духа?
Герцогиня. А зачем бы ей делать его?
Дидро. Ведь я ежедневно вижу, как она делает это.
Верите ли вы, что у животных есть души?
Герцогиня. Конечно, верю.
Дидро. А могли бы вы сказать, что делается, напри-
мер, с душо'й перуанской змеи в то время как она сушится,
подвешенная на камине, и коптится два года подряд?
Герцогиня. Пусть что угодно делается, что мне до
этого.
Дидро. Потому что мадам не знает, что сушеная и
прокопченная змея воскреснет и оживет.
Герцогиня. Я нисколько не верю этому.
Дидро. Но смышленый человек Бугэ 1 уверяет в
этом?
274
Герцогиня. Ваш смышленый человек лгал.
Дидро. А если он говорил правду?
Г е р ц о г и и я. Я перестала бы верить, что животные—
машины.
Дидро. А человек, который тоже животное, немного
более совершенное... Но господин герцог...
Герцогиня. Еще один и последний вопрос. Спокой-
ны ли вы с вашим безверием?
Дидро. Как нельзя больше.
Герцогиня. По если вы ошибаетесь?
Дидро. Если я ошибаюсь?
Герцогиня. Если все, что вы считаете ложным, ока-
жется верным и вы будете осуждены... Господии Дидро,
это ужасная вещь быть осужденным: гореть целую веч-
ность — это очень долго.
Дидро. Лафоптеп думал, что мы будем там, как
рыбы в воде.
Герцогиня. Да, да, но ваш Лафонтен 1 сделался
очень серьезных в последний момент жизни, и вот в этот-
то момент я на вас посмотрю.
Дидро. Я ни за что не отвечаю, когда у меня не бу-
дет головы; если я кончу одной из тех болезней, во время
которых у человека, впавшего в агонию, сохраняется весь
его разум, то в момент, о котором вы говорите, я буду не
больше смущен, чем теперь 2.
Герцогиня. Эта неустрашимость смущает меня.
Дидро. Я нахожу ее больше у умирающего, который
верует в строгого судью,, взвешивающего все до самых
сокровенных наших помыслов и на весах которого самый
праведный человек погиб бы за свое тщеславие, если бы не
трепетал от мысли оказаться слишком легковесным; не-
устрашимость этого умирающего еще более смутила бы
меня, если бы ему был предоставлен выбор: прекратить
существование после смерти или предстать на суд, и он
поколебался бы принять первое решение,— разве только
если бы он был безрассуднее спутника св. Бруно или более
опьянен своими заслугами, чем Бохола 3.
Герцогиня. Историю товарища св. Бруно я читала,
но никогда не слыхала о вашем Бохола.
Дидро. Это — иезуит из Пииска, в Литве; умирая, он
оставил шкатулку с деньгами и записку, написанную и
подписанную его рукой.
275
Герцогиня. Что же говорилось в этой записке?
Дидро. Она составлена так: «Я прошу моего дорогого
собрата, хранителя этой шкатулки, открыть ее тогда, когда
я начну творить чудеса. Хранящиеся в ней деньги послу-
жат на покрытие расходов по церемонии причисления меня
к лику святых. В подтверждение моих добродетелей прила-
гаю несколько собственноручных заметок, очень полезных
для лиц, которые задумают написать мою биографию».
Герцогиня. Можно умереть со смеха.
Дидро. Мне, мадам, а не вам,— ваш бог не любит
шуток.
Герцогиня. Вы правы.
Дидро. Мадам, нетрудно совершить тяжкий грех
против вашего закона.
Герцогиня. Согласна.
Дидро. Суд, который решит вашу судьбу, очень
строг.
Герцогиня. Правда.
Дидро. И если вы полагаетесь на свидетельства ва-
шей религии относительно числа избранных, то оно очень
ничтожно.
Герцогиня. О, я не янсенистка, я вижу медаль толь-
ко с лицевой стороны: кровь Иисуса Христа покрывает
в моих глазах огромное пространство, и мне казалось бы
очень странным, если бы дьявол, который не посылал на
смерть своего сына, имел больший успех.
Дидро. Но разве вы осуждаете Сократа, Фокиона,
Аристида, Катона, Траяна, Марка-Аврелия *?
Герцогиня. Fi done! Только дикари могли бы так
думать. Св. Павел говорит, что каждый будет судим по
закону, который он знал, и св. Павел прав.
Д и д р о. А по какому закону будет судим неверующий?
Герцогиня. Ваш случай несколько иной. Вы одни
из тех проклятых жителей Хоразина и Вифсаиды 2, кото-
рые закрыли глаза на просвещавший их свет и заткнули
уши, чтобы не слышать голоса истины.
Дидро. Мадам, жители этих городов были бы един-
ственными в своем роде людьми, если бы от них зависело
верить или не верить.
Герцогиня. Если бы они были созданы в Тире и
Сидоне 3, они увидели бы чудеса, которые заставили бы
их принести покаяние.
276
Дидро. Это значит, что жители Тира и Сидона были
умными людьми, а жители Хоразина и Вифсаиды —
глупыми. Но разве тот, кто создал глупцов, накажет их за
то, что они глупы? Я только что рассказал об одном истин-
ном факте, у меня является желание рассказать вам
сказку. Один молодой мексиканец... Но господин герцог?
Герцогиня. Я пошлю узнать, можно ли его видеть.
Ну, так что же ваш молодой мексиканец?
Дидро. Утомленный работой, он бродил однажды по
берегу моря. Он увидел доску, которая одним концом по-
гружалась в воду, а другим упиралась в берег. Он сел на
эту доску и, окидывая своим взором обширное развернув-
шееся пред ним пространство, сказал про себя: «Несом-
ненно, моя бабушка говорила вздор, когда рассказывала
мне историю о каких-то людях, когда-то высадившихся
на этот берег и прибывших сюда из какой-то страны, ле-
жащей по ту сторону наших морей. Нет здравого смысла
в этом рассказе: разве я не вижу, что море граничит
с небесами? И могу ли я, наперекор моим чувствам, верить
старой басне, которая возникла неизвестно когда, которую
каждый переделывает на свой лад и которая не что иное,
как сплетение нелепостей, из-за которых рассказчики го-
товы выцарапать друг другу глаза?». В то время как он
рассуждал таким образом, вздымающиеся волны убаюки-
вали его, и он заснул. Пока он спал, ветер усилился, волны
подняли доску, на которой он лежал, и вот наш молодой
разумник поплыл.
Герцогиня. Увы, это — изображение нашей судьбы:
каждый из нас сидит на доске; поднимается ветер, и волны
уносят нас.
Дидро. Когда он проснулся, он был уже далеко
от материка. Наш мексиканец очень удивился, очутившись
среди открытого океана, и еще больше удивился, когда,
потеряв из виду берег, по которому, он только что прогу-
ливался, увидел, что море со всех сторон сливается с небе-
сами. Тогда в нем зародилось сомнение, не ошибался ли
он и не попадет ли он, если ветер не затихнет, на тот берег
и к тем людям, о которых так часто рассказывала ему ба-
бушка.
Герцогиня. Вы ни слова не говорите мне о его
испуге.
Дидро. Он вовсе не чувствовал испуга. Он говорил
277
про себя: «Не беда, лишь бы удалось пристать к берегу.
Положим, я рассуждал, как безумец, но я был искренен
с самим собою, а это все, что можно требовать от меня.
Если иметь ум — не добродетель, то не иметь его — не
порок». Тем временем ветер дул не переставая, молодой
человек все плыл на доске, и наконец вдали показался
незнакомый берег: мексиканец пристает, и вот он уже
на берегу.
Герцогиня. Мы все когда-нибудь сойдемся там.
Дидро. Я этого желаю: где бы пи было, мне всегда
будет лестно быть вам приятным. Лишь только мексиканец
сошел с доски и ступил на песок, он увидел около себя
почтенного старца. Он спросил у старца, что это за страна
и с кем он имеет честь разговаривать. «Я властитель этой
земли», — ответил ему старец. Молодой человек тотчас же
пал ниц пред ним, но старец сказал ему: «Встаньте. Вы
отрицали мое существование?» — Отрицал. — «И сущест-
вование моей власти?» — И существование вашей вла-
сти.— «Я прощаю вам это, потому что я тот, кто проникает
взором в глубину сердец, и я прочел в глубине вашего серд-
ца, что вы были искренни, но другие ваши мысли и дейст-
вия не так невинны». И старец, держа его за ухо, напомнил
ему все заблуждения его жизни, и при каждом его слове
мексиканец наклонялся, бил себя в грудь и просил проще-
ния... Так вот, мадам, поставьте себя на один момент на
место старца и скажите мне, что бы вы сделали. Взяли бы
вы этого молодого безумца за волосы, и было ли бы вам
приятно таскать его так по берегу целую вечность?
Герцогиня. По правде сказать, нет.
Д и д р о. Если бы один из ваших прелестных сыновей,
оставив отчий дом и наделав уйму глупостей, вернулся
с раскаянием домой?
Герцогиня. Я побежала бы ему навстречу, заклю-
чила его в свои объятия и омыла его своими слезами, но
г-н герцог, его отец, не так отнесся бы к такому поступку.
Дидро. Г-н герцог не тигр.
Герцогиня. Далеко до этого.
Дидро. Немного, может быть, потрепал бы, но про-
стил.
Герцогиня. Конечно.
Дидро. В особенности, если бы он поразмыслил, что
прежде, чем произвести на свет этого дитя, он знал всю его
278
жизнь, и что наказание его за ошибки не принесло бы
пользы ни ему, ни виновному, ни его братьям.
Герцогиня. Старец и г-н герцог оба поступили бы
одинаково.
Дидро. Не хотите ли вы сказать, что г-н герцог луч-
ше старца?
Герцогиня. Боже сохрани. Я хочу сказать, что если
моя справедливость — не справедливость г-на герцога, то
справедливость г-на герцога могла бы не быть справедли-
востью старца.
Дидро. Ах, мадам, вы не предвидите выводов из это-
го ответа. Или идея справедливости одинаково приложима
и к вам, и к г-ну герцогу, и ко мне, и к молодому мекси-
канцу, и к старцу, или я не знаю, что это такое, и не пони-
маю, как понравиться или не понравиться этому старцу.
В этот момент нам доложили, что г-н герцог ждет нас.
Я подал руку герцогине, а она проговорила:
— Голова закружится от этого, не правда ли?
Дидро. Почему же, если она в порядке?
Герцогиня. В конце концов проще всего вести себя
так, как если бы старец на самом деле существовал.
Дидро. Даже когда не веришь?
Герцогиня. А когда веришь, не рассчитывать на
его доброту.
Дидро. Если это не очень вежливо, то, во всяком слу-
чае, очень надежно.
Герцогиня. Кстати, если бы вам пришлось дать
судьям отчет в ваших принципах, вы признались бы в них?
Дидро. Я сделал бы все зависящее от меня, чтобы
избавить судей от необходимости совершить зверскую
надо мной расправу.
Герцогиня. Ах, трус! А в предсмертный час вы со-
гласились бы исполнить церковные обряды?
Дидро. Не преминул бы 1.
Герцогиня. Фи, гадкий лицемер!
АТЕИСТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ
И АФОРИЗМЫ*
Из «Философских мыслей»
Верх безумия — ставить себе целью разрушение стра-
стей. Как хорош этот святоша, который выбивается из по-
следних сил, чтобы ничего не желать, ничего не любить,
ничего не чувствовать, и который сделался бы под конец
настоящим чудищем, если бы смог сделать по-своему!
(I, 92)
Но представьте себе целую область, жители которой из
страха перед опасностями общественной жизни бежали в
леса: они живут там, как дикие звери, думая сподобиться
этим святости; на развалинах всех общественных влечений
возносятся тысячи столпов; новое племя столпников 1 из
религиозной ревности вытравляет в себе все естественные
чувства, люди перестают быть людьми и превращаются в
истуканов, желая стать истинными христианами!
(I, 93)
Что это за голоса? Что за вопли и воздыханья? Кто за-
точил в эти темницы все эти стенающие трупы? Какие пре-
ступления совершены этими несчастными? Одни бьют себя
камнями в грудь; другие раздирают себе тело железными
когтями; у всех в глазах раскаяние, скорбь и смерть. Кто
осудил их на эти муки?.. Бог, которого они оскорбили...
Каков же этот бог? Он — бог, исполненный благости...
* Здесь приведены отрывки из некоторых произведений Дидро,
не вошедших в эту книгу. Цифры в скобках указывают том и стра-
ницы десятитомного собрания сочинений Дидро («Academia»—
ГИХЛ, 1935—1947), по которому воспроизводятся тексты, кроме
последнего.
280
Значит, исполненный благости бог любит утопать в сле-
зах! Эти вопли ужаса — не прямое ли надругательство над
его милосердием? Если бы преступники захотели смягчить
ярость тирана, могли ли бы они действовать иначе?
(I, 93)
Слыша, как изображают верховное существо, слыша о
его гневливости, о суровости его мести, слыша известные
сравнения, выражающие численное соотношение между
теми, кого он обрекает на гибель, и теми, кого удостоивает
своей помощи, самая честная душа была бы готова поже-
лать, чтобы такого существа никогда не было. Люди жили
бы довольно спокойно в этом мире, если бы были вполне
уверены, что им нечего бояться в другом; мысль, что бога
нет, не испугала еще никого, но скольких ужасала мысль,
что существует такой бог, какого мне изображают!
(I, 94)
В истории всех народов есть события, которые были бы
в самом деле чудесными, если бы только были истинными,
с помощью которых доказывается все, но которые сами
остаются недоказанными; которых нельзя отрицать, не
впав в нечестие, и в которые нельзя поверить, не впав в
слабоумие.
(I, 114)
Одно-единственное доказательство поражает меня
больше, чем пятьдесят фактов. Благодаря моему крайне-
му доверию к собственному разуму моя вера не зависит от
прихоти первого встречного фигляра. Священник Магоме-
та, ты можешь возвращать дар речи немым и зрение сле-
пым, исцелять расслабленных, воскрешать мертвых, даже
воссоздавать недостающие члены на теле калек (чудо, еще
не сотворенное никем) — и к твоему великому изумлению
моя вера не поколеблется нисколько. Ты хочешь, чтобы я
сделался твоим прозелитом? Оставь все эти фокусы и да-
вай рассуждать. Я больше верю своему суждению, чем
своим глазам.
Если возвещаемая тобою религия истинна, ее истин-
ность может быть сделана очевидной и доказана неопро-
вержимыми основаниями. Найди эти основания. К чему
докучать мне столькими чудесами, когда ты можешь
281
сразить меня одним силлогизмом? Скажи, неужели тебе
легче исцелить расслабленного, чем просветить мой ум?
(I, 115—116)
Вы даете неверующему книгу писаний 1, относительно
которых утверждаете, что они боговдохновенны. Прежде
чем войти в разбор ваших доказательств, он непременно
задаст ряд вопросов об этом сборнике. Не произошло ли
в нем каких-нибудь изменений? — спросит он.— Почему
он сейчас менее обширен, чем несколько веков назад? По
какому праву из него выброшено какое-то писание, почи-
таемое другой сектой, а писание, отвергнутое ею, сохране-
но. Па каком основании отдали вы предпочтение этой, а
не другой рукописи? Что руководило вами при выборе
между столькими различными списками, наглядно дока-
зывающими, что эти священные авторы не дошли до вас в
своей первоначальной чистоте? Но если, как вы это
должны признать, они испорчены невежеством перепис-
чиков и злонамеренностью еретиков, то, значит, вы обяза-
ны восстановить их в подлинном виде прежде чем дока-
зывать их боговдохновенность; не могут же ваши доказа-
тельства относиться к сборнику изувеченных писаний, как
и моя вера не может строиться на таком сборнике! Так
на кого же возложите вы этот труд исправления? На цер-
ковь. Но я не могу признать непогрешимости церкви, пока
мне не доказана боговдохновенность писаний. Так я поне-
воле попадаю в объятия скептицизма.
Единственный способ справиться с этой трудностью —
признать, что первые основания веры имеют чисто челове-
ческий характер; что выбор рукописей, исправление от-
дельных мест, наконец, составление канонического свода
произведены по правилам критики. И я вовсе не отказыва-
юсь отнестись к боговдохновенности священных книг с
той степенью веры, какая соответствует строгости этих
правил.
(I, 120-121)
Из «Письма о слепых в назидание зрячим»
Если какое-нибудь явление превышает, по нашему
мнению, силы человека, мы тотчас же говорим: «это —
дело божье»; наше тщеславие не может удовольствоваться
282
меньшим. Не лучше ли было бы, если бы мы вкладывали
в свои рассуждения несколько меньше гордости и несколь-
ко больше философии? Если природа представляет нам
какую-нибудь загадку, какой-нибудь трудно распутывае-
мый узел, оставим его таким, каков он есть, и не будем
стараться разрубить его рукой существа, которое стано-
вится затем для нас новым узлом, еще труднее распуты-
ваемым, чем первый.
(I, 252)
Я могу, например, спросить у вас, спросить у Лейбни-
ца 1 Кларка 2, Ньютона 3, откуда они знают, что животные
при первоначальном своем образовании не были одни без
головы, а другие без ног. Я могу утверждать, что некото-
рые из них не имели желудка, а другие не имели кишок,
что животные, которым наличие желудка, нёба и зубов
обещало как будто длительное существование, вымерли
из-за какого-нибудь недостатка в сердце или легких, что
постепенно вывелись чудовища, что исчезли все неудачные
комбинации и что сохранились лишь те из них, строение
которых не заключало в себе серьезного противоречия и
которые могли существовать и продолжать свой род.
(I, 254)
Из «Мыслей об объяснении природы»
Рассматривая животное царство и замечая, что среди
четвероногих нет ни одного животного, функции и части
которого, особенно внутренние, целиком не походили бы
на таковые же другого четвероногого, разве не поверишь
охотно, что некогда было одно животное, прототип всех
животных, часть органов которого природа удлинила, уко-
ротила, трансформировала, умножила, срастила — и толь-
ко. Вообразите соединенными вместе пальцы руки, а ног-
тевую ткань такой изобильной, что, расширяясь и вздува-
ясь, она заволакивает и покрывает все,— вместо руки
человека вы получите ногу лошади *. Видя, как последо-
вательные метаморфозы покрова прототипа, каков бы он
ни был, незаметными переходами сближают одно царство
с другим, как они заселяют границы двух царств (если
* См. в «Естественной истории, общей и частной» описание ло-
шади, принадлежащее перу Добантона. (Прим. автора).
283
мне будет позволено употребить термин «границы» для
обозначения их там, где на самом деле нет никакого деле-
ния) и как они заселяют, говорю я, границы двух царств
существами сомнительными, неопределенными, по боль-
шей части лишенными форм, свойств и функций одного
царства и снабженными формами, свойствами и функция-
ми другого,— видя все это, кто не почувствовал бы в себе
склонности поверить тому, что некогда было только одно
первое существо — прототип всех живых существ? Но при-
знаёте ли вы вместе с доктором Бауманом 1 истиной эту
философскую догадку или отвергаете ее как ложную
вместе с Бюффоном 2,— вы все-таки не будете отрицать,
что следует принять ее как гипотезу, важную для прогрес-
са опытной физики и рациональной философии, для
открытия и объяснения явлений, связанных с организа-
цией живых существ.
(I, 306—307)
Из «Размышлений
по поводу книги Гельвеция «Об уме»
Автор книги «Об уме» сводит все интеллектуальные
функции к чувствительности. По его мнению, восприни-
мать, или чувствовать — это одно и то же; судить, или чув-
ствовать — это одно и то же... Различие между человеком
и животным сводится у него только к различию организа-
ции. Так, например, удлините у человека лицо, вообразите,
что нос, глаза, зубы, уши у него — как у собаки, снабдите
его шерстью, поставьте его на четыре лапы,— после тако-
го превращения человек этот, будь он хоть доктором Сор-
бонны, станет выполнять все функции собаки: он будет
лаять вместо того чтобы аргументировать; он будет грызть
кости вместо того чтобы заниматься разрешением софиз-
мов; вся его деятельность сосредоточится в обонянии;
почти вся душа его будет заключаться в носу; и он будет
гоняться по следу за кроликом или зайцем вместо того,
чтобы выслеживать атеистов или еретиков... С другой сто-
роны, возьмите собаку, поставьте ее на задние ноги, округ-
лите ей голову, укоротите морду, отнимите у нее шерсть и
хвост — и вы сделаете из нее ученого доктора, занимаю-
щегося глубокими размышлениями о тайнах предопреде-
ления и благодати...
(II, 110)
284
Из «Систематического опровержения
книги Гельвеция «Человек»»
Я знаю только одно-единственное средство уничтожить
религию, именно: сделать ее служителей презренными в
глазах общества благодаря их порокам и убожеству.
Сколько бы философы ни доказывали нелепость христиан-
ства, эта религия погибнет лишь тогда, когда у врат Собо-
ра богоматери или св. Сульпиция нищие в разодранных
рясах станут предлагать со скидкой обедни, отпущение
грехов и причащение и когда можно будет получать через
этих мошенников девок. Лишь тогда всякий более или ме-
нее здравомыслящий отец будет грозить свернуть шею
своему сыну, если тот захочет стать священником. Христи-
анство может исчезнуть лишь так, как исчезло язычество,
а язычество исчезло лишь тогда, когда жрецы Сераписа 1
стали просить у входа в свои пышные храмы милостыню
у прохожих, когда они стали заниматься любовными ин-
тригами и когда святилища были заняты старухами с
вещим гусем, гадавшими за один су молодым людям и де-
вушкам. К чему же следует стремиться? Чтобы скорее
пришел тот момент, когда священнослужители церкви свя-
того Рока станут говорить нашим внукам: «Кто желает
обедни за один су, за два су, за лиар?» — и когда над их
исповедальнями можно будет прочесть, как над дверями
парикмахеров, надпись: «Здесь отпускаются за недорогую
цену всякого рода грехи».
(II, 133—134)
...Бог — это скверная машина, из которой нельзя сде-
лать ничего путного; сплав лжи и истины — всегда дурная
вещь, и нам не нужно ни священников, ни богов.
(II, 134)
Я ненавижу всех помазанников божьих, как бы они ни
назывались.
(И, 134)
Когда иезуиты явились во Францию и у них спросили,
не являются ли они черным духовенством, они ответили
отрицательно; на вопрос: а белым духовенством? — они
ответили тоже отрицательно и были правы в обоих слу-
чаях.
285
Основателем их ордена был военный человек 1. Весь
статут его имеет военный характер: Христос является вож-
дем всего воинства, генерал ордена — полковником, ос-
тальные же иезуиты — либо капитанами, либо лейтенан-
тами, либо сержантами, либо простыми солдатами.
Это смешно, но, тем не менее, это так.
Это был настоящий рыцарский орден. А с какими вра-
гами он должен был бороться? С дьяволом, или неверием,
пороком и невежеством. Они устраивали миссии для борь-
бы с неверием в близких и далеких странах. Они пропове-
довали в городах против порока, они заводили школы не-
вежества. Все шли под знаменем девы Марии — Дульци-
неи св. Игнатия.
Прибавьте к этому, что орден иезуитов был создан поч-
ти тотчас после эпохи испанского рыцарства, паладинов
и донкихотства.
От духа основателя ордена остался только фанатизм.
Иезуиты до того выродились уже при третьем генерале,
что один из их старинных писателей, имени которого я не
могу теперь вспомнить, говорил им: «Вы стали честолюб-
цами и политиками, вы гонитесь за золотом, вы презирае-
те занятия науками и добродетель, вы любите бывать у
вельмож. Вы движетесь с такой быстротой по направле-
нию к пороку и могуществу, что государи будут желать
истребить вас и не будут знать, как это сделать».
(II, 297—298)
Религия мешает людям видеть, потому что она под
страхом вечных наказаний запрещает им смотреть.
Если есть в загробном мире ад, то осужденные души
смотрят в нем на бога так, как рабы смотрят на земле на
своего господина. Если бы они могли его убить — они уби-
ли бы его.
(II, 325)
Из «Элементов физиологии»
Крестьянин, который видит, что часы идут, и который,
не зная их механизма, помещает в стрелку дух, не более и
не менее глуп, чем наши спиритуалисты.
(II, 354)
28(3
Один довольно талантливый человек начал свою книгу
следующими словами: «Человек подобно всякому живот-
ному состоит из двух различных субстанций — души и
тела. Если кто-нибудь отрицает это положение, то не для
пего написано все дальнейшее».
Я решил закрыть книгу. Лх, чудак, если я только допу-
щу существование этих двух различных субстанций, тебе
нечему уже учить меня. Ведь ты не знаешь, что» представ-
ляет собою та субстанция, которую называешь душой, еще
меньше знаешь, как соединены обе субстанции, и точно
так же — как они действуют друг на друга.
(II, 360)
Сердце, легкие, селезенка, кисть руки и почти все час-
ти животного могут жить некоторое время по отделении от
тела...
Но если жизнь остается в органах, отделенных от тела,
то где находится душа? Что становится с ее единством?
Что становится с ее неделимостью?
(II, 365)
Отвлекитесь только от всех телесных ощущений, и
души больше не будет.
Душа весела, печальна, сердита, нежна, лицемерна,
сладострастна. Она — ничто без тела. Я утверждаю, что
ничего нельзя объяснить без тела.
Пусть попытаются объяснить, как страсть входит в ду-
шу без телесных движений; я требую, чтобы объяснили,
не начиная с этих телесных движений.
Глупость тех, которые начинают с души и спускаются
к телу. В человеке ничто не происходит таким образом.
(II, 480)
Из писем Дидро
Обширный пустырь засыпан разбросанными наугад
обломками; среди этих обломков червяк и муравей нахо-
дят для себя очень удобные жилища. Что сказали бы вы
об этих насекомых, если бы, приняв за реальные сущно-
сти отношения между местом своего пребывания и своей
организацией, они стали восторгаться красотой этой
287
подземной архитектуры и верховным разумом садовника,
устроившего вещи таким образом для них?
Из письма к Вольтеру
11 июня 1749 г
(I, 294)
За двести лет их существования не найдется почти ни
одного иезуита, который не совершил бы громкого пре-
ступления. Они рассорили церковь с государством; подчи-
няясь чрезмерному деспотизму у себя в монастырях, они
занимались гнуснейшим суесловием в обществе; пропове-
довали народу слепое подчинение королю и непогреши-
мость папы, чтобы, господствуя над одним, господствовать
над всеми.
Из письма к Софи Воллан
12 августа 1762 г.
(VIII, 271)
Народ, который думает, что честными делает людей
вера, а не хорошие законы, кажется мне весьма отсталым.
По отношению к народу я рассматриваю существование
бога так же, как рассматривают брак. Одно есть состоя-
ние, другое — понятие, превосходное для двух, трех сооб-
разительных умов и гибельное для большинства. Нерас-
торжимый брачный обет создаст и должен создавать поч-
ти столько же несчастных браков, сколько есть супругов.
Вера в бога создает и должна создавать почти равное чис-
ло фанатиков и верующих. Везде, где признают бога,
существует культ, а где есть культ, там нарушен естест-
венный порядок нравственного долга, и нравственность
падает. Рано или поздно наступает момент, когда то же
самое понятие, которое удерживало от кражи, понуждает
к убийству ста тысяч человек. Хороша замена! Таким бы-
ло, таково есть и таким будет во все времена и у всех
народов действие доктрины, когда ей придают больше
значения, чем собственной своей жизни.
Из письма к Софи Воллан
6 октября 1765 г
(VIII, 352—353)'
Жена выехала мне навстречу в хорошей наемной каре-
те. Встретились мы недалеко от Шарантона, где я про-
стился со своими попутчиками, а главным образом —
288
с двумя молодыми капуцинами, переезжавшими под охра-
ною господа бога из окрестностей Бар-сюр-Об в Сен-Мало
завершать свое образование. Они умерли бы с голоду, не
добравшись до Парижа, если бы провидение не послало
меня им на помощь. Это, конечно, были наименее искус-
ные попрошайки, какие когда-либо числились в ордене
св. Франциска, и они остались бы без крова и пищи, если,
бы я не заказал для них ужина и не распорядился пост-
лать для них постель в моей комнате. Не по своей вине я
не оказал им более важной услуги — вытравить укоренив-
шийся в них бесчеловечный предрассудок, распространен-
ный и среди многих других ханжей: что, по совести, нужно
уничтожать врагов бога и церкви всюду, где наталкива-
ешься на них. Я пытался им разъяснить, что нельзя слу-
жить миролюбивому богу убийствами и нельзя огнем и
мечом проповедовать религию любви; что назначение
христианина не столько в том, чтобы проливать чужую
кровь, сколько — чтобы жертвовать своею кровью за дру-
гих; что Христос дал себя распять евреям, хотя у него в
распоряжении были легионы ангелов, готовых ринуться и
истребить их, и что, отдавшись во власть грешникам, он
учил нас, что даже когда нужно либо убить, либо быть
убитым, предпочтительнее быть мучеником, нежели убий-
цей. Они возразили мне на это, что св. Доминик пропове-
довал и восхвалял избиение альбигойцев 1. Я им ответил,
что это излишнее рвение нужно не хвалить само по себе,
а объяснить невежеством эпохи св. Доминика, и в оправ-
дание св. Доминика, крестоносцев и других благочестивых
убийц этого сорта можно сказать лишь то, что они слепо
совершали возмутительные деяния. Однако, так как я не
замечал у своих монахов должного уважения к человеч-
ности, не видел подлинного признания моих доводов, не
видел решительного восприятия моей морали и так как
они все с тем же отвращением допускали пощаду неве-
рующих, меня обуяло нетерпение, и я сказал им: «Вот что,
отцы, вы уж лучше давите своих вшей и предоставьте богу
самому мстить за причиняемые ему обиды».
Из письма к отцу... 1754 г.
(IX, 44—45)
Свет просвещения может переноситься из одного места
в другое, но он уже не может погаснуть.
289
И тираны, и священники, и все те, кто более или менее
заинтересован в том, чтобы держать людей в состоянии
дикого невежества, приходят от этого в бешенство.
Из письма к Фальконе;
февраль 1766 г.
(IX, 263—264)
И всех тех, кто отдал свою жизнь на создание посмерт-
ных произведений, кто за свои труды рассчитывал лишь
на благословение грядущих веков,— этих людей вы назы-
ваете сумасшедшими, сумасбродами, мечтателями,— са-
мых благородных людей, самых сильных, самых выдаю-
щихся, наименее корыстных. Уж не желаете ли вы отнять
у этих маститых смертных их единственную награду —
радостную мысль, что наступит день, когда их признают?
Какое утешение оставалось перед смертью у этих фи-
лософов, у этих министров, у этих правдивых людей, кото-
рые были жертвами глупых народов, жестоких попов,
бешеных тиранов? Что предрассудок исчезнет и потомство
перенесет позор на их врагов. О, святое помство, опора
несчастного, которого притесняют, ты, справедливое, ты,
неподкупное, ты, что воздаешь по заслугам, что разобла-
чаешь лицемеров, что наказуешь тиранов,— мысль вер-
ная, утешительная,— никогда не накидай меня! Потомст-
во для философов — это потусторонний мир для верую-
щего.
Из того же письма.
(IX, 265)
Если люди осмелятся каким-нибудь образом атаковать
религию, которая считается наиболее могучей и уважае-
мой преградой, им невозможно будет на этом остановить-
ся. Бросив угрожающий взгляд на царя небесного, они не
замедлят перенести этот взгляд и на царя земного. Канат,
который связывает и душит человека состоит из двух
веревок. Одна из них не может продержаься, если обо-
рвалась другая.
Из письма к кн. Дашковой
3 апр. 1771 г.
(Diderot. Oeuvres completes,
1876, v. XX, p. 28)
МОНАХИНЯ
Ответ маркиза де-Круамар, если я получу его, послу-
жит материалом для первых строк моего рассказа. Прежде
чем писать, я навела о нем справки. Это светский человек,
сделавший блестящую служебную карьеру, пожилой, был
женат, имеет дочь и двух сыновей, которых любит и кото-
рые обожают его. Он знатного рода, отличается просве-
щенностью, умом, веселым нравом, любовью к искусствам
и большой оригинальностью. Мне хвалили его за чувстви-
тельность, порядочность и честность. Судя по живому ин-
тересу, который он обнаружил к моему делу, и по всему
тому, что мне о нем говорили, я нисколько не скомпроме-
тировала себя обратившись к нему, но можно сказать зара-
нее, что он не решится изменить мою судьбу, не зная, кто
я такая, и это побудило меня победить свое самолюбие и
нежелание браться за перо. Я начала эти записки, в кото-
рых рисую часть своих мытарств неумело и посредственно,
с наивностью девушки моих лет и с откровенностью, при-
сущей моему характеру. Мой покровитель мог потребовать
или же мне могла придти фантазия окончить эти записки
в то время, когда давно минувшие события изгладятся уже
из моей памяти, и я полагала, что этот краткий обзор и
глубокое впечатление, которое останется от этих событий
до конца жизни, позволят мне с точностью вспомнить их.
Отец мой был адвокатом. Он женился на моей матери
уже немолодым и имел от нее трех дочерей. У него было
более чем достаточное состояние, чтобы надежно их
устроить, но для этого его любовь должна была распреде-
литься между ними равномерно, а этой похвальной черты
я никак не могу ему приписать. Я, безусловно, превосхо-
дила своих сестер приятностью ума и наружности, нравом
и талантами, но мои родители были, казалось, крайне
293
огорчены этим. Преимущества, данные мне природой и
прилежанием, сделались для меня источником мучений; с
самых юных лет я желала быть похожей на сестер, чтобы
меня всегда любили, нежили, баловали, прощали, как их.
Если кто-нибудь говорил моей матери: «У вас прелестные
дети», то это никогда не относилось ко мне. Иногда я быва-
ла сторицей отомщена за такую несправедливость, но,
когда мы оставались одни, я так жестоко расплачивалась
за доставшиеся на мою долю похвалы, что предпочла бы
равнодушие или даже обиды. Чем больше знаков внима-
ния оказывали мне чужие, тем больше раздражения быва-
ло дома после их ухода. О, сколько раз плакала я о том,
что- не родилась безобразной, тупой, глупой, чванливой,
словом, со всеми недостатками, которые обеспечивали се-
страм благоволение родителей! Я спрашивала себя, отку-
да эта странность у отца и матери — в остальном честных,
справедливых и благочестивых людей. Признаться ли вам,
сударь? Кое-какие фразы, вырвавшиеся у отца в гневе,
ибо он был вспыльчив, некоторые факты, подмеченные в
различные периоды жизни, слова соседей, замечания слуг
заставили меня подозревать причину, несколько извиняв-
шую моих родителей. Может быть, отец не был вполне
уверен в моем происхождении; может быть, я напоминала
своей матери ее грех и неблагодарность человека, рабой
которого она стала,— кто знает? Но как ни мало обосно-
ваны эти подозрения, чем я рискую, доверяя их вам? Вы
сожжете это письмо, а я обещаю сжечь ответное.
Мы появились на свет одна за другой, и все три одно-
временно сделались взрослыми. Представились партии.
За старшей сестрой ухаживал один милый молодой чело-
век; вскоре я заметила, что он обращает особенное внима-
ние на меня, и догадалась, что сестра все время была лишь
предлогом для его частых посещений. Я предчувствовала
все горе, которое это предпочтение могло навлечь на меня,
и предупредила мать. Пожалуй, это единственный посту-
пок за всю мою жизнь, которым я угодила ей, и вот какую
награду я получила за него. Четыре дня спустя, или во
всяком случае очень скоро, мне сказали, что для меня при-
готовлено место в монастыре, и отвезли туда на следую-
щий же день. Мне так тяжело жилось дома, что событие
это нисколько не огорчило меня. Я очень весело отправи-
лась в монастырь св. Марии, в свой первый монастырь
204
Тем временем, возлюбленный сестры, не видя меня более,
забыл обо мне и стал ее супругом. Его зовут г-н К. Он
нотариус в Корбе; они живут, как кошка с собакой. Вторая
сестра вышла замуж за г-на Бошон, торговца шелковыми
тканями в Париже, на улице Кенкампуа; их семейная
жизнь сложилась довольно хорошо.
После того как обе сестры были пристроены, я полага-
ла, что подумают обо мне и что я не надолго останусь в
монастыре. Мне было тогда шестнадцать с половиной лет.
Сестрам дали значительное приданое, я надеялась на та-
кую же судьбу; голова моя была полна увлекательных
планов, как вдруг меня вызвали в приемную. Там нахо-
дился отец Серафим, духовник моей матери, бывший
прежде и моим духовником, поэтому он мог с полной от-
кровенностью объяснить мне цель своего посещения. Он
явился убедить меня вступить в монашество. Я вскрикнула
в ответ на это странное предложение и объявила ему без
обиняков, что не чувствую ни малейшей склонности к это-
му званию. «Тем хуже,— сказал он,— ибо ваши родители
истратились на ваших сестер и, по-моему, ничего не мо-
гут дать вам в том стесненном положении, в каком они
очутились. Подумайте об этом, мадемуазель; приходится
или вступить навсегда в этот монастырь, или уйти в какой-
нибудь провинциальный, где вас примут за скромную
плату, и откуда вы выйдете только после смерти ваших
родителей, что может случиться не скоро»... Я горько жа-
ловалась и проливала потоки слез. Настоятельница была
предупреждена и ждала меня на обратном пути из прием-
ной. Я была в неописуемом смятении. «Что с вами, доро-
гое дитя?—сказала она (ей было известно лучше меня,
что со мной). — Какой у вас ужасный вид! Никогда еще
не приходилось мне видеть подобного отчаяния, я дрожу
от страха, глядя на вас. Не умер ли ваш батюшка или ма-
тушка?» Я собиралась ответить ей, бросившись в ее объя-
тия: «Ах, если бы богу угодно было взять их!...», но огра-
ничилась тем, что воскликнула: «Увы! У меня нет ни отца,
ни матери; я несчастная, которую ненавидят и хотят похо-
ронить здесь заживо». Она дала пройти первому взрыву
отчаяния, ожидая, когда я успокоюсь. Я сообщила ей
только что полученную весть. Она как будто сжалилась
надо мной; соболезнуя, укрепила в намерении ни в коем
случае не принимать звания, к которому у меня не было
295
никакой склонности; обещала просить, умолять, ходатай-
ствовать. О, сударь, вы не представляете себе, какие ли-
цемерки эти настоятельницы монастырей! Она действи-
тельно написала моим родителям, прекрасно зная, какой
ей дадут ответ, и сообщила мне его; лишь много времени
спустя я научилась сомневаться в ее искренности. Между
тем, срок, данный для моего окончательного решения, на-
ступил, и она явилась ко мне узнать его, изобразив печаль
на лице. Сначала она безмолвствовала, затем бросила не-
сколько слов соболезнования; по ним я догадалась об ос-
тальном. Повторилась сцена почти не поддающегося опи-
санию отчаяния. Уменье владеть своими чувствами — ве-
ликое искусство монахинь. Она сказала, как будто в самом
деле плача: «Что же, дитя мое, значит вы нас покидаете!
Дорогое дитя, мы не увидимся более!...» и другие слова,
которых я не расслышала. Я упала на стул и то хранила
молчание, то рыдала, то оставалась неподвижной или под-
нималась и прислонялась к стене, или же изливала свою
скорбь на груди настоятельницы. Вот что происходило со
мной, когда она прибавила: «Но почему бы вам и не по-
ступить так? — Слушайте и только не говорите никому о
моем совете; рассчитываю на ваше ненарушимое молча-
ние: ни за что на свете не хотела бы я заслужить чей-либо
укор. Чего хотят от вас? Чтобы вы стали послушницей?
Ну, что же, отчего бы вам не стать ею? К чему это вас
обязывает? Ни к чему — только пробыть еще два года с
нами. Человек не волен в своей жизни и смерти; два
года — срок большой, мало ли что может случиться за два
года»... Она присоединила к этим вкрадчивым словам
столько ласк, столько изъявлений дружбы, столько при-
творной нежности, что я дала себя убедить: я знала, в ка-
ком положении я нахожусь, но не ведала, как хотят со
мной поступить. Итак, она написала моему отцу; ее пись-
мо было очень хорошо составлено, о, как нельзя лучше, —
мое горе, скорбь, протесты нисколько не были затушеваны;
уверяю вас, что даже более проницательная девушка, чем
я, была бы введена в заблуждение; однако письмо кон-
чалось выражением моего согласия. С какой поспешно-
стью все было приготовлено! Назначение дня церемонии,
шитье моего одеяния, наступление часа обряда — ныне
мне кажется, что все это следовало одно за другим без
малейших промежутков.
J 00
Я забыла сказать вам, что виделась с отцом и с ма-
терью; я пустила в ход все, чтобы тронуть их, но они оста-
лись непреклонными. Меня напутствовал аббат Блен — до-
ктор Сорбонны; епископ Алекский совершил надо мной
обряд. Обряд этот сам по себе наводит уныние; в этот
день он был особенно мрачен. Хотя монахини теснились
вокруг, чтобы поддержать меня, я десятки раз чувствова-
ла, что мои колени подгибаются, и едва не упала на сту-
пени алтаря. Я ничего не слышала, ничего не видела, была
в столбняке; меня вели, и я шла; меня спрашивали и от-
вечали за меня. Между тем, эта жестокая церемония кон-
чилась; все удалились, и я осталась среди паствы, к кото-
рой только что приобщилась. Товарки окружили меня и
говорили, целуя: «Посмотрите, посмотрите, сестра, как
она прекрасна! Как оттеняет белизну ее кожи это черное
покрывало! Как идет ей эта повязка! Как округляет ее
лицо! Как удлиняет щеки! Как хорошо облегает эта
одежда ее стан и руки!..». Я едва слушала их; я была без-
утешна; однако надо сознаться, что, оставшись в своей
келье одна, я вспомнила их льстивые слова и не могла
удержаться от искушения проверить их в своем зеркальце:
они показались мне не совсем неуместными.
К этому дню приурочены особые торжества, ради меня
их сделали еще более пышными, но меня это мало тро-
нуло. Делали вид, что верят противоположному, и говори-
ли мне это, хотя было ясно, что нет ничего подобного. Ве-
чером, после молитвы, настоятельница вошла в мою келыо.
«По правде сказать,— промолвила она, внимательно огля-
дев меня,— я не знаю, почему у вас такое отвращение к
этой одежде; она чудесно идет вам, и вы очаровательны;
сестра Сюзанна — прехорошенькая монахиня; вас будут
любить еще больше. Ну, пройдитесь, посмотрим на вас.
Вы держитесь недостаточно прямо; не надо так горбить-
ся»... Она поворачивала мне голову, ноги, руки, стан, пле-
чи; это был урок монастырской грации,— почти урок
Марселя, ибо каждое сословие имеет свой кодекс грации.
Затем настоятельница села и сказала:
— Очень хорошо; теперь поговорим серьезно. У вас
впереди два года, ваши родители могут изменить реше-
ние; вы, вы сами, может быть, захотите остаться здесь,
когда они пожелают взять вас отсюда,— в этом нет ниче-
го невозможного.
297
— Об этом нечего и думать, сударыня...
— Вы давно среди нас, но не знаете еще нашей жизни; в
ней, несомненно, есть тернии, но она не лишена услады...
Вы, конечно, догадываетесь об всем том, что могла она
прибавить о мире и о монастыре: эти прописные, избитые
истины общеизвестны; слава богу, мне давали читать це-
лые вороха писаний, в которых монахи разглагольствуют
о своем звании, хорошо известном им и ненавидимом ими,
обрушиваясь на мир, который они любят и который хулят,
не зная его.
Я не буду вдаваться в подробности относительно сво-
его послушничества; если бы соблюдать его со всей стро-
гостью, то невозможно было бы выдержать; но, в дей-
ствительности, это наиболее приятное время монастыр-
ской жизни. Наставницей послушниц бывает самая сни-
сходительная сестра, какую только можно найти. Она
старается скрыть все тернии монашества,— это курс са-
мого утонченного и самого искусного соблазна. Настав-
ница сгущает окружающий вас мрак, убаюкивает, усып-
ляет, вводит в заблуждение, обольщает вас; наша обрати-
ла на меня особое внимание. Не думаю, чтобы какая-ни-
будь молодая и неопытная душа могла бы не запутаться
в сетях этого рокового искусства. Мир имеет свои бездны,
но я не воображала, что в них попадают по такому отло-
гому склону. Стоило мне чихнуть два раза подряд, и меня
освобождали от церковной службы, от работы, от молит-
вы; я ложилась рано, вставала позднее обыкновенного;
для меня не существовало устава. И представьте, сударь,
что бывали дни, когда я жаждала наступления времени
пострижения. Не происходило ни одной скандальной
истории в миру, о которой бы ни рассказывали нам
здесь; истинные происшествия преподносились в особом
освещении, изобретались небылицы, а затем следовали
бесконечные хвалы и благодарения богу, охраняющему
нас под своим покровом от этих унизительных похожде-
ний. Между тем приближалось время, которого я иногда
ждала с таким нетерпением. Я стала задумываться и по-
чувствовала, что мое отвращение к монашеству снова
пробудилось и растет. Я исповедалась в своих сомнениях
настоятельнице и наставнице послушниц. Эти женщины
умеют мстить за скуку, которую вы причиняете им, ибо
не надо думать, что им доставляют большое удовольствие
298
разыгрываемая ими роль и те глупости, которые они при-
нуждены повторять нам; в конце концов, это набивает им
оскомину и наводит на них тоску; они обрекают себя на
это из-за какой-нибудь тысячи экю, которая достается их
монастырю. Вот главное, из-за чего они лгут всю жизнь
и готовят для юных неискушенных душ муки отчаяния на
сорок, на пятьдесят лет, а, может быть, и вечную гибель,
ибо можно считать достоверным, сударь, что из ста мона-
хинь, умирающих до пятидесяти лет, ровно столько же гу-
бят свою душу, не считая тех, которые делаются идиотка-
ми, полоумными или сумасшедшими в ожидании смерти.
Как-то одна из этих последних убежала из кельи, где
ее держали взаперти. Я увидела ее. С этого часа начи-
нается мое счастье, или мое несчастье,— в зависимости от
того, как вы поступите со мной. Я никогда не видела ни-
чего столь отвратительного и ужасного. Волосы ее были
всклокочены, она была почти раздета и тащила за собой
железные цепи; глаза ее блуждали; она рвала на себе во-
лосы, била кулаками в грудь, бегала, выла, осыпала са-
мое себя и других самыми страшными проклятьями; пы-
талась выброситься в окно. Ужас охватил меня, я дрожа-
ла с головы до ног, видя свою судьбу в судьбе этой несча-
стной, и тотчас же твердо решила скорее умереть тысячу
раз, чем подвергнуться такой же участи. Предвидя, какое
впечатление могло произвести на мой ум это происшест-
вие, сочли нужным изгладить его. Мне наговорили об этой
монахине кучу смешных и противоречивых небылиц: ум ее
будто бы был уже расстроен, когда ее приняли в мона-
стырь; когда-то, в переходном возрасте, ее сильно испуга-
ли; она стала подвержена видениям, верила, что находится
в сношениях с ангелами; пагубное чтение извратило ее ум;
она слышала проповедников чрезмерно строгой морали,
которые так устрашили ее судом божиим, что рассудок ее
пошатнулся и она сошла с ума; ей чудятся демоны, преис-
подняя и геена огненная. Это такое горе для них, это неслы-
ханный случай; ничего подобного никогда не бывало в мо-
настыре, и так далее,— без конца. Все это нисколько меня
не убедило. Безумная монахиня ежеминутно предста-
влялась мне, и я повторяла клятву не давать никакого
обета.
И вот, наконец, наступил день, когда надо было пока-
зать, умею ли я держать слово. Однажды утром, после
299
литургии, ко мне вошла настоятельница. Она держала
письмо. На ее лице были написаны печаль и уныние, руки
ее висели как плети,— казалось, оаи не в силах поднять
это письмо; она смотрела на меня, па ее глаза как будто
навертывались слезы; она молчала, я также хранила мол-
чание. Настоятельница ждала, что я заговорю первая; я
едва не заговорила, но удержалась. Она спросила меня, как
мое здоровье, не слишком ли затянулась сегодня служба,
не кашляю ли я; я показалась ей нездоровой. На все это
я отвечала: «Нет, матушка». Она попрежнему держала
письмо в бессильно повисшей руке. Задавая эти вопросы,
она положила его на колени и прикрыла рукой, но не сов-
сем. Наконец, поговорив о моих родителях, настоятельница
сказала, видя, что я не собираюсь спрашивать о письме:
«Вот письмо»...
При этих словах я почувствовала, что сердце мое дрог-
нуло, и спросила прерывающимся голосом, с трясущимися
губами: «От матушки?».
— Вы угадали, вот, прочтите...
Я немного оправилась, взяла письмо и сначала читала
его, сохраняя самообладание, но по мере того как я
подвигалась вперед ужас, негодование, гнев, досада, раз-
личные страсти сменяли во мне друг друга; у меня выры-
вались различные восклицания, менялось выражение ли-
ца, я делала различные движения: то едва держала эту
бумагу, то хватала ее, как будто хотела разорвать, или же
яростно сжимала, словно меня искушало желание смять
ее и швырнуть подальше.
— Ну, что же, дитя мое, что мы ответим на это?
— Вы знаете, сударыня.
— Да нет же, нет, я этого не знаю. Наступили тяжелые
времена, ваша семья понесла большие убытки; дела ваших
сестер расстроены; у той и у другой много детей; родители
истощили свои средства, выдавая их замуж,— они разоря-
ются, чтобы поддержать их. Вас они никак не могут при-
строить, вы стали послушницей,— это ввело ваших роди-
телей в расходы, своим поступком вы обнадежили их,
слух о вашем вступлении в монашество распространился в
миру. Впрочем, попрежнему рассчитывайте на мою помощь
во всем. Я никогда никого не заманивала в монастырь.
К этому званию нас призывает господь, и очень опасно
смешивать наш голос с его голосом. Я ни в коем случае не
300
буду обращаться к вашему сердцу, если благодать гос-
подня ничего ему не говорит. До настоящего времени я не
могу упрекнуть себя в том, что стала виновницей чужого
несчастья; неужели же вы, дорогое чадо мое, будете моей
первой жертвой? Я отнюдь не забыла, что первые шаги вы
сделали по моему настоянию, я не потерплю, чтобы этим
злоупотребили, заставляя вас дать обет вопреки вашей
воле. Давайте посмотрим, обсудим это вместе. Хотите вы
стать монахиней?
— Нет, сударыня.
— Вы не чувствуете никакой склонности к монашеско-
му званию?
— Нет, сударыня.
— Вы не исполните воли своих родителей?
— Нет, сударыня.
— Кем же вы хотите быть?
— Кем угодно, только не монахиней. Я не хочу быть и
не буду ею.
— Ну, что же! Вы не будете ею. Давайте обдумаем от-
вет вашей матушке.
Мы сговорились по некоторым пунктам. Она написала
и дала мне прочесть свое письмо, и на этот раз оно пока-
залось мне очень хорошим. Между тем ко мне направили
монастырского духовника; прислали ученого богослова,
который уговаривал меня принять постриг; я была пору-
чена особому попечению наставницы послушниц; виделась
с монсеньером епископом Алекским. Мне пришлось ломать
копья с набожными женщинами, интересовавшимися моим
делом, хотя я не была с ними знакома; происходили не-
прерывные собеседования с монахами и священниками.
Приезжал отец, я получала письма от сестер; мать яви-
лась последней — я противостояла всему. Тем не менее
был назначен день пострига. Не пренебрегли ничем, чтобы
добиться моего согласия, когда же увидели, что бесполез-
но домогаться его, приняли решение обойтись без него.
С этого времени я была заперта в келье, мне предписа-
ли молчание, я была отделена от всего мира, предоставле-
на самой себе; и мне стало ясно, что решено распорядиться
мной помимо моей воли. Я ни за что не хотела давать обет
монашества,— это было решено раз навсегда; все дейст-
вительные или мнимые ужасы, которыми меня беспрестан-
но пугали, не могли поколебать моего решения. Однако я
301
была в плачевном состоянии и совершенно не знала, долго
ли оно продлится; еще меньше знала я, что может прои-
зойти со мной, когда оно кончится. Судите сами, сударь,
о решении, принятом мной в этой неизвестности. Я не ви-
дела больше никого: ни настоятельницы, ни наставницы
послушниц, ни товарок; я дала знать первой, будто я скло-
няюсь к исполнению воли своих родителей, но в действи-
тельности намеревалась положить конец этим преследова-
ниям, предать дело огласке и публично протестовать про-
тив замышляемого насилия. Итак, я сказала, что они
хозяева моей судьбы и могут располагать ею по своему
усмотрению, что я буду монахиней, если требуют, чтобы
я была ею. И вот, по всему монастырю распространилось
ликование, вернулись ласки со всей лестью и всеми соблаз-
нами. Мое сердце-де вняло гласу божию, я предназначена
для состояния совершенства более, чем кто-либо. Это неот-
вратимо, всегда ожидали этого. Только тот, кто воистину
призван, исполняет свои обязанности так примерно и не-
укоснительно. Наставница послушниц ни у одной из своих
учениц никогда не видела столь ярко выраженного при-
звания; она была крайне поражена моими странностями, но
всегда повторяла матушке-настоятельнице, что надо дер-
жаться твердо и что это пройдет,—даже самые лучшие
монахини переживают такие минуты; это — внушения зло-
го духа, который удваивает усилия, когда видит, что добы-
ча готова ускользнуть; я избавлюсь от него; впереди меня
ждут одни розы; обязанности монашеской жизни покажут-
ся мне тем легче переносимыми, чем сильнее я их преуве-
личивала; если я внезапно почувствовала тяжесть этого
бремени, то это милость неба, которое воспользовалось
этим средством, дабы облегчить его... Особенно странным
показалось мне, что одно и то же происходит от бога или
от дьявола, в зависимости от того, как моим наставникам
вздумается изобразить дело. В религии много подобных
несуразностей; утешавшие меня часто говорили о моих
мыслях — одни, что это дьявольское навождение, другие,—
что бог внушил мне их. Одно и то же происходит или от
бога, который подвергает нас испытанию, или от дьявола,
который искушает нас.
Я вела себя так, что никто не догадывался о моих на-
мерениях, и полагала, что могу отвечать за себя. Я увиде-
лась с отцом, он холодно говорил со мной; увиделась с ма-
302
терыо, она поцеловала меня; я получала поздравительные
письма от сестер и от многих других. Мне стало известно,
что напутственное слово будет говорить господин Сорнен,
викарий церкви св. Рока, а господии Тьерри, канцлер уни-
верситета, примет мой обет. Все шло хорошо до кануна
великого дня, как вдруг я узнала, что церемония будет тай-
ной, что при ней будут присутствовать немногие, и дверь
церкви будет открыта только родственникам. Тогда я через
привратницу позвала всех наших соседей, своих друзей,
своих подруг; мне позволили написать некоторым знако-
мым. Оказалось такое стечение народа, какого вовсе не
ожидали; пришлось разрешить войти всем; было много-
людное собрание, нужное для осуществления моего плана.
О сударь, какая ночь предшествовала этому дню! Я не при-
легла ни на минуту и сидела на своей кровати; я призыва-
ла бога на помощь; воздевая руки к небу, брала его в сви-
детели совершаемого надо мной насилия; мне живо пред-
ставилась сцена у подножья алтаря: молодая девушка,
громким голосом протестующая против обряда, на который
она согласилась для вида, скандал среди присутствующих,
отчаяние монахинь, ярость моих родителей. «О господи!
Что будет со мной»... Произнося эти слова, я почувство-
вала внезапный упадок сил и упала без чувств на свое из-
головье; за этим обмороком последовал озноб, от которо-
го мои колени колотились одно о другое и зубы громко
стучали; вслед за ознобом начался страшный жар; ум мой
помутился. Не помню ни того, как я разделась, ни того,
как вышла из кельи; однако меня нашли полунагой, в од-
ной рубашке распростертой на земле перед дверью настоя-
тельницы, без движения и почти без признаков жизни. Все
это я узнала после. Утром я очутилась в своей келье; во-
круг моей постели собрались настоятельница, наставница
послушниц и так называемые сестры-помощницы. Я была
в полном изнеможении; мне задали несколько вопросов;
по моим ответам увидели, что я ничего не знаю о случив-
шемся, и ничего мне не сказали. Меня спросили, как мое
здоровье, остаюсь ли я верна своему благочестивому ре-
шению. Я ответила утвердительно, и, против их ожидания,
церемония не расстроилась.
Порядок ее был выработан накануне. Зазвонили в ко-
локола, возвещая миру, что собираются погубить еще одну
несчастную. Сердце мое снова заколотилось. Пришли оде-
393
вать меня; этот день — день облачения; в настоящее время,
когда я вспоминаю всю эту церемонию, мне кажется, что
в ней было нечто торжественное и очень трогательное для
молодой простодушной девушки, не имеющей иного при-
звания. Меня проводили в церковь, отслужили обедню;
добрый викарий, усмотревший во мне покорность воле
божьей, которой у меня не было и в помине, произнес
длинную проповедь, где не было ни одного слова, не про-
тиворечившего здравому смыслу; было очень смешно все
то, что он говорил о моем счастье, о благодати, о моем му-
жестве, рвении, пламенной вере и о всех прекрасных чув-
ствах, какие он во мне предполагал. Противоречие между
его хвалебной речью и поступком, который я собиралась
совершить, смутило меня; были мгновения, когда я испы-
тывала нерешительность, но длились они недолго. Я еще
сильнее почувствовала, насколько нехватает мне всего
того, что необходимо для хорошей монахини. Наконец,
страшная минута наступила. Когда пришлось взойти на
амвон, где я должна была произнести обет монашества,
ноги у меня подкосились; две товарки взяли меня под
руки; моя голова опрокинулась на плечо одной из них, я
едва волочила ноги. Не знаю, что происходило в душе при-
сутствующих, но они видели перед собой молодую умира-
ющую жертву, несомую на алтарь, и со всех сторон разда-
лись вздохи и рыдания, однако я твердо уверена, что
среди них не было слышно голоса ни моего отца, ни моей
матери. Все встали; молодые девушки взобрались на
сиденья, держась за перекладины решетки; наступило
глубокое молчание, и принимавший обет сказал мне:
«Мария — Сюзанна Симонен, обещаете ли вы говорить
правду?».
— Обещаю.
— По вашей ли доброй воле и по вашему ли собствен-
ному желанию находитесь вы здесь?
Я ответила «нет», но сопровождавшие ответили за меня
«да».
— Мария — Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет
целомудрия, бедности и послушания?
Я колебалась мгновенье; священник ждал, и я отве-
тила:
— Нет, сударь.
Он снова начал:
394
— Мария — Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет
целомудрия, бедности и послушания?
Я ответила ему более твердым голосом:
— Нет, сударь, нет.
Он остановился и сказал:
— Дитя мое, придите в себя и слушайте меня.
— Отец мой, вы спрашиваете меня, даю ли я богу обет
целомудрия, бедности и послушания; я хорошо слышала
вас и отвечаю вам: нет...
Повернувшись затем к присутствующим, среди которых
поднялся довольно громкий говор, я сделала знак, что хо-
чу говорить; говор прекратился, и я сказала:
— Господа, и в особенности вы, отец мой и мать моя,
беру вас всех в свидетели...
При этих словах одна из сестер задернула занавесом
решетку, и я увидела, что продолжать бесполезно. Мона-
хини окружили меня, осыпая упреками; я слушала их, не
говоря ни слова.
Меня отвели в келью и заперли там на ключ.
Размышляя в полном одиночестве, я начала успокаи-
ваться душой: вернулась мысленно к своему поступку и
нисколько не раскаялась в нем. Мне представлялось, что
после той огласки, какой я достигла, нельзя будет долго
оставлять меня здесь, и что, может быть, не решатся от-
дать меня и в другой монастырь. Я не знала, как поступят
со мной, но мне казалось, что нет ничего хуже, чем быть
монахиней вопреки своей воле. Я провела довольно много
времени, не слыша звука человеческого голоса. Прино-
сившие мне еду входили, ставили обед на пол и молча уда-
лялись. По прошествии месяца мне принесли мирское
платье; я сняла монашескую одежду; пришла настоятель-
ница и велела мне идти вслед за ней, и я последовала за
нею до монастырских ворот; там я вошла в карету, где ме-
ня ожидала мать, кроме нее никого не было; я села на пе-
реднюю скамейку, и карета тронулась. Некоторое время
мы сидели друг против друга, не произнося ни слова; гла-
за мои были опущены, я не смела взглянуть на мать. Не
знаю, что происходило в моей душе; но вдруг я бросилась
к ее ногам и склонила голову ей на колени; я не говорила
с ней, но рыдала и задыхалась. Она резко оттолкнула ме-
ня. Я не поднялась; из носу у меня хлынула кровь; я схва-
тила ее руку вопреки ее желанию и, орошая слезами и
305
кровью, продолжавшей течь, прижималась губами к этой
руке, целовала ее и говорила матери: «Вы попрежнему
остаетесь моей матерью, я попрежнему ваше дитя»...
И она ответила мне (отталкивая меня еще грубее и выры-
вая свою руку): «Встаньте, несчастная, встаньте». Я пови-
новалась, снова села и надвинула капор на лицо. В ее го-
лосе была такая властность и непреклонность, что я сочла
нужным скрыться от ее взоров. Слезы и кровь, которая те-
кла из носа, смешиваясь, струились по моим рукам и я,
сама того не замечая, была вся залита ими. Из нескольких
слов, сказанных матерью, я поняла, что испачкала ей
платье и белье, и что она недовольна этим. Мы приехали
домой, и меня тотчас же отвели в заранее приготовленную
комнатку. Я еще раз припала к коленям матери на лест-
нице; я удерживала ее за одежду, но добилась лишь того,
что она повернулась в мою сторону и посмотрела на меня,
выражая движением головы, рта и глаз негодование, ка-
кое вам легче себе представить, чем мне описать.
Я вошла в свою новую тюрьму, где провела шесть ме-
сяцев, каждый день тщетно умоляя разрешить мне гово-
рить с матерью, видеть отца или писать им. Мне приносили
есть, прислуживали, в праздники служанка сопровождала
меня к обедне и снова запирала. Я читала, работала, пла-
кала, иногда пела; таким образом проходили мои дни. Тай-
ное чувство, что я свободна и что моя судьба, как бы она
ни была сурова, может измениться,— поддерживало меня.
Но было решено, что я должна стать монахиней, и я
стала ею.
Такая, бесчеловечность, такое упорство со стороны ро-
дителей окончательно укрепили во мне подозрения относи-
тельно моего происхождения,— ничем другим я никогда
не могла бы извинить их. Мать, очевидно, боялась, как бы
я не подняла когда-нибудь вопроса о разделе имущества,
не потребовала своей доли и не занята одинакового поло-
жения с законными детьми. Но то, что было лишь догад-
кой, вскоре превратилось в уверенность.
Находясь в заключении дома, я плохо выполняла цер-
ковные обряды; однако меня посылали исповедоваться
накануне больших праздников. Я сказала вам, что духов-
ник матери был и моим духовником; я говорила с ним, об-
рисовала ему всю суровость обращения со мной за послед-
ние три года. Он знал это. С особенной горечью и обидой
306
жаловалась я ему на мать. Этот священник поздно принял
сан; у него оставалось человеколюбие; он спокойно выслу-
шал меня и сказал:
— Дитя мое, вашу мать надо скорее жалеть, чем пори-
цать, у нее добрая душа; будьте уверены, что она поступа-
ет так вопреки своей воле.
— Вопреки своей воле, сударь! Кто же может ее при-
нудить к этому! Разве она не произвела меня на свет?
И разве есть какая-нибудь разница между моими сестра-
ми и мной?
— Большая.
— Большая! Я совершенно не понимаю вашего ответа.
Я собиралась сравнить своих сестер с собой, но он ос-
тановил меня и сказал:
— Полноте, полноте, бесчеловечность не является по-
роком ваших родителей; старайтесь терпеливо нести свой
крест, и вы заслужите, по крайней мере, милость господ-
ню. Я увижу вашу матушку, и будьте уверены, что вос-
пользуюсь всем своим влиянием на нее, чтобы помочь
вам...
Слово «большая», которым он мне ответил, было для
меня лучом света; я не сомневаюсь более в истинности то-
го, что думала раньше о своем происхождении.
В следующую субботу, около пяти с половиной часов
вечера, приставленная ко мне служанка вошла и сказала:
«Ваша матушка приказывает вам одеться»... Через час
она явилась снова: «Мадам желает, чтобы вы поехали со
мной»... У подъезда ждала карета, я села в нее со служан-
кой и узнала, что мы едем в фельянский-монастырь к отцу
Серафиму. Тот ожидал нас; он был один. Служанка уда-
лилась, а я вошла в приемную. Я села, с тревогой и нетер-
пением ожидая, что он мне скажет. Вот с какими словами
он обратился ко мне:
— Мадемуазель, сейчас для вас разъяснится загадка
сурового обращения ваших родителей: ваша матушка дала
мне разрешение на это. Вы рассудительны, вы обладаете
умом и твердым характером, вы в таком возрасте, когда
вам можно было бы доверить тайну, если бы даже она вас
вовсе не касалась. Прошло много времени с тех пор, как я
впервые увещевал вашу матушку открыть вам то, что вы
307
сейчас узнаете; она никогда не могла решиться на это: ма-
тери трудно признаться своему ребенку в своей тяжкой ви-
не; вы знаете ее характер, с ним не вяжется унизитель-
ность некоторых признаний. Она думала, что сможет, не
прибегая к этому, привести вас к осуществлению ее наме-
рений, — она ошиблась и разгневана этим. Ныне ваша ма-
тушка хочет последовать моему совету и поручила мне до-
вести до вашего сведения, что вы не дочь г-на Симонен.
Я сейчас же ответила, что подозревала это.
— Посмотрите теперь, мадемуазель, обдумайте, взвесь-
те, судите сами, может ли ваша матушка без согласия и
даже с согласия вашего отца уравнять вас с детьми, сест-
рой которых вы не являетесь; может ли она признаться
вашему отцу в поступке, относительно которого у него и
без того уже достаточно подозрений.
— Но кто же мои отец, сударь?
— Это остается для меня тайной, мадемуазель. Более
чем достоверно лишь одно,— прибавил он,— вашим сест-
рам даны огромные преимущества, приняты все мыслимые
меры предосторожности, чтобы свести па-нет причитаю-
щуюся вам долю в случае, если бы вы когда-либо обрати-
лись к содействию суда, с требованием раздела: брачные
контракты, изменение состава имущества, добавочные ус-
ловия, фидеикомиссы 1 и другие средства — все пущено в
ход. Если вы лишитесь родителей, вам достанется немного.
Отказавшись от монастыря, вы, может быть, пожалеете,
что не находитесь там.
— Этого не может быть, сударь; я не прошу ничего.
— Вы не знаете, что такое житейские невзгоды, труд,
нищета.
— Зато я знаю цену свободы и тяжесть монашества,
когда к нему нет никакого призвания.
— Я сказал вам то, что обязан был сказать, теперь вы
должны поразмыслить об этом хорошенько, мадемуазель...
Затем он встал.
— Еще один вопрос, сударь.
— Сколько вам угодно.
— Знают ли мои сестры то, что вы мне сообщили?
— Нет, мадемуазель.
— Как же могли они решиться обобрать свою сестру?
Ведь они верят, что я их сестра.
— Сребролюбие, сребролюбие, мадемуазель! Без при-
зов
даного ваши сестры не сделали бы таких выгодных пар-
тий. В этом мире все думают только о себе, и я не советую
вам рассчитывать на них в случае смерти ваших родите-
лей. Будьте уверены, что у вас будут оспаривать до послед-
него обола 1 жалкие крохи, которые вам придется делить
с ними. У них много детей,— это более чем благовидный
предлог для того, чтобы обречь вас на нищету. Затем у них
связаны руки: всем орудуют мужья. Если бы даже они
чувствовали какое-нибудь сострадание, то помощь, оказан-
ная ими вам без ведома мужей, стала бы источником се-
мейных раздоров. Я на каждом шагу встречаю или поки-
нутых детей, или даже законных, которым помогают в
ущерб домашнему миру. И кроме того, мадемуазель, чу-
жой хлеб очень черств. Если вы верите мне, то помиритесь
с родителями и сделаете то, что ваша мать, вероятно, ждет
от вас — примете монашество; вы будете получать малень-
кую пенсию, на которую просуществуете, если не счастли-
во, то по крайней мере сносно. К тому же не скрою от вас,
что явная нелюбовь к вам матери, ее упорные желания
снова заточить вас в монастырь и некоторые другие об-
стоятельства, которые не приходят мне на память, но ко-
торые я знал в свое время, произвели на вашего отца точ-
но такое же впечатление, как и на вас. Ваше происхожде-
ние казалось ему подозрительным; он больше не сомне-
вается в нем. Даже не будучи посвящен в тайну, он твердо
уверен, что вы считаетесь его ребенком только потому, что
закон приписывает отцовство лицу, официально носящему
звание супруга. До свиданья, мадемуазель; вы добры
и рассудительны; подумайте о том, что вы только что
узнали.
Я встала и заплакала. Отец Серафим сам был, видимо,
тронут; он кротко возвел глаза к небу и проводил меня.
Я позвала приехавшую вместе со мной служанку, мы сно-
ва сели в экипаж и вернулись домой.
Было поздно. Я размышляла часть ночи о том, что мне
сейчас открыли; я размышляла об этом и весь следующий
день. У меня не было отца; раскаяние матери отняло ее у
меня; приняты предосторожности, чтобы я не могла претен-
довать на права законнорожденной; домашнее заточение
очень сурово; никакой надежды, никаких средств к су-
ществованию. Если бы раньше, после того как выдали за-
муж моих сестер, мне объяснили в чем дело, то, может
быть, меня оставили бы дома. У нас продолжали бывать
многие, и нашелся бы кто-нибудь, кому мой прав, мой ум,
лицо, таланты показались бы достаточным приданым; это
и теперь еще возможно, но скандал, учиненный мной в мо-
настыре, затруднял это: на такой крайний шаг девушка
семнадцати — восемнадцати лет могла решиться, лишь
обладая необыкновенно твердым характером. Мужчины
очень хвалят это качество, по мне кажется, что они охотно
мирятся с отсутствием его у тех, па ком предполагают
жениться. Тем не менее, надо было попробовать этот вы-
ход, прежде чем принимать другое решение. Я решила от-
кровенно сказать об этом матери и попросила ее перегово-
рить со мной, на что она изъявила согласие.
Была зима. Мать сидела в кресле перед камином; лицо
ее было сурово и неподвижно, взгляд устремлен в одну
точку; я подошла к пей, бросилась к ее ногам и попросила
прощения за все свои вины.
— Мое прощение,— ответила она,— зависит от того,
что вы мне сейчас скажете. Встаньте, вашего отца нет до-
ма, в нашем распоряжении более чем достаточно времени,
чтобы объясниться. Вы видели отца Серафима, вы знаете,
наконец, кто вы и чего можете ждать от меня, если в ваши
намерения не входит наказывать меня всю мою жизнь за
грех, который я уже более чем искупила. Ну, что же, ма-
демуазель, чего вы хотите от меня? Что вы решили?
— Матушка,— ответила я,— мне известно, что я ни-
чего не имею и не должна ни на что претендовать. Я очень
далека от намерения увеличивать какие бы то пи было го-
рести ваши и, может быть, оказалась бы более покорной
вашей воле, если бы вы посвятили меня ранее в некоторые
обстоятельства, о которых мне трудно было догадаться; но,
наконец, я знаю все, я знаю, кто я такая, и мне остается
только вести себя соответственно своему положению. Меня
не удивляет более разница между условиями, в какие по-
ставлены мои сестры и я. Я признаю справедливость этого,
согласна с этим, но я не перестаю быть вашей дочерью,—
вы носили меня под сердцем, и я надеюсь, что не забудете
этого.
— Горе мне,— прибавила она с живостью,— если я не
буду признавать вас своей дочерью, насколько это в моих
силах.
— Верните же мне свое расположение, матушка,—
310
сказала я ей,— позвольте мне быть с вами; верните мне
любовь того, кто считается моим отцом.
— Еще немного,— продолжала она,— и он будет так
же уверен в вашем происхождении, как вы и я. Всякий раз,
как я вижу вас подле него, мне слышатся его упреки; его
суровое обращение с вами — укор мне; не надейтесь вы-
звать в нем нежные отцовские чувства. И затем, должна
вам признаться, вы напоминаете мне измену, неблагодар-
ность со стороны другого, столь чудовищную, что мысль
о ней для меня невыносима. Этот человек беспрестанно
появляется между вами и мной, он отталкивает меня, и
моя ненависть к нему переносится па вас.
— Как! Я не могу надеяться даже на то, что вы и
г-н Симопеи будете обращаться со мной, как с чужой, не-
известной, подобранной вами из человеколюбия?
— Пи он, ни я не можем относиться к вам так. Дочь
моя, не отравляйте мне более жизни. Если бы у вас не было
сестер, то я знала бы, как мне поступить, по у вас две
сестры; и у той, и у другой многочисленная семья. Поддер-
живавшая меня страсть давно уже угасла; совесть всту-
пила в свои права.
— Но тот, кому я обязана жизнью...
— Его нет более; он умер, не вспомнив о вас; и это наи-
меньшее из его злодеяний...
Тут ее лицо исказилось от сильного гнева, глаза засвер-
кали; она хотела говорить, по не могла произнести члено-
раздельно пи одного слова, так дрожали ее губы. Она си-
дела, склонив голову на руки, чтобы скрыть от меня буше-
вавшие в ней страсти. Некоторое время она оставалась в
такой позе, затем встала и прошлась несколько раз по
комнате, не говоря ни слова; наконец сказала, сдерживая
навертывавшиеся слезы:
— Чудовище! Если все то горе, которое он причинил
мне, не задушило вас в моей утробе, то он тут ни при чем;
но бог сохранил нас обеих, чтобы дочь искупила грех ма-
тери. Дитя мое, у вас нет ничего и никогда ничего не будет.
То немногое, что я могу сделать для вас, я делаю тайком от
ваших сестер,— вот следствия слабости. Однако я наде-
юсь, что, когда буду умирать, мне не в чем будет упрек-
нуть себя; путем бережливости я скоплю для вас вклад в
монастырь. Я нисколько не злоупотребляю снисходитель-
ностью мужа, но я откладываю из дня в день то, что полу-
311
чаю время от времени от его щедрот. Я продала бывшие у
меня драгоценности и получила от него разрешение распо-
рядиться по своему усмотрению вырученной суммой.
Я любила игру и не играю более; я любила театр и лиши-
ла себя его; я любила общество и живу в уединении;
я любила роскошь и отказалась от нее. Если вы примете
монашество согласно моей воле и воле г-на Симонен, то
ваш вклад будет плодом того, что я каждый день отнимаю
у себя.
— Но, матушка,— сказала я,— у вас продолжают бы-
вать разные достойные люди; может быть, кто-нибудь из
них удовольствуется моей особой и не потребует даже сбе-
режений, предназначенных вами для меня.
— Об этом нечего более думать, ваш поступок получил
широкую огласку и погубил вас.
— Неужели беда непоправима?
— Непоправима.
— Но если я даже не найду супруга, неужели я долж-
на непременно запираться в монастырь?
— Если только вы не хотите продолжить моих страда-
ний и моих угрызений совести до той минуты, когда я за-
крою глаза. Эта минута неотвратима, в этот страшный
миг ваши сестры соберутся вокруг моей постели. Подумай-
те, могу ли я видеть вас среди них; как омрачит ваше
присутствие эти последние мгновения! Дочь моя, ибо вы
являетесь ею вопреки моей воле, ваши сестры законным
путем получили имя, которое вы носите благодаря пре-
ступлению; не огорчайте же свою мать в час ее кончины;
дайте ей спокойно сойти в могилу, дайте ей возможность
сказать самой себе перед тем, как предстать перед верхов-
ным судией, что она загладила свою вину, насколько это
было в ее силах, и может утешаться надеждой, что после
ее смерти вы не внесете никакой смуты в дом и не потре-
буете себе возвращения прав, которых не имеете.
— Будьте спокойны относительно этого, матушка,—
сказала я,— пригласите юриста, пусть он составит акт от-
каза от наследства, и я подпишу все, что вам угодно.
— Это невозможно: дети не лишают сами себя наслед-
ства,— это может быть только карой отца и матери, имею-
щих основание для своего гнева. Если богу угодно будет
призвать меня завтра, завтра же мне придется решиться
на этот крайний шаг и открыться мужу, чтобы действовать
312
в согласии с ним. Не заставляйте меня выдавать тайну, это
сделало бы меня ненавистной в его глазах и повлекло бы
позорные для вас последствия. Если вы переживете меня,
то останетесь без имени, без средств, без положения. Не-
счастная, скажите, что станется с вами! С какими мыслями
я должна умереть, по-вашему? Значит, мне придется ска-
зать вашему отцу... Что я скажу ему? Что вы не его дочь...
Дитя мое, если бы надо было только броситься к вашим
ногам, чтобы добиться от вас... Но вы ничего не чувству-
ете; у вас такая же непреклонная душа, как у вашего
отца...
В этот момент вошел г-н Симонен и увидел, что жена
его расстроена; он любил ее и был горячего нрава; он ос-
тановился, как вкопанный, и сказал, бросая на меня
страшные взгляды:
— Вон!
Будь г-н Симонен моим отцом, я не повиновалась бы
ему, но он не был им.
Г-н Симонен прибавил, обращаясь к светившему мне
слуге:
— Скажите ей, чтобы она не показывалась нам больше
на глаза.
Я была снова заперта в своей маленькой тюрьме. Я раз-
мышляла о том, что мне сказала мать. Бросившись на ко-
лени, я молилась богу, чтобы он наставил меня; долго
молилась, припав лицом к земле; голос неба призывают,
обыкновенно, только тогда, когда не знают, на что решить-
ся, и в этих случаях он редко не дает нам совета подчи-
ниться. Таково было принятое мной решение. «Хотят, что-
бы я была монахиней, может быть, это также воля господ-
ня? Что же! — я буду монахиней; раз мне суждено быть
несчастной, то не все ли равно, где я буду ею!»... Я попро-
сила служанку предупредить меня, когда отец выйдет из
дому. На следующий день я добивалась разговора с ма-
терью; она велела мне ответить, что обещала г-ну Симонен
прервать со мной все сношения, но что я могу написать ей
карандашом, который мне дадут. И вот я написала на
клочке бумаги (этот роковой клочок нашелся после, и им
более чем достаточно воспользовались против меня):
«Матушка, меня очень мучают все те огорчения, какие я
вам причинила; прошу у вас прощения: я намереваюсь
положить им конец. Приказывайте мне все, что вам угод-
313
но; если вы хотите, чтобы я приняла монашество, то да
будет такова же и воля божия»...
Служанка взяла эту записку и отнесла ее матери. Ми-
нуту спустя она поднялась ко мне снова и сказала с вос-
торгом:
— Мадемуазель, почему вы тянули так долго, когда
достаточно было одного только слова, чтобы осчастливить
вашего отца, вашу мать и вас самих? У барина и барыни
такие лица, каких я никогда не видала у них с тех пор, как
я здесь: они постоянно ссорились из-за вас; слава богу, я
больше не увижу этого...
Покамест она говорила со мной, я думала, что только
что подписала свой смертный приговор, и это предчувст-
вие оправдается, сударь, если вы меня покинете.
Прошло несколько дней; со мной не говорили ни о чем,
по однажды, часов в девять утра, дверь моей комнаты вне-
запно распахнулась; вошел г-н Симоиен в халате и ноч-
ном колпаке. С тех пор как я узнала, что он не отец мне,
его присутствие вызывало у меня только страх. Я встала,
сделала ему реверанс. Мне казалось, что у меня два серд-
ца: я не могла думать о матери без жалости и без слез; не
то было по отношению к г-пу Симонен. Конечно, отец вну-
шает такого рода чувства, какие не испытываешь ни к кому
на свете, кроме пего, — это можно попять, только очутив-
шись, как я, лицом к лицу с человеком, который долго но-
сил это священное имя и вдруг потерял его: для других
это навсегда останется непонятным. Если бы вместо г-на
Симонеи передо мной была мать, то, мне кажется, я была
бы иной. Он сказал:
— Сюзанна, узнаете вы эту записку?
— Да, сударь.
— Вы написали ее по собственному желанию?
— Я могу ответить только утвердительно.
— Решили ли вы, по крайней мере, исполнить обеща-
ние?
— Решила.
— Предпочитаете ли вы какой-нибудь определенный
монастырь?
— Нет, для меня это безразлично.
— Прекрасно.
Вот что я ответила; но к несчастью это не было записа-
но. В течение двух недель я находилась в полной неизвест-
314
ности относительно происходившего. Повидимому, обра-
щались в различные монастыри, но скандал, вызванный
моим первым поступком, препятствовал принять меня на
испытание. В Лоншапе оказались более сговорчивыми, ве-
роятно, потому, что туда дошел слух о моих музыкальных
талантах, о моем голосе. Говоря со мной, очень преувели-
чивали затруднения, которые пришлось преодолеть, и ми-
лость, оказанную мне принятием в этот монастырь — меня
заставили даже написать настоятельнице. Я не предвиде-
ла последствий этого письменного свидетельства, его потре-
бовали от меня, очевидно, боясь, что когда-нибудь я по-
желаю расторгнуть свой обет; хотели, чтобы я удостове-
рила собственной рукой, что дала его совершенно свобод-
но. Если бы это не имелось в виду, то каким образом пись-
мо, которое должно было остаться в руках настоятельни-
цы, попало впоследствии в руки моих шуринов? Но за-
кроем поскорее па это глаза; г-н Симонец выступает пе-
редо мной таким, каким я не хочу его видеть: его пет боль-
ше в живых.
Меня отвезли в Лоншан, мать сопровождала меня. Я
не попросила разрешения проститься с г-ном Симонеи;
признаюсь, что мысль об этом пришла мне только в доро-
ге. Меня ожидали, о моей истории и о моих талантах были
предуведомлены; мне не сказали ничего по поводу пер-
вой, но поспешили убедиться, стоит ли хлопот сделанное
приобретение. Сначала разговор долго велся на посторон-
ние темы: после случившегося со мной, понятно, не гово-
рили пи о боге, ни о призвании, ни об опасностях мира, ни
о сладости монастырской жизни, не рисковали обмолвить-
ся пи единым словом о том благочестивом вздоре, коим
обычно заполняют эти первые минуты; затем настоятель-
ница сказала: «Мадемуазель, вы играете и поете; у нас
есть клавесин; если хотите, мы пойдем в приемную». На
сердце у меня было очень тяжело, но показывать свою не-
охоту было не время. Мать пошла, я последовала за нею.
Настоятельница с несколькими монахинями, привлечен-
ными любопытством, замыкала шествие. Был вечер; мне
принесли свечи; я уселась за клавесин и долго перебирала
клавиши, стараясь найти какой-нибудь музыкальный от-
рывок и не находя ничего, хотя знала множество пьес;
315
между тем настоятельница торопила меня, и я спела без
всякой задней мысли, по привычке, потому что этот отры-
вок был мне хорошо знаком: «Грустные приготовления,
бледные светильники, день ужаснее ночи»... и т. д. Не
знаю, какое это произвело впечатление, но слушали недол-
го. Меня прервали похвалами, и я была крайне удивлена,
что так скоро и так легко заслужила их. Мать оставила
меня па попечение настоятельницы, дала мне поцеловать
руку и уехала домой.
И вот я в другом монастыре, в качестве испытуемой, и,
по всей видимости, проходящей испытание вполне добро-
вольно. По вы, сударь, знаете все происшедшее до сих
пор,— что вы думаете об этом? Большинство этих фактов
вовсе не приводилось, когда я захотела расторгнуть свой
обет: одни — потому, что не могли быть подкреплены до-
казательствами, другие — по той причине, что, не говоря в
мою пользу, выставили бы меня в самом отвратительном
виде; меня изобразили бы выродком, оскорбляющим па-
мять своих родителей, чтобы получить свободу. Были на-
лицо доказательства, говорившие против; а то, что гово-
рило за меня, не могло быть ни приведено, ни доказано.
Я не хотела даже, чтобы у судей возникло подозрение от-
носительно моего происхождения. Некоторые лица, не
имеющие ничего общего с юриспруденцией, советовали
мне привлечь к делу духовника матери, бывшего прежде
моим духовником; это оказалось невозможным, а если бы
это даже было возможно, я не допустила бы этого. Но,
кстати, а то я боюсь, что забуду об этом сказать, и ваше
желание помочь мне помешает вам принять это во внима-
ние,— я думаю, если только вы не подадите мне иного
совета, что надо молчать о том, что я знаю музыку и иг-
раю на клавесине, иначе мне не удастся остаться в тени.
К чему кичиться этими талантами, когда я ищу только
неизвестности и безопасности? Лица моего звания не уме-
ют это делать, и я не должна иметь об этом никакого по-
нятия. Если я буду вынуждена покинуть отечество, это
даст мне средства к существованию. Покинуть отечество!—
Скажите, почему эта мысль устрашает меня?— Потому
что я не знаю, куда ехать, потому что я молода и неопыт-
на, потому что я боюсь нищеты, людей и порока, потому
что я всегда жила взаперти и, если бы очутилась вне Па-
рижа, мне казалось бы, что я потерялась в мире. Может
316
быть, все это и не так, но так именно я чувствую, сударь,
я не знаю, куда ехать, кем стать — это зависит от вас.
В Лоншане, как и в большинстве монастырей, настоя-
тельницы меняются каждые три года. Когда меня при-
везли в монастырь, в эту должность вступила г-жа Мони;
я могу вам сказать о ней только самое хорошее, и, однако,
ее доброта погубила меня. Это была рассудительная жен-
щина, знавшая человеческое сердце и отличавшаяся снис-
ходительностью, хотя нуждалась в ней меньше всего; все
мы были ее детьми. Она всегда замечала только про-
ступки, которые не могла не заметить, или настолько важ-
ные, что нельзя было закрывать на них глаза. Говорю это
беспристрастно; я строго исполняла свои обязанности, и
она воздавала мне должное, говоря, что я не совершила
ничего, заслуживающего наказания, ничего, что она долж-
на была бы прощать. Если она оказывала кому-либо пред-
почтение, то оно было заслужено; после этого не знаю,
удобно ли мне говорить вам, что она нежно полюбила меня
и что я была не последней среди ее фавориток. Я знаю,
что это равносильно величайшей похвале самой себе; не
будучи с ней знакомы, вы не представляете себе, как много
это значит. Фаворитками остальные монахини называют из
зависти любимиц настоятельницы. Я могу упрекнуть
г-жу Мони только в одном: она слишком откровенно об-
наружила свое увлечение добродетелью, благочестием,
прямотой, кротостью, талантами, честностью, а ей было
не безызвестно, что это еще более унижало тех, кто не мог
претендовать на эти достоинства. Она обладала также да-
ром, может быть, более распространенным в монастыре,
чем в миру,— быстро распознавать человеческую душу.
Редко бывало, чтобы монахиня, не понравившаяся ей сна-
чала, понравилась ей когда-либо после. Она сразу полю-
била меня, и я с первого же дня отнеслась к ней с безгра-
ничным доверием. Горе тем, чье расположение Мони за-
воевывала с трудом! Это могли быть только безнадежно
дурные женщины, сами сознававшие это. Она беседовала
со мной о происшествии в монастыре св. Марии. Я расска-
зала о нем, ничего не утаивая, как теперь говорю вам;
я сообщила ей все, что только написала вам; и то, что от-
носилось к моему происхождению, и то, что касалось моих
страданий,— ничто не было забыто. Она пожалела меня,
утешила, подала мне надежду на лучшее будущее.
317
Между тем срок испытания истек; мне предстояло стать
послушницей, и я стала ею. Я отбывала послушничество
без отвращения. Не останавливаюсь на этих двух годах,
так как они не были омрачены ничем, кроме тайного чув-
ства, что я шаг за шагом приближаюсь к вступлению в
монашество, для которого я была менее всего создана.
Иногда это чувство возобновлялось с особенной силой, но
я сейчас же прибегала к помощи своей доброй настоятель-
ницы. Она обнимала меня, окрыляла мне душу, выдви-
гала сильные доводы и неизменно кончала словами:
— А разве другие звания лишены терний? Чувствуешь
только свои. Пойдемте, дитя мое, преклоним колена и по-
молимся...
Тогда она простиралась ниц и громко молилась — с та-
ким умилением, красноречием, кротостью, подъемом и си-
лой, словно дух святой вдохновлял ее. Ее мысли, обороты
ее речи, ее образы проникали до глубины сердца; сначала
ее слушали; незаметно увлекаясь, присоединялись к ней и,
охваченные трепетом, сливались с пей в одном порыве.
В ее намерения не входило соблазнять, но, конечно, она
делала это: от нее выходили с горящим сердцем, с печатью
радости и экстаза па лице, проливали такие сладкие слезы!
Она сама это переживала; и она и другие долго остава-
лись под этим впечатлением. Не я одна испытала это,— то
же самое испытывали все монахини. Некоторые говорили
мне, что они чувствуют, как у них возникает потребность
в утешении и что они видят в этом величайшую радость.
Мне думается, что я и сама пришла бы к этому, если бы
у меня создалась привычка.
Однако с приближением пострига меня обуяла такая
глубокая тоска, что моя дорогая настоятельница подверг-
лась страшным испытаниям; дар красноречия покинул ее,
в чем она сама мне призналась.
«Не знаю,— сказала она,— что происходит со мной,
когда вы приходите; мне кажется, что бог удаляется и го-
лос его умолкает; напрасно я возбуждаю себя, напрасно
собираюсь с мыслями, напрасно хочу воспламенить свою
душу; я нахожу в себе заурядную и ограниченную жен-
щину, я боюсь говорить»...
«Ах, матушка,— сказала я ей,— какое предзнаменова-
ние! Может статься, господь заставляет вас безмолвство-
вать».
318
Однажды я чувствовала себя более неуверенной и по-
давленной, чем когда-либо, и пошла в ее келью. Мое появ-
ление привело ее сначала в замешательство: она, оче-
видно, прочла в моих глазах, во всей моей внешности, что
глубокое чувство, которое я носила в себе, овладело мной
с непреодолимой силой, и не хотела бороться, не будучи
уверена в победе. Тем не менее она занялась мной и мало-
помалу воодушевилась; по мере того как моя скорбь осла-
бевала, ее энтузиазм возрастал; вдруг настоятельница бро-
силась на колени, я последовала ее примеру. Я думала, что
сейчас разделю ее восторг, и желала этого; она произнесла
несколько слов, потом вдруг умолкла. Я напрасно ждала;
мать Мони не говорила более, заливаясь слезами; она
взяла мою руку и сжала ее в своих руках:
— Ах, дорогое дитя,— сказала она,— какое жестокое
влияние оказываете вы на меня! Конечно, дух святой уда-
лился, я чувствую это. Идите, пусть бог сам говорит с
вами, так как ему не угодно, чтобы его голос звучал в моих
устах...
Действительно, не знаю, что происходило с ней,— вну-
шила ли я ей упорное недоверие к собственным силам, сде-
лала ее боязливой, или же в самом деле прервала ее обще-
ние с небом, но дар утешения больше не вернулся к ней.
Накануне моего пострига я пошла повидаться с нею; она
тосковала не менее меня. Я заплакала, она также. Я бро-
силась к ее ногам, она благословила меня, подняла и
отослала со словами:
— Я устала жить, я желаю умереть и прошу господа
избавить меня от этого дня, но на то нет его воли. Идите,
я поговорю с вашей матерью; я проведу ночь в молитве,
молитесь также; но ложитесь спать, приказываю вам.
— Разрешите мне помолиться вместе с вами,— отве-
тила я.
— Разрешаю вам пробыть со мной с девяти часов до
одиннадцати, не более. В девять с половиной я начну мо-
литься и вы также, но в одиннадцать часов вы оставите
меня молиться одну, а сами пойдете отдыхать. Ступайте,
дорогое дитя, остаток ночи я буду бодрствовать перед
господом.
Она хотела молиться, но не могла. Я уснула, а тем
временем эта святая женщина прошла по коридорам,
стуча в каждую дверь, разбудила монахинь и велела им
319
тихонько сойти в церковь. Все пошли туда, и, когда собра-
лись, она призвала их обратиться к небу с молитвой обо
мне. Сначала молились молча; затем она погасила свечи:
все повторяли речитативом Miserere *, за исключением на-
стоятельницы, которая, простершись ниц у подножья ал-
таря, жестоко истязала себя, говоря: «О господи! Если ты
отвратил лик свой от меня за какой-нибудь совершенный
мною грех, то даруй мне прощение. Я не прошу тебя вер-
нуть мне дар, отнятый тобою, но молю тебя — обратись
сам к этой чистой душе, которая спит, в то время как я
призываю тебя здесь, молясь о ней. Господи, скажи ей
свое слово, скажи свое слово ее родителям и прости меня».
На другой день рано утром она вошла в мою келью,
я не слышала ее, я еще не проснулась. Она села подле
моей кровати, осторожно положила руку мне на лоб и ста-
ла смотреть на меня. Тревога, смятение и скорбь сменя-
лись на ее лице — такой она предстала предо мной, когда
я открыла глаза. Она не сказала мне ни слова о том, что
произошло ночью, и спросила только, рано ли я легла
спать. Я ответила:
— Когда вы приказали.
— Спали ли вы?
— Крепким сном.
— Я так и думала... Как вы себя чувствуете?
— Очень хорошо. А вы, дорогая матушка?
— Увы! — без тревоги я не могла видеть ни одной
вступающей в монашество, но никогда не испытывала та-
кого смятения, как теперь. Я очень хотела бы, чтобы вы
были счастливы.
— Если вы будете всегда любить меня, я буду счаст-
лива.
— Ах, если бы это зависело только от моей любви! Вы
ни о чем не думали ночью?
— Нет.
— Видели ли вы что-нибудь во сне?
— Ничего.
— Что происходит сейчас в вашей душе?
— Я отупела, я покоряюсь своей участи без отвращения
и без влечения, я чувствую, что необходимость увлекает
меня, и не сопротивляюсь. Ах, дорогая матушка, я не
* Один из псалмов Давида.
320
чувствую ничего похожего на тихую радость, на трепет,
на печаль, на сладкое беспокойство, какие я замечала ино-
гда в других в такие же минуты. Я бесчувственна, у меня
нет даже слез. Этого хотят — значит так надо,— вот един-
ственная мысль, которая приходит ко мне.., Но вы ничего
не говорите...
— Я пришла не для того, чтобы беседовать с вами, но
чтобы видеть и слышать вас. Я жду вашу мать. Постарай-
тесь не волновать меня, дайте чувствам накопиться в моей
душе; когда она будет полна ими, я уйду от вас. Мне надо
помолчать: я знаю себя, я способна только на один порыв,
но на величайший, и не на вас следует мне израсходовать
свои силы. Полежите еще минутку, я посмотрю на вас.
Скажите мне только несколько слов и дайте мне почерп-
нуть в них то, за чем я пришла сюда. Я пойду, а бог совер-
шит остальное...
Я замолчала, склонилась на подушку и протянула руку,
которую она взяла. Мать Мони, повидимому, размышляла
и размышляла глубоко; она делала усилия, чтоб держать
глаза закрытыми, иногда открывала их, возводила к небу
и снова останавливала па мне. Она волновалась, душа ее
наполнялась смятением; овладевала собой и снова впа-
дала в тревогу. Поистине, эта женщина родилась быть
пророчицей; что-то пророческое было в ее лице и харак-
тере. Она была когда-то красавицей; старость, ослабив
резкость черт и избороздив морщинами ее лицо, придала
ему еще больше достоинства. Глаза у нее были небольшие,
и, казалось, что взгляд их или обращен внутрь, или, минуя
близкие предметы и различая то, что за ними, устремлен
вдаль — в прошлое или в будущее. По временам она силь-
но сжимала мне руку. Вдруг она спросила меня, который
час.
— Скоро шесть.
— Прощайте, я ухожу. Сейчас придут одевать вас, я
не хочу быть при этом, это отвлекло бы меня от моих мыс-
лей. У меня только одна забота — сохранить самооблада-
ние в первые минуты.
Едва она вышла, как вошли наставница послушниц и
мои товарки; с меня сияли монашескую одежду и вновь
надели мирское платье,— таков известный вам обычай.
Я не слышала ничего из того, что говорилось вокруг; почти
превратилась в автомат, ничего не замечала, только время
321
от времени по мне пробегала словно судорога. Мне гово-
рили, что надо делать. Часто вынуждены были повторять
одно и то же, ибо я не понимала с первого раза, и тогда я
повиновалась. Происходило это не потому, что я думала о
чем-то другом, я была всецело поглощена одной мыслью;
голова моя устала как бы от избытка размышлений. Тем
временем настоятельница беседовала с моей матерью.
Я так и не узнала, что произошло при этом свидании, про-
должавшемся очень долго. Мне сказали только, что, когда
они расстались, моя мать была в таком смятении, что не
могла найти двери, в которую вошла, а настоятельница
вышла, стиснув голову руками.
Между тем зазвонили в колокола. Я сошла вниз. Со-
брание было малочисленно. Ко мне обратились с напут-
ственным словом. Не знаю, хорошо ли оно было или плохо,
я ничего не слышала. Со мной делали, что хотели, в про-
должение всего этого утра, которое останется пустым ме-
стом в моей жизни, ибо я и до сих прр не представляю се-
бе, долго ли оно продолжалось; не знаю ни того, что я де-
лала, ни того, что говорила. Меня, несомненно, спрашива-
ли, я, несомненно, отвечала. Я произнесла обет, но у меня
это совершенно выпало из памяти, и я стала монахиней
так же бессознательно, как сделалась христианкой. Во
всей церемонии своего пострига я поняла не больше, чем
в обряде своего крещения, с той только разницей, что этот
обряд дарует истинную благодать, а постриг — мнимую.
Как вы думаете, сударь? Неужели я связана своим обетом,
хотя и не сделала в Лоншане такого же заявления, как
в монастыре св. Марии? Взываю к вашему суду, взываю
к правосудию божию. Я была в состоянии столь глубокой
подавленности, что, когда несколько дней спустя мне
объявили, что я должна петь в хоре, я не поняла, что это
значит. Я спросила, правда ли, что я приняла монашество,
хотела видеть подпись под данным мною обетом. К этому
доказательству пришлось присоединить свидетельство всей
общины и некоторых посторонних, приглашенных на цере-
монию. Обращаясь несколько раз к настоятельнице, я
спрашивала: «Неужели это действительно правда?»...
и всякий раз ждала, что она ответит мне: «Нет, дитя мое,
вас обманывают»... Ее заверения не убеждали меня: я не
могла постичь, каким образом из всего происходившего
в течение целого дня, столь суетливого, столь разнообраз-
322
ного, столь богатого необычайными и поразительными
фактами, в моей памяти не осталось ничего — ни лиц тех,
кто прислуживал мне, ни лица священника, произносив-
шего проповедь, ни лица, принимавшего мой обет; я помню
только, как с меня сняли монашескую одежду и надели
мирскую,— после этого я находилась в состоянии невме-
няемости. Понадобились целые месяцы, чтобы вывести
меня из этого состояния; продолжительности этого своего
рода выздоровления приписываю я глубокое забвение
всего происшедшего. Так бывает с теми, кто перенес дол-
гую болезнь, рассуждал вполне здраво, причастился свя-
тых тайн и кто, выздоровев, не помнит ничего. Я наблюда-
ла в монастыре несколько подобных примеров и говорила
себе: «Очевидно, то же самое было и со мной в день по-
стрижения». По остается выяснить, зависят ли эти дей-
ствия от человека и так ли это, хотя и кажется, что это так.
В том же году меня постигли три значительные утра-
ты: умер отец или, вернее, тот, кто слыл моим отцом, —
он был преклонного возраста, много работал и угас; скон-
чалась настоятельница и, наконец, моя мать.
Достойная монахиня задолго почувствовала приближе-
ние смертного часа; она обрекла себя на молчание, велела
внести гроб в свою комнату, потеряла сон и проводила
дни и ночи, размышляя и записывая свои мысли. Она
оставила пятнадцать Размышлений; они кажутся мне ис-
полненными величайшей красоты; у меня остался список.
Если когда-нибудь вам будет интересно познакомиться
с мыслями, внушаемыми предсмертными минутами, я при-
шлю вам их; они озаглавлены: «Последние мгновения
сестры Мони».
При приближении смерти она веЛела одеть себя и лег-
ла на постель. Ее причастили и соборовали; в руках она
держала распятие. Была ночь; светильники озаряли эту
мрачную сцену. Мы окружили умирающую, заливаясь сле-
зами. Келья оглашалась криками; вдруг глаза ее заблиста-
ли, она внезапно приподнялась и заговорила, голос ее был
почти так же силен, как тогда, когда она была здорова.
К ней вернулся утраченный ею дар, она упрекала нас за
слезы, словно мы плакали из зависти к ее вечному блажен-
ству. «Дети мои, ваша скорбь вводит вас в заблуждение.
323
Там, там,— говорила она, указывая на небо,— я буду слу-
жить вам: мои глаза будут беспрестанно устремляться на
этот монастырь, я буду вашей заступницей и буду услы-
шана. Подойдите все, я обниму вас, примите мое благо-
словение и проститесь со мной»... То были последние слова
перед кончиной этой редкой женщины, о которой никогда
не перестанут скорбеть.
Мать умерла в конце осени, вернувшись из поездки к
одной из дочерей. Она тосковала, здоровье ее очень осла-
бело. Я никогда не узнала ни имени своего отца, ни исто-
рии своего рождения. Духовник матери, бывший и моим
духовником, передал мне от нее небольшой пакет. Там бы-
ли пятьдесят луидоров с запиской, завернутые и зашитые
в кусок полотна. Записка была следующего содержания.
«Дитя мое, дар мой невелик, но моя совесть не позво-
ляет мне располагать большей суммой. Посылаю остаток
того, что я могла скопить из небольших подарков г-на Си-
счастья. Живите свято, это самое лучшее даже для вашего
счастья в сем мире. Молитесь за меня. Ваше рождение —
единственный значительный грех, совершенный мной;
помогите мне искупить его, и пусть господь простит мне
ваше появление на свет ради добрых дел, которые вы со-
вершите. Не смущайте покоя семьи, об этом особенно про-
шу вас, и, хотя выбор принятого вами звания не был так
доброволен, как я желала бы, бойтесь изменить его. Жаль,
что меня не заточили в монастырь на всю жизнь! Меня не
смущала бы тогда мысль, что через минуту придется пред-
стать перед грозным судией. Не забывайте, дитя мое, что
судьба вашей матери на том свете во многом зависит от
вашего поведения в этом мире: всевидящий бог зачтет мне,
по своей справедливости, все добро и все зло, содеянное
вами. Прощайте, Сюзанна, не требуйте ничего от своих
сестер,— они не в состоянии помогать вам; не надейтесь
на вашего отца,— он прежде меня сошел в могилу, он
узрел великий день и ожидает меня; мое присутствие будет
менее страшно для него, нежели его для меня. Еще раз
прощайте. Ах, несчастная мать! Ах, несчастное дитя! При-
были ваши сестры; я недовольна ими: они хватают, уносят
все, на глазах умирающей матери ссорятся из корыстных
побуждений,— это удручает меня. Когда они подходят
к моей постели, я отворачиваюсь: что я увидела бы? Два
создания, в которых нужда заглушает естественное чув-
324
ство. Они жаждут получить поскорее то немногое, что я
оставляю, они задают доктору и сиделке беззастенчивые
вопросы, показывающие, с каким нетерпением ждут они
минуты, когда я умру и они захватят все, что меня, окру-
жает. У них возникло подозрение,— не знаю, откуда оно-
взялось,— что, может быть деньги спрятаны в моем мат-
раце; они не остановились ни перед чем, пустили в ход все,
чтобы заставить меня подняться, и дрбились своего; но, к;
счастью, пришел мой душеприказчик, и я передаю ему этот
маленький пакет с письмом, написанным им под мою дик-
товку. Сожгите письмо и, когда вы узнаете, что меня нет
больше в живых, а это будет скоро, закажите обедню за
упокой моей души и повторите во время нее свой обет,
ибо я попрежнему желаю, чтобы вы остались монахиней.
Мысль о том, что вы остались в миру без помощи, без
поддержки, такая молодая, окончательно смутила бы мои
последние минуты».
Отец умер 5 января, настоятельница в конце того же
месяца, а мать — на второй день рождества.
Преемницей матери Мони была сестра Христина. Ах,
сударь, какая разница между той и другой! Я сказала
вам, какой женщиной была первая; у второй был мелоч-
ный характер, ограниченный, отуманенный суевериями ум;
она ввела новшества, совещалась с иезуитами и сулъпи-
цианцами 1, относилась враждебно ко всем фавориткам
своей предшественницы. Монастырь мигом наполнился
склокой, ненавистью, злословием, обвинениями, клеветой
и преследованиями. Пришлось разбираться в вопросах
богословия, в которых мы ничего не смыслили, соглашать-
ся с религиозными формулами, подчиняться странным
обрядам. Мать Мони не одобряла вовсе средств покаяния,
изнуряющих плоть; сама она только два раза за всю свою
жизнь подвергла себя самоистязанию: один раз накануне
принятия мною монашества, другой — при подобных же
обстоятельствах. Она говорила об этих средствах покая-
ния, что они не исправляют недостатков, а служат только
гордыне. Она хотела, чтобы ее монахини чувствовали себя
хорошо, чтобы у них было здоровое тело и ясный дух.
Когда эта настоятельница вступила в должность, то на-
чала с того, что приказала унести все власяницы и бичи
425
и запретила посыпать пищу пеплом, спать на голых досках
и запасаться орудиями самоистязания. Сестра Христина,
наоборот, вернула всем монахиням власяницы и бичи и от-
няла у них Ветхий и Новый завет. Фаворитки королевы
никогда не бывают фаворитками ее преемницы. Новая на-
стоятельница относилась ко мне равнодушно и даже хуже
чем равнодушно по той причине, что ее предшественница
нежно любила меня. Я не замедлила ухудшить свою
участь действиями, которые вы назовете или неблагоразу-
мием или твердостью характера, в зависимости от того,
с какой точки зрения взглянете на них. Во-первых, я все-
цело отдалась горю, вызванному во мне утратой нашей
первой настоятельницы, восхваляла ее при всех обстоя-
тельствах, при случае сравнивала ее с той, под началом
которой мы находились теперь, и эти сравнения были не-
благоприятны для последней. Яркими красками рисовала
я положение монастыря в прошлые годы, напоминала
о спокойствии, каким мы пользовались, о снисходитель-
ности по отношению к нам и с восторгом говорила о добро-
детели, чувствах, характере сестры Мони. Во-вторых, я
бросила в огонь свою власяницу и выбросила бич, призы-
вая к тому же подруг,— и некоторых убедила последовать
моему примеру. В-третьих, я достала Ветхий и Новый за-
вет; в-четвертых, отвергала всякое сектантство и имено-
вала себя христианкой, отказываясь принять название
янсенистки или молинистки; в-пятых, строго оставалась
в рамках монастырского устава, не желая делать чего-
либо, не предусмотренного им,— следовательно, я не бра-
ла на себя ничего сверх должного, мои обязанности и без
того казались мне слишком тяжелыми; я показывалась
у органа только в дни праздников, пела только в хоре, не
позволяла более злоупотреблять своей любезностью и
своими талантами и беспокоить себя каждый день по вся-
кому поводу. Я прочла и перечитывала устав, выучила его
наизусть. Если мне приказывали что-либо, что не было
ясно выражено в уставе, или отсутствовало в нем, или
казалось мне противоречащим ему, то я твердо отказыва-
лась исполнять; я брала книгу и говорила: «Вот обязатель-
ства, принятые мной, других я не брала на себя».
Мои речи увлекли некоторых. Власть старших сестер
оказалась очень ограниченной: они не могли более распо-
ряжаться нами, как своими рабынями. Не проходило почти
326
ни одного дня без какой-нибудь истории. В сомнительных
случаях товарки советовались со мной, и я всегда была за
соблюдение устава и против деспотизма. Вскоре во мне
стали видеть бунтовщицу, а возможно, что я до некоторой
степени и играла эту роль. Беспрестанно вызывались
старшие викарии архиепископа; я представала перед су-
дом, защищалась, защищала своих товарок. Меня ни разу
не осудили, так старательно я подбирала доводы в свою
пользу: нельзя было обвинить меня в нарушении обязан-
ностей, я исполняла их с величайшей добросовестностью.
Что касается незначительных милостей, которые настоя-
тельница всегда вольна оказывать и которых она может
лишать, то я и не думала просить о них. Я никогда не по-
являлась в приемной, не будучи ни с кем знакома, и никого
не принимала. По я сожгла свою власяницу и выбросила
бич; то же самое посоветовала и другим; я не хотела слы-
шать разговоров об янсенизме, молинизме, добре и зле.
Когда меня спрашивали, подчиняюсь ли я уставу, я отве-
чала, что подчиняюсь церкви; признаю ли я папскую
буллу, я отвечала, что признаю евангелие. Явились осмо-
треть мою келью — нашли Ветхий и Новый завет. У меня
вырывались неосторожные слова о' подозрительной бли-
зости некоторых фавориток к настоятельнице, о долгих
и частых беседах с глазу на глаз с молодым церковнослу-
жителем, и я разоблачала подноготную. Я сделала все, что
могла, чтобы разжечь к себе ненависть и страх и погубить
себя, и добилась этого. На меня не жаловались более цер-
ковным властям, но постарались сделать мою жизнь невы-
носимой. Остальным монахиням запретили общаться со
мной, и вскоре я оказалась одна. У меня были подруги,
очень немногочисленные,— заподозрили, что они стараются
обойти тайком запрещение видеться со мной и что, не имея
возможности беседовать днем, посещают меня ночью или
в неурочные часы; нас выследили: меня заставали то с
одной, то с другой. Этот неосторожный поступок раздули,
и я была наказана самым бесчеловечным образом: меня
приговорили целые недели простаивать церковную службу
на коленях, отдельно от остальных, посреди хор; сажали
на хлеб и воду, запирали в келье; заставляли делать самую
грязную работу в монастыре. Те, кого называли моими со-
общницами, подвергались почти такому же обращению.
Когда не могли найти за мной вины, ее выдумывали. Мне
327
давали одновременно несовместимые приказания и нака-
зывали за неисполнение их; передвигали часы церковной
службы, часы трапез; изменяли весь порядок монастыр-
ской жизни, не доводя об этом до моего сведения; не-
смотря на величайшее напряжение внимания, я каждый
день оказывалась виноватой, каждый день бывала нака-
зана. У меня есть мужество, но какое мужество может
устоять против одиночества, преследований и полной забро-
шенности? Дело дошло до того, что устроили себе игру из
моих мучений,— это стало забавой пятидесяти действовав-
ших заодно монахинь. Я не могу входить во все подроб-
пости этих злобных каверз: мне мешали спать, бодрство-
вать, молиться. Сегодня у меня крали что-нибудь из моей
одежды, завтра — ключи или требник; замок в моей двери
оказывался сломанным; мне мешали исправно выполнять
работу, портили то, что я делала хорошо; мне приписы-
вали вымышленные слова и действия; меня делали ответ-
ственной за все, и моя жизнь превратилась в цепь действи-
тельных или мнимых проступков и цепь наказаний.
Мое здоровье не выдержало столь долгих и тяжких ис-
пытаний; я дошла до полного изнеможения, впала в уны-
ние и тоску. Сначала я пыталась почерпнуть у подножия
алтарей силу и готовность переносить страдания и обре-
тала там иногда то и другое. Я колебалась между покор-
ностью и отчаянием, то всецело подчиняясь своей суровой
участи, то думая об освобождении насильственными сред-
ствами. В глуши сада был глубокий колодец; сколько раз
я ходила туда! Сколько раз заглядывала в него! Возле
колодца была каменная скамья; сколько раз я сидела там,
прислонившись головой к краю этого колодца! Сколько
раз вскакивала в крайнем возбуждении, твердо решив по-
ложить конец своим мучениям! Что удерживало меня?
Почему я предпочитала тогда плакать, кричать громким
голосом, топтать свое монашеское покрывало ногами, вы-
рывать волосы и раздирать лицо ногтями? Если бог мешал
мне погубить себя, то почему он не останавливал также
всех этих движений?
Я скажу вам сейчас нечто такое, что может показаться
вам очень странным, и тем не менее это правда: я нисколь-
ко не сомневаюсь, что мои частые хождения к этому ко-
лодцу были замечены, и жестокие враги мои лелеяли на-
дежду, что когда-нибудь я приведу в исполнение свое за-
328
таенное намерение. Когда я шла в эту сторону, притворя-
лись, что удаляются и смотрят в другом направлении.
Несколько раз я находила калитку сада открытой в часы,
когда она должна быть заперта, особенно в те дни, когда
меня больше всего мучили: меня толкали на крайний шаг,
зная горячность моего характера и думая, что я повреди-
лась умом. Но как только я догадалась, что это средство
уйти из жизни было, так сказать, предложено моему
отчаянию, что меня водили к этому колодцу за руку и что
я всегда находила его готовым принять меня, я бросила
эту мысль. Мой ум искал других путей: я оставалась в ко-
ридорах и измеряла высоту окон; вечером, раздеваясь, бес-
сознательно пробовала крепость своих подвязок; бывало,
что я отказывалась есть, спускалась в трапезную и сидела,
прислонясь спиной к стене, опустив руки, закрыв глаза и
не дотрагиваясь до кушаний, которые ставили предо мной;
я забывалась в таком состоянии настолько, что все мона-
хини уходили, а я оставалась. Тогда нарочно старались
удалиться без шума и оставляли меня там; затем меня
наказывали за то, что я пропустила молитву. Словом, меня
отвадили почти от всех средств лишения жизни, так как
мне казалось, что их предоставляют в мое распоряжение
вместо того, чтобы противостоять моим намерениям. Оче-
видно, мы не хотим, чтобы нас выталкивали из этого мира,
и, может быть, меня не было бы уже в живых, если бы де-
лали вид, что удерживают меня от самоубийства. Когда
лишают себя жизни, то, может быть, стремятся довести
до отчаяния других и сохраняют ее, когда думают, что
другие были бы удовлетворены самоубийством,— это не-
уловимые движения нашей души. В самом деле, насколько
я помню то, что переживала, когда была у колодца,
мне кажется, что внутри меня какой-то голос кри-
чал этим несчастным, которые удалялись, содействуя
злодеянию: «Сделайте хотя бы один шаг в мою сторону,
проявите хотя бы малейшее желание спасти меня, подбе-
гите, чтобы удержать меня, и будьте уверены, что вы при-
дете слишком поздно». Воистину, я жила только потому,
что они желали моей смерти. Неистовое желание вредить,
мучить может пресытиться в миру. Оно никогда не знает
пресыщения в монастырях.
Такое жалкое существование влачила я, когда, окинув
взором свою прошлую жизнь, задумала расторгнуть
329
обет. Сначала я не думала об этом серьезно. Одинокая,
заброшенная, без поддержки, как могла я надеяться осу-
ществить замысел, столь трудно исполнимый даже с по-
сторонней помощью, которой мне недоставало? Тем не
менее эта мысль успокоила меня; мой ум уравновесился;
я больше владела собой; избегала наказаний и более
терпеливо переносила выпавшее на мою долю. Эту пере-
мену заметили и были удивлены ею; злоба вдруг остано-
вилась подобно трусливому преследующему вас врагу,
к которому вы оборачиваетесь лицом в тот момент, когда
он этого не ожидает. Я хочу вас спросить, сударь, почему,
наряду со всеми зловещими мыслями, которые бродят в
голове доведенной до отчаяния монахини, ей никогда не
приходит мысль о поджоге монастыря? Пи я, ни другие
пи разу не подумали об этом, хотя нет ничего легче; надо
только в ветреный день отнести светильник на чердак,
в дровяной сарай, в коридор. Совсем не слышно о сгорев-
ших монастырях, а между тем при подобном событии
двери отворяются настежь, и спасается, кто может. Не
объясняется ли это боязнью погибнуть самим и погубить
тех, кого любишь, и нежеланием прибегнуть к помощи, ко-
торая будет оказана нам наравне с теми, кого мы ненави-
дим? Эта последняя мысль слишком тонка и поэтому не-
правдоподобна.
Чем больше нас захватывает какая-нибудь мысль, тем
правильнее и даже осуществимее кажется она нам; мы
испытываем при этом необыкновенный прилив сил. В ка-
кие-нибудь две недели я дошла до такого состояния. Ум
мой не любит мешкать. Что надо было сделать? Составить
записку с изложением обстоятельств дела и посоветоваться
с кем-нибудь по поводу ее; то и другое было небезопасно.
С тех пор как в моей голове произошла революция, за
мной следили особенно внимательно: с меня не спускали
глаз, о каждом моем шаге доносили, каждое мое слово
взвешивалось. Со мной сближались, стараясь выведать,
что со мной; меня расспрашивали, выражали притворное
соболезнование и дружбу; вспоминали мою прошлую
жизнь; меня журили и извиняли; надеялись на мое лучшее
поведение, сулили мне более приятное будущее, а между
тем под разными предлогами то и дело входили в мою
келью днем и ночью, входили внезапно, неслышно, отдер-
гивали полог кровати и удалялись. У меня выработалась
330
привычка спать одетой; у меня завелась другая — писать
свою исповедь. В установленный день я пошла попросить
чернил и бумаги у настоятельницы,— она не отказала мне
в этом. Я ждала исповеди, а покамест обдумывала предпо-
лагаемую записку,— это было краткое изложение того, что
я вам написала, только в моем рассказе фигурировали
вымышленные имена. Но я допустила три оплошности:
во-первых, сказала настоятельнице, что мне надо о многом
написать, и попросила у нее под этим предлогом больше
бумаги, чем полагается; во-вторых, занялась своей запис-
кой и забросила исповедь и, в-третьих, не помышляя ни о
какой исповеди и совершенно не приготовившись к этому
обряду, оставалась в исповедальне не более минуты. Все
это было замечено; отсюда заключили, что выпрошенная
мною бумага была использована не так, как я говорила.
По если я, очевидно, не воспользовалась ею для исповеди,
то на что же я ее употребила?
Не зная о поднявшейся тревоге, я сознавала, что запис-
ку такого важного содержания необходимо скрыть от
посторонних глаз. Сначала я думала зашить ее в подушку
или в матрац, затем спрятать в своей одежде, зарыть
в саду, бросить в огонь. Вы не поверите, как я спешила
писать и в каком затруднительном положении очутилась,
когда кончила. Сначала я запечатала свою записку, затем
спрятала ее у себя на груди и пошла в церковь, когда
ударили в колокол. Я испытывала беспокойство: оно про-
глядывало в моих движениях. Я села рядом с молодой мо-
нахиней, любившей меня; я видела не раз, что она смотрит
па меня с жалостью и плачет; она не говорила со мной ни
слова, но, конечно, страдала. Рискуя всем, что могло про-
изойти от этого, я решила доверить ей свою рукопись; во
время чтения молитвы, когда все монахини стоят на коле-
нях и, невидимые в местах для сидения, кладут земные по-
клоны, я потихоньку вытащила рукопись и протянула ей;
она взяла ее и спрятала у себя па груди. Эта услуга была
самой важной из всех, какие она мне оказала, а она ока-
зала мне их немало. В продолжение многих месяцев эта
монахиня старалась, не выдавая себя, устранять все мел-
кие препятствия, которые изобретались, чтобы помешать
мне исполнять свои обязанности и иметь право наказывать
меня: стучала в дверь моей кельи, когда надо быЛо выхо-
дить; исправляла то, что портили, шла звонить или отве-
331
чать, когда это было надо, находилась везде, где должна
была быть я. Ничего этого я не знала.
Хорошо, что я приняла это решение. Когда мы сошли
с хор, настоятельница сказала мне: «Сестра Сюзанна;
следуйте за мной»... Я пошла за ней; она остановилась в
коридоре перед другой дверью и промолвила: «Вы перей-
дете в эту келью; вашу займет сестра Иеремия»... Я вошла
вместе с нею. Обе мы сидели молча, как вдруг появилась
монахиня с одеждой и положила ее на стул. Настоятель-
ница сказала: «Сестра Сюзанна, разденьтесь и наденьте
эту одежду»... Я исполнила это в ее присутствии, между
тем как она внимательно следила за моими движениями.
Сестра, принесшая мне одежду, осталась за дверью; она
снова вошла, собрала ту, которую я сняла, и вышла; на-
стоятельница последовала за ней. Мне не объяснили при-
чины этих действий, и я не спросила о ней. Тем временем
обыскали мою келью, распороли подушку и матрацы,
переставили все, что можно было или что я могла переста-
вить, побывали везде, где только ступала моя нога, ходили
в исповедальню, в церковь, в сад, к колодцу, к каменной
скамье; я видела часть этих поисков и догадалась об
остальном. Не нашли ничего, тем не менее остались твердо
убежденными, что что-то было. В течение нескольких дней
продолжали шпионить за мной: шли туда, куда я, под-
сматривали везде, но тщетно. Наконец, настоятельница
пришла к заключению, что истину можно узнать только от
меня самой. Однажды она вошла в мою келью и сказала:
— Сестра Сюзанна, у вас есть недостатки, но вы не
лгунья,— скажите же мне правду: что вы сделали со всей
той бумагой, которую я дала вам?
— Я сказала вам это, матушка.
— Этого не может быть, ибо вы выпросили у меня
много бумаги, а сами пробыли какую-нибудь минуту в
исповедальне.
— Это правда.
— Что же вы сделали с бумагой?
— То, что я вам сказала.
— Ну, так поклянитесь мне святым послушанием, ко-
торое вы обещали богу, что эта правда, и, вопреки оче-
видности, я поверю вам.
— Матушка, вам не дозволено требовать клятвы по
332
какому ничтожному поводу, а мне не дозволено давать ее.
Я не могу поклясться.
— Вы обманываете меня, сестра Сюзанна, и сами не
знаете, чему подвергаетесь. Что сделали вы с бумагой, ко-
торую я дала вам?
— Я сказала вам это.
— Где она?
— У меня ее больше нет.
— Что вы сделали с ней?
— То, что делают с исписанной бумагой, которая не
нужна больше, после того как ее используют.
— Поклянитесь мне святым послушанием, что вся она
использована на вашу исповедь и что вы не имеете ее
больше.
— Повторяю вам, матушка, второе так же маловажно,
как и первое, и я не могу дать клятвы.
— Клянитесь,— сказала она,— или...
— Я не поклянусь ни в коем случае.
— Ни в коем случае не поклянетесь?
— Нет, матушка.
— Значит вы виноваты.
— В чем же я могу быть виновата?
— Во всем. Вы способны на все. Вы нарочно восхва-
ляли мою предшественницу, чтобы унизить меня; вы с
презрением относитесь к обрядам, которые она изгнала,
к правилам, которые она нарушала и которые я сочла
своим долгом восстановить; вы возмущали всю общину;
обходили устав; вносили раскол; не исполняли ни одной
из своих обязанностей; принуждали меня наказывать вас
и наказывать тех, кого вы совратили, а это было мне тя-
желее всего. Я могла бы самым суровым образом рас-
правиться с вами; я щадила вас, думая, что вы сознаете
свою вину, станете на путь, подобающий вашему званию,
и примиритесь со мной,— вы не сделали этого. Что-то не-
хорошее происходит в вашей душе, вы что-то замышляете;
благо монастыря требует, чтобы я знала ваши намерения,
и я узнаю их,— ручаюсь вам. Сестра Сюзанна, скажите
правду.
— Я сказала вам ее.
— Я уйду сейчас; бойтесь моего гнева... Вот я села;
даю вам еще минуту на размышление, ваши бумаги, если
они существуют...
333
— У меня их нет больше.
— Или клятву в том, что они содержали только вашу
исповедь.
— Я не могу дать клятвы...
Она помолчала, затем вышла и вернулась с четырьмя
своими фаворитками; у них был яростный и исступленный
вид. Я бросилась к их ногам, умоляя о милосердии. Они
кричали все разом: «Никакого милосердия, матушка, не
поддавайтесь жалости; пусть она отдаст свои бумаги или
же пребудет in pace *...». Я обнимала колени то одной, то
другой,— говорила им, называя их по именам: «Сестра
Агнеса, сестра Юлия, что я сделала вам? Почему вы воз-
буждаете против меня настоятельницу? Разве я так посту-
пала? Сколько раз прощала я вас? Вы это забыли. Вы
были виноваты, а за мной нет вины».
Настоятельница смотрела на меня, не двигаясь, и гово-
рила:
— Отдай свои бумаги, несчастная, или открой, что в
них.
— Матушка,— говорили они,— не требуйте у нее боль-
ше бумаг, вы слишком добры, вы ее не знаете,— это непо-
корная душа, ее можно привести к раскаянию только
крайними средствами; она навязывает их вам,— тем хуже
для нее.
— Матушка,— сказала я,— клянусь вам, что я не сде-
лала ничего, что могло бы оскорбить господа или людей.
— Я хочу не этой клятвы.
— Она написала записку старшему викарию архи-
епископа против пас, против вас. Одному богу известно,
как она расписала порядки монастыря; дурному легко ве-
рят. Матушка, надо расправиться с этой тварью, если вы
не хотите, чтобы она помыкала нами.
Настоятельница прибавила:
— Сестра Сюзанна, видите...
Я порывисто поднялась и сказала ей:
— Матушка, я все вижу, я чувствую, что погибаю; но
об этом не стоит думать, не все ли равно, минутой раньше,
минутой позже. Делайте со мной, что вам угодно, вни-
майте их ярости, творите несправедливость...
И я тут же протянула им руки. Спутницы настоятель-
* В мире (лат.) — иносказательно, в данном случае в смысле:
в карцере.
334
ницы схватили их.. С меня сорвали покрывало, бесстыдно
содрали одежду. На груди у меня нашли маленький порт-
рет прежней настоятельницы, в него впецились; я умоляла
позволить мне еще раз поцеловать его,— мне отказали.
Мне швырнули рубаху, сняли чулки, накинули мешок и по-
вели по коридорам босиком, с непокрытой головой. Я кри-
чала, звала на помощь, но звонили в колокол, чтобы никто
не показывался. Я взывала к небу, бросалась на пол. Меня
волочили. Когда я очутилась внизу лестницы, мои ступни
были окровавлены, а голени покрыты синяками, я была в
таком состоянии, что могла бы тронуть каменные души.
Тем не менее открыли громадным ключом дверь малень-
кого темного подземелья, куда меня бросили на цыновку,
полусгнившую от сырости. Там я нашла кусок черного
хлеба, кувшин с водой и кое-какую необходимую посуду
грубой работы. Подвернутый конец цыновки заменял по-
душку; на каменной глыбе стояли череп и деревянное рас-
пятие. Первой моей мыслью было покончите с собой: я
хваталась руками за горло, раздирала одежду зубами,
испускала страшные крики, выла, как дикий зверь, колоти-
лась головой об степы, я была вся в крови, я старалась
убить себя, пока не выбилась из сил, что не заставило себя
ждать. Трое суток пробыла я там; я думала, что меня за-
ключили туда па всю жизнь. Каждое утро какая-нибудь
из моих мучительниц приходила и говорила мне:
— Подчинитесь нашей настоятельнице и вы выйдете
отсюда,
— Я ничего не сделала и не знаю, чего от меня хотят.
Лх, сестра Клеман, подумайте о боге!..
На третий день, в девять часов вечера, дверь отвори-
лась; это были те же самые монахини, которые привел)!
меня сюда. Воздав хвалу доброте нашей настоятельницы,
они объявили мне, что она смилостивилась надо мной и
что они пришли выпустить меня па свободу.
— Слишком поздно,— сказала я,— оставьте меня
здесь, я хочу здесь умереть.
Тем не менее они подняли меня и поволокли в мою
келью, где находилась настоятельница.
— Я обратилась к богу за советом относительно вашей
участи; он тронул мое сердце, он хочет, чтобы я сжалилась
над вами, я повинуюсь его воле. Преклоните колена и про-
сите у него прощения.
335
Я опустилась на колени и сказала:
— Господи, прошу тебя, прости меня за совершенные
мною грехи, как ты просил на кресте за меня.
— Какая гордыня! — воскликнули монахини,— она
сравнивает себя с Иисусом Христом, а нас — с иудеями,
распявшими его.
— Оглянитесь лучше на себя,— сказала я,— и тог-
да судите.
— Кроме того,— сказала настоятельница,— покляни-
тесь мне, что вы никогда не будете говорить о том, что
произошло.
— Значит, вы поступили очень дурно, раз требуете от
меня клятвенно обещания хранить молчание. Никто, кро-
ме вашей совести, не узнает ничего, клянусь вам в этом.
— Вы клянетесь в этом?
— Да, клянусь вам.
После этого с меня стащили рубище и позволили на-
деть мою прежнюю одежду.
Я простудилась в сыром подземелье; я была на краю
гибели; все мое тело было в синяках; кроме нескольких
капель воды и кусочка хлеба я ничего не ела за все эти
дни. Хотелось верить, что это гонение будет последним.
Я поправилась в самое короткое время. Мимолетное дейст-
вие этого жестокого потрясения показало, сколько сил за-
ложено природой в молодом существе, и когда я снова по-
явилась, оказалось, вся община была убеждена в том, что
я была больна. Я снова вошла в монастырскую келью и
заняла свое место в церкви. Я не забыла ни о своей руко-
писи, пи о молодой сестре, которой ее доверила; я была
уверена, что она добросовестно хранит ее, но что это при-
чиняет ей беспокойство. Несколько дней спустя по вы-
ходе из тюрьмы, на хорах, в тот самый момент, в какой я
отдала ей рукопись, то есть когда мы становимся па коле-
ни и наклоняемся одна к другой, исчезая среди скамей, я
почувствовала, что меня потихоньку тянут за платье; я
протянула руку, и мне дали записку, содержавшую лишь
следующие слова: «Как я беспокоюсь! Что мне делать с
этими ужасными бумагами»... Прочтя это, я скатала за-
писку в руках и проглотила. Все это происходило в начале
великого поста. Приближалось время, когда из Парижа
прибывает в Лоншаи много разной публики, привлеченной
желанием послушать церковное пение. У меня был пре-
336
красный голос; он почти не пострадал. В монастырях не
упускают ни малейшей выгоды. Мне были сделаны неко-
торые послабления: я стала пользоваться несколько боль-
шей свободой; сестры, которых я обучала пению, могли
подходить ко мне, не опасаясь последствий,— в числе их
была и та, которой я доверила свою записку. В свободные
от занятий часы, которые мы проводили в саду, я отвела
ее в сторону и попросила спеть; и в то время, как она пела,
я сказала ей следующее:
— У вас много знакомых мирян, я же не знакома ни с
кем. Я не хотела бы компрометировать вас и предпочла бы
умереть здесь, чем навлечь на вас подозрение, что вы ока-
зываете мне услуги,— вы погибли бы, друг мой, я знаю
это, а меня это не спасло бы, и если бы даже ваша гибель
спасла меня, то, я, конечно, не пожелала бы своего спасе-
ния такой ценой.
— Оставим это,— сказала она,— в чем дело.
— Надо передать через верное лицо этот запрос ка-
кому-нибудь искусному адвокату, причем должно ос-
таться неизвестным, из какого монастыря этот запрос, и
получить ответ, который вы мне передадите в церкви или
в другом месте.
— Кстати,— сказала она,— что сделали вы с моей за-
пиской?
— Не беспокойтесь, я проглотила ее.
— Не беспокойтесь и вы, я позабочусь о вашем деле.
Надо заметить сударь, что я пела, покамест она гово-
рила, а она пела в то время, как я отвечала ей; наш раз-
говор прерывался фиоритурами. Эта молодая особа, су-
дарь, находится еще в монастыре; ее счастье в ваших ру-
ках; если откроют, что она делала для меня, то нет таких
мучений, которым бы она не подверглась. Я не хотела бы,
чтобы из-за меня разверзлась перед ней дверь темницы,
и предпочла бы сама войти туда. Сожгите же эти письма,
сударь; лишь бы вы не утратили проявленного вами инте-
реса к моей судьбе, а они не содержат ничего, из-за чего
стоило бы хранить их.
Вот что я говорила вам тогда, но, увы, ее нет более, я
осталась одна...
Она сдержала слово без промедления и уведомила
меня нашим обычным способом. Наступила страстная не-
деля; к вечерней службе стеклось в монастырь много на-
337
роду. Я пела настолько хорошо, что вызвала шумные скан-
дальные аплодисменты, которыми награждают ваших ко-
медиантов в зрительных залах и которые не должны были
бы никогда раздаваться в храмах господних, особенно в
течение торжественных и скорбных дней, когда чествуют
память сына божия, распятого на кресте ради искупления
преступлений рода человеческого. Мои молодые ученицы
были хорошо подготовлены; у некоторых был хороший го-
лос; исполнение почти всех отличалось выразительностью
и вкусом, и мне показалось, что публика слушала их с
удовольствием и что монастырская община была удовле-
творена успехом, достигнутым благодаря моим стараниям.
Вы знаете, сударь, что в чистый четверг переносят свя-
тые дары из дарохранилища на особый престол, где они
остаются до утра пятницы. В этот промежуток монахини
приходят поклониться святым дарам, направляясь к алта-
рю одна за другой или парами. Вывешивается табличка,
указывающая каждой ее час; с какой радостью прочла я
там:«Сестра Сюзанна и сестра Урсула с двух до трех часов
утра»! Я отправилась к алтарю б назначенный час; моя
подруга была уже там. Мы поместились друг подле друга
на ступенях алтаря; вместе простерлись ниц и молились
богу в течение получаса. По прошествии этого времени мо-
лодая подруга протянула мне руку и пожала мою со сло-
вами:
— Нам, может быть, никогда не представится более
случая беседовать так долго и так свободно; богу изве-
стно, в какой неволе мы живем, и он простит нас, если
мы используем часть времени, которое обязаны отдать ему
целиком. Я не читала вашей записки, но нетрудно дога-
даться, что она содержит. Я в самом скором времени жду
ответа. Но если этот ответ уполномочит вас предпринять
дальнейшие шаги для расторжения обета, то не кажется ли
вам, что необходимо будет посоветоваться с юристами?
— Правильно.
— Что вы будете нуждаться в свободе?
— Правильно.
— Что вы хорошо сделаете, если воспользуетесь тепе-
решними настроениями, чтобы обеспечить ее себе?
— Я думала об этом.
— Итак вы это сделаете?
— Там будет видно.
338
— Кроме того, если ваше дело начнется, то на вас об-
рушится ярость всей общины. Предвидели ли вы гонения,
ожидающие вас?
— Они будут не больше тех, которым я подвергалась.
— Не берусь судить.
— Извините. Прежде всего не осмелятся посягать на
мою свободу.
— Почему же?
— Потому что тогда я буду под покровительством за-
кона; мне придется предстать перед судом, я окажусь, так
сказать, между миром и монастырем; уста мои не будут
скованы, я смогу свободно жаловаться и всех вас призову
в свидетели; не осмелятся чинить несправедливости, на ко-
торые я могла бы пожаловаться, поостерегутся придать
делу дурной оборот. Если будут обращаться со мной
плохо, то мне только этого и надо, но этого не случится,
будьте уверены, я поведу себя совершенно иначе. Будут
упрашивать меня, изображать мне весь тот вред, который
я причиню себе самой и монастырю, и вы увидите, что к
угрозам перейдут только тогда, когда убедятся, что ни
кротость, ни соблазны не достигают цели,— не позволят
себе прибегнуть к насилию.
— Трудно поверить, что вы питаете такое отвращение
к монашеству: вы так легко и так добросовестно испол-
няете свои обязанности.
— Однако я чувствую это отвращение, я родилась с
ним, и оно меня не покинет. Я кончила бы тем, что стала
бы плохой монахиней; надо предупредить наступление
этого часа,
— Но если, к несчастью, вы окажетесь побежденной в
борьбе?
— Если я буду побеждена, то попрошу перевести меня
в другой монастырь или же умру в этом.
— Прежде чем умереть, придется много перестрадать.
Ах, друг мой, ваш поступок заставляет меня содрогаться;
я трепещу, думая, что обет не будет расторгнут. Что ста-
нется с вами в случае расторжения? Что будете делать вы
в миру? Вы обладаете красивой наружностью, умом, та-
лантами, но, говорят, это не ведет на стезю добродетели,
а я знаю, что вы не сойдете с этой стези.
— Вы отдаете мне должное, но не отдаете должного
339
добродетели,— на нее одну я уповаю. Чем реже она среди
людей, тем больше ее надо чтить.
— Ее восхваляют, но ничего не делают ради нее.
— Она ободряет и поддерживает меня в моих планах.
Как бы ни корили меня, отдадут должное моей нравствен-
ности. Обо мне не скажут, по крайней мере, как о боль-
шинстве других, что я покидаю монашество, увлеченная
греховной страстью: я не вижу никого, я незнакома ни с
кем. Я прошу дать мне свободу, так как пожертвовала
своей свободой против волн. Прочли ли вы мою записку?
— Нет, я вскрыла пакет, который вы мне дали, так как
он был без адреса, и я, естественно, думала, что он пред-
назначается мне; но с первых же строк увидела, что ошиб-
лась, и не стала читать дальше. Как хорошо, что вам при-
шло в голову отдать его мне, минутой позже его нашли бы
у вас... По срок нашего моления кончается, повергнемся
ниц; пусть те, которые придут нам па смену, найдут нас
в том положении, в каком нам подобает быть. Просите
бога просветить вас и наставить на путь истины, я присо-
единю свою молитву и свои воздыхания к вашим.
У меня стало немного легче на душе. Моя подруга мо-
лилась стоя, а я — повергнувшись ниц; лоб мой касался
последней ступени алтаря, а руки были распростерты на
верхних ступенях. Кажется, я никогда не обращалась к
богу с таким жаром, никогда не находила в молитве такого
утешения, сердце мое трепетало, я мгновенно забыла окру-
жающее. Не знаю, сколько времени я оставалась в таком
положении, сколько времени осталась бы еще, но, вероят-
но, я представляла очень трогательное зрелище для своей
подруги и для двух пришедших на смену монахинь. Я под-
нялась, думая, что я одна,— я ошиблась: они стояли за
мной все три и проливали слезы, не решаясь прервать меня
и ожидая, когда я выйду сама из состояния восторженного
порыва, в котором они меня видели. Когда я обернулась
к ним, мое лицо было несомненно очень выразительно,
судя по впечатлению, которое оно произвело на них. По
их словам, я походила тогда на нашу прежнюю настоя-
тельницу в те минуты, когда она утешала нас; своим ви-
дом я вызвала в них тот же трепет. Если бы я имела ка-
кую-либо склонность к лицемерию или фанатизму и хотела
бы играть роль в монастыре, то нисколько не сомневаюсь,
что это удалось бы мне. Душа моя легко воспламеняется,
340
доходит до экстаза; умиляется; и эта добрая монахиня го-
ворила сотни раз, обнимая меня, что никто не любит бога
так, как я, что мое сердце из плоти, а у других из камня.
Верно то, что я с чрезвычайной легкостью заражалась ее
экстазом; когда она громко молилась, я, бывало, также на-
чинала говорить, следуя за нитью ее мыслей и иной раз на-
талкиваясь, как бы по вдохновению, на то, что сказала бы
она сама. Другие слушали ее молча или повторяли вслед
за ней, я же прерывала ее, опережала или говорила вместе
с нею. Я очень долго сохраняла полученное впечатление и,
очевидно, давала ей что-то от себя, ибо можно было заме-
тить, что если на других отражались беседы с нею, то на
ней отразились беседы со мною. Но какое это имеет значе-
ние, когда нет призвания?.. Наше моление кончилось, мы
уступили место пришедшим нам на смену; я очень нежно
обнялась со своей молодой подругой, прежде чем рас-
статься.
О сцене у алтаря заговорили в монастыре; прибавьте
к этому успех нашей вечерней службы в святую пятницу:
я пела, играла на органе, мне аплодировали. Какие взбал-
мошные головы у монахинь! Мне ничего не стоило восста-
новить мир со всей общиной,— передо мной заискивали,
настоятельница первая. Некоторые из мирян искали моего
знакомства; я не отказывалась: это вполне соответство-
вало моим планам. Я виделась с г-ном старшим предсе-
дателем, с г-жой де-Субиз, со множеством почтенных лю-
дей, монахов, священников, военных, судейских, набож-
ных женщин, светских дам; среди них попадались верто-
прахи, которых вы называете «красными каблуками», но
я не замедлила их выпроводить. Я поддерживала только те
знакомства, которые не могли вызвать нареканий, предо-
ставляя другие тем из наших монахинь, которые не были
так строги.
Я забыла сказать вам, что первым знаком благоволе-
ния ко мне было мое водворение в моей келье. Я осмели-
лась попросить обратно портрет нашей прежней настоя-
тельницы,— у них нехватило смелости мне отказать; порт-
рет этот занял место у моего сердца и останется там,
пока я жива. Каждое утро я первым делом возношусь
мысленно к богу, затем целую портрет; когда я хочу мо-
литься и чувствую, что душа моя холодна, я снимаю его
с шеи, ставлю перед собой, смотрю на него, и он вдохнов-
341
ляет меня. Очень жаль, что мы не знали лично святых, изо-
бражения которых выставляются для поклонения; они
производили бы на нас совсем иное впечатление, мы не
оставались бы, повергнувшись ниц или стоя перед ними,
такими холодными, какими бываем обычно.
Я получила ответ на свою памятную записку. Ответ —
от некоего г-на Манури — был неопределенным. Чтобы
дать заключение по этому делу, ему требовалось множе-
ство разъяснений; их было трудно представить, не пови-
давшись лично,— поэтому я открыла свое имя и пригла-
сила г-иа Манури в Лопшан. Эти господа тяжелы на
подъем; тем не менее он приехал. Мы очень долго беседо-
вали и условились относительно переписки. Через надеж-
ных людей он должен был передавать мне свои запросы,
а я посылать ему ответы. Пока он вел мое дело, я, со своей
стороны, использовала время, чтобы завербовать сторон-
ников, заинтересовать своей участью и найти покровите-
лей. Я назвала себя, откровенно рассказала о своем пове-
дении в первой обители, где я жила, о всем, что выстра-
дала дома, о мучениях, которым меня подвергали в мо-
настыре, о демонстративном отказе в обители св. Марии,
о своем пребывании в Лоншане, о принятии послушниче-
ства, о пострижении в монашество, о жестоком обращении
со мной после того как я дала обет. Меня жалели, мне
предлагали помощь. Не пускаясь в дальнейшие объясне-
ния, я заручилась обещаниями выступить в мою пользу,
когда это понадобится. Мои хлопоты не выплыли наружу.
Я получила из Рима разрешение ходатайствовать о рас-
торжении обета. Немедленно после этого предстояло возбу-
дить дело, а в монастыре ничего не подозревали. Можете
себе поэтому представить изумление настоятельницы,
когда ей предъявили от имени сестры Марии — Сюзанны
Симонен протест против обета с просьбой разрешить снять
монашескую одежду и выйти из монастыря, чтобы распо-
лагать собой по своему усмотрению.
Я предвидела, что натолкнусь на противодействие раз-
ного рода,— со стороны законов, со стороны монастыря
и со стороны моих встревоженных шуринов и сестер. Они
владели всем семейным имуществом. Освободившись, я
могла бы потребовать у них возвращения значительной
доли. Я написала сестрам, умоляла их не чинить никаких
342
препятствий моему выходу, взывала к их совести, указы-
вая, что обет мой не был дан добровольно, предлагала им
подписать акт отказа от всех притязаний на наследство
отца и матери, пустила в ход все, чтобы убедить их, что
ни материальные соображения, ни страсть не являются мо-
тивами моего поступка. Я не возлагала никакой надежды
на их чувства: акт отказа от наследства, который я пред-
лагала им, оставался недействительным, будучи подписан
монахиней, а они нисколько не были уверены в том, что
я подтвержу его, когда буду свободна; и, кроме того,
удобно ли им было принимать мои предложения? Оста-
вить сестру без пристанища и без средств к жизни?
Воспользоваться ее имуществом? Что скажут в свете?
Если она попросит у них хлеба, то разве можно будет
отказать ей? Если ей придет фантазия выйти замуж,
то что за человек будет ее муж? А если у нее будут дети?..
Надо изо всех сил противиться этой опасной попытке... Вот
что они сказали себе и что они сделали.
Как только настоятельница получила мое судебное
прошение, она прибежала ко мне в келью:
— Как, сестра Сюзанна, вы хотите нас покинуть?
— Да, матушка.
— И вы собираетесь отказаться от своего обета?
— Да, матушка.
— Разве вы не дали его свободно?
— Пет, матушка.
— Кто же вас принуждал?
— Все.
— Ваш отец?
— Мой отец.
— Ваша мать?
— И она также.
— Почему же вы не объявили это у подножия алтаря?
— Я была в таком состоянии, что не помню даже, что
присутствовала там.
— Как можете вы так говорить?
— Я говорю правду.
— Как! Вы не слышали, как священник спрашивал
вас: «Сестра Сюзанна Симонен, даете вы богу обет послу-
шания, целомудрия и бедности?».
— Я не помню этого.
— Разве бы не ответили утвердительно?
343
— Я не помню этого.
— И вы воображаете, что вам поверят?
— Поверят мне или нет, но факт остается фактом.
— Дорогое дитя, если бы подобные предлоги выслуши-
вались, то к каким злоупотреблениям привело бы это! Вы
поступили необдуманно; вы поддались чувству мести; вы
затаили в сердце злобу из-за наказаний, которым вынуж-
дали меня подвергать вас; вы думали, что для расторже-
ния обета достаточно будет сослаться на них, вы ошибае-
тесь: ваш обет нерасторжим ни перед людьми, ни перед бо-
гом. Не забывайте, что нарушение клятвы — тягчайшее из
всех преступлений; вы уже совершили его в сердце своем,
а теперь собираетесь довести до конца.
— Я не нарушу никакой клятвы, я ни в чем не клялась.
— Если по отношению к вам была допущена какая-ни-
будь несправедливость, то разве она не была исправлена?
— Вовсе не эта несправедливость побудила меня при-
нять решение.
— А что же тогда?
— Отсутствие призвания, отсутствие свободы при про-
изнесении обета.
— Если вы не имели никакого призвания, если вас при-
нуждали, то почему же вы не сказали этого в свое время?
— А разве это помогло бы мне?
— Почему вы не обнаружили той же твердости, какую
проявили в монастыре св. Марии?
— Разве твердость зависит от нас? Я была тверда в
первый раз; во второй — не ведала, что творила.
— Почему вы не обратились к юристу? Почему вы не
протестовали? В вашем распоряжении были целые сутки,
чтобы взять обратно свой обет.
— Разве я знала что-нибудь об этих формальностях?
А если бы и знала, то разве я в состоянии была восполь-
зоваться ими? Хватило ли бы у меня на это сил? Неужели,
матушка, вы не заметили сами, что я была невменяема?
Если я призову вас в свидетели, поклянетесь ли вы, что я
была в здравом уме?
— Поклянусь!
— Тогда значит вы, матушка, а не я, нарушите клятву.
— Дитя мое, вы затеваете ненужную громкую историю.
Опомнитесь, заклинаю вас, подумайте о своих собствен-
344
ных интересах, об интересах монастыря; дела этого рода
никогда не обходятся без скандальных сплетен.
— Это не моя вина.
— Миряне злы; возникнут самые неблагоприятные по-
дозрения относительно вашего ума, вашего сердца, вашей
нравственности, подумают...
— Пусть думают, что хотят.
— Но скажите мне откровенно, если вы чем-нибудь
втайне недовольны, то, что бы это ни было, можно устра-
нить это.
— Я была и останусь всю жизнь недовольной положе-
нием монахини.
— Не воспользовался ли дух-искуситель, постоянно
расставляющий нам свои сети и ищущий нашей погибели,
слишком большой свободой, предоставленной вам с неко-
торого времени, чтобы внушить какое-нибудь греховное
влечение?
— Нет, матушка, вы знаете, что я не клянусь без
нужды. Призываю бога в свидетели,— мое сердце чисто,
оно никогда не знало никакого постыдного чувства.
— Это непостижимо.
— И тем не менее, матушка, нет ничего проще. У каж-
дого свой характер, у меня — свой; вы любите монастыр-
скую жизнь, а я ее ненавижу; вы получили от бога бла-
годать быть монахиней, а я лишена ее вовсе; вы погибли
бы, живя в миру, и уверены, что здесь обретете ваше спа-
сение; я погибла бы здесь и надеюсь спастись в миру; я
плохая монахиня и останусь такой.
— Почему же? Никто не исполняет лучше вас своих
обязанностей.
— Но это делается нехотя и с трудом.
— Тем больше ваша заслуга.
— Никто не может знать лучше меня, чего я заслужи-
ваю, и я принуждена признаться, что, подчиняясь всему, я
не заслуживаю ничего. Я устала быть лицемеркой: делая
то, что спасает других, я ненавижу себя и гублю свою ду-
шу. Короче говоря, матушка, по моему убеждению, истин-
ными монахинями являются только те, которых удержи-
вает здесь наклонность к затворничеству и которые
остались бы здесь, если бы вокруг них не было ни реше-
ток, ни стен, не позволяющих им уйти. Нехватает очень
многого, чтобы я принадлежала к их числу: мое тело
345
здесь, а сердце мое отсутствует, оно вне монастыря, и,
если бы пришлось выбирать между смертью и вечным
заточением, я, не колеблясь, предпочла бы умереть.
Таковы мои чувства.
— Как! Вы без угрызений совести оставите это покры-
вало, эти одежды, посвящающие вас Иисусу Христу?
— Да, матушка, так как я надела их, не размышляя
и не будучи свободна...
Я отвечала ей очень сдержанно, хотя мое сердце под-
сказывало совсем иное. Оно говорило мне: «О, если бы
я могла разорвать их и отбросить далеко прочь!..». Тем
не менее мой ответ сразил настоятельницу; она поблед-
нела, хотела говорить еще, но губы ее дрожали; она не
знала, что сказать. Я большими шагами ходила по келье,
а она восклицала:
— О господи! Что скажут наши сестры? О, Иисусе
Христе, смилостивься над нею! Сестра Сюзанна!
— Слушаю, матушка.
— Значит вы твердо решили? Вы хотите нас опозо-
рить, сделать нас притчей во языцех, а себя погубить!
— Я хочу выйти отсюда.
— По если вам не нравится наш монастырь...
— Монастырь, мое звание, монашество,— я не хочу
находиться в заточении ни здесь, ни в другом месте.
— Дитя мое, демон овладел вами: он возбуждает вас,
он говорит вашими устами, он вдохновляет вас,— воис-
тину это так; посмотрите, в каком вы состоянии.
Действительно, окинув себя взглядом, я увидела, что
мое платье в беспорядке; косынка с нагрудником съехала
назад, покрывало упало на плечи. Я была раздражена
словами этой злой настоятельницы, говорившей со мной
таким елейным тоном, и сказала ей с досадой:
— Нет, матушка, нет, я не хочу больше этой одежды,
я не хочу ее больше...
Я пыталась все же поправить свое покрывало; мои руки
дрожали; и чем больше я старалась привести его в поря-
док, тем больше оно сбивалось в сторону. Потеряв тер-
пение, я схватила его, сорвала с себя, бросила наземь и
осталась перед настоятельницей с одной повязкой на лбу
и с растрепанными волосами. Между тем, не зная, сле-
дует ли ей оставаться, она ходила по келье, говоря:
«О, Иисусе Христе! Она одержимая; воистину так,—
346
она бесноватая»... И лицемерка осеняла себя крестом
своих четок.
Вскоре я пришла в себя и почувствовала непристой-
ность своего поведения и неблагоразумие своих речей;
я постаралась привести себя в порядок, подобрала покры-
вало и снова надела его; затем, обращаясь к настоятель-
нице, сказала:
— Матушка, я не сумасшедшая и не бесноватая, я
стыжусь своей вспышки и прошу вас простить меня за
нее, но сами посудите, как мало подходит мне звание
монахини, и насколько права я, стараясь по мере сил из-
бавиться от него.
Она, не слушая меня, повторяла:
— Что будут говорить в миру? Что скажут наши
сестры?
— Матушка,— сказала я,— хотите избежать огласки?
Есть выход. Я нисколько не гонюсь за вкладом; един-
ственное, что я прошу, это дать мне свободу; я не заи-
каюсь о том, чтобы вы отворили мне двери; позаботьтесь
только, чтобы сегодня, завтра или когда-нибудь потом их
плохо сторожили и постарайтесь заметить мое исчезнове-
ние как можно позже...
— Несчастная! Что вы осмеливаетесь мне предлагать?
— Совет, который добрая и разумная настоятельница
должна была бы применять ко всем тем, для кого их
монастырь — тюрьма; а для меня монастырь в тысячу
крат более ужасная тюрьма, чем те тюрьмы, в которые
заключают преступников,-я должна или выйти из пего
или погибнуть в нем. Матушка,— сказала я ей торжествен-
ным тоном и твердо глядя на нее,— выслушайте меня: ес-
ли закон, к которому я обратилась, обманет мои ожида-
ния и чувство отчаяния, слишком хорошо знакомое мне,
толкнет меня... У вас есть колодец... есть окна в мона-
стыре... стены повсюду передо мной... можно разорвать
одежду... можно воспользоваться руками...
— Остановитесь, несчастная! Слушая вас, я содро-
гаюсь от ужаса. Как, вы могли бы...
— Я могла бы, за неимением того, что может сразу
оборвать муки жизни, отказаться от пищи,— каждый
волен пить и есть или ни до чего не дотрагиваться... Если
бы после того, что я вам сказала, случилось, что у меня
хватило бы мужества... а вы знаете, что у меня нет недо-
347
статка в нем и что иногда надо иметь больше мужества,
чтобы жить, чем для того, чтобы умереть... перенеситесь
мысленно на суд божий и скажите мне, кто из нас двух —
настоятельница или ее монахиня покажется ему более
виновной?.. Матушка, я не требую обратно и никогда ни-
чего не потребую от монастыря; избавьте меня от злодея-
ния, избавьте себя от долгих угрызений, давайте догово-
римся...
—Что вы задумали, сестра Сюзанна? Чтобы я нару-
шила первую из своих обязанностей, приложила руки
к преступлению, стала соучастницей святотатства!
— Настоящее святотатство, матушка, совершаю я
ежедневно, оскверняя презрением священные одежды,
которые ношу. Снимите их с меня, я недостойна их; велите
найти в деревне лохмотья беднейшей крестьянки, и пусть
монастырская ограда приоткроется предо мною.
— Куда же вы пойдете искать лучшего?
— Не знаю, куда я пойду, но плохо только там, где
бог не хочет нас, а бог не хочет меня здесь.
— У вас ничего нет.
— Верно, но нищета страшит меня меньше всего.
— Бойтесь разврата, в который она вовлекает.
— Мое прошлое — залог будущего. Если бы я хотела
слушать голос греха, я была бы свободна. Но если мне
суждено выйти из этого монастыря, то это будет или
с вашего согласия или с разрешения закона. Выбирайте
одно из двух...
Разговор этот был очень продолжителен. Вспоминая
его, я краснею от тех смешных и непристойных вещей,
которые я сделала и сказала, но этого уж не поправишь.
Настоятельница продолжала восклицать: «Что будут
говорить в миру! Что скажут наши сестры!» Но тут за-
звонил колокол, призывая нас в церковь, и мы расста-
лись. Она сказала мне, уходя:
— Сестра Сюзанна, вы пойдете в церковь; молите бога
тронуть ваше сердце и вернуть вам смиренномудрие, спро-
сите свою совесть и верьте тому, что она скажет вам,—
она не может не упрекать вас. Освобождаю вас от пения.
Мы вошли в церковь почти одновременно. Служба
кончилась; по окончании службы, когда все сестры готовы
были разойтись, настоятельница постучала по требнику
и остановила их.
348
— Сестры мои,— сказала ома,— призываю вас пасть
с подножию алтаря и молиться милосердному богу об
одной монахине, которую он покинул: она потеряла влече-
ние к монашеству, утратила благочестие и готова совер-
шить акт кощунственный в глазах господних и постыдный
в глазах людских.
Не могу описать вам всеобщего изумления; каждая,
не двигаясь, во мгновение ока окинула взглядом лица
своих товарок, стараясь распознать виновную по обнару-
женному ею замешательству. Все простерлись ниц и моли-
лись молча. По прошествии довольно значительного
времени настоятельница запела вполголоса «Veni, Crea-
tor» *, и все продолжали тихим голосом «Veni, Creator»,
затем, после второй паузы, настоятельница постучала по
пюпитру, и все вышли.
Представляете себе толки, поднявшиеся в монастыр-
ской общине: «Кто это? Кто она? Что она сделала? Что
она хочет сделать?»... Недолго ограничивались подозре-
ниями. О моем прошении заговорили в миру; я при-
нимала бесконечное число посетителей: одни упрекали
меня, другие являлись с советами; одни одобряли, другие
порицали. У меня было лишь одно средство оправдать
себя в глазах всех: для этого надо было посвятить их
в поведение моих родителей, а вы понимаете, какую осто-
рожность должна была я соблюдать в этом пункте. Я
могла открыться без утайки лишь некоторым лицам,
оставшимся искрение привязанными ко мне, и г-ну Ма-
нури, который вел мое дело. Я была напугана угрожав-
шими мне мучениями, и темница, куда меня уже раз
таскали, представилась моему воображению во всем своем
ужасе; мне была знакома ярость монахинь: я сообщила
свои опасения г-ну Мапури, и он мне сказал: «Вам нельзя
избежать всевозможных неприятностей, они у вас будут,
вы должны их ожидать, надо вооружиться терпением и
поддерживать себя надеждой, что они кончатся. Что ка-
сается темницы, то обещаю вам, что вы никогда туда боль-
ше не попадете,— я беру это на себя»... Действительно, не-
сколько дней спустя, он привез приказ настоятельнице
вызывать меня на свидания всякий раз, как от нее потре-
буют этого.
* Приди, создатель (лат.).
349
На следующий день, после церковной службы, общи-
не снова было предложено молиться за меня. Молились
молча и тихо повторяли тот же гимн, что и накануне.
Та же церемония на третий день, с той разницей, что
мне велели стоять посреди хор и читали молитвы
за умирающих, литании 1 святым с припевом «Ога
pro еа» *. Па четвертый день была разыграна глупая ко-
медия, обличавшая склонность настоятельницы к при-
чудам. В конце службы меня положили в гроб, посреди
хор, по бокам поставили подсвечники с кропильницей;
меня .покрыли саваном и отслужили панихиду, после
которой каждая монахиня, выходя, кропила меня свя-
той водой со словами «Requiescat in pace» **. Надо знать
монастырский язык, чтобы понять угрозу, заключав-
шуюся в последних словах. Две монахини сняли саван,
потушили свечи и оставили меня там, насквозь промок-
шую от воды,, которой они меня с таким злорадством
поливали. Одежда высохла на мне,— мне не во что было
переодеться. За этим унижением последовало другое.
Собралась община; на меня решено было смотреть, как
на отверженную, мой поступок рассматривался как ве-
роотступничество; всем монахиням запрещено было, под
страхом наказания, говорить со мной, помогать мне,
приближаться ко мне и даже дотрагиваться до вещей,
которыми я пользовалась. Эти приказания строго испол-
нялись. Наши коридоры узки; в некоторых местах двое
едва могут разойтись; если навстречу мне шла монахиня,
то она или повертывала обратно или прижималась к сте-
не, придерживая покрывало и одежду, чтобы я как-ни-
будь не задела ее своей. Если надо было что-нибудь
взять у меня, я клала этот предмет на пол, и его брали
тряпкой; если надо было что-нибудь дать мне, то это
швыряли. Когда, к несчастью, прикасались ко мне, то
считали себя оскверненными и шли к настоятельнице
исповедоваться и очиститься от греха. Говорят, что
лесть подла и низка,— она, кроме того, очень жестока
и очень хитра на выдумки, когда имеет в виду угодить,
изобретая мучения. Сколько раз вспоминала я слова
усопшей настоятельницы Мони: «Среди всех этих со-
* Молись за нее (лат.).
** Да почиет с миром (лат.).
350
здании, которых вы видите вокруг меня такими послуш-
ными, невинными, кроткими, нет почти ни одной, дитя
мое, почти ни одной, из которой я не могла бы сделать
дикого зверя,— странное превращение! И предрасполо-
жение к нему тем сильнее, чем моложе входят в келью и
чем меньше знают общественную жизнь. Эти слова удив-
ляют вас; да хранит вас господь от того, чтобы вы испы-
тали на себе заключающуюся в них истину! Сестра
Сюзанна, хорошей монахиней бывает лишь та, которая
хочет искупить в монастыре какой-нибудь большой
грех».
Я была отрешена от всех должностей. В церкви с
обеих сторон от меня оставляли по одному пустому си-
дению. В трапезной я занимала место за отдельным сто-
лом, мне не подавали кушаний, я принуждена была са-
ма ходить на кухню просить свою порцию; в первый раз
сестра-стряпуха крикнула мне:
— Не входите, идите прочь...
Я повиновалась.
— Что вам надо?
— Есть.
— Есть! Вы не достойны жить...
Иногда я уходила обратно и целые дни оставалась,
не имея ни крошки во рту; иногда я настаивала, и мне
ставили на порог кушанья, которые постыдились бы дать
скотине; я подбирала их, плача, и уходила. Если я подхо-
дила последней к двери на хоры, она оказывалась запер-
той; я преклоняла там колена и ждала конца службы.
Идя в сад, я наталкивалась на запертую калитку и воз-
вращалась в свою келью. Между тем силы мои слабели
от недостатка пищи, от плохого качества той, которую
я принимала, а еще больше от душевных мук, причиня-
емых мне этими бесконечными проявлениями бесчело-
вечности, и я почувствовала, что, если буду попрежнему
страдать, не жалуясь, то ни за что не дотяну до конца
своего процесса. Я решила поэтому переговорить с на-
стоятельницей; едва живая от страха, я, тем не менее,
потихоньку постучалась в ее дверь. Она отворила; уви-
дя меня, она отступила на несколько шагов, крича мне:
— Вероотступница, отойдите!
Я отошла.
— Еще.
351
Я отошла еще.
— Что вам нужно?
— Ни бог, ни люди не приговаривали меня к смер-
ти, поэтому я прошу вас, матушка, приказать, чтобы
мне дали жить.
— Жить! — сказала она, повторяя слова сестры-стря-
пухи,— разве вы достойны этого?
— Это известно одному богу; но предупреждаю вас,
что если меня не будут кормить, то я вынуждена буду жа-
ловаться тем, кто принял меня под свое покровительство.
Я нахожусь здесь только временно, пока решается моя
судьба, мое пребывание в монашестве.
— Идите,— сказала она,— не оскверняйте меня свои-
ми взглядами; я приму меры...
Я ушла. Настоятельница захлопнула за мной дверь.
Она, повидимому, отдала приказание, но обо мне забо-
тились почти так же мало и видели заслугу в том, чтобы
не повиноваться ей: мне швыряли самые грубые блюда,
вдобавок испорченные золой и всякими нечистотами.
Такую жизнь вела я, покамест продолжался мой про-
цесс. Посещение приемной не было запрещено мне. Не
могли лишить меня права беседовать с судьями и с моим
адвокатом и все же он неоднократно был принужден при-
бегать к угрозам, чтобы добиться свидания со мной.
Тогда меня сопровождала сестра; она жаловалась, если
я говорила тихо; она выражала нетерпение, если
я оставалась слишком долго; прерывала меня, опровер-
гала, противоречила, повторяла мои слова настоятельни-
це, искажая их, придавая им злобный смысл, и даже вы-
думывала такие, каких я вовсе не произносила; нагова-
ривала бог весть что. Дошли до того, что обкрадывали
меня, обирали, уносили мои стулья, одеяла, матрацы; мне
не давали больше чистого белья; одежда моя изорва-
лась; я оставалась почти без чулок и без обуви. Я с тру-
дом доставала воду: несколько раз я принуждена была
сама ходить за ней к колодцу, к тому колодцу, о котором
я говорила вам раньше. Мою посуду перебили; тогда, не
имея возможности принести себе воды, я должна была
пить у колодца. Проходя под окнами, я вынуждена бы-
ла бежать — иначе я подвергалась опасности быть обли-
той нечистотами из келий. Некоторые сестры плевали
мне в лицо. Я стала ужасающе грязна. Боясь, как бы я не
352
пожаловалась нашим духовникам, мне запретили испо-
ведоваться.
Однажды, в большой праздник, кажется, это был
день вознесения, меня заперли на замок; я не могла пой-
ти к обедне; и, может быть, пропустила бы все церков-
ные службы, если бы меня не посетил г-н Манури, кото-
рому сначала сказали, что не знают, что со мной, что ме-
ня больше не видно, что я не исполняю своих христиан-
ских обязанностей. Однако, после отчаянных усилий, я
сломала замок и отправилась к двери на хоры,— она ока-
залась запертой, как это бывало и раньше, когда я не
приходила одной из первых. Я легла на землю, присло-
нясь головой и спиной к стене, скрестив руки на груди и
загородив телом проход; когда служба кончилась и у
выхода показались монахини, первая внезапно остано-
вилась; вслед за ней подошли другие; настоятельница
догадалась в чем дело и сказала:
— Шагайте по ней, ведь это труп.
Некоторые повиновались и топтали меня ногами, дру-
гие были менее бесчеловечны, но ни одна не осмелилась
протянуть мне руку и помочь встать. Пока я отсутствова-
ла, монахини унесли из моей кельи скамеечку для молит-
вы, портрет основательницы монастыря, иконы, распя-
тие; мне оставили только то, которое я носила на четках,
но и то не надолго. Итак, я жила между четырьмя голыми
стенами, в комнате без двери, без стула, лежа па соломе
или стоя, без самой необходимой посуды, вынужденная
выходить ночью для удовлетворения естественных по-
требностей, подвергаясь утром нареканиям за то, что я
нарушаю покой монастыря, шляюсь и схожу с ума. Моя
келья больше не запиралась, и в нее входили ночью с
оглушительным шумом, кричали, тащили мою постель,
били окна, заставляя меня переживать всевозможные
ужасы. Шум доносился до верхнего этажа, оглашал
нижний. Не участвовавшие в заговоре говорили, что в
моей комнате происходит что-то странное, что они слы-
шат зловещие голоса, крики, лязг цепей и что я разгова-
риваю с привидениями и с нечистой силой, что я, дол-
жно быть, продала душу чорту и что из моего коридора
надо бежать без оглядки.
В монастырских общинах есть слабоумные, их даже
очень много: они верили тому, что им рассказывали, и
353
не осмеливались проходить мимо моей двери. Я пред-
ставлялась их смятенному воображению чудовищем, они
осеняли себя крестным знамением, встречаясь со мной,
и убегали крича: « Отойди от меня, сатана! Господи, при-
ди ко мне на помощь!..» Как-то раз одна из самых моло-
дых была в конце коридора; я шла по направлению к
ней, и меня никак нельзя было избежать; неописуемый
ужас охватил ее. Сперва она повернулась лицом к стене,
бормоча дрожащим голосом: «Господи боже! Господи
боже! Иисус! Мария!..» Между тем я подходила. Когда
она почувствовала, что я около нее, она закрыла лицо
обеими руками, чтобы не видеть меня, кинулась в мою
сторону, бросилась в мои объятия, крича, как исступлен-
ная: «Ко мне! Ко мне! Милосердный боже! Я погибла!
Сестра Сюзанна, не причиняйте мне зла; сестра Сюзан-
на, сжальтесь надо мной»... С этими словами она грохну-
лась на пол полумертвая.
Сбежались на ее крики, унесли ее, и не могу вам ска-
зать, как извратили это происшествие,— из него сдела-
ли самую преступную историю. Сказали, что демон по-
рока овладел мной; заподозрили меня в намерениях, в
действиях, какие я не решаюсь назвать; бросившийся в
глаза беспорядок в одежде молодой монахини приписа-
ли моим чудовищным желаниям. Я не мужчина и, по
правде сказать, не знаю, что можно вообразить относи-
тельно двух женщин, находящихся вместе, а тем более
относительно женщины, когда она одна; однако, с крова-
ти моей сняли полог и в мою комнату входили во всякое
время. У этих женщин, должно быть, очень развращен-
ное сердце, несмотря на всю их внешнюю сдержанность,
скромность их взглядов, целомудренное выражение лиц;
по крайней мере, они знают, что в одиночестве можно
предаваться порокам, а я этого не знаю, я никогда даже
не понимала толком, в чем они меня обвиняют; они выра-
жались так туманно, что я никогда не знала, что им отве-
чать.
Я не кончу, если захочу описывать эти гонения во
всех подробностях. Ах, сударь, если у вас есть дети, то-
пусть моя судьба покажет вам, что вы им готовите, по-
зволяя вступить в монастырь без сильного и ярко выра-
женного призвания. Сколько несправедливости в мире!
Ребенку позволяют распоряжаться своей свободой в
354
возрасте, когда ему не разрешают распорядиться экю.
Лучше убейте свою дочь, но не запирайте ее в монастырь
вопреки ее воле, да, убейте ее. Сколько раз я жалела, что
мать не задушила меня при рождении! Она совершила
бы меньшую жестокость. Поверите ли, у меня отняли
молитвенник и запретили мне молиться богу! Вы, конеч-
но, понимаете, что я не повиновалась. Увы! Это было мое
единственное утешение; я поднимала руки к небу, испу-
скала крики и дерзала надеяться, что они будут услыша-
ны единственным существом, видевшим все мои беды.
У двери подслушивали; и однажды, когда я, желая облег-
чить сердце, обращалась к нему и призывала его на по-
мощь, я услышала голос:
— Вы напрасно призываете бога, для вас нет больше
бога; умрите в отчаянии и будьте прокляты...
Другие прибавили:
— Да свершится это над вероотступницей! Да свер-
шится это над нею!
Но вот характерный штрих, который покажется вам
еще гораздо более странным, чем все остальное. Не знаю,
злоба это или самообман; они начали толковать между
собой, не надо ли изгнать из меня бесов, хотя я не сде-
лала ничего, что указывало бы на расстройство умствен-
ных способностей, а тем более на душу, одержимую дья-
волом. Большинством голосов пришли к заключению, что
я отреклась от миропомазания и от своего крещения,
что демон вселился в меня и удаляет меня от богослуже-
ния. Одна прибавила, что при некоторых молитвах я
скрежещу зубами и содрогаюсь в церкви, что при подня-
тии святых даров я в досаде ломаю руки. Другая, что
топтала распятие ногами и не ношу больше четок
(у меня их украли), что я изрыгаю неповторимые бого-
хульства. Все в один голос твердили, что во мне происхо-
дит что-то неестественное, что надо довести об этом до
сведения старшего викария, и это сделали.
Старшим викарием был г-н Эбер, пожилой человек
с большим житейским опытом, резкий, но справедливый
и просвещенный. Ему подробно описали монастырские
неурядицы; верно то, что неурядицы были велики, но
если я и была им причиной, то вполне безвинной. Вы
несомненно догадываетесь, что не забыли упомянуть
в своем доносе о моих ночных хождениях, о моем отсут-
355
ствии на хорах, о шуме, происходившем у меня, о том,
что одна видела, а другая слышала о моем отвращении
к святыням, о моих богохульствах, о непристойных дей-
ствиях, в которых меня обвиняли; историю с молодой
монахиней чудовищно извратили. Обвинения были так
сильны и многочисленны, что, при всем своем здравом
смысле, г-н Эбер не мог не считаться с ними и не верить,
что в них много правды. Дело показалось ему настолько
важным, что он решил произвести расследование сам; он
известил о предстоящем посещении монастыря и, дей-
ствительно, прибыл в сопровождении двух молодых цер-
ковнослужителей, состоявших при его особе и облегчав-
ших его труды.
За несколько дней до этого, ночью, я услышала, что
кто-то тихо вошел ко мне в комнату. Я ничего не сказала,
ожидая, что со мной заговорят, и меня позвали тихим,
дрожащим голосом:
— Сестра Сюзанна, вы спите?
— Нет, я не сплю. Кто это?
— Это я.
— Кто вы?
— Ваш друг; я умираю от страха и подвергаюсь
опасности погибнуть, но хочу дать вам совет, хотя,
может быть, это ни к чему не поведет. Слушайте, завтра
или на-днях нас посетит старший викарий; вас будут об-
винять; приготовьтесь к защите. Прощайте, мужайтесь,
и да будет господь с вами.
Сказав это, она удалилась легче тени.
Вы видите, что всюду, даже в монастырях, есть со-
страдательные души, которых ничего не может очерствить.
Между тем процесс мой продолжался, вызывая боль-
шое возбуждение. Множество лиц обоего пола, всякого
звания и положения, с которыми я не была знакома, за-
интересовались моей судьбой и хлопотали за меня. Вы
были в числе их, и, может быть, история моего процесса
известна вам лучше, чем мне, потому что под конец я
не могла больше беседовать с г-ном Манури. Ему сказа-
ли, что я больна. Он заподозрил, что его обманывают и,
боясь, что меня бросили в темницу, обратился к архи-
епископу, где его не удостоили выслушать; там были
предупреждены, что я сумасшедшая, а, может быть, и
хуже. Он обратился к судьям, настаивая на исполнении
356
приказа, предписывающего настоятельнице по первому
требованию предъявлять меня живой или мертвой. Свет-
ские судьи взялись за церковных судей. Последние поня-
ли, какие последствия мог иметь этот инцидент, если бы
они не пошли навстречу, и это, видимо, ускорило посеще-
ние старшего викария. Этим господам надоели вечные мо-
настырские дрязги и, обыкновенно, они не торопятся вме-
шиваться в них, зная по опыту, что их всегда обходят
и подрывают их авторитет.
Я воспользовалась советом подруги, чтобы призвать
на помощь бога, ободрить свою душу и подготовиться
к защите. Я просила небо только об одной милости: быть
допрошенной и выслушанной беспристрастно. Я добилась
этого, вы сейчас узнаете, какой ценой. Если бы я была
заинтересована в том, чтобы предстать перед своим
судьей невиновной и в здравом уме, то настоятельнице
не менее важно было, чтобы я показалась злой, одержи-
мой демоном, виновной и безумной. Поэтому в то время,
как я удваивала усердие и молитвы, удвоили козни: меня
кормили так, чтобы я только не умерла от голода, дони-
мали жестокими испытаниями, старались запугать еще
больше, совершенно лишили ночного покоя, было пущено
в ход все, что может разрушить здоровье и вызвать рас-
стройство умственных способностей. Вы не можете себе
представить, какая это была утонченная жестокость. Су-
дите об остальном по следующему эпизоду.
Как-то раз я вышла из кельи, направляясь к церкви
или в другое место, и увидела на полу, поперек коридора,
каминные щипцы; я нагнулась, чтобы поднять их и поло-
жить так, чтобы потерявшая щипцы легко могла их
найти. Плохое освещение помешало мне заметить, что они
раскалены почти докрасна; я схватила их, но тотчас же
уронила; падая, они содрали всю кожу с моей ладони.
Ночью в тех местах, где я должна была проходить, нагро-
мождали предметы, чтобы я споткнулась, или же подве-
шивали, чтобы я ударилась о них головой. Я была сотни
раз ушиблена, не знаю, как я осталась жива. Мне нечем
было посветить себе, и я вынуждена была идти, вытянув
перед собой руки, дрожа от страха. Под ноги мне сыпали
битое стекло. Я твердо решила рассказать все это и почти
сдержала слово. Дверь уборной оказывалась запертой,
п я принуждена была спускаться с нескольких этажей
357
и бегать вглубь сада, когда калитка была открыта; когда
же она была заперта... Ах, сударь! Какие злые создания
женщины-затворницы, когда они твердо уверены, что
могут споспешествовать злостным замыслам своей на-
стоятельницы, и верят, что служат богу, доводя вас до
отчаяния! Но настала уже пора прибыть старшему вика-
рию, пора кончиться моему процессу.
Это самые страшные минуты моей жизни. Вы поду-
майте только, ведь я совершенно не знала, какими крас-
ками расписали меня в глазах этого священнослужителя.
Он прибыл, ожидая увидеть девушку, одержимую дьяво-
лом или притворяющуюся таковой. Задумали как можно
сильнее запугать меня, предполагая, что иначе я не про-
изведу такого впечатления, и вот что устроили, чтобы
вселить в меня ужас.
В день посещения старшего викария, рано утром, на-
стоятельница вошла ко мне в келью. Ее сопровождали
три сестры: одна несла кропильницу, другая распятие,
третья — веревки. Настоятельница сказала мне громким
и угрожающим голосом:
— Встаньте... преклоните колена и вверьте свою
душу богу.
— Матушка,— сказала я ей,— не могу ли я спросить
вас, прежде чем исполнить ваше приказание, что будег
со мной, что вы решили относительно меня и о чем я
должна просить бога?
Холодный пот выступил у меня на всем теле; я дро-
жала и чувствовала, что колени мои подгибаются; ч
с ужасом смотрела на трех роковых спутниц настоятель-
ницы. Они стояли, выстроившись в ряд; лица их были
мрачны, губы сжаты, глаза закрыты. Задавая вопрос,
я от страха останавливалась после каждого слова. Все
хранили молчание; думая, что меня не расслышали,
я снова начала последние слова этого вопроса, но была
не в силах повторить его целиком и сказала слабым, за-
мирающим голосом:
— О какой милости должна я просить бога?
Мне ответили:
— Просите его простить грехи всей вашей жизни;
просите его так, как если бы вам надлежало предстать
перед ним.
358
При этих словах я подумала, что они держали совет
и решили отделаться от меня. Я неоднократно слышала
рассказы, что это бывает иногда в некоторых мужских
монастырях, что там судят, осуждают и казнят. Я дума-
ла, что этот бесчеловечный суд никогда не применялся
ни в каком женском монастыре, но происходило столько
другого, о чем я не догадывалась раньше! Я хотела крик-
нуть при мысли о близкой смерти, но мой рот остался
открытым и не издавал никакого звука; я умоляюще про-
тянула к настоятельнице руки, и мое тело, обессилев,
повалилось назад; я упала, но не ушиблась. В минуты
такого смертельного страха, когда силы покидают нас,
руки и йоги незаметно отказываются служить и беспо-
мощно повисают,— природа, не будучи в состоянии под-
держивать себя, как будто хочет незаметно уничтожить-
ся. Я потеряла сознание, я была без чувств и слышала
только гул смутных и далеких голосов вокруг себя. Гово-
рили они или у меня звенело в ушах — я не различала
ничего, кроме этого несмолкаемого гула. Не знаю, сколь-
ко времени оставалась я в таком состоянии, но была
выведена из пего внезапным ощущением холода; я
вздрогнула, и у меня вырвался глубокий вздох. Я была
насквозь мокра; вода текла с моей одежды на пол,—
на меня опрокинули большую кропильницу. Я лежала
на боку, в луже этой воды, прислонясь головой к стене,
с полуоткрытым ртом и полумертвыми закрытыми глаза-
ми; я старалась открыть их и оглядеться, но мне показа-
лось, что я окутана густым воздухом, сквозь который я
видела только развевающиеся одежды; я старалась за
них ухватиться, но не могла. Я пошевелила той рукой,
на которую опиралась, хотела ее поднять, но она оказа-
лась слишком тяжелой. Моя крайняя слабость мало-по-
малу проходила. Я приподнялась, прислонилась спиной к
стене. Руки мои оставались в воде, а голова склонилась на
грудь; раздался нечленораздельный, прерывающийся, му-
чительный стон. Эти женщины смотрели на меня; их вид
выражал неотвратимость и непреклонность. У меня нехва-
тило духу молить их о пощаде. Настоятельница сказала:
— Поставьте ее на ноги.
Меня взяли под руки и подняли. Она прибавила:
— Она не хочет вверить себя богу, тем хуже для нее.
Вы знаете, что надо делать, кончайте...
359
Я подумала, что веревки принесли для того, чтобы
удавить меня; я посмотрела на них. Глаза мои наполни-
лись слезами. Я попросила дать мне поцеловать рас-
пятие, "мне отказали в этом. Я попросила разрешения
поцеловать веревки, мне поднесли их. Я наклонилась,
взяла нараменпик настоятельницы, поцеловала его и ска-
зала:
— Боже, сжалься надо мной! Боже, сжалься надо
мной! Дорогие сестры, постарайтесь не делать мне
больно.
И я подставила шею.
Не могу вам сказать, что было со мной и что со мной
делали. Те, кого ведут на казнь,— а я думала, что меня
казнят,— умирают, конечно, до казни. Я очутилась на
соломе, служившей мне постелью, руки мои были связа-
ны за спиной, я сидела с большим железным распятием
па коленях...
...Господин маркиз, я вижу, как много тяжелого я за-
ставляю вас переживать; по вы хотите знать, заслуживаю
ли я немного сострадания, которого жду от вас...
Тогда я почувствовала превосходство христианской
религии над всеми религиями мира. Сколько глубокой
мудрости в том, что слепая философия называет безумием
креста! В том состоянии, в каком я была, разве помогло
бы мне изображение счастливого и увенчанного славой
законодателя? Я видела праведника, с пронзенным боком,
с челом в терновом венце, с руками и йогами, пронзенны-
ми гвоздями, испускающего дух в страданиях, и говорила
себе: «Вот мой господь, а я осмеливаюсь жаловаться»...
Я прониклась этой мыслью и почувствовала, что утеше-
ние воскресает в моем сердце, я познала тщету жизни
и с великой радостью избавилась бы от нее прежде, чем
успела умножить свои грехи. Однако я сосчитала свои
годы, увидела, что мне едва минуло двадцать, и вздохну-
ла. Я была слишком слаба, слишком подавлена, чтобы
дух мой мог возвыситься над ужасом смерти. Будучи
вполне здоровой, мне кажется, я могла бы с большим
мужеством пойти на смерть.
Тем временем настоятельница и ее спутницы верну-
лись. Они нашли во мне больше присутствия духа, неже-
ли ожидали и хотели видеть. Они подняли меня на ноги,
спустили покрывало мне на лицо, две взяли меня под
360
руки, третья подталкивала сзади, и настоятельница при-
казала мне идти. Я пошла, не видя, куда иду, по думая,
что иду па казнь, и говорила: «Боже, сжалься надо мной!
Боже, поддержи меня! Боже, не покидай меня! Боже,
прости меня, если я оскорбила тебя!»
Я пришла в церковь. Старший викарий служил обед-
ню. Община была в полном сборе. Я забыла сказать вам,
что, когда я была в дверях, три сопровождавшие мона-
хини стали меня тискать, толкать изо всех сил, притво-
ряясь, что я доставляю им много хлопот: одни тащили
меня за руки, в то время как другие тянули назад; можно
было подумать, что я сопротивляюсь и ни за что не хочу
войти в церковь, однако не было ничего подобного. Меня
провели к ступеням алтаря; я едва держалась на ногах;
заставили стать на колени, употребляя силу, как будто
я отказывалась преклонить их; меня держали, как будто
я намеревалась убежать. Запели, выставили святые
дары, викарий благословил собравшихся. Во время бла-
гословения, когда молящиеся кладут поклоны, монахини,
державшие меня за руки, нагнули меня, как будто я со-
противлялась, а другие уперлись мне в плечи руками. Я
чувствовала эти различные движения, но нельзя было
догадаться, для чего они делаются,— наконец, все разъяс-
нилось.
После благословения старший викарий снял ризу и,
облаченный лишь в стихарь и епитрахиль, направился
к ступеням алтаря, где я стояла на коленях. Он шел
между двумя церковнослужителями, повернувшись спи-
ной к алтарю, на котором были выставлены святые дары,
а лицом ко мне. Он подошел и сказал:
— Сестра Сюзанна, встаньте.
Державшие меня сестры резким движением подняли
меня, другие окружили и держали, обняв рукой за талию,
словно боялись, как бы я не вырвалась. Старший викарий
прибавил:
— Развяжите ее.
Ему не повиновались; притворялись, что считают
неудобным или даже опасным оставлять меня на свобо-
де, но я сказала вам, что этот человек был резкого нрава:
юн повторил твердым и суровым голосом:
— Развяжите ее.
Его приказание исполнили.
361
Едва мои руки освободились, как я испустила жалоб-
ный, пронзительный стон, заставивший его побледнеть,
а ханжи-монахини, находившиеся подле меня, шарахну-
лись в сторону, словно объятые ужасом.
Старший викарий овладел собой. Сестры вернулись,
притворяясь, что дрожат. Я оставалась неподвижной,
и он сказал мне:
— Что с вами?
Вместо ответа я протянула ему обе руки. Веревка,
которой меня скрутили, врезалась почти целиком в тело,
и руки были совсем синие от застоя крови. Он понял, что
мой стон происходил от внезапной боли, вызванной вос-
становлением кровообращения, и сказал:
— Снимите с нее покрывало.
Покрывало, незаметно для меня, пришили в несколь-
ких местах и опять очень смутились и делали отчаянные
усилия. Это понадобилось только потому, что все это
было устроено нарочно. Хотели, чтобы я показалась свя-
щеннику преследуемой, одержимой дьяволом или безум-
ной. Между тем нитки вытащили в некоторых местах, в
других — покрывало или одежда разорвались, и я пред-
стала перед глазами всех.
У меня интересное лицо,— глубокая скорбь изменила
его, но черты остались те же; звук моего голоса трогает
душу, по выражению его чувствуется, что я говорю
правду. Все эти особенности, взятые вместе, произвели
сильное впечатление на молодых спутников старшего
викария, наполнив их сердца жалостью. Что касается
его, то он не знал этих чувств; справедливый, но мало
чувствительный, он был из числа тех, которые родятся
для того, чтобы осуществлять добродетель, но, к не-
счастью, не испытывают ее сладости. Они делают добро
из духа порядка, рассудочно. Он взял рукав своей епи-
трахилии и, возложив его мне на голову, сказал:
— Сестра Сюзанна, веруете ли в бога отца, сына
и святого духа?
Я ответила:
— Верую.
— Веруете ли вы в нашу матерь святую церковь?
— Верую.
— Отрекаетесь ли вы от сатаны и деяний его?
Вместо ответа я внезапно метнулась вперед, испу-
362
стив громкий крик, и конец его епитрахили отделился от
моей головы. Он смутился, его спутники побледнели,
одни из сестер убежали, а другие вскочили со своих ска-
мей в крайнем смятении. Он знаком велел им успокоить-
ся, однако смотрел на меня, ожидая чего-то необычай-
ного. Я успокоила его, сказав:
— Не беспокойтесь, отец мой, это одна из монахинь
сильно уколола меня чем-то острым.— И, поднимая гла-
за и руки к небу, я прибавила, заливаясь слезами:
— Меня ранили в ту минуту, когда вы спрашивали,
отрекаюсь ли я от сатаны и великолепия его, и мне ста-
ло ясно, почему...
Все протестовали устами настоятельницы, заявив-
шей, что до меня не дотрагивались.
Старший викарий снова возложил край своей епи-
трахилии мне на голову; монахини собирались подойти
ближе, но он знаком велел им удалиться и спросил меня
снова, отрекаюсь ли я от сатаны и деяний его; и я твердо
ответила ему:
— Отрекаюсь, отрекаюсь.
Он велел принести распятие и дал мне его поцело-
вать, и я поцеловала ступни, руки и рану в боку.
Он приказал мне громко славить господа; я постави-
ла распятие на землю и сказала, стоя на коленях:
— Господи, спаситель мой, ты умер на кресте за мои
грехи и за грехи всего рода человеческого, я поклоняюсь
тебе, спаси меня заслугой мук, которые ты принял, про-
лей на меня каплю крови, которой ты истекал, дабы я
очистилась ею. Прости меня, боже, как я прощаю всех
врагов своих...
Он сказал мне затем:
— Исповедуйте веру...—и я исполнила это.
— Исповедуйте любовь...—-и я исполнила это.
— Исповедуйте надежду...— и я исполнила это.
— Исповедуйте милосердие...—и я исполнила это.
Я совершенно не помню, в каких выражениях я это
делала, но, повидимому, они были полны чувства, ибо
я исторгла рыдания у некоторых монахинь, а два моло-
дых церковнослужителя пролили слезы и старший
викарий с удивлением спросил меня, откуда я извлекла
только что прочитанные молитвы.
363
Я сказала ему:
— Из глубины своего сердца,— это мои мысли и мои
чувства; призываю в свидетели бога, который внемлет
нам всюду и присутствует на этом алтаре. Я христианка,
я ни в чем не повинна; если я совершила какие-либо
грехи, то один бог знает их, и только он имеет право по-
требовать меня к ответу и наказать за них...
При этих словах старший викарий бросил грозный
взгляд на настоятельницу.
Закончилась остальная часть этой церемонии, где
хотели надругаться над величием божиим, оскорбить свя-
тыни и заставить служителя церкви принять участие в
недостойной комедии. Монахини удалились, остались
только настоятельница, я и молодые церковнослужители.
Старший викарий сел, достал докладную записку с об-
винением против меня и прочел ее громким голосом,
спрашивая меня по всем пунктам, заключавшимся в ней.
— Почему,— сказал он,— вы никогда не ходите на
исповедь?
— Потому что мне в этом препятствуют.
— Почему вы не причащаетесь?
— Потому что мне в этом препятствуют.
Настоятельница хотела заговорить; он сказал ей тем
же голосом:
— Молчите, сударыня... Почему вы выходите ночью
из своей кельи?
— Потому что меня лишили воды, унесли кувшин
с водой и посуду, необходимую для удовлетворения есте-
ственных потребностей.
— Почему ночью слышится шум в вашем коридоре
и в вашей келье?
— Потому что стараются лишить меня покоя.
Настоятельница опять хотела заговорить; он сказал ей
во второй раз:
— Я уже велел вам, сударыня, молчать,— вы отве-
тите, когда я спрошу вас... Какую это монахиню вырвали
из ваших рук и нашли лежащей навзничь на полу в ко-
ридоре?
— Это следствие ужаса, который внушили ей ко мне.
— Она ваша подруга?
— Нет, отец мой.
— Вы никогда не входили в ее келью?
364
— Никогда.
— Вы никогда не делали ничего непристойного ни
с нею, ни с другими?
— Никогда.
— Почему вас связали?
— Не знаю.
— Почему ваша келья не запирается?
— Потому что я сломала замок.
— Зачем вы его сломали?
— Чтобы открыть дверь и присутствовать на богослу-
жении в день вознесения.
— Значит, в этот день вы показались в церкви?
— Да, отец мой...
Настоятельница сказала:
— Батюшка, это неправда, вся община...
Я перебила ее:
— Удостоверит, что дверь на хоры была заперта, что
монахини нашли меня распростертой у этой двери и что вы
приказали им шагать по мне, что некоторые и сделали; но
я прощаю их и вас, матушка, за то, что вы приказали им
это; я пришла сюда не для того, чтобы обвинять кого-либо,
а для того, чтобы защищаться.
— Почему у вас нет ни четок, ни распятия?
— Потому что у меня отняли их.
— Где ваш молитвенник?
— У меня отняли его.
— Как же вы молитесь?
— Я молюсь сердцем и умом, хотя мне запрещено мо-
литься.
— Кто же вам запретил?
— Матушка...
Настоятельница собиралась опять заговорить.
— Сударыня,— сказал он ей,— правда или ложь, что
вы запретили ей молиться? Скажите: да или нет.
— Я думала, и я имела основание думать...
— Речь сейчас идет не об этом; запретили вы ей мо-
литься, да или нет?
— Я запретила ей, но...
Она хотела продолжать.
— Но,— возразил старший викарий,— но... Сестра Сю-
занна, почему у вас босые ноги?
— Потому что мне не дают ни чулок, ни обуви.
365
— Почему ваше белье и ваши одежды так ветхи
и грязны?
— Потому что уже более трех месяцев мне не дают
белья, и я принуждена спать одетой.
— Почему же вы спите в одежде?
— Потому что у меня нет ни полога, ни матрацев, ни
одеял, ни простынь, ни ночного белья.
— Почему же у вас нет их?
— Потому что у меня их отняли.
— Кормят ли вас?
— Я прошу об этом.
— Значит, вас не кормят?
Я молчала; он прибавил:
— Невероятно, что с вами обращаются так сурово,
если за вами нет какой-либо вины, которая заслуживает
наказания.
— Вина моя в том, что у меня нет никакого призвания
к монашеству и я хочу расторгнуть обет, данный мною
против воли.
— Дело закона решить это; и каков бы ни был при-
говор, покамест вы должны исполнять обязанности мона-
шеской жизни.
— Никто, отец мой, не исполняет их более неукосни-
тельно, нежели я.
— Вы должны находиться в таких же условиях, как
ваши товарки.
— Это все, чего я прошу.
— Жалуетесь ли вы на кого-нибудь?
— Нет, отец мой, я вам уже сказала: я пришла вовсе
не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы защитить
себя.
— Идите.
— Куда я должна идти, отец мой?
— В вашу келью.
Я сделала несколько шагов, затем вернулась и пала
к ногам настоятельницы и старшего викария.
— Ну, что такое?— сказал он.
Я показала ему голову, израненную в нескольких ме-
стах, свои окровавленные ступни, свои посинелые, измож-
денные руки, свою грязную и изорванную одежду и ска-
зала:
— Видите?
366
Я слышу ваш голос, господин маркиз, и голоса боль-
шинства тех, которые прочтут эти записки. «Такие много-
численные, разнообразные, непрерывные ужасы! Длинный
ряд таких изощренных жестокостей в душах монахинь!
Это невероятно»,— скажут они, скажете вы. Согласна
с этим, но это правда, и пусть небо, которое я призываю
в свидетели, осудит меня со всей строгостью и приговорит
меня к геене огненной, если я позволила клевете омрачить
даже самой легкой тенью хоть одну из моих строк! Хотя
я долго испытывала на себе, каким сильным стимулом для
врожденной испорченности является враждебность на-
стоятельницы, в особенности, когда эта испорченность
может вменять себе в заслугу свои злодеяния, рукоплес-
кать себе за них и хвастаться ими, но горькое чувство,
оставшееся в моей душе, нисколько не помешает мне быть
справедливой. Чем больше я размышляю об этом, тем
больше убеждаюсь в том, что случившееся со мной нико-
гда еще не происходило с другими и, может быть, никогда
не произойдет. Один раз (и дай бог, чтобы это было в пер-
вый и в последний раз!) угодно было провидению, пути
которого неведомы нам, сосредоточить на одной несча-
стной всю массу жестоких испытаний, распределенных,
в силу его непостижимых предначертаний, среди беско-
нечного множества обиженных судьбой, которые были ее
предшественницами в монастыре или должны будут войти
туда после нее. Я страдала, много страдала, но участь
моих гон тельниц кажется мне и всегда будет казаться
более достойной жалости, нежели моя. Я предпочитала
и предпочитаю умереть, но не меняться с ними ролями.
Мои муки кончатся,— я надеюсь на вашу доброту, а они
до последнего часа не избавятся от воспоминаний о соде-
янном, от стыда и угрызений совести. Они уже обвиняют
себя, не сомневайтесь в этом; они будут обвинять себя всю
свою жизнь, и ужас сойдет с ними в могилу. Тем не менее,
господин маркиз, мое настоящее положение плачевно,
жизнь мне в тягость. Я — женщина, я слаба духом, как
все женщины; бог может покинуть меня, я не чувствую
в себе ни силы, ни мужества переносить еще долгое время
то, что переносила до сих пор. Господин маркиз, бойтесь,
как бы ни наступил роковой час, когда глаза ваши будут
истекать слезами, оплакивая мою судьбу, когда вы будете
терзаться угрызениями совести, но это не выведет меня
367
из бездны, куда я упаду, она навсегда закроется над
впавшей в отчаяние.
— Можете идти,— сказал мне старший викарий.
Один из церковнослужителей подал мне руку, помогая
встать, и старший викарий прибавил:
— Я допросил вас, я допрошу вашу настоятельницу
и ни за что не выйду отсюда, пока порядок не будет вос-
становлен.
Я удалилась. Весь монастырь был в тревоге; все мона-
хини высыпали на порог своих келий; они переговарива-
лись с одной стороны коридора в другую. Как только я
появилась, они ушли к себе, и долго раздавалось громкое
хлопанье закрывавшихся одна за другою дверей. Я вошла
в свою келью, опустилась у стены на колени и просила
бога, памятуя сдержанность, с какой я говорила со стар-
шим викарием, открыть тому глаза па мою невиновность,
открыть ему истину.
В то время когда я молилась, старший викарий, оба
его спутника и настоятельница появились в моей келье.
Я сказала вам, что у меня не было ни коврика, ни стула,
пи скамеечки для молитвы, ни полога, ни матрацев, ни
одеял, ни простынь и никакой посуды; дверь не запира-
лась, в окнах не было почти ни одного целого стекла.
Я встала, старший викарий остановился как вкопанный
и сказал настоятельнице, гневно глядя на нее:
— Ну, что вы скажете, сударыня?
Она ответила:
— Я не знала.
— Вы не знали? Вы лжете! Не проходило дня без того,
чтобы вы не входили сюда, и разве не отсюда пришли вы
сегодня?.. Сестра Сюзанна, скажите, входила сюда сего-
дня настоятельница?
Я ничего не ответила; он не настаивал, но молодые
церковнослужители стояли, опустив руки, понурив головы
и устремив глаза в землю, своим видом достаточно обна-
руживая свое огорчение и изумление. Все вышли, и я слы-
шала, как старший викарий говорил настоятельнице в ко-
ридоре:
— Вы недостойны исполнять свои обязанности, вы
заслуживаете того, чтобы вас сместили. Я подам жалобу
368
монсеньеру. Пусть все это безобразие будет устранено до
того, как я выйду отсюда.
И, продолжая идти, он прибавил, покачивая головой:
— Это отвратительно и ужасно. Христианки! Монахи-
ни! Человеческие существа! Это отвратительно и ужасно.
После этого я не слышала больше никаких разговоров,
но мне принесли белье, другую одежду, занавески, про-
стыни, одеяла, посуду, мой молитвенник, мое священное
писание, четки, распятие, вставили стекла, словом урав-
няли со всеми монахинями; снова разрешили посещать
приемную, но только по делам.
Они шли плохо. Г-н Маиури подал первую докладную
записку,— она произвела мало впечатления.— Там было
много мудрствований, недостаточно чувства, аргументы
почти отсутствовали. Не надо возлагать всю ответствен-
ность на этого искусного адвоката. Я запретила ему кате-
горически задевать репутацию моих родителей. Я хотела,
чтобы он осторожно касался монашества и, в особенности,
монастыря, где я находилась. Я не хотела, чтобы он
изображал в слишком мрачных красках моих шуринов и
сестер. В мою пользу говорил только первый протест,
торжественный, правда, но сделанный в другом монасты-
ре и после ни разу не возобновленный. Когда ограничи-
вают свою защиту такими узкими рамками и имеют дело
с противниками, которые не останавливаются ни перед
чем, попирают правду и неправду без разбора, утвержда-
ют и отрицают с одинаковым бесстыдством, обвиняют, за-
подозривают, злословят и клевещут, не краснея, то трудно
одержать победу, в особенности в судах. Рутина и скука
мешают рассматривать сколько-нибудь тщательно даже
важнейшие дела, и па такие тяжбы, как моя, всегда смот-
рят косо из политических соображений, боясь, что, если
одной монахине удастся расторгнуть свой обет, то это по-
будит к тому же бесчисленное множество других. Втайне
чувствуют, что, если позволить дверям этих тюрем при-
открыться перед одной несчастной, то целая толпа их
устремится туда и попытается пробиться в них силой.
Стараются вызвать в нас упадок духа и покорность на-
шей судьбе, убивая всякую надежду на изменение ее.
Мне кажется, однако, что в благоустроенном государ-
стве следовало бы, наоборот, затруднять вступление в
369
монастырь и облегчить выход оттуда. И почему не при-
равнять этот случай ко многим другим, где малейшее
несоблюдение формальностей делает недействительной
процедуру, даже правильную в остальном? Разве мона-
стыри являются такой существенной принадлежностью
государственного устройства? Разве Иисус Христос учре-
дил институт монахов и монахинь? Разве не может цер-
ковь совершенно обойтись без него? Зачем жениху небес-
ному столько неразумных дев? И зачем нужно роду
человеческому столько жертв? Неужели никогда не пой-
мут, что необходимо сомкнуть зияющий зев этих пропа-
стей, где гибнут будущие поколения? Разве все избитые
молитвы, произносимые там, стоят хоть одного обола,
подаваемою из сострадания бедняку? Разве бог, создав-
ший общественного человека, одобряет затворничество?
Разве бог, создавший человека таким неустойчивым, та-
ким шатким, может санкционировать его опрометчивые
обеты? Разве могут эти обеты, противоречащие естествен-
ным влечениям природы, полностью соблюдаться когда-
либо кем-нибудь, кроме некоторых созданий с больным
организмом, в которых увяли семена страстей и которых
с полным правом можно было бы причислить к уродам,
если бы наши знания позволяли нам так же легко и хорошо
распознавать внутреннее строение человека, как и его
внешнюю структуру? Разве могут все эти мрачные обря-
ды, соблюдаемые при принятии послушничества и по-
стриге, когда посвящают мужчину или женщину мона-
шеской жизни, обрекая их на несчастье,— разве могут
они устранить отправления, общие человеку со всеми
животными? И не пробуждаются ли, наоборот, природные
инстинкты, благодаря молчанию, принуждению и празд-
ности, с силой, не известной мирянам, которых отвлекает
множество развлечений? Где можно видеть головы, осаж-
даемые нечистыми видениями, которые преследуют и
волнуют их? Где можно видеть это глубокое уныние, эту
бледность, эту худобу, все эти признаки чахнущей и дове-
денной до изнурения природы? Где ночи смущаются сто-
ками, а дни орошаются слезами, проливаемыми без при-
чины, которым предшествует необьяснимая грусть? Где
природа, возмущенная принуждением, для которого она
вовсе не создана, ломает противопоставляемые ей препят-
ствия, впадает в неистовство и вместо того, чтобы беречь
370
силы, бросает их в омут разврата, от которого нет спасе-
ния? В каком месте тоска и досада уничтожают все
общественные инстинкты? Где нет ни отца, ни брата, ни
сестры, ни родственника, ни друга? Где человек, считая
свое существование мимолетным и преходящим, относится
к самым нежным связям мира, как путник к встречным
предметам, не привязываясь к ним? Где гнездятся нена-
висть, отвращение и истерия? Где царствуют рабство и
деспотизм? Где никогда не угасает злоба? Где кишат
взлелеянные в молчании страсти? Где господствует жесто-
кость и праздное любопытство? «Не знают истории этих
убежищ,— говорил впоследствии г-н Манури в своей речи
на суде,— этой истории не знают». И он прибавил в другом
месте: «Давать обет бедности — значит обязываться клят-
вой быть лентяем и вором; давать обет целомудрия —
значит обещать богу постоянно нарушать самый мудрый
и самый важный из его законов; давать обет послуша-
ния— значит отказываться от неотъемлемого права чело-
века— от свободы. Кто соблюдает эти обеты, тот преступ-
ник. Монастырская жизнь — удел фанатиков или лице-
меров».
Одна девушка попросила у своих родителей разреше-
ния вступить в наш монастырь. Отец сказал ей, что он
согласен на это, но дает ей три года на размышление. Мо-
лодая девушка была полна религиозного рвения, и при-
каз показался ей суровым, однако пришлось подчиниться
отцу. Она осталась верна своему призванию, снова яви-
лась к отцу и сказала ему, что три года истекли. «Очень
хорошо, дитя мое, — ответил он,— я дал вам три года,
чтобы испытать вас, надеюсь, что вы согласитесь дать мне
столько же, чтобы принять решение»... Это показалось ей
еще гораздо более суровым; были пролиты обильные сле-
зы, но отец был человек твердый и настоял на своем. По
прошествии этих шести лет она вступила в монастырь,
стала монахиней. Она была хорошей монахиней, простой,
благочестивой, точной в исполнении своих обязанностей;
но случилось так, что духовники злоупотребили ее от-
кровенностью и донесли церковному суду о том, что про-
исходило в монастыре. Наше монастырское начальство
заподозрило ее. Ее заперли на замок, лишили возможно-
сти соблюдать религиозные обряды. Она сошла с ума,—
и какая голова могла устоять против преследований пяти-
371
десяти лиц, занятых с утра до вечера изобретением му-
чений? До этого ее матери расставили ловушку, хорошо
показывающую жадность монастырей. Матери этой за-
творницы внушили желание войти в монастырь и посетить
келью дочери. Она обратилась к старшим викариям, раз-
решившим ей это. Войдя в монастырь, она побежала к
келье своей дочки,— по каково было ее изумление, когда
взорам ее представились только четыре совершенно голых
стены! Оттуда все унесли. Рассчитывали на то, что эта
нежная и чувствительная мать не оставит свою дочь в
таком положении. Действительно, она снова обставила
келью, снабдила дочь новой одеждой и бельем, но заяви-
ла монахиням, что это любопытство обошлось ей слиш-
ком дорого, и она отказывается от повторения. Три-четы-
ре таких визита в год разорят братьев и сестер ее дочери...
Из тщеславия и в погоне за роскошью приносят в жертву
отдельных членов семьи, запирая их в монастырь, чтобы
обеспечить остальным более завидную судьбу; монасты-
ри— узилище, в которое ввергают отверженных. Сколь-
ко матерей, подобно моей, искупают одно тайное преступ-
ление другим.
Г-н Манури подал вторую докладную записку, имев-
шую несколько больший успех. Горячо взялись за хло-
поты. Я еще раз предложила своим сестрам оставить в
их полном и ненарушимом владении наследство родите-
лей. Был момент, когда мой процесс принял весьма благо-
приятный оборот, и я надеялась на свободу. Я жестоко
обманулась в этом. Мое дело разбиралось в суде и было
проиграно. Это стало известно всему монастырю, а я еще
не знала этого. Поднялись движение, суматоха, ликование,
шушуканье, бесконечные хождения монахинь к настоя-
тельнице и друг к другу. Я вся дрожала, не могла ни оста-
ваться в своей келье, пи выйти из нее. Ни одной подруги,
в объятия которой я могла бы броситься! Какое ужасное
утро пережила я в день суда! Я хотела молиться и не
могла; я преклонила колена, сосредоточилась, начала
молитву, но вскоре, вопреки своей воле, перенеслась мыс-
ленно к своим судьям: я видела их, слышала адвокатов,
обращалась к ним, прерывала своего, находила, что мое
дело плохо защищается. Я не была знакома ни с кем из
судей, тем не менее предо мной представали разные лица.
Одни имели благосклонный, другие — зловещий, третьи —
372
равнодушный вид. Я была в крайнем возбуждении, мысли
мои путались. Глубокое молчание сменил шум. Монахини
не говорили более между собой. Мне показалось, что го-
лоса их на хорах раздаются громче обыкновенного, по
крайней мере, тех, которые пели; другие не пели вовсе;
по выходе из церкви, они молча разошлись по кельям. Я
убедилась, что ожидание беспокоит их так же, как и меня;
но после полудня шум и движение внезапно возобнови-
лись со всех сторон. Я слышала, как отворяются и затво-
ряются двери, монахини ходили туда и сюда, до меня до-
носился невнятный гул тихих голосов. Я приложила ухо к
замочной скважине, но мне показалось, что проходившие
мимо умолкали и шли на цыпочках. Я предчувствовала,
что проиграла дело, я ни минуты больше не сомневалась
в этом. Я заметалась по своей келье, не произнося ни сло-
ва, я задыхалась, не будучи в силах даже стонать, хва-
талась за голову, прислонялась лбом то к одной стене, то
к другой; я хотела прилечь на постель, по сердцебиение
помешало мне сделать это; уверяю вас, что я слышала,
как колотится мое сердце,— от биения его приподнима-
лась одежда. В таком состоянии была я, когда ко мне
пришли сказать, что меня вызывают. Я сошла, еле пере-
двигая ноги от страха. Монахиня, пришедшая за мной,
была очень весела, и я подумала, что новость, принесен-
ная мне, могла быть только весьма грустной; однако, я
пошла. Дойдя до двери приемной, я вдруг остановилась
и бросилась в угол, я не могла держаться на ногах, тем не
менее я вошла. В приемной никого не было, я стала ждать.
Вызвавшему меня помешали войти в приемную до моего
прихода, подозревая, что это посланный моего адвоката.
Хотели знать, что произойдет между нами; собрались, что-
бы подслушать. Когда он показался, я сидела, опустив го-
лову на руку и опершись на перекладину решетки.
— От г-на Мапури,— сказал он мне.
— Чтобы известить меня, что я проиграла дело?—
ответила я.
— Я ничего не знаю, сударыня; но он отдал мне это
письмо; у него был очень расстроенный вид, когда он
вручал его, и я, по его приказанию, мчался сюда карье-
ром.
— Дайте...
373
Он протянул мне письмо, и я взяла его, не двигаясь
с места и не глядя на посланного; я положила письмо на
колени и осталась в той же позе. Между тем этот чело-
век спросил меня:
— Не будет никакого ответа?
— Нет,— сказала я,— можете идти.
Он ушел, а я не пошевельнулась, не будучи в силах ни
двинуться, ни решиться выйти. В монастыре не разрешает-
ся ни писать, ни получать писем без разрешения настоя-
тельницы. Ей передают и те, которые получают, и те, кото-
рые пишут; пришлось отнести ей и мое. Я отправилась к
ней с этой целью; мне казалось, что я никогда не дойду: я
шла медленно, была удручена, как преступник, который
выходит из своей камеры, чтобы выслушать приговор. Од-
нако, наконец, я добрела до двери настоятельницы. Мона-
хини издали внимательно следили за мной. Они хотели
вполне насладиться зрелищем моего горя и моего униже-
ния. Я постучала, мне отворили. У настоятельницы было
несколько других монахинь. Я видела только подол их
одежд, так как не осмелилась поднять глаза; я подала на-
стоятельнице свое письмо дрожащей рукой; она взяла его,
прочла и отдала мне обратно. Я вернулась в свою келью,
бросилась на кровать, положив рядом письмо, и продолжа-
ла неподвижно лежать до вечерни, не читая его и не вста-
вая к обеду. В три с половиной колокол возвестил, что
надо идти в церковь. Туда прибыло уже несколько мона-
хинь; настоятельница стояла у входа на хоры; она оста-
новила меня, приказала мне стать на колени снаружи;
остальные монахини вошли, и дверь затворилась. После
службы все вышли; я дала им пройти и поднялась, чтобы
следовать за ними последней. С этого момента я обрекла
себя на все, что от меня требовали. Мне только что запре-
тили войти в церковь, я сама запретила себе входить в тра-
пезную и в рекреационный зал. Всесторонне обсудив свое
положение, я пришла к заключению, что единственное спа-
сение для меня — мое послушание и их нужда в моих та-
лантах. Я была бы довольна, если бы меня забыли совсем,
как это продолжалось несколько дней. Ко мне являлись
некоторые посетители, но мне было разрешено принимать
одного г-на Манури. Войдя в приемную, я нашла его в той
же самой позе, в какой приняла его посланного: он сидел,
положив голову на руки и облокотившись на решетку.
374
Я узнала его, но ничего ему не сказала. Он не решался
ни смотреть на меня, ни заговорить со мной.
— Сударыня,— сказал он, не меняя положения,— я
вам писал; прочли вы мое письмо?
— Я получила его, но не читала.
— Значит, вы не знаете...
— Нет, сударь, мне все известно, я догадывалась о сво-
ей участи и покорилась ей.
— Как обращаются с вами?
— Обо мне пока не думают, но я знаю по прошлому,
что готовит мне будущее. У меня одно только утешение
лишенная поддерживающей меня надежды, я не смогу пе-
реносить тех же страданий и умру. Моя вина не из тех,
которые прощаются в монастыре. Я не прошу бога смяг-
чить сердца тех, в распоряжение которых ему угодно было
отдать меня, я прошу только даровать мне силу страдать,
спасти меня от отчаяния и поскорее призвать к себе.
— Сударыня,— сказал он мне со слезами,— если бы
вы были моей собственной сестрой, я не сделал бы больше.
У этого человека отзывчивое сердце.
— Сударыня,— прибавил он,— если я могу быть поле-
зен вам чем-нибудь, располагайте мною. Я побываю
у председателя, он считается со мной; побываю у старших
викариев и архиепископа.
— Излишне обращаться к кому бы то ни было, сударь,
все кончено.
— Но нельзя ли перевести вас в другой монастырь?..
— Слишком много препятствий к этому.
— Какие же это препятствия?
— Трудно добиться разрешения, надо сделать новый
вклад или получить обратно старый из этого монастыря,—
и затем, что найду я в другом монастыре? Сердце мое не-
преклонно, настоятельницы безжалостны, монахини бу-
дут не лучше здешних, те же обязанности, те же муче-
ния. Лучше уж я здесь окончу свои дни, — тут они будут
короче.
— Но, сударыня, вы заинтересовали многих почтенных
людей, большинство из них богаты. Вас не будут удержи-
вать здесь, если вы выйдете, оставив свой вклад?
— Вероятно, нет.
— Монахиня, которая выходит из монастыря или уми-
рает, увеличивает благосостояние тех, которые остаются.
375
— Но эти почтенные, богатые люди не думают больше
обо мне и очень холодно отнесутся к вашему предложению
внести за меня вклад. Почему вам кажется, что легче до-
биться от мирян, чтобы они освободили из монастыря мо-
нахиню, не имеющую призвания, чем от ревнителей благо-
честия помощи той, которая идет в монастырь по призва-
нию? А легко ли делаются вклады за последних? Ах, су-
дарь, все отвернулись от меня после того, как суд отказал
мне: я не вижу больше никого.
— Сударыня, поручите мне это дело, прошу вас,— я
буду счастливее.
— Я ничего не прошу, ни на что не надеюсь, ничему не
противлюсь. Единственная надежда, окрылявшая меня,
разбита. Если б я могла хотя бы утешаться тем, что бог
изменит меня, и призванием к монашеству сменит в моей
душе потерянную надежду выйти из монастыря... Но это
невозможно: это одеяние пристало к моей коже, к моим
костям и еще больше тяготит меня. Ах, какая судьба! Веч-
но быть монахиней, чувствуя, что никогда не будешь на-
стоящей монахиней! Провести всю жизнь, колотясь голо-
вой о решетку тюрьмы.
В этом месте я вскрикнула; я хотела подавить крик, но
не могла. Г-н Манури, пораженный моим волнением,
сказал:
— Разрешите задать вам один вопрос.
— Пожалуйста, сударь.
— Не имеет ли ваше отчаяние какой-либо тайной
причины?
— Нет, сударь. Я ненавижу отшельническую жизнь, я
чувствую, что ненавижу ее, чувствую, что всегда буду ее
ненавидеть. Я не могу подчиниться всему тому вздору, ко-
торый наполняет день монастырской затворницы. §Он со-
ткан из глупостей, которые я презираю. Я приспособилась
бы к этой жизни, если бы могла; сотни раз я старалась пе-
реломить себя, взять на себя этот крест, и была не в си-
лах. Я завидовала счастливому слабоумию моих товарок,
просила бога наделить меня им; он не внял моей мольбе,
не даровал мне его. Я все делаю плохо, говорю невпопад,
недостаток призвания сквозит во всех моих поступках, бро-
сается в глаза, я ежеминутно оскорбляю монастырский
уклад. Мою неспособность называют гордыней, стараются
унизить меня, мои вины и наказания за них умножаются
37В
до бесконечности, и мои дни проходят в том, что я измеряю
глазами высоту стен.
— Сударыня, я не могу опрокинуть их, но могу сде-
лать нечто другое.
— Не пытайтесь, сударь, не делайте ничего.
— Надо переменить монастырь, я займусь этим. Я еще
приеду повидаться с вами; надеюсь, что вас никуда не
упрячут. Я буду постоянно извещать вас. Будьте уверены,
что если вы согласитесь на это, мне удастся извлечь вас
отсюда. Если же с вами будут обращаться слишком суро-
во, непременно дайте мне знать.
Было уже поздно, когда Манури ушел. Я вернулась в
свою келью. Вскоре зазвонили к вечерне; я пришла одной
из первых, дала пройти монахиням, а сама осталась в две-
рях, без напоминания об этом. Действительно, настоятель-
ница затворила передо мной дверь. Вечером, за ужином,
она знаком велела мне сесть на полу среди трапезной; я
повиновалась, и мне дали хлеба и воды; я поела немного,
оросив пищу слезами. На следующий день держали совет;
созвали всю монастырскую общину для суда надо мной
и вынесли приговор: я лишалась часов отдыха, должна
была в течение месяца слушать службу перед дверью на
хоры, есть на земле посреди трапезной, три дня каяться
публично, возобновить обряд принятия послушничества и
повторить монашеский обет, носить власяницу, поститься
через день и каждую пятницу подвергать себя бичеванию
после вечерни. Во время произнесения этого приговора
я стояла на коленях; покрывало было опущено мне на
лицо.
На следующий день настоятельница пришла в мою
келью с монахиней, которая несла в руке власяницу и
платье из грубой ткани, в которое меня одевали перед тем,
как вести в темницу. Я поняла, что это означает. Меня
раздели, или, вернее, сорвали с меня покрывало, стащили
одежду, и я надела это платье. Голова моя была непокры-
та, ноги босы, длинные волосы падали на плечи, и все мое
одеяние ограничивалось власяницей, очень грубой рубахой
и длинным платьем, охватывавшим мне шею и доходившим
до пят. В таком одеянии я оставалась целый день и появ-
лялась на всех службах.
Вечером, вернувшись в свою келью, я услышала, что
приближаются с пением литаний, Двигались все монахини,
377
выстроившись в два ряда. Вошли, я предстала перед ними;
мне накинули веревку на шею, дали в одну руку зажжен-
ный факел, а в другую бич. Монахиня взяла веревку за
конец и втащила меня в середину между рядами. Процес-
сия направилась к маленькой внутренней молельне, посвя-
щенной святой деве. Подходя, негромко пели, назад пошли
в молчании. Когда я подошла к этой маленькой молельне,
освещенной двумя лампадами, мне приказали просить про-
щения у бога и у общины за учиненный мной скандал.
Сопровождавшая меня монахиня говорила мне топотом
то, что я должна была повторять,— и я повторяла слово
в слово. После этого с меня сняли веревку, обнажили до
пояса, взяли мои волосы, рассыпавшиеся по плечам, отки-
нули их на одну сторону, вложили в правую руку бич,
который я несла в левой, и начали Miserere, Я поняла,
чего ожидали от меня, и исполнила это. По окончании
Miserere настоятельница сделала мне краткое внуше-
ние; погасили лампады, монахини разошлись, и я снова
оделась.
Вернувшись в свою келью, я почувствовала острую
боль в ногах и взглянула на них; они были все в крови,
изрезанные кусочками стекла, которые умышленно разбро-
сали на моем пути.
Я публично каялась с соблюдением того же ритуала
два следующих дня; только в последний к Miserere приба-
вили еще один псалом.
На четвертый день мне вернули монашескую одежду,
почти с теми же церемониями, с какими торжественно об-
лачают в нее публично.
На пятый день я повторила свои обеты. В течение меся-
ца я выполняла остальную наложенную на меня эпитимию,
после чего почти вошла снова в общую колею монастыр-
ской жизни: вновь заняла свое место на хорах и в трапез-
ной и в свою очередь отбывала различные обязанности в
монастыре. Но каково было мое изумление, когда я обра-
тила внимание на молодую подругу, интересовавшуюся
моей судьбой! Мне показалось, что она изменилась почти
так же, как я; она страшно исхудала, смертельная блед-
ность появилась на ее лице, губы побледнели, и глаза
почти потухли.
— Сестра Урсула,— сказала я ей шопотом,— что
с вами?
378
— Что со мной? — ответила она,— я люблю вас, а вы
задаете мне этот вопрос! Пора уже кончиться вашим истя-
заниям, иначе я умру.
В два последних дня моего публичного покаяния ноги
у меня не были изранены только потому, что она позабо-
тилась украдкой подмести коридоры и отбросить в сторону
куски стекла. В дни, когда я была осуждена поститься,
получая только хлеб и воду, она лишала себя части своей
порции, которую завертывала в кусок полотна и бросала
мне в келью. Когда кинули жребий, какой монахине вести
меня на веревке, жребий пал на нее. У нее хватило твер-
дости пойти к настоятельнице и заявить ей, что она решила
скорей умереть, чем выполнить такую постыдную и жесто-
кую обязанность. К счастью, эта молодая девушка была из
состоятельной семьи; она получала большую пенсию, рас-
ходуя ее по усмотрению настоятельницы, и нашла за не-
сколько фунтов сахара и кофе монахиню, заменившую ее.
Я не дерзаю думать, что рука божия покарала эту недо-
стойную. Она сошла с ума и сидит взаперти, но настоя-
тельница здравствует, управляет, мучит и чувствует себя
прекрасно.
Мое здоровье не могло устоять против таких долгих и
суровых испытаний, и я тяжко заболела. При этих обстоя-
тельствах сестра Урсула вполне доказала мне свою друж-
бу,— я обязана ей жизнью. Жизнь, сохраненная ею, не
была для меня большим благом,— она сама говорила
мне это иногда. Тем не менее она оказывала мне всевоз-
можные услуги в те дни, когда дежурила в лазарете.
В другие дни я не была заброшена, благодаря ее заботам
и тем подачкам, которые она раздавала ухаживавшим
за мной, смотря по тому, насколько был удовлетворителен
уход. Она просила разрешения дежурить около меня
ночью, но настоятельница отказала ей под тем предлогом,
что она слишком хрупкого сложения и не выдержит такого
утомления; для нее это было большим горем. Все ее за-
боты нисколько не помешали развиваться моей болезни.
Я находилась на волосок от смерти, меня причастили. За
несколько минут до этого я попросила созвать всю общину,
и просьба моя была удовлетворена. Монахини окружили
мою кровать, настоятельница была среди них. Моя юная
подруга занимала место у изголовья и держала мою руку,
орошая ее слезами. Предполагая, что я хочу сказать
379
что-нибудь, меня приподняли и положили две подушки, что-
бы я могла сидеть. Тогда, обратившись к настоятельнице, я
попросила ее дать мне благословение и отпущение совер-
шенных мною грехов, я попросила прощения у всех своих
товарок за учиненный мною скандал. Я попросила при-
нести и положить подле меня множество безделушек, или
украшавших мою келью, или служивших для повседнев-
ных надобностей, и попросила настоятельницу разрешить
мне распорядиться ими; она разрешила, и я раздала их
тем монахиням, которые были ее спутницами, когда меня
ввергали в темницу. Я подозвала монахиню, которая вела
меня на веревке в день моего публичного покаяния, и ска-
зала ей, обнимая ее и отдавая свои четки и распятие:
«Дорогая сестра, поминайте меня в своих молитвах и
будьте уверены, что я не забуду вас перед ботом»... И по-
чему бог не взял меня в эту минуту? Я готова была спо-
койно предстать перед ним. Это такое великое счастье, и
разве кто-нибудь может надеяться пережить его даажды?
Неизвестно, что будет со мной в последнюю минуту, и од-
нако она неизбежна. Пусть бог возобновит мои муки и
дарует мне то же спокойствие, какое было у меня тогда!
Я видела разверстые небеса, и они, несомненно, были
разверсты, ибо совесть не обманывает в предсмертный
час, а она обещала мне вечное блаженство.
Приняв причастие, я впала в какую-то летаргию. В про-
должение всей этой ночи не надеялись, что я останусь жи-
ва. Время от времени подходили пощупать мне пульс.
Я чувствовала, как водили, руками по моему лицу, и слы-
шала различные голоса, говорившие как будто 'вдалеке:
«Она отходит... Ее нос похолодел... Она не дотянет до зав-
тра... Четки и распятие достанутся вам»... И другой гнев-
ный голос, говоривший: «Отойдите, отойдите, дайте ей уме-
реть спокойно; разве вы не достаточно мучили ее?..» Я пе-
режила счастливейшую минуту, когда, открыв глаза по
окончании этого кризиса, увидела себя в объятиях своей
подруги. Она не покидала меня ни на миг и провела ночь,
ухаживая за мной, повторяя молитвы за умирающих, да-
вая мне целовать распятие и отнимая его от моих губ,
чтобы поднести к своим. Увидя мои широко открытые
глаза и услыша мой глубокий вздох, она подумала, что
я испускаю дух, и принялась кричать, называя меня своим
другом. Она говорила: «Боже мой, сжалься над ней и
380
надо мной! Боже мой, прими ее душу! Дорогой друг, когда
вы предстанете перед богом," вспомните сестру Урсулу»...
Я смотрела на нее, грустно улыбаясь, роняя слезы и пожи-
мая ей руку.
В этот момент прибыл г-н Бувар — монастырский врач.
Говорят, что это искусный доктор, но он деспотичен, над-
менен и резок. Он грубо отстранил мою подругу, пощупал
мне пульс и кожу. Его сопровождала настоятельница со
своими фаворитками. Он задал несколько односложных
вопросов относительно того, что было со мной, и сказал:
«Она поправится». Он повторил, видя, что настоятельнице
это не понравилось: «Да, сударыня, она поправится; кожа
в хорошем состоянии, температура понизилась, и глаза
оживают».
При каждом его слове радость расцветала на лице
моей подруги, а лица настоятельницы и ее спутниц выра-
жали плохо скрываемую досаду.
— Сударь,— сказала я ему,— я не имею ни малейшею
желания жить.
— Тем хуже,— ответил он.
Затем отдал распоряжения и вышел. Говорят, что во
время своей летаргии я произнесла несколько раз: «Доро-
гая матушка, сейчас я буду с вами! Я расскажу вам все».
Очевидно я обращалась к своей прежней настоятельнице,
не сомневаюсь в этом. Я не отдала ее портрета никому,
желая унести его с собой в могилу.
Предсказание г-на Бувара подтвердилось. Жар умень-
шился, обильный пот окончательно прекратил лихорадку.
Не было больше никаких сомнений, что я поправлюсь.
Действительно, я поправилась, но выздоровление мое очень
затянулось. Мне суждено было подвергаться в этом мона-
стыре всевозможным мучениям. В болезни моей было
что-то вредоносное. Сестра Урсула не отходила от меня
почти ни на шаг. Когда я начала набираться сил, она
стала терять свои: ее пищеварение расстроилось, после
полудня у нее повторялись обмороки, продолжавшиеся
иногда с четверть часа. В этом состоянии она была, как
мертвая: ее взор угасал, холодный пот покрывал лоб и
собирался в капли, которые текли по щекам, руки висели,
как плети. Она чувствовала себя немного легче, когда ее
расшнуровывали и расстегивали одежду. Придя в себя,
она первым делом искала меня подле и всегда находила;
381
иногда даже, когда не лишалась совсем чувств и сознания,
она, не открывая глаз, водила рукой вокруг меня. Смысл
этого движения был настолько ясен, что некоторые мона-
хини, бравшие эту ощупывавшую руку, говорили мне,
когда рука снова падала, так как искала не их: «Сестра
Сюзанна, она ищет вас, подойдите же к ней поближе»...
Я бросалась к ее ногам, клала ее руку к себе на лоб, и
рука ее оставалась там до конца обморока. Когда он кон-
чался, Урсула говорила мне: «Сестра Сюзанна, я уйду
отсюда, а вы останетесь. Я первая увижу ее опять, я буду
говорить ей о вас, и она будет плакать, слушая меня. Если
есть горькие слезы, то есть также очень сладкие, и если
могут любить на небесах, то почему же не могут там пла-
кать?». Потом она склоняла свою голову ко мне на плечо
и прибавляла, заливаясь слезами:
— Прощайте, сестра Сюзанна, прощайте, друг мой.
Кто будет делить с вами горе, когда меня не будет в жи-
вых? (Кто?.. Лх, дорогой друг, как мне жаль вас! Я ухожу,
я чувствую, что ухожу. Если бы вы были счастливы, как
не хотелось бы мне тогда умирать!
Ее состояние пугало меня. Я говорила о ней с настоя-
тельницей. Я хотела, чтобы ее поместили в больницу, ос-
вободили от церковных служб и других утомительных мо-
настырских обязанностей, позвали врача. Но мне неизмен-
но отвечали, что это пустяки, что эти обмороки пройдут
сами собой и что дорогая сестра Урсула ничего так не
хочет, как исполнять свои обязанности наравне с осталь-
ными. Однажды она не появилась больше после заутрени,
на которой присутствовала. Я подумала, что ей очень
плохо. По окончании ранней обедни я полетела к ней.
Урсула лежала на кровати совершенно одетая; она сказа-
ла мне:
— Вот и вы, дорогой друг! Я так и думала, что вы
сейчас придете, и ждала вас. Выслушайте меня. С каким
нетерпением ожидала я вашего прихода! У меня был очень
долгий и сильный обморок; я думала, что не очнусь и не
увижу вас больше. Вот ключ от моей божницы, откройте
шкафчик, поднимите дощечку, которая разделяет надвое
нижний ящик. Вы найдете за этой дощечкой пакет с бума-
гами. Я никак не могла решиться расстаться с ними, как
ни опасно мне было хранить их и как ни мучительно было
382
перечитывать. Увы, буквы почти стерлись от моих слез;
когда меня не будет более, вы сожжете эти бумаги...
Она была так слаба, и ей было так тяжко, что она не
могла произнести двух слов подряд. Она останавливалась
почти на каждом слоге и, кроме того, говорила так тихо,
что я едва слышала ее, хотя мое ухо было у самого ее
рта. Я взяла ключ, показала ей пальцем на божницу, она
утвердительно кивнула головой. Затем, предчувствуя, что
я сейчас потеряю ее, и убежденная в том, что ее болезнь —
следствие моей болезни или пережитых ею огорчений или
забот, которыми она меня окружала, я безутешно зары-
дала. Я поцеловала ей лоб, глаза, лицо, руки и попросила
у нее прошения, но ее мысли были где-то далеко, она не
слышала меня. Одна из ее рук покоилась на моем лице и
ласкала меня. Вероятно она больше не видела меня, может
быть, даже думала, что я вышла, потому что позвала меня:
— Сестра Сюзанна!
Я ответила:
— Я здесь.
— Который час?
— Половина двенадцатого.
— Половина двенадцатого!.. Идите обедать, идите, вы
сейчас же вернетесь...
Зазвонили к обеду, пришлось оставить ее. Когда я
была в дверях, она снова позвала меня; я вернулась. Она
сделала усилие, чтобы подставить мне щеки,— я поцело-
вала их. Она взяла мою руку, сжала ее и не выпускала из
своей. Казалось, что она не хочет, что она не может рас-
статься со мною.
— Однако, так надо,— сказала она, выпуская руку,—
богу так угодно; прощайте, сестра Сюзанна. Дайте мне
мое распятие...
Я вложила ей распятие в руки и ушла.
Собирались уже вставать из-за стола. Я обратилась к
настоятельнице, сказала ей в присутствии всех монахинь
об опасном положении сестры Урсулы, торопила ее убе-
диться в этом самой.
— Ну что же, надо ее навестить,— сказала она.
Она поднялась по лестнице в сопровождении несколь-
ких монахинь. Я пошла за ними; они вошли в келью; бед-
ная сестра скончалась: она лежала, вытянувшись на своей
кровати, совсем одетая, склонившись головой на подушку,
383
с полуоткрытым ртом. Глаза ее были закрыты, а в руках
было распятие. Настоятельница холодно взглянула на нее
и сказала: «Она умерла. Кто мог бы думать, что ее конец
так близок? Это была превосходная девушка. Скажите,
чтобы звонили в колокол и наденьте на нее саван».
Я осталась одна у ее изголовья. Не могу вам описать
своего горя, однако я завидовала ее судьбе. Я придвину-
лась к ней ближе, оплакивала ее, поцеловала несколько
раз и прикрыла простыней лицо, черты которого начали
изменяться, затем подумала об исполнении ее поручения.
Чтобы мне не помешали в этом, я дождалась, когда все
были в церкви, открыла божницу, вынула дощечку и на-
шла сверток бумаг довольно значительных размеров, ко-
торый сожгла вечером. Эта молодая девушка всегда была
грустна; я не помню, чтобы она улыбалась, за исключе-
нием одного раза во время болезни.
И вот я одна в этом монастыре, на всем свете, ибо я
не знала ни одного существа, которое интересовалось бы
мной. Я ничего больше не слышала об адвокате Манури и
предполагала, что он или отступил перед трудностями или,
увлеченный делами и удовольствиями, забыл про свое
предложение оказать мне услугу, и не очень досадовала на
него за это. Мой характер склонен к снисходительности: я
могу простить людям все, за исключением несправедли-
вости, неблагодарности и бесчеловечности. Итак, я стара-
лась по мере возможности оправдать адвоката Манури и
всех этих мирян, проявивших ко мне такой живой интерес
во время процесса и для которых я больше не существо-
вала,— и вас самих, господин маркиз. В это время наши
церковные власти посетили монастырь.
По прибытии они обходят кельи, расспрашивают мона-
хинь, требуют отчета в духовном руководстве и хозяйст-
венном управлении и, в зависимости от своего отношения
к обязанностям, исправляют или увеличивают беспорядок.
И вот я снова увидела почтенного и сурового г-на Эбера
с двумя его молодыми сострадательными спутниками. Они,
очевидно, вспомнили плачевное состояние, в котором и
тогда явилась перед ними. Глаза их увлажнились, и я за-
метила на их лицах растроганность и радость. Г-н Эбер
сел и велел мне сесть против себя. Его спутники продолжа-
ли стоять за его стулом. Они не сводили с меня глаз.
Г-н Эбер сказал мне:
384
— Ну, сестра Сюзанна, как теперь обращаются
с вами?
Я ответила ему:
— Обо мне забыли, отец мой.
— Тем лучше.
— И я также только этого и желаю, но я хочу просить
у вас большой милости: позвать сюда мать-настоятель-
ницу.
— Зачем это?
— Дело в том, что если к вам поступит какая-нибудь
жалоба на нее, о-на непременно обвинит в этом меня.
— Понимаю, но все же скажите мне то, что вы знаете.
— Умоляю вас, отец мой, прикажите позвать ее, пусть
она сама слышит ваши вопросы и мои ответы.
— Все-таки говорите.
— Вы погубите меня, отец мой.
— Нет, не бойтесь ничего. С этого дня вы не находи-
тесь больше под ее властью. На этой неделе вас переведут
в монастырь св. Евтропии, близ Арпажона. У вас есть
хороший друг.
— Хороший друг, отец мой? Я такого не знаю вовсе.
— Это ваш адвокат.
— Господин Манури?
— Он самый.
— Я не думала, что он вспомнит обо мне.
— Он виделся с вашими сестрами, виделся с монсенье-
ром архиепископом, с председателем, с лицами, известны-
ми своим благочестием. Он внес за вас вклад в только что
названный мной монастырь, и через самое короткое время
вас не будет здесь. Поэтому, если вы знаете что-нибудь
о каких-либо непорядках, вы можете сообщить мне об
этом, не боясь за себя, и я вам приказываю это святым
послушанием.
— Я ничего не знаю.
— Как, неужели по отношению к вам не были приняты
крайние меры после того, как вы проиграли процесс?
— Думали и не могли не думать, что я совершила грех,
отрекаясь от своего обета, и заставили меня просить про-
щения у бота.
— Но я хотел знать обстоятельства, сопутствовавшие
этой просьбе о прощении...
Произнося эти слова, он тряс головой, хмурил брови, и
385
я поняла, что от меня зависело вернуть настоятельнице
часть ударов бичом, которые она велела мне дать, но это
не входило в мои намерения. Старший викарий убедился,
что ничего не узнает от меня, и вышел, посоветовав дер-
жать втайне то, что сообщил мне по секрету о моем перево-
де в монастырь св. Евтропии близ Арпажона. В то время
как добряк Эбер шагал один по коридору, его спутники
обернулись и приветствовали меня очень ласково и сердеч-
но. Я не знаю, кто они, но да сохранит им господь этот от-
зывчивый и милосердный характер, который встречается
так редко среди лиц их звания и так подходит поверенным
человеческих слабостей и ходатаям перед милосердным
богом. Я думала, что г-н Эбер занят тем, что утешает, до-
прашивает или делает внушение какой-нибудь другой мо-
нахине, как вдруг он снова вошел в мою келью и сказал
мне:
— Как вы познакомились с г-ном Манури?
— Он вел мое дело.
— Кто рекомендовал вам его?
— Супруга председателя.
— Вам часто приходилось беседовать с ним в течение
вашего процесса?
— Нет, отец мой, я его мало видела.
— Как же вы сообщили ему необходимые сведения?
— Я написала своей рукой несколько объяснительных
записок.
— У вас есть копии этих объяснительных записок?
— Нет, отец мой.
— Кто же передал ему эти записки?
— Супруга председателя.
— А как вы познакомились с ней?
— Меня познакомила с нею сестра Урсула, моя подру-
га и ее родственница.
— Вы видели г-на Манури, после того как ваш процесс
был проигран?
— Один раз.
— Это очень немного. Он ничего не писал вам?
— Нет, отец мой.
— И вы ему ничего не писали?
— Нет, отец мой.
— Он несомненно сообщит вам о том, что сделал для
вас. Приказываю вам вовсе не видеться с ним в приемной,
38G
а если он напишет вам, прямо или через кого-нибудь, ото-
слать мне его письмо, не вскрывая, понимаете, не вскры-
вая.
— Да, отец мой, я исполню ваше приказание...
Мне ли не доверял г-н Эбер или моему заступнику,
для меня это было одинаково оскорбительно".
Г-н Манури приехал в Лоншан в тот же вечер. Я сдер-
жала слово, данное старшему викарию, и отказалась го-
ворить с г-ном Манури. На следующий день он прислал
мне письмо с посланным. Я получила его письмо и отосла-
ла, не вскрывая, г-ну Эберу. Это было, насколько я помню,
во вторник. Я продолжала ждать с нетерпением результа-
тов обещания старшего викария и хлопот г-на Манури.
Прошли среда, четверг, пятница, а я не получала никаких
вестей. Какими долгими показались мне эти дни! Я страш-
но боялась, что неожиданно появилось какое-нибудь пре-
пятствие, расстрЪившее все. Я не выходила на свободу, я
меняла только тюрьму, но и это кое-что значит. Первое
счастливое событие рождает в нас надежду на второе, и
отсюда, может быть, происходит пословица: «удача родит
удачу». Я знала своих товарок, которых оставляла здесь,
и не могла не предполагать, что выиграю кое-что, живя
с другими узницами. Каковы бы они ни были, они не
могли быть ни злее, ни злонамереннее здешних. В субботу,
в девять часов утра, в монастыре поднялась суета. Надо
очень немного, чтобы взбудоражить монахинь. Ходили
туда и сюда, перешептывались; двери дортуаров отворя-
лись и затворялись: это, как вы уже знаете, признак мона-
стырских революций. Я была одна в своей келье; сердце
у меня сильно билось. Я прислушивалась у двери, смотрела
в окно, металась без всякой цели. Я говорила себе, тре-
пеща от радости: «Это пришли за мной; сейчас я вырвусь
отсюда»... И я не ошиблась.
Передо мной предстали две незнакомки. То были мона-
хиня и привратница из Арпажона. Они в двух словах из-
вестили меня о цели своего посещения. Не помня себя от
волнения, я схватила свои пожитки и побросала, как по-
пало, в передник привратницы,— та свернула их. Я и не
подумала проститься с настоятельницей; сестры Урсулы
не было в живых,— в монастыре у меня не оставалось
никого. Я спустилась вниз; предо мной отворили двери,
387
осмотрев предварительно то, что я уносила. Я села в каре-
ту и уехала.
У настоятельницы Арпажонского монастыря собрались
старший викарий со своими молодыми спутниками, суп-
руга председателя и г-н Манури. Они были предупреждены
о моем отъезде из Лоншана. Дорогой монахиня рассказы-
вала мне о монастыре, расхваливая его, и привратница
прибавляла к каждой фразе словно припев: «Это сущая
правда»... Монахиня была в восторге от того, что, посылая
за мной, избрали ее, и выражала желание быть моим дру-
гом. На этом основании она сообщила мне кое-что по
секрету и дала кое-какие советы относительно моего пове-
дения. Она, видимо, применяла эти советы сама, но меня
от них покоробило. Не знаю, видели ли вы Арпажонский
монастырь. Это квадратное здание; с одной стороны его —
большая дорога, с другой — поля и сады. У каждого окна
фасада виднелись одна, две или три монахини. Одно это
обстоятельство осветило мне порядки, господствовавшие в
монастыре, лучше всех россказней монахини и ее спут-
ницы. Наш экипаж очевидно узнали, потому что в мгно-
вение ока все эти головы в покрывалах исчезли, и я очу-
тилась у дверей своей новой тюрьмы. Настоятельница
вышла ко мне навстречу с распростертыми объятиями,
поцеловала меня, взяла за руку и повела в монастырский
зал, куда успели уже придти некоторые монахини и сбежа-
лись остальные.
Эту настоятельницу зовут г-жа ***. Прежде чем про-
должать рассказ, мне хочется нарисовать вам ее портрет.
Это маленькая женщина, круглая, как шар, но проворная
и живая. Голова ее ни минуты не остается в покое. В ее
одежде вечно что-нибудь съезжает набок, ее лицо, скорее
хорошо, чем дурно. Глаза, из которых один, правый, выше
и больше другого, полны огня и бегают по сторонам. Когда
она ходит, то размахивает руками взад и вперед. Когда
собирается говорить, то открывает рот, прежде чем мысли
ее пришли в порядок, и поэтому немного заикается. Когда
садится, то ерзает на кресле, как будто ей что-то мешает;
забывает все приличия, поднимает нагрудник и чешется,
кладет нога на ногу; спрашивает вас и не слушает, когда
вы ей отвечаете. Говоря с вами, теряет нить мыслей, вне-
запно останавливается, не зная, что сказать, сердится и
называет вас скотиной, идиоткой, дурой, если вы не наво-
388
дите ее на мысль. Она то фамильярна до того, что говорит
вам «ты», то властна и высокомерна до презрения, но не
надолго напускает на себя важность. Снисходительность
чередуется у нее с суровостью; ее искаженное лицо отра-
жает всю сумбурность ее ума и всю неровность характера.
Порядок сменялся в монастыре беспорядком. Бывали
дни, когда все смешивалось: пансионерки были вместе с
послушницами, послушницы — с монахинями. Бегали в
комнаты друг к другу, пили вместе чай, кофе, шоколад,
ликеры. Служба совершалась с самой неприличной по-
спешностью. Вдруг, в разгар этой сумятицы, лицо настоя-
тельницы меняется, звонит колокол, расходятся по кельям,
запираются, глубочайшее молчание следует за шумом,
криками, беготней. Можно подумать, что все внезапно
вымерло. И тогда достаточно малейшего упущения, и на-
стоятельница зовет монахиню в свою келью, распекает ее,
приказывает раздеться и нанести себе двадцать ударов
бичом. Монахиня повинуется, раздевается, берет свой бич
и начинает истязать себя, но едва она наносит несколько
ударов, как настоятельница, сделавшись сострадательной,
вырывает у нее орудие покаяния, принимается плакать,
говорит, что чувствует себя очень несчастной от того, что
наказала ее, целует ей лоб, глаза, рот, плечи, ласкает
и расхваливает: «Какая у нее белая и нежная кожа! Ка-
кая округлость форм! Какая прекрасная шея! Какие во-
лосы!.. Сестра Августина, да ты с ума сошла, чего ты
стыдишься, сбрось это белье: я женщина и твоя настоя-
тельница. О! Какая прекрасная грудь! Как она тверда!—
и неужели я потерпела бы, чтобы острия бича разодрали
это тело? Пет, нет, этого не будет никогда»... Она опять
целует монахиню, поднимает, одевает сама, говорит с ней
очень нежно, освобождает от церковной службы и отсы-
лает в келью. Плохо иметь дело с женщинами такого рода:
никогда не знаешь как им угодить, что надо делать и чего
избегать; безалаберность во всем; то изобилие, то голод;
монастырь попадает в затруднительное финансовое поло-
жение, предостережения встречают пренебрежительное
или враждебное отношение. Настоятельницы с таким ха-
рактером или чрезмерно приближают к себе, или чересчур
отдаляют,— не соблюдается ни должного расстояния, ни
меры: от опалы переходят к милостям, от милостей к опа-
ле, неизвестно почему. Если угодно, я иллюстрирую вам
380
примером ее управление. Два раза в год она бегала по
кельям и приказывала выбросить в окно все бутылки с ли-
керами, которые находила там, а четыре дня спустя сама
посылала другие бутылки большинству монахинь. И вот ей-
то я дала торжественный обет послушания, потому что на-
ши обеты переходят с нами из одного монастыря в другой.
Я вошла с нею; она вела меня, обняв за талию. Подали
угощение из фруктов, марципана и варенья разных сортов.
Почтенный старший викарий начал хвалить меня, она пре-
рвала его словами: «Были несправедливы, были неспра-
ведливы, я знаю»... Почтенный старший викарий хотел
продолжать, но настоятельница прервала его: «Неужели
они постарались избавиться от нее? Это сама скромность
и кротость; говорят, она чрезвычайно талантлива»... По-
чтенный старший викарий хотел продолжать, настоятель-
ница опять прервала его, шепнув мне на ухо: «Я вас бе-
зумно люблю, и когда эти педанты выйдут, я велю придти
нашим сестрам, и вы споете нам что-нибудь, не так ли?»...
Я едва удержалась от смеха. Почтенный г-н Эбер был не-
много смущен; его молодые спутники улыбались, видя его
и мое замешательство. Однако г-н Эбер остался верен
своему характеру и вернулся к своим обычным манерам:
он резко велел настоятельнице сесть и молчать. Она села,
но ей было не по себе; она вертелась на месте, чесала го-
лову, поправляла одежду там, где она была в порядке,
зевала, а тем временем старший викарий в назидательном
тоне говорил об оставленном мной монастыре, о неприят-
ностях, каким я подвергалась, о монастыре, куда я вступа-
ла, о лицах, которые помогли мне и которым я всем обя-
зана. В эту минуту я взглянула на г-на Манури, он опустил
глаза. И тогда разговор принял более общий характер.
Тягостное молчание, предписанное настоятельнице, кончи-
лось. Я подошла к г-ну Манури и поблагодарила за оказан-
ные мне услуги. Я дрожала, говорила невнятно, не знала,
как выразить свою благодарность. Мое смущение, мое за-
мешательство, моя растроганность, ибо я действительно
была растрогана, слезы и радость вперемешку, все мои
движения сказали ему гораздо больше, чем я могла бы
сказать. Его ответ был так же несвязен, как и моя речь.
Он был смущен не менее меня. Не знаю, что он мне гово-
рил, но я разобрала, что для него лучшая награда, если
ему удалось смягчить суровость моей судьбы; что он будет
390
вспоминать то, что сделал, с еще большим удовольствием,
чем я; что ему крайне досадно, что дела, привязывающие
его к парижскому суду, не позволят ему часто посещать
Арпажонский монастырь, но что он надеется получить от
г-на старшего викария и г-жи настоятельницы разрешение
осведомляться о моем здоровье и моем положении.
Старший викарий не слышал этого, но настоятельница
ответила: «Пожалуйста, сударь. Она будет делать все, что
захочет. Мы постараемся загладить здесь огорчения, при-
чиненные ей там»... И затем шепнула мне: «Дитя мое,
значит ты очень страдала? Но как посмели эти лоншанские
твари дурно обращаться с тобой? Твоя настоятельница —
моя старая знакомая; мы в одно время были пансионерка-
ми в Пор-Рояле,— ее терпеть не могли остальные. Мы ус-
пеем наговориться; ты расскажешь мне все это...» Произ-
нося эти слова, она взяла мою руку и похлопала по ней.
Молодые церковнослужители также сказали мне несколь-
ко любезных слов. Было поздно, г-н Манури простился
с нами, старший викарий и его спутники отправились к
г-ну ***? сеньеру Арпажона, куда они были приглашены,
и с настоятельницей осталась я одна, но не надолго. Все
монахини, послушницы, пансионерки прибежали впере-
мешку. Вмиг меня окружила сотня лиц. Я не знала, кого
слушать, кому отвечать: каких только не было здесь лиц,
о чем здесь только ни болтали! Однако я подметила, что
не были недовольны ни моими ответами, ни моей особой.
Эти надоедливые разговоры продолжались некоторое
время, и когда первое любопытство было удовлетворено,
толпа уменьшилась. Настоятельница выпроводила осталь-
ных и пошла сама водворить меня в моей келье. Она про-
явила необычайное радушие; показывая на божницу, она
сказала: «Там мой дружок будет молиться богу; я хочу,
чтобы на эту скамеечку положили подушку, а то она на-
трет себе коленочки. В кропильнице нет ни капли святой
воды,— сестра Доротея вечно забудет что-нибудь. Сядьте
в кресло, посмотрите, удобно ли вам в нем»...
Говоря так, она усадила меня, прислонила мою голову
к спинке кресла и поцеловала в лоб. Подошла к окну, что-
бы удостовериться, легко ли поднимаются и опускаются
рамы, к моей кровати, где отдернула и задернула полог,
чтобы посмотреть, хорошо ли он закрывается. Оглядела
одеяло: «Одеяло хорошее». Взяла подушку и, взбивая ее,
391
сказала: «Дорогой головке будет на ней очень хорошо; эти
простыни недостаточно тонки, но в монастыре у всех та-
кие; эти матрацы хороши»... После этой сцены я думала
про себя: «Что за безумное создание!» И ждала в будущем
и хорошего и плохого.
Я устроилась в своей келье, присутствовала на всенощ-
ной, за ужином, откуда перешла в рекреационный зал.
Некоторые монахини старались держаться поближе ко
мне, остальные отдалялись. Одни рассчитывали на мою
протекцию у настоятельницы, другие были уже встрево-
жены оказанным мне предпочтением. Первые минуты
прошли во взаимных похвалах, в расспросах относительно
оставленного мной монастыря; пытались определить мой
характер, мои наклонности, вкусы, ум; вас прощупывают,
вам расставляют ряд ловушек и делают отсюда весьма
правильные выводы. Например, бросают камешек в чей-
нибудь огород и глядят на вас; начинают рассказывать
какую-нибудь историю и ждут, попросите ли вы продол-
жать ее, или же оставите незаконченной; вы говорите что-
нибудь самое заурядное, и вашими словами восторгаются,
хотя прекрасно знают, что в них нет ничего особенного;
вас нарочно хвалят или порицают; стараются проникнуть
в самые сокровенные ваши мысли; расспрашивают, что вы
читаете; вам предлагают священные и светские книги; за-
мечают, что вы выберете; побуждают к легким наруше-
ниям монастырского устава; вам поверяют тайны, в раз-
говоре с вами бросают словечки о странностях настоятель-
ницы,— все удерживается в памяти и пересказывается;
вас оставляют, принимаются за вас снова; зондируюг
ваши мнения относительно нравственности, благочестия,
мира, религии, монастырской жизни,— всего. В результате
этих повторных испытаний появляется характеризующий
вас эпитет, и к вашему имени прибавляется прозвище,—
так меня прозвали Сюзанна-скрытная.
Настоятельница посетила меня в первый же вечер.
Она пришла в ту минуту, когда я хотела раздеваться. Она
сама сняла с меня покрывало и нагрудник, сама причесала
на ночь, сама раздела. Она наговорила мне кучу нежных
слов и заласкала меня. Все это немного смущало меня, не
знаю почему, так как ни я, ни она не видели в этом ничего
особенного; даже в настоящее время, размышляя об этом,
я не понимаю, что могло быть тут предосудительного?
302
Однако, когда я сказала об этом своему духовнику, тот
весьма серьезно отнесся к этому фамильярному обраще-
нию, которое казалось мне и кажется до сих пор невинным,
и строго запретил допускать что-нибудь подобное в даль-
нейшем. Она поцеловала мне шею, плечи, руки, похва-
лила мои формы и талию и уложила в постель; подоткнула
одеяло с обеих сторон, поцеловала глаза, задернула полог
и ушла. Я забыла сказать вам: предполагая, что я утом-
лена, она разрешила мне оставаться в постели, сколько
угодно.
Я воспользовалась ее разрешением. Вероятно это была
единственная спокойная ночь, проведенная мной в мона-
стыре за все время моего пребывания в нем. На следую-
щий день, в девять часов, я услышала легкий стук в дверь;
я еще лежала; я ответила, вошли; это была монахиня, она
сказала мне довольно ворчливым топом, что уже поздно
п что мать-настоятельница зовет меня. Я встала, поспешно
оделась и пошла к ней.
— Добрый день, дитя мое,— сказала она,— хорошо ли
вы спали? Вот кофе, он ожидает вас уже целый час; ка-
жется, он хорош, пейте его поскорее, а после мы побесе-
дуем...
Говоря это, она один платок разостлала на столе,
другой развернула, чтобы завесить меня, наливала кофе,
клала сахар. Другие монахини также угощали друг дру-
га. Пока я завтракала, настоятельница занимала меня
разговорами о моих товарках, описывая мне каждую в
зависимости от того, была ли расположена к пей или чув-
ствовала антипатию, не знала, как показать мне свою
дружбу, задавала тысячу вопросов об оставленном мной
монастыре, о моих родителях, о неприятностях, которые
я имела раньше; хвалила, порицала, болтая что взбредет
в голову и никогда не дослушивая моего ответа до конца.
Я не говорила ей ни слова наперекор. Она была доволь-
на моим умом, моей рассудительностью и скромностью.
Между тем пришла монахиня, потом другая, потом
третья, четвертая, пятая; заговорили о птицах матери-на-
стоятельницы; одна говорила о странных привычках ка-
кой-то сестры, другая о разных смешных слабостях от-
сутствующих; все развеселились. В углу кельи стояли
клавикорды, я стала рассеянно перебирать клавиши, по-
тому что меня весьма мало забавляли эти шутки. Я
393
только что прибыла в монастырь и совершенно не знала
тех, над кем подтрунивали, да если бы я и знала их ближе,
то это меня забавляло бы так же мало. Надо много остро-
умия, чтобы шутки были удачны, и, кроме того, у кото
же нет чего-нибудь смешного? Пока смеялись, я брала
аккорды; мало-помалу я привлекла внимание. Настоя-
тельница подошла ко мне и, похлопывая по плечу, ска-
зала:
— Ну, Сюзанна, позабавь нас; сначала сыграй, а по-
сле спой.
Я сделала то, что она велела, исполнила несколько
пьес, которые знала наизусть, потом импровизировала,
а после спела несколько стихов из4 псалмов, переложен-
ных на музыку Мондовилем.
— Это очень хорошо,— сказала мне настоятельни-
ца,— но у нас и в церкви святости хоть отбавляй. Мы
одни, это — мои друзья, они будут также и твоими. Спой
нам что-нибудь повеселее.
Некоторые из монахинь сказали:
— Но, может быть, она ничего другого не знает. Она
устала с дороги, надо пожалеть ее,— для первого раза
и этого хватит.
— Нет, нет,— сказала настоятельница,— она чудесно
аккомпанирует себе. Ни у кого в мире нет такого пре-
красного голоса (и действительно у меня неплохой голос,
однако в нем больше мягкости и гибкости, чем силы и
широты диапазона; кроме-того у меня хороший слух);
я не отпущу ее, пока она не споет нам что-нибудь другое.
Я была немного обижена словами монахинь и отве-
тила настоятельнице, что это не доставит никакого удо-
вольствия сестрам.
— Но зато это доставит удовольствие мне.
Я ожидала этого ответа и спела довольно изящную пе-
сенку. Все захлопали в ладоши, расхваливали меня, об-
нимали, ласкали, просили спеть еще — комедия, разыг-
ранная, чтобы угодить настоятельнице. Почти все они
охотно лишили бы меня голоса и переломали бы пальцы
если бы могли. Некоторые, может быть, за всю свою
жизнь не слышавшие музыки, делали нелепые замечания
о моем пении, подпускали шпильки, на которые настоя-
тельница не обратила никакого внимания.
— Замолчите,— сказала она,— сестра Сюзанна играет
394
и поет, как ангел, и я хочу, чтобы она приходила сюда
ежедневно. Я когда-то бренчала немного на клавесине и
хочу, чтобы она меня снова научила.
— Ах, матушка,— сказала я,— кто умел играть преж-
де, тот никогда не разучится совсем...
— Дай-ка я попробую, пусти меня на свое место...
Она взяла несколько аккордов и сыграла пьесы, столь
же безумные, причудливые, бессвязные, как и ее мысли,
но я заметила, что рука ее, несмотря на все недостатки
исполнения, гораздо легче моей. Я сказала ей это, ибо я
люблю хвалить и редко упускаю случай делать это, ког-
да похвала соответствует истине,— это так приятно! Мо-
нахини исчезли одна за другой, и я осталась с настоя-
тельницей почти одна. Разговор шел о музыке. Она сиде-
ла, я стояла. Она взяла мои руки и сказала, пожимая их:
«Мало того, что она хорошо играет: ни у кого в мире нет
таких красивых пальцев, посмотрите-ка, сестра Тереза»...
Сестра Тереза опустила глаза, покраснела и пробормо-
тала что-то; красивые у меня пальцы или нет, правильно
замечание настоятельницы или ошибочно, все же странно,
что это произвело такое впечатление на эту сестру. На-
стоятельница обняла меня за талию и нашла, что у меня
замечательно красивая талия. Она привлекла меня к се-
бе, посадила на колени, приподняла мне голову руками,
упрашивая смотреть на нее, хвалила мои глаза, рот, ще-
ки, цвет лица. Я ничего не отвечала, потупила глаза и
позволяла ласкать себя как угодно, точно дурочка. Сест-
ра Тереза была рассеяна, беспокойна, ходила по келье
туда и сюда, дотрагивалась до всего безо всякой нужды,
не знала, куда деваться, глядела в окно, притворялась,
будто слышит стук в дверь, и настоятельница сказала ей:
— Тереза, ты можешь уйти, если тебе скучно.
— Мне не скучно, матушка.
— Но мне надо о многом расспросить эту девочку.
— Верю.
— Я хочу знать всю ее историю. Как я заглажу при-
чиненные ей огорчения, если не буду знать их? Я хочу,
чтобы она рассказала мне все без утайки. Я не сомнева-
юсь, что у меня будет разрываться сердце, что я заплачу,
но это неважно. Сюзанна, когда же я узнаю все?
— Когда прикажете, матушка.
— Я прошу тебя рассказать сейчас же, если у нас
есть еще время. Который час?
Сестра Тереза ответила:
— Пять часов, матушка, сейчас ударят к вечерне.
— Ну, что же, пусть начинают!
— Но, матушка, вы обещали мне уделить минутку пе-
ред вечерней — утешить меня. Меня мучают разные мыс-
ли; я очень хотела бы открыть свое сердце матушке-на-
стоятельнице. Если я пойду в церковь без этого, я не
смогу молиться, я буду рассеяна.
— Нет, нет,— сказала настоятельница,— у тебя ка-
кие-то безумные мысли. Держу пари, я знаю, в чем дело;
мы поговорим об этом завтра.
— Ах, дорогая матушка,— сказала сестра Тереза,
бросаясь к ногам настоятельницы и заливаясь слезами,—
поговорите со мной сейчас.
— Матушка,— сказала я настоятельнице, поднимаясь
с ее колен, где я продолжала сидеть,— исполните просьбу
сестры, прекратите ее страдания. Я уйду, я всегда успею
удовлетворить ваше желание знать обо мне все, а сестра
Тереза не будет мучиться, если вы выслушаете ее...
Я сделала шаг к двери. Настоятельница удержала
меня рукой. Сестра Тереза, стоя на коленях, завладела
другой рукой, целовала ее и плакала. Настоятельница
сказала:
— Право, Тереза, все твои тревоги страшно надоели
мне. Я уже говорила тебе: это мне не нравится, это меня
стесняет; я не хочу никаких стеснений.
— Я знаю это, но не могу ничего с собой поделать,
и хотела бы, да не могу...
Тем временем я ушла, оставив настоятельницу с мо-
лодой сестрой. В церкви невольно взглянула на Терезу.
Она все еще тосковала, была все еще угнетена. Наши
глаза встретились, и мне показалось, что она с трудом
выдерживает мой взгляд. А настоятельница задремала
на своей скамье.
Службу поспешили кончить как можно скорее. Мне
показалось, что церковные хоры посещались не особенно
охотно.
Из церкви сестры выпорхнули щебеча, как стая птиц,
вырвавшихся на волю, и разбежались по кельям друг к
другу, смеясь и болтая. Настоятельница заперлась в сво-
396
ей келье, а сестра Тереза остановилась у дверей своей,
зорко следя за мной, как будто ей очень хотелось знать,
что я буду делать. Я вошла к себе, и дверь кельи сестры
Терезы затворилась лишь некоторое время спустя, и при-
том едва слышно. Мне пришла мысль, что эта молодая
девушка ревнует ко мне и боится, как бы я не похитила
места, которое она занимала в сердце настоятельницы,
как бы не лишила ее милостей последней. Я наблюдала
за ней несколько дней подряд, и, когда меня достаточно
убедили в правильности моих подозрений ее вспышки, ее
ребяческая тревога, упорство, с каким она выслеживала
меня, подсматривала за мной, старалась не оставлять
вдвоем с настоятельницей, мешала нашим беседам, ума-
ляла мои достоинства, выдвигала мои недостатки, а еще
больше ее бледность, тоска, слезы, расстройство ее здо-
ровья и даже умственных способностей,— я пошла к пей
и сказала:
— Дорогой друг, что с вами?
Она не ответила мне. Мое посещение застигло ее
врасплох и привело в замешательство,— она не знала,
что сказать, что сделать.
— Вы недостаточно справедливы ко мне. Скажите
мне правду, вы боитесь, как бы я не злоупотребила рас-
положением ко мне матушки-настоятельницы и не вытес-
нила вас из ее сердца? Успокойтесь, это не в моем харак-
тере. Если бы я когда-либо имела счастье получить ка-
кую-нибудь власть над нею...
— Вы получите все, что угодно: она любит вас; теперь
она делает для вас точь-в-точь то, что делала сначала
для меня.
— Ну и будьте уверены, что я воспользуюсь довери-
ем, которое она окажет мне, только для того, чтобы сде-
лать вас еще дороже ей.
— Разве это зависит от вас?
— Почему же это не зависит от меня?
Вместо ответа она бросилась ко мне на шею и сказа-
ла, вздыхая:
— Вы в этом не виноваты, я знаю; я каждую минуту
повторяю себе это,— но... обещайте мне...
— Что должна я обещать вам?
— Что...
— Говорите, я сделаю все, что от меня будет зависеть.
397
Она замялась, закрыла глаза руками и сказала мне
шопотом так тихо, что я едва расслышала:
— Что вы будете видеть ее как можно реже...
Эта просьба показалась мне такой странной, что я
невольно ответила:
— А разве вам не все равно, часто или редко я вижу
нашу настоятельницу? Меня нисколько не огорчает, что
вы беспрестанно видитесь с нею. Вас должно так же мало
огорчать, что я делаю то же самое. Разве недостаточно
для вас моего заявления, что, говоря с ней, я не причиню
никакого вреда ни вам и никому другому?
Она ответила мне только следующими словами: «Я
погибла!» Она произнесла это с тоской в голосе, отходя
от меня и бросаясь на свою кровать.
— Погибли! Почему же? Вы, должно быть, считаете
меня самым злым существом в мире?
Но в эту минуту вошла настоятельница. Она заходила
в мою келью. Не найдя меня там, она в тщетных поисках
обежала почти весь монастырь,— ей не приходило в го-
лову, что я у сестры Терезы. Она прибежала, как только
узнала об этом от тех, кого посылала разыскивать меня.
В ее взгляде и на ее лице было заметно некоторое смуще-
ние, но вся ее особа так редко не была в противоречии
са;ма с собой! Сестра Тереза молчала, сидя на постели, я
стояла возле. Я сказала настоятельнице.
— Матушка, прошу вас простить меня за то, что я
пришла сюда без вашего разрешения.
— Это верно,— ответила она,— лучше было бы по-
просить разрешение.
— Но мне стало жаль эту дорогую сестру, я увидела,
что она страдает.
— Отчего?
— Сказать ли вам это? И почему бы мне этого не
сказать вам? Эта чуткость делает столько чести ее душе
и показывает так ярко ее привязанность к вам! Проявле-
ния вашей доброты ко мне встревожили ее любовь. Она
боится, как бы я не вытеснила ее из вашего сердца — это
чувство ревности, столь достойное уважения, впрочем,
столь естественное и столь лестное для вас, дорогая ма-
тушка, стало, как мне кажется, источником страданий
для сестры, и я утешала ее.
398
Выслушав меня, настоятельница приняла суровый и
внушительный вид и сказала Терезе:
— Сестра Тереза, я вас любила и до сих пор еще
люблю. Вы не подавали мне повода сетовать на вас и не
будете иметь повода сетовать на меня, но я не потерплю
этих исключительных претензий. Отделайтесь от них,
если боитесь погасить остаток моей привязанности к вам
и если не забыли судьбу сестры Агаты...
Затем сказала, обращаясь ко мне: «Это та высокая
брюнетка, которую вы видите на хорах против меня»
(у меня было так мало знакомых, я так недавно поступи-
ла в монастырь,— я была новенькой и не знала еще по
именам всех своих товарок).
— Я любила ее,— продолжала настоятельница,— ког-
да сестра Тереза поступила сюда, и я начала баловать
Терезу. Агата проявляла такое же беспокойство, она так
же безумствовала. Я сделала ей предупреждение,— она
нисколько не исправилась, и я принуждена была приме-
нить к ней суровые меры. Они продолжались очень долго
и совсем не свойственные моему характеру, потому что
все скажут вам, что я добра и никогда не наказываю
иначе как скрепя сердце...
Потом она прибавила, обращаясь к Терезе:
— Дитя мое, я не потерплю никаких стеснений, я уже
сказала вам это. Вы меня знаете, не заставляйте же меня
изменять своему праву.
Затем сказала, опираясь рукой на мое плечо:
— Пойдемте, Сюзанна, проводите меня.
Мы вышли. Сестра Тереза хотела следовать за нами,
но настоятельница, пренебрежительно взглянув через мое
плечо, сказала ей деспотическим тоном:
— Ступайте обратно в вашу келью и не выходите из
нее, пока я не позволю...
Та повиновалась, хлопнула дверью, причем у нее выр-
валось несколько слов, от которых настоятельница затря-
слась, не знаю почему, ибо они не имели никакого смыс-
ла; я заметила ее гнев и сказала ей:
— Дорогая матушка, если вы сколько-нибудь распо-
ложены ко мне, простите сестру Терезу. Она потеряла
голову, она не знает, что говорит, не знает что делает.
— Простить ее? Охотно, но что вы мне за это дадите?
— Ах, дорогая матушка, разве я имею счастье
399
обладать чем-нибудь, что могло бы нравиться вам и успо-
коить вас?
Она потупила глаза, покраснела и вздохнула. Поло-
жительно, она была точно влюблена. Она сказала мне
затем, наваливаясь на меня, как будто ей было дурно:
«Дайте сюда ваш лоб, я поцелую его»... Я нагнулась, и
сна поцеловала меня в лоб. С той поры, как только слу-
чалось, что какая-нибудь монахиня провинится, я засту-
палась за нее в полной уверенности, что добьюсь поми-
лования, разрешая настоятельнице какую-нибудь невин-
ную ласку. Это всегда был поцелуй — в лоб, в шею, в гла-
за, в щеки, в рот, в руки, в грудь, в плечо, но чаще всего
в рот,— она находила, что у меня чистое дыхание, белые
зубы и свежие алые губы.
Если бы я заслуживала хоть сотую долю похвал, ко-
торые она мне расточала, то в самом деле была бы писа-
ной красавицей. По ее словам, у меня белый, гладкий, оча-
ровательной формы лоб; блестящие глаза, нежные щеки
с ярким румянцем; единственные в своем роде, словно
точеные, округлые руки с маленькими пухлыми ки-
стями; грудь твердая, как камень, и дивной формы;
шея, какой не было ни у кого из сестер — изысканной и
редкой красоты. Всего, что она мне говорила, не переска-
жешь. Кое-что в ее похвалах было, конечно, верно, но
все было преувеличено. Иногда, оглядывая меня с головы
до ног и любуясь мной с таким видом, какого я никогда
не замечала ни у одной женщины, она говорила: «Право,
величайшее счастье, что бог призвал ее в монастырь;
с такой наружностью, живя в миру, она погубила бы по-
головно всех мужчин, которые увидели бы ее, и сама по-
гибла бы с ними. Бог делает все к лучшему».
Между тем мы подошли к ее келье. Я хотела было уй-
ти, но она взяла меня за руку и сказала:
— Слишком поздно начинать рассказ о том, что было
с вами в монастыре св. Марии и в лоншанском, но все же
войдите, вы дадите мне коротенький урок на клавесине.
Я вошла вслед за нею. Она вмиг открыла клавесин,
приготовила ноты, пододвинула стул, ибо отличалась жи-
востью. Я села. Думая, что мне, может быть, холодно, она
сняла со стула подушку и положила ее предо мной, по-
том нагнулась, взяла мои ноги и поставила их на подуш-
ку; она стала позади кресла и оперлась на спинку. Спер-
400
ва я взяла несколько аккордов, а затем сыграла пьесы
Куперена, Рамо, Скарлатти. Тем временем она припод-
няла воротник моей сорочки и опустила руку на мое го-
лое плечо; концы ее пальцев касались моей груди. Она
вздыхала, казалась подавленной, тяжело дышала. Рука,
которую она держала на моем плече, сначала сильно
сжимала его, потом выпустила, как будто обессилев и
сделавшись безжизненной; ее голова склонилась на мою
голову. Право, эта безумная женщина была невероятно
чувствительна и чрезвычайно сильно увлекалась музыкой.
Мне никогда не приходилось встречать человека, на ко-
торого музыка производила бы такое необычайное дей-
ствие. Мы забавлялись таким образом столь же просто-
душно, как и приятно, как вдруг дверь распахнулась на-
стежь. Я испугалась, настоятельница тоже. Это была су-
масбродная сестра Тереза; одежда се была в беспорядке,
глаза мутные; она оглядела пас обеих с каким-то стран-
ным вниманием; губы ее дрожали, она не могла говорить.
Однако она опомнилась и кинулась к ногам настоятель-
ницы. Присоединив свою просьбу к ее просьбе, я опять
добилась прощения для нее, но настоятельница заявила
ей весьма твердо, что прощает се в последний раз, по
крайней мере, за проступки этого рода, и мы вышли
вдвоем с Терезой.
По дороге в наши кельи я сказала ей:
— Дорогая сестра, берегитесь, вы приводите в дурное
настроение матушку. Я не покину вас, по вы подрываете
мое влияние па нее. Я буду в отчаянии, если не смогу
больше сделать ничего пи для вас и ни для кого
другого. Но что вы думаете?
Никакого ответа.
— Почему вы боитесь меня?
Никакого ответа.
— Разве паша матушка не может любить нас обеих?
— Нет, нет,— ответила она с большой горяч-
ностью,— это невозможно. Вскоре я стану противна ей
и умру от горя. Ах, зачем вы прибыли сюда? Вы недолго
будете здесь счастливы, я уверена в этом, а я останусь
несчастной навсегда.
— Я знаю, что большое несчастье лишиться благо-
воления настоятельницы, но я знаю еще большее, это —
снискать его: вам не в чем упрекать себя.
401
— Лх! Дай-то бог!
— Если вы обвиняете себя за какой-нибудь просту-
пок, то надо загладить свою вину, и самое верное сред-
ство— терпеливо переносить наказание.
— Я не могу, не могу, и потом ей ли меня наказы-
вать?
— Л кому же как не ей, сестра Тереза! Разве так
говорят о настоятельнице? Это нехорошо; вы забы-
ваетесь. Я уверена, что этот ваш проступок тяжелее
всех тех, в которых вы можете себя упрекнуть.
— Ах, дай-то бог!—снова сказала она,— дай-то
бог! И мы расстались. Она пошла в свою келью горе-
вать, а я в свою размышлять о женских причудах.
Вот результат затворничества. Человек создан для
общества. Отделите его, изолируйте, и его идеи станут
хаотичными, его характер извратится, множество урод-
ливых страстей возникнут в его сердце. Сумасбродные
мысли пустят ростки в его уме, как тернии на дикой
земле. Поместите человека в дремучий лес, он превра-
тится в дикого зверя. В монастыре, где представление
о неотвратимом соединяется с представлением о рабстве,
условия еще хуже. Из лесу можно выйти, в монастыре
остаются навсегда; в лесу — свободны, в монастыре —
рабы. Может быть, надо еще больше силы духа, чтобы
противостоять одиночеству, чем для того, чтобы выдер-
жать гнет нищеты. Нищета унижает, уединение калечит
душу. Что лучше—быть отверженным или быть безум-
ным? Я не берусь решать это; по-моему, надо избегать
того и другого.
Я видела, что нежность, которую настоятельница
возымела ко мне, растет с каждым днем. Я беспре-
станно заходила в ее келью, или она бывала в моей.
При малейшем нездоровье она приказывала мне идти в
лазарет, освобождала от посещения церковной службы,
отсылала рано ложиться спать, запрещала являться на
утреннюю молитву. На хорах, в трапезной, в рекреа-
ционном зале, везде она находила средство выказывать
мне свою дружбу. Если, во время пребывания на хорах,
встречался какой-нибудь стих, в котором звучало чувст-
во привязанности и нежности, то она пела его, обра-
щаясь в мою сторону, или смотрела на меня, если его
пела другая монахиня. В трапезной она всегда посы-
402
ЛаЛа мне что-нибудь из тех изысканных блюд, которые
подавались ей. В рекреационном зале обнимала меня
за талию, осыпала ласковыми словами и любезностями.
Она делилась со мной всяким подношением, которое
делали ей, что бы это ни было: шоколад, сахар, кофе,
ликер, табак, белье, носовые платки. Чтобы украсить
мою келью, она опустошила свою, перенеся украшавшие
ее гравюры, утварь, мебель, множество приятных и
удобных вещей. Стоило мне отлучиться па минуту, и,
вернувшись, я почти всегда находила какой-нибудь но-
вый подарок. Я шла благодарить ее, и она испытывала
невыразимую радость; обнимала меня, ласкала, сажала
к себе на колени, посвящала в самые секретные дела
монастыря и выражала надежду на жизнь в тысячу крат
более счастливую, нежели та, которую она вела раньше
в миру, только бы я любила ее. После этого она останав-
ливалась, смотрела на меня нежными глазами и гово-
рила:
— Сестра Сюзанна, любите ли вы меня?
— Как же я могу вас не любить. У меня была бы
тогда очень неблагодарная душа.
— Это правда.
— Вы проявляете ко мне такие добрые чувства.
— Скажите лучше, такую склонность...
Произнося эти слова, она опускала глаза; рука, кото-
рой она обнимала меня, сжимала сильнее; рука, которой
она опиралась на мое колено, давила на него; она при-
влекала меня к себе; мое лицо оказывалось у ее лица,
она вздыхала, откинувшись на спинку стула, дрожала,
как будто хотела сказать мне что-то по секрету и не
смела; из глаз ее текли слезы, и потом она говорила:
— Ах, сестра Сюзанна, вы меня не любите!
— Я не люблю вас, дорогая матушка?
— Нет.
— Так скажите же, чем я должна доказать вам свою
любовь?
— Вы сами должны догадаться.
— Я стараюсь, но не догадываюсь.
Тем временем настоятельница приподняла воротник
и положила мою руку к себе на грудь; она безмолвство-
вала, я также молчала; она, повидимому, испытывала ве-
личайшее наслаждение. Она упрашивала меня целовать
403
ее лоб, щеки, глаза и рот, и я повиновалась. Не думаю,
что это было дурно, между тем ее наслаждение возраста-
ло; и так как мне очень хотелось увеличить ее счастье
таким невинным способом, то я опять целовала ей лоб,
щеки, глаза и рот. Рука, которую она положила на мое
колено, прогуливалась по всей моей одежде, от ступней
до пояса, сжимая меня то в одном месте, то в другом.
Запинаясь, настоятельница умоляла меня изменившимся
тихим голосом усилить мои ласки, и я усиливала их. На-
конец, наступило мгновение, не знаю было ли это наслаж-
дение или боль, когда она сделалась бледна, как смерть;
глаза ее закрылись, все ее тело судорожно вытянулось,
губы, крепко сжатые сначала, стали влажными, как будто
подернувшись легкой пеной; затем ее рот полуоткрылся,
и мне показалось, что она умирает, испуская глубокий
вздох. Я вскочила, думая, что ей нехорошо, хотела выйти
звать па помощь. Она едва приоткрыла глаза и сказала
замирающим голосом: «Какая невинность! Не беспокой-
тесь! Куда вы? Остановитесь... Я тупо смотрела на нее,
не зная, оставаться ли мне или уходить. Она снова откры-
ла глаза, не будучи в состоянии произнести ни слова,
знаком велела мне подойти поближе и вновь сесть к ней
на колени. Не знаю, что происходило со мной. Я боялась,
дрожала, сердце мое трепетало, я дышала с трудом,
чувствовала себя смущенной, подавленной, возбужден-
ной, мне было страшно и казалось, что силы покинули
меня, что я сейчас лишусь чувств; однако нельзя сказать,
что испытываемое мною ощущение было болезненно. Я
подошла к ней; она еще раз сделала мне знак рукой,
предлагая сесть на колени; я села. Она казалась мертвой,
и я как будто собиралась умереть. Мы обе оставались
долго в этом странном состоянии. Если бы внезапно
вошла какая-нибудь монахиня, то право, она перепуга-
лась бы; она вообразила бы, что или нам дурно, или мы
заснули. Между тем мне показалось, что добрая настоя-
тельница, ибо нельзя быть такой чувствительной, не
будучи доброй, пришла в себя. Она попрежнему полу-
лежала на стуле; глаза ее все еще были закрыты, но на
лице заиграл румянец; она взяла мою руку и стала ее
целовать; я сказала:
— Ах, дорогая матушка, как вы меня напугали.
Она слабо улыбнулась, не открывая глаз.
404
— Разве вам не было плохо, матушка?
— Нет.
— А я думала, что вам плохо.
— Какая невинность! Ах, дорогая простушка! Как
она мне нравится!
С этими словами она поднялась, снова уселась на
стуле, обхватила меня поперек тела руками и стала осы-
пать щеки поцелуями; затем сказала:
— Сколько вам лет?
— Нет еще двадцати.
— Это непостижимо.
— Это правда, дорогая матушка.
— Я хочу знать всю вашу жизнь; вы расскажете
мне ее?
— Да, матушка.
— Всю?
— Всю.
Но могут войти; пойдемте сядем у клавесина: вы
дадите мне урок.
Мы подошли к клавесину. Не знаю, что со мной
было: руки мои дрожали, ноты сливались в глазах; я не
могла играть. Я оказала ей это, она рассмеялась, села
на мое место, но у нее выходило еще хуже: она едва
могла? держать руки на клавишах.
— Дитя мое,— сказала она,— я вижу, что вы не
в состоянии давать мне урок, а я не в состоянии учиться;
я немного утомлена, мне надо отдохнуть, до свидания.
Завтра я хочу без промедления знать все, что происходи-
ло в этой дорогой душе, до свидания...
Когда я выходила, она обычно провожала меня до
двери своей кельи и следила за мной глазами, пока я шла
по коридору до моей; посылала мне воздушные поцелуи
и возвращалась к себе только после того, как я входила
в свою келью. В этот раз она едва приподнялась и могла
лишь с трудом дотащиться до кресла, стоявшего рядом
с кроватью; она села, опустила голову на подушку, по-
слала мне поцелуй; глаза ее закрылись, и я ушла.
Моя келья была почти напротив кельи сестры Терезы;
дверь в нее была отворена; сестра Тереза поджидала
меня; она меня остановила и сказала:
— Ах, сестра Сюзанна, вы идете от нашей матушки?
— Да,— ответила я.
405
— Вы долго там были?
— Столько времени, сколько она хотела.
— Вы обещали мне другое.
— Я ничего вам не обещала.
— Осмелитесь ли вы сказать мне, что вы там делали?
Хотя совесть не упрекала меня ни в чем, однако, при-
знаюсь вам, господин маркиз, ее вопрос смутил меня;
она заметила это, стала настаивать, и я ответила:
— Дорогая сестра, пожалуй, вы мне не поверите, но,
может быть, поверите нашей матушке,— я попрошу ее
удовлетворить ваше любопытство.
— Дорогая сестра Сюзанна,— заторопилась она,—
будьте осторожны. Вы не захотите сделать меня несчаст-
ной. Настоятельница не простит мне этого никогда. Вы ее
не знаете: она способна перейти от величайшей чувстви-
тельности к свирепости,— не знаю, что будет со мной.
Обещайте мне ничего ей не говорить.
— Вы хотите этого?
— Я прошу вас об этом на коленях. Я в отчаянии, я
вижу, какое решение мне придется принять, я решусь на
все. Обещайте мне ничего ей не говорить...
Я подняла ее и дала ей слово молчать; она поверила
моему слову и не ошиблась; и мы заперлись в своих
кельях.
Вернувшись к себе, я задумалась; хотела молиться и
не могла; старалась чем-нибудь заняться, начала работу,
бросила ее, взялась за другую, опять бросила, принялась
за третью. Руки мои останавливались сами собой, я была
в каком-то оцепенении,— никогда не испытывала я ниче-
го подобного. Глаза мои сами закрылись, я вздремнула,
хотя никогда не сплю днем. Пробудившись, я спросила
себя, что произошло между настоятельницей и мной,
старалась разобраться в своих ощущениях,— перебирая
их, я как будто стала догадываться... но это были такие
смутные, такие безумные, такие нелепые до смешного
мысли, что я отбросила их прочь. В результате своих раз-
мышлений я пришла к выводу, что настоятельница, может
быть, подвержена болезни; потом мне пришла другая
мысль, что, может быть, эта болезнь заразительна, что
сестра Тереза заражена ею и что я тоже заболею.
На следующий день, после заутрени, настоятельница
сказала мне:
406
— Сестра Сюзанна, и надеюсь узнать сегодня все, что
с вами произошло, приходите ко мне...
Я пошла к ней. Она усадила меня в кресло рядом со
своей кроватью, а сама поместилась на стуле, который
был ниже кресла; я немного возвышалась над ней, так
как я и ростом выше ее, да и сиденье мое было выше.
Она придвинулась ко мне так близко, что мои колени
переплетались с ее коленями, и облокотилась на кро-
вать. После минутного молчания я сказала:
— Несмотря на свою молодость, я много перестра-
дала; скоро будет двадцать лет с тех пор, как я появи-
лась на свет, и все эти двадцать лет я страдаю. Не знаю,
рассказывать ли вам все, хватит ли у вас терпения вы-
слушать меня. Мучения у моих родителей, муки в мона-
стыре св. Марии, муки в лоншапском монастыре, везде
одни муки. С чего же мне начать, матушка?
— С самого начала.
— Но, дорогая матушка, это будет очень длинно
и очень тоскливо, а я не хотела бы так долго наводить
на вас тоску.
— Не бойся ничего,— я люблю поплакать. Проливать
слезы — что может быть приятнее для нежной души? И
ты, вероятно, любишь плакать,— ты утрешь мои слезы,
я утру твои, и, может быть, мы будем счастливы во время
рассказа о твоих страданиях. Кто знает к чему может
привести нас умиление?..
Произнося эти последние слова, она посмотрела на
меня снизу вверх уже влажными глазами, взяла мои
руки, подвинулась ко мне еще ближе, так что мы при-
касались друг к другу.
— Рассказывай, дитя мое,— сказала она,— я жду, я
чувствую сильнейшее желание растрогаться; я думаю,
что в моей жизни не было ни одного дня, когда душа моя
была бы столь полна сострадания и любви...
Итак, я начала свой рассказ почти с того же места,
как и свое письмо к вам. Я не нахожу слов, чтобы опи-
сать вам действие, которое он произвел на нее; испуска-
емые ею вздохи, пролитые слезы, проявление негодования
против моих жестоких родителей, против ужасных сестер
монастыря св. Марии, против сестер лоншанского мона-
стыря. Я была бы очень огорчена, если бы с ними случи-
лась хотя бы сотая доля тех бед, которые она желала
407
him; я не хотела бы, чтобы даже волос упал с головы
моего злейшего врага. Время от времени она прерывала
меня, вставала, прогуливалась, затем снова усаживалась
на свое место. Иногда она поднимала руки и глаза к небу
и затем прятала голову в моих коленях. Когда я расска-
зывала сцену, где меня вели в темницу, сцену изгнания
бесов, сцену публичного покаяния, она почти кричала.
Когда я дошла до конца и замолчала, она некоторое вре-
мя оставалась полулежа на своей кровати, уткнувшись
лицом в одеяло и простирая руки над головой; я сказа-
ла ей:
— Дорогая матушка, прошу вас простить меня за
причиненные вам огорчения; я предупреждала вас, но вы
сами хотели...
И она ответила мне следующими словами:
— Какие злые твари! Какие омерзительные и ужас-
ные твари! Только в монастырях может до такой степени
угасать человечнисть. Когда ненависть присоединяется к
обычному дурному настроению, то, бог весть, до чего
можно дойти. К счастью, я кротка; я люблю всех своих
монахинь; они занимают— одни больше, другие меньше --
место в моем сердце, и все они любят друг друга. Но
как могло такое слабое здоровье устоять против стольких
мучений? Как уцелели все эти маленькие члены? Как не
разрушился весь этот хрупкий механизм? Как не погас
от слез блеск этих глаз? Жестокосердые! Скручивать
веревками эти руки!.. И она брала мои руки и целовала
их. «Затопить слезами эти глаза!». И она целовала их.
«Вырывать жалобы и стопы из этого рта!..». И она цело-
вала его/ «Беспрестанно омрачать это очаровательное
и безмятежное лицо тучами печали!..». И она целовала
его. «Иссушить розы этих щек!..». И она ласкала их ру-
кой и целовала. «Обезображивать эту голову! Вырывать
эти волосы! Отягчать этот лоб заботами!». И она целова-
ла мне голову, лоб, волосы... «Осмелиться накинуть ве-
ревку на эту шею и раздирать эти плечи остриями!..». И
она отодвигала покрывало с моей шеи и головы; приот-
крывала верх моего платья; мои волосы рассыпались по
открытым плечам; моя грудь была наполовину обнаже-
на, и она осыпала своими поцелуями мою шею, открытые
плечи и полуобнаженную грудь.
Я заметила тогда по охватившей ее дрожи, по сбив-
408
чивости ее речи, по блужданию глаз и рук, по тому, как
ее колени стиснули мои, по пылкости, с какой она меня
сжимала, и по неистовству ее объятий, что приступ ее
болезни готов повториться. Не знаю, что происходило со
мной, но меня охватил ужас, я трепетала и чувствовала
внезапный упадок сил, все это подтвердило мне подозре-
ние, возникшее у меня, что болезнь ее заразительна.
Я сказала ей:
— Дорогая матушка, посмотрите, в какой беспорядок
вы меня привели. Если войдут...
— Останься, останься,— сказала она сдавленным
голосом,— не войдут...
Однако я сделала усилие, чтобы подняться и вы-
рваться от нее, и сказала:
— Дорогая матушка, остерегайтесь, как бы ваша
болезнь не поразила вас снова. Разрешите мне уйти...
Я хотела удалиться, я хотела этого, в этом нет ника-
кого сомнения, но не могла. Я чувствовала, что обесси-
лела, колени подгибались подо мной. Настоятельница
сидела, я стояла, она тянула меня к себе, я боялась
упасть на нее и ушибить ее; я села на край ее кровати и
сказала:
— Дорогая матушка, не знаю, что со мной, мне не-
хорошо.
— И мне также,— сказала она,— но отдохни минутку,
это пройдет, это ничего...
Действительно, моя настоятельница успокоилась, и я
также. Обе мы были в полном изнеможении; я опустила
голову на ее подушку; она положила свою на мое колено,
прижавшись лбом к моей руке. Несколько минут мы
оставались в таком положении. Не знаю, о чем она дума-
ла, что касается меня, то я не думала ни о чем, я не
могла думать,— всю меня охватила слабость. Мы хра-
нили молчание; настоятельница первая нарушила его;
она сказала:
— Сюзанна, мне показалось, судя по тому, что зы
рассказывали о вашей первой настоятельнице, что вы
очень любили ее.
— Очень.
— Она любила вас не больше, чем я. Но вы любили
ее больше... Что же вы не отвечаете?
— Я была несчастна, она смягчала мои горести.
409
— Но откуда у вас такое отвращение к монашеской
жизни? Сюзанна, вы мне не все сказали.
— Простите, матушка.
— При вашем обаянии, дитя мое,— а вы сами не
знаете, насколько оно велико? Не может быть, чтобы
никто не говорил вам этого.
— Мне это говорили).
— И тот, кто вам говорил это, не был вам антипати-
чен?
— Нет.
— И вы увлекались им.
— Ничуть.
— Как, ваше сердце никогда ничего не чувствовало?
— Ничего.
— Так значит не страсть, тайная или осуждаемая
вашими родителями, вызвала в вас это отвращение
к монастырю? Доверьте мне свою тайну,— я снисходи-
тельна.
— У меня нет никакой тайны, матушка, которую я
могла бы доверить вам.
— Но еще раз спрашиваю вас, отчего происходит
ваше отвращение к монашеской жизни?
— Сама эта жизнь вызывает во мне отвращение. Я
ненавижу весь монастырский уклад, затворничество, при-
нуждение. Мне кажется, у меня иное призвание.
— Но почему вам это кажется?
— Меня гнетет тоска; я скучаю.
— Даже здесь?
— Да, матушка, даже здесь, несмотря на всю вашу
доброту ко мне.
— Но не испытываете ли вы тайных волнений, жела-
ний?
— Никаких.
— Верю этому; у вас, кажется, спокойный характер.
— Довольно спокойный.
— Даже холодный.
— Не знаю.
— Вы не знаете мирской жизни.
— Я плохо знаю ее.
— Чем же тогда она может привлекать вас?
— Я не могу этого объяснить как следует, но все же,
должно быть, в ней есть нечто привлекательное,
410
— Не жалеете ли вы о свободе?
— Да, и, может быть, о многом другом.
— Что же это другое? Друг мой, говорите со мной
откровенно: вы хотели бы выйти замуж?
— Я предпочла бы замужество тому положению, в ка-
ком нахожусь,— это верно.
— Откуда это предпочтение?
— Не знаю.
— Вы не знаете этого? Но, скажите мне, какое впе-
чатление производит на вас присутствие мужчины?
— Никакого; если он умен и хорошо говорит, я слу-
шаю его с удовольствием; если у него красивое лицо, я
замечаю это.
— И ваше сердце спокойно?
— До настоящего времени, оно не знало волнений.
— Как! Когда мужчины смотрели загоревшимися
глазами в ваши глаза, неужели вы не чувствовали...
— Иногда некоторое замешательство,— они заставля-
ли меня опускать глаза.
— И никакого волнения?
— Никакого.
— И ваши чувства ничего вам не говорили?
— Я не знаю, что такое язык чувств.
— Однако они имеют его.
— Может быть.
— И вы не знаете его?
— Не имею о нем понятия.
— Как! Вы... Этот язык очень приятен; хотели бы вы
узнать его?
— Нет, дорогая матушка, к чему это послужило бы?
— Это рассеяло бы вашу скуку.
— Может быть, увеличило бы ее. И кроме того, какое
значение имеет этот язык чувств, когда не с кем гово-
рить.
— Когда говорят, то всегда обращаются к кому-ни-
будь, это без сомнения лучше, чем беседовать с самим
собой наедине, хотя и это не лишено удовольствия.
— Я ничего не понимаю в этом.
— Если хочешь, дорогое дитя, я разъясню тебе это.
— Нет, матушка, нет, я не знаю ничего и предпочи-
таю ничего не знать, чем приобретать знания, которые
сделали бы меня еще более достойной жалости, нежели
411
теперь. Мне чужды какие бы то ни было желания, и я
вовсе не стремлюсь к таким, каких не могла бы удовле-
творить.
— Почему же не могли бы?
— А как же я могла бы удовлетворить эти желания?
— Как я.
— Как вы! Но в этом монастыре нет никого.
— Я здесь, дорогой друг; вы здесь.
— Ну, и что же? Что я вам? И что вы мне?
— О, какая невинность!
— О, это верно, матушка, я совершенно невинна и
предпочла бы умереть, нежели перестать быть ею.
Не знаю, почему эти последние слова могли рас-
строить настоятельницу, но лицо ее вдруг изменилось;
она сделалась серьезной, пришла в замешательство; рука,
которую она держала на моем колене, сначала перестала
его сжимать, потом она отняла ее; глаза ее были опу-
щены.
Я сказала ей:
— Что случилось, матушка? Неужели у меня сорва-
лось какое-нибудь слово, которое могло оскорбить вас?
Простите меня. Я злоупотребляю предоставленной мне
вами свободой; не взвешиваю ничего из того, что говорю
вам, и, кроме того, если бы даже я взвешивала свои
слова, то сказала бы то же самое, а может быть, что-ни-
будь еще более неуместное. Предметы, о которых мы бе-
седуем, так чужды мне! Простите меня...
Говоря эти последние слова, я обвила руками ее шею
и положила голову к ней на плечо. Она порывисто обняла
меня и очень нежно прижала к себе. Мы оставались так
несколько мгновений; затем к ней вернулась ее нежность
и хорошее настроение, и она сказала мне:
— Сюзанна, вы хорошо спите?
— Очень хорошо, в особенности в последнее время.
— Вы сейчас же засыпаете?
— Обыкновенно да.
— А когда вы не можете сразу заснуть, о чем вы
думаете?
— О своей прошлой жизни, о будущей, или молюсь
богу, или плачу,— о чем же мне еще думать?
— А утром, когда вы рано просыпаетесь?
— Я встаю.
412
— Сейчас же?
— Сейчас же.
— Значит вы не любите помечтать?
— Нет.
— Понежиться на подушке?
— Нет.
— Насладиться приятной теплотой постели?
— Нет.
— Никогда?
Она остановилась на этом слове, и не без основания
Нехорошо было спрашивать о том, о чем она собиралась
меня спросить, и, может быть, еще хуже говорить об этом,
но я решила ничего не скрывать.
— У вас никогда не являлось искушения взглянуть
на себя, полюбоваться своей красотой?
— Нет, матушка. Я не знаю, так ли я красива, как вы
говорите; и кроме того, если бы это было даже и так, то
красота существует для других, а не для себя.
— Вам никогда не приходила мысль провести руками
по этой прекрасной груди, по этим бедрам, по этому
животу, по всему этому твердому, нежному и белому
телу?
— О, конечно, никогда,— ведь это грех, и если бы это
случилось со мной, то не знаю, как я созналась бы в этом
на исповеди...
Не помню, что мы говорили еще, как вдруг пришли
доложить настоятельнице, что ее просят в приемную. Мне
показалось, что этот визит раздосадовал ее и что она
предпочла бы разговор со мной, хотя мы говорили о таких
вещах, что не стоило об этом жалеть; тем не менее мы
расстались.
Община никогда не была так счастлива, как со вре-
мени моего вступления в монастырь. Настоятельница как
будто утратила неровность своего характера. Говорили,
что я сделала ее уравновешенной. Она устроила даже
в честь меня несколько дней, свободных от обычных заня-
тий— так называемых праздников; в эти дни трапеза не-
сколько лучше обыкновенного, церковные службы короче,
и все время между ними предоставлено отдыху. Но это
счастливое время должно было кончиться для других и
для меня.
За только что описанной мною сценой последовало
413
множество других в том же роде,— я пропускаю их. Вот
продолжение первой.
Беспокойство начало овладевать настоятельницей; oh-i
потеряла веселость, покой, осунулась. В следующую ночь,
когда все спали и в монастыре царствовала тишина, она
встала и, побродив некоторое время по коридорам, подо-
шла к моей келье. У меня чуткий сон, и мне показалось,
что это настоятельница. Она остановилась и, повидимому,
прижимаясь лбом к моей двери, стукнула настолько
сильно, что разбудила бы меня, если бы я спала. Я мол-
чала; мне показалось, что я слышу стоны и вздохи;
сначала я вздрогнула, затем решила прочесть Ave; вместо
ответа, послышались легкие, удаляющиеся шаги. Через
некоторое время опять подошли, стоны и вздохи возобно-
вились; я еще раз прочла Ave, и от двери вторично удали-
лись. Я приободрилась и заснула. В то время как я спала,
кто-то вошел, сел возле моей кровати, отдернул наполо-
вину полог, освещая мне лицо тоненькой свечкой; держав-
шая ее смотрела, как я сплю; по крайней мере, так истол-
ковала я ее позу, когда открыла глаза,— это была настоя-
тельница.
Я вскочила; она заметила мой испуг и промолвила:
— Сюзанна, успокойтесь, это я...
Я снова положила голову на подушку и сказала ей:
— Матушка, что делаете вы здесь в такое время?
Что могло привести вас сюда? Почему вы не спите?
— Я не могу заснуть,— ответила она,— я давно не
сплю. Меня мучат кошмары. Едва я закрою глаза, как
мне живо представляются страдания, которым вы подвер-
гались, я вижу вас в руках этих бесчеловечных созданий,
вижу ваши волосы, рассыпавшиеся по лицу, вижу ваши
окровавленные ноги, факел в руке, веревку на шее. Мне
кажется, что они замышляют убить вас; я вздрагиваю,
я дрожу, холодный пот выступает на всем моем теле, я
хочу придти вам на помощь, испускаю крики, просыпаюсь
и тщетно жду возвращения сна. Вот что произошло со»
мной этой ночью: меня охватил страх, мне представилось,
что я получила свыше весть о какой-то беде, случившейся
с моим другом. Я встала, подошла к вашей двери, при-
слушалась. Мне показалось, что вы не спите. Вы загово-
рили, я ушла. Я вернулась, вы опять заговорили, и я опять
удалилась. Я вернулась в третий раз и, когда подумала,
414
что вы заснули, вошла. Я уже довольно долго сижу возле
и боюсь вас разбудить. Сначала я не решалась отодви-
нуть ваш полог, хотела уйти, боясь потревожить ваш
покой, но не могла противостоять желанию увидеть,
хорошо ли чувствует себя моя дорогая Сюзанна. Я смот-
рела на вас: как вы прекрасны, даже во время сна!
— Как вы добры, дорогая матушка!
— Я простудилась, по знаю теперь, что мне нечего
бояться за свое дитя, я думаю, что усну. Дайте мне вашу
руку.
Я дала ей руку.
— Как спокоен пульс! Как он ровен! Ничто не вол-
нует ее.
— У меня довольно спокойный сон.
— Какая вы счастливица!
— Матушка, вы еще больше простудитесь.
— Вы правы, до свидания, прекрасный друг, до сви-
дания, я ухожу.
Однако она и не думала уходить и продолжала смот-
реть на меня; две слезы покатились из ее глаз.
— Дорогая матушка,— сказала я,— что с вами? Вы
плачете; как мне досадно, что я рассказала вам о своих
горестях!..
Она мигом заперла дверь, погасила свечу и кинулась
ко мне. Держа меня в своих объятиях, она легла на
одеяло рядом со мной, ее лицо прильнуло к моему, ее
слезы мочили мои щеки. Она вздыхала и говорила мне
жалобным прерывающимся голосом:
— Дорогой друг, сжальтесь надо мной!
— Что с вами, матушка? Вам нехорошо? Что же я
должна сделать?
— Я дрожу, у меня озноб; смертельный холод раз-
ливается по моему телу.
— Хотите, я встану и уступлю вам свою кровать?
— Нет, вам незачем вставать; приподнимите только
немного одеяло, чтобы я могла быть поближе к вам;
дайте мне согреться, и я выздоровлю.
— Но это запрещено, матушка. Что скажут, если
узнают это? За гораздо меньшую вину налагают эпи-
тимью на монахинь. Я была свидетельницей этого. В мона-
стыре св. Марии как-то раз одна монахиня пошла ночью
в келью другой, своей хорошей подруги, и если бы вы
415
только знали, что подумали о ней. Духовник спрашивал
меня иногда, не предлагал ли мне кто-либо ночевать со
мной, и строго внушал мне не допускать этого. Я ему
рассказала даже о том, как вы ласкаете меня; я нахожу
эти ласки очень невинными, по он думает об этом совсем
иначе. Не знаю, как я забыла его советы,— я намерева-
лась поговорить с вами об этом.
— Дорогой друг,— сказала она.— Все спят вокруг нас,
никто ничего не узнает. Я награждаю и я караю. Что бы
ни говорил духовник, я не вижу ничего дурного в том, что
одна подруга пустит к себе другую, которая проснулась,
охваченная беспокойством, и пришла ночью, несмотря на
холод, посмотреть, не грозит ли какая-либо опасность ее
возлюбленной. Сюзанна, неужели у своих родителей вы
никогда не спали в одной постели с вашей сестрой?
— Нет, никогда.
— Если бы представился случай, то неужели вы не
легли бы с ней со спокойной совестью? Если бы ваша
сестра, встревоженная и окоченевшая от холода, пришла
попросить вас дать ей местечко рядом с вами, неужели
вы отказали бы ей.
— Думаю, что нет.
— А разве я не ваша матушка?
— Да, это так, но это запрещено.
— Дорогой друг, я запрещаю это другим, а вам я это
разрешаю и прошу вас об этом. Дайте мне погреться
минутку, и я уйду. Дайте мне вашу руку...
Я дала ей руку.
— Вот,— сказала она,— пощупайте, видите, я дрожу,
у меня озноб, я как ледышка...
И это была правда.
— О дорогая матушка, вы заболеете. По погодите, я
отодвинусь к краю, и вы ляжете на теплое место.
Я примостилась сбоку, убрала одеяло, и она легла на
мое место. О, как ей было плохо! Вся она тряслась, как
в лихорадке. Она хотела говорить со мной, хотела под-
винуться ближе и не могла произнести членораздельно
ни одного слова, не могла пошевельнуться. Она сказала
мне шопотом:
— Сюзанна, друг мой, подвиньтесь поближе...
Она протянула руки; я повернулась к ней спиной; она
осторожно взяла меня и привлекла к себе; правую руку
410
просунула под мое туловище, а левую положила сверху
и сказала:
— Я замерзла; мне так холодно, что я боюсь дотро-
нуться до вас: вы заболеете.
— Дорогая матушка, не бойтесь ничего.
Она тотчас же положила одну руку на мою грудь,
а другой обвила мне талию; ее ступни были под моими
ступнями, и я сжимала их, чтобы согреть; и матушка
сказала:
— Ах, дорогой друг, видите, как скоро согрелись мои
ноги, оттого что ничто не отделяет их от ваших.
— Но,— сказала я,— что же мешает вам согреть все
тело таким же образом?
— Ничего, если вы хотите.
Я повернулась к пей, она подняла свою рубашку, а
я собиралась поднять свою, как вдруг в дверь неистово
застучали. Я в ужасе соскочила с кровати в одну сторону,
а настоятельница в другую. Мы стали прислушиваться
и услышали, что кто-то на цыпочках подходит к соседней
келье.
— Ах! — сказала я,— это сестра Тереза; она видела,
как вы прошли по коридору и вошли ко мне; она под-
слушала нас, она услыхала наш разговор; что она
скажет?..
Я была пи жива, ни мертва.
— Да, это она,— сказала настоятельница раздражен-
ным тоном,— это она, я не сомневаюсь в этом, по я на-
деюсь, что она долго будет помнить свою дерзкую
выходку.
— Ах, матушка, не делайте ей ничего дурного!
— Сюзанна, прощайте, покойной ночи. Ложитесь,
усните, освобождаю вас от утренней молитвы. Я пойду
к этой сумасбродке. Дайте мне вашу руку...
Я протянула ей руку с одного края кровати к другому;
она подняла рукав и, вздыхая, всю ее покрыла поце-
луями— от конца пальцев до плеча; затем она вышла,
заявляя, что дерзкая, осмелившаяся ее потревожить, по-
помнит это. Я тотчас же быстро передвинулась к другому
концу моего ложа ближе к двери и стала слушать. Она
вошла к сестре Терезе. Я думала было встать и пойти
заступиться за сестру, если сцена сделается бурной, но
я была так смущена, мне было так не по себе, что я пред-
417
почла остаться в постели, однако Не заснула. Я думала
о том, что весь монастырь заговорит обо мне; что эта
история, не заключавшая в себе ничего особенного, будет
рассказана с самыми неблагоприятными комментариями;
что будет еще хуже, чем в Лоншане, где меня обвинили
неизвестно за что; что наш проступок дойдет до сведения
церковных властей, настоятельница будет смещена, и обе
мы будем строго наказаны. Тем временем я прислушива-
лась, ожидая с нетерпением, когда матушка выйдет от
сестры Терезы, но, повидимому, это дело было трудно
уладить, ибо она провела там почти всю ночь. Как мне
было жаль ее! — она была в одной рубашке, совсем голая,
разгневанная, застывшая от холода.
Утром мне очень хотелось воспользоваться ее разреше-
нием и остаться в постели. Однако мне пришла мысль,
что этого не следует делать. Я поспешно оделась и пер-
вой пришла на хоры, куда настоятельница и сестра Тереза
не явились вовсе; это доставило мне большое удоволь-
ствие: во-первых, в присутствии этой сестры я испыты-
вала бы крайнее смущение; во-вторых, разрешение про-
пустить службу показывало, что настоятельница простила
ее, и мне не о чем было больше беспокоиться. Я угадала.
Едва служба кончилась, как настоятельница велела
позвать меня. Я пошла к ней. Она была еще в постели,
у нее был крайне утомленный вид; она сказала мне:
— Я больна; я совсем не спала; сестра Тереза сумас-
шедшая; если это случится с ней еще раз, я запру ее.
— Ах, матушка,— сказала я,— не запирайте ее ни-
когда.
— Это будет зависеть от ее поведения. Она обещала
мне вести себя лучше; я полагаюсь на ее обещание. Л вы,
дорогая Сюзанна, как вы себя чувствуете?
— Хорошо, матушка.
— Вздремнули ли вы?
— Немного.
— Мне сказали, что вы были на хорах, почему вы не
остались в постели?
— Я чувствовала бы себя там плохо, и потом я поду-
мала, что лучше будет...
— Нет, в этом нет ровно ничего неудобного. Но мне
хочется вздремнуть. Советую вам сделать то же в своей
418
келье, если только вы не предпочитаете занять место
рядом со мной.
— Матушка, я вам бесконечно признательна; я при-
выкла спать одна и не могла бы заснуть с другой.
— Идите же. Я не пойду обедать в трапезную,— мне
подадут сюда. Может быть, я останусь в постели весь
день. Приходите ко мне, я позвала еще кое-кого.
— А сестра Тереза будет у вас?— спросила я.
— Нет,— ответила она.
— Я не огорчена этим.
— Почему же?
— Не знаю, мне кажется, я боюсь встречаться с нею.
— Успокойтесь, дитя мое; уверяю, что она сама боится
вас, а вам нечего ее бояться.
От настоятельницы я пошла к себе отдохнуть, а после
полудня отправилась к ней и застала у нее довольно
многочисленное собрание самых молодых и красивых
монахинь монастыря; другие заходили навестить ее и
ушли. Вы знаете толк в живописи, господин маркиз;
уверяю вас, это была довольно приятная для глаз кар-
тина. Вообразите мастерскую, в которой работают девять-
двенадцать девушек; самой юной из них каких-нибудь
пятнадцать лет, а старшей не более двадцати трех.
Настоятельница, лет сорока, белая, свежая, дородная,
полусидела на кровати. У нее двойной подбородок,
нисколько не портящий ее, круглые, словно точеные руки,
тонкие пальцы, усыпанные перстнями; черные, большие,
живые и нежные глаза, почти всегда полузакрытые, как
будто обладательнице этих глаз утомительно открывать
их; губы алые, как роза, зубы белые, как молоко, прелест-
ные щеки, очень приятная голова, глубоко ушедшая
в мягкую подушку; руки в истоме вытянулись по бокам,
поддерживаемые подложенными под локти подушечками.
Я села на край постели и ничего не делала. Одна из мона-
хинь сидела в кресле, с маленькими пяльцами на коленях,
другие у окоп вязали кружева, или, сидя на полу, на подуш-
ках, снятых со стульев, шили, вышивали, раздергивали по
ниткам ткань, или пряли на маленьких прялках. Одни»
были блондинки, другие брюнетки, — ни одна не походила
на другую, хотя все были красивы. Их характеры были
также разнообразны, как и физиономии; одни невозму-
тимо спокойны, другие веселы, третьи серьезны, мелан-
419
холичны или грустны. Как я вам сказала, все, за исклю-
чением меня, работали. Нетрудно было угадать, кто
с кем враждует, кто дружен, кто к кому относится равно-
душно: подруги поместились или рядом, или друг против
друга,— они болтали, не прекращая работы, давали друг
другу советы, украдкой переглядывались, передавали
булавку, иглу, ножницы, пользуясь этим, чтобы пожать
друг другу пальцы. Настоятельница переводила глаза
с одной па другую; одну журила за прилежание, другую
за леность, третью за равнодушное отношение к делу,
четвертую за грусть. Приказывала подавать ей работу,
порицала или хвалила, поправляла головной убор:
«Покрывало чересчур надвинуто... полотно слишком за-
крывает лицо, ваши щеки недостаточно видны... Вот эти
складки плохо лежат»... Она никого не обошла, пожурила
или приласкала каждую. В то время как все были заня-
ты таким образом, я услышала тихий стук и пошла к
двери. Настоятельница сказала:
— Сестра Сюзанна, возвращайтесь обратно. Непре-
менно возвращайтесь, мне надо сообщить вам кое-что
важное.
— Я сейчас вернусь...
Эта была бедная сестра Тереза. В первую минуту она
не могла произнести ни слова, я также молчала; затем я
сказала ей:
— Дорогая сестра, я вам нужна?
— Да.
— Что вам угодно?
— Сейчас скажу. Я впала в немилость у нашей
матушки, я полагала, что она простила меня, и имела не-
которое основание это думать; однако вы все собрались
у нее, а меня там нет, мне приказано оставаться в келье.
— А вы хотели бы войти?
— Да.
— И желали бы, чтобы я испросила разрешение?
— Да.
— Подождите, дорогой друг, я пойду к ней.
— Правда, вы будете просить ее за меня?
— Конечно, почему же мне не обещать вам этого и не
исполнить своего обещания?
— Ах,—сказала она нежно глядя па меня,— я про-
420
щаю ей, прощаю увлечение вами,— вы обладаете всеми
чарами: прекраснейшей душой и прекраснейшим телом.
Я с величайшей радостью готова была оказать ей эту
маленькую услугу. Я вернулась в келью. В мое отсутствие
другая сестра заняла мое место на краю постели настоя-
тельницы, наклонилась к ней, оперлась локтем между ее
ног и показывала ей свою работу; настоятельница, полу-
закрыв глаза, отвечала «да» или «нет», почти не глядя
на нее; я стояла возле, но она меня не заметила. Однако
она вскоре очнулась от своей рассеянности. Занимавшая
мое место уступила мне его; я снова села и, слегка накло-
нившись к настоятельнице, которая приподнялась на
подушках, молча смотрела на нее таким взглядом, кото-
рый говорил, что я хочу просить ее о какой-то милости.
— Ну,— сказала она,— в чем дело? Говорите, чего вы
хотите. Разве могу я отказать вам в чем-нибудь?
— Сестра Тереза...
— Понимаю. Я очень недовольна ею, по сестра Сюзан-
на заступается за нее, и я ее прощаю; идите, скажите ей,
что она может войти.
Я побежала. Бедная сестренка ждала у двери; я сказа-
ла ей, чтобы она шла. Тереза двинулась, дрожа и опустив
глаза. При первом же шаге она уронила прикрепленный
к убору длинный кусок кисеи, который держала в руках,
я подобрала его, взяла ее под руку и подвела к настоя-
тельнице. Она бросилась на колени, схватила руку матуш-
ки, поцеловала ее, вздыхая и проливая слезы, затем завла-
дела моей рукой, вложила ее в руку настоятельницы и по-
целовала ту и другую. Настоятельница знаком велела ей
встать и занять любое место,— она повиновалась. Подали
угощение. Настоятельница встала с постели. Она не села
с нами, а прохаживалась вокруг стола и то клала руку на
голову какой-нибудь сестры, слегка откидывая ее назад и
целуя в лоб, то поднимала покрывало на шее другой, кла-
ла на нее руку и оставалась так, опираясь на спинку крес-
ла; перейдя к третьей, гладила ее или подносила свою ру-
ку к ее губам; пробовала угощение и потчевала то одну,
то другую. Пройдясь таким образом, она остановилась
против меня, глядя очень нежными и любящими глазами.
Тем временем остальные, в особенности сестра Тереза,
опустили глаза, как будто боялись помешать ей или от-
влечь ее внимание. По окончании угощения я села за кла-
421
весин; я аккомпанировала двум сестрам. Хотя они и не
учились, но пели со вкусом, правильно, и у них были го-
лоса. Я также пела, аккомпанируя себе. Настоятельница
сидела у подножья клавесина и, казалось, испытывала
величайшее наслаждение, внимая мне, созерцая меня,—
остальные слушали стоя и ничего не делали или же снова
принялись за работу. Это был восхитительный вечер. На-
конец, все разошлись.
Я пошла с другими, но настоятельница остановила
меня.
— Который час? — спросила она.
— Около шести.
— Сейчас придут некоторые монахини из нашего капи-
тула. Я обсудила то, что вы рассказывали мне о вашем
выходе из лоншанского монастыря, и сообщила им свои
соображения. Они одобрили их, и мы хотим предложить
вам кое-что. Успех нам обеспечен, а если мы достигнем
своей цели, то и монастырь будет не в убытке, и вам будет
приятно...
В шесть часов вошли члены монастырского капитула:
он состоит всегда из самых дряхлых и старых монахинь.
Я встала, они сели; и настоятельница сказала:
— Сестра Сюзанна, вы ведь говорили мне, что г-н Ма-
нури облагодетельствовал вас, внеся сюда за вас вклад?
— Да, матушка.
— Они вам ничего не вернули?
— Нет, матушка.
— И не дают никакой пенсии?
--- Нет, матушка.
— Это несправедливо; я сообщила это членам нашего
капитула, и они думают, как и я, что вы вправе требовать
от лоншанских сестер возвращения этого вклада, переда-
чи его в наш монастырь или назначения вам пенсии.
Вклад, который вы обязаны участию г-на Манури, не
имеет ничего общего с тем, который сестры лоншанского
монастыря должны вам: он внес за вас вклад вовсе не в
уплату их долга.
— Я думаю то же, но чтобы удостовериться, всего про-
ще написать.
— Несомненно, но в случае получения от пего положи-
тельного ответа мы намерены сделать вам следующее
предложение. Мы начнем от вашего имени процесс против
422
лоншанского монастыря. Наш монастырь покроет расходы
по ведению дела; они не будут велики, так как, всего ве-
роятнее, г-н Манури не откажется взять па себя это дело.
Если мы выиграем, то монастырь разделит с вами попо-
лам капитал или пенсию. Что думаете вы об этом, дорогая
сестра? Вы не отвечаете, вы задумались?
— Я думаю, эти лоншапские сестры сделали мне много
зла, и я была бы в отчаянии, если бы они вообразили, что
я мщу им.
— Дело идет не о мести, а о требовании обратно
того, что вам должны.
— Значит, придется еще раз привлечь к себе общее
внимание.
— Об этом нечего беспокоиться. О вас почти не будет
и речи. И потом наша община бедна, а лоншанская бога-
та. Вы будете нашей благотворительницей, по крайней ме-
ре, пока мы живы. Не из-за этого, конечно, мы хотим со-
хранить вас, мы все вас любим...
И все члены капитула сказали хором:
— Да, разве есть кто-нибудь, кто не любил бы ее?
Она — само совершенство.
— Я с минуты па минуту могу перестать быть настоя-
тельницей, другая, может быть, не будет питать к вам
таких чувств, как я. Ах, конечно, она не будет питать их.
У вас могут быть недомогания, мелкие нужды. Очень при-
ятно иметь в своем распоряжении небольшие деньги, что-
бы облегчать свою жизнь или делать что-нибудь для дру-
гих.
— Дорогие матери,— сказала я им.— Я не могу прене-
брегать этими соображениями, они продиктованы вашей
добротой ко мне. Однако есть и другие, более веские в
моих глазах, но ради вас я готова поступиться всем, по-
давить какое угодно отвращение. Единственная милость,
которой я прошу у вас, матушка,— ничего не начи-
нать, не посоветовавшись в моем присутствии с г-ном
Манури.
— Это как раз то, что надо. Вы сами хотите написать
ему?
— Как вам угодно, матушка.
— Напишите ему, и, чтобы не возвращаться к этому
дважды, ибо я терпеть не могу дел такого рода, они вызы-
вают во мне отчаянную скуку,— напишите ему сейчас же.
423
Мне дали перо, чернил и бумаги, и я немедленно об-
ратилась к г-ну Манури с просьбой соблаговолить при-
ехать в Арпажон, как только ему позволят дела. Я напи-
сала, что опять нуждаюсь в его помощи и советах по до-
вольно важному делу и т. д. Монастырский капитул про-
чел это письмо, одобрил, и оно было послано.
Г-н Манури приехал через несколько дней. Настоя-
тельница изложила ему дело. Ни минуты не колеблясь, он
присоединился к ее мнению. Моя щепетильность показа-
лась ему смешной. Было решено на следующий же день
предъявить иск монахиням лоншанского монастыря. Иск
был предъявлен, и вот, вопреки моему желанию, имя мое
снова появилось в докладных записках, в заявлениях
сторон, при разборе дела в суде, и все это со всякими под-
робностями, с нагромождением лжи и всевозможных кле-
ветнических измышлений, какие могли бы бросить на ме-
ня тень в глазах судей и вооружить против меня общест-
венное мнение. Но почему, господии маркиз, адвокатам
позволяют клеветать, сколько им вздумается? Неужели
нет на них никакой управы? Если бы я могла предвидеть
все огорчения, которые повлечет это дело, уверяю вас, я
никогда не согласилась бы начать его. Нескольким мона-
хиням нашего монастыря позаботились прислать доку-
менты, оглашенные па суде и направленные против меня.
Они ежеминутно подходили ко мне и расспрашивали о
подробностях ужасных событий, которые были сплошным
вымыслом. Чем больше неведения обнаруживала я, тем
больше верили в мою виновность; верили, что все это
правда, так как я не объясняла ничего, не признавалась
пи в чем, отрицала все; с улыбочкой делали мне темные,
по очень оскорбительные намеки; пожимали плечами, под-
трунивали над моей невинностью. Я плакала, я была без-
утешна.
Но беда никогда не приходит одна. Наступило время
исповеди. Я уже покаялась в первых ласках настоятель-
ницы. Духовник строго-настрого запретил мне соглашать-
ся на них в дальнейшем, но как отказать той, от которой
всецело зависишь, в том, что доставляет ей большое удо-
вольствие, и в чем не видишь сама ничего дурного?
Духовник этот должен играть большую роль в моих
424
остальных записках, и я думаю поэтому, что вам следует
познакомиться с ним.
Это францисканец; его зовут отец Лемуан; ему не бо-
лее сорока пяти лет. Редко можно встретить такое пре-
красное лицо: оно кроткое, ясное, открытое, смеющееся,
приятное, когда он не думает о производимом впечатле-
нии, но когда он думает об этом, его лоб покрывается
морщинами, брови хмурятся, глаза смотрят вниз, и ма-
нера держать себя делается суровой. Я не знаю двух лю-
дей более различных, чем отец Лемуан у алтаря и отец
Лемуан в приемной, один или в компании. Впрочем, все
монашествующие таковы, и даже я сама, идя к решетке
приемной, несколько раз ловила себя на том, что я вне-
запно останавливаюсь, поправляю покрывало, повязку па
голове, придаю особое выражение лицу, глазам, рту, из-
меняю положение рук, осанку, походку, сообщаю своим
манерам напускную скромность, сохраняя ее более или
менее долго, смотря по тому, с кем мне приходится гово-
рить. Отец Лемуан — высокого роста, хорошо сложен,
весел и очень любезен, когда забывает о своем звании.
Он чудесно говорит и пользуется в монастыре репутацией
ученого богослова, а в миру слывет замечательным про-
поведником. От его бесед приходят в восторг. Этот чело-
век обладает глубокими познаниями во многих областях,
не имеющих никакого отношения к его званию. У него пре-
красный голос, он знает музыку, историю и языки: он док-
тор Сорбонны. Несмотря на свой возраст, он прошел уже
главные степени своего ордена. Мне кажется, что он
не интриган и лишен честолюбия; его любят собратья.
Он ходатайствовал о назначении его настоятелем Этамп-
ского монастыря, полагая, что на этом покойном посту
он мог бы, не отвлекаясь ничем, отдаться некоторым нача-
тым им научным исследованиям, и получил это назначе-
ние. Для монастыря выбор духовника — дело большой
важности: надо иметь пастырем значительного и
заметного человека. Сделали все, чтобы заполучить отца
Лемуана, и он выполнял обязанности духовника, по край-
ней мере в особо важных случаях.
Накануне больших праздников из монастыря посыла-
ли за ним карету, и он приезжал. И надо было видеть,
какая суета поднималась по всей общине, когда ждали
его приезда; какая радость была написана на лицах, как
425
запирались в кельях, готовясь к исповеди и придумывая,
как запять его возможно дольше.
Был канун троицына дня. Его ждали. Меня мучило
беспокойство, настоятельница заметила это и заговорила
со мной. Я не скрыла от нее причины своего беспокойства.
Мне показалось, что она встревожена еще больше меня,
хотя и старалась не показать вида. Она иронически гово-
рила об отце Лемуане, подтрунивала над моей мнитель-
ностью, спросила меня, неужели отец Лемуан знает боль-
ше о чистоте моих и ее чувств, нежели наша совесть, и
упрекает ли меня моя совесть в чем-либо. Я ответила ей,
что нет.
— Ну, так вот! — сказала она.— Я ваша настоятель-
ница, вы обязаны повиноваться мне, и я приказываю вам
не говорить ему ни слова об этих глупостях. Незачем идти
на исповедь, если вам нечего сказать ему, кроме этих пу-
стяков.
Между тем отец Лемуан прибыл, и я готовилась к ис-
поведи, в то время как исповедальней завладели опере-
дившие меня. Приближалась моя очередь, по тут настоя-
тельница подошла ко мне, отвела в сторону и сказала:
— Сестра Сюзанна, я обдумала то, что вы мне сказа-
ли. Возвращайтесь в свою келью, я не хочу, чтобы вы шли
сегодня на исповедь.
— Но почему же, матушка? — ответила я.— Завтра
большой праздник, все будут причащаться в этот день. Что
подумают, если я одна не подойду к святому престолу?
— Это не имеет значения, пусть говорят, что хотят, но
вы ни в коем случае не пойдете на исповедь.
— Дорогая матушка, если вы меня действительно лю-
бите, не налагайте на меня этого испытания, умоляю вас.
— Нет, нет, я не могу этого допустить. Вы с этим че-
ловеком впутаете меня в какую-нибудь неприятную исто-
рию, а я вовсе не хочу этого.
— Нет, матушка, я не сделаю ничего подобного!
— Обещайте же мне... Но все равно, завтра утром вы
придете ко мне в комнату и покаетесь в своих грехах: за
вами нет никакой вины, которой я не могла бы простить
вам; и вы будете причащаться вместе с другими. Сту-
пайте.
Итак, я ушла к себе и оставалась в своей келье, пе-
чальная, встревоженная, размышляя и не зная, какое ре-
426
шение принять, идти ли мне к отцу Лемуану, несмотря на
запрещение настоятельницы, ограничиться ли отпущением
грехов, которое она даст мне завтра, и сподобиться святых
тайн вместе с другими монахинями, или же вовсе не при-
чащаться, что бы об этом ни говорили. Когда настоятель-
ница снова вошла ко мне, она уже побывала на исповеди,
и отец Лемуан спросил ее, почему меня совсем не видно,
не больна ли я. Не знаю, что она ему ответила, но кон-
чилось тем, что он ждал меня в исповедальне.
— Идите туда,— сказала она,— раз это надо, но я
хочу быть уверенной в том, что вы будете молчать.
Я колебалась, она настаивала.
— Э, дурочка,— сказала она,— что же, по-твоему,
дурного в том, чтобы молчать о поступках, в которых нет
ничего дурного?
— Л что же дурного в том, чтобы сказать о них? —
ответила я.
— Ничего, но это не совсем удобно. Кто знает, что
усмотрит в них этот человек. Дайте же мне уверенность...
Я все еще колебалась, но, наконец, обязалась ничего
не говорить, если он не спросит меня, и пошла.
Я кончила исповедь и умолкла, но духовник спросил
меня, и я не скрыла ничего. Он задал мне тысячу стран-
ных вопросов: когда я вспоминаю их, то и теперь еще со-
вершенно не понимаю. Он отнесся ко мне снисходитель-
но, но о настоятельнице говорил в таких выражениях, что
я затрепетала. Он назвал ее недостойной, блудницей, пло-
хой монахиней, опасной женщиной, развращенной душой
и предписал мне, под страхом обвинения в смертном гре-
хе, никогда не находиться наедине с нею и не допускать
никаких ее ласк.
— Но, отец мой,— сказала я,— это моя настоятель-
ница; она может войти ко мне, позвать меня к себе, когда
ей угодно.
— Я это знаю и в отчаянии от этого. Дорогое дитя,
да будет благословен господь, предохранивший вас от гре-
ха до настоящего времени! Не дерзая пускаться в даль-
нейшие объяснения, из страха самому сделаться соучаст-
ником вашей недостойной настоятельницы и заставить
увянуть ядовитым дыханием, которое, вопреки моей воле,
исходило бы из моих уст, нежный цветок, сохраненный све-
жим и незапятнанным до вашого возраста лишь благодаря
427
особому покровительству провидения, я приказываю вам
бежать от вашей настоятельницы, отталкивать прочь ее
ласки, никогда не входить к ней одной, запирать перед ней
вашу дверь, в особенности ночью; соскакивать с вашей
постели, если она войдет к вам вопреки вашему желанию;
идти в коридор, звать на помощь, если надо, спасаться
бегством, хотя бы вы были совсем нагая, к подножью ал-
таря, наполнять монастырь криками и делать все то, что
любовь к богу, боязнь преступления, святость вашего сана
и забота о вашем спасении внушили бы вам, если бы са-
тана сам предстал пред вами и преследовал вас. Да, дитя
мое, сатана; ибо в образе сатаны принужден я показать
вам вашу настоятельницу,— она погрязла в пучине греха
и старается погрузить вас туда, и, может быть, вы были
бы уже там с нею, если бы сама ваша невинность не на-
полнила ее ужасом и не остановила ее.
Затем, поднимая глаза к небу, он воскликнул:
— Боже, сохрани это дитя под покровом своим... Го-
ворите вслед за мной: «Satana, vade retro, apage, sata-
na» *. Если эта несчастная спросит вас, скажите ей все,
повторите ей мои слова. Скажите ей, что лучше было бы
ей не родиться вовсе или, подвергнувшись насильственной
смерти, низринуться одной в преисподнюю.
— Но, отец мой,— заметила я,— она сама только что
исповедовалась у вас.
Он не ответил мне ничего и, глубоко вздохнув, положил
руки на перегородку исповедальни и прислонил к ним
голову, как человек, объятый скорбью. В таком состоянии
он оставался некоторое время. Я не знала, что думать:
колени мои дрожали; я была в неописуемом смятении,
мысли мои путались. Я походила на путника, который
шел во мраке между пропастями, не видя их, и был вне-
запно оглушен раздавшимися со всех сторон подземными
голосами, кричавшими ему: «Ты погиб!». Он взглянул на
меня затем спокойно, но с растроганным видом, и сказал:
— Вы здоровы?
— Да, отец мой.
— Не будет ли для вас слишком утомительно прове-
сти ночь без сна?
— Нет, отец мой.
* Сатана, отступи, отойди, сатана.
428
— Так вот! В эту ночь вы совсем не ляжете спать:
сейчас же после ужина вы пойдете в церковь, падете ниц
у подножия алтаря и проведете там ночь в молитвах. Вы
не знаете грозившей вам опасности. Благодарите бога за
то, что он оградил вас, и завтра вы подойдете к святому
престолу со всеми остальными монахинями. Я назначаю
вам только одну эпитимию: вы должны держаться по-
дальше от вашей настоятельницы и отвергать ее отравлен-
ные ласки. Идите. Я со своей стороны соединю свои мо-
литвы с вашими. Как буду я беспокоиться за вас! Я знаю
все последствия совета, который даю вам, но это мой
долг и перед вами, и перед самим собой. Бог наш влады-
ка, и для нас нет другого закона.
Я плохо помню, сударь, все то, что он мне говорил.
В настоящее время, сравнивая его речь в том виде, в ка-
ком я только что передала ее вам, со страшным впечат-
лением, произведенным ею па меня, я нахожу, что то и
другое несравнимо. Но это происходит оттого, что я при-
вела лишь обрывки его речи. В ней иехватает многого, что
не удержалось в моей памяти, так как его слова не связы-
вались у меня ни с каким определенным представлением,
и я не придавала и до сих пор не придаю никакого зна-
чения тому, на что он обрушивался с таким неистовством.
Например, я не понимаю, почему он нашел такой стран-
ной сцену у клавесина? Разве музыка не производит на
некоторых сильнейшего впечатления? Мне самой говори-
ли, что некоторые арии, некоторые переливы голоса изме-
няют мое лицо до неузнаваемости. Я прихожу тогда в
экстаз, я не знаю, что делается со мной и, однако, не ду-
маю, чтобы становилась от этого менее невинной. Почему
не могло быть того же самого с моей настоятельницей,
которая была, конечно, несмотря на все свои безумства
и неровность характера, одной из самых чувствительных
женщин в мире? Она не могла слышать ни одного сколь-
ко-нибудь трогательного рассказа, не проливая слез..Когда
я рассказала ей свою историю, то привела ее в состояние,
возбуждавшее жалость. Почему не вменял он ей также
в вину и ее сострадание? А ночная сцена, исхода которой
духовник ждал со смертельным страхом... Конечно, этот
человек слишком суров.
Как бы то ни было, я в точности исполнила то, что он
предписал мне и последствия чего несомненно предвидел.
429
Выйдя из исповедальни, я тотчас же пала ниц к подно-
жию алтаря; мысли мои путались от ужаса; я оставалась
там до ужина. Настоятельница, беспокоясь, что со мной,
велела позвать меня; ей ответили, что я молюсь. Она не-
сколько раз поднималась к двери хор; по я делала вид, что
не замечаю ее. Зазвонили к ужину; я отправилась в трапез-
ную, наскоро поела и, по окончании ужина, тотчас же вер-
нулась в церковь; вечером я вовсе не появлялась в рекре-
ационном зале; я осталась в церкви, когда разошлись по
кельям и легли спать. Настоятельнице было известно, где
я. Была глубокая ночь. В монастыре царило молчание,
когда она спустилась ко мне. Образ, в котором духовник
показал мне ее, представился моему воображению; меня
охватила дрожь, я не осмеливалась взглянуть па нее, ду-
мая, что увижу ее с чудовищным лицом и всю объятую
пламенем, и говорила про себя: «Satana, vade retro, apage,
satana». Боже, сохрани меня, удали от меня этого демона.
Она преклонила колена, и помолившись, сказала:
— Сестра Сюзанна, что вы здесь делаете?
— Вы видите, матушка.
— Знаете ли вы, который час?
— Да, матушка.
— Почему вы не вернулись к себе в час отхода ко сну?
— Потому что я решила приготовиться к завтрашне-
му великому празднику.
— Значит вы намереваетесь провести здесь ночь?
— Да, матушка.
— Кто же позволил вам это?
— Духовник приказал мне это.
— Духовник не может приказывать ничего, противно-
го монастырскому уставу, и я приказываю вам идти спать.
— Матушка, он наложил на меня эпитимию.
— Вы замените ее чем-нибудь другим.
— Выбор эпитимии не зависит от меня.
— Полно, дитя мое, идите к себе. В церкви холодно
ночью, это повредит вам; вы помолитесь в своей келье.
После этого она хотела взять меня за руку, но я по-
спешила отойти.
— Вы убегаете от меня,— сказала она.
— Да, матушка, я бегу от вас.
Ободренная святостью места, присутствием божества,
чистотой своего сердца, я осмелилась поднять на нее гла-
430
за, но едва я увидела ее, как испустила громкий крик и
принялась бегать по хорам, как безумная, восклицая:
— Отойди от меня, сатана!
Она следовала за мной, она оставалась на месте и
говорила, протягивая ко мне обе руки, самым трогатель-
ным и кротким голосом:
— Что с вами? Откуда этот ужас? Остановитесь.
Я вовсе не сатана, я ваша настоятельница и ваш друг.
Я остановилась, снова повернула к ней голову и уви-
дела, что была напугана причудливым видением, создан-
ным моим воображением: она стояла в таком месте, что
светильник освещал только ее лицо и концы рук, остальное
было во тьме, и это придавало ей странный вид. Немного
придя в себя, я бросилась на скамью. Она подошла и со-
биралась сесть рядом, я поднялась и пересела дальше.
Я путешествовала таким образом от одного сиденья к дру-
гому и она также, пока я не дошла до последнего; там я
осталась и заклинала ее оставить хотя бы одно пустое
место между нею и мною.
— Охотно,— сказала она.
Мы обе сидели; нас разделяло одно место. Настоя-
тельница заговорила со мной:
— Не можете ли вы сказать, сестра Сюзанна, отчего
мое присутствие вызывает в вас, такой ужас?
— Матушка, простите меня. Это исходит не от меня,
а от отца Лемуана. Он в самых ужасных красках изобра-
зил мне вашу любовь ко мне, ваши ласки, в которых,
признаюсь вам, я не вижу ничего дурного. Он приказал
мне бежать от вас, больше не входить к вам одной; вы-
ходить из своей кельи, если вы придете; он нарисовал мне
вас в образе демона. Чего только он не наговорил!
— Значит вы ему сказали?
— Нет, матушка, но я не могла не отвечать ему.
— Значит я кажусь вам чудовищем?
— Нет, матушка, я не могу воспрепятствовать себе
любить вас, ценить вашу доброту и прошу вас относиться
ко мне попрежнему, но я буду повиноваться своему ду-
ховнику.
— Значит вы не будете больше приходить ко мне?
— Нет, матушка.
— И не будете принимать меня в своей келье?
— Нет, матушка.
431
— И будете отталкивать мои ласки?
— Мне это будет тяжело, так как я ласкова по природе
и люблю, чтобы меня ласкали, но так надо. Я обещала
это своему духовнику и поклялась в этом у подножия
алтаря. Если бы я могла передать вам выражения, кото-
рые он употреблял! Это благочестивый, просвещенный
человек,— ради чего он будет показывать мне погибель
там, где ее вовсе нет? Ради чего ему отдалять сердце
монахини от сердца ее настоятельницы? Но, может быть,
он признал в действиях, весьма невинных с вашей и с моей
стороны, зародыш тайной испорченности, который, по его
мнению, развился в вас полностью, и отец Лемуан боится,
как бы он не развился под вашим влиянием и во мне.
Не буду скрывать от вас, что, вспоминая те ощущения,
которые я иногда испытывала... Отчего происходит,
матушка, что, возвращаясь от вас в свою келыо, я бываю
возбуждена, начинаю мечтать? Отчего происходит, что
я не могу ни молиться, ни заниматься? Откуда эта тоска,
какой я раньше никогда не испытывала? Почему меня
клонит ко сну, хотя я никогда не спала днем? Я думала,
что вы больны какой-то заразительной болезнью, которая
начала оказывать действие и на меня, но отец Лемуан
смотрит на это совсем иначе.
— Как же он смотрит на это?
— Он видит в этом всю мерзость греха, вашу оконча-
тельную и мою возможную гибель. Что понимаю я в этом?
— Ну,— сказала она,— вашему отцу Лемуану мере-
щится бог весть что. Это не первая его выходка в этом
роде против меня. Достаточно мне привязаться к какой-
нибудь сестре, почувствовать к ней нежную дружбу, и он
уже старается сбить ее с толку. Он чуть не довел до
сумасшествия бедную сестру Терезу. Это начинает мне
надоедать, и я отделаюсь от этого человека. К тому же
он живет в десяти милях отсюда; вызывать его сюда
затруднительно; когда его хочешь видеть, его нет, но мы
поговорим об этом в более подходящей обстановке. Итак,
вы не хотите подняться к себе?
— Нет, матушка, умоляю вас позволить мне провести
здесь ночь. Если я нарушу это предписание, то завтра не
посмею причащаться с остальной общиной. А вы, матуш-
ка, будете причащаться?
— Конечно.
432
— Значит отец Лемуан ничего вам не сказал?
— Нет.
— Но как же это так?
— Да ему и нечего было говорить мне. На исповедь
идут, чтобы покаяться в своих грехах, а я не вижу ни-
какого греха в том, что так нежно люблю такое прелестное
дитя, как сестра Сюзанна. Я виновата разве только в том,
что сосредоточила на ней одной чувство, которое должно
было бы распространяться одинаково на всех, кто входит
в общину. Но это не зависит от меня; я не могу помешать
себе отличать заслугу там, где она есть, и отдавать ей
предпочтение. Я прошу бога простить мне это, и не пони-
маю, каким образом ваш отец Лемуан может безогово-
рочно осуждать меня на вечные муки за столь естествен-
ное пристрастие, от которого так трудно уберечься.
Я забочусь о счастье всех, но есть такие, которых я ува-
жаю и люблю больше остальных, так как они более
заслуживают уважения и более любезны моему сердцу.
Вот все мое преступление по отношению к вам. Сестра
Сюзанна, вы находите его очень большим?
— Нет, матушка.
— Ну тогда, дорогое дитя, помолимся еще немного
и пойдем к себе.
Я снова стала умолять ее позволить мне провести
ночь в церкви. Она согласилась, о условием, что это не
повторится, и ушла.
Я задумалась над ее словами и просила бога просве-
тить меня. Поразмыслив и все хорошо взвесив, я пришла
к заключению, что даже у лиц одного пола способ прояв-
ления их взаимной дружбы может заключать в себе нечто
непристойное, и что отец Лемуан, человек суровых пра-
вил, может быть, и преувеличивает кое-что, но все же на-
до, по его совету, во что бы то ни стало избегать чрезмер-
ного сближения с настоятельницей. Таково было мое твер-
дое решение.
Когда монахини пришли утром на хоры, они застали
меня на обычном месте. Все они приблизились к святому
престолу, с настоятельницей во главе, что окончательно
убедило меня в ее невиновности, но я осталась при своем
прежнем решении. И притом ей нахватало многого, чтобы
я испытывала к ней такое же влечение, как она ко мне.
Я не могла удержаться от сравнения ее с моей первой
433
настоятельницей: какая разница! — у нее не было ни того
благочестия, ни той степенности, ни того достоинства, ни
рвения, ни ума, ни любви к порядку.
За короткое время случилось два больших события.
Во-первых, я выиграла дело против лоншанских мона-
хинь; согласно судебному решению, они должны были
выплачивать монастырю св. Евтропии, где я была, пен-
сию пропорционально моему вкладу. Вторым событием
была смена духовника. Настоятельница сама сообщила
мне об этом.
Тем не менее я приходила к ней не иначе, как в сопро-
вождении кого-нибудь. Она больше не бывала у меня
одна. Она всюду искала меня, но я ее избегала. Она заме-
чала это и упрекала меня. Не знаю, что происходило в ее
душе, но, должно быть, нечто необыкновенное. Она вста-
вала ночью и прогуливалась по коридорам, особенно по
моему. Я слышала, как она ходила взад и вперед, останав-
ливалась у моей двери, стонала, вздыхала. Я дрожала от
страха и забивалась поглубже в постель. Днем, где бы я
ни была — на прогулке, в мастерской, в рекреационном
зале? она проводила целые часы, созерцая меня так, чтобы
я не могла этого заметить. Она следила за каждым моим
шагом. Если я спускалась, я находила ее внизу лестницы;
она ожидала меня наверху, когда я поднималась.
Однажды она остановила меня и стала па меня смотреть,
не говоря ни слова; слезы ручьем потекли из ее глаз,
вдруг она бросилась на землю и, сжимая мне колени
руками, сказала:
— Жестокая сестра, проси у меня жизнь, я отдам тебе
ее, но не избегай меня,— я не могу больше жить без тебя...
Она была в таком состоянии, что у меня пробудилась
жалость к ней, глаза ее угасли, она похудела, ее румянец
исчез. Моя настоятельница была у моих ног,— она обни-
мала их, прижавшись головой к моим коленям; я протя-
нула к ней руки, она с жаром взяла их, целовала и снова
смотрела на меня; я подняла ее. Она шаталась, едва шла.
Я проводила ее до кельи. Когда дверь была отворена, она
взяла меня за руку и, не говоря со мной и не глядя на
меня, потихоньку потянула, чтобы заставить войти.
— Нет,— сказала я,— нет, матушка, мое решение не-
изменно. Так лучше для вас и для меня: я занимаю
слишком много места в вашей душе, столько же места
434
потеряно для бога, которому вы обязаны отдать всю свою
душу.
— Вам ли упрекать меня в этом?
Говоря с ней, я старалась высвободить руку из ее
руки.
— Значит вы не хотите войти? —сказала она.
— Нет, матушка, нет.
— Вы не хотите, сестра Сюзанна? Вы не знаете, что
может произойти от этого, нет, вы этого не знаете, вы
убьете меня.
Эти последние слова внушили мне чувство, совершенно
противоположное тому, какое она имела в виду вызвать.
Я вырвала руку и убежала. Она обернулась, некоторое
время смотрела, как я ухожу, затем, возвратясь в свою
келью, дверь в которую оставалась отворенной, принялась
испускать пронзительные стоны. Я услышала их,— они
проникли мне в сердце. Мгновение я была в нерешитель-
ности, идти ли мне дальше или вернуться, однако какое-
то чувство отвращения заставило меня удалиться, хотя
я сама страдала от того состояния, в каком оставила ее;
я сострадательна по природе. Я заперлась у себя. Мне
было очень не по себе. Я не знала, чем заняться, бродила
по келье, рассеянная и смущенная, выходила, возвраща-
лась обратно, наконец я пошла постучать в дверь соседки,
сестры Терезы. Я застала ее в интимной беседе с другой
молодой монахиней, ее подругой, и сказала ей:
— Дорогая сестра, мне очень неприятно, что я пре-
рвала вас, но прошу уделить мне минутку, мне надо кое-
что сказать вам...
Она последовала за мной в мою келью, и я сказала ей:
— Не знаю, что с нашей матерью настоятельницей,
она в отчаянии. Не пойдете ли вы к ней, может быть, вы
ее утешите...
Сестра Тереза не ответила мне; оставив свою подругу
у себя, она затворила дверь и побежала к настоятельнице.
Однако болезнь этой женщины ухудшалась со дня на
день. Она сделалась меланхоличной и серьезной, веселье,
не прекращавшееся со времени моего прибытия в мона-
стырь, вдруг исчезло; восстановился самый строгий
порядок во всем; церковные службы совершались с подо-
бающим достоинством; посторонних почти перестали
пускать в приемную; монахиням было запрещено посе-
435
щать друг друга; обряды совершались с самой неукосни-
тельной точностью; не было больше ни собраний у настоя-
тельницы, ни угощений; малейшие проступки сурово
карались; ко мне снова обращались иногда, чтобы
добиться помилования, но я отказывалась наотрез про-
сить о нем. Причина этого переворота ни для кого не была
тайной; старухи не были огорчены этим, молодые были
в отчаянии; они смотрели на меня враждебно, но я, уве-
ренная в своей правоте, не обращала никакого внимания
на их досаду и упреки.
А настоятельница, которой я не могла ничем помочь,
и которую не могла не жалеть, переходила последова-
тельно от меланхолии к благочестию, от благочестия
к бреду. Я не буду прослеживать все эти этапы: я за-
стряла бы в подробностях, которым не было бы конца.
Скажу вам только, что, будучи в состоянии меланхолии,
она то искала меня, то избегала; иногда она обращалась
с нами, со мной и с другими, со своей обычной ласко-
востью; иногда же внезапно переходила к крайней суро-
вости; звала нас и отсылала обратно; назначала рекреа-
ционные часы и через минуту отменяла свой приказ; при-
казывала звать нас на хоры, и когда все приходило в
движение, повинуясь ей, второй удар колокола запирал
общину в кельи. Трудно представить себе, какой хаос
водворился в нашей жизни. День проходил в том, что мы
выходили из своих келий и возвращались обратно, брали
молитвенник и оставляли его, ходили по лестницам вверх
и вниз, поднимали и опускали покрывало. Ночь была
почти так же тревожна, как и день.
Некоторые монахини обращались ко мне и старались
дать понять, что при несколько большей снисходительно
сти и внимании к настоятельнице все снова вернется
к обычному порядку, вернее сказать,— беспорядку: я от-
вечала им грустно:
— Мне жаль вас; но скажите мне ясно, что я должна
делать...
Одни отворачивались, опуская голову и не отвечая
мне; другие давали советы, которые невозможно было
примирить с советами нашего духовника; я говорю
о том, которого отозвали, ибо его преемника мы еще не
видели.
Настоятельница не выходила больше ночью и про
436
водила целые недели, не показываясь ни в церкви, ни на
хорах, ни в трапезной, ни в рекреационном зале. Она
оставалась, запершись в своей комнате, бродила по кори-
дорам и спускалась в церковь, подходила к дверям мона-
хинь, стучала и говорила им жалобным голосом:
— Сестра такая-то, молитесь за меня, сестра такая-то,
молитесь за меня...
Распространился слух, что она собирается покаяться
во всех своих грехах, как на смертном одре.
Однажды я первой сошла в церковь и увидела лист
бумаги, приколотый к занавесу решетки; я подошла
и прочла:
— Дорогие сестры, вас призывают молиться за за-
блудшую монахиню, которая хочет вернуться к богу...
Я хотела было сорвать его, однако оставила. Несколь-
ко дней спустя появился другой лист, на котором было
написано:
— Дорогие сестры, вас призывают молиться мило-
сердному богу о монахине, сознавшей свои заблужде-
ния,— они велики...
На другой день появился призыв, гласивший:
— Дорогие сестры, вас просят молить бога, дабы он
избавил от отчаяния монахиню, потерявшую всякую веру
в милосердие божие...
Все эти призывы, ярко отражавшие жестокие шатания
этой страждущей души, глубоко огорчали меня. Как-то
раз я остановилась, как вкопанная, перед одним из этих
воззваний, стараясь понять, в каких заблуждениях обви-
няет себя эта женщина, отчего происходят ее страхи,
в каких преступлениях может она упрекать себя. Мне
пришли на память восклицания духовника, я вспомнила
его выражения, старалась разгадать их смысл и, не на-
ходя никакого объяснения, застыла на месте, поглощен-
ная своими мыслями. Несколько монахинь болтали меж-
ду собой, посматривая на меня, и, судя по их взглядам,
если не ошибаюсь, думали, что мне неминуемо грозят те
же ужасы.
Бедная настоятельница появлялась не иначе, как с
опущенным покрывалом. Она не вмешивалась более в
дела монастыря, не говорила ни с кем, часто беседовала
437
с вновь назначенным духовником. Это был молодой бе-
недиктинец. Не знаю, он ли налагал на нее все эпитимии,
которые она выполняла. Она постилась три дня в неделю;
бичевала себя, слушала богослужение, сидя на самой
дальней скамье. Когда мы шли в церковь, нам приходи-
лось проходить перед ее дверью; мы заставали ее там
простертой ниц на полу, и она поднималась только тогда,
когда никого больше не было. Ночью она спускалась в
одной рубашке, босая; если сестра Тереза или я случайно
встречали ее, она отворачивалась и прижималась лицом
к стене. Однажды я нашла ее перед дверью своей кельи;
она лежала, раскинув руки, лицом к земле, и сказала
мне:
— Не останавливайтесь, шагайте, топчите меня но-
гами; я не заслуживаю другого обращения.
Эта болезнь длилась целые месяцы, и вся община ус-
пела за это время намучиться и возненавидеть меня. Я не
буду описывать снова те неприятности, которым подвер-
гается монахиня, ненавидимая в своем монастыре,— вам
это должно быть уже достаточно известно. Отвращение
к монашеству мало-помалу вновь возродилось во мне. Об
этом отвращении, о своих горестях я поведала на испо-
веди новому духовнику. Его зовут отец Морель. Это чело-
век с горячим темпераментом, лет сорока. Он выслушал
меня с видимым вниманием и интересом, пожелал узнать
события моей жизни и велел рассказать ему все до мель-
чайших подробностей о моей семье, о моих склонностях,
характере, о монастырях, где я была раньше, о монастыре,
где находилась теперь, о том, что происходило между на-
стоятельницей и мною. Я не скрыла от него ничего. Мне
показалось, что он не придает поведению настоятельницы
по отношению ко мне такого значения, как отец Лемуан.
Он едва удостоил бросить об этом несколько слов. По его
мнению, на этом деле следовало поставить крест. Его го-
раздо больше интересовало мое тайное нерасположение
к монашеской жизни. По мере того как я открывала ему
свою душу, его доверие ко мне также возрастало. Если я
исповедовалась ему, то и он доверял мне свои тайны. Его
страдания, о которых он рассказывал мне, как две капли
воды походили на мои. Он вступил в монастырь против
воли, он переносил свое положение с тем же отвращением
и был достоин жалости не меньше меня.
438
— Дорогая сестра,— прибавлял он,— что же делать
теперь? Есть один только выход — сделать наше положе-
ние возможно менее тягостным.
И затем давал мне те же советы, каким следовал
сам,— они были мудры.
— Поступая так,— прибавлял он,— нельзя избежать
горестей, но можно тверже переносить их. Счастливы
только те монашествующие, которые несут свой крест,
видя в этом заслугу перед богом; тогда они с радостью
подъемлют его, охотно идут навстречу налагаемым на
них испытаниям, и тем счастливее, чем горше и чаще эти
испытания; счастье этой жизни они отдают в обмен на бу-
дущее блаженство; они обеспечивают его себе, доброволь-
но жертвуя земным счастьем. Настрадавшись вдоволь, они
говорят богу: «Amplius, Domine»,— господи, усугуби мои
муки... И почти никогда не бывает, чтобы бот не услышал
этой молитвы. Но если вас и меня постигают те же стра-
дания, как и их, то мы не можем надеяться на ту же на-
граду, в нас нет того, что превращает мучение в заслугу,
пет покорности своей судьбе, и это очень печально. Увы!
Как внушу я вам добродетель, которой недостает вам,
когда я сам ее не имею? Между тем без нее нам грозит
погибель в будущей жизни, после того как мы столько
перестрадали в этой. Умерщвляя свою плоть, мы обрече-
ны на вечные муки почти так же верно, как и миряне,
пользующиеся всеми радостями; мы подвергаем себя ли-
шениям, а они наслаждаются; и после смерти нас ждут
те же муки. Как прискорбно положение монаха, монахи-
ни, не имеющих никакого призвания! И однако таково
наше положение, и мы не можем его изменить. На нас
надели тяжелые цепи, и мы осуждены постоянно потря-
сать ими без надежды разорвать их, постараемся же, до-
рогая сестра, влачить эти цепи. Идите, я опять приеду
повидаться с вами.
Он вернулся несколько дней спустя. Я увиделась с
ним в приемной, познакомилась ближе. Он окончил, не
утаивая ничего, рассказ о своей жизни; я — о своей. Мно-
жество обстоятельств сближало нас, создавало сходство.
Он подвергался почти таким же преследованиям дома и
в монастыре. От моего внимания не ускользнуло, что,
изображая яркими красками свое отвращение к монаше-
нкой жизни, он нисколько не помогал мне избавиться от
439
того же чувства; однако, так именно действовал на меня
его рассказ и, по-моему, то же самое действие производи-
ло на него описание моего отвращения к монашеству. Та-
ким образом, сходство характеров соединялось со сход-
ством событий, и чем больше мы виделись, тем больше
нравились друг другу. История его души была историей
моей души.
После долгих бесед мы говорили также о других, и
особенно о настоятельнице. Как духовник, отец Морель
не мот не быть очень осторожным. Тем не менее я поняла
из его слов, что теперешнее настроение этой женщины не
может длиться долго. Она боролась с собой, но тщетно,
и случится одно из двух: или она неминуемо вернется к
своим первоначальным наклонностям или сойдет с ума.
Меня разбирало любопытство узнать об этом побольше.
Он, конечно, мог бы разъяснить мне вопросы, которые я
задавала себе, никогда не находя па них ответа, по я не
посмела спрашивать его и решилась только задать во-
прос, знаком ли он с отцом Лсмуаиом.
— Да,— сказал он,— я знаком с ним. Это достойный
чело-век, очень достойный человек.
— Он перестал у нас бывать.
— Верно-.
— Не можете ли вы сказать мне, в чем дело?
— Мне было бы крайне неприятно, если бы это полу-
чило огласку.
— Вы можете быть уверены, что я буду молчать.
— Вероятно, написали донос на него архиепископу.
— Что же могли сказать?
— Что он живет слишком далеко от монастыря, что,
когда хотят его видеть, его пет, что он чрезмерно строгой
нравственности, что есть некоторые основания подозре-
вать его в новаторских тенденциях, что он сеет раздор
в монастыре и отдаляет монахинь от их настоятельницы.
— Откуда вы знаете это?
— От него самого.
— Значит вы видитесь с ним?
— Да, я вижусь с ним. Он не раз говорил мне о вас.
— Что же он говорил вам?
— Что вы заслуживаете сожаления. Он не может по-
стичь, как могли вы выдержать все те страдания, кото-
рым подвергались. Хотя он имел случай беседовать с вами
лишь один или два раза, но думает, что вы никогда не
сможете приспособиться к монастырской жизни. У него
явилась мысль...
Тут он оборвал свою речь, а я спросила:
— Какая же мысль явилась у него?
Отец Морель ответил:
— Я не могу сказать всего, это дело слишком секрет-
ное...
Я не настаивала и прибавила только:
— Отец Лемуан действительно внушал мне держаться
как можно дальше от настоятельницы.
— И хорошо делал.
— Почему?
— Сестра моя,— ответил он, принимая серьезный
вид,— придерживайтесь его советов и старайтесь всю
свою жизнь оставаться в неведении относительно причины
их.
— Но мне кажется, что, если бы я знала опасность, я
была бы настороже, и мне было бы легче избежать ее.
— Возможно и обратное.
— Вы очевидно очень дурного мнения обо мне.
— Я составил себе должное мнение о вашей нрав-
ственности и вашей душевной чистоте, но, поверьте, есть
такие роковые знания, которые вы не могли бы приобре-
сти, не губя себя. Ваша невинность удерживала вашу
настоятельницу. Знай вы больше, она менее церемонилась
бы с вами.
— Я не понимаю вас.
— Тем лучше.
— Но разве близость и ласки одной женщины могут
представлять какую-нибудь опасность для другой?
Никакого ответа со стороны отца Мореля.
— Разве я перестала быть той же самой? Что же
может быть дурного в том, чтобы любить друг друга,
говорить об этом друг другу, выказывать свою любовь?
Это так приятно.
— Это правда,— сказал отец Морель, поднимая на
меня глаза, которые он всегда опускал, когда я говорила.
— Значит это обычно бывает в монастырях? Бедная
настоятельница! До какого состояния она дошла!
— Оно прискорбно, и я очень боюсь, что оно ухудша-
ется. Она не создана для монашеского звания, и вот
441
что происходит рано или поздно, когда противятся
естественному влечению: насилуя природу, толкают ее к
извращенным страстям, тем более необузданным, чем
больше они противоестественны,— это род безумия.
— Она безумна?
— Да, она безумна и чем дальше, тем больше будет
сходить с ума.
— И вы думаете, что такая судьба ждет тех, которые,
не имея никакого призвания, вступили в монашество?
— Нет, не всех. Некоторые умирают до этого, иные,
с гибким характером, со временем втягиваются, есть и
такие, которых некоторое время поддерживают смутные
надежды.
— Какие же надежды могут быть у монахини?
— Какие? Прежде всего надежда расторгнуть свой
обет.
— А когда ее нет больше?
— Тогда надеются, что монастырские ворота будут
когда-нибудь отворены, что люди откажутся, наконец, от
этой дикой нелепости — перестанут заточать в гробницы
молодые, полные жизни существа и уничтожат монасты-
ри; что в монастыре произойдет пожар; что монастырская
ограда рушится; что кто-нибудь придет на помощь. Все
эти предположения нескончаемой вереницей приходят одно
за другим, о них беседуют между собой; гуляя в саду,
смотрят, не думая даже об этом, очень ли высоки стены;
находясь в своей келье, хватаются за перекладины решет-
ки и потихоньку расшатывают их, по рассеянности; если
под окнами проходит улица, смотрят туда; если слышат
чьи-либо шаги, сердце трепещет,— рвутся к неведомому
избавителю; если поднимается какой-нибудь переполох,
шум от которого достигает монастыря, начинают надеять-
ся на что-то, рассчитывают на болезнь, которая позволит
вступить в общение с мужчиной или даст возможность
отправиться на воды.
— Правда, правда,— вскричала я,— вы читаете в
глубине моего сердце. Я создавала себе и до сих пор еще
создаю эти иллюзии.
— А когда, размышляя над этими иллюзиями, в кон-
це концов теряю их , ибо эти спасительные мечты, посы-
лаемые сердцем рассудку, рассеиваются со временем,
тогда видят всю глубину своего несчастья; проникаются
442
ненавистью к самим себе, ненавидят других, плачут, сто-
нут, кричат, чувствуют приближение отчаяния. Тогда
одни монахини бегут к настоятельнице, бросаются к ее
ногам и ищут у нее утешения; другие — простершись ниц
в своей келье или у подножия алтаря, призывают небо на
помощь; третьи — раздирают одежды и рвут на себе воло-
сы; четвертые— ищут глубокого колодца, окон повыше,
петли, и порой находят это; пятые — после долгих муче-
ний, впадают в отупение и остаются слабоумными; иные
слабые и хрупкие,— томятся и угасают; у некоторых орга-
низм не выдерживает, и они делаются буйными сумасшед-
шими. Всего счастливее те, у кого те же самые утешитель-
ные иллюзии возрождаются снова и убаюкивают их
почти до самой могилы,— их жизнь проходит в смене за-
блуждений и отчаяния.
— А самые несчастные,— прибавила я, глубоко взды-
хая,— повидимому, те, которые проходят по очереди через
все эти состояния... Ах, отец мой, зачем только я слушала
вас!
— Л что?
— Я не знала себя, а теперь я себя знаю; мои иллю-
зии будут менее продолжительны. Через самое короткое
время...
Я собиралась продолжать, но тут вошла монахиня,
затем другая, потом третья, потом четвертая, пятая, ше-
стая, не знаю сколько. Разговор сделался общим. Одни
смотрели на духовника, другие слушали его молча и опу-
стив глаза; некоторые спрашивали одновременно. Все во-
сторгались мудростью его ответов. Тем временем я заби-
лась в угол и глубоко задумалась. Во время этих разгово-
ров, когда каждая старалась выставить себя в возможно
лучшем свете и приковать к себе внимание святого отца
своей добродетелью, вдруг послышались чьи-то медленные
шаги: кто-то шел, останавливаясь и вздыхая. Прислуша-
лись, зашептали:
— Это она, это наша настоятельница.
Затем умолкли и сели в кружок. Действительно, это
была настоятельница. Она вошла. Ее покрывало было
опущено до пояса, руки скрещены на груди, а голова на-
клонена. Прежде всего она заметила меня. Немедленно
высвободив из-под покрывала руку, она закрыла ею глаза
443
и, отвернувшись немного в сторону, другой рукой сделала
всем нам знак выйти. Мы вышли в молчании, она осталась
одна с отцом Морелем.
Я предвижу, господин маркиз, что вы составите себе
дурное мнение обо мне; но если я не постыдилась сделать
то, что сделала, почему я должна краснеть, признаваясь
в этом? Скажем, поэтому, что у меня очень странный склад
ума. Когда что-нибудь может возбудить ваше уважение
или усилить ваше сочувствие, то я, хорошо или плохо, но
пишу с необыкновенной быстротой и легкостью. На душе
у меня весело, я безо всякого напряжения нахожу нужные
обороты речи, у меня текут сладкие слезы, мне кажется,
что вы тут, что я вижу вас и вы слушаете меня. Если же
я, наоборот, принуждена показывать себя в ваших глазах
в неблагоприятном свете, то мысль дается мне с трудом,
я не знаю, как выразить ее, перо мое еле движется. Это
отражается даже на самом моем почерке, и я продолжаю
писать только потому, что втайне надеюсь, что вы не про-
чтете этих мест. Вот одно из них:
Когда все паши сестры разошлись...— «Ну что же? Что
сделали вы?» — Вы не догадываетесь? Нет, вы слишком
честны для этого. Я спустилась на цыпочках, потихоньку
подошла к двери приемной и стала подслушивать то, что
говорилось там. Это очень дурно, скажете вы... О, конечно,
да, это очень дурно. Я говорила это сама себе, и мое сму-
щение, меры предосторожности, принятые мной, чтобы не
быть замеченной, ежеминутные остановки, голос моей сове-
сти, побуждавший меня при каждом шаге повернуть об-
ратно, не позволяли мне сомневаться в этом, однако лю-
бопытство превозмогло все, и я пошла. Но если дурно под-
слушивать разговор двух лиц, думающих что они одни, то,
может быть, еще хуже передавать вам их слова. Вот еще
одно место, которое я пишу, надеясь, что вы не прочтете
его. Это не так, но мне приходится убеждать себя в этом.
Первые слова, которые я услышала после довольно
долгого молчания, заставили меня содрогнуться.
— Отец мой, я осуждена на вечные муки...
Я приободрилась и стала слушать. Завеса, скрывавшая
до тех пор опасность, которой я подвергалась, разрыва-
лась, но тут меня позвали. Пришлось идти, и я пошла, но,
увы, я слышала слишком много. Какая женщина, госпо-
дин маркиз, какая чудовищная женщина!..
444
Здесь мемуары сестры Сюзанны прерываются; то, что
следует дальше, представляет только набросок того, что
она, видимо, намеревалась использовать для остального
рассказа. Повидимому, настоятельница сошла с ума, и к
ее злосчастному состоянию относятся отрывки, список ко-
торых я дам сейчас.
После этой исповеди несколько дней мы пользовались
спокойствием. Радость вернулась в общину, и мне гово-
рили любезности, которые я с негодованием отвергала.
Настоятельница больше не избегала меня. Она гля-
дела на меня, но мое присутствие, повидимому, не сму-
щало ее более. Я старалась скрыть от нее ужас, который
она мне внушала, после того как благодаря счастливому
или роковому любопытству я узнала ее ближе.
Вскоре она стала молчаливой; говорила только «да»
или «нет», прогуливалась одна, отказывалась от пищи; у
нее начинался жар, ее била лихорадка, за лихорадкой сле-
довал бред.
Лежа в постели, она видела меня, хотя в келье никого
не было, говорила со мной, просила подойти поближе, об-
ращалась ко мне с самыми нежными словами. Слыша, что
я шла мимо ее комнаты, она кричала:
— Она идет мимо. Это ее шаги, я узнаю их. Пусть ее
позовут... Нет, нет, не надо.
Как это ни странно, она никогда не ошибалась, никогда
не принимала никого за меня.
Она разражалась хохотом; через мгновение заливалась
слезами. Сестры окружали ее молча, некоторые плакали
с нею.
Вдруг она говорила:
— Я не была в церкви, я не молилась богу... Я хочу
встать с этой постели, хочу одеться; оденьте меня...
Если этому противились, она прибавляла:
— Дайте мне по крайней мере молитвенник...
Ей давали его; она открывала молитвенник, перелисты-
вала его и продолжала перелистывать даже тогда, когда
глаза ее блуждали.
Как-то раз ночью она сошла одна в церковь. Некото-
рые сестры последовали за нею. Она простерлась ниц на
ступенях алтаря, принялась стонать, вздыхать, громко мо-
литься; вышла, потом опять вернулась; она говорила:
— Сходите за ней, это такая чистая душа! Это такое
445
невинное создание! Если бы она присоединила свои мо-
литвы к моим...
Затем восклицала, обращаясь ко всей общине и пово-
рачиваясь к пустым скамьям:
— Выйдите, выйдите все, пусть останется со мной одна
она. Вы недостойны приблизиться к ней. Если ваши голоса
смешаются с ее голосом, ваши нечестивые хвалы осквер-
нят перед богом сладость воссылаемых ею молитв. Уда-
литесь, удалитесь...
Потом она заклинала меня просить небо о помощи и
прощении. Она видела бога. Ей представлялось, что не-
беса разверзлись, что они изборождены молниями и что
гром гремит над ее головой; ангелы в гневе нисходили на
землю; божество взирало на нее, приводя ее в трепет. Она
металась во все стороны, забиралась в темные углы церк-
ви, молила о милосердии, прижималась лицом к земле,
впадала в забытье. Холод и сырость церкви охватывали
ее, и ее приносили в келью точно мертвую.
На следующий день она ничего не знала об этой страш-
ной ночной сцене и говорила:
— Где наши сестры? Я не вижу больше никого, я оста-
лась одна -в этом монастыре. Они все покинули меня, и
сестра Тереза тоже; они хорошо сделали. Сюзанны здесь
нет больше, и я могу выходить, я не встречу ее... Ах, если
бы я могла встретить ее! Но ее нет здесь более, не так ли?
Не так ли, ее нет больше здесь?.. Счастлив монастырь,
обладающий ею! Она все расскажет новой настоятель-
нице. Что подумает та обо мне?.. Разве сестра Тереза
умерла? Я всю ночь слышала похоронный звон... Бедная
девушка! Она навеки погибла по моей вине! По моей вине!
Придет день, когда я встречусь с ней лицом к лицу. Что
скажу я ей? Что отвечу? Горе ей! Горе мне!
Через минуту она говорила:
— Вернулись ли наши сестры? Скажите им, что я очень
больна... Поднимите мою подушку... Расшнуруйте меня...
Я чувствую, что-то давит меня... Голова моя в огне, сни-
мите с меня покрывало... Я хочу умыться... Принесите
воды; лейте, лейте еще... Они белы, но с души грязи не
смоешь... Я хотела бы умереть; лучше было бы мне не ро-
диться вовсе, я не увидела бы ее.
Однажды утром ее застали босиком, в одной рубашке,
с растрепанными волосами. Она бегала по келье, выла с
446
пеной у рта, зажав уши руками, закрыв глаза и прижи-
маясь телом к стене...
— Удалитесь от этой бездны! Слышите эти крики?
Это ад. Из этой глубокой пропасти до меня доносятся не-
ясные голоса; они зовут меня... Боже, сжалься надо мной!..
Идите скорее! Звоните в колокол, соберите всех монахинь;
скажите, чтобы молились за меня, и я тоже буду мо-
литься... Но чуть брежжит рассвет; наши сестры спят...
Ночью я не смыкала глаз. Хотелось заснуть, но сон не
шел.
Одна из сестер сказала ей:
— Матушка, вас что-то мучит. Откройтесь мне. Вам,
может быть, будет легче.
— Сестра Агата, слушайте, подойдите ко мне... еще
ближе... еще ближе... надо, чтобы нас не слышали. Я все
открою сейчас, все, но храните мою тайну... Вы ее видели?
— Кого, матушка?
— Ни у кого нет такого обаяния, не правда ли? Какая
у нее походка! Какое благородство! Какая скромность!
Какое благонравие!.. Ступайте, скажите ей... О! нет, не
говорите ничего, не ходите. Вы не смогли бы прибли-
зиться к ней; небесные ангелы охраняют ее, бодрствуют
вокруг нее,— я видела их; если вы их увидите, вы будете
устрашены, как и я. Останьтесь... Если вы пойдете, что
скажете вы ей? Придумайте что-нибудь, от чего ей не
пришлось бы краснеть.
— Матушка, не посоветоваться ли вам с духовни-
ком?
— Да, да, да... Нет, нет, я знаю, что он мне скажет; я
столько слышала от него... Что еще я могу услышать?
Если бы я могла потерять память!.. Если б я могла вер-
нуться в небытие или родиться снова!.. Не надо звать ду-
ховника. Лучше прочтите мне о страстях господа нашего
Иисуса Христа. Читайте... Мне делается легче... Достаточ-
но одной капли этой крови, чтобы очистить меня... Видите,
она ключом бьет из его бока... Наклоните эту священную
рану над моей головой... Его кровь течет на меня и не при-
стает ко мне... Я погибла!.. Унесите это распятие... По-
дайте его мне...
Ей подавали распятие. Она сжимала его в руках, все
покрывала поцелуями и прибавляла:
447
— Это ее глаза, это ее рот, когда же я снова увижу ее?
Сестра Агата, скажите ей, что я ее люблю. Опишите ей
получше мое состояние. Скажите ей, что я умираю.
Ей пустили кровь, делали ванны, но ее болезнь, каза-
лось, возрастала от лечения. Я не решаюсь описывать вам
те непристойные действия, которые она совершала, повто-
рять все неприличные слова, вырывавшиеся у нее в бреду.
Она ежеминутно подносила руку ко лбу, как будто отго-
няя какие-то неотвязные мысли, какие-то неведомые об-
разы! Она зарывалась с головой в постель, закрывала
лицо простынями.
— Это искуситель,— говорила она,— это он! Какой
причудливый облик он принял! Принесите святой воды,—
окропите меня святой водой... Довольно, довольно,— его
нет больше.
Вскоре стали держать ее взаперти, но тюрьма недоста-
точно хорошо охранялась, и ей удалось однажды выр-
ваться. Она разорвала свои одежды и бегала по коридору
совсем нагая. Только два конца разорванной веревки све-
шивались с ее рук; она кричала:
— Я ваша настоятельница, все вы давали мне клят-
ву,— пусть повинуются мне. Вы заперли меня в тюрьму,
несчастные! Так вот награда за мою доброту! Вы оскор-
бляете меня, потому что я слишком добра; я не буду та-
кой больше... Пожар!.. Убивают!.. Грабят!.. Караул!.. Ко
мне, сестра Тереза! Ко мне, сестра Сюзанна!..
Однако ее схватили и снова заперли, и она говорила:
— Вы правы, вы правы, увы! — я сошла с ума, я это
чувствую.
Иногда ее как будто осаждали картины различных му-
чений. Она видела женщин с веревкой на шее или с ру-
ками, связанными за спиной; видела их с факелом в руке;
присоединялась к тем, которые совершали обряд публич-
ного покаяния; думала, что ее ведут на казнь, и говорила
палачу:
— Я заслужила свою судьбу, я ее заслужила. О, если
бы это мучение было последним! Но предстоят вечные
муки! Вечные муки в геенне огненной!..
Я говорю здесь одну правду; мне не пристало расска-
зывать все, что было еще, а то мне пришлось бы покрас-
неть, пятная грязью эти страницы.
448
Прожив несколько месяцев в таком плачевном состоя-
нии, настоятельница умерла. Какая смерть, господин мар-
киз! Я видела ее в последний час, видела страшный образ,
искаженный отчаянием и грехом. Ей казалось, что она
окружена адскими духами. Они готовились схватить ее
душу,— она говорила, задыхаясь:
— Вот они! Вот они!..— И оборонялась от них распя-
тием, поворачивая его направо и налево, выла, кричала:
— Боже мой! Боже мой!..
Сестра Тереза вскоре последовала за нею, и к нам была
назначена другая настоятельница, преклонных лет, край-
не суеверная и весьма мрачного нрава.
Меня обвиняют в том, что я околдовала ее предше-
ственницу. Она верит этому, и мои муки начинаются сно-
ва. Новый духовник подвергается таким же гонениям со
стороны своего начальства и убеждает меня бежать из
монастыря.
Все готово для моего побега. Я иду в сад между один-
надцатью и двенадцатью часами ночи. Мне бросают ве-
ревки, я обвязываю их вокруг себя; они обрываются, и я
падаю; у меня ссадины на ногах и жестоко ушиблена по-
ясница. Вторая, третья попытка,— меня поднимают на
стену; я спускаюсь вниз. Каково же мое изумление! Вме-
сто дилижанса, в котором я надеялась запять место, я на-
хожу скверную извозчичью карету. И вот я еду в Париж
с молодым бенедиктинцем. Вскоре я заметила по его не-
пристойному тону и по вольностям, которые он позволял
себе, что не будет соблюдено ни одно из условий, о кото-
рых мы договорились. Тогда я пожалела о своей келье и
почувствовала весь ужас своего положения.
Здесь я должна описать вам сцену в карете. Какая
сцена! Что за человек! Я кричу; извозчик приходит мне на
помощь. Ожесточенная драка между ним и монахом.
Я прибываю в Париж. Экипаж останавливается на ма-
ленькой улице, перед узкой дверью, которая выходит в
темный и грязный проход. Хозяйка появляется предо мной
и помещает меня на самом верхнем этаже, в маленькой,
449
скудно обставленной комнатке. Ко мне является с визи-
том женщина, занимающая второй этаж.
— Вы молоды, вам должно быть скучно, мадемуазель.
Спустимся ко мне, вы найдете там славную компанию —
мужчин и женщин, не все такие прелестные, но почти все
так же молоды, как вы. Болтают, играют, поют, танцуют,—
вы найдете у нас все развлечения. Если вы вскружите го-
лову всем нашим кавалерам, клянусь вам, наши дамы не
будут ни ревновать, ни сердиться из-за этого. Пойдемте,
мадемуазель...
Говорившая со мной таким образом была пожилая
особа с ласковым взглядом, кротким голосом и очень
вкрадчивой речью.
Я провела две недели в этом доме, подвергаясь пресле-
дованиям со стороны своего вероломного похитителя и
наблюдая всякие скандальные сцены этого подозритель-
ного места.— Каждую минуту я выжидала удобного слу-
чая, чтобы убежать оттуда.
Наконец, он представился мне. Была поздняя осень.
Если бы по соседству был мой монастырь, я вернулась бы
туда. Я бегу, куда глаза глядят. Меня останавливают
мужчины. Я трепещу от страха, падаю без чувств от уста-
лости на пороге свечной лавочки. Прибегают на помощь;
очнувшись, я вижу себя на убогом ложе, какие-то люди
вокруг. Меня спрашивают, кто я. Не знаю, что я ответила.
Мне дали служанку, чтобы проводить. Я беру ее под руку;
мы идем. Когда мы отошли довольно далеко, эта девушка
говорит мне:
— Мадемуазель, вы конечно знаете, куда мы идем?
— Нет, дитя мое; в приют, я полагаю.
— В приют? Разве у вас нет пристанища?
— Увы, нет!
— За что же вас выгнали из дому в такой поздний
час? Мы у двери приюта св. Екатерины. Посмотрим, не
отворят ли нам; во всяком случае, не бойтесь ничего, вы
не останетесь на улице, переночуете со мной.
Я возвращаюсь к торговцу свечами. Служанка в ужа-
се, увидя мои ноги, все в ссадинах от падения при побеге
из монастыря. Я провожу здесь ночь. На следующий день
вечером снова иду к приюту св. Екатерины. Остаюсь
450
здесь три дня, по истечении которых мне объявляют, что я
или должна отправиться в главный госпиталь, или при-
нять первое попавшееся место.
В приюте св. Екатерины я подвергаюсь опасности со
стороны мужчин и женщин, потому что сюда, как мне ска-
зали после, приходят за добычей развратники и городские
сводницы. Меня пытаются соблазнить, но безуспешно, не-
смотря на грозящую мне нищету. Я продаю свою одежду
и выбираю платье, более подходящее к моему положению.
Я поступаю в услужение к прачке, у которой нахожусь
в настоящее время. Я принимаю белье и глажу его. Моя
работа тяжела. Меня скверно кормят, у меня плохое по-
мещение, я сплю где попало, но зато со мной обращаются
по-человечески. Муж — извозчик. Жена его грубовата, но
все же добродушна. Я была бы почти довольна своей
судьбой, если бы могла надеяться спокойно жить таким
образом.
Я узнала, что полиция арестовала моего похитителя и
передала его в руки церковных властей. Бедняга, он за-
служивает сожаления больше меня. Его неудавшийся по-
бег наделал шуму, а вы не представляете себе, с какой
жестокостью наказывают монахи за проступки, получив-
шие широкую огласку. Тюрьма будет его жилищем до
конца дней. Та же участь ждет и меня, если меня задер-
жат, но он будет жить дольше меня.
Боль от падения дает себя чувствовать. Ноги у меня
распухли, и я не могу сделать ни шагу. Я работаю сидя,
мне больно стоять. Тем не менее я боюсь своего выздоров-
ления. Какие отговорки найду я тогда, чтобы совсем не
выходить из дому, и какой опасности буду подвергаться,
показываясь на улице? Но, к счастью, в моем распоряже-
нии еще достаточно времени. Мои родственники, которые,
конечно, не сомневаются в том, что я в Париже, наверное
приняли всевозможные меры для розыска. Я решила
вызвать г-на Манури на свой чердак, посоветоваться с ним
и поступить согласно его советам, но его нет.
451
Я живу в постоянной тревоге. При малейшем шуме в
доме, па лестнице, на улице меня охватывает страх.
Я дрожу, как осиновый лист, еле держусь на ногах, и ра-
бота вываливается у меня из рук. Я провожу целые ночи,
не смыкая глаз. Если я сплю, то беспокойным сном: брежу,
зову, кричу,— не понимаю, как окружающие не догада-
лись еще, кто я.
Оказывается, о моем побеге опубликовано. Я ожида-
ла этого. Одна из моих товарок сказала мне об этом вче-
ра с прибавлением подробностей, позорящих мое имя, и
рассуждений, способных довести до отчаяния. К счастью,
она развешивала мокрое белье, повернувшись спиной к
лампе, и не могла заметить моего смущения. Однако хо-
зяйка увидела, что я плачу, и сказала:
— Мария, что с вами?
— Ничего,— ответила я.
— Неужели вы так глупы,— прибавила она,— что
разжалобились над дрянной монахиней, распутной и без-
божной, которая втюрилась в какого-то негодяя-монаха и
бежала с ним из монастыря? Вы, должно быть, не в меру
сострадательны. У нее была только одна забота: пить,
есть, молиться богу и спать; она жила припеваючи;
какого же рожна ей еще нужно было? Попробовала бы
она пройтись три-четыре раза на речку в такую погоду,
тогда бы, небось, не захотела бросать монастырь.
Я ответила:
— Известно только, что она много перестрадала.
Мне лучше было бы молчать, потому что хозяйка при-
бавила:
— Будьте покойны, эту негодяйку бог накажет...
При этих словах я наклонилась к столу и оставалась
в таком положении, пока она не сказала:
— О чем вы там размечтались, Мария? Пока вы спи-
те, работа стоит на месте.
Мне всегда нехватало монашеского духа, поступок
мой достаточно доказывает это, но я привыкла в мона-
стыре к некоторым обрядам, которые повторяю маши-
нально: например, зазвонят в колокол,— и я крещусь или
452
опускаюсь на колени; постучат в дверь,— я говорю «Ave»,
меня спрашивают,— мой ответ всегда оканчивается сло-
вами «да» или «нет», «матушка» или «сестра». Если вне-
запно приходит посторонний, мои руки скрещиваются на
груди, и, вместо реверанса, я кланяюсь. Мои товарки по-
катываются со смеху и думают, что я шучу, представля-
ясь монахиней, но их заблуждение не может продолжать-
ся без конца. Мое легкомыслие выдаст меня, и я погибну.
Сударь, поспешите помочь мне. Вы скажете, без со-
мнения: «Укажите, что я могу сделать для вас». Вот что:
мои желания весьма скромны; мне нужно место горнич-
ной или кастелянши, или даже простой служанки. Лишь
бы я могла жить в неизвестности, в деревне, в глухой про-
винции, у порядочных людей, у которых бывают немно-
гие. Жалованье не имеет никакого значения, лишь бы
только были безопасность, покой, хлеб и вода. Будьте
уверены, что службой моей останутся довольны. В роди-
тельском доме я научилась работать, а в монастыре —
повиноваться. Я молода, у меня очень кроткий характер.
Когда мои ноги заживут, у меня будет более чем доста-
точно сил для труда. Я умею шить, прясть, вышивать и
стирать. Когда я была в миру, я сама чинила свои кру-
жева, и скоро научусь опять этому рукоделию. Всякое
дело у меня спорится, и я не брезгаю никакой работой.
Я обладаю голосом, знаю музыку и играю на клавесине
достаточно хорошо, чтобы доставить удовольствие какой-
нибудь мамаше, имеющей склонность к этому. Я могла бы
даже давать уроки ее детям, но боюсь, как бы меня не
выдали манеры, привитые монастырским воспитанием.
Если надо делать прическу, то у меня есть вкус, я взяла
бы несколько уроков и вскоре овладела бы этим немуд-
реным искусством. Только бы, по возможности, снос-
ные условия,— это все, что мне надо. Я не желаю ни-
чего больше. Вы можете поручиться за мою нравствен-
ность. Несмотря на наружность, я обладаю ею, я даже
благочестива. Ах, сударь, все мои беды кончились бы, и
мне нечего было бы бояться людей, если бы бог не оста-
новил меня. Сколько раз подходила я к глубокому колод-
цу, расположенному в конце монастырского сада! Я не
бросилась туда только потому, что мне в этом отноше-
453
нии предоставлена была полнейшая свобода. Не знаю,
какова предназначенная мне судьба, но если придется
когда-нибудь вернуться в какой бы то ни было монастырь,
то я не отвечаю ни за что: везде есть глубокие колодцы.
Сжальтесь надо мной, сударь; иначе вас замучит совесть.
Я устала до изнеможения, ужас объемлет меня, и по-
кой от меня бежит. Я только что перечитала со свежей
головой эти написанные наспех записки и заметила, что
я изображаю себя в каждой строке такой несчастной,
какой я была в самом деле, но гораздо более симпатич-
ной, чем я есть, но это без всякого умысла. Не значит ли
это, что мы считаем мужчин менее восприимчивыми к
картинам наших страданий, чем к изображению того, что
чарует в нас? И не полагаем ли мы, что нам легче пленить
их, чем растрогать? Я знаю их слишком мало и недоста-
точно изучала себя, чтобы знать это. Однако, если мар-
киз, которому приписывают такую чуткость, придет к убе-
ждению, что я обращаюсь не к его отзывчивому сердцу,
а к дурным страстям, то что подумает он обо мне? Это
соображение беспокоит меня. Право, было бы большой
ошибкой вменять мне лично в вину инстинкт, свойствен-
ный всему моему полу. Я — женщина, может быть, немно-
го кокетливая, кто знает? Но это у меня естественно и
безыскусственно.
ПРИМЕЧАНИЯ
Вошедшие в этот сборник произведения Дидро, за исключением
впервые публикуемых на русском языке («Нетерпимость», «Иезуи-
ты», «Бог и человек») и «Беседы с аббатом Бартелеми», воспроизво-
дятся по собранию сочинений в десяти томах («Academia» — ГИХЛ,
1935—1947) с незначительными редакционными исправлениями.
Примечания составлены X. И. Момджяном.
Цифры перед каждым примечанием указывают страницу и но-
мер примечания на ней.
Прибавление к философским мыслям,
или различные возражения против сочинений
различных богословов
В 1746 г. Дидро опубликовал свою первую оригинальную работу
«Философские мысли», где, отказавшись от обычных религиозных
представлений, защищал деистические взгляды. Сторонники религии
выступили с устными и письменными опровержениями «Философ-
ских мыслей». В свою очередь Дидро, чтобы ответить критикам, а
также развить и лучше обосновать свои взгляды, повидимому, тогда
же, в 1746 г., написал «Прибавление к философским мыслям», ко-
торое и было впервые опубликовано в Голландии без имени автора
в 1770 г. Под именем Дидро «Прибавление» вышло в свет в 1798 г.
в составе работы Нежона «Древняя и новая философия».
Все еще деист, Дидро в «Прибавлении» подверг, однако, ост-
рой критике христианство, его догмы и культ, отказываясь считать
евангелия заслуживающим доверия историческим источником. Он
едко осмеивает библейскую нравственность, показывает ее проти-
воречивость, жестокость и полную непригодность для нормального
человеческого общежития. Дидро противопоставляет разум слепой
вере и отвергает веру. «Прибавление» знаменовало существенный
шаг Дидро к атеизму.
46 1 Паскаль, Блез (1623—1662) — французский математик, физик,
философ-идеалист.
462 Николь, Пьер (1625—1695)—французский моралист, богослов.
471 Намек на библейскую легенду об изгнании из рая Адама и Евы,
которые ели плоды с запретного дерева
457
48 1 Эскулап — римское название древнегреческого бога врачевания
Асклепия, который, согласно мифу, не только исцелял больных,
но и воскрешал умерших.
48 2 Аполлоний Тианский (I в.)—философ-мистик, один из главных
представителей неопифагореизма — идеалистического философ-
ского направления периода разложения античного рабовладель-
ческого общества.
491 В отличие от следующих своих работ (см. примеч. к работе
«Прогулка скептика, или Аллеи») здесь Дидро еще не берет под
сомнение историческое существование Христа.
50 1 Речь идет о сборнике веселых рассказов Этьена Табуро «Пест-
рые мотивы сеньора Аккора с изречениями некоего Голяра»;
впервые был издан в 1572 г.
51 1 Онтан, де ла — французский путешественник (XVII в.).
51 2 Ланкло де, Нинон (1620—1705)—французская светская дама,
отличалась образованностью; ее салон посещался выдающимися
деятелями того времени.
521 Дидро указывает на то, что и т. н. канонические евангелия,
провозглашенные церковью «богодухновенными» и непогреши-
мыми, в действительности содержат в себе противоречивые и
взаимоисключающие сведения о рождении, жизни и смерти
мифического Христа.
522 Под тремя ипостасями христианская религия понимает три лица
христианской троицы: бога-отца, бога-сына и бога — духа свято-
го. Дидро видел источник этого представления в учении древне-
греческого философа Платона о трех свойствах божества: бла-
гости, мудрости и могуществе.
523 Дидро правильно указывает на связь между христианским бо-
гословием и античным идеализмом. Вульгаризованные идеи
стоиков и неоплатоников были одним из идейных источников
христианской религии. «Афинский философ»— Платон.
524 Акциденция (лат. accidens — случайность)—несущественное,
случайное свойство или состояние вещи, по терминологии, упо-
треблявшейся в средневековой схоластике, а также в филосо-
фии XVII—XVIII вв.
52 5 Субстанция (лат. substantia — сущность)—в домарксовой
философии—первооснова всего существующего, имеющая при-
чину в самой себе.
53 1 Пирронизм (по имени древнегреческого философа-скептика Пир-
рона, IV в. до н. э.)—направление в античной идеалистиче-
ской философии, последователи которого учили о недостовер-
ности человеческого познания и призывали сомневаться в пока-
заниях чувств и утверждениях разума. Под пирронистами
Дидро разумеет здесь скептиков, которые в отличие от догма-
тиков отрицают неизменные истины и во всем сомневаются.
54 1 Марк Аврелий Антонин (121—180)—римский император, фи-
лософ-идеалист стоического направления.
542 Гебраист — знаток древнееврейских языка и письменности.
543 Имам — высшее духовное лицо у мусульман. В данном случае
имеется в виду всякое духовное лицо.
544 Янсенист — сторонник янсенизма, религиозного течения в ка-
толической церкви (по имени епископа Янсения, 1585—1638).
458
Расходясь с общепринятым у католиков учением в ряде бого-
словских вопросов, янсенисты выдвигали в числе других требо-
ваний к духовенству требование аскетической жизни. Взаимораз-
облачения янсенистов и иезуитов способствовали дискредита-
ции католической церкви во Франции.
545 Дидро высмеивает миф о непорочном зачатии Иисуса Христа
от снизошедшего на деву Марию «духа святого» в виде голубя
Весть о грядущем рождении Христа, согласно евангелиям, при-
нес Марии «молодой человек»—архангел Гавриил.
546 Леда — в греческой мифологии жена спартанского царя Тин-
дарея, которою овладел Зевс, принявший образ лебедя.
547 Кастор и Поллукс — в греческой мифологии близнецы, дети
Леды, боги рассвета и сумерек.
55 1 Намек на расхождения в религиозных предписаниях Ветхого и
Нового заветов.
552 Дидро иронически замечает, что, если, как учит церковь, боль-
шинство людей осуждено на вечные адские муки за греховную
жизнь, то, следовательно, предусмотрительнее было бы убивать
людей в самом раннем возрасте, дабы избавить их от греха и
тем самым — от вечных адских мук.
56 1 Лакондамин, Шарль (1701—1744)—французский путешествен
ник и математик.
Прогулка скептика, или Аллеи
Эта работа была написана в 1747 г. и полностью напечатана
только в 1830 г. Относится к числу тех работ Дидро, где зреют его
материализм и атеизм, хотя автор еще не порвал тогда окончательно
с деизмом. «Прогулка» состоит из введения и трех частей. В первой,
озаглавленной «Аллея терний», дается остроумная критика рели-
гии, раскрываются нелогичность религиозных представлений о боге,
неразумность и аморальность его поступков, противоречия между
книгами Ветхого и Нового заветов. Дидро разоблачает реакцион-
ную, антинародную деятельность церкви, осмеивает монахов и их
быт. В «Аллее терний» он вслед за Вольтером высказывает весьма
обоснованные сомнения в историчности Христа, позднее полностью
подтвержденные исторической наукой.
В «Аллее каштанов» Дидро изображает столкновение между
представителями различных философских направлений. Его симпа-
тии еще на стороне деизма, но он уже чувствует слабость деистиче-
ских возражений против материализма и атеизма.
В «Аллее цветов» подвергнуты критике неприглядные нравы
аристократии времен Дидро.
В нашем издании дана первая часть «Прогулок скептика» —
«Аллея терний».
58! Речь идет об экспедициях, предпринятых для измерения дуги
земного меридиана.
59 1 Под классами Дидро подразумевает разные вероисповедания.
592 Государем Дидро называет бога.
59 3 Намек на Моисея, Христа и Магомета.
50 4 Дидро имеет в виду библейские книги Ветхого и Нового заветов.
450
60 1 Речь идет об иудеях и христианах.
602 Намек на христианское учение о посмертном воздаянии.
603 Говоря о «зачислении в войско», Дидро подразумевает кре-
щение.
604 Речь идет об обряде обрезания.
61 1 Говоря о «повязке на глазах», Дидро имеет в виду религиоз-
ную веру, которая мешает видеть истину.
61 2 Под дезертиром Дидро подразумевает человека, освободив-
шегося от веры в бога.
62 1 «Старые солдаты» — иудеи.
622 Тропинка, заросшая терниями, символизирует религиозно-цер-
ковный мир.
623 Дорога, усеянная цветами, символизирует мир чувственных на-
слаждений.
624 Под этой аллеей Дидро подразумевает царство разума, науки
и философии.
63 1 Дидро характеризует людей, ослепленных и подавленных рели
гией.
64 1 Речь идет о священниках.
64 2 «Очищать платья» — отпускать грехи.
65 1 «Вице-король» — римский папа.
652 «Генеральные штаты» — в данном случае церковные соборы.
653 Дидро намекает на индульгенции — на отпущение грехов от
имени римского папы, чаще всего за плату.
654 Кибела — «мать всего живого», богиня в Малой Азии, Греции
и Риме античных времен.
66 1 Намек на изготовление и продажу «священного елея».
662 Имеются в виду священники.
663 Речь идет о богословах.
664 «Вспомогательные войска» — монахи.
665 «Очень богатые начальники» — настоятели монастырей.
666 Александр Галесский (ум. 1245)—средневековый католический
философ-схоласт.
67 1 «Палачи армии» — Дидро имеет в виду инквизицию, специаль-
ное судилище, созданное в XIII в. католической церковью для
расправы с ее врагами. Кровавая деятельность инквизиции была
направлена в первую очередь против участников антифеодаль-
ных народных движений и передовых мыслителей.
672 Намек на орден иезуитов — одну из наиболее реакционных
организаций католической церкви, созданную в 1534 г. и утвер-
жденную папой римским в 1540 г. Орден иезуитов известен
своими преступлениями, нетерпимостью, крайним мракобесием.
681 Речь идет об исповедальне — особой кабине в католических
церквах, где верующие исповедуются перед священником и по-
лучают у него отпущение грехов. Церковь использует исповедь
для укрепления своего влияния на массы. Исповедь часто
служит средством политического сыска.
68 2 Дидро имеет в виду янсенистов.
69 1 Женские монастыри.
692 Дидро подразумевает Библию, состоящую из двух частей —
Ветхого и Нового заветов. Основная часть Ветхого завета,
«Пятикнижие», была составлена и почти окончательно отредак-
460
тирована в V в. до н. э. Книги Нового завета в основном были
составлены во II в. н. э.
701 Дидро подразумевает мифического вождя и законодателя
древних евреев — Моисея.
71 ] Намек на библейскую легенду о сотворении первого человека.
71 2 Подразумевается библейская легенда о грехопадении.
71 3 Имеется в виду библейский миф о потопе.
71 4 Намек на библейское сказание о жертвоприношении Исаака
Авраамом. Далее также подразумеваются различные фантасти-
ческие события из книг Ветхого завета.
73 1 Здесь Дидро переходит к критике Нового завета, мифа о Хри-
сте. «Сын монарха» — Христос.
732 Намек на нелепый догмат троичности (о единстве бога-отца,
сына божьего — Христа и святого духа).
733 Дидро осмеивает христианский догмат пресуществления, со-
гласно которому священник произносит в церкви установленные
магические слова, после чего хлеб и вино, оставаясь внешне
неизменными, якобы становятся плотью и кровью Христа.
74 1 Дидро намекает на разделение христианской церкви на запад-
ную (римско-католическую) и восточную (греко-православную)
Это разделение окончательно оформилось в XI в. Одним из
пунктов расхождения между обеими церквами является вопрос
о причащении: в православной церкви принято причащение ве-
рующих хлебом и вином, а в католической так причащается
только духовенство, верующим же дают один освященный хлеб.
Отсюда — шутка Дидро о «завтраке» и «выпивке».
742 Дидро имеет в виду двух апостолов («первых» проповедников)
христианства — мифических Петра и Павла.
743 Дидро намекает на церковное учение о божественной благо-
дати.
744 Дидро имеет в виду одного из первых христианских богосло-
вов— Аврелия Августина (354—430), автора «Исповеди» и «Гра-
да божьего»; Августин призывал к истреблению еретиков и край-
нему аскетизму.
75* Намек на учение о предопределении, согласно которому по-
ступки и судьбы людей заранее определены богом. В христиан-
ском богословии это учение проповедовали Августин, Лютер и
Кальвин.
752 Намек на одного из учеников мифического Христа, Иуду, кото-
рый, как гласит христианская легенда, предал своего учителя.
753 Имеется в виду миф о воскресении Христа.
761 Т. е. христианство стало распространяться.
762 Здесь и дальше Дидро высказывает сомнения в историчности
Христа.
781 Апостол Марк, которому приписывается одно из одобренных
христианской церковью (канонических) евангелий, где содер-
жатся легенды о рождении, жизни и смерти Христа, а также
излагается приписываемое ему учение.
80 1 Имеется в виду фантастическое христианское учение о «втором
пришествии» Христа и о «страшном суде».
802 Эпаминонд и Пелопид — фиванские полководцы IV в. до н. э.
803 Пиндар (522—448 до н. э.) — древнегреческий поэт.
461
804 Дидро имеет в виду еврейского историка и полководца Иосифа
Флавия (ок. 37 —ок. 95).
805 Имеется в виду философ-идеалист и мистик Филон Але-
ксандрийский (I в. н. э.), воззрения которого оказали большое
влияние на христианское вероучение.
806 Юстус Тивериадский — еврейский историк и политический
деятель I в. н. э.
81 1 Дидро сообщает здесь твердо установленный исторический
факт. Дело в том, что деятели христианской церкви, обеспо-
коенные молчанием Иосифа Флавия о Христе, пошли на подлог:
в книгу Иосифа Флавия «История Иудеи» они вписали несколь
ко строк о мифическом основателе христианской религии, слов-
но Иосиф Флавий знал о его существовании.
83 1 Дьяволом.
832 Крестятся.
84 1 Мильтон, Джон (1608—1676)—английский поэт и публицист,
певец английской революции, автор поэмы «Потерянный и воз-
вращенный рай» и политических памфлетов.
842 Сервантес де Сааведра, Мигель (1547—1616) —испанский писа-
тель, автор романа «Дон Кихот Ламанчский». Дидро имеет
в виду одно из грубых подражаний этому произведению.
Нетерпимость. Иезуиты.
Священники
(Статьи из «Энциклопедии»)
«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесл»
издавалась во Франции с 1751 по 1780 г. Она сыграла очень боль-
шую роль в критике феодально-клерикального мировоззрения и
в обосновании новых, прогрессивных идей. Душой и организатором
«Энциклопедии» был Дидро, который не только вел огромную ре
дакторскую работу, но и написал для этого издания множество
статей. При этом он был вынужден тщательно маскировать свои
материалистические и атеистические взгляды. Внимательного чита-
теля, конечно, не собьет с толку внешняя «благочестивость» этих
статей Дидро. Через все иносказания и эзоповский язык в них про-
бивается острая ненависть Дидро к религии и духовенству. Пере-
воды публикуемых впервые на русском языке статей «Нетерпи-
мость» и «Иезуиты» даны по «Oeuvres completes de Diderot», т. XV,
Париж, 1876.
Статья «Нетерпимость» направлена против фанатизма и нетер-
пимости. Дидро резко осудил в ней насильственное насаждение ре-
лигии и отстаивал свободу совести. Трудно преувеличить смелость
этого выступления Дидро, если вспомнить, что еще при его жизни
католическая церковь с помощью королевской власти учиняла во
Франции кровавые расправы на почве религиозной нетерпимости.
Для разоблачения нетерпимости церкви Дидро ссылается на
многие христианские авторитеты—на Тертуллиана, Оригена,
Иоанна Златоуста и других, которые лицемерно или искренне вы-
сказывались против преследований за веру. Дидро показывает, что
в те времена, когда христианство было гонимой религией, священ-
462
ники проповедовали терпимость. Но положение коренным образом
изменилось с превращением христианства в господствующую рели-
гию. Отбросив фальшивые разглагольствования о свободе вероиспо-
ведания, христианская церковь в течение столетий расправлялась
с иноверцами кровавыми средствами инквизиции. Следует иметь
в виду, что в «Нетерпимости», как и в других статьях «Энци-
клопедии», Дидро из цензурных соображений был вынужден
пользоваться языком правоверного католицизма.
Статья «Иезуиты» разоблачала одну из наиболее реакционных
организаций католической церкви — орден иезуитов, или «Общество
Иисуса», которое было жесточайшим врагом просветительского дви-
жения и, в частности, «Энциклопедии». Дидро перечисляет некото-
рые из особенно известных преступлений иезуитов. Появление этой
обличительной статьи стало возможно после изгнания иезуитов из
Франции (1764). Чтобы избежать обвинения в атеизме, Дидро и
в этой статье делает «благочестивые» реверансы в сторону религии
и церкви.
87 1 Минуций, Феликс (? — 210 н. э.)—древнеримский юрист.
89 1 Юстиниан (483—565)—византийский император; отличался
религиозной нетерпимостью, особенно жестоко преследовал
в Палестине сторонников иудейской секты самаритян.
892Нантский эдикт — изданный в 1598 г. французским королем
Генрихом IV указ, который предоставил гугенотам (француз-
ским протестантам, кальвинистам) свободу вероисповедания.
Был отменен Людовиком XIV в 1685 г., после чего множество
гугенотов покинуло Францию.
92 1 Акоста, Варфоломей — один из первых иезуитов-миссионеров,
подвизавшихся в XVI в. в захваченных португальцами районах
Индии. Известен, в частности, тем, что объявил проституцию
богоугодным делом, если часть выручки от этого промысла от-
дается церкви. Говоря о его неверии в упомянутые «чудеса»,
Дидро имеет в виду то, что Акоста вместе с Франциском Кса-
верием сам устраивал их и, следовательно, никак не мог верито
в их сверхъестественность.
922 Здесь неточность. Что касается обетов, особенность иезуит-
ского ордена, который ставил себе главной целью всемерное
укрепление власти римских пап, заключалась в том, что к обыч-
ным трем монашеским обетам (послушание, нестяжательство,
целомудрие) они демонстративно добавили четвертый — о без-
условном повиновении папе.
931 Генералы ордена иезуитов: Лайнес — с 1558 г., Аквавива —
с 1581 г.
951 Фанатиком Дидро называет здесь «монархомаха» — сторон-
ника того взгляда, что следует убивать королей, отказываю-
щихся поддерживать политику католической церкви.
96 1 Суд указывал на опасность того, что французские иезуиты на-
ходились в подчинении у итальянца — тогдашнего генерала их
ордена Лоренцо Риччи (был избран в 1758 г.).
962 Макиавеллизм — политика, которая не брезгает преступными
средствами. Термин связан с именем итальянского политиче-
ского деятеля Никколо Макиавелли (1469—1527), поучавшего,
463
что ради укрепления своей власти правитель может не считаться
ни с какими правовыми и моральными нормами.
963 Аугсбургский интерим — распоряжение, изданное императором
Карлом V в середине XVI в. для умиротворения враждовавших
католиков и протестантов Германии.
964 Гентское умиротворение — соглашение от 8 ноября 1576 г.
между северными и южными провинциями Нидерландов, за-
ключенное в интересах их совместной борьбы против испанских
захватчиков. Это соглашение, в частности, предусматривало
отмену жестоких законов против еретиков, санкционировало
господство католицизма в южных провинциях, а протестан-
тизма — в северных.
965 Католическая Лига — объединение французского католического
духовенства, феодальной знати, дворянства и буржуазии север-
ных департаментов Франции, возникшее для борьбы против гу-
генотов (кальвинистов), на сторону которых к концу жизни
перешел Генрих III.
97 1 Имеется в виду Генрих IV Бурбон.
972 «Пороховой заговор» — неудачный антиправительственный за-
говор в начале XVII в. в Англии. Заговорщики, среди которых
видную роль играли иезуиты, предполагали при открытии сес-
сии парламента в 1605 г. взорвать Вестминстерский дворец
вместе со всеми депутатами, королем и королевской семьей.
98 1 Имеется в виду банкротство Лавалетта, о котором Дидро го-
ворит далее.
982 Пор-Рояль — монастырь в Париже, важнейший центр янсе-
низма; был закрыт по приказу Людовика XIV в 1710 г. и раз-
рушен толпой фанатиков, подстрекаемых иезуитами.
983 Булла папы Климента XI от 8 октября 1713 г., осуждавшая
янсенизм. Известна под названием «Unigenitus» по первому
ее слову.
984 Здесь неточность. Правильная дата—1719 г.
985 Разумеется, ни о каких еретических или «богохульных» вы-
ступлениях иезуитов не может быть и речи, хотя противники
«Общества Иисуса» для его дискредитации нередко выдвигали
такое обвинение.. На самом деле в подобных случаях речь идет,
как правило, о частичных, несущественных, повидимому, необ
думанных и ничуть не характерных для всего ордена отступле-
ниях некоторых иезуитских проповедников от деталей официаль-
ного католического вероучения.
986 Название происходит от латинского слова mamma, означаю-
щего женскую грудь. Иезуит Бенчи выступил в печати с экстра-
вагантным заявлением, что при определенных обстоятельствах
можно, не греша против католической морали, ощупывать
грудь монахини. Бенчи ссылался в подтверждение своего
мнения на Фому Аквинского. Против Бенчи выступили бого-
словы ордена доминиканцев. Секты мамилляров не существо-
вало.
987 В начале XVII в. иезуиты основали в Парагвае (центральная
часть Южной Америки) свою обширную колонию, в которой
жестоко эксплуатировали индейское население. Эта колония
формально принадлежала Испании, но фактически подчинялась
464
только иезуитам. Она просуществовала почти 160 лет. В сере-
дине XVIII в. мадридское правительство попыталось навести
там свои порядки. Парагвайские иезуиты несколько лет ока-
зывали королевским войскам вооруженное сопротивление,
выставив против них свою многочисленную хорошо вооружен-
ную и обученную армию из индейцев. Злоупотребления иезуи-
тов в Парагвае были одной из причин роспуска их ордена
в 1773 г.
988 Дамьен, Робер-Франсуа (1715—1757).
99] На жизнь короля Иосифа I было покушение, но он остался
жив. Здесь у Дидро неточность.
1001 Учение о пробабилизме, или правдоподобии (от латинского
probabilis), было разработано иезуитскими моралистами глав-
ным образом в XVII и XVIII вв. Оно сводится к тому, что
в случае расхождения по вопросам морали между общепризнан-
ными католическими авторитетами можно руководствоваться
любым из их мнений, хотя бы диаметрально противоположных.
Это безнравственное учение давало возможность оправдывать
любые преступления, если они выгодны церкви и господство-
вавшим классам.
1002 Симония — система покупки и продажи церковных должностей
в католической церкви; один из наиболее обильных источников
обогащения римских пап в средние века.
1021 «Мрачные враги» и (далее) «мрачные энтузиасты» — янсе-
нисты.
1022 «Треву» — печатный орган иезуитов Франции; издавался
в 1701—1775 гг.
1031 В середине XVIII в. во Франции шла борьба мнений о преи-
муществах и недостатках общественного и домашнего воспита-
ния. Наиболее прогрессивные мыслители стояли за превосход-
ство общественного воспитания. Дидро подчеркивает, что, хотя
иезуитские коллегии относились к этой же категории, их влия-
ние все-таки падало.
ЮЗ2 Дидро имеет в виду покушения на французского короля Лю-
довика XV в 1757 г. и португальского — Иосифа I в 1758 г.
1011 Имеются в виду янсеиисты.
1042 Бурдалу, Луи (1632—1704)—французский иезуит, известный
своим красноречием, проповедник при дворе Людовика XIV.
Разговор Даламбера с Дидро.
Сои Даламбера
Эти сочинения, тесно связанные общностью идеи, были напи-
саны в 1769 г. и впервые опубликованы в 1830 г. Они наносят ре-
лигии сильнейшие удары. Излагая свои взгляды и догадки в об-
ласти физиологии, Дидро хотел опровергнуть нелепые религиозные
и идеалистические представления о психической жизни, показать
естественные причины ее возникновения и развития. Названные ра-
боты, как и «Элементы физиологии», дают естественнонаучное
обоснование атеизма Дидро.
108 1 Подразумевается: бога.
465
1101 Фальконе, Этьен (1716—1791)—французский скульптор, друг
Дидро. Работая одно время в России, Фальконе создал в числе
других скульптур знаменитого «Медного всадника» — памятник
Петру I, установленный в Петербурге.
1102 Гюэ — французский скульптор.
111 1 Речь идет о Жане Лероне Даламбере (1717—1783), известном
математике и философе-просветителе. Вместе с Дидро он ре-
дактировал «Энциклопедию». В вопросах философии не смог
подняться до материализма и атеизма. На этой почве между
ним и Дидро были существенные расхождения. Здесь Дидро
намекает на то обстоятельство, что «незаконнорожденный» Да-
ламбер был подброшен матерью на церковную паперть.
1112 Де-Тансэн — мать Даламбера.
1113 Латуш — отец Даламбера.
1121 Дидро решительно отвергает идеалистическую теорию пре-
формизма, согласно которой эмбрион есть вполне сформировав-
шееся существо весьма малых размеров. Эта теория рассматри-
вала превращение эмбриона во взрослую особь как процесс про-
стого количественного роста.
1131 Отвергая всякую мысль о боге, Дидро связывает возникнове-
ние и развитие жизни на Земле с материальной силой сол-
нечной энергии.
1161 На примере развития яйца Дидро отстаивает одно из основ-
ных материалистических положений, согласно которому дви-
жущаяся материя способна без всякого вмешательства вымыш-
ленных сверхъестественных сил породить все существующие
в мире явления, в их числе жизнь и психическую деятельность.
1181 Под «другой», «непонятной» идеей Дидро подразумевает идею
бога, которая ничего не может объяснить.
1191 Беркли, Джордж (1684—1753)—епископ англиканской церкви,
один из видных представителей субъективного идеализма, враг
материалистической философии и атеизма. Отвергая объектив-
ное существование материи, Беркли провозглашал бога источ-
ником человеческих ощущений. В этой и в других работах
Дидро подверг субъективный идеализм Беркли резкой критике.
120 1 Аяксы — в древнегреческой эпической поэме «Илиада» два не-
разлучных героя-воина.
1202 Диомед — один из героев древнегреческой мифологии.
1221 Леспинас—приятельница Даламбера.
1222 Борде, Теофиль (1722—1776) — французский врач-физиолог,
автор «Исследования пульса».
128 1 Имеется в виду английский физик Нидгем (1713—1781), автор
работы: «Новые открытия, сделанные при помощи микроскопа»,
сторонник теории самопроизвольного зарождения организмов.
131 1 Фонтенель, Бернар (1657—1757) — предшественник француз-
ских просветителей XVIII в.; в своих произведениях подверг
критике феодально-клерикальное мировоззрение. В «Проис-
хождении басен» и «Истории оракулов» осмеял идею сверхъ-
естественного, объявив религиозные мифы и пророчества делом
ловких мошенников. В «Разговорах о множестве миров» изло-
жил в популярной форме передовые космогонические идеи
своего времени.
466
134 1 Дидро принадлежит ряд гениальных догадок об изменчивости
видов. Здесь, задолго до выдающегося французского естество-
испытателя Ламарка, он высказывает предположение об измен-
чивости органов животных под влиянием внешней среды.
1342 Кастель — современник Дидро, изобрел т. н. «зрительный
окуляр» — ленту, на которой едва различимыми оттенками
даны переходы одних цветов в другие.
135 1 Архит Тарентский (ок. 440—360 до н. э.)—выдающийся гре-
ческий математик и астроном, последователь пифагореизма.
146 1 Лапейрони, Франсуа (1678—1747)—известный французский
хирург, основатель Хирургической академии.
147 1 Амфитрита — в греческой мифологии жена бога морей Посей-
дона.
153 1 Линней, Карл (1707—1778)—шведский естествоиспытатель,
создавший систему классификации растительных и животных
видов, которые ошибочно рассматривались им как неизменные.
157 [ Даламбера.
159 1 Вокансон, Жак (1709—1782)—французский механик, изобре-
татель различных механизмов-автоматов.
1592 Гретри, Андре (1741—1813)—французский композитор.
1661 Здесь Дидро раскрывает основной философский смысл диало-
га: психические явления, несмотря на сбою сложность, доступны
познанию. Как и все другие явления, они имеют естественное
происхождение и непосредственно обусловлены физиологиче-
скими изменениями, происходящими в организме. Память, спо-
собность к сравнению и суждению, разум, желания, страсти
и т. д. не таят в себе ничего мистического, сверхъестественного.
Исследователю не нужно обращаться к идее бога, этому «по-
стороннему и непонятному фактору», чтобы понять душевную
жизнь. Таков в высшей степени смелый для XVIII в. материали-
стический, атеистический вывод Дидро из анализа психических
явлений, хотя многие его частные объяснения весьма наивны,
устарели, часто ошибочны, что объясняется не только сравни-
тельно невысоким уровнем тогдашней биологической науки, но
главным образом — механистическим характером материализма
Дидро, как и других энциклопедистов.
1681 Маре — квартал в Париже.
Философские принципы. О материи и движении
Работа была написана Дидро в 1770 г. и опубликована Ж. Не-
жоном, который сообщал, что поводом для нее послужила одна
анонимная диссертация, затрагивавшая вопросы материи и движе-
ния. Дидро обосновывает здесь материалистическое учение о един-
стве материи и движения, и читатель прямо подводится к атеисти-
ческим заключениям. Важно отметить, что в противоположность
метафизическим представлениям о движении Дидро отвергает абсо-
лютный покой и говорит о самодвижении материи. Тем самым он
разрушает представление о боге как о силе, извне сообщающей
мертвой материи «первый толчок».
1691 Гомогенность — однородность, в отличие от гетерогенности —
разнородности.
467
170 l Паралогизм — ложное умозаключение в результате непредна
меренного нарушения логических правил мышления.
171 1 Транслация — в данном случае перемещение.
1721 Папинов котел — прибор, изобретенный французским физиком
Дени Папином (1647—1714) и дающий возможность нагревать
воду выше 100° в замкнутом сосуде.
1731 Сублимация — возгонка (хим.), перевод твердого вещества
непосредственно в газообразное состояние путем нагревания.
1732 Диссолюция — разложение, растворение твердых тел.
Бог и человек, сочинение де Вальмира
Статья написана в 1771 г. по поводу вышедшего в том же году
в Амстердаме одноименного произведения Сису де Вальмира
В статье Дидро вкратце сформулировал свой гуманистический нрав-
ственный идеал, свое понимание добра. Отвергая представление
о загробном воздаянии, он признает лишь одну форму бессмер-
тия— жизнь в памяти грядущих поколений, заслуженную обще-
ственно-полезной деятельностью. Статья свидетельствует о строгой
принципиальности Дидро, отвергавшего всякое примирение с по-
повщиной, всякие попытки эклектического сочетания материализма
и атеизма с идеализмом и религией. На русском языке печатается
впервые по «Oeuvres completes de Diderot», т. IV, Париж, 1875.
1751 Дидро высмеивает религиозные представления о прирожден-
ной греховности человека, о его ответственности за проступки
мифических Адама и Евы.
1761 Как и во многих других работах, Дидро отстаивает принципы
утилитаристской этики французского материализма XVIII в.,
согласно которой личность в своих же интересах должна ува-
жать интерес других, сочетать личное благо с общественным.
Добавление к «Путешествию» Бугенвилля
Луи-Антуан де Бугенвилль (1729—1811) в 1766—1769 гг. возглав-
лял первую французскую кругосветную экспедицию, отчет о кото-
рой был опубликован в 1771 г. В том же году Дидро откликнулся
на это издание рецензией. Через год он вновь вернулся к этой теме
и написал «Добавление к «Путешествию» Бугенвилля», впервые
опубликованное в 1796 г. в сборнике «Философские и литературные
заметки».
В «Добавлении» Дидро подвергает критике тогдашние социаль-
ные порядки, мораль и религию. Вступая в противоречие со свои-
ми взглядами на частную собственность как на необходимую
предпосылку всякого цивилизованного общества, Дидро выражает
в «Добавлении» симпатии к социальной жизни, основанной на общ-
ности имущества. Характерно, что первый издатель «Добавления»,
аббат Бурле де Воксель, в предисловии «изобличал» Дидро как
идейного вдохновителя «санкюлотства», как учителя руководителей
революционных низов — Шометта и Эбера в их борьбе «против
трех владык рода человеческого: великого мастера (бога.— X. М.),
властей и духовенства» («Oeuvres completes de Diderot», т. II,
стр. 196).
468
В «Добавлении» Дидро разоблачает крайнюю жестокость евро-
пейских колонизаторов. Преднамеренная идеализация быта и нравов
Таити направлена у Дидро против быта и нравов господствовавших
классов феодальной Франции. Много внимания Дидро уделил ра-
зоблачению религии и религиозной морали. Устами таитянина он
высмеивает противоречивые, нелепые представления о боге, «кото
рый сделал все без рук, без головы и без орудий, который нахо-
дится повсюду и которого нельзя нигде видеть, который существует
сегодня и завтра и который не становится старше ни на один день,
который отдает приказания и которому не повинуются, который
может помешать совершению известных поступков и, однако, не
мешает этому». Дидро отстаивает ту прогрессивную мысль, что
нравственные принципы не нуждаются в религиозной санкции. По
его глубокому убеждению, в религиозных представлениях извра
щаются, уродуются, мистифицируются естественные принципы нрав-
ственного поведения людей; религия прославляет самые отврати-
тельные, безнравственные поступки, противоречащие природе и есте-
ственным склонностям человека. Как и в других своих работах,
Дидро отстаивал в «Добавлении» нравственность, основанную на
разумном эгоизме, на сочетании личного и общественного инте-
реса.
180 1 Палингенезия, или палингенезис,— в данном случае имеется
в виду возврат отживших установлений.
1802 См. прим. 987.
181 1 В самом деле, несколько лет парагвайские иезуиты оказывали
вооруженное сопротивление войскам метрополии.
181 2 Секретарь «Королевского общества» (Лондон) Мати и акаде-
мик Лакондамин (1701—1744) ошибочно полагали, что пата-
гонцы, жители Огненной Земли (группа островов на крайнем
юге Южн. Америки), очень высокого роста.
187 1 Имеется в виду искусственный жемчуг.
203 1 Рейпаль, Гийом (1713—1796)—французский историк. В своей
«Истории обеих Индий» (1770) развивал просветительские
идеи.
218 1 Калабрийцы — жители Калабрии, одной из южных областей
Италии. В XVI и XVII вв. калабрийские крестьяне неодно
кратно восставали против испанского ига.
220 1 Лареймер, Гардейль, Танье и мадемуазель де ла Шо — персо
нажи произведения Дидро «Это не сказка».
2202 Кавалер де Рош и мадам де ла Карльер — персонажи работы
Дидро «О непоследовательности общественного мнения о наших
частных поступках».
Беседа
с аббатом Бартелеми
Впервые напечатана в «La revue mondiale» (апрель, 1920) под
названием «Дидро и аббат Бартелеми» и со следующими двумя
примечаниями: «Публикуемые ниже неизданные страницы Дидро
относятся, несомненно, к числу наиболее блестящих произведений,
вышедших из-под пера знаменитого писателя. Они являются не
только синтезом философских воззрений и стремлений автора «Пле-
469
мянника Рамо», но отражают также материалистические тенденции
и стремления его друзей по борьбе за торжество свободы мысли и
принципов великой революции. Излишне добавлять, что мы их пу-
бликуем только как документы, тем более, что некоторые места
этого произведения находятся в странном противоречии с духом
терпимости и безусловным уважением, которое мы питаем ко всем
религиозным верованиям» (это примечание подписано инициалами
N. D. L. R.). Второе примечание, неподписанное, гласит, что пред-
лагаемая работа есть «отрывок рукописи из коллекции Эрмитажа,
найденный в бумагах Сент-Бева последним его секретарем Жюлем
Труба».
Нетрудно заметить, что этот «научный аппарат» столь важной
публикации совершенно неудовлетворителен. Обойдены молчанием
такие существенные вопросы, как нынешнее местонахождение под-
линника, его описание, предполагаемая датировка, доказательства
принадлежности его Дидро и т. д. Возможно, для издателя автор-
ство Дидро было настолько очевидно, что он не счел нужным при-
бегнуть к аргументам. Тем не менее, их необходимость не подлежит
сомнению. Некоторые доказательства в пользу того, что автором
«Беседы» был Дидро, приведены X. Н. Момджяном в связи с ее
первой публикацией на русском языке в «Известиях Академии наук
Армянской ССР», № 3—4, 1945 г. Оттуда она воспроизводится для этого
издания с незначительными редакционными поправками. Анализ
«Беседы» показывает, что она в значительной части состоит из мыс-
лей и афоризмов Дидро, встречающихся в более ранних его произ-
ведениях. Нет возможности точно установить время написания «Бе-
седы», но так как в ней упоминается путешествие Бугенвилля, сле-
дует заключить, что она написана не раньше 1771 г., когда был
напечатан отчет об этом путешествии.
Заголовок «Дидро и аббат Бартелеми» принадлежит публика-
тору рукописи в «La revue mondiale». Мы предпочли название «Бе-
седа с аббатом Бартелеми», аналогичное названиям диалогов «Раз-
говор Даламбера с Дидро», «Разговор философа с женой маршала
де ***» и др.
«Беседа с аббатом Бартелеми» — бесспорно, одно из наиболее
ярких атеистических произведений Дидро. Видимо, не собираясь
издавать эту работу, он откровенно и последовательно развивал
в ней свои атеистические взгляды. Опубликование «Беседы» —
новый чувствительный удар по взглядам тех реакционных буржуаз-
ных историков философии, которые вот уже более века пытаются
исказить подлинный философский облик Дидро, снять с него «об-
винение» в материализме и атеизме. В «Беседе» Дидро дает живое,
популярное изложение атеистических выводов, к которым он пришел
на основе своего материализма. Заявление Дидро о том, что в бе-
седе с атеистами ему приходят в голову доказательства бытия бога,
может свидетельствовать лишь о пытливом уме философа, кото-
рый подвергал сомнению не только «аргументы» в пользу бытия
бога, но и доводы современного ему атеизма — конечно, не для
опровержения последних, а затем, чтобы еще больше убедиться в их
силе и чтобы развить их еще дальше.
222 1 Бартелеми, Жан-Жак (1716—1795)—французский археологи
писатель, автор «Путешествия молодого Анахарсиса в Грецию».
470
2222 Флешье (1632—1710)—епископ и видный проповедник като-
лической церкви.
224 1 Имеется в виду папа Урбан VIII, при котором в 1632 г. Гали-
лей был вызван в Рим на суд инквизиции, предъявившей ему
обвинение в защите учения о вращении Земли вокруг Солнца.
227 1 Массильон, Жан-Батист (1663—1742)—католический епископ.
2272 Свифт, Джонатан (1667—1745)—английский писатель, автор
«Путешествия Гулливера». В «Сказке о бочке» Свифт осмеял
религию и духовенство.
230 1 «Золотая легенда» — собрание фантастических повествований
о «святых» католической церкви; его составил в XIII в. архи-
епископ генуэзский Яков из Ворагин.
2302 Агиограф — составитель описаний жизни «святых».
232 1 Речь идет о письме Дидро к Вольтеру от 11 июня 1749 г. На-
писанное в период, когда Дидро уже перешел от деизма к
атеизму, оно содержит несколько строк славословия бога. Более
двадцати лет спустя Дидро в «Беседе с аббатом Бартелеми»
заявил, что эти строки были написаны лишь затем, чтобы не
обидеть деиста Вольтера.
233 1 Сюлли де, Максимилиан (1560—1641) —министр финансов при
Генрихе IV.
2351 «Дух законов» — основное произведение представителя стар-
шего поколения французских просветителей XVIII в. Шарля-
Луи Монтескье (1689—1755).
2352 Вальденсы — сторонники секты, возникшей в конце XII в. на
юге Франции; подвергались жестоким гонениям господствовав-
шей католической церкви.
2353 Альбигойцы — приверженцы религиозной секты, возникшей на
юге Франции в начале XII в. Альбигойская ересь в религиозной
форме выразила протест народных масс против феодальных от-
ношений и господства католической церкви. Для уничтожения
альбигойцев снаряжались крестовые походы. Последние пред-
ставители альбигойской ереси были уничтожены инквизицией в
конце XIII — начале XIV в.
235 4 Драгонады — драгунские постои в домах гугенотов при Людо-
вике XIV, практиковавшиеся в качестве репрессивной меры про-
тив последних.
237 1 Отец Уп (Hoop)—шотландский врач-хирург, приятель Дидро
и Гольбаха, разделял их просветительские взгляды.
2372 Гранваль — имение Гольбаха близ Парижа, место частых
встреч выдающихся представителей французского просвещения
XVIII в.
2381 Крег, Жан — шотландский математик, проявлял интерес к
теологическим вопросам.
238 2 Тридентский собор — католический церковный собор, заседав-
ший с перерывами с 1545 до 1563 г. Деятельность этого собора
была направлена главным образом против реформации.
238 3 «И я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне я создам церковь
мою, и врата ада не одолеют ее» (ев. Матфея, XVI, 18). Этими
словами евангельской легенды, обращенными к мифическому
апостолу Петру, аббат пытается возражать Дидро.
241 1 См. прим. 104 2.
471
Речь философа, обращенная к королю
Написана в 1773—1774 гг., впервые издана в 1875 г. Сущест-
вует правдоподобное мнение, что речь обращена к Людовику XVI,
со вступлением которого на престол часть просветителей связывала
надежду на серьезные социальные и политические реформы. Дидро
принадлежал к тем кругам французской дореволюционной буржуаз-
ной интеллигенции, которые еще уповали на «просвещенного монар-
ха» и не утратили наивной веры в возможность использования ко-
ролевской власти для борьбы против феодальных сословий и в пер-
вую очередь против духовенства.
В «Речи» Дидро отчетливо выразил свое непримиримое отно
шение к религии и церкви, стремление расшатать экономическую и
политическую мощь духовенства, упразднить его влияние на госу-
дарственные дела, а по возможности — и на сознание народа. Не
веря в полное и окончательное преодоление религии, Дидро пытался
найти способ сделать ее менее вредной. Не видя социальных корней
религии и связывая силу ее влияния с силой влияния духовенства,
Дидро предлагал для ослабления религии ослабить духовенство
экономическим разорением церкви и ее служителей. Как и многие
другие просветители, Дидро не требовал отделения церкви от госу-
дарства, а защищал идею ее полного подчинения государству. Что-
бы обезвредить духовенство, он предлагал лишить его прежней эко-
номической базы, а затем взять на государственное содержание.
243 1 В дореволюционной Франции церковь не платила налогов.
Взамен этого она время от времени добровольно вносила в
казну ту или иную ею же установленную сумму.
244 1 Константин (ок. 274—337) — римский император. Миланским
эдиктом разрешил свободное исповедание христианской религии
в Риме, а позднее и сам перешел в христианскую веру.
2451 Бенефиций — в католической церкви доходная церковная
должность.
О терпимости.
Первое добавление к записке о терпимости.
О нетерпимости.
Как можно извлечь пользу из религии
и сделать ее на что-нибудь годной
(Из «Философских, исторических и других записок
различного содержания»)
Зимой 1773—1774 гг., находясь в Петербурге, Дидро подолгу бе-
седовал с Екатериной II о политике, государственном управлении,
философии, религии и т. п. Считая Екатерину «просвещенной госу-
дарыней», Дидро предлагал ей совершить в России различные про-
грессивные социальные преобразования в духе просветительства.
В «Философских, исторических и других записках различного со-
держания» он изложил свои беседы с Екатериной, советы, которые
ей давал. Эти записки впервые были опубликованы Морисом Тур-
не в 1899 г. в виде приложения к его книге «Дидро и Екатерина II».
Не скрывая от Екатерины своего атеизма, Дидро разоблачал реак-
472
ционную сущность религии и советовал, как с помощыю особых ре-
форм ослабить ее влияние на русских людей. С особенной убеж-
денностью Дидро отстаивал свободу совести и советовал Екатерине
искоренить религиозную нетерпимость. Считая духовенство главным
носителем нетерпимости и врагом просвещения, Дидро доказывал,
что надо подорвать экономическую и политическую мощь духовен-
ства и безоговорочно подчинить его государству. Политические,
философские и другие убеждения Дидро, разумеется, коренным об-
разом расходились со взглядами Екатерины, поддерживавшей кре-
постников. Понятно, что Дидро глубоко заблуждался, надеясь с
помощью Екатерины претворить в жизнь просветительские идеалы
прогрессивной буржуазии его времени.
2471 Молинизм — течение в католицизме, родоначальником кото-
рого был испанский богослов Луис Молина (1535—1600).
2472 Арно, Антуан (1560—1619)—французский юрист, враг иезуи-
тов.
2473 Мальбранш, Никола (1638—1715)—французский философ-
идеалист.
248 1 Саки де, Леметр (1613—1684) —французский янсепист.
2482 Флери, Андре (1653—1743)—кардинал, в 1726—1743 гг. ру-
ководил внешней и внутренней политикой Франции.
2483 Картезианство — философское учение Декарта и его учени-
ков.
2484 Гассендизм — учение Пьера Гассенди (1592—1655), француз-
ского философа-материалиста.
248 5 Эпикурейство — философское и этическое учение великого ан-
тичного материалиста и атеиста Эпикура. См. прим. 254 6.
249 1 Кремуций Корд — римский историк (конец I в. до н. э.—
нач. I в. н. э.). Защищал вождей республиканской партии —
Брута и Кассия. Его сочинения были сожжены, а сам он казнен.
250 1 Конвульсионеры— религиозные фанатики, считавшие священ-
ника Париса (1690—1727) чудотворцем. Они приводили себя
на его могиле в экстаз — бывали охвачены судорогами, конвуль-
сиями и видели в этом начало исцеления от своих недугов.
Так как Парис принадлежал к янсенистам, противники послед-
них называли их конвульсионистами, или конвульсионерами.
250.2 Юлиан (331—363)—римский император, прозванный «Отступ-
ником» за то, что вел борьбу против христианства.
250 3 Долина Гренель — место близ Парижа, где совершались казни.
2504 Сартин, Антуан-Раймон — с 1759 г. начальник парижской по-
лиции, с 1774 г. морской министр.
251 1 «Заира», «Альзира», «Магомет» — драматические произведения
Вольтера.
251 2 Меценат, Гай Цильний (I в. до н. э.) — римский политический
и общественный деятель, покровительствовал поэтам Горацию
и Вергилию.
252 1 Капуцины — название бродячих монахов из католического ни
щенствующего ордена францисканцев.
254 1 Сократ (ок. 470—399 до н. э.) — древнегреческий философ-
идеалист.
473
254 2 Фокион (ок. 402—317 до н. э.) —афинский полководец, ученик
философа-идеалиста Платона (427—347 до н. э.).
254 3 Тит — римский император в 79—81 гг.
254 4 Траян—римский император в 98—117 гг.
254 5 См. прим. 54 1.
254 6 Отвергая сверхъестественное, религиозное объяснение явлений,
древнегреческий материалист Эпикур (341—270 до н. э.) ут-
верждал, что боги живут в межпланетном пространстве и со-
вершенно не вмешиваются в дела мира.
255 1 Накануне своей смерти Дидро вопреки стараниям приходского
священника отказался примириться с церковью и отречься от
своих материалистических, атеистических убеждений.
256 1 Людовик IX Святой (1214—1270) —французский король, один
из организаторов крестовых походов.
2562 Жуанвиль, Жан (1224—1317)—французский историк. Прини-
мал участие в крестовом походе, организованном Людови-
ком IX.
258 1 Гоббс, Томас (1588—1679) — английский философ, выдающий-
ся представитель материализма и атеизма XVII в.
2582 Речь идет о той работе Гоббса, в которой анализировались
природа человека, его способности и страсти. Русский перевод
под названием «Человеческие страсти» см. в кн.: Т. Гоббс, Из-
бранные сочинения, М.—Л., 1926.
262 1 Биготка — ханжа, святоша.
Разговор философа с женой маршала де ***
Написан в 1774 г. и впервые опубликован в 1777 г. в Амстер-
даме под именем итальянского поэта Томазо Крюдели. Принято
считать, что «жена маршала де***» — это герцогиня де Брольи.
В «Разговоре» Дидро прямо отвергает существование бога и
осуждает всякую религию. Здесь он углубляет свою критику рели-
гиозной нравственности, раскрывает ее реакционную сущность, хан-
жество и лицемерие. Дидро отстаивает мысль о независимости
нравственности от религии и доказывает, что отрицание религиоз-
ных представлений о загробном воздаянии не делает человека без-
нравственным.
В ленинградской рукописи «Разговора», с которой сделан пе-
ревод, вошедший в русское десятитомное собрание сочинений Дидро
и воспроизводимый здесь, собеседником назван Дидро, а не Крю-
дели.
270 1 Сальпетриер — госпиталь в Париже.
2702 Бисетр — форт в Париже.
270 3 В Новом завете, в Нагорной проповеди, изложены основы хри-
стианской нравственности: непротивление злу насилием, лю-
бовь к врагам, пренебрежение к земной жизни — словом, все те
«истины», которые делают христианство орудием духовного
растления и расслабления порабощенных масс, их отвлечения
от борьбы с угнетателями. Дидро указывает на фантастичность,
нелепость Нагорной проповеди, на ее полную неприменимость в
жизни.
474
273 1 Прозелитизм — обращение людей в какую-либо веру.
274 1 Бугэ (1698—1758)—французский ученый. Дидро имеет в виду
сказанное Бугэ об анабиозе, т. е. о таком состоянии организма,
при котором жизненные процессы замедлены настолько, что он
кажется мертвым.
275 1 Лафонтен, Жан (1621 —1695)—французский баснописец. Не-
задолго до смерти Лафонтена поповщина, воспользовавшись
его тяжелым болезненным состоянием, добилась того, что он
осудил свои «нечестивые» произведения.
2752 См. прим. 255 1
2753 У Дидро неточность. Имеется в виду иезуит Андрей Боболя
(1591 — 1657).
276 1 Названных философов и государственных деятелей античного
мира было принято считать людьми высокой нравственности.
Дидро здесь подчеркивает, что можно придерживаться строгой
морали и не быть христианином.
2762 Хоразин и Вифсаида — упоминаемые в евангелиях галилей-
ские города, жители которых, по преданию, не поверили в чу-
деса Христа и были им прокляты.
2763 Тир и Сидон — города в Финикии.
279 1 См. прим. 255 1.
Атеистические мысли и афоризмы
280 1 Столпничество — одна из форм средневекового отшельниче-
ства в христианстве.
282 1 Имеется в виду Библия — книги Ветхого и Нового заве-
тов.
283 1 Лейбниц, Готфрид-Вильгельм (1646—1716) — немецкий фило-
соф-идеалист, математик; своим учением о монадах-субстанциях
и о боге как «высшей монаде» пытался примирить философию
с религией.
283 2 Кларк, Самуил (1675—1729) — английский философ-идеалист,
выступал против атеизма и материализма.
283 3 Ньютон, Исаак (1642—-1727) — великий английский физик и
математик; деист.
284 1 Бауман — псевдоним французского ученого Пьера Мопертюи
(1698—1759), издавшего под этим именем в 1751 г. свою фило-
софскую диссертацию.
2842 Бюффон, Жорж (1707—1788)—французский естествоиспыта-
тель, автор многотомной «Естественной истории», написанной
при участии других ученых, в том числе врача Добантона
(1716—1749), упомянутого Дидро в примечании.
2851 Серапис — древнеегипетское божество подземного царства и
плодородия.
286 1 Речь идет об Игнатии Лойоле, который в молодости был офи-
цером.
2891 См. прим. 2353. Св. Доминик —живший в XIII в. испанский
монах Доминик Гусман, основатель ордена доминиканцев, от-
личался особенной жестокостью в расправе с альбигойцами;
канонизирован католической церковью.
475
Монахиня
Повесть написана Дидро в 1760 г. и впервые опубликована
после его смерти, в 1796 году. Дидро подверг в ней резкой и убеди-
тельной критике религиозную нравственность вообще, а в частно-
сти— омерзительные нравы, господствовавшие в монастырской сре-
де,— ханжество, лицемерие, разврат, самое жестокое человеконена-
вистничество, прикрытые лжегуманистическим суесловием. В вос-
созданных Дидро картинах монастырской жизни реалистически ото-
бражается подавление личности феодальными отношениями. Этот
тяжкий гнет освящен религией. Ослепленные ею люди примиряются
с социальными условиями, которые убивают в человеке все челове-
ческое, превращают его в раба, отрекающегося от воли и разума.
Повесть убедительно доказывает ту мысль Дидро, что «монастыр-
ская жизнь — удел фанатиков или лицемеров». «Монахиня» много-
кратно переиздавалась во Франции и переводилась на многие ино-
странные языки. Царская цензура не допустила издания «Монахини»
в России. Эта повесть впервые появилась на русском языке лишь
после Октябрьской революции.
308 1 Фидеикомиссы — родовые имения.
3091 Обол — мелкая серебряная монета в античной Греции.
325 1 Сульпицианцы — студенты семинарии св. Сульпиция в Париже.
350 1 Литания — в католическом культе молитва, обращенная к pav
ным святым.
СОДЕРЖАНИЕ
Атеизм Дидро (Статья X. Н. Момджяна) 5
Прибавление к философским мыслям, или Различные возра-
жения против сочинений различных богословов, перевод
И. Б. Румера 45
Прогулка скептика, или Аллеи. Аллея терний, перевод
И. Б. Румера 58
Нетерпимость, перевод Д. И. Ириновой 85
Иезуиты (Из истории современных суеверий), перевод
Д. И. Ириновой 91
Священники (Религия и политика), перевод В. И. Пикова 105
Разговор Даламбера с Дидро, перевод Б. К. Сережникова 108
Сон Даламбера, перевод В. К. Сережникова 122
Философские принципы. О материи и движении, перевод
Б. К. Сережникова 169
Бог и человек, сочинение де Вальмира, перевод X. Н. Мом-
джяна 175
Добавление к «Путешествию» Бугенвилля, перевод П. С. Юш-
кевича 177
Беседа с аббатом Бартелеми, перевод X. Я. Момджяна 222
Речь философа, обращенная к королю, перевод П. С. Юшке-
вича 242
О терпимости, перевод П. И. Люблинского 246
Первое добавление к записке о терпимости, перевод П. И. Лю-
блинского 254
Второе добавление о религиозных верованиях, перевод
П. И. Люблинского 260
477
О нетерпимости, перевод П. И. Люблинского 261
Как можно извлечь пользу из религии и сделать ее на что-
нибудь годной, перевод П. И. Люблинского 263
Разговор философа с женой маршала де***, перевод
П. С. Юшкевича 265
Атеистические мысли и афоризмы 280
Монахиня, перевод Н. Соболевского 291
Примечания 455
Лени Дидро
Избранные атеистические произведения
*
Утверждено к печати
Институтом истории
Академии наук СССР
*
Редактор издательства Ю. Я. Коган
Технический редактор Л А. Астафьева
*
РИСО АН СССР № 1—71 В. Сдано в набор 9/II 1956 г.
Подп. в печать 13/III 1956 г. Формат бум. 84xl08.
Печ. л. 15,5=25,42-4-1 вкл. Уч.-изд. лист. 24,1.
Тираж 20000. Изд. № 1233. Тип. зак. 150.
Т-02342
Цена 15 р.
Издательство Академии наук СССР
Москва Б-64, Подсосенский пер., д. 21
2-я типография Издательства АН СССР,
Москва Г-99, Шубинский пер., д. 10